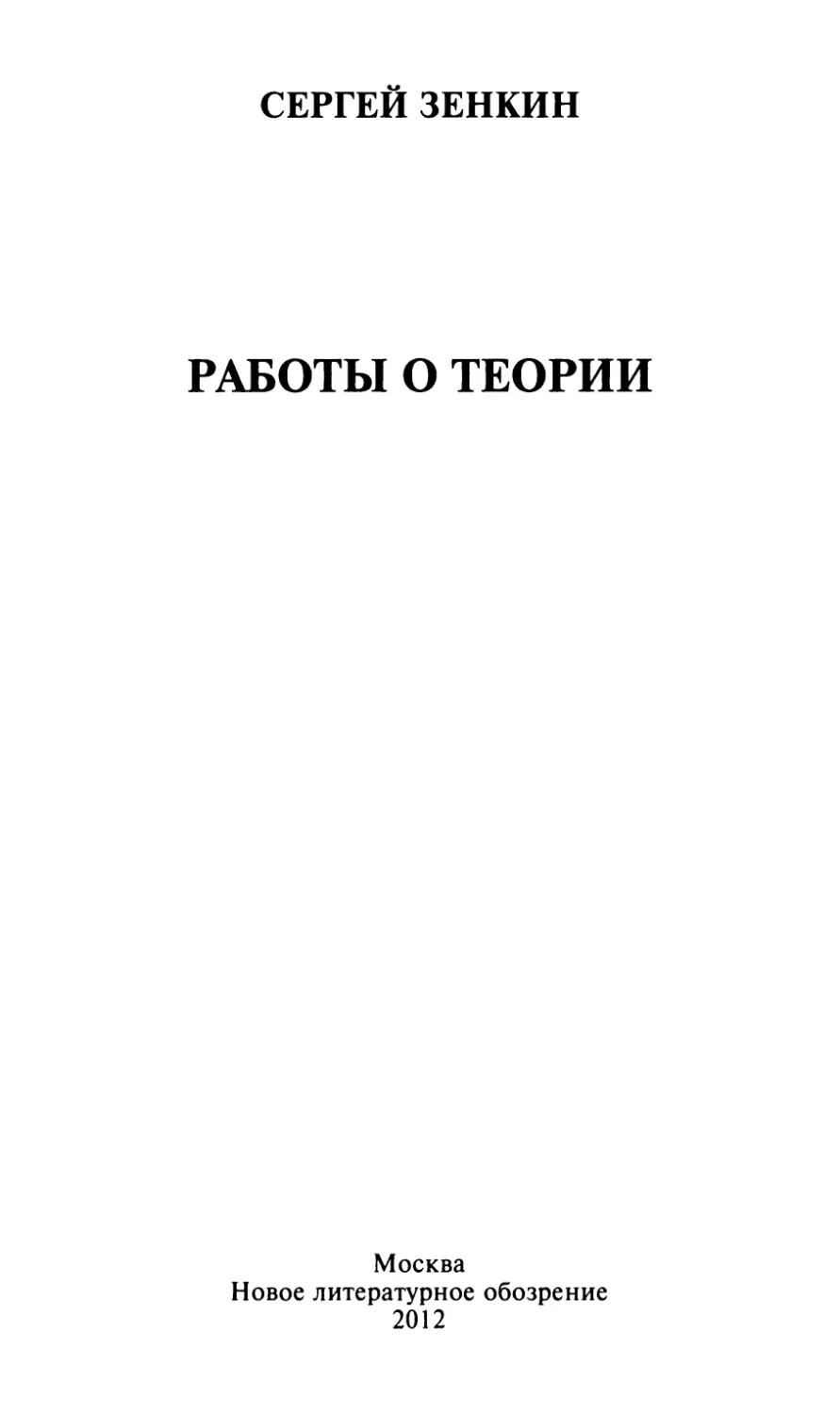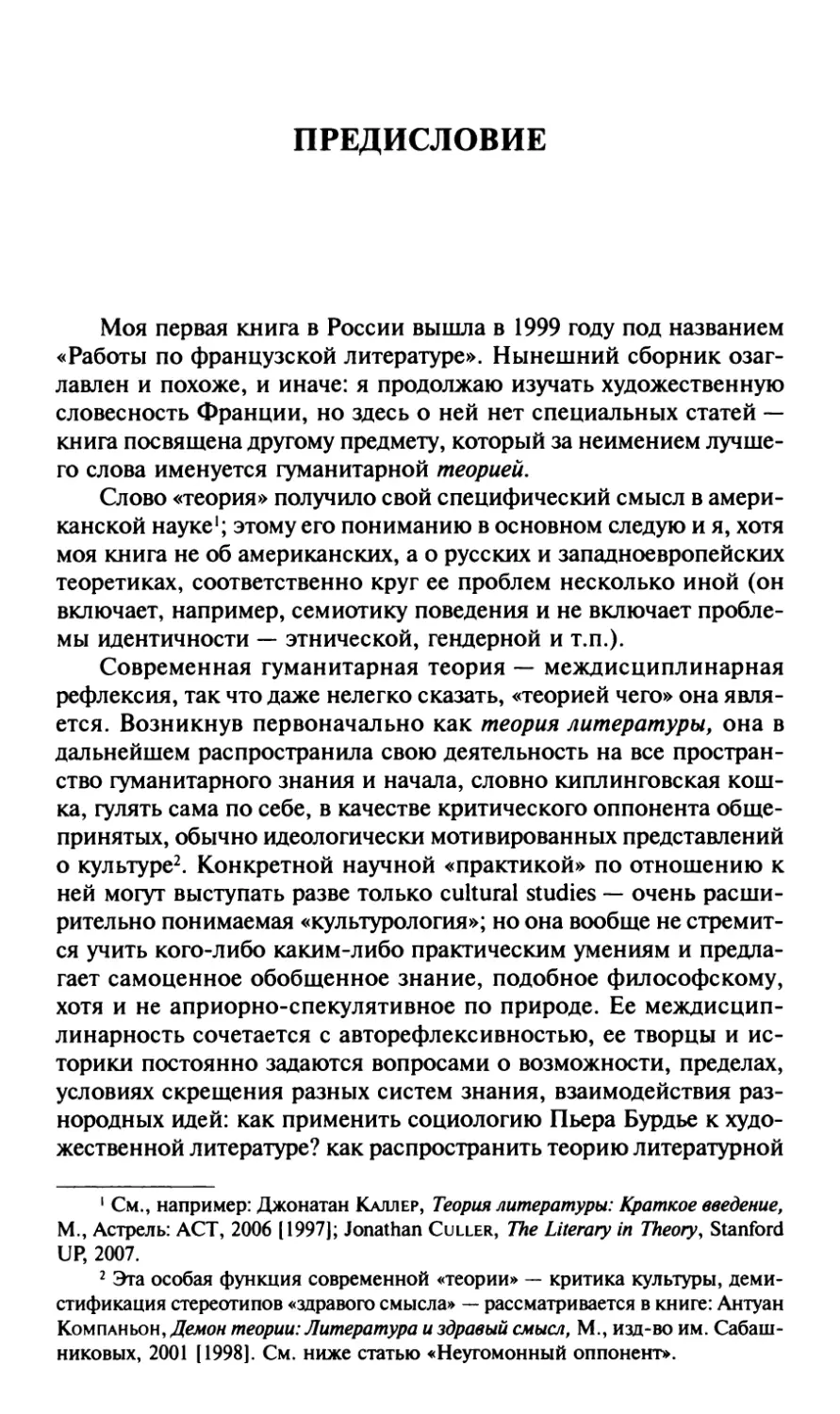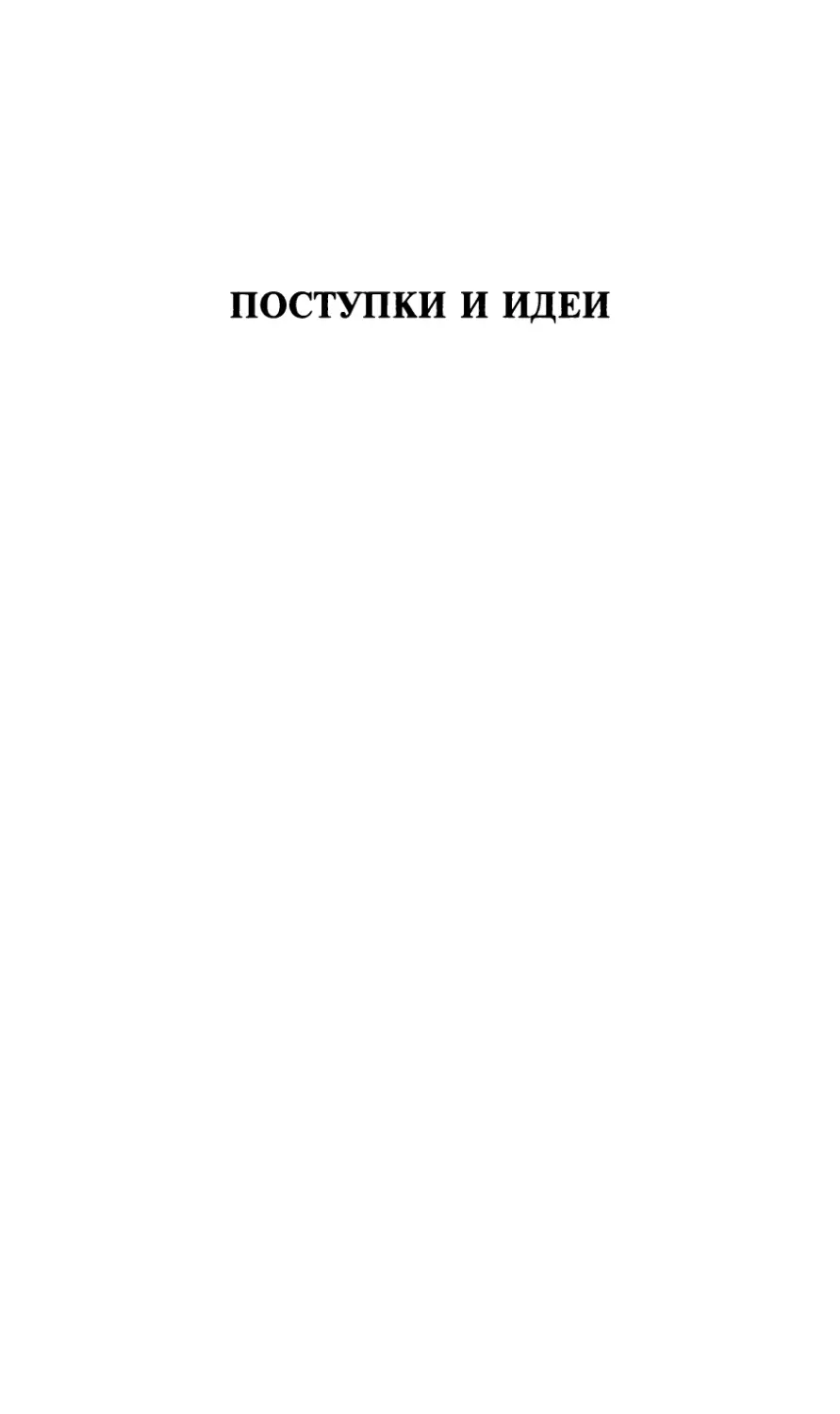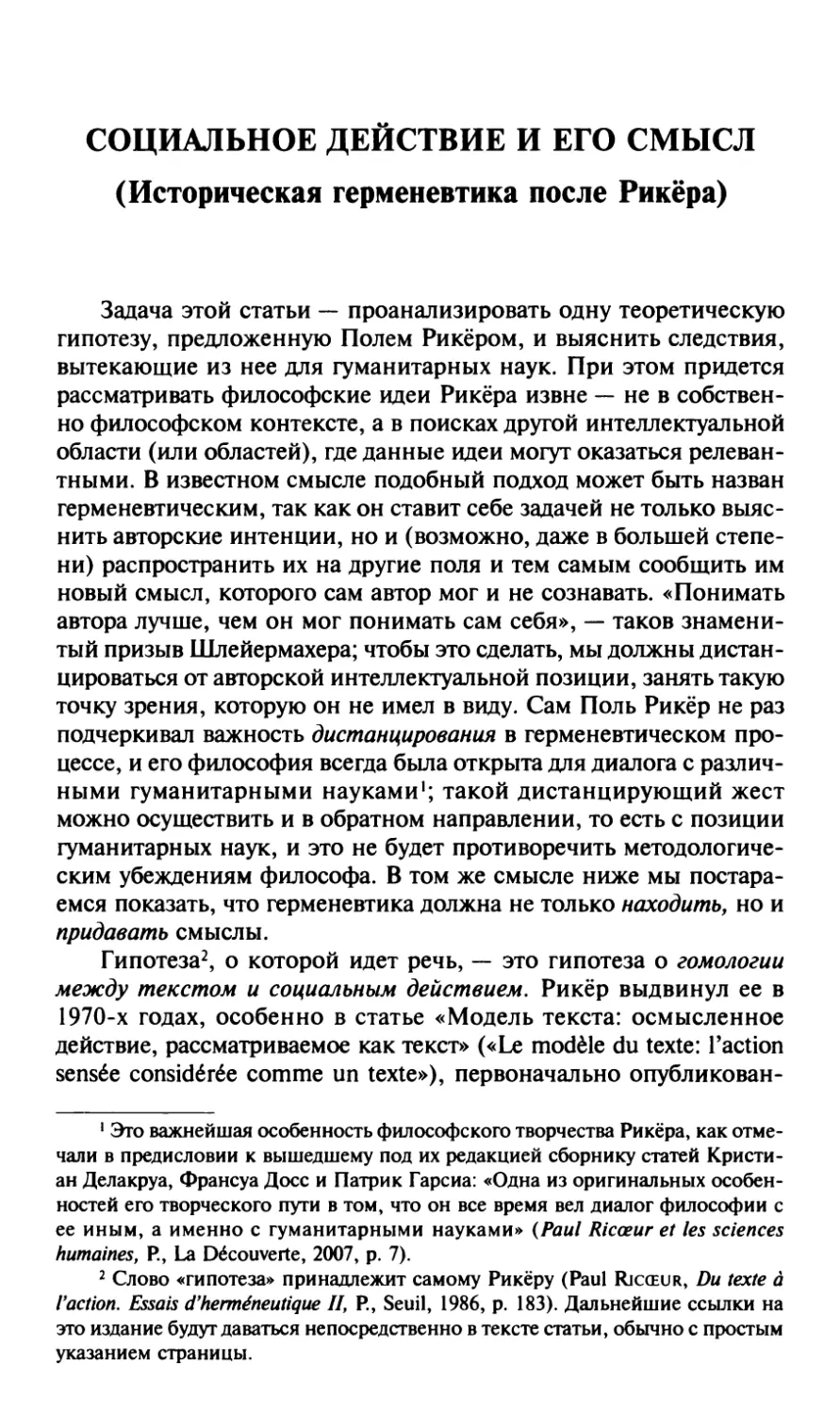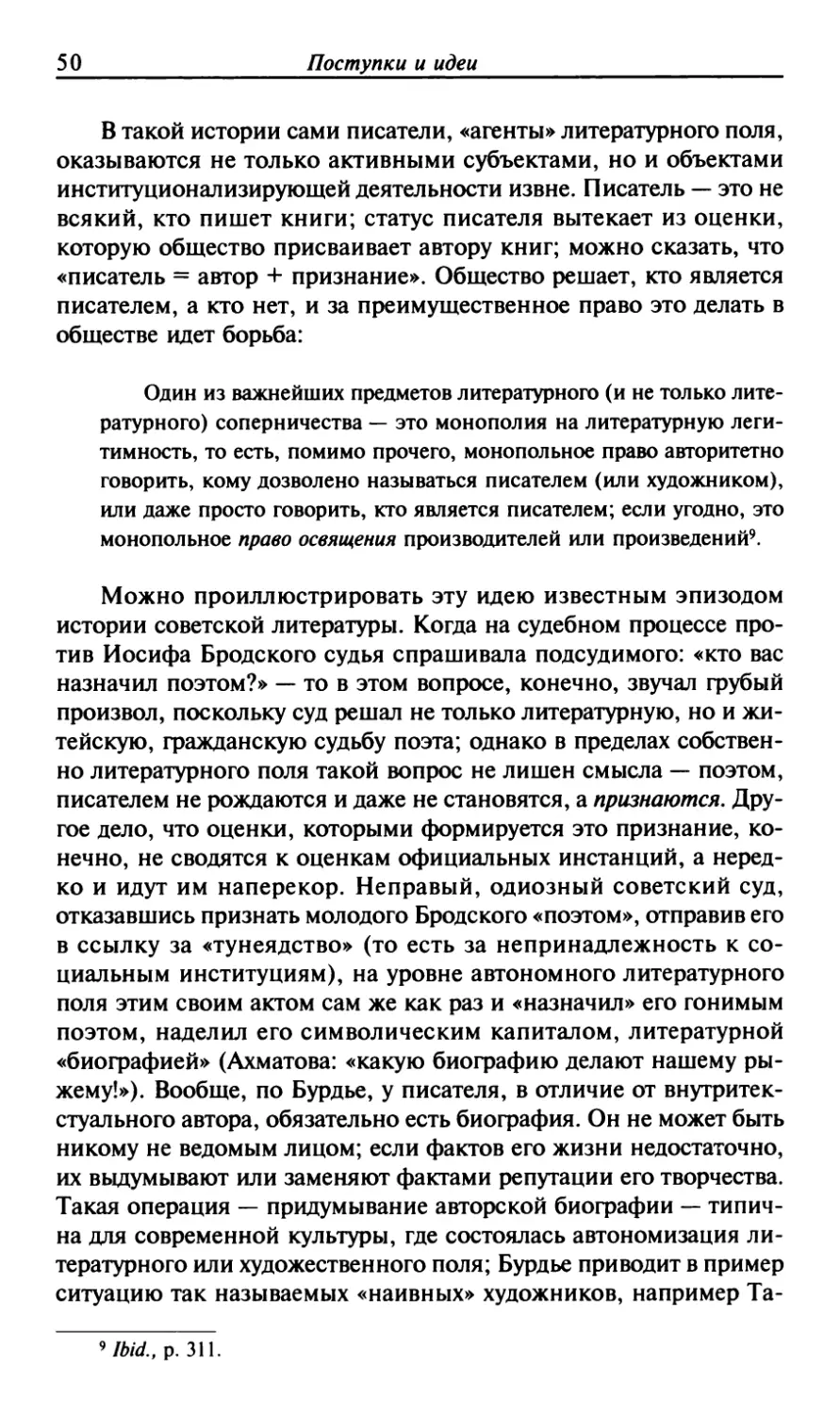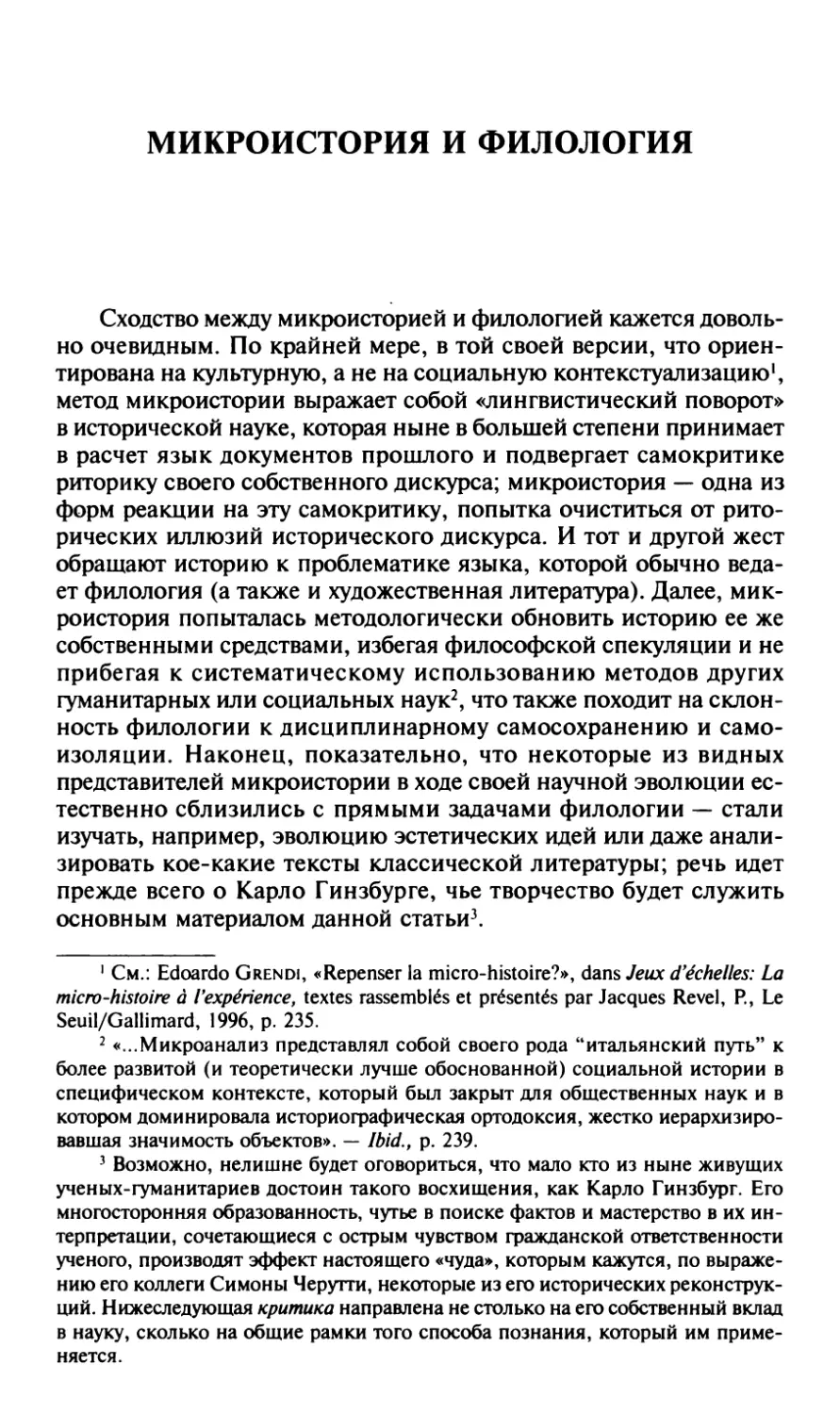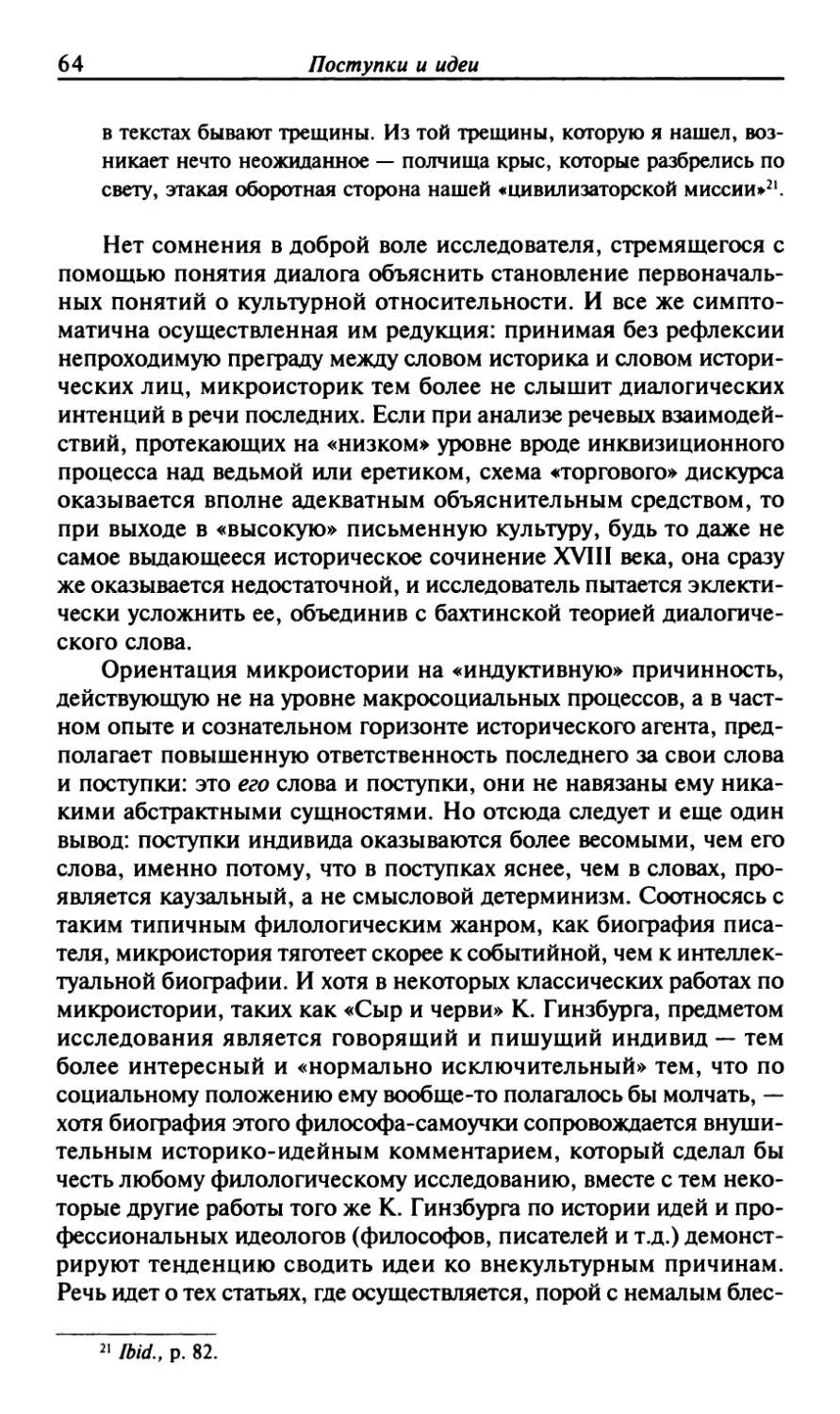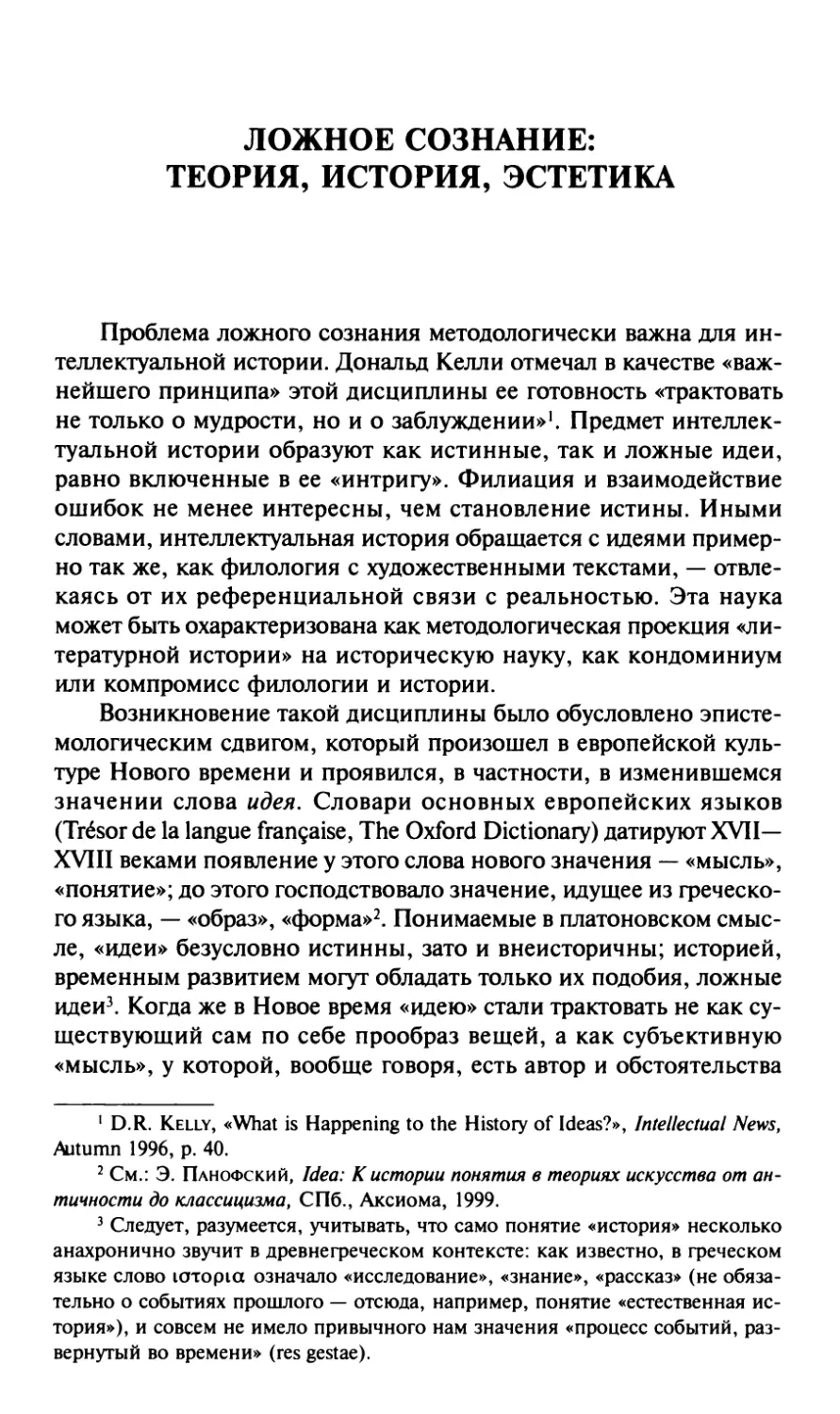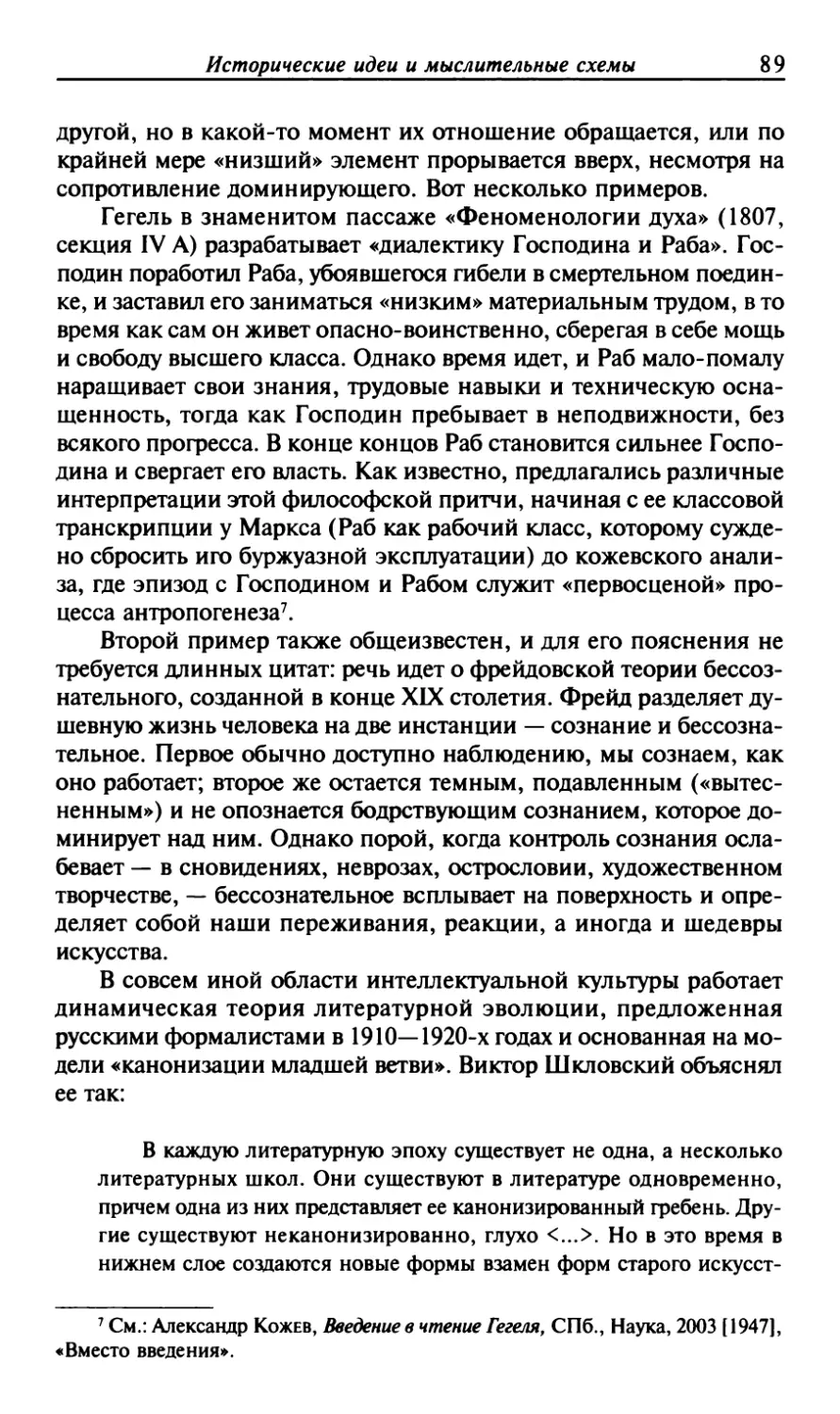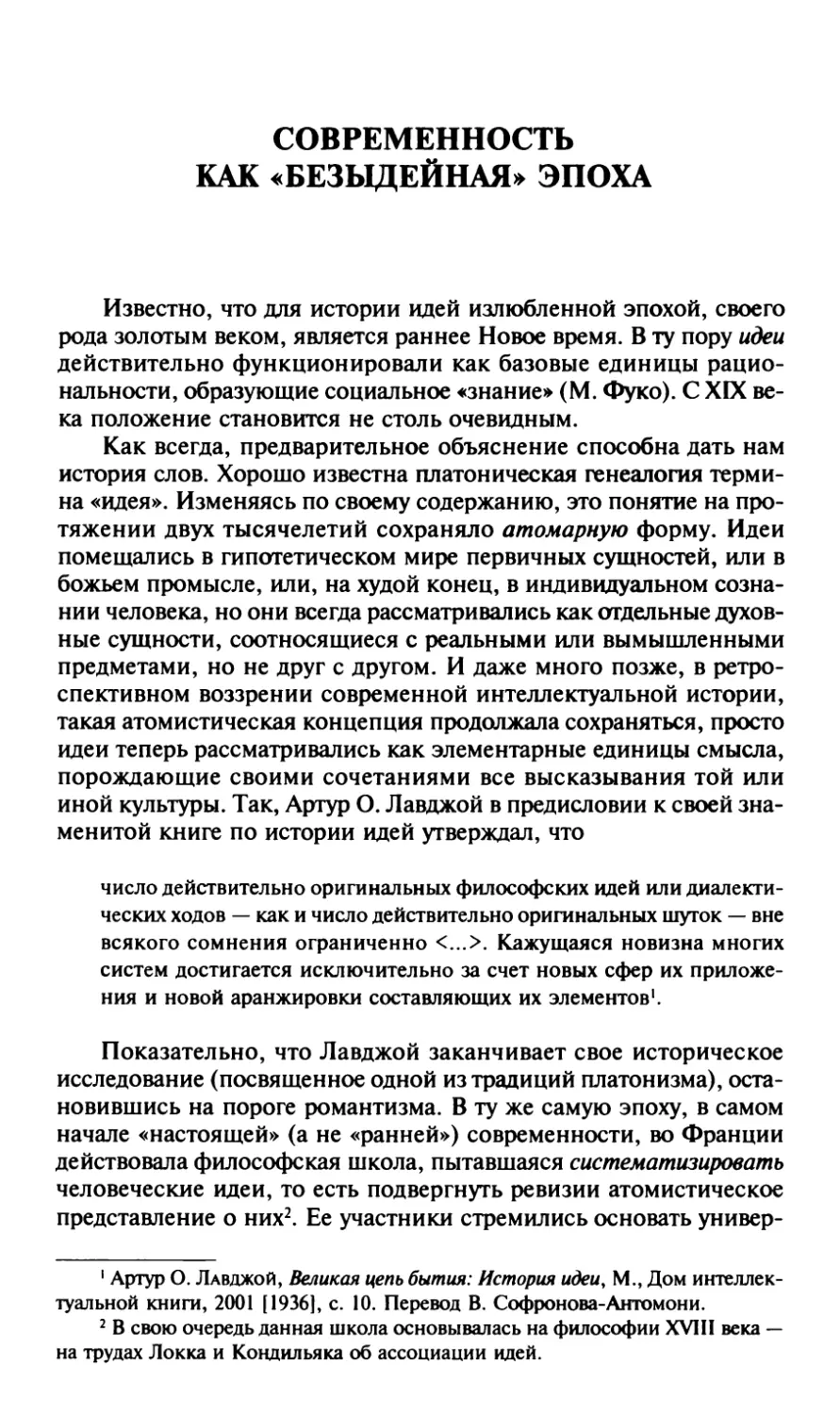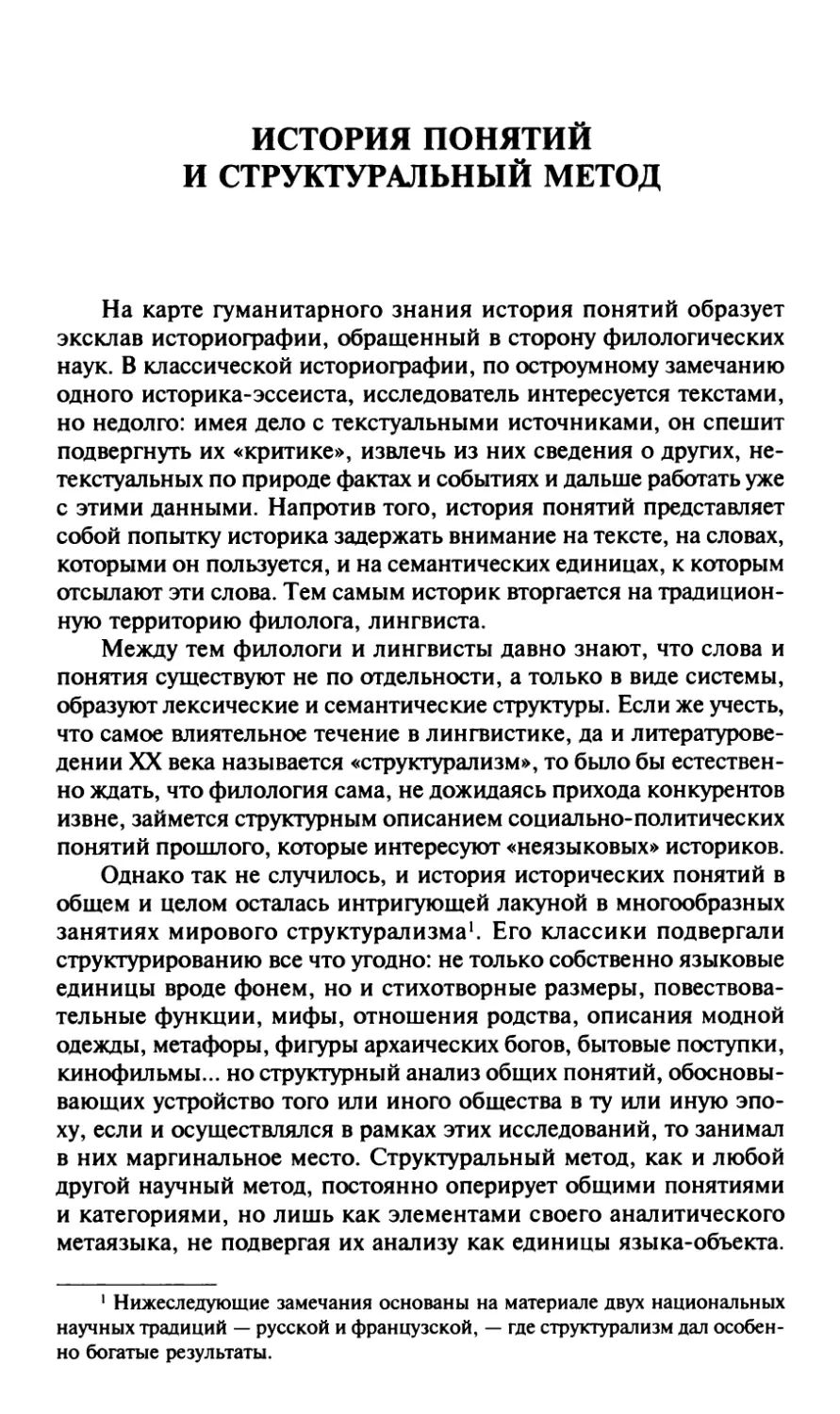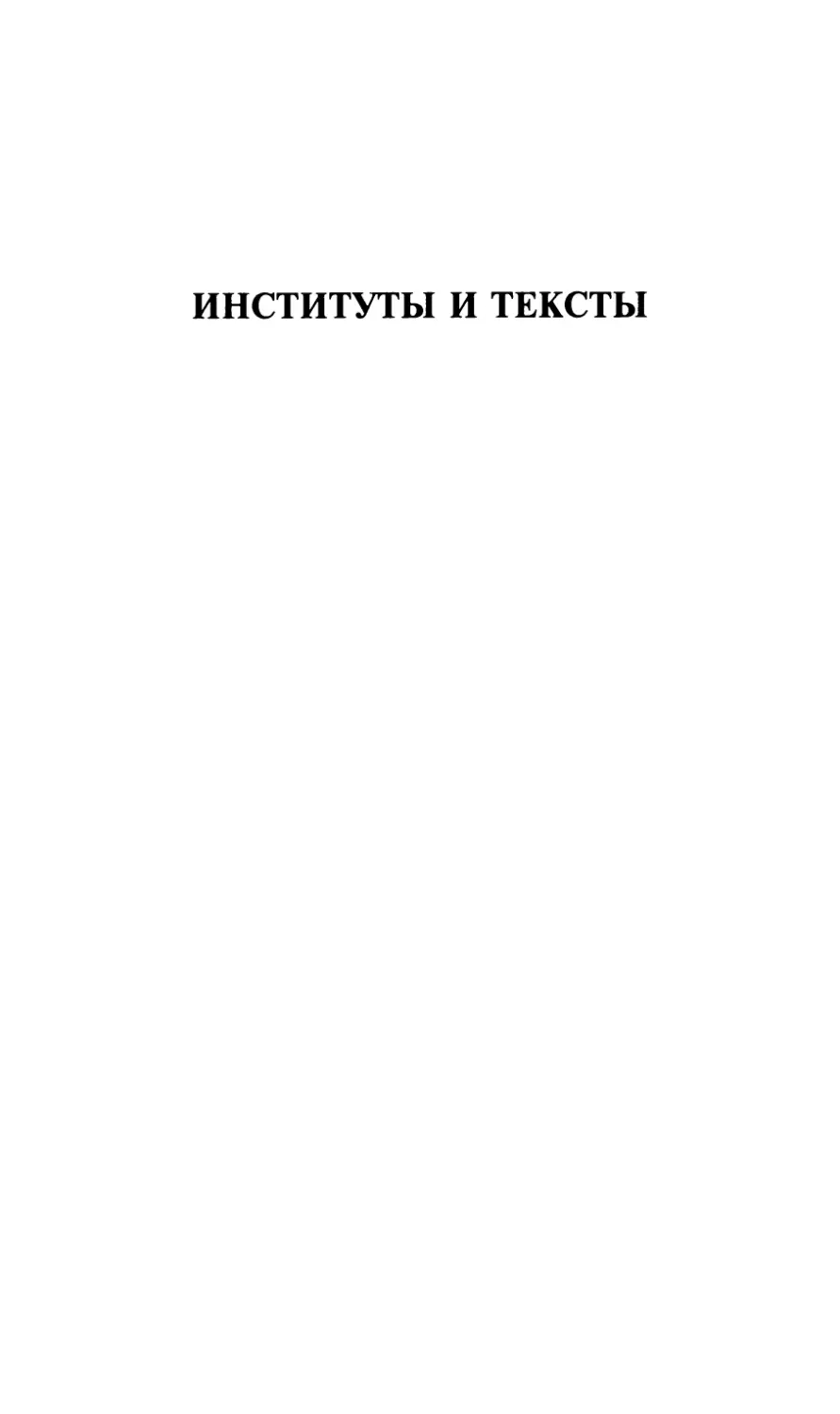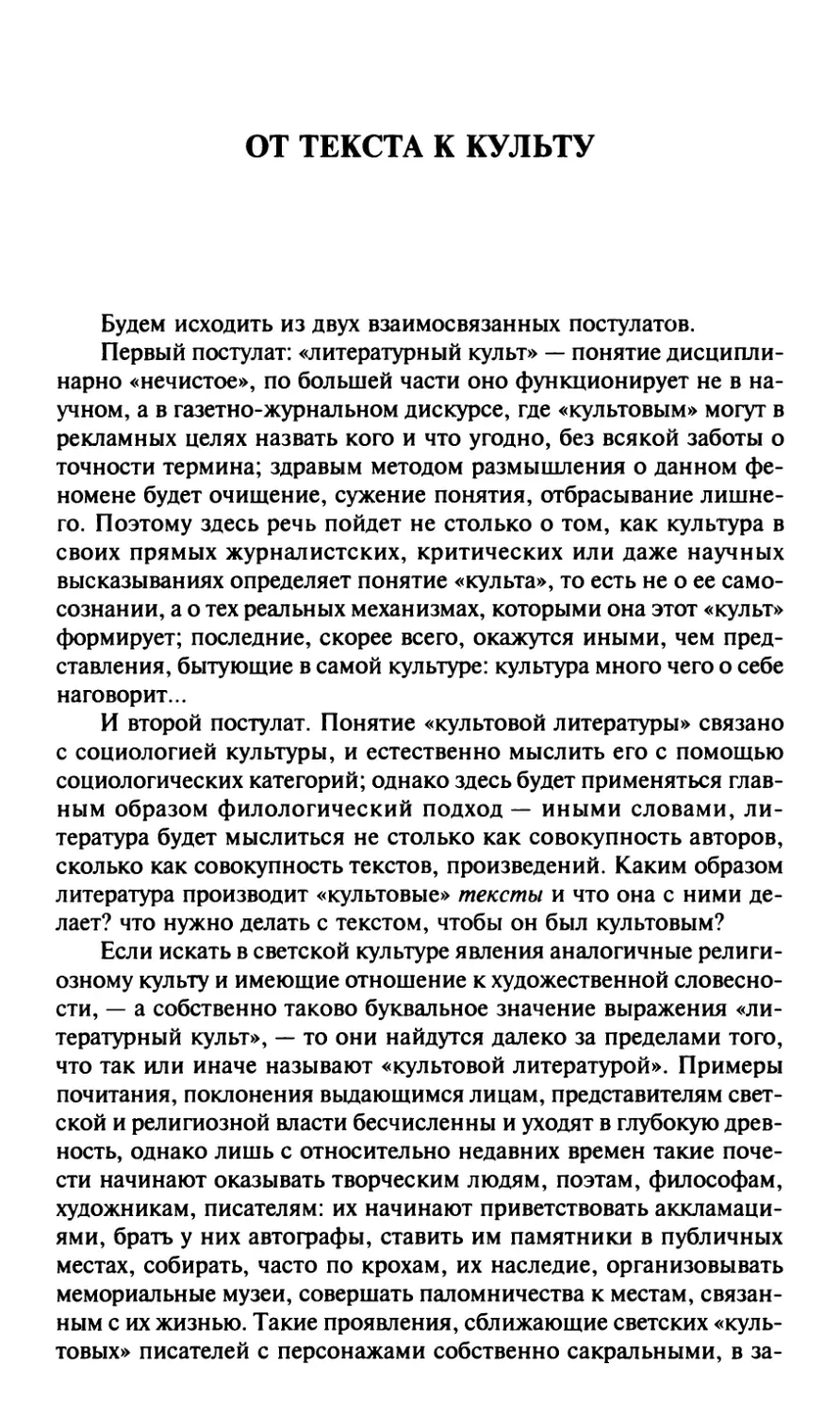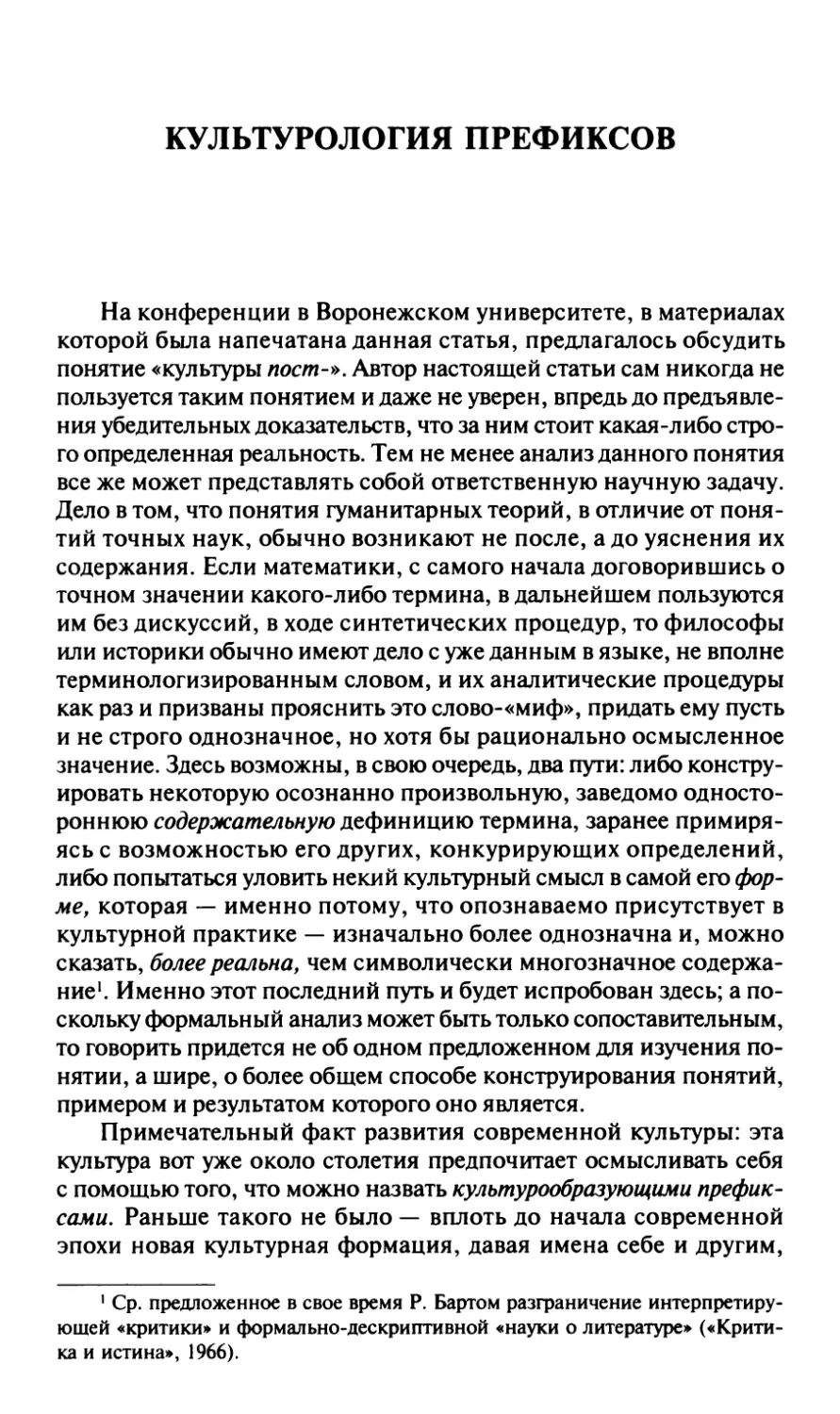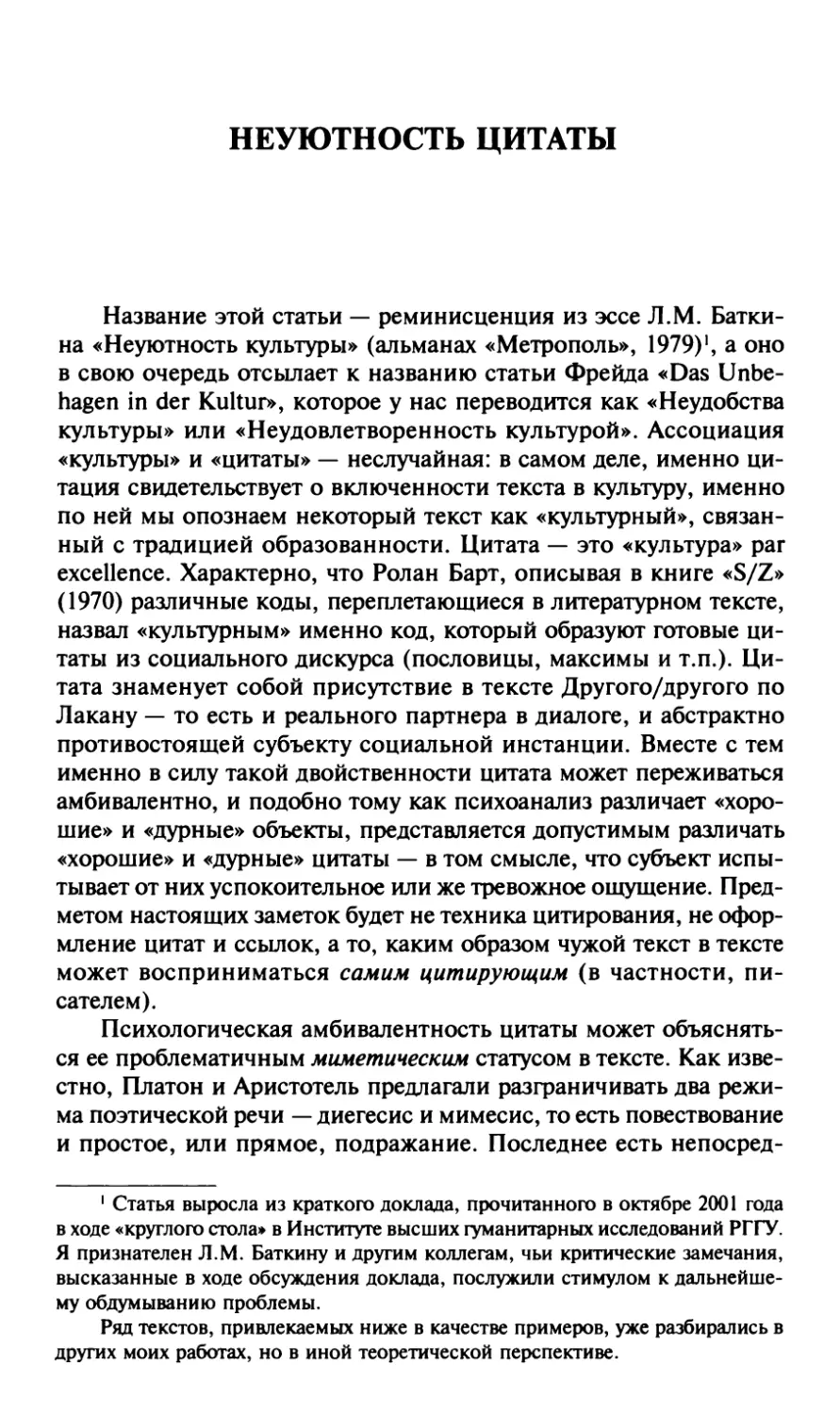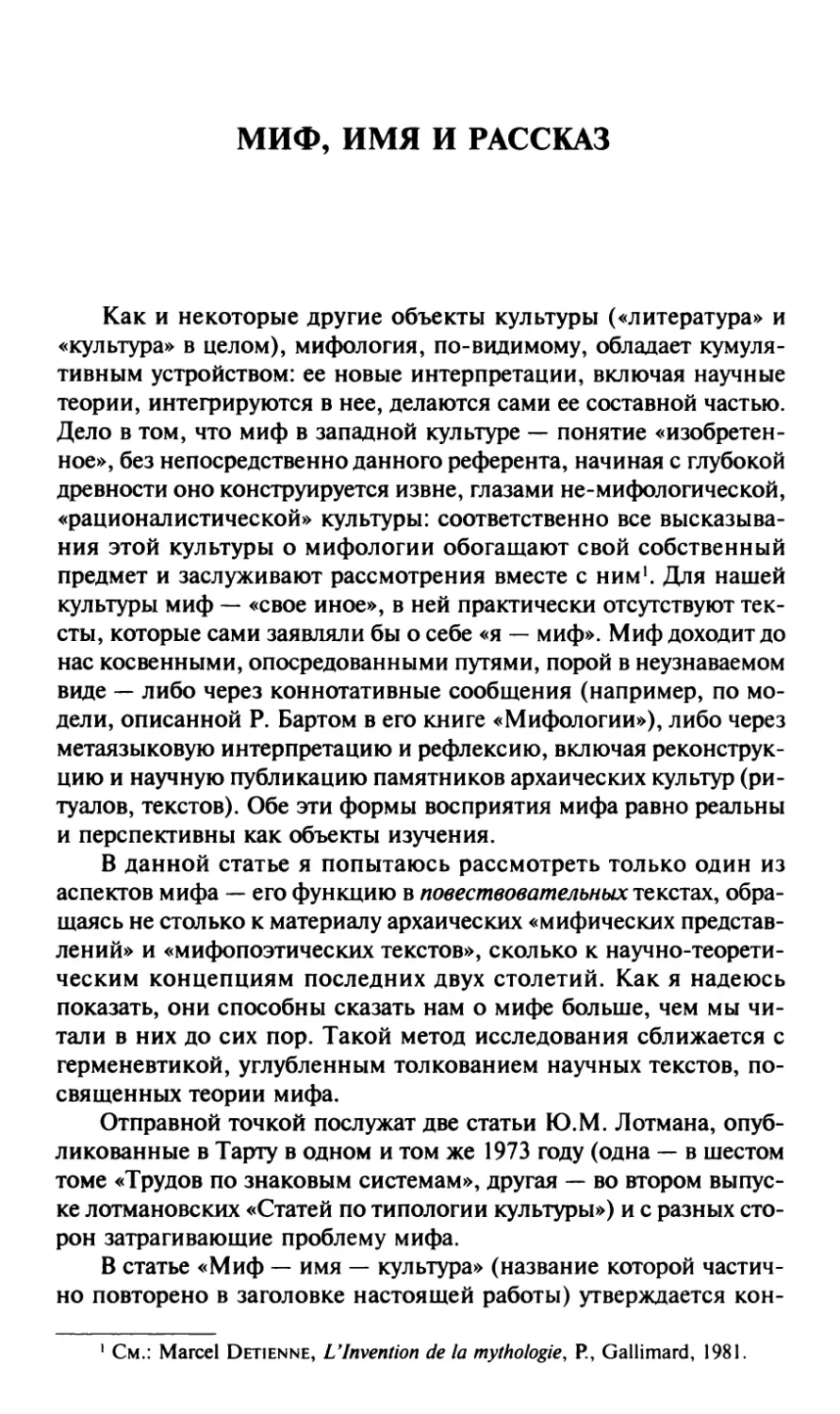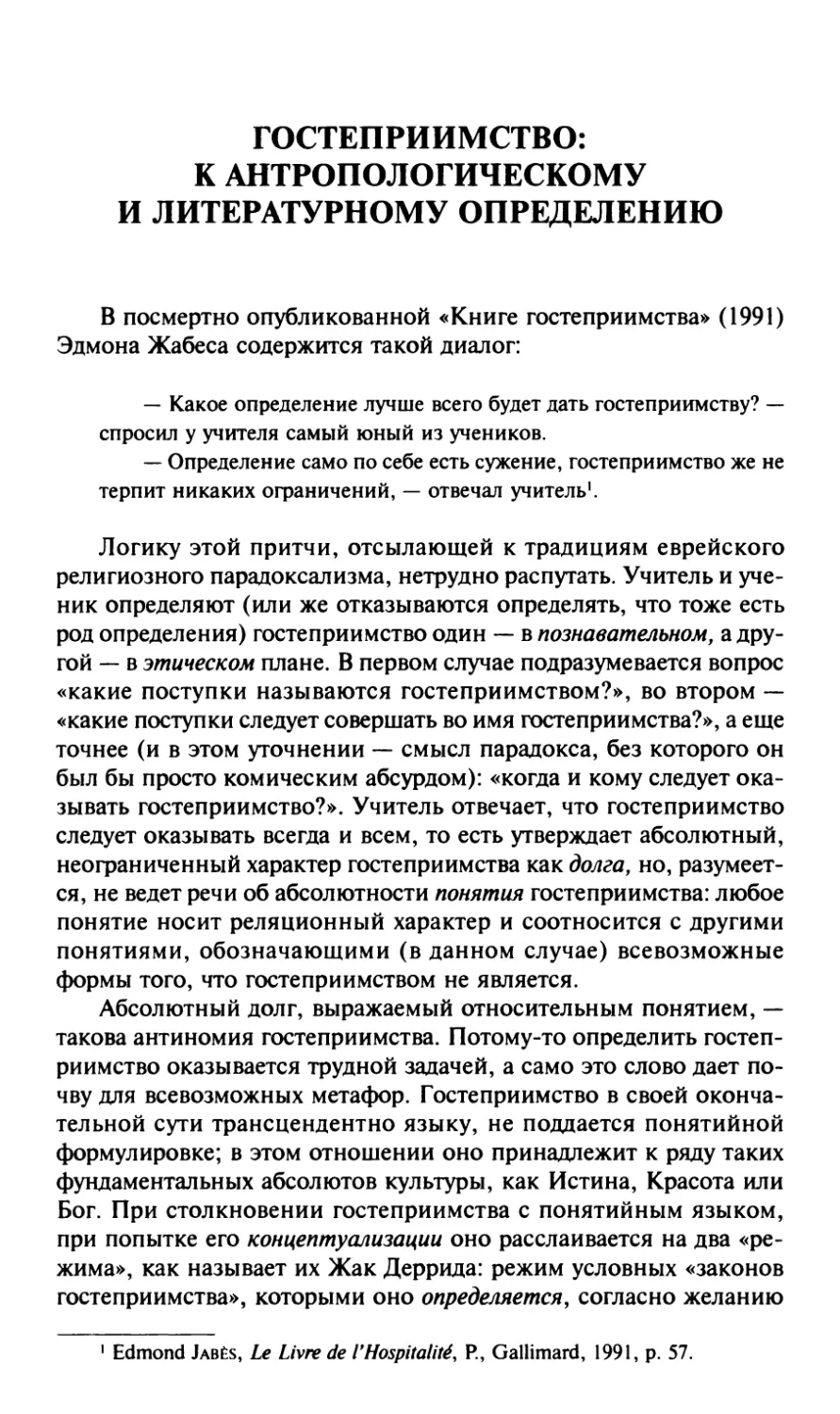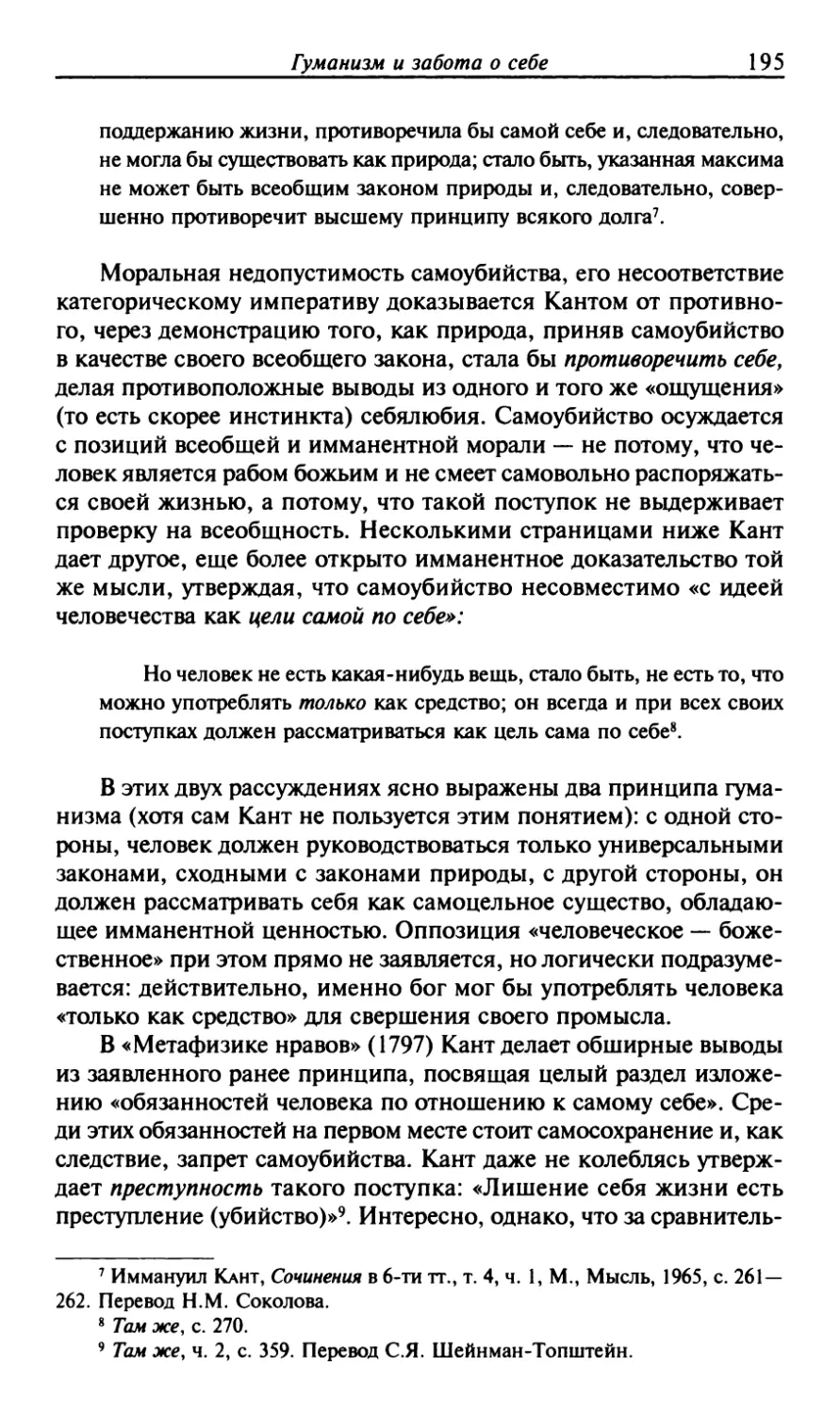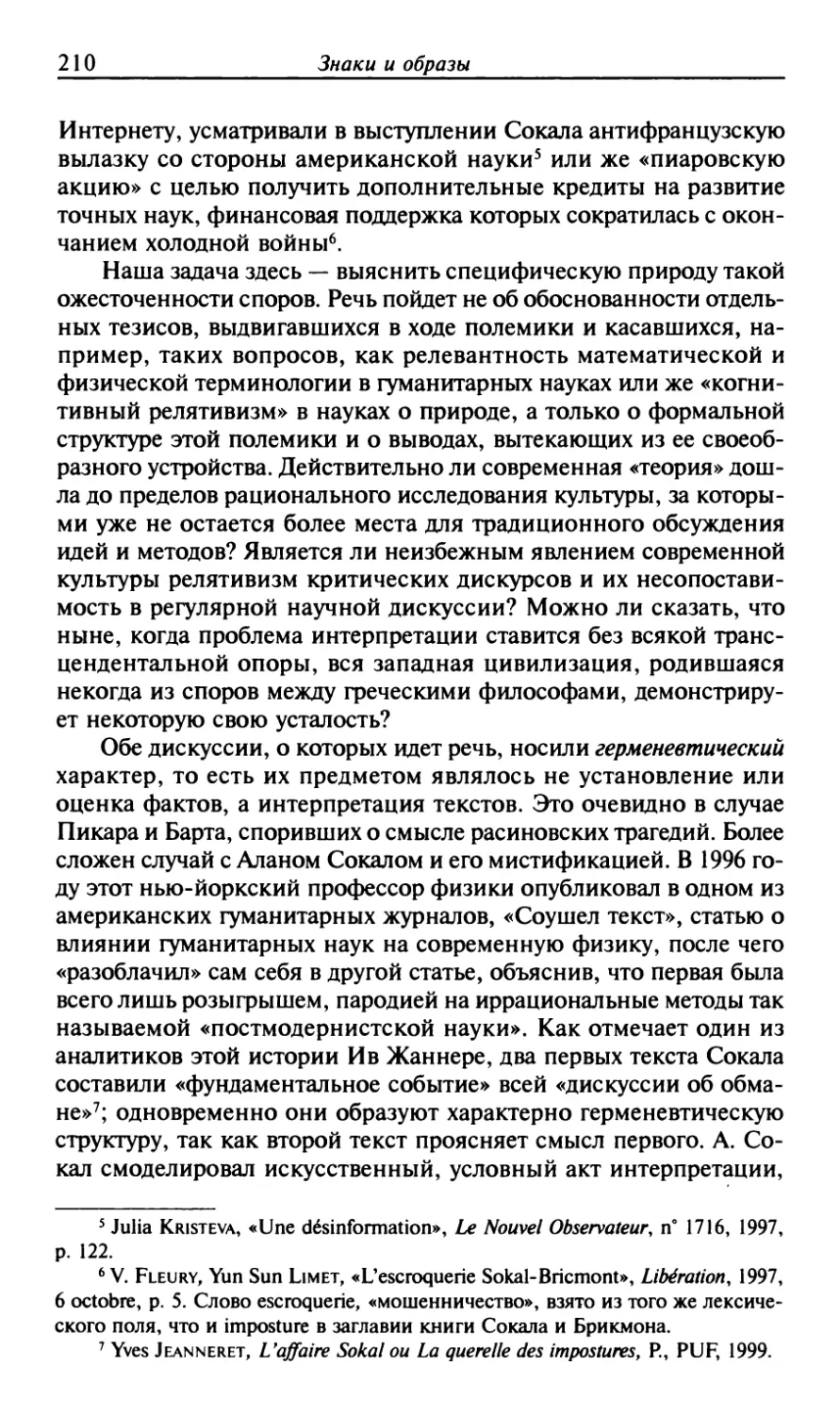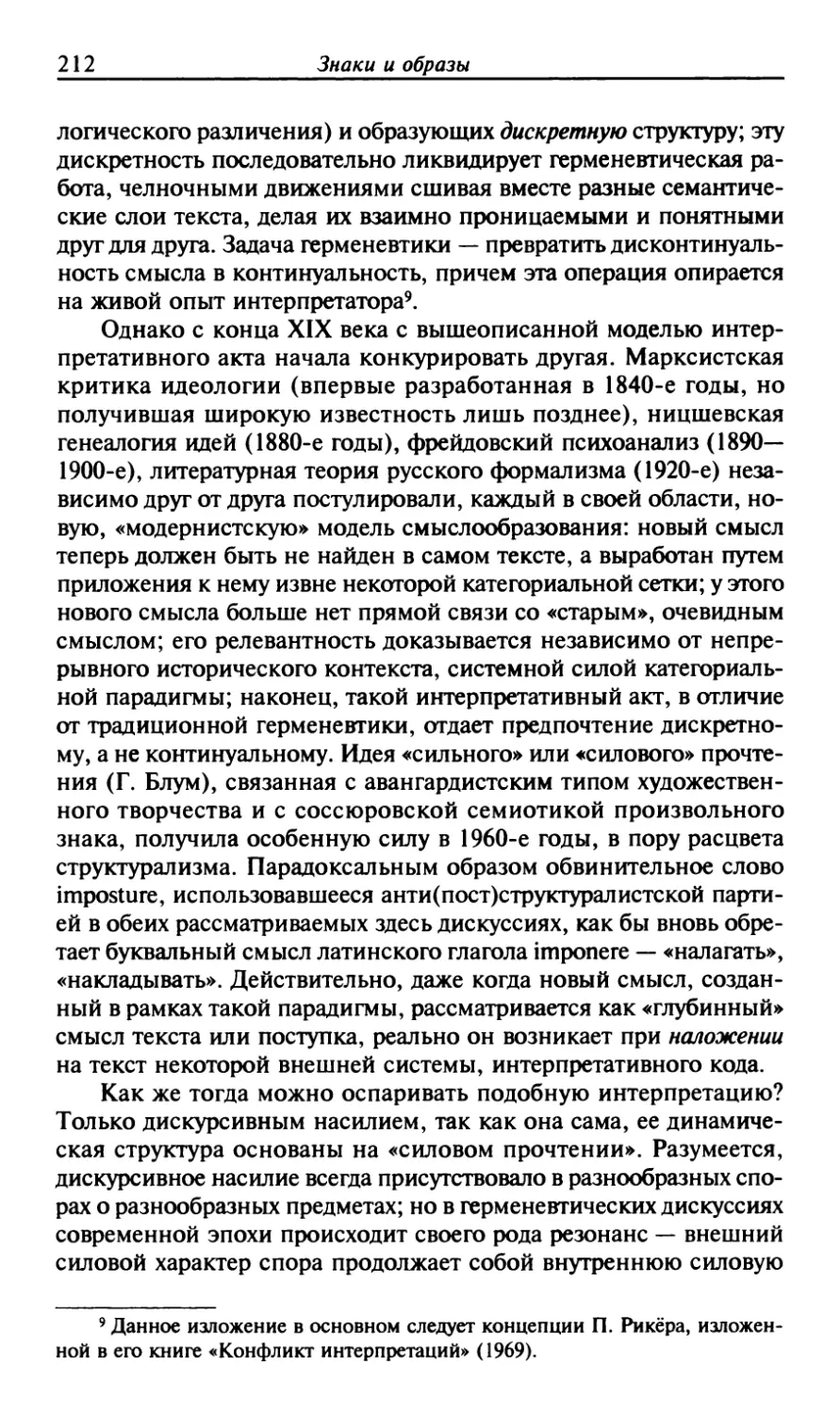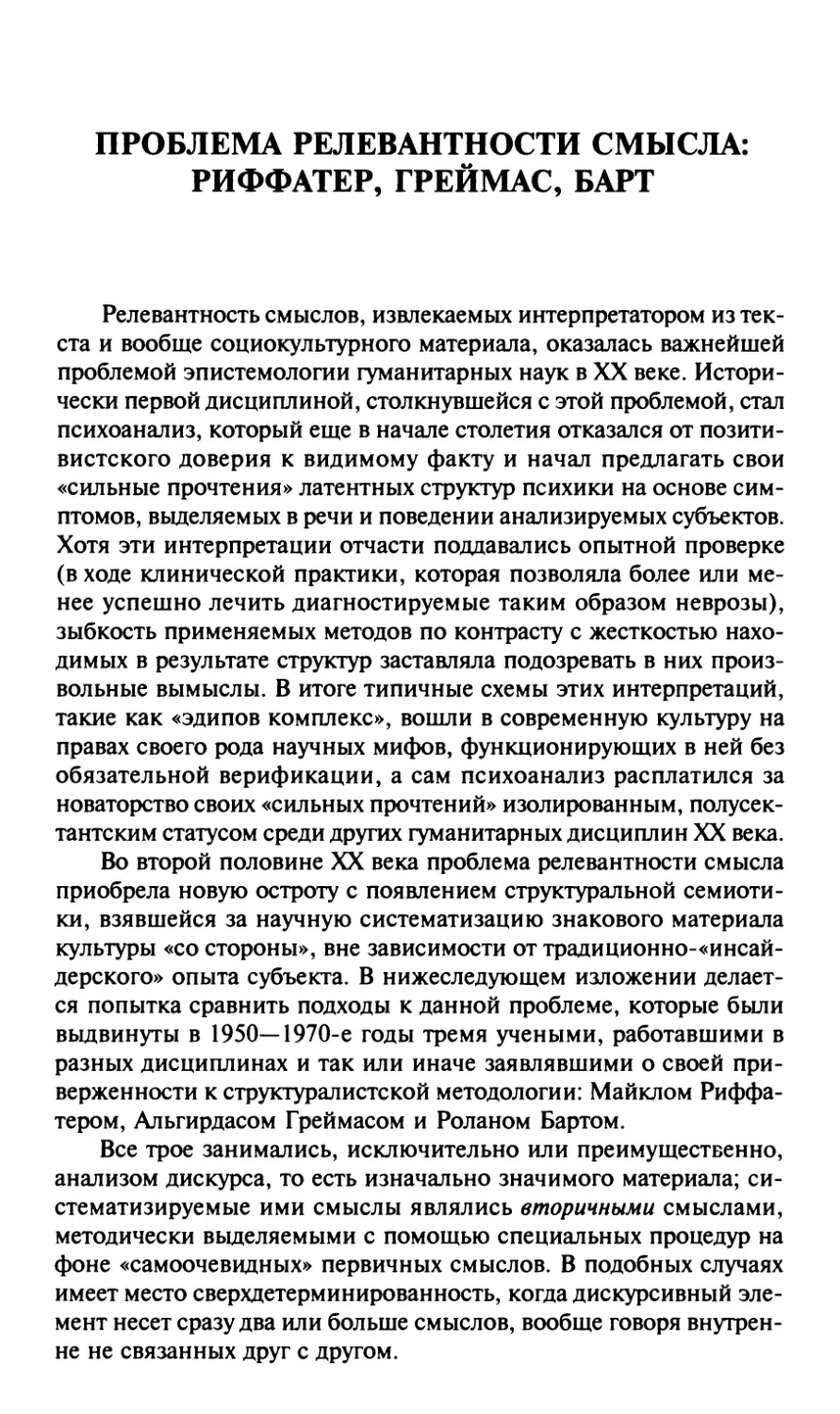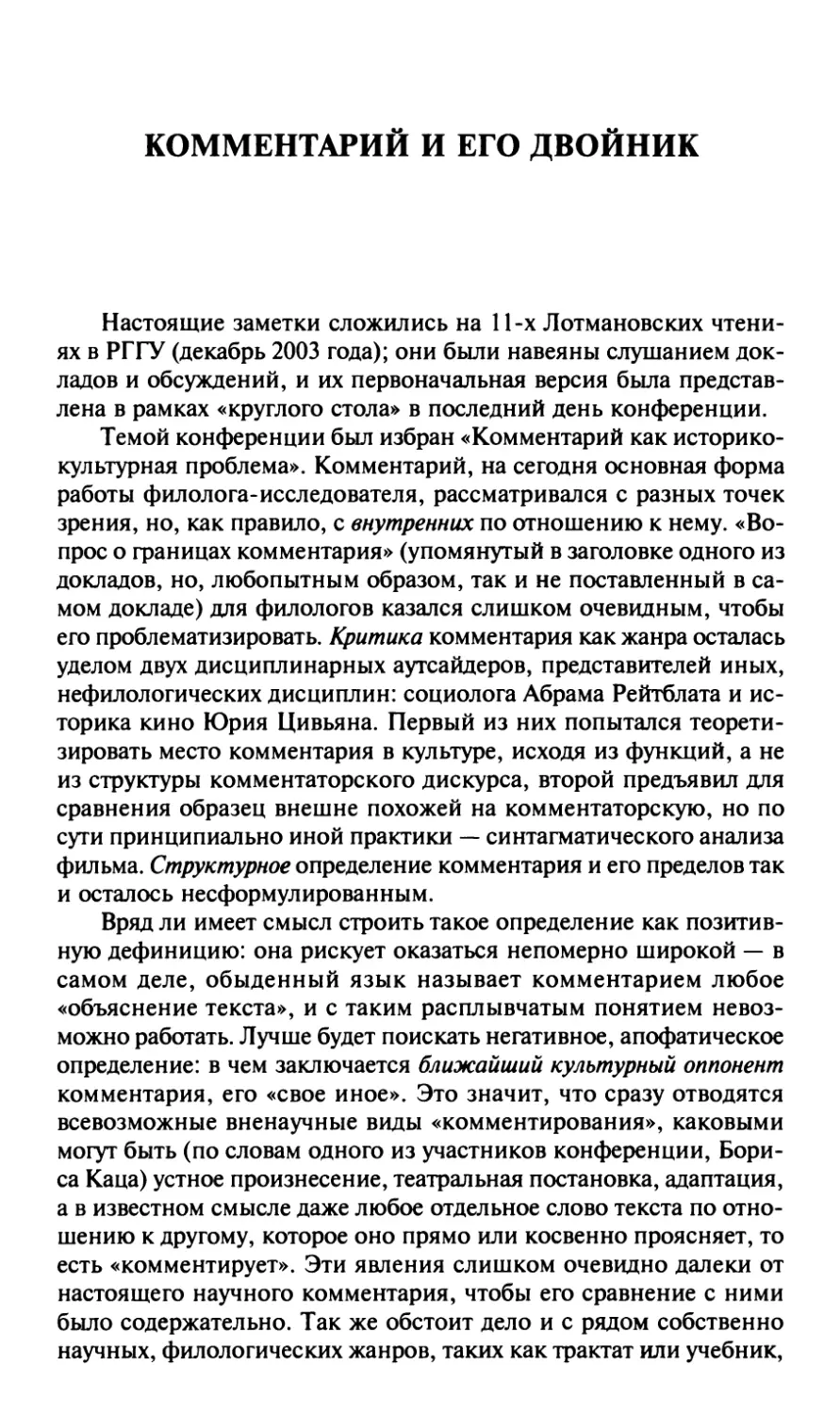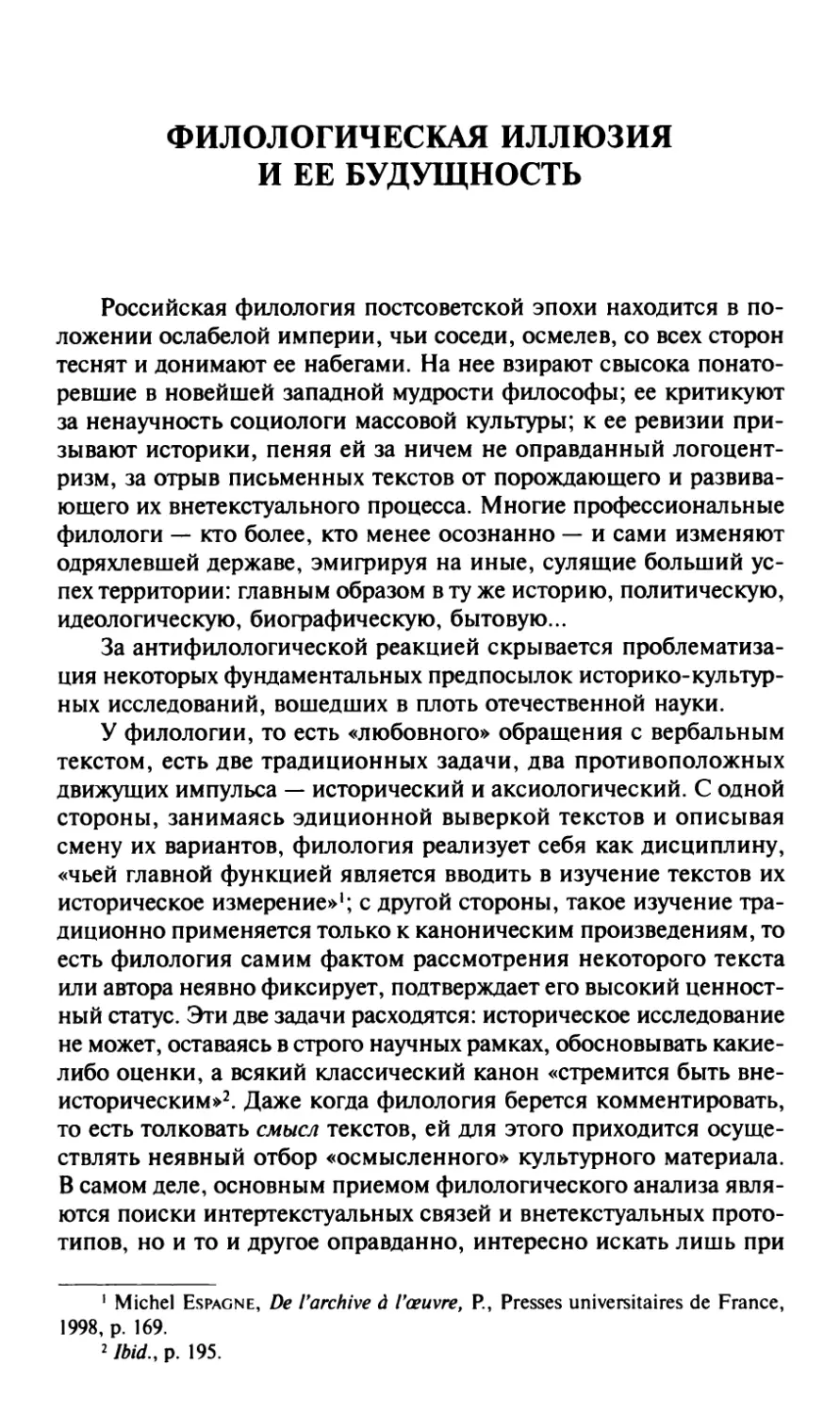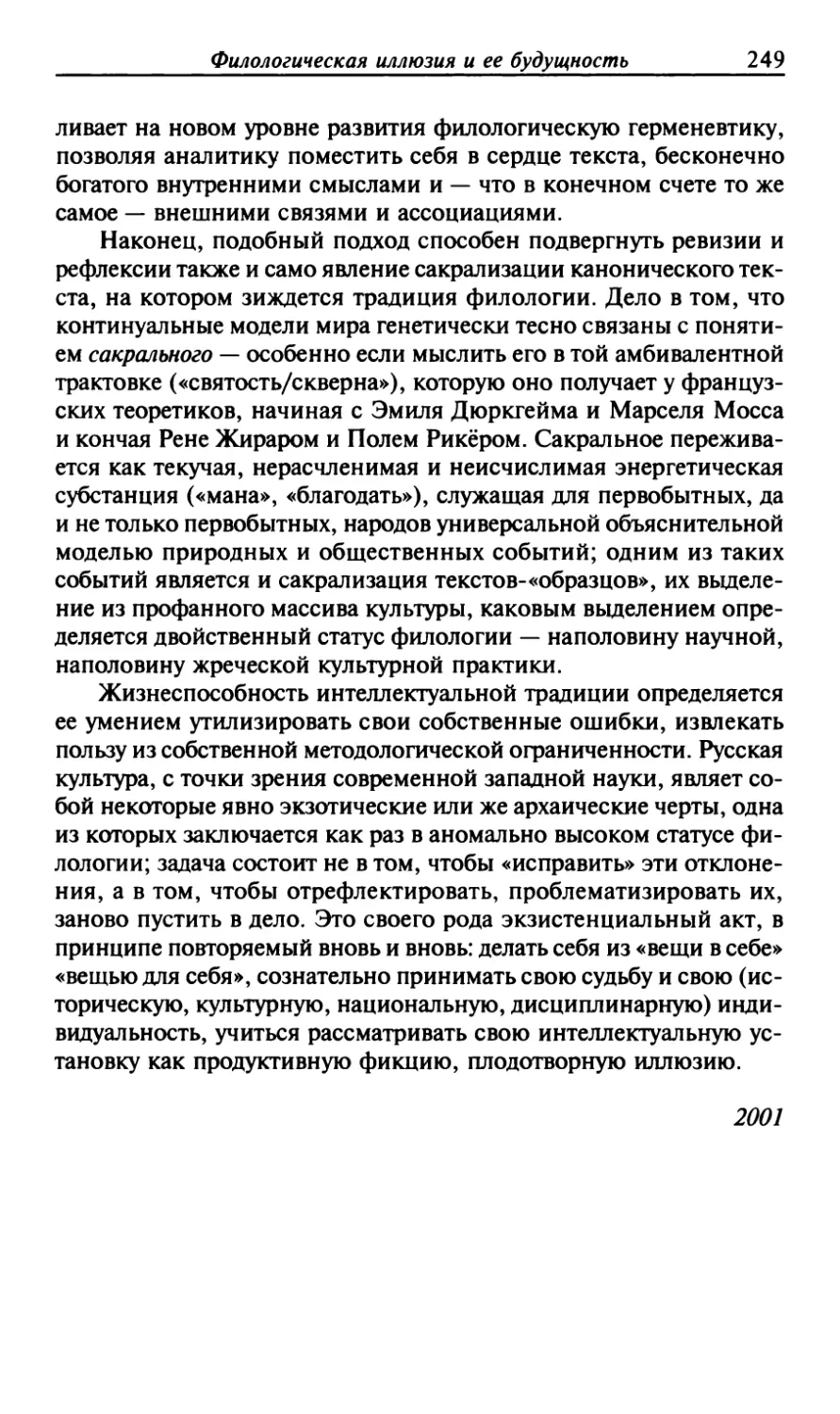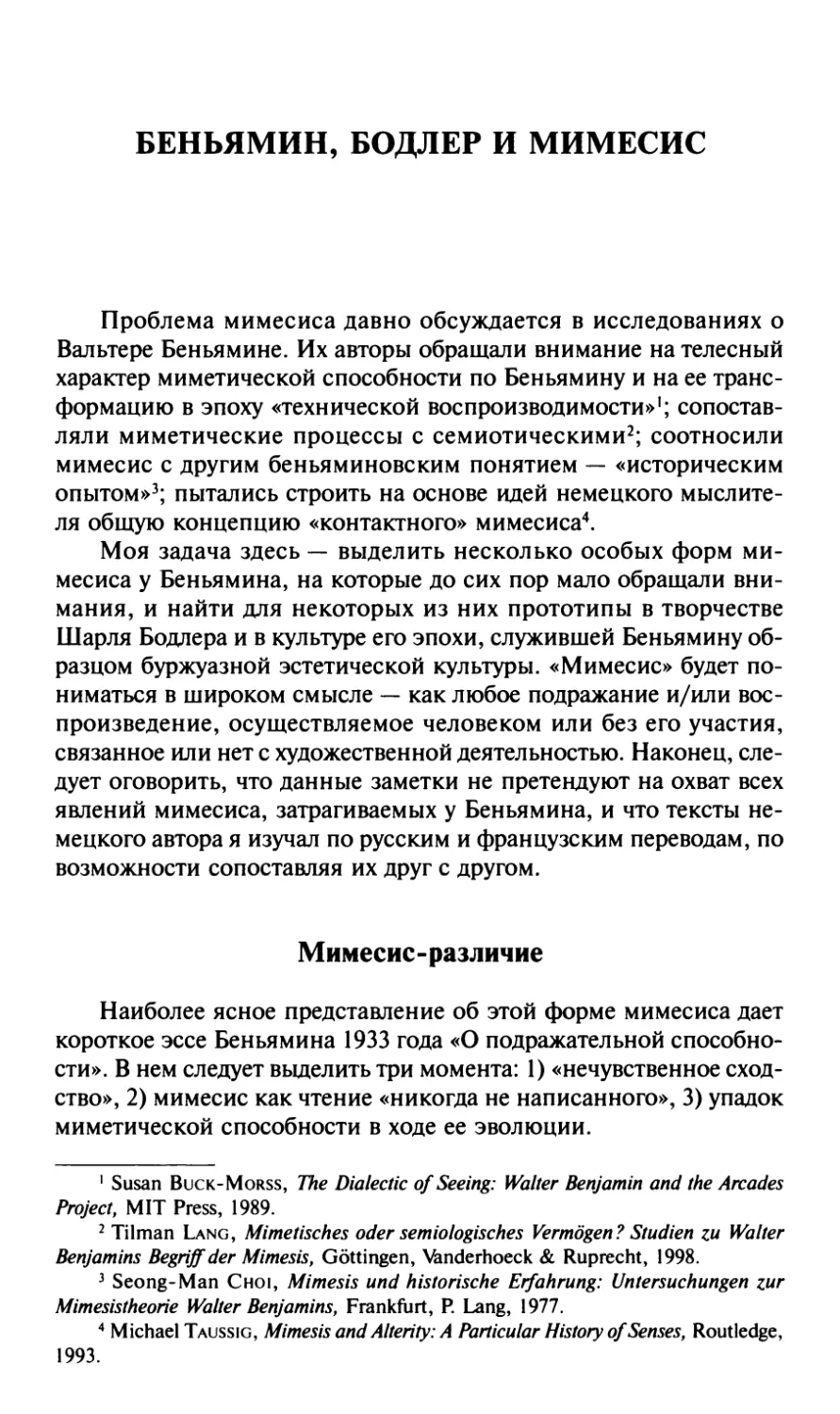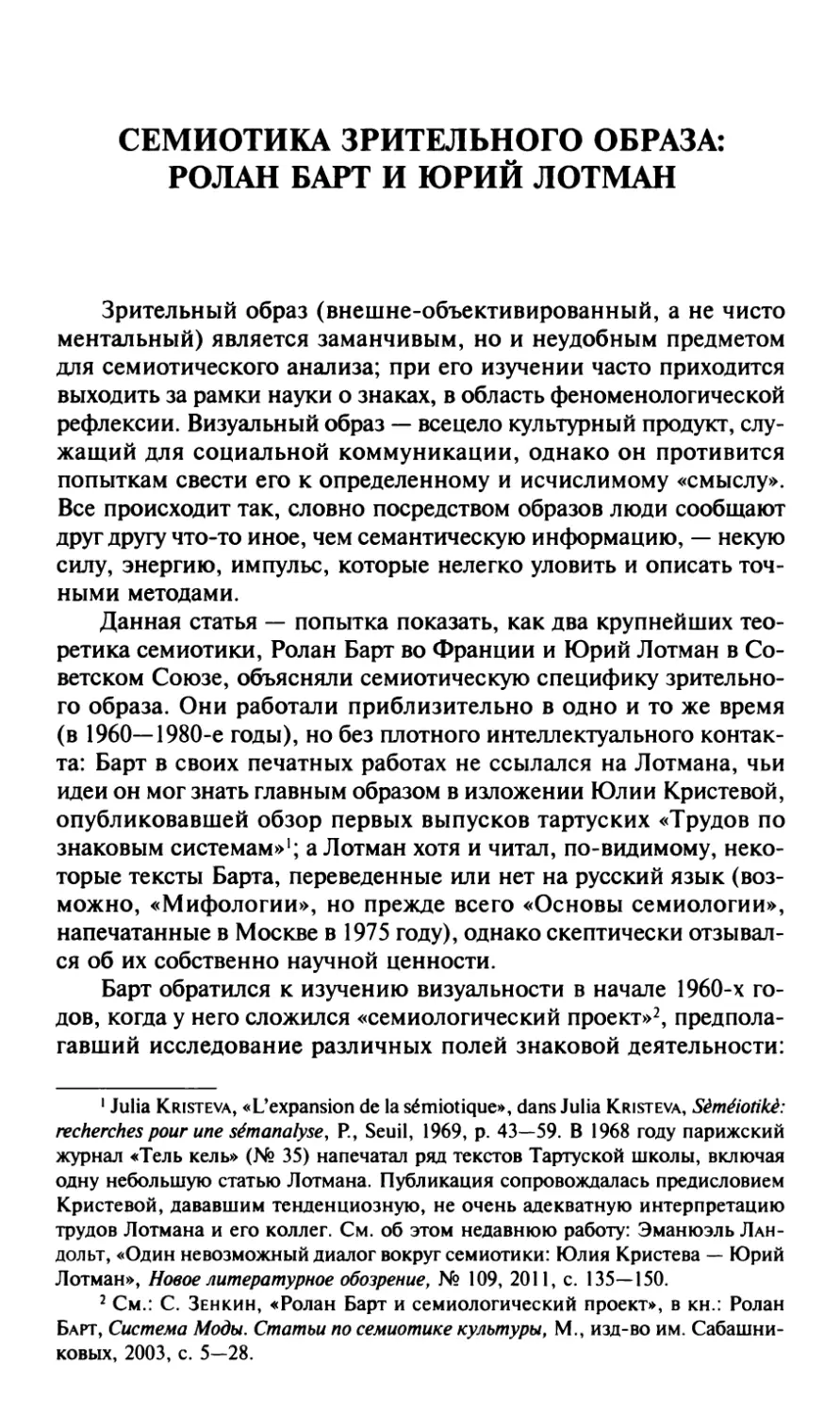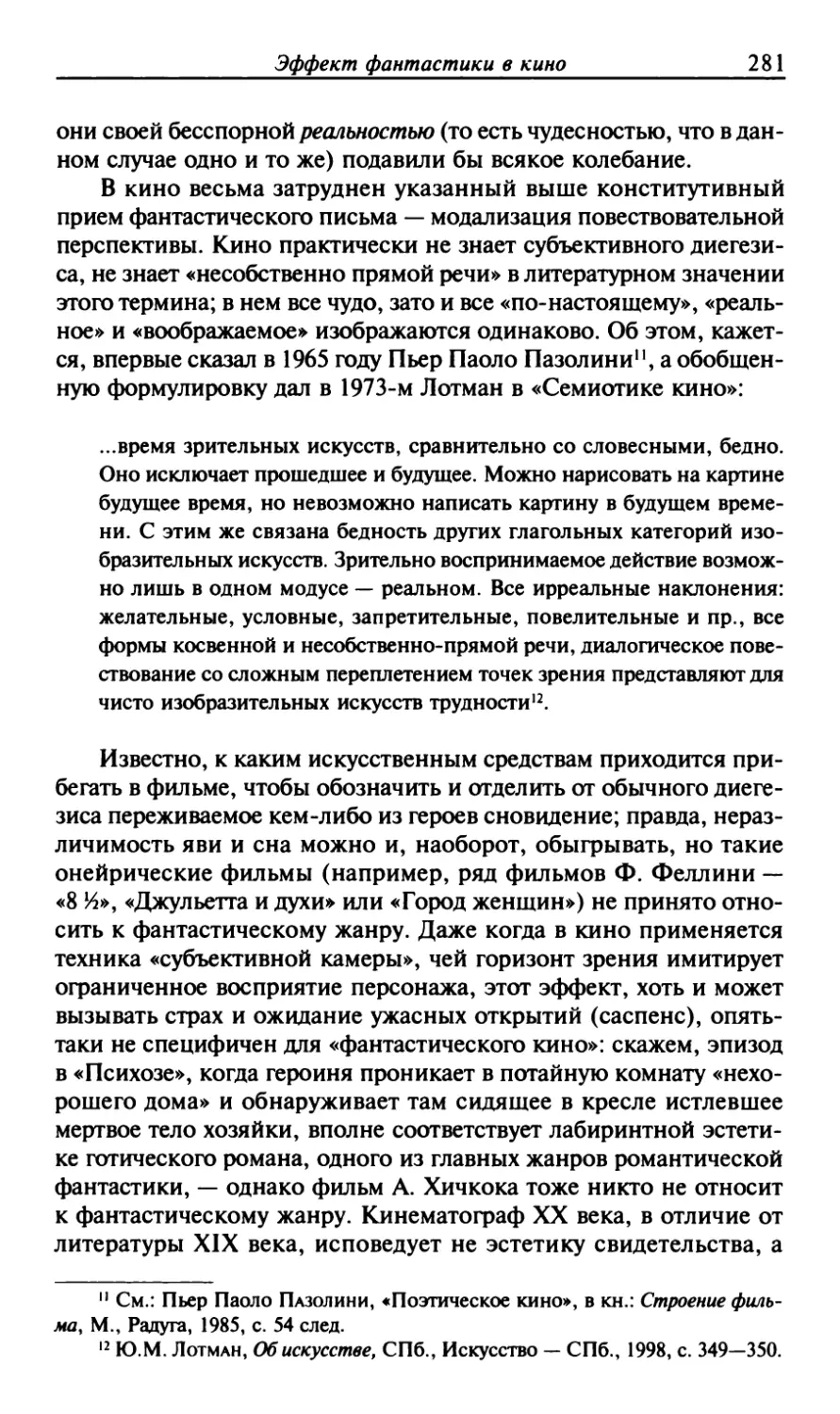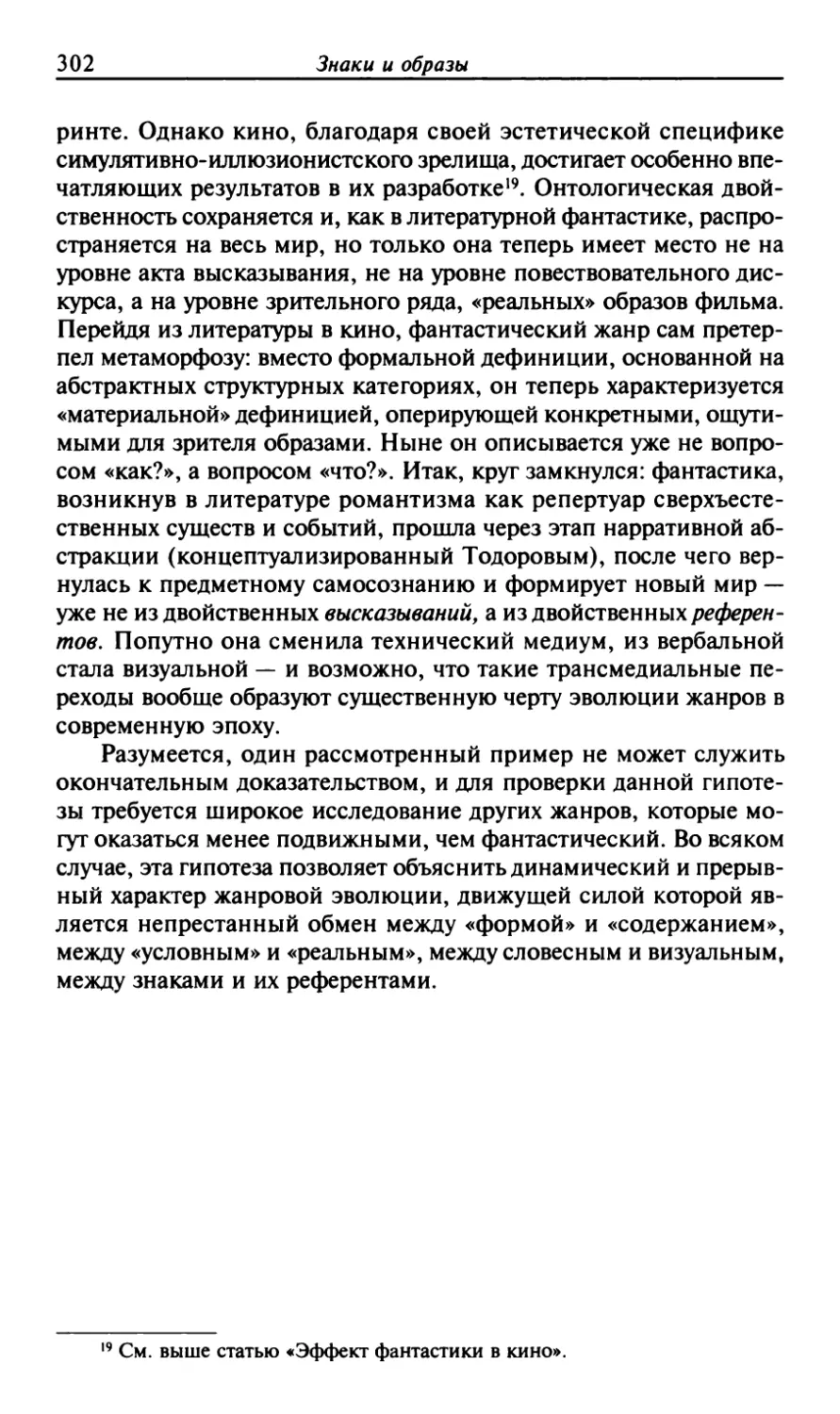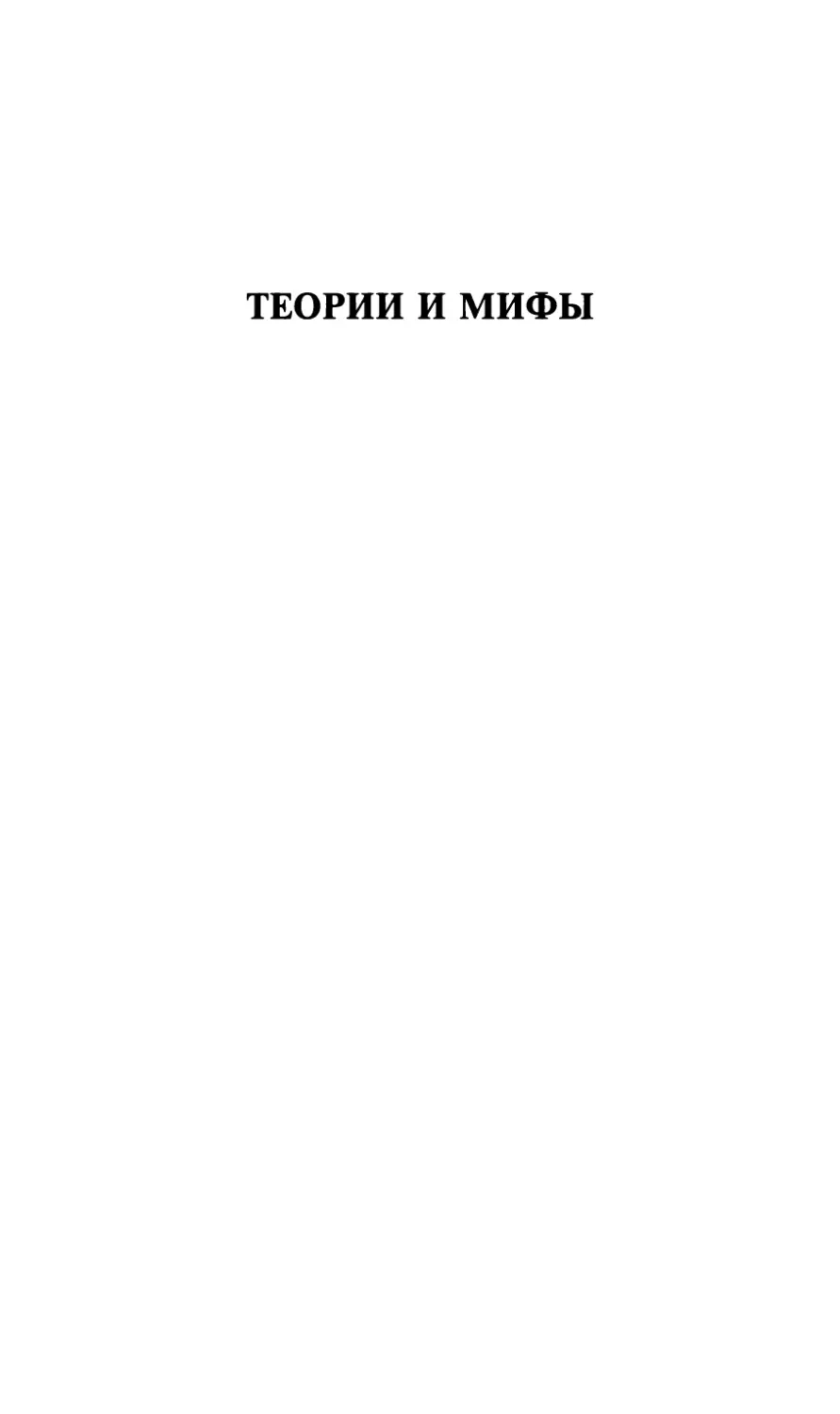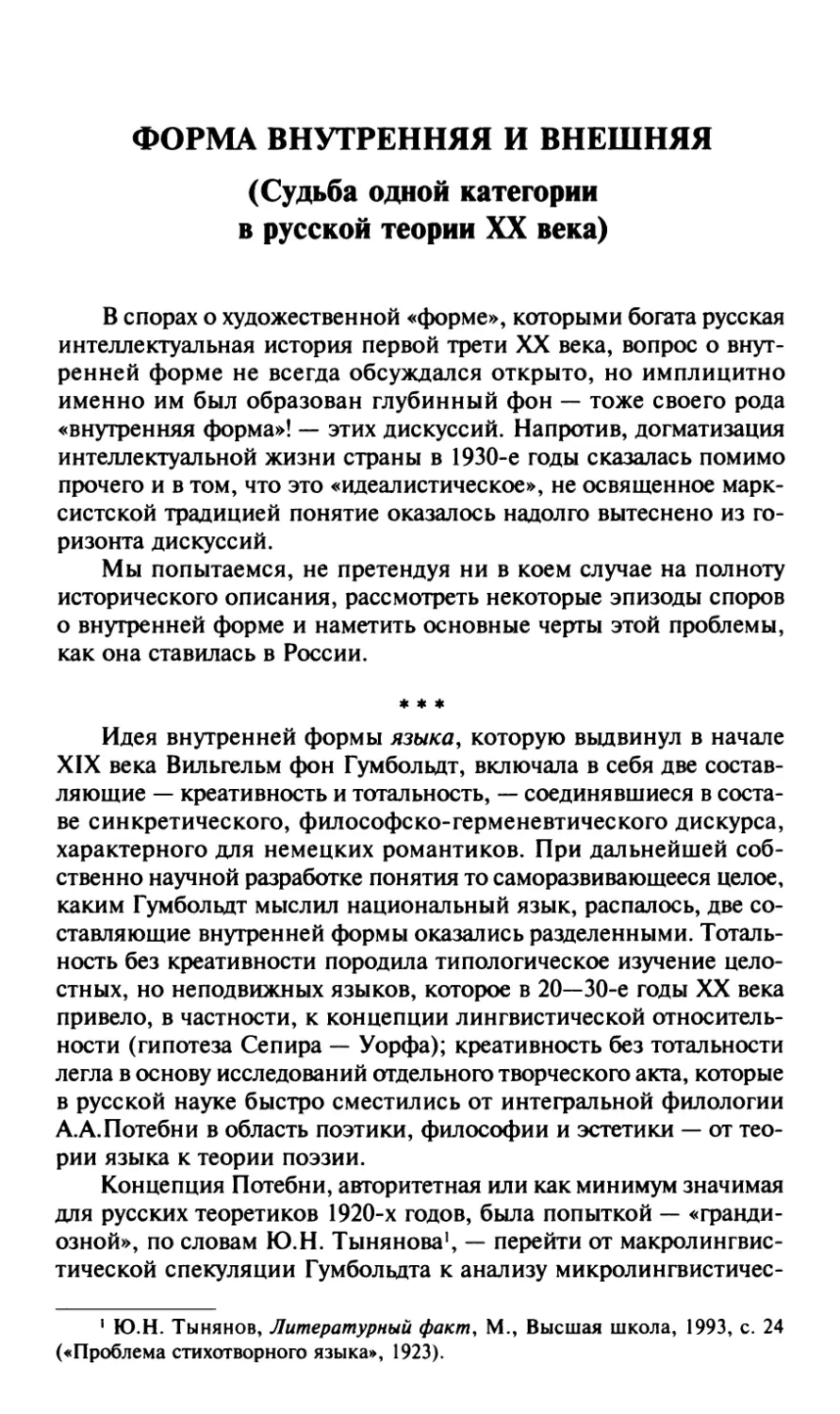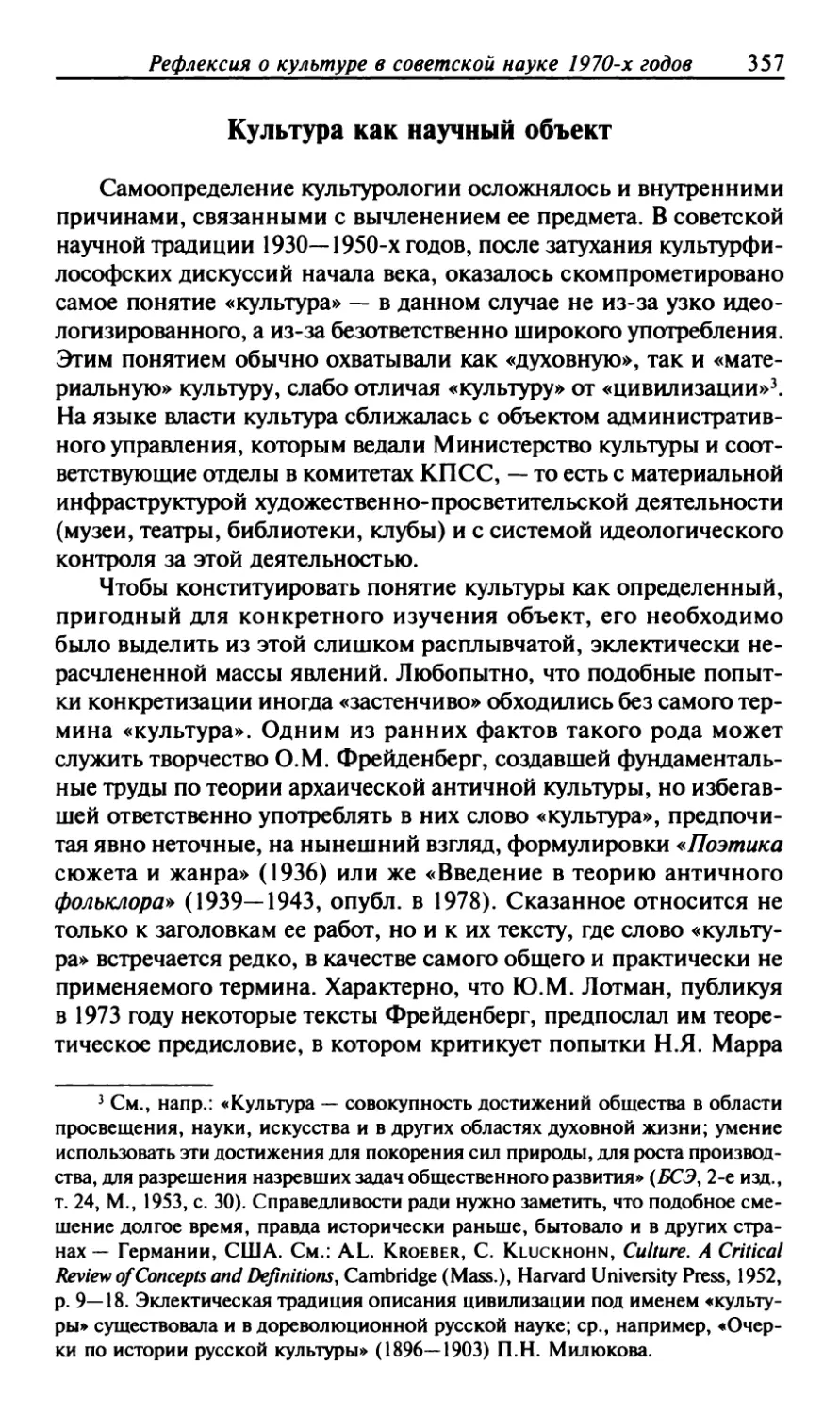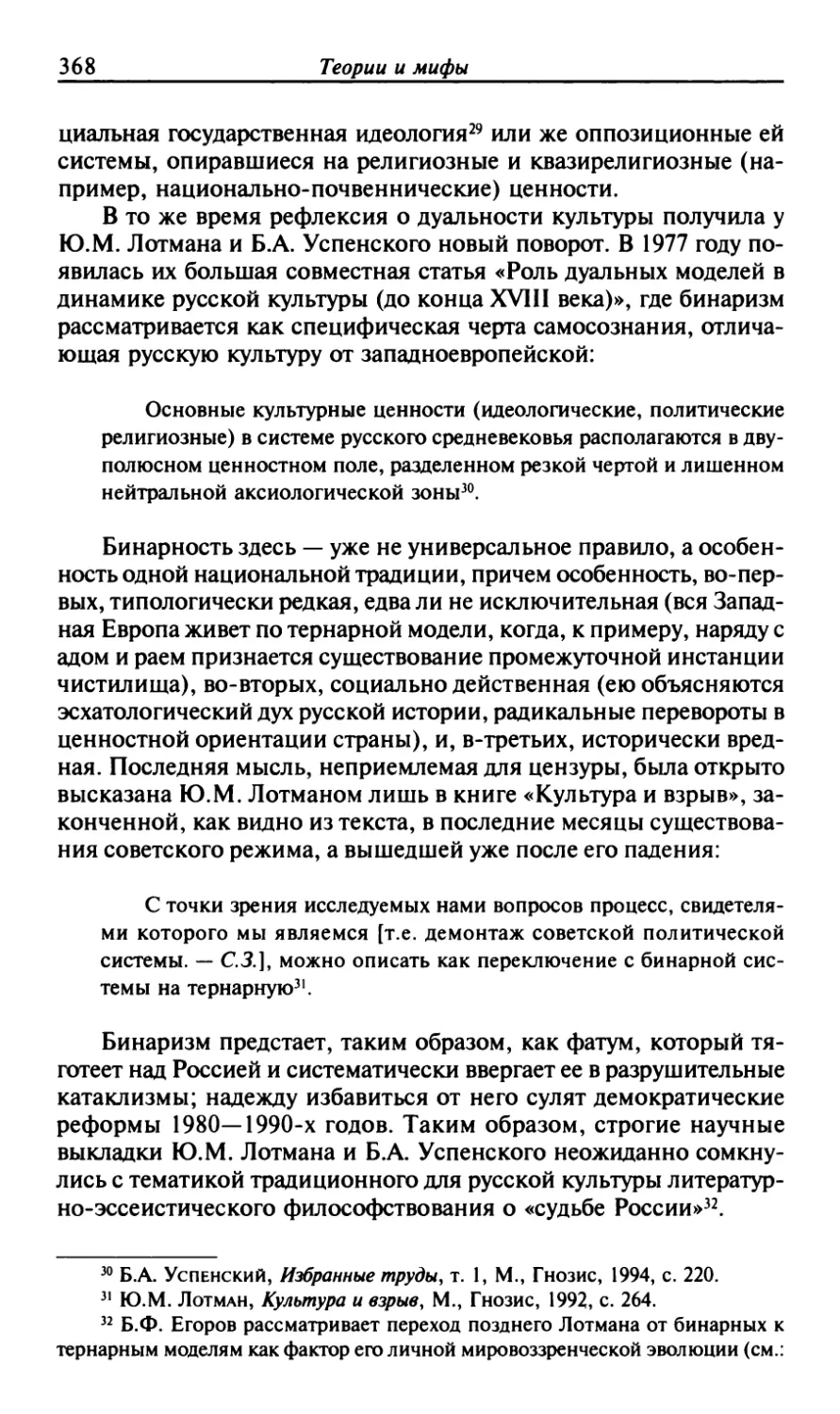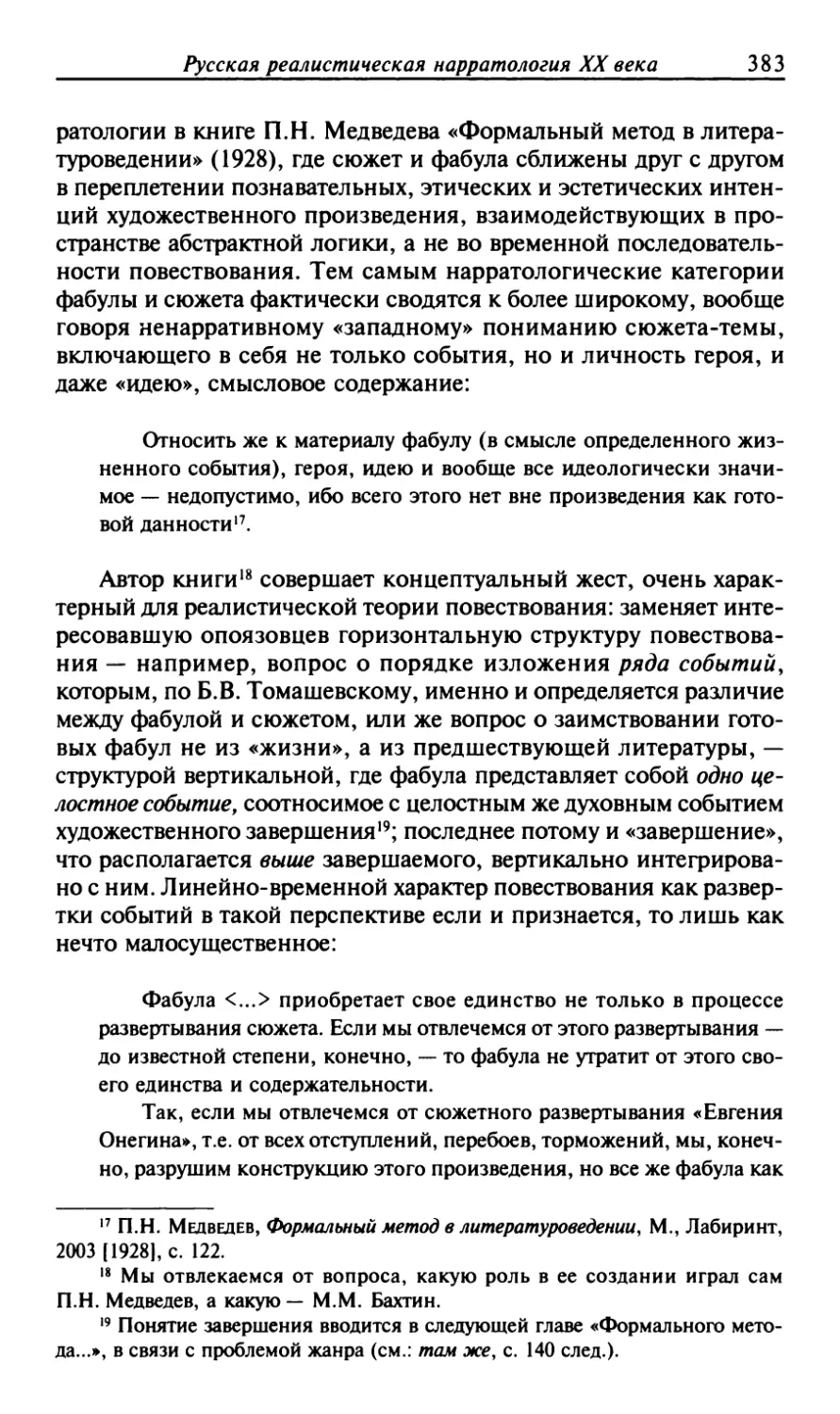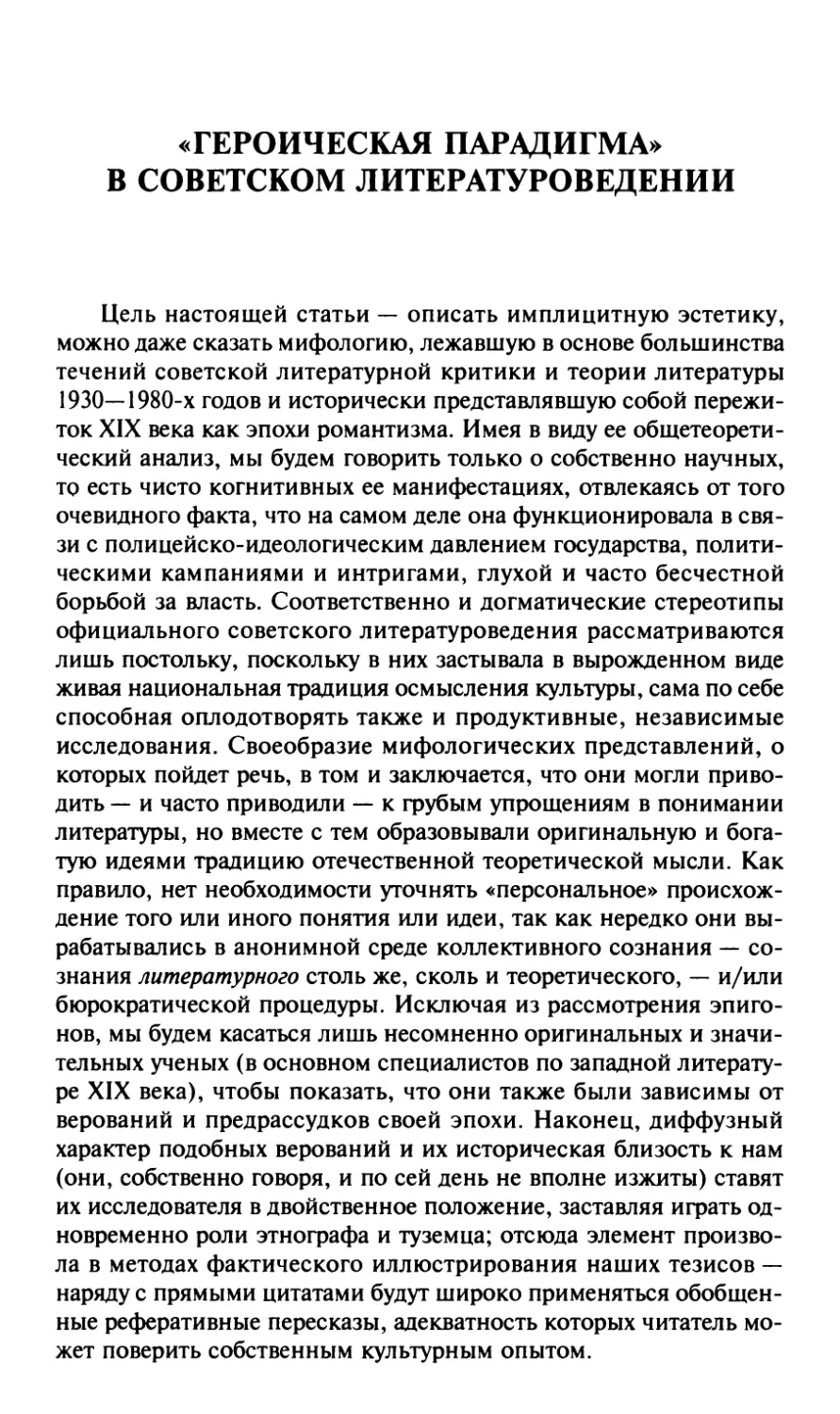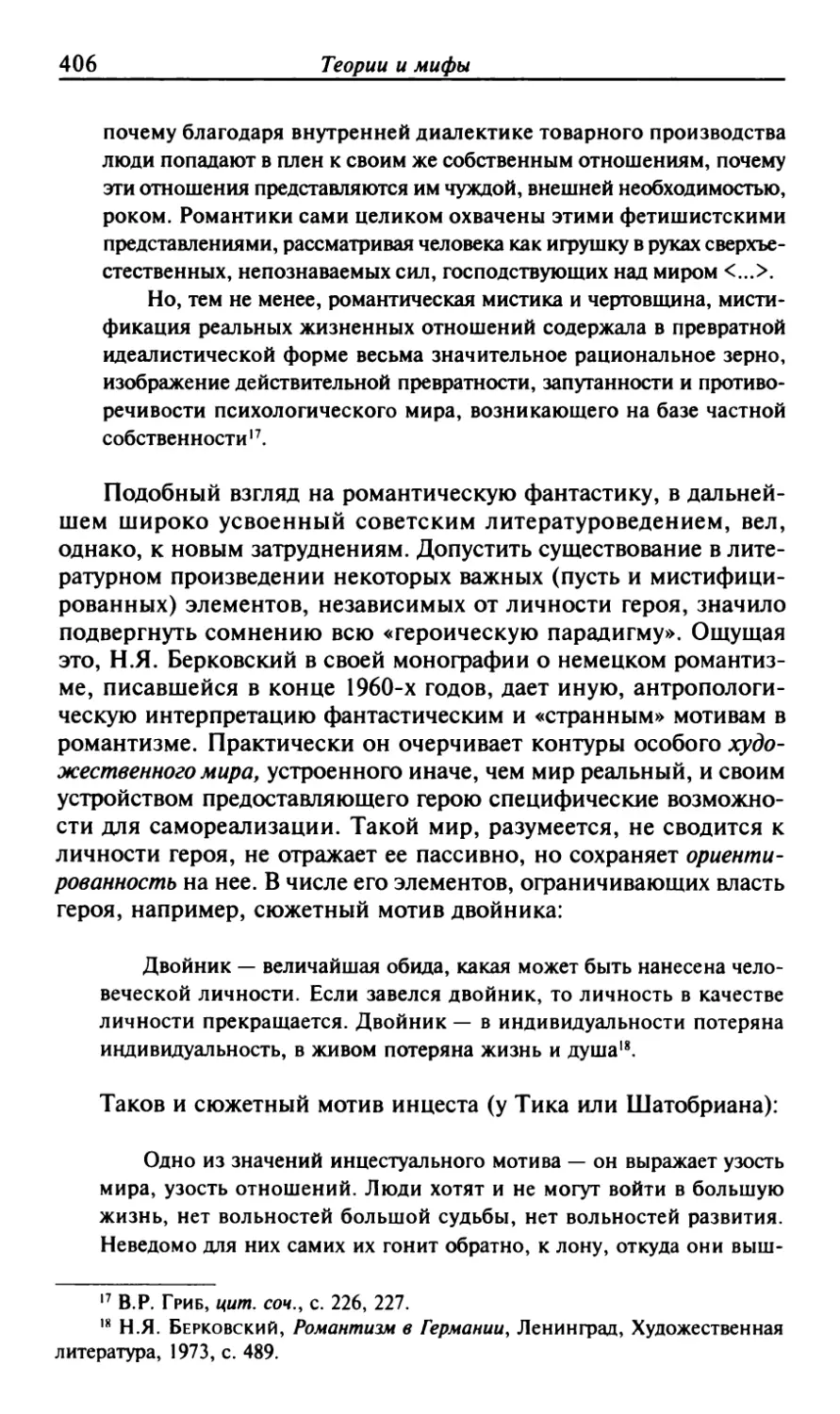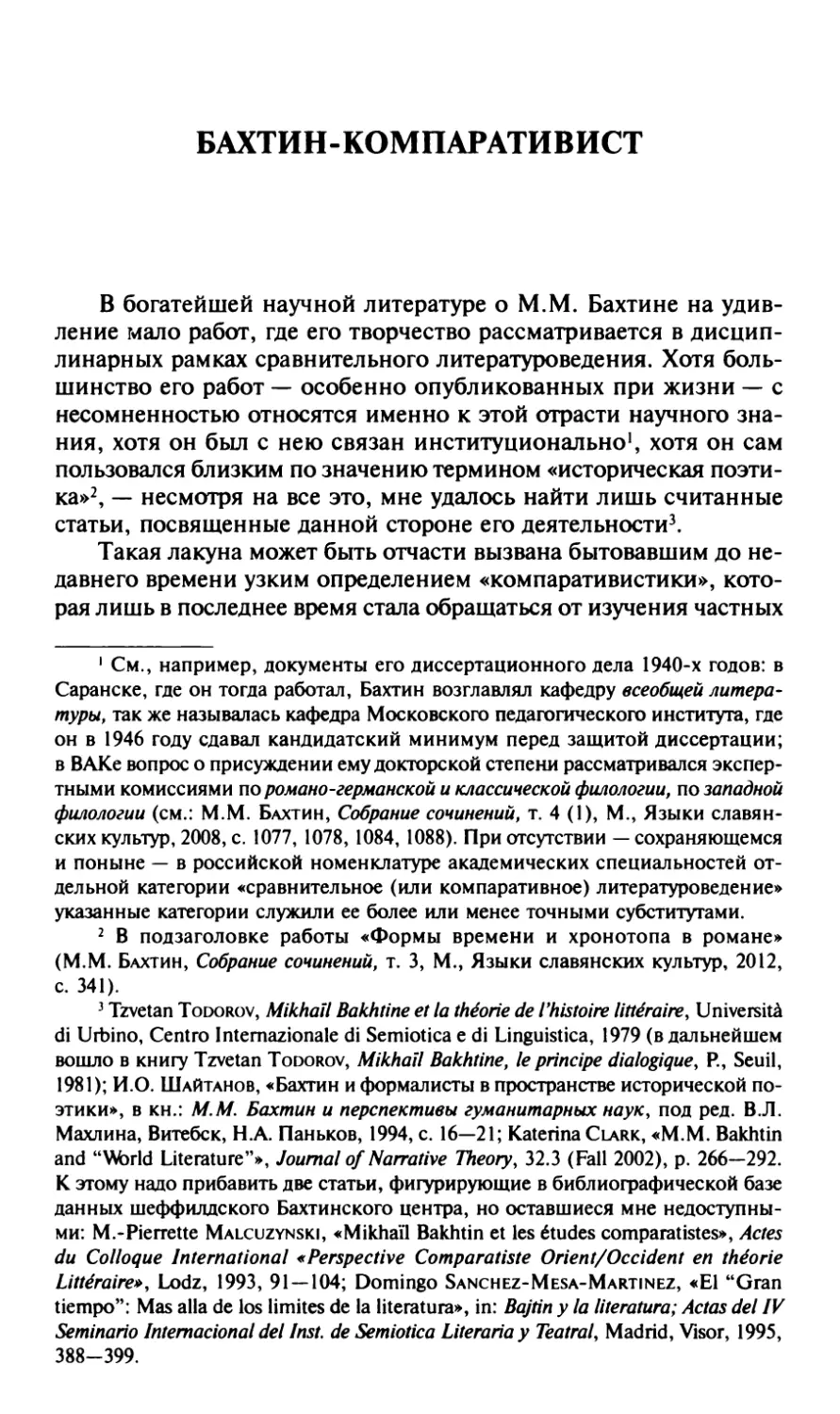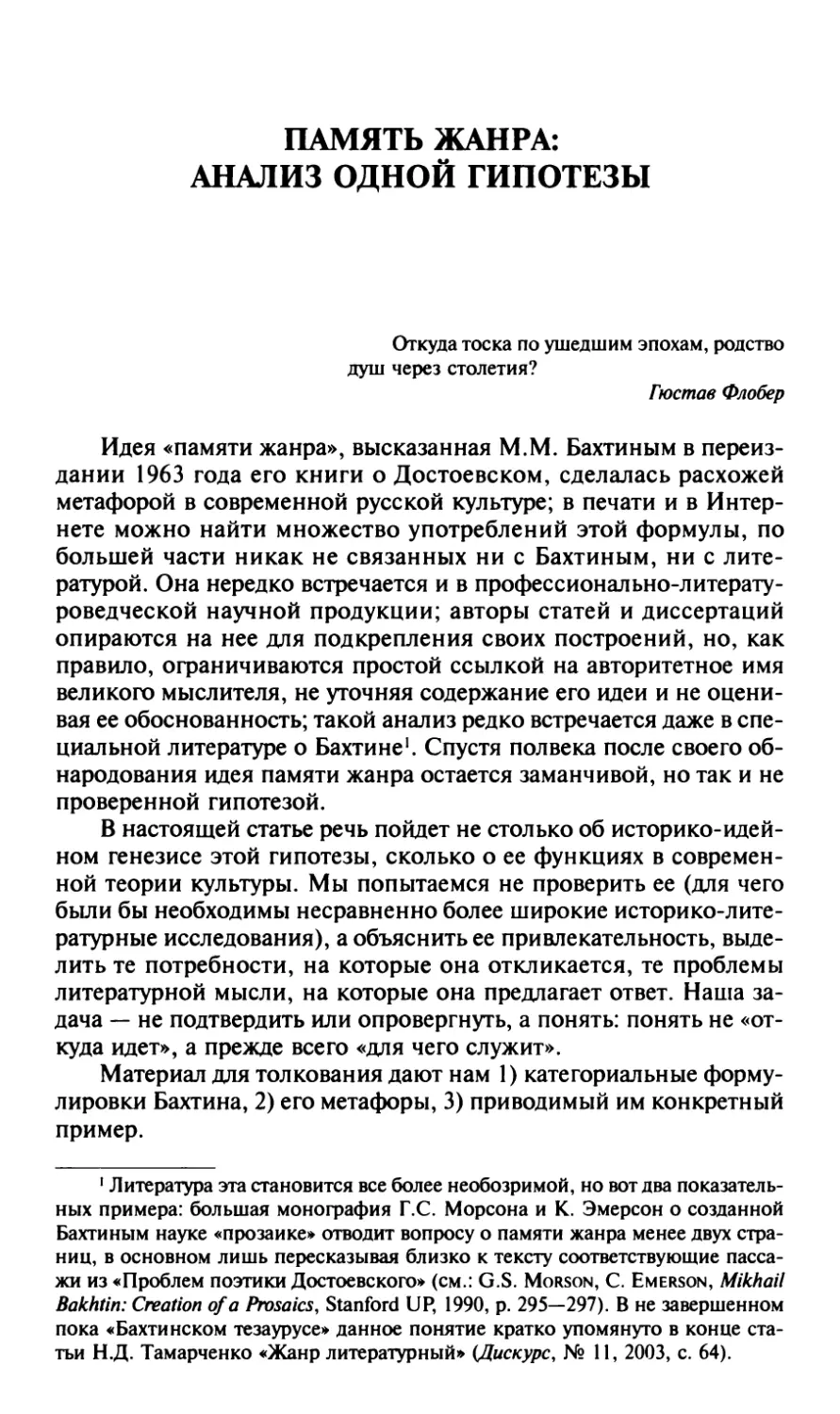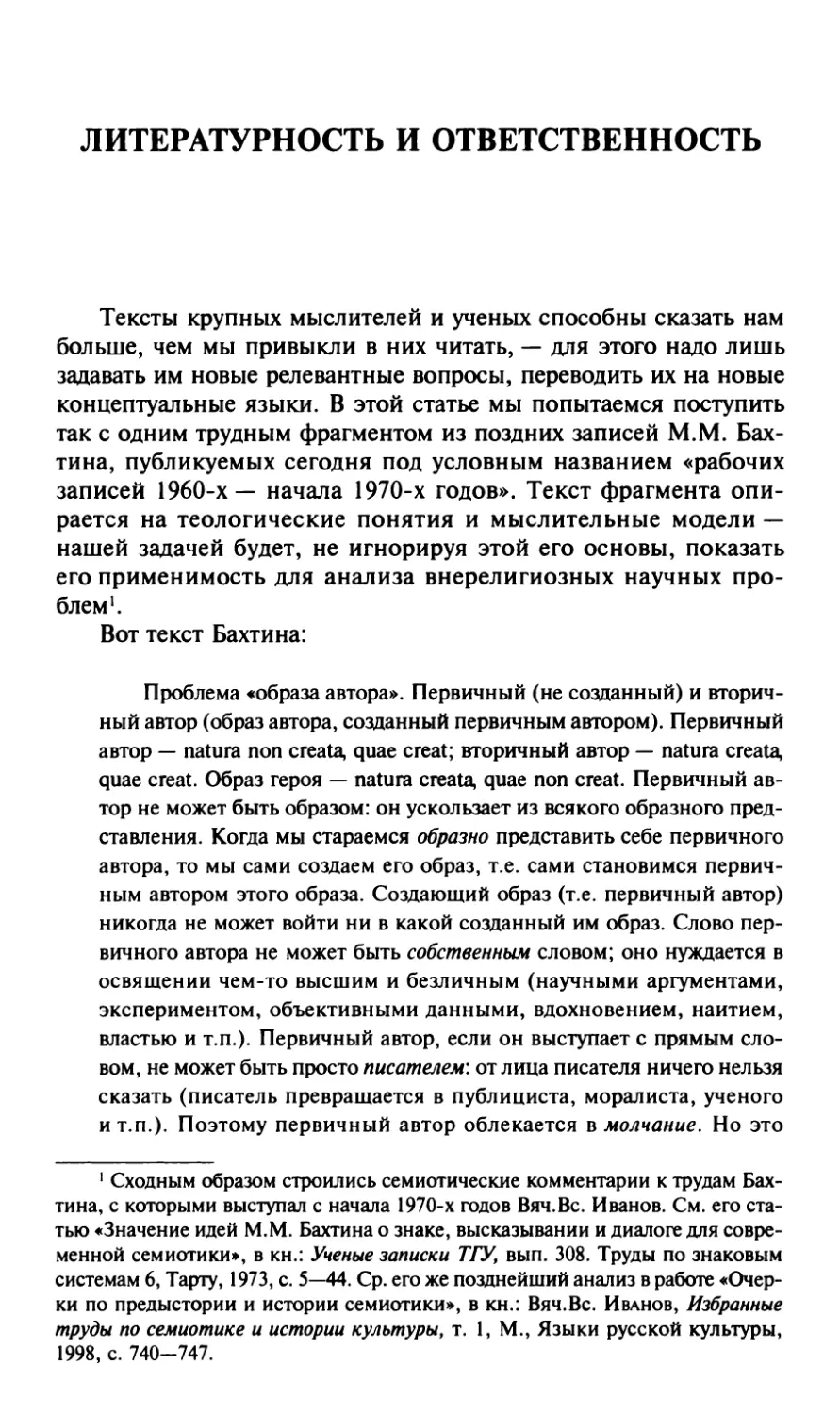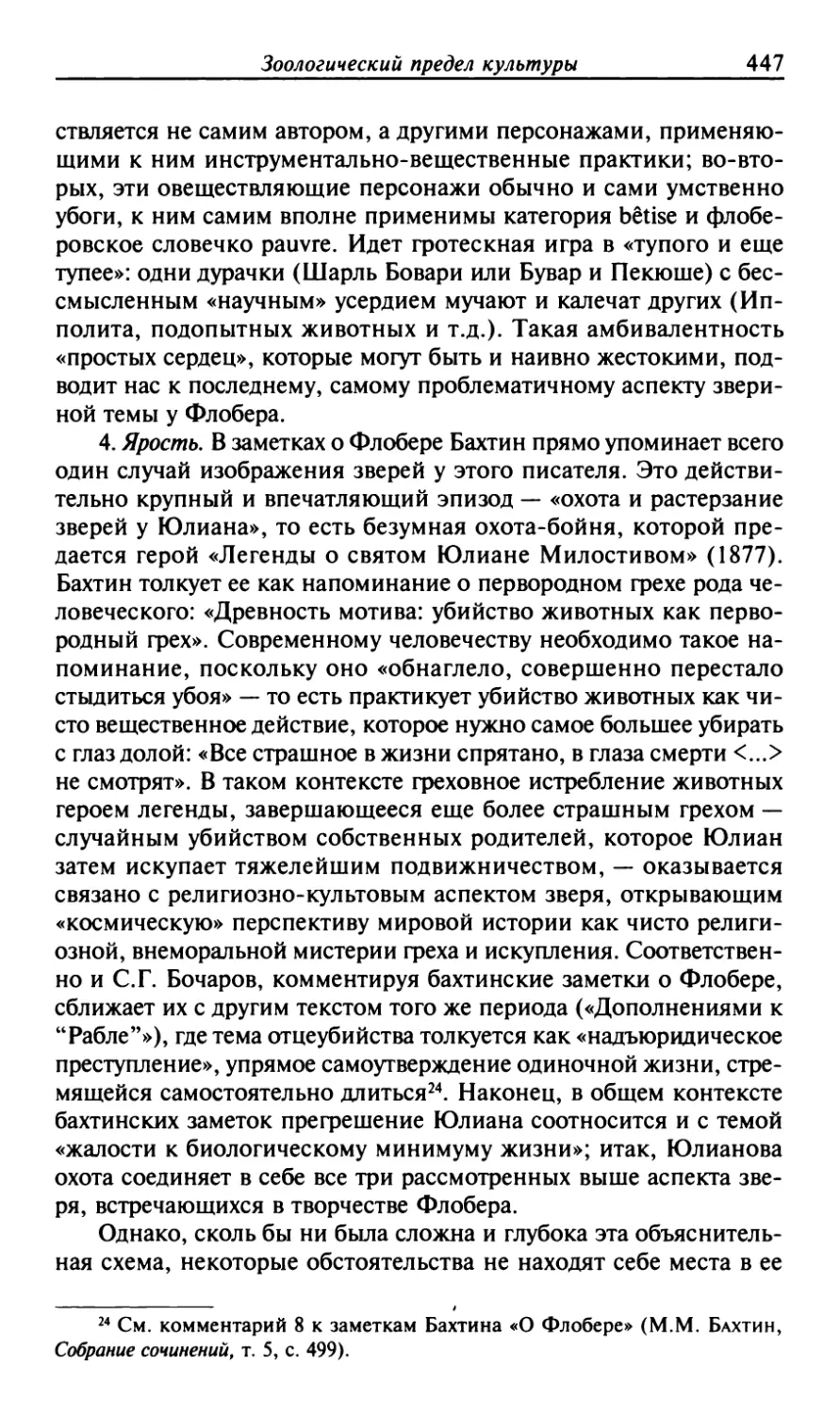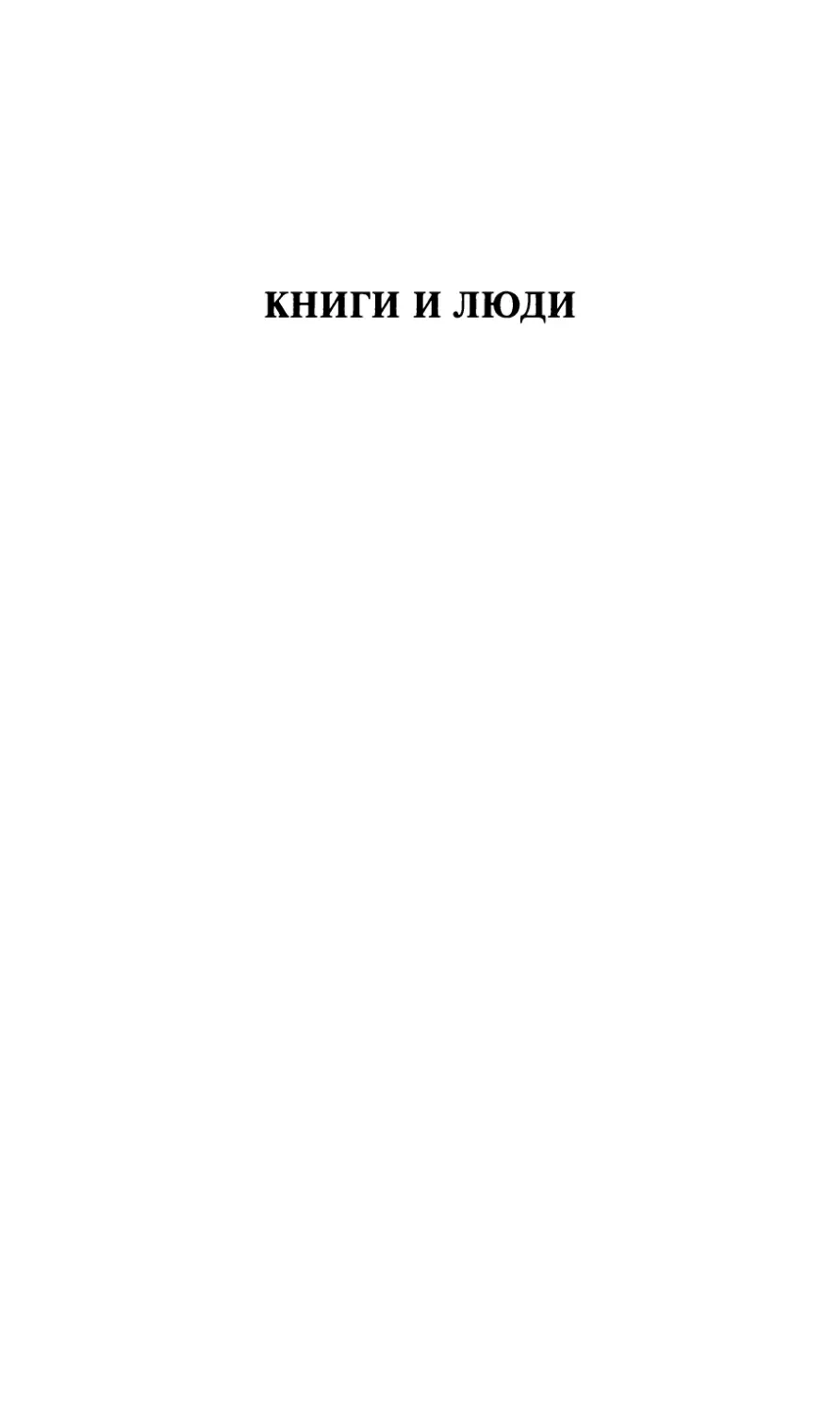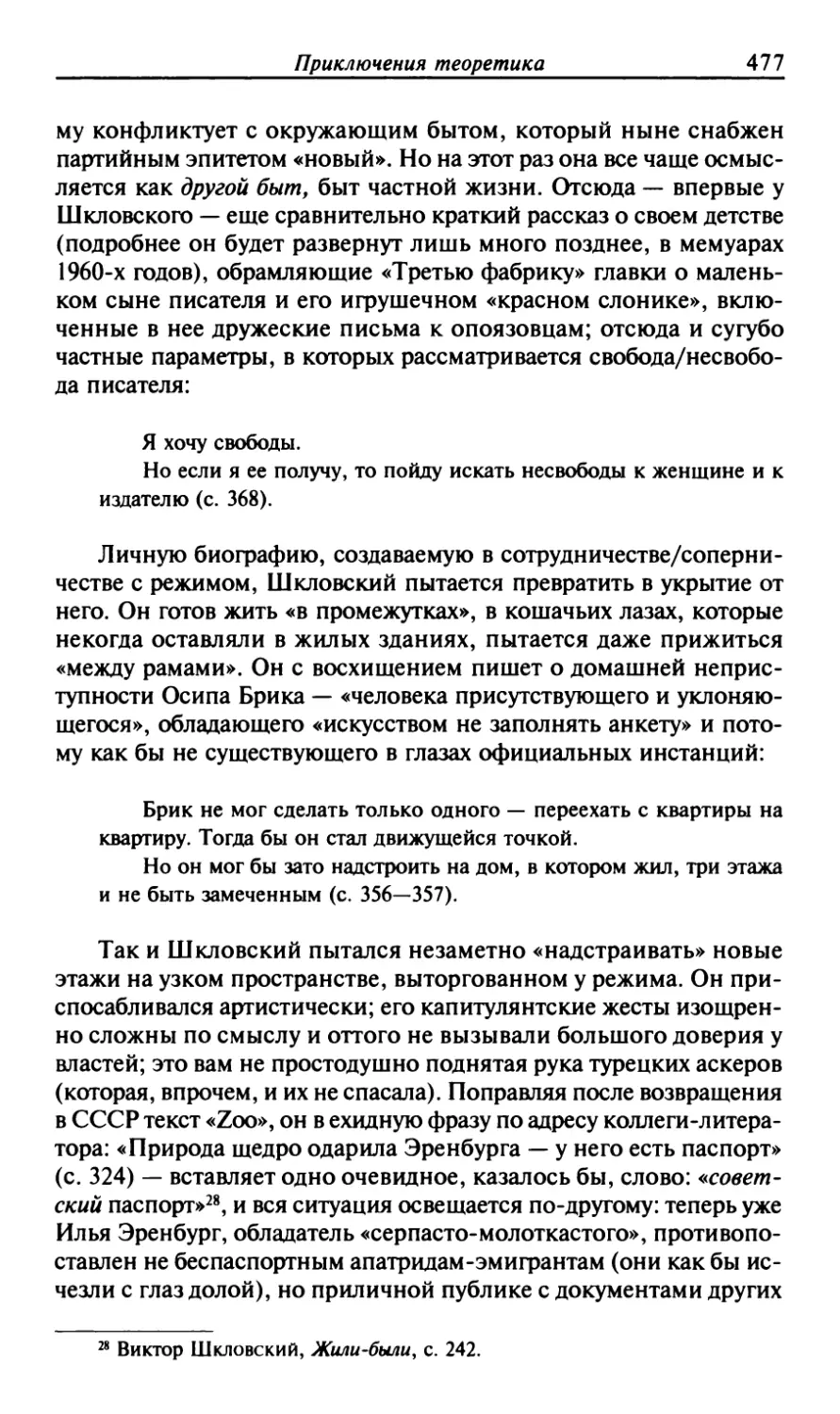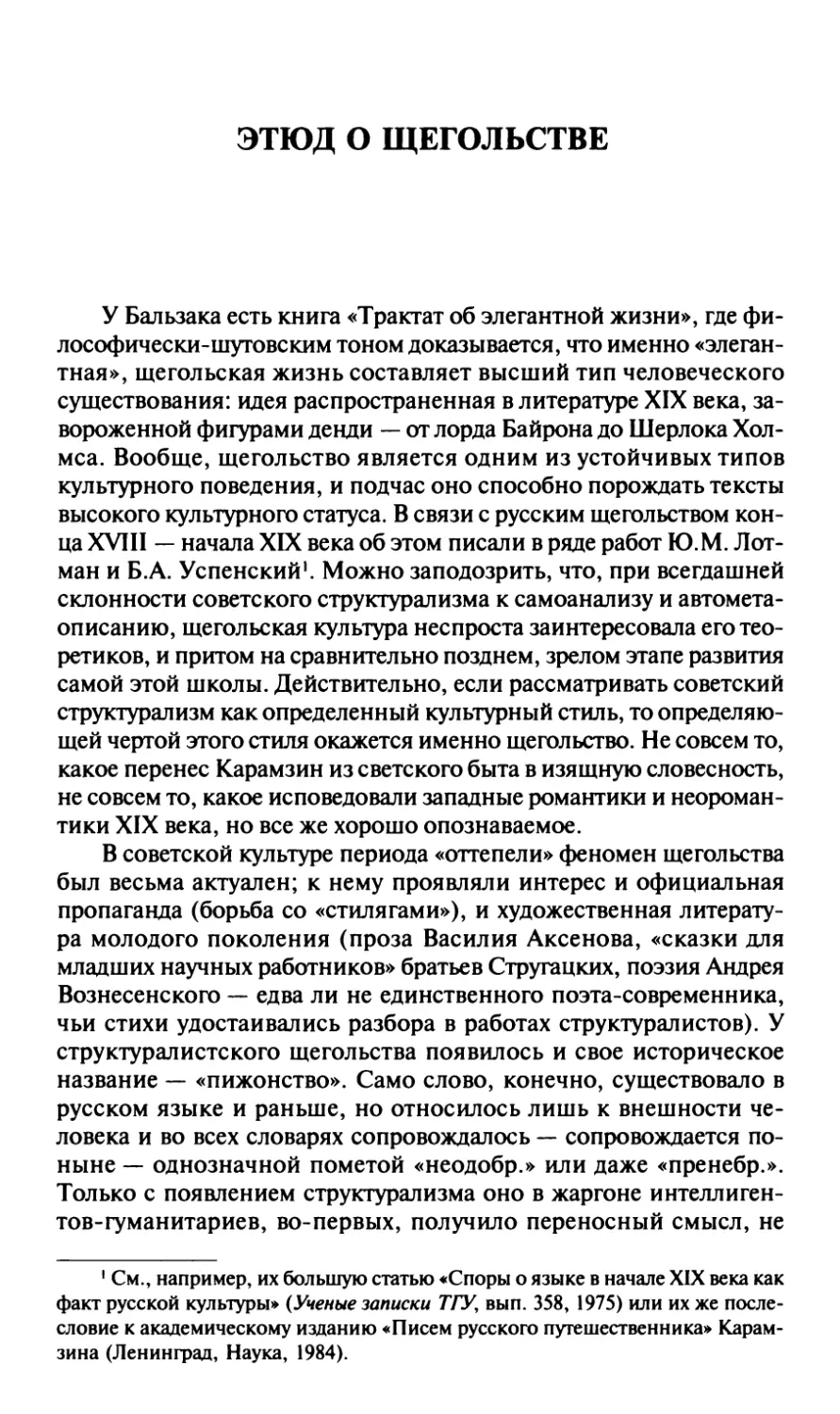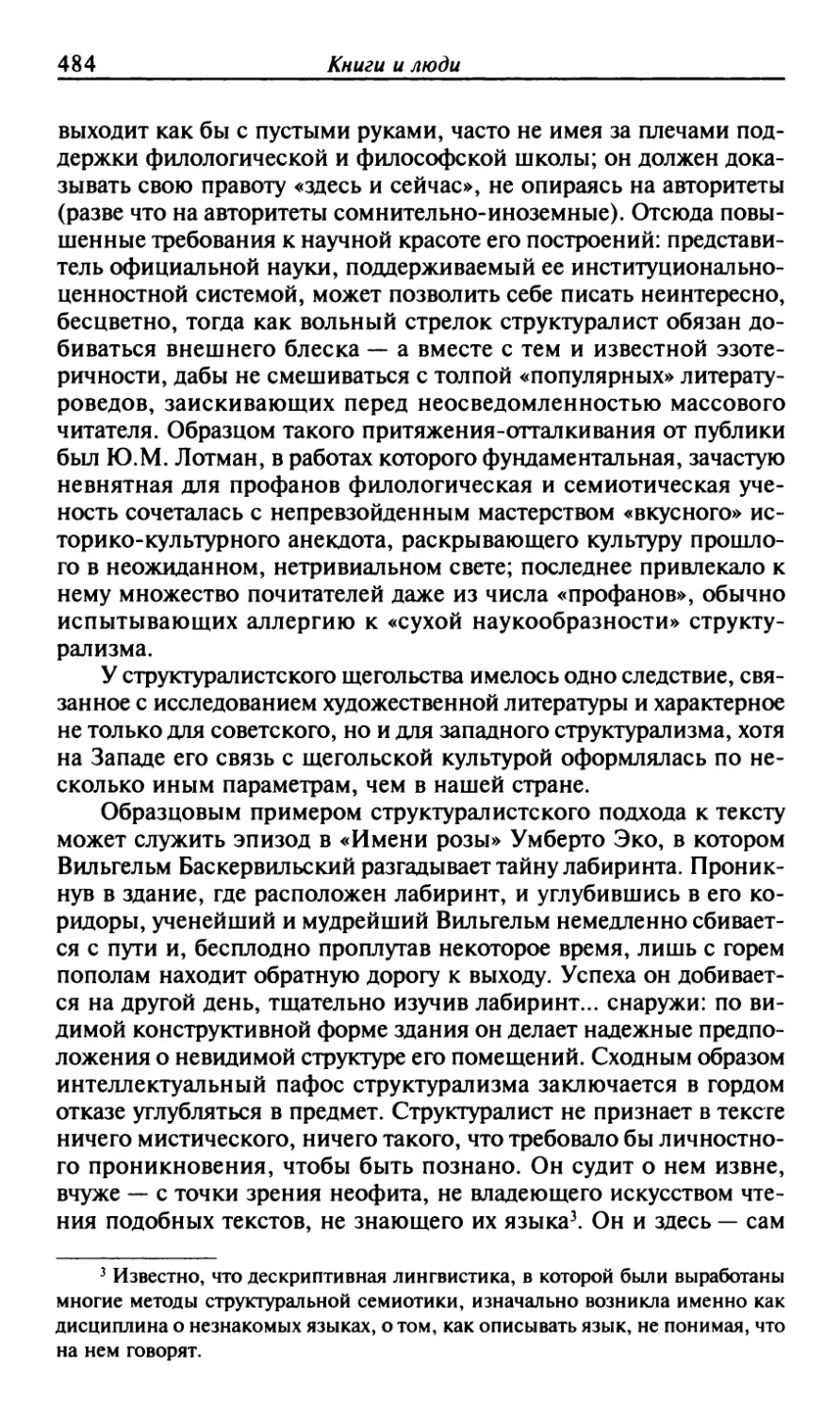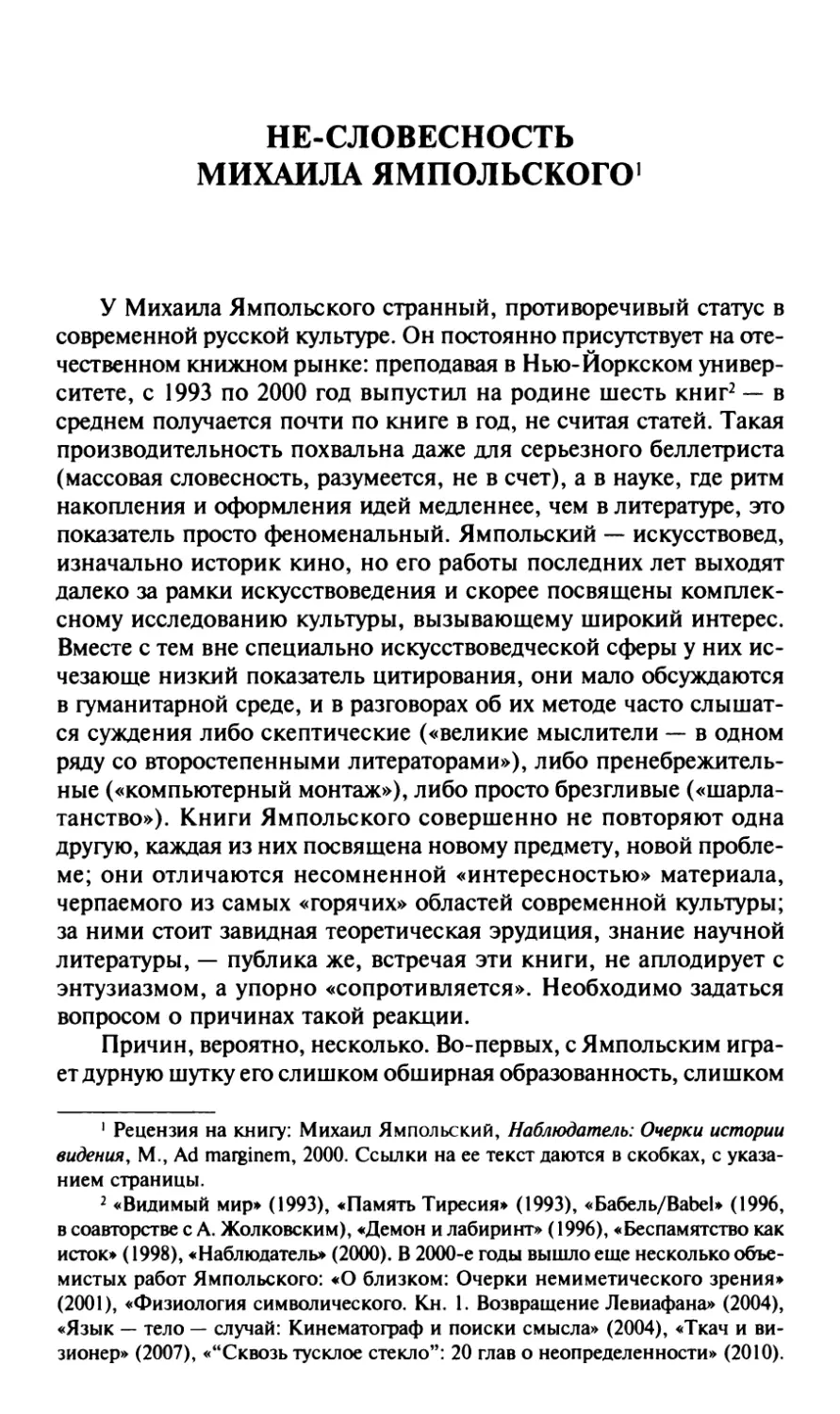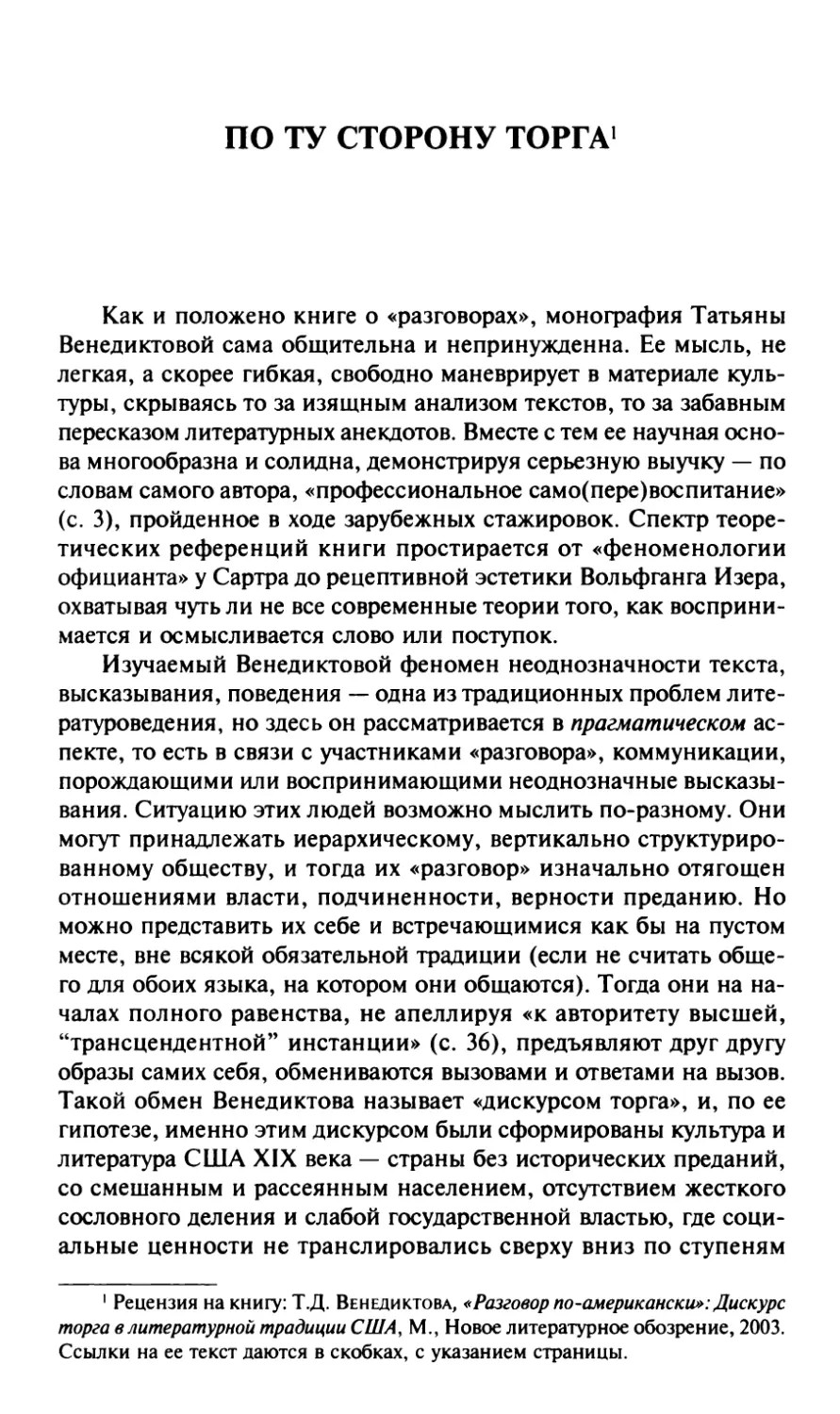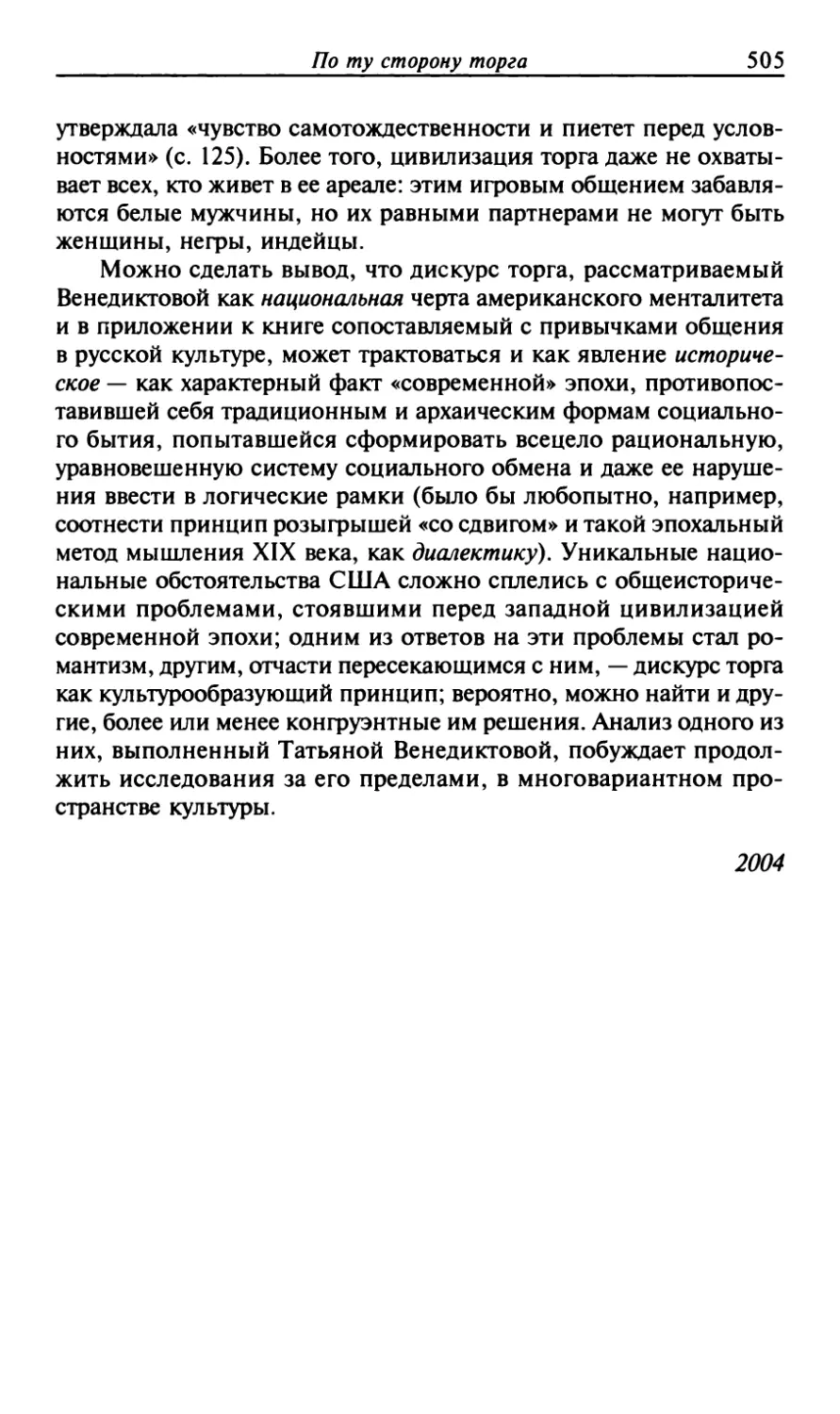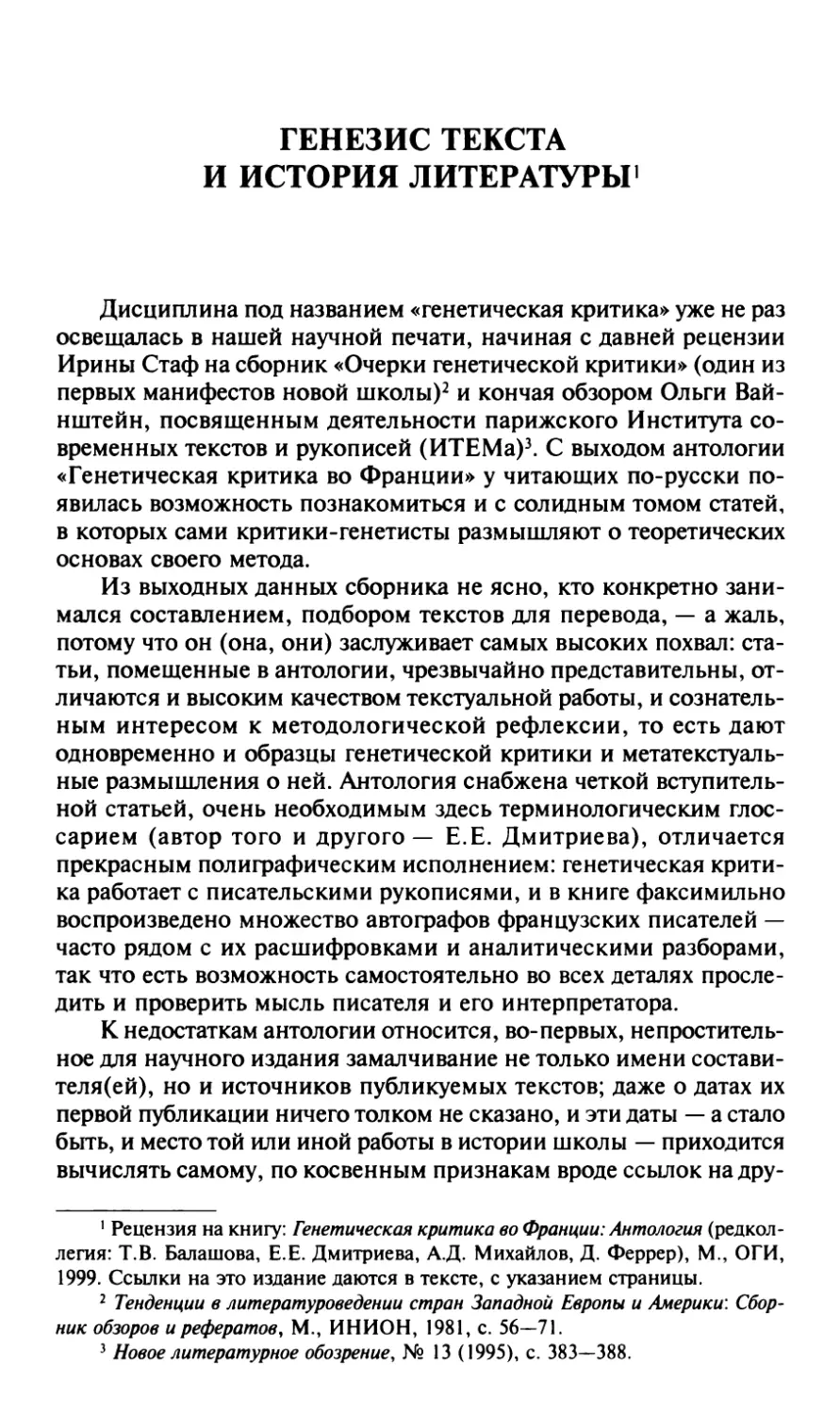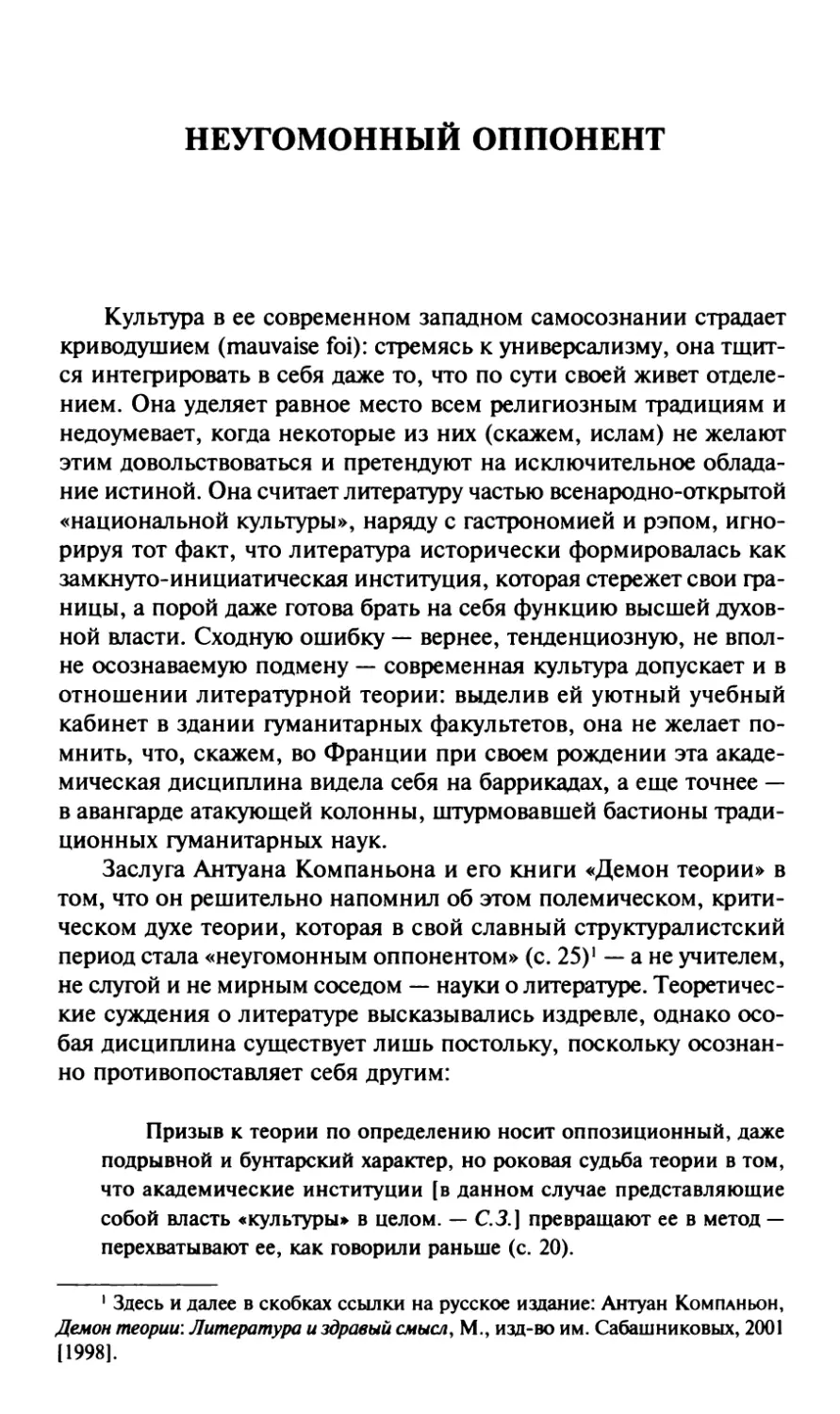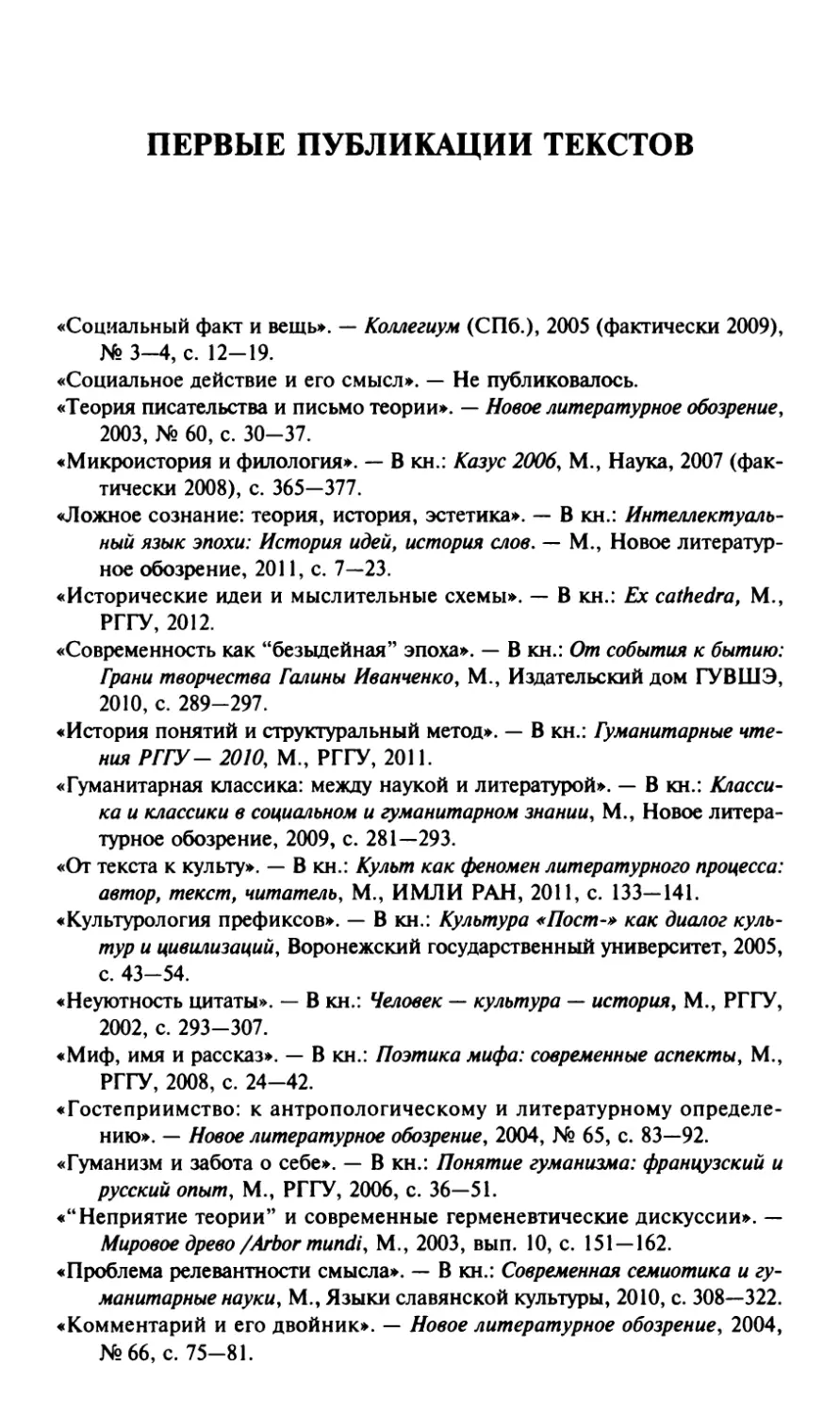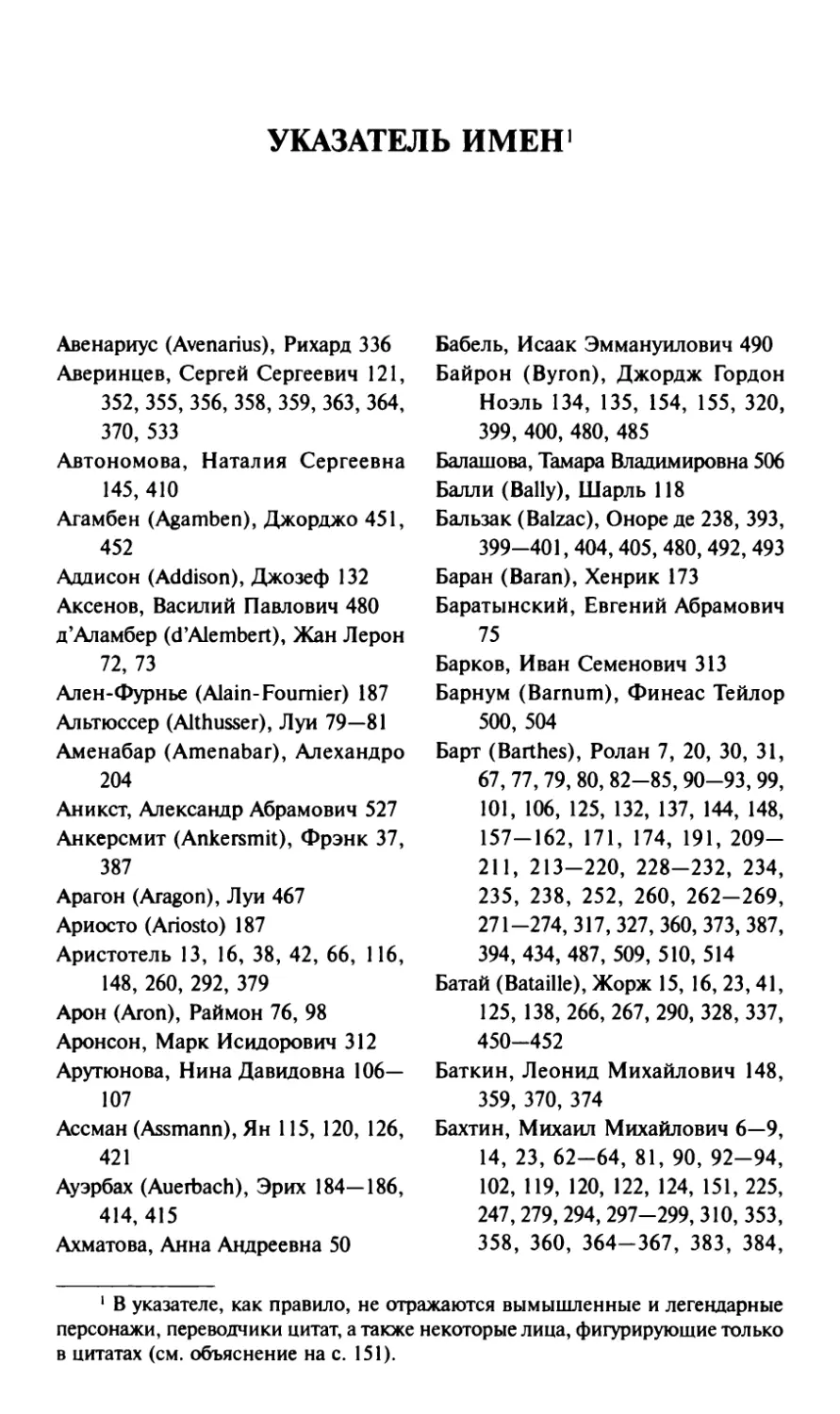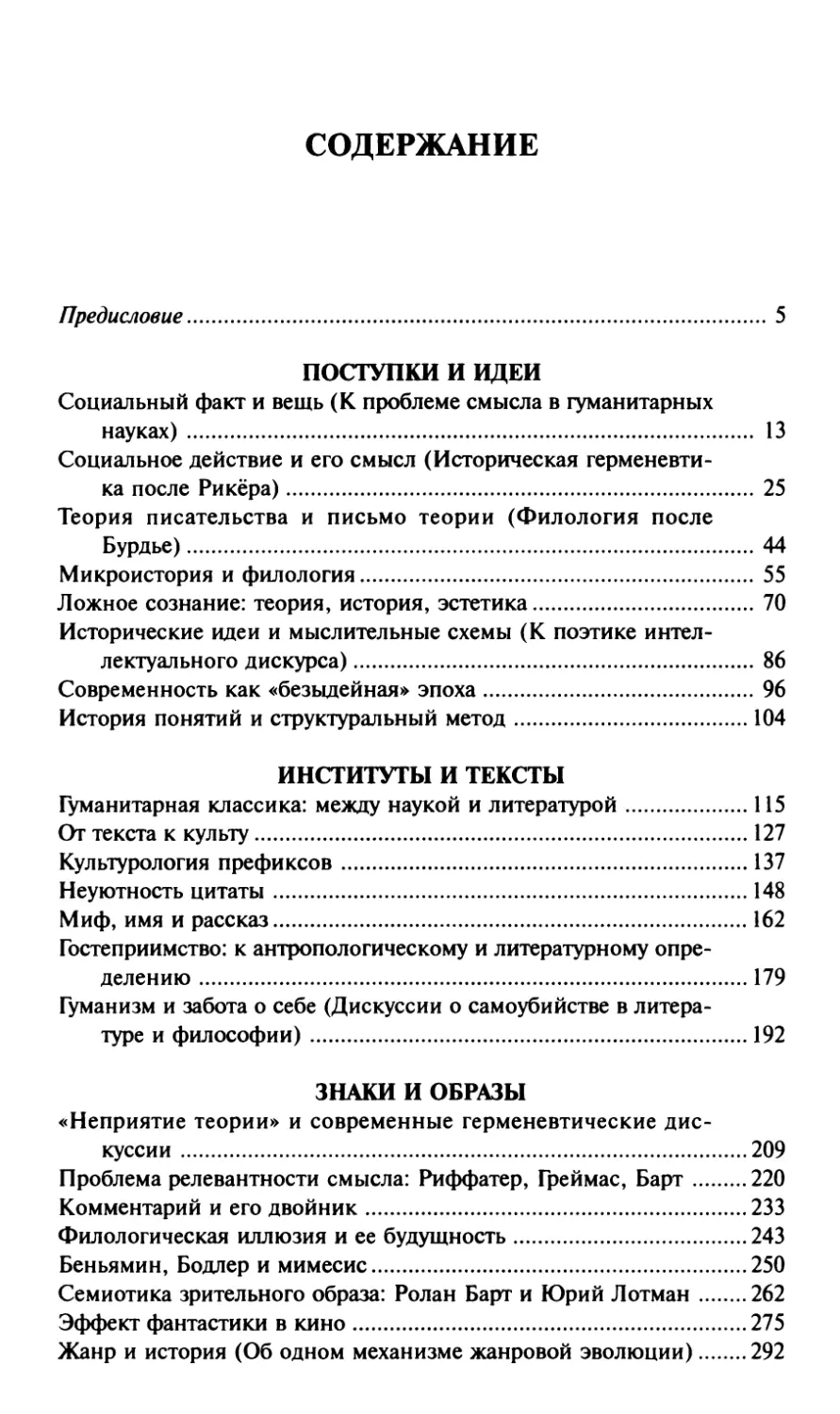Автор: Зенкин С.Н.
Теги: наука и знание в целом науковедение организация умственного труда философия психология философия науки филология литературоведение
ISBN: 978-5-86793-986-1
Год: 2012
НАУЧНАЯ БИБЛИОТЕКА
Сергей Зенкин
Научное приложение. Вып. СХН
НОВОЕ ЛИТЕРАТУРНОЕ ОБОЗРЕНИЕ
СЕРГЕЙ ЗЕНКИН
РАБОТЫ О ТЕОРИИ
Москва
Новое литературное обозрение
2012
УДК 001:1
ББК 87.25
3-56
НОВОЕ ЛИТЕРАТУРНОЕ ОБОЗРЕНИЕ
Научное приложение. Вып. СХН
В оформлении обложки использованы фрагменты миниатюры
Жана Фуке «Иерихонские трубы» из Часослова Этьена Шевалье. 1452-1460
Зенкин, С.
3-56 Работы о теории: Статьи / Сергей Зенкин. — М.: Новое
литературное обозрение, 2012. — 560 с.
ISBN 978-5-86793-986-1
Книга филолога и историка идей Сергея Зенкина включает статьи, где
анализируются, сопоставляются между собой и разрабатываются далее
теоретические открытия гуманитарной мысли XX века. Сравнивая методы и
концепции различных гуманитарных наук, автор исследует такие
вопросы, как соотношение слова и поступка, текста и социального института,
языкового знака и образа. В центре его внимания достижения
французских и русских ученых — русской формальной школы в
литературоведении, Московско-Тартуской семиотической школы, французского
структурализма; подробно разбираются идеи Ролана Барта, Михаила Бахтина,
Вальтера Беньямина, Пьера Бурдье, Карло Гинзбурга, Альгирдаса Грейма-
са, Юрия Лотмана, Поля Рикёра, Майкла Риффатера, Виктора
Шкловского и многих других. Автор убежден, что углубленное вчитывание в
тексты великих предшественников способно дать новые импульсы к развитию
теории гуманитарных наук.
УДК 001:1
ББК 87.25
© С. Зенкин.2012
© Оформление. ООО «Новое литературное обозрение», 2012
ПРЕДИСЛОВИЕ
Моя первая книга в России вышла в 1999 году под названием
«Работы по французской литературе». Нынешний сборник
озаглавлен и похоже, и иначе: я продолжаю изучать художественную
словесность Франции, но здесь о ней нет специальных статей —
книга посвящена другому предмету, который за неимением
лучшего слова именуется гуманитарной теорией.
Слово «теория» получило свой специфический смысл в
американской науке1; этому его пониманию в основном следую и я, хотя
моя книга не об американских, а о русских и западноевропейских
теоретиках, соответственно круг ее проблем несколько иной (он
включает, например, семиотику поведения и не включает
проблемы идентичности — этнической, гендерной и т.п.).
Современная гуманитарная теория — междисциплинарная
рефлексия, так что даже нелегко сказать, «теорией чего» она
является. Возникнув первоначально как теория литературы, она в
дальнейшем распространила свою деятельность на все
пространство гуманитарного знания и начала, словно киплинговская
кошка, гулять сама по себе, в качестве критического оппонента
общепринятых, обычно идеологически мотивированных представлений
о культуре2. Конкретной научной «практикой» по отношению к
ней могут выступать разве только cultural studies — очень
расширительно понимаемая «культурология»; но она вообще не
стремится учить кого-либо каким-либо практическим умениям и
предлагает самоценное обобщенное знание, подобное философскому,
хотя и не априорно-спекулятивное по природе. Ее междисцип-
линарность сочетается с авторефлексивностью, ее творцы и
историки постоянно задаются вопросами о возможности, пределах,
условиях скрещения разных систем знания, взаимодействия
разнородных идей: как применить социологию Пьера Бурдье к
художественной литературе? как распространить теорию литературной
1 См., например: Джонатан Каллер, Теория литературы: Краткое введение,
М., Астрель: ACT, 2006 [1997J; Jonathan Culler, The Literary in Theory, Stanford
UP, 2007.
2 Эта особая функция современной «теории» — критика культуры,
демистификация стереотипов «здравого смысла» — рассматривается в книге: Антуан
Компаньон, Демон теории: Литература и здравый смысл, М., изд-во им.
Сабашниковых, 2001 [1998]. См. ниже статью «Неугомонный оппонент».
6
Предисловие
фантастики на кино? и т.д. Наконец, развитие современной
гуманитарной теории носит кумулятивно-самоописательный характер.
В естественных, а отчасти и социальных дисциплинах
теоретические концепции сменяют одна другую под напором добываемых
учеными эмпирических фактов: старая теория перестает объяснять
факты, ее отбрасывают и вместо нее (возможно, с использованием
ее элементов) создают новую. В современной гуманитарной мысли
теоретические идеи не забываются до конца, не делаются мертвым
историческим памятником, у них всегда может быть свой
«праздник возрождения» (Бахтин), и в теоретических работах они
обсуждаются вновь и вновь, обнаруживая свои новые смысловые
потенции, которые были не вполне ясны самим их авторам — просто
потому, что их авторы еще не знали нашего нынешнего
интеллектуального контекста. Гуманитарная теория оперирует не
безответственными «мнениями», а — по крайней мере, в идеале —
научно проверяемыми знаниями; однако внимание к собственной
традиции сближает ее не столько с наукой, сколько с литературой,
и потому ее изучением занимаются не только специалисты по
истории наук, но и филологи-литературоведы. Последние
прилагают к теоретическим идеям приемы и принципы исследования,
сложившиеся в работе с классическими текстами
художественной словесности — памятниками прошлого, которые не
устаревают и сохраняют продуктивность для современной творческой
мысли.
Первый, характерно филологический, принцип — внимание
не только к прямым, но и к скрытым, фигуральным смыслам.
Исследователь гуманитарной теории принимает в расчет
концептуальное содержание идей, но также и суггестивно-эвристическую
силу метафор; конкретные примеры, приводимые теоретиками для
подтверждения и прояснения своих концепций, оказываются не
менее, а то и более показательными для движения их мысли, чем
общие формулировки этих концепций. В устройстве абстрактных
идей обнаруживаются «мыслительные схемы», которые могут
носить не понятийный, а, скажем, нарративный или
пространственный характер. Теоретики, которых мы изучаем, могли и не
задумываться об этих дологических структурах своего мышления, а
наше дело выводить эти структуры на поверхность,
демонстрировать их продуктивную силу, их способность формировать
концепции, далеко отстоящие друг от друга на карте гуманитарного
знания (как, например, литературную теорию русского формализма
и социологию Эмиля Дюркгейма). Такое выслеживание пра-идей,
интеллектуальных генотипов, «внутренних форм» мысли, которые
часто дают о себе знать лишь неброскими симптоматичными
чертами, затерянными в концептуальных построениях, можно назвать
Предисловие
7
герменевтикой научного дискурса; по своей методике она, видимо,
сближается с «уликовой» познавательной деятельностью по
Карло Гинзбургу или с методом деконструкции у Жака Деррида.
Второй исследовательский принцип, также связанный с
филологической практикой, состоит в том, чтобы соотносить слово и
мысль теоретиков с поступками. Речь тут идет не о соблазне
биографического редукционизма, когда текст пытаются вывести из
обстоятельств жизни того, кто его написал. Если уж на то пошло,
современная теория побуждает к обратной операции — искать,
каким образом абстрактные идеи того или иного автора могли
определять собой его жизненное поведение или как минимум его
взгляд на собственную жизнь; так это происходило, например, в
биографии и автобиофафической прозе Виктора Шкловского. Но
соотношение слова и дела, мысли и поступка имеет также другой
аспект, выходящий за рамки чьей бы то ни было личной судьбы, —
это вообще главная линия напряжения между «социальными» и
«гуманитарными» науками, на этой оси располагается ряд
собственно теоретических проблем, возникающих благодаря
открытиям гуманитарной мысли XX века: до какой степени можно
уподоблять социальное поведение тексту (у Юрия Лотмана или Поля
Рикёра)? что происходит с жизненным опытом при его включении
в литературное произведение (по Михаилу Бахтину)? какие
специфические действия совершаются с текстом при возникновении
«литературного культа»? и так далее.
Третий исследовательский принцип требует помнить, что
слово и текст, изучаемые в лингвистике или семиотике,
соприкасаются еще с одной смежной областью, наряду с областью бытовых или
исторических поступков. Это область визуальности, сфера образа
и мимесиса, понимаемых не в традициях классической психологии
и эстетики, а в новейшем феноменологическом смысле, в связи с
опытом телесного (само)познания, освоения мира и отношений с
Другим. В эту область заставляют нас углубляться не только сами
визуальные объекты (например, фантастическое кино), но и
теории, с помощью которых современная наука и философия
пытаются уловить феномены мимесиса и образа, — методами философ-
ско-эстетическими (Вальтер Беньямин), семиотическими (Юрий
Лотман и Ролан Барт), историко-философскими (Михаил Ямполь-
ский). Поступок и образ — два предела, между которых живут,
функционируют слово и знак, тяготея то к одному, то к другому из
этих пределов. Методологически сознательная наука, в том числе
и теория словесности, должна быть особо внимательной к таким
фаницам своей компетенции.
Статьи, составившие настоящую книгу, писались независимо
от какого-либо общего проекта и потому неизбежно разнородны.
8
Предисловие
Затрагиваемые в них дисциплины — социология, историография,
семиотика, теория кино, а также, разумеется, философия, чьи
априорные идеи помогают формировать язык описания
научно-теоретических концепций, — не в равной мере знакомы мне, и,
вторгаясь на их территорию, следовало соблюдать особую
осмотрительность (не могу судить, насколько успешно я сумел ее соблюсти).
Почти все они написаны за последние 15 лет, в период моей
работы в Институте высших гуманитарных исследований РГГУ,
чья междисциплинарная атмосфера и присутствие крупнейших
ученых-гуманитариев — М.Л. Гаспарова, Е.М. Мелетинского,
В.Н. Топорова и других — очень способствовала размышлениям об
общих проблемах и структурах гуманитарной теории. Однако даже
в статьях последних лет сохраняется тематическое ядро,
отсылающее ко временам еще более ранним, — это несколько крупных
научных и интеллектуальных течений, которые интересуют меня еще
со студенческих лет, к переосмыслению которых я возвращаюсь
вновь и вновь: русский формализм, Тартуская школа,
французский структурализм, Бахтин... Вообще, в моих статьях (что
обусловлено уже упомянутой выше кумулятивной спецификой
современной теории, оглядывающейся на собственную традицию) все время
соединяются в разных пропорциях, не всегда отчетливо переходят
друг в друга два типа рефлексии: герменевтическое вчитывание в
чужие идеи и собственная постановка концептуальных проблем.
Анализ сделанного прежде — для меня нечто большее, чем
обычная в научном исследовании «история вопроса»: это всякий раз
попытка с помощью чужой мысли мобилизовать какие-то
продуктивные механизмы собственного мышления и применить их к
исследованию предметов, о которых еще не думали
предшественники. Рискуя быть превратно понятым, я бы сказал, что ощущаю себя
в науке эпигоном — не в современном смысле «подражателя» (мой
герменевтический дискурс вовсе не имитирует чужие
концептуальные дискурсы), а в исходном древнегреческом значении
«родившегося после». Согласно старинной, известной еще по средневековой
иконографии метафоре, я стою на плечах гигантов: своими
открытиями они обеспечили мне кругозор, которого я бы не смог
достичь сам, и важнейшая сторона моей теоретической работы
состоит в том, чтобы вникать в сделанное ими — вникать уважительно,
но и взыскательно-критически, с творческим, а не музейно-почти-
тельным интересом. Иными словами, для меня герменевтика
теории — это не только интеллектуальная история современности, но
и аутогерменевтика, работа интеллектуального самопознания.
Статьи сборника сгруппированы в несколько тематических
разделов, границы между которыми довольно зыбки, так что в ходе
подготовки книги многие тексты не раз переставлялись из одного
Предисловие
9
раздела в другой. Первый раздел посвящен базовой единице
гуманитарного исследования — смыслу, вырабатываемому в
жизненном поступке и получающему оформление в идее. Статьи второго
раздела касаются единиц более крупных — социокультурных
институтов (таких как классика или гостеприимство) и текстуальных
феноменов, которыми они могут поддерживаться (таких как миф
или цитата). Третий раздел сосредоточен на проблемах и пределах
семиотического исследования культуры — на обосновании
смыслов, вьщеляемых при анализе или комментировании текста, и на
возможностях переноса семиотических методов в область
визуальной культуры. Четвертый раздел сформирован не столько по
проблемному, сколько по историко-культурному принципу — это
очерки по истории «русской теории»3, ряда передовых
направлений отечественной гуманитарной мысли, которые в XX веке
часто опережали и определяли развитие мировой теории; они,
однако, сосуществовали и взаимодействовали с более традиционными
течениями в российских гуманитарных науках (особенно в
литературоведении). Неоднозначное, промежуточное положение
между этими двумя тенденциями занимает научное и философское
творчество Михаила Бахтина, некоторым относительно частным
аспектам которого посвящен небольшой цикл статей, замыкающих
этот раздел. Наконец, последний, пятый раздел отличается от
остальных эссеистическим характером дискурса, не стремящегося к
строгой доказательности. Большинство его текстов посвящены
моим современникам: это концептуальные рецензии на некоторые
важные для меня книги4 и эссе-некрологи, написанные сразу или
спустя несколько лет после смерти старших коллег.
Тексты ранее публиковавшихся статей перепечатываются без
значительных изменений (иногда с сокращениями). В конце книги
помещен список первых публикаций, а после каждого текста
выставлена дата, которая не всегда совпадает с годом публикации.
Переводчики цитируемых текстов называются, как правило, при
первом цитировании. Все шрифтовые выделения в цитатах,
кроме специально оговоренных, принадлежат авторам цитируемых
текстов. Библиографические сноски оформлены по
«международному» стандарту, который представляется мне более удобным, чем
введенный у нас в позднесоветскую эпоху и с некоторыми
изменениями сохраняющийся поныне.
3 О значении этого понятия и, в частности, о его отличии от «русской идеи»
см. в моем предисловии к книге: Русская теория: 1920— 1930-е годы:
Материалы 10-х Лотмановских чтений, М., РГГУ, 2004, с. 7—10.
4 В сборник вошли лишь очень немногие из моих рецензий. В частности,
в нем совсем нет научных обзоров из цикла «Заметки о теории», которые я уже
более десяти лет регулярно публикую в «Новом литературном обозрении».
10
Предисловие
Невозможно перечислить множество коллег, которые
помогали написанию и совершенствованию этих статей своими
советами, консультациями, замечаниями, институциональной
поддержкой; не могу, разумеется, быть уверен, что сумел вполне учесть их
пожелания, и за все слабости и возможные ошибки своих работ
ответственность несу всецело я. Особая моя благодарность и
моральная солидарность по праву принадлежат журналу и
издательству «Новое литературное обозрение», где я в 1990-х годах начал
профессионально работать как теоретик (редактор
соответствующего журнального отдела) и где я по-прежнему активно
сотрудничаю; многие из собранных здесь статей впервые были напечатаны
именно там.
Лучшей читательской реакцией на эту книгу была бы для
меня та, которую я сам стараюсь практиковать применительно к
современной теории: взыскательная герменевтика, понимающая
критика.
Москва, февраль 2012 года
ПОСТУПКИ И ИДЕИ
СОЦИАЛЬНЫЙ ФАКТ И ВЕЩЬ
(К проблеме смысла в гуманитарных науках)1
В конце XIX века Эмиль Дюрктейм выступил с
методологическим лозунгом, обозначив им свой проект социальных наук:
«социальные факты должны рассматриваться как вещи». Это смелое,
рискованное заявление, плодотворное в самой своей
односторонности, — своего рода пари. Социальный факт по Дюркгейму
представляет собой не аналог идеи или личности, а чистый объект, он
познается исключительно извне:
Вещь противостоит идее как то, что познается извне, тому, что
познается изнутри. Вещь — это всякий объект познания, который сам
по себе непроницаем для ума2.
Собственно говоря, это означает, что вещь не имеет смысла.
У нее есть причина — даже несколько причин разного рода, если
вспомнить различение, проведенное Аристотелем: действующая
причина (которую теперь чаще всего и называют «причиной»),
материальная причина (материал), финальная причина (ныне ее
обычно называют функцией), формальная причина, то есть
форма или структура; последняя может быть сколь угодно сложной, но
все-таки не носит смыслового характера. Делом «вещественных»
социальных наук, в отличие от «понимающей» социологии или
психологии, может быть только исполнение буквально понятого
античного завета rerum cognoscere causas — «познавать причины
вещей», но не вникать в их смысл.
Дюркгеймовский подход к социальным фактам отмежевывался
от философской спекуляции, зато любопытным образом
сближался с филологическим исследованием текста, с объективным
описанием и каталогизацией его фактов и деталей, которые могут и не
рассматриваться как смысловые (например, некоторые факты про-
1 Данные размышления о гуманитарных науках (понятие более близкое
английскому humanities, чем французскому sciences humaines) носят не
абстрактно-теоретический, а скорее историко-идейный характер. Вместо того
чтобы ставить проблему в общем виде, я попытаюсь систематизировать то, что
о ней говорили другие, — отдавая себе отчет, что не все, что можно было бы о
ней сказать, было сказано и что, разумеется, я знаю и помню не все сказанное.
2 Эмиль Дюркгейм, О разделении общественного труда. Метод социологии,
М., Наука, 1991, с. 394. Перевод А.Б. Гофмана.
14
Поступки и идеи
содии) или даже специально выбираются для анализа среди не-
смысловых, несистемных элементов текста, остающихся после его
понимания3.
Вместе с тем радикальный методологический монизм Дюрк-
гейма конкурировал с дуалистическим разграничением «наук о
природе» и «наук о духе», выдвинутым примерно в то же время
В. Дильтеем. Последний разделил поле научного знания: науки о
природе занимаются вещами, каковые поддаются «объяснению»;
напротив, факты «духа», то есть субъекты и уподобляемые им
предметы (культуры, произведения), подлежат пониманию. Это
разделение объяснительной (вещной) и понимающей (духовной)
парадигм стало важнейшим структурирующим фактором научного
знания XX века. Изначально призванное разграничивать
естественные науки и науки о человеке, оно затем стало принципом
различения наук «социальных» и «гуманитарных» и оказалось даже
спроецировано на философию, которая, строго говоря, не является
наукой ни в том, ни в другом смысле. К концу столетия в ней
оказались четко противопоставлены друг другу два типа мысли: с
одной стороны, аналитическая философия как рефлексия
«естественнонаучного» типа, нацеленная на исчисление объектных
высказываний, обладающих референтным отношением к истине
(к вещи), и деконструкция —рефлексия над традицией,
изощренное переосмысление текстов, требующих понимания и пере-пони-
мания, поскольку эти классические тексты сформировали наше
собственное сознание (деконструкция — это как бы особая,
радикально-разрушительная герменевтика).
Разграничение «вещного» и «понимающего» подхода к
фактам культуры вьщвигалось и в нашей стране — особенно резко у
М.М. Бахтина, разделяющего сферы компетенции двух методов
по принципу «кесарю кесарево, а богу богово»:
Познание вещи и познание личности. Их необходимо
охарактеризовать как пределы: чистая мертвая вещь, имеющая только
внешность, существующая только для другого и могущая быть
раскрытой вся сплошь и до конца односторонним актом этого другого
(познающего). Такая вещь, лишенная собственного неотчуждаемого
и непотребляемого нутра, может быть только предметом
практической заинтересованности. Второй предел — мысль о Боге в
присутствии Бога, диалог, вопрошание, молитва4.
3 См.: Михаил Ямпольский, «Филология — наука непонимания», в кн.:
Михаил Ямпольский, «Сквозь тусклое стекло»: 20 глав о неопределенности, М.,
Новое литературное обозрение, 2010, с. 207—223.
4 М.М. Бахтин, Собр. соч. в 6 тт., т. 5, М., Русские словари, 1997, с. 7. См.
там же, с. 389—390 комментарий Л.А. Гоготишвили о философских прецеден-
Социальный факт и вещь 15
Утверждение и разработка дильтеевской парадигмы
фактически были критикой дюркгеймовской программы «вещного»
познания социальных фактов, хотя в этой критике редко упоминались
имя самого Дюркгейма и мотивы, которыми он руководствовался.
Другой возможный вариант критики Дюркгейма заключался в том,
чтобы атаковать его на его собственной территории, то есть на
уровне не отдельной «личности», а «общества» в целом, в
плоскости «социальных», а не «гуманитарных» наук. С этой позиции
выступил вскоре после Второй мировой войны Жюль Моннеро в
книге «Социальные факты не суть вещи» (1946), само заглавие
которой было открыто полемичным к лозунгу Дюркгейма.
Моннеро настаивал на неизбежной вовлеченности изучающего
субъекта в изучаемый им социальный объект, каковой поэтому не может
рассматриваться как вещь: в самом деле, важнейшие проявления
социального бытия и социальной сплоченности — а именно
коллективные переживания сакрального — поддаются наблюдению и
описанию только с включенной позиции, глазами члена самого
данного общества, адепта, прошедшего опыт инициации5. О том
же писал другой теоретик сакрального во французской культуре —
Жорж Батай, рецензируя в начале 1950-х годов второе издание
книги Роже Кайуа «Человек и сакральное», написанной в
традиции дюркгеймовской социологии:
Сакральное не может быть лишь чем-то таким, о чем речь идет как
об объекте, которому я столь же чужд, как этим равнодушным
паркетным доскам <...> объект и субъект, если я говорю о сакральном, всегда
даны как взаимопроникающие или же взаимоисключающие (если
противиться великой опасности взаимопроникновения), но в любом
случае, при ассоциации или оппозиции, как взаимодополнительные6.
Однако в другой, чуть более ранней рецензии на упомянутую
выше книгу Моннеро тот же Батай делал оговорку:
действительно, социальные факты не суть вещи, в том смысле что наиболее
важные из них доступны лишь наблюдению изнутри; однако об-
тах бахтинской оппозиции «личность/вещь» (у В. Дильтея, С.Л. Франка,
A.A. Мейера). В качестве запоздалого отзвука той же дискуссии можно назвать
дебаты «филологов» и «философов» в России середины 1990-х годов, в ходе
которых «филологи», несмотря на свою принадлежность к образцово
гуманитарной науке, стояли на защите вещественных, позитивно проверяемых фактов,
тогда как «философы» отстаивали интерпретативную деятельность вчитывания
в текст. См.: «Философия филологии (Материалы круглого стола)», Новое
литературное обозрение, № 17, 1996.
5 Jules Monnerot, Les faits sociaux ne sont pas des choses, P., Gallimard, 1946.
6 Georges Bataille, Œuvres complètes, t. XII, P., Gallimard, 1988, p. 49.
16
Поступки и идеи
щество в целом все-таки является вещью, в том смысле что
образует замкнутое, отделенное от внешней среды целое:
...это ограниченное пределами целое, которое основано не только на
взаимном притяжении своих членов, но в такой же мере и на
взаимном отталкивании индивидов одной и той же природы, однако
принадлежащих к разным единствам7.
Этот эпизод старых дискуссий о понимании сакрального и об
оценке наследия Дюркгейма представляется методологически
существенным. Сам выбор проблемы сакрального как решающего
критерия в споре о вещном познании отсылал к теориям
Дюркгейма, который заложил основы социологического изучения
религиозного чувства и феномена сакрального в своей монографии
«Элементарные формы религиозной жизни» (1912). Именно в
применении к проблеме сакрального метод вещного познания
социальных фактов показал свои как сильные, так и слабые
стороны, а в его критике у Батая обнаружилась неоднозначность самого
понятия «вещи».
Действительно, две концепции предмета гуманитарных наук —
объективистская и герменевтическая — казалось, противостоят в
неизбывном конфликте, так что их примирение могло бы
состояться лишь в форме беспринципного методологического
компромисса. Однако случилось иначе, и возможность для такого
непредвиденного развития содержалась в сложности, смысловой
двусоставности метафоры «вещи». Данная метафора содержала
особую, не сразу осознанную импликацию: вещь не просто
лишена внутреннего смысла, она еще и носит сосредоточенный
характер; пользуясь опять-таки аристотелевским определением, это
уникальное сочетание субстанции и формы, четко отграниченное от
всего того, что этой вещью не является. В этом отношении
«общество» по Батаю, противопоставляющее себя другим и обладающее
повышенной плотностью по сравнению с окружающей средой, —
действительно аналог вещи, хотя оно и обладает внутренним
смыслом, доступным лишь пониманию включенного наблюдателя8.
Позитивизм в общественных науках, как он сложился в
XIX веке, предпочитал работать с точечными квазивещественны-
7 Ibid., t. XI, p. 65.
8 Я не вникаю здесь в сложную, не до конца систематизированную мысль
Батая и вообще не пытаюсь строить какую-либо классификацию ученых и
мыслителей по их отношению к разным моделям познания. Существенны
абстрактные возможности развития понятия вещи в эпистемологии, а не то, кто
и как ими реально пользовался.
Социальный факт и вещь
17
ми фактами — например с историческими событиями,
уникальными и неповторимыми (хотя, в отличие от физических вещей,
они не располагаются в пространстве, а осуществляются во
времени). Но и герменевтика также исходит из того, что смысл,
сколь угодно сложный сам по себе, скрывается в отдельном
тексте или символе, требующем понимания как символического
трансцендирования. В этом пункте позитивистская и
философская история культуры смыкаются между собой. Эта двуединая
историческая парадигма долгое время была определяющей для
всего цикла гуманитарных наук, формируя базовую модель
знания о человеке и обществе.
Однако начиная с 1920-х годов стали возникать новые
методы исследования общественных и культурных фактов,
подвергающие медиации оппозицию объяснения/понимания. Между
внешним объяснением отдельной вещи и смысловым пониманием
отдельного субъекта или символа обнаружилась возможность
познания объектов третьего типа, которое можно обозначить как
системы имманентно-рассредоточенного смысла. Это не вещи и не
символы. Они обладают смыслом, в отличие от вещей, имеющих
только причину, но это «легкий», чисто поверхностный смысл,
тогда как смысл символов отсылает к герменевтической глубине.
В таких неконцентрированных образованиях для смысла
буквально нет места — он циркулирует по дистантным отношениям, в
которые невозможно «вникать», так как они не носят
внутреннего характера: они всецело на виду, хотя мы часто и не обращаем на
них внимания, смотрим сквозь них.
Конечно, любое научное познание само по себе включает в
себя осмысление, наделение фактов смыслом. Дифференциация
трех объектов и трех подходов связана с другим обстоятельством —
с тем, что вещь дается нам изначально «голой», лишенной
смысла, а психологические и символические факты поступают к
исследователю уже кем-то осмысленными, уже по определению содержат
в себе некоторый субъективный смысл, с которым следует
считаться и до которого следует доискиваться. Наконец, обнаруживается
третья категория фактов, которые тоже обладают предсуществую-
щим смыслом, но его невозможно отнести к какому-либо
определенному индивидуализированному субъекту. Нет субъекта,
который отвечал бы за смысл языка или за смысл амулета, — все
общество в целом приписывает им смыслы, которые затем
должна выявлять наука.
Поясним это примером. Лежащий у дороги камень мы можем
познавать как вещь, обусловленную природными причинами, в
силу которых он находится именно здесь, обладает такой-то
формой и т.д. Даже если по ходу дела выяснится, что камень обладает
18
Поступки и идеи
химической активностью, магнитным полем, радиационным
излучением, то есть оказывает активное воздействие на внешнюю
среду, все равно установление этого обстоятельства будет не
«пониманием», а лишь «объяснением» камня. Таков первый
классический случай — естественнонаучное познание. Второй случай:
допустим, мы обнаружили, что камень используется для счета, для
голосования, для разметки дороги или границы, — тогда нам
требуется понимание, потому что камень уже не просто камень, а знак
или символ; но в этом случае он и не интересует нас сам по себе,
нам важен внешний, трансцендентный ему смысл, вложенный в
него людьми. Это ситуация общественнонаучного познания.
Наконец, третий, самый проблематичный случай: предположим,
оказалось, что камень обладает магическими свойствами — скажем,
применяется для отвода порчи. Чтобы постичь его в этой
своеобразной функции, нам приходится понимать его, потому что
магические свойства камня суть своего рода смысл, магическая сила
окружает его аурой и в этом неотличима от собственно
семантических ассоциаций. В то же время этот смысл имманентен вещи,
принадлежит самому камню. Конечно, будучи рационалистами,
мы отдаем себе отчет, что «на самом деле» магические свойства
камня не содержатся в нем от природы или от бога, но
обусловлены системой общественных отношений, верований и практик
(таких, как колдовство), в которую он включен. Тем не менее, чтобы
понять переживание камня как сакрального предмета, нам
приходится держать в уме и эту внешнюю сеть отношений, и прямое
ощущение магической силы, исходящей от самого камня.
Именно такую ситуацию, когда смысл и внутри и вовне, и в камне и в
социальных отношениях вокруг него, здесь предлагается называть
имманентной рассредоточенностью смысла. Мы должны понимать
такой объект, но наше понимание не трансцендирует его, как при
понимании знаков и символов. Такова, в общих чертах, ситуация
гуманитарного знания, и многие передовые течения в
гуманитарных науках нашего времени связаны именно с попытками
помыслить, смоделировать с разных сторон такого рода объекты. В этих
попытках упраздняется вековое противопоставление
(спекулятивной) философии и (позитивистской) филологии; эти две
дисциплины вступают в союз в рамках нового, весьма проблематичного
рода научной деятельности, который иногда называют, за
неимением более точного термина, теорией.
Выбор в качестве примера камня-амулета, хотя и был
совершен интуитивно, сам заслуживает методологического осмысления.
В художественной литературе XX века камень нередко выступал
как образец феноменологического объекта, живущего своей
независимой жизнью, замкнутого и отчужденного от человека: можно
вспомнить поэтические описания камней у Франсиса Понжа и у
Социальный факт и вещь
19
позднего Роже Кайуа, знаменитый эпизод с береговой галькой в
прологе «Тошноты» Ж.-П. Сартра, а в русской литературе —
призывы раннего В.Б.Шкловского путем художественного остранения
вернуть ощутимость вещам и «сделать камень каменным».
Несмотря на свою природность, такой камень заставляет напряженно
вглядываться в себя, искать в себе какого-то призрачного смысла
и тем сближается с художественным артефактом, соединяющим в
себе смысловую интенцию художника с неподатливостью
природного объекта (вспоминаются программные названия поэтических
сборников Теофиля Готье «Эмали и камеи» и Осипа
Мандельштама «Камень»). Итак, начав с примеров, связанных с категорией
сакрального, мы естественно перешли к другой важнейшей и во
многом наследующей ей категории современной культуры — к
искусству, в котором обнаруживается такая же двойственность.
Природа имманентно-рассредоточенных смысловых объектов
плохо изучена и, по-видимому, может быть различной. Некоторые
из них мыслятся как дискретно-реляционные образования типа
структуры или сети. В качестве образца уже давно был предложен
естественный язык, где Э. Бенвенист продемонстрировал
уникальное сочетание двух взаимодополнительных процессов
означивания — объектно-вещного «опознавания» знака (семиотика) и
герменевтического «понимания» речи (семантика):
Язык <...> обладает свойством двойного означивания <...>. Язык
сочетает два разных типа означивания, один из которых мы
называем семиотическим, а другой — семантическим способом9.
Семиотическое (знак) должно быть узнано, семантическое (речь)
должно быть понято*0.
Другие имманентно-рассредоточенные смысловые объекты
имеют континуальную природу — таковы тело (переживаемое
изнутри, как, например, в феноменологии Г.Башляра), или образ
(чувственный или воображаемо-психический), или, наконец, уже
упоминавшееся сакральное. Русская формальная школа в
литературоведении мыслила эстетический объект в квазитемпоральных
координатах, как чистую процессуальное^ динамической формы,
перенося затем эту континуально-динамическую форму
художественного текста на историко-литературный процесс в целом:
Мы изучаем не движение во времени, а движение как таковое —
динамический процесс, который никак не дробится и никогда не
9 Эмиль Бенвенист, Общая лингвистика, М., Прогресс, 1974, с. 87.
Перевод Ю.Н. Караулова
10 Там же, с. 88.
20
Поступки и идеи
прерывается, но именно поэтому реального времени в себе не имеет и
измеряться временем не может <...>п.
Позднее различные варианты структурализма отдавали
предпочтение стабильно-синхронным структурам пространственного
типа. Жан-Клод Мильнер показал в нескольких работах, каким
образом структуралистский проект снял противопоставление
между «природными» (physei) и «условными» (thesei) объектами
познания, то есть между вещами и символами, между
естественнонаучным и гуманитарным знанием. Структурализм, пишет
исследователь,
утверждал в своей доктрине и доказывал своей практикой, что
большие области, которые всегда считались принадлежащими к области
thesei, могут быть предметом науки в галилеевском смысле слова. При
этом — и здесь особенная новизна структурализма — thesei не
редуцируется к physei. Более того, наиболее выигрышными объектами
доказательства служат именно те объекты, которые до тех пор
образовывали отличие человека от природы: язык, родство, брак, мифы,
сказки, кулинария, костюм, украшение и т.д.12
По словам Мильнера, структуралистский проект означал
«выход из платоновской пещеры», то есть сознательный отказ от
усилий к герменевтическому истолкованию незримого, скрытого
смысла вещей.
Изучение систем имманентно-рассредоточенного смысла
может идти в разных направлениях, отдавая предпочтение либо «рас-
средоточенности» смысла, либо его «имманентности». В первом
случае оно ставит под вопрос традицию атомарного описания
культуры. Примером может служить история идей —
принципиально атомистская по замыслу дисциплина у своего
основоположника А.О. Лавджоя, нацеленная на «словарное» описание
единичных и опознаваемых «идей» (своеобразных «смысловых вещей»
интеллектуального мира), число которых «вне всякого сомнения
ограничено, хотя понятно, что число оригинальных идей
значительно больше числа оригинальных шуток»13. Сегодня предметом
11 Б.М. Эйхенбаум, О литературе, М, Советский писатель, 1987, с. 143.
12 Jean-Claude Milner, Le périple structuraliste, P., Seuil, 2002, p. 195. См.
также: Жан-Клод Мильнер, «Философский шаг Ролана Барта» [2003], в кн.:
Республика словесности: Франция в мировой интеллектуальной культуре, М., Новое
литературное обозрение, 2005, с. 58—100.
13 Артур О. Лавджой, Великая цепь бытия, М., Дом интеллектуальной
книги, 2001 [1936], с. 10. Перевод В. Софронова-Антомони.
Социальный факт и вещь
21
интеллектуальной истории становятся скорее размытые и плохо
ограниченные системы, которые называются «идеологиями»,
«дискурсами», «дискурсивными формациями» (М. Фуко), «ментально-
стями», «типами культуры». Тот же кризис атомарного знания
проявляется и в интересе к социальным рамкам символических
фактов и практик — например, к институциям или полям, где
осуществляется производство и потребление литературных
произведений. Такое исследование, интересные опыты которого дал
П. Бурдье, возвращается к темпоральным моделям единичных,
уникальных процессов (событий), занимающих внешнее
положение по отношению к смыслообразованию, — то есть сами по себе
они не осмыслены, но благодаря этим процессам
вырабатываются социальные смыслы, эти вроде бы чисто «практические»,
вещественные факты на самом деле чреваты смыслом.
Ко второму направлению рефлексии относится призыв,
оставаясь в пределах научного познания, вернуться к не-герменевти-
ческому, не допытывающемуся до смысла созерцанию
интенсивного присутствия вещей, где смысл-значение заменяется чем-то
вроде ауры; насколько можно понять мысль автора этого призыва
Х.У. Гумбрехта14, он ведет речь не о возврате к каузальному
объяснению, а о выходе на некий новый уровень сознания, снимающий
оппозицию между пониманием и объяснением. Весьма важны
также следующие разным интеллектуальным традициям исследования
континуальных моделей культуры, которые конструируют свой
объект в понятиях образа, тела, миметизма (например, некоторые
работы В.А. Подороги и М.Б. Ямпольского): здесь перед нами
неточечные, рассеянные образования или процессы, где «смысл»
может рассматриваться лишь в нетрадиционном значении слова,
по аналогии с физическими понятиями поля или текучей
субстанции15.
Хотя некоторые важнейшие открытия на этом пути
пересмотра задач гуманитарного знания были сделаны в России (чем и
прославилась «русская теория» XX века), но в современной
отечественной практике идея исследования рассредоточенного смысла
по-прежнему встречает сопротивление. Речь идет прежде всего о
массовой научной продукции, описывая которую излишне
называть имена. Приведем несколько примеров, когда в представлении
исследователей культурные факты либо наделяются глубинным,
скрыто-сосредоточенным герменевтическим смыслом, либо пред-
14 Ханс Ульрих Гумбрехт, Производство присутствия: Чего не может
передать значение, М., Новое литературное обозрение, 2006 [2004].
15 См. об этом в заключительной главе моей книги: С. Зенкин,
Небожественное сакральное: Теория и художественная практика, М., РГГУ, 2012.
22
Поступки и идеи
стают пассивно-внешними вещами, объектами социального
манипулирования.
Первый пример — филологическое изучение литературы.
Общий вектор развития филологии в XX веке — движение от
регистрации отдельных фактов, которые выстраиваются в каузальные
цепи (на деле так происходит под давлением
нарративно-идеологических схем вроде «становления национальной культуры»), к
постижению структур, реляционных систем, где отношения
между фактами важнее самих фактов. Однако в современной
практике популярностью пользуется иной тип исследований — так
называемое «литературоведение загадок», которое выискивает в текстах
или событиях литературной истории что-либо скрытое, потаенное:
секретный шифр произведения, никому не известный
биографический подтекст или даже мистификацию, подмену авторской
личности.
Второй пример — типология культур. Структурализм 1970-х
годов, в лице Ю.М. Лотмана и Б.А. Успенского, совершил
методологический прорыв в этой области, предложив механизм для
описания культур и различий между ними. Культуры стали
рассматриваться как типы культур, противопоставляемые по
абстрактным бинарным оппозициям. В современной же отечественной
историографии и «культурологии» доминирует так называемый
«цивилизационный подход», чьи сторонники чаще опираются не
на Лотмана и Успенского, а на таких теоретиков, как О. Шпенглер,
Н.Я. Данилевский и А. Тойнби. В одной из первых глав своего
«Заката Европы» Шпенглер противопоставлял понятия причинности
и судьбы: в своей морфологии истории он рассматривал культуру
не как абстрактный тип, а как уникальную личность, следующую
своей уникальной судьбе и соответственно требующую
герменевтического подхода (познание судьбы — классический акт понимания,
прорицания вперед или назад). В этом современная российская
культурология противостоит не только отечественной типологии
культур Лотмана и Успенского, но и французской «археологии
знания», разработанной М. Фуко: в то время как последний располагал
свои эпистемы на временной оси, как сменяющие друг друга
исторические формации, «цивилизационный подход» рассматривает
цивилизации как соположенные в абстрактном пространстве
мировой истории.
Третий пример — психоанализ культуры (здесь не идет речи о
клиническом психоанализе, в котором я недостаточно сведущ).
Психоаналитический подход к культуре применяется в нашей
стране, как и в других национальных традициях, но различаются
преобладающие теоретические референции: в России ссылаются
не столько на 3. Фрейда, сколько на К.-Г. Юнга. Дело в том, что
Социальный факт и вещь
23
Фрейд на протяжении своей научной эволюции тяготел к
структурному описанию фактов бессознательного, приближаясь к
взгляду на них как на целостно-реляционную систему (эту тенденцию
впоследствии развил Ж. Лакан), тогда как Юнг выявлял в
психике и культуре самодостаточные архетипы — мотивы-символы,
носители глубинно-сосредоточенного смысла.
Четвертый пример — карнавал. Как известно, эта тема стала
окрыляющей новинкой в мировой теории культуры после выхода
в свет книги М.М. Бахтина о Рабле. У самого Бахтина карнавал
трактовался двойственно: с одной стороны, автор книги описывал
его как структурный эффект инверсии ценностей — и в этом
плане была оправданной и частично адекватной та семиотическая
трактовка, которую дали ему Вяч.Вс. Иванов в нашей стране и
Ю. Кристева во Франции. С другой стороны, Бахтин включил
понятие карнавала в ценностную оппозицию официальной и
народной культуры, где последняя являлась позитивно окрашенным
членом; эта идеологическая оценка сложно коррелировала с
общефилософским предпочтением, которое Бахтин отдавал
«диалогическому» принципу перед «монологическим». Именно эта вторая
сторона, как кажется, преобладает в массовом применении бахтин-
ской идеи; в карнавале усматривают не столько механизм,
посредством которого перерабатываются смыслы культуры, сколько
сущностный факт, заслуживающий идеологической оценки.
Последний, пятый пример — собственно трактовка
сакрального (впрочем, уже и предыдущий пример касался одной из сторон
этого вопроса, так как карнавал есть не что иное, как период
ритуального сакрального разгула). В данном случае придется
говорить не о массовой практике, которой в нашей науке
применительно к данной проблеме, пожалуй, и нет, а об одном достаточно
значимом исследовании — это книга Александра Эткинда «Хлыст»
(1998). Ее темой являются секты, то есть инициатические
сакральные сообщества, которым свойственна особая плотность и
интенсивность религиозной жизни; внешним выражением этой
плотности и является «колдовская» сила, исходящая из их ритуалов.
Именно такого рода сообщества — образцовые примеры
имманентно-рассредоточенного смысла, который весь на виду и нигде
конкретно, — служили предметом занятий парижского Коллежа
социологии конца 1930-х годов, в котором участвовали Батай, Кайуа и
(на стадии замысла) Моннеро. В книге Эткинда эти имена не
упоминаются, и подход к проблеме сакрального совершенно иной —
к чести автора, он четко сформулирован и методологически отреф-
лектирован. Изучаются не сами по себе сакральные сообщества, а
то представление, которое могли иметь о них не принадлежавшие
к ним русские писатели, эссеисты, авантюристы, революционеры
24
Поступки и идеи
и т.д. Иначе говоря, рассматривается не собственная природа
сакрального, а его функционирование в культуре; инициатические
секты выступают лишь как материал личного, в частности
художественного, творчества. На них накладывается вторичная, чуждая
им нарративная структура (триангулярная схема «слабого
человека культуры» — «мудрого человека из народа» — «русской
красавицы»), которая прослеживается во многих текстах о сектах, но не
имеет отношения к реальному действию сакрального в самих
сектах.
Системы имманентно-рассредоточенного, поверхностного
смысла с трудом усваиваются как предмет науки во всем мире — в
этом смысле Россия не составляет исключения, если не считать
аномальной ситуации с «цивилизационным подходом» и
психоанализом культуры (примеры 2 и 3). Например, такой объект
рассредоточенного смысла, как человеческое тело, в большинстве
случаев изучается в мировой науке не столько в своей собственной
специфике, как культуропорождающая матрица, сколько через
сеть смысловых решеток, категорий и практик, накладываемых на
него, извне и вопреки ему, с целью подчинить его власти
«цивилизации». Массовые гуманитарные исследования особенно
обременены заботой о смысловой трансценденции. Думается, что
преодоление этого бремени смысла составляет важную задачу
современной методологической рефлексии.
Вещь не может обладать смыслом; но это не значит, что
единственной альтернативой «вещественной» парадигме в изучении
культурных фактов является герменевтическое «понимание»
одним субъектом другого субъекта. Теоретическая мысль XX века
упорно стремилась уловить и сконструировать негерменевтические
смысловые объекты. Будущее гуманитарных наук зависит от
нашего умения с ними работать.
2004
СОЦИАЛЬНОЕ ДЕЙСТВИЕ И ЕГО СМЫСЛ
(Историческая герменевтика после Рикёра)
Задача этой статьи — проанализировать одну теоретическую
гипотезу, предложенную Полем Рикёром, и выяснить следствия,
вытекающие из нее для гуманитарных наук. При этом придется
рассматривать философские идеи Рикёра извне — не в
собственно философском контексте, а в поисках другой интеллектуальной
области (или областей), где данные идеи могут оказаться
релевантными. В известном смысле подобный подход может быть назван
герменевтическим, так как он ставит себе задачей не только
выяснить авторские интенции, но и (возможно, даже в большей
степени) распространить их на другие поля и тем самым сообщить им
новый смысл, которого сам автор мог и не сознавать. «Понимать
автора лучше, чем он мог понимать сам себя», — таков
знаменитый призыв Шлейермахера; чтобы это сделать, мы должны
дистанцироваться от авторской интеллектуальной позиции, занять такую
точку зрения, которую он не имел в виду. Сам Поль Рикёр не раз
подчеркивал важность дистанцирования в герменевтическом
процессе, и его философия всегда была открыта для диалога с
различными гуманитарными науками1; такой дистанцирующий жест
можно осуществить и в обратном направлении, то есть с позиции
гуманитарных наук, и это не будет противоречить
методологическим убеждениям философа. В том же смысле ниже мы
постараемся показать, что герменевтика должна не только находить, но и
придавать смыслы.
Гипотеза2, о которой идет речь, — это гипотеза о гомологии
между текстом и социальным действием. Рикёр выдвинул ее в
1970-х годах, особенно в статье «Модель текста: осмысленное
действие, рассматриваемое как текст» («Le modèle du texte: Taction
sensée considérée comme un texte»), первоначально опубликован-
1 Это важнейшая особенность философского творчества Рикёра, как
отмечали в предисловии к вышедшему под их редакцией сборнику статей
Кристиан Делакруа, Франсуа Досс и Патрик Гарсиа: «Одна из оригинальных
особенностей его творческого пути в том, что он все время вел диалог философии с
ее иным, а именно с гуманитарными науками» {Paul Ricoeur et les sciences
humaines, P., La Découverte, 2007, p. 7).
2 Слово «гипотеза» принадлежит самому Рикёру (Paul Rjcœur, Du texte à
l'action. Essais d'herméneutique II, P., Seuil, 1986, p. 183). Дальнейшие ссылки на
это издание будут даваться непосредственно в тексте статьи, обычно с простым
указанием страницы.
26
Поступки и идеи
ной по-английски в 1971 году, а затем перепечатанной
по-французски в книге Рикёра «От текста к действию» (с. 183—211)3.
В позднейших своих работах, в частности в двух больших трудах
позднего периода — «Время и рассказ» и «Память, история,
забвение», — он перешел к специфической трактовке этой гипотезы,
сближая социальное действие не с текстом вообще, а с рассказом,
нарративом, «историей»; однако его первоначальная идея
«текста» по-прежнему остается продуктивной и допускает
методологическую интерпретацию, не исследованную самим философом.
Почему Рикёр оставил эту идею? Возможно, он не был уверен в
том, что она верна; но еще вероятнее — потому, что она
выходила за рамки его метода, поскольку не могла быть
верифицирована в пределах чисто философской рефлексии и требовала
«позитивных» научных исследований. В качестве философа Рикёр мог
только наметить эту возможность, а затем передать ее для
дальнейшего развития специалистам по общественным наукам.
Изложим вкратце ход рассуждений Рикёра. Прежде чем
заявить о гомологии между текстом и социальным действием,
философ конструирует так называемую «парадигму текста» (с. 184)
путем двухэтапного диалектического движения: язык (в соссюров-
ском смысле, то есть система языковых правил) реализуется в
дискурсе (акте или процессе высказывания), а тот в свою очередь
фиксируется в письменном тексте.
На первом этапе Рикёр противопоставляет язык и дискурс как
абстрактное/конкретное: 1) язык виртуален, тогда как дискурс
«всегда реализован во времени и в настоящем» (с. 184); 2) «языку
не требуется никакого субъекта», тогда как «дискурс отсылает к
говорящему посредством ряда шифтеров, таких как личные
местоимения» (с. 184); 3) «знаки языка отсылают лишь к другим
знакам внутри той же системы», а потому «язык обходится без мира»,
тогда как «дискурс — всегда о чем-то» (с. 184)4; 4) наконец, язык
не имеет адресата, а у дискурса есть «другой — собеседник, к
которому он обращен» (с. 185).
На втором этапе рассуждения конкретность, обретаемая
дискурсом, вновь дистанцируется, диалектически отрицается в тексте,
3 В позднейшей статье «Объяснять и понимать» (1977) он следующим
образом резюмирует этот тезис: «Можно вкратце сказать, что, с одной стороны,
понятие текста служит хорошей парадигмой для человеческого действия, а с
другой стороны, действие является точным референтом целого разряда текстов»
(с. 175).
4 Несколькими страницами ниже, «отмежевываясь от всякой идеологии
абсолютного текста», Рикёр все-таки признает, что «лишь немногие особо
утонченные тексты отвечают этому идеалу текста без референции» (с. 188). Он
явно имеет в виду структуралистскую теорию замкнутого текста и творческие
эксперименты, пытавшиеся реализовать ее на практике.
Социальное действие и его смысл
27
не зависимом от своего дискурсивного источника, от акта
высказывания, которым он был произведен: 1) текст несет в себе не акт
высказывания, а только значение этого высказывания, его
семантическое содержание, включая его словесно выражаемую
иллокутивную силу — «не событие говорения, а "говоримое" в речи»
(с. 185); 2) он разделяет «интенцию автора и интенцию текста» —
они в нем «перестают совпадать» (с. 187), так как значение более
не поддерживается «всевозможными процессами, которыми
поддерживается и делается удобопонятной устная речь, —
интонацией, мимикой, жестами» (с. 187); 3) он преодолевает
непосредственную ситуацию высказывания, его референцию нельзя
указать, а тем самым он отсылает к миру как «совокупности
референций, открываемых текстами» (с. 188)5; 4) он адресуется
«неведомому, невидимому читателю» (с. 190), который не находится в
отношении «лицом к лицу» с автором и в пределе может
отождествляться с любым человеком, умеющим читать.
Осуществляемое Рикёром двухэтапное и трехчленное
диалектическое конструирование «текста» до некоторой степени
напоминает схему герменевтического круга. В самом деле, язык дает нам
абстрактное понятие о возможных значениях высказывания
(своего рода «предпонимание»), дискурс возвращает нас к конкретно-
5 Может показаться, что в своей трактовке отношений между текстом и
«миром» Рикёр непоследователен. Так, в статье «Что такое текст?» (1970) он
утверждает, что в письменном тексте «приостановление референции
отложено, текст как бы "висит в воздухе", вне и без мира; благодаря этой отмене
соотношения с миром каждый текст волен вступать в отношения с любыми
другими текстами, замещающими собой реальные обстоятельства, на которые
указывает устная речь» (с. 141). На самом деле слово «мир» употребляется здесь
в другом смысле: если в приведенной ранее цитате Рикёр понимал его как
внутренний, имманентный тексту «предлагаемый мир», то теперь перед нами
внешний мир, который следует «заключать в скобки» в гуссерлевском значении
слова.
Дэвид Клемм примерно в том же смысле различает два значения рикёров-
ского понятия «мир текста»: фикциональное значение («совокупность
референций, открываемых благодаря способности фикциональной речи навеивать
образы, формируемые как отклик на содержание текста») и онтологическое
значение («[мир] не формируется воображением, а артикулируется как труд
описания, осуществляемый рефлексивным субъектом») (David E. Klemm, The
Hermeneutical Theory of Paul Ricœur. A Constructive Analysis, London and Toronto,
Associated University Presses, 1983, p. 86, 87.)
Стоит также отметить, что рикёровская метафора «текста, висящего в
воздухе» может иметь своим источником знаменитое письмо Гюстава Флобера
(Луизе Коле, 16.1.1852), признававшегося в своем желании создать «книгу ни
о чем, книгу без внешней привязи, которая держалась бы сама по себе,
внутренней силой стиля, как земля держится в воздухе без всякой опоры» (Постав
Флобер, О литературе, искусстве, писательском труде: Письма, статьи, т. 1, М.,
Художественная литература, 1984, с. 161. Перевод Е. Лысенко).
28
Поступки и идеи
сти акта высказывания, а письменный текст снимает это
противоречие, образуя целостное и вместе с тем множественное значение,
зависящее от разнообразных ситуаций, в которых он может
читаться.
Построив свою «парадигму текста», Рикёр далее
распространяет ее на «осмысленное действие», то есть на такое действие,
которое может определить, охарактеризовать сам агент6. Согласно
гипотезе, такое действие может рассматриваться как текст,
поскольку, подобно тексту, оно дистанцировано, отделено от
события говорения/делания; в результате мы можем и должны
интерпретировать действия как тексты. Здесь начинается новый круг
диалектико-герменевтического процесса, и ниже мы попытаемся
критически прокомментировать четыре аргумента, выдвигаемых
Рикёром и соответствующих четырем отличительным чертам
текста.
Первый аргумент. Подобно тому как текст материализован в
письме, действие объективировано: оно не может оставаться
чисто ментальным, и, добавляет Рикёр, его значение отделено от
самого события7. Данный аргумент касается не столько локутивных,
сколько онтологических аспектов действия. Как утверждает Рикёр,
действие «являет собой структуру локутивного акта» и обладает
«пропозициональным содержанием» (с. 191), однако в то же самое
время оно «содержит "иллокутивные" признаки, весьма схожие с
признаками полного речевого акта» (с. 192). Другими словами,
действие всегда можно описать более или менее сложной
словесной фразой, содержащей специфический предикат действия и
некоторое количество дополнений (они могут обозначать,
например, «где», «когда», «каким образом», «с чьей помощью» и т.д.
агент совершает свое деяние); однако, как и в тексте,
семантическое значение сочетается в нем с «иллокутивной силой» (с. 193),
позволяющей ему оставить след (marquer) в своем времени.
Данный пункт — по-видимому, самый проблематичный из всех рикё-
ровских тезисов. В самом деле, он опирается не столько на
практическую реальность действия, сколько на его словесное описание.
Структура действия кажется пропозициональной именно потому,
6 Это понятие (action sensée) Рикёр заимствует у Макса Вебера,
писавшего о sinnhaft orientiertes Verhalten, «смыслоориентированном поведении» (с. 203).
7 «Точно так же как письменная фиксация делается возможной благодаря
диалектике намеренной экстериоризации, имманентной самому акту речи,
сходная диалектика в процессе трансакции позволяет значению отделиться от
события действия» (с. 191). «Таким образом, фиксируя действие [на письме],
становится возможным как бы извлечь его из события, в котором оно
реализовалось...» — комментирует Жоан Мишель (Johann Michel, Paul Ricœur. Une
philosophie de l'agir humain, P., Éditions du Cerf, 2006, p. 233).
Социальное действие и его смысл
29
что мы описываем действие с помощью языковых фраз, потому что
мы можем применять к нему семиотическую метафору «следа»/
«метки». Следует помнить, что объектом размышлений Рикёра
служит не любое, а только «осмысленное» действие, действие,
которое может охарактеризовать сам агент: «Я делаю то-то с такой-
то целью, такими-то средствами» и т.д. Как представляется, Рикёр
попадает здесь в логический (не герменевтический!) круг: чтобы
доказать гомологию между действием и текстом, он вынужден
изначально предполагать некоторую языковую основу этого
действия — то есть находит в действии то, что сам же в него заложил.
Такое панлингвистическое воззрение он заимствует из
англосаксонской «философии действия»8, экстраполируя на действие
логический подход и рассматривая действие как особого рода
мышление и/или говорение9. Одновременно он пытается редуцировать
существенное различие в интерпретации, прилагаемой к тексту
или действию: в то время как текст интерпретируется внешним
наблюдателем/читателем, интерпретацией действия занимаются
другие агенты — партнеры действующего лица. Разумеется,
иллокутивные факторы устного высказывания («дискурса», в терминах
Рикёра) сближают это высказывание с действием, придавая ему
действенную «силу»; оттого-то Рикёру так важна теория речевых
актов. Можно, однако, возразить, что как раз письменный текст,
отделяющийся от своего «порождающего» акта высказывания,
утрачивает по крайней мере часть этой силы в пользу абстрактных
знаковых структур. Если же рассматривать действие с удаленной
точки зрения, как некий остаток прошлого, тогда оно
действительно сближается с «текстом»; но хотя общие предпосылки такой
перефокусировки зрения достаточно очевидны (они заключены в
самой структуре языка, служащей для описания действий), в
рассуждениях Рикёра не объясняется, каким образом она конкретно
осуществляется; мы еще вернемся ниже к этому вопросу.
Продолжим наш критический анализ. Второй аргумент
Рикёра проводит параллель между статусами автора текста и субъекта-
8 Рикёр дал подробное изложение этой философии (представленной
такими именами, как Элизабет Энском, Артур Данто, Чарльз Тэйлор, Ричард Тэй-
лор, Энтони Кении и другие) в большой статье, включенной в коллективный
труд: La sémantique de l'action, recueil préparé sous la direction de Dorian Tîfife-
neau, P., Éditions du CNRS, 1977, p. 1-137.
9 Другим приложением той же самой традиции является англосаксонская
теория метафоры, представленная, например, книгой Джорджа Лакоффа и
Марка Джонсона «Метафоры, которыми мы живем» (1980): ее авторы
попытались показать, как человеческое поведение определяется не логическими
рассуждениями, а семантическими отклонениями, сравнимыми с теми, что
имеют место в фигуральной речи. Рикёр и сам внес свой вклад в эту теорию
книгой «Живая метафора» (1975).
30
Поступки и идеи
действователя. Действие обретает автономию от своего автора, и
«такая автономизация человеческого действия образует
социальное измерение действия» (с. 193). Социальные действия часто
трудно бывает приписать одному конкретному «автору»; их отдаленные
последствия тем более не контролируются самими агентами — и
точно так же обстоит дело с текстом, который оставляет позади
написавшего его человека и циркулирует в открытом пространстве
возможных прочтений. В статье «Что такое текст?» (1970) Рикёр
для пояснения этой независимости воспользовался выразительной
метафорой:
Иногда я люблю говорить, что читать книгу — значит
рассматривать ее автора как уже мертвого, а книгу — как посмертную.
Действительно, именно после смерти автора наше отношение к книге
становится целостным и как бы неприкосновенным: автор больше не может
ответить, нам остается только читать его произведение (с. 139).
В 1970 году слова «смерть автора» звучали как отзвук
одноименной статьи Ролана Барта (1968); однако у Рикёра их значение
несколько иное10. По Барту, автор «умирает», исчезает в самом
процессе написания текстов: текст (не любой, но современный
литературный текст) сам спонтанно производит себя в безличной
игре языковых возможностей; у него нет «автора» с самого
начала. По Рикёру, у текста был автор — он создал текст, но он более
не контролирует его обращение и толкование в обществе; автор
«умирает» после написания текста, поскольку он писал его для
будущих читателей, а не произносил здесь и сейчас для актуальных
слушателей11. Вместе с тем в обоих случаях предпосылкой или
10 Роберт Шарлеман указывает в качестве возможного источника рикёров-
ской концепции текста мистическую темпоральность «посмертного бытия», о
котором упомянуто у апостола Павла (Кол. 3: 2—3): «...о горнем помышляйте,
а не о земном. Ибо вы умерли, и жизнь ваша сокрыта со Христом в Боге»
(Robert P. Scharlemann, «The Textuality of Texts», in Meanings in Texts and Actions:
Questioning Paul Ricoeur, edited by David E. Klemm and William Schweiker,
Charlottesville and London, University Press of Virginia, 1993, p. 14). Шарлеман
заключает: «Если бытие Dasein есть забота, а значение такого бытия есть
темпоральность, то бытие, каким является текстуальность подобных текстов, есть свобода
без заботы» (Ibid., р. 24).
11 На самом деле различие речи и письменного текста не настолько
абсолютно, как предполагается у Рикёра. Некоторые устные высказывания
(«крылатые слова», политические лозунги, шутки и остроты и т.п.) широко обращаются
в обществе и втягиваются в процесс (ре)интерпретации, хотя и не обязательно
фиксируются на письме. «Речь» и «текст» следует понимать здесь не столько в
физическом, сколько в функциональном смысле. Сходным образом Жак Дер-
Социальное действие и его смысл
31
следствием «смерти автора» является активная роль читателя,
интерпретатора: «рождение читателя приходится оплачивать смертью
Автора» (Барт)12, «текст производит обоюдную оккультацию
читателя и писателя», заменяя диалог — односторонним актом чтения
(Рикёр, с. 139). Сходным образом и социальное действие обретает
свой полный смысл лишь в акте «чтения», практической
интерпретации; до тех пор оно обладает лишь неким пред-смыслом.
Третий аргумент. Подобно тексту, осмысленное действие
преодолевает ситуацию, в которой было произведено.
«Ограниченности ситуаций» непосредственного диалога и текст и действие
противопоставляют «открытие мира, то есть очерк новых аспектов
нашего бытия-в-мире» (с. 189). В случае действия это
противопоставление можно выразить через оппозицию двух видов его
значимости — релевантности и важности:
...значение важного события превосходит, преодолевает, трансцен-
дирует социальные условия его свершения и может быть вновь
осуществлено в новых социальных контекстах. Его важность — это его
длительная, а в некоторых случаях и всевременная релевантность
(с. 196).
Мир текста или действия образуется их «неявными
референциями» (с. 196), он состоит из того, что они делают возможным,
хоть и необязательно наличным, — в отличие от явных
референций речевого акта, отсылающего к вещам и фактам, которые
можно указать in actu. При таком понимании мир имеет
феноменологическую структуру, образуется из человеческих проектов; из всех
рикёровских идей о структуре действия это самая
феноменологическая. В статье «Герменевтическая функция дистанцирования»
(1975) Рикёр прямо цитирует хайдеггеровское «Бытие и время» и
заимствует из него «мысль о "проектировании самых собственных
рида («О грамматологии», 1967) противопоставлял друг другу письмо и устную
речь как два способа смыслообразования — любопытным образом, с обратным
распределением определяющих предикатов: по его мысли, речь устанавливает
фиксированное значение, тогда как в письме сохраняется незавершенность
(«difference»). Примерно в том же смысле «текст» можно определять не как
письменное языковое сообщение, а как особо ценный знаковый объект, к
которому применяется особый режим сохранения, воспроизводства и изучения,
в отличие от множества лишенных ценности письменных продуктов,
обреченных быть выброшенными и забытыми (см: Ю.М. Лотман, А.М. Пятигорский,
«Текст и функция», в кн.: Ю.М. Лотман, Избранные статьи, т. 1, Таллин,
Александра, 1992, с. 133 след.).
12 Ролан Барт, Избранные работы: Семиотика, поэтика, М., Прогресс, 1989,
с. 391.
32
Поступки и идеи
наших возможностей", применяя ее к теории текста.
Действительно, в тексте подлежит интерпретации некоторое предложение мира,
мира, где я мог бы жить и проектировать в нем какую-то из самых
собственных моих возможностей» (с. 114—115). Поэтому,
заключает Рикёр, задача интерпретатора — не столько познать чью-то
душевную жизнь (напомним, что автор «умер» и преодолен своим
собственным текстом), сколько описать «предлагаемый мир»,
сравнимый с гуссерлевским Lebenswelt и проектируемый в тексте
или действии13. Нам предлагается «мыслить смысл текста как
исходящее из него требование — побуждение по-иному смотреть на
вещи» (с. 208), — и сходным образом каждый человеческий
поступок проектирует особый мир, так же как Сартр объяснял
феноменологическую диалектику индивидуального и общего: «Выбирая
себя, я выбираю человека вообще»14. Например — если продолжить
мысль Рикёра, — выплачивая долг наследникам своего умершего
кредитора, не знавшим о существовании этого долга
(излюбленный кантовский пример нравственного поведения), человек
«предлагает» мир, где от каждого должно ожидать честности; а другие
люди, сооружая газовые камеры в концентрационных лагерях, тем
самым «предлагают» другой мир, где жизни людей можно
уничтожать по простому административному решению, под тем
предлогом, что они бесполезны для государства. Не только когда мы
следуем кантовскому категорическому императиву — любыми своими
поступками мы неявным образом «предлагаем мир», а
следовательно и отвечаем за его будущую конфигурацию.
Любопытно, что Рикёр упоминает о некоторых особенных
событиях (социальных действиях), обладающих «всевременной
релевантностью»; как позволяют предположить другие его
произведения, он имеет здесь в виду «акты освобождения», такие как
страсти Христовы, избавляющие человечество от первородного
греха. В статье «Манифестация и прокламация» (1974) он писал,
что уже в Ветхом завете мифические соответствия, свойственные
режиму «манифестации» сакрального, уступают место
«герменевтике прокламации», подвергая мифические события
аллегорической интерпретации: «Космогонические мифы [...] приобретают
новую функцию; отныне они обозначают "начало" истории,
сквозной мотив которой — история освобождения»15; это уже
готовые тексты, и при аллегорическом чтении они превращаются, по
13 «...Главная задача герменевтики не укладывается в альтернативу
гениальности и структуры; я связываю ее скорее с понятием "мир текста"» (с. 113).
14 Ф. Ницше, 3. Фрейд, Э. Фромм, А. Камю, Ж.-П. Сартр, Сумерки богов,
сост. A.A. Яковлев, М., Политиздат, 1989, с. 324. Перевод АА. Санина.
15 Поль Рикёр, «Манифестация и прокламация», Социологическое обозрение,
т. 10, № 1—2, 2011, с. 194. Перевод И. Иткина.
Социальное действие и его смысл
33
выражению Рикёра, в «предельные выражения»16. Свой смысл они
проецируют через много поколений и в конце концов
превращаются в чистый смысл17.
Четвертый аргумент. Подобно тексту, «значение
человеческого действия также адресовано бесконечному ряду возможных
"читателей". Судьями выступают не современники, а, как говорил
Гегель вслед за Шиллером, сама история» (с. 197). Этот последний
тезис наименее подробно разработан у Рикёра, занимая всего
несколько строк, как будто философу казалось слишком очевидным,
что смысл события всегда «открыт для такого рода практической
интерпретации через текущий праксис» (с. 197). Однако эта мысль
заслуживает более внимательного анализа. Прежде всего, в этом
пункте выясняется, какую именно «общественную» или
«гуманитарную» науку имел в виду Рикёр, когда писал в начале своей
статьи, что «понятие текста служит хорошей парадигмой для объекта
так называемых общественных наук», а текстуальная
интерпретация — «парадигмой для интерпретации вообще в области
гуманитарных наук» (р. 197). Жоан Мишель определяет такую
подразумеваемую дисциплину как «социотеорию» в противоположность
«микросоциологии», изучающей взаимодействия «лицом к лицу»,
а не «великие» события, выделенные из своего непосредственно-
практического контекста18. Сам Рикёр пользуется другим, более
простым термином — история. Слово «история» много раз
встречается в его тексте, тогда как «социология» практически
отсутствует. Именно история, а не социология «архивирует» события
прошлого и подвергает их ретроспективной интерпретации.
Однако—и это второе обстоятельство, которое следует отметить, —
слово «история» двузначно. Оно может отсылать к дискурсу,
рассказывающему и анализирующему события прошлого (historia
rerum gestarum), но может означать и сами эти события (res gestae).
16 Там же, с. 186. По Рикёру, интерпретация «актов освобождения» —дело
религиозной веры («собственно герменевтическое основание веры как
таковой» — «От текста к действию», с. 131), а также и социальной критики:
«Критика [общества] — это тоже традиция. Я бы даже сказал, что она погружает нас
в самую внушительную из традиций, традицию избавительных деяний,
традицию Исхода и Воскресения» (с. 376).
17 В несколько иной перспективе на освободительную значимость рикёров-
ской теории действия/текста указывал Доменико Джерволино. См.: Domenico
Jervolino, «L'Herméneutique de la praxis et l'éthique de la libération», dans Paul
Ricœur: Les métamorphoses de la raison herméneutique (Colloque de Cerisy), P., Les
éditions du Cerf, 1991, p. 223-230.
18 Johann Michel, op. cit. p. 236—237. Ж. Мишель имеет в виду, с одной
стороны, социологию великих исторических процессов, классические образцы
которой дал Макс Вебер, а с другой стороны, социологию конкретных
взаимодействий между людьми, примером которой является Ирвинг Гофман.
34
Поступки и идеи
В гегелевской философии абсолютного духа, на которую
ссылается французский философ19, оба значения склонны совпадать, но
реально Рикёр, говоря о «практической интерпретации через
текущий праксис», все же отдает предпочтение второму значению. По
его мысли, не (только) профессиональные историки, но (также и)
обычные люди «практически интерпретируют» чужие действия
посредством своего собственного социального действия; в этом
смысле их можно назвать «учениками-историками»20.
Но как же понимать эту «практическую интерпретацию»?
Здесь Рикёр оказывается в точке бифуркации. Встающий перед
ним выбор до некоторой степени опять-таки соответствует
семантической двойственности слова — на сей раз слова «действие»: во
французском, как и в русском языке оно может означать ряд
поступков, целую «историю» (например, в выражении
«драматическое действие»), а может и отдельный поступок (как в выражении
«ответное действие»). Первое, холистическое понимание более
присуще герменевтической традиции, стремящейся найти предсу-
ществующий смысл целостного поступка/высказывания; второе,
аналитическое понимание скорее свойственно структурной
семиотике, которая строит смысл из отдельных элементов и
занимается не только нахождением, но и созданием, приданием смысла21.
19 Он цитирует гегелевскую формулу «Weltgeschichte ist Weltgericht» (с. 197),
«всемирная история есть всемирный суд». Не стоит здесь вдаваться в
обсуждение семантической разницы между немецкими терминами Geschichte и
Historie, которые оба переводятся на русский как «история», а на французский как
histoire. Существенно, однако, что во французской орфографии второе из
значений слова («история» как res gestae, процесс событий — особенно в гегель-
янско-марксистском смысле исторически детерминированного процесса)
часто, хоть и не всегда, маркируется заглавной буквой (l'Histoire); Рикёр не
пользуется этим средством в рассматриваемой здесь статье, а в других своих
работах («Время и рассказ», «Память, история, забвение»), как кажется,
отдает предпочтение тому или иному из «строчных» значений слова «история»: либо
«дискурс о прошлом», либо «конкретный ряд событий», «сюжет» (правдивый
или вымышленный).
20 Выражение Жана Грейша («apprenti-historien»), применяемое им к
субъектам психиатрии. — См.: Jean Greisch, Paul Ricœur: L'itinérance du sens,
Grenoble, Jérôme Millon, 2001, p. 190-194.
21 Ср. оппозицию между концепциями смысла у Рикёра и Леви-Стросса,
сформулированную Даниелем Бекмоном: «Для Леви-Стросса изначально имела
место радикальная непостижимость мира: мир не имеет смысла, пока его не
оформят значимыми смещениями, первоначально он являет собой
нерасчленимое и бессвязное течение [...]. Напротив того, Рикёр усматривал в начале
полноту смысла, благодатное изобилие, в котором купается мир. "Полный
мир" Рикёра льется через край, наподобие божественной благодати, у Леви-
Стросса же это слепой хаос» (Daniel Becquemont, «La confrontation avec le
structuralisme: signe et sens», dans Paul Ricœur et les sciences humaines, op. cit.,
p. 189-190).
Социальное действие и его смысл
35
Последовательность осмысленных поступков образует нарра-
тив, и в таком понимании социальное действие стало предметом
рикёровской философии нарратива. В книге «Время и рассказ»
Рикёр сделал попытку включить идею практической
интерпретации или «практического понимания» (compréhension pratique)22 в
теорию нарративной рациональности; этот концептуальный сдвиг
уже предвещали некоторые его статьи, собранные в книге «От
текста к действию», например статья «Практический разум» (1979).
Согласно такой теории, социальная практика может
рассматриваться как «мимесис I» — нарративная деятельность,
происходящая в самих поступках, до и независимо от всякой их
вербализации. Логично и симптоматично, что одновременно из рикёровских
размышлений исчезает идея «парадигмы текста», уступая место
новой парадигме — парадигме рассказа. По той же самой
причине в поздних трудах Рикёра перестает работать и оппозиция
«устная речь / письменный текст»: действительно, нарративный сюжет
может основываться как на повседневных, так и на мифических
событиях, отсылая в равной мере и к дистантно-«текстуальным»,
и к непосредственно-«речевым» отношениям. По той же причине
история больше не может занимать привилегированное место
среди дисциплин, интерпретирующих социальное действие, — эту
функцию могут не хуже нее исполнять социология и психология.
Однако из рикёровской гипотезы о тексте как модели
социального действия можно вывести и другой путь рассуждения, другую
идею исторической интерпретации; как мы увидим, эта идея
обоснована интуициями самого Рикёра. Следуя по этому пути, мы
рассматриваем каждый отдельно взятый человеческий поступок
как смысловое единство, отделяющееся от своего исходного
контекста и подвергаемое новым интерпретациям, каковые именно
и образуют исторический процесс. Тогда интерпретация состоит в
присвоении новых значений действиям (посредством
практических реакций, но не только их), во включении этих действий в
новые семантические структуры.
Итак, в начале 1970-х годов, перейдя от герменевтики
символов к герменевтике текстов23, Рикёр оказался на перепутье, перед
необходимостью выбирать между нарративным и семиотическим
подходами к текстам/действиям. В то время как нарративная
логика имеет дело с однородными объектами (событиями),
располагающимися на одном уровне темпорально-синтагматической
развертки и наделенными имманентным смыслом, — семиотическая
22 Paul Ricœur, Temps et récit, t. 1, P., Seuil, 1983, p. 89.
23 «Проблематика герменевтики еще более расширяется, вбирая в свою
орбиту структуры более крупные, чем символы, — тексты» (Johann Michel,
op. cit., p. 162).
36
Поступки и идеи
теория, вдохновляющаяся идеями Соссюра, постулирует
трансцендентное отношение мехсду двумя уровнями: уровнем чувственно
ощутимого означающего и уровнем концептуального
означаемого. В семиотически понимаемом историческом процессе
взаимодействуют и сменяют друг друга два рода единиц; в то время как
нарративная схема подобна прямой линии, семиотический
процесс идет зигзагом.
От результатов социальной концептуализации, социального
осмысления зависит не только ход этого процесса, но даже и само
историческое или не-историческое качество тех или иных
событий.
Возьмем в качестве примера типичную ситуацию, которая с
печальной повторяемостью возникает в расово-этнических
отношениях. Предположим, черный парень оскорбил или подверг
сексуальным преследованиям белую женщину. («Черный» и «белый»
в данном случае — условные термины, которые могут
варьироваться в разных обществах: скажем, в современной России «черный»
можно было бы заменить словом «кавказец».) Как будут
развиваться дальнейшие события? В толерантном многорасовом обществе
этот человек будет морально осужден, а возможно и наказан по
суду, но точно так же, как если бы оба участника инцидента
принадлежали к одной группе; своим поступком он нарушил лишь
обычную мораль и/или уголовное право. В обществе разделенном
и озабоченном этническими различиями тот же самый акт будет
рассматриваться как нарушение расовых правил, он может повлечь
за собой суд Линча, бунт, межобщинные столкновения, порой с
самыми трагическими последствиями. С научной точки зрения,
его дисциплинарная квалификация окажется тоже различной:
в первом случае им будет заниматься социология как типичным,
статистически усредненным фактом, как обычным
правонарушением (по-французски это называется un fait divers); во втором
случае он будет занесен в хронику и станет предметом исторического
исследования как единичное событие с необратимыми
последствиями для социально-политического развития, как действие,
очевидным образом превосходящее свою непосредственную
межличностную «ситуацию» и обретающее общую «важность», поскольку
оно «адресовано» — как вызов — не только жертве, но и целой
общине.
Существенно, что такая «историзация» заурядного
правонарушения становится возможной благодаря его социальной
интерпретации, происходящей до и после самого происшествия (как
выражался Рикёр в книге «Время и рассказ», en amont и en aval,
буквально «вверх и вниз по течению» событий). Во-первых, в
расистском обществе черный парень не может «просто» желать
белую женщину, он неизбежно видит в ней запретный сексуальный
Социальное действие и его смысл
37
объект, и его поведение с самого начала обладает значением
расовой трансгрессии. А во-вторых, его правонарушение повлечет за
собой социальную конфронтацию лишь в том случае, если в
данном обществе широко распространены расистские стереотипы,
применяемые для интерпретации отдельных инцидентов.
Социальная интерпретация предшествует социальному действию (в
нашем примере — оскорблению личности) и следует за ним, наделяя
его моральным, а возможно и историческим смыслом. Иными
словами, реальное значение осмысленного действия зависит не
только от сознательных намерений агента, но и от социальных
конвенций и пресуппозиций, которые все вместе участвуют в
создании «мира, предлагаемого» данным действием. Отсюда
вытекает моральный вывод: мы все ответственны за, скажем, расовую или
этническую преступность — не обязательно за то, что она
фактически имеет место, но за ее социальную, то есть именно «расовую»
или «этническую» квалификацию, поскольку все мы, будучи
членами общества, несем свою долю ответственности за то, как в нем
принято мыслить и интерпретировать факты24.
Вернемся теперь к исторической науке: как ей изучать такого
рода процессы социальной интерпретации? Рикёр в книге
«Память, история, забвение» (2000) различает взгляд на события с
точки зрения «обычного человека» и «историка», пользуясь
оппозицией память/история. История, показывает он, не может совпадать
с памятью, они действуют по-разному и имеют различные
предметы, даже когда, казалось бы, занимаются одними и теми же
«историческими событиями». В исторических исследованиях «память
архивирована, документирована. Ее объект перестал быть
воспоминанием в собственном смысле, как удерживаемый по
отношению к сознанию в настоящем в состоянии непрерывности и
присвоения»25. Как следствие, «многие события, признаваемые
историческими, никогда не были чьими-либо воспоминаниями»26.
24 Пьер Бурдье, трактуя о более специальном и более «культурном»
общественном поле, сходным образом показывал, что литературное производство —
это не только создание произведений, но и формирование их оценок,
осуществляемое не только литераторами, но и всеми читателями (см.: Pierre Bourdieu,
Les Règles de l'art, P., Seuil, 1992, p. 318 sq.).
25 Поль Рикёр, Память, история, забвение, М., Издательство гуманитарной
литературы, 2004, с. 250. Перевод Г.М. Тавризян.
26 Там же, с. 689. Перевод И.С. Вдовиной. Рикёр подразумевает такие
события, как «Ренессанс» и т.п., сконструированные историками задним числом
на основе сравнительного изучения документов и памятников культуры
(художественных произведений и т.п.), которые трудно рассматривать как
«свидетельства» памяти их авторов. Проблематичный статус подобных «событий» был
показан в «Нарративной логике» (1983) Фрэнка Анкерсмита, которая
цитируется в книге Рикёра.
38
Поступки и идеи
Но хотя память и история — два разных способа мыслить о
прошлом, в обоих случаях перед нами не практические, а ментальные
операции, которые невозможно непосредственно наблюдать.
Поскольку мы пытаемся отдать себе отчет в исторических
процессах, нам приходится принимать во внимание не только
собственно последовательность событий, но и их интенции и
мотивации — в терминах Аристотеля, не только материальные и
действующие, но также и формальные и телеологические
причины. Последние имеют место в сознании социальных агентов, а
потому являются «невидимыми» — особенно если мы имеем дело
с «темными», неизвестными историческими агентами,
оставляющими по себе мало документальных следов (а современная
историография все более интересуется такими людьми). Их намерения
приходится реконструировать, исходя из общих структур
мышления, которые мы «вменяем» конкретным агентам. Таким образом,
герменевтика исторического действия требует челночного
движения между общими структурами сознания и конкретными
практическими действиями, между означаемым и означающим.
В терминах самого Рикёра такое возвратно-поступательное
движение ума можно описать через диалектику объяснения и
понимания (которая, кстати, тоже практически исчезает из его поздних
работ вместе с гипотезой о «действии как тексте»). Здесь не место
анализировать подробно эту важнейшую проблему современной
эпистемологии, но следует выделить один ее аспект, который был
особенно важен для Рикёра в 1970-е годы. Пересматривая дильте-
евское определение двух категорий, французский философ
отмечает, что в современных гуманитарных науках «объяснение» не
может более означать приписывание событию изолированных,
независимых друг от друга «причин»: при структурном анализе
общественной жизни мы имеем дело с системной казуальностью,
когда отдельные действия и события определяются целостной
структурой системы27. В этом смысле объяснить событие — значит
описать формальные отношения между «пустыми» элементами
системы (например, чтобы объяснить чей-то брак в традиционном
27 «...Особого рода объяснение, предполагаемое структурной моделью,
является совершенно отличным от классической каузальной модели,
особенно если понимать каузальность в терминах Юма — как регулярную
последовательность причин и следствий без всякой внутренней логической связи между
ними. В структурных системах предполагаются отношения совсем иного рода,
где преобладает не каузальная последовательность, а корреляция» (с. 209).
Жоан Мишель комментирует эту мысль: «Несомненно, при структурном
объяснении разрушается понимание в психологическом смысле слова, зато требуется
понимание иного типа, которое само по себе не было осмыслено в
структурализме» (Johann Michel, op. cit., p. 152).
Социальное действие и его смысл
39
обществе, надо вписать его в структуру принятой в данном
обществе системы родства); а «понять» то же самое событие означает
уже не проникнуть силой вчувствования во внутреннюю жизнь
агента, но скорее охарактеризовать его «предлагаемый мир»,
соотносящийся с ментальными структурами данной культуры28. Как
следствие, Рикёр по-новому определяет и соотношение между
объяснением и пониманием, выдвигая свой знаменитый принцип:
«больше объяснять, чтобы лучше понимать», expliquer plus pour
comprendre mieux, то есть мы объясняем внутрисистемные
отношения для того, чтобы понять концептуальный «предлагаемый мир»,
имплицируемый и проектируемый конкретным действием. Рикёр
высоко ценил Георга Хенрика фон Вригта, показавшего, что для
объяснения системы необходимо привести ее в движение
некоторым экспериментальным жестом, который уже нельзя
«объяснить», а можно только «понять», интерпретировать исходя из
намерений экспериментатора29. Вместе с тем фон Вригт подчеркивал,
что «на системы, изучаемые в общественных науках, как правило,
не могут оказывать воздействие внешние агенты. Зато на них
могут оказывать воздействие агенты внутренние»30, — а значит,
понимание событий, вытекающих из таких систем, совпадает с
пониманием мотивов агента, заложенных в структуре системы.
Рикёр диалектизировал соотношение между объяснением и
пониманием: для него это не взаимно исключительные
классификационные термины, а сменяющие друг друга моменты в
нескончаемом процессе интерпретации31. При этом следует подчеркнуть
одно обстоятельство, которое вытекает из его «текстуальной» ги-
28 «Дильтей, в этом отношении еще тесно связанный с романтической
герменевтикой, основывал свое понятие интерпретации на идее "понимания", то
есть постижения чужой жизни, выражающей себя в объективациях письма.
Отсюда психологизм и историцизм романтической герменевтики Дильтея. Этот
путь ныне закрыт для нас, поскольку мы серьезно относимся к
дистанцированию посредством письма и к объективации через структуру произведения» (с.
112-113).
29 «От текста к действию», с. 172—174; Paul Rjcœur, «Le discours de l'action»,
dans La Sémantique de l'action, op. cit., p. 104—108.
30 Georg Henrik von Wright, Explanation and Understanding, Ithaca, Cornell UP,
1971, p. 164.
31 «Эта борьба на два фронта — против того, чтобы сводить понимание к
вчувствованию, а объяснение к абстрактной комбинаторике, — заставляет меня
определять интерпретацию именно через диалектику понимания и объяснения
на уровне имманентного "смысла" текста». В этом заявлении, содержащемся
в авторском предисловии к книге «От текста к действию» (с. 33), Рикёр
ограничивает свою мысль областью «текстов»; однако мы уже видели, что в другой
статье из того же сборника «модель текста» получает гораздо более широкое
применение, охватывая всю область «осмысленного» социального поведения.
40
Поступки и идеи
потезы, но не сводимо к нарративной логике его поздних трудов:
дело в том, что тот же самый процесс происходит не только при
методическом научном познании, но и при спонтанном
социальном действии — не только историческая мысль, но и сам
исторический процесс развивается как непрерывная самоинтерпретация,
в ходе которой «понимаемыми» поступками создаются
«объяснимые» структуры и наоборот. История есть аутогерменевтика,
самопонимание, но вместе с тем и самоописание32.
Чтобы доказать этот тезис, мы в заключение укажем две
специфические области такого обмена, два предельных случая, уже
открытых и описанных другими выдающимися теоретиками.
Первый случай можно было бы обозначить как поведение по
удаленному образцу. В 1970-х годах Юрий Лотман обосновал
возможность научной дисциплины, которую он назвал «поэтикой
бытового поведения» и которая в дальнейшем повлияла не
некоторые теоретические идеи англосаксонского «нового историзма»33.
Из исследований Лотмана явствует, что не только повседневные
манеры поведения (в чем нас давно убедила интеракционистская
психология и социология) можно описывать как исполнение
некоторой «роли», заложенной в наших навыках социальной жизни
и адаптируемой к той или иной ситуации; существуют также
специфические способы социально-исторического поведения —
«героическое», «революционное» и т.д., — которые в некоторых
социальных группах (таких как русское дворянство XVIII—XIX
веков) подражают литературным или театральным образцам и в этом
смысле образуют предмет настоящей «поэтики». Их специфика
заключается в удаленном характере образцов для подражания:
практикующие их люди следуют примеру не своего окружения, как
более или менее поступают все, но примеру «трансцендентных»
лиц, таких как литературные или драматические персонажи. Эта
удаленность образцов делает очевидным смысловой обмен между
поступками и структурами: первые непосредственно
осуществляются в реальном общественном мире (иногда это в высшей
степени серьезные поступки, такие как рассмотренное Лотманом
самоубийство Радищева, подражающее трагическим сценам в театре),
последние же пребывают в фикциональном мире художественных
32 «При этом объяснение предстает как дальнейшее дистанцирование,
порождаемое самим текстом, а не как более или менее безнадежная реакция на
чуждость этого текста» (Daniel Frey, L'interprétation et la lecture chez Ricœur et
Gadamer, P., PUF, 2008, p. 160). Таким образом, понимание текста есть жест
двойного дистанцирования; но так же происходит и при понимании действия,
будь то в науке или в «повседневной жизни».
33 См.: Stephen Greenblatt, «Towards a Poetics of Culture», in The New
Historicism (H. Aram \feeser, ed.), New York — London, Routledge, 1989, p. 14.
42
Поступки и идеи
(скажем, воспроизводство является, по-видимому, первичной
функцией сексуальной активности), но ими не вполне
покрывается переживаемый в подобные моменты опыт бес-смысленности.
Этот опыт превосходит тот смысл, который сами агенты могли
сознательно приписывать своим деяниям, — примерно так же, как
текст или «осмысленное действие», по Рикёру, превосходят свою
исходную ситуацию и исходную интенцию автора. Правда, в ри-
кёровских терминах подобные действия уже нельзя считать
«осмысленными», поскольку, хотя их «авторы» и могут рассказать
нам, что они делают («я приношу в жертву животное», «я
наслаждаюсь произведением искусства» и т.п.), в конечном счете «смысл»
их деяния заключается в самой его бессмысленности: «я делаю это
низачем»35. В такой ситуации диалектика семантических структур
и асемантических поступков принимает форму открытого
конфликта, и его разрешением (всегда временным) формируется ход
нашей общественной жизни.
Эти два предельных случая (возможно, есть и другие), которые
можно было лишь кратко обозначить здесь, резко отличаются друг
от друга как сверхосмысленность поступков в случае поведения по
удаленному образцу (субъект стремится придавать своим
действиям больше смысла, чем «нормальные» люди) и отказ от всякого их
осмысления в случае смыслоразрушительного поведения. Однако
у них есть важная общая черта: в обоих случаях перед нами
непроизводительные, нетранзитивные виды действия; если вновь
воспользоваться аристотелевскими категориальными
разграничениями, их формальная причина (как действовать, как оформить тот
или иной поступок?) всецело преобладает над их финальной
причиной (для чего это послужит?). Такая не-финальность,
нецелесообразность позволяет ставить их в один ряд с так называемыми
«экзистенциальными» моментами, когда человек обнаруживает
свою открытость и несущностность, когда вопрос «быть ли таким
или иным?» преобладает над вопросом «для чего быть?». Включить
такие высоко проблематичные моменты в семантическую
структуру социально-исторического процесса — решающе важная задача
гуманитарных наук; в самом деле, ведь этим на свой лад занима-
35 По-видимому, в этом пункте теория речевых актов, с которой Рикёр
связывал свои надежды на объяснение социального действия, оказывается
недостаточной. В самом деле, наш язык всегда позволяет нам так или иначе
определить, что мы делаем, но это определение необязательно совпадает с
истинным смыслом (или бессмысленностью) нашей деятельности: когда я говорю
«я шучу», я как раз вовсе не шучу, а когда я действительно шучу, то не могу
выразить это каким-либо иллокутивным актом. Здесь слепая точка рикёровс-
ких рассуждений — разрыв между двумя значениями действия,
«дескриптивным» и «практическим».
Социальное действие и его смысл
43
ется и сам социально-исторический процесс, и его спонтанную
аутогерменевтику следует продолжить другой, более методически
сознательной. То будет по-прежнему герменевтика, дискурс,
интерпретирующий социальные смыслы, — но герменевтика
обновленная и обогащенная методологическим опытом структуральной
семиотики36.
В том, что касается дисциплинарных разграничений,
эпистемологическая задача, завещанная нам Полем Рикёром вместе с
предложенной им «моделью текста» для социального действия,
требует объединить усилия двух исторических дисциплин, которые
не всегда легко ладят между собой: «обычной» истории деяний
(historia rerum gestarum) и интеллектуальной истории идей.
Поскольку поступки и семантические структуры непрерывно
обмениваются друг с другом в ходе истории, то требуются новые
методологические подходы для характеристики их диалектического и
часто конфликтного взаимодействия. Как уже сказано выше,
философия Рикёра, подобно любой другой априорной рефлексии,
могла лишь обозначить эту проблему и очертить ее наиболее
абстрактные аспекты; теперь дело «позитивных» гуманитарных
наук — наполнить эту схему конкретно-историческим рабочим
содержанием.
2011
36 Рикёровская критика структурализма хорошо известна, и здесь нет
необходимости ее обсуждать. Стоит лишь заметить, что оппонентом Рикёра была
главным образом французская школа семиотики, ведущая свое происхождение
от Соссюра и рассматривавшая тексты как замкнутые системы (за что прежде
всего и упрекал ее Рикёр). Однако в семиотике есть и другие течения,
представленные, например, Умберто Эко в Италии и Юрием Лотманом в Советском
Союзе; они определяют свой предмет как «открытый семиозис», процесс
интертекстуального обмена смыслами. Такая концепция, по-видимому, в
большей степени согласуется с рикёровской философией текста.
ТЕОРИЯ ПИСАТЕЛЬСТВА
И ПИСЬМО ТЕОРИИ
(Филология после Бурдье)
В одном из примечаний к «Практическому смыслу» Пьера
Бурдье (1980) содержится любопытное сопоставление работы
этнолога (можно сказать шире — социолога) и филолога:
Положение этнолога не слишком отличается от положения
филолога с его мертвыми письменами. Помимо того, что этнолог
вынужден опираться на свои псевдотексты, каковыми являются
официальные речи его информаторов, склонных выпячивать наиболее
кодифицированные аспекты традиции, ему часто приходится прибегать
(например, при анализе ритуалов и мифов) к текстам, записанным
другими лицами и при неясных обстоятельствах. Одно то, что миф
или ритуал регистрируется, превращает его в предмет исследования,
отделяя от конкретных референтов (названия мест, групп, земель,
имена людей), от ситуаций, в которых он действует, и от индивидов,
которые приводят ритуал в действие, ссылаясь на практические его
функции...1
Работа этнолога и филолога в том, чтобы интерпретировать
социальный материал, смысл которого затемнен —
историческими обстоятельствами, этнокультурной дистанцией, более или
менее своекорыстными искажениями, внесенными информантом (в
случае филологии — переписчиком, переводчиком, издателем,
цензором и т.д.). Есть, однако, существенная разница между
двумя науками, и Бурдье, скорее всего, ощущал ее, отбрасывая свое
сопоставление в необязательную сноску: интерпретируемый ими
материал различен по природе. Этнология и социология имеют
дело с поступками, «поведениями» (conduites), филология же — с
текстами. За последние десятилетия, в процессе своего
структуралистского, а затем и постструктуралистского перерождения,
филология немало сделала для того, чтобы сломать эту границу,
научившись читать социальное поведение как тексты («поэтика
бытового поведения», «новый историзм») и заявив — устами,
правда, не филолога, а философа Деррида, — что «вне-текста не
существует». Пьер Бурдье противился такому смешению и отстаивал
1 Пьер Бурдье, Практический смысл, М.: Институт экспериментальной
социологии; СПб., Алетейя, 2001, с. 49. Перевод H.A. Шматко.
Теория писательства и письмо теории
45
специфику социологии как исследования именно нетекстуальных
практик и событий (хотя они, разумеется, могут, а нередко и
должны выражаться и передаваться в форме текстов). Он был
принципиальным оппонентом филологии, прежде всего филологии
обновленно-теоретической, и в качестве такового особенно ценен
для ее собственного методологического самосознания.
Социология Бурдье обозначает собой тот предел, дальше которого не
может заходить филология в текстуализации социальной жизни.
Расхождение двух наук конкретно проявляется в том, на
каком уровне упорядоченности они рассматривают свой объект.
Филология с давних времен — для этого ей не нужно было
дожидаться Соссюра или Лотмана — стремилась уточнять смысл слов
в синхронной системе культуры, с целью выяснения того, что
точно значил тот или иной текст в свою эпоху; она занималась
установлением «языка», позволяющего читать
конкретно-текстуальную «речь». Иначе и не может быть, когда занимаешься
анализом текстов: они по определению представляют собой
информацию, транслируемую (часто на очень большие расстояния) в
социокультурном пространстве и времени, и для своего
адекватного понимания нуждаются в более или менее стабильной
системе условностей, которая бы служила шифром, кодом. Напротив
того, поступки людей рассчитаны прежде всего на
непосредственную эффективность и непосредственное понимание — на реакцию
присутствующих «на месте» друзей, партнеров, противников;
такое понимание накоротке возможно и без устойчивого кода, код
можно импровизировать здесь и сейчас. Для филологии и
семиотики дистантно-кодовое восприятие — это имманентное
свойство объекта-текста (он именно на это и рассчитан), для
социологии же — внешнее, хотя и постоянно возникающее
осложняющее обстоятельство. Именно потому в вышеприведенной
цитате Бурдье сетует на «информаторов, склонных выпячивать
наиболее кодифицированные аспекты традиции» — то есть
формулировать «язык», «туземную теорию» своего поведения; этнолог
же должен не обманываться такой теорией и вообще соблазном
теоретических построений, выясняя прежде всего актуальный
смысл поступка, вырабатываемый в уникальных обстоятельствах
социального поведения. У филологии есть свой аналог термина
«туземная теория» — это «народная этимология», вообще
всяческие некритические переосмысления, искажения языковой
системы, и дело науки, преодолевая порчу языка, доискиваться до
настоящей исторической системы культуры; а социология, по
Бурдье, целит дальше — стремится редуцировать не только
«туземную теорию», но и вообще всякую систему кода, чтобы до-
46
Поступки и идеи
браться до своего истинного объекта, до «логики практики»,
которая носит уже несистемный характер2.
Тем интереснее, что по крайней мере однажды, в книге
«Правила искусства» (1992) Бурдье сам применил свой
антифилологический по сути метод к описанию литературы — деятельности,
казалось бы, исключительно текстуальной, которая исторически
как раз и породила филологию, искусство трактовки прежде
всего литературных текстов. В литературе он выделил специфически
социологический, то есть нетекстуальный субстрат, тем самым
отмежевавшись от многочисленных и разношерстных попыток
социологической интерпретации литературных текстов — от Ла-
фарга и Плеханова до Лукача, Гольдмана и французской «социо-
поэтики» 1970-х годов. Прецедентами его подхода можно считать
разве что теорию «литературного быта» Бориса Эйхенбаума3 и
рецептивную эстетику Ханса Роберта Яусса — две традиции, которые
сам он, судя по ссылкам, знал слабо, во всяком случае не с той
стороны, с какой более всего с ними сближался.
Социологический субстрат литературы — это институт
писательства (не путать с авторством).
Литература состоит из писателей — такова истина
повседневного здравого смысла, по крайней мере в том, что касается
высокой, «штучной» литературы. Если спросить у обычного человека,
какая литература ему нравится или не нравится, то в случае
высокой словесности в ответ прозвучат фамилии писателей, в случае
массовой — тоже фамилии плюс названия некоторых жанров
(«детективы», «фантастика»), но почти никогда не заголовки
конкретных произведений. Этот социальный факт недооценивается
литературоведением, хотя очень часто оно само некритически
перенимает тот же принцип и строит, например, историю
национальной литературы не как историю произведений (их взаимных
перекличек, внутри- и внелитературной рецепции), жанров,
проблем или мотивов, а как историю «творцов». Для социологии же
именно здесь и располагается специфический объект изучения:
поскольку литература есть социальный институт или, по
терминологии Бурдье, особое «поле» социальной деятельности, у этой дея-
2 Я, конечно, упрощаю, и в своей собственной исследовательской практике
Бурдье постоянно строит системы социальных практик. Особенность их,
пожалуй, в том, что их устройство не дискретное, а аналоговое; где филологи
(лингвисты, теоретики литературы) чертят таблицы с четко разграниченными
клетками, там Бурдье рисует свои диаграммы «полей», области и элементы
которых плавно перетекают друг в друга.
3 О двух версиях опоязовской теории литературного быта —
социологической и семиотической — см. ниже в статье «Открытие "быта" русскими
формалистами».
Теория писательства и письмо теории
47
тельности обязательно должны быть «агенты», и их поведение —
в отличие от продуктов их деятельности — носит не текстуальный,
а практический характер. Оттого-то и есть смысл разграничивать
«текстологическое» понятие автор, непосредственно связанное с
«произведением» (в современной теории автор мыслится чаще
всего даже как имманентный элемент произведения, его более или
менее имплицитное «действующее лицо»), и социологическое
понятие писатель, отсылающее к практической системе социальных
агентов4.
При формировании института писательства и конкретных
социальных отношений между разными его представителями,
образующими в сумме «литературное поле» (Бурдье иллюстрирует это
анализом отношений между персонажами романа Флобера
«Воспитание чувств»), совершенно специфическую роль играет фактор
времени. Это не диахроническое время системных
трансформаций, с которым имеют дело историки языка или литературы; это
и не психологическое время переживания эстетического объекта,
с которым работают эстетика и герменевтика; это время
практического проекта — время расчета, целеполагания и движения к
цели, которое может хронологически растягиваться, превосходя
длительность жизни самого литературного «агента»-писателя.
На «рынке символических благ», где действуют такие агенты,
выделяются две категории «предприятий» — с коротким и
длинным циклом окупаемости. К первой принадлежат популярные
бестселлеры, официозные или эпигонские произведения,
рассчитанные на быстрый и недолговечный успех (символический или
коммерческий: в эпоху автономизации литературного поля эти два
капитала конвертируются друг в друга); ко второй категории
относятся «проклятые» писатели — будущие классики, которые ни в
коем случае не должны получить признания раньше времени; они
делают специальные жесты, чтобы ссориться с публикой и
предупреждать преждевременные роды своей репутации; их успех
запланирован на дальнюю, возможно даже посмертную
перспективу. Очевиден экономический редукционизм такой схемы: в ней
писатель, создающий книги, ничем не отличается от издателя,
распространяющего книги чужие, — тот ведь тоже может либо
ориентироваться на стремительный оборот однодневок, либо
приобретать впрок шедевры, которые еще не скоро получат себе признание
и рыночный спрос; эти издательские стратегии Бурдье тщательно
анализирует со статистикой в руках. И вот посредством таких
стратегий, в ходе расчетливой «алхимической» игры со временем вы-
4 Ср. вопрос, которым Б. Эйхенбаум резюмировал проблематику
«литературного быта»: «как быть писателем?».
48
Поступки и идеи
рабатываются символические — в данном случае литературные —
ценности, вместе с иллюзией, благодаря которой они кажутся нам
вообще чуждыми экономике и расчету:
Такое видение вещей, когда аскезу в земном мире делают
предпосылкой загробного спасения, имеет своим принципом
специфическую логику символической алхимии, когда инвестиции должны
окупаться лишь в том случае, если они тратились (или казалось, что
тратились) безоглядно и бескорыстно, как будто даром, когда
обеспечить ценнейший из ответных даров — «признательность» — можно
лишь переживая свой дар как безответный; и, аналогично с даром,
который превращается в чистый акт щедрости благодаря оккультации
ответных даров, здесь экраном служит временной промежуток,
скрывающий прибыль, которую сулят самые бескорыстные инвестиции5.
Время всегда трактовалось у Бурдье как главный фактор
практики в отличие от теории: человек практики, находясь в процессе
игры (illusio), вовлечен во временное развертывание событий и не
может озирать их с птичьего полета, из панхронической
перспективы6. Время приводит в действие механизм самообмана,
оккультации реальной логики вещей, который в марксистской традиции
называется «идеологией». Но у Маркса идеология возникает
вследствие раскола общества на классы и другие группы,
заинтересованные в «неузнавании» реальности, а по Бурдье аналогичный процесс
развивается вообще в любой практике — не только классовой или
групповой, но и индивидуальной. В том числе и в практике
литературной.
Литературный процесс не сводится к процессу создания
литературных произведений, он включает в себя и выработку их
оценок:
5 Pierre Bourdieu, Les règles de l'art, P, Seuil, 1992, p. 211.
6 Делая упор на факторе времени, Бурдье смыкается со своим
конкурентом в социологии современной цивилизации — Жаном Бодрийяром. Именно
с точки зрения темпорального подхода к жизни общества оба они критикуют
К. Леви-Стросса за вневременной взгляд на вещи через пространственные
структуры, подобные структурам соссюровского «языка». Правда, типология
темпоральных форм современности у них разная; у Бодрийяра она включает не
только рациональное время личного или группового практического проекта, но
и тератологические формы темпоральности (апокалипсис, раковое разрастание
и т.д.), действующие на уровне общества в целом и неподвластные чьей-либо
сознательной воле. См. об этом: С. Зенкин, «Жан Бодрийяр: время симуляк-
ров», в кн.: Жан Бодрийяр, Символический обмен и смерть, М., Добросвет, 2000,
с. 5-40.
Теория писательства и письмо теории
49
...наука о произведениях имеет своим предметом не только
материальное производство произведения, но и производство ценности
произведения или, что то же самое, веры в его ценность7.
Многочисленные акты институционализации — оценки,
признания, освящения — имеют не меньшее значение для развития
литературы, чем собственно деятельность писателя, пишущего
книги. В литературный процесс, наряду с творческой работой
литераторов, входит и оценочная деятельность критиков, отборочная
деятельность издателей, присвоение писателям наград и премий,
судебные процессы против них... Сюда же относится и
бесчисленное множество нефиксируемых, недокументируемых бытовых
высказываний с литературными оценками. Читатели, мы все,
участвуем в литературном процессе не только как пассивные
потребители книг, но и как взыскательные оценщики. Из
взаимодействия этих оценок — часто противоречащих одна другой, но в итоге
дающих некоторую результирующую, — образуется «вера в
ценность произведения», не всегда и не вполне фиксируемое в каких-
либо текстах и документах отношение общества к произведению.
Следует подчеркнуть этот последний момент, недостаточно
эксплицированный у Бурдье: в отличие от самих произведений
литературы, «вера в ценность» этих произведений не имеет
текстуальной природы — она может выражаться, например, чисто
статистическими данными о количестве купленных или взятых в
библиотеке экземпляров произведения; она может даже иметь и
денежное выражение (издательскую прибыль) — и все же
включаться в содержание «литературного поля» наравне с текстами
литературы.
Историко-литературное время имеет кумулятивную природу:
поскольку история произведений образуется из
накладывающихся друг на друга общественных оценок — актов критики,
канонизации, поддержки, прославления, критического анализа,
теоретизирования на основе новых произведений, — то она необратима и
развивается не как цепь наследования, транслирующего «вечные
ценности» классической традиции, и не как цепь революций,
отрекающихся от старой традиции, а как накопление, где ничто не
отбрасывается, даже заведомо устаревшие книги и суждения о них:
История поля является реально необратимой, а продукты этой
относительно автономной истории обладают кумулятивной формой8.
7 Pierre Bourdieu, Les règles de Van, p. 318.
8 Ibid., p. 337.
50
Поступки и идеи
В такой истории сами писатели, «агенты» литературного поля,
оказываются не только активными субъектами, но и объектами
институционализирующей деятельности извне. Писатель — это не
всякий, кто пишет книги; статус писателя вытекает из оценки,
которую общество присваивает автору книг; можно сказать, что
«писатель = автор + признание». Общество решает, кто является
писателем, а кто нет, и за преимущественное право это делать в
обществе идет борьба:
Один из важнейших предметов литературного (и не только
литературного) соперничества — это монополия на литературную
легитимность, то есть, помимо прочего, монопольное право авторитетно
говорить, кому дозволено называться писателем (или художником),
или даже просто говорить, кто является писателем; если угодно, это
монопольное право освящения производителей или произведений9.
Можно проиллюстрировать эту идею известным эпизодом
истории советской литературы. Когда на судебном процессе
против Иосифа Бродского судья спрашивала подсудимого: «кто вас
назначил поэтом?» — то в этом вопросе, конечно, звучал грубый
произвол, поскольку суд решал не только литературную, но и
житейскую, гражданскую судьбу поэта; однако в пределах
собственно литературного поля такой вопрос не лишен смысла — поэтом,
писателем не рождаются и даже не становятся, а признаются.
Другое дело, что оценки, которыми формируется это признание,
конечно, не сводятся к оценкам официальных инстанций, а
нередко и идут им наперекор. Неправый, одиозный советский суд,
отказавшись признать молодого Бродского «поэтом», отправив его
в ссылку за «тунеядство» (то есть за непринадлежность к
социальным институциям), на уровне автономного литературного
поля этим своим актом сам же как раз и «назначил» его гонимым
поэтом, наделил его символическим капиталом, литературной
«биографией» (Ахматова: «какую биографию делают нашему
рыжему!»). Вообще, по Бурдье, у писателя, в отличие от внутритек-
стуального автора, обязательно есть биография. Он не может быть
никому не ведомым лицом; если фактов его жизни недостаточно,
их выдумывают или заменяют фактами репутации его творчества.
Такая операция — придумывание авторской биографии —
типична для современной культуры, где состоялась автономизация
литературного или художественного поля; Бурдье приводит в пример
ситуацию так называемых «наивных» художников, например Та-
9 Ibid., р. 311.
Теория писательства и письмо теории
51
моженника Руссо, чья культурно «пустая» личность становится
местом приложения внешних формирующих сил10.
На противоположном полюсе кумулятивной истории
литературы — и в этом, пожалуй, самый изящный и провокативный
поворот, который придает своей идее Бурдье, — занимает свое
место глубокая литературно-художественная рефлексия, теория
литературы. Не только критический анализ текущих произведений,
но и построение общих концепций, по необходимости опираясь
(сознательно или нет) на современную художественную
продукцию, включается в развитие литературного поля. Как замечает
Бурдье, категории, которыми пользуется литературная теория, —
это часто более или менее очищенные, отшлифованные и отреф-
лектированные категории литературной борьбы, боевые лозунги и
даже уничижительные ярлыки, создававшиеся одними
художественными направлениями в борьбе против других («романтизм»,
«реализм», «декаданс» и т.д.):
Изначально придуманные, как правило, для оскорбления или
осуждения (собственно, само наше слово «категория» происходит от
греческого katègorein, «публично обвинять»), эти боевые концепты
мало-помалу становятся техническими категоремами, которым
критическое препарирование произведений и академические трактаты с
диссертациями придают облик вечности благодаря забвению их
происхождения11.
Перед нами вновь время практического «неузнавания», в
данном случае забвения первоначального смысла, позволяющее по-
новому, с беспристрастной научностью использовать слово,
взятое из горячих схваток за «монополию легитимации». Пусть даже
не все теоретические категории — изначально пейоративы, но все
10 Одна из участниц моего аспирантского семинара по теории литературы
в РГГУ предложила сравнить такой процесс с историей, рассказанной в
романе Натали Саррот «Золотые плоды»: некая книга, о содержании которой мы
ничего толком так и не узнаем, последовательно проходит все стадии
общественно-критической рецепции, образуя тем самым полноценный сюжет
вторичного, металитературного романа. Отличие от построений Бурдье
заключается лишь в том, что для него единицей литературного поля все-таки является
не текст (пусть даже «нулевой», неизвестный), а именно писатель или
художник, живой «агент» социальной практики. Если искать этому иллюстрацию в
его родной французской литературе, то ею скорее окажется другое
произведение — новелла Андре Моруа «Карьера», жизнеописание писателя, который
ничего, собственно, так и не написал, но, постоянно «позиционируя» себя в
соответствующем поле (заявлениями о намерениях, замыслах и т.д.), составил
себе прочную литературную репутацию.
11 Ibid., р. 409.
52
Поступки и идеи
же бесспорно, что в большинстве, несмотря на массированный
импорт понятий и терминов из других наук (например, из
лингвистики в эпоху структурализма) они так или иначе окрашены
литературной и литературно-критической практикой, из которой
они выросли; их никогда невозможно до конца отмыть от
злободневной ангажированности. С этой точки зрения Бурдье
интерпретирует, например, историю концепций «чистой» литературы,
освобожденной от внешнего содержания: она идет от полемических
деклараций писателей XIX века, сторонников «искусства для
искусства», и тянется вплоть до научных теорий
формалистического литературоведения XX века (насколько Бурдье был с ними
знаком). Движущая сила этой эволюции — процесс автономизации
литературного поля, его обособления от других социальных полей
(скажем, политического), в ходе которого научная теория
выполняет социально ангажированную функцию; просто в данном
случае это ангажированность не классовая, а, скажем, «цеховая» —
наука о литературе способствует независимости самой литературы.
При всех своих устремлениях к объективности, литературная
теория не свободна от истории литературных оценок и репутаций; ее
письмо, как ни строго выстроен ее метаязык, — это по-прежнему
литературное письмо.
Вывод, который отсюда следует, — неистребимый релятивизм
не только литературно-художественных оценок, но и, что еще
важнее, общетеоретических понятий. Возникая не только из
абстрактно-познавательных задач науки, но и из практических,
политических в широком смысле задач борьбы, они не дают надежного
критерия классификации. Знаменитый кризис понятия авторства
обусловлен, собственно, именно этим. Коль скоро писатель — это
не только автор, создающий произведение, но и его репутация,
создаваемая другими участниками литературного процесса, то
смысл его произведений во многом зависит не от его суверенной
воли, а от превратностей этого процесса. Репутация писателя
возникает в том же практическом времени, что и его произведения,
и общие концепции, которые из нее выводятся, неизбежно
страдают сущностным «неузнаванием» и подлежат
«демистификации» — всякий раз неполной. Причиной пресловутой «смерти
автора» является, таким образом, не абстрактно постулированный
интерпретативный произвол радикальных критиков и теоретиков,
а конкретное осознание структуры литературного поля,
подчиняющего автора своим надличным законам. Так логические выводы
из литературной социологии Пьера Бурдье смыкаются с общей
тенденцией развития теоретического литературоведения XX века,
от которого он решительно отмежевывался. И наоборот, новейшие
попытки критического пересмотра итогов развития «теории» при-
Теория писательства и письмо теории
53
водят к мысли о неистребимости фигуры автора именно
постольку, поскольку мы исходим из текста, а не из социальных
институций и «полей», где он производится и оценивается; автор —
непременная функция текста, просто ее может исполнять не только
писатель, но и, например, читатель — новоявленный,
конкурирующий автор вроде борхесовского Пьера Менара12.
Похоже, что отношение Бурдье к филологии и литературной
теории было амбивалентным: отмежевываясь от нее как
методологически сознательный социолог, он нет-нет да искал точек
соприкосновения или параллелизма между этими дисциплинами.
Об этом свидетельствует и приведенная в начале сноска из
«Практического смысла», и, например, такая высказанная в
«Правилах искусства» многообещающая «гипотеза о гомологии
двух структур»:
...структура объективных отношений между позициями в поле
производства (и занимающими их производителями) и структура
объективных отношений между занимаемыми позициями в пространстве
произведений13.
Эту вторую структуру, действующую «в пространстве
произведений», следует, видимо, понимать как структуру текстуальную;
например, как пишет Бурдье в другом месте той же книги, такова
социокультурная структура распределения стихотворных размеров
во французской поэзии конца XIX века — от «классического»
александрийского стиха до «авангардного» верлибра. А раз так, то
постулируемая — но, разумеется, недоказанная, недоказуемая —
гомология двух структур фактически подразумевает единый
принцип, регулирующий как текстуальные, так и внетекстуальные
(«практические») факторы литературы. Определить этот высший
принцип, очевидно, не в состоянии ни филология, ни социология
в отдельности, это их обоюдный предел, слепая точка.
Социология литературы Бурдье, сформулированная на самом
излете «теоретической» поры в развитии мировой науки о
литературе, не то чтобы подвела ей итог, но кое-что в ней прояснила.
Дополнительная к филологии благодаря своему интересу к
нетекстуальным (в частности, поведенческим, «писательским»)
факторам культуры и литературы, противопоставленная ей в анализе
«практического» времени литературного поля, оригинально
развившая марксистско-фрейдистскую проблематику творческого
12 См.: Антуан Компаньон, Демон теории, М., изд-во им. Сабашниковых,
2001, глава вторая.
13 Pierre Bourdieu, Les règles de l'art, p. 324—325.
54
Поступки и идеи
«неузнавания» (забвения, неведения), которое составляет
предпосылку культурно-творческой деятельности, — эта социология
оказалась сильным интеллектуальным вызовом для
«литературоведения», этого традиционного монополиста в изучении
художественной словесности. Оказалось, что ряд важных факторов
литературы не поддается исследованию его традиционными методами;
а значит, теоретическая рефлексия о литературе, вообще вся
структура гуманитарных наук больше не может оставаться такой, какой
она была до Бурдье.
2003
МИКРОИСТОРИЯ И ФИЛОЛОГИЯ
Сходство между микроисторией и филологией кажется
довольно очевидным. По крайней мере, в той своей версии, что
ориентирована на культурную, а не на социальную контекстуализацию1,
метод микроистории выражает собой «лингвистический поворот»
в исторической науке, которая ныне в большей степени принимает
в расчет язык документов прошлого и подвергает самокритике
риторику своего собственного дискурса; микроистория — одна из
форм реакции на эту самокритику, попытка очиститься от
риторических иллюзий исторического дискурса. И тот и другой жест
обращают историю к проблематике языка, которой обычно
ведает филология (а также и художественная литература). Далее,
микроистория попыталась методологически обновить историю ее же
собственными средствами, избегая философской спекуляции и не
прибегая к систематическому использованию методов других
гуманитарных или социальных наук2, что также походит на
склонность филологии к дисциплинарному самосохранению и
самоизоляции. Наконец, показательно, что некоторые из видных
представителей микроистории в ходе своей научной эволюции
естественно сблизились с прямыми задачами филологии — стали
изучать, например, эволюцию эстетических идей или даже
анализировать кое-какие тексты классической литературы; речь идет
прежде всего о Карло Гинзбурге, чье творчество будет служить
основным материалом данной статьи3.
1 См.: Edoardo Grendi, «Repenser la micro-histoire?», dans Jeux d'échelles: La
micro-histoire à l'expérience, textes rassemblés et présentés par Jacques Revel, P., Le
Seuil/Gallimard, 1996, p. 235.
2 «...Микроанализ представлял собой своего рода "итальянский путь" к
более развитой (и теоретически лучше обоснованной) социальной истории в
специфическом контексте, который был закрыт для общественных наук и в
котором доминировала историографическая ортодоксия, жестко иерархизиро-
вавшая значимость объектов». — Ibid., р. 239.
3 Возможно, нелишне будет оговориться, что мало кто из ныне живущих
ученых-гуманитариев достоин такого восхищения, как Карло Гинзбург. Его
многосторонняя образованность, чутье в поиске фактов и мастерство в их
интерпретации, сочетающиеся с острым чувством гражданской ответственности
ученого, производят эффект настоящего «чуда», которым кажутся, по
выражению его коллеги Симоны Черутти, некоторые из его исторических
реконструкций. Нижеследующая критика направлена не столько на его собственный вклад
в науку, сколько на общие рамки того способа познания, который им
применяется.
56
Поступки и идеи
Обращаясь к истории «забытых людей», маргиналов,
побежденных, микроистория совершает типичный в литературоведении
и критике жест — пересмотр канона. Однако она совершает его
радикальнее, стремясь не к установлению нового канона и даже не
к расширению старого, но к отказу от самого понятия канона.
С другой стороны, изучая частные объекты — пространства,
события и судьбы, — она не ставит себе задачи создать интегральную
карту прошлого в масштабе 1:1, не строит утопий
исчерпывающего описания той или иной культуры, что было мечтой филологии
со времен Ф.-А. Вольфа. Как и филология, микроистория
культуры работает по принципу синекдохи, разрабатывая отдельный
участок исторической реальности и делая на его основании выводы
о культуре в целом — так Гинзбург на примере мельника Менок-
кио делает выводы об общих процессах взаимодействия в Италии
XVI века «культуры господствующей и культуры угнетенных»,
большинство проявлений которого остались не
документированными в исторических источниках; но этот частный участок не
обладает никакими имманентными преимуществами, и в принципе
любой другой материал мог бы осветить культуру прошлого так же
выразительно, лишь бы о нем нашлось достаточно сведений.
Иными словами, микроистория при выборе предмета описания
успешно осуществляет то, к чему упорно, но, в общем, безнадежно
стремится филология, — деидеологизацию, отделение описания от
оценки, отказ от предвзято-канонической «истории шедевров»4.
И все же, несмотря на очевидную конвергенцию по материалу
и методу, микроистория и филология существенно различаются;
между «историей» и «литературой» сохраняется четкая граница.
Карло Гинзбург в своей статье «Приметы» признает
«нетипичный» статус филологии по сравнению с историей. Обе науки
имеют дело с познанием единичного (событий, текстов), что
заставляет их прибегать к методам «уликового», предположительного
знания. Работу историка Гинзбург соотносит с работой врача-
диагноста:
При всем том, что историк не может не ссылаться, эксплицитно
или имплицитно, на ряды сопоставимых явлений, его познавательная
стратегия, равно как и его коды выражения, остается внутренне
индивидуализирующей (даже если в роли индивидуума будет выступать
4 Этот имманентный недостаток филологии — склонность к
идеологической предвзятости, вытекающий из принципа работы с каноном, —
любопытным образом не учитывается в том пассаже статьи Гинзбурга * Приметы», где
автор, напротив, признает за филологией (критикой текстов) более
объективный научный статус, чем за историей, неспособной отвлечься от работы с
«уликами» (см. ниже).
Микроистория и филология
57
социальная группа или целый социум). В этом смысле историка
можно сравнить с медиком, который обращается к нозографическим
таблицам, чтобы проанализировать специфическое заболевание
отдельного пациента. И точно так же, как медицинское знание,
историческое познание является косвенным, уликовым, конъектурным5.
Что же касается филологии, то, хотя она тоже находится «в
области уликовых дисциплин»6, ее предмет имеет более
абстрактную природу, чем медицинский или исторический казус или
даже произведение искусства вроде картины или статуи. Текст,
особенно текст печатный, представляет собой нематериальную
сущность, которая «ни в коей мере не отождествляется со своей
опорой»7; в терминах Нельсона Гудмена, он аллографичен*, в
отличие от автографических объектов изобразительного искусства,
привязанных к своему материальному носителю. Эта изначальная
абстрактность объекта, продолжает Гинзбург, позволила
филологии, «в значительной степени сохраняя дивинационный
характер», обнаружить в себе «способность к развитию в направлении
строгой научности»9.
Можно предположить, что именно аллографичность
предмета филологии (как и, например, музыковедения) делает для этой
науки неактуальной проблему «варьирования масштаба»,
поставленную микроисторией. В филологии XX века, богатой новыми
направлениями и методами, так и не возникло никакого аналога
микроистории, никакой «микрофилологии». Действительно, как
ни приближай исследовательский объектив к литературному
тексту, он все равно останется интеллектуальным конструктом, а не
материальным объектом; если перейти эту границу, то филология
как таковая уступит место другой дисциплине — палеографии10.
5 Карло Гинзбург, Мифы — эмблемы — приметы, М., Новое издательство,
2004, с. 202—203. Перевод С.Л. Козлова.
6 Там же, с. 203.
7 Там же.
8 См.: Nelson Goodman, Languages of Art, Indianapolis — New York, Bobbs-
Merril, 1968.
9 Карло Гинзбург, Мифы — эмблемы — приметы, с. 204.
10 В современной филологии делаются попытки, пользуясь новейшими
электронными методами обработки информации, распространить
филологический анализ на такие по определению автографические объекты, как
писательские черновики; за ними признают статус как бы «одноразового» текста,
сохраняющего абстрактный характер несмотря на однократность своего
существования. Сам акт компьютерной «оцифровки» черновиков уже сообщает им
аллографическое бытие. См. антологию: Генетическая критика во Франции, М,
ОГИ, 1999 (ниже рецензия на нее — «Генезис текста и история литературы»).
58
Поступки и идеи
Любопытно, однако, что, определяя специфику филологии,
К. Гинзбург отождествляет эту науку с «критикой текста»и.
Между тем хорошо известно, что современная филология — именно та,
которая за последние два столетия развивалась «в направлении
строгой научности», — далеко не сводится к установлению
подлинности и правильности текста, то есть к проверке причинно-
следственной цепочки, приведшей от изначального «автофафа» к
нынешней, возможно, искаженной копии. Она интефировала в
себя герменевтику текста, выяснение его смысла (исторического и
трансисторического). Именно по этому параметру, а не по алло-
фафичности объекта проходят наиболее глубокие сходства и
различия между нею и историей. Их суть раскрывается оппозицией
В. Дильтея, противопоставляющей «объясняющую» и
«понимающую» науку, познание причин и познание смыслов.
Как известно, эту оппозицию уже давно критиковали,
пытались смягчить или вовсе снять такие ученые, как М. Вебер, X. фон
Вригт или П. Рикёр. Здесь не место заново обсуждать эту
проблему в полном объеме, достаточно сказать, что дильтеевская
оппозиция, отвергнутая в современных социальных науках, сохраняет
значимость в науках гуманитарных, образцом которых является
филология. Поль Рикёр в своей последней большой книге
«Память, история, забвение» (2000) заинтересованно размышляет об
«уликовой парадигме» К. Гинзбурга и отмечает, что к ней нельзя
сводить все историческое знание:
Подводя историческое познание полностью под парадигму улик,
К. Гинзбург несколько обесценивает значение понятия indice: оно
выигрывает при противопоставлении его понятию письменного
свидетельства12.
Фактически здесь имеется в виду именно оппозиция
объяснения/понимания. История работает, во всяком случае
преимущественно, не с немыми памятниками прошлого, из которых
вычленяются «признаки» (indices) этого прошлого, а со свидетельствами,
осмысленными высказываниями людей, и хотя в этих
высказываниях, конечно, могут содержаться неосознанные моменты,
которые послужат «уликами» для исторической реконструкции, но в
них всегда есть и собственный, «авторский» смысл, который
история не вправе игнорировать. Именно в той мере, в какой она
связана обязанностью учитывать не только каузальную обуслов-
11 Карло Гинзбург, Мифы — эмблемы — приметы, с. 203.
12 Поль Рикёр, Память, история, забвение, М., Издательство гуманитарной
литературы, 2004, с. 245. Перевод Г.М. Тавризян.
Микроистория и филология
59
ленность, но и интенциональный смысл документов прошлого,
история родственна филологии.
Расхождение их связано с чтением «примет». По мысли
К. Гинзбурга, в этом историческая наука сближается с
первобытным «охотничьим» знанием; развивая его гипотезу, можно
прибавить, что филология генетически исходит из другой модели
знания — из знания жреческого, нацеленного на интерпретацию
не вновь возникающих следов, а передаваемых по наследству
священных текстов, за которыми скрываются не имманентные
причины (животное, оставившее след), а трансцендентный смысл
(воля божества, внушившего людям священную формулу).
Сложность в том, что различие двух дисциплин и двух моделей
знания — неполное: как у филологии с историей, так и у жреческого
и охотничьего знания есть общая область, где они смыкаются в
своих функциях, — для первой пары это интерпретация
свидетельств, а ддя второй дивинация, гадание по приметам на основе
традиции. Характерно, что в «Приметах» Гинзбурга упоминается
только эта сторона жреческой практики интерпретации, наиболее
близкая к занятиям современного историка, хотя она, возможно,
оказалась бы менее существенной для древних историков,
которые не рассматривали себя в функции «пророков,
предсказывающих назад».
Оппозиция двух архаических видов знания имеет прямое
отношение к деидеологизации истории, решением которой занялась
микроистория. В отличие как от ангажированно-идеологической,
так и от локально-краеведческой истории, она соблюдает четкую
дистанцию между исследователем и материалом. В ней не
допускается какого-либо «вчувствования» в предметы описания и
объяснения13. Микроисторик в принципе пишет «чужую» историю; это
роднит его не столько с филологом, сколько с антропологом.
Симптоматично критическое отношение видных микроисториков
(например, Дж. Леви) именно к тем течениям в современной
антропологии (например, к работам К. Гирца), которые вызывают
наибольший отклик у филологов своей установкой на понимание
смысла чужой культуры; такая герменевтическая понятливость
беспокоит микроисторию, которая видит в ней опасность релятивиз-
13 Цитирую опять статью Гинзбурга «Приметы», примечание 49:
«Акцентирование индивидуализирующих признаков исторического знания может
вызвать настороженность, потому что такое акцентирование слишком часто
оказывалось связано с попытками положить в основу исторического познания
"вчувствование" либо же отождествить историческое познание с искусством и
т.д. Само собой разумеется, что наши рассуждения строятся в совершенно иной
перспективе» (Карло Гинзбург, Мифы — эмблемы — приметы, с. 232—233).
60
Поступки и идеи
ма и отказа от поисков объективной истины14. Действительно,
микроистория, как и история вообще, доискивается до причин
событий, она даже выражает это устремление отчетливее некоторых
других исторических течений (скажем, истории ментальностей),
потому что возвращается к нарративному, то есть каузальному или
квазикаузальному способу изложения; но в отличие от
макроистории она толкует эти причины не в дедуктивном, а в индуктивном
плане, то есть в таком, где «причина» более всего
противоположна «смыслу»:
Итак, за оппозициями разных масштабов проступает проблема
разных аргументативных риторик, которые свойственны двум
подходам, глубоко несводимым друг к другу. Макросоциологический
подход дедуктивен, он специфицирует свои доказательства исходя из
глобальной модели. С такой точки зрения каузальное построение
создается главным образом благодаря категориям, выражаемым
моделью. Вводимые в нее эмпирические данные имеют прежде всего
иллюстративную функцию, достигаемую рядом риторических и/или
стилистических операторов типизации. Микросоциологический
подход индуктивен, он индивидуализирует механизмы и обобщает их
через источники. Каузальная конструкция здесь не дана заранее, но
воссоздается по источникам, которыми пропитан объект. Риторика
здесь — генеративного типа. Эмпирические данные образуют сырой
материал, который должен позволять индивидуализацию социальных
механизмов и процессов, внеположных объекту и формирующим его
историографическим категориям15.
Как поясняет автор процитированного текста Маурицио Гри-
бауди, макроисторический подход предрасположен к эссенциализ-
му, к оперированию общими категориями (скажем, классовой
типизацией: «все буржуа были таковы» или «...поступали так»);
микроистория, напротив, эмпирична, она исследует
непредсказуемо-индивидуальные, «нормально исключительные»16 поступки
14 «Здесь, как мы видим, отражаются по сути своей иррационалистические
и эстетизирующие пределы теории Гадамера: отсутствие общего смысла
истории, который был бы чем-либо иным, чем ее герменевтическим
самоприращением [...]. Нет, таким образом, никакого критерия для различения адекватной
и неадекватной интерпретации, за исключением их способности инициировать
новые герменевтические процессы, активизировать непрерывный диалог с
прошлым и с "другим", который тем не менее не сводит тексты к объектам,
отделенным от субъекта». — Дж. Леви, «Опасности гирцизма» (1985), Новое
литературное обозрение, № 70, 2005, с. 25—31. Перевод Е. Балаховской.
15 Maurizio Gribaudi, «Échelle, pertinence, configuration», fans Jeux d'échelles,
op. cit., p. 114.
16 Термин-оксюморон другого итальянского микроисторика Эдоардо
Гренди.
Микроистория и филология
61
исторических агентов, несводимые к абстрактным категориям и
вытекающие из их свободной самодеятельности. У такой
самодеятельности, пожалуй, есть свой смысл — но это имманентный
«практический смысл» (П. Бурдье), образуемый
целесообразностью действий и реакций на внешние факторы. Такой смысл
существенно отличен от трансцендентного историческому агенту
смысла — от социокультурных типов-сущностей, а тем более от
историософских законов, выражаемых идеологическими
нарративными схемами.
Однако имманентные мотивы поступков отличаются большей
однозначностью, чем их трансцендентные интерпретации, —
просто потому, что первые устанавливаются одним историческим
агентом в один определенный момент и в одной определенной
ситуации, а вторые — многими историками, работающими в
разное время и в рамках разных теоретических концепций.
Ограничивая себя поиском имманентных мотивов-причин, микроистория
оказывается связана лишь со скомпрометированной
позитивистски-фактологической версией филологии и остается глуха, если не
враждебна, к таким передовым ее течениям, как (пост)структура-
лизм и герменевтика, которые работают не с причинами, а со
смыслом (по-разному трактуемым) литературы и культуры в целом.
Яростная критика постмодернизма, проходящая сквозь ряд работ
К. Гинзбурга, имеет, вероятно, именно этот источник — желание
остаться в рамках объяснительной, а не понимающей, каузальной,
а не герменевтической парадигмы, удержаться от опасного,
чреватого многозначностью увлечения смыслом, грозящего увлечь
доказательную историческую реконструкцию в произвольность
исторического романа. Устами К. Гинзбурга микроистория заявила
о методологическом родстве своей «уликовой парадигмы» с
детективным сыском17 — моделью познания, которая хоть и
практикуется более или менее стыдливо в филологии, но в принципе
отвергается ею как измена высоким задачам культуры, когда постижение
внутреннего смысла литературного произведения подменяют
расследованием его более или менее внешних «причин», когда
вместо раскрытия многозначности и неисчерпаемости текста публике
предъявляют какой-либо простой и однозначный «ключ» к нему
(биографический, политический и т.п.).
Примером различия филологического и микроисторического
подходов может служить попытка К. Гинзбурга использовать в
своем анализе столь важное понятие современной филологии, как
понятие диалогического слова. В ряде работ, основанных на ма-
17 Карло Гинзбург, «Приметы», Мифы — эмблемы — приметы, с. 191—192,
215-218 и др.
62
Поступки и идеи
териалах судебных (инквизиционных) процессов, он мастерски
прослеживает риторические стратегии каждой из сторон,
интерпретирует синтагматический смысл каждой реплики, а в статье
«Колдовство и народная набожность» делает важный
теоретический вывод о структуре такого рода диалогов: по его мысли,
влияние судьи на ответы подсудимого (с помощью пыток и техники
допроса), конечно, имеет место, «однако встречаются и случаи
вроде рассматриваемого, когда все это воздействие не может
заставить ведьму полностью отречься от своей воли и в конечном
счете признательные показания подсудимой оказываются
своеобразным компромиссом между самой подсудимой и судьей»18.
«Компромисс» — важнейший термин, который задает в
диалогических отношениях между историческими агентами логику торга,
то есть такого диалога, где оба участника сохраняют свое
противостояние и борются за его сохранение. Есть, однако, и другой вид
диалога, который основан на тесном взаимопроникновении
дискурсов, отзывающихся друг на друга каждым словом в контексте
либо любовного сближения, либо полемического противоборства.
Этот второй тип диалога, или «интертекстуальность», интенсивно
изучается в последние десятилетия филологами, обычно с опорой
на металингвистику Бахтина. Два типа диалога несовместимы, и их
различие нужно четко сознавать19. Между тем К. Гинзбург в
другой своей статье («Голос другого. Восстание туземцев на
Марианских островах») фактически пытается их примирить и привлекает
себе в союзники именно Бахтина:
В книге «Проблемы поэтики Достоевского» (1929) великий
русский критик Михаил Бахтин проводит различие между текстами
монологическими (или монофоническими), где доминирует более или
менее скрытый голос автора, и текстами диалогическими (или
полифоническими), где разыгрывается конфликт между
противоположными мировоззрениями, а автор не принимает в нем ничью сторону.
В числе примеров этой второй категории Бахтин называет диалоги
Платона и романы Достоевского. Никому не пришло бы в голову
поставить в один ряд с ними агиографическое по своим интенциям
повествование вроде «Истории Марианских островов» Легобьена
[иезуита XVIII века]. Однако сама идея представить точку зрения туземцев
18 Карло Гинзбург, «Колдовство и народная набожность», Мифы —
эмблемы — приметы, с. 41—42.
19 Татьяна Бенедиктова избегает опираться на Бахтина при описании
«дискурса торга», хотя не раз ссылается на него с связи с рядом других общих
проблем. См.: Татьяна Бенедиктова, Разговор по-американски. Дискурс торга в
литературной традиции США, М., Новое литературное обозрение, 2003.
Микроистория и филология
63
через речь Хурао [вожака мятежников] может рассматриваться как
попытка ввести в книгу намеренный диссонанс, который включает в
монологическое по основной своей сути повествование диалогическое
измерение20.
Гинзбург соблюдает все меры предосторожности:
предостерегает против ценностного уравнивания книг Платона или
Достоевского с сочинением французского иезуита, подчеркивает, что в
этом сочинении делается всего лишь «попытка» ввести
«диалогическое измерение» в «монологическое по основной своей сути
повествование». Остается, однако, невыясненным главное — и
важнейшее — различие между текстом Легобьена и диалогическим
словом, как его мыслил Бахтин: в «Истории Марианских островов»
голос Другого (в данном случае непокорного туземца) лишь
включен в синтагматическую развертку текста, ему там выделено
определенное место — фрагмент прямой речи, соответствующий речам
«дунайского крестьянина» из бродячего притчевого сюжета, с
которым Гинзбург блестяще связывает генезис данного
риторического пассажа в книге французского иезуита. Напротив того, в
диалогическом слове по Бахтину — или в интертекстуальном слове по
Ю. Кристевой, предложившей расширенную трактовку бахтинско-
го диалогического принципа, — чужое слово накладывается на
слово основного рассказчика, коэкстенсивно ему, звучит
непосредственно в нем самом, благодаря жестам микроцитации,
речевой оглядки, агрессии, иронии (в частности, сократовской) и т.д.
Этот процесс взаимопроникновения двух дискурсов делает
диалогическое слово неоднозначным и открытым для бесконечной
реинтерпретации; Гинзбург же заменяет его гораздо более
однозначным процессом торга-словопрения, где каждая сторона — и
иезуиты-европейцы, и туземцы-мятежники — последовательно
и отдельно заявляет свою правду. Единственный момент, где
гладкая протяженность этой двуролевой риторики дает «трещину»,
связан, по мысли историка, не со взаимоналожением разных
дискурсов, а с нечаянным вторжением в дискурс конкретной референ-
циальности, материальной реальности — в данном случае это
пересказанные автором-иезуитом слова дикаря о крысах, которых
европейские корабли завезли на их острова:
Анализировать стратегии автора за защитной стеной
единственного текста было бы в каком-то смысле успокоительным занятием.
В такой перспективе говорить о реальности, располагающейся по ту
сторону текста, было бы чисто позитивистским ухищрением. Однако
20 Carlo GiNZBURG, Rapports deforce, P., Gallimard, 2001, p. 76.
64
Поступки и идеи
в текстах бывают трещины. Из той трещины, которую я нашел,
возникает нечто неожиданное — полчища крыс, которые разбрелись по
свету, этакая оборотная сторона нашей «цивилизаторской миссии»21.
Нет сомнения в доброй воле исследователя, стремящегося с
помощью понятия диалога объяснить становление
первоначальных понятий о культурной относительности. И все же
симптоматична осуществленная им редукция: принимая без рефлексии
непроходимую преграду между словом историка и словом
исторических лиц, микроисторик тем более не слышит диалогических
интенций в речи последних. Если при анализе речевых
взаимодействий, протекающих на «низком» уровне вроде инквизиционного
процесса над ведьмой или еретиком, схема «торгового» дискурса
оказывается вполне адекватным объяснительным средством, то
при выходе в «высокую» письменную культуру, будь то даже не
самое вьщающееся историческое сочинение XVIII века, она сразу
же оказывается недостаточной, и исследователь пытается
эклектически усложнить ее, объединив с бахтинской теорией
диалогического слова.
Ориентация микроистории на «индуктивную» причинность,
действующую не на уровне макросоциальных процессов, а в
частном опыте и сознательном горизонте исторического агента,
предполагает повышенную ответственность последнего за свои слова
и поступки: это его слова и поступки, они не навязаны ему
никакими абстрактными сущностями. Но отсюда следует и еще один
вывод: поступки индивида оказываются более весомыми, чем его
слова, именно потому, что в поступках яснее, чем в словах,
проявляется каузальный, а не смысловой детерминизм. Соотносясь с
таким типичным филологическим жанром, как биография
писателя, микроистория тяготеет скорее к событийной, чем к
интеллектуальной биографии. И хотя в некоторых классических работах по
микроистории, таких как «Сыр и черви» К. Гинзбурга, предметом
исследования является говорящий и пишущий индивид — тем
более интересный и «нормально исключительный» тем, что по
социальному положению ему вообще-то полагалось бы молчать, —
хотя биография этого философа-самоучки сопровождается
внушительным историко-идейным комментарием, который сделал бы
честь любому филологическому исследованию, вместе с тем
некоторые другие работы того же К. Гинзбурга по истории идей и
профессиональных идеологов (философов, писателей и т.д.)
демонстрируют тенденцию сводить идеи ко внекультурным причинам.
Речь идет о тех статьях, где осуществляется, порой с немалым блес-
21 Ibid., р. 82.
Микроистория и филология
65
ком и аналитическим мастерством, обличение того или иного
исторического — или даже историографического — дискурса,
компрометируемого «истинными» мотивами его автора. И если,
скажем, в случае колониалиста-прожектера XVIII века Жан-Пьера
Пюрри, написавшего специальный трактат с теоретическим
оправданием рабства в колониях22, это обличение уместно, поскольку
идеологическая направленность данного дискурса очевидна и
нескрываема, то сложнее обстоит дело с теоретиками
«постмодернистского» релятивизма, которых Гинзбург темпераментно
обличает в предисловии к своей книге «Силовые отношения» (или, как
она называлась в первом американском издании, «История,
риторика и доказательство»).
Заменяя, как это ему вообще часто свойственно, теорию
предмета его историей23, Гинзбург разбирает «случаи» двух теоретиков
исторического релятивизма — Фридриха Ницше и Поля де Мана.
У обоих проповедь релятивизма симптоматическим образом
(в смысле, какой слово «симптом» имеет в психоанализе, то есть
в рамках уликовой парадигмы) связана с биографической
двойственностью авторской личности: для Ницше это тяжело
переживавшийся им «эдиповский» разрыв с христианством, для Поля де
Мана — коллаборационизм во время войны, память о котором он
пытался вытравить24. Гинзбург избегает прямых каузальных
утверждений типа «был не в ладах с собой — поэтому и в истории
проповедовал релятивизм», однако такая каузальная логика
прозрачно выступает из общей тенденции его полемического предисловия:
биографические сведения о теоретиках с очевидностью приводятся
с целью дискредитации их теорий. При этом талант и
историческое чутье даже здесь, в ситуации пристрастной полемики, не изме-
22 См.: Карло Гинзбург, Широты, рабы и Библия: Опыт микроистории, М.,
РГТУ, 2003.
23 То же самое он делает с «уликовой парадигмой» в статье «Приметы» и с
самой микроисторией — в статье «Микроистория: две-три вещи, которые я о
ней знаю». Строго говоря, оправданность такого приема неочевидна: в нем
неявно предполагается, что истина находится в прошлом и понять ее можно,
глубоко прослеживая историю прежних концепций предмета. Возможна,
однако, и противоположная гипотеза — что истина не в прошлом, а в будущем,
что история, по крайней мере история познания данного предмета, была
историей заблуждений. Предлагаемый (но лишь на практике, без рефлексии)
Гинзбургом методологический прием изначально зиждется на ценностном
выборе между этими двумя гипотезами, то есть является идеологически
ангажированным, имплицитно консервативным.
24 См.: Carlo Ginzburg, Rapports deforce, p. 21—28. Ср. полемику с этим
текстом в статье: Сэнд Коэн, «Историография и восприятие французской теории
в Америке», в книге: Республика словесности: Франция в мировой
интеллектуальной культуре, М., Новое литературное обозрение, 2005, с. 152—156.
66
Поступки и идеи
няют Гинзбургу: он нащупывает действительно важную проблему
неоднозначности человеческой личности, ее права противоречить
себе (в свое время Бодлер называл это право одним из до сих пор
не признанных прав человека) и возможного несоответствия между
«жизнью» и «творчеством». Но это уже проблема смысла, а не
причинности, проблема филологии, а не микроистории, а объяснение
Гинзбурга кажется предвзятым и трудно доказуемым: в конце
концов, исторический релятивизм утверждали и утверждают многие
теоретики — неужели у всех них следует доискиваться до какой-то
более или менее постыдной раздвоенности?25
Эта тенденция биографической редукции или
«биографической ереси» (biographical fallacy), уже более полувека подвергаемая
критике в теории литературы, парадоксальным образом
возвращает в анализ микроисторика идеологическую оценочность, которую
его метод успешно исключал на стадии отбора материала. От того,
что эта оценочность открыто заявлена историком, она не перестает
быть искажающим фактором, фактором упрощения.
Чтобы понять глубинную причину такого упрощения,
обратимся еще к одной работе Гинзбурга, которая, строго говоря,
выходит за рамки микроистории, поскольку охватывает очень
длительный временной период, от Платона и Аристотеля до наших
дней. Это большая статья «Миф», включенная в сборник
«Деревянные глазки» (во французском переводе он озаглавлен «На
расстоянии»). Понятие мифа рассматривается здесь в
эпистемологической перспективе: миф есть ложное, вымышленное знание, и
задача состоит в его деконструкции (пусть и не в смысле Деррида
или Поля де Мана), в анализе тех неявных предположений, от
которых зависит возможность его создания и циркуляции в
обществе. В ходе этого блестящего анализа — историко-идейного, то
есть практически неотличимого от филологического, — автор
исключает из рассмотрения, и, пожалуй, даже сознательно, как раз
ту линию в осмыслении мифа, благодаря которой это понятие
сделалось одним из самых значимых, самых увлекательных, а также
и самых опасных понятий культуры XIX—XX веков, а именно
линию реабилитации мифа начиная с конца XVIII века и в
последующую эпоху. Для сравнения можно сопоставить статью
Гинзбурга с работой Жана Старобинского — историка идей, воспитанного
на филологической культуре, — «"Мифы" и "мифология" в XVII—
25 Одним из таких теоретиков был Пол Фейерабенд — и Гинзбург в
критике его воззрений опять-таки идет по пути компрометации личности автора,
выискивая в его собственных воспоминаниях данные о близости его ранней
мысли к идеологии нацизма (см.: Carlo Ginzburg, «Style», in: A distance: Neuf
essais sur le point de vue en histoire, P., Gallimard, 2001, p. 139—143).
Микроистория и филология
67
XVIII веках»26. Старобинский, признавая роль «баснословия»
(fable) в моралистическом дискурсе классической эпохи, где
знание мифов служило условным знаком образованности, а
мифологические сюжеты могли использоваться в целях
просветительского разоблачения пороков (то есть, парадоксальным образом, в
целях противоположных лжи, для борьбы с нею), показывает
недовольство мыслителей XVIII века таким упрощенным
пониманием мифа и закономерность ценностной реабилитации
«мифологии» в преромантическую и романтическую эпоху. Что же касается
Гинзбурга, то он, конечно, знает об этом процессе, но упоминает
о нем лишь совсем кратко в одном из примечаний к своей статье,
как нечто затемняющее истинное представление о мифах:
...романтическая идея, согласно которой миф как таковой
представляет собой путь к некоей более глубокой истине, остается чуждой тому
обсуждению проблемы, что было начато Платоном. Именно
ретроспективная, часто бессознательная проекция романтических взглядов
на миф мешала до сих пор понять связь между «Федром» и
«Софистом», которая, напротив того, образует отправную точку
вышеизложенного27.
Возможно, Гинзбург и прав в своем толковании платоновских
диалогов — но ведь его статья отнюдь не ограничивается ими, она
доводит анализ вплоть до нашей современности. В такой
перспективе его квазиумолчание о «романтических взглядах на миф»
ведет к искусственной гомогенизации культуры28. В самом деле,
культура состоит не столько из отчетливых идей, сколько из более
сложных и разнородных структур, включающих в себя, между
прочим, так называемые «мифы», и их позитивное исследование
составляет задачу филологической истории культуры. Однако
микроистория К. Гинзбурга уклоняется от этой задачи, стремясь не
26 См.: Жан Старобинский, Поэзия и знание: История литературы и
культуры, М., Языки славянской культуры, 2002, т. 1, с. 85—109.
27 Carlo GiNZBURG, À distance: Neufessais sur le point de vue en histoire, p. 202.
28 У одностороннего подхода к мифу, демонстрируемого Гинзбургом, есть
любопытное соответствие в теории недолюбливаемого им французского
(пост)структурализма. Я имею в виду оппозицию понятий мифа у двух
крупнейших французских теоретиков 1950-х годов: антрополога Клода Леви-Строс-
са, рассматривавшего первобытные мифы как орудие мышления, дающее по-
своему эффективную модель добычи знаний, и семиолога (филолога-эллиниста
по образованию, но в данном случае представлявшего «историческую» точку
зрения) Ролана Барта, который расценивал современные мифы
исключительно как орудие идеологического обмана. Первый представлял собой
«романтическую» линию изучения мифов, второй — «античную».
68
Поступки и идеи
отрывать идеи от их материальной подкладки и в очередной раз
отказывая культуре в праве на многозначность, неопределенность
смысла, которою, как известно, отличаются мифы.
Если вновь обратиться к практике микроистории, то
показательно, каким образом сам Карло Гинзбург обращается с
оригинальным космогоническим мифом, найденным им в материалах
судебного следствия над мельником XVI века Меноккио.
Последний в своих показаниях излагал его так:
«Я говорил, что мыслю и думаю так: сначала все было хаосом, и
земля, и воздух, и вода, и огонь — все вперемешку. И все это сбилось
в один комок, как сыр в молоке, и в нем возникли черви и эти черви
были ангелы...»29
Исследователь, конечно же, не прошел мимо этого
живописного рассказа: он подробно процитировал его, изложил и
проанализировал его восприятие слушателями-инквизиторами, указал на
параллели в мифологии ряда других, в том числе весьма удаленных
от Италии народов, наконец вынес два его опорных слова — «сыр»
и «черви» — в заголовок своей собственной монографии. Тем
более значимо, что он не сделал никакой попытки внутреннего
семантического анализа самого этого мифа, в котором можно было
бы обнаружить ряд важных смысловых элементов и оппозиций
(например, оппозицию дискретных и континуальных субстанций,
теорию самозарождения жизни из тверди и т.д.). Вместо анализа
смысла мифа он дает каузальное объяснение натурфилософии
мельника Меноккио, якобы обусловленной всего-навсего его
житейским опытом:
На самом деле Меноккио нашел свою космогонию не в книгах
<...>. Меноккио видел не раз и не два, как в сгнившем сыре
появляются черви, и опирался на этот опыт, чтобы объяснить, как живые
существа — первые и лучшие, ангелы — возникают из хаоса...30
Стараясь избежать культурно-исторического редукционизма,
сводящего идеи простых людей к прочитанным ими книгам,
историк зато впадает в другой редукционизм,
вульгарно-материалистический, когда творения ума сводятся к чувственному опыту
индивида. Это, конечно, позволяет снять вопрос о познавательной
29 Карло Гинзбург, Сыр и черви: Картина мира одного мельника, жившего в
XVI веке, М., РОССПЭН, 2000, с. 64. Перевод М.Л. Андреева, М.Н.
Архангельской.
30 Там же, с. 135-136.
Микроистория и филология
69
силе мифов — они жестко привязываются к конкретным,
превратно истолкованным чувственным впечатлениям (поистине
просветительская критика мифа!); но так легко можно отделаться лишь
от простого мельника, в «воспаленной памяти» которого
«перемешались, переставились, переплавились слова и фразы»31, но не от
какого-либо крупного, авторитетного мыслителя, который мог бы
высказать в своем сочинении аналогичные, несуразные на
современный научный взгляд, представления о мироздании. Миф Ме-
ноккио о сыре и червях — это та точка «текста Меноккио»,
которая не сводима к объектно-историческому исследованию, которая
требует герменевтического (или, что в данном случае одно и то же,
филологического) истолкования, поскольку в ней имеет место
«комок», сгусток не просто первобытной материи, но и смысла,
актуального не только для тогдашнего, но и для нашего нынешнего
мышления. Этот неассимилированный смысловой остаток
микроистория, поскольку она сознает собственные методологические
пределы, должна передать в ведение филологии.
Филология видит в микроистории родственное себе
интеллектуальное предприятие, поиск строгого и последовательно научного
решения тех проблем, которые стоят перед нею самой в ее
попытках эпистемологической самокритики. Но с филологической
точки зрения очевидно и другое: микроистория — а возможно, и
история вообще в ее нынешнем виде — покупает свою научность
ценой отвлечения от некоторых важнейших, наиболее
привлекательных и проблематичных аспектов гуманитарной культуры,
таких как диалогическая природа социального дискурса,
относительная независимость слов и идей от социально-биографических
реалий, трансисторическая актуальность произведений прошлого.
Смело и во многом эффективно вторгнувшись в область культуры,
перенеся в эту вотчину humanities некоторые методы social sciences,
микроистория не смогла проблематизировать само понятие
культуры как области смысла.
2005
31 Там же, с. 121.
ЛОЖНОЕ СОЗНАНИЕ:
ТЕОРИЯ, ИСТОРИЯ, ЭСТЕТИКА
Проблема ложного сознания методологически важна для
интеллектуальной истории. Дональд Келли отмечал в качестве
«важнейшего принципа» этой дисциплины ее готовность «трактовать
не только о мудрости, но и о заблуждении»1. Предмет
интеллектуальной истории образуют как истинные, так и ложные идеи,
равно включенные в ее «интригу». Филиация и взаимодействие
ошибок не менее интересны, чем становление истины. Иными
словами, интеллектуальная история обращается с идеями
примерно так же, как филология с художественными текстами, —
отвлекаясь от их референциальной связи с реальностью. Эта наука
может быть охарактеризована как методологическая проекция
«литературной истории» на историческую науку, как кондоминиум
или компромисс филологии и истории.
Возникновение такой дисциплины было обусловлено
эпистемологическим сдвигом, который произошел в европейской
культуре Нового времени и проявился, в частности, в изменившемся
значении слова идея. Словари основных европейских языков
(Trésor de la langue française, The Oxford Dictionary) датируют XVII—
XVIII веками появление у этого слова нового значения — «мысль»,
«понятие»; до этого господствовало значение, идущее из
греческого языка, — «образ», «форма»2. Понимаемые в платоновском
смысле, «идеи» безусловно истинны, зато и внеисторичны; историей,
временным развитием могут обладать только их подобия, ложные
идеи3. Когда же в Новое время «идею» стали трактовать не как
существующий сам по себе прообраз вещей, а как субъективную
«мысль», у которой, вообще говоря, есть автор и обстоятельства
1 D.R. Kelly, «What is Happening to the History of Ideas?», intellectual News,
Autumn 1996, p. 40.
2 См.: Э. Панофский, idea: К истории понятия в теориях искусства от
античности до классицизма, СПб., Аксиома, 1999.
3 Следует, разумеется, учитывать, что само понятие «история» несколько
анахронично звучит в древнегреческом контексте: как известно, в греческом
языке слово ιστορία означало «исследование», «знание», «рассказ» (не
обязательно о событиях прошлого — отсюда, например, понятие «естественная
история»), и совсем не имело привычного нам значения «процесс событий,
развернутый во времени» (res gestae).
Ложное сознание: теория, история, эстетика 71
возникновения4, то на этой основе стало возможно появление
истории идей. Идея рождается (вернее, кем-то создается,
высказывается), передается от одного субъекта другому — в некоторых
случаях даже с соблюдением имущественно-правовых процедур5, —
преобразуется в другие по случайностной логике исторических
событий. Как только идея спустилась на землю и оторвалась от
вечных сущностей, идеи истинные и ложные очутились рядом —
иными словами, все идеи оказались в какой-то мере ложными,
неабсолютными; все в целом такое состояние секуляризованных,
присвоенных людьми, исторически подвижных и относительных
продуктов мысли может быть названо культурой6. История идей —
едва ли не самая чистая «наука о культуре», поскольку она может
заниматься только культурой, только идеями в их «культурном»
(историческом) состоянии.
Научная история идей возникла лишь в XX веке; но уже с
XVIII века европейская культура начала вырабатывать общие
понятия для анализа исторических, одновременно и истинных и
ложных, идей. Пользуясь поэтическим оксюмороном Булата
Окуджавы, такие идеи можно было бы назвать «ненадежными истинами»,
а в современной, особенно постмарксистской, философии их
часто обозначают термином «ложное сознание». Теория такого
ложного сознания (имеется в виду именно теория ложного сознания
как факт истории концепций, а не само ложное сознание как
социологический факт, у которого могла быть своя историческая
эволюция) чаще всего создавалась не с чисто научными, а с
социально-критическими целями. Ее эпистемологический статус
также двойствен: с одной стороны, она может служить метатеорией
4 Ср. у Жиля Делёза, который, правда, толкует не об идеях вообще, а о
философских «концептах»: «Концепты не ждут нас уже готовыми, наподобие
небесных тел. У концептов не бывает небес. Их должно изобретать,
изготавливать или, скорее, творить, и без подписи сотворившего они ничто» (Ж. Делёз,
Ф. Гваттари, Что такое философия? М, Институт экспериментальной
социологии — СПб.: Алетейя, 1998, с. 14). И ниже: «...хотя у каждого из концептов
есть свой возраст, подпись создателя и имя, они по-своему бессмертны — и в
то же время повинуются требованиям обновления, замены и мутации,
благодаря которым философия имеет беспокойную историю и столь же
беспокойную географию; каждый момент и каждое место пребывают — но во времени,
и проходят — но вне времени» (там же, с. 17).
5 Несомненно, новое понятие об «идее» связано с возникновением
института интеллектуальной собственности в XVIII веке, когда в правовые нормы
вошло понятие о том, что идею можно законно присвоить, защитить промыш-
ленно-изобретательским патентом или авторским копирайтом.
6 Я пытался показать некоторые общие аспекты такого характерно
современного мироощущения на материале французской литературы XIX века
(С. Зенкин, Французский романтизм и идея культуры, М., РГГУ, 2002).
72
Поступки и идеи
по отношению к истории идей, а с другой — сама имеет свою
историю, а значит, оказывается одним из предметов этой
дисциплины. Соответственно сегодня ее можно исследовать и
историческими, и герменевтическими методами — как мертвый объект и как
живую интуицию. Кроме того, по своим функциям она отчасти
сближается с художественной практикой, формы которой также
меняются в зависимости от форм ложного сознания.
В нижеследующем изложении я попытаюсь различить и очень
кратко проиллюстрировать три такие исторические формы,
концептуализированные теорией, выделяя в каждой из них 1)
двойственность, даже амбивалентность ложного сознания; 2) его
темпоральную структуру и 3) возможности его художественной
переработки. Поскольку в ходе своей эволюции идея ложного сознания
выражалась и выражается разнообразными и порой близкими по
значению словами, то выбор терминов для обозначения трех
видов «ненадежных истин» неизбежно оказывается произвольным:
это предрассудки, идеология и симулякры.
«Предрассудок» — одно из ключевых понятий (вернее,
антипонятий) Просвещения. Ему посвящена статья в «Энциклопедии»
Дидро и д'Аламбера7, автор которой — Луи Шевалье де Жокур
(1704—1779) — опирается, в свою очередь, на Фрэнсиса Бэкона,
«больше всех на свете размышлявшего на эту тему», и определяет
предрассудки как «ложные суждения, которые душа выносит о
природе вещей, в результате недостаточного применения своих
умственных способностей». Это «словно призраки и фантомы,
которые некий злой гений наслал на землю, дабы мучить людей»
и которые «подобно эпидемической болезни заражают всех и вся»8.
На деле они берут начало в ошибках человеческого суждения,
происходящих «иногда от темноты идей, иногда от многообразия
впечатлений, основанного на предрасположенности органов чувств,
а иногда от влияния вечно подвижных и переменчивых страстей».
Соответственно разбираемое Жокуром понятие помечено в
начале статьи как относящееся к «логике»; генетически оно восходит
к логическим моделям ошибочных или ущербных суждений, таким
7 L'Encyclopédie, ou Dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des métiers, t. 13,
Neufchastel, S. Faulche, 1765, p. 284 (http://portail.atilf.fr/cgi-bin/getobject_
?a.98:188./var/artfla/encyclopedie/textdata/IMAGE/). Там же помещена и
короткая статья Буше д'Аржи, посвященная другому, специально-юридическому
значению того же самого слова préjugé {ibid., p. 286).
8 Бэкон анализировал и классифицировал «идолы», или «ложные понятия»
человеческого разума в афоризмах XXXVIII—LXII первой части «Афоризмов об
истолковании природы и царстве человека» («Новый Органон»). См.: Ф.
Бэкон, Сочинения в двух томах, т. 2. М., Мысль, 1978, с. 18—28.
Ложное сознание: теория, история, эстетика 73
как энтимема (хотя сам Жокур этого термина не упоминает)9.
Предрассудки трактуются здесь как однозначно ложные,
ошибочные мнения, которые наука должна разоблачать.
Более сложную позицию формулирует Вольтер. Статью
«Предрассудки» из своего «Философского словаря» (1764) он начинает
дефиницией понятия, основанной на буквальном значении слова
pré-jugé, «пред-рассудок»: «Предрассудок есть мнение без
суждения. Так, люди всюду на земле внушают детям всякие желаемые
мнения, прежде чем те смогут судить сами». Предрассудки, по
Вольтеру, — не ложные, а непроверенные мнения, которые, вообще
говоря, могут оказаться и ложными, и истинными: «Бывают,
стало быть, и очень хорошие предрассудки — это те из них, которые
мы подтверждаем, рассуждая умом»10. Вместо атемпоральной
логики Жокура перед нами прагматика временного развития,
предвещающая гегелевскую диалектику «снятия» (Aifhebung): ребенок,
которому внушили предрассудки, позднее может критически
пересмотреть их и сохранить лишь те мнения, которые выдержат эту
проверку. Пока же он к этому неспособен, для него нормально
будет следовать предрассудкам: признавать Бога, любить
родителей, осуждать кражу и ложь. На место индивидуального ребенка
легко подставить народ или даже человечество в целом, которым
еще предстоит «дорасти» до самостоятельного суждения, — и
намечается схема исторического развития духа, где предрассудок
может оказаться необходимым и полезным этапом в постижении
истины. Не случайно важнейшим примером «хорошего»
предрассудка Вольтер называет религиозную веру: подобно богу, такие
предрассудки «следовало бы выдумать, если бы их не было»11.
Предшественниками подобного представления можно считать
многочисленные теории символа, иносказания и аллегории (ср.
русскую фольклорную формулу «сказка ложь, да в ней намек»).
9 Позиция Жокура в отношении «предрассудков» мало отличается от
позиции Дидро, написавшего для 5-го тома «Энциклопедии» статью о
«Заблуждении»: источник заблуждений он усматривал «в свойственной нам привычке
рассуждать о вещах, о которых либо мы понятия не имеем, либо о которых у нас
имеются лишь недостаточно определенные понятия» {Философия в
«Энциклопедии» Дидро и д'Аламбера, М, Наука, 1994, с. 234. Перевод З.К. Манакиной).
10 Voltaire, Dictionnaire philosophique, Р., Garnier-Rammarion, 1964, p. 320.
11 «Если бы Бога не было, его следовало бы выдумать» (письмо Вольтера
«автору "Книги о трех самозванцах"», 10 ноября 1770 года). Для
просветителей образцом предрассудка или суеверия служила именно религия. Ср.
«назидательную проповедь» Вольтера «О суеверии» (1767): «Если человек рожден,
чтобы заблуждаться, пожелаем ему достойные [то есть общественно
полезные. — С.З.] заблуждения» (Вольтер, Философские сочинения, М., Наука, 1988,
с. 393. Перевод С.Я. Шейнман-Топштейн).
74
Поступки и идеи
Во французской культурной традиции их развивал, например,
Паскаль, который в своих «Мыслях» постоянно возвращался к
проблеме библейских «иносказаний» (figures): в них, по его
мысли, бог открывал недостойно-плотскому иудейскому народу свои
духовные истины в ложных образах пророчеств: «Когда истинное
слово Господне ложно по букве, оно верно по духу»12. Вольтер, с
одной стороны, десакрализует «предрассудки»-«иносказания»,
перемещает их из божественного всеведения в субъективное
сознание людей, а с другой стороны (что, конечно, связано с первым),
подчеркивает хронологический момент становления: сначала люди
питаются предрассудками, а потом возвышаются до разумных
суждений, до проверенной истины.
Темпоральность, в которую включено просветительское
представление о предрассудках, определяется падением ложных
«призраков и фантомов»: их длительное господство в какой-то момент
рушится, и на этом строится сюжет о разоблачении, изживании
предрассудков, характерный для литературы Просвещения.
Романы этой эпохи нередко представляют собой «историю
заблуждений» — будь то «Кандид» (1759) самого Вольтера или роман Кре-
бийона-сына с характерным заглавием «Заблуждения сердца и
ума» (1736—1738); правда, в последнем случае «заблуждения»
вызваны влиянием не предрассудков, а страстей. Образцовым
примером может служить книга Д.-А.-Ф. де Сада «Философия в
будуаре» (1795), часто рассматриваемая как утрированное, доведенное
дологического предела/абсурда изложение просветительских идей.
По ходу этого философического диалога в распутной компании
последовательно развенчиваются моральные и религиозные
предрассудки, причем завершением каждого этапа дискуссии
становятся все более изощренные сексуальные оргии. Повторяется одна и
та же темпоральная синтагма: дискурсивная критика очередного
12 Блез Паскаль, Мысли, М.: изд-во им. Сабашниковых, 1995, с. 153.
Перевод Ю.А. Гинзбург. У Паскаля речь идет не о ложном сознании (разумеется,
невозможном у бога), а лишь об относительно ложном слове. В другом своем
фрагменте Паскаль, рассматривая христианство как раскрытие, экспликацию
ветхозаветных «иносказаний», замечает: «Историю Церкви следует на самом
деле называть историей истины» {там же, с. 287), — и хотя «история»
понимается здесь не в смысле «исторического процесса», res gestae, а скорее в смысле
«историописания», historia rerum gestarum, но сама формула «история истины»
звучит парадоксально (в таком качестве она и зафиксирована Паскалем),
указывая на становление нового, исторического понятия об «идее». В рамках пас-
калевской теологии «ложное по букве» слово Ветхого завета составляет
предысторию вполне истинного новозаветного слова; а с точки зрения истории идей
сама паскалевская концепция «иносказания» относится к предыстории идеи
ложного сознания.
Ложное сознание: теория, история, эстетика 75
предрассудка, сменяющаяся провалом в не-дискурсивный,
некультурный эротический экстаз. Сходную модель Сад применяет
и к историко-политическому развитию своей страны: написанная
в годы Французской революции, «Философия в будуаре» включает
в себя радикальный социально-реформаторский проект (читаемый
одним из персонажей) под названием «Французы, еще одно
усилие, если вы хотите быть республиканцами». Последнее «усилие»,
которым предлагается низвергнуть предрассудки морали и
религии, в контексте садовского эротического повествования
уподобляется сексуальному усилию, которое предшествует оргазму.
Прошло, однако, немного исторического времени, и уже в
новом культурном климате та же темпоральная схема, включающая
момент катастрофического падения предрассудков, была
перевернута наоборот — не в просветительской проспекции, а в
романтической ретроспекции; в обоих случаях ложное сознание
составляет исторический этап в становлении истины. Именно такую
схему намечает Евгений Баратынский, чья метафора
предрассудков как «руин», обломков былой истины так и просится быть
интерпретированной через концепцию руины-аллегории по
Вальтеру Беньямину:
Предрассудок! он обломок
Давней правды. Храм упал;
А руин его потомок
Языка не разгадал.
Гонит в нем наш век надменной,
Не узнав его лица,
Нашей правды современной
Дряхлолетнего отца13.
Судьба предрассудка всегда связана с катастрофой; разница
лишь в том, что на это событие смотрят либо как на
окончательное исчезновение предрассудка в будущем (с радостным
предвкушением: «Французы, еще одно усилие...»), либо как на причину его
возникновения в прошлом (с ностальгическим сожалением о
павшей «давней правде», остатки которой еще проступают в нем и
которую нам должно сберегать, как «нашей правды современной
дряхлолетнего отца»). У Баратынского три сменяющие друг друга
13 Е.А. Баратынский, Полное собрание стихотворений в двух томах, т. 1,
Ленинград, Советский писатель, 1936, с. 204 (стихотворение «Предрассудок» из
сборника «Сумерки», 1842). Ср. Вальтер Беньямин, Происхождение немецкой
барочной драмы, М., Аграф, 2002, с. 185 след.
76
Поступки и идеи
стадии познания — «давняя правда», «предрассудок» и «наша
правда современная» — образуют безупречную диалектическую
триаду. Оценочная двойственность взгляда на предрассудки, уже
отмеченная выше, — то «призраки и фантомы», насылаемые «неким
злым гением» (Жокур), то «очень хорошие предрассудки [...]
которые мы подтверждаем, рассуждая умом» (Вольтер), —
спроецирована здесь на хронологическую ось и определяет промежуточное,
переходное положение ложного сознания, в соответствии с двумя
временными точками зрения на его становление/падение.
Амбивалентность предрассудка нашла себе продолжение во
втором понятии, обозначающем одну из форм ложного
(исторически относительного) сознания, — в понятии идеологии. Хорошо
известно, как нейтральный и даже позитивный термин
«идеология», введенный в конце XVIII века Дестютом де Траси и
означавший «общую науку об идеях», уже в наполеоновскую эпоху
приобрел уничижительное значение «пустого, оторванного от
реальности умствования»14, далее с такой пейоративной окраской
был теоретически осмыслен Марксом в «Немецкой идеологии», а
затем вновь подвергся ревизии и «обелению» в советской
пропаганде, заговорившей о «научной идеологии»
марксизма-ленинизма. В современном узусе термин «идеология» чаще всего имеет
негативные коннотации, обозначая либо оспариваемую, не-истин-
ную, чужую идею (Раймон Арон: «Идеология — это идея моего
противника»)15, либо столь же далекую от истины догматику,
насаждаемую тоталитарными режимами. На более глубоком уровне,
менее связанном с политической конъюнктурой, понятие идеоло-
14 «Понятие идеологии в современном его значении зародилось в тот
момент, когда Наполеон пренебрежительно назвал этих философов (выступавших
против его цезаристских притязаний) "идеологами". Тем самым это слово
впервые получило уничижительное значение, которое оно — так же как слово
"доктринерский" — сохранило по сей день» (К. Манхейм, Идеология и утопия
[1929], в кн.: К. Манхейм, Диагноз нашего времени, М., Юрист, 1994, с. 67.
Перевод М.И. Левиной). Наполеон говорил, что идеология — это «темная
метафизика, которая, изощренно доискиваясь до первопричин, пытается на такой
основе строить законодательство народов» (цит. по: G. Gusdorf, La conscience
révolutionnaire. Les Idéologues, P., Payot, 1978, p. 320—321). Таким образом,
оценочную окраску слову «идеология» впервые придала авторитарная
государственная власть, считавшая «темную метафизику» своим конкурентом в
построении «законодательства народов». Наполеон осуждает «идеологию» за то, что
та «доискивается до первопричин» без оглядки на авторитет, — то есть по
соображениям обратным сравнительно с теми, по каким просветители
критиковали предрассудки, возникающие от бездумного следования традиционному
авторитету. В обоих случаях работает одна и та же оппозиция
«разум/традиция», просто ее члены по-разному оцениваются.
15 Raymond Aron, «L'Idéologie», Recherches philosophiques, 1937, t. VI, p. 65.
Ложное сознание: теория, история, эстетика 77
гии тяготеет к двум концептуальным полюсам:
идеологии-системе и идеологии-действию16.
Идеология-система — это, согласно Марксу, более или менее
упорядоченное мировоззрение, присущее той или иной
социальной группе. Оно не может быть истинным, поскольку ограничено
кругозором и интересами данной группы, например класса. Вместе
с тем оно относительно устойчиво, и в его существовании не
сказывается непосредственно фактор времени. Напротив того,
идеология-действие — это идеи, соотнесенные не с коллективным, а с
индивидуальным субъектом. Это активная операция,
осуществляемая индивидом или в отношении индивида и служащая для его
идентификации. Такая операция, естественно, осуществляется во
времени. Если идеология-система сопоставима с «языком» по
Соссюру (точнее, с более конкретным «социолектом» по Ролану
Барту)17, то идеология-действие — даже не с соссюровской «речью»
как безличным и неопределенным по контексту процессом
актуализации языка, а с высказыванием как конкретным речевым актом,
совершаемым кем-то и с какой-то целью.
Дрейф от «системного» к «действенному» пониманию
идеологии можно проследить на примере двух книг Валентина Волоши-
нова «Фрейдизм» (1927) и «Марксизм и философия языка» (1929).
Автор «Марксизма и философии языка» пытается обосновать
марксистскую семиотику — подчеркивает материальную
выраженность знаков и социальную (то есть тоже материальную)
обусловленность их идеологического содержания. Понятие идеологии
определяется здесь как равномощное знаковой деятельности в
целом:
Область идеологии совпадает с областью знаков. Между ними
можно поставить знак равенства. Где знак — там и идеология. Всему
идеологическому принадлежит знаковое значение™.
Идеология служит для Волошинова материалистической
альтернативой культуры — последнюю он не раз упоминает с
негативной оценкой, в связи с «идеалистической философией культуры и
психологистическим культуроведением»19. Поскольку же культура
16 Терри Иглтон характеризует идеологию как такие точки мысли, где
«пересекаются значение и сила» (Тепу Eagleton, Ideology: An Introduction, N. Y, \ferso,
2007[1991], p. 134).
17 См. Ролан Барт, «Разделение языков» [1973], в кн.: Ролан Барт,
Избранные работы: Семиотика. Поэтика., М., Прогресс, 1989, с. 519—534.
18 В.Н. Волошинов, Философия и социология гуманитарных наук, СПб., Аста-
Пресс, 1995, с. 222.
19 Там же, с. 223, 224.
78
Поступки и идеи
имплицитно систематична, то ее антитеза тяготеет к
антисистемному началу «стихии», которое противопоставлялось ей в русской
общественной мысли начала XX века (ср. А. Блок, «Стихия и
культура», 1908). Критикуя неполноценный, чисто интеллектуальный
характер «сложившихся идеологических систем», автор книги
вместо них формулирует свое собственное понятие «жизненной
идеологии»:
Всю совокупность жизненных переживаний и непосредственно
связанных с ними внешних выражений мы назовем, в отличие от
сложившихся идеологических систем — искусства, морали, права —
жизненной идеологией. Жизненная идеология — стихия неупорядоченной
и незафиксированной внутренней и внешней речи, осмысливающей
каждый наш поступок, действие и каждое наше «сознательное»
состояние20.
Таким образом, жизненная идеология — не «система», но
«стихия», она образуется не из абстрактных категорий или ценностей,
а из конкретных «переживаний» и «выражений», из
индивидуальных высказываний и соответствующих им актов «внутренней
речи».
В более раннем «Фрейдизме» идеология как
конкретно-социальное содержание дискурса привязана не к личным, а к
социально-групповым интеллектуальным жестам, к интересам и
представлениям определенных классов. В ней есть «доминанта» (термин,
по-видимому заимствованный у литературоведов-формалистов и
восходящий к A.A. Ухтомскому и Б. Хртстиансену):
Во всяком идеологическом течении, которое не остается
достоянием узкого круга специалистов, а захватывает широкие и
разнообразные читательские массы, не могущие, конечно, разобраться в
специальных деталях и нюансах учения, — всегда может быть выделен один
основной мотив, идеологическая доминанта всего построения,
определяющая его успех и влияние. Этот основной мотив, убедительный и
многоговорящий сам по себе, относительно независим от сложного
аппарата своего научного обоснования, недоступного широкой публике21.
Для «фрейдизма» таким основным мотивом является, по Во-
лошинову, биологизация социальной жизни, в свою очередь
20 Там оке, с. 307—308. Ср. постоянно повторяемое в книге сопряжение
двух понятий — «идеологическое» и «жизненное», например: «Слово всегда
наполнено идеологическим или жизненным содержанием и значением» (там же,
с. 285).
21 Там же, с. 89—90.
Ложное сознание: теория, история, эстетика 79
объясняемая упадочным мироощущением буржуазии XX века.
Здесь тоже в качестве общей рамочной модели взято расхожее
понятие общественной мысли рубежа веков — понятие декаданса:
Кажется, словно люди этих [упадочных. — С.З.] эпох хотят уйти
из ставшей для них неуютной и холодной атмосферы истории и
укрыться в органическую теплоту животной стороны жизни22.
Психоаналитик не колеблясь опознал бы в этом «органически
теплом» укрытии от внешнего холода метафору материнской
утробы — то есть Волошинов, по-видимому бессознательно (!),'сам
психоанализирует психоанализ, для интерпретации его
основного «идеологического мотива» пользуется его же объяснительной
схемой. Во всяком случае, идеология здесь безусловно
отождествляется прежде всего с желанием, влечением, то есть с силой,
которая действует на социальных индивидов и социальные группы
и которая важнее, чем «специальные детали и нюансы» той или
иной идеологической системы («учения»).
Если у Волошинова различие в определениях идеологии
остается имплицитным и выражается скорее оттенками употребления
этого слова, то у двух французских теоретиков послевоенного
периода — Ролана Барта и Луи Альтюссера — эти различия
проступают более отчетливо.
Барт в «Мифологиях» (1957) критикует идеологию, понимая ее,
подобно Волошинову, главным образом через «жизненный»,
повседневно-семиотический опыт людей. Однако такая идеология не
вырабатывается человеком в индивидуальных актах высказывания;
она лишь воспринимается им, а «автором» идеологии является
Общество, гипостазируемое в традиции Дюркгейма и французской
социологической школы; фактически речь идет о дюркгеймовских
«коллективных представлениях», имеющих социально-системный
характер. В позднейших работах «Риторика образа» (1964) и
«Основы семиологии» (1965) Барт дает и строго семиотическое
определение идеологии-системы — это весь план содержания коннотатив-
ных знаков, функционирующих в обществе:
Область, общая для коннотативных означаемых, есть область
идеологии, и эта область всегда едина для определенного общества на
определенном этапе его исторического развития независимо от того,
к каким коннотативным означающим оно прибегает23.
22 Там же, с. 92.
23 Р. Барт, «Риторика образа», Избранные работы, с. 316. Перевод ПК.
Костикова.
80
Поступки и идеи
Из безличного, социально внушаемого характера идеологии
вытекает ее безответственность: зараженный ею человек
принимает ее не по сознательному выбору, а неосознанно, как нечто
«естественное», слепо следуя общепринятому мнению («доксе»),
транслируемому через коннотативные механизмы культуры24;
соответственно он и в жизни следует ей слепо и некритически. Его
субъективность сведена к смутной, пассивной субъективности
реципиента.
Иную, во многом противоположную концепцию строит Аль-
тюссер в статье «Идеология и идеологические аппараты
государства» (1969). Самая оригинальная ее мысль — в том, что через
идеологию осуществляется (само)идентификация субъекта, его
становление субъектом и одновременно «подданным» (sujet).
Посредством идеологического «оклика» общество делает своих
членов субъектами, заставляет осознавать себя членами общества в
целом и той или иной социальной группы:
Идеология бывает только благодаря субъекту и для субъектов.
Любая идеология окликает [interpelle] конкретных индивидовf делая их
конкретными субъектами <...> посредством той самой операции,
которую мы называем задержанием [interpellation] и которую можно
представить себе по образцу банально-повседневного полицейского
(или нет) задержания: «эй, вы там!» <...> Существование идеологии
и оклик индивидов, превращаемых в субъектов, — одно и то же25.
В такой интерпретации идеология трактуется как действие,
приложение социальной силы26. При всей своей грубой
принудительности — словно окрик полицейского — это действие имеет
социализирующий результат, «конкретных индивидов» оно делает
«конкретными субъектами», признающими за собой определенное
24 Любопытно, что один из таких механизмов может по Барту имитировать
«разоблачение предрассудков» — классическую интеллектуальную операцию
просветительской критики. Анализируя один из типичных сценариев рекламы,
Барт саркастически резюмирует его риторическое «послание», где
«предубеждением» фактически объявляют самостоятельное критическое мышление: «Вот
и мы тоже избавились от дорого стоившего нам предубеждения —
действительно, оно стоило нам слишком дорого, слишком многих сомнений и
возмущений, слишком мучительной борьбы и одиночества» (Р. Барт, «Операция
"Астра"», в кн.: Ролан Барт, Мифологии, М, Академический проект, 2008, с. 108).
25 L. Althusser, «Idéologie et appareils idéologiques d'État», dans Louis
Althusser, Positions, P., Éditions sociales, 1976, p. 126.
26 Примерно так же и Маркс писал, что «теория становится материальной
силой, как только она овладевает массами» (К. Маркс, «К критике гегелевской
философии права» [1843], в кн.: Карл Маркс, Фридрих Энгельс, Избранные
сочинения, т. 1, М., Политиздат, 1984, с. 8).
Ложное сознание: теория, история, эстетика 81
социальное место («эй, вы там!»), включенными в субъектно-
объектные и интерсубъективные отношения.
Эти последние отношения, возникающие благодаря
идеологии, делают возможной специфическую форму ее эстетической
переработки — драматизацию. Ее теорию создал предполагаемый
соавтор (или, как считают некоторые, просто автор) книг В.Н. Во-
лошинова М.М. Бахтин, в своей собственной книге о Достоевском.
Персонажей романа или сократического диалога он называет
«героями-идеологами», которые обладают самосознанием и
превращают свою «идею» в программу жизни:
Герой идеолог, ищущий правду, последнюю позицию в мире, но
не для того, чтобы написать статью и философскую поэму (хотя они
это и делают), а для того, чтобы жить...21
Такая «жизненная» идея28, наполненная личной
ответственностью осуществляющего ее сознательного субъекта,
противоположна безлично-социологической «системной» трактовке идеологии и
скорее предвосхищает ее «действенное» и «силовое» определение
у Альтюссера; соответственно Бахтин регулярно пользуется
понятием «идея-сила»29. Оно сохраняет связь с понятием ложного
сознания, поскольку речь идет о «жизненных идеях» отдельного
человека, состоятельность которых проблематична, их проверка, а
часто и опровержение как раз и образуют сюжет идеологических
романов Достоевского. Темпоральность такой проверки —
диалектика, перемена позиций, перебивка точек зрения, резкие
перевороты ситуации, и в принципе этот процесс может продолжаться
сколь угодно долго.
27 М.М. Бахтин, «Дополнения и изменения ко второму изданию книги о
Достоевском», в кн.: М.М. Бахтин, Собрание сочинений, т. 6, М., Русские
словари — Языки славянской культуры, 2002, с. 309. Термин «драматизация» с
оговорками применим к концепции Бахтина, который, как известно, считал
драму жанром непригодным для диалогической разработки слова; тем не
менее он сам применял слово «драма», в более широком трансгенерическом
смысле, для характеристики диалогического процесса в романе — например,
внутренняя речь героев Достоевского, пишет он, «развертывается как философская
драма, где действующими лицами являются воплощенные, жизненно
осуществленные точки зрения на жизнь и на мир» (М.М. Бахтин, «Проблемы
поэтики Достоевского» [1963], там же, с. 266).
28 В книге о Достоевском слово «жизненный» непосредственно
сопрягается с понятием «идеологии», напоминая о «жизненной идеологии» в
«Марксизме и философии языка» Волошинова: «Каждое лицо входит <...> как
символ некоторой жизненной установки и идеологической позиции, как символ
определенного жизненного решения тех самых идеологических вопросов,
которые его (героя. — С.З.] мучат» (там же, с. 265—266).
29 См.: там же, по предметному указателю.
82
Поступки и идеи
Третья форма ложного сознания — симулякры — обычно
связывается с именем Жана Бодрийяра, который ввел этот термин в
общественную мысль 1970-х годов. Он сам отграничил эту форму
от предыдущей — идеологии:
Идеология соответствует лишь извращению реальности знаками,
а симуляция — короткому замыканию реальности и ее удвоению
знаками. Задачей идеологического анализа всегда является восстановить
объективный процесс, а доискиваться до истины, скрывающейся под
симулякром, — всегда ложная задача30.
Симулякр — факт не просто ложного, а нереференциального
или автореференциального сознания; за ним уже бессмысленно
искать истину, он не «ложно отражает» реальность, а сам
производит ее с помощью семиотических механизмов кода и серии.
Нереальность симулякров тем более парадоксальна, что они
функционируют не в сфере абстрактных идей, по природе своей отделенных
от вещей, а в области социальных институтов и даже природного
мира, чья реальность, казалось бы, не вызывает сомнений. В
современном информационном обществе призрачный статус
симулякров приобретают такие традиционно «реальные» факты, как
Природа (в экологических имитациях), История (в музейных
реконструкциях), Политика (в безлично-статистических механизмах
голосования и рейтинга) и т.д.: ныне, согласно Бодрийяру, они
существуют уже не как реальности, а как условные модели, по
которым серийным способом производятся псевдореальные факты:
У фактов больше нет своей собственной траектории, они
рождаются на пересечении моделей, один факт может быть порожден все-
Интересно сравнить бодрийяровские симулякры с «мифами»,
которые описывал в «Мифологиях» Ролан Барт. Бартовская
семиотика ложного сознания послужила основой, на которой
десятилетием позднее начал строить свои социологические теории
Бодрийяр. Однако «мифы» по Барту — это очень смутные и
(намеренно) дурно определенные понятия, так что аналитик даже
вынужден обозначать их условными и неуклюжими терминами-
неологизмами, чтобы отличить от понятий референциально
адекватных: скажем, не «правительство» (термин социологически
точный, описывающий реальную инстанцию власти), а «прави-
30 Jean Baudrillard, Simulacres et simulation, P., Galilée, 1981, p. 48.
31 Ibid., p. 32.
Ложное сознание: теория, история, эстетика 83
тельственность» (термин «мифический», вбирающий в себя все
смутные, даже противоречивые коннотации, которые
связываются с государственной властью в массовом сознании). Мифы — это
факт идеологии, искажения реально существующих вещей и
точных понятий о них; симулякры же, во-первых, располагаются не
рядом с реальностью, а вместо нее, а во-вторых, не страдают
смутностью — напротив, они носят строго системный характер,
упорядочены законами серийной игры, просто эта система и эта игра не
«отражают», а действительно регулируют процессы современного
общества.
У симулякров (мне уже приходилось писать об этом
подробно)32 имеется и своя специфическая темпоральность. Она
сопоставима с темпоральностью предрассудка — только не в
просветительской, а в романтической трактовке, когда предрассудок
воспринимается как пережиток «давней правды». Симулякры
представляют собой пережиточное, посмертное существование
(survie) былых реальностей; просто люди, имеющие с ними дело,
об этом не догадываются, они по-прежнему верят, что природа в
заповеднике — это и есть девственная природа, что музейные
экспонаты — подлинные факты прошлого, а парламентские выборы
или социологический опрос — действительное народное
волеизъявление. В симулякрах реальность длится в состоянии знаковой
видимости, принимаемой за реальность; оставшаяся в прошлом
реальность отстает от видимости, подобно тому как модные вещи
всегда непоправимо отстают от своих идеальных моделей; отсюда
мысль Бодрийяра о «прецессии симулякров», о видимости,
предшествующей реальности33.
Избавленные от опоры на реальность, функционирующие как
чистая комбинаторика условных знаков, симулякры обладают
квазихудожественной природой — хотя, конечно, это злокачественная
художественность, недобросовестно экстраполированная из
условной области искусства в безусловную, «по идее», сферу истории,
политики и т.д. Соответственно приемы эстетической работы с
ними оказываются изоморфны их собственным процессам и
механизмам: на долю искусства остается симулировать их симуляцию.
Уже Барт в коротком, но симптоматичном пассаже из
теоретического послесловия к «Мифологиям» размышлял о возможности
создать «искусственный миф», надстраивающийся над мифом уже
данным и тем самым разоблачающий его: «Если миф — похититель
32 См.: С. Зенкин, «Жан Бодрийяр: время симулякров», в кн.: Жан Бо-
дрийяр, Символический обмен и смерть, М., Добросвет, 2000, с. 5—40.
33 Jean Bau Drillard, op. cit., p. 10.
84
Поступки и идеи
языка, то почему бы не похитить сам миф?»34 В качестве одного из
примеров такой стратегии он называл «Бувара и Пекюше»
Флобера — квазинаучную энциклопедию «ненадежных истин» науки или
«прописных истин» (idées reçues), которые тот же писатель
каталогизировал в своем знаменитом «Словаре». Бодрийяр в книге
«Символический обмен и смерть» тоже задается вопросом, нельзя ли в
противовес существующим «изобретать симулякры <...> высшего
порядка, более высокого, чем нынешний», — однако дает
уклончивый, скорее скептический ответ: «...но будут ли это еще
симулякры? На более высоком уровне, чем код, пожалуй, оказывается
одна лишь смерть»35 — смерть как самоуничтожение культурного
субъекта, который лишь такой ценой может разорвать опутавшую
его сеть генерализированного ложного сознания.
* * *
Три формы ложного сознания, о которых шла речь выше, не
следует представлять себе как три сменяющие друг друга
исторические фазы. Хотя понятие «предрассудков» возникает раньше, чем
понятие «идеологии» и «симулякров» (в современном смысле
термина), в дальнейшем эти три концептуализации развиваются
параллельно, а соответствующая им художественная практика может
значительно опережать теорию: так, романы Достоевского или
флоберовский «Словарь прописных истин» создавались во второй
половине XIX века, а объясняющие их теории «жизненной
идеологии» и симулякров — лишь в веке двадцатом. Скорее перед нами
не стадиальный, а кумулятивный процесс: сознание европейской
культуры обогащает и усложняет свой концептуальный
инструментарий, и старые понятия вроде «предрассудков» продолжают жить
и работать наряду с новомодными «симулякрами». Мы можем
датировать их возникновение, но не их исчезновение.
Рассмотренные три концепции включаются в более общее
движение новоевропейской мысли — в рефлексию о факторах
мнимости, негативности, небытийности, которая развивается в
различных направлениях современной философии. Среди
перекликающихся с ними концепций можно назвать (отнюдь не претендуя
на исчерпывающий перечень):
— понятие необходимых для человеческого сознания
«фикций», разрабатываемое в книгах Ницше «Человеческое, слишком
34 Р. Барт, Мифологии, с. 262. См. более подробный анализ этого места в
моей вступительной статье к «Мифологиям» {там же, с. 47—51), а также в
отдельной статье: S. Zenkine, «Roland Barthes et Nekrassov: un jeu avec les mythes»,
Rencontres: Revista do Departemente de Frances, Säo Paulo, 2005 (фактически 2006),
n° 10, p. 113-123.
35 Ж. Бодрийяр, Символический обмен и смерть, с. 46—47.
Ложное сознание: теория, история, эстетика 85
человеческое» и «По ту сторону добра и зла» (см. в особенности
параграф 34 последней книги). Эта своеобразная форма идеологии,
порождаемая индивидуальным сознанием независимо от
социальных причин, интересовала, между прочим, Ролана Барта36,
который ощущал ее родство со своим собственным понятием «мифа»;
— «Философию "как бы"», сформулированную в 1870-е годы
в одноименной книге X. Файхингера;
— теорию «возможных миров», разрабатываемую в
современной логике и эпистемологии (у таких авторов, как С. Крипке,
Я. Хинтикка) и прилагаемую к теории литературы (у Т. Павела);
само понятие восходит еще к Лейбницу.
В этом общем движении современной мысли рассмотренные
выше три формы ложного сознания выделяются своей социально-
исторической спецификой: их концепции создавались в
определенных социальных обстоятельствах для решения конкретных
социально-критических задач, и их объектом была не столько
всеобщая природа человеческого сознания, сколько историческая
действительность культуры, подлежащая не только познанию, но
и изменению37. Их можно соотнести с методами и задачами трех
разных гуманитарных дисциплин, с характерными для каждой из
них вопросами: для предрассудков это логика («как они
возникают?», «какими изъянами и ошибками ума обусловлены?»); для
идеологем — социология («кому они выгодны?», «какие
социальные группы или субъекты конституируются с их помощью?»); для
симулякров же это современная семиотика и эстетика («в какие
смысловые системы они включаются?», «как они переживаются?»).
Вместе с тем все три формы, безусловно, подлежат ведению
интеллектуальной истории, являя собой разные аспекты исторических
идей, разные модусы их формирования и существования в
общественном сознании.
Наконец, всем трем формам соответствуют определенные
формы художественного творчества, подвергающего их критической
проверке или даже оспаривающего их господство. При этом,
возвращаясь из рефлексии в художественную и/или текстуальную
практику, «идея» отчасти восстанавливает изначальную,
платоновскую семантику своего названия: из абстрактной мысли она
превращается в переживаемую форму произведения.
2009
36 См.: Ролан Барт о Ролане Барте, M., Ad marginem, 2002, passim.
37 Это касается и новейших теорий, предложенных в работах: Петер Сло-
тердайк, Критика цинического разума, Екатеринбург, изд-во Уральского
университета, 2001 [1983]; Славой Жижек, Возвышенный объект идеологии, М.,
Художественный журнал, 1999 [19891.
ИСТОРИЧЕСКИЕ ИДЕИ
И МЫСЛИТЕЛЬНЫЕ СХЕМЫ
(К поэтике интеллектуального дискурса)
Интеллектуальная история рассматривает идею как
историческое событие, и этот ее объект парадоксален. Его название
сохраняет преемственную связь с платоновскими идеями1 —
обобщенными и вечными сущностями, не вовлеченными в процесс
временного становления, а пребывающими в неизменном наборе
категорий божественного или человеческого духа. Вместе с тем
историческая идея обладает «датой и авторской подписью»,
подобно историческому документу, то есть включена в хронологический
ряд. Пользуясь неоплатонической терминологией, здесь можно
говорить о «падшей» идее, об абстрактной интеллектуальной
сущности, вязнущей в случайных конкретных высказываниях.
Из такого двойственного статуса исторических идей вытекает
ряд методологических следствий, касающихся истории идей и ее
подхода к своему предмету:
— историческая идея нелогична: она возникает не из чисто
интеллектуальных операций с семантическими элементами, а из
смешанных, теоретико-практических комбинаций и решений
человеческого духа; иными словами, исторический интеллект не
может быть выведен из самого себя, как это предполагается в
отношении чистого разума;
— историческая идея неалетична: подобно художественному
вымыслу, она не обладает необходимой связью с истиной
(отсюда наша обязанность изучать на равных правах не только историю
открытий, но и историю заблуждений, иллюзий и «идеологий»);
— историческая идея неактуальна: будучи однажды
сформулирована, она утратила свой обобщенный и вневременной характер,
который, возможно, хотел вложить в нее ее изобретатель; в
качестве исторического высказывания она принадлежит прошлому и,
в известном смысле, более не касается нас непосредственно.
Западная культура впервые столкнулась с этой проблематикой
в XVIII веке — не в интеллектуальной истории (каковой еще не
существовало), а в юриспруденции. Хорошо изучены тогдашние
дискуссии о копирайте2, в центре которых находилось противоре-
1 См., например: Эрвин Панофский, Idea: К истории понятия в теориях
искусства от античности до классицизма, СПб., Аксиома, 1999 [1960].
2 См., например: М. Rose, Authors and Owners: The Invention of Copyright,
Cambridge (Mass.) and London, Harvard UP, 1993; Роже Шартье, Письменная
культура и общество, М., Новое издательство, 2006.
Исторические идеи и мыслительные схемы 87
чие между конкретно-личностным отношением автора к своему
произведению и общим характером идей, заложенных в это
произведение. Идеи принадлежат всем, в принципе нет никакого
основания для их присвоения кем-либо одним; но значит ли это, что
первооткрыватель идеи имеет на нее такие же права, как
популяризатор или эпигон? Юристы XVIII века нашли выход из этого
противоречия, различив содержание произведения (которое
состоит из идей и открыто для свободного, неограниченного
заимствования) и его словесную форму (которая носит личный характер,
так что ее несанкционированное воспроизведение образует
незаконный акт плагиата). Форма произведения, разумеется,
исторична: она создана кем-то в определенный момент, опирается на
предшествующие формы, включена в процесс развития, и даже срок
действия авторского копирайта на произведение-форму
ограничен, локализован в историко-биографическом времени.
Историческая апроприация идей возможна постольку, поскольку они
формальны, связаны с некоторым индивидуальным «стилем»
мышления. Итак, с одной стороны имеются безличные и, вообще
говоря, вневременные субстанциальные идеи, а с другой стороны —
индивидуальные и формальные способы их исторического
выражения.
Бюффон в своей академической «Речи о стиле» (1753)
объяснял, что «знания, факты и открытия без труда изымаются из
одного сочинения, переносятся в другое и даже выигрывают,
оказавшись в руках более умелых. Все это вне человека, стиль
же — это сам человек»3. Такое приложение юридической дистин-
кции к литературно-стилистическим проблемам, само по себе
представляющее собой любопытный
интеллектуально-исторический факт4, задает перспективу, в которой интеллектуальная
история должна рассматривать идеи. В самом деле, если
высказывание, в котором выражается идея, можно расценивать как форму,
«стилистический» прием, то тогда мы вправе сделать следующий
шаг и выделить формальный аспект уже внутри самих идей. При
этом на полпути между чисто интеллектуальными категориями и
сугубо случайными словесными высказываниями
обнаруживается особый уровень мыслительных схем, присущих той или иной
конкретно-исторической культуре и способных наполняться
различным субстанциальным содержанием. Такие единицы
интеллектуальной деятельности — одновременно концептуальные и
3 Перевод В.А. Мильчиной; цит. по приложению к книге: С. Зенкин,
Работы по французской литературе, Екатеринбург, изд-во Уральского
университета, 1999, с. 316.
4 Я попытался проанализировать эту операцию в своем комментарии к
бюффоновской речи (см.: там же, с. 254).
88
Поступки и идеи
темпоральные — могут считаться «историческими идеями» в
самом точном смысле слова.
Некоторые современные мыслители уже обращали внимание
на то, как важны в развитии интеллектуальной культуры
случайные, уникально-неподражаемые и вовлеченные во временное
становление модели. Так, Жиль Делёз определял философские
концепты как сложные и «шифрованные» конфигурации элементов,
составляемые конкретным мыслителем в конкретной ситуации;
каждый концепт, несмотря на свое высоко обобщенное
содержание, имеет уникальную форму и индивидуальную историю (а
также и «становление» — Делёз разводит эти два понятия)5. Для
истории идей полезно будет учесть эту философскую концепцию,
применяя ее к своим собственным задачам.
В самом деле, постольку поскольку идеи оказываются
историческими, получая словесную форму, они могут и рассматриваться
формалистически, как пустые схемы, переходящие из одного
дискурсивного поля в другое и получающие разные концептуальные
наполнения и практические применения. При таком взгляде на
идеи-схемы сохраняется их абстрактный характер, диктуемый
платонической традицией. Абстрактность, содержательную
незакрепленность мыслительных схем следует понимать двояко: как их
относительную независимость от временного развития и как их
способность к преодолению дискурсивных и дисциплинарных
границ. «Легкие», не отягощенные фиксированным субстанциальным
содержанием мыслительные схемы свободны от дисциплинарной
фиксации и проникают в различные поля интеллектуальной
культуры. В то время как философские концепты часто с трудом
поддаются переводу с одного на другой национальный язык6, эти
схемы гораздо проще могут быть перенесены в другой язык и
пересказаны другими словами. Собственно, их история и описывается
в терминах скорее миграции, чем эволюции, а по своей структуре
они сближаются скорее с временными процессами —
повествованием или жестом, чем с концептуальным построением.
Покажем это на трех — отнюдь не исчерпывающих — сериях
примеров, где проявляются типичные мыслительные схемы,
наблюдаемые в философии и общественных науках XIX—XX веков
(ниже мы вернемся к вопросу о выборе именно таких
хронологических рамок).
/. Иерархический переворот. В рамках такой мыслительной
схемы имеется две смысловые инстанции, которые подчинены одна
5 См.: Жиль Делёз, Феликс Гваттари, Что такое философия?, глава 1.
6 Отсюда — попытки каталогизации таких концептов как нередуцируемых
продуктов национальных интеллектуальных традиций; см., например: Barbara
Cassin (ed.), Vocabulaire européen des philosophes, P., Le Robert — Le Seuil, 2004.
Исторические идеи и мыслительные схемы 89
другой, но в какой-то момент их отношение обращается, или по
крайней мере «низший» элемент прорывается вверх, несмотря на
сопротивление доминирующего. Вот несколько примеров.
Гегель в знаменитом пассаже «Феноменологии духа» (1807,
секция IV А) разрабатывает «диалектику Господина и Раба».
Господин поработил Раба, убоявшегося гибели в смертельном
поединке, и заставил его заниматься «низким» материальным трудом, в то
время как сам он живет опасно-воинственно, сберегая в себе мощь
и свободу высшего класса. Однако время идет, и Раб мало-помалу
наращивает свои знания, трудовые навыки и техническую
оснащенность, тогда как Господин пребывает в неподвижности, без
всякого прогресса. В конце концов Раб становится сильнее
Господина и свергает его власть. Как известно, предлагались различные
интерпретации этой философской притчи, начиная с ее классовой
транскрипции у Маркса (Раб как рабочий класс, которому
суждено сбросить иго буржуазной эксплуатации) до кожевского
анализа, где эпизод с Господином и Рабом служит «первосценой»
процесса антропогенеза7.
Второй пример также общеизвестен, и для его пояснения не
требуется длинных цитат: речь идет о фрейдовской теории
бессознательного, созданной в конце XIX столетия. Фрейд разделяет
душевную жизнь человека на две инстанции — сознание и
бессознательное. Первое обычно доступно наблюдению, мы сознаем, как
оно работает; второе же остается темным, подавленным
(«вытесненным») и не опознается бодрствующим сознанием, которое
доминирует над ним. Однако порой, когда контроль сознания
ослабевает — в сновидениях, неврозах, острословии, художественном
творчестве, — бессознательное всплывает на поверхность и
определяет собой наши переживания, реакции, а иногда и шедевры
искусства.
В совсем иной области интеллектуальной культуры работает
динамическая теория литературной эволюции, предложенная
русскими формалистами в 1910—1920-х годах и основанная на
модели «канонизации младшей ветви». Виктор Шкловский объяснял
ее так:
В каждую литературную эпоху существует не одна, а несколько
литературных школ. Они существуют в литературе одновременно,
причем одна из них представляет ее канонизированный гребень.
Другие существуют неканонизированно, глухо <...>. Но в это время в
нижнем слое создаются новые формы взамен форм старого искусст-
7 См.: Александр Кожев, Введение в чтение Гегеля, СПб., Наука, 2003 [1947],
«Вместо введения».
90
Поступки и идеи
ва, ощутимых уже не больше, чем грамматические формы в речи <...>.
Младшая линия врывается на место старшей <...>. Каждая новая
литературная школа — это революция, нечто вроде появления нового
класса. [Однако] побежденная «линия» не уничтожается, не
перестает существовать. Она только сбивается с гребня, уходит вниз гулять
под паром и снова может воскреснуть, являясь вечным претендентом
на престол8.
Последний пример данной серии относится также к русской
литературной теории. В 1930-е годы Михаил Бахтин разработал
теорию «карнавальной культуры», получившую известность
много позже, после издания его книги о Франсуа Рабле9. Согласно
этой теории, в европейской средневековой культуре
сосуществовали две культуры — «официальная», поддерживаемая светскими
и церковными властями, и «народная смеховая», подавляемая
властью и высмеивающая ценности официальной культуры. В
некоторые критические периоды средневекового календаря,
называемые карнавалами, народная смеховая культура выступала на
первый план и в течение нескольких дней или недель
выворачивала наизнанку порядок социальных ценностей: невзирая на
привычные запреты, люди смеялись над властями и официальным
благочестием, выставляя напоказ «телесный низ» с его
функциями еды, питья, испражнения и сексуальности и практикуя «смехо-
вой» стиль речи, который затем применялся некоторыми
писателями (например, Рабле) в литературном творчестве.
2. Неоднородное поле. О схемах второй серии будет здесь
сказано более кратко: в рамках такой схемы описываемые факты
изображаются в виде поверхности или пространства, где некоторые
точки выделены, выступая на фоне других, нейтральных. Три
примера такого построения, взятые из современной французской
науки: 1) теория психики у Жака Лакана, согласно которой
различные уровни душевной деятельности («реальное», «воображаемое»
и «символическое») соприкасаются друг с другом в так называемых
«точках простежки» (points de capiton)10; 2) семиотическая теория
моды у Ролана Барта, показывающая, как дискурс моды выделяет
8 Виктор Шкловский, Гамбургский счет, М., Советский писатель, 1990, с.
121. Книга Шкловского «Розанов», откуда взята эта цитата, вышла в 1921 г.
9 М.М. Бахтин, Творчество Франсуа Рабле и народная культура
средневековья и Ренессанса, М., Художественная литература, 1965.
10 Лакановская схема сама берет начало во фрейдовской топологии
душевной жизни, интерпретируя в качестве таких выделенных точек симптомы, то
есть психические проявления, сверхдетерминированные бессознательными
факторами. Таким образом, вторая из рассмотренных здесь серий может
отчасти пересекаться с первой.
Исторические идеи и мыслительные схемы 91
некоторые детали костюма (воротник, карман, пояс и т.п.) и
приписывает этому суппорту значение «модности» или
«старомодности»11; 3) понятие «мест памяти», предложенное Пьером Нора12 и
означающее определенные (не обязательно географические)
точки реальности, в которых сосредоточена память данного общества
о прошлом и которые выделяются на фоне беспамятного или вне-
памятного пространства, пространства забвения.
3. Градуальное распределение. Эта третья серия более других
привычна интеллектуальным историкам, так как фактически уже
была описана двумя классиками этой дисциплины — Артуром
Лавджоем13 и Мишелем Фуко14. Они изучали данную
мыслительную схему с весьма различных точек зрения и в разных
хронологических рамках: первый — в пределах периода, тянущегося от
античности до эпохи романтизма, второй — наоборот, в эпоху
современности. В первом случае речь шла о распределении живых и
прочих существ реального мира по их удаленности от
божественного абсолюта, а во втором случае градуальная конструкция
рассматривалась как продукт новоевропейского «дисциплинарного»
дискурса, работающего со всевозможными видами социальных
отклонений и эксцессов (психическими, сексуальными,
криминальными и т.д.) по отношению к признанной норме. Градуальное
распределение имеет форму шкалы, вдоль которой могут
перемещаться отдельные элементы (человеческий дух восходит по
«великой цепи бытия», девиантное поведение последовательно
корректируется, приводится к норме под действием дисциплинарных
мер). Эта схема, примеры которой встречаются также у Ролана
Барта15, имплицитно противопоставляется другой картине, когда
онтологический или нравственный мир резко разделяется между
богом и дьяволом, раем и адом, сакральным и профанным.
Этот краткий перечень примеров, иллюстрирующих понятие
«мыслительной схемы» (повторим еще раз, что в реальности они
гораздо многочисленнее и разнообразнее), требует
концептуального и исторического комментария.
Первый и самый интересный вопрос связан с необходимостью
уяснить себе, какого же рода объекты здесь перед нами. Различия,
11 См.: Ролан Барт, Система Моды. Статьи по семиотике культуры, М.,
изд-во им. Сабашниковых, 2003, с. 95—97 след.
12 См.: Pierre Nora (ed.), Les Lieux de mémoire, P., Gallimard, 1984—1993.
13 См.: Артур О. Лавджой, Великая цепь бытия, М., Дом интеллектуальной
книги, 2001 [1936].
14 См.: Мишель Фуко, Надзирать и наказывать, M., Ad marginem, 1999
[1975].
15 Об интересе Барта к градуальным структурам, где несколько смысловых
уровней накладываются друг на друга, см. мое послесловие к его книге: Ролан
Барт о Ролане Барте, M., Ad marginem, 2002 [1975], с. 266—273.
92
Поступки и идеи
вариации между приведенными авторами и концептуальными
построениями могут быть сформулированы достаточно точно, зато
тождественные для них инварианты как будто основываются на
каких-то смутных аналогиях; сходство есть, но что именно
сходствует? Нельзя сказать, что перед нами «идеи» в традиционном
смысле слова: это не понятия, обладающие логическим объемом
и содержанием, и не пропозиции, которые могли бы оцениваться
как «правильные» или «искаженные», «истинные» или «ложные».
Мыслительные схемы приходится воображать, а не просто
мыслить. Вместе с тем они слишком абстрактны, чтобы их можно было
назвать «метафорами» или «образами»; показательно, что их
изобретатели и пользователи, стараясь обозначить и прояснить их,
сами часто вынуждены прибегать к более конкретным и
«материальным» метафорам: «великая цепь бытия», «революция»
(«переворот»), «точка простежки»... Не годится применительно к ним и
название «миф» или «нарратив»: если схема иерархического
переворота действительно представляет собой короткий рассказ (вещи
первоначально располагались так-то — а затем изменились), то две
другие схемы имеют скорее пространственную, чем темпоральную
природу. Пользуясь мыслительными схемами, мы чаще всего не
сознаем этого и вообще не даем им достаточно обобщенного
названия.
Вместе с тем очевидно, что мыслительные схемы, хоть и не
являются сами по себе идеями, лежат в основе важнейших идей
современности. Так, на схеме иерархического переворота со
времен Гегеля зиждется диалектика, на схеме неоднородного поля —
современное понятие структуры, на схеме градуального
распределения — идеи инициации и прогресса, а также разнообразные
методы мышления, применяющие понятия нормы, отклонения,
рейтинга. Следует подчеркнуть, что мыслительные схемы никак
нельзя редуцировать к таким более конкретным концепциям: если
Гегель использовал схему иерархического переворота в
диалектических целях, то этого нельзя сказать о Фрейде, Бахтине или
Шкловском; если Лакан и Барт были структуралистами, то это не
относится к Пьеру Нора. По-видимому, мыслительные схемы
служат матрицами, порождающими моделями, чьи возможности
богаче, чем реальные концептуальные построения, создаваемые на их
основе. Они фундаментально важны для нашей умственной
работы — но по самой своей природе не поддаются категоризации;
скорее их можно было бы охарактеризовать как фигуры —
одновременно в гештальтпсихологическом и риторическом смысле слова.
Такие фигуры носят чисто когнитивный, а не лингвистический
характер (выше уже отмечена их переводимость с одного языка на
другой), поэтому они лишь иногда случайным образом могут со-
Исторические идеи и мыслительные схемы 93
впадать с теми или иными риторическими фигурами вроде
градации, синекдохи и т.п. Они вряд ли поддаются классификации в
терминах традиционной риторики, как пытались это делать Поль де
Ман и Хейден Уайт с дискурсивными фигурами литературной
критики и историографии16; собственно, именно поэтому мы
предпочитаем пользоваться термином «схема», лишенным риторических
коннотаций, которые присущи слову «фигура». Тем не менее в
общем виде их изучение будет оправданно назвать поэтикой,
наукой о фигурах, — поэтикой, которая описывала бы глубинную
систему приемов интеллектуального дискурса, его «язык», а не
«речь» (в соссюровском смысле этих слов). Каталогизируя
формальные схемы мышления, интеллектуальная история в своей
обобщенно-теоретической версии преследует ту же цель, что и
поэтика при исследовании общих структур художественной
словесности; и, точно так же как поэтика по отношению к истории
литературы, это формалистическое исследование не заменяет, а
дополняет собой традиционную (субстанциалистскую) историю
идей. Если обычная история идей имеет дело по преимуществу с
близкими отношениями преемственности, полемики,
взаимообмена между интеллектуальными высказываниями, то есть с
отношениями, возникающими при документируемых, доказуемых
контактах между текстами и авторами, — то поэтика
интеллектуального дискурса изучает более далекие, дистантные отношения,
которые труднее проследить известными нам методами, но
которые часто весьма продуктивны и значимы в интеллектуальной
жизни той или иной эпохи.
Однако в изучении мыслительных схем имеется также и свой
временной, собственно исторический аспект. Действительно,
некоторые из повторяющихся схем, упомянутых выше, могут быть
объяснены прямыми контактами между авторами, но всей сети
соответствий это не объяснит. Например, мы с уверенностью
можем считать, что философия Гегеля была хорошо знакома
Бахтину (знавшему также и фрейдовский психоанализ и
формалистическую теорию литературной эволюции), но это уже не столь
несомненно в случае Фрейда и Шкловского; интеллектуальное
взаимодействие между Лаканом и Бартом несомненно, но оно
гораздо проблематичнее между ними и Пьером Нора. Приходится
выдвигать более мягкую гипотезу: предполагать, что
сопоставляемые нами мыслители жили (живут) в определенной социальной,
политической и культурной «атмосфере», способствующей возник-
16 См.: Поль де Ман, Слепота и прозрение, СПб., Гуманитарная академия,
2002 [1971]; Хейден Уайт, Метаистория, Екатеринбург, изд-во Уральского
университета, 2002 [1973].
94
Поступки и идеи
новению и развитию идей определенного рода, определенной
формы. Такова, скажем, эпоха великих революций, перед
свидетелями которой разыгрывается целый ряд переворотов в политической,
социальной и интеллектуальной областях17; или же
«структуралистская» атмосфера, навевающая разным авторам (не только
собственно структуралистам) мысль о привилегированных точках
культурного пространства, служащих узлами в сети дистантных
отношений.
Все ли эпохи в равной мере порождают типичные
мыслительные схемы? Ранние примеры рассмотренных выше схем можно
отыскать в весьма отдаленные времена: так, схема
иерархического переворота восходит к христианской апокалиптической
традиции, согласно которой «нищие духом» будут избраны и обретут
высшее блаженство после Страшного суда, или к реальной
традиции античных сатурналий и средневековых карнавалов, которые в
своих ритуалах демонстративно ниспровергали существующие
социальные ценности. И все же большинство таких схем,
по-видимому, лишь с трудом прослеживается в научно-философском,
самосознательном и самокритичном дискурсе до начала XIX века.
Впечатление такое, что именно современная эпоха особенно
склонна пользоваться неконцептуальными, нелогическими
порождающими моделями, мыслительными схемами
нарративно-временного или визуально-пространственного типа, и не случайно,
что именно современная культура так активно занимается
теоретическим осмыслением нарративных и визуальных (образных)
представлений. Эта особенная тенденция современной эпохи, из
которой взяты все наши примеры мыслительных схем, — всего
лишь гипотеза, но ее подтверждает симптоматичный факт,
отмеченный историками раннего Нового времени: упадок риторики и
мнемоники, фигуры и схемы которых сопоставимы с собственно
интеллектуальными схемами, так что в философии Ренессанса
мнемонические схемы даже порой считались способом инициати-
ческого познания мира18. Они имели пространственный характер,
а мыслительные схемы современности — иногда
пространственный, а иногда временной; главное же их отличие в том, что они
17 Впрочем, не все проявления схемы «переворота» могут быть прямо
соотнесены с революцией: действительно, во фрейдовском психоанализе,
русском формализме и бахтинской теории карнавала речь идет не столько о
решительном и бесповоротном изменении, сколько о периодическом чередовании
разных состояний; если это и «революция», то в старинном значении слова, как
круговое движение небесных светил...
18 См.: Френсис А. Йейтс, Искусство памяти, СПб., Университетская
книга, 1997 [1966]; Патрик Χ. Χαττοη, История как искусство памяти, СПб.,
Владимир Даль, 2003 [1993], глава 1.
Исторические идеи и мыслительные схемы 95
служат не для сохранения, а для производства знания.
По-видимому, мыслительные схемы занимают место мнемонических и
риторических фигур в изменившемся культурном контексте.
Кроме того, в отличие от мнемонических схем и риторических
фигур, они по большей части действуют бессознательно, при
господстве субстанциальных идей, игнорирующих
до-концептуальные механизмы мысли; современных интеллектуалов никто не
учит пользоваться мыслительными схемами. Интересную и
поучительную аналогию дает история поэзии, а именно семантика
стихотворного метра. В античной культуре соответствие между
размером и тематикой стихов было осознанным предметом
преподавания (поэтические метры соответствовали жанрам, а тем самым
и определенным тематическим мотивам), в современной же
литературе оно сделалось бессознательным и поддается изучению лишь
как результат специальных статистических подсчетов. В этом
смысле мыслительные схемы могут рассматриваться
одновременно и как пережиток традиционных способов мышления в нашей
интеллектуальной культуре, и как неопознаваемый
(бессознательный — почти во фрейдовском смысле) механизм этой культуры.
Определяемая таким образом, «поэтика интеллектуального
дискурса», подобно поэтике литературной, представляет собой
одновременно и теоретическую и историческую дисциплину.
Описывая абстрактные «фигуры» концептуального мышления, она
одновременно проблематизирует великую историческую
трансформацию, происшедшую в западной культуре XIX—XX веков и
повлекшую за собой изменение нашего понятия об «идее».
2007
СОВРЕМЕННОСТЬ
КАК «БЕЗЫДЕЙНАЯ» ЭПОХА
Известно, что для истории идей излюбленной эпохой, своего
рода золотым веком, является раннее Новое время. В ту пору идеи
действительно функционировали как базовые единицы
рациональности, образующие социальное «знание» (М. Фуко). С XIX
века положение становится не столь очевидным.
Как всегда, предварительное объяснение способна дать нам
история слов. Хорошо известна платоническая генеалогия
термина «идея». Изменяясь по своему содержанию, это понятие на
протяжении двух тысячелетий сохраняло атомарную форму. Идеи
помещались в гипотетическом мире первичных сущностей, или в
божьем промысле, или, на худой конец, в индивидуальном
сознании человека, но они всегда рассматривались как отдельные
духовные сущности, соотносящиеся с реальными или вымышленными
предметами, но не друг с другом. И даже много позже, в
ретроспективном воззрении современной интеллектуальной истории,
такая атомистическая концепция продолжала сохраняться, просто
идеи теперь рассматривались как элементарные единицы смысла,
порождающие своими сочетаниями все высказывания той или
иной культуры. Так, Артур О. Лавджой в предисловии к своей
знаменитой книге по истории идей утверждал, что
число действительно оригинальных философских идей или
диалектических ходов — как и число действительно оригинальных шуток — вне
всякого сомнения ограниченно <...>. Кажущаяся новизна многих
систем достигается исключительно за счет новых сфер их
приложения и новой аранжировки составляющих их элементов1.
Показательно, что Лавджой заканчивает свое историческое
исследование (посвященное одной из традиций платонизма),
остановившись на пороге романтизма. В ту же самую эпоху, в самом
начале «настоящей» (а не «ранней») современности, во Франции
действовала философская школа, пытавшаяся систематизировать
человеческие идеи, то есть подвергнуть ревизии атомистическое
представление о них2. Ее участники стремились основать универ-
1 Артур О. Лавджой, Великая цепь бытия: История идеи, М., Дом
интеллектуальной книги, 2001 [1936], с. 10. Перевод В. Софронова-Антомони.
2 В свою очередь данная школа основывалась на философии XVIII века —
на трудах Локка и Кондильяка об ассоциации идей.
Современность как «безыдейная» эпоха
97
сальную науку об идеях, которая будет трактовать их как факты
сознания, поддающиеся объективному логическому исчислению.
Лидер школы Дестют де Траси назвал такую науку
новоизобретенным словом «идеология» («Начала идеологии», 1801—1804). Этот
проект впоследствии был продолжен ассоцианистской
психологией конца XIX века; а вот эволюция самого слова «идеология»
претерпела резкий, катастрофический перелом. Сорок лет спустя
после Дестюта де Траси это слово уже значило для Маркса (в
«Немецкой идеологии», 1845—1846) — а вслед за ним, в более или
менее упрощенном смысле, и для всей интеллектуальной
культуры Европы — систему социальных иллюзий, которая может быть
«оправдана» лишь тем, что служит политическим целям какого-
либо класса или иной социальной группы. Такая семантическая
деградация очень показательна: попытка систематизации идей
почти немедленно привела к их обесцениванию, достаточно было
идеям утратить свое независимое положение интеллектуальных
атомов, как они тут же предстали ненадежными, сомнительными,
корыстно-эгоистическими фикциями. Их рационализация,
совершенная на излете Просвещения, лишила их истинности и доверия.
Подъем «идеологий» — по видимости связных систем
верований, несущих в себе логически дефектные, «мифические»
представления о действительности, — может рассматриваться как один
из эпохальных симптомов современной эпохи. Следует
подчеркнуть это: возникновение и переосмысление слова «идеология» —
нечто большее, чем лингвистические события, такие языковые
изменения свидетельствуют о переменах в умах. В классическую
эпоху тоже существовали де-факто крупные системы идей, но они
не назывались и не могли называться «идеологиями», так как не
рассматривались ни своими сторонниками, ни даже своими
противниками как системы «мистифицированного» сознания,
созданные в интересах каких-либо лиц или групп. Критика, которую они
встречали, чаще всего касалась их практического применения3, а
не их внутренней структуры (в терминах Соссюра, скорее их parole,
чем langue). Напротив того, современная идеология всегда
представляет собой тотальное построение — что особенно ясно в
случае тоталитарных идеологий — и может оспариваться лишь как
целое. Когда ее пытаются опровергнуть, то не столько
анализируют ее принципы, сколько выявляют ее тайные цели и задачи;
критика идей принимает форму криминального расследования,
стремящегося ответить на вопрос «Cui bono?». «Идеология — это идея
моего противника», — гласит ироническое замечание французско-
3 Или, также очень часто, — их неортодоксальности, несоответствия
авторитетной традиции (критика ересей).
98
Поступки и идеи
го социолога Раймона Арона... Конечно, все это касается в
большей мере открытых споров в обществе (политических, моральных
и т.д.), чем профессиональных дискуссий между учеными; но
современным идеологиям как раз и свойственно пренебрегать
границами специальных областей интеллектуальной жизни,
вторгаться на их территорию, подменяя предвзятыми воззрениями
ответственные и доказуемые аргументы.
Итак, с подъемом идеологий функционирование идей, самый
их способ существования радикально переменились. Современная
идея живет не сама по себе, она всегда систематизирована и кому-
то принадлежит, всегда поддерживается каким-то
индивидуальным или коллективным лицом, чей авторитет неизбежно
ограничен и зависит от частных интересов. Конечно, это изменение в
статусе идей происходило не столь стремительно, как
семантический коллапс термина «идеология». Платоническая концепция идей
еще долго могла служить для создания крупных интеллектуальных
систем в классической немецкой философии (у Фихте и
особенно у Гегеля, который определял идею как высшую степень
духовного синтеза, соединяющую понятие с реальностью); и еще в
1900 году молодой французский писатель, будущий нобелевский
лауреат Ромен Роллан мог закончить свою историческую драму
«Дантон» типично гегельянской сентенцией: «Идеи не
нуждаются в людях». Но в то же самое время марксистская социальная
теория уже утверждала противоположную концепцию, стремясь к
инструментализации идей, в частности к выработке «пролетарской
идеологии», чтобы сделать ее эффективным орудием в классовой
борьбе, оружием в руках коммунистической партии. Вряд ли есть
необходимость пояснять, что подобный способ применения идей
не является исключительным достоянием марксизма и что он
отнюдь не исчез с политическим поражением последнего.
Современная философия нередко отрицает за идеями статус
привилегированного эпистемологического объекта, которым они
обладали в классической мысли. Жиль Делёз («Что такое
философия?», 1995) называет задачей философии творчество концептов,
а не идей и не систем идей. В отличие от идеи, концепт не
оформляется как утверждение или пропозиция, он не может быть
«истинным» или «ложным», но оценивается лишь прагматически,
лучше или хуже обслуживая тот или иной познавательный проект.
И действительно, наши нынешние «идеи» выглядят не столько как
предикативные или нарративные синтагмы, содержащие связную
логическую структуру и стремящиеся к универсальности, сколько
как концепты, понятия, имена, номинативные семантические
единства, расположенные в «плане имманенции» (Делёз).
Одновременно историческая наука совершила «лингвистический пово-
Современность как «безыдейная» эпоха
99
рот», который требует сознавать систематический характер
ментальных фактов прошлого, определяемый языковыми
структурами. Французский структурализм 1960-х годов, в лице Ролана
Барта и Мишеля Фуко, научился выделять и анализировать в культуре
не логически связные цепи высказываний, а дискурсы или
дискурсивные формации, иными словами, лингвистические поля или
«планы имманенции», попадая в которые те или иные высказывания
кажутся приемлемыми независимо от своей истинности.
Итак, в современную эпоху изменились не только функции, но
и внутренняя форма идей, причем это произошло на самом
высоком уровне философской рефлексии. История слов «идея» и
«идеология» заставляет различать два исторически сменяющих друг
друга образа мысли — «атомистический» и «дискурсивный». Эту
гипотезу подтверждают и нижеследующие замечания о культурно-
институциональном статусе идей до и после
эпистемологического разрыва XVIII—XIX веков.
Во-первых, в классическую эпоху существовал ряд специальных
жанров, предназначенных для передачи и распространения
готовых частиц мудрости — «идей» в полном смысле слова. Афоризмы,
максимы, басни, exempla, аллегории в массовых масштабах
создавались, публиковались, обращались в обществе, причем не только
как развлекательные безделки, но и как серьезные наставительные
тексты, применявшиеся в светском и религиозном воспитании.
В краткой и часто остроумной форме они концентрированно
выражали «вечные истины», которые проходят неизменными сквозь все
исторические перемены, подобно тому как платоновские идеи
остаются неизменными, несмотря на все изменения материальных
объектов. Сегодня мы, конечно, по-прежнему ценим лаконичную
формулу, и в нашей цивилизации по-прежнему издаются
сборники афоризмов, но их чтение скорее внушает нам ностальгию по
классической эпохе, о былых временах, когда их язык был еще
продуктивен. Напротив, некоторые современные мыслители, от
Ницше до Чорана, демонстрирующие, по словам Сьюзен Зонтаг,
«новый тип философствования — личный по тону (а то и прямо
автобиографический), афористичный, лирический,
антисистемный»4, — в своих афористических сочинениях демонстрируют не
столько искусство краткой формулы, сколько невозможность
обобщающих выводов («глупость состоит в желании делать выводы», —
любил повторять Гюстав Флобер); их афоризмы не достигают
окончательной формы, остаются лишь фрагментами
неосуществимого целого и походят не столько на самодостаточные атомы,
4 Сьюзен Зонтаг, Мысль как страсть, М., Русское феноменологическое
общество, 1997, с. 100. Перевод Б. Дубина.
100
Поступки и идеи
сколько на «свободные радикалы», тщетно стремящиеся
включиться в структуру какого-нибудь «дискурса».
Другой аспект того же явления — радикальная перемена в
способе цитации. Сегодня, как и прежде, мы широко пользуемся
цитатами в наших текстах, но их применение носит качественно иной
характер, чем в старину. В раннее Новое время такой мыслитель,
как Монтень, мог наполнять свой текст огромным количеством
цитат, не заботясь об их систематическом соотношении с
«дискурсом», об их структурном месте в этом дискурсе. Для такого
мыслителя все заимствуемые им идеи располагались в одном и том же
«плане имманенции» и потому были удобным материалом для
вторичного использования. Иными словами, идеи практически
совпадали с топосами, поэтическими общими местами,
образующими одновременно запас готовых к употреблению формул и сумму
культурной доксы5. Сакральным образцом такого рода цитации
было традиционное использование библейских цитат — а ведь
Библия представляет собой не систематический «дискурс», а
сумму мудрости, каждый фрагмент, каждое слово которой обладает
абсолютной истиной независимо от других.
И наоборот, при нашем нынешнем отношении к цитации
господствует боязнь «деконтекстуализировать» цитату, оторвать ее от
контекста. Типичной темой критических споров в гуманитарных
науках является то, насколько цитируемый текст соответствует
своему оригинальному контексту. Хотя в наши дни и остаются в
ходу сборники отдельных, деконтекстуализированных цитат, но их
циркуляция, как правило, ограничена
воспитательно-справочными задачами, если не считать особого случая, когда они
поддерживаются авторитетом тоталитарной идеологии (как цитатники Мао
Цзэдуна, печатавшиеся многомиллионными тиражами в
коммунистическом Китае 1960-х годов).
Во-вторых, существенная перемена произошла в отношениях
между словами и образами (визуальными, но также и
музыкальными и даже ментальными). В классической культуре образы
считались поддающимися описанию и осуществляющими некоторую
рациональную программу, которая может быть вербализована; они
подчинялись словам. Такое убеждение проявлялось в ряде
культурных практик, которые ныне становятся для нас странными и
трудно дешифруемыми, — например, в эмблематике, искусстве
составления сложных иконических знаков, подробно иллюстрирующих
некоторую словесную «легенду» (афоризм, титул, максиму и т.д.).
5 См: Ernst Robert Curtius, Europäische Literatur und lateinisches Mittelalter,
Bern, Francke, 1948. Согласно Курциусу, великой эпохой топической поэзии в
Европе было средневековье и раннее Новое время до XIX века.
Современность как «безыдейная» эпоха
101
Благодаря этой легенде эмблема смыкается с рядами «готовых к
употреблению» идей и/или топосов. Хорошо известно, как важна
была эмблематика для культуры барокко; но тот же принцип смыс-
лообразования господствовал и во многих других образах
классической культуры, от религиозной живописи до «программной
музыки», дожившей до XIX века. Сегодня он парадоксальным
образом присутствует в так называемом «современном искусстве»,
произведения которого могут и даже должны быть дешифрованы
(критиками, кураторами выставок, даже профессиональными
философами), чтобы начать что-то говорить зрителю/слушателю;
другое дело, что эти произведения как раз и не пытаются более
создавать образы. Они действительно несут в себе определенную
идею — но лишь идею своей собственной формы (структуры), без
всякого внешнего, трансцендентного по отношению к
произведению смысла.
Вообще, современная культура сделала едва ли не обратными
отношения между словами и образами: отныне слово все больше
и больше служит образу, а не наоборот. Это особенно очевидно в
массовой культуре (рекламе и т.д.), где словесные высказывания
систематически играют вспомогательную роль по отношению к
зрительным представлениям. Благодаря «Мифологиям» Ролана
Барта (1957) мы знаем, что и современные идеологии передаются
главным образом не через артикулированные логические
формулировки, а посредством «мифов», многие из которых — включая
самые действенные — основаны именно на образах. В конечном
счете идеология стремится сформировать в сознании своего
потребителя не ясную идею, которую можно было бы подтвердить или
опровергнуть обычными средствами логики, но своего рода образ,
чья неопределенность делает его поливалентным и неуязвимым
для рациональной критики. Происходит своего рода инволюция:
идея возвращается к своему исходному значению «формы»,
«фигуры», растворяя логические членения в континууме
перцептивных и фигуративных представлений.
В-третьих, в современной культуре активизируется перфор-
мативный характер идеологических высказываний, включая
такую характеристику, как диалогичность. Идеи становятся
высказываниями, énoncés, продуктами социально определенных
речевых актов (Дж.Л. Остин); перефразируя знаменитую
формулу Ж.-П. Сартра, можно сказать, что современная идея — это
«идея плюс ее ситуация», и прежде всего идея плюс ее хозяин.
Такая логическая «нечистота» идей затрагивает свойства их
восприятия (скажем, опровержение идеи принимает форму не
логической деконструкции ее терминов, а моральной или
политической дискредитации ее сторонников), но может наблюдаться и в
102
Поступки и идеи
их внутренней структуре. Примером апроприации идей могут
служить романы Достоевского в интерпретации М.М. Бахтина:
их персонажи являются настоящими «идеологами» (творцами
идей, создателями концепций и систем), их частный дискурс
отягощается грузом абстрактных убеждений. Речь такого персонажа
вбирает в себя возражения и замечания, с которыми она может
столкнуться, она заранее озабочена словами своего оппонента.
Соответственно такие речи — можно предположить, что они
имеют место не только в книгах Достоевского, что русский писатель
просто воспроизводил широко распространенную культурную
практику, — содержат в себе сразу более одной идеологической
позиции, являются предметом дискурсивного кондоминиума, где
одно и то же высказывание может фактически принадлежать
двум и более субъектам речи. Идея и здесь перестает быть
изолированным, самостоятельным атомом истины и становится частью
разнородного семантического целого, наряду с другими идеями,
которые варьируются, сочленяются, сталкиваются с нею.
Предложенная Достоевским модель интердискурсивных
конструкций — не единственная; литература XIX века вообще много
занималась проблемой воспроизводства чужой речи и чужих
воззрений, решая эту проблему разными методами, например с
помощью всевозможных форм провокации (без чего невозможно понять
творчество таких мыслителей, как Ницше), с помощью приемов
несобственной речи или специальных техник резюмирования идей.
Последний прием особенно впечатляюще действует у Флобера в
«Буваре и Пекюше»: создавая массированный реферат разных
видов научного знания посредством двух своих персонажей —
идиотов-самоучек, — романист в итоге компрометирует всю
современную ему интеллектуальную культуру, превращает ее точные
концепции в нагромождение смутных, ошибочных или, во всяком
случае, ненадежных мнений. При изучении культуры последних
двух столетий нельзя забывать о действии этих мощных
механизмов, перерабатывающих идеи в идеологии.
* * *
Сформулированные выше тезисы весьма схематичны, почти
полностью (намеренно) лишены иллюстрирующих примеров и
могут вызвать разнообразные возражения. Самое серьезное из
них — по-видимому, упрек в смешении различных областей
культуры: философии, литературы, искусства и вплоть до массовой
культуры и повседневной жизни. Действительно, все эти
различные уровни культуры рассматривались здесь наравне; дело в том,
что в современной и особенно «постсовременной» культурной
практике границы между высоким и низким, рефлексивным и ру-
Современность как «безыдейная» эпоха
103
тинным применением языка систематически нарушаются, так что
массовая культура может ассимилировать «великие идеи», взятые
из философии и наук, а философия, в свою очередь, может
вырабатывать строгие интеллектуальные конструкции на материале
массовой культуры. Имея дело с современной культурой, историк
идей не может отвлечься от «нечистоты» так называемых «идей»,
от их неопределенно-перформативной значимости, выходящей за
рамки их собственно словесного смысла и обеспечивающей их
семантическое богатство.
В заключение приведу в качестве примера (возможно, не
лучшего) один свой собственный опыт. Несколько лет назад в книге
«Французский романтизм и идея культуры»6 я попытался
вернуться к гегелевскому определению идеи (понятие + реальность) и
предположил, что в современную эпоху существуют важные идеи,
которые поддаются изучению не только на уровне
интеллектуальных понятий и теорий, но также и в творческой практике
художественных и нехудожественных течений культуры. Так, сугубо
современная идея релятивизма (которую можно считать основой
самого современного понятия культуры) в XIX веке проявлялась не
только в абстрактных формулировках, но и в религиозных опытах
французских сенсимонистов 1830-х годов, в специфических
формах переживания и литературного применения учтивости,
перевода, риторики, путешествия, остатков прошлого и т.д. — одним
словом, во всевозможных отношениях культуры с Другим, столь
важных для современности. Не могу быть уверенным в успехе
своего предприятия, но в принципе представляется едва ли не
бесспорным, что писать современную историю идей — или, точнее,
историю современных идей — значит принимать в расчет не
только отвлеченные мысли людей, но и их значимые поступки, чувства
и образы. Иначе говоря, традиционная интеллектуальная история
правильно делает, когда сосредоточивает свои усилия на
исследовании раннего Нового времени: за этим порогом, начиная с
XIX века, требуется уже другая дисциплина, соответствующая
новой эпохе культуры и построенная как всеобъемлющая история
культуры.
2010
6 С. Зенкин, Французский романтизм и идея культуры, М., РГГУ, 2002.
ИСТОРИЯ ПОНЯТИЙ
И СТРУКТУРАЛЬНЫЙ МЕТОД
На карте гуманитарного знания история понятий образует
эксклав историографии, обращенный в сторону филологических
наук. В классической историографии, по остроумному замечанию
одного историка-эссеиста, исследователь интересуется текстами,
но недолго: имея дело с текстуальными источниками, он спешит
подвергнуть их «критике», извлечь из них сведения о других,
нетекстуальных по природе фактах и событиях и дальше работать уже
с этими данными. Напротив того, история понятий представляет
собой попытку историка задержать внимание на тексте, на словах,
которыми он пользуется, и на семантических единицах, к которым
отсылают эти слова. Тем самым историк вторгается на
традиционную территорию филолога, лингвиста.
Между тем филологи и лингвисты давно знают, что слова и
понятия существуют не по отдельности, а только в виде системы,
образуют лексические и семантические структуры. Если же учесть,
что самое влиятельное течение в лингвистике, да и
литературоведении XX века называется «структурализм», то было бы
естественно ждать, что филология сама, не дожидаясь прихода конкурентов
извне, займется структурным описанием социально-политических
понятий прошлого, которые интересуют «неязыковых» историков.
Однако так не случилось, и история исторических понятий в
общем и целом осталась интригующей лакуной в многообразных
занятиях мирового структурализма1. Его классики подвергали
структурированию все что угодно: не только собственно языковые
единицы вроде фонем, но и стихотворные размеры,
повествовательные функции, мифы, отношения родства, описания модной
одежды, метафоры, фигуры архаических богов, бытовые поступки,
кинофильмы... но структурный анализ общих понятий,
обосновывающих устройство того или иного общества в ту или иную
эпоху, если и осуществлялся в рамках этих исследований, то занимал
в них маргинальное место. Структуральный метод, как и любой
другой научный метод, постоянно оперирует общими понятиями
и категориями, но лишь как элементами своего аналитического
метаязыка, не подвергая их анализу как единицы языка-объекта.
1 Нижеследующие замечания основаны на материале двух национальных
научных традиций — русской и французской, — где структурализм дал
особенно богатые результаты.
История понятий и структуральный метод 105
Показательно, что два наиболее значительных научных проекта,
осуществленных во Франции в 1960-е годы и имеющих
касательство к социальным понятиям прошлого, не могут быть
по-настоящему отнесены к структурной семантике. «Словарь
индоевропейских социальных терминов» (Vocabulaire des institutions
indo-européennes) Э. Бенвениста трактует, во-первых, не столько
об исторических, сколько о доисторических фактах (то есть о
таких временах*, для которых наше знание о цивилизации и
общественном устройстве практически неотличимо от знания о языке),
а во-вторых, подвергает структурному описанию не столько
понятия, сколько слова («термины», «вокабулы»). «Археология знания»,
которую разрабатывал ранний Мишель Фуко, также находится за
рамками лингвистического структурализма — структуры,
которыми она оперирует, не имеют аналогов в лингвистике, и в этом
смысле сам Фуко обоснованно отказывался признавать себя
структуралистом.
Лакуна в структуралистских исследованиях, о которой идет
речь, кажется тем более странной, что общие понятия по своему
устройству как будто бы особенно удобны для построения
структурных моделей: ведь они могут рассматриваться как комплексы
различительных признаков, которые сами собой вступают в игру
оппозиций и комбинаций, характерную для языковых структур.
Объяснением этой лакуны не могут служить какие-либо внешние
(например, цензурные) ограничения. Их не было во Франции, а в
Советском Союзе они хоть и были, но менее всего касались
абстрактных понятий: цензурировались конкретные исторические и
социально-политические факты, имена и произведения ряда
авторов, целые направления общественной мысли, но никто не
запрещал изучать историю тех или иных общих терминов, особенно на
расстоянии двух-трех веков. Объяснением не может служит и
известная склонность структурализма к синхронным, а не диахрон-
ным моделям описания: в конце концов, история понятий, как и
любая другая, не обязательно должна быть диахронной, в нее на
полных правах входит и синхронное описание понятийной
системы, действовавшей в тот или иной период.
Более серьезным является другое обстоятельство, связывающее
«обращенную к языку» историю понятий с «классической»
историографией, той, что «недолго интересуется текстом»: занимаясь
семантическими и лингвистическими явлениями, история
понятий все-таки не упускает из виду не-текстуальную
(институциональную) сторону исторического процесса:
Историография истории понятий исходит из того, что
историческая действительность не может быть изучена исключительно на ос-
106
Поступки и идеи
нове анализа исследуемых текстов. Для Р. Козеллека наряду с
лингвистическими контекстами существовали и социальные реалии,
которые хотя и соответствовали языковым реалиям, но не полностью
исходили из них2.
Толкуемые таким образом, исторические понятия всегда
обладают некоторым непонятийным референтом, который носит
социально-институциональный характер и поддается
лингвистическому структурированию хуже понятий как таковых; историческое
понятие в смысле Козеллека скорее сближается с гегелевским
определением идеи как «единства понятия и реальности»3.
Казалось бы, абстрактно рассуждая, структурализм мог
описывать своими методами собственно понятийную, семантико-линг-
вистическую сторону исторических концептов (их, так сказать,
software), оставляя на долю историков всю связанную с ними
социально-институциональную сторону (hardware). Однако такой
раздел дисциплинарной территории наталкивается на
методологические сложности. Одним из постулатов структуралистской
методологии является положение о том, что никакая система не может
быть описана своими собственными ресурсами, метаязык не
может совпадать с языком-объектом. Именно этим объясняется, по-
видимому, отставание структурной семантики в 1960—1970-е годы
(даже при всей значимости работ А.-Ж. Греймаса во Франции).
Систематизация языковых понятий не находит себе опоры для
вычленения и каталогизации исходных семантических единиц: как
писал в 1967 году Р. Барт, «структурная семантика гораздо менее
развита, чем фонология, потому что до сих пор неясно, как
составлять списки семантем»4. Структурная лингвистика блестяще
справлялась с описанием не-понятийных, не-семантических слоев
языка (например, фонологического уровня), используя смысловой
уровень для проверки адекватности структурных коммутаций, а
для анализа семантического уровня ей долгое время недоставало
операциональных средств5. Исторические понятия (да и система
2 Ханс Эрих Бедекер, «Отражение исторической семантики в
исторической культурологии», в кн.: История понятий, история дискурса, история
метафор (сборник статей под редакцией Х.-Э. Бедекера), М., Новое литературное
обозрение, 2010, с. 8. Перевод В. Дубиной.
3 Г.-В.-Ф. Гегель, Наука логики, СПб., Наука, 1997, с. 694.
4 Ролан Барт, Система Моды. Статьи по семиотике культуры, М., изд-во
им. Сабашниковых, 2003, с. 136.
5 По крайней мере, так обстояло дело в дескриптивной лингвистике; здесь
нет речи о другом, генеративном ее направлении, решающем иные задачи. Я не
рассматриваю здесь также некоторые новые направления в лингвистике —
например, анализ языковых «концептов» и «культурных констант» (Н.Д. Ару-
История понятий и структуральный метод 107
понятий вообще) оказались для структурального метода «слепой
точкой» потому, что их было нечем поверить в рамках языка, как
фонологию языка можно поверить его семантикой. Для этого
требовался выход за рамки собственно языковой, знаковой
деятельности, в область социальных референтов. Нужно было найти в
самой внеязыковой реальности — в референции понятий или
прагматике дискурса — некий уровень фактов, обладающих
собственной структурной (то есть не природной, не
причинно-следственной) организацией и способных стать системой отсчета для
структурирования понятий.
Эти методологические абстракции можно проиллюстрировать
конкретным примером, показывающим a contrario, как в особом,
едва ли не исключительном случае структурально-семиотическое
исследование культуры все-таки начинает решать задачи,
сравнимые с задачами истории понятий, и какие оригинальные аспекты
последних оно способно при этом раскрыть. Имеются в виду две
статьи Юрия Лотмана, опубликованные в конце 1960-х— начале
1970-х годов и посвященные одной специальной проблеме —
оппозиции честь/слава в древнерусской культуре Киевского
периода6.
К историческому анализу понятий Лотман пришел как бы
попутно, в ходе обсуждения совсем иной научной проблемы —
вопроса о датировке и подлинности «Слова о полку Игореве»:
полемизируя с A.A. Зиминым, отстаивавшим поддельный характер
«Слова» и датировавшим этот текст концом XVIII века, Лотман в
качестве контраргумента указал на то, что в этом тексте точно
воспроизводится древняя, уже неактуальная к тому времени
семантика понятий «слава» и «честь», а поскольку такая реконструкция
вряд ли была по силам предполагаемому автору подделки, то
данный факт свидетельствует в пользу подлинности текста,
действительно восходящего к XII веку. Здесь не место судить о фи-
тюнова, Ю.С. Степанов), где, во-первых, исследуются не столько исторически
изменчивые, сколько панхронные, константные единицы; во-вторых, эти
единицы структурируются не по точно-дискретным моделям классического
структурализма, а с помощью более гибких, континуальных моделей вроде
«лексического поля»; в-третьих, в таких исследованиях не проводится ясного
различия между словом и понятием и фактически они относятся скорее к
исторической лексикологии.
6 Ю.М. Лотман, «Об оппозиции "честь — слава" в светских текстах
Киевского периода» (1967); «Еще раз о понятиях "слава" и "честь" в текстах
Киевского периода» (1971), в кн.: Ю.М. Лотман, Избранные статьи, т. 3, Таллин,
Александра, 1993, с. 111 — 126. У Лотмана есть и ряд других работ, где
сопоставляются оппозитивные пары культурных понятий (статья «О понятиях "стыд"
и "страх"...» или глава «Дурак и сумасшедший» в книге «Культура и взрыв»),
но метод анализа в них — не исторический, а общетипологический.
108
Поступки и идеи
лологической убедительности этого довода (дискуссия о
подлинности «Слова» продолжается в науке и поныне), но с
методологической точки зрения интересно, как именно Лотман анализирует
выделенные им исторические понятия.
Во-первых, он выбирает для анализа (пусть и по случайным,
эмпирическим причинам) самые настоящие социальные понятия,
однако со значением не политико-правовых институций,
аморальных категорий, хотя в жизни средневековых князей и их дружин
эти категории служили непосредственным обоснованием военно-
политической деятельности: в конце концов, авантюристический
поход на половцев, затеянный Игорем, оправдывается в «Слове»
именно этими понятиями — воины идут в поход, «ища себе
чести, а князю славы». Акцент Лотмана на моральных категориях
соответствует программе семиотических исследований частного
«бытового поведения» (а не коллективного политического действия),
которая уже складывалась у Лотмана в начале 1970-х годов.
Существенно также, что референтом избранных им категорий служат
изначально знаковые объекты, предметы условного, ритуального
обмена (см. об этом ниже); соответствующие им понятия
оказываются вдвойне семиотичными — на уровне собственно знака и на
уровне его референта.
Во-вторых, выбранные понятия рассматриваются не в
контексте всей русской культуры XII века, а в рамках особой социальной
субкультуры — а именно «рыцарской» культуры князей и
княжеских дружин; Лотман специально отмечает, что в церковно-
монашеской среде той же эпохи оппозиция данных понятий была
гораздо менее четкой, так что они могли употребляться как
синонимы. Структурирование понятий начинается со
структурирования общества, которое ими пользуется, их семантические
оппозиции релевантны не для «русского языка XII века» вообще, а для
социолекта определенной группы. Это важно для дальнейшего, так
как именно в замкнутой (в данном случае
элитарно-аристократической) группе особенно активно возникают и разрабатываются
условные понятия.
В-третьих, для анализа взято не отдельное понятие, а оппози-
тивная пара — что и неудивительно, зная важность, какую
структурализм (особенно советский, московско-тартуский) придавал
бинарным оппозициям; зато это далеко не всегда и не в такой
степени относится к методам западноевропейской истории понятий,
не склонной опираться на бинаристские модели
лингвистического анализа. При этом важнейший постулат структурального
метода, который применяется Лотманом и который нелишне будет
напомнить, заключается в том, что структурные оппозиции
между понятиями «работают» не только в языке и мышлении учено-
История понятий и структуральный метод 109
го-аналитика, но и в самой изучаемой им культуре; все ученые (да
и не только они) мыслят оппозициями, но в данном случае речь
идет об оппозициях, которые были понятны не только (и не
столько) нам, но и любому княжескому дружиннику времен
Игоря, на которых держалось его моральное самосознание и которые,
в конечном счете, определяли его поведение.
В-четвертых, по своему содержанию оппозиция чести/славы
поставлена Лотманом в соответствие с внеязыковыми,
социальными отношениями внутри изучаемой им социальной группы — а
именно с иерархическими отношениями сюзерена (князя) и
вассалов (дружинников). Лотман даже составляет небольшую
таблицу7, показывающую корреляцию двух структур — социальной и
семантической: «слава» является принадлежностью сюзерена,
наряду с «державой», а «честь» служит мотивом воинских деяний
вассалов, стремящихся заслужить эту «честь» и получить ее от
своего князя. Социально-прагматические отношения оказываются
той самой внеязыковой структурой, опираясь на которую Лотман
разграничивает смыслы двух членов своей оппозиции.
Наконец, в-пятых — и это, возможно, самый оригинальный
аспект лотмановского анализа, к которому ученый возвращается
несколько раз, — два члена понятийной оппозиции обладают
неравной структурной релевантностью. Выражаясь терминами Лот-
мана, они оба семиотичны, но не в равной мере. «Честь» для
воинской культуры средневековой Руси мыслится как обладающая
значением, но и материально конкретная добыча: по нормам
феодальной этики, дружинники завоевывают ее, почтительно отдают
своему сюзерену-князю, а тот, в свою очередь, распределяет ее
обратно среди воинов; в ходе этого церемониального обмена
материальная ценность добычи систематически принижается с целью
подчеркнуть ее моральную, семиотическую ценность:
Честь подразумевает наличие награды, которая есть ее
материальный знак <...> стремление обнажить знаковую природу этих выгод
часто приводит к тому, что сразу после получения захваченные
ценности могут (а по ритуалу — и должны) быть брошены, растоптаны
или иным способом уничтожены8.
Напротив того, «слава» имеет чисто идеальный характер:
Понятие «славы» в значительно большей степени семиотично.
«Честь» подразумевает материальную награду или подарок, являю-
7 См.: там же, с. 115.
8 Там же, с. ИЗ.
110
Поступки и идеи
щиеся знаком определенных отношений. «Слава» подразумевает
отсутствие материального знака. Она невещественна и потому — в идеях
феодального общества — более ценна, являясь атрибутом того, кто
уже не нуждается в материальных знаках, так как стоит на высшей
ступени9.
Лотман как будто выражается не вполне ясно. Может
показаться странным, что «более семиотично» равнозначно у него
«отсутствию материального знака». Все разъясняется, если понять, что
фактически речь тут идет о неравной условности (или, что то же
самое, неравной материальности) референтов, стоящих за двумя
знаками-понятиями. Если понятие «честь» отсылает к объекту
отчасти условному (как знак морального уважения), а отчасти
материальному (как дорогостоящие вещи)10, то «слава» в
средневековой этике — чистое понятие, условный знак, отсылающий к чисто
условной же ценности.
Та же логика неравномерной и изменчивой условности — но
уже применительно не к референции, а к прагматике — действует
и тогда, когда Лотман от синхронического описания
древнерусской оппозиции обращается к (далекой) диахронической
перспективе, показывая судьбу этой оппозиции в русской культуре конца
XVIII века (то есть в эпоху гипотетической фальсификации
«Слова о полку Игореве»). В XVIII столетии, пишет он, сначала «честь»
утратила свой материальный смысл «добычи» и «награды»,
сделавшись «одним из основных пунктов сословной дворянской
морали», которому «приписывалась знаковая внепрактическая
ценность»11, — то есть оказался утрачен онтологический смысл
оппозиции, противопоставлявшей друг другу «честь» и «славу» как
«материальное» и «идеальное». А далее, в ходе просветительской
критики сословной морали, понятие чести стали осуждать с
точки зрения «возвращения к Природе», которое «было связано с
отрицательным отношением к любым формам знаковости»12.
Приравнивая десемиотизацию освобождению человека от
общественных цепей, Просвещение резко отрицательно относилось к
чисто знаковым понятиям, за которыми не чувствовало естественной
9 Там же, с. 115.
10 «Дорогостоящее» — само по себе ценностное определение,
предполагающее особого рода значимость; но эта значимость не смысловая, она
отсылает не к понятиям, а к другим материальным объектам, которые могут
обмениваться друг на друга, и к человеческому труду, который тратят на их добычу/
изготовление.
11 Там же, с. 119.
12 Там же.
История понятий и структуральный метод 111
«вещи». В ряду их находилось и понятие чести, ненавистное
просветителю как одна из фикций феодального общества, знак, который, с
его точки зрения, не имел реального содержания и — именно
благодаря этому — в феодальном обществе господствовал над
реальностью13.
Для средневековой культуры «честь» была низшим членом
оппозиции честь/слава в силу своей отягощенности материальным
содержанием — для культуры Просвещения она вообще
вытесняется из ряда позитивных, содержательных понятий по обратной
причине, как слишком невесомое, условное (и в этом смысле
уподобившееся средневековой «славе»); в результате размывается,
забывается вся оппозиция двух понятий, которую уже никак не мог
бы, по мысли Лотмана, верно воспроизвести гипотетический
фальсификатор.
Независимо от спора об авторстве «Слова», опыт Ю.М.
Лотмана в структуральной истории понятий поучителен и полезен для
современной интеллектуальной истории, лишний раз
демонстрируя необыкновенную широту и плодовитость мысли этого
ученого. Правда, трудно сказать, насколько данный опыт может быть
усвоен реальной традицией истории понятий, сложившейся
после Р. Козеллека и приверженной скорее к герменевтическому, чем
к структуральному подходу14. Как уже сказано, условность
понятий прямо связана у Лотмана с обособленностью социальных
групп, оперирующих этими понятиями (она высока для
средневековых феодальных дружин и значительно ниже для дворянства
XVIII века), то есть эти понятия служат знаками социальной
стратификации (и идентификации), которая уже представляет собой
нетекстуальный объект и требует не герменевтики, но структурного
описания.
13 Там же, с. 119-120.
14 Возможно, впрочем, что лотмановские понятия вроде «чести», резко
меняющей меру своей условности/материальности при переходе от одной
культурной эпохи к другой, сближаются с такими проблематичными (не
объясненными самим Козеллеком, по замечанию его немецкого толкователя) типами
понятий, как «понятия борьбы», «понятия действия», «понятия будущего»,
«понятия перспективы», «понятия цели», «понятия ожидания» и т.д. См.: Ханс
Эрих Бедекер, «Размышления о методе истории понятий», в кн.: История
понятий, история дискурса, история метафор (сборник статей под редакцией
Х.-Э. Бедекера), с. 46. В этих терминах читается не только диахроническая
перспектива, в которой «ожидают» некоторого «будущего», ставят некие «цели» и
т.п., но и перспектива активного, прагматического отношения к понятиям
(вовлеченным в «борьбу» или «действие»), которая как раз и характерна для лот-
мановского анализа.
112
Поступки и идеи
Знаменательно, что одна из двух сопоставляемых Лотманом
культурных эпох — это то самое «переломное время» конца
XVIII — начала XIX веков, которое особенно охотно изучается
немецкой школой истории понятий как время становления
социально-политических концептов современного общества. Лотман
показывает в этой эпохе и обратный процесс — деструктуризацию,
переоценку и забвение понятий прошлого; одним из эффектов
такого процесса является стирание оппозиции честь/слава, когда
эти термины становятся синонимами. В любом случае речь идет о
прагматике, о меняющемся отношении людей к знакам и
понятиям, что изменяет степень их условности и структурной
релевантности. Всякая структура языкового типа основана на
противопоставлении выделенных (релевантных) элементов и нейтрального
фона, а зачастую и на маркированном, преимущественном
статусе одного из членов бинарной оппозиции по сравнению с другим
(например, «славы» в древнерусской оппозиции честь/слава);
ослабление или усиление структурной релевантности элемента
(например, «чести») ведет к изменению или даже разрушению
структуры, в чем, по-видимому, заключается один из важнейших
механизмов, обеспечивающих развитие понятий во времени.
2010
ИНСТИТУТЫ И ТЕКСТЫ
ГУМАНИТАРНАЯ КЛАССИКА:
МЕЖДУ НАУКОЙ И ЛИТЕРАТУРОЙ
Классика — не чисто научное понятие, хотя оно может
прилагаться и к науке. Им описывается статус, которым человек,
произведение, учение обладают не только в узко академических
рамках, но и в более широкой социокультурной среде: в школе, в
свете, в масс-медиа, в общественном мнении. Соответственно это
понятие применимо не только к научным, но и к художественным
и бытовым фактам, вовлеченным в культурную традицию, в
процесс канонизации; отсюда выражения «классическая литература»,
«классическая мода» и т.д. Другое дело, что разные культурные
дискурсы и, в частности, разные научные дисциплины бывают
затронуты этим процессом в разной степени и в разных формах;
специфическое место среди них занимают гуманитарные науки
(humanities).
Классика — понятие, связанное с идеей наследия: при
отсутствии собственного наследия даже самый знаменитый писатель,
художник или мыслитель прошлого, от которого по каким-то
причинам не сохранилось значительных текстов или произведений, не
может считаться «классиком» (Сократ — не классик, классиком
является лишь Платон); то же относится к великим
государственным, военным и т.п. деятелям, поскольку они лишь совершали
поступки, а не создавали произведения культуры. Обязанность
изучать классиков мотивируется не просто тем, что это люди,
добившиеся высших достижений в той или иной области знания или
творчества, но и тем, что их наследие потенциально
неисчерпаемо, что каждое поколение может найти в нем что-то новое и
важное для своего собственного творчества. Классический канон
образует устойчивое и в принципе неизменное ядро культурной
памяти, по отношению к которому все вновь создаваемые тексты
культуры являются пояснениями или вариациями. Культура
функционирует на двух уровнях — повторяемого канона и
обновляемых комментариев к нему1. Классики — это не самые известные и
не самые читаемые, а самые комментируемые авторы.
Такова была господствующая ситуация в европейской культуре
до наступления Нового времени; начиная с XVI—XVII веков она
1 См.: Ян Ассман, Культурная память: Письмо, память о прошлом и
политическая идентичность в высоких культурах древности, М., Языки славянской
культуры, 2004 [1992].
116 Институты и тексты
изменилась благодаря возникновению новоевропейской науки.
Характерные для этой науки экспериментальные методы,
формализуемые результаты, процедуры воспроизведения и проверки
сделали ее независимой от традиции; ей больше не требовались
постоянные обращения к классикам — например, к Аристотелю или
Галену, — типичные для средневекового научного дискурса.
Новоевропейская наука исповедует принцип безличного знания,
отделенного от своих первооткрывателей и полноценно
передаваемого от одного ученого к другому. Личность первооткрывателя
может символически увековечиваться в названиях научных
достижений (теорема Пифагора, законы Ньютона, опыт Майкельсона —
Морли, Лоренцевы уравнения и т.д.), но при этом
предполагается, что любой современный ученый способен адекватно
воспроизвести эти достижения, а хороший современный учебник даже
излагает их еще лучше первооткрывателей, потому что учитывает и
те достижения, которые были еще неизвестны последним, то есть
вводит старые знания в новый дисциплинарный контекст.
Новоевропейская наука смотрит не назад, а вперед, в ее глазах
открытия и технические изобретения, сделанные великими учеными
прошлого, совершенствуются и тем самым диалектически
преодолеваются. Вольтер писал об этом так:
Любой покупатель скажет вам: я признаю, что изобретатель
челнока был гениальнее, нежели мануфактурщик, изготовивший мое
сукно, но мое сукно лучше, чем сукно изобретателя. Каждый мало-
мальски разбирающийся человек признает, что мы чтим гениев,
создавших первый набросок искусств, однако ближе нам умы,
усовершенствовавшие эти искусства2.
Именно таков статус классиков в новоевропейских
естественных науках: это «гении», которых «чтят», но издалека, без
непосредственного контакта с их творчеством. Современный физик,
если только он не историк физики, больше не читает Ньютона, да,
пожалуй, и Эйнштейна, их идеи доходят до него через чужие
изложения. В естественных науках нет «учебы у классиков» и нет
представления о неисчерпаемости их наследия; собственно, в этих
науках сегодня нет и канонических текстов как таковых, их
заменяет набор общедоступных, всеми опознаваемых «цитат» — тео-
2 Вольтер, Эстетика, М., Искусство, 1974, с. 264. Перевод Л. Зониной.
Слово «искусства» употребляется здесь в широком значении, унаследованном
от средневековой культуры, — это любые «умения», как промышленные (в
примере, приведенном у Вольтера), так и собственно художественные («изящные
искусства»).
Гуманитарная классика: между наукой и литературой 117
рем, формул, численных показателей, экспериментальных
процедур и т.д.; в терминах Нельсона Гудмена3, научные данные ал-
лографичны, не привязаны к исходному авторскому тексту
(«автографу»), где они были когда-то изложены.
Уайтхед хорошо уловил неисторический дух научного
сообщества, когда писал: «Наука, которая не решается забыть своих
основателей, погибла». Тем не менее он был не совсем прав, ибо наука,
подобно другим предприятиям, нуждается в своих героях и хранит их
имена. К счастью, вместо того чтобы забывать своих героев, ученые
всегда имеют возможность забыть (или пересмотреть) их работы4.
Вместе с тем современная культура по-прежнему располагает
альтернативной системой знания, которая охватывает знание
традиционное, иерархизированное в соответствии с принципом
«канон — комментарии», и которая понимает «классику» в старинном
значении слова. Эта система включает в себя религиозное знание,
художественную литературу, гуманитарные науки и философию.
(Впрочем, последняя сегодня сама содержит в себе склонную к
экспансии подсистему, ориентирующуюся на естественнонаучные
принципы безличного знания, — это аналитическая философия.)
Гуманитарные науки представляют собой самую молодую из
перечисленных форм знания, и их классика занимает промежуточное
место между классикой естественнонаучного знания и
художественной словесности.
«Гуманитарные науки» понимаются здесь в узком значении
термина, как науки о культуре, по определению связанные с
традицией (культура — это и есть совершенствуемая, обновляемая,
порой революционизируемая традиция). Гуманитарные науки
образуют сложное переплетение с науками «общественными», так
что даже внутри тех или иных конкретных разделов знания
(истории, философии) различаются более и менее связанные с
традицией течения и дисциплины. Как известно, эта сложность имеет
историческое происхождение: в XIX веке возник проект
современных общественных наук, направленный на сближение
традиционных humanities с науками о природе. Факторы такого сближения —
«позитивистский» культ фактов, точность которых может
проверить любой исследователь, все чаще применяемые статистико-
количественные методы, попытки формализации результатов,
3 См.: Nelson Goodman, Languages of Art, Indianapolis, New York, Bobbs-
Merril, 1968.
4 Томас Кун, Структура научных революций, M., Прогресс, 1977 [1970/
1962], с. 184. Перевод И.З. Налетова.
118
Институты и тексты
представления их в виде формул, таблиц, баз данных. Знание,
добываемое и структурируемое с помощью таких методов, в
тенденции безлично. Тем не менее в составе научной культуры по-
прежнему существенное место занимает знание личностно-наслед-
ственного характера; это и есть новые, современные гуманитарные
науки, науки о культуре (само понятие культуры, как известно,
сложилось лишь в эпоху романтизма), сосуществующие с
науками общественными и уже этим отличные от старинных humanities,
не имевших такого соседства. Изучая традицию, они
одновременно и поддерживают ее, опираясь на авторитет своей
специфической «гуманитарной классики» и делая это в иных формах,
нежели функционирует классика точных, естественных и даже
общественных наук.
Во-первых — если начать с чисто социальных аспектов
проблемы, — некоторые влиятельные школы общественнонаучного
знания, возникшие еще в конце XIX века, целенаправленно строятся
как инициатические сообщества, где основоположники занимают
исключительное место, порой сближающееся со статусом
религиозных лидеров. Примером может служить психоанализ —
профессиональное сообщество, комплектуемое посредством
наследования харизмы основоположника: каждый кандидат в
психоаналитики должен сам пройти процедуру психоанализа, приобщаясь к
абсолютному авторитету Зигмунда Фрейда — первого
психоаналитика, который анализировал себя сам. Еще более сильным, но еще
менее эпистемологически чистым примером является марксизм —
сложносоставная философская, экономическая, социальная и
политическая доктрина, у последователей которой чрезвычайно
сильна воля к ортодоксии, к отделению, размежеванию и борьбе
за наследство отцов-основателей.
Во-вторых, даже в более традиционных гуманитарных
дисциплинах некоторые школы и направления прочно связаны с
традицией и с наследием основоположника. Например, в идейном
становлении Женевской школы лингвистики исключительную роль
сыграли устное предание и личная преданность учеников
Фердинанда де Соссюра — Шарля Балли и Альбера Сеше, после смерти
учителя издавших на основе студенческих конспектов «Курс общей
лингвистики» (1916), книгу, которую так и не написал сам Соссюр,
но которая стала фундаментальным текстом современной науки.
В 1960-е годы сходный жест по отношению к тому же классику был
повторен Жаном Старобинским: не будучи сам учеником
Соссюра, он опубликовал лежавшие под спудом соссюровские
рукописи об анаграммах, и они сразу вызвали лавину теоретических
комментариев (у Юлии Кристевой, Жана Бодрийяра и многих других
авторов). Знание, основывающееся на недоступных публике
классических первоисточниках, фигурирует и в других науках: так,
Гуманитарная классика: между наукой и литературой 119
Морис Хальбвакс в «Социальных рамках памяти» (1925)
опирается на не изданные на тот момент (как, впрочем, и позднее) тексты
своего учителя Эмиля Дюркгейма; многие, особенно зарубежные,
исследователи Михаила Бахтина сетуют на закрытость его архива,
которым по сей день пользуется узкий круг российских ученых5.
В-третьих, — и это важнейшее и интереснейшее
обстоятельство, так как оно относится уже не только к социальной, но и к
культурной сфере, — тексты классиков гуманитарных наук
вообще постоянно читаются, перечитываются и перетолковываются,
остаются «живой» классикой. Студент-гуманитарий обязан хотя бы
в сокращении знать первоисточники — отсюда богатая культура
антологий, геааег'ов, учебных изданий научной классики. Но
первоисточники требуются не только при обучении науке, они
привлекаются и для ее теоретического развития и самоосмысления.
Выше уже сказано, что «Курс общей лингвистики» Соссюра стал
фундаментальным текстом современной науки; и действительно,
существует развитая традиция изучения и интерпретации этой
книги (сопоставляемой с не опубликованными вплоть до
недавнего времени заметками ученого по той же тематике), задача
которой не исчерпывается филологическими заботами об установлении
точного текста и смысла исторического памятника: перечитывая
заново Соссюра, современная лингвистическая мысль стремится
выяснить собственные основы. Более того, этим занимаются не
только профессиональные лингвисты: широко известен,
например, разбор соссюровской теории языка, выполненный Жаком
Деррида6, который через деконструкцию этой теории доискивается
до глубинных проблем и противоречий всей европейской
культуры. Подобному разбору можно подвергать тексты философов,
писателей, ученых-гуманитариев — но не работы физиков,
математиков, биологов, и сама эта возможность и продуктивность
деконструкции гуманитарной классики показательна для статуса
последней в культуре. Ситуация с наследием Соссюра не
уникальна. Исторические и/или деконструкционистские прочтения
широко практикуются и применительно к трудам других великих
ученых-гуманитариев XIX—XX веков, таких как Чарльз Сандерс Пирс,
Марсель Мосс, Вальтер Беньямин, Клод Леви-Стросс, теоретики
русского ОПОЯЗа, Михаил Бахтин... В связи с последним
мыслителем уже не первое десятилетие говорят о существовании целой
«бахтинской индустрии»7, объем продукции которой многократно
5 См. об этом, например: Karine Zbinden, Bakhtin Between East And West:
Cross-Cultural Transmission, London, Legenda, 2006.
6 См.: Жак Деррида, О грамматологии, M., Ad marginem, 2000 [1967].
7 Недавний критический обзор ее методов и результатов см.: Karine
Zbinden, op. cit.
120
Институты и тексты
превысил объем полного собрания сочинений Бахтина; да и в
самом этом семитомном собрании сочинений научные комментарии
занимают больше места, чем авторские тексты. Ситуация раздела
культуры на канон и комментарии, описанная Яном Ассманом на
примере древнееврейских толкований Торы, с образцовой
наглядностью воспроизводится при научной интерпретации наследия
классиков гуманитарных наук. Сверх того, биография некоторых
из них содержит драматические и даже трагические эпизоды; для
этого особенно «постарались» тоталитарные государства XX века,
сажавшие в лагеря Алексея Лосева и Льва Гумилева, ссылавшие и
не допускавшие в столичный академический круг Бахтина,
преследовавшие и в конце концов доведшие до гибели Беньямина, и т.д.
Ученые-мученики естественно становятся легендой, предметом
почтительно-бережного изучения, их судьба придает им
харизматическое обаяние, распространяющееся и на их сочинения.
Авторитет, завоевываемый ценой гонений и изоляции, — нередкий
сюжет в развитии всех наук, но в гуманитарных науках эта
ситуация особенно типичная, порой даже искусственно формируемая
самими учеными. Если для структуралистов Тартуской школы
сознательная самоизоляция от советского научного сообщества
(с помощью эзотерического языка, который парадоксальным
образом подражал естественнонаучному) была вынужденной,
связанной с цензурно-идеологическим гнетом в нашей стране, то для их
современников — французских (пост)структуралистов
демонстративный разрыв с научным истеблишментом и обращение к
традициям марксистской идеологии могли служить прагматическим
приемом в борьбе за символический капитал: стратегия, сходная
с типичной стратегией писателей и художников-авангардистов8, со
становлением «культовых» фигур в литературе и искусстве9.
Итак, при канонизации ученых-гуманитариев и их идей
действует тенденция, нестандартная для научной классики в целом и
сближающая их с классикой литературы, искусства, философии.
Разумеется, нельзя утверждать, что она носит всеохватывающий
характер; в современных гуманитарных науках немало признанных
классиков (особенно эрудитов-историков, филологов и т.д.), к
которым сделанные выше наблюдения не относятся или относятся
лишь в малой мере. Но она затрагивает крупнейших теоретиков,
властителей дум, чье влияние выходит за академические рамки и
распространяется на широкую образованную публику. Эти люди
нетривиальным образом сочетают в себе убедительность
абстрактного мышления и обаяние традиции.
8 См.: Pierre Bourdieu, Les régies de l'art, P., Seuil, 1992.
9 См. ниже статью «От текста к культу».
Гуманитарная классика: между наукой и литературой 121
Можно ли считать, что перед нами сугубо социальный
феномен — интерференция научной и литературной моделей поведения,
что ученый, завоевывая массовую популярность, вступает на
другое социокультурное поле и начинает играть по его правилам,
утрачивая себя (хотя бы временно) как собственно ученого и
превращаясь в «писателя» или «публичного интеллектуала»? Думается,
это не совсем так; тенденция, о которой идет речь, имеет не
только внешне-социологическую, но и
внутренне-эпистемологическую сторону; она отражает некоторые глубинные особенности
гуманитарного знания как такового.
Естественно предположить, что повышенная ценность
традиции в гуманитарных науках связана с «заразительным» влиянием
их материала: как уже сказано, материал этих наук в значительной
части, а иногда и полностью наследуется от прошлого — для
историка это свидетельства современников, для лингвиста тексты, в
которых проявляется былое состояние языка, для литературо- или
искусствоведа художественные произведения прежних эпох. В
такой ситуации может происходить своего рода перенос по
смежности: материал влияет на институциональную форму своего
описания, интерпретация включается в интерпретируемое, наука,
изучающая традицию, сама становится ее частью и усваивает ее
законы. В таком случае характерный для исторических наук
(собственно истории, филологии, искусствознания) культ сносок и
ссылок обусловлен чем-то большим, чем моральный императив
добросовестности, уважение к заслугам предшественников и
коллег: эти предшественники, даже вполне современные, сразу же
включаются в состав традиции и требуют столь же пристального
внимания, как тексты последней; некоторые из них — каковые
именно и называются «классиками» — заслуживают внимания
особенно благоговейного, наряду с основополагающими
сакральными текстами изучаемой культуры10. В историко-культурных
исследованиях «первичная» и «вторичная» библиографии имеют
тенденцию к сближению. Но разница между общественными и
гуманитарными науками сказывается и здесь: у специалистов по
гражданской, политической или экономической истории
специфика «живой» классики проявляется в небольшой степени, хотя
10 В Советском Союзе, в значительной мере оторванном от современной
зарубежной культуры и от своей собственной дореволюционной культуры,
фигура «классика»-гуманитария (иногда, любопытным образом,
коррелировавшая с классической древностью, которую изучали эти люди — Алексей Лосев,
Сергей Аверинцев) выполняла особую сакральную функцию посредника между
настоящим и прошлым, хранителя прерванной традиции. См.: Алексей Бере-
лович, «О культе личности и его последствиях», Новое литературное обозрение,
№ 76, 2005, с. 39-44.
122
Институты и тексты
они тоже пользуются преимущественно материалом традиции и
сами служат ее передаче. Великих историографов прошлого, от
Геродота до Соловьева, конечно, переиздают и перечитывают, но
не столько ради их собственной мысли, сколько ради фактических
сведений, которые собраны в их трудах; для современного
исследователя эти тексты функционируют подобно другим
историческим документам, требуя не столько концептуальной
интерпретации, сколько критики источника. Историк-классик занимает в
культуре иное место, чем теоретик-классик.
Итак, связь наук о культуре с преданием как материалом
изучения хоть и влияет на их эпистемологическую конфигурацию, но
не образует определяющую причину особого статуса гуманитарной
классики. Более фундаментальным обстоятельством является то,
что эти науки имеют дело со смыслом, сколь бы
трудноопределимым ни было это последнее понятие. Введенная еще Вильгельмом
Дильтеем оппозиция объяснения/понимания, разделявшая «науки
о природе» и «науки о духе», сохраняет свою ценность и ныне,
после всех перемен, происшедших как в теории науки, так и в
самих науках. Практика «понимания», уяснения смысла
распространяется на тексты не только религиозной или
литературно-художественной, но и научной традиции, в которых видят памятники
культуры, требующие не просто инструментального
использования, а герменевтического диалога. Соответственно если для
«объясняющих» наук личность исследователя отделена от их
содержания, то в науках «понимающих» она внедрена в него как
источник смысла, подлежащего затем бесконечному истолкованию
и/или обогащению.
Приведем два симптоматичных факта, иллюстрирующих эту
связь между гуманитарной классикой и герменевтикой смысла.
Выше уже упоминалось о такой форме почитания классиков
естественных наук, как «именные» законы, теоремы или опыты;
вместе с тем имена этих ученых практически никогда не
связываются с понятиями и терминами — очевидно, потому, что в
естественных науках понятия формализованы, а термины часто взяты
из чужих (особенно мертвых) языков. В гуманитарных науках, где
мало общих законов и почти совсем нет экспериментов, зато
терминология в значительной части опирается на лексику живого
языка, аналогом таких личностно-памятных обозначений
являются «именные» понятия и понятийные системы: в гуманитарном
дискурсе постоянно употребляются уточняющие выражения типа
«парадигма в смысле Соссюра», «знак в смысле Пирса», «оговорка
по Фрейду», «беньяминовская аура», «остранение в смысле русских
формалистов», «потлан в смысле Мосса», «карнавал в смысле
Бахтина», «письмо в постструктуралистском смысле» и т.д.; исключе-
Гуманитарная классика: между наукой и литературой 123
ния не составляет и только что упомянутая понятийная пара
«объяснение/понимание в смысле Дильтея». Эти выражения
внешне походят на «закон Ома» или «теорему Ферма»: в них
историческое имя (фамилия ученого, название научной школы)
соединяется с общей идеей, элементом научно-теоретического знания.
Вместе с тем очевидна содержательная разница: в случае
гуманитарного знания связь имени с идеей более плотная, более
сущностная, наподобие «жесткой десигнации», которой, согласно Солу
Крипке, характеризуются имена собственные11. Закон Ома мог
открыть и какой-то другой физик (историкам науки известно
много таких параллельных открытий), гипотеза Пуанкаре была
сформулирована французским математиком в начале XX века, а
доказана лишь сто лет спустя его русским коллегой, фактически она
принадлежит огромному коллективу ученых, которые занимались
ею на протяжении десятилетий. С некоторым приближением
можно сказать, что наименования такого рода образуются по типу
произвольного знака, мотивированного лишь случайными
историческими обстоятельствами, благодаря которым кому-то довелось
первым добыть или опубликовать то или иное знание. Напротив
того, в наименованиях типа «знак в смысле Пирса» мотивировка
более глубокая: они обозначают не только
конкретно-эмпирическое авторство, но и общую систему идей, созданную данным
ученым и включающую в себя данный термин; пользуясь понятиями
только что упомянутого Чарльза Пирса, можно сказать, что имя
служит здесь «интерпретантом» термина. Встреченное в научном
тексте название «теорема Ферма» требует опознания, это факт
семиотики; встреченное в таком же тексте выражение «знак в
смысле Пирса» требует понимания, это факт семантики; компетентный
специалист-гуманитарий должен отличать не просто определение
знака по Пирсу от определения знака по Соссюру или Фреге, но
и всю систему мысли данного теоретика, сообщившую этому
понятию его неповторимую форму. Таким образом, «авторская
функция» (Мишель Фуко)12 по-разному действует применительно к
естественнонаучным теоремам или законам и применительно к
гуманитарным концептам.
Второе симптоматичное обстоятельство, показывающее связь
проблемы гуманитарной классики с герменевтикой смысла,
смыкается с первым. Ситуация «персональных» понятий-концептов,
принимающих у создавшего их автора уникальную конфигурацию
11 См.: Saul Kripke, Naming and Necessity, Cambridge (Mass.), Harvard UP, 1980
[1972].
12 См.: M. Foucault, «Qu'est-ce qu'un auteur?», dans Michel Foucault, Dits et
écrits 1954-1988, t. 1, P., Gallimard, 1994, p. 789-820.
124
Институты и тексты
и в дальнейшем подлежащих не просто опознанию и
операциональному использованию, но углубленному анализу,
трансформации, созданию альтернативных концептов, свойственна не
естественным наукам, а скорее философии13. И в самом деле, классики
гуманитарных наук часто вызывают к себе не узко научный, а
более широкий «мировоззренческий» интерес. Их труды
анализируют профессиональные философы (деконструкция лингвистики
Соссюра и этнологии Леви-Стросса Жаком Деррида — лишь один
из многих примеров), в их сочинениях ищут не просто теорию
конкретной научной дисциплины, но более общие идеи,
применимые в других науках и в априорной рефлексии о культуре14.
Нередко бывает, что сами ученые-теоретики скептически относятся к
спекулятивным построениям, избегают ссылаться на какие-либо
философские учения и настаивают на позитивно-эмпирическом
характере своих теорий, но в дальнейшем их комментаторы и
интерпретаторы применяют для анализа этих теорий именно
философский метаязык, ищут и находят в них
абстрактно-умозрительные пресуппозиции, а не только конкретно-научное содержание.
Так происходит, в частности, при изучении наследия классиков
русской литературной теории XX века — теоретиков ОПОЯЗа или
Юрия Лотмана. При интерпретации таких классиков их как бы
переквалифицируют, из «ученых» превращают в «философов»;
советский идеологический режим, подавлявший развитие
оригинальной философской мысли, дает удобный повод объяснять их
недоверие к философии «цензурными причинами»,
предоставляет конъюнктурно-политическое оправдание для их посмертной
переквалификации, хотя на самом деле последняя
осуществляется по иным, более универсальным причинам. При отсутствии
цензуры Шкловский или Лотман, вероятно, все равно работали бы в
рамках литературоведения или позитивно-научной
культурологии15, но их статус классиков побуждает выявлять в их работах
«философскую подкладку», выдвигать на первый план не
операциональные идеи и методы, а умозрительный смысл. Такая
интерпретация вопреки прямым сознательным интенциям толкуемого
13 См.: Жиль Делёз, Феликс Гваттари, Что такое философия?, глава 1.
14 В некоторых национальных научных сообществах, в частности в США,
где слово «философия» обозначает преимущественно аналитическую
философию, такого рода междисциплинарную рефлексию называют не философией,
а «теорией».
15 Более сложен случай Михаила Бахтина — литературоведа и философа,
который в разное время и в разных обстоятельствах неоднозначно
формулировал дисциплинарную принадлежность своих трудов, причем эти колебания в
самохарактеристике можно объяснять как внешними
(цензурно-политическими), так и внутренними (эпистемологическими) причинами.
Гуманитарная классика: между наукой и литературой 125
классика может опасно сближаться с извращением самой
природы его мысли и дискурса.
Возможен и несколько иной эпистемологический сдвиг,
когда ученый-классик в восприятии современников или потомков
превращается — вопреки собственному желанию или же в
согласии с ним — в мыслителя-мистика, открывающего высшие
истины бытия благодаря сочетанию научного знания с внутренним
опытом. При таком толковании классики профессиональный
авторитет ученого служит оправданием, алиби для недоказуемых
иррациональных прозрений; в дискурсе культуры соотношение
между этими двумя сторонами его знания является произвольно-
знаковым, «мифическим» в смысле Ролана Барта:
...совмещая в себе мага и машину, неутомимого исследователя и
неудовлетворенного открывателя, Эйнштейн воплощает в своем
образе самые противоречивые грезы — в нем мифически примиряются
беспредельная власть человека над природой и «роковая» сила
сакрального, от которой человек еще не в состоянии избавиться16.
У Барта речь идет о великом ученом-естественнике, но не о его
собственной мысли, а о том употреблении, которое делается из нее
в массовой культуре; впрочем, и сами представители естественных
или социальных наук иногда испытывают соблазн выйти за
рамки научности и соединить ее с мистической мудростью. В качестве
примеров можно назвать палеонтолога Пьера Тейяра де Шардена,
этнолога Льва Гумилева или же «экономиста» Жоржа Батая —
любопытный случай обратного движения, от собственно
философской рефлексии, мистического «внутреннего опыта» и авангардной
литературно-политической эссеистики к весьма смелым, но в
принципе научно проверяемым гипотезам в
конкретно-позитивных исследованиях.
В отличие от естественных и общественных наук,
гуманитарная рефлексия постоянно имеет дело с культурной традицией и
знает, что на самом деле трансцендентное знание не возникает из
запредельной области, а систематически вырабатывается самой
этой традицией; в наше время в ней почти не встречается
«мистический поворот». Ее статус сближается не столько со статусом
религиозной мысли, сколько со статусом литературы, которая в
XIX веке, примерно в одну эпоху с образованием современных
гуманитарных наук, отказалась от прежних представлений о
«классике» и создала ее новую, романтическую модель17. В рамках этой
16 Ролан Барт, Мифологии, М., изд-воим. Сабашниковых, 1995 [1957], с. 136.
17 См.: С. Зенкин, Французский романтизм и идея культуры, М, РГГУ, 2002,
гл. 4.
126
Институты и тексты
модели классика остается предметом изучения и даже подражания,
но подражания-спора, попыток не просто сравняться с образцом
или превзойти его, а создать на его основе принципиально новое
произведение, соответствующее новым историческим задачам и
несущее новый, по-новому понятый смысл18. Так и для
гуманитарных наук их классика служит не абсолютным образцом, как в
старинной словесности, следовавшей риторическим традициям, но и
не чисто утилитарным репертуаром знаний, как в
новоевропейских науках о природе. Подобно всему гуманитарному знанию, она
занимает двойственное, промежуточное место между
объяснением и пониманием, и в отношении к ней соседствуют (разумеется,
наряду с почтением, составляющим минимальную базовую черту
всякой классики вообще) такие взаимодополнительные аспекты,
как прагматика и герменевтика, семиотика и семантика,
утилитарное применение объективных сведений, сообщаемых классикой,
и внимательное, нередко оспаривающее и деконструирующее
постижение заключенного в ней смысла.
2008
18 Ян Ассман в уже упомянутой монографии выделяет такую бесконечную
дискуссию между прошлым и настоящим культуры как особый вид культурной
памяти — «гиполепсис», составивший специфическую черту древнегреческой,
а за нею и всей европейской культуры. Впрочем, он имеет в виду главным
образом взаимодействие содержаний, тогда как современная художественная
литература и искусство выработали другую разновидность «гиполепсиса»,
определяемую взаимодействием форм творчества: новые формы спорят с
классическими, спор идет между целостными системами, которые одни только и могут
обладать завершенной формой.
ОТ ТЕКСТА К КУЛЬТУ
Будем исходить из двух взаимосвязанных постулатов.
Первый постулат: «литературный культ» — понятие
дисциплинарно «нечистое», по большей части оно функционирует не в
научном, а в газетно-журнальном дискурсе, где «культовым» могут в
рекламных целях назвать кого и что угодно, без всякой заботы о
точности термина; здравым методом размышления о данном
феномене будет очищение, сужение понятия, отбрасывание
лишнего. Поэтому здесь речь пойдет не столько о том, как культура в
своих прямых журналистских, критических или даже научных
высказываниях определяет понятие «культа», то есть не о ее
самосознании, а о тех реальных механизмах, которыми она этот «культ»
формирует; последние, скорее всего, окажутся иными, чем
представления, бытующие в самой культуре: культура много чего о себе
наговорит...
И второй постулат. Понятие «культовой литературы» связано
с социологией культуры, и естественно мыслить его с помощью
социологических категорий; однако здесь будет применяться
главным образом филологический подход — иными словами,
литература будет мыслиться не столько как совокупность авторов,
сколько как совокупность текстов, произведений. Каким образом
литература производит «культовые» тексты и что она с ними
делает? что нужно делать с текстом, чтобы он был культовым?
Если искать в светской культуре явления аналогичные
религиозному культу и имеющие отношение к художественной
словесности, — а собственно таково буквальное значение выражения
«литературный культ», — то они найдутся далеко за пределами того,
что так или иначе называют «культовой литературой». Примеры
почитания, поклонения выдающимся лицам, представителям
светской и религиозной власти бесчисленны и уходят в глубокую
древность, однако лишь с относительно недавних времен такие
почести начинают оказывать творческим людям, поэтам, философам,
художникам, писателям: их начинают приветствовать
аккламациями, брать у них автографы, ставить им памятники в публичных
местах, собирать, часто по крохам, их наследие, организовывать
мемориальные музеи, совершать паломничества к местам,
связанным с их жизнью. Такие проявления, сближающие светских
«культовых» писателей с персонажами собственно сакральными, в за-
128
Институты и тексты
падной цивилизации наблюдаются главным образом в
новоевропейскую эпоху. Еще Данте Алигьери, окруженный благоговейным
почитанием уже при жизни, воспринимался меньше всего как
знатный поэт: даже более столетия спустя после его смерти, в
«Жизни Данте и Петрарки» Леонардо Бруни (1436) «вместо
жизнеописания Данте-поэта <...> выходит жизнеописание Данте-
гражданина»1. «Культовое» отношение к памяти великих поэтов
возникает лишь позднее и обретает наиболее интенсивные,
привычные нам формы в XIX веке. Симптоматична в этом смысле
книга Томаса Карлейля «Герои, культ героев и героическое в
истории» (1841), где из числа «героев», которых должно чтить
человечество, исключены властители и завоеватели, зато среди
них фигурируют творческие люди, включая поэтов (таких как
Мильтон).
Понятно, однако, что при столь широком понимании
«культа» мы еще далеко не ухватываем понятие «культовой литературы».
Последнее имеет более узкое содержание. Действительно, те
«герои» художественной культуры, кому ставят памятники на
площадях, — это, как правило, не «культовые авторы», а классики.
И классическими, и «культовыми» авторов и тексты
назначают. Ни то ни другое качество не является имманентным свойством
писателя или текста, заключенным в нем самом; такое качество
приписывается им извне, социальной силой коллектива. Это
уместно сравнить с социологическим пониманием религиозного
культа: как писал еще Эмиль Дюркгейм, сакральное качество (если
угодно, культовое качество) придается предмету произвольно:
«Сакральный характер, которым облекается та или иная вещь, не
заложен во внутренних ее свойствах, он налагается на нее»2. Это
не зависит от внутренних качеств самого предмета, любая деталь,
любая мелочь может стать сакральной (положительно или
отрицательно сакральной). Сходным образом и «сакрализация»
литературы — это усилие общества, прилагаемое к тому или иному
автору или тексту. Но есть разница между сакрализацией классики и
«культовой» литературы.
Выше уже сказано, что понятия «культовой» литературы и
«культового» автора встречаются главным образом в рекламной и
газетной практике, то есть в дискурсах, которые в традиционном
понимании считаются неофициальными. Они отделены от
общепризнанной, публичной власти. Напротив того, национальная
1 Ю.В. Иванова, «Жизнеописания в гуманистической литературе», в кн.:
История литературы Италии, т. 2, кн. 1, М., ИМЛИ РАН, 2007, с. 169.
2 Emile Durkheim, Les formes élémentaires de la vie religieuse, P., Presses
Universitaires de France, 1998 (Quadrige), p. 328.
От текста к культу
129
классика учреждается именно институтами официальной власти,
хотя эти институты могут быть разными. Таково собственно
государство — в лице королевского двора или тоталитарного ЦК;
профессиональные объединения — например, академии, которые
присваивают премии за выдающиеся произведения и принимают
в свои члены выдающихся людей; школы и университеты, которые
преподают и передают из поколения в поколения классические
произведения; даже некоторые научные учреждения, которые
призваны исследовать эти произведения (скажем, московский
Институт мировой литературы имени Горького). Все они занимаются
институционализацией классической литературы, определением
того, что есть классика и что следует изучать в качестве таковой.
Напротив того, пресса и реклама не могут создать классика как
такового; зато они могут создать «культовую фигуру» или «модного
автора», а для того чтобы он сделался классиком (что может
случиться позднее), необходима санкция публичной власти.
Теперь сделаем следующий шаг: фигура «культовой»
литературы и «культового» автора связаны с той или иной субкультурой.
«Культовый» автор, который стал таковым для всей нации в
целом (а это может произойти только с санкции публичной
власти), — уже не «культовый» автор, а классик. «Культовым» же он
остается лишь до тех пор и лишь постольку, поскольку не все
разделяют восхищение им, поскольку у него есть определенный
круг поклонников (группа, движение и т.д.), идентифицирующих
себя с ним. Выражаясь метафорически, литературный культ —
всегда местный, локальный, в нем всегда проявляется некий
культурный политеизм.
Какие же действия осуществляет (суб)культура по отношению
к текстам — именно текстам, — которые она признает
«культовыми»?
Прежде всего, всякое наделение текста высоким
квазисакральным достоинством является одновременно его деструкцией.
Именно потому, что сакральное качество текста приписывается ему
извне, а не выводится каким-то логичным способом из его
внутренних свойств, превращение текста в классический или
«культовый» всегда включает в себя элемент разрушения, отрицания.
Такой текст подменяется чем-то другим. Однако процедура этой
подмены опять-таки различна в случае классики и в случае
«литературного культа».
Это различие не в равной степени касается всех операций,
осуществляемых над классическими и «культовыми» текстами и
включающих в себя изменение, частичное отрицание исходного
текста. Скажем, такая типичная операция, как массовое печатное
тиражирование (всегда с неизбежными изменениями — хотя бы
просто в силу того, что рукопись или кустарно выполненная рас-
130
Институты и тексты
печатка отличается от типографской книги или журнала по
скорости, а значит и способу ее чтения), имеет место в обоих случаях.
Неспецифичны и такие операции, как перевод на иностранные
языки или «переводы» на языки других искусств —
иллюстрирование, инсценировки, экранизации и т.д.: все это можно делать и
фактически делают как с классическими, так и с «культовыми»
текстами. Более любопытный процесс — раздергивание текста на
цитаты: в результате него вместо целостного произведения в
памяти публики образуется более или менее зыбкая туманность
ситуаций, фраз, ярких словечек и т.п. Эта процедура в большей
степени применяется к «культовой» литературе, чем к классике, потому
что классику, конечно, тоже цитируют, но с меньшим вкусом и
удовольствием, чем писателей «культовых». Щегольнуть цитатой
из «своего», не всеми признанного автора, может доставить
говорящему (если, конечно, слушатели правильно опознают цитату)
чувство принадлежности к определенному сообществу, что более
соблазнительно, чем педантски цитировать хрестоматийные
стихи и максимы, возможно взятые из какого-нибудь словаря.
Можно привести два примера «культовых» в этом отношении
произведений из русской литературной традиции. Одним из них стало в
свое время «Горе от ума», о стихах которого Пушкин писал, что из
них «половина должна войти в пословицу»3, — и это
действительно случилось; правда, сегодня, два века спустя, стихи-пословицы
из комедии Грибоедова уже не сами собой циркулируют среди
публики, а целенаправленно внедряются в ее память школьным
обучением: культовый некогда текст сделался классическим.
Другой, еще более любопытный пример — романы Ильфа и Петрова
об Остапе Бендере, которые тоже стали «культовыми» и разошлись
на цитаты, причем не в эпоху своего написания, а значительно
позже, в переломный исторический момент «оттепели», окончания
сталинской эпохи и кризиса созданного ею классического канона.
В такой общественной обстановке могли и должны были
возникнуть альтернативные этому канону литературные «культы» — ведь
они по определению неофициальны, их может быть много, и их не
спускают в приказном порядке по ступеням бюрократической
иерархии4. Именно после окончания тоталитарной эпохи в нашей
3А.С. Пушкин, Полное собрание сочинений в 10т., τ. 10, M.-Л., Наука, 1949,
с. 121-122.
4 Кстати, «культ личности Сталина», несмотря на сходное название
(данное в ту же пору, но задним числом и в качестве эвфемизма, политического
компромисса, что не способствует точности термина) не имеет касательства к
рассматриваемой теме — не потому, что он носил политический характер, а
именно потому, что он принудительно насаждался государственной властью,
то есть в значительной мере усилиями самого «героя».
От текста к культу
131
стране появилась возможность образования литературных
«культов», и сразу же появились ряд «культовых» писателей. Из
зарубежной литературы это были Ремарк и Хемингуэй, а из
отечественной — прежде всего Ильф и Петров (за ними и другие). Творчество
всех этих авторов в разных модальностях было оппозиционно идее
тотальной власти. У Ремарка и Хемингуэя трагические
герои-одиночки противостоят обществу, включая государство, а Ильф и
Петров вообще поэтизируют асоциального персонажа-жулика.
Таким образом, «культовая» литература находится в исторически
дополнительных отношениях с авторитарной властью, которая
умеет создавать классиков, но не терпит «культовых» авторов.
Литературный «культ» — это продукт более или менее
демократического состояния культуры.
Вернемся к тому, как культура деформирует те тексты,
которые она выделяет в качестве «культовых». Существует еще один, не
упомянутый выше способ деструктурировать произведение,
разрушить его как целое, чтобы в своем новом состоянии оно начало
особенно эффективно воздействовать на общественные практики:
это нарушение границ между вымыслом и реальностью. Всякое
художественное произведение, и особенно романное
повествование, обычно оформляется как некое завершенное целое: вот
книга, у нее есть начало и конец, внутри книги — более или менее
вымышленный мир, снаружи — наша реальность. Все мы
прекрасно понимаем границу между обеими областями. Однако
встречаются случаи, когда содержание внутреннего мира
произведения как бы перехлестывает границы текста и прорывается в
реальную действительность. Формы такого процесса могут быть
различны. Одна из них — усвоение и применение на практике идей,
которые высказывались в произведении. «Культовое»
произведение может производить прямое социальное действие своими
идеями; в XIX веке такая ситуация встречалась не раз, когда,
например, «Парижские тайны» Эжена Сю не просто были модным
романом, который читали все, но еще и вызывали дискуссии в
парламенте — о преобразовании пенитенциарной системы
согласно предложениям, которые высказывал писатель в своей книге
(спустя несколько лет, после революции 1848 года, он и сам был
избран членом парламента). Сходным образом функционировал в
России роман Чернышевского «Что делать?», который позднее, по
историческому недоразумению, был признан классическим и
долго входил в школьные программы; в XIX же веке он являлся
предметом вполне серьезного «культа» среди русских революционных
«нигилистов», поведение его персонажа Рахметова служило
многим из них образцом для подражания.
Возможны и другие модальности подражания героям
«культовых» текстов. Одним из исторически ранних проявлений такого
132
Институты и тексты
подражания еще в конце XVIII века был случай Гёте. Сам Гёте, по-
видимому, не был «культовым» писателем, скорее он еще при
жизни был признан классиком, чему, кстати, способствовала его
государственная, административная карьера министра. Но по крайней
мере одно из его произведений стало «культовым» в том смысле,
что породило волну подражаний в жизни, — это «Страдания
молодого Вертера». Как известно, у этого романа быстро
образовалось множество поклонников, которые выражали свое поклонение
в разных формах: кто в ношении синего фрака и желтого жилета5,
а кто и в таких крайних действиях, как самоубийство в
подражание самоубийству Вертера. Существенно, что это было
подражание конкретному герою конкретного произведения как таковому,
а не иллюстрация какого-то общего морального принципа. В
качестве контрольного примера «некультового» подражания можно
привести случай, разобранный Ю.М.Лотманом в статье «Поэтика
бытового поведения в русской культуре XVIII века»: самоубийство
Радищева6. Лотман показал, что этот поступок был в каком-то
смысле «подражательным» и «литературным», воспроизводя
самоубийство Катона Утического из одноименной трагедии Аддисона.
Но это не означает, что трагедия Аддисона была для Радищева
«культовым» или даже классическим произведением. Как
показывает Лотман, поступок русского писателя не просто служил
повтором, репликой самоубийства римского героя в английской
трагедии, но и осмыслялся в рамках рефлексии Радищева о
правомерности или даже необходимости в некоторых случаях
самоубийства для свободного, философски мыслящего человека, —
рефлексии, которая отразилась во многих высказываниях
Радищева, сделанных по многим поводам, в связи с разными ситуациями
и произведениями. Акт самоубийства, пользуясь
терминологической оппозицией из другой статьи Лотмана7, был в данном случае
подготовлен и обоснован общим концептуальным метаязыком,
свойственным той традиции Просвещения, к которой
принадлежал Радищев, и не являлся метатекстом, то есть конкретным,
отдельным текстом, который бы вбирал в себя всю суть этой
рефлексии. Лотман противопоставлял метаязык и метатекст как
базовые понятия рационалистического и мифологического мышления.
С этой точки зрения превращение текста в предмет «культа» (на-
5 «Этот перверсивный костюм под именем "костюма à la Вертер" носили
по всей Европе поклонники романа» (Ролан Барт, Фрагменты речи
влюбленного, M., Ad maiginem, 1999, с. 406. Перевод В. Лапицкого).
6 См.: Ю.М. Лотман, Избранные статьи, т. 1, Таллин, Александра, 1992,
с. 262-266.
7 См.: Ю.М. Лотман, Б.А. Успенский, «Миф — имя — культура», там же,
с. 58-75.
От текста к культу
133
пример, в случае «Вертера», но не в случае Радищева) — это его
мифологизация, в том смысле что поступки его героя могут
превратиться в программу поведения, которой дальше подражают,
иногда в игровых, а иногда и в самых серьезных формах.
Итак, подражание «культовому» тексту и его герою может
выражаться в мифологизации и коллективной идентификации.
Поклонники того или иного произведения могут организовываться,
собираться вместе и образовывать нечто вроде сект. В этом
смысле «толкинизм» XX века — образцовый пример возникновения
«культовых» сетей, которые более или менее «понарошку»
воспроизводят и разрабатывают мотивы исходного порождающего текста.
Немаловажно, что в подобных случаях подражатели, поклонники,
участники литературного «культа» не просто воспроизводят
образец, но и привносят в него что-то свое. Здесь еще одна линия
противостояния между классикой и литературным «культом», которая
глубже всего затрагивает собственно текстуальные практики.
Действительно, отношения к классике и к «культовым» текстам
противоположны: из классики черпают, а «культовые» тексты
дополняют.
Главный принцип отношения к классике — это убеждение в
том, что она неисчерпаема, что ее тексты можно снова и снова
перечитывать и находить в ней новые и новые богатства. Это
можно связать с первоначальной этимологией латинского слова clas-
sici, которое, прежде чем обозначать «тех, кого изучают в классах»,
являлось названием податного сословия в древнем Риме (в
отличие от неимущих proletarii). Классики — это те, у кого можно
нечто взять, у кого все время можно брать что-то новое. Напротив
того, культ в прямом, религиозном смысле слова означает
некоторое приношение, пожертвование, даяние верующего божеству.
Классика предполагает центробежный процесс заимствования, а
культ — также и центростремительный процесс дополнения;
литературный «культ» есть феномен коллективного сотворчества по
отношению к тому тексту, что является его предметом.
Каковы же могут быть текстуальные формы этого
сотворчества? Мы видели, что «культовое» действие в отношении
литературного текста не всегда само носит текстуальный характер:
скажем, самоубийство в подражание литературному герою — это не
текстуальное, а вполне ответственное жизненное деяние. Тем не
менее в литературных «культах» выделяется один аспект,
особенно интересный для литературоведов, когда сотворчество
принимает формы создания и трансформации текстов. Некоторые из них
совпадают в случае «культового» и классического образца: таковы,
скажем, комментирование, составление словарей — вообще
всевозможная металитературная деятельность. Классическая и «куль-
134
Институты и тексты
товая» литература сближаются между собой тем, что их охотно
обсуждают, поясняют, анализируют8. В случае классики есть,
например, словарь языка Пушкина, Шекспировская энциклопедия
и т.д. А в случае литературного «культа» есть созданный толкини-
стами словарь «эльфийского языка» (кажется, даже не один), —
тоже металитературная кодификация материала, хотя, видимо, в
иных целях.
Но есть и более специфичная форма — продолжение или
клонирование текста. Действительно, и «культовым» и классическим
текстам можно и даже полагается подражать. Но классике
обычно подражают двумя способами: либо в виде творческого
состязания, либо в виде пародийной перелицовки. В обоих случаях из
классического произведения выделяется более или менее
абстрактная структура, например «стиль», и воспроизводится (либо в
почтительных, либо в полемических целях) на каком-то другом
материале, например на другом сюжете; могут и, наоборот, тот же
сюжет воспроизводить другим стилем. А по отношению к
«культовому» тексту возможна иная модель подражания: текст
расширяется, отпочковывается вперед, назад, иногда вбок (в развитие
побочных линий повествования), создаются дополнительные, не
написанные самим автором тома повествования — так называемые
«сиквелы» и «приквелы» («что случилось потом» и «что было
раньше»). Опять-таки эпопея Толкиена чрезвычайно богата
попытками продолжать ее в разные стороны, создавая дополненные
версии тех же событий; но это отнюдь не единственный пример.
В средневековой литературе известен «Роман о Розе» — пример
продолжения одним автором (Жаном де Меном) текста, не
дописанного другим (Гильомом де Лоррисом); но в данном случае
трудно говорить о классическом или «культовом» статусе первой
части произведения. Более любопытный случай связан с первым
знаменитым европейским романом — «Дон Кихотом» Сервантеса,
который изначально представлял собой пародию на своеобразный
«литературный культ», на модный жанр рыцарского романа, но и
сам стал функционировать аналогичным образом, потому что к
нему очень быстро, еще при жизни автора и даже до выхода
второго тома романа, приписали фальшивое продолжение. В 1825
году формально сходную процедуру предпринял Ламартин в
отношении «Паломничества Чайльд-Гарольда» Байрона9. В тот момент,
8 Сказанное относится не только к литературной и художественной
классике или к каноническим религиозным текстам, но и к некоторым
классическим произведениям философии и гуманитарных наук, служащим предметом
напряженного толкования. См. выше статью «Гуманитарная классика: между
наукой и литературой».
9 См.: С. Зенкин, Французский романтизм и идея культуры, с. 162—163.
От текста к культу
135
сразу после своей смерти, Байрон был самым настоящим
«культовым» писателем, прежде чем сделаться классиком английского
романтизма; Ламартин написал продолжение его поэмы, изложив
последние странствия байроновского героя (фактически самого
Байрона), и постарался привести героя к экзистенциальной
коллизии, показывающей ошибочность его безбожных взглядов, — то
есть продолжение «Чайльд-Гарольда» стало идейной полемикой с
его автором. Сегодня практика написания продолжений к
«культовым» или даже просто коммерчески успешным романам
широко распространена, и обычно она вовсе не преследует столь
серьезных идеологических целей, как у Ламартина; в любом случае ее
существование симптоматично для современной культурной
ситуации, порождающей различные феномены литературного «культа».
Чтобы четче объяснить разницу этих двух видов
литературного подражания — «классического» и «культового», — могут быть
использованы два понятия теории литературы. Одно из них —
понятие вторичной фольклоризации литературного текста.
Известна оппозиция фольклора и литературы, которую
сформулировали в свое время П.Г. Богатырев и P.O. Якобсон в статье
«Фольклор как особая форма творчества»10, назвав главным признаком
фольклора его ориентацию на соссюровский «язык», а признаком
литературы — ориентацию на соссюровскую «речь». В первом
случае имеет место серийная продукция с соблюдением устойчивых
правил, в другом случае — создание уникальных, ни в чем не
сравнимых друг с другом высказываний. В современную эпоху высокая
словесность исповедует литературную, а не фольклорную модель
творчества (оттого она и разделилась с фольклором), стремится к
новизне, уникальности и оригинальности каждого текста;
соответственно в явлении литературного «культа», в читательском
сотворчестве, создании новых версий, продолжений и т.д., может
проявляться обратный процесс, когда литературное произведение
ввергается обратно в фольклорную стихию воспроизведения,
варьирования и подражания. Подражание классикам происходит
лишь под строгим надзором критики, тогда как подражать
«культовому» автору может каждый, это общедоступная практика, и
тексты поклонников «культовых» произведений, высокомерно
игнорируемые институциональной критикой и размещаемые на
специальных сайтах в Интернете, образуют богатый пласт
современного письменного фольклора (или «постфольклора», как его
иногда называют). Второе понятие, которое также может
оказаться полезным для объяснения феноменов литературного «куль-
10 См.: П.Г. Богатырев, Вопросы теории народного искусства, М., Искусство,
1971, с. 369-383.
136
Институты и тексты
та», — это понятие литературного быта. Возникнув в литературной
теории русского формализма, это понятие получило там две
версии11. По одной их них, разработанной Б.М. Эйхенбаумом,
литературный быт — это институциональная среда, в которой
существует литература, — скажем, кружки или журналы; по другой
версии, которая встречается у Ю.Н. Тынянова, литературный
быт — это окололитературные, «бытовые» жанры, которые
окружают литературное творчество и могут при известных условиях
включаться в него, становиться «литературным фактом»; они
образуют текстуальный резерв собственно литературы,
осуществляют с нею обмен. Текстуальные практики, связанные с
литературным «культом», — вариации, подражания, сиквелы и т.д., — могут
оказаться довольно близки к тыняновскому пониманию
литературного быта. Это неофициальная, «домашняя», как бы
«неполноценная» литература, официальные литературные институции
смотрят на нее свысока, никому не приходит в голову присуждать
премии за ее произведения и воздавать их авторам (нередко
вообще неизвестным) какие-либо почести, но это своеобразная
демократическая текстуальная среда, в которой отражается высокая
литература и откуда она, быть может, однажды вновь выйдет в
обновленном виде. С другой стороны, институциональное
понимание литературного быта тоже может послужить для объяснения
«литературного культа», потому что, как уже сказано,
поклонники «культового» автора или текста могут создавать свои
сообщества, секты и т.д., располагающиеся в том же ряду явлений, что и
литературный кружок или салон, толстый журнал или союз
писателей.
2008
См. ниже статью «Открытие "быта" русскими формалистами».
КУЛЬТУРОЛОГИЯ ПРЕФИКСОВ
На конференции в Воронежском университете, в материалах
которой была напечатана данная статья, предлагалось обсудить
понятие «культуры пост-». Автор настоящей статьи сам никогда не
пользуется таким понятием и даже не уверен, впредь до
предъявления убедительных доказательств, что за ним стоит какая-либо
строго определенная реальность. Тем не менее анализ данного понятия
все же может представлять собой ответственную научную задачу.
Дело в том, что понятия гуманитарных теорий, в отличие от
понятий точных наук, обычно возникают не после, а до уяснения их
содержания. Если математики, с самого начала договорившись о
точном значении какого-либо термина, в дальнейшем пользуются
им без дискуссий, в ходе синтетических процедур, то философы
или историки обычно имеют дело с уже данным в языке, не вполне
терминологизированным словом, и их аналитические процедуры
как раз и призваны прояснить это слово-«миф», придать ему пусть
и не строго однозначное, но хотя бы рационально осмысленное
значение. Здесь возможны, в свою очередь, два пути: либо
конструировать некоторую осознанно произвольную, заведомо
одностороннюю содержательную дефиницию термина, заранее
примиряясь с возможностью его других, конкурирующих определений,
либо попытаться уловить некий культурный смысл в самой его
форме, которая — именно потому, что опознаваемо присутствует в
культурной практике — изначально более однозначна и, можно
сказать, более реальна, чем символически многозначное
содержание1. Именно этот последний путь и будет испробован здесь; а
поскольку формальный анализ может быть только сопоставительным,
то говорить придется не об одном предложенном для изучения
понятии, а шире, о более общем способе конструирования понятий,
примером и результатом которого оно является.
Примечательный факт развития современной культуры: эта
культура вот уже около столетия предпочитает осмысливать себя
с помощью того, что можно назвать культурообразующими
префиксами. Раньше такого не было — вплоть до начала современной
эпохи новая культурная формация, давая имена себе и другим,
1 Ср. предложенное в свое время Р. Бартом разграничение
интерпретирующей «критики» и формально-дескриптивной «науки о литературе»
(«Критика и истина», 1966).
138
Институты и тексты
пользовалась корневыми определениями. Так было в эпоху
Возрождения, которая нарекла ряд предшествовавших ей веков
«средними», а еще более удаленную эпоху, оцененную как образцовая, —
«античностью» (сами древние греки, как известно, не знали, что
они древние...); так было в XVIII веке, избравшем себе именем-
лозунгом «век Просвещения»; так было в эпоху романтизма,
названного по старинным романам; наконец, так поступал и
социализм XIX века, обозначая свою более или менее реальную утопию
через понятие «общества» («социум») или, в более радикальном
варианте, «общины» («коммуна»). То же происходило с
многочисленными литературными и художественными течениями конца
XIX — начала XX века, которые в своих названиях и программах
не столько отталкивались от уже существующих, сколько
утверждали себя как нечто самостоятельное и новое: «реализм»,
«натурализм», «символизм», «футуризм», «импрессионизм», «акмеизм»...
Приблизительно с конца Первой мировой войны
словообразовательная мода стала меняться. Творцы исторических
наименований, ощущая то ли недостаток новых терминов, то ли, что
вероятнее, инфляцию старых, начали все чаще применять не
синтетические, а аналитические механизмы словообразования,
прибавляя к старому корню новый префикс (реже —
дополнительное определение, как, например, «социалистический реализм»;
характерно, что в повседневном употреблении это определение
фактически сократилось до префикса в форме «соцреализм»).
Появились экспрессионизм (в противоположность нлшрессионизму),
неоклассицизм, неореализм, неоромантизм; с легкой руки
историков культуры в моду вошли ретроспективные, присваиваемые
задним числом (так же как в свое время «античность») наименования
типа «Яро/иоренессанс», «яреромантизм», «яостисимволизм»; даже в
тех случаях, когда вновь возникают «корневые» неологизмы, они в
дальнейшей эволюции быстро обрастают префиксами, часто со
смыслом преодоления и опровергающей альтернативы, — «пост-
модернизм», «яос/яструктурализм». Очень богатую историческую
судьбу обрела, в разных национальных вариантах, приставка
«сверх-». Если в XIX веке она лишь спорадически встречалась у
некоторых особо прозорливых, опережавших свое время идеологов
и означала именно предвосхищение чаемого идеала («сверхприрод-
ность» Бодлера, «сверхчеловек» Ницше), то в XX столетии она
сделалась самой расхожей, начиная с названия влиятельного
литературно-художественного течения «с/о/феализм»2 и кончая множе-
2 Критика скрывающейся в этом префиксе идеалистической сублимации
содержится в одной из ранних статей Жоржа Батая: G. Bataille, «La "vieille
taupe" et le préfixe sur dans les mots surhomme et surréaliste», dans Georges Bataille,
Œuvres complètes, t. II, P., Gallimard, 1970, p. 93—109.
Культурология префиксов
139
ством терминологичных и нетерминологичных слов из самых
разных, не только гуманитарных, языковых сфер, где сказывается одна
и та же мифология: «сверхпроводимость», «сверхзвуковой»,
«сверхплановый», «сверхточный», «супермен» (новейшая, популярная
ипостась «сверхчеловека») и даже просто «супер!» как разговорное
обозначение высшего качества чего-либо. Стираясь от
неумеренного употребления, эта приставка нередко заменяется другими,
синонимичными; в их числе относительно редкое «гипер-» (в
области гуманитарной культуры кроме «гиперреализма» ничего и не
вспоминается), действительно массовое «пост-», ставшее знаменем
так называемой «постсовременности», или, скажем, элитарное
«мета-», одно время особенно популярное в среде отечественных
интеллектуалов. Возникнув и укоренившись в более или менее точных
научных понятиях «метаязык», «метатекст», «автометаописание»,
этот префикс в конце XX века стал служить самообозначением ряда
авангардных литературных течений: «метареализм», «метафоризм»
и даже тератологический «метаметафоризм»...
Этот вкус культуры XX века к самоописанию через префиксы
позволяет сделать по крайней мере три замечания.
1) В нем сказывается, как кажется, не всегда прямо
формулируемая идея об исчерпанности истории культуры, о том, что в ней
ничто не ново под луной. Дело даже не только в том, что
посредством префиксации сдерживается процесс образования новых
культурно-исторических понятий, что новые понятия возводятся
или, вернее, сводятся к трансформированным старым; дело еще и
в том, что количество самих префиксов в языке (или даже в
«языках», если мобилизовать словообразовательные ресурсы всех
основных европейских наречий) несравненно меньше числа
корней, то есть префиксация культурной рефлексии, в тенденции
ограничивая ее материал раз навсегда заданным, уже не подлежащим
расширению набором «корневых» терминов, еще более жестко
ограничивает выбор тех смысловых операций, путем которых из
старых терминов получаются новые и которые как раз и обозначаются
префиксами. В моде на префиксы прочитывается воля к
схематизации, упрощению культуры, представление о ее завершенности и
исчислимости, то есть, в конечном счете, о ее смерти.
Не составляет труда проследить генеалогию этой тенденции в
интеллектуальной истории современности. У истоков ее,
очевидно, стоит Гегель, который впервые придал логически строгую и
изощренную форму веками бытовавшим в культуре
эсхатологическим и утопическим концепциям конца истории. Как показал в
своем комментарии к Гегелю Александр Кожев3, идея конца исто-
3 См.: Alexandre Kojève, Introduction à la lecture de Hegel [1947], P., Gallimard,
1979.
140
Институты и тексты
рии, на которой основана «Феноменология духа», предполагает
последовательное исчерпание творческих возможностей духа
(человеческого духа, по интерпретации Кожева) и соответственно
смерть человека как творящего и сознательно действующего
существа. Любопытно, что для логической проработки этой концепции
Гегелю с необходимостью потребовалась система логической
префиксации понятий. Анализировать ее целиком — специальная и
сложная задача для историка философии; но укажем здесь на одну,
важнейшую для гегелевской системы понятийную пару — «в-себе»
и «для-себя» (Ansich, Fürsich). Эти предельно формализованные,
префиксально-местоименные выражения характеризуют
центральный процесс гегелевской диалектики — процесс осознания,
перехода от замкнуто-неосмысленного существования к состоянию
сознательному, преодоление бытия сознанием. Спустя столетие
после Гегеля тот же процесс осознания бессознательного
попытался охарактеризовать, уже не в философском, а в психологическом
плане, Фрейд — и опять-таки обратился к предельно абстрактным,
формальным элементам языка, в данном случае не к префиксам,
а к местоимениям: «Там, где было Оно, должно стать Я»4. В про-
номинальную конструкцию Фрейда входит и один из важнейших
культурообразующих префиксов XX века, который в данном
случае характеризует «сверх-осознанное», не-мною-осознанное
бытие, и результат такого отчужденного осознания именуется
«Сверх-Я».
Приведенные примеры позволяют предположить, что
префиксальное обозначение не только дает техническую экономию
словесных средств, но и заключает в себе определенную
историософскую интуицию, которая, как известно, не перестает проявляться
на протяжении XX века, будь то в идеологии тоталитарных утопий
(как марксистской, так и нацистской) или же в «постсовременной»
идее конца истории у Френсиса Фукуямы, отправной точкой для
которой стал как раз крах тоталитарных утопий. Однако это
можно сформулировать и наоборот: формирование концепций конца
истории представимо в лингвистических терминах, как некоторый
новый тип манипуляций с языком, активизирующий его
служебные, формальные элементы в ущерб содержательно-корневым и
тяготеющий к конструированию языка в виде завершенной,
логически замкнутой системы, которая далее уже проецируется на
исторический процесс.
2) Вторую функцию префиксации в самоосмыслении
современной культуры покажет дальнейший анализ самих куль-
4 Зигмунд Фрейд, Введение в психоанализ: Лекции, М., Наука, 1991 [1932J,
с. 349. Перевод Г.В. Барышниковой.
Культурология префиксов
141
турообразующих префиксов, затрагивающий уже не их
формальное место в языке, а их семантику. Дело в том, что из префиксов,
которыми реально располагает язык, для культурной рефлексии
используются отнюдь не все. В их отборе заметна некая
привилегированная семантика, которая проявляется, порой даже
намеренно активизируется в образуемых словах. Взять, например,
«экспрессионизм»: его довольно редкий для интересующих нас
терминов префикс как будто вполне автоматизирован множеством
общеязыковых применений, он словно бы и не читается отдельно
от своего корня (подобно русскому аналогу этого слова —
«выражение»). Но стоит вспомнить, что исторически термин
создавался с оглядкой на недалекий по времени «импрессионизм», как в
нем сразу становится ощутимой семантика «выхода из» (в
противоположность «внедрению внутрь» — «впечатлению»), казалось бы
давно забытая в эстетическом термине «выразительность».
«Выход из», «выход за рамки», «преодоление», «трансцендиро-
вание», Aufhebung — видимо, это и есть общая семантика
префиксов «сверх-», «пост-», «нео-», «гипер-», «мета-» и других подобных
приставок. Если искать некий «архипрефикс», который вобрал бы
в себя общий конъюнктивный смысл всех остальных, то таковым
окажется, вероятно, «не-» — префикс отрицания (сам по себе он
встречается весьма редко, по-русски главным образом в
иноязычных формах: «Анархизм», «нонконформизм»). Современная эпоха,
если судить по внутренней форме ее словесных самообозначений,
есть эпоха «критическая», в том смысле в каком французские
сенсимонисты когда-то противопоставляли критические и
органические эпохи истории; она мыслит себя как процесс не синтеза, а
анализа (кстати, и проводимое здесь исследование вписывается в
ее установку); сознательный пафос ее культуры — не тождество, а
противопоставление (Ю.М. Лотман), отрицание, преодоление,
разрушение, стремление за пределы наличного бытия. Всегда ли
такое отрицание является революционным? Нет, конечно, и
недаром его философским фундаментом стала диалектика Гегеля,
исключительно последовательная в утверждении отрицания и при
этом нацеленная не на уничтожение, а на «снятие», сбережение
отрицаемого.
В текущей культурной практике стремление к такому
сберегающему отрицанию демонстрируют — разумеется, с различной
степенью обоснованности — многие конкретные акты
самоименования. Как правило, возникающие при этом культурообразущие
префиксы не несут в себе идею радикального и безоглядного
отвержения: среди них редко встречаются однозначно
отрицательные приставки «анти-» или «контр-»: так, предложенное некогда
Ж.-П. Сартром слово «антироман» для обозначения революции
142
Институты и тексты
романного письма во Франции 1950-х годов не удержалось в
обиходе, уступив место самоназванию литературной школы,
использовавшей иной, более уравновешенный термин («Новый роман»);
такие термины, как «антикоммунизм» или «контрреволюция»,
принадлежат не культуре, но политике, причем, по-видимому,
чаще употребляются (употреблялись) извне, как изобличительный
ярлык, навешиваемый на своих противников теми, кто сам себя
декларирует как «коммунистов» и «революционеров»5. Едва ли не
исключительный случай, когда префиксация была призвана
выразить действительно радикальное и недиалектическое отрицание
культурного «истеблишмента», причем от лица самих отрицателей,
имел место в 1960-х годах XX века, при образовании термина
«контркультура», и показателен здесь предельно широкий,
всеохватывающий термин, поставленный в позицию отрицаемого элемента.
Трудно вообразить себе что-либо более широкое, чем «культура»,
что еще можно отрицать (не случайно слово «антимир» уже
занято, обозначая не результат протеста против «мира», а симулякр
обычного «мира», гомологичный ему по структуре, но вывернутый
наизнанку)6.
Напротив, в современной культуре широко используются
префиксы «мягкого», неконфликтного отрицания. Идеальный случай
составляют многочисленные «нео-» течения: неореализм,
неоклассицизм, неоромантизм, неоавангардизм (любопытное редуплика-
тивное образование, буквально «новое передовое направление»,
«ново-новое направление»7, — впрочем, это скорее изобретение
критиков «авангарда», чем самоназвание). Декларируя возврат к
чему-то уже бывшему прежде, такие названия в то же время своим
префиксом буквально обозначают «обновление», то есть
изменение наследуемой традиции, а всякое изменение есть род
отрицания. Та же скорее компромиссная, чем собственно диалектическая
стратегия широко используется при образовании коммерческих
5 Вероятно, это объясняется общей агрессивностью левых — в частности,
«коммунистических» и «революционных» — течений в общественной жизни,
нуждающихся для идеологического целеуказания в резких, пусть и не точно
определенных обозначениях своего противника.
6 Особый случай составляет новейший термин «антиглобализм»: хотя в его
внутренней форме, казалось бы, звучит «вражда ко всему миру», почти как в
«контркультуре», но участники обозначаемого им движения фактически
преследуют другие, далеко не столь радикальные и даже скорее консервативные
цели (сбережение национальной самобытности и независимости, которым
грозят процессы глобализации). С этим отчасти связана неустойчивость самого
термина, которому сторонники движения нередко предпочитают менее
радикальный «альтерглобализм».
7 Ср. «новый новый роман» — термин французской литературной
критики 1960-х годов.
Культурология префиксов
143
названий-брендов, где с помощью всевозможных формальных
морфологических элементов (чаще постпозитивных — суффиксов
или частиц: таковы знак +, всевозможные цифровые добавления
и т.д.) новый бренд дифференцируется по отношению к уже
существующему, сохраняя напоминание о нем. В художественной и
интеллектуальной культуре в аналогичных целях охотно
применяют само слово «новый» — как в уже упомянутом «новом романе»,
«новой критике», «новых философах» (Франция), «новом
историзме» (США) и т.д. В отечественной практике особенно показательна
периодически заявляющая о себе, особенно в периоды
общественных перемен, традиция называть с помощью этой формулы вновь
образуемые периодические издания, иногда отпочковывающиеся
от старых, образуемые притяжением-отталкиванием от них:
«Новый Сатирикон», «Новая Юность», «Новое литературное
обозрение», «Новые Известия» и т.д.; однако этой формуле не
соответствует внешне напоминающий ее «Новый мир» — журнал,
созданный в 1920-х годах, в пору стабилизации советского режима,
и своим названием отсылавший не к предшественнику, а к
утопическому идеалу будущего. Слово «новый» в таких обозначениях
формализуется, становясь фактически эквивалентным префиксу и
неся лишь самый абстрактный смысл преемственности-перемены.
3) Третья функция префиксации также явствует из перечня
наиболее ходовых префиксов: ее можно назвать установкой на
имманентность перемен. Вообще говоря, названия фактам
культуры даются либо изнутри (теми агентами культуры, которые сами
принимают на себя ответственность за вновь именуемую
тенденцию) или извне (их критиками, оппонентами, изобличителями или
хотя бы просто историками). Хорошо известен постоянно
повторяющийся процесс апроприации, интериоризации внешних
наименований, когда подвергаемые поношению новаторы гордо берут
себе в качестве самоназвания тот самый ярлык, которым их
клеймили: так обстояло дело, например, с «романтизмом»,
«декадентством», «нигилизмом» и другими такого рода обозначениями. По-
видимому, в современной культуре внутренне выработанные
наименования (самоназвания) чаще всего носят корневой
характер, тогда как префиксальные имена чаще вырабатываются
внешней критикой и лишь потом усваиваются самими именуемыми.
Это, вероятно, вызвано тем, что в современной культуре и в ее
критике чрезвычайно сильно историческое сознание, заставляющее с
самого начала, еще на стадии формирования термина, полагать
сходства и различия характеризуемого явления с
предшествующими фактами культуры. Как бы то ни было, при внешнем
именовании процесс отрицания и обновления, обозначаемый тем или
иным новым термином, трансцендентен именующему субъекту,
144
Институты и тексты
этот субъект (критик или историк) рассматривает его со стороны:
«декаданс» сам по себе «упадочен», «неореализм» сам по себе
обновляет традиции реализма, и т.д., независимо от воли и отношения
того, кто о них пишет. Напротив, при внутреннем именовании
процесс изменения объекта имманентен именующему субъекту, этот
субъект сам перформативно осуществляет изменение, сам включен
в изменяемый им объект: мы, «диархисты», упраздняем
государственную власть, в механизм которой мы включены от рождения;
мы, противники культурного истеблишмента, но изначально
подвластные ему, освобождаемся от него и создаем ему в противовес
свою «/соя/я/нсультуру».
Такое отношение можно пояснить более абстрактной
философской проблемой, которая тоже выливается в соотношение
приставок, лишний раз подтверждая важность этого «формального»
языкового элемента для самосознания современной культуры.
В современном французском философском дискурсе важное
место принадлежит термину différence, который может переводиться
на русский язык двумя, казалось бы, синонимичными словами —
«различие» и «отличие». На самом деле смысл этих слов не
вполне совпадает: «различие» теснее связано с объектным глаголом
«различать» (есть различаемые элементы — и есть различающий их
извне субъект), тогда как «отличие» — с возвратным глаголом
«отличаться» (субъект действия претерпевает или совершает его над
собой сам; для него если и есть внешний объект, то это то, от чего
он отличается). Можно сказать, что действие «различения», в
первом случае, носит трансцендентный характер, тогда как действие
«отличения», во втором, — имманентный. Для современной
постструктуралистской рефлексии особенно важным и
проблематичным оказался (в соответствии с внутренней формой самого слова
«яоаяструктурализм») именно второй, имманентный смысл,
когда исчезает внешний субъект, проводящий (сознающий и
насильственно внедряющий) «различия», и остается самопроизвольное,
спонтанное отличие, необходимо проходящее внутри любого, даже
самого на первый взгляд цельного и первичного единства,
говорящее о том, что в нем «всегда уже» содержится языковое,
структурно-артикулированное начало. Знаменитый неологизм Жака Дер-
рида difference, обозначающий именно такое саморасподобление
и самоотрицание «наличия», превращение наличных вещей в
квазитекстуальные образования, выражает в подчеркнутой форме
имманентное событие «отличия» (вернее, «отличения»)8.
8 Соответственно при переводе современных французских мыслителей (не
только Ж. Деррида, но и Р. Барта, Ж. Бодрийяра, М. Бланшо и других) во
многих случаях более точным оказывается передавать différence не как «различие»
Культурология префиксов
145
Этот вопрос об имманентности вновь возвращает нас к
префиксу «пост-». Его этимологическая судьба лишь отчасти
соответствует судьбе большинства современных культурных имен:
первоначально введенный для внешнего обозначения так называемого
«постсовременного состояния» культуры, он до сих пор лишь
редко и неустойчиво употребляется как элемент самоназвания
творческих направлений, покрываемых данным термином.
«Постмодернизм», как правило, ощущается, особенно писателями, как
извне приставший к ним ярлык, не вполне адекватно
описывающий суть их деятельности и вызывающий либо неприятие, либо
попытки самостоятельной металитературной концептуализации,
фактически ревизии (например, у Умберто Эко в «Заметках на
полях "Имени розы"»). Причина понятна: этот термин, с одной
стороны, сохраняет в себе идею «мягкого» отрицания и
преодоления, общую для большинства современных культурообразующих
префиксов, а с другой стороны, делает его смысл предельно
имманентным («све/шшманентным», если воспользоваться одним из
префиксов того же ряда). Предполагается, что разрушение
старого уже совершилось само собой, под действием времени, на долю
современной культуры осталась вторичная утилизация обломков,
и, таким образом, у писателя, художника больше нет
трансцендентной отрицающей позиции, для нее просто не остается места. Если
судить по внутренней форме термина — а это не самое
произвольное основание для суждения, — то состояние культуры,
характеризуемое префиксом «пост-», должно пониматься как абсолютно
имманентное состояние, где если что и происходит, то без воли
человека9, — как постисторическое состояние, состояние после
конца истории.
В таком состоянии события, изменения могут
осуществляться лишь в имманентной же форме, как события внутренней
жизни того, что изменяется, не связанные с активной волей субъекта
и не влияющие на существование других объектов; изменяющееся
(вариант, традиционный для русского философского перевода), а как
«отличие». Подробное обсуждение данного вопроса на примере книги Деррида
«О грамматологии» см. в моей рецензии на ее русский перевод {Вопросы
философии, 2001, № 7, с. 158—163). В том же номере журнала напечатан ответ
переводчицы указанной книги Н.С. Автономовой, которая отводит предложенное
мною решение, однако главным образом на основании общих рассуждений, не
опровергая моих конкретных доводов и не рассматривая заново анализируемых
мною примеров словоупотребления у Деррида. Таким образом, дискуссия не
закрыта.
9 Соответственно и такой человек, чья воля ни на что уже не может
воздействовать, закономерно утрачивает собственную человечность, о чем еще до
Второй мировой войны писал А. Кожев.
146
Институты и тексты
ни для кого не является ни субъектом, ни объектом, отменяя само
это категориальное разделение. Типичные формы такого самоиз-
менения, рассмотренные Жаном Бодрийяром в книге «Фатальные
стратегии» (1985), — это, например, фрактальное разрастание типа
раковой опухоли или же имплозия, «схлопывание»; вследствие
таких квазисобытий объект взрывается то вовне, то внутрь,
переходя от безмерной, всезахватывающей полноты к абсолютной,
лишенной границ пустоте.
В русской традиции эту псевдодиалектику, фактически уже
лишенную развития и сберегающего начала, пытался в свое время
описать Михаил Эпштейн в статье «От модернизма к
постмодернизму: диалектика "гипер" в культуре XX века»10. По его мысли, в
разных сферах культуры XX века наблюдается одно и то же
циклическое развитие, ведущее от возгонки и максимизации некоего
абстрактного начала (текстуальности, социальности, сексуальности)
к разоблачению его пустоты и неподлинности — от «гипер-» к
«псевдо-». Оба префикса, используемые в этой схеме и
представляющие собой два аспекта общего понятия «пост-», разделяют с ним
смысл имманентной негативности, их циклическое чередование
сопоставимо с процессами инфляции и девальвации, бума и
депрессии в экономике, которые также происходят спонтанно, под
хаотичным давлением масс, как правило в отсутствие какого-либо
внешнего субъективного действия или даже вопреки ему.
Итак, смыслы, связанные с современным употреблением
префикса «пост-», включаются в более общее языковое поле,
затрагивающее семантику и образование ряда слов в разных языках
современной эпохи. Оно характеризуется такими тенденциями, как воля
к упрощению и замыканию языковой системы, связанное с
представлением об исчерпанности истории; стремление к обновлению
и диалектической преемственности объектов культуры;
преимущественная роль имманентных изменений, не включающих в себя
процессы взаимодействия между субъектными и объектными
инстанциями (последнее обстоятельство особенно отчетливо
выражено именно префиксом «пост-» и некоторыми его ближайшими
синонимами). Можно заметить, что первая и третья тенденции
вместе противоречат второй: действительно, новизна и
преемственность возможны лишь постольку, поскольку история
продолжается, поскольку в ней еще возможны трансцендентные действия
10 Новое литературное обозрение, № 16,1995. В том же номере журнала была
напечатана и моя статья-ответ «Культурология префиксов», одна из частей
которой, значительно расширенная и пересмотренная, легла в основу
настоящей статьи. Вся полемическая часть старого текста, посвященная
квазинаучному статусу «культурологии» М. Эпштейна, для настоящего издания
неактуальна и потому опущена.
Культурология префиксов
147
(попросту говоря, взаимодействия). Это противоречие говорит о
том, что префиксальное самосознание культуры нашего времени —
неоднозначный процесс. В нем сосуществуют и соперничают не
только варианты имманентной негативности, вроде
рассмотренных М. Эпштейном «гипер-» и «псевдо-», но и тенденции
трансцендентной негативности — например, неоклассические
направления в художественной культуре. Правда, сама форма
современной культурологической рефлексии, оперирующей
максимально абстрактными, внеисторическими понятиями, которые
выражаются даже не корнями, а префиксами и другими служебными
элементами языка, — эта форма, в общем, изоморфна самому
феномену «постмодерна», превращающего (по крайней мере,
таково наиболее распространенное его понимание) все содержания
прошлой культуры в безразличные и «ничейные» формы-симуляк-
ры11; но, с другой стороны, сама эта форма может — еще может? —
осознаваться нами лишь постольку, поскольку она обладает
«отличием», поскольку ей противостоят иные, оппонирующие ей
логические формы (а именно диалектика); следовательно, она все-
таки не покрывает собой всей полноты современного развития.
2004
11 Такая культура, культура моды и музея, по выражению Ж. Бодрийяра,
«с величайшей комбинаторной свободой фабрикует "уже бывшее"» (Жан
Бодри йяр, Символический обмен и смерть, М., Добросвет, 2000, с. 172).
НЕУЮТНОСТЬ ЦИТАТЫ
Название этой статьи — реминисценция из эссе Л.М. Батки-
на «Неуютность культуры» (альманах «Метрополь», 1979)1, а оно
в свою очередь отсылает к названию статьи Фрейда «Das
Unbehagen in der KultuD>, которое у нас переводится как «Неудобства
культуры» или «Неудовлетворенность культурой». Ассоциация
«культуры» и «цитаты» — неслучайная: в самом деле, именно
цитация свидетельствует о включенности текста в культуру, именно
по ней мы опознаем некоторый текст как «культурный»,
связанный с традицией образованности. Цитата — это «культура» par
excellence. Характерно, что Ролан Барт, описывая в книге «S/Z»
(1970) различные коды, переплетающиеся в литературном тексте,
назвал «культурным» именно код, который образуют готовые
цитаты из социального дискурса (пословицы, максимы и т.п.).
Цитата знаменует собой присутствие в тексте Другого/другого по
Лакану — то есть и реального партнера в диалоге, и абстрактно
противостоящей субъекту социальной инстанции. Вместе с тем
именно в силу такой двойственности цитата может переживаться
амбивалентно, и подобно тому как психоанализ различает
«хорошие» и «дурные» объекты, представляется допустимым различать
«хорошие» и «дурные» цитаты — в том смысле, что субъект
испытывает от них успокоительное или же тревожное ощущение.
Предметом настоящих заметок будет не техника цитирования, не
оформление цитат и ссылок, а то, каким образом чужой текст в тексте
может восприниматься самим цитирующим (в частности,
писателем).
Психологическая амбивалентность цитаты может
объясняться ее проблематичным миметическим статусом в тексте. Как
известно, Платон и Аристотель предлагали разграничивать два
режима поэтической речи — диегесис и мимесис, то есть повествование
и простое, или прямое, подражание. Последнее есть непосред-
1 Статья выросла из краткого доклада, прочитанного в октябре 2001 года
в ходе «круглого стола» в Институте высших гуманитарных исследований РГГУ.
Я признателен Л.М. Баткину и другим коллегам, чьи критические замечания,
высказанные в ходе обсуждения доклада, послужили стимулом к
дальнейшему обдумыванию проблемы.
Ряд текстов, привлекаемых ниже в качестве примеров, уже разбирались в
других моих работах, но в иной теоретической перспективе.
Неуютность цитаты
149
ственная передача в тексте чужих слов, например слов
действующих лиц. (Прямому подражанию подлежат также и действия, но
тогда воспроизводиться они будут действием же —
драматическими жестами актера на сцене.) Обычный повествовательный текст
работает в смешанном режиме: сегменты повествования
перемежаются сегментами прямого подражания — репликами
действующих лиц. Что же касается цитаты, о которой античные философы
непосредственно не размышляли, то она тоже представляет собой
пример прямого подражания чужим словам, только его предметом
служит не речь персонажа, а речь другого автора; в обоих случаях
фрагмент старого текста непосредственно включается в новый
текст.
Как писал Жерар Женетт в статье «Границы повествователь-
ности», миметичность такого подражания на самом деле
неочевидна. С одной стороны, прямое подражание как будто является
высшим видом мимесиса, и Платон оценивал его именно так: между
речью героя и речью нами нет искажающей инстанции
повествователя, речь доходит до нас неизменной, в своем изначальном
виде. Диегесис — всегда некоторое отпадение от чистоты
словесного эйдоса, которая сохраняется в неприкосновенности при
прямом подражании. Но, с другой стороны, в случае дословно
передаваемого текста собственно подражательная, изобразительная
работа стремится к нулю. Этот текст воспроизводится, а не
перерабатывается, и здесь собственно нет подражания, как нет его в
жесте судебного оратора, который, прервав свою речь, предъявляет
судьям документ либо вещественное доказательство, или же при
коллаже в современной живописи.
...в «смешанном» повествовании, то есть при самом обычном и
широко распространенном способе изложения, попеременно
осуществляется подражание <...> то невербальному материалу, который и в
самом деле приходится по мере сил изображать [действиям
персонажей, о которых повествуется. — С.3.], то вербальному материалу
[словам персонажей. — С.З.], который изображает себя сам и который
чаще всего достаточно просто процитировать. В случае строго верного
действительности исторического повествования историк-рассказчик
не может не ощущать смены режима, когда переходит от
повествовательного труда при изложении происходивших событий к
механическому переписыванию произносившихся при том слов; в случае же
повествования частично или полностью вымышленного работа
вымысла, равно затрагивающая и вербальное и невербальное
содержание, имеет своим очевидным результатом скрадывание различия
между двумя типами подражания, из которых один, так сказать, поставлен
150
Институты и тексты
на прямую передачу, а другой использует довольно сложную систему
промежуточных сцеплений2.
В рассуждении Женетта не случайно появился глагол
«цитировать». Греческие философы, разумеется, не пользовались этим
латинским словом, да и по объему понятия «цитирование» не
совпадает с «прямым подражанием»: с одной стороны, не принято
говорить о «цитировании» в случае поэтического «подражания»
вымышленным речам персонажей, а с другой стороны,
цитирование широко применяется в текстах, вообще говоря,
немиметических — например, философских. И все же области референции
двух данных понятий имеют обширную общую полосу: это
категория нехудожественных повествований, претендующих, с большим
или меньшим правом, на достоверность, — исторических,
судебных, журналистских и т.д. В таких повествованиях широко
присутствует чужое устное (запротоколированное) и письменное
(документальное) слово. В этом смысле проблема цитации связана с
широко обсуждаемой ныне проблемой нарративного знания и его
статуса в культуре.
Цитация — элементарный нарративный акт, подобно тому как
акт высказывания — одна из элементарных единиц действия.
Сказав «такой-то говорил, что...», автор даже самого ненарративного —
философского, теоретического, дидактического — текста вносит в
него частицу повествовательности, сообщает о событии
«говорения того-то и того-то». Соответственно на цитацию
распространяется и парадокс неповествовательного мимесиса, установленный
Женеттом. Максимальная точность подражания покупается здесь
ценой отказа от творческого преображения, ценой замолкания
авторской речи — вместо нее начинает звучать достоверность
чужой речи. Продолжая мысль Женетта, можно сказать, что такое
двойственное ощущение хорошо знакомо каждому, кто
цитирует, — при переходе из режима собственной речи в режим
цитации меняется ощущение текста: писать становится легче, и
оттого цитата часто служит авторитетной опорой письма,
освобождающей пишущего от риска и ответственности; но такая легкость
предполагает и некоторое порабощение, отчуждение,
прикованность к букве чужого текста, и это уже может тревожить3.
2 Жерар Женетт, Фигуры: Работы по поэтике, т. 1, М., изд-во им.
Сабашниковых, 1998, с. 287.
3 Сходная тревога действует, по-видимому, в распространенном бытовом
феномене безнадобной лжи — инстинктивного вранья в ситуации, когда
лгущему было бы на руку сказать правду. Создается впечатление, что такого рода
субъект чувствует себя неуютно при «цитатно»-точном изложении правды, —
ведь она единственна и объективна, то есть неподвластна ему, тогда как ложь
Неуютность цитаты
151
Парадоксален и эпистемологический статус цитаты в тексте.
В принципе она является или, по крайней мере, должна быть
буквальной, то есть максимально достоверной; но вместе с тем, как
всякий «текст в тексте», она по общесемиотическому закону
наделяется в читательском восприятии повышенной условностью, то
есть некоторой фиктивностью4. Повышенная, по сравнению с
вольным пересказом, достоверность слов ведет к снижению
достоверности излагаемых ими событий. Это известно, между прочим,
составителям именных указателей к книгам исторического
(например, историко-литературного) содержания, включающих большое
количество цитат, в которых упоминаются реальные лица. Такие
«персонажи цитат» странно и как-то не по праву выглядят в
указателе, стоя в одном ряду с персонажами основного авторского
изложения, — как будто в общем списке оказались реальные люди
и романные герои. Иногда, особенно если по каким-то причинам
указатель приходится сокращать, в таких случаях производят
селекцию: в указателе оставляют только тех «персонажей цитат»,
которые фигурируют также и в авторском тексте. Что же касается
прочих лиц, не сумевших перешагнуть онтологический барьер
цитатных кавычек, то хотя никто не сомневается в их
исторической реальности, но их текстуальная реальность молчаливо
признается неполноценной, вторичной, подобно тому как вторичным,
обрамленным является повествующий о них текст.
Наконец, двойственным является и эстетический статус
цитаты. Вводя в свой текст чужое слово, автор (в той мере, в какой он
оговаривает сей факт) осуществляет его эстетическую изоляцию,
заключает в рамки авторской речи и тем самым делает «ручным»,
послушным, творчески освоенным. В цитате наглядно
осуществляется власть писателя над словом, включая слово чужое.
Неудивительно, что в современную эпоху, когда единоличная власть
пишущего над текстом начинает колебаться и на первый план
литературы выдвигается проблема «чужого слова», не сводимого к
однозначным авторским интенциям (ср. бахтинскую концепцию
«полифонического романа», закономерно привязанную именно к
литературе XIX века), сама же литература начинает подвергать эту
ситуацию металитературному исследованию.
Эмансипация слова имеет два аспекта. С одной стороны,
приватизированное слово склонно «изменять» своему автору,
свободно переходя в чужой текст, в чужую мысль и книгу. В противовес
этому в XVIII веке сложилась современная система авторского
многовариантна и поддается относительно свободному, едва ли не
творческому комбинированию.
4 См.: Ю.М. Лотман, «Текст в тексте», Избранные статьи, т. 1, с. 148—160.
152
Институты и тексты
права — механизм внелитературного, юридического закрепощения
слишком вольных слов5, который уже в наши дни переживает
кризис с появлением новых информационных технологий, таких как
Интернет. С другой стороны — и нас здесь интересует прежде всего
именно эта сторона дела, — пришедшее извне цитатное слово
ставит под вопрос идентичность, «оригинальность»
текста-реципиента. Еще в эпоху Возрождения в западноевропейской
письменности (прежде всего в книгопечатании, то есть при массовом
тиражировании текстов) возникли кавычки, межевые камни,
обозначающие границу «своего» и «чужого» слова6. Новоевропейская
литература не раз рассказывает о подрыве этих дискурсивных
границ, скандальном стирании кавычек; непокорные, самовольные
цитаты явочным порядком вторгаются в речь писателя или даже
не-писателя, вселяются в него наподобие бесов или, используя
более современную образность, вирусов.
Ниже мы кратко проанализируем несколько выразительных
примеров, не претендуя, разумеется, на полноту описания
процесса.
Отправной точкой может считаться Монтень. В своих
«Опытах» он много цитирует древних авторов; своеобразный режим этой
цитации, его психологические основы рассмотрены в монографии
Жана Старобинского «Монтень в движении» (1982), которая и даст
нам необходимый материал для анализа. Для Монтеня цитата из
античного классика — опора и поддержка, она позволяет ему
высказать свою мысль четче, чем мог бы высказать ее он сам; но по
той же самой причине цитата неявно унизительна — она
означает, что он сам не способен сказать так же хорошо. По мысли
Старобинского, такое переживание связано с меланхолией:
Не следует ли рассматривать само привлечение цитат <...> как
следствие заниженной самооценки меланхолика? Не обладая сам
достаточно сильным голосом, Монтень говорит мощным языком
Сенеки или Плутарха: именно так он оправдывает свои заимствования,
выступающие у него одновременно в роли украшений. Цитата,
признание в слабости, — излюбленный прием меланхолических речей7.
Меланхолия предполагает чувство неполноценности языка,
ущербности выражаемых им ценностей. В этом смысле меланхо-
5 Напрашивается, конечно, аналогия со «вторичным закрепощением
крестьян» в Новое время (в России — от отмены Юрьева дня в XVI веке до
крепостнических указов Екатерины): феодальная система перестала быть
самоочевидной, ей понадобились внешние юридические подпорки.
6 См.: Antoine Compagnon, La seconde main, Ρ, Seuil, 1979.
7 Жан Старобинский, Поэзия и знание: История литературы и культуры,
т. 2, М., Языки славянской культуры, 2002, с. 17. Перевод И. Стаф.
Неуютность цитаты
153
лическая мысль — эпохальное явление позднего Возрождения и
барокко, и Монтень, помимо прочего, выражает это
умонастроение в своем отношении к цитатам. Выходом, позволяющим
избежать порабощения чужой речью, установить равные отношения с
классиками, становится у него заявление о цитатности: в роли
кавычек у Монтеня выступает курсив, а многие цитаты и вовсе не
обозначены в качестве таковых, однако автор «Опытов»
неоднократно признает в принципе факт использования чужого текста,
оговаривает необходимость для себя обращаться к цитатам; он
извиняется, что не мог написать так же хорошо, как древний
писатель или философ, а потому цитирует их. Признавая свою
слабость в тексте высказывания, он на уровне акта высказывания
выставляет себя в виде справедливого судьи собственного текста:
Как оправдать это нашествие чужих слов автору, который ранее
столь бурно отстаивал свою независимость? Монтень <...>
соглашается, что кое-какие из его первых опытов «изрядно попахивают
чужим». Он дезавуирует их, а это уже один из способов перехватить
инициативу, которая на других страницах перешла к чужому слову.
Дискурс этих опытов был заимствован, но метадискурс, обличающий
заимствование, восстанавливает Монтеня в его правах неподкупного
судии: самый акт заимствования, будучи описан как таковой,
становится своеобразной чертой его автопортрета. Описывая его, Монтень
говорит так, как не говорил до него никто: «У меня есть склонность
обезьянничать и подражать...». Приняв эту стратегию, Монтень
возвращает себе все, что прежде уступил. Как только он делает свою
зависимость от Сенеки или Плутарха предметом проницательного
осмысления, он избавляется от этой зависимости. Он берет верх именно
тогда, когда сообщает читателю, что грабить некоторых древних
авторов его побудило их превосходство8.
Проблематичный статус цитаты с особенной остротой
выявился в эпоху романтизма. Если Монтень еще мог бравировать своим
«грабежом» античных классиков (которые в любом случае давно
умерли и не могут оскорбиться таким обращением), то для
романтиков дело приняло более драматичный оборот — умыканию и
неадекватному, извращенному использованию подвержено слово
современного автора, в том числе и мое собственное слово,
цитирование грозит отчуждением личности цитируемого. И наоборот, в
моей собственной речи могут предательски появиться чужие,
беззаконно проникшие в нее слова, опять-таки отчуждающие мою
личность.
8 Там же, с. 129—130.
154
Институты и тексты
История злоключений поэтической цитаты рассказывается в
стихотворении Теофиля Готье «Строка Вордсворта» (1832):
UN VERS DE WORDSWORTH
Spires whose silent finger points to heaven
Je n'ai jamais rien lu de Wordsworth, le poète
Dont parle lord Byron d'un ton si plein de fiel,
Qu'un seul vers; le voici, car je l'ai dans ma tête:
Clochers silencieux montrant du doigt le ciel.
Il servait d'épigraphe, et c'était bien étrange,
Au chapitre premier d'un roman: Louisa,
Les malheurs d'une fille, œuvre toute de fange,
Qu'un pseudonyme auteur dans l'Âne mort puisa.
Ce vers frais et pieux, perdu dans un volume
De lubriques amours, m'a fait du bien à voir.
C'était comme une fleur de champs, comme une plume
De colombe tombée au fond d'un bourbier noir.
Ainsi depuis ce jour, lorsque la rime boite,
Quand Prospéra n'est pas obéi d'Ariel,
Aux marges de mes vers je jette, à gauche, à droite,
Des dessins des clochers montrant du doigt le ciel9.
Романтическая цитата предстает в виде изолированной
строки из иностранного поэта (из поэмы «Прогулка», 1814) — это
единственный стих Вордсворта, который известен поэту
французскому, а о самом авторе он знает главным образом то, что о нем
«желчным тоном» писал Байрон. (Готье не мог знать, что сам Ворд-
9 Théophile Gautier, Poésies complètes, t. 1, Charpentier, 1875, p. 111.
Подстрочный перевод: «Из Вордсворта — поэта, // О котором столь желчно пишет
лорд Байрон, // Я читал лишь один стих; вот он, ибо я помню его наизусть: //
Колокольни, безмолвно указующие перстом в небеса. // Он служил эпиграфом —
и то было очень странно — // К первой главе романа "Луиза": // История бед
какой-то девки, целая книга грязи, // Которую скрывшийся под псевдонимом
автор черпал из "Мертвого осла". // Этот свежий и благочестивый стих,
затерянный среди рассказов // О похотливой любви, порадовал мой взгляд. //
Он был словно полевой цветок или перо // Голубки, упавшее в черную
трясину. // И вот с тех пор, когда у меня хромает рифма, // Когда Ариэль не
подчиняется Просперо, // На полях своих стихов, то слева, то справа, я
набрасываю // Рисунки колоколен, указующих перстом в небеса».
Неуютность цитаты
155
сворт, по его собственному указанию в поэме, заимствовал эту
строку у Кольриджа, так что история цитации еще более выходит
за горизонт мысли одного Готье.) Стих Вордсворта попался ему в
виде эпиграфа к роману, который оценивается как грязное,
непристойное произведение, уподобляемое знаменитому «Мертвому
ослу» Жюля Жанена10. Три раза подряд поэтическая цитата
оказывается в окружении оскверняющих, негативно сакральных
субстанций — такова «желчь» Байрона, «грязь» натуралистического
романа, «черная трясина», в которую падает перо голубки. Эта
агрессивная враждебная среда образует контекст «свежей и
благочестивой», позитивно переживаемой цитаты, которая в отличие
от континуальной среды сама носит вдвойне дискретный характер:
благодаря своему точечно-изолированному положению в тексте и
благодаря точечному, заостренно-указующему «жесту» церковных
шпилей, о которых в ней говорится. Французский поэт
предпринимает специальные текстуальные усилия, чтобы «отмыть», ре-
контекстуализировать полюбившуюся ему цитату и примирить
дискретное и континуальное начала. Для этого используется, во-
первых, новая цитата — реминисценция из «Бури» Шекспира
(«Когда Ариэль не подчиняется Просперо»), позволяющая
поддержать беззащитно-одинокую строку Вордсворта другим, более
крупным и авторитетным в глазах романтика Готье произведением
английской литературы; во-вторых, рисунки колоколен, которыми
французский поэт окружает свои стихи. Эти рисунки тоже
представляют собой цитату, ту же самую цитату, — но уже
перекодированную, преображенную из вербальной формы в визуальную, из
дискретной в континуально-образную; то есть оба приема
преследуют одну и ту же цель — примирить, опосредовать два начала,
конфликтовавшие в исходной ситуации стихотворения. Но
рисунки колоколен, разбросанные «то слева, то справа» на полях стихов,
могут восприниматься еще и иначе: зрительно они напоминают
кавычки, расставляемые поэтом вокруг собственного текста; весь
этот текст в целом становится «цитатой», уравнивается по статусу
с выделенной курсивом строчкой Вордсворта; умножение кавычек
позволяет сделать процесс цитации и интертекстуальности
повсеместным, распространить его на стихи самого французского поэта,
и в такой генерализации, как мы увидим ниже, состоит
характерно современная стратегия борьбы с отчуждающим и отчужденным
положением цитаты.
10 Считают, что Готье был несправедлив к роману аббата Тибержа (А. Ре-
нье-Детурбе) «Луиза», действительно содержавшему эпиграф из Вордсворта, но
имевшему не «грязный», а скорее нравоучительный характер; однако для
художественной ситуации, изображаемой в стихотворении, это внешнее
обстоятельство несущественно.
156
Институты и тексты
У того же Готье в фантастической новелле «Онуфриус»
(сборник «Младофранки», 1833) рассказана история романтического
мечтателя, которого преследует дьявол. В кульминационном
эпизоде демон, принявший облик рыжебородого светского денди,
строит козни поэту-романтику в салоне, когда тому предлагают
почитать свои стихи:
Увидев, что Онуфриус собирается открыть рот, он достал из
кармана что-то вроде серебряной лопаточки и газовую сеть, насаженную
на маленькую палочку из черного дерева. На лопаточке была некая
субстанция, пенистая и розоватая, довольно похожая на крем,
которым наполняют пирожные. Онуфриус сразу узнал стихи Дора, Буф-
лера, Берни и господина шевалье де Пезе, превращенные в кашицу
или студень. Сеточка была пуста.
<...> Не успел последний слог первого стиха слететь с его губ, как
рыжебородый, наставив свою сеть, с удивительной ловкостью поймал
его на лету, перехватил, прежде чем звук достиг ушей слушателей,
потом, размахивая лопаточкой, засунул ему в рот содержимое своей
безвкусной смеси. Онуфриус хотел было остановиться или бежать, но
какая-то магическая цепь приковала его к креслу. Ему пришлось
продолжить и выплюнуть эту гнусную микстуру из мифологического
хлама и вычурных мадригалов. Фокус повторялся с каждым стихом. <...>
Новые мысли, благозвучные рифмы Онуфриуса, отливающие
тысячей романтических цветов, бились и подпрыгивали в сетке, как рыбы
в неводе или бабочки, попавшие в сачок. Бедный поэт испытывал
муки, капли пота струились по его вискам.
Когда все было кончено, рыжебородый аккуратно взял рифмы и
мысли Онуфриуса за крылышки и набил ими свой портфель".
Перед нами фантазматическое изображение процесса
цитации, когда человек говорит чужими словами. В отличие от
«Строки Вордсворта», здесь скверной отмечен не контекст «хорошей»
цитаты, а сама цитата; цитация происходит насильственно, чужие
слова произносятся не наряду с собственными, а вместо них.
Дьявол влагает в уста Онуфриусу «дурные», эстетически неприемлемые
для него цитаты из эпигонской поэзии классицизма XVIII века,
тогда как «хорошие» слова, «рифмы и мысли» романтического
поэта коварно похищаются. Существенно, что дурные и чуждые
слова субстанциальны, описываются как сплошные вещества
(«крем», «кашица», «студень», «микстура»), а хорошие имеют вид
отдельных, дискретных красивых объектов (рыб, бабочек), они
11 Infernaliana: Французская готическая проза XVIII—XIXвеков, М., Ладомир,
1999, с. 397. Перевод Н. Лоховой.
Неуютность цитаты
157
бьются, порхают, а потом их по отдельности же собирают «за
крылышки». Несмотря на то что соотношение цитаты с контекстом в
«Онуфриусе» обратное, чем в «Строке Вордсворта», центральная
смысловая оппозиция в обоих текстах одна и та же: дурная цитата
отличается от хорошей тем, что она связана с континуальными
субстанциями, а не с расчлененными формами.
Идея насильственной цитации, когда сам цитирующий против
своей воли вынужден говорить чужим и враждебным языком, не
была произвольным плодом прихотливого воображения Готье.
В фантастической форме она выражала собой феномен
идеологического отчуждения, ставший центральным предметом
критической и художественной мысли «эры подозрения» — от «Немецкой
идеологии» Маркса до художественных опытов с «чужим словом»
у Флобера и Достоевского. Позднее, уже после Второй мировой
войны, механизм внедрения в текст чужого слова получил точную
семиотическую интерпретацию благодаря Ролану Барту,
объяснившему его через понятие коннотации: в ходе этого процесса в
невинные, казалось бы, тексты и артефакты культуры
включаются, вписываются идеологически «заряженные» смыслы. Такие кон-
нотативные смыслы присутствуют в тексте наподобие
неподвластных говорящему субъекту цитат; в отличие от «классических»
цитат, они носят диффузно-бесформенный характер,
неразличимо смешиваясь с речью автора, и создают невротическое
ощущение зараженности языка. Коннотативный смысл, который Барт в
1950-е годы называл смыслом «мифическим», отличается
неуловимой, аморфной континуальностью, это что-то вроде магического
флюида, и он коварно проникает во все поры языка:
...в мифическом понятии заключается лишь смутное знание,
образуемое из неопределен но-рыхлых ассоциаций. Такой открытый
характер понятия следует подчеркнуть — оно представляет собой отнюдь не
абстрактную чистую сущность, но бесформенный, туманно-зыбкий
сгусток, единый и связный лишь в силу своей функции12.
В позднейшей книге «Ролан Барт о Ролане Барте» (1975)
критик вновь обращается к этой проблеме, на сей раз используя
вместо «мифа» новый, восходящий к Лакану термин «воображаемое»:
В старину эрудиты иногда ставили после того или иного
утверждения осмотрительную оговорку «incertum». Если бы воображаемое
12 Ролан Барт, Мифологии, М., изд-во им. Сабашниковых, 1996, с. 244.
В другом месте той же книги (с. 199) Барт характеризует «хорошую»
поэтическую речь как «разительную истину, отвоеванную у тошнотворной
непрерывности языка».
158
Институты и тексты
представляло собой точно выделенный кусок, который всякий раз
вызывает неловкость, то достаточно было бы каждый раз обозначать
этот кусок каким-то метаязыковым оператором, чтобы снимать с себя
ответственность за его написание. <...> Но <...> очень часто
воображаемое подкрадывается по-волчьи, тихонько проскальзывая в какой-
нибудь форме абсолютного прошедшего времени, в каком-нибудь
местоимении или воспоминании <...>. Отсюда мечта — не о
тщеславном тексте, не о тексте осознанно-критическом, но о тексте с
зыбкими кавычками, с плавающими скобками (никогда не закрывать
открытые скобки — это как раз и значит дрейфовать по течению)13.
Тревога, переживаемая Бартом, может быть определена как
«страх цитации» (по аналогии со «страхом влияния» Гарольда Блу-
ма). Злокачественная субстанция «воображаемого» — имеющая,
как явствует из внутренней формы слова imaginaire, не дискретно-
вербальный, а непрерывно-обрязньш характер, — грозит
«по-волчьи» проникнуть даже в продуманный, «осознанно-критический»
текст, где автор пытается описать самого себя. Ее не удается
локализовать в каком-либо «точно выделенном куске» текста, в виде
классически ограниченной цитаты, которую можно было бы
закавычить, обозначить предостерегающим флажком вроде
латинского слова «недостоверно» (средневековый эквивалент кавычек).
Особенно интересно, что выход из положения формулируется
Бартом по принципу similia similibus: от текучей субстанции
воображаемого следует лечиться, создавая сверхтекучий текст, с
«зыбкими кавычками» и «плавающими скобками». Ту же идею Барт
повторяет и несколькими страницами ниже:
На первый взгляд, воображаемое просто: это дискурс другого,
постольку поскольку я его вижу (и заключаю в кавычки). Потом я
обращаю взор на себя самого — вижу свою речь, постольку поскольку она
видна; я вижу ее голой, без кавычек — это момент, когда
воображаемое переживается со стыдом и болью. Тогда возникает третья
картина — бесконечно надстраивающихся друг над другом языков,
никогда не закрывающихся скобок; это утопическая картина, так как в ней
предполагается подвижно-множественный читатель, который
проворно то расставляет, то снимает кавычки — то есть сам начинает писать
вместе со мной14.
Как выясняется из рассуждения Барта, расстановка кавычек
или значков типа «incertum» еще не решает проблему укрощения
13 Ролан Барт о Ролане Барте, M., Ad marginem, 2002, с. 121—122.
14 Там же, с. 180-181.
Неуютность цитаты
159
чужого слова, поскольку речь его критика, расставляющего
кавычки, сама инфицирована «воображаемым», сама выговаривает
чей-то более или менее чужой и отчуждающий дискурс. Поэтому
расстановку кавычек приходится сопровождать обратной
процедурой — их проворным снятием, то есть непрерывной деятельностью
текстуальных трансформаций, которая единственно сулит сделать
из «надменно» единоличного авторского текста утопический Текст
с большой буквы — «многомерное пространство, где сочетаются и
спорят друг с другом различные виды письма, ни один из которых
не является исходным»15. Такой текст «соткан из цитат,
отсылающих к тысячам культурных источников»16; он «образуется из
анонимных, неуловимых и вместе с тем уже читанных цитат — из
цитат без кавычек»17, которые находятся в процессе настолько
интенсивной циркуляции, что теряют возможность
зафиксировать, подчинить себе окончательный смысл. Происходит как бы
искусственная разгонка процесса цитирования, «убегание вперед»,
опережение этого процесса, когда благодаря предельному
усилению цитатности диффузные языки, растворенные в тексте,
утрачивают властную силу и позволяют переживать себя и весь текст
эйфорически. Причем, как мы только что видели в цитате из
книги «Ролан Барт о Ролане Барте», непременным условием
существования этого текста является сотворческая деятельность второго
субъекта — «подвижно-множественного читателя»1*.
Для лучшего понимания этой мысли рассмотрим другой,
близкий по духу пример — известный фрагмент из «Заметок на полях
"Имени розы"» Умберто Эко, где позиция
художника-постмодерниста уподобляется положению мужчины, влюбленного «в очень
образованную женщину»:
Он понимает, что не может сказать ей «Люблю тебя безумно»,
потому что понимает (а она понимает, что он понимает), что
подобные фразы — прерогатива Лиала. Однако выход есть. Он должен
сказать: «По выражению Лиала — люблю тебя безумно». <...> Если
женщина готова играть в ту же игру, она поймет, что объяснение в любви
осталось объяснением в любви. Ни одному из собеседников
простота не дается, оба выдерживают натиск прошлого, натиск всего-до-
них-сказанного, от которого уже никуда не денешься, оба сознатель-
15 Ролан Барт, Избранные работы: Семиотика. Поэтика, М., Прогресс, 1989,
с. 388 («Смерть автора», 1968).
16 Там же.
17 Там же, с. 418 («От произведения к тексту», 1971).
18 Ср. в статье Барта «Семиологическое приключение» (1974): «Взяться
говорить о своем письме <...> — значит просто сказать другому, что ты
нуждаешься в его ответной речи» {Ролан Барт о Ролане Барте, с. 230).
160
Институты и тексты
но и охотно вступают в игру иронии... И все-таки им удалось еще раз
поговорить о любви19.
Здесь как будто предлагается, вопреки Барту, не снимать
кавычки при цитатах, а наоборот, расставлять их, маркировать
цитаты; более того, давать к ним ссылки. Филологическая работа
комментирования цитат, снабжения их сносками типа «слова
такой-то писательницы», уравнивается с работой любовного
дискурса, стремящегося к выражению истинных чувств. Но заметим: у
этой «игры» по необходимости два участника, и не каких угодно,
а квалифицированных и существенно важных один для другого, —
влюбленный субъект и очень образованная женщина, которую он
любит. Чтобы «натиск всего-до-них-сказанного» не угнетал их
душевной независимости, оба партнера должны обмениваться
фрагментами этого застарелого, даже заскорузлого цитатного
фонда, не боясь, что их чувства будут выражаться сомнительной по
эстетическому качеству фразой; называя в «сноске» имя ее
автора — или, вернее, одного из авторов, ибо речь идет о фразе
банально-ничейной, — они умудряются ее освежить. Их диалог идет не
с цитатой, а по поводу цитаты, сам «автор» цитаты из него удален
на абсолютную дистанцию ссылки (буквально «сослан»!), а
цитатные слова, которыми они перебрасываются в игре, оторваны от
всякой привязи к этому «автору»; таким образом, поставить
кавычки—в сущности, то же самое, что снять их, обозначить цитату —
то же самое, что сделать ее не-цитатой. В ходе такого
стремительного обмена уже кем-то сказанное слово перестает порабощать,
оно предстает то своим, то чужим, то истинным, то ложным, то
живым, то мертвым. В этой совместной творческой деятельности
адресанта и адресата не только чужое слово, но и сам субъект
коммуникации непрестанно меняется и осознает себя именно в
процессе такой перемены; как писал Монтень, «я тогдашний и я
теперешний — совершенно разные люди»20.
«Страх цитации» обусловлен одиночеством дискурса, когда
говорящий или пишущий ощущает себя один на один со
сплошной, подавляющей массой языкового наследия. Внутренней,
имманентно-семиотической артикуляции этого наследия
(разделенного на тексты, языки, культурные формации и т.д., каковые
можно различать, филологически исследовать) еще недостаточно,
чтобы преодолеть «тошнотворную непрерывность языка»; носите-
19 Умберто Эко, Имя розы, СПб., Симпозиум, 1999, с. 636—637. Перевод
Е. Косткжович.
20 Мишель де Монтень, Опыты, кн. III, СПб., Кристалл — Респекс, 1998,
с. 237—238. Перевод A.C. Бобовича.
Неуютность цитаты
161
л ем дискретности, превращающей «дурные» цитаты в «хорошие»,
является лишь интерсубъективное отношение актуального
диалога, дистантное отношение говорящего и слушающего. Поэтому
необходимо найти вне себя самого некоего авторитетного и живо
присутствующего другого — партнера в диалоге, который своим
сочувственным участием в работе-игре словесного творчества
внесет дискретную артикуляцию в пространство коммуникации и
рассеет наваждение Другого, демонического хозяина дурных цитат.
Насколько реальна такая перспектива? Она, разумеется,
осуществима в уникальном событии личностного общения (ср.
пример Эко с уникальной ситуацией любовных отношений); но
может ли дать для нее прочную основу та или иная общая парадигма
художественного творчества — скажем, «постмодернистская»?
Здесь возникают два труднопреодолимых препятствия, и Ролан
Барт справедливо подчеркивал утопически-мечтательный характер
чаемого им Текста. Во-первых, никакая творческая система не
способна в действительности обеспечить писателю такого
читателя, который был бы связан с ним общностью аффективных
переживаний (как партнер по любовным отношениям из примера Эко
или как «читатели-влюбленные», к которым в другой своей книге
1970-х годов обращался Барт) и в то же время обладал бы высокой
культурной компетенцией, способностью адекватно опознавать
цитаты и цитатные интенции пишущего (подобно тому как «очень
образованная женщина», слушая речи влюбленного мужчины,
«понимает, что он понимает» их вторичность). Во-вторых,
постмодернистский метод цитации рассчитан главным образом на
цитаты ничейно-расплывчатые, континуально растворенные в языке,
тяготеющие к серийно-клишированным общим местам;
закономерно, что в «постмодернистской любви» Эко источником цитат
служит культура китча, массовые романы популярной итальянской
писательницы. Остается невыясненным, как при этом
обращаться с цитатами «классическими», уникально-дискретными, авторы
которых имели в виду не повторение банальностей, а добычу
новой истины; таковы, например, цитаты, с которыми имел дело
Монтень. Парадоксальным образом, стремясь выработать
противоядие от заполняющих пространство культуры анонимных
«дурных» цитат, современная и постсовременная эстетика оставляет в
небрежении цитаты изначально «хорошие»,
ответственно-авторские, и отношение к ним образует ее «слепое пятно», нерешенную
проблему.
2001
МИФ, ИМЯ И РАССКАЗ
Как и некоторые другие объекты культуры («литература» и
«культура» в целом), мифология, по-видимому, обладает
кумулятивным устройством: ее новые интерпретации, включая научные
теории, интегрируются в нее, делаются сами ее составной частью.
Дело в том, что миф в западной культуре — понятие
«изобретенное», без непосредственно данного референта, начиная с глубокой
древности оно конструируется извне, глазами не-мифологической,
«рационалистической» культуры: соответственно все
высказывания этой культуры о мифологии обогащают свой собственный
предмет и заслуживают рассмотрения вместе с ним1. Для нашей
культуры миф — «свое иное», в ней практически отсутствуют
тексты, которые сами заявляли бы о себе «я — миф». Миф доходит до
нас косвенными, опосредованными путями, порой в неузнаваемом
виде — либо через коннотативные сообщения (например, по
модели, описанной Р. Бартом в его книге «Мифологии»), либо через
метаязыковую интерпретацию и рефлексию, включая
реконструкцию и научную публикацию памятников архаических культур
(ритуалов, текстов). Обе эти формы восприятия мифа равно реальны
и перспективны как объекты изучения.
В данной статье я попытаюсь рассмотреть только один из
аспектов мифа — его функцию в повествовательных текстах,
обращаясь не столько к материалу архаических «мифических
представлений» и «мифопоэтических текстов», сколько к
научно-теоретическим концепциям последних двух столетий. Как я надеюсь
показать, они способны сказать нам о мифе больше, чем мы
читали в них до сих пор. Такой метод исследования сближается с
герменевтикой, углубленным толкованием научных текстов,
посвященных теории мифа.
Отправной точкой послужат две статьи Ю.М. Лотмана,
опубликованные в Тарту в одном и том же 1973 году (одна — в шестом
томе «Трудов по знаковым системам», другая — во втором
выпуске лотмановских «Статей по типологии культуры») и с разных
сторон затрагивающие проблему мифа.
В статье «Миф — имя — культура» (название которой
частично повторено в заголовке настоящей работы) утверждается кон-
1 См.: Marcel Détienne, L'Invention de la mythologie, P., Gallimard, 1981.
Миф, имя и рассказ
163
ституирующая роль имени собственного для мифологического
сознания. Такое сознание оперирует одноранговыми, не расчлени-
мыми на признаки и однократными объектами, которые не
допускают логической, концептуальной классификации:
...логическому понятию класса (множества некоторых объектов) в
мифе соответствует представление о многих, с внемифологической
точки зрения, предметах как об одном2.
Отсюда делается вывод:
В рисуемом таким образом мифологическом мире имеет место
достаточно специфический тип семиозиса, который сводится в общем
к процессу номинации: знак в мифологическом сознании аналогичен
собственному имени3.
И в качестве еще более общего вывода:
Итак, миф и имя непосредственно связаны по своей природе.
В известном смысле они взаимоопределяемы, одно сводится к
другому: миф — персонален (номинационен), имя — мифологично4.
Во второй статье, «Происхождение сюжета в типологическом
освещении», вопрос о мифе и имени ставится иначе. Миф
характеризуется как циклический текст без начала и конца, одним из
важнейших законов которого «является тенденция к
безусловному отождествлению различных персонажей <...>. Упоминаемые на
разных уровнях циклического мифологического устройства
персонажи и предметы суть различные собственные имена одного»5.
В дальнейшем такой мифологический, циклически-временной
механизм порождения текстов исчезает; «персонажи различных слоев
[текста перестают] восприниматься как разнообразные имена
одного лица и [распадаются] на множество фигур»6.
В обеих статьях признается сущностная связь мифа с именем
собственным; во второй из них она не объясняется, а просто
декларируется как нечто очевидное — в самом деле, Лотман
характеризует персонажей и предметы мифологического текста как
«различные собственные имена одного», даже не рассматривая
2 Ю.М. Лотман, Избранные статьи, т. 1, Таллин, Александра, 1992, с. 59.
3 Там же, с. 60.
4 Там же, с. 62.
5 Там же, с. 225.
6 Там же, с. 226.
164
Институты и тексты
возможность рассматривать их как имена нарицательные.
Формулировки двух статей не противоречат прямо друг другу и лишь
разнятся по внешней форме: в статье «Миф — имя — культура» миф
характеризуется тем, что в нем у разных объектов (или персонажей)
одинаковые имена, а в «Происхождении сюжета...» — тем, что в нем
у одного и того же объекта (или персонажа) разные имена. В первом
случае мифу как бы приписывается омонимия, во втором —
синонимия7. Однако по сути как раз здесь эта понятийная оппозиция
нейтрализуется: в мифическом тексте эквивалентны не имена
персонажей, а сами персонажи, различие по природе между объектом
и его именем исчезает, а поэтому одноименность объектов
(персонажей) больше не отличается от их многоименности.
Эти две разные формы представления проблемы можно
объяснить просто тем, что в первой из двух статей у Ю.М. Лотмана
имелся соавтор — Б.А. Успенский, который и в некоторых других
своих работах возвращается к характеристике культур, трактующих
имя собственное как однозначно связанное с обозначаемым
объектом и потому не допускающих синонимии8. Есть и более далекие
теоретические предшественники — например (если брать только
авторов заведомо известных Лотману), для «омонимической»
концепции мифа это К. Леви-Стросс, а для «синонимической»
М. Элиаде. Еще важнее, что у двух сопоставляемых работ
различная тема: если статья «Миф — имя — культура» описывает
мифологическое мышление и сознательно отвлекается от нарративных и
вообще текстуальных аспектов мифа9, то «Происхождение
сюжета...», напротив, посвящено именно гипотетическому генезису
повествования как формы наследующей мифу, хотя и структурно
отличной от него10. Для исследования этих двух объектов
используется одно и то же понятие — имя собственное.
7 Категории омонимии и синонимии используются в статье «Миф — имя —
культура»; в ней с помощью этих категорий проводится оппозиция между
«мифологией» и «поэзией»: «Если поэзия связана с синонимией, то мифология
реализуется в противоположном явлении языка — омонимии» {там же, с. 73).
8 Ср., например, в статье «Раскол и культурный конфликт XVII века»
(1992): «В самом деле, именно собственные имена характеризуются
непосредственной и однозначной связью обозначения и обозначаемого: изменение в
форме имени связывается обычно с другим денотатом (содержанием), т.е.
измененная форма естественно понимается как другое имя» (Б.А. Успенский,
Избранные труды, т. 1, М., Гнозис, 1994, с. 340).
9 «Во избежание возможных недоразумений следует подчеркнуть, что в
настоящей работе нас не будет специально интересовать вопрос о мифе как
специфическом повествовательном тексте и, следовательно, о структуре
мифологических сюжетов...» (Ю.М. Лотман, цит. соч., с. 59).
10 Слово «сюжет» употребляется Лотманом в специфически русском
значении термина, связывающем его именно со структурой повествовательных
Миф, имя и рассказ
165
В лингвистике и семиотике обычно считается, что имя
собственное обладает денотатом, но в принципе лишено смысла: это
семантически пустая метка, отличающая предмет (человека, бога,
животное, место и т.д.) от других, но не описывающая и не
классифицирующая его, ничего не говорящая о его природе. Это
негативное определение, в нем имя собственное характеризуется
некоторой нехваткой. Другое дело, что в реальных языках разные
имена собственные неодинаково наделены свойством «быть
именем собственным»:
Так, Иван является в большей степени СИ [собственным
именем], чем Иванушка или Иван Иванович, поскольку два последних
имени более мотивированы и богаты значением в силу
содержащейся в них дополнительной информации11.
Также и структуральная антропология приходит к выводу о
том, что в «первобытных» обществах при присвоении собственных
имен «означивание происходит всегда, делается ли оно другими
или нами самими»12; то есть имена собственные все же
выполняют классифицирующую функцию, просто при этом образуются
классы особого рода, не сводимые к логическим понятиям. Отзвук
этой идеи Леви-Стросса, очевидно, как раз и содержится в
замечании Лотмана и Успенского о том, что «логическому понятию
класса <...> в мифе соответствует представление о многих <...>
предметах как об одном».
В философии имя собственное традиционно трактуется
несколько иначе, через позитивное понятие идентичности. Если
оставить в стороне религиозно-философские традиции, такие как
имяславие (впрочем, Лотман знал творчество такого его
последователя, как П.А. Флоренский), идея связи имени с сущностью
предмета была важна для романтической и неокантианской
философии мифа, в которой имя трактуется как знак сверхбогатый
смыслом — не рациональным смыслом логических дескрипций, а
интуитивно переживаемым смыслом уникального и целостного
существа, вся сущность которого в свернутом виде содержится в
имени. Соответственно смена имени — не знаковый, а онтоло-
текстов, тогда как, скажем, в английском и французском языке
соответствующие слова subject, sujet означают вообще «тему» любого, не обязательно
повествовательного текста или визуального изображения. См. ниже статью
«Русская реалистическая нарратология XX века (К истории понятия "сюжет")».
11 В.Н. Топоров, «Из области теоретической топономастики», Вопросы
языкознания, 1962, № 6, с. 8.
12 Клод Леви-Ctpocc, Первобытное мышление, М., Республика, 1994, с. 257.
Перевод А. Б. Островского.
166
Институты и тексты
гический акт, не метафора, а метаморфоза. Процитируем Э. Кас-
сирера, который упоминается в статье Ю.М. Лотмана и З.Г. Минц
«Литература и мифология» (1981) и который сам, в свою очередь,
опирался на Шеллинга с его концепцией «тавтегоричности» (а не
аллегоричности) мифа:
Оформленное слово само является в себе ограниченным
индивидуальным — и потому ему подчинена определенная область бытия,
своего рода индивидуальная сфера, и над ней оно безраздельно
властвует. В особенности имя собственное оказывается связанным
таинственными узами со своеобразием существа. И в нас продолжает во
многих случаях действовать эта своеобразная робость перед именем
собственным — ощущение, будто оно не просто соединено с
человеком внешне, а каким-то образом является его «принадлежностью»
<...> для изначального мифологического мышления имя даже <...>
выражает внутреннюю, существенную сторону человека, оно прямо-
таки и «есть» эта внутренняя сторона. Имя и личность сливаются здесь
воедино13.
В статье «Миф — имя — культура» Лотман и Успенский хотя
и ссылаются на лингвистическую концепцию имени
собственного (цитируя P.O. Якобсона)14, но на деле сближаются с
философской концепцией. Об этом свидетельствует не только ряд
приводимых ими примеров сакрализации (табуирования, ритуальной
смены и т.д.) имен в истории культуры, когда делается ощутимой
связь имени с сущностью, но также и предлагаемая ими
оппозиция «имя собственное — местоимение»15. Как представляется, эта
оппозиция опирается не на собственно языковую основу. В самом
деле, с точки зрения языка обе категории слов — имя собственное
и местоимение — скорее сходны своей понятийной пустотой; они
образуют значение не семантическим (классификационным), а
либо реляционным, либо чисто дейктическим способом.
Расхождение между ними начинается лишь с того момента, когда мы
обращаем внимание не только на семантику, но и на референцию
слов, то есть выходим за рамки языка.
13 Эрнст Кассирер, Философия символических форм, т. 2, М. — СПб.,
Университетская книга, 2002, с. 54—55. Перевод С.А. Ромашко.
14 Сам Якобсон, в свою очередь, цитирует «Логику» Дж.С. Милля, но
делает из нее не философские, а собственно лингвистические выводы,
рассуждая не о мышлении, а о языке.
15 «Тогда перед нами предстанет естественный язык как некоторая
синхронно организованная структура, на семантически противоположных
полюсах которой располагаются имена собственные <...> и местоимения,
представляющие естественную основу для развития мифогенных моделей, с одной
стороны, и метаязыковых, с другой» (Ю.М. Лотман, цит. изд., с. 73—74).
Миф, имя и рассказ
167
В статье «Происхождение сюжета...» термин «имя
собственное» тоже толкуется через понятие идентичности: по словам Лот-
мана, различные «персонажи и предметы суть различные
собственные имена одного». Собственно, сам термин «собственное имя»
встречается здесь лишь однажды и скорее в переносном значении,
а несколько лет спустя, частично пересказывая теоретические
положения своей прежней работы в уже упомянутой статье
«Литература и мифология», Лотман заменил его более традиционным
теологическим понятием «ипостась»: при трансформации
циклического мифа в линейное повествование «ипостаси Единого
персонажа, расположенные на разных уровнях мировой организации,
стали восприниматься как различные образы»16.
Такое плавное скольжение от лингвистики и семиотики к
философии, а то и теологии объясняется общей для всех этих наук
интуицией: как в лингвистической, так и в философской традиции
имя собственное наделяется аномальной плотностью по сравнению
с другими элементами дискурса. Просто эта аномалия
направлена в противоположные стороны: в рамках
структурально-семиотической концепции имя собственное содержит слишком мало
смысла, заменяя его непосредственной реальностью денотируемого
предмета, а в рамках спекулятивной концепции оно имеет
слишком много смысла, концентрирует в себе сущностную полноту
предмета, вместо того чтобы рассеивать его во внешних аналитических
дескрипциях. Это можно переформулировать так: лишенное
внутриязыкового смысла, имя собственное зато вбирает (может
вбирать) в себя смысл внеязыковой, ощущаемый непосредственно в
вещах и субъектах. Благодаря этим качествам имя собственное
плохо помещается в рамках языка как знаковой системы, плохо
опознается как ее стандартный элемент; мы натыкаемся на него в
речи как на чужеродное, не вполне лингвистическое образование —
отсюда хорошо известная непереводимость имен собственных с
одного языка на другой и вообще специфическая трудность
понимания текста — например, беседы даже на хорошо знакомом
языке, — где упоминаются неизвестные нам имена.
Заметим, что сходной инородностью и непрозрачностью
характеризуется и статус мифа в новой культуре — не только «мифа
вообще», «мифологии» как одного из начал культуры (об этом уже
было сказано выше), но и каждого конкретного мифа,
функционирующего в немифологическом понятийно-дискурсивном
окружении. Такая дискурсивная инородность мифа еще во второй
половине XIX века дала повод для знаменитого тезиса Макса
Мюллера о мифе как «болезни языка»:
16 Ю.М. Лотман, История и типология русской культуры, СПб.,
Искусство - СПб., 2002, с. 731.
168
Институты и тексты
Мифология, это бедствие античности, на самом деле
представляет собой болезнь языка. Миф — это слово, но такое слово, которое
первоначально было просто именем или атрибутом, а затем ему дали
приобрести какое-то более субстанциальное существование.
Большинство греческих, римских, индийских и прочих божеств суть
просто поэтические имена, которым постепенно дали приобрести
характер божественных лиц, совершенно отсутствовавший в мысли их
первоизобретателей17.
В рассуждении М. Мюллера не говорится прямо об имени
собственном, однако логика этого рассуждения и приводимые далее
примеры с необходимостью заставляют вспомнить о нем: Эос —
первоначальное имя утренней зари, Зевс — изначально «сияющее
небо», Фатум по-латыни значит просто «реченное» и т.д.18
Эволюционистская концепция М. Мюллера, согласно которой
язык первоначально, в сознании своих «первоизобретателей»
состоял из прозрачных понятий и лишь с течением времени
затемнился, наполнившись мифологическими именами собственными,
носила умозрительно-гипотетический характер и сегодня уже не
разделяется никем из серьезных ученых. Однако сохраняет
ценность содержащаяся в ней интуиция референциальной
неоднородности языка: имена-мифы выделяются сгустками материи в
прозрачном пространстве языковой семантики19.
Эту интуицию можно применить не только к диахронному, но
и к синхронному измерению языка, перенеся ее из большого
времени эволюции языка в актуальное время развертывания текста —
прежде всего текста нарративного. Действительно, для
повествования проблема референции стоит острее, чем для какого-либо
иного типа текстов, — недаром именно в отношении
повествовательной литературы гораздо чаще, чем в отношении лирики или
драмы, возникает вопрос о ее правдивости/ложности/фикцио-
нальности. На деле этот вопрос всегда сводится к реальному или
17 Мах Müller, La science du langage (Cours professé à l'Institution royale de la
Grande-Bretagne), P., Auguste Durand, 1864, p. 11—12.
18 Ibid. Соответственно и M. Детьен, комментируя этот пассаж из
Мюллера, естественно заводит речь об именах собственных: «Как только искажается
изначальный смысл имен <...> появляются мифические существа: имена
природных сил превращаются в имена собственные» (Marcel Détienne, op. cit.,
p. 30).
19 Морис Хальбвакс указывал в 1925 году, что имена собственные в речи
служат особо важным элементом, обеспечивающим трансляцию социальной
памяти: эти имена передаются из поколения в поколение, от мертвых к живым.
См.: Морис Хальбвакс, Социальные рамки памяти, М., Новое издательство,
2007, с. 205-208.
Миф, имя и рассказ
169
вымышленному характеру конкретных объектов, событий и
особенно лиц. Автор лирического стихотворения может построить
целый мир, опираясь всего на два личностных денотата,
непосредственно данных в акте речи и получающих от него свою
бесспорную реальность, — «я» и «ты» (бывает даже достаточно только
первого); в повествовании же, предмет которого по определению
отделен отчетливой дистанцией от акта речи, с необходимостью
фигурируют какие-то несамоочевидные лица — «Ахиллес, Пелеев
сын», «Андрей Болконский» или «госпожа Бовари», — о реальном
или вымышленном статусе которых можно вести (и нередко ведут)
сложные дискуссии20. Повествовательный текст обязательно
содержит отсылки к чужому, более или менее удаленному от нас в
пространстве и времени миру; их нельзя объяснить из ближнего
контекста речевой ситуации, дейктическими указаниями на предметы
и участников коммуникации; поэтому нарративный текст по
природе своей нуждается в именах собственных или каких-то их
суррогатах, которые в силу своей семантической непрозрачности
предстают в нем как вкрапления, не усваиваемые структурой и в
этом отношении аналогичные мифам.
Лотман стремился строить свою теорию мифа и выросшего из
него повествования («сюжета») в структурально-семиотических
категориях, обращая преимущественное внимание на
внутриязыковые факты семантики и синтактики; конкретно речь шла об
эквивалентности некоторых языковых знаков, обозначающих
персонажей, события и т.д. и размещенных на линейной оси
нарративного текста, — в духе концепции P.O. Якобсона о поэтической
функции как «проецировании принципа эквивалентности с оси
селекции на ось комбинации». Другая гипотеза, лежавшая в иной
концептуальной плоскости — в области внеязыковой
референции — и присутствующая в мимоходом брошенной
метафорической фразе Лотмана о мифологических персонажах и предметах как
«различных собственных именах одного», не получила развития.
Она, видимо, и не могла его получить, так как побуждала
анализировать повествовательный текст в онтологических, чуть ли не
теологических терминах вроде «ипостаси», которые были
приемлемы для Лотмана только как элементы языка-объекта, но не
научного метаязыка. Она могла бы послужить связующим звеном
20 Такие дискуссии встречаются и при интерпретации лирической поэзии
(обращено ли такое-то стихотворение к реальной или воображаемой, условно-
обобщенной возлюбленной?), но в них можно усмотреть стадиально позднее
влияние нарративной, особенно романной прозы, заставляющей даже лирику
читать как фрагменты романа.
170
Институты и тексты
между теорией мифологического мышления, предложенной в
статье «Миф — имя — культура», и теорией повествования,
намеченной в статье «Происхождение сюжета...», обеспечивая
координацию трех понятий — мифа, имени и рассказа. Но она выходила за
эпистемологические рамки структуральной семиотики и не могла
быть в ней развита, оставшись в виде однажды высказанной
интуиции гениального ученого.
В книге «Культура и взрыв» (1992) Лотман вновь вернулся к
проблеме имен собственных и коснулся их соотношения с
повествованием:
Художественный текст в принципе исходит из возможности
усложнения отношения между первым и третьим лицом, т.е. между
тяготением к пространству собственных имен и объективным
повествованием от третьего лица21.
Здесь «имя собственное», как и в обеих статьях 1973 года,
служит метафорой, речь идет не о реальном употреблении
собственных имен, а об ориентации текста на модель имен собственных
(отсылающих к уникальным, неконцептуализируемым объектам)
или же имен нарицательных (отсылающих к общим понятиям)22.
Первая модель реализуется в речи «от первого лица» (лирике?),
когда говорящий субъект вовлечен в описываемую ситуацию и
видит в ее участниках таких же уникальных лиц, как и в самом
себе; вторая осуществляется в «объективном повествовании от
третьего лица» (то есть не во всякой речи, а именно в
повествовании), персонажи которого представляют собой дистанцированные,
а потому обобщенные, типизированные фигуры. Повествование и
имена собственные оказываются здесь взаимодополнительными,
о чем говорит приводимый Лотманом пример со сновидением: в
нем «категории говорения переносятся в пространство зрения»23.
Образы сна вовлекаются в механизм языковой обработки24, объек-
21 Ю.М. Лотман, Культура и взрыв, М., Гнозис, 1992, с. 60.
22 Таким образом, оппозиция «имя собственное / местоимение»,
предложенная в статье «Миф — имя — культура», заменена здесь более традиционным
грамматическим различением двух видов имен существительных.
23 Там же.
24 Текст Лотмана, как в ряде других мест этой поздней книги, не до конца
обработан и содержит не вполне согласующиеся друг с другом формулировки:
«категории говорения переносятся в пространство зрения» и тут же ниже,
наоборот, «перенесение сферы сновидений в часть сознания». Не делая между
ними выбора, можно считать, что имеется в виду просто соединение «зрения»
и «говорения», при котором неважно, какое из этих начал является
первичным, — главное, что уникальность зримых образов уравновешивается
абстрактностью языковых трансформаций.
Миф, имя и рассказ
171
ты, изначально образующие уникально-личностное «пространство
собственных имен», трансформируются и варьируются словно
элементы абстрактно-языкового мира; а при последующем
рассказывании сна эта абстракция еще усиливается: «Опыт, извлеченный из
сновидений, подвергается такой же трансформации, которую мы
совершаем, когда рассказываем сны»25. В принципе отсюда
можно было вернуться к идее референциальной неоднородности
повествовательного текста — рассказа о сновидении, который
связывает элементы повышенной аффективной насыщенности, то есть
собственно онейрические образы,
обобщенно-повествовательными категориями и операциями26. Однако в «Культуре и взрыве»
Лотман не стал этого делать: он решал другие задачи, описывал не
устройство текста, а фило- и онтогенез человеческого сознания и
культуры.
Из этого анализа нескольких высказываний Лотмана можно
сделать вывод, что идея референциальной неоднородности текста
может служить важным (хотя не исключительным) инструментом
для понимания того, как меняются функции мифопоэтических
элементов в повествовательных текстах, вырабатываемых
«дескриптивной», не мифологической культурой; а, как уже было
сказано выше, только такую не-мифологическую культуру мы и знаем
на собственном опыте.
Придавая повествовательному тексту референциальную
неоднородность, миф сообщает повышенную функциональную на-
груженность именам собственным (божественным именам,
антропонимам, топонимам и т.д.) в традиционных мифопоэтических
нарративах — эпических поэмах, житиях, легендах — и, обратно,
делает такие имена необязательными в повествованиях не-мифо-
поэтического типа, где они имеют тенденцию либо вовсе исчезать
(в баснях, exempla, фаблио), либо семантизироваться, становясь
прозрачными, легко опознаваемыми знаками аллегорического
(например, в литературной сказке) или социально-типологического
характера (в новоевропейской новеллистике и реалистическом
романе)27. Еще раз следует оговориться, что сама по себе эта
тенденция не может служить решающим критерием для отнесения
текста к не-мифопоэтическому типу. Так, неоднозначный по
25 Там же, с. 61.
26 Лотман перечисляет некоторые из них: «условное и нереальное
повествование», «смена точек зрения» {там же, с. 60).
27 О семантизации (в том числе коннотативной) имен собственных в ран-
неновоевропейском романе см.: Ian Watt, «Réalisme et forme romanesque» [глава
из книги: Ian Watt, The Rise of the Novel, London, Chatto and Wmdus, 1957, во
французском переводе], dans Roland Barthes, Leo Bersani, Philippe Hamon,
Michael Riftaterre, Ian Watt, Littérature et réalité, P., Seuil, 1982, p. 24—27.
172
Институты и тексты
природе объект образуют тексты хроникального типа (летописи,
мемуары) и художественные повествования, ориентированные на
исторический дискурс (тот же реалистический роман
постромантической эпохи): в них присутствие «реальных», несемантизируе-
мых имен собственных может не иметь никакого отношения к
мифу, и связь с последним определяется по другим признакам,
таким как своеобразная структура нарративного пространства и
времени28. Майкл Риффатер в свое время поставил остроумный
эксперимент: в одном из фрагментов романа Золя «Разгром»,
рисующем стратегическую картину сражения при Седане (1870) и
обильно насыщенном географическими названиями, заменил
реальные арденнские топонимы совсем посторонними, взятыми из
другого департамента Франции. При этом «такое нарушение
референции к реальности не подвергло угрозе мимесис реальности»29:
описание действительного исторического события, будучи
помещено в чисто условные географические декорации, ничуть не
потеряло в коннотативной, иллюзионистской убедительности. Но,
конечно же, такой опыт мог удаться лишь постольку, поскольку
его материалом служил «документальный» реалистический роман,
а не какое-либо мифопоэтическое повествование, где действует
референциальная эквивалентность и, в частности, некоторые
места в пространстве могут оказываться тождественны друг другу (по
модели «Москва — третий Рим»).
В культуре раннего Нового времени типичной функцией мифа
стало образовывать репертуар всем знакомых повествовательных
историй-«фабул», обычно обозначаемых именами действующих
лиц. Так, бесчисленные произведения классицистической
живописи и скульптуры опознаются и «читаются», после того как мы
угадаем (или прочтем в подписи под ними) имя их главного
персонажа; сходным образом функционируют мифологические
аллюзии в неповествовательных текстах (например, лирике), где
упоминания одного лишь мифологического имени достаточно, чтобы
воскресить в памяти читателя всю, подчас довольно сложную,
фабулу. Эта традиция существует и ныне, причем не только в
литературе, но и в иных областях культуры — ср. термины типа
«эдипов комплекс» в психоанализе. В этой традиции связь имени
собственного с повествованием поддерживается лишь внешне, ценой
ослабления референциальной ценности имени: мифологические
персонажи утрачивают реальное существование, и их имена
становятся прозрачными знаками некоторых условных историй.
28 См.: В.Н. Топоров, «О космологических источниках раннеисторических
описаний», в кн.: Ученые записки ТГУ, вып. 308, Труды по знаковым системам
6, Тарту, 1973, с. 106-150.
29 Michael Riffaterre, La production du texte, P., Seuil, 1979, p. 26—27.
Миф, имя и рассказ
173
Начиная с рубежа XVIII—XIX веков выдвинутый
романтиками лозунг создания новой мифологии30 в своем практическом
осуществлении привел к сближению мифа с символом, то есть к тому,
что в структуре мифа стали видеть преимущественно
семантическое, а не синтаксическое измерение. Лишенные развернутой
синтагматической разработки, новые мифы эпохи модерна
оказываются малоповествовательными, а соответственно с этим и имена их
героев, порой очень аффективно действенные, утрачивают связь с
общезначимыми нарративами о возникновении, развитии и
грядущей судьбе мира, народа, общества. Суггестивная сила,
признаваемая за именами собственными в модернистской поэзии31 и
делающая столь увлекательным занятием их разгадывание и
комментирование, в то же время уничтожает всякую возможность
связного, последовательного повествования, в которое они бы
включались; референциальная неоднородность текста становится
несовместимой с нарративностью. Хенрик Баран пишет о таком
употреблении имен у Хлебникова:
...мы сталкиваемся с авторской установкой на поэтику имен и vol
разгадку <...>. Топонимы, имена современников, исторических деятелей,
литературных персонажей и божеств не только завораживают своей
звуковой экзотикой и намеком на семантическую глубину, но и
обусловливают целый ряд гетерогенных по происхождению сюжетных
мотивов, связи между которыми отличаются максимальной свободой
и кажущейся непредсказуемостью32.
Здесь названы характерные черты модернистского применения
имен: смешение имен профанных и сакральных («современников»
и «божеств»), иллюзионистский эффект «семантической глубины»
(на которую текст дает лишь «намеки», редко кем разгадываемые),
наконец, «гетерогенность» связанных с ними «сюжетных мотивов».
Малоповествовательные мифы, уже в литературе конца XIX
века сведенные к суггестивным и гетерогенным именам-символам,
вульгаризируются при имитации мифа в массовой культурной
продукции наших дней33. Типичным примером таких измельчав-
30 См.: Жан Старобинский, «"Мифы" и "мифология" в XVII—XVIII веках»,
в кн.: Жан Старобинский, Поэзия и знание: История литературы и культуры,
т. 1, М., Языки славянской культуры, 2002, с. 85—109.
31 «...Употребление имен собственных, которые в романтической мифологии
обладают метафизическими коннотациями» (Michael Riffaterre, op. cit., p. 18).
32 Хенрик Баран, О Хлебникове. Контексты, источники, мифы, М., РГГУ,
2002, с. 107.
33 Подробнее этот процесс рассмотрен в двух моих статьях: S. Zenkine, «Le
mythe décadent et la narrativité», dans Mythes de la décadence, sous la direction d'Alain
174
Институты и тексты
ших мифов могут служить коммерческие бренды, названия
которых по идее должны занимать в общественном сознании место,
некогда принадлежавшее именам языческих божеств и святых
угодников, воплощать в себе источник некоей
сакрально-благодетельной силы34. С другой стороны, реакцией на этот распад
солидарности между мифом, именем и рассказом можно считать
попытки некоторых писателей (например, авторов французского
«нового романа») радикально очистить роман от героев и
повествования; в этом смысле Ролан Барт не раз высказывал мысль, что
современный роман следовало бы писать без «истории» и без имен
персонажей — характерна связка этих двух независимых, казалось
бы, элементов повествования.
Наперекор девальвации мифа идут «мифологические
романы» XX века. Сами по себе имена собственные не обязательно
получают в них повышенную нагрузку, такое свойственно скорее
иному, «реалистическому» типу повествования: можно
напомнить, например, об исключительном внимании таких
романистов, как Флобер или Пруст, к именам героев и названиям мест,
которые представлялись им, в соответствии с логикой
мифологического сознания, заключающими в себе все содержание
личности героя и связанной с ним истории. Зато в «мифологических
романах» XX века нетривиальным образом действует отмеченная
Лотманом референциальная эквивалентность. Здесь не просто
разные имена означают одного человека — это случай банальный
и не имеющий отношения к мифу; если героиня «Парижских
тайн» Эжена Сю по ходу своей запутанной истории меняет пять
имен и прозвищ, ни одно из которых не является ее подлинным
именем, данным при рождении, то это не придает данному
роману какого-либо мифопоэтического качества. В «мифологических
романах» происходит не чисто номинационный, но
онтологический процесс: разные персонажи, предметы, события вступают в
процесс «вечного возвращения», начинают знаменовать друг
друга, отождествляться друг с другом не в синтагматике текста,
но в сфере его референции. У Джойса не Улисс и Леопольд Блум
служат разными именами одного и того же лица, а два разных
лица — легендарный греческий герой и ирландский рекламный
Montandon, Clermont-Ferrand, Presses Universitaires Biaise Pascal, 2001, p. 11—22;
S. Zenkine, «Mythes modernes, mythes anonymes» (выступление по телемосту из
Москвы на конференции в Нантском университете, апрель 2005 года; не
опубликовано).
34 Жан Бодрийяр называл подобное функционирование брендов и
рекламных текстов «логикой Деда Мороза» (Жан Бодрийяр, Система вещей, М., Рудо-
мино, 1999, с. 179 след.).
Миф, имя и рассказ
175
агент XX века — оказываются ипостасями одной и той же
мифической фигуры. В «Иосифе и его братьях» несколько слуг рода
Авраамова, по сюжету принадлежащих к разным поколениям,
носят одно и то же имя Елиезер — может показаться, что это
обычная языковая омонимия; но для романа Томаса Манна
важнее другой процесс, разворачивающийся на уровне
референции, — действительное отождествление этих лиц между собой,
вводящее их в процесс «вечного возвращения»35. Такого рода
повествовательные феномены были проанализированы в последней
части монографии Е.М. Мелетинского «Поэтика мифа» (1976),
отмечавшего в числе черт мифологизма XX века «бесконечное
повторение и дублирование героев в пространстве (двойники) и
особенно во времени (герои вечно живут, умирают и воскресают
или воплощаются в новых существах)»36.
Это референциально-онтологическое тождество одно- или
разноименных лиц можно еще раз истолковать методами
философии имени, только уже не «континентальной», а аналитической.
Один из ее представителей Сол Крипке определяет имя
собственное как жесткий десигнатор, который «во всех возможных мирах
обозначает один и тот же объект»37. Жесткий десигнатор
указывает на неотъемлемую самотождественность объекта, сохраняемую
им при варьировании любых других его атрибутов, в любых
«историях», где он мог бы участвовать: в самом деле, можно
представить себе, что Пушкин почему-то не написал бы «Евгения
Онегина», но абсурдно воображать, чтобы Пушкин не был Пушкиным.
В такой интерпретации имя — это орудие не семантики, а «прямой
референции», не опосредуемой никакими описаниями (дескрип-
35 Отдельную проблему составляет соотношение между этим феноменом
«вечного возвращения» и конституированием имени автора текста. На их связь
указывает Жак Деррида, комментируя «Ессе Homo» Ницше (который, как
известно, как раз и утверждал в философии идею «вечного возвращения»): «И так
как "я" этого рассказа адресует, предназначает себя только в кредит вечному
возвращению, оно не существует, оно не подписывает, оно не достигается до
рассказа как вечного возвращения. До тех пор, до настоящего, я, живой, быть
может, — один предрассудок. Подписывает — или скрепляет — вечное
возвращение» (Жак Деррида, Ухобиографии: Учение Ницше и политика имени
собственного, СПб., Академический проект, 2002, с. 57. Перевод В. Лапицкого).
36 Е.М. Мелетинский, Поэтика мифа, М., Восточная литература, 2006
[ 1976], с. 290. Соображения Мелетинского, хотя и обнародованные в виде
книги спустя несколько лет после статей Лотмана 1973 года, были, по-видимому,
частью общего интеллектуального фонда Тартуской школы, идеи которого
циркулировали между ее теоретиками.
37 Saul Kripke, Naming and Necessity, Cambridge (Mass.), Harvard UP, 1980
[1972], p. 48.
176
Институты и тексты
циями); по выражению другого аналитического философа Джона
Серля, это что-то вроде «колышка, на который навешивают
дескрипции»38.
Любопытно, что Крипке упоминает и о такой ситуации,
когда в некотором возможном мире языковое имя персонажа может и
перемениться. Используя в качестве примера фигуру тогдашнего
президента США (книга Крипке впервые вышла в 1972 году), он
замечает:
...имена собственные являются жесткими десигнаторами, так как хотя
данный человек (Никсон) мог бы и не быть президентом, нельзя
сказать, чтобы он мог не быть Никсоном (хотя он мог бы не зваться
«Никсон»)39.
Иными словами, за человеком и вообще любым единичным
объектом, который может быть назван именем собственным,
признается некое «чисто логическое» имя, в принципе не
совпадающее с его языковым именем и заключающее в себе потенциал его
референциальной идентичности. Тогда на уровне языкового
выражения носителем личностного тождества служит уже не имя, а
дейктическое указание, выражаемое определенным артиклем —
38 J.R. Searle, «Proper Names», Mind 67 (1958).
39 Saul Kripke, op. cit., p. 49, курсив мой. Крипке развивает различие
между дескрипцией и номинацией, которое проводил его предшественник и
оппонент Бертран Рассел: «...Если предложение "Скотт есть сэр Вальтер" в
действительности означает "лицо по имени 'Скотт' идентично лицу по имени 'сэр
Вальтер'", то эти имена фигурируют в функции дескрипций: индивид ими не
именуется, а описывается как носитель соответствующего имени. Имена
часто так и употребляются, причем, как правило, нет никаких внешних
признаков, по которым можно было бы судить о том, в какой именно функции они
использованы. Когда имя употреблено по назначению, то есть только для
указания на предмет речи, оно не является частью ни утверждаемого нами
факта, ни лжи, если наше суждение окажется ошибочным, — оно не более чем
элемент той системы символов, которой мы пользуемся, чтобы выразить
мысль. То, что мы хотим сказать, может быть переведено на другой язык;
слово в этом случае является своеобразным "передатчиком", само по себе оно не
входит в сообщаемое в качестве его составной части. С другой стороны, когда
мы делаем сообщение о "лице по имени Скотт", имя Скотт входит в состав
утверждаемого, а не только в состав языка, который был в этом утверждении
использован. Наше суждение изменится, если мы подставим в него выражение
"лицо по имени сэр Вальтер". Но до тех, пока мы пользуемся именами как
именами, для утверждаемого смысла совершенно неважно, употребим ли мы
имя Скотт или скажем сэр Вальтер...* (Бертран Рассел, «Дескрипции» [из
книги Introduction to Mathematical Philosophy, 1920J, в кн.: Новое в зарубежной
лингвистике, 13, М., Радуга, 1982, с. 49).
Миф, имя и рассказ
177
the man, «данный человек»; на уровне же логической номинации
у объекта есть идентичность, никак не связанная с какими-либо
дескрипциями, — «данный человек» мог бы не стать президентом,
не быть американцем, вообще не родиться на свет или, родившись,
в силу каких-то причин получить другую фамилию, но во всех этих
случаях (кроме разве что случая своего полного небытия) он
оставался бы идентичным, «синонимичным» себе.
Вероятно, именно с такой референциальной идентичностью,
манифестирующейся в текстуальной эквивалентности языковых
имен, мы сталкиваемся и в неомифологических повествованиях.
В том же смысле и Лотман в «Происхождении сюжета...»
сосредоточивал внимание на явлениях парадигматической
эквивалентности, которые в языковой структуре повествования проецируются
на его синтагматику (при двойничестве персонажей и т.д.), но на
более глубоком уровне имеют место в сфере референции.
Персонажи неомифологического сюжета могут ничем не походить на
своих архаических прототипов, они могут даже носить другие
имена, и тем не менее между ними сохраняется соотношение жесткой
десигнации, причем в отсутствие какого-либо общего имени
жесткими десигнаторами начинают служит сами персонажи как рефе-
ренциальные элементы дискурса.
Аналитическая философия Крипке, которую Лотман вряд ли
мог знать в 1973 году, упомянута здесь лишь как одна из
возможных концептуализации интересующего нас феномена. Наш анализ,
по-видимому, дает возможность сделать два вывода, один из
которых относится к истории научных идей, а другой — собственно
к теории культуры:
1) в 1970-е годы теоретики Тартуской школы искали путей
корректного выхода за рамки чисто семиотического описания
текстов (в частности, повествовательных) и для этого подступались к
проблемам референции;
2) мифологическое повествование (в рационалистической
культуре, которая одна лишь и обладает формой повествования
как таковой) отличается от других повествований не только
внутренними, парадигматическими и синтагматическими
структурами, но и специфически неоднородной референциальной
структурой, где особую, выделенную роль играют имена собственные.
На языковом уровне они оказываются препятствием,
затрудняющим семиотические операции с текстом (чтение,
комментирование, перевод), а на логическом уровне служат операторами
перехода из одного «возможного мира» в другой. Миф всегда являет
нам иное — одновременно чуждое и таинственно знакомое, как в
двузначности немецкого прилагательного unheimlich, — состоя-
178
Институты и тексты
ние всего мира в целом, и в нарративном тексте его связь с
нашим привычным миром, связь между символическим и
воображаемым регистрами душевной деятельности обеспечивается, как
выразился бы Жак Лакан, «точками простежки» — именами
собственными.
2007
ГОСТЕПРИИМСТВО:
К АНТРОПОЛОГИЧЕСКОМУ
И ЛИТЕРАТУРНОМУ ОПРЕДЕЛЕНИЮ
В посмертно опубликованной «Книге гостеприимства» (1991)
Эдмона Жабеса содержится такой диалог:
— Какое определение лучше всего будет дать гостеприимству? —
спросил у учителя самый юный из учеников.
— Определение само по себе есть сужение, гостеприимство же не
терпит никаких ограничений, — отвечал учитель1.
Логику этой притчи, отсылающей к традициям еврейского
религиозного парадоксализма, нетрудно распутать. Учитель и
ученик определяют (или же отказываются определять, что тоже есть
род определения) гостеприимство один — в познавательном, а
другой — в этическом плане. В первом случае подразумевается вопрос
«какие поступки называются гостеприимством?», во втором —
«какие поступки следует совершать во имя гостеприимства?», а еще
точнее (и в этом уточнении — смысл парадокса, без которого он
был бы просто комическим абсурдом): «когда и кому следует
оказывать гостеприимство?». Учитель отвечает, что гостеприимство
следует оказывать всегда и всем, то есть утверждает абсолютный,
неограниченный характер гостеприимства как долга, но,
разумеется, не ведет речи об абсолютности понятия гостеприимства: любое
понятие носит реляционный характер и соотносится с другими
понятиями, обозначающими (в данном случае) всевозможные
формы того, что гостеприимством не является.
Абсолютный долг, выражаемый относительным понятием, —
такова антиномия гостеприимства. Потому-то определить
гостеприимство оказывается трудной задачей, а само это слово дает
почву для всевозможных метафор. Гостеприимство в своей
окончательной сути трансцендентно языку, не поддается понятийной
формулировке; в этом отношении оно принадлежит к ряду таких
фундаментальных абсолютов культуры, как Истина, Красота или
Бог. При столкновении гостеприимства с понятийным языком,
при попытке его концептуализации оно расслаивается на два
«режима», как называет их Жак Деррида: режим условных «законов
гостеприимства», которыми оно определяется, согласно желанию
1 Edmond Jabès, Le Livre de Г Hospitalité, P., Gallimard, 1991, p. 57.
180
Институты и тексты
ученика из жабесовского аполога, через понятые долга (то есть долг
превращается в понятие, делается относительным), и режим
«безусловного закона гостеприимства», то есть внепонятийного
категорического императива, «закона без закона»2.
Оттого гостеприимство представляет столь сложную проблему
для гуманитарной рефлексии: для подступа к нему требуется
каким-то образом преодолеть «барьер языка». Это можно делать
двумя путями. В первом случае материал для изучения берется из
жизни таких обществ, где практика гостеприимства менее всего
опосредована нормативным дискурсом, понятийным языком, где
она осуществляется — по крайней мере, нам так кажется —
наиболее спонтанно, вне абстрактной рефлексии: речь идет о
«первобытных» и традиционных обществах, и такой подход будет уместно
назвать антропологическим. Во втором случае за основу берется
особое использование языка, при котором его понятийное
устройство «обыгрывается», преодолевается; это художественное
творчество, и соответствующее ему понимание гостеприимства можно
считать литературным. При обоих подходах мы пытаемся,
вопреки абсолютной природе изучаемого объекта, определить его (наука
и не может поступать иначе) — но стараясь, двумя разными
способами, минимизировать давление языка-объекта на систему
исследовательского метаязыка.
Различаясь по материалу и методу, антропологический и
литературный подход к гостеприимству не вполне проницаемы
друг для друга3. Ниже будет предпринята попытка анализа этих
двух определений гостеприимства, в итоге которой, быть может,
удастся конкретнее определить принципиальную двойственность
этого явления, его несводимость к какому-либо одному
пониманию.
Выше уже упоминалось о различных метафорах, основой для
которых может служить понятие гостеприимства. Дело в том, что
само это слово имеет разные оттенки, которые могут доминировать
в той или иной национально-культурной традиции. Так,
французское слово hospitalité в истории обозначало практику приема па-
2 Anne Dufourmantelle, Jacques Derrida, De l'hospitalité, P., Calmann-Lévy,
1997, p. 77, 119. Нижеследующие размышления многим обязаны
стимулирующему действию этой небольшой книги и семинара Жака Деррида в парижской
Высшей школе общественных наук, который мне довелось отрывочно
посещать в 1990-х годах.
3 Это проявилось в ходе обсуждения материалов для «Словаря
гостеприимства» в Клермон-Ферранском университете имени Блеза Паскаля (март
2002 года). Впечатления от этого обсуждения дали первоначальный импульс
настоящим размышлениям.
Гостеприимство: к антропологическому... определению 181
ломников и беженцев, тогда как этимологически родственное
русское слово «гость» исторически обозначает купца; соответственно
развитие этой общей лексемы на французской почве породило
слова hôpital и hospice, позднее заимствованные русским через
посредство других языков — «госпиталь» и «хоспис», тогда как
собственно на русской почве возник «гостиный двор». В первом
случае «гость» рассматривается как слабый, возможно больной
человек, нуждающийся в помощи и убежище, во втором — как
состоятельный, равный или даже более богатый участник
торгового обмена. В первом случае отношения между подателем и
получателем гостеприимства носят несимметричный характер
(покровительство), во втором случае — симметричный (партнерство).
Такое же несовпадение имеет место и в негативной части
лексического поля: в обоих языках (как и в латыни) данной лексемой
могут описываться враждебные отношения (фр. les hostilités —
военные действия), но во французском при этом образуется
существительное со значением их пассивной жертвы — otage
(«заложник», ср. этимологически более ясное англ. hostage), тогда как в
русском бытует пословица «незваный гость хуже татарина»,
приравнивающая «гостя» к грозному агрессору; у Пушкина в «Сказке
о золотом петушке» слово «гость» (в смысле «врага») встречается
в явно невозможном для французского языка сочетании «злые
гости». Не стоит делать отсюда какие-либо скороспелые выводы на
избитую тему «Россия и Запад»; наши беглые наблюдения могут
быть полезны скорее в общетеоретическом плане. Более или менее
случайное различие в понимании гостеприимства двумя
конкретными национальными культурами позволяет ощутить разницу двух
основных толкований этого понятия, обозначаемых нашими
приблизительными эпитетами «литературное» и «антропологическое»
гостеприимство.
Антропологическая специфика гостеприимства делается
очевидной, если учесть его отсутствие у животных — даже у животных
общественных; гостеприимство бывает не в любом обществе, а
только в обществе, обладающем культурой. Его получатель-гость
присутствует на территории и/или в сообществе его подателей-
хозяев как «чужой» и включается в их жизнь именно в качестве
чужого, не ассимилируясь. Под такое понимание не подходят
случаи включения в животную семью или стаю представителей
другого вида (в том числе и людей-«маугли»), которые живут в этой
чужой среде лишь постольку, поскольку приспосабливаются к ней
и уподобляются ей во всем. Не отвечают модели гостеприимства
и отношения симбиоза, паразитизма, распространенные в
биологических системах, а иногда и не лишенные драматического, даже
182
Институты и тексты
катастрофического содержания4; они либо столь же неустойчивы,
как отношения хищника с добычей5, либо, напротив, длятся
безразлично, «незаметно» для участников (микрофлора в
пищеварительном тракте животных и т.д.).
По-видимому, решающим признаком, отличающим
человеческое гостеприимство, являются ритуалы приема и проводов, то
есть отмеченные моменты в течении времени, когда
драматически разыгрывается и временно нейтрализуется основополагающая
оппозиция «свое/чужое»: в ходе этих ритуалов гость становится
«своим чужим», «осваивается» или «присваивается» хозяевами
(в случае животного паразитизма можно говорить разве что об
«усвоении» в смысле пищеварения...). Такими ритуалами, по
природе своей парными, ритмически членится непрерывное течение
жизни; ритм их чередования может быть независимым, а может
сплетаться с ритмом других календарных обрядов: скажем,
праздники составляют традиционный повод для посещения чужих мест
и их обитателей. Самый длительный цикл приема/проводов гостя
имеет место, вероятно, при обычае фостериджа — воспитания
ребенка в чужой семье, особенно у родичей матери при патрилокаль-
ном браке. Марсель Гране и Роже Кайуа проанализировали в свое
время связь этого обычая с экзогамией и двухчастной
организацией общества, которая в ней реализуется:
...сыновей вскоре после рождения отправляют в семью их матери, они
растут там и возвращаются уже взрослыми, вместе со своими
кузинами, на которых они женятся, однако вступить в свою группу они
могут лишь отсылая вместо себя своих сестер. Этот обычай известен под
названием fosterage. Если ограничиваться лишь уже
упоминавшимися выше обществами, то есть основания предполагать, что он
практиковался в древнем Китае; а в Новой Каледонии от него сохраняет^
ся несомненный след в виде обычая, согласно которому жених должен
4 Один из таких примеров приводил Роже Кайуа, иллюстрируя свою мысль
об инстинкте смерти («страсти», «головокружении»), который может
действовать не только у человека, но и у других существ: «Можно, к примеру,
наблюдать, как муравьи formica sanguinea, ради пустого удовольствия лизать пахучий
выпот в ямочках на теле определенного рода паразитов, открывают им доступ
в свой муравейник, кормят и обихаживают их, отказывая самим себе, и
позволяют им пожирать свои яйца и личинок, что быстро ведет к гибели всей
колонии» (Roger Caillois, Le Mythe et Г Homme, P., Gallimard Folio, p. 134—135).
Расширенную концепцию паразитизма предложил Мишель Серр: Michel Serres,
Le Parasite, P., Grasset, 1979.
5 «В самом деле, гостеприимство кошки по отношению к птичке
заканчивается довольно скверно...» (Anne Dufourmantelle, Jacques Derrida, op. cit.,
p. 122-124).
Гостеприимство: к антропологическому... определению 183
прожить некоторое время у своего дяди по материнской линии, чья
дочь механизмом экзогамии наречена ему в невесты, и лишь после
В пределе, не превращая понятие в метафору, можно
рассматривать как гостеприимство и сам экзогамный брак как таковой:
конечно, выданная замуж девушка уходит в чужую семью не
«погостить», а на всю жизнь, но субъектом гостеприимства следует
здесь считать не индивида, а целый род или фратрию, которая в
лице новобрачной временно, пока не вырастет новое поколение,
«гостит» у другой фратрии. Обряды свадьбы и рождения
выполняют здесь ту же структурную роль, что и прием/проводы обычного
гостя, — вводят в непрерывность хронологического времени ритм
«практического смысла» (П. Бурдье), ритм взаимно обязательного
(реципрокного) обмена дарами, женщинами и словами (М. Мосс,
К. Леви-Стросс). В данном случае цикл обмена равен жизни
поколения:
В самом деле, отец и сын живут вместе, но принадлежат к
противопоставленным группам: жизнь мужчины продолжается не в его
сыне, а в детях сестры, которую он отдал замуж на чужбину, в другую
группу. Из числа этих ее детей юноши остаются там, где родились, а
девушки возвращаются к своему дяде, выходя замуж за его сыновей
и рожая ему внуков. Таким образом он получает назад свою кровь и
жизненную субстанцию. Что же касается юношей, его племянников
и юных носителей его силы, то они остаются жить в
противоположной группе и там занимают по отношению к его собственным внукам
то же положение хранителей жизненной благодати, какое он сам
занимал по отношению к ним. Тем самым внутри каждой группы ток
жизненной силы передается от деда к внуку, в промежутке проходя
через другую группу — через единоутробного племянника первого из
них, который становится второму дядей по материнской линии.
Экзогамия — это и есть такой постоянный и обязательный обмен
женщинами, скрепляющий собой одновременно и солидарность и
оппозицию двух социальных групп, двух полов, двух сменяющихся
поколений7.
Упоминание в этой цитате «жизненной субстанции», «тока
жизненной силы», близкой к магическим субстанциям типа «ма-
ны», заставляет вспомнить о сакральных и религиозных аспектах
гостеприимства. Традиционные общества часто практикуют обря-
6 Roger Caillois, L'homme et le sacré, P., Gallimard Folio, p. 103—104.
7 Ibid., p. 102-103.
184
Институты и тексты
ды, изображающие посещение человеческого селения
сверхъестественными существами (богами, духами, тотемными родичами)8;
есть и ритуальные мотивы обратного визита — посещения живым
человеком страны мертвых, предков, потусторонних существ, его
общения с этими существами. Одним из важнейших таких мотивов
является комплекс инициации, влияние которого на
традиционные структуры европейского фольклора и литературы давно
установлено. Существенно, однако, что в ритуалах такого
«трансцендентального» гостеприимства исчезает или, по крайней мере,
ослабляется взаимность и цикличность обмена. Процессы визита
и приема гостей больше не предопределяют друг друга,
развиваются каждый самостоятельно. Именно на этой стадии
«антропологическое» гостеприимство сменяется — скорее, впрочем, логически,
чем исторически — «литературным».
Чтобы продемонстрировать это последнее в текстуальной
практике, возьмем достаточно произвольный средневековый
пример — начало романа Кретьена де Труа «Ивэйн, или Рыцарь со
львом» (XII век), которое уже рассматривалось подробно в книге
Эриха Ауэрбаха «Мимесис». Немецкий литературовед
проанализировал данный отрывок в контексте своих общих очерков об
«изображении действительности в западноевропейской
литературе»; но в данном случае, согласно его выводу, изображения
действительности как раз и нет. Тем любопытнее, что этот едва ли не
единственный в его большой работе пример «от противного»
тематически связан именно с ситуацией гостеприимства.
На первых страницах романа Кретьен де Труа излагает
историю рыцаря Калогренана, который при дворе короля Артура
вспоминает о неудачном приключении, пережитом им в Бретани, в
Броселиандском лесу. Заехав в лесную глушь, он обнаружил там
замок, владелец которого и его дочь оказали рыцарю радушный и
учтивый прием; наутро, распростившись с ними, Калогренан
встретил в лесу страшного видом мужика-пастуха, который,
однако, не сделал ему ничего дурного, а лишь предупредил об
опасности, грозящей у расположенного неподалеку волшебного ключа.
Рыцарь, дерзко идя навстречу «приключению», доехал до ключа и
привел в действие его магические силы, которые в конце концов
воплотились в огромного и могучего воина, разгневанного на
безрассудного пришельца. В поединке лесной гигант победил Кало-
8 По верованиям ряда народов, эти существа могут появляться в облике
нищих странников; из религиозного императива их почтительного приема
вырастает понятие о гостеприимстве как призрении и защите бездомных — то
есть «асимметричное» гостеприимство связано с «симметричным»
непрерывным переходом.
Гостеприимство: к антропологическому... определению 185
гренана; опозоренный, но оставленный в живых, тот кое-как
добрался назад до гостеприимного замка, где был вновь принят
ласково, словно ничего не случилось.
Совершенно очевидно, — комментирует Эрих Ауэрбах этот
вступительный рассказ рыцарского романа, — мы перенеслись в мир
волшебной сказки. Правый путь через непроходимый лес, замок,
вырастающий перед героем словно из-под земли, оказанное ему
гостеприимство, прекрасная дева, таинственное молчание хозяина замка,
мужик-лесовик, волшебный источник, — все это воздух сказки9.
Действительно, встречи, пережитые рыцарем в лесу, — это не
столько встречи с другими людьми, сколько испытания,
сталкивающие человека с потусторонними существами и входящие
составной частью в инициатический обряд, — из такой ритуальности,
условности происходящего, кстати, вытекает и несмертельный
исход пережитой Калогренаном неудачи. Особенно выразителен
даже не лесной воин, сколько безобидный вообще-то виллан, в
облике которого подчеркиваются звериные (тотемические?) черты:
Какая это образина!
Сидит на пне, в руках дубина,
Обличьем сущий эфиоп,
Косматый широченный лоб,
Как будто череп лошадиный
У этого простолюдина.
Густыми космами волос
Он весь, как дикий зверь, зарос.
Под стать громоздкой этой туше
Слоновые свисают уши
С продолговатой головы.
Кошачий нос, глаза совы,
Кабаний клык из волчьей пасти,
Всклокоченная, рыжей масти,
Засаленная борода...10
Этот звериный, чудовищный персонаж на свой лад оказывает
гостеприимство заезжему рыцарю, то есть дублирует, пародирует
утонченное гостеприимство, оказанное в замке. Он не принимает
9 Эрих Ауэрбах, Мимесис, М., Прогресс, 1976, с. 142. Перевод A.B.
Михайлова.
10 Средневековый роман и повесть, М., Художественная литература, 1974,
с. 37 (Библиотека всемирной литературы). Перевод В. Микушевича.
186
Институты и тексты
Калогренана в своем доме (такового просто нет), но вступает с ним
в доброжелательный, пусть и грубый, диалог. В ходе этого
диалога он сообщает путнику важные сведения об окружающих местах;
структурирующими же моментами этого диалога являются
обоюдные расспросы — со стороны как «гостя», так и «хозяина» — кто
ты такой? Мужик и рыцарь в ситуации гостеприимства на равных
основаниях обмениваются информацией о себе, «представляются»
друг другу; напротив того, владелец замка и его дочь в своем
учтивом обращении с пришельцем отнюдь не пытаются его ни о чем
расспрашивать — правда, и сами ни о чем его не предупреждают11.
В этом, а не только во внешне-социальном контрасте двух гостеп-
риимцев, смысл сюжетного удвоения: гостеприимство лесного
пастуха — «антропологическое», основанное на обмене (например,
обмене репликами); гостеприимство же хозяев замка не
предполагает ни обмена, ни взаимности. Соответственно и с точки зрения
событийного развития эпизод в замке не выполняет никакой
функции, в отличие от эпизода с вилланом, когда герой получает
инструкции к действию и/или предостережение; его функция не
диегетическая, а чисто семиотическая — обозначить вступление
героя в зачарованный, сказочный мир. Если виллан сообщил
рыцарю собственно сказочную информацию о волшебном источнике,
то хозяин замка ничего сверхъестественного ему не поведал, но он
сам является зримым знаком сверхъестественного, чужого мира,
куда попал рыцарь. Сказочность проявляется в неправдоподобном
мотиве замка, затерянного в безлюдной глуши, в фигуре девицы,
которая ласково ухаживает за гостем, чарует его своей красотой и
как бы предвещает некое «романическое» приключение (впрочем,
этот зачаток сюжета так и не реализуется). Замок гостеприимен не
столько материальными благами, предоставляемыми в нем
пришельцу, сколько ореолом неразгаданных тайн и неосуществленных
возможностей, которым он окружен; можно сказать, что он
гостеприимен самой своей загадочностью, богатством виртуальных
смыслов. Гостеприимство, не становясь метафорой, переходит из
моральной сферы человеческих поступков в фантастическую
атмосферу инициатических тайн. Между получателем
гостеприимства (рыцарем) и его подателем (Броселиандским лесом, разные
функциональные аспекты которого манифестируют разведенные
11 «После ужина хозяин замка рассказывает гостю, что с давних пор
принимает у себя странствующих рыцарей, разъезжающих в поисках приключений;
он настоятельно приглашает его еще раз посетить замок на обратном пути, но
загадочным образом ничего не говорит о предстоящем Калогренану
приключении, хотя о нем знает и знает, что опасности, поджидающие его гостя у
источника, вряд ли позволят ему вернуться в гостеприимный замок» (Эрих Ауэр-
бах, цит. соч., с. 142).
Гостеприимство: к антропологическому... определению 187
порознь в повествовании хозяева замка и страхолюдный мужик)
нет и не может быть соразмерности и взаимности; первый
воспринят, вовлечен во второй12.
Подобная сюжетная структура широко разрабатывается
европейской литературой: сады Армиды у Ариосто, зачарованный
остров в «Буре» Шекспира, романтическая традиция
фантастической сказки, доходящая до литературы XX века («Большой Мольн»
Алена-Фурнье, «Степной волк» Германа Гессе, «Потерянные
следы» Алехо Карпентьера и т.д.) — все это этапы литературной
переработки инициатического повествования, где вступление героя
в смутно родственный ему запредельный мир изображается в виде
мистического гостеприимства.
Две модели гостеприимства — симметричная, свойственная
«первобытному» состоянию, и асимметричная, наиболее
оригинальные образцы которой обнаруживаются в литературе, —
формируются двумя разными представлениями о времени. Если
«антропологическое» гостеприимство основано, как и естественно для
традиционной культуры, на циклическом времени обмена
визитами, то гостеприимство «литературное» (опять-таки естественным
образом, проецируя на содержание текста линейный принцип его
формы) подразумевает векторное время инициации, приобщения
к сакральным тайнам. Эти две модели различаются и своим
логическим основанием, повторяя ту двойственность, на которой был
основан процитированный выше аполог Жабеса:
«антропологическое» гостеприимство есть феномен прежде всего моральный,
регулируемый такими понятиями, как «долг гостеприимства»,
«законы гостеприимства», «литературное» же гостеприимство связано с
процессом познания. Обе модели имеют словесное выражение
(в этом смысле термин «литературное гостеприимство»
достаточно условен — существуют литературные описания
«антропологического» гостеприимства), однако преимущественные формы
этого выражения тоже различны. Гостеприимство между равными
партнерскими инстанциями — индивидами, родами и т.д. —
изображается в литературе еще с древности, таковы типичные ситуа-
12 Попыткой вторичной морализации и психологизации таких
несимметричных отношений можно считать характерное для эпохи «реализма» в
литературе суждение английского эссеиста Макса Бирбома, который объясняет
асимметрию гостеприимства различием двух типов характера: «В каждом
человеке преобладает одна из двух склонностей: активная, или позитивная, —
оказывать гостеприимство, пассивная, или негативная, — пользоваться им.
И склонности эти в человеческом характере столь значимы, что можно с
полным основанием разделить всех людей на две большие группы — "гостей" и
"хозяев"» (Макс Бирбом, «Гости и хозяева» [1918], Иностранная литература,
2002, № 11, с. 250. Перевод А. Власовой).
188
Институты и тексты
ции греческой трагедии («Просительницы» Эсхила, «Эдип в
Колоне» Софокла), где прием гостей выражается в обмене репликами,
вопросами и ответами13. Напротив того, основная словесная
форма в которой реализуется гостеприимство мистическое, — это
повествование, мифический или сказочный рассказ, где диалоги
между персонажами играют подчиненную роль. Суть такого
рассказа — не в достижении взаимопонимания между двумя
участниками ситуации гостеприимства, а в одностороннем усвоении геро-
ем-«гостем» некоего таинственного языка. По сути, эта ситуация
есть не что иное, как мистическая метафора постижения чужой
культуры — ведь только культура в целом, чужой язык может
восприниматься как целостный и таинственный мир, обладающий
своей, выражаясь термином Гумбольдта, «внутренней формой».
В ту самую эпоху, когда понятие культуры формулировалось
в Европе в своем нынешнем смысле, на первый план
теоретической рефлексии выдвинулось и понятие гостеприимства, причем
именно в универсальном значении. В 1795 году Кант, формулируя
свой проект «вечного мира», выдвинул идею «всеобщего
гостеприимства», отличную от условно-конкретного гостеприимства
между конкретными партнерами и соответствующую
республиканскому устройству будущего:
Право всемирного гражданства должно быть ограничено
условиями всеобщего гостеприимства <...>. Право, на которое может
притязать чужеземец, — это не право гостеприимства (для этой цели был бы
необходим особый дружественный договор, который делал бы его на
определенное время членом дома), а право посещения, принадлежащее
всем людям, сознающим себя членами общества, в силу права общего
владения земной поверхностью, на которой, как на поверхности шара,
люди не могут рассеяться до бесконечности и потому должны терпеть
соседство других; первоначально же никто не имеет большего права,
чем другой, на существование в данном месте земли14.
В «Критике чистого разума» Кант формулировал
универсалистское понятие культуры, отличной от природы. В трактате «К
вечному миру» он так же универсально толкует и гостеприимство,
обосновывая его даже не культурой, а природой — физической
13 Ср. соображения Ж. Деррида об обоюдном «допросе чужака» (пришелец
и местный житель расспрашивают друг друга) в процессе гостеприимства
(op. cit., passim).
14 Иммануил Кант, Критика способности суждения [и другие тексты], СПб.,
Наука, 2001, с. 451. Перевод СМ. Роговина и Б.В. Чредина под редакцией
Л.А. Комаровского.
Гостеприимство: к антропологическому... определению 189
ограниченностью площади земной поверхности.
«Антропологическую» модель взаимно обязательного обмена визитами он
стремится обобщить, распространив на все человечество будущего, —
но тем самым неявным образом вводится понятие универсума,
связанное уже с иным, «литературным» определением
гостеприимства. В свою очередь такое определение влекло за собой (что
хорошо поняли младшие современники Канта — романтики) идею
культурной относительности, заставляя рассматривать проблему
гостеприимства не в плане этики или права, а в плане собственно
культуры: главная проблема не в юридической свободе
физического перемещения людей, а в доступности или недоступности для
человека духовного мира других народов.
Сегодня вопрос о «праве посещения», а тем более «праве
общего владения земной поверхностью», поставленный, но не до
конца эксплицированный Кантом, оказался в числе самых острых
вопросов практической политики, идеологии и права, которая
служит более или менее явным концептуальным фоном для любой
современной рефлексии о гостеприимстве. Здесь невозможно, да
и нет нужды рассматривать ее во всех социальных, политических
и правовых аспектах; отметим лишь двойственную роль, которую
играет в ее конструкции культура — «литература» в расширенном
понимании термина.
С одной стороны, ныне, в эпоху национальных государств,
именно взаимное непонимание между людьми и народами
оказывается главным препятствием к осуществлению
просветительского проекта «всеобщего гостеприимства». Многочисленные
конфликты, возникающие даже в самых просвещенных странах вокруг
проблем иммиграции, систематически сосредоточиваются на
культурных различиях между «своими» и «чужими», между «местными»
и «пришлыми». Народы современных развитых стран готовы
спокойно терпеть неограниченное присутствие и даже значительное
влияние на своей территории многочисленных групп «инородцев»
при условии, что те интегрируются в культурную среду коренного
народа, разделяют его нравы, ценности, вкусы; конфликты
возникают, когда «пришлые» не просто ведут себя по-хозяйски в
стране «местных», а живут в ней по-своему, замкнутой культурной
общиной. Культурная относительность становится фактором,
блокирующим гостеприимство, лишающим его той абсолютности,
которую с парадоксальным пафосом утверждал учитель из притчи
Эдмона Жабеса.
С другой стороны, именно культура, поскольку она открыта
для усвоения «чужими», образует идеальное пространство
гостеприимства. В ту же «Книгу гостеприимства» Жабеса входит диалог
между «местным» и «пришлым», которые спорят о праве владения
190
Институты и тексты
национальным языком. Оба согласны в том, что называть своей
какую-либо землю может лишь ее уроженец; но так ли обстоит
дело и с языком? Да, утверждает один, язык принадлежит от
рождения обитателю той страны, где на нем говорят; иноземец,
выучивший его, а не получивший по наследству, не обладает на него
полными правами. Нет, возражает второй, каждый вправе любить
чужой язык и на этом основании считать его своим:
Язык гостеприимен. Он не считается с нашим происхождением.
Он может быть только тем, что нам удастся из него извлечь, а потому
он есть то, чего мы ожидаем от себя самих15.
«Язык гостеприимен...» Действительно, это, по-видимому,
единственный уровень, на котором исчезает, оказывается
бессильной ксенофобия — и в жабесовском диалоге недоверчивому к
«чужим» персонажу нечего ответить всерьез на аргумент о
гостеприимстве. История современности полна примеров того, как
пришельцев-иммигрантов подвергают всевозможным утеснениям:
ограничивают в социальных и политических правах, во времени и
пространстве пребывания (визовый режим, гетто), в сношениях
(например, брачных союзах) с местными жителями; им могут
вообще запрещать доступ в страну — не пускать, изгонять, вплоть до
массового уничтожения. Однако ни одно ксенофобское движение,
которыми так богата, увы, современная история, не покушалось на
их право говорить на языке страны, где они оказались. Такое
просто никому не приходит в голову — наоборот, «пришлых» могут
упрекать в неумении или нежелании изучать этот язык, в
нежелании ассимилироваться. Теоретически можно вообразить себе
радикальный ксенофобский дискурс, отказывающий людям в праве
пользоваться языком, не усвоенным с рождения: «как смеют эти
пришельцы осквернять наш язык...» Однако нелепость такой
фразеологии очевидна для каждого, и ее можно лишь условно
реконструировать, как лингвисты реконструируют со знаком *
неправильную языковую форму.
Отношения человека с «гостеприимным» чужим языком —
пример «литературного» гостеприимства, предполагающего
ученичество, постепенное проникновение в мир чужой культуры,
которое, вообще говоря, не предусматривает какого-либо ответного
движения. Как видно по важной роли этого явления в
современной культуре, оппозиция «антропологического» и «литературного»
гостеприимства хоть и является изначально типологической, но
все же развертывается в истории культуры. При этом она структу-
15 Edmond Jab es, op. cit., p. 53.
Гостеприимство: к антропологическому... определению 191
рируется как пучок неравнозначных оппозиций:
симметрия/асимметрия, циклическое время/линейное время, обмен репликами/
повествование, этическое поведение/инициатическое познание,
имманентное/трансцендентное, реальность/сказка,
практика/мистика, быт/литература и т.д. Для общей теории культуры
особенно важна оппозиция, вокруг которой как раз и идут споры о
присвоении языка16, — оппозиция человека и культуры. По мере
развития цивилизации симметричные отношения между людьми
все больше заменяются или, что то же самое, опосредуются
асимметричными отношениями между человеком и языком, знаковые
системы занимают место социальных институтов, и
интеллектуальным орудием, позволяющим объяснять (а отчасти и
формировать) процессы их взаимодействия, служат не столько
социологические или антропологические штудии, сколько теория языковых
и знаковых процессов, которая в свою очередь, при всей
научности своих посылок, не лишена родственного сходства с
художественной литературой. Гостеприимство, чья «литературная»
форма исторически все более преобладает над «антропологической», —
это действенный критерий, с помощью которого удается выяснить
и четче определить неоднородность дискурсов культуры.
2003
16 Споры об апроприации языка — характерное явление XX века; правда,
долгое время вопрос этот ставился не в этническом, а в
социально-политическом плане. В 1952 году Сталин думал раз и навсегда закрыть эти споры,
объявив язык «всенародным», не имеющим классовой детерминации; почти
одновременно Ролан Барт дал им новый толчок, продемонстрировав с помощью
семиотического анализа политическую ангажированность коннотативных
смыслов языка. Спор остается неисчерпанным.
ГУМАНИЗМ И ЗАБОТА О СЕБЕ
(Дискуссии о самоубийстве
в литературе и философии)
В статье «Эдгар По, его жизнь и произведения» (предисловии
к «Необыкновенным историям» По, март 1856 года) Шарль
Бодлер пишет о смерти американского поэта, фактически убившего
себя алкоголем, что «эта смерть — почти самоубийство, задолго
подготовленное самоубийство»1. И далее он продолжает:
В перечне многочисленных прав человека, который столь часто и
охотно повторяют мудрецы XIX столетия, забыты два весьма важных
права, а именно право противоречить себе и право уйти. А общество
рассматривает уходящего как наглеца <...>. Между тем иногда, под
давлением известных обстоятельств, по серьезном рассмотрении
известных несовместимостей, при твердой вере в известные догматы и
превращения душ, — можно без всякой напыщенности и словесной
игры сказать, что иногда самоубийство бывает разумнейшим делом в
жизни2.
Самоубийство, его смысл и допустимость — одна из
древнейших тем философской, моральной и художественной рефлексии в
европейской культуре. Здесь речь пойдет лишь об одном из этапов
развития этой традиции, когда вопрос о самоубийстве стал прямо
связываться с проблемой гуманизма.
В одной из более ранних заметок — надписи в альбом Филок-
сена Буайе — Бодлер уже формулировал свою мысль в
сокращенном виде, не включая в нее как раз мотив самоубийства:
Среди прав, о которых говорили в последнее время, есть одно
забытое право, в доказательстве которого заинтересованы все, — это
право противоречить себе3.
А в первой версии своей статьи об Эдгаре По, напечатанной в
1852 году, он касался и вопроса о «непоследовательности» речи и
мысли американского поэта, как бы предвещавшей окончательную
«непоследовательность» его смерти:
1 Charles Baudelaire, Œuvres complètes, P., Seuil, 1968, p. 340 (L'Intégrale).
2 Ibid., p. 340-341.
3 Ibid., p. 291. «Последнее время», упоминаемое Бодлером, — очевидно,
революция 1848 года.
Гуманизм и забота о себе
193
Беседа его заслуживает одного особого замечания. Когда я
впервые расспрашивал о нем одного американца, тот отвечал мне, много
смеясь: «О-о, беседа его была совсем не последовательной/» После
некоторых пояснений я понял, что г-н По делал очень широкие шаги в
мире идей, словно математик, ведущий доказательство перед уже
очень сильными учениками, и что он часто увлекался монологом. По
сути же то была в высшей степени насыщенная беседа4.
В статье 1856 года Бодлер нашел окончательное, наиболее
емкое выражение для своих мыслей, благодаря неочевидному,
парадоксальному совмещению трех идей, до тех пор встречавшихся у
него по отдельности: идей «права», «противоречия себе» и
добровольного «ухода» из жизни.
Какая связь между «уходом» и «противоречием себе»? Человек
может противоречить себе по недо- или легкомыслию, то есть по
чисто отрицательной безответственности (ею можно даже
бравировать ради создания особого эффекта непринужденности, как
Пушкин в «Евгении Онегине»: «Противоречий очень много, но
исправлять их не хочу»)5, или же в силу перемен, происходящих в его
сознании (тогда противоречие себе — следствие эволюции,
становления сознания). Наконец, противоречия могут быть лишь
кажущимися, как у «математика, ведущего доказательство перед уже
очень сильными учениками» и пропускающего второстепенные
этапы этого доказательства, — с такой точки зрения, объяснял
Бодлер в 1852 году, Эдгар По вовсе и не противоречил себе, его просто
дурно понимали окружающие. Однако в статье 1856 года Бодлер
толкует о другом, более радикальном противоречии, при котором
говорящий уничтожает собственную мысль столь же решительно,
как самоубийца уничтожает собственное тело, безвозвратно
«уходит» из себя в интеллектуальном или физическом плане.
Такое противоречие не поддается оправданию исходя из
общих понятий логики; соответственно и Бодлер, утверждая, что
«иногда самоубийство бывает разумнейшим делом в жизни»,
апеллирует либо к случайным внешним «обстоятельствам» и «несов-
местимостям» (надо полагать — индивида с жизнью), либо к
мистически-априорной «вере в известные догматы и превращения
душ». Такая аргументация тоже недостаточно убедительна, и ре-
4 Ibid.t p. 328.
5 Ср.: «Я тогдашний и я теперешний — совершенно разные люди, и какой
из нас лучше, я, право, не взялся бы ответить» (Монтень, «Опыты», III, IX. —
Мишель Монтень, Опыты в трех книгах, книга третья, СПб., Кристалл Респекс,
1998, с. 237—238). В своих «Опытах» Монтень неоднократно возвращается к
проблеме добровольной смерти и трактует ее с точки зрения терпимости и
уважения к чужому решению — см., например, главы I, XXXVII или II, XIII.
194
Институты и тексты
шающим доводом, оправдывающим и связывающим вместе оба
типа радикального противоречия, оказывается у Бодлера не общее
регулятивное понятие, а субъективный принцип человеческой
свободы, выраженный в понятии «прав человека».
Идея прав человека, сформулированная в конце XVIII века и
ставшая нормативным выражением идеологии гуманизма6,
предполагала, с одной стороны, универсальный характер заложенного в
нем понятия «человечество» (все люди обладают равными
правами независимо от своих социально-имущественных, национально-
этнических, половых, религиозных и т.п. различий), а с другой
стороны, имманентное обоснование этих прав природой самого
человека: человек обладает правами изначально, в силу своей
принадлежности к роду человеческому, а не благодаря каким-либо
привилегиям, предоставленным свыше. Права человека
независимы не только от конкретной религии, которую может исповедовать
тот или иной человек, но и от религиозной инстанции вообще —
они происходят не «от бога», но заложены в самой природе
человека, составляющего свою собственную цель. Эти два аспекта идеи
прав человека выражены вместе в статье 1 Декларации прав
человека и гражданина 1789 года: «Люди рождаются и остаются
свободными и равноправными». Универсализм и имманентизм — это
как бы «горизонтальное» и «вертикальное» измерение гуманизма.
В те же годы с философской теорией о всеобщем и
имманентном характере не прав, но обязанностей человека выступил Кант.
Его «категорический императив» опирался на принцип
всеобщности: следует поступать согласно той максиме, которую ты хотел бы
сделать законом для всех. И уже в «Критике практического
разума» (1788), где сформулировано это понятие, Кант бегло, в
качестве иллюстрации, прилагает категорический императив к
вопросу о самоубийстве: допустим, страдающий человек замышляет
убить себя и «пытается разобраться, может ли максима его
поступка стать всеобщим законом природы».
Но его максима гласит: из себялюбия я возвожу в принцип
лишение себя жизни, если дальнейшее сохранение ее больше грозит мне
несчастьями, чем обещает удовольствия. Спрашивается, может ли
этот принцип себялюбия стать всеобщим законом природы. Однако
ясно, что природа, если бы ее законом было уничтожать жизнь
посредством того же ощущения, назначение которого — побуждать к
6 В современной культуре эти два понятия чаще всего не упоминаются
рядом. Права человека обычно рассматриваются как самостоятельный,
самодовлеющий правовой принцип, а гуманизм — скорее как
морально-философское понятие, близкое к идее «гуманности», сочувствия к страданиям ближних.
Гуманизм и забота о себе
195
поддержанию жизни, противоречила бы самой себе и, следовательно,
не могла бы существовать как природа; стало быть, указанная максима
не может быть всеобщим законом природы и, следовательно,
совершенно противоречит высшему принципу всякого долга7.
Моральная недопустимость самоубийства, его несоответствие
категорическому императиву доказывается Кантом от
противного, через демонстрацию того, как природа, приняв самоубийство
в качестве своего всеобщего закона, стала бы противоречить себе,
делая противоположные выводы из одного и того же «ощущения»
(то есть скорее инстинкта) себялюбия. Самоубийство осуждается
с позиций всеобщей и имманентной морали — не потому, что
человек является рабом божьим и не смеет самовольно
распоряжаться своей жизнью, а потому, что такой поступок не выдерживает
проверку на всеобщность. Несколькими страницами ниже Кант
дает другое, еще более открыто имманентное доказательство той
же мысли, утверждая, что самоубийство несовместимо «с идеей
человечества как цели самой по себе»:
Но человек не есть какая-нибудь вещь, стало быть, не есть то, что
можно употреблять только как средство; он всегда и при всех своих
поступках должен рассматриваться как цель сама по себе8.
В этих двух рассуждениях ясно выражены два принципа
гуманизма (хотя сам Кант не пользуется этим понятием): с одной
стороны, человек должен руководствоваться только универсальными
законами, сходными с законами природы, с другой стороны, он
должен рассматривать себя как самоцельное существо,
обладающее имманентной ценностью. Оппозиция «человеческое —
божественное» при этом прямо не заявляется, но логически
подразумевается: действительно, именно бог мог бы употреблять человека
«только как средство» для свершения своего промысла.
В «Метафизике нравов» (1797) Кант делает обширные выводы
из заявленного ранее принципа, посвящая целый раздел
изложению «обязанностей человека по отношению к самому себе».
Среди этих обязанностей на первом месте стоит самосохранение и, как
следствие, запрет самоубийства. Кант даже не колеблясь
утверждает преступность такого поступка: «Лишение себя жизни есть
преступление (убийство)»9. Интересно, однако, что за сравнитель-
7 Иммануил Кант, Сочинения в 6-ти тт., т. 4, ч. 1, М., Мысль, 1965, с. 261—
262. Перевод Н.М. Соколова.
8 Там же, с. 270.
9 Там же, ч. 2, с. 359. Перевод С.Я. Шейнман-Топштейн.
196
Институты и тексты
но длинным разделом о самосохранении у него следует другой,
гораздо более краткий, посвященный саморазвитию:
Развитие (cultura) своих естественных сил (духовных, душевных
и физических) как средство для всяческих возможных целей есть долг
человека перед самим собой10.
В таком ходе кантовской мысли можно уловить древнюю
традицию, возникновение которой в греко-римской цивилизации
Мишель Фуко относит к первым векам нашей эры, которую он
назвал традицией «заботы о себе»11 и которая была одним из
первых очерков идеологии гуманизма. Теоретики, пришедшие вслед
за Кантом, продолжили эту традицию, вводя в свои трактаты
кантовское понятие «долга перед самим собой». Особенно богат
примерами период Третьей республики во Франции, когда
«мораль» сделалась важнейшей школьной дисциплиной, основой
светского и республиканского идеологического воспитания.
Писавшие о ней обычно затруднялись логически обосновать «долг
перед самим собой» и, в частности, запрет самоубийства. Если
они пытались применять для этого кантовский принцип
категорического императива, то в конечном счете вынуждены были
объяснять «долг перед собой» как долг перед другими. Это
признавал, например, Шарль Ренувье, чья «Наука морали» впервые
вышла еще в 1869 году:
Таким образом, нравственный запрет самоубийства сводится
либо к долгу перед собой, если рассматривать себя как данного себе,
высшему себя и священному для себя в общем порядке лиц; либо,
причем более ясным образом, более согласно с общим чувством по
данному вопросу, к долгу перед другими, потому что добровольно
отказывающийся от жизни объявляет себя свободным от любых
обязанностей такого рода или же не признает за другими никаких прав на себя12.
Другие моралисты, отказываясь от этого принципа
гуманистической этики, были вынуждены для аргументации «долга перед
собой» обращаться к зыбким полумистическим основаниям или же
сводить мораль как духовную деятельность к другим, внедуховным
видам «заботы о себе». Так, Ив Гюйо в книге «Мораль» (1883) от-
10 Там же, с. 384.
11 См.: Michel Foucault, Le souci de soi (Histoire de la sexualité, III), P.,
Gallimard, 1984.
12 Charles Renouvier, Science de la morale, P., Alcan, 1908, t. 1, p. 71.
Курсив мой.
Гуманизм и забота о себе
197
крыто заявлял, что личная мораль есть не что иное, как «гигиена»,
а «социальная мораль — это общественная гигиена»13; а
анонимный автор брошюры в защиту «республиканской морали» против
морали «клерикальной» обосновывал долг самосохранения
человека волей «природы», бесхитростно подставляя безличную
«природу» на место божества:
Природа, даруя нам жизнь, доверила нам таинственную роль, от
которой мы не вправе уклоняться. Не посягать на свою жизнь — долг
перед самим собой. Самоубийство есть преступление или трусость —
так же как убийство14.
Сознавая ущербность такого рода моральной рефлексии и
риторики, социолог Эмиль Дюркгейм в своей монографии
«Самоубийство» (1897) полностью отказался от них и предложил чисто
каузальное объяснение самоубийства через отношения индивида
с обществом, обусловленные неравномерной сплоченностью этого
общества. Универсалистский принцип категорического
императива не получил развития в субъективистской философии XX века,
или же он применяется там в трансформированном, неузнаваемом
виде, даже когда речь идет открыто о защите гуманизма.
Примером может служить лекция Ж.-П. Сартра «Экзистенциализм — это
гуманизм», с ее принципом всеобщей ответственности человека за
свой выбор: «Выбирая себя, я созидаю всеобщее»15. Сартр
обращает наоборот логику Канта: если у немецкого философа «данный
принцип является всеобщим — поэтому я буду ему следовать», то
у французского «я поступаю так — поэтому принцип моего
поступка будет всеобщим».
Философская идеология гуманизма — в проблеме «долга перед
собой» и недопустимости самоубийства это проявляется
особенно отчетливо — сама затрудняется встать на собственно
человеческую позицию: она склонна объективировать человеческую
личность, сводя ее к пассивному предмету морально-гигиенических
забот, или же трансцендировать ее, подставляя вместо свободной
воли человека какое-либо мистическое начало вроде «природы».
Поиски такой человеческой позиции, с которой могла бы
высказываться гуманистическая идея, стали одной из задач
литературы XIX—XX веков, и в этих поисках вопрос о самоубийстве
оказался прямо связан, как у Бодлера, с проблемой противоречия
13 Yves Guyot, La morale, P., Octave Doin, 1883, p. 40, 41.
14 L.-V. L., La morale républicaine et la morale cléricale, tome 1, Auch, J. Capin,
1884, p. 16.
15 Сумерки богов, М., Политиздат, 1989, с. 337. Перевод A.A. Санина.
198
Институты и тексты
самому себе. В опыте литературы личность человека предстает
принципиально противоречивой, и противоречия словесные для нее
столь же естественны, как перспектива самоуничтожения.
В 60—70-е годы XIX века два писателя — французский и
русский — независимо один от другого создали истории о
метафизическом самоубийстве человека, задумавшего таким поступком
искупить несовершенство реального мира. Для Стефана Малларме
(«Игитур», 1870) речь шла о том, чтобы заклясть господствующий
в мире «случай», подчинить его чистоте «Идеи» и «расы»
(характерная для той эпохи ассоциация понятий). Принимая яд в
склепе своих предков, герой мистериальной повести Малларме
совершает жест уничтожения случайности по гомеопатическому
принципу «подобное подобным» — бросает игральные кости.
Логика гомеопатической магии, слабо эксплицированная в тексте,
наводит на мысль о фундаментальном логическом противоречии,
лежащем в поступке Игитура; можно считать, что это
потенциально диалектическое противоречие, и оно подкрепляется другими,
внешними обстоятельствами, сопровождающими этот поступок и
обозначающими жесты своего рода романтической иронии
писателя по отношению к герою. Так, описывая спуск героя в
подземелье, где совершится его великое деяние, Малларме дает
странную ремарку: «Выходит из комнаты и пропадает на лестнице
(вместо того чтобы скатиться по перилам)»16, — то есть
теургический акт уподобляется детской выходке, оказывается
одновременно чем-то несерьезным и непоследовательным, пусть и не в том
смысле, в каком современники, по словам Бодлера, считали
«непоследовательными» речи Эдгара По. Добровольный жертвенный
уход из жизни симптоматично смыкается с противоречием себе,
физическое разрушение человека — с его логической и/или
стилистической дестабилизацией.
Еще отчетливее тот же комплекс выражен у Ф.М. Достоевского
в «Бесах» (1872). Как известно, в этом романе фигурирует
уникальный персонаж, занимающий исключительное место среди других
персонажей-самоубийц, встречающихся у этого писателя (таких
как Свидригайлов в «Преступлении и наказании», Смердяков в
«Братьях Карамазовых», Ставрогин в самих «Бесах»), — богоборец
Кириллов. Если другие самоубийцы у Достоевского кончают с
собой, запутавшись в преступлениях и раздавленные чувством
своего отщепенства, то Кириллов морально чист и свободен, и свой
давно задуманный поступок он совершает ради человечества, как
высшее самопожертвование. В терминах Дюркгейма, его само-
16 Стефан Малларме, Сочинения в стихах и прозе (двуязычное издание), М.,
Радуга, 1995, с. 227. Перевод Р. Дубровкина.
Гуманизм и забота о себе
199
убийство носит не «эгоистический», а «альтруистический»
характер, причем принадлежит к высшему типу «мистического»
самоубийства, связанного «с той утонченной этикой, которая настолько
высоко ставит человеческую личность, что эта личность не может
уже более ничему подчиняться»17; иными словами, это
самоубийство ради гуманистического идеала. По словам самого Кириллова,
его деяние «спасет всех людей и в следующем же поколении
переродит»18.
Уничтожив себя, Кириллов намеревается стать богом —
старинный замысел, который пытались осуществить ряд знаменитых
людей древности, от легендарного философа Эмпедокла (чья
фигура вызвала к себе новый интерес в эпоху романтизма —
например, в трагедии Гёльдерлина «Смерть Эмпедокла») до его
позднеантичного последователя Перегрина, увековеченного как
самоубийца-шарлатан в трактате Лукиана «О смерти Перегрина».
Самоуничтожение рассматривается как акт не просто теургически-
жертвенный, но и диалектический, почти в духе гётевского
призыва «Stirb und werde», «умри и стань»: отрицание физического
существования ведет к утверждению новой, божественной природы
человека. Но далеко не диалектический характер носят иные
противоречия, которыми окружены личность и поступок Кириллова.
Достоевский настойчиво подчеркивает, с одной стороны,
привязанность Кириллова к «слишком человеческому» материальному
быту (постоянное питье чая, какая-то сложная гимнастика и т.д.),
а с другой — его компрометирующую связь с темными делами
заговорщиков-нигилистов, которые он по странному
самоуничижению согласен покрыть своим самоубийством. В решительный
момент, когда Кириллов составляет предсмертное письмо, беря на
себя чужое преступление, его одолевает неудержимое желание
вставить в это письмо какую-нибудь провокационно-ироническую
выходку, подрывающую серьезный и выстраданный смысл
собственного жеста: то он порывается пририсовать «сверху рожу с
высунутым языком»19, то приписывает в конце
маловразумительные лозунги на чужом, французском языке, пытаясь таким
образом «изругать»20 оставляемый им мир; наконец, перед самой
смертью он вступает в нелепую борьбу со своим
партнером-заговорщиком, по-звериному кусая его за палец. Богоборец Кириллов
уходит из жизни кривляясь, не просто противореча себе, а всяче-
17 Эмиль Дюркгейм, Самоубийство: Социологический этюд, СПб., Союз,
1998, с. 260. Перевод А.Н. Ильинского под редакцией В.А. Базарова.
18 Ф.М. Достоевский, Собрание сочинений в 15-ти тт., т. 7, Ленинград,
Наука, 1990, с. 576.
19 Там же, с. 577.
20 Там же, с. 578.
200
Институты и тексты
ски демонстрируя, афишируя эти противоречия. Было бы
недальновидно объяснять это идеологическим заданием писателя,
обличающего в лице этого героя безбожие как бесовскую одержимость;
скорее перед нами особо глубокий, особо тщательно
разработанный случай уже отмеченной Бодлером корреляции между двумя
непризнанными «правами человека». В то же время герои
Малларме и Достоевского мыслят свой поступок не в правовых
понятиях, как автор «Жизни и произведений Эдгара По» (собственно, и
сам Бодлер судил о нем с явной дендистской иронией, как о
некоем «невсеобщем» праве, доступном уму только избранных).
Самоубийство для них не общее «право человека», но привилегия
исключительного существа, отделенного от рода человеческого как
искупитель и предназначенного к этой сакральной роли чистотой
своей «расы» (Игитур) или же глубиной своего метафизического
прозрения (Кириллов).
В XX веке два французских писателя обратились к опыту
Кириллова в своих собственных размышлениях о философском
смысле самоубийства. Альбер Камю посвятил Кириллову одну из
глав «Мифа о Сизифе» (1942), доказывая, что Достоевский —
«романист не абсурдный, а экзистенциалистский»21, то есть
утверждающий не неизбывную бессмысленность мира, а возможность
придать ему смысл ответственным поступком человека. Кириллов,
согласно анализу Камю, кончает с собой по мотивам не
каузального, а телеологического порядка — не из-за абсурдности мира, а
с целью освободить человечество; соответственно его замысел
гуманистичен, развертывается не в метафизическом пространстве
отношений с богом, а в земном мире людей:
Стать Богом — это просто-напросто быть свободным на земле, а
не находиться в услужении у бессмертного существа <...>. Для
Кириллова, как и для Ницше, умертвить Бога означает самому стать богом,
на самой земле осуществить ту вечную жизнь, о которой сказано в
Евангелии22.
Камю находит разрешение некоторым из противоречий
Кириллова, которые указаны выше. Если Кириллов, готовящийся к
смерти, так наивно привязан к простым радостям жизни, то дело
тут в том, что его смерть нацелена именно на оправдание и
очищение земной жизни, а не на отрицание ее как бессмысленной
видимости («экзистенциалистский», а не «абсурдный» проект).
21 Альбер Камю, Творчество и свобода: Статьи, эссе, записные книжки, М.,
Радуга, 1990, с. 100—101. Перевод С. Великовского.
22 Там же, с. 98-99.
Гуманизм и забота о себе
201
Камю, правда, обходит молчанием другое противоречие
Кириллова — замешанность в низких, «бесовских» злодеяниях террористов;
последних он вообще был склонен оправдывать, по крайней мере
в конечном нравственном итоге, — например, в своей пьесе
«Праведники». Как следует из его мысли, самоубийца Кириллов не
противоречит себе — он самое большее не договаривает некоторых
своих идей, в основе же его проект вполне логичен и
последователен.
Иную интерпретацию того же самого персонажа предложил,
несомненно с полемической оглядкой на знаменитое эссе Камю,
Морис Бланшо в статье «Смерть как возможность» (1952, включена
в книгу «Пространство литературы», 1955)23. Бланшо относится к
проекту Кириллова более критично, чем Камю: прежде всего, он
отказывается доверять кирилловским мотивировкам,
отказывается усматривать в его замысле воинствующий атеизм, которым был
так озабочен Достоевский:
Говоря о смерти, Кириллов говорит о Боге; он как бы нуждается
в имени всевышнего, чтобы понять и оценить событие смерти,
противостать его высшей власти. Для него Бог — это лик смерти. До
только о Боге ли тут речь?24
Проблема Кириллова — не бог, а именно смерть как таковая,
то есть его самоубийство следует понимать в прямом, а не
метафорическом смысле. Как показывает Бланшо, высшей задачей этого
героя, что бы ни думал о нем сам его создатель Достоевский на
уровне отвлеченной рефлексии, является не свести счеты с
божеством и не решить — пассивным уходом или
активно-зиждительным актом — вопрос об осмысленности земного бытия, но
овладеть самой смертью как уничтожением тела и сознания.
Бланшо сочувственно цитирует Ницше, восхвалявшего «свою смерть,
добровольную смерть»25; сам же он пользуется другой, более
парадоксальной формулой — «смерть как возможность». Человек,
ищущий истины, страдает от скрытости и неподвластности
собственного конца, он стремится вступить со своей смертью в более ясные
отношения «достоверности», стремится познать ее и овладеть ею
заранее — и самоубийство является ему как средство для
достижения этой цели.
23 Сразу вслед за нею в книге идет статья 1953 года «Опыт Игитура»,
объединяя обе фигуры метафизических самоубийц XIX века в общем развитии
мысли.
24 Морис Бланшо, Пространство литературы, М., Логос, 2002, с. 95.
25 Там же, с. 94.
202
Институты и тексты
Другое дело — насколько эффективно это средство, и Бланшо,
признавая духовную значимость кирилловского проекта,
подвергает его критике. Мало того, что этот проект запятнан соучастием
Кириллова в бесчеловечных делах «бесов»-террористов — этот
сюжетный мотив, в конце концов, можно было бы считать
предвзятым «запрещенным приемом» со стороны романиста,
стремившегося любой ценой посрамить безбожие. Но и в своем чистом
философском выражении, если отбросить все
случайно-житейское, данный проект содержит неустранимые противоречия.
Бланшо задается вопросом: «истинно ли умирает Кириллов»?26 сумел ли
он сохранить перед лицом смерти твердость и ясность духа, или же
эта твердость была у него лишь постольку, поскольку
непосредственная очевидность смерти еще заслонялась в его глазах
абстрактными размышлениями о ней?
Неприглядные внешние обстоятельства кирилловского
самоубийства, по Бланшо, лишь выражают общий закон: смерть нельзя
превратить в поступок, «самоубийство нельзя "замыслить"»27, и
задумывающий его вплоть до самого конца остается до смерти, не
доходит до нее:
Слабость самоубийства в том, что совершающий его еще
слишком силен, он выказывает в себе силу, подобающую лишь
гражданину земного мира. Кто убивает себя — тот, стало быть, мог жить; кто
убивает себя, тот сохраняет надежду, надежду со всем покончить <...>.
Убивающий себя — великий утвердитель нынешностип.
Бланшо, с одной стороны, поддерживает мысль Камю об
имманентном, а не трансцендентном результате кирилловского
самоубийства (утвердить безбожную свободу здесь и сейчас, в мире
земного «настоящего»), а с другой стороны, делает из этой мысли
противоположный вывод: имманентность кирилловского
самоубийства таит в себе внутреннюю слабость, буквально
неосуществимость, задуманное самоубийство не может произойти так, как
было задумано, во всяком случае смысл его обязательно окажется
совсем иным, чем предполагалось.
Размышления о Кириллове и добровольной смерти у Бланшо
не самодостаточны. Они введены в контекст другой рефлексии —
о смысле художественного творчества. Именно в творчестве для
человека сохраняется возможность вступить в отношения
достоверности и возможности с небытием, достичь высшего самоопу-
26 Там же, с. 97.
27 Там же, с. 102.
28 Там же, с. 101.
Гуманизм и забота о себе
203
стошения и совершить скачок в область небывалого и
неопределенного:
Самоубийство нацелено на этот переворот как на свою цель.
Творчество доискивается до него как до своего истока <...>.
Творчество как бы пытается расположиться в самом этом небрежении,
пребыть в нем. Оттуда слышится ему зов. Туда оно невольно влечется —
навстречу своему абсолютному испытанию, навстречу риску, где
рискуют всем, навстречу сущностному риску, где само бытие на карту
ставится, а небытие ускользает, где идет борьба за право, за
возможность умереть29.
Может показаться, что Бланшо вслед за апологетами
«светской морали» конца XIX века на свой лад доказывает теорему о
недопустимости самоубийства, по крайней мере о его
бесплодности. На самом деле он, во-первых, признает сущностно
необходимый смысл за проектом «метафизического самоубийства»
(в этом он несомненный последователь экзистенциалистской
рефлексии, поставившей, вслед за Камю, вопрос о самоубийстве
в ряд первостепенных философских вопросов)30; во-вторых, он
предлагает альтернативу такому поступку, своего рода
«сублимацию» самоубийства в творчестве31, которая оказывается другим,
пожалуй даже более перспективным подходом к проблеме,
волновавшей героев Малларме и Достоевского и решенной в итоге
не ими, а их авторами.
29 Там же, с. 105.
30 Ср. высказывания другого писателя-эссеиста, Чорана: «Как приятно
подумать о самоубийстве. Нет более отрадного предмета: представишь себе
такой исход и вздохнешь с облегчением. Одна возможность дает почти такую
же свободу, как сам поступок»; «самоубийцы предвосхищают отдаленные
судьбы человечества. Они провозвестники и потому достойны особого почитания»
(Эмиль Мишель Чоран, После конца истории: Философская эссеистика, СПб.,
Симпозиум, 2002, с. 73, 81. Перевод Н. Мавлевич). Ср. у М. Бланшо: «Не будь
под рукой этого кислородного баллона, мы бы задыхались, не могли бы
больше жить. Когда смерть рядом, безотказно послушная, то становится
возможной жизнь, ибо именно смерть дает нам воздух, простор, радостную легкость
движения — она и есть возможность» (Морис Бланшо, цит. соч., с. 94).
31 Фрейдистский термин «сублимация» здесь вполне уместен. Независимо
от того, считать ли самоубийство проявлением фрейдовского «инстинкта
смерти», несомненно, что современная культура проводит по отношению к нему
сходную стратегию вытеснения и символической подмены. Ср. замечание
М. Фуко о том, что научное исследование самоубийства началось в XIX веке,
у таких ученых, как Дюркгейм, в связи с общим переходом западной
цивилизации к «биополитике», другим проявлением которого была «нормализация»
сексуальности (см.: Michel Foucault, La volonté de savoir (Histoire de la sexualité I),
P., Gallimard, 1976, p. 182).
204
Институты и тексты
Новейшую версию художественной рефлексии о праве на
самоубийство и о противоречиях, скрывающихся в таком поступке,
можно найти в фильме испанского кинорежиссера Алехандро
Аменабара «Море внутри» («Mar adentro», 2005)32. В фильме
изображается последний год жизни человека, уже давно
парализованного вследствие несчастного случая и добивающегося себе права на
эвтаназию; получив отказ в суде, он вынужден совершить
«обычное» самоубийство с помощью нескольких близких людей. По ходу
фильма развертываются дискуссии о моральной и религиозной
допустимости добровольной смерти, которые довольно легко
приводят к посрамлению консерваторов — противников эвтаназии как
нарушения божьей воли — и к полному моральному оправданию
главного героя, человека мужественного, доброго и по праву
внушающего к себе восхищение и любовь. Остаются, однако,
неразрешенными иные, более имманентные противоречия его проекта.
Герой фильма, как уже сказано, окружен любовью, включая
любовь женщин; по мере обнародования своего судебного процесса
он становится знаменитым и встречает сочувствие даже у
незнакомых людей; он не раз подчеркивает, что борется не просто за право
умереть самому, а за свободу выбора для всех людей — то есть на
свой лад осуществляет универсалистский эмансипаторский проект
Кириллова. Но не значит ли все это, что он, выражаясь словами
Бланшо, все еще «слишком силен» и «выказывает в себе силу,
подобающую лишь гражданину земного мира»? Его открытость миру
людей выражается эмблематической деталью — обаятельной
улыбкой, постоянно возникающей на его лице. Изначально, по
исходным житейским обстоятельствам, его проект самоубийства имеет,
выражаясь терминами Дюркгейма, «эгоистический» характер:
человек добивается смерти, потому что ему лично невмоготу жить, и
не считается с какими-либо общественными обязанностями
(которых у него и нет — своим уходом он, напротив, рассчитывает
облегчить жизнь родственников). Однако по мере своей реализации этот
проект развертывается в сложную историю, где замешаны другие
люди и моральные идеалы целого общества, и обретает
гуманистический смысл борьбы «за нашу и вашу свободу», то есть становится
характерно «альтруистическим». Но не получается ли, что при этом
перерождается и весь его внутренний смысл, что, отстаивая свое
право умереть, герой фильма тем самым как раз доказывает, что мог
бы и должен был бы жить дальше?
Как это естественно для современной культуры, в фильме
А. Аменабара присутствует и метахудожественный мотив творче-
32 В одном из русских переводов фильма название передано вольно —
«В открытое море».
Гуманизм и забота о себе
205
ства: за долгие годы, пока он жил прикованным к койке, герой
писал стихи, некоторые из них цитируются в фильме, а незадолго
до его смерти их издают отдельной книгой. Парадоксальным
образом история его страданий33 и самоубийства находит себе
полную творческую сублимацию, последним актом которой
становится, конечно, сам художественный фильм, посвященный этому
человеку и основанный, как сказано в титрах, «на реальных
событиях*; но эта сублимация возможна лишь при условии, что
самоубийство-эвтаназия действительно совершится, что герой
собственной жизнью оплатит весомость слов и кинообразов,
порожденных его историей. Это можно выразить иначе: искусство и
литература способны давать людям духовный эквивалент
«возможной», обузданной и прирученной смерти, но ради этого кто-то
обязан действительно умирать — если не сам художник, то другой
человек, если не добровольной, то вынужденной смертью.
Двухвековая философская и художественная рефлексия о
самоубийстве и его соотношении с идеалами гуманизма заставляет
отбросить упрощенные оценки, дававшиеся как религиозной
традицией, так и светскими мыслителями XIX столетия, и признать
серьезность, глубокую обоснованность замысла, который может
скрываться в этом поступке. Одновременно выясняется, что
самоубийство, вопреки саркастическому заявлению Бодлера, нельзя
считать одним из «прав человека» — потому что на самом деле оно
неизбежно признается правом не всех, а лишь особо
привилегированных лиц, хотя бы только тех, кто способен в полной мере
сознательно к нему отнестись (в таком невсеобщем, хоть и
имманентном характере «законного» самоубийства — логический изъян
дискуссий о праве на эвтаназию)34. Интуиция Бодлера верна в
другом: оправдание самоубийства парадоксальным или же
диалектическим образом заключается в самой его глубинной
противоречивости, в возможности его культурных опосредовании,
33 Характерно, что авторы фильма избегают как-либо акцентировать эти
физические страдания, оттеняя такое умолчание сценами страданий,
переживаемых другим персонажем — женщиной-адвокатом, которая сблизилась с
главным героем и сама постепенно угасает от неизлечимой болезни.
34 Одно лишь «правовое» затруднение, отмеченное Морисом Бланшо еще
задолго до нынешних дискуссий об эвтаназии: если право покончить с собой —
это действительно право, то это очень особенное, абсолютное право,
«единственное из всех прав, не являющееся изнанкой какой-либо обязанности»
(Морис Бланшо, цит. соч., с. 104). Это зеркальное отражение одного из
рассуждений Шарля Ренувье, который, обосновывая противоположный тезис —
обязанность человека поддерживать свое существование и, следовательно, запрет
самоубийства, — также признавал, что данная обязанность «чужда всякому
понятию права» (Ch. Renouvier, op. cit., t. 1, p. 16).
206
Институты и тексты
метафорических подмен (например, художественным
творчеством). Для самого Бодлера «противоречие себе» — реальное или
кажущееся — было, по-видимому, метафорой вольного
поэтического творчества; художники XX века, сохранив и глубже
осмыслив связь между самоубийством и творчеством, сделали ощутимым
диалектический характер творческого «противоречия себя»,
благодаря чему абсолютно индивидуальное событие самоубийства,
совершающееся в темном одиночестве гибнущего сознания, может
быть развернуто в значимую для всех историю, где принцип
личной «заботы о себе» перерастает в более широкий
гуманистический проект коллективного совершенствования общества как
обобщенного исторического индивида.
2005
ЗНАКИ И ОБРАЗЫ
«НЕПРИЯТИЕ ТЕОРИИ»
И СОВРЕМЕННЫЕ ГЕРМЕНЕВТИЧЕСКИЕ
ДИСКУССИИ
История структуралистской и постструктуралистской теории
во Франции и США отмечена двумя знаменитыми дискуссиями
(соблазнительно даже рассматривать их как ее начало и конец): это
полемика Раймона Пикара и Ролана Барта о «новой критике»
(1965—1966) и международное обсуждение
антипостмодернистской мистификации Алана Сокала, разгоревшееся в 1996 году. Обе
дискуссии носили очень резкий характер, смешивая
интеллектуальные аргументы с моральными обвинениями. Достаточно
сказать, что в заглавиях обеих книг, резюмировавших
«антитеоретические» взгляды, содержалось одно и то же французское слово
imposture («обман»): книга Раймона Пикара называлась «Новая
критика или новый обман?»1, а книга Алана Сокала и Жана Брик-
мона — «Интеллектуальные обманы»2. Защитники
«теоретического» подхода к культуре также пользовались неакадемическими
аргументами, пытаясь вскрыть под нападками на теорию личные или
корпоративные интересы ее оппонентов: так, Ролан Барт в
начале своей отповеди Пикару и поддерживавшим его журналистам
писал, что «заговорило какое-то примитивное, оголенное
начало»3 — то есть корпоративная солидарность «университетской
критики», ощутившей угрозу для себя, которая исходит от новых
методов изучения литературы4. А некоторые участники споров вокруг
А. Сокала, получивших необычайно широкий размах благодаря
1 Raymond Picard, Nouvelle critique ou nouvelle imposture? P., Rauvert, 1965.
Ниже обозначается сокращенно — Пикар.
2 Alan SoKAL, Jean Bricmont, Impostures intellectuelles, P., Odile Jacob, 1997.
Ниже обозначается сокращенно — Сокол/Брикмон. Существует русский
перевод этой книги: А. Со кал, Ж. Брикмон, Интеллектуальные уловки: Критика
философии постмодерна, М., Дом интеллектуальной книги, 2002.
3 Ролан Барт, Избранные работы: Семиотика. Поэтика, М., Прогресс, 1989,
с. 320 («Критика и истина», 1966; перевод Г.К. Косикова).
4 Полемика вокруг бартовского прочтения Расина отнюдь не закончилась
со спором Барта и Пикара. Другой французский литературовед Рене Помье
словно унаследовал дело скончавшегося в 1975 году Пикара и уже после
смерти Барта (также умершего в 1980 году) защитил и опубликовал диссертацию с
опровержением его анализа, отличающуюся еще более резкими выражениями:
René Pommier, Le «Sur Racine» de Roland Barthes, P., SEDES, 1988. С течением
времени враждебность «университетского» литературоведения к работам
Барта словно обостряется.
210
Знаки и образы
Интернету, усматривали в выступлении Сокала антифранцузскую
вылазку со стороны американской науки5 или же «пиаровскую
акцию» с целью получить дополнительные кредиты на развитие
точных наук, финансовая поддержка которых сократилась с
окончанием холодной войны6.
Наша задача здесь — выяснить специфическую природу такой
ожесточенности споров. Речь пойдет не об обоснованности
отдельных тезисов, выдвигавшихся в ходе полемики и касавшихся,
например, таких вопросов, как релевантность математической и
физической терминологии в гуманитарных науках или же
«когнитивный релятивизм» в науках о природе, а только о формальной
структуре этой полемики и о выводах, вытекающих из ее
своеобразного устройства. Действительно ли современная «теория»
дошла до пределов рационального исследования культуры, за
которыми уже не остается более места для традиционного обсуждения
идей и методов? Является ли неизбежным явлением современной
культуры релятивизм критических дискурсов и их
несопоставимость в регулярной научной дискуссии? Можно ли сказать, что
ныне, когда проблема интерпретации ставится без всякой
трансцендентальной опоры, вся западная цивилизация, родившаяся
некогда из споров между греческими философами,
демонстрирует некоторую свою усталость?
Обе дискуссии, о которых идет речь, носили герменевтический
характер, то есть их предметом являлось не установление или
оценка фактов, а интерпретация текстов. Это очевидно в случае
Пикара и Барта, споривших о смысле расиновских трагедий. Более
сложен случай с Аланом Сокалом и его мистификацией. В 1996
году этот нью-йоркский профессор физики опубликовал в одном из
американских гуманитарных журналов, «Соушел текст», статью о
влиянии гуманитарных наук на современную физику, после чего
«разоблачил» сам себя в другой статье, объяснив, что первая была
всего лишь розыгрышем, пародией на иррациональные методы так
называемой «постмодернистской науки». Как отмечает один из
аналитиков этой истории Ив Жаннере, два первых текста Сокала
составили «фундаментальное событие» всей «дискуссии об
обмане»7; одновременно они образуют характерно герменевтическую
структуру, так как второй текст проясняет смысл первого. А. Со-
кал смоделировал искусственный, условный акт интерпретации,
5 Julia Kristeva, «Une désinformation», Le Nouvel Observateur, n° 1716, 1997,
p. 122.
6 V. Fleury, Yun Sun Limet, «L'escroquerie Sokal-Bricmont», Libération, 1997,
6 octobre, p. 5. Слово escroquerie, «мошенничество», взято из того же
лексического поля, что и imposture в заглавии книги Сокала и Брикмона.
7 Yves Jeanneret, L'affaire Sokal ou La querelle des impostures, P., PUF, 1999.
«Неприятие теории» и современные... дискуссии 211
где толкуемый текст и его толкование содержались «в одном
флаконе». Более того: первая, пародийная статья Сокала уже и сама
носила интерпретативный характер. В ее гротескном, намеренно
абсурдном заголовке — «Преодоление границ: к
трансформативной герменевтике квантовой гравитации» — не случайно
содержалось слово «герменевтика». Один из пороков, в которых Сокал
хотел изобличить «постмодернистскую науку», состоит именно в
тенденции толковать природные, физические явления
релятивистски, как тексты в науках гуманитарных. Действительно, в
рамках нерелигиозного мышления «квантовая гравитация»,
безусловно, не может считаться «текстом» и интерпретироваться как факт
культуры. Между тем «постмодернистская наука», по словам
Сокала-пародиста,
деконструирует и преодолевает метафизические картезианские
различия между человечеством и природой, наблюдателем и наблюдаемым,
Субъектом и Объектом8.
По мысли Сокала, «постмодернисты», произвольно пользуясь
терминами и идеями, импортированными из точных наук,
неправомерно «преодолевают границы» между природой и культурой,
смешивая безличный природный мир с текстом, который кем-то
написан. Таким образом, за искусственной парой
«интерпретируемого» и «интерпретирующего» текстов (двух статей Сокала)
проглядывает еще одна, фантомная интерпретативная структура:
предметом интерпретации в ней является релятивистская,
псевдотекстуальная природа, какой она предстает в работах
«постмодернистской науки».
Чтобы понять смысл такой весьма сложной полемической
конструкции, обратимся к старой дискуссии между Пикаром и
Бартом, в которой проявилась эпохальная перемена в способах
концептуальной интерпретации современной культуры.
Герменевтическая ситуация традиционно включает в себя две
инстанции — толкователя и толкуемый текст, изначально
разделенных культурной дистанцией, и задачей толкователя является
как раз свести их вместе. Такая внешняя диспозиция может
проецироваться внутрь текста: текст поддается толкованию
постольку, поскольку содержит в себе два или более смыслов,
налагающихся друг на друга (в результате их исторического накопления или
8 Сокал/Брикмон, с. 336; здесь цитируется оригинальный английский текст
статьи Сокала (Social Text, 1996, ηβ 46/47) по электронной публикации: www.
libe.fr/sokal/parody.html. В этой первой версии фраза звучит как одобрение
«постмодернистской науки»; ее истинный насмешливый смысл выяснился лишь
позже.
212
Знаки и образы
логического различения) и образующих дискретную структуру; эту
дискретность последовательно ликвидирует герменевтическая
работа, челночными движениями сшивая вместе разные
семантические слои текста, делая их взаимно проницаемыми и понятными
друг для друга. Задача герменевтики — превратить дисконтинуаль-
ность смысла в континуальность, причем эта операция опирается
на живой опыт интерпретатора9.
Однако с конца XIX века с вышеописанной моделью интер-
претативного акта начала конкурировать другая. Марксистская
критика идеологии (впервые разработанная в 1840-е годы, но
получившая широкую известность лишь позднее), ницшевская
генеалогия идей (1880-е годы), фрейдовский психоанализ (1890—
1900-е), литературная теория русского формализма (1920-е)
независимо друг от друга постулировали, каждый в своей области,
новую, «модернистскую» модель смыслообразования: новый смысл
теперь должен быть не найден в самом тексте, а выработан путем
приложения к нему извне некоторой категориальной сетки; у этого
нового смысла больше нет прямой связи со «старым», очевидным
смыслом; его релевантность доказывается независимо от
непрерывного исторического контекста, системной силой
категориальной парадигмы; наконец, такой интерпретативный акт, в отличие
от традиционной герменевтики, отдает предпочтение
дискретному, а не континуальному. Идея «сильного» или «силового»
прочтения (Г. Блум), связанная с авангардистским типом
художественного творчества и с соссюровской семиотикой произвольного
знака, получила особенную силу в 1960-е годы, в пору расцвета
структурализма. Парадоксальным образом обвинительное слово
imposture, использовавшееся анти(пост)структуралистской
партией в обеих рассматриваемых здесь дискуссиях, как бы вновь
обретает буквальный смысл латинского глагола imponere — «налагать»,
«накладывать». Действительно, даже когда новый смысл,
созданный в рамках такой парадигмы, рассматривается как «глубинный»
смысл текста или поступка, реально он возникает при наложении
на текст некоторой внешней системы, интерпретативного кода.
Как же тогда можно оспаривать подобную интерпретацию?
Только дискурсивным насилием, так как она сама, ее
динамическая структура основаны на «силовом прочтении». Разумеется,
дискурсивное насилие всегда присутствовало в разнообразных
спорах о разнообразных предметах; но в герменевтических дискуссиях
современной эпохи происходит своего рода резонанс — внешний
силовой характер спора продолжает собой внутреннюю силовую
9 Данное изложение в основном следует концепции П. Рикёра,
изложенной в его книге «Конфликт интерпретаций» (1969).
«Неприятие теории» и современные... дискуссии 213
природу толкования, приписывающего новые значения старым
текстам. Эти два уровня текстуального насилия отражают и
усиливают друг друга. Насилие здесь носит не акцидентальный, а
сущностный характер, оно вытекает из внутреннего механизма смыс-
лообразования, а не из личных характеров участников спора.
В самом деле, коль скоро аргументы изъяты из исторической
непрерывности культурного развития, дающей опору для
верификации, и основаны на дискретных интеллектуальных моделях, то
участники спора неизбежно утрачивают общую почву и синтез их
взглядов становится невозможным.
Под насилием здесь подразумевается не использование грубых
и оскорбительных выражений, но прежде всего фундаментальный
полемический акт — отказ использовать концептуальный язык,
предлагаемый и навязываемый другим интерпретатором. «Я не
буду говорить на вашем языке, я не признаю вашего кода, я
отвергаю ваши конвенции», — говорит «антитеоретический» критик,
всецело отрицая «силовую» интерпретацию своего оппонента.
Образцовым проявлением такой стратегии как раз и может
считаться полемика Пикара с Бартом.
Признавая, что его противник — «человек системы»10, Раймон
Пикар ополчается именно против его «системы». Он отвергает
бартовскую идею множественного, произвольного и презумптив-
ного смысла текстов, которая в свою очередь предполагает в
качестве своей единственной гарантии не живой опыт читателя, а
системный принцип критики:
Г-н Барт хотел бы полной определенности, а поскольку, как он
уверяет, любое толкование предполагает некий произвольный выбор
(«ибо все значения признаются презумптивными»), то приходится как
бы компенсировать необоснованность утверждений их дерзостью и
глубиной. Что за странная доктрина!11
«Компенсировать необоснованность утверждений их
дерзостью и глубиной» — это и есть принцип «силового прочтения»:
отдельный, изолированный критический тезис всегда будет
«необоснованным» и может быть подтвержден лишь согласованной
поддержкой других положений критика, образующих систему и
обеспечивающих концептуальную «глубину». И Пикар борется
именно с системой Барта, пытаясь разбить согласованность его
понятий. Он не прослеживает общую логику своего оппонента, а
нападает на его частные утверждения; свою критику он высказы-
10 Пикар, с. 35.
11 Пикар, с. 73.
214
Знаки и образы
вает от имени «истины Расина»12, не сознавая, что его собственная
интерпретация тоже носит системный характер и что «истина», на
которую он ссылается, образуется именно рядом имплицитных
интерпретативных актов.
Самый знаменитый эпизод этой полемики касался толкования
французского глагола respirer, который встречается в трагедии
Расина «Британник». Барт, разбирая трагедию в своей книге «О
Расине» (1963), предложил рассматривать этот глагол с учетом его
буквального, физиологического значения «дышать». Пикар резко
критикует такое ошибочное прочтение: согласно ему, «истинным»
значением глагола, то есть его конвенциональным значением в
литературе XVII века, было «передохнуть», «перевести дух»:
Пневматическая окраска (как выразился бы г. Барт) совершенно
исчезла; тем, кто в этом сомневается, я бы посоветовал заглянуть в
словари <...>13.
В своих поисках «истинного» смысла слов Пикар упускает из
виду, что значение, которое он считает главным во французском
глаголе, — это вторичный, фигуральный смысл, тогда как смысл,
указанный Бартом, является как раз первичным и буквальным.
И Барт возражает:
Если, к примеру, я отметил, что в глаголе respirer чувствуется
дыхание <...> то сделал это вовсе не потому, что якобы не знал
значения, которое это слово имело в эпоху Расина (перевести дух), о чем,
кстати, у меня и сказано <...> а потому, что словарное значение
этого слова не противоречило его символическому смыслу, который в
данном случае — причем как бы с нарочитой издевкой —
оказывается его первичным смыслом14.
Антуан Компаньон, вновь рассматривая этот момент старой
дискуссии, замечает, что «в этом конфликте <...> сталкиваются два
разных предпочтения, два этических или идеологических выбора
<...> подчеркивание первоначального смысла или же
сегодняшнего значения»15. Исследователь обоснованно подчеркивает про-
извольно-«насильственную» («этическую или идеологическую»)
природу такого «выбора», позволяющего интерпретатору
рассматривать разные смыслы текста как дисконтинуальные, не связанные
12 Пикар, с. 69.
13 Пикар, с. 53-54.
14 Ролан Барт, Избранные работы, с. 326.
15 Антуан Компаньон, Демон теории: Литература и здравый смысл, М.
изд-во им. Сабашниковых, 2001, с. 105.
«Неприятие теории» и современные... дискуссии 215
вместе. Отдавая «предпочтение» «современному значению» перед
«первоначальным смыслом», Раймон Пикар на самом деле
осуществил ту же операцию, что и его оппонент, то есть выстроил
некоторую семантическую систему (в данном случае — систему
«языка XVII века», которая может изучаться только как система) и отдал
ей предпочтение перед другими системами, позволяющими
объяснить расиновский текст. За его отказом следовать «произвольной»
интерпретативной логике Барта скрывалась другая интерпретатив-
ная логика; с системой можно бороться только другой системой.
Так поступает и сам Барт, отвечая на критику Пикара в
работе «Критика и истина» (1966). Более сознательно, чем его
оппонент, подходя к феномену интерпретативной системы, он прямо
у нас на глазах набрасывает целых три таких системы: 1)
«университетскую критику», характеризующуюся неосознанным выбором
своего герменевтического кода и представленную Раймоном Пи-
каром и прочими гонителями «новой критики»; 2) «науку о
литературе», описывающую общие формы символизации
лингвистическими методами; 3) наконец, «критику», то есть толкование
единичных текстов средствами некоторой свободно и
сознательно избранной «идеологической» системы. Против одной неявной
системы своего оппонента он выдвигает несколько различных и
ясно осознанных систем, или «социолектов», как он стал называть
их несколькими годами позже16. Благодаря такому умножению
критических языков он выявляет недооцененную его противником
герменевтическую проблему.
Итак, обсуждение «силовых», или «насильственных»,
интерпретаций заставляет не только строить новые критические языки,
но и эксплицировать уже существующие. Иными словами, это
опять-таки герменевтическая дискуссия, поскольку она
вскрывает и проясняет смысл некоторого критического языка (например,
языка «университетской критики»). Более того, полемическая
операция разоблачения имплицитного критического языка точно
соответствует собственно интерпретативной операции выявления
первичного смысла слова (например, глагола respirer), скрытого
под его позднейшим историческим значением. Как и в случае с
полемическим «насилием», возникает изоморфное соотношение
или же резонанс между двумя уровнями — интратекстуальным и
экстратекстуальным, между пониманием текста и дискуссией об
этом понимании; оба процесса носят дисконтинуальный характер,
16 Если не считать «университетской критики», здесь перечисляются
гипотетические, не существующие реально системы, которые Барт лишь
предполагает создать; так, постулируя «науку о литературе», он тут же делает
осторожную оговорку — «если подобная наука однажды возникнет» (Ролан Барт, Избранные
работы, с. 355).
216
Знаки и образы
так как сосуществующие смыслы лишены прямой связи между
собой.
Итак, языкотворческая функция герменевтических дискуссий
оказывается одновременно и эксплицирующей. Чтобы
эксплицировать имплицитную интерпретативную систему, чтобы сделать
явными ее понятия и предпосылки, оказывается необходимой
специальная полемическая операция, которую нельзя назвать иначе
чем провокацией. «Сильные дискурсы» (Р. Барт),
институционализированные интерпретативные коды, как правило, самодовольны,
не формулируют сами своих собственных принципов и категорий,
рассматривая их как нечто «естественное», а потому нужен некий
внешний импульс, чтобы привести их в движение, сделать их
проблематичными.
Если провокативная сила бартовского прочтения Расина
оставалась как бы невидимой до критической реплики Пикара, то в
случае Алана Сокала провокативный смысл полемической
стратегии был очевиден (правда, не для ее жертв) с самого начала.
Публикуя псевдонаучную статью в респектабельном
«постмодернистском» журнале, Сокал пытался расколоть монолитный язык этого
интеллектуального течения на две инстанции: 1) настоящий
«постмодернистский» дискурс, неспособный распознать
подражающий ему пародийный текст; 2) свою собственную псевдо-постмо-
дернистскую шутку, доводящую до абсурда стереотипы подобного
дискурса. Формально схожие между собой, пользующиеся одними
и теми же интеллектуальными процедурами, словами и фразами
(Сокал ввел в свою мистификацию ряд точных цитат из
теоретиков «постмодернизма»), эти два дискурса радикально
различаются по субстанции: один претендует на изречение чего-то
существенного о мире человеческой культуры, второй же совершенно
лишен существенного смысла. Он функционирует как «черная
дыра», высасывающая всякий смысл из «постмодернистской
науки» и представляющая ее в виде чисто формальной языковой
системы, в виде «языка», не связанного необходимо с истиной.
Структура этого языка актуализируется. «Постмодернистский»
язык, происходящий из того самого языка, который некогда был
выработан Роланом Бартом и его соратниками, стал ныне в
некоторых американских и европейских университетах «сильным»,
даже господствующим дискурсом; он сделался столь же
самодовольным и «надменным»17, как и дискурс «университетской
критики» прошлого. Без сатирической провокации его
познавательные принципы — именно в силу их неточности и логической
17 Слово употребляется самим Бартом при критике властных социолектов
в книге «Ролан Барт о Ролане Барте» (1975).
«Неприятие теории» и современные... дискуссии 217
сомнительности — вероятно, так и не были бы сформулированы
столь радикально...
Эту «позитивную» сторону полемической провокации следует
подчеркнуть постольку, поскольку она осуществляется в
герменевтической форме. Всех, кто читал статью-мистификацию и
непосредственно связанные с нею тексты Сокала, а после этого книгу
«Интеллектуальные обманы» (1997), написанную им в соавторстве
с Ж. Брикмоном на ту же тему, не может не поразить их разница:
по сравнению со статьей-мистификацией и ее театральным
разоблачением книга выгладит скучным педантическим упражнением
(возможно, обоснованным по сути, но это другой вопрос). Даже те,
кто осуждал Сокала за нападки, на современную/французскую
гуманитарию, все же признавали блеск его выдумки:
Бесспорно, это гениальный ход — переписать заново тексты
Лакана, Деррида и Делёза, заставить прочитать их по-другому, в другом
контексте, деконтекстуализировать и реконтекстуализировать их,
сделать по-новому очевидными. Отсюда — единственный несомненный
успех Сокала: на всем протяжении спора об интеллектуальном
обмане все уже цитировали Лакана, Делёза или Кристеву, отбирая их
тексты только так же, как и editor Сокал18.
«Деконтекстуализация» и «реконтекстуализация» — это
действительно два главных приема, использованных «редактором»
Сокалом в его статьях; и то и другое суть способы
«редактирования» сочинений своих противников, позволяющие силой помещать
некоторые цитаты из них в двухуровневую интерпретативную
структуру; и здесь вновь повторяется уже знакомое нам явление
резонанса: полемическому «редактированию» цитат Сокалом
соответствует на микроуровне силовое приписывание новых смыслов
уже существующим словам (математическим или физическим
терминам), в чем уже сам Сокал обличает своих оппонентов. Симу-
лятивная герменевтическая форма, которую он придал своей затее,
сопровождается действительными герменевтическими
процедурами, применяемыми к предмету его критики.
Природу этого предмета не так-то легко определить.
Противники «теории» Пикар и Сокал иногда характеризовали ее как
«идеологию». У первого из них имелось в виду не столько точное
марксистское, сколько повседневное значение этого слова во
французском языке: «идеология — это идея моего противника»,
система, с которой я не согласен. Соответственно Пикар
именовал своего противника Барта изобретателем «идеологического
18 Yves Jeanneret, op. cit., p. 47.
218
Знаки и образы
импрессионизма»19. У второго памфлетиста, Сокала, слово
«идеология» употреблено более строго, в связи с «левой» политической
идеологией: «Политически меня раздражало то, что многие (если
не все) эти глупости исходили от так называемых Левых»20, —
пишет он и высказывает предположение, что его статья-пародия была
принята к публикации в журнале «Соушел текст» потому, что
«льстила идеологическим предрассудкам редакторов»21. Здесь
идеология, очевидно, означает любую концептуальную систему,
основанную на произвольных принципах и стремящуюся превращать
мнения своих противников в пассивный объект, навешивая на них
политический ярлык.
Однако сам же Сокал предлагает еще и другую
характеристику «постмодернистской науки», указывая на ее литературное
происхождение:
<...> то, что «Соушел текст» взял мою статью, служит примером
интеллектуального высокомерия Теории — в смысле постмодернистской
литературной теории, — доведенной до своего логического предела22.
В самом деле, так называемая «постмодернистская наука»
первоначально завоевала себе плацдарм именно в литературной
теории (в свою очередь опирающейся на «французскую теорию», как
ее называют в англоязычных странах). Уже цитированный выше
А. Компаньон характеризует ее как «последний европейский
интеллектуальный авангард»23, сочетавший в себе черты «науки» и
«литературы»; признаком этого как раз и явилась в свое время
дискуссия между Пикаром и Бартом. А как отметил Поль де Ман в
статье «Неприятие теории» («The Resistance to Theory»), ее
проблематичный статус, возможно, обусловлен ее же собственной
структурой:
Неприятие [теории], возможно, встроено в сам ее дискурс, что,
по-видимому, немыслимо в науках о природе и запрещено в науках
об обществе24.
19 Пикар, с. 76.
20 Alan Sokal, «A Physicist Experiments With Cultural Studies», Lingua Franca,
1996, n° 6 (4); цит. по электронной публикации: www.libe.fr/sokal/reveal.html.
21 Ibid.
22 Ibid. Курсив А. Сокала.
23 Antoine Compagnon, «L'exception française», dans Où en est la théorie
littéraire? {Textuel, n° 37), 2000, p. 44.
24 Paul de Man, The Resistance to Theory, Minneapolis — London, University of
Minnesota Press, 1986, p. 12. Между прочим, этим замечанием заранее
опровергаются упреки Сокала и Брикмона в адрес «теории» с точки зрения «наук о
природе», если понимать эти упреки как чисто научные, а не литературные.
«Неприятие теории» и современные... дискуссии 219
Литературная теория рождается из литературы, из
«риторического и тропологического измерения языка»25, когда язык
делается свободен от связей с референтом. С помощью своих
специфических терминов литературная теория формулирует эту свободу
(само)интерпретации, (само)прочтения, обретенную современной
литературой; так что в конечном счете «неприятие теории <...> это
неприятие чтения»26. Теперь нам становится яснее смысл
современных герменевтических дискуссий, происходят ли они на
восходящей стадии развития литературной теории (как было в случае
с бартовским прочтением Расина) или на ее нисходящей стадии
(как в случае Алана Сокала, имеющего дело с широко
распространившейся, достигшей господства и «надменности» «французской
теорией»). Эти дискуссии можно понимать как факты развития
современной литературы, распространяющей действие своих
законов на внелитературные области, стремящейся аннексировать
некоторые территории, которые ранее принадлежали «научным»
дисциплинам. Посредством такой провокации литература делает
очевидными нестабильность и сомнительность некоторых
институционализированных интеллектуальных практик, затевая с ними
герменевтические дискуссии. Эти дискуссии, несмотря на
присущее им дискурсивное насилие, в конечном счете способствуют
прояснению эпистемологических основ научных дискурсов и их
соотношения с ненаучными, «художественными» областями
культуры. Это и есть «истина», рождающаяся в подобных спорах.
2002
25 lbid.f p. 17.
26 Ibid., р. 17-18.
ПРОБЛЕМА РЕЛЕВАНТНОСТИ СМЫСЛА:
РИФФАТЕР, ГРЕЙМАС, БАРТ
Релевантность смыслов, извлекаемых интерпретатором из
текста и вообще социокультурного материала, оказалась важнейшей
проблемой эпистемологии гуманитарных наук в XX веке.
Исторически первой дисциплиной, столкнувшейся с этой проблемой, стал
психоанализ, который еще в начале столетия отказался от
позитивистского доверия к видимому факту и начал предлагать свои
«сильные прочтения» латентных структур психики на основе
симптомов, выделяемых в речи и поведении анализируемых субъектов.
Хотя эти интерпретации отчасти поддавались опытной проверке
(в ходе клинической практики, которая позволяла более или
менее успешно лечить диагностируемые таким образом неврозы),
зыбкость применяемых методов по контрасту с жесткостью
находимых в результате структур заставляла подозревать в них
произвольные вымыслы. В итоге типичные схемы этих интерпретаций,
такие как «эдипов комплекс», вошли в современную культуру на
правах своего рода научных мифов, функционирующих в ней без
обязательной верификации, а сам психоанализ расплатился за
новаторство своих «сильных прочтений» изолированным,
полусектантским статусом среди других гуманитарных дисциплин XX века.
Во второй половине XX века проблема релевантности смысла
приобрела новую остроту с появлением структуральной
семиотики, взявшейся за научную систематизацию знакового материала
культуры «со стороны», вне зависимости от традиционно-«инсай-
дерского» опыта субъекта. В нижеследующем изложении
делается попытка сравнить подходы к данной проблеме, которые были
выдвинуты в 1950—1970-е годы тремя учеными, работавшими в
разных дисциплинах и так или иначе заявлявшими о своей
приверженности к структуралистской методологии: Майклом Риффа-
тером, Альгирдасом Греймасом и Роланом Бартом.
Все трое занимались, исключительно или преимущественно,
анализом дискурса, то есть изначально значимого материала;
систематизируемые ими смыслы являлись вторичными смыслами,
методически выделяемыми с помощью специальных процедур на
фоне «самоочевидных» первичных смыслов. В подобных случаях
имеет место сверхдетерминированность, когда дискурсивный
элемент несет сразу два или больше смыслов, вообще говоря
внутренне не связанных друг с другом.
Проблема релевантности смысла: Риффатер, Греймас, Барт 221
Майкл Риффатер (1924—2006) рассматривает проблему смысла
как филолог, специалист по анализу художественного текста. В
соответствии с программой формалистической филологии XX века
он стремится вычленять в тексте собственно художественные
структуры, образующие его «литературность». В ранний период
своего творчества (1950—1960-е годы) он называл единицу таких
структур «стилистическим приемом» (stylistic device, fait de style),
который по определению должен ощущаться читателем текста, а
не просто намеренно вводиться его автором:
...ни один элемент текста не может актуализировать структуру, если
этот элемент не является объектом отбора, в силу которого он
бросается в глаза читателю [qui l'impose à la perception du lecteur]. Иными
словами, ни одна языковая единица не может обладать структурной
функцией, если она не является также стилистической единицей1.
Об обязательной ощутимости структурных (=стилистических)
феноменов для читателя Риффатер пишет и в других местах,
например:
Текст не является художественным произведением, если он не
навязывается вниманию читателя [s'il ne s'impose pas au lecteur], если
он не требует от него с необходимостью какой-то реакции, если он в
какой-то мере не контролирует поведение дешифрующего его
человека <...>. Реакция читателя на текст — единственное каузальное
отношение, на которое можно ссылаться при объяснении литературных
фактов2.
В процитированных формулировках варьируется выражение
(s')imposer au lecteur — «бросаться в глаза читателю, навязываться
его восприятию». Может ли оно пониматься как точное,
буквальное описание доказуемых процессов? Каким образом текст или
текстуальный эффект может «навязываться» чьему-либо
восприятию, настоятельно внушая ему определенный смысл или
функцию? Высказывания Риффатера на этот счет не вполне
последовательны. Чаще всего ученый исходит из того, что литературный
статус имеют не все элементы художественного текста, а лишь
элементы аномальные, аграмматичные, отступающие от принятой в
данном тексте языковой нормы: тропы, фигуры и т.д. Такие ано-
1 Michael Riffaterre, Essais de stylistique structurale, P., Flammarion, 1971,
p. 280.
2 Michael Riffaterre, La production du texte, P., Seuil, 1979, p. 98; см. также
ibid., p. 15.
222
Знаки и образы
малии действительно «навязываются восприятию» читателя,
причем последний даже не обязан при этом точно понимать их смысл.
Так происходит, например, в случае, когда текст содержит в себе
какой-то забытый интертекст (иногда Риффатер именует его сос-
сюровским термином «параграмма»): мы уже не можем без
специальных филологических разысканий правильно прочитать цитаты
и реминисценции, включенные в какой-нибудь старинный текст,
но часто все-таки ощущаем сам факт их присутствия в тексте как
необъяснимых, непонятно что значащих элементов.
Разумеется, у читателя, обладающего той же культурой, что и
автор, получится более богатый интертекст. Но само это богатство
пойдет ему на пользу лишь постольку, поскольку семантические
аномалии в линейной развертке текста будут заставлять его искать
объяснения вне этой линейной развертки. А читатель, которому не дано
понимать интертекстуальную параграмму, все же чувствителен к
отклонениям, к следам, оставляемым в словесной последовательности
исчезнувшим гипограмматическим референтом. Читателю даже не
нужно в полной мере понимать...3
Итак, художественные аномалии, вызванные
интертекстуальными отсылками, ощутимы для читателя хотя бы в качестве
темных, необъяснимых вкраплений, смысловых пустот. Однако не все
читатели находятся в равно выгодном положении для восприятия
этих негативных смыслов. Чем более мы удаляемся (во времени,
пространстве, социокультурной среде) от точки создания текста,
тем выше вероятность, что мы не заметим их при «наивном»
чтении, без специального исследования; а можем и, наоборот, «вчи-
тать» в текст другие, чуждые ему смыслы и принять за аномалии
то, что в момент его написания было элементом нормы. Хотя
«последовательные интерпретации того или иного памятника
составляют часть его монументальности» и «позднейшие прочтения так
же законны, как и первоначальные»4, тем не менее с точки зрения
истории литературы
истинным, единственным изначальным значением текста является то,
которое осуществляли его первые читатели (совпадает или не
совпадает ли оно с авторским намерением). Обнаружить его позволяют их
реакции5.
3 Ibid., р. 86.
4 Ibid., р. 98.
5 Ibid., р. 105.
Проблема релевантности смысла: Риффатер, Греймас, Барт 223
Эти расхождения в обобщенных формулировках делаются
наглядными, когда Риффатер предпринимает конкретный анализ
текста. Как известно, считая нерелевантной6 интерпретацию
стихотворения, предложенную в статье Якобсона и Леви-Стросса
«"Кошки" Шарля Бодлера», он в 1966 году опубликовал
собственный методологически альтернативный анализ того же бодле-
ровского сонета, принимая во внимание не любые замеченные
элементы текста (как это делали его оппоненты), а только те,
относительно которых достоверно известна их ощутимость для
читателя. Как же устанавливается эта ощутимость? — Путем
исследования исторически зафиксированных реакций. В результате их
интеграции создается фигура «архичитателя»7, образуемая
документированными реакциями реальных читателей стихотворения:
самого Бодлера (но только как автора поправок к своему уже
однажды написанному тексту, то есть как читателя собственных
стихов), современных ему критиков, переводчиков его сонета
(тоже своего рода читателей, воссоздающих некоторые черты
оригинала на чужом языке и тем самым свидетельствующих об их
ощутимости), комментаторов сонета в научных и учебных
изданиях, а также «всех его критиков, каких я сумел найти, причем
полезнее всех были те, кто выделял тот или иной стих по причинам,
не имеющим ничего общего с бодлеровским сонетом»8; и прочие
более или менее непроизвольные реакции. Из рассмотрения
исключаются строго научные интерпретации текста: подчиненные
предвзятому методу, как интерпретация Якобсона и
Леви-Стросса, они свидетельствуют только об этом методе, а не о
действительном содержании текста. Таким образом, читательские реакции
проходят методический отбор — но уже не по степени их близости
к тексту (когда преимущество отдается реакциям современников,
первых читателей текста), а по степени их спонтанности,
методологической нейтральности; филологический метод Риффатера
призван заключить в скобки любые другие методы, любые
«сильные прочтения» данного текста, элиминировать его научное чтение.
Итак, хотя элементы художественной конструкции, а значит и
смыслы текста (его «стилистические приемы», «интертексты»,
«параграммы» и т.д.), по определению ощутимы для читателя, но это
лишь необходимое, а не достаточное условие их присутствия в
тексте. Чтобы достоверно установить это релевантное присутствие,
мало установить их аномальный с точки зрения структуры характер
и исторически зафиксировать, что они были кем-то восприняты:
6 Michael Riffaterre, Essais de stylistique structurale, p. 315.
7 Ibid., p. 327.
8 Ibid., p. 328.
224
Знаки и образы
надо еще исключить из рассмотрения слишком
«профессиональное» восприятие текста — а возможно ли это, много ли найдется
документированных реакций, принадлежащих сугубо «наивным»
читателям? ведь, как правило, документируются именно
профессиональные, а значит предвзятые реакции. Кроме того, даже
после этого некоторые релевантные смыслы текста, возможно даже
самые ощутимые для нынешнего интерпретатора, могут остаться
запрещенными для рассмотрения — просто потому, что мы по
стечению обстоятельств не знаем тех «наивных читателей», которым
они когда-то «бросились в глаза». Критерии эмпирического
анализа не совпадают с теоретическими критериями, и релевантность
художественного смысла определяется случайными
историческими фактами — «наивными» прочтениями текста и теми
сведениями о них, которые дошли до нас. Система «структурной
стилистики» зависит от традиции, от исторического бытования
литературного произведения.
Альгирдас Греймас (1917—1992) в «Структурной семантике»
предпринял попытку методологического описания смыслов,
возникающих не только в естественном языке, но и в любых
знаковых системах, включая вторичные (например, в системе
повествования). Исходя не из литературно-филологической, а из
лингвистической модели знания, он распространяет ее на весь
бесконечный материал знаковой деятельности. Это значит, что
обследованию подлежат не отдельные тексты (произведения
литературы или высказывания бытовой речи), а в принципе
бесконечный процесс знаковой деятельности, где и требуется выделить
чисто смысловые категории, не привязанные к какой-либо
субстанции означающего.
Для поиска таких категорий Греймас пользуется принятым во
французской лингвистике после Эмиля Бенвениста делением
означивания на семиотический и семантический уровни. На
семиотическом (семиологическом) уровне восприятия в тексте
опознаются «ядерные» семы — отдельные знаки, отсылающие прямо
к вещам, а на семантическом уровне, вторичном по отношению к
семиотическому, происходит понимание целостных
высказываний, и здесь единицами служат другие семы, задающие правила
понимания ядерных единиц. Эти служебные единицы исполняют
сходную роль с морфологическими категориями в лексемах
языка, однако их состав шире, это вообще все элементы,
осуществляющие управление ядерными семами, — классемы. Отсюда
выводится понятие изотопии дискурса:
Отныне можно утверждать, что какое-либо сообщение или некий
оборот речи могут рассматриваться как изотопные лишь в том случае,
Проблема релевантности смысла: Риффатер, Греймас, Барт 225
если они обладают одной или несколькими классемами в качестве
общих9.
Изотопия — фактор избыточности дискурса, ее образуют
«рамочные» смысловые элементы, которые присутствуют во всех
частях высказывания и позволяют правильно, однозначно понимать
его, но при его линейном развертывании, вообще говоря, не
сообщают каждый раз ничего нового10. Изотопия поддерживает
связный характер дискурса, служит чем-то вроде нотного ключа,
требующего толковать сменяющие друг друга знаки в таком-то, а не
ином смысле. Соответственно установление изотопии, вторичных
смыслов текста, составляет важнейшую задачу научной семантики.
Тут-то и начинаются сложности. Дело в том, что изотопии
речи гораздо больше, чем нотных ключей, — в принципе их,
видимо, бесконечное множество, и нет возможности перечислить их,
задать списком. Тем более бесконечно количество самих единиц,
комбинируемых при построении любого осмысленного дискурса:
Что же касается ее [семантики] конститутивных единиц, то
присущая ей множественность терминов — всяких семем, семиэм,
семантем и пр. — свидетельствует лишь о трудностях и путанице11.
В другом месте Греймас отмечает, что «суждения о
символических объектах мира практически бесконечны»12, а потому
абстрактная систематизация смыслов представляется невозможной:
...здесь более не могут быть употреблены с достаточной строгостью
приемы коммутации, а формульные критерии, которые во всем этом
можно обнаружить, совершенно недостаточны13.
Действительно, в области смысла не бывает полной
эквивалентности, позволяющей, как в фонологии или морфологии,
сопоставить два выражения и установить, что они «значат одно и то
9 А.-Ж. Греймас, Структурная семантика, М., Академический проект, 2004
[1966], с. 76. Перевод Л. Зиминой.
10 Ср. определение изотопии из другой книги Греймаса: «Под изотопией
обычно понимается пучок избыточных семантических категорий,
предполагаемых рассматриваемым дискурсом. Два дискурса могут быть изотопными, но
не изоморфными» (A-J. Greimas, Du sens, P., Seuil, 1970, p. 10). Изотопия
может быть сопоставлена с понятием «речевого жанра» у Бахтина, но имеет
более узкое значение, описывая только семантику, а не прагматику дискурса.
11 А.-Ж. Греймас, Структурная семантика, с. 7—8. Перевод уточнен;
оригинал: A-J. Greimas, Sémantique structurale, P., PUF, 1986, p. 7.
12 Там же, с. 130. Перевод уточнен; оригинал — ibid., р. 91.
13 Там же, с. 103.
226
Знаки и образы
же». Чтобы считать два смысловых комплекса синонимичными,
мы вынуждены описывать их с помощью какого-то метаязыка,
который сам занимает свое место в пространстве всеобщей
семантики, поэтому наше суждение будет зависимым от его смысла, то есть
заведомо не абсолютным. Чтобы говорить о смысле, нам уже
требуется смысл, и в этом непреодолимое противоречие семантики.
Его можно только обойти, согласившись с неполным,
несовершенным характером интерпретаций, которые мы тщетно пытаемся
сделать эквивалентными первичному тексту:
...это всякий раз лишь парафразы, более или менее неточные
переводы одних слов и высказываний с помощью других слов и
высказываний. Сигнификация, собственно, и есть не что иное, как такое
переложение с одного языкового уровня на другой, с одного языка на
другой, а смысл есть не что иное, как эта возможность
перекодировки. Несколько сгущая краски, можно даже сказать, что
металингвистическая речь человека — это сплошная цепь ложных высказываний,
а коммуникация — сплошной ряд недоразумений14.
В самом деле, именно так происходит дело при обычной
коммуникации: люди успешно пользуются языком, не смущаясь
трудностями его научной систематизации. Дело в том, что в связной
речи число возможных изотопии, в рамках которых ее можно
толковать, — например, число эпитетов, применимых к одному и тому
же объекту, — прогрессивно убывает, «быстро сокращается при
чтении текстов и что их список вскоре оказывается окончательно
закрытым»15. Дело, стало быть, в прагматическом характере
дискурса, нацеленного не на понимание как таковое (оно является
скорее задачей семиолога, сосредоточенного на внутреннем
устройстве дискурса), а на нечто трансцендентное пониманию, — на
практический, внеязыковой результат коммуникации. В конечном
счете связность дискурса имеет нелингвистический характер:
Теперь отчетливо видно, что именно в этих конкретных случаях
следует подразумевать под нелингвистической гомогенностью корпуса
текстов: это то, что позволяет объединить пятьдесят индивидуальных
ответов в коллективный корпус текстов, это совокупность общих черт
тестируемых — их принадлежность к одному и тому же языковому
сообществу, к одной и той же возрастной группе; это также
одинаковый культурный уровень, одинаковая «ситуация тестируемых»16.
14 A-J. Greimas, Du sens, p. 13.
15 A.-Ж. Греймас, Структурная семантика, с. 133.
16 Там же, с. 136. Перевод уточнен; оригинал: A-J. Greimas, Sémantique
structurale, p. 94.
Проблема релевантности смысла: Риффатер, Греймас, Барт 227
Связность дискурса, релевантность его смысла
обеспечивается не тем, что весь он объективно (структурно) располагается
в рамках одной и только одной изотопии, а тем, что реципиент в
своем субъективном процессе дешифровки отбрасывает ненужные
изотопии и сосредоточивается на одной, полезной для себя. И
наоборот, некоторые «особые формальные жанры» вроде
кроссвордов, загадок или острот тем и любопытны, что ставят ему
ловушки, обыгрывая многозначность, политопичность дискурса:
К счастью, определения (за исключением некоторых особых
формальных жанров, таких как кроссворды, загадки и т.д.) почти
никогда не существуют изолированно, а лишь включенными в текст, и
события, о которых в нем сообщаются, еще могут порой оказаться
неожиданными, но никогда не бывают немотивированными17.
«Довольно любопытно», замечает Греймас в другом месте, что
именно такие жанры — в том числе «некоторые литературные
жанры»18, — дают лингвисту наилучшие примеры изотопических
процессов19. Сталкиваясь с бифуркацией смысла, с возможностью
двоякого понимания, с необходимостью выбора изотопии, субъект
для преодоления двусмысленности текста осуществляет
металингвистические процедуры, которые, по мысли Греймаса, сводятся
к операциям сжатия и распространения — дискурс оперирует то
кратким именем, то более или менее эквивалентным ему
подробным описанием.
Такое металингвистическое функционирование дискурса,
постоянно возвращающегося к самому себе и при этом последовательно
переходящего с одного уровня на другой, наводит на мысль о
колебательном движении между распространением и уплотнением,
определением и наименованием20.
Итак, установление смыслов и изотопии текста
осуществляется в ходе вторичных семантических операций, в данном случае
металингвистических. Ход таких операций зависит от
эмпирической деятельности дешифрующего субъекта, полагающегося не
только на свое чувство языка, но также и на внеязыковое
отношение, связывающее его с другими субъектами дискурса
(принадлежность к одной социальной группе, нахождение в одной социаль-
17 Там же, с. 131. Перевод уточнен; оригинал: A-J. Greimas, Sémantique
structurale, p. 91.
18 Там же, с. 140.
19 Там же, с. 100.
20 Там же, с. 108.
228
Знаки и образы
ной ситуации, преследование одних практических целей). Кроме
того, это внеязыковое отношение особенно наглядно
проявляется при столкновении с эстетическими, игровыми и
художественными применениями речи — от загадок и кроссвордов до острот
и поэтических текстов.
У Ролана Барта (1915—1980), чей подход будет правильно
назвать даже не просто семиотическим, а семиокритинеским,
проблема релевантности вторичных смыслов стоит острее, чем у двух
других рассмотренных теоретиков. Как и Риффатер, Барт
описывает не общую структуру семиозиса, а конкретные смысловые
комплексы, по большей части манифестируемые художественной
литературой; но эти комплексы чаще всего складываются спонтанно,
в ходе безличных процессов социальной коммуникации, подобно
семантическим изотопиям, с которыми работает Греймас. Таким
образом, материал, обследуемый Бартом, в принципе ограничен
(отдельные тексты, корпусы текстов), зато разнообразие
смысловых эффектов, которые в нем действуют, в принципе бесконечно
и необозримо. Научно-критическая работа Барта представляет
собой охоту на «мифы» — вторичные семиотические
микросистемы, рассеянные в пространстве текста или же целой культуры.
Барт делает радикальные выводы из определенного Ельмсле-
вом понятия коннотации; впрочем, первоначально, в
«Мифологиях» (1957), он не отличал коннотацию от метаязыка21. В этой
книге он характеризует коннотацию как «похищение языка»22:
коннотативное значение произвольным, немотивированным
образом присоединяется к исходному знаку, а не выводится из него
посредством какой-либо логической процедуры, подобно тому как
в самом первичном знаке означаемое произвольным образом
соотносится с означающим. Поэтому анализ первичных знаков
ничего не дает для понимания их коннотативных значений —
нужно как бы забыть об их денотативном смысле, перефокусировать
свой взгляд, направив его на коннотативные функции.
Осуществляемое таким образом чтение идет наперекор не только
«буквальным», но и вообще любым поддающимся документации смыслам
текста, оно враждебно традициям филологического анализа, что и
сделало Барта мишенью для критики со стороны возмущенных
21 Не произошло ли это смешение под невольным влиянием Греймаса, с
его концепцией металингвистической работы речи? Барт познакомился с Грей-
масом в Египте, где они одновременно преподавали в 1949—1950 годах, и в
последующие годы, как кажется, именно Греймас помогал ему осваиваться с
достижениями современной лингвистической теории. О смешении понятий
коннотации и метаязыка в «Мифологиях» см.: Umberto Eco, Isabella Pezzini, «La
sémiologie des Mythologies», Communications, n° 36, 1982.
22 Ролан Барт, Мифологии, M., изд-во им. Сабашниковых, 1996, с. 257.
Проблема релевантности смысла: Риффатер, Греймас, Барт 229
филологов (см. памфлет «Новая критика или новый обман?» Рай-
мона Пикара, 1965)23.
Вопрос о критериях релевантности смыслов, выделяемых бар-
товской семиокритикой, не обсуждается в ней специально; Барт на
общем уровне лишь декларирует свободу интерпретации, а на
конкретном уровне подкрепляет ее эффектными и убедительными
примерами. Именно эти примеры лучше всего позволяют
установить те имплицитные и разнородные критерии, которые он
применяет для выделения коннотативных знаков-«мифов» в
современной ему французской культуре.
Во-первых, знаки-мифы, как правило, внедряются в сознание
субъекта в ситуации телесной расслабленности и пассивности:
...я сижу в парикмахерской, мне подают номер «Пари-матча». На
обложке изображен юноша-негр во французской военной форме, он
отдает честь, глядя куда-то вверх, очевидно на развевающийся там
трехцветный флаг24.
Мне на ходу бросился в глаза «Франс-суар» в руках какого-то
человека; я успел уловить лишь один частный смысл, но в нем я
прочитываю целое значение; в сезонном снижении цен я воспринимаю во
всем ее наглядном присутствии правительственную политику25.
Таков внешний, прагматический признак мифа: миф настигает
человека в ситуации некритического (торопливого,
расслабленного) восприятия. Не случайно, что главным материалом бартовских
«мифологий» служит массовая культура, рассчитанная именно на
рассеянно-торопливое потребление: газеты, иллюстрированные
журналы, всякого рода популярные зрелища.
Во-вторых, уже на уровне структуры текста, мифы
опознаются по особым риторическим приемам, отрицающим логику и
диалектику. Барт в «Мифологиях» составляет целый перечень таких
приемов: «прививка» (частичное признание противоположного
тезиса — чтобы в итоге все-таки подтвердить свой собственный),
«изъятие из Истории», «тождество» (риторика тавтологий: «Расин
есть Расин»), «нинизм» («уравновешенные» суждения по
риторической схеме «ни то, ни другое»), «констатация» (признание
естественности и неустранимости упоминаемого факта). Важнейшей
23 М. Риффатер тоже критически оценивал «формализм» Барта, хотя все
же признавал релевантность исследуемых им семиотических феноменов:
«Барт <...> бесспорно, исходит из стилистически маркированных фактов,
которые должны декодироваться» (Michael Riffaterre, Essais de stylistique
structurale, p. 284).
24 Там же, с. 241.
25 Там же, с. 256.
230
Знаки и образы
из таких фигур, объединяющей в себе все остальные и
объясняющей их общую функцию, является деполитизация:
Мы можем теперь дополнить наше се миологическое определение
мифа в буржуазном обществе: миф — это деполитизированное слово.
Разумеется, политику следует здесь понимать в глубоком смысле
слова, как всю совокупность человеческих отношений в их
реально-социальной структурности, в их продуктивной силе воздействия на мир...26
Задача мифа — помешать рациональному, особенно
диалектическому мышлению, блокировать, закоротить его развертывание,
подменить его квазирациональной логикой энтимемы, традиции,
«доксы», «здравого смысла». Любые тексты, проводящие
агрессивный или вкрадчивый антиинтеллектуализм, являются носителями
мифов.
В-третьих, одним из типичных видов текста, относящихся к
этой категории, оказывается литература — не литература как
художественная деятельность, а Литература как социальный институт,
признанный и прославляемый современным обществом:
...для всей нашей традиционной Литературы характерна добровольная
готовность быть мифом; в нормативном плане эта Литература
представляет собой ярко выраженную мифическую систему27.
Задачей «мифолога» — исследователя мифов и одновременно
их критика, демистификатора, — является искать в окружающей
культурной среде те точки эстетизации и вместе с тем деполити-
зации, которые создают условия для некритической, социально
послушной работы сознания. Подобно Риффатеру, Барт
признает неоднородность семиотического пространства — в нем есть
нейтральные (немифологизированные или слабо
мифологизированные) участки, а есть особо выделенные сгустки вторичного смысла.
Для идентификации последних семиолог располагает знанием
общих категорий мифического смысла — означаемых мифа,
которые, в отличие от его означающих, немногочисленны и, с
некоторым приближением, образуют содержание господствующей в
обществе идеологии:
В форме и понятии [то есть означающем и означаемом
вторичного знака-мифа. — С.З.] богатство и бедность обратно
пропорциональны: качественно бедной форме, несущей в себе лишь
разреженный смысл, соответствует богатство понятия, распахнутого в ширь
26 Там же, с. 270.
27 Там же, с. 261-262.
Проблема релевантности смысла: Риффатер, Греймас, Барт 231
Истории, а количественному изобилию форм соответствует
немногочисленность понятий. Для мифолога очень важна такая
повторяемость понятия, проходящего через разные формы; именно она
позволяет ему расшифровать миф — так повторяемость поступка или
переживания выдает скрытую в нем интенцию28.
Любопытно, что Барт не замечает расхождения между
разбираемой им здесь семиотической ситуацией и сравнением, которое
он приводит для ее пояснения: в самом деле, для социолога или
психоаналитика «повторяемость поступка или переживания»
имеет место на уровне означающих, выдавая «скрытую интенцию», то
есть означаемое, а для мифолога повторяемостью обладают сами
означаемые — «понятия», выражаемые мифом; в отличие, скажем,
от поступков изучаемого субъекта, они не даны непосредственно
восприятию исследователя, а улавливаются его культурным
чутьем и опытом. В таком априорном знании мифологических
значений — оригинальная особенность бартовской демистификации
мифов и одновременно ее эпистемологическая уязвимость.
До известной степени бартовский «миф» сближается с
изотопией по Греймасу: механизм его вторичных значений может
производить в принципе бесконечное множество смыслов, но
реальное общество использует лишь немногие из них (важные для его
идеологии), а опытный, «начитанный» в мифах субъект культуры
легко определяет, под какую из этих категорий подвести самые
разные, логически не связанные между собой «формы»
выражающих ее первичных знаков.
Итак, результаты работы трех исследователей, работавших в
одно время и знавших работы друг друга, подводят к сходному
выводу: систематика смысла, предпринимаемая средствами
филологического литературоведения, структуральной лингвистики или
семиотической критики культуры, оказывается неполной.
Окончательной инстанцией, удостоверяющей релевантность смыслов
культуры, остается не система, а традиция, опыт включенного
наблюдения, осуществляемый субъектом культуры — филологом,
регистрирующим более или менее случайные реакции читателей на
художественный текст (Риффатер), компетентным читателем,
умеющим «на глаз» определять главную изотопию, к которой
относится читаемый им текст (Греймас)29, или ангажированным семиоло-
28 Там же, с. 245.
29 Этого читателя или слушателя Греймас прямо уподобляет
компетентному читателю по Риффатеру: «И действительно, любой "средний и
подготовленный" (Риффатер) слушатель будет пытаться — в той мере, в какой он
принимает формальные правила игры, — уловить первую изотопию, и он спонтанно
уловит ее» (А.-Ж. Греймас, Структурная семантика, с. 131).
232
Знаки и образы
гом-демистификатором, которому улавливать идеологические
коннотации помогает политическое чутье30. Существенно также,
что во всех трех случаях повышенным потенциалом для
выявления — пусть и не всегда удостоверения — вторичных смыслов
обладает эстетическая деятельность со словом, будь то собственно
художественная литература (Риффатер, Барт), коммерческая
массовая культура (Барт) или бытовые эстетические жанры типа
острот или кроссвордов (Греймас). В эстетической деятельности
особенно ярко сказывается идея семиозиса как опыта, а не системы
(речи, а не языка, если пользоваться категориями Соссюра), и в
неявной апелляции к ней можно усматривать признак
методологических трудностей, которые встретила структурная семиология
уже на раннем этапе своего развития. Ее неопросветительский
проект критики традиции с точки зрения чистого разума
натолкнулся на невозможность вывести эту абстрактную рациональность
за рамки реального историко-культурного опыта.
2008
30 То, что именно у Барта критическая составляющая этого опытного
знания выражена наиболее резко, может быть отчасти связано с
культурно-биографическими обстоятельствами: Риффатер и Греймас работали на чужбине, и
для них ощутимость вторичных смыслов культуры обеспечивалась тем
«охранением», которое автоматически дает взгляд иностранца; Барт же имел дело с
родной культурой и для сознательного выделения ее вторичных смыслов
вынужден был прибегать к энергичной и даже агрессивной деятельности семиок-
ритики.
КОММЕНТАРИЙ И ЕГО ДВОЙНИК
Настоящие заметки сложились на 11-х Лотмановских
чтениях в РГГУ (декабрь 2003 года); они были навеяны слушанием
докладов и обсуждений, и их первоначальная версия была
представлена в рамках «круглого стола» в последний день конференции.
Темой конференции был избран «Комментарий как историко-
культурная проблема». Комментарий, на сегодня основная форма
работы филолога-исследователя, рассматривался с разных точек
зрения, но, как правило, с внутренних по отношению к нему.
«Вопрос о границах комментария» (упомянутый в заголовке одного из
докладов, но, любопытным образом, так и не поставленный в
самом докладе) для филологов казался слишком очевидным, чтобы
его проблематизировать. Критика комментария как жанра осталась
уделом двух дисциплинарных аутсайдеров, представителей иных,
нефилологических дисциплин: социолога Абрама Рейтблата и
историка кино Юрия Цивьяна. Первый из них попытался
теоретизировать место комментария в культуре, исходя из функций, а не
из структуры комментаторского дискурса, второй предъявил для
сравнения образец внешне похожей на комментаторскую, но по
сути принципиально иной практики — синтагматического анализа
фильма. Структурное определение комментария и его пределов так
и осталось несформулированным.
Вряд ли имеет смысл строить такое определение как
позитивную дефиницию: она рискует оказаться непомерно широкой — в
самом деле, обыденный язык называет комментарием любое
«объяснение текста», и с таким расплывчатым понятием
невозможно работать. Лучше будет поискать негативное, апофатическое
определение: в чем заключается ближайший культурный оппонент
комментария, его «свое иное». Это значит, что сразу отводятся
всевозможные вненаучные виды «комментирования», каковыми
могут быть (по словам одного из участников конференции,
Бориса Каца) устное произнесение, театральная постановка, адаптация,
а в известном смысле даже любое отдельное слово текста по
отношению к другому, которое оно прямо или косвенно проясняет, то
есть «комментирует». Эти явления слишком очевидно далеки от
настоящего научного комментария, чтобы его сравнение с ними
было содержательно. Так же обстоит дело и с рядом собственно
научных, филологических жанров, таких как трактат или учебник,
234
Знаки и образы
проблемная статья или история литературы, — в отличие от
комментария они, вообще говоря, не привязаны к конкретному
тексту. Что же касается таких форм, как перевод, глоссарий или
указатель содержания, то они ближе прилегают к отдельному тексту,
а значит и сближаются с комментарием, но также не могут служить
его непосредственными «двойниками»: первый не является,
вообще говоря, научной деятельностью, два других дают не
синтагматическое, а парадигматическое отражение текста.
За последние полтора столетия в некоторых
научно-педагогических традициях сложилась практика, во многом параллельная
комментарию и внутренне конкурентная по отношению к нему.
По-французски ее называют «объяснение текста» (explication de
texte), по-английски — «пристальное чтение» (close reading);
французское название старше, английское — точнее благодаря
сильному, содержательному слову reading.
Как в большинстве случаев и комментарий, пристальное
чтение соединяет исследовательские задачи с
учебно-просветительскими: это типичная форма упражнения на занятиях по
литературе. Привязанное к синтагматической развертке конкретного текста
или даже фрагмента, оно отличается этой коэкстенсивностью от
статьи-интерпретации («анализа текста», как это называют по-
французски), глоссария или указателя; поскольку же для
«объяснения текста» используется не другой художественный язык, а
более или менее точный категориальный метаязык, оно
отличается и от перевода1. Исторически эта деятельность восходит к
риторическому анализу речи, выделяющему стилистические фигуры,
звуковые и ритмические эффекты, повествовательные функции и
точки зрения (выражаясь современными терминами),
психологические мотивы автора и персонажей. Своего высшего подъема
метод «пристального чтения» достиг у англосаксонских «новых
критиков», а затем в семиотическом анализе текста у Ролана
Барта (в книге «S/Z», 1970): двигаясь вдоль текста, аналитик
обследует каждый новый синтагматический сегмент, выявляя работающие
в нем коннотативные смыслы и культурные коды. Текст
рассматривается как динамически развивающийся процесс
интерференции кодов.
Такое «пристальное чтение» если и может называться
«комментированием», то лишь в том смысле, в каком, по выражению
Ю. Цивьяна, говорят о «комментировании» спортивной теле- или
1 По классификации транстекстуальных отношений, предложенной
Ж. Женеттом (Gérard Genette, Palimpsestes, P., Seuil, 1985), комментарий
попадает под рубрику «метатекстуальность», тогда как перевод скорее под рубрику
«гипертекстуальность».
Комментарий и его двойник
235
радиопередачи2. В чем же его отличие от настоящего комментария?
Это можно объяснять с помощью нескольких понятийных
оппозиций, каждая из которых, однако, не вполне точно схватывает
суть дела. «Комментарий — описание, а пристальное чтение —
интерпретация»? Изначально они, возможно, и мыслили себя так,
но в реальной практике комментарий (даже самый строгий
реальный комментарий) сплошь и рядом подсказывает некоторую
интерпретацию текста, а пристальное чтение, регистрируя его
риторические и поэтические эффекты, описывает особый его аспект,
которого мало касается «стандартный» комментарий.
«Комментарий нацелен на содержание текста, а пристальное чтение — на его
форму»? Это тоже отчасти верно, в том смысле что комментарий
чаще всего разъясняет исторический контекст произведения,
тогда как пристальное чтение стремится эксплицировать его
динамическую формальную программу, то есть рассматривает его как ав-
тометатекст, текст, который имплицитно сам себя описывает.
Однако некоторые, наиболее современные виды пристального
чтения, такие как семиотико-идеологический анализ по Барту, — в
высшей степени содержательны, раскрывая систему кодов письма,
в которую включен текст; а с другой стороны, современный
комментарий если и не поясняет форму текста в качестве своей прямой
задачи, то часто привлекает к ней внимание (например,
раскрывая интертекстуальную многослойность кажущихся «простыми»
пассажей). «Пристальное чтение поясняет слова, а комментарий —
вещи»? Это еще ближе к истине, так как объектом пристального
чтения служат именно языковые объекты — слова, знаки, фигуры,
коды; однако и комментарий часто содержит лингвистическую
составляющую, поясняет не только внеязыковые реалии, но и
слова (иноязычные, устаревшие, редкие, цитатные и т.д.).
Пожалуй, наиболее точное различие двух практик
обусловлено невразумительностью, непонятностью мест, которые в тексте
подлежат комментированию. Что, собственно, бывает
невразумительным, неинтеллигибельным? — Единичное, индивидуальное,
не подводимое или еще не подведенное ни под какую общую
категорию, то, что образует в тексте фигуру гапакса, уникального
употребления. Объекты комментария по определению
противятся категоризации, они могут лишь цитироваться (если это
собственно слова) или обозначаться именами собственными (если это
несловесные, внетекстовые факты). Традиционный комментарий
тяготеет скорее ко второму типу объектов. В своих самых эле-
2 В этой удачной метафоре не столь важна идея «передачи», трансляции и
медиатической обработки, сколько подвижно-игровой характер
«комментируемого» действа.
236
Знаки и образы
ментарных, популярно-школярских вариантах он обычно
ограничивается пояснением имен собственных — исторических лиц,
географических и исторических названий, того, что «можно взять из
энциклопедии» (хотя на самом деле в энциклопедиях обычно
содержатся и статьи об общих понятиях); и такой «именной» подход
не всегда является наивным или халтурным, в комментариях
встречаются и весьма изощренные поиски «источников», глубокие
этимологические разыскания. Современный реально-исторический и
лингвоисторический комментарий, по-видимому, генетически
восходит именно к старинным этимологическим изысканиям.
В отличие от него, пристальное чтение занимается не
выделенными «неясными», «невразумительными» точками текста, а всеми
его сегментами без исключения. Оно не пренебрегает банальной
на первый взгляд регистрацией очевидных эффектов: «это
метонимия», «это сюжетный параллелизм», «это отсылка к коду
телесности» и т.д. Пристальное чтение может казаться более «скучным»,
рутинным занятием, чем комментирование с его детективной
интригой загадок и расследований. Задача такого анализа — показать
в тексте сложное переплетение категорий, оппозиций, кодов, то
есть осветить текст как область сплошь интеллигибельную,
наполненную смыслом и поэтому всецело поддающуюся чтению,
интерпретации (reading).
Такое различие комментария и пристального чтения по их
нацеленности на индивидуальные/общие моменты текста
представляется более специфичным, чем оппозиции, рассмотренные
выше. Пристальное чтение, именно потому что оно чтение, всегда
усматривает в тексте чисто языковое образование, тогда как для
комментария текст имеет смешанную природу — отдельные его
моменты могут быть как языковыми, так и внеязыковыми
(реальными). При комментировании в тексте выявляются точки
непрозрачности, сгустки материи, тогда как чтение — это процесс
интерпретации, просвечивания смыслом: подыскивание
общепонятийных значений и редукция к ним текстуального значения3. За
двумя видами аналитической деятельности стоят две разные
пространственные интуиции: при комментировании текст мыслится
как неоднородное пространство прозрачных отношений (они не
3 В принципе любой сегмент художественного и даже не только
художественного текста неповторим и не может вполне отождествляться с каким-либо
другим, хотя бы потому, что следует до или после него в синтагматической
цепи, что меняет его семантику. Но если при пристальном чтении
исследователь стремится редуцировать индивидуальность сегмента, приписывая ему
общее значение некоторой речевой фигуры, то комментатор, также на свой лад
интерпретируя этот сегмент, соотносит его не с категориальным смыслом, а с
уникальной референцией (чаще всего с «источником»).
Комментарий и его двойник
237
поясняются) и непрозрачных материальных элементов (их
надлежит прояснить, но этот процесс никогда не доходит до конца, до
полного растворения материи: торжество комментатора —
достигнуть дна, предъявив в качестве разгадки текста
окончательно-единичное имя, факт, прототип, дату, ссылку); а при пристальном
чтении текст моделируется как неизотропное, складчатое
пространство, чьи неровности обусловлены его формой, а не материей, и
потому в принципе всецело поддаются экспликации (даже если
они так сложны, что реально ее процесс никогда не завершается).
Эти два представления о тексте можно сопоставить как тяжелый/
легкий текст, как текст труда/игры; и здесь вновь стоит вспомнить
аналогию с «комментированием» спортивной игры, когда
поясняются главным образом не скрытые, невидимые (внеигровые)
факты4, а ходы в самой игре, ее очевидные, но не всеми хорошо
понимаемые риторические «фигуры» — скажем, для шахматной
партии такими типичными пояснениями будут «это гамбит», «это
открытый вариант испанской партии», «это жертва качества за
пешку», «это комбинация с целью форсировать пат» и т.д.
Существенно, что такое толкование — как показывает пример с
шахматной или иной игрой — не обязательно интерпретирует семантику
текста (которой в спортивной игре вообще нет), оно может
ограничиваться одной лишь его синтактикой и оставаться при этом
полноценной деятельностью чтения5.
Описанные выше модели пристального чтения и комментария
характеризуют собой, конечно, лишь «идеальные типы» —
крайние, наиболее чистые проявления их оппозиции. Между этими
предельными точками располагается ряд промежуточных,
пограничных явлений, которые как раз наиболее интересны и
вызывают наибольшие дискуссии. В историческом плане все они
представляют собой новые типы комментаторской практики,
распространившиеся в науке за последние десятилетия, после
подъема пристального чтения и, вероятно, под его влиянием, как ответ
на брошенный им методологический вызов. Упомянем здесь три
такие пограничные практики.
4 В реальном спортивном комментарии встречаются также и они —
скажем, напоминания о турнирной истории того или иного игрока, о его
типичных приемах, сильных и слабых сторонах, в конце концов даже о его трансфер-
ной «цене» и об анекдотах из его личной жизни. Однако такие «отступления от
текста» бывают чаще всего в «комментариях» к сравнительно слабо
формализованным играм (например, футболу) и даже в них нередко воспринимаются
негативно; при «комментировании» же сильно формализованных игр типа
шахмат они еще менее уместны.
5 Вообще говоря, чтение не обязательно включает в себя понимание
семантики текста: возможно и чисто фонетическое чтение непонятного текста
(иноязычных фраз, незнакомых слов на собственном языке, заумной поэзии и т.п.).
238
Знаки и образы
Во-первых, это комментирование встречающихся в тексте
понятий (исторических, специально-дисциплинарных и т.д.).
В принципе любое понятие есть по определению обобщенная
категория, оно отсылает к некоторому абстрактному коду, пусть даже
к личному идиолекту конкретного автора. Оттого понятия
обычно оказывается удобнее не «комментировать» в постраничных
примечаниях, а систематически излагать в «преамбуле» или «кратком
очерке», выходя за рамки комментария как такового в область
проблемно-аналитического дискурса. Когда же понятия поясняют
все-таки с привязкой к конкретным местам текста, то тем самым
за ними признают некую вторичную индивидуальность, несисте-
матизируемость, их представляют не как систему категорий, а как
россыпь гапаксов; соответственно исследуемый таким образом
текст, даже если он изначально относился к ответственно-аргумен-
тативному жанру (трактата, эссе и т.д.), благодаря
комментаторской оптике фрагментируется, теряет логическую строгость,
дрейфует в сторону поэтического дискурса, один сегмент которого не
в ответе за другой.
Во-вторых, это разъяснение семиотических кодов поведения, где
особенно впечатляющих результатов достиг Юрий Лотман в
своих поздних комментаторских работах, например в комментарии к
«Евгению Онегину». Такой комментарий освещает в принципе
общие, социально-групповые правила поведения («дворянское»,
«декабристское» поведение и т.д.), по отношению к которым
литературный персонаж выстраивает свои собственные поступки,
соблюдая или нарушая эти правила, руководствуясь в каждом
конкретном случае тем или другим неписаным кодексом. При
комментаторском описании таких семиотических кодов их
индивидуализация достигается путем ограничения материала:
комментируются коды поведения, известные персонажу, скажем, романа, но не
коды письма, доступные только автору и читателю данного
романа. Различие между работой Лотмана над «Евгением Онегиным» и
Барта над новеллой Бальзака «Сарразин» заключается именно в
том, что первый все время имеет в виду ситуацию романного
героя (или внутритекстового рассказчика) в тот или иной момент
повествования, а второй — ситуацию писателя, сочиняющего
повествование и наполняющего его семиотическими кодами своей
эпохи и своего, литературного дискурса. Семиотика героя
объективирована, дистанцирована от читателя, тогда как в авторскую
семиотику читатель втянут, дешифруя ее в ходе чтения; сколь бы
сильна ни была идентификация читателя с героем, неосознанная
идентификация с автором всегда еще сильнее. Это и делает
семиотику литературного дискурса «более обобщенной», чем «поэтика
бытового поведения», прилагаемая комментатором к герою.
Комментарий и его двойник
239
В-третьих, пограничным случаем является комментирование
интертекстуальности. Интертекстуальность образуют факты на
грани языка и речи, общего и индивидуального, обычные
«словарные» слова и выражения, обладающие личной авторской
подписью. Отсюда сложность вопроса о различии между цитатой (или
подтекстом) и топосом, который поднимала на Лотмановских
чтениях Наталия Мазур: топос — это цитата, потерявшая автора,
утратившая индивидуальную принадлежность, ее изначальный
автор если и не вовсе забыт, то в практическом культурном обиходе
никого более не интересует. Такие «ничьи» цитаты
функционируют как плавающие коннотативные означающие, получая
вариативные контекстуальные значения наподобие местоимений6. История
топосов — не совсем история идей, это история коннотативных
выражений, а не содержаний, но именно потому, что здесь
работает коннотация, эта история фактически выходит за рамки
комментария и если не по структуре дискурса, то по способу
моделирования своего предмета сближается с пристальным чтением:
топос — одна из дискурсивных фигур.
Двум пространственным моделям текста-объекта
соответствуют два разных устройства метатекстуального дискурса. Его базовая
атомарная структура одна и та же — «цитата + пояснение к ней», —
но строение обеих частей, и особенно «пояснений», заметно
различается. Пристальное чтение, поскольку оно излагается на письме,
имеет дело с общими категориями и работает в рамках
аналитического дискурса, посредством различения смыслов и
классификации приемов; ср. риторическую классификацию фигур, из которой
оно выросло. Его типичным итогом является установление
неоднозначности (отдельного слова, текста в целом); отсюда один шаг
до деконструкции — надо лишь предположить, что
неоднозначность высказывания имманентно коренится в самом существе акта
высказывания. Напротив того, комментарий, нацеленный на
уникальные факты, вынужден пользоваться ассоциативными и
нарративными структурами изложения. Ассоциативность сказывается в
поисках всевозможных парадигматических аналогий, «параллелей»
и «общих мест», сигнализируемых условными формулами
интертекстуального комментария типа «ср.». Что же касается нарратив-
ности, то она проявляется и в «болтливости» комментария — его
склонности рассказывать для объяснения текста всевозможные
«мифы» или историко-литературные анекдоты, — и, в более
строгой форме, при изложении истории подтекстов и бродячих
выражений, цитат, сюжетов; наконец, она сказывается не только в
6 Ср. общекультурную оппозицию «имена собственные/местоимения» у
Ю. Лотмана и Б. Успенского в статье «Миф — имя — культура».
240
Знаки и образы
самих комментариях, но и в метанаучном комментаторском
дискурсе. Для комментатора закономерно оказывается
привлекательной «уликовая парадигма» Карло Гинзбурга — большого ученого,
но и большого соблазнителя, обосновывающего с помощью этой
категории специфическую историко-интерпретативную
деятельность, которая находится на грани строгой научности.
Получающийся в результате такой деятельности комментаторский текст
имеет нарративную или по крайней мере квазинарративную
природу: «Возможно, сама идея рассказа (как чего-то отличного от
заговора, заклинания или молитвы) впервые возникла в
сообществе охотников, из опыта дешифровки следов»7. Рискованная
эпистемологическая близость комментатора к охотнику или
детективу отражается в научном быту: по остроумному замечанию Андрея
Зорина на 11-х Лотмановских чтениях, конференция
комментаторов напоминает обмен рыбацкими или охотничьими рассказами об
обстоятельствах, сопровождавших ту или иную научную находку...
В этом — оригинальная черта филологии: трудно представить себе
научное собрание математиков, химиков или лингвистов, которые
бы столь охотно рассказывали друг другу, какими путями они
дошли до своих открытий; напротив, конференция
филологов-комментаторов непременно изобилует такими нарративами,
излагаемыми в самых разнообразных модусах — методическом,
анекдотическом, стилизованно-художественном и т.д.
Как видно из ссылок на культурологические работы Лотмана и
Успенского или Гинзбурга, комментирование представляет собой
иную по культурному статусу практику, чем пристальное чтение
(хотя, конечно, не следует сводить его к «мифологическому
мышлению» или чему-то подобному). У этого типологического
различия есть и социально-исторический аспект: комментарий
существует по крайней мере с античности, тогда как подъем
пристального чтения датируется XIX—XX веками и послужил фактором
обновления металитературного дискурса, образования науки о
литературе в эпоху «современности». Это особенно отчетливо
показывают два этапа внедрения данной практики во французской науке:
сначала в ходе лансоновской реформы французского университета
в конце XIX века, заменившей риторику как искусство письма
историческим «объяснением текста» — искусством чтения; а затем
при появлении семиотического анализа текста в 1970-е годы, на
революционной волне 1960-х.
Дело в том, что пристальное чтение — это не что иное, как
теория литературы в ее практическом применении, теория, стре-
7 Карло Гинзбург, Мифы — эмблемы — приметы, с. 198.
Комментарий и его двойник
241
мящаяся не отрываться от конкретного текста, использующая его
в качестве постоянного источника экземплифицирующего
материала. Конечно, не все теоретические проблемы литературы
одинаково хорошо формулируются в ходе пристального чтения —
например, с его помощью трудно описывать нарративные
конструкции (разве что в масштабах короткого текста или фрагмента).
Но в общем и целом теория литературы идет рука об руку с
пристальным чтением, а не с комментированием; и наоборот,
«неприятие теории», как отмечал Поль де Ман, — это всегда неприятие
чтения, риторической интерпретации8, которой обычно
противопоставляются те или иные виды комментаторской практики.
Между тем как бы ни была сложна теория, она представляет собой
конечное, а потому в принципе общедоступное знание;
соответственно пристальное чтение, даже при самой изощренной
теоретической оснащенности, — более демократическая практика, чем
«позитивистское» комментирование, для которого требуется,
вообще говоря, бесконечное, ничем не ограниченное накопление
уникально-фактических знаний. Всякое чтение демократичнее
письма, а потому составители, писатели комментариев образуют
элитарный «клуб» (Ю. Цивьян).
Пристальное чтение вошло в практику не во всех странах — по
крайней мере, не везде одинаково глубоко. Так, оно не
укоренилось в России. Отсутствие традиции пристального чтения в нашей
стране может служить объяснением недолговечности ее
теоретических движений. Ближе других русских ученых подступились к
практике пристального чтения Р. Якобсон и Ю. Лотман — один в
работах по «грамматике поэзии», другой в «Анализе поэтического
текста». Но до полного синтагматического описания текста дело
все же доходило редко (хотя некоторые опыты, например
«"Кошки" Шарля Бодлера» Якобсона и Леви-Стросса, стали
классическими), а Лотман после своих первых книг по поэтике, увлекшись
семиотикой бытового поведения, написал книгу о «Евгении
Онегине» — образец современного комментария как такового.
Сегодняшнее господство комментаторского дискурса в русском литера-
8 Raul de Man, The Resistance to Theory, Minneapolis — London, Minnesota UP,
1986, p. 17—18. Отношения между «теорией» и «риторикой», или «тропологи-
ей», текста, о котором пишет здесь П. де Ман, исторически сложны: как
только что отмечено, во Франции «объяснение текста» было впервые выдвинуто в
качестве альтернативы традиционным риторическим штудиям; тем не менее
оно усвоило некоторые их важнейшие приемы и методические подходы,
прежде всего принцип тотально языковой природы текста, где требуется объяснять
«фигуры», а не реалии: подход исторический, но с точки зрения литературной
истории, а не Истории социальной.
242
Знаки и образы
туроведении (по крайней мере, в метрополии) может пониматься
как признак очередной несостоявшейся культурной, в данном
случае «литературно-теоретической» модернизации страны — факт
особенно парадоксальный, если принять во внимание большую
роль России в становлении мировой литературной теории.
2004
ФИЛОЛОГИЧЕСКАЯ ИЛЛЮЗИЯ
И ЕЕ БУДУЩНОСТЬ
Российская филология постсоветской эпохи находится в
положении ослабелой империи, чьи соседи, осмелев, со всех сторон
теснят и донимают ее набегами. На нее взирают свысока
понаторевшие в новейшей западной мудрости философы; ее критикуют
за ненаучность социологи массовой культуры; к ее ревизии
призывают историки, пеняя ей за ничем не оправданный логоцент-
ризм, за отрыв письменных текстов от порождающего и
развивающего их внетекстуального процесса. Многие профессиональные
филологи — кто более, кто менее осознанно — и сами изменяют
одряхлевшей державе, эмигрируя на иные, сулящие больший
успех территории: главным образом в ту же историю, политическую,
идеологическую, биографическую, бытовую...
За антифилологической реакцией скрывается проблематиза-
ция некоторых фундаментальных предпосылок
историко-культурных исследований, вошедших в плоть отечественной науки.
У филологии, то есть «любовного» обращения с вербальным
текстом, есть две традиционных задачи, два противоположных
движущих импульса — исторический и аксиологический. С одной
стороны, занимаясь эдиционной выверкой текстов и описывая
смену их вариантов, филология реализует себя как дисциплину,
«чьей главной функцией является вводить в изучение текстов их
историческое измерение»1; с другой стороны, такое изучение
традиционно применяется только к каноническим произведениям, то
есть филология самим фактом рассмотрения некоторого текста
или автора неявно фиксирует, подтверждает его высокий
ценностный статус. Эти две задачи расходятся: историческое исследование
не может, оставаясь в строго научных рамках, обосновывать какие-
либо оценки, а всякий классический канон «стремится быть вне-
историческим»2. Даже когда филология берется комментировать,
то есть толковать смысл текстов, ей для этого приходится
осуществлять неявный отбор «осмысленного» культурного материала.
В самом деле, основным приемом филологического анализа
являются поиски интертекстуальных связей и внетекстуальных
прототипов, но и то и другое оправданно, интересно искать лишь при
1 Michel Espagne, De l'archive à l'œuvre, P., Presses universitaires de France,
1998, p. 169.
2 Ibid., p. 195.
244
Знаки и образы
условии, что круг поисков заведомо ограничен и более или менее
знаком, — в противном случае комментирование уходит в дурную
бесконечность «случайных» обстоятельств, которые лишены
ценностной значимости и ничего нам не говорят. Если мы установим,
что какой-то текст, фрагмент или структура в нем отсылают к
некоему другому тексту, о котором мы больше ровно ничего не
знаем и не узнаем никогда (допустим, к уничтоженному письму или
нигде более не зафиксированному разговору), то поиски не
просто прекращаются за исчерпанностью источников, но для
понимания исходного текста они, собственно, ничего и не дали — разве
что установили сам факт интертекстуальной переклички, факт
банальный, ибо, по современным воззрениям, все тексты по сути
своей интертекстуальны.
Своей нормативно-селективной функцией филология
смыкается с такими культурными институтами, как риторика (например,
во Франции) или политическая идеология (например, в нашей
стране). Упрощая задачу, соблазнительно сразу же расставить свои
собственные оценки: историческую ипостась филологии оценить
положительно за «научность», а аксиологическую —
отрицательно, как наследие идеологической закрепощенности. На самом деле
все обстоит сложнее.
Прежде всего, престиж филологии в советской культуре был
обусловлен именно относительной слабостью идеологического
давления, которое она переживала. Научная история культуры
развивалась в СССР на основе филологии, а не на основе истории
как таковой, слишком придушенной властью, чтобы быть
способной к живому росту. Одновременно и традиционная, хотя бы и
полемическая, привязанность русской культуры к государственной
власти заставляла централизованно структурировать предмет
историко-культурной науки: культура мыслилась иерархически, как
достояние узкого, иногда даже очень узкого круга людей, чьи
дискурсы и дискурсивные продукты замещают собой весь массив
духовной жизни «молчаливого большинства». В той же Франции
научная эволюция в те же годы шла иначе: филологическое
литературоведение, выдержав натиск структуралистской лингвистики
и частично ассимилировав ее в форме поэтики, вернулось к
привычной для себя рутинной практике — более или менее
тавтологическому толкованию и риторическому комментированию
(«разъяснению») текста, а широким исследованием истории
культуры занимаются в основном историки, благо до сих пор
существует мощная традиция «Анналов». У нас историко-культурные
методы пока плохо прижились, часто отторгаются как пережитки
старинных народнических заблуждений. В дискуссиях русских
филологов приверженец социально-исторического позитивизма ока-
Филологическая иллюзия и ее будущность 245
зывается в положении комического дурака, пристающего к людям
с идиотскими вопросами: «а как обстояло дело в более широких
кругах культуры?», «а какие статистические данные можно
привести в подтверждение данной тенденции?» И конечно же, ни о
каких статистических подтверждениях и широких обследованиях
речи не идет: изучаются в принципе уникальные, «штучные»
события и факты, подобно тому как государственная история
считается единично-безвариантной и «не имеющей сослагательного
наклонения».
Перефразируя «Капитал», такую филологическую установку
можно было бы назвать «текстуальным фетишизмом»: текст
(отдельное произведение или, скажем, сочинения некоего автора как
единый текст) рассматривается не как частное событие в
бесконечном ряду обменов слов на поступки и наоборот, а как
окончательное, сакрализованное вместилище бесконечно богатых смыслов, в
принципе всех возможных смыслов. Усугубленная форма такой
сакрализации, господствовавшая в литературоведении и критике
советского периода, — сосредоточенность на литературном герое
как завершенном и самоцельном «живом» субъекте, вбирающем в
себя главное содержание произведения. Так или иначе, в
историко-филологическом дискурсе центральная фигура — синекдоха:
часть вместо целого, «имярек — наше все» (или «мое все» для
конкретного исследователя). Анализ классики, поддержание или
пересмотр классического канона преобладают над описанием моды как
альтернативного механизма эстетического подражания.
Филологи могут сколько угодно тешить себя иллюзиями равноправного
исследования всех писателей прошлого с целью создания
интегральной истории литературы по принципу «никто не забыт и ничто
не забыто» — но все равно авторы «второго ряда» фактически
рассматриваются либо в качестве резерва для заполнения вакансий в
будущем классическом каноне (так долгое время изучали
писателей Серебряного века, принижаемых официальной наукой), либо
в качестве резервуара интертекстуальных перекличек, помогающих
понять главные, «классические» тексты национальной культуры
как внутренне бесконечный, хотя и ограниченный внешними
пределами континуум.
Парадокс в том, что некоторые тексты действительно могут
рассматриваться «сами для себя»; как показывает метод
деконструкции, таких текстов даже очень много — во всяком случае,
гораздо больше, чем текстов собственно «классических». Критерий
их выделения — довольно субъективный и главным образом
экономический: выгодно ли изучать данный текст нетранзитивно,
вглубь, или же эффективнее потратить силы на серийное
описание ряда однотипных текстов, к которому он принадлежит? Не-
246
Знаки и образы
серийные, принципиально «штучные» тексты — по крайней мере,
некоторые из них — можно называть «автометатекстами»,
текстами, которые сами описывают себя, содержат в себе программу
своего описания; так Стендаль-дипломат однажды якобы послал
своему министру шифрованное донесение и по рассеянности
сунул в тот же конверт листок с шифром. Жерар Женетт, упомянув
этот анекдот в одной из своих статей, не извлек из него всех
возможных теоретических выводов; а у нас о таком двойном
сообщении коммуникативного акта — собственно сообщение плюс код,
который также несет информацию, то есть является вторым
сообщением, — размышлял Ю.М. Лотман в статье «О двух моделях
коммуникации в системе культуры».
Описывая сам себя, отражаясь сам в себе, автометатекст
запускает в принципе бесконечный механизм смыслообразования
(Лотман называл его автокоммуникацией), то есть оказывается
семантически бесконечным. Каким же образом следует мыслить эту
бесконечность?
В математике различаются две категории бесконечных
множеств — счетные и континуальные (возможны и другие разряды,
но «реальных» примеров их нет, только искусственно
сконструированные). Счетное множество — это, например, все точки отрезка
прямой, которые отмечаются при его делении на 2, 3, 4 и т.д.
равных частей; а континуальное множество — это вообще все точки
того же отрезка, включая, скажем, отстоящие от концов на
расстоянии 4г , VT и т.д.; этих последних точек не просто «больше», чем
первых, но они даже не могут быть поставлены им в соответствие,
то есть два множества имеют разную мощность. Между двумя
уровнями бесконечности происходит качественный скачок, меняющий
самую природу объекта: вместо бесконечно плотного, но все-таки
исчислимого множества дискретных точек возникает
действительно сплошная, не поддающаяся пересчету, континуальная линия.
О континуальных факторах в культуре писал Лотман в статье
«Феномен культуры», разрабатывая свою любимую мысль, что для
развития семиотической системы необходимы по крайней мере два
разноприродных кода:
Наиболее универсальной чертой структурного дуализма
человеческих культур является сосуществование словесно-дискретных
языков и иконических, различные знаки в системе которых не
складываются в цепочки, а оказываются в отношениях гомеоморфизма,
выступая как взаимоподобные символы (ср. мифологическое
представление о гомеоморфизме человеческого тела, общественной и
космической структур)3.
3 Ю.М. Лотман, Избранные статьи, т. 1, Таллин, Александра, 1992, с. 36.
Филологическая иллюзия и ее будущность 247
Лотман вскользь указывает здесь и на типичный пример такого
континуального культурного объекта, противостоящего по своей
структуре дискретным образованиям языкового типа, — это
человеческое тело. Действительно, свое тело мы всегда, кроме ситуаций
преднамеренного (само)анализа, переживаем как нечто единое и
сплошное, не содержащее в себе пустот и разрывов. В порядке
гипотезы можно предположить, что и семантически бесконечные
тексты мыслимы в качестве континуальных объектов, имеющих не
дискретно-исчислимую, а квазителесную природу. В известном
смысле такой познавательный проект представляет собой
обновленную эстетику, поскольку эстетика изначально являлась
критикой вкуса, то есть телесной, эротической реакции человека на
некоторый объект, вообще говоря не несущий никакого дискретного
сообщения («нравящийся без понятия», по словам Канта).
В качестве текста-тела, ограниченного внешне и в то же
время бесконечного по внутренней насыщенности, может
рассматриваться не только отдельное событие или произведение культуры,
но и целая культурная формация. В этом смысле по-прежнему
перспективной и плохо усвоенной остается интуиция М.М.
Бахтина о «народной смеховой культуре». Не вдаваясь здесь в
исторические нюансы ее определения, достаточно отметить, что
противопоставление культуры «народной» и «официальной» у Бахтина
фактически релятивизируется. Роже Шартье отмечает как
нетривиальную черту его теории тот факт, что «энциклопедией
народной культуры» служит для Бахтина одна-единственная печатная
книга, и притом вовсе не «народная», а принадлежащая перу
ученого эрудита Рабле:
...это значит, что помимо использования слов, образов или форм
«народной смеховой культуры» весь текст в целом функционирует
согласно такому представлению о жизни и мире, которое, собственно, и
присуще карнавальной культуре, полагаемой как «материнское лоно»
всякого народного выражения4.
Объяснение такого парадокса, по-видимому, состоит в том,
что эта культура фактически трактуется как единое «коллективное
тело», подобное тексту и в силу своего континуального характера
ломающее те социальные перегородки, которые постулируются на
уровне анализа дисконтинуалистского, например семиотического.
О телесности в культуре в последнее время пишут много.
Важно разграничивать два ее аспекта: с одной стороны, процессы
окультуривания тел — то есть адаптации реальных человеческих тел
4 Roger Chartier, Au bord de la falaise, P., Albin Michel, 1998, p. 53.
248
Знаки и образы
к требованиям культуры, будь то формы их физической
«обработки» от ритуальной хирургии до одежды и косметики, либо формы
их знакового осмысления, то есть устройство говорящих о теле
дискурсов, — и, с другой стороны, собственную жизнь тела,
проявляющуюся в строении культуры, в той или иной особой форме
телесности (изолированной/коллективной,
покоящейся/экстатической и т.д.), которая доминирует в тот или иной момент.
Первый аспект рассмотрен, например, в цикле историко-культурных
трудов Мишеля Фуко; второй аспект пока еще редко становится
предметом методологически осознанного изучения. В
отечественной науке пионерскими образцами такого анализа являются
пограничные по отношению к филологии работы Михаила Ямпольского
(например, «Демон и лабиринт») и Валерия Подороги
(«Выражение и смысл»).
Взаимодействие тотальных телесных текстов уже не может
мыслиться в понятиях интертекстуальных перекличек или внетек-
стуальных прототипов; собственно, отменяется и разграничение
этих двух процессов, так как живые «прототипы» в силу своей
телесности сами оказываются своего рода текстами. Речь скорее
следует вести о миметических взаимодействиях — но, в отличие от
классической теории мимесиса, их нужно совершенно очистить от
подражания какой-либо идеальной схеме или идее предмета; это,
так сказать, сугубо материалистический мимесис, где
соприкасаются и влияют друг на друга сами континуальные тела и/или
тексты. Подобное воззрение, конечно, легче прокламировать, чем
реализовать на практике: как происходит мимесис тела текстом,
каким образом литература «сканирует» внеположную ей
континуальную реальность — мы еще плохо себе представляем.
Если говорить не об отдельном тексте, а о функционировании
культуры в целом, то его моделью окажется, по-видимому,
неоднородное гравитационное пространство, силовое поле, где тексты,
дискурсы, реальные тела и лица группируются вокруг
соперничающих друг с другом центров притяжения. Это, пожалуй, не совсем
историческая модель, ибо тело как таковое вряд ли может
рассматриваться в качестве исторического объекта; но зато в ней
учитывается незамкнутость текстов культуры, их открытость для
осмотических взаимодействий (как «входящих», так и «исходящих»).
Если традиционный исторический дискурс, по замечанию
Мишеля де Серто, умножает дискретные членения (например,
хронологические «периоды»), в которых отражается изначальный,
конститутивный факт отрыва историка от изучаемого им материала5, то
континуальная модель, исключающая резкие разрывы, восстанав-
5 См.: Michel de Certeau, L'Écriture de l'histoire, P, Gallimard, 1975, p. 10.
Филологическая иллюзия и ее будущность 249
ливает на новом уровне развития филологическую герменевтику,
позволяя аналитику поместить себя в сердце текста, бесконечно
богатого внутренними смыслами и — что в конечном счете то же
самое — внешними связями и ассоциациями.
Наконец, подобный подход способен подвергнуть ревизии и
рефлексии также и само явление сакрализации канонического
текста, на котором зиждется традиция филологии. Дело в том, что
континуальные модели мира генетически тесно связаны с
понятием сакрального — особенно если мыслить его в той амбивалентной
трактовке («святость/скверна»), которую оно получает у
французских теоретиков, начиная с Эмиля Дюркгейма и Марселя Мосса
и кончая Рене Жираром и Полем Рикёром. Сакральное
переживается как текучая, нерасчленимая и неисчислимая энергетическая
субстанция («мана», «благодать»), служащая для первобытных, да
и не только первобытных, народов универсальной объяснительной
моделью природных и общественных событий; одним из таких
событий является и сакрализация текстов-«образцов», их
выделение из профанного массива культуры, каковым выделением
определяется двойственный статус филологии — наполовину научной,
наполовину жреческой культурной практики.
Жизнеспособность интеллектуальной традиции определяется
ее умением утилизировать свои собственные ошибки, извлекать
пользу из собственной методологической ограниченности. Русская
культура, с точки зрения современной западной науки, являет
собой некоторые явно экзотические или же архаические черты, одна
из которых заключается как раз в аномально высоком статусе
филологии; задача состоит не в том, чтобы «исправить» эти
отклонения, а в том, чтобы отрефлектировать, проблематизировать их,
заново пустить в дело. Это своего рода экзистенциальный акт, в
принципе повторяемый вновь и вновь: делать себя из «вещи в себе»
«вещью для себя», сознательно принимать свою судьбу и свою
(историческую, культурную, национальную, дисциплинарную)
индивидуальность, учиться рассматривать свою интеллектуальную
установку как продуктивную фикцию, плодотворную иллюзию.
2001
БЕНЬЯМИН, БОДЛЕР И МИМЕСИС
Проблема мимесиса давно обсуждается в исследованиях о
Вальтере Беньямине. Их авторы обращали внимание на телесный
характер миметической способности по Беньямину и на ее
трансформацию в эпоху «технической воспроизводимости»1;
сопоставляли миметические процессы с семиотическими2; соотносили
мимесис с другим беньяминовским понятием — «историческим
опытом»3; пытались строить на основе идей немецкого
мыслителя общую концепцию «контактного» мимесиса4.
Моя задача здесь — выделить несколько особых форм
мимесиса у Беньямина, на которые до сих пор мало обращали
внимания, и найти для некоторых из них прототипы в творчестве
Шарля Бодлера и в культуре его эпохи, служившей Беньямину
образцом буржуазной эстетической культуры. «Мимесис» будет
пониматься в широком смысле — как любое подражание и/или
воспроизведение, осуществляемое человеком или без его участия,
связанное или нет с художественной деятельностью. Наконец,
следует оговорить, что данные заметки не претендуют на охват всех
явлений мимесиса, затрагиваемых у Беньямина, и что тексты
немецкого автора я изучал по русским и французским переводам, по
возможности сопоставляя их друг с другом.
Мимесис-различие
Наиболее ясное представление об этой форме мимесиса дает
короткое эссе Беньямина 1933 года «О подражательной
способности». В нем следует выделить три момента: 1) «нечувственное
сходство», 2) мимесис как чтение «никогда не написанного», 3) упадок
миметической способности в ходе ее эволюции.
1 Susan Buck-Morss, The Dialectic of Seeing: Walter Benjamin and the Arcades
Project, MIT Press, 1989.
2 Tilman Lang, Mimetisches oder semiologisches Vermögen? Studien zu Walter
Benjamins Begriff der Mimesis, Göttingen, Vanderhoeck & Ruprecht, 1998.
3 Seong-Man Choi, Mimesis und historische Erfahrung: Untersuchungen zur
Mimesistheorie Walter Benjamins, Frankfurt, P. Lang, 1977.
4 Michael Taussig, Mimesis and Alterity: A Particular History of Senses, Routledge,
1993.
Беньямин, Бодлер и мимесис
251
«Нечувственное сходство» — это мимесис посредством
дифференциации: некое родство, усматриваемое в вещах, не имеющих
между собой общих черт. Так для астролога звезды «сходны» с
чьей-то судьбой или для графолога почерк «сходен» с чьим-то
характером; так же и слова языка «сходны» со своим смыслом —
хотя, чтобы заметить это сходство, приходится делать особое
усилие:
Собирая вместе слова, которые означают одно и то же в разных
языках, и располагая их вокруг их означаемого как вокруг общего
центра, можно было бы выяснить, чем все эти слова — часто не
имеющие ни малейшего сходства между собой — сходны с этим
центральным означаемым5.
Нечувственное сходство существует именно постольку,
поскольку сходные объекты несопоставимы по природе. Слова
разных языков не похожи друг на друга, потому что имеют общую
природу — звуковую или графическую; зато эти звучащие или
писаные слова могут походить на вещь или понятие, обозначаемые
ими и чуждые им по своей природе. В таком понимании мимесис
парадоксальным образом осуществляется посредством
абсолютного различия. Тем не менее это именно мимесис, а не семиозис, и
Беньямин специально уточняет, что он внеположен знаковым
процессам в языке, которые служат для него лишь «основой»:
Подобно пламени, миметическое начало языка может
проявляться лишь опираясь на какую-то основу. Эта основа — семиотическое
начало6.
Такое сходство, рассуждает Беньямин, не может быть
намеренно произведено человеком; оно может быть только прочитано,
усмотрено в таких вещах, которые создавались с каким-то другим
намерением или в которых вообще нет никакого намеренного
замысла. В искусстве оно возникает лишь «по ту сторону
изобразительности», например в бесформенном цветовом пятне на
картине7. Интенциональные, намеренно созданные для коммуникации
знаки, как правило, расшифровываются вне процессов мимесиса;
а вот при дешифровке природных или сверхъестественных «зна-
5 Wilter Benjamin, Œuvres II, P., Gallimard, 2000 (Folio Essais), p. 361—362.
Французский перевод Мориса де Гандильяка.
6 Walter Benjamin, Œuvres II, p. 362.
7 Walter Benjamin, Œuvres I, p. 178 (Статья «О живописи», 1917.
Французский перевод Пьера Рюша).
252
Знаки и образы
ков», не имеющих личного отправителя, приходится
постулировать некие невыразимые соответствия, «нечувственные сходства»:
«Читать никогда не написанное». Таков древнейший тип
чтения — чтение до всякой речи, по внутренностям жертвы, по звездам
или танцам8.
Легко разглядеть исторические истоки такой мантической
операции — это (пост)романтическая традиция, согласно которой мир
представляет собой символический язык или текст; проявления ее
можно прослеживать от гегелевского описания древних греков,
улавливавших в природном мире «трепет смысла»9, до бодлеровс-
кой теории «сверхнатурализма», поэтически сформулированной в
стихотворении «Соответствия» и реализованной в ряде других
текстов, например в двух стихотворениях о шевелюре («Волосы» в
стихах и «Полмира в волосах» в прозе).
Наконец, Беньямин неоднократно констатирует, что
«подражательная способность», чувствительность к «нечувственным
сходствам» переживает упадок со временем:
Конечно, в нашей жизни не остается почти ничего
позволявшего некогда говорить о таком сходстве и, главное, вызывать его10.
Упадок способности «читать никогда не написанное»
заставляет вспомнить беньяминовскую теорию аллегории как образа,
пришедшего в упадок, превратившегося в «руины»и, разбившегося
на фрагменты с падением древних языческих культов. Аллегория,
8 W&Iter Benjamin, Œuvres II, p. 363. Приводимые Беньямином примеры
дивинации сближают его идею «нечувственных сходств» с концепцией
«уликовой парадигмы», сформулированной полвека спустя Карло Гинзбургом.
9 Hegel, Leçons sur la philosophie de l'histoire, P., Vrin, 1946, p. 212. Эту фразу
Гегеля не раз цитировал Ролан Барт; мы еще увидим другой его параллелизм с
Беньямином в трактовке мимесиса.
10 Walter Benjamin, Œuvres II, p. 361.
11 См.: Вальтер Беньямин, Происхождение немецкой барочной драмы, М.,
Аграф, 2002, с. 241, 251 и др. Ср. в ранней статье «О языке вообще и о языке
человеческом» (1916): «Всякая человеческая речь есть лишь отражение
глагола в имени» Obiter Benjamin, Œuvres I, p. 154. Французский перевод Мориса
де Гандильяка). Сходная идея, но «материализованная», примененная не к
чистым сущностям, а к конкретным людям, встречается и у позднего Бенья-
мина, например в разборе одного из стихотворений Брехта («Комментарий к
нескольким стихотворениям Брехта», 1938—1939): «"Люди из Махагони"
образуют толпу марионеток <...>. Марионетка — это не что иное, как человек,
истертый до самой основы» (W<er Benjamin, Œuvres III, p. 232. Французский
перевод Райнера Рошлица).
Беньямин, Бодлер и мимесис
253
как и мимесис-различие, характеризуется несходством между
означающим и означаемым; она может толковаться как
преобразованная форма «нечувственного сходства», которое уже
превращается в условный знак. При аллегорическом мимесисе различие
окончательно одерживает победу над сходством.
Мимесис-тождество
Для понимания второй формы мимесиса капитальным текстом
Беньямина является «Произведение искусства в эпоху его
технической воспроизводимости» (1939). Современное художественное
творение, производимое или воспроизводимое вне телесных
усилий человека, бездушными механизмами наподобие кинокамеры,
тиражируется во множестве копий, которые в точности
тождественны друг другу и лишены «оригинала». При таком процессе
мимесис меняет свое направление: вместо того чтобы имитировать
оригинал, копии имитируют одна другую, образуя серию.
Серийное произведение, с одной стороны, не включается в
пространство-время уникальных событий, а с другой стороны, свободно от
традиции. Действительно, традиция соответствует мимесису
первого типа, она мыслится как заведомо неполноценное
воспроизведение уникального первозданного события, по отношению к
которому его дальнейшие реплики могут обладать разве что
«нечувственным сходством». Иначе устроен современный серийный
мимесис:
Репродукционная техника <...> выводит репродуцируемый
объект из сферы традиции. Тиражируя репродукцию, она заменяет его
уникальное проявление массовым [серийным. — С.3.]. А позволяя
репродукции приближаться к воспринимающему ее человеку, где бы
он ни находился, она актуализирует репродуцируемый предмет12.
Технически репродуцируемое произведение искусства
приближается к своему потребителю и даже, при благоприятных
социальных условиях, может позволить последнему удовлетворить
«законное право современного человека на тиражирование»13. Но
12 Вальтер Беньямин, Произведение искусства в эпоху его технической
воспроизводимости, М., Медиум, 1996, с. 22. Перевод С. Ромашко.
13 Там же, с. 46. Парадокс в том, что такое «тиражирование», техническое
воспроизведение человеческого образа знаменует высшую степень отчуждения
человека, когда он делается неузнаваемым для себя самого: «В эпоху
достигшего высшей точки отчуждения людей друг от друга, в эпоху непознаваемо
опосредованных отношений, которые и были их единственным достоянием, —
254
Знаки и образы
это приближение покупается ценой отказа от «ауры»: она
исчезает в технически воспроизводимом искусстве, создание образа
сводится к операциям над безличной реальностью, вне отношений
между людьми14. Такое миметическое произведение, слишком
«актуализированное» по отношению к телу «воспринимающего
человека», предназначено скорее для чувственного восприятия и
манипулирования, нежели для чтения, что отличает данный вид
мимесиса от «нечувственного сходства». Более того, техника
репродукции, «тиражирующая» тело потребителя, втягивает само это
тело в миметическую игру: она преодолевает рамки искусства и
начинает регулировать жизненное поведение масс. Собственно,
именно из нее и возникает само понятие массы в его
перцептивном аспекте:
Массовая репродукция оказывается особо созвучной репродукции
масс. В больших праздничных шествиях, грандиозных съездах,
массовых спортивных мероприятиях и военных действиях — во всем, на что
направлен в наши дни киноаппарат, массы получают возможность
взглянуть самим себе в лицо. Этот процесс, на значимости которого
не требуется особо останавливаться, теснейшим образом связан с
развитием записывающей и воспроизводящей техники <...>. Это значит,
что массовые действа, а также война представляют собой форму
человеческой деятельности, особенно отвечающую возможностям
аппаратуры15.
Не давая этой новейшей форме мимесиса какой-либо
эксплицитной оценки, Беньямин достаточно ясно связывает ее с
практиками массовых коллективных действий — праздников, митингов,
а также военных действий, рассматриваемых с эстетической
точки зрения, — которые в 1930-е годы применялись в тоталитарных
государствах, особенно в нацистской Германии.
в эту эпоху были изобретены кино и граммофон. В кино человек не узнает
собственную походку, в фаммофоне — собственный голос. Эксперименты это
доказывают» («Франц Кафка», 1934; в кн.: Вальтер Беньямин, Франц Кафка, М.,
Ad marginem, 2000, с. 92. Перевод М. Рудницкого).
14 Ср. беньяминовскую метафору руки хирурга/кинооператора (Walter
Benjamin, Œuvres III, p. 300), которая близко соприкасается с чувственными
реальностями, но не служит медиумом какого-либо личностного отношения.
Майкл Тауссиг (Michael Taussig, op. cit., p. 31—32) усматривает в этой
метафоре общее выражение теории мимесиса у Беньямина, но не принимает в расчет
различие между определениями мимесиса в работах «О подражательной
способности» и «Произведение искусства...»
15 Вальтер Беньямин, Произведение искусства в эпоху его технической
воспроизводимости, с. 62.
Беньямин, Бодлер и мимесис
255
Феномены такого подражания — с применением технической
репродукции или без нее — встречаются в целом ряде текстов
Бодлера, причем почти всегда с отрицательной оценкой.
Известен скептицизм французского поэта по отношению к
фотографии, первой современной технике механической репродукции; в
его стихотворении в прозе «Фальшивая монета» говорится о
двусмысленном, парадоксальном преумножении фальшивой монеты,
способной принести удачливому спекулятору кучу настоящих
денег; что же касается телесного мимесиса, то он вызывает у
Бодлера отвращение или тревогу, как в стихотворениях «Семь
стариков», «Альбатрос» (фигура матроса, который дразнит
пойманную птицу, мимируя ее неуклюжую походку, — «l'autre mime,
en boitant, l'infirme qui volait»)16 и особенно в диатрибах
против коллективного «обезьянства» бельгийцев (заметки «Жалкая
Бельгия»):
Для его [бельгийца. — С.З.] описания не будем выходить из
одного ряда идей: Обезьянство, Подделка, Единообразие, Злобное
бессилие, — и мы сможем распределить все факты по этим разным
статьям.
Их пороки — подделки17.
В переулке мочатся шесть бельгийских дамочек, одни стоя,
другие вприсядку, все пышно разряженные18.
У Бодлера такой дурной мимесис затрагивает не столько
художественное творчество — самое большее его «техническую
репродукцию», вернее «подделку» (Contrefaçon), как в книжном
пиратстве, которым в ту пору охотно промышляли бельгийские
издатели, — сколько повседневно-бытовые телесные поступки и
позы людей, будь то матрос-мим в «Альбатросе», точь-в-точь
похожие друг на друга семь стариков или же коллективные
отправления телесных потребностей бельгийскими «дамочками». В
противоположность мимесису-различию, это сугубо чувственный
мимесис, не прозревающий тайное родство между уникальными
фактами, а производящий очевидные сходства между серийными
объектами, апеллирующий к телу, а не духу. В «Произведении
искусства...» Беньямин подхватывает такую десакрализованную идею
16 В данном случае имитация, конечно, не является ни «технической», ни
точно тождественной, хотя сближается с массовыми спектаклями своим
телесным характером.
17 Charles Baudelaire, Œuvres complètes, P., Seuil, 1968 (L'Intégrale), p. 655.
18 Ibid, p. 665.
256
Знаки и образы
мимесиса19, продолжая и модифицируя бодлеровские замечания о
перцептивном опыте современного города20.
Мимесис-буквальность
Третья форма мимесиса по Беньямину — наиболее
оригинальная; не имея никаких соответствий у Бодлера, она выражает новую
тенденцию, свойственную мысли XX века. В разных текстах она
получает три основные формулировки, не считая некоторых менее
четких.
Первый такой текст — это «Задача переводчика», эссе,
напечатанное в 1923 году вместе с беньяминовским переводом
«Парижских картин» Бодлера. Изложенная в нем программа перевода,
преобразующего свой национальный язык, включает помимо
прочего идею буквального подражания:
Истинный перевод весь просвечивает, он не скрывает оригинала,
не заслоняет ему свет, он позволяет лучам чистого языка
беспрепятственно освещать оригинал, словно усиливая их своими
собственными средствами. Этой способностью обладает прежде всего дословная,
буквальная передача синтаксиса...21
Требование буквальной передачи синтаксиса (которое, если
его понимать буквально, ужаснуло бы практических переводчиков)
19 Впрочем, в работе «Шарль Бодлер. Поэт в эпоху зрелого капитализма»
Беньямин отмечает в творческом опыте самого же Бодлера и иные,
альтернативные формы мимесиса — мимесис-вчувствование («способность
проникаться состоянием других <...> которому предается фланер в толпе») или мимикрию
с неодушевленной средой: «...способность цепенеть, которая — если
позволительно использовать биологическое сравнение — стократно проявляется в
сочинениях Бодлера, словно способность животного притворяться мертвым в
момент опасности» (Вальтер Беньямин, Маски времени, СПб., Симпозиум,
2004, с. 105 и 146. Перевод С. Ромашко). Беньямин, очевидно, знал
написанное на эту тему эссе Роже Кайуа «Мимикрия и легендарная психастения»
(1935); см. об этом: Tilman Lang, op. cit., p. 107 sq. Сходные формы
«вегетативного» мимесиса он находит и в пастишах Марселя Пруста («К портрету
Пруста», 1929. — Вальтер Беньямин, Маски времени, с. 253).
20 «Образ массы в большом городе, который оказывался "решающим" в его
[Бодлера. — С.З.] творческом процессе, образует тем самым предмет
неизобразительного мимемиса, "праобраз" мимесиса» (Seong-Man Choi, op. cit., S. 184).
В данном случае речь идет о таком типе мимесиса, который выше
охарактеризован как первая форма, причем его «неизобразительность» (ср.
«нечувственные сходства») связана, по мысли исследователя, с эстетикой возвышенного.
Но так происходит в «творческом процессе» поэта, здесь же речь идет о самом
внешнем мире, который поэту приходится осваивать.
21 Вальтер Беньямин, Маски времени, с. 41—42. Перевод И. Алексеевой.
Беньямин, Бодлер и мимесис
257
в конечном счете имеет своей целью добиться иной
буквальности — буквальности абсолютного «чистого языка», который
возвышается над различиями реальных языков — «несовершенных, ибо
множественных» (Малларме). «Праобразом или идеалом»22 такой
буквальности является «интерлинеарный» перевод:
Когда текст непосредственно, без посредничества смысла, со всей
своей дословностью истинного языка, принадлежит истине или
учению, то он так или иначе переводим <...>. От перевода требуется
такое безграничное доверие по отношению к нему, чтобы, как и в
оригинале, язык и откровение легко соединились в этой дословности и
свободе, воплощенных в интерлинеарной версии23.
Перевод — особого рода текстуальный мимесис — мыслится
здесь как восстановление идеальной сущности переводимого
текста, независимой не только от случайных различий между
«несовершенными» языками, но даже от конкретного смысла текста: он
«непосредственно, без посредничества смысла» принадлежит к
«дословности истинного языка». В этом раннем тексте Беньямин
опирается на идею «откровения», которая исключает дальнейшую
конкретизацию буквального мимесиса, разве что если
формулировать ее в терминах негативной теологии.
Второй подход к проблеме предпринят в одной из главок
статьи «Рассказчик» (1936). Доказывая превосходство чисто фак-
туального «рассказа» над психологическим «романом», Беньямин
упоминает в числе прочего о родственной связи простых
«рассказов» с живой памятью человека:
Нет ничего, что более основательно сохраняет в нашей памяти
рассказываемые истории, чем целомудренное немногословие,
которое уберегает их от психологического анализа. И чем естественней
рассказчик удерживается от психологической детализации, тем выше
их шансы на место в памяти слушающего, тем совершеннее они
связываются с его собственным опытом, тем с большим желанием он
«Пересказать другим» услышанную историю (скорее именно
услышанную, чем прочитанную, так как беньяминовский
«рассказчик» действует главным образом в рамках устной или
квазиустной коммуникации) значит воспроизвести ее без изменений,
22 Там же, с. 46.
23 Там же, с. 45—46.
24 Там же, с. 393—394. Перевод А. Белобратова.
258
Знаки и образы
стремясь к буквальной точности. Такой текстуальный мимесис
сближается с мимесисом переводчика своим абстрактным
характером: как переводчик, стремясь к «дословности истинного
языка», отвлекается от различий между реальными языками, так и
рассказчик «удерживается от психологической детализации»,
оставаясь в рамках голой событийной схемы. И вместе с тем перед
нами не механически тождественная репродукция. Рассказчик не
воспроизводит безличную, лишенную оригинала серию — он
рассказывает о чьем-то опыте, своем собственном или чужом. Акт его
повествования не исключен из традиции — напротив, именно им
она образуется и подтверждается, и слова «перевод» (traductio) и
«предание» (traditio) обнаруживают здесь свой общий смысл
«передачи». Наконец, по сравнению с технической репродукцией
меняется и отношение мимесиса к телу: во второй форме мимесиса
участвовало тело «воспринимающего человека», а в третьей — тело
«отправителя», порождающего устный дискурс. Соответственно
если техническая репродукция мобилизует тела масс на парадах,
празднествах, а порой и на поле сражений, то мимесис
рассказчика, напротив, «требует состояния духовной разрядки, которая
встречается все реже и реже»25. Техническая репродукция создает
толпы, лишенные формы и неспособные к индивидуальной речи,
а традиционное повествование осуществляется в кругу близких
людей — друзей и домашних, причем между членами этого круга
есть четкое функциональное различие (старшие — младшие и т.д.).
Третья, и последняя, формулировка идеи буквального
мимесиса содержится в статье «Что такое эпический театр?» (1939).
Комментируя одно из театральных правил Бертольта Брехта:
«Делать так, чтобы жесты можно было цитировать», — Беньямин
отмечает, что здесь скрывается непростая проблема:
Цитирование текста предполагает, что мы отрываем его от
контекста. А потому вполне понятно, что эпический театр, основанный
на прерываниях, удобен для цитирования в особом смысле слова. В том,
что могут цитироваться его тексты, не было бы ничего
удивительного. Иначе обстоит дело с жестами, имеющими место в ходе игры26.
Цитация — это как бы нулевая степень мимесиса, из которой
исключены всякие усилия, всякая работа преобразующего
подражания. В этом смысле Жерар Женетт предлагал различать в
литературе изображение поступков и псевдоизображение речей — «не-
25 Там же, с. 394.
26 W<er BENJAMiN,Œm7ies ///, p. 323. Французский перевод Райнера Рош-
лица. Курсив мой.
Беньямин, Бодлер и мимесис
259
вербальный материал, который и в самом деле приходится по мере
сил изображать», и «вербальный материал, который изображает
себя сам и который чаще всего достаточно просто
процитировать»27. Отмечая, что в прямой цитате «изобразительная функция
вообще отменяется — подобно тому как оратор, выступающий в
суде, может прервать свою речь, чтобы дать судьям самим
рассмотреть какой-либо документ или вещественное доказательство»28, —
французский теоретик делает вывод, что цитация, изображение
сказанных слов не имеет ничего общего с мимесисом. Однако
Брехт и Беньямин толкуют о «цитировании жестов» —
парадоксальной миметической операции, соединяющей буквальность
цитаты с изобразительным усилием телесного движения. Согласно
Беньямину, она возможна только в дискретном контексте
эпического театра, который «должен не столько развивать интриги,
сколько изображать ситуации»29, — то есть благодаря разрывам в
течении спектакля, изолирующим отдельные «ситуации»,
извлекающим их из непрерывно переживаемого опыта «интриги»30.
Беньямин не приходит к выводу, что такой буквальный мимесис
производит устойчивые и абстрактные знаки, — он предпочитает
говорить о «ситуациях», воплощающих в себе сущность некоторой
общественной проблемы, но не сводит их к условно-знаковым
процессам. Подобно тому как буквальный перевод обнаруживает
«чистый язык» под случайной несхожестью реальных языков, а
бесхитростное повествование «рассказчика» освобождает чистую
историю от «психологической детализации», так и эпический театр
27 Жерар Женетт, Фигуры: Работы по поэтике, т. 1, М., изд-во им.
Сабашниковых, 1998, с. 287.
28 Там же, с. 288.
29 Wfclter BENJAMiN,Œm7*s ///, p. 322.
30 Идея анахронического «отрыва цитаты от контекста» присутствует у Бе-
ньямина и при анализе исторического мышления в его последней работе — «О
понятии истории», 1940): «История есть объект конструирования, имеющего
место не в однородно-пустом времени, а во времени, насыщенном "со-времен-
ностью". Так, для Робеспьера античный Рим был прошлым, наполненным
"современностью", которое он вырывал из континуума истории. Французская
революция осознавала себя как второй Рим. Она буквально цитировала древний
Рим, так же как мода цитирует старинный костюм» (Walter Benjamin, Œuvres III,
p. 439. Французский перевод Мориса де Гандильяка. Курсив мой).
По-видимому, сюда же следует отнести и характеристику художественной «презен-
тификации» персонажей (изображаемых глазами не их, а нашего современника)
в статье о Жюльене Грине (1930): «Грин не рисует своих персонажей, он презен-
тифицирует их в судьбоносные моменты. Иначе говоря, они ведут себя как
призраки <...> их жесты точно таковы, как если бы, несчастные выходцы из
загробного царства, они должны были заново переживать те же самые моменты»
(Walter BENJAMiN,ŒwwTes //, p. 174. Французский перевод Райнера Рошлица).
260
Знаки и образы
(этот брехтовский термин должен был нравиться Беньямину не
только по оппозиции с «аристотелевским», буржуазным театром,
основанным на «идентификации с потрясающей судьбой героя»31,
но и по оппозиции с романическим началом на сцене) своим
цитатным мимесисом жестов32 обнаруживает самую суть
драматического действия. Во всех трех случаях буквальность предстает как
высшая форма мимесиса, соединяющая абстракцию с
телесностью, несходство подражающих и подражаемых текстов/жестов —
с тождеством их немеханических реплик33.
* * *
Понятие мимесиса проходит у Беньямина через три формы:
первая, чисто идеальная, акцентирует разнородность двух
составных элементов подражания; вторая, механически конкретная,
противопоставляет ей телесный опыт идентичности; третья
стремится обрести абстракцию «чистого» языка/рассказа/спектакля,
сберегая при этом живой опыт говорящего или
жестикулирующего тела. Излишне подчеркивать диалектическую связь этих трех
форм, из которых первая образует тезис («мистический
идеализм»), вторая — антитезис («механический материализм»), а
третья — синтез («диалектический материализм», как охотно
выражался в конце жизни Беньямин-марксист). Следует, однако,
31 Walter BENJAMiN,Œwv/Tes ///, p. 322.
32 «Вообще, эпический театр есть по определению театр жестов» Obiter
Benjamin, Œuvres HI, p. 324). Здесь не место подробно анализировать
соотношение между беньяминовским понятием буквального мимесиса и
предлагаемой им «жестуальной» интерпретацией литературных текстов, например в
работах о Бодлере и Кафке. Иногда жесты могут трактоваться у него и в
смысле первой формы мимесиса, как вариант «нечувственного сходства»,
выражающего принципиально «беспредметные», непредставимые отношения.
Так, в заметках Беньямина о Кафке читаем: «Его жесты являют собой
попытку путем подражания беспредметно отразить и уяснить для себя
непонятность всемирного хода вещей — илм саму беспредметность этого хода»
(Вальтер Беньямин, Франц Кафка, с. 298. Перевод М. Рудницкого. Курсив мой).
Ср. также его интерес к теории «жестуального», телесно-миметического
происхождения языка (статья «Проблемы социологии языка», 1935. — Walter
Benjamin, Œuvres HI, p. 38).
33 Ролан Барт, еще один поклонник Брехта, хотя и исходивший из иных
предпосылок, чем Беньямин, также превозносил буквальность в поэзии —
«исключительное оружие писателей, [которое] позволяет избавить поэтическую
метафору от искусственности, показать ее как разительную истину,
отвоеванную у тошнотворной непрерывности языка» («Литература в духе Мину Друэ»,
в книге: Ролан Барт, Мифологии, М., изд-во им. Сабашниковых, 1996, с. 199).
Обдумывая основы семиотической теории литературы, Барт ищет в текстах
дискретные структуры, предполагающие разрывы, а следовательно и
возможность «цитат».
Беньямин, Бодлер и мимесис
261
оговорить, что это логическое развитие не совпадает с
биографической эволюцией Вальтера Беньямина, который уже в ранней
статье 1923 года «Задача переводчика» наметил идею «буквального»
мимесиса. Три формы мимесиса скорее могли бы соответствовать
некоей обобщенной схеме мировой истории, в которой
классическая эпоха зиждется на «платоническом» или неоплатоническом
мимесисе подобий, несходных по своей природе с эйдосом,
«современная» романтическая и буржуазная эпоха (эпоха Бодлера)
заменяет его механическим мимесисом идентичных копий, а
новейшая эпоха, в которой осознает себя сам Беньямин, пытается
обрести новое, более высокое тождество — «буквальность»
мимесиса, включающего в себя абстрактную «чистоту» культурных
сущностей. Так или иначе, в последний период своей деятельности,
прерванный гибелью, Беньямин стремился выработать
оригинальную концепцию мимесиса, основанную на воспроизведении
дискретных и абстрактных структур, наделенных, однако,
онтологической и/или телесной нагрузкой. Такой интеллектуальный проект
выходил не только за рамки форм мимесиса, известных культуре
XIX века, но и за рамки новейших практик технической
репродукции, теорию которых было бы неверно представлять как последнее
слово Беньямина-эстетика.
2008
СЕМИОТИКА ЗРИТЕЛЬНОГО ОБРАЗА:
РОЛАН БАРТ И ЮРИЙ ЛОТМАН
Зрительный образ (внешне-объективированный, а не чисто
ментальный) является заманчивым, но и неудобным предметом
для семиотического анализа; при его изучении часто приходится
выходить за рамки науки о знаках, в область феноменологической
рефлексии. Визуальный образ — всецело культурный продукт,
служащий для социальной коммуникации, однако он противится
попыткам свести его к определенному и исчислимому «смыслу».
Все происходит так, словно посредством образов люди сообщают
друг другу что-то иное, чем семантическую информацию, — некую
силу, энергию, импульс, которые нелегко уловить и описать
точными методами.
Данная статья — попытка показать, как два крупнейших
теоретика семиотики, Ролан Барт во Франции и Юрий Лотман в
Советском Союзе, объясняли семиотическую специфику
зрительного образа. Они работали приблизительно в одно и то же время
(в 1960—1980-е годы), но без плотного интеллектуального
контакта: Барт в своих печатных работах не ссылался на Лотмана, чьи
идеи он мог знать главным образом в изложении Юлии Кристевой,
опубликовавшей обзор первых выпусков тартуских «Трудов по
знаковым системам»1; а Лотман хотя и читал, по-видимому,
некоторые тексты Барта, переведенные или нет на русский язык
(возможно, «Мифологии», но прежде всего «Основы семиологии»,
напечатанные в Москве в 1975 году), однако скептически
отзывался об их собственно научной ценности.
Барт обратился к изучению визуальности в начале 1960-х
годов, когда у него сложился «семиологический проект»2,
предполагавший исследование различных полей знаковой деятельности:
1 Julia Kristeva, «L'expansion de la sémiotique», dans Julia Kristeva, Sèméiotikè:
recherches pour une sémanalyse, P., Seuil, 1969, p. 43—59. В 1968 году парижский
журнал «Тель кель» (№ 35) напечатал ряд текстов Тартуской школы, включая
одну небольшую статью Лотмана. Публикация сопровождалась предисловием
Кристевой, дававшим тенденциозную, не очень адекватную интерпретацию
трудов Лотмана и его коллег. См. об этом недавнюю работу: Эманюэль Лан-
дольт, «Один невозможный диалог вокруг семиотики: Юлия Кристева — Юрий
Лотман», Новое литературное обозрение, № 109, 2011, с. 135—150.
2 См.: С. Зенкин, «Ролан Барт и семиологический проект», в кн.: Ролан
Барт, Система Моды. Статьи по семиотике культуры, М., изд-во им.
Сабашниковых, 2003, с. 5—28.
Семиотика зрительного образа: Ролан Барт и Юрий Лотман 263
литературы, журналистики, повседневной жизни (одежды, пищи),
а также кино, фотографии, рекламы (включая визуальную) и т.д.
Он с самого начала определил визуальный — например,
фотографический или кинематофафический — образ как гетерогенный
объект, где условные знаки смешаны с аналогическими
изображениями:
...такие кадры стремятся нам нечто сообщить, дать понять. Иными
словами, некоторые элементы кадра представляют собой настоящие
сообщения*.
...на протяжении фильма знаки распределяются с переменной
плотностью; разумеется, особенной их плотностью отличается начало
фильма...4
Очевидно, что фильм состоит не только из означаемых; главная
функция фильма — не когнитивная; означаемые в нем представляют
собой лишь эпизодические, дискретные, зачастую маргинальные
элементы5.
Итак, зрительный образ является местами знаковым, а
местами аналогическим. В кино эти места расположены линейно, по
синтагматической оси фильма; так, начальные кадры, отмечает
Барт, носят более знаковый характер, так как в них задаются
координаты фикционального мира, за развитием которого мы будем
следить в дальнейшем. В более общем случае семиотические
«сообщения» могут содержаться внутри отдельного образа, в остальном
носящего аналогический характер. Так, в частности, происходит
в фотофафии, образы которой изначально предстают
непрерывно-аналогическими:
...нет никакой необходимости помещать между <·.·> объектом и его
изображением посредующую инстанцию кода; конечно,
изображение — не реальность, но оно является ее точным аналогом, и эта
точная аналогия для повседневного мышления как раз и служит
определяющей чертой фотографии6.
Тем не менее некоторые элементы фотофафического образа
(одни из них — точечные, например некоторые детали, другие —
супрасегментные, например «стиль» снимка) все же содержат в
3 Ролан Барт, Система Моды. Статьи по семиотике культуры, с. 358
(«Проблема значения в кино», 1960).
4 Там же, с. 360.
5 Там же, с. 363.
6 Там же, с. 380 («Фотографическое сообщение», 1961).
264
Знаки и образы
себе кодированный смысл. Изображая живых существ, предметы
и события, они вместе с тем и несут в себе общие понятия. Как
объясняет Барт, это коннотативные смыслы, в отличие от
денотативных. Денотация в случае фотографии сводится к
аналогическому копированию действительности. Задача же коннотации —
«закодировать фотографический аналог»7. Элементы, несущие
коннотативные смыслы, — коннотаторы — случайным образом
разбросаны в пространстве образа:
Впрочем, главное <...> в том, чтобы понять, что в рамках
целостного изображения они представляют собой дискретные, более того,
эрратические знаки. Коннотаторы не заполняют собой всю лексию без
остатка, и их прочтение не исчерпывает прочтения этой лексии <...>
отнюдь не все элементы лексии способны стать коннотаторами: в
дискурсе всегда остается некоторая доля денотации, без которой само
Однако нагруженные социокультурной информацией
коннотаторы многочисленны, и их дешифровка занимает все внимание
читателя. В результате происходит инверсия восприятия:
денотация, то есть простое воспроизведение видимых форм реальности9,
вместо того чтобы оставаться сплошным фоном образа (его
базовой денотацией, «без которой само существование дискурса
становится попросту невозможным»), сводится к точечным элементам
«незначимости». Ее буквальное, некодированное сообщение в
конечном счете предстает сухим остатком, образующимся в
фотографии после прочтения ее «лингвистических» (то есть подписи под
нею, обязательной в случае рекламной или газетно-журнальной
фотографии) и «символических» (коннотативных) знаков:
Если даже не обращать внимания на указанные знаки, то
изображение все равно сохранит способность передавать информацию;
ничего не зная о знаках, я тем не менее продолжаю «читать»
изображение, я «понимаю», что передо мной не просто формы и краски, а
именно пространственное изображение совокупности предметов,
7 Там же, с. 383.
8 Ролан Барт, Избранные работы: Семиотика. Поэтика, М., Прогресс, 1989,
с. 317 («Риторика образа», 1964). Перевод Г.К. Косикова.
9 Здесь имеет место терминологическая проблема: правомерно ли
говорить, что фотография денотирует изображаемые ею объекты? Можно
заподозрить Барта в том, что он, увлекшись семиологическим подходом,
приписывает знаковый смысл феномену, который в принципе может и не иметь такового.
Вряд ли правомерно утверждать, что образ эквивалентен иконическому знаку,
выражение понятийного означаемого — репрезентации отдельного объекта.
Семиотика зрительного образа: Ролан Барт и Юрий Лотман 265
поддающихся идентификации (номинации). Означаемыми этого
третьего сообщения служат реальные продукты [на рекламной
фотографии макарон, которую разбирает Барт. — С.З.], означающими — те же
самые продукты, но только сфотографированные <...> отношение
между означаемым и означающим здесь квазитавтологично <...>
принцип эквивалентности (характерный для подлинных знаковых
систем) уступает здесь место принципу квазиидентичности. Иными
словами, знаки иконического сообщения не черпаются из некоей
кладовой знаков, они не принадлежат какому-то определенному коду,
в результате чего мы оказываемся перед лицом парадоксального
феномена <...> перед лицом сообщения без кода10.
Так выясняется своеобразный статус фотографического
сообщения — это сообщение без кода; положение, из которого следует сразу
же извлечь важное следствие — фотографическое сообщение
является непрерывным сообщением11.
Здесь действительно есть парадокс — может быть, даже
подмена понятий, так как понятия сообщения и смысла экстраполируются
в область чистой, бескодовой репродукции; а если так, то можно
ли сказать, что мы здесь что-то понимаем, а не просто опознаем?
Похоже, что бартовское рассуждение основывается на интуиции
текучего или «излучающегося» смысла, циркулирующего между
знаковыми объектами, между знаками и частями знаков12. Как бы
то ни было, задача Барта очевидна: не упускать из виду остаток
чистой визуальности, стремиться охватить его семиотическим
исследованием, но сохранять его специфику.
Примерно так же развивается мысль автора в важной статье
1970 года «Третий смысл: Исследовательские заметки о
нескольких фотограммах СМ. Эйзенштейна». В ней Барт снова различает
три смысла в зрительном образе (на этот раз речь идет о
фотограмме, «остановленном» кинематографическом кадре). Во-первых,
имеется «информативный уровень», где «фиксируются все
сведения, которые я получаю от декораций, костюмов, персонажей, их
взаимоотношений, их места в фабуле <...>. Это уровень
коммуникации»13. Это не что иное, как денотация, хотя Барт не настаивает
здесь на ее аналогическом и бескодовом характере: действительно,
для понимания взаимоотношений между персонажами и их места
10 Ролан Барт, Избранные работы, с. 301.
11 Ролан Барт, Система Моды, с. 380 («Фотографическое сообщение»).
12 Об этой текучести смысла см. мое уже указанное выше предисловие к
семиотическим работам Барта на русском языке («Система Моды»).
Значительно после смерти Барта идея текучего смысла появилась в последней книге
Греймаса «Семиотика страстей» (1991, в соавторстве с Ж. Фонтанием).
13 Строение фильма, М., Радуга, 1985, с. 176. Перевод М. Ямпольского.
266
Знаки и образы
в фабуле необходимо уметь пользоваться определенными
кодами — характерологическими и нарративными. Во-вторых,
имеется «символический уровень <...> этот второй уровень в сумме
может быть назван уровнем значения»14. Это коннотация —
абстрактные понятия, сообщаемые посредством вторичных знаков
(например, символический смысл царской власти коннотируется
в «Иване Грозном» Эйзенштейна обрядами восшествия на
престол). Наконец, в-третьих, в зрительном образе все еще остается
что-то такое, что можно читать:
Все ли это? Нет, потому что я все еще не могу оторваться от
изображения, еще читаю, получаю дополнительно <...> третий смысл,
вполне очевидный, ускользающий, но упрямый15.
Этот третий, «открытый» смысл (le sens obtus, в отличие от
символического смысла, le sens obvie) не может быть ни
денотативным, ни коннотативным: обе эти позиции уже «заняты». Этот
смысл не может полагаться, поэтому Барт определяет его
негативно:
...открытый смысл не включен в структуру, и семиолог откажет ему в
объективном существовании <...>. Открытый смысл — это
означающее без означаемого <...> открытый смысл находится вне
артикулированного языка16.
...можно рассматривать открытый смысл как некое ударение, форму
самопроявления, подобие складки (ложной складки) на тяжелой
скатерти информации и значений. Если бы он поддавался описанию
(в самой постановке вопроса заключено противоречие), он имел бы
тогда в себе что-то от японского хокку, от анафорического жеста,
который лишен значащего содержания, от шрама, рассекающего смысл
(желание смысла)17.
Чтобы точнее охарактеризовать этот странный смысл, Барт
несколько раз упоминает батаевскую идею «бесполезной траты»:
открытый смысл «принадлежит породе словесных игр, буффонад,
бессмысленных трат»18, это «предмет роскоши, бессмысленная
трата»19, «то, о чем так необычно говорил Жорж Батай в одном
14 Там же.
15 Там же.
16 Там же, с. 182-183.
17 Там же, с. 183.
18 Там же, с. 178, с поправкой перевода. Оригинал: Roland Barthes, Œuvres
complètes, t. 2, P., Seuil, 1994, p. 867.
19 Там же, с. 184.
Семиотика зрительного образа: Ролан Барт и Юрий Лотман 267
тексте из "Документов" и что, как мне кажется, определяет место
одной из возможных областей третьего смысла: "Большой палец
на ноге Королевы" (честно говоря, я не помню точное
название)»20. В итоге этих процедур последовательного исключения —
вычтем из образа его денотации, затем его коннотации... —
остается уже не механическая репродукция материального объекта, как
и в первых текстах Барта о визуальной семиотике, а некое
«желание смысла», «колебания»21, «переход от языка к
"означиванию"»22; то есть точечное, из ряда вон выходящее событие, а
не «тяжелая скатерть», обладающая стабильной субстанцией и
формой23.
Примечательно, что все или почти все иллюстрации, даваемые
Бартом как примеры «третьего смысла», связаны с человеческими
лицами. Эмманюэль Левинас трактовал лицо как высшую фигуру
Другого24. Правда, Барт не имеет в виду вступать в какой-либо
диалог с актерами или персонажами фильма, чьи лица
привлекают его внимание теми или иными своими чертами («излишняя
плотность грима придворных <...> "дурацкий" нос одного <...>
тонкий рисунок бровей другого, его вялая белизна, прилизанность
его прически, смахивающей на парик, ее соединение с гипсовым
тоном лица, рисовой пудрой»25. Он говорит о них скорее в
психоаналитических терминах желания, и потому «третий смысл»,
лишенный означаемого и именно в силу этого лежащий в основе
фильмического, «представления, которое не может быть
представлено»26, — этот смысл сводится к чистой интенциональности
читателя/зрителя: мне это интересно.
В «третьем смысле» легко распознать первую формулировку
того, что Барт позднее назовет punctum, — деталь или черточку,
которая привлекает меня в хорошей фотографии, выступая из ряда
20 Там же, с. 182. Точное название этого маленького эссе Батая —
«Большой палец ноги». Позднее Барт подробно проанализировал его в статье
«Выходы из текста» (1973).
21 Там же, с. 180.
22 Там же, с. 186.
23 Годом раньше Барт уже пытался кратко обозначить контуры теории
живописи, содержащей ту же событийную концепцию образа и уподобляющую
живописный образ словесному Тексту: «...образ — это не выражение какого-
то кода, а вариация в работе кодификации; это не залог системы, а
порождение систем» (Roland Barthes, Œuvres complètes, t. 2, p. 540, статья «Является ли
живопись языком?», 1969).
24 См.: Emmanuel Levinas, Totalité et infini, La Haye, Nijhoff, 1961. См. также
главу о лице в книге Делёза и Гваттари «Тысяча плато» (1980).
25 Строение фильма, с. 177.
26 Там же, с. 185.
268
Знаки и образы
элементов, денотирующих или коннотирующих некоторое знание
и объединяемых под противоположным термином Studium:
На этот раз я не отправляюсь на ее поиски (подобно тому как
поле studium'a покрывалось моим суверенным сознанием) — это она
[«вторая часть» снимка, то есть punctum. — С.З.] как стрела вылетает
со сцены и пронзает меня27.
Очень часто punctum представляет собой «деталь», т.е. частичный
объект. Поэтому привести примеры punctum'a означает некоторым
образом открыть свою душу28.
И последнее о punctum'e: будучи или нет частью какого-либо
контекста, он является приложением — это то, что добавляется к
фотографии и тем не менее уже в ней есть29.
Между первой и второй формулировками понятия произошел
смысловой сдвиг: в статье «Третий смысл» навстречу зрителю
надвигался не «открытый», событийный, а «естественный», коннота-
тивно-символический смысл («этот смысл как бы ищет меня,
адресата сообщения, субъекта чтения, этот смысл, исходящий от
СМ. Э[йзенштейна] и идущий мне навстречу»)30', а в книге «Камера
люцида» то же движение навстречу мне совершает не-символиче-
ский punctum, который даже не называется «смыслом». В поздний
период своего творчества Барт выходит за рамки семиотики и
обращается к феноменологии, что обозначено уже посвящением его
последней книги Жан-Полю Сартру и его труду «Воображаемое».
Видно, какой интеллектуальный путь прошел Барт: отправляясь в
начале 1960-х годов от изучения денотативных элементов
фотографического или кинематографического сообщения, которые не
поддаются семантизации и остаются наподобие кисты в
непрерывной ткани образа, он в дальнейшем вводит понятие событийного,
лишенного означаемого «третьего смысла», остающегося в образе
после вычитания всех собственно знаковых смыслов, а в итоге
сосредоточивает внимание на феноменальном присутствии
punctum'a, сохраняющего лишь одну общую черту с двумя
предыдущими объектами — интересность для зрительского желания.
Немаловажно, что в собственном текстуальном устройстве
книги «Камера люцида» имеется особый ни к чему не сводимый
образ, функционирующий на манер «третьего смысла» в фотограм-
27 Ролан Барт, Camera lucida, M., Ad marginem, 1997 [1980], с. 44—45.
Перевод M. Рыклина.
28 Там же, с. 69.
29 Там же, с. 85, с уточнением.
30 Строение фильма, с. 177, с уточнением перевода. Оригинал: Roland
Barthes, Œuvres complètes, t. 2, p. 868.
Семиотика зрительного образа: Ролан Барт и Юрий Лотман 269
ме или punctum'a на фотографии: это старый фотоснимок матери
автора, который не показан нам в книге (содержащей много
других визуальных иллюстраций) и образует ее трансцендентный
центр, своего рода незримое божество, к которому обращаются
ностальгические желания автора. Намечается любопытный
параллелизм: нельзя, разумеется, утверждать, что элементы реальности,
определяемые то как остатки денотации, то как «открытые
смыслы», то как punctum'ы, — что все эти объекты суть образы (хотя
часто они связаны с человеческими лицами, главными
носителями образов). Однако книга, трактующая об этой визуальной
стратификации, где под массой символического знания проступают
желания субъекта, сама являет собой сходную структуру: за
плотно семантизированной массой текста и иллюстраций скрывается
крипта феноменального опыта. В итоге своих попыток свести
образ к семантическим категориям Барт словно утыкается... в еще
один образ, будь то реальный фотоснимок, который упоминается
в тексте «Камеры люциды» как ее аффективный центр, или
квазиобразы, которые в разных формах и концептуализациях
обнаруживаются внутри анализируемого образа.
Если у Барта можно найти теоретические тексты, специально
посвященные визуальному образу, то иначе обстоит дело с Юрием
Лотманом. Он выпустил две книги о кино («Семиотика кино»,
1973, и «Диалог с экраном», 1994, — вторая, посмертно изданная
работа написана в соавторстве с Юрием Цивьяном), но в них мало
говорится о природе образа как такового и исследуются в
основном опирающиеся на него знаковые структуры. В этих
киноведческих работах Лотмана принимается без специального обсуждения
рабочая гипотеза о сводимости образа к знаковым механизмам.
Чтобы увидеть, как Лотман включает визуальный образ в общие
рамки своей семиотики, следует обратиться к его статьям по
общей семиотике культуры. Получается, что он то рассматривает
образ издалека, с точки зрения универсальных законов культуры,
то проходит сквозь него, подступаясь непосредственно к
дискретно-семиотическим структурам фильма.
Важнейшая идея Лотмана, позволяющая включить визуаль-
ность в общее устройство культуры, — это функциональная
взаимодополнительность дискретных и континуальных кодов. Она
составляет необходимое условие продуктивности культуры,
которая способна творить новое только благодаря собственной
неоднородности:
Для возникновения той закономерной и целесообразной
неправильности, которая и составляет сущность нового сообщения или нового
270
Знаки и образы
прочтения старого (что дает толчок возникновению нового языка),
необходима как минимум двуязычная структура. Это объясняет в
иных отношениях загадочный факт гетерогенности и полиглотизма
человеческой культуры, а также любого интеллектуального
устройства. Наиболее универсальной чертой структурного дуализма
человеческих культур является сосуществование словесно-дискретных
языков и иконических, различные знаки в системе которых не
складываются в цепочки, а оказываются в отношениях гомеоморфизма,
выступая как взаимоподобные символы (ср. мифологическое
представление о гомеоморфизме человеческого тела, общественной и
космической структур)31.
Здесь еще нет речи о визуальности, Лотман говорит скорее о
мифологических «языках», противопоставляя их языкам
вербальным. Но двумя страницами ниже в той же статье он уже ясно
различает «иконическое» и «вербальное» мышление, непрерывные и
дискретные «тексты»:
...в дискретных системах текст вторичен по отношению к знаку, т.е.
отчетливо распадается на знаки. Выделить знак как некоторую
исходную элементарную единицу не составляет труда. В континуальных
языках первичен текст, который не распадается на знаки, а сам
является знаком или изоморфен знаку <...>. Так, например, если нам
следует опознать некоторое незнакомое нам лицо (например,
идентифицировать две фотографии лично не знакомого нам человека), мы
будем выделять сопоставляемость отдельных черт. Однако
недискретные тексты (например, знакомое лицо) опознаются целостным
недифференцированным знанием32.
Прослеживая развитие чьей-то мысли, всегда полезно
обращать внимание на используемые ею примеры: именно в них
проявляются ее самые глубокие предпосылки и заботы. Существенно
в этом смысле, что Лотман приводит в качестве примера «текста»
фотографию незнакомого человека и знакомое лицо. Вместо
«этнографической» оппозиции природы/культуры, которой пользовался
31 Ю.М. Лотман, Избранные статьи, т. 1, Таллин, Александра, 1992, с. 36
(«Феномен культуры», 1978).
32 Там же, с. 38. Ср. в другой статье («Риторика», 1981): «Таким образом,
в рамках как индивидуального, так и коллективного сознания скрыты два типа
генераторов текста: один основан на механизме дискретности, другой
континуален». И далее в той же статье: «Если текст на естественном языке
организуется линейно и дискретен по своей природе, то риторический текст
интегрирован в смысловом отношении» (там же, с. 168, 178).
Семиотика зрительного образа: Ролан Барт и Юрий Лотман 271
Барт, определяя семиотическую специфику фотофафии33, Лотман
предлагает «когнитивную» оппозицию незнакомого/знакомого, и
поэтому фотография у него помещается среди «технических» и
«культурных» (=дискретных) фактов, в противоположность
знакомому и «природному» (=континуальному, интегрированному)
лицу. Проблема, интересующая Лотмана, — это не столько
индивидуальное восприятие образа, сколько коллективное
использование его культурой для выработки своих сообщений и кодов, то есть
для самопостроения и обогащения информацией.
Немаловажно также, что Лотман, как и Барт, в качестве
примера для пояснения своей оппозиции упоминает человеческое
лицо — этот архетип образа. Лицо служит ему примером и позднее,
когда в книге «Внутри мыслящих миров» (опубликованной
впервые по-английски в 1986 году под названием «The Universe of
Mind») исследует «иконическую риторику» изображений, которая
делает предметы условно-знаковыми посредством редупликации:
Возможность удвоения является онтологической предпосылкой
превращения мира предметов в мир знаков: отраженный образ вещи
вырван из естественных для нее практических связей <...> и поэтому
легко может быть включен в моделирующие связи человеческого
сознания. Отражение лица не может быть включено в связи,
естественные для отражаемого объекта: его нельзя касаться или ласкать, — но
вполне может включиться в семиотические связи: его можно
оскорблять или использовать для магических манипуляций34.
Удвоенное, отраженное лицо — это уже не реальное лицо; так
же и отраженный, удвоенный образ (например, содержащий в себе
зеркало, как в барочной живописи) — это уже не образ, а
семиотический объект, знак. Здесь нет коннотации, прибавляющей свой
код к первичному денотативному коду; чтобы изменить статус
образа, чтобы включить этот образ в знаковую культуру,
достаточно простого зеркального отражения:
Изобразительные искусства (и их потенциальное семиотическое
зерно — механическое отражение объекта в зеркальной плоскости)
создают иллюзию тождества объекта и его образа. Таким образом, к
33 «Лишь эта оппозиция между культурным кодом и природным не-кодом
способна, по-видимому, раскрыть специфику фотофафии и помочь осознанию
той антропологической революции, которую она совершила в человеческой
истории» (Ролан Барт, Избранные работы: Семиотика. Поэтика, с. 310, статья
«Риторика образа»).
34 Ю.М. Лотман, Внутри мыслящих миров, М., Языки русской культуры,
1999, с. 74.
272
Знаки и образы
процессу создания художественного знака (текста) прибавляется еще
одно звено: сначала должна быть вскрыта знаково-условная природа,
лежащая в основе всякого семиотического факта — текст,
воспринимаемый наивным сознанием как безусловный, должен быть осознан
в его знаковой условности. Практически это означает, что
несловесному тексту на этом этапе приписываются черты словесного. И
только на следующем этапе происходит вторичная иконизация текста, что
соответствует тому моменту в поэзии, когда словесному тексту
приписываются черты несловесного (иконического)35.
Удвоение знака ведет к его остранению, отражение
становится осознанием, так что зрительная редупликация уже сама по себе
служит минимальным элементом метаязыка. Если Барт, стремясь
преодолеть аналогический характер зрительных образов,
подчеркивал роль коннотации, то Лотман возлагает ту же задачу на
метаязык, на «выявление условности», симметрично
противоположное коннотации согласно определению Ельмслева:
Можно сказать, что для некоторых моментов живописи зеркало
на полотне выполняло типологически такую же роль, как словесная
игра в поэтическом тексте: выявляя условность, лежащую в основе
текста, оно делало язык искусства основным объектом внимания
аудитории36.
В таком предпочтении метаязыка перед коннотацией
(последнее понятие вообще редко встречается у Лотмана) выражается
задача отличная от той, что ставит перед собой Барт: французский
теоретик толкует и оценивает знаки прежде всего с точки зрения
их ответственности (и отсюда его интерес к коннотации —
этически неоднозначному феномену, который создает почву как для
художественной игры, так и для лжи), а глава Тартуской школы
отдает приоритет когнитивной функции знаков и текстов,
которыми обогащается коллективное (а иногда и индивидуальное) знание.
Лотман, как и Барт, признает неоднородность визуального
«текста»: в нем есть сильные и слабые точки, точки большей или
меньшей знаковости — например, точки «простой» или
«удвоенной» семиотичности. Однако для Лотмана сильные точки имеют
не коннотативный, а метаязыковой характер, в них «обнажается
условность», то есть открывается рефлексия над знаковым кодом:
Двойное удвоение — как правило, удел не всего полотна, а лишь
определенной его части. В этом случае на участке вторичного удвое-
35 Там же, с. 75.
36 Там же, с. 75—76.
Семиотика зрительного образа: Ролан Барт и Юрий Лотман 273
ния происходит резкое повышение меры условности, что обнажает
знаковую природу текста как такового37.
Семиотически сильную точку в вербальном или визуальном
тексте образует так называемый «текст в тексте» — «специфическое
риторическое построение, при котором различие в
закодированное™ разных частей текста делается выявленным фактором
авторского построения и читательского восприятия текста»38.
Вариантом «текста в тексте» как раз и является образ в образе; ср.
неоднократно приводимые Лотманом примеры картин «с
зеркалами» у Веласкеса и Ван Эйка. Но к тому же разряду относятся и
«риторические» вербальные тексты (в которых языковой код
удваивается кодом тропов и фигур) или, что еще любопытнее,
сновидения — «семиотические окна», тексты онейрической
автокоммуникации, интегрированные и бесконечные в силу
множественности своих кодов:
Сновидение отличается полилингвиальностъю: оно погружает нас
не в зрительные, словесные, музыкальные и пр. пространства, а в их
слитность, аналогичную реальной <...>. Перевод сновидения на языки
человеческого общения сопровождается уменьшением
неопределенности и увеличением коммуникативности39.
В результате проведенного сопоставления можно
констатировать ряд различий и сходств в концепциях двух теоретиков
семиотики. Первые объясняются расхождением их институциональных
траекторий (Лотман всегда был академическим ученым, тогда как
Барт балансировал между «наукой» и «литературой») и
интеллектуальных интересов (у Лотмана преобладали познавательные
задачи, у Барта этические — что побуждало одного отдавать
предпочтение феномену метаязыка, а другого феномену коннотации).
Вторые же обусловлены общей проблематикой и тем более
показательны, что, как уже сказано, оба теоретика работали
независимо друг от друга.
В числе их общих идей, дальнейшая разработка которых сулит
больше всего результатов, следует назвать прежде всего
неоднородность зрительного образа, комбинирующего элементы, которые
закодированы в разной степени и разными кодами — с одной
стороны, дискретно-языковыми кодами, с другой стороны, конти-
37 Там же, с. 76.
38 Ю.М. Лотман, Избранные статьи, т. 1, с. 155 («Текст в тексте», 1981).
39 Ю.М. Лотман, Культура и взрыв, М., Гнозис, 1992, с. 224.
274
Знаки и образы
нуально-аналогическими псевдокодами. Само по себе для
современной семиотики это уже не является новым открытием. Более
специфичны и более перспективны для разработки некоторые
интуиции двух теоретиков: во-первых, их интерес к обрамленным
образам — либо удвоенным в составе живописного «текста»
(Лотман), либо занимающим место интрадиегетических образов,
включенных в состав повествования (Барт); во-вторых, их склонность
усматривать архетип образа в человеческом лице, причем этот
архетип в дальнейшем подвергается чисто семиотическим (Лотман)
или же феноменологическим (Барт) операциям. Эти их общие
интуиции связаны с «человеческим», экзистенциальным аспектом
знаковой деятельности и подводят нас к границе семиотики,
которую они как раз и помогают прочертить.
2011
ЭФФЕКТ ФАНТАСТИКИ В КИНО
Не будучи ни теоретиком кино, ни даже большим его
знатоком, я попытаюсь дать предварительные ответы на два вопроса: во-
первых, как следует понимать сам термин «фантастика» на
современном этапе исследований и, во-вторых, каковы возможности
возникновения обозначаемого им явления в кино, учитывая
специфику этого вида искусства.
Отправным пунктом станет фантастика в литературе,
поскольку именно литературная теория в 1970-е годы сделала важные шаги
к прояснению этого понятия. В 1970 году вышла монография Цве-
тана Тодорова «Введение в фантастическую литературу» — попытка
определить литературную фантастику с точки зрения
структуральной поэтики. Тодоров отказался от всякой натурализации
фантастики и стал трактовать это понятие, обычно связываемое с
референтными отношениями (в большинстве языков слово
«фантастика» служит антонимом слова «реальность», то есть структурируется
по семантической оси «правда — ложь»), в чисто семиотических
категориях, как особый, проблематичный случай рецепции, когда
читатель сталкивается с двойственной кодировкой текста и не
может разрешить колебание между двумя несовместимыми кодами,
двумя системами правдоподобия — «естественной» и
«сверхъестественной»; в свою очередь, такое плавающее, нестабильное
правдоподобие мотивируется сомнением в онтологической природе
упоминаемых событий и объектов (реальность? иллюзия? проявление
иной, потусторонней «реальности»?). Данную ситуацию Тодоров
выделил как конститутивный признак определенного
литературного жанра — a именно «фантастического» жанра, отличного от
таких смежных «жанров», как «странное» или «чудесное».
Семиотическая концепция фантастики у Тодорова оказалась
хоть и не бесспорной, но плодотворной идеей, получившей
дальнейшую разработку у других исследователей1; напротив, его опре-
1 См. в особенности монографию: Irène Bessière, Le récit fantastique,
P., Larousse, 1974, a в нашей стране — заметку Ю.М. Лотмана «О принципах
художественной фантастики» (1971), где последняя определялась как «нарушение
принятой в [тексте] нормы условности» (Ю.М. Лотман, История и типология
русской культуры, СПб., Искусство — СПб., 2002, с. 202), и, уже значительно
позднее, рецензии Алексея Зверева и Бориса Дубина на русский перевод
«Введения в фантастическую литературу» Тодорова: Новое литературное обозрение,
1998, № 32, с. 359-366.
276
Знаки и образы
деление фантастики как жанра требует серьезных оговорок. В
самом деле, введенные исследователем «литературные жанры»
вроде «фантастического» или «странного» явно относятся к какому-
то иному ряду понятий, чем традиционные жанры вроде «басни»,
«комедии» или «элегии»; кроме того, остается без ответа вопрос о
том, жанром него именно они являются. В самом деле,
«фантастическое» колебание может, как признает сам Тодоров,
распространяться лишь на некоторую часть литературного текста (отдельный
эпизод или вставной рассказ), до и после которой действует
однозначная система «чудесного» или же «реалистического»
правдоподобия: скажем, события, казавшиеся сверхъестественными,
получают затем нормально-бытовое объяснение. Тогда жанр текста в
целом (скажем, «роман») будет определяться уже не этим частным
эпизодом, а «фантастика» окажется самое большее жанром
дискурса2, используемого в данном сегменте текста. По-видимому, точнее
будет считать литературную фантастику не жанром, а эффектом
текста, который в одних случаях может носить частный, точечно-
эпизодический характер, а в других становиться определяющим,
доминантным признаком всего текста, формируя его особую
жанровую принадлежность (например, к жанру «фантастической
новеллы»)3.
Эта проблема связана с сильной и глубокой философской
идеей, на которую опирается Тодоровская концепция и корни
которой можно найти у B.C. Соловьева, чье предисловие к повести
А. К. Толстого «Упырь» (1899) Тодоров знал по короткой цитате в
«Теории литературы» Б.В. Томашевского4. Приведем другую часть
рассуждений Соловьева, по-видимому, оставшуюся неизвестной
Тодорову, но поддерживающую его концепцию фантастики:
Отдельных, обособленных явлений фантастического не бывает,
бывают только реальные явления, но иногда выступает яснее
обыкновенного иная, более существенная и важная, связь и смысл этих
явлений. Никто не станет читать вашей фантастической поэмы, если
в ней рассказывается, что в вашу комнату внезапно влетел
шестикрылый ангел и поднес вам прекрасное золотое пальто с алмазными
пуговицами. Ясно, что и в самом фантастическом рассказе пальто дол-
2 «Жанры дискурса» — выражение самого Тодорова, название другой его
книги (1978).
3 В некоторые эпохи и в некоторых национально-языковых традициях
«фантастическое» могло считаться «литературным жанром», но это означает,
что смысловой объем последнего понятия вообще весьма неоднозначен. См.
ниже статью «Жанр и история».
4 См.: Цветан Тодоров, Введение в фантастическую литературу, М., Дом
интеллектуальной книги, 1997, с. 18.
Эффект фантастики в кино
277
жно делаться из обыкновенного материала и приноситься не ангелом,
а портным, — и лишь от сложной связи этого явления с другими
происшествиями может возникнуть тот загадочный или таинственный
смысл, какого они в отдельности не имеют. Как одними и теми же
буквами мы пишем речи и высокого и «подлого» штиля, так одина-
кие явления при различном контексте жизни могут иметь и самое
обыкновенное, поверхностное, и самое глубокое значение. Так оно
есть в действительности, так должно быть и в поэзии5.
Идея Соловьева, формулирующая принцип эстетики
(неоромантического «двоемирия», то есть двойной
детерминированности фактов, имеющих реальный и мистический смысл, может быть
перетолкована в терминах теории текста — что и сделал Тодоров.
«Отдельных, обособленных явлений фантастического не бывает»:
фантастика — это система двойной кодировки, с необходимостью
охватывающая все элементы текста, по крайней мере на
определенном его отрезке.
Отчасти сходную идею высказывал Жан-Поль Сартр, также не
знавший текста Соловьева (зато его собственную статью читал
Тодоров) и имевший в виду не романтическую, а «модернистскую»
фантастику в духе Кафки. Рецензируя роман Мориса Бланшо
«Аминадав» (1942), Сартр писал:
Чтобы добиться фантастики, не является ни необходимым, ни
достаточным изображать что-либо необычайное. Самое странное
событие, если оно одиноко в мире, управляемом законами, само собой
включается во всеобщий порядок. Если в вашем рассказе заговорит
конь, я на какой-то момент сочту его заколдованным. Но если он будет
и дальше говорить среди неизменных деревьев, на неизменной земле,
то я признаю, что он обладает естественной возможностью говорить.
Я буду видеть в нем уже не коня, а человека, замаскированного под
коня. Напротив того, если вам удастся убедить меня, что этот конь
фантастичен, — значит, деревья, земля, река тоже фантастичны, даже если
вы ничего об этом не сказали. Фантастике нельзя выгородить какую-то
область — или ее нет, или она распространяется на весь мир...6
Идею невозможности «отдельных, обособленных явлений
фантастического» Сартр мыслит иначе, чем Соловьев. Эффект
фантастики изначально локализован, в мире (а значит, и в
протяженности текста) есть привилегированные «фантастические» элементы,
5 B.C. Соловьев, Философия искусства и литературная критика, М.,
Искусство, 1991, с. 611.
6 Jean-Paul Sartre, Critiques littéraires (Situations I), P., Gallimard, 1975, p. 150.
278
Знаки и образы
вроде говорящего коня, но они как бы излучают свое влияние,
«распространяются на весь мир». Мир имеет неоднородную
структуру, некоторые его участки выделены и воздействуют на другие.
В таком эффекте выражается переживание сакрального, которое
тоже, с одной стороны, четко отделено и отгорожено от профан -
ного мира, а с другой стороны, обладает проникающей силой,
способностью магически «заражать» окружающие предметы, области,
существа.
Такую фантастику, «распространяющуюся на весь мир»,
соблазнительно истолковать как определенный жанр — ведь
понятие жанра тоже характеризует все факты и параметры мира,
изображаемого или создаваемого в произведении. Этот шаг и сделал
Тодоров, отождествив «мир» с «текстом», сочтя «художественный
мир» литературного произведения сводимым к комбинации кодов
и не приняв в расчет его завершенности, образующей
непроходимую границу между семиотической перспективой
автора/читателя и экзистенциальной перспективой персонажа.
Действительно, участие персонажа, литературного героя в
создании эффекта фантастики недооценивается у Тодорова. Его
определение фантастики включает три основных условия: 1)
читатель должен «испытывать колебания в выборе между естественным
и сверхъестественным объяснением изображаемых событий»,
2) «такие же колебания может испытывать и персонаж», 3)
читатель «должен отказаться как от аллегорического, так и от
"поэтического" толкования», — причем исследователь прямо
оговаривает, что обязательными являются лишь первое и третье условия,
второе же (о колебаниях персонажа) «может оказаться
невыполненным»7. Для Тодорова функция персонажа при формировании
«фантастической» ситуации — факультативная.
На самом деле персонаж играет капитальную роль в
литературной фантастике, особенно «романтического» типа. Главное не то,
что он может «испытывать колебания» в объяснении
происшествий, — действительно, в некоторых текстах он может их и не
испытывать, быть, например, безоглядным визионером или,
наоборот, непоколебимым приверженцем «здравого смысла».
Главное в том, что персонаж (или разные персонажи) непременно
служит свидетелем, через восприятие которого до нас доводятся
двусмысленные сообщения. Технически для этого служит либо
варьирование лица, от которого ведется повествование (самая
невероятная информация сообщается устами какого-то вторичного,
не совсем компетентного рассказчика), либо внутренняя фокали-
зация, то есть повествование от третьего лица, но «с точки зрения»
7 Цветан Тодоров, цит. соч., с. 24. Перевод Б. Нарумова.
Эффект фантастики в кино
279
того или иного персонажа, с опорой только на его восприятие и
круг осведомленности8. Автор фантастической истории никогда не
излагает ее всецело «от себя» — иначе его абсолютный авторитет
неизбежно разрушит, раздавит эффект колебания; для создания
двусмысленности ему необходимы персонажи-свидетели, чужой
взгляд и чужое слово. В этом смысле романтическая фантастика
стала закономерным порождением и образцовой лабораторией
литературы XIX века, озабоченной воссозданием в тексте чужой
субъективности как самостоятельного, независимого от автора
центра восприятия, мышления и речи9.
Сделаем предварительные выводы из этого критического
очерка теорий фантастики в литературе:
— фантастика в литературе представляет собой не жанр, а
локальный текстуальный эффект, обусловленный феноменом
плавающего правдоподобия и колебания в интерпретации,
мотивируемых онтологической двойственностью событий и объектов;
— технически этот эффект создается варьированием
повествовательной перспективы, которая модализуется согласно «точке
зрения» тех или иных персонажей;
— в результате такой техники отдельный сверхъестественный
факт, вместо того чтобы включаться в устойчивую систему
правдоподобия (хотя бы как сакральное исключение из нормального
круга фактов), излучает свое влияние на весь мир, где живут
персонажи, делает его тотально «фантастичным» даже при отсутствии
иных нарушений привычного порядка вещей.
Посмотрим теперь, насколько эти принципы, выработанные
при анализе художественной литературы, применимы к кино.
На первый взгляд, они очень плохо к нему применимы, и по
принципиальным причинам. В этом проявляется техническая
специфика кинематографа как медиума и историческая специфика
XX века как «модернистской» эпохи, сменившей «романтическую»
и/или «позитивистскую» эпоху XIX века.
В самом деле, именно в кинематографе слово «фантастика»
несомненно служит обозначением определенного жанра, в том
усиленном значении, какое слово «жанр» имеет в кино: это
жесткая, четко опознаваемая, серийно репродуцируемая схема
массовой культуры. Фантастическое кино лишь отчасти выросло из
романтических историй о духах, привидениях и двойниках; на его
8 О понятии фокализации см. трактат Жерара Женетта
«Повествовательный дискурс»: Ж. Женетт, Фигуры: Работы по поэтике, т. 2, М., изд-во им.
Сабашниковых, 1998, с. 205 след.
9 Впечатляющий, но не единственный пример таких опытов — это,
разумеется, «полифонический роман», как его описал М.М. Бахтин у Достоевского.
280
Знаки и образы
современный облик оказала решающее влияние другая
традиция — комплекс мотивов, сюжетов и конструктивных принципов,
которые называются «научной фантастикой». Это одна из
отраслей возникшей в XIX веке массовой культуры, которая взяла на
себя поддержание жанрового сознания в литературе, тогда как
«высокая» литература последовательно размывала это сознание, ломая
традиционные жанры и смешивая их в неопределенном единстве
«романа». Не исключено, что именно устойчивая жанровая
традиция литературной «научной фантастики», помимо прочего,
подсказала Ц. Тодорову его решение осмыслять фантастику как
«литературный жанр», а не отдельный эффект.
Еще важнее другое: для фантастического киножанра не
специфичны те эффекты, которыми определялась фантастика в
литературе. Они вообще достаточно редко встречаются в кино.
Действительно, в кино практически невозможно колебание в
интерпретации «правда или иллюзия?», потому что кинематограф с
самого начала своей истории открыто представлял себя именно как
иллюзию, аттракцион. Соответственно любые, самые невероятные
происшествия — превращения вещей и живых существ,
мгновенные перемещения в пространстве и времени, проявления
персонажами нечеловеческой силы и ловкости и т.д. — всегда кажутся
здесь не настоящими чудесами, а просто техническими фокусами,
трюками и «гэгами» (ср. распространенное любопытство зрителей
трюкового кино — «как это так снимают?» — совершенно чуждое
потребителю фантастики), отсылающими к жанровым
конвенциям разных видов комедии или боевика. С другой стороны, даже
самые обыкновенные и повседневно знакомые предметы,
например, многие машины и механизмы, да и просто бытовые вещи,
будучи сняты в кино, благодаря непривычному ракурсу,
масштабу, освещению и другим приемам выглядят чарующе странными —
отсюда знаменитое понятие «фотогении», популярное в
киноэстетике 1910—1920-х годов, не перестававшей удивляться тому, как
кинематограф превращает самую заурядную натуру в чудо10. В тех
случаях, когда кинематограф заставляет зрителя колебаться в
онтологической интерпретации сюжета, видеть в некотором
персонаже то человека, то ангела («Теорема» П.П. Пазолини), то
землянина, то инопланетянина («Планета К-пекс» Й. Софтли),
переживать необычайную агрессивность птиц то как биологическую
вспышку «бешенства», то как мистический «бич божий» («Птицы»
А. Хичкока), — этот эффект обходится без каких-либо визуальных
сверхъестественных мотивов: будь они введены в зрительный ряд,
10 См. антологию: Из истории французской киномысли: Немое кино, 1911—
1931 (составление М.Б. Ямпольского), М., Искусство, 1988, passim.
Эффект фантастики в кино
281
они своей бесспорной реальностью (то есть чудесностью, что в
данном случае одно и то же) подавили бы всякое колебание.
В кино весьма затруднен указанный выше конститутивный
прием фантастического письма — модализация повествовательной
перспективы. Кино практически не знает субъективного диегези-
са, не знает «несобственно прямой речи» в литературном значении
этого термина; в нем все чудо, зато и все «по-настоящему»,
«реальное» и «воображаемое» изображаются одинаково. Об этом,
кажется, впервые сказал в 1965 году Пьер Паоло Пазолини11, а
обобщенную формулировку дал в 1973-м Лотман в «Семиотике кино»:
...время зрительных искусств, сравнительно со словесными, бедно.
Оно исключает прошедшее и будущее. Можно нарисовать на картине
будущее время, но невозможно написать картину в будущем
времени. С этим же связана бедность других глагольных категорий
изобразительных искусств. Зрительно воспринимаемое действие
возможно лишь в одном модусе — реальном. Все ирреальные наклонения:
желательные, условные, запретительные, повелительные и пр., все
формы косвенной и несобственно-прямой речи, диалогическое
повествование со сложным переплетением точек зрения представляют для
чисто изобразительных искусств трудности12.
Известно, к каким искусственным средствам приходится
прибегать в фильме, чтобы обозначить и отделить от обычного диеге-
зиса переживаемое кем-либо из героев сновидение; правда,
неразличимость яви и сна можно и, наоборот, обыгрывать, но такие
онейрические фильмы (например, ряд фильмов Ф. Феллини —
«8 И», «Джульетта и духи» или «Город женщин») не принято
относить к фантастическому жанру. Даже когда в кино применяется
техника «субъективной камеры», чей горизонт зрения имитирует
ограниченное восприятие персонажа, этот эффект, хоть и может
вызывать страх и ожидание ужасных открытий (саспенс), опять-
таки не специфичен для «фантастического кино»: скажем, эпизод
в «Психозе», когда героиня проникает в потайную комнату
«нехорошего дома» и обнаруживает там сидящее в кресле истлевшее
мертвое тело хозяйки, вполне соответствует лабиринтной
эстетике готического романа, одного из главных жанров романтической
фантастики, — однако фильм А. Хичкока тоже никто не относит
к фантастическому жанру. Кинематограф XX века, в отличие от
литературы XIX века, исповедует не эстетику свидетельства, а
11 См.: Пьер Паоло Пазолини, «Поэтическое кино», в кн.: Строение
фильма, М., Радуга, 1985, с. 54 след.
12 Ю.М. Лотман, Об искусстве, СПб., Искусство — СПб., 1998, с. 349—350.
282
Знаки и образы
эстетику симуляции, объект в нем образуется как бы сам собой,
независимо от сознания воспринимающего, мыслящего,
рассказывающего субъекта.
Итак, в кино все окружающие человека предметы
потенциально «чудесны», а персонаж не может выполнять функцию
посредника, свидетельствующего о необычайных вещах и тем самым
помещающего их на безопасной дистанции от зрителя. В такой почти
тупиковой ситуации все же остается одна возможность для
создания эффекта онтологической двойственности — сделать его
средоточием сам персонаж, превратив его в чудовище12. Этот мотив,
возникший задолго до кино, но ставший фундаментальным для
кинофантастики, широко эксплуатировался уже в ряде фильмов
1920—1930-х годов, и многие знаменитые персонажи-чудовища
прославились именно благодаря кино, даже если некоторые из них
изначально были придуманы писателями-романистами: чудовище
Франкенштейна, Дракула, Кинг-Конг... Чудовище — по-латыни
monstrum, «диво», «то, что показывают», — это такой персонаж,
который не свидетельствует о мире сверхъестественного, а несет
его отпечаток прямо на себе, в собственном визуальном облике;
ему не обязательно обладать сознанием, но у него обязательно есть
зримое тело, и мир сверхъестественного непосредственно,
помимо знаковых процессов, вписан в это тело, миметически
представлен в его искаженных чертах и несообразных жестах. Двойная
экспликация событий в фантастической литературе заменяется в
кино двойной идентичностью чудовища; вместо литературной
проблемы чужого слова, с которым сталкивается рассказчик,
выдвигается визуальная проблема чужого тела, которым одержим
персонаж. Чудовище представляет собой двойственное,
получеловеческое существо, в нем совмещены два тела, нормальное и «иное»;
и хотя по сюжетной мотивировке это второе тело не обязательно
соотносится с каким-либо определенным «иным миром»
(например, Кинг-Конг — это просто аномально крупная обезьяна,
похожая на человека не больше и не меньше любой другой обезьяны),
13 Именно в чудовище, а не в призрак — этот излюбленный мотив
литературной фантастики XIX века. Причина такой замены очевидна: в кино все по
определению является «призраком», тенью в буквальном значении слова. Если
в литературе принято описывать призраков как смутные видения,
неопределенные визуальные объекты (тени, отсветы, зыбкие фигуры в белом и т.д.), то в
фантастическом кино подобные эффекты используются скорее в
условно-пародийной функции — как цитаты из литературы. Настоящие же выходцы из
мира мертвых изображаются во всей своей телесности, либо как ничем не
отличимые от живых людей копии (героини «Соляриса» A.A. Тарковского или
С. Содерберга), либо как страшно отличные от них трупы, «восставшие из ада»
(вариант мотива чудовищного тела).
Эффект фантастики в кино
283
но этот другой мир предполагается, тем более пугающий в силу
своей предположительности и невнятности. Типологически он
сопоставим с миром мифологизированной природы, природно-
архаического бытия, а на уровне сюжетных мотивировок может
более или менее произвольно связываться с геологической
архаикой (Годзилла — гигантский реликтовый динозавр) или с
рукотворно-магическим творением искусственных тел
(Франкенштейн); важно лишь, чтобы их чудовищная телесность наглядно
подчеркивалась.
Мотив чудовищного тела позволяет уточнить вопрос об
отношении фантастического кино с традициями научной фантастики.
Последняя, обладая устойчивым репертуаром тем и сюжетов,
создала и специфическую систему правдоподобия, подавляющую
эффект онтологической двойственности. В научной фантастике,
как в литературе, так и в кино, все происходит взаправду, и даже
если кому-то что-то мерещится, оно тоже твердо объясняется
техническими и/или мистическими наваждениями, включенными в
общую систему (такова ситуация, например, в «Космической
одиссее 2001 года» А. Кларка/С. Кубрика). В научной фантастике,
вообще говоря, не бывает двоемирия: все, даже самые странные
события и предметы размещаются в одном мире, по отношению к
которому нет ничего вполне инородного; собственно, в
принципиальном непризнании Иного заключается расхожее определение
новоевропейской науки. Оттого многие фильмы, относимые по
внешним признакам к «научной фантастике», структурно не
отличаются от костюмных, исторических или экзотических фильмов,
преследуя сходный с ними эффект мотивированного очуждения;
костюмность может даже пародийно подчеркиваться в таком
фильме, как «Пятый элемент» Л. Бессона, где картина
технического будущего во многом построена именно на гротескных
костюмах Ж.-П. Готье. Соответственно строгие теоретики фантастики
нередко исключают из своего рассмотрения научную фантастику.
Любопытно, однако, что английский и французский языки, в
отличие от русского, не применяют к литературной научной
фантастике слово «фантастика» (fantastic, fantastique) — ее называют
science fiction или roman d'anticipation — а вот к связанным с той
же традицией кинофильмам оно может прилагаться. Такой
языковой узус говорит о том, что фантастическое кино сохраняет некую
преемственность с романтической фантастикой, тогда как она не
ощутима или слабо ощутима в литературной science fiction. Как
представляется, одной из точек такой связи является именно
мотив чудовищного тела.
Примером классического фантастического фильма ранней
эпохи может служить «Метрополис» Ф. Ланга. Изображенный в
284
Знаки и образы
нем футуристический город, с грандиозными небоскребами и
мчащимися на многих уровнях скоростными поездами и
летательными аппаратами (по-видимому, также спародированный в
соответствующих эпизодах «Пятого элемента» Л. Бессона), не
воспринимается как что-то сверхъестественное, не производит эффекта
фантастики: это просто утопическая картина возможного города
будущего. Не воспринимается как что-либо невероятное даже
изготовление безумным ученым механического человека (это опять-
таки предвосхищение технически возможных механизмов —
роботов), которому придается облик прекрасной женщины, двойника
живой героини. Само по себе двойничество, один из важнейших
мотивов романтической фантастики, тоже «не работает» в этом
качестве в кино — оно переживается зрителем как монтажный
трюк, каковым и является технически; не случайно двойники чаще
встречаются не в драматическом, а в комическом кино.
Собственно фантастическим эффектом «Метрополиса», моментом катар-
тического выявления онтологической двойственности, является
эпизод (опять-таки повторенный в позднейшем кино — в сцене
финальной схватки «Терминатора—1»), когда рукотворную
женщину, обвиненную в колдовстве, сжигают на костре и из-под ее
сгорающей псевдоплоти вновь выступает металлическое тело
робота14.
Другой, более современный пример — «Звездные войны» Дж.
Лукаса. В «научно-фантастическом» мире этого фильма,
одновременно технически сверхразвитом и архаичном по формам быта
(герои летают на электропланах и звездолетах, но живут под
землей, в троглодитской пещере), встречается множество всяких
необычайных тел, как органических, так и механических15. Тем не
менее почти все они включены в структуру однородного
сказочного мира, где и выполняют типично сказочные сюжетные
функции — дарителей, помощников, заурядных противников или
14 Существенно, конечно, что это сексуально привлекательная женщина,
которая в предыдущих сценах соблазняла народ своими чарами. Важная черта
робота как нечеловеческого тела заключается именно в его принципиальной
бесполости (см.: Жан Бодрийяр, Система вещей, М., 1999, с. 132—135).
«Собственно, фантастика изобрела одну-единственную сверхвещь — робота», —
пишет тот же автор (там же, с. 132).
15 В числе последних особенно любопытны два друга-робота, замешанные
во всех приключениях. По чьему-то остроумному замечанию, именно их
глазами и показан этот эпос — по крайней мере, в тех сериях, что были сняты
первыми. Эти человечки-«дроиды» (очевидно, от «андроидов» —
«мужеподобных», «не-совсем-мужей») служат в фильме фигурами его идеальных
зрителей — детей. Эстетический парадокс кино: если в нем и возможен
полноценный персонаж-свидетель, то это не человек, а вещь, робот.
Эффект фантастики в кино
285
просто сюжетно нейтральных декораций, обозначающих «нездеш-
ность» действия. Однако два внешне сходных персонажа
выделяются своей особенной чудовищностью — это рыцари Зла Дарт
Моул и Дарт Вейдер, похожие одновременно на людей и на
механические автоматы: безлицые, статуарно-малоподвижные (кроме,
разумеется, сцен боя), астматически дышащие с шипящим звуком
то ли змеи, то ли насоса. Нам дается понять, что по крайней мере
один из них — органическое существо, связанное родственными
узами с другими людьми (он приходится отцом главному герою
цикла, нам показывают его детство и юность), но это человек
мистически переродившийся, он буквально, наглядно-физически
одержим демоническим телом Зла. Два рыцаря Зла, сменяющие
друг друга в сюжете, образуют единственного собственно
фантастического героя «Звездных войн», и с ними связан главный
драматический сюжет этого киноэпоса.
Выше уже было сказано, что в фигуре чудовища
«предполагается» иной мир, которому он принадлежит. Такое утверждение
было бы малообоснованной гипотезой, если бы само
фантастическое кино не давало ему наглядное — в буквальном смысле слова —
подтверждение. Если ранние фантастические фильмы («Кабинет
доктора Калигари», «Франкенштейн», «Кинг-Конг») чаще всего
строились на вторжении единичного чудовищного существа в
«нормальный» человеческий мир, как в романтических повестях о
вампирах, призраках и т.д., то за последние два-три десятилетия,
особенно благодаря новейшим компьютерным технологиям, кино
научилось зримо воссоздавать «иной» мир как целое, давая ему уже
кратко упомянутую выше форму лабиринтного пространства.
Лабиринт, мотив, начиная еще с античных мифов сопряженный с
мотивом монстра, представляет собой пространство, образованное
как оттиск движущегося в нем тела16. Своей теснотой,
отсутствием широкой перспективы, хаотическими поворотами лабиринт
повторяет, моделирует в изначальном скульптурном смысле слова
замкнутость живого тела и произвольность его жестов. Такое
аномальное пространство (разумеется, оно «аномально» лишь по
сравнению с перспективным пространством новоевропейской
геометрии, живописи и кинематографа) служит внешней проекцией
чьего-то чудовищного тела. Если в образе чудовища внутри
человеческого или человекообразного тела оказывается тело «чужого»,
то в случае лабиринтного пространства происходит обратное:
человеческий персонаж, подобно пророку Ионе, как бы (а иногда и
16 Это показал М. Ямпольский в книге «Демон и лабиринт» (НЛО, 1996),
к которой восходит и изложенная выше концепция монстра как существа,
одержимого «чужим телом».
286
Знаки и образы
буквально) попадает в чужое тело и странствует по его
внутренностям17.
Современное фантастическое кино все чаще строит свой
эффект именно на конструировании лабиринтного мира,
продолжающего или даже заменяющего собой чудовищное тело. В
некоторых оригинальных произведениях такой мир может не содержать
никаких невероятных объектов, никаких наглядных нарушений
меры условности: в «Сталкере» A.A. Тарковского мистическое
пространство Зоны кажется открыто-природным, но на самом деле в
нем приходится двигаться как по лабиринту, обходя невидимые
препятствия и ловушки; соответственно и чудовищность тел
персонажей-мутантов тоже лишь упоминается в диалогах, но не
показана через зрительный ряд. Другой стандартный облик
лабиринтного пространства — городские развалины, полу природная,
полукультурная среда бывших улиц, зданий и помещений,
утратившая разумный функциональный порядок, но и не до конца
исчезнувшая в первозданном хаосе18. Вполне логично, что это
чудовищное пространство может становиться обиталищем чудовищ
и/или картиной потустороннего мира.
Ранним прообразом такого построения являются некоторые
эпизоды фильма, в принципе не слишком богатого
фантастическими эффектами, — «Орфея» Ж. Кокто. В нем земной и загробный
миры связаны двумя переходами. Один из них — зеркало,
оптическое устройство, аналогичное кинотехнике и не скрывающее
своей иллюзионистской природы: предзеркальный и зазеркальный
миры просто склеены между собой как два монтажных сегмента.
Другой, более оригинальный переход — сумрачные коридоры
какого-то разрушенного здания, где герои бредут, неестественно
согнувшись (съемка делалась наклоненной камерой) и с видимым
трудом преодолевая силу тяжести: настоящий лабиринт, контуры
которого переживаются через усилия пробирающегося по нему
персонажа.
Из фильмов последних лет любопытна «Матрица» Э. и Л. Ва-
човски, особенно первая серия фильма, где оригинально — то есть
вполне кинематографически, через зрительный ряд — воссоздан
романтический эффект «двоемирия» как тотальной
онтологической двойственности. Здесь нет двойной детерминированности
событий, о которой писал Соловьев и которую почти невозмож-
17 См. другую книгу М. Ямпольского «О близком» (НЛО, 2001, особенно
гл. 2), но там идет речь только о научно-фантастических фильмах.
18 Еще Георг Зиммель писал, что эстетика руины заключается в
возвращении культурного, рукотворного объекта (здания) в природное бытие. См.:
Георг Зиммель, «Руина», Избранное, т. 2, М., Юрист, 1996, с. 227—265.
Эффект фантастики в кино
287
но показать в кино; зато здесь совмещаются два
взаимодополнительных пространства, соприкасающиеся между собой почти в
любой точке: всюду, где найдется телефонный аппарат, герои
умеют мгновенно перемещаться из одного мира в другой. Однако
для телепортации не применяются мобильные телефоны: в самом
деле, они сделали бы такие переходы совсем легкими,
доступными всегда и всюду, а тем самым уничтожили бы конститутивную
неоднородность пространства. Вместе с возможностью зрелищных
погонь, когда герою нужно раньше преследователей добежать до
спасительной телефонной кабины и ускользнуть в виртуальный
мир, исчез бы и эффект фантастики.
Сценарная идея «Матрицы» впечатляет еще и тем, что
«нормальное», рационально расчисленное,
геометрически-прямоугольное пространство современного мегаполиса представлено как
нереальное, как грандиозная цифровая иллюзия, а роль «пустыни
реального» исполняет типичный кинолабиринт, где во мраке,
среди развалин былой цивилизации, блуждают корабли с людьми, а
за ними гоняются полуорганические, полумеханические монстры
(внешне они похожи на спрутов, но тело имеют металлическое и
вооружены аппаратами для разрезания брони). В отличие от
«Орфея» Кокто, здесь лабиринтную структуру имеет не пространство
перехода, а пространство «за переходом».
Итак, фантастическое кино сумело освоить и переосмыслить
эффект фантастики. Можно подвести некоторые теоретические
итоги:
— фантастика в кино имеет не семиотический, а миметический
характер, в этом эффекте онтологическая двойственность
выступает на первый план, как правило не будучи опосредована
колебанием в интерпретации;
— базовым элементом кинофантастики служит тело монстра,
в котором наглядно совмещаются «реальный» и «иной» миры;
— экспансия сверхъестественного, «распространяющегося на
весь мир», принимает здесь форму лабиринтного пространства как
проекции чудовищного тела.
Определив эффект фантастики в кино, остается сделать
некоторые замечания о смысле этого эффекта и о функции
фантастического кино в современной культуре.
Цветан Тодоров посвятил последние главы своей книги
классификации «тем» литературной фантастики — репертуара
сверхъестественных мотивов, которые при соответствующей сюжетной
обработке могут стать (а могут и не стать) поводом к созданию
фантастического эффекта. Эти мотивы делятся на два класса.
К первому классу относятся нарушения отношений между мате-
288
Знаки и образы
рией и духом: метаморфозы, двойничество, оживание
неодушевленных предметов, трансформация пространства и времени
(волшебные перемещения в них). Во втором классе собраны мотивы,
где прочитываются сексуальные желания и тревоги субъекта;
зачастую они не представляют собой чего-либо физически
невозможного, скорее в них скандально нарушаются моральные
запреты (темы кровосмешения, гомосексуализма, садизма и т.д.), но
среди них есть и один собственно сверхъестественный мотив —
воскресение мертвеца, обычно появляющегося в угрожающем
виде, как призрак, вампир и т.п.
Если применить эту классификацию к тематике
фантастического кино, то окажется, что мотивы первого класса в
значительной степени определяют собой репертуар научной фантастики (как
литературной, так и кинематографической), очерчивая типичные,
опознаваемые контуры ее утопического мира: пространственно-
временные трансформации обеспечиваются космическими
кораблями и машинами времени, оживление неодушевленных
предметов мотивируется изощренной роботехникой, метаморфозы
и двойничество — успехами генетики и других областей биологии
и т.д. Мотивы этой категории образуют, так сказать, «предфанта-
стику», переживаемую скорее как технический/киносъемочный
фокус, чем как беспокоящее чудо; а уже по сравнению с ней
выделяются собственно фантастические эффекты, обычно связанные
с мотивами второй категории, осмысляемыми в терминах
психоанализа: чудовище переживается как угроза кастрации, лабиринт
как материнская утроба19. Можно спорить, какой мотив и в каком
фильме что именно значит, но в принципе эффективная
применимость подобного инструментария несомненна.
Структурное своеобразие фантастической тематики в кино
связано с двумя обстоятельствами. Во-первых, два класса мотивов,
выделенных Тодоровым в литературе по критерию дополнитель-
19 Бывают и сложные сочетания того и другого. Пародийный (в смысле,
какой придавал этому слову Ю.Н. Тынянов) фильм Бессона «Пятый элемент»
концентрирует собственно фантастические эффекты главным образом в
телесных превращениях, например когда у отрицательного персонажа прямо из-под
кожи лезет другое, чудовищное тело. Но в некоторых эпизодах эта, вообще
говоря, монструозная трансформация тела облагорожена с помощью
метафоры родов: главную героиню выращивают в автоклаве из маленького и
безобразного фрагмента инопланетной плоти (=эмбриона), а из тела другой героини,
погибшей иноземной красавицы, главный герой голой рукой извлекает
увесистые волшебные камни (кесарево сечение). Оба эпизода связаны с
положительными персонажами и с сотериологическим сюжетом о спасении мира.
Разумеется, их эффект обеспечен именно тем, что эти «метафоры» воспринимаются
зрителем буквально: напомним, в кино все «взаправду», даже фантастика.
Эффект фантастики в кино
289
ной дистрибуции (то есть несочетаемости в одном и том же тексте),
здесь как раз легко и часто комбинируются в одном и том же
фильме, образуя иерархическое отношение фона и фигуры.
Фантастический эффект выступает как вариант «эпизода с резко
повышенной мерой условности», который «усиливает чувство подлинности
в остальной части фильма», построенной на условных «предфан-
тастических» моделях science fiction20. Во-вторых, для
стабильности фантастических структур в кино, по-видимому, важно
одновременное присутствие обеих фундаментальных фигур: персонажи
монстров, не подкрепленных соответствующим устройством
пространства, легко вырождаются до условно-«мультипликацион-
ных»21 (как в бесчисленных, не только анимационных, фильмах о
вампирах), а лабиринтное пространство без монстра в нем может
вообще выходить за рамки фантастики (ср. уже упомянутый выше
эпизод из «Психоза», где в глубине лабиринта обнаруживается
«всего лишь» незахороненный труп). Структура фона/фигуры
работает на обоих уровнях: фантастика как таковая выделяется на
фоне «предфантастики», а уже в ее собственных рамках
чудовищное тело выделяется на фоне родственного ему лабиринтного
пространства.
Что касается смысла фантастических эффектов, то он,
по-видимому, не исчерпывается сексуальными комплексами,
выявляемыми психоанализом в психической структуре современного
человека; в них можно обнаружить более глубокое и архаическое
содержание.
Обе фундаментальные фантастические фигуры — монстр и
лабиринт — сближаются своим континуальным характером. Это
очевидно в случае лабиринта, оформленного как пространство
непрерывного, нерасчлененного пробега, не поддающееся
артикулированному чтению и противопоставленное (например, в
20 Ю.М. Лотман, Об искусстве, с. 362. Говоря об «эпизодах с повышенной
мерой условности», Лотман имел в виду вводимые в фильм картины
киносъемок или прямые цитаты из других фильмов, то есть моменты сверхсемио-
тичности; как выясняется, сходную функцию могут выполнять и моменты
«сверхтелесности», подчеркивания телесности с помощью фигур чудовища и
лабиринта.
21 См. замечание Ю.М. Лотмана о мультипликации как «пародии» на
игровое кино («О языке мультипликационных фильмов», в кн.: Ю.М. Лотман,
Об искусстве, с. 671—674). Современное развитие кинотехнологии (техника
motion capture) подтверждает его мысль: присутствие живого актерского тела,
даже неузнаваемо преображенного и окруженного сплошной «виртуальной
реальностью», обеспечивает миру игрового фильма минимум устойчивости, тогда
как даже самое точное анимационное изображение реальных тел и вещей
заставляет ждать, что они вот-вот начнут трансформироваться по произволу
мультипликатора.
290
Знаки и образы
«Матрице») дискретному пространству городских кварталов, улиц
и домов с их отдельными и ритмично организованными этажами,
комнатами и окнами. То же относится и к фигуре монстра:
во-первых, в репертуаре монстров, показываемых в фильмах последних
лет, все чаще фигурируют бесхребетные, зыбко извивающиеся
чудовища типа спрутов, крупным планом показывается зловещее
развитие мягких, влажных органических тканей («детеныши»,
вылупливающиеся из яиц чудовища в фильмах цикла «Чужой»,
и т.д.). Во-вторых, компьютерная техника позволяет эффектно
показывать непрерывный, не спрятанный в монтажные стыки
процесс перехода нормального тела в тело чудовищное: именно
сплошной характер этого процесса делает его не условной
метаморфозой из числа «фоновых» предфантастических мотивов, а
полноценным, то есть ошеломительно-невероятным индуктором
фантастического эффекта. Поскольку континуальные формы — то
есть фактически бес-форменность, хаотический взаимопереход
форм — составляют важнейшую черту сакрального22, то этим
подтверждается романтическая генеалогия кинофантастики,
реликтовой формы сакрального в современном нерелигиозном обществе.
Роже Кайуа в книге «Игры и люди» (1958) предлагал различать
две группы инстинктов, определяющих разные виды игр: с одной
стороны, инстинкт соревнования (спорт и вообще различные
состязания) и инстинкт ожидания удачи (азартные игры,
жеребьевки, пари), а с другой стороны, инстинкт миметического
подражания (театр, маски) и инстинкт головокружения (искусственное
расстройство восприятия с помощью механических аттракционов
и других средств). Два первых, по его мысли, служат прогрессу
цивилизации, а два вторых господствуют в застойных
первобытных обществах, которые заворожены ужасом перед
потусторонними существами-масками и впадают в транс от отупляющих
обрядов, дурманящих веществ и т.д. С точки зрения такой
классификации, две фундаментальные фигуры фантастического кино
соответствуют двум последним инстинктам: киночудовища
представляют собой современную форму архаических масок, а лабиринт
лишает зрителя пространственной ориентации и вызывает
головокружение стремительным и неупорядоченным движением
(зачастую его визуальной моделью служат аттракционы типа «замка
ужасов» или «американских горок»). Иллюстрацией могут служить
фильмы о Гарри Поттере, аккуратно переводящие на визуальный
язык и даже, пожалуй, усиливающие один из важных приемов книг
22 См.: Жорж Батай, «Теория религии», в кн.: Жорж Батай, Проклятая
часть: Сакральная социология, М., Ладомир, 2006; Роже Кайуа, Миф и человек.
Человек и сакральное, М., ОГИ, 2003, включая мою вступительную статью к
этому изданию.
Эффект фантастики в кино
291
Джоан Роулинг — контраст двух разных типов «игр», в которые
играют герои. С одной стороны, Гарри Поттера и его друзей
окружает быт современной, пусть и необычной по учебной программе
школы, где культивируется состязательность (индивидуальная и
групповая) и применяются жеребьевки (например, при
комплектации классов), а с другой стороны, они сталкиваются с
чудовищами и бродят в лабиринтах (от банального готического
подземелья до огромной шахматной доски, уставленной враждебными
фигурами)23; впрочем, две группы игр могут и образовывать
синтез в форме «квиддича» — воздушной игры в мяч, где
соединяются физическое головокружение, лучше всего ощутимое именно в
экранизации, и дух командно-спортивных соревнований.
Все сказанное лишний раз говорит о том, что современная
кинофантастика представляет собой регрессивное явление
современной культуры — примерно в том смысле, в каком о «регрессии»
говорят в психоанализе, только здесь имеет место отступление не
на онтогенетической, а на филогенетической оси, возврат к
весьма архаическим, дочеловеческим и даже досексуальным
биологическим процессам и структурам, проявляющимся в рамках
новейшего, высокотехнологичного зрелища. Регрессивная,
архаизирующая природа кино известна давно; очередным
доказательством тому служит и фантастическое кино, которое благодаря
своей особой «аттракционной» природе смыкается с ранними
стадиями собственного «филогенеза», когда синематограф еще
воспринимался не как искусство, а как ярмарочная забава.
Наконец, в более широкой перспективе регрессивность
кинофантастики обусловлена ее континуальным, миметическим характером, и
тем же обусловлена ее образцовая теоретическая ценность: являя
собой досемиотические процессы сознания, типологически
предшествующие знаковым процессам, она помогает нащупать
границы применимости семиотики, что необходимо для
методологического самоосмысления этой науки.
2010
23 В принципе шахматная доска задумана как образец дискретного,
геометрически разграфленного пространства — но такой она видится лишь игроку, а
не фигуре на самой доске.
ЖАНР И ИСТОРИЯ
(Об одном механизме жанровой эволюции)
Изначально, еще со времен Аристотеля, «жанр» представляет
собой таксономическое понятие; оно плохо уживается с историей,
и теории жанров часто бывают тем более логичными и строгими,
чем более они абстрагируются от реальных факторов временного
развития. Нормативные жанровые классификации классической
риторики отжили свое именно потому, что пытались быть вечными
и не учитывали исторических перемен. Но диалектические и/или
органицистские «большие нарративы» жанровой эволюции,
созданные в XIX веке, от Гегеля до Брюнетьера, и призванные
объяснить историю культуры, сегодня тоже являются устаревшими, так
как они обычно исходили из представления о непрерывной
эволюции жанра, рассматриваемого как индивидуум, а то и как живое
существо. В XX веке преобладает, напротив, системно-дискретное
мышление, для которого любой исторический факт включается в
ту или иную хронологически датируемую систему и история, во
всяком случае история культуры, движется посредством
эпистемологических разрывов, более или менее резких переходов от одной
системы к другой, как это происходит, например, с
дискурсивными формациями по Мишелю Фуко. По всей логике, и история
жанров должна изучать процесс эволюции таких систем как
закономерный дискретный процесс, по возможности соотнося его с
общим процессом Истории (понимаемым согласно марксистской,
либеральной или какой-либо иной схеме). Однако подобная задача
разрешима разве что в отношении «холодных» культур, медленно
изменяющихся в масштабе «долгой временной протяженности»,
таких как античная или средневековая культура; она становится
тем более затруднительной, чем более мы приближаемся к
современной эпохе. Дело не только в том, что вблизи, без временной
дистанции, труднее различать и классифицировать события.
Главная проблема в том, что меняется, становится принципиально
более многообразной сама природа культурных объектов.
Современная культура отдает приоритет свободе и новизне, реализует
«эстетику противопоставления», которую Лотман предлагал
отличать от «эстетики тождества», преобладавшей в классической
культуре. Чем более модернизируется цивилизация, тем больше в ней
становится произведений, не поддающихся классификации,
слишком оригинальных, чтобы подвести их под какую бы то ни было
Жанр и история
293
жанровую категорию. Нынешняя же «постсовременная» эпоха
доходит до логического предела этой эволюции: сегодня, чтобы
новое произведение обладало какой-то ценностью, едва ли не
обязательно требуется, чтобы оно не принадлежало ни одному
жанру — или, что то же самое, сочетало в себе сразу несколько
жанров. В результате жанровые категории «высокой» литературы
сделались столь растяжимыми, что почти любой прозаический
текст можно сегодня назвать «романом», а почти любой
стихотворный — «стихотворением», не проводя более точных различений.
Обретя свободу творчества и избавившись от риторических
стеснений, литература одновременно отбросила и стеснения
жанровые; отныне каждое новое произведение будет единственным в
своем роде.
Следует ли сделать отсюда вывод, что сегодня вообще нет
больше жанров? Нет, это не так, просто эти жанры следует искать не в
области «серьезных» романов и стихов; скорее их можно найти,
проглядывая полки больших книжных магазинов, — «детектив»,
«научная фантастика», «любовный роман» и т.д. Именно там
встречаются тексты, написанные по четким условным законам и
опознаваемые всеми авторами и читателями как принадлежащие
к определенным категориям. В английском языке есть общий
термин для таких жанров — fiction, в отличие от literature, которая
следует более оригинальным и индивидуальным принципам
творчества. Еще более красноречива терминология кинематографа: в
ней различаются «жанровое» кино (вестерны, детективы,
мелодрамы, комедии и т.п.) и кино «авторское», то есть оригинальное, не
сводимое к жанровым конвенциям. Любопытный факт нашей
культуры: категории жанра и автора становятся в ней
взаимодополнительными и действуют на разных иерархических уровнях
литературы и искусства1. Жанровое сознание не исчезло, но
переместилось в массовую культуру, образующую для «большой»
литературы резерв жанров, откуда создатели «авторских» произведений
могут черпать готовые структуры, чтобы использовать,
пародировать, комбинировать, сталкивать друг с другом и в конечном
счете трансформировать и развивать их, выходя за пределы их
первоначальных функций. Таким образом, с точки зрения жанра
система современной литературы разделяется на две подсистемы, из
которых одна привязана к устойчивым моделям и к «эстетике
тождества», а другая стремится к переменам и практикует «эстетику
1 «...Можно сказать, что лишь массовая литература (детективы, романы с
продолжением, научная фантастика) соответствуют понятию жанра, но это
понятие не применимо к собственно литературным текстам» (Цветан Тодоров,
Введение в фантастическую литературу, М., Дом интеллектуальной книги,
1997, с. 4).
294
Знаки и образы
противопоставления». Эти две подсистемы типологически
соотносятся с двумя аспектами языковой деятельности по Соссюру —
«языком» и «речью»2. В еще более общей перспективе это деление
современной литературы выражает сущностное противоречие
любого творческого акта, когда уже существующая и опознаваемая
модель применяется в новых, оригинальных целях.
Ниже история жанров будет рассмотрена именно с точки
зрения их творчества и трансформации. При таком взгляде жанр
представляет собой не конечный результат обобщенной рефлексии о
литературе, а первичное сырье для литературного «бриколяжа»; он
принадлежит не теоретикам, а практикам литературы и походит на
камень, который строители берут из старинных развалин, чтобы
заложить его в новую постройку, не очень интересуясь его
прежним использованием. История жанров — это история их новых
применений и превращений.
Такая точка зрения нечасто встречается в теории литературы
XX столетия, которая преимущественно доискивается до
устойчивых и неизменных жанровых схем. В лице Нортропа Фрая она
пытается очистить понятие жанра от всякой исторической
случайности и возвести его к вечным явлениям душевной деятельности3;
в лице Михаила Бахтина она создает органицистскую мифологию
жанров, наделенных «объективной памятью»4 и в явном или
скрытом виде сохраняющих свои сущностные структуры на протяжении
многовековой прерывной истории. Наиболее осмотрительные
теоретики ограничиваются тем, что выделяют в жанрах сущностно-
неизменный центр и переменчивую периферию; так, Жан-Мари
Шеффер5, развивая идеи Жерара Женетта6, различает четыре
определения жанра и, как следствие, четыре логических разряда
жанров, из которых лишь один, основанный на модальностях
дискурса, носит объективно-неизменный характер, тогда как три других
подвержены непрестанным и более или менее произвольным
переопределениям в ходе истории.
2 Раньше той же оппозицией регулировались отношения фольклора и
литературы. См. Роман Якобсон, Петр Богатырев, «Фольклор как особая форма
творчества», в кн.: П.Г. Богатырев, Вопросы теории народного искусства, М.,
Искусство, М., 1971, с. 369—383.
3 Northropc Frye, Anatomie de la critique, P., Gallimard, 1969 [1957].
4 См.: M.M. Бахтин, Собрание сочинений в 6 тт., т. 6, М., Русские
словари; Языки славянской культуры, 2002, с. 137. См. ниже статью «Память
жанра: анализ одной гипотезы».
5 Жан-Мари Шеффер, Что такое литературный жанр?, М., Едиториал
УРСС, 2010 [1989].
6 Жерар Женетт, «Введение в архитекст», в кн.: Ж. Женетт, Фигуры:
Работы по поэтике, т. 2, М., изд-во им. Сабашниковых, 1998 [1979], с. 281—341.
Жанр и история
295
Действительно, когда писатель — особенно современный
писатель — выбирает себе некоторый жанр, он не столько
стремится следовать его вечным законам и требованиям, сколько делает их
предметом литературной игры. Перед ним набор случайно
сложившихся конвенций, лишь в редких случаях эксплицитно
сформулированных, но часто обозначенных жанровыми именами: рыцарский
роман для Сервантеса, пишущего «Дон Кихота», восточная сказка
для Вольтера, пишущего «Задига», история для Вальтера Скотта,
пишущего «Айвенго», роман-фельетон для Достоевского,
пишущего «Преступление и наказание», блазон для Рембо, пишущего
«Венеру Анадиомену»7... Во всех этих случаях задачей «нового»
автора является радикальная трансформация уже существующего
образца; но и те образцы, которым он просто следует, он тоже
берет как материал для работы, а не как идеальную форму для
почтительного подражания. Будучи практическим деятелем, он редко
отдает себе отчет во всей системе, образуемой жанровыми
конвенциями; он не может уделять одинаковое внимание всем
признакам, которые отличают данный жанр в рамках общей системы. Он
опознает жанр лишь по некоторым чертам, наиболее актуальным
для данного момента и в данной стране; жанр сближается для него
с типом, как это понятие трактуется в логике. Логика «типов» и
«семейных сходств», которую современная историография
обнаруживает в основе своих понятий8, применима и к литературным
жанрам. Жанр представляет собой вариацию некоторых
доминантных признаков, которые сменяют друг друга в ходе истории и
поддерживают видимость непрерывной жанровой традиции, в то
время как на самом деле она трансформируется, проходя через разные
эпохи, культуры, эстетические системы и технические средства
выражения. В конечном счете может оказаться, что жанр,
подобно соссюровскому знаку, представляет собой лишь
немотивированное сочетание некоторой формы и некоторой тематики, где
каждый из двух элементов может бесконечно варьироваться, не
нарушая знакового отношения.
Идея доминантного признака, позволяющего опознавать
жанр, не воссоздавая всю его систему в целом, была выдвинута
русскими формалистами. В ходе своих исторических изменений
жанровая доминанта перераспределяет и деформирует все
остальные элементы произведения, приписывает им новые функции —
даже когда внешняя форма кажется неизменной. Юрий Тынянов
писал в статье «О литературной эволюции» (1927):
7 См. анализ этого сонета: Michael Riffaterre, La production du texte, P., Seuil,
1979, p. 93-97.
8 См. Николай Колосов, Как думают историки, M., Новое литературное
обозрение, 2001.
296
Знаки и образы
Ввиду того что система не есть равноправное взаимодействие всех
элементов, а предполагает выдвинутость группы элементов
(«доминанта») и деформацию остальных, произведение входит в литературу,
приобретает свою литературную функцию именно этой доминантой
<...>. То же и в соотнесенности по жанрам. Мы соотносим роман с
«романом» сейчас по признаку величины, по характеру развития
сюжета, некогда разносили по наличию любовной интриги9.
Приведенный Тыняновым пример не менее способствует
прояснению дела, чем его общая формулировка. Действительно, два
названных им исторических определения «романа» четко
различаются как формальная дефиниция (по «величине» или «характеру
развития сюжета») и тематическая дефиниция (по «наличию
любовной интриги»). Судя по этому примеру, литературное сознание
время от времени перефокусирует свою оптику: для опознания
«романа» оно то всматривается в его формальные черты, то глядит
сквозь форму на морально-психологическое или иное
«содержание». Такой механизм вообще важен в истории литературы, где
чередуются «формалистические» и «реалистические» течения, а на
другом уровне (вообще говоря, независимом от только что
упомянутого чередования) им же могут регулироваться переопределения
литературных жанров.
Эта гипотеза подтверждается некоторыми языковыми
фактами. Жанры обычно носят имена, присвоенные современниками,
в отличие от «стилей» и «эпох», которые нередко именуются
ретроспективно (ср. «античность» или «барокко»). Эти их имена,
естественно, образуются из обычных, не имеющих
терминологической значимости слов; и обратно, они могут вновь становиться
обычными общеязыковыми именами, утрачивая
терминологическую четкость и дискретность и вливаясь вновь в континуальную
приблизительность повседневных обозначений, не
принадлежащих ни к какой дисциплине. Эпопея, роман, идиллия, драма,
трагедия, комедия, фарс, история, картина, портрет, песня — все эти
слова, а равно и многие другие (особенно если принять в
рассмотрение лексические ресурсы различных языков, которые
нередко приписывают новые значения заимствуемым иноязычным
терминам), имеют не только более или менее точный смысл
литературных или художественных жанров, но и «фигуральный»,
«метафорический», «расширительный» общеязыковой смысл,
отсылающий к некоторым событиям, ситуациям, лицам и даже час-
9 Ю.Н. Тынянов, Поэтика. История литературы. Кино, М., Наука, 1977,
с. 277.
Жанр и история
297
тям тела10. Литературно-художественные жанры постоянно, едва
ли не систематически служат для классификации не только
произведений литературы и искусства, но и фактов внехудожест-
венной реальности, и художественная метафоризация жизни, о
которой часто толкуют теоретики, идет также и в обратном
направлении, когда жанровые метафоры становятся категориями
реально-житейского сознания. Можно предположить, что такой
обмен, очевидный на поверхностном уровне «плавающих»
терминов, происходит также и при переопределении жанров. Новые
жанровые дефиниции возникают тогда, когда в литературу
инкорпорируется возникший за ее рамками «фигуральный» смысл
жанрового термина, «деформируя» тот смысл или смыслы,
которыми данный термин уже обладал в литературе. Во всяком
случае, таким может быть один из продуктивных механизмов
жанровой эволюции в числе прочих.
Взаимообмен между «литературными» и «реальными»
жанровыми формами делается еще нагляднее, если от относительно
кодифицированных жанров, характеризующих законченные тексты,
перейти к зыбким и тем не менее вполне опознаваемым «жанрам»,
служащим для характеристики отдельных частей, элементов или
локальных эффектов текста. Эти два типа жанров можно различать
как жанры текста и жанры дискурса* ' или же как жанры
структурные и тематические12. Со времен Шекспира хорошо известно, что
трагедия может содержать в себе комические эпизоды, смешных
персонажей и шутовские речи. А современный роман вообще
часто характеризуют именно его способностью вбирать в себя
несхожие дискурсы, отводя каждому из них более или менее
ограниченное место и более или менее соотнося их с разными персонажами
(таково в общих чертах определение «полифонического романа»
у Бахтина). Жанры речи, или жанры дискурса (первый термин —
10 Некоторые из таких фигуральных значений относятся к просторечной
лексике (например, французское portrait, «портрет», может значить «лицо»,
«физиономия»; аналогичное употребление возможно и по-русски), и это
объяснимо, так как просторечие, лишенное кодификации и свободное в своей
эволюции, нагляднее литературного языка демонстрирует тенденции языкового
развития, независимые от условных ограничений.
11 В некоторых языках, таких как русский, в силу исторической традиции
уместнее говорить во втором случае об эффектах, чтобы подчеркнуть
локальный характер этих частных дискурсов, образующих текст; тогда категория
жанра будет характеризовать произведение в целом, а категория эффекта —
синтагматические элементы, из которых оно складывается. В других языках, таких
как французский, слово «жанр» равно применимо к единицам и того и
другого рода.
12 Различие, предложенное Женеттом во «Введении в архитекст».
298
Знаки и образы
опять-таки бахтинский, заимствованный Тодоровым в форме les
genres du discours), которые могут не иметь конца и завершения,
сближаются с «реальностью» больше, чем жанры текста: они либо
изображают ее в условных обобщенных формах, как комическое
и трагическое, либо непосредственно экземплифицируют ее,
предъявляя нам образчики словесных практик, постоянно
имеющих место вне рамок литературы (например, молитва или
перебранка). Жанры дискурса не менее, а то и более изменчивы, чем
жанры текста, и подчиняются той же самой логике трансформаций
и инверсий «формы» и «темы».
Покажем это на примере одного проблематичного жанра
современной культуры — фантастики.
Этот жанр — как уже сказано, точнее будет называть его либо
жанром дискурса, либо текстуальным эффектом — уже исследован
в общетеоретическом плане Цветаном Тодоровым. Тодоров
рассматривал жанры с чисто классификационной точки зрения, не
задаваясь вопросом об их эволюции. Однако, прослеживая
историю «фантастики» на протяжении двух столетий ее развития,
можно отметить любопытную флуктуацию между «содержанием» и
«формой» — движение, одним из этапов которого оказывается
жанровая конфигурация, описанная Тодоровым.
Во французском языке слоъоfantastique изначально относилось
не к форме представления фактов, а к самой их «материи»:
возникнув в XIV веке, оно означало «воображаемое» в
противоположность «реальному». В начале 1830-х годов, после перевода на
французский язык сказок и новелл Гофмана, фантастика стала во
Франции модным литературным жанром. В ту пору, как и в
любую другую, она не смешивалась с любыми сверхъестественными
мотивами (от нее отличали классическое «чудесное» из басен и
эпических поэм), но соотносилась с определенной категорией
сверхъестественного; для ее определения служил конечный набор
повторяющихся мотивов, отсылающих к негативному
сакральному, по большей части христианского происхождения, таких как
черти, ведьмы, привидения, вампиры и т.д.13 Теофиль Готье уже в
1831 году пародировал моду на «фантастику» в своей поэме «Аль-
бертус, или Душа и Грех, теологическая легенда», составляя длин-
13 «Под этим именем "фантастика" я объединяю языческое чудесное,
христианское чудесное и все то, что прибавили к нему романтики: колдунов и
ведьм, сильфов и сильфид, фей и пери, и т.д. и т.п. <...> В 1820 году, как и в
1947-м, в фей никто особенно не верил; но привидений могли бояться <...>.
Привычным персонажем становится Сатана <...>. Колдуны — это
приспешники Сатаны...» (Ferdinand Brunot, Histoire de la langue française, des origines à nos
jours, P., Armand Colin, t. XII (par Charles Bruneau), 1948, p. 144—146).
Жанр и история
299
ный каталог непременных атрибутов колдовского обихода и
обозначая их этим «жанровым» термином14.
Эта мода и связанное с ней определение жанра
просуществовали недолго; уже на протяжении 1830-х годов на место
христианского сверхъестественного в фантастических повестях приходит
«экзотическая» и «историко-культурная» тематика. Отныне
фантастическими персонажами служат античная статуя («Венера
Илльская» Мериме), древнеегипетская царевна («Ножка мумии»
Готье), испанская танцовщица («Инее де Лас Сьеррас» Нодье) или
даже, позднее, совсем абстрактное и таинственное существо,
призванное вытеснить из мира людей («Орля» Мопассана).
Одновременно авторы фантастических повестей стали все более
сознательно применять повествовательный прием, который Тодоров
потом объявил основополагающим признаком жанра, —
онтологическую неопределенность, колебание между «естественным» и
«сверхъестественным» объяснением сообщаемых фактов. К концу
XIX века эта идея получила концептуальную формулировку в
России у Владимира Соловьева, которая затем через посредство
Б.В. Томашевского попала к Тодорову и послужила для
построения его теории фантастики.
Итак, второе определение фантастического жанра было уже не
тематическим, а формальным, основанным на двусмысленности
получаемых читателем сообщений — а также, следует добавить, на
ненадежности основных или вторичных рассказчиков. Автор
фантастической повести никогда не рассказывает ее с начала до
конца от своего собственного лица, самые неприемлемые для
здравого смысла факты всегда сообщаются через посредство какого-либо
unreliable narrator — визионера, безумца, пьяного и т.п. Эстетика
фантастической повести XIX века, как и эстетика
реалистического романа той же эпохи15, — это эстетика свидетельства, эстетика
косвенной речи и чужого слова, и хотя в фантастическом
повествовании, как замечает Тодоров, персонаж не обязательно сам
колеблется между разными объяснениями событий (за него это может
делать читатель), тем не менее он остается необходимым эле-
14 См.: Théophile Gautier, Œuvres poétiques complètes, éd. par Michel Brix, P.,
Bartillat, 2004, p. 12—15. В числе условных мотивов жанра фигурируют летучие
мыши, алхимические приборы, человеческие черепа и скелеты, чудовища,
нарисованные напротив знаков зодиака, черный кот... Автор так резюмирует свой
перечень: «C'est la réalité des contes fantastiques, / C'est le type vivant des songes
drolatiques, / C'est Hoffmann, et c'est Rabelais!» («Это действительность
фантастических сказок, / Это живой образ причудливых сновидений, / Это Гофман
и это Рабле!» — Ibid., р. 13).
15 См. опять-таки Бахтина, «Проблемы поэтики Достоевского», гл. 5
(«Слово у Достоевского»).
300
Знаки и образы
ментом повествования как их сомнительный свидетель. Своим
аномальным восприятием и драматическими реакциями он
обеспечивает экспансию фантастики: благодаря его переживаниям
последняя уже не ограничивается теми или иными
происшествиями и фигурами, но распространяется на весь мир, который
становится всецело фантастическим. «Фантастике нельзя
выгородить какую-то область — или ее нет, или она распространяется на
весь мир»16.
В XX столетии структура фантастического жанра вновь
меняется. Рассказы о необычайных событиях все чаще мотивируются —
у Томаса Манна, Габриэля Гарсиа Маркеса или бесчисленных
подражателей Дж.Р.Р. Толкиена — их открыто мифологическим
характером, что позволяет включить «естественное» и
«сверхъестественное» в рамки одной смысловой системы; на этом уровне
значения оппозиция того и другого нейтрализуется. Превращение
Грегора Замзы из рассказа Кафки поражает воображение, но это
все-таки метаморфоза, отсылающая к мифологической традиции
превращений человека в животных. Построенный таким образом
роман или рассказ не нуждается в обрамленной повествовательной
инстанции, которая обеспечивала бы неоднозначность
нарративных сообщений; здесь все говорится прямо и недвусмысленно.
В других случаях невероятные события излагаются посредством
разных видов металепсиса — как, например, в некоторых
новеллах Борхеса или Кортасара17. Здесь текст сам демонстрирует свои
нарративные приемы, разоблачает свои фокусы, и эти приемы не
связаны необходимо с «естественным» или «сверхъестественным»
характером излагаемых событий. В романе Роб-Грийе «В
лабиринте» описание гравюры незаметно, никак не обозначая этот
переход, продолжается рассказом о действиях персонажей,
изображенных на гравюре, и этот «вторичный», буквально
«обрамленный» рассказ подменяет собой «первичное» повествование, где
речь шла о фактах, имевших место вне рамки эстампа: это и есть
металепсис, который поражает нас как повествовательный
парадокс, но в котором нет никакой «фантастики».
Итак, повествовательная фантастика, если определять ее через
неоднозначность и колебание в объяснении, возникнув в
литературе XIX века, исчезает и растворяется в новейшей литературе.
Сверхъестественные мотивы в современных текстах описываются
другими понятиями и другими эффектами (такими, как миф или
16 Jean-Paul Sartre, Critiques littéraires (Situations I), P., Gallimard, 1975, p. 150.
17 О фигуре повествовательного металепсиса см.: Métalepses: Entorses au pacte
de la représentation (Sous la direction de John Pier et Jean-Marie Schaeffer), P.,
Éditions de L'École des hautes études en sciences sociales, 2005.
Жанр и история
301
металепсис); иными словами, в этих текстах новая конструктивная
доминанта заменила и вытеснила структурную доминанту
старинной фантастики. Можно сказать, что в литературе ныне вообще
больше нет сколько-нибудь четко определенного
фантастического жанра, есть лишь различные жанровые традиции, которые
каждая по-своему пользуются эффектом фантастики18.
Однако в современной культуре образовался новый
фантастический жанр, отчасти соперничающий, а отчасти сотрудничающий
с литературной фантастикой, многие мотивы которой он
использует вновь: это фантастическое кино. Первоначально, от опытов
Жоржа Мельеса до знаменитых фильмов-мифов 1930-х годов,
таких как «Франкенштейн» или «Кинг Конг», оно часто
ограничивалось экранизацией «литературных» историй, где в «реальный»
мир вторгается какое-то необыкновенное существо или событие.
Но начиная с 1970-х годов, после «Бегущего по лезвию бритвы»
Ридли Скотта и «научно-фантастических» фильмов Андрея
Тарковского («Солярис», «Сталкер»), фантастическое кино начинает
создавать свои собственные параллельные миры, вызывающие
у зрителя чувство не просто восхищения и удивления (к чему
стремились, например, (анти-)утопические фильмы, такие как
«Метрополис» Фрица Ланга), но и двойственного притяжения-
беспокойства, которым определяется у Фрейда «жуткое» (das
Unheimliche). Известно, сколь широкое распространение получила
эта тенденция сегодня в голливудских суперпродукциях, таких как
«Звездные войны» или «Матрица», — называя только самые
удачные образцы.
Такое кино с полным основанием называют фантастическим,
поскольку в нем сохраняется онтологическая неопределенность
романтических повестей — но в новой, не вполне узнаваемой
форме. Теперь она концентрируется в фигурах монстров и
распространяется на весь мир благодаря лабиринтной форме, которую он
получает. Монстр — этот излюбленный мотив кинематографа
начиная с ранней его эпохи — определяется своей конститутивной
двойственностью: то ли это зверь, то ли машина, то ли человек. На
киноэкране двойственность фантастического слова уступает
место двойственности фантастического тела, и сегодня кино
систематически использует такой эффект, соотнося его с лабиринтным
пространством (подземельями, городскими руинами и т.д.). Оба
мотива традиционны, и в их сочетании нет ничего
неожиданного — достаточно напомнить миф о Минотавре и Критском лаби-
18 Опять-таки показательна эволюция лексики в некоторых языках: так, в
современном русском языке «фантастикой» обычно называют «научную
фантастику» или же «фэнтези», где чаще всего нет никакого колебания в
объяснении или онтологической неоднозначности.
302
Знаки и образы
ринте. Однако кино, благодаря своей эстетической специфике
симулятивно-иллюзионистского зрелища, достигает особенно
впечатляющих результатов в их разработке19. Онтологическая
двойственность сохраняется и, как в литературной фантастике,
распространяется на весь мир, но только она теперь имеет место не на
уровне акта высказывания, не на уровне повествовательного
дискурса, а на уровне зрительного ряда, «реальных» образов фильма.
Перейдя из литературы в кино, фантастический жанр сам
претерпел метаморфозу: вместо формальной дефиниции, основанной на
абстрактных структурных категориях, он теперь характеризуется
«материальной» дефиницией, оперирующей конкретными,
ощутимыми для зрителя образами. Ныне он описывается уже не
вопросом «как?», а вопросом «что?». Итак, круг замкнулся: фантастика,
возникнув в литературе романтизма как репертуар
сверхъестественных существ и событий, прошла через этап нарративной
абстракции (концептуализированный Тодоровым), после чего
вернулась к предметному самосознанию и формирует новый мир —
уже не из двойственных высказываний, а из двойственных
референтов. Попутно она сменила технический медиум, из вербальной
стала визуальной — и возможно, что такие трансмедиальные
переходы вообще образуют существенную черту эволюции жанров в
современную эпоху.
Разумеется, один рассмотренный пример не может служить
окончательным доказательством, и для проверки данной
гипотезы требуется широкое исследование других жанров, которые
могут оказаться менее подвижными, чем фантастический. Во всяком
случае, эта гипотеза позволяет объяснить динамический и
прерывный характер жанровой эволюции, движущей силой которой
является непрестанный обмен между «формой» и «содержанием»,
между «условным» и «реальным», между словесным и визуальным,
между знаками и их референтами.
См. выше статью «Эффект фантастики в кино».
ТЕОРИИ И МИФЫ
ОТКРЫТИЕ «БЫТА»
РУССКИМИ ФОРМАЛИСТАМИ
Русский «формальный метод» отличался парадоксальной не-
формализованностью своего понятийного аппарата. Вводя в
литературоведческую практику новаторские понятия и категории,
ведущие теоретики ОПОЯЗа Виктор Шкловский, Борис Эйхенбаум,
Юрий Тынянов зачастую не давали им определений, словно
предоставляя это теоретикам «второго эшелона», более склонным к
доктринальному дискурсу (например, Борису Томашевскому —
автору формалистского учебника теории литературы). «Специфи-
каторство», принципиальное недоверие к любым гетерономным
описаниям литературы, имело свою оборотную сторону — отказ от
использования «чужого» категориального аппарата; метаязык
литературного анализа пытались создать из собственных понятий
литературы или, точнее, литературно-критического обихода; об их
методической систематизации не очень заботились1.
К русскому формализму в высшей степени применимы
соображения Ж. Женетта о «бриколяжном» характере литературной
критики, которая импровизирует свои понятия, мастерит их из
подручного материала самой литературы2. Соответственно и
термины, созданные для обозначения таких понятий, имеют
«самодельный» облик; не отсылая к концептуальному аппарату какой-
либо философской системы или научной дисциплины3, они для
выражения важных семантических оппозиций используют не
столько четко артикулированную, закрепленную научной
традицией внутреннюю форму слов, сколько эфемерные коннотации
речевого обихода, которые ассоциировались с этими словами и
которые ныне, по прошествии нескольких десятилетий, уже не так
легко восстановить. Некоторые из формалистских терминов, такие
1 Одной из причин этого могла быть сравнительно слабая в России (по
сравнению, например, с Францией) традиция школьного преподавания
риторики, задающей исходный формализованный метаязык литературного анализа.
2 См.: Жерар Женетт, Фигуры: Избранные работы по поэтике, т. 1, М.,
изд-во им. Сабашниковых, 1998, с. 159—162.
3 Есть, разумеется, и исключения — такие как «автоматизация» (термин
экспериментальной психологии), «доминанта» (термин физиологии A.A.
Ухтомского и эстетики Бродера Христиансена); но это именно отдельные,
разрозненные понятия — ничего похожего, например, на массированное и
системное заимствование лингвистических категорий, осуществленное впоследствии
структуральной теорией литературы.
306
Теории и мифы
как тыняновская «теснота стихотворного ряда», звучат сегодня
настоящей загадкой; другие, более ходовые, обнаруживают
своеобразную «двойниковую» структуру, затрагивающую их выражение
и смысл. Так, в корне слова «остранение» предполагается то ли
одно, то ли два «н», отчего смысл термина, естественно,
меняется; «пародийность» и « парод ичность» у Тынянова представляют
собой чистые этимологические дублеты, различающиеся только
условным варьированием суффикса; «сюжет» и «фабула» —
дублеты семантические, и их синонимия в русском языке даже дала
повод Г.Н. Поспелову переопределить их наоборот... Подобные
стихийно сложившиеся термины не всегда удобны для
практического обращения (в дальнейшем развитии науки многие из них
потребовали уточнения и даже замены), зато представляют особый
интерес для истории идей, так как в них литературная теория
непосредственно соприкасается с внелитературной
действительностью (языком, общественной идеологией), воспроизводя на мета-
языковом уровне важнейший для позднеформалистской теории
процесс взаимодействия, выраженный еще одной парной
категорией — «литературного факта» и «литературного быта».
Предметом нашей реконструкции станет как раз последний
термин4.
Русское слово «быт» многозначно и трудно для истолкования5.
В языке у него есть свой этимологический дублет — «бытие», с
которым оно находится в отношении семантического
расподобления: быт — это «ненастоящее», профанное, ценностно ущербное
бытие. В традиционной литературо- и искусствоведческой
терминологии оно служит синонимом низкой «реальности», которую
«отражает» реалистическое искусство, — ср. выражения «бытопи-
4 Речь идет именно о теоретической реконструкции, а не об
исчерпывающем историческом обследовании материала. Этим объясняется
ограничительный охват материала: только опубликованные тексты, цитируемые, как
правило, по современным научным изданиям.
5 Это сразу делается очевидно при попытке перевода на иностранные
языки. В 1930 году P.O. Якобсон определял быт как «тенденцию к стабилизации
неизменного настоящего, его обрастание косным хламом, замирание жизни в
тесные окостенелые шаблоны» (P.O. Якобсон, «О поколении, растратившем
своих поэтов», в кн.: Roman Jakobson, Selected Writings, V, The Hague — New
York — Paris, Mouton, 1979, p. 359). При таком понимании «быта» он может быть
переведен на ряд языков словом stagnation; если же иметь в виду другое
значение, которое анализируется в настоящей статье, то не самым точным по
объему (слишком широким), зато весьма глубоким по содержанию понятия
эквивалентом, возможно, оказалось бы французское слово contingence(s),
выражающее идею «несущностных», «привходящих обстоятельств», а по латинской
этимологии (con-tangere) еще и нечто «соприкасающееся», обступающее,
окружающее подобно внешней среде.
Открытие «быта» русскими формалистами 307
сательство», «бытовая сцена», «бытовая повесть»6, понимаемые
главным образом привативно, как показ не-исторических,
негосударственных, не-духовных, не-выдающихся происшествий
повседневной жизни.
Ориентируясь только на общеязыковые, словарные значения
слов (по словарю Даля, «быт» — это «обык»), можно вообразить,
что у формалистов «факт» и «быт» различались как единичное/
повторяющееся, как уникальное событие/рутинное обыкновение;
но это было бы ошибкой — никто из опоязовских теоретиков
никогда не понимал эти термины таким образом. Их действительный
смысл надо искать не в словарных дефинициях, а в своеобразном
употреблении слова «быт» в 1920-е годы.
То было одно из самых проблематичных и противоречивых
понятий эпохи. По словам двух советских поэтов тех лет, быт
воспринимался одновременно как разрушенный, «разворошенный
бурей» (Есенин), и как массивно-подавляющий, о который
способна разбиться «любовная лодка» (Маяковский). Еще пример
тогдашнего словоупотребления, уже непосредственно в опо-
язовской среде, — из письма Шкловского Тынянову (1924 или
1925 год): «Что касается до частной жизни, то вся моя квартира
занята бытом, а я живу между рамами»7. Здесь сложная игра
семантикой понятия: быт теснит человека, не оставляет ему места в доме,
но беда не в домашних заботах как таковых, а в их
послереволюционной неустроенности («разворошенности»); вместе с тем
подразумевается и литературоведческое понимание «быта» как
внеэстетического материала для творчества, о чем идет речь в
следующих строках письма.
Не менее важно, что «быт» стал одним из ключевых слов в
официально-пропагандистском лексиконе. Словари сталинской
эпохи (словарь Ушакова, т. 1 — 1940, «Словарь современного
русского языка», т. 1 — 1948) не дают «быту» формального
определения, объясняют его лишь с помощью синонимов («общий уклад
жизни», «особый характер и уклад жизни»), а его употребление
иллюстрируют фразеологией «борьбы за новый быт»: в словаре
Ушакова данное выражение приводится со ссылкой на СМ.
Кирова, но очевидно, что это просто общее место, множество раз
повторявшееся партийными функционерами и пропагандистами.
Примерно той же стратегии изложения — без аналитической
дефиниции и с особым вниманием к революционному обновлению
быта — следует и первое издание Большой советской энциклопе-
6 В академическом «Словаре современного русского языка» эти
выражения иллюстрируются примерами из литературы конца XIX — начала XX века
(из Мамина-Сибиряка, Пыпина).
7 В.Б. Шкловский, Гамбургский счет, М., Советский писатель, 1990, с. 302.
308
Теории и мифы
дии8. В топике советской пропаганды эпохи НЭПа быт — это
инерция материального потребления, противящаяся импульсу
революционного преобразования; это то, за что/против чего
борется партия, одержав победу в борьбе за «командные высоты»
экономики и политики. Быт враждебен, неподатлив советской власти
сразу по трем причинам: из-за своей диффузности (общая
проблема левой идеологии), традиционности (общая проблема
революционной идеологии) и приватности (специфическая проблема
российской государственной идеологии). Вследствие
парадоксальной инверсии понятий, механизм которой впервые начали
выяснять именно русские формалисты, быт из профанной сферы
попал в негативно сакральную — стал восприниматься как субстанция
Иного по отношению к заложенным в стране основам нового
строя.
Постулируя такое идеологически заряженное понятие как
особый предмет изучения, теоретики формализма соотносили свою
работу с проблематикой официальной идеологии. Эта работа
нацеливалась на поиски эффективного Иного по отношению к
литературному творчеству, и взаимодействие литературы с Иным
мыслилось по двум разным моделям, опять-таки имевшим свои
идеологические соответствия. Русский формализм, как и вообще
культура авангарда, развивался в контакте с идеологией
коммунистического государства и разделял некоторые ее ценности,
однако занимал более ответственную, а потому нередко и конфликтную
позицию по отношению к ее концепциям.
Согласно первой модели, характерной для раннего
формализма и полемически направленной против реалистической иллюзии,
8 Энциклопедическая история «быта» вообще очень любопытна, хотя и
выходит за хронологические рамки нашей работы. В словаре Брокгауза и
Эфрона (т. 5, 1892) и словаре Гранат (т. 7, 1909) не было статьи «Быт»: слово еще
не приобрело ценностной окраски, оставалось простым общеязыковым
термином. В БСЭ— 1 (т. 8, 1927) ему уже посвящена большая статья видного
большевистского идеолога и одного из руководителей этого издания И.И. Скворцо-
ва-Степанова (подписано — Степанов-Скворцов), значительная часть которой,
вопреки традициям энциклопедического жанра, посвящена полемике:
стилистика статьи прекрасно показывает, какое это идеологически «горячее»
понятие. В БСЭ—2 (т. 6, 1951) статья «Быт» опять исчезает, зато появляется
отсутствовавшая в БСЭ—1 огромная, богато иллюстрированная статья «Бытовой
жанр» (в изобразительном искусстве): впечатление такое, будто проблема быта
сочтена утратившей идейно-политическую актуальность и сдана в ведение
эстетики. Наконец, в БСЭ—3 (т. 4, 1971) «быт» возникает вновь — ему
посвящена небольшая статья А.Г. Харчева, начинающаяся корректным дедуктивным
определением: быт — это «сфера непроизводственной социальной жизни»;
понятие вернулось в научный обиход уже в операциональной, идеологически
«охлажденной» форме.
Открытие «быта» русскими формалистами 309
«литература» и «быт» соотносятся как форма и материал: быт как
«реальность» внеэстетичен, он лишь может (и то необязательно)
эстетически осваиваться с помощью формальных приемов и
конструкций. Как писал Шкловский в одной из статей 1919 года, «мы,
футуристы <...> раскрепостили искусство от быта, который
играет в творчестве лишь роль при заполнении форм и может быть даже
изгнан совсем <...>»9. Эта ранняя модель преобладает в
позднейших интерпретациях формалистской теории — например, у Питера
Стайнера, когда он определяет понятие «остранения»,
<...> согласно которому изъятие некоторого объекта из его
привычного контекста — из быта — делает его «самоценным»
произведением искусства10.
Так же трактует формалистскую «бытологию» и Ore Ханзен-
Лёве:
<...> все эти внеположные тексту общественные, бытовые,
культурные системы подвергались тотальному эстетизированию <...>''.
В рамках такой модели подчеркивается диффузный,
субстанциальный, неструктурированный характер «быта»; это
сплошная, хаотическая масса, лишенная своей собственной
формирующей логики и подлежащая преобразованию волей эстетического
субъекта. В свою очередь данная концепция вписывается в общую
авангардистскую парадигму, представляющую творчество как
разрыв субъекта с объектом, как недиалектическое, безоглядное
преодоление Иного, сведенного к пассивной роли «материала».
Понятно и соотношение таких эстетических представлений с
популярной в 1920-е годы ультралевой идеологией насильственного
преобразования общества. Существенно, что, будучи понят таким
образом, быт не заслуживает научного исследования; он может
9 Виктор Шкловский, Гамбургский счет, цит. изд., с. 79.
10 Peter Steiner, Russian Formalism: A Metapoetics, Cornell UP, 1984, p. 265.
Автор различает несколько фаз развития формализма, в частности
«механистическую» (Шкловский) и «системную» (Тынянов), но понятие «быта» все
время четко противостоит понятию «искусства»: «основной предпосылкой
механистического формализма было никогда не искать объяснения фактам
искусства среди фактов быта», а у «системного» формалиста Тынянова «быт
представляет собой аморфный конгломерат самых разнообразных явлений. На фоне
этой туманной области выступают различные специальные виды человеческой
деятельности — искусства, наука, технология, — которые сами в себе
являются системами» (ibid., р. 63, 122—123).
11 Aage Hansen-Löve, «"Бытология" между фактами и функциями», Revue
des études slaves, t. 57, 1985, p. 91.
310
Теории и мифы
включаться только в процесс эстетического творчества, и притом
лишь как сырье, которое нужно преобразовать и забыть, а не
изучать в качестве самоценного объекта познания12.
Развитие формализма в середине 1920-х годов привело к отказу
от этой волюнтаристской модели в пользу другой, более
диалектичной. Согласно ей, литература и быт соотносятся примерно так
же, как старшая и младшая ветви литературной эволюции; быт
обладает своей собственной структурированностью и активностью,
и его формы определяют собой — по крайней мере, в некоторых
исторических обстоятельствах — развитие литературы. Быт может
функционировать как резерв литературы, запасная культурная
традиция, а в качестве таковой он, разумеется, достоин
самостоятельного исследования — по крайней мере та его часть, которая
собственно и образует литературный быт.
Называя эту модель «более диалектичной», мы имеем в виду ее
соотнесенность с идеальным методом официальной
идеологической доктрины — философской диалектикой, которая, конечно,
далеко не совпадала с реальной идеологической практикой.
Вообще же идея двух иерархически соотнесенных и
противоборствующих инстанций, образующих динамическое содержание того или
иного общественного образования, исторически проявляется в
самых разнообразных научных и философских построениях — это
и диалектика Господина и Раба у Гегеля, и теория классовой
борьбы у Маркса (восходящая, в свою очередь, к историческим трудам
Огюстена Тьерри), и фрейдовская концепция сознания и
бессознательного, и бахтинская теория официальной и народной
культуры, и т.д. Генетически она, видимо, восходит к архаической
оппозиции сакрального и профанного; русские формалисты
приложили ее к новому научному материалу, рассмотрев литературную
эволюцию как творческое взаимодействие литературы со своим
Иным. В плане развития их собственной мысли это явилось новой,
расширенной формулировкой концепции динамической формы.
Как и всякий металитературный дискурс, формалистская теория
искала свое место между двумя крайними позициями —
редукцией внутренней динамики литературного произведения (что стало
отчасти характерно для позднейшего структурализма) и прямой
имитацией этой динамики средствами литературного письма (что
для некоторых опоязовцев — Шкловского, Тынянова —
закончилось уходом из науки в писательство; позднее французские струк-
12 Соответственно в процитированном выше тексте об освобождении
литературы от быта Шкловский говорит не «мы, формалисты...» или «мы, опо-
язовцы...», а «мы, футуристы...»: это освобождение мыслится как акт
поэтический, а не рефлексивно-научный, хотя чуть ниже и обосновывается научными,
историко-литературными аргументами.
Открытие «быта» русскими формалистами 311
туралисты 1960—1970-х годов попытались трансформировать в
этом направлении самое науку). Во второй половине 1920-х годов
был намечен диалектический выход из этой дилеммы —
распространение понятия динамической формы с отдельного
произведения на литературу, а затем и на культуру в целом, включающую
литературу как одну из частей, наряду с «литературным бытом».
У Эйхенбаума, наиболее активного исследователя «быта» во
второй половине 1920-х годов, это осмыслялось как пересмотр
границ между тыняновскими категориями генезиса произведения
и эволюции литературной системы, перераспределение их мест в
исследовательском поле:
Обращение к литературно-бытовому материалу вовсе не
означает отхода от литературного факта или от проблемы литературной
эволюции, как это кажется некоторым13. Это означает только включение
в эволюционно-теоретическую систему, как она была выработана в
последние годы, фактов генезиса — по крайней мере тех, которые
могут и должны быть осмыслены как исторические, связанные с фак-
Сплошная, хаотическая, лишенная собственной структурной
логики масса «бытовых» фактов, которые лишь случайным
образом определяют собой отдельные произведения литературы,
расслаивается — в ней выделяется область, непосредственно
взаимодействующая с литературой и образуемая структурно
релевантными, «интересными» фактами, которые, по словам О. Ханзена-
Лёве, «фигурируют не только символически или иконически в
определенных парадигмах, но и индексально в прагматической
области»15. О том же пишет и М.О. Чудакова:
Намечалась, таким образом, область некоего надгенетического
генезиса — снималось (хоть и вскользь) противопоставление
эволюции и генезиса <...>16.
13 Здесь недвусмысленно и полемически подразумевается Юрий Тынянов:
Эйхенбаум цитирует названия двух его теоретических статей — «Литературный
факт» и «О литературной эволюции».
14 Б.М. Эйхенбаум, О литературе, М., Советский писатель, 1987 с. 432,
статья «Литературный быт» (1927).
15 Aage Hansen-Löve, op. cit., p. 101.
16 М.О. Чудакова, «Социальная практика, филологическая рефлексия и
литература в научной биографии Эйхенбаума и Тынянова», в кн.: Тыняновский
сборник. Вторые Тыняновские чтения, Рига, Зинатне, 1986, с. ПО. Ср.: «Для
формалистов литературный быт — сфера, посредующая между литературой и
другими социокультурными рядами» (O.A. Проскурин, Литературные
скандалы пушкинской эпохи, М., ОГИ, 2000, с. 12).
312
Теории и мифы
Перед нами действительно диалектическая операция «снятия»,
преодолевающая противоположность литературы и ее Иного.
Однако для этой операции подходят не всякие факты реальности, и
их отбор (для создания категории литературного быта) был
различным у разных теоретиков формализма.
В свое время В. Эрлих характеризовал эйхенбаумовский
проект изучения литературного быта как «любопытную попытку
создания чисто "имманентной" социологии [литературы]»17.
Действительно, реальным наполнением литературного быта служат у
Эйхенбаума социологические проблемы «литературной
профессии», вопрос о том, «как быть писателем»1*. Профессиональный
быт — это институциональный контекст литературного творчества,
социальные рамки, в которых оно развивается19. Фактически
понятие литературного быта иллюстрируется у Эйхенбаума одним
историческим событием — профессионализацией русской
литературы во второй трети XIX века, перемещением литературной
жизни из приватно-домашней сферы в публичную:
Так, в одни эпохи журнал и самый редакционный быт имеют
значение литературного факта, в других такое же значение
приобретают общества, кружки, салоны. <...> Переход Пушкина к
журнальной прозе и, таким образом, самая эволюция его творчества в этот
момент обусловлены общей профессионализацией литературного
труда в начале 30-х годов и новым значением журналистики как
литературного факта20.
Оппозиция двух исторических типов литературного быта —
домашне-кружкового и журнального — настойчиво
подчеркивается Эйхенбаумом:
17 Виктор Эрлих, Русский формализм: история и теория, СПб.,
Академический проект, 1996, с. 125.
18 Б.М. Эйхенбаум, О литературе, цит. изд., с. 430.
19 «В связи с этим формалисты изучали все литературные "институции",
учреждения, организации, созданные для передачи, распределения,
истолкования, пропаганды, переработки или вообще социоэкономической реализации
произведения, как, например, издательства, кружки и салоны,
профессиональные и дилетантские способы производства, политическую и идеологическую
цензуру, критику, школьные и научные типы канонизации и передачи
традиций и т.д.» (Aage Hansen-Löve, op. cit., p. 93). Сказанное, как мы увидим,
относится не ко всем формалистам, а лишь к Эйхенбауму и его прямым
последователям.
20 Б.М. Эйхенбаум, О литературе, цит. изд., с. 433—434. Две вышедшие в
1929 г. книги «младоформалистов» о литературном быте — «Литературные
кружки и салоны» М. Аронсона и С. Рейсера и «Словесность и коммерция»
Т. Грица, В. Тренина и М. Никитина — как раз и исследовали по отдельности
эти две исторические институционализации литературы.
Открытие «быта» русскими формалистами 313
Литературный факт и литературная эпоха — понятия сложные и
изменчивые, поскольку изменчивы соотношения элементов, из
которых строится литература, и их функций. Сегодня литература — это
кружок дилетантов, собирающихся для чтения своих стихов или
вписывающих их в альбомы «прекрасных соотечественниц», завтра — это
толстый «литературно-общественный журнал», с редакцией и
бухгалтерией; сегодня — это высокое «служенье муз», строго охраняемое от
уличного шума, завтра — это мелкая пресса, злободневный фельетон,
очерк21.
Впрочем, отделение литературы от домашнего быта —
движение в принципе обратимое, и возможно возвратное развитие:
Публичность и домашность соотносительны. Поэзия вечеринок
и кружков, носящая совсем «местный» характер, рукописные
эпиграммы, пародии и экспромты, живущие на одних правах с
анекдотами, — все это, постоянно пребывающее в быту, может в любой момент
быть призвано в литературу22.
Литература уходит в быт — становится делом интимным,
домашним, сосредоточивается в письмах, в альбомных посланиях, в petits
jeux23.
Литература «уходила в быт» в первые десятилетия XIX века,
когда она была делом светских дилетантов. Но спустя несколько
десятилетий, в середине 1850-х годов «быт» — причем в
двусмысленном, почти советском значении этого слова — вновь
сомкнулся с литературой уже на «журнальном» этапе ее развития:
Литература отброшена историей на задний план — она стала
обыкновенным бытовым фактом. Круг ее воздействия невероятно
сужается: писатели пишут друг о друге, превращаясь из авторов в лите-
21 Б.М. Эйхенбаум, Мой временник, Изд-во писателей в Ленинграде, 1929,
с. 58, статья «Литература и писатель» (1927). Здесь же (с. 60—61) Эйхенбаум
намечает и еще один, новейший вариант «бытования» литературы —
публично-скандальные выступления футуристов.
22 Там же, с. 85, статья «Литературная домашность».
23 Там же, с. 63, статья «Литература и писатель». Теми же формулами
пользуются и «младшие формалисты»: «<...> моменты дилетантства и ухода
литературы в быт»; «литературная жизнь уходила в камерно-бытовые формы»
(Т. Гриц, В. Тренин, М. Никитин, Словесность и коммерция (Книжная лавка Л.Ф.
Смирдина), М., Федерация, 1929, с. 38,41). Для авторов названной книги
основным признаком, отличающим «литературное» существование текста от
«бытового», является факт печатной публикации: «И так как Барков не находил пути
в печать, он начал писать стихи, которые вообще не могут быть напечатаны,
стихи, предназначенные для распространения в быту» {там же, с. 143).
314
Теории и мифы
ратурных персонажей. Полемика принимает мелкий, «домашний»
характер. Пасквиль становится самым распространенным жанром —
он проникает и в рецензии, и в статьи, и даже в беллетристику —
точно никаких других читателей, кроме самих же писателей, и никакого
другого материала, кроме писательского быта, не существует24.
Морально-оценочный тон этой характеристики, плохо
прикрываемый академическим стилем книги и явно проецируемый на
«литературный быт» 1920-х годов, логически оправдан: поскольку
под литературным бытом по преимуществу понимаются связанные
с литературой социальные институты, то они и подлежат критике
не литературной, а социально-исторической и
морально-психологической, как явление внетворческое, внетекстуальное.
Логическая неувязка возникает в другом моменте: Эйхенбаум
объединяет два аспекта взаимодействия литературы с «бытом» —
формальный и содержательный. В первом аспекте средой,
социальной формой литературной деятельности становится тот или
иной институт — то кружок, то салон, то журнальная редакция; во
втором случае те же институты составляют, в более или менее
превращенном виде, уже тематику литературы известного момента.
В принципе одно не вытекает из другого: и кружок, и тем более
журнал могут ориентироваться на производство лишь публичных
текстов, исключая из текстуального оборота — в порядке своего
рода самоцензуры — любые намеки на «домашние»,
узкокружковые отношения25. На уровне абстрактной логики описываемые
исторические сдвиги происходят по двум независимым осям: как
смена разных институциональных форм литературного быта,
которые идеально имеют место всегда, и как втягивание этого быта в
тематику собственно литературы, которое может иметь место в
одних исторических ситуациях и стремиться к нулю в других.
Однако на самом деле эти два параметра частично солидарны: салон
или кружок в силу своего узкого и замкнутого характера более
24 Б.М. Эйхенбаум, Лев Толстой: Книга первая. 50-е годы, Ленинград,
Прибой, 1928, с. 188. В другом месте автор характеризует ту же
«литературно-бытовую» ситуацию в терминах еще более критичных: «душная атмосфера этой
профессиональной кружковщины» {там же, с. 102).
25 И наоборот: включение в литературные тексты обстоятельств
«домашней жизни» их авторов встречается не только в сварливом быту журналистов-
разночинцев, но и в барском быту литературных дилетантов. Последнее
Эйхенбаум отмечает в журналах начала XIX века, которые «приобретают оттенок
семейной фамильярности и своеобразной беззастенчивости. Таков, например,
типичный журнал этого времени — "Благонамеренный" А.Е. Измайлова <...>
совершенно домашнее предприятие, нечто вроде мелочной лавочки, хозяин
которой смотрел на нее как на свое частное дело <...>». (Б.М. Эйхенбаум, Мой
временник, с. 63, статья «Литература и писатель»).
Открытие «быта» русскими формалистами 315
журнала предрасположены к производству текстов о собственной
«домашней» жизни. В результате переход литературы от салонно-
кружкового существования к журнальному предстает не просто
заменой одной институциональной формы на другую, но и
вообще выходом литературы из быта, освобождением ее от быта (не
совсем в том смысле, какой имел в виду Шкловский); и обратно,
на светско-дилетантском этапе литература «уходила в быт»,
переставая быть собой, претерпевая полное превращение26. В этом и
состоит двусмысленность: слово «быт», повинуясь инерции
современного словоупотребления, начинает невольно для
исследователя обозначать именно приватное, не-вполне-социализированное
пространство литературной жизни. В понятии литературного быта
противоречиво уживаются диалектика самоотрицания литературы
(ее перехода в Иное) и позитивно-социологическая
классификация сфер культурной жизни.
Ощущая необходимость разграничить эти два понимания
«быта», Эйхенбаум, так сказать, in extremis — в одной из последних
своих теоретических формулировок проблемы — ввел понятие
«литературной домашности», соотношение которой с бытом
довольно неопределенно:
Кроме этой «эстрадной» [печатной, вообще публичной. — С.З.]
жизни у литературы, как и у многих искусств, есть жизнь более
интимная, но еще не уходящая в область быта вообще, а только
скрещивающаяся с ним21.
Эта «домашняя» жизнь литературы, «скрещивающаяся» с ее
институциональным бытом, но не поглощаемая им,
соответствует «литературному быту» в другом значении, которое данный
термин приобрел у Тынянова.
Тынянов заговорил о соотношении «литературных фактов» и
«фактов быта» еще в статье «Литературный факт» (1924). По его
концепции, культура структурируется как центр и периферия,
которые могут меняться местами:
26 «Уйти в быт», в буквальном смысле слова, может и отдельный писатель,
и тогда это социальный и экзистенциальный акт его личности. Эйхенбаум
пишет о Толстом и Фете: «Ведь их уход в деревню и занятие хозяйством есть
факт литературно-бытового значения. Они не просто помещики, а помещики
с горя, но горе это надо взять на себя, как воинскую повинность, и
использовать если не для штурма, то для стратегического отступления» (Б.М.
Эйхенбаум, Лев Толстой: Книга первая, с. 364—365).
27 Б.М. Эйхенбаум, Мой временник, с. 82, статья «Литературная
домашность». Курсив мой.
316
Теории и мифы
<...> то, что сегодня литературный факт, то назавтра становится
простым фактом быта, исчезает из литературы. Шарады, логогрифы —
для нас детская игра, а в эпоху Карамзина, с ее выдвиганием
словесных мелочей и игры приемов, она была литературным жанром. И
текучими оказываются не только границы литературы, ее «периферия»,
ее пограничные области — нет, дело идет о самом «центре»; не то что
в центре литературы движется и эволюционирует одна исконная,
преемственная струя, а только по бокам наплывают новые явления, —
нет, эти самые новые явления занимают именно самый центр, а центр
съезжает в периферию28.
Столь радикальная концепция литературной
относительности29 вызывала непонимание даже у близких соратников
Тынянова. Так, Шкловский в уже цитированном письме Тынянову,
похвалив его за «статью о литературном факте», тут же излагает свои
собственные представления об экспансии литературы в быт,
понимаемой как периферийный и односторонний процесс.
Литература свободна от быта-реальности и лишь захватывает,
колонизирует его:
Мы доказывали, что произведение построено целиком. В нем нет
свободного от организации материала. Но понятие литературы все
время изменяется. Литература растет краем, вбирая в себя внеэстети-
ческий материал <...>. Литература живет, распространяясь на не-лите-
ратуру <...>. Относительно быта искусство обладает несколькими
свободами: свободой неузнавания, свободой выбора, свободой
переживания (факт сохраняется в искусстве, исчезнув в жизни)...30
Тынянов усматривает между литературным бытом и
литературой более сложное отношение — не просто экспансии, а
диалектической обратимости. «Центральный» литературный факт
окружен полулитературной средой, способной в некоторый момент
28 Ю.Н. Тынянов, Поэтика. История литературы. Кино, М., Наука, 1977,
с. 257.
29 Ср.: Marc Weinstein, Tynianov ou la poétique de la relativité, Presses
universitaires de Vincennes, 1996.
30 В.Б. Шкловский, Гамбургский счет, цит. изд., с. 302—303. Ср.
позднейшие варианты этой концепции литературной экспансии: теорию поэтической
функции у P.O. Якобсона и ее переработку Ж.Женеттом в книге «Вымысел и
слог» («Fiction et diction», 1991), где разграничиваются два типа
литературности — эссенциальная и кондициональная, то есть как бы «центральная» и
«периферийная». Трагедии или сонеты, даже плохие, образуют метрополию
литературы (ее «исконную, преемственную струю», по выражению Тынянова), тогда
как письма или мемуары могут в известных исторических обстоятельствах
колонизироваться ею.
Открытие «быта» русскими формалистами 317
вытеснить его, заставить «съехать в периферию» и самой занять его
место; но тогда необходимо, чтобы эта среда была не какой
угодно (материальной, институциональной), а текстуальной, имела ту
же природу, что и центр. Она содержит тексты — по крайней мере,
прото-тексты, тексты в потенции:
Быт кишит рудиментами разных интеллектуальных деятельно-
стей. По составу быт — это рудиментарная наука, рудиментарное
искусство и техника; он отличается от развитых науки, искусства и
техники методом обращения с ними. «Художественный быт» поэтому, по
функциональной роли в нем искусства, нечто отличное от искусства,
но по форме явлений они соприкасаются^.
Обратный вариант этой концепции «рудиментов разных
интеллектуальных деятельностей» представляет собой понятие «ма-
тесиса», которое прилагал к художественной литературе Ролан
Барт. Для него, наоборот, сама литература содержит в себе в
«рудиментарном» состоянии самое разнообразное, в том числе и
научное знание, зато и в науке (которая функционально сближается
здесь с «бытом») обнаруживается «пустое» место для
проникновения литературы:
Будучи в данном отношении поистине энциклопедичной,
литература, однако, вовлекает все эти знания в своего рода круговорот, она
не отдает предпочтения ни одному из них, ни одно из них не
фетишизирует <...> литература работает как бы в пустотах, существующих
в теле науки <...>32.
Идея «пустот», в которых работает литература, заставляет
вспомнить о ценностной приниженности «быта» в русском
словоупотреблении. Между «бытийно» значимым произведением
литературы и не менее значимой социально-политической
реальностью обнаруживается какой-то лимб, промежуток, «пустота» в теле
социума, заполняемая «малоценным» материалом литературного
быта, однако в известных обстоятельствах она может обрести
субстанциальную, едва ли не сакральную значимость (как это
случилось с понятием «быта» в политической идеологии 1920-х годов).
Противопоставляя «форму» и «функцию», Тынянов писал о
соприкосновении литературного быта с литературой «по форме
явлений», но в рамках другой философской оппозиции —
субстанция/форма — их можно отнести и к одной субстанции, к одной
31 Ю.Н. Тынянов, Поэтика. История литературы. Кино, с. 264. Курсив мой.
32 Ролан Барт, Избранные работы: Семиотика. Поэтика, М., Прогресс, 1989,
с. 552. Перевод Г.К. Косикова.
318
Теории и мифы
природе явлений. Литературный быт — это не охватывающая
институциональная форма, он соприроден литературе. «Факты быта»
суть не внесемиотичные социальные факты, а языковые,
текстуальные явления (прежде всего «малые», «пустые», зачастую
игровые жанры литературной деятельности — шарады, логогрифы или
письма):
Быт соотнесен с литературой прежде всего своей речевой стороной.
Такова же соотнесенность литературных рядов с бытом. Эта
соотнесенность литературного ряда с бытом совершается по речевой линии,
у литературы по отношению к быту есть речевая функция33.
Итак, первая линия разногласий между Эйхенбаумом и
Тыняновым по вопросу о литературном быте — природа бытового
факта. Вторая линия разногласий — форма литературно-бытового
персонажа. Когда Эйхенбаум во второй половине 1920-х годов
работал над биографией Толстого и стремился ввести ее в контекст
литературного быта эпохи, то настойчиво размышлял о проблеме
поколения. Он фиксировал это в своем дневнике:
Написать книгу, но не об одном, а о многих — не в
психологическом и не в естественно-историческом плане (как у Оствальда), а в
историко-бытовом. Сплести жизнестроение человека (творчество —
как поступок) с эпохой, с историей. Написать что-то вроде:
проблема жизни у людей начала XIX века, 30-х и 40-х годов, 50—60-х, 70—
80-х и 90—900-х. Взять так 5 поколений, чтобы там были и Пушкин,
и Гоголь, и Тургенев, и Достоевский, и проч. <...>34.
...построить всю книгу на одной проблеме, которую проследить на
Толстом. И проблему эту я чувствую — это, конечно, вопрос об
эволюции, о поколениях, об историческом Толстом (с литературным
бытом и пр.)35.
О том же говорится и в самой книге о Толстом:
Не всегда возрастная разница ощущается как разница поколений.
Исторический возраст поколений бывает различным. Пушкин и
Гоголь, несмотря на разницу в десять лет, не чувствовали себя людьми
разных поколений <...>. С другой стороны, почти такая же разница
между Пушкиным и Жуковским (тринадцать лет) была разницей по-
33 Ю.Н. Тынянов, Поэтика. История литературы. Кино, с. 278, статья
«О литературной эволюции» (1927).
34 Дневник Б.М. Эйхенбаума, 15.12.1925 (цит. по: М.О. Чудакова, цит. соч.,
с. 111-112).
35 Дневник Б.М. Эйхенбаума, 1.03.1928 (там же, с. 114—115).
Открытие «быта» русскими формалистами 319
колений, потому что середина двадцатых годов оказалась
исторической границей36.
Юрий Тынянов тоже пользовался понятием «поколения» — но
в художественной прозе (в романе «Смерть Вазир-Мухтара»).
Замыслы Эйхенбаума относительно «книги о людях» он расценивал
как «кокетство с биографией» и неодобрительно писал о них
Шкловскому:
Слава богу, что ты выбил из него эту немецкую книжку о
поколениях и возрастах. Эти штуки для домашнего стола и то надоедают37.
Поколение — коллективное, массовидное понятие, и даже
если из него выбирать, как имел в виду Эйхенбаум, «выдающихся
людей, строящих свою судьбу, — писателей, музыкантов,
художников»38, все-таки отдельный человек в нем неизбежно «строит
свою судьбу» как его «представитель». Это детерминированно-се-
рьезная судьба, даже в самих попытках субъекта с нею бороться.
Собственно, это уже не легковесный, «пустой» «быт», а тяжкое
историческое «бытие» в своем индивидуальном преломлении.
Для Тынянова субъектом литературного быта является
литературная личность, то есть опять-таки знаковое, текстуальное
образование, семиотическая модель реальной личности. Как
известно, аналогичное понятие впервые появилось у Б.В. Томашевского
в статье «Литература и биография» («Книга и революция», 1923,
№ 4); к середине 1920-х годов оно уже составляло часть общего
идейного фонда формалистов. Л .Я. Гинзбург излагает свой
тогдашний разговор со Шкловским о Лиле Брик; оба собеседника
явственно наслаждаются своим умением говорить на общем языке,
«текстуализировать» вещи и людей:
— Вы ее раньше не знали?
— Я знала ее только в качестве литературной единицы, не в
качестве житейской.
— Правда, не женщина, а сплошная цитата?39
36 Б.М. Эйхенбаум, Лев Толстой: Книга первая, с. 196.
37 Письма Тынянова Шкловскому, март и май 1928 года (цит. по: М.О. Чу-
дакова, цит. соч., с. 115, 116). Ср. там же (с. 117) отрывок из воспоминаний
Л.Н. Тыняновой: «Как-то N в разговоре с Ю.Н. все повторял: "ваше
поколение... наше поколение..." И вдруг Ю.Н. сказал: "Нет никакого «нашего» и
«вашего» поколения. Мы — околение, а вы — по колено"».
38 Б.М. Эйхенбаум, Мой временник, с. 127, заметка «Декорация эпохи».
39 Л.Я. Гинзбург, Человек за письменным столом, Ленинград, Советский
писатель, 1989, с. 12 («Записи 1920—1930-х годов», 1925—1926). Особый вопрос,
320
Теории и мифы
Тынянов концептуализировал эту идею в статье «О
литературной эволюции», ставя литературную личность в зависимость не от
социального «поколения», а от литературной «речевой установки»,
от дискурса:
Речевая функция должна быть принята во внимание и в вопросе
об обратной экспансии литературы в быт. «Литературная личность»,
«авторская личность», «герой» в разное время является речевой
установкой литературы и оттуда идет в быт. Таковы лирические герои
Байрона, соотносившиеся с его «литературной личностью» — с тою
личностью, которая оживала у читателей его стихов, и переходившие
в быт40.
Литература и быт продолжают обмениваться семиотическими
комплексами, на сей раз биографическими «текстами»; в этом
смысле существенно важен эпитет «обратная», которым
сопровождаются слова об «экспансии литературы в быт»: это напоминание
о двустороннем, обратимо-диалектическом соотношении центра и
периферии в культуре. Любопытно также, что «быт» порождает
мифические фигуры, снимающие оппозицию автора/персонажа:
войдя в биографическую легенду, автор становится собственным
персонажем. Тем самым преодолевается характерная для русской
критики «героическая парадигма», сосредоточенность на
личности литературного героя и его самодеятельности, якобы
независимой от авторской воли41.
Обратимость и тотальная текстуальность литературного быта
делают возможным его игровое функционирование, когда
литературная личность становится пародийной (или «пародической»).
Уже первая печатная работа Тынянова «Достоевский и Гоголь
который формалисты затронули лишь вскользь и скорее в литературном и
«бытовом», чем в теоретическом дискурсе, — телесная форма литературной
личности. Ср. письмо Шкловского Тынянову от 25.03.1929: «Что с Борисом. Что
с Юрием Тыняновым. Открыл ли он форточку в своем кабинете. Поставил ли
он стул перед письменным столом. Есть ли у него настольная лампа. Удобно
ли ему вешать пальто в передней. Вкусно ли он ест. Достаточно ли
изолированна его комната. Или дело его жизни по-прежнему проходит при открытых
дверях <...>. Пиши мне. Старайся жить легко. Европеизировать быт. Не
сердиться. Часто бриться. Весною носить весеннее пальто и покупать сирень, когда она
появится» {Вопросы литературы, 1984, № 12, с. 197, 198). Вопросы без
вопросительных знаков — как бы программа «научных исследований», а слова «дело
его жизни проходит при открытых дверях» могут быть поняты как в
физическом, так и в метафизическом смысле. Здесь же и понятие «быт»...
40 Ю.Н. Тынянов, Поэтика. История литературы. Кино, с. 279.
41 См. ниже статью «"Героическая парадигма" в советском
литературоведении».
Открытие «быта» русскими формалистами 321
(к теории пародии)» заканчивалась разбором личной пародии —
шаржа на Гоголя, содержащегося в «Селе Степанчикове...» При
всем блеске и неочевидности этого открытия — пародия, которой
более полувека никто не замечал! — в теоретическом плане оно
осталось не проработанным до конца: пародия на личность-текст
не отграничена от сатиры на внетекстуальную личность. В своей
последней теоретической статье «О пародии» (1929, опубл. в 1977)
Тынянов вновь взялся за эту тему там, где ее оставил в 1919 году,
когда писал «Достоевского и Гоголя», — с вопроса о механизме
«кристаллизации» пародической личности:
<...> пародийное отношение к литературной системе вызывает целый
ряд аморфных, не окристаллизовавшихся литературных явлений <...>.
Эти явления прикрепляются к какой-либо литературной личности,
нанизываются на нее, циклизуются вокруг нее. Число
кристаллизованных пародий может быть вовсе не велико, но самая литературная
личность становится пародической42.
Очень важно, что пародическая литературная личность
образуется совместными усилиями окружающих и ее самой. Они
коллективно разыгрывают литературный спектакль, где каждый более
или менее сознательно играет отведенную ему роль. Именно таким
образом Тынянов анализирует пародийный «культ» графа Хвосто-
ва в русской поэзии:
Это было нечто вроде тайного условного языка по отношению к
одной личности. И эта личность превосходно справлялась со своей
ролью, почти не впуская со своей стороны в эту игру реального
живого человека. Есть основания полагать, что сенатор граф Хвостов
понимал стиль произведений, героем которых он являлся. Было
молчаливое согласие между авторами и героем, который не решался
прервать далеко зашедшую игру43.
Шут, которым осознанно служит Хвостов, — это своего рода
персонаж-медиатор между литературой и бытом44, персонаж полу-
семиотичный и полусистемный. Он служит «пустым», негативным,
динамическим элементом всей системы: не будь реального Хвос-
това, пародии не имели бы смысла, его пришлось бы выдумать, как
позднее выдумали Козьму Пруткова. В художественном творчестве
Тынянова аналогичная структура воссоздана в «Подпоручике
42 Ю.Н. Тынянов, Поэтика. История литературы. Кино, с. 303.
43 Там же, с. 304, 305.
44 Ср. в той же статье: «<...> в стиховой пародии вместо авторского лица
выступает авторская личность с бытовыми жестами» (там же, с. 302).
322
Теории и мифы
Киже»: пустой, пародийный элемент оказывается необходимым
фактором динамического равновесия государственной системы.
Отсюда вел прямой путь к культурологическим идеям
Ю.М. Лотмана: о необходимости не-культуры для существования
культуры как системы; о возможности «экспансии литературы в
быт» через поэтику бытового поведения; об особой роли,
которую в этом процессе играет персонаж с «отклоняющимся»,
повышенно семиотичным поведением — например, комический враль
вроде Хлестакова-Завалишина (см. статью Лотмана «О
Хлестакове»). В свою очередь, от Лотмана тянется нить преемственности
к Стивену Гринблатту и «новому историзму»45 — но там в
качестве Иного, диалектического партнера литературы
рассматривается государство, а не общество, социально-политическое
«бытие» высшего ценностного уровня, а не приватный,
неполитический «быт». Иначе было у Тынянова, который в
литературоведческих штудиях акцентировал взаимообратимость литературы
и текстуального «быта», зато в художественном повествовании
показал совсем иную картину — бессилие литературы (в лице
«Вазир-Мухтара» Грибоедова) «текстуализировать», формировать
по своей воле государственную политику.
Как известно, реакция формалистов на эйхенбаумовскую
программу изучения литературного быта оказалась хоть и приватно-
«бытовой», но недвусмысленно негативной. Шкловский писал
Якобсону в 1929 году:
Борис Михайлович в последних работах разложился до
эклектики. Его лит. быт — вульгарнейший марксизм46.
О том же вспоминал и сам Якобсон:
Мы с Тыняновым, как я писал Трубецкому, «решили во что бы
то ни стало восстановить Опояз и вообще начать борьбу против
уклонов вроде эйхенбаумовского...»47
Непримиримость позиций в этом споре не следует
преувеличивать. Спор шел между друзьями и соратниками в научном
45 С. Гринблатт прямо признает, что заимствовал у Лотмана понятие
«поэтики поведения» (см.: Stephen Greenblatt, «Towards a Poetic of Culture», in
H. Aram Veeser (ed.), The New Historicism, New York and London, Routledge,
1989, p. 8).
46 Цит. по: М.О. Чудакова, цит. соч., с. 120.
47 Там жеу с. 121.
Открытие «быта» русскими формалистами 323
движении. Даже в трактовке «быта» между ними имелась
значительная общая, осмотическая зона, и Эйхенбаум мог легко,
словно свои собственные, повторять теоретические идеи, впервые
опубликованные Тыняновым; это особенно очевидно в статье
«Литературная домашность» — наиболее «тыняновской» из цикла его
работ о быте48. А Тынянов тогда же, в середине 1920-х годов, «не
боясь слов», беседовал с Л.Я. Гинзбург о «необходимости
социологии литературы», над которой как раз тогда и работал
Эйхенбаум49. С известной точки зрения, расхождение двух
исследователей объяснялось просто тем, что они строили свои теории на
материале разных, хоть и смежных исторических эпох: Тынянов
работал преимущественно с началом XIX века, когда преобладала
домашне-кружковая институционализация литературы, а
Эйхенбаум — с «послепушкинской» эпохой, когда на первое место
выдвинулись «толстые "литературно-общественные журналы" с
редакцией и бухгалтерией».
Тем не менее два подхода к быту — через институции и через
(прото)-тексты, через «поколение» и через «литературную» и
«пародическую» личность — различаются по своим научным
установкам. Это социологический и семиотический подходы к культуре.
Первый стремится поставить литературу в институциональные
границы (не обязательно государственные, классовые и т.д. —
важно, чтобы текст где-нибудь кончался), второй описывает ее
бесконечную экспансию в окружающий мир, который изначально
семиотизирован и поэтому так легко и органично поддается
литературной обработке (в духе позднейшей формулы Жака Деррида:
«вне-текста не существует»); первый подход основан на
обобщенной механике социальных групп, второй — на самодеятельности
индивидуального субъекта. Каждый из двух подходов сулит свои
удачи и порождает свои проблемы; русские формалисты были
одними из первых, кто резко поставил вопрос об их несходстве и,
возможно, взаимодополнительности.
Мало интересуясь философско-публицистической полемикой
вокруг понятия «культура», формалисты в своих спорах о
литературном быте достаточно точно воспроизвели важнейшую
парадигму этих дискуссий — оппозицию «культуры» и «цивилизации» (как
она формулировалась у Ницше, Шпенглера и их русских
реципиентов). В самом деле, если салоны, кружки и/или журнальные
редакции являются бесспорными фактами цивилизации, образуя
материальные рамки творческой жизни общества, ее «инфраструк-
48 Ср. уже цитированные выше слова о «поэзии вечеринок и кружков»,
которая «может быть в любой момент призвана в литературу»: под такой
формулировкой, несомненно, подписался бы и Тынянов.
49 Л.Я. Гинзбург, цит. соч., с. 29.
324
Теории и мифы
туру», то подвижная типология «больших» и «малых» жанров,
мигрирующих из литературы в быт и обратно, динамика
взаимообращения центра и периферии — это характерные явления культуры
как собственно творческой, «духовной» деятельности50.
Попытка расширить поле изучения литературы, повторив на
уровне исследовательской рефлексии ее собственную «экспансию
в быт», привела формалистов уже не к
авангардно-конструктивистским или позитивистским, а к диалектическим моделям
культуры. Не менее любопытно, что подспорьем в выработке этой
диалектики послужила та диалектика исторического бытия и
неисторического «быта», которая содержалась в
социально-политическом дискурсе 1920-х годов (хотя и подавлялась, выхолащивалась
в нем, поскольку он контролировался партийно-государственной
пропагандой). С одной стороны, политический дискурс служил
разлагающим агентом, под действием которого происходило
перерождение, самоперерастание, дифференциация раннеформалисти-
ческой эстетики. С другой стороны, наука о литературе в лице
формалистов продемонстрировала присущую самой литературе
способность пользоваться для решения собственных задач любым
«материалом», будь то многозначная, зыбкая, но оттого и богатая
традиция употребления русского слова «быт» или же догматически
однозначная государственная идеология.
2000
50 Ср. еще одну попытку толкования слова «быт» в современной
славистике: «В двадцатые годы "быт" был у всех на устах. Это постреволюционная
версия "культурности". "Новый быт" — это вопросы семьи, гигиены,
образования и т.д., то есть область интересов, радикально противоположная миру
ОПОЯ За, состоящему из чистых созданий духа» (Ewa Bêrard-Zarzycka, «La
genèse des travaux sur le litératumyj byt d'après le Journal d'Ejxenbaum», Revue des
études slaves, t. 57, 1985, p. 84). «Культурность» — этот этимологический дублет
«культуры» — значит по-русски примерно то же, что «цивилизация» в
западной традиции.
ВЕЩЬ, ФОРМА И ЭНЕРГИЯ
(Русские формалисты и Дюркгейм)
Формалисты и Эмиль Дюркгейм — далековатое сближение.
В текстах участников ОПОЯЗа нет никаких указаний на интерес
этих революционеров и авангардистов к академическим трудам
основателя французской социологической школы. Теоретически
они могли их знать: книги Дюркгейма были известны в России и
в большинстве своем быстро переводились на русский, однако по
своей тематике они слишком далеко отстояли от художественной
литературы, и даже когда во второй половине 1920-х годов опоя-
зовцы, отчасти под давлением марксистской критики, стали
интересоваться современной социологией, в их поле зрения попадали
такие исследователи, как Л. Шюкинг (его «Социология
литературного вкуса» вышла в русском переводе в 1928 году с
предисловием В.М. Жирмунского), но не Дюркгейм.
Мне известно лишь одно упоминание Дюркгейма в работах
русских формалистов — в поздней статье P.O. Якобсона
«Лингвистика в ее отношении к другим наукам» (1970). В ней с заметной
иронией и с неточной ссылкой на вторичный источник
говорится, что Дюркгейм «отмечал все возрастающую главенствующую
роль лингвистики среди общественных наук» и оставил «отеческое
указание о построении лингвистической социологии»1. Не
исключено (хотя доказать это, конечно, невозможно), что Якобсон
вспоминал статью Дюркгейма «Социология и социальные науки»,
чей заголовок перекликается с названием его собственной работы;
написанная в 1909 году и напечатанная в сборнике «De la méthode
dans les sciences», она вскоре появилась в русском переводе
П.С. Юшкевича («Метод в науках», СПб., 1911) и в дальнейшем
могла фигурировать в методологических спорах вокруг
формализма; в этой статье, которую мне еще придется цитировать,
содержится краткое указание на возможность «социологического
изучения языка»2.
1 P.O. Якобсон, Избранные работы, М., Прогресс, 1985, с. 384. Якобсон
ссылается, без указания страницы, на монографию: H. Alpert, Emile Durkheim
and <his> Sociology, New York, 1939. В доступном мне втором издании этой книги
(New York, Rüssel & Rüssel, 1961) выражение linguistic sociology встречается на
с. 51, однако в авторском тексте, а не в цитате из Дюркгейма.
2 Эмиль Дюркгейм, Социология, М., Канон, 1995, с. 277. Перевод А.Б.
Гофмана.
326
Теории и мифы
За этим единственным и очень поздним исключением, у
формалистов не найти прямых или скрытых цитат из Дюркгейма,
использования его терминологии — хотя такое важное его понятие,
как «коллективные представления», могло бы применяться,
например, в формалистской теории жанра. Сближения между ними
носят характер не столько заимствования или «переноса», сколько
интертекстуальных перекличек на уровне абстрактных
интеллектуальных моделей и метафор и свидетельствуют о принадлежности
этих авторов к общему процессу обновления гуманитарных наук
в конце XIX — начале XX века.
* * *
Наиболее очевидное схождение между Дюркгеймом и
русскими формалистами заключается в том, что они активно
пользовались одной и той же метафорой вещи. Дюркгейм в книге «Метод
социологии» {Les règles de la méthode sociologique, 1895)
провозгласил ставший знаменитым лозунг: «социальные факты нужно
рассматривать как вещи»3, и в текстах ОПОЯЗа (особенно ранних)
тоже часто мелькают мотивы «деланья вещей» — например,
«искусство есть способ пережить деланье вещи, а сделанное в
искусстве не важно» (В.Б. Шкловский)4, «Как сделана "Шинель"
Гоголя» (название статьи Б.М. Эйхенбаума, 1919), и вообще вся
«техническая» терминология, которою не без вызова щеголяли
формалисты в своих разборах изящной словесности. Необходимо
выяснить смысл этих метафор, их сходства и различия.
На первый взгляд, сходство между ними исчерпывается чисто
негативным пафосом: декларируя «вещный» характер исследуемых
ими явлений, и Дюркгейм и опоязовцы выступали за объективный
подход, противостоя один — философской рефлексии, а другие —
психологической интроспекции5. Что же касается отличий, то для
начала отметим различие в трактовке вещи между самими
формалистами: у Шкловского «вещь» фигурирует (по крайней мере, в
ранних текстах) прежде всего как объект художественного
изображения, подлежащий остранению, а у Эйхенбаума и у позднего
Шкловского (в частности, в его кинокритике) скорее как разряд
явлений, к которому относится само произведение искусства; в этом
3 Там же, с. 40.
4 Виктор Шкловский, «Искусство как прием» (1916), в кн.: Виктор
Шкловский, Гамбургский счет, М., Советский писатель, 1990, с. 63.
5 «Вещь противостоит идее как то, что познается извне, тому, что
познается изнутри. Вещь — это всякий объект познания, который сам по себе
непроницаем для ума» (Эмиль Дюркгейм, цит. соч., с. 9). Об антипсихологизме
формалистов см.: О. Ханзен-Лёве, Русский формализм, М., Языки русской культуры,
2001, с. 178-179.
Вещь, форма и энергия
327
втором смысле произведение уподобляется ремесленному
изделию, повесть «Шинель» — самой шинели. Как мы попытаемся
показать далее, обе эти идеи можно встретить и у Дюркгейма,
однако в ином соотношении.
Метафора «вещи» у Дюркгейма и формалистов включалась в
контекст художественного и научно-философского размышления
о вещи, развернувшегося в XIX—XX веках. Речь идет именно о
«вещи» как продукте человеческой деятельности, как «изделии», в
отличие от более общего смысла этого слова — «любой объект
материального мира», —которым оперировал, например, Кант,
говоря о «вещах в себе». В художественной литературе XIX века
(в России — у Гоголя и позднее у Розанова, во Франции — у
Флобера, а затем у Малларме) бытовая, рукотворная вещь, вместо того
чтобы покорно выполнять свое функциональное назначение или
служить условным атрибутом, прозрачным знаком профессии,
статуса, вкусов и т.д. своего владельца, начинает обосабливаться,
отбиваться от рук, выступая то как абстрактный коннотатор
реальности («эффект реальности» по Р. Барту), то как средоточие
отчужденно-материального существования, то (в облике вещей-
обломков, вещей-инвалидов) как носитель смутной «объективной»
памяти. Развитием этой художественной интуиции явилась и
авангардистская трактовка вещественного «быта» или сюрреалистская
и постсюрреалистская эстетика странной, «дикой» вещи (Понж,
Сартр, Роб-Грийе)6. В научной рефлексии процессы автономиза-
ции вещей были зафиксированы Карлом Марксом,
проанализировавшим отчуждение изделия от производителя при образовании
товарной стоимости, а затем Георгом Лукачем, который развил
марксистское понятие овеществления в «Истории и классовой
борьбе» (1922)7. Позднее, в середине XX века, возникли еще по
крайней мере две новые концепции рукотворной вещи,
акцентирующие (с различной оценкой) возможность ее освобождения от
своих производителей и пользователей: во-первых, у Мартина
Хайдеггера в цикле работ 1949—1953 годов о «вещи», «технике»
и «поставе» как формах «раскрытия потаенности»8; во-вторых, у
6 У этих писателей, впрочем, вещи-изделия фигурируют наравне с
вещами природными.
7 О гомологизме социально-политической мысли Маркса и Лукача с
эстетикой русского формализма см.: Илья Калинин, «Вернуть: вещи, платье,
мебель, жену и страх войны: Виктор Шкловский между новым бытом и теорией
остранения», Wiener SlawistischerAlmanack, Sonderband 62, Wien, München, 2005,
S. 351-386.
8 Ср. попытку религиозно-филологической рефлексии о вещи, с опорой
на идеи Хайдеггера и на толкуемую в их свете прозу Гоголя, в эссе В.Н.
Топорова «Вещь в антропоцентрической перспективе», в кн.: В.Н. Топоров, Миф.
Ритуал. Символ. Образ, М., Прогресс — Культура, 1995, с. 7—111.
328
Теории и мифы
Жоржа Батая в «Теории религии» (1949), истолковавшего
жертвоприношение как избавление вещи от ее рабски-подчиненного
«вещественного» статуса. Эту последнюю концепцию у нас еще будет
случай вспомнить в дальнейшем.
Итак, вещи-изделия обретают собственное социальное бытие
наряду с людьми. Это зафиксировал также и Дюркгейм в коротком
замечании, брошенном вскользь в статье «Представления
индивидуальные и представления коллективные» (1898): общество состоит
не только из индивидов — они лишь «составляют его
единственные активные элементы. Строго говоря, общество включает в себя
также и вещи»9. Призывая рассматривать «социальные факты»
(институты, верования, законы, обычаи и т.д.) «как вещи», он
формально опирался на широкое определение вещей как
объективной реальности, поддающейся наблюдению («Вещью же
является все то, что дано, представлено или, точнее, навязано
наблюдению»)10, однако практически, будучи социологом, имел в виду
более узкий разряд вещей — а именно вещи (не обязательно
материальные), создаваемые людьми, но затем отчуждающиеся от них
и обретающие по отношению к ним принудительную силу:
Это вещи, обладающие своим собственным существованием.
Индивид находит их совершенно готовыми и не может сделать так,
чтобы их не было или чтобы они были иными, чем они являются <...>.
Несомненно, индивид играет определенную роль в их возникновении.
Но чтобы существовал социальный факт, нужно, чтобы, по крайней
мере, несколько индивидов соединили свои действия и чтобы эта
комбинация породила какой-то новый результат11.
По отношению к таким получеловеческим-полуприродным
вещам возможны, пишет Дюркгейм, два подхода, верный и
ошибочный, причем первый из них исследователь отождествляет с
наукой, а второй с искусством. В ранней работе «Курс социальной
науки» (1888) он критикует просветительско-утопический тип
мышления об обществе, когда последнее представляется
покорным, не отчужденным от людей объектом социальной инженерии:
В этих условиях нет места для позитивной науки об обществах, а
есть только для политического искусства. В самом деле, наука
изучает то, что есть; искусство же применяет различные средства для
достижения того, что должно быть. Таким образом, если общества суть
9 Эмиль Дюркгейм, цит. соч., с. 237. Курсив мой.
10 Там же, с. 51.
11 Там же, с. 20.
Вещь, форма и энергия
329
то, что мы делаем сами, то следует спрашивать себя не что они собой
представляют, а что мы должны из них сделать. Поскольку нет смысла
считаться с их природой, то и нет необходимости познавать их;
достаточно установить цель, которую они должны выполнять, и найти
наилучший способ устроить вещи таким образом, чтобы эта цель была
достигнута12.
«Политическое искусство» понимается здесь в смысле
ремесла (грен, technè), как вольная деятельность, преобразующая
пассивно-безразличный «материал» с помощью специально подобранных
«приемов» («средств») ввиду некоторой идеальной формы («для
достижения того, что должно быть»). Легко опознать в этом
упрощенный очерк одной из моделей, которые применялись русскими
формалистами для характеристики художественного творчества
(материал/прием); но сама по себе эта схема недостаточна, и
оригинальность формализма связана с присоединением к ней
другого элемента. Какого же?
В отличие от «политического искусства», социальная наука, по
Дюркгейму, занята «изучением того, что есть» в обществе; однако
«то, что есть» затемнено в нашем сознании предвзятыми «предпо-
нятиями», которые неизбежно вырабатываются людьми и
посредством которых люди в своем быту объясняют собственные
институты, законы и верования. Это примерно то же, что в антропологии
принято называть «туземными теориями»:
Люди не дожидались утверждения социальной науки, для того
чтобы создать себе понятия о праве, нравственности, семье,
государстве, обществе, потому что они не могли жить без них13.
Задачей социальной науки, таким образом, оказывается
критика этих «предпонятий» («нужно систематически устранять все
предпонятия»)14. Термин praenotiones заимствован Дюркгеймом у
Бэкона, однако получает у него новую интерпретацию,
учитывающую необходимость образования «предпонятий», то есть
сближающуюся с марксистским понятием идеологии15. «Предпоня-
тия» — нечто большее, чем случайные ошибки, призраки, которые
рассеиваются при свете разума; они обладают собственным
закономерным бытием, и Дюркгейм мог бы сделать (правда, не сделал)
12 Там же, с. 170.
13 Там же, с. 42—43.
14 Там же, с. 55.
15 Этот термин встречается у Дюркгейма: «Решение задачи, поставленной
нами, позволит нам отстоять права разума, не впадая в идеологию» (там же,
с. 70). Однако его значение не совпадает с марксистским смыслом термина.
330
Теории и мифы
следующий логический шаг, включив сами эти «предпонятия» в
число «социальных фактов», то есть своего рода «вещей». Во
всяком случае, ученый избегает характеризовать их как «заблуждения»
или «предрассудки»; тем не менее результатом их является
мистификация социальных фактов, ускользающих от непосредственного
наблюдения и подменяемых предвзятыми идеями:
Вместо того чтобы наблюдать вещи, описывать и сравнивать их,
мы довольствуемся тогда тем, что проясняем наши идеи,
анализируем и комбинируем их. Науку о реальности мы подменяем анализом
понятий16.
Такую критику ненаучного сознания у Дюркгейма можно
сопоставить с критикой нехудожественного («бытового»,
«повседневного») сознания у русских формалистов. В последнем, по
наблюдению Ильи Калинина, происходят два параллельных процесса —
перцептивное привыкание (автоматизация в психологическом
смысле слова)17 и интеллектуальная генерализация (редукция к
общим понятиям):
Итак, автоматизация, с точки зрения Шкловского, есть не что
иное, как параллельное развитие двух когерентных друг другу
явлений: бессознательности привычных движений и бытовой речевой
деятельности; и сверхрациональности практического мышления18.
В первом случае мы утрачиваем живое переживание вещи,
заменяя его автоматическими, бессознательными реакциями, во
втором — подставляя вместо него абстрактные мысленные схемы,
«ряд алгебраических знаков»19, то есть своего рода понятия. Эта
вторая форма автоматизации — интеллектуальная, а не
психологическая — менее четко выражена в эстетической теории
формалистов, но именно с этой стороны их теория искусства
неожиданно сближается с теорией научного метода у Эмиля Дюркгейма.
Формалисты как бы соединили вместе две противопоставленные
дюркгеймовские схемы — «искусство», которое преобразует,
формирует материал с помощью своих приемов, и «науку», которая
очищает вещи, обросшие «предпонятиями», и позволяет их «на-
16 Там же, с. 40.
17 Понятия автоматизации и автоматизма были известны Дюркгейму из
работ Пьера Жане, на которые он ссылается, например, в статье
«Представления индивидуальные и представления коллективные» (см. там же, с. 228).
18 Илья Калинин, указ. статья, цитируется по рукописи, любезно
предоставленной автором.
19 Виктор Шкловский, «О фактуре и контррельефах» (1920), цит. соч., с. 99.
Вещь, форма и энергия
331
блюдать» (у формалистов — «переживать») в их непосредственной
реальности. Новизна формалистской эстетики — именно в том,
что искусство в ней призвано не просто формировать вещи
(например, воплощать в них абсолютные идеи или же выражать с их
помощью чувства художника), но обновлять их путем деформации,
освобождая от автоматизации. В этом его задача сближается с
научной, и потому вполне логично, что, во-первых, деятельность
формалистов вырастала из практики современного им
художественного авангарда и осуществлялась на грани науки и искусства,
а во-вторых, что, как уже отмечено выше, метафора «вещи»
употреблялась у них для описания и художественного и научного акта
(деформации реальных вещей художником — и аналитического
рассмотрения того, «как сделано» произведение). В более
рискованной формулировке, аналитик-формалист видит и анализирует
в художественном произведении «сделанную» вещь аналогично
тому, как художник видит и синтезирует вещь реальную, внехудо-
жественную.
В уже упомянутой статье «Социология и социальные науки»,
которая могла быть известна формалистам по сборнику «Метод в
науках», Дюркгейм призывает социолога, приступающего к
изучению общественных явлений,
избавиться от тех понятий, которые у него сложились о них в течение
жизни <...> исходить из принципа, что он ничего не знает о них, об
их характерных признаках, и о причинах, от которых они зависят <...>
вступать в прямой контакт с социальными фактами, забывая все, что,
как ему представляется, он о них знает, как будто он вступает в
контакт с чем-то совершенно неизвестным20.
Для французского социолога речь здесь идет о чисто
познавательном, интеллектуальном процессе, осуществляющемся в
сознании ученого; образцом служит метод естественных наук — физики,
химии, физиологии21. Однако идею «прямого контакта с
социальными фактами» (то есть «вещами») потенциально можно было
переосмыслить и как программу действий эстетического субъекта
(творца или реципиента), который в художественном
произведении видит знакомые вещи как «что-то совершенно неизвестное».
20 Эмиль Дюркгейм, цит. соч., с. 284—285.
21 Ср. в статье Б.М. Эйхенбаума «Теория "формального метода"» (1926):
«...важно было противопоставить субъективно-эстетическим принципам,
которыми вдохновлялись в своих теоретических работах символисты,
пропаганду объективно-научного отношения к фактам. Отсюда — новый пафос
научного позитивизма, характерный для формалистов...» (Б.М. Эйхенбаум, О
литературе, М., Советский писатель, 1987, с. 379).
332
Теории и мифы
От непредвзятого наблюдения социального объекта — один шаг до
остранения объекта эстетического.
Русский формализм, полемически отталкивавшийся от
позитивизма в истории литературы, сближался с методологическим
позитивизмом в социологии, и это сближение происходило в их
трактовке вещи. Оба метода сходятся в своем стремлении к
непосредственному знанию/восприятию, очищенному от сомнительных
данных метафизики или психологической эмпатии, и ставят своей
задачей устранять понятия и представления, которые
закономерно вырабатываются обществом или личностью и встают между
наблюдателем и социальными/литературными фактами22.
Оригинальность опоязовского формализма заключается в том, что он
внешне эклектически, но на самом деле очень плодотворно
совместил две интеллектуальные модели, резко противопоставленные в
позитивизме, — художественно-ремесленную модель оформления
вещи из материала с помощью приемов и диалектическую модель
двойной деформации вещи, осуществляемой сначала под
действием «предпонятий» и автоматических привычек, а затем в ходе де-
мистифицирующего/деавтоматизирующего акта, совершаемого
аналитиком/художником. Таким образом, его расхождение с
социологическим позитивизмом Дюркгейма также проходило через
понятие вещи и заходило настолько далеко, что делало
неузнаваемым сходство между ними — да и вообще затрудняло выяснение
собственно научных корней формального метода23. На самом деле
его можно рассматривать, по сравнению с социологическим
позитивизмом, как более высокий этап одного и того же идейного
развития — этап, на котором анализ и противопоставление двух
разных моделей сменились синтезом (несмотря на демонстративную
склонность формалистов к аналитическому «развинчиванию»
художественных конструкций).
22 В философии их общим аналогом (а для формализма — в какой-то мере
и источником) могла служить феноменология Э. Гуссерля с ее принципом
редукции. См.: О. Ханзен-Лёве, цит. соч., с. 173—176. Впрочем, аналогия с
феноменологической редукцией является приблизительной, в ней не
учитывается человеческий, сконструированный характер тех «вещей», с которыми имеют
дело социология Дюркгейма и эстетика ОПОЯЗа, тогда как феноменология
Гуссерля занимается методическим познанием любых вещей вообще.
23 Илона Светликова в своем исследовании исторических корней
русского формализма критикует представление, будто «основными
предшественниками и предтечами формализма были не столько те или иные ученые, сколько
авангардистские поэты и художники» (И.Ю. Светликова, Истоки русского
формализма. Традиция психологизма и формальная школа, М., Новое литературное
обозрение, 2005, с. 5).
Вещь, форма и энергия
333
* * ♦
Соотношение этих двух этапов проявляется и в другом аспекте.
В своей последней опубликованной при жизни большой
монографии «Элементарные формы религиозной жизни» (1912) Дюрк-
гейм исследовал представления «первобытных» народов о
магической сакральной силе, которая может облекать предметы,
животных, людей, определенные места и т.д. Эта идея маны, которая, по
мысли ученого, явилась источником научных физических
представлений о силе и энергии, отличается дискретным характером
отношения между силой и объектом. Между ними нет никакого
изначального закономерного родства, они вообще имеют
различную природу:
Сакральный характер, которым облекается та или иная вещь, не
заложен во внутренних ее свойствах, он налагается на нее24.
Сакральную силу Дюркгейм толкует как превращенное,
мистифицированное выражение социальной сплоченности и
противопоставляет ее как энергию — вещам25. Сходная логика
развертывается и в монографии «Самоубийство» (1897), где социальная
сплоченность тоже переживается индивидами наподобие
таинственной силы, энергетического импульса:
[Моральные поступки] зависят от сил, лежащих вне индивидов;
и так как эти силы могут быть только моральными, а вне индивида нет
другого морального существа, кроме общества, то неизбежно
приходится признать, что силы эти социальны. Но каким бы именем их ни
называть, важно только признать за ними реальность и считать их
совокупностью энергий, которые извне направляют наши поступки
точно так же, как некоторые физико-химические явления, действию
которых мы подвергаемся. Это не словесные сущности, а реальности
sui generis, которые можно измерять, сравнивать по величине, как это
делают по отношению к интенсивности электрических токов или
источников света26.
24 Emile Durkheim, Les formes élémentaires de la vie religieuse, P., Presses
Universitaires de France, 1998 (Quadrige), p. 328.
25 Ср. сходное суждение писателя и антрополога Роже Кайуа,
последователя основанной Дюркгеймом французской социологической школы: «...мир
сакрального, помимо прочего, отличается от мира профанного как мир
энергий от мира субстанций. С одной стороны — силы, с другой стороны — вещи»
(Роже Кайуа, Миф и человек. Человек и сакральное, М., ОГИ, 2003, с. 164).
26 Эмиль Дюркгейм, Самоубийство: Социологический этюд, СПб., Союз,
1998, с. 375—376. Перевод А.Н. Ильинского.
334
Теории и мифы
Таким образом, социальные факты могут трактоваться у Дюр-
кгейма не только как вещи в узком смысле оформленных объектов,
но и как силы или энергии. Последние, подобно вещам,
объективны, «навязаны наблюдению» и «познаются извне» — в том
смысле, что объективно и наблюдаемо их влияние на людей, скажем
благодати на верующего, — но, в отличие от вещей, не имеют
сосредоточенно-оформленной природы27. С учетом этого второго,
энергетического разряда социальных фактов следует,
по-видимому, понимать и неоднократно отмечаемое ученым явление,
благодаря которому мы, собственно, и опознаем, что перед нами
социальные факты, — а именно оказываемое ими сопротивление:
Мы чувствуем их сопротивление, когда стараемся освободиться
от них. А мы не можем не считать реальным того, что нам
сопротивляется28.
Они не только не являются продуктами нашей воли, но сами
определяют ее извне. Они представляют собой как бы формы [moules], в
которые мы вынуждены отливать свои действия. Часто даже эта
необходимость такова, что мы не можем избежать ее. Но если даже нам
удается победить ее, то сопротивление, встречаемое нами, дает нам
знать, что мы находимся в присутствии чего-то, от нас не зависящего29.
Судя по всему, Дюркгейм мыслил себе это сопротивление
социальных фактов не как неподвижно-инертную тяжесть
материальных вещей, а скорее как активное силовое противодействие,
оказываемое социальной энергией, которой они «заряжены». Его
концепция или, вернее, интуиция социальных процессов не
статическая, а динамическая:
[Общество] есть природа, но достигшая наивысшей точки
своего развития и концентрирующая всю свою энергию с тем, чтобы в
каком-то смысле превзойти самое себя30.
27 Ср. введенное в «Методе социологии» различие двух типов социальных
фактов: с одной стороны, институтов, зафиксированных в общественном
сознании, а с другой стороны, «социальных течений» («великие движения
энтузиазма, негодования, сострадания», которые, «не представляя собой таких
кристаллизованных форм, обладают той же объективностью и тем же влиянием на
индивида». — Эмиль Дюркгейм, Социология, цит. соч., с. 32). Ниже автор
прямо пишет, что подобные коллективные чувства возникают в силу «особой
энергии» {там же, с. 36), а в «Самоубийстве» подчеркивает, что «именно потому,
что они находятся в непрерывном движении, они не могут принять никакой
объективной формы» {цит. соч., с. 382).
28 Эмиль Дюркгейм, Социология, цит. соч., с. 43—44.
29 Там же, с. 53.
30 Там же, с. 304.
Вещь, форма и энергия
335
Понятно, каким образом эти энергетические обертоны
социологической теории Дюркгейма (не вполне отрефлектированные
самим ее автором) сближаются с эстетической теорией русского
формализма. Действительно, последняя зиждется на явлении,
которое Ю.Н. Тынянов обозначил термином «динамическая форма»,
то есть форма, существующая как результат силового,
энергетического процесса.
Само слово «энергия» сравнительно редко встречается в
текстах формалистов, причем в ряде случаев речь идет просто о
внешней физиологической энергии дыхания, которая тратится на
произнесение стихотворения или прозаического периода31. Однако
энергетические представления имплицитно заключены в ряде
важнейших, базовых понятий, которыми пользовались
формалисты, — таких как уже упомянутая «динамическая форма»,
«деформация», «доминанта», «звуковой жест» (Е.Д. Поливанов) или
«задержка и торможение» (Шкловский). Динамический характер
художественных явлений ясен хотя бы из следующего рассуждения
Тынянова в «Проблеме стихотворного языка»:
...чтобы метафора осознавалась живой, требуется, чтобы в слове
ощущался его основной признак, но именно в теснимом, смещаемом виде.
Как только момент этого вытеснения отсутствует, как только
«борьба» кончается, — метафора умирает, становится ходовой, языковой32.
Судя по всему, понятие «смысловой энергии» восходит к
понятию психической энергии, взятому формалистами из психологии33.
31 Ср.: «Задача ритма — не соблюдение фиктивных пеонов, а
распределение экспираторной энергии в пределах единой волны — стиха» (Б.В. Томашев-
ский, «Пятистопный ямб Пушкина», 1919, цит. по: Б.М. Эйхенбаум, О
литературе, с. 396); «Понятие "величины" [речь идет о величине текста как
жанровом признаке. — С.З.] есть вначале понятие энергетическое: мы
склонны называть "большою формою" ту, на конструирование которой
затрачиваем больше энергии» (Ю.Н. Тынянов, «Литературный факт», в кн.: Ю.Н.
Тынянов, Литературная эволюция. Избранные труды, М., Аграф, 2002, с. 169);
«...ожидаемое, по синтаксическому типу периода, равновесие смысловой
энергии между длительным подъемом <...> и кадансом не осуществлено...»
(Б.М. Эйхенбаум, «Как сделана "Шинель" Гоголя», в кн.: Б.М. Эйхенбаум,
О прозе. О поэзии, Ленинград, Советский писатель, 1986, с. 60). Однако в
последнем случае понятие энергии развивается: говорится уже не о физической,
а о смысловой энергии.
32 Ю.Н. Тынянов, Литературная эволюция, с. 91.
33 В сходном, психологическом смысле часто трактовал энергию и Дюрк-
гейм. Ср. в его статье «Ценностные и "реальные" суждения»: «...чувства,
рождающиеся и развивающиеся в группах, обладают энергией, которой не
достигают чисто индивидуальные чувства» (Эмиль Дюркгейм, Социология, цит. соч.,
с. 298). Ср. также выше примечание 27.
336
Теории и мифы
Илона Светликова в ее процитированной выше книге
убедительно показала, что, несмотря на декларативный антипсихологизм
опоязовцев, их научный дискурс был тесно связан с традицией
«психологизма» XIX века. К сожалению, в числе рассмотренных
исследователем конкретных психологических категорий
отсутствует «энергия»; впредь до исчерпывающего обследования
употребления этого и родственных понятий у формалистов можно сделать
лишь самые общие замечания о том, как соотносятся в данном
отношении теоретики ОПОЯЗа и Дюркгейм.
Идея энергии служит для них противовесом и уточнением
«вещественного» понимания таких фактов (социальных или
художественных), которые носят характер не столько точечных объектов,
сколько процессов: таковы социальные «течения», существующие
наряду с социальными институтами, таково и литературное
произведение — не статичный объект, а длящийся процесс творчества/
восприятия, тогда как «сделанное в искусстве не важно»
(Шкловский). Важность этой общей энергетической интуиции наглядно
ясна при сравнении воззрений Дюркгейма и формалистов с
родственной им всем лингвистикой Соссюра (и вообще
структуралистской традицией), которая также трактует факты языка-langue как
объективные «вещи», обладающие принудительной силой по
отношению к индивиду, однако процессуальный, то есть
энергетический аспект языка выводится вне ведения лингвистики, в
область индивидуальной речевой практики — parole. Если Соссюр
разводит «вещь» и «энергию» по разным, логически
изолированным уровням и берет для рассмотрения лишь первый из них, то для
теории формализма важнейшим объектом изучения является их
конфликтная сшибка, в которой проявляется чужеродность вещи
и энергии, отмеченная уже Дюркгеймом в связи с сакральной си-
лой-маной34.
Что же касается оригинальности формалистской
энергетической интуиции по сравнению с дюркгеймовской, то она состоит,
во-первых, в том, что выделение энергии в художественной «вещи»
мыслится как борьба противопоставленных факторов (ср. выше
цитату из Тынянова о динамической форме метафоры); во-вторых,
в том, что художественная «вещь» реализует себя через
непроизводительную растрату энергии. В этом последнем пункте
формалистская эстетика, с одной стороны, противопоставляла себя
психологической эстетике XIX века — Г. Спенсеру и Р. Авенариусу,
видевшим суть художественного творчества в «экономии творческих
34 В своем анализе русской и западной формалистической эстетики Андрей
Горных выделяет ее общую черту: мысль о необходимом динамическом
присутствии «иного», чужеродного в художественной форме. См.: A.A. Горных,
Формализм, Минск, Логвинов, 2003.
Вещь, форма и энергия
337
сил»35, с другой стороны, давала возможность для транскрипции в
духе новой психологии XX века, что и было сделано Л.С.
Выготским в «Психологии искусства» (1924). Наконец, в более
отдаленной перспективе идея неэкономного расходования энергии в
поэтическом языке сближает эстетическую теорию формалистов с
теорией непроизводительной траты у Ж. Батая, который включал
искусство в число «затратных» видов деятельности (имея в виду
трату не индивидуально-психических, а социально-экономических
ресурсов), а высшей формой такой деятельности считал
жертвоприношение — ритуальное уничтожение вещи, которая
обращается в чистую энергию сакрального. Круг замыкается: отступив от
Дюркгейма в динамической трактовке «социальных фактов»,
русские формалисты фактически предвосхитили важнейшую
интуицию Батая, отдаленного последователя социологической школы
Дюркгейма. Это вновь заставляет сделать вывод, что социология
Дюркгейма и эстетика ОПОЯЗа — два независимых этапа одного
и того же процесса в истории идей XX века: в ходе этого развития
мысли вещь, созданная человеком, сначала обособляется от него,
а затем и обретает собственную энергетическую динамику.
2006
35 См.: В. Шкловский, «Искусство как прием», в кн.: Виктор Шкловский,
Гамбургский счет, цит. изд., с. 61.
ΦΟΡΜΑ ВНУТРЕННЯЯ И ВНЕШНЯЯ
(Судьба одной категории
в русской теории XX века)
В спорах о художественной «форме», которыми богата русская
интеллектуальная история первой трети XX века, вопрос о
внутренней форме не всегда обсуждался открыто, но имплицитно
именно им был образован глубинный фон — тоже своего рода
«внутренняя форма»! — этих дискуссий. Напротив, догматизация
интеллектуальной жизни страны в 1930-е годы сказалась помимо
прочего и в том, что это «идеалистическое», не освященное
марксистской традицией понятие оказалось надолго вытеснено из
горизонта дискуссий.
Мы попытаемся, не претендуя ни в коем случае на полноту
исторического описания, рассмотреть некоторые эпизоды споров
о внутренней форме и наметить основные черты этой проблемы,
как она ставилась в России.
* * *
Идея внутренней формы языка, которую выдвинул в начале
XIX века Вильгельм фон Гумбольдт, включала в себя две
составляющие — креативность и тотальность, — соединявшиеся в
составе синкретического, философско-герменевтического дискурса,
характерного для немецких романтиков. При дальнейшей
собственно научной разработке понятия то саморазвивающееся целое,
каким Гумбольдт мыслил национальный язык, распалось, две
составляющие внутренней формы оказались разделенными.
Тотальность без креативности породила типологическое изучение
целостных, но неподвижных языков, которое в 20—30-е годы XX века
привело, в частности, к концепции лингвистической
относительности (гипотеза Сепира — Уорфа); креативность без тотальности
легла в основу исследований отдельного творческого акта, которые
в русской науке быстро сместились от интегральной филологии
А.А.Потебни в область поэтики, философии и эстетики — от
теории языка к теории поэзии.
Концепция Потебни, авторитетная или как минимум значимая
для русских теоретиков 1920-х годов, была попыткой —
«грандиозной», по словам Ю.Н. Тынянова1, — перейти от макролингвис-
тической спекуляции Гумбольдта к анализу микролингвистичес-
1 Ю.Н. Тынянов, Литературный факт, М., Высшая школа, 1993, с. 24
(«Проблема стихотворного языка», 1923).
Форма внутренняя и внешняя
339
кой динамики речи. Вместо внутренней формы языка Потебня
предложил изучать внутреннюю форму слова2.
Известно трехчастное деление слова, данное им в книге «Мысль
и язык» (1862):
В слове мы различаем: внешнюю форму, то есть членораздельный
звук, содержание, объективируемое посредством звука, и внутреннюю
форму, или ближайшее этимологическое значение слова, тот способ,
каким выражается содержание3.
Между двумя из трех частей этой трихотомии — содержанием
и внутренней формой — устанавливается диалектическое
отношение противоборства и взаимовытеснения: внутренняя форма
(которую Потебня часто называет также «образом» или
«представлением») забывается по мере создания чистых, безобразных понятий,
но восстанавливается в акте поэтического творчества, а
понятийное содержание, вытеснив свою собственную внутреннюю форму,
само может стать внутренней формой для другого, нового
понятийного содержания. Поэтическое творчество трактуется как
процесс противонаправленный по отношению к общеязыковому
процессу забвения образных форм, — выражаясь позднейшими
терминами, как локальное увеличение информации на фоне
общего роста энтропии:
Язык не есть только материал поэзии, как мрамор — ваяния, но
сама поэзия, а между тем поэзия в нем невозможна, если забыто
наглядное значение слова. Поэтому народная поэзия при меньшей
степени этого забвения восстанавливает чувственную, возбуждающую
деятельность фантазии сторону слов посредством так называемых
эпических выражений, то есть таких постоянных сочетаний слов, в
которых одно слово указывает на внутреннюю форму другого4.
2 «Трудно назвать учебник, где бы не рассматривался вопрос о внутренней
форме языка, хотя нередко это понятие смешивается с внутренней формой
отдельного слова. В России этому содействовали труды и авторитет А. Потеб-
ни, который в интерпретации Гумбольдта не был свободен от влияния
психологизма Г. Штейнталя» (Г. В. Рам и ш вил и, «Вильгельм фон Гумбольдт —
основоположник теоретического языкознания», в кн.: Вильгельм фон Гумбольдт,
Избранные труды по языкознанию, М., Прогресс, 1984, с. 19).
3 A.A. Потебня, Эстетика и поэтика, М., Искусство, 1976, с. 175.
4 Там же, с. 198. Сам Потебня предпочитал рассматривать творчество
народное, анонимное и исторически неконтекстуализированное — в чем
сказывалась оглядка на гумбольдтовскую концепцию языка как целостного
творческого процесса. Ученики Потебни сошли с этой осторожной позиции и стали
прилагать теорию поэтической «образности» к анализу современной авторской
литературы (поэзии и прозы).
340
Теории и мифы
Таким образом, содержание и внутренняя форма
рассматриваются у Потебни в состоянии диахронической динамики. В самом
деле, эти два компонента слова не обладают
системно-синхронической соотнесенностью, один из них по определению архаичнее
другого и образует инородный пережиток прошлого в
современной речи. Более того, понятие и образ различаются не по
абстрактным дифференциальным признакам (как понятийные формы
языка согласно Соссюру), а по самой своей субстанции (понятие имеет
интеллектуальный характер, а образ — чувственный), а
следовательно, внутренняя форма слова у Потебни — это, собственно
говоря, и не форма как таковая. В отличие от гумбольдтовской
внутренней формы языка, равно присутствующей во всех точках
языковой деятельности, она сконцентрирована в особых,
динамически акцентированных точках речи и представляет собой
смешанное формально-субстанциальное образование, особый чувственно-
смысловой сгусток, аналог вещи или, скорее, тела. Только по
отношению к таким субстанциально полным телам-идеям и
возможен тот материалистический анамнезис, в котором Потебня
усматривал суть поэтического творчества.
В посмертно изданной книге Потебни «Из записок по теории
словесности» содержится недвусмысленное сравнение для
пояснения его концепции:
...если значение слова для мысли вообще, без различия двух его
состояний, можно сравнить с употреблением условных ценностей
в торговле, то слово образное — деньги, безобразное — ассигнации и
векселя5.
Очевидно, что «деньги» отличаются от «ассигнаций и
векселей» не формально, а субстанциально: весомый и драгоценный
металл золотых или серебряных монет противостоит абстрактно-
легковесному материалу ценных бумаг6. Этот субстанциальный
характер так называемой «внутренней формы слова», поскольку
она перестает пониматься как тотальная форма языка, важно иметь
в виду при анализе переосмыслений, которые данное понятие
претерпело в русской теории XX века.
5 Там же, с. 365.
6 Напротив того, для формально-системного подхода подобное различие
несущественно: «Вообще, все условные значимости характеризуются именно
этим свойством не смешиваться с чувственно воспринимаемым элементом,
который служит им лишь опорой. Так, ценность монеты определяет отнюдь не
металл...» (Фердинанд де Соссюр, Труды по языкознанию, М., Прогресс, 1977,
с. 151 («Курс общей лингвистики»). Перевод A.M. Сухотина).
Форма внутренняя и внешняя
341
* * *
Как известно, последователи Потебни (такие как Д.Н. Овся-
нико-Куликовский) окончательно отождествили внутреннюю
форму с чувственным «образом», который якобы внушается нам
художественной речью. В середине 1910-х годов с критикой этой
теории поэтического творчества выступил Виктор Шкловский.
В своей первой печатной работе «Воскрешение слова» (1914) он
еще сочувственно ссылается на Потебню и пользуется его
категориями — когда, например, пишет, что «слова, употребляясь нашим
мышлением вместо общих понятий <...> стали привычными, и их
внутренняя (образная) и внешняя (звуковая) формы перестали
переживаться»7. Однако уже в статьях 1916 года «Потебня» и
«Искусство как прием» молодой теоретик формализма подвергает
критике отождествление образности с поэтичностью:
Образность, символичность не есть отличие поэтического языка
от прозаического. Язык поэтический отличается от языка
прозаического ощутимостью своего построения. Ощущаться может или
акустическая, или произносительная, или же семасиологическая сторона
слова. Иногда же ощутимо не строение, а построение слов,
расположение их. Одним из средств создать ощутимое, переживаемое в самой
своей ткани построение является поэтический образ, но только одним
из средств8.
Смысл этой критики, имевшей фундаментальный характер для
теории русского формализма, не проанализирован подробно теми
его историками, кто рассматривает потебнианство главным
образом как один из источников литературной теории ОПОЯЗа9.
Действительно, критический жест Шкловского на первый взгляд
представляет собой лишь расширение, своего рода диалектическое
«снятие» критикуемого тезиса: между образностью и поэтичностью
признается закономерное отношение, просто оно сложнее, чем
равенство или тождество, которое усматривал в нем сам Потебня.
7 Виктор Шкловский, «Воскрешение слова», в кн. Виктор Шкловский,
Гамбургский счет, М., Советский писатель, 1990, с. 36.
8 Виктор Шкловский, «Потебня», в кн.: Поэтика: Сборники по теории
поэтического языка, 1—11, Пг., 18 гос. типография, 1919, с. 4.
9 См.: Виктор Эрлих, Русский формализм: история и теория, СПб.,
Академический проект, 1996, с. 22—25 (автор, в частности, упрекает формалистов в
«неблагодарности к собрату-ученому» Потебне и объясняет ее «характерным
для русского формализма непочтительным отношением к признанным
авторитетам»; перевод A.B. Глебовской); Ore Ханзен-Лёве, Русский формализм, М.,
Языки русской культуры, 2001, с. 36—46.
342
Теории и мифы
На самом деле жест Шкловского радикальнее: дело не просто
в расширении набора средств поэтической выразительности, но в
полном разрушении всей предлагавшейся ранее структуры
поэтического слова.
Подобно Потебне, Шкловский толкует о «воскрешении»
слова, о восстановлении его забытой формы; действие поэта
уподобляется действию филолога-реставратора. Однако здесь же, при
пересказе потебнианских категорий, в них вносится существенное
изменение: в словах, пишет Шкловский, перестали переживаться
«их внутренняя (образная) и внешняя (звуковая) формы». Тем
самым в число объектов, подлежащих реставрации, попадает
наряду с внутренней и внешняя форма слова, которая у Потебни
оставалась вне динамики забывания-припоминания и вне прямого
соотнесения с содержанием. «Безобразным» или же, наоборот,
ощутимо оформленным может быть не только смысловое, но и
звуковое (или графическое) единство слова, текста. В свою
очередь, это единство уже четко разделяется на субстанцию
(«материал») и собственно форму, то есть нематериальные модуляции
(например, звуковые). Форма перестает быть телом и становится
собственно формой — в достаточно точном философском смысле
слова. Но при такой трактовке формы сразу же оказывается
неуместным, излишним понятие «внутренней формы», которое, как мы
видели, в применении к отдельному творческому акту (слову,
поэтическому произведению) могло быть мыслимо только как
телесное, субстанциально-формальное образование. И действительно:
однажды упомянутая в начале первой статьи Шкловского,
«внутренняя форма» слова в дальнейшем исчезает из его рассуждений,
работа остранения совершается не над нею, а только над
формами внешними, слышимыми или видимыми; на них и
переносится динамическое начало языка, связанное для Гумбольдта и
Потебни с наличием внутренней формы.
Отход от понятия внутренней формы сопровождался у
Шкловского и освобождением от потебнианского субстанциализма.
В ранних статьях — «Воскрешение слова», «Искусство как прием»
и других текстах — он еще зачастую высказывается в пользу
«воскрешения» не только слов, но и вещей, ставя их в один общий ряд:
...мы перестали быть художниками в обыденной жизни, мы не любим
наших домов и наших платьев и легко расстаемся с жизнью, которую
не ощущаем. Только создание новых форм искусства может возвратить
человеку переживание мира, воскресить вещи и убить пессимизм10.
10 Виктор Шкловский, «Воскрешение слова», в кн.: Виктор Шкловский,
Гамбургский счет, цит. изд., с. 36. Курсив мой.
Форма внутренняя и внешняя
343
Субстанциальность, которая у Потебни помещалась в самом
сердце слова — в его внутренней форме, у раннего Шкловского
сохраняется как пережиток во внеязыковом референте. В статье
«Искусство как прием» сказано, что цель искусства — «делать
камень каменным»11, то есть делать ощутимой субстанцию вещей; но
несколько лет спустя, в «Розанове» (1921), Шкловский уже
отстаивает чисто реляционную природу формы и, словно возражая сам
себе, заявляет, что в камне важна не «каменность», а лишь
соотнесенность с чем-то иным — неважно с чем:
Литературное произведение есть чистая форма, оно есть не вещь,
не материал, а отношение материалов <...> противопоставления мира
миру или кошки камню — равны между собой12.
Дискретно-дифференциальное понимание языковой формы
влекло за собой и разрыв между старой и новой формой слова.
У Потебни содержание и внутренняя форма могли сливаться в
поэзии, образуя непрерывный взаимопереход (собственно, только в
этом случае слово и оказывалось образным, его внутренняя
форма не отбрасывалась в забвение, не подавлялась понятийным
содержанием). Понятие вырастало из внутренней формы в
непрерывном процессе смыслообразования. Анализируя структуру
метафоры из литовской народной песни, Потебня писал:
Законная связь между водою и любовью установится только
тогда, когда дана будет возможность, не делая скачка, перейти от одной
из этих мыслей к другой, когда, например, в сознании будет
находиться связь света, как одного из эпитетов воды, с любовью13.
Напротив того, в теории Шкловского между «старой» (стертой,
автоматизированной) и «новой» (остраненной) формой,
лишенными субстанции и имеющими дифференциальную природу (то есть
определяемыми лишь своими различиями), не может быть
естественной связи — на переходе между ними имеет место разрыв,
скачок, осуществляемый волевым усилием говорящего, поэта.
В дальнейшем развитии эта изначальная парадигматическая
дискретность развертывается, как показал О. Ханзен-Лёве, в
дискретность синтагматическую: например, в формалистской теории
сюжетосложения привилегированную роль начинает играть
«ступенчатая конструкция», разбивающая повествование на
дискретные блоки, а в теории литературной эволюции — сдвиги и пере-
11 Там же, с. 63.
12 Там же, с. 120.
13 A.A. Потебня, Эстетика и поэтика, с. 178. Курсив мой.
344
Теории и мифы
вороты, происходящие в точках «канонизации младшей ветви»14;
еще более позднее развитие этой парадигмы порождало (уже в
западной теории литературы после Второй мировой войны) идею
«сильных прочтений», основанных на пренебрежении
собственным (внешним) смыслом текста ради смысла новоконструируемо-
го, который в силу этой своей новизны отличается от внутренней
формы, заложенной в слове изначально. Отказ от категории
внутренней формы позволял придать движению слова и всей
литературы четкую артикулированность; исходная интуиция ощутимости
слова проецировалась и развертывалась на иные, удаленные от
отдельного слова области и ситуации.
* * *
Проблема внутренней и внешней формы затрагивается, без
прямых упоминаний этих терминов, в книге Б.А. Грифцова
«Психология писателя» (1924; опубликована в 1988), в главе «Живое
слово».
Определив свой предмет как «психологию писателя», Грифцов
исследует не законы построения произведения, а лишь
переживание этого процесса автором. Ощутимость словесной формы, с
такой точки зрения, — не искусственно создаваемый
художественный эффект, а особенность писательской душевной жизни:
«Писатель определяется каким-то особым отношением к слову»15.
Одним из проявлений такого «особого отношения» может быть
чувствительность к этимологическому смыслу слов: писатель — это
человек, который (в отличие, например, от медика-практика или
теоретика медицины) слышит в слове «профилактика» значение
«передовой стражи», выставляемой против нападающего
неприятеля-недуга, а в слове «меланхолия» — значение «черной влаги»,
затапливающей сознание человека. Впрочем, в последнем
примере писатель слышит еще и нечто другое — «расслабленный ритм и
беспомощную мягкость звуков» слова «меланхолия»16. Для
писателя ощутима как внутренняя, этимологическая форма слов — по
Потебне, так и их внешняя, звуковая форма — по Шкловскому17.
14 «История литературы двигается вперед по прерывистой, переломистой
линии» (Виктор Шкловский, «Розанов», в кн.: Виктор Шкловский, Гамбургский
счет, цит. изд., с. 120).
15 Б.А. Грифцов, Психология писателя, М., Художественная литература,
1988, с. 93.
16 Там же, с. 92.
17 В других главах «Психологии писателя» имеются сочувственные
ссылки на Шкловского; О. Ханзен-Лёве, еще не зная этой поздно напечатанной
работы Грифцова и опираясь лишь на его «Теорию романа» (1927), признавал
его «близким к формализму историком литературы» (О. Ханзен-Лёве, Русский
формализм, с. 15).
Форма внутренняя и внешняя
345
Для дистантного отношения Грифцова к потебнианской теории
показательно, что примеры «воскрешения» этимологических
смыслов берутся им из числа иноязычных (греческих) слов, история
которых отмечена резким разрывом — самим актом
заимствования, отрыва слова от родной традиции и внедрения в систему
чужого языка; в данном случае непрерывность связи между образом
и понятием, о которой писал Потебня, если и возможна, то в
сознании не народа-языкотворца, а лишь классически образованного
писателя-интеллигента.
Умалению роли внутренней формы соответствует у Грифцова
повышение роли внешней, звуковой формы. Признавая роль
«образа», исследователь все же считает главной задачей
реставраторских усилий художника восстановить звучание слов:
Семасиология для художника никогда не бывает извлечением
отвлеченного смысла, но всегда — восстановлением первоначального
звучания, неотделимо слившегося с образом18.
Резко пережитая звуковая форма — фонетика имени героя,
ритмическая структура первой стихотворной строчки — служит
индивидуальной печатью писателя, «невольной реакцией поэта на
толчок извне»19; именно благодаря этой своей ощутимости
красочное словечко и становится для художника «живым словом»20.
Такое понимание слова позволяет Грифцову перетолковать
наоборот расхожее представление о взаимоотношениях «формы»
и «содержания» в художественном произведении.
Словесно-звуковая, «формальная» стихия занимает здесь центральное место
«живой влаги», которая (в отличие от «черной влаги» меланхолии!)
одушевляет собой понятийное содержание. Исследователь избегает
употреблять скомпрометированное понятие внутренней формы,
однако та форма, которую он описывает, — это форма в полном
смысле внутренняя, креативная:
Но что значит: форма и содержание? Противопоставляемые
термины взяты по аналогии сосуда и наполняющей его жидкости. В
сосуд, стенки которого составлены из звучащих слов, художник будто
бы вливает свои мысли. Удивительно абстрактное представление о
18 Б.А. Грифцов, Психология писателя, с. 91—92.
19 Там же, с. 93.
20 Понятие «живое слово», одно из общих мест русской литературной
критики начала века, встречается и у раннего Шкловского: «И вот теперь, сегодня,
когда художнику захотелось иметь дело с живой формой и с живым, а не
мертвым словом...» (Виктор Шкловский, «Воскрешение слова», в кн.: Виктор
Шкловский, Гамбургский счет, с. 40).
346 Теории и мифы
творчестве. Если уже держаться этой аналогии сосуда и жидкости, то
более верным будет толкование, обратное общепринятому. Конечно,
не отвлеченные идеи, а живые, конкретные слова будут иметь для
художника материальную ощутимость и первичность. Сначала живая
влага слов, потом искусственные стенки сосуда. Живые многозначные
слова сдерживаются холодными, как стекло, границами мысли.
Содержание, материю произведения дают звучащие, определенно
окрашенные слова, а формою, сосудом с прозрачными стенками будут
мысли21.
Такая не названная по имени внутренняя форма обладает даже
анамнестической функцией: красочно-невнятное заумное словцо
побуждает припоминать его смысл. Грифцов придает
эмблематическую значимость эпизоду из 4-й книги Рабле с «оттаявшими
словами», из «заумных» звуков которых можно угадывать, что они
когда-то значили:
Замерзшие и потом оттаивающие, разноцветные, похожие на
драже, ощутимые, как материальная вещь, слова — вот образ, очень
существенный для психологии писательства. Мы, читатели, стоящие
в стороне, можем извлекать из них выводы и поучения. Писатель,
может быть, также смутно догадывается об этом отвлеченном
смысле, но раньше всего он осязает слово, всегда многозначимое, по
природе своей конкретное и, в сущности, неисчерпаемое22.
Итак, внешняя форма обретает функции внутренней.
Концепция Грифцова представляет собой методологический компромисс
между Потебней и Шкловским, оправданный специфическим
дисциплинарным ракурсом его исследования (не поэтика, а
психология писательства). Колебание между собственно формальным и
субстанциальным пониманием формы сказывается и у Грифцова:
«живое слово» то определяется как минимальная структура
произведения (ритм строки и т.д.), то метафорически
характеризуется как магическая «живая влага» или раблезианское «споъо-драже»
(своеобразная лингвопоэтическая монада, одновременно и
содержательная и формальная).
* * *
Попытку заново систематизировать понятие внутренней
формы слова предпринял в 1920-х годах Г.Г. Шпет — в книгах
«Эстетические фрагменты» (1922—1923) и «Внутренняя форма слова»
21 Б.А. Грифцов, Психология писателя, с. 95.
22 Там же, с. 101—102.
Форма внутренняя и внешняя
347
(1927). Эстетическая концепция Шпета включена в более
обширный философский проект, который здесь невозможно разбирать;
ограничимся лишь кратким анализом собственно категории
внутренней формы.
Задачей Шпета было возвратиться к философским
основаниям этой идеи, освободив ее от филологических и особенно
«психологических» упрощений, — то есть вернуться к Гумбольдту
через голову Потебни23. Тем не менее в «Эстетических фрагментах»,
оценивая свое определение внутренней формы, он признавался:
«В общем, все же заимствую у Гумбольдта только термин, а смысл
влагаю свой»24. С одной стороны, Шпет стремился вернуться к
строго «формальному», чисто смысловому определению
внутренней формы, изгнав из нее нагруженность чувственно-образной
субстанцией, — в чем, собственно, и заключалась его борьба с
«психологизмом»; внутренняя форма понимается у него не как
образ, а как особого рода понятие, точнее как эффект
интеллектуально-понятийной деятельности в языке. С другой стороны,
отступая от гумбольдтовской идеи внутренней формы языка, Шпет
готов, как и Потебня, заниматься внутренней формой слова, и именно
так он озаглавил свою монографию 1927 года, носящую
подзаголовок «Этюды и вариации на темы Гумбольдта». Как и Потебня,
он признает отдельное слово «репрезентантом <...> всего языка в
его идеальном целом», ссылаясь на приемы отождествления
части с целом, широко распространенные в разных науках и даже в
«житейской практике — покупке ткани "по образцу", масла "на
пробу" и т.д.»25. Другое дело, что само понятие слова при этом
расширяется почти безгранично:
Синтаксическая «связь слов» есть также слово, следовательно,
речь, книга, литература, язык всего мира, вся культура — слово. В
метафизическом аспекте ничто не мешает и космическую вселенную
рассматривать как слово26.
23 «Психологическая поэтика, поэтика как "психология художественного
творчества" есть научный пережиток. Наше антипотебнианство — здоровое
движение. Потебня вслед за гербартианцами вообще и в частности за Штейн-
талем и Лацарусом компрометировал понятие "внутренней формы языка"»
(Г.Г. Шпет, Сочинения, М., Правда, 1989, с. 447). Под «антипотебнианством»
здесь может подразумеваться теория русского формализма, отрицавшая потеб-
нианскую идею «образности».
24 Там же, с. 409.
25 Г.Г. Шпет, Внутренняя форма слова, Μ., ΓΑΧΗ, 1927, с. 164.
26 Г.Г. Шпет, Сочинения, с. 381. М.С. Григорьев, автор большой рецензии
на «Внутреннюю форму слова», указывал на эту чрезмерную широту шпетов-
ских категорий, правда, приписывая свою критику неназванным «формалис-
348
Теории и мифы
Как же в рамках такого безразмерного слова, снимающего
самую оппозицию между частным вербальным высказыванием и
языковой тотальностью, можно построить чисто
интеллектуальную, свободную от психологического субстанциализма теорию
внутренних форм? Выход был найден в различении «логических»
и «поэтических» языковых внутренних форм. Первые носят
обобщенно-системный характер и характеризуют семантическое
строение языка, промежуточный уровень между «внешними
морфологическими» формами языка и «чистыми онтическими» формами
называемых вещей27; это практически то же самое членение
плана содержания языка, которое Л. Ельмслев в 1940-е годы
определит как «форму содержания» (тогда как шпетовские «внешние»
морфологические формы языка эквивалентны «форме выражения»
у Ельмслева). Вторые же имеют характер внесистемный,
окказиональный, сближаясь скорее не с языком, а с речью (в терминах
Соссюра). Поэтические внутренние формы — «совсем особые
синтагматические внутренние формы», по словам Шпета28, —
образуются из отношения «синтагмы как формы выражения <...> к
внешним формам»29, то есть имеют природу уникально-событийную:
Эмпирические синтагмы — доставляются капризом языка,
составляют его улыбку и гримасы, и постольку эти формы игривы,
вольны, подвижны и динамичны30.
Их предел, «идеал» — не в исчерпании смысла, а в извлечении
смысла из объективных связей его и во включении в другие связи,
более или менее произвольные, подчиненные не логике, а фантазии.
Их диалектика есть их игра, постижение их есть овладение этой
игрою путем погружения в нее или отдачи себя ей, этой игре, столь
знакомой каждому по своеобразному чувству наслаждения,
сопровождающему ее31.
там»: «Формалистам книга Г. Шпета не понравится: они будут говорить (и
говорят уже), что определение внутренней формы у Г. Шпета столь широко, что
через него все проваливается, и от языка как такового, в его специфических
свойствах, ничего не остается» (М.С. Григорьев, «Внутренняя форма слова»,
Литература и марксизм, 1928, № 1, с. 30—31).
27 См.: Г.Г. Шпет, Сочинения, с. 400.
28 Там же, с. 407.
29 Там же.
30 Там же, с. 408. Ср.: «Если можно говорить о "внутренней форме" как об
отношении внешней сигнификативной формы и предметной формы вещного
содержания <...>, то это отношение также нужно понимать как движение, и
жизнь внутренней формы надо понимать как развитие, осуществляющееся в
способах соотнесения обоих терминов названного отношения» (Г.Г. Шпет,
Внутренняя форма слова, с. 117—118).
31 Г.Г. Шпет, Внутренняя форма слова, с. 83.
Форма внутренняя и внешняя
349
Последователь Шпета Г.О. Винокур в рецензии на его
«Эстетические фрагменты» писал о внутренней форме «как внутреннем
членении словесной структуры, слагающемся в переплетении
синтаксических форм слова с его логическими формами и в этом
качестве являющемся основанием нашего эстетического
переживания поэзии»32. Но, «сплетаясь» в конкретном акте поэтического
творчества, «логическая» и «поэтическая» внутренние формы
далеко расходятся на абстрактно-категориальном уровне. Если
первая была, как мы помним, промежуточной инстанцией между
внешней формой (звуковой формой слов) и чистой онтической
формой (формой вещей), то вторая занимает иное, более высокое
иерархическое место — эта «игра» и «улыбка» языка «претендует на
то, чтобы быть своего рода абсолютною формою, формою форм,
высшею и конечною в системе и структуре форм
словесно-логического плана»33. Процитированные слова относятся к внутренней
форме вообще, но Шпет в другом месте подчеркивает, что
«логические формы остаются фундирующими внутренними формами,
а поэтические формы — фундированные внутренние формы»34.
Поэтическая внутренняя форма, возможно, более «поверхностна»,
производна по отношению к «фундирующей» ее логической
внутренней форме, но в любом случае она наименее внутренняя из них.
Поэтическая внутренняя форма надстраивается над формами
логическими, образует по отношению к ним «созначение»
(connotation5. Возникая благодаря субъективному акту творчества, она
выделяется из всеобщих логических форм языка. «Объективная
структура слова, как атмосферою земля, окутывается субъективно-
персональным, биографическим, авторским дыханием»36. Более
того — творческий субъект сам подобен слову и в качестве
такового обладает внутренней формой:
32 Г.О. Винокур, Филологические исследования, М., Наука, 1990, с. 87.
33 Г.Г. Шпет, Внутренняя форма слова, с. 101.
34 Г.Г. Шпет, Сочинения, с. 442.
35 Латинский термин употреблен самим Шпетом. Винокур, пытаясь много
лет спустя (в 1947 году) воспроизвести эту теорию внутренней формы,
фактически склеивает последнюю с коннотативным сообщением текста, как трактует
данное понятие лингвистика после Ельмслева: «Одно содержание,
выражающееся в звуковой форме, служит формой другого содержания, не имеющего
особого звукового выражения. Вот почему такую форму часто называют
внутренней формой» (Г.О. Винокур, Филологические исследования, с. 142). Здесь
внутренняя форма — не порождающий фактор языковой структуры, а вторичный
феномен речи.
36 Г.Г. Шпет, Сочинения, с. 464. Метафоры непрерывного смыслового
течения вообще не раз встречаются у Шпета; ср.: «Между тем смысл
разливается и по тем и по другим [т.е. по логическим и поэтическим формам. — С.З.],
т.е. от рода к виду, и обратно, от части к целому, от признака к вещи, от
состояния к действию и т.п...» (Г.Г. Шпет, Сочинения, с. 419). Ср. выше слова
Б. Грифцова о «живой влаге слов».
350
Теории и мифы
В целом личность автора выступает как аналогон слова. Личность
есть слово и требует своего понимания. Она имеет свои чувственные,
оптические, логические и поэтические формы37.
Посвятив теории субъекта две последние главы своей
«Внутренней формы слова», Шпет четко выразил новую ориентацию,
которую у него — и не только у него одного — получила идея
внутренней формы. Из всеобщего творящего начала языка, как она
понималась у Гумбольдта, или же из объективно-исторически предсу-
ществующего этимологического смысла слова, как определял ее
Потебня, внутренняя форма сделалась проявлением авторской
личности, индивидуальным преломлением языка, который именно в
такой индивидуальной надстройке и обретает свой высший смысл.
* * *
Это личностное понимание внутренней формы с еще большей
силой выразилось в филологических размышлениях П.А.
Флоренского. У Флоренского рефлексия о слове входит в состав еще
более обширного, чем у Шпета, мыслительного проекта — не чисто
философского, а теологического, связанного с богословской
концепцией имяславия, — и здесь невозможно рассматривать все
импликации этой мысли. Во всяком случае, следует все время
помнить, что для Флоренского идеальной, онтологически
привилегированной «частью речи» является имя собственное, в пределе —
имя Бога, обладающее «исключительно важным средоточием бы-
тийственных определений и жизненных отношений», и что
«слово есть сам говорящий»1*. Уже из этих формулировок ясно, как
важна Флоренскому личностная полнота слова; ее непосредственным
носителем как раз и оказывается внутренняя форма.
Флоренский обращается к этому понятию в работе «Строение
слова» (1922), призванной составить часть энциклопедического
труда «У водоразделов мысли». Внешнюю и внутреннюю формы
слова он различает как общее и индивидуальное в нем: «слово как
факт языка, существующего до меня и помимо меня, вне того или
другого случая применения, и слово как факт личной духовной
жизни, как случай духовной жизни»39. Есть соблазн перетолковать эту
оппозицию в терминах Соссюра, отнеся внешнюю форму к области
языка, а внутреннюю — к области речи; однако Флоренский, в
отличие от Соссюра, мало озабочен системным характером языка и
предпочитает говорить об отдельном, самодовлеющем слове.
37 Там же, с. 471. Попытку создать герменевтику такого слова-личности
предпринял опять-таки Винокур в книге «Биография и культура» (1927).
38 П.А. Флоренский, Сочинения в 4-х томах, М., Мысль, 2000, τ 3 (1),
с. 263, 262.
39 Там жеу с. 213.
Форма внутренняя и внешняя
351
Внешняя форма, по его концепции, охватывает все внелично-
стные моменты слова — звуковое строение (фонему),
грамматическую и понятийную категоризацию (морфему), — то есть его
социализированное тело. Напротив, внутренняя форма (семема) есть
душа слова, которая носит сугубо индивидуальный,
актуально-событийный характер:
Итак, семема слова непрестанно колышется, дышит,
переливается всеми цветами и, не имея никакого самостоятельного значения,
уединенно от этой моей речи, вот сейчас и здесь, во всем контексте
жизненного опыта, говоримой, и притом в данном месте этой речи.
Скажи это самое слово кто-нибудь другой, да и я сам в другом
контексте — и семема его будет иная; мало того, более тонкие его слои
изменятся даже при дословном повторении той же самой речи и даже
тем же самым лицом40.
Однако эта душа слова не есть что-то
субъективно-произвольное. Возвращаясь к этимологическим изысканиям Потебни,
Флоренский (известно, насколько важна этимология в его собственном
философствовании) рассматривает внутреннюю форму слова как
его обобщенную этимологию, как кумулятивную историю его
прежних употреблений:
...по самому существу душу слова невозможно исчерпать хотя бы
приблизительно. Она есть все то, что осадилось с течением веков на
внешней форме, хотя и не оставляя вещественных или иных извне
учитываемых следов41.
Например, семема (=внутренняя форма) слова «береза»
включает в себя и древние мифологические предания, в которых
фигурирует это дерево, и современные ботанические знания о нем, и
образные представления о березе, пришедшие из литературы и
искусства, и научные соображения о слове «береза» — наподобие
излагаемых тут же самим Флоренским... Мысль Флоренского не
лишена противоречия, она идет как бы зигзагом: сначала он
четко противопоставил внешнюю форму внутренней, связав
последнюю с индивидуальностью говорящего, а затем исподволь
восстанавливает в ней общезначимое содержание — многовековую
семантическую историю, которая далеко превосходит
сознательные интенции говорящего, но каким-то мистическим образом
(«не оставляя вещественных или иных извне учитываемых следов»)
присутствует в произносимом им слове: своего рода глобальный
40 Там же.
41 Там же, с. 218.
352
Теории и мифы
анамнезис, направленный не на идеальный праобраз, а на
исторические перипетии его бытования в культуре, по принципу
«вспомнить все»42.
Самое же любопытное, что такая внутренняя форма,
обогащенная языковой историей, помещается скорее не в глубине, а на
поверхности слова. Метафоры Флоренского не оставляют никаких
сомнений на этот счет: внутренняя форма есть «то, что осадилось с
течением веков на внешней форме»; структура слова может быть
представлена «как последовательно обхватывающие один другой
круги, причем <... > полезно фонему его представлять себе как
основное ядро, или косточку, обвернутую в морфему, на которой в свой
черед держится семема»42. Подвижно-индивидуальная внутренняя
форма облекает собой неподвижный скелет морфемы и фонемы:
Наконец, это живое и разумное, но еще неподвижное в своей
монументальности тело [внешняя форма слова. — С.З.] приобретает
гибкость, когда облекается в свою душу...44
Получается, что внутренняя форма — на самом деле внешняя,
извне прилагаемая к форме собственно «внешней»; по мысли
Флоренского, эта душа не порождает внешнюю форму, а «облекает» ее,
придавая ей живую подвижность, индивидуализируя, деформируя
ее. Можно было бы подумать, что Флоренский более или менее
неосознанно смыкается с формалистской теорией остранения как
«воскрешения слова» благодаря деформации его внешней
формы, — однако различие между ними проходит через трактовку
самого понятия «форма». Сколь бы «тонкой», неуловимо-эфемерной
ни была, по Флоренскому, «семема», то есть актуальное значение
слова, его «душа», она все же сохраняет субстанциальную
природу, идущую от Потебни, которого Флоренский прямо цитирует в
своем тексте. Даже развертываясь в необъятно широкий веер
исторических коннотаций, «осадившихся с течением веков на
внешней форме», внутренняя форма не становится реляционной
парадигмой, образуемой чистыми различиями. Она создана из особой,
«духовной» субстанции.
42 С.С. Аверинцев, комментируя этот текст Флоренского, указывал на
неоплатоническую генеалогию понятия внутренней формы, которую
Флоренский, очевидно, знал (см.: там же, с. 540). Представляется все же, что
предлагаемая в «Строении слова» кумулятивно-парадигматическая модель «семемы»,
развернутой во множестве случайно-исторических «отложений», довольно
далеко отходит от модели уникального порождающего эйдоса.
43 Там же, с. 215.
44 Там же, с. 216. Ср. приведенную выше формулировку Шпета:
«Объективная структура слова, как атмосферою земля, окутывается
субъективно-персональным, биографическим, авторским дыханием».
Форма внутренняя и внешняя
353
* * *
Наш заведомо неполный обзор, сам в значительной мере
представляющий собой анализ «внутренних форм», образных моделей,
на которых зиждется мысль того или иного теоретика, —
показывает, что переосмысление идеи внутренней формы слова/языка в
русской теории первой трети XX века было связано с поисками
аналитических инструментов для анализа форм творческого присутствия
человека в языке. Идеалистические (романтические) представления
о языковом и поэтическом творчестве, одушевлявшие мысль
Гумбольдта и в значительной мере Потебни, обветшали в
эклектической теории «образности» у русских потебнианцев; и когда в
19ΙΟΙ 920-е годы встала задача объяснить индивидуальный, не
детерминированный предсуществующими законами языка творческий
акт, то выражением этого конкретно-творческого начала в языке
стала служить субъективно переосмысленная категория
внутренней формы (формы скорее слова, высказывания, текста, чем языка
в целом). Для одних теоретиков решением оказалась полная
редукция внутренней формы45 с передачей ее функций форме внешней,
для других — индивидуализация внутренней формы и фактическая
инверсия ее отношений с внешней формой, когда внутренняя
форма располагается в иерархической структуре слова-высказывания
вне и над внешней. Первое направление представлено
филологами-литературоведами (Шкловский, Грифцов), тогда как второе —
философами (Шпет, Флоренский). Для конкретного историко-
литературного изучения текстов более плодотворным оказался,
очевидно, первый путь, когда текст рассматривается как
дискретный, четко артикулированный, с выделенными сильными точками
«живых словечек» и структурных переломов; второй же путь вел
либо к субстанциализации формы через понятие бытийственного
имени у Флоренского, либо к утонченным, но трудно проверяемым
общеэстетическим спекуляциям Шпета46.
Связь проблемы субъекта в языке с идеей внутренней
формы может быть прослежена и у других деятелей русской теории
1920-х годов. Не будет натяжкой, например, усмотреть сходную
корреляцию идей в металингвистике Бахтина — Волошинова:
45 Редукция внутренней формы сочетается с редукцией творческого
субъекта, который сводится к его внутритекстуальным конструктивным
жестам: формализм Шкловского — это настоящая «смерть Автора» avant la lettre.
46 Во «Внутренней форме слова» Шпет в принципе отказался от каких-
либо примеров, а в «Эстетических фрагментах» примеры из литературы служат
не столько материалом для анализа, сколько краткими иллюстрациями или
метафорами авторской мысли. Уже М.С. Григорьев писал о неприменимости
его понятия внутренней формы в исторических науках: «...мы не
представляем, как могут использовать это понятие в своей работе, по существу всегда
исторической, лингвисты и литературоведы» (М.С. Григорьев, цит. статья, с. 38).
354
Теории и мифы
хотя термин «внутренняя форма» и не употребляется в их
работах, но попытка вскрыть под видимой смысловой формой
высказывания (отдельного языкового акта, а не языка в целом) иную,
латентную форму — форму чужого слова, на которое данное
высказывание отвечает, — это попытка заново поставить вопрос о
речевом субъекте, исходя из присутствия в высказывании не
менее двух спорящих друг с другом субъективных инстанций.
Дальнейшая методологическая разработка этой проблемы с
необходимостью должна была включать в себя новое философское
осмысление человеческого субъекта — например, в
неогегельянском или экзистенциалистском духе, как носителя творческой
негативности, деформирующего континуум бытия-в-себе и
вносящего в него рациональный порядок (в пределе — многоуровневую
структуру лингвистического типа). В России такое идейное
движение оказалось блокированным, и история понятия внутренней
формы скорее оборвалась, чем привела к созданию новых
мыслительных парадигм. Эта категория, промежуточная между
спекулятивными синтезами философии XIX века и новой научной
рациональностью XX века, осталась невостребованным пережитком —
своего рода внутренней формой ушедшей интеллектуальной
эпохи, которую новая эпоха не смогла связать с новым содержанием47.
2004
47 Вопрос о внутренней форме поднимается в ряде глав монографии
С.Г. Чугунникова (Serguei Tchougounnikov, Du «proto-phénomène» au phonème: le
substrat morphologique allemand du formalisme russe, Kaliningrad, Éditions de
l'Université d'État de Kaliningrad, 2002). Подробно анализируется, в частности
(с. 62—71), эпизод употребления этой категории P.O. Якобсоном: тот в конце
своей статьи «Новейшая русская поэзия» (1921) характеризовал заумные
слова в стихах Хлебникова как слова, которые «подыскивают себе значение», или
как слова «с отрицательной внутренней формой» — по аналогии с нулевым
элементом, скажем окончанием, в морфологическом составе слова. В
дополнение к комментариям Чугунникова и в развитие нашей собственной
концепции можно заметить, что Якобсон называет внутренней формой элемент
структуры, отсутствие которого значимо так же, как и присутствие. Эта
структуральная трактовка была невозможна в субстанциалистской теории
внутренней формы XIX века: структура, включающая в себя на равных основаниях как
явные, так и скрытые элементы, по сути отменяет само различение внешней и
внутренней формы, и такое ее понимание получило развитие лишь на более
позднем этапе научного развития, после Второй мировой войны, например в
структуральной поэтике Ю.М. Лотмана.
РЕФЛЕКСИЯ О КУЛЬТУРЕ
В СОВЕТСКОЙ НАУКЕ 1970-Х ГОДОВ
(идеологические аспекты)
На рубеже 1960—1970-х годов в СССР сложилась новая
научная дисциплина — комплексное исследование культуры, или
культурология, — получившая значительный резонанс в среде
интеллигенции и объединившая в себе разные течения независимой
гуманитарной мысли. Хронологическими вехами,
ознаменовавшими достижение новой наукой стадии теоретического
самосознания, могут считаться книги Ю.М. Лотмана «Статьи по типологии
культуры» (вып. 1—2, Тарту, 1970, 1973) и А.Я. Гуревича
«Категории средневековой культуры» (Москва, 1972). Структура и
эволюция советской культурологии были обусловлены как
имманентными, внутринаучными задачами и тенденциями, связывавшими ее
с русской культурфилософией рубежа веков и с зарубежной
научной мыслью, так и особыми социальными обстоятельствами, в
которых она сложилась в нашей стране. Нижеследующие
замечания, не претендующие ни на системную полноту, ни на
исчерпывающий охват материала (по большей части речь будет идти лишь
об общих идейных тенденциях, а не о конкретных
исследовательских достижениях), призваны раскрыть этот специфический
двойной контекст культурологических штудий 1970-х годов.
«Культурология» и ее псевдонимы
Первые употребления термина «культурология» в советских
печатных работах фиксируются с конца 1960-х годов1, и
последовавшая его постепенная экспансия завершилась уже в начале 90-х
окончательной институционализацией и введением
соответствующего курса в учебные программы. В 1970-е годы до официального
признания было еще далеко. Хотя «культурологи» того периода
обладали официальным академическим статусом и печатали свои
работы пусть и в малотиражных, но вполне легальных изданиях,
однако многие из этих публикаций имели тенденцию скрадывать
новизну предлагаемой рефлексии, укрывая ее за другими, упот-
1 См., например: С.С. Аверинцев, «Культурология Йохана Хейзинги»,
Вопросы философии, 1969, № 3. В этом первом известном нам печатном
употреблении термина он отнесен не к отечественной, а к зарубежной науке, то есть
представлен как заимствованный.
Рефлексия о культуре в советской науке 1970-х годов 357
Культура как научный объект
Самоопределение культурологии осложнялось и внутренними
причинами, связанными с вычленением ее предмета. В советской
научной традиции 1930—1950-х годов, после затухания культурфи-
лософских дискуссий начала века, оказалось скомпрометировано
самое понятие «культура» — в данном случае не из-за узко
идеологизированного, а из-за безответственно широкого употребления.
Этим понятием обычно охватывали как «духовную», так и
«материальную» культуру, слабо отличая «культуру» от «цивилизации»3.
На языке власти культура сближалась с объектом
административного управления, которым ведали Министерство культуры и
соответствующие отделы в комитетах КПСС, — то есть с материальной
инфраструктурой художественно-просветительской деятельности
(музеи, театры, библиотеки, клубы) и с системой идеологического
контроля за этой деятельностью.
Чтобы конституировать понятие культуры как определенный,
пригодный для конкретного изучения объект, его необходимо
было выделить из этой слишком расплывчатой, эклектически не-
расчлененной массы явлений. Любопытно, что подобные
попытки конкретизации иногда «застенчиво» обходились без самого
термина «культура». Одним из ранних фактов такого рода может
служить творчество О.М. Фрейденберг, создавшей
фундаментальные труды по теории архаической античной культуры, но
избегавшей ответственно употреблять в них слово «культура»,
предпочитая явно неточные, на нынешний взгляд, формулировки «Поэтика
сюжета и жанра» (1936) или же «Введение в теорию античного
фольклора» (1939—1943, опубл. в 1978). Сказанное относится не
только к заголовкам ее работ, но и к их тексту, где слово
«культура» встречается редко, в качестве самого общего и практически не
применяемого термина. Характерно, что Ю.М. Лотман, публикуя
в 1973 году некоторые тексты Фрейденберг, предпослал им
теоретическое предисловие, в котором критикует попытки Н.Я. Марра
3 См., напр.: «Культура — совокупность достижений общества в области
просвещения, науки, искусства и в других областях духовной жизни; умение
использовать эти достижения для покорения сил природы, для роста
производства, для разрешения назревших задач общественного развития» {БСЭ, 2-е изд.,
т. 24, М., 1953, с. 30). Справедливости ради нужно заметить, что подобное
смешение долгое время, правда исторически раньше, бытовало и в других
странах — Германии, США. См.: AL. Kroeber, С. Kluckhohn, Culture. Л Critical
Review of Concepts and Definitions, Cambridge (Mass.), Harvard University Press, 1952,
p. 9—18. Эклектическая традиция описания цивилизации под именем
«культуры» существовала и в дореволюционной русской науке; ср., например,
«Очерки по истории русской культуры» (1896—1903) П.Н. Милюкова.
358
Теории и мифы
и его школы толковать литературные тексты через содержащиеся
в них архаические реликтовые вкрапления, но зато подчеркивает
научную перспективность осуществлявшегося при этом как бы
попутно синхронного анализа самой архаической культуры.
Культуролог 1970-х годов, исходя из четко понятых задач своей науки,
аналитическим усилием выводит на свет «имплицитную
культурологию», неявно содержавшуюся в работах О.М. Фрейденберг4.
Другой пример аналогичного исторического сдвига —
диссертация М.М. Бахтина о Рабле. Написанная в конце 1930-х годов и
обосновывавшая исключительно популярное впоследствии
понятие «народной смеховой культуры», она содержала в своем
первоначальном названии вместо слова «культура» другой, выигрышный
по тем временам термин — «Франсуа Рабле в истории реализма».
Заголовок издания 1965 года — «Творчество Франсуа Рабле и
народная культура средневековья и Ренессанса» — с одной стороны,
характеризует новый круг общественных интересов, в который
попала старая работа, а с другой — содержит идеологическую
отсылку-алиби к народной культуре (ср. «античный фольклор» у
О.М. Фрейденберг).
Показательна и научная эволюция Д.С. Лихачева. Слово
«культура» стояло в заглавии двух его книг: «Культура Руси
эпохи образования русского национального государства» (1946) и
«Культура русского народа X—XVII вв.» (1961), — фактически
посвященных древнерусской цивилизации: в них
недифференцированно описывались достижения художественной техники и
техники промышленной (кузнечное дело, добыча соли и т.д.),
литературные произведения и приемы фортификации. Но в 1967 году
появилась новая книга Лихачева, посвященная предмету уже
более четко определенному и содержавшая в своем заголовке одно
из «магических слов» советской культурологии: «Поэтика
древнерусской литературы», — новаторское, имевшее большой резонанс
исследование, где обосновывалось, в частности, понятие
«литературного этикета», связывающее художественное творчество с
контекстом социокультурной традиции.
Однако, вычленяя культуру из массива материально-духовной
цивилизации, советские исследователи постоянно стремились
сохранять опору на ее материальный и даже природный субстрат.
Так, С.С. Аверинцев начинает свою книгу «Поэтика ранневи-
4 См.: Ю.М. Лотман, «О.М. Фрейденберг как исследователь культуры»,
Ученые записки ТГУ, вып. 308, Труды по знаковым системам, VI, Тарту, 1973,
с. 482—486. Излишне напоминать, что труды Фрейденберг 1930—1940-х годов
предвосхитили структурное исследование архаических культур, предпринятое
К. Леви-Строссом.
Рефлексия о культуре в советской науке 1970-х годов 359
зантийской литературы» (на самом деле это труд по истории
культуры, где собственно «поэтике», то есть законам словесного
творчества, отведены лишь две последние главы) подробным очерком
социально-государственного строя Византии, а в дальнейшем
вновь возвращается к таким «физическим» аспектам ее
общественной жизни, как, например, статус человеческого тела,
беззащитного в этом обществе перед лицом пыток и надругательств5.
Сходным образом и А.Я. Гуревич заявляет в начале своей книги о
категориях средневековой культуры, что среди последних
фигурируют «категории как космического, так и социального порядка»6 —
с одной стороны, скажем, «время» и «пространство», а с другой
стороны, «труд» и «богатство».
В такой систематической привязке ментальных структур
культуры к материальным условиям цивилизации не было какой-либо
сознательной или бессознательной уступки официальным
постулатам «материализма». Речь шла скорее о пафосе научности,
стремлении избежать отвлеченной, бездоказательно-интуитивной
спекуляции о «культурных типах», характерной для культурфило-
софии XIX — начала XX века. Впрочем, уже и тогда Георг Зиммель
называл важнейшей характеристикой культуры ее объективную
воплощенность и признавал, вслед за Марксом, возможность
независимого и отчужденного существования ее внешних
воплощений7. Культурологи 1970-х годов развили эту тенденцию,
рассматривая культуру именно как объективную (чаще всего знаковую)
данность, зафиксированную в материальных предметах и
подлежащую изучению через описание таковых. Большинство этих людей
по своей исходной специальности являлись представителями
позитивных наук: литературоведами (Д.С. Лихачев, Ю.М. Лот-
ман, С.С. Аверинцев), лингвистами (Вяч.Вс. Иванов, В.Н.
Топоров), историками (А.Я. Гуревич, Л.М. Баткин), фольклористами
(Е.М. Мелетинский, СЮ. Неклюдов)8 — и перенесли в новую
5 См.: С.С. Аверинцев, Поэтика ранневизантийской литературы, М.,
Наука, 1977, «Вступление» и гл. «Унижение и достоинство человека».
6 А.Я. Гуревич, Категории средневековой культуры, М., Искусство, 1972,
с. 20.
7 «"Фетишизированный характер", приписываемый Марксом
экономическим объектам в эпоху товарного производства, является только особым
образом модифицированным случаем этой всеобщей судьбы наших культурных
содержаний» (Георг Зиммель, Избранное, т. 1, М., Юрист, 1996, с. 467—468).
8 Исключение в данном ряду составляют два профессиональных
философа — А.Ф. Лосев, своими работами связывавший культурологию 1970-х годов
с русской философией начала века, и A.M. Пятигорский, чье влияние на
становление новой науки в описываемый период осуществлялось, по-видимому,
не столько по печатным, сколько по устным каналам.
360
Теории и мифы
науку навыки конкретно-фактологического исследования, часто
соединявшиеся с ориентацией на новейшие западные
позитивистские методологии, такие как структурализм К. Леви-Стросса и
P.O. Якобсона, французская историография «Анналов» и
логический позитивизм Р. Карнапа и Л. Витгенштейна, и с недоверием
к методикам типа психоанализа, предполагающим не
объективный, а интерсубъективный, диалогический подход9.
Развитие советской науки о культуре происходило в иных
социально-идеологических условиях, чем на Западе, и оттого
некоторые ее тенденции оказывались принципиально другими.
Сказанное особенно относится к вопросу о соотношении культуры
и природы. Как известно, еще в момент первоначальной
разработки понятия культуры, в эпоху Просвещения, главным его
атрибутом была противопоставленность понятию природы (у Канта,
в иных терминах — у Руссо); эта традиция вновь проявилась
много позднее во французском структурализме 1950-х годов,
представители которого — К. Леви-Стросс в большой статье
«Предисловие к трудам Марселя Мосса», Р. Барт в книге «Мифологии» —
отстаивали автономность культуры и протестовали против
попыток ее «натурализации», не останавливаясь перед прямыми
политическими обвинениями в адрес своих оппонентов (в
натурализации культуры объединялись расисты всевозможного толка,
абсолютизирующие роль наследственно-телесных различий
между людьми, и обыденное буржуазное сознание, подменяющее
анализ исторически относительных социальных структур ссылками на
«естественные» универсалии своей классовой морали). В
Советском Союзе идейный противник культурологии был другим: здесь
господствовала доктрина официального марксизма, утверждавшая
социально-классовый характер культуры10. Проективный,
социально-утопический пафос «коммунистического строительства»
имел предпосылкой представление о пластичности того, что
имелось в виду преобразовывать; в этом смысле и сама природа
мыслилась как нечто почти столь же доступное преобразованию и
«покорению», как и рукотворная культура. В таком контексте задачей
независимой науки о культуре оказывалось выяснение как раз ее
9 Соответственно и призывы позднего М.М. Бахтина (в заметках,
опубликованных в 1975 году под названием «К методологии гуманитарных наук») к
диалогическому изучению культуры остались на практике мало
востребованными тогдашней советской культурологией, несмотря на попытку развития
такого рода идей у B.C. Библера («Мышление как творчество», 1975).
10 Здесь мало что изменил даже сталинский тезис 1952 года о
ненадстроечном, неклассовом характере языка, хотя он был, безусловно, ревизией
марксизма и одним из шагов на пути перехода от интернационалистской
идеологии к национал-имперской.
Рефлексия о культуре в советской науке 1970-х годов 361
природных, безусловных основ. И если повышенный интерес
советской семиотической культурологии к методам точных наук —
математики, кибернетики, теории информации — может быть
объяснен общим высоким престижем технического знания в
1950—1960-х годах, то ее не менее пристальное внимание к
биологии связано именно с противостоянием официальному мифу о
покорении природы культурой. Так, первый выпуск «Статей по
типологии культуры» Ю.М. Лотмана открывается программной
статьей «Культура и информация», первые фразы которой
отсылают к дарвинистскому учению о естественном отборе:
Человек хочет жить. Человечество стремится выжить11.
Сама по себе эта формулировка или не раз повторявшееся
Лотманом определение культуры как «совокупности всей
ненаследственной информации, способов ее организации и хранения»12
восходят к иностранной научной традиции (англо-американской
антропологии). В дальнейшем уникальный «биологизм» советских
семиотико-культуроведческих штудий13 получил новое
оригинальное направление с открытием функциональной ассимметрии
мозга, что отразилось в книге Вяч.Вс. Иванова «Чет и нечет.
Асимметрия мозга и знаковых систем» (1978) и в посвященном той же
проблематике 16-м томе тартуских «Трудов по знаковым системам»
(1983).
Такая ориентация на биологию не означала какого-либо
регресса, возвращения к биологическому редукционизму XIX века, не
говоря уже о расовых теориях. Она, собственно, была характерна
не для всех течений культурологии, а именно для связанной с
точными науками Московско-Тартуской школы14. Кибернетический
и теоретико-информационный подход позволял нейтрализовать
опасность сведения иерархически более сложных систем к более
простым, которыми они якобы детерминируются; действительно,
нейросемиотическая модель культуры была нацелена на
установление не каузальной обусловленности, а функционального гомо-
логизма между объективированной в знаках системой культуры и
таким исключительно сложным аппаратом, как человеческий мозг
11 Ю.М. Лотман, Статьи по типологии культуры (Материалы к курсу
теории литературы), вып. 1, Тарту, изд-во Тартуского университета, 1970, с. 3.
12 Там же, с. 5—6.
13 В 1978 году в Тарту состоялась специальная научная конференция на
тему «Биология и лингвистика».
14 Совсем иную, мистико-виталистскую версию этой тенденции
представляет собой теория этносов Л.Н. Гумилева, чья популярность относится скорее
к 1980-м годам.
362
Теории и мифы
и вообще живой организм. В этом смысле биологизм позднего
Лотмана (заметный еще и в его книге «Культура и взрыв», 1992)
вполне логично сменил, а точнее дополнил собой, то
преимущественное внимание к феномену искусства, что было
характерно для советской культурологии в 1960-е годы. Две модели
культуры, биологическая и художественная, эквивалентны друг другу:
...культура проявляет свойства таких организаций, как живой
организм и произведение искусства15.
Представляется даже оправданным говорить об определенной
конвергенции культурологических теорий московско-тартуских
семиотиков с одновременными, хотя в целом и чуждыми им
постструктуралистскими (постлакановскими) тенденциями в западной
философии, где человеческое тело — понятое не в биологическом,
а в феноменологическом смысле — также служит гомологической
моделью культуры (Ж. Делёз, позднее — Ж.-Л. Нанси).
Плюрализм, монизм, дуализм
В XIX столетии понятие культуры в исследовательской
практике не всегда четко отделялось от понятия религии. Только в
начале XX века было сформулировано уже упомянутое выше
разграничение Г. Зиммеля, согласно которому культура требует внешней
объективации, тогда как в основе религии лежит внутреннее
чувство, способное обходиться и без внешних, тем более социальных
выражений. В русской философии XX века культура и религия
могли даже прямо противопоставляться друг другу; например,
A.A. Мейер определял их взаимодополнительно, как «два жизне-
чувствия», одно из которых гуманистично и «не знает реальности
выше человека», тогда как второе, «наоборот, видит в человеке
лишь мост к иному, высшему бытию»16.
Работа Мейера «Религия и культура» написана в 1909 году; в
советское время обсуждение такого рода проблем в открытой
печати стало затруднительным. Однако культурологию 1970-х годов
удерживали от их постановки не только цензурные сложности.
Дело в том, что в культурфилософии (особенно русской — как
профессиональной, так и эссеистической) конца XIX — начала
XX века эта проблематика рассматривалась чаще всего в плане
критики культуры с точки зрения религиозного сознания — языче-
15 Ю.М. Лотман, Статьи по типологии культуры, вып. 1, с. 105.
16 A.A. Мейер, Философские сочинения, Р, La Presse Libre, 1982, с. 44.
Рефлексия о культуре в советской науке 1970-х годов 363
ского (Ницше, Блок), христианского (Бердяев), эзотерического
(Андрей Белый). Советская же культурология, озабоченная
позитивной научностью своего дискурса, прошла мимо вопроса о
критике культуры как целого; она предпочитала не философский,
а объектно-антропологический взгляд на свой предмет — в
культуру включались, помимо прочего, также и религиозные системы,
а вопрос об их собственно религиозной специфике не выдвигался
на первый план. Когда статьи A.M. Пятигорского о буддизме
печатались в сборниках «Трудов по знаковым системам», то этим
контекстом предполагалось, что их объект аналогичен волшебной
сказке или музыкальной пьесе; Вяч.Вс. Иванов и В.Н. Топоров в
книге «Славянские языковые моделирующие семиотические
системы» (1965) описывали пантеон древнеславянских богов как часть
общей языковой системы древних славян; С.С. Аверинцев в
своей «Поэтике ранневизантийской литературы» также анализировал
теологические представления восточных христиан в ряду других
компонентов византийской цивилизации.
С проблемой культуры и религии советская культурология
столкнулась лишь опосредованно — в связи с идеей культурного
плюрализма. Дело в том, что религия, рассматривая высшие
произведения человеческого духа как боговдохновенные, соотносит их
с некоторым единым ценностным образцом, тогда как культурное
«жизнечувствие», отказываясь от божественной трансценденции,
естественно приходит к идее относительности и равноправия
культурных систем.
Дилемма «монизм — плюрализм» в культурфилософии
восходит к концу XVIII века, когда наряду с универсалистской
концепцией культуры у Канта возникла теория множественности
национальных культур, выдвинутая Гердером и в дальнейшем развитая
в теоретической лингвистике В. фон Гумбольдта. В дальнейшем
эта вторая линия получила продолжение в разных областях знания,
от историософии Н.Я. Данилевского, О. Шпенглера и А.Дж. Той-
нби до лингвистической антропологии Э. Сепира и Б.Л. Уорфа.
В истории советской культурологии прослеживается постепенный
переход от универсальной теории культуры в 1960-е годы к
типологии ее национальных вариантов в 1970-е (особенное
внимание уделялось, естественно, специфике культуры русской); этот
переход объединял таких несхожих авторов, как Ю.М. Лотман и
Г.Д. Гачев17. Принцип культурной относительности не подвергался
17 Первая часть книги Г.Д· Гачева «Жизнь художественного сознания»
(1972) посвящена универсалиям образного мышления, вторая же, вышедшая
в 1981 году, носит подзаголовок «Образ в русской художественной культуре»;
в дальнейшем Гачев постепенно обратился к околонаучной эссеистике,
сконцентрированной вокруг вопроса о «национальных образах мира».
364
Теории и мифы
сомнению на уровне теоретической рефлексии, тем не менее в
конкретной исследовательской практике он действовал не всегда.
Так, в 1970-е годы в СССР широко дискутировался вопрос о
классике, сама постановка которого предполагала нормативный
подход к культуре, когда в ее истории выделяется некая формация,
объявляемая образцом, и дальнейшая эволюция рассматривается
как процесс упадка, забвения и искажения (или, в какой-то
момент, восстановления) этого образца18. Подобные построения
встречались не только в критике и публицистике, но и в пределах
научного дискурса, причем источником теоретической
референции обычно служила немецкая классическая философия
(собственно, ее название «классическая» уже само отсылает к данной
проблеме). В эстетических работах МЛ. Лифшица критика
«модернизма», апеллируя к марксистской ортодоксии, фактически
продолжала неогегельянскую линию Д. Лукача,
рассматривавшего в качестве классики художественный реализм первой
половины XIX века. В защиту классического идеала выступали и A.B.
Михайлов и С.С. Аверинцев, находя его, вслед за неоклассиками
конца XVIII века, в античной культуре. Характерный для XX века
интерес ко всякого рода архаике вызывает у С.С. Аверинцева
недоверие, хотя и сопровождаемое оговорками о множественности
культурных форм и необходимости их осваивать:
Само по себе открытие автономной эстетической ценности
примитива, будь то негритянская культовая маска или эгейский идол, —
это обогащение нашей восприимчивости, культурное завоевание,
которое невозможно оспаривать. Однако нельзя отрицать и другого:
адепт посленицшевского нигилизма, льнущий к безднам архаики,
поближе к ритуалам кровавой жертвы и оргиастического срамодей-
ства, медлящий в мире смутных, нечленораздельных, безличных пра-
форм, надеясь экстатически обрести опыт живого мифа, — явление
гротескное и глубоко двусмысленное19.
С.С. Аверинцев, разумеется, далек от прямолинейной
нормативности. Признавая важность вопросов, поставленных
«адептами нигилизма», он в качестве позитивной программы предлагает
мыслить античную классику согласно идеям М.М. Бахтина о по-
18 Разумеется, данный ценностный подход — лишь один из атрибутов
религиозного сознания; он вовсе не обязательно сочетается с такими
конститутивными признаками религии, как мистическая вера, мифология, обрядность
или церковная организация.
19 С.С. Аверинцев, «Образ античности в западноевропейской культуре
XX в. Некоторые замечания», в кн.: Новое в современной классической
филологии, М., Наука, 1979, с. 27.
Рефлексия о культуре в советской науке 1970-х годов 365
граничном характере каждого культурного акта, «как пограничную
область, как водораздел "нашего" и "иного", "истории" и "мифа",
культуры и первобытности»20. Другой выдающийся знаток
античности А.Ф. Лосев шел еще дальше в отстаивании классического
идеала (фундаментально проанализированного им в «Истории
античной эстетики», 1963—1988): он отвергал и бахтинскую теорию
культуры, причем критиковал ее с точки зрения религиозных
ценностей, выраженных с редкой для советской науки прямотой.
О «народной смеховой культуре» у Рабле он отзывается так:
Это, мы бы сказали, вполне сатанинский смех. И реализм Рабле
в этом смысле есть сатанизм21.
Запальчивость лосевской оценки вызвана не просто
предвзятым отношением исследователя к одному из писателей эпохи
Возрождения (и, пожалуй, вообще к Ренессансу), но и
подразумеваемым теоретическим постулатом более общего характера: в культуре
не может быть сущностно иного, разве что оно в буквальном
смысле от лукавого.
Такой крайний монизм в оценках культуры был, однако,
скорее исключением: в целом советская культурология с энтузиазмом
приняла теоретические новации Бахтина, особенно его идеи
диалога и народной смеховой культуры. В значительной мере
именно эти идеи стимулировали выработку столь важного
инструмента исследования культуры, как ее дуальная модель.
Если конкретные соображения М.М. Бахтина о двойственном
устройстве средневековой культуры, объединявшей
«официальный» и «народный смеховой» пласты, были подхвачены и
использованы прежде всего медиевистами — Д.С. Лихачевым и A.M. Пан-
ченко («"Смеховой мир" Древней Руси», 1976) и, с рядом
критических оговорок, А.Я. Гуревичем («Проблемы средневековой
народной культуры», 1981), — то общетеоретическим развитием
дуальной модели занялись семиотики Московско-Тартуской
школы. В 6-м, «бахтинском» томе «Трудов по знаковых системам» была
опубликована большая статья Вяч.Вс. Иванова «Значение идей
М.М. Бахтина о знаке, высказывании и диалоге для современной
семиотики», автор которой решительно, не боясь неизбежных
упрощений, соотносит бинарную модель средневековой культуры
у Бахтина с бинаризмом структурной антропологии Леви-Стросса:
Одной из главных черт книги М.М. Бахтина о карнавальной
культуре, делающей ее бесспорно структурной по основным установкам,
20 Там же, с. 29.
21 А.Ф. Лосев, Эстетика Возрождения, М., Мысль, 1978, с. 592.
366
Теории и мифы
является то, что эта книга построена на анализе нескольких основных
бинарных противопоставлений, в частности, противопоставления
верх — низ, рассматриваемого одновременно в разных планах —
социальном, иерархическом, пространственном, телесном и т.п.22
Частные бинарные оппозиции складывались в общую
дуальную картину культуры. В 1970-е годы Б.А. Успенский в статьях и
лекциях о языковой ситуации Древней Руси23 стал использовать
понятие диглоссии — устойчивого сосуществования в культуре
двух функционально дополнительных языков, один из которых
обслуживает письменную (часто сакральную), а другой — устную
сферу коммуникации. Диглоссия может рассматриваться как
строго лингвистическая — и в силу этого также, разумеется,
упрощенная — интерпретация культурфилософских построений Бахтина о
двойственности средневековой культуры24. Наконец, идея
дуализма воплотилась в общем постулате, выдвинутом Ю.М. Лотманом,
о наличии в каждой культуре как минимум двух не сводимых друг
к другу кодов:
...никакое мыслящее устройство не может быть одноструктурным и
одноязычным: оно обязательно должно включать в себя
разноязычные и взаимонепереводимые семиотические образования <...>.
Наиболее универсальной чертой структурного дуализма человеческих
культур является сосуществование словесно-дискретных языков и
иконических...25
Этот тезис, заявленный в статье Лотмана «Феномен культуры»
(1978), присутствует и в ряде других его работ, сопрягаясь с
такими глобальными оппозициями, как внешняя и внутренняя
коммуникация (автокоммуникация), «дескриптивное» и мифологическое
мышление, функциональная асимметрия человеческого мозга26.
22 Ученые записки ТГУ, вып. 308, Труды по знаковым системам, VI, Тарту,
1973, с. 35-36.
23 Лекционный курс был опубликован в России лишь в 1994 году: Б.А.
Успенский, Краткий очерк истории русского литературного языка (XI—XIX вв.),
М, Гнозис, 1994.
24 Б.А. Успенский уже и до этого занимался подобным «переводом» бах-
тинских идей на язык позитивной науки; ср. искусствоведческую адаптацию
понятия «полифонии» в его книге «Поэтика композиции» (1970).
25 Ю.М. Лотман, Избранные статьи, т. 1, Таллин, Александра, 1992, с. 36.
26 Дуальностью оказался отмечен и научный дискурс самого Ю.М. Лотмана
в своем прагматическом аспекте. Среди читателей книг Лотмана и слушателей
его публичных лекций немногие всерьез интересовались теоретическим
содержанием излагаемых построений; большинство его поклонников скорее были
очарованы его искусством рассказывать яркие и поучительные анекдоты из
Рефлексия о культуре в советской науке 1970-х годов 367
Существенно, что во многих случаях один из
взаимодополнительных языков культуры расценивается ею самой как
«неправильный», «второстепенный» или даже просто «некультурный».
Мысль о том, что в созданных человеком системах
сосуществуют две взаимодополнительные подсистемы, находящиеся в
иерархически неравном положении и противоборствующие друг с
другом, восходит к эпохе романтизма, с ее характерным интересом к
«низовому» народному творчеству. Среди концептуализации этой
идеи можно назвать, помимо бахтинской теории средневековой
культуры, такие разнокачественные и лишь отчасти генетически
связанные между собой построения, как диалектика Раба и
Господина в «Феноменологии духа» Гегеля, известный каждому
советскому студенту тезис Ленина об «элементах социалистической и
демократической культуры» в каждой национальной культуре27,
фрейдовская оппозиция сознательной и бессознательной
инстанций («Я» и «Оно») в психической деятельности, теория
литературной эволюции у В. Б. Шкловского и Ю.Н. Тынянова (идея
«канонизации младшей ветви») и т.д. Заслугой Лотмана явилось
обобщение этой идеи, превращение ее в универсальную модель
самостоятельно действующей и развивающейся семиотической
системы (культуры):
Тот камень, который строители сложившейся и
стабилизировавшейся системы отбрасывают как, с их точки зрения, излишний или
необязательный, оказывается для следующей за нею системы
краеугольным28.
Такой принципиальный дуализм (бинаризм) составлял
динамическое обоснование множественности форм культуры и
противостоял монизму любых теологических дискурсов, будь то офи-
русской истории. В конце 1980-х годов эта часть аудитории получила и
специальный канал коммуникации — телевизионные передачи «Беседы о русской
культуре». Сам Лотман фактически обосновал двойной подход к просвещению
публики еще в статье «Проблема "обучения культуре" как ее типологическая
характеристика» (1970, 1971), противопоставив два вида обучения — через
правила и через тексты.
27 В.И. Ленин, «Критические заметки по национальному вопросу», Полное
собрание сочинении, т. 24, М., Политиздат, 1961, с. 120.
28 Ю.М. Лотман, «Динамическая модель семиотической системы», в кн.:
Ю.М. Лотман, Избранные статьи, с. 1, с. 92.
29 Нет, кажется, никаких свидетельств в пользу того, что Ю.М. Лотман
прямо связывал свою концепцию с критикой советской однопартийной
системы и обоснованием политического плюрализма; однако его коллеги на
Западе могли улавливать в ней, помимо прочего, также и этот смысл.
(Сообщено автору настоящей работы итальянским семиотиком Паоло Фабри.)
368
Теории и мифы
циальная государственная идеология29 или же оппозиционные ей
системы, опиравшиеся на религиозные и квазирелигиозные
(например, национально-почвеннические) ценности.
В то же время рефлексия о дуальности культуры получила у
Ю.М. Лотмана и Б.А. Успенского новый поворот. В 1977 году
появилась их большая совместная статья «Роль дуальных моделей в
динамике русской культуры (до конца XVIII века)», где бинаризм
рассматривается как специфическая черта самосознания,
отличающая русскую культуру от западноевропейской:
Основные культурные ценности (идеологические, политические
религиозные) в системе русского средневековья располагаются в дву-
полюсном ценностном поле, разделенном резкой чертой и лишенном
Бинарность здесь — уже не универсальное правило, а
особенность одной национальной традиции, причем особенность,
во-первых, типологически редкая, едва ли не исключительная (вся
Западная Европа живет по тернарной модели, когда, к примеру, наряду с
адом и раем признается существование промежуточной инстанции
чистилища), во-вторых, социально действенная (ею объясняются
эсхатологический дух русской истории, радикальные перевороты в
ценностной ориентации страны), и, в-третьих, исторически
вредная. Последняя мысль, неприемлемая для цензуры, была открыто
высказана Ю.М. Лотманом лишь в книге «Культура и взрыв»,
законченной, как видно из текста, в последние месяцы
существования советского режима, а вышедшей уже после его падения:
С точки зрения исследуемых нами вопросов процесс,
свидетелями которого мы являемся [т.е. демонтаж советской политической
системы. — С.З.], можно описать как переключение с бинарной сис-
Бинаризм предстает, таким образом, как фатум, который
тяготеет над Россией и систематически ввергает ее в разрушительные
катаклизмы; надежду избавиться от него сулят демократические
реформы 1980—1990-х годов. Таким образом, строгие научные
выкладки Ю.М. Лотмана и Б.А. Успенского неожиданно
сомкнулись с тематикой традиционного для русской культуры литератур-
но-эссеистического философствования о «судьбе России»32.
30 Б.А. Успенский, Избранные труды, т. 1, М., Гнозис, 1994, с. 220.
31 Ю.М. Лотман, Культура и взрыв, М., Гнозис, 1992, с. 264.
32 Б.Ф. Егоров рассматривает переход позднего Лотмана от бинарных к
тернарным моделям как фактор его личной мировоззренческой эволюции (см.:
Рефлексия о культуре в советской науке 1970-х годов 369
Объективная и субъективная динамика культуры
Возникновение понятия культуры в конце XVIII века было
связано с обсуждением проблемы прогресса, нередко
понимавшегося в негативном (руссоистском или романтическом) смысле.
В частности, гердеровско-гумбольдтовская концепция
плюрализма культурных типов с самого начала своего развития, в силу
своих научно-этнографических задач, предполагала широкое
обследование гибнущей под действием прогресса культуры малых,
«отсталых» или даже исчезнувших народов. При дальнейшей
эволюции романтической идеологии эта идея была использована
националистическими движениями, выдвигавшими и
выдвигающими доныне лозунг «защиты национально-культурной
самобытности». В подобном контексте культура рассматривается как
драгоценный реликт, которому угрожает агрессивное
распространение чужеродной (национально неокрашенной, «безродной», или
же «инородной») «бескультурности». По замечанию
американского исследователя, такие теории «заключаются в утверждении
реальности чего-то такого, что вот-вот будет уничтожено»33.
Тема сохранения исчезающих культур получила
распространение в идеологической жизни Советского Союза после отхода
сталинского государства от интернационалистской линии раннего
большевизма; сложно переплетаясь с уже упомянутой выше темой
классики и ее защиты от «порчи», она отразилась и в
культурологии 1960—1970-х годов. Среди ведущих ученых об этом особенно
энергично высказывался Д.С. Лихачев, ставивший в один ряд
защиту как чужих культур, так и своей собственной34. Оппозицион-
Б.Ф. Егоров, «Об изменениях в методе Ю.М. Лотмана», в сб.: Одиссей 1996, М,
Наука, 1996, с. 346—348). Такое преодоление бинаризма могло бы
осуществляться в форме методологической самокритики структурализма — однако в
реальности оно приняло форму национальной самокритики русской культуры.
33 Alfred G. Meyer, «Historical Notes on Ideological Aspects of the Concept of
Culture in Germany and Russia», in: AL. Kroeber, C. Kluckhohn, Culture. Л Critical
Review..., op. cit., p. 208. Заметим в этой связи, что Ю.М. Лотман неоднократно
показывал в разных работах, как любая историческая культура по-своему
строит образ своей «не-культуры» — в виде «леса», «степи», «варварского
окружения» и т.п. В этот ряд фантазмов не-культурности вписываются и образы
«космополитического засилья», которые в разные эпохи и в разных странах могут
связываться с разными реальными этносами — французами, евреями,
американцами и т.д.
34 «Сейчас перед мировой наукой стоит огромная задача — изучить, понять
и сохранить памятники культур угнетенных народов Африки и Азии, ввести их
культуру в культуру современности. Та же задача стоит и в отношении истории
культуры прошлого нашей собственной страны» (Д.С. Лихачев, Поэтика
древнерусской литературы, Ленинград, Наука, 1967, с. 368).
370
Теории и мифы
ный потенциал таких требований обнаружил свою двойственность
в годы «перестройки», когда лозунг защиты культурных традиций
взяли на вооружение полярно противоположные политические
силы; но двойственность проявилась уже и в 1980 году, когда
Д.С. Лихачев выпустил эссе «О русском», подвергнутое критике
Л.М. Баткиным с либерально-демократических позиций (вне
легальной печати)35. Впрочем, данный сюжет относится уже к сфере
публицистики и выходит за рамки истории научной
культурологии.
Возвращаясь к этой последней, существенно отметить, что
в 1970-е годы представлению о культуре как умирающем реликте,
в котором приходится искусственно поддерживать жизнь, был
противопоставлен образ культуры как жизнеспособной и
самовоспроизводящейся системы. Автором этой последней концепции
был Ю.М. Лотман:
Культура представляет собой самый совершенный из созданных
человечеством механизмов по превращению энтропии в информацию
<...>. Культура обладает свойством оборачиваться к коллективу тем
лицом, которое в данный момент общественно наиболее значимо
<...>. Устойчивость культуры проявляется в ее необычайной
способности к самовосстановлению, заполнению лакун, регенерации,
способности преобразовывать внешние возмущения в факторы
внутренней структуры36.
Нейросемиотическая модель позволяла исследователю
рассматривать культуру наподобие живого организма, находящегося
в динамическом равновесии со средой. Безусловно обладая
индивидуальностью и самобытностью, в том числе и национальной,
такая «особь» не боится прогресса и способна активно, а не
только пассивно противиться любым внешним «антикультурным»
тенденциям (которые она сплошь и рядом сама же и формирует по
своему образу и подобию).
Разные толкования объективной динамики культуры, ее
соотношения с ходом прогресса отражались и в различных подходах к
ее субъективной динамике, к поступкам ее конкретных деятелей.
Некоторые из этих подходов были традиционны для культурфило-
софских штудий. Например, в работах А.Ф. Лосева и (с
некоторыми нюансами) С.С. Аверинцева исторические персонажи
рассматриваются как индивидуальное, более или менее полное и глубокое
35 См. цикл «писем из 1980 года», опубликованных в книге: Л.М. Баткин,
Пристрастия, М., РГГУ, 1994, с. 243-271.
36 Ю.М. Лотман, Статьи по типологии культуры, вып. 1, с. 104—105.
Рефлексия о культуре в советской науке 1970-х годов 371
выражение общего культурно-исторического типа; точка зрения
тем более естественная, что в качестве «героев» исследования
выступают как правило авторы высокостатусных текстов —
писатели, мыслители и т.д., непосредственно в слове высказывающие те
идеи и образы, которые исследователь, уже в рамках своего
метаязыка, оценивает как типичные для данной культуры. Иной, но
также традиционный для исторической науки подход
демонстрирует А.Я. Гуревич: культурные представления важны для
понимания поступков людей прошлого, людей не обязательно творческих:
Нам неплохо известны исторические события, но гораздо
меньше — их внутренние причины, побуждения, которые воодушевляли
людей в средние века и приводили к социальным и идейным
коллизиям. Между тем любые социальные движения — это движения
людей, мыслящих, чувствующих существ, обладающих определенной
культурой, впитавших в свое сознание определенные идеи.
Поступки людей мотивировались ценностями и идеалами их эпохи и среды37.
Общие «ценности и идеалы <...> эпохи и среды» лучше всего
показываются и доказываются через поступки обычных
представителей того или иного исторического общества, в пределе —
через поступки наиболее «простых» людей, менее всего
выделяющихся на среднем уровне. Именно такая предпосылка привела
А.Я. Гуревича (в монографии «Проблемы средневековой народной
культуры») к реконструкции культуры неграмотных средневековых
крестьян по косвенным данным — главным образом по
назидательным текстам, с которыми обращались к крестьянам их
владевшие грамотой священники.
Общим для подобных методов является допущение о
пассивном положении исторического персонажа по отношению к
константам его культуры: как в дарвинистской или
«вульгарно-социологической» истории индивид жестко детерминирован
биологическими или социально-экономическими условиями своей
жизни, так и здесь он выступает лишь выразителем (пусть даже
гениальным) своего культурно-исторического типа или же более или
менее безликим представителем своей социокультурной группы.
Другую модель взаимоотношений исторического лица с
«правилами» современной ему культуры построили в цикле своих работ
Ю.М. Лотман и Б.А. Успенский. С их точки зрения, культуре не
просто свойственна многовариантность, но область культуры даже
не покрывает собой всего универсума:
А.Я. Гуревич, Категории средневековой культуры, цит. соч., с. 8.
372
Теории и мифы
Культура мыслится лишь как участок, замкнутая область на фоне
не-кулыуры38.
Культура предлагает индивиду альтернативные варианты
поведения, причем некоторые из них квалифицируются ею как
«неправильные» и «несистемные»:
«Естественное поведение» не может иметь
противопоставленного ему «неправильного» естественного поведения. Иначе строится
«культурное поведение». Оно обязательно подразумевает хотя бы две
возможности, из которых только одна выступает как «правильная»39.
Для человека в культуре всегда есть выбор, есть возможность
свободно строить свою личность, опираясь на
конкретно-исторические возможности, предоставляемые культурой. Таким общим
постулатом был обусловлен и выбор исторических лиц,
привлекавших особенное внимание Лотмана и Успенского. Среди этих лиц
выделяются представители разнообразных «неправильных»,
«отклоняющихся» и оттого повышенно семиотичных типов
поведения — щеголь, юродивый, монарх-реформатор (Петр Первый),
революционер (например, декабрист); типологически такие
фигуры связаны с сакральными персонажами архаических культур,
которые, по замечанию К. Леви-Стросса, интегрируются в
культуру именно в своей инаковости (например, в функции
отверженного). Поступки крупных политических деятелей, традиционно
интерпретировавшиеся историками как проявление социальных
причин или классовых интересов и целей, были рассмотрены, по
выражению Б.А. Успенского, sub specie semioticae — в них стала
читаться парадоксальная реализация семиотической программы
построения собственного культурного образа: Иван Грозный как
юродивый, Петр I как Антихрист и т.д.40 Наконец, в 1980-е годы
Ю.М. Лотман выпустил научные биографии Пушкина и
Карамзина, где уже жизнь творческого человека, писателя
интерпретируется в качестве связного «текста жизни», сознательно
нацеленного «автором» на реформирование своей национальной культуры;
входящие в эту культуру поведенческие коды используются при
создании такого текста как материал, подлежащий (пере)оформ-
38 Ю.М. Лотман, Б.А. Успенский, «О семиотическом механизме культуры»,
в кн.: Ю.М. Лотман, Избранные статьи, т. 3, Таллин, Александра, 1993, с. 326.
39 Ю.М. Лотман, Статьи по типологии культуры, вып. 1, с. 7.
40 Любопытную, хотя и вряд ли актуальную для самих советских
культурологов параллель составляет экзистенциальный психоанализ Ж.-П. Сартра,
также выявляющий в жизни человека некоторый «проект», за выбор которого
человек несет личную ответственность.
Рефлексия о культуре в советской науке 1970-х годов 373
лению творческим усилием свободного художника. Дэвид Бетеа,
анализируя метод этих поздних работ Лотмана, отмечает, что в них
историк и сам
приближается к художественному языку, вплотную подходя к
пределу того, что может позволить себе исследователь, не жертвуя
научностью и объективностью41.
Для советского литературоведения (наследовавшего в этом
отношении романтическим традициям) была характерна
«героическая парадигма» — особая сосредоточенность на фигуре
литературного героя, рассматриваемого в своем автономном бытии, как
главный смысловой фактор произведения и фактически
помещаемого выше, чем создавший его автор42. Структурализм 1960-х
годов, стремившийся «сделать литературоведение точной наукой»
(Лотман), избегал самой проблемы литературного героя, сводя его
к сочетанию нарративных функций. Тем более любопытно, что на
более позднем своем этапе, уже не в узко литературоведческой, а
в историко-культурологической сфере, эта школа создала модель
поведения суверенной, творчески свободной личности, которая
сама становится героем своего собственного «текста жизни».
Лотман и Успенский возвращались к «героической парадигме» на
более высоком уровне, диалектически примиряя антропологизм с
семиотикой культуры.
От науки к эссеистике
Как и некоторые другие течения гуманитарной мысли XX века
(например, русский формализм 1920-х годов или западный
структурализм 1960—1980-х в лице таких своих представителей, как
Р. Барт, Ю. Кристева или У. Эко)43, советская культурология
испытывала тяготение к художественному типу творчества.
Парадоксальным образом сильнее всего оно сказывалось в практике
Московско-Тартуской семиотической школы, отличавшейся особой
заботой о научной строгости своих методов. Просто
художественное начало здесь проявлялось скорее в обще культурном, чем в
41 Дэвид Бетеа, «Юрий Лотман в 1980-е годы: код и его отношение к
литературной биографии», Новое литературное обозрение, № 19 (1996), с. 23.
42 См. ниже статью «"Героическая парадигма" в советском
литературоведении».
43 Роман Эко «Имя розы» (1980) вызвал горячее одобрение у А.Я. Гуреви-
ча и Ю.М.Лотмана; последний написал послесловие к русскому изданию книги
(1989).
374
Теории и мифы
литературном плане — не столько в «изящном» стиле письма,
сколько в особых формах поведения, сопоставимого с
поведением столь интересовавших Ю.М. Лотмана и Б.А. Успенского
щеголей. Подчеркнутая дистантность по отношению к обществу
(к официальной академической системе), самоутверждение без
опоры на авторитетные для него традиции («самодельность», «бри-
коляж» советского структурализма, особенно на раннем этапе),
отстраненная холодность в подходе к тексту (навлекавшая на своих
адептов обвинения в «сальерианстве»), эстетизм точных
«математических» моделей, эгоцентрическая склонность к автометаописа-
ниям — все это признаки особой жизненной, а не просто научной
позиции, культивирующей демонстративность поступков
обособленного индивида или замкнутого сообщества44.
Несмотря на такую эстетизированность общественного
поведения (а может быть, именно благодаря ей — в том смысле, что
художественные потенции, реализуясь в подобном поведении, не
требовали себе иного, собственно «литературного» выхода), в
культурологии 1960—1970-х годов не наблюдалось какого-либо
дрейфа к околонаучному, литературно-эссеистическому дискурсу.
Признаки такого дрейфа появились лишь в самом конце
описываемого периода, когда, как уже было сказано, проблематика
культурологических штудий сблизилась с предметом публицистических
споров вокруг «судьбы России» (ср. упоминавшуюся выше книгу
Д.С. Лихачева «О русском», 1980).
В 1979 году было опубликовано эссе Л .М. Баткина (к тому
времени уже хорошо известного как исследователь итальянского
Возрождения) «Неуютность культуры». По своей идейной тенденции
эта работа вписывалась в контекст охарактеризованных выше
споров о «защите культуры»: автор отстаивал не охранительное, но
творческое отношение к культуре. Вместе с тем метафоричный,
далекий от академической строгости язык указывал на то, что если
это и «культурология», то уже не совсем научная. Еще более
важны были внешние обстоятельства публикации: она состоялась в
бесцензурном альманахе «Метрополь», где эссе Баткина
(замыкавшее собой этот объемистый сборник) стояло в одном ряду с
произведениями художественной прозы и поэзии. Таким образом,
одновременно произошли два важных сдвига в статусе культуро-
44 См ниже статью «Этюд о щегольстве». Сказанному не противоречат
соображения Б.М. Гаспарова о «герметизме» и «имманентности» тартуского
интеллектуального сообщества: просто в этом «герметизме», как и в
деятельности некоторых тайных обществ, конспираторская замкнутость парадоксально
уживалась с демонстративными жестами. См.: Б.М. Гаспаров, «Тартуская
школа 1960-х годов как семиотический феномен», в кн.: Ю.М. Лотман и Тартус-
ко-Московская семиотическая школа, М., Гнозис, 1994, с. 279—294.
Рефлексия о культуре в советской науке 1970-х годов 375
логии, по крайней мере некоторых ее течений: она стала
сливаться с литературой и с самиздатом. Вплоть до этого времени
научная культурология, даже будучи на подозрении у властей, сама
никогда не шла открыто на конфликт с ними; если культурологи
и печатались за границей, то лишь в научных, не вызывающих
придирок изданиях, теперь же статья одного из них появилась в
литературном самиздате, словно какая-нибудь политическая или
религиозная публицистика; причем этот сдвиг носил
демонстративно-вызывающий характер, как и вся акция с изданием
«Метрополя».
Сходным образом и книга историка архитектуры В. Паперно-
го «Культура Два», созданная во второй половине 1970-х годов,
вышла в свет в 1985 году в США, а на родине автора вплоть до
переиздания 1996 года была известна в самиздате. Эта работа
открыто опирается на методы и концепции структуралистской
культурологии: автор оперирует бинарными оппозициями, строит
циклическую схему развития русской культуры как чередования двух
противоборствующих парадигм («культуры 1» и «культуры 2»),
сопоставляет такие удаленные ряды художественной и социально-
политической жизни, как история раскола XVII века, эстетика
сталинской архитектуры, административные методы управления в
СССР и т.д. Между тем внешний сциентизм текста
(первоначально книга должна была стать кандидатской диссертацией по
архитектуре) не способен скрыть иного, если не противоположного
творческого импульса: субъективизма исторических сближений,
памфлетно-сатирического пафоса (к которому естественно
располагал главный предмет описания — живописный алогизм
официальной советской культуры), наконец, симптоматичных ссылок на
западные работы по эстетике постмодернизма. Действительно,
книга В. Паперного явилась одним из первых в советской
культуре постмодернистских эссе, текстов, направленных не на
достижение научной истины, возможность которой вообще ставится в них
под сомнение, а на создание блестящей, парадоксальной
интеллектуальной конструкции на материале культуры.
Постмодернистское, эссеистическое перерождение
культурологии в 1980—1990-х годах выходит за рамки рассматриваемого
здесь периода. Для краткой характеристики этого процесса
достаточно сказать, что в то время как ветераны-культурологи в
большинстве своем остались верны строго научной манере и
нечувствительны, или даже враждебны, по отношению к западным
постструктуральным методикам45, создание новой, популярной
45 Исключения немногочисленны, в основном среди ученых,
переселившихся на Запад: А.К. Жолковский, И.П. Смирнов.
376
Теории и мифы
культурологии взяли на себя эссеисты младшего поколения,
работавшие как в метрополии, так и в эмиграции, — П. Вайль, А. Ге-
нис, В. Ерофеев, Б. Парамонов, М. Эпштейн и др. Типичными
чертами их текстов стали моралистическая (или провокативно-
аморалистическая) литературно-художественная критика,
отвергавшийся культурологами 1970-х годов психоанализ, рассуждения
на тему специфики (позитивной или негативной) русской
культуры, типология культурно-художественных стилей XX века
(модернизма, постмодернизма, соцреализма). После падения
официальной коммунистической идеологии произошла очередная
«канонизация младшей ветви», но в роли «старшей ветви»
очутилась «классическая», научная культурология, а на первый план
выдвинулся ее «домашний», игровой вариант, в 1990-е годы
широко распространившийся в массовой русской периодике.
Альтернативная «сверхнаука» 1960—1970-х годов, добившись успеха у
публики, обернулась принципиально безответственным симуляк-
ром науки.
Короткая, но блестящая история советской культурологии
свидетельствует о том, что это научное направление было тесно
связано со специфической социокультурной ситуацией «периода
застоя». Возникнув и просуществовав около двух десятилетий в
искусственно стесненных условиях, которые затушевывали
сущностные различия между дискурсами и идейными тенденциями, оно
с переходом страны в относительно нормальный, общемировой
режим культурной жизни неизбежно должно было претерпеть
химическую реакцию разложения — с одной стороны, расслоиться на
ряд более или менее традиционных научных дисциплин (историю,
философию, филологию, а также и «культурологию» в более узком
смысле англо-американских cultural studies), а с другой стороны,
выявить свои художественно-эстетические потенции, которые
«выпадают в осадок» в паранаучной эссеистике постмодерна.
1997
РУССКАЯ РЕАЛИСТИЧЕСКАЯ
НАРРАТОЛОГИЯ XX ВЕКА
(К истории понятия «сюжет»)
Повествовательный текст в принципе можно моделировать
двумя способами: либо от повествования как целого к отдельным
событиям, либо от отдельных событий к повествованию как
целому. В первом случае исходным является понятие о языке, в рамках
которого, наряду с другими уровнями организации, выделяется
специальный уровень повествовательных фигур и конструкций, —
это риторическая нарратология. Во втором случае исходными
считаются события (реальные или воображаемые) как
непосредственный материал человеческого опыта, и далее формируется
повествовательный аппарат для их изложения, — это реалистическая
нарратология.
Предложенные термины не являются произвольными — за их
оппозицией стоит исторический перелом в европейской культуре
на пороге XVIII—XIX веков, когда на смену
традиционалистскому творчеству по образцам и правилам риторики пришла
романтическая и реалистическая идеология и практика письма,
направленного на непосредственное, независимое от языковой и
литературной традиции выражение субъективной или объективной
внеязыковой реальности, а вместо эстетической функции
литературы на первое место выдвинулась функция выразительная и/или
познавательная1. Правда, классическая риторика мало
интересовалась спецификой повествовательных текстов, разбрасывая их по
многим жанровым категориям, в определение которых повество-
вательность если и входила, то лишь в качестве второстепенного
признака2. Однако общая установка трактовать рассказ о событиях
1 Литература на эту тему значительна. Упомяну ряд работ A.B.
Михайлова, определявшего (вслед за Э.Р. Курциусом) период до конца XVIII века как
«риторическую эпоху», когда литературное творчество имело дело с «готовым
словом»; а также книгу Р. Лахман «Демонтаж красноречия», особенно главу 10,
где на примере русской литературы XIX века описывается «критика
риторизма в контексте литературных концепций реализма» (Рената Лахманн,
Демонтаж красноречия: Риторическая традиция и понятие поэтического, СПб.,
Академический проект, 2001 [1994], с. 236. Перевод Е. Аккерман). В отличие от
A.B. Михайлова и его отечественных последователей, немецкий историк
литературы избегает использовать понятие «реализм» как операциональный термин
теории литературы и рассматривает его лишь как факт истории, «концепцию»
творчества, исторически обусловленный идеологический продукт.
2 См., например, перечень жанров, упражняться в которых предлагалось
французским школьникам, изучавшим риторику в коллежах XIX века: «басни,
378
Теории и мифы
прежде всего как один из родов словесного искусства оказалась
культурно продуктивной и впоследствии проявилась в
неориторических направлениях литературной теории XX века.
Сейчас наша задача — показать на некоторых
представительных примерах3, что в отечественной теории литературы XX века
преимущественным влиянием пользуется противоположная
установка — видеть в повествовании определенный модус
взаимодействия литературы с внесловесной действительностью. В
общекультурной перспективе эта установка согласуется с характерной для
русской литературы тенденцией акцентировать самостоятельность
и автономное бытие героя*.
Ничто так не влияет на формирование понятийного аппарата
научной дисциплины, как стихийно складывающийся, нерефлек-
тируемый смысл некоторых базовых терминов, в нашем случае
заимствуемых теорией литературы из суждений литературной
критики, то есть непосредственно из литературного сознания. Так,
интереснейшей темой исследования было бы проследить историю
возникновения в русской литературной критике термина «сюжет»,
на многие десятилетия определившего не только критическую
практику, но и теоретическую нарратологию в нашей стране.
В этом труднопереводимом термине, по внешней форме
заимствованном из французского языка, на самом деле склеены значения
двух терминов, не совпадающих ни по-французски, ни
по-английски: это соответственно sujet и trame, subject и plot. В обеих
лексических парах первый член обозначает «предмет», «тему», то о чем
повествования, речи с повествовательными вставками, письма, портреты,
диалоги, сочинения на тему знаменитой фразы или же нравственной истины,
ходатайства, докладные записки, критические разборы, похвальные слова,
судебные речи» (цит. по: Жерар Женетт, «Риторика и образование», в кн.: Же-
рар Женетт, Фигуры: Работы по поэтике, т. 1, М., изд-во им. Сабашниковых,
1998, с. 265). «Повествования» (narrations) понимаются здесь не как
литературный жанр, а как разновидность ораторской речи, отличающаяся от «речей с
повествовательными вставками» (discours mêlés de récits) лишь тем, что рассказ
о событиях занимает здесь весь текст, а не отдельную его часть. В стандартном
делении риторического сочинения narratio составляет, как известно, строго
офаниченный сегмент, посвященный изложению фактов — в отличие от их
интерпретации, обсуждения, восхваления или осуждения участников дела и т.д.
3 Рамки статьи, разумеется, не позволяют провести широкое обследование
литературоведческой продукции, выходившей в свет на протяжении ста с
лишним лет, где вопросы нарратологии зачастую трактуются ad hoc, в связи с
историко-литературным изучением конкретных произведений. Нам придется
лишь бегло коснуться самых значительных эпизодов и образцов собственно
теоретической, абстрактной рефлексии.
4 См. ниже статью «"Героическая парадигма" в советском
литературоведении».
Русская реалистическая нарратология XX века 379
говорится в тексте или же изображается в каком-то невербальном
представлении, причем такой «сюжет» не обязательно образуется
из событий — вполне возможны неповествовательные тексты,
«сюжетом» которых является описание статичных объектов (портрет,
пейзаж) или обсуждение какого-либо, подчас весьма
абстрактного, вопроса5. Вторым же членом обозначается более техническая,
формально-конструктивная сторона повествовательного текста —
собственно подбор и расстановка событий. С некоторым
приближением можно сказать, что в терминах аристотелевской поэтики
эти два параметра повествования тяготеют, не совпадая с ними
вполне, к полюсам «смысла» (dianoia) и «сказания» (mythos, fabula).
Во всяком случае в западной традиции эти термины четко
различаются, и их не спутает не только профессионал-нарратолог, но и
любой компетентный носитель французского или английского
языка. В русской литературной терминологии дело обстоит иначе,
в ней структура, событийная «основа» повествования изначально
неотличима от «смысла», которым эти события обладают для
говорящего. История русской нарратологии может быть
представлена как борьба между аналитической тенденцией, стремящейся
разложить сложное понятие «сюжет» на его составные части, и
тенденцией к синтезу, противопоставляющей такому разложению
идею «органического единства» литературного произведения.
Последняя тенденция чаще побеждает — и это естественно, ведь она
опирается на непосредственные данные языкового сознания,
которое имеет дело с одним, а не двумя терминами!
По-видимому, первая попытка научной концептуализации
термина «сюжет» была предпринята на рубеже XIX—XX веков
А.Н. Веселовским. Его незавершенная «Поэтика сюжетов»
содержала в себе попытку решить методологическую проблему
сравнительной филологии: какие совпадения между повествовательными
текстами разных национальных традиций следует трактовать как
заимствования, а какие — как «самородные», спонтанно
возникшие сходства? С этой целью Веселовский вводит различие между
«сюжетом» и «мотивом». Сюжет — это «комплекс мотивов»6,
описываемый обобщенно-алгебраической формулой. Его элементы
независимы друг от друга и могут свободно комбинироваться —
такое комбинирование есть творческий момент в повествовании.
5 Таким образом, понятие «сюжета», о котором идет здесь речь, не
совпадает с чисто нарратологическим значением этого термина в русской
критической традиции, где бытует, например, выражение «бессюжетное (=неповество-
вательное) произведение».
6 А.Н. Веселовский, Собрание сочинений, т. 2, вып. 1, СПб., Издание
Отделения русского языка и словесности Императорской академии наук, 1913, с. 3.
380
Теории и мифы
Поскольку случайное повторение относительно сложных
комбинаторных синтагм маловероятно, то наличие совпадающих
сюжетов свидетельствует о культурном контакте:
Чем сложнее комбинации мотивов <...>, чем они нелогичнее и
чем составных мотивов больше, тем труднее предположить, при
сходстве, напр., двух подобных, разноплеменных сказок, что они возникли
путем психологического самозарождения на почве одинаковых
представлений и бытовых основ. В таких случаях может подняться вопрос
о заимствовании в историческую пору сюжета, сложившегося у одной
народности, другою7.
Напротив того, совпадение мотивов, входящих в сюжет двух
произведений словесности, еще не доказывает какого-либо
контакта между создавшими их народами:
При сходстве или единстве бытовых и психологических условий на
первых стадиях человеческого развития, такие мотивы могли созда-
В отличие от сюжета, мотив не имеет комбинаторной
природы, это неделимый атом повествования. Не менее важно, что он
мыслится у Веселовского сопряженным с внесловесной
действительностью — тогда как о сюжетах такого не сказано. В двух
варьирующих друг друга дефинициях Веселовского: «Под мотивом
я разумею формулу, отвечавшую на первых порах общественности
на вопросы, которые природа всюду ставила человеку, либо
закреплявшие [sic] особенно яркие, казавшиеся важными или
повторяющимися впечатления действительности»9, и «Под мотивом я
разумею простейшую повествовательную единицу, образно
ответившую на разные запросы первобытного ума или бытового
наблюдения»10, — следует, как нам кажется, в точном, буквальном
смысле понимать повторяющуюся схему «вопроса/запроса —
ответа». Это значит, что мотив по своей глубинной сути есть еще не
совсем повествовательный, инфранарративный элемент, его
глубинная структура скорее диалогическая, как в интересовавшей
Веселовского фольклорной форме «амебейного пения». Просто в
данном случае диалог идет не между людьми, а между
человеческим умом и действительным миром — как при опять-таки
интересовавшем Веселовского поэтическом приеме «психологического
7 Там же, с. 12.
8 Там же, с. И.
9 Там же, с. 3.
10 Там же, с. 11.
Русская реалистическая нарратология XX века 381
параллелизма» между природным миром и человеческой душой.
В мотиве происходит превращение реальности в язык; единицами
традиционного повествования служат не голые, неосмысленные
события, а события-метафоры, то есть фактически уже «речи»,
«реплики в диалоге». Природа ставит человеку свои «вопросы»,
реальные, но не обязательно событийные, — а человек «отвечает»
на них языковой единицей-мотивом, обозначающим не столько
событие, сколько «положение»11.
Концепция Веселовского сложным, не вполне
эксплицированным образом сочетает референциальный и синтаксический
аспекты повествования. Мотив-атом обладает только
вертикальной, семантической референцией: он отражает (разумеется,
далеко не буквально) какой-то факт реального опыта, «отвечает» на
него. Напротив того, сюжет есть творческая комбинация мотивов,
в нем имеются горизонтальные синтаксические связи, зато о его
референциальной связи с действительностью Веселовский не
упоминает. Тем не менее эта связь неявно предполагается: ведь сюжет
не задается «сверху» традицией, а конструируется «снизу» из
мотивов, в нем по индукции «снуются разные положения-мотивы»12;
вероятно, именно поэтому ученый все-таки предпочел назвать
результат такого конструирования субстанциалистским термином
«сюжет», а не каким-либо эквивалентом формального понятия
«фабула» («история», «миф» и т.д.), которым, скорее всего,
воспользовался бы теоретик риторической ориентации13.
Как известно, при дальнейшем развитии отечественной теории
повествования именно оппозиция «сюжет/фабула» оказалась
главной осью теоретических и идеологических дискуссий. Разделение
этих двух терминов как альтернативных понятий явилось одной из
главных новаций ОПОЯЗа, позволявшей отграничить
реалистическую субстанцию фабулы от риторической формы сюжета.
11 Сходное понимание мотива как познавательно-метафорической
основы сюжета содержится и в монографии О.М. Фрейденберг «Поэтика сюжета и
жанра» (1935). Позднее, в посмертно опубликованной книге «Образ и понятие»
(глава «Происхождение наррации») Фрейденберг подчеркивала изначально
вторичный, локальный характер повествования в древней словесности, где оно
подчинялось решению внеповествовательных семантических задач.
12 Там же, с. 11.
13 На это указывал В.В. Кожинов в своем очерке истории понятий «сюжет»
и «фабула»: «...под "сюжетом" Веселовский понимал как раз то, что в уже
сложившейся традиции называлось "фабулой"»; «...Веселовский и его
последователи отказались от термина "фабула", заменив его термином "сюжет", в то
время как на Западе в данном значении и сегодня употребляются различные
национальные варианты слова "фабула"» (В.В. Кожинов, «Сюжет, фабула,
композиция», в кн.: Теория литературы. Основные проблемы в историческом
освещении. Роды и жанры, М., Наука, 1964, с. 423, 424).
382
Теории и мифы
У фабулы нет собственной логики, нет собственной формы — это
лишь материал, сырье для творческой переработки. Фабула может
быть бродячей, потерявшей всякое непосредственное отношение
к конкретной действительности. Как и для Веселовского, она
состоит из мотивов, но эти мотивы больше не являются
существенно важными «ответами» на «вопросы», задаваемые миром
человеку; это могут быть сугубо условные, расхоже-общедоступные
конструктивные элементы, образующие повествовательный
словарь и интересные только благодаря новой сюжетной обработке.
«Как мотивы устроены "внутри", формалистов поначалу вообще
не интересовало», — замечает О. Ханзен-Лёве14.
Правда, и формалисты усматривали в фабуле определенную
структуру — только структура эта носит не литературный и не
культурный, а экзистенциальный характер. Она связана с судьбой героя.
Фабула — это явление материала. Это — обычно судьба героя, то,
что о нем написано в книге. Сюжет — это явление стиля...15
Признание связи фабулы с экзистенциальной структурой
судьбы сближало опоязовскую нарратологию, при всей ее
радикальности, с представлением о человеческой реальности,
предшествующей литературному творчеству. Впрочем, у В.Б. Шкловского эта
связь лишь факультативна, и фабула — это лишь «обычно» судьба
героя. Б.В. Томашевский, со своей стороны, уточняет:
Герой вовсе не является необходимой принадлежностью фабулы.
Фабула, как система мотивов, может и вовсе обойтись без героя и его
характеристики. Герой является в результате сюжетного оформления
материала...16
Попытка формалистов отделить риторический аспект
повествовательной конструкции («сюжет» в их собственном,
формально-стилистическом понимании) от реалистического аспекта, то
есть «фабулы», вызвала неприятие в советском литературоведении,
в результате чего термин «фабула» на несколько десятилетий
вышел из употребления, был вытеснен в подсознание науки. Здесь не
место разбирать политические, цензурно-идеологические мотивы
этого вытеснения. Упомянем лишь критику формалистской нар-
14 Ore Ханзен-Лёве, Русский формализм, М., Языки русской культуры, 2001,
с. 235. Перевод С.А. Ромашко.
15 Виктор Шкловский, Матеръял и стиль в «Воине и мире» Льва Толстого,
М., Федерация, 1928, с. 220.
16 Б. Томашевский, Теория литературы (Поэтика), Ленинград,
Государственное издательство, 1925, с. 154.
Русская реалистическая нарратология XX века 383
ратологии в книге П.Н. Медведева «Формальный метод в
литературоведении» (1928), где сюжет и фабула сближены друг с другом
в переплетении познавательных, этических и эстетических
интенций художественного произведения, взаимодействующих в
пространстве абстрактной логики, а не во временной
последовательности повествования. Тем самым нарратологические категории
фабулы и сюжета фактически сводятся к более широкому, вообще
говоря ненарративному «западному» пониманию сюжета-темы,
включающего в себя не только события, но и личность героя, и
даже «идею», смысловое содержание:
Относить же к материалу фабулу (в смысле определенного
жизненного события), героя, идею и вообще все идеологически
значимое — недопустимо, ибо всего этого нет вне произведения как
готовой данности17.
Автор книги18 совершает концептуальный жест, очень
характерный для реалистической теории повествования: заменяет
интересовавшую опоязовцев горизонтальную структуру
повествования — например, вопрос о порядке изложения ряда событий,
которым, по Б.В. Томашевскому, именно и определяется различие
между фабулой и сюжетом, или же вопрос о заимствовании
готовых фабул не из «жизни», а из предшествующей литературы, —
структурой вертикальной, где фабула представляет собой одно
целостное событие, соотносимое с целостным же духовным событием
художественного завершения19; последнее потому и «завершение»,
что располагается выше завершаемого, вертикально
интегрировано с ним. Линейно-временной характер повествования как
развертки событий в такой перспективе если и признается, то лишь как
нечто малосущественное:
Фабула <...> приобретает свое единство не только в процессе
развертывания сюжета. Если мы отвлечемся от этого развертывания —
до известной степени, конечно, — то фабула не утратит от этого
своего единства и содержательности.
Так, если мы отвлечемся от сюжетного развертывания «Евгения
Онегина», т.е. от всех отступлений, перебоев, торможений, мы,
конечно, разрушим конструкцию этого произведения, но все же фабула как
17 П.Н. Медведев, Формальный метод в литературоведении, М., Лабиринт,
2003(1928), с. 122.
18 Мы отвлекаемся от вопроса, какую роль в ее создании играл сам
П.Н. Медведев, а какую — М.М. Бахтин.
19 Понятие завершения вводится в следующей главе «Формального
метода...», в связи с проблемой жанра (см.: там же, с. 140 след.).
384
Теории и мифы
некоторое единство события любви Татьяны и Онегина останется со
своею внутреннею закономерностью — жизненной, этической,
социальной20.
«Жизненная закономерность», субстанциальная весомость
фабулы, не позволяющая свести ее к пассивному материалу для
сюжетосложения, покупается ценой игнорирования ее
собственно нарративного характера: фабула «Евгения Онегина»
рассматривается не как темпорально развивающаяся история, цепь событий,
обладающих некоторой временной логикой, а как одно целостное
«событие любви» двух героев, независимое от перипетий
синтагматической развертки — сюжетной или фабульной, неважно.
Такое методологическое невнимание к временной,
синтагматической, риторической структуре текста (не обязательно
повествовательного) сказывается в позднейшем научном творчестве
М.М. Бахтина, который склонен был вообще отказываться от
понятия сюжета в пользу категорий жанра или «хронотопа», более
целостно охватывающих эстетическую динамику произведения
независимо от временного развития судьбы героев и процессуального
хода читательского восприятия21. Эстетика Бахтина настолько
реалистична, придает настолько существенную (идеологическую,
экзистенциальную) значимость герою и его «вертикальным»
отношениям с автором, что в ней не остается места для теории
«горизонтальных» повествовательных структур.
Оживление теоретической рефлексии в СССР 1960-х годов
сопровождалось новым размежеванием риторической и
реалистической традиций в исследовании повествования. С одной
стороны, структуралисты Тартуской школы сделали своей
методологической опорой извлеченную из забвения и развитую К. Леви-
Строссом риторическую нарратологию В.Я. Проппа, описывая
традиционное повествование как жесткую линейную синтагму,
единицами которой служат высоко абстрактные
архисобытия-функции. С другой стороны, в академической трехтомной «Теории
литературы» (1964) была предпринята попытка воскресить и по-
новому, в не-формалистском духе, осмыслить оппозицию сюжета/
20 Там же, с. 123.
21 Ср. позднейшую запись Бахтина: «Сюжет, вероятно, наиболее грубый и
наиболее нейтральный компонент художественного целого» (М.М. Бахтин,
Собрание сочинений, т. 6, М., Русские словари; Языки славянской культуры,
2002, с. 388) — и содержательный комментарий к ней, выполненный Л.А. Го-
готишвили {там же, с. 583—588). По словам последней, «М.М. Б(ахтин] не
полностью "игнорировал" сюжет — он снижал его эстетические функции и
концептуальный статус, его формообразующую роль в создании целостности
произведения» {там же, с. 587—588).
Русская реалистическая нарратология XX века 385
фабулы. Чтобы понять этот новый способ мыслить «реальность»,
изображаемую в художественной наррации, полезно соотнести
концепцию В.В. Кожинова, автора соответствующей главы в
академическом коллективном труде, с феноменологией литературы,
предложенной незадолго до того переведенным на русский язык
(в 1962 году) Р. Ингарденом. Правда, ссылок на него Кожинов не
дает, да и вообще польский философ мало занимался
повествованием и выстраивал свою теорию восприятия литературного
произведения главным образом на материале описательных текстов и
фрагментов. Тем не менее концептуальные сближения —
возможно, независимые от какого-либо «заимствования» — налицо.
В.В. Кожинов разграничивает фабулу как «систему основных
событий, которая может быть пересказана», и сюжет как «действие
произведения в его полноте, реальную цепь изображаемых
движений»22. Таким образом, фабула беднее сюжета, это абстрактная
схема, которую можно «пересказать», то есть попросту изложить
в тексте. Сюжет, напротив того, обладает «полнотой», он «ставит
перед нами действия как нечто совершающееся на наших глазах»23.
Отсюда логически следует, что сюжет повествования образуют не
только рассказываемые события: ведь ни одно, даже самое
подробное повествование не способно (вос)создать всю полноту
«реальной цепи действий», оно неизбежно выбирает из них некоторые,
наиболее важные. Настоящую свою полноту сюжет, понимаемый
по Кожинову, может обрести не в самом повествовательном тексте,
а лишь в воображении читателя, который — и вот тут-то
приходится вспоминать философию Ингардена — додумывает недостающие
события и представляет себе действие «как нечто совершающееся
на наших глазах». Стихийная феноменология Кожинова
выражается помимо прочего в настойчивых апелляциях к живому опыту,
который противопоставляется схематичной, поддающейся
«пересказу» структуре текста: «Сюжет — живая последовательность всех
многочисленных и многообразных действий, изображенных в
произведении, — не может быть пересказан...»24, это «живая цепь
22 В.В. Кожинов, «Сюжет, фабула, композиция», в кн.: Теория
литературы: Основные проблемы в историческом освещении. Роды и жанры, М., Наука,
1964, с. 422.
23 Там же, с. 430. Описывать действия «как нечто совершающееся на
наших глазах» — таково классическое определение фигуры гипотипозиса, но
нарратолог-реалист не обращает на это внимания; тот гипотипозис, который
его интересует, представляет собой не риторическую условность, не «эффект
реальности», а действительную, достоверную реальность.
24 Там же, с. 421. Повторим еще раз: при таком понимании сюжет не
может быть не только «пересказан», но и вообще рассказан, изложен без утраты
своей «полноты».
386
Теории и мифы
бесчисленных движений и жестов, образующих реальный сюжет
произведения»25, «движущийся клубок связей, противоречий,
взаимоотношений»26. Реалистическая модель повествования
сочетается с натурализацией искусства, с идеологией «органического»
творчества, характерной для русской эстетической мысли еще с
XIX века.
Неоднозначную, промежуточную между реалистическим и
риторическим подходом позицию занимают статьи, собранные
в пяти сборниках «Вопросы сюжетосложения», выпускавшихся в
1969—1978 годах Даугавпилсским педагогическим институтом.
Основатель и вдохновитель этого издания Л .М. Цилевич27
стремится скорректировать необъятность «бесчисленных движений и
жестов», образующих сюжет по Кожинову, заменив ее каким-то
более сосредоточенным и обозримым комплексом. Он определяет
сюжет как «движение характера в художественном времени и
художественном пространстве»28. Тем самым, с одной стороны, в
соответствии с «героической парадигмой» советского
литературоведения центральным компонентом сюжета объявляется личность
(«характер») литературного героя, а с другой стороны,
подчеркивается линейно-временной характер развития сюжета. Л.М.
Цилевич оговаривает, что «сюжет — это категория не
общеискусствоведческая, а литературоведческая, точнее — специфичная для
искусств временных; сюжетность — это видовое свойство
искусства слова»29. Тем самым ставится вопрос о «горизонтальной»
развертке событий, которую теоретик предлагает трактовать в
понятиях пространственных и временных трансформаций; линейная
структура сюжета приводит к выводу о его связи с развитием речи
(«искусства слова») и имплицирует возможность анализировать это
развитие риторически, исходя из вербальных, а не феноменальных
структур. Еще дальше от реалистической концепции отстоит
теоретическая статья «Сюжет и фабула», опубликованная в 5-м сбор-
25 Там же, с. 422.
26 Там же, с. 443. Последней формулой характеризуется, по словам
В.В. Кожинова, «основа» сюжета, в отличие от «событий, в которых эта
основа проявляется», — то есть, как следует из предыдущих дефиниций, фабулы;
в данной формулировке последняя неожиданно оказывается не антитезой, а
составной частью сюжета.
27 Позднее вышла в свет его большая книга: Л.С. Левитан, Л.М. Цилевич,
Сюжет в художественной системе литературного произведения, Рига, Зинатне,
1990.
28 Л.М. Цилевич, «Диалектика сюжета и фабулы», Вопросы
сюжетосложения, вып. 2, Рига, Звайгзне, 1972, с. 11.
29 Л.М. Цилевич, «Об аспектах исследования сюжета», Вопросы
сюжетосложения, вып. 5, Рига, Звайгзне, 1978, с. 4.
Русская реалистическая нарратология XX века 387
нике «Вопросов сюжетосложения» группой авторов,
использовавших нарратологические идеи Томашевского, Проппа и Лотмана
(а также, впрочем, Бахтина и Кожинова). В ней предлагается
анализировать «динамическую систему произведения» как игру целе-
полаганий автора и персонажа, как сочетание разноуровневых
телеологических структур:
Высшие цели определяются на высшем целевом уровне автором-
демиургом; авторские цели на низшем уровне могут реализоваться вне
путей персонажей и в интенциях персонажей, каждый из которых
имеет свою цель30.
Телеологическая структура сюжета ставит его в один ряд с вер-
бально-коммуникативными структурами, всегда обладающими
интенциональной направленностью (стремлением донести до
кого-то какую-то мысль); но в то же время целенаправленным
является, вообще говоря, и поведение действующих лиц
повествования, а тем самым сохраняется возможность реалистического
понимания сюжета как системы персонажей и их
целенаправленных действий, на которую накладывается более высокий уровень
целенаправленных действий, совершаемых в отношении этих
персонажей «автором-демиургом».
В современной литературно-теоретической рефлексии на
русском языке, несмотря на большой интерес к теориям
повествования Проппа и Лотмана, а также на усилившееся влияние
западной, по преимуществу также риторической традиции (переводы
нарратологических текстов К. Леви-Стросса, Р. Барта, К. Бремо-
на, А.-Ж. Греймаса, Ж. Женетта, философских трудов А. Данто,
Ф. Анкерсмита, П. Рикёра), реалистический подход сохраняет
свою влиятельность. Примером могут служить недавние работы
В.И. Тюпы31 и опубликованная по-русски книга немецкого
слависта-теоретика В.Шмида, прямо заявляющего о своей
преемственной связи со «славянской» традицией в изучении повествования32.
Общим тезисом этих трудов является мысль о существовании
первичного континуума жизненной реальности, который далее
трансформируется в дискретную структуру текста. По словам
В.И. Тюпы,
30 Б.Ф. Егоров, В.А. Зарецкий, Е.М. Гущанская, Е.М. Таборисская,
A.M. Штейн гольд, «Сюжет и фабула», там же, с. 14.
31 Например, статья: В.И. Тюпа, «Очерк современной нарратологии»,
Критика и семиотика, вып. 5, Новосибирск, 2002, и небольшая монография:
В.И. Тюпа, Нарратология как аналитика повествовательного дискурса,
Тверской государственный университет, 2001.
32 Вольф Шмид, Нарратология, М., Языки славянских культур, 2003, с. 9.
388
Теории и мифы
процессуальная цепь бытия онтологически континуальна.
Дискретные факты в ней обнаруживаются только вследствие вмешательства
языка, текстопорождающей деятельности, дискурсии33.
В континууме бытия благодаря деятельности сознания
выделяются дискретные «факты» и «события»; в результате последним
с самого их появления присуща «интеллигибельность»34. Тем
самым обосновывается «двоякая событийность нарратива»35,
сочетающего события, рассказываемые в повествовании, и события
самого повествования (то есть, в новейшей трактовке терминов,
«фабулу» и «сюжет»). Интеллигибельный, изначально
осмысленный характер фактов и событий, излагаемых в повествовании,
означает, почти как в теории мотива у Веселовского, преодоление
голой фактичности; но поскольку эти факты и события
вычленяются из континуальной «процессуальной цепи бытия» (ср.
«действие произведения в его полноте, реальную цепь изображаемых
движений» по Кожинову), то за ними все-таки сохраняется
онтологическая самостоятельность, а следовательно возможность
равноправного (по Бахтину) диалога между «фабулой» и «сюжетом».
Сходным образом В. Шмид предлагает различать два уровня
повествования: во-первых, «безграничный, абсолютно
непрерывный континуум событий»36, во-вторых, «результат смыслопорож-
дающего отбора ситуаций, лиц, действий и их свойств из
неисчерпаемого множества элементов и качеств событий», называемый у
этого теоретика «историей»37. Деятельность повествования
заключается в том, что повествователь осуществляет отбор среди
аморфного континуума «событий» (в разряд которых попали не
только «действия», но также и «ситуации», «лица» и «свойства»
действий — фактически, как и в книге П.Н. Медведева, перед нами
не «славянское», а скорее «западное» представление о сюжете!) и
формирует из них «историю», то есть фабулу повествования; в
свою очередь, читателю повествования события доступны также
«не сами по себе, а лишь как конструкт, как реконструкт,
созданный им на основе истории»38. В принципе нет уверенности, что
процесс сочинения, а затем чтения фабулы реально идет именно
таким образом — то есть что писатель, прежде чем составить цепь
фабульных происшествий, сперва представляет в воображении все
33 В.И. Тюпа, Очерк современной нарратологии, с. 20.
34 Там же, с. 22.
35 Там же, с. 6.
36 Вольф Шмид, Нарратология, с. 162.
37 Там же, с. 158.
38 Там же, с. 164. В этих идеях В. Шмид а можно со значительной долей
вероятности предположить влияние уже упоминавшегося выше Р. Ингардена.
Русская реалистическая нарратология XX века 389
«неисчерпаемое множество элементов и качеств событий», а
читатель, со своей стороны, не довольствуется прочитанной в книге
дискретной цепью нарративных элементов и мысленно
реконструирует на их основе «неисчерпаемое множество событий»
(всегда ли у него есть на то желание, да и просто время — скажем, у
торопливого читателя приключенческих романов, не успевающего
следить за интригой?). Как бы то ни было, несомненна
преемственная связь концепций В. Шмида и В.И. Тюпы с тезисом
В.В. Кожинова о «живой цепи бесчисленных движений и жестов,
образующих реальный сюжет произведения». Все три теоретика
разделяют такую идеологию повествования, которая
предполагает обязательное наличие некоторой, хотя бы фиктивной,
реальности, предшествующей ее нарративному изложению.
Как явствует из многолетней истории реалистической нарра-
тологии, последняя имеет сильные и слабые стороны. Ее
достоинство — связь с философией опыта и поступка (у Бахтина),
установка на вертикальную интеграцию литературного произведения, на
анализ отношений между текстом и воображаемым миром, где
действуют его герои. Ее уязвимая сторона — недооценка
повествования как речевого акта, горизонтальных отношений между
высказыванием и его социокультурным контекстом, а как
следствие — неотрефлектированный выбор художественного
повествования в качестве универсальной модели повествования вообще.
Если в заключение взглянуть на реалистическую нарратологию
глазами ее оппонента — риторической (или семиотической) нар-
ратологии, то уместно вспомнить статью Ю.М. Лотмана
«Происхождение сюжета в типологическом освещении» (1973), где
традиционное понятие русской литературной теории — «сюжет» —
рассмотрено в двух аспектах, предопределяющих дальнейшие
возможности его разработки.
В начале своей статьи Лотман создает своего рода
научно-мифологический нарратив, «миф о происхождении сюжета». Он
разграничивает в архаической культуре два «текстопорождающих
устройства»: во-первых, центральное «мифопорождающее
текстовое устройство»39, создающее тексты циклические, топологически
преобразуемые один в другой и описывающие норму, вечно
повторяющиеся события природной и общественной жизни; во-вторых,
периферийное текстопорождающее устройство, «организованное
в соответствии с линейным временным движением и
фиксирующее не закономерности, а аномалии»40. Два типа текстов, которые
создаются этими двумя альтернативными механизмами и из вза-
39 Ю.М. Лотман, Избранные статьи, т. 1, Таллин, Александра, 1992, с. 224.
40 Там же, с. 225.
390
Теории и мифы
имодействия которых сложился современный нарратив,
обозначены у Лотмана терминами «миф» и «анекдот».
Хотя непосредственной задачей Ю.М. Лотмана было
теоретическое описание общих основ культуры, выработанная им
оппозиция может быть эффективно приложена и к характеристике двух
традиций понимания «сюжета» в отечественной науке. Серийные
тексты «мифического» типа по определению обладают
повышенной структурностью, выступающей как инвариант в процессе их
бесконечного варьирования; тем самым они создают почву для
риторического анализа нарратива, когда абстрактная структура
повествования считается первичной по сравнению с конкретными
событиями и их обстоятельствами. Уникальные тексты
«анекдотического» типа41, напротив, заставляют обращать
преимущественное внимание не на общее, а на конкретное, на множественность
и неповторимость соседствующих друг с другом и непохожих друг
на друга происшествий; такие тексты стимулируют реалистический
взгляд на повествование, согласно которому изначально
существуют именно происшествия, а словесная форма — просто медиум, в
принципе нейтральное средство их передачи (о житейских
происшествиях принято рассказывать «просто»).
Таким образом, риторическая нарратология умеет наметить
типологическую схему, в рамках которой нарратология
реалистическая занимает закономерное и равноправное с нею, а потому и
не исключительное место. Трудно сказать, способна ли на
подобное автометаописание реалистическая нарратология, склонная
скорее натурализировать, чем категоризировать свой объект.
Возможно, той концептуальной схемой, с помощью которой она могла
бы выполнить данную задачу, оказалась бы не лотмановская
оппозиция «мифа» и «анекдота», а противопоставление двух
философских течений, для одного из которых факты (включая,
конечно, и события) первичны, а структуры сознания вторичны, для
другого же наоборот: оппозиция «материализм — идеализм».
2006
41 Имеется в виду, конечно, не анекдот как структурированный жанр
современного фольклора, а анекдот в старинном значении этого слова —
«историйка», «происшествие» или, по симптоматичному современному
словоупотреблению, «сюжет»: «Недавно в Думе приключился такой сюжет...» (из
телерепортажа).
«ГЕРОИЧЕСКАЯ ПАРАДИГМА»
В СОВЕТСКОМ ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИИ
Цель настоящей статьи — описать имплицитную эстетику,
можно даже сказать мифологию, лежавшую в основе большинства
течений советской литературной критики и теории литературы
1930—1980-х годов и исторически представлявшую собой
пережиток XIX века как эпохи романтизма. Имея в виду ее
общетеоретический анализ, мы будем говорить только о собственно научных,
то есть чисто когнитивных ее манифестациях, отвлекаясь от того
очевидного факта, что на самом деле она функционировала в
связи с полицейско-идеологическим давлением государства,
политическими кампаниями и интригами, глухой и часто бесчестной
борьбой за власть. Соответственно и догматические стереотипы
официального советского литературоведения рассматриваются
лишь постольку, поскольку в них застывала в вырожденном виде
живая национальная традиция осмысления культуры, сама по себе
способная оплодотворять также и продуктивные, независимые
исследования. Своеобразие мифологических представлений, о
которых пойдет речь, в том и заключается, что они могли
приводить — и часто приводили — к грубым упрощениям в понимании
литературы, но вместе с тем образовывали оригинальную и
богатую идеями традицию отечественной теоретической мысли. Как
правило, нет необходимости уточнять «персональное»
происхождение того или иного понятия или идеи, так как нередко они
вырабатывались в анонимной среде коллективного сознания —
сознания литературного столь же, сколь и теоретического, — и/или
бюрократической процедуры. Исключая из рассмотрения
эпигонов, мы будем касаться лишь несомненно оригинальных и
значительных ученых (в основном специалистов по западной
литературе XIX века), чтобы показать, что они также были зависимы от
верований и предрассудков своей эпохи. Наконец, диффузный
характер подобных верований и их историческая близость к нам
(они, собственно говоря, и по сей день не вполне изжиты) ставят
их исследователя в двойственное положение, заставляя играть
одновременно роли этнографа и туземца; отсюда элемент
произвола в методах фактического иллюстрирования наших тезисов —
наряду с прямыми цитатами будут широко применяться
обобщенные реферативные пересказы, адекватность которых читатель
может поверить собственным культурным опытом.
392
Теории и мифы
* * *
В истории русской литературы XIX век, век романтизма и его
более поздней исторической стадии — реализма, рассматривается
в качестве «золотого века», образцовой эпохи. По аналогии такой
статус может переноситься и на зарубежную литературу
соответствующего периода — хотя, скажем, во Франции принято
помещать «классический» период своей литературы на два столетия
раньше. В силу этого советская теория литературы фактически
вырабатывала все свои понятия и концепции на узкой базе
романтизма и реализма. Немногочисленные, хотя и первостепенно
важные теоретические исследования, основанные на материале
античности («Поэтика сюжета и жанра» О.М. Фрейденберг, 1936),
фольклора («Морфология сказки» В.Я. Проппа, 1928) или
Возрождения (диссертация М.М. Бахтина о Рабле, написанная в 1930-е
годы и опубликованная в 1965-м), оставались изолированными
и привлекли к себе широкое внимание лишь в 1960—1970-е годы,
с началом демонтажа советского идеологического режима. Что
касается эпохи Возрождения, то она хоть и пользовалась
относительно привилегированным положением в советской науке (очевидно,
благодаря Марксу и Энгельсу, высоко отзывавшимся о ее
деятелях), но господство XIX века как главного предмета исследования
заставляло применять к ней задним числом понятия,
разработанные для гораздо более позднего периода, — прежде всего понятие
реализма; в качестве примера можно назвать книгу Л.Е.
Пинского, вышедшую в 1961 году под заголовком «Реализм эпохи
Возрождения». Таким образом, XIX век оказывался в роли теоретически
образцового объекта, Литературы par excellence, проецировавшей
свои структуры и на предшествующие эпохи1.
Сужение исследовательского поля до размеров одной
исторической эпохи, объявляемой «классической», неизбежно влекло за
собой методологические последствия, связанные со способом
членить и структурировать это поле. Во-первых, это почти полный
отказ от поэтики ради аксиологии: литературное произведение
1 Подобная экстраполяция могла выходить за всякие рамки разумного.
Б.Г. Реизов горько иронизировал в 1958 году, что «мы распространяем
романтизм, реализм и натурализм (направления, возникшие в XIX веке) и на
средневековье, и на античность, и на палеолит. Мы готовы найти те же
направления в Индии, Китае и Японии. Ничто нас не может остановить — ни
исторические эпохи, ни географические широты; нас неудержимо толкает вперед
типология. Мы членим на направления одно и то же творчество, одно и то же
произведение. И если найдется в каком-нибудь уголке "элемент" мечты, или
"элемент" правды, или невыразительная деталь, критик тотчас выпускает залп
своих терминов, словно в этом и заключается историко-литературное
исследование» (Б.Г. Реизов, История и теория литературы, Ленинград, Наука, 1986,
с. 258-259).
«Героическая парадигма» в советском литературоведении 393
рассматривалось не столько как продукт определенной
исторической культуры, созданный в соответствии с правилами и нормами
своей эпохи (действительно, «классическая» эпоха тем и
отличается, что она исключительна и не может быть поставлена в ряд
сравнимых между собой исторических периодов), сколько как
более или менее верное «отражение» некоей внелитературной
реальности (на самом деле — системы идеологических постулатов). Во-
вторых, это ограничительный и во многом произвольный отбор
явлений, заслуживающих изучения: история литературы должна
была составлять пантеон «великих писателей», а не осмыслять
реальное разнообразие литературы той или иной эпохи. В-третьих,
это манихейская страсть к ценностным противопоставлениям даже
внутри классической культуры XIX века: сколько бы теория
литературы ни провозглашала эстетическое равенство всех или почти
всех литературных направлений, в оценках критики и школьного
преподавания реализм всегда получал преимущество перед
романтизмом. В результате тот и другой рассматривались не столько как
две последовательные и тесно связанные стадии литературной
эволюции, сколько как две конкурирующие между собой системы, из
которых одна соответствует идеологическим нуждам буржуазии, а
другая — пролетариата (правда, чаще всего такое соответствие
формулировалось со многими оговорками). Далее, уже в рамках
самого романтизма проводилось второе ценностное разделение —
на романтизм «прогрессивный», выражающий революционный
потенциал буржуазии, и «реакционный», в котором проявляются
ее консервативные тенденции. Дьердь Лукач, в 1930-е годы одна
из крупных фигур советской науки о литературе, пошел еще
дальше, выдвинув дивизионистскую теорию самого реализма и
осуждая как «упадок» всю его позднюю фазу развития начиная с
Флобера. Область «классического», «настоящего» реализма XIX века
имела тенденцию сокращаться наподобие бальзаковской
шагреневой кожи, сводясь к творчеству самого Бальзака и немногих
других писателей. Такой фантазматический, сложно разработанный,
но далекий от исторических реальностей образ литературной
эволюции имел своим результатом, между прочим, необходимость для
авторов монографических исследований «оправдывать» и
«проталкивать» исследуемого писателя, посредством изощренной
аргументации выискивая в его творчестве реалистические или, на худой
конец, «прогрессивно-романтические» элементы. Иерархическая
структура литературной эволюции, на вершине которой
находился XIX век, определяла, таким образом, статус конкретных
писателей и текстов.
Не вдаваясь далее в анализ этих печальных и комичных
фактов идеологического порядка, попытаемся выяснить некоторые
394
Теории и мифы
эстетические предпосылки того предпочтения, которое
оказывалось XIX веку в советском литературоведении.
* * *
Известна исключительная роль, которую играло в
официальной советской теории литературы письмо Фридриха Энгельса
к малоизвестной английской писательнице Маргарет Гаркнесс,
написанное в 1888 году и напечатанное в русском переводе в
1932-м. В этом дружески-наставительном послании выделяется
многократно цитировавшаяся фраза о том, что такое реализм:
На мой взгляд, реализм предполагает, помимо правдивости
деталей, правдивое воспроизведение типичных характеров в типичных
обстоятельствах2.
Ныне, более ста лет спустя, нетрудно квалифицировать данную
формулу как компромисс между двумя историческими системами
правдоподобия в литературе — классической системой
«типического», предполагающей сплошную значимость, осмысленность
мира, и более современной системой, основанной на «эффекте
реальности», каковой достигается посредством внесистемных и
непрозрачных для смысла деталей1. Очевидно также, что у
Энгельса этот компромисс служит целям скорее ретрофадным, так как по
синтаксическому строю его фразы предпочтение отдается не
«правдивости деталей», характеризующей современный реализм4,
а «типичным характерам в типичных обстоятельствах» — идее,
унаследованной от классической системы правдоподобия (пусть
конкретные критерии типичности и изменились). По-видимому,
для советского литературоведения такая дефиниция оказалась
особенно влиятельной — или особенно привлекательной — тем, что
учреждала некоторую ценностную иерархию предметов изображе-
2 Карл Маркс, Фридрих Энгельс, Избранные сочинения, т. 6, М.,
Политиздат, 1987, с. 506.
3 См.: Ролан Барт, «Эффект реальности», в кн.: Ролан Барт, Избранные
работы: Семиотика. Поэтика, М., Прогресс, 1989, с. 392—400.
4 Общим местом советской критики являлось более или менее резкое
осуждение «нетипических», «невыразительных» деталей, связывавшихся с
«натуралистическим» извращением реализма. Однако здесь необходимо учитывать
идеологическую двусмысленность термина: «натурализмом» могли объявлять
и намеренное использование писателем «эффекта реальности», и упоминание
в произведении какого-либо социально-исторического факта, который сам по
себе являлся вполне «типичным» (то есть распространенным и/или
существенным), но был нежелателен для обсуждения и оттого считался «нетипичным».
Здесь, как и во многих других случаях в советской критике, эстетическая
теория служила камуфляжем для политической цензуры.
«Героическая парадигма» в советском литературоведении 395
ния, причем делала это почти бессознательно, как нечто само
собой разумеющееся. Действительно, «детали», которым Энгельс
придает второстепенное значение («реализм предполагает...
помимо правдивости деталей...»), могут относиться к произвольным,
неопределенным рядам действительности, тогда как главным
объектом «правдивого воспроизведения» является не что угодно,
а человеческий характер. Таким образом, реалистическая эстетика,
постулируемая в письме Энгельса, является эстетикой
антропоцентрической, для которой главной задачей искусства оказывается
изображение человеческих персонажей.
Для современников Энгельса подобный гуманистический
взгляд на искусство еще казался совершенно естественным; для
людей XX столетия, свидетелей процесса дегуманизации
искусства (известная книга X. Ортеги-и-Гассета была всего лишь одной,
хотя и важной вехой в его осознании), он уже более
проблематичен. В советской же России этот взгляд оказался исключительно
живучим, чему способствовало сочетание ряда социокультурных
факторов. Его господство привело к возникновению особой эсте-
тико-психологической модели, которую мы будем называть
«героической парадигмой» — имея в виду двойной смысл слова «герой»,
поскольку речь тут идет и о преобладающей роли персонажа как
эстетической инстанции в искусстве, и о более или менее
эксплицитном требовании выражать в фигуре главного персонажа
произведения идеал нравственного героизма, порой наделенный
сверхчеловеческими чертами.
Возникновение в России «героической парадигмы» имело
одной из причин национальные культурные традиции. Как
известно, революционно-демократическая критика XIX века,
возведенная в образец идеологами большевизма, исходила из
«антропологического принципа», рассматривая литературных персонажей
через голову их творцов, в качестве самостоятельных моральных
индивидов, обладающих собственной реальностью и выражающих
собой некоторое состояние общества (принцип «реальной
критики»). Стремясь прямо воздействовать на социально-политическую
действительность, эта открыто антропоцентрическая критика
выработала эстетическую систему, позволявшую практически снять
проблему автора, абстрагироваться от авторского мировоззрения
и поэтики, чтобы зато отдать предпочтение герою как
обобщенному и более или менее верному воплощению «современного
человека».
Натурализация фиктивной фигуры персонажа неявно
содержится в русской литературной терминологии, как она сложилась
в XIX веке. Один из главных ее терминов — трудно переводимый
на европейские языки, хотя изначально и сам заимствованный из
396
Теории и мифы
французского, — слово сюжет. Это двусмысленное понятие
отсылает не просто к «предмету» (sujet) изображения, но прежде всего
к повествовательной структуре произведения (в таком смысле
говорят, что описательные или медитативные тексты «бессюжетны»),
к динамическому развертыванию некоей «истории», предсуще-
ствующей тексту. В понятии «сюжет» подразумевается
существование внутренне полной, осмысленной и независимой от
авторской воли эстетической инстанции — воображаемого
художественного мира, в котором живут персонажи и который
благодаря своей смысловой полноте способен самостоятельно
развиваться; такой «сюжет» по семантической и мифологической
нагруженности существенно отличен от чисто технических
нарративных терминов intrigue, anecdote, trame, story или plot,
которыми данный термин приходится переводить на французский и
английский языки. Иными словами, русский «сюжет» — скорее
активный формирующий фактор, чем материал, подлежащий
формированию; если вновь обратиться к французской лексеме sujet, то
здесь больше подходит не искусствоведческое ее значение
(«предмет»), а грамматическое и философское («субъект»).
Теоретики ОПОЯЗа попытались прояснить двусмысленное
понятие «сюжета», введя дихотомию «фабула/сюжет», первый член
которой покрывал собой пассивную, «анекдотическую» сторону
повествовательного произведения, тогда как второй, сохранявший
за собой престижное наименование «сюжет», призван был
выражать формообразующее усилие автора:
Кратко выражаясь — фабула это то, «что было на самом деле»,
сюжет — то, «как узнал об этом читатель»5.
Иными словами, «сюжет» в опоязовском смысле отсылает не
к материалу, а к продукту творческого труда, произведенному
автором и потребляемому читателем; это динамический полюс
художественной формы, и господствует здесь инстанция не героя, а
автора. Эта концепция, плодотворная для дальнейшего развития
нарратологии, была отброшена и забыта советским
литературоведением начиная с 1930-х годов: она противоречила привычке
связывать внутреннюю динамику произведения с фигурой
персонажа. Поучительна и попытка Г.Н. Поспелова сохранить опоязов-
скую оппозицию сюжета и фабулы, поменяв местами ее члены:
теоретик не без основания напоминал, что этимологически слово
«сюжет» (sub-iectum) наводит на мысль о чем-то пред- и подле-
5 Б. Томашевский, Теория литературы (Поэтика), Ленинград, Государ
ственное издательство, 1925, с. 137.
«Героическая парадигма» в советском литературоведении 397
жащем повествованию, о его внешнем материале, тогда как слово
«фабула» происходит от глагола fabulare, то есть передает скорее
активную повествовательную деятельность рассказчика. Усилия
Поспелова утвердить свою «обратную» терминологию остались
тщетными — во-первых, потому, что опоязовская концепция не
устраивала официальное литературоведение не терминами, а по
самой сути, во-вторых, потому, что в русской традиции слово
«сюжет» обладает слишком высоким ценностным статусом, чтобы
удовольствоваться скромным смыслом пассивного
повествовательного сырья. Можно сказать, что «формалисты» были более чутки к
духу своего языка, окрестив «сюжетом» — вопреки всем латинским
этимологиям — то, что берет верх в творческом процессе.
Интересны в этом смысле и термины русского
литературоведения, обозначающие самого персонажа. Прежде всего, по-русски
персонаж часто (гораздо чаще, чем, например, по-французски)
именуется словом «герой»: в число «героев» произведения
включаются и его второстепенные фигуры, как бы наделяемые при этом
неким смутно-«героическим» достоинством. Но еще лучше
двусмысленность понятия «герой» выражается другим расхожим
словом — «образ». Употребляемое в значении «персонаж», это слово
далеко выходит за рамки своего основного значения «образное
представление» (или «образное выражение» в риторике) и
сближается скорее со значением сакральным («икона»), знаменуя собой
уже не просто фиктивного персонажа, а существо, наделенное
суверенной волей, способное действовать исходя из своих
собственных мотивов и не подпадающее под земную власть автора6. В
анекдотических школьных ошибках типа «образ Онегина убил на дуэли
образ Ленского» всего лишь проявляется языковой автоматизм,
показывающий ту степень личностной автономии, которой
русская литературная критика молчаливо наделяет героя
произведения.
С другой стороны, у «героической парадигмы» имелись и
общеевропейские корни. В качестве философской идеи она ведет
свое происхождение от классической немецкой эстетики,
особенно от Шеллинга и Гегеля. Сакрально-абсолютный характер лите-
6 Мы не беремся судить, связана ли такая традиция с отзвуками
византийского иконопочитания. Вот, однако, красноречивая цитата из «Эмблематики
смысла» Андрея Белого, доказывающая родство русского литературного
антропоцентризма с религиозными исканиями Серебряного века: «...эмблемами
ценности в искусстве окажутся образы [! — С.З.] сверхчеловеков и богов.
Такова Беатриче у Данте, таковы образы Христа, Будды; искусство переходит
здесь в мифологию и религию; в центре искусства должен стать живой образ
Логоса, т.е. Лик» (Андрей Белый, Символизм как мировоззрение, М.,
Республика, 1994, с. 43).
398
Теории и мифы
ратурного героя восходит к шеллингианской концепции «мифа»
(«Философия искусства»), соединяющего в фигуре человека или
божества абсолютное и относительное; а идея саморазвития
персонажа, независимого от авторской воли, связана с «Эстетикой»
Гегеля, где эпохальные художественные творения, в особенности
великие фигуры богов и героев, непосредственно, как бы без
участия своих исторических творцов, манифестируют собой
последовательные этапы становления Духа. Суждение Энгельса о
реализме было тем более органично для советского литературоведения,
что в нем можно было уловить интуиции Гегеля, издавна хорошо
известного в России. Иными словами, это литературоведение на
«материалистической» основе марксизма продолжало традиции
романтической эстетики, с чем, конечно, связан и
исключительный статус «классической» эпохи романтизма и реализма, которая
оказала определяющее влияние на направление теоретической
рефлексии советской науки.
В марксистском (особенно вульгаризованном, школьном)
литературоведении субститутом мифа о герое сделалось
представление о «типичном представителе». «Типическое» стало
пониматься не как выражение вечных образцов либо, наоборот, абсолютно
самобытных, выразительных своей неповторимостью
индивидуальностей (таковы соответственно классический и романтический
смыслы понятия), но как изображение того или иного класса или
социальной группы, определяемой марксистским
обществоведением. Так, Лукач в монографии «Исторический роман», впервые
публиковавшейся в московском журнале «Литературный критик»
в 1937—1938 годах, объясняет эстетическую значительность
романов Вальтера Скотта тем, что их главные герои рельефно
выражают собой типические черты той или иной социально-исторической
среды.
Идея «типичного представителя» делала еще более очевидной
мифичность фигуры литературного героя, делая его сродни тем
гомеровским героям или феодальным сеньорам, чьим именем
охватывалось, кроме их собственной личности, еще и множество
воинов и подданных, которые за ними следовали. Признавая
такой собирательный (хотя и индивидуализированный) статус героя,
критика начинает во всем окружающем его мире усматривать
знаки и символы, экстериоризирующие его душевную жизнь, — это
и есть «типичные обстоятельства», которых требовал от реалиста
Энгельс и которые фактически вбирают в себя также и
«правдивые детали», допускаемые лишь в качестве деталей выразительных.
«Обстоятельства» продолжают собой личность героя, служат
фоном, на котором выступает и отражается его образцовая
индивидуальность. Литературоведы усматривают свою заслугу в том, что-
«Героическая парадигма» в советском литературоведении 399
бы выискивать все новые и новые скрытые грани этого
отражающего фона, показывать, каким еще неожиданным образом
внешне самодовлеющие «материальные» детали оказываются в
действительности знаками глубинных душевных движений героя
и демонстрируют его социальную типичность. Так, Б.А. Грифцов
в книге «Как работал Бальзак» (1937) выявляет психологическую
функцию цифр, денежных подсчетов в «Евгении Гранде», где они
выражают собой ход мысли папаши Гранде:
Цифры как средство художественного изображения — поистине
новаторство в литературе7.
Наконец, остается назвать последний — по счету, но не по
важности — источник «героической парадигмы»: это сама
практика литературы и искусства XIX века, эпохи романтизма (со всеми
его позднейшими вариантами, включая в себя не только
неоромантизм конца века, но и «реализм» Бальзака), где большое внимание
уделялось фигурам великих отверженных, противостоящих
обществу, зато ощущающих себя наравне с природным мирозданием,
мифическим персонажам мятежников и богоборцев, заполняющих
весь мир своей гигантской личностью, — таким героям, как Фауст,
Прометей и другие.
«Героическая парадигма» предрасполагала к историческому
описанию подобных литературных мифов, «вековых образов»
мировой литературы. Сам по себе такой подход был не нов. В России
начало ему положил, кажется, Тургенев в эссе «Гамлет и Дон
Кихот» (1860), представив эти два «образа» в качестве метафизических
эмблем критического и энтузиастического духа. В XX веке в
разных странах велись и более позитивные историко-литературные
исследования на аналогичные темы. Напротив, в Советском
Союзе они предпринимались в резко идеологизированной
перспективе; И.М. Нусинов в своей книге «Вековые образы» прослеживал,
например, эволюцию мифа о Прометее в мировой литературе, от
античности до современной эпохи (у Эсхила, Платона, Кальдеро-
на, Вольтера, Гёте, Шелли, Кине и др.). Задача, которую ставил
себе автор, носила оценочный характер — противопоставить
«прогрессивную» и «реакционную» тенденции в трактовке мифа. Вот
что сказано, например, о двух поэтах-романтиках:
В образе Прометея Байрон видел то активное начало
творческого разума и героической воли, которое способно преодолеть зло, рас-
7 Б.А. Грифцов, Психология писателя, М., Художественная литература, 1988,
с. 418.
400
Теории и мифы
сеять человеческую тоску и самую смерть претворить в победу
человеческого духа.
В противоположность Байрону его великий современник, во
многом близкий ему по своей социальной и творческой судьбе, —
Джакомо Леопарди видел в Прометее лишь легковерного мечтателя,
способного утешать себя иллюзиями и лишенного понимания
сущности вещей8.
В этом суждении фактически соединяются две идеологии:
ортодоксальный марксистский социологизм (процитированный
пассаж взят из главы под названием «Прометей разочарованных и
отчаявшихся», позиция Леопарди трактуется в ней как критика
буржуазного мира «со старых аристократических позиций»)9 и
волюнтаризм ницшеанского типа, идущий от неоромантизма конца
XIX века10, — отсюда апология Прометея-сверхчеловека,
способного «рассеять человеческую тоску». Если же рассмотреть
суждение Нусинова с точки зрения проблемы «героической парадигмы»,
то в нем противопоставляются два способа существования
литературного героя: с одной стороны, «настоящий» герой, наделенный
суверенной силой и потому достигающий сакрально-образцового
статуса11, с другой стороны — бессильно-вырожденный герой,
жертва собственных иллюзий и пленник аристократической
идеологии. Идеологическая оппозиция «прогрессивного» и
«реакционного» («активного» и «пассивного») романтизма практически
сводится к эстетической оппозиции персонажа независимого или
же порабощенного волей автора-романтика.
Можно было бы предположить, что реализм, в отличие от
романтизма, должен рассматриваться в таком контексте как система
абсолютного господства автора над персонажем. Однако в
действительности картина сложнее. Влияние «героической парадигмы» на
теорию реализма явствует из споров об интерпретации Бальзака в
1930-е годы.
8 И.М. Нусинов, Вековые образы, М., Художественная литература, 1937, с.
129. Фигура Прометея — архетип революционера-гуманиста — пользовалась
особым вниманием советских ученых (которые, впрочем, лишь продолжали
путь, намеченный П. Лафаргом в «Мифе о Прометее», 1904). Ср. вышедшее
много позже исследование о Прометее в последней большой главе книги
А.Ф. Лосева «Проблема символа и реалистическое искусство» (1976).
9 Там же, с. 133.
10 Известно, что ницшеанство (более или менее вульгарное) составляло
важную, хоть и непризнанную часть советской идеологии, особенно
благодаря творчеству Горького.
11 Высшую форму такого «прогрессивно-романтического» героя
составляет, разумеется, герой социалистического реализма, столь же идеальный, но
внешне более очеловеченный.
«Героическая парадигма» в советском литературоведении 401
Советское литературоведение много занималось Бальзаком,
благо его творчество удостоилось прямых похвал со стороны
Маркса и Энгельса (в частности, в уже цитированном письме
последнего к М. Гаркнесс). Содержание этих высказываний
определило собой и основную проблему советских дискуссий —
соотношение между мировоззрением и творчеством писателя-реалиста.
Ставилась задача выяснить, каким образом Бальзак-легитимист,
поклонник старой аристократии, сумел все же настолько
проницательно показать изъяны буржуазного общества, что этой его
социальной критикой может воспользоваться передовая
пролетарская идеология:
Если оценивать Бальзака только по его выводам, по его
общественно-политическим взглядам, то его, по справедливости, нужно
отнести к писателям консервативным, даже реакционным. Но тогда
остается совершенно непонятным его громадное, прогрессивное, ис-
Для разрешения этого парадокса критики 1930-х годов
предлагали разные выходы. Одни, как только что процитированный
В.Р. Гриб (в 1939 году), старались раскрыть сложность самого
мировоззрения Бальзака, его несводимость к одним лишь
конкретно-политическим «выводам». Другие, такие как Д. Лукач,
противопоставляли убеждениям писателя его художническую
«честность», проявляющуюся в реалистическом изображении
общественных сил:
Лично Бальзак стоит безусловно на стороне дворянства. Но
художник Бальзак предоставляет возможность всем группам
беспрепятственно и в полной мере раскрывать их силы13.
Сам Лукач, в прошлом неогегельянец, понимал под этим
объективное изображение социальных отношений, проявляющихся
на уровне общей формы произведения. В дальнейшем советское
литературоведение, упрощая эту концепцию и замалчивая имя ее
создателя, чаще всего предпочитало говорить о реалистическом
изображении персонажей. Тем самым персонажу как бы
оказывалось доверие за счет автора, чьи «личные» иллюзии он способен
корректировать благодаря исторической правде своего «образа».
12 В.Р. Гриб, «Мировоззрение Бальзака», в кн.: В.Р. Гриб, Избранные
работы, М., Гослитиздат, 1956, с. 201.
13 Г. Лукач, «"Крестьяне" Бальзака», в кн.: Г. Лукач, К истории реализма,
М., Художественная литература, 1939, с. 284.
402
Теории и мифы
Персонаж может сконцентрировать в себе — порой даже против
воли своего создателя — скажем, нравственное величие
республиканцев 1830 года или же, напротив, чудовищную алчность
буржуазного класса. Идеологические выводы, вытекающие из его
«образа», идут дальше сознательных идей писателя.
При таком взгляде центр формообразующей деятельности в
произведении смещался в сторону персонажа, который как бы сам
формирует свой «образ» и навязывает его автору. Одновременно
фигура автора упрощается, сводясь к одному лишь его
мировоззрению, сознательным взглядам на состояние общества и его классов,
а также к формальному «мастерству». Таким образом,
преувеличению роли персонажа как агента творческого процесса
соответствовало обеднение автора, рассматриваемого лишь в
интеллектуальных или же технических аспектах своей деятельности. Герой
содержательнее и интереснее автора.
Отсюда вытекало одно следствие, касавшееся
институциональной системы литературоведческих исследований. В России, как и
в других странах, существовала богатая традиция
историко-литературных трудов, основанных на биографическом и
психологическом анализе писательской личности. Как и в других странах, эта
традиция страдала эклектизмом и редукционизмом, пытаясь
объяснять творчество писателя обстоятельствами его жизни,
разнородными и неравноценными по важности, понимаемыми в
психологическом, психоаналитическом или социально-историческом
духе, часто без учета специфических законов литературного
творчества14. То были, однако же, вполне научные стратегии,
основанные на принципе проверяемости и подкрепленные
историческими и/или биографическими фактами. В советском
литературоведении после 1920-х годов критика недостатков таких стратегий
привела к почти полному отказу от документального исследования
писательской биографии. (Немногие исключения касались
некоторых «главных классиков», особенно Пушкина.) Биография
писателей была отдана на откуп другим писателям — авторам
биографических романов; литературоведы же занимались главным
образом анализом и толкованием литературных персонажей, исходя из
данных психологии и истории (психоанализ к тому времени был
уже задушен). Но только данные эти, связанные с
социально-психологической историей того или иного класса, черпались уже не в
подлинных исторических документах, а в самой художественной
литературе, чьи социально-психологические мотивировки часто
14 Пример традиционно-психологического подхода — Д.Н. Овсянико-Ку-
ликовский (впрочем, в своей «Истории русской интеллигенции» он отдавал
дань «реальной критике» и «героической парадигме», объединяя в одной
категории «типов» как реальных, так и вымышленных персонажей);
психоаналитического — И.Д. Ермаков; социологического — В.Ф. Переверзев.
«Героическая парадигма» в советском литературоведении 403
весьма двусмысленны, или, того хуже, в каком-нибудь
установочном идеологическом тексте. Парадоксальным образом персонаж,
в рамках «героической парадигмы» прославляемый и возводимый
в суверенное достоинство, оказывался беззащитной добычей
идеологической манипуляции — судьба странно схожая с судьбой
«гегемона революции», рабочего класса. Действительно,
литературный герой есть фигура фиктивная, а потому мало способная
противиться искаженному толкованию; иначе обстоит дело с
автором-писателем, который укоренен в конкретной и
верифицируемой исторической действительности. Таким образом, редукция
автора, его подчиненное положение вели к тому, что его
произведение отдавалось на произвол критика.
* * *
Итак, в историческом контексте советской культуры
«героическая парадигма» была весьма агрессивна и во многом
препятствовала развитию объективной истории литературы. (Так,
впрочем, происходило и с многими культурными тенденциями,
которые в тоталитарном обществе легко деградировали,
превращаясь в простые инструменты власти и не преследуя более
никаких познавательных или творческих целей.) Поэтому в послеста-
линский период, особенно начиная с 1960—1970-х годов, она стала
встречать себе противодействие со стороны ученых, недовольных
безраздельной властью героя в литературном тексте и
стремившихся если не вовсе низвергнуть «героическую парадигму», то хотя бы
ограничить ее влияние.
Самой радикальной формой такого противодействия было
полное игнорирование проблемы литературного героя. Примерно
такова была позиция теоретиков Московско-Тартуской школы,
которые если и анализировали роль персонажа в литературном
тексте, то с точки зрения строго нарратологической, в рамках
системы повествовательных функций (например, в духе В.Я.
Проппа), исключающей какой-либо «личностный» подход. Такой
радикализм отталкивал от Тартуской школы многих литературоведов,
приверженных гуманистическим взглядам на литературу, так что
школа эта, несмотря на достигнутые ею блестящие результаты,
оставалась все же изолированным, хоть и мощным, течением.
С другой стороны, в цикле работ 1970—1980-х годов Ю.М. Лотман
и Б.А. Успенский неявным образом вернулись к вопросу о
личности как свободном субъекте бытового и исторического поведения,
своего рода «авторе» и одновременно «герое» особого рода
биографического текста. «Героическая парадигма» была у них
преодолена эффектным диалектическим ходом: семиотическая модель
поведения уравнивала вымышленных и реальных персонажей в
рамках новой, строго научной теории личности.
404
Теории и мифы
Среди выступлений более примирительного характера по
отношению к традиции можно назвать большую статью A.B.
Карельского «От героя к человеку» (1983) — попытку демистифицировать
литературного героя, оставаясь в рамках «героической парадигмы».
Не отрицая важности великих легендарных фигур,
создававшихся или воссоздававшихся романтиками и реалистами типа
Бальзака, автор статьи сам обращается к персонажам более скромным и
более человечным — героям романистов второй половины XIX века,
таких как Флобер (заурядный Шарль Бовари в
противопоставлении исключительным претензиям его жены Эммы), Теккерей,
Джордж Элиот, Троллоп и т.д. По своему характеру эти
персонажи сложнее, наделены «мерцающей» природой — то
величественны, то посредственны; они более не в состоянии затмить собой
фигуру автора, зато обнаруживают такую глубину внутренней
жизни, какая была невозможна в произведениях о великих
легендарных героях:
...прежде чем восторжествовал человек, должен был быть отстранен и,
если угодно, развенчан герой15.
Это полемическое заявление, нацеленное как против
патетического культа героизма, утверждавшегося официальной
критикой, так и против устойчивой недооценки «буржуазных» и
«упадочных» реалистов второй половины XIX века, почти дословно
совпадает с главной идеей эссе Мориса Мерло-Понти «Герой и
человек» («Le héros, l'homme», 1946), неизвестного A.B.
Карельскому в момент ее написания. Тем не менее сближающая два
текста тенденция к развенчанию героя вписывается в разные
идеологические контексты. Французский философ хоть и черпает
примеры из художественных произведений (Мальро, Хемингуэя,
Сент-Экзюпери), но фактически оспаривает философскую
традицию старого гуманизма, которая утверждала героизм в самой
жизни, и отстаивает новую, экзистенциалистскую мораль XX века.
Советский литературовед сводит счеты с традицией хоть и схожей,
но все же не тождественной — с особым подходом к
литературному тексту; соответственно и граница между «героической» и
«постгероической» эпохой помещается у него в середине XIX века,
задолго до Ницше. При этом «постгероическая» эпоха не
упраздняет вовсе героя как главный предмет интереса в литературном
произведении, а низводит его до «человеческого» уровня.
Критике подвергается не сам герой, но лишь миф о нем.
15 A.B. Карельский, От героя к человеку, М., Советский писатель, 1990,
с. 201.
«Героическая парадигма» в советском литературоведении 405
Предпринимались и другие попытки оспорить всемогущество
персонажа в литературном тексте. Так, Ю.В. Манн в своей
«Поэтике русского романтизма» (1976) выдвинул на первый план
категорию конфликта, позволяющую интегрировать элементы разных
структурных уровней — «выбор персонажей, развитие фабулы,
мотивировки поступков <...> моменты их речевого,
стилистического уровня, например, принятые устойчивые моменты описания
персонажей и т.д.»16 Сближаясь со структуральной поэтикой,
исследователь стремится ввести литературного героя — причем в
данном случае речь идет о герое романтическом, с характерной для
него тенденцией подчинять себе весь художественный мир, — в
сеть формальных и содержательных элементов, организованных
согласно единому структурному закону. Суверенность героя
ограничивается «вертикальной» структурой литературного конфликта,
в котором сам герой способен видеть только один уровень (уровень
фабульной интриги), тогда как остальные уровни доступны лишь
восприятию читателя и пониманию критика.
Задачей тех, кто стремился противостоять «героической
парадигме», стало выделение и описание таких элементов
литературного произведения, которые трансгредиентны герою, не могут
быть прочитаны в качестве знаков или символов его характера.
Одним из таких «внегеройных» элементов, который всегда
создавал трудности для советского литературоведения, являлась
фантастика. Игравшая важную роль в романтической и
постромантической литературе, она представляет собой чистое явление
Иного по отношению к персонажу и к его тотализирующим
тенденциям. Советская критика постоянно старалась приуменьшить
значение фантастики в литературе, и не столько по наивной
приверженности к буквально понятому «реализму» (хотя внешне это
нередко мотивировалось именно так), сколько в стремлении
сохранить всевластие героя в художественном мире, устранить из этого
мира Иного. Наиболее распространенным и бесхитростным
приемом было простое осуждение фантастики, когда ее объявляли
принадлежностью «реакционного романтизма» и «декадентства».
Поскольку, однако, значительные фантастические произведения
встречаются у таких классиков реализма, как Бальзак, то
приходилось искать и более тонкие объяснения. Удобный выход сулило
марксистское понятие фетишизма, и В.Р. Гриб применял его к
романтической фантастике:
...отражая душевное состояние и панику мелкого буржуа, попавшего в
водоворот капиталистической стихии, романтики бессильны понять,
16 Ю.В. Манн, Поэтика русского романтизма, М., Наука, 1976, с. 15—16.
406
Теории и мифы
почему благодаря внутренней диалектике товарного производства
люди попадают в плен к своим же собственным отношениям, почему
эти отношения представляются им чуждой, внешней необходимостью,
роком. Романтики сами целиком охвачены этими фетишистскими
представлениями, рассматривая человека как игрушку в руках
сверхъестественных, непознаваемых сил, господствующих над миром <...>.
Но, тем не менее, романтическая мистика и чертовщина,
мистификация реальных жизненных отношений содержала в превратной
идеалистической форме весьма значительное рациональное зерно,
изображение действительной превратности, запутанности и
противоречивости психологического мира, возникающего на базе частной
собственности17.
Подобный взгляд на романтическую фантастику, в
дальнейшем широко усвоенный советским литературоведением, вел,
однако, к новым затруднениям. Допустить существование в
литературном произведении некоторых важных (пусть и
мистифицированных) элементов, независимых от личности героя, значило
подвергнуть сомнению всю «героическую парадигму». Ощущая
это, Н.Я. Берковский в своей монографии о немецком
романтизме, писавшейся в конце 1960-х годов, дает иную,
антропологическую интерпретацию фантастическим и «странным» мотивам в
романтизме. Практически он очерчивает контуры особого
художественного мира, устроенного иначе, чем мир реальный, и своим
устройством предоставляющего герою специфические
возможности для самореализации. Такой мир, разумеется, не сводится к
личности героя, не отражает ее пассивно, но сохраняет
ориентированность на нее. В числе его элементов, ограничивающих власть
героя, например, сюжетный мотив двойника:
Двойник — величайшая обида, какая может быть нанесена
человеческой личности. Если завелся двойник, то личность в качестве
личности прекращается. Двойник — в индивидуальности потеряна
индивидуальность, в живом потеряна жизнь и душа18.
Таков и сюжетный мотив инцеста (у Тика или Шатобриана):
Одно из значений инцестуального мотива — он выражает узость
мира, узость отношений. Люди хотят и не могут войти в большую
жизнь, нет вольностей большой судьбы, нет вольностей развития.
Неведомо для них самих их гонит обратно, к лону, откуда они выш-
17 В.Р. Гриб, цит. соч., с. 226, 227.
18 Н.Я. Берковский, Романтизм в Германии, Ленинград, Художественная
литература, 1973, с. 489.
«Героическая парадигма» в советском литературоведении 407
ли, им суждено погибнуть в теснинах кровного родства, как внутри
здания, стены которого сдвинулись19.
Подобные наблюдения, довольно многочисленные в книге
Берковского, привязаны к более или менее изолированным
тематическим элементам; романтический мир остается построенным
по «горизонтальной» модели, моменты, ограничивающие свободу
героя, располагаются на одном онтологическом уровне с ним — он
может их видеть, как видит он своего двойника, он может их
сознавать, как сознает он свою кровосмесительную любовь. Тем не
менее это новая, динамическая концепция отношений между
героем и миром — окружающий мир сдавливает персонажа («как
внутри здания, стены которого сдвинулись»), ставит ему пределы,
а не просто выражает черты его характера. Между человеком и
миром — конфликт, и герой составляет лишь одну его сторону.
Наконец, важнейшей фигурой в истории «героической
парадигмы» и ее критики является, разумеется, М.М. Бахтин, о котором
в рамках данной статьи возможно сказать лишь кратко. Позиция
Бахтина по отношению к интересующей нас проблеме была
сложной и меняющейся. В начале 1920-х годов, в монографии,
опубликованной уже после его смерти под названием «Автор и герой в
эстетической деятельности», он методически описывает формы и
аспекты эстетического завершения, осуществляемого автором по
отношению к персонажу; персонаж во всей своей личностной
целостности ограничен, включен в некое более крупное единство
усилием творческой и любовной воли автора. Спустя несколько
лет, в книге о Достоевском (1929) Бахтин как бы переворачивает
перспективу, утверждая возможность «полифонического романа»,
где герой как идеологический голос встает наравне с автором;
романист устраняется перед разнообразием независимых голосов своих
персонажей20. Наконец, в 1930-е годы Бахтин создает ряд
теоретических работ, сохранившихся не полностью и опубликованных
значительно позже, в которых строит оригинальную теорию
художественного мира, диктующего герою определенные формы
поведения. Для нашей проблемы наиболее важны «Формы времени и
хронотопа в романе», где описываются исторические формы
романного времени и пространства в их отношении с ситуацией
персонажа («время случая» в авантюрном романе, карнавальное время
у Рабле и т.д.). Сходная тенденция к ограничению свободы
персонажа проявилась и в дополнительной главе к «Проблемам поэтики
19 Там же, с. 262.
20 Этот тезис, как известно, после выхода книги подвергся критике с
разных сторон, причем критику вызывала не столько независимость героев от
автора, сколько их множественность и равноправие; одним из критиков был,
между прочим, молодой Н.Я. Берковский.
408
Теории и мифы
Достоевского», написанной для переиздания книги в 1963 году:
поступки романного героя оказываются обусловлены
традиционными жанровыми формами, то есть творческой деятельностью
выбирающего эти формы автора. Позиция Бахтина далека от
идеологических упрощений: в его построениях «героическая парадигма»
диалектически снимается как необходимая фаза становления
литературного произведения, как выражение внутреннего импульса
человеческой личности, который в дальнейшем заключается
литературой в рамки эстетической формы.
* * *
Наш очерк не претендует ни на теоретическую чистоту, ни на
историческую полноту; это связано со «смешанной» природой
нашего объекта. Действительно, «героическая парадигма» в
советском литературоведении имела различные источники, аспекты и
функции. Возникнув из соединения ряда национальных и
мировых, культурных и политических факторов, она оказывала влияние
как на теорию литературы, так и на текущую литературную
критику и школьное преподавание, распространяясь на обширный
спектр функциональных применений — от философских
прозрений такого мыслителя, как Бахтин, до авторитарных суждений
невежественных аппаратчиков. В общем и целом мы вправе
заключить, что эта парадигма, реставрировавшая в новейшей
обстановке некоторые литературные мифы XIX века, оказалась
плодотворной для теории литературы — хотя бы в качестве сильного
противника, глубоко укорененного в русском культурном
сознании. Видя, как ныне, уже без какой-либо связи с
идеологическими требованиями государства, она по-прежнему дает о себе знать
в литературно-критической практике, можно предположить (хотя
на подобном уровне теоретического обобщения любые причинные
связи ненадежны и обратимы), что именно такого рода
эстетические установки и предопределили в России выбор XIX века в
качестве «классической» литературной эпохи.
Разработка «героической парадигмы», при всех
идеологических злоупотреблениях ею, стимулировала и поиски ее антитезы —
теоретической категории, которая могла бы уравновесить в
структуре произведения всезахватывающую мощь героя. На наш взгляд,
такой категорией могло бы стать плохо определенное и часто
компрометируемое безответственным употреблением понятие
художественного мира произведения — воображаемого мира, который
противостоит личности героя и в то же время остается ей
коррелятивным.
1999
БАХТИН-КОМПАРАТИВИСТ
В богатейшей научной литературе о М.М. Бахтине на
удивление мало работ, где его творчество рассматривается в
дисциплинарных рамках сравнительного литературоведения. Хотя
большинство его работ — особенно опубликованных при жизни — с
несомненностью относятся именно к этой отрасти научного
знания, хотя он был с нею связан институционально1, хотя он сам
пользовался близким по значению термином «историческая
поэтика»2, — несмотря на все это, мне удалось найти лишь считанные
статьи, посвященные данной стороне его деятельности3.
Такая лакуна может быть отчасти вызвана бытовавшим до
недавнего времени узким определением «компаративистики»,
которая лишь в последнее время стала обращаться от изучения частных
1 См., например, документы его диссертационного дела 1940-х годов: в
Саранске, где он тогда работал, Бахтин возглавлял кафедру всеобщей
литературы, так же называлась кафедра Московского педагогического института, где
он в 1946 году сдавал кандидатский минимум перед защитой диссертации;
в ВАКе вопрос о присуждении ему докторской степени рассматривался
экспертными комиссиями по романо-германской и классической филологии, по западной
филологии (см.: М.М. Бахтин, Собрание сочинений, т. 4 (1), М., Языки
славянских культур, 2008, с. 1077, 1078, 1084, 1088). При отсутствии — сохраняющемся
и поныне — в российской номенклатуре академических специальностей
отдельной категории «сравнительное (или компаративное) литературоведение»
указанные категории служили ее более или менее точными субститутами.
2 В подзаголовке работы «Формы времени и хронотопа в романе»
(М.М. Бахтин, Собрание сочинений, т. 3, М., Языки славянских культур, 2012,
с. 341).
3 Tzvetan Todorov, Mikhaïl Bakhtine et la théorie de l'histoire littéraire, Université
di Urbino, Centra Internazionale di Semiotica e di Linguistica, 1979 (в дальнейшем
вошло в книгу Tzvetan Todorov, Mikhaïl Bakhtine, le principe diologique, P., Seuil,
1981); И.О. Шайтанов, «Бахтин и формалисты в пространстве исторической
поэтики», в кн.: М.М. Бахтин и перспективы гуманитарных наук, под ред. В.Л.
Махлина, Витебск, H.A. Паньков, 1994, с. 16—21; Katerina Clark, «М.М. Bakhtin
and "World Literature"», Journal of Narrative Theory, 32.3 (Fall 2002), p. 266—292.
К этому надо прибавить две статьи, фигурирующие в библиографической базе
данных шеффилдского Бахтинского центра, но оставшиеся мне
недоступными: M.-Pierrette Malcuzynski, «Mikhaïl Bakhtin et les études comparatistes», Actes
du Colloque International «Perspective Comparatiste Orient/Occident en théorie
Littéraire», Lodz, 1993, 91 — 104; Domingo Sanchez-Mesa-Martinez, «El "Gran
tiempo": Mas alla de los limites de la literatura», in: Bajtin y la literatura; Actos del IV
Seminario Internacional del Inst, de Semiotica Literariay Teatral, Madrid, Visor, 1995,
388-399.
410
Теории и мифы
интернациональных взаимодействий (литературных влияний и т.д.)
к выделению общих транснациональных процессов в литературе,
каковые именно и интересовали Бахтина по преимуществу4.
Однако этим объяснялась бы лишь нехватка работ о Бахтине,
содержащих в формулировке своей темы слово «компаративистика», тогда
как реальная проблематика этой дисциплины могла бы
обсуждаться под другими названиями. Собственно, так и происходит в
некоторых из упомянутых статей, авторы которых не всегда
пользуются термином «сравнительное литературоведение»; но даже и
таких статей, как выясняется, странно мало. Интерпретаторы либо
толкуют Бахтина на уровне общефилософской, непредметной
рефлексии, либо сосредоточивают внимание на
«микрофилологических» методах и категориях анализа текста; промежуточная «макро-
филологическая» проблематика литературной эволюции остается
почти не освоенной.
Здесь мы попытаемся описать некоторые общие особенности
бахтинского подхода к вопросам «общей», «мировой» или
«сравнительной» литературы и наметить его место в истории научных
и историко-политических идей современности. Начнем с хорошо
известных фактов, чтобы затем обратиться к вещам менее
очевидным.
Во-первых, Бахтин рассматривает литературу в
универсалистской перспективе — как единое культурное пространство, где
развивается, в античности, Западной Европе и России, единый
процесс всемирной литературы. Эта идея берет начало в романтической
культуре, когда и было впервые сформулировано (у Гёте, но не
только у него) понятие «всемирной литературы». Бахтин уделяет
совсем мало внимания такому фактору, обеспечивающему
единство и проницаемость этого культурного пространства, как
перевод. Кажется, только в одном месте, в работе «Слово в романе», он
отмечает роль перевода в становлении романного жанра, да и здесь
перевод преодолевает не столько системную чуждость языка,
сколько индивидуальную чуждость отдельного произведения:
Можно прямо сказать, что европейская романная проза
рождается и вырабатывается в процессе свободного (переоформляющего)
перевода чужих произведений5.
4 Этим соображением поделился в переписке со мной известный
исследователь Бахтина, англо-болгарский компаративист Галин Тиханов.
5 М.М. Бахтин, Собрание сочинений, т. 3, с. 133, курсив мой. Наталья Ав-
тономова, изучая наследие Бахтина в связи с проблемой перевода, была
вынуждена анализировать не столько его суждения о переводе, сколько практику
переводов его собственных сочинений на другие языки (см.: Н.С. Авто-
номовА, Открытая структура: Якобсон — Бахтин — Лотман — Гаспаров, М.,
РОССПЭН, 2009).
Бахтин-компаративист
411
Изучаемые Бахтиным-компаративистом структуры
словесного творчества (жанровые, хронотопические) располагаются поверх
или по ту сторону слов как таковых и оттого свободно, без
перекодировок и трансформаций, пересекают этнокультурные
границы. Такое равнодушие к национальной специфике литератур и
культур дает иммунитет против нередкого у филологов соблазна —
«научно» обосновывать исключительную значимость своей
собственной национальной литературы. Для Бахтина русская
литература — просто одна из мировых литератур, сопоставимая на
равных правах с другими: он прибавляет к диссертации о Рабле главу
«Рабле и Гоголь», а к книге о Достоевском, при ее переиздании в
1963 году, — главу о «жанровых и сюжетно-композиционных
особенностях» произведений этого писателя, возводя его не к русской,
а к мировой литературной традиции; вообще, он ищет, как уже
было сказано, транснациональных, присутствующих в любой
национальной традиции структур: «...жанры, как формы целого
(следовательно, предметно-смысловые формы), междуязычны,
интернациональны»6. Хотя такое воззрение кажется естественным
любому компаративисту и сегодня достаточно широко (вполне
ли?) возобладало среди историков литературы, оно было отнюдь не
очевидным и даже чуждым в институциональных рамках
советского литературоведения сталинской эпохи. Характерно, что в
процессе защиты уже упомянутой диссертации о Рабле одним из
главных критических замечаний в адрес Бахтина было якобы
неправомерное — с сегодняшней точки зрения, вполне корректное —
сближение Рабле и Гоголя. Хотя по большей части это замечание
высказывалось оппонентами Бахтина невнятно и косноязычно, его
подоплеку легко уловить: недопустимой представлялась сама идея
связывать в рамках единого исторического процесса классика
отечественной словесности с малопристойным французским
писателем XVI века. Бахтину не помогла даже ссылка на Ленина, на его
универсалистский, применимый к «каждой культуре» тезис о
сосуществовании в этой культуре двух классовых культур;
имплицитно националистическая шкала официальных оценок, ставившая
русскую литературу превыше других, была сильнее.
Во-вторых, пространственному универсализму
Бахтина-компаративиста соответствует его временной панхронизм, литература
для него включена в «большое время». Правда, в своем ответе на
вопрос редакции «Нового мира» (1970) он определял это время как
время рецепции «великих произведений литературы»7, переживаю-
6 М.М. Бахтин, «"Слово о полку Игореве" в истории эпоса», Собрание
сочинений, т. 5, М., Русские словари, 1997, с. 40.
7 М.М. Бахтин, Собрание сочинений, т. 6, М., Русские словари; Языки
славянской культуры, 2002, с. 453.
412
Теории и мифы
щих свою эпоху и обогащающихся новыми смыслами; но в своей
исследовательской практике он фактически применяет принцип
«большого времени» ко множеству малоизвестных произведений,
не получивших сколько-нибудь длительной рецепции за рамками
филологических штудий, что не мешает им включаться в
многовековой процесс становления тех или иных литературных форм:
таковы, например, тексты, составляющие фрагментарную историю
мениппеи. Не только читательское восприятие произведений, но
и их взаимная преемственность, взаимное воздействие друг на
друга должны изучаться как единая история, идущая от древних
времен до наших дней.
В-третьих, литературная история развивается континуально.
Бахтин уделяет мало внимания революционным переломам в
истории культуры, не ставит себе задачу сколько-нибудь точной
периодизации литературных эпох; сама эта категория кажется ему
нерелевантной8. Устанавливаемые им крупные бинарные
оппозиции — такие как оппозиция монологического и диалогического
слова, — проходят через всю историю мировой культуры и
оказываются сильнее любых эпохальных перемен: жанровая схема
мениппеи остается неизменной от древних греков до Достоевского и
Джойса. За попытку описания истории культуры как ряда
замкнутых, отграниченных друг от друга циклов Бахтин (в том же ответе
на вопрос редакции «Нового мира») порицал Освальда
Шпенглера9. Бахтин ищет в истории культуры скорее константы, чем
перемены. Он занят не столько различением сменяющих друг друга
типов, сколько — в духе романтической теории языка и
культуры — выявлением истоков, культурных архетипов, «внутренних
форм», затемняемых в ходе литературной эволюции10, но
способных вновь актуализироваться в самый неожиданный момент у
новейшего автора, пережить «свой праздник возрождения»11.
Литературная эволюция предстает как волнообразный процесс эн-
8 «Замыкание в ближайшей эпохе. Неопределенность (методологическая)
самой категории эпохи» {там же, т. 6, с. 398, рабочие записи 1960—1970-х годов).
9 «Шпенглер представлял себе культуру как замкнутый круг. Но единство
определенной культуры — это открытое единство» (там же, т. 6, с. 455). В то
же время Бахтин высоко оценивал шпенглеровский «великолепный анализ
античной культуры» (там же, с. 456), что было смелым заявлением в те годы,
учитывая резко отрицательное отношение к Шпенглеру со стороны
официальной советской науки.
10 Отсюда традиционный для филологии интерес Бахтина к истокам и
первичным формам, например: «Колыбель европейского романа нового времени
качали плут, шут и дурак и оставили в его пеленах свой колпак с
погремушками» (М.М. Бахтин, Собрание сочинений, т. 3, с. 161, «Слово в романе»).
11 «...у каждого смысла будет свой праздник возрождения» (М.М.Бахтин,
Собрание сочинений, т. 6, с. 435, записи 1960—1970-х годов).
Бахтин-компаративист
413
тропического стирания и периодического «возрождения» древних
форм12: концепция, которая внешне сходна с теорией «остраняю-
щей» эволюции согласно русским формалистам, но исторически
скорее восходит к более старой поэтике Потебни, так как
ориентирована на оживление былых форм, а не на творчество новых.
Известен парадокс М.Л. Гаспарова: «"Роман" и "эпос" для него
[Бахтина. — С.З.] — не жанры, а стадии развития жанров: он мог
бы сказать, что всякий жанр начинается романом, а кончается
эпосом»13. Буквально так он, конечно сказать бы не мог — то есть
утверждать, что роман исторически старше эпоса, — но
возникновение романа действительно связывается у него с
повторяющимся в истории выплеском «хаотичной, кипящей и не
оформившейся» стихии творчества, еще не упокоившейся в устойчивых формах
«авторитарного» слова14. Перед нами вновь романтическая
оппозиция — становления и ставшего, энергии и эргона по В. фон
Гумбольдту.
В-четвертых, литературная эволюция развивается
динамически, как конфликт двух начал. Этот тезис не противоречит
предыдущему, так как конфликтующие линии литературной эволюции
развиваются параллельно и непрерывно противостоят друг другу,
создавая постоянное продуктивное напряжение в культуре. Тако-
12 Энтропия — постоянный признак современности в суждениях Бахтина:
новое время сводит карнавал к «узкой театрально-зрелищной концепции» (там
же, т. 6, с. 180, «Проблемы поэтики Достоевского»), замыкает и ограничивает
богатство гротескного тела, образуя «новый телесный канон» (там же, т. 4 (2),
с. 344, «Творчество Франсуа Рабле»); наконец, в новое время происходит
«полная секуляризация литературы» (там же, т. 6, с. 389, записи 1960—1970-х
годов), когда многообразие сакральных речевых субъектов заменяется
единообразием субъекта профанного: «Речевые субъекты высоких вещающих жанров —
жрецы, пророки, проповедники, судьи, вожди, патриархальные отцы и т.п. —
ушли из жизни. Всех их заменил "писатель", просто писатель, который стал
наследником их стилей» (там же, т. 6, с. 388).
13 М.Л. Гаспаров, «М.М. Бахтин в русской культуре XX века» [1979], в
кн.: М.Л. Гаспаров, Избранные труды, т. 2, М., Языки русской культуры, 1997,
с. 495.
14 Там же. Ср.: «За порогом канонизированной литературы <...>
существует масса, так сказать, неприкаянных жанров <...>. Это — либо обломки,
либо зачатки» (М.М. Бахтин, Собрание сочинений, т. 5, с. 103—104,
«Дополнения и изменения к "Рабле"»). Впрочем, Бахтин осмотрительно отстранялся от
распространенных в науке XX века тенденций сводить эту творческую стадию
культуры к абстрактно понимаемой «архаике» и «первобытности». Так, в не
получивших развития заметках о Флобере (середина 1940-х годов) он подробно
останавливается на «специфической порочности в господствующей постановке
проблемы первобытного мышления» (там же, т. 5, с. 135), указывая на
опасность авторитарного, не-диалогического подхода к чужой, в том числе
«первобытной» культуре.
414
Теории и мифы
вы поэзия и проза, монологическое и диалогическое слово,
«первая» и «вторая» линии в развитии романа. В.Н. Волошинов
сходным образом противопоставлял две противоположных традиции в
истории лингвистики — «абстрактный объективизм» и
«индивидуалистический субъективизм»15. Эти терминологические пары
вызывают в памяти всеобъемлющую историко-культурную
оппозицию, бытующую в науке и критике с начала XIX века, —
оппозицию классицизма и романтизма. Правда, распределение
терминов у большинства применявших ее авторов и у Бахтина иногда
бывает обратным: так, по Бахтину «поэзия» характеризует скорее
«мертвое», монологическое творчество классицистического типа,
тогда как романная проза — «живой» романтический тип. В XX
веке эта оппозиция по-прежнему применялась, в том числе и в
России, конкурируя с линейно-эволюционной схемой
марксистского литературоведения, которая описывает «классицизм» и
«романтизм» не как вневременные типы творчества, а как фазы
однолинейной эволюции, сменяющие друг друга и сменяемые затем
«реализмом». Трансисторическое понимание
классицизма/романтизма можно встретить у отечественных теоретиков 1920-х годов —
В.М. Жирмунского, Б.А. Грифцова, — а из зарубежных
компаративистов особенно в позднейшем «Мимесисе» Э. Ауэрбаха, хотя
немецкий ученый формулирует эту оппозицию в других терминах:
не называет различаемые им традиции «изображения
действительности» классицизмом и романтизмом и подводит их обе под
общую категорию «реализма»16. Однако у Бахтина встречается и иная
15 Эту панхронную бинарную схему — «оппозицию двух параллельных и
антагонистических течений, противопоставление которых якобы восходит к
XVIII веку», — идущую вразрез с распространенной традицией рассказывать
историю лингвистики «по однолинейной схеме, вехами которой служат
разрывы: Франц Бопп, потом младограмматики, потом Соссюр, потом Хомский», —
отметил Патрик Серио во вступительной статье к своему научному изданию
книги Волошинова «Марксизм и философия языка» (Valentin NikolaeviC
VoloSinov, Marxisme et philosophie du langage: Les problèmes fondamentaux de la
méthode sociologique dans la science du langage, nouvelle édition bilingue traduite du
russe par Patrick Sériot et Irma Tylkowski-Ageeva. Préface de Patrick Sériot, Limoges,
Lambert-Lucas, 2010, p. 73). П.Серио не принимает версию о бахтинском
авторстве книги, но, независимо от решения этого вопроса, исторические
построения Волошинова косвенно проливают свет и на типичные мыслительные
приемы его друга и единомышленника по ряду вопросов Бахтина.
16 Параллель «Бахтин — Ауэрбах», впервые отмеченная еще Тодоровым в
упомянутой выше статье 1979 года, вообще заслуживает дальнейшей
разработки. Кроме концептуальных сближений, между двумя теоретиками есть и
существенные культурно-биографические сходства. Свои теории мировой
литературной эволюции они оба создавали, будучи по злой воле истории
оторванными от центров европейской культуры: Бахтин в казахстанской ссылке, а
Бахтин-компаративист
415
модель исторического конфликта — правда, уже не в собственно
литературной области, а в общей культурологии. Речь идет об
«официальной» и «карнавальной» культурах, которые не просто
вечно противостоят друг другу, но и периодически сменяют друг
друга в средневековом календаре. Здесь работает одна из
важнейших мыслительных схем, выделяемая в истории идей нового
времени, — схема иерархического переворота, которая ближайшим
образом находит себе соответствие в теории литературной
эволюции русского формализма («канонизация младшей ветви»), но
исторически восходит к романтической эпохе, к диалектике
Господина и Раба в «Феноменологии духа» Гегеля, к ее
социалистической транскрипции у Маркса (отголоском которой является
ленинская идея «двух культур», использованная Бахтиным для
идеологической защиты своей книги о Рабле), а также к
динамике сознания и бессознательного у Фрейда — автора опять-таки
хорошо известного Бахтину и подробно рассматриваемого в книге
его друга Волошинова «Фрейдизм». Во всех случаях две
противоборствующие инстанции не просто находятся в постоянном
конфликте, но одна из них господствует над другой, однако
временами, в критические моменты индивидуальной или социальной
жизни, подавленная инстанция прорывается на поверхность — в
революции, карнавале, психопатологии17.
В-пятых, развитие литературы носит органический характер.
Его главным носителем служат для Бахтина не абстрактные
логические категории, — скажем, категории общего и единичного,
внешнего и внутреннего и т.п., которые пребывают вне времени и
затем в провинциальном Саранске, Ауэрбах — спасаясь от нацизма в
Стамбуле. В обоих случаях это могло способствовать дистантному, схематичному (без
«лишних» подробностей, с ограниченным набором источников) взгляду на
предмет и выработке масштабных, далеких от позитивистской детализации
концепций.
17 См. выше статью «Исторические идеи и мыслительные схемы (К поэтике
интеллектуального дискурса)». В процессе собственно литературного развития,
по Бахтину, противоборство двух иерархически упорядоченных «линий» ведет
не столько к революции, сколько к конвергенции: «Романы первой
стилистической линии идут к разноречию сверху вниз, они, так сказать, снисходят до
него <...>. Романы второй линии, напротив, идут снизу вверх: из глубины
разноречия они подымаются в высшие сферы литературного языка и овладевают
ими» (М.М. Бахтин, Собрание сочинений, т. 3, с. 155, «Слово в романе»). Но если
посмотреть надело в более широкой сравнительной перспективе, то перед нами
именно переворот, сравнимый с социальной революцией: жанр романа в
целом, поначалу пасынок словесности, подымается затем на господствующее
место в ней, подобно пролетариату в марксистской историософии, — «кто был
ничем, тот станет всем» (см.: Galin Tihanov, The Master and the Slave: Lukacz,
Bakhtin, and the Ideas of their Time, Oxford, Clarendon Press, 2000, p. 72 sq.).
416
Теории и мифы
всегда присутствуют в культуре, — но и не
конкретно-эмпирические единицы, передаваемые по традиции (как, например, мифы,
согласно идеям культурно-исторической школы XIX века, или то-
посы по Э.-Р. Курциусу), но единства среднего масштаба —
жанры. Жанр представляет собой саморазвивающуюся и
самовосстанавливающуюся органическую структуру, которая способна к
самосознанию18 и эволюция которой описывается в конечном
счете даже не в понятиях эволюции, а через мистико-органическую
категорию «памяти жанра»: «Жанр живет настоящим, но всегда
помнит свое прошлое, свое начало»19. Постулируя
трансисторическую самотождественность жанровой формы, Бахтин вступает в
конфликт с реальным развитием литературы Нового времени, где
жанровое сознание размывается на верхнем этаже культуры, зато
поддерживается на нижнем, «массовом» ее уровне20; в очередной
раз перед нами тенденция и проблематика, восходящая к
романтической эпохе — эпохе кризиса традиционных жанров в
европейской литературе и возникновения массовой словесности в ее
современном понимании.
Итак, по целому ряду параметров бахтинская теория
сравнительной литературы связана с интеллектуальными парадигмами
романтизма. В своем блестящем эссе 1979 года М.Л. Гаспаров
соотносил Бахтина с духом авангарда 1920-х годов; ныне в эту
концепцию приходится внести коррективы21. Выделенные Гаспаро-
18 «В лице романа литературный язык обладает органом для осознания
своей разноречивости» (М.М. Бахтин, Собрание сочинений, т. 3, с. 155, «Слово
в романе»).
19 Там же, т. 6, с. 120 («Проблемы поэтики Достоевского»). См. ниже
статью «Память жанра: анализ одной гипотезы».
20 Бахтин описывал сходную тенденцию как «романизацию» не-романных
жанров {там же, с. 3, с. 611 след., «Роман как литературный жанр», 1941), то
есть экспансию одного синкретического жанра, захватывающего все остальные
и фактически отменяющего их специфику. Эта идея восходит, по-видимому,
к Ф. Шлегелю, отмечавшему, что «роман окрашивает всю современную
поэзию» (Ф. Шлегель, Эстетика. Философия. Критика, т. 1, М., Искусство, 1983,
с. 298. Перевод Ю.Н. Попова). Такой диффузный, всепроникающий роман,
признает в другом месте Бахтин, — «в сущности не жанр» (там же, т. 6, с. 389,
записи 1960—1970-х годов).
21 Ненадежной представляется базовая оппозиция
«исследование/творчество», с помощью которой Гаспаров (не только в этом эссе) описывал
специфику бахтинского дискурса и которую он определял онтологически: «смысл
творчества в том, чтобы преобразовать объект, смысл исследования в том,
чтобы сберечь его от искажений» (М.Л. Гаспаров, цит. соч., с. 496). Современная
эпистемология знает, что всякое познание, в том числе и научное
исследование, самостоятельно формирует свой объект, выделяет в нем релевантные для
себя признаки и структуры: тем самым оно заново творит этот объект,
«деформирует» его, не силясь оставить его неизменным, как предполагалось в пози-
Бахтин-компаративист
417
вым «авангардистские» черты Бахтина: активно-полемическое
отношение к традиции, радикальное переоформление литературного
канона (вплоть до конструирования фантомных, чисто
гипотетических истоков нового канона — как филологи-классики
расценивают бахтинскую теорию мениппеи)22, вражда к авторитарному
слову — все это не специфические характеристики авангарда, но
скорее общие признаки современности как типа исторического
самосознания. Возвращаясь в XX веке к началу современной
эпохи, к романтическим идеям, Бахтин-компаративист в то же время
осмысливает их в масштабе мировой культуры, реализуя
универсалистские, а не национально-традиционалистские тенденции
романтизма.
2011
тивизме. Между исследованием и творчеством есть, конечно, разница, но не
онтологическая, а гносеологическая, методическая: исследование (научное)
включает в себя процедуры проверки, а творчество (художественное) — нет.
22 Практика культурообразующих подделок достаточно характерна для
романтической эпохи: таковы «Песни Оссиана» Макферсона, а возможно, и
«Слово о полку Игоревен, сама дискуссия о подлинности которого
показательна для творческих установок, которые мы признаем за этой культурой. В
менее резких формах та же тенденция действовала в архитектурных
реставрациях Виоле-ле-Дюка, в значительной части романтической фольклористики и т.д.
ПАМЯТЬ ЖАНРА:
АНАЛИЗ ОДНОЙ ГИПОТЕЗЫ
Откуда тоска по ушедшим эпохам, родство
душ через столетия?
Гюстав Флобер
Идея «памяти жанра», высказанная М.М. Бахтиным в
переиздании 1963 года его книги о Достоевском, сделалась расхожей
метафорой в современной русской культуре; в печати и в
Интернете можно найти множество употреблений этой формулы, по
большей части никак не связанных ни с Бахтиным, ни с
литературой. Она нередко встречается и в
профессионально-литературоведческой научной продукции; авторы статей и диссертаций
опираются на нее для подкрепления своих построений, но, как
правило, ограничиваются простой ссылкой на авторитетное имя
великого мыслителя, не уточняя содержание его идеи и не
оценивая ее обоснованность; такой анализ редко встречается даже в
специальной литературе о Бахтине1. Спустя полвека после своего
обнародования идея памяти жанра остается заманчивой, но так и не
проверенной гипотезой.
В настоящей статье речь пойдет не столько об
историко-идейном генезисе этой гипотезы, сколько о ее функциях в
современной теории культуры. Мы попытаемся не проверить ее (для чего
были бы необходимы несравненно более широкие
историко-литературные исследования), а объяснить ее привлекательность,
выделить те потребности, на которые она откликается, те проблемы
литературной мысли, на которые она предлагает ответ. Наша
задача — не подтвердить или опровергнуть, а понять: понять не
«откуда идет», а прежде всего «для чего служит».
Материал для толкования дают нам 1) категориальные
формулировки Бахтина, 2) его метафоры, 3) приводимый им конкретный
пример.
1 Литература эта становится все более необозримой, но вот два
показательных примера: большая монография Г.С. Морсона и К. Эмерсон о созданной
Бахтиным науке «прозаике» отводит вопросу о памяти жанра менее двух
страниц, в основном лишь пересказывая близко к тексту соответствующие
пассажи из «Проблем поэтики Достоевского» (см.: G.S. Morson, С. Emerson, Mikhail
Bakhtin: Creation of a Prosaics, Stanford UP, 1990, p. 295—297). В не завершенном
пока «Бахтинском тезаурусе» данное понятие кратко упомянуто в конце
статьи Н.Д. Тамарченко «Жанр литературный» {Дискурс, №11, 2003, с. 64).
Память жанра: анализ одной гипотезы 419
На уровне категориальных формулировок идея памяти жанра
призвана объяснить литературную эволюцию в «большом
времени»2, где архаические модели могут воспроизводиться в
позднейшую эпоху:
...начало, то есть жанровая архаика, в обновленном виде
сохраняется и на высших стадиях развития жанра. Более того, чем выше и
сложнее развился жанр, тем он лучше и полнее помнит свое прошлое
<...>. Говоря несколько парадоксально, можно сказать, что не
субъективная память Достоевского, а объективная память самого жанра, в
котором он работал, сохраняла особенности античной мениппеи3.
Бахтин отмечает здесь 1) процесс развития жанра, где есть
«архаика» и «высшие стадии», 2) перманентное присутствие в нем
архаических моделей, 3) внеличностный, «объективный» закон
этого развития, идущего через голову конкретного художника,
независимо от его «субъективной памяти». Все вместе сближает его
теорию жанра не столько с популярной в XX веке идеей
«архетипов» как неизменных базовых структур мышления, сколько с
гегельянской схемой объективной эволюции, не считающейся с
желаниями и мыслями людей. Однако Бахтин, в отличие от Гегеля,
понимает жанр не в логическом смысле. Для него это не
искусственный исследовательский конструкт, не идентичная себе
таксономическая категория и даже не диалектически развивающаяся
идея, а, как мы увидим, реальное, в своем роде живое существо.
Природу этого существа помогают понять две
вспомогательные метафоры, оставшиеся в черновиках «Проблем поэтики
Достоевского»: мотивы «телепатии» и «гидры»:
Культурно-историческая «телепатия», т.е. передача и
воспроизведение через пространства и времена очень сложных мыслительных
и художественных комплексов (органических единств философской
и/или художественной мысли) без всякого уследимого реального
контакта. Кончик, краюшек такого органического единства достаточен,
чтобы развернуть и воспроизвести сложное органическое целое,
поскольку в этом ничтожном клочке сохранились потенции целого и
лазейки структуры (кусочек гидры, из которого развивается целая
гидра и др.)4.
2 М.М. Бахтин, Собрание сочинений, т. 6, с. 454—455 (ответ на вопрос
редакции журнала «Новый мир», 1970).
3 Там же, с. 137 («Проблемы поэтики Достоевского»).
4 Там же, с. 323 («Дополнения и изменения к "Достоевскому").
«Историческая телепатия» упоминается еще раз ниже (с. 332). «Органическую
регуляцию» (регенерацию) гидры Бахтин ранее подробно разбирал в статье
«Современный витализм» (1926), опубликованной под фамилией И.И. Канаева.
420 Теории и мифы
Метафора «телепатии» подчеркивает
имманентно-бессознательный, ничем не опосредованный вовне характер трансляции
«через пространства и времена очень сложных мыслительных и
художественных комплексов» (отчего, кстати, последние трудно
изучать методами истории, ибо сами они трансисторичны, а процесс
их передачи интуитивен). Метафора «гидры» еще яснее выражает
имманентность жанровой памяти — эта память не поддерживается
какой-либо доступной наблюдению работой культуры, но присуща
самой субстанции образующих ее «органических единств», каждый
«кончик, краюшек, клочок» которых содержит всю программу
целого. Восстановление древнего жанрового прототипа в новой
исторической ситуации — не сознательная реконструкция, а
спонтанная регенерация; так саморазвитие гидры из кусочка мягкой ткани
отличается от разработанной Кювье научной методики,
позволяющей воссоздать облик динозавра по его кости. В этом смысле
гипотеза о памяти жанра — типичное проявление органицизма,
свойственного советскому литературоведению вообще и Бахтину в
частности5. Соответственно «структура», упоминаемая Бахтиным
в нежестком, метафорическом выражении «лазейки структуры»,
имеет мало общего с логическими структурами мышления по Леви-
Строссу или Лотману. Последний в статье «Память в
культурологическом освещении» (1985) коротко, но отчетливо отмежевался от
идеи имманентной памяти жанра, указав на разнообразие и
историческую смену «диалектов памяти», в которые включена каждая
жанровая модель и которые заставляют культуру
трансформировать и перекодировать свои «памятные» тексты:
Если бы литературная традиция оставалась неизменной, то
«память жанра» (М. Бахтин) сохранила бы понятность текста, несмотря
на смену коллективов. Появление комментариев, глоссариев, как и
восполнение эллиптических пропусков в тексте, — свидетельство
перехода его в сферу коллектива с другим объемом памяти6.
Современная теория культурной памяти следует скорее идеям
Лотмана, чем Бахтина, трактуя память не как спонтанный орга-
5 В данном случае непосредственным источником могла служить
немецкая философия, в частности подробно штудировавшийся Бахтиным Э. Кас-
сирер.
6 Ю.М. Лотман, Избранные статьи, т. 1, Таллин, Александра, 1992, с. 200.
Бахтин тоже признавал приспособление архаического жанра к новому
состоянию литературы и даже обусловленность его возрождения «новыми задачами»
эпохи: «Жанр сам приходит к художнику тогда, когда он оказывается нужным,
когда его требует жизнь» (М.М. Бахтин, Собрание сочинении, т. 6, с. 317), — но
понятие «жизни» здесь слишком слабо конкретизировано.
Память жанра: анализ одной гипотезы 421
нический процесс, а как операциональную деятельность,
целенаправленно осуществляемую обществом7. Забегая вперед, заметим,
что память жанра по Бахтину носит атомарный, а не системный
характер — ею обладает один, фактически даже один-единственный
отдельно взятый жанр-организм, а не система жанров как целое.
Метафорическую, «парадоксальную», по словам Бахтина,
природу имеет и само выражение «память жанра», так как жанр
уподоблен в нем живому существу, способному помнить, то есть
удерживать и перерабатывать информацию; маркером фигуральности
служит ненормативный субъективный родительный падеж — без
метафорического сдвига можно было бы сказать только «память о
жанре» или «память, [сохраняющаяся] в жанре»8.
Метафорами имеет смысл пользоваться тогда, когда не
хватает обычных, точных понятий; какие же понятия недостаточны
Бахтину для описания жанровой эволюции, так что требуется
метафора «памяти»? Во-первых, как уже сказано, это идентичность
архетипических моделей или таксономических категорий: если
жанр наделен памятью, значит он исторически неравен себе, в
отличие от вещи или платоновской идеи; лежачий камень равен
себе и не обладает никакой памятью (он может быть носителем
памяти, если, скажем, на нем начертаны какие-то знаки, но это не
его память, а начертавших знаки); не обладает ею и абстрактное,
внеисторическое понятие. Во-вторых, это традиция как
непрерывное «предание», трансляция культурной информации по цепочке
хронологической преемственности: если бы жанр изменялся путем
постепенных модификаций от автора к автору и из поколения в
поколение, то для обозначения такого процесса незачем было бы
вводить идею памяти жанра, хватило бы обычного понятия о
памяти людей в отношении жанра. Итак, память жанра
предполагает 1) его изменчивость, 2) прерывистый характер этой
изменчивости.
Оба не устраивающих Бахтина представления о жанре — жанр
как неподвижная и равная себе абстрактная категория и жанр как
объект традиции, постепенно эволюционирующий наподобие
биологического вида, — господствовали в литературной науке XIX
века: одно в риторических классификациях словесности, другое в
первых опытах истории литературы (например, у Ф. Брюнетьера
или А.Н. Веселовского). Положение изменилось в XX веке, в но-
7 См., например: Ян Ассман, Культурная память: Письмо, память о
прошлом и политическая идентичность в высоких культурах древности, М., Языки
славянской культуры, 2004.
8 Напротив, Н.Д. Тамарченко в упомянутой статье из «Бахтинского
тезауруса» утверждает, что «тезис М.М. Бахтина "жанр всегда помнит свое прошлое"
имеет вполне буквальное значение» (Дискурс, № 11, 2003, с. 63).
422
Теории и мифы
вой теории литературной эволюции, выдвинутой русскими
формалистами и сделавшей акцент на моменте разрыва, революционного
преобразования литературной системы — на смещении
доминанты, «канонизации младшей ветви». В книге П.Н. Медведева
«Формальный метод в литературоведении» (1928) если не сам Бахтин,
то один из его ближайших друзей уже упрекал эту теорию именно
за отказ от идеи преемственности, без которой нет эволюции,
правда не связывал данную проблему с проблемой жанра:
Действительно, можно ли назвать данную схему смены
направлений имманентной литературной эволюцией? — Конечно, нет.
В предшествующей форме не содержится никаких потенций
последующей формы, никаких намеков или указаний на нее9.
Много лет спустя Бахтин дал принципу «имманентной
литературной эволюции» новое, органицистское толкование в
метафоре жанра-«гидры»; высказанную им в «Проблемах поэтики
Достоевского» гипотезу о памяти жанра можно рассматривать, помимо
прочего, как запоздалый и оригинальный ответ на
формалистическую теорию эволюции, противовесом которой становится теперь
именно понятие жанра. Момент прерывности здесь усилен — и тем
эффектнее преодолен: речь идет не только о точечных переломах,
но и о длительных разрывах в цепи эволюции, когда та или иная
жанровая традиция не просто резко преобразуется и/или
получает новую функцию10, а «забывается», на какое-то время исчезает из
поля зрения культуры, чтобы потом вдруг снова возродиться, как
возрождается античный жанр мениппеи в романах Достоевского.
Как бы то ни было, следует подчеркнуть, что гипотеза о
памяти жанра обретает весь свой интригующий и вдохновляющий
смысл лишь как дополнительная по отношению к идее традиции.
Память жанра бывает там, где традиция прерывается, где обычная
историческая преемственность — от ближайшего
предшественника непосредственному последователю — оказывается бессильна и
в игру вступают трансисторические механизмы «большого
времени», когда удаленные литературные эпохи перекликаются «без
всякого уследимого реального контакта», в силу
«культурно-исторической телепатии». Сказанному не противоречит то, что Бахтин
пользовался термином «традиция» или «линия развития» для
обозначения длительных эволюционных процессов, например:
9 П.Н. Медведев, Формальный метод в литературоведении, М., Лабиринт,
2003, с. 177.
10 Подобные разрывы в принципе могли бы мыслиться и в категориях
диалектики Гегеля, как логические акты объективации, отчуждения, отрицания и
«снятия».
Память жанра: анализ одной гипотезы 423
Авантюрный роман XIX века является только одной из ветвей
<...> могучей и широко разветвленной жанровой традиции <...>. Мы
считаем необходимым проследить эту традицию именно до ее
истоков11.
Непрерывные традиции, конечно, существуют, и по мере
возможности необходимо их «прослеживать до истоков» методами
документальной истории, но есть предел, за которым «уследимые
контакты» исчезают, перестают регистрироваться телескопом или
микроскопом историка — и вот тогда-то постулируется
«телепатическая» память жанра. И с точки зрения исследователя, и с точки
зрения самой литературы эта память — резерв стабильности форм,
она компенсирует случайные превратности судьбы, переживаемые
тем или иным жанром в ходе прерывистой литературной истории,
она вносит в эту историю непрерывное начало:
Жанр живет настоящим, но всегда помнит свое прошлое, свое
начало. Жанр — представитель творческой памяти в процессе
литературного развития. Именно поэтому жанр и способен обеспечить един-
Гипотеза о памяти жанра предполагает диалог между далекими
эпохами, и корни ее лежат не столько в историко-литературной
науке, которую Бахтин критиковал за позитивистскую
привязанность к ближним историческим контекстам и недооценку
«большого времени», сколько в художественных интуициях романтизма, в
его ностальгии по экзотическим далям и безвозвратно ушедшему
прошлому. В качестве примера такого «исторического трепета»
можно привести слова столь напитанного романтической
идеологией писателя, как Флобер, который воображал себя продуктом
метемпсихоза, вновь воплотившим в себе дух фигляров древности:
Уверен, что при Римской империи я был директором труппы
бродячих комедиантов, одним из тех пройдох, которые отправлялись в
Сицилию и покупали там женщин, чтобы сделать их актрисами, и
были всем сразу — учителями, сводниками и артистами. В комедиях
Плавта эти негодники — премилые ребята, и, читая его, я словно что-
то вспоминаю. А тебе случалось ли испытывать исторический трепет?13
11 М.М. Бахтин, Собрание сочинений, т. 6, с. 120.
12 Там же. В цитатах из Бахтина авторские выделения разрядкой
передаются курсивом.
13 Письмо к Л. Коле от 4 сентября 1852 г. (Постав Флобер, О литературе,
искусстве, писательском труде, с. 1, М., Художественная литература, 1984,
с. 207. Перевод Е. Лысенко). Другая, близкая по духу фраза Флобера вынесена
424
Теории и мифы
Приведенные слова Флобера неслучайным образом отсылают
к той самой среде, которая, по Бахтину, явилась питательной
почвой для становления романного жанра: «Колыбель европейского
романа качали плут, шут и дурак и оставили в его пеленах свой
колпак с погремушками»14. Здесь мы от категориальных и
метафорических высказываний Бахтина о памяти жанра переходим к
конкретному историческому материалу, которым он иллюстрирует
свою идею.
Как известно, данная гипотеза реально обоснована лишь
одним, правда подробно рассмотренным примером творческого
«родства душ через столетия» — возрождением в современной
литературе античной мениппеи. Реальное существование такого
жанра в древности вызывает серьезные сомнения специалистов — в
частности, о том, что Бахтин фактически придумал мениппею, не
раз говорил М.Л. Гаспаров15. Каждый из выделенных в
«Проблемах поэтики Достоевского» признаков мениппеи применим лишь
к некоторым, а не ко всем текстам, причисляемым к этому жанру;
эти тексты образуют размытое единство, класс, обладающий не
точным логическим основанием, а «семейным сходством» по
Витгенштейну16. Никогда не кодифицировавшаяся, лишенная
устойчивой сущности, живущая под разными названиями, под
в эпиграф к настоящей статье; ее источник — письмо к Л. Коле от 26—27 мая
1853 года {там же, с. 272). Еще в одном письме, к М. Дкжану от 7 апреля
1846 года, Флобер высказывает близкую к Бахтину интуицию объективной
памяти вещей: «Самыми понимающими дело были, бесспорно, камни, которые
когда-то все это усвоили и, возможно, что-то еще помнили» {там же, с. 68).
Бахтин знал переписку Флобера и цитировал ее в своих заметках «О Флобере»,
где он, кроме того, называл «Искушение святого Антония» менипповой
сатирой и отмечал значимость в творчестве этого писателя немыслящих существ —
вещей и животных (см. М.М. Бахтин, Собрание сочинении, т. 5, с. 130—137). Ср.
ниже статью «Зоологический предел культуры».
14 М.М. Бахтин, Собрание сочинений, т. 3, с. 161 («Слово в романе»).
15 См. особенно его доклад «История литературы как творчество и
исследование: случай Бахтина» на 12-х Лотмановских чтениях (2004, http://vestnik.
rsuh.ru/article.html?id=54924). Там же Гаспаров называл источником этого
вымысла «романтический фантазм идеального пранародного творчества».
16 «Бахтин <...> занимается не историческими реконструкциями, а
типологическими обобщениями, а потом представляет их как конкретную
реальность. В центре его обобщений, по-видимому, стоит "Гаргантюа и
Пантагрюэль" Рабле, а на периферии — все, что может иметь любые черты сходства с
ним: идейные, тематические или стилистические» (М.Л. Гаспаров, указанный
доклад). «Слабые» логические конструкции вроде «семейного сходства» или
«когнитивного типа» популярны сегодня в гуманитарных науках, и гипотеза о
памяти жанра вписалась в их ряд. Ср. недавнюю (2000) интерпретацию бахтин-
ских категорий жанра и особенно хронотопа в когнитивистском духе: В. Keu-
NEN, «Bakhtin, Genre Formation, and the Cognitive Turn: Chronotopes as Memory
Schemata», http://clcwebjournal.Hb.purdue.edu/clcwebOO—2/keunen00.html.
Память жанра: анализ одной гипотезы 425
масками других жанров, мениппея выступает как жанр-Протей17,
жанр-джокер, жанр-медиатор, функционирующий в культуре
подобно своим типичным персонажам — авантюристам, шутам,
лицедеям. Мениппея — уникальный и исключительный жанр,
трансисторическая сущность, проходящая через разные
литературно-исторические формации и не сводимая ни к одной синхронной
системе, в отличие от прочих, исторически фиксированных
жанров. Ее исключительный характер прямо связан с содержанием
гипотезы о памяти жанра, которую она иллюстрирует у Бахтина.
Одной из оригинальных черт мениппеи, связанных с ее
статусом жанра-медиатора, является ее способность соединять высокое
с низким — от философских вопросов до «трущобного
натурализма»: «...содержанием мениппеи являются приключения идеи или
правды в мире: и на земле, и в преисподней, и на Олимпе»18.
Говоря как о возвышенном, так и о низменном, мениппея и сама
представляет собой одновременно и высокий и низкий жанр;
собственно, потому она и не укладывается ни в одну жанровую
классификацию. Между тем для современной литературы, где Бахтин
выявляет триумфальное возрождение мениппеи (прежде всего в
творчестве Достоевского, но не только у него), оппозиция
высокого/низкого получила особый аспект: традиционное деление
словесности на массовую и элитарную стало артикулироваться по оси
«жанровое/нежанровое». В то время как высокая литература
развивается по пути смешения и размывания традиционных жанров,
массовая словесность сохраняет устойчивые жанровые модели.
В системе элитарной литературы писатели стремятся к созданию
произведений непривычных, несхожих с прежними, каждое из
которых в пределе само образует особый уникальный жанр.
Соответственно жанровые категории лишаются четкости: почти все
прозаические произведения подводятся под слабо
структурированную категорию «романа», а почти все поэтические — под столь же
бесформенную категорию «стихотворения». Два симптоматичных
факта: многочисленные и хорошо опознаваемые жанры
классической эпохи нередко служили рематическими заголовками
поэтических книг: «Сонеты», «Ямбы», «Оды и баллады» (еще у В. Гюго),
современные же поэтические сборники чаще носят тематическое
название: «Цветы Зла», «Сестра моя жизнь»...19 Каждая пьеса внут-
17 «В заключение мы должны особо подчеркнуть необычайную
органичность и одновременно пластичность этого жанра. Оставаясь сам собой, он, как
Протей, принимает различные формы. Он вбирает в себя другие жанры и
проникает в них» (М.М. Бахтин, Собрание сочинений т. 6, с. 341).
18 Там же, т. 6, с. 130.
19 О различии тематических и рематических заголовков (первые сообщают,
о чем идет речь в тексте, а вторые — чем является сам текст, к какой
категории текстов он относится) см.: Gérard Genette, Seuils, P., Seuil, 1987.
426
Теории и мифы
ри них воспринимается как не принадлежащий к какому-либо
жанру «фрагмент»; последняя категория стала, по Ю.Н.
Тынянову, «продуктом разложения» «монументальных форм XVIII века»20,
но она же и сама работала как разлагающий элемент жанровой
системы — ведь она логически неоднородна с «одами»,
«балладами» или «элегиями». И второй факт: если в «Евгении Онегине»
читательские вкусы Татьяны описывались словами «ей рано
нравились романы», то современного человека так охарактеризовать
невозможно — понятие «романы» не сообщит ничего
конкретного о его интересах, скорее уж мы скажем, что он просто «любит
читать», «любит читать прозу». Или, наоборот, мы скажем «любит
читать детективы» или «фантастику» — тоже романы, но особого
рода, связанные не с высокой, а с массовой литературой. О
понятии «роман» пишутся монографии, но для рядовых читателей оно
перестало восприниматься как системно определенная категория
в ряду других; зато таковыми безусловно являются «детектив»,
«фэнтези», «дамский роман о любви» и т.д. Авторская
индивидуальность, преобладающая на верхнем этаже культуры, получает
свою антитезу и компенсацию в «жанровом» искусстве серийных
форм на ее нижнем уровне21.
В такой культурной ситуации апология жанра,
провозглашенная еще в «Формальном методе в литературоведении» Медведева
и сильнее всего выраженная в четвертой, дополнительной главе
«Проблем поэтики Достоевского» Бахтина (1963), где речь идет о
мениппее и о памяти жанра, — получает очень специфическую
функцию. Она, конечно, читается как реакция на распад
жанрового сознания — но не во всей, а только в высокой словесности
XIX—XX веков. Гипотеза о памяти жанра фактически обладает
ценностью именно в не-традиционной элитарной литературе: для
устойчивых жанровых традиций массовой словесности, которые
знакомы и привычны каждому потребителю, идея какой-то
собственной «памяти жанра» была бы просто излишней. Таким
образом, проблема устойчивости литературных моделей, которую
пытался решить Бахтин, формулируя гипотезу о памяти жанра,
аналогична той, которую сама современная литература решает по-
другому — расслаиваясь на низкую и высокую, «жанровую» и
«безжанровую» системы. В отличие от своих оппонентов-формалистов,
20 Ю.Н. Тынянов, Поэтика. История литературы. Кино, М., Наука, 1977,
с. 46.
21 Это особенно отчетливо в кинематографе, где понятием «жанр»
обозначают массовые, коммерческие виды фильмов (триллер, боевик, мелодраму и
т.д.), рассчитанные на стереотипность и опознаваемость модели; а то кино,
которое не укладывается в эти схемы и стремится к оригинальному
изображению мира, называют «авторским».
Память жанра: анализ одной гипотезы 427
Бахтин почти не писал о современной литературе и лишь
сравнительно бегло, главным образом в связи с источниками романов
Достоевского, касался массовой беллетристики XIX века; но с
функциональной точки зрения массовая словесность образует такой
же резерв жанрового сознания и жанровой стабильности в
синхронном состоянии культуры, каким память жанра служит, по
мысли Бахтина, в диахронном движении литературы. Как
следствие из этой функциональной эквивалентности, противовесом
распаду жанрового сознания служит у Бахтина не какой-нибудь,
а именно смешанный, высоко-низкий жанр мениппеи,
наделенный par excellence — не потому ли именно, что он высокий и
низкий одновременно? — имманентной памятью.
Гуманитарные науки нередко осмысливают те или иные
явления общественного бытия именно тогда, когда те исчезают из
реального обихода. Так и апология жанра у Бахтина ностальгически
направлена против действительной истории, против культурного
разрыва, образовавшегося на пороге современной эпохи с
переходом от традиционалистской к инновативнои модели творчества
(в терминах Лотмана, от «эстетики тождества» к «эстетике
противопоставления»). С этой целью Бахтин выделил — или, как
говорят некоторые, выдумал — особый, уникальный жанр, способный
воссоединить прошлое с настоящим, прошить сквозной нитью
разнородные факты и тексты, разбросанные «без всякого уследи-
мого реального контакта» на огромном пространстве литературной
эволюции Запада. В реальности же литература взялась решить эту
проблему иным, не диахронным, а синхронным способом — не
возвратом к корням и не формированием отдельного
«сверхпамятливого» жанра, а усложнением целостной системы с выделением
в ней резервной подсистемы, на которую и возлагается хранение
коллективной памяти о жанрах. Из-за своего расхождения с
вектором реальной культурной эволюции бахтинская гипотеза о
памяти жанра получила мистический характер, отсылая к
исторической ностальгии романтизма и к органицистским представлениям
в гуманитарных науках.
Бахтин предлагал изучать литературу в «большом времени», в
масштабе многовековой эволюции от архаики до современности.
Сегодня его собственную мысль чаще всего изучают в ближайших
исторических контекстах — в масштабе интеллектуальной истории
XX века или, еще уже, культурной ситуации в советской России22.
22 В таком контексте бахтинская идея памяти жанра, соединяющей
далекие, оторванные друг от друга эпохи, соотносилась с социальным статусом
самого М.М. Бахтина — одного из «культовых», харизматических
интеллектуалов позднесоветского периода, воспринимавшихся как хранители прерван-
428
Теории и мифы
Данная статья — попытка взглянуть на одну из его идей в средней
исторической перспективе, в которой гипотеза о памяти жанра,
независимо от возможностей ее собственно научной, историко-
литературной проверки, предстает как консервативная утопия,
призванная преодолеть травму модернизации и восстановить связь
времен методами научного мифотворчества.
2007
ной культурной традиции, в которых «концентрировалась сама возможность
передать наследие» (Алексей Берелович, «О культе личности и его
последствиях», Новое литературное обозрение, № 76, 2005, с. 42). Вероятно, тем же
объясняется и массовая популярность, которую получило само выражение «память
жанра»: оно отвечало не только строго научным и узко литературным задачам,
но и насущной социокультурной потребности советской и постсоветской
интеллигенции в восстановлении «связи времен».
ЛИТЕРАТУРНОСТЬ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
Тексты крупных мыслителей и ученых способны сказать нам
больше, чем мы привыкли в них читать, — для этого надо лишь
задавать им новые релевантные вопросы, переводить их на новые
концептуальные языки. В этой статье мы попытаемся поступить
так с одним трудным фрагментом из поздних записей М.М.
Бахтина, публикуемых сегодня под условным названием «рабочих
записей 1960-х— начала 1970-х годов». Текст фрагмента
опирается на теологические понятия и мыслительные модели —
нашей задачей будет, не игнорируя этой его основы, показать
его применимость для анализа внерелигиозных научных
проблем1.
Вот текст Бахтина:
Проблема «образа автора». Первичный (не созданный) и
вторичный автор (образ автора, созданный первичным автором). Первичный
автор — natura non creata, quae creat; вторичный автор — natura creata,
quae creat. Образ героя — natura creata, quae non créât. Первичный
автор не может быть образом: он ускользает из всякого образного
представления. Когда мы стараемся образно представить себе первичного
автора, то мы сами создаем его образ, т.е. сами становимся
первичным автором этого образа. Создающий образ (т.е. первичный автор)
никогда не может войти ни в какой созданный им образ. Слово
первичного автора не может быть собственным словом; оно нуждается в
освящении чем-то высшим и безличным (научными аргументами,
экспериментом, объективными данными, вдохновением, наитием,
властью и т.п.). Первичный автор, если он выступает с прямым
словом, не может быть просто писателем: от лица писателя ничего нельзя
сказать (писатель превращается в публициста, моралиста, ученого
и т.п.). Поэтому первичный автор облекается в молчание. Но это
1 Сходным образом строились семиотические комментарии к трудам
Бахтина, с которыми выступал с начала 1970-х годов Вяч.Вс. Иванов. См. его
статью «Значение идей М.М. Бахтина о знаке, высказывании и диалоге для
современной семиотики», в кн.: Ученые записки ТГУ, вып. 308. Труды по знаковым
системам 6, Тарту, 1973, с. 5—44. Ср. его же позднейший анализ в работе
«Очерки по предыстории и истории семиотики», в кн.: Вяч.Вс. Иванов, Избранные
труды по семиотике и истории культуры, т. 1, М., Языки русской культуры,
1998, с. 740-747.
430
Теории и мифы
молчание может принимать различные формы выражения, различные
формы редуцированного смеха (ирония), иносказания и др.2
В этом отрывке мы попытаемся выделить проблему
ответственности литературного творчества. Понятие ответственности
часто встречалось у раннего Бахтина: его самая ранняя
журнальная публикация называлась «Искусство и ответственность» (1919),
понятие ответственности активно использовалось в не
опубликованных при жизни ранних работах «К философии поступка» и
«Автор и герой в эстетической деятельности»; в последнем тексте
упоминается даже «ответственный автор» — правда, лишь бегло3.
Ранний Бахтин толкует не столько об искусстве как таковом,
сколько об общем составе духовного опыта личности,
«внутреннюю связь элементов» которой гарантирует «только единство
ответственности»4. В дальнейшем анализе мы не станем касаться (за
одним исключением) текстов 1920-х годов, оставим в стороне
общую религиозно-философскую проблематику и будем обсуждать
лишь более конкретный вопрос — об ответственности автора за
создаваемое им литературное произведение.
Первый вопрос, который нужно выяснить, приступая к
толкованию бахтинского фрагмента: о какой деятельности со словом, о
какого рода произведениях идет в нем речь? У толкователей
Бахтина можно встретить весьма расширительные интерпретации: так,
некоторые считают «молчание» первичного автора, «непрямой»
характер слова общим свойством любой речевой деятельности,
включая научные труды самого Бахтина5. Возможно, на эту мысль
2 М.М. Бахтин, Собрание сочинении в 6-ти тт., т. 6, М., Русские словари;
Языки славянской культуры, 2002, с. 412. Авторские шрифтовые выделения
переданы курсивом (в издании Бахтина — разрядкой).
3 Там же, с. 112. Ср.: «Автор занимает ответственную позицию в событии
бытия...» {там же, с. 247).
4 «За то, что я пережил и понял в искусстве, я должен отвечать своею
жизнью, чтобы все пережитое и понятое не осталось бездейственным в ней. Но с
ответственностью связана и вина. Не только понести взаимную
ответственность должны жизнь и искусство, но и вину друг за друга» (М.М. Бахтин,
Собрание сочинений, т. 1, М., Русские словари; Языки славянской культуры, 2003,
с. 5).
5 См., например: С.Н. Бройтман, «Диалог и монолог», в коллективной
публикации «Материалы к системному словарю научных понятий М.М.
Бахтина», Дискурс, №11, 2003, с. 40; он же, «Испытание Бахтиным»,
Филологический журнал, № 1 (2), 2006, с. 201 («"первичным автором" <...> Бахтин в
интересующем нас контексте называет не только писателя»). Ср. в названном
номере «Филологического журнала» (с. 206—210) мой спор с ныне покойным
и уважаемым исследователем С.Н. Бройтманом по данному вопросу;
настоящая статья отчасти продолжает ту же дискуссию, хотя главная ее задача иная,
не полемическая.
Литературность и ответственность
431
наводит существование загадочных «спорных» текстов,
опубликованных под именем друзей Бахтина, но часто приписываемых ему
самому; однако из такой расширительной интерпретации следует,
что фактически, читая даже бесспорные книги Бахтина, мы
имеем дело не с ним самим, а с каким-то его условным, «вторичным»
заместителем. Утверждения такого «Бахтина» в кавычках вряд ли
можно было бы обсуждать как ответственные научные тезисы,
оценивать их по критерию истины/ошибки.
Для верной постановки проблемы будет осмотрительнее
полагать, что Бахтин имел в виду только ситуацию художественной
литературы. Действительно, и выше и ниже разбираемого абзаца в
«рабочих записях» он упоминает как примеры «авторов» только
писателей-художников: Гоголя, Достоевского, Толстого, Боккаччо.
Кажущееся исключение составляет разве что Мартин Хайдеггер,
но на самом деле и его мысль, приводимая Бахтиным, относится
к «писателю»: «событие говорит через писателя, его устами (у Хей-
деггера)»6, — то есть философ Хайдеггер описывает вчуже
писательскую ситуацию. В другом фрагменте из рабочих записей
Бахтина, где вновь формулируется мысль о том, что «первичный
автор» (там он назван «автором произведения») не имеет
определенного места и образа в этом произведении, речь опять-таки идет
исключительно о художественной литературе7.
Итак, по мысли Бахтина, в произведении художественной
литературы первичный автор («не созданный», а сам создающий
произведение, — иными словами, реальный автор-писатель в
момент творчества, поскольку он актуально является автором данного
произведения) «не может быть образом» и «облекается в молчание».
Он, стало быть, не является ни объектом представления (образа),
ни даже субъектом речи; к этому различию мы еще вернемся.
Вместо себя он вводит в произведение созданных им «вторичного
автора» и «героя» (героев), у которых уже имеются «образ» и
собственное слово (речь), тогда как «слово первичного автора не
может быть собственным словом». Между этими тремя личностными
инстанциями устанавливается характерное для неоплатонизма
иерархическое отношение эманации — это явствует из латинских
терминов, которыми характеризует их Бахтин, заимствуя их у
средневекового неоплатоника Иоанна Скота Эриугены8. Вторичный
6 М.М. Бахтин, Собрание сочинений, т. 6, с. 412.
7 См.: там же, с. 422—423.
8 См. комментарий Л.А. Гоготишвили к рассматриваемому фрагменту (там
же, с. 652). В философии Скота Эриугены natura non creata, quae creat
(«природа несотворенная и творящая») означает Бога, natura creata, quae creat
(«природа сотворенная и творящая») — платоновские идеи, a natura creata, quae non
creat («природа сотворенная и нетворящая») — конкретные предметы.
432
Теории и мифы
автор является эманацией (созданием) первичного автора, а
герой — такой же эманацией автора вторичного. Статус первичного
автора исключителен: подобно неоплатоническому Единому-Богу,
он образует высшую онтологическую степень в художественной
иерархии — по той простой причине, что это единственный
реальный, художественно не изобретенный член иерархии, тогда как и
вторичный автор, и тем более герои представляют собой
производных, иллюзорных лиц. В европейской политической теологии его
аналогом будет таинственный Законодатель (деистический Бог),
который, согласно Руссо, своим суверенным решением
закладывает основу для общественного договора, в дальнейшем
заключаемого людьми между собой. В формализованных терминах
современной нарратологии та же личностная инстанция может
именоваться «конкретным автором», тогда как другие, низшие
ступени иерархии усложняются и дифференцируются — бах-
тинскому «вторичному автору» более или менее соответствует
«абстрактный автор» (или «имплицитный автор», как выражаются в
англоязычной традиции), зато между ним и героем (персонажем)
вклинивается еще один или даже два дополнительных уровня:
«фиктивный нарратор» (изображенный в тексте рассказчик), а
иногда еще и «фокализатор» (не изображенный прямо, но
подразумеваемый рассказчик, чьим кругом зрения и осведомленности
ограничивается поле сообщаемой текстом нарративной
информации)9.
Из всех этих нарративных инстанций «первичный»,
«конкретный» автор обычно описывается менее всего подробно,
фактически выносится за скобки нарратологического анализа — и
понятно почему: не обладая ни «образом», ни собственным «словом», он
никак конкретно не выказывает себя в тексте, он стоит по ту
сторону текста как его творец, «режиссер» повествования, и наррато-
логи молчаливо передают его изучение специалистам по другим
областям литературного анализа, прежде всего по биографической
истории литературы (что, конечно, неправильно, так как
первичный автор — это не биографическое лицо, а актуальный создатель
произведения). Между тем именно к этому принципиально внетек-
стуальному, молчащему и незримому в рамках текста субъекту
только и может быть отнесено понятие ответственности за
произведение в целом: он единственный настоящий (не иллюзорный)
автор произведения, он создал текстуальное пространство, где
высказывается вторичный автор и эволюционируют герои, и
9 См.: Вольф Шмид, Нарратология, М., Языки славянской культуры, 2003,
с. 40 след., а о понятии фокал и затора — Mieke Bal, Narratologie: Les instances du
récit, P., Klincksieck, 1977.
Литературность и ответственность
433
в конечном счете он создал самих этих вторичных субъектов.
У условных лиц и ответственность условная: вторичный автор и
герои если за что-то и отвечают, то только в рамках
искусственного, фикционального мира, созданного в произведении; один лишь
первичный автор, стоящий на онтологической границе между этим
миром и реальным внешним миром, своим личностным единством
обеспечивает «единство ответственности» между «искусством» и
«жизнью», словом и делом. В его творческом акте интегрируются
социально-ценностные смыслы, производимые вторичным
автором и героями: их «этико-философская ответственность
поглощается совокупностью художественной ответственности автора за
целое своего художественного выступления»10.
Каким же образом, в какой степени первичный автор
ответствен за смысл излагаемых в произведении событий, слов и
поступков? В научном высказывании ответственность автора
оценивают по критерию истины; в социально-политической сфере —
через категорию ангажированности («за кого» и «против кого»); в
морально-правовом аспекте она из ведения литературной
критики переходит в компетенцию правосудия — действительно, в
литературных произведениях не так уж редко осуществляются и/или
высказываются насмешки над властью, поругание религиозных и
национальных святынь, демонстративные нарушения моральных
норм и приличий, а порой и, того хуже, выражение национальной,
религиозной и т.п. ненависти, подстрекательство к насилию и
прочие вполне подсудные деяния. Можно ли вменять их
реальному писателю (тому, кто был первичным автором произведения в
момент его создания), или они являются условными,
независимыми от него высказываниями и деяниями вторичного автора и/или
героя?
Если и дальше представлять дело в теологических понятиях,
используемых Бахтиным, то эта проблема вообще бессмысленна и
не имеет решения. Если (первичный) автор в произведении, по
выражению Флобера, «подобен богу во вселенной — вездесущ и
невидим»11, то о какой ответственности бога может идти речь —
10 П.Н. Медведев, Формальный метод в литературоведении: Критическое
введение в социологическую поэтику, М., Лабиринт, 2003 [1928], с. 23. Как и в
других случаях, мы оставляем неразрешенным вопрос об авторстве этой
книги, признавая лишь отчетливые концептуальные переклички между нею и
собственными сочинениями М.М. Бахтина.
11 Гюстав Флобер, О литературе, искусстве, писательском труде: Письма,
статьи, т. 1, М., Художественная литература, 1984, с. 235. Перевод Е.
Лысенко. Впрочем, Флобер писал: «автор в своем произведении должен быть
подобен...», — то есть включал эту идею в проспективную, еще требующую
исторической реализации творческую программу, а не постулировал ее как исходное
сущностное свойство искусства.
434
Теории и мифы
ответственности перед кем? Неоплатоническая схема из трех
инстанций иерархична, исключает партнерские отношения между ее
членами, а тем самым и возможность ответственности высшей
инстанции за выполнение или невыполнение каких-либо
взаимных обязанностей; так у Руссо Законодатель сам находится вне
рамок общественного договора, возникшего благодаря его
авторитету. В теологии обычно не ставится, не считается релевантным
вопрос о том, какие разные миры мог бы сотворить Бог,
сотворение им мира не есть ответственный поступок12. Между тем в
искусстве свобода творческого выбора несомненна. Итак, вопрос
об ответственности возникает, только если рассмотреть
первичного автора вне религии, как реального субъекта культуры
(писателя), чью деятельность можно описать категориями семиотики
культуры.
В разбираемом фрагменте рабочих записей Бахтин не
затрагивает занимавший его в молодости вопрос об ответственности
человека (в том числе автора) перед Богом. Бог исключен из
рассуждения — его позицию в неоплатонической схеме занимает сам
первичный автор. И в такой сложной перспективе, теологической
по структуре, но секулярной по заполняющим ее терминам,
ученый намечает — с разной степенью эксплицированности — два
аспекта, два параметра архитектоники произведения,
позволяющих понять, за что именно отвечает первичный автор.
Первый из этих аспектов — ироническая модуляция молчания.
Молчаливое творческое присутствие первичного автора в своем
произведении «может принимать различные формы выражения,
различные формы редуцированного смеха (ирония), иносказания
и др.». Итак, средством модуляции авторского молчания служит
для Бахтина ирония. Согласно комментарию Л.А. Гоготишвили, это
«форма тематического молчания автора при сохранении тональной
выраженности его позиции»13, то есть приемы критической
интонационной окраски и оценки чужой речи в тексте. Однако само
понятие «тональная выраженность» остается смутным — это не
оговоренный точно перенос понятия, относящегося к устной речи,
в область письменного текста. Нет уверенности, что Бахтин
понимал «иронию» таким образом — как некоторое интонационное
добавление к речи вторичного автора и/или героев, вносимое пер-
12 Для античных гностиков мир был сотворен не высшим божеством, а
подчиненным ему Демиургом, в силу чего этот мир несовершенен и греховен;
то есть предполагалось, что мир можно было бы сотворить и иначе, лучше.
Однако в том-то и дело, что Демиург сам есть производный творец,
«вторичный», а не «первичный автор» мира, если воспользоваться эстетическим
разграничением Бахтина.
13 М.М. Бахтин, Собрание сочинений, т. 6, с. 652.
Литературность и ответственность
435
винным автором; ведь интонация, даже внедренная в чужую речь,
всегда звучит, и, строго выражаясь, интонировать чужое слово —
не называется «молчать». Первичный же автор, как мы помним,
«облекается в молчание»: Бахтин высказывается радикальнее
своего комментатора14.
Опираясь на опыт литературы последних двух столетий,
можно указать на другую возможность иронического дистанцирования
в слове. Ее определял (и применял на практике) уже
процитированный выше Флобер: «Когда же будут писать историю так, как
надо писать роман, — без любви или ненависти к кому бы то ни
было из персонажей? Когда будут описывать события с точки
зрения высшей иронии, сиречь так, как видит сверху господь бог?»15
Флобер пользуется сходной с Бахтиным теологической метафорой
(автор=бог, отсутствующий, возвышенный над своим
произведением), но в его представлении ирония возникает не путем
прибавления, а путем вычитания, исключения: из текста удаляются
любые прямые и даже косвенные оценки, по которым можно было бы
заподозрить присутствие автора, хотя бы «вторичного»,
сочиненного. Разные действующие лица, позиции, идеи и социальные
дискурсы иронически оцениваются не благодаря добавляющейся
интонации автора, а, наоборот, потому, что они высказываются без
нее, сами по себе, со всеми своими слабыми, «слепыми» точками,
во всей своей противоречивости и разноречивости. Развитием этой
программы объективной «высшей иронии» стала выдвинутая
спустя столетие после Флобера Роланом Бартом идея «белого письма»,
или «нулевой степени письма». Согласно такой концепции,
первичный автор отвечает не за слова (или даже интонации), а
именно за свое молчание — за аскетическую беспристрастность своей
позиции, за то, чтобы это молчание лучше всего позволяло
высказаться, манифестировать себя реальным социальным
дискурсам; а за содержание этих дискурсов автор не в ответе.
Второй аспект авторской ответственности связан с
различием двух форм авторского присутствия (или не-присутствия) в
14 Эту радикальную идею «молчания» нередко опускают, обходят
молчанием при интерпретации бахтинских рассуждений об авторе, в том числе и при
толковании разбираемого здесь фрагмента: см., например, статьи Н.Д. Тамар-
ченко «Автор» и «Образ автора» в книге: Поэтика: Словарь актуальных
терминов и понятий, М., Издательство Кулагиной; Intrada, 2008, с. 11—14, 148—149.
Интересна используемая Бахтиным метафора: первичный автор «облекается в
молчание» — как бы закрывается, изолируется им от мира (видимо, и от
реального и от фикционального мира сразу), где звучат речи и являются «образы»,
он занимает абсолютно «вненаходимую» позицию по отношению к этому миру.
Ср. также многочисленные высказывания Мориса Бланшо о молчании, к
которому стремится художественная литература.
15 Постав Флобер, цит. соч., с. 213.
436
Теории и мифы
произведении, которые упоминает, хотя и не противопоставляет,
Бахтин: образа и слова. В разбираемом фрагменте эти два
понятия никак логически не артикулированы, переход от одного к
другому происходит без всяких пояснений, как будто они
мыслятся как равнозначные, объясняющие друг друга: «...первичный
автор никогда не может войти ни в какой созданный им образ.
Слово первичного автора не может быть собственным словом...»
Кроме того, термин «образ» явно употребляется в традиционном
для русской критики смутном и многозначном смысле,
оторванном как от теории физических отражений, так и от психологии
восприятия; собственно, кавычки, в которые заключено
выражение «образ автора» (в начале фрагмента), указывают именно на
его неточность. Различение двух понятий приводит нас к
проблемам семиотики, соотношения собственно знаковой и
миметической деятельности, символического и иконического знака, а
также закрытого и открытого текста (как называл это Ю.М. Лот-
ман). В этом пункте наша интерпретация по необходимости
дальше отступит от прямого смысла слов Бахтина, хотя и не
будет им противоречить.
В своей ранней работе об авторе и герое Бахтин различал
пространственную и временную форму героя; сходное различие
можно провести и применительно к автору, включая безвидного и
молчаливого «первичного автора». «Слово», как ни толкуй этот
многозначный термин, имеет временную природу, оно
осуществляется и развертывается в темпоральной перспективе, имеет
начало и конец; напротив того, «образ» самое большее развертывается
в пространстве и лишен начала и конца — он, разумеется, может
возникать, а затем исчезать (с материального носителя, из памяти
субъекта), но это внешние, случайные пределы его существования,
незначимые для его собственного устройства, тогда как в
словесной деятельности категории начала и конца обладают важнейшей
моделирующей функцией16. «Образ автора» можно мыслить как
условную характерологическую форму, к которой сводятся
постоянные особенности бесконечного словесного процесса,
происходящего в произведениях данного автора; этот процесс дискурса
выходит за рамки отдельного высказывания, отдельного текста; в
силу этой своей безначальности и бесконечности он не может быть
16 В «Проблеме речевых жанров» Бахтин подчеркивал роль начала и
конца в формировании высказывания: «Каждое отдельное высказывание — звено
в цепи речевого общения. У него четкие границы, определяемые сменой
речевых субъектов (говорящих)...» (М.М. Бахтин, Собрание сочинений, т. 5, М.,
Русские словари, 1997, с. 198). Ср.: «То, что не имеет конца, — не имеет и
смысла» (Ю.М. Лотман, Культура и взрыв, М., Гнозис, 1992, с. 249).
Литературность и ответственность
437
поступком и, стало быть, объектом ответственности: нельзя
отвечать за собственный образ!17
Иначе обстоит дело со «словом», которое всегда мыслится как
ответственный, обязывающий поступок («дать слово», «слово не
воробей...», «слово и дело» и т.д.), как отдельное и завершенное
высказывание, как текст: даже если этот текст сплошь, от начала
до конца, состоял из «чужих», не принимаемых автором на свой
счет дискурсов, из тех или иных элементов социокультурного
разноречия, все-таки начало и конец текста полагаются не кем иным,
как «молчаливым» первичным автором, а потому и выводы,
которые читатель сделает об этих дискурсах, исходя из выбранного
фрагмента социокультурного разноречия — им может быть
фрагмент бесконечного, вообще говоря, диалога, спора, действенного
соперничества, — эти выводы будут относиться к
ответственности первичного автора. Вторичный автор, наделенный «образом»,
связан с инстанцией дискурса, который в принципе может
длиться бесконечно, — первичный же автор, распоряжающийся
конечным текстом, выполняет демиургическую и апокалиптическую
функции: он вызывает мир произведения из небытия, и он же его
завершает. Он отвечает за эти действия, тогда как вторичный
автор ответственности лишен — не просто потому, что он
иллюзорен, но и потому, что он не совершает этих двух
основополагающих структурирующих жестов: начать и кончить.
Итак, мы наметили два параметра, по которым первичный
автор осуществляет в произведении свою ответственность, в
отличие от безответственно-вымышленного вторичного автора: это
ироническая модуляция молчания, позволяющая вполне
высказываться чужому слову (точнее, словам разных субъектов), и
завершение текста-«слова», в отличие от незавершенного,
неопределенно пребывающего «образа». Первый аспект имеет позитивный
характер (дать высказаться другим), второй — негативный
характер (ограничить чужую речь началом и концом). Оба эти
параметра существенны именно для ситуации художественного письма,
для архитектоники художественного словесного произведения,
тогда как в произведениях нехудожественной словесной культуры
17 Результатом ответственного поступка может быть искусственный,
сконструированный напоказ другим образ-«имидж»; он четко выделен, осмыслен
и может даже варьироваться, как при смене масок, однако это уже не есть
образ первичного автора, но образ вторичного, «частично изображенного»
автора; если же говорить об авторе первичном, «изображающем субъекте», то,
«строго говоря, "образ автора" — это contradictio in adjecto» (M.M. Бахтин,
Собрание сочинений, т. 5, с. 313). В процитированных заметках «Проблема
текста» Бахтин еще раз проговаривает мысль о различии первичного и
вторичного авторов.
438
Теории и мифы
их роль гораздо меньше. Задача ученого, проповедника,
философа, адвоката, участника светской беседы и т.д. — не в том, чтобы
дать максимально свободно выразиться чьему-то чужому слову;
скорее его задача, наоборот, подчинить это слово своему
собственному слову. Что же касается начала и конца, образующих
границы текста, то и они в нехудожественной речи далеко не столь
четко маркированы: нехудожественные тексты часто включаются в
большие разнородные комплексы (в документальное досье, в
газету, в случайно развивающийся бытовой разговор), их авторская
принадлежность по разным причинам ослаблена (тексты
коллективные, анонимные, плотно редактируемые и т.д.), между текстом
и не-текстом нередко помещаются всевозможные промежуточные
паратексты (примечания, аннотации, копирайты, ритуальные
формулы и т.п.), которые в художественном тексте часто лишь
условно разыгрываются, а в тексте нехудожественном функционируют
всерьез, как обязательные элементы его представления.
В разбираемом фрагменте Бахтин не касается прямо
нехудожественных произведений (научных, религиозных и т.д.), зато
упоминает о нередком случае, когда характерная для них
архитектоника речи имитируется, включается на правах частного элемента
в общую архитектонику художественного произведения: это
случай, когда первичный автор (писатель) не хочет мириться со
своей обязанностью молчать и «выступает с прямым словом» —
пытается что-то проповедовать, кого-то восхвалять или осуждать и
т.д. В результате и на время таких попыток он перестает быть
писателем, «превращается в публициста, моралиста, ученого и т.п.»,
потому что его собственное слово, чтобы зазвучать в тексте,
«нуждается в освящении чем-то высшим и безличным (научными
аргументами, экспериментом, объективными данными,
вдохновением, наитием, властью и т.п.)». Нетрудно проиллюстрировать эту
мысль примерами из художественной литературы, когда писатель
берет на себя роль ученого (Лев Толстой, пишущий в «Войне и
мире» историю кампании 1812 года),
натуралиста-экспериментатора (Эмиль Золя, исследующий в «Ругон-Маккарах» варианты
социально-физиологической наследственности), вдохновенного
пророка (типичная фигура романтического поэта — вторичного
автора стихов) и т.д. Подобно тому как читатель или критик,
пытаясь представить себе образ (на самом деле отсутствующий!)
первичного автора, сам становится «первичным автором этого
образа», так и писатель, пытаясь от собственного лица выступать с
таким не-писательским, не-литературным словом (то есть вообще
пытающийся говорить от собственного лица, тогда как «от лица
писателя ничего нельзя сказать»), фактически на время становится в
позицию вторичного автора, который сотворен кем-то другим,
Литературность и ответственность
439
авторитетным и всемогущим (наукой, религией, властью и т.д.).
Как всегда у Бахтина, здесь важны теологические термины и
ассоциации: писатель «освящает» свое слово «чем-то высшим и
безличным», то есть находит себе некое нелитературное божество,
принимает роль твари, а не творца. При этом он выходит из режима
художественного письма, возвращаясь в него лишь тогда, когда
пускает в ход собственно писательские средства — молчаливую
иронию и полагание пределов текста. Но, выходя из режима
художественного письма, он одновременно и слагает с себя
окончательную ответственность за сказанное, частично перекладывает ее
на ту высшую и безличную инстанцию, с которой себя
идентифицирует. Так политик, конечно, отвечает (иногда...) за конкретное
содержание своих речей и решений, но не отвечает за традицию
политического дискурса, на которую опирается это содержание; то
же можно сказать об ученом, проповеднике и т.д.
Нехудожественное письмо — это письмо с неполной
ответственностью, «освящаемое», поддерживаемое и извиняемое
дискурсивной и институциональной традицией; художественное же
письмо, поскольку оно уклоняется от прямых содержательных
высказываний, всецело ответственно, так как художественная
форма представляет собой неотъемлемо личное создание
«первичного автора», его исключительную интеллектуальную
собственность, и даже традиционность этой формы не гарантирует автора
от читательского неприятия (нередко, наоборот, предрасполагает
к такому неприятию — «устарело!»). Писатели и поэты не раз
говорили о своем литературном призвании как о роковой судьбе
(«Ах, если б знал, что так бывает, / Когда пускался на дебют...») —
это метафора или, в социально-критических терминах,
«мистифицированное выражение» той непомерной ответственности, что
заключена в вольном словесном творчестве. Однако речь идет
именно об ответственности за форму, которая имеет не моральный,
политический, религиозный и т.п., а исключительно эстетический
характер: все содержательные составляющие произведения
опосредованы в нем письмом, знаковой условностью и могут лишь
условно вменяться условным же «вторичным» авторам,
рассказчикам, персонажам.
2010
ЗООЛОГИЧЕСКИЙ ПРЕДЕЛ КУЛЬТУРЫ
(Бахтин, Флобер и другие)
Предмет этой статьи — небольшой текст М.М. Бахтина,
заметки 1940-х годов к так и не написанной, по-видимому, работе,
которые опубликованы в 5 томе его собрания сочинений под
условным названием «О Флобере»1. В своих примечаниях С.Г.
Бочаров отмечает тематическую неординарность этого текста:
во-первых, сам «Флобер — достаточно неожиданная тема в наследии
М.М. Б[ахтина]»2, во-вторых, «особенно окрашивает этот текст и
отличает его среди работ М.М. Б[ахтина] акцент на таких
неожиданных темах, как животное и ребенок, и вообще "элементарная
жизнь" как аспект бытия и ее глубина. Фрагмент о Флобере
показывает значение этой темы, как бы периферийной в
концептуальном мире М.М. Б[ахтина]...»3 Для понимания этого текста
полезно будет сопоставить его не только с другими сочинениями
Бахтина, но и с творчеством Гюстава Флобера, а также с
некоторыми фактами философской рефлексии о звере, выработанными
западной культурой XX века.
Приведем целиком главный, наиболее насыщенный с
интересующей нас точки зрения фрагмент бахтинских заметок:
Образ животного, стремление проникнуть в специфику его
жизни. Создать монумент животного. Своеобразное возрождение
обожествления зверей, учения у зверей. Охота и растерзание зверей у
Юлиана. Но сложившееся мировоззрение, проторенные колеи мыслей
отводят от глубокой и существенной постановки этой проблемы.
Уловить наиболее элементарный аспект жизни, ее первофеномен.
Проблема жалости. (Отец — хирург, плачущий при виде страдающей
собаки.) Не мог вынести операции. Древняя проблема жалости
(в частности к животным) и ее глубина. Шопенгауэр. Важна жалость
к биологическому минимуму жизни. Человечество обнаглело,
совершенно перестало стыдиться убоя, утратило древний стыд перед
убоем и кровью животных. Ее просто спрятали и не видят. Друг
Флобера в то же время пишет «Муму» (глухота и собака, параллель к
«Простому сердцу» и к «Юлиану»). Всё страшное в жизни спрятано,
1 М.М. Бахтин, Собрание сочинений, т. 5, М., Русские словари, 1997,
с. 130-137.
2 Там же, с. 495.
3 Там же, с. 496—497.
Зоологический предел культуры 441
в глаза смерти (и следовательно — жизни) не смотрят, опутали себя
успокоительными ходячими истинами, событие жизни
разыгрывается на самой спокойной внутренней территории, в максимальном
отдалении от границ ее, от начал и концов и реальных и смысловых.
Специфика буржуазно-мещане кого оптимизма (оптимизм не
лучшего, а благополучного). Иллюзия прочности не мира (миропорядка), а
своего домашнего быта. Куда девались космический страх и
космическая память. Категория бытовой безопасности и устойчивости.
Формы косвенной борьбы за жизнь (сконденсированной в деньгах)
без встречи со смертью, борьбы, которая ведется в уютнейших и
безопаснейших помещениях банков, бирж, контор, кабинетов и пр.
Древняя проблема жалости; это наиболее развенчанная и психологи -
зованная, одомашненная категория. Противопоставление жалости
любви (Карамазов). Ее абсолютная нетребовательность (поэтому нет
места и для иллюзий и разочарований). Египет с богами-зверями, с
образом зверя, как одним из центральных образов культуры. В чем
привлекательность образа арабской танцовщицы. Элементы кошачьей
породы в египетском образе зверя. Образы кошек у Бодлера (образы
великанши, нищих, падали, безобразной проститутки у него же).
Флобер о проститутках. Образ зверя — неосознанный центр
художественного мира Флобера4.
В «звериной» тематике, действительно занимающей большое,
возможно даже центральное место у Флобера, мы выделим
четыре смысловых аспекта, четыре концепции зверя, из которых две
первых эксплицитно, хотя и в смешанном, неразличенном виде
присутствуют в заметках Бахтина, третья может быть логически
выведена из его рассуждений, а четвертая почти совсем не
концептуализирована у него, однако один упоминаемый им
флоберовский текст заставляет обратиться к ней.
1. Жалость. Зверь вызывает к себе жалость, как «наиболее
элементарный аспект жизни, ее первофеномен». Он принадлежит
к тому «слезному аспекту мира», о котором Бахтин писал в
позднейших заметках «Проблема сентиментализма», прямо
упоминая в этой связи Флобера5, и в рабочих записях 1960-х — начала
1970-х годов:
Культ слабости, беззащитности, доброты и т.п. — животные,
дети, слабые женщины, дураки и идиоты, цветок, все маленькое и т.п.6
4 Там же, с. 131—132. Авторская разрядка заменена курсивом. В дальнейшем
тексте статьи короткие цитаты из этого фрагмента будут приводиться без ссылок.
5 Там же, с. 304-305.
6 М.М. Бахтин, Собрание сочинений, т. 6, М., Русские словари; Языки
славянской культуры, 2002, с. 400—401.
442
Теории и мифы
Сентиментальное отношение к безответным существам
рассматривается Бахтиным как своего рода минимум культуры,
уровень уже не вещественных, но еще не подлинно личностных
отношений, — см., например, в заметках 1961 года:
Сентиментально-гуманистическое развеществление человека,
образ которого остается объектным: жалость, низкие виды любви
(к детям, ко всему слабому и маленькому). Человек перестает быть
вещью, но не становится личностью, т.е. остается объектным, лежащим
в зоне «другого», переживаемым в чистой форме «другого», в
отдалении от зоны «я»7.
Здесь еще невозможны настоящие двусторонние отношения,
поскольку предмет жалости еще «не становится личностью»;
однако жалость к человеку все-таки образует то базовое
уважительно-бережное отношение к другому, на котором в дальнейшем
будет надстраиваться все здание культуры как межличностного
диалога.
Подобное переживание отношений с животными и другими
людьми можно найти у Флобера. Он с завороженным вниманием
смотрел на всевозможных «нетребовательных» и бессловесных
существ и замечал у них ответную реакцию. Еще в одном из
юношеских писем он признается: «Я привлекаю сумасшедших и
животных. Может, они догадываются, что я их понимаю, что я проникаю
в их мир?»8 И в другом, позднейшем письме: «Иногда,
пристально вглядываясь в камень, животное, картину, я чувствовал, как
вхожу в них. Общение между людьми не может быть более
тесным»9. Фигуры «простых сердец», порой уподобляемых животным,
встречаются в ряде его произведений: в «Госпоже Бовари» это
придурковатый и хромой трактирный слуга Ипполит и слепой
нищий из Руана, в «Простом сердце» — безграмотная и
безответная служанка Фелисите. Сюда же относится большинство детских
персонажей у Флобера — глупая и злосчастная дочка Эммы в
«Госпоже Бовари», тщедушный мальчик-раб, которого Гамилькар в
романе «Саламбо» отдает в жертву богу Молоху, подменив им
собственного сына Ганнибала, умерший в младенчестве сын
Фредерика Моро из «Воспитания чувств» 1869 года. По своей
«интеллектуальной слабости» с животными сближается и сама главная
героиня «Госпожи Бовари»:
7 Там же, т. 5, с. 356.
8 Гюстав Флобер, О литературе, искусстве, писательском труде: Письма.
Статьи, т. 1, М., Художественная литература, 1984, с. 61. Перевод Е. Лысенко.
9 Там же, с. 272.
Зоологический предел культуры
443
Буржуазные оттенки сентиментализма. Интеллектуальная
слабость, глупость, пошлость (Эмма Бовари и сострадание к ней,
животные)10.
Вообще, у Флобера слабость «сентименталистских»
персонажей имеет не столько физический, сколько умственный характер,
подчеркивая метафорический, а не буквальный смысл «животной»
темы в этом первом ее значении: «Жалость относится именно к
животному началу в человеке, ко всяческой "твари" и к человеку,
как твари»11. Текстуальным маркером «убогой», «жалкой»,
«бедной» жизни служит часто употребляемое в ряде произведений
Флобера прилагательное pauvre, которое как раз и вбирает в себя
всю эту семантику12; а Бахтин отмечает в той же связи «животную»
семантику другого любимого флоберовского слова bêtise («глу-
пость/жи вотность» ) :
Своеобразное и двойственное отношение его к глупости.
Реализация метафоры животного <...>. Пристальное изучение человеческой
глупости с двойственным чувством ненависти и любви к ней13.
Как уже сказано, в своем сентиментально-жалостном
понимании животное все-таки остается у Флобера главным образом
метафорой. Живые, непосредственно присутствующие в
повествовании звери редко вызывают у героев или читателя «жалость к
биологическому минимуму жизни». Чаще всего это крупные
животные (лошади, быки или, скажем, слоны в «Саламбо»),
внушающие к себе не жалость, а восхищение своей силой и величием; и
именно их бесстрастию писатель уподобляет художественные
произведения: «Шедевры тупы; у них спокойные обличья, как у
созданий природы — крупных животных и гор»14. Здесь мы подходим ко
второму аспекту зверя у Флобера — его космичности.
2. Космичность. В своих заметках о сентиментализме Бахтин
отмечал как одну из черт такого умонастроения создание
«сентиментальных культов»15; но в заметках о Флобере слова
«своеобразное возрождение обожествления зверей» означают нечто большее,
некое более буквальное обожествление. Оно связывается с «косми-
10 М.М. Бахтин, Собрание сочинений, т. 6, с. 400.
11 Там же, т. 5, с. 133.
12 См. о функциях этого эпитета: С. Зенкин, Работы по французской
литературе, Екатеринбург, изд-во Уральского университета, 1999, с 20—26, и там
же (с. 107—109) о бестиализации детских персонажей у Флобера.
13 М.М. Бахтин, Собрание сочинений, т. 5, с. 134.
14 Постав Флобер, цит. соч., с. 198.
15 М.М. Бахтин, Собрание сочинений, т. 5, с. 304.
444
Теории и мифы
ческим страхом и космической памятью», то есть с тематикой «кос-
мичности» и «топографичности», занимавшей ученого в 1940-е
годы и подробнее всего отразившейся в «Дополнениях к "Рабле"»16.
«Космический» взгляд на мир заставляет принимать в расчет
«предельные» моменты человеческой и мировой судьбы, происходит
«монументализация и героизация»17, а «жестокость и пролитие
крови», совершаемые зверем или по отношению к нему,
предстают как «конститутивный момент силы и жизни»18.
Не сильно упрощая дело, можно сказать, что два аспекта
зверя (сентиментальный и «монументальный», жалостный и
героический) переплетающиеся в заметках Бахтина о Флобере,
соответствуют двум периодам и двум проблематикам — «персона-
листической» и «карнавальной» — в его научном творчестве.
В первом случае зверь выступает как минимальный, еще
неполноценный партнер по межличностной коммуникации,
опирающейся на диалогическое слово, во втором случае — как индуктор
стихийного слияния отдельных существ в мировое тело. Существуя в
«космических» координатах, зверь отрицает отдельность и
стабильность личностной жизни, требует вновь поместить ее в мировой
процесс становления, смерти-возрождения, а тем самым
преодолеть ограниченность современной цивилизации, где «событие
жизни разыгрывается на самой спокойной внутренней территории,
в максимальном отдалении от границ ее, от начал и концов и
реальных и смысловых».
Именно такую функцию — не вызывать у человека жалость
своей «малостью» и ограниченностью, а, наоборот, расширять его
горизонт до мировых масштабов — систематически выполняют
животные у Флобера. Речь идет не только о животных культах в
прямом смысле слова, хотя и они не раз встречаются в его
произведениях: такова, например, сцена ритуального соития героини
романа «Саламбо» со священным питоном19, или не
осуществленный Флобером (но отмеченный Бахтиным) замысел произведения
об Анубисе, древнеегипетском божестве с собачьей головой20, или
16 См.: там же, с. 84—96 и др.
17 Там же, с. 84 — ср. упоминание о стремлении «создать монумент
животного» в заметках о Флобере.
18 Там же, с. 85 — ср. «древний стыд перед убоем и кровью животных»,
упоминаемый в этой связи в заметках о Флобере; о нем еще будет речь ниже.
19 Ср. автокомментарий писателя к этому эпизоду: «Саламбо, прежде чем
покинуть дом, соединяется с божеством своего рода, с религией своей родины,
выраженной в древнейшем ее символе» (Гюстав Флобер, цит. соч., т. 2, с. 15.
Перевод С. Шлапоберской).
20 Сам Бахтин в быту обожал кошек и сравнивал их с «древнеегипетскими
храмовыми кошками» (см.: Вадим Кожинов, «Бахтин в живом диалоге», в кн.:
Зоологический предел культуры
445
домашний попугай, который в набожных глазах героини повести
«Простая душа» превращается в голубя святого духа. В той же связи
следует напомнить и некоторые более «профанные» эпизоды,
такие как сцена сельскохозяйственной выставки (comices agricoles)
в «Госпоже Бовари». Сам Флобер так объяснял ее замысел:
«Нужно, чтобы все это ревело разом, чтобы одновременно слышно было
мычанье быков, любовные вздохи и речи устроителей выставки»21.
Присутствие домашних животных — «этих бесстрастных
триумфаторов, возвращавшихся с зелеными венками на рогах к себе в
стойла»22, — позволяет ввести если не в эту заурядно-провинциальную
церемонию, то в столь же заурядно-провинциальный роман,
завязывающийся под аккомпанемент официальных речей, некий
торжественный, ритуально-мировой подтекст23.
3. Овеществление. «Реалистическая», социально-критическая
эстетика Флобера особенно подчеркивает третий аспект зверя,
дополнительный по отношению ко второму: сакрализованные
животные своим присутствием вводят происходящие вокруг них
сцены в «космический» контекст, но современное общество
стремится, наоборот, сократить их в масштабе и свести к состоянию
послушных, подручных вещей, лишенных всякой связи с
«космическим страхом и космической памятью».
Овеществление— одна из важных тем Бахтина в 1950—
1960-е годы; в его научно-теоретической рефлексии она служит
антитезой межличностному диалогическому общению (ср. его
известную оппозицию «познания человека» и «познания вещи»), а
в заметках о прозе Флобера она, по-видимому, соотносится с
мотивом отрыва людей от «предельных» горизонтов бытия,
замыкания в иллюзорно стабильных вещественных, скажем денежных,
отношениях. В рамках такой овеществленной и овеществляющей
культуры зверь, изначально трансцендентный человеческому
быту, принудительно социализируется: сводится к функции
домашнего скота или еще каким-то способом вводится в круг
человеческих функций.
В прозе Флобера часто упоминаются домашние животные:
лошади, собаки, рогатый скот и т.д., однако их овеществление не
Беседы В.Д. Дувакина с М.М. Бахтиным, М., Прогресс, 1996, с. 281). В
заметках о Флобере он упоминает об «элементах кошачьей породы в египетском
образе зверя».
21 Там же, т. 1, с. 322. Перевод Е. Лысенко.
22 Гюстав Флобер, Собрание сочинений, т. 1, М., Художественная
литература, 1983, с. 159. Перевод Н.М. Любимова.
23 Margaret Lowe, Towards the Real Flaubert: A Study of «Madame Bovary»,
Oxford, Clarendon Press, 1984, p. 55 ел.; С. Зенкин, Работы по французской
литературе, с. 80—81.
446
Теории и мифы
всегда является полным. Так, в эпизоде конной прогулки Эммы
Бовари с Родольфом Буланже («Госпожа Бовари») приведенные
последним лошади поначалу служат просто вещью, роскошным
соблазном, которым Родольф обольщает падкую до
аристократической роскоши Эмму; но затем, в ходе самой прогулки лошади
своим спокойствием контрастно оттеняют волнение и любовный
пыл людей, символизируя «равнодушную природу», окружающую
человека и его страсти. Напротив того, в романе «Саламбо»
содержится ярко-экзотический вариант социализации дикого зверя: в
начале повествования солдаты-наемники, еще не поднявшие
мятежа против Карфагена, встречают у дороги множество львов,
пойманных и распятых на крестах местными жителями; в конце
романа на таких же крестах будут распинать самих пленных
мятежников. Казнить хищного зверя, словно преступника, — значит
уподобить его человеку, пусть и осужденному. В этой ритуальной
казни, генетически связанной с мифологией священного дерева,
именно вследствие замены «объекта» проступает
сакрально-культовое содержание, то есть овеществление, осуществляемое здесь
буквально, посредством физической фиксации живого тела,
превращения его в мертвый и неподвижный объект, одновременно
еще и осложняется мотивами культового порядка.
Едва ли не отчетливее всего овеществление животных и
уподобляемых им детей проявляется в эпизодах, когда они
становятся объектами (квази)научных или же воспитательных
экспериментов. В «Госпоже Бовари» незадачливый лекарь Шарль Бовари по
наущению невежественного аптекаря Омэ неудачно оперирует
хромую ногу тупоумного слуги Ипполита, а сам Омэ дает столь же
бесполезные врачебные советы слепому и придурковатому
нищему. Бувар и Пекюше, два друга-самоучки, пытаются ставить
зоологические эксперименты по «противоестественной»
гибридизации животных, пробуют свои силы в ветеринарии, излечивая
корову от запора: эти их опыты, иногда удачные, а чаще нет,
компрометируются не столько своей связью с «телесным низом»,
сколько выражающимся в них самоуверенным объективизмом
науки XIX века, ее готовностью со всем и всеми обращаться как с
вещами. В последней из написанных Флобером глав романа
«Бувар и Пекюше» герои от животных обращаются к детям —
неудачно пытаются воспитывать двух «неисправимых» юных сирот; их
педагогический провал продолжает собой тематику «Госпожи
Бовари», где дети либо вообще не поддаются учению (как дочка
Шарля и Эммы Бовари), либо, заучив кое-какие бессмысленные
навыки, демонстрируют их с механичностью кукол («развитые»
чада аптекаря Омэ).
Два обстоятельства проявляются в подобных эпизодах:
во-первых, овеществление «малых сих» — детей или животных — осуще-
Зоологический предел культуры
447
ствляется не самим автором, а другими персонажами,
применяющими к ним инструментально-вещественные практики;
во-вторых, эти овеществляющие персонажи обычно и сами умственно
убоги, к ним самим вполне применимы категория bêtise и
флоберовское словечко pauvre. Идет гротескная игра в «тупого и еще
тупее»: одни дурачки (Шарль Бовари или Бувар и Пекюше) с
бессмысленным «научным» усердием мучают и калечат других
(Ипполита, подопытных животных и т.д.). Такая амбивалентность
«простых сердец», которые могут быть и наивно жестокими,
подводит нас к последнему, самому проблематичному аспекту
звериной темы у Флобера.
4. Ярость. В заметках о Флобере Бахтин прямо упоминает всего
один случай изображения зверей у этого писателя. Это
действительно крупный и впечатляющий эпизод — «охота и растерзание
зверей у Юлиана», то есть безумная охота-бойня, которой
предается герой «Легенды о святом Юлиане Милостивом» (1877).
Бахтин толкует ее как напоминание о первородном грехе рода
человеческого: «Древность мотива: убийство животных как
первородный грех». Современному человечеству необходимо такое
напоминание, поскольку оно «обнаглело, совершенно перестало
стыдиться убоя» — то есть практикует убийство животных как
чисто вещественное действие, которое нужно самое большее убирать
с глаз долой: «Все страшное в жизни спрятано, в глаза смерти <...>
не смотрят». В таком контексте греховное истребление животных
героем легенды, завершающееся еще более страшным грехом —
случайным убийством собственных родителей, которое Юлиан
затем искупает тяжелейшим подвижничеством, — оказывается
связано с религиозно-культовым аспектом зверя, открывающим
«космическую» перспективу мировой истории как чисто
религиозной, внеморальной мистерии греха и искупления.
Соответственно и С.Г. Бочаров, комментируя бахтинские заметки о Флобере,
сближает их с другим текстом того же периода («Дополнениями к
"Рабле"»), где тема отцеубийства толкуется как «надъюридическое
преступление», упрямое самоутверждение одиночной жизни,
стремящейся самостоятельно длиться24. Наконец, в общем контексте
бахтинских заметок прегрешение Юлиана соотносится и с темой
«жалости к биологическому минимуму жизни»; итак, Юлианова
охота соединяет в себе все три рассмотренных выше аспекта
зверя, встречающихся в творчестве Флобера.
Однако, сколь бы ни была сложна и глубока эта
объяснительная схема, некоторые обстоятельства не находят себе места в ее
24 См. комментарий 8 к заметкам Бахтина «О Флобере» (М.М. Бахтин,
Собрание сочинений, т. 5, с. 499).
448
Теории и мифы
рамках. Во-первых, мотив жалости хоть и присутствует в этом
обширном эпизоде флоберовской повести, но занимает в нем очень
небольшое место, сводясь к одному-двум кратким напоминаниям:
«Они [звери] кружились около него, трепеща всем телом, — и
взоры их, на него устремленные, были кротки и полны смиренной
мольбы»25; ниже кратко упомянуты также «жалобные голоса»
расстреливаемых Юлианом оленей26. Во-вторых, животные, которых
во множестве избивает герой повести, — это не только мелкие и
безобидные зверюшки, не только травоядные, но и хищники,
включая крупных и грозных: не только «хорьки, лисицы», но
также и медведи и даже звери-людоеды — «стая волков, глодавших
трупы под виселицей»27. Если и можно говорить о жалости к ним,
то это жалость к безжалостным существам', сам Бахтин признает,
что у животных «кровожадность и жестокость элементарного
бытия невинны»28, и точно так же уподобляемые животным «простые
сердца» способны быть палачами других живых существ29.
В-третьих, что особенно важно, Юлианова охота-бойня имеет мало
общего с человеческой охотой. Флобер подчеркивает ее фантазма-
тический, внесоциальный характер: «Он охотился в какой-то
неведомой стране, неизвестно с каких пор — бессознательно, почти
бесчувственно. Все совершалось с тою легкостью, какую
испытываешь во сне»30. У этой охоты нет рациональной цели — ее
мотивом не является ни добыча пищи, ни уничтожение вредителей, ни
аристократическая спортивная забава (Юлиан охотится в
одиночку, без спутников, соперников и зрителей), а одна лишь темная,
необоримая страсть, невнятная самому герою: «Выпуча глаза,
смотрел он на необъятную бойню, не постигая, как он это мог один
совершить»31. Юлиан убивает животных не по-людски, не по целе-
рациональной логике человеческого поведения; он сам становится
зверем, обезумевшим от крови хищником — так лиса,
забравшаяся в курятник, не может остановиться, пока не передушит всех кур:
«Жажда бойни, резни снова овладела им — и за неимением зверей
25 Постав Флобер, Собрание сочинений, т. 3, 1984, с. 13. Перевод И.С.
Тургенева.
26 Там же, с. 14.
27 Там же, с. 12.
28 М.М. Бахтин, Собрание сочинений, т. 5, с. 133.
29 Не стоит забывать, что хищником, плотоядным зверем является и
«виляющая хвостиком» {там же, с. 133) собачка Муму в рассказе Тургенева,
который Бахтин сопоставляет по сентиментальному тону с некоторыми из
мотивов Флобера.
30 Гюстав Флобер, Собрание сочинений, т. 3, с. 13—14.
31 Там же, с. 14.
Зоологический предел культуры
449
он готов был убивать людей»32. Еще до этого о бестиализации
Юлиана-охотника было сказано открытым текстом:
«Возвращался он поздней ночью весь в крови и грязи, с колючками в волосах;
от него пахло диким зверем. Он стал таким, как они»33. В этом
смысле символичен миг телесной, какой-то интимной близости
между охотником и одним из убитых им животных: «Юлиан <...>
упал на труп [горного козла] с распростертыми руками и
перевесившимся через край бездны лицом»34, — эпизод, который затем
отыгрывается заново в финале повести, когда кающийся Юлиан-
отшельник кладет к себе в постель страшного прокаженного,
волшебно превращающегося в Иисуса Христа. Убивая зверей,
Юлиан сам приобщается к их темной массе, утрачивает свою
обособленность сознательного существа, и дальнейшее развитие
легенды — это история его возвращения к человечности, искупления
зверства, в которое он впал.
Искупление не следует трактовать здесь по аналогии с
воздаянием убиваемому зверю — обрядом распространенным в
традиционных культурах, но не соответствующим тексту Флобера: в самом
деле, Юлиан не раскаивается перед животными, его вина не перед
ними, а перед убитыми родителями. В терминах антропологии оно
скорее должно мыслиться как очищение убийцы, осквернившего
себя кровопролитием. Соответствующий обряд также
зафиксирован у разных народов, демонстрируя амбивалентную, опасную
сущность сакрального, к которому причастен всякий, кто
проливает чужую кровь, — даже если это «законное» кровопролитие на
охоте или на войне. Именно чувством оскверненности антрополо-
32 Там же, с. 23. Этот мотив «жажды бойни» еще до Флобера встречался во
французской популярной литературе XIX века — так, одного из персонажей
«Парижских тайн» (1842) Эжена Сю, преступника по прозвищу Le Chourineur
(«Поножовщик»), время от времени охватывает патологическая тяга к резне.
33 Гюстав Флобер, Легенда о святом Юлиане Милостивом (переводы с
французского Ивана Тургенева, Александра Блока, Максимилиана Волошина), М.,
Прогресс-Плеяда, 2007, с. 103. Эта цитата из «Легенды о святом Юлиане», в
отличие от остальных, дается в переводе М.А. Волошина, выполненном по
печатному тексту оригинала. В переводе И.С. Тургенева, работавшего с
рукописным текстом повести, полученным от Флобера еще до ее выхода
по-французски, отсутствует (начиная уже с первой публикации в «Вестнике Европы»,
апрель 1877 года) ключевая фраза «Он стал таким, как они» («Il devint comme
elles»). Судя по форме предыдущей фразы, где флоберовское существительное
множественного числа «bêtes», «звери», к которому далее отсылает
местоимение «они», заменено собирательным существительным «дичь» («весь
пропитанный запахом дичи» — Гюстав Флобер, Собрание сочинений, т. 3, с. 12), Тургенев
и не предполагал переводить эту фразу; возможно, ее почему-то недоставало в
переданном ему экземпляре рукописи.
34 Гюстав Флобер, Собрание сочинений, т. 3, с. 13.
450
Теории и мифы
гия объясняет упоминаемый в заметках Бахтина «древний стыд
перед убоем и кровью животных»:
...в Южной Африке убийство опасного зверя — льва, леопарда или
носорога — рассматривается как подвиг, но прежде чем счастливого
охотника с почетным эскортом и великим торжеством введут в
деревню, он должен искупить содеянное в отдаленной хижине, выкрасив
себе тело в белый цвет и получая пищу из рук необрезанных
мальчиков. Даже воин, убивший врага в военном походе, хоть и окружен
почестями, но не включается вновь в общину, пока не очистится от
пролитой крови, от скверны, которой он покрыл себя, убивая
человека и касаясь трупа35.
Эпизод Юлиановой охоты показывает, что зверь может
воплощать у Флобера стихию ярости, насильственного уничтожения
форм, смешения существ. Эта стихия отличается от «элементарной
жизни», о которой Бахтин пишет: «Невинность, чистота,
простота и святость этой элементарности (для нее все близко и все
родное)»36. Ярость является сакральной, но не святой, она выражает
амбивалентное, сразу и освящающее и оскверняющее начало, ее
«простота» есть утрата идентичности субъектов, а «близость»,
слияние охотника с жертвой представляет собой трансгрессию,
культовое законопреступление.
Почти одновременно с бахтинскими заметками о Флобере
идею звериной/божественной ярости разрабатывал в «Теории
религии» (1948) Жорж Батай. Животное начало характеризуется у
него имманентностью, отсутствием субъектно-объектного
отношения, что особенно проявляется в ситуации кровавого насилия:
«Когда один зверь пожирает другого, то это всегда нечто подобное
пожирающему; в таком смысле я и говорю об имманентности»37;
так же и флоберовский Юлиан имманентен избиваемым им
зверям, сам является одним из них. «Яростное истребление» вещей и
живых существ, по Батаю, происходит и при жертвоприношении,
в этом случае оно возвращает их из мира мертвых, служебных
вещей в мир первобытной стихии, где человек не господствует над
континуальной окружающей средой, не выделяется из нее как
носитель дискретного начала; это его преднамеренное и
временное возвращение к состоянию зверя. В позднейшей книге «Эроти-
35 Роже Кайуа, Миф и человек. Человек и сакральное, М., ОГИ, 2003, с. 174.
(Цитируется книга «Человек и сакральное», 1939)
36 М.М. Бахтин, Собрание сочинений, т. 5, с. 133.
37 Жорж Батай, Проклятая часть: Сакральная социология, М., Ладомир,
2006,с 55.
Зоологический предел культуры
451
ка» (1957) Батай усложнил свою концепцию, введя понятие
трансгрессии как необходимого, обязательного нарушения запрета (в
частности, запрета на кровопролитие, на ярость); в этом смысле
флоберовская легенда о Юлиане читается как история
трансгрессии с последующим искуплением, история неизбежного, хоть и
временного возвращения человека в стихию звериного разгула.
В противоположность Батаю и в прямой полемике с его
концепцией сакрального, Джорджо Агамбен формирует свое понятие
«голой жизни», определяя ее как результат «двойного исключения,
как из jus humanuni, так и из jus divinum, как из религиозной, так
и из профанной сферы»38. Такая «голая жизнь», примерами которой
в современную эпоху являются коматозный больной или узник
концлагеря, подобна статусу животного как минимального предела
человеческой культуры, о котором Агамбен написал другую,
специальную книгу39; это простейший, элементарный факт жизни в
человеческом обществе, его можно сопоставить с «наиболее
элементарным аспектом жизни», о котором писал Бахтин. Однако
русский ученый даже по отношению к такому «элементарному
бытию», «биологическому минимуму жизни» постулирует
возможность любовного отношения со стороны человеческого субъекта:
«его нужно жалеть и миловать»40. Напротив того, Батай и Агамбен
трактуют животность как ошеломительную самоутрату субъекта —
разница лишь в том, что для одного из них это опыт силы, а для
другого опыт слабости, утрата субъективности трактуется в одном
случае как экстатическое возвышение жизни, а в другом случае как
ее бессильное умаление.
Для Бахтина, с конца 1920-х годов изучавшего человека прежде
всего через феномен речи, такой опыт самоутраты неинтересен и
даже едва ли мыслим: ведь где нет субъекта, там не может быть и
речи. Ближе всего Бахтин подступился к этой проблеме, описывая
феномен карнавала — близкого «фамильярного общения», почти
отменяющего дистанции и границы между людьми; и не
случайно, что в заметках о Флобере он выявляет карнавальные мотивы в
творчестве этого писателя. Но карнавал и животное начало — все-
таки не одно и то же, и различие между ними связано именно с
речью; в реальных исторических карнавалах участвовали и
животные, но лишь будучи окружены человеческой речью, включены в
процесс знаковой деятельности. Вероятно, именно поэтому
Бахтин, говоря о Юлиановой охоте, не обращает внимания на описан-
38 Giorgio Agamben, Homo sacer I: Le pouvoir souverain et la vie nue, P., Seuil,
1997, p. 92. Французский перевод Марилен Райола.
39 Giorgio Agamben, L'Ouvert: De l'homme à l'animal, P., Payot Rivages, 2002.
40 M.M. Бахтин, Собрание сочинений, т. 5, с. 133.
452
Теории и мифы
ное Флобером превращение человека-охотника в зверя-хищника;
по крайней мере, в его сохранившихся заметках ничто не
указывает на этот момент. Если Батай и Агамбен, каждый на свой лад,
исследуют сакральное как первичный, архаический феномен
религиозного сознания, то Бахтин сохраняет привязанность к
исторически поздним формам религиозного опыта, прежде всего к
христианскому опыту межсубъектного диалога, образец которого —
молитвенный диалог человека с богом; не находя такой духовной
установки у Флобера, он склонен расценивать это как слабость,
социально-историческую ограниченность писателя («сложившееся
мировоззрение, проторенные колеи мыслей отводят от глубокой и
существенной постановки этой проблемы»), тогда как на самом
деле есть основания считать, что Флобер просто был чувствителен
к другим, дохристианским аспектам отношений человека и
животного. Так «периферийная» проблема зоологического предела
культуры оказалась и предельной точкой бахтинской концепции
культуры, показывая как ее потенции, так и ее границы.
2010
книги и люди
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТЕОРЕТИКА
(Автобиографическая проза Виктора Шкловского)
Виктор Шкловский в 1920-х годах писал автобиографическую
прозу, а в 1960-х — мемуарную. В поздних мемуарах, вошедших в
сборник «Жили-были», предмет повествования отделяется от
автора двойной дистанцией: временной (речь идет о событиях 40—
50-летней давности) и тематической (рассказывается не столько о
самом авторе, сколько о его современниках, знаменитых и нет: о
родных и близких, о друзьях по ОПОЯЗу, о Маяковском и
Эйзенштейне, о Ленине, которого автору доводилось слышать...)· Иначе
обстоит дело с ранними автобиографическими вещами —
«Сентиментальным путешествием» (1923), «Zoo» (1923), «Третьей
фабрикой» (1926): они создавались, особенно две первые, практически «в
режиме реального времени» и касаются в основном собственных
жизненных перипетий молодого писателя — пережитого им в
революции, на Гражданской войне, в эмиграции, в процессе нелегкого
врастания в советскую культурную жизнь. Фигура автора здесь не
столь устойчива, как в поздних воспоминаниях, — это не маститый
литератор, издалека рассматривающий себя в юности, а
непосредственный участник здесь и сейчас происходящих событий: эсер-
подпольщик, который пишет, отсиживаясь на конспиративных
квартирах, полемизируя с печатными доносами и мучаясь мыслью
об участи арестованных товарищей; влюбленный,
обменивающийся письмами с женщиной и одновременно составляющий из этих
писем книгу; советский литератор-попутчик, пытающийся через
посредство своих книг выторговать у государства приемлемый
режим сотрудничества и опять-таки перемежающий
автобиографический рассказ актуальной перепиской — правда, не любовной, а
научной, с друзья м и-литературоведам и.
Литературоведческая тематика важна не только в «Третьей
фабрике», где ее особенно много, но и в «Сентиментальном
путешествии», и в «Zoo»: колеся по революционной России,
Шкловский умудряется писать статьи по теории литературы, а в письмах
к возлюбленной так перечисляет свои «обязанности» перед нею:
«любить, не встречаться, не писать писем. И помнить, как сделан
"Дон Кихот"»1. Перечитывая сейчас его автобиографическую про-
1 Виктор Шкловский, «Еще ничего не кончилось...», М., Пропаганда, 2002,
с. 290. Далее ссылки в тексте статьи подразумевают это издание.
456
Книги и люди
зу, понимаешь, что именно этим она наиболее оригинальна и
проблематична. «Теория» по-гречески значит «созерцание», для
созерцания необходима дистанция, а тут теоретик — самый настоящий
теоретик, мирового класса, — живет в обстоятельствах, не
допускающих ни малейшей дистанции, требующих немедленной
практической реакции: стрелять, нападать, убегать, отвечать словом и
поступком на всевозможные внешние вызовы.
Александр Галушкин во вступительной статье к
комментированному изданию прозы раннего Шкловского сравнил его с
Индианой Джонсом2: остроумная аналогия, но, как всякая аналогия,
кое в чем хромает. Во-первых, в отличие от американского
киногероя у Шкловского интеллигентская ученость — не просто
условная черта характера, эффектно контрастирующая с авантюрным
сюжетом, но и реальный факт даже не только личной биографии,
а истории культуры: мало того что он аттестует себя теоретиком,
он действительно создает новаторскую теорию литературы и
некоторые ее фрагменты вводит прямо в автобиографический текст.
Во-вторых, — факт очевидный, но тоже важный — о своих
приключениях Шкловский, даже служа в 1920-е годы «на 3-й
фабрике Госкино» (с. 340), рассказывает языком не кино, а литературы,
то есть тем самым языком, который анализирует в качестве
теоретика. Сам собой возникает соблазн поверить практику теорией или
наоборот — разобрать прозу Шкловского через его поэтику
охранения и функционального сдвига. В значительной мере это уже
сделано критиками и исследователями3; я попытаюсь рассмотреть
здесь лишь тот «образ автора» (разумеется, более или менее
воображаемый — на то он и образ), который формируется в этой
прозе. Формируется в конкретных исторических обстоятельствах, но
с помощью вневременных теоретических приемов — а потому и
актуален для любой эпохи, включая нашу: такова обобщающая
сила искусства.
Странная война
И вот я не умею ни слить, ни связать все то
странное, что я видел в России (с. 185).
Жизнь течет обрывистыми кусками,
принадлежащими разным системам.
2 «Его биография похожа не столько на curriculum vitae академического
ученого, сколько на жизнеописание Индианы Джонса» (с. 6).
3 Последняя работа на эту тему: Ян Левченко, Другая наука: Русские
формалисты в поисках биографии, М., Издательский дом Высшей школы
экономики, 2012, с. 83-166.
Приключения теоретика
457
Один только наш костюм, не тело,
соединяет разрозненные миги жизни (с. 186).
Виктор Шкловский.
Сентиментальное путешествие
События, рассказываемые в «Сентиментальном путешествии»,
в значительной степени относятся к Первой мировой войне,
продолжением которой в России стали революция и война
Гражданская. Умонастроение, с которым Европа вышла из мировой войны,
часто называют психологией «потерянного поколения». И
действительно, в своих военных переживаниях и описаниях молодой
Шкловский порой смыкается с молодым Хемингуэем, которого,
конечно же, еще не мог тогда читать. У них сходный стиль:
«рубленое» письмо, отказ от логических и особенно психологических
связок — даже в повествовании о собственной жизни! — манера
сдержанно-фактографически, с короткими точными деталями
сообщать о страшных и потрясающих вещах4. Смысл этого стиля —
кризис ценностей, непристойность любых высоких
(идеологических) слов, когда приемлемыми, как сказано в начале романа
«Прощай, оружие!», остаются лишь кое-какие чисто
информативные слова, имена собственные и числа. Сравни у Шкловского
такую сцену Гражданской войны на Украине:
По вечерам занимался с солдатами дробями.
По России шли фронты, и наступали поляки, и сердце мое ныло,
как ноет сейчас.
И среди всей этой не понятой мною тоски, среди снарядов,
которые падают с неба, как упали они однажды в Днепр в толпу
купающихся, очень хорошо спокойно сказать:
«Чем больше числитель, тем величина дроби больше, потому что,
значит, больше частей; чем больше знаменатель, тем величина дроби
меньше, потому что, значит, нарезано мельче».
Вот это бесспорно.
А больше я ничего бесспорного не знаю (с. 208).
Но описание войны у Шкловского отличается тем, что его
автор — не просто писатель, а теоретик литературы, особо
сознательно относящийся к процессу творчества. В июне 1917 года он,
комиссар Временного правительства на Юго-Западном фронте,
участвует в наступлении русской армии:
4 Например: «...в ту ночь, когда я ехал в Москву, великие князья были
расстреляны петербургской Чека. Николай Михайлович при расстреле держал на
руках котенка» (с. 177). Как будто читаешь какую-нибудь миниатюру из хемин-
гуэевского сборника «В наше время».
458
Книги и люди
Помню атаку. Все кругом казалось мне редким, не густым,
странным и неподвижным.
Помню желтые на сером мундире ремни немецкого лейтенанта.
Лейтенант первый выскочил мне навстречу, после секундного
остолбенения бросился, повернулся и упал, подгибая колено под грудь и
как будто ища место, где бы лечь на землю. Желтый ремень
пересекал его спину. Не я убил его (с. 68).
Легко узнать в этом фрагменте по-толстовски «странное»
изображение войны — почти как первый бой Николая Ростова в
«Войне и мире»; и действительно, Шкловский в те годы много изучает
Толстого, во многом именно его прозой обосновывает свое
понятие художественного «остранения». И все же есть в этом пассаже
короткая фраза, какой у Толстого не встретишь: «Не я убил его».
Не «кто-то другой», не «какой-то солдат рядом со мной» (с
которым подразумевалась бы солидарность рассказчика), а вот так
абстрактно-негативно — «не я». Не то чтобы Шкловский
открещивался от своей причастности к кровопролитию: война есть война,
он сам поднял людей в эту атаку, был в ней тяжело ранен, а позднее
получил за нее Георгиевский крест от генерала Корнилова. Это
какой-то более сильный, не этический, а скорее онтологический
жест, совершаемый не героем, г рассказчиком; его зовут так же, как
и героя, но он подчеркивает свое несовпадение с ним: тот, кто был
там, — не я, уже не я.
Чтобы лучше понять этот жест, возьмем еще два примера из
той же книги. Осенью 1917 года Шкловский снова военный
комиссар Временного правительства, но уже в оккупированной
русскими войсками северо-западной Персии. Местное население
бедствует, голодает, страдает от погромов, умирает прямо на
улицах.
Раз утром я встал и отворил дверь на улицу, что-то мягкое
отвалилось в сторону. Я посмотрел, нагнувшись... Мне положили у двери
мертвого младенца.
Я думаю, что это была жалоба (с. 126).
И буквально через две страницы — как будто самоцитата,
нарочитый повтор словесной конструкции:
Слава Халил-паши на Востоке — громкая. Это тот самый Халил-
паша, который при отходе от Эрзерума закопал четыреста армянских
младенцев в землю.
Я думаю, что это по-турецки значит «хлопнуть дверью» (с. 128).
Приключения теоретика
459
Если вдуматься, то второй отрывок, при гораздо большей
чудовищности упоминаемого события, более традиционен и
психологически легче усваивается, чем первый, опять-таки в силу
дистанции — дистанции физической (не сам видел, а излагаю с чужих
слов) и моральной (в последних словах легко прочитать
возмущенный сарказм по поводу зверств турецкого генерала). Другое дело —
рассказ о собственном столкновении вплотную с одним из ужасов
войны: травматический душевный опыт невозможно (нельзя,
недостойно) подверстывать под какую-либо общую моральную
категорию, и, чтобы донести до нас всю его нестерпимость, несводимость
к какому-либо объяснению, писатель имитирует категорию
заведомо условную и парадоксальную; выражаясь в терминах опоязов-
ской теории, сюжетная псевдофункция «жалоба» остраняется
фабульной мотивировкой (мертвый младенец) и сама остраняет ее.
Из-за такого контраста двух уровней конструкции резко
раздваивается и сам субъект речи: тот, о ком сказано «раз утром я встал...», и
тот, кто продолжает «я думаю, что это была жалоба», — два разных,
несовместимых лица, хотя именно в этой точке герой и рассказчик,
материал и прием сходятся вплотную. Автора нельзя упрекать в
бесчувственности или цинизме; скорее перед нами «черный юмор»
(еще одно знамение эпохи — его как раз в те же годы стали
разрабатывать французские сюрреалисты), который в данном случае
основан на том, что авторская личность — не совпадающая ни с героем,
ни с рассказчиком — принципиально отсутствует в тексте,
ускользает в пустоту, в пробел, в невещественный переход от одного «я» к
другому, в монтажный стык между двумя абзацами. Для этого и
служит «фирменный» паратаксис Шкловского — разбивка текста
на короткие абзацы и фразы с минимальными синтаксическими
сцеплениями и с большим числом пробелов.
Параллельно с событиями, излагаемыми в «Сентиментальном
путешествии», Шкловский писал теоретико-литературную статью
«Связь приемов сюжетосложения с общими приемами стиля».
В его собственной прозе сюжет и стиль, деятельность
рассказчика и приключения героя тоже развиваются параллельно.
Стилистические приемы остранения, которые в приведенных выше
примерах непосредственно осуществляются в художественной речи,
соответствуют прямым высказываниям о войне как реальности,
доступной восприятию героя: эта война неплотная, в ней много
пробелов и пустот, куда именно и попадает он сам. Дискретность,
пустотелость войны — залог чувства странности, которое
стремится внушить читателю повествователь; вспомним еще раз рассказ об
атаке на фронте: «Все кругом казалось мне редким, не густым,
странным и неподвижным». А вот еще сходные свидетельства:
460
Книги и люди
Я не видал Октября5, я не видал взрыва, если был взрыв.
Я попал прямо в дыру (с. 142).
В гражданской войне наступают друг на друга две пустоты.
Нет белых и красных армий.
Это — не шутка. Я видел войну (с. 188).
Много ходил я по свету и видел разные войны, и все у меня
впечатление, что был я в дырке от бублика.
И страшного никогда ничего не видел. Жизнь не густа.
А война состоит из большого взаимного неуменья (с. 205).
Известно, что Гражданская война велась при отсутствии
сплошного фронта, — но на германской войне фронт был, а
Шкловский рисует ее точно так же, то есть дело тут не в
структуре реальности, а в эстетическом выборе автора. Он ученик
Толстого или Стендаля с его знаменитым описанием битвы при
Ватерлоо. Для него война — не живописное полотно,
заполненное войсками, их диспозицией и амуницией (так в батальных
панорамах на первом плане размещали бутафорское военное
снаряжение, обломки и т.д.), а какая-то рваная поверхность, где
никакое силовое действие не оказывает эффекта — занесенная рука,
словно во сне, проваливается в пустоту.
Отсюда — странный, двойственный статус героя-рассказчика
на такой рваной войне6. С одной стороны, он умеет «жить в
промежутках»7, в «дырках от бублика» и в силу этого неуловим, не дает
себя ухватить: «Я тут был как иголка без нитки, бесследно
проходящая сквозь ткань» (с. 221). В него стреляют враги, за ним
охотятся сыщики, но все напрасно, он от всех уходит; даже
вызванный в ЧК, он спасается характерно литературным способом —
заговаривает всем зубы красочными историями, почти как
восточная сказительница Шехерезада:
Следователь предложил мне дать показание о себе.
Я рассказал ему о Персии. Он слушал, слушал конвойный и даже
другой арестованный, приведенный для допроса.
Меня отпустили. Я профессиональный рассказчик (с. 148).
Не берут его и нищета, разруха, голод — он легкий человек,
умеет идеально адаптироваться к обстоятельствам:
5 Октябрьский переворот произошел, когда Шкловский находился в
Персии.
6 «Я для солдат человек странный» (с. 209).
7 Так переживаются требования возлюбленной в следующей книге
Шкловского «Zoo»: «Вот тебе день, и вот тебе ночь, а ты живи в промежутках. Только
утром и вечером не приходи» (с. 303).
Приключения теоретика
461
Я, если бы попал на необитаемый остров, стал бы не Робинзоном,
а обезьяной, так говорила моя жена про меня; я не слыхал никогда
более верного определения. Мне не было очень тяжело.
Я умею течь, изменяясь, даже становиться льдом и паром, умею
внашиваться во всякую обувь. Шел со всеми (с. 174).
С другой стороны, неуловимость покупается ценой полной
безрезультатности, неспособности что-либо изменить в
окружающем мире:
Конечно, мне не жаль, что я целовал, и ел, и видал солнце; жаль,
что подходил и хотел что-то направить, а все шло по рельсам. Мне
жаль, что я дрался в Галиции, что я возился с броневиками в
Петербурге, что я дрался на Днепре. Я не изменил ничего. И вот, сидя у окна
и смотря на весну, которая проходит мимо меня, не спрашивая про
то, какую завтра устроить ей погоду, которая не нуждается в моем
разрешении, потому, быть может, что я не здешний, я думаю, что так
же должен был бы я пропустить мимо себя и революцию (с. 142).
И действительно, автобиографический герой Шкловского
ведет на войне весьма активную жизнь — но ни в чем не достигает
успеха. Зря водил он солдат в геройскую атаку на германском
фронте: июньское наступление русской армии быстро
захлебнулось, и она покатилась назад. Зря пытался, порой рискуя жизнью,
сдерживать разложение войск в Персии и защищать от насилия
местное население — по позднейшему признанию писателя, он
«под Урмией мало что сделал. Может быть, не сделал вредного»8;
а в «Сентиментальном путешествии» глухо дается понять, что он
бежал из Персии, не дожидаясь конца своей миссии и чувствуя
свое бессилие ее выполнить. Ничем закончилась его
заговорщицкая деятельность в Петрограде: гибли в ЧК его захваченные
товарищи, был расстрелян его младший брат, а готовившееся
выступление в итоге так и не состоялось («Я думаю, женщине легче было
бы родить до половины и потом не родить, чем нам это делать» —
с. 147). Также и киевский эпизод декабря 1918-го, увековеченный
Булгаковым в «Белой гвардии». У Булгакова не очень-то понятно,
зачем знаменитый и загадочный «прапорщик Шполянский»
накануне решающего сражения за Город «засахарил» (вывел из строя,
засыпав в бензобаки сахар) броневики гетмана Скоропадского, —
а по собственным его воспоминаниям получается, что делалось это
в ходе подготовки эсеровского восстания; только социалисты и
демократы опять-таки не выступили, и саботаж Шкловского по-
Виктор Шкловский, Жили-были, М., Советский писатель, 1966, с. 126.
462
Книги и люди
шел на пользу националистам Петлюры, которые захватили Киев.
Наконец, его служба в Красной Армии под Херсоном в 1920 году,
во время боев против общего врага Врангеля, имела какие-то
трагикомические результаты: командир подрывников Шкловский то
сжигает дотла, намереваясь лишь повредить его, большой мост
через Днепр («И я приложил руку к разрушению России», —
печально констатирует он, с. 210), то чуть не гибнет сам,
подорвавшись при неосторожном испытании немецкого запала...
Однако эта сплошная цепь военно-политических неудач9
оборачивается литературным успехом. Этот успех буквально вписан в
рвано-эпизодическую ткань рассказа о войне и революции,
проглядывает в ее монтажных пробелах. Шкловский-авантюрист и
Шкловский-теоретик по-прежнему следуют параллельными
курсами, отражаются друг в друге, как будто это в самом деле одно и
то же лицо.
Роман Якобсон, еще один теоретик в роли (правда, более
случайной) авантюриста, укрывая нелегала Шкловского в
большевистской Москве 1918 года, на ночь запер его в архиве и
наказал: «Если ночью будет обыск, то шурши и говори, что ты
бумага» (с. 158). Действительно, среди адаптивных способностей
Шкловского есть одна, самая главная, — умение превращаться в
«бумагу», вернее в текст, оттого и неуловимый для сил
материального мира, что он находится в мире ином, идеальном. Его
произведения, сочиняемые по ходу приключений, пунктиром
проходят через автобиографический текст. Во-первых, это
самоописательные моменты возвращения в «точку письма» — в то
место и время, где автор создает свою книгу. Точка эта
перемещается: «пишу свои воспоминания» то в петроградском лазарете
весной 1919-го, то на «даче в Лахте» тем же летом, то опять в
Петрограде, то «в Райволе, Финляндия» весной 1922-го, то в
Берлине... Много лет спустя такой монтажный прием: рассказчик
повествует о былом, но время от времени возвращается к «здесь
и теперь», когда он пишет, — применил Томас Манн в «Докторе
9 Любопытно, что всякий раз, когда друзья Шкловского — формалисты-
опоязовцы — брались за художественное сочинительство, у них получались
жизнеописания неудачников. У Бориса Эйхенбаума — биография
авантюриста XIX века Николая Макарова («Маршрут в бессмертие»); у Юрия Тынянова —
истории неудачливого революционера Кюхельбекера и неудачливого
дипломата Грибоедова; в последние годы жизни Тынянов начал писать роман о
Пушкине, но не дописал, застрял на первой части и, думается, не только из-за
своей болезни — требовалось найти точку зрения на Пушкина как на неудачника,
что было и вообще-то трудно, да еще крайне неуместно на волне официального
пушкинского юбилея 1937 года.
Приключения теоретика
463
Фаустусе»; Виктор Шкловский одним из первых стал
пользоваться им систематически и осознанно.
А во-вторых, его «Сентиментальное путешествие»
прострочено ссылками на теоретические тексты, также создававшиеся по
ходу авантюрных перипетий, — скажем, на уже упомянутую
статью «Связь приемов сюжетосложения с общими приемами
стиля». Шкловский вполне сознает, «обнажает» свой прием
мотива-рефрена: «эта статья — как у киплинговской сказки о ките:
"Подтяжки не забудьте, пожалуйста, подтяжки!"» (с. 158). У
Киплинга, в сказке «Откуда у кита такая глотка», настойчиво
повторяемый мотив «подтяжек» в финале наконец срабатывает: с
помощью своих подтяжек герой закрепляет решетку в пасти
морского чудовища. Упорные теоретические труды комиссара,
подпольщика и беглеца Шкловского и его друзей по ОПОЯЗу также
дали свой результат: «Мы работали с 1917 года по 1922-й, создали
научную школу и вкатили камень в гору» (с. 180). Создание
научной школы — главный итог его скитаний и тщетных попыток
«что-то направить» в реальной истории, где все развивалось,
напротив, по энтропическому пути: «Не в гору — под гору шла
революция» (с. 127).
Результат достигнут ценой превращения себя в живое
отсутствие, умения «жить в промежутках», превращения собственной
жизни в подобие текста, где всегда есть промежутки — между
словами, фразами, эпизодами, между рассказчиком и героем. Как
автобиографический герой Шкловский горько переживает несли-
янность мира, где приходится обитать; трагедия русской
революции разбивает ему сердце. Но в качестве рассказчика-теоретика он
деловито пользуется этим дискретно-фрагментарным, разъятым на
кусочки миром как готовым полуфабрикатом для вещественной
импровизации, «бриколяжа». Этот мир сам себя представляет в
мрачно-ироническом свете — дворники делают наметельники из
палок от плакатов, которые несли на расстрелянной большевиками
демонстрации в поддержку Учредительного собрания, воинское
подразделение живет зимой в холодном доме, перебираясь из
комнаты в комнату, выжигая в них мебель, а затем употребляя
оставленную комнату как яму для нечистот: «Это не столько свинство,
сколько использование вещей с новой точки зрения и слабость» (с.
180). Рассказчик, сам искренне сочувствующий Учредительному
собранию и, конечно, не отрицающий преимуществ нормального
клозета, относится к такой «слабости» с отстраненным
пониманием — ведь в известном смысле «использование вещей с новой
точки зрения» сходно с приемами конструирования художественной
формы, ибо «искусство в основе иронично и разрушительно»
464
Книги и люди
(с. 226)10. Его интонация по отношению к такой реальности
двойственна, в ней ужас сочетается с сообщничеством, политическое
разочарование — со стилистическим щегольством.
Еще один, экстремальный пример: в тылу Кавказского
фронта из-за случайного взрыва динамита погибло много народу.
После взрыва солдаты, окруженные врагами, ждущие подвижного
состава, занялись тем, что собирали и составляли из кусков
разорванные тела товарищей.
Собирали долго.
Конечно, части тела у многих перемешали.
Один офицер подошел к длинному ряду положенных трупов.
Крайний покойник был собран из оставшихся частей.
Это было туловище крупного человека. К нему была
приставлена маленькая голова, и на груди лежали маленькие, неровные руки,
обе левые.
Офицер смотрел довольно долго, потом сел на землю и стал
хохотать... хохотать... хохотать... (с. 139)
Точка зрения характерно двоится: безымянный
офицер-свидетель реагирует судорожным хохотом — а рассказчик Шкловский
специально выделяет этот эпизод, ему это интересно. Не из-за
болезненного интереса к мертвечине, а скорее потому, что макабер-
ная комбинаторика так напоминает традиционные сюжеты об
Изиде и Озирисе, о сказочных богатырях, изрубленных и
собираемых с помощью мертвой воды. Он теоретик, для него все сразу же
превращается в текст.
Чтобы писать важные, существенные тексты — теоретические
или автобиографические, — нужно самому жить между строк.
Творить жизнь, словно художественное произведение, — то был один
из лозунгов времени, его впервые выдвинули еще русские
символисты («найти сплав жизни и творчества, своего рода
философский камень», — пояснял позднее Ходасевич)11. Но Шкловский
следует ему по-новому. Он не «сливает» воедино жизнь и
творчество, а делает из них два несообщающихся, но странным образом
включенных одно в другое пространства. Его жизнестроительство
нацелено не на полноту синтеза, а на разреженность, «негустоту»
анализа; в терминах теории, оно осуществляется не на уровне ма-
10 Еще пример из военного быта: «Мука и масло были. Срывали железо с
крыш домов, пекли на этих листах блины» (с. 135). Почти буквальная
иллюстрация к поговорке «спалить дом, чтобы зажарить яичницу».
11 Владислав Ходасевич, Колеблемый треножник: Избранное, М., Советский
писатель, 1991, с. 270.
Приключения теоретика
465
териала, а на уровне формы. «И вся моя жизнь из кусков,
связанных одними моими привычками» (с. 261).
Русский формалист на rendez-vous
— Не думаете ли вы, что Шкловский в
самом деле по формальному методу написал
«Zoo» — самую нежную книгу наших дней?
Записано Лидией Гинзбург, 1928
В «Сентиментальном путешествии» появляется, еще
сравнительно робко, одно из ключевых слов русской литературы
1920-х годов и один из главных терминов русской формальной
школы — слово быт. Собственно, реально быт фигурирует здесь
одним лишь своим отсутствием, разгромленностью («в
разворошенном бурей быте», как писал позднее Есенин):
Учредительное собрание было разогнано.
Фронта не было. Вообще все было настежь.
И быта никакого, одни обломки (с. 142).
Отсутствие быта, первобытное состояние описывается и чуть
ниже, где речь идет о жизни Петрограда в годы Гражданской
войны — жизни, которую Шкловский впоследствии прямо называл
«первой блокадой» города12:
В начале 1919 года я оказался в Питере. Время было грозное и
первобытное. При мне изобрели сани (с. 178).
И потом:
Следующая зима [1921 — 1922 гг. — С.З.] была уже с бытом. В
начале зимы поставил печку. Трубы 20 аршин. Когда топишь — тепло...
(с. 236).
Быт — это материал для художественного остранения. Но в
данном случае его даже и не нужно остранять — он сам стоит
дыбом. И чем тяжелее в нем жить, тем сподручнее он для
формалистического конструирования:
Относительно быта, — писал Шкловский Тынянову, —
искусство обладает несколькими свободами: 1) свободой неузнавания, 2) сво-
12 Виктор Шкловский, Жили-были, с. 142.
466
Книги и люди
бодой выбора, 3) свободой переживания (факт сохраняется в
искусстве, исчезнув в жизни) (с. 375).
Впрочем, как раз в середине 1920-х годов, когда писались эти
строки, формалисты-опоязовцы — Юрий Тынянов и особенно
Борис Эйхенбаум — стали задаваться вопросом о так называемом
«литературном быте», обнаружив в нем особую плотную среду, в
которую включен писатель. Искусство может иметь относительно
быта хоть десять свобод, но сам-то художник — ни одной. Это с
печальной усмешкой признает сам Шкловский в
процитированном письме Тынянову; письмо в сокращении вошло в книгу
«Третья фабрика», а за рамками напечатанного текста остался
такой образ:
Что касается до частной жизни, то вся моя квартира занята
бытом, а я живу между рамами13.
Пространство жизни делится на две области: плотно набитую
«бытом» и пустое, промежуточное пространство «между рамами».
Между рамами, в пустотах жизни-текста Шкловский и пытается
жить, следуя привычке, приобретенной в годы войны. Однако
«межрамное», внебытовое пространство непригодно для жизни —
разве что для смерти, о чем внятно сказано в другом письме,
также включенном в «Третью фабрику»:
Одна девочка двух лет о всех отсутствующих говорила: «гуляет».
У нее было две категории: «здесь» и «гуляет».
«Папа гуляет, мама гуляет».
Зимой спросили: «А муха где?» — «Муха гуляет».
А муха лежала вверх лапками между рамами (с. 361).
Быт — смертоносная сила. Это слишком хорошо понимал
Маяковский, когда семь лет спустя в предсмертных стихах писал:
«любовная лодка разбилась о быт». Та же коллизия и в самой
выстроенной, композиционно продуманной из автобиографических
вещей Шкловского — «Zoo».
Эта небольшая книжка — уникальная, небывалая для своего
времени, потому что непосредственно встроена в интимную жизнь
автора. По его, авторскому объяснению, она возникла так: двое
людей, любящий мужчина и любимая им женщина, решились
опубликовать свою переписку, не скрывая своих имен, — имя
13 Виктор Шкловский, Гамбургский счет, М., Советский писатель, 1990,
с. 302.
Приключения теоретика
467
Виктора Шкловского стоит на титульном листе, имя Эльзы Трио-
ле в посвящении; и неважно, что его писем куда больше, чем ее,
что любовь односторонняя, неразделенная, — все равно речь-то
идет именно о любви, да еще по горячим ее следам. В наши дни
подобная откровенность сделалась пошлым телеразвлечением для
зрителей «реальных шоу», но в литературе до 1923 года
прецедентов, пожалуй, и не сыскать; причем откровенность тем более
впечатляет, что основана на теории, «на принципе мерцающей
иллюзии, т.е. дана установка то на боль, то на прием»14. Как известно,
участие в этом «коллективном проекте» стало литературным
дебютом Эльзы Триоле, первым толчком к писательской карьере.
Кажется, не обращали внимания на другое: ее дальнейшее творчество
развивалось по схеме, сформированной в «Zoo», — как
литературный диалог с мужчиной-писателем, с которым они в конце
концов выпустили общее, «перекрестное» собрание сочинений. Было
бы любопытно проследить сходства между этим вторым
литератором в жизни Эльзы — ее мужем Луи Арагоном — и неудачливым
претендентом на ее любовь Виктором Шкловским: сложное,
очарованное отношение к русской революции, чувство пустоты в
художественной конструкции, особенно проявившееся в поздних
романах французского писателя... Сама Эльза, в своей телесной и
духовной индивидуальности, послужила как бы сообщением,
транслятором литературных структур от одного автора к другому.
«Правда, не женщина, а сплошная цитата?» — как выразился Шкловский
о ее сестре Лиле Брик15.
В «Zoo» именно от лица Эльзы-Али, в одном из первых ее
писем сформулирована главная проблема книги:
Нас разъединяет с тобой быт. Я не люблю тебя и не буду любить
(с. 277).
В 1934 году Лидия Гинзбург, опираясь на современную
литературную теорию и, скорее всего, держа в уме среди прочего
«материала» высоко ценимую ею книгу «Zoo», набросала краткую
психоаналитическую теорию любовного чувства (эти заметки были
опубликованы лишь посмертно). По ее мысли, любовь всегда
изначально сюжетна, нарративна, всегда сочиняет какой-то миф о
самой себе. Для объяснения этого мифотворчества Гинзбург
предлагает вместо стендалевской «кристаллизации» более конкретный
14 Письмо Шкловского Эльзе Триоле, не вошедшее в текст «Zoo»; цит. по
предисловию А. Галушкина (с. 10).
15 Лидия Гинзбург, Человек за письменным столом, Ленинград, Советский
писатель, 1989, с. 12.
468
Книги и люди
термин, прямо отсылающий к пройденной ею опоязовской
интеллектуальной школе, — оформление:
Решающий момент. Если эротическое вожделение не рассосалось
на первой стадии, то оно сочетается с какими-либо другими
чувствами, отношениями или бытовыми формами. Надо понять на чем
именно—в каждом случае.
Так возникает концепция. Часто это бессознательно находимый
стиль эротического поведения. Для интеллектуальных людей это
осознанная символическая структура16.
Случай Шкловского — конечно, из последней категории.
В предисловии к «Zoo» он профессионально-теоретически
разбирает собственный сюжет: «...обычная мотивировка — любовь и
разлучники. Я взял эту мотивировку в ее частном случае: письма
пишутся любящим человеком женщине, у которой нет для него
времени» (с. 271). Из нужд этой повествовательной схемы он
выводит расстановку персонажей:
Женщина — та, к которой пишутся письма, — приобрела облик,
облик человека чужой культуры, потому что человеку твоей
культуры незачем посылать описательные письма (с. 271).
Аля — «человек чужой культуры», иностранка, хоть и русская
по рождению; с другой стороны, та «своя» культура, которая
описывается в письмах к ней, — это не русская культура как таковая,
а среда русской литературной эмиграции в Берлине. «Спор людей
двух культур» (с. 271) — это фактически спор «слишком
общеевропейской культуры» (с. 321), солидного европейского быта, с
эмигрантской безбытностью. Именно так противопоставлены
главные герои. «Женщина без мастерства» (с. 303), Аля ведет
комфортабельно-буржуазную жизнь — по вечерам танцует с
обходительными англичанами и скучает по Лондону, покупает себе вещи
в дорогих магазинах и поучает своего обожателя: «Сшей себе
новый костюм, и чтобы было шесть рубашек — три в стирке, три у
тебя, — галстук я тебе подарю, чисти сапоги» (с. 313). Ближе к
концу книги у нее даже появляется автомобиль «испана-суиза» — как
можно понять, вместе с неким человеком, к которому автор
«писем не о любви» ее ревнует. Впрочем, будь Аля абсолютно
благополучной, она бы не вызвала к себе любви. В ее комфортабельной
жизни есть изъян — физическая хрупкость: в своих немногочис-
16 Лидия Гинзбург, «Стадии любви» (публикация Д. Устинова),
Критическая масса, JSfe 1, 2002, с. 34.
Приключения теоретика
469
ленных письмах она постоянно жалуется на усталость и хворь, как
бы искупая этим чрезмерную благоустроенность.
Напротив того, главный герой «Zoo» чужд бытовому удобству,
автомобиль для него не роскошь и даже не средство передвижения,
а технический агрегат. В Берлине он на автомобилях не катается,
а по старой памяти прапорщика бронедивизиона помогает
шоферам заводить мотор рукояткой — и терпит позорную неудачу,
столкнувшись с новомодным электрическим стартером, где рукоятки
нет... В одежде он тоже нищ и небрежен: свое единственное
пальто называет то осенним, то зимним, смотря по погоде, и не
желает гладить брюки — ведь они служат не для красоты, а «чтобы не
было холодно» (с. 296). Безбытность он переживает как
историческую судьбу поколения:
Мы не знали иного быта, кроме быта войны и революции. Она
может нас обидеть, но из нее уйти не сможем (с. 294)17.
Это и есть его «концепция», воображаемый сюжет любовного
чувства: нищий, но гордый скиталец, он самоотверженно служит
обеспеченной даме-иностранке «с прилежанием солдата
инженерных войск, плохо знающего гарнизонный устав» (с. 290). Сюжет не
самый оригинальный — в любви вообще все сюжеты давно
проиграны, — но Шкловский строит вокруг него мощную
символическую конструкцию, основанную не на примитивной оппозиции
«голодная Россия — сытый Запад»18, а на более глубоком
противопоставлении онтологической пустоты и полноты, где «быт» (и его
отсутствие) обнаруживает свою этимологическую и сущностную
связь с «бытием».
«...Сейчас живу среди эмигрантов и сам обращаюсь в тень
среди теней», — писал Шкловский в самом конце
«Сентиментального путешествия», в последнем из возвращений в «точку письма»
(с. 266). Те же мотивы звучат и в «Zoo»: очерки русского Берлина —
это сплошные вариации на тему нереальности. Русские
литераторы в Берлине — это кочевой «народ дезертиров от жизни»,
придуманное Алексеем Ремизовым «обезьянье великое войско», которое
«живет как киплинговская кошка на крышах — "сама по себе"»
(с. 282, 283). Здесь изображают деловую активность, как издатель
Зиновий Гржебин, который с авторами торгуется «сильно, но боль-
17 Ср. в «Сентиментальном путешествии»: «Помогало отсутствие
привычки к культуре — мне не тяжело быть эскимосом» (с. 229).
18 Для Германии, лишь недавно пережившей военные лишения и как раз
в 1923 году провалившейся в знаменитую гиперинфляцию (о которой
несколько раз глухо упоминается в «Zoo»), мотив прочного благополучия вообще был
бы мало уместным.
470
Книги и люди
ше из приличия, чем из кулачества. Ему хочется показать себе, что
он и дело его — реальность» (с. 289). Здесь сам влюбленный автор
чувствует себя «занятым человеком», потому что любимая дала ему
«два дела: 1) Не звонить к тебе, 2) Не видать тебя» (с. 290). Здесь
даже «метод», предмет гордости Шкловского-теоретика,
выступает в каком-то бесплотно-отчужденном смысле:
Был верх и низ, было время, была материя.
Сейчас нет ничего. В мире царит метод.
Человек придумал метод.
Метод.
Метод ушел из дому и начал жить сам (с. 291).
Пространство «метода» — холодное и пустое, это пространство
эстетической самоцензуры, самоограничения, поэтому не
ведающая таких сложностей Аля вызывает к себе легкую зависть:
Письмо твое хорошее. У тебя верный голос — ты не фальцети-
руешь.
Мне немножко даже завидно.
Ты была на Таити, и тебе, кроме того, легче писать.
Ты не знаешь — и это хорошо, — что многие слова запрещены.
Запрещены слова о цветах. Запрещена весна. Вообще, все
хорошие слова пребывают в обмороке (с. 320)19.
Опять хемингуэевская ситуация кризиса ценностей: «хорошие
слова» воспринимаются как неприличные, захватанные, и
именно сознанием их «обморока» автор «Zoo» превосходит (по крайней
мере, в собственных глазах) свою литературно неискушенную
корреспондентку. В эмигрантской безбытности он ощущает свою силу
и свободу, залог профессионального художественного достоинства:
Я не отдам своего ремесла писателя, своей вольной дороги по
крышам за европейский костюм, чищеные сапоги, высокую валюту,
даже за Алю (с. 284).
Нищий, но верящий в свое признание художник — еще один
штамп постромантической литературы, однако в «Zoo» его не
только провозглашает главный герой, но и косвенно признает
героиня в словах, за которые любой влюбленный дорого даст, чтобы
услышать или прочитать их в письме от любимой: «Ты нужен мне,
19 Ср. в «Сентиментальном путешествии»: Николай Гумилев «запрещает
своим ученикам писать про весну, говоря, что нет такого времени года» (с. 231).
Приключения теоретика
471
ты умеешь вызвать меня из себя самой» (с. 288). Его
непричастность к плотному миру «быта», его легкость — которую он сам
признавал за собой в «Сентиментальном путешествии» и к
которой Аля призывает его в «Zoo» — дает ему силу небытийного,
отрицательного, «промежуточного» начала, властную над душой
«общеевропейской» женщины, способность добираться до глубинной
истины ее личности, недоступную ей самой без помощи извне.
Однако эта власть существует только на письме, в ситуации
литературного эксперимента вдвоем, на эпистолярной дистанции; ее
недостаточно для взаимной любви, и в конечном счете в «Zoo»
разыгрывается традиционный для русской литературы сюжет о
любовном фиаско умного, тонкого и совестливого мужчины.
Первая автобиографическая книга Шкловского была
«сентиментальной» повестью о политических неудачах, вторая — повестью о
собственно сентиментальной неудаче, которая ведет к политической
капитуляции. В финале ее герой поддается низкому чувству
ревности и на резкое ответное письмо Али реагирует обращением уже
не к ней, а в совсем иную инстанцию. Главная метафора книги
оказывается перевернутой: в предисловии автор представлял дело
так, будто эмигрантская тоска — это такое условное
художественное выражение любовной фрустрации, но в итоге все выходит
наоборот. Формальный замысел, заявленный в предисловии к
книге, вывернулся наизнанку, ностальгический «материал» исподволь
подмял под себя эротическую «функцию». Современный критик
подводит итог: «"Я тебя люблю" расшифровывается как "Я хочу
вернуться в Россию". Письма к Але оборачиваются письмом во
ВЦИК»20.
История с биографией
Веселые времена обнажения приема
прошли (оставив нам настоящего писателя —
Шкловского). Сегодня такое время, когда
прием нужно прятать как можно дальше.
Лидия Гинзбург, 1927
Уже в первых автобиографических книгах Шкловского время
от времени по контрасту с остроумно-парадоксалистским,
нарочито бесстрастным стилем начинает звучать другой, патетически-
возвышенный. Такова в конце «Сентиментального путешествия»
20 Илья Калинин, «История как остранение теории (метафикция
В.Б. Шкловского и антиутопия Е.И. Замятина)», в кн.: Русская теория, 1920—
1930-е годы, Материалы 10-х Лотмановских чтений, М., РГГУ, 2003, с. 196.
472
Книги и люди
дважды повторенная (от лица рассказчика и от лица одного из
участников событий) почти библейская повесть об исходе народа
айсоров из охваченной резней Персии в 1918 году, а также о
подвиге «странного» американского консула доктора Шеда,
подбиравшего и спасавшего детей, которых беженцы были вынуждены
оставлять на своем пути. Деятельное милосердие христианина-
американца к христианам-айсорам — заключительный аккорд
первой автобиографической книги Шкловского; мольбой о
милосердии заканчивается и вторая книга — только эта молитва названа
«заявлением» и адресована в далеко не христианский ВЦИК:
Я поднимаю руку и сдаюсь21.
Впустите в Россию меня и весь мой нехитрый багаж: шесть
рубашек (три у меня, три в стирке), желтые сапоги, по ошибке
вычищенные черной ваксой, синие старые брюки, на которых я тщетно
пытался нагладить складку.
И галстук, который мне подарили.
А на мне брюки со складкой. Она образовалась тогда, когда меня
раздавило в лепешку (с. 329).
Патетически-молитвенная, хоть и сдобренная шутовством,
интонация возникает у Шкловского по художественной
закономерности. Он так настойчиво педалировал тему своей безбытнос-
ти, что вольно или невольно оказался в роли нищего скитальца,
которому положено обращаться с мольбами к высшей силе — он
заслужил это своей аскезой. Можно сказать, что решение
вернуться в Советскую Россию, если не на гибель, то в рабство, является,
как всегда у Шкловского, одновременно и поворотом сюжета, и
эффектом стиля: назвался странником — будь рабом божьим, а не
веришь в бога — сдавайся хотя бы ВЦИКу...
Поиски эпического или квазирелигиозного противовеса без-
бытной «жизни между рамами» выливаются у Шкловского в
существенную для позднего русского формализма проблему биографии.
21 В позднейших, подцензурных изданиях «Zoo» исчезли заключительные
строки, разъясняющие этот жест и вновь отсылающие к войне в Закавказье; как
дает понять автор письма, он не слишком надеется на мудрое великодушие
советской власти:
По обеим сторонам пути лежали зарубленные аскеры. У всех них
сабельные удары пришлись на правую руку и в голову.
Друг мой спросил:
«Почему у всех удар пришелся в руку и голову?»
Ему ответили:
«Очень просто, аскеры, сдаваясь, всегда поднимают правую руку» (с. 332)
Приключения теоретика
473
Еще в «Сентиментальном путешествии» писатель говорил о
безответственности и неэффективности русских революционных
властей:
Мы напрасно так умны и так дальновидны в политике. Если бы
мы вместо того, чтобы пытаться делать историю, пытались просто
считать себя ответственными за отдельные события, составляющие
эту историю, то, может быть, это вышло бы и не смешно.
Не историю нужно стараться делать, а биографию (с. 114).
Вновь перед нами моральная установка «потерянного
поколения» — не верить общим словам и далеко идущим замыслам,
реагировать лишь на непосредственные проблемы, в которых,
кажется, не так легко запутаться; думать о тактике, а не о стратегии22. Так
строилась и «самодельная» теория русского формального метода,
игнорировавшая философские стратегии и постулаты,
сосредоточенная на конкретных «тактических» приемах, которые можно
показать и растолковать на пальцах любому профану, словно
устройство автомобильного мотора. На скрещении «большой»
социальной жизни и «тактической» теории творчества образовалась
категория литературной биографии как конкретного продолжения
творчества в социальной реальности.
Известны слова Осипа Мандельштама из статьи «Конец
романа» (1922) о современных европейцах, которые «выброшены из
своих биографий, как шары из бильярдных луз»23. Своим первым
автобиографическим книгам Шкловский давал «остраненные»,
смещенные заголовки знаменитых книг XVIII века, эпохи, когда
биографическое единство человека казалось незыблемым: в
«Сентиментальном путешествии» вместо стерновского юмора — ужасы
войны, а в тройном заголовке «Zoo. Письма не о любви, или
Третья Элоиза» любовный сюжет эпистолярного романа Руссо «Юлия,
или Новая Элоиза» трижды и опровергается — и письма-то «не о
любви», и местом действия обозначен берлинский зверинец-Zoo,
и даже «Третья Элоиза» — это просто анаграмма имени героини,
«Эльза Триоле». Напротив того, в книге «Третья фабрика» ставится
обратная задача — восстановить биографию, найти для себя
осмысленное место в катастрофически переменившемся мире.
Создать себе биографию — значит, по Шкловскому, соединить
вновь созданную «форму» с найденным в жизни «материалом».
22 «Меня солдаты моей части очень любили; узость моего политического
горизонта, мое постоянное желание, чтобы все было вот сейчас понятно, моя
тактика, — а не стратегия, — все это делало меня понятным солдатам» (с. 144).
23 Осип Мандельштам, Собрание сочинений в 4-х томах, т. 2, М., Арт-биз-
нес-центр, 1993, с. 275.
474
Книги и люди
Нельзя пренебрегать ни тем, ни другим; именно в
«формалистическом», утопическом пренебрежении к жизненному материалу
Шкловский еще в эмиграции упрекал — скорее сочувственно, как
товарищей по общему делу — большевиков: они, по его словам,
«верили, что материал не важен; важно оформление, они хотели
проиграть сегодняшний день, проиграть биографии и выиграть
ставку истории» (с. 189). В итоге, продолжает Шкловский,
большевики выиграли лишь политическую власть, зато растеряли все
социалистические и демократические лозунги, под которыми вели
народ. Сам он, отойдя от политики с ее дурным «формализмом» и
«стратегическим» пренебрежением к людям, пытается выстроить
свою собственную биографию и творчество, опираясь на реально
наличествующий материал. И поэтому теперь он нуждается в
«реальных вещах», в материале, а не в формальных приемах:
Сегодня искусство нуждается в материале (с. 367).
Мне же нужны поля, нужны реальные вещи. Если я не сумею
увидеть их, то умру (с. 391).
Реальные вещи, «внеэстетические ряды» (с. 375) необходимы
как опора для создания «личной судьбы»: «Люди пришли с
революции и хотят личной судьбы» (с. 391). Однако эта потребность в
«реальных вещах» ничего общего не имеет с «реализмом» —
понимать ли его как художественное «отображение» действительности
или же просто как житейски-покорное сообразование с нею (в том
смысле, в каком позднее стали говорить о «реальной политике»).
Биография, которую хочет построить и призывает строить других
Шкловский, основана на опоязовском принципе динамической
формы, формы как борьбы с материалом; просто в данном случае
материалом для преодоления является собственная личность
писателя и/или теоретика:
Изменяйте биографию. Пользуйтесь жизнью. Ломайте себя о
колено.
Пускай останется неприкосновенным одно стилистическое
хладнокровие.
Нам, теоретикам, нужно знать законы случайного в искусстве.
Случайное — это и есть внеэстетический ряд.
Оно связано некаузально с искусством.
Но искусство живет изменением сырья. Случайностью. Судьбой
писателя (с. 370).
Противопоставляя историю и биографию, «внеэстетический
ряд» и «судьбу писателя», Шкловский затевает мирную конкурен-
Приключения теоретика
475
цию с большевизмом, вызывает его на состязание: да,
государственная власть деформирует меня, гнет и давит (сквозная
метафора «Третьей фабрики» — не фабричная, а сельская: выделка
льна, который безжалостно сушат, мочат, мнут, треплют...), но я
из самой этой деформации, из своей несвободы24, из давления
обстоятельств выработаю свою оригинальную, личную форму
жизни. «Отрицание того, что делают другие, связывает с ними»
(с. 354), — эту фразу, брошенную, как часто у Шкловского,
отдельным абзацем, в нарочитом отрыве от контекста, можно понимать
в качестве лозунга, формулы отношений с правящим режимом.
Эти отношения он хочет строить на двусторонней, диалектической
основе.
Слово «диалектический» симптоматично возникает в «Третьей
фабрике»25, это не просто уступка идеологическим догматам.
Большевизм сделал официальной идеологией
революционно-марксистскую версию гегелевской диалектики, тогда как мысль русских
писателей традиционно воспроизводила ее консервативный
вариант — жест «примирения с действительностью». Так
использовал диалектику Белинский, этот, по словам Шкловского, «убийца
русской литературы (неудачный)» (с. 228); и по тому же пути идет
сам Шкловский — поначалу с горькой иронией пародируя
гегельянские тезисы («разложение — процесс разумный, как и все
существующее, и происходил во всей России» — с. 58), а затем
усваивая их все более серьезно. Подобно Маяковскому, он готов
«наступать на горло собственной песне», только ему не требуется
для этого веры в коммунистические идеалы; для него это
очередной акт адаптации, «внашивания в любую обувь».
«В "Третьей фабрике" мы находим интересный пример
первого текста, вдохновленного цензурой и осмысливающего ее через
приемы искусства», — пишет Светлана Бойм26. Программа,
которую вырабатывает Шкловский, должна диалектически соединить
в себе приспособление, сопротивление и преодоление — себя
самого, а косвенным образом и действительности. Нужно не «идти
по трамвайным линиям», прямолинейно-предзаданным путем,
будь то уход из публичной художественной жизни («окопаться,
зарабатывать деньги нелитературой и дома писать для себя») или
безоговорочное сотрудничество с режимом («добросовестно искать
24 «...Я занимаюсь несвободой писателя. Изучаю несвободу, как
гимнастические аппараты», — пишет он в письме за границу Р. Якобсону и включает это
письмо в «Третью фабрику» (с. 361).
25 Правда, в контексте чисто теоретическом: «Я полагаю, что сюжет
развивается диалектически...» (с. 373).
26 Светлана Бойм, Общие места: Мифология повседневной жизни, М., Новое
литературное обозрение, 2002, с. 272.
476
Книги и люди
нового быта и правильного мировоззрения»); нужно вести
сложную работу «скрещения» себя с материалом:
...работать в газетах, в журналах, ежедневно, не беречь себя, а беречь
работу, изменяться, скрещиваться с материалом, снова изменяться,
скрещиваться с материалом, снова обрабатывать его, и тогда будет
литература (с. 369).
Грубо говоря, посмотрим, кто кого пересидит, кто кого
поглотит — не окажется ли построенная таким образом личная,
принципиально компромиссная биография в конечном счете более ценной
и исторически жизнеспособной, чем официальная «история»,
которую творит государственная власть в масштабе всей страны.
Таков смысл включенной в «Третью фабрику» экзотической притчи
«Бухта зависти»: русская колонизаторская экспедиция XVIII века,
вместо того чтобы освоить открытый ею остров в Тихом океане,
сама ассимилируется, растворяется в местном населении, у
которого до сих пор «язык полинезийский с примесью русских слов»
(с. 388). Политическая аллюзия спрятана в середине повести — ее
рассказывает некто Соловей в голодном и морозном Петрограде
1919 года, и после его слов, что, мол, на счастливых островах
«спичек, как и у нас <...> нет», слушатели перебивают:
— Ты разве не помнишь, Соловей, — возразили мы, — что через
два года будет нэп?
— Ах, я и забыл... (с. 386)
Михаил Ямпольский показал, что в историко-литературной
концепции русских формалистов (у Тынянова, Шкловского)
собственно историческим качеством обладает «анахронистически-
бессмысленное», не включенное в псевдоисторический процесс
становления предсуществующих идей платоновского типа27.
Программа «построения биографии», выдвигаемая Шкловским для
современной культурной ситуации, есть не что иное, как
программа производства таких «анахронистических», не поддающихся
идеологическому усвоению человеческих объектов — не то
«пережитков прошлого», как спички в быту военного коммунизма, не то
фантастических видений будущего, как нэп, чей приход и даже
название знают наперед слушатели «Бухты зависти».
Небытийность, «неотмирность» художника, которую
Шкловский так двойственно переживал на войне и в любви, по-прежне-
27 Михаил Ямпольский, «История культуры как история духа и
естественная история», Новое литературное обозрение, 2003, № 59, с. 46.
Приключения теоретика
477
му конфликтует с окружающим бытом, который ныне снабжен
партийным эпитетом «новый». Но на этот раз она все чаще
осмысляется как другой быт, быт частной жизни. Отсюда — впервые у
Шкловского — еще сравнительно краткий рассказ о своем детстве
(подробнее он будет развернут лишь много позднее, в мемуарах
1960-х годов), обрамляющие «Третью фабрику» главки о
маленьком сыне писателя и его игрушечном «красном слонике»,
включенные в нее дружеские письма к опоязовцам; отсюда и сугубо
частные параметры, в которых рассматривается
свобода/несвобода писателя:
Я хочу свободы.
Но если я ее получу, то пойду искать несвободы к женщине и к
издателю (с. 368).
Личную биографию, создаваемую в
сотрудничестве/соперничестве с режимом, Шкловский пытается превратить в укрытие от
него. Он готов жить «в промежутках», в кошачьих лазах, которые
некогда оставляли в жилых зданиях, пытается даже прижиться
«между рамами». Он с восхищением пишет о домашней
неприступности Осипа Брика — «человека присутствующего и
уклоняющегося», обладающего «искусством не заполнять анкету» и
потому как бы не существующего в глазах официальных инстанций:
Брик не мог сделать только одного — переехать с квартиры на
квартиру. Тогда бы он стал движущейся точкой.
Но он мог бы зато надстроить на дом, в котором жил, три этажа
и не быть замеченным (с. 356—357).
Так и Шкловский пытался незаметно «надстраивать» новые
этажи на узком пространстве, выторгованном у режима. Он
приспосабливался артистически; его капитулянтские жесты
изощренно сложны по смыслу и оттого не вызывали большого доверия у
властей; это вам не простодушно поднятая рука турецких аскеров
(которая, впрочем, и их не спасала). Поправляя после возвращения
в СССР текст «Zoo», он в ехидную фразу по адресу
коллеги-литератора: «Природа щедро одарила Эренбурга — у него есть паспорт»
(с. 324) — вставляет одно очевидное, казалось бы, слово:
«советский паспорт»28, и вся ситуация освещается по-другому: теперь уже
Илья Эренбург, обладатель «серпасто-молоткастого»,
противопоставлен не беспаспортным апатридам -эмигрантам (они как бы
исчезли с глаз долой), но приличной публике с документами других
28 Виктор Шкловский, Жили-были, с. 242.
478
Книги и люди
государств — точь-в-точь как в не написанных еще в 1923 году
«Стихах о советском паспорте» Маяковского. А в 1930-м, совершая,
возможно, самую трудную из своих уступок властям — отрекаясь от
формального метода, от ОПОЯЗа, — он вводит в текст публичного
отречения образ, почти равносильный легендарному галилеевско-
му «а все-таки она вертится!»:
В романе Жюль Ромэна «Доноого-Тонка» в городе, построенном
из-за ошибки ученого, был поставлен памятник научной ошибке.
Стоять памятником собственной ошибке мне не хотелось29.
Построенный «по ошибке» город формального метода,
комментирует Светлана Бойм, — «это боковой сюжет истории, какие
Шкловский особенно ценит в литературных произведениях»30;
очередное проявление того «анахронистически-бессмысленного»,
которое и занимает по праву место в истории.
Можно ли сказать, что в своем состязании с режимом
Шкловский потерпел очередную неудачу? Действительно, вьщвинутый в
«Третьей фабрике» проект мирного сосуществования с советской
властью не имел шансов на сиюминутно-политический успех.
Власть никогда не играет по правилам со своими соперниками.
В позднеопоязовском утверждении «внеэстетических рядов» она
чутко улавливала подрыв ее собственных догматов о приоритете
бытия над сознанием (у Шкловского-то сознание, конечно,
остается выше бытия — именно потому, что оно не-бытие). Она,
правда, не тронула самого писателя, но убивала близких ему людей —
расстреляла двух братьев, уморила в голодном Питере сестру,
угробила на фронте Второй мировой войны сына, того мальчика,
что в «Третьей фабрике» играл с красным резиновым слоником.
Она принуждала формалистов отходить или отрекаться от своих
теорий. Она долгие годы заставляла Шкловского заниматься
халтурой (которую он, как известно, разделял на «греческую» —
работу не по специальности, и «татарскую» — работу спустя рукава;
но самому ему нередко приходилось совмещать оба смысла...),
заставляла ездить на гулаговскую стройку канала Москва — Волга,
вводить в свои литературоведческие книги тяжеловесные, нелепо
оттененные монтажными стыками (словно кавычками!)
декларации о любви к Ленину. Хуже того: она вынуждала его писать все
менее точно, все более увлекаться «искусством не сводить концы
29 Виктор Шкловский, «Памятник научной ошибке», Литературная
газета, 27 января 1930 г. Вообще-то «Доногоо-Тонка» (так!) — не роман, а пьеса-
сценарий Ж. Ромена (1929).
30 Светлана Бойм, Общие места, с. 274.
Приключения теоретика
479
с концами» (с. 375), злоупотреблять уклончиво-произвольными
обиняками, какие приличествуют поэту или конспиратору, но не
ответственному за свои слова теоретику. Монументальный камень
теории, который он вместе с друзьями вкатил на гору в лютые годы
революции и Гражданской войны, в позднем его творчестве
покатился обратно, словно русские войска в 1917 году с горных плато
иранского Азербайджана; не «Анабазис», а «Катабазис» —
пророчески горько острил он в «Сентиментальном путешествии» (с. 138):
не восхождение, а нисхождение.
Впрочем, он ведь и не строил свой проект в расчете на
быстрый успех. Программа-минимум, которую он стремился
осуществить, — это послать нам, его читателям, ясный сигнал: тот, кто
писал все это, — не я, уже не я, не совсем я. «Мир ловил меня, но
не поймал», — эту автоэпитафию малороссийского мудреца
Григория Сковороды хотели бы отнести к себе многие. Шкловскому,
подобно большинству других, это удалось лишь отчасти. Во
всяком случае, его книги, особенно ранние, дают почувствовать такое
стремление, позволившее ему превратить искусство «жить в
промежутках» в авантюру литературной теории.
2003
ЭТЮД О ЩЕГОЛЬСТВЕ
У Бальзака есть книга «Трактат об элегантной жизни», где
философически-шутовским тоном доказывается, что именно
«элегантная», щегольская жизнь составляет высший тип человеческого
существования: идея распространенная в литературе XIX века,
завороженной фигурами денди — от лорда Байрона до Шерлока
Холмса. Вообще, щегольство является одним из устойчивых типов
культурного поведения, и подчас оно способно порождать тексты
высокого культурного статуса. В связи с русским щегольством
конца XVIII — начала ХЕХ века об этом писали в ряде работ Ю.М. Лот-
ман и Б.А. Успенский1. Можно заподозрить, что, при всегдашней
склонности советского структурализма к самоанализу и автомета-
описанию, щегольская культура неспроста заинтересовала его
теоретиков, и притом на сравнительно позднем, зрелом этапе развития
самой этой школы. Действительно, если рассматривать советский
структурализм как определенный культурный стиль, то
определяющей чертой этого стиля окажется именно щегольство. Не совсем то,
какое перенес Карамзин из светского быта в изящную словесность,
не совсем то, какое исповедовали западные романтики и
неоромантики XIX века, но все же хорошо опознаваемое.
В советской культуре периода «оттепели» феномен щегольства
был весьма актуален; к нему проявляли интерес и официальная
пропаганда (борьба со «стилягами»), и художественная
литература молодого поколения (проза Василия Аксенова, «сказки для
младших научных работников» братьев Стругацких, поэзия Андрея
Вознесенского — едва ли не единственного поэта-современника,
чьи стихи удостаивались разбора в работах структуралистов). У
структуралистского щегольства появилось и свое историческое
название — «пижонство». Само слово, конечно, существовало в
русском языке и раньше, но относилось лишь к внешности
человека и во всех словарях сопровождалось — сопровождается
поныне — однозначной пометой «неодобр.» или даже «пренебр.».
Только с появлением структурализма оно в жаргоне
интеллигентов-гуманитариев, во-первых, получило переносный смысл, не
1 См., например, их большую статью «Споры о языке в начале XIX века как
факт русской культуры» (Ученые записки ТГУ, вып. 358, 1975) или их же
послесловие к академическому изданию «Писем русского путешественника»
Карамзина (Ленинград, Наука, 1984).
Этюд о щегольстве
481
связанный с одеждой или прической, а во-вторых, стало звучать
амбивалентно — такая оценочная двусмысленность как раз и
сигнализирует о новом, живом и спорном явлении культуры.
«Пижонская статья», «пижонский сборник» — в такой характеристике
выражается одновременно и восхищение, и отстраненность.
Именно на двойственную реакцию притяжения-отталкивания и
рассчитано щегольское поведение. Щеголь ищет обожания, но еще
более избегает панибратства; ему не так важно сорвать аплодисменты
публики, как не допустить, чтобы его снисходительно
похлопывали по плечу, — дескать, наш парень, способный, только чудит
немного...
Советский структурализм был чужероден, экстерриториален по
отношению к истеблишменту и официально признанной культуре.
Факторов чужеродности было много — и непосредственно
политические (использование западных теорий, изучение
неблагонадежных, полузапретных писателей), и этнические (в карьере многих
структуралистов болезненно стояла проблема «пятого пункта»,
предопределившая их эмиграцию), и даже чисто географические
(научно-издательский центр школы располагался на вольнолюбивой
имперской окраине, в Тарту). Были и факторы более глубокие,
собственно культурные: так, структурализм отрекся от традиционного
для русского художественного сознания антропоцентризма в
восприятии литературы, когда в произведении видят прежде всего
«образы» персонажей, более или менее подобные реальным людям.
Оттого в неприятии структурализма сомкнулись не только
официозные идеологи, но и многие независимые исследователи,
усматривавшие в его «формализме» и «техницизме» разрушение искусства,
понятого в духе классической русской критики.
Принудительная, внешне обусловленная чужеродность в
рамках своей культуры — это еще не явление стиля. Стиль,
культурный жест начинается тогда, когда из нужды делают добродетель,
когда объективное положение вещей осмысляют как результат
субъективного творческого замысла. Начиная с эпохи
романтизма щегольская утонченность предстает в ореоле избранничества и
изгнанничества; в этом смысле, например, Альбер Камю в книге
«Человек бунтующий» писал о дендизме как разновидности
экзистенциального бунта. Точно так же и структурализм в СССР
культивировал свою отчужденность и обособленность, формируя тем
самым свой собственный тип красоты.
Понятие научной красоты не слишком распространено в
гуманитарии, которая хорошо ощущает свою родовую связь с
сакральными формами знания и часто склонна оценивать свои
достижения по критериям мудрости или святости, а не по
интеллектуальному блеску, воспринимаемому как «фокусы», недопусти-
482
Книги и люди
мая профанация духовных истин. В отечественном
литературоведении идеальные образы ученого тяготеют к фигурам жреческого
типа — многознающего книжника (например, Д.С. Лихачев) или
всемогущего мага, проникающего в бездонную глубь
художественной плоти (М.М. Бахтин). Эстетическая оценка научной работы
более свойственна точным наукам, раньше и радикальнее других
эмансипировавшимся от религиозной традиции. Для математиков
или физиков сказать «красивая формула», «изящное решение» —
это высшая похвала, почти равнозначная констатации «это
истина». Неудивительно, что структуралисты с энтузиазмом обратились
именно к категориальному аппарату математики и кибернетики:
мало того, что эти категории были научно продуктивны, позволяя
по-новому ставить и решать научные проблемы, они еще и
позволяли ввести в гуманитарные исследования критерий изящества. За
сциентизмом структуралистов скрывался щегольской эстетизм,
стремление красиво выполнять свою работу было едва ли не
первичнее, чем императив математической точности2.
В том, что именно красота, а не точность как таковая
составляла для структуралистов изначальную, глубинную цель
творческих усилий, убеждает, например, научная судьба Александра
Жолковского. Его работы «советского» и «американского» периода
разительно несходны по научному стилю — однако же менялись
второстепенные характеристики, а главное оставалось
неизменным: установка на эффектную красоту. В «ранней манере» эффект
производило сверхформализованное, по замыслу исчерпывающее
описание текста как самопорождающейся системы; в «поздней
манере» средством его достижения сделалась блестящая
интертекстуальная игра, остроумные сопоставления несопоставимых,
казалось бы, текстов и цитат. Вообще, по тому, как тот или иной
ученый относится к критерию красоты в гуманитарном исследовании,
можно достаточно уверенно судить, причастен ли он к
структурализму. Бывает, что люди, отошедшие от методологии точных наук
и вернувшиеся на традиционные пути гуманитарной деятельности,
сохраняют, как наследие своей «структуральной выучки», это
специфическое чутье к изяществу или неизяществу научной мысли;
и обратно, даже при широчайшей и благожелательной
осведомленности в структуралистских теориях непроходимая граница отделяет
исследователя отдуха этой школы, если он довольствуется бесцвет-
2 Кстати, в истории щегольства и прежде можно найти примеры, когда оно
проявляется в демонстративном отказе от гуманитарно-художественной
традиции в пользу позитивного, точного знания. Подобная стратегия поведения
карикатурно представлена в пушкинском описании щеголя Онегина: «...бранил
Гомера, Феокрита; зато читал Адама Смита...»
Этюд о щегольстве
483
ным и безличным языком, если он равнодушен к красоте
научного дискурса. Речь идет, конечно, не о «красотах стиля», а о том
явлении, о котором когда-то говорил Бюффон: стиль (или,
говоря по-современному, дискурс) — «это сам человек», та уникальная
интимно-творческая сфера, где создается новое и происходят
открытия. Содержание, заключенное в строении дискурса (в том, как
пишет исследователь), не менее, если не более существенно, чем
содержание формулируемых научных тезисов (то, что говорится в
работе). Иными словами, истина конкретна и познается на
практике: реальность слова, изреченного «здесь и сейчас»,
содержательнее и глубже отвлеченных идей, свободно переходящих из текста
в текст.
Структуралистский дискурс красив особенной, щегольской
красотой. Щеголь в своем стремлении к эстетическому эффекту
добивается его на свой страх и риск, без опоры на какой-либо
признанный социальный институт, на какую-либо освященную
традицию. Он ведет себя как человек «ниоткуда», черпающий свою
артистическую силу из себя самого. Зная это, можно априори, еще
не вникая в методологические постулаты структурализма, сделать
вывод о его космополитизме — и такой вывод вполне
подтверждается реальностью. Точнее говоря, структуральная школа в СССР
парадоксально сочетала в себе экзотизм с традиционализмом.
Сделав очень много для «воскрешения», возвращения в научный
обиход литературного наследия нашей страны, для восстановления
прерванных в сталинский период культурных традиций, она
вместе с тем в наиболее ответственных теоретических вопросах
опиралась не столько на заветы русской филологии (за исключением
«формальной школы»), сколько на методы кибернетики,
структурной лингвистики и семиотики, разработанные на Западе
(правда, с участием русских ученых-эмигрантов— Н.С. Трубецкого,
P.O. Якобсона). Многие структуралисты и биографически не были
связаны с традиционными гуманитарными науками — в
гуманитарию они пришли со стороны, из точных дисциплин; с точки
зрения официальных научных структур структурализм в СССР мог в
значительной мере восприниматься как объединение самоучек и
дилетантов. Все это сочеталось с его методологическим недоверием
ко всякой спекулятивной философии — будь то, как на Западе,
экзистенциализм или, как в СССР, официальный марксизм.
Структурализм, при всем богатстве своего категориального
аппарата, — в известном смысле «самодельная» наука, обходящаяся без
философских авторитетов: героическое усилие современного
позитивизма, стремящегося отменить и изгнать из науки всякое
абстрактное умозрение. Но такой культурный подвиг порождает и
соответствующее самочувствие, заставляет принимать
соответствующую позу. На сцену культурной деятельности структуралист
484
Книги и люди
выходит как бы с пустыми руками, часто не имея за плечами
поддержки филологической и философской школы; он должен
доказывать свою правоту «здесь и сейчас», не опираясь на авторитеты
(разве что на авторитеты сомнительно-иноземные). Отсюда
повышенные требования к научной красоте его построений:
представитель официальной науки, поддерживаемый ее институционально-
ценностной системой, может позволить себе писать неинтересно,
бесцветно, тогда как вольный стрелок структуралист обязан
добиваться внешнего блеска — а вместе с тем и известной эзоте-
ричности, дабы не смешиваться с толпой «популярных»
литературоведов, заискивающих перед неосведомленностью массового
читателя. Образцом такого притяжения-отталкивания от публики
был Ю.М. Лотман, в работах которого фундаментальная, зачастую
невнятная для профанов филологическая и семиотическая
ученость сочеталась с непревзойденным мастерством «вкусного»
историко-культурного анекдота, раскрывающего культуру
прошлого в неожиданном, нетривиальном свете; последнее привлекало к
нему множество почитателей даже из числа «профанов», обычно
испытывающих аллергию к «сухой наукообразности»
структурализма.
У структуралистского щегольства имелось одно следствие,
связанное с исследованием художественной литературы и характерное
не только для советского, но и для западного структурализма, хотя
на Западе его связь с щегольской культурой оформлялась по
несколько иным параметрам, чем в нашей стране.
Образцовым примером структуралистского подхода к тексту
может служить эпизод в «Имени розы» Умберто Эко, в котором
Вильгельм Баскервильский разгадывает тайну лабиринта.
Проникнув в здание, где расположен лабиринт, и углубившись в его
коридоры, ученейший и мудрейший Вильгельм немедленно
сбивается с пути и, бесплодно проплутав некоторое время, лишь с горем
пополам находит обратную дорогу к выходу. Успеха он
добивается на другой день, тщательно изучив лабиринт... снаружи: по
видимой конструктивной форме здания он делает надежные
предположения о невидимой структуре его помещений. Сходным образом
интеллектуальный пафос структурализма заключается в гордом
отказе углубляться в предмет. Структуралист не признает в тексте
ничего мистического, ничего такого, что требовало бы
личностного проникновения, чтобы быть познано. Он судит о нем извне,
вчуже — с точки зрения неофита, не владеющего искусством
чтения подобных текстов, не знающего их языка3. Он и здесь — сам
3 Известно, что дескриптивная лингвистика, в которой были выработаны
многие методы структуральной семиотики, изначально возникла именно как
дисциплина о незнакомых языках, о том, как описывать язык, не понимая, что
на нем говорят.
Этюд о щегольстве
485
по себе, не желает искать себе опору даже в авторитете
художественного текста как такового. В отличие от традиционного,
более или менее эклектического литературоведения, он не смешивает
язык-объект с метаязыком, не признает молчаливо, что «текст
лучше всего говорит за себя сам», не пользуется
многозначительными цитатами из исследуемого автора, с обманчивой легкостью
подменяющими собой собственный анализ исследователя; он
оперирует только цитатами препарированными, очищенными от всех
логически лишних элементов, а заодно и от всякой
художественной суггестивности.
Советские критики структурализма любили толковать о его
«сальерианской» позиции по отношению к художественному
произведению. Словцо это, впервые возникшее еще в 1920-х годах4 и
нередко повторявшееся в 1960—1970-е годы, отличается
двусмысленностью. Непосредственным образом оно как будто отсылает к
эстетическим исканиям пушкинского героя, который, «звуки
умертвив, музыку <...> разъял, как труп» и «поверил <...> алгеброй
гармонию»; но на заднем плане маячит и намек на злодеяние
Сальери, от умерщвления звуков перешедшего к уничтожению их
творца. Но, даже оставляя в стороне криминальные коннотации, идея
«сальерианства» все равно безмерно далека от реальной практики
структурализма. Пушкинский Сальери был педантом, пусть
педантизм его и развился до трагической страсти, — между тем нет
ничего более далекого, чем педант и пижон. Сальерианское
анатомирование искусства совершается глубоко почтительным адептом,
который более всего озабочен тем, чтобы ни он, ни кто другой не
мог отступить от буквы священного (мастерского) текста.
Напротив того, структуралист, выстраивая модель текста, вступает с ним
в соперничество; его отношение к своему предмету — не
идолопоклонническое, а спортивно-состязательное5. Структуралист
поверяет алгеброй не столько чужую, сколько свою гармонию,
стремится на материале чужого произведения создать свое
собственное, также построенное по законам красоты.
Обостренное внимание к красоте текста не могло не привести
структуралистов к постановке эстетических проблем искусства.
И действительно, в ранний, «героический» период развития
Тартуской школы такие попытки делались. В книге «Лекции по
структуральной поэтике», вышедшей в 1964 году как первый выпуск
4 В названии статьи П.Н. Медведева «Ученый сальеризм» (Звезда, 1925,
№ 3), направленной против русской «формальной школы».
5 Спорт в современном его понимании изначально воспринимался как
атрибут щегольской жизни; можно вспомнить того же Байрона с его
боксерскими поединками и заплывами через Геллеспонт, а в более поздние времена —
аристократическое увлечение авиаспортом в первые десятилетия нашего века.
486
Книги и люди
«Трудов по знаковым системам», Лотман высказал нечто вроде
лозунга, вобравшего в себя весь кибернетический энтузиазм
тогдашнего советского структурализма: «Красота есть информация^. Он
хотел сказать, что эстетическое достоинство текста обусловлено его
повышенной информативностью, образующейся благодаря
мобилизации всех знаковых возможностей языка, когда сам языковой
код из нейтрального носителя сообщения превращается в
дополнительный элемент этого сообщения. Однако в позднейших
своих работах Лотман не повторял такого тезиса. Этот тезис обладает
бесспорной научной красотой, он согласуется и с данными
нашего читательского опыта: слабое сочинение мы читаем «по
диагонали», а высококачественное — внимательно и не торопясь, ибо
оно насыщеннее информацией, не составлено из «пустых»,
заранее знакомых блоков. По-видимому, идея красоты как
информации была оставлена без дальнейшей разработки не из-за своей
научной несостоятельности, а в силу того, что понятие «красоты»
языка-объекта вообще плохо сочеталось с культурным
самосознанием структурализма, стремившегося к красоте метаязыка.
Когда в 1975 году были напечатаны (под названием «К
методологии гуманитарных наук») заметки М.М. Бахтина, где он
напоминал о различии двух способов познания — познания вещи и
познания человека — и упрекал литературоведов-структуралистов
в чисто «вещном», недиалогическом подходе к художественному
тексту, то это было одновременно и верно и неверно.
Структурализм действительно отказывается слышать в тексте «авторский
голос», вступать с ним в диалог — таков сознательный
методологический выбор, который, собственно, подлежит не
опровержению, а лишь «критике» в кантовском значении слова, то есть
анализу возможностей, границ применимости подобного метода. Но
структурализм, как показала его практика, не рассматривает текст
и как отдельную, замкнутую вещь, в завершенности которой
состоял бы залог ее эстетического достоинства. Структуралистов часто
было принято ругать за «имманентный» анализ, за исключение
текста из контекста «действительности» (правда, под последней
обычно подразумевались лишь более или менее сомнительные
идеологические постулаты и догмы). И тем не менее структурализм
не описывает отдельного текста, «текста в себе», он описывает
язык, на котором текст пишется. В соответствии с традициями
лингвистики, из которой он вырос, его предметом является общее,
а не индивидуальное, правила, а не их реальное применение, язык,
а не речь, в терминах Соссюра. Когда структуралисты пытались
6 Ю.М. Лотман и Тартуско-Московская семиотическая школа, М., Гнозис,
1994, с. 132.
Этюд о щегольстве
487
описать устройство и функционирование художественного текста
как такового, их усилия шли мимо цели — точнее, поверх нее.
Осознание этого повлекло за собой методологический кризис,
явственно обозначившийся уже в 1970-е годы. Признанный лидер
советского структурализма Ю.М. Лотман в этот период отходит от
проблематики, сформулированной в двух его книгах, вышедших в
начале 1970-х, — «Структура художественного текста» и «Анализ
поэтического текста», — и обращается к исследованию общих
категорий культуры, семиотики поведения, где художественные
тексты используются лишь как один из частных видов материала.
Отошел от проблем художественной литературы и Б.А. Успенский,
хотя еще в 1970 году он выпустил книгу «Поэтика композиции».
Попытка А. К. Жолковского и Ю.К. Щеглова в серии работ дать
новый импульс развитию структуральной поэтики, пользуясь
методами уже не дескриптивной, а генеративной лингвистики, дала
результат опять-таки методологически отрицательный — вместо
генеративной поэтики получалась генеративная риторика, то есть
описание процедур, посредством которых производится
нехудожественный, «серийный» текст. Примерно в те же годы и во
Франции Ролан Барт отказался от разработанных им методов
структурного описания и занялся изучением нового объекта, особого типа
знаковой деятельности, который он назвал Текстом и который, в
отличие от привычного филологам «текста» с маленькой буквы,
лишен эстетической и даже семантической завершенности. В том
же духе и Юлия Кристева уже в 1968 году признала, что «для
семиотики литература не существует»7 — то есть специфика
художественного творчества данным методом не учитывается. Понятие
«структуральное литературоведение» обнаружило свою
внутреннюю противоречивость.
Осознание этого кризиса предопределило выход некоторых
структуралистов за рамки научной парадигмы, сближение с
художественным творчеством — особенно на Западе, где Умберто Эко
снискал громкую славу как романист, а Ролан Барт декларировал
свой переход «от науки к литературе», и его поздние эссе «Ролан
Барт о Ролане Барте», «Камера люцида» представляют собой
полухудожественные автометаописания. Есть, конечно, нечто
парадоксальное в том, что именно направление, стремившееся
максимально избавиться от зыбкой, полухудожественной эссеистичности
традиционного литературоведения, в итоге само оказалось
родственно художеству; но здесь действует обычная закономерность —
самым радикальным бунтарским движениям всегда свойственна
7 Julia Kristeva, «La sémiotique, science critique et/ou critique de la science»,
dans Julia Kristeva, Semeiotikè. Recherches pour une sémanalyse, P., Seuil, 1969, p. 41.
488
Книги и люди
особенно мощная возвратная сила консерватизма, приводящая
«блудных сыновей» обратно в лоно того, от чего они
отталкивались.
Структурализм как направление просуществовал не так
долго—с середины 1950-х годов до середины 1970-х, когда вперед
выдвинулись различные течения постструктурализма. Столь
короткая жизнь обычно не характерна для научных школ — раз
возникнув, они развиваются многие десятилетия. Мы и сегодня
являемся современниками научных направлений в
литературоведении (культурно-исторического, социологического,
фрейдистского), сложившихся еще в конце XIX — начале XX века.
Исключение составляет разве что одна значимая литературоведческая
школа, которая как раз и оказалась наиболее актуальна для
советских структуралистов, — «русский формализм». Сходной была и
вообще ее судьба — «формалисты» работали в обстановке
обособленности от официальной науки и идеологических гонений, а в
конце концов ряд ведущих деятелей школы (Виктор Шкловский,
Юрий Тынянов и — с многолетним запозданием — Лидия
Гинзбург) перешли от научного творчества к художественному.
Короткий цикл развития — черта скорее литературных школ, где
полемика с традицией всегда важнее, чем ее усвоение, и смена
поколений совершается часто и резко. Так и структурализм занял
свое место в рамках не столько узконаучного, сколько
литературного, общекультурного процесса. «Промахнувшись» в постижении
специфики художественного творчества, он зато открыл для ее
изучения широкие семиотические и культурно-типологические
контексты, а вместе с тем и сам вошел в художественную культуру
своей эпохи, создав модель интеллектуального поведения
современного литературного щеголя.
1991
HE-СЛОВЕСНОСТЬ
МИХАИЛА ЯМПОЛЬСКОГО1
У Михаила Ямпольского странный, противоречивый статус в
современной русской культуре. Он постоянно присутствует на
отечественном книжном рынке: преподавая в Нью-Йоркском
университете, с 1993 по 2000 год выпустил на родине шесть книг2 — в
среднем получается почти по книге в год, не считая статей. Такая
производительность похвальна даже для серьезного беллетриста
(массовая словесность, разумеется, не в счет), а в науке, где ритм
накопления и оформления идей медленнее, чем в литературе, это
показатель просто феноменальный. Ямпольский — искусствовед,
изначально историк кино, но его работы последних лет выходят
далеко за рамки искусствоведения и скорее посвящены
комплексному исследованию культуры, вызывающему широкий интерес.
Вместе с тем вне специально искусствоведческой сферы у них ис-
чезающе низкий показатель цитирования, они мало обсуждаются
в гуманитарной среде, и в разговорах об их методе часто
слышатся суждения либо скептические («великие мыслители — в одном
ряду со второстепенными литераторами»), либо
пренебрежительные («компьютерный монтаж»), либо просто брезгливые
(«шарлатанство»). Книги Ямпольского совершенно не повторяют одна
другую, каждая из них посвящена новому предмету, новой
проблеме; они отличаются несомненной «интересностью» материала,
черпаемого из самых «горячих» областей современной культуры;
за ними стоит завидная теоретическая эрудиция, знание научной
литературы, — публика же, встречая эти книги, не аплодирует с
энтузиазмом, а упорно «сопротивляется». Необходимо задаться
вопросом о причинах такой реакции.
Причин, вероятно, несколько. Во-первых, с Ямпольским
играет дурную шутку его слишком обширная образованность, слишком
1 Рецензия на книгу: Михаил Ямпольский, Наблюдатель: Очерки истории
видения, М., Ad marginem, 2000. Ссылки на ее текст даются в скобках, с
указанием страницы.
2 «Видимый мир» (1993), «Память Тиресия» (1993), «Бабель/Babel» (1996,
в соавторстве с А. Жолковским), «Демон и лабиринт» (1996), «Беспамятство как
исток» (1998), «Наблюдатель» (2000). В 2000-е годы вышло еще несколько
объемистых работ Ямпольского: «О близком: Очерки немиметического зрения»
(2001), «Физиология символического. Кн. 1. Возвращение Левиафана» (2004),
«Язык — тело — случай: Кинематограф и поиски смысла» (2004), «Ткач и
визионер» (2007), «"Сквозь тусклое стекло": 20 глав о неопределенности» (2010).
490
Книги и люди
широкая тематика его работ: здесь и история кино, и русская
литература XX века (то Бабель, то Хлебников, то Хармс, то Набоков), и
литература западная (от Гёте, Гёльдерлина и Сада до Русселя и
Жарри), и история науки и философии (от оптики и теории
восприятия до политической теологии), и визуальное искусство от
Тернера до Дюшана, и богатейшая и разнородная визуальная
культура XVIII—XX веков — камеры-обскуры, панорамы, стеклянная
архитектура, символика вулкана и водопада, театральные
эффекты... Читая исследователя, так легко переходящего от одного
предмета к другому, любой специалист невольно испытывает
фрустрацию: нет никаких шансов сравняться с автором по
универсальности познаний, сплошь и рядом приходится верить ему на слово и
убеждаться в собственном невежестве; а для специалиста,
привыкшего читать компетентно-критически, с проверкой, эта ситуация
довольно дискомфортная. Читать Ямпольского с
безмятежно-раскованным и, разумеется, поверхностным удовольствием мог бы
разве что абсолютный верхогляд, гипотетический
«постмодернист», вообще не признающий своей обязанностью знать что-либо
основательно, — однако такие, видимо, существуют только в
воображении, включая идеальные самопредставления самих
верхоглядов...
Во-вторых, необъятный материал, которым оперирует Ям-
польский, как будто не подчинен — что делает его книги
трудными уже для чтателей-неспециалистов — какой-либо обобщающей
концепции, «сильной теории», которая сглаживала бы
разнородность тематики. Как правило, это не монографии, а сборники
очерков, которые, по признанию самого автора, можно читать в
произвольном порядке; да и внутренняя композиция каждого из
очерков приводит на ум не столько правильную структуру
классической сонаты или симфонии, сколько джазовую
импровизацию: задавши тему, исследователь начинает ее варьировать в
самых разных регистрах, отходя все дальше от исходного пункта, и
к концу главы ошеломленный читатель уже вынужден делать
немалые мыслительные усилия, чтобы восстановить в памяти ее ход
и понять, каким образом все эти прихотливые теоретические и
исторические экскурсы складываются в единую «пьесу». Такая
внешне ослабленная композиционная логика, хотя под нею и
скрывается единый замысел, создает неудобство для тех, кому
легче принять какую-нибудь глобальную теорию культуры, чем
следить за лабиринтными извивами мысли конкретного
историко-культурного исследования (напомним, кстати, что лабиринт —
тема одной из книг Ямпольского). В результате получается, что
для позитивистской истории культуры работы этого автора слиш-
He-словесность Михаила Ямпольского
491
ком всеохватны, а для спекулятивной «культурологии» —
слишком эмпиричны.
Наконец, в-третьих, — и эта причина, конечно, глубже всех, —
книги Ямпольского радикально антилогоцентричны. Казалось бы,
на этом основана вся философия постмодернизма — однако
отказаться от тотализирующих претензий слова легче... опять-таки на
словах, чем на деле. Постмодернизмом у нас привычно называют
болтливо-многословную речь, притязающую подрывать власть
слова над культурой с помощью массированной игры самими же
словами, — безответственную вольность, которую приверженцы
строгой научности осуждают как несовместимую с серьезной
мыслью. Антилогоцентризм Ямпольского иного толка: исследователь
сдержанно и корректно, на множестве примеров изучает
словесную по преимуществу культуру, литературные и философские
тексты, включая вербальные описания визуальных произведений и
практик; но в культурной материи он высматривает точки, где
словесность иссякает, где сквозь нее проступает другая, не-словесная
подкладка культуры: динамика жизни тела, феноменология
зрительных восприятий, рождение первичного, «беспамятного»
слова, еще не ставшего логосом... Для Ямпольского подавление
языка — не произвольно декларируемый выбор, не «идеология», в
самом названии которой коварно притаился корень слова-врага,
а предмет доказательства и обоснования. В борьбе с логосом у него
есть, конечно, именитые предшественники — Морис Бланшо,
Жиль Делёз, Жак Деррида, но Ямпольскому присуща особая
конкретность, почти материальность мышления, анализ едва ли не
технических фактов, которые впору руками потрогать. У него есть
и отечественные единомышленники: так, он высоко ценит
Валерия Подорогу, однако, в отличие от Подороги, совершенно не
пользуется ресурсами вдохновенно-суггестивной речи; его тексты
написаны «никаким», нейтрально-академическим стилем, и не
случайно в последние годы многие из них сперва публикуются как
статьи по-английски или по-французски и лишь для книжного
издания переводятся на русский, — язык как бы поставлен на свое
место послушного «инструмента мысли», содержание текста не
должно меняться при замене слов другими, иноязычными. По-
видимому, такой «тихий», неброско-конкретный — говоря
попросту, научный — антилогоцентризм нелегко усваивается нашим
культурным сознанием.
Точки дословесности, которые Ямпольский ищет в культуре,
имеют именно точечный, рассеянный характер, чем и
объясняется монтажный принцип его исследований. Люди, знакомые с Ям-
польским, знают о его умении выкапывать ценные книги в бу-
492
Книги и люди
кинистических развалах3; чем-то подобным он занимается и в
своих работах — почти никогда не анализирует целостные
произведения культуры, но искусно извлекает из них эффектные
фрагменты, нащупывает чувствительные места, где на поверхность
глубинными геологическими пластами выступают внесмысловые
предпосылки осмысленных культурных сообщений. И потому эм-
блематичной, автометаописательной выглядит фигура
старьевщика, которой посвящена первая глава его книги «Наблюдатель».
В позднеромантической мифологии, у Чарльза Лэма,
Диккенса, Бальзака, Бодлера, старьевщик — идеальный «читатель»
(наряду с «фланером, детективом, художником» — с. 33) современного
европейского города, хранитель и толкователь его спутанной
вещественной памяти. Его лавка несет мощную символическую
нагрузку — так герой бальзаковской «Шагреневой кожи» нашел в
лавке старых вещей свою судьбу. В товарах старьевщика, как и
вообще в городском быту, распались традиционные иерархии
социальных положений и их знаков, великое и заурядное
хаотически соседствуют — точь-в-точь как среди писателей, художников и
философов, которых по прихотливой ассоциации монтирует друг
с другом автор «Наблюдателя». Чтобы извлекать из бесформенного
мусора цивилизации ценные детали, подобно тому как
старьевщик, по верованиям XIX века, находит сокровища среди
скупаемой им ветоши, — потребно не обычное зрение человека
классической эпохи, натренированное опознавать лишь явные, видимые
знаки, но особенное «сверхзрение», чувствительность к
«аллегорическому» (Вальтер Беньямин) смыслу падших вещей, изъятых «из
органики исторического контекста» (с. 22):
Труд аллегорического чтения города становится одним из
главных занятий художника. Поскольку город теперь описывается как
тотальный маскарад, а вера в надежность социальных знаков
оказывается чрезвычайно ослабленной, художник получает новую
функцию — дешифровщика повальной социальной травестии <...>.
Извлечение золота из мусора как метафора поэтического труда находит
здесь свое конкретное воплощение (с. 27, 28).
Ямпольский не останавливается на анализе этой
мифологической символики старьевщика — в его фигуре он выделяет соб-
3 Его соавтор по одной из книг упомянул об этом в своей мемуарной
«виньетке»: «Как-то раз, когда я стал восхищаться его умением отыскивать в
букинистических магазинах редкие книги, да еще и по дешевке, он сказал, что у
каждого свои пристрастия-дарования...» (Александр Жолковский, Эросипед и
другие виньетки, М., Водолей Publishers, 2003, с. 12).
He-словесность Михаила Ямпольского 493
ственно визуальную компоненту, особый тип «видения»;
семиотика культуры уступает здесь место типологии интенциональных
позиций. Та же сцена в лавке редкостей из «Шагреневой кожи»
являет пример особого типа воспринимающего сознания — сознания
«панорамного»: оно «поглощает детали в некий общий, почти не
дифференцированный поток, выражающий предельную дистанци-
рованность от деталей» (с. 41), — и вместе с тем, парадоксальным
образом, предельно приближается к этим деталям:
Наблюдатель как будто вынужден придвигаться к отдельным
деталям, чтобы вовсе не утратить их, и это приближение Бальзак
описывает как театральное перевоплощение в «частности», то есть такую
форму эмпатии, которая совершенно снимает различие между
восприятием и миром (с. 41).
Как выясняется, зрение старьевщика (или поэта,
принимающего, подобно бальзаковскому герою, старьевщицкий взгляд на
вещи) неустойчиво и противоречиво — оно «одновременно
выражается и в предельно отчужденном видении мира, и в игре
сменяемых ролей» (с. 41), перевоплощении наблюдателя в
наблюдаемые вещи. Другой вариант «дестабилизации структуры зрения»
(с. 60), происходящей в европейской культуре романтической
эпохи, знаменует мода на транспарантную живопись — начиная с
эффектов контрового освещения на обычных картинах (например, у
Тернера), где воображаемый источник света, расположенный как
бы за полотном, озаряет фигуры мистической аурой, и кончая
собственно транспарантными зрелищами вроде диорамы и панорамы.
Подобные произведения, с их плавающей точкой обзора,
разрушают классическую перспективу и порождают у зрителя иной, чем у
старьевщика, эффект панорамного видения, одновременно
расширенного и прилипающего к объекту:
...зрение как бы распространяется по всей поверхности холста,
который вместо глаза, фиксированного в точке зрения перспективы, все
в большей мере предполагает наличие некоего наблюдателя,
блуждающего в бесконечно расширенных пространствах. Но этот
блуждающий глаз уже вписан в холст в виде солнца, луны или иного источника
света. Движение этих источников странным образом вписывает
движение глаза наблюдателя в холст (с. 77).
Такая «светофаническая», по выражению Ямпольского,
живопись, нарушая идентичность и внеположность личности
классического зрителя, особенно благоприятствует выражению
сакральных, мистериальных мотивов: полупрозрачный, просвечиваемый
494
Книги и люди
холст начинает восприниматься как священный покров,
наброшенный, словно в древнем культе Изиды, на невыносимую для
взора, буквально «потустороннюю» тайну. Но вместе с тем
панорамное зрелище являет картину неупорядоченного мира, «хаоса
символов» (Беньямин):
Природа в панорамах предстает огромным неорганизованным
скопищем фрагментов, оторванных от человеческого опыта и
взывающих к некоему упорядочиванию прежде всего через подключение
памяти (с. 92).
На уровне тематики этот хаос знаменуют собой мотивы руин
и особенно «катастрофы», вулканического извержения:
инфернальное свечение раскаленной лавы, лучше всего видное в
темноте, сквозь просвечивающий холст, служит визуальной доминантой
многочисленных в романтическую эпоху произведений на тему о
гибели Помпеи. И опять исследователь подчеркивает
двойственность формируемого таким образом видения:
...в этом «неорганизованном» пространстве помещается особый очаг
временных трансформаций — вулкан. Этот центр зрелища
структурно организует его вокруг образа адского хаоса, катастрофы,
дезинтеграции любого возможного порядка. Парадоксально порядок зрелища
строится вокруг очага, разрушающего порядок, который
одновременно и приковывает к себе внимание наблюдателя, и решительно
дистанцирует его (с. 104—105, курсив мой).
Или другой тематический разворот — и вновь исследователь
переходит от структуры представлений к структуре видения: речь
идет об эстетике стекла. В бесчисленных образцах реальной и
фантастической стеклянной архитектуры XIX—XX веков — от
знаменитого Хрустального дворца на лондонской Всемирной выставке
1851 года до утопических проектов немецких и русских
конструктивистов 1920-х годов, от распахнутых на подводное царство окон
верновского «Наутилуса» до задуманного Эйзенштейном фильма
«Стеклянный дом» — прослеживается образная логика
сакрализации застекленного помещения: так, например, у
поэтов-символистов оранжерея рассматривается как «место произрастания
символов» (с. 127), а не просто цветов, поскольку здесь осуществляется
причудливая процедура пространственной инверсии, отражения-
умножения наблюдателя:
Внешний мир оказывается той бесконечностью, которая
нагружает символ бесконечным смыслом и возвращает наблюдателю
He-словесность Михаила Ямпольского
495
его собственные образы, насыщенные смертоносной энергией
небытия (с. 129).
Это связано с очередной дестабилизацией видения, когда
«наблюдатель <...> не может найти точку зрения, которая находилась
бы на "нужном" расстоянии от объекта, стекло снимает
возможность дистанцироваться, но и не позволяет подойти вплотную»
(с. 140). В таком разрегулированном пространстве «наблюдатель
может сохранить себя, но в режиме безостановочной динамики
перетекания», основанной на «безостановочном колебании между
удаленностью и приближенностью, между притяжением и
отталкиванием» (с. 143). Здесь выразительно охарактеризована
занимающая Ямпольского динамика притяжения и отталкивания,
панорамного и микроскопического зрения — странная, неустойчивая
позиция современного «наблюдателя», которая делает его
конкретно-исторические формы столь противоречивыми и
амбивалентными. В другом месте автор книги описывает ее еще и так:
По сути дела, речь идет не о выходе наблюдателя наружу, но,
наоборот, о парадоксальном вторжении мира внутрь, о его коллажном
приближении к глазу наблюдателя <...>. Результатом такого
приближения оказывается частичная слепота (с. 169).
«Частичная слепота» может осмысляться как драматическая,
смертельная опасность; об этом рассказывается в главе,
посвященной еще одному символу «прозрачности» — водопаду.
Поэтическая мифология естественных и искусственных водопадов
(фонтанов) представляет их в качестве объектов непрерывно движущихся,
текучих, но вместе с тем сохраняющих устойчивую форму.
Парадоксально совмещая длительность и моментальность, водопад
«нелокализуем во времени» (с. 189), «соединяет в себе неподвижность
сакрального бытия и ниспадение во временное» (с. 195). Падение
в водопад может осмысляться — например, в финале романа Хай-
мито фон Додерера «Слуньские водопады» — как смертельное
выпадение из времени, а при литературном описании
противоречивость водопада «приводит к тому, что литературный дискурс
оказывается на грани блокировки» (с. 201). Угроза субъекту
логично сопровождается угрозой языку: «Водопад нельзя описать, он
создает пропасть между видимым и логосом» (с. 206).
Последняя глава книги Ямпольского как будто не имеет
единого визуального сюжета: здесь речь идет о различных феноменах
падения (например, игральных костей; собственно, и водопад был
одним из видов падения), вращательного движения (например,
при танце), подвижного зрителя (в поезде, автомобиле и т.д.), во-
496 Книги и люди
обще наблюдательной позиции, встроенной в некоторое
механическое движение, в динамику механического процесса. Этот
процесс в современной культуре понимается не как правильная
эволюция «в кругу расчисленном светил», а как спонтанное,
независимое от какого-либо закона отклонение — клинамен: «...бог
заменяется клинаменом, случаем, не подчиненным никакому
детерминизму» (с. 215). Как писал Поль Валери, в такой ситуации
рациональное воссоединение мира возможно только путем
подмены божества наблюдателем: «...единство хаотического и случайного
восстанавливается лишь фиктивно тогда, когда мы на место оси
мирового колеса помещаем человека, наблюдателя» (с. 225). И
такой подставной бог-наблюдатель — именно фиктивный центр
мира, «как бы живой мертвец, воспринимающая мир машина,
мертвый бог, механизм, слепой зрачок» (с. 231). Современная
культура, таким образом, вырабатывает идею «внесубъектного
мышления» (с. 240), сознания, включенного не в духовную, а в
механическую структуру:
Механизм, заключающий в себе человека, — это и есть
воплощение случайности, клинамена. Только присутствие сознания в том
месте, где располагается наблюдатель, и придает творению элемент
случайного [то есть свободной, недетерминированной воли. — С.З.],
но, чтобы случайность могла реализоваться, сознание это должно
быть инкорпорировано в механизм и стать бессознательным (с. 241).
Еще один парадокс Ямпольского — бессознательное сознание,
бесконечно далеко отошедшее от себя, чтобы благодаря этому
стать самим собой, обрести сознательность в «беспамятности»
машины.
В этом кратком изложении одной из книг Ямпольского почти
не говорилось о конкретном историко-культурном материале,
который подобран и проанализирован автором с редкостной
изобретательностью; важнее было прочертить контуры общей проблемы,
которая его волнует и которая носит философский характер.
Противостояние свободного человеческого «я» внешнему миру, их
взаимопроникновение, принимающее форму динамического
(диалектического, как в одном месте замечает исследователь) движения от
бесконечно далекого к бесконечно близкому и обратно,
обращение мертвой механичности в сознательность и vice versa — все это
эпохальные темы философской рефлексии в западной культуре
начиная с XVIII века. Однако Ямпольский недаром любит
подчеркивать, что он не философ: философские темы у него погружены
в вещественность визуальной культуры, где идеи Канта или
Вальтера Беньямина действительно стоят в одном ряду с выдумками
He-словесность Михаила Ямпольского
497
какого-нибудь эпигона «школы катастроф» (течения в английской
литературе XIX века, занимавшейся живописанием гибели
Помпеи) или парижского показчика диорам времен Июльской
монархии. Может статься, что вещи — в частности произведения
искусства, в том числе и искусства словесного, рассматриваемые именно
как изделия, а не как носители вечных смыслов, — вообще
историчнее абстрактных философских идей и своей сменой являют более
точный, более детальный образ человеческой истории. Логика
абстрактных идей аналогична феноменологии человеческого тела,
которую разрабатывает Ямпольский в ряде своих книг.
Рецензируя одну из них, я замечал, что блестящей типологии телесных
положений и взаимодействий недостает исторического измерения;
вероятно, это обусловлено принципиальной внеисторичностью
тела как природного объекта4. В своей новой книге Ямпольский
словно откликается на то давнее замечание, рассказывая историю
«наблюдателя» как особым образом ориентированного в мире
воспринимающего тела, и эта история вписана в историю
европейской культуры и материальной цивилизации последних двух
столетий.
Но, конечно, главная причина историчности «Наблюдателя» —
не чужая критика, а внутренняя потребность авторской мысли.
Ямпольский не скрывает, что среди «вещей», историю которых он
пишет, есть одна особо значимая вещь — точнее, целый комплекс
сложных технических устройств и процессов, имя которому
кинематограф. В самом деле, кинофильм представляет собой зрелище,
воспринимаемое по аналогии с транспарантной живописью, как
изображение, «летящее в световом луче» и таинственно
светящееся в темноте, наподобие вулканической лавы; выраженная в
символике стекла «утопия тотальной прозрачности переносится <...>
в кинематограф, по самой своей сути функционирующий в
режиме транспарантности» (с. 165—166). Подвижность и устойчивость
формы водопада — прямой аналог кинематографического
изображения, образующегося благодаря непрерывной прокрутке ленты;
наконец, идеальной моделью «внесубъектного мышления»,
сознания, встроенного в механизм, автор книги называет «фотоаппарат,
инкорпорирующий бессознательное сознание <...> в механическое
видение» (с. 241), а теоретики такого машинного видения, будь то
писатель-авангардист Альфред Жарри или академический
философ Анри Бергсон, словно сговорившись пользовались метафорой
«внутреннего кинематографа» (с. 246), перцептивной машины,
обыгрывающей иллюзорное превращение корпускулярных обра-
4 См.: S. Zenkine, «Corps continus ou corps historiques?: La postsémiologie
russe», Critique, 2001, n° 644—645, p. 146—160.
498
Книги и люди
зов-кадриков в непрерывный образ-изображение. Из основных
«материально-вещественных» тем, рассмотренных в
«Наблюдателе», пожалуй, один только мотив старьевщика не имеет прямого
эквивалента в технике киносъемки или восприятии кинозрителя;
зато мы уже видели, насколько он нагружен авторефлексивностью,
являя собой мифологизированный самообраз Михаила Ямпольс-
кого — исследователя кинематографа как эпохального феномена
современной культуры...
Итак, по видимости эмпиричная и ассоциативная мысль
автора книги на самом деле проективна (слово, само отсылающее к
одному из кинопроцессов...): сквозь мозаичную историю
«несловесных», телесно-перцептивных тем проступает концептуальная
история наступления новой эпохи, олицетворенной новым
искусством, которое в свою очередь отразилось в строе мысли своего
историка. Диалектика субъекта-«наблюдателя», который то
«наездом» утыкается носом в частные, мелкие и неравноценные
детали, то отдаляется на дистанцию «панорамного сознания», да еще
и не забывает вписать в изложение своего опыта эмблематический
автопортрет, срабатывает не только в исследуемых культурных
процессах, но и в мышлении самого их исследователя. Последний
тоже испытывает трудности с вербализацией своего «видения» и
потому воздерживается от прямого теоретического обобщения, от
формулирования эстетики или феноменологии современности.
Но, сообщая нам это видение в двойной форме: через
исторический опыт культуры XIX и начала XX века и через текстуальный
опыт собственного творчества, — он позволяет нам
концептуально ошутить (намеренно пользуюсь этим оксюморным сочетанием)
то, что в современной культуре хуже всего поддается
концептуализации чисто словесной.
2001
ПО ТУ СТОРОНУ ТОРГА1
Как и положено книге о «разговорах», монография Татьяны
Бенедиктовой сама общительна и непринужденна. Ее мысль, не
легкая, а скорее гибкая, свободно маневрирует в материале
культуры, скрываясь то за изящным анализом текстов, то за забавным
пересказом литературных анекдотов. Вместе с тем ее научная
основа многообразна и солидна, демонстрируя серьезную выучку — по
словам самого автора, «профессиональное само(пере)воспитание»
(с. 3), пройденное в ходе зарубежных стажировок. Спектр
теоретических референций книги простирается от «феноменологии
официанта» у Сартра до рецептивной эстетики Вольфганга Изера,
охватывая чуть ли не все современные теории того, как
воспринимается и осмысливается слово или поступок.
Изучаемый Бенедиктовой феномен неоднозначности текста,
высказывания, поведения — одна из традиционных проблем
литературоведения, но здесь он рассматривается в прагматическом
аспекте, то есть в связи с участниками «разговора», коммуникации,
порождающими или воспринимающими неоднозначные
высказывания. Ситуацию этих людей возможно мыслить по-разному. Они
могут принадлежать иерархическому, вертикально
структурированному обществу, и тогда их «разговор» изначально отягощен
отношениями власти, подчиненности, верности преданию. Но
можно представить их себе и встречающимися как бы на пустом
месте, вне всякой обязательной традиции (если не считать
общего для обоих языка, на котором они общаются). Тогда они на
началах полного равенства, не апеллируя «к авторитету высшей,
"трансцендентной" инстанции» (с. 36), предъявляют друг другу
образы самих себя, обмениваются вызовами и ответами на вызов.
Такой обмен Бенедиктова называет «дискурсом торга», и, по ее
гипотезе, именно этим дискурсом были сформированы культура и
литература США XIX века — страны без исторических преданий,
со смешанным и рассеянным населением, отсутствием жесткого
сословного деления и слабой государственной властью, где
социальные ценности не транслировались сверху вниз по ступеням
1 Рецензия на книгу: Т.Д. Бенедиктова, «Разговор по-американски»: Дискурс
торга в литературной традиции США, М., Новое литературное обозрение, 2003.
Ссылки на ее текст даются в скобках, с указанием страницы.
500
Книги и люди
иерархии, а формировались «на месте», в ходе свободного
критического обсуждения, самопредставления, взаимной оценки.
Дискурс торга, или «торгования» (bargaining), как уточняет
исследователь, чтобы не сводить его к чисто товарным
отношениям, — прослеживается в литературе как на уровне читателя,
определяющего меру своего доверия к автору, так и на уровне героев
повествования, вынужденных оценивать чужие слова и поступки.
Он обнаруживается в текстах автобиографических,
принадлежащих столь разным людям, как один из отцов-основателей США
Бенджамин Франклин, герой-авантюрист Дэвид Крокетт или
«гений рекламы» Финеас Тейлор Барнум, — и в текстах собственно
литературных, признанных шедеврах американской прозы: «Алой
букве» Натаниела Готорна, «Похищенном письме» Эдгара По,
«Моби Дике» Германа Мелвилла, «Приключениях Гекльберри
Финна» Марка Твена.
В ходе анализа Татьяна Бенедиктова использует два базовых
понятия или метафоры: «надувательство» и «письмо».
«Надувательство» образует как бы сильный, мажорный модус
«торгования», при котором участники коммуникации активно пытаются
убеждать друг друга. Это не обязательно грубо-корыстный обман,
прекращающийся в момент, когда доверчивый простак «купится»
на обольщения обманщика: обе стороны могут отдавать себе отчет
в «надувательских» намерениях друг друга и все же продолжать
торговаться ради эстетического удовольствия:
В случаях, когда (и если) покупатель не уступает в ловкости
продавцу, их общение приобретает весьма изощренный характер и
становится источником наслаждения для обоих (с. 110).
«Надувательство», в описываемую эпоху считавшееся
характерной чертой янки — обитателей северо-восточных штатов
США, — восходит к фольклорным жанрам охотничьих небылиц,
рассказываемых пионерами-первопроходцами; оно сближается и
с первыми шагами зарождающегося искусства рекламы. В таком
ключе Татьяна Бенедиктова разбирает стратегии
«воспитательного» обмана у просветителя Франклина или многоступенчатые
«надувательства со сдвигом» у Барнума — грандиозные розыгрыши,
при которых само разоблачение одного обмана публики
становится основой другого, причем к вящему удовольствию обманутых.
В высокой литературе сходные акты коммуникации изображены,
например, у Марка Твена — когда Том Сойер, придумав
гениальный коммерческий ход (собственно, даже и без всякого обмана),
продает приятелям право на покраску своего забора, или когда, в
По ту сторону торга 501
более серьезной ситуации, Гек Финн изощренно торгуется с
собственной совестью, которая мучает его из-за совершаемого им
«аморального» поступка, укрывательства беглого негра. Что же
касается «письма» — в смысле послания, почтового
отправления, — то им иллюстрируется «слабый», минорный модус
коммуникации, в нем звучит не столько молодецкое веселье, сколько
тревога: «нам не дано предугадать, как слово наше отзовется»,
отправитель письма не знает, будет ли понят и справедливо оценен
посылаемый им духовный «товар». Так переживают свое
положение писатели и поэты — Генри Торо, Эмили Дикинсон, не
уверенные в судьбе своих творений; можно напомнить здесь и
хрестоматийное стихотворение Лонгфелло «Стрела и песня» («Из лука
ввысь взвилась стрела. Не знаю, где она легла...»); да и только что
процитированный выше Тютчев был озабочен той же проблемой.
Другие, испытав однажды успех у публики, оказываются затем в
плену однажды избранной темы и вынуждены — как Готорн, По,
тот же Марк Твен — вести нелегкий торг с публикой, ожидающей
от них новых «писем» идентичного содержания с первым.
В дискурсе торга, подвергающем сомнению любые истины,
действует принцип относительности — почти постмодернизм avant
la lettre:
«Наличная стоимость» истины определяется не соответствием
факту, который ведь все равно никто удостоверить не может, а
соглашением с адресатом, в той мере, в какой он расположен и склонен к
«торговой игре» (с. 98).
Относительной, переменчиво-игровой становится личность
самого торгующегося:
По сути, перед нами человек-торг [речь идет о Франклине. —
С.3.] — бесконечно изменчивая, обращаемая, ироничная форма,
которая не стыдится и не пугается внутренних полостей-пустот,
собственную поверхност(ност)ь любя без самодовольства, приглашая и
нас отнестись к жизни на сходный манер (с. 85).
И в другом месте:
Динамичное неравенство себе (лица или явления) американская
автобиография акцентировала и приучала читателя воспринимать как
законное. Означающее и означаемое, форма и содержание пребывают
друг с другом в том же гибком несовпадении, как цена с товаром или
денежная стоимость с потребительской в системе обмена (с. 127—128).
502
Книги и люди
Легко заметить, что эти тезисы согласуются с романтической
эстетикой, хотя, конечно же, далеко не всех «героев» книги
Бенедиктовой можно отнести к романтикам: просто романтическая
культура была веянием времени, не только в Америке и не только
для тех, кто сознательно бунтовал против классического и
просветительского рационализма. В известный момент, в известных
пределах ее модели могли совпасть, зазвучать в резонанс с вековыми
традициями «торгового» дискурса.
Каковы именно эти пределы — заслуживает специального
размышления, и хотя Татьяна Венедиктова не ставит перед собой
такой задачи, хотя ее сила не в определении границ торгового
дискурса, а в описании различных его аспектов и приложений, ее
книга может послужить полезной опорной точкой для подобного
размышления. Не претендуя на исчерпывающий охват,
попробуем здесь наметить лишь некоторые проблемные моменты —
некоторые виды коммуникации, которые не покрываются дискурсом
торга.
Во-первых, парадоксальным образом ему не подчиняется
театр. Вообще-то метафора театральной игры проходит сквозь
всю работу Бенедиктовой («настоящий негоциант всегда "на
сцене", всегда "в роли"...» — с. 37, и т.д.), она была одной из
фундаментальных метафор романтизма. Однако речь идет все время
именно о театре как метафоре, тогда как настоящий,
профессиональный театр оказывается в стороне от «торгования».
Американская культура XIX века не оставила сколько-нибудь значительных
достижений в области драматургии, хотя театры в стране
работали; более того, ее не затронула и мощная европейская мифология
театра (мифологический образ Актрисы и т.д.): она развилась в
Новом Свете уже в следующем столетии, в ситуации ослабления
торгового дискурса и в связи с иным, уже не собственно
театральным видом зрелища — кинематографом. Для Америки XIX века
характерна скорее пародия на театр в «Приключениях Гекльберри
Финна» (халтурное, абсолютно бессмысленное зрелище, искусно
«раскрученное» двумя жуликами, «королем» и «герцогом») или же
ходячий анекдот о пожарном, который на представлении «Отелло»
застрелил исполнителя главной роли — гнусного ниггера,
душившего белую женщину. Неважно, насколько достоверен сам факт:
о европейском невежде такого анекдота не сочинили бы,
варварское непонимание театральной условности приписывалось именно
американцам.
Во-вторых, дискурс торга не может объяснить любовь и
эротику — и закономерным образом обе темы полностью отсутствуют в
книге Бенедиктовой, хотя, конечно же, встречаются в
американской литературе XIX века. Цитируемую исследователем формулу
По ту сторону торга
503
торга по Адаму Смиту — «дай мне то, что мне нужно, и ты
получишь то, что необходимо тебе» (с. 36), — пожалуй, и можно
переиначить по маркизу де Саду как обмен частями тела, взаимно
предоставляемыми для наслаждения, но это, конечно, будет пародия.
Ни любовь, ни эротика не допускают адекватной интерпретации
через метафору обмена — потому что они, так же как и театр,
включают в себя особый, экстатический опыт, когда человек не
только в чужих глазах, но и в своем собственном переживании
выходит за пределы собственной личности, сливается с кем-то
другим (реальным или воображаемым). Обмен, включая торговый,
предполагает устойчивость и раздельность партнеров; этого нет
при любовном слиянии, физическом или духовном, и этого нет на
сцене, где актер теряет устойчивую идентичность, одержимый
чужим персонажем.
Наконец, в-третьих, — и этот случай особенно интересен,
потому что данный вид коммуникации внешне особенно близок к
торговому обмену, — дискурсу торга принципиально чужд
дарственный обмен. Бенедиктова приводит выразительный пример из
«Уолдена» Генри Торо:
...индеец приносит в дом белого сплетенные им корзины и... уходит
ни с чем: к его искреннему удивлению, хозяин, даже будучи вежливо
расположен к незваному гостю, не торопится приобретать его
корзины. Индеец не понимает, что куплен может быть только товар, а
товаром предмет становится за счет изменения «естественной» системы
отношений по его поводу (с. 149).
Под «изменением системы отношений» подразумевается,
конечно, оценка, несостоявшееся включение предмета в дискурс
торга; но в этом эпизоде можно вычитать и более широкое
антропологическое содержание. Белый и индеец противостоят как
носители разных цивилизаций и разных систем обмена: один
меняет товар на товар, «эквивалент на эквивалент», как уточняет
цитируемый Бенедиктовой Карл Маркс (с. 35), а второй живет в
системе дара, где вещи свободны от товарной стоимости (у нас и
поныне принято удалять ценники с подарков), обмен ими в
принципе неэквивалентен (каждый отдельный акт дарения, строго
говоря, совершается «даром», без адекватного воздаяния), но при
этом обладает строгой обязательностью — отклонить дар нельзя,
не совершив афронта. Антропология уже давно, со времен
«Опыта о даре» Марселя Мосса, изучает подобные факты «реципрокно-
го», взаимно обязательного обмена, включая разорительный обмен
по нарастающей, известный именно по культуре
североамериканских индейцев под названием «потлач». В торговом обмене всегда
504
Книги и люди
присутствует стабилизирующая идея «справедливой цены» — к ней
стремятся прийти в итоге торга, на нее ориентируются, измеряя
относительную «справедливость» той или иной промежуточной
оценки, — а дарственный обмен принципиально неуравновешен,
в некоторых же случаях может принимать форму азартного
взаимного разорения: пропади все пропадом, лишь бы отдариться с
честью.
Пример чудовищного не-торгового обмена встречается опять-
таки у Марка Твена, в эпизоде «Приключений Гекльберри
Финна», который прямо предшествует встрече Гека с театральными
авантюристами «королем» и «герцогом». Герой романа попадает в
дом, чьи хозяева находятся в «кровной вражде» с соседним
семейством, и хозяйский сын, мальчик-подросток, так объясняет ее суть:
...бывает, что один человек поссорится с другим и убьет его, а тогда
брат этого убитого возьмет и убьет первого, потом их братья
поубивают друг друга, потом за них вступаются троюродные братья, а
когда всех перебьют, тогда и вражде конец. Только это долгая песня,
времени проходит много2.
Это, конечно, обмен, но пошедший вразнос, вплоть до
полного истребления партнеров — включая самого юного теоретика.
Кстати, выясняется, что вендетта возникла в свое время после
судебного процесса, с решением которого не согласился
проигравший; а ведь судоговорение — это один из видов «разговора»,
близкий к дискурсу торга, то есть в данном случае последний дал
сбой, обмен словами сменился обменом убийствами. Для Гека
Финна и для автора романа этот сбой воспринимается как
морально нетерпимый эксцесс; но в другом своем романе, «Янки
при дворе короля Артура», Марк Твен сатирически изобразил
целое феодальное общество, основанное именно на
систематическом обмене насилием.
Направленный на стабилизацию общества, дискурс торга сам
опасно неустойчив; «разговоры то и дело грозят прерваться
кровопролитием», констатирует Бенедиктова в заключении своей
книги (с. 317), и «торгование» — лишь частный случай на фоне иных
форм социальной коммуникации. Цивилизация, культивирующая
дискурс торга, неизбежно ограничена в пространстве и времени:
в XX веке в Америке она теряет свою чистоту, а розыгрыши Бар-
нума, отмечает исследователь, уже и в XIX веке не пользовались
успехом в южных штатах США, чья аристократическая культура
2 Марк Твен, Избранные произведения, т. 1, М., ГИХЛ, 1953, с. 242.
Перевод Н. Дарузес.
По ту сторону торга
505
утверждала «чувство самотождественности и пиетет перед
условностями» (с. 125). Более того, цивилизация торга даже не
охватывает всех, кто живет в ее ареале: этим игровым общением
забавляются белые мужчины, но их равными партнерами не могут быть
женщины, негры, индейцы.
Можно сделать вывод, что дискурс торга, рассматриваемый
Бенедиктовой как национальная черта американского менталитета
и в приложении к книге сопоставляемый с привычками общения
в русской культуре, может трактоваться и как явление
историческое — как характерный факт «современной» эпохи,
противопоставившей себя традиционным и архаическим формам
социального бытия, попытавшейся сформировать всецело рациональную,
уравновешенную систему социального обмена и даже ее
нарушения ввести в логические рамки (было бы любопытно, например,
соотнести принцип розыгрышей «со сдвигом» и такой эпохальный
метод мышления XIX века, как диалектику). Уникальные
национальные обстоятельства США сложно сплелись с
общеисторическими проблемами, стоявшими перед западной цивилизацией
современной эпохи; одним из ответов на эти проблемы стал
романтизм, другим, отчасти пересекающимся с ним, — дискурс торга
как культурообразующий принцип; вероятно, можно найти и
другие, более или менее конгруэнтные им решения. Анализ одного из
них, выполненный Татьяной Бенедиктовой, побуждает
продолжить исследования за его пределами, в многовариантном
пространстве культуры.
2004
ГЕНЕЗИС ТЕКСТА
И ИСТОРИЯ ЛИТЕРАТУРЫ1
Дисциплина под названием «генетическая критика» уже не раз
освещалась в нашей научной печати, начиная с давней рецензии
Ирины Стаф на сборник «Очерки генетической критики» (один из
первых манифестов новой школы)2 и кончая обзором Ольги Вай-
нштейн, посвященным деятельности парижского Института
современных текстов и рукописей (ИТЕМа)3. С выходом антологии
«Генетическая критика во Франции» у читающих по-русски
появилась возможность познакомиться и с солидным томом статей,
в которых сами критики-генетисты размышляют о теоретических
основах своего метода.
Из выходных данных сборника не ясно, кто конкретно
занимался составлением, подбором текстов для перевода, — а жаль,
потому что он (она, они) заслуживает самых высоких похвал:
статьи, помещенные в антологии, чрезвычайно представительны,
отличаются и высоким качеством текстуальной работы, и
сознательным интересом к методологической рефлексии, то есть дают
одновременно и образцы генетической критики и метатекстуаль-
ные размышления о ней. Антология снабжена четкой
вступительной статьей, очень необходимым здесь терминологическим
глоссарием (автор того и другого— Е.Е. Дмитриева), отличается
прекрасным полиграфическим исполнением: генетическая
критика работает с писательскими рукописями, и в книге факсимильно
воспроизведено множество автографов французских писателей —
часто рядом с их расшифровками и аналитическими разборами,
так что есть возможность самостоятельно во всех деталях
проследить и проверить мысль писателя и его интерпретатора.
К недостаткам антологии относится, во-первых,
непростительное для научного издания замалчивание не только имени
составителями), но и источников публикуемых текстов; даже о датах их
первой публикации ничего толком не сказано, и эти даты — а стало
быть, и место той или иной работы в истории школы — приходится
вычислять самому, по косвенным признакам вроде ссылок на дру-
1 Рецензия на книгу: Генетическая критика во Франции: Антология
(редколлегия: Т.В. Балашова, Е.Е. Дмитриева, А.Д. Михайлов, Д. Феррер), М., ОГИ,
1999. Ссылки на это издание даются в тексте, с указанием страницы.
2 Тенденции в литературоведении стран Западной Европы и Америки:
Сборник обзоров и рефератов, М., И H ИОН, 1981, с. 56—71.
3 Новое литературное обозрение, № 13 (1995), с. 383—388.
Генезис текста и история литературы
507
гие работы. Во-вторых, некоторые тексты статей, как можно
понять, сокращены (опущены детальные разборы конкретных
рукописей, маловразумительные для иноязычного читателя и не
имеющие методологического значения), но эти купюры не
обозначены. И наконец, в-третьих, переводы статей, выполненные
группой специалистов-литературоведов, хоть в целом и
удовлетворительны, не обошлись без ряда ошибок.
Как бы то ни было, при всех частных огрехах издание дает
вполне репрезентативную картину одной из важнейших на
сегодня школ в зарубежном литературоведении. Теория и практика
этой школы ставят ряд серьезных проблем, о которых и стоит здесь
поразмыслить.
В подзаголовке вступительной статьи Екатерины Дмитриевой
содержится три вопроса, три попытки сформулировать суть
генетической критики: «Теория? Издательская практика? Явление
постмодернизма?» Не отвергая ни одной из этих гипотез, можно
предложить еще один, четвертый ответ: генетическая критика —
это институт.
«Институт» понимается сразу в двух значениях, которые
имеет это слово в русском языке. Во-первых, в смысле
административном: генетической критикой занимаются в уже упомянутом
Институте современных текстов и рукописей, представляющем собой
один из ведущих во Франции исследовательских центров по
литературоведению; закономерно, что и в нашей стране его партнером
стало главное литературоведческое учреждение Академии наук —
Институт мировой литературы имени Горького. Во-вторых,
«институт» в смысле социологическом: генетическая критика есть
признанная, интегральная часть современной французской
культуры, выполняющая ряд социальных функций:
научно-исследовательскую, издательскую, мемориальную. В 1970-е годы сами
писатели стали дарить и завещать ИТЕМу свои рукописи и черновики,
и тем самым у института с самого начала возникла своя культурная
мифология: традиционно погоня за писательскими черновиками
имела двусмысленный оттенок гробокопательства или кражи со
взломом4, теперь же аналогичная деятельность осуществляется с
4 Мишель Эспань в книге о предыстории генетической критики прямо
характеризует побудительный импульс филологов XIX века как
«символическое» воровство: «Ведь и рукописные собрания крупнейших библиотек в
значительной мере образованы из краденых рукописей: одни были изъяты
Революцией из монастырских книгохранилищ, другие — отняты в ходе военно-
колониальных экспедиций у побежденных народов, считавшихся
недостойными их хранить» (Michel Espagne, De l'archive au texte, P., PUF, 1998, p. 10).
Перверсивная природа интереса к черновикам вскользь признается и на
страницах рецензируемой антологии, где он соотносится с вуайеризмом (с. 41,
статья Альмут Грезийон).
508
Книги и люди
доброго согласия автора и служит для создания ему как бы
«второго нерукотворного памятника».
Здесь, однако, сразу начинаются проблемы — и прежде всего
проблема научности учреждения, столь сильно нагруженного вне-
научными задачами и интересами. Несколько лет назад Антуан
Компаньон в предисловии к специальному «генетическому»
номеру американского журнала «Ромэник ревью» (сходному по своему
содержанию с русской антологией) писал, что «ИТЕМ — это
история институционального успеха, охватывающая одновременно
литературную историю и иссякающую теорию», — и тут же
задавался недоверчивым вопросом: «Может ли критическая
парадигма совпадать с институтом?»5
Парадокс в том, что ИТЕМ и генетическая критика
институционализируют как раз то, что стремится ускользнуть от всякой
институционализации. Конечно, эта школа имеет свою
собственно научную историю: внимание к рукописи, черновику,
уникальности текста и процесса его создания восходит к традиционным
филологическим штудиям, противопоставленным
обобщенно-риторическому подходу к художественной словесности
(«бенедиктинская» и «иезуитская» традиции в изучении слова)6. Конечно,
такой интерес к пред-тексту, испытавший новый подъем в эпоху
романтизма в Германии, оказывал влияние и на французскую
культуру, сильнее других отмеченную «иезуитским» абстрактным
рационализмом7. Тем не менее современная генетическая
критика — это не просто филология с какими-то новомодными
теоретическими амбициями. Задача филолога в традиционно-«бене-
диктинском» смысле слова — из более или менее дефектных
списков или изданий древнего памятника воссоздать его
исходный, «правильный» текст; задача генетиста обратная — от
однозначной окончательности канонического текста (будь то печатный
текст издания или «авторская рукопись») вернуться в живую,
неустоявшуюся игру «вариантов» и «черновиков», «само название
которых выделяет аспект незавершенности» (с. 95, статья Жана
Бельмен-Ноэля, одного из пионеров генетической критики в
начале 1970-х годов); при такой попытке уловить литературу как
«делание, деятельность, движение»
5 Antoine Compagnon, «Introduction», Romanic Review, 1995, vol. 86, n° 3,
p. 395.
6 См.: Antoine Compagnon, «Pour un tableau de la critique littéraire
contemporaine», in Encyclopaedia universalis. Symposium, P., Encyclopaedia universalis, 1990,
p. 923.
7 См. об этом в уже процитированной книге М. Эспаня, посвященной
франко-германскому «филологическому» взаимодействию в XIX веке.
Генезис текста и история литературы 509
предпочтение отдается не конечному продукту, а процессу его
производства, не написанному произведению, а процессу письма, не
тексту, а текстуализации, не единичному, а множественному, не
конечному, а возможному, не застывшему раз и навсегда, но виртуальному,
не статичному, а динамичному, не структуре, а генезису, не
высказыванию, а акту высказывания, не форме книги, а энергии письма (с. 33,
статья Альмут Грезийон).
Если не знать, что в процитированной методологической
декларации речь реально идет о программе исследования
писательских черновиков, ее легко принять за манифест какой-нибудь
авангардистской или неоавангардистской школы,
подчеркивающей «производственно»-игровые аспекты литературного
творчества, — таких как сюрреализм с его «автоматическим письмом»,
Коллеж патафизики и его «наука о воображаемых решениях»,
Мастерская потенциальной литературы с ее текстами-мобилями
или же группа «Тель кель», вдохновлявшаяся идеями
«интегрального письма». Итак, кроме собственно научных, у генетической
критики имеются существенные литературные корни, каких явно
лишена рутинная текстологическая работа филологов других
стран, например России; именно в этом уникальность
французской культурной ситуации, которая после очередного
исторического взлета «иезуитской» риторики (под названием
структурализма) на новом взмахе маятника породила такое удивительное
явление, как научная — или околонаучная,
«постмодернистская» — институционализация субверсивных тенденций
литературного авангарда.
Теория «письма» разрабатывалась Роланом Бартом, Жаком
Деррида и Юлией Кристевой на рубеже 1960—1970-х годов. Тогда
же, в 1972 году, Жан Бельмен-Ноэль изобрел понятие «авантек-
ста», то есть исследовательского конструкта, создаваемого на
основе анализа писательских черновиков:
Авантекст — это нечто сконструированное <...>. Недостаточно
сказать, что авантекст — это «черновики минус автор», к этому
нужно добавить, что он предполагает еще и вмешательство критика
(с. 101).
Не будем утверждать, что здесь прямо имелось в виду
определить некий аналог «текста» по Барту (определяемого как
произведение минус автор, как поле операторной деятельности читателя/
критика), и все же внутренний импульс в обоих случаях один и тот
же — стремление получить в свое распоряжение новый объект,
некий «ино-текст», противостоящий закоснелости готового и раз
510
Книги и люди
навсегда упорядоченного произведения. А как его называть: «аван-
текст», «генотекст» (Ю. Кристева), просто «Текст» с большой
буквы или иначе — вопрос второстепенный.
Зато есть другой, первостепенный вопрос, который и
отличает практику авангардной литературы от практики генетической
критики: в первом случае подвижный «ино-текст» либо
непосредственно создают творческим усилием писателя, либо выявляют в
мнимо фиксированном «произведении» усилиями
критика-интерпретатора; во втором же случае его просто находят в специальном,
традиционно пренебрегаемом публикой и культурой разряде
языковой продукции — в писательских черновиках. Генетическая
критика с самого начала выделила себе не только новый
интеллектуальный объект (он-то у нее скорее одинаковый с
постструктуралистской критикой вообще), но и особый материал, издавна
закрепленный за традиционной филологией. В этом заключался ее
методологический компромисс с культурным «истеблишментом»
(«учреждением», «институтом»), позволивший ей пережить
«иссякание теории» в 1980—1990-е годы, сохранив некоторые из важных
достижений этой теории. Революционная, связанная с
авангардной практикой литературная теория как бы отступила на тыловые
позиции, окопавшись в филологическом анализе черновиков.
В этой области она добилась успехов, которые нельзя
приуменьшать и которые очевидны при чтении многих статей русской
антологии «Генетическая критика». Укажем кратко лишь три
наименее очевидных теоретических идеи, потенциальный размах
которых не до конца эксплицирован даже в самих работах, где они
высказываются.
Во-первых, генетическая критика, двигаясь в русле идей
позднего Барта или Кристевой, демонстрирует взаимопроникновение
в авантексте художественного и рефлексивного дискурса.
«Варианты» потому и сменяют друг друга, что писатель по-новому
представляет себе свой замысел, и его метатекстуальные выкладки
систематически перемежаются в черновиках с новыми набросками
«текста», каковой представляет собой «всего лишь один из
способов интерпретации черновика» (с. 133, статья Жана Левайяна).
Критики-генетисты подходят к этому явлению с разных сторон:
Бернхильда Бойе описывает его скорее извне, через
психологические мотивы, побуждающие автора переписывать и править уже
напечатанный текст (то есть вновь превращать его в авантекст), —
тогда как ее коллеги показывают его прямо внутри черновика: во
взаимодействии текста и сопровождающих его маргинальных
заметок, образующих «пространство автокомментария»,
«элементарную и основную пространственную форму» сущностного раз-
Генезис текста и история литературы
511
двоения текста, необходимого для его выражения (с. 203 и 220,
статья Жака Нефа), или в присутствии автокомментария
непосредственно среди черновых набросков и авторских планов, когда этот
комментарий, по словам Анри Миттерана, постепенно
«вытесняется» в ходе работы из окончательного текста (с. 245) и тем создает
существенно новый образ этого текста, отличный от исходного
авторского замысла: так, Золя из глубоко сознательного писателя-
«нарратолога» своих первоначальных «сценариев» становится «на
выходе» бытописателем в духе расхожих представлений о
«натурализме». Выслеживая в тексте и авантексте еще и авторский мета-
текст, генетисты предпринимают своеобразный и
методологически нестандартный психоанализ литературного творчества.
Во-вторых, генетическая критика заново пересматривает
пространственно-временные характеристики художественного текста
и творческого процесса. В противовес как традиционной
концепции однолинейного времени в литературной истории и
биографии8, так и радикальной атемпоральности структурализма,
редуцирующего время к пространству, генетическая критика в лице
Жана-Луи Лебрава выдвигает новое, усложненное понятие об
авантексте как гипертексте компьютерного типа (компьютерное
моделирование вообще широко применяется в работе ИТЕМа), то
есть особом пространстве-времени, фактически лишенном
координатных осей, где любая точка может непосредственно
корреспондировать с любой другой: огрубленно говоря, разные
«варианты» текста соприкасаются и пересекаются всеми своими
элементами одновременно. Сам процесс становления авантекста
перестает пониматься как линейное целенаправленное движение
к окончательному тексту-произведению; главное, дружно
заклинают критики-генетисты, не сводить авантекст к тексту; или, по
словам Раймонды Дебре-Женетт, «следует отказаться от идеи
прогрессивного развития произведения <...> большинство романов [в ходе
своего написания] не движутся вперед, а просто движутся, то
увеличиваясь, то уменьшаясь в отдельных местах в объеме» (с. 167).
А Даниель Феррер показывает и обосновывает с помощью
достижений англо-саксонской аналитической философии еще более
любопытный феномен «ретроспективной логики» авантекста
(с. 228), когда «не генезис детерминирует текст, а сам текст опре-
8 Сказанное не противоречит тому, что успех генетической критики
сочетается с сегодняшней популярностью биографического жанра во французском
литературоведении — жанра, выстраивающего творчество писателя вдоль
жесткой временной оси его жизни. О связи генетизма и биографизма и об отказе
от радикальных идей «смерти автора» пишут в «Антологии генетической
критики» Альмут Грезийон (с. 48) и Луи Э (Louis Hay, с. 126).
512
Книги и люди
деляет свой генезис» (с. 231), то есть время текстообразования
движется буквально назад!9
В-третьих, отдав методологическое предпочтение «не
конечному продукту, а процессу его производства, не написанному
произведению, а процессу письма» (А. Грезийон), генетическая
критика не могла пройти мимо еще одной оппозиции, традиционно
сопряженной с указанными, — оппозиции эргона/энергии.
Последнее понятие не раз мелькает в их теоретических
характеристиках авантекста: «незримый запас витальных сил произведения»
(с. 131, статья Ж. Левайяна), «энергетика письма» (с. 163, статья
Р. Дебре-Женетт). Энергетический взгляд на письмо ведет к
использованию континуальных моделей, когда аван- или гипертекст
предстает как нелинейная и неиерархичная «гранулированная
масса» (с. 259, статья Ж.-Л. Лебрава), как «перекресток разнородных
и чаще всего противодействующих сил» (с. 137, статья Ж.
Левайяна), изобразимых в виде «диаграмм», то есть аналоговых моделей,
преодолевающих неизбежную, казалось бы, дискретность
вербального языка. Континуальные модели вообще представляются
перспективным подходом к таким индивидуальным и замкнутым в
себе объектам, как художественное произведение, и заслуга кри-
тиков-генетистов — в обнаружении еще одной, авантекстуальной
сферы их применимости.
В то же время сам факт, что все это достигается в тесном
пространстве писательских черновиков — на материале искусственно
ограниченном, суженном по сравнению с
универсально-риторическими притязаниями «теории» 1960—1970-х годов, —
обусловливает и слепые точки генетической критики, из которых укажем
опять-таки три, демонстрирующие ее противоречивые отношения
с историей литературы.
Во-первых, институциональный характер генетической
критики заставляет ее некритически принимать сложившуюся иерархию
литературных фигур и произведений. Авантексты бывают только
у классических текстов — ведь для авантекста, как мы помним,
необходима реконструктивная деятельность критика-генетиста,
тот работает с сохранившимися архивами, а архивируются одни
лишь культурно ценные литературные материалы... Такая тавтоло-
9 Сюда же относятся забавные, но отнюдь не легковесные воспоминания
в статье Мишеля Конта о его попытках исправить, при подготовке
критического издания, кое-какие хронологические и грамматические ошибки,
замеченные в тексте романа Сартра «Тошнота». Исправления оказались практически
невозможными, так как текст — в данном случае не черновой, а уже однажды
опубликованный — был уже включен в самостоятельную темпоральность
своего бытования; ошибки и несообразности вросли в собственную биографию
романа, отличающуюся от календарной истории.
Генезис текста и история литературы 513
гическая привязанность к канону, которую признает и один из
главных теоретиков генетической критики А. Грезийон (с. 46),
является общей слабостью филологического подхода к
литературе, о чем писал уже цитированный выше А. Компаньон:
Генетическая критика и текстуальная критика [то есть
филологическая интерпретация печатных текстов. — С.З.] остаются верны
канону, а это, боюсь, ныне уже выглядит нехорошо10.
Внутренняя диахрония черновых вариантов, которую в
«Антологии генетической критики» обосновывает Пьер-Марк де Биази
(с. 64), не столько дает новый импульс развитию «большой»
истории литературной эволюции, сколько способствует ее
консервации, неявно подтверждает ее школьную, институциональную
иерархическую структуру.
Во-вторых, генетической критике не удается
концептуализировать негативные, деструктивные (в эстетическом, но вместе с тем
и историческом смысле) аспекты творческого процесса — притом
что вообще-то она подступает к ним очень близко. Как говорил
недавно один из французских генетистов Эрик Марти, в ней
исследуется «негативность внутри текста, а не только между текстами»11:
авантекст непосредственно являет нам борьбу сил и тенденций,
которые взаимно отменяют, взаимно уничтожают одна другую,
испещренный поправками и помарками черновик — это
настоящее поле боя, усеянное останками слов. Но если в завершенном
художественном произведении (как его еще в 1950-е годы
толковал Морис Бланшо, а затем в 1970-е — Жан Бодрийяр) борьба
доходит до полного взаимоистребления ее участников, до сожжения
всего пришедшего в текст «из жизни» и образования
великолепной эстетической пустоты — то в авантексте она дает-таки «сухой
остаток» в виде... окончательного текста. Следовательно,
негативность черновиков, при всей их подвижности и динамичности,
менее радикальна, чем негативность конечного текста, что, в свою
очередь, говорит об их не вполне художественном характере.
Признать сей факт генетическая критика не решается: ведь это, пожа-
10 Antoine Compagnon, «Introduction», Romanic Review, art. cit., p. 400.
11 Éric Marty, «Pourquoi la génétique textuelle?», доклад на конференции «Où
en est la théorie littéraire?» (24 мая 1999 года, университет Париж-VII; цитирую
по своим записям, сделанным во время конференции). Любопытно, что в
печатном тексте своего доклада Э. Марти смягчил свое противопоставление,
исключив из него идею интертекстуальной негативности, то есть литературной
борьбы: «...осуществить эту негативность в мире самого текста (а не в
мечтательной голове читателя)» (Éric Marty, «Pourquoi la génétique?», Textuel 97, «Où
en est la théorie littéraire?», 2000, p. 55).
514
Книги и люди
луй, означало бы обесценить свой предмет и свои усилия,
отказаться видеть в анализе черновика альтернативу «обычной» поэтике
художественного текста и вновь подчинить его интерпретации
«беловика»...12
Наконец, третья нерешенная проблема — проблема
общественного, то есть исторического бытия авантекста. По словам
Ж. Бельмен-Ноэля, пока произведение писателя «не стало
достоянием общественности, оно принадлежит исключительно его
персоне» (с. 108), то есть генетическая критика описывает инфрасо-
циальное, дообщественное состояние текста13. Иными словами,
авантекст исключен из поля читательской интерпретации и
оценки: его единственным читателем является сам автор — да еще кри-
тик-генетист, выводящий его из мрака архивов к новому, как бы
посмертному существованию вторично утилизируемого
художественного объекта. Перед нами вновь странная темпоральность
авантекста — он существует только в нашем времени, в актуальном
времени генетического анализа, хотя бы даже писатель,
оставивший для него материал в виде черновиков, и умер два-три
столетия назад. И вот тревожный парадокс: генетическая критика
выросла из филологической истории текста, которая всегда
занималась критикой анахронических представлений
читателя-непрофессионала, склонного воспринимать старое произведение
согласно своим сегодняшним представлениям и нуждам, и напоминала
публике о «действительном», историческом содержании данного
произведения; распространяясь же на внутреннюю диахронию
черновиков, эта критика фактически начинает выполнять прямо
противоположную функцию — подставляет на место
исторического текста принципиально внеисторический, абсолютно
актуальный авантекст, всецело исчерпывающийся приемами и
операциями ее, генетической, интерпретативной практики. А потому
недаром говорят о постмодернистском характере этой
дисциплины: в своем обращении с текстом она идет по пути, который Жан
Бодрийяр обозначил термином «фатальные стратегии»: некая сущ-
12 В рецензируемой антологии наиболее сознательную — но все равно не
доведенную до конца — попытку осмыслить это соотношение поэтики и
генетики содержит статья Раймонды Дебре-Женетт.
13 С этим связан тот факт — несколько шокирующий для читателя,
знакомого с традициями русской филологической текстологии, — что ни одна из
статей антологии почти не затрагивает работу такого авантекстуального
фактора, как социальная (сшо-)цензура. Цензура, разумеется, свойственна
творческому процессу французских авторов, как и всех остальных, однако ее
исследование плохо укладывается в методологическую программу генетической
критики, нацеленную на исследование свободной игры текстуальных сил:
сказывается влияние бартовской утопии Текста, отрицающей любую цензуру!
Генезис текста и история литературы 515
ность доводится, возгоняется до крайнего предела экспансии — и
перестает быть собой, катастрофически теряет собственную
сущность. Генетическая критика, возникшая из «иссякания теории»,
при всех своих достижениях показывает нам и опасность
«фатального» перерождения литературной истории — лишний раз
напоминая о сущностном единстве этих двух частей нашей науки.
1999
НЕУГОМОННЫЙ ОППОНЕНТ
Культура в ее современном западном самосознании страдает
криводушием (mauvaise foi): стремясь к универсализму, она
тщится интегрировать в себя даже то, что по сути своей живет
отделением. Она уделяет равное место всем религиозным традициям и
недоумевает, когда некоторые из них (скажем, ислам) не желают
этим довольствоваться и претендуют на исключительное
обладание истиной. Она считает литературу частью всенародно-открытой
«национальной культуры», наряду с гастрономией и рэпом,
игнорируя тот факт, что литература исторически формировалась как
замкнуто-инициатическая институция, которая стережет свои
границы, а порой даже готова брать на себя функцию высшей
духовной власти. Сходную ошибку — вернее, тенденциозную, не
вполне осознаваемую подмену — современная культура допускает и в
отношении литературной теории: выделив ей уютный учебный
кабинет в здании гуманитарных факультетов, она не желает
помнить, что, скажем, во Франции при своем рождении эта
академическая дисциплина видела себя на баррикадах, а еще точнее —
в авангарде атакующей колонны, штурмовавшей бастионы
традиционных гуманитарных наук.
Заслуга Антуана Компаньона и его книги «Демон теории» в
том, что он решительно напомнил об этом полемическом,
критическом духе теории, которая в свой славный структуралистский
период стала «неугомонным оппонентом» (с. 25)1 — а не учителем,
не слугой и не мирным соседом — науки о литературе.
Теоретические суждения о литературе высказывались издревле, однако
особая дисциплина существует лишь постольку, поскольку
осознанно противопоставляет себя другим:
Призыв к теории по определению носит оппозиционный, даже
подрывной и бунтарский характер, но роковая судьба теории в том,
что академические институции [в данном случае представляющие
собой власть «культуры» в целом. — С.З.] превращают ее в метод —
перехватывают ее, как говорили раньше (с. 20).
1 Здесь и далее в скобках ссылки на русское издание: Антуан Компаньон,
Демон теории: Литература и здравый смысл, М., изд-во им. Сабашниковых, 2001
[1998].
Неугомонный оппонент
517
Теория — это историческое движение, а не абстрактная графа
в классификации дисциплин; при своем появлении на свет она
взяла на себя миссию разоблачать предрассудки обыденного
сознания, которыми заражена профессиональная деятельность
историков литературы, напоминать о неоднозначности ответов на
очевидные, казалось бы, вопросы. Тем самым она оформилась «как
критика идеологии, включая идеологию теории литературы»
(с. 27). Ее конститутивное противоречие с традициями
гуманитарного знания нередко вело ее к «демоническому» радикализму, к
самоубийственному нигилизму, но когда, поддавшись соблазну
умиротворения в лоне толерантной культуры, она начинает забывать
и сглаживать это противоречие, то утрачивает сама себя.
Попробуем уточнить философскую природу этого
противоречия.
Антуан Компаньон справедливо пишет, что ключевым
вопросом, по которому французская литературная теория 1960-х годов
разошлась с научным «мейнстримом», был вопрос об авторе —
через эту проблему могут быть сформулированы и все остальные
вопросы, будоражившие теоретическую мысль. В итоге его анализа
исследователь приходит к выводу, что и дотеоретический тезис
(«в произведении все объясняется волей автора») и теоретический
антитезис («в произведении ничего существенного не зависит от
воли автора») следует преодолеть, а вместо понятия автора
поставить более общую категорию интенции, которая проявляется во
всегда предполагаемой нами связности художественного текста:
...ни один критик не отказывается <...> от минимального
предположения относительно авторской интенции — будь то связность текста
или же противоречие, разрешающееся на другом (более высоком,
более глубоком) уровне связности (с. 92—93).
Как видно, в таком описании анализ литературного текста
имеет отчетливо диалектический характер: противоречия,
разрывы связности «разрешаются» — «снимаются», как выражался
Гегель, — на новом уровне мысли. И точно так же развивается мысль
Антуана Компаньона в применении к самой литературной теории.
В каждой из проблемных глав, образующих его книгу, дается
более или менее диалектическое разрешение тому или иному
концептуальному противоречию. Скажем, рутинное литературное
сознание цеплялось за понятие стиля (тезис), радикальная теория
заявила, что стиля вообще не существует (антитезис), современный
же итог дискуссии состоит в том, что понятие стиля выжило, но в
уточненном виде, отбросив свои нормативные предпосылки.
Традиционное знание о литературе мыслит ее как изображение ре-
518
Книги и люди
альности (тезис), теория отбросила эту миметическую иллюзию
(антитезис), ныне же можно заключить, что мимесис в
литературе все-таки есть, только в более глубоких, чем считали раньше,
формах — например, миметически воспроизводятся
вымышленные миры или же процесс узнавания. О «снятии» противоречия,
связанного с лозунгом «смерти автора», уже сказано выше. Во всех
этих случаях метод рассуждения один и тот же: проблема, по
которой высказывались, казалось бы, непримиримые позиции,
ставится и анализируется как объективное противоречие самой
литературы, которое, как показывает анализ, поддается объективному
же преодолению.
Как известно, в 1960-е годы в философии, а также и в
литературной теории (у Поля де Мана) был разработан другой метод
исследования противоречий, альтернативный диалектике, — его
назвали деконструкцией, и вот его-то опыт не учитывается Антуаном
Компаньоном. Деконструкция сосредоточивает внимание на
необъективируемых противоречиях, проходящих через
субъективный акт высказывания, где говорящим всегда, по необходимости,
игнорируется один смысл, чтобы можно было высказать другой.
В определенном аспекте деконструкция занимается анализом того
самого криводушия, о котором сказано выше в связи с
современной идеей культуры. Другую, социально-материалистическую
концептуализацию того же феномена образует понятие идеологии в
марксистском смысле — но Антуан Компаньон, нередко
пользуясь этим понятием и соотнося именно с ним важнейшую задачу
теории («критику идеологии»), не эксплицирует его собственно
социальную составляющую: отношения идеологии с властью, с
групповыми или классовыми интересами. Когда он пишет во
введении к своей книге: «Мои литературные решения связаны с вне-
литературными (этическими, экзистенциальными) нормами,
определяющими собой другие аспекты моей жизни» (с. 30), — это
верная и глубокая мысль, но в дальнейшем изложении она
остается неразвитой, теоретический анализ идет вне зависимости от
социального контекста, в замкнутом контуре «литературы как
литературы». Наверное, такова закономерная реакция на
происшедшее в последнее время неконтролируемое разрастание
предмета «литературных» штудий, которые проецируются (особенно в
США) на «постколониальные», «гендерные», «неоисторические» и
т.д. области; и все же принцип «связи литературы с жизнью», как
говорится, никем не отменен...
Все в той же главе «Автор» Антуан Компаньон при
конструировании понятия интенции применяет теорию речевых актов
Остина — Серля:
Неугомонный оппонент
519
Будем <...> различать <...> главный иллокутивный акт,
осуществляемый актом высказывания, и сложное значение высказывания как
результат множественных импликаций и ассоциаций между его
деталями (с. 106).
У литературного текста есть стабильный иллокутивный смысл
(хотя бы такой обобщенный, как «объявляю сие литературным
текстом») и более зыбкая туманность исторически определяемых
«значений», «применений», образующих поле относительно
свободной интерпретации. Однако сторонники деконструкции еще со
времен давней полемики Жака Деррида с Джоном Серлем
критикуют теорию речевых актов2, разоблачая заключенную в ней
иллюзию одинокого, вполне сознательного и ответственного за свои
слова, свободного от всякого криводушия индивида (в частности,
«автора»). Речевой акт — удобная, эффективная мысленная схема,
но она сама содержит некоторые допущения «здравого смысла»,
некоторую идеологию, и потому дело теории — критиковать ее, а
не просто принимать к использованию.
Таким образом, к «Демону теории» можно применить в нем же
описанный «демонический», теоретический par excellence жест
радикализации. Антуан Компаньон всей душой «за» теорию, он
критикует ее во имя самой же теории и ее оппозиционного духа;
но его умный, зоркий и в высшей степени полезный анализ
основан на не вполне отрефлектированном ограничении проблемного
поля, на смягчении рассматриваемых противоречий, которые
оказываются диалектически преодолимыми именно потому, что из
них заранее удалено несводимое к диалектике начало
дискурсивного «криводушия». По-видимому, иной и не могла быть итоговая
работа, где сводятся в систему результаты почти полувекового
развития теории, подрывавшей идеологические системы; но самим
своим примером она показывает, что теоретической (само)критике
культуры и литературы по-прежнему есть чем заниматься.
2006
2 Сравнительно недавнее изложение их позиции — в книге: J. Hillis Miller,
Speech Acts in Literature, Stanford University Press, 2001.
УЧИТЕЛЬ ДЛЯ УМНЫХ
(Жак Деррида, 1930-2004)
Я совсем мало общался с Жаком Деррида. Можно сказать, мы
и не были знакомы. У меня, правда, хранятся два письма от него —
вернее, две коротких записки. Известно, что он всегда отвечал на
письма; так и здесь в первый раз он вежливо поблагодарил меня
за присылку оттиска статьи, отдаленно навеянной его семинаром;
во второй раз так же вежливо отказался участвовать в
конференции памяти другого выдающегося мыслителя, Мориса Бланшо: он
был уже тяжело болен и отменял все свои выступления, даже
занятия семинара.
Бывая в Париже, я иногда приходил на эти самые семинарские
занятия. Большая лекционная аудитория на бульваре Распай
всегда была полна, и среди публики заметно различались две
категории: французские студенты с умными лицами (редкий для
любого города случай — увидеть в одном месте сразу так много
интеллигентных лиц) и преимущественно американские туристы, с
лицами восторженными. Сам я по реальному положению вещей
относился скорее ко второй категории, но отождествлять себя
хотелось с первой.
Это несложное наблюдение, пожалуй, вбирает в себя всю
драму творческой судьбы Жака Деррида — французского философа,
ставшего интеллектуальной звездой в Соединенных Штатах, а за
ними уже и в остальном мире. Чтобы понять здесь выражение
«французский философ», надо помнить, что Франция — это
страна, где старшеклассников в обязательном порядке учат
философии, причем на материале первоисточников: читают и
комментируют фрагменты из Платона, Спинозы, Декарта... У парижских
студентов, слушавших Жака Деррида и выступавших с докладами
в его семинаре, за плечами была эта школа прямого контакта с
философской мыслью прошлого; разумеется, современный
либерально воспитанный школяр склонен относиться к классикам
непочтительно-фамильярно, но одновременно его учат разбираться
в них глубоко и уважительно.
Если объяснять «на пальцах», без терминологических затей —
каковых у Деррида немало, — то его философствование можно
представить как синтез этих двух позиций: юношески агрессивного
подхода к авторитетному тексту и учительской тщательности
анализа. Деррида был учителем, профессором не только по званию
Учитель для умных
521
(собственно, звания-то этого он как раз не имел, так как
преподавал не в университете, а в Высшей школе социальных наук, где
профессора именуются «директорами штудий»), но и по складу
мышления, по стилю поведения, и недаром одним из главных его
дел стало создание нового свободного учебного заведения —
Международного коллежа философии в Париже. Он не просто
философствовал, а учил это делать других — учил думать, придирчиво
и въедливо вдумываться в традицию прошлого. Его неспокойный,
конфликтный метод назвали «деконструкцией».
Можно объяснить еще иначе: этот французский философ
(вполне, впрочем, периферийного, маргинального
происхождения — алжирский еврей) глубже многих внедрил в
интеллектуальную культуру своей страны принципы немецкого романтизма,
любившего понимать мысль не в устойчивом бытии, а в
динамичном становлении, в развитии, преодолении трудностей и
противоречий — ценой других трудностей и противоречий, которые
всплывут вновь на следующем этапе размышления. Правда, немецкие
романтики склонны были толковать эту внутреннюю
конфликтность мысли как диалектический и исторический процесс. А Дер-
рида не был ни диалектиком — хотя его технике логически
безупречного вывертывания идей наизнанку, выслеживания в них
оборотной стороны позавидовал бы любой Гегель, — ни
историком, хотя нет ничего более стимулирующего для исторического
познания культуры, чем его книги. Постоянно кого-нибудь
комментируя, он не стремился найти для чужой мысли устойчивое
место на полочках исторической таблицы развития духа
человеческого, устремленного к заранее предопределенной цели (в
создании такого нарратива — постоянный соблазн истории философии;
стыдно вспоминать, к чему он приводил, скажем, в Советском
Союзе), но завязывал с нею прямой диалог, испытывал ее на
прочность, искал в ней проблемные точки — «развинчивал» (деконст-
руировал) ее так, как механик развинчивает машину, которой
предстоит работать, а не стоять в музее.
Его американская слава — при явной враждебности к нему
французских академических институций — оказалась
парадоксальной. В стране, где под «философией» понимают главным образом
аналитическую философию, то есть рефлексию не гуманитарного,
а естественнонаучного типа, нацеленную не на работу с
традицией, а на актуальное решение абстрактных проблем, без оглядки на
предшественников (так физики давно уже не перечитывают
Ньютона), — его педагогика живой традиции могла привиться только
в другой, смежной области, например на литературном отделении
Йельского университета, где у него возникла целая когорта после-
дователей-деконструкционистов. Американцы с самыми лучшими
522
Книги и люди
намерениями переквалифицировали Деррида: стали чтить в нем
интеллектуального писателя, своего рода эссеиста, только очень
трудного, заумного. И хуже того: из рационального профессора его
постепенно превращали в эзотерического «гуру». Вместо умных
студентов (я, конечно, упрощаю, но такова общая тенденция)
вокруг него все больше толпились восторженные зеваки.
В какой-то мере он, пожалуй, сам поддавался этому давлению
собственной славы — но и старался тонко ускользнуть от него.
Взять хотя бы ставшую фирменным признаком его стиля игру
словами — первым опытом был знаменитый составной термин «диф-
феранс», а в поздних книгах такие внушительные для профанов
языковые фокусы пошли в тираж. Здесь он был типичным
французом: у него на родине каламбур — национальная забава, там его
содержит в себе каждая третья уличная вывеска, каждое второе
название в телепрограмме. Однако один из французских
каламбуров гласит: comparaison n'est pas raison, сравнение (в частности,
словесная игра) — не доказательство. И, конечно, Деррида
понимал, какова познавательная цена его выдумок. Возможно, насыщая
свои тексты хитроумными, непереводимыми вокабулами, он
надеялся не столько уловить какую-то не выразимую обычными
словами истину (он и вообще-то не искал абсолютной истины,
скорее наоборот, неустанно показывал ее невозможность и
неустойчивость, чреватость противоречиями), сколько подчеркнуть
неповторимо национальный характер своего мышления. В 1990
году, выступая с лекцией в конференц-зале Московского
университета, он доказывал, что философия составляет самую
национально самобытную форму культуры — не поэзия, как часто полагают,
а именно абстрактная мысль! Иноземные поклонники могли
толковать его вкривь и вкось, но сам-то он, кажется, хотел быть
понятым именно французскими читателями, именно им он
заговорщицки подмигивал своим раздражавшим многих
полухудожественным стилем.
Драма заключалась в том, что как раз во Франции-то его стиль
мышления почти не прижился. Появилось несколько крупных
последователей — Жан-Люк Нанси, уже покойный ныне Филипп
Лаку-Лабарт; но все же в большинстве своем парижские студенты,
с благодарностью вспоминая его уроки, сами им не следуют. Не
только потому, что деконструкцию по-прежнему встречает в
штыки официальный университет и с нею не сделаешь карьеры, —
видимо, слишком уж она «штучная», неподражаемая, то есть,
подражая ей, слишком легко впасть в поверхностное эпигонство.
Нам, в России, еще сложнее: слух о человеке по фамилии
Деррида пришел к нам не из самой Франции, а окольным путем — из
Америки, из литературно-артистической, а не собственно фило-
Учитель для умных
523
софской среды, то есть пришел изначально искаженным. И
сколько бы ни трудились серьезные исследователи и переводчики для
корректного понимания его работ «с языка оригинала», к нему уже
успела прилипнуть двусмысленная репутация — то ли гений, то ли
шарлатан. Печально было слышать, как даже весть о его смерти
вызвала кое у кого чуть ли не вздох облегчения: свершилась, мол,
историческая справедливость, ушла наконец в прошлое эта
окаянная «французская теория».
А на самом деле мы просто еще мало у него учились.
2004
СОБЛАЗНЫ ОБРАЗОВ
(Жан Бодрийяр, 1929-2007)
Французская философия несет тяжкие потери. Только за
четыре года, с 2003-го по 2007-й, ушли из жизни пять
прославленных мыслителей: Морис Бланшо, Поль Рикёр, Жак Деррида,
Филипп Лаку-Лабарт и вот теперь — Жан Бодрийяр.
Формально его специальностью была социология, и в его
книгах нет фигуры мыслящего «я», все рассматривается с точки
зрения безличного социального индивида (своего рода «мы»); но
многие его мысли о современном обществе были столь новы и
глубоки, что «настоящим» философам еще долго хватит работы их
истолковывать.
Он начинал в 1960-е годы как последователь (и даже
переводчик) Маркса, но быстро вышел за рамки марксистской традиции,
поставив проблему отчуждения не в экономическом, а в
семиотическом плане: отчуждение происходит не только в экономических
отношениях между людьми, но и на уровне вещей, которые
утрачивают собственную реальность, становясь знаками — знаками
потребительского благополучия, знаками «индивидуальности»
владельца, знаками его включенности в общественные процессы...
Материальная реальность социального мира воспринимается
нами, функционирует для нас как собственное условное подобие,
снимок в натуральную величину. Такая агрессивно
расползающаяся, подменяющая реальность подделка обозначается знаменитым
термином «симулякр». Многие, возможно, помнят (или не
помнят), как в одном из первых кадров «Матрицы» братьев Вачов-
ски возникает книга Жана Бодрийяра о симулякрах — ключ ко
всей антиутопической фантазии фильма, теория, ставшая приемом
и лозунгом постмодернизма в искусстве.
Однако самого Бодрийяра действительность интересовала
больше искусства. Его идеи могли использоваться художниками,
но он-то разрабатывал их не как программу художества, а как
программу социальной критики, распространяя эту критику не
только на мир бытовых вещей, но и на весь современный мир,
включая политику. В 1991 и 2001 годах нашумели его статьи о войне в
Заливе и о террористических актах в США — событиях, в которых
он тоже видел грандиозные симулякры, функционирующие
наподобие очередной голливудской суперпродукции. Его винили за
нигилизм, за эстетское невнимание к человеческой реальности
Соблазны образов
525
страданий и смертей — и его парадоксалистекая, отстраненно-
«зрительская» манера письма давала к тому повод. Давление
ложных образов сильно, оно деформирует даже речь их критика, и,
возможно, именно повышенная чуткость, чувствительность к
этому давлению мешали Бодрийяру стать «чистым», отрешенным
философом.
Но он все-таки до конца держал сторону реальности, а не
торжествовал победу симулякров над нею. Он искал альтернативу
отчуждению — если не в революции, как в первые годы после
1968-го, то в сознательной работе с образом, в избавлении образа
от насилия, которому тот подвергается со стороны общества,
прежде чем самому стать орудием идеологического внушения.
В своих текстах о фотографии и в собственной практике
фотографа он вглядывался в вещи, которые «хотят, чтобы их
сфотографировали», жаждут прямых отношений с человеком, не
довольствуются ролью подобий.
Одна из лучших его книг называется «О соблазне». Он знал и
умел разоблачать соблазны ложных образов, но различал и другой,
подавляемый ими соблазн настоящих вещей. Пожалуй, это и
называется любовью к жизни.
2007
УЧЕНЫЙ БЕЗ НАУКИ
(Самарий Израилевич Великовский, 1931—1990)
Язык чутко реагирует на конфликты и напряжения в
обществе — в нем бывают, например, «меченые» слова, которые хоть и
общепонятны, но приходятся как-то не впору обозначаемым ими
предметам, топорщатся на них словно одежда с чужого плеча. Одно
из таких слов в постсоветской литературной полемике —
«шестидесятник». Заимствованное из совсем другой истории, оно стало
служить клеймом, более или менее уничижительным
наименованием поколения — даже не просто поколения, а целой
исторической ситуации, в которой оно утверждало себя. В устах многих это
слово сделалось магическим языковым жестом, долженствующим
упразднить, объявить незначительной и как бы небывшей целую
эпоху.
Есть другое «неудобное», неадекватное словечко,
относящееся уже не к газетно-журнальному обиходу, а к бюрократической
классификации филологических дисциплин, — слово
«зарубежник». Обозначая вполне определенную и вроде бы
респектабельную специальность, оно тем не менее воспринимается как грубо-
заскорузлое, доморощенное определение (подобного оттенка нет
в коррелятивном ему понятии «русист» и в постепенно
заменяющем его респектабельном иностранном термине «компаративист»);
те, кто им обозначается, сами его стесняются и даже иногда
употребляют в качестве эвфемизма слово «западник», подобно
«шестидесятнику» вырванное из чужого исторического контекста и
также неуклюже переосмысленное. Во всех этих случаях дело не в
словах: просто в нашей жизни есть реальные явления — целые
группы людей, — неудобоназываемые, не вполне социально
признанные, едва ли не табуированные.
Самарий Израилевич Великовский принадлежал как раз к
обеим этим «незаконным» категориям — по возрасту и
психологическому складу был «шестидесятником», по профессии —
филологом - «зарубежн иком ».
Историческая увязка этих двух понятий еще плохо
осмыслена. А между тем проблематичное, полупризнанное положение
специалиста по зарубежной литературе — характерный феномен
именно послесталинской эпохи. Прежде, даже в худшие годы
полицейского и идеологического террора (не говоря уже о
благополучной эпохе дореволюционной академической филологии), про-
Ученый без науки
527
фессия ученого, занимающегося исключительно западной
литературой, ни у кого не вызывала сомнений. Среди таких
литературоведов бывали, разумеется, бездарности, карьеристы,
невежественные выдвиженцы, но были и блестящие специалисты,
по компетентности стоявшие на мировом уровне: A.A. Аникст,
Л.Е. Пинский, Б.Г. Реизов... Власть могла их насиловать,
запугивать, репрессировать (как того же Пинского, несколько лет
просидевшего в лагерях), но вместе с тем она парадоксальным
образом давала им устойчивый культурный статус, оправдание их
научной деятельности. Железный занавес, изолировавший
советскую науку от зарубежной, одновременно ставил перед нею
рациональную, внятную задачу: писать свою, идеологически
альтернативную историю западноевропейской литературы. И сколь бы
ни насильственно навязывалась такая программа деятельности,
она все же сохраняла по-своему научный, логически
последовательный характер: ученый, верящий в постулаты марксизма (а в
них тогда верили многие), мог добросовестно развивать и
применять их к своему материалу, эти постулаты были достаточно
прочны и безусловны.
Настоящий, внутренний кризис западных штудий начался в
период «оттепели» и размягчения режима. Возобновление
литературных контактов с Западом поставило литературоведческую элиту
в двусмысленное положение экспертов-посредников, от которых
требовалось конъюнктурное чутье, а не научная (пусть даже
догматическая) добросовестность. К этому общему обстоятельству,
типичному для положения всей послесталинской интеллигенции,
прибавлялась еще и естественная немногочисленность и
разобщенность «зарубежников» из-за их узкой специализации,
отрезанность от постоянных контактов с западной наукой и как
следствие — отсутствие достаточно плотной среды коллег,
устанавливающей здоровую ценностную иерархию. Все это вело к тому,
что если в исследовании отечественной литературы все же
сохранялась, при всех его. бедах, научная преемственность, понятие о
профессиональной компетентности, то изучение литературы
зарубежной (во всяком случае, последних двух веков) практически
перестало существовать как наука, уступив место лукавому
искусству предисловий и внутренних рецензий. Понимая это, его часто
и называли не литературоведением, а критикой, забывая, что
«критика зарубежной литературы» как специальная деятельность
является нонсенсом: такая «критика» либо растворяется, теряя
специализацию, в текущих заботах отечественного
литературно-критического процесса, либо представляет собой вырожденную
форму науки, пользующуюся внешним академическим авторитетом
для решения совсем не научных задач.
528
Книги и люди
Вот почему лучшие, наиболее одаренные и серьезные
«зарубежники», такие как Альберт Карельский, Инна Тертерян или
Самарий Великовский, оказались в трагическом положении
ученых без науки; сформированные ненормальной научной
ситуацией, все они сделали меньше, чем могли бы, и есть нечто
символическое в том, что все трое преждевременно умерли один за другим,
как бы знаменуя этим заканчивавшуюся эпоху.
Самарий Великовский был, очевидно, самым блестящим из
всех, кто писал в его время о французской литературе. Он принял
рискованное пари — быть только филологом-«зарубежником», в то
время как многие ощущали моральную неполноценность такой
деятельности и занимались параллельно еще и какой-то другой, не
столь сомнительной. Он же никогда не писал о русской
литературе, почти не занимался переводом и тем более собственным
художественным творчеством — хотя словом владел настолько
виртуозно, что, казалось, вполне мог бы добиться успеха на каждом из
этих поприщ. Правда, он был доктором философских наук и с
конца 1960-х годов работал в Институте международного
рабочего движения — тогдашнем отстойнике фрондирующих историков
и философов (Ю. Карякин, А. Лебедев, Л. Гордон, Г. Дилигенский
и др.), — занимаясь там солидными штудиями по истории
французской интеллигенции и Французской социалистической партии;
но эта работа, давая материальную свободу от
литературоведческой номенклатуры, всегда тяготила его как обуза, мешавшая
заниматься собственным делом. Собственным же делом была
французская поэзия и литература французского экзистенциализма. Он
много написал и о той и о другой — пять книг1 и более ста статей,
не считая рецензий и прочей «мелочи», — и такая богатая и
содержательная продукция давала ему моральное право играть
избранную им роль: одинокого, отстраненно-экстерриториального
полномочного представителя французской культуры, толкователя и
транслятора ее идей и ценностей.
Здесь и подстерегала его опасность прерванной научной
традиции. Исследование иноземной культуры — деятельность по
необходимости главным образом интерпретативная,
архивно-текстологические и документально-биографические изыскания имеют
здесь второстепенное значение. Но для интерпретации необходим
метаязык, метод анализа. А в применении к советскому литера-
1 «Поэты французских революций», 1962; «...к горизонту всех людей. Путь
Поля Элюара», 1968; «Грани "несчастного сознания": Театр, проза,
философская публицистика Альбера Камю», 1973; «В поисках утраченного смысла:
Очерки литературы трагического гуманизма во Франции», 1979; «В скрещенье
лучей: Групповой портрет с Полем Элюаром», 1987.
Ученый без науки
529
туроведению вопрос о научном методе давно стал бессмысленным
(уникальным исключением был только структурализм, тем и
вызывавший к себе ненависть академического начальства, что эта
школа позволяла себе иметь настоящий научный метод), и уж тем
более его не было среди «зарубежников». Так и Великовский не
может быть назван представителем какого-то «метода» или
«школы» — и в этом была скорее его драма, чем свобода. В молодости
он пытался, как и многие думающие люди своего поколения,
переосмыслить и взять на вооружение марксистскую социологию,
положив в ее основание заново открытое — не без помощи
западных марксистов — понятие отчуждения. На эту тему он сделал в
1964 году доклад на конференции в Институте мировой
литературы «Современные проблемы реализма и модернизм» — доклад,
нещадно искаженный при публикации в одноименном сборнике
1965 года и закрывший перед Великовским академическую
карьеру литературоведа; как крамольная была расценена его мысль об
отчуждении в социалистическом обществе и особенно в условиях
тоталитарного режима... Что же касается марксистской
социологии, то она в СССР осталась в тупике, как и любая другая, сводясь
к набору расплывчатых, смутных формул, легко пересматриваемых
по любым конъюнктурным поводам. То же происходило и в
философии, истории; а поскольку литературоведение неспособно
развиваться отдельно от прочих наук, для теоретического
движения вперед оно нуждается в «импорте» методов, концепций,
понятий, то в условиях провинциализации всякой, даже
марксистской теории общества у него не было метаязыка —
инструмента перекодировки, переосмысления тех культурных явлений,
которые приходилось описывать в зарубежной литературе.
В 1970—1980-е годы многие лучшие филологи-«зарубежники» (да
и не только «зарубежники») предпочитали обходиться совсем «без
теории», и, возможно, именно этим объясняется то, что Самарий
Великовский, широко опираясь в своих работах на этическую
теорию французского экзистенциализма 1940—1950-х годов,
практически не воспользовался достижениями позднейшей —
структуралистской и постструктуралистской — французской теории
культуры. Он пошел другим путем — обратился к методу «вчув-
ствования», критической парафразы, к квазипоэтическому
критическому дискурсу, имитирующему собственный предмет. Он стал
сам писать как Сартр или Камю, психологически, вероятно,
отождествляясь с ними, и такое самоотождествление (пусть и
критическое) стоило ему постоянной враждебности идеологических
чиновников; но главная драма его заключалась в том, что в советской
культурной ситуации тех лет вообще не было места для такого
дискурса, как у Сартра или Камю, такой дискурс оказывался на
периферии, звучал как иноземная диковинка.
530
Книги и люди
Этим и определяется собственный стиль Великовского-лите-
ратуроведа — яркий и вместе с тем какой-то безнадежный,
искусственно перенапряженный (чем дальше, тем больше). Характерна,
например, такая фраза, выбранная наугад и вместе с тем
неожиданно «личная», относимая к самому автору, который ее пишет:
С бесстрашием перед самыми крайними крайностями
попробовал он осмыслить распыленные в культуре тех лет настроения
томительной неудовлетворенности всей действительной жизнью,
душевной смуты и жажды чего-то иного, просветленного, беспримесно
чистого2.
Здесь, безусловно, не найти академической точности
терминов, и в применении к какому-нибудь другому материалу, даже
просто к другой национальной литературе подобные суждения не
имели бы никакой ценности; но у Великовского речь идет об
интеллектуально насыщенной французской поэзии (данная фраза —
о Малларме), о философской прозе и драматургии Сартра или
Камю, и слово критика получало полнозвучность от идейной
полноты предмета. Подобный дискурс полемически неуязвим,
уклоняясь от научно-понятийных формулировок, обреченных стать
предметом ненаучной критики; он адекватен дискурсу изучаемых
писателей и потому немало сообщает читателю; но вместе с тем он
абсолютно одинок — это речь, принесенная издалека, из другой
страны и другой культуры, и произносимая в пустоте, без расчета
на ответ, на живой спор, даже на сочувственное повторение.
Статьи и книги Великовского невозможно цитировать, даже
когда соглашаешься с их мыслью, — это, безусловно, признак
ненаучности. Его слово скорее напоминает слово пророческое,
несущее истины не от мира сего и потому само фатально чуждое в
нашем мире. В жизни он был общительным, дружественным
человеком — в творчестве же он одиночка, у него не было и не
могло быть научной школы, и нечего даже и думать о том, чтобы
«писать как Великовский».
На уровне идейных концепций такая квазирелигиозная
дискурсивная установка Самария Великовского резко расходилась с
его собственной идеей о первой в истории нерелигиозной
формации, складывавшейся в европейской литературе XX века. Говоря
фактически о формировании культуры как принципиально
«рукотворного» и внерелигиозного образования, Великовский сам
продолжает пользоваться словом вдохновенно-суггестивным,
2 Самарий Великовский, В скрещенье лучей: Групповой портрет с Полем
Элюаром, М., Советский писатель, 1987, с. 121.
Ученый без науки
531
риторически возвышенным, создающим неожиданный и
многозначительный смысловой эффект по контрасту с предметом —
атеистическими идеями французских экзистенциалистов или
модернистской поэзией начала века. И обратно: быть может,
сдержанное отношение Великовского к теории и практике
сюрреализма (о котором он писал разве что в связи с Элюаром — о преодолении
Элюаром сюрреализма) объясняется именно мистическим,
полурелигиозным характером этой школы, не дававшей слову
интерпретатора необходимой дистанции. В основном же массиве
французской рационалистической культуры Великовский нашел для
себя неожиданную и эффективную позицию ученого, но не научного
наблюдателя и толкователя.
Отстаивать такую позицию ему приходилось в постоянной
борьбе. Свою докторскую диссертацию под традиционным для
этого жанра уродливым названием «Критика философско-идеоло-
гических основ экзистенциалистского миросозерцания во
Франции XX века (По материалам наследия А. Камю — мыслителя и
писателя)» Великовскому пришлось защищать дважды, в разных
городах и с перерывом в три года. Собственно, сама его
профессиональная встреча с французской литературой произошла
вопреки обстоятельствам. В 1949 году его отказывались принять на
западное отделение филологического факультета, несмотря на
школьную медаль: в разгаре была антисемитская кампания против
«безродных космополитов». Выручила побочная «специальность»:
абитуриент имел первый разряд по парусному спорту, факультету
требовались спортсмены... Спортивность и мужественность
(характерен даже «хемингуэевский» вид спорта — впрочем, не
единственный в его увлечениях) вообще многое объясняет в облике
Великовского: отсюда характерно «шестидесятническая»
щеголеватая подтянутость его внешнего облика и стиля, отсюда и его
стойкость в затяжной борьбе за «акклиматизацию» французской
культуры в России3. Отсюда, очевидно, и его драматический
финал. После неудачной операции он впервые в жизни почувствовал
себя фактически инвалидом — постоянно возобновлявшиеся
осложнения не давали работать. Сильные духом борцы, оказавшись
«не в форме», умеют сами положить конец ставшей в тягость
жизни. Он тоже нашел в себе силы для этого.
1995
3 Достижения в этой борьбе — сборники пьес Сартра (1966), прозы Камю
(1969), две большие антологии французской поэзии (1982, 1985), другие книги.
УРОВЕНЬ СОВОКУПНОГО ЗНАНИЯ
(Михаил Леонович Гаспаров, 1935—2005;
Владимир Николаевич Топоров, 1928—2005;
Елеазар Моисеевич Мелетинский, 1918—2005)
Историк похож на могильщика — веселого, деловитого, с
лопатой на плече. Нечего винить его в гробокопательстве, его дело
не откапывать, а закапывать. Все, к чему он подступает, становится
отжившим, ушедшим в прошлое объектом изучения. Так и
говорят: «стало достоянием истории».
Кладбищенские кончетти а-ля Гамлет не очень-то уместны
перед тремя реальными свежими могилами. Но смерть старших
коллег— М.Л. Гаспарова, В.Н. Топорова и Е.М. Мелетинского
вообще ломает привычную перспективу восприятия. Отныне они
уже не «живая история», которую я, например, несколько лет
постоянно видел рядом с собой в Институте высших гуманитарных
исследований РГГУ, а история в полном смысле — часть
интеллектуальной истории минувшего столетия. Это травматичный,
трудный для осознания перелом, и, чтобы осмыслить его, недостает
слов.
Разные люди, не сговариваясь, вспоминали по этому поводу
строку Давида Самойлова: «Нету их — и все разрешено».
Действительно, ушедшие обладали великим авторитетом —
профессиональным, моральным. Но в науке решает не авторитет сам по себе,
а точное знание. И, пожалуй, вернее будет сформулировать
происшедшую утрату как падение уровня совокупного знания. Пока
Гаспаров, Топоров, Мелетинский были с нами, их знания были тоже
с нами. Пусть не все они в последнее время активно работали, но
все мы знали, сколько знают они, и количество их знания не
только определяло место каждого из нас, нашего собственного знания,
но и позволяло гордиться своей наукой, которая — в их лице, а
отчасти и в нашем — знает так много. Отныне все будет иначе, и,
чтобы понять эту перемену, надо понять, каким, собственно, было
их знание.
О его количестве можно сказать только, что оно было
огромно; о его содержании можно сказать только, что оно было
великолепно. Историк реально может высказываться лишь о форме
этого знания.
Во-первых, это знание было универсальным. Бессмысленно,
конечно, утверждать, что они «знали все», но каждый из них
действительно знал и умел гораздо больше разных вещей, чем поло-
Уровень совокупного знания
533
жено даже самому блестящему специалисту. Рационально
организованная наука говорит взыскующим знания: «Широк человек —
я бы сузила», — и заставляет их выбирать себе более или менее
ограниченную область, оставив мечты о ренессансной всеохватно-
сти. Напротив того, знания Мелетинского покрывали и
фольклористику, и сравнительное литературоведение, простирались от
палеоазиатских мифов о мудром Вороне (в среде моих
сверстников он и сам носил прозвище «Ворон») до романов Джойса и
Томаса Манна; именно таким широчайшим филологическим
размахом поражала в свое время его «Поэтика мифа». Универсальным
филологом был и Топоров: среди его занятий и индоевропеа-
нистика, и славянобалканистика, и история русской святости, и
поэтика и топика русской литературы, и попытки собственного
религиозного философствования. Или Гаспаров: историк
древнеримской литературы, исследователь русской и
западноевропейской версификации, толкователь Мандельштама, автор крити-
ко-теоретических эссе о Лотмане и Бахтине; и еще
переводчик-экспериментатор (чего стоит один перевод «Неистового Роланда»),
и еще писатель-моралист в «Записях и выписках»... Речь здесь не
о любознательности и работоспособности, которые суть черты
личного характера; речь о разнородности занятий, которая есть
симптом нестандартной исследовательской ситуации — повсюду
необъятные просторы научной целины, и талантливый человек сам
собой влечется от одного предмета к другому, не сдерживаемый ни
слишком жесткими междисциплинарными перегородками, ни
ревнивым противодействием коллег, недовольных вторжением
чужака. В той, советской ситуации главной помехой был
государственно-идеологический контроль, а универсальность давала шанс стать
неуловимым для него, при необходимости откочевать на другую,
менее плотно опекаемую территорию (так Мелетинский из
фольклористики «эмигрировал» в сравнительную поэтику).
Во-вторых, это знание было личностно-харизматическим.
Алексей Берелович нелицеприятно описал сакрализациию
научных авторитетов в позднесоветской культуре: о Лихачеве, Аве-
ринцеве, Бахтине говорили с особенной полурелигиозной
интонацией, как об уникальных носителях духовной традиции,
восприемниках утраченной культуры прошлого1. Те трое, об утрате
которых говорится здесь, были в меньшей степени затронуты
подобным «культом», но его влияние косвенно сказывалось и на них,
повышая роль личности людей, обладающих знанием. Мелетин-
1 См.: Алексей Берелович, «О культе личности и его последствиях
(Заметки о позднесоветском интеллектуальном сообществе», Новое литературное
обозрение, № 76, 2005, с. 39—44.
534
Книги и люди
скому, который почти всю жизнь носил на себе клеймо
неблагонадежного ученого, личную харизму создавало прямое и жестокое
давление государства2. Топоров и Гаспаров, работавшие в менее
страшные времена, сделали относительно благополучную
академическую карьеру, но у их знания тоже имелось харизматическое
достоинство, покупаемое не драматической судьбой, а особой
поэтикой поведения, которую еще предстоит описать — недаром
именно у нас была создана научная дисциплина с таким
названием. Парадоксальная демонстративная скромность их обоих —
легендарные не-выступления Топорова на конференциях, куда он
исправно посылал тезисы, телесная пластика Гаспарова, который
всюду старался занимать как можно меньше места (писал на
открытках бисерным почерком и даже рукой махал минималистски,
одной лишь кистью, прижимая согнутый локоть к боку), —
выражала собой чувство научно-общественного такта: великий человек
должен умалять себя, как это испокон веку делали святые,
монахи, юродивые. Эта скромность, несомненно, была искренней, и все
же в ней следует видеть не просто личные особенности характера,
но и условия внешнего социального быта. Одной из задач науки,
в ее классическую эпоху, было секуляризовать знание, снизить его
себестоимость — сделать так, чтобы его можно было получать
обычным трудом и учебой, а не через инициацию, аскезу и
мученичество. В нашей же стране жизнь была устроена не так, чтобы
ученый-гуманитарий мог спокойно приобретать и использовать
свои знания, и ему приходилось моделировать себя как
подвижника: внешним самоумалением он показывал, что его личность —
и личность человека вообще — выше, значительнее его
собственных специальных знаний.
В-третьих, это знание было недоступно для критики — точнее
сказать, находилось в неподходящем положении для нее. Сами его
носители относились к критике с безупречной открытостью, но
система помещала их в заколдованный круг. Научное знание
добывается не по случайному наитию, а методически, и метод его
выработки в принципе подлежит критическому анализу и
проверке. Когда же методология монополизирована государством, то
2 Однажды, подписывая мне формальную рекомендацию к заявке на
фант — я собирался во Францию, на какую-то конференцию, — он заметил не
столько с завистью, сколько с характерной для него печалью: «А я в первый раз
поехал в Париж в 70 лет». Его десятилетиями не выпускали за границу, только
раза два в «соцстраны». И хоть я и сам при советской власти двадцать лет
изучал французскую культуру без малейшей надежды когда-нибудь побывать в
этой стране, — ясно было, что его опыт несравним с моим: и не только по
длительности, но и потому, что у меня была сравнительно спокойная жизнь, а у
него и фронт с окружением, и тюрьма с лагерем, и многое другое.
Уровень совокупного знания
535
любые критические замечания общего характера неизбежно
принимают вид идеологического обличения или становятся его
средством в чьих-то чужих руках; поэтому, не рискуя
скомпрометировать себя, можно критиковать коллег — а тем более ученых такого
класса и таких заслуг — разве только по безобидным частностям.
Представление о нежелательности, неуместности
методологической критики или полемики оказалось очень стойким3, примеры
такой критики исключительно редки, и среди этих исключений
очень важны уже упомянутые эссе М.Л. Гаспарова о Бахтине и
Лотмане — образцы (пусть кое в чем и сами спорные)
теоретического анализа и исторической оценки, стремящихся
беспристрастно и уважительно определить метод большого мыслителя,
установить его место в развитии науки и культуры. По отношению к
самому Гаспарову, по отношению к Мелетинскому, Топорову и
другим выдающимся гуманитариям их поколения, живым и уже
покойным, такое осмысление еще впереди.
Их научный портрет вообще невозможен без
социально-исторического анализа того, как было устроено знание в России второй
половины XX века. При отсутствии единой и специализированной
профессиональной среды ее заменяли две противопоставленные
системы, каждой из которых не хватало либо профессионализма,
либо специализации: с одной стороны, официальные институции
с их явно искаженными и пониженными критериями, а с другой
стороны, то вольное междисциплинарное объединение
гуманитариев, которым одно время служила Тартуская школа и участие в
котором определялось скорее профессиональной
требовательностью, чем методологической общностью; если считать ведущим
методом Тартуской школы структурализм, то все трое, о ком идет
здесь речь, стояли на некоторой дистанции от него — ближе Ме-
летинский и Гаспаров, дальше Топоров. В этом отношении
уникальна (и сравнима разве что с судьбой Лотмана) судьба Мелетин-
ского, который создал небольшую, но сильную, развивающуюся и
поныне школу фольклористики: то есть сумел придать некоторой
части гуманитарного знания нормальную, научно
специализированную институциональную структуру. Возможно, именно пото-
3 Рискну сослаться на собственный опыт. Когда 1994 году я выступил в
«Новом литературном обозрении» с критикой эссе В.Н. Топорова «Вещь в
антропологической перспективе», кое-кто из моих друзей порицал меня за
попытку учить уму-разуму великого филолога. Я до сих пор считаю, что в этой
работе многосторонность подвела исследователя, историко-культурная
эрудиция послужила оправданием произвольно-вкусовой интерпретации
классического текста; но понимаю и реакцию на мою реплику — хотя советской
власти уже не было, критиковать таких людей, как Топоров, по-прежнему казалось
не совсем приличным.
536
Книги и люди
му он в меньшей степени был предметом и, если угодно, жертвой
«культа личности», который неизбежно окружал ученых, одиноко
возвышавшихся среди господствующего убожества и халтуры.
Разобщенность научного знания, методологическое
безразличие одних его областей к другим и ныне, через много лет после
окончания советской эпохи, составляют болезненную проблему4.
Она проявляется в отсутствии сколько-нибудь широкой
методологической дискуссии, в том, что разговор о теории возможен и
реально ведется лишь как история идей, возникших пятьдесят-
восемьдесят лет назад, в том, что наши лучшие коллективные
проекты до сих пор обычно строятся не вокруг общих проблем, а в
форме Festschrift'ов ныне здравствующим ученым и «чтений»,
посвященных памяти классиков. Модель универсального лично-
стно-харизматического знания продолжает преобладать над
специально-научной институционализацией — вот только самих
универсальных гениев остается все меньше, и в этом знак кризиса,
подрывающего уровень совокупного научного знания в нашей
стране.
У меня получился текст, далекий от некролога. Так и должно
быть: историк приходит со своей лопатой последним, когда
надгробные речи уже сказаны, когда работа скорби вступает в иную,
новую фазу. Его дело — предать земле, зафиксировать то, что
может и должно остаться в прошлом, те преходящие формы, в
которых приходилось жить, работать, даже мыслить людям прошлого;
если же эти люди были нашими современниками, то постараться
на их примере пересмотреть, переосмыслить нашу собственную
эпоху, отделить в ней старое от нового. А сами они пусть
остаются с нами.
2005
4 Сошлюсь на уже упомянутую статью А. Береловича или на ряд работ
Б. Дубина последних лет.
ПЕРВЫЕ ПУБЛИКАЦИИ ТЕКСТОВ
«Социальный факт и вещь». — Коллегиум (СПб.), 2005 (фактически 2009),
№ 3-4, с. 12-19.
«Социальное действие и его смысл». — Не публиковалось.
«Теория писательства и письмо теории». — Новое литературное обозрение,
2003, № 60, с. 30-37.
«Микроистория и филология». — В кн.: Казус 2006, М., Наука, 2007
(фактически 2008), с. 365-377.
«Ложное сознание: теория, история, эстетика». — В кн.:
Интеллектуальный язык эпохи: История идей, история слов. — М., Новое
литературное обозрение, 2011, с. 7—23.
«Исторические идеи и мыслительные схемы». — В кн.: Ex cathedra, M.,
РГГУ, 2012.
«Современность как "безыдейная" эпоха». — В кн.: От события к бытию:
Грани творчества Галины Иванченко, М., Издательский дом ГУВШЭ,
2010, с. 289-297.
«История понятий и структуральный метод». — В кн.: Гуманитарные
чтения РГГУ- 2010, М., РГГУ, 2011.
«Гуманитарная классика: между наукой и литературой». — В кн.:
Классика и классики в социальном и гуманитарном знании, М., Новое
литературное обозрение, 2009, с. 281—293.
«От текста к культу». — В кн.: Культ как феномен литературного процесса:
автор, текст, читатель, М., И МЛ И РАН, 2011, с. 133—141.
«Культурология префиксов». — В кн.: Культура «Пост-» как диалог
культур и цивилизаций, Воронежский государственный университет, 2005,
с. 43-54.
«Неуютность цитаты». — В кн.: Человек — культура — история, М., РГГУ,
2002, с. 293-307.
«Миф, имя и рассказ». — В кн.: Поэтика мифа: современные аспекты, М.,
РГГУ, 2008, с. 24-42.
«Гостеприимство: к антропологическому и литературному
определению». — Новое литературное обозрение, 2004, JNfë 65, с. 83—92.
«Гуманизм и забота о себе». — В кн.: Понятие гуманизма: французский и
русский опыт, М., РГГУ, 2006, с. 36—51.
«"Неприятие теории" и современные герменевтические дискуссии». —
Мировое древо /Arbor mundi, M., 2003, вып. 10, с. 151—162.
«Проблема релевантности смысла». — В кн.: Современная семиотика и
гуманитарные науки, М., Языки славянской культуры, 2010, с. 308—322.
«Комментарий и его двойник». — Новое литературное обозрение, 2004,
№66, с. 75-81.
538
Первые публикации текстов
«Филологическая иллюзия и ее будущность». — Новое литературное
обозрение, № 47 (2001), с. 72-77.
«Беньямин, Бодлер и мимесис». — Не публиковалось.
«Семиотика зрительного образа». — Не публиковалось.
«Эффект фантастики в кино». — В кн.: Фантастическое кино. Эпизод
первый, М., Новое литературное обозрение, 2006, с. 50—65.
«Жанр и история». — Опубликовано на французском языке: Cahiers de
l'Echinox, volume 16, Cluj, Romania, 2009, p. 35—43.
«Открытие "быта" русскими формалистами». — В кн.: Лотмановский
сборник 3, М., ОГИ, 2004, с. 806-821.
«Вещь, форма и энергия». — Новое литературное обозрение, 2006, № 80,
с. 54-63.
«Форма внутренняя и внешняя». — В кн.: Русская теория: 1920—1930-е
годы, М., РГГУ, 2004, с. 147-167.
«Рефлексия о культуре в советской науке 1970-х годов». — РОССИЯ/
RUSSIA, 1998, № 1 (9), с. 197-212.
«Русская реалистическая нарратология XX века». — В кн.: Нарративные
традиции славянских литератур (Средневековье и Новое время), изд-во
Новосибирского университета, 2007, с. 42—58.
«"Героическая парадигма" в советском литературоведении». — В кн.:
Лотмановский сборник 2, М., ОГИ; РГГУ, 1997, с. 124-139.
«Бахтин-компаративист». — Не публиковалось.
«Память жанра». — В кн.: Вестник истории, литературы, искусства, т. V,
М, Собрание, 2008, с. 145-153.
«Литературность и ответственность». — Не публиковалось.
«Зоологический предел культуры». — В кн.: Звери и их репрезентации в
русской культуре, СПб., Балтийские сезоны, 2010, с. 205—219.
«Приключения теоретика». —Дружба народов, 2003, № 12, с. 170—183.
«Этюд о щегольстве». — Литературное обозрение, 1991, № 10, с. 36—39 (под
названием «С/3, или Трактат о щегольстве»).
«He-словесность Михаила Ямпольского». — Ex libris H Г, N° 21 (193),
14.06.2001, с. 3.
«По ту сторону торга». — Синий диван, 2004, № 5, с. 207—213.
«Генезис текста и история литературы». — Новое литературное обозрение,
2000, №41, с. 342-347.
«Неугомонный оппонент». — Миргород (Седльце, Польша), 2008, № 1, с.
123-126.
«Учитель для умных». — Иностранная литература, 2005, № 1, с. 277—279.
«Соблазны ложных образов». — Книжное обозрение, март 2007, № 10—11,
с. 3, под названием «Соблазны ложных образов».
«Ученый без науки». — Новое литературное обозрение, 1995, № 13, с. 350—
353.
«Уровень совокупного знания». — Новое литературное обозрение, № 77,
2006, с. 269-272.
УКАЗАТЕЛЬ ИМЕН1
Авенариус (Avenarius), Рихард 336
Аверинцев, Сергей Сергеевич 121,
352, 355, 356, 358, 359, 363, 364,
370, 533
Автономова, Наталия Сергеевна
145, 410
Агамбен (Agamben), Джорджо 451,
452
Аддисон (Addison), Джозеф 132
Аксенов, Василий Павлович 480
д'Аламбер (d'Alembert), Жан Лерон
72,73
Ален-Фурнье (Alain-Fournier) 187
Альтюссер (Althusser), Луи 79—81
Аменабар (Amenabar), Алехандро
204
Аникст, Александр Абрамович 527
Анкерсмит (Ankersmit), Фрэнк 37,
387
Арагон (Aragon), Луи 467
Ариосто (Ariosto) 187
Аристотель 13, 16, 38, 42, 66, 116,
148, 260, 292, 379
Арон (Агоп), Раймон 76, 98
Аронсон, Марк Исидорович 312
Арутюнова, Нина Давидовна 106—
107
Ассман (Assmann), Ян 115, 120, 126,
421
Ауэрбах (Auerbach), Эрих 184—186,
414,415
Ахматова, Анна Андреевна 50
Бабель, Исаак Эммануилович 490
Байрон (Byron), Джордж Гордон
Ноэль 134, 135, 154, 155, 320,
399, 400, 480, 485
Балашова, Тамара Владимировна 506
Балли (Bally), Шарль 118
Бальзак (Balzac), Оноре де 238, 393,
399-401, 404, 405, 480, 492, 493
Баран (Вагап), Хенрик 173
Баратынский, Евгений Абрамович
75
Барков, Иван Семенович 313
Барнум (Barnum), Финеас Тейлор
500, 504
Барт (Barthes), Ролан 7, 20, 30, 31,
67, 77, 79, 80, 82-85, 90-93, 99,
101, 106, 125, 132, 137, 144, 148,
157-162, 171, 174, 191, 209-
211, 213-220, 228-232, 234,
235, 238, 252, 260, 262-269,
271-274, 317, 327, 360, 373, 387,
394,434,487,509,510,514
Батай (Bataille), Жорж 15, 16, 23,41,
125, 138,266,267,290,328,337,
450-452
Баткин, Леонид Михайлович 148,
359, 370, 374
Бахтин, Михаил Михайлович 6—9,
14, 23, 62-64, 81, 90, 92-94,
102, 119, 120, 122, 124, 151,225,
247, 279, 294, 297-299, 310, 353,
358, 360, 364-367, 383, 384,
1 В указателе, как правило, не отражаются вымышленные и легендарные
персонажи, переводчики цитат, а также некоторые лица, фигурирующие только
в цитатах (см. объяснение на с. 151).
540
Указатель имен
387-389, 392, 407-427, 429-
431, 433-445, 447, 448, 450-
452, 482, 486, 533, 535
Башляр (Bachelard), Гастон 19
Бекмон (Becquemont), Даниель 34
Белинский, Виссарион Григорьевич
475
Белый, Андрей 397
Бельмен-Ноэль (Bellemin-Noël), Жан
508, 509, 514
Бенвенист (Benveniste), Эмиль 19,
105, 224
Беньямин (Benjamin), Вальтер 7, 75,
119, 120, 122, 250-261, 492,
494, 496
Бергсон (Bergson), Анри 497
Бердяев, Николай Александрович
363
Берелович (Berelowich), Алексей
121, 428, 533, 536
Берковский, Наум Яковлевич 406,
407
Берни (Bemis), Франсуа-Жоаким де
156
Бессон (Besson), Люк 283, 284, 288
Бетеа (Bethea), Дэвид 373
Бедекер (Bödeker), Ханс Эрих 106,
111
Биази (Biasi), Пьер-Маркде 513
Библер, Владимир Соломонович
360
Бирбом (Beerbohm), Макс 187
Бланшо (Blanchot), Морис 144,
201-205, 277, 434, 491, 513,
520, 524
Блок, Александр Александрович 78,
363, 449
Блум (Bloom), Гарольд 158, 212
Богатырев, Петр Григорьевич 135,
294
Бодлер (Baudelaire), Шарль 66, 138,
192-194, 197, 198, 200, 205,
206, 223, 241, 250, 252, 255, 256,
259-261, 492
Бодрийяр (Baudrillard), Жан 48,
82-84, 118, 144, 146, 147, 174,
284, 513, 514, 524, 525
Бойе (Boie), Бернхильда 510
Бойм (Воут), Светлана 475, 478
Боккаччо (Boccaccio), Джованни
431
Бопп (Ворр), Франц 414
Борхес (Borges), Хорхе Луис 53, 300
Бочаров, Сергей Георгиевич 440,
447
Бремон (Bremond), Клод 387
Брехт (Brecht), Бертольт 252, 258,
260
Брик, Лиля Юрьевна 319, 467
Брик, Осип Максимович 477
Брикмон (Bricmont), Жан 209—211,
217,218
Бродский, Иосиф Александрович
50
Бройтман, Самсон Наумович 430
Бруни (Bruni), Леонардо 128
Брюнетьер (Brunetière), Фердинанд
292, 421
Буайе (Воуег), Филоксен 192
Булгаков, Михаил Афанасьевич 461
Бурдье (Bourdieu), Пьер 5, 21, 37,
44-54,61, 120, 183
Буффлер (Bouffiers), Станислас—
Жан де 156
Буше д'Аржи (Boucher d'Argis), Ан-
туан-Гаспар 72
Бэкон (Bacon), Фрэнсис 72, 329
Бюффон (Buffon), Жорж-Луи де 86,
483
Вайль, Петр Львович 376
Вайнштейн, Ольга Борисовна 506
Валери (Valéry), Поль 496
Ван Эйк (Van Eyck), Ян 273
Вачовски (Wachowski), Энди и Лар-
ри 286, 524
Вебер (Weber), Макс 28, 33, 58
Веласкес (Velasquez), Диего 273
Указатель имен
541
Великовский, Самарий Израилевич
200, 526, 528-531
Бенедиктова, Татьяна Дмитриевна
62, 499, 500, 502-505
Верн (Verne), Жюль 494
Веселовский, Александр
Николаевич 379-382, 388, 421
Винокур, Григорий Осипович 349,
350
Виоле-ле-Дюк (Viollet-le-Duc),
Эжен-Эмманюэль 417
Витгенштейн (Wittgenstein), Людвиг
360, 424
Вознесенский, Андрей Андреевич
480
Волошин, Максимилиан
Александрович 449
Волошинов, Валентин Николаевич
77-79,81,353,414,415
Вольтер (Voltaire) 73, 74, 76, 116,
295, 399
Вольф (Wolf) Фридрих Август 56
Вордсворт (Wordswoth), Уильям
154-157
Врангель, Петр Николаевич 462
Вригт (Wright), Георг Хенрик фон
39,58
Выготский, Лев Семенович 337
Гадамер (Gadamer), Ханс Георг 60
Гален 116
Галилей, Галилео 20, 478
Галушкин, Александр Юрьевич 456,
467
Гаркнесс (Harkness), Маргарет 394,401
Гарсиа (Garcia), Патрик 25
Гарсиа Маркес (Garcia Marquez),
Габриэль 300
Гаспаров, Борис Михайлович 374
Гаспаров, Михаил Леонович 8, 410,
413, 416, 424, 532-535
Гачев, Георгий Дмитриевич 356, 363
Гваттари (Guattari), Феликс 71, 88,
124, 267
Гегель (Hegel), Георг Вильгельм
Фридрих, гегельянство 33, 34,
73, 80, 89, 92, 93, 98, 103, 106,
139, 140, 141,252,292,310,367,
397, 398, 401, 415, 419, 422, 475,
521
Генис, Александр Александрович 376
Гербарт (Herbart), Иоганн
Фридрих 347
Гердер (Herder), Иоганн Готфрид
363, 369
Геродот 122
Гессе (Hesse), Герман 187
Гёльдерлин (Hölderlin), Фридрих
199, 490
Гёте (Goethe), Иоганн Вольфганг
132, 199, 399, 410, 490
Гильом де Лоррис (Guillaume de
Lorris) 134
Гинзбург (Ginzburg), Карло 7, 55—
59, 61-68, 240, 252
Гинзбург, Лидия Яковлевна 319,
323,465,467,468,471,488
Гирц (Geertz), Клиффорд 59
Гоголь, Николай Васильевич 318,
320,321,326,327,335,411,431
Гоготишвили, Людмила Арчиловна
14, 384, 431, 434
Гольдман (Goldmann), Люсьен 46
Гомер 398, 482
Гордон, Леонид Абрамович 528
Горных, Андрей Анатольевич 336
Горький, Максим 129, 400
ΙοτορΗ (Hawthorne), Натаниел 500,501
Готье (Gaultier), Жан-Поль 283
Готье (Gautier), Теофиль 19, 154—
157, 298, 299
Гофман (Goffman), Ирвинг 33
Гофман (Hoffmann), Эрнст Теодор
Амадей 298, 299
Гране (Granet), Марсель 182
Грезийон (Grésillon), Альмут 507,
509,511-513
542
Указатель имен
Греймас (Greimas), Альгирдас Ж.
106, 220, 224-228, 231, 232,
265, 387
Грейш (Greisch), Жан 34
Гренди (Grendi), Эдоардо 55, 60
Гржебин, Зиновий Исаевич 469
Гриб, Владимир Романович 401,
405, 406
Грибауди (Gribaudi), Маурицио 60
Грибоедов, Александр Сергеевич
130, 322, 462
Григорьев М.С. 347, 348, 353
Грин (Green), Жюльен 259
Гринблатт (Greenblatt), Стивен 40,
322
Грифцов, Борис Александрович
344-346, 349, 353, 399, 414
Гриц, Теодор Соломонович 312, 313
Гудмен (Goodman), Нельсон 57, 117
Гумбольдт (Humboldt), Вильгельм
фон 188, 338-340, 342, 347,
350, 353, 363, 369, 413
Гумбрехт (Gumbrecht), Ханс Ульрих 21
Гумилев, Лев Николаевич 120,125,361
Гумилев, Николай Степанович 470
Гуревич, Арон Яковлевич 355, 359,
365, 371, 373
Гуссерль (Husserl), Эдмунд 27, 32, 332
Гущанская Е.М. 387
Гюго (Hugo), Виктор 425
Гюйо (Guyot), Ив 196, 197
Даль, Владимир Иванович 307
Данилевский, Николай Яковлевич
22, 363
Данте Алигьери (Dante Alighieri)
128, 397
Данто (Danto), Apryp 29, 387
Дарвин (Darwin), Чарльз
(дарвинизм) 361, 371
Дебре-Женетт (Debray-Genette),
Раймонда 511, 512, 514
Декарт (Descartes), Рене,
картезианство 211, 520
Делакруа (Delacroix), Кристиан 25
Делёз (Deleuze), Жиль 71, 88, 98,
124,217,267,362,491
Деррида (Derrida), Жак 7, 30—31,
44,66, 119, 124, 144, 145, 175,
179, 180, 188,217,323,491,509,
519-522, 524
Дестют де Траси (Destutt de Tracy),
Антуан 76, 97
Детьен (Détienne), Марсель 162, 168
Джерволино (Jervolino), Доменико
33
Джойс (Joyce), Джеймс 174,412, 533
Джонсон (Johnson), Марк 29
Дидро (Diderot), Дени 72, 73
Дикинсон (Dickinson), Эмили 501
Диккенс (Dickens), Чарльз 492
Дилигенский, Герман Германович
528
Дильтей (Dilthey), Вильгельм 14, 15,
38, 39, 58, 122, 123
Дмитриева, Екатерина Евгеньевна
506, 507
Додерер (Doderer), Хаймито фон
495
Дора (Dorât), Клод-Жозеф 156
Досс (Dosse), Франсуа 25
Достоевский, Федор Михайлович
62, 63, 81, 84, 102, 157, 198-
201,203,279,295,299,318,320,
321,407,408,411,412,416,418,
419,422,424-427,431
Дубин, Борис Владимирович 275,
536
Дувакин, Виктор Дмитриевич 445
Дюкан (Du Camp), Максим 424
Дюркгейм (Durkheim), Эмиль 6,
13-16, 79, 119, 128, 197-199,
203, 204, 249, 325-337
Дюшан (Duchamp), Марсель 490
Егоров, Борис Федорович 368, 369,
387
Указатель имен
543
Екатерина II 152
Ельмслев (Hjelmslev), Луи 228, 272,
348, 349
Ермаков, Иван Дмитриевич 402
Ерофеев, Виктор Владимирович 376
Есенин, Сергей Александрович 307,
465
Жабес (Jabès), Эдмон 179, 180, 187,
189, 190
Жан де Мен (Jean de Meung) 134
Жане (Janet), Пьер 330
Жанен (Janin), Жюль 155
Жаннере (Jeanneret), Ив 210, 217
Жарри (Jarry), Альфред 490, 497
Женетт (Genette), Жерар 149, 150,
234, 246, 247, 258, 259, 279, 294,
297,305,316,378,387,425
Жижек (2i2ek), Славой 85
Жирар (Girard), Рене 249
Жирмунский, Виктор Максимович
325, 414
Жокур (Jaucourt), Луи Шевалье де
72, 73, 76
Жолковский, Александр
Константинович 375, 482, 487, 489, 492
Жуковский, Василий Андреевич 318
Замятин, Евгений Иванович 471
Зарецкий, Валентин Айзикович 387
Зверев, Алексей Матвеевич 275
Зимин, Александр Александрович
107
Зиммель (Simmel), Георг 286, 359,
362
Золя (Zola), Эмиль 172, 438, 511
Зонтаг (Sontag), Сьюзен 99
Зорин, Андрей Леонидович 240
Иван Грозный 266, 372
Иванов, Вячеслав Всеволодович 23,
356,359,361,363,365,429
Иванова, Юлия Викторовна 128
Иванченко, Галина Владимировна 536
Иглтон (Eagleton), Терри 77
Изер (Iser), Вольфганг 499
Измайлов, Александр Ефимович
314
Ильф, Илья 130, 131
Ингарден (Ingarden), Роман 385,
388
Йейтс (Yates), Френсис Амалия 94
Кайуа (Caillois), Роже 15, 19, 23, 180,
183, 256, 290, 332, 450
Калинин, Илья Александрович 327,
330, 471
Каллер (Culler), Джонатан 5
Кальдерон де ла Барка (Calderyn de
la Вагса), Педро 399
Камю (Camus), Альбер 32, 200—203,
481, 528-531
Канаев, Иван Иванович 419
Кант (Kant), Иммануил,
кантианство 32, 165, 188, 189, 194-197,
247, 327, 360, 363, 486, 496
Карамзин, Николай Михайлович
316, 372, 480
Карельский, Альберт Викторович
404, 528
Карлейль (Carlyle), Томас 128
Карнап (Сагпар), Рудольф 360
Карпентьер (Carpentier), Алехо 187
Карякин, Юрий Федорович 528
Кассирер (Cassirer), Эрнст 166, 420
Катон Утический 132
Кафка (Kafka), Франц 254, 260, 277,
300
Кац, Борис Аронович 233
Келли (Kelly), Дональд 70
Кении (Kenny), Энтони 29
Кине (Quinet), Эдгар 399
Киплинг (Kipling), Редьярд 5, 463,
469
Киров, Сергей Миронович 307
Кларк (Clarke), Артур 283
Клемм (Klemm), Дэвид 27
544
Указатель имен
Кожев (Kojève), Александр 89, 139,
140, 145
Кожинов, Вадим Валерианович 381,
385-389, 444
Козеллек (Koselleck), Рейнхарт 106,
111
Кокто (Cocteau), Жан 286, 287
Коле (Colet), Луиза 27, 423, 424
Кольридж (Coleridge), Сэмюэл Тэй-
лор 155
Компаньон (Compagnon), Антуан
5, 53, 152, 214, 218, 508, 513,
516-519
Кондильяк (Condillac), Этьен Бон-
но де 96
Конта (Contât), Мишель 512
Колосов, Николай Евгеньевич 295
Корнилов, Лавр Георгиевич 458
Кортасар (Cortazar), Хулио 300
Коэн (Cohen), Сэнд 65
Кребийон-сын (СгеЫ11оп),Клод—
Проспер 74
Кретьен де Труа (Chrétien de Troyes)
184
Крипке (Kripke)', Сол 85, 123, 175—
177
Кристева (Kristeva), Юлия 23,63,118,
210, 217, 262, 373, 487, 509, 510
Крокетт (Crockett), Дэвид 500
Кубрик (Kubrick), Стенли 283
Кун (Kuhn), Томас 117
Курциус (Curtius), Эрнст Роберт 100,
377, 416
Кювье (Cuvier), Жорж 420
Кюхельбекер, Вильгельм Карлович
462
Лавджой (Lovejoy), Артур О. 20, 91,
96
Лакан (Lacan), Жак 23, 90, 92, 93,
148, 157, 178, 217, 362
Лакофф (Lakofi), Джордж 29
Лаку-Лабарт (Lacoue-Labarthe),
Филипп 522, 524
Ламартин (Lamartine), Альфонс де
134, 135
Ланг (Lang), Фриц 283, 301
Ландольт, Эманюэль 262
Лансон (Lanson), Постав 240
Лафарг (Lafargue), Поль 46, 400
Лахман (Lachmann), Рената 377
Лацарус (Lazarus), Мориц 347
Лебедев, Александр Александрович
528
Лебрав (Lebrave), Жан-Луи 511, 512
Левайян (Levaillant), Жан 510, 512
Леви (Levi), Джованни 59, 60
Левинас (Levinas), Эмманюэль 267
Леви-Стросс (Lévi-Strauss), Клод
34, 48, 67, 119, 124, 164, 165,
183,223,241,358,360,365,372,
384, 387, 420
Левитан Л.С. 386
Левченко, Ян Сергеевич 456
Легобьен (Le Gobien), Шарль 62, 63
Лейбниц (Leibniz), Готфрид
Вильгельм 85
Ленин, Владимир Ильич 367, 411,
415, 455, 478
Леопарди (Leopardi), Джакомо 400
Лифшиц, Михаил Александрович 364
Лихачев, Дмитрий Сергеевич 356,
358, 359, 365, 369, 370,374,482,
533
Локк (Locke), Джон 96
Лонгфелло (Longfellow), Генри 501
Лоренц (Lorentz), Хендрик Антон 116
Лосев, Алексей Федорович 120, 121,
356, 359, 365, 370, 400
Лотман, Юрий Михайлович 7, 9, 22,
31,40,43,45,107-112,124,132,
141, 151, 162-167, 169-171,
174, 175, 177, 238-241, 246, 262,
269-275, 281, 289, 292, 322, 354,
355-357, 359, 361-363, 366-
374, 387, 389, 390, 403, 410, 420,
427, 436, 471, 480, 484, 486, 487,
533, 535
Указатель имен
545
Лукас (Lucas), Джордж 284
Лукач (Lukâcs), Дьёрдь (Георг) 46,
327, 364, 393, 398, 401, 415
Лукиан 199
Лэм (Lamb), Чарльз 492
Мазур, Наталия Николаевна 239
Майкельсон (Michelson), Альберт
Абрахам 116
Макферсон (Macpherson), Джеймс
417
Малларме (Mallarmé), Стефан 198,
200, 203, 257, 327, 530
Мальро (Malraux), Андре 404
Мамин-Сибиряк, Дмитрий Нарки-
сович 307
Ман (Man), Поль де 65, 66, 93, 218,
241,518
Мандельштам, Осип Эмильевич 19,
473, 533
Манн (Mann), Томас 175, 300, 462,
533
Манн, Юрий Владимирович 405
Манхейм (Mannheim), Карл 76
Мао Цзэдун 100
Маркс (Marx), Карл, марксизм 48,
53, 76, 77, 80, 89, 97, 98, 118,
120, 140, 157,212,217,260,292,
310,322,327,338,356,359,360,
392, 398,400,401, 405, 414,415,
475, 483, 503, 518, 524, 529
Марр, Николай Яковлевич 357
Марти (Marty), Эрик 513
Маяковский, Владимир
Владимирович 307, 455, 466, 475, 478
Медведев, Павел Николаевич 383,
388, 422, 426, 433, 485
Мейер, Александр Александрович
15, 362
Мел вилл (Melville), Герман 500
Мелетинский, Елеазар Моисеевич
8, 175, 356, 359, 532-535
Мельес (Méliès), Жорж 301
Мериме (Mérimée), Проспер 299
Мерло-Понти (Merleau-Ponty),
Морис 404
Милль (Mill), Джон Стюарт 166
Мильнер (Milner), Жан-Клод 20
Мильтон (Milton), Джон 128
Милюков, Павел Николаевич 357
Минц, Зара Григорьевна 166
Миттеран (Mitterand), Анри 511
Михайлов, Александр Викторович
364, 377
Михайлов, Андрей Дмитриевич 506
Мишель (Michel), Жоан 28,33,35, 38
Моннеро (Monnerot), Жюль 15, 23
Монтень (Montaigne), Мишель де
100, 152, 153, 160, 161, 193
Мопассан (Maupassant), Ги де 299
Морли (Morley), Эдвард Уильяме
116
Морсон (Morson), Гэри Сол 418
Моруа (Maurois), Андре 51
Мосс (Mauss), Марсель 119, 122,
183, 249, 360, 503
Мюллер (Müller), Макс 167, 168
Набоков, Владимир
Владимирович 490
Нанси (Nancy), Жан-Люк 362, 522
Наполеон I (Napoléon) 76
Неклюдов, Сергей Юрьевич 359
ΗβφίΝβείβ), Жак 511
Никитин, Михаил Матвеевич 312,313
Никсон (Nixon), Ричард 176
Ницше (Nietzsche), Фридрих,
ницшеанство 32, 65, 84, 99, 102,
138, 175,200,201,212,323,363,
364, 404
Нодье (Nodier), Шарль 299
Нора (Nora), Пьер 91—93
Нусинов, Исаак Маркович 399, 400
Ньютон (Newton), Исаак 116, 521
Овсянико-Куликовский, Дмитрий
Николаевич 341, 402
Окуджава, Булат Шалвович 71
546
Указатель имен
Ом (Ohm), Георг Симон 123
Ортега-и-Гассет (Ortega у Gasset),
Хосе 395
Остин (Austin), Джон Лэнгшоу 101,
518
Оствальд (Ostwald), Вильгельм
Фридрих 318
Павел, апостол 30
Павел (Pavel), Томас 85
Пазолини (Pasolini), Пьер Паоло
280, 281
Панофский (Panofsky), Эрвин 70, 86
Панченко, Александр Михайлович
365
Паперный, Владимир Зиновьевич 375
Парамонов, Борис Михайлович 376
Паскаль (Pascal), Блез 74
Пезе (Pezay), Александр-Фредерик-
Жак 156
Переверзев, Валерьян Федорович 402
Петлюра, Симон Васильевич 462
Петр I 372
Петрарка (Petrarca), Франческо 128
Петров, Евгений Петрович 130, 131
Пикар (Picard), Раймон 209-211,
213-218, 229
Пинский, Леонид Ефимович 392,527
Пирс (Peirce), Чарльз Сандерс 119,
122, 123
Пифагор 116
Платон, платонизм, неоплатонизм
20, 62, 63, 66, 67, 70, 85, 86, 88,
96, 98, 99, 115, 148, 149, 261,
399,421,431,432,434,476,520
Плеханов, Георгий Валентинович 46
Плутарх 152, 153
По (Рое), Эдгар Аллан 192, 193, 198,
200, 500, 501
Подорога, Валерий Александрович
21, 248, 491
Поливанов, Евгений Дмитриевич 335
Помье (Pommier), Рене 209
Понж (Ponge), Франсис 18, 327
Поспелов, Геннадий Николаевич
306, 397
Потебня, Александр Афанасьевич
338-347, 350-353, 413
Пропп, Владимир Яковлевич 356,
384, 387, 392, 403
Проскурин, Олег Анатольевич 311
Пруст (Proust), Марсель 174, 256
Прутков, Козьма 321
Пуанкаре (Poincaré), Анри 123
Пушкин, Александр Сергеевич 130,
134,175, 181,193,312,318,323,
335, 372, 402, 462, 482, 485
Пыпин, Александр Николаевич 307
Пюрри (Puny), Жан-Пьер 65
Пятигорский, Александр
Моисеевич 31, 359, 363
Рабле (Rabelais), Франсуа 23, 90,
247, 299, 346, 358, 365, 392, 407,
411,413,415,424,444,447
Радищев, Александр Николаевич
40, 132, 133
Рамишвили Г. В. 339
Расин (Racine), Жан 209, 210, 214-
216, 219, 229
Рассел (Russell), Бертран 176
Реизов, Борис Георгиевич 392, 527
Рейсер, Соломон Абрамович 312
Рейтблат, Абрам Ильич 233
Ремарк (Remarque), Эрих Мария
131
Рембо (Rimbaud), Артюр 295
Ремизов, Алексей Михайлович 469
Ренувье (Renouvier), Шарль 196, 205
Рикёр (Ricœur), Поль 7, 25—39, 42,
43, 58, 212, 249, 387, 524
Риффатер (Riffaterre), Майкл 171—
173, 220-223, 228-232, 295
Роб-Грийе (Robbe-Grillet), Ален 300,
327
Робеспьер (Robespierre),
Максимилиан 259
Указатель имен
547
Розанов, Василий Васильевич 327,343
Роллан (Rolland), Ромен 98
Ромен (Romains), Жюль 478
Роулинг (Rowling), Джоан 291
Руссель (Roussel), Раймон 490
Руссо (Rousseau), Анри 51
Руссо (Rousseau), Жан-Жак,
руссоизм 360, 369, 432, 434, 473
Сад (Sade), Донасьен-Альфонс-
Франсуа де 74, 75, 490, 503
Самойлов, Давид 532
Саррот (Sarraute), Натали 51
Сартр (Sartre), Жан-Поль 19, 32,
101,141, 197,268,277,300,327,
372,499,512,529-531
Светликова, Илона Юрьевна 332,336
Сенека 152, 153
Сен-Симон (Saint-Simon), Клод-
Анри, сенсимонизм 103, 141
Сент-Экзюпери (Saint-Exupéry), Ан-
туан де 404
Сепир (Sapir), Эдвард 338, 363
Сервантес Сааведра (Cervantes
Saavedra), Мигель де 134, 295
Серио (Sériot), Патрик 414
Серль (Searle), Джон 176, 518, 519
Серто (Certeau), Мишель де 248
Сеше (Séchehaye), Альбер 118
Скворцов-Степанов, Иван
Иванович 307
Сковорода, Григорий 479
Скоропадский, Павел Петрович 461
Скот Эриугена, Иоанн 431
Скотт (Scott), Вальтер 176, 295, 398
Скотт (Scott), Ридли 301
Слотердайк (Sloterdijk), Петер 85
Смирдин, Александр Филиппович
313
Смирнов, Игорь Павлович 375
Смит (Smith), Адам 482, 503
Содерберг (Soderbergh), Стивен 282
Сокал (Sokal), Алан 209-211, 216—
219
Сократ 63, 115
Соловьев, Владимир Сергеевич 276,
277, 286, 299
Соловьев, Сергей Михайлович 122
Соссюр (Saussure), Фердинанд де
26, 36,43,45, 77, 93, 97, 118,
119, 122-124, 135, 212, 222,
232, 294, 295, 336, 340, 348, 350,
414, 486
Софокл 188
Софтли (Softley), Йен 280
Спенсер (Spencer), Герберт 336
Спиноза (Spinoza), Бенедикт 520
Стайнер (Steiner), Питер 309
Сталин, Иосиф Виссарионович,
сталинская эпоха 130, 191, 307,
360, 369, 375, 403, 411, 526, 527
Старобинский (Starobinski), Жан
66,67, 118, 152, 173
Стаф, Ирина Карловна 506
Стендаль (Stendhal) 246, 460, 467
Степанов, Юрий Сергеевич 107
Стерн (Sterne), Лоренс 473
Стругацкие, Аркадий Натанович и
Борис Натанович 480
Сю (Sue), Эжен 131, 174, 449
Таборисская, Евгения Михайловна
387
Тамарченко, Натан Давидович 418,
421,434
Тарковский, Андрей Арсеньевич
282, 286, 301
Тауссиг (Taussig), Майкл 250, 254
Твен (Twain), Марк 500, 501, 504
Тейяр де Шарден (Teilhard de
Chardin), Пьер 125
Теккерей (Thackeray), Уильям 404
Тернер (Turner), Джозеф 490, 493
Тертерян, Инна Артуровна 528
Тиберж (Tiberge), аббат (А.Ренье-
Детурбе) 155
Тик (Tieck), Людвиг 406
Тиханов (Tihanov), Галин 410, 415
548
Указатель имен
Тодоров (Todorov), Цветан 275—
278, 280, 287, 288, 293, 298, 299,
302, 409, 414
Тойнби (Toynbee), Арнольд 22, 363
Толкиен (Tolkien), Джон Рональд
Руэл, толкинизм 133, 134, 300
Толстой, Алексей Константинович
276
Толстой, Лев Николаевич 314, 315,
318,431,438,458,460
Томашевский, Борис Викторович
276,299,305,319,335,382,383,
387, 396
Топоров, Владимир Николаевич 8,
165, 172, 327, 359, 363, 532-535
Topo (Thoreau), Генри 501, 503
Тренин, Владимир Владимирович
312,313
Триоле (Triolet), Эльза 467
Троллоп (Trollope), Энтони 404
Трубецкой, Николай Сергеевич 322,
483
Тургенев, Иван Сергеевич 318, 399,
448,449
Тынянов, Юрий Николаевич 136,
288, 295, 296, 305-307, 309-
311, 315-323, 335, 336, 338,
367, 426, 462, 465, 466, 476, 488
Тынянова, Лидия Николаевна 319
Тьерри (Thierry), Опостен 310
Тэйлор (Taylor), Ричард 29
Тэйлор (Taylor), Чарльз 29
Тюпа, Валерий Игоревич 387—389
Тютчев, Федор Иванович 501
Уайт (White), Хейден 93
Уайтхед (Whitehead), Альфред Норт
117
Уорф (Whorf), Бенджамин Ли 338,363
Успенский, Борис Андреевич 22,
132, 164-166, 239, 240, 356,
366, 368, 371-374, 403, 480, 487
Успенский, Владимир Андреевич 356
Устинов, Денис 468
Ухтомский, Алексей Алексеевич 78,
305
Ушаков, Дмитрий Николаевич 307
Фабри (Fabbri), Паоло 367
Файхингер (Vaihinger), Ханс 85
Фейерабенд (Feuerabend), Пол 66
Феллини (Fellini), Федерико 281
Феокрит 482
Ферма (Fermât), Пьер де 123
Феррер (Ferrer), Даниель 506, 511
Фет, Афанасий Афанасьевич 315
Фихте (Fichte), Иоганн Готлиб 98
Флобер (Flaubert), Гюстав 27,47,84,
99, 102, 157, 174, 327, 393, 404,
413,423,424, 433, 434, 440-452
Флоренский, Павел Александрович
165, 350-353
Фонтаний (Fontanille), Жак 265
Фрай (Frye), Нортроп 294
Франк, Семен Людвигович 15
Франклин (Franklin), Бенджамин
500, 501
Фреге (Frege), Готлоб 123
Фрейд (Freud), Зигмунд, фрейдизм
22, 23, 32, 53, 77, 78, 89, 90, 92-
95, 118, 122, 140, 148,203,212,
301,310,367,415,488
Фрейденберг, Ольга Михайловна
357, 358, 381, 392
Фромм (Fromm), Эрих 32
Фуко (Foucault), Мишель 21, 22, 91,
96,99, 105,123,196,203,248,292
Фукуяма (Fukuyama), Френсис 140
Хайдеггер (Heidegger), Мартин 31,
327,431
Хальбвакс (Halbwachs), Морис 119,
168
Ханзен-Лёве (Hansen-Löwe), Ore
309,311,312,326,332,341,343,
344, 382
Хармс, Даниил 490
Харчев, Анатолий Георгиевич 307
Указатель имен
549
Хаттон (Hutton), Патрик X. 94
Хвостов, Дмитрий Иванович 321
Хемингуэй (Hemingway), Эрнест 131,
404,457,470,531
Хёйзинга (Huizenga), Йохан 355
Хинтикка (Hintikkä), Яакко 85
Хичкок (Hitchcock), Альфред 280,
281
Хлебников, Велимир 173, 490
Ходасевич, Владислав Фелициано-
вич 464
Христиансен (Christiansen), Бродер
78, 305
Цивьян, Юрий Гавриилович 233,
234, 241, 269
Цилевич, Леонид Маркович 386
Чернышевский, Николай
Гаврилович 131
Черутти (Cerutti), Симона 55
Чоран (Cioran), Эмиль Мишель 99,
203
Чугунников, Сергей Геннадьевич
354
Чудакова, Мариэтта Омаровна 311,
318, 319, 322
Шайтанов, Олег Игоревич 409
Шарлеман (Scharlemann), Роберт 30
Шартье (Chartier), Роже 86, 247
Шатобриан (Chateaubriand),
Франсуа-Рене де 406
Шекспир (Shakespeare), Уильям 134,
155, 187, 297
Шелли (Shelley), Перси Биши 399
Шеллинг (Schelling), Фридрих
Вильгельм Йозеф фон 166, 397, 398
Шеффер (Schaeffer), Жан-Мари 294,
300
Шиллер (Schiller), Фридрих 33
Шкловский, Виктор Борисович 7,
19, 89, 90, 92, 93, 124, 305, 307,
309,310,315,316,319,320,322,
326, 327, 330, 335-337, 341-
346, 353, 367, 382, 455-479, 488
Шлегель (Schlegel), Фридрих 416
Шлейермахер (Schleiermacher),
Фридрих 25
Шмид (Schmid), Вольф 387-389,432
Шопенгауэр (Schopenhauer), Артур
440
Шпенглер (Spengler), Освальд 22,
323, 356, 363, 412
Шпет, Густав Густавович 346—350,
352, 353
Штейнгольд, Анна Матвеевна 387
Штейнталь (Steinthal), Гейман 339,347
Шюкинг (Schücking), Левин
Людвиг 325
Щеглов, Юрий Константинович 487
Э (Hay), Луи 511
Эйзенштейн, Сергей Михайлович
265, 266, 268, 455, 494
Эйнштейн (Einstein), Альберт 116,
125
Эйхенбаум, Борис Михайлович 20,
46,47, 136, 305, 311-314, 318,
319, 322-324, 326, 331, 335,
462, 466
Эко (Eco), Умберто 43, 145, 159—
161, 228, 373, 484, 487
Элиаде (Eliade), Мирча 164
Элиот (Eliot), Джордж 404
Элюар (Eluard), Поль 528, 530, 531
Эмерсон (Emerson), Кэрил 418
Эмпедокл 199
Энгельс (Engels), Фридрих 80, 392,
394, 395, 398, 401
Энском (Anscombe), Элизабет 29
Эпштейн, Михаил Наумович 146,
147, 376
Эренбург, Илья Григорьевич 477
Эрлих (Erlich), Виктор 312, 341
Эспань (Espagne), Мишель 243, 507,
508
550
Указатель имен
Эсхил 188, 399
Эткинд, Александр Маркович 23
Юм (Hume), Давид 38
Юнг (Jung), Карл Густав 22, 23
Юшкевич, Павел Соломонович 325
Якобсон, Роман Осипович 135, 166,
169,223,241,294,306,316,322,
325, 354, 360, 410, 462, 475, 483
Ямпольский, Михаил
Венеаминович 7, 14,21,248,265,280,285,
286, 476, 489-493, 495-498,
538
Яусс (Jauss), Ханс Роберт 46
Alpert H. 325
Bal, Mieke 432
Bérard-Zarzycka, Ewa 324
Bersani, Leo 171
Bessière, Irène 275
Bruneau, Charles 298
Brunot, Ferdinand 298
Buck-Mores, Susan 25
Cassin, Barbara 88
Choi, Seong-Man 250
Clark, Katerina 409
Dufourmantelle, Anne 180
Fleury V. 210
Frey, Daniel 40
Gusdorf, Georges 76
Hamon, Philippe 171
Keunen B. 424
Kluckhohn, Clyde 357, 369
Kroeber, Alfred Louis 357, 369
Lang, Tilman 250, 256
Limet, Yun Sun 210
Lowe, Margaret 445
Malcuzynski, M.-Pierrette 409
Meyer, Alfred G. 369
Miller, J.Hillis 519
Pezzini, Isabella 228
Rose, M. 86
Sanchez-Mesa-Martinez, Domingo 409
Watt, Ian 171
Weinstein, Marc 316
Zbinden, Karine 119
СОДЕРЖАНИЕ
Предисловие 5
ПОСТУПКИ И ИДЕИ
Социальный факт и вещь (К проблеме смысла в гуманитарных
науках) 13
Социальное действие и его смысл (Историческая
герменевтика после Рикёра) 25
Теория писательства и письмо теории (Филология после
Бурдье) 44
Микроистория и филология 55
Ложное сознание: теория, история, эстетика 70
Исторические идеи и мыслительные схемы (К поэтике
интеллектуального дискурса) 86
Современность как «безыдейная» эпоха 96
История понятий и структуральный метод 104
ИНСТИТУТЫ И ТЕКСТЫ
Гуманитарная классика: между наукой и литературой 115
От текста к культу 127
Культурология префиксов 137
Неуютность цитаты 148
Миф, имя и рассказ 162
Гостеприимство: к антропологическому и литературному
определению 179
Гуманизм и забота о себе (Дискуссии о самоубийстве в
литературе и философии) 192
ЗНАКИ И ОБРАЗЫ
«Неприятие теории» и современные герменевтические
дискуссии 209
Проблема релевантности смысла: Риффатер, Греймас, Барт 220
Комментарий и его двойник 233
Филологическая иллюзия и ее будущность 243
Беньямин, Бодлер и мимесис 250
Семиотика зрительного образа: Ролан Барт и Юрий Лотман 262
Эффект фантастики в кино 275
Жанр и история (Об одном механизме жанровой эволюции) 292
552
Содержание
ТЕОРИИ И МИФЫ
Открытие «быта» русскими формалистами 305
Вещь, форма и энергия (Русские формалисты и Дюркгейм) 325
Форма внутренняя и внешняя (Судьба одной категории в
русской теории XX века) 338
Рефлексия о культуре в советской науке 1970-х годов
(идеологические аспекты) 355
Русская реалистическая нарратология XX века (К истории
понятия «сюжет») 377
«Героическая парадигма» в советском литературоведении 391
Бахтин-компаративист 410
Память жанра: анализ одной гипотезы 419
Литературность и ответственность 430
Зоологический предел культуры (Бахтин, Флобер и другие) 441
КНИГИ И ЛЮДИ
Приключения теоретика (Автобиофафическая проза Виктора
Шкловского) 455
Этюд о щегольстве 480
He-словесность Михаила Ямпольского 489
По ту сторону торга 499
Генезис текста и история литературы 506
Неугомонный оппонент 516
Учитель для умных (Жак Деррида, 1930—2004) 520
Соблазны образов (Жан Бодрийяр, 1929—2007) 524
Ученый без науки (Самарий Израилевич Великовский, 1931—
1990) 526
Уровень совокупного знания (Михаил Леонович Гаспаров,
1935—2005; Владимир Николаевич Топоров, 1928—2005;
Елеазар Моисеевич Мелетинский, 1918—2005) 532
Первые публикации текстов 537
Указатель имен 539
Зенкин Сергей Николаевич
РАБОТЫ О ТЕОРИИ
Дизайнер
Е. Поликашин
Редактор
А. Дмитриев
Корректор
Е. Толонко
Компьютерная верстка
С. Пчелинцев
Налоговая льгота —
общероссийский классификатор продукции
ОК-005-93, том 2;
953000 — книги, брошюры
ООО РЕДАКЦИЯ ЖУРНАЛА
«НОВОЕ ЛИТЕРАТУРНОЕ ОБОЗРЕНИЕ»
Адрес издательства:
129626, Москва,
абонентский ящик 55
тел./факс: (495) 229-91-03
e-mail: real@nlo.magazine.ru
Интернет: http://www.nlobooks.ru
Формат 60x90'/i6
Бумага офсетная № 1
Печ. л. 35. Тираж 1500 экз. Заказ № 3877
Отпечатано с готовых файлов заказчика
в ОАО «Первая Образцовая типография»,
филиал «УЛЬЯНОВСКИЙ ДОМ ПЕЧАТИ»
432980, г. Ульяновск, ул. Гончарова, 14
Издательство
НОВОЕ ЛИТЕРАТУРНОЕ ОБОЗРЕНИЕ
2012 г.
Серия «Научная библиотека»
Ю.К. Щеглов
ПРОЗА. ПОЭЗИЯ. ПОЭТИКА
Избранные работы
В книге собраны статьи
выдающегося филолога Юрия Константиновича
Щеглова (1937-2009), написанные за
более чем 40 лет его научной
деятельности. Сборник включает работы
разных лет и разного концептуального
формата, охватывая многообразные
области интересов ученого — от
поэтики выразительности до теории
новеллы, от Овидия до Войновича.
Статьи, вошедшие в сборник, посвящены
как общетеоретическим вопросам, так
и разборам конкретных произведений
A.C. Пушкина, А.П. Чехова, А. Конан
Дойла, И.Э. Бабеля, М.М. Зощенко,
A.A. Ахматовой, И. Ильфа и Е.
Петрова, Л.И. Добычина, М.А.
Булгакова. В книге также помещен
хронологический список опубликованных
трудов Ю.К. Щеглова.
И з д а т е л ьство
НОВОЕ ЛИТЕРАТУРНОЕ ОБОЗРЕНИЕ
2012 г.
Серия «Научная библиотека»
Томас Венилова
СОБЕСЕДНИКИ НА ПИРУ
Литературоведческие работы
ТОМАС «НЦЛОвА
В настоящее издание вошли
литературоведческие труды известного
литовского поэта, филолога, переводчика,
эссеиста Томаса Венцлова: сборники
«Статьи о русской литературе»,
«Статьи о Бродском», «Статьи разных лет».
Читатель найдет в книге
исследования автора, посвященные творчеству
Л.Н. Толстого, А.П. Чехова, поэтов
XX века: Каролины Павловой,
Марины Цветаевой, Бориса Пастернака,
Владислава Ходасевича, Владимира
Корвина-Пиотровского и др.
Заключительную часть книги составляет
сборник «Неустойчивое равновесие:
Восемь русских поэтических
текстов» (развивающий идеи и методы
Ю.М. Лотмана), докторская
диссертация автора, защищенная им в Йель-
ском университете (США) в 1985 году.
Сборник издавался в виде отдельной
книги и использовался как учебник
поэтики в некоторых американ-ских
университетах.
СОБЕСЕДНИКИ
НА ПИРУ
Издательство
НОВОЕ ЛИТЕРАТУРНОЕ ОБОЗРЕНИЕ
2012 г.
Серия «Научная библиотека»
Михаил Вайскопф
ВЛЮБЛЕННЫЙ ДЕМИУРГ
Метафизика и эротика русского романтизма
Новая книга известного
израильского филолога Михаила Вайскопфа
посвящена
религиозно-метафизическим исканиям русского романтизма,
которые нашли выражение в его
любовной лирике и трактовке
эротических тем. Эта проблематика
связывается в исследовании не только с
различными западными влияниями,
но и с российской духовной
традицией, коренящейся в восточном
христианстве. Русский романтизм во всем
его объеме рассматривается здесь как
единый корпус сочинений,
связанных единством центрального сюжета.
В монографии используется
колоссальный материал, большая часть
которого в научный обиход введена
впервые. Книга М. Вайскопфа
радикально меняет сложившиеся
представления о природе русского
романтизма и его роли в истории нашей
культуры.
Книги и журналы
«Нового литературного обозрения»
можно приобрести в интернет-магазине издательства www.nlobooks.mags.ru
и в следующих книжных магазинах:
в МОСКВЕ:
• «Библио-Глобус» — ул. Мясницкая, 6, (495) 924-46-80
• Галерея книги «Нина» — ул. Бахрушина, 28, (495) 959-20-94
• «Гараж» — ул. Образцова, 19-А (магазин в центре современной культуры
«Гараж»), (495)645-05-21
• «Гилея» — Тверской бульвар, 9 (помещение Московского музея современного
искусства), (495) 925-81-66
• Книготорговая компания «Берроунз» — (495) 971-47-92
• «Книги в Билингве» — Кривоколенный пер., 10, стр. 5, (495) 623-66-83
• «Культ-парк» — Крымский вал, 10 (магазин в ЦДХ)
• «Молодая гвардия» — ул. Большая Полянка, 28, (499) 238-50-01,
(495) 780-33-70
• «Москва» - ул. Тверская, 8, (495) 629-64-83, (495) 797-87-17
• «Московский Дом Книги» — ул. Новый Арбат, 8, (495) 789-35-91
• «Мир Кино» — ул. Маросейка, 8, (495) 628-51-45
• «Новое Искусство» — Цветной бульвар, 3, (495) 625-44-85
• «Проект ОГИ» - Потаповский пер., 8/12, стр. 2, (495) 627-56-09
• «Старый свет» — Тверской бульвар, 25 (книжная лавка при Литинституте,
вход с М. Бронной), (495) 202-86-08
• «У Кентавра» — ул. Чаянова, д. 15 (магазин в РГГУ), (495) 250-65-46
• «Фаланстер» — Малый Гнездниковский пер., 12/27, (495) 629-88-21
• «Фаланстер» (На Винзаводе) — 4-й Сыромятнический пр., 1, стр. 6 (территория
ЦСИ Винзавод), (495) 926-30-42
• «Циолковский» — Новая пл., 3/4, подъезд 7Д (в здании Политехнического
Музея), (495) 628-64-42, 628-62-48
• «Dodo Magic Bookroom» — Рождественский бульвар, 10/7,
(495) 628-67-38
• «Jabberwocky Magic Bookroom» — ул. Покровка, 47/24 (в здании Центрального
дома предпринимателя), (495) 917-59-44
• Книжные лавки издательства «РОССПЭН»:
• Киоск № 1 в здании Института истории РАН —
ул. Дм. Ульянова, 19, (499) 126-94-18
• «Книжная лавка историка» в РГАСПИ —
Б. Дмитровка, 15, (495) 694-50-07
• «Книжная лавка обществоведа» в ИНИОН РАН —
Нахимовский пр., 51/21, (499) (495) 120-30-81
• Киоск в кафе «АртАкадемия» — Берсеневская набережная, 6, стр. 1
• Книжный магазин в кафе «МАРТ» — ул. Петровка, 25 (здание Московского
музея современного искусства)
в САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ:
• На складе нашего издательства — Лиговский пр., 27/7, (812) 275-05-21
• «Академическая литература» — Менделеевская линия, 5 (в здании Истфака
СПбГУ), (812) 328-96-91
• «Академкнига» — Литейный пр., 57, (812) 230-13-28
• «Борхес» — Невский пр., 32-34 (дворик у Римско-католического собора
Святой Екатерины), (921) 655-64-04
• «Буквально» — ул. Малая Садовая, 1, (812) 315-42-10
• Галерея «Новый музей современного искусства» — 6-я линия ВО, 29,
(812)323-50-90
• Киоск в Библиотеке Академии наук — ВО, Биржевая линия, 1
• Киоск в Доме Кино — Караванная ул., 12 (3 этаж)
• «Классное чтение» — 6-я линия ВО, 15, (812) 328-62-13
• «Книги и Кофе» — наб. Макарова, 10 (кафе-клуб при Центре современной
литературы и искусства), (812) 328-67-08
• «Книги Подарки» — ул. Колокольная, 10, (812) 715-33-07
• «Книжная лавка» — в фойе Академии Художеств, Университетская наб., 17
• «Книжный Окоп» — Тучков пер., д. 11/5 (вход в арке), (812) 323-85-84
• «Книжный салон» — Университетская наб., 11 (в фойе филологического
факультета СПбГУ), (812) 328-95-11
• Книжные салоны при Российской национальной библиотеке — Садовая ул.,
20; Московский пр., 165, (812) 310-44-87
• Книжный магазин-клуб «Квилт» — Каменноостровский пр., 13,
(812)232-33-07
• «Подписные издания» — Литейный пр., 57, (812) 273-50-53
• «Порядок слов» — Наб. реки Фонтанки, 15 (812) 310-50-36
• «Проектор» — Лиговский пр., 74 (Лофт-проект «Этажи», 4 этаж),
(911)935-27-31
• «Ретро» — Стенд № 24 (1 этаж) на книжной ярмарке в ДК Крупской, пр.
Обуховской обороны, 105
• «Санкт-Петербургский Дом Книги» (Дом Зингера) — Невский пр., 28,
(812)448-23-57
• «Университетская лавка» — 7 линия ВО, 38 (во дворе), (812) 325-15-43
• «Фонотека» — ул. Марата, 28, (812) 712-30-13
• Bookstore «Все свободны» — Волынский пер., 4 или наб. Мойки, 28 (второй
двор, код 489), (911) 977-40-47
в ЕКАТЕРИНБУРГЕ:
• «Дом книги» — ул. Антона Валека, 12, (343) 253-50-10
в КРАСНОЯРСКЕ:
• «Русское слово» — ул. Ленина, 28, (3912) 27-13-60
в НИЖНЕМ НОВГОРОДЕ:
• «Дирижабль» — ул. Б. Покровская, 46, (8312) 31-64-71
в НОВОСИБИРСКЕ:
• Литературный магазин «КапиталЪ» — ул. Горького, 78, (383) 223-69-73
• Магазин «BOOK-LOOK» - Красный пр., 29/1, 2 этаж, (383) 362-18-24;
— Ильича, 6 (у фонтана), (383) 217-44-30
в ПЕРМИ:
• «Пиотровский» — ул. Луначарского, 51а, (342) 243-03-51
в ЯРОСЛАВЛЕ:
• Книжная лавка гуманитарной литературы — ул.Свердлова, 9,
(4852) 72-57-96
в МИНСКЕ:
• И Π Людоговский Александр Сергеевич — ул. Козлова, 3
• ООО «МЕТ» - ул. Киселева, 20, 1 этаж, +375 (17) 284-36-21
в СТОКГОЛЬМЕ:
• Русский книжный магазин «INTERBOK» — Hantverkargatan, 32,
Stockholm, 08-651-1147
в ХЕЛЬСИНКИ:
• «Ruslania Books Oy» — Bulevardi, 7, 00120, Helsinki, Finland,
+358 9 272-70-70
в КИЕВЕ:
• ООО «АВР» - +38 (044) 273-64-07
• Книжный рынок «Петровка» — ул. Вербовая, 23, Павел Швед,
+38 (068) 358-00-84
• Книжный интернет-магазин «Лавка Бабуин» (http://lavkababuin.com/) —
ул. Верхний Вал, 40 (оф. 7, код #423), +38 (044) 537-22-43;
+38 (050) 444-84-02
• Интернет-магазин «Librabook» (http://www.librabook.com.ua/) (044) 383-20-
95; (093) 204-33-66; icq 570-251-870, info@librabook.com.ua
Новое
Литературное
Обозрение
-ггернет-магазин
Возможность купить книги НЛО по ценам издательства,
которые значительно ниже цен в книжных магазинах
Доставка в любой регион России
Специальные сервисы
для покупателей интернет-магазина:
Раздел «Раритеты»
Возможность оформить заказ на редкие книги
нашего издательства, тираж которых почти распродан.
Раздел «Print on demand»
Возможность купить книги «НЛО», которые уже давно
стали библиографической редкостью.
Мы специально издадим эти книги для Вас
по уникальной технологии «Print on Demand»,
которая позволяет напечатать любую книгу тиражом
всего в 1 экземпляр.
Раздел «Специальные предложения»
Возможность купить отдельные книги издательства
со значительными скидками
НОВОЕ ЛИТЕРАТУРНОЕ ОБОЗРЕНИЕ