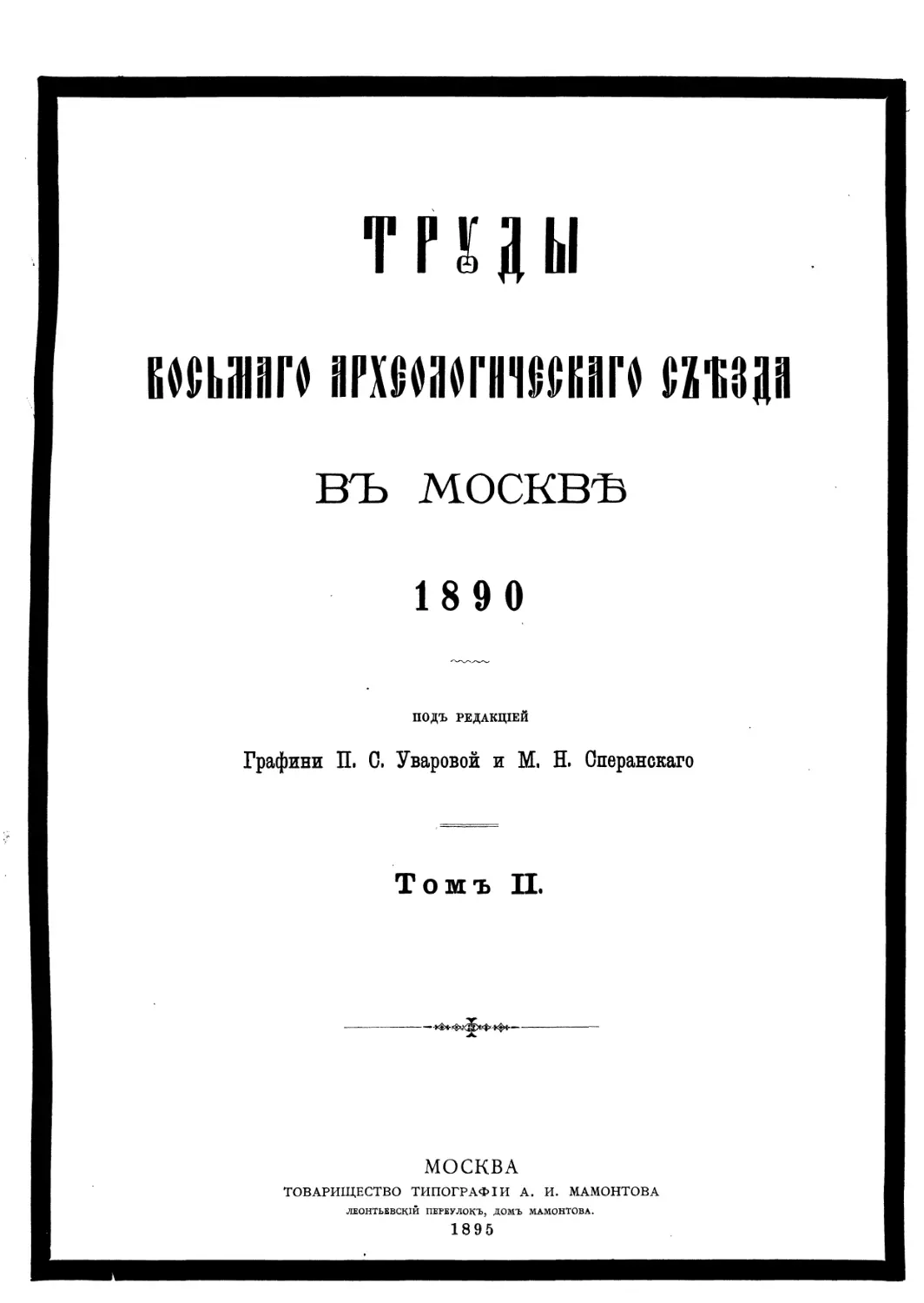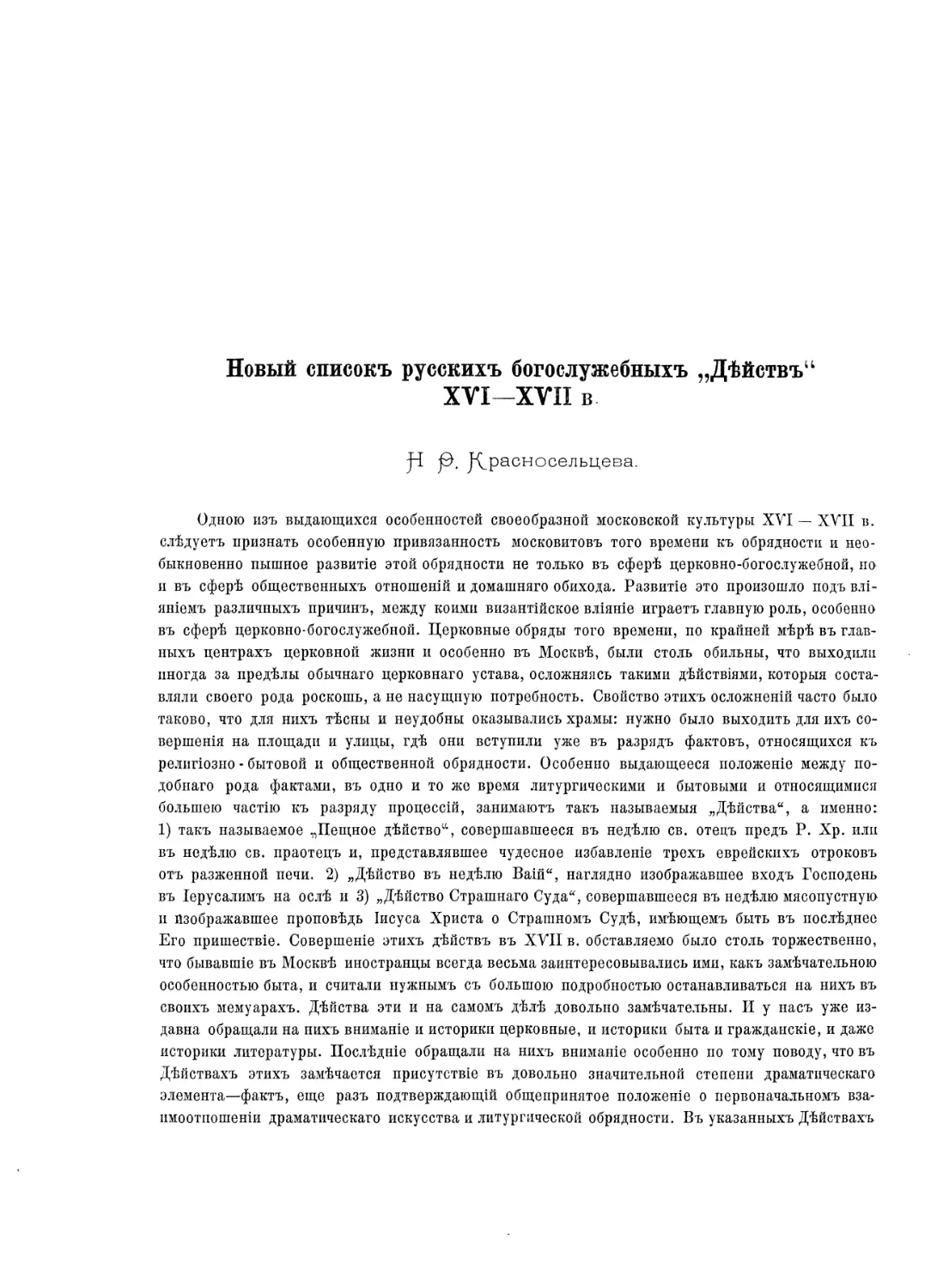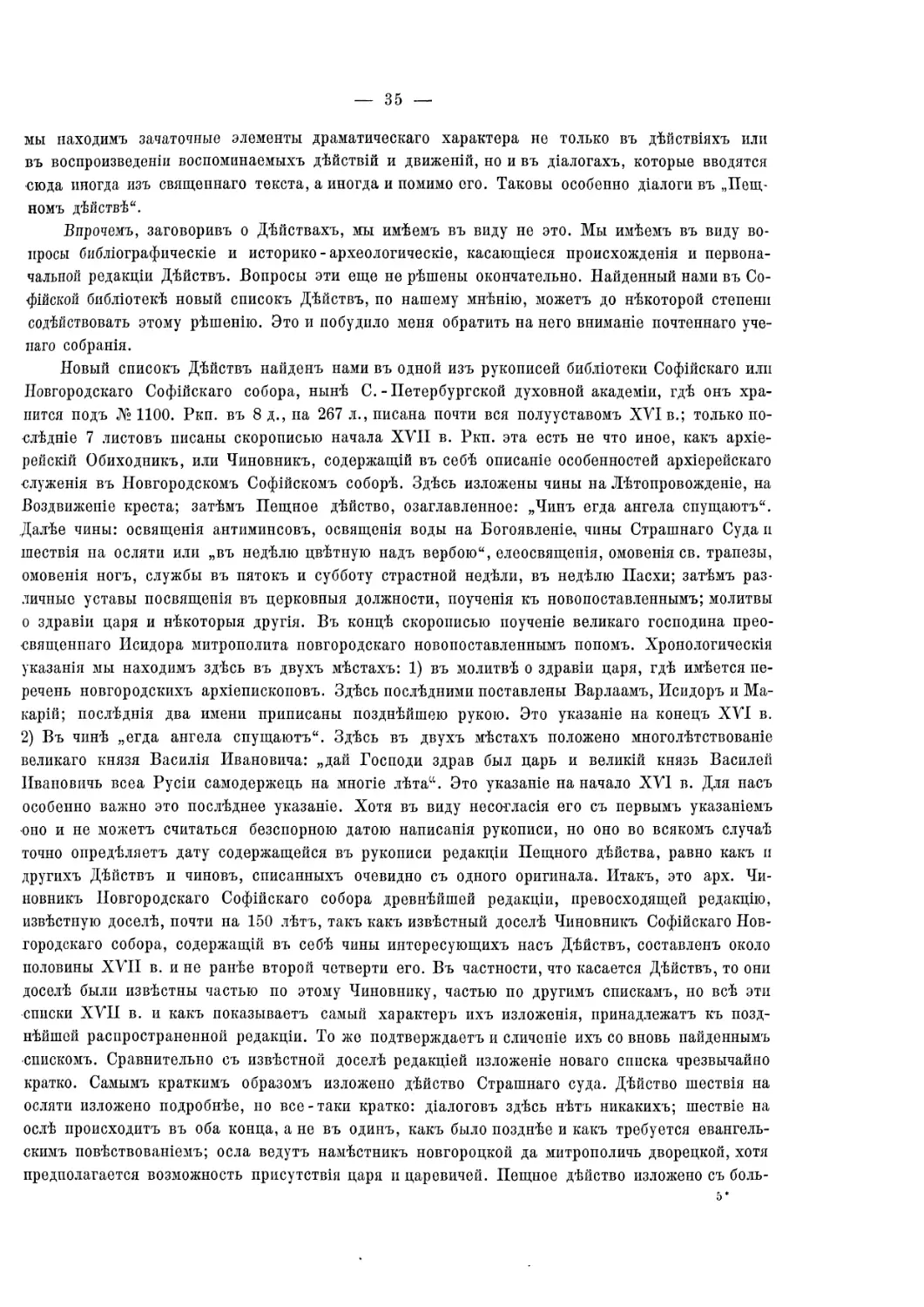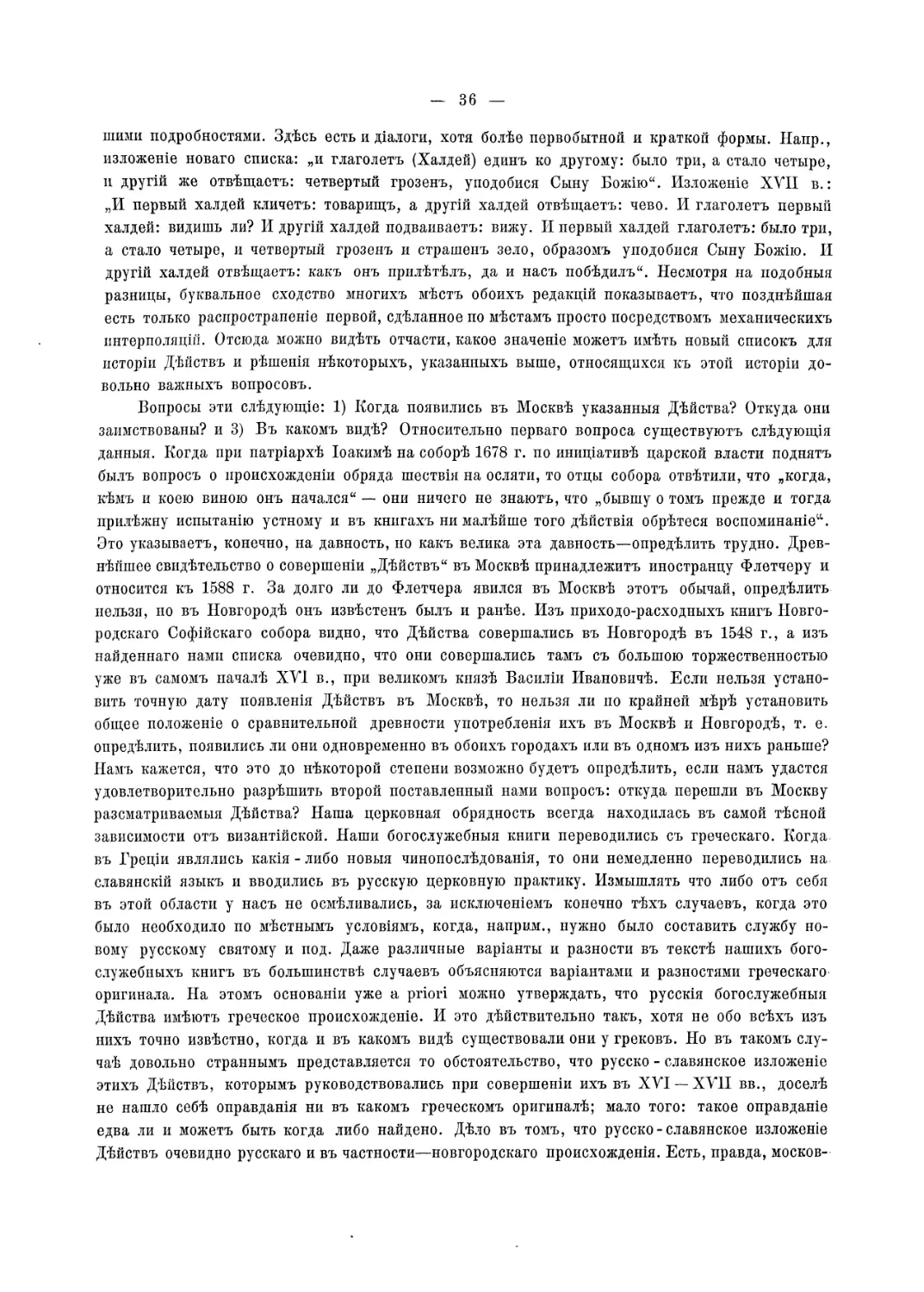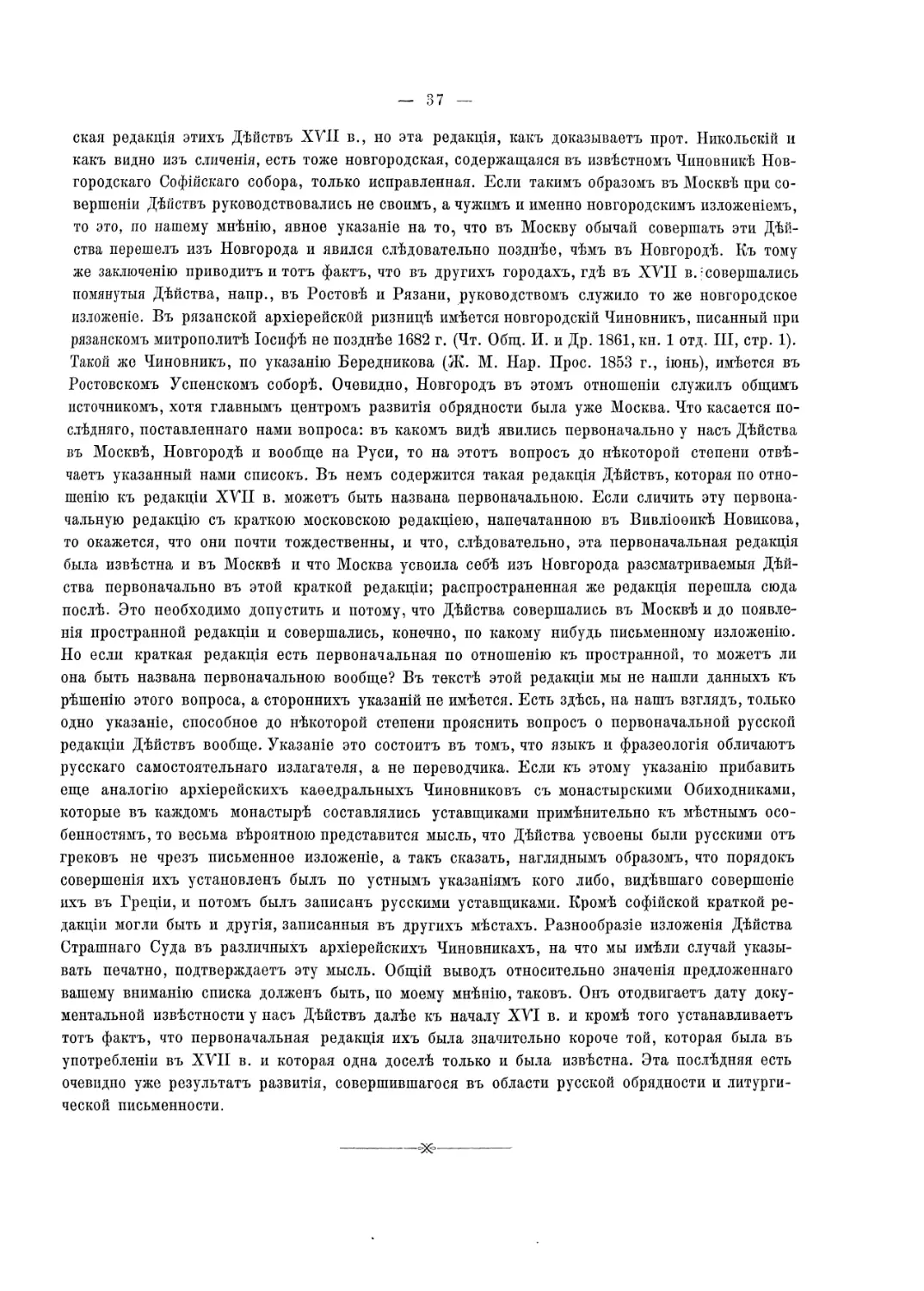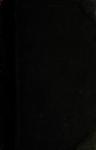Автор: Красносельцев Η.Ф.
Теги: исторія религія богословіе
Текст
тщы
Г.МІиІІШ ІІІ'ШІІЯНШНШ К’Л'ІИІІІІІ
въ москвъ
1890
ПОДЪ РЕДАКЦІЕЙ
Графини П. С. Уваровой и М. Н. Сперанскаго
Томъ П.
—---—-------
МОСКВА
ТОВАРИЩЕСТВО ТИПОГРАФІИ А. И. МАМОНТОВА
ЛЕОНТЬЕВСКІЙ ПЕРЕУЛОКЪ, ДОМЪ МАМОНТОВА.
1895
Новый списокъ русскихъ богослужебныхъ „Дѣйствъ11
XVI—XVII в.
^4 р, ^ѵрасносельцева.
Одною изъ выдающихся особенностей своеобразной московской культуры XVI — XVII в.
слѣдуетъ признать особенную привязанность московитовъ того времени къ обрядности и нео-
быкновенно пышное развитіе этой обрядности не только въ сферѣ церковно-богослужебной, по
и въ сферѣ общественныхъ отношеній и домашняго обихода. Развитіе это произошло подъ влі-
яніемъ различныхъ причинъ, между коими византійское вліяніе играетъ главную роль, особенно
въ сферѣ церковно-богослужебной. Церковные обряды того времени, по крайней мѣрѣ въ глав-
ныхъ центрахъ церковной жизни и особенно въ Москвѣ, были столь обильны, что выходили
иногда за предѣлы обычнаго церковнаго устава, осложняясь такими дѣйствіями, которыя соста-
вляли своего рода роскошь, а не насущную потребность. Свойство этихъ осложненій часто было
таково, что для нихъ тѣсны и неудобны оказывались храмы: нужно было выходить для ихъ со-
вершенія на площади и улицы, гдѣ они вступили уже въ разрядъ фактовъ, относящихся къ
религіозно - бытовой и общественной обрядности. Особенно выдающееся положеніе между по-
добнаго рода фактами, въ одно и то же время литургическими и бытовыми и относящимися
большею частію къ разряду процессій, занимаютъ такъ называемыя „Дѣйства", а именно:
1) такъ называемое „Пещное дѣйство11, совершавшееся въ недѣлю св. отецъ предъ Р. Хр. или
въ недѣлю св. праотецъ и, представлявшее чудесное избавленіе трехъ еврейскихъ отроковъ
отъ разженной печи. 2) „Дѣйство въ недѣлю Ваій", наглядно изображавшее входъ Господень
въ Іерусалимъ на ослѣ и 3) „Дѣйство Страшнаго Суда", совершавшееся въ недѣлю мясопустную
и изображавшее проповѣдь Іисуса Христа о Страшномъ Судѣ, имѣющемъ быть въ послѣднее
Его пришествіе. Совершеніе этихъ дѣйствъ въ XVII в. обставляемо было столь торжественно,
что бывавшіе въ Москвѣ иностранцы всегда весьма заинтересовывались ими, какъ замѣчательною
особенностью быта, и считали нужнымъ съ большою подробностью останавливаться на нихъ въ
своихъ мемуарахъ. Дѣйства эти и на самомъ дѣлѣ довольно замѣчательны. И у насъ уже из-
давна обращали на нихъ вниманіе и историки церковные, и историки быта и гражданскіе, и даже
историки литературы. Послѣдніе обращали на нихъ вниманіе особенно по тому поводу, что въ
Дѣйствахъ этихъ замѣчается присутствіе въ довольно значительной степени драматическаго
элемента—фактъ, еще разъ подтверждающій общепринятое положеніе о первоначальномъ вза-
имоотношеніи драматическаго искусства и литургической обрядности. Въ указанныхъ Дѣйствахъ
35
мы находимъ зачаточные элементы драматическаго характера не только въ дѣйствіяхъ или
въ воспроизведеніи воспоминаемыхъ дѣйствій и движеній, но и въ діалогахъ, которые вводятся
сюда иногда изъ священнаго текста, а иногда и помимо его. Таковы особенно діалоги въ „Пещ-
номъ дѣйствѣ".
Впрочемъ, заговоривъ о Дѣйствахъ, мы имѣемъ въ виду не это. Мы имѣемъ въ виду во-
просы библіографическіе и историко-археологическіе, касающіеся происхожденія и первона-
чальной редакціи Дѣйствъ. Вопросы эти еще не рѣшены окончательно. Найденный нами въ Со-
фійской библіотекѣ новый списокъ Дѣйствъ, по нашему мнѣнію, можетъ до нѣкоторой степени
содѣйствовать этому рѣшенію. Это и побудило меня обратить на него вниманіе почтеннаго уче-
наго собранія.
Новый списокъ Дѣйствъ найденъ нами въ одной изъ рукописей библіотеки Софійскаго или
Новгородскаго Софійскаго собора, нынѣ С.-Петербургской духовной академіи, гдѣ онъ хра-
нится подъ № 1100. Ркп. въ 8 д., на 267 л., писана почти вся полууставомъ XVI в.; только по-
слѣдніе 7 листовъ писаны скорописью начала XVII в. Ркп. эта есть не что иное, какъ архіе-
рейскій Обиходникъ, или Чиновникъ, содержащій въ себѣ описаніе особенностей архіерейскаго
служенія въ Новгородскомъ Софійскомъ соборѣ. Здѣсь изложены чины на Лѣтопровожденіе, на
Воздвиженіе креста; затѣмъ Пещное дѣйство, озаглавленное: „Чинъ егда ангела спущаютъ".
Далѣе чины: освященія антиминсовъ, освященія воды на Богоявленіе, чины Страшнаго Суда и
шествія на осляти или „въ недѣлю цвѣтную надъ вербою", елеосвященія, омовенія св. трапезы,
омовенія ногъ, службы въ пятокъ и субботу страстной недѣли, въ недѣлю Пасхи; затѣмъ раз-
личные уставы посвященія въ церковныя должности, поученія къ новопоставленнымъ; молитвы
о здравіи царя и нѣкоторыя другія. Въ концѣ скорописью поученіе великаго господина прео-
священнаго Исидора митрополита новгородскаго новопоставленнымъ попомъ. Хронологическія
указанія мы находимъ здѣсь въ двухъ мѣстахъ: 1) въ молитвѣ о здравіи царя, гдѣ имѣется пе-
речень новгородскихъ архіепископовъ. Здѣсь послѣдними поставлены Варлаамъ, Исидоръ и Ма-
карій; послѣднія два имени приписаны позднѣйшею рукою. Это указаніе на конецъ XVI в.
2) Въ чинѣ „егда ангела спущаютъ". Здѣсь въ двухъ мѣстахъ положено многолѣтствованіе
великаго князя Василія Ивановича: „дай Господи здрав был царь и великій князь Василей
Ивановичъ всеа Русіи самодержецъ на многіе лѣта“. Это указаніе на начало XVI в. Для насъ
особенно важно это послѣднее указаніе. Хотя въ виду несогласія его съ первымъ указаніемъ
оно и не можетъ считаться безспорною датою написанія рукописи, но оно во всякомъ случаѣ
точно опредѣляетъ дату содержащейся въ рукописи редакціи Пещного дѣйства, равно какъ и
другихъ Дѣйствъ и чиновъ, списанныхъ очевидно съ одного оригинала. Итакъ, это арх. Чи-
новникъ Новгородскаго Софійскаго собора древнѣйшей редакціи, превосходящей редакцію,
извѣстную доселѣ, почти на 150 лѣтъ, такъ какъ извѣстный доселѣ Чиновникъ Софійскаго Нов-
городскаго собора, содержащій въ себѣ чины интересующихъ насъ Дѣйствъ, составленъ около
половины XVII в. и не ранѣе второй четверти его. Въ частности, что касается Дѣйствъ, то они
доселѣ были извѣстны частью по этому Чиновнику, частью по другимъ спискамъ, но всѣ эти
списки ХѴИ в. и какъ показываетъ самый характеръ ихъ изложенія, принадлежатъ къ позд-
нѣйшей распространенной редакціи. То же подтверждаетъ и сличеніе ихъ со вновь найденнымъ
•спискомъ. Сравнительно съ извѣстной доселѣ редакціей изложеніе новаго списка чрезвычайно
кратко. Самымъ краткимъ образомъ изложено дѣйство Страшнаго суда. Дѣйство шествія на
осляти изложено подробнѣе, но все-таки кратко: діалоговъ здѣсь нѣтъ никакихъ; шествіе на
ослѣ происходитъ въ оба конца, а не въ одинъ, какъ было позднѣе и какъ требуется евангель-
скимъ повѣствованіемъ; осла ведутъ намѣстникъ новгороцкой да митрополичь дворецкой, хотя
предполагается возможность присутствія царя и царевичей. Пещное дѣйство изложено съ боль-
36
шими подробностями. Здѣсь есть и діалоги, хотя болѣе первобытной и краткой формы. Напр.,
изложеніе новаго списка: „и глаголетъ (Халдей) единъ ко другому: было три, а стало четыре,
и другій же отвѣщаотъ: четвертый грозенъ, уподобися Сыну Божію“. Изложеніе XVII в.:
„И первый халдей кличетъ: товарищъ, а другій халдей отвѣщаетъ: чево. И глаголетъ первый
халдей: видишь ли? И другій халдей подваиваетъ: вижу. И первый халдей глаголетъ: было три,
а стало четыре, и четвертый грозенъ и страшенъ зело, образомъ уподобися Сыну Божію. И
другій халдей отвѣщаетъ: какъ онъ прилѣтѣлъ, да и насъ побѣдилъ". Несмотря на подобныя
разницы, буквальное сходство многихъ мѣстъ обоихъ редакцій показываетъ, что позднѣйшая
есть только распространеніе первой, сдѣланное по мѣстамъ просто посредствомъ механическихъ
интерполяцій. Отсюда можно видѣть отчасти, какое значеніе можетъ имѣть новый списокъ для
исторіи Дѣйствъ и рѣшенія нѣкоторыхъ, указанныхъ выше, относящихся къ этой исторіи до-
вольно важныхъ вопросовъ.
Вопросы эти слѣдующіе: 1) Когда появились въ Москвѣ указанныя Дѣйства? Откуда они
заимствованы? и 3) Въ какомъ видѣ? Относительно перваго вопроса существуютъ слѣдующія
данныя. Когда при патріархѣ Іоакимѣ на соборѣ 1678 г. по иниціативѣ царской власти поднятъ
былъ вопросъ о происхожденіи обряда шествія на осляти, то отцы собора отвѣтили, что „когда,
кѣмъ и коею виною онъ начался" — они ничего не знаютъ, что „бывшу о томъ прежде и тогда
прилѣжну испытанію устному и въ книгахъ ни малѣйше того дѣйствія обрѣтеся воспоминаніе11.
Это указываетъ, конечно, на давность, но какъ велика эта давность—опредѣлить трудно. Древ-
нѣйшее свидѣтельство о совершеніи „Дѣйствъ" въ Москвѣ принадлежитъ иностранцу Флетчеру и
относится къ 1588 г. За долго ли до Флетчера явился въ Москвѣ этотъ обычай, опредѣлить
нельзя, но въ Новгородѣ онъ извѣстенъ былъ и ранѣе. Изъ приходо-расходныхъ книгъ Новго-
родскаго Софійскаго собора видно, что Дѣйства совершались въ Новгородѣ въ 1548 г., а изъ
найденнаго нами списка очевидно, что они совершались тамъ съ большою торжественностью
уже въ самомъ началѣ XVI в., при великомъ князѣ Василіи Ивановичѣ. Если нельзя устано-
вить точную дату появленія Дѣйствъ въ Москвѣ, то нельзя ли по крайней мѣрѣ установить
общее положеніе о сравнительной древности употребленія ихъ въ Москвѣ и Новгородѣ, т. е.
опредѣлить, появились ли они одновременно въ обоихъ городахъ или въ одномъ изъ нихъ раньше?
Намъ кажется, что это до нѣкоторой степени возможно будетъ опредѣлить, если намъ удастся
удовлетворительно разрѣшить второй поставленный нами вопросъ: откуда перешли въ Москву
разсматриваемыя Дѣйства? Наша церковная обрядность всегда находилась въ самой тѣсной
зависимости отъ византійской. Наши богослужебныя книги переводились съ греческаго. Когда
въ Греціи являлись какія - либо новыя чинопослѣдованія, то они немедленно переводились на
славянскій языкъ и вводились въ русскую церковную практику. Измышлять что либо отъ себя
въ этой области у насъ не осмѣливались, за исключеніемъ конечно тѣхъ случаевъ, когда это
было необходило по мѣстнымъ условіямъ, когда, наприм., нужно было составить службу но-
вому русскому святому и под. Даже различные варіанты и разности въ текстѣ нашихъ бого-
служебныхъ книгъ въ большинствѣ случаевъ объясняются варіантами и разностями греческаго
оригинала. На этомъ основаніи уже а ргіогі можно утверждать, что русскія богослужебныя
Дѣйства имѣютъ греческое происхожденіе. И это дѣйствительно такъ, хотя не обо всѣхъ изъ
нихъ точно извѣстно, когда и въ какомъ видѣ существовали они у грековъ. Но въ такомъ слу-
чаѣ довольно страннымъ представляется то обстоятельство, что русско - славянское изложеніе
этихъ Дѣйствъ, которымъ руководствовались при совершеніи ихъ въ XVI —XVII вв., доселѣ
не нашло себѣ оправданія ни въ какомъ греческомъ оригиналѣ; мало того: такое оправданіе
едва ли и можетъ быть когда либо найдено. Дѣло въ томъ, что русско - славянское изложеніе
Дѣйствъ очевидно русскаго и въ частности—новгородскаго происхожденія. Есть, правда, москов-
37
ская редакція этихъ Дѣйствъ XVII в., но эта редакція, какъ доказываетъ прот. Никольскій и
какъ видно изъ сличенія, есть тоже новгородская, содержащаяся въ извѣстномъ Чиновникѣ Нов-
городскаго Софійскаго собора, только исправленная. Если такимъ образомъ въ Москвѣ при со-
вершеніи Дѣйствъ руководствовались не своимъ, а чужимъ и именно новгородскимъ изложеніемъ,
то это, по нашему мнѣнію, явное указаніе на то, что въ Москву обычай совершать эти Дѣй-
ства перешелъ изъ Новгорода и явился слѣдовательно позднѣе, чѣмъ въ Новгородѣ. Къ тому
же заключенію приводитъ и тотъ фактъ, что въ другихъ городахъ, гдѣ въ ХѴП в/совершались
помянутыя Дѣйства, напр., въ Ростовѣ и Рязани, руководствомъ служило то же новгородское
изложеніе. Въ рязанской архіерейской ризницѣ имѣется новгородскій Чиновникъ, писанный при
рязанскомъ митрополитѣ Іосифѣ не позднѣе 1682 г. (Чт. Общ. И. и Др. 1861, кн. 1 отд. III, стр. 1).
Такой же Чиновникъ, по указанію Бередникова (Ж. М. Нар. Прос. 1853 г., іюнь), имѣется въ
Ростовскомъ Успенскомъ соборѣ. Очевидно, Новгородъ въ этомъ отношеніи служилъ общимъ
источникомъ, хотя главнымъ. центромъ развитія обрядности была уже Москва. Что касается по-
слѣдняго, поставленнаго нами вопроса: въ какомъ видѣ явились первоначально у насъ Дѣйства
въ Москвѣ, Новгородѣ и вообще на Руси, то на этотъ вопросъ до нѣкоторой степени отвѣ-
чаетъ указанный нами списокъ. Въ немъ содержится такая редакція Дѣйствъ, которая по отно-
шенію къ редакціи XVII в. можетъ быть названа первоначальною. Если сличить эту первона-
чальную редакцію съ краткою московскою редакціею, напечатанною въ Вивліоѳикѣ Новикова,
то окажется, что они почти тождественны, и что, слѣдовательно, эта первоначальная редакція
была извѣстна и въ Москвѣ и что Москва усвоила себѣ изъ Новгорода разсматриваемыя Дѣй-
ства первоначально въ этой краткой редакціи; распространенная же редакція перешла сюда
послѣ. Это необходимо допустить и потому, что Дѣйства совершались въ Москвѣ и до появле-
нія пространной редакціи и совершались, конечно, по какому нибудь письменному изложенію.
Но если краткая редакція есть первоначальная по отношенію къ пространной, то можетъ ли
она быть названа первоначальною вообще? Въ текстѣ этой редакціи мы не нашли данныхъ къ
рѣшенію этого вопроса, а стороннихъ указаній не имѣется. Есть здѣсь, на нашъ взглядъ, только
одно указаніе, способное до нѣкоторой степени прояснить вопросъ о первоначальной русской
редакціи Дѣйствъ вообще. Указаніе это состоитъ въ томъ, что языкъ и фразеологія обличаютъ
русскаго самостоятельнаго излагателя, а не переводчика. Если къ этому указанію прибавить
еще аналогію архіерейскихъ каѳедральныхъ Чиновниковъ съ монастырскими Обиходниками,
которые въ каждомъ монастырѣ составлялись уставщиками примѣнительно къ мѣстнымъ осо-
бенностямъ, то весьма вѣроятною представится мысль, что Дѣйства усвоены были русскими отъ
грековъ не чрезъ письменное изложеніе, а такъ сказать, нагляднымъ образомъ, что порядокъ
совершенія ихъ установленъ былъ по устнымъ указаніямъ кого либо, видѣвшаго совершеніе
ихъ въ Греціи, и потомъ былъ записанъ русскими уставщиками. Кромѣ софійской краткой ре-
дакціи могли быть и другія, записанныя въ другихъ мѣстахъ. Разнообразіе изложенія Дѣйства
Страшнаго Суда въ различныхъ архіерейскихъ Чиновникахъ, на что мы имѣли случай указы-
вать печатно, подтверждаетъ эту мысль. Общій выводъ относительно значенія предложеннаго
вашему вниманію списка долженъ быть, по моему мнѣнію, таковъ. Онъ отодвигаетъ дату доку-
ментальной извѣстности у насъ Дѣйствъ далѣе къ началу XVI в. и кромѣ того устанавливаетъ
тотъ фактъ, что первоначальная редакція ихъ была значительно короче той, которая была въ
употребленіи въ XVII в. и которая одна доселѣ только и была извѣстна. Эта послѣдняя есть
очевидно уже результатъ развитія, совершившагося въ области русской обрядности и литурги-
ческой письменности.