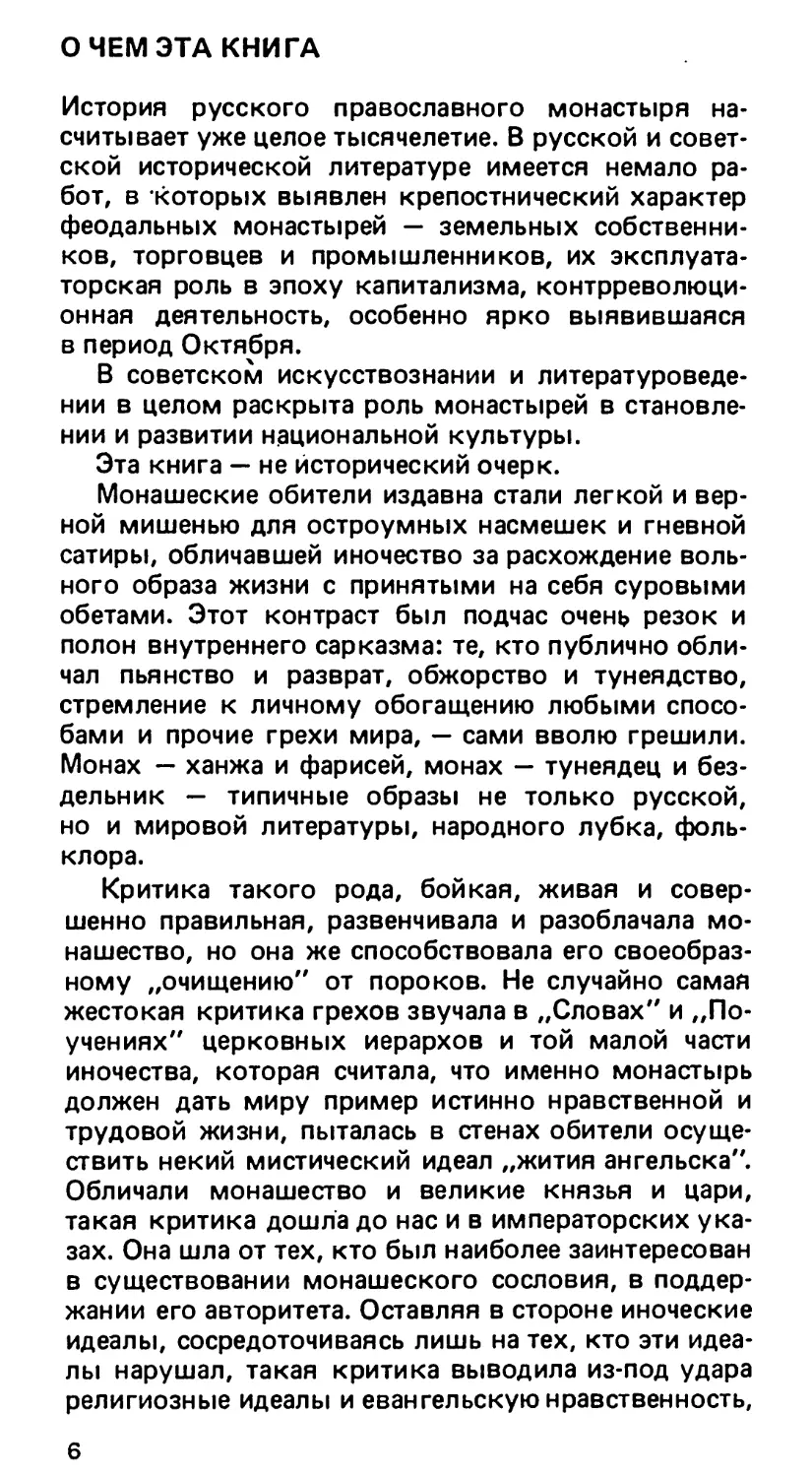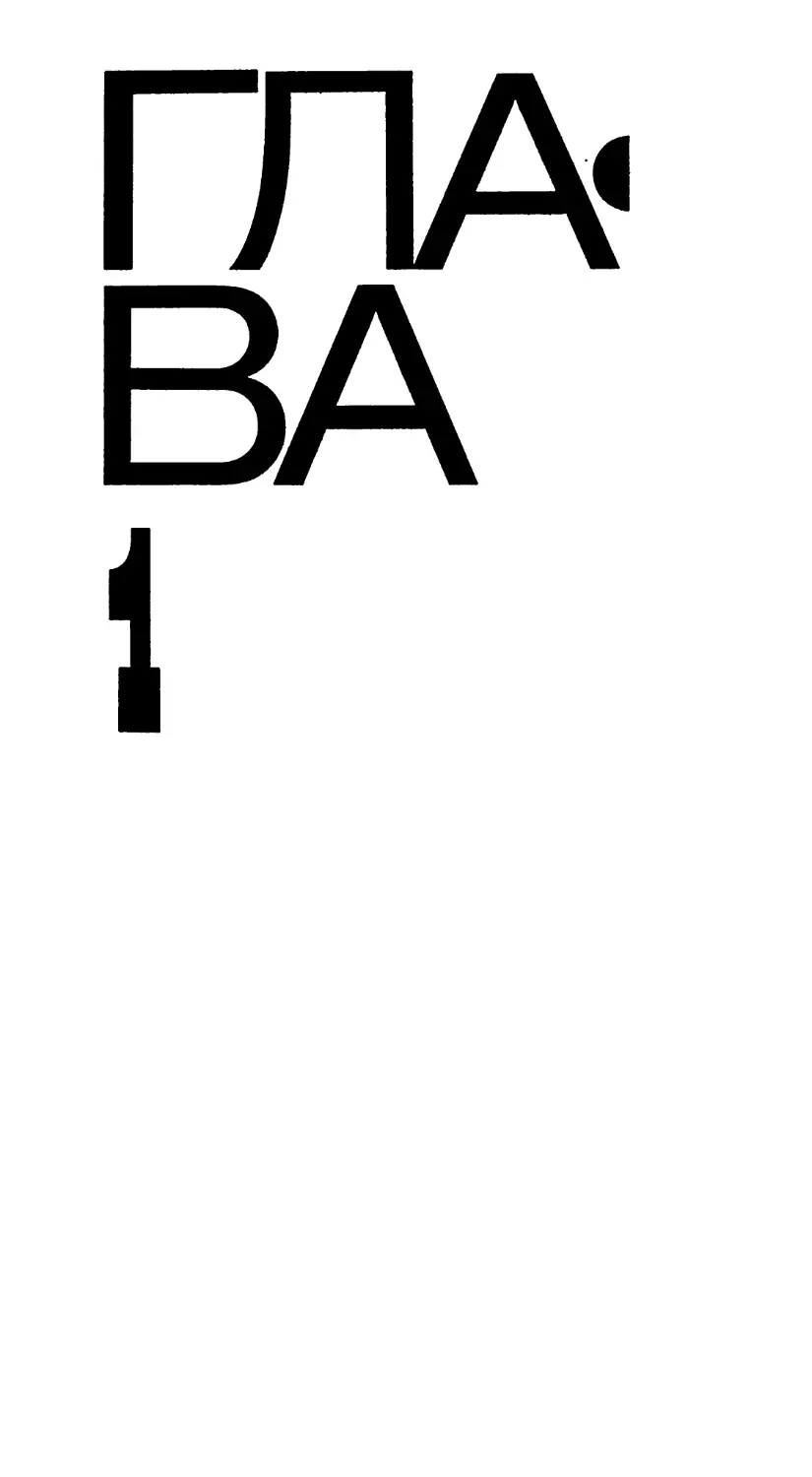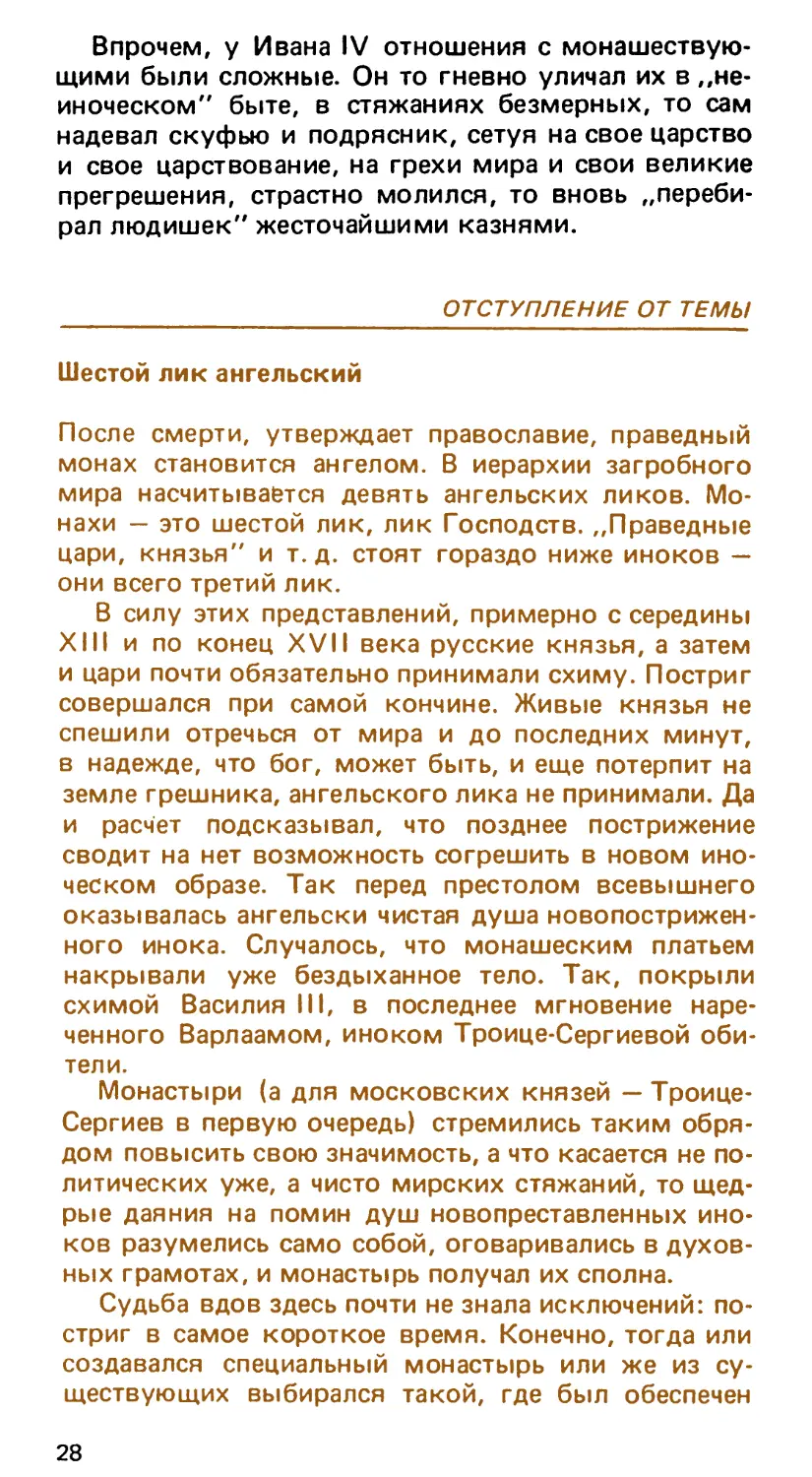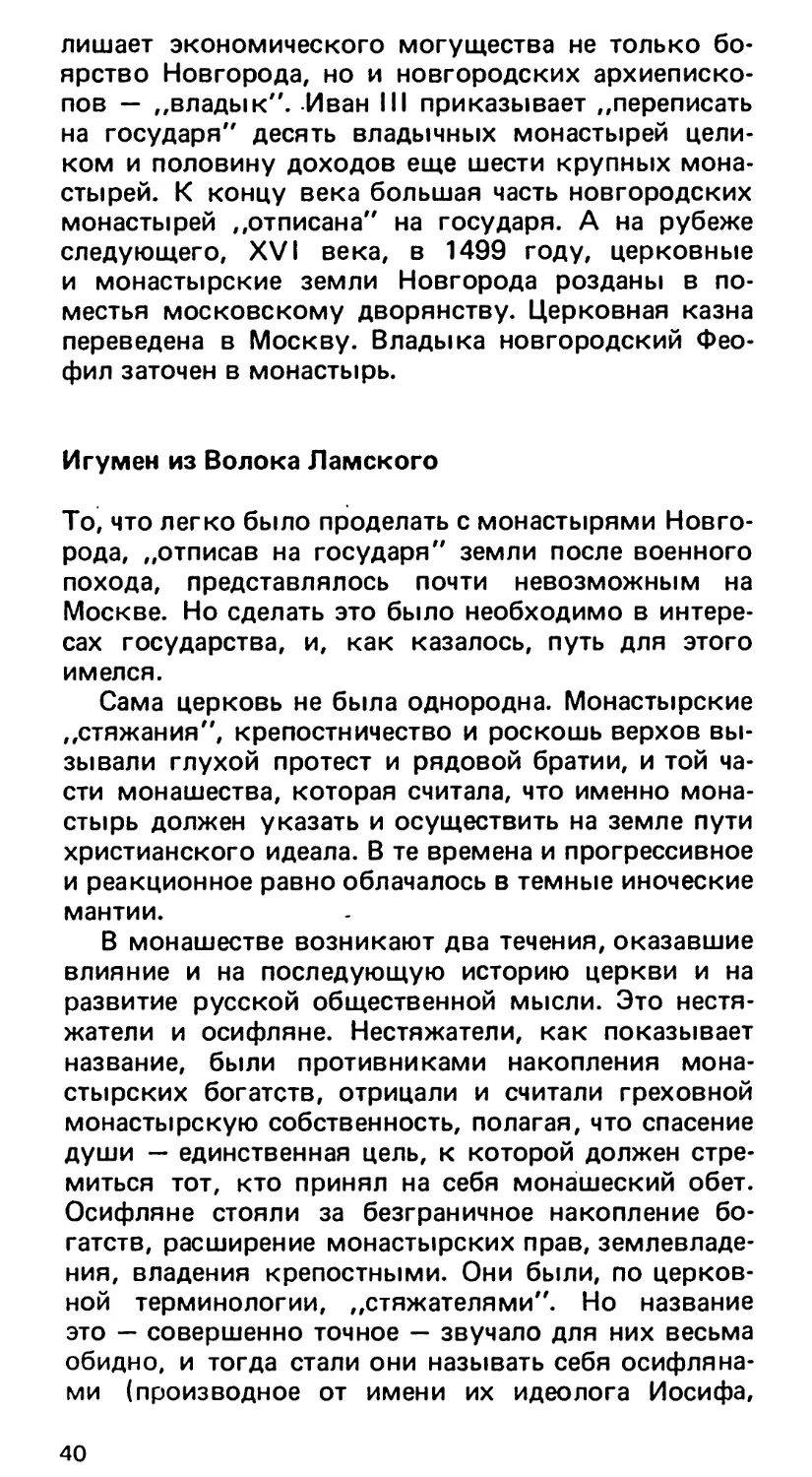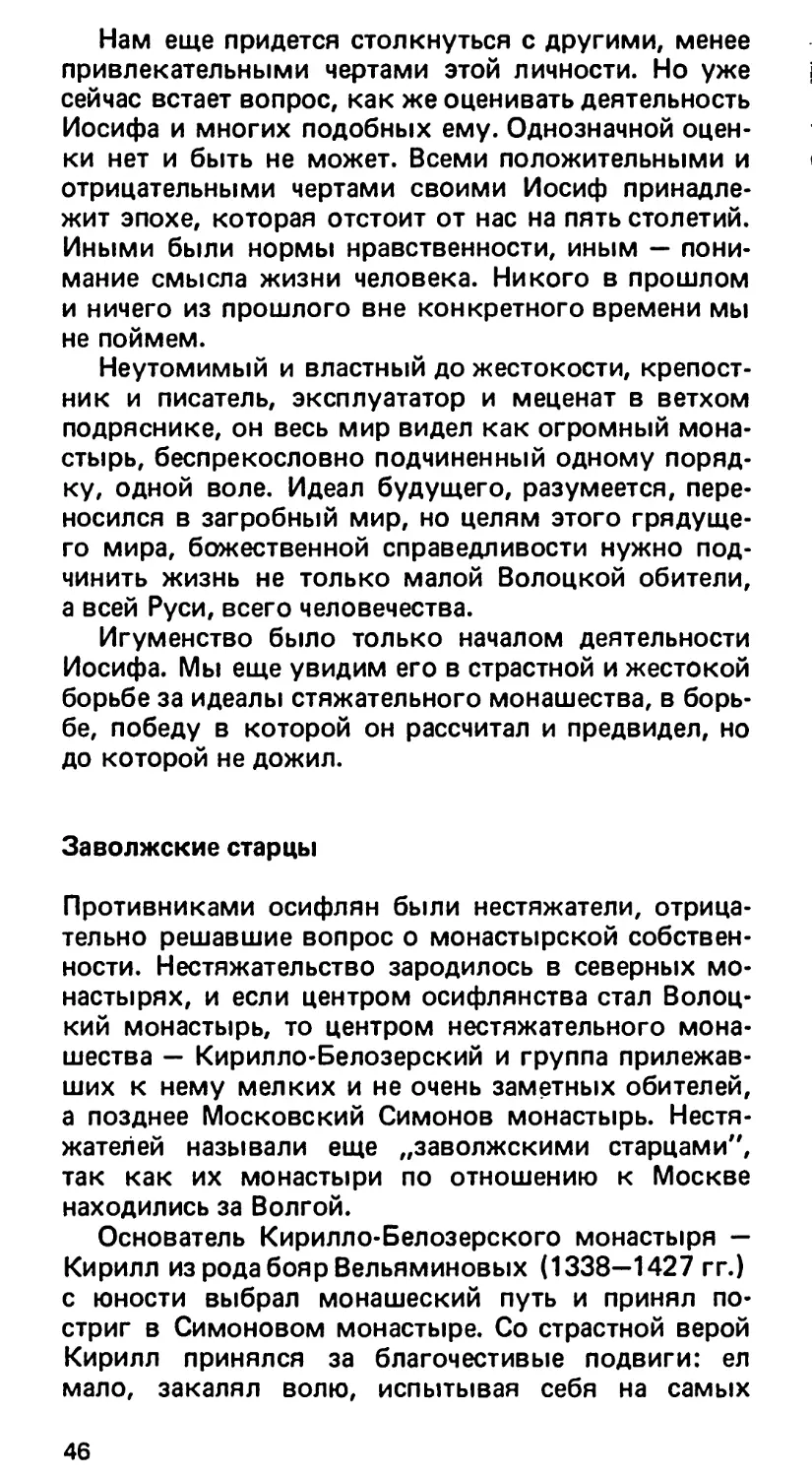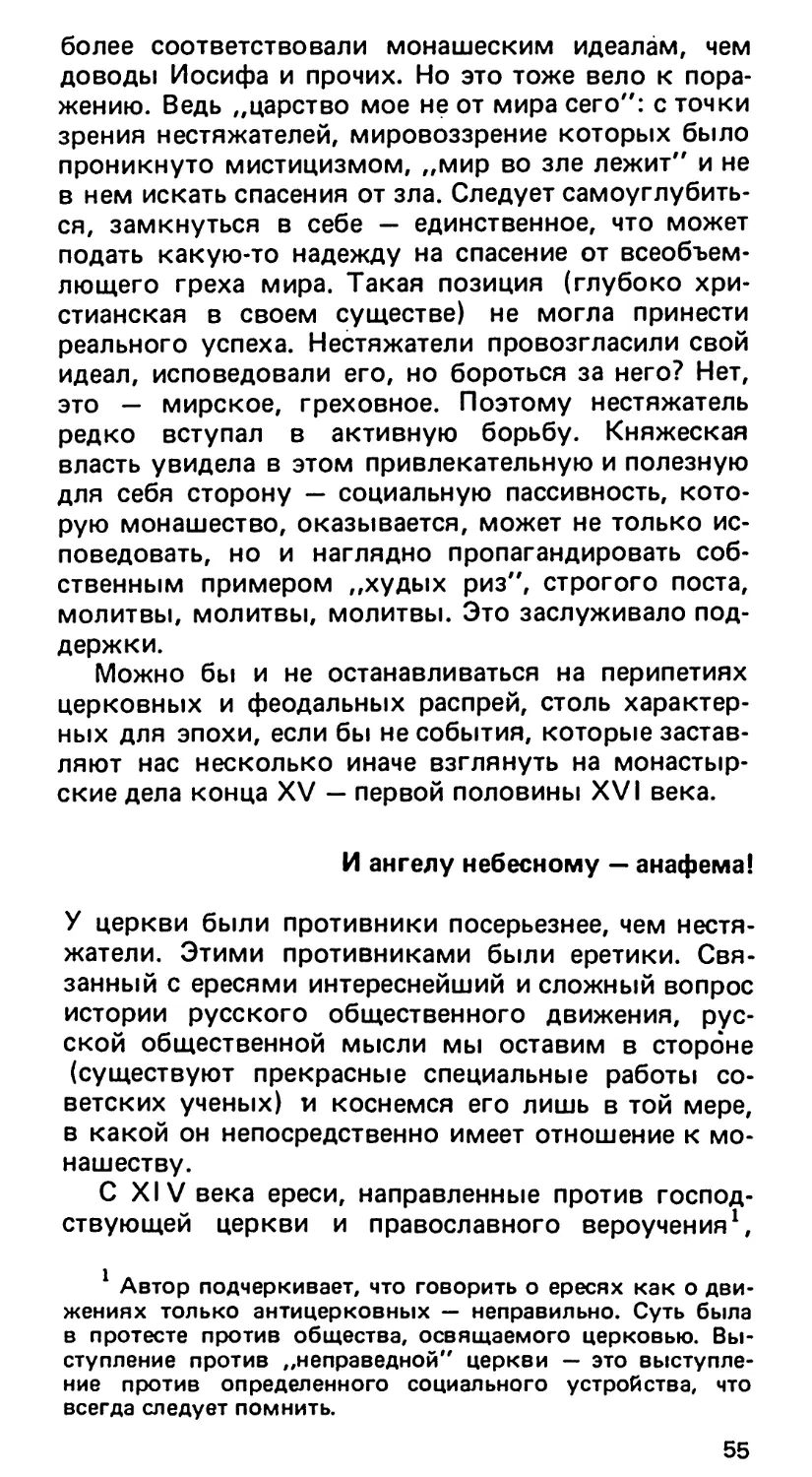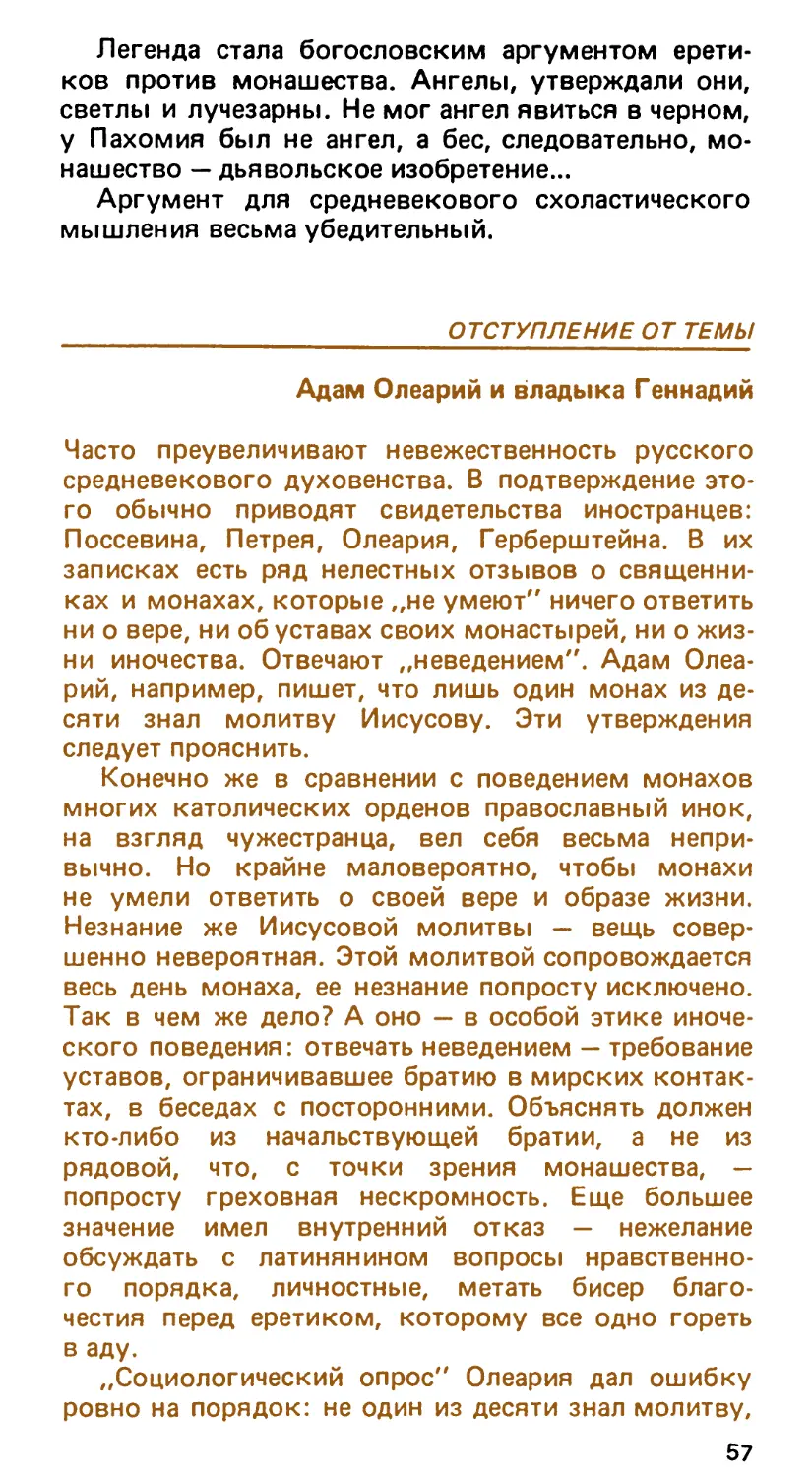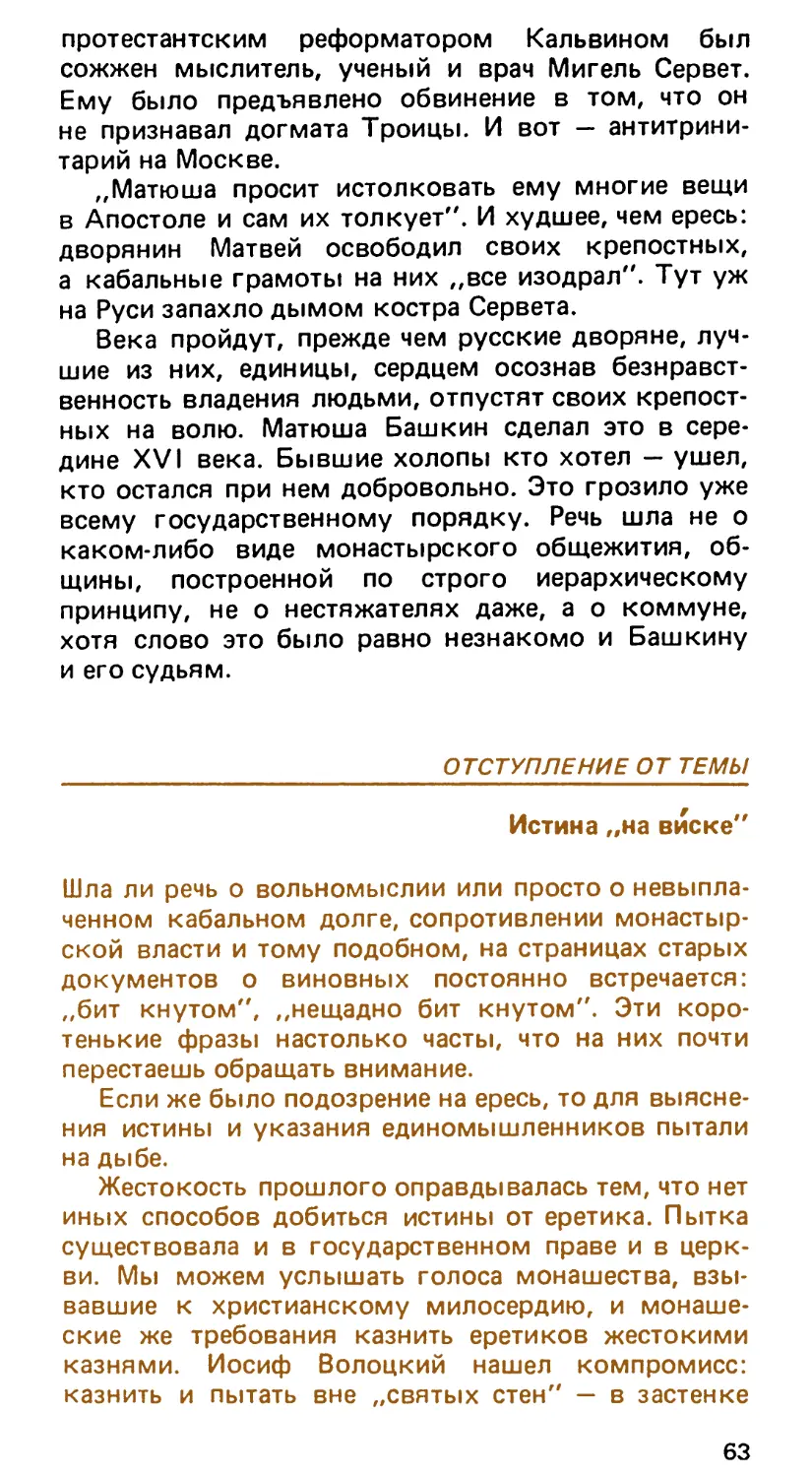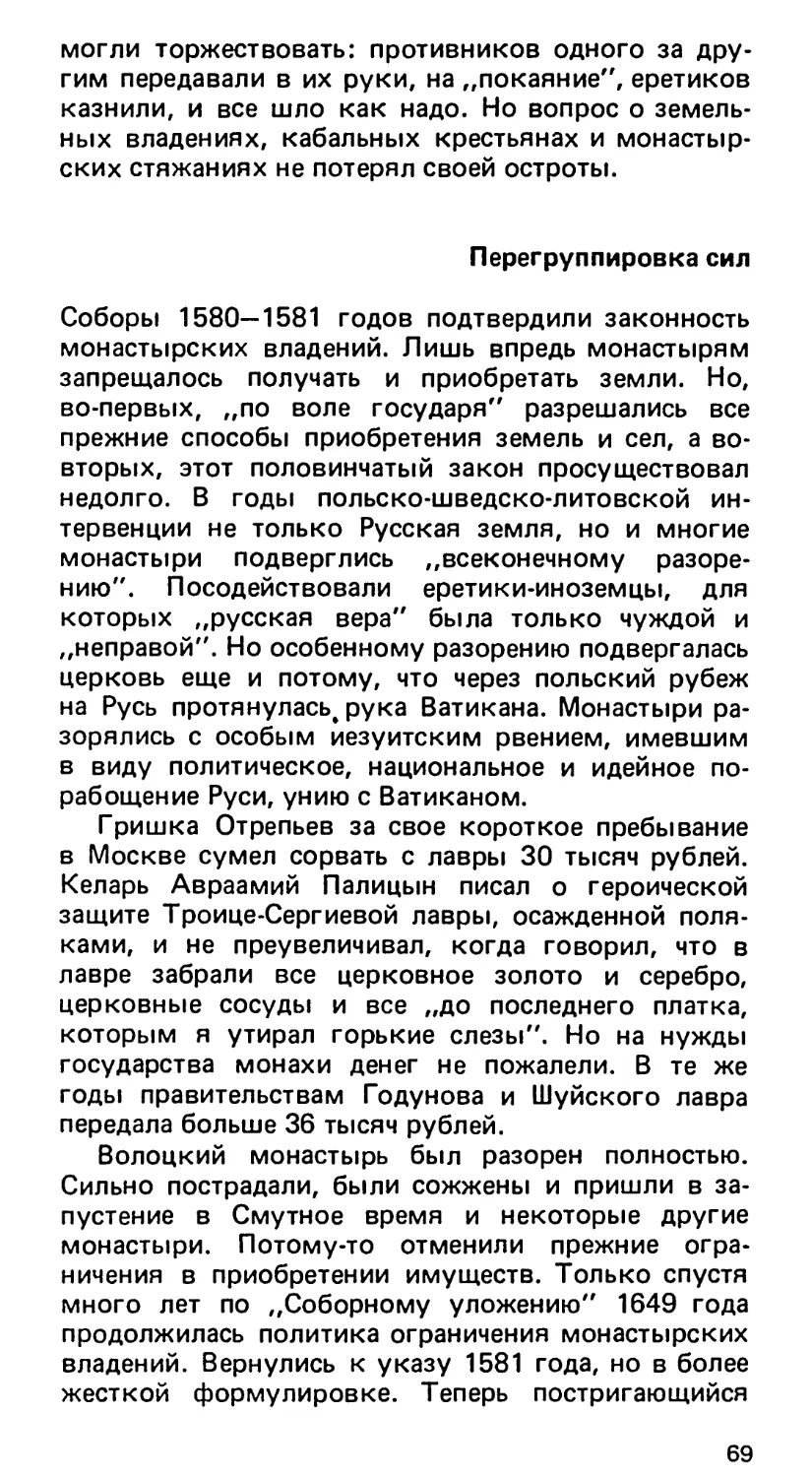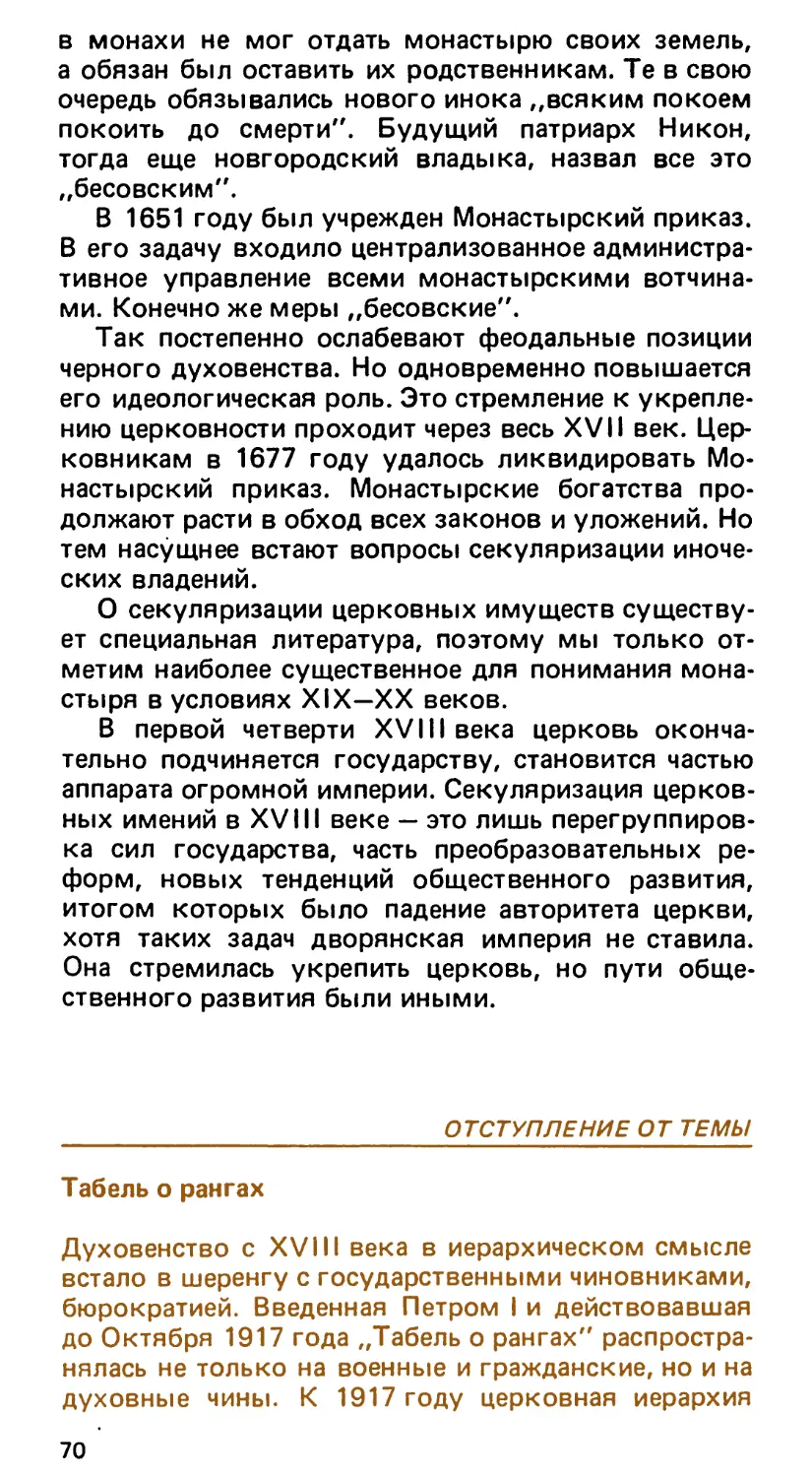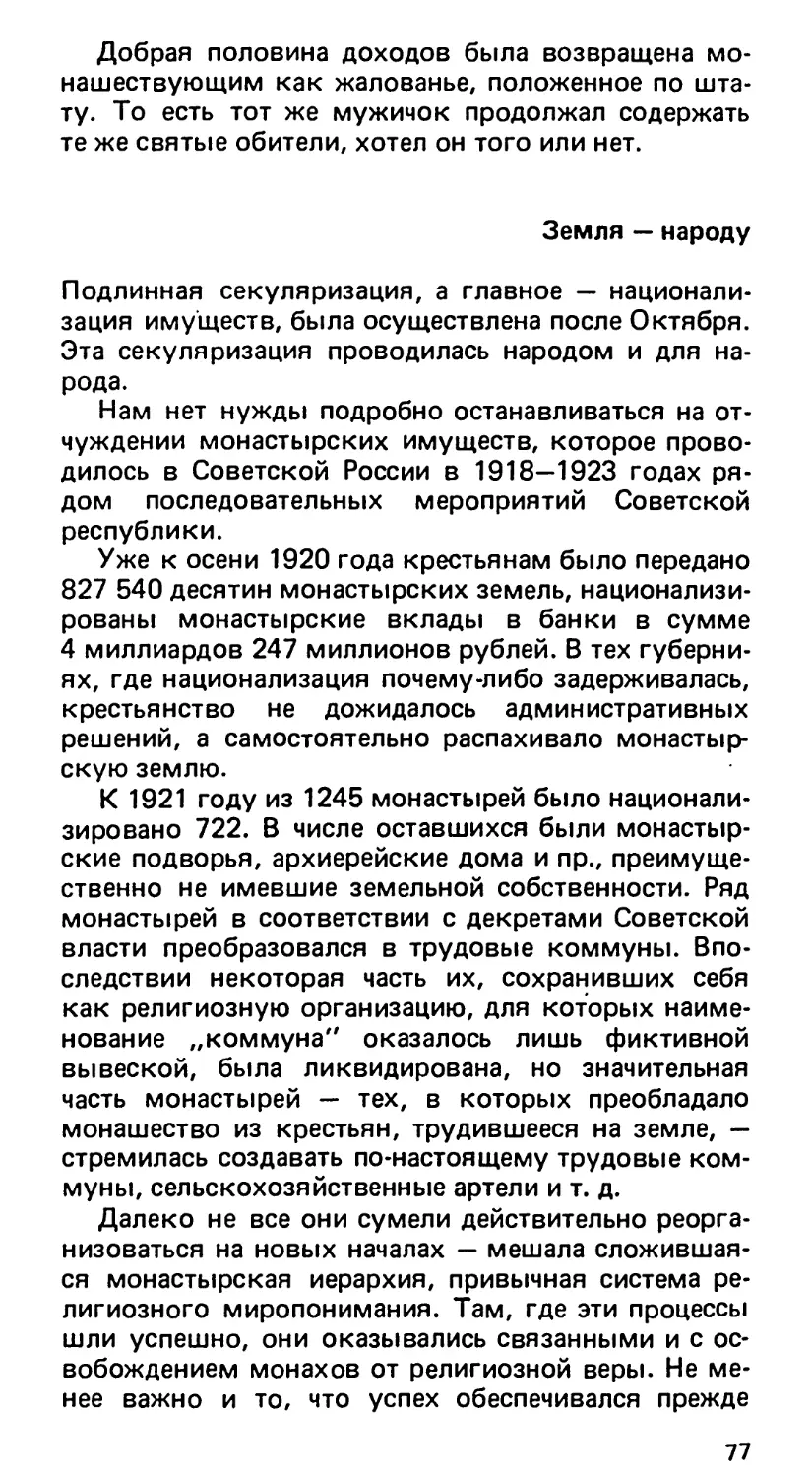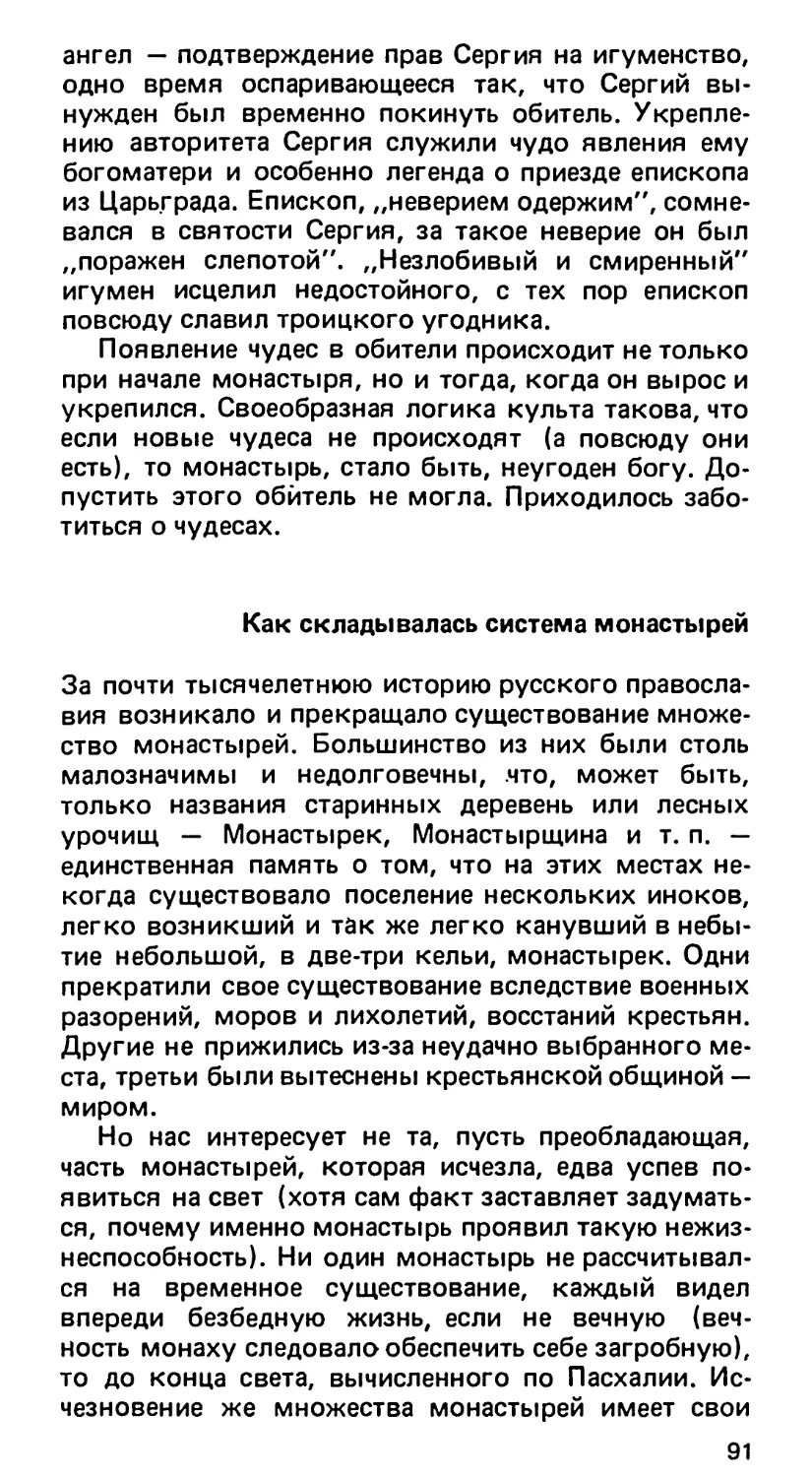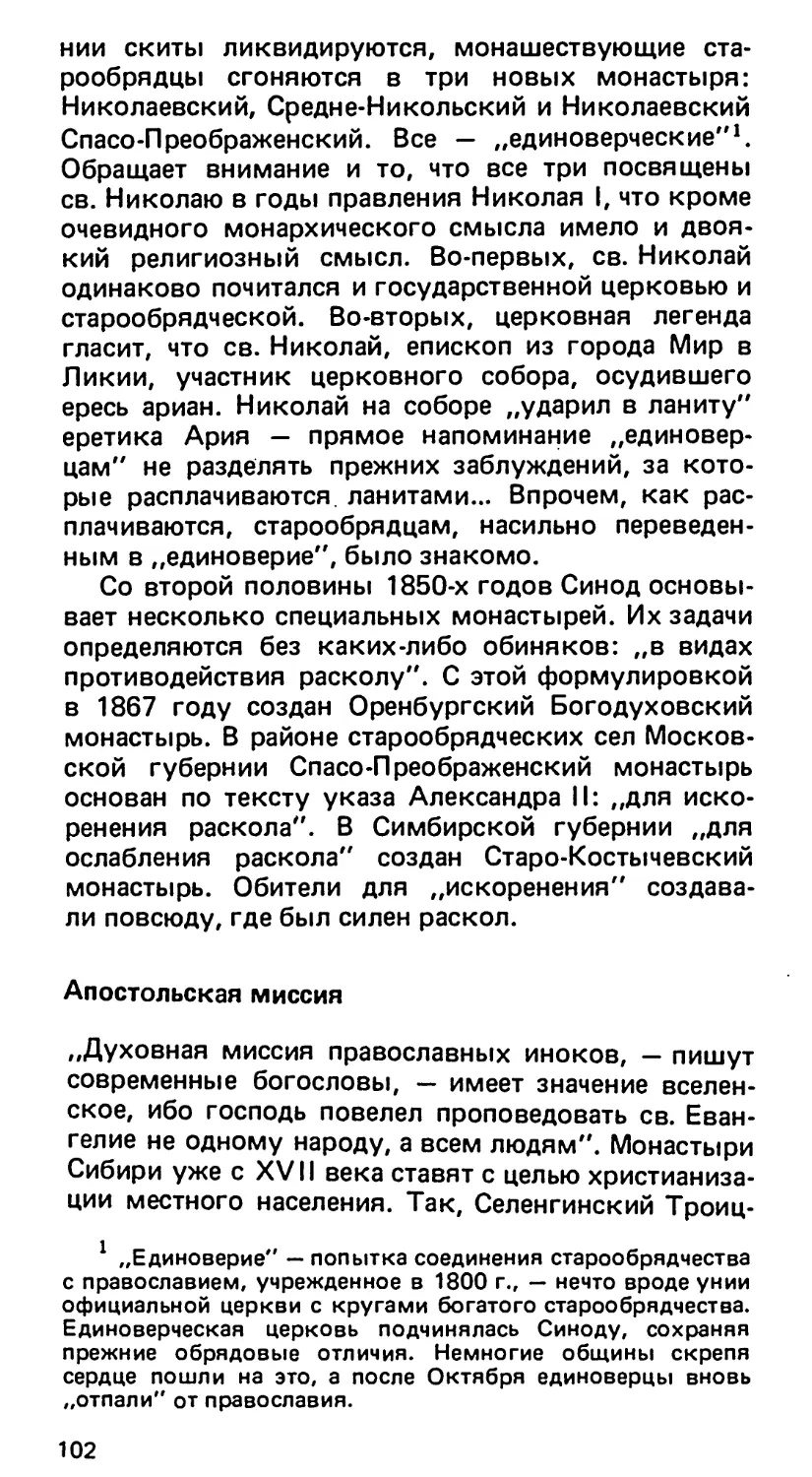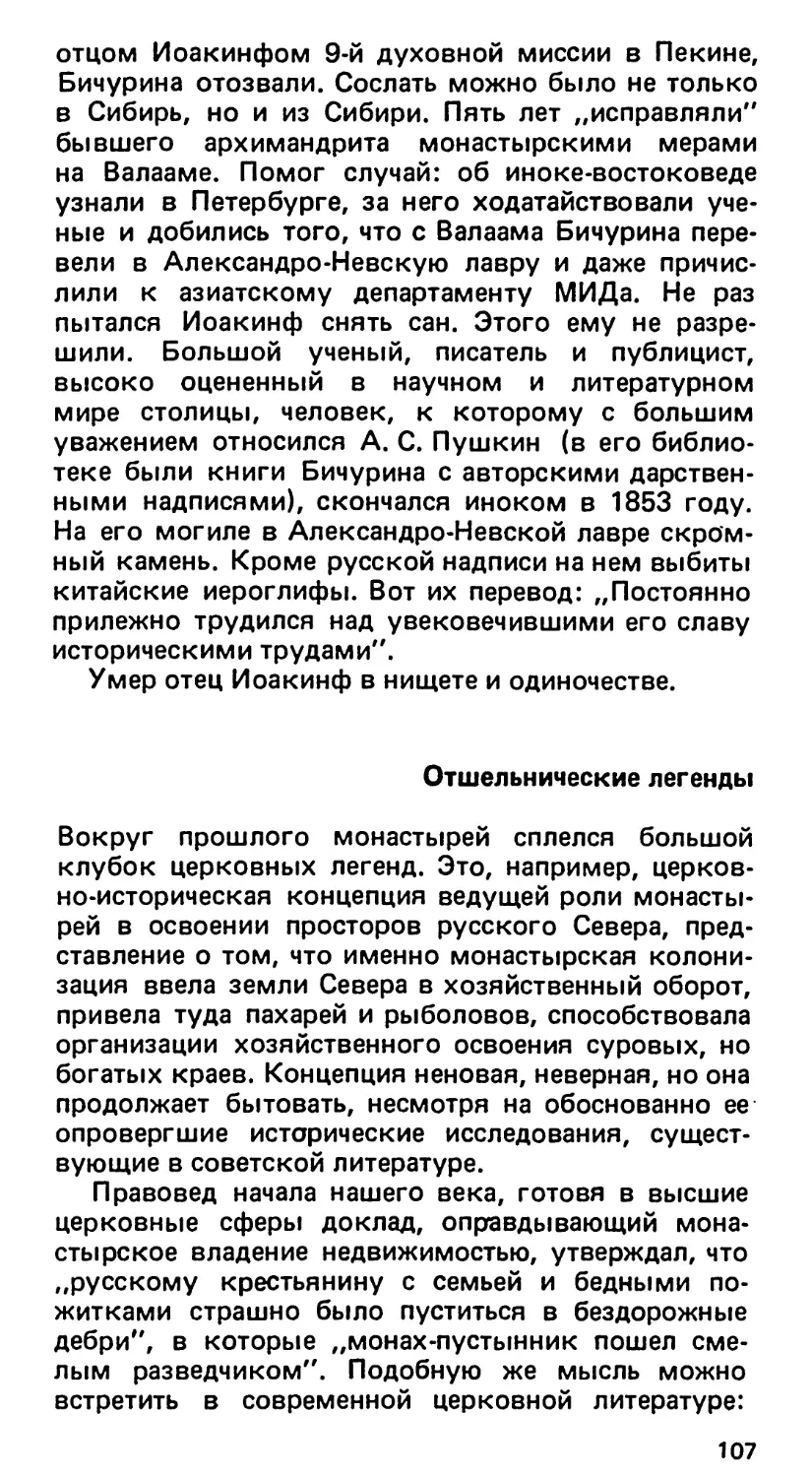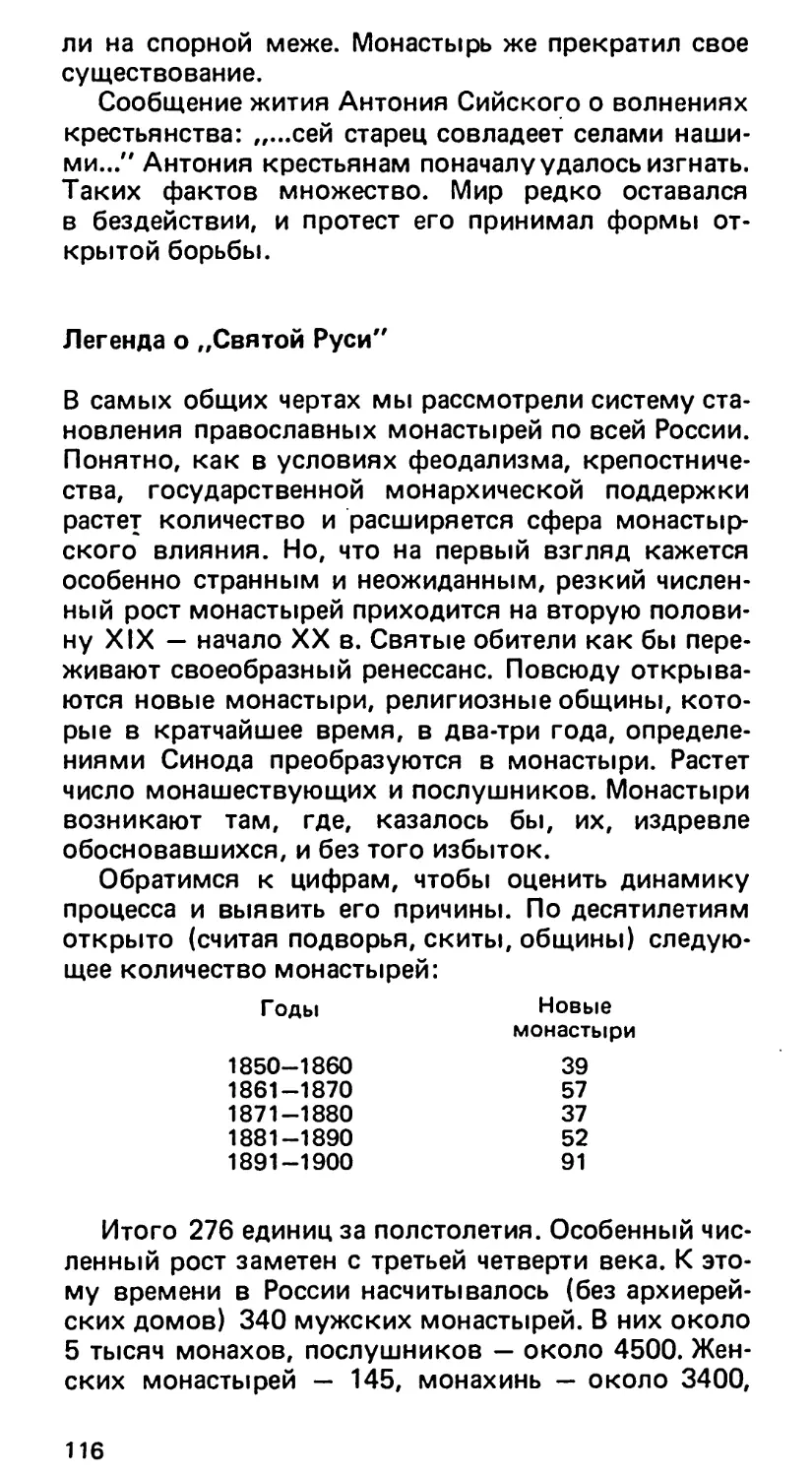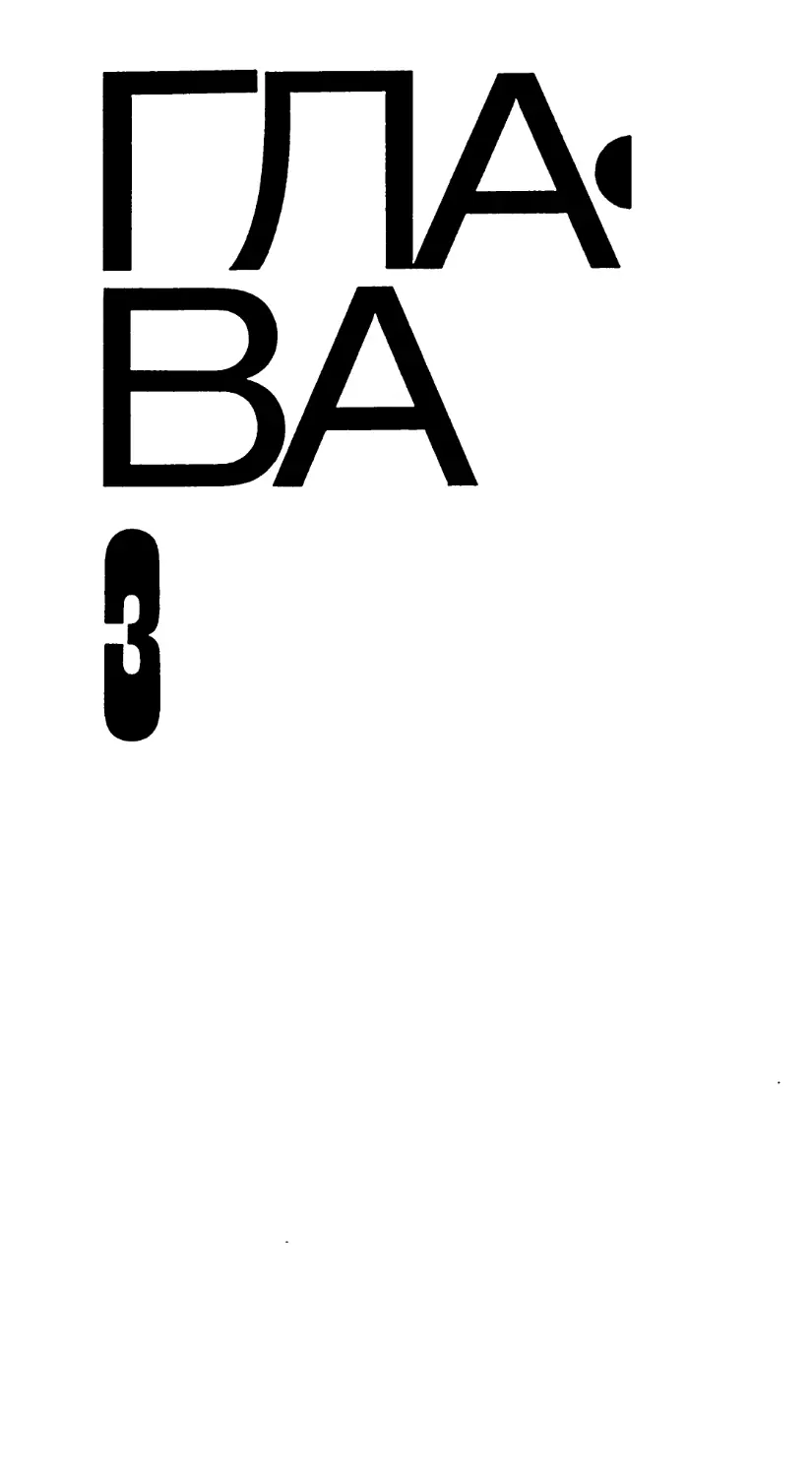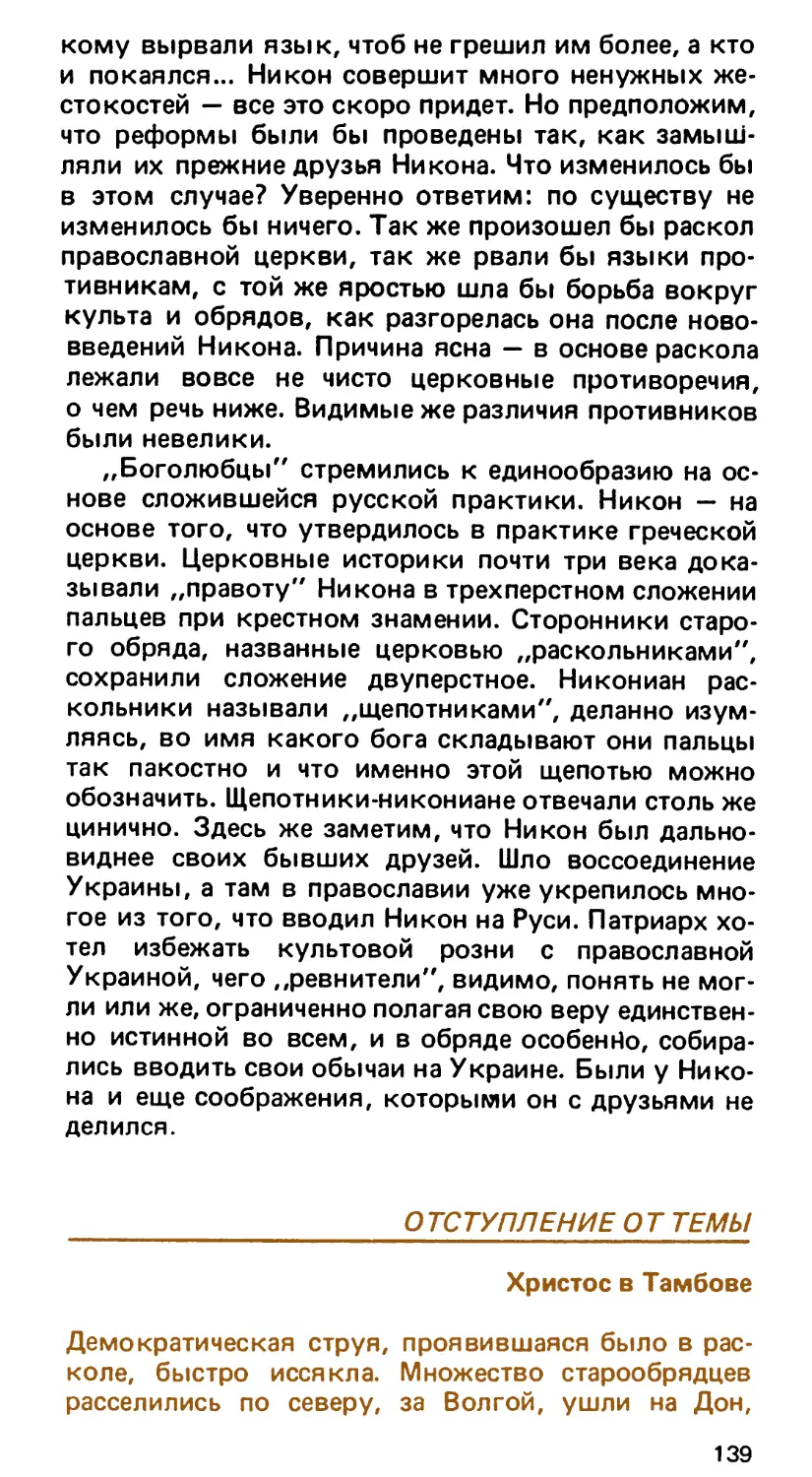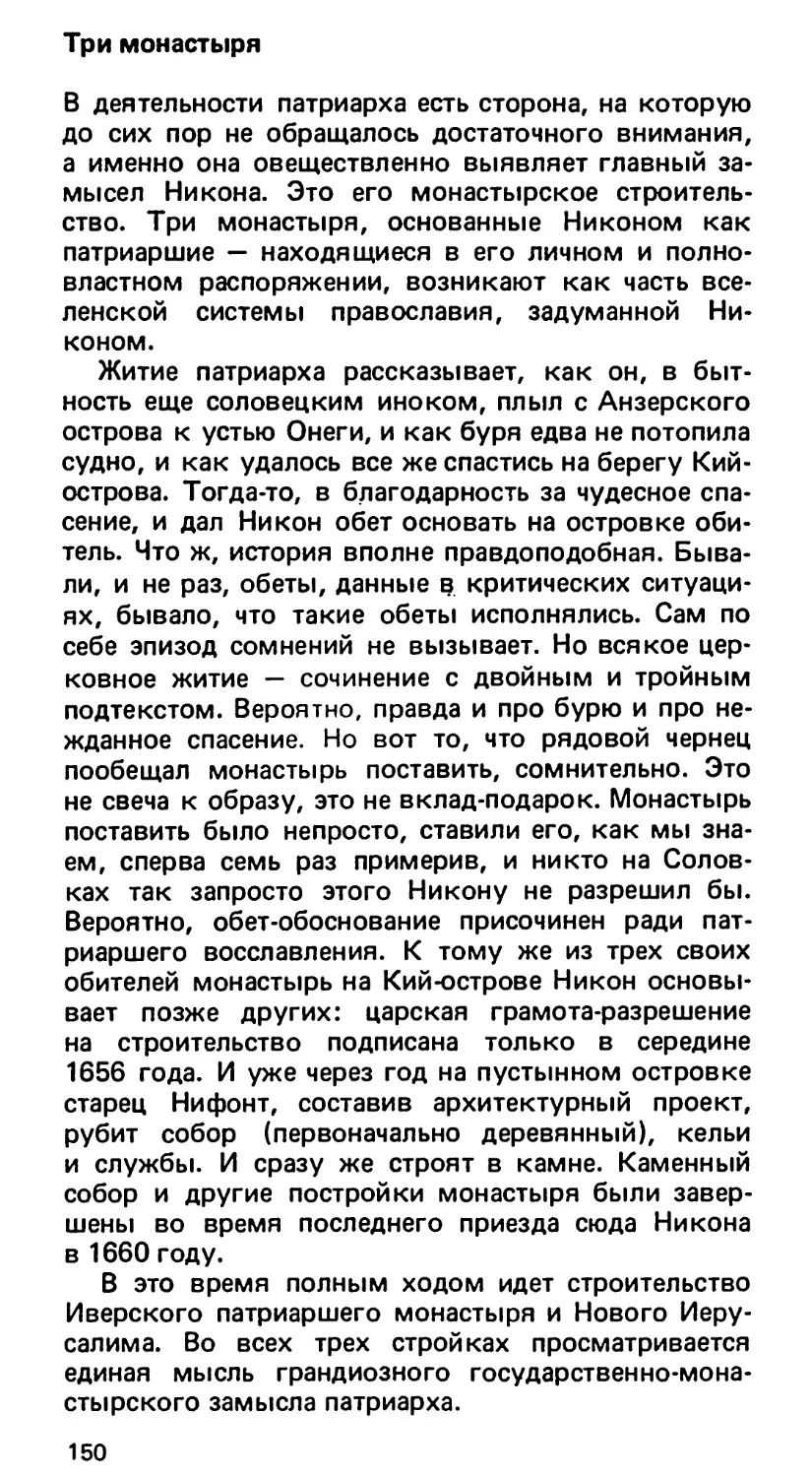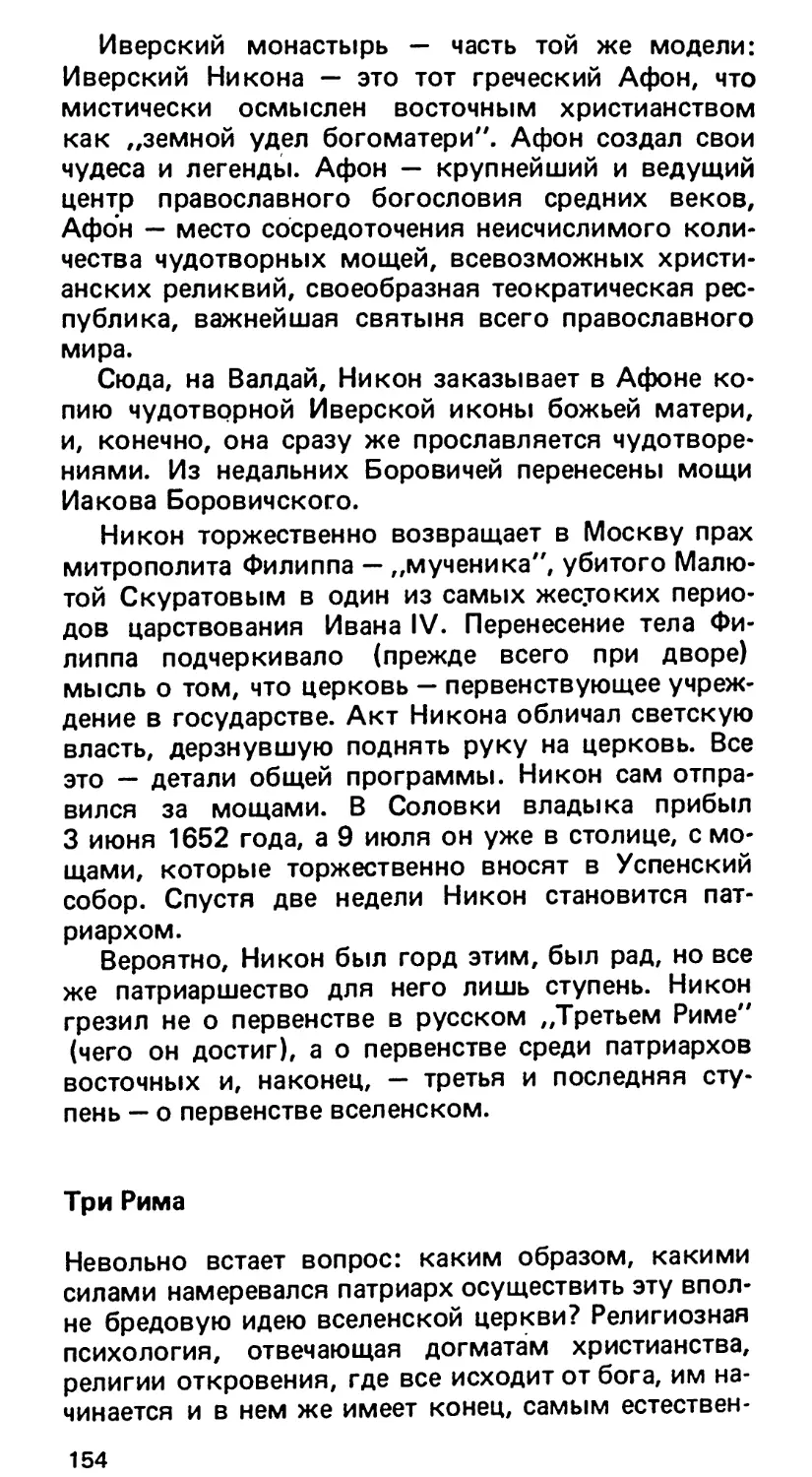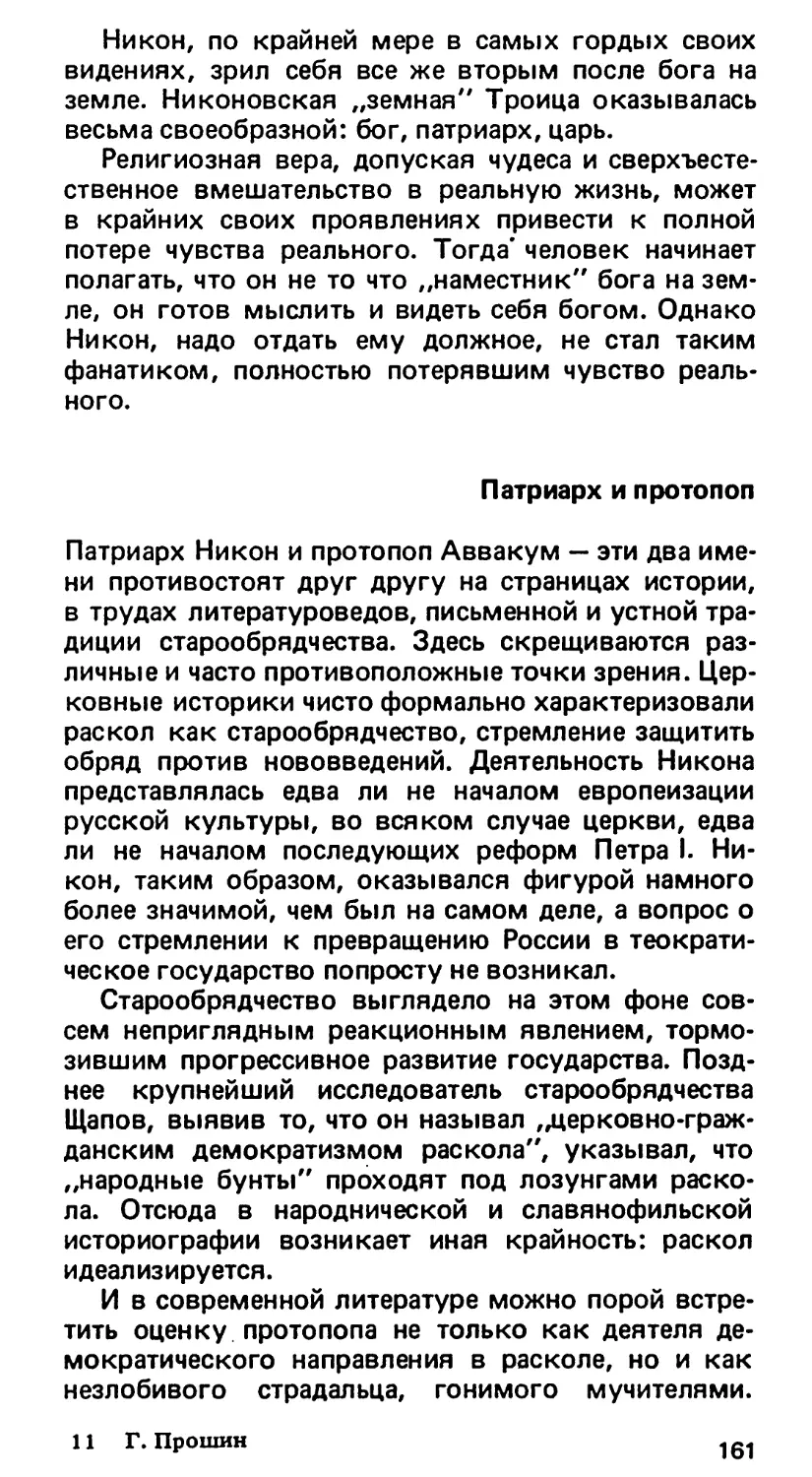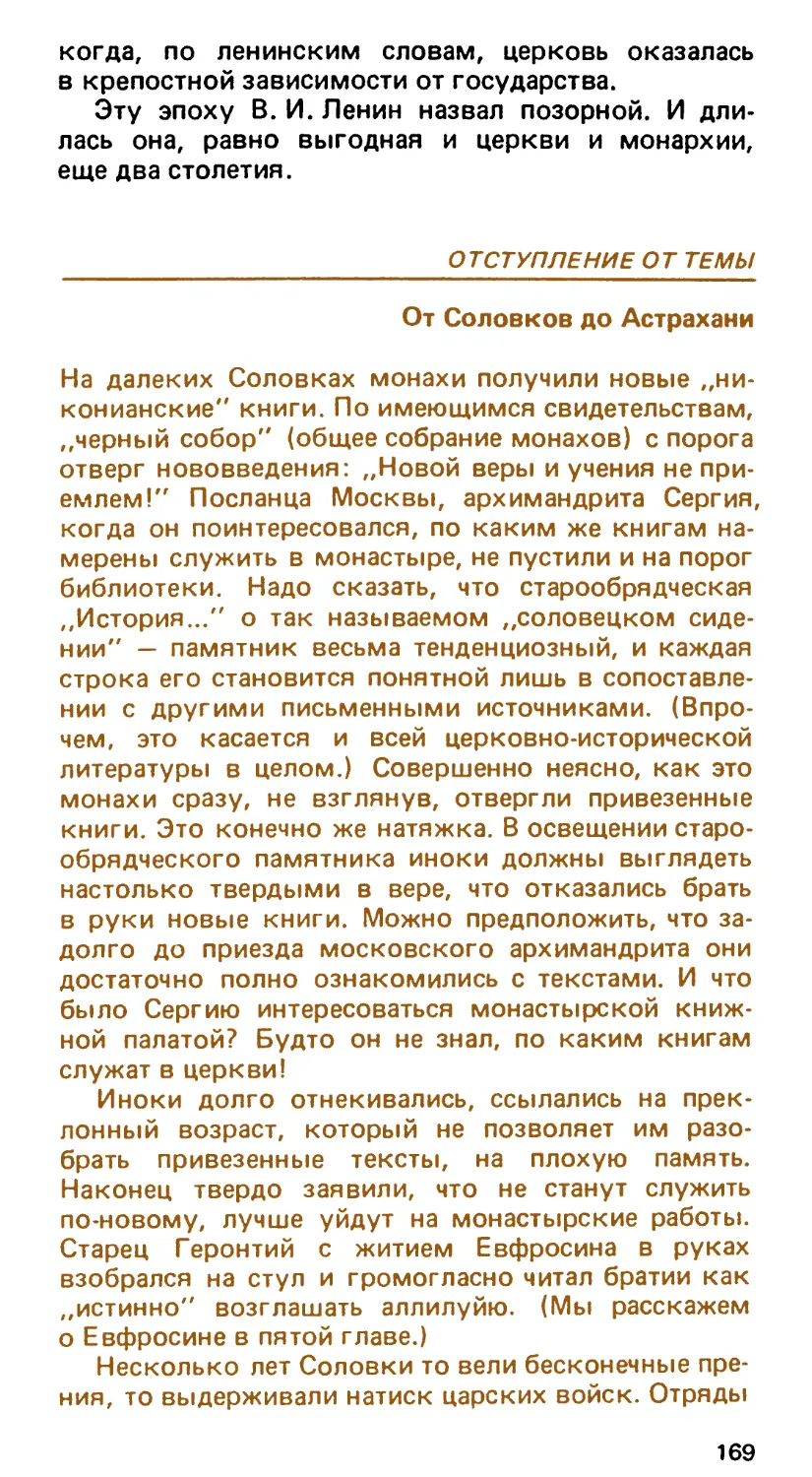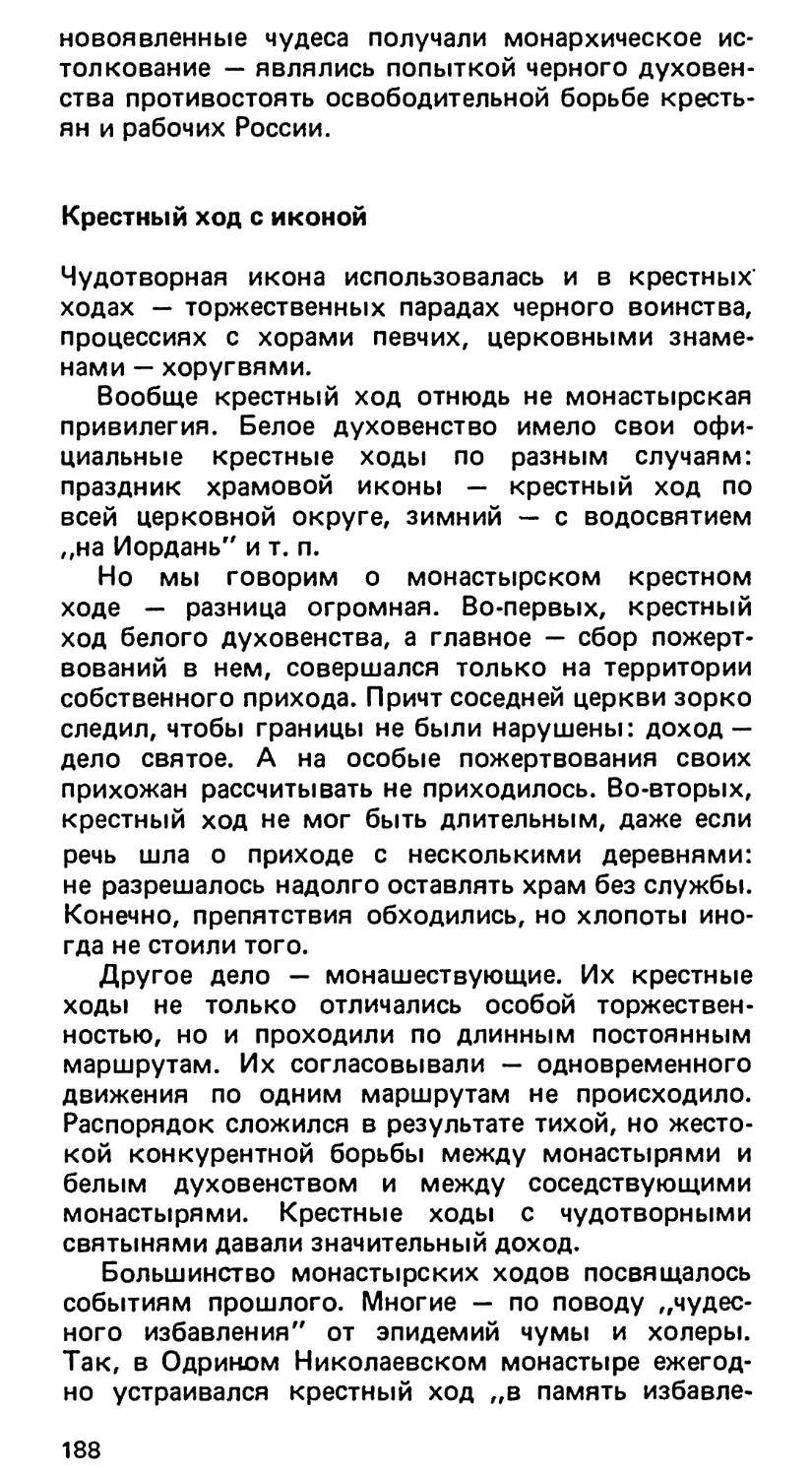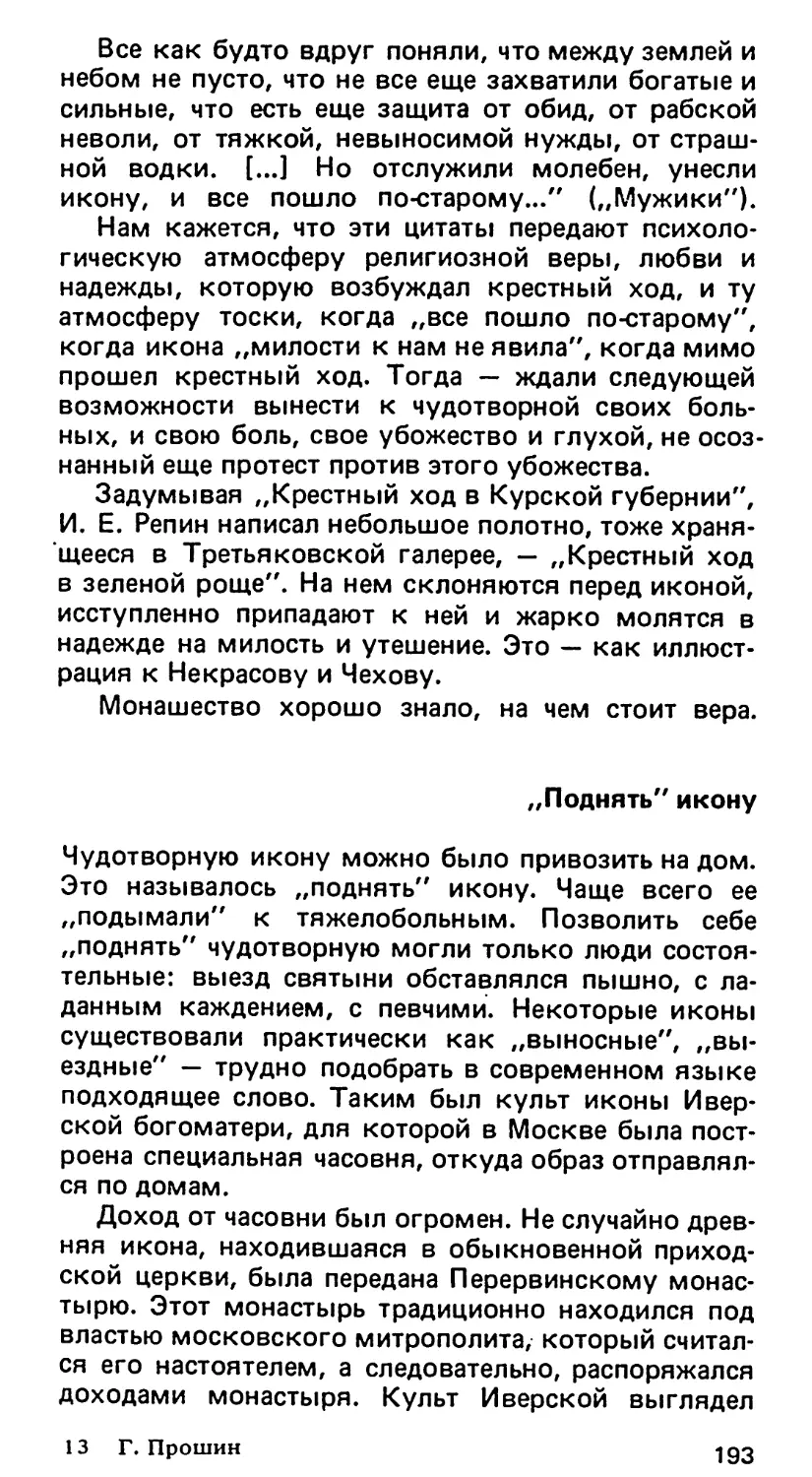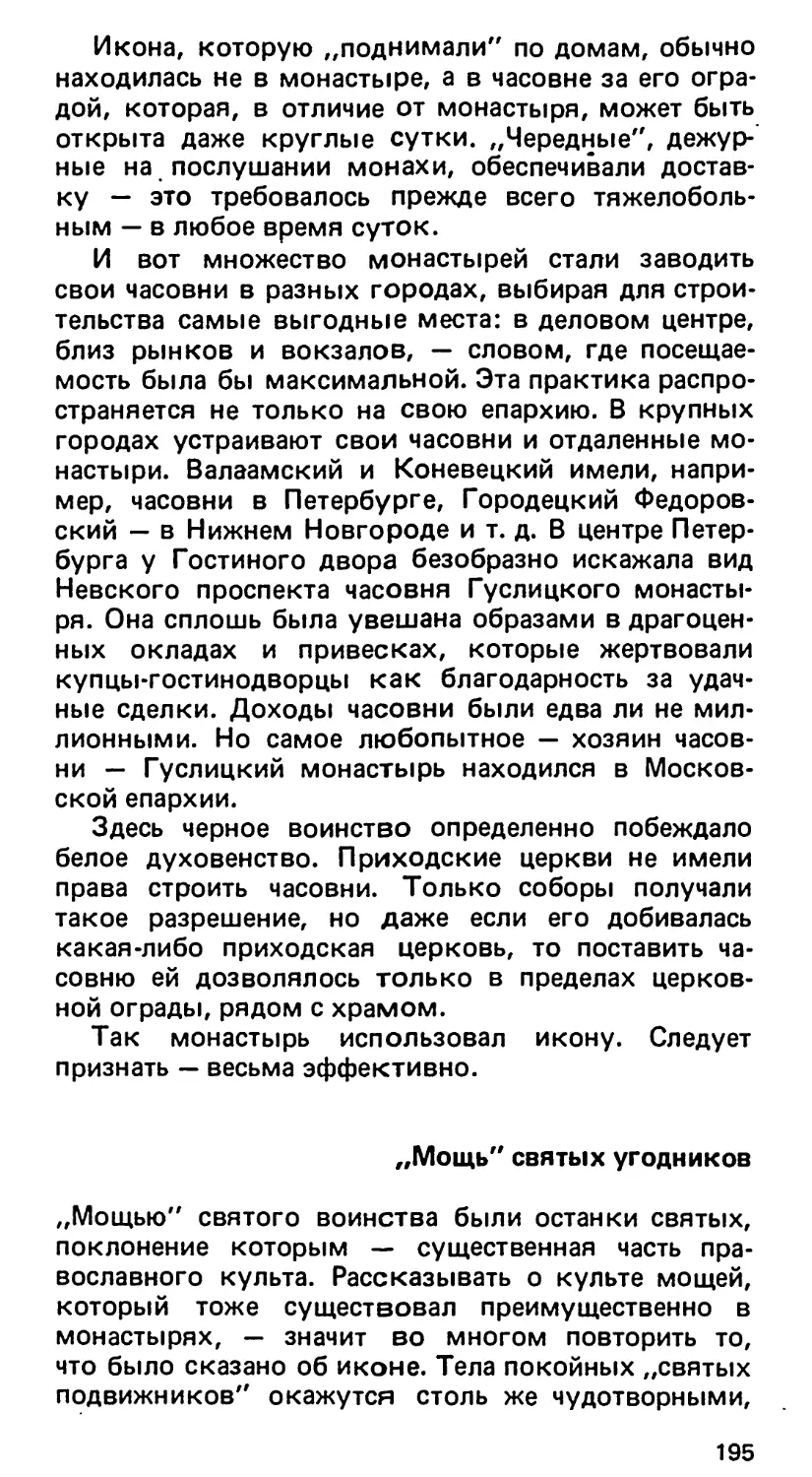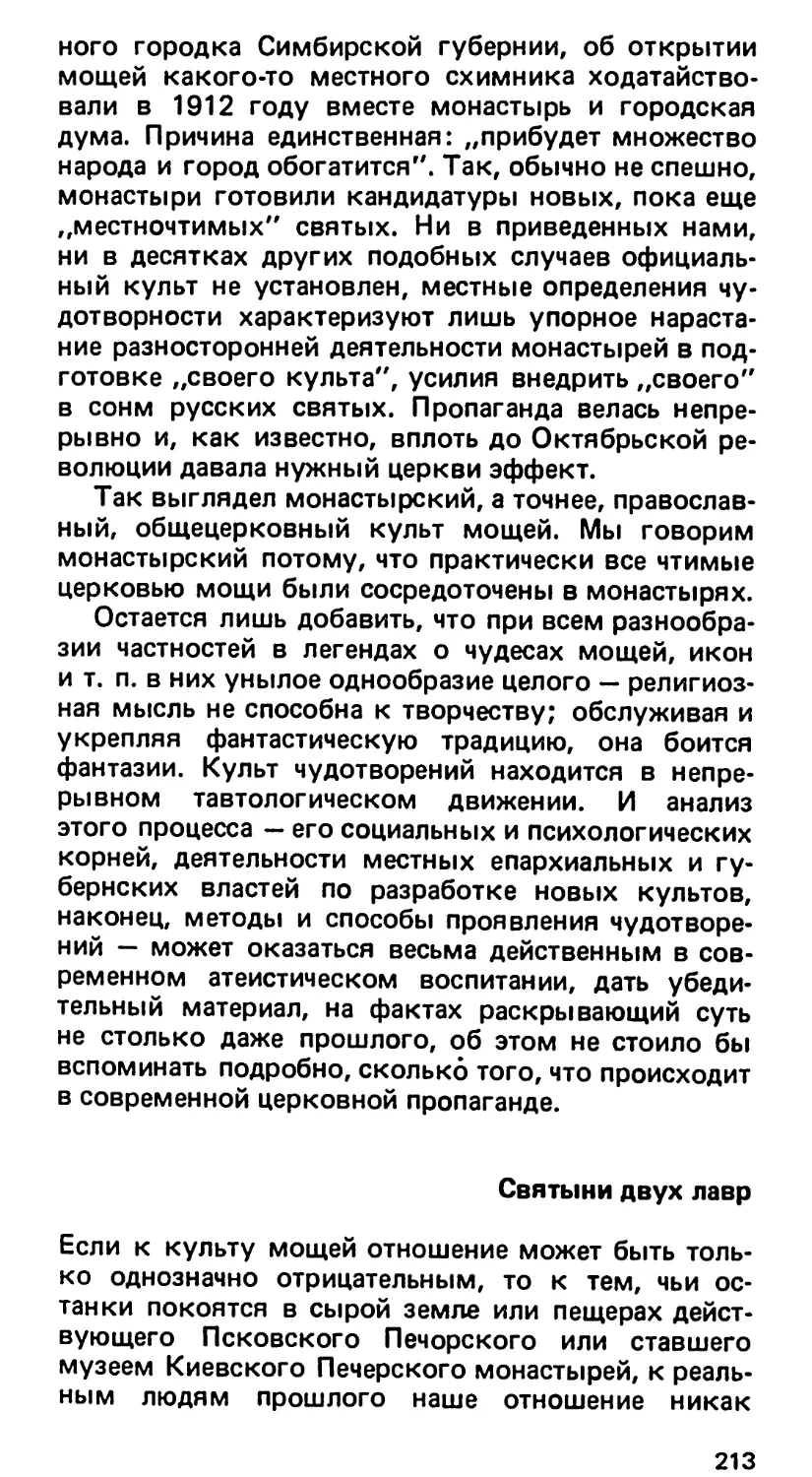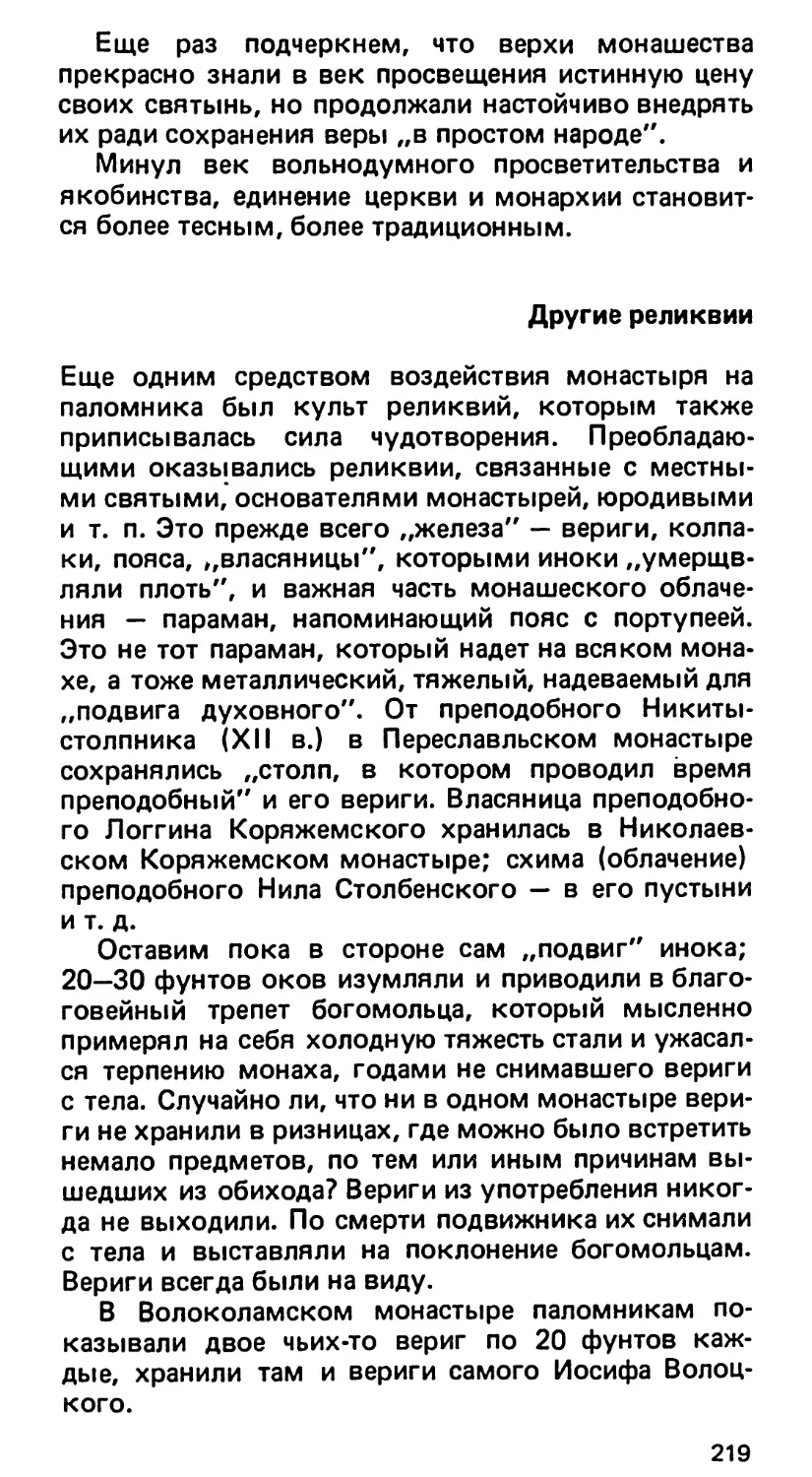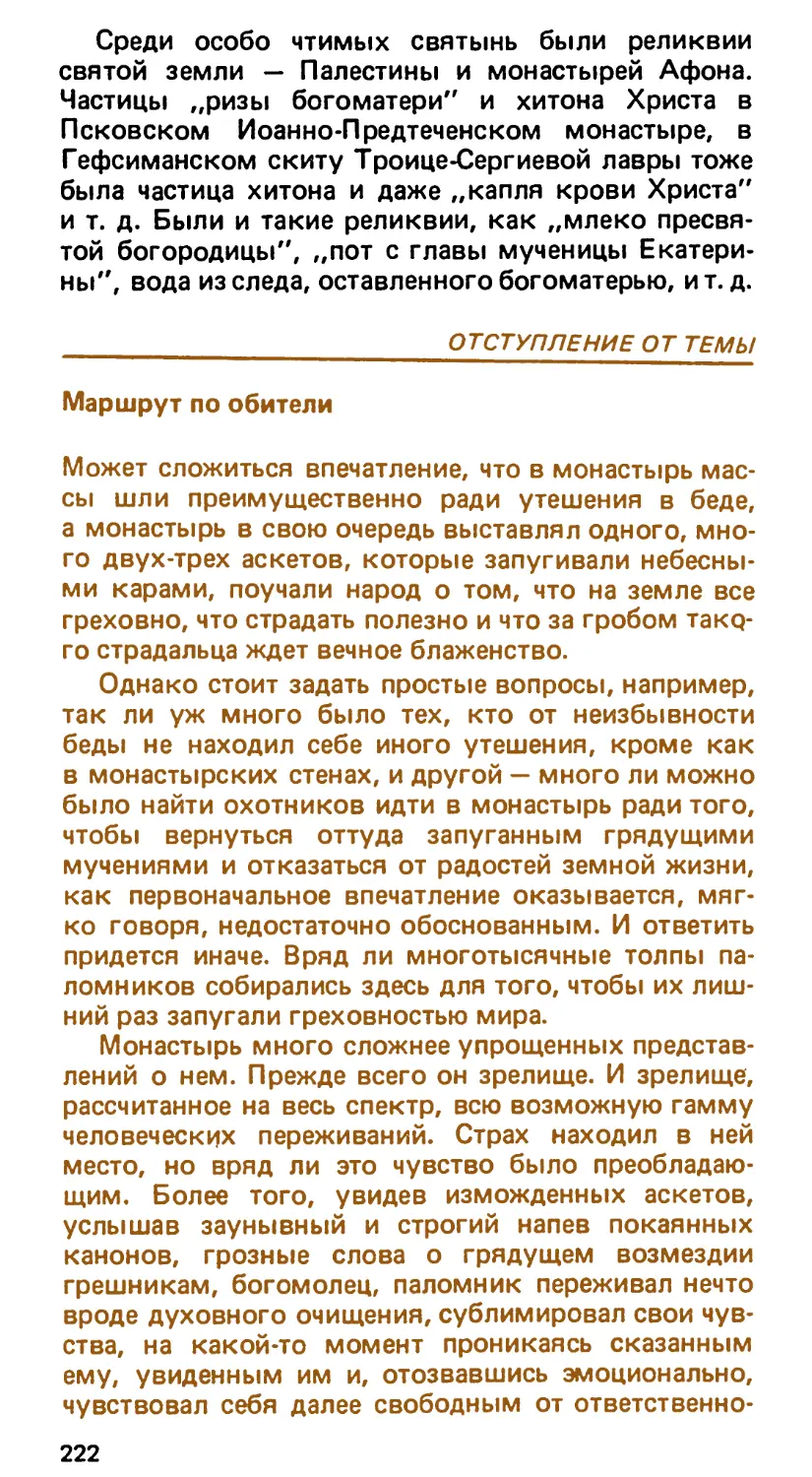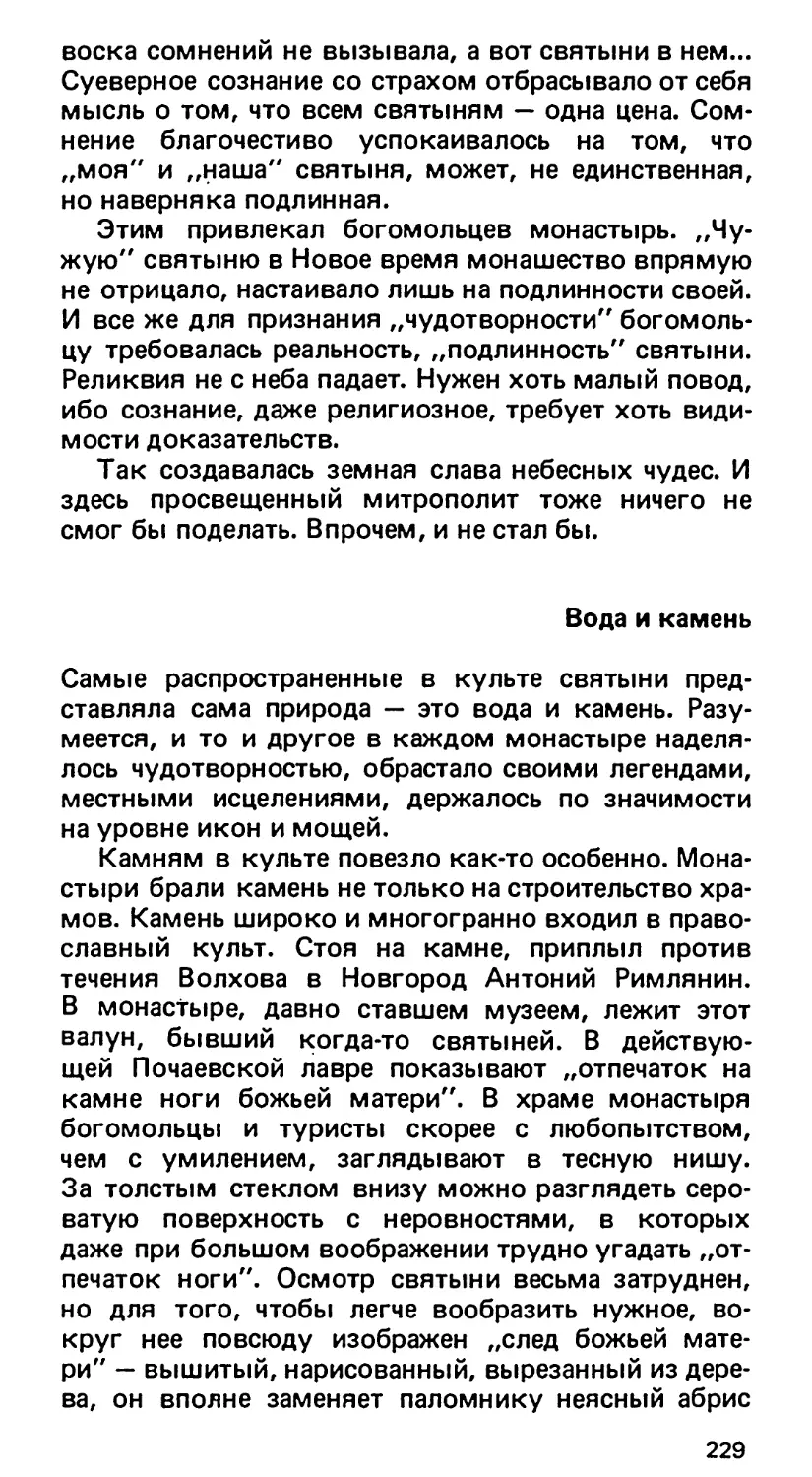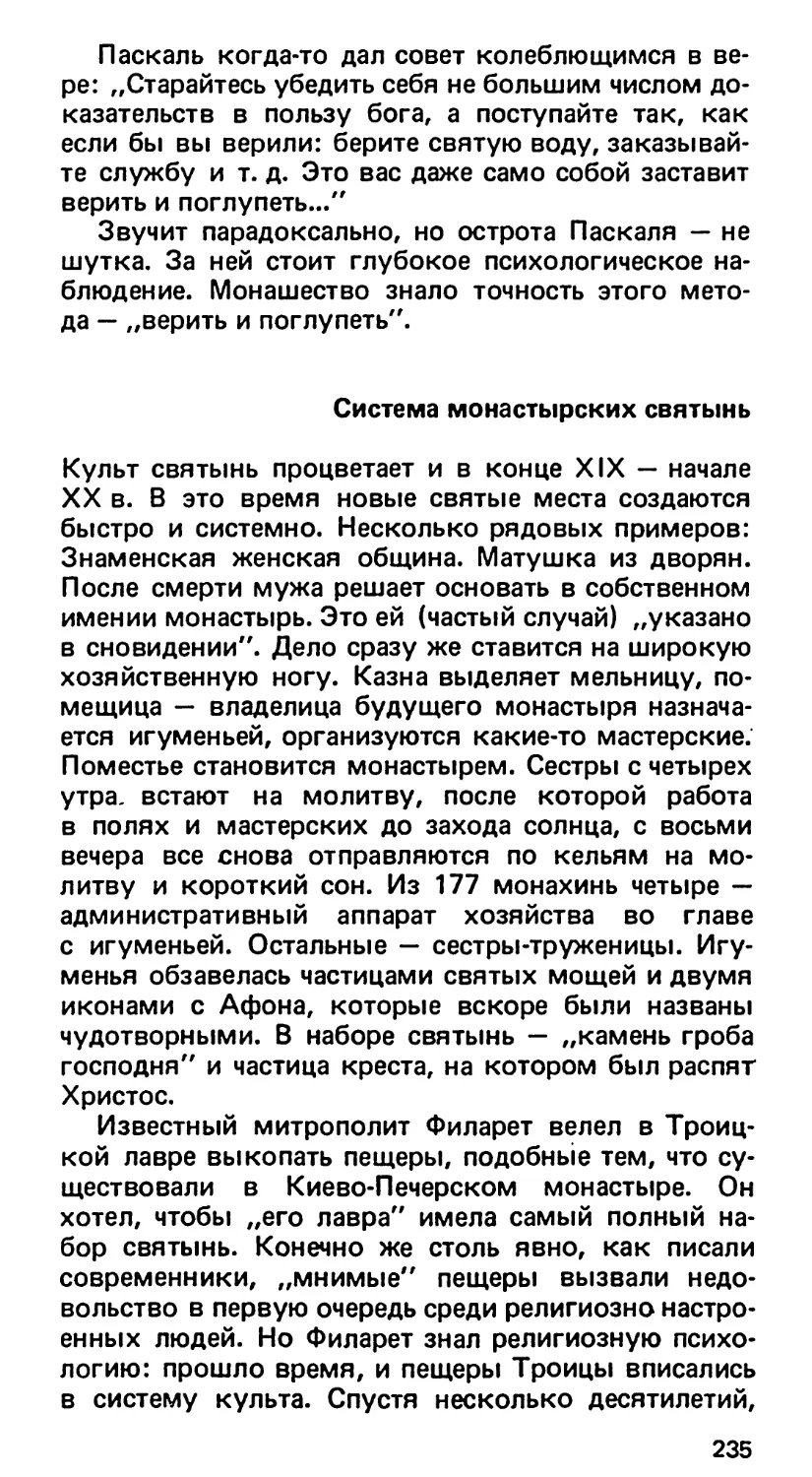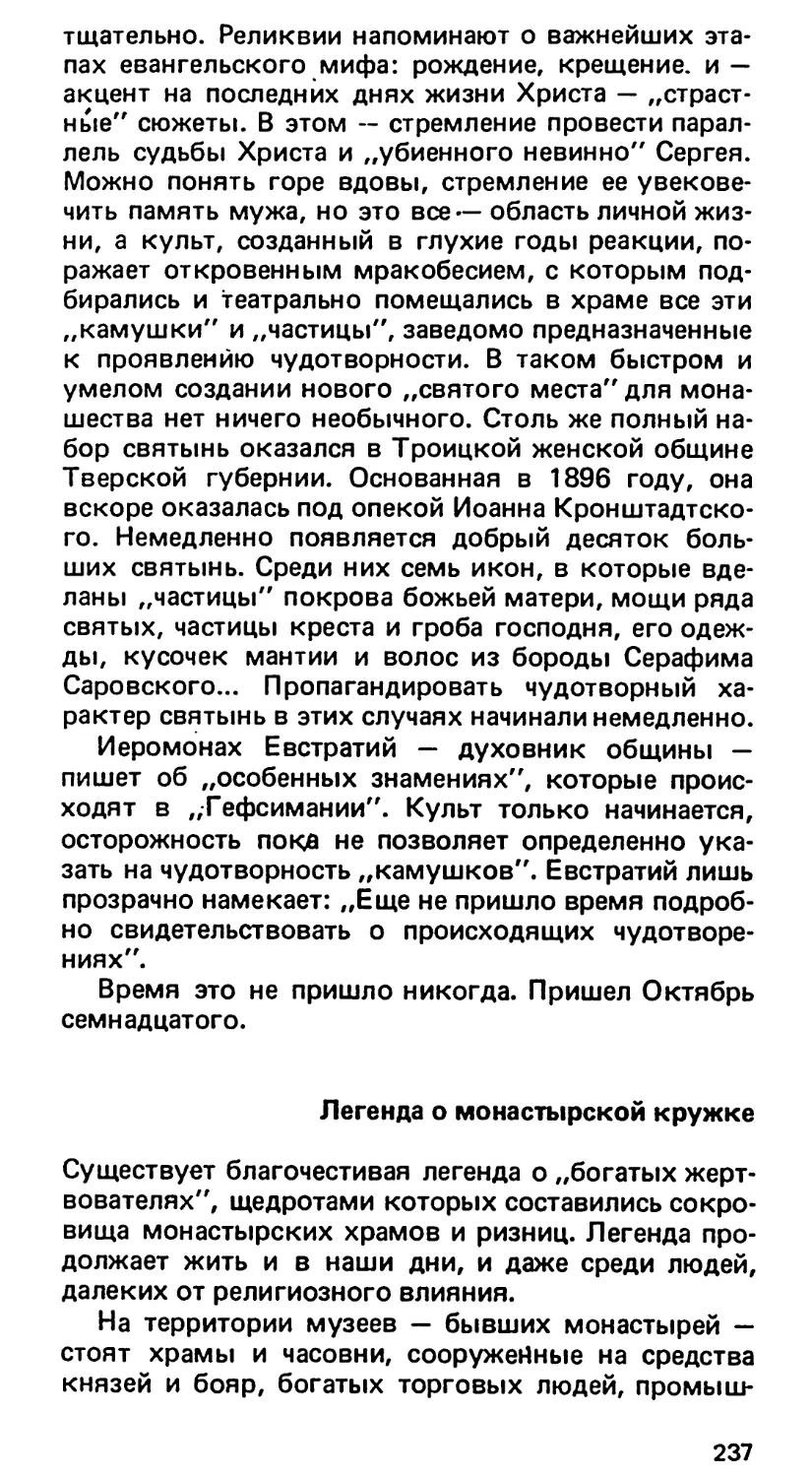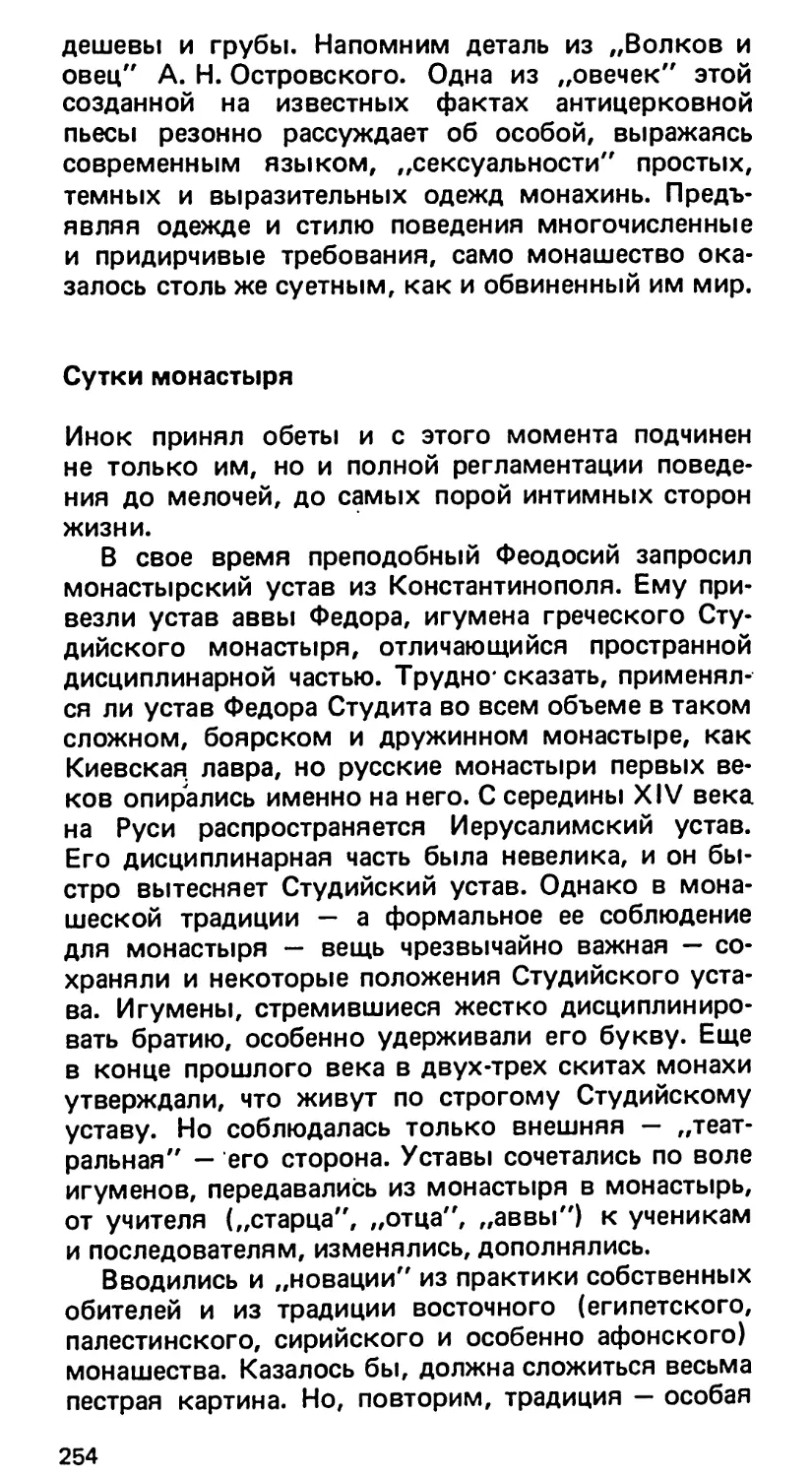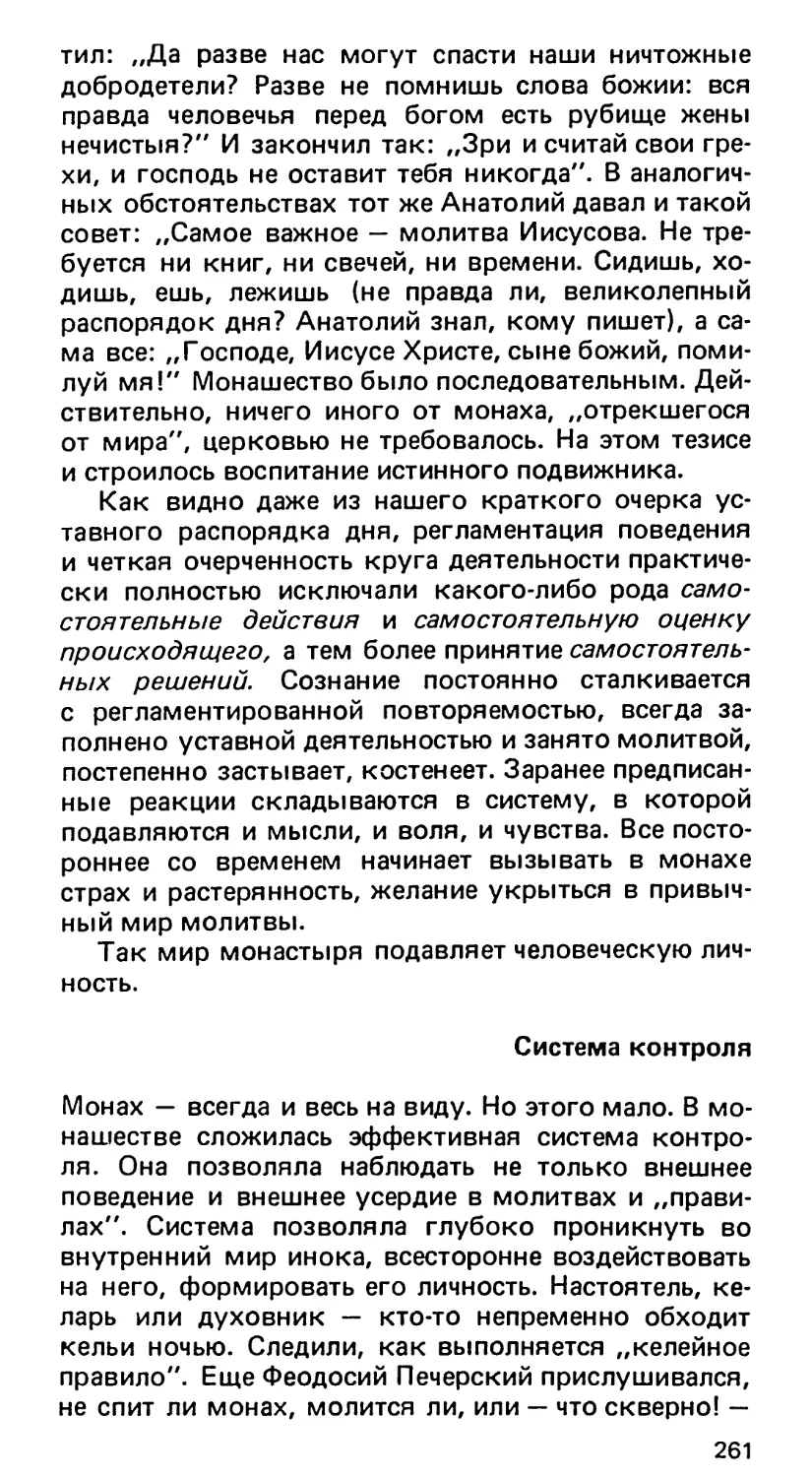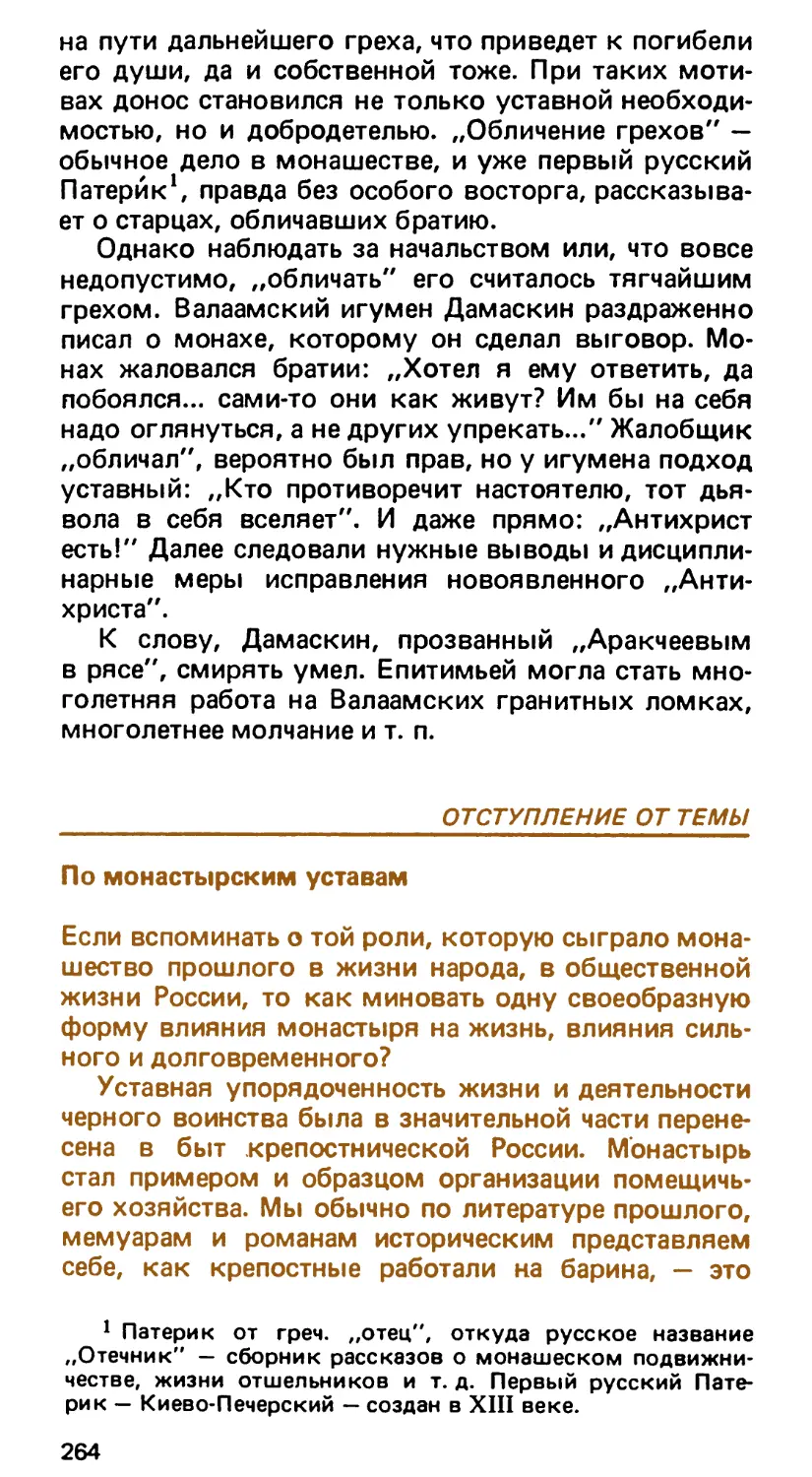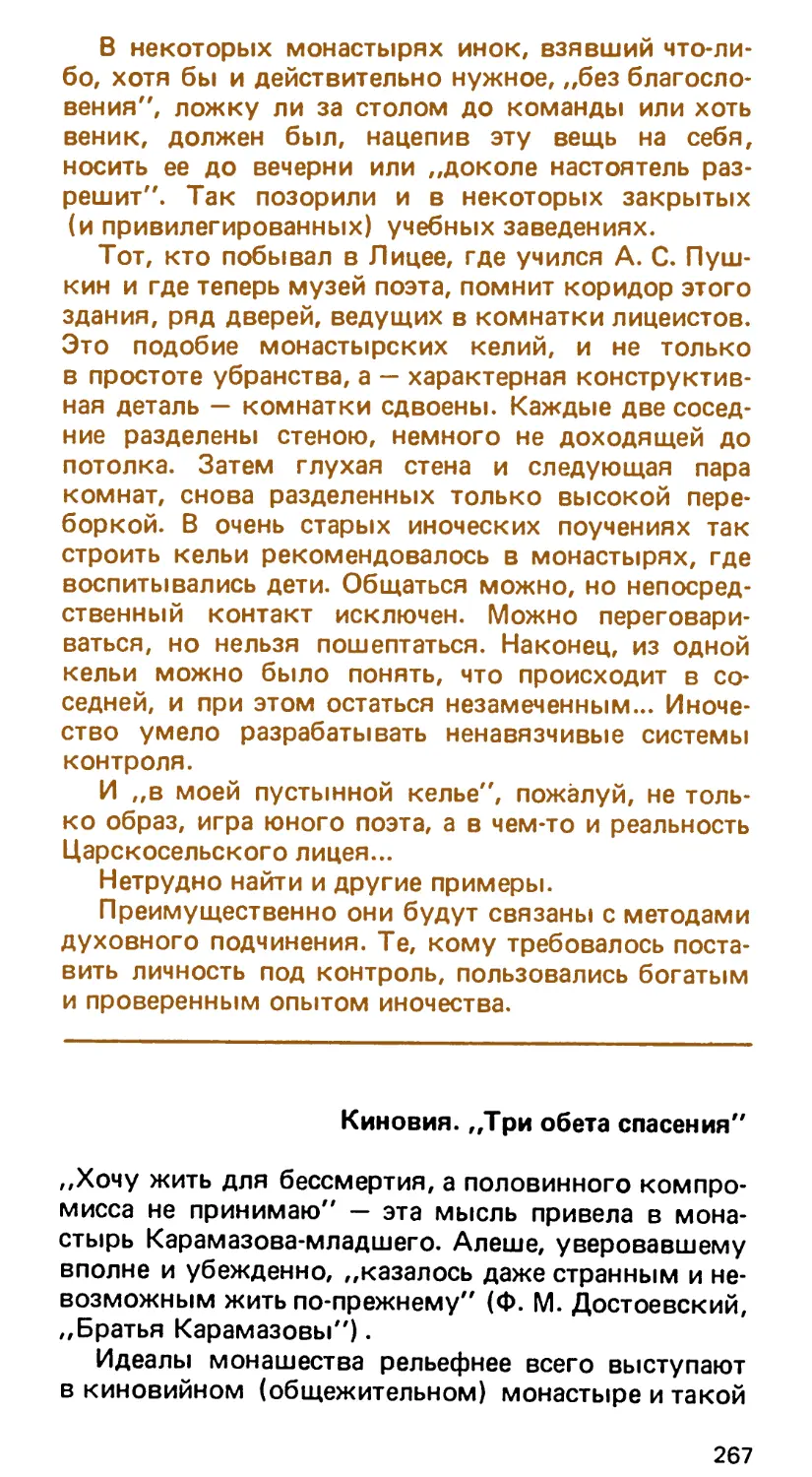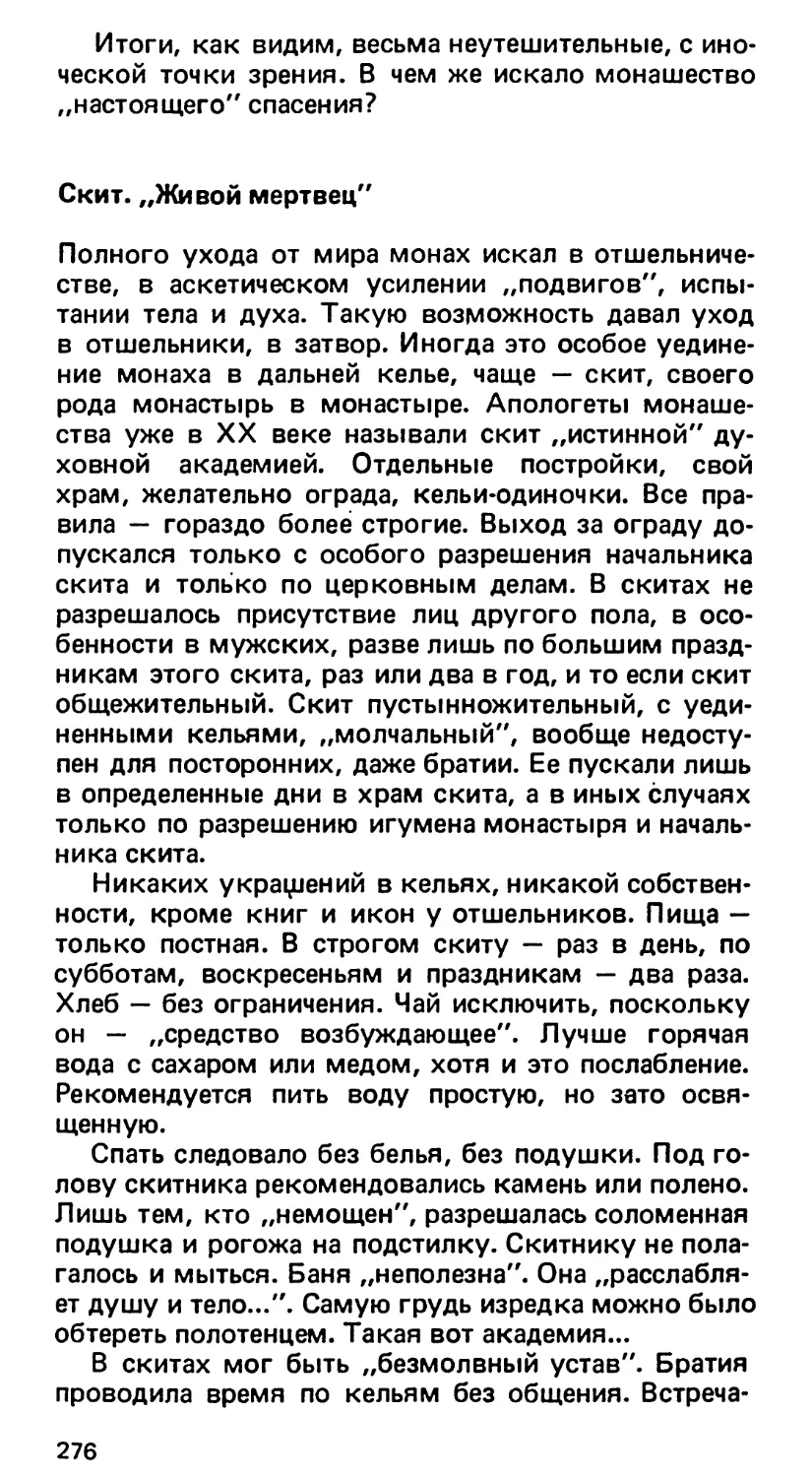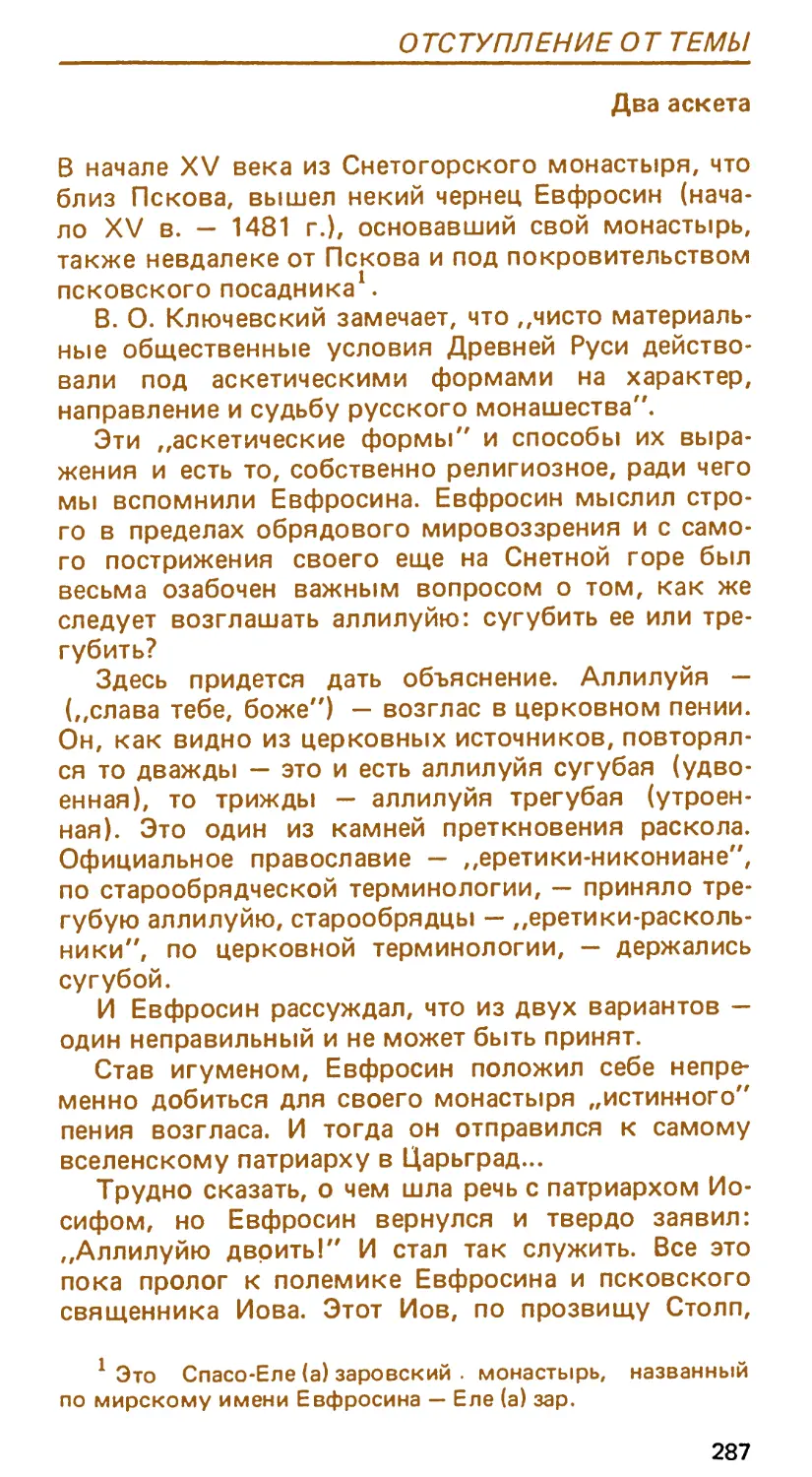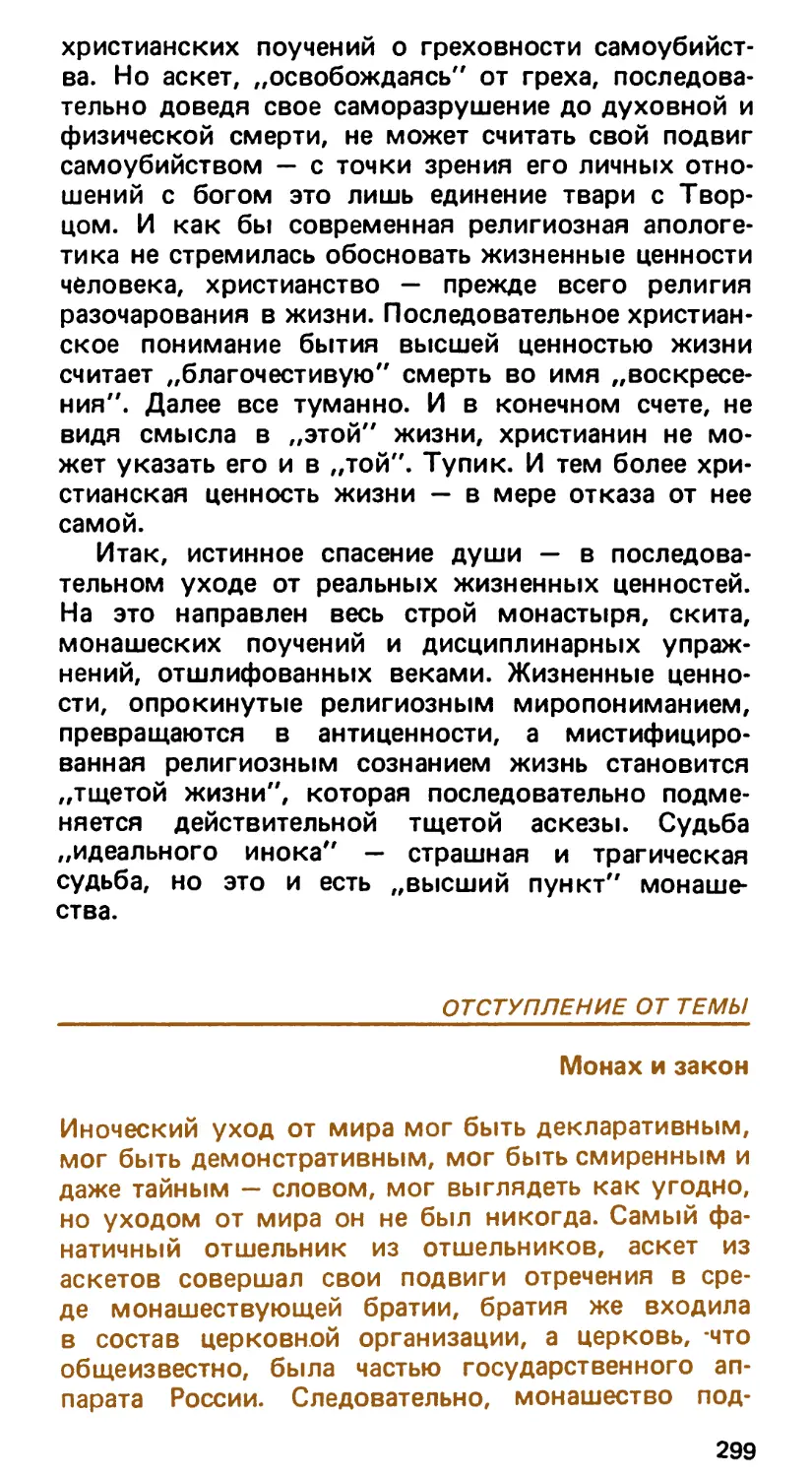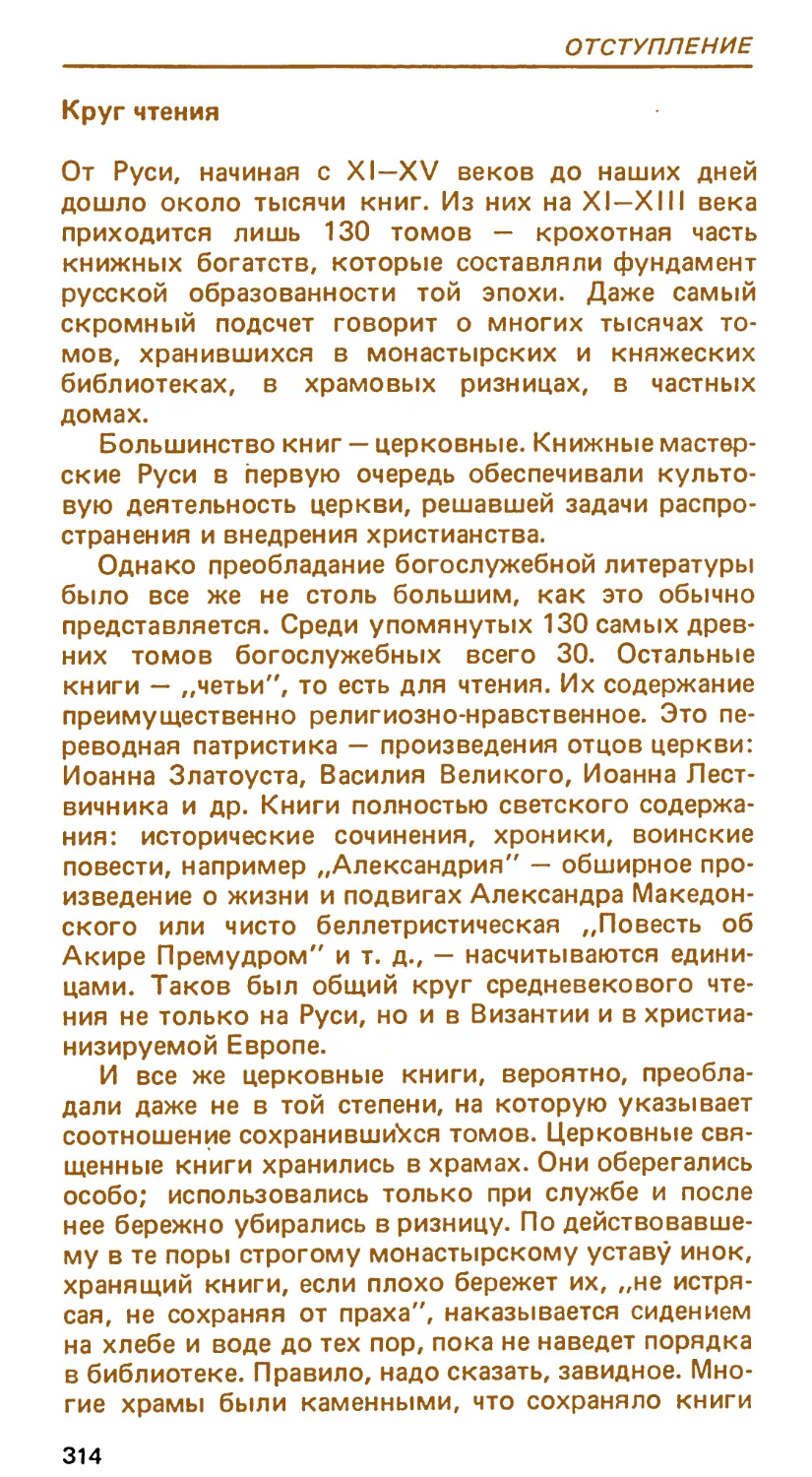Текст
Г.Прошин
Русский православный монастырь.
Легенда и быль
Г ПрОШИН
Москва
Издательство
политической
литературы
1985
86.37
П84
Прошин Г. Г.
П84 Черное воинство: (Русский православный
монастырь. Легенда и быль). — М.: Политиздат,
1985. -320 с, ил.
Книга заведующего отделом экспозиции
Государственного музея истории религии и атеизма,
кандидата философских наук Г. Г. Прошина на большом
историческом и специфическом церковном
материале раскрывает с позиций научного мировоззрения
социальную и идеологическую роль монастырей за
почти тысячелетнюю историю русского православия.
Автор показывает, как складывалась
монастырская система, как она служила целям
социального и духовного гнета, какие средства использовал
монастырь в проповеди религиозных идеалов и
ценностей, дает критический анализ легенд, связанных с
монастырями, хранимых религиозной традицией.
Книга рассчитана на читателей, интересующихся
проблемами атеизма.
0400000000 - 089 - 2е _ й5 86.37
079(02) -85 293
© ПОЛИТИЗДАТ, 1985 г.
...Дочерна опаленный египетским солнцем
мужчина насыпает в корзину песок и, отойдя на несколько
шагов по раскаленному камню, высыпает его.
Возвращается, привычными движениями наполняет
корзину и тем же размеренным шагом относит ее. Одна
горка песка уменьшается, другая — растет. Иногда
мужчина передыхает, но и тогда не прячется в тень,
а упрямо стоит на яростном солнце. Его лохмотья
пропылены, руки потрескались, и раны на них
гноятся. Тщательно собрав последние песчинки,
пересыпав последнюю щепотку, он на минуту
останавливается у большой кучи, снова наполняет корзину
и начинает перетаскивать песок на прежнее место.
Лицо его непроницаемо, пересохшие губы чуть
заметно шевелятся, заученно повторяя молитву.
Мужчину зовут Пахомий. Дело происходит в
начале IV века. В те времена по берегам Нила и на
его островах возникают уединенные поселения
отшельников, решивших порвать с грешным
миром и провести свои дни в христианском
спасении души, в посте, труде и молитве ради
достижения царствия небесного. Это первые шаги
монашества. Пахомий, бывший римский воин, тоже
пришел спасаться от мира в одну из таких
уединенных обителей к суровому подвижнику Пале-
мону. Позднее он сам возглавит несколько
монастырей с жесточайшей казарменной
дисциплиной.
Занятие, за которым мы увидели Пахомия,
выглядит бессмысленным. Но не для монаха. Для
него смысл заключается в бессмысленности
самого труда: так старец-наставник Палемон проверял
выдержку Пахомия, вырабатывал у него высшую
монашескую добродетель — отречение от
собственной воли, абсолютное послушание. Позднее
церковь назовет это подвигом, а самого Пахомия —
великим. Пахомий — олицетворение иноческого
идеала, как он понимался русской православной
церковью. Мы еще к нему вернемся.
А сейчас автор хочет рассказать читателю
5
О ЧЕМ ЭТА КНИГА
История русского православного монастыря
насчитывает уже целое тысячелетие. В русской и
советской исторической литературе имеется немало
работ, в которых выявлен крепостнический характер
феодальных монастырей — земельных
собственников, торговцев и промышленников, их
эксплуататорская роль в эпоху капитализма,
контрреволюционная деятельность, особенно ярко выявившаяся
в период Октября.
В советском искусствознании и
литературоведении в целом раскрыта роль монастырей в
становлении и развитии национальной культуры.
Эта книга — не исторический очерк.
Монашеские обители издавна стали легкой и
верной мишенью для остроумных насмешек и гневной
сатиры, обличавшей иночество за расхождение
вольного образа жизни с принятыми на себя суровыми
обетами. Этот контраст был подчас очень резок и
полон внутреннего сарказма: те, кто публично
обличал пьянство и разврат, обжорство и тунеядство,
стремление к личному обогащению любыми
способами и прочие грехи мира, — сами вволю грешили.
Монах — ханжа и фарисей, монах — тунеядец и
бездельник — типичные образы не только русской,
но и мировой литературы, народного лубка,
фольклора.
Критика такого рода, бойкая, живая и
совершенно правильная, развенчивала и разоблачала
монашество, но она же способствовала его
своеобразному „очищению" от пороков. Не случайно самая
жестокая критика грехов звучала в „Словах" и
„Поучениях" церковных иерархов и той малой части
иночества, которая считала, что именно монастырь
должен дать миру пример истинно нравственной и
трудовой жизни, пыталась в стенах обители
осуществить некий мистический идеал „жития ангельска".
Обличали монашество и великие князья и цари,
такая критика дошла до нас и в императорских
указах. Она шла от тех, кто был наиболее заинтересован
в существовании монашеского сословия, в
поддержании его авторитета. Оставляя в стороне иноческие
идеалы, сосредоточиваясь лишь на тех, кто эти
идеалы нарушал, такая критика выводила из-под удара
религиозные идеалы и евангельскую нравственность,
6
объективно способствовала их оправданию,
повышала их жизнеспособность.
В прошлом остались монастыри-крепостники,
монастыри-эксплуататоры. В наши дни встает вопрос
о роли монастыря как религиозного,
идеологического института, ориентированного на пропаганду
религиозного мировоззрения, поскольку на
протяжении веков основной задачей монастыря была как
раз задача идеологического, воспитательного
порядка, задача формирования общественных идеалов
в духе христианской этики.
Монастырь был важнейшим средством
религиозной пропаганды, располагавшим для этого до
мелочей продуманной, отшлифованной системой
культового воздействия на человека. Она опиралась на
синтез искусств, на особенности человеческой психики,
учитывала и применяла различные формы
наглядности и эмоционального воздействия на личность,
учитывала жизненные интересы различных классов,
слоев и групп населения, — словом, была действенной
и активной.
Монастырь умел распространить свое влияние
далеко за пределы собственной ограды. Вот об этом
важно вспомнить в наши дни и лишь во вторую
очередь из-за тех шестнадцати монастырей, которые
продолжают действовать: автор прежде всего держал
в памяти монастыри, которые давно стали музеями,
архитектурно-художественными и историческими
заповедниками. Киев и Ярославль, Москва и Псков,
Новгород, Ростов и Устюг Великие, Кострома,
Нижний и Чернигов, а также Соловки^ Валаам
и Новый Афон, Кириллов и Манява, десятки
других, известных и замечательных не менее, чем
перечисленные. Автор помнил и о все растущем
интересе к историческому прошлому Родины,
духовному миру наших далеких предков,
создавших замечательные памятники зодчества и
живописи, древней литературы-книжности, тем корням
Отечества, „преданьям старины", которые дороги
каждому.
Миллионы туристов новыми паломниками
вступают в ворота древних обителей. Никакой рассказ
о прошлом, никакой искусствоведческий,
эстетический (а иногда эстетский) анализ не могут в
монастырских стенах заменить
конкретно-исторического, научного анализа.
7
Церковь прекрасно учитывает массовый интерес
к культуре прошлого и не упускает возможности
поставить его на службу себе, на проповедь
христианских идеалов. Монастырские комплексы и были
рассчитаны прежде всего на религиозное
воздействие, так что при недостатке научных интерпретаций
в монастырских стенах вновь могут оживать (и
оживают) православные легенды прошлого, а
подлинное понимание его заменяться апологетическим
отношением, той идеализацией старины и
патриархальщины, которые по сути своей чужды
современному миропониманию.
Автор пытался оценить деятельность и идеалы
православного монашества с позиций наших дней,
с позиций научных достижений современности
показать методы воздействия монастыря на верующих,
способы выработки религиозного мировоззрения
и противопоставить иноческой апологетике,
монастырским легендам историческую действительность.
Но современному читателю нужно объяснить
некоторые понятия, которые были знакомы нашим
дедам и прадедам, а сейчас почти совсем ушли из
жизни.
Начали мы книгу с Пахомия, с IV века. Мы
вспоминаем монашество столь далекой поры
потому, что в IV—VII веках вырабатывалось его
мировоззрение, основы организации, складывались
иноческие обеты, составлялись первые уставы.
Монастырем (слово идет от греческого — „место
уединения") называется группа совместно живущих
людей, объединившихся на основе религиозных
обетов и подчиняющихся особым правилам
поведения, уставу. Монастырь — это корпорация.
Монастырем называется и особым образом организованный
комплекс культовых, жилых и хозяйственных
построек — своеобразный монашеский городок,
обычно обнесенный стеною.
Первые монастыри собирали людей, отчаявшихся
в возможности справедливого жизненного
устройства, когда гнет античного рабства сменялся
феодальным и когда христианство в условиях этого
нового общества оказалось способным декларировать
земную справедливость и перенести ее торжество
в царствие небесное. Первые монашеские общины
пытались организовать земную жизнь в
соответствии с евангельскими идеалами справедливости,
8
выражали протест против системы феодального
гнета.
Вскоре монашество прочно вошло в состав
церковных организаций.
Монастыри существуют в православной и
католической церквах, в монофизитских направлениях
христианства — в СССР это армянская церковь, — а
также в буддизме и исламе. Общины буддистских
монахов начали возникать в V веке до нашей эры,
христианские — в IV веке нашей эры, исламские —
в IX—X веках. Протестантское христианство
(лютеране, баптисты, адвентисты и прочие) отрицает
институт монашества и монастырей не знает.
Монашество становится сплоченной силой со
сложившимися традициями и правилами, нормами
поведения и своим отношением к миру и человеку,
приобретает практический опыт духовного
воздействия на людей. Эта система стоит особняком
внутри церковной организации. Монашество — это
церковное войско, авангард, гвардия духовенства.
Кроме общецерковных у него собственные
религиозные авторитеты и учителя. Отцами церкви и
церковными писателями вырабатывается система
неприятия мира и система подвижничества в отказе
от его соблазнов.
На Русь монашество приходит в сложившемся
виде. И Пахомия вспомнили мы потому, что в
православии его чтят не только как пример
подвижничества, но и как основателя первых общежительных
монастырей, которые со временем стали
преобладающим типом монастырей русской православной
церкви.
Для того чтобы разобраться в православном
монашестве, которое пришло на Русь с введением
христианства, а корнями уходит в Римскую империю,
совершенно не требуется рассматривать жития сотен
святых — целые библиотеки трудов
основоположников монашества, разработавших иноческие нормы и
регламентировавших жизнь монастырей. Не нужны
здесь и огромные библиотеки из тысяч книг и
брошюр, лубочных книжечек и листков,
пропагандировавших монастыри с их чудотворными иконами,
прославлявших целительную силу чудотворящих
мощей и строгую, святую жизнь благочестивых
иноков. Любой более или менее крупный монастырь
вобрал в себя все, что характерно для остальных.
9
Различия, как правило, малосущественны. Зная
один монастырь, практически знаешь все, можно
отметить лишь частные отличия в направленности
религиозной деятельности, культе. Одни, например,
были ориентированы на миссионерство, другие —
замкнутые крепости аскетов, третьи — широко и
умело поставленные хозяйства с большими
торговыми оборотами, развитыми промыслами или
земледелием на сотнях десятин земли, где на
молитву и времени-то не оставалось, и все это —
монастырь.
Чаще всего перечисленные виды деятельности
сочетались в одном и том же монастыре, где кто-то
спасал душу непрерывной молитвой и постом, кто-
то погряз в обжорстве и безделье, кто-то
беспробудно пил, а большинство — пахари и ремесленники —
в тяжелом труде и жесткой дисциплине с лихвой
отрабатывали монастырю кров и пищу. Имея все
это в виду, автор сознательно ограничил количество
монастырей, на которых он останавливает внимание
читателя.
Православное духовенство делится на белое (оно
удовлетворяет постоянные религиозные
потребности своего прихода) и монашествующее,
принявшее на себя особые обеты, иночество (от слова
„иной", не такой, как все), а по цвету одежд —
черное.
Ко времени Великой Октябрьской
социалистической революции в стране существовало 1245
монастырей1. Еще 15 монастырей русской
православной церкви находились за рубежом (Греция,
Палестина, Китай и США). В числе 1245 обителей
собственно монастырей было 914, скитов —65,
монастырских подворий — 48, архиерейских домов — 84,
общин религиозных — 134. Количество монахов
составляло 33 044 человека, послушников — 73 391.
Монашество делится на три разряда по
принятым на себя обетам. Первый разряд —
послушник, он еще только готовится принять монашество
и может быть пострижен в рясофоры. Послушник
Следует иметь в виду, что по мирным соглашениям
1920-х гг. территория Советского государства не совпадала
с территорией России. Общее количество монастырей на
землях, отторгнутых от СССР,—91. В их числе:
монастырей — 59, скитов — 19, архиерейских домов —11,
религиозных общин — 2.
10
рясофорный — первая степень пострижения,
вторая степень — монах, принявший постриг. Высшая
степень пострижения — великий постриг, великая
схима.
Послушанием называется всякое монастырское
дело и всякая должность внутри монастыря. В
монастырях существуют и постоянные послушания —
должности: эконома (келаря), заведующего
монастырским хозяйством, ризничного, хранящего
богослужебные одежды и т. д. Келейник — обычно это
послушник — личная прислуга монаха. Келейник
настоятеля монастыря — монах, его доверенное
лицо.
Монах в сане дьякона называется иеродьяконом,
в сане священника — иеромонахом, а священник
в схиме — иеросхимонахом.
Обращение монахов друг к другу — „брат"
(монахинь — „сестра"). К старшим по возрасту, особо
благочестивым, к начальству монастыря — „отец",
„старец" (в женских монастырях — „мать",
„старица"). К игумену или игуменье — „отец игумен",
„мать игуменья". Рядовой монах —„чернец", „инок",
монахиня — „черница" („черничка"), „инокиня".
В XVIII веке монастыри делят на штатные
(получающие государственное содержание) и нештатные
(заштатные). Штатные, в свою очередь, разделялись
на три класса по количеству штатных монахов,
разрешенных в каждом классе, и по жалованью,
которое они получали. Нештатные могли иметь любое
число монахов и послушников, но должны были
содержать себя за счет так называемых безгрешных
доходов от различных промыслов, сдачи в аренду
монастырских земель и т. п., преимущественно же
от культовых святынь. Понятно, что заштатные
монастыри были гораздо более беззастенчивыми
в выборе средств для накопления богатств,
которые в церковной терминологии назывались
„стяжаниями".
Монастыри подчинялись архиерею своей епархии
(епископу, архиепископу или митрополиту).
Границы епархий почти всегда (а в синодальный период
(1721—1917 гг.) — всегда) совпадали с границами
административного деления государства, частью
которого церковь являлась. Это обеспечивало
единство действий власти административной и
духовной.
11
Вне классов и штатов стояли четыре мужских
монастыря-лавры1: Киево-Печерская, Троице-Сергиева,
Александро-Невская и Почаевская. Особняком
стояли и ставропигиальные (крестовоздвиженские) —
по особому чину их основания патриархом. Дело,
конечно, не в традиционном и почетном праве
патриарха на основание собственного монастыря, а в
исключительном праве главы церкви на доходы со
ставропигий. Этих монастырей было семь, и все они
были очень богатыми. Ставропигиями и лаврами
фактически распоряжался особый наместник
патриарха. Так, в% синодальный период архимандритом
Александро-Невской лавры считался петербургский
митрополит, имевший в лавре наместника в сане
игумена.
В зависимости от ранга монастыри управлялись
архимандритами (первый класс) или игуменами
(второй и третий классы). Настоятель монастыря
второго класса мог добиться более почетного сана
архимандрита, но законодательство Синода,
разрешая иногда этот титул, штатное содержание
оставляло прежним, игуменским.
Существовали монастыри приписные,
подчиненные более крупному монастырю. Изредка это
делалось, чтобы поддержать бедный монастырь,
но чаще наоборот. Приписной отдавал
монастырю-метрополии часть своих доходов. К лаврам
с этой целью было приписано по нескольку
монастырей.
Особый тип самостоятельного монастыря —
пустынь. Когда-то так называли монастырь,
основанный на отшибе от людей, в лесу и т. д., но к XX веку
название сохранилось лишь традиционно. Почти все
пустыни — монастыри мужские.
Скит — обычно небольшой филиал крупного
монастыря. Располагался он, как правило,
поблизости, иногда в нескольких десятках шагов, от
основного. В скитах поселялись схимники,
отшельники — монахи, принявшие на себя обеты более
строгие, чем остальная братия, иногда и монахи,
отправленные „за штат" (после 60 лет или по
болезни).
1 Лавра — название греческое. Это особо выделенные по
значимости, древности, обилию святынь монастыри, руко-
водившиввкультовой деятельностью больших регионов. Они
автономны и подчинены Синоду (патриарху).
12
Наконец, к числу монастырей принято относить
монастырские подворья и архиерейские дома. И то
и другое правильно лишь формально. Подворье —
это своеобразное хозяйственное представительство
монастыря в каком-либо городе. Обычно это склад
товаров, контора и пр. Представительствовали один-
два монаха. Не всякое подворье имело свой храм.
Подворью присущи и более тонкие,
„дипломатические" функции в „высших сферах". Из 48
монастырских подворий, официально
существовавших в предреволюционный период, 25 находились
в Петербурге, а из остальных большая часть —
в Москве.
Архиерейские дома — административные центры
епархиальной власти, и к монастырям их можно
отнести по тому формальному признаку, что
управляющий епархией архиерей относился к
монашествующему духовенству.
Достаточно спорно включать в число монастырей
и религиозные общины (все они женские, в 1917 г.
было лишь три мужских). Правда, в XIX — начале
XX века распространенным путем (хотя были и
другие) основания монастыря было создание
сначала общины или богадельни, подобных монастырю:
с обязательностью молитв и общежития сестер,
обязательностью труда и т. п. Но все же общины
не в полной мере руководствовались монастырским
уставом. Правила некоторых общин назначали их на
дела „благотворения, милосердия, питания сирот"
и т. д. Не было в них и монашеского пострига.
Наконец, далеко не все общины преобразовывались в
монастыри. Одни распадались, другие становились
общественно полезными учреждениями. Например,
Крестовоздвиженская община создана в 1854 году
русскими женщинами с единственной целью —
подготовить сестер милосердия для осажденного
Севастополя. Патриотическое дело сразу попало в руки
замечательного русского хирурга Н. И. Пирогова,
обученные им сестры доблестно проявили себя на
театре военных действий. Общину так и называли
„Пироговской". Не без вмешательства ученого она
не перешла в духовное ведомство, а влилась в
русский Красный Крест. Как медицинское учреждение
существовала в Петербурге Георгиевская община.
Она тоже не стала монастырем, а превратилась
в крупную больницу. Примеры можно умножить.
13
Понятно разделение монастырей на мужские и
женские. Существовало также деление их на
общежительные (киновиальные) и особножительные
(идиоритмы). Киновия — тип мужского афонского
монастыря, где вся братия выполняет какое-либо
одно общее послушание, где категорически
запрещена какая-либо личная собственность, а все
необходимое выдается монастырем. Таких строгих
монастырей к XX веку было всего четыре. Игумены
общежительных монастырей избирались братией
(„черный собор") и обычно из своей среды.
Послушники прдва голоса не имели. Дисциплина была
жесткой, и при необходимости „добродетель"
укрепляли крутыми мерами.
В необщежительных монастырях из общих
доходов монах получал только жилье и уставное
питание. Форменную одежду он приобретал за свой
счет. В этих условиях монахи писали иконы, пекли
просфоры, резали крестики, изготовляли разные
сувениры и т. д. В храме стояла так называемая
братская кружка. Пожертвования из нее делились
между братией или шли на общие расходы по
улучшению быта монашествующих. Были у братии и
так называемые „поручные" (прямо в руки) доходы,
например плата за молебен или за то, что имя
богомольца помянут на очередном богослужении. В
женских монастырях эти возможности меньше —
женщине не дозволено священство. В основном
промышляли там шитьем и рукоделием. Монастырские
работы славились тщательностью исполнения и
добротностью.
Львиную долю личного дохода в особножитель-
ных монастырях давала плата за требы — службу
литургий, панихид и т. д., особенно прибыльной
была торговля сувенирами обители.
Так, в общих чертах, выглядела структура
монастырей русской православной церкви.
Г71А
ВА
1
СИРОТСКИЕ ВЛАДЕНИЯ
Сорок самых важных архиереев и настоятелей
главнейших монастырей сидели в напряженном
ожидании. Из многих, кто съехался на церковный собор
1580 года, именно этим сорока царь указал быть
до общего, соборного заседания. Что это, честь
или?..
Они хорошо знали и жестокость царя, и большую
начитанность его в священном писании, знание
преданий церкви. Страшным намеком тревожило
собранных иереев это их число — сорок. Случайно ли?
Царь Иван был не только жесток, он был умен, по-
жестокому остроумен, умел и любил придать
привычной символике трагический и кровавый смысл.
Ровно сорок было севастийских мучеников за веру,
чтимых православной церковью. Все они были, по
церковным преданиям, утоплены. Сподобиться
мученических венцов, „иже во Севастии",
присутствующие не желали. И мысль эту гнали от себя.
Царь начал стремительно, без предисловий. Речь
его была импровизацией, страстной и короткой, но,
как всегда бывало у Грозного, импровизацией,
хорошо подготовленной. За каждым словом стояло
характерное явление церковной действительности,
ряд фактов типичных и неопровержимых. Сила
обвинений и гнев царя нарастали с каждой фразой.
„Дворянство и народ, — начал он, — вопиет к нам
со своими жалобами, что вы для поддержания своей
иерархии присвоили себе все сокровища страны,
торгуете всякого рода товарами, налагаете и берете
мыта с проезжих всякого звания людей. Пользуясь
привилегиями, вы не платите нашему престолу ни
пошлин, ни военных издержек; застращали робкую
совесть благороднейшего, лучшего и полезнейшего
класса наших подданных и захватили себе в
собственность третью часть, как оказывается, городов,
посадов и деревень нашего государства вашею
хитростью, волшебством и знахарством. Вы покупаете
и продаете души нашего народа. Вы ведете жизнь
самую праздную, утопаете в удовольствиях и
наслаждениях, дозволяете себе ужасные грехи,
вымогательства, взяточничество и непомерные росты.
Ваша жизнь изобилует кровавыми и вопиющими
грехами: грабительством, обжорством,
праздностью, содомским грехом. Вы хуже, гораздо хуже
19
скотов. Ваши молитвы не могут быть полезны ни
мне, ни моему народу!.."
Прервем здесь речь Грозного. Чем больше
распалялся царь, тем больше успокаивались собранные
им иерархи. Пусть гневен, пусть грозен, да кому же
не известно, что все сказанное им справедливо, что
в массе своей монашество как нельзя лучше
соответствует словам царя? А раз так, то какой смысл
искать виновного среди присутствующих? Кто
лично может отвечать за систему в целом? Она веками
складывалась так и никоим образом не могла
сложиться иначе?
Иноческие стяжания
С XI века, с самого своего возникновения, первые
православные монастыри упорно приобретают и
накапливают богатства. И Киево-Печерский,
получивший позднее название лавры, и монастыри Волыни
и Ростовской земли, Господина Великого
Новгорода и Владимира — все они в XI—XIII веках
основывались обычно в городах и получали княжеские
и боярские пожертвования, вклады и содержание
„на помин души". Вклады были разные. Это могли
быть „села с челядью" и церковная утварь, „злато и
сребро", просто привоз в монастырь кормов и хлеба.
В монастыри — „всякое даяние есть благо" —
отдавали часть военной добычи, даже государственные
права на сбор разных торговых пошлин и налогов
с населения. Особенно большими были вклады „на
постриг", обеспечивавшие безбедное житие инока
из княжеской дружины или боярина, их
домочадцев, чаще всего вдов, а то и члена княжеской семьи,
природного Рюриковича, по разным причинам и не
всегда по своей воле затворявших за собою
монастырские ворота. Так или иначе, но монастыри, при
всех исторических превратностях их судеб, за почти
уже тысячелетнюю историю их существования на
Руси упорно росли численно и настойчиво
округляли свои владения.
Оценивая монастыри феодальной эпохи,
церковный историк в начале нашего века пишет: „Трудно
было благочестивому человеку примирить
обеспеченность инока и его нестяжательность, увлечение
хозяйственными делами и отречение от мира, обет
20
послушания и ненасытное стремление к власти .
Для благочестивого человека это, наверное,
действительно нелегко, но иноки таких затруднений
обычно не испытывали. Монастырское имущество,
говорят они, — это имущество, пожертвованное
богу, божье достояние, а мы, сироты нашего
небесного отца, лишь храним его на земле. Если же и
умножаем различными способами, то „не стяжаем
корыстолюбиво благ земных", а как истинные
слуги божьи возделываем христову ниву.
Евангельское „не собирайте себе сокровища на земле..."
относится не к нам, не к монахам, а как раз к вам,
благочестивым мирянам.
Такая проповедь действовала. Особенно если
произносил ее инок в заплатанном подряснике, „в
рубище", монах, с искренней верой принявший на себя
тяжелые обеты, истощенный постом и молитвой.
Действовало и то, что собственность
общежительного монастыря выглядит коллективной. Точнее,
общей и ничьей, как бы действительно отданной
богу.
Знак равенства между благочестием монастыря
и его богатством ставил еще основатель Киево-Пе-
черской лавры преподобный Феодосии. В своем
завещании он утверждал, что если и после его смерти
в монастыре „начнет прибывати", то это есть знак
его личной и всего монастыря угодности богу.
(Заметим, что мысль эта не вполне выдерживает
критику с точки зрения православия, где „угодность богу"
скорее проявляется в жизненных испытаниях
человека, его страданиях и терпении. Однако именно
эти слова Феодосия, донесенные до нас „Повестью
временных лет", повторяются монашеством и
поныне.)
Особенно велики в период феодальной Руси
пожертвования государевы, а точнее, государственные.
Некоторые просто громадны и поражают не столько
щедростью дарителя (у него были возможности для
этого, свой расчет, не только благочестивый, но и
очень трезвый — экономический и социальный),
сколько огромностью и обилием Русской земли.
Несколько примеров. Инок Симон основывает
монастырь на речке Кичменге, притоке Сухоны,
невдалеке от торгового города Тотьмы, и получает от
„тишайшего и боголюбивого" Алексея Михайловича
территорию на 10 верст в округе от новой обители.
21
По современному счету, получается не менее 35
тысяч гектаров. Но это если исходить из казенной
версты в 500 саженей, а до Петра I счет велся иначе.
В версте было и по 700 и по 1000 саженей. (Правда,
и сажени до XVIII века были несколько меньшими.)
Однако все это — пустой счет. Важнее другое:
кто же считал там, в бескрайних лесах на Сухоне, —
монастырские это версты или нет? Игумен получил
столько земли, сколько хотел закрепить в руках
обители.
Важская пустынь получает в 1559 году округу
радиусом в 5 верст, а несколькими годами раньше
некий игумен Федор, где-то там же, на Вологодчине,
получил земель вокруг обители на 12 верст.
XVI—XVII века — время широкого
хозяйственного наступления на леса и земли Севера, освоения
огромных пространств, богатых пушниной и рыбой,
железной рудой, зверем и птицей, лесом и солью,
наконец, здесь — пути морские, единственная тогда
для Русского государства возможность выхода
в Европу.
За несколько десятилетий до этих громадных
пожертвований землей на Севере наделяли меньше.
Так, в конце XV века Павел Обнорский для своего
монастыря получил всего-навсего около 3 тысяч
гектаров, по современному счету. Монастыри
ценили не собственно землю и пространства никем не
меренных верст, а землю населенную, обработанную,
районы, экономически перспективные. Примерно
в то же время Корнилий Комельский получает от
великого князя Василия жалованную грамоту,
закрепостившую за монастырем первые три десятка
деревень. Житие Корнилия рассказывает, что он
поначалу отказывался, просил лишь небольшой
участок у самого монастыря, чтобы братия могла
кормиться „от поту лица своего".
Здесь интереснее всего не факт пожертвования
или „нестяжательная" попытка отказа от дара, а то,
что князь, отец Грозного, искренне удивлен тем,
что у монастыря нет собственных сел и земель. Ему
это непонятно: „Попроси у меня, я дам..." — он явно
считает такое положение дел ненормальным.
Правда, следует уточнить: кому придется ни сел, ни
деревень, ни даже пустошей государство отнюдь не
давало. Корнилий в молодости служил при московском
дворе и был хорошо известен князю Василию.
22
Монастырь этой
эпохи — феодал, такой же,
какими были князья и
бояре. Дело не в земле,
а в ее населении, в „селах
с челядью", которые, по
тогдашним понятиям,
были, как писал В. О.
Ключевский, „необходимой
хозяйственной
принадлежностью частного
землевладения светского и
церковного, крупного и
мелкого"1. Так велось
испокон веков: за
столетия до описываемых
событий митрополит
Климент с гневом писал, как
монастыри
„присоединяют дом к дому, и села
к селам, изгоев и
соседей, и борти, и пожни,
и поля, и пустоши...".
С монастырем
иногда обходятся, как с
вотчиной. Преподобный Фе-
Великий князь московский
Василий III жалует грамоту
на земельные владения
новому монастырю.
Обличительные „Послания"
и „ Слова " древних
проповедников полны указаний на
корыстолюбие монахов:, Яюбим злато
и берем имение, любим
храмы светлы и домы украшены".
Миниатюра XVII в.
одосий Тотемский (из
бояр Сумориных), поставив монастырь по грамоте
Ивана IV, в своем завещании до мелочей
перечисляет владения монастыря, его имущество и
оставляет „все" иноку Ионе. Новый настоятель
приходился Феодосию родным дядей... В монашество
порой шли целыми боярскими семьями. Порядок
конечно же полностью феодальный, и при всех
поучениях о „божьем достоянии" игумен-феодал был
уверен, что и в ангельском образе может
распоряжаться монастырем, как собственностью, даже
передавать „сиротское владение" по наследству.
Это понятно. Многие монастыри существовали на
средства светских феодалов, уходивших в старцы-
настоятели основанных ими обителей. При этом
большинство уходило не „от мира греха и
соблазна" — и вовсе не для того, чтобы за крепкими
стенами вести изобильную, сытную и ленивую жизнь
Ключевский В. О. Соч. М., 1956, т. 1, с. 275.
23
(хотя были и такие тоже), — нет, князь, боярин,
прежний дружинник, воевода или воин, сын
боярский не уходили в монастырь, а шли в него, шли,
чтобы подминать под монастырь земли и торги,
промыслы и пашни, кабалили крестьян за святой
обителью, все дальше и дальше простирали
властные боярские руки, ставшие, правда, руками
монашескими, но от этого лишь приобретшие особую
цепкость. Расширяли пределы владычества своего
монастыря, заботились только о себе, а результатом
было развитие и расширение всей системы
феодального хозяйства, укрепление государства.
В конце XIV века звенигородский князь Юрий
(брат тогдашнего великого князя Василия I, сын
Дмитрия Донского) решил основать монастырь
в своем уделе. Игумена он, как это тогда водилось,
выбрал в Троице-Сергиевой лавре — инока Савву
и, сыскав вместе с ним подходящее место близ
Звенигорода, „на Стороже", основал будущий Саввин-
Сторожевский монастырь. Было это в 1398 году.
Годом позже на средства князя развернулось
большое строительство: ограда, кельи, хозяйственные
постройки. Срубили временную церковь и
одновременно заложили каменный собор, который
закончили пять лет спустя. И тогда, в 1404 году, князь
вручил игумену грамоту, по которой несколько сел
Звенигородского и Рузского уездов с окрестными
деревнями, прудами и всем, что „исстари к этим
селам прилежало", перешло в вечную собственность
Саввина монастыря. Монастырь, говорилось в
грамоте, может и впредь неограниченно покупать и
получать „на помин" земли в княжестве. Население
этих земель будет освобождено от дани в пользу
князя, от сборов за торги и за клеймение товаров,
от повинности на поставку князю подвод, от
обязанности косить траву на княжеских землях в
сенокосную пору, от повинностей по укреплению и
строительству княжеских городов и т. д. и т. д.-
Подробно описаны полученные монастырем
рыбные ловли по рекам Иневе и Наре до Москвы-реки.
Рыболовецкая княжья артель Ондрея Телицына
отныне должна поставлять улов на братские трапезы,
а заодно монастырю отдана и вся деревня, в
которой „оный Ондрей живет". Княжье право на
„пятно" — сбор пошлин с продажи товаров — мыт
отныне шел лично „игумену в монастыре".
24
Мы опускаем многие подробности грамоты.
По ним все равно не увидеть полной картины того,
что получила Саввина обитель. В княжеском
документе просто не перечислены все
многочисленные и многообразные повинности тогдашних
россиян. Князь „отказывает в обитель" все поборы
и обязанности, „которые упомнил" и перечислил,
и, верно наскучив длинным перечнем, передает
монастырю „иные которые пошлины, которых не
упомнил".
Важным правом средневековых монастырей был
их юридический иммунитет. „А случится суд
городским людям или волостным с монастырскими
людьми, — гласит текст царского указа, — то прав ли
будет или виноват монастырский человек,
наместники мои и тиуны в монастырского человека не
вступаются, ни в правого, ни в виноватого, а ведает
игумен в правде и в вине своего человека сам". Так
монастырь становился своеобразным государством
внутри государства и права монастырского
начальства оказывались в чем-то даже большими, чем
права светской власти: тяжбу, спор монастырских
людей с мирскими решал только церковный суд.
Мудрено ли, что, как правило, и судил он в свою
пользу?
Нужно ли говорить, что никакие повинности с
населения не снимались, что все тяготы оставались
прежними, с тою лишь разницей, что шло все это
в монастыри? Понятно, что монастырь Саввин
„менее чем в восемь лет выдвинулся из дремучего леса
в благолепном виде и сияющими главами и
крестами, которые издали были заметны
путешественнику".
Пожалования и привилегии получал почти
каждый монастырь. Многие хранили десятки, а такие,
как, например, Троице-Сергиева лавра, сотни
жалованных грамот.
Но при всем богатстве и размахе строительства,
при безраздельном господстве религиозной
идеологии авторитет монашества падал. Слишком много
закладных на землю, долговых расписок скопилось
в монастырских сундуках-укладках, слишком
алчны были помыслы молящихся за мир. В глазах не
тихий свет благостной доброты — огонек жадности:
стяжатели бога не боятся. Только темные ризы
вместо заморских сукон и ярких бархатов отличали
25
владетелей церковных от светских феодалов. Но
издавна известно: платье монахом не делает...
С развитием всего народного хозяйства, рынка,
товарно-денежных отношений и с укреплением
собственной экономической базы монастыри начали
сдавать земли в аренду, получая доход натурой или
деньгами, и, наоборот, ссужали деньги,
предварительно обеспечив себя закладной на какое-либо
имущество. Чаще всего опять-таки на села и земли,
которые не так-то легко было получить обратно
их прежнему владельцу... Давали монастыри ссуды
под проценты, вели торговлю, организовывали свои
или прибирали к рукам чужие промыслы, —
словом, с кипучей энергией занимались делами
мирскими.
Такой была власть средневекового монастыря,
так скапливались монастырские богатства. Но в
некоторых отношениях это иноческое государство
в государстве было зависимо от власти более, чем
феодальное княжество. Не от светской, „мирской",
а от церковной власти. Монастырь был в ведении
того архиерея, в епархии которого он находился.
Конечно, в феодальном праве все было не столь
прямолинейным, зависимости существовали разные,
и порой очень запутанные, но, так или иначе, над
монастырем стояла церковная власть, которой он
был подчинен административно и дисциплинарно и
был обязан отдавать ей часть своих доходов. В
конечном счете все богатства практически оставались
в церкви и даже в руках монашества, ибо высшая
церковная власть — всегда из черного духовенства.
Кирилло-Белозерский монастырь „казну дает
в рост", настоятель Чердынского монастыря
монастырскую землю „воровством распродал",
начальствующие Пермского Вознесенского — „забогатели,
а скопили крадучи...". Поток жалоб-челобитных,
идущих чаще всего от рядовой братии, нескончаем.
Он растет от века к веку, и едва ли не самое
большое их количество приходится на XVI век. Били
челом митрополитам и воеводам, патриарху и
самому царю. Инок Вассиан (в миру князь Василий
Патрикеев) хорошо знал это: „Мы, войдя в
монастырь, не перестаем всячески приобретать себе
чужие села и имения, то бесстыдно выпрашивая
у вельмож лестью, то подкупая; вместо того, чтобы
безмолвствовать и питаться своими рукоделиями,
26
беспрестанно разъезжаем по городам и заглядываем
в руки богатых, лаская их всячески и угождая,
чтобы как-нибудь получить от них село, деревнишку
или деньги, или какую-нибудь животину..." Речь Вас-
сиана образна, но при зтом протокольно точна,
полна примеров „неправедных", то есть превышающих
установленные, поборов с крестьян. Это прежде
всего отдача денег в рост, но не просто под проценты
с выданной ссуды, а под проценты сложные, когда
„лихва на лихву нарастает". Вассиан указывает на
конфискацию крестьянской земли и имущества:
„прогоняют с зем/ш", „доводят до конечного
разорения", „забыв сйой обет, уже в седой старости
поднимаются из своих обителей и толкаются в
мирских судилищах, судясь со своими соседями о
границах земель и сел". Все это подлинная правда
эпохи. Она, как мы увидим далее, не случайно
вырвалась из уст опального князя, насильственно
постриженного в монахи.
Гневные стрелы его обличений направлены в
кого-то конкретного. В кого? Можно лишь гадать.
Со временем реальную жизнь иночества церковь
превратила в благостное житие. Это годилось для
потомков: современники такого жития не признали
бы. Эпоха полна документов-обличений, жалоб,
челобитных, из которых видно, кто в мире
монастыря был действительно сиротой.
Монастыри в XVI веке обличают и
монашествующие, и церковные верхи, и сам царь. Не
монашеской жизни искали вы, бросает Иван IV пострижен-
никам Кирилло-Белозерского монастыря, князю
Шереметеву и другим монахам из бояр, вы и
постриг приняли „из боярства", из спеси, из
властолюбия. Какие уж тут монахи: „Шереметев в келье
сидит, что царь", а за монастырем у него „двор на
дворе", да амбары, а там „запасы годовые всякие".
При основателе монастыря такого „устава" не было,
упрекает Грозный. И дальше иронизирует: „Над
Воротынским вы целую церковь поставили, а над
Кириллом-чудотворцем нет такой, он за церковью
этой похоронен"... Сарказм царя усиливается: даже
на Страшном суде, полагает он, придется
предпочесть Шереметева и Воротынского Кириллу:
Воротынского — за роскошную церковь, а Шереметева —
за „новый устав" монастыря, который „их
Кириллова крепче".
27
Впрочем, у Ивана IV отношения с
монашествующими были сложные. Он то гневно уличал их в
„неиноческом" быте, в стяжаниях безмерных, то сам
надевал скуфью и подрясник, сетуя на свое царство
и свое царствование, на грехи мира и свои великие
прегрешения, страстно молился, то вновь
„перебирал людишек" жесточайшими казнями.
ОТСТУПЛЕНИЕ ОТ ТЕМЫ
Шестой лик ангельский
После смерти, утверждает православие, праведный
монах становится ангелом. В иерархии загробного
мира насчитывается девять ангельских ликов.
Монахи — это шестой лик, лик Господств. „Праведные
цари, князья" и т.д. стоят гораздо ниже иноков —
они всего третий лик.
В силу этих представлений, примерно с середины
XIII и по конец XVII века русские князья, а затем
и цари почти обязательно принимали схиму. Постриг
совершался при самой кончине. Живые князья не
спешили отречься от мира и до последних минут,
в надежде, что бог, может быть, и еще потерпит на
земле грешника, ангельского лика не принимали. Да
и расчет подсказывал, что позднее пострижение
сводит на нет возможность согрешить в новом
иноческом образе. Так перед престолом всевышнего
оказывалась ангельски чистая душа новопострижен-
ного инока. Случалось, что монашеским платьем
накрывали уже бездыханное тело. Так, покрыли
схимой Василия III, в последнее мгновение
нареченного Варлаамом, иноком Троице-Сергиевой
обители.
Монастыри (а для московских князей — Троице-
Сергиев в первую очередь) стремились таким
обрядом повысить свою значимость, а что касается не
политических уже, а чисто мирских стяжаний, то
щедрые даяния на помин душ новопреставленных
иноков разумелись само собой, оговаривались в
духовных грамотах, и монастырь получал их сполна.
Судьба вдов здесь почти не знала исключений:
постриг в самое короткое время. Конечно, тогда или
создавался специальный монастырь или же из
существующих выбирался такой, где был обеспечен
28
привычный уровень жизненных благ, где невольную
инокиню „всяким покоем покоили до исхода
души"... Традиция же уходила корнями даже не
в юридические нормы Византии, принесенные
монашеством и приспособленные к условиям
феодализма на Руси, а в седую дохристианскую старину,
когда на могиле повелителя убивали его жен, коней
и рабов.
Постриг в монахи как способ надежного
устранения политического противника был по достоинству
оценен еще в период удельной раздробленности
древнерусского государства. Примеров тому
множество. Князь Роман Мстиславович, „буй Романе",
упомянутый в „Слове о полку Игореве", в усобной
борьбе сумел разом постричь своего тестя (а тот
был великим князем Киевским), тещу и жену.
Известный по Печерскому Патерику преподобный
Святоша Давыдович, князь, тоже вряд ли ушел бы в
иноки по своей воле. Братья, правда, позднее
настойчиво пытались вернуть его „в мир" — иночество еще
не набрало силу, и князья, с детства воспитанные
в походах, князья-воины, с понятным
пренебрежением относились к черному воинству в рясах. Но
Святоша остался в монахах. И, вероятно, по-своему
был прав. Братья его сложили головы в удельной
борьбе, Святоша же возделывал, небольшой садик
в стенах монастыря, собрал неплохую библиотеку
и умер своей смертью.
Иван IV постригал бояр, противившихся его
власти, целыми семействами рассылал по дальним
монастырям и так вычеркивал их не только из
политической жизни государства — опальные недолго
выдерживали условия строгого затвора монастырей.
В средневековом прошлом трудно различить, где
власть церковная, а где — светская. В религиозном
сознании княжеский шлем или шапка Мономаха и
клобук высокого церковного иерарха порою
неразличимы. Феодальная церковь и феодальное
государство имели единую суть. Это сведения
общеизвестные, но в сложной мозаике фактов прошлого ряд,
казалось бы, частных и не очень значимых фактов
складывается в довольно впечатляющую картину
церковно-монархического единства.
Иван IV не собирался умирать, но всерьез
подумывал принять постриг в Кирилло-Белозерском
монастыре. Монахом он не стал, но и намерение его
29
вряд ли возможно объяснить только изломанной
психикой царя. Хотя было и это. Кровавые
расправы, казни Грозного приводили его к суровому и,
подчеркнем, искреннему покаянию так же, как это
покаяние подталкивало к новым расправам над
„людишками", над „холопами". Это вещи,
сочетаемые легко и прочно. Главное в другом — в его
самодержавии, которое в XVI веке становилось
вполне безраздельным, и если Иван еще оправдывал
его причинами „земными" — правом наследования
и т. д., — то для него это уже и власть от бога,
которая „превыше священства".
Отсюда и внешний облик опричнины.
Предоставим слово В. О. Ключевскому: „...царь устроил
дикую пародию монастыря, подобрал три сотни самых
отъявленных опричников, которые составили
братию, сам принял звание игумена, а князя Аф.
Вяземского облек в сан келаря, покрыл этих штатных
разбойников монашескими скуфейками, черными
рясами, сочинил для них общежительный устав,
сам с царевичами по утрам лазил на колокольню
звонить к заутрене, в церкви читал и пел на клиросе
и клал такие земные поклоны, что со лба его не
сходили кровоподтеки. После обедни за трапезой,
когда веселая братия объедалась и опивалась, царь за
аналоем читал поучения отцов церкви о посте и
воздержании, потом одиноко обедал сам, после обеда
любил говорить о законе, дремал или шел в
застенок присутствовать при пытке..."
Не от этих ли пыток непонятный гнев Ивана IV
на гробницу Воротынского в Кирилловом
монастыре? Князя пытали, жгли на угольях, а царь
знаменитым посохом своим подгребал
рассыпавшиеся головни. Воротынского сослали на постриг,
но он умер по дороге. Умер от пытки. Понятно,
что опальные бояре соорудили над ним
роскошную усыпальницу. Стены ее расписаны на сюжеты
страшных мучений Апокалипсиса. Иноки-бояре
(или бояре-иноки?) умели воткнуть терновый шип,
хоть и в царский венец, хоть и самому Грозному.
Конечно же „дикая пародия монастыря".
Идеализируя церковное прошлое, современные церковные
историки осуждают Грозного, выдвигают на первый
план фигуру митрополита Филиппа, осуждавшего
жестокости царя, ходатайствовавшего за опальных
бояр. „Только молчи, одно тебе говорю, молчи,
30
отец святой! — гневно возразил ему Иван в
Успенском соборе, — ближние мои встали на меня,
какое тебе дело до царских советов?!" Филипп
был изгнан, заключен в Тверской Отрочь
монастырь и вскоре задушен там Малютой Скуратовым.
Все это так, но можно ли забыть, что
митрополит Филипп — боярин Колычев, идейный глава
боярской оппозиции... И другое: случайно ли в борьбе
с реакционным боярством, в жестокости этой
борьбы Иван IV. оформляет опричнину в некий
„дикий монастырь", подобие военно-монашеского
ордена? Именно монастырь как организационная
форма оказывается наиболее подходящим для
создания опричных отрядов, пусть как „пародия",
но все же организация эта носила религиозный,
монастырский характер.
Несколько странных и страшных фигур
возникает в начале XVII „бунташного" века. На престоле
оказывается самозванец, бывший инок Чудова
монастыря Гришка Отрепьев. Он начал свою
головокружительную и скверную карьеру в Чудовом,
где для самого патриарха сочинял каноны святым,
после того как спасаясь от виселицы, ибо „заворо-
вался", вынужден был принять где-то постриг.
Затем бывший „Юшка" бежал и из Чудова, принял
у поляков католичество, а кончил, как и следовало,
позорной смертью. „Известный всем и знаемый вор,
чернец, бывший сын боярский, по реклу Отрепьев..."
был убит, тело его сожгли, пепел смешали с
порохом и, оборотив дуло пушки на запад, выпалили
пепел туда, откуда самозванец явился.
Стал править боярский царь Василий Шуйский.
Его власть кончилась в том же Чудове, где начинал
свою карьеру юный негодяй Гришка. Свергнутый
царь пострига не хотел. Он сопротивлялся с силою,
неожиданной в сухоньком и подслеповатом
старичке, яростно рвался. Князья втроем еле его
удерживали около аналоя. Обетов Василий, разумеется,
не давал. Слова отречения от мира произносил за
него князь Тюфякин. Патриарх Гермоген не признал
было этого пострижения, заметив, что монахом
следует считать Тюфякина, но этим замечанием дело
и кончилось — в дальний монастырь сослали
Шуйского и накрепко заперли в тесной келье.
Вместо Михаила Романова престол, по всем
расчетам, должен был занять его отец, но Федора
31
Романова постригли заранее. В перипетиях
Смутного времени Федор становится иноком Филаретом,
и не без помощи Лжедмитрия-Гришки
Филарет-Федор возведен в митрополиты. При втором
самозванце Филарет становится патриархом.
Фактически он и царствовал, а не венчанный на престол
его сын. Крутой и властный, Филарет не считался
с Михаилом, и этот период монархии оказался тем
временем, когда светская и духовная иерархии
слились воедино: патриарх Филарет до самой
смерти своей именовался „вторым великим
государем", а на деле являлся первым.
Нужно ли говорить, что и в таких поворотах
судеб жен тех, кто волею или неволею
становились иноками, тоже постригали. Здесь монастырь
использовали при всякой нужде в устранении „от
мирского". Грозный расторг свой четвертый брак
насильственным пострижением жены Анны, в
монашестве скончалась и Мария, седьмая жена
царя, что по вопиющей „беззаконности" брака
было лишь весьма одобрено церковью. Жена Петра I
пострижена по его приказу, монастырь устранил
от дел государства и его сестру, правительницу
Софью...
В Ивановском монастыре в условиях
комфортабельного, но совершенно строгого затвора
таинственно содержалась безвестная инокиня Досифея.
Кто она — доподлинно неизвестно, но все факты
сводятся к тому, что Досифея — дочь Елизаветы
Петровны. Монастырь устранил возможную
претендентку на престол. Петербургский двор имел такие
тайны и умел их хранить. В монахини уходили и
представительницы последних Романовых. В конце
прошлого — начале нынешнего века из этого тайны
не делали: наоборот, подчеркивали благочестие
царствующего дома, демонстрировали союз церкви
и самодержавия, а монастыри пропагандировали
такой „отказ от мира".
В дворянской империи XVIII века сочетание
церковности и государственности приобретает и далеко
не православные формы. Петр III указал было
петербургскому „первенствующему архиерею"
Дмитрию Сеченову обрить бороды духовенству и
заменить форменную одежду, взяв за образец немецких
пасторов. Дмитрий не рискнул приступить к
выполнению указа. Петра вскоре свергли, но эпизод этот,
32
имеющий вид какого-то исторического анекдота,
более серьезен, чем кажется. Речь шла о том, что
средневековый институт церкви должен был
приспособиться к потребностям нового
господствующего класса, служить ему в соответствии с задачами
времени. Задача эта была поставлена монархией
через несколько лет, и духовенство выполнило ее
на совесть — интересы церкви и государства отнюдь
не расходились, формы церковного служения
дворянской империи сохранялись прежними, как,
собственно, сохранилось и существо этого союза
феодальных сил.
Несколько позже Павел I принимает гроссмей-
стерство над католическим монашеским орденом.
Иоанниты, резиденция которых была на Мальте,
нуждались в покровительстве в связи с грозными
событиями Великой французской революции, а
Павел, включившись в европейскую политику,
вступает в войну с революционной Францией. Ры-
цари-иоанниты обосновываются в Петербурге,
получают значительные средства, воронцовский
дворец, где появляется мальтийская капелла иоанни-
тов, в Гатчине строится „рыцарский замок",
Приорат, нечто вроде монастыря, для нескольких
прибывших с Мальты иоаннитов. Кроме политических
расчетов Павла, разумеется, занимала и игра в
рыцари, как его отца — игра в солдатики. Но в эту игру
Павел втянул и петербургского митрополита,
пожаловав православному иерарху звание кавалера
ордена и, что хуже, заставив носить на мантии знак
еретического ордена — белый мальтийский крест,
составленный из четырех наконечников стрел.
Знаки ордена раздавались Павлом широко, в армии
многие офицеры стали кавалерами ордена
иоаннитов, появился и солдатский знак ордена —
латунный крестик. В числе первых кавалеров был и
А. В. Суворов. Впрочем, орден разваливался, его
европейские владения секуляризировались
правительствами. Мальта была захвачена англичанами...
Со смертью Павла мальтийский крест был убран из
государственного герба, куда его включил первый
и последний русский гроссмейстер ордена.
Пожалованные ордену имения вернули в казну, и только
в игрушечном гатчинском замке доживали век
престарелые рыцари ордена, за восемь веков до того
обосновавшегося в Иерусалиме...
3 Г. Прошин
33
Долгое время жили темные рассказы о том, что
Александр I не умер в Таганроге, а ушел в
отшельники и жил в Сибири под именем старца Федора
Кузьмича. Какой-то чтимый религиозными
фанатиками Кузьмич действительно существовал, но
к Александру легенда отношения не имеет. Мы
вспоминаем ее только потому, что само
возникновение такой легенды — еще один штрих, рисующий
нам политическое и бытовое единение, союз
„земной и небесной иерархий". Не случайно и шестой
ангельский лик называется „Господства".
Гневное послание Ивана в монастырь осталось
только памятником публицистики, свидетельством
быта и нравов феодальных обителей. „Оргвыводов"
на сей раз не последовало: царь махнул рукой:
„Что я им, отец духовный? или начальник? Как себе
хотят, так и живут!.."
Резкой критике церковные стяжания
подверглись на церковном соборе 1551 года. Сборник
постановлений его — Стоглав способствовал
значительному укреплению церковной организации. В
частности, в „Царских вопросах и соборных ответах"
собор всерьез высказался по монастырской проблеме.
В монахи, констатирует Стоглав, „стригутся ради
покоя телесного, чтобы всегда бражничать и ездить
по селам для прохлады (то есть для удовольствия,
развлечений и забав. — Г. П.). Чернецы и черницы
по миру волочатся и живут в миру, не зная, что
такое монастырь. Старец поставит в лесу келью,
или церковь срубит, да идет по миру с иконой,
просить на сооружение, а у царя земли и руги просит...
архимандриты и игумены добиваются сана
деньгами, лишь бы получить власть; службы же
церковной не знают и покоят себя в келье с гостями; да
племянников своих содержат в монастыре и
удовлетворяют их всем монастырским, а монастыри
опустошают и вкладчиков изгоняют, так что братия
обеднела, страдает голодом и жаждою и томится
всякими нуждами; потому что богатство все
перешло к властям, а они его истощили вместе со
своими родственниками".
Кое-что в этом тексте знакомо по
многочисленным документам эпохи: „племянники", стремление
к власти... Факты прямого мошенничества, когда
34
собирали средства на
несуществующую обитель,
проходят едва ли не через
всю историю церкви.
Явление было массовым.
Один из самозваных
игуменов дошел до самого
Ивана IV... „Старец на
монастырь просит у меня, —
заметил на соборе царь, —
а что соберет — пропьет".
Трудно представить себе,
в какую изощренную
форму вылился гнев
Грозного, как окончил дни
незадачливый старец, но
одним сборщиком
милостыни наверняка стало
меньше...
Если задуматься над
строками Стоглава,
станет очевидным, что
собор обличал не монастыри
и монашество, а, как
говорится, отдельных его
недостойных
представителей. Государство
нуждалось в монастырях, и то,
что в распоряжении царя
и собора было множество
неприглядных фактов,
свидетельствовавших
едва ли не против всей
массы монашества, не
казалось существенным ни
правительству, ни
церковной власти, ни самому
монашеству. Иночество
пытались „исправить"
дисциплинарно и вроде бы
Средневековая живопись
на всегда звала к молитве.
Она выполняла и роль
злободневной публицистики.
Сюжет этого иконного
по внешним признакам
изображения, строго говоря,
не иконописный.
Здесь не на что молиться:
Христос стоит в нищенских
одеждах, а монахи — те, что
имение „скопили крадучи ", —
не пускают его и на порог
своего „забогатевшего"
монастыря.
Картина уникальна,
она показывает, что
древнерусское искусство
было острейшим орудием
борьбы общественных сил
(в данном случае нестяжателей
против осифлян),
а единичность подобных
иконных сюжетов —
свидетельство того, что они
нещадно уничтожались.
не понимали или не
хотели понять, что монастыри сложились в
единственно возможную систему и что система эта — вредная.
Государство, однако, уже опасалось монашества
как той силы, которая вместе с боярством
становилась тормозом общественного развития, противилась
35
прежде всего его политике централизации. Но
монастырь был и насущно необходим феодальной
системе в целом: он обеспечивал ее церковное
идеологическое руководство, воспитывал, массой
монашествующих обеспечивал всю ту широкую
деятельность монастырей, которая ставила целью
оправдание и защиту существующих социальных
отношений, удержание в покорности народных масс,
деятельность, в которой равно нуждались и
феодальное государство и феодальная церковь.
То, что политика эта — взаимное укрепление
рабства духовного и социального, идейно
подкрепляемое ссылками на церковные авторитеты прошлого и
настоящего, преследованием всякого инакомыслия
и другими весьма решительными мерами, ведет
в тупик, замедляет не только общественное, но и
экономическое развитие государства, — этого
феодальная система не могла, да и не хотела видеть.
Обращение к духовным авторитетам прошлого
казалось надежным спасением от необходимости
отвечать на запросы дня.
Контроль культуры, общественной и личной
жизни, религиозные идеалы, внедряемые церковью,
казались надежными, во всяком случае, они
освящались авторитетом святых отцов. Все это не за
страх, а за совесть обеспечивалось церковью, прежде
всего монашеством, специфическими средствами
монастырей. Зная это, иноки не слишком опасались
за свою привольную жизнь и, внешне соглашаясь
с обвинениями, в который уже раз обещали
„исправиться".
Этого иноческого приволья хватило еще на века
русской истории, но какими же трудными, политыми
потом и кровью народа были ее страницы, какими
народными тяготами оплачены были и сила
государства, и его богатство, и роскошь святых обителей,
и величественная красота монастырских ансамблей!
Позднее церковь создаст елейную картину
прошлого: благочестивые жертвователи на храмы,
заботившиеся о спасении своей души и пекущиеся
о подвластных им селянах. Благочестивые селяне
старательно гнут спину в монастырском храме или
на монастырской пашне. Завершает картину фигура
инока, благочестивого уже до полной святости...
Правда истории была так же далека от этой
идиллии, как иконный святой от своего прототипа.
36
Иногда говорят, что современная церковь в
проповеди религиозных идеалов спекулирует на
фактах прошлого. Спекулировать на фактах трудно.
Даже вовсе нельзя на них спекулировать. Церковь
делает это не на фактах, а на религиозной их
интерпретации, на освещении их тусклым и
неверным светом церковной лампады. Религиозная
идиллия прошлого — одна из живучих церковных
легенд.
Светские и церковные феодалы совместно
противостояли народу, но сам правящий класс делился
на группы, ожесточенно боровшиеся между собой.
В XVI—XVII веках централизованное государство
начинает все больше и больше опираться на новую
социально-политическую силу — дворянство,
противопоставляя его старому удельному боярству.
Дворяне поначалу своей земли не имели. Они
получали поместья от государства. Так, в 1550-е годы
вокруг Москвы разом была „испомещена" тысяча
семей „детей боярских". Эта „избранная тысяча",
впоследствии записанная в особую „Тысячную
книгу", и составила основу московских дворянских
родов. Эта тысяча прежде всего нуждалась в земле.
И эта тысяча, как и многие другие тысячи позднее,
получила и землю и крестьян на ней.
Но дворянину поместье давалось не за молитвы и
не за помин души. Он обязывался снаряжать
определенное количество ратников, вообще нести службу
государеву. С прекращением службы все полагалось
возвратить в казну. Однако поместья быстро
становились наследственными. В дворянских семьях
подрастали недоросли, которых определяли в
государеву службу, и поместье переходило от отца к сыну.
Если род прекращался без сыновей, вставал вопрос,
чем обеспечить вдову, — поместье также
становилось наследственным.
Чем больше власть опирается на дворянство, чем
больше дворянским становится государство, тем
больше нужно земель для „испомещения" этого
нового сословия, больше крестьян, которых прочнее
нужно привязать к этой земле: закрепостить.
Свободных земель в государстве не так уж много. И
особенно дороги рабочие руки. И то и другое, как
мы знаем, изобильно имели монастыри. Так
интересы набирающего силу дворянства столкнулись
впрямую, лоб в лоб, с интересами монастырей.
37
Новгородские дворяне, например, пишут
патриарху в Москву, что захваченные ими в ходе военных
действий в Литве пленники, которых они по
обычаям того времени превратили в крепостных, сбегают
от них на строительство Иверского монастыря.
Получить „своих" пленников обратно дворяне не
могут: монастырь немедленно постригает беглецов
в монахи. Власть оказывается бессильной —
юридическое право у церкви, а монахов в мир не
возвращают.
Когда монастыри нуждались в рабочей силе, они
умели действовать не только грубым насилием. „За
монастырь" крепостили себя и вольные. В
превратностях военных лихолетий монастырь надежно за-"
щищал своих подданных, в голодные годы кормил,
при падеже скотины давал коня или корову...
Бывали и другие льготы. Монастырь умел сделать жизнь
тех, в ком он нуждался, более легкой, чем
положение крепостных у светских феодалов. Это
относилось не только к братии, но и к послушникам-„труд-
никам" монастыря и к его крепостным.
„Братолюбия" здесь было мало — политику определял
трезвый расчет. Как только нужда в ослаблениях
повинностей проходила, духовный феодал
превращался в крепостника не менее крутого, чем
светский.
Льготы иверских строителей и возмутили
новгородских воинственных дворян. Они пишут, что если
патриарх не решит дела в их пользу, то они пойдут
на обитель военным походом: „Иверских старцев
прирубим и монастырь весь разорим". Требование
аргументировано. Дворяне пишут, что они на
литовской границе, обороняя государство, „кровь свою
проливали, а старцы живут, никакую службу
государю не помогают".
Осознание бесполезности монашества, нарастая
из века в век, проходит через всю историю церкви.
Боярство тоже обратило свои взоры на
монастырские имущества. До сих пор мы говорили о боярах,
князьях как сословии, способствовавшем созданию
монастырской собственности. В Древней Руси
монастырь складывается как княжеский. У большинства
видных родов был свой монастырь. Он и родовая
усыпальница, и место, куда можно определить
некоторых членов семьи еще при жизни. Когда
дворянство начинает нуждаться в землях, его взор об-
38
ращается не только к монастырю, но и к изобильной
боярской вотчине. Родовая вотчинная старая знать
сталкивается со служилой поместной новой знатью.
Боярская верхушка в опасении за целость своих
уделов также приходит к выводу, что монастыри
распоряжаются слишком уж большими владениями.
И что владения эти отнюдь не соответствуют обетам
иночества. Обозначенная нами расстановка сил
конечно же только схема, в которую невозможно
уложить все разнообразие жизни, но в главном эта
схема верна. Интересы старого боярства, нового
дворянства и высшей администрации (те же бояре по
преимуществу) совпадали в одном — в том, что
следует раздать в поместья именно имущество,
принадлежащее самому богу.
На рубеже XVI века практически завершилось
начатое Калитой объединение русских княжеств.
Воссоединение громадных земель Господина
Великого Новгорода и его торговых путей с
Московской Русью превратило „Московию" в крупнейшую
европейскую державу. Маркс в „Секретной
дипломатии XVIII века" писал об изумлении Европы
внезапным становлением государства, которое
прежде едва замечали меж Литвой и татарами.
Московское великое княжество нуждалось теперь не
только в централизованном управлении, единстве „меры
и веса", но и в единстве идеологическом, единстве
„веры".
Именно на эту эпоху приходится строительство
храмов и монастырских ансамблей, прославивших
русское зодчество. Это замечательные соборы
Московского Кремля — сердца России: Успенский
(1475-1479 гг.), Благовещенский (1484-1489 гг.),
Архангельский (1505—1508 гг.). На Руси работают
итальянские мастера Фиораванти и Алевиз, творит
великий художник Дионисий...
Самодержавие ищет опору в древних легендах и
возводит царскую власть к наследству всемирной
Римской империи. Знаменитая шапка Мономаха
вместе с римско-константинопольским двуглавым
орлом бесславно скончавшейся Византии
становятся государственными знаками Москвы. Все это
санкционирует, укрепляет и утверждает церковь.
Взоры государства останавливаются на
церковных богатствах еще в середине XV века.
Присоединив к Москве Новгород, правительство Ивана III
39
лишает экономического могущества не только
боярство Новгорода, но и новгородских
архиепископов — „владык". Иван III приказывает „переписать
на государя" десять владычных монастырей
целиком и половину доходов еще шести крупных
монастырей. К концу века большая часть новгородских
монастырей „отписана" на государя. А на рубеже
следующего, XVI века, в 1499 году, церковные
и монастырские земли Новгорода розданы в
поместья московскому дворянству. Церковная казна
переведена в Москву. Владыка новгородский Фео-
фил заточен в монастырь.
Игумен из Волока Ламского
То, что легко было проделать с монастырями
Новгорода, „отписав на государя" земли после военного
похода, представлялось почти невозможным на
Москве. Но сделать это было необходимо в
интересах государства, и, как казалось, путь для этого
имелся.
Сама церковь не была однородна. Монастырские
„стяжания", крепостничество и роскошь верхов
вызывали глухой протест и рядовой братии, и той
части монашества, которая считала, что именно
монастырь должен указать и осуществить на земле пути
христианского идеала. В те времена и прогрессивное
и реакционное равно облачалось в темные иноческие
мантии.
В монашестве возникают два течения, оказавшие
влияние и на последующую историю церкви и на
развитие русской общественной мысли. Это
нестяжатели и осифляне. Нестяжатели, как показывает
название, были противниками накопления
монастырских богатств, отрицали и считали греховной
монастырскую собственность, полагая, что спасение
души — единственная цель, к которой должен
стремиться тот, кто принял на себя монашеский обет.
Осифляне стояли за безграничное накопление
богатств, расширение монастырских прав,
землевладения, владения крепостными. Они были, по
церковной терминологии, „стяжателями". Но название
это — совершенно точное — звучало для них весьма
обидно, и тогда стали они называть себя осифляна-
ми (производное от имени их идеолога Иосифа,
40
в старом произношении Осифа, игумена Волоцкого
монастыря).
Иосиф Волоцкий (в миру Иван Санин, ок. 1439—
1515 гг.) из богатых бояр, служивших удельным
князьям Волока на Ламе — Волоколамска, — яркая
фигура русской истории.
Боярин, видимо, не собирался делать духовную
карьеру, так как постриг принял в Боровском
монастыре по тем временам весьма поздно: ему было
около 30 лет. Там он монашествует почти 10 лет,
проходит все ступени послушания, упорно и
настойчиво готовит себя к высшей административной
деятельности. Заметим, что и его младший брат
Вассиан тоже пошел в монахи и сделал успешную
карьеру, — он, достигнув сана архимандрита очень
значимого столичного Симонова монастыря, затем
стал вторым лицом церковной иерархии с титулом
первого после митрополита архиерея: Василий III
поставил его на архиепископскую кафедру
Ярославля. Третий церковный деятель из той же семьи
и тоже Вассиан (Топорков), племянник двух
первых, сделал карьеру менее видную, но, пожалуй,
более зловещую. Вероятно, он при Иване IV
способствовал отстранению от дел Избранной рады.
Андрей Курбский знал, что „Васьян" Ивану Грозному
„шептал в ухо не держати мудрейшие рады при
себе". Этот „Васьян" стал игуменом подмосковного
Песношского монастыря. Он был жив еще во
времена опричнины.
Для полноты картины следует сказать, что и
родители Иосифа приняли постриг в Волоколамске,
в монастыре св. Власия. Можно, конечно,
предположить особое благочестие семейства Саниных, как
это и делается в житии Иосифа Волоцкого, но
вероятнее другое. В эту сложную пору волоколамский
князь Борис резко конфликтовал с братом своим
великим князем. Москва видела грядущее
поражение удела (хотя до этого было не близко,
самостоятельность Волоколамск утратил десятилетия
спустя). В Волоколамске тоже ясно ощущали мощь
Москвы и смутно — обреченность удельных
порядков. Санины осознали это отчетливо. Все же отойти
„под руку" великого князя они не рисковали:
силен, славен и богат был Борис, князь
Волоколамский. Отход виделся делом неверным и опасным.
Продвижение в церковной иерархии оставалось
41
надежным и спокойным путем для сохранения
привычного образа жизни, карьеры, прочно слитой
с почетом, властью и богатством.
Честолюбивый, способный и талантливый Иосиф
избирает этот путь. Он пришел в Боровский
монастырь (еще при жизни его основателя, „грозного
старца" св. Пафнутия) в 1469 г. Начал с самых
трудных послушаний: трудился в пекарне. Нужно
было вручную молоть зерно, замешивать тесто,
а хлеба монастырь пек много — и на братию, и на
работников, и на богомольцев, которых допускали
в монастырскую трапезную да еще давали ковригу
на дорогу. Иосиф исполнял все послушания
усердно, проявил себя хорошим организатором, а когда
Пафнутий поставил его руководить монастырским
хозяйством, распоряжался твердо и толково. Даже
позднее, уже игуменом, Иосиф, подавая пример
братии, продолжал выполнять трудные послушания.
Очень начитанный, он сверх того обладал
прекрасной памятью и, цитируя целыми страницами
богословские трактаты, редко сверялся с книгой,
держал текст „на край языка". Вдобавок имел вид
русского доброго молодца, охотно и как бы
играючи выполнял самую тяжелую работу.
Сильный телом и духом Иосиф по смерти
Пафнутия стал игуменом. Это было его желанием и
волей князя. Воротясь из Москвы после возведения
в сан, новый игумен сразу же дал братии
почувствовать свою руку. Иосиф решил ввести строгое
общежитие, суровую дисциплину, обязательный для всех
труд, потребовать полного выполнения обетов.
Таким монастырь Иосифа не знал. Иосиф тоже не знал
своего монастыря: „братия возроптала". Борьба
с бездельниками шла около года. Поддерживали
Иосифа всего четверо. Из них двое — его родные
братья: уже упоминавшийся Вассиан и младший —
Акакий. Сопротивление монахов росло, и стало
ясно, что игуменство не получилось. Иосиф
оставил в обители за себя одного из старцев, а сам
решил обойти те монастыри, о которых слышал,
что в них существуют и выполняются строгие
уставы. Он сам назначил себя в послушание старцу
Герасиму и вместе с ним отправился в путь. За год
они обошли девять монастырей. Иосиф вчитывался
в уставы, наблюдал за тем, как они
осуществляются, интересовался хозяйством и богослужением,
42
Троице-Сергиева лавра с самых первых лет своего существования
стала одним из центров объединительной политики московских
князей и монастырского строительства на Руси.
Только при жизни ее основателя преп. Сергия Радонежского им
и его учениками было основано 30 новых монастырей.
запоминал и сопоставлял, учился тому, как
монастырская власть организует дело, как и чем
добиваются игумены послушания братии. Особенно
понравилось Иосифу на Белозере в Кирилловом,
где еще сохранялся строгий устав его основателя.
Возвращается Иосиф с твердой мыслью о новом
монастыре. Он окончательно оставил боровское
игуменство и обратился за поддержкой к Борису.
Теперь Иосиф хорошо знал, что такое монастырь,
знал, каким он хочет его видеть, и знал, как достичь
этого. Бывший боровский настоятель разработал
программу. Ее цель — поднять роль монастырей,
повысить их идейное влияние, укрепить
нравственный авторитет монашества, избавив его от
множества пороков, о которых читатель уже знает, а
Иосиф знал куда как больше...
Князю программа, видимо, понравилась, хотя
прямых свидетельств этого собеседники
постарались не оставить. Но из последующих действий
князя, из многолетней деятельности Иосифа видно,
что предлагал он Борису создание идейной базы
для борьбы с Москвой, которую издавна вел
Волоколамский удел.
43
Новый монастырь, идеальный монастырь, должен
был стать противовесом бездеятельному,
непригодному для решения государственных задач
московскому монашеству. В известном смысле Иосиф при
всем его уважении к Сергию Радонежскому
противостоит промосковской позиции Сергиевой лавры.
Иосиф намеревается создать монастырь —
политический, идейный и нравственный центр феодальной
Руси, образец для русского монашества, русской
церкви и общества. А поскольку эта роль
признавалась за Троице-Сергиевой лаврой, то новый
монастырь должен был во всем превзойти ее.
Вот чем соблазнял князя Бориса набравшийся
горького жизненного опыта немолодой уже Иосиф.
Князь был согласен. Он знал своего собеседника
еще Иваном Саниным, затем иноком Иосифом, но
теперь неожиданно увидел в нем государственно
мыслящего деятеля. В оценке Иосифа Борис не
ошибся. Ошибся он, как мы увидим, в самом
Иосифе.
Монастырь был основан в 1479 году, и сразу же
к новой обители приписываются село за селом
с передачей всех повинностей монастырю. Иосиф
проявил себя и здесь как хозяин дельный и
дальновидный. Крестьянам в ведении монастыря жилось
легче, чем прежде. Игумен следил, чтобы в их
хозяйствах была в достаточном количестве скотина
(рабочие лошади, коровы). Иногда скот покупался на
монастырские деньги. Благотворительности здесь
не было. Монастырская скотина отдавалась мужику,
но сам-то мужик был монастырским... „Как
обнищавший пахарь даст дань? Как сокрушенный
нищетою будет кормить семью свою?" — спрашивал
игумен в одном из своих посланий.
В год жестокого неурожая монастырь кормил из
своих запасов сотни и тысячи крестьян. Когда
запасы кончились, Иосиф влез в долги, но закупил еще
хлеба. Матери в тот год оставляли гибнувших от
голода детей у монастырских ворот. Иосиф
организовал для них нечто вроде приюта. Многие так и
остались в монастыре, выросли в нем и приняли постриг.
Для братии ввели строгое общежитие. Всякая
собственность отменялась. В келье монаха ни
имущества, ни пищи. Еда нормировалась и в
трапезной, до сытости Иосиф не кормил. Братия,
исключая праздники, сидела на хлебе и воде. Только
44
в праздничные дни варили горячее. Лишь тем, кто
только начинал монашествовать, разрешалась рыба.
Одежды только простые и грубые. Владеть двумя
сменами одежды — непозволительная роскошь,
допустимая лишь для самых „избалованных". У
наиболее усердных иноков их единственное „рубище"
было обязательно „ветхое". Сапог не полагалось.
Полагались лапти.
Одна из статей устава Иосифа запрещала
прорубать в кельях большие окна, чтобы монах не мог
хоть ненадолго через окошко удрать из кельи.
Дверь-то припирали...
Впрочем, в особножительном монастыре многие
запреты было трудно соблюсти, и они постепенно
отпадали. Вскоре в трапезной уже не „хлеб да
вода" — на братский стол ставят сдобные калачи и
медовые квасы. Знак особой, неслыханной в то
время роскоши — пиры на белых скатертях. В этих
пирах (конечно, не для рядовой братии) Иосифа
упрекали современники, хорошо знавшие его
обитель.
Когда Иосифу и князю стало ясно, что монастырь
устраивается именно так, как того хотелось,
закладывается каменный храгЛ. Здесь игумен не считается
с затратами. Каменный храм расписал знаменитый
Дионисий (фрески не сохранились). Строительство
храма обошлось почти в тысячу рублей — сумма по
тем временам баснословная.
На пышность богослужения Иосиф средств тоже
не жалел.
Иосиф Волоцкий — один из образованнейших
людей своей эпохи, вовсе не скудной талантами.
Блестящий и плодовитый писатель,
публицист-проповедник, он высоко ценил образование и в
значительной мере способствовал распространению
грамотности, письменной литературы. При монастыре было
организовано училище — большая редкость в те
времена. Иосиф понимал и ценил искусство, в
монастыре было несколько десятков икон кисти Андрея
Рублева и Дионисия.
Следовало бы сказать, что Иосиф
коллекционировал произведения живописи. Дионисий был его
другом, и здесь Волоцкий скорее выступал в роли
мецената, хотя Дионисий вряд ли в этом нуждался, но
произведения Рублева собрать было значительно
труднее. Его работы уже тогда ценились очень высоко.
45
Нам еще придется столкнуться с другими, менее
привлекательными чертами этой личности. Но уже
сейчас встает вопрос, как же оценивать деятельность
Иосифа и многих подобных ему. Однозначной
оценки нет и быть не может. Всеми положительными и
отрицательными чертами своими Иосиф
принадлежит эпохе, которая отстоит от нас на пять столетий.
Иными были нормы нравственности, иным —
понимание смысла жизни человека. Никого в прошлом
и ничего из прошлого вне конкретного времени мы
не поймем.
Неутомимый и властный до жестокости,
крепостник и писатель, эксплуататор и меценат в ветхом
подряснике, он весь мир видел как огромный
монастырь, беспрекословно подчиненный одному
порядку, одной воле. Идеал будущего, разумеется,
переносился в загробный мир, но целям этого
грядущего мира, божественной справедливости нужно
подчинить жизнь не только малой Волоцкой обители,
а всей Руси, всего человечества.
Игуменство было только началом деятельности
Иосифа. Мы еще увидим его в страстной и жестокой
борьбе за идеалы стяжательного монашества, в
борьбе, победу в которой он рассчитал и предвидел, но
до которой не дожил.
Заволжские старцы
Противниками осифлян были нестяжатели,
отрицательно решавшие вопрос о монастырской
собственности. Нестяжательство зародилось в северных
монастырях, и если центром осифлянства стал Волоц-
кий монастырь, то центром нестяжательного
монашества — Кирилло-Белозерский и группа
прилежавших к нему мелких и не очень заметных обителей,
а позднее Московский Симонов монастырь.
Нестяжателей называли еще „заволжскими старцами",
так как их монастыри по отношению к Москве
находились за Волгой.
Основатель Кирилло-Белозерского монастыря —
Кирилл из рода бояр Вельяминовых (1338—1427 гг.)
с юности выбрал монашеский путь и принял
постриг в Симоновом монастыре. Со страстной верой
Кирилл принялся за благочестивые подвиги: ел
мало, закалял волю, испытывая себя на самых
46
тяжелых послушаниях — рубил дрова, носил воду.
Девять лет трудился на поварне, подвижничал,
упорно добивался духовного совершенства.
Пробовал юродствовать, за что, правда, был строго
наказан. Позднее Кирилл возглавил монастырь, но
вскоре он оставил игуменство и ушел в затвор. Чтение
и переписывание книг — его любимое и
постоянное занятие, которое он чередует с физическим
трудом и аскетическими подвигами поста...
Наконец, с другом своим иноком Ферапонтом Кирилл
решает основать новый монастырь на Севере.
Разумеется, дело не в одной тяге к созданию своей
обители или в стремлении к отшельнической жизни
(хотя полностью отбросить это тоже нельзя).
Начинался период широкого освоения земель русского
Севера. Светские феодалы и феодалы-монастыри
устремляются в просторы лесов и озер.
И на Ферапонта, основавшего свой монастырь
невдалеке от кельи Кирилла, и на самого Кирилла
нападают окрестные крестьяне. Избушку Кирилла не
раз пытались сжечь. И если бы не рука можайского
князя, которому принадлежали земли Белозерья,
и не Симонов монастырь, откуда на Белозеро
послали группу монахов, друзьям пришлось бы
вернуться восвояси.
У пришедших монахов было задумано: не гнаться
за селами и не кабалить крестьян, а действительно
жить „от трудов рук своих". Итак, образ
идиллический, житийный рассказ о человеке, который
стремился к строго нравственной жизни в труде,
бедности, аскетическом самоограничении. Ушел в
глухомань и, как издавна иронизировали, нашел в ней
кошель денег. Последнее, увы, типичный результат
отшельнических занятий по спасению души.
Здесь есть мотивы, которые требуют отдельного
рассмотрения. Жестокость мира, то, что в XX веке
мы называем социальной несправедливостью,
социальным злом, пороками общественного устройства,
существовала и в классовом обществе далекого
прошлого. Но истинных, социально-классовых
причин этого XIV век не видел, до их познания должны
были пройти еще столетия. Средние века оценивали
добро и зло в религиозных понятиях, объясняли
„неправду мира" отходом от евангельских заветов,
дьявольским искушением, —словом, весьма похоже
на то, как объясняет социальное зло христианство
47
в наши дни. Объясняя личностные и общественные
пороки исключительно в круге
религиозно-нравственных понятий, то есть односторонне, само зло,
сами пороки общественная мысль XIV века видела
отчетливо, ощущала и понимала несправедливость
социального устройства.
Отсюда попытки нестяжательной части
монашества если не „пересоздать" мир на основах
„истинной" веры в бога, надежды на бога, любви к богу,
то по крайней мере создать некий иноческий
островок справедливости, что-то вроде того
„феодального коммунизма", о котором писали К. Маркс и
Ф. Энгельс в „Коммунистическом манифесте".
Все эти „от трудов рук своих" и т. п. — еще одна
монастырская легенда. Монастыри, не имевшие
собственности в виде недвижимости, монастыри, на
которые не пахало подневольное крестьянство,
действительно существовали. Однако к вопросу о том,
насколько они существовали „делами рук своих",
можно поставить по крайней мере три „но". Первое
„но" в том, что эти монастыри существовали не
селами и не вкладами, но и не трудом своих рук, а
пожертвованиями другого рода — милостыней.
Житие Кирилла рассказывает, что „некий боярин"
присылал в монастырь по 50 мер ржи. Это
условленное „подаяние братии" за поминовение. Потом
боярин вместо этого прислал жалованную грамоту на
владение селом. Кирилл отказался. „Если можешь, —
писал он, возвращая грамоту, — давай нам не 50 мер
ржи, как всегда, а 100, мы будем довольны, селами
же владей сам: братии они не полезны". Может
сложиться впечатление, что суровый аскет,
вынужденный принимать милостыню, отклоняет
собственность. Но все гораздо прозаичнее. Боярин исходил
из расчета, обычного в практике феодального
хозяйства. Село, которое он жертвовал монастырю, как
раз и давало эти 50 мер. Кирилл тоже умел считать,
но решил, что собирать подать самим — дело
хлопотное, и отказался. Однако 100 мер, которые он
попросил, — доход с двух таких сел...
Второе „но" — это то, что в „труды рук своих"
иночество включало прежде всего не
производительный труд, который часто сокращался до
символического обозначения его каким-либо незначительным
послушанием. Истинным трудом все монашество
бесспорно и безоговорочно признавало труд молит-
48
венный, спасающий душу и избавляющий от греха.
При этом настойчиво твердили, что иноческая
молитва наиболее действенна, скорее доходит к богу,
и поэтому при всех возможных жизненных
трудностях следует обращаться в монастыри. Иными
словами, обличаемое чернецами „зло мира"
оказывалось надежным и единственным обоснованием для
самого существования монашества! А сук, на
котором сидишь, как известно, рубить не следует.
И, наконец, третье „но" — те самые крестьяне
русские, которые не слишком поверили
нестяжателям, и, видимо, не без оснований, пытались
выпроводить монахов. Пахари и охотники, рудокопы и
пастухи, рыболовы и солевары действительно жили
„трудами рук своих". А ведь кормили они не
только себя. Трудами рук своих они содержали все
государство и, добавим, монашество. Этого подвига
церковь как-то не хочет видеть.
Мы не знаем, стал получать Кирилл удвоенное
количество хлеба или же „некий боярин" счел это
излишним, но истинного нестяжательства не в
монастыре искать. Впрочем/ и в монастырском
понимании недолго просуществовало оно в Кирилловой
обители. Уже с XVI века она становится
крупнейшим торговым, промышленным и ремесленным
центром громадной округи и при всех
превратностях судеб подходит к началу XX столетия в числе
богатейших. При малом числе монахов она обладает
тысячами гектаров земли, арендой, громадными
художественными и материальными ценностями,
скопленными за века вполне стяжательной жизни
старцев.
С этими оговорками продолжим речь о
нестяжателях и нестяжательстве.
В Кирилловом монастыре принял постриг
Николай Майков (1433—1508 гг.), еще один инок из
боярского рода. Он получил в схиме имя Нил, в
Кирилловом монастыре пробыл недолго и предпринял
далекое путешествие в Константинополь и на Афон.
Там он основательно штудировал богословскую
литературу, изучал идеи и технику медитации,
внутреннего психологического сосредоточения. Это
стремление сосредоточиться на своем внутреннем
мире, подчинить психику „единению с богом"
отличали нестяжательское, мистическое по сути течение
в русском монашестве.
4 Г. Прошин
49
Возвратясь с Афона, он основал собственную
пустынь невдалеке от Кириллова монастыря, на
реке Соре, и с именем Нила Сорского вошел в число
заволжских старцев, а позднее был причислен и
к лику святых. Устав пустыни был аскетически
строг. В поучениях Нила относительно
монастырских стяжаний звучат мысли Кирилла: „Стяжания
от чужих трудов несть нам на пользу". Но Нил
строго последователен и категоричен: не только
не иметь, но и не желать чего-либо, кроме крайне
необходимого. И даже это самое необходимое,
будь то орудия труда, одежда, посуда, непременно
должно быть малоценным. Сам он не имел ничего,
кроме книг.
После смерти Нила признанным главой
нестяжательства стал инок Вассиан Патрикеев. Когда-то
он участвовал вместе с отцом в боярской
группировке, сопротивлявшейся великому князю.
Патрикеевы оказались в опале. Оба, отец и сын, были
пострижены в монахи то ли в Кирилловом
монастыре, то ли в Ниловой Сорской пустыни.
Вассиан — а в его круге книжники, интеллигенты,
писатели — был в числе учеников и друзей Нила и,
проявив незаурядный дар публициста, поставил свое
перо и свое слово на службу нестяжателей. Сам он,
судя по всему, нестяжательствовал больше на
словах. Мы встречаем „Васьяна" иноком того же
Кириллова монастыря, в котором образовалось
общество опальных бояр. Монастырь стал чем-то вроде
„боярской" тюрьмы, изобильной и роскошной, но
крепко запертой.
Нестяжательство как религиозно-политическое
течение, а точнее — его политическая мысль, весьма
заинтересовало и великого князя, всерьез
обдумывавшего возможность секуляризации, отчуждения
церковных владений в пользу государства:
„отписать на великого князя".
Итак, церковные владения все чаще и чаще
привлекают внимание великих князей, власть которых
становится важнейшей силой в государстве и не
хочет больше делиться ни с боярами, ни с церковью.
Церковный собор 1503 года собрался по
маловажному поводу: решали, как быть с вдовыми
попами. Его участники стали уже разъезжаться, не
ожидая ничего серьезного, как вдруг Нил Сорский
с группой представителей заволжских обителей под-
50
нял проблему правомерности монастырских
владений. Вопрос был подготовлен. Собору его
сформулировал сам Иван III.
Большинство собора — воинственно стяжательное
духовенство — с порога отмело аргументацию Нила,
которая сводилась к тому, что монашество забывает
данные им обеты. Монахи составили исторические и
канонические справки. В итоге Иван III получил
несколько докладов, в которых монастырское
землевладение оправдывалось. Нил по-своему был прав,
и на стороне заволжских старцев стоял великий
князь. Собор заколебался: в эту пору стоило уже
очень крепко подумать, прежде чем принимать
решение, неугодное власти.
Иосиф Волоцкий к тому времени с собора уехал,
и некому было сплотить алчную группу богатых
игуменов. За Волоцким послали гонца, и он спешно
вернулся в Москву. Иосиф выступил блестяще.
Эрудированный богослов, он цитировал наизусть
священное писание, труды отцов церкви, складывая
стройную систему защиты того, что получено
монастырями в „наследие небесных благ", того, что было
ими куплено, выменяно или дано на вечное
поминовение жертвователей. Но все это, как понимал и сам
Волоцкий. и слушавшие его старцы Заволжья,
ничуть не менее эрудированные и готовые на каждый
текст „за" ответить столь же авторитетным текстом
„против", — все это не было существом дела. Как
ни увлекались богословскими построениями
схоласты средних веков, за хитросплетениями
канонических правил они прекрасно видели вполне
конкретную земную реальность.
Решающий аргумент Иосиф приберег для
заключения: если монастыри будут лишены сел и
крестьян, если у них не будет „стяжаний", против которых
выступают некоторые „несмысленые", то в
монастыри перестанут постригаться бояре, перестанут
постригаться знатные люди. Если они перестанут
постригаться, то откуда церковь (и государство!)
возьмут епископов, архиереев, игуменов?
Монастыри наполнятся только черным людом, холопами.
Аргумент был неожиданным, и возразить на него
было нечего. Нарисованная игуменом картина
возможной демократизации церкви страшила всех.
Суровые заволжские постники скрепя сердце
тоже признали правоту нелюбимого Осифа. Окон-
51
чательно помрачнев от этого, они бережно
оборачивали в холстинки и рогожки десятки дорогих
фолиантов, укладывали их в дорожные короба.
Поучения религиозных авторитетов оказались не к
месту.
Осифляне с неуловимой „монастырской"
улыбочкой размашисто, большим крестом
благословляли братьев в дальний путь по северным лесам и
волокам, так сказать, „во своя вси"...
Старцы с иноческим послушанием склонялись,
принимали благословение. И все чувствовали, что
дело осталось нерешенным, что смиренно
торжествующий — скромнее скромного в ветхой своей
ряске — волоцкий игумен и смиренный старец
Нил, в ряске столь же ветхой и вдобавок
залатанной, готовятся к новой борьбе и что борьба эта не
за горами. Победа Иосифа на соборе была скорее
блестящей, чем прочной. Государственные
интересы требовали иного решения вопроса о землях.
Нестяжатели не понесут свои книги в
монастырские ризницы, не сдадут их отцу-хранителю в
книжную палату Кириллова монастыря. Дни и ночи,
прервав молитвы, будут они вновь и вновь
вчитываться в тексты множества „Деяний", „Посланий",
„Слов" и „Поучений", капать свечным воском на
широкие поля листов — отмечать нужное,
переписывать его „на пользу братии", туда, где нет такой
книги. Борьба продолжалась.
В литературе прошлого можно встретить резкое
противопоставление осифлян и нестяжателей. На
деле разница между ними не была столь велика. Ни те
ни другие нимало не сомневались в принципиальной
необходимости крепостничества, не ставили под
сомнение социальные основы феодального
общества. В этом противники были едины. И те и другие
равно стремились укрепить авторитет церкви,
идеологическую силу монашества, его влияние на
государственные дела, на общественную и частную жизнь
всего населения. И те и другие ополчались против
низкой нравственности монашества, которая
становилась особенно заметной на фоне единиц,
строжайше соблюдавших монашеские обеты, хотя и тех и
других „греховность" иночества мало смущала.
Тревожила их скорее утрата религиозных
авторитетов и того идеологического стержня, на который
опиралось церковное влияние.
52
И Нил Сорский и Иосиф Волоцкий одинаково
ввели в своих обителях строгие уставы (Иосиф
весьма одобрял порядки Кириллова монастыря),
запрещавшие личную собственность братии.
Собственность монастыря — другое дело, ею
распоряжается монастырь. Наконец, и среди части
нестяжателей существовала мысль, что монастыри могут
владеть землями и распоряжаться крещеной
собственностью. Нужно лишь, чтобы монастырскими
селами управляли не сами монахи, а наемные
управители1.
Наконец, оба течения одинаково опираются на
священное писание, сочинения отцов церкви и т. д.
При всем различии позиций это была их единая
идейная база, к ней они относились со священным
трепетом. И это не позволяло им вырваться из
узкого круга религиозных представлений.
На соборах 1525—1531 годов были осуждены
Вассиан Патрикеев и Максим Грек, афонский
монах, гуманист и ученый, ненароком ввязавшийся
в распрю. Обоих сослали „на исправление" прямо
в стан врагов — в Волоколамский монастырь, где
игуменствовал Даниил, ученик и последователь
Иосифа. Это он, став московским митрополитом,
организовал соборы, покончившие с
нестяжательством. Максим трижды падал ниц перед собором,
плакал, просил прощения и за свои прегрешения
и даже за описки, случившиеся в его переводах.
Несколько отвлекаясь, мы хотим предостеречь
читателя от поверхностной оценки этого тезиса нестяжателей. Не
должно создаваться впечатления об их ханжестве —
готовности принять те же блага, но через посредников, „не
осквернив рук". Дело сложнее. Нестяжатели — это
своеобразная группа средневековой монастырской интеллигенции,
деятелей средневековой культуры и просвещения.
Монастырь обеспечивал нужный для этого досуг и необходимые
средства. Поэтому нестяжатель и попадал в круг
неразрешимого противоречия — материальных средств сам себе он
обеспечить не мог. Отсюда у нестяжателя стяжательская
мысль о владении, но освобождавшем его от хлопот
о хозяйстве, то есть о „посредничестве" управителей.
Противоречие усугублялось тем, что культурные нужды
требовали немалых средств, которые опять-таки
оказывались в руках стяжателей. Видимо, не случайно Нил Сорский
со временем все больше и больше отходит от всякой
деятельности. В последние годы жизни о нем нет никаких
известий. Нил, очевидно поняв практическую
невозможность общественного устройства на евангельских началах,
умолкает, уходит в затвор, в мистику.
53
Это помогло — из строгой тюрьмы Волоколамска
его вскоре перевели в Тверской Отроч, а потом
в Троице-Сергиев монастырь. Там он по-прежнему
занимался литературной работой. Позднее его
вновь привлекли к государственной деятельности.
Иван IV вызывает Грека на собор для осуждения
новой ереси. Максим, не раз страдавший за свое
мнимое „еретичество", испугался, что снова начнут
таскать по церковным судам. Грозный вынужден
был написать ему, что речь идет о суде над другими
еретиками. Максим, прислав свое „обличение"
еретиков, все же не поехал. Впрочем, может быть, не
от страха, а потому, что был стар и немощен, ему
уже исполнилось 75.
Вассиан ни от чего не отрекся и недолго
выдержал режим „каменных мешков" в осифлянской
обители. Точная дата смерти его неизвестна, ею и
не интересовались. Патрикеева вычеркнули из
списка живых со дня привоза в монастырь.
Несколькими годами позже и сам Даниил не
рассчитал политической ситуации. Он встал на сторону
князей Вельских, а когда верх одержали Шуйские,
был лишен сана и тоже угодил в затвор. В заточении
кончил дни и другой яростный осифлянин, Вассиан
Топорков, которого нестяжателям удалось
подловить на какой-то богословской ошибке и заключить
в монастырь.
Так во взаимных обвинениях и доносах,
взаимных искоренениях инакомыслия нестяжательство
все же было одолено осифлянством, которое и
становится господствующим направлением в
монашестве и церкви. Остатки нестяжателей доживают по
окраинным монастырям, другие, оставив идеалы
аскезы, начинают стяжать, да с таким рвением, что
и бывалые осифляне даются диву.
Дольше других продержались заволжские
старцы. В Ниловой пустыни, по завещанию основателя,
символом нестяжания стоял непременно небольшой
рубленый храм. Только в XIX веке построили
большой каменный. Символ надолго пережил
нестяжателей: Кирилло-Белозерская „забогатевшая"
братия уже во времена Ивана Грозного полностью
заслужила его упреки, которыми мы начали эту
главу.
Разгром нестяжателей был облегчен и их личной
пассивностью. Может быть, доводы Нила и Вассиана
54
более соответствовали монашеским идеалам, чем
доводы Иосифа и прочих. Но это тоже вело к
поражению. Ведь „царство мое не от мира сего": с точки
зрения нестяжателей, мировоззрение которых было
проникнуто мистицизмом, „мир во зле лежит" и не
в нем искать спасения от зла. Следует
самоуглубиться, замкнуться в себе — единственное, что может
подать какую-то надежду на спасение от
всеобъемлющего греха мира. Такая позиция (глубоко
христианская в своем существе) не могла принести
реального успеха. Нестяжатели провозгласили свой
идеал, исповедовали его, но бороться за него? Нет,
это — мирское, греховное. Поэтому нестяжатель
редко вступал в активную борьбу. Княжеская
власть увидела в этом привлекательную и полезную
для себя сторону — социальную пассивность,
которую монашество, оказывается, может не только
исповедовать, но и наглядно пропагандировать
собственным примером „худых риз", строгого поста,
молитвы, молитвы, молитвы. Это заслуживало
поддержки.
Можно бы и не останавливаться на перипетиях
церковных и феодальных распрей, столь
характерных для эпохи, если бы не события, которые
заставляют нас несколько иначе взглянуть на
монастырские дела конца XV — первой половины XVI века.
И ангелу небесному — анафема!
У церкви были противники посерьезнее, чем
нестяжатели. Этими противниками были еретики.
Связанный с ересями интереснейший и сложный вопрос
истории русского общественного движения,
русской общественной мысли мы оставим в стороне
(существуют прекрасные специальные работы
советских ученых) и коснемся его лишь в той мере,
в какой он непосредственно имеет отношение к
монашеству.
С XIV века ереси, направленные против
господствующей церкви и православного вероучения1,
Автор подчеркивает, что говорить о ересях как о
движениях только антицерковных — неправильно. Суть была
в протесте против общества, освящаемого церковью.
Выступление против „неправедной" церкви — это
выступление против определенного социального устройства, что
всегда следует помнить.
55
непрерывно будоражили города Руси. Новгород
и Псков, Ростов и Тверь, сама Москва
становились центрами еретических движений. Не успевала
церковь расправиться с инакомыслием в одном
месте, как оно появлялось в другом. Оно то
скрытно тлело, то вспыхивало огоньком противо-
церковной проповеди, то пылало пламенем
открытого бунта. От духовного контроля церкви во
множестве отпадали ремесленники и посадские
люди, холопы и дворяне, и даже высокие церковные
иерархи...
В середине XIV века в Новгороде появилась
ересь,. которую противники ее назвали ересью жи-
довствующих. Название ереси пошло от
новгородского епископа Геннадия, который писал в Москву:
„Жидовин-еретик научил!.." и указывал на некоего
Схарию и еще нескольких иудеев, приехавших
в Новгород по своим торговым делам и заодно
распространивших „лжеучение". Название поддержал
Иосиф Волоцкий, автор направленного против
еретиков „Просветителя". Едва ли оно верно.
Единственное, что могло связать новгородских
жидовствующих с наезжими евреями, — это то,
что последние могли одобрить тезисы еретиков
не как иудейские, а как не противоречащие
иудаизму. В Новгороде не затихала давняя
стригольническая ересь, близкая новой, но возникшая задолго
до приезда не только Схарии, — тогда, когда здесь
вообще еще не знали евреев.
Еретики отрицали почитание святых, икон.
Это сильно ударяло по монастырям, где как раз
особо почитали святые мощи и уже в те давние
времена превратили их в статью дохода. То же
относилось к иконам. Наконец, еретики отрицали
и само монашество. К еретикам привлекала их
начитанность, широкая образованность, строгая
нравственность. Все это выделяло их на фоне не
слишком грамотного, жадного до всяких
материальных благ и почти целиком бездуховного
клира Новгорода и Москвы. Монашество не от бога,
утверждали еретики на примере жития св. Пахомия.
Житие сообщает, что текст монастырского устава,
вырезанный навечно на медной пластине, и образец
монашеских одежд Пахомий получил
непосредственно от явившегося ему ангела. Ангел так и
предстал — в черном облачении.
56
Легенда стала богословским аргументом
еретиков против монашества. Ангелы, утверждали они,
светлы и лучезарны. Не мог ангел явиться в черном,
у Пахомия был не ангел, а бес, следовательно,
монашество — дьявольское изобретение...
Аргумент для средневекового схоластического
мышления весьма убедительный.
ОТСТУПЛЕНИЕ ОТ ТЕМЫ
Адам Олеарий и владыка Геннадий
Часто преувеличивают невежественность русского
средневекового духовенства. В подтверждение
этого обычно приводят свидетельства иностранцев:
Поссевина, Петрея, Олеария, Герберштейна. В их
записках есть ряд нелестных отзывов о
священниках и монахах, которые „не умеют" ничего ответить
ни о вере, ни об уставах своих монастырей, ни о
жизни иночества. Отвечают „неведением". Адам
Олеарий, например, пишет, что лишь один монах из
десяти знал молитву Иисусову. Эти утверждения
следует прояснить.
Конечно же в сравнении с поведением монахов
многих католических орденов православный инок,
на взгляд чужестранца, вел себя весьма
непривычно. Но крайне маловероятно, чтобы монахи
не умели ответить о своей вере и образе жизни.
Незнание же Иисусовой молитвы — вещь
совершенно невероятная. Этой молитвой сопровождается
весь день монаха, ее незнание попросту исключено.
Так в чем же дело? А оно — в особой этике
иноческого поведения: отвечать неведением — требование
уставов, ограничивавшее братию в мирских
контактах, в беседах с посторонними. Объяснять должен
кто-либо из начальствующей братии, а не из
рядовой, что, с точки зрения монашества, —
попросту греховная нескромность. Еще большее
значение имел внутренний отказ — нежелание
обсуждать с латинянином вопросы
нравственного порядка, личностные, метать бисер
благочестия перед еретиком, которому все одно гореть
в аду.
„Социологический опрос" Олеария дал ошибку
ровно на порядок: не один из десяти знал молитву,
57
а девять из десяти отказались обсуждать эти
вопросы с заезжим иноземцем.
Ссылаются, утверждая невежественность
духовенства, и на свидетельство новгородского
епископа Геннадия, яростного борца против еретиков.
Геннадий пишет о том, как трудно найти знающего
священника в Новгороде, чтобы поставить на
приход: „...когда приведут ко мне ставленника
(кандидата. — Г. П.) грамотного, то я велю ему ектенью
выучить да и ставлю его и отпускаю тотчас же,
научив, как божественную службу совершать;
и такие на меня не ропщут. Но вот приведут ко мне
мужика: я велю ему Апостол дать читать, а он и
ступить не умеет, велю дать Псалтирь, а он и по тому
едва бредет; я ему откажу, а они кричат: „Земля,
господин, такая, не можем добыть человека, кто бы
грамоте умел!"
Свидетельство владыки, который ставил
духовенство на приходы, весомо. Но чтобы верно понять
слова Геннадия, следует вспомнить условия
тогдашнего Новгорода, посмотреть, что же вызвало
гнев епископа. С одной стороны, Геннадий -
несомненно, образованный богослов — вообще не мог
быть доволен уровнем подготовленности
большинства ставленников. Но важнее другое: ему
требовалось в тогдашнем, чуть ли не поголовно
еретическом, Новгороде иметь попов, твердо стоящих
на позиции официального православия. Таких
грамотеев Новгород ему не давал. Уровень
подготовленности ставленников вполне удовлетворял
потребности рядовой паствы. Не удовлетворял он
Геннадия. Владыка настаивает на усиленной церковной
подготовке будущих священнослужителей. Он ведь
не спорит, что соискатели к нему приходят
грамотные. „А вот мужики невежды учат ребят, — пишет
он далее, — только речь им портят: прежде выучат
вечерню, и за это мастеру принесет кашу да гривну
денег, за заутреню тоже или еще больше, за часы
особенно, да подарки еще несет, кроме условной
платы; а от мастера отойдет — ничего не умеет,
только бредет по книге, о церковном же порядке
понятия не имеет".
Мы видим, что существовали определенные
мастера, которые худо-бедно, но обучали и грамоте
и той части службы — вечерне, утрене, часам, —
которой могли учить вне церкви. Не знали литургии,
58
но этого умения Геннадий не мог требовать от
кандидатов на приходы. Литургия — таинство, и учил
этому, как видно из предыдущего, он сам. И, может
быть, главное в процитированном нами письме
Геннадия митрополиту Симону — дважды с
неприязнью упомянутые „мужики". Меж строк видно
опасение того, что церковь попадет в руки мужика.
Сохранить монополию феодального государства на
духовное руководство — это более всего заботит
Геннадия. События тех лет, свободомыслие и
демократизм ересей показали, что Геннадий опасался
не зря. Но его негативная оценка уровня
грамотности, образованности духовенства критики не
выдерживает. Хороши и новгородцы: в городе громадном,
одном из крупнейших торговых центров Европы,
столице недавней огромной республики „не
можем добыть человека, кто бы грамоте умел../'.
Не правильнее ли предположить, что скрытые и
явные еретики („мужики") приводили к Геннадию
только тех, кого они хотели видеть в алтарях своих
кончанских храмов, а не тех, кого хотел видеть
Геннадий. Действительно, „земля, господин,
такая...".
Наконец, сам Геннадий был позднее изобличен
в симонии1: „начал мзду брать со священников за
ставление", за что был на Москве предупрежден,
но, вернувшись в Новгород, стал брать взятки
„пуще прежнего". Пришлось Геннадия с престола
Новгородского „свести", и дни свои он кончил в
том же Чудовом монастыре, из которого был
поставлен в Новгород, но уже рядовым иноком...
Так что и с этой стороны слова Геннадия
сомнительны. Сказанное — отнюдь не свидетельство
высокой образованности средневекового духовенства.
Его низкая (богословская в первую очередь)
подготовка — „мало умеют грамоте" — отмечалась
и Стоглавом и рядом православных иерархов. И это
было справедливо. Не следует лишь считать
духовенство той эпохи невежественным в массе. Этого
не было.
Симония — род чисто церковного взяточничества. Это
продажа церковной должности. Вполне официально
существовала в Ватикане. В православном сознании это
превращало симонию в сугубый грех.
59
Новгородский епископ
Геннадий и его
окружение оказались безоружны:
ни достаточной эрудиции,
ни нужных книг.
Геннадий вынужден был искать
книги, самому ему
неизвестные: Дионисия Арео-
пагита, обличения
богомильской ереси. Они
были в лучших тогдашних
библиотеках. Но, как в
насмешку, это были
собрания Кириллова,
Ферапонтова, Спасо-Каменного
монастырей — библиотеки
нестяжателей, идейных
противников Геннадия.
Не там ли читали их
еретики? Владыка не
рискнул обратиться в эти
обители и пытался
получить книги через
архиепископа Иоасафа,
которому были подчинены
монастыри Заволжья.
Получил ли Геннадий
нужные ему тома, неизвестно.
Наверняка — нет. Ересь
распространялась: два
ведущих новгородских еретика — Дионисий и
Алексей — были определены священниками в главные
святыни Москвы — Успенский и Архангельский
соборы.
Казалось, что ересь всерьез привлекла князя
Ивана III. Жидовствующие (что сближает их с
нестяжателями) выступали против церковного
землевладения. И тогда Иван III был готов, как мудрый
государственный деятель, позволить еретикам
существовать, по крайней мере до тех пор, пока в них
может оказаться нужда. Тайным сторонником
ереси стал сам митрополит Зосима — глава церкви.
Страшные для церкви мысли приходили в голову
митрополита. „Что там Страшный суд, что там
воскресение мертвых — ничего того нет! До тех пор
(„по та мест", если точно процитировать источник)
Не к расу Рукавов у рвут язык.
Жестокость такой публичной
казни не только устрашала
присутствующих. Она имела
пропагандистское значение —
показывала, как карает церковь
тех, кто своим языком
„возводил хулы". После этой
казни Некраса сожгли в срубе.
Миниатюра XVII в.
60
и жил, пока не умер..."
Явная ересь! Впрямую
митрополита в ней не
обвинили. Страшно было
признать публично
еретичество верховного
иерарха. Спасали честь
мундира. 17 мая 1494 года
„свели" с кафедры,
обвинив в российском грехе:
„за пианственное житие".
Зосима в этом был
повинен не более других
иерархов. Борьба еще
продолжалась, и сана его лишили
спустя целых восемь
месяцев, но тогда уж
сослали накрепко в Тверской
Отроч монастырь. Место
страшное. Позднее туда
попадет и Максим Грек,
там будет задушен Малю-
той Скуратовым
митрополит Филипп. Впрочем,
Зосиму, как и Грека,
помиловали — перевели на
покой в Троице-Сергиев.
Обстановка вообще
складывалась в пользу
осифлян, решивших раз и
навсегда покончить со
всяким инакомыслием.
И это, пожалуй, нравилось
Ивану III больше, чем воз-
Еретиков топят в Волхове.
Эта иллюстрация, как и сама
казнь, имела смысл, понятный
современникам, но утраченный
для нас. Мост через Волхов
был местом, где не реже, чем
на вечевой площади, решались
многие социальные конфликты.
Именно отсюда с моста, места,
общественно важного, и сбросили
еретиков, которые утонули
и тем самым доказали
свою „греховность ".
Согласно легендам, известным
всему Новгороду, праведники
могли плыть по реке даже
на камне.
Миниатюра XVII в.
можность „отписать на
себя" монастырские земли. Собор 1503 года, уже
при поддержке „царя и великого князя", начал
розыск. Еретиков „обличили", предали анафеме,
осудили по-осифлянски. Новгородских передали в
руки Геннадия. Тот торжествовал и устроил в
назидание прочим позорное действо. Еретиков
верхом, но лицом к конскому хвосту провезли по
улицам. Платье их было выворочено наизнанку,
а на головы напялены кому соломенные венцы,
а кому берестяные „бесовские колпаки". На
колпаках — новгородцы — народ грамотный — надпись:
61
„Это воинство сатаны". В заключение позорного
парада колпаки были подожжены прямо на
головах...
Борьбу с ересью продолжил собор 1504 года.
Обвинителем выступал тот же Иосиф Волоцкий. Многих
приговорили к заточению, нескольких человек
сожгли в срубах — казнь, доселе невиданная. Среди
них известные: Иван Волк, Дмитрий Коноплев,
Иван Максимов. Некрасу Рукавову вырвали язык —
жестокий символ обезоруживания еретика,
распространявшего этим языком „хулы". Потом Некраса
тоже сожгли.
По монастырским тюрьмам заточили и
некоторых нестяжателей из тех, кто осмелился выступить —
не в защиту еретиков, такого не было, а лишь,
подобно Вассиану Патрикееву, против их смертной
казни.
Казалось бы, ересь подавлена, о монастырском
имуществе более не заикнутся ни жидовствующие,
ни заволжские старцы. Но пепел церковных костров
стучал в сердца, он лишь на время укрыл пламя
протеста — антицерковного и социального.
Минули годы, и в Москве выявили еще более
страшную для церкви и монашества ересь. Это
учение Феодосия Косого. Точнее — Матвея Башкина
и Феодосия Косого. Башкин — небогатый „сын
боярский", всерьез усомнившийся в правильности
существующих на земле порядков. Поскольку же
в церкви проповедовалась их богоустановленность,
то Башкин (а мыслил он, как вся эпоха, в круге
религиозных воззрений) решил сам изучить
священное писание.
Что ж, церковь не запрещает этого чтения, она
запрещает лишь такое понимание священных
текстов, которое расходится с принятым ею. Башкин
как раз вычитал из Нового завета совсем не то, что
видели в нем осифляне, и даже не то, что вычитали
нестяжатели. Он' попытался убедить своего
духовника, что никакого другого закона, кроме любви
к ближнему, в евангелиях нет. Тогда за Матвея
взялись всерьез. Выяснилось, что он не признает учения
о Троице. Тем более что и известный протопоп
Сильвестр перед тем предупреждал, что о Башкине
,,слава идет худая". Это был криминал. Как раз
в XVI, еретическом, веке по всей Европе
распространилось движение антитринитариев. Только что
62
протестантским реформатором Кальвином был
сожжен мыслитель, ученый и врач Мигель Сервет.
Ему было предъявлено обвинение в том, что он
не признавал догмата Троицы. И вот — антитрини-
тарий на Москве.
„Матюша просит истолковать ему многие вещи
в Апостоле и сам их толкует". И худшее, чем ересь:
дворянин Матвей освободил своих крепостных,
а кабальные грамоты на них „все изодрал". Тут уж
на Руси запахло дымом костра Сервета.
Века пройдут, прежде чем русские дворяне,
лучшие из них, единицы, сердцем осознав
безнравственность владения людьми, отпустят своих
крепостных на волю. Матюша Башкин сделал это в
середине XVI века. Бывшие холопы кто хотел — ушел,
кто остался при нем добровольно. Это грозило уже
всему государственному порядку. Речь шла не о
каком-либо виде монастырского общежития,
общины, построенной по строго иерархическому
принципу, не о нестяжателях даже, а о коммуне,
хотя слово это было равно незнакомо и Башкину
и его судьям.
ОТСТУПЛЕНИЕ ОТ ТЕМЫ
Истина „на виске"
Шла ли речь о вольномыслии или просто о
невыплаченном кабальном долге, сопротивлении
монастырской власти и тому подобном, на страницах старых
документов о виновных постоянно встречается:
„бит кнутом", „нещадно бит кнутом". Эти
коротенькие фразы настолько часты, что на них почти
перестаешь обращать внимание.
Если же было подозрение на ересь, то для
выяснения истины и указания единомышленников пытали
на дыбе.
Жестокость прошлого оправдывалась тем, что нет
иных способов добиться истины от еретика. Пытка
существовала и в государственном праве и в
церкви. Мы можем услышать голоса монашества,
взывавшие к христианскому милосердию, и
монашеские же требования казнить еретиков жестокими
казнями. Иосиф Волоцкий нашел компромисс:
казнить и пытать вне „святых стен" — в застенке
63
на хозяйственном дворе монастыря. Иосиф полагал,
что иночество тем самым от „пытошного дела"
остается чистым...
Приведем (в сокращении, но сохраняя стиль)
инструкцию, которая действовала еще в середине
XVIII века.
„Обряд, како обвиненный пытается.
...В застенке ж для пытки зделана дыба, состоящая
в трех столбах, ис которых два вкопаны в землю,
а третей сверху, поперек.
Кат или палач явиться должен со своими
инструментами, а оные есть: хомут шерстяной, к которому
пришита веревка долгая, кнутья и ремень, которым
пытанному ноги связывают.
...приводитца тот, которого пытать надлежит и от
караульного отдаеца палачу, который долгую
веревку перекинет через поперечный в дыбе столб
и взяв подлежащего пытке, руки назад заворотит
и положа их в хомут, через приставленных для того
людей встягивает, дабы пытанный на земле не стоял.
У которого и руки выворотит совсем назад и он на
них висит. Потом свяжет показанным выше ремнем
ноги и привязывает к зделанному нарочно впереди
дыбы столбу, и растянувши сим образом, бьет
кнутом, где и опрашивается о злодействах и все
записывается, что таковой сказывать станет". Это и есть
„на виске".
Далее рассказывается о железных тисках с
винтами, в которых зажимались пальцы рук и ног:
„...свинчиваются от палача да тех пор, пока или не
повинится или винт не будет действовать". Или:
„...когда висит на дыбе, кладут меж ног на ремень,
которым они связаны, бревно и на оное палач
становится затем, чтобы на виске потянуть его, дабы
более истязания чувствовал".
Пытать полагалось не меньше трех раз. При этом
показания должны быть одинаковы. При изменении
показаний снова следовала трехкратная пытка „на
виске". Если же „переговаривать будет и в трех
пытках", то пытали до тех пор, пока в четвертой
пытке человек не повторял то, что было им сказано
трижды.
„На виске" пытали огнем: горящим веником
водили по иссеченной спине. Кнутов у палача было
несколько. Сыромятный кнут, высушенный до
64
твердости, острой кожаной кромкой рассекал тело
до кости. От крови ремень размокал. Тогда кнут
меняли...
Мы вспоминаем об этом потому, что именно
в религиозном понимании греховности мира пытка
отличалась равнодушной бесчеловечностью. Это
даже трудно назвать жестокостью: монах опирался на
пример аскетизма, считавшего добродетелью
самоистязание грешного тела. Монах, присутствуя на
пытке, был равнодушен к чужому страданию.
Наоборот, чем сильнее муки, тем больше очищается
душа грешника, а это полезно грешнику и
благочестиво.
Почти все, что мы знаем о ересях и
свободомыслии на Руси, мы знаем со слов, записанных „на
виске".
Трудно сказать, как сложилась бы судьба этой
коммуны в царствование Ивана Грозного, но Матю-
ша был пытан, осужден и сослан во все тот же Во-
лоцкий монастырь. Дальнейшая судьба его темна.
Есть основания предполагать, что спустя несколько
лет Матвея сожгли — рекомендации игумена Иосифа
там помнили и чтили.
В перечень ересей Башкина попало и полное
отрицание официальной церкви, и то, что (особенно
это относится к монастырям) Матюша не признавал
таинства исповеди. От покаяния, полагал Башкин,
греха не убудет. Это равно било и по идейным
интересам церкви, и по тем даяниям, которые несли
инокам в искупление грехов. Спустя века
религиозный и нравственный поиск приводит Л. Н.
Толстого к сходным мыслям. Его также отлучили от
церкви, и в начале XX века всемирно известному
писателю грозила участь Башкина — „исправление"
в монастыре.
Такая критика монастыря как учреждения была
уже принципиальной и сильно отличалась от пусть
ярких, но поверхностных нестяжательских
обличений.
Год спустя после осуждения Матюши Башкина
был схвачен его последователь, монах Кирилло-
Белозерского монастыря Феодосии, по прозвищу
Косой.
5 Г. Прошин
65
Лев Толстой в аду.
Фрагмент церковной фрески, выполненной
задолго до отлучения Л. И. Толстого от церкви, в 1883 г., как
только он написал „В чем моя вера?"
В огне адского пламени на коленях у Сатаны традиционно
церковники изображают Иуду, предателя Христа.
Здесь этот образ применен к великому русскому писателю.
Светлое имя Феодосия Косого! Мы мало знаем
о его взглядах, его деятельности. Беглый холоп,
принявший постриг единственно ради „научения
книжного", ради образования и знаний, там, в
северных монастырях, сблизившись с нестяжателями,
создал собственное социальное учение. С точки
зрения церкви, ересь. Косого, как и Башкина, как
и множество других противников не только церкви,
но и существующего социального строя, принято
(кстати, вслед за церковью) называть еретиками.
Это привычно, хотя весьма неточно. Само указание
на церковную сферу применения термина
неправомерно снижает значимость стоявшего за ним
явления. •
В учении Косого нам трудно разглядеть стройную
социальную систему. Но это не значит, что ее не
было. Сочинений еретиков практически не сохранилось.
Основная трудность наша — почти все, что мы знаем
о них, мы знаем со слов церкви, из сочинений,
опровергавших ереси. Мы знаем, что Косой отрицал
божественность Христа и необходимость поклонения
иконам, воскресение мертвых и чудотворность свя-
66
тых... И каждое „нет" Феодосия — удар по
монастырю. Где еще так поклонялись иконам, где еще так
чтили мощи и гробницы святых, где еще за вклады
и пожертвования молились о покойных, „чая
воскресения мертвых и жизни будущего века", как это
формулирует символ веры?
Наконец, Косой прямо отрицал монастыри.
Ознакомившись с нестяжательством, он увидел
истинный характер проблемы, так волновавшей и
церковные, и нецерковные круги. „Владеть" или „не
владеть" для Косого потеряло смысл. Церковные
поучения о равенстве людей перед богом в грехе
белозерский инок и бывший холоп отверг и сумел
прийти к единственно справедливому выводу: люди
равны не в грехе, а должны быть равны между
собой в реальной жизни. Рабства же не должно быть
ни в какой форме. Если речь идет о спасении души,
то и оно встает у Косого как моральная проблема:
не пожертвования в монастыри и не молитва, не
уединение аскетов, а дела человека, его личная
нравственность имеют единственное значение. „Бог
не в бревнах (церковном здании), а в ребрах (то
есть в душе)" — этот тезис свободомыслия
постоянно жил в народном сознании. Каждый шаг
Косого был последователен. От мысли о равенстве —
к отрицанию церквей, разделивших людей по
ложному признаку вероисповеданий. Далее логический
переход к утверждению равенства всех народов
земли. Косой был выразителем стихийного
гуманизма народных масс, гуманизма трудящихся,
который вырабатывался в процессе человеческой
деятельности, прежде всего производительного
труда — будь то пашня, будь то кузница, стройка храма
или книжная мастерская. Гуманизм творчества
в сути своей иной, чем гуманизм нестяжательской
нищеты.
Игумен Зиновий Отенский, ученик Максима
Грека, обличая Косого, сел за книгу „Истины
показание". И нимало не убедил никого образованный
публицист этой книгой. А, казалось бы, легко
писать — перед глазами „Просветитель" Волоцкого,
сочинение, по словам Зиновия, опровергающее
не только жидовствующих, но и „Федосьеву ересь".
Зиновий, наверное, предпочел бы отредактировать
Новый завет. Вместе с самим Христом, еще лучше —
без него. Эта мысль у Зиновия прослеживается.
67
Он пишет, что если и ангел с небес сошлется,
подобно Феодосию, на тексты Деяний апостолов и будет
учить тому, чему учит Косой, то „и ангелу
небесному — анафема!".
Других аргументов, естественно, не было, и в
конечном счете все перепуталось: еретики не верят
небесному ангелу, не верит ангелу и ортодокс
Зиновий. А потому оставалось пытать, заключать
в затворы, в особых случаях — жечь.
Характер мер, размах их, серьезнейшее внимание,
которое церковь и правительство обратили на новое
учение, говорят о том, что мысли Косого были
широко распространены в народе1. О немалом числе
сторонников говорит и то, что Феодосии сумел
бежать из монастырской темницы. Бежал и другой
крупный деятель этого движения — игумен Троице-
Сергиева монастыря Артемий. Его сослали в
Соловки. Держать было приказано „в молчательной келье",
чтобы не мог ни говорить ни с кем, ни писать, ни
получать писем. Артемию назначили специального
духовника, и бывший троицкий игумен в
заключении был обязан непрерывно каяться. Духовник
докладывал о ходе покаяния игумену
соловецкому, и, если раскаяние окажется искренним, было
разрешено со временем — нет, не выпустить его
из затвора, — было разрешено причастить его перед
смертью...
И то, что оба еретика сумели бежать (Артемий
из Соловков!), говорит о сочувствии и помощи
многих сторонников, взявшихся за очень рискованное,
а в отношении соловецкого затвора, казалось,
просто безнадежное дело.
Феодосии нашел приют в Литовском княжестве.
Мы знаем, что там, на славянских землях, он
продолжил свою проповедь, снял с себя иночество, стал
заметной фигурой движения антитринитариев.
Ереси XV—XVI веков показали церкви
необходимость идейной консолидации, централизации
культа и более усиленного его внедрения в массы.
Церковь усвоила этот урок. Осифляне, казалось бы,
Отметим, что пришедшие к Зиновию Отенскому
сторонники Косого твердо говорят о его взглядах как о
„новом учении", то есть о Новом завете, перечеркнувшем
церковный Новый завет, который, по их же словам, читать
„неполезно". Учение Косого, видимо, должно было
по-новому представить всю христианскую проблематику.
68
могли торжествовать: противников одного за
другим передавали в их руки, на „покаяние", еретиков
казнили, и все шло как надо. Но вопрос о
земельных владениях, кабальных крестьянах и
монастырских стяжаниях не потерял своей остроты.
Перегруппировка сил
Соборы 1580—1581 годов подтвердили законность
монастырских владений. Лишь впредь монастырям
запрещалось получать и приобретать земли. Но,
во-первых, „по воле государя" разрешались все
прежние способы приобретения земель и сел, а во-
вторых, этот половинчатый закон просуществовал
недолго. В годы польско-шведско-литовской
интервенции не только Русская земля, но и многие
монастыри подверглись „всеконечному
разорению". Посодействовали еретики-иноземцы, для
которых „русская вера" была только чуждой и
„неправой". Но особенному разорению подвергалась
церковь ещё и потому, что через польский рубеж
на Русь протянулась, рука Ватикана. Монастыри
разорялись с особым иезуитским рвением, имевшим
в виду политическое, национальное и идейное
порабощение Руси, унию с Ватиканом.
Гришка Отрепьев за свое короткое пребывание
в Москве сумел сорвать с лавры 30 тысяч рублей.
Келарь Авраамий Палицын писал о героической
защите Троице-Сергиевой лавры, осажденной
поляками, и не преувеличивал, когда говорил, что в
лавре забрали все церковное золото и серебро,
церковные сосуды и все „до последнего платка,
которым я утирал горькие слезы". Но на нужды
государства монахи денег не пожалели. В те же
годы правительствам Годунова и Шуйского лавра
передала больше 36 тысяч рублей.
Волоцкий монастырь был разорен полностью.
Сильно пострадали, были сожжены и пришли в
запустение в Смутное время и некоторые другие
монастыри. Потому-то отменили прежние
ограничения в приобретении имуществ. Только спустя
много лет по „Соборному уложению" 1649 года
продолжилась политика ограничения монастырских
владений. Вернулись к указу 1581 года, но в более
жесткой формулировке. Теперь постригающийся
69
в монахи не мог отдать монастырю своих земель,
а обязан был оставить их родственникам. Те в свою
очередь обязывались нового инока „всяким покоем
покоить до смерти". Будущий патриарх Никон,
тогда еще новгородский владыка, назвал все это
„бесовским".
В 1651 году был учрежден Монастырский приказ.
В его задачу входило централизованное
административное управление всеми монастырскими
вотчинами. Конечно же меры „бесовские".
Так постепенно ослабевают феодальные позиции
черного духовенства. Но одновременно повышается
его идеологическая роль. Это стремление к
укреплению церковности проходит через весь XVII век.
Церковникам в 1677 году удалось ликвидировать
Монастырский приказ. Монастырские богатства
продолжают расти в обход всех законов и уложений. Но
тем насущнее встают вопросы секуляризации
иноческих владений.
О секуляризации церковных имуществ
существует специальная литература, поэтому мы только
отметим наиболее существенное для понимания
монастыря в условиях XIX—XX веков.
В первой четверти XVIII века церковь
окончательно подчиняется государству, становится частью
аппарата огромной империи. Секуляризация
церковных имений в XVIII веке — это лишь
перегруппировка сил государства, часть преобразовательных
реформ, новых тенденций общественного развития,
итогом которых было падение авторитета церкви,
хотя таких задач дворянская империя не ставила.
Она стремилась укрепить церковь, но пути
общественного развития были иными.
ОТСТУПЛЕНИЕ ОТ ТЕМЫ
Табель о рангах
Духовенство с XVIII века в иерархическом смысле
встало в шеренгу с государственными чиновниками,
бюрократией. Введенная Петром I и действовавшая
до Октября 1917 года „Табель о рангах"
распространялась не только на военные и гражданские, но и на
духовные чины. К 1917 году церковная иерархия
70
приобрела (для черного духовенства) такой вид:
митрополит и архиепископ относились к первым
двум классам табели с титулом
„высокопреосвященство". Первый приравнивался к
государственному канцлеру, второй — к полному генералу (в
гражданской службе — действительный тайный
советник). Ниже шел епископ. Он считался „особой
третьего класса", приравниваясь к
генерал-лейтенанту или тайному советнику в гражданской службе.
Настоятели монастырей в сане архимандрита
соответствовали генерал-майорам (действительные
статские советники), а игумены — полковникам или
статским советникам. Титуловали же их одинаково:
высокопреподобие. Еще ниже по табели шло
духовенство белое. Последним, четырнадцатым классом
шел, приравненный к прапорщику, дьякон. Это —
то же, что коллежский регистратор в гражданской
службе. Титула он не имел.
В 1701 году восстановлен Монастырский приказ,
который пытается разобраться в запутанном
монастырском хозяйстве. В канун 1702 года Петр изъял
из ведения монастырей распоряжение их
вотчинными доходами, не преминув отметить в указе, что
„монахи чужие труды поедают". В монастырях, как
в государственных учреждениях, вводится
штатное расписание монашествующих и казенное
жалованье — оклад. На штатного „брата" взамен
утраченных монастырем доходов выдавалось по 10 рублей
деньгами и 10 четвертей хлеба в год. Указом 1705
года денежное довольствие было сокращено вдвое.
Еще через 10 лет указано на освобождающиеся
штатные места помещать неимущих солдат,
отставленных от службы по ранениям. В монастыри
полагалось помещать и душевнобольных, и, наконец,
административно ссылать „упорствующих в
расколе" старообрядцев для „исправления и наставления
в истинной вере".
В 1720 году ряд мелких монастырей был
попросту закрыт.
В 1724 году Синод уточняет и расширяет указ
1715 года: на каждых двух-трех монахов помещать
одного инвалида или больного — в зависимости от
того, „какие трудные болезни". Лишних монахов
использовать в сельском хозяйстве, „дабы (опять
71
та же мысль об искоренении тунеядства) сами себе
хлеб промышляли". Петровские указы могут
показаться крутыми. Они действительно не имели
подобия в истории русской церкви. Но все же это не те
указы, которые, по словам Пушкина, кажутся
написанными кнутом. Если вспомнить громадное
количество податей, подворных и подушных
окладов, оброков и налогов, прямых и косвенных,
пошлин, сборов и поборов экстренных и сверхокладных
на армию, на флот, на мануфактуры и на горное
дело, на учреждения науки и культуры, на
просвещение и дороги, на новую столицу Петербург, то
вся их тягота легла на плечи крестьянства и в их
числе на крестьян монастырских, которых с
учреждением Синода вновь вернули в ведение святых
отцов. Если вспомнить все это, то меры, принятые
в отношении монастырей, обретут свой истинный
масштаб.
Дворянская империя не собиралась враждовать
с церковью — просто указывала ее место в
государстве. Петр рассматривал монашество как важную
опору существующего порядка, но опору
преимущественно идеологическую. Монастырское же
хозяйство в этот период оказалось разоренным почти
так. же, как крестьянское. Дело не в изъятии
доходов, точнее, не только в их изъятии. Избалованное
и бездельное в массе монашество не собиралось
ухаживать за инвалидами кровавых полей Северной
войны, не собиралось оно и „хлеб промышлять"
на пахотных полях. Ростовский митрополит
Георгий — это характерный для эпохи отзыв —
подытоживает наблюдения над монашеством своей
большой и богатой епархии: „спились и изворовались".
Заполнявший монастыри всякий сброд занимался
ростовщичеством, перепродажей краденого.
Бывало, „шили вязовой иглой по большим дорогам": так
черное воинство темными ночами „само себе хлеб
промышляло", не уклоняясь от буквы царского
указа.
Секуляризация монастырских владений, которую
относят к царствованию Екатерины II, была начата
Петром Великим. Дело затормозилось после его
смерти, в тот несчастный для России период, когда
в борьбе за престол один заговор сменял другой.
В немецкое лихолетье бироновщины под вопрос
были уже поставлены важнейшие преобразования
72
петровской эпохи. Это были как раз те условия, при
которых монастыри начинают оживать, стряхивая
с себя оцепенение, вызванное указами Петра.
Монашество воспрянуло духом в надежде, что все
вернется на круги своя. Действительно, прошло чуть больше
года со смерти Петра, и в начале 1727 года
восстановлен ряд монастырей, которые были закрыты
его указом. Следует сказать, что церковь вовсе
не торопилась с выполнением петровского указа,
закрытия затягивались, а фактически их не
проводили. Указом 1727 года „закрытые" монастыри
были просто легализованы.
Однако проекты Петра I не забывались. Вопрос
о секуляризации поставлен в текст указа 1757 года,
в конце царствования Елизаветы. А Петр III
распорядился о секуляризации разом всех монастырских
имуществ. Случилось так, что в полугодовое
царствование голштинского недоросля, боявшегося
России и ненавидевшего ее, было издано несколько
важных указов: отменена страшная Тайная
канцелярия, опубликован указ о вольности дворянства —
оба немедленно выполненные. Указ о монастырских
вотчинах не успели провести в жизнь, но он тоже не
был положен под сукно. В монастыри для
управления хозяйством назначили армейских и гвардейских
офицеров. Они, конечно, рассматривали свои
назначения как неожиданный и счастливый поворот
фортуны. Митрополит Арсений Мацеевич, противник
секуляризации, так суммировал их
кратковременную, но энергичную деятельность: „Спаса и
Богородицу обдерут!" И обдирали.
Екатерина II сразу же, совершенно на первый
взгляд неожиданно, возвратила имения,
конфискованные у монастырей. Целиком обязанная своим
воцарением гвардейскому перевороту, она знала,
что прежде всего следует прочно утвердиться на
престоле. Идти на конфликт с духовенством не
следовало, и в тронной речи Екатерина четко заявила, что
у нее нет „намерения и желания присвоить себе
церковные имения". Однако и результаты офицерской
деятельности в монастырях не пропали даром.
Имения монастырям возвратили, но управление
ими осталось в руках государства. В казну пошла
и половина подушного оклада с монастырских
крепостных, а он составлял тогда рубль серебра
в год.
73
Вопрос о монастырских владениях вставал все
острее. Екатерина прекрасно понимала, что
потерять престол много легче, чем приобрести, и, что
важнее, понимала, кто подлинный хозяин империи.
Единственно поэтому она окончила свои дни в
полном благополучии.
Спустя год по воцарении на заседании Синода
по поводу какого-то частного вопроса о
монастырских владениях императрица твердо заявила: „Все
сии имения похищены у государства". Вскоре,
26 февраля 1764 года, последовал указ. Все
церковные земли были переданы в ведение коллегии
экономии. Монастырские крепостные остались
крепостными, но стали называться „экономическими".
Таких душ оказалось около миллиона. Точно это
число не установить. Обычно приводится цифра
910 866 душ. Но по некоторым епархиям сведений
в Синод вообще не поступило, так что миллион —
более точная цифра. (Напомним, что учет велся по
душам только мужского пола, по душам,
платившим рубль подати. Женская половина семей
крестьянских не учитывалась — ее не облагали
государственными податями.)
Следовало немедленно „осчастливить" крестьян,
вышедших из монастырской кабалы. Подушная
подать была увеличена до полутора рублей.
Государство сразу получило — воистину как с неба
свалившиеся — полтора миллиона в звонкой
монете. Но в 1768 году размер подати был
повышен до 2 рублей, а в конце царствования
Екатерины „экономические" мужички должны были
нести в казну по 3 рубля, а иные и того больше.
В основу указа были положены монастырские
штаты, которые были составлены при Петре I,
но пролежали без движения 64 года, время от
времени извлекаясь на свет, чтобы вновь лечь в долгий
ящик.
Как ни странно, но трудно назвать даже реальное
число монастырей к моменту реформы. Данные
исследователей, занимавшихся этим, не сходятся
меж собой.
Итак, от начала XVIII века до указа 1764 года
из существовавших 1201 монастыря закрыто было
(в основном при Петре I и Петре III) 175
монастырей. Но за этот же период появилось не
меньше 46 новых. Итого к 1764 году в России суще-
74
ствовало 1072 монастыря. При секуляризации
оставлено 483. Штатные монастыри были
разделены на три класса. Обе лавры — Троице-
Сергиева и Александро-Невская — стояли
особняком и вне классификации. Картина оказалась
следующей:
Лавр - 2
Монастырей 1-го класса — 19 (15 мужских и 4 женских)
Монастырей 2-го класса - 59 (41 мужской и 18 женских)
Монастырей 3-го класса — 145 (100 мужских и 45 женских)
Итого: 225 (156 мужских и 67 женских)
Высший класс — 1-й. Штат монахов определялся
в 33 человека, получавших из казны жалованье
в среднем 2500 рублей в год на монастырь (цифры
немного колебались). Монастыри 2-го класса имели
по 17 штатных монахов и 1500 рублей годового
содержания. Третий класс — соответственно 12
монахов и 950 рублей. Настоятель монастыря получал
жалованье в несколько раз большее, чем рядовой
монах.
В названные суммы не входили главные
прибыли — многочисленные так называемые „безгрешные"
доходы, делившиеся братией строго соответственно
рангу иноков. Суммы эти делали пребывание во
многих монастырях делом привлекательным, во
всяком случае для начальствующей братии, которая
делила выручку, сообразуясь с собственными
интересами.
Но мы уже назвали цифру — 483 монастыря.
Оставшиеся за штатом монастыри были определены
на собственное содержание. Из монастырей,
назначенных к закрытию, некоторые были приписаны
к более крупным, другие просто притихли на
время, совсем не собираясь прекратить существование.
Это еще более запутало статистику. На деле же
картина была еще более сложной... При
секуляризации вовсе не были включены в счет монастыри
Сибири, их указ не коснулся. Реформа на Украине
проводилась в 1786—1788 годах, уже после
присоединения Крыма и окончательного (указом 3 мая
1783 г.) закрепощения украинских крестьян.
Кроме того, некоторые закрытые монастыри сразу же
стали восстанавливать. К концу первой четверти
XIX века было восстановлено не менее 33
монастырей. Запутанность хода секуляризации — нарочитая
75
запутанность, и приблизительность учетной
документации, которая попадала в высшие
правительственные инстанции, — свидетельство
сопротивления церковников реформе и той всеобщей
продажности государственного аппарата, которая
характерна для эпох, когда видна насущная необходимость
социальных перемен, но еще не осознана их
неотвратимость.
Фактически никаких выступлений церкви против
секуляризации не последовало. Происшедшее
укрупнение монастырей укрепило возможности их
идеологического воздействия. Дворянское
государство нуждалось в монастырях не меньше, чем
монастыри в государстве.
Секуляризация не была чем-то особенным в
эпоху дворянских монархий. В 1780-е годы
аналогично действует в отношении католических
монастырей Венское правительство, в 30-е годы
XIX века в Греции из примерно 400 мужских и
40 женских монастырей было закрыто
соответственно 319 и 37.
Остается добавить, что за время царствования
Екатерины II помещикам из казны было роздано
800 тысяч душ. Большей частью это бывшие
„монастырские", ставшие „экономическими", затем
„барскими" души... Мы увидим, что церковь еще
отыграется за это.
Когда мы говорим о секуляризации, будь то
монастыри, „отписанные" на великого князя,
будь то земли и крепостные души, изъятые у
монастырей в середине XVIII века, то все эти указы и
реформы богатств народу не возвратили. Крестьян
с землею передали от одних собственников
другим. Тот же мужик шел с тою же сохой не в свое
поле. Он лишь именовался не „монастырским",
а „экономическим", и то, если не был уже
подарен лихим гвардейцам Орловым или
блистательному Потемкину, или Захару Чернышеву —
„за победы на юге", или Екатерине Дашковой —
за участие в до смешного легком дворцовом
перевороте...
Монастырям же впредь было позволено всеми
„законными в Российской империи способами"
приобретать земли крестьянские. Покупать,
выменивать, принимать в благочестивый дар души
крестьянские.
76
Добрая половина доходов была возвращена
монашествующим как жалованье, положенное по
штату. То есть тот же мужичок продолжал содержать
те же святые обители, хотел он того или нет.
Земля — народу
Подлинная секуляризация, а главное —
национализация имуществ, была осуществлена после Октября.
Эта секуляризация проводилась народом и для
народа.
Нам нет нужды подробно останавливаться на
отчуждении монастырских имуществ, которое
проводилось в Советской России в 1918—1923 годах
рядом последовательных мероприятий Советской
республики.
Уже к осени 1920 года крестьянам было передано
827 540 десятин монастырских земель,
национализированы монастырские вклады в банки в сумме
4 миллиардов 247 миллионов рублей. В тех
губерниях, где национализация почему-либо задерживалась,
крестьянство не дожидалось административных
решений, а самостоятельно распахивало
монастырскую землю.
К 1921 году из 1245 монастырей было
национализировано 722. В числе оставшихся были
монастырские подворья, архиерейские дома и пр.,
преимущественно не имевшие земельной собственности. Ряд
монастырей в соответствии с декретами Советской
власти преобразовался в трудовые коммуны.
Впоследствии некоторая часть их, сохранивших себя
как религиозную организацию, для которых
наименование „коммуна" оказалось лишь фиктивной
вывеской, была ликвидирована, но значительная
часть монастырей — тех, в которых преобладало
монашество из крестьян, трудившееся на земле, —
стремилась создавать по-настоящему трудовые
коммуны, сельскохозяйственные артели и т. д.
Далеко не все они сумели действительно
реорганизоваться на новых началах — мешала
сложившаяся монастырская иерархия, привычная система
религиозного миропонимания. Там, где зти процессы
шли успешно, они оказывались связанными и с
освобождением монахов от религиозной веры. Не
менее важно и то, что успех обеспечивался прежде
77
всего устранением паразитического слоя
монастырских властей.
Приведем некоторые цифры из отчета
Наркомата юстиции о национализации монастырских иму-
ществ к 1920 году.
Национализировано:
Заводов — 84
Молочных ферм — 436
Скотных дворов — 602
Доходных домов —1112
Гостиниц — 704
Пасек — 311
Больниц и приютов — 277
В зданиях бывших монастырей размещено:
Санаториев и здравниц — 48
Учреждений социального обеспечения — 168
Школ, курсов и т. п. — 197
Больниц, лазаретов и т. п. — 349
Родильных домов и Домов ребенка — 2
Советских учреждений — 287
Военных учреждений — 188
Мест заключения — 14.
В 1921 году было закрыто еще 49 монастырей.
Позднее, конечно, соотношение размещенных в
монастырских зданиях государственных и
общественных учреждений стало иным — напомним, что
в годы, о которых идет речь, еще шла гражданская
война. Поэтому так много лазаретов и так мало
Домов ребенка... Так много военных учреждений и
мало — санаториев.
ГЛАВА
СИСТЕМА МОНАСТЫРЕЙ
Свято-Духов монастырь в Боровичах был мало
кому известен даже в ближайшей округе. Он более
походил на приходскую церковь, около которой
несытно кормилось несколько иноков. Может быть,
остатки братии разбежались бы от бедности, а
монастырь вовсе заглох, если бы не бурное половодье
на реке Мете весной 1545 года. Вода где-то подмыла
берег с кладбищем, и ломающиеся льдины несли
неведомый гроб-колоду. Гроб этот с покойником
приткнулся к берегу близ церкви.
Обнищавшие монахи, видно, давно молили бога
о ниспослании какого-нибудь чуда для
прославления святой обители. Поскольку все в мире может
быть совершено только божьим промыслом, то и
гробы с размытого кладбища годились для этого.
Гроб, рассудили монахи, появился здесь не
случайно... Стоит только начать с мысли о чуде, а дальше
религиозная логика идет по накатанной дороге:
последовал вывод, что в гробу останки праведника
(не станет бог присылать монахам грешника),
а если уж быть совсем точным — святого. Ведь
повсюду в монастырях лежат святые. Но раз святой,
то, несомненно, чудотворец. Так Свято-Духов
монастырь чудесно обрел чудотворные мощи. Не
хватало имени нового святого, но и здесь для
религиозного сознания препятствий не существует. Монахи
с полной уверенностью признали в покойнике по
способу его появления Иакова (с еврейского —
„претыкающийся", „запинающийся"). Чудеса от
гроба начались незамедлительно, иначе было
нельзя, иначе возник бы „соблазн" — сомнение в
святости останков. Трудно сказать, чего здесь было
больше — прямого обмана, фальсификации
мощей и чудес или же благочестивого самообмана.
Самообман тоже част в религиозном
миропонимании.
Монастырь начинает расцветать. Вскоре Иван IV
жертвует ему земли. Грозный был суеверен, но
вовсе не был ни легковерен, ни легкомыслен.
Наоборот. Он не стремился увеличивать
монастырские владения, но в эти годы приходится усиленно
укреплять западные границы государства: идет
длительная война с Ливонским орденом. Орден
83
этот — католический, против него нужны были
не только крепости, но и сильный монастырь —
оплот православного влияния. Возможно, иноки
Боровичского Свято-Духова монастыря
рассчитывали дело с Иаковом дальновиднее, чем это передает
церковная легенда и чем это изложили мы.
Так выглядит типичная история „прославления
святых мощей" в монастыре.
Чудеса при основании
Чудесами обставлялось основание многих
монастырей. Здесь вскрывается любопытная
закономерность, до сих пор не привлекавшая специального
внимания. Чудеса неодинаковы в разные эпохи и
играют в культе неоднозначную роль, выявляя
различия в деятельности монастырей в сменяющиеся
исторические периоды. Чудеса, связанные с
основанием новых монастырей, нехарактерны, например,
для древнерусского государства. Там это обычно
акт даже не церковной, а княжеской власти. Нужен
монастырь — его строят, оборудуют храм, кельи,
службы, обеспечивают вкладами. Чудо здесь обычно
излишне. В нем нет необходимости. Исчезают (за
редким исключением) чудеса и при основании
монастырей в синодальный период. С середины XIX
века основывается монастырь за монастырем, но
все это проходит по административным каналам,
с неизбежной бюрократической волокитой и
представлениями в епархию различных справок,
ходатайств, канцелярским делопроизводством
губернских управ и землемерами в полях. Настоятель
вводится во владение, открывается текущий счет
монастыря в банке, — словом, хватает хлопот, при
которых чудо — вещь излишняя, если не прямая
помеха делу. И чудес не происходит. А вот в
промежутке между двумя этими эпохами, особенно
в XV—XVII веках, чудо при основании монастыря —
почти правило, а его отсутствие — чудо.
На берегу озера находит икону Троицы Никола
Клименецкий. „Неведомый голос" объявляет ему,
что он должен основать на этом месте монастырь.
Дедова пустынь возникает на месте явления иконы
Троицы иноку Ионе. Святогорский монастырь
основывается по явлению иконы богородицы.
84
Даже двух икон. С
явлением первой что-то
недодумали, и вскоре, была
обретена вторая икона с
четкими указаниями по
строительству монастыря.
Валуйский Успенский
монастырь основан на месте
обретения иконы Николая
чудотворца. Святогорс-
кий и Валуйский —
примеры монастырей на службе
государства. Первый —
форпост Москвы в период
ликвидации псковских
вольностей, а второй
создан по указу Михаила
Романова в 1613 году.
Явлением иконы и
торжеством закладки нового
монастыря первый из
Романовых заявлял об особом
покровительстве
небесных сил новой династии.
Не случайно избрана
икона св. Николая — она
из числа самых
распространенных в культе,
„народная", если можно так
выразиться, икона.
Структурная особенность чудес: явление иконы
обычно, если монастырь основывается при
активном участии светских властей достаточно высоких.
Если место для монастыря ищет лицо не
первостепенное, например простой инок, то обретение
иконы — редкость. Здесь чудо приобретает вид явления
небесных сил, дающих указания об основании
монастыря. Эти явления бывают и наяву, но чаще —
во сне. Так, по явлению св. Николая монаху
основан Николо-Шартомский монастырь, по „чудесному
видению инока" — Петровский-Николаевский в
Саратовской губернии. Примеров множество.
Церковь использовала иконы для чудес, когда
церковная и светская власти действовали наверняка. В тех
же случаях, когда новая обитель могла не
прижиться, например, от сопротивления местных жителей,
Обретение чудотворной
иконы в лесу.
Основатели монастырей
нередко „находили святыни
своих обителей"на деревьях
и пнях общинного леса.
„Находки"становились знаками
бесспорной принадлежности
монастырю не только святыни,
но и земли. Крестьянство
упорно сопротивлялось таким
чудесам.
Церковная олеография
XIX в.
85
из-за нежелания окрестных монастырей
потесниться — причин хватало, — икона не являлась. В случае
неуспеха видение оставалось на совести рядового
инока. То ли он увидел во сне не то, что следовало,
то ли бес его попутал. Нежелательный „соблазн"
сводился к минимуму. Икона тут могла только
навредить.
Иногда чудо используется как идейное
подкрепление в случаях сомнительных. В конце XIV века
ростовские вольнодумцы вынудили оставить
епархию епископа Иакова, даже изгнали его из города.
В церковной брошюрке начала нашего века
написано: „Скорбя о происшедшем, святитель, выйдя
из Ростова, подошел к озеру, снял с себя
мантию, бросил ее на воду, встал на одежду и
поплыл по озеру..." Мантия причалила неподалеку —
Иаков на этом „свыше указанном" месте строит
церковь. Так основался Спасо-Яковлевский
монастырь.
Антоний Римлянин прибыл в Новгород на камне,
который чудесно плыл против течения Волхова.
Стоит ли говорить, что там, где камень причалил,
Антоний основал монастырь? Каждый раз чудо
церковно оправдывает сомнительное в глазах
современников событие. В первом случае оно
свидетельствует, что ростовчане
поторопились указать на
дверь своему епископу,
во втором —
обосновывает право на строительство
чужеземцу.
Но даже в период, для
которого характерна эта
группа чудес, их иногда не
бывает. Нет чудес при
основании миссионерских
монастырей. Казалось бы,
логика религиозного
мировоззрения требует
обратного: именно чудо
могло бы убедить
чувашей и мордву, марийцев и
л - 0 башкир, коми и эвенков
Антонии Римлянин плывет !.
на камне по Волхову. в необходимости монас-
Церковная олеография тыря на их земле. Тем не
конца XIX в. менее рассказов о чудес-
86
ных видениях и явлениях икон мы здесь почти не
встречаем. Чудесам и легендам такого рода
„поверит своей детской душой, — писал А. И. Герцен, —
крестьянин", религиозный человек, для которого
служители культа — служители истинного бога.
Но что икона „необращенному язычнику", для
которого все православное учение — звук не только
пустой, но и подозрительный? Тут чудо просто
вредно.
В синодальный период церковь, как уже
говорилось, к чуду вообще не прибегает. Но два-три
случая все-таки можно насчитать. Так, в 1857 году
Николаевский монастырь в Нижегородской
губернии основывается на месте, „предсказанном"
Серафимом Саровским. Это было, так сказать, местной
инициативой. Предсказал или не предсказал
покойный Серафим — такие толкования теперь не
доверяются рядовому иноку — только высшей
церковной власти. Собственно, в Петербурге и решали,
быть объявленному чуду чудом или не быть, а
самочинных провинциальных чудотворцев ставили на
покаяние.
Корни религиозного чуда нужно искать в
социальном устройстве общества. Но при всех
условиях чудо — вещь снайперски точная, оно работает
даже в грубейших фальсификациях, оставляет след
при убедительном его объяснении и даже
разоблачении.
Без чудес основывалась Киево-Печерская лавра.
При игуменстве Феодосия очевиден был
практический смысл деятельности монастыря, его
государственная необходимость.
Нет чудес и при основании Троице-Сергиевой
лавры. Боярская семья, в силу обстоятельств,
решает, что сыновья должны пойти по церковной
дороге. Из троих двое так и сделали. И оба
достигли высших степеней в церкви. Старший, Стефан,
стал духовником великого князя, младший,
Сергий, — основателем самого значимого монастыря
Московского княжества. Сергий вместе с братом
рубит небольшую келью и начинает
монашествовать. Здесь чудо — излишне, оно означало бы
слишком большую претензию основателей на
религиозную значимость создаваемой обители,
основатели же были пока не того масштаба, чтобы такая
претензия сошла с рук.
87
МОНАСТЫРИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ
ЦЕРКВИ
(Основные направления монастырской
колонизации XI—XX вв.)
Направления распространения монастырей
из древнего Киева (XI—XIII вв.)
Направления распространения монастырей
нэ древнего Новгорода (ХИ-ХУ вв)
Направления распространения монастырей
из Москвы (Х1У-ХУН вв.)
Монастыри.основанные в синодальный период
(ХУШ-ХХ вв.)
На карте показана граница СССР
Надо сказать, что если основание какого-либо
монастыря в Древней Руси обходилось без чудес,
то в дальнейшем они непременно появляются.
При закладке каменной церкви в Печерском
монастыре, который полностью оправдал
возлагавшиеся на него княжеские и боярские надежды,
начинается феерия чудес. Сама богоматерь
посылает византийских зодчих строить храм, дает им
архитектурные наставления и деньги. Корабль со
строителями плывет против течения, размечают
храм чудесно принесенной в Киев „мерой пояса
Христа", трижды происходят чудеса, указывающие
место закладки храма. Такого обилия чудес в столь
короткое время не знал ни один монастырь.
Происхождение этих чудес прозрачно. Печеры —
оплот тех сил, которые боролись с попытками
Константинополя навязать свое господство Руси. Чудо
стало острым оружием идейной борьбы. Чудо
провозглашало, что русская митрополия и Печерский
монастырь — под особым покровительством божьей
матери, это — место, в котором бог постоянно
творит прославляющие обитель чудеса. Идейно важна
каждая сюжетная деталь чуда. Именно богоматерь
покровительствует Печерам — это в противовес
Афону. Афон — ведущий византийский
религиозный центр — считался „земным уделом божьей
матери".
Важна „мера пояса Христа". Главная святыня
Афона — покров богоматери. Второй покров можно
бы найти, но монастырю на Днепре нельзя быть
вторичным. Святыня найдена совершенно точно. Очень
значимая, но не сам пояс Христа (царьградский
патриарх задал бы единственный вопрос: „Откуда
взяли?" — И ответить было бы нечего), а „точная
мера" взята с чудотворного изображения. И пояс-
меру принес варяг Шимон с севера. Это затрудняло
выяснение истории реликвии и как бы вскользь
поясняло заносчивым византийцам, что они вовсе
не монополисты, а христианские святыни могут
найтись и в стороне, расположенной диаметрально
противоположно греческому югу. Каждое слово
печерских легенд — стрела идейной обороны, стрела
политического утверждения Киева.
В Троицкой лавре чудеса также стали
происходить только тогда, когда она достаточно окрепла.
То богослужение вместе с Сергием ведет светлый
90
ангел — подтверждение прав Сергия на игуменство,
одно время оспаривающееся так, что Сергий
вынужден был временно покинуть обитель.
Укреплению авторитета Сергия служили чудо явления ему
богоматери и особенно легенда о приезде епископа
из Царьграда. Епископ, „неверием одержим",
сомневался в святости Сергия, за такое неверие он был
„поражен слепотой". „Незлобивый и смиренный"
игумен исцелил недостойного, с тех пор епископ
повсюду славил троицкого угодника.
Появление чудес в обители происходит не только
при начале монастыря, но и тогда, когда он вырос и
укрепился. Своеобразная логика культа такова, что
если новые чудеса не происходят (а повсюду они
есть), то монастырь, стало быть, неугоден богу.
Допустить этого обитель не могла. Приходилось
заботиться о чудесах.
Как складывалась система монастырей
За почти тысячелетнюю историю русского
православия возникало и прекращало существование
множество монастырей. Большинство из них были столь
малозначимы и недолговечны, что, может быть,
только названия старинных деревень или лесных
урочищ — Монастырек, Монастырщина и т. п. —
единственная память о том, что на этих местах
некогда существовало поселение нескольких иноков,
легко возникший и так же легко канувший в
небытие небольшой, в две-три кельи, монастырек. Одни
прекратили свое существование вследствие военных
разорений, моров и лихолетий, восстаний крестьян.
Другие не прижились из-за неудачно выбранного
места, третьи были вытеснены крестьянской общиной —
миром.
Но нас интересует не та, пусть преобладающая,
часть монастырей, которая исчезла, едва успев
появиться на свет (хотя сам факт заставляет
задуматься, почему именно монастырь проявил такую
нежизнеспособность). Ни один монастырь не
рассчитывался на временное существование, каждый видел
впереди безбедную жизнь, если не вечную
(вечность монаху следовало обеспечить себе загробную),
то до конца света, вычисленного по Пасхалии.
Исчезновение же множества монастырей имеет свои
91
причины. Прежде всего — это сопротивление
крестьянского мира, увидевшего святых отцов на своей
земле. Жития многих преподобных глухо
проклинают каких-то нечестивцев, мешавших будущему
святому строить обитель. Можно уверенно
утверждать, что народная борьба с монастырским
наступлением шла успешнее, чем принято считать,
назвать сотни монастырей, для которых неизвестно
ни время их основания, ни время их ликвидации.
Вопрос же существен для понимания истории
религии и церкви. Исследователи сосредоточивают
внимание на тех монастырях, которые обстраивались и
расширялись, а не на тех, которые исчезали, едва
возникнув. И это правильно, что говорить о том,
чего не только нет, но как бы и не было...
Громадная „смертность" монастырей остается вне поля
зрения, и возникает некоторое смещение
прошлого — система кажется прочнее, чем это было в
действительности.
Можно отметить и внутренние, собственно
монастырские причины. Часть бесследно исчезнувших
монастырей была основана теми религиозными
фанатиками, которые пытались осуществить
евангельский идеал „здесь и немедленно". Грешный мир
для них не подходил. Группа единомышленников
удалялась в лесные дебри, на „не искаженную"
человеком природу — божье творение. Такие монастыри
были обречены изначально. Отец Ферапонт у Ф. М.
Достоевского, правда, утверждал, что он в лесу
„груздем проживет", однако охотников присоединиться
к голодной и полной бед жизни чаще всего не
находилось. И, наконец, последний отшельник
двенадцать раз ударял в подвешенное (за неимением
колокола) бревно. Извещал — кого? — о смерти
монастыря и в одиночестве совершал последнюю службу.
Обитель исчезала сама собой. Две-три кельи
зарастали лесом, сгнивали, не оставив следа ни на земле,
ни в людской памяти. Да и ни к чему она была
мрачным пустынникам. Мир проклят и забыт, молебны
отпеты, души иноческие спасены. Словом, все по
Евангелию. Оставим их и мы.
В истории играли роль те монастыри, которые
умело и точно выполняли стоявшие перед ними
социальные и идеологические задачи...
В Киевской Руси с XI века начинает складываться
система монастырей. Иночество в постоянном дви-
92
жении следует общими путями расширения
русского государства, освоения им новых
территорий. Если кратко очертить главные пути
монастырского движения, то получается следующая картина.
От первой митрополии — Киева иночество
двинулось на север и северо-восток, основывая обители,
становившиеся первоначальными центрами
культуры и просвещения, во всех крупных центрах
древнерусского государства. Монастыри этого периода
преимущественно княжеско-боярские и
основываются в городах.
На севере возникает своя линия монастырского
движения: по пятинам Великого Новгорода на
Старую Руссу, Палеостров (XII в.), Боровичи,
Старую Ладогу, Валаам (XIII в.).
Затем возникают и местные центры
монастырской колонизации, такие, например, как Великий
Устюг с Михаило-Архангельским и Гледенским
монастырями (XIII в.), Валаам основывает
„дочерние" обители на Ладоге и Свири. В XV веке
монастырское освоение северных земель расширяется еще
более, включает течения Вага, Пинеги, Северной
Двины. К середине этого века Кожеозерский, а
несколько позднее Антониев Сийский монастыри
выходят к берегу Белого моря. В начале XVI века
на дальнем берегу Мурмана возникает самый
северный, Печенгский Трифонов монастырь.
Вторая колонизационная струя также
начиналась от Киева. Через Чернигов (Елецкий
монастырь), на Ростов Великий (Петровский и Авраами-
ев монастыри — все XI в.), Владимир
(Рождественский и Боголюбов на Клязьме — XII в.), Ярославль
(Спасо-Преображенскйй) и Нижний Новгород
(Благовещенский монастырь XIII века).
С началом объединения Руси вокруг Москвы
возникает мощная волна московской монастырской
колонизации. Это прежде всего деятельность Трои-
це-Сергиевой лавры. Еще при жизни ее основателя,
при непосредственном участии Сергия Радонежского
или иноков его монастыря в пределах Московского
княжества появляется больше 30 новых
монастырей. Московская линия также пошла на север, где
столкнулась с интересами Новгорода. Иноки
Симонова монастыря — Кирилл и Ферапонт —
основывают Кирилло-Белозерский (1397 г.) и годом позже —
Ферапонтов монастыри. Кириллов — новый центр
93
распространения монастырей Севера. Из него, в
частности, вышли основатели монашеской крепости
на Соловецких островах. Московская княжеская
колонизация была сильнее новгородской
посадской. Основатели Ошевенского монастыря —
Александр с братией — также вышли из Кирилло-Бело-
зерского монастыря, но свой основали на землях
Новгорода. Монастыри XIV—XV веков идут в глубь
территорий — по притокам крупных рек, озерам.
В XVI веке промышленниками Строгановыми в их
огромных владениях и на их средства основываются
Введенский в Соли Вычегодской и Троицкий в Соли
Камской монастыри.
Укрепившийся на новых землях монастырь почти
непременно „отпочковывал" новые обители, а те,
в свою очередь, также могли оказаться
монастырями-метрополиями по отношению к
„отпочковавшимся" от них. Процесс не был однозначным, как это
представляется в его конспективном очерке. При
наличии многочисленных княжеств в Древней Руси
их владетели-родственники враждовали, боролись
за „старшие" (более престижные и богатые) уделы
и стремились ставить свои монастыри, в тех местах,
которые были выгодны в этой усобной борьбе.
В ход шли соображения военные и политические,
экономические, словом, все возможные, кроме
религиозных. Последние, как обычно, были призваны
лишь санкционировать „всем сонмом святых,
богоматерью и самим Христом" сложившееся
положение. Церковь, на единство которой ссылаются
современные богословы для утверждения тезиса о ее
решающей роли в становлении национальной
государственности, большой роли в действительности
не играла. Те формально объединяющие факторы —
единство церковной системы во главе с
митрополитом, единство богослужения и обряда, единство
в культовом строительстве, живописи, в музыке
и т. д. — в период феодализма играли
объединяющую роль лишь при столкновении с иноверцами.
Так было, например, на западных рубежах Руси.
В политике же внутренней „свой" князь и местные
интересы всегда значили для церкви больше, чем
формальное единство православия. Оно
подразумевалось, а церковь на местах умело подбирала тексты
священного писания для укрепления местной
княжеской линии. И ничего с этим поделать не могли
94
ни киевский митрополит, а позднее митрополиты
Владимира, ни сам вселенский патриарх. Не могли
до тех пор, пока не созрели объективные
социальные и экономические силы, создавшие единое
государство. И церковь вновь санкционировала
происходящее именем „всего сонма святых и самим
Христом".
Сходно идет движение и на юге. Шаг за шагом
теснило Московское государство степных кочевников.
Основываются и заселяются города, и вскоре на
освоенной и уже безопасной земле служилое
воинство, пахари и ремесленники видят первых монахов.
Но в целом процесс освоения монастырями земель
на юге шел значительно быстрее, чем на севере. Во-
первых, возрос темп самой жизни, во-вторых, на
юге следовало поспешать, претендентов на эти
плодоносные земли было значительно больше, чем на
лесные просторы севера. „Испомещались", заводя
барщинное хозяйство, служилые люди, стремилось
на черноземы и тяглое крестьянство. Порой
монастыри идут в ногу с общей колонизацией. Тогда
монастырские стены строятся, как крепостные,
прочно и высоко: с них отражают стремительные
набеги степных всадников. Сказанное
характеризует монастыри XVI — начала XVII в. Они
основываются преимущественно на старых землях,
возникают, например, на воссоединенных землях Пскова и
Смоленска, Рязани.
Быстро основываются монастыри на территории
присоединенного Иваном IV Казанского ханства.
Зилантов в Казани — сразу же после ее взятия,
монастыри в Свияжске и второй в Казани — Спасо-Преоб-
раженский — в первые годы по присоединении.
Здесь действовала взаимная заинтересованность
государства и церкви в хозяйственной и
миссионерской деятельности.
Судьбы монастырей складывались по-разному.
Одни богатели и все более и более становились
крепостниками-феодалами, отличавшимися от светских
феодалов лишь черной рясой, другие разорялись.
Чаще всего разорялись монастыри в ходе военных
действий. Кроме стратегических причин тут
действовали причины идеологические. Так, в
польско-литовско-шведской интервенции был дотла разорен
Валаамский монастырь, восстановленный только
в XVIII веке, разрушен захватчиками замечательный
95
обилием памятников
монастырь Иосифа Волоцко-
го (вновь отстроен в
середине XVII в.).
Сходным образом
прослеживается движение
монастырей на землях
Сибири. Казалось бы, следуя
отшельническим идеалам,
за Урал должна была
двинуться не дружина
Ермака, не отряды
землепроходцев, а вся великая
армия иноческого воинства.
Здесь, за Уралом, было
все: и пустынные земли
для искателей спасения
души, подвигов
апостольских; „блуждающее во
тьме язычества"
население, которое просто
жаждало христианского света.
Ничего этого не
происходит. Из всех монастырей
Российской империи к
1918 году на все
просторы от Урала до Тихого
океана насчитывалось 46
монастырей, 2 скита, 21
община и 10
архиерейских домов.
Монастыри Сибири
возникали только на торговых путях: Тобольск —
Томск — Иркутск — крупнейший из трактов
Сибири. Перспективное значение его было понято сразу
же и на века вперед. Туруханск — важнейший
транспортный узел пути на легендарную Мангазею,
на восток к Байкалу и на Лену. Монастыри,
оказавшиеся севернее, — в Туруханске, Березове,
Якутске (других здесь не было) — не могут
окрепнуть и просто бедствуют. При секуляризации они
едва избежали упразднения: их оставили как
миссионерские форпосты православия. Монастыри эти
были бедными не потому, что их основали иноки,
стремившиеся к пустынничеству. Первоначальный
расчет монашества был иным. Но в XVIII веке
Желтый скит на о. Валаам.
Уединенный скит непременно
включался в маршрут
паломников по Валаамскому
Спасо-Прео браженскому
монастырю.
Вокруг обители располагалось
13 скитов и „пустынька".
В каждом паломника ждала
своя святыня: могила,
„ископанная собственноручно
св. подвижником" для себя
лично, резное изображение
святого, обутое в шитые
туфли, которые благоговейно
полагалось облобызать, и т. д.
96
центры хозяйственной жизни Сибири перемещаются
к югу, Север глохнет. В конце XIX — начале XX века
Синод строит монастыри в Бийске, Барнауле,
Семипалатинске, Омске, Томске, Красноярске,
Иркутске.
Дворянская империя не нуждалась в феодальном
монастырском закреплении территории, в тех
военных силах, которыми встарь располагали крупные
монастыри. Главной задачей иночества становится
религиозная проповедь.
В движении монастырей на юг в XVIII веке —
свои особенности. В междуречье Днестра и Прута
оживленная деятельность по открытию новых
монастырей связана с русско-турецкими войнами
конца XVIII века, закончившихся Кючук-Кайнард-
жийским (1774 г.) и Ясским (1792 г.) мирными
договорами. С присоединением православной
Молдавии на ее земле организуется несколько новых
монастырей и скитов. Монастыри, основанные
православными господарями и боярством,
существовали на молдавской земле и ранее. Они
неоднократно разорялись и уничтожались турками и
татарами. Так, Гербовецкий Успенский монастырь,
основанный в середине XVII века, в конце того же
века был сожжен, а братия разогнана. В 1730 году
монастырь восстановили, но до окончательного
воссоединения Молдавии его сжигали и
восстанавливали еще несколько раз. Бухарестский мирный
договор окончательно установил границу России по
Пруту. В это время особенно активно
развертывается монастырское строительство в Молдавии,
восстановлен Гербовецкий и основано три новых больших
монастыря.
Присоединение Крыма в 1780-е годы не вызвало
такого оживления монастырской деятельности.
Миссионерством в районах распространения ислама
церковь занималась без особой надежды. Здесь,
как и со старообрядчеством, успеха ждать не
следовало. Долгое время в Крыму продолжают
по-прежнему незаметно существовать только древние
монастыри. Например, Балаклавский Георгиевский,
основанный, вероятно, в IX веке и находившийся
в юрисдикции Константинопольского патриарха.
Лишь когда славянские народы начинают
освобождаться от власти Порты, оживляется и церковно-
монастырская деятельность в Крыму. До этого
7 Г. Прошин
97
почти 70 лет церковь как бы не помнит об одной из
главных святынь русского православия — храме
Херсонеса-Корсуни. В середине XIX века
восстанавливается древний скит в Бахчисарае, основывается
большой монастырь св. Владимира в Херсонесе. Еще
три монастыря были основаны сразу после
Крымской войны.
В Закавказье Синод не создает новых
монастырей, не ведет там церковь и активной религиозно-
монархической пропаганды. Она натолкнулась на
упорное сопротивление некоторых народов
Кавказа. И, что было особенно конфузно, не каких-то
„язычников во мраке суеверий", а народов
христианских, даже православных. Так, подчинение
грузинской православной церкви Синоду и создание
экзархата в Грузии стало одним из поводов
имеретинского восстания 1819—1820 годов. Основание
нового монастыря в эти годы — редкий случай. На-
марневский Иоанно-Крестительский создан в 1822
году, но он основан владетельными князьями Да-
диани. Энергичное наступление синодального
православия началось с третьей четверти прошлого
века. Так называемый Симоно-Кананитский
монастырь в Новом Афоне (1875 г.) — это последний
крупный монастырь, основанный в России. В нем
поселили часть братии Афонского Пантелеймонова
монастыря, откуда и пошло его общеизвестное
название. Основание Нового Афона — результат
сложных внутри- и внешнеполитических расчетов.
Здесь и заинтересованность в создании
монастырского центра на Кавказе — идейный противовес
исламскому влиянию Турции. Монастырь
основывается константинопольским патриархом по
согласованию с Петербургом. У Константинополя были
свои интересы, отнюдь не совпадавшие с интересами
Петербурга, но в противостоянии
турецко-исламскому национализму выбор афонских монахов как
нельзя более удачен: на Афоне прекрасно знали, что
такое турецкое владычество, национальный и
религиозный гнет, с которым равно сталкивались и
православная Греция и православная Грузия.
Продуман был и выбор места для монастыря.
У подножия горы находились развалины древнего
храма, который местная церковная легенда
связывала с погребением апостола Симона Кананита,
будто бы проповедовавшего здесь Евангелие в I ве-
98
ке. Храм был восстановлен как главная святыня
нового монастыря. Интересны храмовые росписи
монастыря. Пейзаж написан с окрестной натуры,
что должно как бы связать евангельские мифы
с Абхазией, возвысить христианские чувства
местных жителей... (Цикл последних по времени в
России росписей выполнен в 1911-1914 годах
художником А. В. Серебряковым и мастерами Палеха).
На западных землях в борьбе с католичеством, а
с конца XVI века и с унией, монастыри, случалось,
меняли свою конфессиональную принадлежность.
Происходило это оттого, какое вероисповедание
в данный момент укреплялось на этих землях.
В период, когда Смоленск был отторгнут от
России, его древний Вознесенский монастырь был
обращен в католический. С возвращением Смоленска
монастырь снова стал православным. Владимир-
Волынский Христорождественский монастырь был
основан иезуитами. В 1839 году иезуитов изгоняют,
а монастырь становится православным. В Витебской
губернии монастырь, основанный католиками,
после возвращения земель России превращается в
православный Тадулинский.
Эта религиозная сторона политической борьбы
наглядно выявлена в архитектуре
Каменец-Подольского православного Троицкого монастыря. В
период турецкого господства он был закрыт, а его
храм стал мечетью. К храму пристроили высокий
минарет.
Когда Каменец-Подольский оказался под властью
Польши, монастырь восстановили как униатский.
Отцы-василиане увенчали купол минарета
скульптурой девы Марии. Отныне уже не голос изгнанного
муэдзина, а христианский колокол отбивал время
православных молитв на католический лад. В 1795
году Каменец-Подольский окончательно входит в
состав России, и монастырь немедленно преобразуется
в православный. Однако старые храмы и минарет
со скульптурой сохранились. В бывшем монастыре
открыт музей.
Униатские монастыри с присоединением в XIX
веке западных губерний к России преобразовывались
в православные. С братией оставалось по-старому —
в унии сохранялась православная обрядность.
Разумеется, начальствующая часть братии ставилась
из православных. В Виленской губернии таким
99
У ворот Манявского скита.
В прошлом —
это один из центров
сопротивления католической
экспансии на Западной Украине,
сохранения национальной
культуры.
В настоящее время в его
реставрированных постройках
размещается музей.
образом были
преобразованы в 1839 году
Троицкий, Березвечский, Борун-
ский и другие униатские
монастыри. В те же годы
в трех западных
губерниях — Виленской,
Гродненской и Ковенской —
создается еще по монастырю
и все три — Рождество-
Богородицкие. Смысл
посвящения в том, что культ
девы Марии —
центральный в католицизме.
Православная церковь
выбрала то, что равно близко
православным и
католикам, то, что не вызвало
бы недовольства
приверженцев католицизма. Это
следует счесть достаточно
тонким, даже деликатным
методом религиозной
борьбы. Вообще же ни
католицизм, ни православие не стеснялись в
средствах взаимного уничтожения христианства
противной стороны.
В западных губерниях, где католицизм
традиционно занимал ведущие позиции, монастыри,
которые были центрами и религиозной и
националистической пропаганды, ликвидировались методично.
В периоды репрессий царизма, особенно в такие
годы, как 1830-1831, 1848, 1863-1864, закрытия
католических монастырей становились массовыми.
Всего с 1780 по 1890 год было закрыто 375
монастырей. В 1832 году разом закрыто 206 римско-
католических монастырей, после 1848 года — 24,
в 1864-м — 30. Не было существенным, кто
оказывался на троне — реакционер Николай Палкин или
либеральный „освободитель" Александр II, —
царизм и Синод совместно делали одно дело.
Подчеркнем, что когда прогрессивные силы России и Польши
выступали плечом к плечу в борьбе с
монархической реакцией, то в религиозной сфере и
ортодоксальная римско-католическая церковь и
православная греко-кафолическая вели одинаково реакцион-
100
ную шовинистическую политику, лишь едва
прикрытую христианством.
Обе церкви приложили немало сил для
разобщения братских народов. Немалую долю участия
в этом с обеих сторон принимали монастыри.
Но самые жестокие формы приобретала
церковная борьба не с иноверцами-католиками, а с
собственным расколом — старообрядчеством. В ход шли
разные методы. От церковных „увещеваний",
которые по самой природе дела не могли дать реальных
результатов, до каторжных работ или ссылки в
православные монастыри (монастырские тюрьмы).
Срок — „доколе не раскается". Трудно представить
что-нибудь хуже каторги, но для старовера
монастырская тюрьма была хуже — на каторге не было
непрерывного грубого давления на совесть,
психику. В монастыре же ко всем ужасам каторги
добавлялось постоянное введение во грех, все глубже
охватывало отчаяние душу человека, верующего и
насильственно притаскиваемого в никонианскую
„дьявольскую" церковь.
В борьбе с расколом церковные методы
непременно сочетались с административными, причем
действия гражданских и военных властей
преобладали. Расселившиеся по окраинам страны староверы
организовали собственные монастыри — скиты
(в старообрядчестве все монастыри называются
скитами). „Миссионерство" по отношению к людям,
считавшим должным креститься двумя, а не тремя
перстами, велось и таким способом: „биты кнутом
и вынуты ноздри и посланы в каторжную работу".
Это гвардии капитан Ю. Ржевский докладывает
Петру I о борьбе с расколом в Заволжье. Метод
осуществлялся военной властью, но целиком лежит
на совести духовенства, вызвавшего его к жизни.
Монастырские методы совпадали с
правительственными. Нижегородский епископ Питирим,
назначенный на епархию Петром I с целью искоренения
раскола, доносит царю: „Монахинь в лесу (это в
скитах за Волгой) тысячи четыре будет: надлежит их
всех взять в монастырь, а пища им хлеб да вода, а
которые обратятся, тем подобающая пища;
немногие останутся из них без обращения".
В 1840-е годы начинается полоса
административного и церковного наступления на
старообрядческие монастыри. Например, в Самарской губер-
101
нии скиты ликвидируются, монашествующие
старообрядцы сгоняются в три новых монастыря:
Николаевский, Средне-Никольский и Николаевский
Спасо-Преображенский. Все — „единоверческие"1.
Обращает внимание и то, что все три посвящены
св. Николаю в годы правления Николая I, что кроме
очевидного монархического смысла имело и
двоякий религиозный смысл. Во-первых, св. Николай
одинаково почитался и государственной церковью и
старообрядческой. Во-вторых, церковная легенда
гласит, что св. Николай, епископ из города Мир в
Ликии, участник церковного собора, осудившего
ересь ариан. Николай на соборе „ударил в ланиту"
еретика Ария — прямое напоминание
„единоверцам" не разделять прежних заблуждений, за
которые расплачиваются ланитами... Впрочем, как
расплачиваются, старообрядцам, насильно
переведенным в „единоверие", было знакомо.
Со второй половины 1850-х годов Синод
основывает несколько специальных монастырей. Их задачи
определяются без каких-либо обиняков: „в видах
противодействия расколу". С этой формулировкой
в 1867 году создан Оренбургский Богодуховский
монастырь. В районе старообрядческих сел
Московской губернии Спасо-Преображенский монастырь
основан по тексту указа Александра II: „для
искоренения раскола". В Симбирской губернии „для
ослабления раскола" создан Старо-Костычевский
монастырь. Обители для „искоренения"
создавали повсюду, где был силен раскол.
Апостольская миссия
„Духовная миссия православных иноков, — пишут
современные богословы, — имеет значение
вселенское, ибо господь повелел проповедовать св.
Евангелие не одному народу, а всем людям". Монастыри
Сибири уже с XVII века ставят с целью
христианизации местного населения. Так, Селенгинский Троиц-
„Единоверие" — попытка соединения старообрядчества
с православием, учрежденное в 1800 г., — нечто вроде унии
официальной церкви с кругами богатого старообрядчества.
Единоверческая церковь подчинялась Синоду, сохраняя
прежние обрядовые отличия. Немногие общины скрепя
сердце пошли на это, а после Октября единоверцы вновь
„отпали" от православия.
102
кий в Забайкалье основан по указу Алексея
Михайловича с целью „обращения язычников",
миссионерский Троицкий монастырь в Тобольской губернии —•
с той же целью. В первой четверти XVIII века
миссионер Лещинский по царскому указу „крестил
остяков и вогулов" и к 1727 году крещеных
оказалось более 40 тысяч человек. Цифра фантастическая,
даже если знать, что миссия весьма энергичного
апостола была поддержана воинской командой.
Сибирский „язычник" без особого
сопротивления подчинялся непонятному, но вроде бы не
приносящему очевидного вреда действию, иногда
охотно — за крещением следовали подарки.
„Дарили" когда деньги, когда рубаху... Не слишком
щедро, но все же... а поэтому крестились и
вторично, а если повезет, то и в третий раз. Миссионеры
смотрели на это сквозь пальцы: была важна
статистика, счет розданных рубах.
Любопытен один из ранних документов этого
миссионерского периода церковной деятельности
в Сибири — синодская инструкция 1742 года миссии
архимандрита Иоасафа, направленной на Камчатку.
Крещеным иноверцам рекомендовано „давать
десятилетнюю от ясака льготу". Тех из крещеных, кто
в церковь не ходит, штрафу (как было принято
в Европейской России) не подвергать, а „налагать
легкую церковную епитимью, например несколько
поклонов".
Если меры окажутся недостаточными,
обращались к светским властям. Тогда дело в спешном
порядке — не более чем в трехдневный срок —
решал суд. Та же инструкция требовала: „...чтоб
крещеные от общения с некрещеными, сколько
возможно, удалялись". Это было одновременно и
каноническим требованием и нереальным плодом
петербургского бюрократического творчества.
Синод предостерегал миссионеров от требования
продолжительных молитв и постов, справедливо
полагая, что это отпугнет от религии „новокрещенов".
Молитвы были рекомендованы краткие,
„солдатские, читаемые при полках".
Следует сказать, что миссионеры стремились
знать языки местного населения. Так, уже в 20-е
годы XIX века избранные места из священных
книг и молитвы появляются в переводе на языки
народов Сибири. Со второй половины XIX века
103
открываются двухклассные школы для детей
„инородцев". То есть христианизация идет, как
писал об этом В. И. Ленин, „более тонкими, более
усовершенствованными средствами"1.
Ханты, якуты, другие народы Сибири оказались
в сфере особого миссионерского внимания в начале
XX века. В 1901—1902 годах Синод открывает
несколько новых монастырей и общин „для
обращения в православие" нерусских народностей... Такие
монастыри открыты в Томской и Тобольской
губерниях, миссионерская женская община появилась
близ Якутска. Учредили двухклассные школы,
которые готовили учителей из представителей местных
народностей, школы-приюты для обучения грамоте
и ремеслу. Грамоте, впрочем, обучали только
мальчиков. Девочек учили ремеслу.
Аналогично шла христианизация нерусских
народов и в европейской части России. Для
„просвещения чувашей" строятся монастыри Архангела
Михаила, Александровский Чувашский и др. Для
марийцев создается Камско-Березовский Богородицкий
и др.
Опять же в посвящении монастырей
определенным святым заложена мысль об их назначении:
Архангел Михаил — предводитель небесного воинства,
борец с бесами — а весь языческий пантеон чувашей
конечно же бесовский. Монастыри,
специализированные на христианизации, часто создаются парами:
если основывается мужской чувашский монастырь,
то вскоре возникает и чувашский женский и т. д.
В целом „обращение" в большинстве случаев
оказывалось только формальным. На окраинах России
церковь была готова считать
православно-кафолическим вероисповеданием любую степень
религиозного синкретизма. Прежние и вновь внедренные
верования сплетались в причудливейший узор, который
покрывал собой отнюдь не христианскую сущность
религиозных воззрений. Не редкость было увидеть
в результате деятельности чернецов-миссионеров
прежнего шамана, изобразившего на колотушке
„лик св. Николая" и с удвоенной истовостью
бьющего в бубен головой обретенного им то ли нового
святого, то ли старого духа... В погребальном
обряде хантов и манси на традиционный сруб укрепляли
Ленин В. И. Поли. собр. соч., т. 17, с. 435.
104
крест, в медвежьем празднике к чучелу медведя
стали ставить церковные свечи.
Насильственное обращение в православие было
в начале XX века запрещено, но как до этого, так и
позднее, вплоть до Октября, иноки-миссионеры
по-прежнему не останавливались ни перед побоями,
ни перед насилиями иного рода. Вот типичный
пример „просвещения" Бурятии в конце XIX века:
„Буряты загонялись в юрты и сараи. В ожидании
приезда миссионера содержались там без пищи и
питья". Столь же грубыми были и крестильные
соблазны: стоило, например, вору принять
крещение, и он избавлялся от наказания.
...Бурятия, начало XX века. Миссионер
проповедует: „Сегодня Ильин день. А вы знаете, кто был
Илья-пророк? Он был разбойник. А за что он попал
в святые? А за то, что убил 850 человек
нечестивых идолопоклонников, как вы!.." Такие случаи
нередки.
Однако сам факт того, что миссионер
отправлялся к народам, которые стояли на значительно более
низком уровне общественного и экономического
развития, что миссионерство ставило перед собой
помимо проповеднических и чисто практические
задачи приобщения некоторых народностей,
например на Дальнем Востоке, к оседлости и ведению
сельского хозяйства, знакомства с начатками
медицины и т. п., — все это в какой-то степени имело и
прогрессивное значение.
Впрочем, эти черты деятельности монастырей
следует лишь отметить: они были сопутствующими.
Ни один монастырь не ставил себе задач собственно
культурного и хозяйственного развития
христианизируемых народов. Обучение происходило, как
правило, лишь в той мере, в какой сам монастырь
нуждался в рабочей силе на своем огороде или
скотном дворе. Равно и начатки просвещения
ограничивались культовыми потребностями, а отнюдь
не филантропическими стремлениями приобщения
к духовным богатствам русской культуры. В них
не нуждалось и проку не видело само иночество.
На громадных просторах России, от океана до
океана, и за тысячелетнюю историю церкви много
ли мы насчитаем имен иноков, хоть как-то
заботившихся о нуждах просвещения малых народов?
Просветитель лопарей Трифон Печенгский? Создавший
105
„зырянскую азбуку" Стефан Пермский? Инок
Герман, аляскинский миссионер, причисленный к лику
святых в 1970 году?.Может быть... Но, во всяком
случае, эта сторона их деятельности, с точки зрения
церкви, — побочная, она не относится к
„иноческому деланию". Дальше этого иночество не шло и не
собиралось идти: не монашеское это дело. Кстати
сказать, вопрос о том, что „объективно"
монашество все же способствовало распространению
цивилизации в дальних краях и т. п., освещался
односторонне, до сих пор во всяком случае. Вопрос же этот
требует научного изучения прежде всего. Однако
уже сейчас можно утверждать, что фрагментарно
полученные рядом малых народов хозяйственные
навыки, начатки грамоты и т. д. никак не разрушали
сложившейся у этих народов системы хозяйства,
не выводили и не могли вывести их из
первобытного состояния.
Эту громадную разностороннюю культурную
задачу впервые в мире — скачок от родового строя
к социализму — смогла решить только Советская
власть.
Были среди миссионеров и истинно талантливые
люди. Назовем, например, миссионера и ученого-
востоковеда Никиту Яковлевича Бичурина, отца
Иоакинфа в монашестве. Больше 130 лет назад
вышел его основной труд — „Собрание сведений о
народах, обитавших в Средней Азии в древние
времена". Труд, основанный на источниках, которые
инок Иоакинф впервые ввел в русскую и мировую
науку, труд, без которого и в наши дни немыслимо
изучение исторического прошлого народов Средней
Азии и Китая. Несколько сочинений Бичурина было
удостоено премии Академии наук,
членом-корреспондентом которой он был избран в 1828 году.
Тридцатилетним монахом прибыл в 1807 году Би-
чурин в православную Пекинскую миссию и пробыл
в ней до 1821 года. С 1826 года - Бичурин в
Петербурге. Крупнейший востоковед России — рядовой
инок Александро-Невской лавры. В основе его
трудов древние китайские и тибетские, монгольские
и уйгурские памятники, летописи, географические
карты, рукописные сочинения.
Бичурин был крупным ученым, но плохим
миссионером. Когда в Синоде узнали, как мало
„обращенных" в православие на счету возглавленной
106
отцом Иоакинфом 9-й духовной миссии в Пекине,
Бичурина отозвали. Сослать можно было не только
в Сибирь, но и из Сибири. Пять лет „исправляли"
бывшего архимандрита монастырскими мерами
на Валааме. Помог случай: об иноке-востоковеде
узнали в Петербурге, за него ходатайствовали
ученые и добились того, что с Валаама Бичурина
перевели в Александро-Невскую лавру и даже
причислили к азиатскому департаменту МИДа. Не раз
пытался Иоакинф снять сан. Этого ему не
разрешили. Большой ученый, писатель и публицист,
высоко оцененный в научном и литературном
мире столицы, человек, к которому с большим
уважением относился А. С. Пушкин (в его
библиотеке были книги Бичурина с авторскими
дарственными надписями), скончался иноком в 1853 году.
На его могиле в Александро-Невской лавре
скромный камень. Кроме русской надписи на нем выбиты
китайские иероглифы. Вот их перевод: „Постоянно
прилежно трудился над увековечившими его славу
историческими трудами".
Умер отец Иоакинф в нищете и одиночестве.
Отшельнические легенды
Вокруг прошлого монастырей сплелся большой
клубок церковных легенд. Это, например, церков-
но-историческая концепция ведущей роли
монастырей в освоении просторов русского Севера,
представление о том, что именно монастырская
колонизация ввела земли Севера в хозяйственный оборот,
привела туда пахарей и рыболовов, способствовала
организации хозяйственного освоения суровых, но
богатых краев. Концепция неновая, неверная, но она
продолжает бытовать, несмотря на обоснованно ее
опровергшие исторические исследования,
существующие в советской литературе.
Правовед начала нашего века, готовя в высшие
церковные сферы доклад, оправдывающий
монастырское владение недвижимостью, утверждал, что
„русскому крестьянину с семьей и бедными
пожитками страшно было пуститься в бездорожные
дебри", в которые „монах-пустынник пошел
смелым разведчиком". Подобную же мысль можно
встретить в современной церковной литературе:
107
„Поселяясь в безлюдных местах, иноки — люди
необыкновенной силы воли, стойкие в преодолении
всех трудностей — способствовали распространению
материальной и духовной культуры среди
нецивилизованных язычников"1.
Надо сказать, что тезис о монастырском освоении
земель возводится к трудам видного русского
историка В. О. Ключевского, автора известного „Курса
русской истории", выдержавшего ряд изданий до
Октября и трижды изданного в советское время.
Обратимся к Ключевскому. Впервые „Курс" был
им прочитан в 1882—1883 годах, и тогда же был
издан литографированный текст лекций. Позднее
В. О. Ключевский перерабатывал их, дополнял и
редактировал. В литографированном „Курсе" нет
лекций, посвященных темам монастырской
колонизации. Они впервые появляются только в годы
первой русской революции, в издании 1906 года.
Так что же пишет крупнейший русский историк?
Церковникам было бы трудно упрекнуть
исследователя в недостаточно уважительном отношении
к монашествующей братии: „Осуществление идеи
настоящего иночества, — пишет В. О. Ключевский, —
надобно искать в пустынных монастырях.
Основатели их выходили на свой подвиг по внутреннему
призванию и обыкновенно еще в молодости". Инок
стремился „искать безмолвия в настоящей глухой
пустыне, и настоятель охотно благословлял его
на это"2.
Далее: „Найти место, где бы „уединиться от
человек", было важной заботой для отшельника, манили
дебри, где были бы „леса черные, блата, мхи и чащи
непроходимые". На выбранном месте ставилась
„кельица малая или просто устроялась землянка".
Таким образом, у Ключевского присутствуют все
черты идиллической картины „подвигов
пустынничества". Мы можем найти в „Курсе" и другие
сходные места. Но впечатление церковной идиллии —
только кажущееся. В той же лекции профессор, как
бы противореча себе, осторожно ставит под
сомнение высказанные им положения: „Невольно
спрашиваешь себя, как могло случиться, что общества
людей, отрекавшихся от мира и всех его благ, явились
Журнал Московской патриархии, 1978, № 6, с. 69.
Ключевский В. О. Соч., т. 2, ч. 2. М„ 1957, с. 258.
108
у нас обладателями обширных земельных богатств?.."
Далее Ключевский подробно излагает способ
обогащения (вклады, пожертвования и т. п.). Правда,
он пишет, что не вполне ясно, какие побуждения
движут основателем монастыря: „Было ли то
искание пустынного безмолвия ради спасения души, или
стремление почувствовавшего свою силу инока
иметь свой (выделено автором) монастырь, из
послушника превратиться в хозяина..." Историк
заканчивает тезис так: „Первой хозяйственной
заботой... монастыря было приобретение окрестной
земли, обработка ее — главным хозяйственным делом
собиравшейся в нем братии. Пока на монастырскую
землю не садились крестьяне, монастырь (выделено
нами. — Г. П.) сам обрабатывал ее..." Но ни одного
примера собственно монашеского труда в „Курсе"
нет. Текст полон примеров обратного:
крепостнической деятельности феодальных монастырей.
Внимательный читатель должен был найти (несколько
далее) прямое указание исследователя: „Монастыри
идут за русско-христианской жизнью, а не ведут ее
за собой". Защитники монашества весьма
поверхностно прочли содержательные лекции московского
профессора.
Заметим, что в тонко построенной концепции
В. О. Ключевского не пожелали разобраться и
некоторые позднейшие исследователи. Так, автор
солидной монографии „Монастыри на Руси и борьба
с ними крестьян в XIV—XVI вв.", построенной
преимущественно на материалах того же
Ключевского, И. У. Будовниц, полемизируя с ним,
приходит к правильному утверждению о том, что „монахи
продвигались по путям, проторенным народной
колонизацией", но не замечает, что Ключевский
высказывал именно эту мысль.
Несколькими десятилетиями раньше В. О.
Ключевского Н. М. Карамзин рисует ту же картину
прошлого. Иноков, пишет он, привлекали в „тихие,
безопасные обители" не столько религиозные
мотивы, сколько „мирские преимущества". Карамзин
позволяет себе изящную иронию, замечая, что
„монашеская слава благочестия награждалась
достоянием", и довольно рискованную насмешку:
„...инок не сеял, но пожинал..." Это — парафраз слов
Христа, призывавшего учеников своих быть как
птицы небесные, которые не сеют, не жнут, но сыты
109
бывают. Неожиданно иронизирование дворянского
историографа над монашеством почти дословно
повторено в лагере революционных демократов.
О монахах писал Н. А. Некрасов:
Не жнут, не сеют — кормятся
Из той же общей житницы,
Что кормит мышку малую
И воинство несметное:
Оседлого крестьянина
Горбом ее зовут.
Это из „Кому на Руси жить хорошо". Карамзин и
Некрасов оба придерживались фактов.
Один из первых советских исследователей
монастырской колонизации Севера, А. А. Савич, все же
указывает единственный случай, когда основатель
монастыря пришел на совершенно пустое место,
„на великий лес". Речь идет о Герасиме
Вологодском, который пришел на место города в 1147
году. Вологда основана в том же 1147 году, но
Герасим, по словам жития, пришел на это место немного
раньше. Исследователь не лридал значения тому,
что будущий вологодский чудотворец застал здесь
уже и посад торговый, и церковь при нем. Правда,
житие Герасима считается не вполне надежным, так
как составлено не ранее XVII века. Однако именно
в этой части оно оказалось точным.
Существование города до 1147 года установлено
археологическими раскопками, которые проводились в Вологде
в 1948 году. Следовательно, и этот единственный
пример оказался несостоятельным.
Монастыри появлялись в местах, достаточно
перспективных с точки зрения дальнейшего
хозяйственного освоения территории. Они обосновывались на
обжитых землях, на торговых путях, в
экономических центрах региона, в местах перевалки грузов
с одного вида транспорта на другой, там, где
водились ярмарки и население исстари собиралось на
торг, и т. п. Монастырь основывался как
хозяйственная единица, становившаяся центром
дальнейшего экономического освоения территории. Чаще
всего, однако, монастырь Севера возникает как филиал
существующего, набирает силу с помощью крепкой
старой обители. Она назначает игуменов, организует
материальную сторону дела, обеспечивает на первых
порах братию необходимым количеством икон,
книг и покровительством местной власти.
110
Валаамские старцы уже в конце XIV века
основывают на Ладоге, на Коневецком острове,
Рождественский монастырь. Место выбрано точно: Коне-
вец лежит близ двух важных для региона путей.
Один, от Валаама к Волхову, вливался в
общерусскую водную систему, другой, при выходе в Ладогу
старого русла Вуоксы, позволял миновать Неву при
проходе из Финского залива в Ладогу. В середине
следующего столетия валаамский инок Александр
основывает монастырь близ впадения в Ладогу
Свири. Новый Александро-Свирский Троицкий
монастырь, перекрыв торговый путь с Онеги на
Ладогу, быстро богатеет и вскоре сам основывает
Андрусовскую и Сяндемскую пустыни близ
богатого железной рудой Олонца. В XVI веке Александров
монастырь основывает обитель и на озере Маша
(западное побережье Онеги). Аналогично
действовали и другие монастыри.
Спасо-Каменный монастырь на Вологодчине — это
московская линия продвижения на север — создает
Дионисиев Глушицкий и Сосновецкий Дионисиев
монастыри, а воспитанник и постриженник игумена
Дионисия Григорий в свою очередь становится
игуменом нового Григориева Пелшемского монастыря.
Только по Вологодской епархии к 1918 году
числилось 35 таких „отпочковавшихся" обителей, больше
известных по именам их основателей, чем по
святым и праздникам, давшим официальное имя
монастырю.
Но история монашества знает и другие примеры.
Известен ряд монастырей, которые основывались
одиночками-монахами. Так, Сергий Обнорский,
поставив на реке Нурме „крест, часовню и
небольшую кельицу", довольно долго жил в одиночестве,
„показывая образцы благочестия и подвижничества".
Его „духовный сын" Павел Обнорский некоторое
время странствовал по разным монастырям и то ли
нигде не прижился, то ли действительно стремился
к полной самостоятельности, но ушел в лес и три
года прожил в дупле липы. В конце концов он
создал свой монастырь. Кирилл и Ферапонт —
основатели известных монастырей в Белозерском краю —
некоторое время жили вместе, срубив келью на
Белом озере, но вскоре разошлись, и Ферапонт
основал свой монастырь в 18 верстах от Кирилла.
Некоторое время каждый жил в одиночестве.
111
Современная историография не дает оценки
этого характерного явления русского средневековья,
оставляя простор для традиционных церковных
утверждений о „высоте пустыннических идеалов"
и „величии отшельнических подвигов".
Уже упомянутый Будовниц отметил наличие
периода, когда отшельник — основатель монастыря
живет или один, или „с малой братией". Анализируя
эту часть житий ряда святых — основателей
монастырей, исследователь стремился непременно
обусловить ее помощью, которую подвижник получал
от лиц, имущих власть и материальные
возможности, или указывал на близкое нахождение других
монастырей, которые поддерживали
инока-отшельника материально, защищали его от тех, кто
противился замыслам нового поселенца, и т. д. По сути
же Будовниц факт пустынножительства отрицает.
Но вопрос этот сложный, и одним отрицанием
здесь дела не решить. При общей правильности
позиции Будовница в ней много упрощено.
Рассматривая колонизационную политику отдельных
монастырей, мы видим, что новые игумены
подыскивают не только уже обжитые места, но в первую
очередь — ключевые позиции территорий, которые
сулят основательные выгоды в перспективе. Но это
могли быть места необжитые, пустынные. Никаким
стремлением к отшельничеству этого конечно же
не объяснить. Ни один из будущих игуменов не
рассчитывал на долгое отшельничество. Речь идет не
о мечтателях, идиллически стремившихся к
„единению с богом в далекой от мирских соблазнов
глуши", но о черном воинстве, авангарде
монахов. Воинство черноризцев было дальновидным,
оно проявило значительные хозяйственные,
организаторские и дипломатические способности. Строгая
дисциплина и самодисциплина, умение
анализировать и прогнозировать обстановку — вот
отличительные черты „отшельников". Они умели
переносить трудности, связанные с освоением новых
мест, умели переносить голод и холод, не впадая
в уныние, они, наконец, не чурались физического
труда и, когда это было нужно, валили лес и пахали
землю, рубили кельи и часовни, ставили амбары,
рыли колодцы.
Инок, стремящийся организовать свой
монастырь, должен был обладать всеми перечисленными
112
умениями. Некоторые из них сохраняли при этом
и стремление к жизненному идеалу, такому, каким
он обычно рисовался молодому человеку,
начитавшемуся священного писания, трудов отцов церкви,
наслушавшемуся поучений об идеалах ангельской
жизни, ради которой следует отказаться от
соблазнов мира. Трудно сказать, что перевешивало в
личных стремлениях иноков, искавших „пустыни".
Может быть, желание обрести духовное
совершенство, провести жизнь в строгом соблюдении
принятых обетов и удостоиться царствия небесного (не
следует сбрасывать со счетов психологию веры).
Может быть, реальная жестокость повседневности
вела их к попытке создать идеальное общежитие,
где все бы трудились равно и так же равно
распределяли плоды своего труда. Большинство же прямо
стремилось к власти, к созданию маленького
собственного государства в государстве —точного
сколка феодальной системы с неограниченной внутри
обители властью игумена и всеми благами, которые
она может дать.
Существовали и другие причины в некоторых
случаях начинать монастырь с отшельничества. Так,
было бы попросту ошибочным ставить новый
монастырь, не проведя долговременной разведки
местности. Следовало учесть климатические и'почвенные
условия, перспективы развития местного хозяйства,
всесторонне изучить район будущего монастыря и
многое другое. Для этого на новые земли приходит
монах-одиночка или три-четыре монаха — группа,
рассчитывающая со временем на чью-то поддержку.
Нужно было вступить в контакты с местным
населением. Пусть „келейка малая" стоит пока в стороне
от крестьянских земель и лугов, среди леса, но
крестьянский мир весьма настороженно относился к
таким новоселам. Столкновения монахов и крестьян
из-за земли — характернейшее явление для XV—
XVII веков. Нужно было прижиться.
Но только организаторские способности,
административное умение и другие подобные деловые
качества для игумена-руководителя — недостаточны.
В конце концов хозяйственными делами ведал отец-
келарь. Игумен (а тем более основатель обители)
должен быть особо благочестив, особо отличаться
„духовными подвигами", соблюдением обетов.
Следовательно, необходимо было раскрыть еще одну
8 Г. Прошин
113
сторону своих способностей: суметь убедить
церковные власти в том, что он обладает должным
благочестием, а это своеобразная гарантия успешной
религиозной деятельности нового монастыря. Это
важно для нравственно-религиозного влияния на
братию и, главное, на массу верующих. В данном
отношении церковь придирчиво проверяла
кандидата в настоятели.
Необходимость отшельнического подвижничества
диктовалась и конкурентной борьбой между
монастырями, расширяющими сферы своего влияния.
Если в начальный период колонизации того же
Севера монастырь оказывался единоличным хозяином
нужных территорий, то в более позднее время
многочисленные соседи начинали зорко следить за
появлением чужих монахов в пределах досягаемости
собственной обители. И создать новый монастырь на
землях, приглянувшихся уже существующей
обители, было непросто. Сведения об этом обычно скупы
и отрывочны. Лишь в немногих случаях мы можем
достаточно полно восстановить картину борьбы
внутри монашества.
Основатель Покровского (1413 г.), а затем и
Кадниковского монастырей — Дионисий Глушиц-
кий — вел длительную борьбу за место для своего
монастыря. В конечном счете ему удалось попросту
согнать с места расположившегося поблизости от
него инока Павла, а затем и другого преподобного —
Григория Пелшемского.
Преподобный Киприан, о котором не
сохранилось почти никаких сведений, основал было
небольшой монастырь при впадении Свири в Ладожское
озеро. Его отшельнический подвиг вскоре был
„прекращен" иноком Александром, за которым
стояла сила Валаама. У Киприана поддержки не
было. В итоге на Свири вырос новый монастырь
преподобного Александра Свирского, монастырь,
вскоре захвативший власть на огромной
территории.
Бывало всякое. Случалось, что монахи темной
ночью шли в соседнюю обитель, чтобы выкопать и
выбросить вон тамошние чудотворные мощи.
Цель — лишить обитель-конкурента небесного
заступника и земных доходов. Кощунство? Это как
сказать — религиозное сознание в таких случаях
отличалось завидной широтой. Святость выбро-
114
шенных мощей отрицалась, монахи-конкуренты
обвинялись в сатанинском обмане, а те, кто в
действительности осквернил могилу, выглядели
весьма благочестиво, по крайней мере в
собственных глазах и всегда — в собственных молитвах.
В случае неудачи знак их богоугодного деяния
менялся на обратный, и приходилось тяжко отвечать за
богохульство.
Внутрицерковная борьба все же не самая
большая опасность для нового монастыря. Между собой
будущие кандидаты в святые в конце концов
договаривались. За счет крестьян. А вот крестьяне,
„черный люд", представляли самую большую опасность
для иночества.
В житиях святых, в документах XV—XVII веков
есть устоявшаяся формула недовольства
пустынниками: „...при дворах наших чернецы вселяются да
обладают нами". Инок Симон получает жалованную
грамоту на земли своему монастырю на реке Кич-
менге от богомольного Алексея Михайловича. Это
владение на 10 верст в округе от его „кельицы
убогой". И леса и земли — крестьянские. Крестьяне
просят не отнимать земли,
просят у Симона
жалованную грамоту. Монах
грамоту не отдал.
Крестьяне, подумав, собрались и
сожгли келью, а самого
Симона убили.
„В непроходимой
пустыни" меж сел и деревень
основал в 1540-х годах
монастырь Адриан
Пошехонский. Его
поддерживал сам митрополит Мака-
рий, но опять же
крестьянский мир роптал —
земли-то были его. Спорили о
границе мужичьих земель
и меже между пашней
монастыря и
крестьянской. Жаловались в
Москву. Не помогло. И
несогласные с разделом
земель крестьяне убили
Адриана. Тело его броси-
Крестьяне изгоняют
Антония Сийского и его братию
со своих земель.
Миниатюра из ,^Китийной повести
об Антонии Си иском".
XVII в.
115
ли на спорной меже. Монастырь же прекратил свое
существование.
Сообщение жития Антония Сийского о волнениях
крестьянства: „...сей старец совладеет селами
нашими..." Антония крестьянам поначалу удалось изгнать.
Таких фактов множество. Мир редко оставался
в бездействии, и протест его принимал формы
открытой борьбы.
Легенда о „Святой Руси"
В самых общих чертах мы рассмотрели систему
становления православных монастырей по всей России.
Понятно, как в условиях феодализма,
крепостничества, государственной монархической поддержки
растет количество и расширяется сфера
монастырского влияния. Но, что на первый взгляд кажется
особенно странным и неожиданным, резкий
численный рост монастырей приходится на вторую
половину XIX — начало XX в. Святые обители как бы
переживают своеобразный ренессанс. Повсюду
открываются новые монастыри, религиозные общины,
которые в кратчайшее время, в два-три года,
определениями Синода преобразуются в монастыри. Растет
число монашествующих и послушников. Монастыри
возникают там, где, казалось бы, их, издревле
обосновавшихся, и без того избыток.
Обратимся к цифрам, чтобы оценить динамику
процесса и выявить его причины. По десятилетиям
открыто (считая подворья, скиты, общины)
следующее количество монастырей:
Годы
1850-1860
1861-1870
1871-1880
1881-1890
1891-1900
Новые
монастыри
39
57
37
52
91
Итого 276 единиц за полстолетия. Особенный
численный рост заметен с третьей четверти века. К
этому времени в России насчитывалось (без
архиерейских домов) 340 мужских монастырей. В них около
5 тысяч монахов, послушников — около 4500.
Женских монастырей — 145, монахинь — около 3400,
116
послушниц — до 11 500 (данные на 1873 г.). После
1900 г. этот рост все продолжает набирать темп.
За 17 лет XX века было основано 177 новых
монастырей, практически столько же, сколько за 30
предшествовавших лет1.
Уже одно это было способно породить (и
породило) в русской религиозно-идеалистической
философии, равно как и в монархической церковной
пропаганде, множественные вариации одного и того же
глубоко ложного тезиса о некоем особом
христианском (православном) духе русского народа,
высоте его религиозного настроя. К этому прибавлялась
казенно-патриотическая выдумка „истинно
русского" единения народных масс, церкви и
самодержавия. Эти проблемы столкнулись еще в
дореформенные годы в печально известных „Выбранных
местах..." Н. В. Гоголя и в гневной, блестящей и
глубоко атеистической отповеди В. Г. Белинского.
Чем же объясняется ускоренный темп
монастырского строительства в указанный период,
превосходящий темпы предыдущих десятилетий? Яркий
материал для выяснения этого — губернии
черноземной полосы России. Так, в Самарской
губернии к 1918 году насчитывалось 18 монастырей.
Из них 13 основаны за вторую половину XIX века,
а один — в нашем столетии.
Рассмотрим эти 14 монастырей. Бузулукский
Троицкий начинал со 110 десятин земли,
пожертвованных местной помещицей. К 1918 году владел
432 десятинами земли при 22 монахах и 13
послушниках. Бузулукский Спасо-Преображенский владел
770 десятинами земли, также пожертвованными
помещицей. К 1918 году монахов в нем
насчитывалось 23, послушников — 31. Бугульминский Алек-
сандро-Невский монастырь основан крестьянином,
ставшим его первым настоятелем. К 1918 году
владел 2650 десятинами земли при 21 монахе и 42
послушниках. Самарский Николаевский имел соот-
Таблица составлена на основе опубликованных
дореволюционных данных, сверенных с выкладками В. Ф. Зыбков-
ца (Национализация монастырских имуществ в Советской
России (1917—1921 гг.). М., 1975). В наш подсчет
включены только монастыри, время основания которых известно.
Следовательно, таблица дает не абсолютные цифры, а лишь
динамику процесса. Интересующихся более полными
сведениями отсылаем к указанной работе В. Ф. Зыбковца.
117
ветственно 440 десятин, 20 монахов, 26
послушников. Самарский Иверский основан местной
купчихой, ставшей его настоятельницей. В начале XX века
владел 406 десятинами, к 1918 году имел 1086
десятин пахотной земли. Число монахинь — 109,
послушниц — 337. Самарский Свято-Троицкий основан
дворянкой, ставшей его первой игуменьей. К началу
XX века владел 267 десятинами земли. Монахинь —
48, послушниц — 200. К 1918 году его земельные
владения составили 1028 десятин, а число монахинь
и послушниц — соответственно 85 и 354. Бугуль-
минский Казанский построен на купеческие
средства, в конце XIX века имел 300 десятин земли,
17 монахинь и 96 послушниц, а к 1918 году —
уже 895 десятин земельных угодий при 37
монахинях и 112 послушницах. Бугурусланский
Покровский, изначально владевший 327 десятинами, своих
земель не увеличил. Количество монахинь и
послушниц к 1918 году было соответственно 92 и
189. Бузулукский Казанско-Богородицкий к
началу XX века владел 1187 десятинами, к 1918
году — 2061 десятиной пахоты при числе монахинь
85 и послушниц 370. Вознесенский
Николаевский, основанный в канун реформы на средства
некоего государственного крестьянина,
первоначально владел 248 десятинами, а к моменту
национализации — 1432 десятинами чернозема.
Монахинь в нем числилось 61, послушниц — 242.
Чагринский Покровский также не увеличил своих
земельных владений. Основанный на средства
купца и помещика, пожертвовавших: первый —
капитал, а второй — землю, он к 1918 году владел
1248 десятинами разных угодий. Монахинь было
52, послушниц — 187. Новоузенский
Свято-Троицкий к началу XX века располагал 440 десятинами,
к 1918 году — 2078 десятинами хлебородных земель.
Монахинь в нем насчитывалось 79, послушниц — 74.
Свято-Троицкий, в имении самарского купца,
владел к 1918 году 4760 десятинами земли при 43
монахинях и 117 послушницах. Последний в епархии
Николаевский женский монастырь был основан
в 1913 году местной дворянкой, ставшей его
игуменьей. Точными сведениями о нем мы не
располагаем.
Перечень получился утомительный, но
характерный.
118
Из 14 монастырей мужских только 4 и в них —
наименьшее количество монашествующей братии.
В 10 женских монастырях количество инокинь и
послушниц намного больше, значительно большие
у них и земельные владения. Среди основателей
монастырей — пятеро помещиков-дворян, четверо
купцов, двое крестьян. Три монастыря были
основаны непосредственно епархиальной властью.
Четверо жертвователей, приняв постриг, тут же стали
настоятельствовать.
Внерелигиозные причины явления очевидны.
Характеризуя последствия крестьянского
„освобождения", реформы 19 февраля 1861 года, В.И.Ленин
писал: „Пресловутое „освобождение" было
бессовестнейшим грабежом крестьян, было рядом
насилий и сплошным надругательством над ними. Послу-
чаю „освобождения" от крестьянской земли
отрезали в черноземных губерниях свыше 75 части. В
некоторых губерниях отрезали, отняли у крестьян до
*/3 и даже до '1/5 крестьянской земли. По случаю
„освобождения" крестьянские земли отмежевывали
от помещичьих так, что крестьяне переселялись на
„песочек", а помещичьи земли клинком вгонялись
в крестьянские, чтобы легче было благородным
дворянам кабалить крестьян и сдавать им землю за
ростовщические цены"1.
Реформа лишь частично ликвидировала, точнее,
только ослабила конфликт между
производительными силами и производственными отношениями,
резко обозначившийся в последний период
крепостного права. Монастыри среди оставшихся в стране
пережитков крепостничества еще на десятилетия
оказались крупнейшим островом феодализма, даже
целым феодальным архипелагом. Архипелаг этот
был обитаемым, и его быстро прибрали к рукам
лишенное прежних привилегий дворянство и
вошедшее в силу купечество.
„...На место сетей крепостных люди придумали
много иных", — писал об этой эпохе Н. А. Некрасов.
Бывший барский холоп принимал обеты иночества,
и сети этого духовного рабства, освященные
авторитетом церкви и укрепленные личной верой,
оказывались надежнее порвавшейся „великой цепи"
прежнего узаконенного государством рабства. В этом
1 Ленин В. И. Поли. собр. соч., т. 20, с. 173.
119
смысле монастырское принуждение экономически
оказывалось даже выгоднее не только феодального,
внеэкономического, но и капиталистического,
основанного на продаже рабочей силы, принуждения.
Старание в труде инокинь и послушниц
подкреплялось внеэкономически, идейно: верой в
необходимость тягот на грешной земле и еще более
могущественной верой в светлое будущее, которое
непременно уготовано инокам — ангельскому образу —
в грядущем царстве Христа. Монашество - рабство
по убеждению. А такие уставные добродетели
иноков, как постничество или сухоядение, помогали
существенно сократить расход на питание братьев
и сестер.
Что же касается рабочей силы, готовой за хлеб и
квас годами послушничать в ожидании рясофора и
последующего пострига, то „освобождение"
обеспечило ее в достатке. Обезземеленное крестьянство
шло в города, пополняя ряды пролетариата,
вцеплялось в жалкие клочки „песочка", все более
запутываясь в новых сетях кулацкой кабалы.
Обессилевшая, окончательно обнищавшая в этой борьбе
часть крестьянства, скинув пропотевшие рубахи,
облекалась в черные подрясники. Постные щи и
кашица монастырской трапезной рядовому
большинству обители доставалась тяжелым трудом,
но это был привычный круг крестьянских работ
в поле, саду, на скотном дворе. Пища была
скудной, но все же это был верный кусок хлеба. Да и
был ли этот кусок скуднее прежнего? Все едино:
„в поте лица своего", разносолами русский мужик
не избалован. Была и одежда, и крыша над
головой, и удаление от многих обязанностей „мира" —
отсутствовали государственные и земские налоги,
обрывались связи с родными — отпадала
необходимость заботиться о членах семьи, родственниках.
И, подчеркнем еще раз, — все свободное от
физического труда время было отдано „труду
молитвенному" — открывало немаловажную для религиозного
сознания возможность в ангельском чине вступить
в загробные блаженства „жизни будущего века".
Монастырские сети не были новыми, но именно
они оказались весьма крепкими в новых
исторических условиях.
Большое число женских монастырей и
значительное количественное преобладание монахинь
120
(по вышеприведенным данным, в монастырях
Самарской губернии 198 мужчин и 2618 женщин)
также имеет в основе социально-экономические
причины. Потерявшая земельный надел
крестьянская семья фактически распадалась. Мужчины в
большинстве своем шли на. заработки в города, где
применение женского труда было в ту эпоху
значительно меньшим. Да и на селе, в крестьянской
семье, взрослая девушка, не вышедшая замуж, —
„лишний рот", и дорога в монастырь была для нее
одной из вероятных, а часто и желаемой. Не
случайно на Руси засидевшуюся девушку — „вековуху",
так же как инокиню-схимницу, именуют
„Христовой невестой". Для нее монастырь очень часто —
единственная возможность выжить.
Крепостнический характер новых монастырей
очевиден из соотношения монахов и
послушников. По женским монастырям Самарской
губернии количество монашествующих — 636,
послушниц — 1982, то есть в три раза больше.
Послушания первых более касались внутренних дел
монастыря: канцелярская работа, печение просфор,
продажа свечей, поддержание „благолепия" в храме
и т. п. Собственно послушницы использовались
преимущественно на полевых и огородных работах,
а также как прачки, кухонные бабы, уборщицы
и т.д.
Объективных характеристик этих монастырей
не найти ни в многочисленных описаниях обителей,
ни в церковной периодике, ни в официальных
синодских изданиях. Лишь публицистика и
художественная литература порой доносят до нас истинный
образ монастырской жизни. Так, например,
официальные и официозные справочники кратко
упоминают древний Мцхетский женский монастырь
св. Нины, что стоял при впадении Арагвы в Куру.
Однако современник пишет о нем в 1916 году
много ярче: „...бывшая княгиня, феодальная
владетельница, имевшая еще нескольких настоящих
рабов, сделалась настоятельницей монастыря. Какой
это монастырь! Нет, настоящий: в нем двадцать
монахинь, женщин, боящихся мира или выкинутых им,
пахали, сажали овощи в огороде, яблони и сливы
в саду. Жили трудом рук своих, молились богу
больше всего, напуганные и боящиеся, прося о
пощаде, прощении и милости..."
121
Монастырь привлекал основателей в
пореформенное время еще и тем, что правительство охотно
оказывало помощь новым монастырям. Вновь
созданная обитель имела право получить из
государственных имуществ загородные дворы, рыбные ловли,
мельницу, пахотные земли и другие угодья.
Количество недвижимости устанавливалось межевыми
узаконениями Российской империи и уточнялось на
месте. По закону монастырь мог претендовать на
100—150 десятин государственной земли. Надел,
вполне достаточный „на первое обзаведение", со
всем остальным, получаемым от казны, обеспечивал
верхушке монастыря „житие прохладное и
беспечальное". Таким образом, некоторое количество
земель, которые небезвозмездно утратило
дворянство в результате реформы, перешло в
собственность новых монастырей. Фактически часть их на
слегка измененном основании вернулась прежним
владельцам, сменившим дворянскую фуражку
с красным околышем или парижскую шляпку на
черный клобук.
ОТСТУПЛЕНИЕ ОТ ТЕМЫ
Полюсы монашества
Монашество Нового и Новейшего времени, как и
прежнее, отнюдь не было склонно к аскезе, к
отшельничеству. В его адрес все чаще раздавались
упреки в тунеядстве, безделье, роскоши, которые
вызвали злобную отповедь монашества. Да, мы
живем в полном благополучии, обеспеченности и со
всеми мыслимыми удобствами, писал валаамский
монах, живем за счет верующих, но так и должно
быть. Для спасения души „нужно, чтобы монахи
не имели никаких забот с материальной стороны...".
Несколькими десятилетиями позже известный
церковный автор инок Игнатий (Брянчанинов) с
предельной откровенностью изложил ту же концепцию.
Он писал, что для спасения души монаху
необходимы максимально комфортные условия. „Монаха, —
излагает Игнатий, — можно уподобить
оранжерейному цветку, а мирянина — полевому. Невозможно
на поле встретить такие прекрасные цветы, которые
встречаются в оранжерее; оранжерейные цветы тре-
122
буют особого ухода за ними". Даже трудно понять,
на чье (кроме монашеского) сочувствие
рассчитывал Брянчанинов, публикуя оправдание
монашеского тунеядства. Сравнение с оранжерейным цветком,
как и прежнее, „кисейная барышня", прочно вошло
в язык и до сих пор служит крайне отрицательной
характеристикой.
Это тезис так называемого ученого монашества,
академического. Представителя монашествующей
элиты можно было видеть порой и с магистерским
крестиком на рясе. Часто это бездельник с
бородкой „под Христа", надушенный парижскими
духами, в шелковой рясе и с золотым иерейским
крестом. Он богословствует в уютной „келье" в
несколько комнат, рассуждает о грехах человечества
и о его неминуемой гибели. Он вполне
интеллигентен, и на столике („налойчике"), рядом с
молитвенником, всегда лежит книжка модного журнала. Он
даже не прочь поругать общественное устройство
или религиозные суеверия. Но тут он точно знает
меру допустимого: к властям он лоялен,
идеологически выдержан и если позволит себе легкую
крамолу, то лишь для остроты беседы, чтобы не сочли
его отсталым ретроградом. „Что поделать, —
пригорюнивается он, — мы живем с вами в такой
нецивилизованной стране, что поневоле нужно
заставлять простой народ верить в какие-нибудь фикции,
вроде святых мощей и царя-батюшки..." Сам он
не верит ни в бога, ни в черта.
Такие монахи занимались и „делом": это они
заставили Гоголя сжечь том „Мертвых душ", они
поучали в Оптиной пустыни Ф. М. Достоевского, они
предлагали вразумить молодого Пушкина
„затвором" в Соловках — не было бы у нас такого поэта!
Они осуждали „Рефлексы головного мозга"
Сеченова, полотна И. Н. Крамского и пьесы А. Н.
Островского.
Они — один полюс монашества. На другом — его
антипод. Это тип аскета с воспаленными от
бессонницы глазами, оборванного, бог знает когда
мытого. В косматой бороде запутались клочья какой-то
дряни: не то остатки пищи, не то свидетельство
короткого сна в грязной соломе. Грамоты он не
знает и знать не хочет. Его единственный
интеллектуальный и богословский багаж — две-три
молитвы: „Отче наш", „Верую" да еще какая-нибудь —
123
это не важно, потому что и в них он путается.
Твердо знает лишь молитву Иисусову. Ко всему, что
вокруг, даже к церкви, относится с отвращением,
„не приемлет" наотрез. Точнее, наотмашь, потому
что предельно груб и потому что всегда готов
кулаком защитить и утвердить „веру". С удовольствием
харкнет на пол — покажет презрение к мирскому.
Воля его „спасением души" закалена до полнейшего
равнодушия к людям, до презрения к ним, до
радости при виде страданий другого — мол, это будет
его грешной душе полезно. О таких двести с
лишним лет назад с изумлением и страхом говорил
Феофан Прокопович: „Детина, злобы непобедимой".
Он и считает себя истинным монахом, истинно
православным. В прошлом — идеальный материал для
черносотенных погромов, шествий с хоругвями и
портретом царя-батюшки. Зол. Если лицо его
искривит улыбка, то лишь при виде тех икон, на которых
сатана тянет в ад монахов. Он убежден, что его
ученый собрат будет там наверняка, а наш грязнуля
воссядет в благоуханном райском саду по правую
руку самого господа бога. Ученого монаха он
ненавидит люто. Тот отвечает ему презрением
сдержанным, но от этого не менее сильным. Однако друг
без друга они существовать не могут. Ученое
монашество организовывало этот иноческий сброд —
массам паломников он преподносился как образец
презрения к земному. Ученое монашество и
подкармливало его, исподволь натравливая на „жидов,
студентов и социалистов". Когда „ученый"
указывал цель, этот шел бить. Два полюса, но на одной
оси...
В конце прошлого, особенно в начале нашего
века, после первой русской революции, в обществе
назревал протест против самого существования
монастырей как давно изжившего себя
религиозного института. Все более открыто и все более
гневно начинают говорить и писать о том, что эта
почти тысяча монастырей, веками существуя за
счет народа, ничего взамен ему не дает. Печать,
даже церковная, полна примеров монашеского
тунеядства, сытого, паразитического безделья.
Либеральная печать полагает, что монастыри могли
бы взять на себя „дела человеколюбия" —
воспитание сирот, содержание домов призрения,
воспитательных домов, лечебниц. „Оранжерейные цветоч-
124
ки" Игнатия Брянчанинова возражают, настаивая
на том, что их служение богу — это и есть служение
людям.
Особенно возмутительным было положение
в женских монастырях. А количество их к этому
времени сильно увеличилось. В женских
монастырях проявилось сильное стремление „к мирскому".
Загнанные, как правило, нуждой в монастырские
кельи, девушки мечтали в них о том, что могли бы
принести пользу обществу, трудиться на общее
народное благо, а не на благо властей обители.
Протест подавлялся известными нам методами,
и сторонний наблюдатель с грустью видел, как
„в 5—10 лет в этих обителях гибнут", замыкаются
в себе, чахнут инокини в черных мантиях.
Белошвейки, кружевницы, вышивальщицы,
портнихи — работают на сторону, на рынок, выручкой
распоряжается мать-игуменья. Описанные в
церковной литературе подвиги благочестия состояли вовсе
не в многочасовой молитве, а в 14—16-часовом
труде в монастырских мастерских и сущих грошах,
которые выделяла инокиням мать-казначея...
А „начальство" в двухэтажных „кельях"-виллах
со множеством прислуги „спасало душу" всеми
возможными способами, по Брянчанинову.
Но чего же требовало
монашество в эти
последние, грозные
предреволюционные годы?
Иночество повсеместно
требовало всего лишь
иного распределения
доходов в обителях. Один
из обиженных (печатно)
приводит пример:
монастырь имеет 9 тысяч
рублей дохода, и доход этот
делится по третям — треть
игумену, треть
иеромонахам монастыря (их
мало), треть остальной
братии — ее много. „Ну где
же тут божеское
распределение?" — вопиет инок. ЛЛлия^и,п^яа гмпо**
%л Монастырская трапеза.
Монашество шло и далее с картины В. Г. Перова.
этого. (Фрагмент)
125
В 1909 году в обстановке большой секретности
состоялся ,Первый монашеский съезд" — дело
неслыханное. На нем присутствовали выборные от 42
обителей. Но речь шла не о возрождении роли
монашества по древним образцам. Черноризцы просто
стремились уцелеть в мире, который стремительно
терял веру даже не в нравственный идеал
монашества — этот идеал был давно ими утерян, — но в
религиозные идеалы вообще.
Съезд постановил просить у правительства, кроме
денег, отпускаемых на монастыри, твердого
казенного жалованья каждому монаху. Постановили
просить по 120 рублей на инока в богатых обителях
(там доход и так большой), и по 360 — в бедных,
где сборы и доходы, по иноческому разумению,
недостаточны. Требовали, клянчили, вымогали и, как
признавались наиболее трезво мыслящие монахи,
„ничего не давали взамен народу".
Спустя 400 лет после Иосифа Волоцкого, — писал
журнал „Монастырь" в 1909 году, — „дельный и
умный монах", назначенный в игумены куда-то на
север, по примеру Иосифа Волоцкого сперва
объехал ряд монастырей в поисках образца и
обнаружил, что строгие уставы существуют всего в двух-
трех монастырях, но и там братия их не соблюдает,
что монашество тунеядствует повсюду, хорошо,
если где-то окажется хоть один порядочный инок.
Чем же можно было защитить этот изживший себя
религиозный институт? И все же монашество
продолжало стоять на своем.
Характерный пример.
В 1908 году церковный журнал публикует
сценку, сочиненную кем-то из ученых монахов. В ней
полемизируют „радикальный писатель" и монах.
Писатель с самого начала обрисован как субъект,
морально нечистоплотный и хулитель церкви. Монах
же — „мощен по вере". Приведем их диалог,
сократив длинноты:
„Писатель. Делают ли монахи что-либо для
народа, получая от него помощь? Сколько в монастыри
иде'т народных миллионов, но мы не видим
разумного употребления их. Мы видим только одну грязь...
Инок. Так, по-вашему, монастырей не нужно?
Писатель. Всеконечно!
Инок. Я слушаю вас.
Писатель. Соблазн, игра в карты, разврат.
126
Инок. Я живу в монастыре более тридцати лет.
Жил в деревне, был неграмотен..В монастыре
грамоте научился..."
И продолжает, что монастыри украшают храмы,
ведут большое хозяйство, монахи работают на земле
и, наконец, занимаются распространением
православия. Заключил же свой выговор „мощный по вере"
инок требованием не писать о грехах
монашествующих, потому что этим будет нанесен вред религии.
Большего монастыри сказать в свою защиту не
могли. Последний довод — единственный, который был
равно весом для церкви, самодержавной монархии
и буржуазного либерализма. Это своего рода
иноческая „Сумма теологии".
Монашество занимало удобную позицию в
отношении „грехов мира". Воспитывая массы в
религиозном духе, черноризцы указывали на грехи всем и
каждому, но, коль скоро речь заходила о причинах
„греховности", монашество тотчас же оказывалось
в стороне. Воспитывало оно, а ответственность за
результаты возлагалась на воспитуемых людей. Для
доказательства греховности всего мира, всего
человечества и каждого человека шли священные
книги, практический опыт монашества.
Монастыри могли жить пока спокойно. До
первой мировой войны оставалось шесть лет, до
революции — девять. По-прежнему „русские граждане
были в крепостной зависимости у государственной
церкви"1.
Отметим, что закон не определял безусловной
обязательности наделения монастырей землей.
Практически его статья была использована в
интересах дворянства и духовенства. Судя по
„Определениям" Синода второй половины XIX — начала XX в.,
государственная земля предоставлялась
преимущественно монастырям, которые основывались
дворянами и лицами духовного сословия. И те и другие
нередко получали государственный надел даже
тогда, когда основывали монастыри в собственных
имениях или на землях, им принадлежащих. Два
примера: Знаменский монастырь в Воронежской
губернии основан баронессой Боде в 1867 году.
Ленин В. И. Поли. собр. соч., т. 12, с. 144.
127
В собственности монастыря насчитывалось 580
десятин земли, а к 1917 году — 750 десятин. Рост
владений произошел за счет казны. Пятогорский
Богородицкий основан уездным предводителем
дворянства в 1884 году на нескольких десятинах
наследственного имения и дополнительно наделен
казенной землей в начале 1900-х годов. К 1917
году он владел 109 десятинами. Монастыри,
основанные выходцами из других сословий, казенные
даяния получали реже.
Итак, рост монастырей — не свидетельство
„святости" Руси, а результат обнищания подавляющей
массы крестьянства после „освобождения" от
крепостной зависимости, поставлявшего практически
даровую рабочую силу, что способствовало росту
старых и возникновению новых монастырей,
особенно в центральной России.
Ту же роль сыграли промышленные кризисы,
буквально втолкнувшие в монастырские ворота
тысячи новых послушников, готовых за кров и
хлеб нести самые трудные послушания.
Войны второй половины XIX века,
русско-японская и в особенности первая, мировая унесли
кормильцев, разорили и осиротили неисчислимое
множество семей, для которых монастырь оказался
единственным прибежищем от нищеты и гибели.
Случайно ли в годы первой мировой войны
создаются только женские монастыри?
Политика „оправославливания" в которой
церковь и самодержавие действовали совместно, —
политика, выразившаяся в создании миссионерских и
противораскольничьих монастырей.
Наконец, усиленное стремление увести массы от
политической борьбы, опереться на религию, как
узду, сдерживавшую революционное движение, —
вот, может быть, важнейшая из причин, по которым
создаются в этот период новые монастыри, по
которым им оказывается всемерная поддержка в их
основании.
Не „Святая Русь" — горе народное стучалось
в монастырские ворота.
ГЛА
ВА
8
„СВЯЩЕНСТВО ВЫШЕ ЦАРСТВА1
„ Б ывает, что по нужде даже дьявол признает
истину, а Никон — нет! — подвели итог суда патриархи
Макарий Антиохийский и Паисий
Александрийский. — С этого времени ты уже больше не патриарх,
а простой монах". С Никона сняли шитый жемчугом
клобук и золотую панагию, накинули на голову
черный клобук какого-то рядового инока из свиты
приезжих патриархов.
„Разделите между собой жемчужины, — желчно
бросил низложенный, — золотников по пять-шесть
каждому достанется, да панагия золотых по десять
даст! Вы, бродяги, — позорил патриархов Никон, —
всюду за милостыней бродите, чтобы было чем дань
заплатить султану..." И здесь „прегордый Никон"
остался собой: сумел унизить патриархов, престолы
которых в Антиохии и в Александрии, увы,
действительно находились под властью безбожного султана.
Себя же возвысил с полуслова понятным
сопоставлением с Христом, чьи одежды, по словам
Евангелия, делили между собой распявшие его римские
воины. Святители пренебрегли новым
оскорблением — дело было сделано.
В Надвратной церкви1 Чудова монастыря, где
судили патриарха, звучало множество обвинений.
Никон отвечал смело и резко. Обвинения
оказывались несостоятельными. Единственно, чего не
вспомнил — судьбы коломенского епископа Павла,
которого сместил .с епархии и после жестоких пыток
сослал. Мог, мог патриарх сказать обвинителям,
в каком дальнем новгородском монастыре
появилась могилка с безымянным крестом, но предпочел
сослаться на незнание. Впрочем, множества
замученных в монастырских застенках, пытанных на
патриаршем подворье, сгинувших безвестно в вину и
не ставили — это было повседневной практикой
черного духовенства, нормой, просто здесь шла речь
о высоком иерархе, и это в глазах других высоких
иерархов было настоящим преступлением.
Остальные обвинения рассыпались на мелочные
придирки и голословные утверждения о „неправо-
1 В церковной символике и это неслучайность. Надврат-
ная — у порога обители — церковь в этом случае
осмыслялась как тот порог за который вывели патриарха.
133
славии" патриарха. Все это Никон отвергал без
труда. Но оправдать себя он не мог никак и ничем,
судьба его была решена. Его оправданий не слушали,
даже и обвинения слушали вполуха. Единственно,
о чем старались, — превзойти друг друга в
благочестии, истинной православности и славословиях царю.
Перед лицом низлагаемого патриарха делать это
было удобно и приятно.
„Русский папа"
История быстрого восхождения к вершинам
церковной и государственной власти патриарха Никона
и еще более стремительного падения святейшего
владыки с этой высоты выделяется даже среди
водоворота событий, бурного и стремительного
XVII века. Иногда полунасмешливо,
полусерьезно Никона называют „русским папой". Насмешливо
потому, что Никон не достиг того беспредельного
владычества, которым обладал глава
римско-католической церкви. Всерьез же сравнивают русского
патриарха с римским папой потому, что Никон
решительно и упорно стремился к безраздельному
владычеству, и были, были в середине того
тревожного века годы, когда на Москве казалось, что
вчерашний новгородский владыка, а недавно еще
безвестный соловецкий чернец, достиг своей цели.
В документах тех лет можно встретить не только
традиционную формулу: „Царь указал, а бояре
приговорили", но и такое: „Патриарх указал, а бояре
приговорили..." Никон активно вмешивается даже
во внешнюю политику, в ход войны со Швецией,
в освободительную борьбу украинского народа, во
все внутренние дела государства. Нижегородского
мужика официально именуют „великим
государем" — так же, как и царя. В традиционном
церковном действе, называвшемся „шествием на осляти",
на коне („осляти" на Москве не водились) ехал
единственный в этой грандиозной процессии
всадник — патриарх. Коня под уздцы вел царь. Обряд
всенародно показывал, что царь — лишь слуга
патриарха, да и сам Алексей Михайлович, подергивая
золоченые поводья, должен был проникаться той
же мыслью. Никону проникаться ею было не
нужно—в том, что „священство превыше царства", он
был убежден.
134
Невиданные доселе средства расходуются на
патриаршие монастыри — разом три, как ни до
Никона, ни после него уже не ставил ни один патриарх.
В сказочном великолепии вырастает под Москвой
„Новый Иерусалим". Патриарх не жалеет ни рабочей
силы, ни звонкой монеты. Громадные средства
несчетно идут на роскошь патриаршего двора. Но еще
больше поступает в патриаршую казну доходов.
С вотчин и торгов, соляных варниц и лесопилок,
с огородов, садов и пашен, с десятков тысяч
подневольных, закрепощенных церковью крестьянских
душ, в виде ростовщических процентов и арендной
платы, множества разных сборов, поборов, налогов,
мыт и пошлин. Не по дням, а по часам росли
богатства честолюбивого седьмого русского патриарха.
Не по дням, а по часам росла его власть. И все
рухнуло. Казалось бы, вдруг, случайно, в одночасье, по
строптивости нрава, по непомерному властолюбию.
И вот уже недавний „великий государь" в грубом
подряснике с чужого плеча катит в лыковом возке
под крепким караулом в дальний Ферапонтов
монастырь. Кто-то, сжалившись, кинул ему в возок
шубу...
История сама по себе конечно же поучительная,
но не ради этого общеизвестного конца
патриаршества Никона мы ее вспоминаем и не ради того,
чтобы рассказать о церковной деятельности Никона,
его реформах, вызванном ими расколе церкви,
который современная церковь называет „глубокой
национальной трагедией". В наши дни церковные
историки приписывают раскол ошибкам
внутренней политики Алексея Михайловича1. И то и другое,
разумеется, неверно по существу, но мы лишь
коснемся этих сторон деятельности Никона, поскольку
они смогут прояснить нам основную, выражаясь
современным языком, глобальную цель патриарха.
Историки прошлого, в особенности историки
церкви (а это прежде всего склонное к
самооправданию духовенство), пытались объяснить и судьбу
Никона, и отдельные черты раскола, исходя из
личности патриарха. Он и жесток и груб, и, что важнее
всего, недостаточно образован и не слишком умен
для реформ. Оценка весьма далекая от
объективности прежде всего потому, что перемены в богослу-
1 См.: Журнал Московской патриархии, 1981, № 8, с. 75.
135
жении, исправления книг, изменения в культе были
подтверждены тем же церковным собором,
который снял с Никона белый патриарший клобук.
Главное, что прослеживается в этих заранее
заданных, церковно-монархических оценках (со времен
Карамзина и Костомарова), — это подспудная мысль
о том, что при всей правильности реформы, сам-то
Никон попросту мужик-невежа. Попал не в свои
сани, из грязи да в князи и т. д. Никон
действительно происходил из нижегородских крестьян. И
боярская спесь конечно же только терпела „мужика",
который хоть и патриарх, а все же — „хамово семя".
„Такого прежде не бывало", — роптали бояре при
поставлении Никона, в опасении царского гнева
не особенно уточняя, чего именно „не бывало".
Барское пренебрежение прочно вставило свое лыко
в строку характеристики Никона. Много написано и
о том, что волевой Никон сумел подчинить себе
Алексея Михайловича, отнюдь не отличавшегося
решительностью. Сила Никонова влияния
действительно была здесь немалой. Никон быстро стал
„собинным (личным) другом" царя.
С другой стороны, изменения в культе,
предписанные патриархом и вызвавшие раскол, немало
способствовали тому, что сразу же и на века в
старообрядческой традиции, в
старообрядческом
освещении Никон
оказывается если и не самим
Антихристом (а были и такие
толкования), то уж, во
всяком случае, его
предтечей. В
старообрядческом портрете
патриарха — „лютого пса"
Никона черты его
деятельности приводятся в
соответствие с этой
апокалипсической фигурой.
Если Никон и „собин-
ный друг", то не царя
„тишайшего и кроткого",
Никон и его друг дьявол. которого опутал КОЛДОВ-
Обличительный старообрядческий СТВОМ, а самого Сатаны.
рисунок. Вопрос, была ли действи-
*/*«• тельно дружба с царем? —
136
не задавался. Между тем их разделяла, казалось бы,
пропасть: разница происхождения, Алексей — царь
„по праву", царь во втором поколении, и родом из
знатных бояр Романовых. Громадная разница
воспитания: одного готовили к трону, другой, вследствие
личной трагедии (разом умирают трое детей),
бросив все, принимает постриг, бежит на край света,
в Анзерский скит Соловецкого монастыря. „Собин-
ных друзей" разделяет кроме разницы жизненного
опыта разница в возрасте почти в четверть века.
Судьба впервые свела их, когда Никон стал
игуменом на Кож-озере, ему было за сорок, а Алексею —
семнадцать. Как и чем понравился царю недавний
сельский поп — неведомо. Тем не менее Никон
вскоре посвящен в архимандриты Новоспасского
монастыря, где находится усыпальница бояр
Романовых. Затем он — новгородский митрополит,
употребивший данную ему власть для успешного
подавления народного восстания. И вот Никон
вновь в Москве и, опять же по воле царя, его
избирают патриархом на место покойного Иосифа.
Никон сразу же начинает осуществлять реформы,
в которых действительно нуждалась церковь.
В Москве, будучи еще архимандритом, он
вошел в кружок ,,ревнителей благочестия", или „бого-
любцев", как они иногда сами называли себя.
„Книжные справщики", они почти все протопопы.
Чины не очень важные, но люди эти занимали
видные места в столичнЪй иерархии. Это Даниил, Иван
Неронов, Логгин, Стефан Вонифатьев,
благовещенский протопоп и царский духовник, наконец,
знаменитый „огнепальный протопоп" Аввакум.
„Ревнители" стремятся реорганизовать церковь, дать новую
редакцию богослужебных книг, в которых за
долгие века переписываний текстов накопилось
множество разночтений, давно уже повторяемых
типографскими тиражами. Повсеместно в церкви
наблюдались различия в обрядах, что при суеверном
отношении к их букве представлялось первостепенно
важным. Иереи служили где по уставам, а где по
обычаю, „по преданию", по бог весть когда и как
установившейся практике. Кое-что „боголюбцы"
осуществляли „явочным порядком". Так они
начали вести борьбу с „многогласием", явлением
действительно весьма своеобразным, родившимся
исключительно вследствие нерадивости клира.
137
Служба, поделенная на части, велась одновременно:
иерей читал свое, дьякон — свое, на обоих клиросах
пели разное. В церкви стоял оглушительный шум —
действительно, хоть святых выноси. Формально все
обстояло благополучно: богу отчитали и отпели все,
что было положено на этот день... Конечно, ни
о благочестии, ни о „научении церковном", о чем
так заботились „ревнители" церкви, и речи быть
не могло. Стефан Вонифатьев начал у себя служить
„единогласно". Но ни собор, ни патриарх (тогда еще
Иосиф) его не поддержали.
„Боголюбцы" стремились восстановить в храмах
„научение христианское" — давно забытую в церкви
личную проповедь священника. Проповедовал Иван
Неронов, и проповедовал красноречиво. В
московский Казанский собор стали собираться специально
в дни его проповедей. Нередко бывал и сам царь.
Его „ревнители благочестия" привлекали
стремлением к церковному единообразию, которое должно
было укрепить церковь, что вполне отвечало
интересам набирающей силу дворянской монархии.
Иногда в этом проповедничестве, а еще больше
в высказывавшейся некоторыми „боголюбцами"
мысли о выборности священства, даже епископата,
пытаются увидеть стремление к демократизации
церкви. Это правильно, но это только одна сторона
деятельности „ревнителей". Есть и другая: откуда
бы ни шла такая демократизация церкви, сверху
или снизу, ее конечная цель — укрепление позиций
религии. Впрочем, не обязательно религиозности
церковной. Чаще наоборот. Пример тому дают
многочисленные старообрядческие и сектантские
течения. Чем более „демократичны" они в
культовом смысле, тем более косными, застойными (и,
следует подчеркнуть, более устойчивыми)
становятся воззрения этих толков. Для „боголюбцев"
и примкнувшего к ним Никона основная забота —
укрепление религиозности, усиление воздействия
церкви на массы, вовлечение их в культ.
Придет время, и „друг" Никон начнет ковать
своих прежних единомышленников в железа,
Аввакум пешечком, „по-апостольски", пойдет в ссылку
на край света — в Даурию, а жизнь кончит на другом
краю света — близ Полярного круга. Остальных
разметали по-разному: кого в затвор с железами
на плечах, кого в ссылку, на покаяние в монастырь,
138
кому вырвали язык, чтоб не грешил им более, а кто
и покаялся... Никон совершит много ненужных же-
стокостей — все это скоро придет. Но предположим,
что реформы были бы проведены так, как
замышляли их прежние друзья Никона. Что изменилось бы
в этом случае? Уверенно ответим: по существу не
изменилось бы ничего. Так же произошел бы раскол
православной церкви, так же рвали бы языки
противникам, с той же яростью шла бы борьба вокруг
культа и обрядов, как разгорелась она после
нововведений Никона. Причина ясна — в основе раскола
лежали вовсе не чисто церковные противоречия,
о чем речь ниже. Видимые же различия противников
были невелики.
„Боголюбцы" стремились к единообразию на
основе сложившейся русской практики. Никон — на
основе того, что утвердилось в практике греческой
церкви. Церковные историки почти три века
доказывали „правоту" Никона в трехперстном сложении
пальцев при крестном знамении. Сторонники
старого обряда, названные церковью „раскольниками",
сохранили сложение двуперстное. Никониан
раскольники называли „щепотниками", деланно
изумляясь, во имя какого бога складывают они пальцы
так пакостно и что именно этой щепотью можно
обозначить. Щепотники-никониане отвечали столь же
цинично. Здесь же заметим, что Никон был
дальновиднее своих бывших друзей. Шло воссоединение
Украины, а там в православии уже укрепилось
многое из того, что вводил Никон на Руси. Патриарх
хотел избежать культовой розни с православной
Украиной, чего ,,ревнители", видимо, понять не
могли или же, ограниченно полагая свою веру
единственно истинной во всем, и в обряде особенно,
собирались вводить свои обычаи на Украине. Были у
Никона и еще соображения, которыми он с друзьями не
делился.
О ТСТУПЛЕНИЕ О Т ТЕМЫ
Христос в Тамбове
Демократическая струя, проявившаяся было в
расколе, быстро иссякла. Множество старообрядцев
расселились по северу, за Волгой, ушли на Дон,
139
организуя там свои монастыри, сохранявшие
„старую веру", удовлетворяясь уходом из греховного
мира. До поры до времени это им удавалось.
Оставим их.
В конце того же XVII века появляются новые
попытки переустройства общества на религиозных
началах. В этом тупиковом пути искренняя вера
в осуществимость евангельских заветов на земле,
в реальной жизни, переплетается с самым грубым
фанатизмом, до неразличимости сливается с ним.
В середине XVIII века беглый старообрядческий
монах Евфимий начинает проповедь о том, что на
земле установилось антихристово царство и такой
мир требует полного разрыва с ним, ухода, бегства.
В итоге будет создан на земле все тот же Новый
Иерусалим, но будет он на вольной земле, где-то
у Каспийского моря...
Веком ранее проповедник Данила уверял, что
в него воплотился сам Саваоф, бог-отец. От Данилы
потянулся длинный ряд воплотившихся Христов,
число которых все увеличивается. Так сложилась
секта, приверженцев которой позднее назвали
хлыстами. Скопчество, оформившееся в конце XVIII
века, дает своих ,,Христов", они появляются и в секте
духоборов.
Один из таких „Христов", повторяя вход
евангельского Христа в Иерусалим, торжественно
вступил в небольшой тогда городок Тамбов и объявил,
что пришел судить всю Вселенную. Дело было в
конце XVIII века. „Христа" арестовали, он оказался
местным торговцем-перекупщиком Побирохиным.
Кончил тамбовский „Христос" ссылкой в Сибирь.
Список можно продолжить": среди религиозных
фанатиков были и „Христы" и „Енохи",
возносившиеся на небо, библейские пророки Илья и Моисей,
множество богородиц, христородиц и просто дев
Марий. Культовая сторона дела стояла на том, что
в данного религиозного проповедника
„таинственно" воплотился тот библейский персонаж, за
которого он себя выдает. Изверившись в церковном
боге, многие принимали новую веру. Большинство
этих проповедников и пророков сгинули бесследно,
последователи их или разбежались, или же нашли
новых пророков, дело не в судьбах — показательно
само явление, которое длилось весь период
господства официальной церкви.
140
Последние „Христы" и богородицы существовали
относительно недавно, в наше уже время. Особенно
активной и особенно реакционной была их
проповедь в годы, когда сельская буржуазия давала
последний бой Советам.
В конце прошлого века возникли еноховцы,
намеревавшиеся вознестись на небо. Главой группы —
пророком Ильей — стал настоятель одного из
монастырей под Саратовом. В советское время еноховцы
пытались организовать „коммуну". Разумеется, она
распалась, ибо, по сути, копировала
эксплуататорское монастырское хозяйство и существовала по
монастырскому уставу. В замкнутые монастыри
выродились толстовские коммуны. Ирония
истории: Л. Н. Толстой крайне отрицательно относился
к монашеству.
Некий Молодцыгин создал какую-то вовсе
фантастическую веру на христианской основе. Он то
фотографировался в костюме Адама (Адама,
впрочем, и изображая), но с двумя ключами в руках:
большим — от ада и поменьше — от рая. Ключей
у библейского Адама наверняка не было. Они —
символ св. Петра. Последователей этот Адам почти
не имел. Монахи закрытых монастырей, из числа
тех, кто привык к легкой жизни за счет
паломников, стали бродить по стране, юродствовать и
возвещать конец Советской — антихристовой —
власти.
Конечно, можно возразить, что здесь речь идет
об отдельных случаях фанатизма, а кроме того,
о сектах, которые не имеют отношения к
православной церкви. Это верно, но верно и другое: мы
говорим о религиозной идеологии, и здесь для нас
несущественно, называть приверженцев того или
иного направления сектантами (так это делает,
кстати, церковь, считая этих верующих отколовшимися
от истинной религии) или же считать
самостоятельными ветвями, на которых, как известно,
процветают самые разные религиозные пустоцветы...
Для нас существенно, что вдохновителями самых
фанатически настроенных толков и сект оказались
монахи. Они вдохновляют верующих на
самосожжения, они же стоят у истоков таких сект, как
скопцы, хлысты. Название это презрительное, но
укоренившееся, дано им церковниками. Сами хлысты
называли себя „людьми божьими" и православными.
141
Они отделяли себя от церкви, но не от
православия. Хлыстовство, возникнув в монашеской среде,
сохранило у себя практически всю монастырскую
организацию: постную пищу, молитвы, кастовую
замкнутость секты, безбрачие, черные одежды
и т. д. Следственные процессы по делам
хлыстовских „кораблей" (общин) полны материалов о
монашествующих, составлявших в XVIII веке
значительную часть этих сектантов. Наконец, Ивановский
и Варсонофьевский женские монастыри в Москве
оказались целиком, во главе с монастырскими
властями, хлыстовскими.
Поддержало монастыри и скопчество, возникшее,
собственно, в среде хлыстовства. Монашеский тезис
о целомудрии, ,,обете девства", был принят ими
настолько буквально,, что вместе с молитвами в ход
пошли ножи...
Мы затронули религиозное сектантство по двум
причинам: подавляющее большинство сект и
религиозных групп, даже те, которые отрицали
монашество, тем не менее организовывались подобно
монастырю, со своими обязательными требованиями,
ограничениями и дисциплиной. Это во-первых.
Во-вторых, именно в силу перечисленных
особенностей монастырь оказывался учреждением,
удивительно хорошо приспособленным для того, чтобы
в нем процветали самые странные религиозные
фантазии. Монастырь воспитывал веру в чудеса и
чудотворцев, и многие из тех монахов, которых
церковь позднее причислила к лику святых, уже
при жизни сами считали себя чудотворцами,
пророками, людьми, избранными богом.
Оставим в стороне возможность прямого обмана
ради достижения личных выгод, хотя он был
достаточно част, оставим в стороне коллективный,
заведомый обман чудесами обители, обман,
направленный на прославление своего монастыря. Он тоже
был част. В конце концов, об этом писали много,
и, главное, прямой обман преследовался и
церковными властями. Обращая подчеркнутое внимание
на эту фальсификаторскую сторону деятельности
монашества, мы выводим из-под удара главное —
саму религиозную идеологию, порожденный, в
частности, верой такой род мистического
миропонимания, который воспитывает именно монастырь;
то в религии, что создает особую настроенность
142
верующего, когда в результате постоянного
воздействия культа, наиболее эффективного именно в
монастыре, в сознании человека реальное и
фантастическое смешиваются, сплетаются. В определенном
смысле именно монастырь провоцировал потерю
чувства реальности, и тогда все эти ,,христы" и
„енохи", „моисеи" и „богородицы" действительно
начинали осознавать себя воплощением библейских
героев и, страстно вещая, собирали толпы
уверовавших. Слепая вера невежественной толпы еще
более разогревала пророков, еще более
укреплялось в них чувство собственного своего
тождества хоть с Ильей-пророком, хоть с самим Иисусом
Христом.
Раскол стал фактом. Но с самого начала это
религиозное движение раздробилось на множество
течений, которые со временем уже ничем, кроме
неприятия официальных установок „никонианства", не
были связаны между собой. Многие из этих „вер" и
толков враждовали друг с другом едва ли не
больше, чем с государственной патриаршей, а затем
синодальной церковью. „Что ни деревня, то и толк..."
Таким образом, недостаточно трактовать раскол,
старообрядчество, как религиозное течение,
придерживавшееся дониконовских, „старых" обрядов.
Обряды и догматика часто возникали спонтанно,
никакого культового фундамента из прошлого
у ряда общин не оказалось, да и быть не могло. Но
всего важнее то, что раскол — социально
неоднородное движение. Не обрядовые частности Никоновых
нововведений, а существо деятельности патриарха,
укреплявшей феодальную эксплуататорскую
церковь и самодержавие России, — вот что затронуло
все слои общества. Затронуло по-разному. В раскол
пошли массы тех зависимых и крепостных
крестьян, ремесленников, посадских людей, стрельцов,
которым усиление церкви сулило только новые
тяготы. И для этих подневольных и отягощаемых все
новыми повинностями и поборами земной мир
конечно же царство зла, которое религиозным
сознанием персонифицировалось в Никоне, его церкви
и его „бесовских" делах. В раскол пошла часть
боярства, знати из тех старых родов, которые
боялись усиления центральной власти, охотно вспоми-
143
нали время уделов, своих маленьких самодержавии
по сотням княжеств и вотчин. Ушла в раскол и часть
сельского духовенства. Высшее духовенство,
аристократия в рясах, в расколе за редчайшими
исключениями участия не приняла.
Усиление центральной церковной власти почти
не ущемляло привилегий черной монастырской
аристократии, епископата, а выгоды сулило
немалые. В вопросе единства церкви и государства,
которого правительство никак не собиралось нарушать,
верхи договорились меж собою достаточно быстро.
Сразу же после низложения Никона восстановили
особую церковную юрисдикцию с неподсудностью
духовенства светской власти. Помните: „...ни в
какие дела не вступаться", как писалось в духовных
грамотах? Уже в 1667 году все стало как прежде.
Вскоре, в 1672 году, упразднили и Монастырский
приказ, вернув игуменам и архимандритам все их
прежние права.
Из старого боярства в расколе оказались князья
Хованские (известные по той „Хованщине",
стрелецкой смуте, которая дала имя опере М.
Мусоргского), Мышецкие, Стрешнев. Ушли в раскол
боярыня Морозова и сестра ее княгиня Урусова. И если
в боярстве раскол — это борьба за власть, борьба
уходящей, старой Руси и новой России, то такие
личности, как Морозова, были и остаются примерами
непреклонной стойкости убеждений. Русь всегда
давала изумляющие мир образцы „стояния за
правду", и, если даже эта „правда" выражалась в
церковной смуте, то не следует модернизировать историю
и только с позиций нашего современного знания
о прошлом, с позиций современного
миропонимания, оценивать то, что стало жизненным подвигом
Федосьи Прокопьевны Морозовой, принявшей
постриг с именем Феодоры.
Шире всего распространился раскол в массах
посадских людей, крестьянства. Политические
раздоры, распри при царском и патриаршем дворах,
интриги придворной борьбы реформаторов и
староверов мало интересовали народ, а если
интересовали, то только одним: чем отзовется эта борьба .на
холопьих спинах?
Усиливался самодержавный строй, усиливался
крепостной гнет, и народ противоборствовал этому
всеми возможными способами. Были восстания
144
и побеги в леса, уход на вольный Дон в казачьи
ватаги, и пассивный затвор в монастыре. Когда
поднялась воинствующая хоругвь раскола, к ней
стекались многие из тех, кто изверился в возможности
правды и справедливости в мире, в котором
властвует „еретик-Никон, ведущий христиан к вечной
погибели...".
Выступили против реформы и священники,
низшее духовенство, тот клир, попы и дьяконы,
которые службу знали больше „с голоса", чем „по
научению книжному". Переучиваться они и не могли,
и не хотели, резонно рассуждая, что деды и отцы
служили раньше на семи просфорах, а не на пяти,
крест от веку держали „истинный осьмиконечный",
а крестились двумя
пальцами. Так неужели за это
все предки теперь в аду
горят? Стало быть, и
святых прежних нет — коли
не так они крестились?
Так не резоннее ли
полагать, что не они попадут в
ад за свой обряд, а как
раз Никон-то всех
ввергнет туда своими
нововведениями? И как это
—креститься тремя пальцами?
Уж не кукиш ли
предлагает сложить из пальцев
проклятый Никон? Ну и
Никон-пес!
Нашелся инок, сам
видевший, как с шеи
Никона во время
богослужения вместо епитрахили
свешивался змей. При
таком непреложном
факте — от очевидца
слышано — все становилось на
свои места и следовал
вывод: „Дьяволу служит
Никон!" Позднее
появились и старообрядческие
рисунки, точнее сказать,
карикатуры на Никона,
где бывший патриарх
Монахи-никониане —
„табачники и пьяницы".
Старообрядчество, стоя на тех же
религиозных позициях
и отличаясь от православия
лишь культовыми частностями,
могло сосредоточить свою
критику лишь на внешней,
культовой стороне дела,
обличать частные „недостатки"
монашества, а не его существо.
Так и получилось: никониане —
грешники, иноки их „только
по платью монахи".
Старообрядческий обличительный
рисунок.
XIX в.
Ю Г. Прошин
145
дружески обнимается со змеем-дьяволом,
обвившимся вокруг креста. (Весьма вероятно, что это
было чем-то большим, чем иллюстрация факта
служения Никона змею-сатане. Изображение змеи на
кресте встречается в мистических культах Востока,
оно могло быть известно русским богословам, и
тем самым рисунок наносил по Никону двойной
удар: сам культ оказывался сатанинским.) Словом,
по Никону выпалил справа и слева весь
религиозный арсенал. Уцелеть было трудно, и Никон не уцелел.
Как уже отмечалось, достаточно распространено
было мнение, что Никон не отличался ни особым
умом, ни образованностью. И в некоторых
современных трудах по истории русской церкви
эта точка зрения продолжает жить. В качестве
доказательства приводится, в частности, письмо
Никона константинопольскому патриарху. Видимо,
здесь требуются уточнения. Действительно, 26
вопросов Никона вселенскому патриарху касались
самых мелочных обрядовых действий и
символики культа. Патриарх Паисий отвечал
„возлюбленному брату" Никону, несколько недоуменно
поясняя, что частные различия, детали обрядов и
толкований не принадлежат к числу важных,
поскольку не колеблют существа православного
учения.
На самом деле вопросы Никона значительно
содержательнее, чем это показалось Паисию. Истина,
справедливо полагал Никон, может быть только
одна. Следовательно, ход церковный может идти
вокруг церкви или „посолонь", по солнцу, или
навстречу ему. Третьего просто не существует.
Поскольку обряд сакрален и таинствен, то в нем не
может быть несущественных деталей и правилен
только один способ из двух. Какой? Паисий от
прямого ответа уклонился. Вероятно, у
Константинополя были свои причины для этого. Напомним, что
на сто лет раньше Никона с аналогичным, по
существу, вопросом обратился к церковному собору
(Стоглаву) дьяк Иван Висковатый. Книжник,
большой знаток церковных древностей, он
„недоумевал", глядя на образа работы новых живописцев.
„Почему, — добивался ответа дьяк, — в паперти
одна икона, а в церкви — другая; писано одно, а
не тем видом?" Висковатый требовал
документальной, если можно так выразиться, точности
146
образа, его канонической выдержанности. И,
хотя старая традиция уже и в XVI веке не имела
прежней силы — живопись развивалась, ломая
церковные каноны, а Висковатый, казалось бы,
тянул к старому, — его вопрос не сводится только
к одному косному требованию единства
живописной манеры. Важна идейная позиция Виско-
ватого. Дьяк был уверен, что такие изображения
могут вызывать соблазн у прихожан, которые, чего
доброго, усомнятся уже не в том, как изображено,
а в том, что изображено. И еще был уверен
Висковатый, что собор примерно накажет художников,
отступивших от канона. Дьяк Иван Михайлович
Висковатый был, повторим, одним из самых
образованных людей своей эпохи. Он был уважаемой
и видной персоной в государственном аппарате.
Собор поразмыслил, прежде чем отвечать, но,
поразмыслив, счел еретичной не живопись
Благовещенского храма Кремля, а рассуждения Вис-
коватого в его записках, представленных собору.
Приговорили к церковному покаянию. „Иди,
дьяк, — сказали ему, — иди, да не растеряй своих
свитков!" Могло быть хуже, мог и головы не
сносить. Впрочем, Грозный все же казнил Вискова-
того, но это случилось через много лет и за иную
провинность.
Век спустя у Никона встает, по сути, тот же
вопрос: не может быть, считал Никон, чтобы и тот и
другой способы крестного знамения имели одну
магическую силу. Один способ ведет к верной
гибели души, другой же — спасает ее. Какой? Никон
требует только точного ответа. Паисий убедил его
в одном: и греческая вера — неистинна. Раз нигде
нет правой веры, оставалось искать ее дома. Вывод:
единственное место на земле, где сохранилась
истинная вера, — Русь, и единственный хранитель ее —
русская православная церковь. В это Никон верил.
Верили в это и его противники. Все новшества, против
которых так яростно выступил раскол, — это не
столько новизна или возврат к старине, сколько
требование единства веры, идеологического
единства всех классов и сословий на основе
православной государственной религии. То, что единство
угнетателей и угнетенных — вещь не достижимая ни на
какой основе, не приходило в голову ни
сторонникам Никона, ни его противникам.
147
Возвращаясь же к оценке Никона, можно
утверждать, что если Никон и не выделялся
образованностью, то не выделялся он ею лишь в кругу самых
образованных людей своего времени, в кругу „бого-
любцев", объединявшем лучшие интеллектуальные
силы России того времени.
Никон сумел убежденно и сильно воздействовать
на царя, раскрывая ему головокружительные
перспективы будущего величия России: Алексей
Михайлович оказывался единственным христианским
государем во всей Европе. Запад издавна еретичен
и вдобавок впал в новые страшные ереси: лютерову
и кальвинову. Восток захлестнули волны ислама и
другие лживые веры. Была надежда на Юг, на
православие святых христианских земель, но пал два века
назад под ударами неверных Константинополь — это
кара божья за отход от истинной веры. Только Русь,
испытавшая, но избывшая и татарский гнет Востока,
и латинянское иноземное нашествие (после чего и
началась истинная держава), сияет миру
благочестием... Братский народ Малой России стремится к
воссоединению с Великой Русью, братский народ Руси
Белой тоже в борьбе, тоже на пути к освобождению
от гнета польско-литовской шляхты, от
еретического католицизма...
Ты, великий государь, объединишь в своей
истинно праведной, истинно христианской державе эти
народы, и свет православия, свет не Малой и не
Белой, а Великой Новой Руси просияет с Востока, и
станет твоя держава Новым Израилем, истинным
царствием божьим на земле!..
И вот уже освящает патриарх знамя-хоругвь, где
двуглавый орел со скипетром и державой, знаками
царской власти, в лапах, несет на груди икону
Знамения пресвятой богородицы, икону-моление, где
державный орел оберегает божью матерь с
младенцем Христом, молящуюся за Русь. Хоругвь
отправляют на Украину, в войско Богдана
Хмельницкого.
Такие перспективы (а все это казалось не только
вполне идейно обоснованным, но и достижимым) не
могли не повлиять на царя, ощущавшего рост
могущества своей державы. Настало время, когда
закладывался фундамент тех преобразований,
которые начнутся в конце этого и в первой четверти
следующего, XVIII века.
148
Отряды Семена Дежнева, Василия Пояркова
вышли на Анадырь, а Ерофея Хабарова — на Амур,
в Сибири строятся города, на юге присягает Кахе-
тия, на западе успешно идет борьба украинского
народа с прегордой Польшей, которая на памяти
живущего поколения посадила было на Москве своего
иезуитского царя...
Мир, Вселенная казались XVII веку простыми и
понятными. На благо человека произрастают на
земле разные злаки и плоды древес, горы полны руд,
леса — зверя, реки — рыбы. Громадные корабли и
долгие санные обозы везут заморские товары, а от
себя за море отпускает Русь лес и лен, поташ и
деготь, пеньку, воск, мед и сало... Человек поставил
на службу себе все силы природы: ветер, который
раздувает паруса кораблей и вращает мельничные
жернова, силу речной струи, что движет тяжелый
вал, а от него прехитро действуют колеса-меха-
низмусы на голландской мануфактуре, что на
Яузе-реке. Пасутся табуны коней: они и войску,
они и в пахоте. А мало человеку конской силы —
есть могучие круторогие волы. Весь мир
известен человеку, и хотя в нем много удивительных
и пречудных вещей, но в целом он прост и
понятен, он ведь премудро устроен богом. Оставалось
лишь утвердить в нем истинную веру. Эту задачу
и поставил Пувред собой и царем Алексеем Никон.
Отсюда то, что называют „дружбой" царя и
патриарха.
Глухое пока еще брожение масс, восстание
в Новгороде, „соляной", а затем и „медный" бунты
в Москве, выступления народные в Сольвычегод-
ске и Воронеже, Устюге Великом и Курске, в других
городах и весях — тревожили. Пока еще не
вспыхнул огонь восстания Разина, но дворянская власть
всеми мерами укрепляет свои позиции — монархию
и церковь. В этом царь и патриарх были едины.
Здесь они тоже были друзьями.
Оставалось, правда, несколько неясным, кто
будет осуществлять верховную власть в этом новом
мире, тот или другой из „великих государей", но за
общей ясностью главного этот вопрос еще не
вставал перед царем или казался ему несущественным.
Пока несущественным. Для. Никона же это было
вполне ясно, но до поры новый патриарх тоже
решил помолчать.
149
Три монастыря
В деятельности патриарха есть сторона, на которую
до сих пор не обращалось достаточного внимания,
а именно она овеществленно выявляет главный
замысел Никона. Это его монастырское
строительство. Три монастыря, основанные Никоном как
патриаршие — находящиеся в его личном и
полновластном распоряжении, возникают как часть
вселенской системы православия, задуманной
Никоном.
Житие патриарха рассказывает, как он, в
бытность еще соловецким иноком, плыл с Анзерского
острова к устью Онеги, и как буря едва не потопила
судно, и как удалось все же спастись на берегу Кий-
острова. Тогда-то, в благодарность за чудесное
спасение, и дал Никон обет основать на островке
обитель. Что ж, история вполне правдоподобная.
Бывали, и не раз, обеты, данные в критических
ситуациях, бывало, что такие обеты исполнялись. Сам по
себе эпизод сомнений не вызывает. Но всякое
церковное житие — сочинение с двойным и тройным
подтекстом. Вероятно, правда и про бурю и про
нежданное спасение. Но вот то, что рядовой чернец
пообещал монастырь поставить, сомнительно. Это
не свеча к образу, это не вклад-подарок. Монастырь
поставить было непросто, ставили его, как мы
знаем, сперва семь раз примерив, и никто на
Соловках так запросто этого Никону не разрешил бы.
Вероятно, обет-обоснование присочинен ради
патриаршего восславления. К тому же из трех своих
обителей монастырь на Кий-острове Никон
основывает позже других: царская грамота-разрешение
на строительство подписана только в середине
1656 года. И уже через год на пустынном островке
старец Нифонт, составив архитектурный проект,
рубит собор (первоначально деревянный), кельи
и службы. И сразу же строят в камне. Каменный
собор и другие постройки монастыря были
завершены во время последнего приезда сюда Никона
в 1660 году.
В это время полным ходом идет строительство
Иверского патриаршего монастыря и Нового
Иерусалима. Во всех трех стройках просматривается
единая мысль грандиозного
государственно-монастырского замысла патриарха.
150
Основание нового монастыря,
монастыря-крепости на скалистом островке близ устья судоходной
Онеги — это создание собственной патриаршей
опоры в жизненно важном для государства краю, на
море, по которому — единственному — шла русская
торговля с Европой, это появление патриаршей базы
там, где безраздельно на суше и на море
владычествовал Соловецкий монастырь, хорошо знакомый
Никону.
Первый патриарший монастырь, Иверский, на
западных границах Руси (начат летом 1652 г.) —тоже
крепость. Монахи монахами, а в новой обители (она
тоже на острове) сооружаются крепкие стены, на
стенах в постоянной боевой готовности пушки, и
в гарнизон уже поначалу назначено 200 стрельцов.
Монастырь должен поддержать православную
Белоруссию, поддержать борьбу белорусов за
культурную и национальную независимость. На Украине
эту задачу выполняла прежде всего Киево-Печер-
ская лавра. Здесь Никону свой монастырь был пока
не нужен.
В Иверский Никон переводит большое и
влиятельное белорусское Кутеинское братство с его
типографией. Из Белоруссии выводит Никон
и мастеров каменного дела с подмастерьями,
а далее уже здесь, на Валдае, организуется
производство кирпича, развертываются
строительные работы в камне. Среди кутеинской братии
были прекрасные мастера ценинного дела
(изразцов), резчики, литейщики... Иверский монастырь
был задуман и осуществлялся с огромным
размахом.
Почти одновременно с Иверским Никон
закладывает и ансамбль Нового Иерусалима. Здесь работы
ведутся в еще большем масштабе. В Иерусалим (не
в Новый, на Истре, а в настоящий, в Палестине) был
послан инок Арсений Суханов, человек весьма
образованный, энергичный, много способствовавший
централизации церкви. {Следует сказать, что старец
Арсений стоял на стороне тех, кто намеревался
реорганизовать церковь на древнерусских основах,
а не на стороне Никона, но поручение его исполнил
толково.) Во-первых, он привез более 500 разных
книг, в основном с Афона, во-вторых, точный, со
всеми размерами план Иерусалимского храма гроба
господня, главной христианской святыни. Привез
151
Патриарх Никон
у Нового Иерусалима.
В борьбе со старообрядчеством,
обличавшим „пса Никона",
церковь была вынуждена
вернуться к апологетике
низложенного патриарха,
всячески подчеркивать его
заслуги.
Церковная картина XVIII в.
Арсений и выполненную
в масштабе модель этого
храма.
Почти три века спустя
замечательный памятник
русской архитектуры был
варварски разрушен
немецко-фашистскими
захватчиками. Сразу же
после освобождения Истры,
в самый тяжелый период
Великой Отечественной
войны, Советское
правительство сочло
необходимым выделить средства
на восстановление этого
шедевра архитектуры
XVII века. Проектом
реставрации Нового
Иерусалима занялась мастерская
Академпроекта,
руководил работами
крупнейший советский
архитектор А. В. Щусев. Проект реставрации был разработан
в 1942—1943 годах. При разработке проекта А. В.
Щусев сопоставил Иерусалимский и
Ново-Иерусалимский храмы.
В основных членениях они совпали. Но только
-в основных. Хотя Никон настаивал на точном
соответствии образцу, а, заметив отклонения от чертежа,
приказывал тут же все ломать и начинать заново:
,,...аще делают год... в мале времени повелит слома-
ти!..", соблюдена была лишь структура
Иерусалимского храма. Русская зодческая традиция, богатая
и самобытная, различие в климатических условиях,
наконец, разница в строительных материалах и пр. —
все это оставило лишь сходство планов и
одинаковое функциональное распределение храмов обеих
построек. Но для Никона, при всей его
требовательности, важно было не копировать детали, а
воспроизвести идею иерусалимской постройки, обозначить
на Русской земле место, где в каменной нише было
положено тело распятого и откуда оно, согласно
евангельским рассказам, исчезло на третий день...
Храм Воскресения Христова воспроизвел в своем
убранстве и другие святыни православного Востока:
152
Новый Иерусалим, разрушенный фашистами, восстановлен из руин.
Проектно-реставрационные работы были начаты сразу же
после освобождения Истры в 1942-1943 гг.
здесь был „камень, на котором сидел ангел,
возвестивший о воскресении Христа", и многие другие,
столь же значимые святыни. Была устроена в храме
и пещера „Гроба господня", вытесанная для Никона
монастырскими умельцами. (В наши дни такие
вещи называют макетами.)
Так в монастырском строительстве Никон
пытался реализовать замысел: создать истинное царство
божие на земле — вселенское православное
государство, сосредоточить на Руси главнейшие
христианские святыни.
Нет, не только на полную государственную
власть претендовал Никон. Этого ему было мало!
Сам факт создания Нового Иерусалима — это
претензия на власть, простирающуюся на весь
православный мир: не нужно Иерусалима Палестины,
коль скоро есть Иерусалим под Москвою! Тихая
речка Истра была переименована в Иордан.
Вероятно, патриарх создал бы на ней и место
крещения Христа, явилась уже местность, названная
„Назарет", небольшой холм стал „Елеонской
горой"... Словом, на Истре с размахом —
неслыханное дело! — моделировалась целая страна, ее земли,
ее история.
153
Иверский монастырь — часть той же модели:
Иверский Никона — это тот греческий Афон, что
мистически осмыслен восточным христианством
как „земной удел богоматери". Афон создал свои
чудеса и легенды. Афон — крупнейший и ведущий
центр православного богословия средних веков,
Афон — место сосредоточения неисчислимого
количества чудотворных мощей, всевозможных
христианских реликвий, своеобразная теократическая
республика, важнейшая святыня всего православного
мира.
Сюда, на Валдай, Никон заказывает в Афоне
копию чудотворной Иверской иконы божьей матери,
и, конечно, она сразу же прославляется чудотворе-
ниями. Из недальних Боровичей перенесены мощи
Иакова Боровичского.
Никон торжественно возвращает в Москву прах
митрополита Филиппа — „мученика", убитого Малю-
той Скуратовым в один из самых жестоких
периодов царствования Ивана IV. Перенесение тела
Филиппа подчеркивало (прежде всего при дворе)
мысль о том, что церковь — первенствующее
учреждение в государстве. Акт Никона обличал светскую
власть, дерзнувшую поднять руку на церковь. Все
это — детали общей программы. Никон сам
отправился за мощами. В Соловки владыка прибыл
3 июня 1652 года, а 9 июля он уже в столице, с
мощами, которые торжественно вносят в Успенский
собор. Спустя две недели Никон становится
патриархом.
Вероятно, Никон был горд этим, был рад, но все
же патриаршество для него лишь ступень. Никон
грезил не о первенстве в русском „Третьем Риме"
(чего он достиг), а о первенстве среди патриархов
восточных и, наконец, — третья и последняя
ступень — о первенстве вселенском.
Три Рима
Невольно встает вопрос: каким образом, какими
силами намеревался патриарх осуществить эту
вполне бредовую идею вселенской церкви? Религиозная
психология, отвечающая догматам христианства,
религии откровения, где все исходит от бога, им
начинается и в нем же имеет конец, самым естествен-
154
ным, если можно так выразиться, путем ведет к
необходимости установить единую, „истинную"
идеологию. Здесь Никон всего лишь последовательный
христианин. Сходные идеи появлялись и до и после
Никона, всегда имея конец единственно
возможный — бесславный.
Всерьез на земные силы Никон, в отличие от
многих завоевателей, стремившихся к мировой
державе, не рассчитывал. Его расчет опирался на „правую
веру" и прямые указания евангелий на царство бо-
жие. Ему мнилось, что стоит лишь одолеть, дьявола
в этом мире и тех, кто дьяволу служит, — и вопрос
решен. Этим Никон и занимался. Особенность
религиозного миропонимания и состоит как раз в том,
что любая последовательно развиваемая
религиозная идея ведет к глубоко реакционному
миропониманию, сектантской замкнутости, фанатичной
убежденности в истинности своей, и только своей,
проповеди. Ложные религиозные посылки оборачиваются
бедой для тех, кто их исповедует, и еще горшей
бедой для тех, кого заставляют исповедовать эту
веру. Это „истинность", из которой закономерно
проистекают ложь и вражда, религиозные войны и
казни инакомыслящих. Истина оборачивается
непреклонным слепым фанатизмом.
Всего этого Никон, как и любой последовательно
религиозный человек, не видел и не понимал, но
действовал во исполнение своей цели.
Религиозное сознание истолковывает все в свою
пользу. Рост могущества государства, его богатства,
успехи внешней политики на Украине и на Кавказе,
продвижение в Сибирь и расцвет архитектуры — все
истолковывалось Никоном как благоприятнейшие
знаки предпринятого им православного наступления.
Никону не суждено было стать „русским папой".
Исторические условия на Руси складывались так,
что объединяющим началом становилась прежде
всего власть государственная. И единственные силы, на
поддержку которых всерьез рассчитывал Никон, —
сверхъестественные — его не выручили...
Видел ли Никон этот всеправославный венец на
себе? Впрочем, это для него было не столь уж и
существенно. Важна была уверенность, что он стоит
на правильном пути. И „неистовый Никон" взялся
за это безнадежное дело со всем свойственным его
натуре размахом и энергией.
155
Теоретической, так сказать, основой его
деятельности оказался кроме богословских тезисов
христианства, подтверждавших его религиозную правоту,
багаж, накопленный в русском монашестве задолго
до него. Мысли Никона не новы, они
последовательно разрабатывались в тиши келий, где у иного
монашка, начитавшегося древних поучений, дух
захватывало от великих задач по приведению
грешного человечества к единому знаменателю
христианской веры.
Вернемся еще на полтора века назад, к стенам
известного нам монастыря у Волоколамска.
Принято считать, что именно Иосиф первым сделал
важный шаг по пути подчинения церкви государству.
Факт важнейший! Мы знаем, что Иосиф, основывая
свой монастырь с жесткой дисциплиной, имел в
виду создание центра, который явился бы образцом
не только для монашества, но и для всей Руси.
Волоколамский князь Борис ошибся в Иосифе: он
рассчитывал на поддержку нового своего
монастыря в борьбе с Москвой. Иосиф же в начале XVI века
передает свой монастырь под власть великого
князя, понимая, что феодальной, удельной
самостоятельности приходит конец. Все предшествовавшее
убеждало его, что без сильной государственной руки
церкви не выстоять. Ереси невозможно
искоренить лишь мечом „духовным", нужен вполне
реальный, стальной княжеский меч. Дворянство,
нарождаясь как новая социальная сила, все более
стремится к землям, а это ведь и монастырские земли...
Словом, все вело к тому, чтобы стать „под руку"
великого князя московского. Иосиф решился.
Шаг его мог показаться даже неосмотрительным.
Монастырь был подвластен новгородскому
епископу Серапиону, и поступок игумена — тягчайшее
нарушение „святого послушания", церковных
законов и практики церкви. Епископ соответственно
отреагировал: поставил в вину Иосифу, что тот
„отказался от своего государя в великое
государство". Иосиф возразил, что власть великого князя
едина и богоустановлена, но Серапион слушать
оправданий не собирался. Он тут же применил
против непокорного грозную кару: церковное „пре-
щение", то есть запрет священствовать, отныне и
до полного раскаяния. Право на такую меру
епископ имел. Иосиф фактически оказался отстранен-
156
ным от должности, ибо что же это за игумен, если
он не может служить литургию в собственном
монастыре? Однако Иосиф неосмотрительного шага
не совершил. Это Серапион совершил шаг
необдуманный. Епископ, отстаивая удельное право
церковной иерархии, выступил здесь не столько против
подначального игумена, что в порядке вещей,
сколько против вполне реальной власти великого князя.
Иосиф конечно же заранее заручился княжеской
поддержкой и обратился к церковному собору за
помощью. Власть собора выше епископской.
Собор — а по существу, Василий III — полностью
восстановил Иосифа в правах. Серапиона же заточили
в монастырь...
С этого времени церковь последовательно рвет
с удельными княжениями и переходит под власть
великого князя. Осифлянство на века становится
церковной идеологией, а волоцкий игумен
возводится в святые. В ту эпоху его шаг объективно
усиливал централизующееся государство, но
неправильно видеть только эту тенденцию в действиях
Иосифа и пошедших по его стопам деятелей церкви.
Волоцкий игумен был строго ортодоксален и
с подчеркнутым почтением обращал взор на
иноческие примеры православного Востока. Сидевший
в игумене боярин Санин с не меньшим вниманием
присматривался к Западу, хотя проявлять особый
интерес к тому, что происходит в еретических
странах, не рекомендовалось. Но есть детали в
деятельности Иосифа, вроде бы и не столь
значительные, однако... Так, Иосиф требует „всякое
нечестие смирять жезлом". Это вполне нормально
для церкви, но в пример он приводит Бенедикта
Нурсийского (в старой русской транскрипции —
„Венедикт"), основателя ордена бенедиктинцев.
Венедикт-де бил жезлом монаха, который вздумал
пройти по храму во время церковного пения.
Конечно, св. Бенедикт обосновался в Италии еще
в VI веке, к католическим ересям отношения не
имеет, но все же, почему бы Иосифу — кто только
не смирял жезлом непокорных — не выбрать иного
примера?
Далее: на злосчастном соборе 1503 года Иосиф
требовал смертной казни для еретиков.
Нестяжатели на соборе противились этому, то ли оттого, что
еретики были им ближе по духу, чем осифляне,
157
то ли по гуманным соображениям, но они
рекомендовали исправлять грешников „постом и
молитвой". Иосиф привел пример испанской
инквизиции, требовал костров. Колеблющимся он бросил
слова, вошедшие в историю еретических движений:
„Еретика убити что руками, что молитвой — едино
есть!"
Язвительный Вассиан Патрикеев порекомендовал
тогда Иосифу обернуть еретиков своей мантией да
и взойти на костер: ,,...посмотрим-де, как ты
уцелеешь, чудотворец новый!" Нестяжатели были в
меньшинстве, еретиков жгли, но для нас важно, что
игумен снова заимствует образец с католического
Запада. Здесь же, на соборе, Иосиф задолго до Никона
четко проводит мысль о том, что священство выше
царства, и эта его мысль ни у кого возражений не
вызвала.
Иосиф написал объемистый труд —
„Просветитель", — надолго ставший настольной книгой
монашества для обличения всевозможных ересей. В этой
книге 16 „Слов", где излагается православное
учение и всячески опровергаются еретики. (Поскольку
сочинения еретиков были церковью уничтожены,
„Просветитель" остался источником наших знаний
о еретических учениях.) За богословской
шелухой Иосиф изложил мысль, которая не вполне
укладывалась в прокрустово ложе церковной
догматики, но многое говорила единомышленникам
игумена. Это — „Слово 7". Процитируем его:
„Если царь царствует над людьми, а над ним
царствуют скверные страсти и грехи: сребролюбие
и гнев, лукавство и неправда, гордость и ярость,
и худшие из всех — неверие и хула, такой царь не
божий слуга, но дьяволов, и не царь, но мучитель.
Такого царя, из-за его обмана, не назовет царем
господь наш Иисус Христос..."
Иосиф приспосабливает к царскому сану старую
восьмеричную схему греха, но, убавив
несущественное для царя чревоугодие и др., включает
неправду, ярость, лукавство... Но кого, собственно
говоря, по той ли, по иной ли системе „учета
грехов", нельзя назвать мучителем или дьяволовым
слугой? Есть в „Просветителе" и апологетика царя,
который „по естеству подобен всем людям,
властью же подобен вышнему богу" („Слово 16").
Но она лишь развитие „Слова 7": власть царя
158
подконтрольна тому, кто может определить, а не
является ли „подобный вышнему богу"
дьяволовым слугой? Священство Иосиф ставит выше
царства!
Несколько позже „Просветителя" появилось
краткое, но программно емкое „Послание старца
Филофея", сыгравшее важную роль в клерикальном
возвеличении Русского государства. Филофей, о
котором известно только то, что он инок Псковского
Елеазарова монастыря, выдвинул тезис: „Москва —
третий Рим". Филофей указывает, что первый Рим
пал, Константинополь — второй Рим — попал в руки
неверных „агарян", то есть турок, и осталась
единственная христианская держава — Московское
государство. „Пусть знает твоя держава, благочестивый
царь, — обращался инок к Василию III, — что все
царства православной христианской веры сошлись
в твое одно царство. Ты один во всей поднебесной
христианам царь..." „Слушай, благочестивый царь:
все царства христианские сошлись в единственное —
твое; как два Рима пали, а третий стоит, а
четвертому не быть: твое христианское царство иным не
заменится". Эту мысль инок варьирует, повторяет
в послании трижды, как заклятие. Все это, слово
в слово, мог сказать Никон Алексею
Михайловичу.
Не случайно послание Филофея возникло на
западном рубеже Руси, там, где сильнее всего
чувствовалась идейная и военная агрессия католицизма.
В XVI веке послание Филофея способствовало
политическому единству государства, но оно тут же
стало опорой чванливого неприятия всего
чужеземного, того, что взято „от еретиков", стало
идейным тормозом прежде всего просвещения и
культуры, а еще позднее — орудием самых
реакционных охранительных институтов. В XVII веке это
послание стало идейной опорой Никона в его
теократической, а точнее, иерократической попытке.
Задолго до Иосифа и Филофея, еще в XI веке,
киевский митрополит Илларион выдвигает тезис
о Руси как о „царстве благодати", „Новом
Израиле", во всем равном Византии.
Князь Владимир, принявший христианство, в Ил-
ларионовом „Слове о законе и благодати" во всем
равен императору „двух Римов" — Константину
Великому. Прославляя могущество и международ-
159
ный авторитет Руси, Илларион сопоставляет
Владимира с апостолами. Блестящий проповедник,
Илларион произносит свое „Слово" в день Пасхи 26
марта 1049 года по важному поводу: завершены
оборонительные стены Киева. Не случайно и место
произнесения „Слова": церковь Благовещения на
Золотых воротах1. Проповедь Иллариона гражданственна
и патриотична — это позиция полной
самостоятельности русской церкви и Руси от Византии.
„Слово" стоило Иллариону митрополичьей
кафедры: Константинополь не утвердил избрания
Иллариона: на столь недавно принявшую христианство
землю „второй Рим" продолжал ставить своих
митрополитов, а в монастыри — настоятелей.
И так же, как „Просветитель", как „Послание"
Филофея, „Слово" Иллариона послужило опорой
Никоновых претензий на вселенскую власть
церкви, а со временем, извращенное по смыслу, было
использовано черным воинством для проповеди
религиозной и национальной розни. Не Илларион
в том повинен. Любая церковь, любая секта с
большей или меньшей активностью, а чаще всего с
крайним фанатизмом проповедует истинность только
своей веры; со свинцовым упорством отрицая все,
что не вписывается в рамки принятых именно этим
„единственно истинным" толком догм и мнений.
При Никоне примеры такой жесткой и жестокой
нетерпимости дал он сам, дали их и те, кто поначалу
называл его „наш друг", а позднее не иначе как
„собака-Никон" и „Антихрист". Раскол, вызвавший
десятки различных религиозных направлений и
толков, а позднее русское сектантство, вплоть до
XX века давал тысячи таких примеров.
Золотые ворота были достопримечательностью Царь-
града. Их архитектура — религиозный символ: золотые
ворота города, царские (также называемые и золотыми)
врата в алтарь храма, наконец, райские врата, в которые
войдут души праведных. В этом же ряду оказывается система
ворот монастыря. Город с воротами в оборонительной
стене моделировал земной рай — прообраз рая небесного,
княжьи дворцы и боярские палаты — райские чертоги,
земная власть — небесную. Символика эта была
многогранна и столь же соответствовала интересам феодализма,
сколь льстила земной власти священным отсветом
небесных иерархий. Не случайно Золотые ворота появляются
в Киеве, как позднее и во Владимире, куда перемещается
великое княжение.
160
Никон, по крайней мере в самых гордых своих
видениях, зрил себя все же вторым после бога на
земле. Никоновская „земная" Троица оказывалась
весьма своеобразной: бог, патриарх, царь.
Религиозная вера, допуская чудеса и
сверхъестественное вмешательство в реальную жизнь, может
в крайних своих проявлениях привести к полной
потере чувства реального. Тогда' человек начинает
полагать, что он не то что „наместник" бога на
земле, он готов мыслить и видеть себя богом. Однако
Никон, надо отдать ему должное, не стал таким
фанатиком, полностью потерявшим чувство
реального.
Патриарх и протопоп
Патриарх Никон и протопоп Аввакум — эти два
имени противостоят друг другу на страницах истории,
в трудах литературоведов, письменной и устной
традиции старообрядчества. Здесь скрещиваются
различные и часто противоположные точки зрения.
Церковные историки чисто формально характеризовали
раскол как старообрядчество, стремление защитить
обряд против нововведений. Деятельность Никона
представлялась едва ли не началом европеизации
русской культуры, во всяком случае церкви, едва
ли не началом последующих реформ Петра I.
Никон, таким образом, оказывался фигурой намного
более значимой, чем был на самом деле, а вопрос о
его стремлении к превращению России в
теократическое государство попросту не возникал.
Старообрядчество выглядело на этом фоне
совсем неприглядным реакционным явлением,
тормозившим прогрессивное развитие государства.
Позднее крупнейший исследователь старообрядчества
Щапов, выявив то, что он называл ,дерковно-граж-
данским демократизмом раскола", указывал, что
„народные бунты" проходят под лозунгами
раскола. Отсюда в народнической и славянофильской
историографии возникает иная крайность: раскол
идеализируется.
И в современной литературе можно порой
встретить оценку протопопа не только как деятеля
демократического направления в расколе, но и как
незлобивого страдальца, гонимого мучителями.
11 Г. Прошин
161
Здесь уже иконный Аввакум, написанный в ,,древ-
леправославной" традиции. Ревнитель древлего
благочестия на деле совсем не был похож на
невинного агнца. Аввакум — было время, когда он
надеялся вернуться из ссылки, надеялся, что
возможно порушить нечестивые никонианские
„затейки" — и сойдет с Руси дьявольское наваждение, —
обращался к Алексею Михайловичу: „А что, царь-
государь, как бы ты мне дал волю, я бы их, что
Илья-пророк, всех перепластал во един день. Не
осквернил бы рук своих, но освятил, думаю. Да
воевода бы мне крепкой, умной, — князь Юрий
Алексеевич Долгорукой! Перво бы Никона того,
собаку, рассекли начетверо, а потом бы никониан
тех. Князь Юрий Алексеевич, не согрешим, не бойся,
но и венцы небесные примем!"
Такая вот доброта. Осуществил бы „во един"
варфоломеевский день протопоп очищение Руси
от антихристовой скверны. Цапомним, что князь
Ю. А. Долгорукий, действительно „воевода крепкий
и умный", успешно воевавший на западных
рубежах, умелый воин и дипломат, но больше воин,
известен еще и своими жестокими действиями в
подавлении восстания Степана Разина. Это Долгорукий
захватил отряд, которым командовала
полулегендарная старица Алена, арзамасская крестьянка,
принявшая постриг по смерти мужа. Повстанцев
Долгорукий повесил, Алену же сожгли в срубе как
еретицу...
Сидит Алена-старица
В Москве на Вшивой улице,
Зипун, простоволосая,
На голову набросила,
А ноги в кровь изрезаны
Тяжелыми железами...
Дм. Кедрин
Песня об Алене-старице
Многих повстанцев казнили в Арзамасе, где была
ставка Долгорукого. „Страшно было смотреть, —
рассказывает современник, — на Арзамас. Его
предместья казались совершенным адом; стояли
виселицы, и на каждой висело по сорока и по
пятидесяти трупов, валялись разбросанные головы и
дымились свежею кровью; торчали колья, на которых
мучились преступники и часто были живы по три
дня, испытывая неописуемые страдания". Так
162
„пластал" разинцев князь Юрий. С ним и собирался
наш протопоп навести „порядок" в делах веры.
Ожидать, что Аввакум стал бы действовать иначе,
случись, что реформа пошла бы по пути, предложенг
ному „боголюбцами", — значит не понимать
существенной черты религиозной идеологии — ее
нетерпимости к любому инакомыслию.
Во многом, слишком во многом, были схожи
протопоп с патриархом. Не случайно сошлись они
в кружке Стефана Вони-
фатьева... Круто взявшись
переиначивать культ,
Никон распорядился собрать
по Москве иконы нового
письма, которые, по его
мнению, стали писать не
православно, а „на манер
франков и поляков",
выколоть изображенным на
них святым глаза и в
таком виде пронести по
городу.
Кончив праздничную
службу в Успенском
соборе, Никон брал в руки
образа осужденной им
манеры, показывал
присутствующим, объяснял,
почему такое письмо
„беззаконно", и тут же
проклинал тех, кто такие
иконы станет впредь
писать и держать у себя
в доме.
Заканчивал свои
искусствоведческие эссе Никон
так: с силою бил икону
о чугунный пол собора
и брался за следующую.
Все это происходило в
присутствии царя.
Алексей Михайлович молчал.
Он только раз подал
голос, когда патриарх
распорядился сжечь
обломки. Попросил предать зем-
Никониане жгут церковные
книги. Одним из последствий
Никоновых реформ было
уничтожение множества
памятников древней
письменности, иконописи,
церковной утвари, так или иначе
,#е отвечавших" новым
требованиям культа.
Невозможно представить,
какое количество памятников
было уничтожено, но сожжения
древних книг и икон
продолжались все то время,
что церковь преследовала
и „обращала в правую веру"
массы старообрядчества.
Обличительный старообрядческий
рисунок XVIII в.
163
ле. Никон не возражал, хотя, с его точки зрения,
правильнее - сжечь. Земле предавали христиан!
Еретиков-жгли.
Противник Никона Аввакум тоже осуждает
новую манеру иконописи, негодует на
утверждающуюся реалистическую живопись. Образ Спаса Емману-
ила, возмущается протопоп, пишут слишком
плотским, каким-то толстобедрым. Вообще, „яко нем-
чин, только что сабли при бедре не написано...". Эти
слова могли принадлежать и Никону.
Мировоззренческие позиции противников сходны почти во всем.
Споры и диспуты XVII века о том, как следует
„истинно" писать: „1сусъ" (по-старому) или„1исусъ"
(по-новому), не только схоластические словопрения.
Был здесь и насущный, остро жизненный интерес:
за новой орфографией имени глаз и ухо ревнителя
старины видели и слышали польское „Иезус" и
тогда страшились, не ведет ли патриарх дело к
пагубной ереси, тем более что и на просфорах отныне
велено изображ'ать четвероконечный, — уж не
польский ли? — „крыж". На Руси хорошо помнили и
войско поляков-католиков, и ватиканских иезуитов
в их обозе.
Схоластические, „не от мира сего" распри влекли
за собой реальные жизненные трагедии. За старую
веру шли и на костер, и на плаху, „запаливались"
в многочисленных и страшных самосожжениях —
„гарях". Самосожжения трудно объяснить одними
только преследованиями старообрядчества. В
костры звала вера, которая сумела убедить, что жизнь
земная — испытание, мрачное преддверие
божественного света и любви. Искать истинного мира,
истинной жизни следовало не „здесь", а „там". Эта
страшная проповедь разжигала испепеляющий огонь
в душе, и он однажды становился реальным
пламенем самосожжения. Дым религиозных „гарей" несся
к небу, костер, зажженный недрогнувшей рукой,
уносил в небытие и то, что было, и то, что могло
быть и не сбылось, все тяготы жизни и самую жизнь.
Монашескими мантиями покрыл землю пепел
самосожжений. Уголь чернел там, где недавно жили
люди, стояли избы, колосился хлеб.
Первые пожары раскола загорались от
монастырских лампад, они — плод монашеской проповеди
отказа от греховного и пагубного мира. Они — дело
рук черных воинов. Иноческие имена запечатлены
164
страшной памятью первых самосожжений в
старообрядческих синодиках. С чернецом Данилой на
Тоболе сожгли себя 1700 человек. Число это
приблизительное, называют и другое, меньшее, но, так
или иначе, тобольская „гарь" — одна из крупнейших
в истории раскола. Число жертв раскола, точнее,
число тех, кто сам совершил над собой
„бескровную" человеческую жертву, определить почти
невозможно. Принято считать, что к 1700 году, то есть
за четверть века от начала самосожжений, в них
погибло 9 тысяч человек... В XVIII веке эти цифры
становятся больше1.
Аввакум, узнав о первых самосожжениях,
одобрил их как „второе, неоскверняемое крещение".
Сам он тоже принял огненное крещение, но иначе.
14 апреля 1682 года Аввакум и трое его
сподвижников—„великая четверица" писателей-публицистов —
были сожжены в Пустозерске „за великие на
царский дом хулы". Полуослепшие от яркого дневного
света узники твердо шли из земляной тюрьмы к
деревянному срубу — месту казни. Говорить мог
только Аввакум. У троих его сподвижников давно уже
были вырваны языки и отрублены кисти правой
руки, чтобы не проповедовали и не писали. Один из
четверки, Лазарь, пал духом. Он страшился костра.
Сохранилось известие, что Аввакум в эти последние
минуты ободрял и утешал Лазаря. Он говорил, что
муку терпеть только один миг и тут же вылетит из
тела душа и тут же обретет давно заслуженное
вечное небесное царствие. Один только миг...
Доподлинно неизвестно, эти слова или другие говорил
Аввакум другу. Но пусть это лишь поздняя добавка
к рассказу о гибели пустозерских узников, — она
выражает существо проповеди самосожжений.
Проповедь идейно опиралась на выработанные
монашеством представления, которые в жизни
отрицали все, что не укладывалось в традиционную
христианскую систему ценностей. На практике это
означало защиту сложившегося порядка вещей от
каких-либо перемен: ,,...аще мало нечто отложил —
все повредил!" Если Аввакум и его сподвижники
защищают еще реальную, живую систему ценностей
См.: Никольский И. М. История русской церкви. М.,
1983, с. 175. Самосожжения продолжались в течение
нескольких десятилетий XVIII в., особенно много их было
в 1730-е гг., в период бироновщины.
165
XVII века, то в итоге эта
проповедь ведет к застою
и консерватизму. Мертвая
уже догма традиции
тормозит жизнь, следование
„старине" становится
силой реакционной.
Особенно четко это проявилось
на рубеже XVII и XVIII
веков, уже при начале
петровских преобразований1.
Что же до протопопа,
то видеть в нем только
религиозного
проповедника — значит идти вслед
за религиозной
традицией: старообрядческой,
где Аввакум — мученик
в светлых ризах
благочестия, или церковной, где
он — невежественный
лжеучитель и посему дегот-
но очернен. Аввакум —
имя, символ не только
религиозного, но и
общественного движения.
Отсюда полярность
оценок его деятельности, и
коль скоро оценки эти
вставали из-за строк
религиозной полемики, то
они пропустили
важнейший критерий. В стороне
осталось то, что
Аввакум в расколе выразил
его демократическое
массовое направление, что
проповедь опального
протопопа (почти все, что
он написал, создано им
уже в Пустозерске) про-
Справедливо, однако, сказать и о том, что во
многом благодаря отходу старообрядчества от официальной
церкви, замкнутости старообрядческого мира в его среде
сохранились значительные ценности культуры прошлых
веков.
Сожжение протопопа Аввакума.
С картины П. Е. Мясоедова.
Художник искал возможность
более выразительно передать
сцену казни и несколько
отступил от исторических фактов.
В действительности Аввакум
был сожжен в срубе.
С точки зрения государственной
церкви Аввакум —
раскольник, а не еретик.
Раскольников сжигать
не полагалось, но выход
был найден. Протопопа предали
казни „за великие на царский
дом хулы", то есть подобрали
преступление, с точки зрения
церкви, равное ереси.
166
тивостояла и невиданному усилению никонианской
церкви, и царской власти. „Бедный, бедный,
безумный царишко!" И Москва-то, по насмешливому
слову протопопа, стала уже пригородом никонова
Нового Иерусалима... Аввакум Петров выражал
народные чаяния о свободе от кабалы духовной и
светской, о свободе от крепостничества и о духовной
свободе — спасении души. Многое в его писаниях
и посланиях, в автобиографическом знаменитом
„Житии" звучало утопично (зто и было
своеобразной утопией), ошибочно и неправильно было
пытаться противостоять эпохе, когда Россия уже вступала
на порог Нового времени, противостоять
становлению новой культуры. Но страстное и жестокое
„перепластать никониан" — это прежде всего
перепластать тех, кто кабалил народ, тех, кто сверху,
с высоты трона и патриаршего престола,
приказывал ему, как верить.
Не было „примитивности миросозерцания"
Аввакума, о чем иногда можно прочесть и в
современных изданиях, — отголосок противораскольни-
ческой борьбы с неортодоксальной
религиозностью протопопа-расстриги. В миросозерцании его
слились религиозные представления масс, страсть
публициста-проповедника, защитника угнетенных,
его непреклонность и трагическая судьба. Здесь
было и литературное, и стилистическое
новаторство гениального писателя, произведения
которого органично и неотъемлемо вошли в нашу
современную культуру.
В целом положение на конец XVII века может
показаться в известной степени тупиковым. Слишком
сходны меж собой оказываются и сторонники
реорганизации церкви по никоновому образцу, и ее
противники, одинаково фанатичные, одинаковые обря-
доверцы, одинаково не приемлющие того нового,
что входит в жизнь России в XVII веке.
Государству XVIII века еще придется иметь дело
с церковной реакцией, ломать ее и ставить церковь
на службу дворянской империи. И старообрядцами,
и оставшимися с 1700 года без патриарха
„никонианами" официальной церкви будет дан не один залп
религиозной аргументации по Петру I, залп против
реформ, против прогрессивного движения
хозяйственной, культурной жизни России, против всего
нового, что принесет с собой XVIII век. Но это —
167
впереди, мы же пока остаемся во второй половине
XVII века.
Итак, опираясь на религиозные идеи, монашество
разработало тезис о вселенском характере
православия, исподволь упорно стремилось осуществить эту
свою „высшую" идею. Казалось бы, с принятием
реформ Никона и низложением самого „второго
государя" вопрос о первенстве церковной власти
должен был отпасть. Но нет!
Вернемся к началу этой главы. Не успел еще
возок с иноком Никоном отъехать от столицы, как на
продолжавшемся соборе его русская часть твердо
и четко заявила: „Священство выше царства!"
Возражали только греки. Спор кое-как удалось
уладить, но стороны остались при своих мнениях.
Вековой тезис этот — о первенстве церкви и
в религиозных и в светских делах — еще проявится
в истории русского православия, в деятельности
черного духовенства. Но примет он иные,
„дозволенные правительством" формы.
В эту же переломную эпоху сама церковь увидела
необходимость единения с государством. В конце
XVII — начале XVIII в. прокатятся по России
стрелецкие бунты, грозное Астраханское восстание —
это снова вверх по Волге, памятным разинским
путем. И не успеет фельдмаршал Б. П. Шереметев
подавить его, как разразится уже не восстание, а
новая крестьянская война, руководителем которой
станет Кондратий Булавин.
Эти восстания особенно напугали церковь, сильно
ослабленную расколом. Крестьяне, казаки и холопы
выступили не против реформ Петра, а против гнета
феодалов, то есть восстания расшатывали
отжившую систему, которая тормозила развитие
государства. Восстания, подавленные с обычной и
привычной жестокостью, в известном смысле расчищали
путь петровским преобразованиям.
В отношении же церкви Петр действовал не
спеша. После смерти патриарха Адриана, большого
противника реформ, он не разрешил выборов нового
патриарха, поставил местоблюстителем престола
митрополита Стефана Яворского, который, по
крайней мере, понимал необходимость преобразований
в государстве, оперся на талантливого и европейски
образованного Феофана Прокоповича, сумел
сломить противоборство церкви. Наступила та эпоха,
168
когда, по ленинским словам, церковь оказалась
в крепостной зависимости от государства.
Эту эпоху В. И. Ленин назвал позорной. И
длилась она, равно выгодная и церкви и монархии,
еще два столетия.
ОТСТУПЛЕНИЕ ОТ ТЕМЫ
От Соловков до Астрахани
На далеких Соловках монахи получили новые
„никонианские" книги. По имеющимся свидетельствам,
„черный собор" (общее собрание монахов) с порога
отверг нововведения: „Новой веры и учения не
приемлем!" Посланца Москвы, архимандрита Сергия,
когда он поинтересовался, по каким же книгам
намерены служить в монастыре, не пустили и на порог
библиотеки. Надо сказать, что старообрядческая
„История..." о так называемом „соловецком
сидении" — памятник весьма тенденциозный, и каждая
строка его становится понятной лишь в
сопоставлении с другими письменными источниками.
(Впрочем, это касается и всей церковно-исторической
литературы в целом.) Совершенно неясно, как это
монахи сразу, не взглянув, отвергли привезенные
книги. Это конечно же натяжка. В освещении
старообрядческого памятника иноки должны выглядеть
настолько твердыми в вере, что отказались брать
в руки новые книги. Можно предположить, что
задолго до приезда московского архимандрита они
достаточно полно ознакомились с текстами. И что
было Сергию интересоваться монастырской
книжной палатой? Будто он не знал, по каким книгам
служат в церкви!
Иноки долго отнекивались, ссылались на
преклонный возраст, который не позволяет им
разобрать привезенные тексты, на плохую память.
Наконец твердо заявили, что не станут служить
по-новому, лучше уйдут на монастырские работы.
Старец Геронтий с житием Евфросина в руках
взобрался на стул и громогласно читал братии как
„истинно" возглашать аллилуйю. (Мы расскажем
о Евфросине в пятой главе.)
Несколько лет Соловки то вели бесконечные
прения, то выдерживали натиск царских войск. Отряды
169
Осада Соловецкого монастыря.
Изображение, подобно иконе, совмещает события.
Особое внимание обращено на обстрел монастыря из пушек.
С религиозной точки зрения, „беспокоить гробницы чудотворцев
соловецких"'— кощунство. Много внимания уделено казням,
последовавшим вслед за взятием обители. Казнили не только
монахов (они изображены в иноческом облачении).
Мирян художник нарисовал нагими — это единственный
намек на то, что обороняли монастырь не только монахи,
но и местные жители — поморы, разинцы.
Старообрядческий рисунок. XVIII в.
стрельцов действовали против монастыря без
особого успеха, даже когда в осадное войско привезли
пушки. (Поначалу стрелять из них не хотели —
боялись побеспокоить соловецких чудотворцев.)
Монастырь поддержало все побережье: подвозили хлеб,
за лето обеспечивали рыбой.
Соловецким монахам было что отстаивать.
Громадные владения, совершенно самостоятельное
хозяйство, собственное войско, — словом, монастырь
был, по сути, целым удельным княжеством,
которое вовсе не собиралось покориться власти, откуда
бы она ни пришла. Но не это придало монастырю
силу сопротивления (в конце концов из-за
монашеской розни, из-за того, что некий чернец показал-
таки стрельцам, как проникнуть в монастырь
потайным ходом, длительная блокада Соловков
увенчалась успехом). Силу сопротивления придали
монастырю выступившие против власти разинцы,
170
Соловецкий монастырь.
Рисунок А. А. Пчелки на
которых постепенно немало скопилось в его стенах.
Управление быстро перешло из рук старцев в руки
собравшихся здесь крестьян и казаков. Есть
известие, что обороной монастыря руководил некий
Фаддей-сапожник. Чернецы остались чернецами, но
вся практическая жизнь сосредоточилась в руках
сподвижников Разина. Богослужение забросили,
требы, даже такие, как отпевание умерших,
исполнять перестали. Троеперстие же объявили печатью
Антихриста.
После падения Соловков все руководители
восстания были казнены, рядовые участники сосланы,
а братию разместили по другим обителям, где
содержали весьма строго. Монастырь населили
московские монахи, и с расколом на Соловках было
покончено. Отметим, что крестьянская и казачья, ра-
зинская, преобладающая в этой вооруженной борьбе
с правительственными войсками масса, стояла здесь
за старый обряд. Никон для нее — прямой Антихрист.
Но те же разинцы, поднимаясь вверх по Волге,
вели среди казацких судов одно особое — черное.
На нем, уверяли восставшие, плывет опальный
патриарх Никон. Разин действительно пытался
склонить патриарха на сторону восстания. В Ферапонтов
монастырь приходили посланцы Степана
Тимофеевича. Факт ли это? Иногда его оспаривают, точнее,
171
относятся к нему с определенной осторожностью.
Однако о каких-то отношениях Никона с
„воровскими казаками" доносил настоятель Ферапонтова
монастыря.
Может быть, этот донос — свидетельство борьбы
игумена со строптивым и не желавшим смириться
Никоном, которого по-прежнему величали там
патриархом? Но и сам Никон оправдывался перед
царем, что тех „разинских воров" он не принял и
беседы с ними не было. Однако факта не отрицал.
Наконец, сам Разин уже на пытке при расспросах
о Никоне подтвердил, что пытался установить связь
с ним. Вопрос этот, сам по себе весьма интересный,
лежит все же вне нашей темы. Для нас важно
только, что имя Никона здесь звучит совсем иначе, чем
в Соловках. Расстояние от Астрахани до Соловков
огромное, и этой огромной России было достаточно
безразлично: два ли перста складывать, крестя лоб,
или три.
Иное дело — тот жизненный интерес, который
стоял за религиозным обрядом. Этот интерес мог
идти рука об руку с религиозным толкованием
жизни, облечься монашеской мантией, но никогда
не мог мириться с монашеским уходом от нее
самой. Когда у Степана Разина стали на Дону просить
денег на церкви, а в ту пору казачий атаман был и
богат и щедр, он отказал наотрез. И пояснил, что
церкви и священство народу вовсе не надобны.
Единственно, задумался Степан, может быть, для
венчания? Но и здесь не увидел он смысла в
религиозном обряде. И Разин указал на старый,
сохранившийся в казачьей вольнице языческий —
нецерковный — обряд хождения молодых вокруг куста.
Этот стихийный атеизм составлял основу
народного миропонимания искони, даже тогда, когда оно,
это миропонимание, выражалось религиозно. Это
был атеизм понимания существа жизни, а не ее
преходящих форм.
Казачий струг, обитый черным бархатом, вез по
Волге „Никона". Но по пути восставшие жгли и
громили православные монастыри, сопротивлявшиеся
разницам. Так, был разгромлен, например, большой
и богатый. Макарьев Желтоводский монастырь. Ра-
зинский „Никон" был согласен с восставшими.
Внимательное прочтение документов той эпохи
приводит нас к мысли, что даже среди верующих,
172
даже среди тех, кто страстно отстаивал ту или иную
религиозную форму, отношение к религии было
достаточно равнодушным. Обрядоверие приводило
в конце концов к вполне естественному и
рационалистическому отрицанию обряда самого по себе.
Когда одну из сподвижниц боярыни Морозовой
склоняли отречься от двуперстия/то среди
увещевателей приходили к ней „яко бес с дьяволом, сиречь
поп с дьяконом" и заставляли складывать три
пальца. „Это не крестное знамение, — отказывалась
староверка, — а печать Антихриста". „Нет, — отвечали
ей поп с дьяконом, — как ты два пальца
складываешь, показывая свой крест, это когда младенцы
калом перепачкаются, тогда матери, так сложив
пальцы, их оскребают..." „Так вот злочестивые
умеют лаять!" — сокрушенно заключает этот эпизод
„Повесть о боярыне Морозовой". И действительно
умеют. Запоминается даже не гнусность аргумента
неведомых „попа с дьяконом", его кощунствен-
ность и с религиозной точки зрения, сколько
глубокое безразличие, что проповедовать. Ведь совсем
недавно оба они сами крестились двумя, а не тремя
пальцами. И утверждали, что это и есть
единственное, „истинное и спасительное сложение перстов".
И вот: „...тако младенцев оскребают". Нет, не
религиозный фанатизм, а религиозный конформизм
значительно более характерен для периода раскола.
Образцы защиты той или иной „правой" веры,
возносимые официальной ли церковью,
старообрядческими ли начетчиками, единичны и не представляли
сколько-нибудь значимого явления вне
религиозных общин. Имена Морозовой, Аввакума, Никона
были начертаны на хоругвях противоборствующих
лагерей, но шла борьба отнюдь не религиозных
интересов, и стороны, при всем культовом пиетете
к „сложению перстов", это понимали.
Степан Разин также кончил жизнь мученически.
И он готовил себя к такому концу, он понимал,
куда приведет его казачья судьба борца за народную
волю. Он научился терпеть любые лишения,
выносить такое, что покажется непосильным и
выносливому человеку. В застенке и на пытке он доказал
это. Степан Тимофеевич кое-что рассказывал
о себе, но только то, что считал возможным
рассказать. На иные вопросы не отвечал. И тогда не было
у палачей силы, чтобы заставить Разина говорить.
173
Он молчал на дыбе, молчал, когда сотня ударов
кнута буквально изрубила ему спину, молчал, когда
его клали на горящие уголья. В. запасе оставалась
пытка, которой не выдерживали — сдавались или
сходили с ума: на темя пытаемому размеренно
капали воду. Степану стали брить голову: „Вот как, —
посмеивался он, — мы слыхали, что постригают
ученых людей, мы же с тобой — это он родному
брату, Фролу, которого пытали рядом с ним, — мы
же с тобой, брат, простаки, а и нас постригли!"
Разин выдержал и эту муку. Истерзанный, он был
спокоен и 6 июня 1671 года на плахе. Он
поклонился на все четыре стороны — народу. Казнь была
продолжением пытки. Разина четвертовали. Палач
сперва отрубил руку — по локоть, затем ногу по
колено. Разин не показал и виду боли, Фрол,
которого должны были казнить вторым, в ужасе
закричал. Изуродованный Степан нашел в себе силы
приподняться и бросить брату: „Молчи, собака!"
Это были его последние слова. Следующий удар
топора снес ему голову. Церковь предала
стихийного атеиста, „вора и богоотступника" анафеме.
Народ сложил о нем песни.
ГЛАВА
4
РУССКИЙ ПАЛОМНИК
5 1888 году в Петербурге во время июльской
грозы молния ударила в часовню. От удара молнии
„к самой иконе пристало несколько медных монет",
из тех, что лежали перед нею на тарелке для
пожертвований. Сразу же возникла легенда о том, что
икона чудотворна, что перед тем она уже „спасла от
потопления" какого-то новоладожского купца...
Словом, был создан культ новой святыни. А сама
икона — ее называли „Богородицей с грошиками" —
распространялась в копиях разного достоинства в
тысячах экземпляров. На одних — ближе к
оригиналу — на живопись клеили настоящие монетки, на
других медяки были только нарисованы. Тысячи и
тысячи икон воспроизводили „чудо" на бумаге и
картоне, рельефные монетки — семишники и
алтыны — оттискивались из папье-маше,
выдавливались на жести.
После Октября юнкера захватили Московский
Кремль. Вооруженное выступление было
подавлено Красной гвардией, которой пришлось
применить артиллерию. Во
время обстрела, в
частности, осколки повредили
образ св. Николая, что
находился над
воротами Никольской башни.
В контрреволюционной
кампании против
большевиков, которые „не
пощадили святынь" Кремля,
эту надвратную икону
массово воспроизводили
и распространяли с цер-
ковно-монархическими
сетованиями на
безбожных
„большевиков-комиссаров".
Пропагандистская
кампания в данном случае
удачно учитывала
религиозное сознание
обывателя. Воедино сливались и
Кремль с монастырями. ^оши^Т^
храмами, многочисленны- конец XIX в.
179
ми святынями
чудотворных икон и мощей, и то,
что это была икона
самого почитаемого
верующими святого.
Воспроизводилась она с видом
стены, на которой
находилась, со следами сбитой
штукатурки. Строго
говоря, распространялась не
икона, а живописное
произведение о ее
повреждении. Казалось бы,
убедительнее распространить
документальную
фотографию. Но на фотографии
не выявить повреждений
с такой наглядностью,
как это можно сделать
на иконе, где своя рука —
владыка. Главное — в
руки обывателю попадал
„поврежденный
антихристами" привычный ему
образ, что способствовало
разжиганию не столько
религиозного, сколько
контрреволюционного фанатизма. Писатель В.
Каверин вспоминает, что ради этого на московской
толкучке торговали даже чудотворными
„щепочками" от якобы вдребезги разбитого образа.
Мы видим, что церковь быстро и умело
использовала ситуацию, находила отклик среди
верующих. В этом — сила религиозной традиции.
Массовое сознание было воспитано на вере в чудеса
икон и щепочек, которые изготавливались и
распространялись монастырями.
Паломник уносил с собою если не реликвию, то
что-то, что было памятью о поездке, или же
специально ехал и шел за чудотворной святыней
в прославленную обитель. Посмотрим же, чем
встречал монастырь богомольца, вошедшего в его
стены через святые ворота.
Изображение иконы св. Николая,
находившейся над Никольскими
воротами Кремля.
Во время штурма Кремля
икона была повреждена.
Этот „список " с подчеркнутыми
повреждениями иконы
распространялся
в доказательство того,
что „большевики не щадят
древних святынь ".
180
Икона
Монастырь — сосредоточение церковных реликвий,
в первую очередь чудотворных икон и мощей
святых. В монастырях же в массовом масштабе
изготавливали культовые предметы, организовывали
многолюдные крестные ходы и т. д.
Обычная святыня всякого монастыря — это
его чудотворная икона. В старых и больших
монастырях, лаврах, пустынях чудотворных икон
бывало по нескольку. По подсчетам церковных
справочников, в числе „главных" или „главнейших"
святынь чудотворных икон в перечисляемых
монастырях оказывается несколько больше тысячи. Если
же взять широко издававшиеся путеводители по
отдельным монастырям, исторические описания
обителей, брошюрки и тому подобную
литературу, рассчитанную на рядового паломника, то число
этих святынь окажется значительно большим.
Установить количество того, что в монастырях
называли „чудотворным", принципиально
невозможно, поскольку в Новое и Новейшее время
церковное понятие чудотворности оказывается весьма
зыбким и расплывчатым. В церковной литературе
можно встретить такие определения икон:
„чудотворная", „особо чтимая", „весьма чтимая",
„чтимая", „чтимая местно". О некоторых говорилось
еще более приблизительно: „...явила себя силой
исцелений" — или еще глуше: „исцелила
болящую", „считается чудотворной". Пояснений не
дается. Где „местно" чтят названную икону? В пределах
монастыря? Что значит „считается" чудотворной?
Шаткость этих определений церкви — свидетельство
того, что времена наивной религиозности средних
веков миновали и православие с незыблемыми
когда-то чудесами оказалось в тупике, из которого
„кафолического и ортодоксального" выхода не
существует. Вместе с тем церковь принципиально
не может отказаться от утверждения чудотворности
икон, фантастическая сила которых прославлялась
веками, нашла отражение во множестве сказаний,
поучений, в житиях святых и т. п. Градация
определений чудотворности — попытка найти такой
компромисс, который бы и сохранял древние легенды
и мог бы защитить церковь от обвинений в
прямой фабрикации чудес. Очевидна интеллектуальная
181
нечестность приема, даже его кощунственность
с точки зрения того религиозного учения, которое
проповедовалось через мнимые святыни.
В новых монастырях, когда собственной
чудотворной еще нет, тогда власти обители исподволь
начинают выделять одну из икон храма, вводить ее
в особый культовый оборот, без чрезмерного
нажима пропагандируя ее как способную „к пода-
нию помощи по молитве". С точки зрения
религиозной не очень понятно, почему в новой обители икона
не могла немедленно явить себя „силой исцелений".
С точки же зрения земной объяснение есть —
немедленное появление чудотворной иконы нежелательно
потому, что неясно, как сложится судьба обители.
То ли она „просияет благочестием", и богомольцы
отовсюду начнут стекаться к ней — тогда „новые
святыни" необходимы; то ли развалится, останется
незаметной церковкой, около которой несколько
старух будут доживать дни на скудное подаяние.
В последнем случае чудотворная возбудит лишь
ненужные сомнения—„соблазн". Словом,
чудотворная икона должна была попасть только в верные
руки.
Почему же именно икона занимает такое
важное место в культе, почему с иконами совершалось
большинство крестных ходов, почему, наконец,
прежде всего иконку, образок покупал в
монастырской лавочке паломник, возвращаясь домой?
Много говорится о наглядности и
эмоциональности иконы. Это справедливо, но одним этим дела
не объяснить. Наглядностью и эмоциональным
воздействием обладают и другие культовые предметы.
Избрали же в свое время гуситы символом своего
движения потир — причастную чашу, а русские
старообрядцы — восьмиконечный крест.
У иконы есть ряд особенностей, которые делают
ее незаменимым средством религиозного
воспитания. Она — произведение живописи и одновременно
предмет культа, следующий определенному
канону: правилам изображения персонажа, события и
т. д. При всей обязательности традиции в икону
легко привносится новое содержание. В пределах
сложившегося канона можно выделить те или иные
стороны изображаемого, распространять и,
наоборот, сокращать известные сюжеты. Рождество
Христово может быть „полным", включающим и вер-
182
Иконки массового производства на жести бесплатно вручались
паломникам.
теп-пещеру с яслями и животными, фигурами
спешащих к Вифлеему волхвов и пастухов и т. д., но
может быть „кратким" — только Иосиф и Мария
с младенцем. Широта изобразительных
возможностей иконы позволяла пропагандировать собственные
святыни — преподобных основателей, местночтимых
святых, — словом, свой монастырь. Икону легко
распространять в тысячах копий, что составляло
предмет особой заботы монастырских
иконописных мастерских. Икона массовая, ремесленная,
давала легкий заработок монахам.
В практике церкви постоянны не только
чудотворные иконы, но и копии с них, в свою очередь
тоже считавшиеся чудотворными. Они обычно не
шли на рынок, но использовались монастырем
как способ отблагодарить богатого жертвователя
или привлечь его к обители. Со второй половины
прошлого века церковь прибегает к типографскому
тиражированию икон. Методы полихромного
воспроизведения, типографской печати на бумаге, а с
конца прошлого — начала нынешнего века — на
жести сильно теснят на церковном рынке традиционную
живописную икону.
Массовый же спрос удовлетворялся поделками,
которые изготовлялись или самим монастырем,
или, что чаще, скупались оптом у богомазов-ремес-
183
ленников. Так, мастера Ростова Великого были
вынуждены делать по тысяче эмалевых образков
Сергия Радонежского в день. Пройдя же через
монастырские лавочки, образок приобретал значимость
реликвии. Соответственно увеличивалась его цена.
Богомолец уже в силу того, что грошовая копия
чудотворной приобретена им в стенах святой
обители, склонен был считать, что на нее „незримо и
невещественно" перешла часть той чудотворной
силы, которой, несомненно, обладает ее оригинал.
Монахи настойчиво навязывали эту мысль
богомольцу.
На многих повторах монастырских святынь
можно прочесть справку-аннотацию, извещающую,
что „сей образ есть точная копия чудотворной
иконы". Далее следуют название иконы, название
монастыря и его почтовый адрес. Очевидна
прямая рекламная задача таких текстов. Массовость
производства, возможность трансформации сюжета
по объему содержания и по размерам, когда он
мог занять и целую стену храма и поместиться на
литом или штампованном
образке, надетом на шею,
возможность варьировать
качество исполнения и
стоимость, применяя то
благородные металлы, то
фольгу и картон,
превращает икону-образок в
эффективное средство
пропаганды религиозных
ценностей.
Культ чудотворных в
монастырях создавался
легче и надежнее, чем в
храмах приходов и даже
в бесприходных соборных
храмах. Чем известнее
был монастырь, чем
большее количество людей
проходило через его
ворота, тем большим
количеством чудотворных
икон он располагал. Это
понятно. Там, где идет
поток паломников, неиз-
Икона у ворот
Псково-Печорского монастыря.
Над воротами и в арке входа,
на стенах храмов и у колодца,
словом, икона в монастыре —
повсюду, куда бы ни глянул
инок или паломник.
184
бежно повышается вероятность исцелений в
результате сильного, психологического например,
воздействия и возможность того благочестивого
обмана, когда естественному событию искренне
приписывается свойство чуда. Часто это делалось
самими паломниками. Одни из них стремились
обратить на себя внимание в силу своего психического
склада или особого религиозного настроя, другие —
потому, что дело могло оказаться выгодным.
Поток паломников облегчал и прямую
фальсификацию чуда исцеления, предсказания и пр.
Подобное почти не могло происходить в
приходской церкви, в селе или в небольшом
городке. В приходе постоянное количество верующих.
Друг друга они знают, и если бы произошло
исцеление у иконы или если причту пришло бы в голову
„помочь чуду", то повторения удобной ситуации
пришлось бы ждать неопределенно долгое время.
Это поставило бы под сомнение чудотворность
иконы, а в конечном счете могло привести к
разоблачению причта храма. Поэтому культовая практика
сосредоточивает иконные чудеса преимущественно
в монастырях, местах массового, однократного и
кратковременного посещения.
В упомянутой тысяче чудотворных образов
преобладают иконы божьей матери — их около 350.
Св. Николай — он на втором месте — около 60.
Далее идут Троица, Вознесение, Михаил
Архангел, св. Георгий и т. д. Цифры эти
характеризуют лишь относительное распределение по
сюжетам.
Чудотворные иконы размещены по монастырям
в особой системе. В северных, преимущественно
мужских монастырях, в тех, которые основались
отшельниками-нестяжателями и мистиками, и
чудотворные преобладают символического и христо-
логического содержания: Новозаветная Троица,
Отечество, Вознесение, Спас Нерукотворный,
Вседержитель. Чудотворные богоматери (Владимирская,
Смоленская, Тихвинская и др.) сосредоточены главным
образом по монастырям средней полосы. Здесь и
большая часть женских монастырей, которых почти
не было на севере, здесь и большинство
паломников — женщины. Уже одно распространение
чудотворных икон показывает продуманную культовую
политику.
185
В системе чудотворных прослеживаются и
особенности местного характера. Монастыри на берегах
северных морей, где преобладали рыбаки-поморы,
Приладожья и других подобных районов
подчеркивают способность своих чудотворных „в помощи на
водах". В засушливой лесостепной полосе, где год
земледельца порой зависел от единственного дождя,
иконы чудесно являлись близ воды. Так,
чудотворная икона св. Николая в Николо-Бавыкинском
монастыре явилась у колодца. Там, где в жизни
местного населения большую роль играет река, икона
связана с нею. Николо-Бабаевский монастырь, что
был на Волге у тех мест, где собирались артели
плотогонов, свое название получил от бабаек —
больших весел на плоту. На бабайке явилась
чудотворная икона св. Николая.
Подавляющее большинство чудес от икон
связано с исцелением от болезней. Выработался
определенный стандарт исцелений, обычное, так
сказать, „исцеление в монастыре". Церковная
литература прошлого полна описаниями таких чудес.
Приведем изложение типичного. Является „царица
небесная болящему некоему" и говорит:
„Отправляйся в такой-то монастырь, и там перед моим
образом ты получишь
исцеление". Следует
обязательный период
„недоумений и страхов" —
необходимая подготовка,
оттеняющая то, что
произойдет в дальнейшем.
Наконец, больного с трудом
поднимают с постели и на
руках несут в монастырь.
По дороге болезнь
усиливается. Самый сильный
приступ („корчи",
„беснования" и т. п.) всегда
происходит в момент,
когда больного кладут перед
чудотворной. Цитирую:
„Во время чтения Еванге-
„Исцеление отрока" лия больной пришел в
у чудотворной иконы сознание. При пении „Не
во время крестного хода. г
Церковная олеография имамы иныя помощи,
начала XXв. не имамы иныя надежды,
186
разве тебе, владычице", приподняли его и
приложили к иконе. В ту же минуту он перекрестился, встал
на ноги здоровый и еще раз со всем усердием
приложился к святой иконе".
Есть группа икон, проявляющая чудесное
заступничество за монастыри в определенных ситуациях.
Спас Нерукотворный из Новоспасского монастыря
был послан в войска, шедшие на подавление
восстания Степана Разина. И „заступничество" этой иконы,
ее присутствие в правительственных войсках
церковь связала с победой над восставшими.
Чудотворная Тихвинская из Цивильского монастыря
Казанской губернии „спасла" город от взятия его
разницами. Каждый раз церковь подчеркивала
„богоотступнический" образ действий восставших против
власти и объясняла их поражение как результат
принципиально неодолимого покровительства
небесных сил православию и самодержавию. Подбор
чудотворных не случаен: Спас — не только икона, он
воинская хоругвь, и те, с кем Нерукотворный, —
победители. Всегда в роли заступницы и
чудотворная Тихвинская, находившаяся в Тихвине с конца
XIV века. По преданию, она неоднократно спасала
город от вражеских нашествий. Цивильская ее
копия (тоже чудотворная) переняла ту же
функцию. В этом параллелизме, воспитывавшем и
использовавшем стереотип, привычный верующему, —
продуманные методы религиозного воздействия.
В данном случае стереотип способствовал
распространению церковной и монархической мысли о
Степане Разине как „воре и отступнике".
Охранительная традиция в чудотворениях
продолжалась в течение всего периода духовного
господства церкви. В годы отмены крепостного права
и в эпоху революционного движения начала XX века
начинают массово являть чудеса иконы Сычевского
Казанского монастыря Смоленской губернии, Бого-
родицкого Нижегородской губернии, Козельщан-
ского Рождество-Богородицкого, Иверского Вык-
сунского, Моденского Николаевского,
Оренбургского Успенского, Серафимо-Понетаевского и
многих других.
За вторую половину XIX — начало XX в.
количество чудотворных икон в монастырях сильно
увеличилось. „География чудотворений" охватила
в этот период практически всю страну. Почти все
187
новоявленные чудеса получали монархическое
истолкование — являлись попыткой черного
духовенства противостоять освободительной борьбе
крестьян и рабочих России.
Крестный ход с иконой
Чудотворная икона использовалась и в крестных
ходах — торжественных парадах черного воинства,
процессиях с хорами певчих, церковными
знаменами — хоругвями.
Вообще крестный ход отнюдь не монастырская
привилегия. Белое духовенство имело свои
официальные крестные ходы по разным случаям:
праздник храмовой иконы — крестный ход по
всей церковной округе, зимний — с водосвятием
„на Иордань" и т. п.
Но мы говорим о монастырском крестном
ходе — разница огромная. Во-первых, крестный
ход белого духовенства, а главное — сбор
пожертвований в нем, совершался только на территории
собственного прихода. Причт соседней церкви зорко
следил, чтобы границы не были нарушены: доход —
дело святое. А на особые пожертвования своих
прихожан рассчитывать не приходилось. Во-вторых,
крестный ход не мог быть длительным, даже если
речь шла о приходе с несколькими деревнями:
не разрешалось надолго оставлять храм без службы.
Конечно, препятствия обходились, но хлопоты
иногда не стоили того.
Другое дело — монашествующие. Их крестные
ходы не только отличались особой
торжественностью, но и проходили по длинным постоянным
маршрутам. Их согласовывали — одновременного
движения по одним маршрутам не происходило.
Распорядок сложился в результате тихой, но
жестокой конкурентной борьбы между монастырями и
белым духовенством и между соседствующими
монастырями. Крестные ходы с чудотворными
святынями давали значительный доход.
Большинство монастырских ходов посвящалось
событиям прошлого. Многие — по поводу
„чудесного избавления" от эпидемий чумы и холеры.
Так, в Одрином Николаевском монастыре
ежегодно устраивался крестный ход „в память избавле-
188
И. Е. Репин. Крестный ход в Курской губернии.
Несущие икону Женщины, несущие пустой киот
(фрагмент). (фрагмент).
ния от чумы" в 1713 году. В Домницком Рожде-
ство-Богородицком — в память двух эпидемий
1738 и 1771 годов. Вьясск^я Владимирская пустынь
крестным ходом отмечала прекращение (конечно,
благодаря заступничеству монастырской иконы)
холерной эпидемии 1830 года. Псково-Печорский
монастырь учредил крестный ход в память
избавления от холеры в 1848 году, Красногорский Иоанно-
Богословский — после эпидемии в 1860-х годах,
Угличский Богоявленский — после холерной
эпидемии 1871 года. Пожалуй, ни одна из многих
эпидемий XVIII и XIX веков не осталась без того, чтобы
память о ней не сохранялась торжественной
процессией какого-либо монастыря.
Эпидемия — „мор" — издавна рассматривалась
церковью как массовое наказание божие за грехи.
В годы эпидемий обострялось религиозное чувство.
Медицина прошлого могла противопоставить
болезни только малодейственные карантины,
обтирание уксусом и окуривание серным дымом.
Окуривания дымом в народе избегали: любой монах
и любой батюшка объясняли, что горящая сера
и есть огненный жупел ада. Церковь предлагала
заступничество святых, что тоже мало помогало.
189
Эпидемии прекращались так же стихийно, как и
возникали.
К слову, здесь один из конкретных стимулов
веры: в эпоху бессилия науки против подобных
бедствий, в долгие недели и месяцы, когда
специальные „мортусы" в просмоленных одеяниях
крючьями наваливали на телеги сотни трупов и без
разбора волокли их в братские могилы холерных
кладбищ, когда сжигали дома, где обнаружилась
зараза, — тогда, возможно, крестный ход давал
людям какую-то психическую разрядку, а надежда
на небесное заступничество — силу жить и
сопротивляться бедствию повального мора. Молитвы,
взывавшие к небу: „Ты бо еси един, недуги и
болезни рода нашего понесый, и вся могий..." — как
возглашает церковь в кондаке „О болящих",
рождали надежду. Небесное заступничество
предпочиталось земному. Прекращение эпидемий
трактовалось как результат обращения к святыням и
монашеских молитв, которые, как известно, скорее
доходят к богу. Но в конечном счете это внушало
недоверие к науке в целом, тормозило
проникновение медицинских знаний в массы и просто
парализовало деятельность врачей.
Аналогичные шествия устанавливались „в память
избавления" от других стихийных бедствий.
Например, в Площанской Богородичной пустыни
Орловской губернии — в память избавления от саранчи.
Такова группа крестных ходов, которые
устанавливались по случаю стихийных бедствий, где
вероятность их повторения была неопределенной. Конечно,
здесь действовала и монастырская чудотворная
святыня, но акцент делался не на ней, он делался
именно на молитвенном шествии, на его зрелищности,
на покаянии и слезах. Расчет был на то, что
следующая эпидемия может разразиться и через
десятилетия, а бог даст — стороной пройдет. Тут возлагать
функции избавления и исцелений на икону
нецелесообразно — икона практически оказалась бы
бездействующей, „нерентабельной", что повело бы
к умалению веры в ее чудотворность. Святыню
церковь под удар не ставила. Поэтому и
устанавливается крестный ход — воспоминание, а главное,
напоминание необходимого усердия в делах веры.
Существовала большая группа крестных ходов
в память героических событий военного прошлого.
190
В Могилеве — „в память чудесного спасения города
от литовского гетмана"; в Пскове — „в память
чудесного заступничества" в период
польско-шведской интервенции, в память избавления от
нашествия „двунадесяти язык" наполеоновской армии
и т. д. Эти процессии — средство
религиозно-патриотического воспитания: прежде всего речь шла
о небесном заступничестве и монархизме —
религиозном аспекте патриотической верности царю и
отечеству.
Впрочем, Синодом были учреждены крестные
ходы и специально для поддержания
монархической идеологии, некоторые из них устанавливались
непосредственно императорскими рескриптами. Все
эти шествия учреждены в XIX веке, когда
монархические устои теряли былую прочность. Например,
в Казанском Богородицком монастыре в 1866 году
учрежден крестный ход „в память чудесного
избавления Александра II от угрожающей опасности".
Монахи имели в виду выстрел Каракозова.
Поторопились. Прошли годы, и приговор над царем был
исполнен народовольцами, но уже учрежденный
крестный ход остался. Подобных крестных ходов
было немного, хотя, казалось бы, именно такой
ход дает церкви разнообразные возможности для
религиозной, монархической, националистической,
контрреволюционной, наконец, пропаганды.
Причина одна, но очень веская — массы год от года все
более разочаровывались в своей вере в
царя-батюшку, казенное верноподданничество становилось все
менее популярным. Десятилетия отделяли еще
Россию от 9 января 1905 года, когда была расстреляна
наивная вера народа в справедливого царя, но
монархические процессии уже не собирали тех толп
богомольцев, которыми отличались другие
крестные ходы. Заведомо непопулярное шествие лучше и
не устраивать, и зря чудотворную не выносить —
монашество укрепляло монархическую идеологию,
но другими методами. '
Основной функцией крестных ходов была
пропаганда собственных святынь. Из редкого монастыря
не ходили с иконой хотя бы по ближайшей округе:
в год было по два-три, а иногда и более этих
своеобразных бенефисов монашества, в торжественном
шествии под колокольный звон покидавшего свою
обитель. Монастырские ходы отличались большой
191
длительностью. Свияжский монастырь с иконой
преподобного Сергия устраивал двухмесячный ход
по окрестным городам и селам. Оранский Богоро-
дицкий проводил ряд крестных ходов по всем
городам Нижегородской губернии. Пятеро его монахов
посменно находились в крестных ходах со своей
иконой почти круглый год. Тихвинский монастырь
охватывал всю округу двадцатью двумя крестными
ходами в течение круглого года.
Религиозный писатель XIX века замечает: „Чтобы
увеличить свои доходы, монахи, под надзором
которых проходят крестные ходы, не торопятся их
скорее заканчивать, не держатся кратчайшей дороги,
а большей частью уклоняются от нее не только за
10—20, но и за 50 и более верст. Словом, стараются
побывать во всех богатых или, по крайней мере,
не бедных деревнях". С духовенством местных
церквей происходили трения: причт требовал себе
долю доходов. Белое воинство утверждало, что оно
„нужнее и полезнее для епархии", а без
монашествующих верующие могут обойтись, к тому же „они
ничего и не делают, кроме того, что едят чужой
хлеб". Процитированный документ — внутреннего
пользования, а потому откровенен. Оставим на
совести причта утверждение о его полезности:
крестили, венчали, отпевали — служили. Требами
монашество обычно не занимается, но насчет „чужих
хлебов" — равно грешны и те и другие.
Икона по дороге помещалась в заранее
оговоренные соборы и церкви, оставалась там по дню-два,
а то и по месяцу-другому, затем следовала дальше.
Частью дохода от молебнов и пожертвований
монахи делились с местным причтом.
Картины встречи такого шествия оставили нам
Н. А. Некрасов:
Много владычице было почету:
Старый и малый бросали работу,
Из деревень шли за ней.
К ней выносили больных и убогих...
Знаю, владычица! знаю: у многих
Ты осушила слезу...
Только ты милости к нам не явила!
„Мороз, Красный нос",
А. П. Чехов: „...все протягивали руки к иконе,
жадно глядели на нее и говорили, плача:
„Заступница, матушка! Заступница!"
192
Все как будто вдруг поняли, что между землей и
небом не пусто, что не все еще захватили богатые и
сильные, что есть еще защита от обид, от рабской
неволи, от тяжкой, невыносимой нужды, от
страшной водки. [...] Но отслужили молебен, унесли
икону, и все пошло по-старому..." („Мужики").
Нам кажется, что эти цитаты передают
психологическую атмосферу религиозной веры, любви и
надежды, которую возбуждал крестный ход, и ту
атмосферу тоски, когда „все пошло по-старому",
когда икона „милости к нам не явила", когда мимо
прошел крестный ход. Тогда — ждали следующей
возможности вынести к чудотворной своих
больных, и свою боль, свое убожество и глухой, не
осознанный еще протест против этого убожества.
Задумывая „Крестный ход в Курской губернии",
И. Е. Репин написал небольшое полотно, тоже
хранящееся в Третьяковской галерее, — „Крестный ход
в зеленой роще". На нем склоняются перед иконой,
исступленно припадают к ней и жарко молятся в
надежде на милость и утешение. Это — как
иллюстрация к Некрасову и Чехову.
Монашество хорошо знало, на чем стоит вера.
„Поднять" икону
Чудотворную икону можно было привозить на дом.
Это называлось „поднять" икону. Чаще всего ее
„подымали" к тяжелобольным. Позволить себе
„поднять" чудотворную могли только люди
состоятельные: выезд святыни обставлялся пышно, с
ладанным каждением, с певчими. Некоторые иконы
существовали практически как „выносные",
„выездные" — трудно подобрать в современном языке
подходящее слово. Таким был культ иконы Ивер-
ской богоматери, для которой в Москве была
построена специальная часовня, откуда образ
отправлялся по домам.
Доход от часовни был огромен. Не случайно
древняя икона, находившаяся в обыкновенной
приходской церкви, была передана Перервинскому
монастырю. Этот монастырь традиционно находился под
властью московского митрополита, который
считался его настоятелем, а следовательно, распоряжался
доходами монастыря. Культ Иверской выглядел
13 Г. Прошин
193
суеверным пережитком уже в начале XIX века.
К. Н. Батюшков в „Прогулке по Москве" писал:
„Вот большая карета, которую насилу тянет
четверня: в ней чудотворный образ, перед ним монах
с большою свечой. Вот старинная Москва и остаток
древнего обряда прародителей!" Живуч был
„остаток". Четверня возила икону еще добрых сто лет,
и редок был тот день, „в который монахи,
приставленные к часовне, не отправлялись бы с иконою...".
Второй подобной святыней в Москве был образ
Спасителя. Находился он в своей часовне и
принадлежал Вознесенской Давыдовой пустыни. Спаса
тоже возили в карете по домам и тоже четверней.
Разница была в упряжке: Иверскую возили,
запрягая лошадей цугом, Спаса везла четверня в ряд.
Иноки обеих обителей всячески прославляли
чудеса своей святыни, но остерегались при этом хулить
соседа. Впрочем, москвичи предпочитали Иверскую.
„Поднятие" иконы практиковалось многими
монастырями, и прием иконы в доме становился как
бы обязательной частью культа. Если „поднять"
Иверскую или Спаса считалось престижным и стоило
дорого, то массу других икон, по общему мнению
не очень-то чудотворных, верующим просто
навязывали. В конце 1902 года Л. Н. Толстой написал
обращение „К духовенству". Свет оно увидело в 1903
году на Западе. В России правду о религии
опубликовать было невозможно. Вот что писал Лев
Толстой: „Стомиллионной же массе проповедуется одно:
вера в иконы Казанские, Иверские, в мощи, в
чертей, в спасительность вынимания частиц,
становления свечей, поминанья и т. п., и не только
проповедуется и практикуется, но с особенной ревностью
ограждается ненарушимость этой веры в народе
от всякого на нее посягательства.
Стоит только крестьянину не праздновать
престол, не пригласить к себе обходящую дворы
чудодействующую икону, не оставить работу в
Ильинскую пятницу, — и на него доносы, его преследуют,
ссылают". Было и такое — ссылали за богохульство.
Богохульством при желании можно было
представить и отказ от принятия в дом
„чудодействующей", — и властям решать, было тут оскорбление
святыни (в этом случае суд и ссылка) или нет —
тогда священник прихода отлучит на время и
наложит епитимью.
194
Икона, которую „поднимали" по домам, обычно
находилась не в монастыре, а в часовне за его
оградой, которая, в отличие от монастыря, может быть
открыта даже круглые сутки. „Чередные",
дежурные на послушании монахи, обеспечивали
доставку — это требовалось прежде всего
тяжелобольным — в любое время суток.
И вот множество монастырей стали заводить
свои часовни в разных городах, выбирая для
строительства самые выгодные места: в деловом центре,
близ рынков и вокзалов, — словом, где
посещаемость была бы максимальной. Эта практика
распространяется не только на свою епархию. В крупных
городах устраивают свои часовни и отдаленные
монастыри. Валаамский и Коневецкий имели,
например, часовни в Петербурге, Городецкий
Федоровский — в Нижнем Новгороде и т. д. В центре
Петербурга у Гостиного двора безобразно искажала вид
Невского проспекта часовня Гуслицкого
монастыря. Она сплошь была увешана образами в
драгоценных окладах и привесках, которые жертвовали
купцы-гостинодворцы как благодарность за
удачные сделки. Доходы часовни были едва ли не
миллионными. Но самое любопытное — хозяин
часовни — Гуслицкий монастырь находился в
Московской епархии.
Здесь черное воинство определенно побеждало
белое духовенство. Приходские церкви не имели
права строить часовни. Только соборы получали
такое разрешение, но даже если его добивалась
какая-либо приходская церковь, то поставить
часовню ей дозволялось только в пределах
церковной ограды, рядом с храмом.
Так монастырь использовал икону. Следует
признать — весьма эффективно.
„Мощь" святых угодников
„Мощью" святого воинства были останки святых,
поклонение которым — существенная часть
православного культа. Рассказывать о культе мощей,
который тоже существовал преимущественно в
монастырях, — значит во многом повторить то,
что было сказано об иконе. Тела покойных „святых
подвижников" окажутся столь же чудотворными,
195
столь же способными к „оказанию помощи по
молитве", их так же носят в крестных ходах (хотя
и реже, чем иконы).
В некотором смысле мощи важнее икон, даже
чудотворных. Без частицы тела святого, хотя
крохотной, невозможно служить литургию. В каждом
храме под престолом обязательно положены мощи
святого, такая же частица их вшита в уголок
антиминса — особого платка, который заменяет
престол храма в случае, если приходится совершать
обедню вне его стен. Без мощей богослужение
совершено быть не может.
Обращение к святому пропагандируется
церковью как одно из самых действенных средств
получения помощи в земных делах и
стремлениях.
Христианство отказалось от „языческого"
обожествления человека, когда римский император,
например, получал титул „равного богам" или
же прямо объявлялся земным богом. Но в средние
века в православном мировоззрении признавался
единственный способ увековечить заслуги
человека перед потомством — это прославить его как
святого, как чудотворца, увидеть в нем небесного
покровителя1.
В отдельные периоды, когда интересы верхов
и интересы низов выступали как общенародные,
в число русских святых попадали такие достойные
люди, как летописец Нестор, князь Александр
Невский, художник Андрей Рублев. Но чаще всего
церковь и светские феодалы, имея в виду свои
классовые интересы, вводят в православный пантеон
святых, ничем, кроме церковно-монархических
заслуг и „благочестия", не выделявшихся. Люди,
известные подлинными заслугами перед родиной,
Ортодоксальное православие не признает
скульптурных изображений. И если на Западе могли появляться
монументальные памятники, то для православия это
было „язычеством". „Идолы", „болваны", „истуканы"
не принимались церковью. Не без ее усилий этот ряд
синонимов скульптуры приобрел в языке бранный
оттенок.
С этой точки зрения остается не вполне оцененной
скульптура фонтана в Петергофе — Самсон,
раздирающий пасть льву, — первое в России монументальное
изображение библейского героя, которому петровская эпоха
придала светский смысл.
196
воины и ученые,
путешественники-первопроходцы,
врачи и педагоги,
инженеры и изобретатели,
деятели науки и культуры —
словом, те, кто внес
действительный вклад в
духовную и материальную
культуру, остаются в
этом смысле вне поля
зрения церкви и уж
никоим образом в святые не
попадают. Те же, кого
наиболее чтит память
народная: борцы за
свободу, за справедливое
жизненное устройство, кто
выражал насущные требо- Икона мощехранительная.
вания масс, церковью
осуждены и прокляты. Таково религиозное
мировоззрение, деформирующее подлинные
человеческие ценности. Это миропонимание ставит
мистический мир выше реального и вымышленные заслуги
выше настоящих.
Уже первые русские монастыри создают культ
собственных святых (первоначально приходилось
довольствоваться византийскими). В средневековом
монастыре культ святых имел свои особенности.
Вера в чудесное была непременной составляющей
образа мыслей средневекового человека. Реальное
и чудесное в его сознании сплетались в
нерасчленимый жизненный поток. Все, что выходило за
пределы повседневного опыта, признавалось чудом.
Чудеса святых были делом само собой
разумеющимся. Изумление вызвало бы не чудо, а его
отсутствие, то есть в появлении чудес не было заведомого
обмана верующих. Не следует думать, что в средние
века существовало противопоставление
обманщиков-церковников и обманываемых трудящихся.
Дело обстояло более сложно: верили в возможность
чудес и те и другие. Монашество, пастыри, как
ни странно, верили в чудеса глубже и, если можно
так выразиться, убежденнее, чем их паства.
Значит ли это, что не существовал обман ради
каких-то выгод?.. Он существовал, но природа его
была несколько иной, чем представляется обычно.
197
Вера в
сверхъестественный мир, в возможность
покойных святых
являться живым людям,
руководить их поступками и
при этом творить чудеса
и т. п. обычно
останавливала нашего предка от
прямой фальсификации
страхом кощунства и
грядущей расплаты за грех.
Посмотрим, как
возникает чудо на примере
мощей святого.
В числе первых
русских святых — князья
Борис и Глеб, убитые в
борьбе за киевский
престол их братом Свято-
полком, которого
летопись навсегда
заклеймила прозвищем
Окаянный. Тело Глеба, как
рассказывают древние
легенды, было по
прошествии многих лет
обнаружено нетленным и благоухающим. Святополк же, в
конце концов изгнанный из Киева, окончил свои
дни в мерзком страхе где-то „между чех и лех",
но летописец твердо знает, что могила Окаянного
„смердит до сего дня". Так различались святые и
грешные.
Паломник молитвенно
обходит все святыни.
Почаевская лавра.
ОТСТУПЛЕНИЕ ОТ ТЕМЫ
Что такое житие?
Что такое массовая житийная литература,
рассчитанная на самый невзыскательный вкус,
предлагавшаяся церковными верхами „для народного
чтения", можно проиллюстрировать на сотнях
однообразных примеров. Впрочем, достаточно одного,
который объяснит методы массовой религиозной
пропаганды.
198
Сравним два жития: Феодосия Печерского — одно
из первых произведений русской агиографии, и
жизнеописание некоего священника Ивана — инока
Иова, духовника Петра I, сосланного им в
Соловецкий монастырь и там постриженного. Автор
первого — замечательный писатель Древней Руси Нестор-
летописец, автор второго — Мелетий, обыкновенный
архимандрит.
Несущественная деталь: церковники считали, что
Иван пострадал невинно. В знак этого при
пострижении он принимает имя Иова — библейского
персонажа, безропотно страдавшего без вины и за это
вновь возвеличенного богом. Намек был царю,
конечно, понятен, но новоявленный Иов остался
в соловецкой ссылке.
Цитируем оба текста:
Нестор
Житие
Феодосия Печерского
(Начало русской
литературы. XI — начало XII века.
Памятники литературы
Древней Руси. М., 1978,
с. 304-391).
„И вот пошел тот Федор
к блаженному отцу нашему
Феодосию и сказал, что
некому наносить воды. А
блаженный поспешно встал и
начал носить из колодца
воду. Тут увидел его,
носящего воду, один из братии
и поспешил поведать о том
нескольким монахам, и те,
с готовностью прибежав,
наносили воды с избытком".
Мелетий
Жизнеописание
священноинока Иова
(Историческое описание
Голгофо-Распятского скита
на Анзерском острове. СПб.,
1912, с. 27-71).
„...Пришел однажды к
старцу келарь скита и
говорит: „Отче, некому воды
в поварню наносить".
Старец встал и пошел носить
сам воду с озера из-под
горы, но братия, увидев труд-
ника, выбежала и избавила
его от труда — наносила
воды до избытка".
„Келарь Федор, придя к
блаженному Феодосию,
попросил его: „Прикажи,
чтобы кто-либо из свободных
монахов пошел и
приготовил бы дров, сколько
потребуется". Блаженный же
отвечал ему: „Так вот я
свободен и пойду". Затем
повелел он братии идти на
трапезу, ибо настал час
обеда, а сам, взяв топор, начал
колоть дрова. И вот,
отобедав, вышли монахи и
увидели, что преподобный их
„Тот же келарь через
несколько времени пришел
опять к блаженному старцу
с жалобою: „Повели, отче, —
сказал он, — одному из
братии, свободному,
приготовить дров для поварни".
„Я свободен, пойду
приготовлю", — отвечал
блаженный. А между тем к этому
-самому времени приспел
обед. Старец благословил
идти к обеду, а сам взял
топор и начал рубить дрова.
По окончании обеда неволь-
199
игумен колет дрова и так
трудится. И взялся каждый
за свой топор, и столько они
накололи дров, что хватило
их на много дней".
„А одеждой ему служила
власяница из колючей
шерсти, сверху же носил другую
свиту. Да и та была ветха,
и одевал он ее лишь для
того, чтобы не видели
одетой на нем власяницы. И
многие неразумные
издевались над этой убогой
одеждой, попрекая его". И т. д.
„И немало бояр пришло,
и они стояли перед
воротами. И вот по воле божией
затянуло небо облаками, и
пошел дождь; И разошлись
люди. И тотчас же перестал
дождь, и засияло солнце.
И так отнесли Феодосия в
пещеру..."
но взялась и братия за
приготовление дров на пользу
общую".
„Из одежды отец Иов
довольствовался только
двумя свитками, из коих одна
была власяная, жесткая на
теле, а другая еще худей-
шая, которая покрывала
первую. Старец встречал
иногда и укоризны за такой
простой уничиженный образ
жизни..." И т. д. и т. д.
Текст из жизнеописания
Иова: „Долгое время они
пребывали около кельи
почившего, ожидая его выноса
в церковь, но, к сожалению,
внезапно поливший сильный
дождь вынудил многих
разойтись кто куда мог; а
между тем ученики
воспользовались этим случаем и
исполнили заповедь своего
старца..."
Весь текст, написанный Мелетием, повторяет
„Житие Феодосия". Сохранена последовательность
событий, их привязка к одним и тем же
церковным праздникам. Подробный рассказ о смерти и
погребении обоих также совпадает до деталей.
В „Житии Феодосия" кто-то из иноков в двери
кельи „проделал дырочку", чтобы увидеть
последние минуты жизни игумена. „Один брат"
подглядывал при смерти Иова: „видел все через некую
скважину", но не говорится о том, что он сам ее устроил.
Реальный исторический Феодосии запрещает
участие в похоронах посторонним. Нестор, прославляя
Феодосия, просто должен был сообщить читателю
жития, что на погребение игумена собралось
множество народа. Но тогда как не допустить к могиле
пришедших проводить Феодосия в последний путь?
Это дело нравственно невозможное. Однако
следовало соблюсти и последнюю волю покойного. Вот
как повел сюжет Нестор, решая непростую
литературную и этическую задачу:
200
Казалось бы, одно и то же событие разгоняет
присутствующих. Но Мелетий, переписывая Нестора,
заботится о некоторых частностях, которые могут
поставить под сомнение его текст. Чудо дождя у
Нестора усилено внезапным его прекращением:
похороны проходят при ярком солнце. Мелетий
не случайно опускает деталь, которую, казалось бы,
выгоднее сохранить в тексте. Но из реального Пе-
черского монастыря люди могли вернуться в город,
на Анзерском же острове уйти было просто некуда.
И, чтобы большая часть собравшихся не пошла
к могиле, дождь на похоронах Иова не
прекращается.
Итак, перед нами плагиат? Не будем спешить
с выводами. Это не плагиат в том смысле, в каком
мы его понимаем. Это особенность житийной
литературы. Многие, очень многие жития сплетены из
того, что уже написано ранее. Из одного жития в
другое, третье кочуют сюжет, факты, речи
персонажей и т. д. Глубоко изучивший многие сотни житий
В. О. Ключевский по поводу большинства текстов
сделал обоснованный вывод о совершенной
ненадежности их как исторического источника. И, хотя
это покажется парадоксом, утверждал, что наиболее
надежны жития в той их части, где они повествуют
о посмертных чудесах святого. Ключевский имел
в виду, что запись чудес шла непосредственно за
событием, и, сколь ни фантастично само чудо,
реальные детали обстановки, достоверные факты,
обрамлявшие чудесное событие, были тем надежным
материалом, который интересовал историка.
Со времени работы В. О. Ключевского над
житиями прошло много более ста лет. С тех пор, в
особенности благодаря исследованиям советских ученых *,
наше представление о древнерусской литературе не
только обогатилось, оно во многом изменилось
коренным образом.
Повторы — особенность средневековой
литературы, где читатель ищет не новизны изложения, а
За последние 30—35 лет одним только Институтом
русской литературы АН СССР (Пушкинский дом) для
изучения древнерусской литературы сделано больше, чем
богословами за все тысячелетие ее существования.
Духовные ценности прошлого советскому человеку, атеисту,
дороже, чем церкви, интересующейся лишь культовой их
значимостью.
201
его назидательности, учительности, следования
автора установившемуся нравственному идеалу. Повтор
ситуации воспринимался не только как должное,
но и как достоверное, соответствующее
установленному свыше порядку вещей.
Сказанное, правда, относится и к читателю
средних веков. Мы же видим синодальное издание 1912
года. Тем не менее, с точки зрения церковной, это
тоже не плагиат. Повтор, даже дословный повтор,
в агиографии — особый прием. То, что на Соловках
было составлено жизнеописание Иова (не житие! —
Иов еще не святой), очевидно, знак готовившейся
его канонизации. Переписывая „на Иова" житие
Феодосия, канонизированного святого, автор всегда
мог сослаться на текст, с которого списывал: чудеса
в нем апробированы церковно, следовательно, не
могут вызвать возражений. Повторы благочестивых
ситуаций оказываются не плагиатом, а
свидетельством благочестия Иова... Так церковник XX века
выводил себя и своего героя из-под огня критики,
которая могла последовать при обсуждении
кандидатуры в святые.
Мелетий детально обдумывал свое
„заимствование". Монах, который наблюдал за последними
минутами Феодосия, провертел дырочку в келью.
Деталь, с монастырской точки зрения, острая. Монах
в лавре нарушил прямой запрет уединившегося
Феодосия. Согрешил. Соловецкий монах только
обнаружил имевшуюся щель и тоже, конечно, согрешил,
но совсем простительно. А если уж строго церковно
толковать, то и не согрешил вовсе. Могла ли быть
случайной эта щель? Нет, подглядывать его привела
сила более властная, чем игумен...
Дополнительно Мелетий прославлял
Соловецкий монастырь: перечень аналогичных с Печерской
лаврой чудес и ситуаций свидетельствовал равное
благочестие и равную славу обоих монастырей.
Претензия, которая вряд ли пришлась бы по душе
инокам лавры, но, повторим, Мелетий достаточно
надежно защитил себя от церковной критики.
Возможность научной оценки своего сочинения
Мелетий попросту не принимал во внимание, в его время
церковь еще вполне могла себе это позволить.
Так выглядит типичное житие. Так выглядит
церковное литературоведение. Можно было бы
поставить на этом точку, если бы не ряд современных
202
сочинений на темы русской истории, авторы
которых склонны некритично подходить к проблемам
церковности прошлого. Вопрос, следует признать,
весьма непростой, и эти авторы, надо полагать,
вовсе не стремились идеализировать ни русское
православие, ни монашество.
Дело не в том сопоставлении текстов, которое
мы провели, а в том, что и „Житие Феодосия",
написанное Нестором, также создано им из
традиционных житийных деталей византийской
агиографии, ролевых сюжетов, переходящих из жития в
житие. Но как же возможно?! Нестор — первый
историк наш, исследователь вдумчивый и
добросовестный; он критично анализировал письменные
источники и этнографические свидетельства,
древние предания и рассказы современников, — словом,
заслуживает как историк высокого доверия... И это
справедливо. Также справедливо и то, что Нестор
был добросовестным агиографом. Нестора —
добросовестного историка и Нестора — добросовестного
агиографа следует различать. Историк изучал и
анализировал источники, стоял на определенной
политической позиции, составлял летописный свод...
Агиограф создавал житие, сплетал факты
биографии Феодосия и традиционные житийные детали в
повествование, отражавшее христианское
миропонимание самого Нестора.
Одного внимательного чтения круга
средневековых источников для того, чтобы правильно
разбираться в них, недостаточно. Агиография — жанр,
который требует проверок и перепроверок всем
наличествующим корпусом источников, знания
эпохи, анализа материала приемами исторической,
филологической и религиоведческой критики.
Иначе материал, созданный с позиций религиозного
мировоззрения, может сыграть с современным
читателем злую шутку.
Мощи Бориса и Глеба были открыты
торжественно. Мощи св. Феодосия, игумена Печерского1, -
В известном смысле церковное прославление
Феодосия типично для появления многих мощей преподобных —
святых из монашествующих, основателей монастырей.
В подготовке к канонизации Феодосия четко виден
основной мотив — прославление собственного монастыря. Для
203
без огласки. И при этом были чудеса. Какие и в чем?
Обратимся к летописному рассказу, к записи
участника события. Инок Нестор, взяв с собой по
распоряжению игумена двух монахов, в сумерках, когда
братия разошлась по кельям, отправляется
раскапывать могилу Феодосия. Нестор сам отрыл тело —
„суставы не распались и волосы на голове
присохли". Никаких чудес в этот момент лично Нестор не
отмечает; ведет деловой, можно сказать,
протокольный рассказ о вскрытии погребения. Достоверность
записи несомненна: Нестор — прежде всего историк,
летописец и лишь потом дисциплинированный инок
Печерской лавры. 12 августа, во вторник, вечером
начали вскрытие, ровно в полночь Нестор
„дорылся" до тела.
Вот тут и начали происходить чудеса. Нестор их
фиксирует. Два печерских инока видели у мощей
„столпы света", видел свет и епископ Стефан,
немедленно появившийся в лавре. Чудо?
Скупой летописный текст показывает, что с
канонизацией Феодосия дело обстояло несколько
сложнее, чем это принято в церковной традиции.
То, что вскрытие происходило ночью, втайне,
вероятно, еще объяснимо необычностью ситуации:
в практике лавры „обретение мощей"
происходило впервые, и понятно нежелание привлекать
внимание — неизвестно еще, может быть, святой
истлел.
Но какая-то огласка была неизбежной —
достаточно того, что решение о вскрытии могилы было
принято советом старцев лавры за несколько дней
до описываемых событий. Епископ Стефан был
явно устранен от участия в происходящем. Трудно
сказать, может быть, он действительно увидел
какой-то свет — его монастырь был рукой подать —
„через поле", а свет должен был мелькать при
работе у пещер. Но вот то, что епископ не был ночью
в своей келье, а внимательно смотрел в сторону
лавры, то, что, увидев проблеск свечи, вскочил на
коня и верхом — очень торопился — проскакал
короткий путь, — свидетельство того, что Стефана
видеть здесь не хотели и что Стефан непременно
решил оказаться у пещер в самый важный момент.
этого служат и чудеса, появившиеся, так сказать,
естественно, — обитель ждала чудес, надеялась на них, верила в то,
что они произойдут. И чудеса произошли.
204
Не принять его было уже нельзя. Объяснил он свое
появление первым, что пришло в голову, но очень
удачно пришло, объяснение устроило обе стороны:
„яркий свет" его видения приняли как чудо. Это
прекрасно укладывалось в святость обретенных
мощей. Это же оправдывало скачку Стефана и
косвенно укоряло тех, кто не пригласил его: ведь
Стефану был явлен небесный знак необходимости его
присутствия.
Два безвестных инока, подглядывавшие за
происходящим, оправдались тем же самым и остались
без наказания — нельзя же было дискредитировать
чудесное видение Стефана. Так состоялось
обретение святых мощей Феодосия Печерского. Вероятно,
были еще какие-то трения: тело Феодосия весь день
13 августа и всю ночь с 13 на 14 августа пролежало
перед входом в пещеру, хотя по требованиям
благочестия его следовало немедленно перенести в
церковь; возможно, чем-то пытался помешать тот же
Стефан. Так или иначе, мы знаем, что в четверг,
14 августа, в час дня оно было положено в
специальной гробнице в лаврском храме. С этого
момента в православной церкви появился новый
чудотворец.
Культ Бориса и Глеба — князей-воинов
утверждал мысль о небесном заступничестве за Русь перед
внешним врагом. Так, Борис и Глеб являются
Александру Невскому, „сроднику своему", помогают
ему в победе на Чудском озере, они же являются
воинам в канун битвы на Куликовом поле.
Культ Феодосия Печерского и многих других
святых лавры подтверждал самостоятельность русской
церкви, ее независимость от Константинополя.
С опорой на киевских святых утверждается
национальное общерусское самосознание.
Средневековое мировоззрение являло собой
систему целостную, в ней существовали свой смысл и
строгая этика, регламентировавшая общественную и
духовную жизнь. Святость в средневековом
мировоззрении неотделима от социального положения
человека. Состав русских святых, прославляемых
феодальной и позднее монархической церковью,
таков: большинство их — монашествующие. На
втором месте — князья и члены знатных родов. Из
других сословий — единицы, так что второе место
можно считать и последним.
205
Историзм мышления не позволяет нам
переносить представления, сложившиеся в результате
долгого и трудного пути прогрессивного развития
человечества, на историческое прошлое. Путь этот был и
путем преодоления религиозного мировоззрения,
в рамках которого шла длительная работа
человеческой мысли, выработка культурных,
нравственных ценностей. Поэтому и наши оценки
миропонимания прошлого должны быть конкретны и
неоднозначны. Святой для средневекового человека
выступал как идеал, как ценностный ориентир поведения.
Одной из главных функций мощей было
исцеление,,избавление от бед в чрезвычайных
обстоятельствах — смерти в бою, пожара, засухи, градобития.
Такие чудеса, по житиям святых и в особенности
по тому учету, который велся при гробницах
святых, насчитываются сотнями. И дело здесь в
искренней вере человека в то, что от беды и болезни он
избавился благодаря своей молитве у гробницы
святого. Пускаясь в торговое дело, идя с челобитной
к воеводе-боярину, помещику или фабриканту,
купцу или чиновнику, богомолец также заказывал
молитву монахам. Успех — всегда знак
заступничества святого. Как же не чтить его мощи?
Так шло из века в век.
Казалось бы, странно, что, бескомпромиссно
проповедуя презрение к телу, утверждая его
непременную греховность, чернецы чтили именно тело
святого, его материальные останки. Впрочем, иноки
легко перешагивали через это противоречие и так же
легко миновали следующее: нетление святого.
Здесь уже не обходилось без обмана. И
благочестивого, и не очень.
Нетление, даже благоухание мощей признавалось
чудом и знаком особой благодати. Мысль эта была
прочно внедрена в религиозное сознание.
Нетленными считались мощи „на вскрытии", то есть лежащие
в доступной для обозрения раке-гробнице,
нетленными считались и мощи „под спудом", то есть
находящиеся в земле. Монашество многие века не
испытывало затруднений, проповедуя нетленность своих
чудотворцев.
Затруднения начались только в Новое время,
когда с развитием естественнонаучных знаний
материалистическое мировоззрение начинает вытеснять
церковь с позиций, казавшихся ей незыблемо
206
крепкими. Тленность в прошлом удавалось
скрывать от „простецов". Но уже в середине XIX века
едва не разразился скандал с канонизацией Тихона
Воронежского (1861 г.), о которой А. И. Герцен
написал гневную статью. Сомнение в нетленности
„ископаемого епископа", как назвал его Герцен,
удалось, в общем, замять. Спустя несколько
десятилетий, при канонизации Серафима Саровского
(1903 г.), скандал становится всеобщим. Местный
архиерей, взглянув на останки Серафима, наотрез
отказался подписать протокол об их нетленности.
Архиерея переместили по службе, но замять дело
не удалось. Кое-что проникло в печать. Тогда
митрополит Антоний (Вадковский), в то время один из
наиболее образованных иерархов, рискнул
напечатать не только в церковных изданиях, но и в
массовых, например в газете „Новое время", статью
„Необходимо разъяснение". Антоний с редкой для
богослова прямотой заявил, что нетление мощей не
считается обязательным для признания святости.
Канона — церковного закона — такого действительно
нет...
В 1918—1920 годах при вскрытии мощей церковь
пыталась как-то противостоять неминуемому
разоблачению векового обмана: в контрреволюционной
листовке, призывавшей сопротивляться
мероприятиям Советов, утверждалось прежнее: мощи святых,
„божьих друзей" (так их называет листовка)
чудотворны вне зависимости от того, в каком они
состоянии. Для монашества было важно не то, что
хранилось или сохранилось в гробницах, а то, как они
привлекали паломников, насколько увеличивал
культ святого известность монастыря, каким в
конечном счете оказывался доход.
Культ мощей было организовать труднее, чем
культ иконы.
Легенды приходилось сплетать вокруг реальной
личности; чтобы составленное житие выглядело
убедительно, должно было пройти достаточное
время; надо было вести учет чудес, случающихся
у гроба, и т. д.
С другой стороны, открытие мощей при удаче
сулило много больше, чем любая другая святыня,
ведь культ опирался на реальное лицо, чаще всего
на основателя монастыря, который уже по факту
основания им обители считался „избранным богом",
207
Вскрытие мощей. 1920 г. Фото.
достойным святости. И с течением времени
прославлялся как святой.
Монастырь создавал житие святого, монастырь
всеми силами украшал его могилу — ее пышность
и богатство декора должны были соответствовать
высоте подвига святости, показывать благодарную
дань христиан своему заступнику.
Мощи использовали и в крестных ходах. Это
делала братия немногих монастырей, и всегда тех, где
не было своей чудотворной иконы. Мощи своей
„вещностью" в известном смысле более впечатляют,
чем икона, изображающая того же святого. К тому
же они — единственны, что также способствует
выработке повышенного мистического настроя в
поклонении.. Икона в массовом репродуцировании
способна не только усиливать религиозное
воздействие — массовость способна его и обесценить.
Мощи можно разделять на частицы хоть до
бесконечности, но они не могут быть
тиражированы.
Меньшая доступность — к чтимой святыне нужно,
было совершить паломничество, часто очень
неблизкое, и в самом монастыре мощи технически менее
доступны для поклонения, чем икона, — все это
208
тоже способствует повышению значимости святыни
в глазах верующих.
В середине XIX века предпринимаются попытки
сделать культ мощей более убедительным и,
следовательно, более ярким и насыщенным реалиями.
В это время старые гробницы святых во многих
монастырях, выглядевшие недостаточно пышно,
обновляются, украшаются. К работе привлекаются
крупные художники, скульпторы, ювелиры.
Вырабатывается типовой вид раки, который становится
преобладающим в культе. Характерный образец —
рака для мощей Павла Обнорского, исполненная
в Петербурге фирмой Верховцева — придворного
фабриканта золотых и серебряных изделий — в
1878 году. Поверх прямоугольного саркофага
помещено рельефное изображение покойного Павла,
как бы лежащего с четками в руках. На боковых
рельефах по стенкам гробницы — эпизоды его
жизни. Все это чеканено из серебра, которого пошло
около пяти с половиной пудов.
Наличие богатой раки с XVIII века считалось
свидетельством значимости святого, тело которого
находилось в гробнице или же не находилось в ней,
а покоилось в земле или же, что случалось нередко,
вовсе отсутствовало. Начало было положено в
середине века изготовлением богатейшей гробницы
Александра Невского, ставшей замечательным
памятником русского искусства. На гробницу в Алек-
сандро-Невской лавре пошло около 90 пудов
серебра, своего, русского, впервые полученного из Колы-
ванских рудников1.
Над ракой часто строили балдахин-сень, еще
более выделяя святыню. Поблизости помещалась, как
минимум, одна икона святого, часто — так
называемая икона „в житии", где изображались важнейшие
(безразлично — вымышленные или реальные)
моменты жизни, „блаженного успения" и посмертной
славы святого. Гробница покрывалась покровами,
особыми иконами на ткани, с шитым изображением
святого в рост. Часто, особенно в тех случаях, когда
мощи находились „под спудом", на крышке
гробницы появлялось скульптурное изображение святого
В настоящее время находится в Государственном
Эрмитаже. Останки Александра Невского фактически не
сохранились.
14 Г. Прошин
209
в рост, „яко почившего". Православие не очень
охотно признает скульптуру в культе, полагая ее
слишком чувственно воспринимаемой, однако в
гробницах святых церковь пошла на то, чтобы от
плоского изображения в лицевом шитье покровов,
от иконы перейти к рельефу, сначала плоскому,
а затем и к высокому — горельефу. Если на раке
Александра Невского рельефы только прочеканены,
то на новой гробнице для мощей Павла Обнорского
высокий литой рельеф выглядел совершенно
натуральной фигурой святого. Здесь „чувственно
воспринимаемое" использовалось для возможно
большей реалистичности создаваемого монастырем
образа. У гробниц умело распределялся свет цветных
лампад, создавались декоративные эффекты.
Нередко помещались вериги, которые носил (или не
носил) святой при жизни, какие-нибудь иные
принадлежавшие ему предметы (одеяния, посохи, иконы).
Иногда вполне музейно: в специальных шкафах-
витринах.
Так в храме создавался своего рода
мемориальный раздел, в котором мистическое сливалось
с реальным, а реальное подкрепляло веру в
сверхъестественное. „Между тем у раки беспрерывно
шли молебны, — вспоминает посещение Троице-
Сергиевой лавры М.Е.Салтыков-Щедрин. —
Обыкновенно молебен служили для десяти—двенадцати
богомольцев разом, и последние, целуя крест,
клали гробовому иеромонаху в руку кто сколько
мог. Едва успевали кончить один молебен, как уже
раздавалось новое приглашение: „Кому угодно
молебен? в путь шествующим? пожалуйста!" — и
опять набиралась компания желающих".
В религиозной системе важнейшее место
принадлежит пропаганде веры в чудо, в небесное
заступничество. Через икону и через мощи святых
пропаганда эта велась настойчиво и разнообразно. Монастыри
и инспирировали, и развивали, и укрепляли
суеверия. Именно монастыри стремились внедрять культ
новых святых, открывать все новые и новые мощи.
Приведем еще один пример создания культа
мощей, где характерен сам метод прославления
святыни. Рассказ взят нами из церковного издания начала
века, и мы излагаем его точно по тексту, опустив
лишь благочестивые длинноты, повторы и
незначащие подробности.
210
На окраине России, откуда, как говорится, „хоть
три года скачи, все ни до какого государства не
доедешь", был очень бедный монастырь. Совсем бы
монахи разбежались, но иногда кое-что перепадало
братии, и кое-как иноки перебивались. Местный
епископ очень печалился, что такая незаметная у
него епархия: святынь маловато, и к вере ни у кого
рвения не заметно. Но тут „послал господь
чудотворца, коего житие известно очень мало". На
одном из кладбищ губернии гроб „начал выходить из
земли", что, заметим, примета для чудотворца
верная. Знамение. Гроб действительно был захоронен
мелко, морозы и оттепели постепенно выдавливали
его из земли, и был уже виден угол гроба. Ни о
каких естественных причинах речи, однако, быть не
может — это святой выходит к людям, „являет
себя".
Епископ сразу же отправился в дальний приход.
Стали спрашивать местных жителей: „Кто
похоронен?" Нашелся старожил, который припомнил, что
был некто пришлый, странствовал окрест, потом
прижился в селе, шубы шил, ходил в церковь.
„Как его звали?" А вот имя-то старожил и забыл.
Как ни бились с ним, вспомнил и что „чревом был
болен" покойный, и что шубы шил с какими-то
„нашивками", а вот имени никак вспомнить не мог.
С тем епископ и уехал.
Дорога длинная. В пути архипастырь заснул, и
приснилась ему большая толпа народу. И кто-то из
толпы кричит: „Симеоном, Симеоном его зовут!"
Проснувшись, глава епархии повелел: мощи
Симеона (тут не до сомнений) перенести в оголодавший
монастырь.
Иноки сумели распорядиться полученной
святыней. В начале нашего века над гробом Симеона
стояла серебряная рака с богатой сенью над ней,
число паломников к „дивной святыне" доходило до
ста тысяч в год, святому был сочинен акафист.
Особо славился Симеон тем, что „давал помощь и
тем, кто о нем не слыхал и не знает...". Как это —
понять невозможно, но своя, наизнанку, логика
здесь есть. Святой, о котором ничего не известно, и
должен помогать тем, кто о нем слыхом не
слыхивал... Это типично для культовых святынь. Можно
ли сомневаться в сновидении епископа? Нет, такой
сон — руководство к действию — мог послать
211
только бог „для вразумления" главы епархии.
Назовем и действующих лиц. Архипастыря звали
Игнатий, старожила — Афанасий, а святой — Симеон
Верхотурский и монастырь этот — Верхотурский
Николаевский. В 1917 году в нем было 80 монахов
и больше ста послушников. Мощи Симеона
Праведного, как назвала его церковь, были вскрыты
25 сентября 1920 года. В гробу оказались одни
кости и те „не в целости". Взамен же нетленного тела
„толстый слой ваты, соответствующий длине
туловища"1.
Так в подготовке чудес использовались всякого
рода видения и сны. Интересен механизм
прославления новых мощей, новых святых. Чудеса,
„предваряющие" нового святого, аналогичны тем, что
происходят при закладке монастырей (это та группа
чудес, которая в случае неуспеха не падет тенью на
всю церковь, а останется на совести какого-то там
инока, отдельного лица). Святыня широко
пропагандировалась только тогда, когда гарантия успеха
оказывалась в руках духовенства (разумеется,
общей схемой не охватить всех случаев церковной
практики).
В культе всякая реалия, связываемая со
святым, — священна и чудотворна. В десятках
монастырей в течение всего XIX века подготавливался
культ святых мощей. На могиле одного из игуменов
Спасо-Преображенского монастыря Пензенской
губернии „по просьбе богомольцев" служили
панихиды. Иноку Енисейского монастыря, умершему в
1843 году, поставили над могилой часовню, издали
брошюру о его „подвигах благочестия",
выдержавшую к началу XX века восемь изданий. В Одрином
монастыре на Орловщине решеткой обнесли
могилу „неизвестной старицы" — заговорили о чудотво-
рениях. Со временем установили большое распятие,
зажгли лампаду, начали служить панихиды. Очень
точно организуется культ. Иконы не поставишь —
старица не святая, а у распятия паломник волей-
неволей перекрестится.
Иногда о подобных вещах власти писали
откровенно. В Николаевском монастыре Алатыря, уезд-
Сводка материалов о вскрытии мощей впервые
опубликована в журнале „Революция и церковь", 1920, № 9—
12, с. 78, откуда мы и взяли последнюю цитату.
212
ного городка Симбирской губернии, об открытии
мощей какого-то местного схимника
ходатайствовали в 1912 году вместе монастырь и городская
дума. Причина единственная: „прибудет множество
народа и город обогатится". Так, обычно не спешно,
монастыри готовили кандидатуры новых, пока еще
„местночтимых" святых. Ни в приведенных нами,
ни в десятках других подобных случаев
официальный культ не установлен, местные определения
чудотворное™ характеризуют лишь упорное
нарастание разносторонней деятельности монастырей в
подготовке „своего культа", усилия внедрить „своего"
в сонм русских святых. Пропаганда велась
непрерывно и, как известно, вплоть до Октябрьской
революции давала нужный церкви эффект.
Так выглядел монастырский, а точнее,
православный, общецерковный культ мощей. Мы говорим
монастырский потому, что практически все чтимые
церковью мощи были сосредоточены в монастырях.
Остается лишь добавить, что при всем
разнообразии частностей в легендах о чудесах мощей, икон
и т. п. в них унылое однообразие целого —
религиозная мысль не способна к творчеству; обслуживая и
укрепляя фантастическую традицию, она боится
фантазии. Культ чудотворений находится в
непрерывном тавтологическом движении. И анализ
этого процесса — его социальных и психологических
корней, деятельности местных епархиальных и
губернских властей по разработке новых культов,
наконец, методы и способы проявления
чудотворений — может оказаться весьма действенным в
современном атеистическом воспитании, дать
убедительный материал, на фактах раскрывающий суть
не столько даже прошлого, об этом не стоило бы
вспоминать подробно, сколько того, что происходит
в современной церковной пропаганде.
Святыни двух лавр
Если к культу мощей отношение может быть
только однозначно отрицательным, то к тем, чьи
останки покоятся в сырой земле или пещерах
действующего Псковского Печорского или ставшего
музеем Киевского Печерского монастырей, к
реальным людям прошлого наше отношение никак
213
не может быть определено той ролью, которая
придана им в культе.
Даже в церкви мощи святых не всегда играли
однозначно религиозную роль. Мы уже упоминали
о своеобразно „музейных" приемах создания
эмоционального воздействия и использования
наглядности в монастырях. В монастырской „музеефика-
ции" святынь первым, вероятно, был киевский
митрополит Петр Могила.
Украина, XVII век. Знатный молдаванин из
православной семьи и родственник украинских
магнатов Петр Могила получил образование в Париже,
служил в польских войсках. В 1625 году он принял
постриг в Киево-Печерской лавре, и не достигший
еще тридцатилетнего возраста инок стал игуменом
лавры в высоком сане архимандрита. Одно из первых
его дел — наведение порядка в пещерах, которые
„украсились многим благолепием". Проходы пещер
и тупики-ответвления были приведены в систему,
связанную маршрутом, мощи переложены в раки и,
оформленные соответственно рангу, размещены
вдоль стен и в нишах подземных коридоров. Киево-
Печерская лавра насчитывала мощи 131 святого:
9 затворников и 77 преподобных в ближних
пещерах и 45 преподобных — в дальних. То есть
количество, не сопоставимое ни с одним русским
монастырем, и притом исключительно монашествующая
братия. Пропаганду культа лавры нельзя рассматривать
в отрыве от всей деятельности Петра Могилы по
укреплению православия на Украине в годы едва ли
не самой сильной польско-католической экспансии.
Время для Украины было чрезвычайно трудным.
Троицкое братство в Вильно присоединилось к унии,
а иезуиты основали там академию, появилась
иезуитская коллегия в Полоцке. В конце XVI века —
коллегия во Львове, в первой четверти XVII века —
в Луцке, Баре, Перемышле, во многих городах-
Белоруссии, в 1620 году — в Киеве и в 1624 году —
в Остроге. Украинское дворянство или примыкает
к унии, или принимает католичество. На Украине
обосновываются и „псы господни" —доминиканцы,
орден папской инквизиции.
Став вскоре митрополитом киевским, Петр
возвращает православным древнюю Софию,
находившуюся в руках униатов, по мере сил
восстанавливает ее и другие храмы Киевской Руси: церковь
214
св. Василия воссоздается на сохранившихся
развалинах древнего храма, отстраиваются заново
Десятинная церковь1 и церковь Спаса на Берестове.
Эти храмы воспринимались не только как святыни
православия, но и как национальное достояние,
наследие Древней Руси, восстанавливалось
историческое прошлое мест, священных для Украины
не менее, чем для России и Белоруссии.
То, что было сделано митрополитом Петром
в лаврских подземельях, можно назвать
культурным пантеоном. Здесь не только молились и
обретали опору в борьбе с идеологическим напором
Ватикана. Киев хранил ценности прошлого и
свидетельствовал величие наследия культуры Древней
Руси. Опираясь на историческую традицию, Петр
Могила расширяет деятельность Киевского
братского училища. Запорожская Сечь клянется в случае
необходимости вооруженной силой защитить
монастырь, школу.и богадельню братства.
С этого времени мощи киевских святых
начинают играть важную роль в православном культе.
В самом же монастыре налаживается тот род
производства, в который посвящали весьма немногих.
Частицы мощей в пещерах отделялись от
мумифицированных тел и, считаясь чудотворными, как и
все тело святого, стали пополнять святыни других
храмов и монастырей. Залитые свечным воском,
они хранились в специальных ковчежцах,
вделывались в иконы и кресты, зашивались в нагрудные
ладанки.
Спустя два века в каждом переходе пещер,
у каждой иконы и у каждой гробницы стояла
кружка для пожертвований. Гробовые монахи
поторапливали туристов-богомольцев на маршруте,
разработанном еще митрополитом Петром, подталкивали,
ускоряли ход групп. На вопрос одного
благочестивого паломника: отчего такое неуважение и к
пришедшим на поклонение и к святыням пещер? —
монах лаконично, но исчерпывающе ответил:
„Целуют много, задерживают долго, а заплатят мало".
Десятинная церковь — первый каменный храм на Руси,
уникальный памятник зодчества „о 25 верхах", трагически
погибла при штурме Киева татаро-монголами в 1240 г.
Своды храма не выдержали тяжести пытавшихся спастись на
крыше сотен людей, и храм рухнул, погребая и мирных
жителей и воинов — защитников города.
215
Ковчежец с мощами. Множество таких святынь в первые
годы Советской власти верующие несли ,#а проверку"
в государственные медицинские и химические лаборатории,
в советские органы. Ответы ученых были неутешительны...
В специальных гнездах иконы находятся частицы мощей,
косточки и т. п. Все это залито воском. Каждая ячейка
с именем святого, частица тела которого помещена в икону.
В Киево-Печерской лавре такие мощи фабриковали тысячами.
Здесь можно было получить мощи „своего"и даже
не только ^своего"святого...
Тут же у мощей продавали целебное „от живота"
лампадное „маслице", целебную вату из гробниц
(затыкать уши от простуды), крестики, свечи,
образки.
Таким был культ мощей в первой на Руси лавре.
В последней (по времени основания) лавре многое
выглядело иначе.
В 1703 году в устье Невы заложена крепость
Санкт-Питерсбурх1. Вокруг нее начинает быстро
расти военный и торговый, корабельный и
промышленный городок, вскоре ставший столицей
Российской империи и — спустя двести с лишним лет —
первой столицей первого в мире пролетарского
государства.
Привычное для нас историческое название
Ленинграда — Санкт-Петербург — должно было крайне раздражать
ревнителей православия. То ли немецкое, то ли латинское,
то ли на голландский лад имя столицы явно казалось
еретическим.
216
Город встал на землях древнего Новгорода, на
землях, героически защищенных „солнцем земли
русской" князем Александром Ярославичем,
прозванным за разгром шведов на Неве Невским.
В прежних стольных городах Руси — Киеве,
Владимире, Москве — были сосредоточены важнейшие
святыни русского православия. Никаких святынь
в приневском краю не имелось.
В основанный на месте победы Александра
Невского монастырь были торжественно перевезены из
Владимира его останки. Монастырь получает свою
святыню, город — небесного покровителя1.
Картина кажется обычной для основания и первых лет
монастыря, в котором заинтересована
государственная власть. Но так только кажется. Многое здесь
непривычно и даже, на истово православный взгляд,
.выглядит еретическим. Мы должны оставить в
стороне интереснейшие проблемы становления
светской культуры вслед за полосой глубочайшей
церковной реакции конца XVII века. Широкая и
мощная волна барокко завершает переходный XVII век
становлением новых светских и рационалистических
тенденций в общественной, политической и
культурной жизни молодой империи. Активное
взаимодействие национальной и европейской культур
противоречило „старомосковской" традиции Чудова
монастыря, пытавшегося отстоять прежние пути
общественной и культурной жизни России.
Даже проектируют и ведут строительство
государева монастыря на Неве какие-то немцы, явные
еретики: кальвинист Трезини и лютеранин Швертфе-
гер. Петр отказывается от традиционной житийной
трактовки „святого благочестивого и просиявшего
добродетелями" Александра Невского. В
дворянской империи главной добродетелью становится
не благочестие, а исполнение служебного долга,
лямка, которую на благо отечества должны тянуть все
сословия. В бумагах Петра сохранились заметки,
где он требовал от Синода „втолковать" всякому,
1 В действительности место победы новгородской
дружины — южнее, при впадении в Неву Ижоры. Маловероятно,
что первые петербургские краеведы ошиблись, указав на
устье тогдашней Черной речки. Просто этот район был
удобнее для монастыря, ближе к городу и дороге на юг.
Связь его с победой Александра — монастырская легенда,
придававшая историческую значимость месту.
217
что спасение души не в монашестве, а в
исполнении государственных обязанностей, определяемых
не духовенством, а светской властью. Синод,
назначенный тем же Петром, быстро понял
несовременность прежних патриарших позиций, и отныне
представители духовенства черного и белого
становятся верными слугами монархии.
Для Петра I Александр Невский — в первую
очередь не святой, а его предшественник в
государственных и военных делах, защитник Русской земли,
к тому же связанный с местом основания невской
столицы. Вслед за перенесением его праха в
Петербург опубликован указ царя, чтобы отныне и
навсегда образ Александра \,в монашеской персоне
отнюдь никому не писать".
Позднее на гробнице появляются не
традиционные молитвенные надписи, а стихотворная эпитафия
и текст, подчеркивавшие прежде всего
патриотические заслуги Невского, его воинскую доблесть. Они
сочинены М. В. Ломоносовым.
...Александру Невскому
Россов усердному защитнику,
презревшему прещение мучителя,
тварь боготворить повелевшего,
укротившему варварство на Востоке,
низложившему зависть на Западе,
по земном княжении в вечное царство
переселенному в лето 1263.
Усердием Петра Великого
на место древних и новых побед
перенесенному 1724 года.
Культ Невской лавры как бы противостоит
традиционной религиозности Киево-Печерской лавры.
В монастыре на Неве кроме гробницы Невского
не было других мощей, не было чудотворных икон.
Светский характер религиозного культа укрепился
и держался в монастыре не только как результат
преобразований первой четверти XVIII века.
Церковь, правда, весьма сдержанно относилась к
Петру I, который „не ценил заслуг монашества", но
дело не в одном Петре. Лавра на Неве
демонстрировала отсутствие суеверий в православии, что было
важно иметь напоказ в столице, где слободами жили
представители множества различных исповеданий
российских подданных, где существовали
многочисленные дипломатические и другие
представительства „иноверцев".
218
Еще раз подчеркнем, что верхи монашества
прекрасно знали в век просвещения истинную цену
своих святынь, но продолжали настойчиво внедрять
их ради сохранения веры „в простом народе".
Минул век вольнодумного просветительства и
якобинства, единение церкви и монархии
становится более тесным, более традиционным.
Другие реликвии
Еще одним средством воздействия монастыря на
паломника был культ реликвий, которым также
приписывалась сила чудотворения.
Преобладающими оказывались реликвии, связанные с
местными святыми, основателями монастырей, юродивыми
и т. п. Это прежде всего „железа" — вериги,
колпаки, пояса, „власяницы", которыми иноки
„умерщвляли плоть", и важная часть монашеского
облачения — параман, напоминающий пояс с портупеей.
Это не тот параман, который надет на всяком
монахе, а тоже металлический, тяжелый, надеваемый для
„подвига духовного". От преподобного Никиты-
столпника (XII в.) в Переславльском монастыре
сохранялись „столп, в котором проводил время
преподобный" и его вериги. Власяница
преподобного Логгина Коряжемского хранилась в
Николаевском Коряжемском монастыре; схима (облачение)
преподобного Нила Столбенского — в его пустыни
и т. д.
Оставим пока в стороне сам „подвиг" инока;
20—30 фунтов оков изумляли и приводили в
благоговейный трепет богомольца, который мысленно
примерял на себя холодную тяжесть стали и
ужасался терпению монаха, годами не снимавшего вериги
с тела. Случайно ли, что ни в одном монастыре
вериги не хранили в ризницах, где можно было встретить
немало предметов, по тем или иным причинам
вышедших из обихода? Вериги из употребления
никогда не выходили. По смерти подвижника их снимали
с тела и выставляли на поклонение богомольцам.
Вериги всегда были на виду.
В Волоколамском монастыре паломникам
показывали двое чьих-то вериг по 20 фунтов
каждые, хранили там и вериги самого Иосифа Волоц-
кого.
219
В действующем Псково-Печорском монастыре
богомольцы могут увидеть вериги, укрепленные
над могилой схимника Лазаря. Считается, что они
весят 27 фунтов. Вериги тоже включались в число
чудотворных святынь. Так, железные
колпаки-камилавки давали надевать паломникам, страдавшим
головными болями.
Использовали монастыри и другие предметы,
связанные с иноческими подвигами. Пещера —
место подвигов преподобного Корнилия —
сохранялась Палеостровским Богородицким
монастырем; келья основателя Кашинского Николаевского
монастыря сберегалась внутри его ограды; в
Троицком Комельском монастыре хранилось дупло
дерева, в котором основатель монастыря преподобный
Павел Обнорский прожил три года. Дупло не
единственное: в часовне Калужской Тихоновой пустыни
сберегалась колода „от того дуба, в дупле которого
уединялся преподобный Тихон". Иногда эти
предметы имеют действительную историческую ценность.
В Троицком Скопинском монастыре, а позднее
в Дмитриевом Ряжском, бережно хранился
двухаршинный тяжелый посох Пересвета, инока,
посланного из Сергиевой лавры в войско Дмитрия
Донского. Александр Пересвет единоборством с
татарским поединщиком начал Куликовскую битву.
Сейчас посох находится в Рязанском краеведческом
музее.
Как правило, эти реликвии — результат
позднейших фальсификаций. Например, по уверениям
монахов Псковского Иоанно-Предтеченского монастыря,
у них хранился крест, полученный в Ростове
преподобным Авраамием (X в.) непосредственно из рук
явившегося ему Иоанна Богослова...
В Кирилло-Белозерском музее-заповеднике
экспонируются кресты, якобы вырубленные самим
преподобным Кириллом. Они чудотворны. В
музейном зале выставлен крест, когда-то обгрызенный
паломниками, что, по уверениям монахов, помогало
избавиться от зубной боли. Современные методы
дендрологического анализа показывают, что кресты
никак не старше XVIII века (напомним, что Кирилл
умер в 1427 г.), аналогична датировка и его кельи,
которую монахи сохраняли как реликвию
преподобного.
Число примеров нетрудно умножить.
220
Следует отметить, что большинство культовых
реалий этой группы церковь к числу чудотворных
прямо не относит. В ряде описаний монастырей
можно встретить лишь осторожные указания на
происходящие от этих предметов чудеса, но это
не правило. Реликвии такого рода использовались
в монастырях главным образом для прославления
собственного монашества. В то же время
иночество, ничтоже сумняшеся, проповедовало массе
паломников чудотворность, обретаемую едва ли
не любым предметом, вступившим в контакт со
святыней. И здесь существовало „двойное
правило". Для „простецов" все в монастыре оказывалось
чудотворным. Остается только поражаться
беззастенчивости одних и легковерию других.
Некоторые церковные авторы, стремясь
избежать иноческой вульгаризации,
дискредитировавшей религию, возвышали голос против явной
профанации культа. Так, известный церковный писатель
князь Долгорукий еще в начале XIX века, на основе
личных наблюдений, дважды, с промежутком в
несколько лет, возмущенно пишет о прямом
кощунстве монахов у мощей св. Варвары в Киевском
Михайловском монастыре. Чернецы торговали
реликвиями: „...пропасть образов, колец, крестов, и все
накладено в раку, и торг идет своим порядком".
Паломники „и в самом гробе копались, как в
ящике"; монахи же „торгуются и просят подороже".
Прошло несколько десятилетий, и те же факты в
полной мере подтверждает Другой очевидец —
Д. И. Ростиславов. Видно, культ этот стал притчей
во языцех. В те же годы Ф. М. Достоевским
написаны „Братья Карамазовы". В романе
экзальтированная и суеверная госпожа Хохлакова пытается
благословить Митю Карамазова именно образком
от мощей Варвары-великомученицы. „Позвольте
мне самой вам надеть на шею и тем
благословить вас на новую жизнь". Кстати, не случайно
серебряный образок надет на Дмитрия. Его „новая
жизнь"- на каторге. В романах Достоевского
немало деталей с тонким, антиклерикальным
смыслом.
Кощунственная торговля „у Варвары",
подозрительная даже с точки зрения ортодоксального
православия, существовала еще в советское время,
вплоть до закрытия монастыря.
221
Среди особо чтимых святынь были реликвии
святой земли — Палестины и монастырей Афона.
Частицы „ризы богоматери" и хитона Христа в
Псковском Иоанно-Предтеченском монастыре, в
Гефсиманском скиту Троице-Сергиевой лавры тоже
была частица хитона и даже „капля крови Христа"
и т. д. Были и такие реликвии, как „млеко
пресвятой богородицы", „пот с главы мученицы
Екатерины", вода из следа, оставленного богоматерью, и т. д.
О ТСТУПЛЕНИЕ О Т ТЕМЫ
Маршрут по обители
Может сложиться впечатление, что в монастырь
массы шли преимущественно ради утешения в беде,
а монастырь в свою очередь выставлял одного,
много двух-трех аскетов, которые запугивали
небесными карами, поучали народ о том, что на земле все
греховно, что страдать полезно и что за гробом такс*-
го страдальца ждет вечное блаженство.
Однако стоит задать простые вопросы, например,
так ли уж много было тех, кто от неизбывности
беды не находил себе иного утешения, кроме как
в монастырских стенах, и другой — много ли можно
было найти охотников идти в монастырь ради того,
чтобы вернуться оттуда запуганным грядущими
мучениями и отказаться от радостей земной жизни,
как первоначальное впечатление оказывается,
мягко говоря, недостаточно обоснованным. И ответить
придется иначе. Вряд ли многотысячные толпы
паломников собирались здесь для того, чтобы их
лишний раз запугали греховностью мира.
Монастырь много сложнее упрощенных
представлений о нем. Прежде всего он зрелище. И зрелище,
рассчитанное на весь спектр, всю возможную гамму
человеческих переживаний. Страх находил в ней
место, но вряд ли это чувство было
преобладающим. Более того, увидев изможденных аскетов,
услышав заунывный и строгий напев покаянных
канонов, грозные слова о грядущем возмездии
грешникам, богомолец, паломник переживал нечто
вроде духовного очищения, сублимировал свои
чувства, на какой-то момент проникаясь сказанным
ему, увиденным им и, отозвавшись эмоционально,
чувствовал себя далее свободным от ответственно-
222
сти. Он уже „проиграл роль" праведника, пережил
ее эмоционально и далее мог быть и оставался
на деле пассивным. Такова особенность церковного
зрелища, в котором на момент является ощущение
сопричастности, а затем воздействие это,
мистифицированное по сути своей, не оказывает и не может
оказать сколько-нибудь серьезного воздействия
на душу человека. Зрелище лишь на миг возбудило
его, но мир мистической фантазии никак не может
быть совмещен с реальным миром действительной
жизни и впечатление это оказывается лишь
своеобразным развлечением души.
Более того, монастырь — зрелище и в прямом
смысле этого слова. Здесь существовало множество
того, что просто следует назвать развлечением, даже
своеобразным аттракционом. В одном из
монастырей неподалеку от Киева стояли фигуры монахов,
манекены в рост человека, с кружкой в руках. Если
в эту кружку опускали монету, манекен кланялся.
Этот нехитрый механизм можно оценить как нечто
недостойное провозглашаемых монашеством
неземных идеалов, и это будет верная оценка. Можно
сказать, что это стремление иночества к наживе, и это
тоже будет верно. Но есть еще одна сторона —
развлекательность, зрелищность монастырской куклы.
Жестяной монах с кружкой — вместе со всем
сказанным о нем — аттракцион, любопытный многим,
запоминающийся и... развлекающий. То же следует
сказать о множестве монастырских поделок: ложек,
образков, крестиков — все это по сути являлось
сувениром, памятью о богомолье, памятью
посещения обители, а никак не святыней. Так многие
паломники и относились к этим копеечным образкам,
свечкам, бутылочкам и т. д.
Паломник попадал в монастырь на своеобразный
туристский маршрут. Ему показывали святыни и
храмы, иконы и кельи, он видел, как в театре, жизнь
отличную от его собственной, одновременно
замкнутую и показную. Перед паломником развертывался
грандиозный спектакль из чужой ему жизни, и
в этом спектакле каждый играл свою роль. Плохой
монах и хороший — они равно были интересны
паломнику, а поэтому равно нужны и монастырю.
Монах грешный был даже полезнее.
У стен монастырей часто бывали ярмарки, почти
всегда шумел базар. А где базар и ярмарка — там и
223
еще множество всяких развлечений: балаганы,
карусели, ларьки с лакомствами, торговцы вразнос со
всяким нехитрым товаром. Здесь же были и
монастырские лавочки.
В зрелище монастыря, в монастырское действо
паломник включался активно. Где следовало, он
становился на колени, что следовало — целовал, где
полагалось — молился, где протягивали кружку —
опускал в нее монету. Некоторые монастыри
кормили паломников. Это было не убыточно: пища
была самая простая — постные щи из одной
капусты да жидкая кашица, в праздник слегка
сдобренная постным маслом. Квас, тот самый
монастырский, кислый, о котором иноческий авторитет
прошлого утверждал, что он „хорошо желудок
прочищает". Такой обед настраивал паломника на
мысль о том, как истово спасают монахи душу
в святой обители, как они пренебрегают „земным".
И одновременно это становилось еще одним
своеобразным развлечением паломника, память о
котором сохранялась надолго. Монастырь же ничего
не терял, он даже приобретал на этих бесплатных
обедах. Инок неспешно обходил столы и перед
каждым ставил кружку для сбора пожертвований.
Ничего не требовал. Если в кружку не опускали
монеты, то, помедлив, передвигал ее дальше. Но
психологический расчет был точен. Здесь часто
отдавали действительно последнее.
Кроме этого соучастия в монастырском
зрелище, в монастырском действе, паломник во многих
обителях сталкивался с образцами высокого
искусства: шедеврами зодчества и живописи, шитья и
чеканки, литья и резьбы и многим другим, что
украшало обители и что ныне бережно сохраняется
художественными музеями нашей страны. Высокое
искусство производило свое, неизгладимое
впечатление, и, пусть даже не понимая этого, а лишь
смутно ощущая, что все это труд народа,
богомолец проникался величием памятников, созданных
трудом и талантом его предков...
И, наконец, истовый богомолец привозил домой
не только сувениры, но и „святыни", чудотворность
которых казалась ему неоспоримой по одному лишь
месту, в котором они были получены.
Впрочем, и здесь не следует преувеличивать
степени того религиозного пиетета, который питали и
224
паломник, и чернец в своей обители к святыням.
Иные верили, иные же прекрасно понимали, что
не только их святыни „неподлинны", но что вообще
подлинных „чудотворных" святынь не существует
в природе. Все это не имело значения. Ведь чудеса
могут происходить и от „неподлинных" святынь.
Важно, что святыня получена в монастыре...
Такова оборотная сторона монастырской медали.
С искренней верой в святыни, в силу чудотворных
икон, в монашескую молитву, которая „скорее
дойдет к богу", сливалась практически свободомыс-
ленная настроенность тех же богомольцев, тот
постоянный и оптимистический скептицизм народа,
который утверждал: „на бога надейся, да сам не
плошай", фактически исключая бога из
практической жизненной ситуации.
Некоторую „чистку" святынь этой чудотворной
группы по временам проводила сама церковь.
Митрополит Стефан Яворский, отметив, что в западной
церкви великое множество фальшивых реликвий,
указал „смотреть, дабы и у нас такого безделья не
было". Казалось бы, самое изощренное богословие
должно встать в тупик перед требованием
митрополита. Разобраться в подлинности „той" щепочки и
в подложности „этой" — задача, принципиально
невыполнимая, подлинной чудотворной не
существовало в природе.
Для Стефана никакого тупика не было: верить
следовало в то, что официально утверждено, а что
не утверждено — в то не верить. Иных критериев
не требуется. Так вводилось единообразие культа,
под контроль Синода ставилась вся эта своеобразная
отрасль „прикладного искусства" на местах,
регламентировалась, подчинялась столице. Не следует
приписывать распоряжение Стефана
рационалистической просвещенности митрополита, хотя он был
широко эрудированным ритором, поэтом и
просветителем. Но закономерность культа такова, что, как
только затрагивалась вера, как только речь шла
о религиозном миропонимании, „прогрессивные" и
„реакционные" деятели церкви начинали мыслить
сходно: все должно было служить усилению
религиозности. Если виделась угроза — церковники шли
единым фронтом. Детали и частности не имели
15 Г. Прошин
225
особого значения, они лишь оттеняли методы
приспособления идеологии к меняющимся условиям
времени.
В течение XIX века из культа постепенно исчезли,
щепочки — частицы гроба господня, „который, —
возмущались ревнители православия, „очищенного
от суеверий", — подобно русским гробам, будто
бы сделан из дерева". Но отнюдь не все вопиющие
нелепости можно было устранить — большинство
из них слишком долго и усердно прославлялись
церковью, да и монастыри (вопреки возмущению
ученых-богословов: „такими вещами можно
обманывать только очень простодушных людей")
решительно сопротивлялись изъятию доходных святынь,
рассчитывая все на тех же „простодушных".
Если Синод негласно распоряжался убрать
щепочки „от гроба", то с другими щепочками так
поступить он не мог. Речь идет о многочисленных
„частицах креста, на котором был распят Христос".
Невозможно подсчитать, сколько таких частиц
обращалось в монастырях и храмах, домашних
церквах суеверного купечества и в старообрядческих
скитах, просто среди верующих: на божнице, в
красном углу, за иконой — на всякий случай. Ж.
Кальвин, пожалуй, не преувеличивал, когда говорил, что
из крестов, сохранившихся целыми, и их частей
можно построить корабль. Сказано это было почти
400 лет назад и касалось одного европейского
католицизма. С тех пор этой святыни прибавилось и на
Западе и на Востоке.
Частицы креста были в Рождество-Богородиц-
ком, Житомирском, Новгородском Юрьевом и
многих других монастырях. Даже в Троицкой общине,
в подмосковных Кимрах, основанной в самом
конце XIX века, оказалась „частица креста господня"...
Усомниться в подлинности щепочек было
рискованно: частица креста в Богородицкий монастырь была
пожертвована в 1866 году царской семьей, в
Юрьев — графиней Орловой, едва ли не самой большой
религиозной фанатичкой XIX века.
Последняя из названных нами — Троицкая
община: в ней частица — дар константинопольского
патриарха, а о создании этой общины в Кимрах горячо
радел всесильный Иоанн Кронштадтский,
основавший не один монастырь и сам готовившийся
в святые.
226
Парадоксальной особенностью „самых
священных" реликвий была их общедоступность.
Монастыри изготавливали святыни в таком количестве, что
страна была буквально наводнена ими, их везли
с севера и юга, слали с Афона. Простота дела
соблазняла многие обители; завести хотя бы пень, на
котором молился подвижник (была такая святыня), и
потихоньку продавать разные щепочки,/
обнадеживая богомольца чудотворностью.
И еще раз вспомним Иакова Боровичского.
Легенда, с которой мы начали вторую главу, имела
продолжение. Мощи Иакова спустя столетие после
их обретения приглянулись новгородскому владыке
Никону, и, став патриархом, он перенес их в свой
Иверский на Валдае монастырь. Там культ не
столько самих мощей, сколько колоды, в которой они
лежали, расцвел в полную силу. Паломникам давали
грызть колоду для исцеления от разных хворей.
Особенно же от зубной боли. Поскольку поток
паломников был велик, а колода конечна, то монахи
время от времени заменяли ее. Со временем стали
торговать щепочками „от гроба", на которые шли
деревья из монастырского леса. Разумеется, те, что
упали и достаточно подгнили для того, чтобы
смогли сойти за древнюю колоду. Торг шел с размахом.
Своеобразный тунеядческий слой странников и
„профессиональных" паломников котомками и
коробами разносил бесчисленное количество таких
святынь по всей Руси. Это о них писал Некрасов:
Пускай нередки случаи,
Что странница окажется
Воровкой; что у баб
За просфоры афонские,
За „слезки богородицы"
Паломник пряжу выманит,
А после бабы сведают,
Что дальше Троицы-Сергия
Он сам-то не бывал.
И действительно — „пускай". Дальше Троице-
Сергиевой лавры можно было не ходить из мест,
где искали, кому хорошо живется на Руси, семь
некрасовских мужиков. Те же святыни были и
ближе. Конечно, это уже сугубый фальсификат
нечистых на руку паломников. Но у них был перед
глазами достойный пример торга столь же „святыми"
реликвиями. И ничего не смог бы тут поделать
просвещенный митрополит Стефан Яворский...
227
Мы вели речь о
реликвиях. Но существовал еще
один — низовой — уровень
их распространения,
превращавший чтимую
святыню в нечто среднее
между талисманом и
обыкновенным сувениром
монастырской лавочки.
Стекольные заводы
выполняли большие заказы
монастырей на
флакончики для святой воды, елея-
„маслица" и т.д. По
израсходовании святыни
флакончик оставался
сувениром. Литографские
заведения (особенно известны
с конца прошлого века
литографии Бонакера в
Москве и Фесенко в Одессе)
массово тиражировали
изображения священных
предметов. Так
распространялся, например, „след
Христов" — вырезанное
из дощечки подобие
стопы правой ноги. На
плоскость наклеена религиозная картинка. Реликвия
святой земли получила цензурное разрешение на
тираж. По краю пятки буковками наимельчайшего,
еле различимого шрифта значится: „Печатать
дозволяется. С.-Петербургъ 24 апр. 1890 г. Хромо-Лито-
граф|я Е. Фесенко. Одесса".
Даже некритичное религиозное сознание
тревожил вопрос о подлинности святыни, к которой
ходили на поклонение, и в особенности святыни,
приобретенной в монастырской лавочке или у захожего
странника.
В первом случае сомнение успокоить было
несложно: все веруют, святыня древняя, икона
„намоленная", послушливая, монахи лучше нас,
грешных, знают, — словом, множество религиозных
доводов заглушало сомнение.
Не то, если речь шла о приобретенной „частице",
залитой воском, лоскутке, щепочке... Подлинность
Пузырек со „святой водой
от стопы Почаевской
божьей матери".
Вода из монастырских колодцев
считается чудесной и целительной.
Однако в успехе культа важную
роль играет и форма, в которой
святыня представлена
богомольцу. Сам пузырек,
специально изготовленный
с подходящим по случаю
изображением и текстом,
становится если не реликвией,
то сувениром, памятью
о богомолье.
228
воска сомнений не вызывала, а вот святыни в нем...
Суеверное сознание со страхом отбрасывало от себя
мысль о том, что всем святыням — одна цена.
Сомнение благочестиво успокаивалось на том, что
„моя" и „наша" святыня, может, не единственная,
но наверняка подлинная.
Этим привлекал богомольцев монастырь.
„Чужую" святыню в Новое время монашество впрямую
не отрицало, настаивало лишь на подлинности своей.
И все же для признания „чудотворности"
богомольцу требовалась реальность, „подлинность" святыни.
Реликвия не с неба падает. Нужен хоть малый повод,
ибо сознание, даже религиозное, требует хоть
видимости доказательств.
Так создавалась земная слава небесных чудес. И
здесь просвещенный митрополит тоже ничего не
смог бы поделать. Впрочем, и не стал бы.
Вода и камень
Самые распространенные в культе святыни
представляла сама природа — это вода и камень.
Разумеется, и то и другое в каждом монастыре
наделялось чудотворностью, обрастало своими легендами,
местными исцелениями, держалось по значимости
на уровне икон и мощей.
Камням в культе повезло как-то особенно.
Монастыри брали камень не только на строительство
храмов. Камень широко и многогранно входил в
православный культ. Стоя на камне, приплыл против
течения Волхова в Новгород Антоний Римлянин.
В монастыре, давно ставшем музеем, лежит этот
валун, бывший когда-то святыней. В
действующей Почаевской лавре показывают „отпечаток на
камне ноги божьей матери". В храме монастыря
богомольцы и туристы скорее с любопытством,
чем с умилением, заглядывают в тесную нишу.
За толстым стеклом внизу можно разглядеть
сероватую поверхность с неровностями, в которых
даже при большом воображении трудно угадать
„отпечаток ноги". Осмотр святыни весьма затруднен,
но для того, чтобы легче вообразить нужное,
вокруг нее повсюду изображен „след божьей
матери" — вышитый, нарисованный, вырезанный из
дерева, он вполне заменяет паломнику неясный абрис
229
на известковом туфе.
В современных
церковных изданиях — прежние
легенды: божья матерь
явилась „на Почаевской
горе в огненном столпе",
оставив след, в котором и
„поныне не иссякает
чистая прозрачная вода".
На первом месте,
конечно, камешки святой
земли. Из далекой
Палестины их непременно
привозил всякий паломник.
Производство таких
реликвий-сувениров было
налажено издавна и очень
широко. Реликвия
транспортабельна, недорога,
прочна. На многих камеш-
Набор камней-сувениров ках писались привлека-
„из святых мест". тельные образки с
сюжетами места действия:
камешек от пещеры Рождества Христова, камешек
от „столба, к которому был привязан Спаситель".
В Заиконоспасском монастыре кусочек камня, „на
котором сидел ангел, возвестивший о воскресении
Христа", в Серафимо-Дивеевской пустыни камень
от гроба богоматери... В Новом Иерусалиме
почитали камень, принесенный из мест, „куда удалилась
Мария Египетская..." В Жировичском Успенском
монастыре до сих пор чтят валун, „на котором был
обретен чудотворный образ" богоматери. В Свято-
горском Успенском монастыре сберегали камень,
„на котором стоял некий юноша", когда ему
явилась богородица.
Камень стоек, валун не вызывает соблазна
похищения, его можно благоговейно целовать без
ущерба для сохранности. Наконец, прочная вещность его
массы убедительна в том смысле, что сам он не есть
произведение человеческих рук, то есть исключается
подделка собственно камня и, на худой конец, он
легко возобновим.
Камни из святых мест паломники везут едва ли
не с первых лет принятия православия, когда
новообращенным христианам Киевской Руси открылся
230
путь к святыням православного Востока.
Путешествия-паломничества предпринимались с разными
целями: для уяснения культа и богослужения, для
пополнения храмов святынями, вывезенными из
Палестины или перекупленными у предприимчивого
греческого монашества, для получения образования
в монастырях Афона — крупнейшего
идеологического центра христианства, долгое время
значившего в богословии больше, чем Ватикан,
Константинополь и центры Малой Азии. Насущные церковные
нужды вели в Константинополь игуменов и
епископов, устроителей церковной и монашеской жизни.
Но паломничества прежде всего и более всего
вызывали интерес, который, говоря современным
языком, следовало бы назвать туристским, — это было
стремление познакомиться с культурой других
стран и народов, с их обычаями и жизнью. Такое
паломничество стало в Древней Руси массовым уже
в начале XI века. Настолько массовым, что церковь
ограничивает поездки. Ограничение было вызвано
тем, что особого благочестия паломники не
испытывали и „святыни" их интересовали лишь постольку,
поскольку вообще вызывали любопытство.
Новгородский епископ Нифонт (1060-е гг.)
препятствует сильно распространившемуся
паломничеству, ибо, возмущается он, идут не поклоняться
святыням, а „пить и есть чужое". Речь не о княжеско-
боярских паломничествах — их не ограничивали, а
о тех социальных группах, которые, то отторгнутые
от дела передрягами княжеских усобиц, то
избегавшие кабалы, срывались с насиженных мест,
бродяжили, ища временного пристанища, и при первой
опасности вновь срывались с мест. Тут Нифонт был
прав. С завоеванием Палестины крестоносцами
открылась возможность и посещения гроба господня,
• величайшей христианской святыни. Повезли
реликвии и оттуда.
Характерно паломничество Даниила — игумена-
воина, принявшего в Киево-Печерской лавре
постриг, а затем и руководство каким-то из
княжеских монастырей Киева. Даниил посетил Палестину
в начале XII века. То ли в 1104-1106, то ли в 1106-
1107 гг. — мнения исследователей расходятся. В
пути он вел дневник, а по возвращении написал
„Хождение" — повествование о своем путешествии, где
дал лучшее в средневековой литературе Европы
231
описание святой земли. Даниил на Пасху ставит
лампаду к гробу Христа „от всей русской земли".
Игумен поспел в храм только в вечер страстной
пятницы и, хотя дверь была уже заперта, разыскал
ключника и „пообещал ему". Двери святыни сразу же
раскрылись. А он, срочно купив лампаду „очень
большую", налил ее маслом и поставил прямо на
гроб Христа. (Лампады на богослужении в великую
субботу загораются сами собой — это чудо
демонстрируют и в наши дни.)1
На третий день Даниил забирает лампаду
обратно — она и масло, которого оставалось еще изрядно,
стали священны и чудотворны. И третью реликвию
получает Даниил — опять-таки „подав кое-что"
ключнику. Тот отколол кусочек гроба господня,
взяв, кроме мзды, клятву не говорить об этом
в Иерусалиме. Знал бы будущий герой нашего
эпоса — „Данила старчищо", былинный „Данила
Игнатьевич", черниговский рыцарь и монах, каким
благочестивым камнепадом отзовется его реликвия
на Руси! „Хождение" Даниила было одним из самых
читаемых произведений древнерусской литературы,
и, конечно, камешки-реликвии, камешки-сувениры
1 А. А. Осипов вспоминает о видном богослове,
профессоре Ленинградской духовной академии, который
заинтересовался проблемой „святого огня", что в пасхальную
полночь чудесно зажигает лампады на гробе господнем.
„Изучив древние рукописи и тексты, книги и свидетельства
паломников, он, — пишет об этом профессоре А. А. Осипов, —
доказал с исчерпывающей точностью, что никакого „чуда"
никогда не было, а был и есть древний символический
обряд возжигания самими церковнослужителями над гробом
лампады. [...] Если бы только читатели могли бы
представить, какой вой подняли церковники после выступления
верующего профессора богословия, осмелившегося сказать
добытую им правду! [...]
И в итоге всего этого дела ныне покойный митрополит
ленинградский Григорий, тоже человек с богословской
ученой степенью, собрал ряд богословов Ленинграда и сказал
им (многие из моих бывших коллег, наверное, помнят):
„Я тоже знаю, что это только легенда! Что... (здесь он
назвал по имени-отчеству автора речи и исследования)
абсолютно прав! Но не трогайте благочестивых легенд, а то
падет и сама вера!" {Осипов А. А. Откровенный разговор
с верующими и неверующими. Размышления бывшего
богослова. Л., 1983, с. 114-115).
Мы привели эту цитату исключительно ради последних
слов митрополита Григория — весь культ православия —
это сплетение благочестивых легенд различного
происхождения.
232
на долгие века — традиционный багаж всех
последующих паломников.
Кроме культа камней в монастырях процветал
культ целебной „землицы" или „песочка" от могил
святых или чтимых в данной обители покойных
иноков. В Ближнем скиту богатейшей Глинской
пустыни от могилы чернеца Макария брали „для
исцеления от немощей" песок. В Берлюковской
пустыни Московской епархии святыней была
могила схимника Афанасия. Надгробная плита из
относительно мягкого песчаника „вся изъедена
зубами, так как существует поверье, что камень этот
избавляет от зубной боли", писал „Московский
листок" в 1912 году.
И, наконец, вода. Любой монастырь мог
снабдить и снабжал каждого паломника чудотворной
целительной святыней. Это вода из монастырского
святого колодца, вода святого озера — в таких
озерах купались, например, Саровские и соловецкие
богомольцы: больные с надеждой исцеления,
здоровые — впрок.
Здесь логика культа безошибочна. Воде
магические свойства приписывались еще в первобытных
верованиях, водой совершается таинство крещения,
наконец, вода просто отмывает, как же не
уверовать, что среди прославленных святынь вода
монастыря не смоет грехов? Современные верующие
несут из церквей и монастырей святую воду, уверяя
безбожников, а еще более самих себя, что она
целебна и „целый год не протухнет".
Степень чудотворности воды неопределенна, но
наличествует всегда. Особенно в тех монастырских
колодцах, которые, по преданию, „ископал сам
основатель обители". Колодец, конечно, копался
в каждом монастыре при его основании — вода
была нужна. И затем — была нужна святыня —
становился святым. При некоторых таких колодцах,
а их собственноручно копали, по преданию,
Тихон Калужский, Иосиф Волоцкий, Иоанн
Новгородский, Павел Обнорский и многие другие
преподобные, устраивался особый культ с крестными
ходами.
Еще более чтилась вода колодцев и источников,
которых преподобным даже не приходилось копать
своими руками. Так, Сергий Радонежский
помолился — и в лавре забил ключ, из которого верующие
233
везут воду до сего дня. Точнее, они так думают.
Напрасно говорить, что источник иссяк больше ста лет
назад и тогда же монахи подвели к часовне
водопроводные трубы, напрасно говорить, что и сейчас лавра
пользуется городским водопроводом Загорска!
Важен ритуал, который сопровождает раздачу воды
в лаврской часовне. Таких сугубо чудотворных
источников, явившихся по одной молитве
преподобного, было довольно много. В Троицком
Михайловском источник забил по молитве Михаила Клопско-
го в конце XIV века, а в Знаменской общине, где
пустынница Анастасия молилась на камне, колодец
был выкопан ею хотя и собственноручно, но место
указано „явившей себя божьей матерью".
Вода таких колодцев не использовалась на
хозяйственные нужды. Соответственным образом
оформленный (чаще всего надкладезной часовней), с
подходящими случаю иконами, повествующими о
явлении источника, о происходивших здесь чудесах
исцелений. Само оформление без слов давало понять,
что вода здесь не простая. Благочестивый паломник
прошлого негодует на то, что иноки действовали
избирательно. „И между тем послушник,
руководитель ваш, предложит вам напиться воды из колодца,
намекая, что это не простая вода, а особенная,
целебная; человеку, которого можно счесть за
простоватого, он назовет ее чудесною. И когда вы выпьете
хоть глоток ее, то вам предложат опустить какую-
нибудь лепту за это в кружку". У святого колодца,
однако, был важный недостаток — его
нетранспортабельность. Чудодейственные свойства воды
деликатно исчезали при административных
преобразованиях; если обитель закрывалась, а братия
переводилась в другое место, то святой источник терял
ставшие ненужными чудотворные свойства и становился
обычным водоемом.
Можно найти в этих культах древнейшие,
дохристианские языческие связи с культами земли и
воды, можно вспомнить прекрасную и безусловно
дохристианскую традицию брать с собой в ладанке
горсть родной, поистине священной земли отечества.
Но монастырь если и учитывал эти древние традиции
народа, то обращал их в средство обогащения и
объективно эксплуатировал те суеверия, которые
громил в поучениях с амвона.
Религиозность же это укрепляло.
234
Паскаль когда-то дал совет колеблющимся в
вере: „Старайтесь убедить себя не большим числом
доказательств в пользу бога, а поступайте так, как
если бы вы верили: берите святую воду,
заказывайте службу и т. д. Это вас даже само собой заставит
верить и поглупеть..."
Звучит парадоксально, но острота Паскаля — не
шутка. За ней стоит глубокое психологическое
наблюдение. Монашество знало точность этого
метода — „верить и поглупеть".
Система монастырских святынь
Культ святынь процветает и в конце XIX — начале
XX в. В это время новые святые места создаются
быстро и системно. Несколько рядовых примеров:
Знаменская женская община. Матушка из дворян.
После смерти мужа решает основать в собственном
имении монастырь. Это ей (частый случай) „указано
в сновидении". Дело сразу же ставится на широкую
хозяйственную ногу. Казна выделяет мельницу,
помещица — владелица будущего монастыря
назначается игуменьей, организуются какие-то мастерские.
Поместье становится монастырем. Сестры с четырех
утра, встают на молитву, после которой работа
в полях и мастерских до захода солнца, с восьми
вечера все снова отправляются по кельям на
молитву и короткий сон. Из 177 монахинь четыре —
административный аппарат хозяйства во главе
с игуменьей. Остальные — сестры-труженицы.
Игуменья обзавелась частицами святых мощей и двумя
иконами с Афона, которые вскоре были названы
чудотворными. В наборе святынь — „камень гроба
господня" и частица креста, на котором был распят
Христос.
Известный митрополит Филарет велел в
Троицкой лавре выкопать пещеры, подобные тем, что
существовали в Киево-Печерском монастыре. Он
хотел, чтобы „его лавра" имела самый полный
набор святынь. Конечно же столь явно, как писали
современники, „мнимые" пещеры вызвали
недовольство в первую очередь среди религиозно
настроенных людей. Но Филарет знал религиозную
психологию: прошло время, и пещеры Троицы вписались
в систему культа. Спустя несколько десятилетий,
235
превосходно разбиравшийся в православии и
наблюдательный человек, художник М. В. Нестеров,
пишет: „Пещеры эти однородные по характеру с
Киевскими". Культ был организован с размахом.
Выстроена гостиница, так и названная „пещерной".
В одной из пещер поместили чудотворный образ, и,
пишет М. В. Нестеров: „Икона эта собирает сюда
много тысяч богомольцев, которые несут и везут
многие тысячи рублей. Обитель цветет, монахи
грубеют и живут припеваючи..."
4 февраля 1905 года террористом Каляевым был
убит великий князь Сергей, генерал-губернатор
Москвы, возглавивший борьбу с восставшими
рабочими. Три года спустя несколько приближенных ко
двору лиц, вместе с вдовой убитого, развивают
деятельность, конечной целью которой было создание
культа еще одного святого. Некая Кузнецова
(будущая инокиня Поликсена, настоятельница нового
монастыря) приобретает под Зарайском 90 десятин
земли и, не дожидаясь решения Синода, в течение
года строит каменные храм, корпуса келий,
службы. В следующем, 1909 году здесь открыта Гефси-
манская женская община, набраны сестры. Сестры,
как и положено, молятся, в меру огородничают —
не в них дело. За первым храмом строят второй,
престол в него жертвует царица. Иконостас „Гефси-
мании" подарен вдовой, которая приняла постриг.
Появляется образ богоматери с неугасимой
лампадой. Образ во время службы спускается сверху на
шнурах (способ взят из монастырей греческого
Афона). Некоторые русские монастыри
использовали такие иконы, спуская их поближе к молящимся
за определенную мзду. В „Гефсимании" ни в каких
доходах не нуждались — способ заимствовали,
чтобы внушить большее почтение к образу, который
должен был вскоре стать чудотворным.
С первых дней новой обители в ее распоряжении
были многочисленные святыни, которые
жертвовались разными высокопоставленными лицами. Здесь
еще не чудотворная, но уже „весьма чтимая" икона
Воскресения, части камней „от гроба богоматери и
гроба господня", „камень иорданский, камень
вертепа вифлеемского", часть все того же креста, „на
котором был распят Христос", листья маслины,
„под которой он молился в Гефсиманском саду",
и др. Подбор святынь не случаен, все продумано
236
тщательно. Реликвии напоминают о важнейших
этапах евангельского мифа: рождение, крещение, и —
акцент на последних днях жизни Христа —
„страстные" сюжеты. В этом -- стремление провести
параллель судьбы Христа и „убиенного невинно" Сергея.
Можно понять горе вдовы, стремление ее
увековечить память мужа, но это все— область личной
жизни, а культ, созданный в глухие годы реакции,
поражает откровенным мракобесием, с которым
подбирались и театрально помещались в храме все эти
„камушки" и „частицы", заведомо предназначенные
к проявлению чудотворности. В таком быстром и
умелом создании нового „святого места" для
монашества нет ничего необычного. Столь же полный
набор святынь оказался в Троицкой женской общине
Тверской губернии. Основанная в 1896 году, она
вскоре оказалась под опекой Иоанна
Кронштадтского. Немедленно появляется добрый десяток
больших святынь. Среди них семь икон, в которые
вделаны „частицы" покрова божьей матери, мощи ряда
святых, частицы креста и гроба господня, его
одежды, кусочек мантии и волос из бороды Серафима
Саровского... Пропагандировать чудотворный
характер святынь в этих случаях начинали немедленно.
Иеромонах Евстратий — духовник общины —
пишет об „особенных знамениях", которые
происходят в „Гефсимании". Культ только начинается,
осторожность пока не позволяет определенно
указать на чудотворность „камушков". Евстратий лишь
прозрачно намекает: „Еще не пришло время
подробно свидетельствовать о происходящих чудотворе-
ниях".
Время это не пришло никогда. Пришел Октябрь
семнадцатого.
Легенда о монастырской кружке
Существует благочестивая легенда о „богатых
жертвователях", щедротами которых составились
сокровища монастырских храмов и ризниц. Легенда
продолжает жить и в наши дни, и даже среди людей,
далеких от религиозного влияния.
На территории музеев — бывших монастырей —
стоят храмы и часовни, сооруженные на средства
князей и бояр, богатых торговых людей, промыш-
237
ленников, а затем и гильдейского купечества.
Многие музеи помещают в экспозиции
великолепные произведения ювелиров, древнерусской
живописи, шитья. Как правило, это одновременно и
произведения декоративно-прикладного искусства,
и культовые предметы: вышитые лицевые покровы
и пелены, ризы, потиры и дарохранительницы,
оклады богослужебных книг и т. п. — пожертвования
в монастыри, вклады на помин души, в память
каких-либо событий, наконец, показатели
благочестивых устремлений дарителя.
Эти предметы нередко имеют значительную
художественную и всегда — материальную ценность.
„Приблизится смертный час, — писал Андрей Мель-
ников-Печерский, — толстосум сробеет, просит,
молит наследников: „Устройте душу мою грешную,
не быть бы ей во тьме кромешной, не кипеть бы мне
в смоле горючей, не мучиться бы в жупеле
огненном". И начнут поминать христолюбца наследники:
сгромоздят колокольню в семь ярусов, выльют
в тысячу пудов колокол, чтобы до третиего небеси
слышно было, как тот колокол будет вызванивать
из ада душу христолюбца-мошенника" („В лесах").
Можно вспомнить судьбу огромного состояния
фаворитов Екатерины II Орловых. Братья Григорий
и Алексей в разное время получили от „матушки-
царицы" только плодородных земель около
полумиллиона гектаров в Поволжье, в Воронежской
губернии и других изобильных местах. Со временем
почти все несметное богатство Орловых
сосредоточилось в руках дочери Алексея Анны. В наши дни
ее помнят только благодаря эпиграмме Пушкина:
Благочестивая жена
Душою богу предана,
А грешной плотию
Архимандриту Фотию.
Четверостишие отражало действительное
положение вещей. А. А. Орлова-Чесменская умерла, не
оставив наследников, в 1848 году. К этому времени
религиозная фанатичка растратила все свое
баснословное состояние на монахов. Фотий, в бытность
настоятелем Юрьева монастыря в Новгороде, не мог
нарадоваться щедротам своей духовной дочери.
На постройки в одном только Юрьеве она
пожертвовала 700 тысяч рублей. Туда же, на раку
св. Феогноста — 500 тысяч; на помин лиц, „близких
238
к отцу Фотию" — 250 тысяч. Это еще в пушкинские
времена. В 1842 году — 366 тысяч, годом позже —
более 120 тысяч рублей разошлись по мелочам:
на питание братии (процентный вклад в банк), на
разного рода благоустройство. В счет не входят
земельные пожертвования, дом, множество
драгоценных риз и утвари, подаренных в разное время
и по разным поводам.
В Киево-Печерской лавре пышные раки — на
средства Орловой, в Киевском Златоверхом —
рака (та самая, в которую насыпали образки) к
мощам великомученицы Варвары и т. д. В завещании
Анна отказала 5 тысяч рублей каждому монастырю
в России.
История любит парадоксы: братьям Орловым
перепало немало из того „экономического" фонда,
который был создан секуляризацией 1764 года.
И все это вернулось церкви.
В романе-хронике „Захудалый род" Н. С. Лесков
оставил портрет А. Орловой (у Лескова это графиня
Антонида Хотетова) и ей подобных: „Она только
ездила по монастырям, на которые и тратила свое,
почти, можно сказать, несметное богатство. Ею
было восстановлено множество обедневших
обителей; много мощей ее средствами были переложены
из скромных деревянных гробниц в дорогие
серебряные раки, и в этом, кажется, и заключалась вся ее
христианская добродетель". Крестьяне же,
принадлежавшие Хотетовой (как и ее реальному
прототипу), находились в разорении. „Гробы серебрить, а
живых морить — это безбожно", — заключает
Лесков. В действительности так и было.
Были и другие щедрые жертвователи.
Ивановский монастырь в Москве — одна из крупнейших
монастырских тюрем со времен Ивана IV, место
заточения известной княжны Таракановой и
страшной Дарьи Салтыковой, „мучительницы и душегу-
бицы" безответных крепостных. Тихая обитель
получила в середине прошлого века от купчихи
Мазуриной 300 тысяч рублей. Кроме того, Мазурина
вносила в монастырскую казну по 1500 рублей
ежемесячно. Такие громадные и менее
значительные жертвования — один из путей обогащения
монастырей. Отсюда родилась легенда о
„благочестии и щедрости" верхов общества. Но не из этих,
пусть и очень заметных, пожертвований составились
239
Кружка для пожертвований.
Множество подобных кружек
размещалось в монастырском
храме, во всех скитах и часовнях
и просто так — на видном месте.
С такими же кружками,
позвякивая мелочью, монахи
обходили людные места города:
базары, вокзалы и т. д.
Монах не имел права появляться
только в трактире.
монастырские богатства.
Доходы часовенные,
свечные, кружечные,
тарелочные, молебенные,
просфорные, доходы от
продажи копеечных крестиков
и образков, бутылочек
с чудодейственным
деревянным „маслицем" из
лампадок, „святой водой",
иконок и т.д. составляли
в сумме многие
миллионы рублей ежегодно.
Тяжелые медные пятаки,
мужицкие гроши и полушки,
тысячи и тысячи кусков
домотканого холста и
фунтов пряжи,
приносимых крестьянками, — вот
из чего составилось
основное богатство
монастырей.
Кто кружки монастырские
Наполнил через край? —
спрашивал Некрасов и
отвечал: народ.
Никто в этой массе
паломников не мог пожертвовать много, но каждый
приносил что мог, с верою и надеждой отдавал
последнее. Это и есть та „лепта вдовицы", которой
умиляется церковь. На открытии мощей Тихона
Задонского паломники завалили путь крестного
хода кусками домотканого холста. Он сложился
в десятки тысяч аршин. Снимали с себя и кидали
на дорогу праздничные одежды. Иноки — „всякое
даяние есть благо" — складывали все на возы.
В конце концов, и высокие благодетели
православных обителей делали вклады на помин своей души
за счет того же народа.
Приведем умиленную цитату из статьи
монастырского апологета, опубликованной в 1908 году: „И
несут православные свои трудовые копейки на
обители божий. Не обращает такой жертвователь
внимания на то, что у него рваный зипун, что ему не на
что будет возвратиться домой, последние гроши
240
оставляет в церковной кружке,
у раки св. угодника".
Легенды о благочестии верхов
легко возникают в
художественных музеях. Достаточно пройти,
например, по залам Загорского
музея, начало которого — в
ленинском „Декрете об
обращении в музей Троицко-Сергиевской
лавры со всеми ее
художественными ценностями" (20 апреля
1920 г.). Иконы, иконы, XV, XVI,
XVII века... Лучшие из них
—личные и „на помин" вклады
княгинь Анны Микулинской и
Неонилы Ростовской, старцев
монастыря и великих князей, родов
Глинских, Плещеевых,
Вельяминовых, Годуновых... Если не
икона, то риза на нее, усыпанная
самоцветами, низанная жемчугами или
шелком шитые покрова. Работы
замечательных мастеров
Оружейной палаты и лицевое шитье
архиерейских облачений мастериц
княгини Ефросиньи Старицкой. Но благочестивая
легенда остается легендой.
Другой монастырь-музей — Соловецкий
государственный музей-заповедник. В середине прошлого
века С. В. Максимов, бывший здесь по делам
гидрографической службы, не богомолец, но
человек внимательно и с интересом всматривавшийся
в чуждый ему быт богатой обители, фиксирует:
„При мне высыпали из кружек богомольческие
подаяния, скопившиеся в полтора почти месяца".
И далее: „В урожайные годы (иронический курсив
Максимова. — Г. П.) вынимают из кружек за этот
срок по 95 тысяч рублей монетой. Эту цифру
монахи считают средней величиной". Следовательно,
не менее 750 тысяч в год. „Сверх того, —
продолжает гидрограф, — каждый богомолец покупает
просфору, платит за чернила, которыми пишутся
имена родных на исподке просфоры, платит за
писанье, если сам не умеет. Лубочные виды
монастыря стоят 25 копеек серебром вместо пяти
назначенных..." Перечень следует длинный.
Странник.
С картины
В. Г. Перова.
16 Г. Прошин
241
Пятак, алтын, грош — невелика монета, на нее
и бусинки к ризе не купишь, к тому же мужицкий
грош — анонимен, но на эти гроши и строили
величественные семирядные иконостасы, золотом-
серебром окладывали царские врата, строили
высокие стены и просторные трапезные, воздвигали
многоярусные колокольни. Все в монастырь
принес богомолец.
И, наконец, если паломник не шел к монаху, то
монах шел к паломнику. По всем дорогам России,
шляхам Украины, сибирским трактам, по шоссе и
проселкам, тропками от села к селу брели иноки.
Появились железные дороги, и на них сразу же —
монахи-сборщики, как ранее обосновались они на
пароходных причалах. Железные дороги Синод
распределял между „нуждающимися обителями".
Пристани — тоже. Покровительствовал „всем
плавающим и путешествующим" святитель Николай. С
опечатанной в монастыре кружкой, позванивая в
колокольчик, неспешно обходили залы ожиданий,
перроны и дебаркадеры привычные в не столь
отдаленном прошлом фигуры в подрясниках. Дело
стоило того: перед дальней дорогой серьезней
молились и охотнее жертвовали „на бедную обитель".
Единственное ограничение сборщиков — не заходить
в трактиры и подобные им „соблазнительные"
места, игорные и другие „дома". Публичный сбор был
разрешен даже женским монастырям, откуда (до
середины прошлого века) выход монахинь в свет
был запрещен категорически.
Уникальный случай в государственной практике!
Церковь — часть имперского аппарата, монашество,
кроме собственных доходов содержащееся на
средства государственного казначейства, идет с
протянутой рукой, нищенствует, подобно бездомным
погорельцам и крестьянам, вынужденным от лютых
недородов пойти по миру, стучать под окнами,
просить кусок хлеба и кров на ночь. Никогда — из
последнего — на Руси не отказывали страннику ни
в куске хлеба, ни в ночлеге. Не спрашивая, сажали
за стол голодного, а наутро давали на дорогу
краюху хлеба. Не отказывал крестьянин и сборщикам
в залатанных подрясниках, жертвуя на обитель,
на иноческую молитву.
Монашество „своего" не упускало!
ГЛАВА
5
РУССКИЙ ИНОК
В притворе храма, склонив голову, одиноко
стоит человек в грубом подряснике — „власянице"
и босой. Начинается служба, а он по-прежнему стоит
отдельно, как те, кто провинился и на время не
допускается к „полному церковному общению". Но
это не провинившийся. В службе наступает момент,
когда человек в подряснике смиренно
приближается к царским вратам и трижды припадает к ногам
встречающего его там игумена.
Так начинается обряд пострижения в монахи.
— Что пришел ты, брате, припадая святой
дружине сей? — спрашивает игумен.
— Желая жития постнического, — отвечает
постригаемый.
Далее игумен по уставу спрашивает о твердости
намерения стать монахом, блюсти иноческие обеты:
нестяжания, девства и послушания.
Постригаемый, тоже по уставу, на все отвечает
утвердительно. Чин пострижения неспешен и
печален.
На аналое лежат Евангелие и ножницы. Игумен
трижды указывает на ножницы постригаемому, и
тот трижды подает их ему. Но дважды игумен
отталкивает руку послушника и только на третий раз
берет ножницы. Следует последнее предупреждение:
смотри — ты взял ножницы от Евангелия, значит,
обеты даешь самому Христу, пострижение
приемлешь святое и нерушимое. И крестообразно
постригает волосы послушника. Потом его обстригут как
новобранца. Пока же это — символ.
„Новоначальному" помогают надеть форменные
одежды. Все они черные — знак смерти и печали,
знак отречения от мира. Братия торжественно и
скорбно стоит с горящими свечами в руках. С
появлением каждой новой части облачения монахи
негромко поют: „Господи, помилуй". Напев их
мрачен. Так в монастыре появляется новый инок...
„Одежда не делает монахом"
Мы рассмотрели монашество как общественный
институт, методы, которые монашество предлагало
для спасения души тех, кто оставался „в миру".
247
В этой, последней, главе мы рассмотрим
монашеский идеал, то, что монашество, удаляясь от мира,
называло собственно „иноческим делом", которым
истинный монах занят на грешной земле, — делом
спасения души, служения богу.
За века практики, за века вдумчивой и
неспешной оценки собственных методов и получаемых
результатов монашество сумело выработать систему,
которая успешно формировала тип убежденного
человека, непреклонного и готового идти за свои
религиозные убеждения даже на смерть.
Оставим в стороне тех, кто создавал обители
и шел в них ради сытой и привольной жизни,
ради мирских благ, которые именно монаху
следовало отринуть раз и навсегда. Они — грешники,
по религиозной оценке. Каждый мог увидеть
целую толпу таких монахов на иконе с
изображением Страшного суда: скованные цепью греха,
они направляются в огненную пасть ада. Предмет
нашего рассмотрения в данном случае — идеальный
инок и монастырь как высшая, по мнению церкви,
система, формирующая религиозный и даже
общественный идеал.
Монах — воин Христов. Это определение церкви,
которым каждый инок обязательно гордился бы,
не будь гордость грехом для чернеца. Монашество
организованно и дисциплинированно, подобно
войску. Воин дает присягу, монах — обеты. Воин
руководствуется армейскими уставами, в церкви — это
богослужебные уставы и своды правил, по которым
живет монастырь.
Монашествующие разделяются на три степени.
Первым шагом на нелегком монашеском пути было
послушничество. Оно состояло в подчинении уставу
и исполнении различных послушаний. Всякое дело
в монастыре, будь то поочередное чтение Псалтири,
торговля свечами, работа в огороде или контроль
над теми, кто там трудится, и т. д., называлось
„послушанием". Не всякое послушание назначается
послушнику. Его дело — „черные" послушания,
тяжелые, трудные и неприятные: уборка мусора,
хозяйственные, кухонные и тому подобные работы,
понятные из самого названия (отсюда пришло слово
„чернорабочий"). Послушания „белые" в
основном состояли из контроля за теми, кто трудится,
необременительного наблюдения за паломниками,
248
порядком в храме, продажи икон и крестиков.
Здесь послушенство несут монахи.
Послушника обычно постригали в рясофоры.
Официально это называется „последование
пострижения в рясу и камилавку" и монахом не делает:
обеты еще не даны, и рясофор обычно мог
покинуть монастырь без особых осложнений. Права
голоса в монастыре послушник не имеет и,
работая за кусок хлеба и кров, бесправен, по
существу.
Внешне такой рясоносный послушник в
будничной обстановке неотличим от монаха: подрясник и
камилавка.
Синодальные правила определяли срок послу-
шенства в три года. После этого достойных
постригали в монахи1.
А завтра я дрожащими устами
Произнесу монашества обет.
Я в божий храм, сияющий огнями,
Войду босой и рубищем одет, —
писал А. Апухтин о некоем романтическом герое
(„Год в монастыре").
У поэта послушник сбежал из обители. Но тот,
кто не сбегал, действительно входил в храм без
обуви и пояса, как продолжал Апухтин:
...если я произнесу обет,
Мне в мир возврата больше нет.
Пострижение во вторую степень монашества,
в малую схиму, нами описано. Но этого монаха
называют не схимником, а просто монахом или
монахом манатейным (носящим мантию).
Только монаха третьей, высшей степени
называют схимником. Пострижение, сходное с описанным
нами, но схимник не повторяет обетов — они уже
даны, лишь берет какой-либо дополнительный
„подвиг", еще более отгораживающий его от мира,
например молчальничество, усиленную молитву или
строгий пост. Схимник обычно отшельничает, уходя
1 Все законы и правила церкви и государственные
законы России относительно монашества содержат оговорки,
позволяющие поступать так, как бы этих законов и вовсе
не существовало. Оговорки сводятся к единственному
правилу: власть „начальствующих" неоспорима и будет так,
как решат иерархи. В монастыре — настоятель. Постриг он
может разрешить хоть в первый день. Причины вольностей
с канонами станут ясны далее.
249
в затвор, где жизнь его
становится обособленной и
уединенной. При
пострижении в схиму дается новое
имя. Как правило, оно
начинается на ту же букву, что и
прежнее.
Церковными законами
минимальный срок перехода
из малой схимы в великую
определен в четыре года.
Цвет всех одежд со
временем установился черный.
Только митрополиты (а в
древности только
патриархи) носят белый клобук.
Одежда конечно же, по
известной поговорке, не делает
монахом, но одеяния
монашества, как всякая форменная
одежда, призваны
демонстрировать миру и воспитывать
Портрет молодого монаха. в самом иноке определенные
С картины п. Д. Корина. жизненные ценности,
определенное мироощущение.
Монашеский костюм — своеобразный
мистический аналог воинской формы. Постригаемого
перепоясывают — знак готовности к службе, к
подвижничеству, на него сперва надевают особый „плат"
(перевязь через плечи с крестом по спине),
называемый параманом, это символ „язв Христовых",
распятия, чтобы напоминать иноку о том, что отныне
он во всем должен следовать Христу. Затем
подрясник, поверх всего широкая мантия — плащ без
рукавов — закрывает всю фигуру, — символ того,
что инок от мира отделен и „все члены его для
мира мертвы". На голове монаха клобук. Это
священническая камилавка (род цилиндра без
полей, слегка расширяющегося кверху), но
камилавка, покрытая платком, разделяющимся сзади
на три конца (воскрылия). Монашеская
камилавка черная, в отличие от фиолетовой, которую
носит белое священство. Обут монах в
сандалии — название традиционное, на Руси „сандалиями"
были и лапти, и сапоги, в зависимости от средств
и обычая.
250
Одежда схимника (ее тоже
называют схимой) еще более
мрачна. Вместо парамана —
другой „плат" — аналав,
носимый поверх подрясника.
Он длинным передником
опускается донизу. На анала-
ве изображены
восьмиконечные— „голгофские"— кресты
с подножием и черепом
„адамовой головы", орудиями
страстей и текстом молитвы.
На голове схимника не
клобук, а куколь —
остроконечный капюшон, глухо
покрывающий голову и плечи. На
нем также изображен крест.
Так, в мантии, надрезав ее
полосой, которой
обертывается тело, монахов и
погребают.
Одежда монахов и
монахинь практически одинакова. Схимоигуменья Фамарь.
Она — символ девства — „бес- скартины П. Д Корина.
полая".
Форма регламентирована до мелочей. Если
„мирская" одежда у мужчин традиционно застегивается
на правую сторону, то пуговицы у монахов исстари —
слева. Стремление символом подчеркнуть „ина-
кость"? Напоминает игру? Да. Какой-то частью
педантичная забота о мелочах смыкается с игрой.
Впрочем, это характерно для замкнутых
корпораций, а корпоративный дух в монашестве особенно
силен. Форма выявляла в нем „воинство",
сплачивала ряды. К тому же своей необыденностью она
вселяла суеверное почтение в паломников:
действительно, особенным и не от мира сего казался
человек, так по-особому одетый. Костюм „отказа от
мира" успешно исполнял ролевую функцию. Все
это небезразлично и в самовоспитании монашеской
братии.
Схоластическая символика принимается не как
формальная, а всерьез: инок „ополчается на битву
духовную", на борьбу с собственными греховными
помыслами и бесами, которые нагло кишат во всем
монастыре и в его собственной одинокой келье.
251
Чтобы откреститься и
отмолиться от главных
врагов своих, появляется этот
род маскарадной игры,
в которую играют
взрослые бородатые мужчины.
Возможно, что психика
человека, лишенного
нормального человеческого
общения, затевала
такую странную на первый
взгляд костюмированную
игру — бой с тенями, став-
Великий постриг. шую мистическим ритуа-
С картины М. В. Нестерова. лом черного духовенства.
Противник монаха,
Сатана, тоже выступает в костюме-маске. Бесы,
расхаживавшие по церкви Печерского монастыря,
были одеты в польские костюмы, то есть выступали
в масках еретиков. Булгаковский Бегемот — демон
в образе кота, наряжаясь на бал Сатаны, явился без
штанов, но в белом фрачном галстуке. „Штаны
коту не полагаются", — объяснил он. Это
антикостюм, в котором выступает „враг". Облачение
монаха — антикостюм по отношению к „мирской
одежде", так что противники борются на равных.
Бегемот из „Мастера и Маргариты" - не только
плод гротескной фантазии писателя. М. А.
Булгаков прекрасно знал христианскую демонологию,
и костюм кота не случаен.
„Бесоборчество" чем-то близко средневековому
шутовству и скоморошеству городских площадей,
карнавалу.
Вместе с тем костюм и внешнее поведение
монаха имели смысл не только декларативный, но и
организующий духовный мир инока. Особое внимание
уделяют церковные воспитатели стилю поведения.
Походка должна быть неспешной, идти нужно с
опущенными глазами, по сторонам не смотреть, не
размахивать руками. Братия в строю чинно и плавно
„течет", применяясь к „головщику" —
направляющему. Она должна представлять собой „единое
тело". Такая согласованность должна серьезно
образумить беса, чтобы он хорошенько подумал,
прежде чем напасть на столь организованное воинство
Христово. Но гораздо большее впечатление эта
252
стройность производила на умиляющихся
богомольцев. На что тоже был свой расчет.
„Взор печальный и потупленный в землю,
внешний вид в небрежении, волосы непричесанные,
одежда немытая" — так должен был выглядеть
монах, по Василию Великому. Он требовал, „чтобы не
было у вас наготовлено одежд напоказ", а монах
не „уподоблялся бы богачам, облекающимся в
мягкие одежды". Монах, по словам другого чтимого
аввы, „должен такие ризы носить, что, кинь их на
улицу хоть на три дня, и никто не возьмет...".
Требования личного самоуничижения, которое
проявлялось бы в манере держать себя, в одежде,
постоянно встречается в иноческих наставлениях.
Нетрудно представить себе душевное состояние
человека, который понуро опустил голову, как бы
не замечая или действительно не замечая
окружающее. Впечатление, которое производит подобная
фигура на паломников, учитывается и
пропагандистски используется монастырем. Вид такого инока
влияет не только на богомольцев, умиленных
картиной „отрешенности от земного". Хорошо
известное психологам „взаимное заражение" действует
и на братию. Система привычных упражнений,
выработка определенных стереотипов поведения
призвана ввести человека в рамки заданного образа
идеального монаха. Здесь много от театра, так
ненавидимого церковью. Иночество понимало, что между
состоянием души, психической деятельностью и ее
внешними проявлениями существует обратная
связь. Внешнее поведение помогает созданию
определенного душевного настроя. (Это хорошо
известно и актерам, и спортсменам, и педагогам, и,
наконец, людям, занимающимся аутотренингом.) В
монахе все — от уставных одежд до уставного
поведения, походки, выражения лица и т. д. — способствует
формированию религиозного мироощущения и
миропонимания. Видимо, одежда тоже делает монахом!
Но в монастыре любая, даже здравая, мысль,
пройдя религиозную апробацию, сама становится
„мнимой ценностью", приобретая лишь
противоположный знак: „инакость". В борьбе с показной
выразительностью одежды, „суетной модой" и т. д.
монашество, оказывается, утверждало у себя именно
выразительность костюма. „Там" одежды ярки,
„тут" - черны, „там" — дороги и мягки, „тут" —
253
дешевы и грубы. Напомним деталь из „Волков и
овец" А. Н. Островского. Одна из „овечек" этой
созданной на известных фактах антицерковной
пьесы резонно рассуждает об особой, выражаясь
современным языком, „сексуальности" простых,
темных и выразительных одежд монахинь.
Предъявляя одежде и стилю поведения многочисленные
и придирчивые требования, само монашество
оказалось столь же суетным, как и обвиненный им мир.
Сутки монастыря
Инок принял обеты и с этого момента подчинен
не только им, но и полной регламентации
поведения до мелочей, до самых порой интимных сторон
жизни.
В свое время преподобный Феодосии запросил
монастырский устав из Константинополя. Ему
привезли устав аввы Федора, игумена греческого
Студийского монастыря, отличающийся пространной
дисциплинарной частью. Трудно* сказать,
применялся ли устав Федора Студита во всем объеме в таком
сложном, боярском и дружинном монастыре, как
Киевская лавра, но русские монастыри первых
веков опирались именно на него. С середины XIV века
на Руси распространяется Иерусалимский устав.
Его дисциплинарная часть была невелика, и он
быстро вытесняет Студийский устав. Однако в
монашеской традиции — а формальное ее соблюдение
для монастыря — вещь чрезвычайно важная —
сохраняли и некоторые положения Студийского
устава. Игумены, стремившиеся жестко
дисциплинировать братию, особенно удерживали его букву. Еще
в конце прошлого века в двух-трех скитах монахи
утверждали, что живут по строгому Студийскому
уставу. Но соблюдалась только внешняя —
„театральная" — его сторона. Уставы сочетались по воле
игуменов, передавались из монастыря в монастырь,
от учителя („старца", „отца", „аввы") к ученикам
и последователям, изменялись, дополнялись.
Вводились и „новации" из практики собственных
обителей и из традиции восточного (египетского,
палестинского, сирийского и особенно афонского)
монашества. Казалось бы, должна сложиться весьма
пестрая картина. Но, повторим, традиция - особая
254
сила монашества. Сила консервативнейшая.
Традиция, где „мертвый хватает живого", традиция -
„кошмар над умами живых" — одна из самых
существенных сторон религиозной идеологии. Всякое
новшество для нее разрушительно, поэтому любые
нововведения должны вписаться в традиционные
структуру и форму. Новшества, как во всякой
догматической системе, обосновывались ссылками
на непререкаемый авторитет церкви, цитатами из
трудов отцов церкви и деятелей древнего
монашества - так сохранялась видимость нерушимой
системы. Одновременно „новатор" ссылкой на
очередного преподобного уберегался от многих
обвинений. Это проясняет нам принципиальную
застойность религиозного мышления при внешней
цельности системы, глубинную неспособность принимать
новое.
В критике монашества его догматизм позволяет
нам опереться на материал многовекового
прошлого и в ряде случаев, сопрягая далекие эпохи, не
нарушать принципов историзма.
Если пренебречь частными отличиями, то
уставный распорядок дня выглядит примерно так: около
полуночи — это монастырское утро — специальный
„будильщик" обходит кельи и поднимает иноков.
По сигналу колокола все идут в храм, где
начинается служба полунощницы. После нее следует
поучение настоятеля или кого-либо из „старшей братии"
на тему: „Служба наступившего дня". Затем монахи
возвращаются в кельи, но уже не для сна. Они
выполняют так называемое „келейное правило",
состоящее из определенного числа поклонов и молитв.
В пять утра колокол снова созывает на службу.
После литургии монахи идут в трапезную. Здесь им
дается хлеб и квас. (С конца XIX века почти
повсеместно вместо кваса пили чай.) Затем все расходятся
на послушания, и колокол собирает иноков около
полудня к обеду. Затем снова послушания до двух-
трех часов дня (по церковному счету, это девятый
час), и снова сбор - служба в храме, вечерня. Это
час-полтора. Из храма в трапезную на ужин и снова
в церковь на так называемое „общее правило" —
те же поклоны и молитвы. Отбой, когда монахов
распускали по кельям, примерно в семь вечера.
Можно спать. Около полуночи снова пройдет
„будильщик" и начнется новый день.
255
Словом, на сон по уставам отводилось не более
пяти-шести часов (правда, монах мог подремать
в келье перед литургией, но это уже нарушение —
он, значит, небрежно отнесся к своему „келейному
правилу"). Приход в церковь и участие в общем
богослужении всеми уставами подчеркиваются как
строжайшие и непременные обязанности. Не
можешь стоять, ослаб — сиди; не справился со сном —
подремли, но обязательно присутствуй в храме.
Пять-шесть часов в день отводилось на различные
послушания. Остальное время занимали трапезы и
молитвы. Общими для большинства монастырей
были длительные службы и „правила". В обителях
строгого устава на молитвах и послушаниях монах
проводил до 12 часов ежедневно. Во многих же
монастырях рядовая братия — по сути, рабочие
монастырских мастерских, сельскохозяйственные
рабочие и прочие — проводила по 12 и даже по 14 часов
в работе. За них молились другие.
Проследим, как и что регламентирует устав в
поведении монаха. Та же трапезная. Вход в нее —
строем. При входе уставные „метания" (от греческого
„поклон", „раскаяние". Термин существует в
православном монашестве и сохраняется в
старообрядчестве). Первый поклон — иконе (в монастыре икона
всегда на виду), второй — братии, что стоит справа,
третий — тем, кто слева. У стола становятся по
старшинству. Садятся по команде настоятеля. Пока
стоят, поют молитву. Назначенный чтец спрашивает
настоятеля: „Благослови, честной отче, прочесть
житие..." (обычно того, чья память празднуется
в этот день). Настоятель отвечает: „Молитвами
(называет имя святого), господи Иисусе Христе, сыне
божий, помилуй нас..." — и после заключительного:
„Аминь!" — снова читается молитва, и настоятель
спрашивает у братии благословения на пищу. Иноки
хором отвечают: „Бог благословит!" Настоятель
командует: „Принимайтесь!" Однако приниматься
пока не за что. Принимаются вносить чашки с едой.
Обычно в уставах: „чашка на четверых". В каждой
четверке свой старший, который первым
зачерпывает и, если ему кажется недосол, сам и подсолит.
Остальные не должны выражать ни желаний своих/
ни отношения. Мелочные детали, но существенные.
(Их, впрочем, не следует абсолютизировать. В
Невской лавре братия ела на фарфоре, с крахмальными
256
салфетками. Прибор был серебряным. Из одной
общей чашки тоже давно не едят. Дело не столько
в уставе монастыря, сколько в самом монастыре.)
На стол облокачиваться и класть на него руки
нельзя. Дело не в светских приличиях, которые
иночество отбрасывает с порога как мирское
заблуждение: инок не должен увлекаться едой, а
помнить, что не для удовольствия пришел в
трапезную, а единственно для поддержания тела. Равно
нельзя заглядывать в миски к соседям, тянуться
к хлебу прежде старшего — это проявления
завистливости и жадности. Нарушившие правило
должны быть наказаны или после трапезы, или
немедленно. Ставили на поклоны тут же (трапезная вообще
место публичного наказания), что позорно, и
вдобавок — пропадал обед. Древние уставы советовали
так надвигать на лицо куколь или концы клобука,
чтобы видеть лишь свою чашку... Разговаривать
нельзя: нужно слушать чтение жития. Удар в
колокол — перемена блюда. Три удара — все разом
встают. Еда закончена. Снова уставные слова молитвы
„братия благодарит бога за пищу", поклоны. Че-
редной послушник обходит столы и собирает
оставшиеся куски хлеба — „укрухи". Их должно раздать
нищим. Когда-то так и поступали. Это считалось
благотворительной деятельностью обители, „нищелю-
бием", входило в число добродетелей, с помощью
которых монахи заслуживали царствие небесное.
Выход из трапезной также строем. Повар и
прислуживавшие просят прощения у настоятеля. Если
упущений не замечено, он благословляет каждого
со словами: „Бог простит". Иначе назначается
наказание (епитимья). По некоторым старым уставам
повар и трапезные монахи должны просить
прощения у выходящей братии, распростершись ниц...
Строй, во главе с настоятелем и иереем, несущим во
главе шествия икону, направляется в церковь.
Звонари на колокольне следят за церемонией, и
шествие идет из трапезной под колокольный звон. (Это
по праздникам. В будни проще: икону, например,
не несут.)
Столь же подробный чин соблюдался при всех
монастырских делах: замесила братия хлеб —
иеромонах в епитрахили благословляет квашню; читается
несколько молитв, в их числе и специальная —
„на благословение хлебов"; муку кропят святой
1 7 Г. Прошин
257
водой; огонь для печи берется от неугасимой
лампады, что всегда горит перед чтимым образом.
Еще более строго регламентировано участие в
богослужениях. Подойдя к храму, монах уже на
паперти совершает три уставных метания и читает
молитвы о милости к нему лично, о прощении его
бесчисленных согрешений, просит заступничества
небесных покровителей. На входе в храм еще три
поклона с теми же молитвами-прошениями. Далее
два поясных поклона в самом храме: братии и
богомольцам. Если богомольцев на службе нет, оба
поклона кладутся братии. Кланяющийся должен при
этом мысленно просить у них прощения своих
грехов. Оговорен и вход в пустую церковь: кланяться
все равно следует — ангелам, которые „всегда
присутствуют в храме". Постепенно монах все же
продвигается к своему месту. Там он повторяет три
начальных поклона и те же молитвы. Это —
„начальное правило". Далее еще несколько молитв и
поклонов: „семипоклонный начал". Ошибаться
нельзя, а количество поклонов и то, будут они земными
или поясными, зависит от места, где они
совершаются, адресата, дня недели — постный он или
праздничный. В разные посты и разные праздники свои
различия.
Ряд праздников подвижен и влияет на весь
годовой цикл богослужения. Система оказывается
весьма сложной. Знание ее — это и есть истинная
„монашеская наука". Это не „внешние науки", которыми
пристало заниматься в грешном миру. Монашеская
наука — высшая, от соблюдения ее правил зависит
спасение души. Современный служитель культа
возразит, что церковь никогда не призывала к „об-
рядоверию". И тем не менее все упирается в
соблюдение обряда. Если чернец или послушник
невнимательны к службе, упустили положенные поклоны и
т. п., не придают им должного значения, то они
грешат и тем душу губят.
В праздники прибавляется служб в храме.
Всенощная, например, начинается вечером и
заканчивается в полночь. После этого — в кельи на „правило",
а рано поутру снова в храм — полунощница,
переходящая в обедню, и далее день идет своим чередом.
После праздничной полунощницы перед обедней
в храме совершается „общее правило". Например,
150 поклонов и 200 молитв Иисусовых. Служба
258
меняется день от дня по церковным „кругам
богослужения" — суточному, недельному, годовому. Все
это монах должен помнить накрепко. От этого
зависит спасение души.
Назначенные на трудовые послушания, например,
в монастырских мастерских, работу начинают с
молитв, общей молитвой работы и кончаются.
Никаких разговоров, не относящихся к работе, кроме
необходимых при ней, не допускается. Следует
молча и про себя читать молитвы, прежде всего Иисусо-
ву и богородичную. Монах за рабочий день, если он
не идет на молитвы в храм, должен про себя
вычитать всю дневную службу.
Обо всем, что может потребоваться в ходе
работы, — спрашивать у старшего, от работ не
отлынивать. Все уставы напоминают: „Не работающий, да
не ест" — из Апостола. Наказанием за небрежность и
лень могли быть сухоядение и просто лишение пищи,
на этот день — обычные наказания — и все другие
меры монастырского принуждения по нарастающей.
Уставы указывали „четыре дороги", вне которых
инок не должен был проявлять себя: в храм, в
трапезную, на послушание, в келью. Но монах в келье
должен выполнять личное „келейное правило". Оно
состоит из определенного каждому иноку
количества земных и поясных поклонов и молитв
Иисусовой и богородичной. Для схимника — 600 молитв
и 400 поклонов. Так называемое „тысячное
правило". Простому монаху норма уменьшается,
послушнику снижается еще больше, доходя до 50 поклонов
и 100 молитв. Уменьшено „правило" и в женских
монастырях. Однако это „меньше" в монастыре не
означает „лучше". Постоянный пример церковной
литературы — святые, подвижники, изнурявшие
себя поклонами и молитвами. Они и должны были
служить образцом для подражания. Монашество
в целом никогда не соблюдало такой жесткой
регламентации, речь идет, повторяем, об „иноке
идеальном" — аскете и фанатике. Таким и „тысячное
правило" казалось недостаточным. Даже в начале
нашего века в укор ленивым монашествующим ставился
пример афонских отшельников, которые
выполняли „правило семитысячное".
„Келейное правило" согласовывается с
духовником и не должно быть никому, кроме него,
известно. И здесь монах полностью от него зависел.
259
Келья аскета. Реконструкция в Государственном музее
истории религии и атеизма. По строгим аскетическим уставам
монах не должен держать в келье ни имущества, ни пищи.
Его единственное занятие — молитва. Строго говоря,
он не должен был иметь и чашки с водой, а пить во время
разрешенных уставом выходов из затвора.
„Правило" можно было и облегчить, сведя к чистой
формальности, дать выспаться, а можно было и
увеличить, доводя инока до полного изнеможения.
Современное монашество выполняет „посильное", то
есть не слишком обременительное правило.
Необходимо постоянно „творить молитвы", в первую
очередь короткую, но, по уверениям монашества,
„весьма действенную" молитву Иисусову: „Господе,
Иисусе Христе, сыне божий, помилуй мя!" Твердить
ее десятки и сотни раз подряд (для счета монах
носит на руке четки) — занимать ум непрерывным,
одуряющим повторением текста, однако делать это
не механически, а „осмысленно, прочувствованно".
Все время сознание должно быть занято этой
молитвой, — это спасает душу. Ничто мирское
не должно отвлекать. Мирское — от дьявола.
Одна из монахинь обратилась к оптинскому
старцу Анатолию с просьбой разрешить ее духовные
сомнения. Она писала: „Я ничего не делаю, чем же
спасу душу?" — искренне полагая, что „монашество
подразумевает какие-то добрые дела". Старец отве-
260
тил: „Да разве нас могут спасти наши ничтожные
добродетели? Разве не помнишь слова божий: вся
правда человечья перед богом есть рубище жены
нечистыя?" И закончил так: „Зри и считай свои
грехи, и господь не оставит тебя никогда". В
аналогичных обстоятельствах тот же Анатолий давал и такой
совет: „Самое важное — молитва Иисусова. Не
требуется ни книг, ни свечей, ни времени. Сидишь,
ходишь, ешь, лежишь (не правда ли, великолепный
распорядок дня? Анатолий знал, кому пишет), а
сама все: „Господе, Иисусе Христе, сыне божий,
помилуй мя!" Монашество было последовательным.
Действительно, ничего иного от монаха, „отрекшегося
от мира", церковью не требовалось. На этом тезисе
и строилось воспитание истинного подвижника.
Как видно даже из нашего краткого очерка
уставного распорядка дня, регламентация поведения
и четкая очерченность круга деятельности
практически полностью исключали какого-либо рода
самостоятельные действия и самостоятельную оценку
происходящего, а тем более принятие
самостоятельных решений. Сознание постоянно сталкивается
с регламентированной повторяемостью, всегда
заполнено уставной деятельностью и занято молитвой,
постепенно застывает, костенеет. Заранее
предписанные реакции складываются в систему, в которой
подавляются и мысли, и воля, и чувства. Все
постороннее со временем начинает вызывать в монахе
страх и растерянность, желание укрыться в
привычный мир молитвы.
Так мир монастыря подавляет человеческую
личность.
Система контроля
Монах — всегда и весь на виду. Но этого мало. В
монашестве сложилась эффективная система
контроля. Она позволяла наблюдать не только внешнее
поведение и внешнее усердие в молитвах и
„правилах". Система позволяла глубоко проникнуть во
внутренний мир инока, всесторонне воздействовать
на него, формировать его личность. Настоятель,
келарь или духовник — кто-то непременно обходит
кельи ночью. Следили, как выполняется „келейное
правило". Еще Феодосии Печерский прислушивался,
не спит ли монах, молится ли, или — что скверно! —
261
в келье у него посторонние. Тогда, стукнув в дверь,
Феодосии уходил. Меры исправления
откладывались до утра. Этот ночной обход вошел в традицию.
Так же поступали Сергий Радонежский, Иосиф Во-
лоцкий.
Инок-„будильщик" не только поднимает на
храмовую службу: он обходит кельи, чтобы кто-то не
остался подремать. О таких он сообщает
настоятелю. В храме за поведениям братии наблюдает
уставщик, за хором — регент|Оба тут же заметят, кто
отсутствует. И тоже сообщат настоятелю. Епитимья
будет назначена обоиД, проспавшему и „будиль-
щику", если тот не успел донести.
При нарушении порядка в храме уставщик и
регент сами налагают епитимью. Если их власти
недостаточно — докладывают настоятелю. В трапезной
и на послушаниях за иноками следят специальные
старцы, у ворот — привратник, или, по старой
традиции, „отец-вратарь", не выпускает без приказа
настоятеля. В гостиницу монастырскую — а она всегда
за пределами ограды — ходить нельзя. В
обязанности брата-гостиника входит гнать проникших туда
монахов и докладывать настоятелю. За всеми
вместе и каждым отдельно наблюдают сам настоятель,
благочинный и духовник. Духовник исповедует
всех монахов обители.
Сопоставление наблюдений раскрывало много
больше того, что сообщали о себе самые искренние
иноки. Духовник в любой момент мог превратить
исповедь в перекрестный допрос. Духовник и
благочинный обязывались Синодом вести дневниковые
записи поведения монахов. Отдельные тетради
рекомендовалось заводить старцам,
монахам-наставникам, которым поручалось наблюдение и
руководство другими монахами, или проштрафившимися,
или требующими по каким-либо причинам особого
контроля послушниками в их подготовке к
принятию пострига; новоначальными монахами, которых
следовало наставлять с особым вниманием.
На миниатюрах древних рукописей, в
исторических романах и на листах иллюстраций к ним и т. п.
привычно видеть фигуру монаха, склоненного над
книгой с пером в руке. Вспомните хотя бы
скульптуру Нестора-летописца работы М. Антокольского.
В общественном сознании сложился стереотип
монаха-книжника. Что ж, в средние века перо истори-
262
ка, публициста, литератора, законодателя,
государственного деятеля нередко оказывалось в руке
монаха, но стереотип — неверен. Книжность
монашества — дело избранных единиц. Иноческой массе,
даже „письменной", монастырь запрещал браться
за перо, во всяком случае, самым строгим образом
контролировал каждую написанную монахом
строку. Многие уставы категорически требовали, чтобы
монах в келье не держал ни чернил, ни бумаги —
наказывали. Если же „кто в келье будет писать
запершись", то кара становилась суровой.
В Новое время в уставе Александро-Невской
лавры этот пункт повторен и подчеркнут. Позднее, уже
по уставам духовных консисторий, запрет всякой
переписки без ведома игумена распространялся на
все монашество. Дозволенная же переписка шла
не только с ведома игумена, но им прочитывалась
вся корреспонденция — и та, которая шла из
монастыря, и та, которая шла в монастырь. Игумен
имел право просто изъять любое письмо, которое
считал „неполезным". Это было еще одним важным
средством контроля за иночеством. Сомнительная
честь первых перлюстраций писем принадлежит
монашеству.
Словом, монастырь устроен так, что под
контролем оказывается каждый шаг монаха.
Многовековая практика выработала технику наблюдения за
внутренним миром человека, технику молчания,
искусство скрывать мысли и искусство выявлять
их, познавать глубины душевного мира. Все нити
наблюдений сходились к настоятелю. И нужные
воспитательные меры определялись и применялись.
Сомнительная честь изобретения досье на
инакомыслящих также принадлежит монашеству. Мало
этого: в монастыре наблюдать должны были все за
всеми. Точнее, вся братия друг за другом.
„Обличи грехи брата твоего", — ссылаясь на
священное писание, требовали власти монастыря. По
правилу Василия Великого, кто „не открыл грех
брата" настоятелю, тот разделил его проступок и
должен понести равное с нарушителем наказание.
Важнейшие же побудительные причины
подсказывало само религиозное сознание. Без доноса
получается тройной грех: во-первых, разделил грех
брата; во-вторых, погрешил против послушания,
ибо доносить приказано; в-третьих, оставил брата
263
на пути дальнейшего греха, что приведет к погибели
его души, да и собственной тоже. При таких
мотивах донос становился не только уставной
необходимостью, но и добродетелью. „Обличение грехов" —
обычное дело в монашестве, и уже первый русский
Патерик1, правда без особого восторга,
рассказывает о старцах, обличавших братию.
Однако наблюдать за начальством или, что вовсе
недопустимо, „обличать" его считалось тягчайшим
грехом. Валаамский игумен Дамаскин раздраженно
писал о монахе, которому он сделал выговор.
Монах жаловался братии: „Хотел я ему ответить, да
побоялся... сами-то они как живут? Им бы на себя
надо оглянуться, а не других упрекать..." Жалобщик
„обличал", вероятно был прав, но у игумена подход
уставный: „Кто противоречит настоятелю, тот
дьявола в себя вселяет". И даже прямо: „Антихрист
есть!" Далее следовали нужные выводы и
дисциплинарные меры исправления новоявленного
„Антихриста".
К слову, Дамаскин, прозванный „Аракчеевым
в рясе", смирять умел. Епитимьей могла стать
многолетняя работа на Валаамских гранитных ломках,
многолетнее молчание и т. п.
ОТСТУПЛЕНИЕ ОТ ТЕМЫ
По монастырским уставам
Если вспоминать о той роли, которую сыграло
монашество прошлого в жизни народа, в общественной
жизни России, то как миновать одну своеобразную
форму влияния монастыря на жизнь, влияния
сильного и долговременного?
Уставная упорядоченность жизни и деятельности
черного воинства была в значительной части
перенесена в быт крепостнической России. Монастырь
стал примером и образцом организации
помещичьего хозяйства. Мы обычно по литературе прошлого,
мемуарам и романам историческим представляем
себе, как крепостные работали на барина, — это
1 Патерик от греч. „отец", откуда русское название
„Отечник" — сборник рассказов о монашеском
подвижничестве, жизни отшельников и т. д. Первый русский
Патерик — Киево-Печерский — создан в XIII веке.
264
и называлось „барщиной", со школьных лет
помним радищевскую встречу с барским крестьянином,
который на барина работал шесть дней в неделю,
а свое поле пахал в воскресенье. На вопрос же, как
успевает он кормить семью, если для своей
работы остаются лишь праздники, отвечал писателю
с мрачным сарказмом: „Не одни праздники, и ночь
наша" („Путешествие из Петербурга в Москву".
Глава „Любань").
Была еще одна форма барщинного труда. Это
„месячина". Чаще всего ее устанавливали для
дворовых. Они вообще лишались земли и получали раз
в месяц продукты, иногда одежду. Все их время
принадлежало господам. Часто бывало так, что
дворовых (особенно в городах, но и в селе тоже)
поселяли в общую казарму. Собственность, даже
личная, отсутствовала полностью, кроме разве
тельного креста. Кормили из общего котла;
подъем, работа, пища и сон по команде, по заведенному
порядку. Не правда ли, напоминает монастырь?
Уставов, правда, не было. Впрочем, для
помещиков были наставления. Разные. Сделаем выборки
из одного, достаточно известного: „Возьмись за
дело помещика, как следует за него взяться в
настоящем и законном смысле. Собери прежде всего
мужиков и объясни им, что такое ты и что такое
они, — что помещик ты над ними не потому, чтобы
тебе хотелось повелевать и быть помещиком, но
потому, что ты уже есть помещик, что ты родился
помещиком, что взыщет с тебя бог, если б ты
променял это звание на другое, потому, что всякий
должен служить богу на своем месте, а не на чужом,
равно как и они также, родясь под властью, должны
покоряться той самой власти, под которою
родились, потому что нет власти, которая бы не была от
бога. И покажи им это тут же в Евангелии, чтобы
они все это видели до одного.
Потом скажи им, что заставляешь их трудиться
и работать вовсе не потому, чтобы нужны были тебе
деньги на твои удовольствия... но что потому ты
заставляешь их трудиться, что богом повелено
человеку трудом и потом снискивать себе хлеб, и прочти
им тут же в святом писании, чтобы они это видели.
...И все, что им ни скажешь, подкрепи тут же
словами писания, покажи им пальцем и самые буквы,
которыми это написано, заставь каждого перед тем
265
перекреститься, ударить поклон и поцеловать саму
книгу, в которой это написано.
Учить мужика грамоте затем, чтобы доставить
ему возможность читать пустые книжонки, которые
издают для народа европейские человеколюбцы,
есть, действительно, вздор. Главное уж то, что у
мужика нет вовсе для этого времени. После стольких
работ никакая книжонка не полезет в голову...
Деревенский священник может сказать гораздо
больше истинно нужного для мужика, нежели все эти
книжонки. Если в нем истинно уж зародится охота
к грамоте, и притом.., чтобы прочесть те книги,
в которых начертан божий закон человеку, — тогда
другое дело. По-настоящему ему (народу. — Г. /7.)
не следует и знать, есть ли какие-нибудь другие
книги, кроме святых'.'. И т. д. и т. п.
Не хочется, ах как не хочется называть автора
этих поучений! Но — слова не выкинешь... Это
Н. В. Гоголь, печально известные „Выбранные места
из переписки с друзьями". Мы знаем, что последние
годы великого писателя прошли под сильным
влиянием церкви, православной мистики. Но как дышит
монастырем каждая строка и как это не похоже на
Гоголя „Мертвых душ", „Ревизора", „Невского
проспекта", „Тараса Бульбы"! Нет, Гоголь-писатель
не имеет отношения к этому тексту, бесконечно
далекому от его мира чувств и мыслей. Эти
страницы — беда писателя, трагедия, которую сам он
переживал мучительно. Здесь уместно старое
слово: „наваждение" — иначе не назовешь, и это как
шрам на прошлом нашей культуры — уже не больно,
но память осталась.
Гневен и точен был ответ В. Г. Белинского:
России „нужны не проповеди (довольно она слышала
их!), не молитвы (довольно она твердила их!), а
пробуждение в народе чувства человеческого
достоинства..."
Монастырские приемы воспитания существовали
вне монастыря и в казенных учебных заведениях.
Многие приемы „силовой педагогики" прошлого
выработаны в келейной тиши. В закрытых
училищах России существовали те же наказания, что
и в монастырях. Это и обед стоя, когда все сидят,
оставление без обеда или какого-либо блюда за
обедом. „В угол, на колени" — применялось в
школьной практике вплоть до Октября.
266
В некоторых монастырях инок, взявший
что-либо, хотя бы и действительно нужное, „без
благословения", ложку ли за столом до команды или хоть
веник, должен был, нацепив эту вещь на себя,
носить ее до вечерни или „доколе настоятель
разрешит". Так позорили и в некоторых закрытых
(и привилегированных) учебных заведениях.
Тот, кто побывал в Лицее, где учился А. С.
Пушкин и где теперь музей поэта, помнит коридор этого
здания, ряд дверей, ведущих в комнатки лицеистов.
Это подобие монастырских келий, и не только
в простоте убранства, а — характерная
конструктивная деталь — комнатки сдвоены. Каждые две
соседние разделены стеною, немного не доходящей до
потолка. Затем глухая стена и следующая пара
комнат, снова разделенных только высокой
переборкой. В очень старых иноческих поучениях так
строить кельи рекомендовалось в монастырях, где
воспитывались дети. Общаться можно, но
непосредственный контакт исключен. Можно
переговариваться, но нельзя пошептаться. Наконец, из одной
кельи можно было понять, что происходит в
соседней, и при этом остаться незамеченным...
Иночество умело разрабатывать ненавязчивые системы
контроля.
И „в моей пустынной келье", пожалуй, не
только образ, игра юного поэта, а в чем-то и реальность
Царскосельского лицея...
Нетрудно найти и другие примеры.
Преимущественно они будут связаны с методами
духовного подчинения. Те, кому требовалось
поставить личность под контроль, пользовались богатым
и проверенным опытом иночества.
Киновия. „Три обета спасения"
„Хочу жить для бессмертия, а половинного
компромисса не принимаю" — эта мысль привела в
монастырь Карамазова-младшего. Алеше, уверовавшему
вполне и убежденно, „казалось даже странным и
невозможным жить по-прежнему" (Ф. М. Достоевский,
„Братья Карамазовы").
Идеалы монашества рельефнее всего выступают
в киновийном (общежительном) монастыре и такой
267
разновидности его, как скит, — место, где спасение
души проводится в аскетических формах
отшельничества.
Исходя из ошибочного противопоставления
плоти и духа, монашество полагало, что спасение души
достигается максимальным отказом от
„плотского", ограничением потребностей. Плоть смиряли
прежде всего постом. Средство действенное. Пост
призван ослабить тело, чтобы легче подавить
естественные потребности человека, а главное, его
стремление к жизни.
...Приходит к аскету юноша. На первый раз
отшельник дал ему хлеба вволю, и юноша съел
полторы ковриги. На следующий день аскет дал ему
целый хлеб, а полхлеба разделил еще раз пополам.
Получилось две четвертинки. Одну из них отшельник
прибавил к хлебу юноши, а вторую еще раз
разделил пополам и прибавил ученику одну из
получившихся восьмушек. Следовательно, юноша получил
на второй день 1% от вчерашнего. И каждый
следующий день аскет делил хлеб, убавляя по % доле,
пока на весь день не осталась единственная
восьмушка каравая. Результат — „юноша сей был тих..."
В монашестве существовал термин
„запоститься", то есть довести себя слишком строгим постом
до голодной смерти.
Уставная пища скудна не только в пост. Но
обычно она вполне достаточна, и указание „есть почти
до сытости" опытным путем предвосхитило
современные рекомендации диетологов. Более того, в
наставлениях содержатся многие разумные
требования к питанию. „Пришел ли в монастырь инок —
пусть узнает собственную пищу свою. Он утомился
в дороге? Предложи ему столько, сколько нужно,
чтобы возместить силы. Пришел ли кто из мирской
жизни? Пусть получит образец и пример
умеренности в пище", — поучал Василий Великий.
Не требуя аскезы, определяя нужное количество
пищи естественной потребностью организма,
Василий добивался того, „чтобы не выступать из
пределов этой потребности". Он видел опасность поста —
„ослабевшая плоть становится податливее к
дьяволу...". Вопрос не решался однозначно.
Авторитет Василия Великого значил много, но, опираясь
на него, догматическая система веры стремилась
пойти дальше Василия, „превзойти" его в святости,
268
и большинство отцов считало, что чем строже пост,
тем более смиряет он „греховные помыслы".
Держать в кельях пищу запрещалось: „Тайнояде-
ние есть мерзость и мать других страстей", — гласил
Студийский устав, и правило это сохранилось
практически во всех монастырях. Святоотеческие
сочинения объясняли: тот, кто питается сверх уставного,
разумеется, получает больше и лучшей пищи, а
отсюда — прежде всего „распаляется похоть", монахом
начинают овладевать отнюдь не монашеские
помыслы, и, следовательно, все дело спасения идет
насмарку.
За нарушением следовало наказание. Прежде
всего ставили на поклоны — „сколько настоятель
укажет". По иным уставам опоздавший в церковь
должен был остаться вне храма, ждать конца службы и
каждому кланяться, прося прощения. Сверх того
налагалась еще и епитимья.
Студийский устав требовал послушания
мгновенного: колокол собирает на службу — все забудь и
иди в храм. Пишешь ли что, услышал колокол —
брось недописанным на полбукве.
Мелкие нарушения благочиния в церкви:
переходил с места на место, переминался с ноги на ногу,
без нужды вступил в разговор — а нужды
разговаривать в храме устав не знает, — „сухо да яст" (то есть
только на хлеб и воду). Опоздал к общей трапезе—
в трапезную пустят, но „сухо да яст". По уставу
Новгородского Юрьева монастыря опоздавший на
трапезу лишался пищи до следующего дня. Кто
плохо исполняет свои обязанности — „сухо да яст" до
тех пор, пока не исправится. Строго взыскивалось
за небережливость: извели много дров на поварне,
кожи для обуви или переплетов книжных — кроили
неэкономно — все это наказывалось. Наказания шли
по нарастающей. От замечания наедине до
публичного обличения, епитимьи в виде поклонов,
на которые ставили тоже публично в трапезной
или церкви, реже „келейно". Дальше шло
лишение пищи на день, или сухоядение, или заключение
в келье. Срок заключения — „до воли настоятеля".
Наконец, „в одиночную келью, на хлеб и воду —
безвыходно...".
Таковы меры воздействия по отношению к
нерадивым и согрешившим инокам. Дисциплинарная
часть уставов была направлена на то, чтобы монах
269
во всей полноте соблюдал
данные им обеты и не
имел возможностей
согрешить. Примем ее в том
декларативном виде, в
котором ее представляет
монашество. Нам интересен
его декларативный идеал
и тот конечный результат,
которого достигал
благочестивый подвижник,
старец, отшельник,
неукоснительно соблюдая данные
им обеты.
Нестяжание, отказ от
собственности — обет,
практически не соблюдае-
Преподобный „спасается МЬ|~ и этом самый
в дупле . « г
Церковная олеография легкий из данных при по-
конца XIX в. стрижении. Инок,
добросовестно пришедший в
монастырь в поисках „спасения души" (а мы ведем
речь об идеальном монахе), получал все жизненно
необходимое. Прожиточный минимум
обеспечивался уже послушнику, а монах имел отдельную
келью — комнату в братском корпусе, одежду и
пищу. У большинства был келейник-слуга из
послушников.
Во всяком случае, нестяжание — обет простой и
привлекательный. Он не ведет к извращению
естественной природы человека. Значительно сложнее
с обетом целомудрия, „девства". Искушения,
которым подвергается монах, весьма велики. „Иоанн
многотерпеливый" из легенды Печерской лавры
рассказывает о себе молодому монаху, который был
„томим вожделением плотским". Иоанн, тоже
„томимый блудным желанием", чего только не делал
для своего „спасения". По два и три дня оставался
без пищи, а часто и „всю неделю не ел ничего", и
жил так три года, проводил ночи без сна, изводил
себя жаждой и „тяжкие железа" надевал. „Но и так
не нашел покоя". Не помогло и совершенно
изуверское самоистязание: „не в силах терпеть борьбы
с плотью", инок на весь великий пост закопал себя
в яму по плечи, но, — продолжал аскет, — „и тут
не утихли желания плоти моей". В такой борьбе
270
с собой прошло 30 лет. Греховная плоть его
наконец утихла. Было тогда Иоанну уже за пятьдесят.
Труднейший, но и важнейший из обетов —
„превыше поста и молитвы" — послушание. Подчинение
приказу старшего, „начальствующего", должно
было быть абсолютным и немедленным. Послушание —
больше, чем выполнение приказа, это прежде всего
„отсечение собственной воли" во всем, а уж
исполнение совершенно слепое, не рассуждающее, —
следствие. Не рассуждать — особое достоинство
послушания. В церкви популярен древний рассказ о
старце, который велел ученику посадить капустную
рассаду вверх корешками. Ученик подумал, что авва
совсем одряхлел, путает, но, любя старца, не
возразил ему. Капусту же посадил, как следовало.
Прошло время, и старец пошел в огород. Ученик,
ожидая похвалы, показывает ему принявшиеся ростки.
Но наставник оказался очень огорчен:
— Я же велел тебе сажать корнями вверх!
— Но, отче, ведь ничего бы не выросло...
— Ошибаешься, сын мой, выросло бы, выросло
бы твое послушание.
Чтимый аскет Симеон Столпник, как
рассказывают церковные легенды, подвижничеством своим
вызвал сомнения у церковных властей. Не было силы,
которая могла бы свести его со столпа, где он,
в строгом посте, в молитве, год за годом находился,
открытый всем ветрам, зною и стуже. Монахи
задумались, от бога ли дана ему такая сила духа, или
дьявол помогает аскету, чтобы потом посрамить
слуг божьих? Проверка — послушание. Если по
приказу церковных властей Симеон сойдет со столпа,
то оставить его подвижничать, если же не
послушается — свести силой. Симеон повиновался мгновенно
и безропотно. Посланцам стало ясно, что дьявол тут
ни при чем.
Послушание вырабатывалось разными
средствами, но существовал особый монашеский метод:
старчество. Старец — это совсем не обязательно
„ветхий деньми" монах, но обязательно опытный,
тонкий и умный психолог. Старчество — это пара:
старец-наставник и ученик. Ученик всегда при
старце, делает, что он прикажет, постоянно поверяет ему
мысли и чувства. Наставник, он же и духовник
ученика, руководит его мыслями и поступками,
воспитывая религиозность и прежде всего послушание.
271
Ученик ни в чем не должен полагаться на свой
рассудок. Полное доверие к старцу, повиновение, —
даже не раб, а „как труп в его руках"!
Метод наставничества, основанного на
категорическом подчинении воли и разума ученика,
„отсечении" личности, существовавший в древнем
монашестве, снова появляется в России с конца 20-х годов
XIX века. Отличались этой монашеской „школой"
Валаам, Глинская и Оптина пустыни, некоторые
другие (немногие) монастыри. В целом русское
монашество неодобрительно относилось к
старчеству, считая, что подавлять волю человека —
сомнительная и нехристианская добродетель.
Сторонники старчества ссылались на древнее монашество.
Авва Дорофей рассказывал, как все мысли свои
открывал духовнику, но иной раз задумывался,
стоит ли того тревожить по пустякам, если сам
знаешь, что делать? Дорофей гнал эту мысль,
обвиняя свой разум: „Что ты знаешь, то знаешь от
демонов". И тут же шел к старцу. „Случалось, —
вспоминал авва, — что наставник отвечал то самое,
что было у меня на уме. Тогда помысл мой говорил
мне: „Ну что же, не напрасно ли ты беспокоил
старца?" А я отвечал помыслу: „Теперь оно хорошо,
теперь от духа святого, твое же внушение от
демонов". Так никогда не допускал я повиноваться
своему разуму".
Это монашеское недоверие к разуму — не какие-
то частные случаи заблуждений церковных
ретроградов: страх разума логически вытекает из
религиозного миропонимания. Религиозное учение выводит
истину за пределы материального мира, утверждая,
что истина только в боге, а слабый человеческий
разум без руководства духом святым способен лишь
заблуждаться. Отсюда поиск религиозного
авторитета и доверие только к нему. Все остальное — от
дьявола. Только устранив свой разум, и может
человек найти истину. Абсурд — хозяин в системе,
признающей сверхъестественные силы.
Отказ от воли и разума не просто дается
человеку. Но и методы их подавления разрабатывались
изощренно. Преподобный Кассиан дает, в
частности, такой совет воспитателю: приказывать ученику
именно то, что наиболее противно его воле. (Метод
практиковался преимущественно в католическом
монашестве, в таких строго дисциплинированных
272
орденах, как иезуитский, василианский.) „Монах, —
пояснял Кассиан, — не сможет обуздать своих похо-
тей, если в полноте послушания не обучится отказу
от собственной воли". Такого повиновения „за
страх" добивались прусские офицеры от солдат
Фридриха II. По словам этого короля, рядовой
должен больше бояться палки своего фельдфебеля,
чем неприятеля. Может быть, того же добивались
разбойничьи шайки. Образец повиновения в шайке
волжского атамана вспоминает В. А. Гиляровский:
„Всегда молчит и только приказания исполняет.
У него только два ответа на все: ну-к-штожь и
ладно. Скажи ему Орлов (атаман. — Г. П.) примерно:
— Видишь, купец у лабаза стоит?
— Ну-к-штожь!
— Пойди, дай ему по морде!
— Ладно.
И пойдет, и даст, и рассуждать не будет, для чего
это надо: про то атаману знать!" Здесь воля
отсекалась „за совесть". Сделано вполне по-монашески,
этим самым „атаману знать" монах покрывал любое
свое действие. Разница в другом. Подчинение у
инока не „за страх" (но даже и не за совесть, где
остается способность размышлять, оценить свое
повиновение, а монах этим нарушит послушание), его
послушание — без размышлений — „за любовь". За
любовь к Христу — иной монашество не признает.
Так достигалась атрофия воли, в человеке
преодолевался сам человек, а декларированный
церковью „новый человек", сбросивший с себя „путы
ветхого Адама", оказывался на поверку
совершеннейшим рабом, и притом рабом „по убеждению".
В идеале религиозного воспитания не остается места
собственно человеку.
Вставал, правда, перед монашеством вопрос, не
окажется ли такой чернец, лишенный собственных
убеждений, безоружным перед атеистической,
например, мыслью? Ведь стоит отвергнуть любой из
устоев невежественной веры, как, естественно,
возникают сомнения относительно других ее основ.
Это справедливо, но справедливо не для инока,
прошедшего через руки опытного старца, у него была
выдрессирована неспособность воспринять хоть что-
либо, кроме затверженных стереотипов. С точки
зрения эффективности выработки „раба по
убеждению" это было вполне целесообразно.
18 Г. Прошин
273
Епископ Тихон Воронежский (Задонский),
которому пришлось уже соприкоснуться с идеями
атеизма, наставлял: „Если столкнешься с соблазном в
вере, узнаешь, что иные суду божию, воскресению,
царству небесному не верят, — спасайся!" Будущий
святой имел в виду не привычное инокам
„спасение" — молитву, а просто бегство. Он требует не
вступать в спор ни в коем случае. Если „соблазнов"
не миновать, то следует „держаться одной своей
кельи". Если разговоры будут вестись не только
приходящими в монастырь, но и внутри него — это
было уже реальностью в годы жизни Тихона, — то
закрыться накрепко в келье: „будь нем и глух".
Даже в храм тогда надо ходить только на обедню,
а утреню и вечерню — самому читать в келье.
Наставлять по-иному Тихон не мог — не в его силах
было вооружить монашество аргументами против
науки. Для епископа хуже другое: вся история
монашества полна легенд о том, как „воинство
иноческое" выступало против „бесов неверия" и
непременно „посрамляло" их. Тихон же предлагает воину
бегство с поля боя. Единственное, чем может он
утешить дезертира, — сказать, что противник „скотское
имеет житие". Утешение слабое. Но метод Тихона
сильнее, чем кажется. Тихон опирается на
невежество. А невежество — сила, и сила большая. Он
аргументирует от той „нищеты духа", которая, по
Нагорной проповеди, спасает душу.
„Наставления монашествующим" Тихона
выдержали несколько изданий и были в числе немногих
книг, рекомендованных для чтения инокам.
Следование монастырским идеалам постепенно
размывало личность. Привычка становилась второй
натурой, и поначалу с трудом подавляемая личность
все меньше и меньше заявляла о себе. Волю
подавлял полуночный подъем и недостаток сна,
сказывавшийся на психике, а также постоянная пассивность
послушания. Ограничения в пище подрывали
физические силы. Воспитывались иноческие
добродетели: смирение, покорность, постоянное
сознание своей греховности. Так вырабатывается „раб
божий".
Но в киновии, в общежитии, практическая жизнь
далека от иноческого идеала. И религиозный
идеалист, пришедший в монастырь „ради Иисуса", вдруг
обнаруживал, что от истинного „спасения души" он
274
в святой обители столь же
далек, сколь далек был
в отринутом им грешном
миру.
Монашество видело эту
опасность. Чтимый
церковью Иоанн Лествичник
отмечал тщетность
устремлений к „ангельскому
образу". Он писал, что в
монастыре каждая добродетель
оборачивается грехом.
Успешно идет „спасение" —
монаха одолевает
внутренняя гордость: „Я свят".
В противном случае он
впадает в отчаяние: „Я
погиб, не хочу ни молитвы,
ни размышлений о боге!.."
Жизнь в многолюдной
обители ведет к тщеславию:
„Посмотрите, братия, и
вы, миряне-посетители,
какой я набожный, какой я
смиренный, какой я
примерный инок!", ведет к
зависти при виде малейшего
предпочтения, просто
знака внимания, оказанного
другому; при каких-либо
неизбежных
столкновениях возникает гнев. Даже
доброта перерастает в себялюбие от лести и
благодарностей. Мысли аввы Иоанна, как аккомпанемент,
сопровождают историю монастырского
подвижничества. Взаимные поучения монахов — целые
библиотеки томов — век за веком подтверждают истины,
высказанные Лествичником.
Русский публицист, выступавший в защиту
православия, К. Леонтьев, опираясь на авторитет
афонских старцев, писал очень похоже: „Рассудительность
располагает к жестокости, снисходительность —
к потворству". Недостаточность молитв, постов,
ночных бдений разжигает „сладострастную
фантазию", а избыток „иноческих подвигов" ведет к
унынию и отвращению к монашеству.
„Видение Иоанна Лествичника"—
типично монастырская икона.
По лествице (лестнице) в царство
небесное взбираются души
монахов, а бесы сталкивают их
в мрачную пропасть ада.
По существу икона развенчивает
сам монашеский идеал, наглядно
иллюстрируя его достижимость
лишь для тех редчайших единиц,
которым не их „подвиги" —
сам бог помогает подняться
в небесный черто.
Копия с иконы XVI в.
275
Итоги, как видим, весьма неутешительные, с
иноческой точки зрения. В чем же искало монашество
„настоящего" спасения?
Скит. „Живой мертвец"
Полного ухода от мира монах искал в
отшельничестве, в аскетическом усилении „подвигов",
испытании тела и духа. Такую возможность давал уход
в отшельники, в затвор. Иногда это особое
уединение монаха в дальней келье, чаще — скит, своего
рода монастырь в монастыре. Апологеты
монашества уже в XX веке называли скит „истинной"
духовной академией. Отдельные постройки, свой
храм, желательно ограда, кельи-одиночки. Все
правила — гораздо более строгие. Выход за ограду
допускался только с особого разрешения начальника
скита и только по церковным делам. В скитах не
разрешалось присутствие лиц другого пола, в
особенности в мужских, разве лишь по большим
праздникам этого скита, раз или два в год, и то если скит
общежительный. Скит пустынножительный, с
уединенными кельями, „молчальный", вообще
недоступен для посторонних, даже братии. Ее пускали лишь
в определенные дни в храм скита, а в иных случаях
только по разрешению игумена монастыря и
начальника скита.
Никаких украшений в кельях, никакой
собственности, кроме книг и икон у отшельников. Пища —
только постная. В строгом скиту — раз в день, по
субботам, воскресеньям и праздникам — два раза.
Хлеб — без ограничения. Чай исключить, поскольку
он — „средство возбуждающее". Лучше горячая
вода с сахаром или медом, хотя и это послабление.
Рекомендуется пить воду простую, но зато
освященную.
Спать следовало без белья, без подушки. Под
голову скитника рекомендовались камень или полено.
Лишь тем, кто „немощен", разрешалась соломенная
подушка и рогожа на подстилку. Скитнику не
полагалось и мыться. Баня „неполезна". Она
„расслабляет душу и тело...". Самую грудь изредка можно было
обтереть полотенцем. Такая вот академия...
В скитах мог быть „безмолвный устав". Братия
проводила время по кельям без общения. Встреча-
276
лись молча, раз в день за скудной трапезой, да в
храме три раза в неделю. Скитник обычно постригался
в великую схиму> принимал другое имя. В этом
видели особый мистический смысл
предопределенности и необходимости особого подражания святому,
чье имя он получил. Его новое имя — символ смерти
прежнего и рождения „нового человека". Впрочем,
схимник — „непогребенный Мертвец".
В скиту увеличивалось „молитвенное правило"
(у схимника оно тысячное).
Однако обители не всегда было выгодно, чтобы
затворник не вступал в контакты с богомольцами.
Чаще — наоборот, славу схимников разносили
повсюду, оснащали легендами, рассказами о „дарах
чудотворения", „прозорливости" и т. д. Всякий
монастырь стремился обзавестись подвижником,
который мог бы составить его славу. После смерти таких
чернецов именно на их могилах служили панихиды,
постепенно подготовляя культ „местночтимого".
Но, конечно, могилка чудотворца, с которой
паломник берет целебный „песочек" или в тех же
медицинских целях обгрызает крест, значила все же
несколько меньше, чем возможность
продемонстрировать живого, изможденного постом подвижника.
Устанавливались дни и часы приема посетителей
затворником, и чем популярнее он становился, тем
труднее было попасть на прием. Случалось так, что
аскет, стремившийся окончательно порвать связи
с „земным",' получал от монастыря все
возможности для неукоснительного выполнения своего
„подвига", а братия столь же неукоснительно
использовала все возможности для того, чтобы с большой
выгодой торговать живой святыней.
...Отшельник выходит из затвора. Глухо
позванивают железа под мантией. Опираясь на посох,
неспешно и отчужденно сквозь толпу паломников
проходит он в храм, одними губами творя по пути
молитву Иисусову. „Многие из теснившихся к нему
женщин заливались слезами умиления и восторга,
вызванного эффектом минуты; другие рвались
облобызать хоть край одежды его, иные что-то
причитали. Он благословлял всех..." („Братья
Карамазовы. Глава „Верующие бабы").
Шли за советами. Самыми разными. Многим
просто нужно было рассказать о беспросветной своей
жизни, чтобы только выслушали, посочувствовали.
277
Другие шли с житейскими вопросами, с которыми
не хотелось или нельзя было пойти ни к
родственникам, ни к соседям. Шли с вопросами целой
жизни: как жить, что делать в этом действительно
трудном и жестоком мире. Многим верилось, что
старцы действительно знают ответ... И
религиозному человеку как-то не приходила в голову
недоуменная мысль, как же это чернец, столь
разочарованный в жизни, отшельник, разорвавший связи
с людьми, крайне низко расценивающий греховный
мир, вдруг выступает в роли наставника, учителя
жизни...
А. М. Горький, немало повидавший на своем
веку всяких монахов, одного из своих героев делает
таким монастырским учителем верующих. Это
добрый и сам глубоко несчастный Никита Артамонов.
Он уходит в монахи и со временем, уже отцом Ни-
кодимом, принимает посетителей. И они были в
тягость Никодиму.
„Приходят, просят: научи! А что я знаю, чему
научу? Я человек немудрый. Меня настоятель
выдумал". Чему же учил добрый горьковский горбун
Никита-Никодим приходивших к нему? А со слов
настоятеля твердил: „Вся беда от разума, дьявол
разжег его..." — и сам в это не верил и стремился
перевестись в другой монастырь, „поглуше куда-
нибудь", растерянный перед сложностью жизни,
перед новыми мыслями, которые „не покрыть" ему
иноческим поучением...
Тем не менее мы видим Никиту в окружении
людей, пришедших за советом к тому, кто, как
полагают они, и мудр и справедлив. Мир, в
котором они живут, не дал им ни верных
жизненных ориентиров, ни доброты, ни участия, в
которых они так нуждались. Что из того, что многие
из паломников сознавали иллюзорность
полученного ими утешения? — Иного жизнь не
предлагала.
Образ православного монаха, говоря словами
Достоевского, „русского инока", следует искать
не в церковной литературе, не в житиях святых.
Житие не могло дать этого образа — сам жанр
его был ориентирован на прославление святого
и тщательно убирал житейские тени. В. О.
Ключевский недаром говорил, что житие и биография
соотносятся как икона и портрет. Да и насколько
278
житейски может быть типичен образ монаха, самой
церковью выделенного в святые?1
Правильнее искать ответ в русской
классической литературе. Дело не только в образности,
не только в художнической наблюдательности и
остроте постановки нравственных проблем, которая
свойственна всей русской литературе, дело в
специфике материала: церковь и особенно монашество
активно пропагандировали религиозный идеал как
единственно правильный путь общественной и
личной жизни. На тот же вопрос — как и для чего жить
человеку и человечеству? — отвечала и литература.
Путь, который прокладывали, обращаясь к разуму
и сердцу народа, русские прогрессивные литература
и искусство, существенно отличался от пути,
которым пыталась вести русское общество церковь.
Можно спорить, типичен ли герой повести Л. Н.
Толстого „Отец Сергий", но, полемически
направленный в обычную для Толстого проповедь, образ
этот в целом и детально верен идеалу православного
монашества, не приведи его писатель к „падению" и
преступлению. Бывший лейб-гвардеец, командир
эскадрона князь Степан Касатский, уходит в
монастырь, становится иноком Сергием, по причине
глубоко личной, оскорбленный в человеческом
достоинстве. „Зеркало" Толстого отчетливо отразило
и аскетический путь монаха, и неизбежное крушение
того „истинно религиозного чувства", которое
привело кирасирского офицера в монастырь. В
литературоведении нет единого мнения о той стороне
сюжета, где речь идет о попытке соблазнить Сергия
в его келье. Указывают на сходство с
древнерусским „житием вообще". Сходство действительно
имеется, но на самом деле Толстой точнейшим
образом (и это важно в его авторской позиции) излагает
житие преподобного Мартириана. Некая „жена"
также бьется об заклад, что соблазнит отшельника,
также мокнет под дождем у его кельи, тою же
1 Разумеется, произведения таких крупнейших
писателей Древней Руси, как Епифаний Премудрый („Житие
Сергия Радонежского"), Нестор („Житие Феодосия Печерско-
го"), Ефрем („Житие Авраамия Смоленского"),
Иннокентий („Повесть о смерти Пафнутия Боровского"), и ряд
других произведений житийной литературы весьма ценны и
с художественной и с познавательной точки зрения, хотя
они требуют понимания специфики этого жанра.
279
„случайностью" объясняет свое появление и т. д.
Единственное разночтение: Сергий отрубает себе
палец, а Мартириан „вступил в огонь". То, что
можно было приписать герою древнего жития, своим
неправдоподобием разрушило бы ткань
реалистического текста Толстого.
Вся монастырская часть повести безупречно
точна. Для Толстого ложь и фальшь монастыря — это
ложь и фальшь мира, которому нужен монастырь.
Стива Касатский уходит в монахи не только по вере,
но и чтобы стать „выше тех, которые хотели
показать ему, что они стоят выше его". Сергий успешно
проходит ступени иночества, к концу третьего года
он иеромонах, устав соблюдает строго — Толстой
прослеживает некое идеальное иноческое бытие. Не
случайны указания текста на Оптину пустынь и
старца-наставника, иноческая школа которого
прослеживается через известные в монашестве имена
Амвросия, Макария, Леонида и восходит к Паисию
Величковскому, пытавшихся возродить
нестяжательскую ветвь монашества.
Молитвенный отход Сергия от мира Толстой
точно определяет как состояние усыпления, которое
становилось все глубже. В эти годы Сергий узнает
о смерти матери, и известие это оставляет его
равнодушным. Сергий-чернец весь сосредоточен на
внутренней жизни. Иночество его переходит в
аскезу. Он становится затворником и несколько лет
проводит в уединении. Постепенно отказывается от
чая и сахара, молока и белого хлеба. Переходит на
сухоядение. Из кельи выходит только за водой и
дровами и лишь трижды в году — в храм. К нему
приходит слава подвижника, и Сергий стал
„средством привлечения посетителей и жертвователей
к монастырю". Многолетний затвор был оставлен,
монастырь выстроил гостиницу для дальних
паломников к Сергию: „Власти, — пишет Толстой, —
обставляли его такими условиями, в которых он мог
быть наиболее полезен". Установились дни приема,
приемная для мужчин, и — не нарушать буквы
устава! — около кельи снаружи выгорожено
перилами место для паломниц. Сергий дает советы и
наставления, исцеляет. И слышит из толпы: „Святой!
Ангел божий!" Специальный монах распределяет
толпу так, чтобы к Сергию попадали только
„господа и купцы - богатые".
280
Сергий сам начал верить в свою святость, хотя
еще „удивлялся тому, как это случилось, что ему,
Степану Касатскому, довелось быть таким
необыкновенным угодником и прямо чудотворцем". Далее
последовало страшное падение толстовского
чудотворца.
„Отец Сергий" написан Л. Толстым в конце
жизни. На восемь столетий раньше появился рассказ
о жизни преподобного Исаакия. Лаврский чернец
усиленно стремился вести истинно праведную жизнь.
Монашеское общежитие ему, как и Лествичнику,
казалось недостаточным. Тогда он закрылся в
„келейке малой в четыре локтя" где-то в глубине
пещер, а братия завалила землею вход, оставив „малое
оконце". Приносили Исаакию через день по одной
просфоре и немного воды. Так провел Исаакий лет
семь, на свет не выходил, спал сидя и молился,
потеряв всякое представление о реальности. И однажды
явились Исаакию в ярчайшем свете два юноши и
сказали: „Исаакий, мы — ангелы, а идет к тебе
Христос, поклонись ему!" Запоры пали, стены пещеры
раздвинулись, Исаакий увидел приближающихся
„ярче солнца", пал ниц. Это конечно же оказались
бесы... „Теперь ты наш, Исаакий!" — закричали они.
Множество чертей набилось в келью, и главный
обратился к Исаакию: „Что ж, теперь спляши нам!"
Откуда-то взялись гусли и бубны, и под эту
дьявольскую музыку опозоренный подвижник плясал всю
ночь.
Понятно, как в глухом затворе возникали
галлюцинации, психика сдавала, и отшельник был обречен
на тяжелое психическое расстройство. Угнетенному
полной темнотой и мертвой тишиной пещер монаху
в видении возникли нестерпимый, „ярче солнца",
свет и нестерпимо громкий звук: бесы буквально
грянули плясовую.
Все это известно из рассказа самого Исаакия и
хорошо соотносится с тем; что может рассказать
медицина о душевных болезнях. Но от медицинской
психиатрии Исаакия отделяли долгие века.
Когда к окошку затворника принесли хлеба, он
не ответил на уставное приветствие. Братия решила,
что Исаакий мертв. Раскопали вход и увидели, что
он жив, но глух, нем и недвижим. Феодосии взял
его к себе в келью. Исаакий не мог сам ни сесть, ни
даже повернуться на бок. „Ходил под себя, так что
281
от моченья и черви завелись под бедрами", —
сообщает очевидец. Феодосии два года обмывал и
переодевал Исаакия1, который понемногу стал вставать.
Братия пыталась водить его в церковь — не шел.
Притаскивали силой. И в трапезе приходилось
вкладывать хлеб в его руку. Присмотревшись, Феодосии
сказал, чтобы перестали это делать: „Положите хлеб
перед ним, пусть ест сам". Неделю Исаакий хлеба не
брал, потом стал понемногу откусывать. „Так
научился он есть", — свидетельствует Нестор. Братия
сделала, что могла, но Исаакий не оправился.
Развилась мания преследования: средь бела дня
одолевали бесы, твердили: „Наш ты, Исаакий, наш!"
Исаакий открещивался. Потом он начал
юродствовать. „Пакостить стал братии", — глухо пишет
Нестор. Бывало, собирал детей и одевал их в
подобие монашеских одежд. За это его били. Бил
игумен и родители этих детей. Скончался Исаакий
в затворе. Добровольном ли?
Такая вот судьба.
Повествование это — редчайший для монашества
правдивый рассказ о результатах затворничества.
Этим мы обязаны записи Нестора.
Вспомним свидетельства Нового времени, такие,
как воспоминания заключенных Петропавловской
крепости, Шлиссельбурга, где обстановка во многом
совпадала с монастырским затвором: запрет
разговоров, скудная пища, одиночная камера и т. п.,
вплоть до той же мебели: стол, табурет, койка и
ничего более, — чувствуется, что для
государственной тюрьмы образцом был монастырь.
Те, кто вырвался из страшных казематов
Шлиссельбурга, рассказывают о невозможности даже
воспроизвести настроения человека в одиночном
заключении, о яркости галлюцинаций из прошлой
жизни. „Эти эксцессы памяти, — вспоминал М.
Новорусский, — становились особенно яркими,
неотвязными у тех товарищей, у кого такой
психический процесс переходил в настоящую душевную
болезнь. На границе такой болезни стояли все мы..."
Мысли принимали „форму болезненности" — это
пишет о заключении в харьковском централе
революционер Н. Виташевский, — „никакими усилиями
1 Два года, семь лет — явные гиперболы жанра, которых
мы не оговариваем.
282
воли не победишь
разошедшихся мечтаний. Это
преддверие сумасшествия".
Вера Фигнер: „Молчание,
вечное молчание...
изменялась психика. Являлось
настроение молчать. Кроме
вынужденной
необходимости — пропадал внутренний
импульс —уже хотелось
молчать..."
Декабрист А. П. Беляев:
„Куда деваться без всякого
занятия со своими мыслями.
Воображение работает
страшно. Каких страшных,
чудовищных помыслов и образов
оно не представляло!" (Оба
в Трубецком бастионе).
И это — свидетельства
людей, активно боровшихся
с расстройством психики,
принимавших все
возможные меры сопротивления
подступавшей болезни,
приступам меланхолии и
галлюцинациям. В длительном
заключении победить почти
неминуемую болезнь удавалось
только самым стойким, тем,
кто, так или иначе, смог наладить контакты с волей
или товарищами по тюрьме, кто, наконец, как
Н. А. Морозов или П. А. Кропоткин, сумели
благодаря силе воли, образованности, широте интересов
сохранить в этих условиях духовное богатство
личности.
Инок же, уходя в затвор, заранее был настроен на
явление святых и бесов, чудесные видения...
Выходы в церковь, редкое общение внутри скита, труд
на грядке или переписывание книг, письмо икон
и т. д. — этого не всегда было достаточно, чтобы
отшельник сохранил психику здоровой. Больше или
меньше, но она разрушалась. Тогда это выдавали
за святость.
Порядок и круг размышлений монаху
определены и предписаны. Древний авва Орсисий указал
Большинство резных
фигурок Нила Стол венского
представляет его
в позе внутреннего
сосредоточения.
Дерево, XIX в.
283
шесть святых помыслов:
о боге, о распятии Христа,
о смерти, о Страшном суде,
об аде. Шестой — о вечной
жизни. Эти размышления
включают „четыре последние
вещи", которые должны
непрестанно занимать мысль
монаха. Тезисы Орсисия
жили в монашестве века и
менялись лишь по способу
выражения, приспособлению к
злобе дня, суть же
оставалась: все интересы монах
должен направить даже не к
., ^_ - ~ богу, как казалось бы, — из
Нил Столбенскии в момент ...ЛЛ' Л.._
духовного озарения. шести тезисов к нему с тру-
Дерево,Х1Хв. Дом относятся два,
остальные четыре, а точнее — пять, —
к смерти. Страх пронизывает сознание монаха.
Завороженному греховностью затворнику царство
небесное предстает весьма проблематичным.
Некоторые отшельники, чтобы тверже помнить о
смерти, ставили в келью гроб, в котором завещали
похоронить себя. В гробах они и спали... Держали
гробы и ради впечатления, производимого
могильной кладбищенской символикой на паломника.
Гробы охотно показывали, и ужаснувшийся богомолец
разносил по Руси „славу подвижничества":
...показал мне гроб, в котором тридцать лет
Спит, как мертвец, он, саваном одет,
Готовясь к жизни бесконечной...
Я с умилением и горестью сердечной
Смотрел на этот одр унынья и борьбы.
Но старец спит в нем только летом;
Теперь в гробу суровом этом
Хранятся овощи, картофель и грибы.
Это из уже упоминавшегося „Года в монастыре".
Поэт иронизировал над гробовой мистикой, но на
Валааме, откуда он вынес эти впечатления, еще в
начале нашего века показывали паломникам
„келейку" покойного игумена Дамаскина в четыре
комнаты, в одной из которых и стоял его гроб. (Игумена,
стало быть, похоронили в другом гробу, а прежний
стал экспонатом своеобразного мемориального
музея в монастыре.)
284
Таким же гробовым великолепием встретили
как-то в Невской лавре Александра I, уже впавшего
в крайнюю религиозность. Он „беседовал со
схимником" в келье, стены и скамьи которой были обиты
черным бархатом, а на столе горела единственная
свеча и лежал череп. Это уже было ближе к
театральному эффекту, любимому эпохой романтизма.
Романтизм был всякий. Этот и в ту пору называли
„кладбищенским".
Оба примера — подтверждение того, что самый
крайний аскетизм и отшельничество всегда
использовались монастырем в своих интересах и в первую
очередь в интересах утверждения религии.
Итак, отшельник, аскет в затворе, искал
истинного спасения души — ухода от людей и единения
с богом.
В аскезе были развиты мистические тенденции.
Затворник, углубляясь в молитву, стремился войти
в „сверхчувственный" контакт с миром его
верований. Достигалось это безмолвной „умной
молитвой". В уединении упражнениями, сходными
с йогой, аскет отключал разум, сосредоточиваясь
на стремлении вызвать переживания
„непосредственного общения" со всевышним. Это так
называемая „исихия", техника вхождения в транс,
принесенная на Русь с Афона. Схимник принимал
позу, известную в йоге как „поза кучера".
Склоненная на грудь голова и руки, свободно лежащие
на коленях. Взгляд сосредоточивается на пупке
(рационалистические противники мистики еще
в XIV в. на Афоне окрестили исихию„пупоумием"1).
Впрочем, глаза могут быть и закрыты.
Задерживая дыхание и сотни, тысячи раз повторяя молитву
Иисусову, монах достигал полного отключения
сознания.
Одного из героев К. Воннегута заезжий йог
„в обмен на новый платочек, немного фруктов,
букет цветов и тридцать пять долларов" обучил
впадать в транс. „Он закрыл глаза и отключился,
погрузившись в затишье выключенных участков
мозга, и мерцающей лентой развернулось перед ним
слово „прохлада" („Завтрак для чемпионов").
Точнее передал это состояние Иван Франко в поэме
1 Каламбур трудно переводим с греческого. Возможно,
так: „исихия — пупопсихия".
285
об Иване Вишенском, украинском борце против
панской кабалы, монахе, афонском аскете:
Сперши бороду на груди,
впер В1Н З1р у одну точку
1 сид1в отак недвижно
довго-довго, наче спав.
Зразу всенемов померкло
перед ним, 1 дрож пробела
по худ1м, стареч1м тип,
1 ЗОМЛ1ЛИ ЗМИСЛИ ВС1.
В сознании погруженного в транс возникают звуки,
они нарастают, в их громовой гармонии аскет как
бы видит свечение:
Розлилось безмежне море
свггла яснозолотого,
1 зелено-золотого,
й бшого, неначе сшг.
Мов дитя, душа аскета
потонула в тому мор1,
ТОН1В, фарб, У Т1М Р03К1ШН1М
захват1 - 1 вш заснув.
Заснул... Пробудившись, инок оценивал
происшедшее как действительно состоявшееся общение с
„божественным светом". Вера его крепла, и крепла
мысль о том, что он смог на шаг отдалиться от
греховного мира и на тот же шаг стать ближе к
„спасению". Разубедить аскета было некому. Не случайно
отец Сергий у Л. Толстого занимался „умной
молитвой". В оценке Л. Толстого (и это верная оценка)
православная мистика — явление крайне
реакционное, умерщвляющее душу. М. Е. Салтыков-Щедрин
в „Истории одного города", рисуя эпоху реакции
первой четверти XIX столетия, увлечения разного
рода теософскими спекуляциями, мистикой,
выводит на улицы своего города Глупова юродивых
Парамошу с Яшенькой. Это сатира на иноческую
аскезу: оба городских дурачка учили, что работать
не следует, „а следует созерцать", Парамоша
указывал даже, как нужно созерцать. „Для сего, —
говорил он, — уединись в самый удаленный угол
комнаты, сядь, скрести руки под грудью и устреми взоры
на пупок..."
Такого „слияния с богом" искали Нил Сорский
и заволжские старцы — нестяжатели, преподобный
Нил Столбенский, культ которого был широко
распространен.
286
ОТСТУПЛЕНИЕ ОТ ТЕМЫ
Два аскета
В начале XV века из Снетогорского монастыря, что
близ Пскова, вышел некий чернец Евфросин
(начало XV в. — 1481 г.), основавший свой монастырь,
также невдалеке от Пскова и под покровительством
псковского посадника1.
В. О. Ключевский замечает, что ,,чисто
материальные общественные условия Древней Руси
действовали под аскетическими формами на характер,
направление и судьбу русского монашества".
Эти „аскетические формы" и способы их
выражения и есть то, собственно религиозное, ради чего
мы вспомнили Евфросина. Евфросин мыслил
строго в пределах обрядового мировоззрения и с
самого пострижения своего еще на Снетной горе был
весьма озабочен важным вопросом о том, как же
следует возглашать аллилуйю: сугубить ее или тре-
губить?
Здесь придется дать объяснение. Аллилуйя —
(„слава тебе, боже") — возглас в церковном пении.
Он, как видно из церковных источников,
повторялся то дважды — это и есть аллилуйя сугубая
(удвоенная), то трижды — аллилуйя трегубая
(утроенная). Это один из камней преткновения раскола.
Официальное православие — „еретики-никониане",
по старообрядческой терминологии, — приняло
трегубую аллилуйю, старообрядцы —
„еретики-раскольники", по церковной терминологии, — держались
сугубой.
И Евфросин рассуждал, что из двух вариантов —
один неправильный и не может быть принят.
Став игуменом, Евфросин положил себе
непременно добиться для своего монастыря „истинного"
пения возгласа. И тогда он отправился к самому
вселенскому патриарху в Царьград...
Трудно сказать, о чем шла речь с патриархом
Иосифом, но Евфросин вернулся и твердо заявил:
„Аллилуйю двоить!" И стал так служить. Все это
пока пролог к полемике Евфросина и псковского
священника Иова. Этот Иов, по прозвищу Столп,
Это Спасо-Еле (а) заровский . монастырь, названный
по мирскому имени Евфросина — Еле (а) зар.
287
на весь Псков разнес весть о сугубой аллилуйе
Евфросина как „мерзости, неугодной богу",
которая расцвела в прежде вполне благочестивом
монастыре. Постановили Евфросина допросить не
столько с тем, чтобы уяснить, почему старец считает
правильным „сугубить", сколько, чтобы выяснить,
у кого он мог перенять столь ужасное нечестие.
Уже мелькало и слово „еретик". А Евфросин все
„сугубил". Наконец, в монастырь отправились двое
церковных знатоков, чтобы „обличить" игумена.
Начали они с прямой угрозы, отметив, что, конечно,
щадят его седины, но:
— Оставь, отче, свое начинание, а то как бы без
лепоты не скончал ты своей старости...
И если читатель ждет диспута псковских
теологов, аргументов в пользу сугубой или трегубой
аллилуйи, то скажем сразу: не было диспута.
Схоластический вопрос мог только схоластически и
решаться. Посланцы обвиняли:
— Ты, отче, святую аллилуйю произносишь
только дважды, умаляешь этим божественность святой
Троицы!
Евфросин уловил богословскую слабость
упрека: как может божий раб умалить творца? И тут
же отпарировал с должным иноческим
смирением:
— Нет, братья мои возлюбленные, ни мне умалить
славы божией, ни вам прибавить к ней что-либо
невозможно.
Конечно, схоластика, но виден опытный
полемист — ответ превращен в удар по противнику:
напрасно и вы заботитесь о славе творца... Игумен
добавил, что сугубая аллилуйя идет из самого Царь-
града. Тут возразить нечего. В споре не было
существа, и он, казалось бы, должен был прекратиться сам
собой. Но не таковы „словесные борения"
богословов. Посланные выложили на стол главный
аргумент: ,>благоумное послание" к Евфросину
Иова Столпа. Вот тут-то и выявилось, что такое
церковное словопрение. Послание не содержало
ничего по существу вопроса, ибо вопрос не имел
такового, но в письме было то, что определяло
всякий богословский спор, — „хула и
укоризны", то есть попросту брань. И, как обычно,
брань эта была личного порядка. Евфросин не
стерпел:
288
— Не благоумие это, а телячье мычание, будет
за него погибель от бога вашему учителю Иову
Столпу!
— Нет, наш Иов — истинный столп благочестия, —
возразили оба незваных гостя, обыгрывая
прозвище Иова. Евфросин включился в игру, и, поскольку
иной аргументации не было, наш аскет и постник
продолжил ругань:
— Не столп благочестия, и не простой столп, но
столп, исполненный смрада и всякой мерзости!
Далее авва Евфросин доступным языком
обрисовал некий столп, в котором обличители без труда
узнали укромное место, что стояло на задворках
всякого приличного дома... Спорить было уже не
о чем. Заключил встречу Евфросин:
— Идите с миром домой, невегласы, свински
мудрствующий, пекитесь лучше о своих
домочадцах!
Мы взяли достаточно известный пример
„полемики", характерной и в средние века, и в новое
время, и в наши дни. Спор без существа о вещах,
существа не имеющих, — действительно
„пустоцвет на живом древе../'.
То, что Евфросин прибег к площадной брани,
вовсе не означает, что он обязательно вышел из себя
(хотя и это могло быть). Грубая ругань в
схоластическом споре не отсутствие выдержки и не дурное
воспитание. Все наоборот: брань, крик и даже
драка — это прием полемики, свидетельство
убежденности в своей правоте, особая фаза дискуссии. Она
показывает, насколько оппонента вывела из себя
„свинская мудрость" противника, с какой
ревностью защищается истина. И чем более оскорблен
противник, чем более гнусно его сумели обругать,
тем яснее его, противника, низость. Это та брань,
которая должна была „повиснуть на вороту".
Она и висла. Так средневековая схоластика
понимала истинно монашескую деятельность, дело
„спасения души".
Но спор продолжался между сторонниками и
противниками Евфросина до самой его смерти,
а два века спустя — в расколе — вспыхнул
кострами самосожжений и не затихал почти до наших
дней.
С Евфросином церкви придется долго еще
разбираться. Дело в том, что он попал в святые
19 Г. Прошин
до реформ Никона и на его сугубую аллилуйю
постоянно ссылались старообрядцы, обличая
„церковников" их собственным святым.
Другой фигурой, характеризующей деятельность
монашества той поры, станет в нашем рассказе уже
известный Нил Сорский. Он наиболее
последовательно развивал нестяжательскую мысль о
необходимости аскетического ухода от мира. Нил считал,
что истинный монах не должен быть привязан к этой
жизни. Единственное, что связывает его с нею, —
это грехи. Избавиться же от них можно, лишь
последовательно отметая все, что хоть в какой-то
степени привязывает к жизни, — следовательно,
вводит в грех. Нил требовал, чтобы никто в келье
не держал ничего ценного, труд для всей братии был
обязательным. „Кто не работает — тот не ест" —
этот евангельский тезис лег в основу Нилова
общежития. Правда, пользоваться приношениями „хрис-
толюбцев" разрешалось, но единственно, если
собственных трудов, например по болезни, „за немощь",
окажется недостаточно для пропитания. Брать же
можно „не излишняя". Каменного храма, ценной
утвари и прочего в пустыни Нил не разрешил —
„излишняя".
„Предание" и „Устав" сорского аскета полны
такого рода ограничениями. Вплоть до похорон:
свое тело, по примеру восточных аскетов, завещал
бросить в лесу — ибо по грехам недостоин
погребения, но тут же спохватившись, то ли что
дисциплинированная братия может буквально исполнить
последнюю волю, то ли понимая, что пустынники не
станут кощунствовать над покойным настоятелем,
завещал похоронить себя в обители, но „со всяким
бесчестием", как большого грешника. Все это
характеризует умонастроение Нила и принятый
в пустыни образ жизни. Изучая патристику на
Афоне, Нил особенно старательно занимался
текстами Исаака Сирина — аскета и подвижника,
религиозного писателя VII века. В трудах Исаака
виден психолог, тонко и точно анализирующий
душевное состояние человека. Размышления Исаака
о праведности и греховности, о борьбе со
страстями и способах нравственного
самоусовершенствования стали основой, на которой Нил
разрабатывал свое понимание страстей и их обуздания
человеком.
290
Конечно же Нил пользуется религиозной
терминологией, но эти термины не должны вводить в
заблуждение современного читателя. У Нила зло —
это бес. Не богословское извечное,
предопределенное миру зло. Бес — человеческие страсти,
человеческие пороки. Благодать у Нила — добро,
справедливость, а не сверхъестественная способность,
ниспосылаемая свыше.
В религии Нил находил опору нравственным
ценностям. В его „Предании" — мысли о
человеческом достоинстве, назначении человека в жизни,
его нравственном самовоспитании. Заметим, что
сочинения Нила и Исаака оказали влияние на
Ф. М. Достоевского в его понимании психологии
человека и внимании к ней.
Уродливость многих сторон социальной
действительности вызывала и религиозный протест
против этой действительности. Протест пассивный —
материальное и духовное ошибочно разрывалось
(а это и есть религиозное понимание),
материальному противопоставлялось духовное. Чтобы достичь
добра и преодолеть зло, нужно подавить свои
естественные склонности — так обстоит дело в
религиозной морали. Постоянное насилие нравственных
императивов делает поведение человека
неестественным, неадекватным самой нравственности. У Нила
религия обессиливала человека — она лишала все
высшие ценности их земного, человеческого смысла.
Нил, строгий постник и аскет, располагает грехи
по восьмеричной схеме: „чревообъястный, блудный,
сребролюбивый, гневный, печальный, уныния,
тщеславный, гордостный". От неумеренности в пище до
гордости, которая — самый страшный грех. Но и
чревоугодие, пусть по иерархии самая малая
беда, — оно „начальный грех и корень всем им".
„Чревоугодники, — предупреждает Нил, — все худо
кончали".
Сходная схема была разработана в V веке
Иоанном Кассианом, позднее откорректирована
Григорием I. В средневековье нравственно-богословское
творчество занимало важное место, определяя
отношение к миру и человеку. Сходство схемы вовсе
не означает, что Нил заимствовал ее, но даже если
и так, то значительно более важен смысл,
который вкладывает русский аскет в византийское
понимание греха. Гордыня, „помысл гордостный"
291
в трактовке православия (и в католицизме) —
это мятеж против бога, то есть мятеж против
церкви, именно поэтому гордыня — самый страшный
смертный грех1.
Гордыня в учении Нила — грех не перед богом,
а перед людьми, и возникает она от слишком
большого материального изобилия, от бездуховности
жизни. „Чем гордятся? — спрашивает схимник и
отвечает: — Хорошим монастырем, а обычай таков,
что монастырь хорош от неправд: от стяжания сел
и многих имений". Что же хорошего в такой
гордости? — спрашивает Нил. Ответ нестяжателей и
самого Нила нам уже известен. Действительно,
гордиться здесь нечем. Нил обращается к личной
деятельности человека: например, человек гордится
красивыми вещами, принадлежащими ему, —
„хитрости рукоделия". Но что тут гордиться, если
это не ты сам сделал, а купил? Гордиться ли
своими родственниками, которые „в миру славны"?
Или своими заслугами, „мирской славой"? Здесь
Нил не распространяется, все настолько ясно, что
он просто пишет: „Это скрывать следует..." И вести
себя соответственно, на трапезах или собраниях
выбирать место последнее, среди братии, а не среди
начальствующих, из одежды „худшие ризы носить",
в разговорах „не выситься".
Так, снимая с поучений Нила религиозный
покров, мы видим разумность его требований к
личному поведению человека, его нравственному
облику. Нил этого покрова, конечно, снять не мог.
Не впадай в печаль и уныние, пишет игумен
Сорский. Если же человек обстоятельствами
приводится к печали и унынию — а жизнь давала и дает
для этого различные поводы, — Нил советует, как
преодолеть в себе печальные мысли. „Читай,
работай! — пишет Нил, — если не помогает — молись".
1 Здесь не следует упрощать: и Джордано Бруно, и Ян
Гус, и русские еретики попали на костер за грех гордости —
усомнились в церковном учении о боге. Средние века
ставили знак равенства: церковь=бог. Николай Коперник
десятилетия готовил свой труд о небесных сферах и
опубликовал его, лишь чувствуя приближение смерти. Каноник
Николай прекрасно знал, что его труд в глазах церкви
именно мятеж против бога, то есть гордость сатанинская, и
за это — костер. В России говорили: „Коперник — богу
суперник", и в эти слова вкладывали разный смысл, одни
ужасались, другие восторгались.
292
Здесь, по всем религиозным нормам,
преподобный должен был остановиться. Столько в
христианстве рассуждений разных религиозных
авторитетов о силе молитвы! Об этом и сейчас пишут
христианские богословы. Но в спасающую силу
молитвы Нил верил „не твердо". На церковном
языке это означает: вовсе не верил. Сказав о
молитве, Нил предлагает избавиться от печали волевым
переключением мысли на какой-нибудь иной
предмет: „иную некую вещь". Вещь эта у Нила может
быть не только „божественной", но и
„человеческой" тоже. Это — вразрез религиозной норме,
которая предписывает монаху только
„божественные помыслы". Но, продолжает Нил, это тоже
может не помочь. И тогда следует идти к человеку,
его дружеская поддержка, его сочувствие, помощь,
даже просто беседа могут, пишет Нил, „разорить"
уныние в душе. Прийти к человеку и у человека
искать помощи в беде — иного пути Нил не видит,
хотя это и противоречит его предыдущим
богословским рассуждениям.
„Избегай тщеславия. Хвалят тебя? А ты спроси
себя, достоин ли я таких похвал? Рассуждай трезво,
храни себя от тщеславия". И как вывод: бесы
(страсти! — Г. П.) скверны, но „хуже бесов тот, кем они
владеют". Все это разумно и привлекательно, как
нормы морали. Но вся беда нравственности
религиозной в том, что в грех вводит все мирское.
И тогда надо бежать от мира, чтобы не впадать во
все более и более тяжкие грехи. Беседы могут
разогнать уныние, но они, по словам Нила,
допустимы только с братией монастыря, с
единомышленниками, и ни с кем иным. Общение с миром
категорически вредно: „ни видети любых
мирских людей, ни слышать их речей, ничего от них"
не следует.
Совершенствовать себя надо в уединении,
стремясь к богу — конечному смыслу земной жизни.
Это и есть подоплека учения сорского старца. Все
лучшие качества человека оказываются ни
собственно ему, ни его ближним ненужными — они лишь
путь к богу.
В „Предании" Нила Сорского легко выделить
зачатки психологического учения и своеобразной
психотерапии, вырастающей из наблюдений за
собственными душевными порывами, стремлениями,
293
за движениями души учеников, к которым и были
обращены его наставления.
Вассиану Патрикееву Нил, интеллигент XV века,
пишет о книгах: „тем научаюсь и в том нахожу
жизнь и дыхание для себя". И только другу, только
единомышленнику мог он поведать: „Теперь я
особенно занимаюсь испытанием духовных писаний и
прежде всего испытываю заповеди Господа и их
толкования и предания апостолов, потом жития и
наставления св. отцов: О всем том размышляю, и что,
по рассуждению моему, нахожу богоугодного и
полезного для души моей, то переписываю для себя"
(выделения в тексте сделаны нами. — Г. /7.).
Испытывать, то есть проверять наставления святых отцов,
монах, конечно, может, но испытывать заповеди
господа и послания апостолов! Хорошо, что это
письмо Нила не попало в руки Иосифа Волоцкого —
одним костром было бы больше.
Правда, Нил тоже кончил печально. Отстоять
жизнь еретиков на соборах он не смог и при всем
теоретическом отрицании земного, видимо, перенес
это тяжело. В последние годы жизни мы уже ничего
не слышим о Ниле, он умирает в заволжской
пустыни, страстно отрицая этот жестокий мир молитвой,
постом и аскезой.
Таковы два аскета. Деятельность их
характеризует собственно монашеские заботы, „труды
спасения души" и те советы, которыми иночество
наделяло греховный мир. Спасение Евфросина — через
обряд и спасение Нила — через строгую аскезу.
Позиции не противоположные. Они дополняют друг
друга, а между ними вся та масса монашества, за
духовным утешением к которой шел русский паломник.
Церковь принимает мистику — мистична всякая
религия, — но побаивается ее: дело-то вполне может
оказаться все тем же „дьявольским искушением".
Свет „ярче солнца" и преподобному Исаакию
светил, а что вышло? Мистик даже опасен, он
упраздняет церковь, он может обойтись без ее посредства...
О Ниле Столбенском, например, пишут, что он
никогда не ложился для сна: „отдыхал и молился,
опираясь на два костыля (стержня), вбитые в
стену. В этом положении во время молитвы святой
скончался. Таково и его скульптурное изображение.
294
Нил же между тем изображается в известной
медитативной позе йоги. Об исихии, полностью
исключавшей реальный мир, уводившей в сферу
мистических фантазий, современная церковь предпочитает
не вспоминать.
В числе подвигов аскезы — ношение вериг,
железных оков, которые схимник надевал на тело. Они —
род портупеи Христова воина, напоминают перевязь
парамана, — символ страданий Христа (страдания же
того, кто носил вериги, были отнюдь не символич-
ны). Вериги, как орудия самоистязания,
общеизвестны. Менее известно, что даже этот „подвиг"
фальсифицировали. Слава „подвижника в веригах"
разносилась за сотни верст, и тут был соблазн для
братии... История монашества сохранила рассказ об
отшельнике, залезавшем в яму и там темно
пророчествовавшем. Предварительно сей аскет запасался
куском печенки. Изрубив ее в фарш, засовывал под
вериги, а когда к нему кто-нибудь приближался,
начинал стонать: „О, плоть моя!.. О, моя плоть!.."
При этом он выковыривал и с омерзением
отбрасывал клочки фарша. Дело происходило в одном из
монастырей святого Афона.
Иноческие „подвиги" воспитывали мысль, что
есть возможность искупления греха принятием на
себя религиозных обетов (усиление поста,
воздержание, молитва и т. п.). Надевали и вериги. И здесь
непросто говорить только о фанатизме, изуверстве
и т. д. Это значило бы упрощать прошлое,
превращать сложное переплетение социальных,
психологических, гносеологических корней религии в схему,
которая при всей ее правильности не покрывает
конкретных сложностей жизни.
Иного не поймешь.
Знаком народу Фомушка:
Вериги двухпудовые
По телу опоясаны,
Зимой и летом бос,
Бормочет непонятное,
А жить — живет по-божески:
Доска да камень в головы,
А пища — хлеб один.
„Кому на Руси жить хорошо"
Иногда можно встретить и вериги, которые
вовсе не предназначались для монахов. Например,
вериги (случай редчайший) именные: на оплечьях
295
,Обетные вериги".
Оплечья вериг, на которых выгравированы имена того, кто
носил вериги, и тех, кто их жертвовал. Оковы вызолочены.
выгравированы имена того, кто носил вериги, и
тех, кто их пожертвовал. Видимо, и
„изготовление" вериг, и напоминание об этом — своеобразное
„участие в подвижничестве". Есть и имя мастера.
Приведем текст, сохраняя орфографию:
„Спосаится всихъ веригахъ рабъ Бжыи Деонисш
григорьевъ отроду ему 20 летъ Деланы см вериги
усерд1емъ Василья Козмина скварцова и супруги
Пораскевы работалъ ихъ барисъ шелепинъ вязма
1825 го февроля 13 дня".
Остается добавить, что „Скварцовы" из Вязьмы
были щедрыми жертвователями — оковы
вызолочены... Нередкое сочетание изуверства и
восторженной сентиментальности.
Монашеский пример находил отклик и среди
самодуров-помещиков. „...Хотели в пудовых
сапогах в Невскую лавру на богомолье послать..." —
вспоминает бывший крепостной прихоть своего
барина.
296
Церковный автор начала нашего века иеромонах
Серафим перебирает свидетельства из житий святых
и примеров „настоящей" иноческой аскезы вообще
не находит. Он ссылается лишь на Иоанна из Печер-
ской лавры да „отчасти" на Серафима Саровского.
Что значит быть аскетом „отчасти", иеромонах не
прояснил. В виду же он имел „молитвенный
подвиг" старца, его широко разрекламированную
„тысяченощную" молитву на голом камне и т. п.
вплоть до дружбы с медведем, который приходил
к пустыннику.
Но вернемся к иноческим идеалам. Достигал
ли отшельник в скиту, в затворе, с веригами на
плечах, постник и молитвенник, „спасения души"?
(Разумеется, речь идет только о его субъективных
ощущениях.) Позволяли ли ему эти ощущения
верить в полное одоление страстей-бесов, в
возможность посмертного блаженства или не
позволяли?
С уверенностью ответим: нет, такой уверенности
у схимника не было. Наоборот! Чем больше
преодолевал аскет жизненные стремления, чем больше
ограничивал круг возможных соблазнов — не
существенно, реальных или вымышленных, шедших „от
бесов", — тем более проблематичным становилось
для него спасение души. Пока он был жив, мыслил,
то истощенная плоть продолжала, хоть и слабым
шепотом, заявлять свои права. Следовательно, грех
оставался с чернецом, пока в нем теплилась жизнь.
Пусть Иоанн Лествичник утверждал, что
„преуспевший в безмолвии" отшельник продолжает молитву
и во сне. Поверим ему, он знал, что говорил. Иоанн
продолжает: „Некоторые даже и во время сна
посрамляют бесов: представляющихся им в
сновидениях нагих женщин поучают целомудрию". Очень
энергичная защита аскезы. Беда в том, что
монаху все же снилась обнаженная красавица, так что
оставим в стороне это „поучают" — сон был полон
греха.
Путь аскезы вел к полному отказу от каких-либо
желаний, полному умерщвлению стремлений, воли,
чувств. Реально это означало самоликвидацию
личности, превращение в живого мертвеца... И это
действительно трудно. Только в чем здесь „подвиг"?
Ценности жизни как бы выворачивались наизнанку,
и высшей ценностью становилась не жизнь,
297
не деятельное бытие, а
уход от него. Смыслом
бытия становилась смерть,
а жизнь понималась как
подготовка к ней. Осилив
все это, инок достигал
истинного бесстрастия.
Достигал ли?
Какая только мысль не
может овладеть иноком,
стремящимся в затворе
к единению с богом! Если
вспомнить рассуждения
Кириллова в „Бесах"
Достоевского, то и его мысль
о самоубийстве — от
невозможности возвыситься
над бытием
„положительно". „Своевольный
человек" пытается сделать то
же самое отрицательным
способом — путем отказа
от бытия. Это
аскетическая мысль. Это и есть
„высший пункт"
нравственного ответа
Кириллова на подлость Верховен-
ского. Кириллов у
Достоевского близок к душевной болезни, и его
противоречивые, запутанные рассуждения — лишь „фон
самоубийства", и фон этот возник в результате
убийственной, (само)убийственной кирилловской
антиномии: бог необходим, следовательно, он должен
быть. Но он не существует (в тексте Достоевского:
„Но я знаю, что его нет и не может быть").
Следовательно, нельзя больше жить".
В этом именно суть затворнического поиска. То,
что монах, вероятно, не задается такой антиномией,
априорно и безоговорочно принимая существование
бога, не меняет дела. Молитвенный подвиг — поиск
бога, выливающийся в отрицание бытия, и приводит
в конечном счете к невозможности возвыситься над
ним. Нормальное сознание аскета отрицает
бытие. Нормальное сознание человека останавливает
его на последнем пороге этого отрицания. Мертвец,
но „живой мертвец"! Можно найти сколько угодно
Икона „Бренность жизни".
Это „учительная"икона.
На такие образа не молятся,
они служат целям назидания
и наставления в вере.
Икона наглядно проповедует
монашеский идеал отказа
от жизни.
298
христианских поучений о греховности
самоубийства. Но аскет, „освобождаясь" от греха,
последовательно доведя свое саморазрушение до духовной и
физической смерти, не может считать свой подвиг
самоубийством — с точки зрения его личных
отношений с богом это лишь единение твари с
Творцом. И как бы современная религиозная
апологетика не стремилась обосновать жизненные ценности
человека, христианство — прежде всего религия
разочарования в жизни. Последовательное
христианское понимание бытия высшей ценностью жизни
считает „благочестивую" смерть во имя
„воскресения". Далее все туманно. И в конечном счете, не
видя смысла в „этой" жизни, христианин не
может указать его и в „той". Тупик. И тем более
христианская ценность жизни — в мере отказа от нее
самой.
Итак, истинное спасение души — в
последовательном уходе от реальных жизненных ценностей.
На это направлен весь строй монастыря, скита,
монашеских поучений и дисциплинарных
упражнений, отшлифованных веками. Жизненные
ценности, опрокинутые религиозным миропониманием,
превращаются в антиценности, а
мистифицированная религиозным сознанием жизнь становится
„тщетой жизни", которая последовательно
подменяется действительной тщетой аскезы. Судьба
„идеального инока" — страшная и трагическая
судьба, но это и есть „высший пункт"
монашества.
ОТСТУПЛЕНИЕ ОТ ТЕМЫ
Монах и закон
Иноческий уход от мира мог быть декларативным,
мог быть демонстративным, мог быть смиренным и
даже тайным — словом, мог выглядеть как угодно,
но уходом от мира он не был никогда. Самый
фанатичный отшельник из отшельников, аскет из
аскетов совершал свои подвиги отречения в
среде монашествующей братии, братия же входила
в состав церковной организации, а церковь, что
общеизвестно, была частью государственного
аппарата России. Следовательно, монашество под-
299
чинялось не только церковным установлениям, но
и государственным законам. Напомним, что
церковь пришла на Русь десять веков тому из
Византии и в Византийской империи тоже была
частью государства. Монастырскую жизнь
регламентирует еще Кодекс Юстиниана, императора
Римской империи, правившего в VI веке. В частности,
ограда монастыря — требование Кодекса
(новелла 123). Но все это — дела давно минувших
дней. Посмотрим, какими государственными
законами руководствовалось монашество в период
значительно более близкий, скажем в начале
нашего века. Оставим в стороне византийский
Номоканон, более известный на Руси как Кормчая —
сборник церковных и государственных о церкви
постановлений, переработанный и менявшийся со
временем сборник, Духовный регламент Петра I,
другие своды. Строго говоря, совсем забыть о
существовании таких далеких от современности
документов мы не можем: религия и церковь, как
известно, несут в себе груз самых отживших
традиций, в этом смысле церковное право столь же
косно и консервативно, как и культ. На многие
нормы, установившиеся в средние века, церковь
продолжает опираться и по сию пору. Эти
древние нормы — „законы и каноны" — позднее
подтверждались государственными установлениями
России.
Мы остановимся на Полном собрании законов
Российской империи, Своде законов Российской
империи, Указах святейшего Синода, Уставе
духовных консисторий. Полное собрание законов —
это три последовательных собрания, это 125
томов, 133 374 законодательных акта. Полное
собрание постановлений святейшего Синода — тоже
несколько томов. Издание, вопреки заглавию,
далеко не полное, как, впрочем, весьма далеко от
полноты и Полное собрание законов... Но и в
неполном виде эти издания включают тысячи и
тысячи документов, касавшихся самых разных
сторон взаимоотношений государства и церкви,
государства и монастыря, государства и монашества.
Очень понятно, что даже самым кратким образом
изложить все это — дело невозможное.
Остается отобрать несколько документов, имевших
силу закона еще в начале XX века, таких доку-
ментов, чтобы они достаточно характерно
обрисовали эту, юридическую, сторону дела. Попытаемся
сделать это.
Пострижение. Производится на основании
разрешения, данного епархиальным архиереем, по
личному заявлению постригающегося. Постриг
в штатные монастыри только на освободившиеся
штатные места (на вакансию). В нештатные —
сколько потребуется монастырю. Минимальный
возраст пострига — 30 лет для мужчин, 40 — для
женщин. Постриг только вдовых или не
состоявших в браке (нужна справка или о разводе, смерти
супруга, или же о его одновременном пострижении
в другом монастыре). Окончивших курс
богословия в духовных учебных заведениях разрешено
постригать с 25 лет. Впрочем, как и всюду в
монашестве, возможны исключения, можно постригать
и более молодых (ПСЗ, 1865 г., №42505). Так
называемый Пято-Шестой церковный собор VIII века
(а постановлений соборов никто не отменял)
разрешил постригать и десятилетних (правило 40).
Василий Великий — неколебимый авторитет
церкви — считал, что можно постригать с 16—17 лет,
Духовный регламент Петра I тоже не определяет
четко минимальный возраст пострига... Словом,
закон законом, но, как было сказано, необходимо
„разрешение епархиального архиерея".
Определен и „пенсионный" возраст. Кавычки
потому, что монаха „на пенсии" вообще-то быть
не может. Иночество — состояние, а не
должность, но с 60 лет монах может быть „выведен
за штат". Он остается в монастыре „на
пропитании", только не несет трудовых послушаний.
Штатное место при этом освобождается. В случае
болезни можно было уволить за штат и до
60-летнего возраста, но здесь требовалось уже
медицинское заключение (ПСЗ, 1834 г., №6993). Сам
собою напрашивается вопрос: а в женских
монастырях не отправляли за штат с 55 лет? Нет,
монашество, по идее, ангельски бесполое
сословие, так что возрастная зависимость по признаку
пола была бы просто греховной. 60 лет —
одинаковы и в женских и в мужских монастырях.
Чернец вне монастыря. Выход и выезд из
монастыря возможны только по монастырским делам.
В пределах своей епархии с паспортом, выданным
301
на необходимый срок настоятелем. За ее
пределами только с паспортом, выданным епархиальным
начальством. Во всех пунктах назначения
необходимы отметки типа: „прибыл-выбыл", ночлег —
где укажут местные власти. Инок, отправленный
за сбором подаяний, получает или опечатанную
монастырской печатью кружку, или особую
шнуровую с печатью книгу для записи подаяний. Сбор
разрешен по согласованным маршрутам (это дело
епархии, а за ее пределами — Синода)
повсеместно, исключая трактиры. В трактир иноку вообще
заходить нельзя (Определение св. Синода, 1876 г.,
№ 1880). Впрочем, в документе оговорено:
„Запрещен вход в монашеском одеянии". Стало
быть, был способ просить милостыню и в
трактире.
Имущества монастыря. Вновь создаваемые
монастыри имеют право получить из
государственного фонда („от казны") землю, леса и другие
угодья, мельницы, рыбную ловлю, хозяйственные
дворы. Земля — по 100—150 десятин на обитель
(СЗ, т. X, ч. 2, ст. 346; УДК, ст. 125). На все
имущество существуют инвентарные описи. По
описям оно принимается, по описям сдается (УДК,
ст. 109, 120, 121). О возможностях найма,
аренды, продажи и покупки движимого и
недвижимого имущества, взятия в залог и т. д. —
десятки постановлений, и каждое из них ограждает
интересы монастыря.
Расходные деньги держать только в ризнице,
в сундуке за печатью настоятеля. Ключ же —
у казначея. Открывать сундук только казначею,
в присутствии настоятеля и совета старшей
братии. Кружечные сборы пересчитывают так же
совместно: совет братии, настоятель, казначей и
закрывают в сундуке (Указ Синода, 1907 г.,
1892 г., Инструкция благочинным, ст. 23).
Свободные суммы монастырь должен держать
только в Государственном банке (Указ Синода,
1893 г.).
Хозяйством управляет Совет старшей братии
(сестер) под председательством настоятеля.
Отчет и план составляются на год: вопросы
строительства, ремонта, закупок и заготовок, меры
повышения доходности монастыря и т. п. Вся
документация должна быть готова в августе
302
(церковный год начинается с 1 сентября) (Указ
Синода, 1892 г., №7).
Имущества монаха. Любое имущество монаха
общежительного монастыря — собственность
монастыря и после смерти инока наследуется
монастырем в бесспорном порядке. Равно и при
„сложении пострига". По смерти инока
необщежительного монастыря ищут наследников, только если
их не находится, имущество покойного переходит
обители (УДК, ст. 115, 123). Из „братских
доходов" за службу, за. требы, проценты от
положенных в Госбанк сумм „за вечное
поминовение" 80 процентов идут братии и делятся между
нею по рангам. Завещать имущество иноки друг
другу не могли (собственность обители!), а
только богослужебные книги и культовые предметы
(СЗ, т. X, 1887 г., ст. 1102).
Имущества духовных властей. „Духовные
власти" монастыря — это последовательно:
митрополит, архиепископ, епископ, архимандрит, игумен,
игуменья. Все остальные в монастыре — казначеи,
экономы, духовники, даже наместник в лавре —
братия, поскольку состоят под настоятельской
властью. А вот духовные власти (в монастыре
практически настоятель) могут завещать свое
имущество „в мир" и даже завещать мирянину
личные культовые предметы, украшенные
драгоценностями. Только следовало сам предмет-то,
скажем икону, ободрать без жалости: ризу снять,
благородные металлы и камни отдать
наследникам, а само священное изображение оставить
монастырю (СЗ, т. X, ч. 1, ст. 1186). О 80 процентах
дохода, что идет братии, мы сказали. Остающиеся
20 процентов получает настоятель. Доли всех
остальных определяет Совет старшей братии
(сестер), но если окажется, что доля настоятеля, его
20 процентов окажется менее трех долей
иеромонашеских, то настоятелю следует дать три
иеромонашеские доли. Там же, где
настоятель-архиерей, он получает ,/3 братской кружки. Заметим,
что настоятели монастырей 1-го и 2-го классов
именуются архимандритами, а 3-го класса —
игуменами. И в отдельных случаях настоятелей
третьеклассных монастырей Синод разрешал посвящать
в сан архимандритов — это честь, — но при этом
указ оговаривает, что оклад нового архиманд-
303
рита останется прежним — игуменским
(Указы Синода от 26 февраля 1764 г. и 18 декабря
1797 г.).
Честь мундира. Критика монашества, особенно
народная сатира на быт и нравы обителей,
преследовалась. Так, категорически запрещено
изготовление „разных соблазнительных фигур, в
посмеяние монашества сделанных" (Указ Синода от
6 июня 1823 г.). Следует сказать, что такие
указы помогали мало. Монашество было
постоянным объектом народной сатиры. К слову, в
Загорске в начале века, а тогда он был Сергиев Посад,
кустари бойко продавали разные
„соблазнительные фигуры" монаха, у которого, если нажать
пружинку, распахивалось чрево. В нем было
битком набито окороков, колбас, винных бутылок
и прочей неиноческой снеди.
Законы всесторонне ограждали монашество,
заботились о процветании монастырей, а в самом
монастыре подчеркнуто опекали его верхушку.
Один только перечень государственных
установлений России на эту тему огромен, но его можно
и не продолжать. Суть законов, постановлений,
указов, определений и другого актового
материала ясна.
ТЕМА ОСТАЕТСЯ ОТКРЫТОЙ
(Вместо заключения)
Автор, насколько смог, рассказал о том, что
такое монастырь и его обитатели, чем занимался
монастырь в прошлом, как привлекал верующих и
насколько сильно было идейное влияние черного
воинства на массы. Можно бы поставить точку, но
в стороне, лишь едва задетая, осталась большая
тема. Она вызывает живейший интерес.
Речь идет о том, что с монастырями принято
связывать начала русской культуры, будь то
грамотность или книжность, будь то зодчество,
музыкальное искусство, начало писанной отечественной
истории или даже круг технических знаний.
Современная церковь всячески подчеркивает
свои заслуги в прошлом, стремится доказать, что ее
деятельность играла большую и благотворную роль
в развитии культуры, хотя с каждым днем
доказывать это современным богословам становится все
труднее.
Только за три последние десятилетия трудами
советских ученых, в первую очередь исследователями
древнерусской литературы, историками,
медиевистами и археологами, историками искусства,
специалистами других областей знания культура
Древней Руси открыта как открывают неведомую землю,
как целый материк, полный всяческих богатств,
того, что мы суммарно называем духовным
наследием и чего мы по-настоящему до сих пор незнаем.
Величие культуры прошлого еще только
открывается нам.
Почему так получилось? Мы попытаемся ответить
на этот вопрос, но сначала вернемся к монашеству
и его роли в духовной культуре. Она действительно
была большой, разносторонней и важной. Она была
неоднозначной и часто противоречивой, что сильно
затрудняет ее оценку.
Не всегда достаточно снять религиозный покров
с памятников прошлого, чтобы выявить „их
реальное земное содержание", как это иногда пытаются
делать. Иногда памятник можно видеть и
воспринимать без религиозного флера, не столько снимая,
сколько отвлекаясь от него. Бывает же,
религиозный покров сросся с кожей, и, обдирая его, мы
не всегда чувствуем, что прошлое кровоточит.
308
Религиозная идеология господствовала в течение
огромного периода жизни человечества, и не только
господствовала, но была единственно возможной
идеологией. Можно было по-разному понимать мир:
в первобытном ли „языческом" страхе и бессилии
перед природой, в феодальном ли божественном
промысле, устроившем мироздание на пользу
человеку, но все это — мировоззрение религиозное.
Исчерпывающе верна мысль Ф. Энгельса о массах,
которые на протяжении всего средневековья были
„вскормлены исключительно религиозной пищей".
Можно было разойтись с трактовками церкви в
оценке мира, общественных и личных отношений,
норм морали и права и т. д., но эти расхождения
происходили в пределах религиозного
мировоззрения. Прорывы религиозной сферы —
секуляризация культуры — оказывались делом будущего,
делом Нового времени.
Становление феодализма потребовало новой
идеологической базы. Здесь важно учитывать, что
феодализм на Руси возник, минуя
рабовладельческую формацию, которую прошла Византийская
империя. Поэтому Русь переносит к себе,
трансплантирует сложившуюся идеологию и вероучение.
Именно трансплантирует — в иных исторических
условиях христианство было бы „отторгнуто" как
несовместимое. С Киевским феодальным
государством оно было и совместимо и необходимо ему
для дальнейшего развития. Вместе с тем
христианству пришлось весьма непросто в
существовавших на Руси условиях и внедрение его отличалось
рядом специфических особенностей.
Византийская „крестная мать" обернулась
мачехой. На просторы Руси из переполненных иноками
и богословами, проповедниками и просто
тунеядцами обителей Царьграда ринулись толпы
просветителей. Немногие несли „славянским варварам"
свет новой веры или христианские отсветы
античной культуры. Большинство ехало ради сытного
куска; многие со сложными замыслами
духовной колонизации могучего северного соседа, в
котором так нуждалась пошатнувшаяся империя.
Этих задач, как известно, Византии решить не
удалось, русский же феодализм обрел новое
идеологическое оружие для своих задач и эти задачи
решал.
309
Отношение к греческому миру было достаточно
сложным. Греческие монастыри обосабливались,
а лавра становилась своего рода идейным и
культурно-политическим противовесом греческому
влиянию на Руси.
Греки стремились не только внедрять „правую
веру" — здесь их авторитет стоял очень высоко во
всем, что касалось внутренней жизни церкви,
богослужебных порядков, культа, богословских
„премудростей" и религиозной традиции. Но как только
греки через церковь пытались оказывать влияние
на политику и дипломатию Киева, они получали
отпор, который был единодушен и однозначен.
Русь охраняла свою независимость от Византии.
Борьба была достаточно сложной. „Греки и до сего
дня льстивы (лживы)",.— подводит летописец едва
ли не полуторавековой итог общения с Византией.
Характеристика эта обоснованно держалась все то
достаточно долгое время, когда Константинополь
пытался вмешиваться в дела Русского
государства.
В Древней Руси и в средние века идеи
православия — религии единственно „истинной", не
искаженной и не извращенной латинянами, — понимались
как патриотические и поддерживали народное
самосознание в периоды прямой борьбы с Западом.
Александру Невскому или псковскому князю
Довмонту-Тимофею приходилось отражать
военную агрессию, шедшую рука об руку с
католицизмом. В условиях Речи Посполитой украинцы
и белорусы отстаивают национальную культуру и
язык, сопротивляются окатоличиванию,
ополячиванию. В этих условиях православие являлось одной
из сил, способствовавших национальному
сплочению.
Распространение православия, исторически
происшедшее очень быстро, дело, за которое и церковные
и светские феодалы взялись энергично, не
останавливаясь и перед „огнем и мечом", поставило ряд
задач в масштабах всего государства. Требовалось
повсеместно строить церкви и снабжать их хотя бы
самым необходимым для организации культа:
книгами, иконами, утварью и т. п. Вставали и новые
архитектурные задачи, и задачи использования
возможностей искусства, литературы, музыки в
пропаганде нового мировоззрения.
310
Во всем этом следовало противостоять
традиционным религиозным верованиям
разноплеменного населения, противостоять целостно, вытесняя
сложившуюся еще в родовом обществе систему
взглядов. Христианство было новым
мировоззрением, бесспорно более прогрессивным. Ценности
нового феодального мира санкционировались
именем нового христианского бога. Монастыри стали
центрами пропаганды этих ценностей, базой
духовного воспитания. Монашество было единственной
группой феодального общества, которая получила
все необходимое для подобного рода деятельности:
досуг, материальные средства, информированность
о событиях, систему собственных связей,
обеспеченную единством церкви и ее феодальным
иммунитетом.
В монастырях Киева, Новгорода, Чернигова и
других центров Древней Руси принимало постриг,
жило, приезжало и уезжало духовенство разных
стран и народов. В Печерской лавре складывается
своеобразное разноплеменное и разноязыкое
братство. Киевляне и половцы, армяне и греки, болгары
и сербы, сирийцы, венгры — все были равны в
стенах лавры. Сюда для распространения везли книги
и утварь, отсюда руководили создаваемыми вновь
мастерскими — живописными, ювелирными,
книжными, отсюда уезжали в монастыри Царьграда и
далекую Палестину набраться практического опыта
и за реликвиями, сюда приезжали зодчие и
художники Византии, мастера невиданного доселе
сияющего многоцветья мозаики и быстрой в работе фрески.
С Афона возвращались паломники, прошедшие
школу аскетического монашества.
Здесь вчитывались в тексты „Слов" и
„Поучений", составляли и редактировали проповеди.
Искали, как слить новое на Руси христианство с
народным миропониманием и обычаями. Спорили
о существе религиозных догматов и о тонкостях
литературного перевода, о нормах морали и
овладевали гомилетикой — умением красноречиво и
убедительно излагать вероучение. И если
приподнять религиозный покров, который, конечно, здесь
не ставился под сомнение, то под ним
открывалось стремление истолковать общечеловеческие
ценности, просветить, научить истинной жизни.
Добро и справедливость, которых так не хватало
311
в „старом христианском
мире, пытались императивно
внедрить на просторах
„новой" земли — от Черного до
Белого моря.
Все было
противоречивым и все подкреплялось
авторитетом отцов церкви,
выводилось из Евангелия.
Искренний восторг перед
мирозданием, в центре
которого человек — высшее
творение божие, — и вдруг сам
этот человек гнусен и
греховен. Восторг перед
всемогуществом и милостью бога и
страх его гнева, неизбежных
жестоких кар. Жизнь кипела,
но она же объявлялась
тщетной и суетной, и выдвигалось
требование аскетического
ухода от нее, поста,
непрерывной борьбы с
естественными потребностями
человека.
Нестор-летописец. В Киево-Печерской лавре
С картины В. М. Васнецова. лежит И начало русского ле-
тописания. Чернец Нестор,
Нестор-летописец — первый отечественный историк,
создал здесь „Повесть временных лет", ставшую
фундаментом русского летописания. Этот труд —
образец глубокой и разносторонней образованности
среди вершин культуры той эпохи. Инок Нестор
заслуживает глубочайшего уважения потомков, но
дело не в похвале Нестору: он отнюдь не стоит
неким исследователем-одиночкой. Его труд опирается
на предшествовавший свод 1093—1095 годов и на
свод учителя Нестора — Никона, которого летопись
называет великим.
Монастырь был привычным местом творческой
работы древнерусского писателя, историка,
художника, ремесленников десятков специальностей.
Литературные потребности удовлетворялись в первую
очередь через монастыри, где собирались мастера
книжного дела: переписчики, переплетчики,
иллюстраторы и т. д. Тексты требовали также редактиро-
312
вания, перевод должен был соответствовать
оригиналу, что было особенно важно в связи с опасностью
„латинских ересей". Одним словом, приходилось
решать круг серьезных лингвистических задач,
а следовательно, исторически и филологически
образовываться. Монастырь становился школой.
Необходимый навык книжной культуры, непростой,
а поначалу и непривычный, сосредоточивался в
монастыре.
Мы остановились достаточно подробно на
вышеописанных проблемах монастыря в Древней Руси
с единственной целью — подчеркнуть, что суть
роли монашества в просвещении этого периода
и в средние века сводится к тому, что чисто
религиозные задачи в это время не могли быть
решены без решения задач общекультурного
характера.
Так, например, распространяя грамотность,
церковь имела в виду свои практические интересы
и интересы господствующих классов. Но
грамотность — сила, которую церковники не могли
удержать под контролем. И среди многоголосия
средневековой жизни Новгорода клочок бересты
взывает: „Да пришли мне чтения доброго..." В
грамотах отражены повседневная жизнь и детали быта
городских низов Новгородской республики.
Пишут ремесленники и мелкие торговцы, воины,
крестьяне, школяры... Привычка к чтению,
книжная культура были достаточно широко
распространены среди этих слоев новгородских великих
пятин.
Летопись постоянно упоминает светских лиц,
ставя им „книжное разумение" в важную заслугу.
„Книгам прилежал", „прилежал словесам
книжным" или „книжному писанию" — частая
характеристика русских князей.
Яркий ореол чуть ли не единственной
носительницы культуры и просвещения, который
пытается присвоить себе церковь, конечно,
неправомерен. Но вместе с тем так же ошибочно сводить ее
роль в становлении русской культуры
исключительно к „реакционной сущности". Роль
монастыря в культуре требует в оценках строгого
историзма.
313
ОТСТУПЛЕНИЕ
Круг чтения
От Руси, начиная с XI—XV веков до наших дней
дошло около тысячи книг. Из них на XI—XIII века
приходится лишь 130 томов — крохотная часть
книжных богатств, которые составляли фундамент
русской образованности той эпохи. Даже самый
скромный подсчет говорит о многих тысячах
томов, хранившихся в монастырских и княжеских
библиотеках, в храмовых ризницах, в частных
домах.
Большинство книг — церковные. Книжные
мастерские Руси в первую очередь обеспечивали
культовую деятельность церкви, решавшей задачи
распространения и внедрения христианства.
Однако преобладание богослужебной литературы
было все же не столь большим, как это обычно
представляется. Среди упомянутых 130 самых
древних томов богослужебных всего 30. Остальные
книги — „четьи", то есть для чтения. Их содержание
преимущественно религиозно-нравственное. Это
переводная патристика — произведения отцов церкви:
Иоанна Златоуста, Василия Великого, Иоанна Лест-
вичника и др. Книги полностью светского
содержания: исторические сочинения, хроники, воинские
повести, например „Александрия" — обширное
произведение о жизни и подвигах Александра
Македонского или чисто беллетристическая „Повесть об
Акире Премудром" и т. д., — насчитываются
единицами. Таков был общий круг средневекового
чтения не только на Руси, но и в Византии и в
христианизируемой Европе.
И все же церковные книги, вероятно,
преобладали даже не в той степени, на которую указывает
соотношение сохранившиеся томов. Церковные
священные книги хранились в храмах. Они оберегались
особо; использовались только при службе и после
нее бережно убирались в ризницу. По
действовавшему в те поры строгому монастырскому уставу инок,
хранящий книги, если плохо бережет их, „не истря-
сая, не сохраняя от праха", наказывается сидением
на хлебе и воде до тех пор, пока не наведет порядка
в библиотеке. Правило, надо сказать, завидное.
Многие храмы были каменными, что сохраняло книги
314
во время пожаров, неизбежной и частой судьбе
деревянных городов. Не страдали они и во время
разорений и грабежей княжеских усобиц. Все это
говорит нам о том, что они и должны были сохраниться
в большем количестве по сравнению с
небогослужебной литературой.
Четьи книги шире обращались в обществе — это,
при всем почтении к Книге, заметно понижало
степень их сохранности. Столь же широко была
распространена и учительная литература, но круг
религиозных поучений был и в Древней Руси и позднее
весьма узок: терпение на земле — небесная
награда; несоблюдение церковности — загробная кара.
Ознакомившись с этими краеугольными тезисами
церковных поучений и простодушно приняв их
аксиомы, предок наш не мог остановиться на столь
скудной духовной пище — и он находил нужное
в тех же книгах, но не в религиозной окраске
мысли авторов, а в их мирской, социальной,
нравственной направленности в поиске добра, истины,
справедливости. „Велика польза учения книжного" —
эта высокая и справедливая оценка книжной
культуры нашими предками записана в „Повести
временных лет".
Мы не коснулись многих сторон деятельности
монашества в сфере культуры, но и из этого беглого
очерка должно быть ясно, во-первых, что не в
религиозной идеологии и не в православном вероучении
кроется существо процессов, протекавших в жизни
общества, в развитии его культуры. Во-вторых,
очевидно, что культура постоянно вырывалась из-
под контроля церкви, вступала в противоречия
с официальной догматикой, „впадала в ересь".
Важно еще раз подчеркнуть и то, что „культурная
деятельность" монастырей — лишь побочный
продукт их основной религиозной деятельности,
средство для достижения религиозных целей. Так, и
только так, понимало свою задачу монашество. Что же
касается имен, названных нами и не названных,
очевидно: если инок писал икону, то не потому, что
был монахом, а потому, что был художником, если
писал летопись, то потому, что был историком, а
житие писал как литератор, потому что был
писателем...
315
В литературных памятниках прошлого мы видим
не столько монашество, сколько его портрет,
точнее, автопортрет, написанный пристрастно и льстиво.
Монашество век за веком стремилось еще более
облагообразить его, и, может быть, поэтому, чем
глубже даль веков, тем больше обнаруживает в ней
церковь „истинных подвижников", „истинных
чудотворцев".
И в значительной мере величие культуры
прошлого нам приходится открывать сейчас потому, что
только секуляризованная культура, избавленная от
духовного контроля церкви общественная мысль,
наука, стоящая на диалектико-материалистических
позициях, позволяют нам увидеть подлинное
богатство культуры прошлого не в обедненной
церковной его редакции, а в его истинном свете.
Непонимание преемственности культур,
порожденное верой в богооткровенность христианства,
отрицание культуры прошлого и настоящего, если
та не утверждала истин православия, христиански
неколебимая и жестокая нетерпимость ко всякому
„инакомыслию" вырастали на убежденности в бого-
установленности земных порядков, а значит в
правоте и нравственности своего дела. Мысль эта не
только тормозила развитие культуры, общественное
развитие, но и наносила прямой, трудно исчислимый
ущерб русской культуре.
Основная задача монашества — это не творческое
участие в культурном развитии, а стремление
направить его в исключительно религиозные рамки,
идеологически контролировать культуру. Эту задачу
монашество и выполняло.
Монашество стояло на том, что истины
христианства — православия — конечные истины
человечества, единственно спасительные, единственно верные.
Следовательно, все, что в духовной культуре
противоречит христианскому миропониманию, не может
быть полезно для человека, а посему должно быть
истреблено.
Но дело не во взвешивании „положительных"
или „отрицательных" сторон монашеского ли,
церковного в целом ли воздействия на культуру.
Выделять те или иные „стороны" — дело безнадежное. Но
кроме частных или общих оценок „вклада в
культуру" полезно посмотреть на то, что в эту
культуру могло войти и не вошло.
316
Церковь последовательно и часто очень
крутыми мерами противостоит некоторым видам
искусства, иные признает лишь частично. Ряд искусств —
скульптура, театр, музыка, танец — полноправно
и профессионально входят в национальную
культуру только в Новое время. Речь не о
секуляризации определенных видов искусства (хотя эта
задача тоже решалась в Новое время), речь о
допущении указанных видов искусства в целом. Наше
утверждение яи в коем случае не следует
понимать буквально: все названные виды искусства
существовали и развивались, но это происходило
на уровне народного, фольклорного искусства,
в целом гонимого православной церковью. Иные
сферы культуры монастырская стена
отгораживала напрочь. В музыке допущен только вокал,
пение церковное, хоровое, унисонное. Светская
музыка пробивает путь через партесное пение
(стиль многоголосого хорового искусства. — Ред.),
псалмы и канты, но выходит с клироса за ограду
храма только в конце XVII — начале XVIII века.
В живописи православие признает только икону,
исполненную в традиционной манере „изографа"-
старовера. Так было до XVII века, и мы
упоминали о борьбе, шедшей вокруг способов
изображения. Над живописными задачами, и по-прежнему
в иконе, над передачей перспективы и светотени
бьется Симон Ушаков, но и это — третья четверть
XVII века.
Только в середине XVIII века возникает русский
театр. Можно проследить его до терема Алексея
Михайловича. Для царя и узкого круга
приближенных немцы-ремесленники на немецком языке
разыгрывали библейские сцены. Ставил спектакль
пастор из Немецкой слободы. Профессиональный театр
в России — это Федор Волков, его В. Г. Белинский
назвал „отцом русского театра".
Светская скульптура получает развитие с конца
XVII — начала XVIII века. Образцы народной резьбы
более раннего времени — редкость. Может быть, их
было и немало, но церковь препятствовала именно
скульптуре.
Танец гоним церковью до XVIII века.
Скоморохи, профессиональные русские труппы актеров и
музыкантов, певцов и танцоров едва терпимы, а
в XVII веке их творчество под запретом.
Продолжать ли?
317
Трудно взвесить роль церкви и монашества в
становлении и развитии русской культуры,
действительно трудно. И наш перечень проясняет многое.
Все виды человеческой деятельности связаны
неразрывно, взаимозависимы. Русскую культуру
хранили массы, и ее не удалось согнуть в церковном
поклоне, наоборот, в Новое время стремительно и
сильно освобождается она от церковной опеки,
полноправно занимает место в передовой культуре
человечества.
Но произошло это не благодаря церкви и не
монашескими трудами, а вопреки им.
Остановимся. Названные темы требуют
рассмотрения, выходящего за пределы этой книги. Мы же
стремились рассказать о том, что монашество
считало своим истинным делом, ради чего создавало
монастыри и слагало о них легенды.
ОГЛАВЛЕНИЕ
О чем эта книга 6
Глава 1. СИРОТСКИЕ ВЛАДЕНИЯ 19
Иноческие стяжания 20
Отступление от темы. Шестой лик ангельский 28
Игумен из Волока Ламского 40
Заволжские старцы 46
И ангелу небесному — анафема! 55
Отступление от темы. Адам Олеарий и владыка
Геннадий 57
Отступление от темы. Истина „на виске" 63
Перегруппировка сил 69
Отступление от темы. Табель о рангах 70
Земля — народу 77
Глава 2. СИСТЕМА МОНАСТЫРЕЙ 83
Чудеса при основании 84
Как складывалась система монастырей 91
Апостольская миссия 102
Отшельнические легенды 107
Легенда о „Святой Руси" 116
Отступление от темы. Полюсы монашества 122
Глава 3. „СВЯЩЕНСТВО ВЫШЕ ЦАРСТВА" 133
„Русский папа" 134
Отступление от темы. Христос в Тамбове 139
Три монастыря 150
Три Рима 154
Патриарх и протопоп 161
Отступление от темы. От Солов ков до Астрахани 169
Глава 4. РУССКИЙ ПАЛОМНИК 179
Икона 181
Крестный ход с иконой 188
„Поднять" икону 193
„Мощь" святых угодников 195
Отступление от темы. Что такое житие? 198
Святыни двух лавр 213
Другие реликвии 219
Отступление от темы. Маршрут по обители 222
Вода и камень 229
Система монастырских святынь 235
Легенда о монастырской кружке 237
Глава 5. РУССКИЙ ИНОК 247
„Одежда не делает монахом" —
Сутки монастыря 254
Система контроля 261
Отступление от темы. По монастырским
уставам 264
Киновия. „Три обета спасения" 267
Скит. „Живой мертвец" 276
Отступление от темы. Два аскета 287
Отступление от темы. Монах и закон 299
ТЕМА ОСТАЕТСЯ ОТКРЫТОЙ
(Вместо заключения) 308
Отступление. Круг чтения 314
Георгий Георгиевич Прошин
ЧЕРНОЕ ВОИНСТВО
Русский православный монастырь.
Легенда и быль
Заведующий редакцией А. В. Белов
Редактор Л. И. Волкова
Младший редактор С. О. Овчинников
Художник С. Ю. Биричев
Художественный редактор А. А. Пчелкин
Технический редактор Ю. А. Мухин
ИБ №4615
Сдано в набор 19.11.84. Подписано в печать 28.06.85.
А 00130. Формат 84Х901/з2- Бумага офсетная. Гарнитура
„Универс". Печать офсетная. Усл. печ. л. 14,0. Усл. кр.-отт.
84,70. Уч.-изд. л. 15,95. Тираж 100 тыс. экз. Заказ № 9095.
Цена 1 руб.
Текст набран в издательстве
на наборно-печатающих автоматах.
Политиздат.
125811, ГСП, Москва, А-47, Миусская пл., 7.
Ордена Трудового Красного Знамени
типография издательства „Звезда".
614600, г. Пермь, ул. Дружбы, 34.
Православные монастыри
стали образовываться
на Руси после введения
христианства (988-989 гг.).
К XV веку многие из них
превратились в крупнейших
феодальных землевладельцев,
прибравших к рукам окрестное
население — крестьян и ремесленников —
и нещадно эксплуатировавших
трудовой люд.
Однако современное православное
духовенство всячески пытается
приукрасить прошлое монастырей.
Церковные авторы особенно
подчеркивают, что монастыри
якобы сыграли исключительную
роль в развитии русской культуры,
в распространении грамотности.
А чем же были православные
монастыри в действительности и
какова их истинная роль в истории
России?
Найти ответ на эти вопросы
поможет предлагаемая книга.
ПОЛИТИЗДАТ