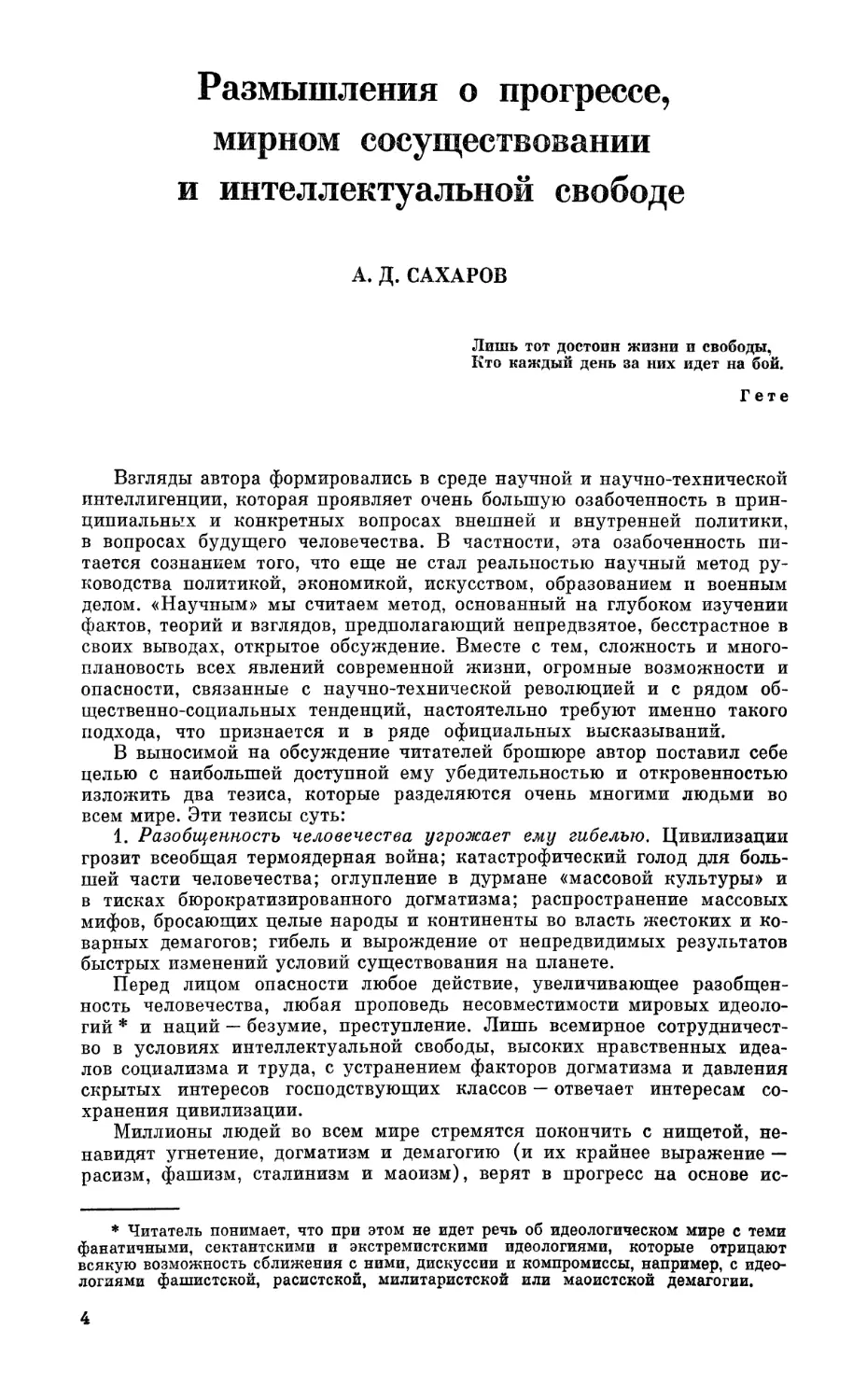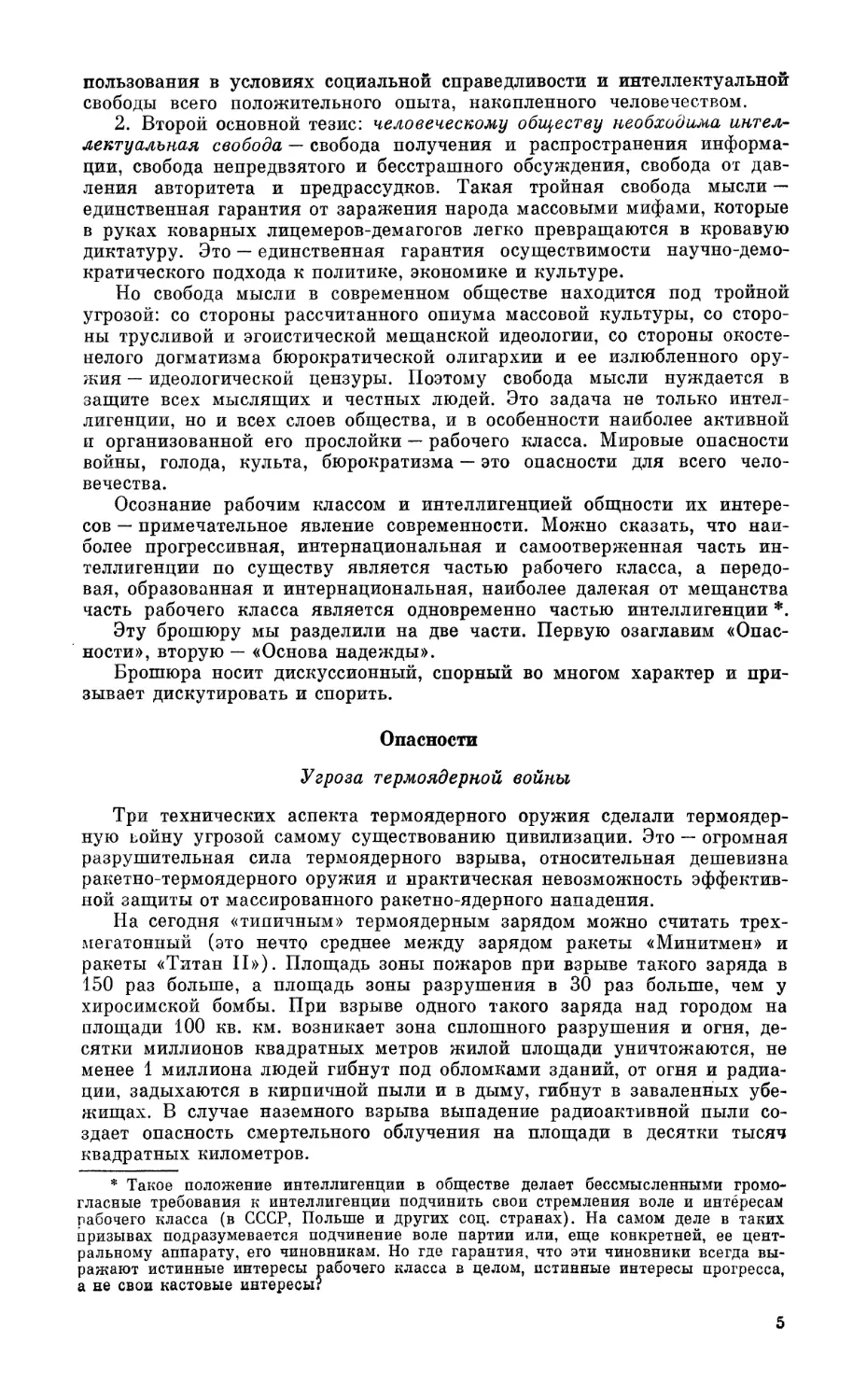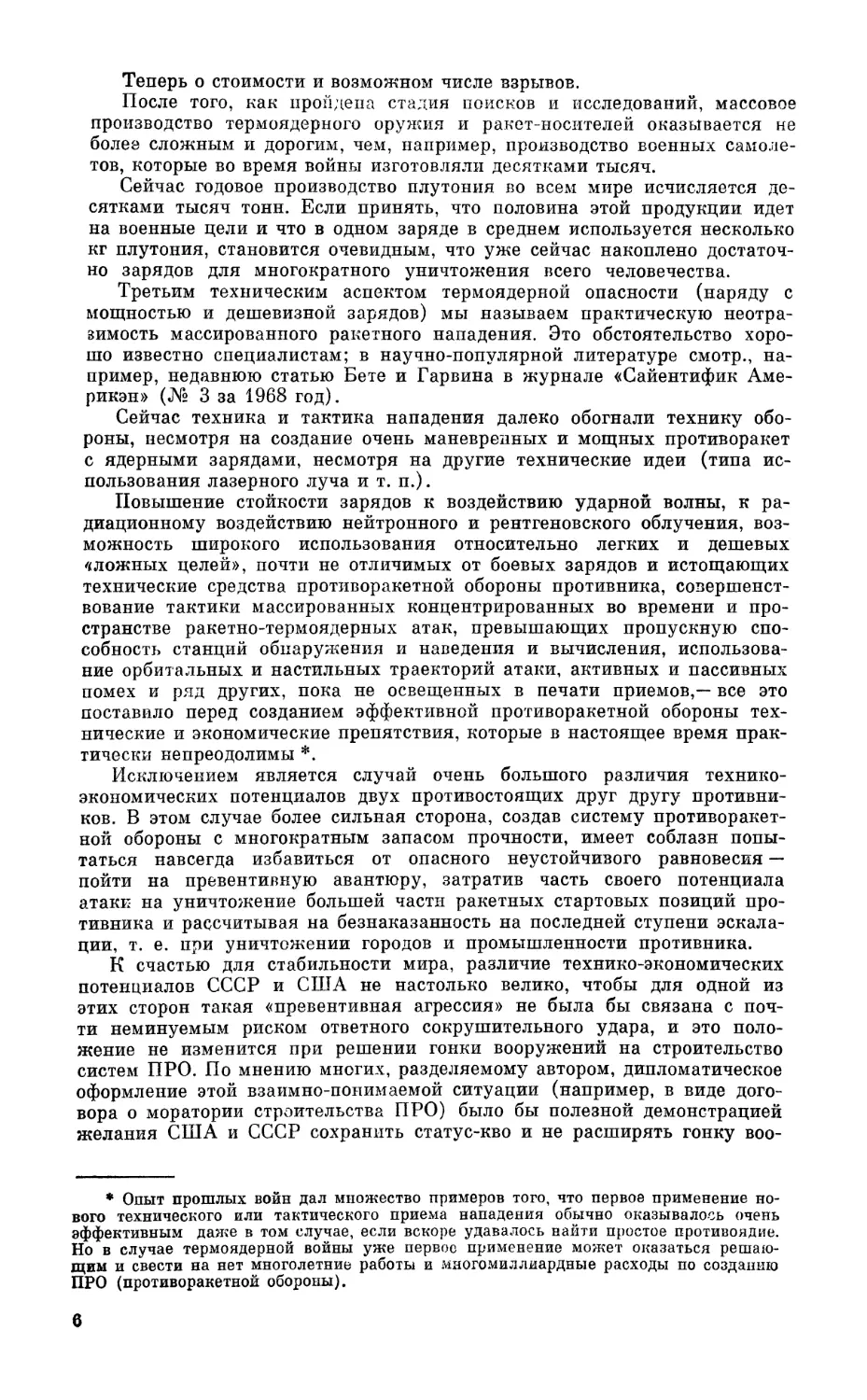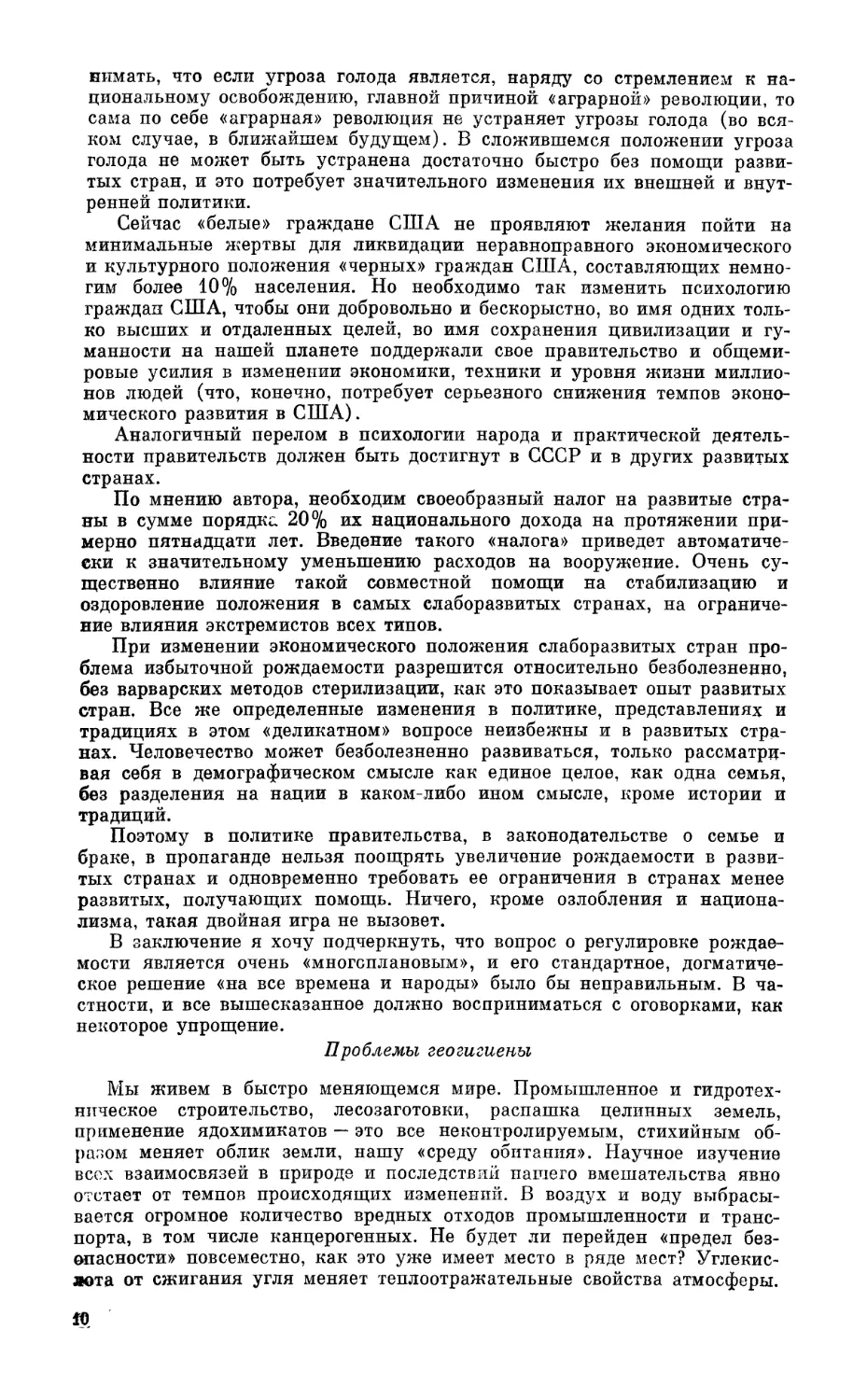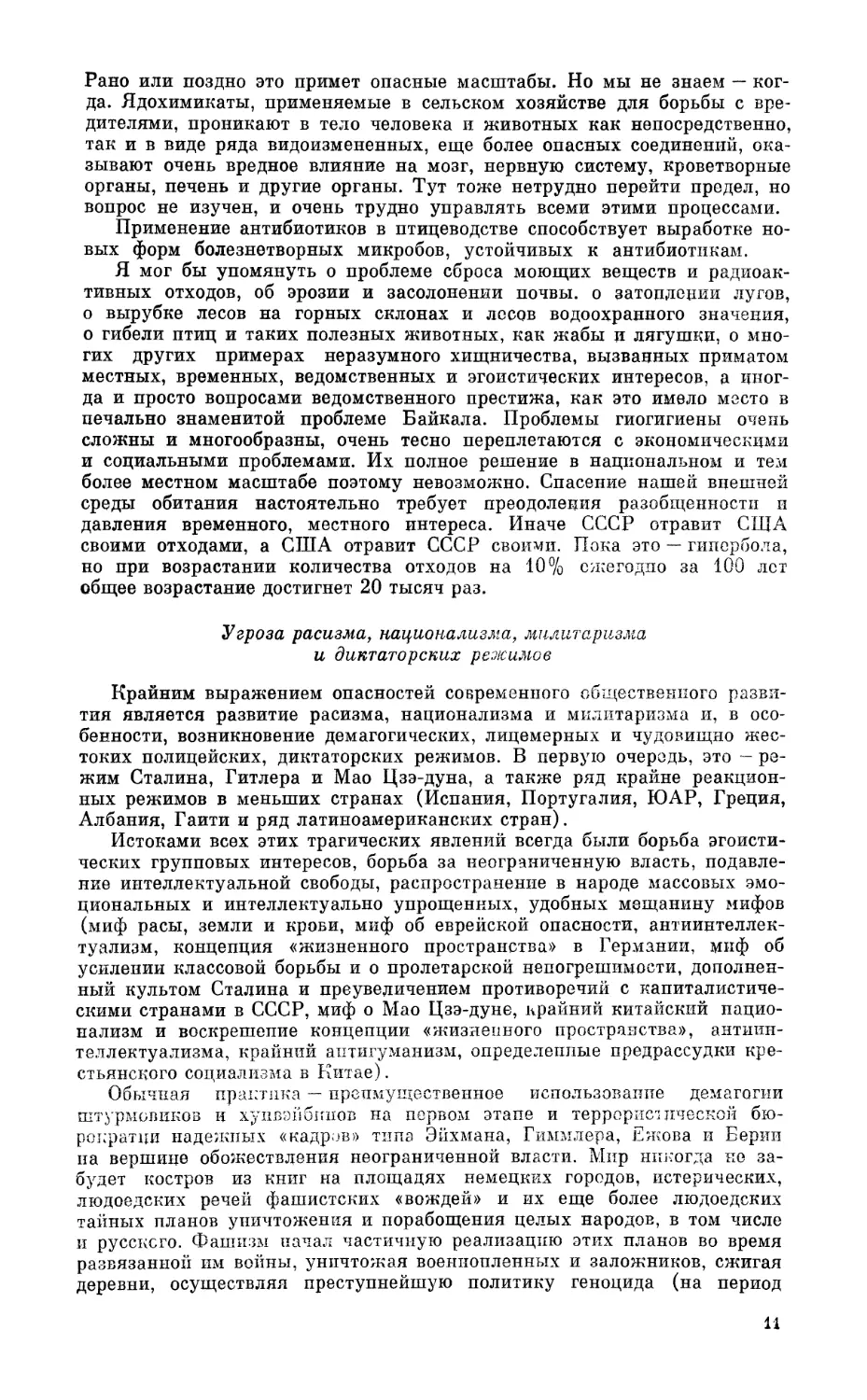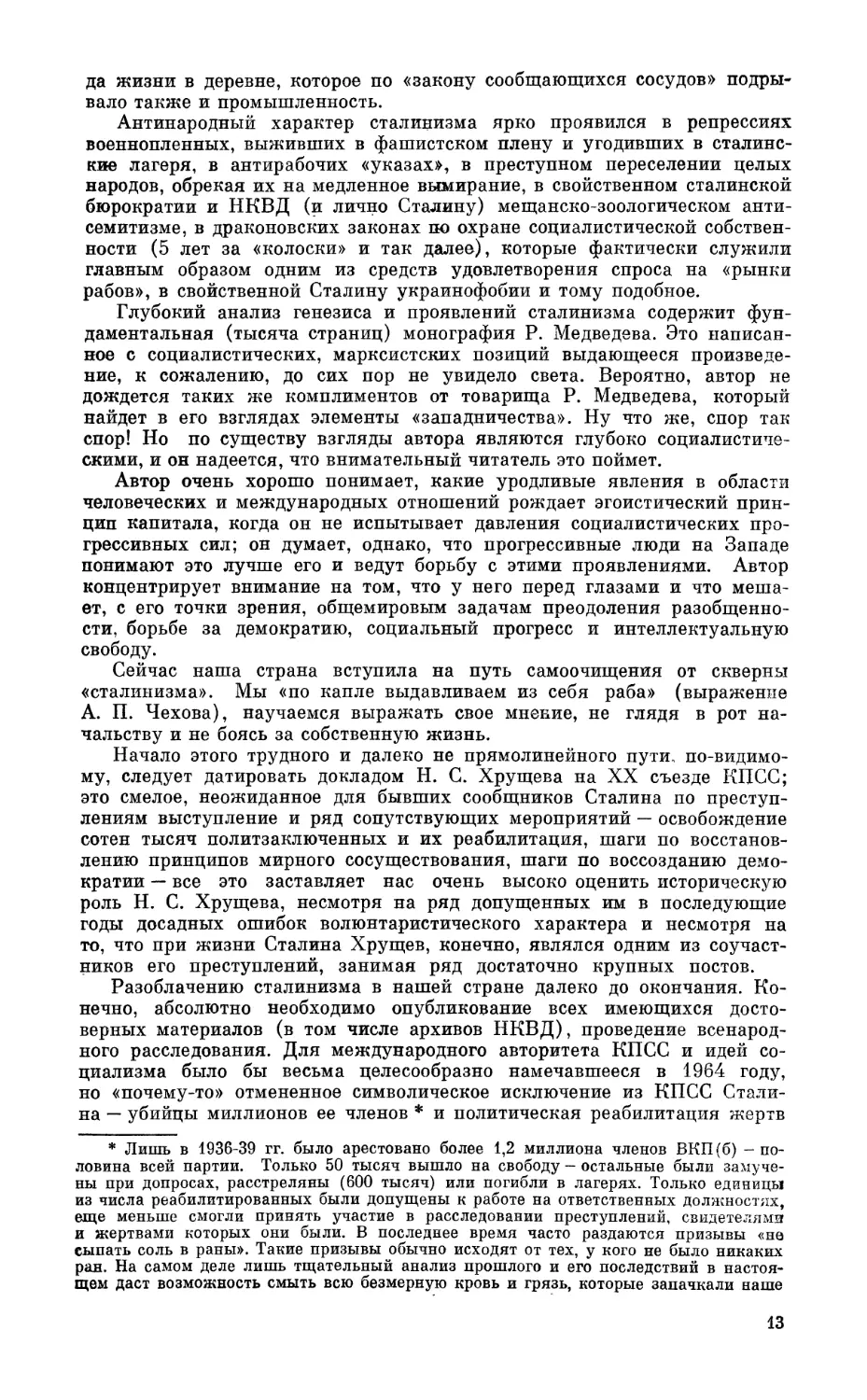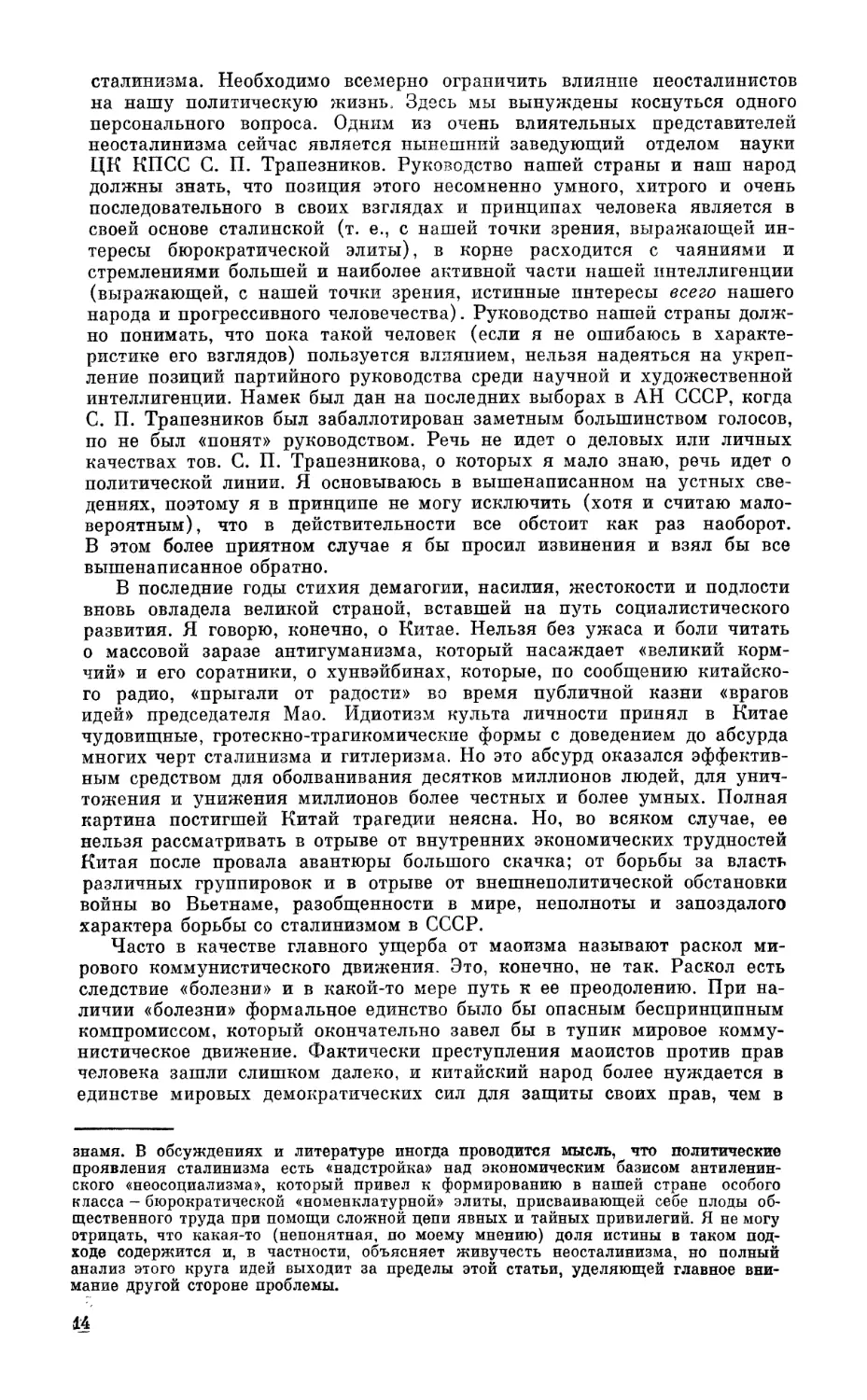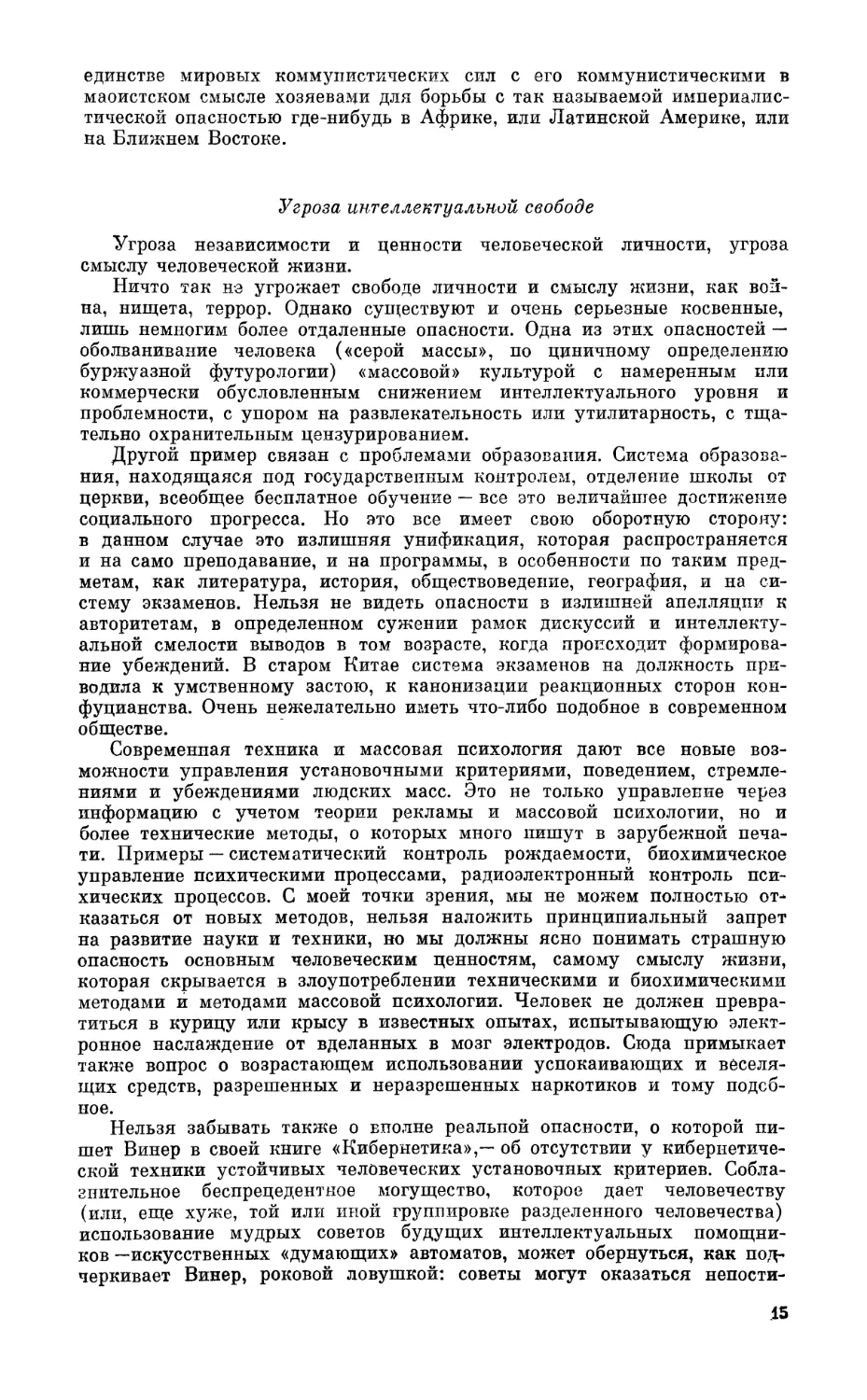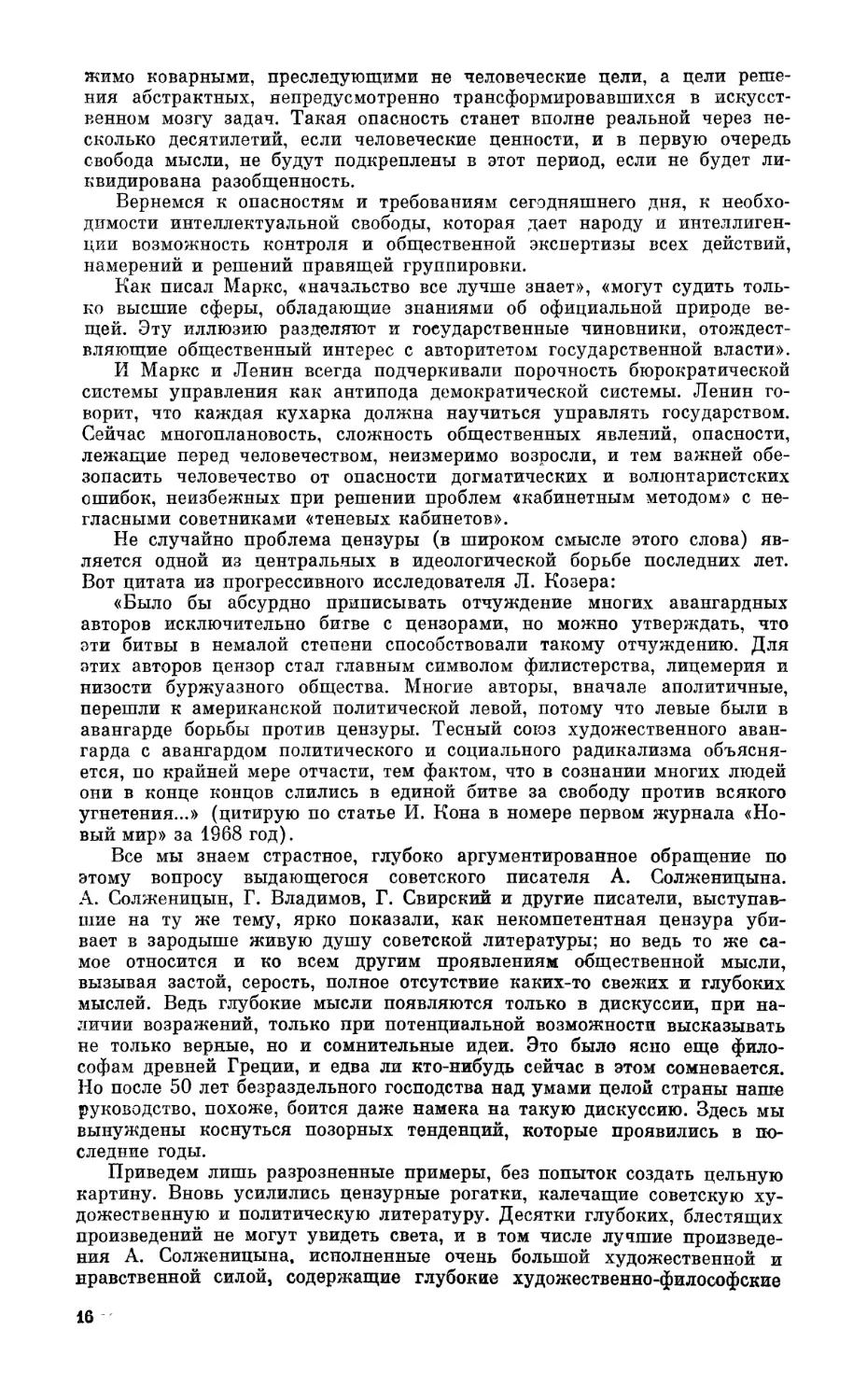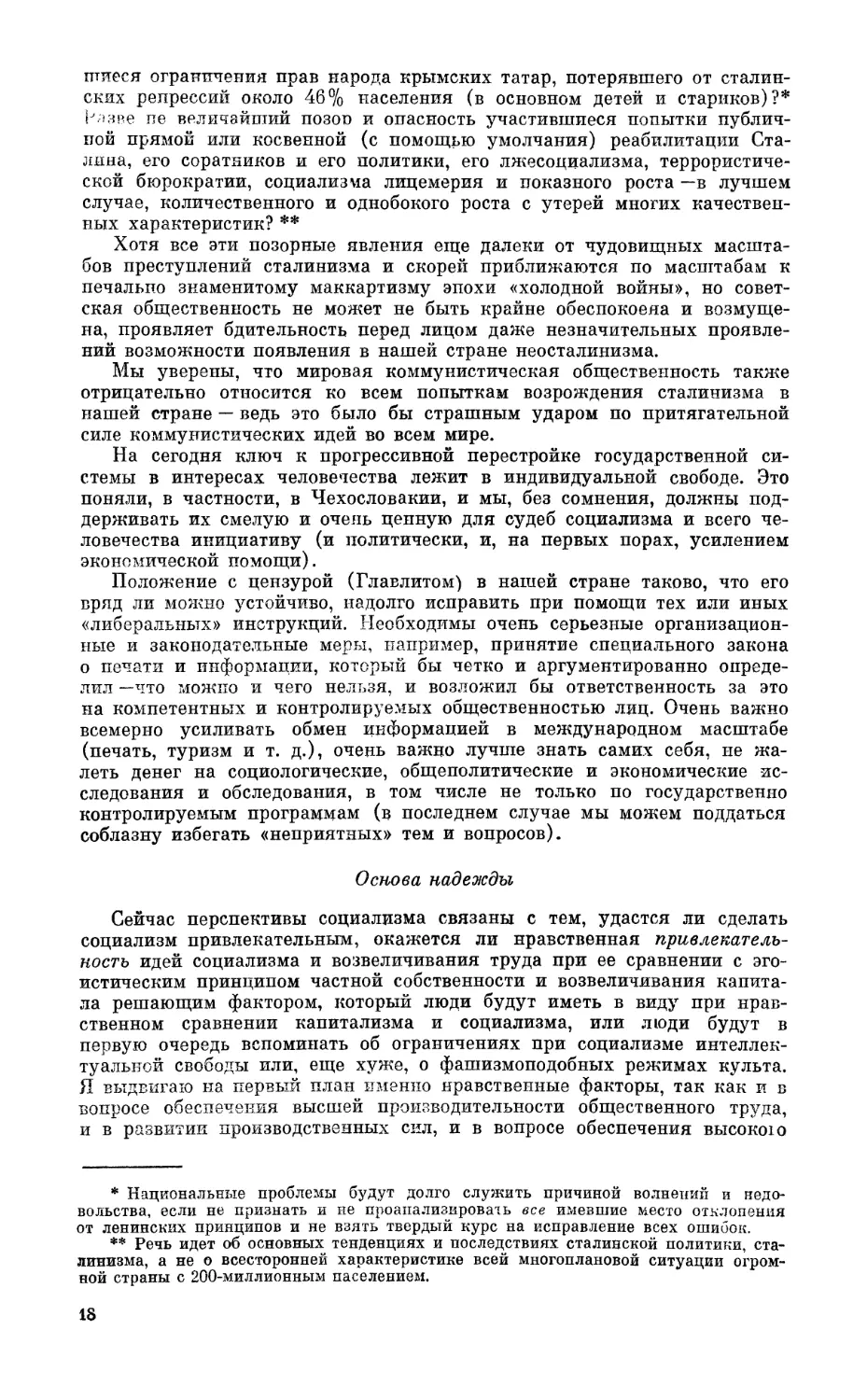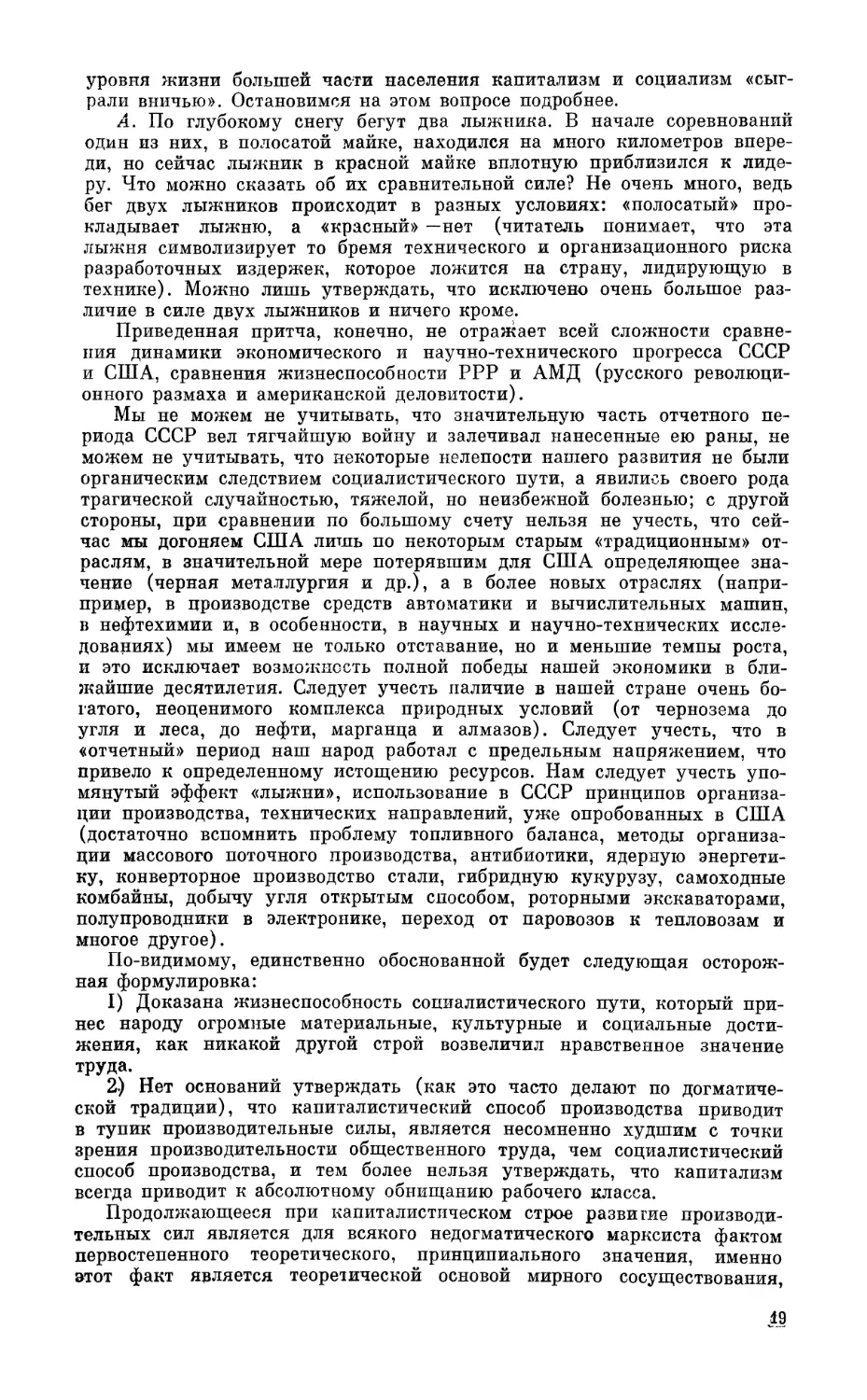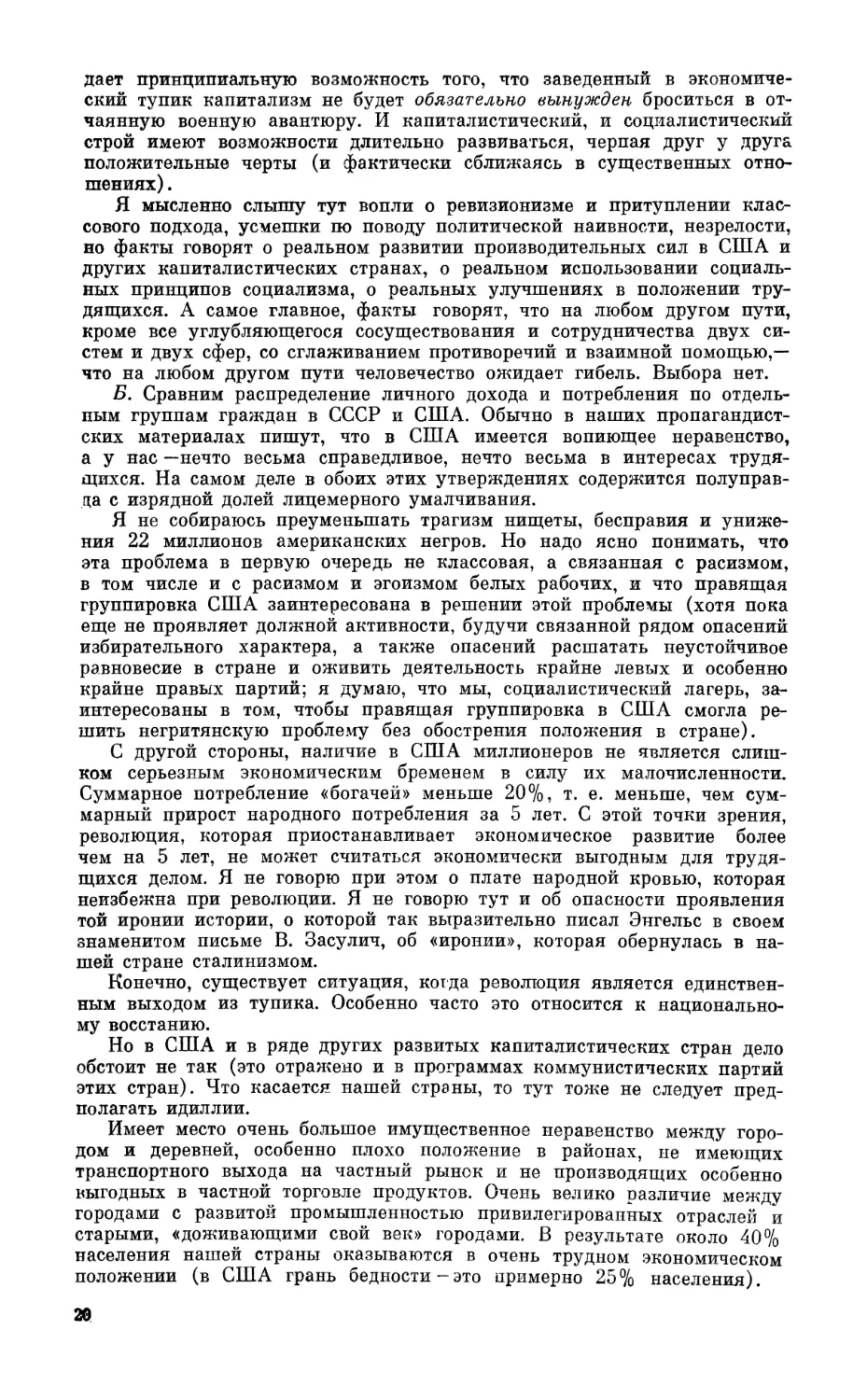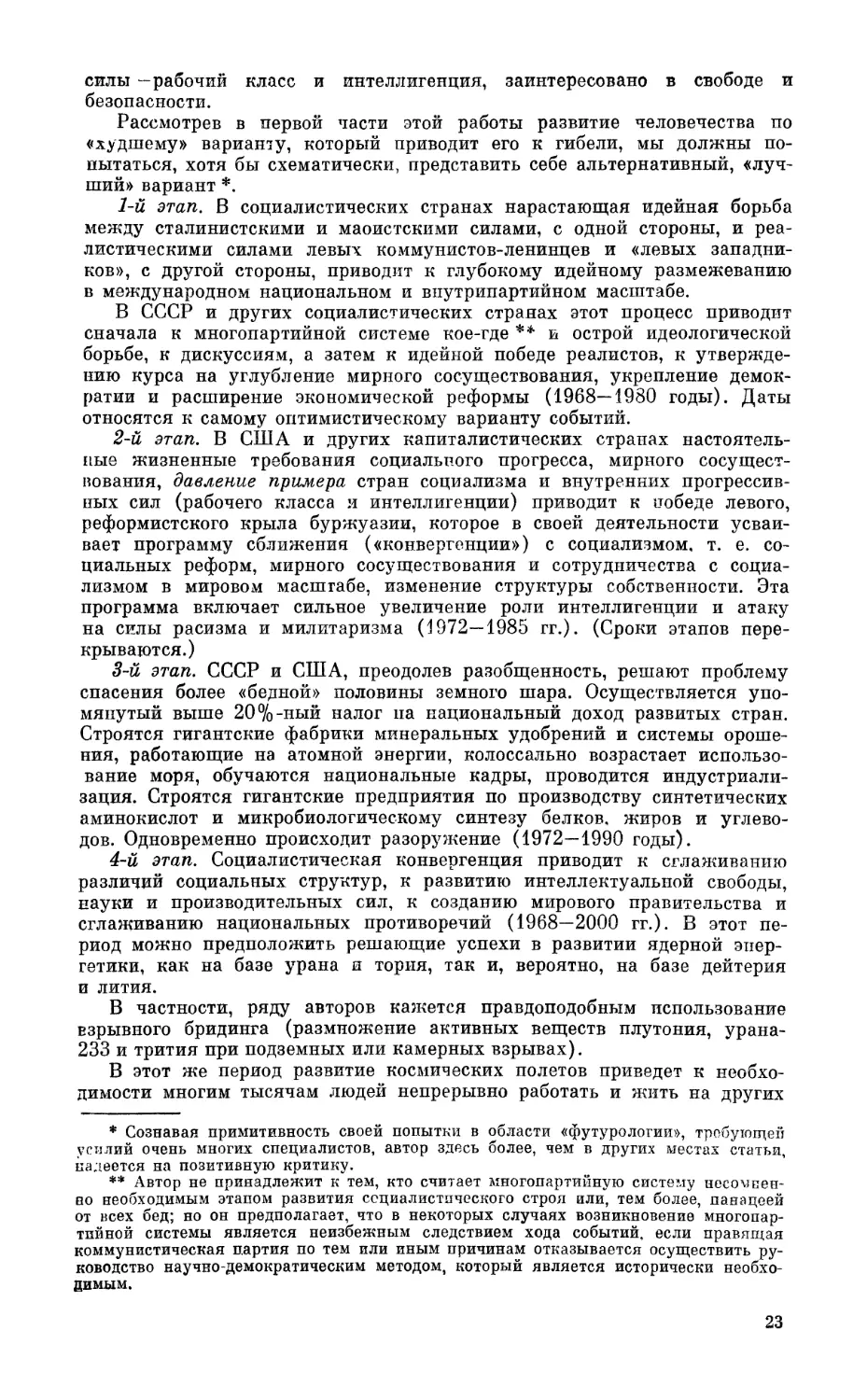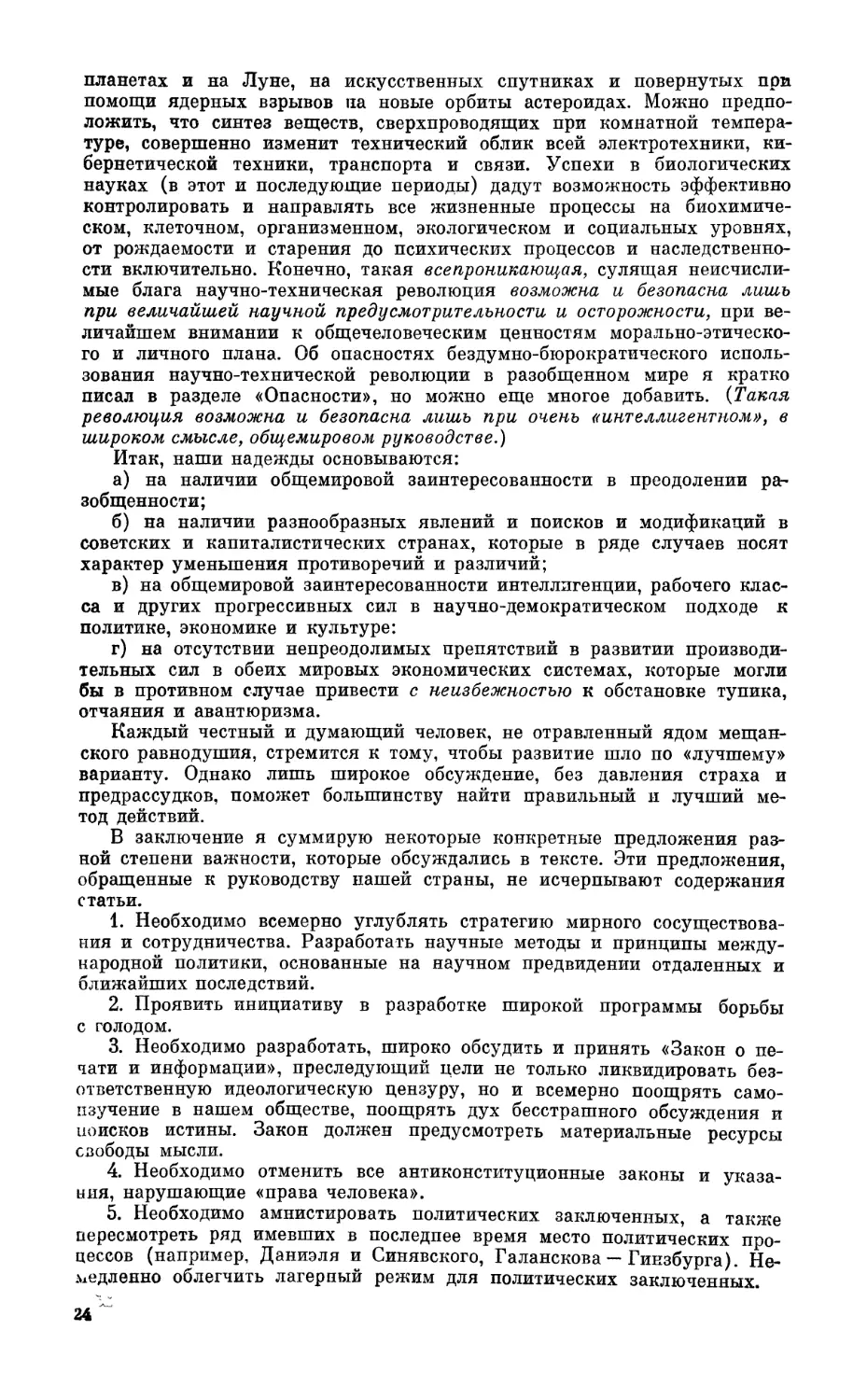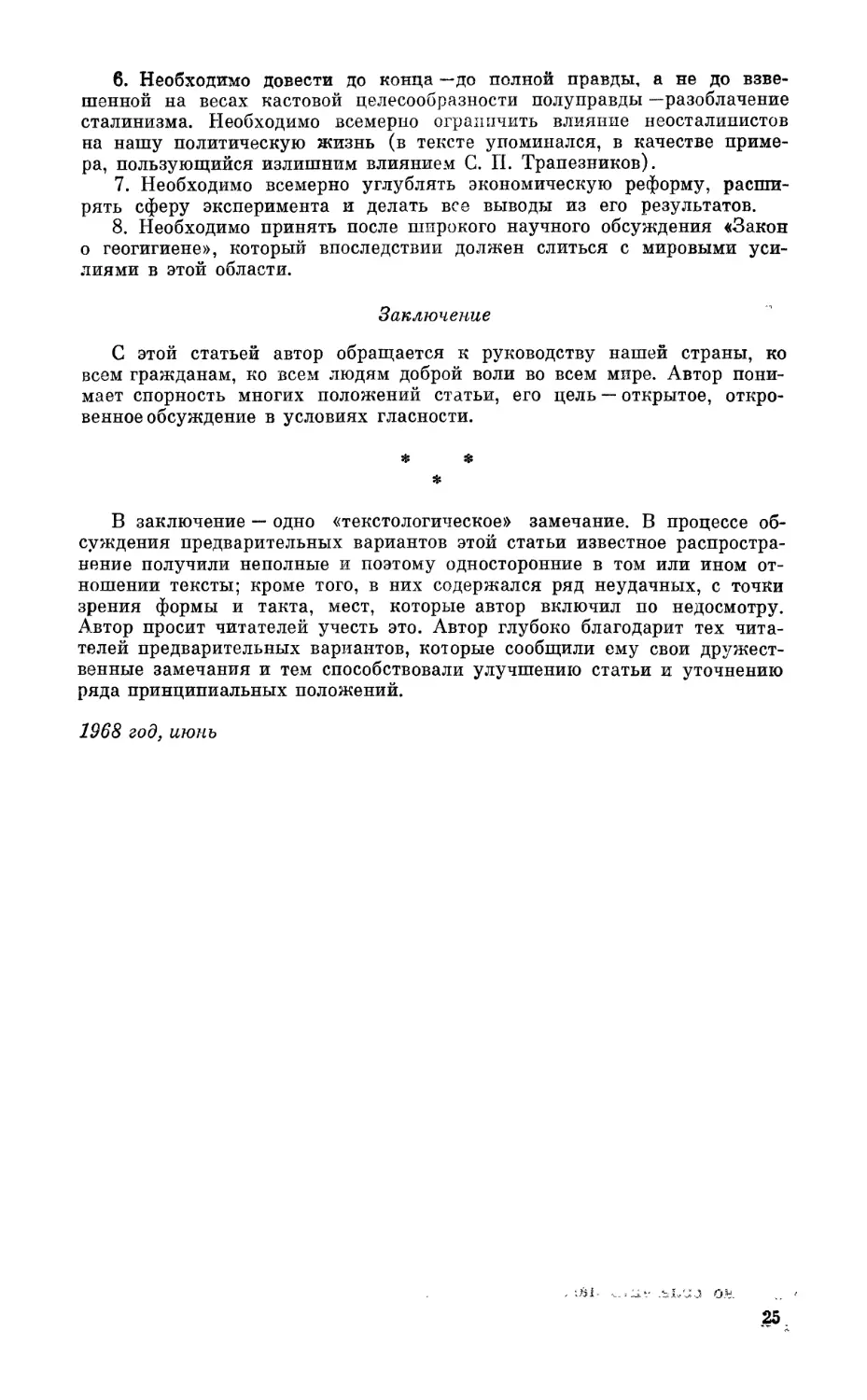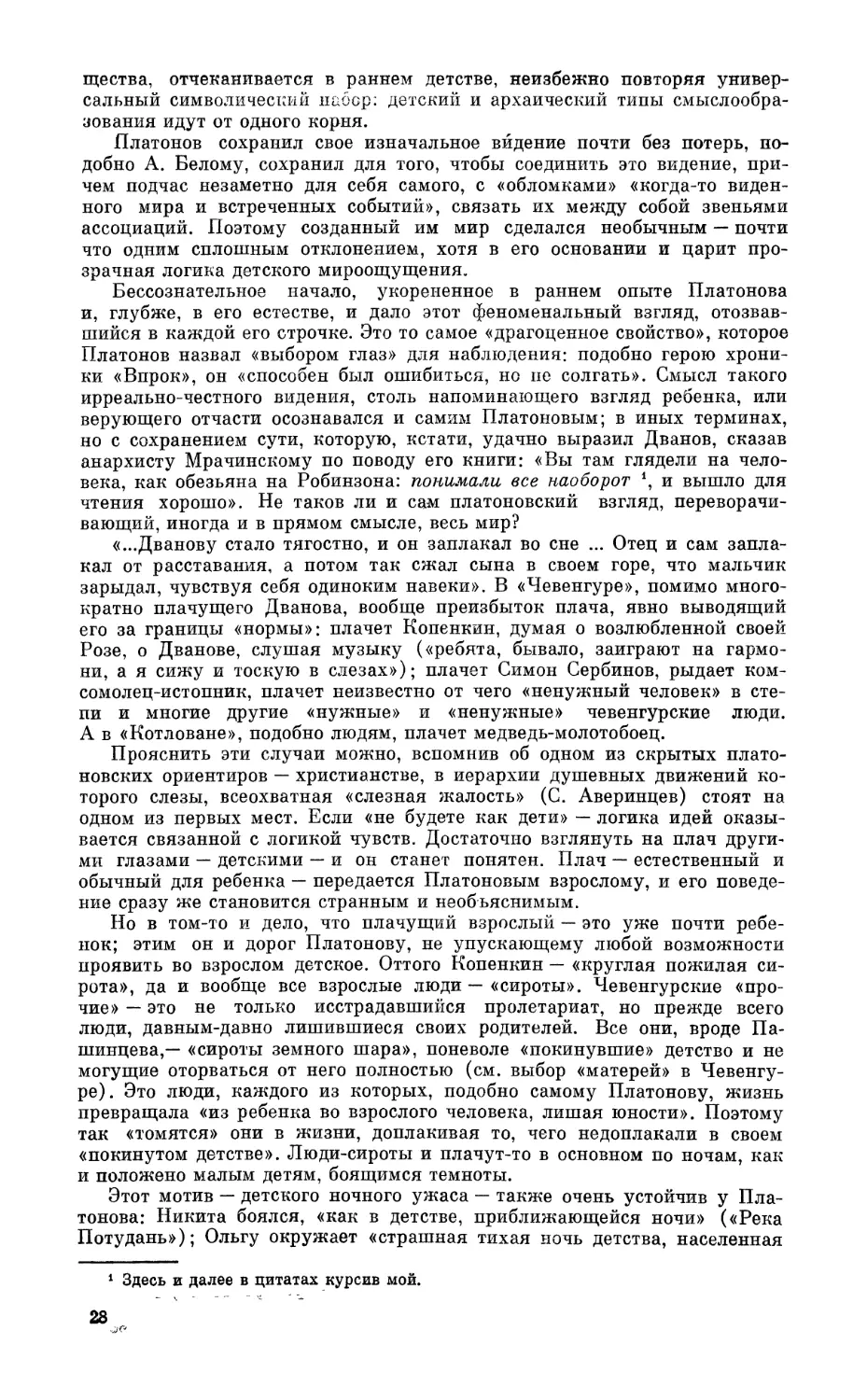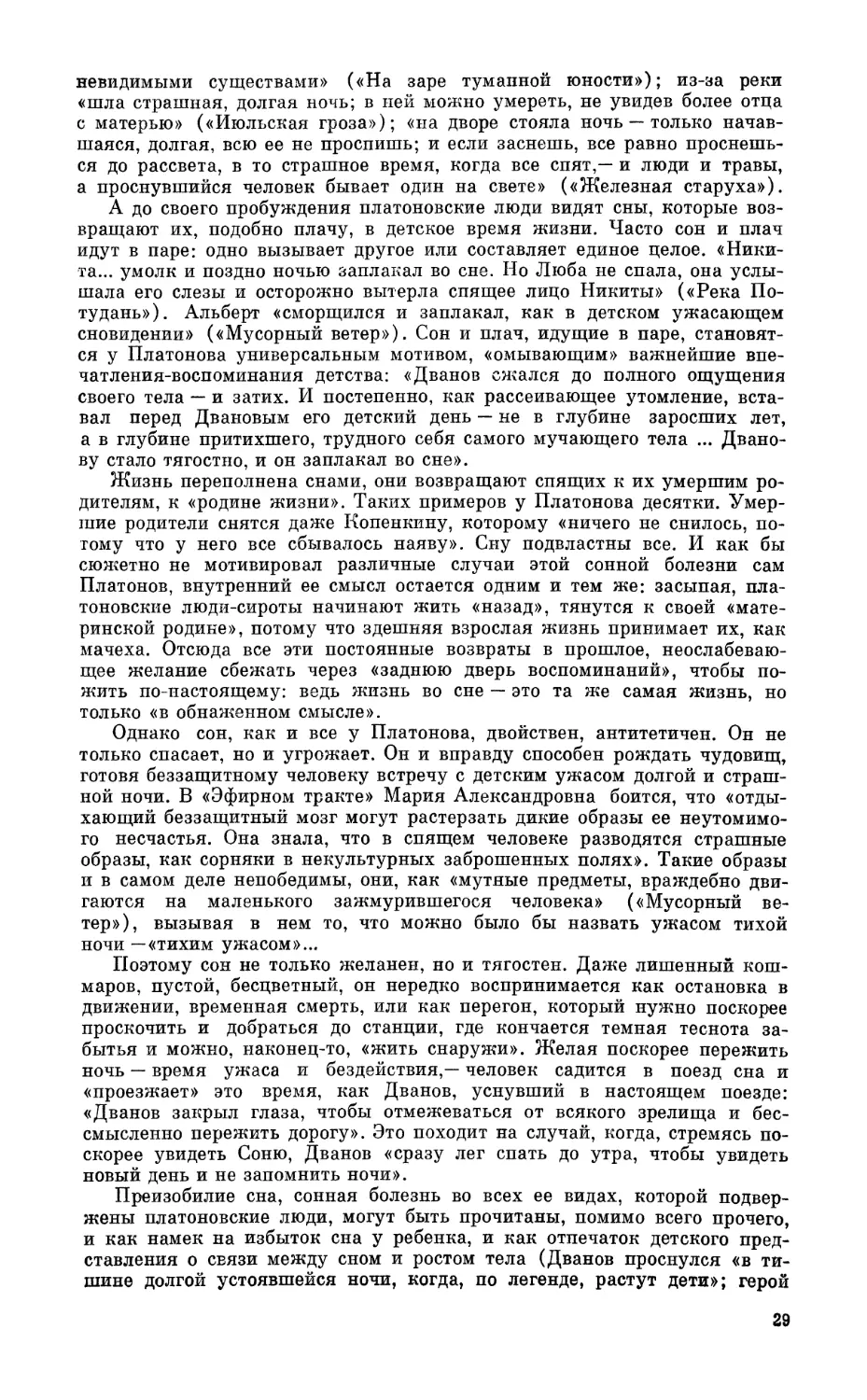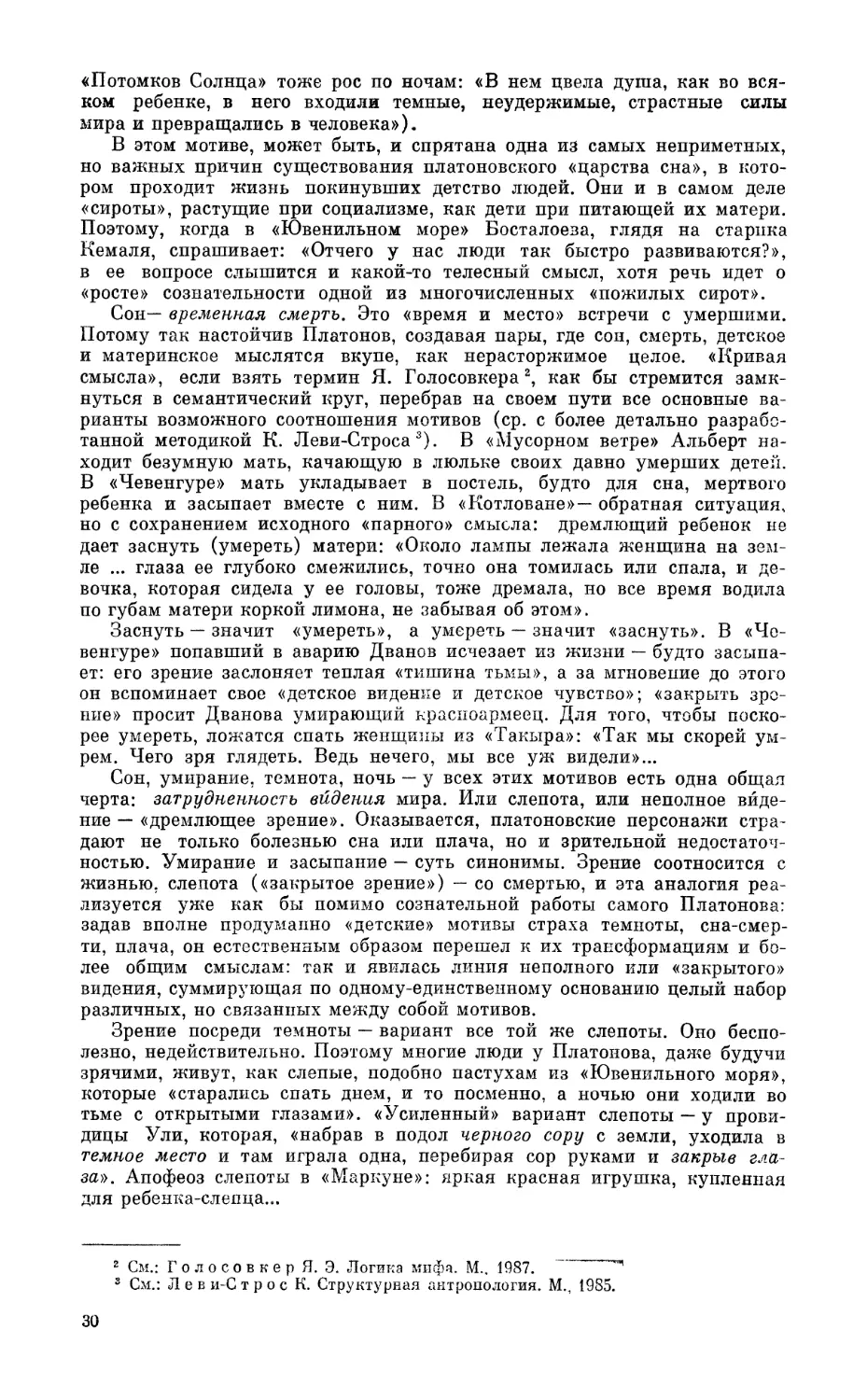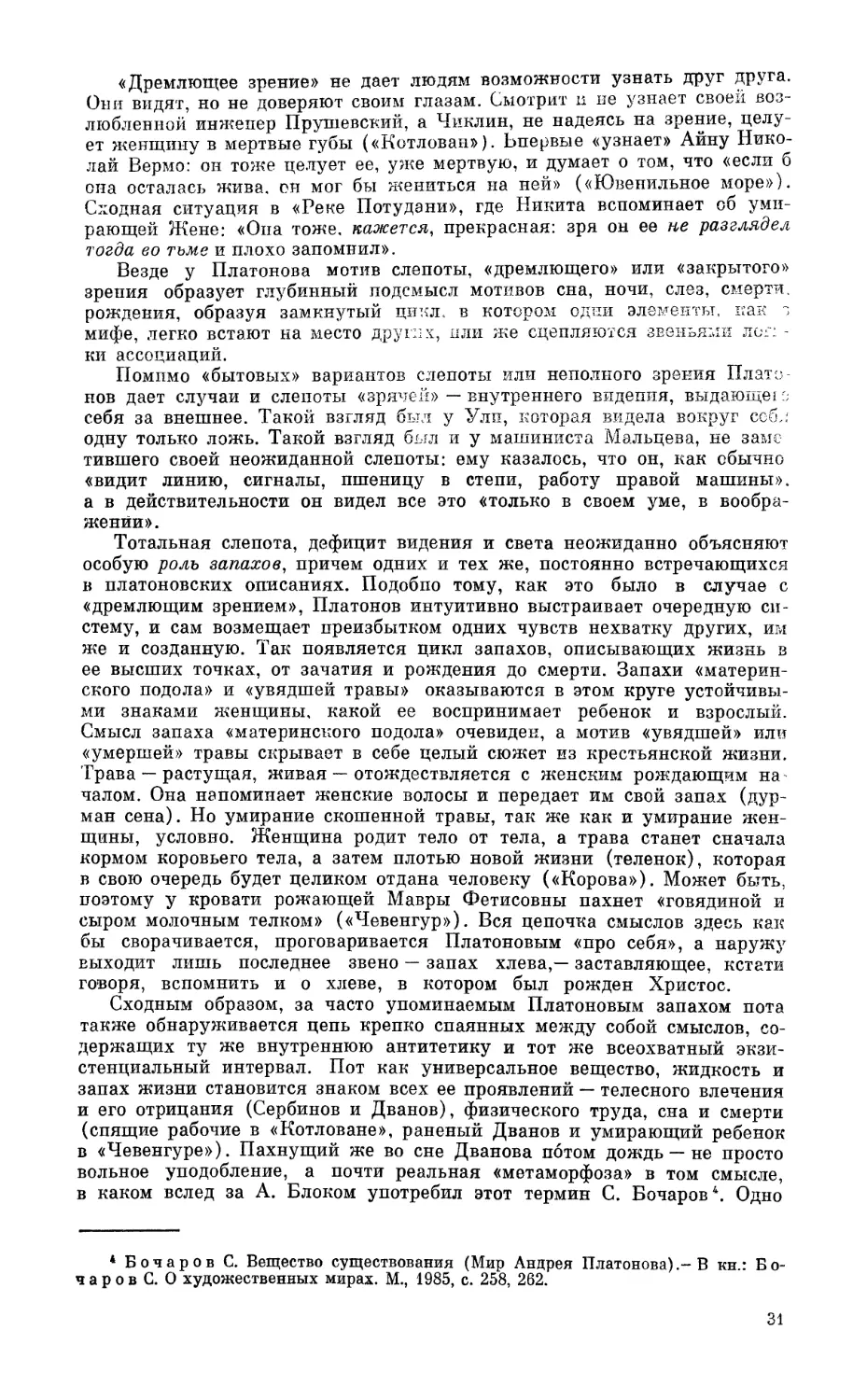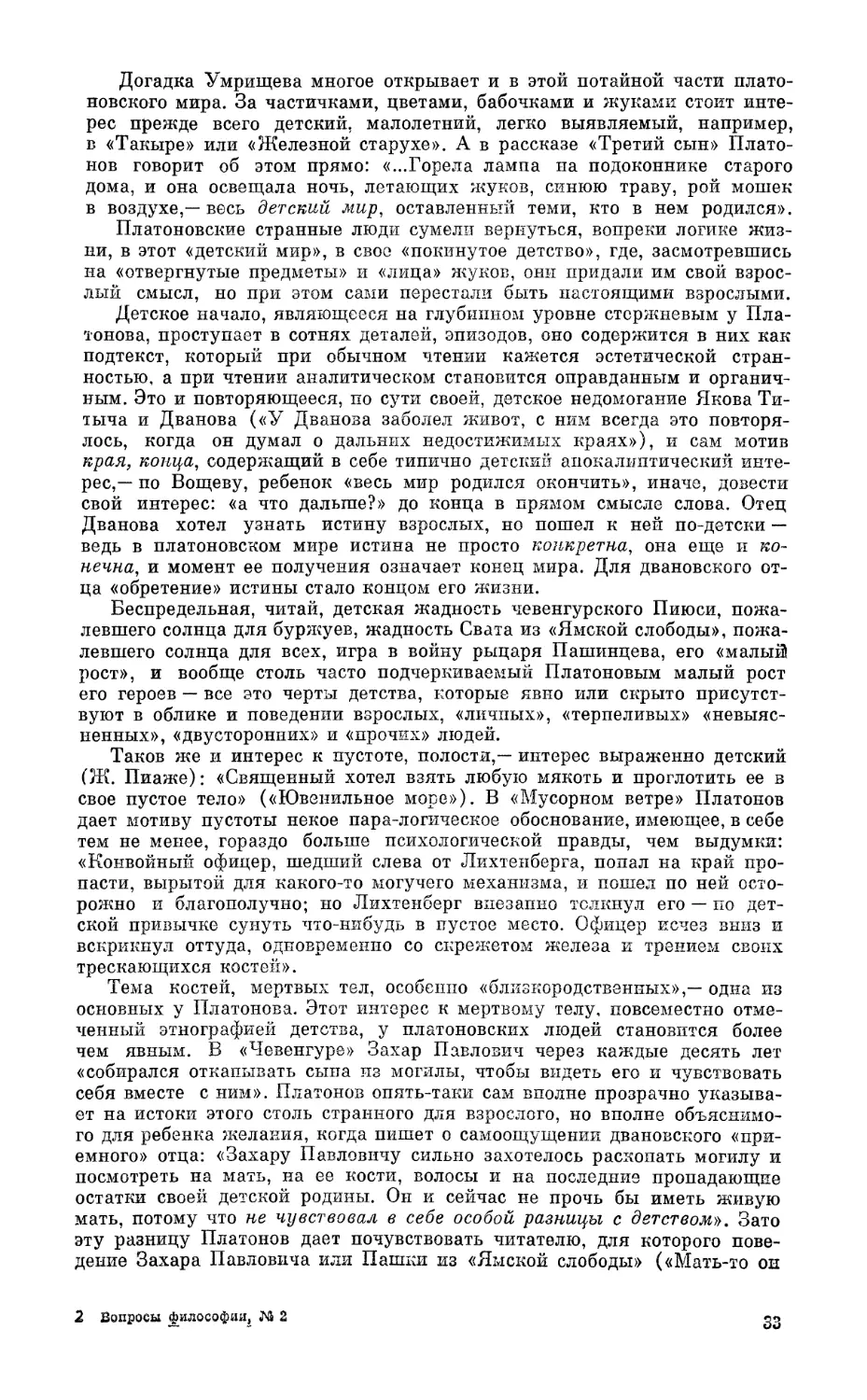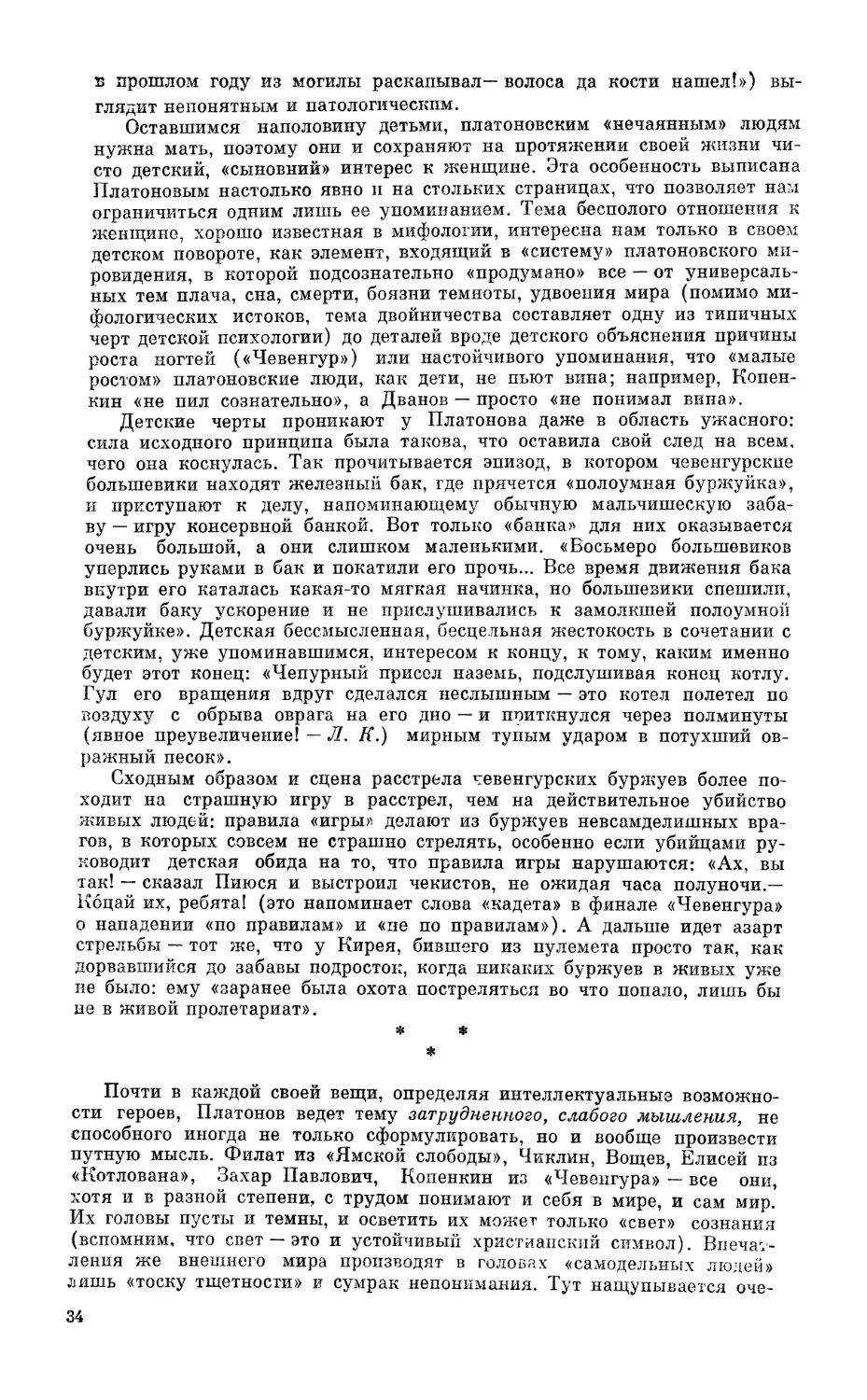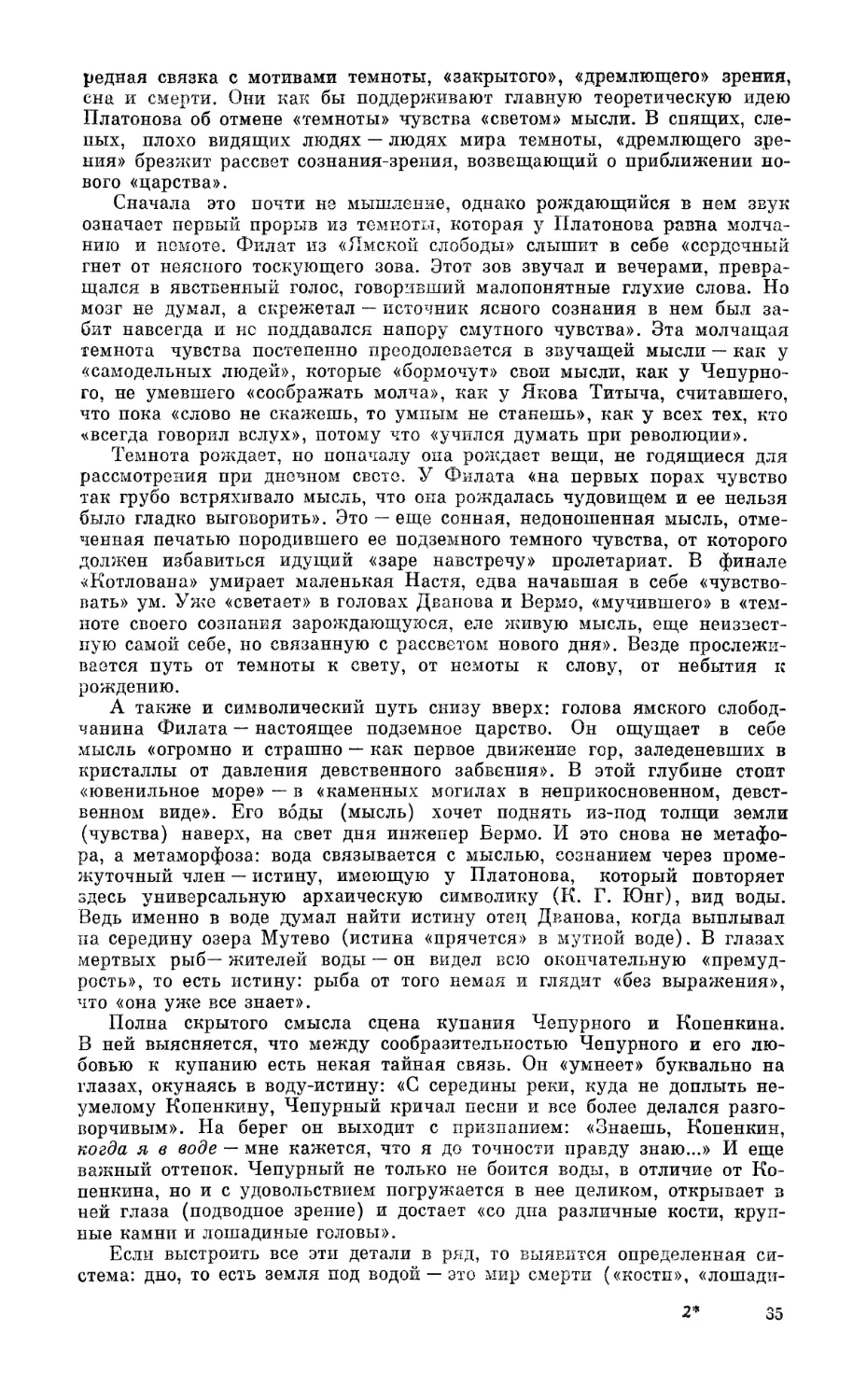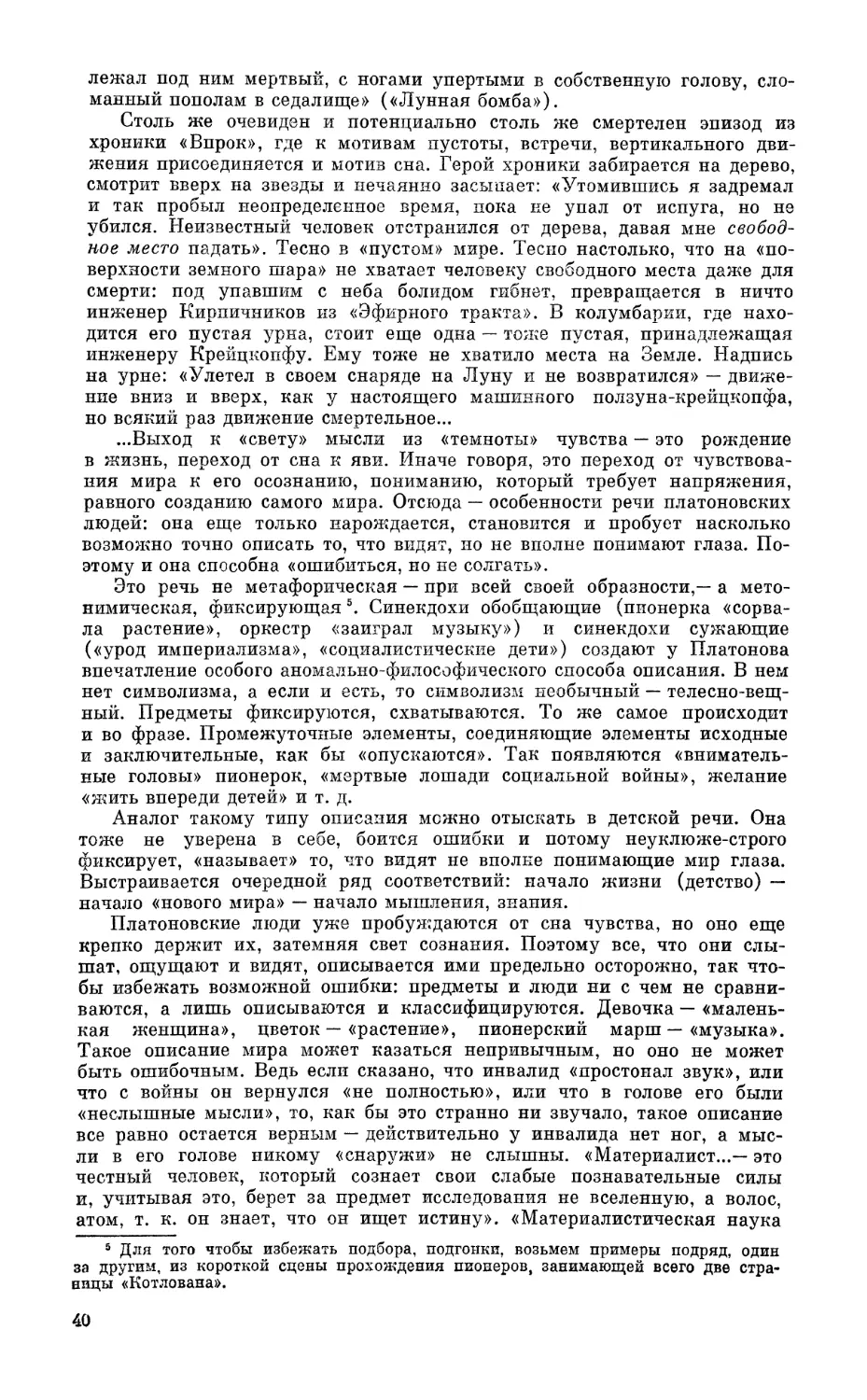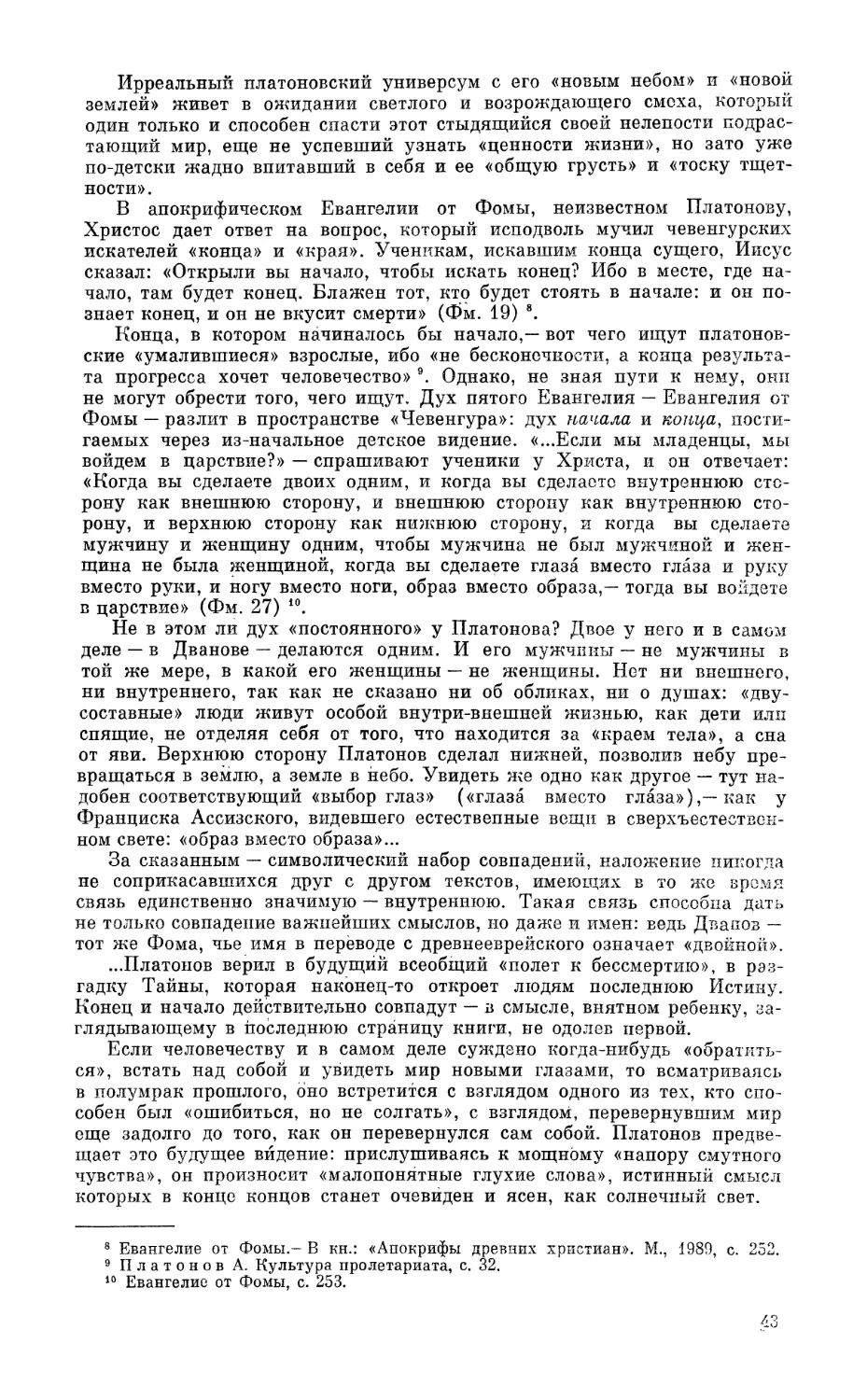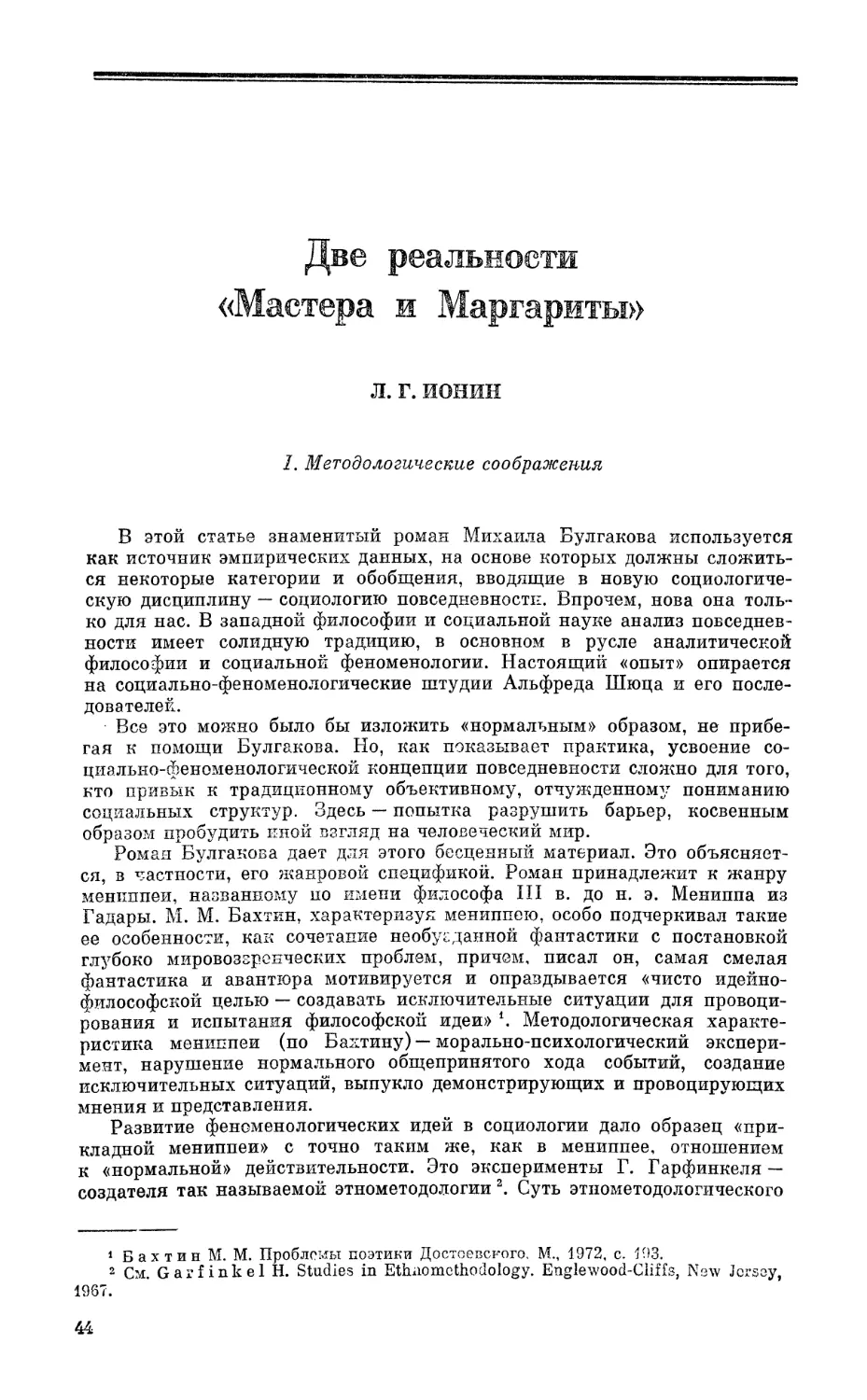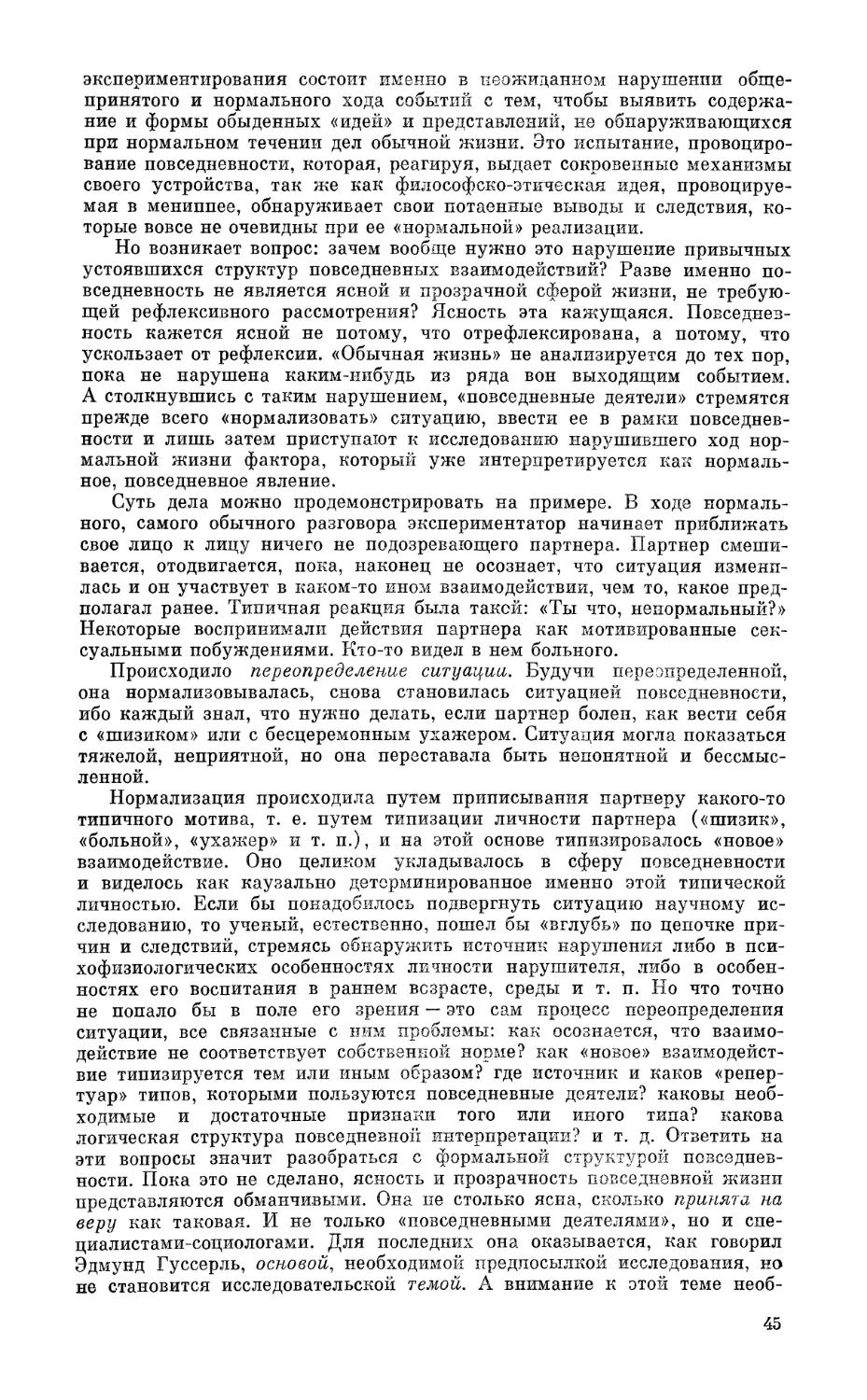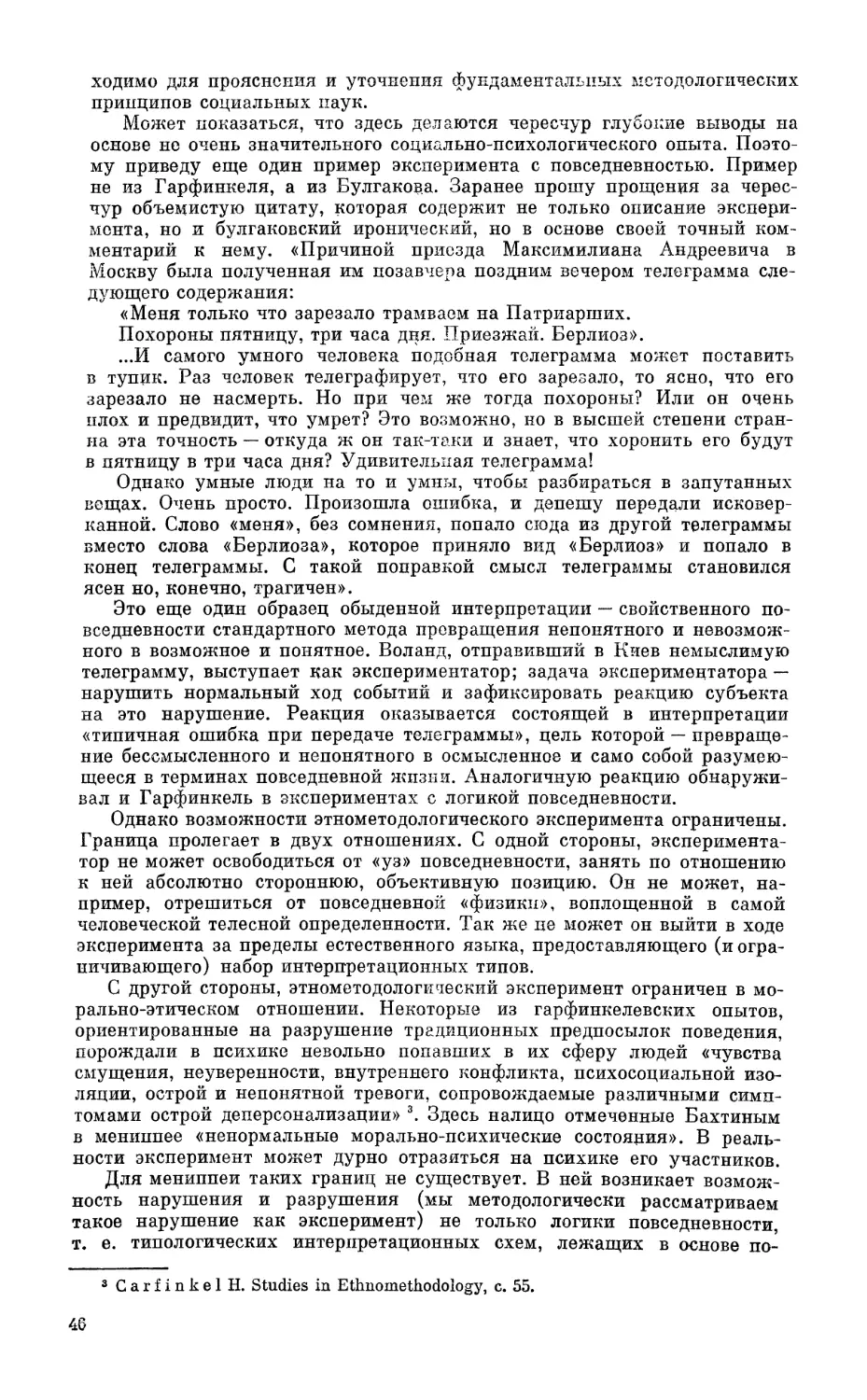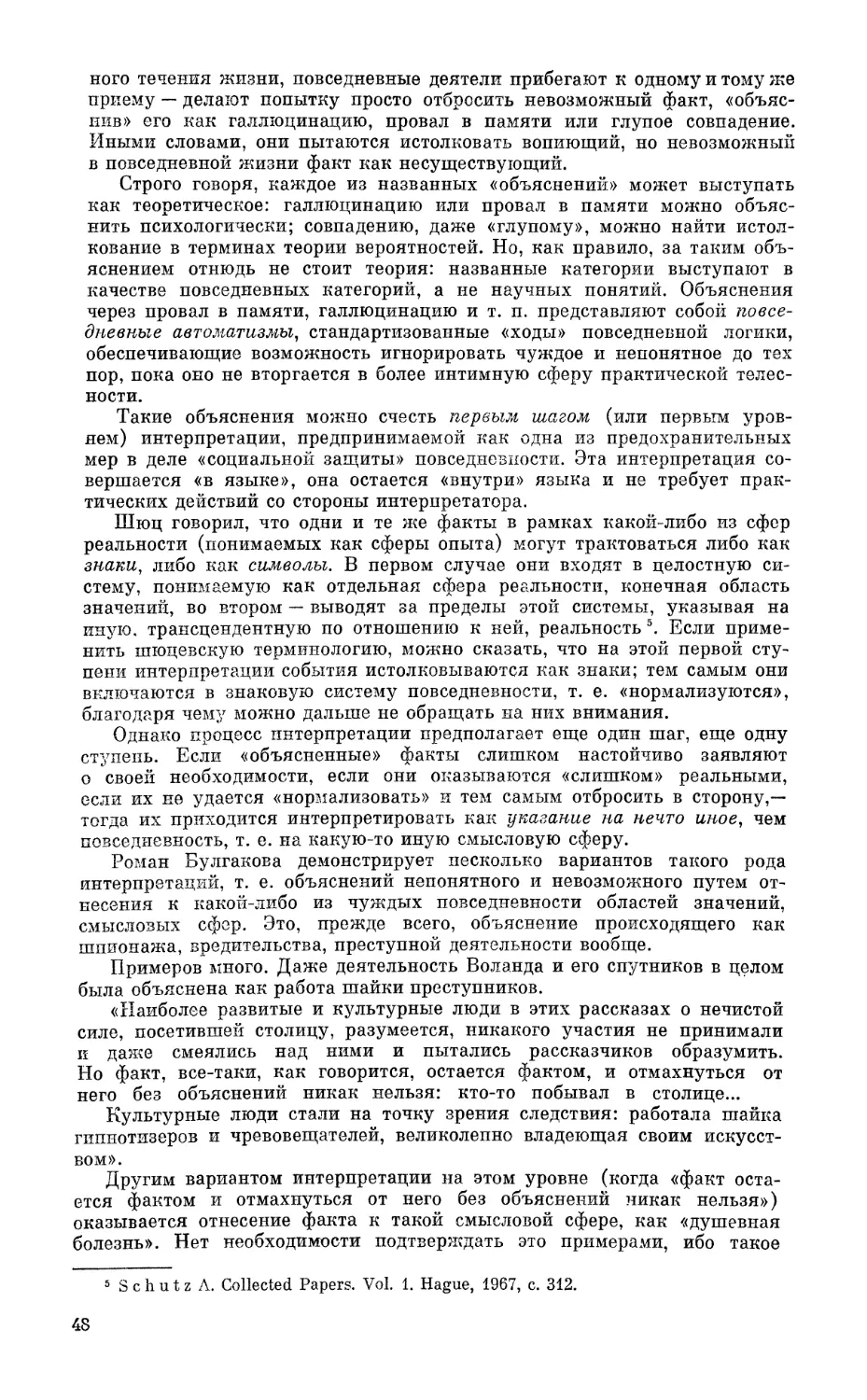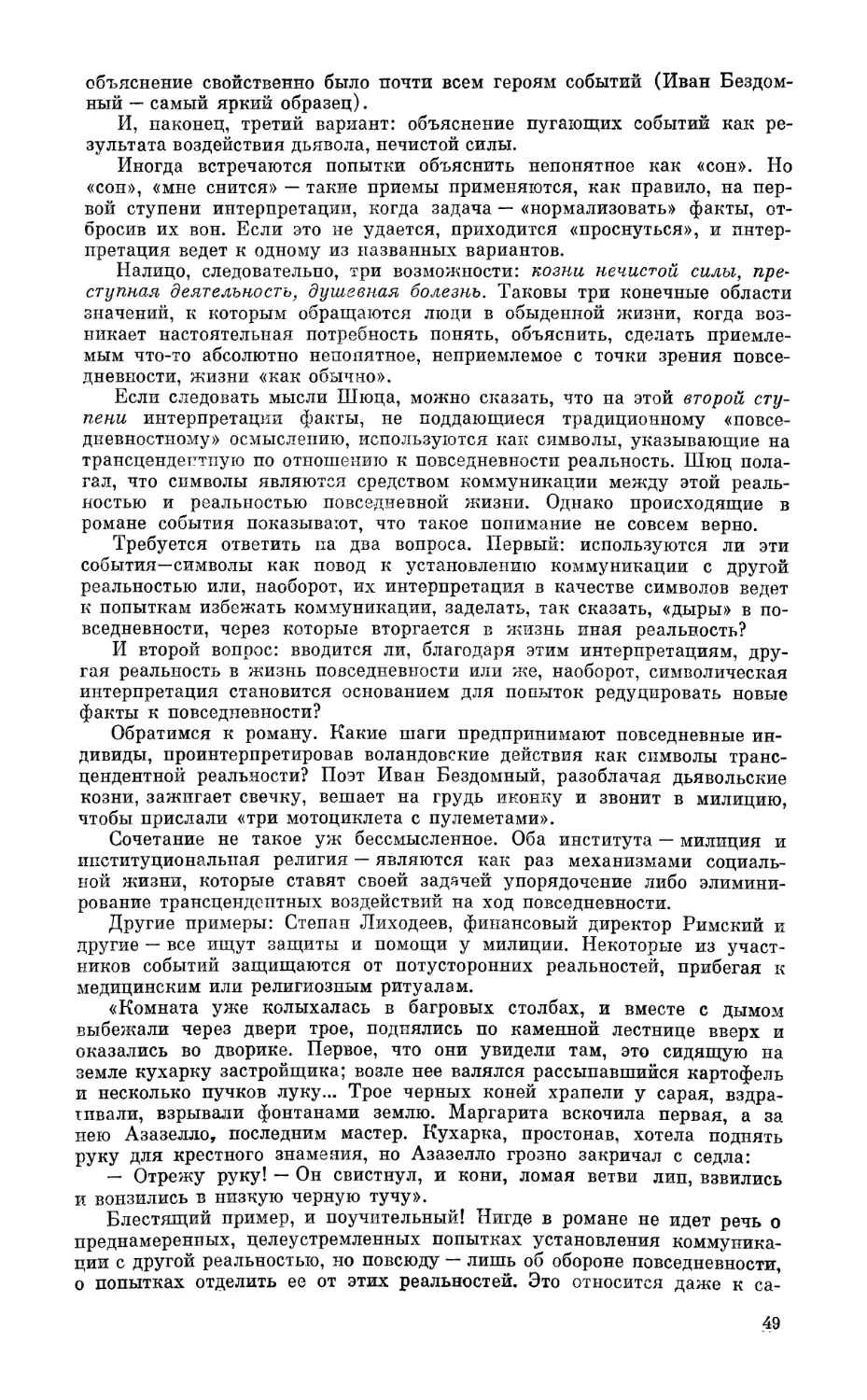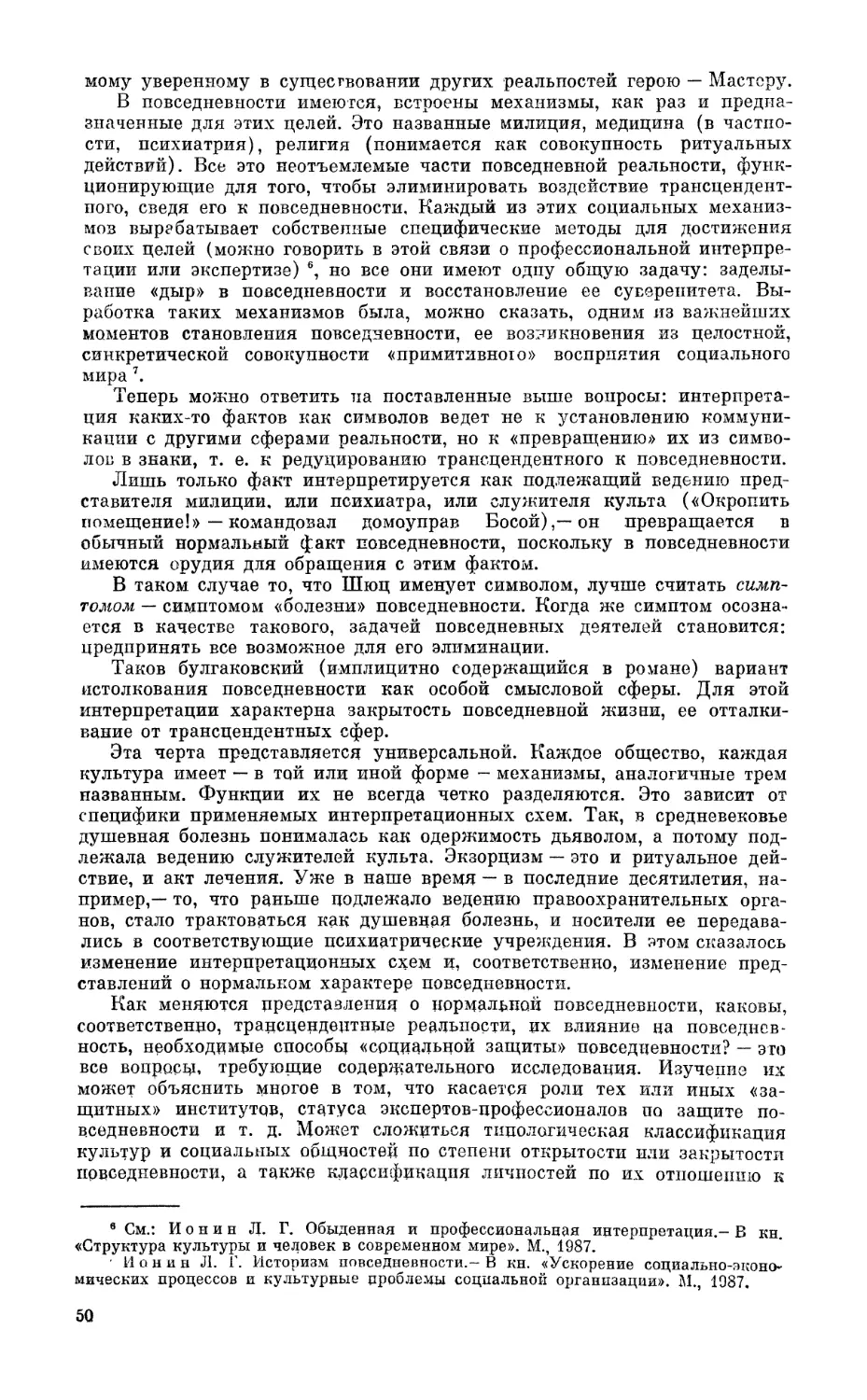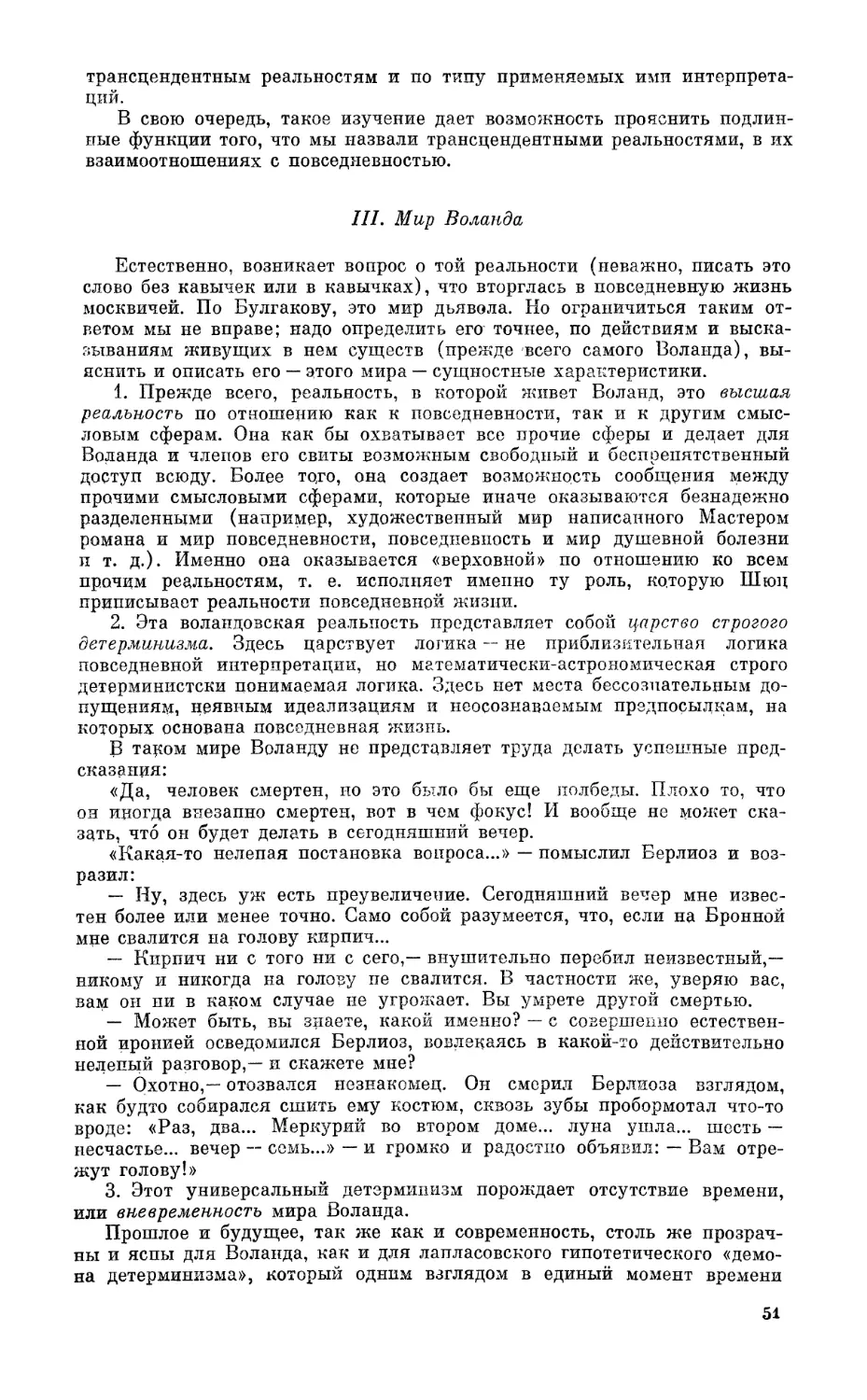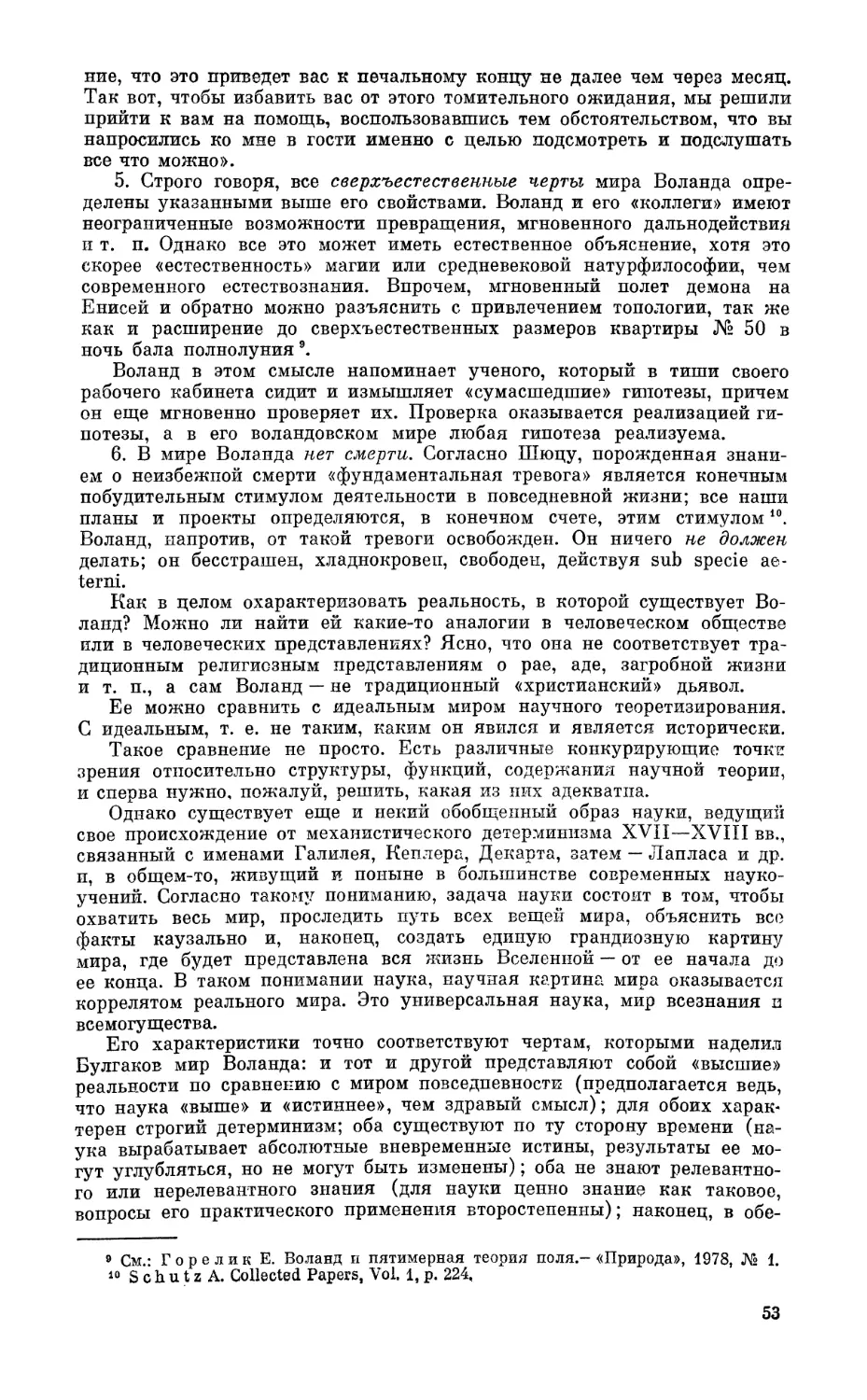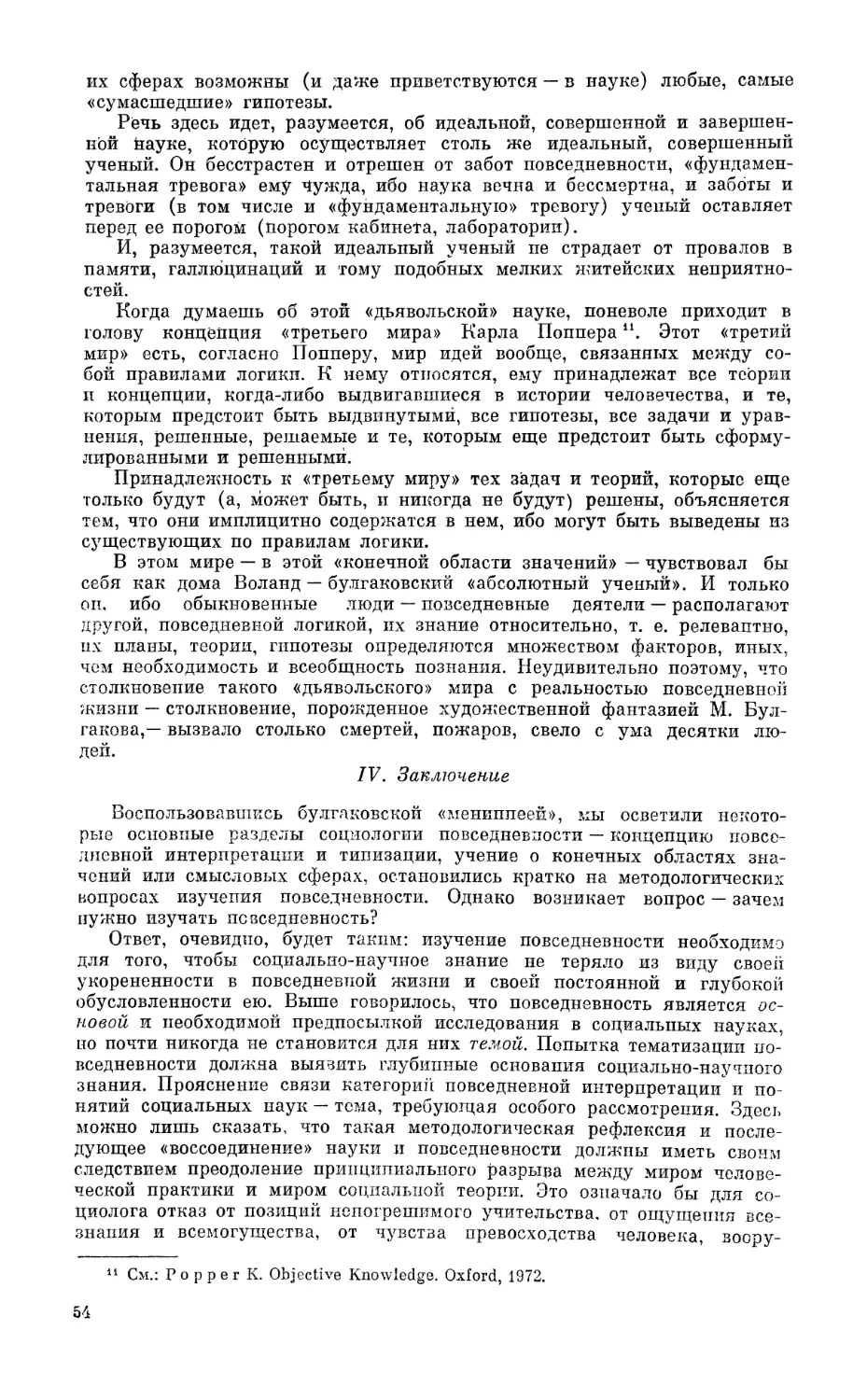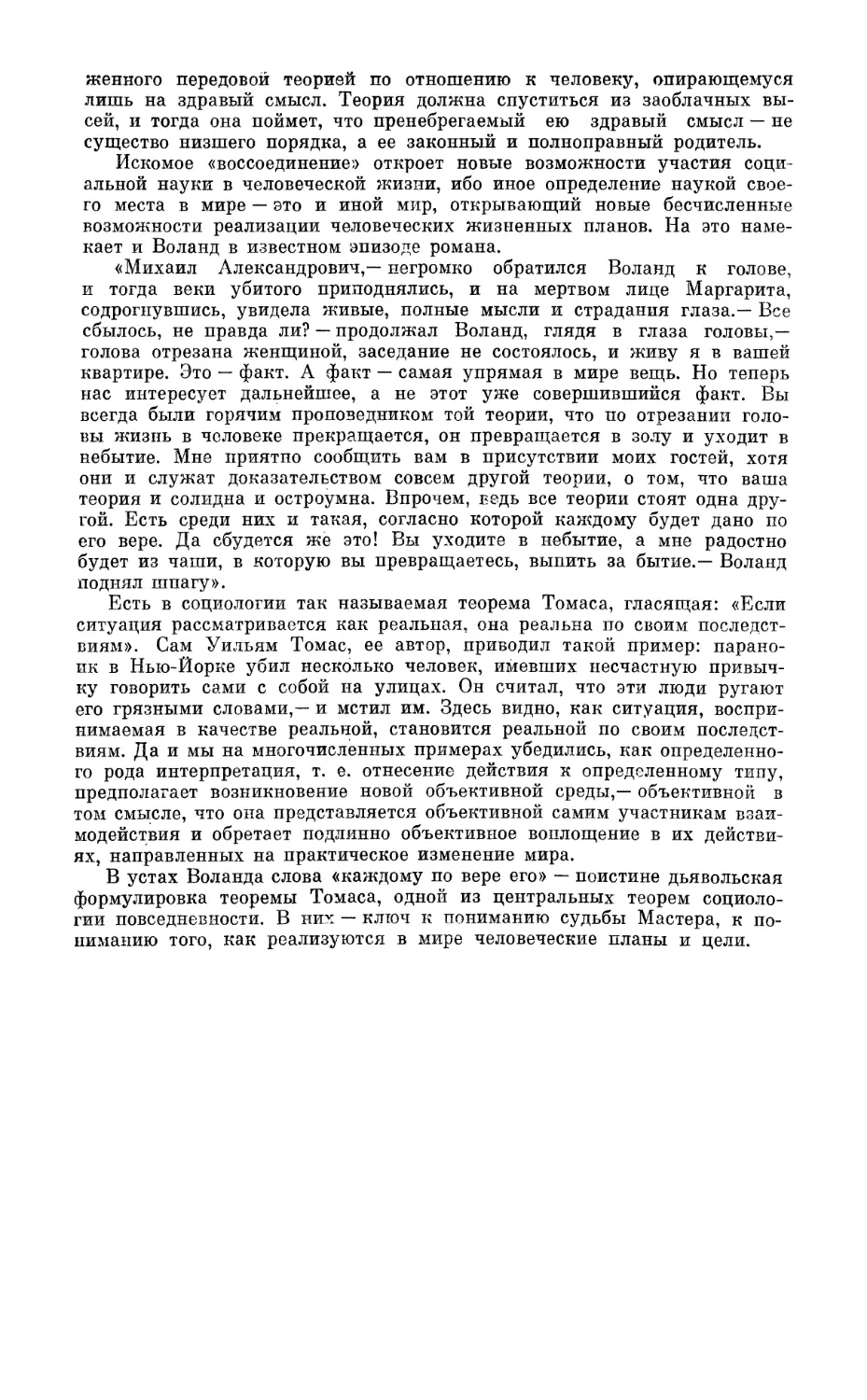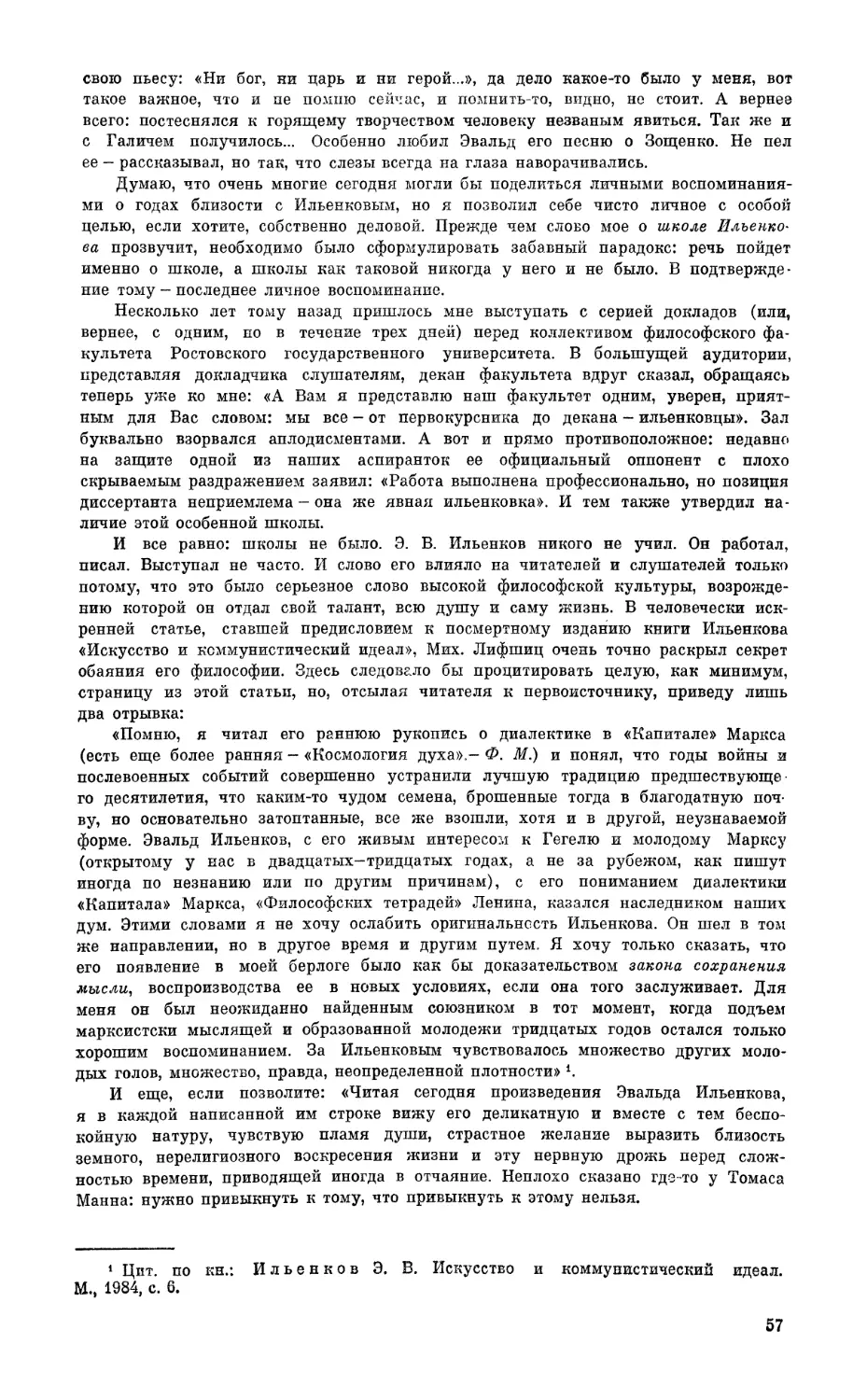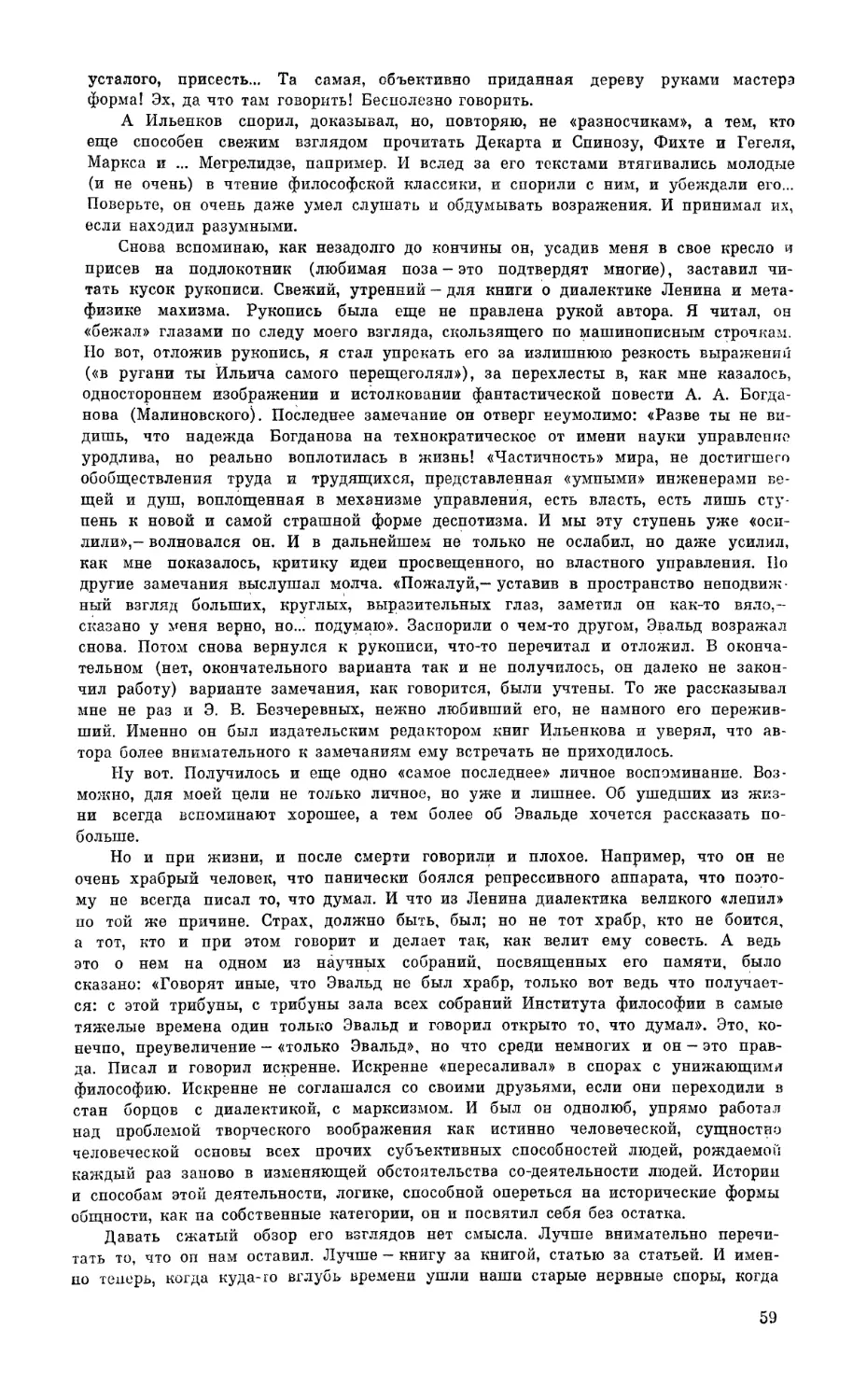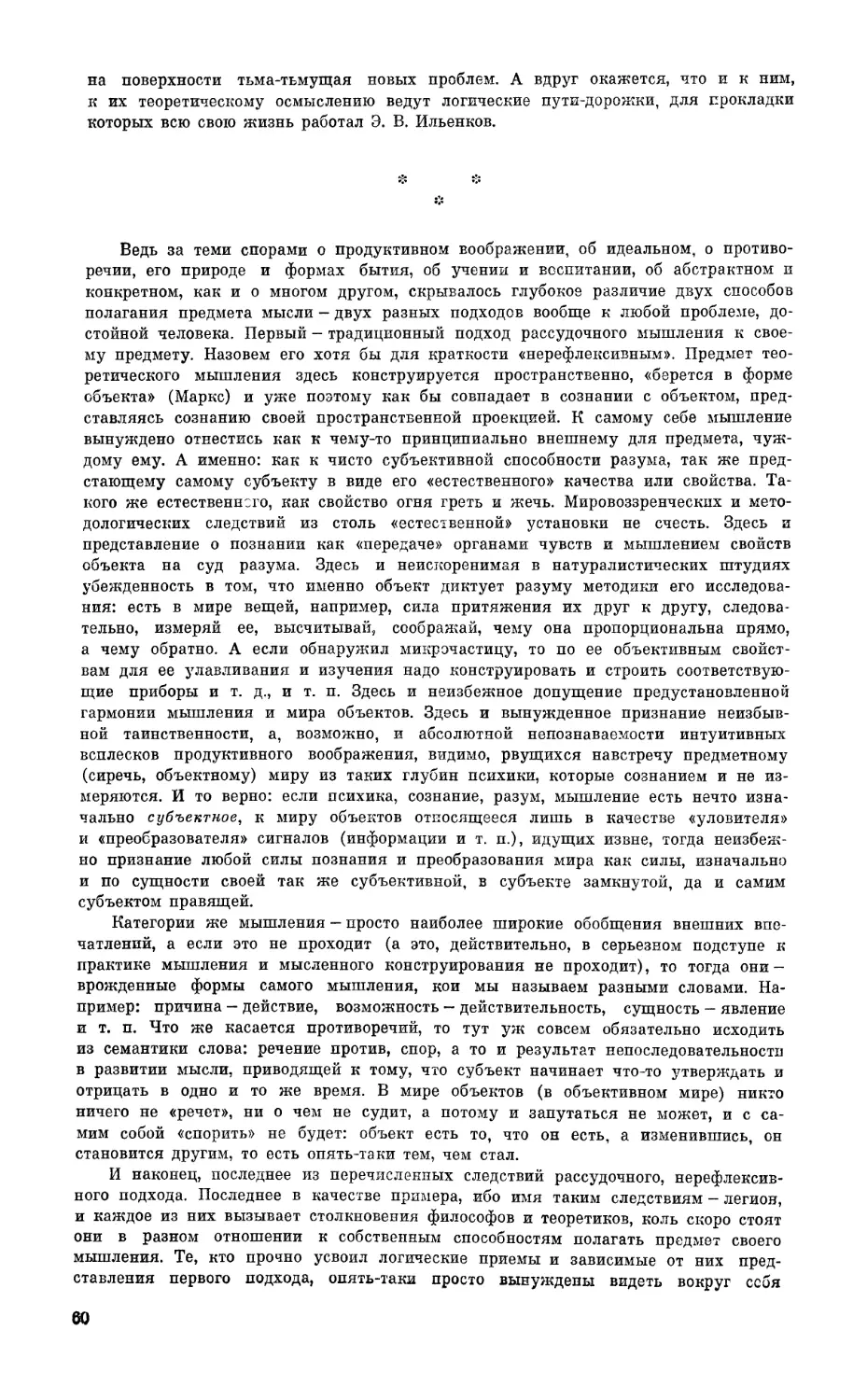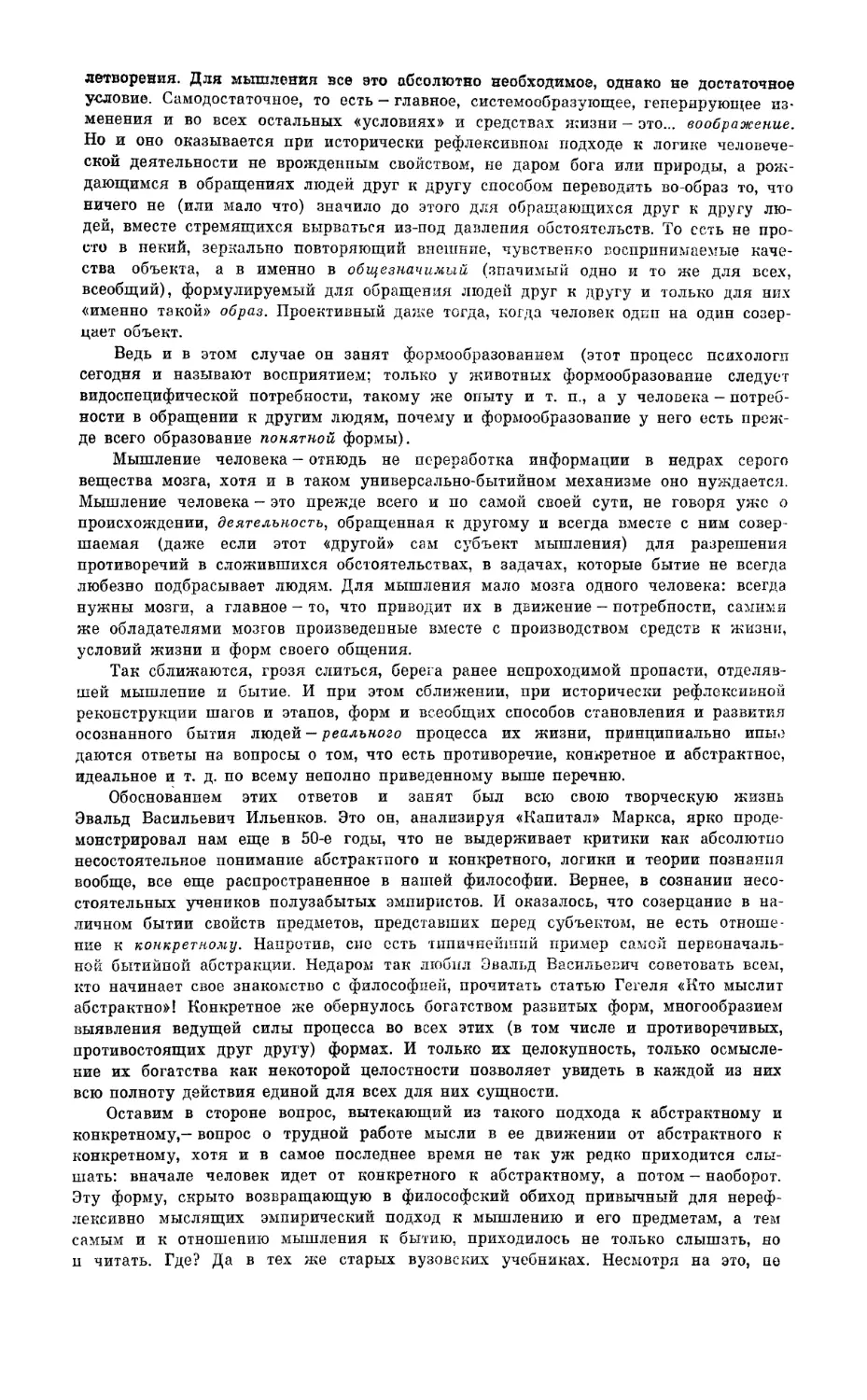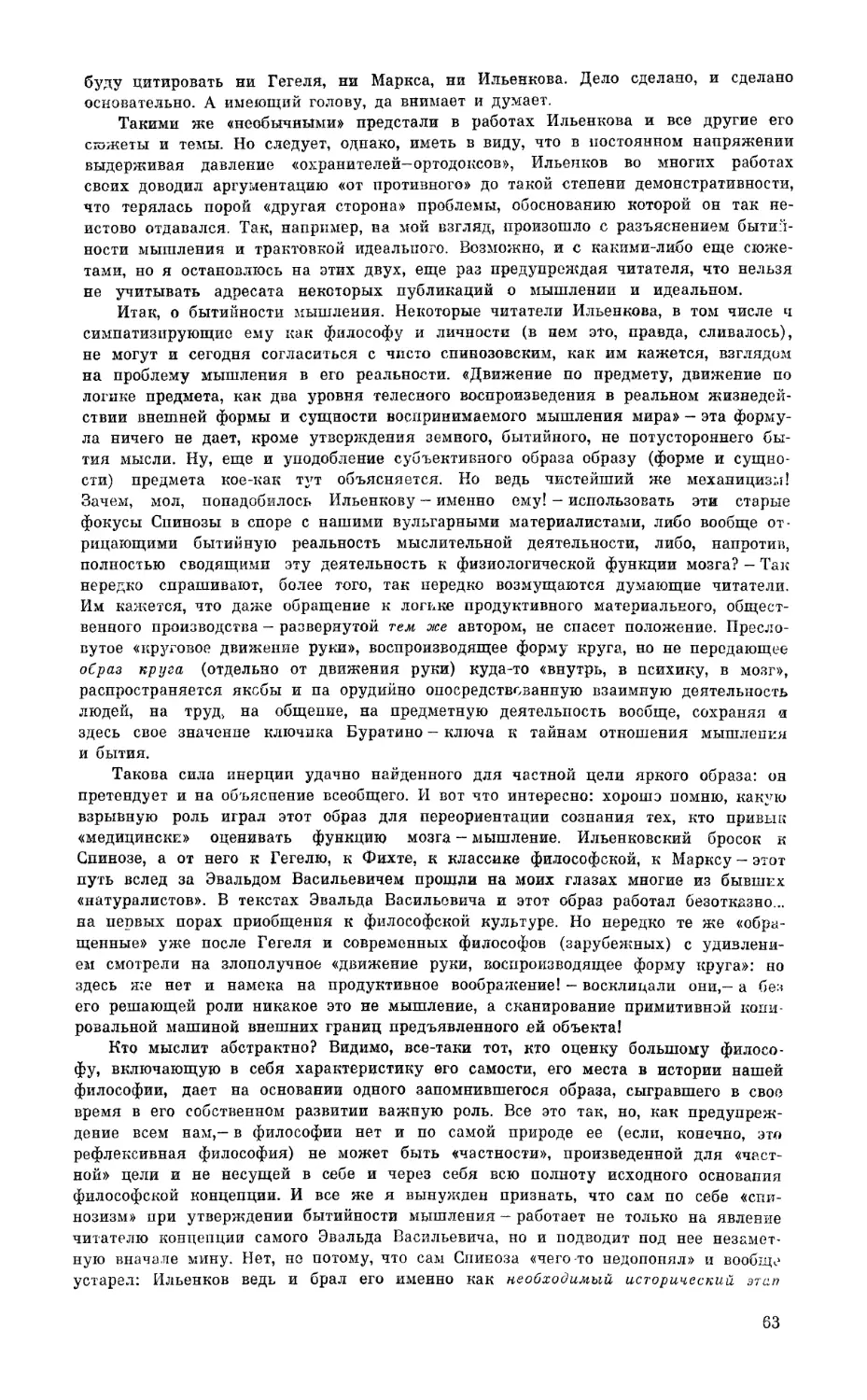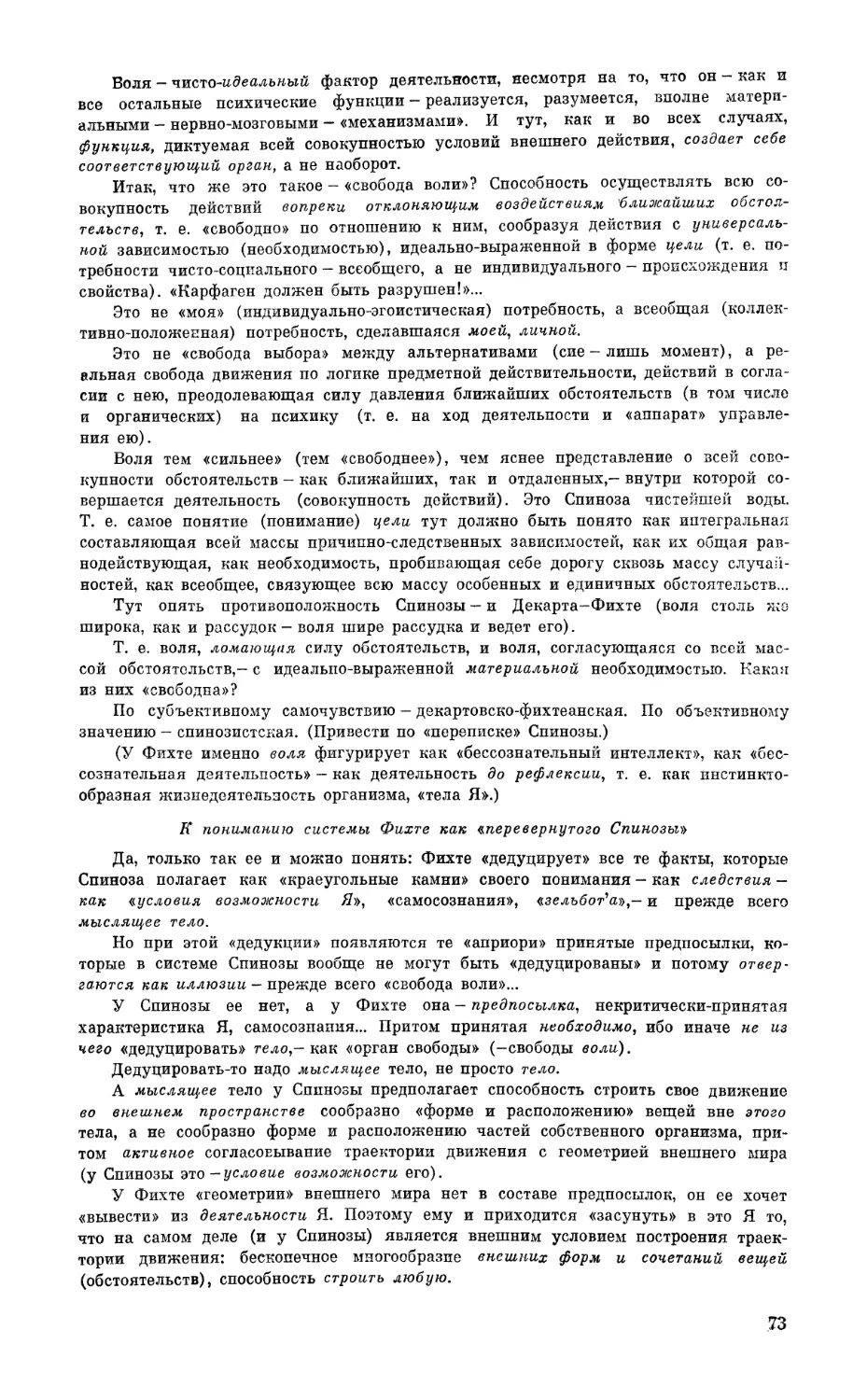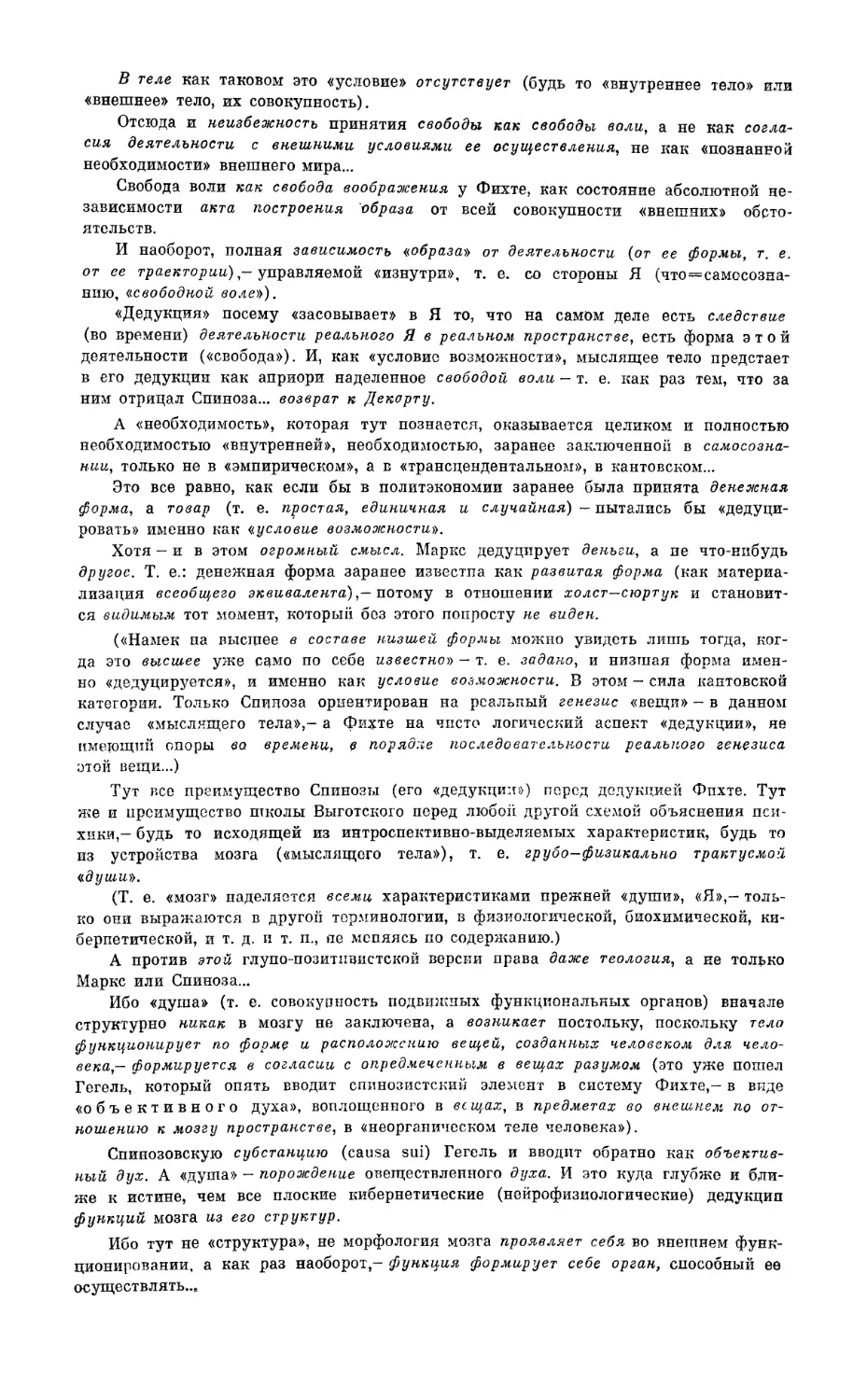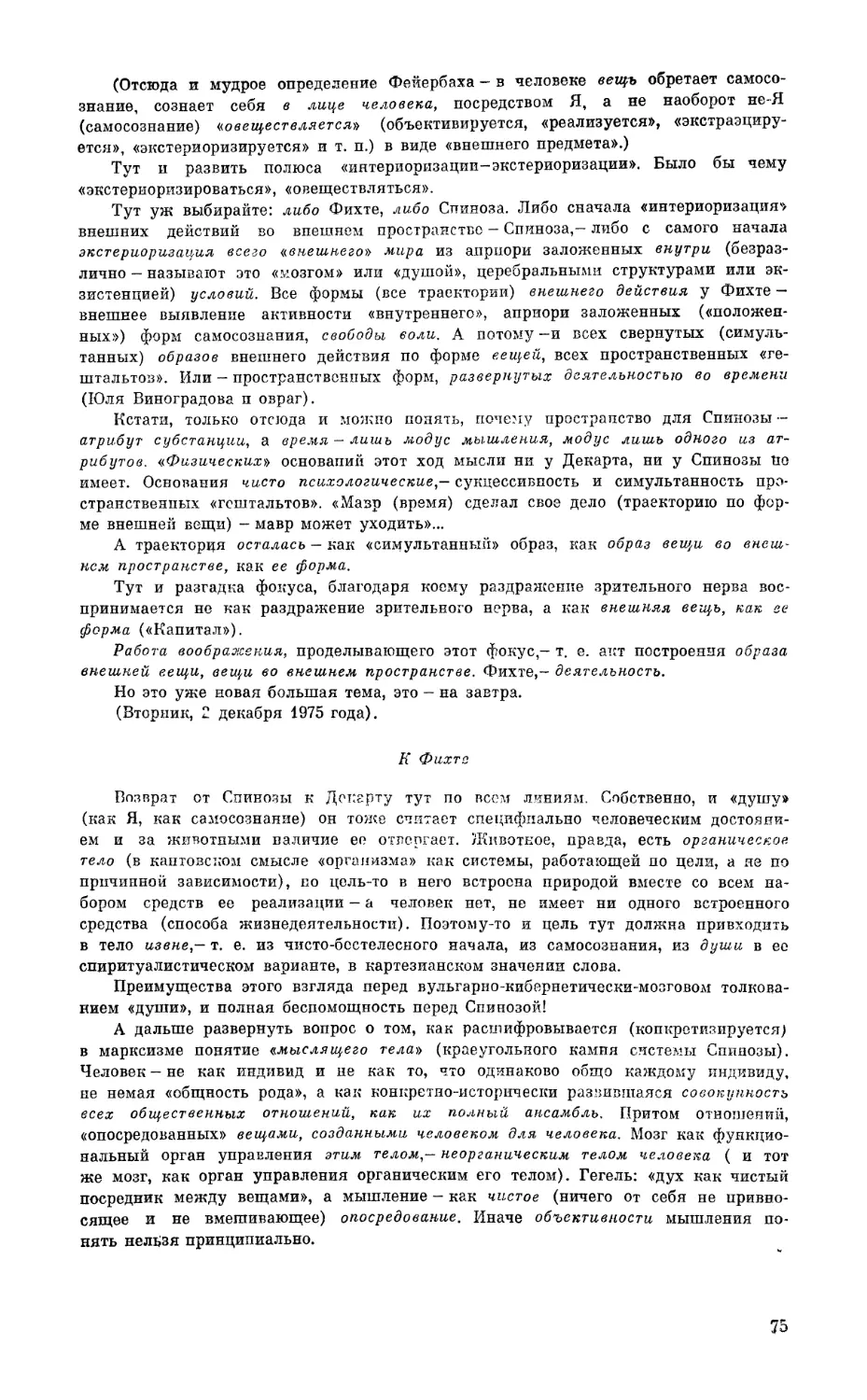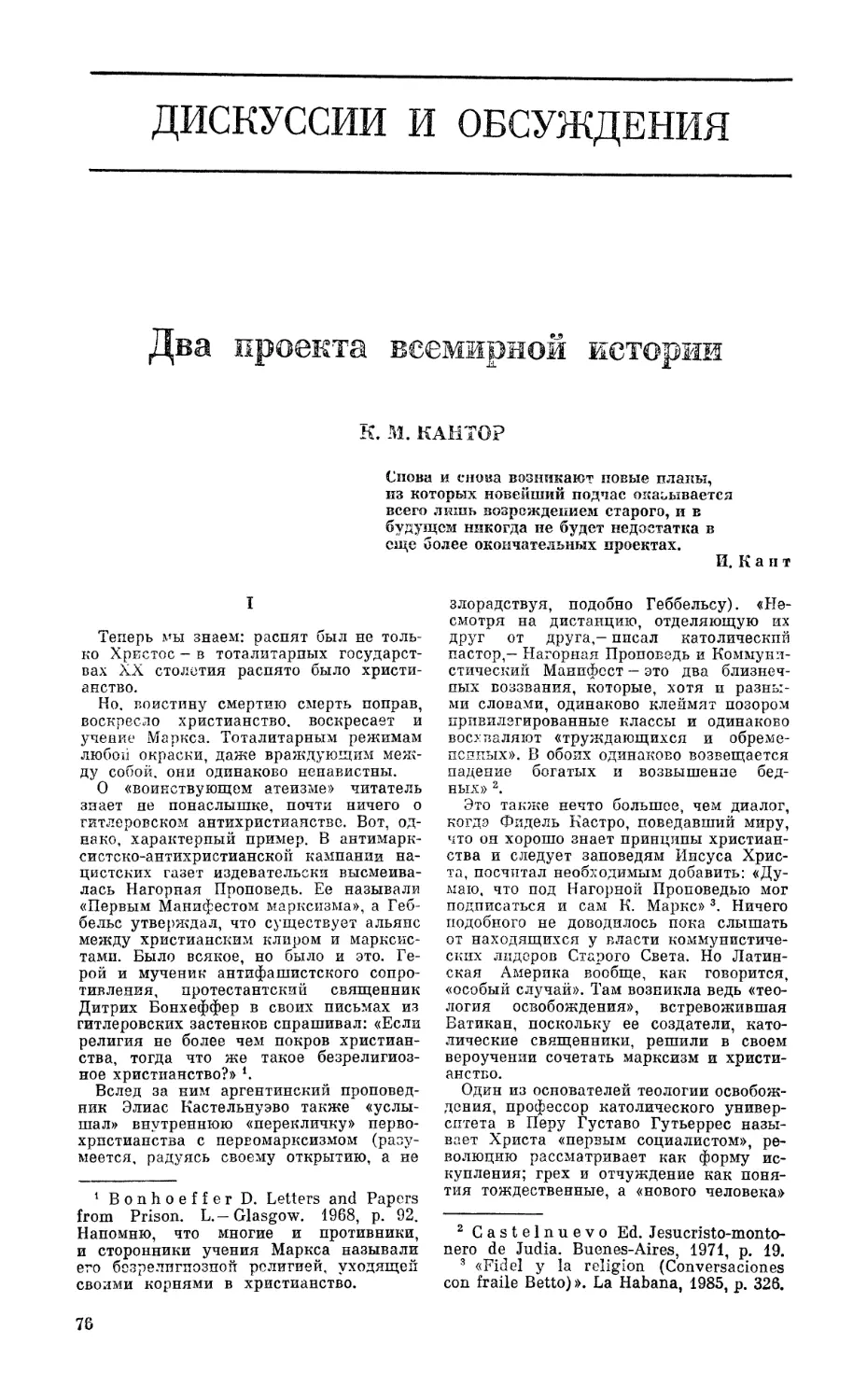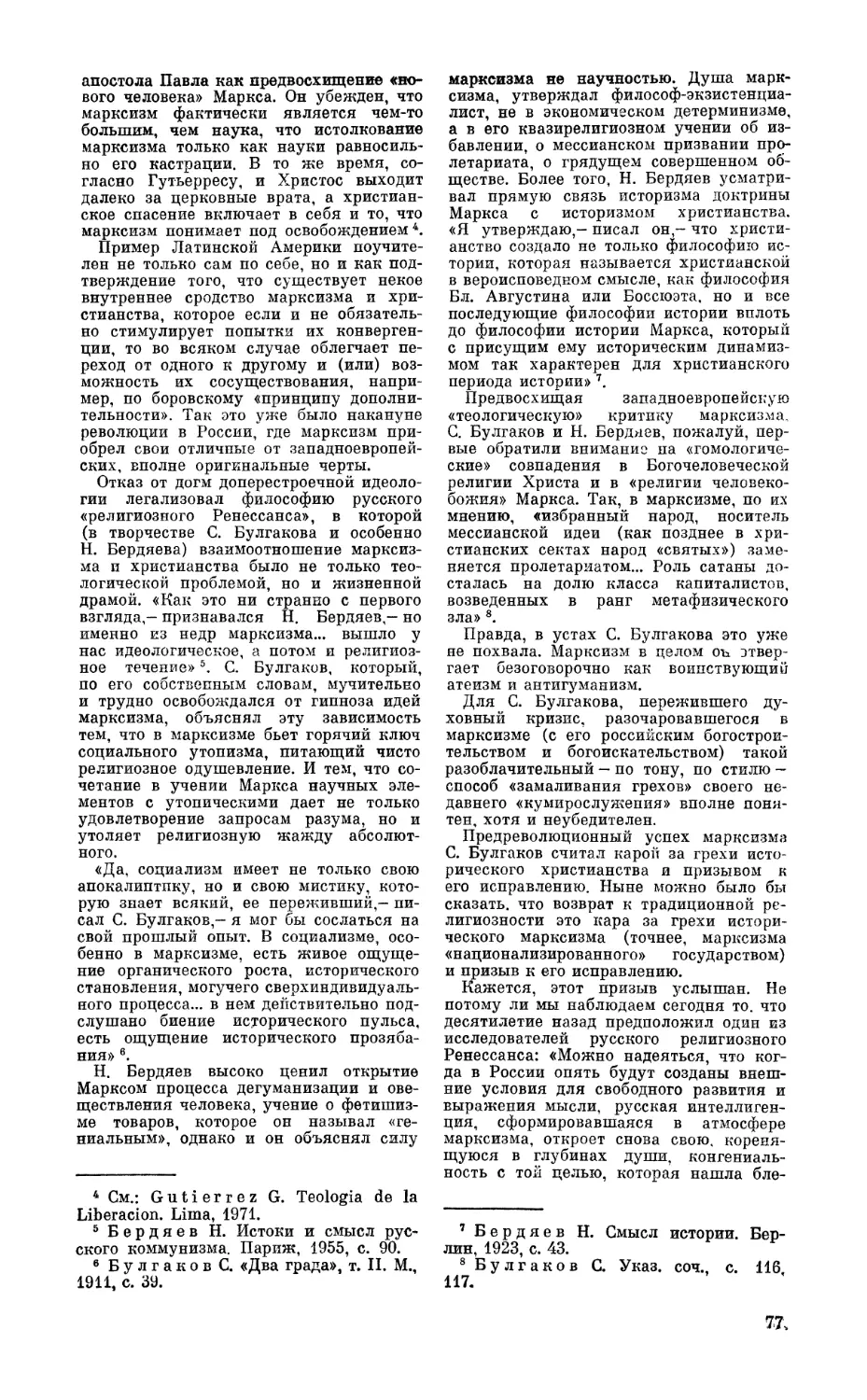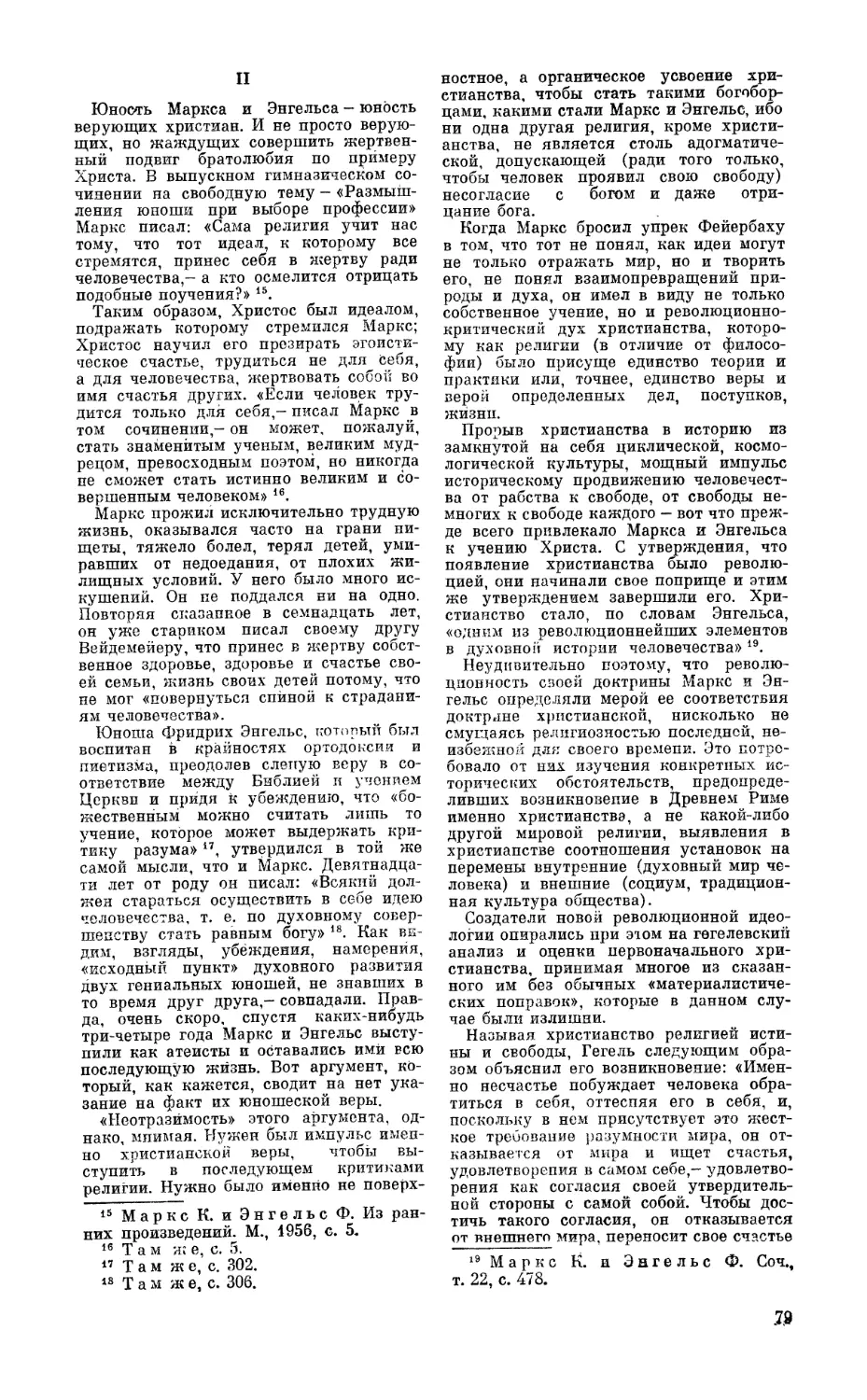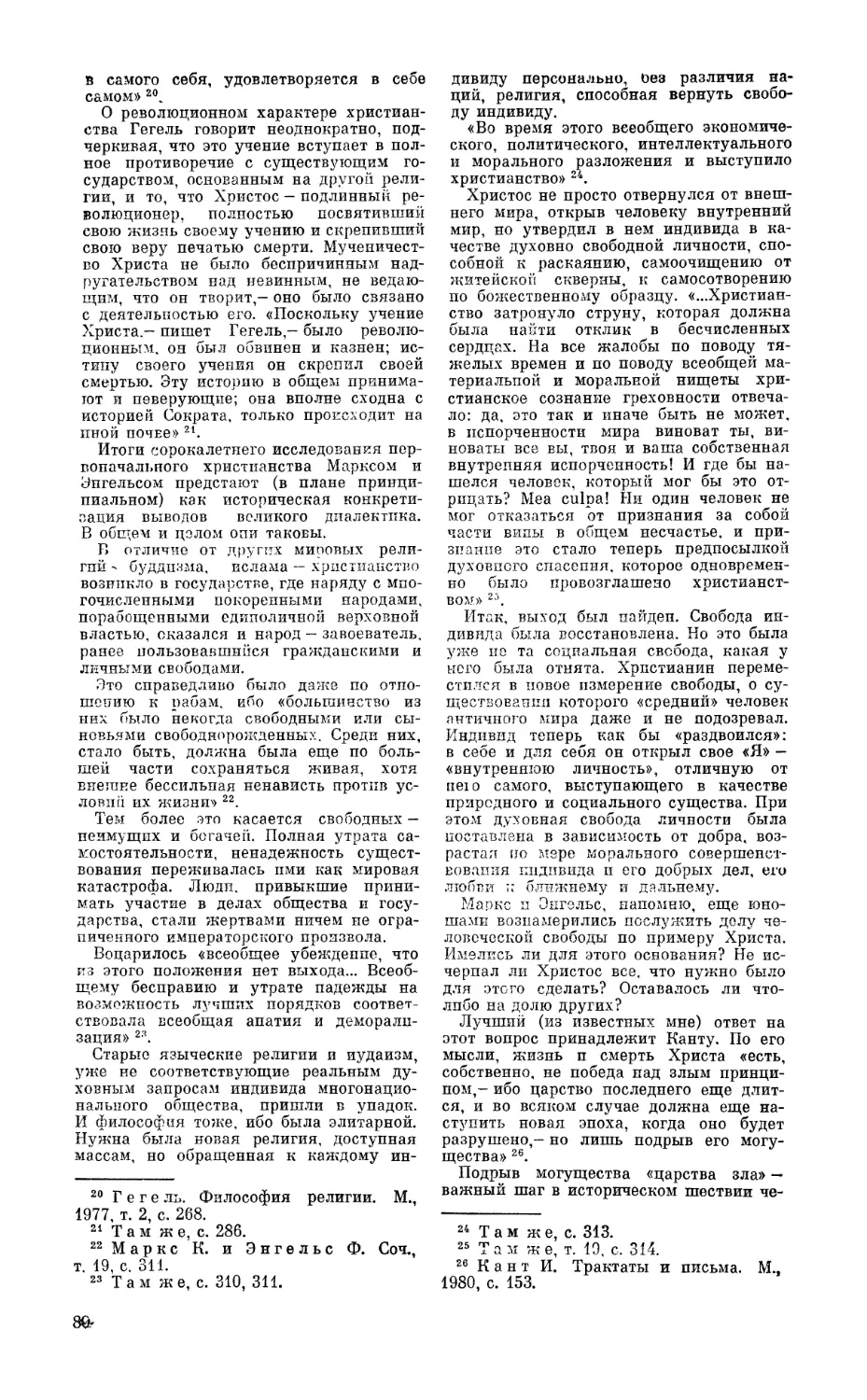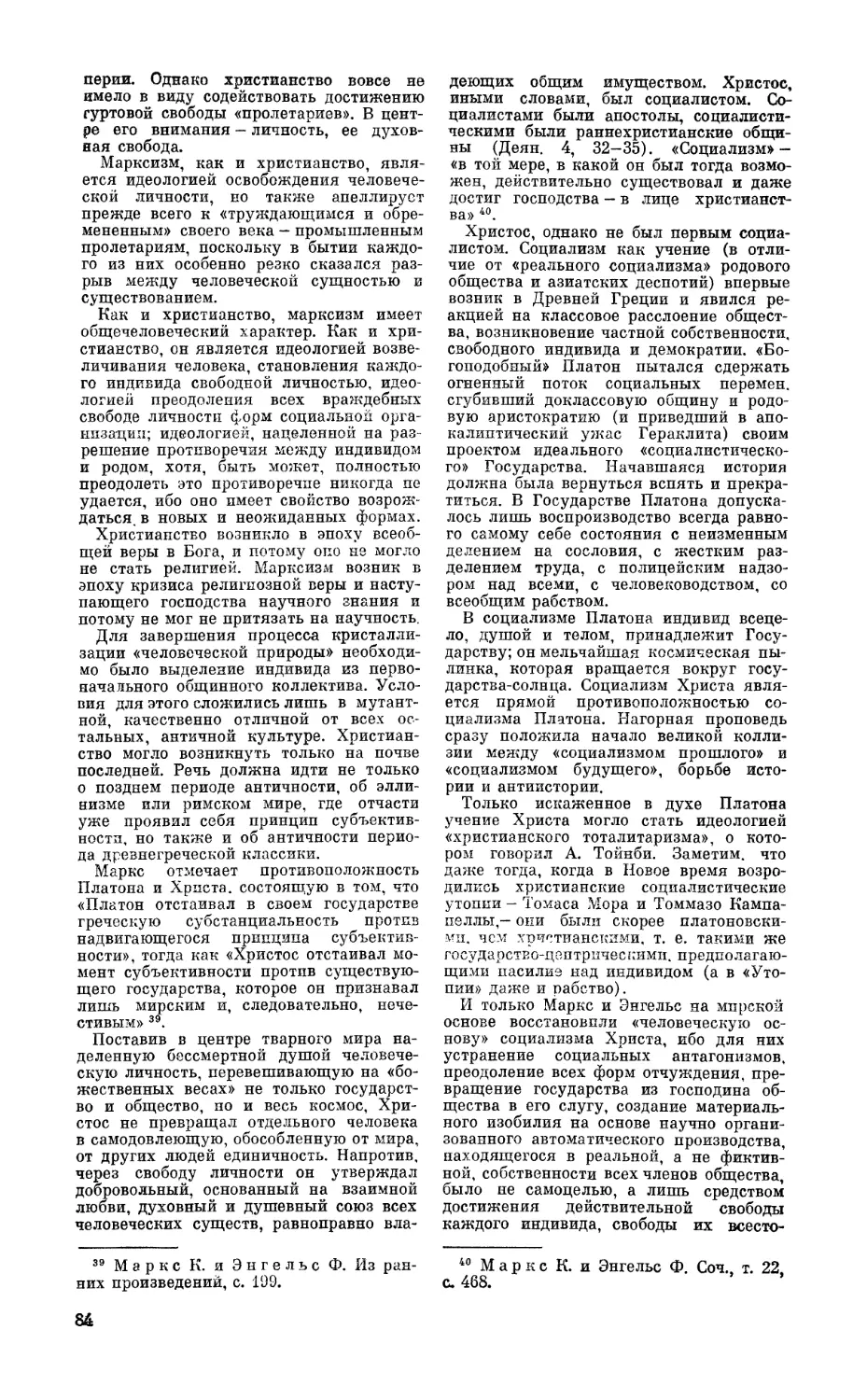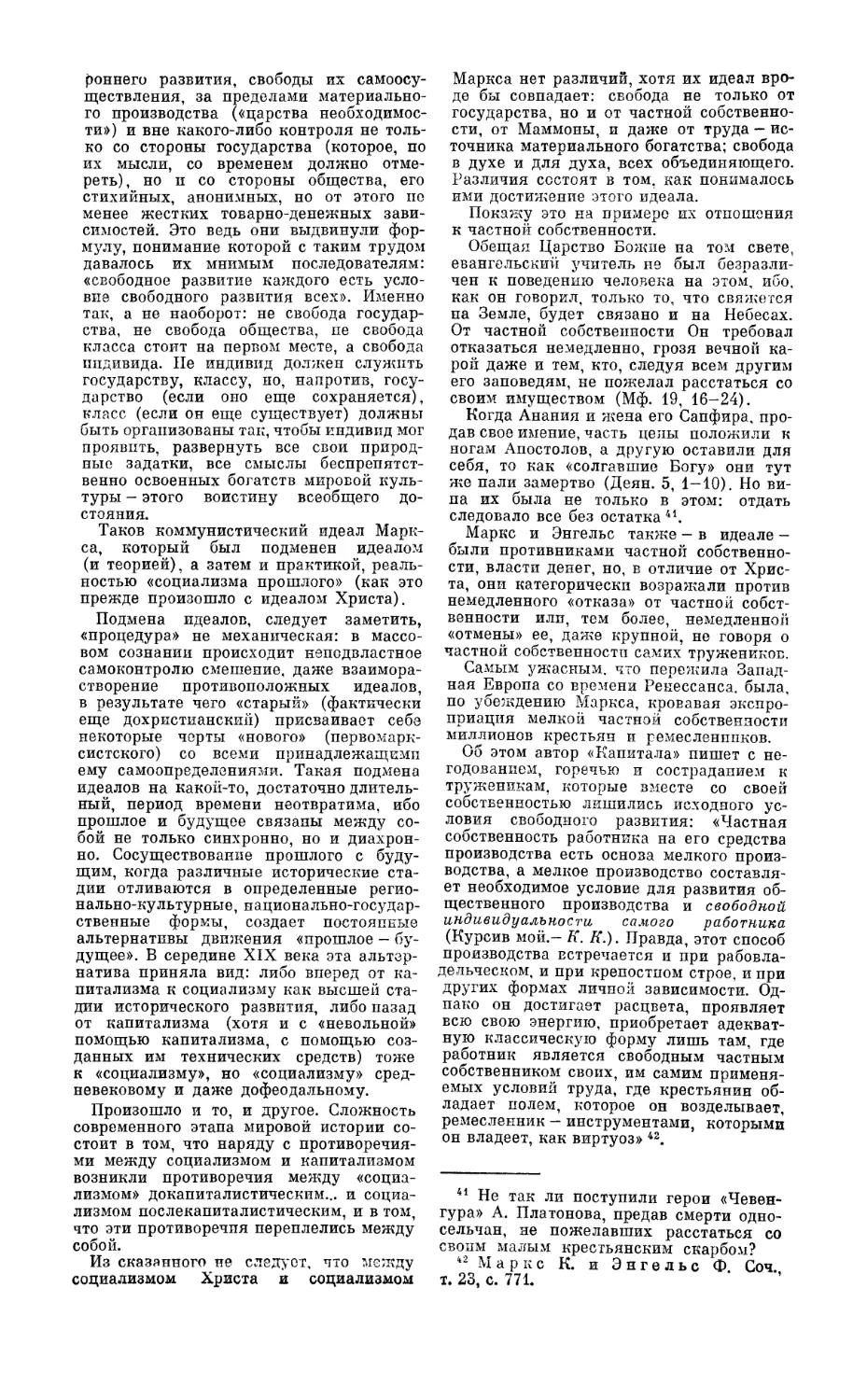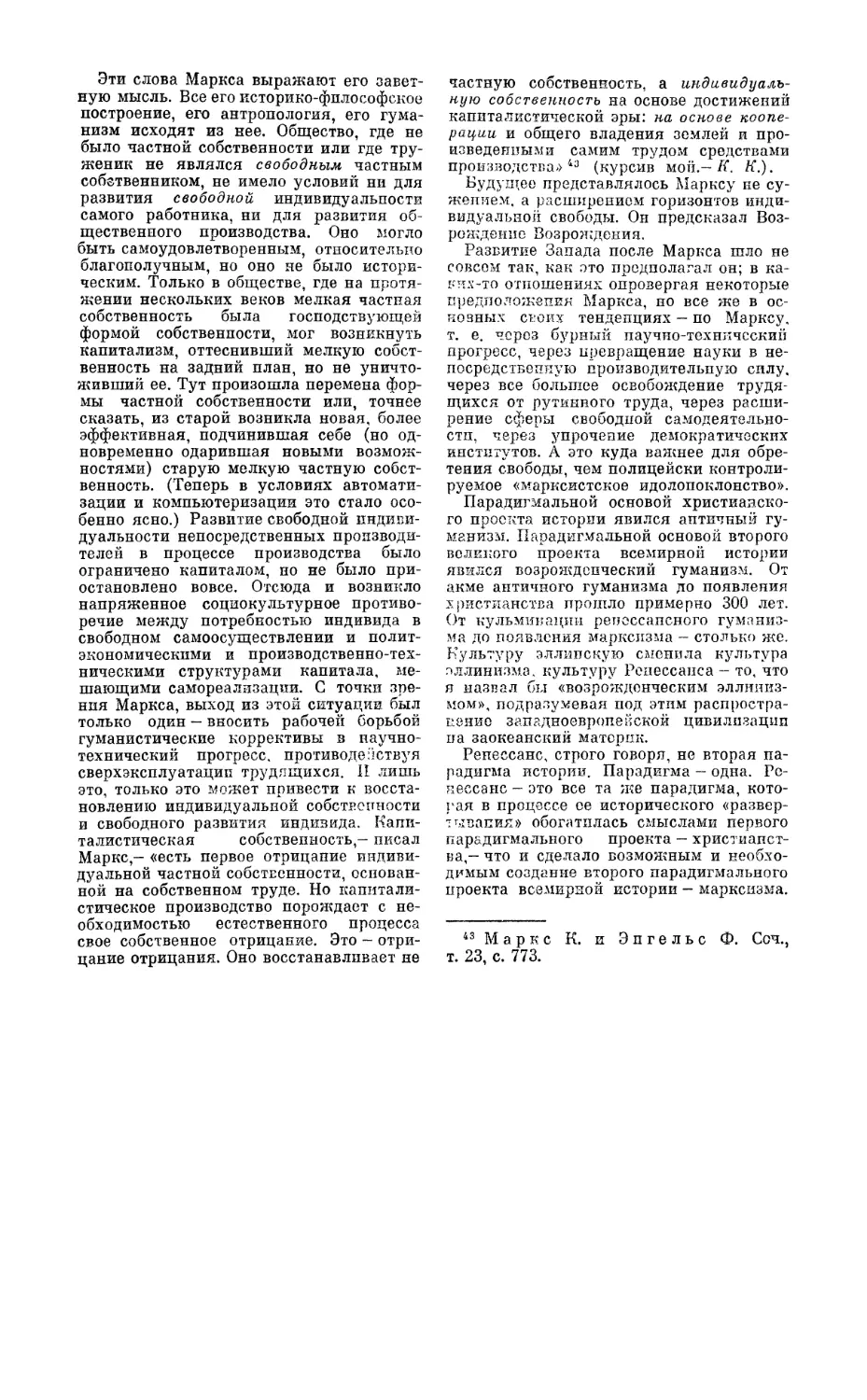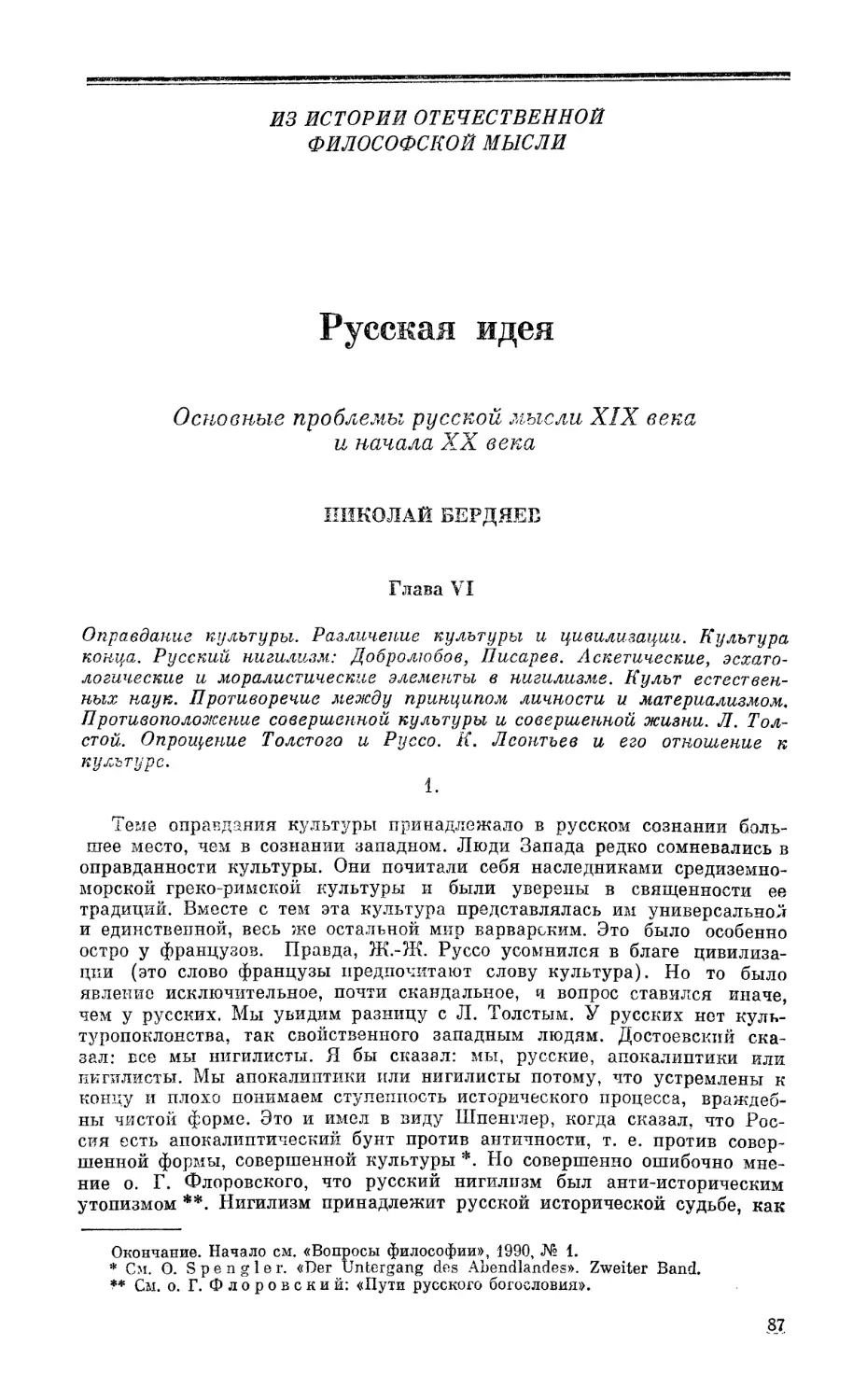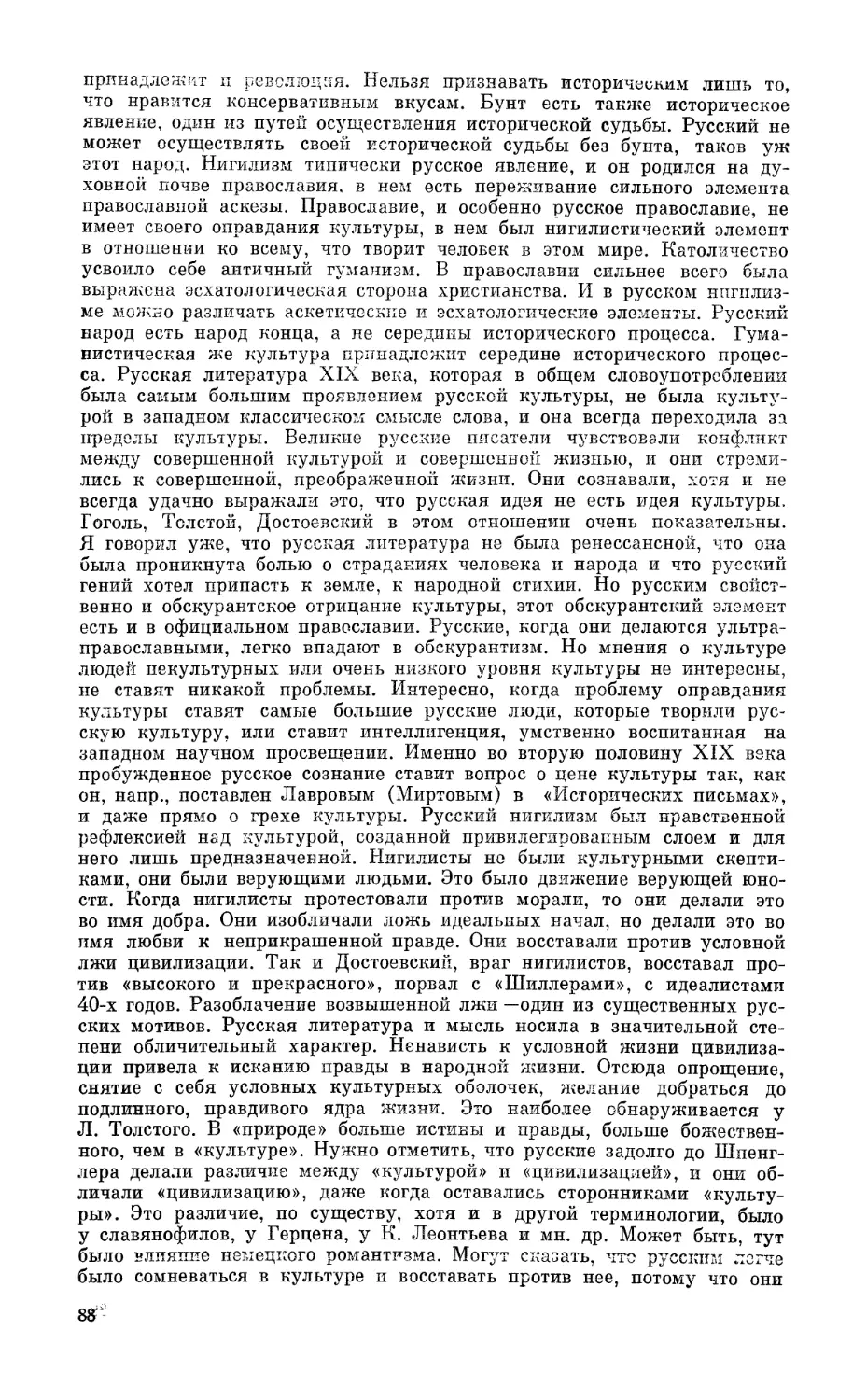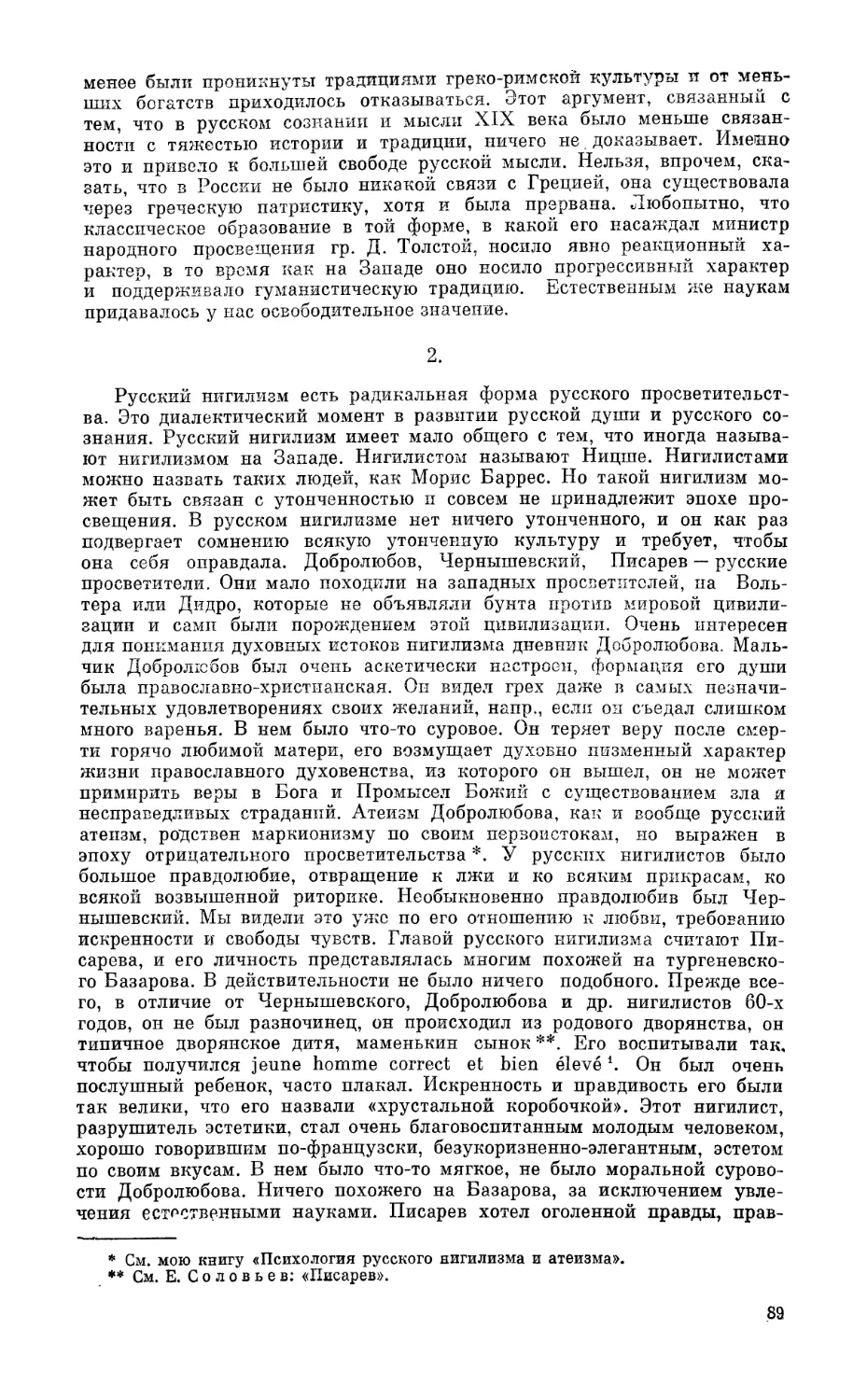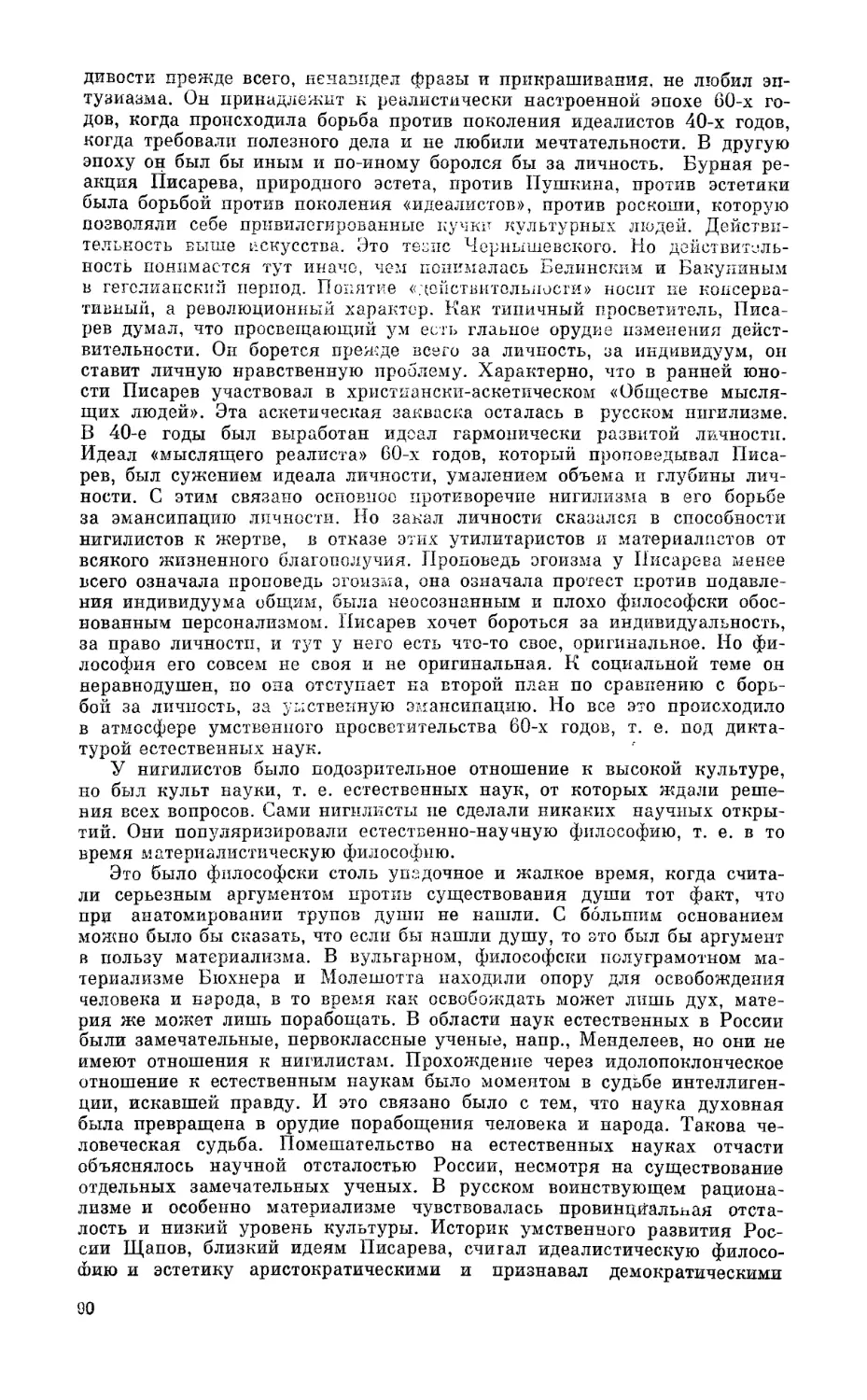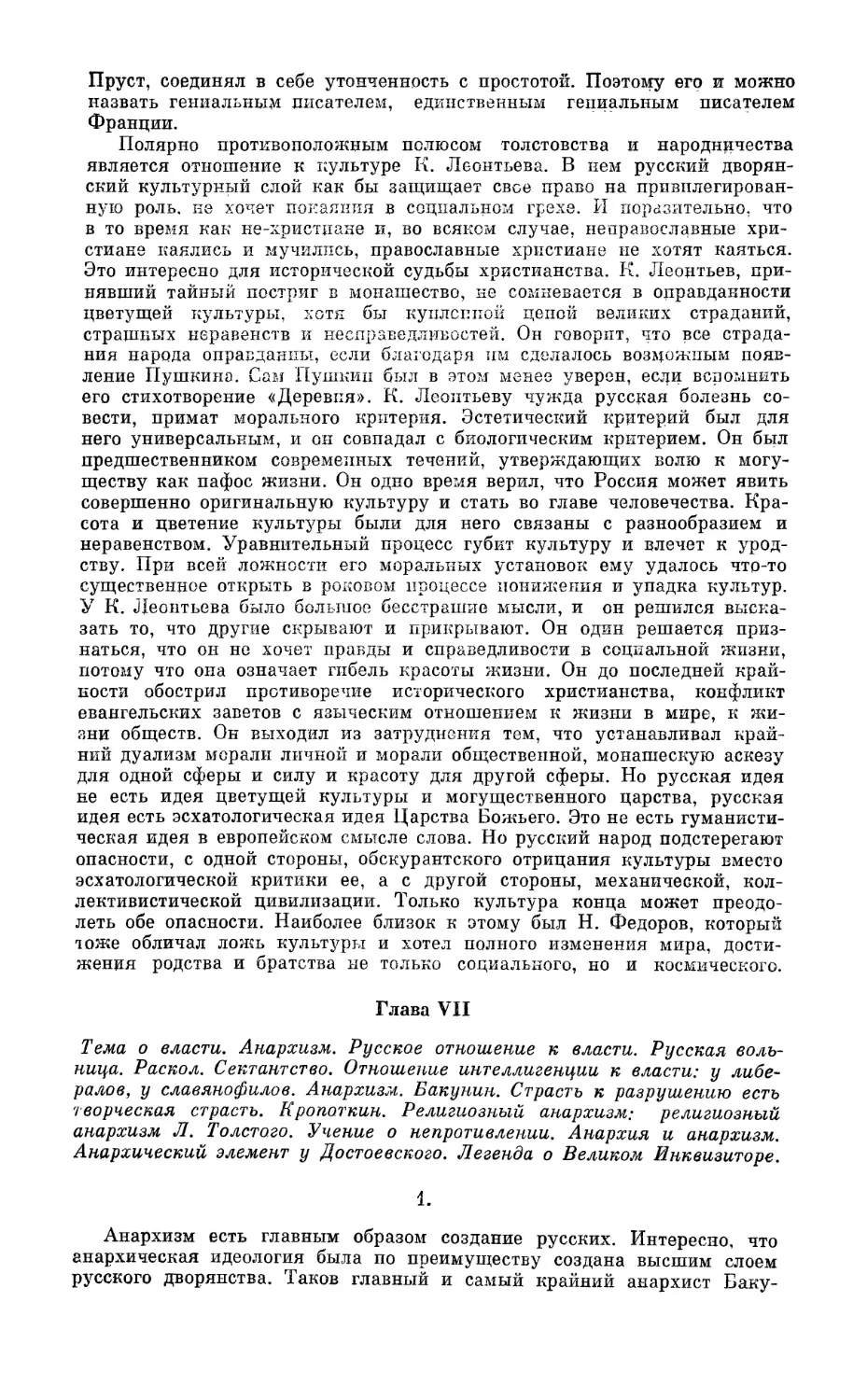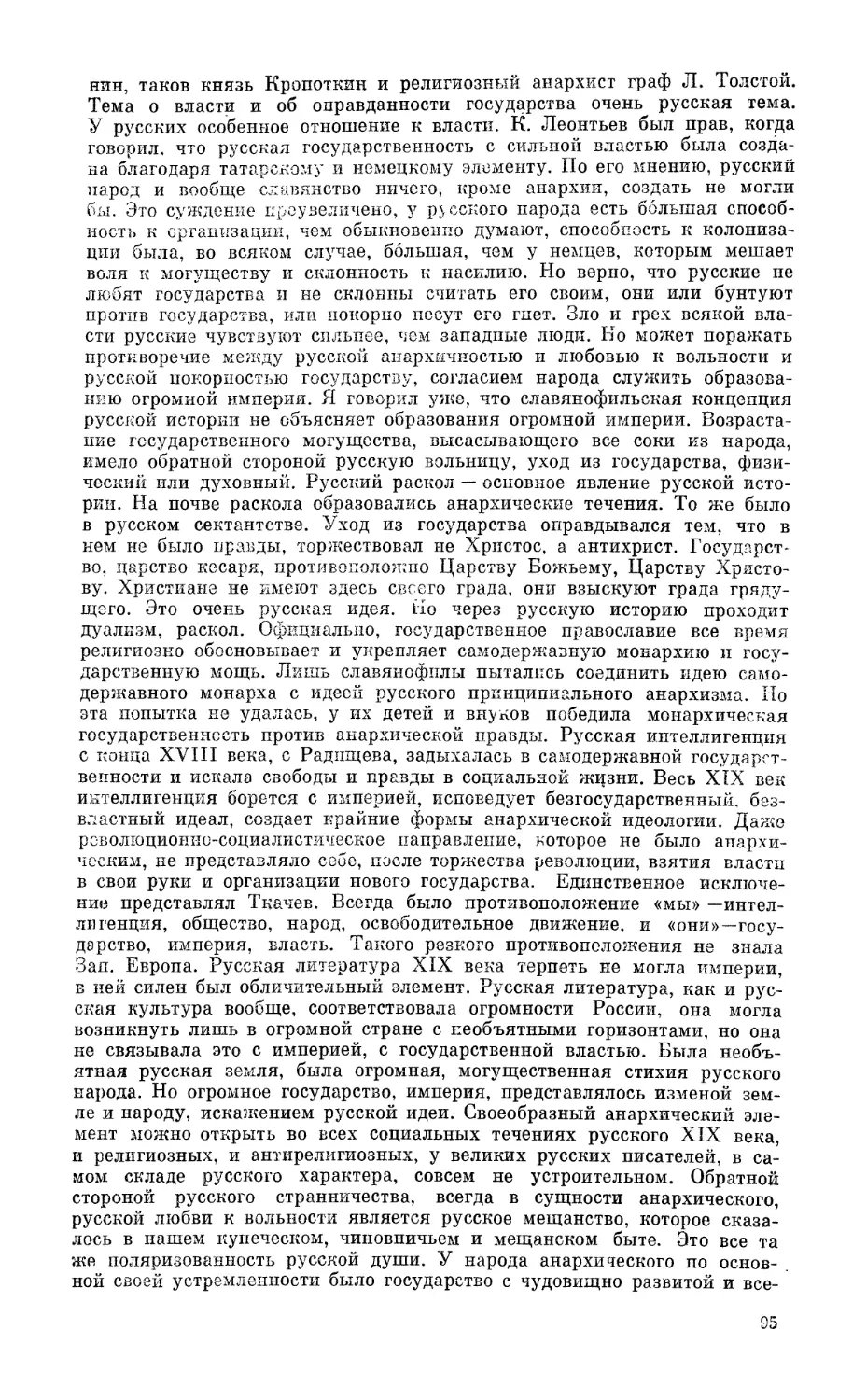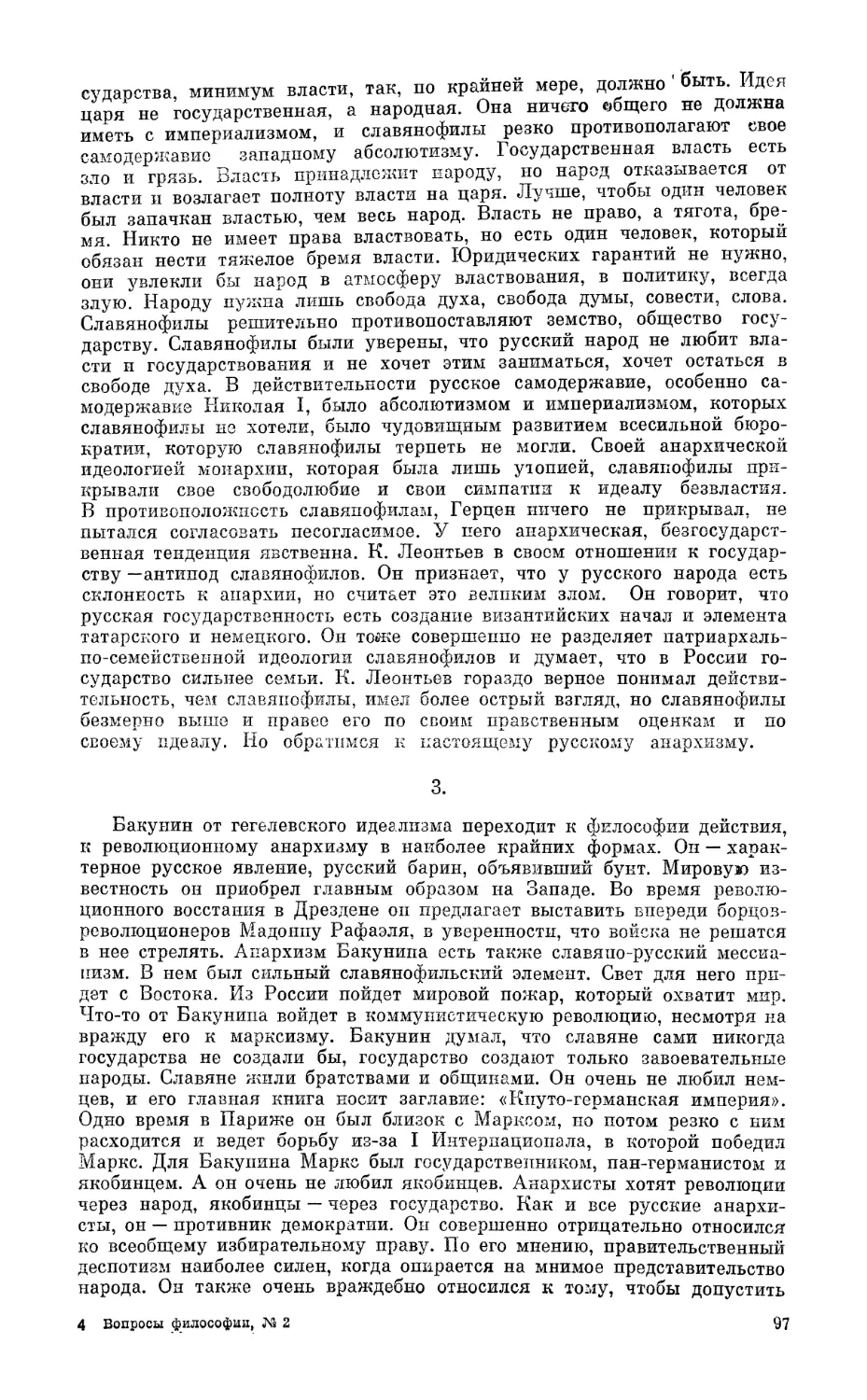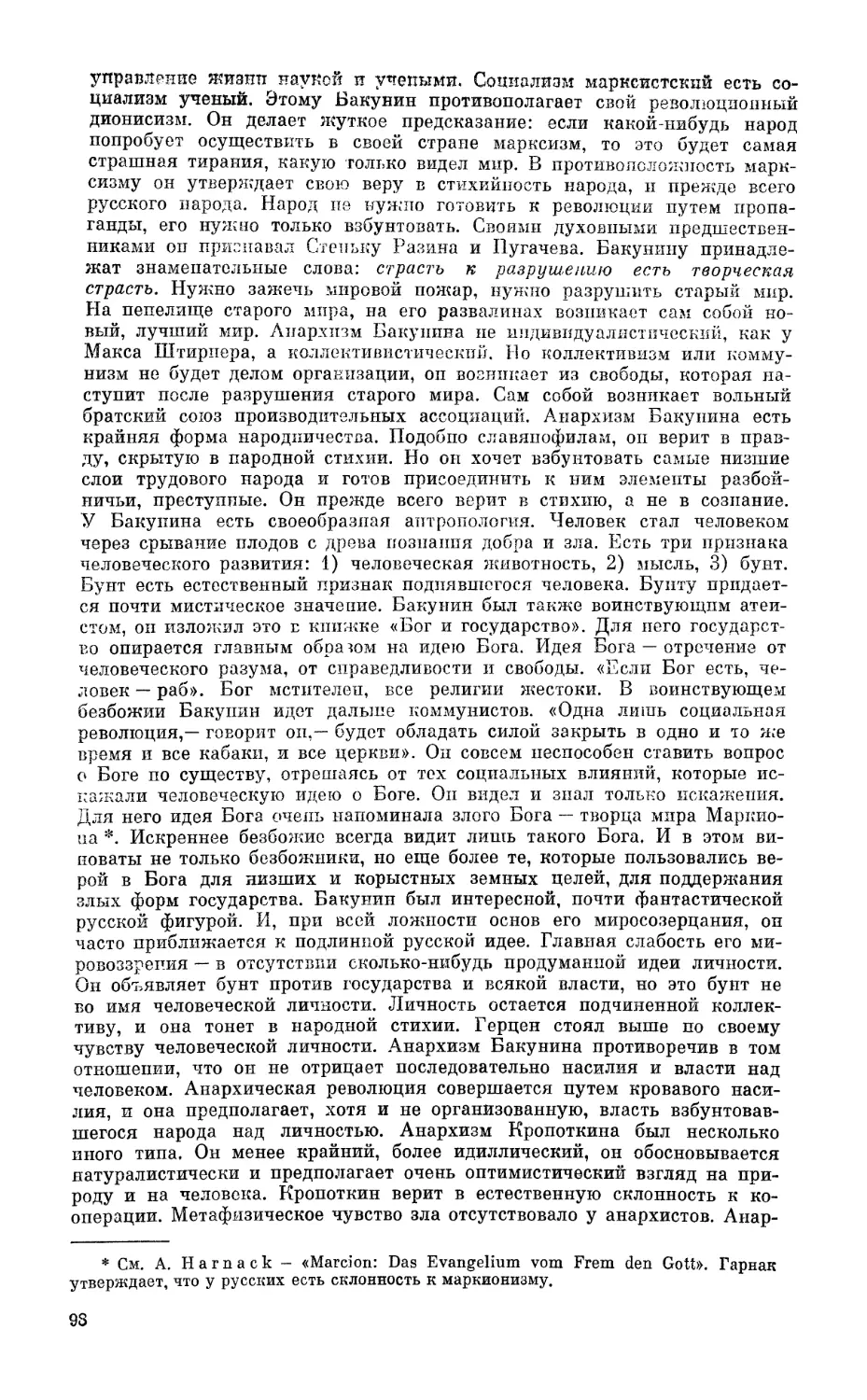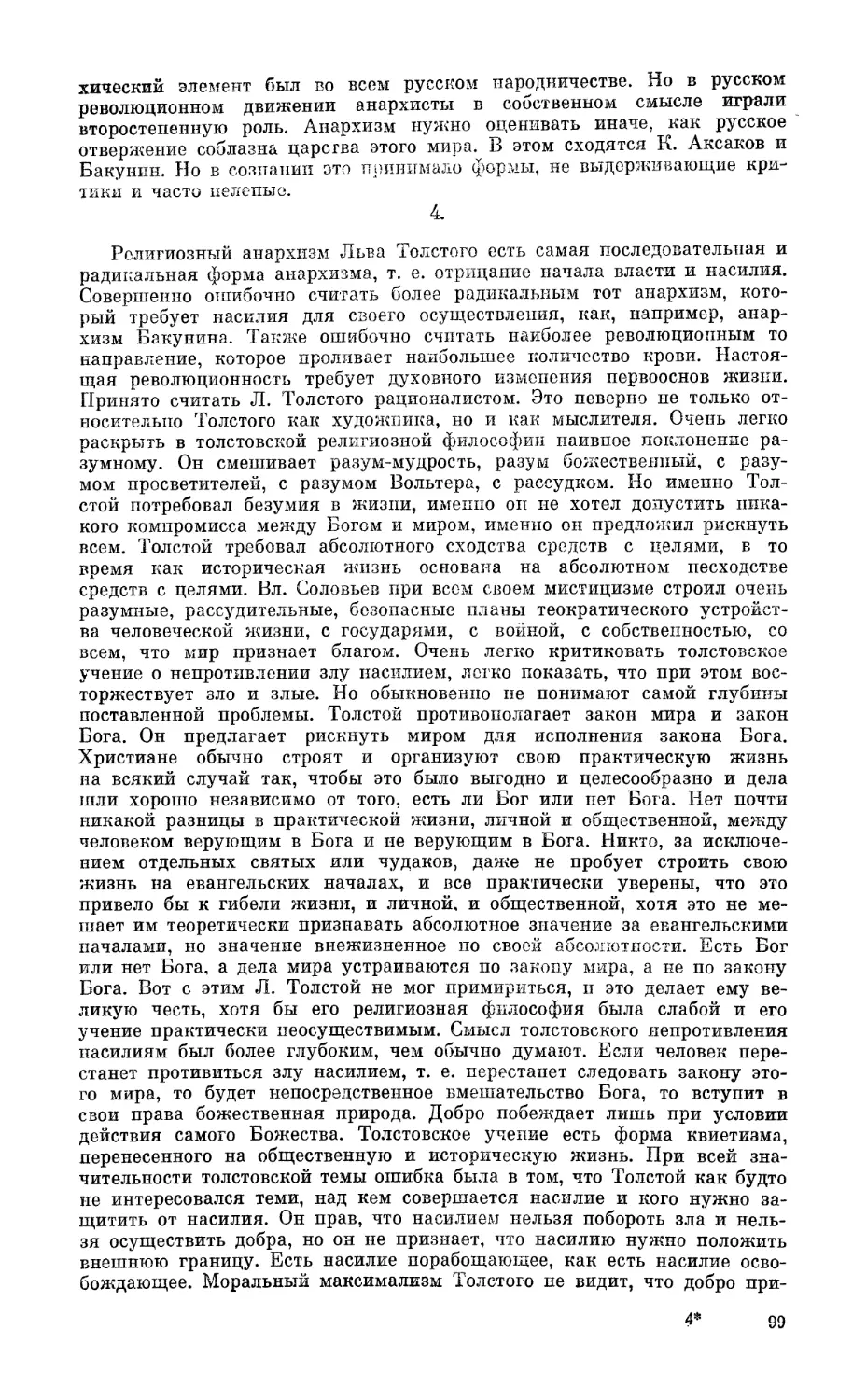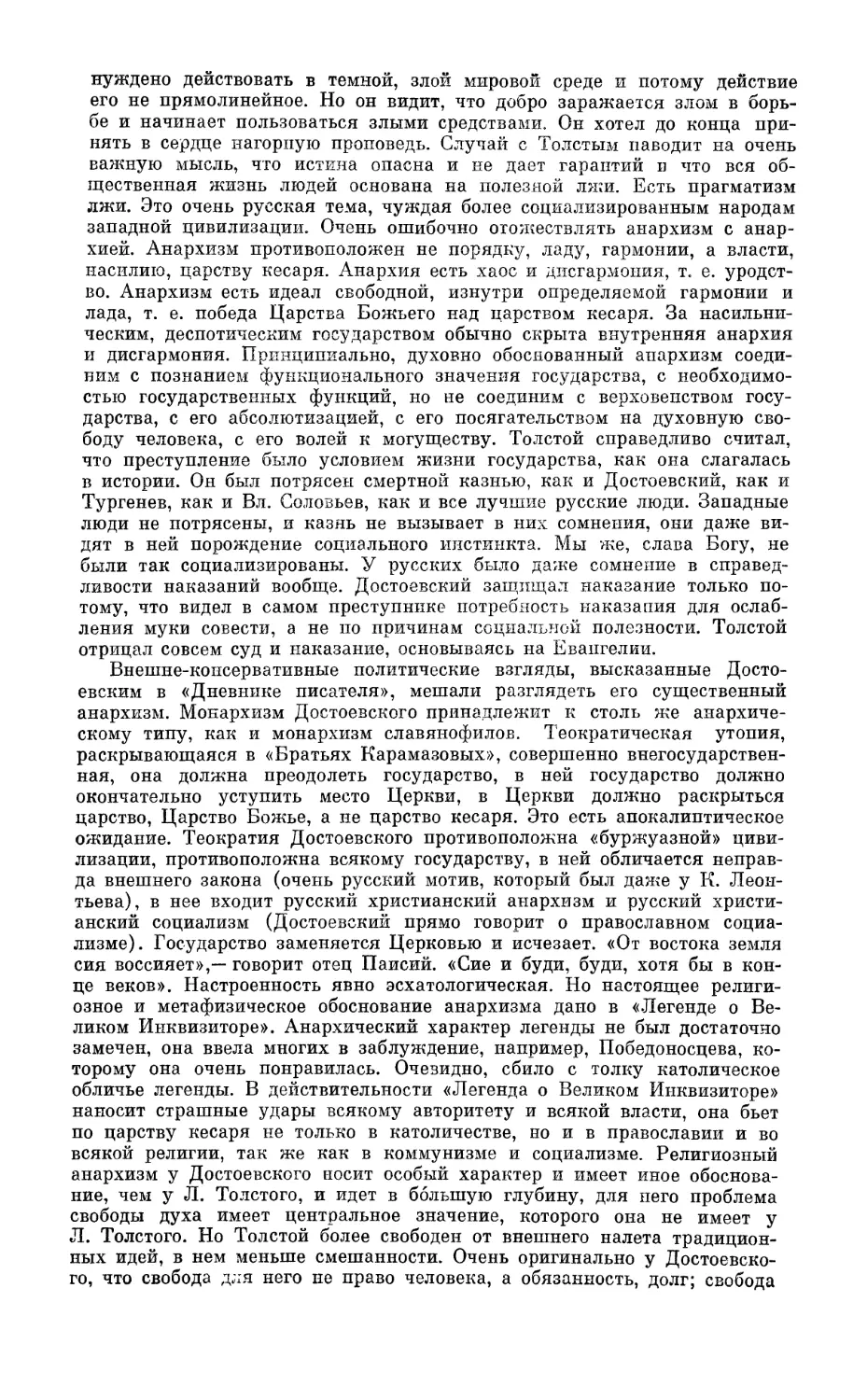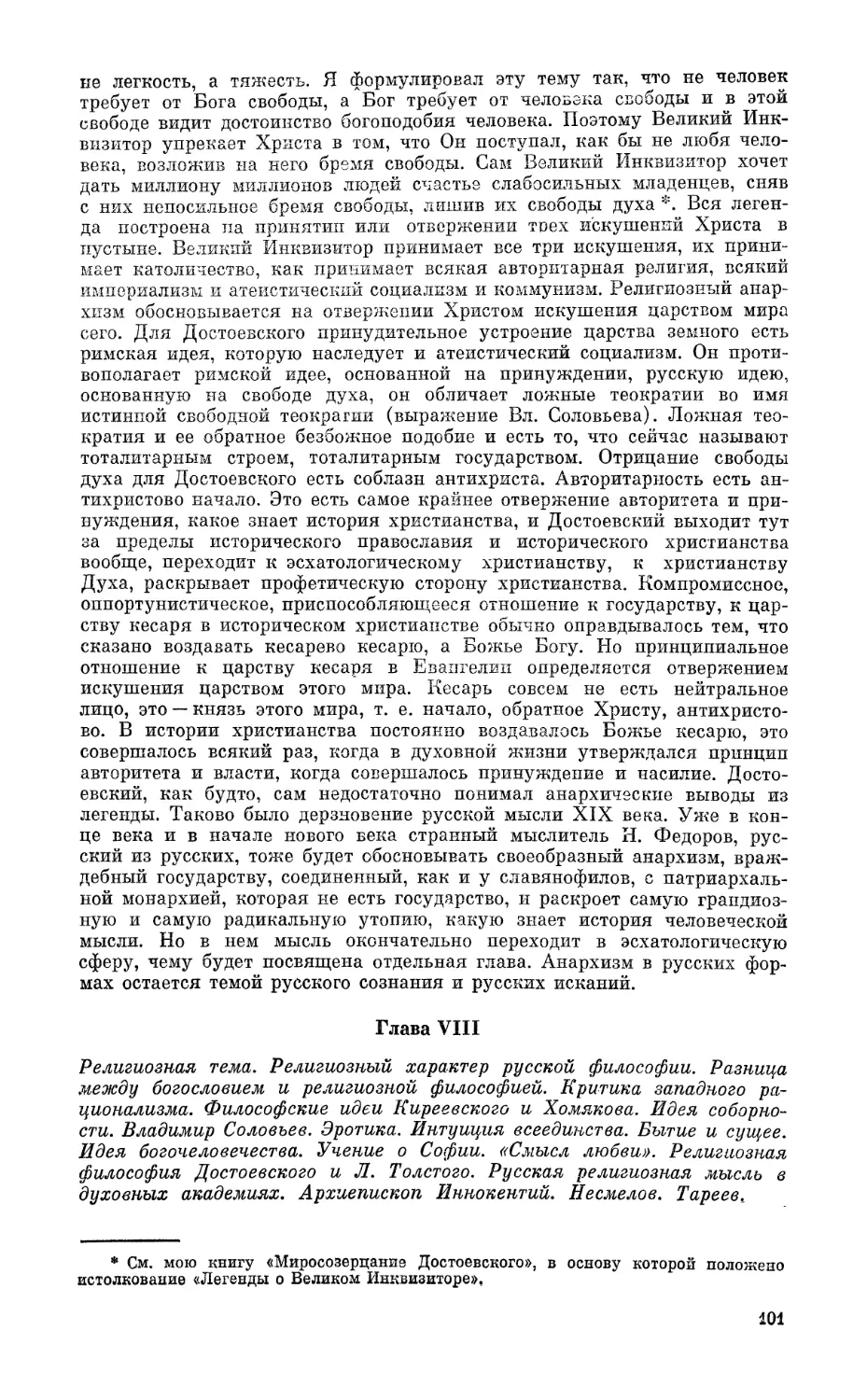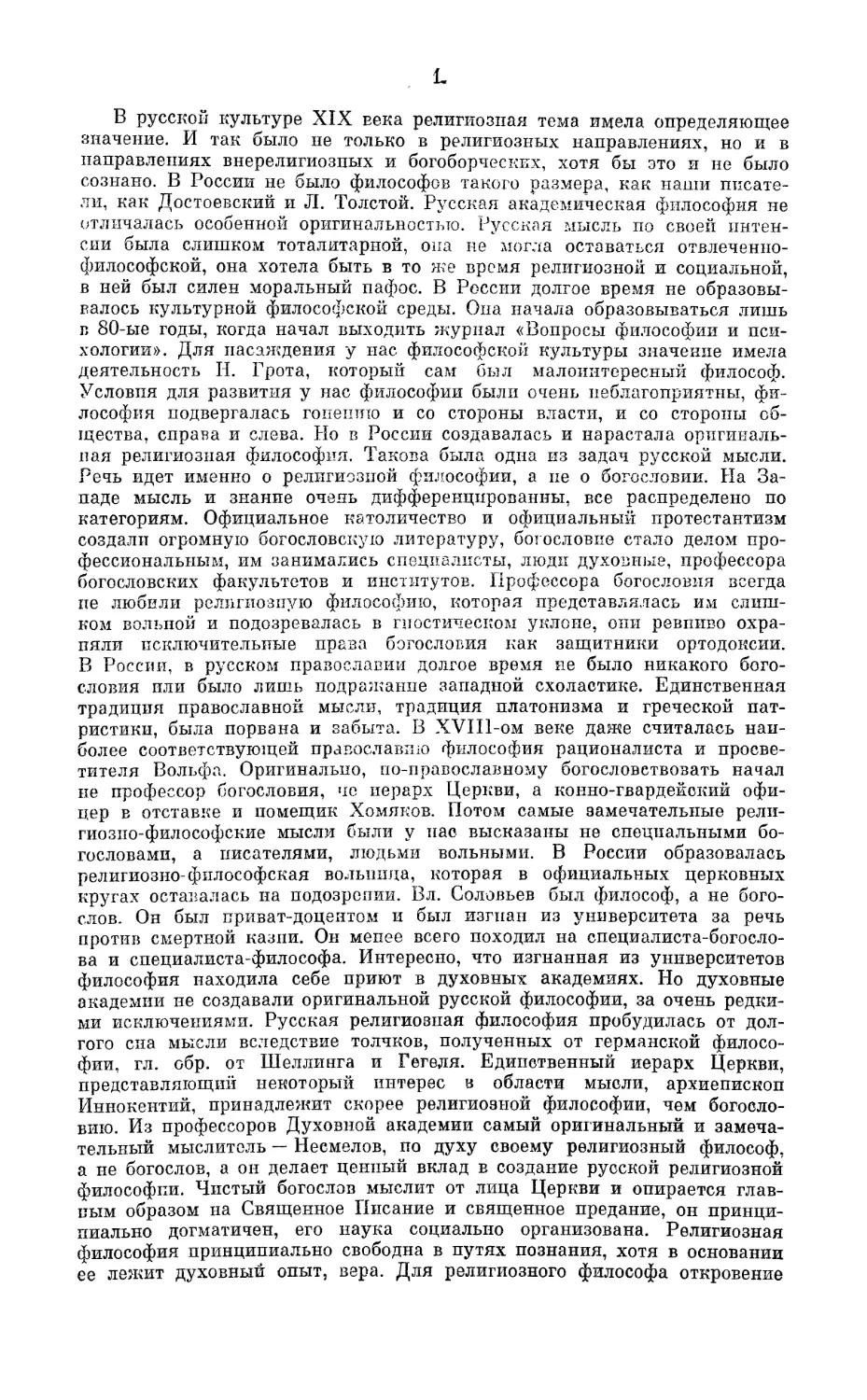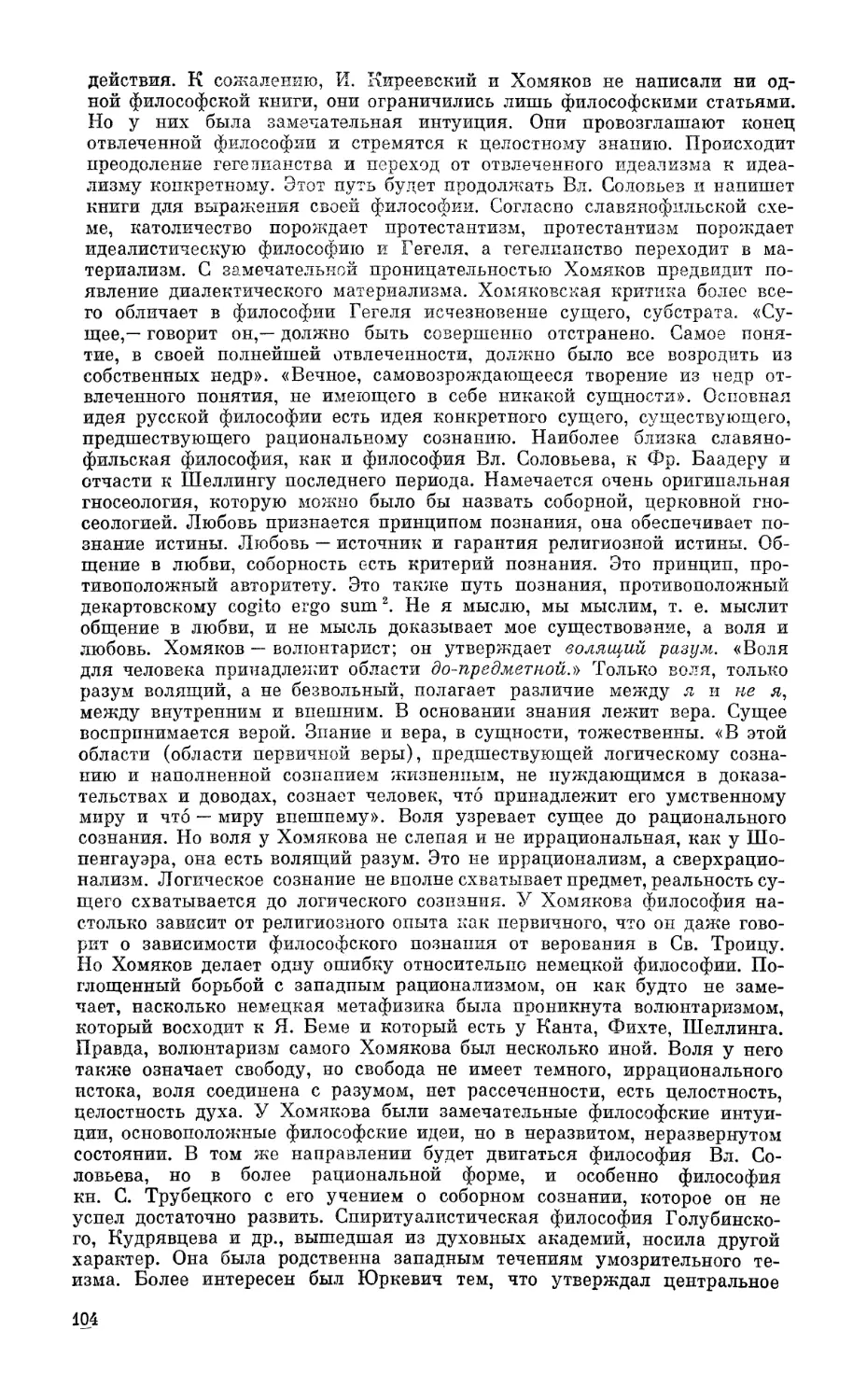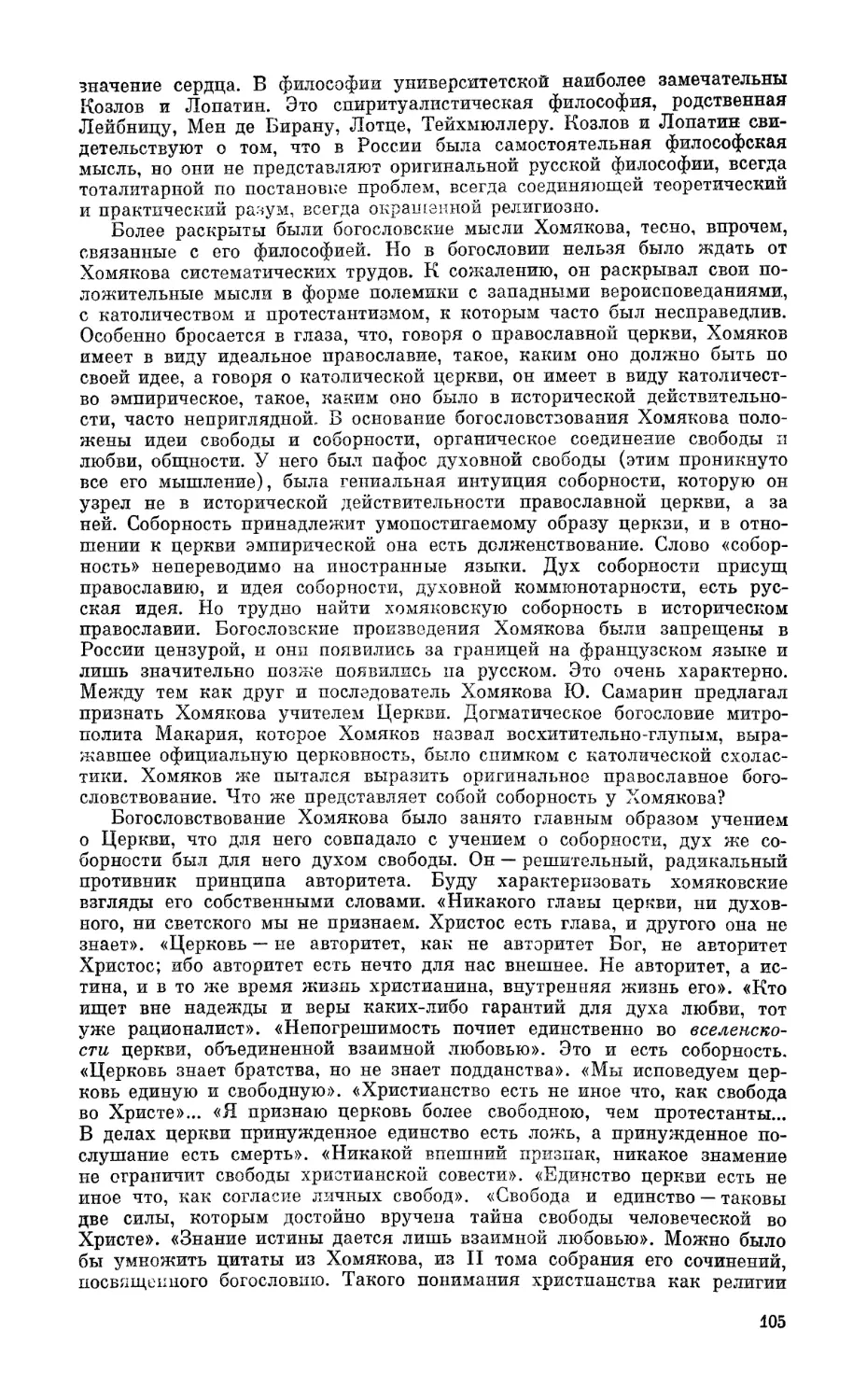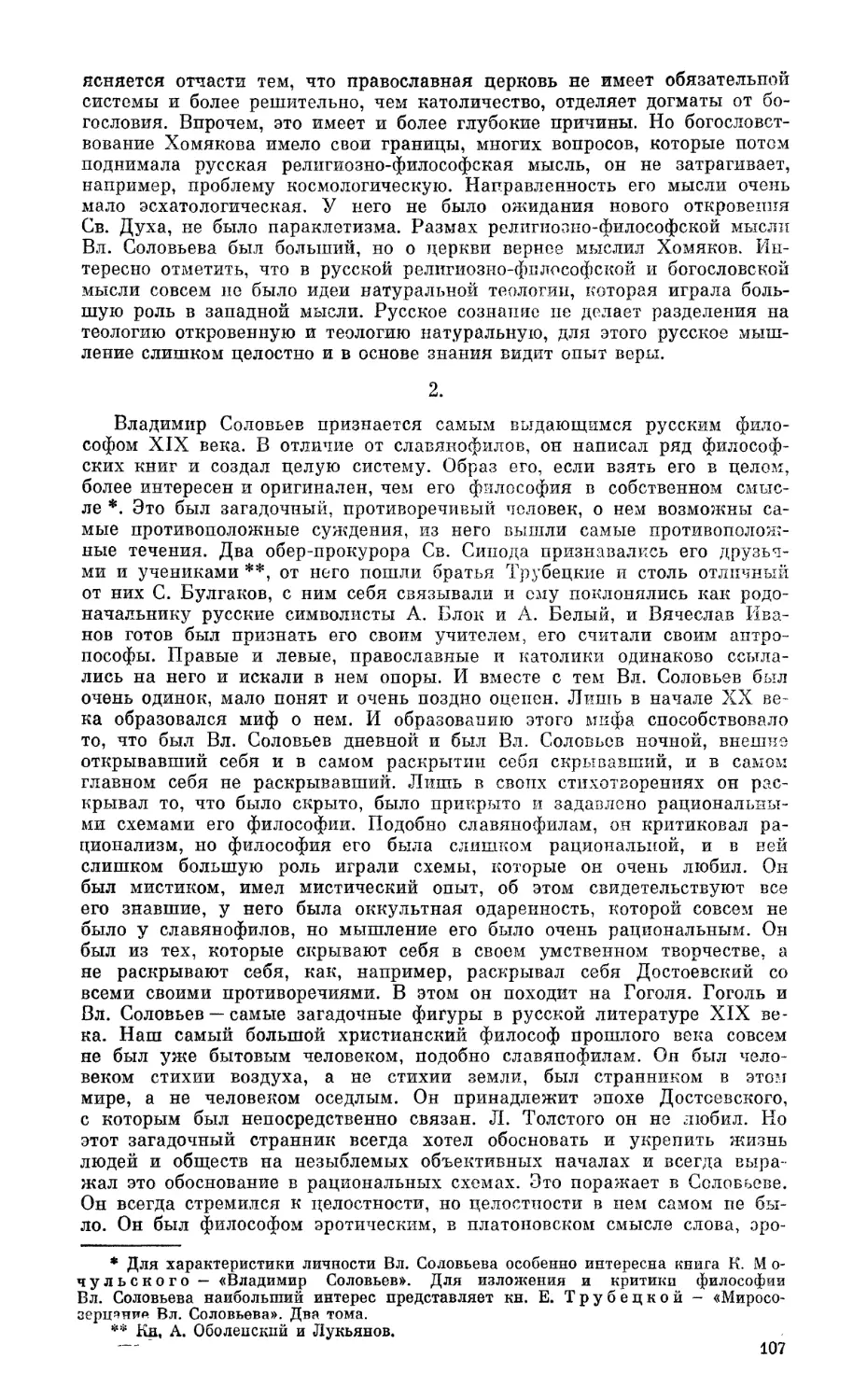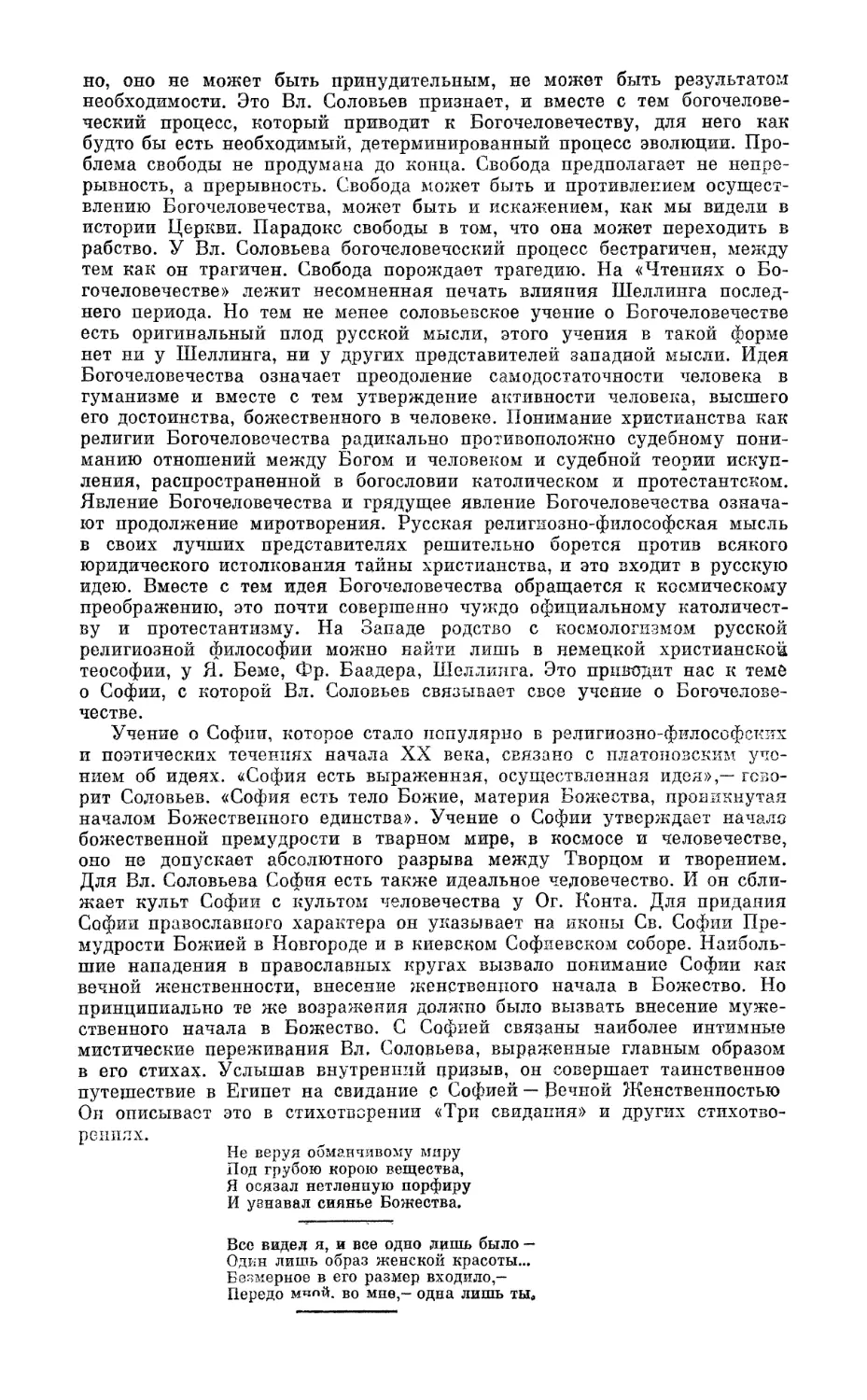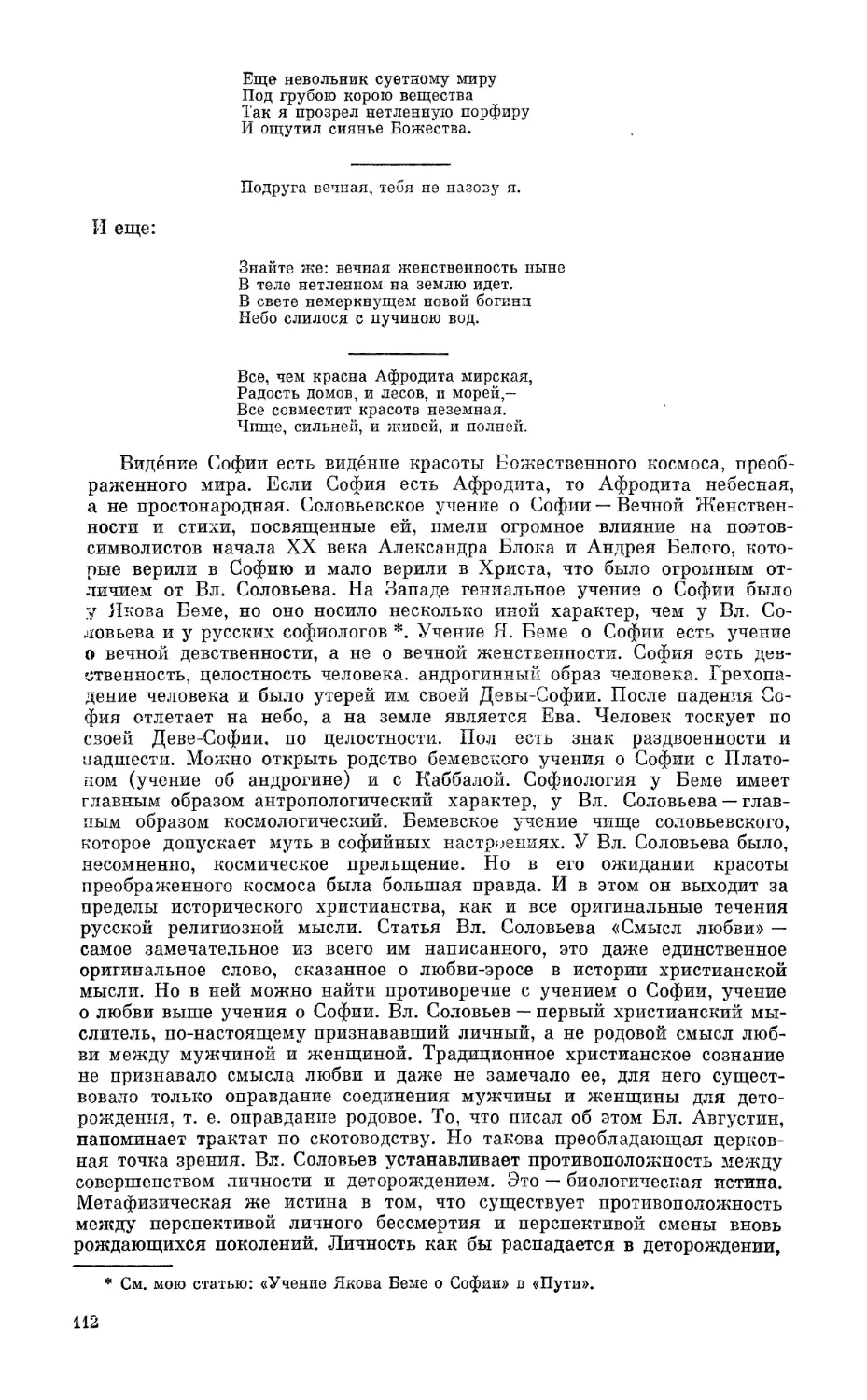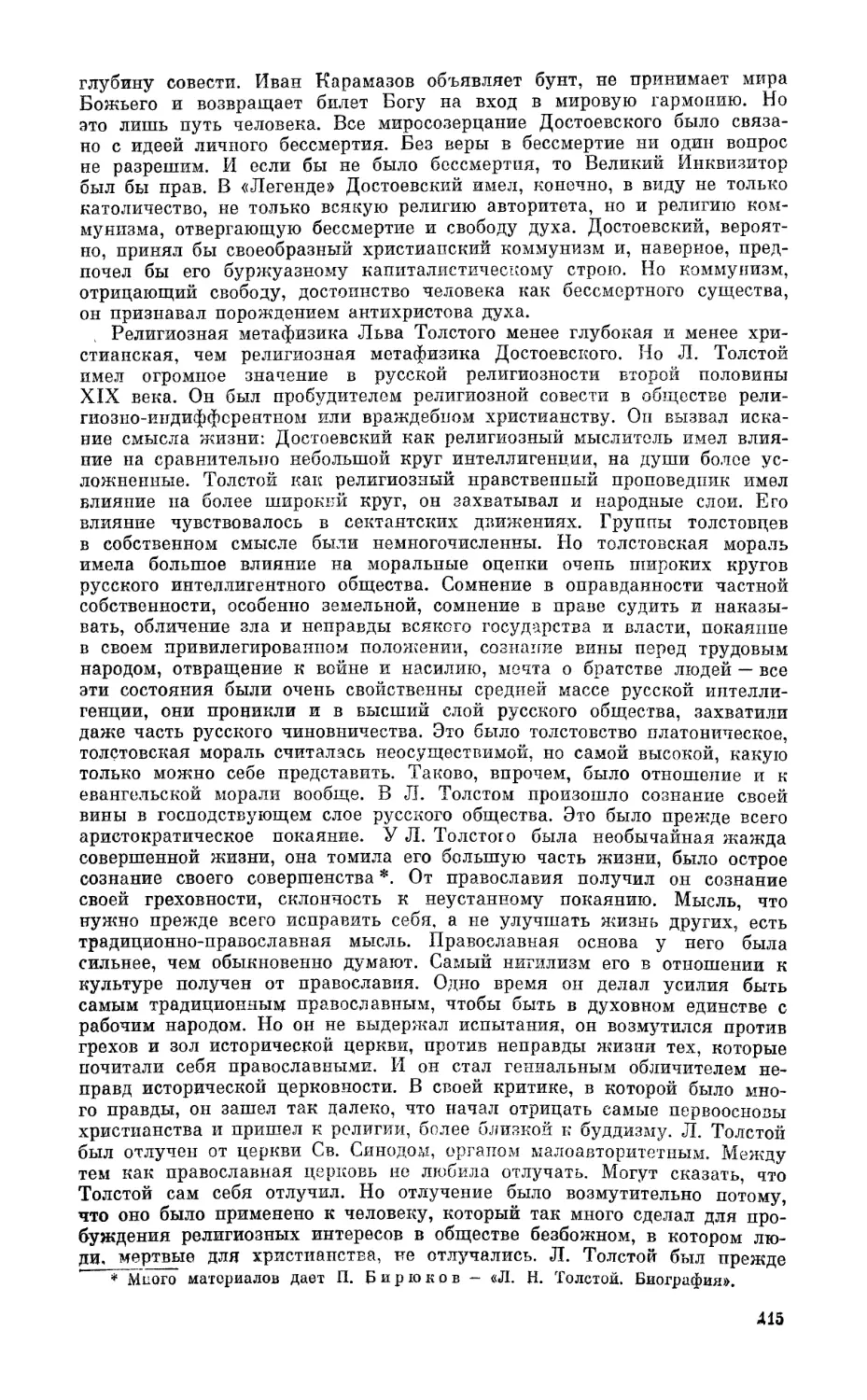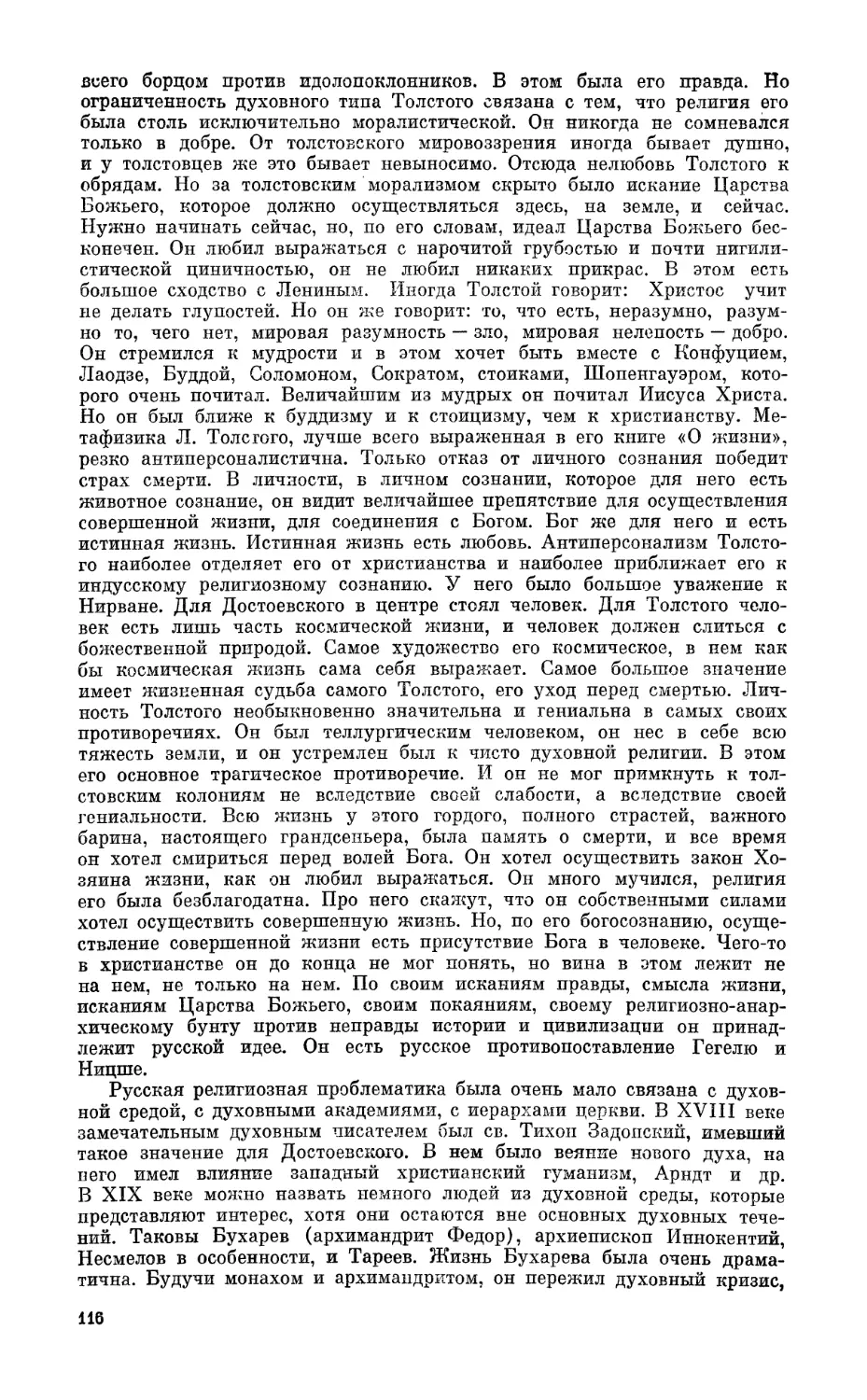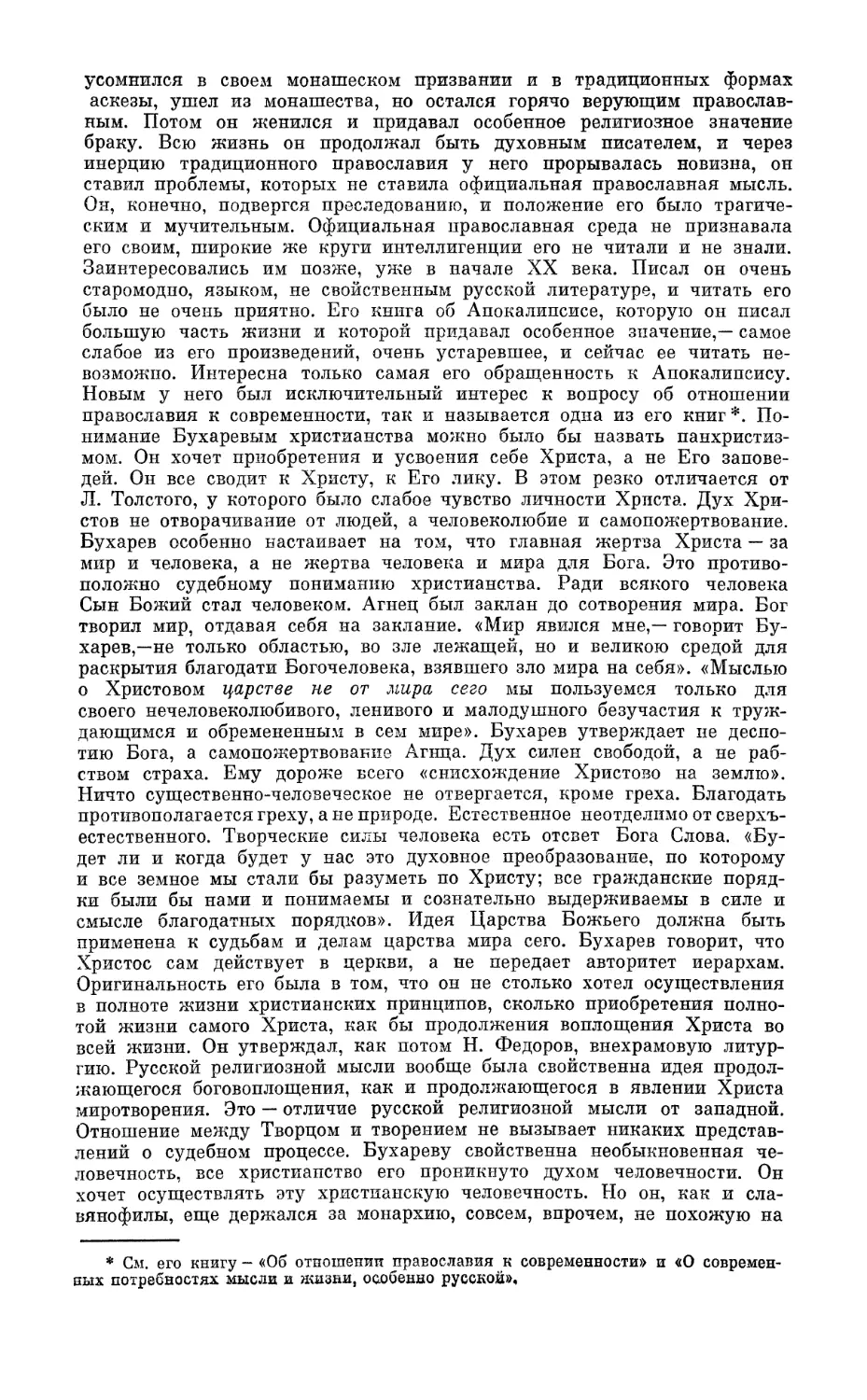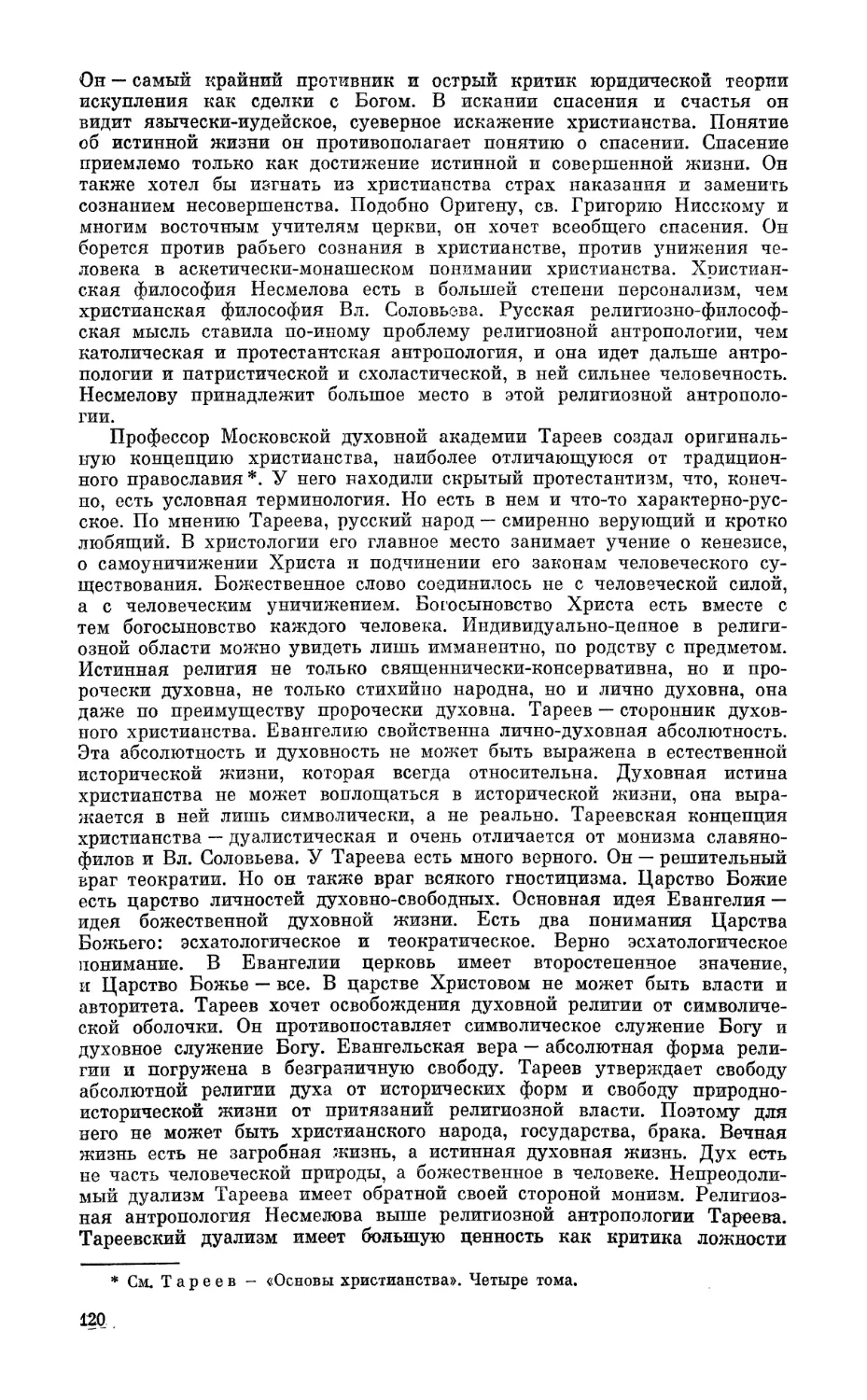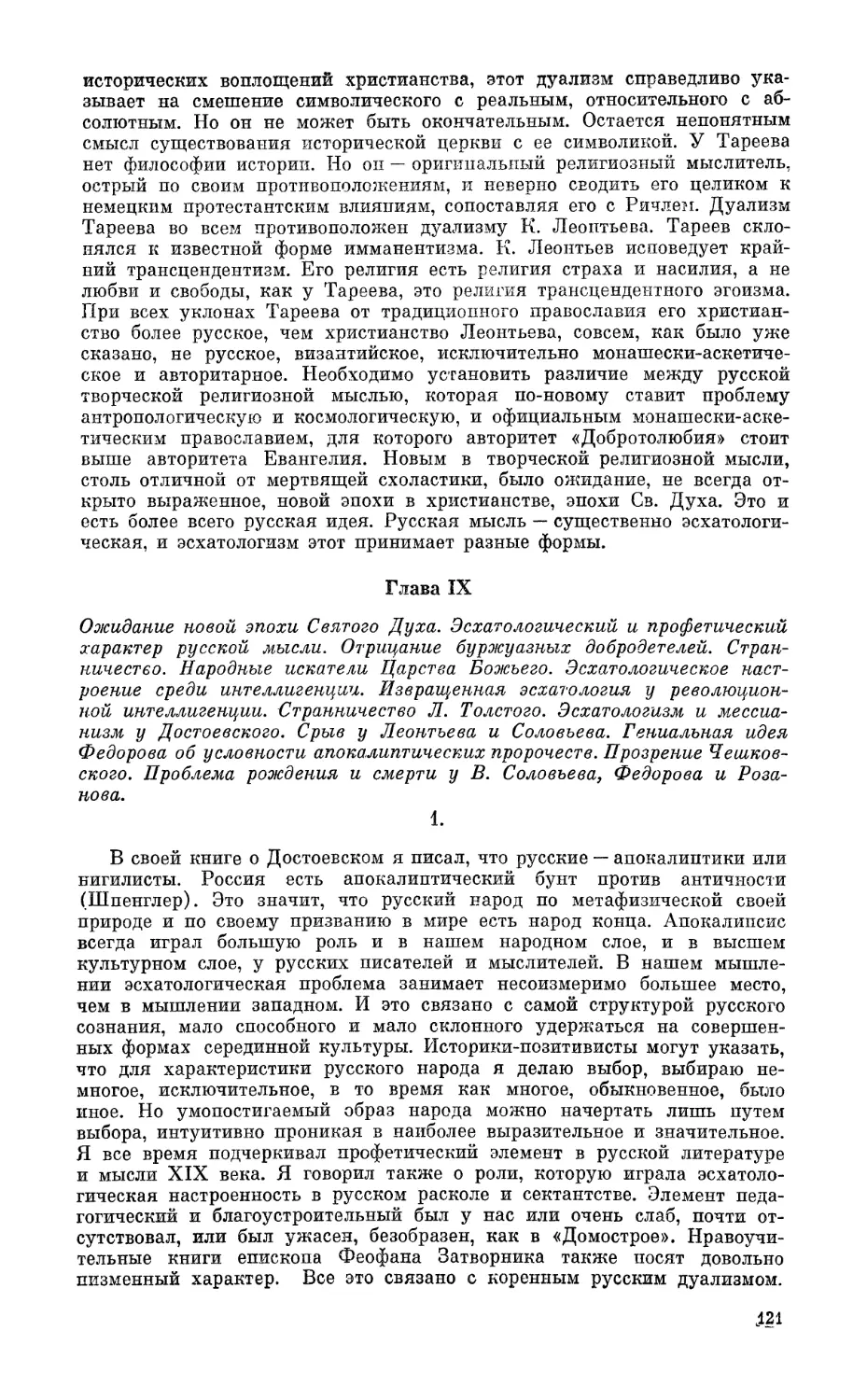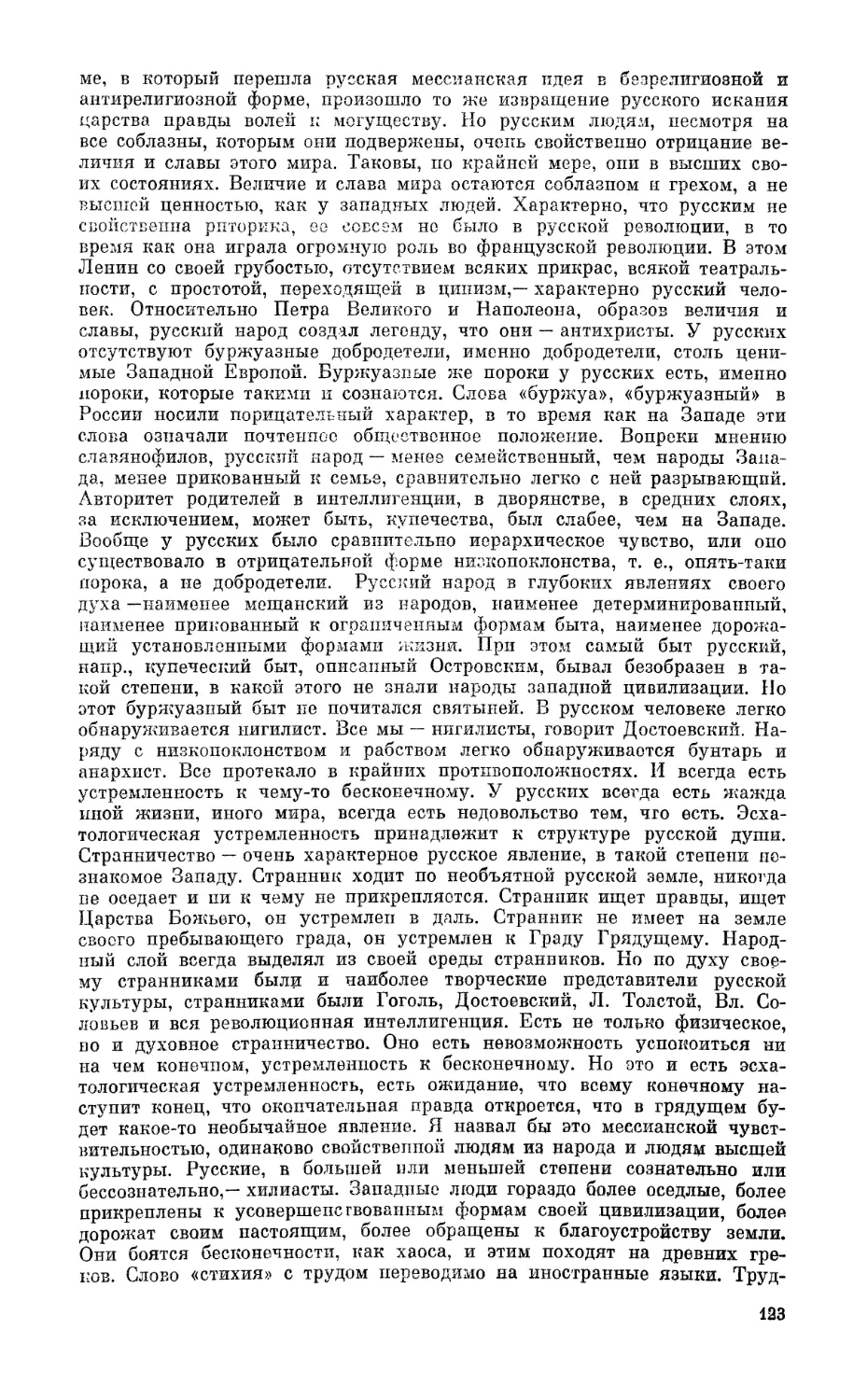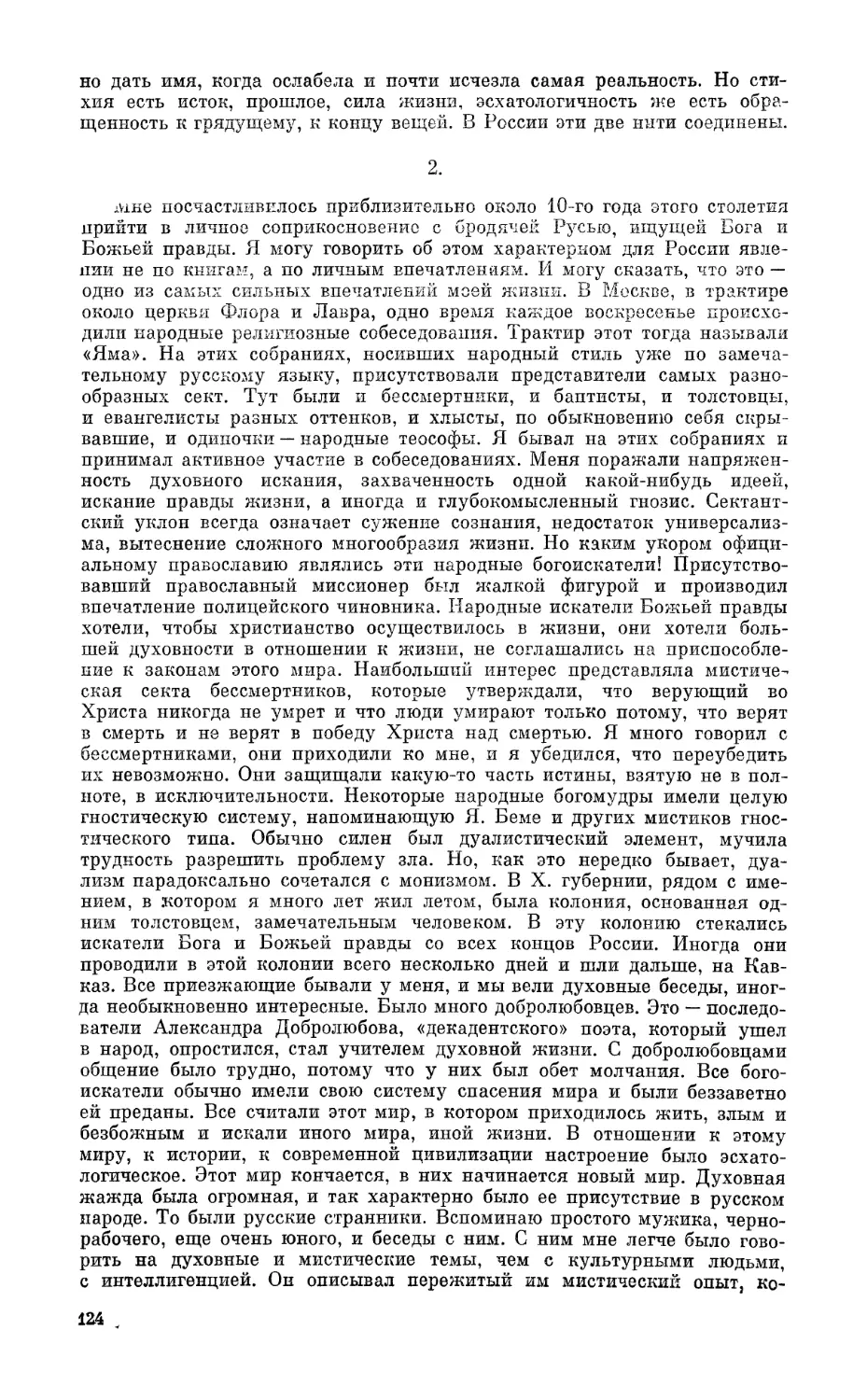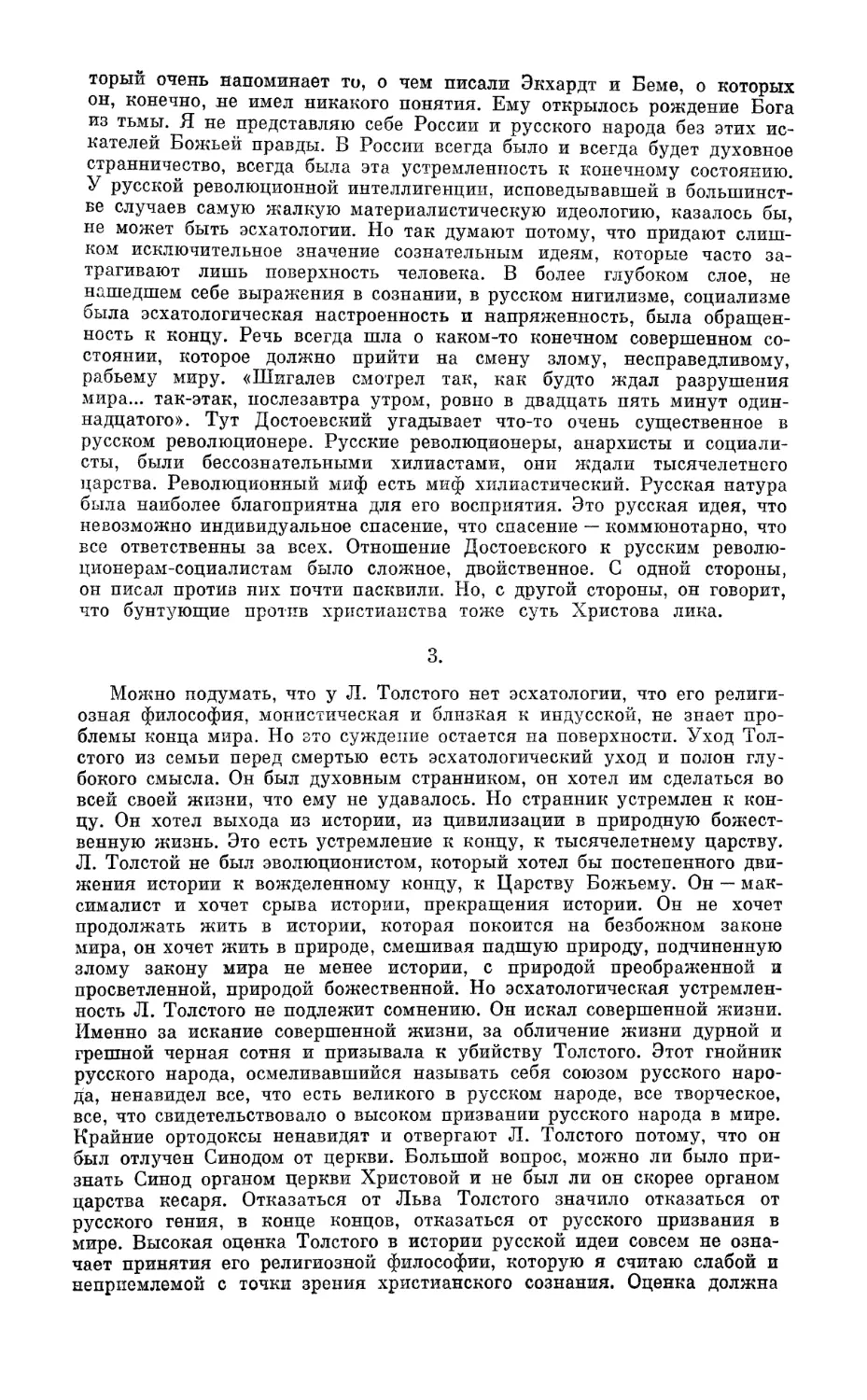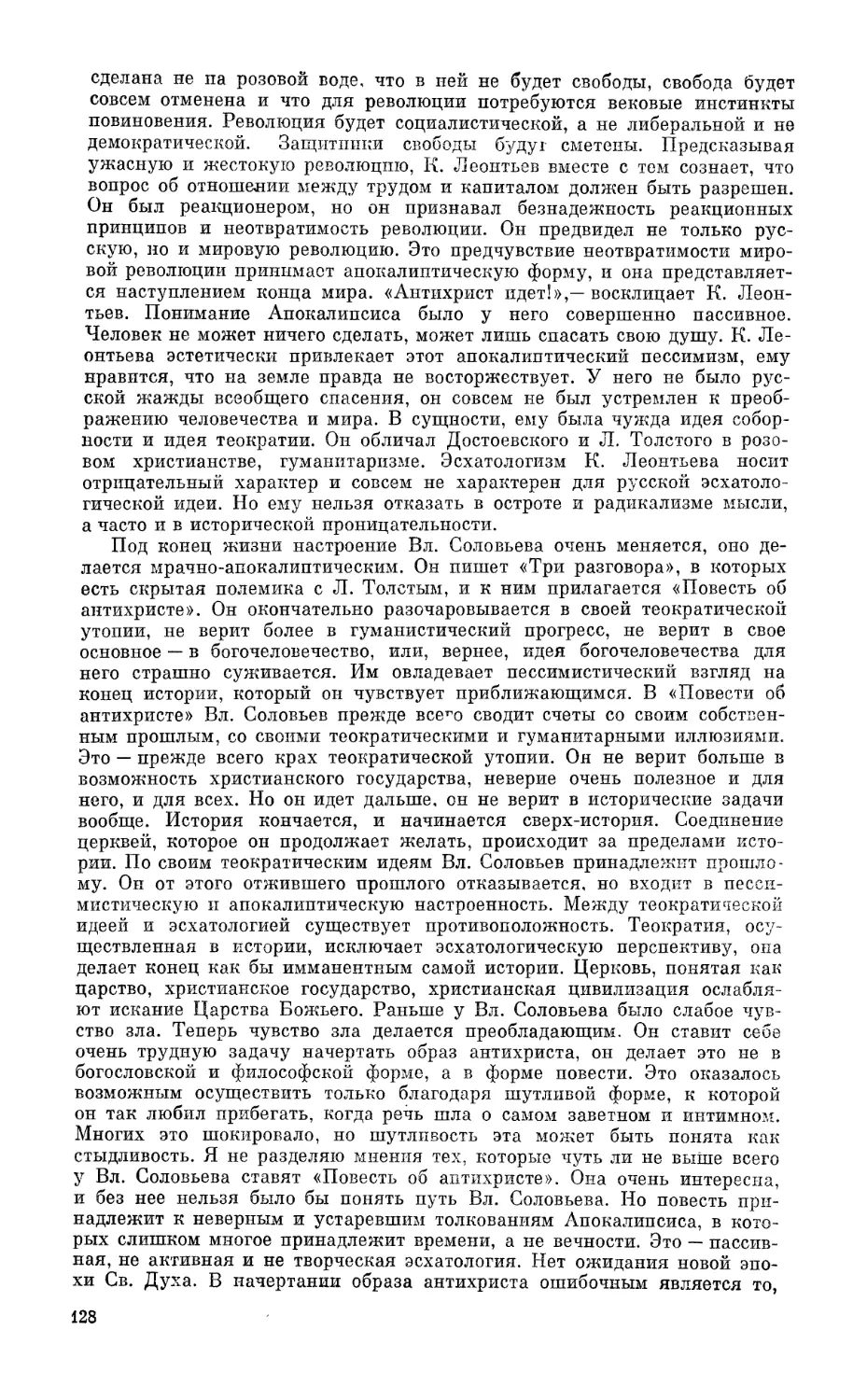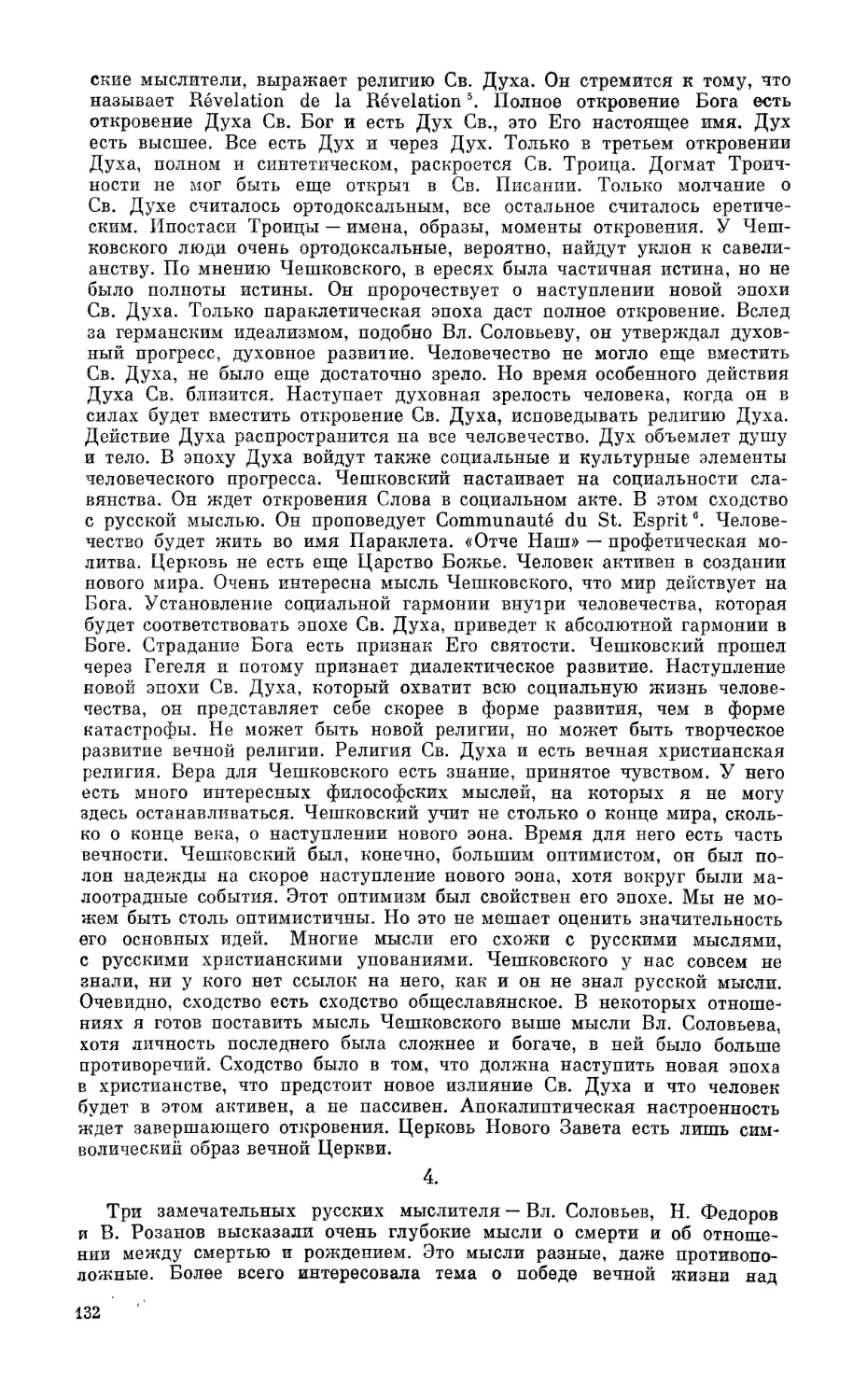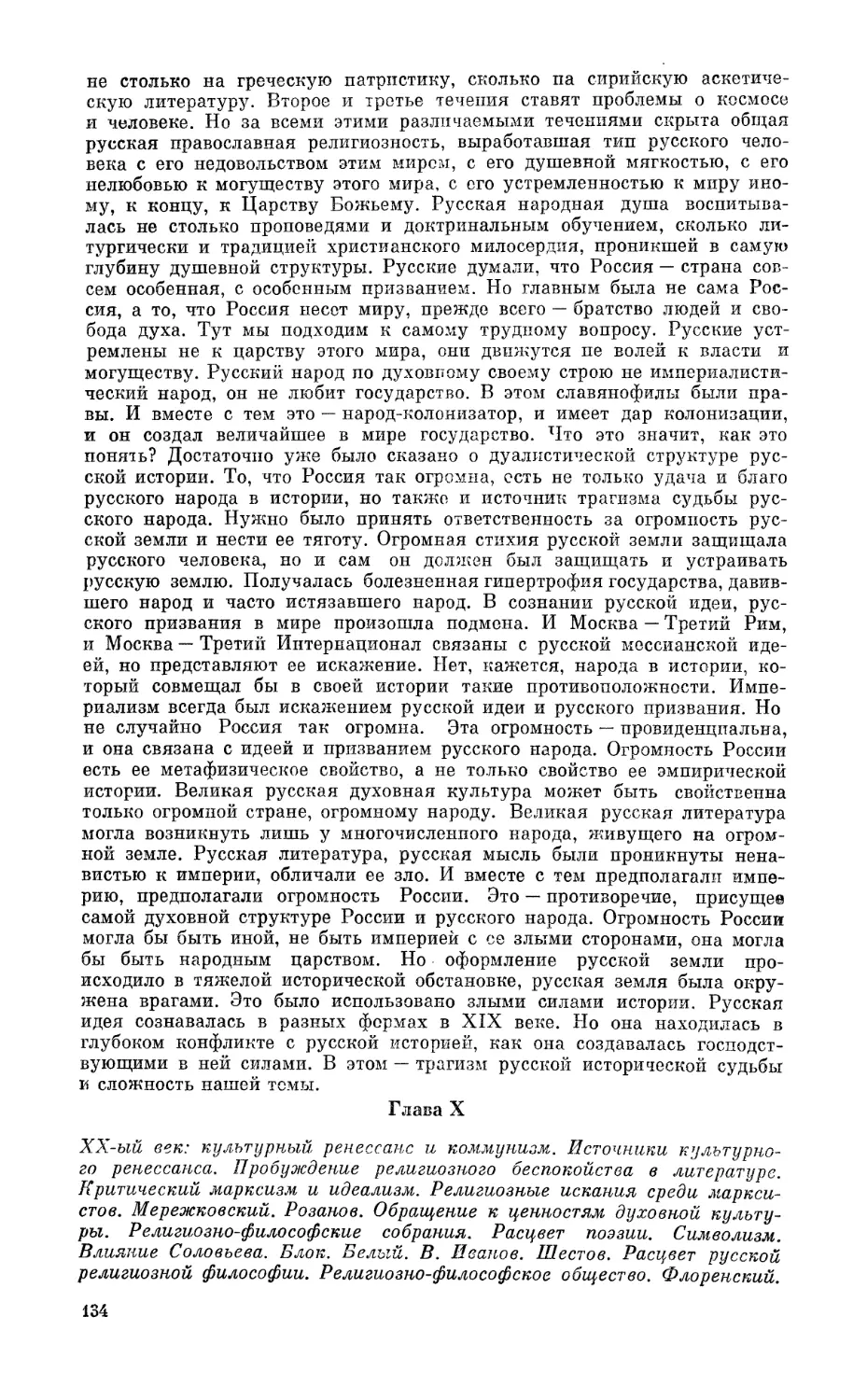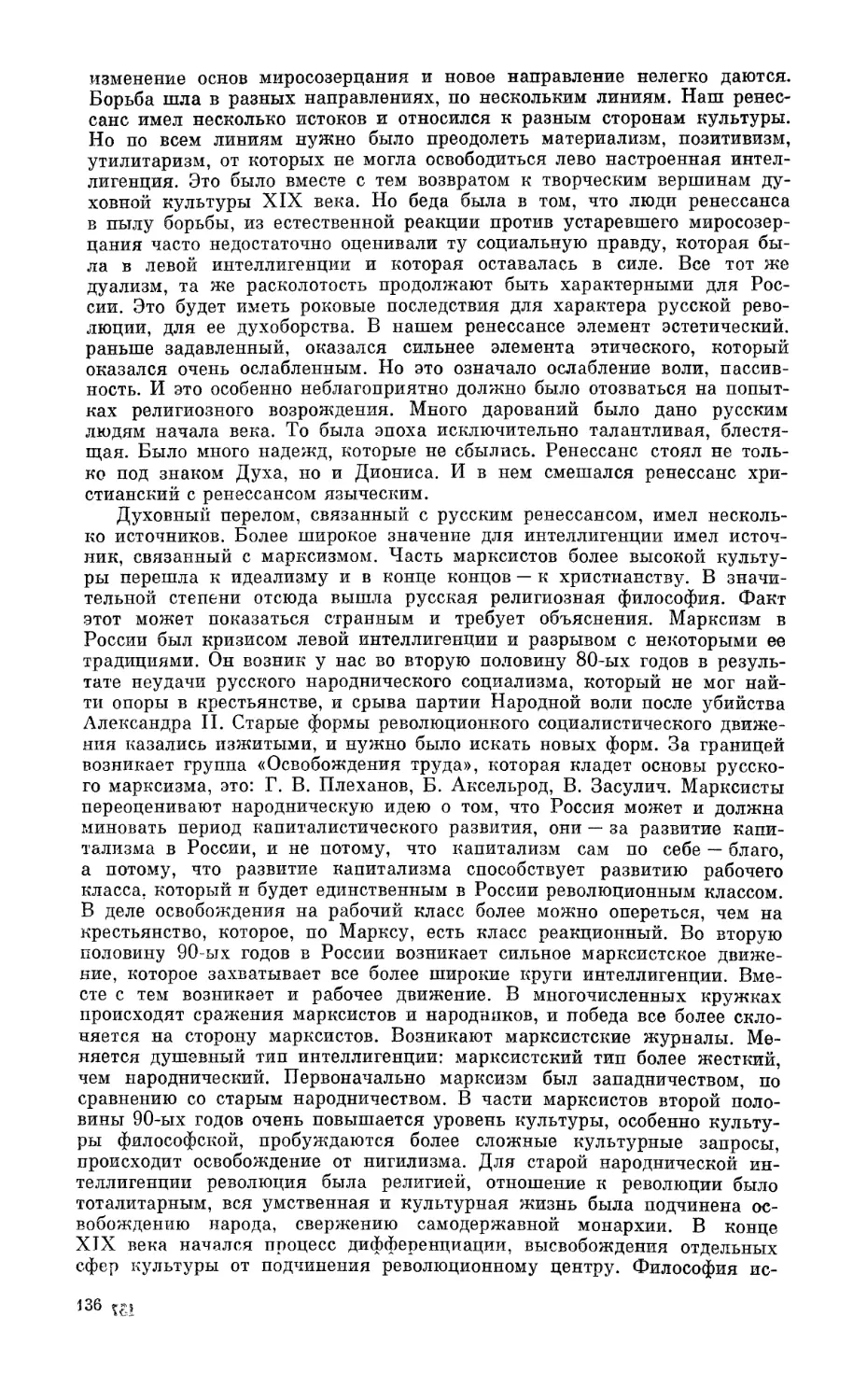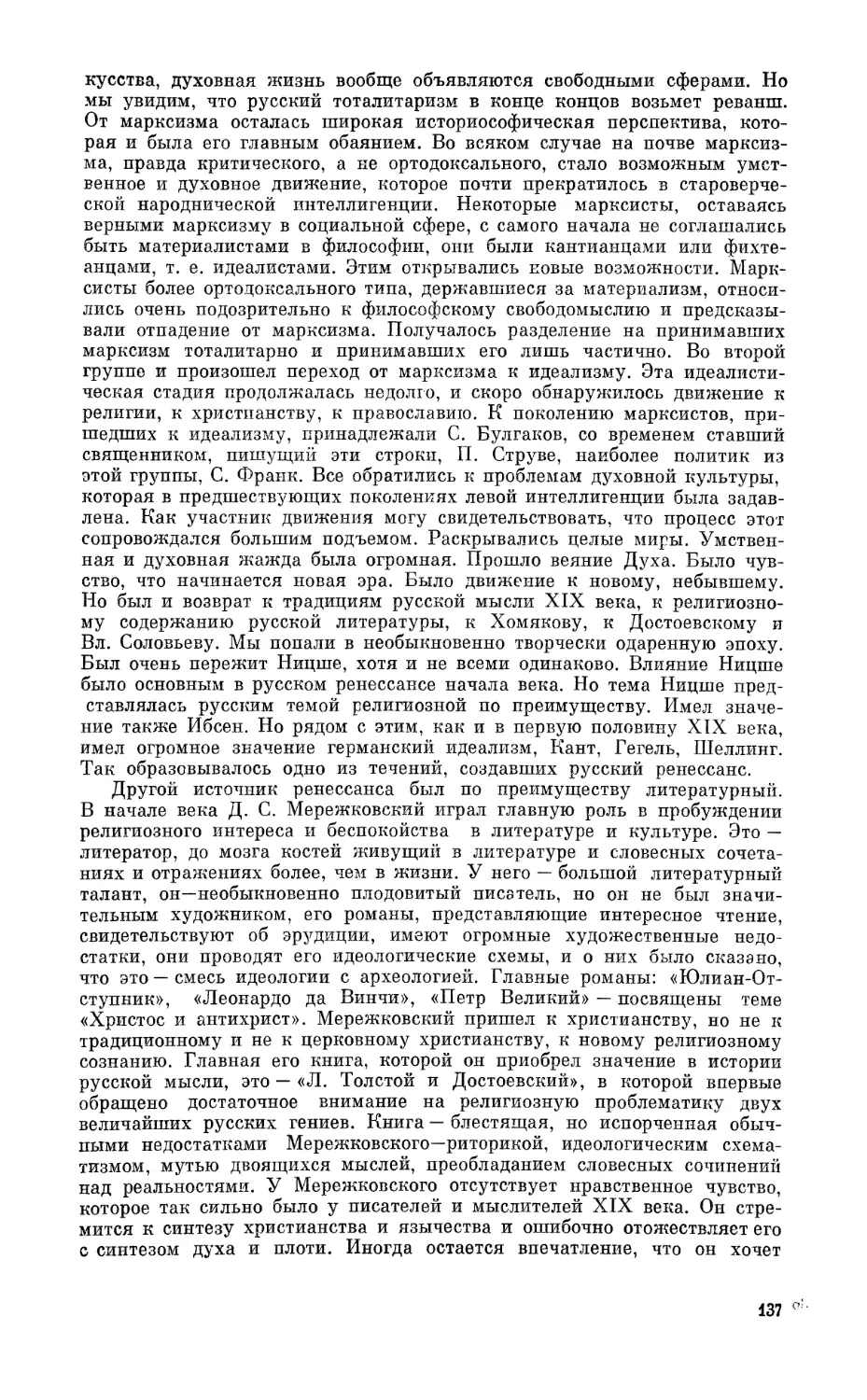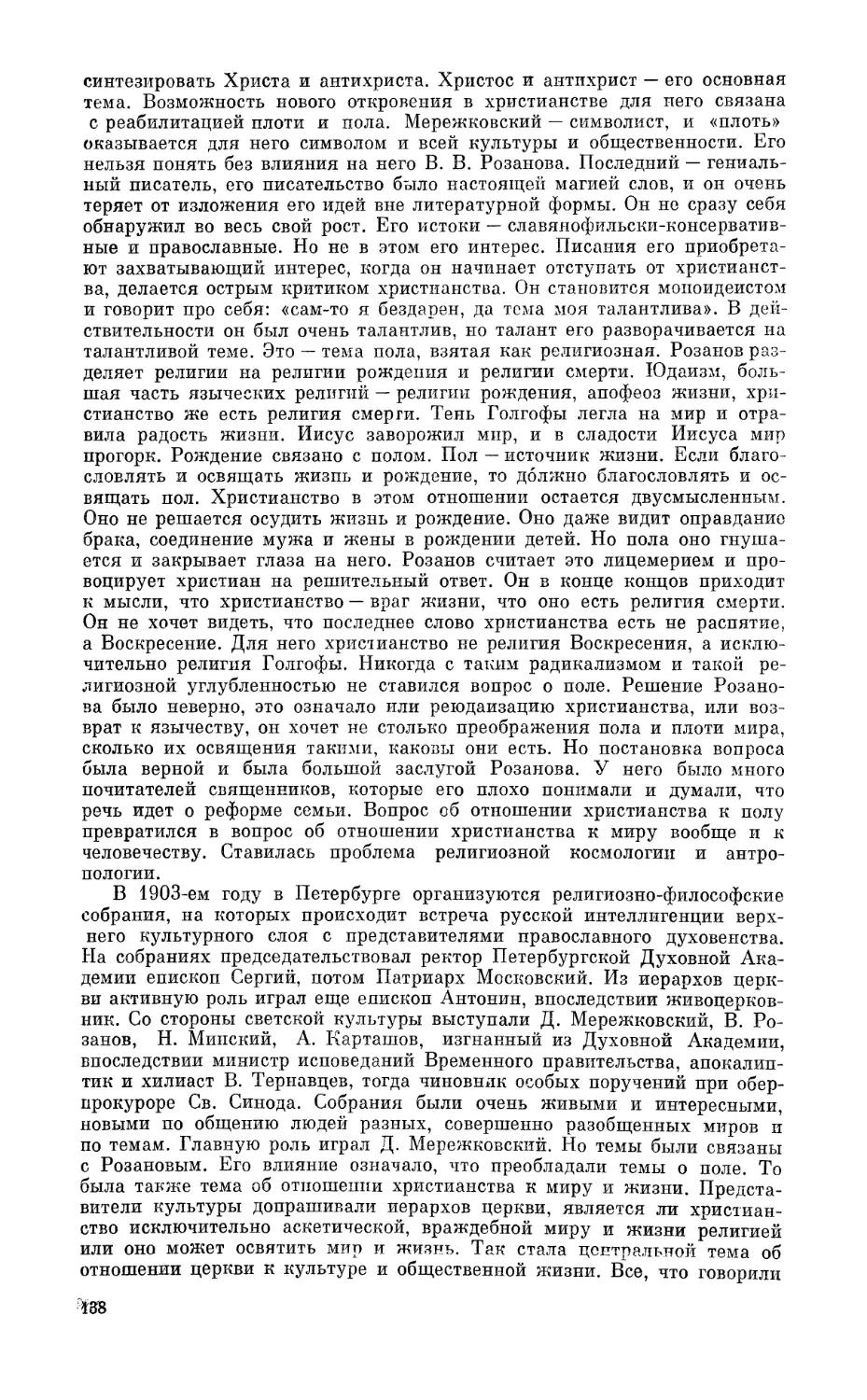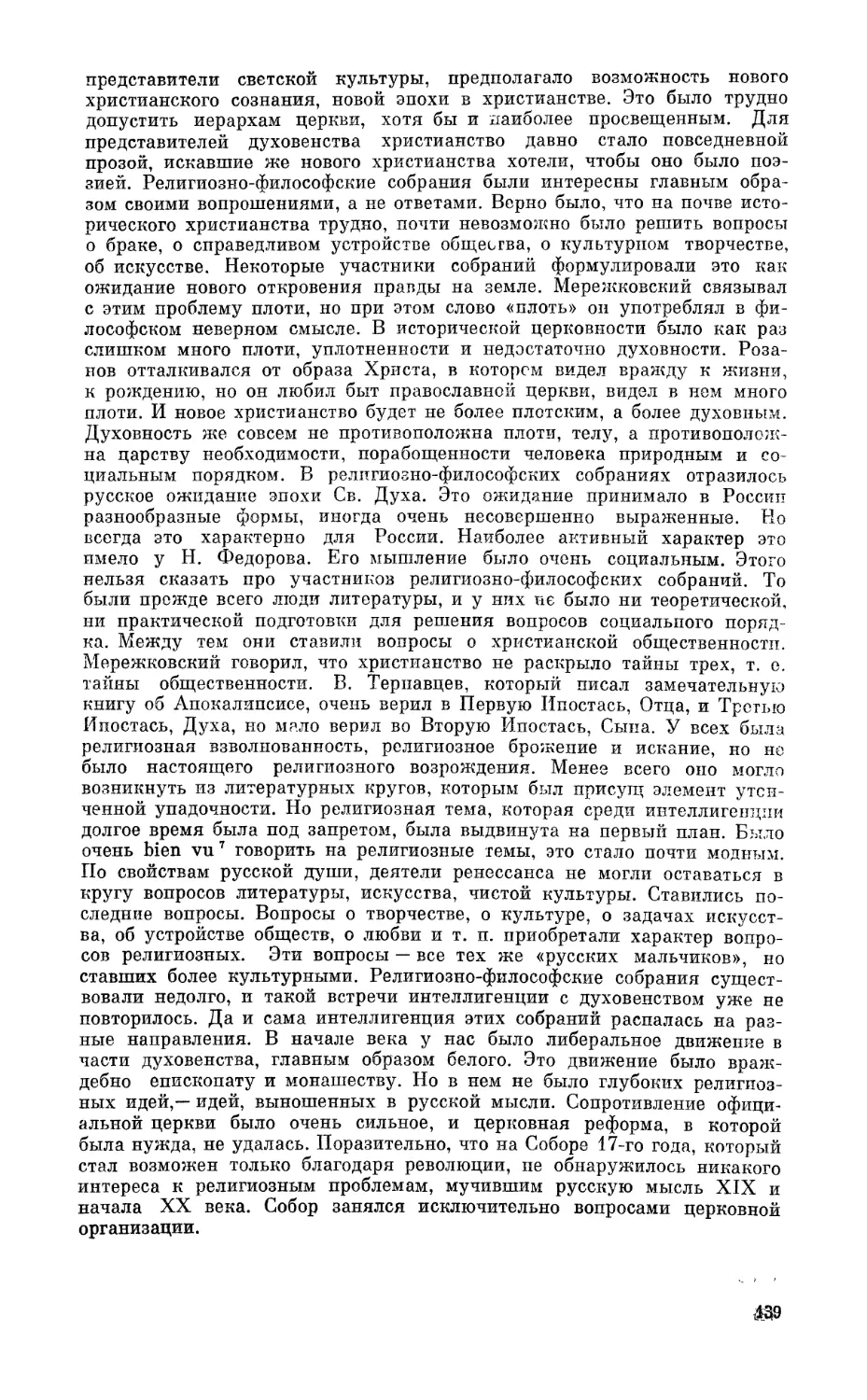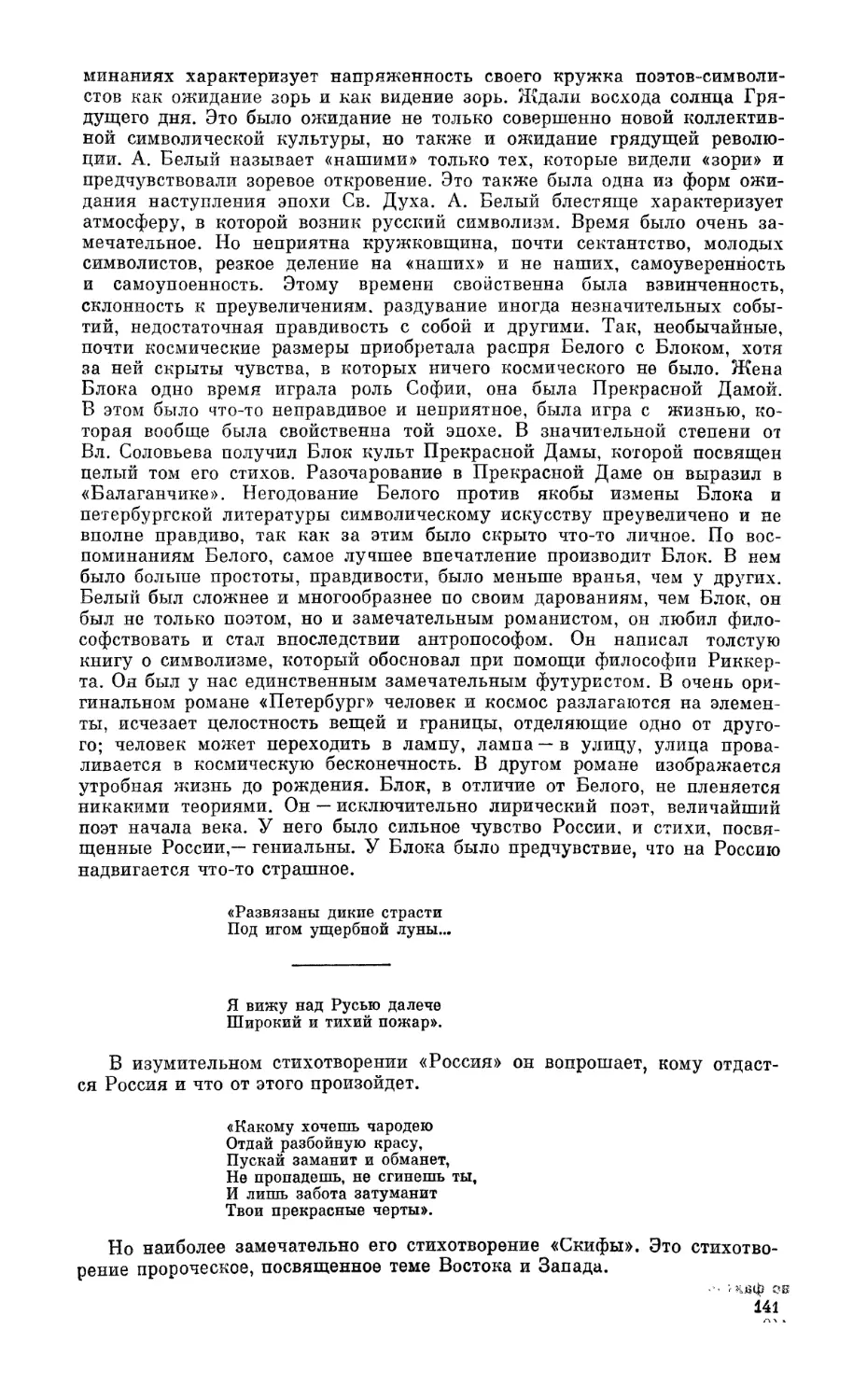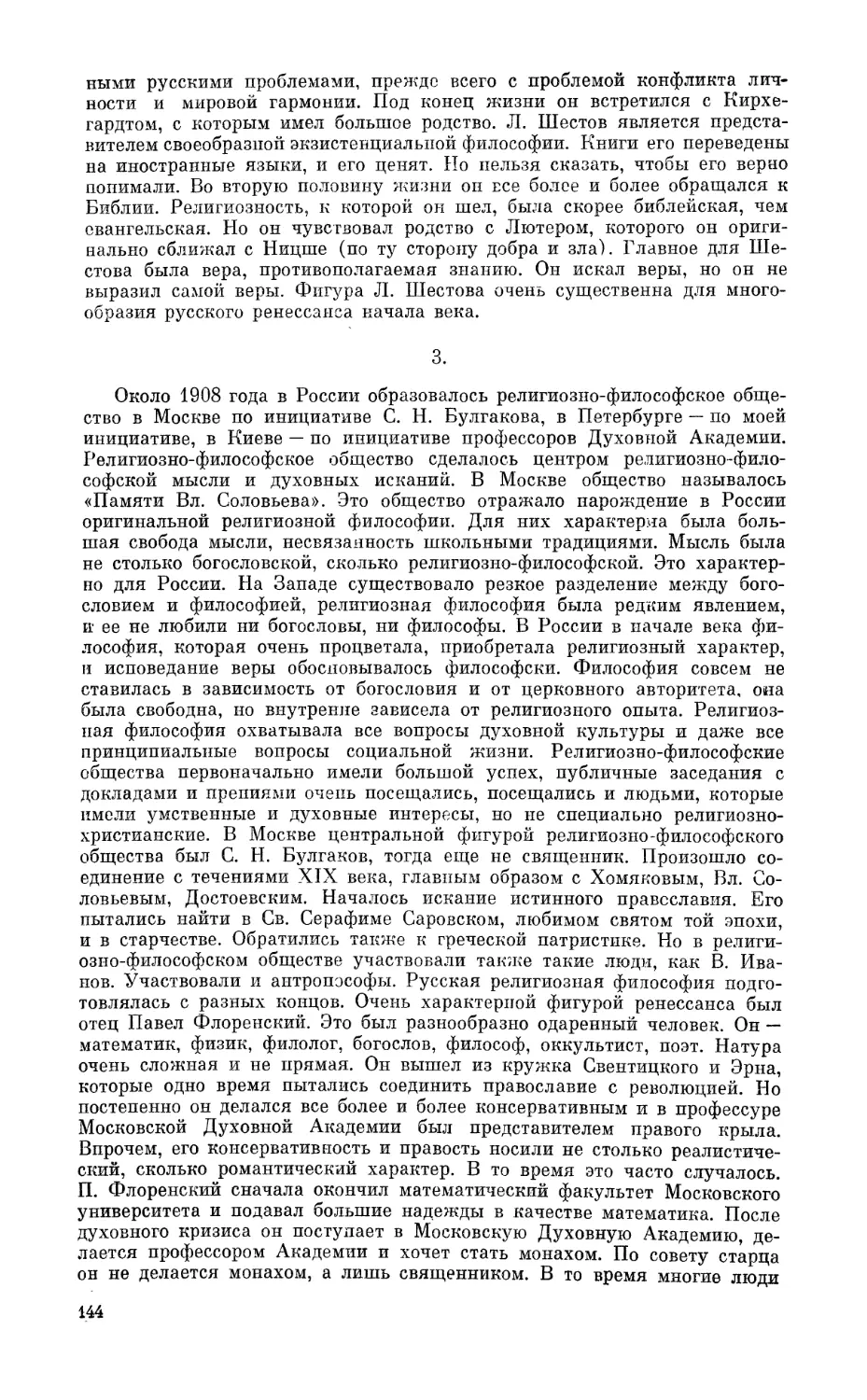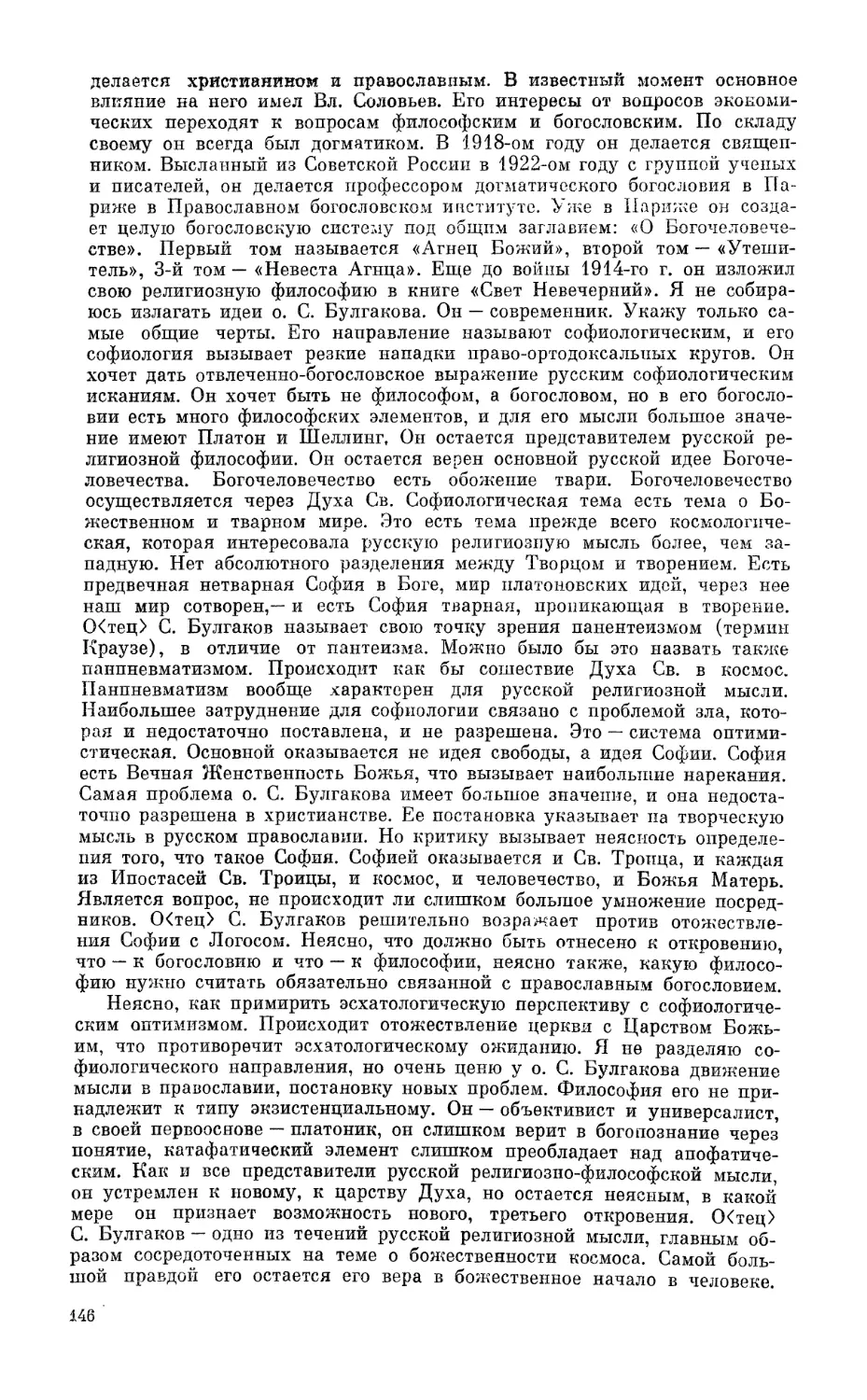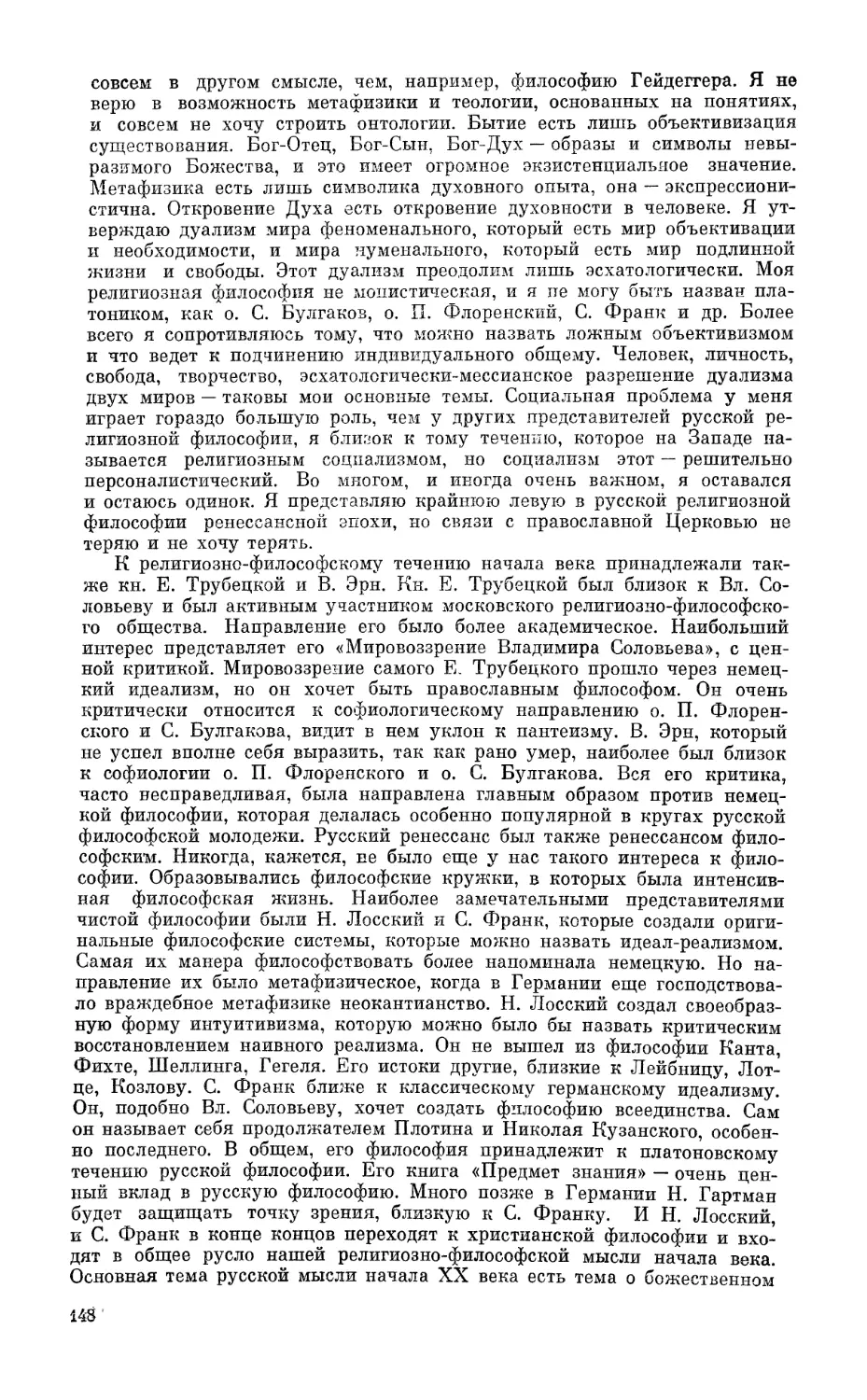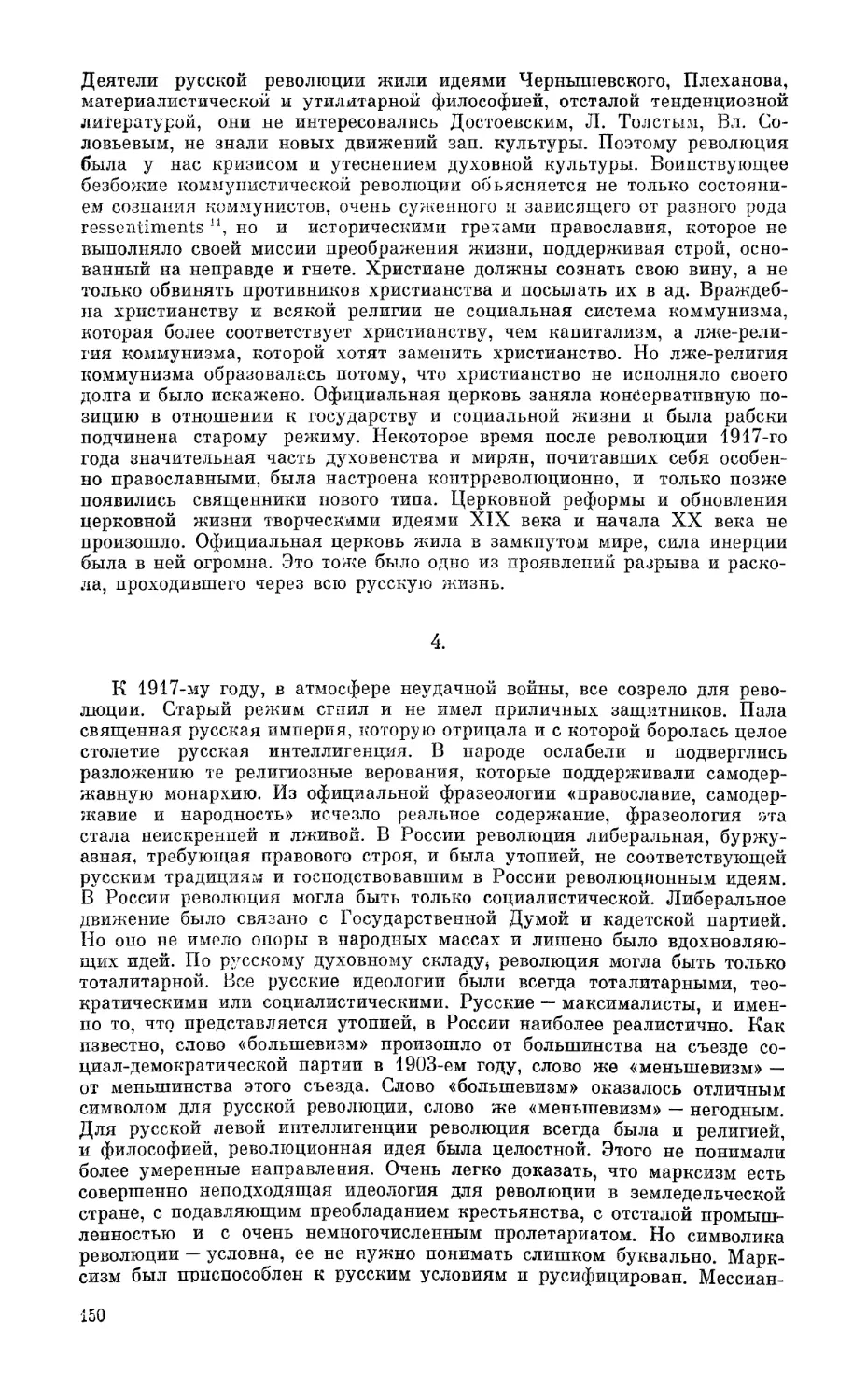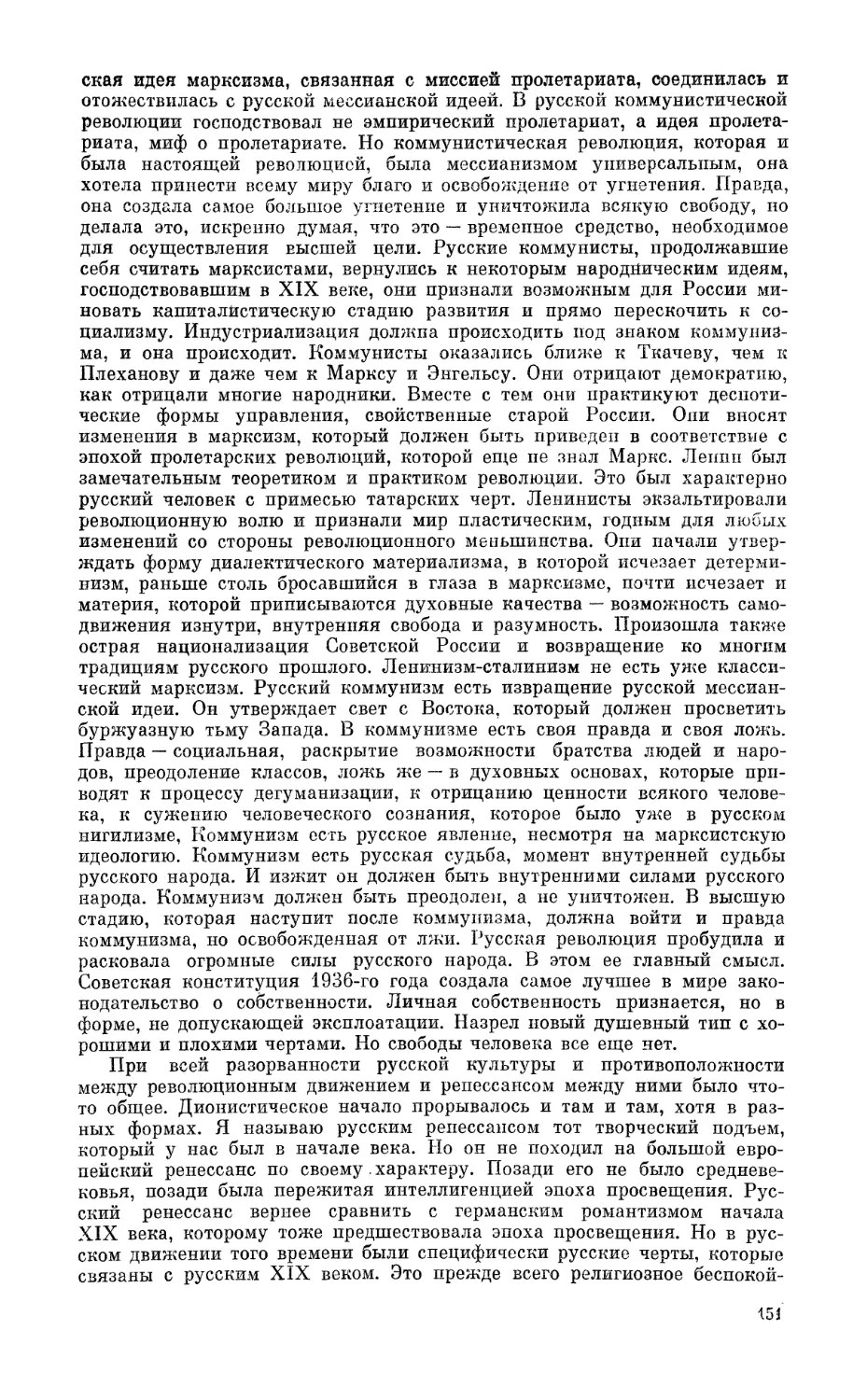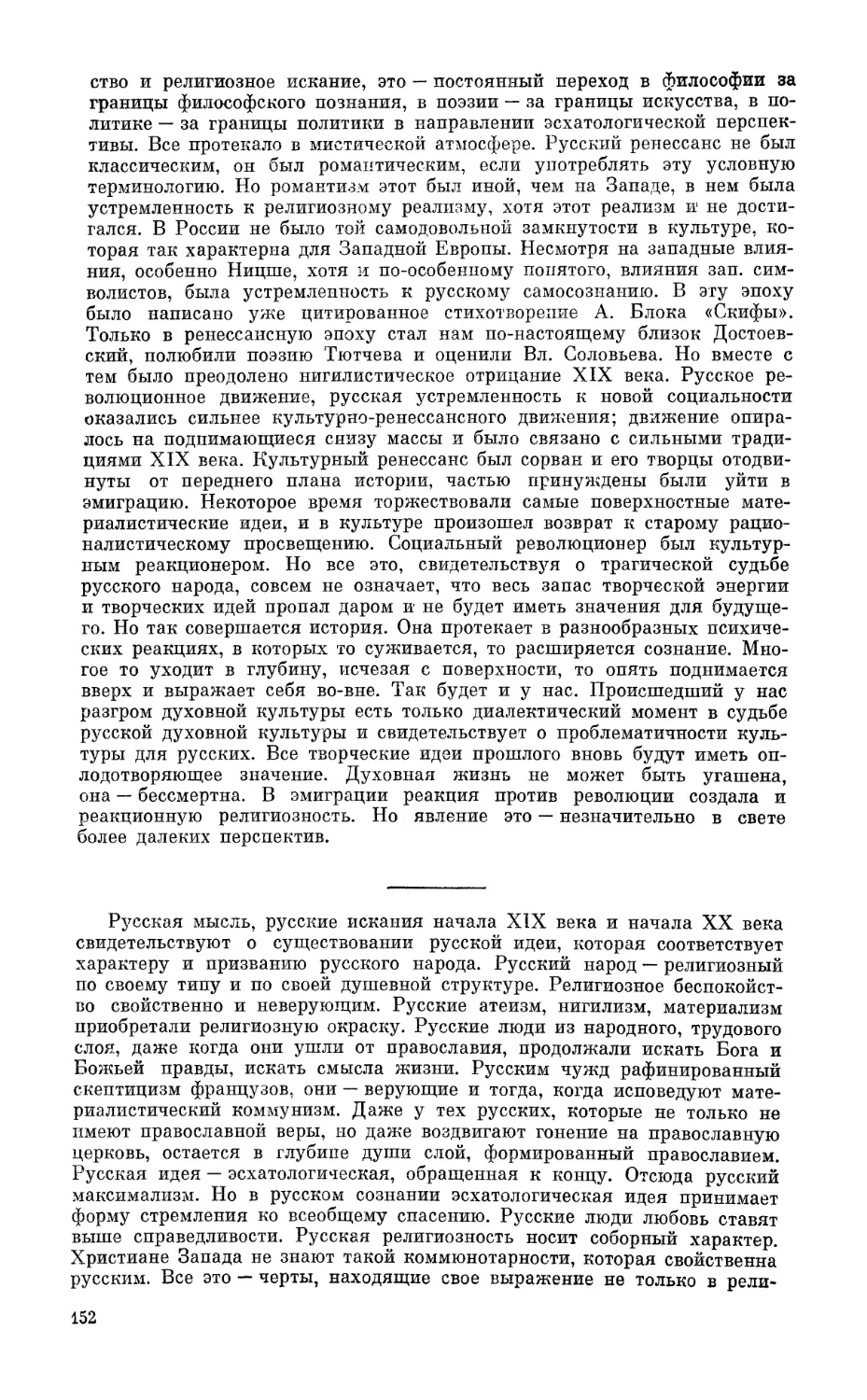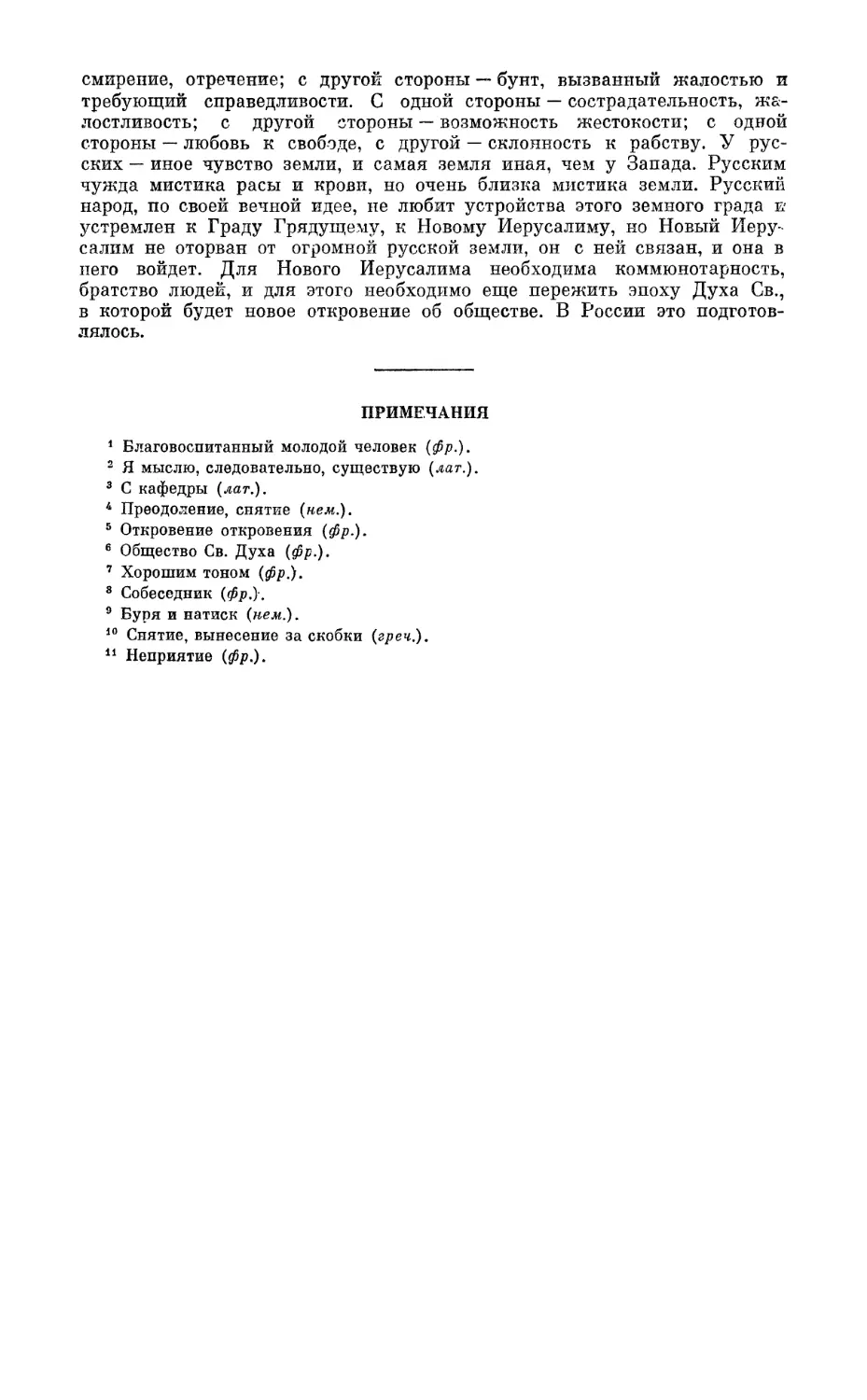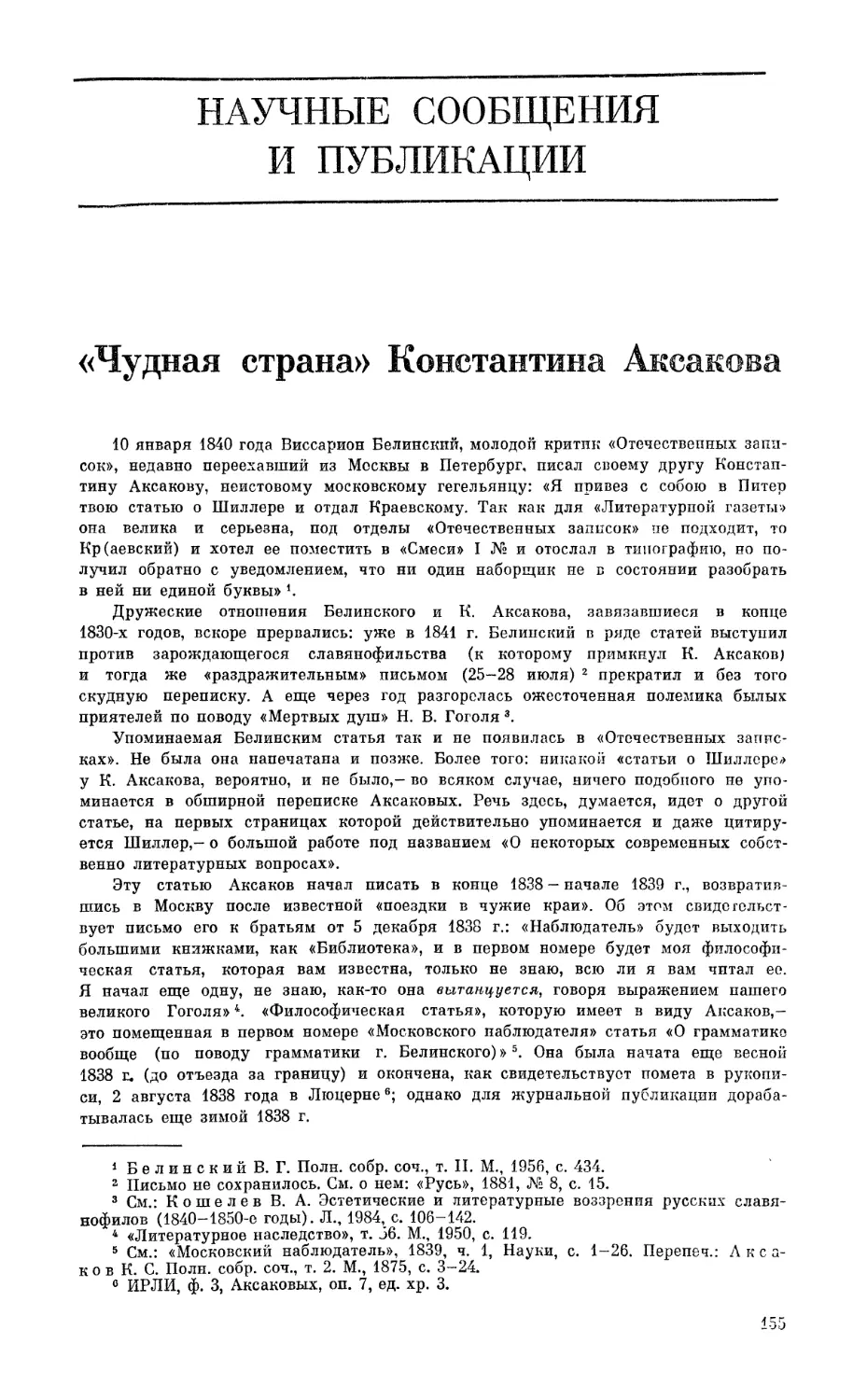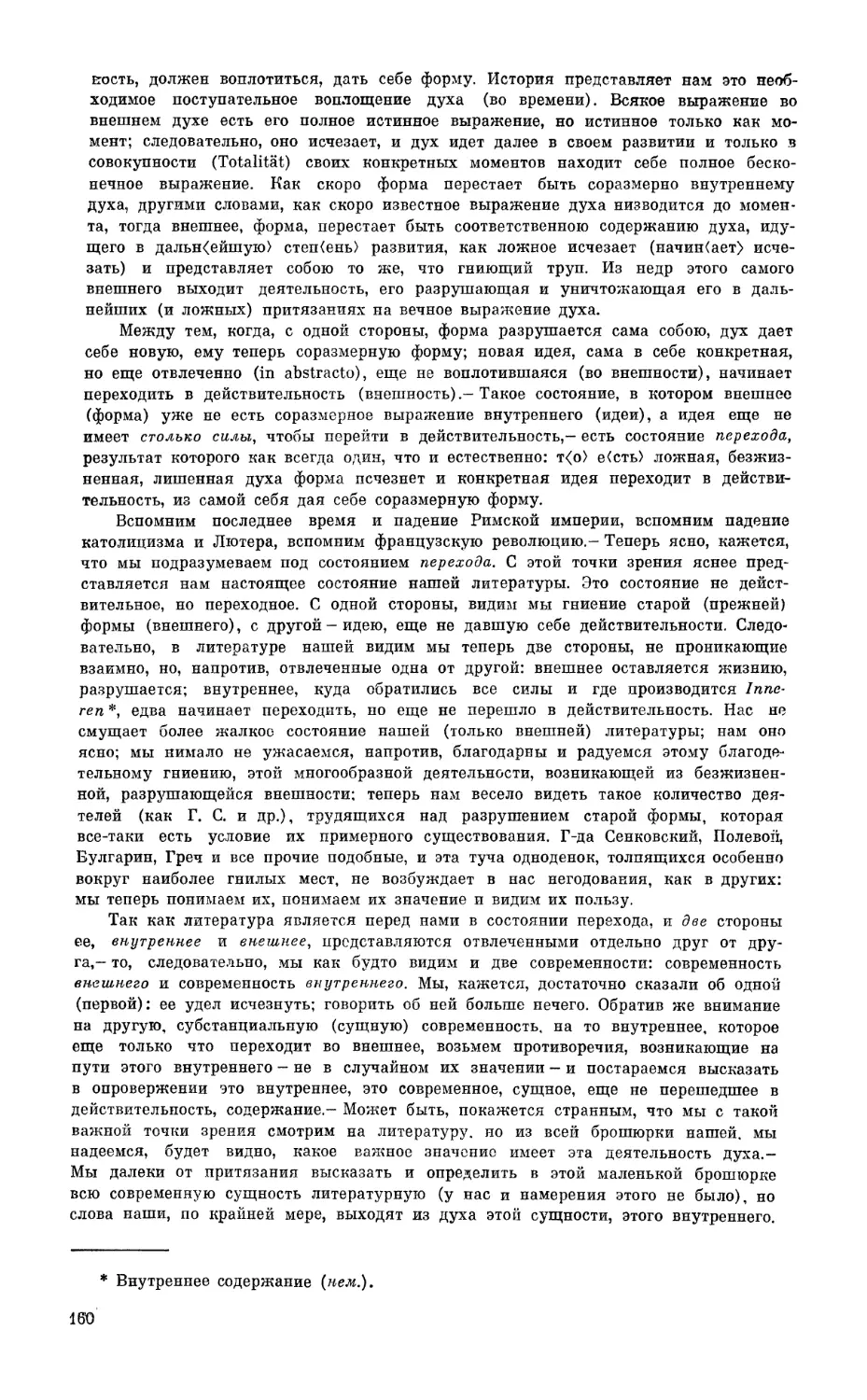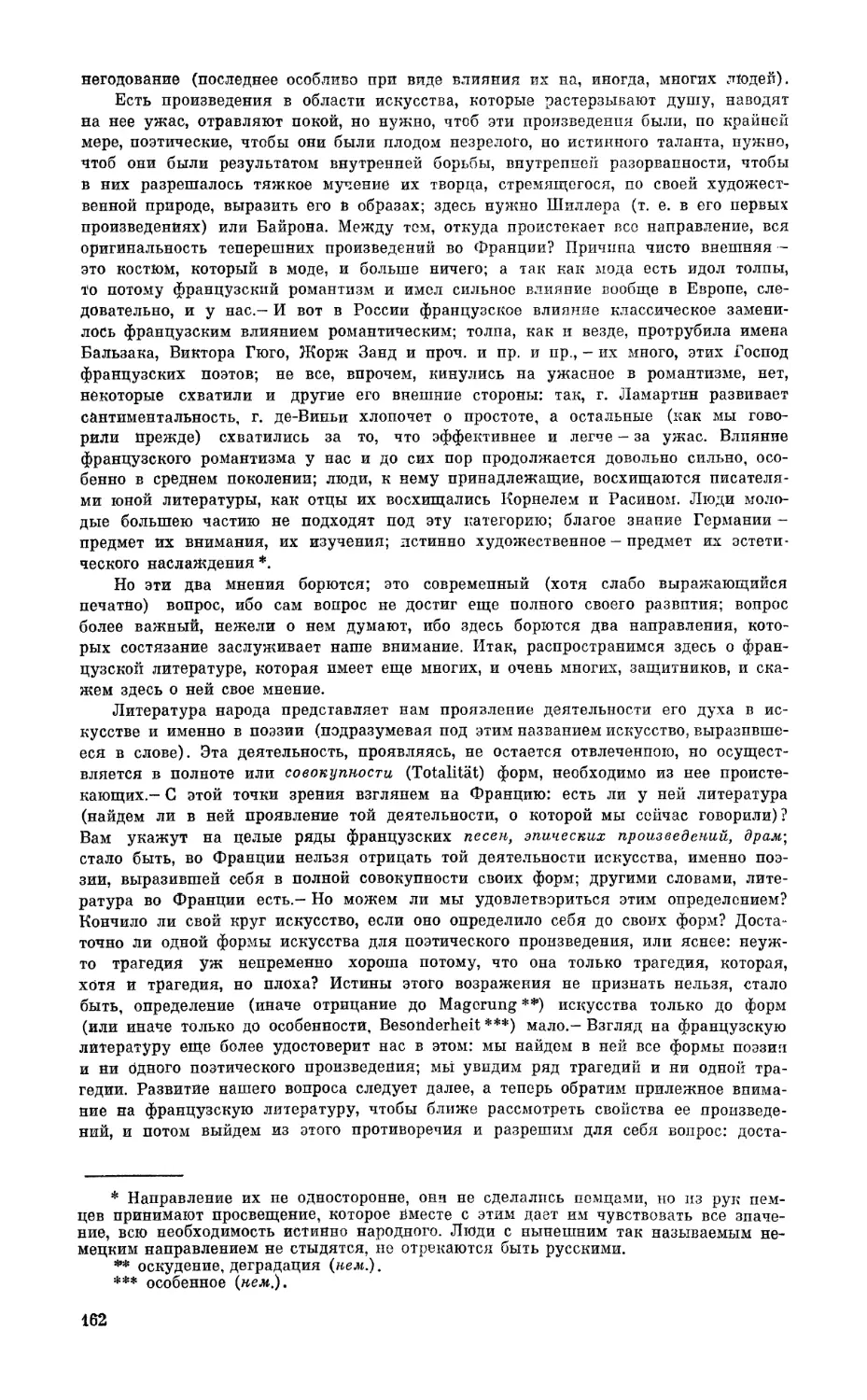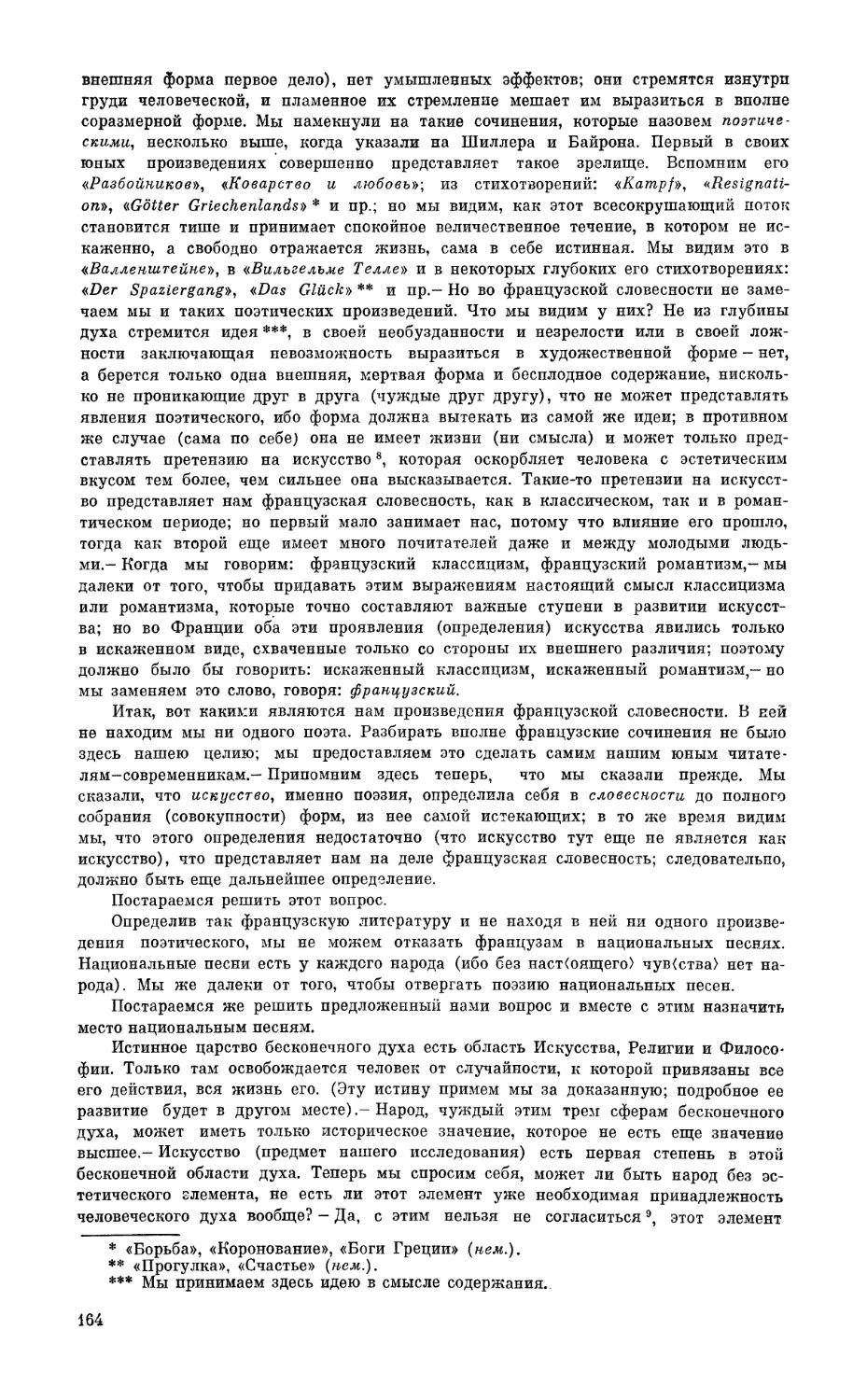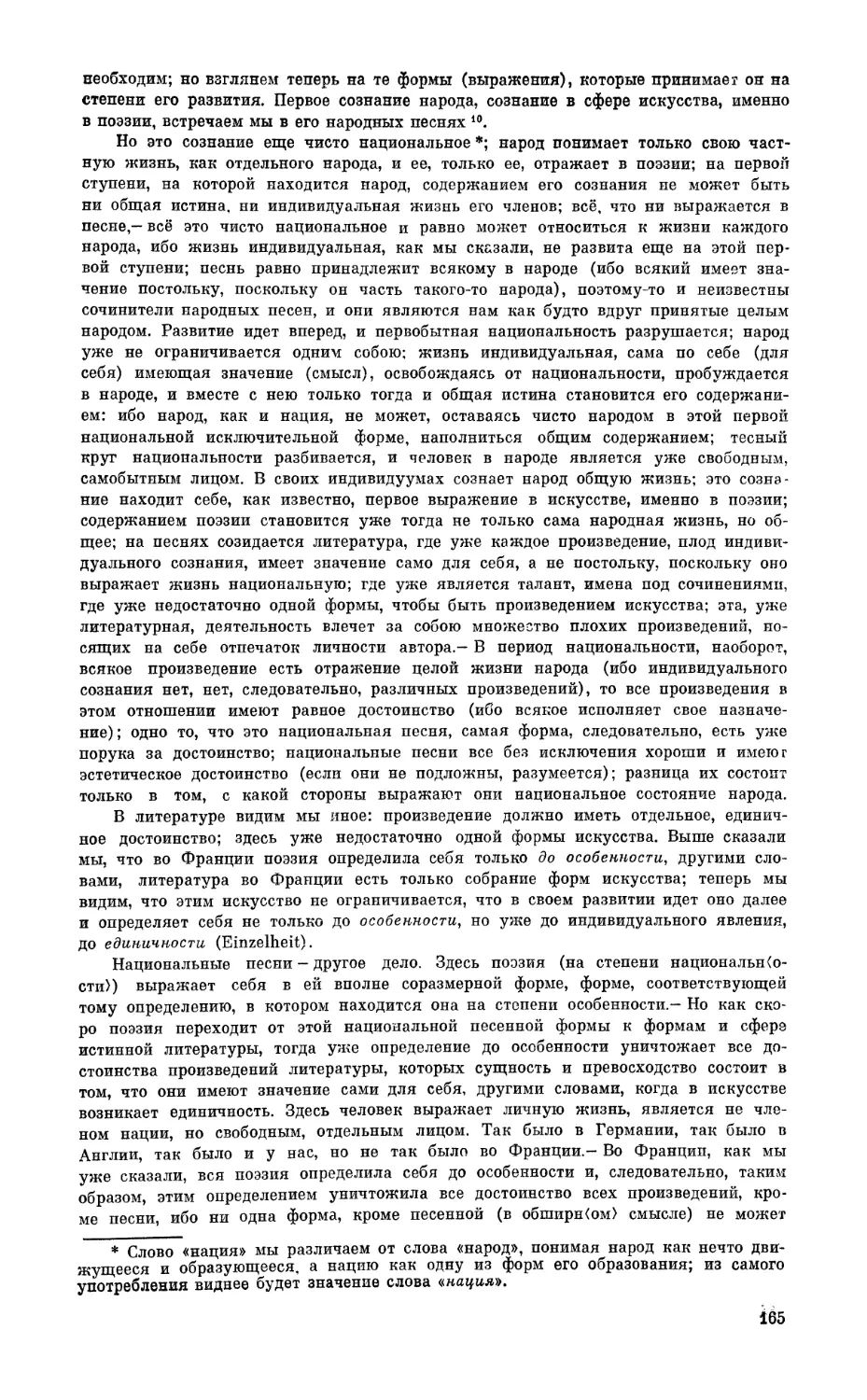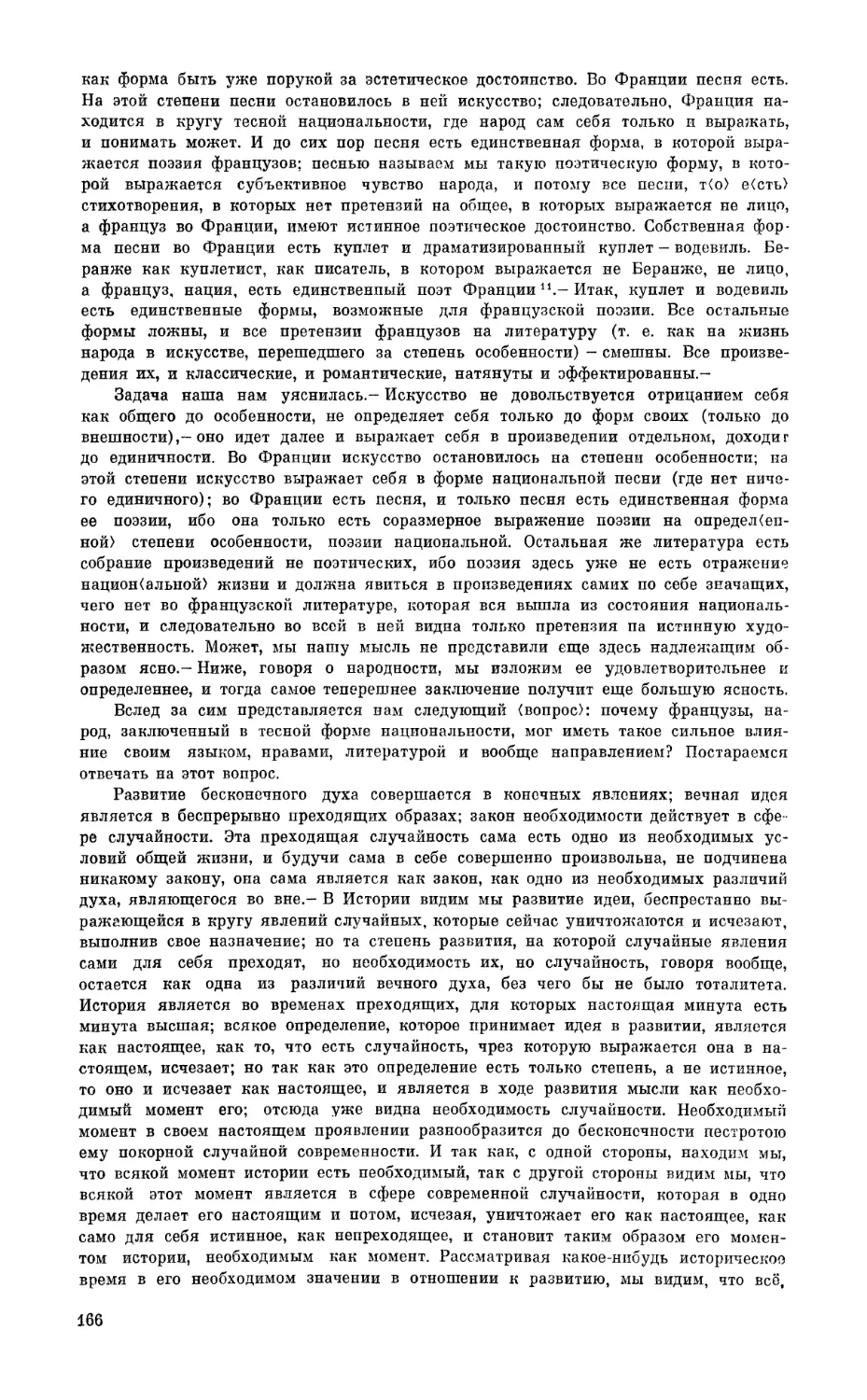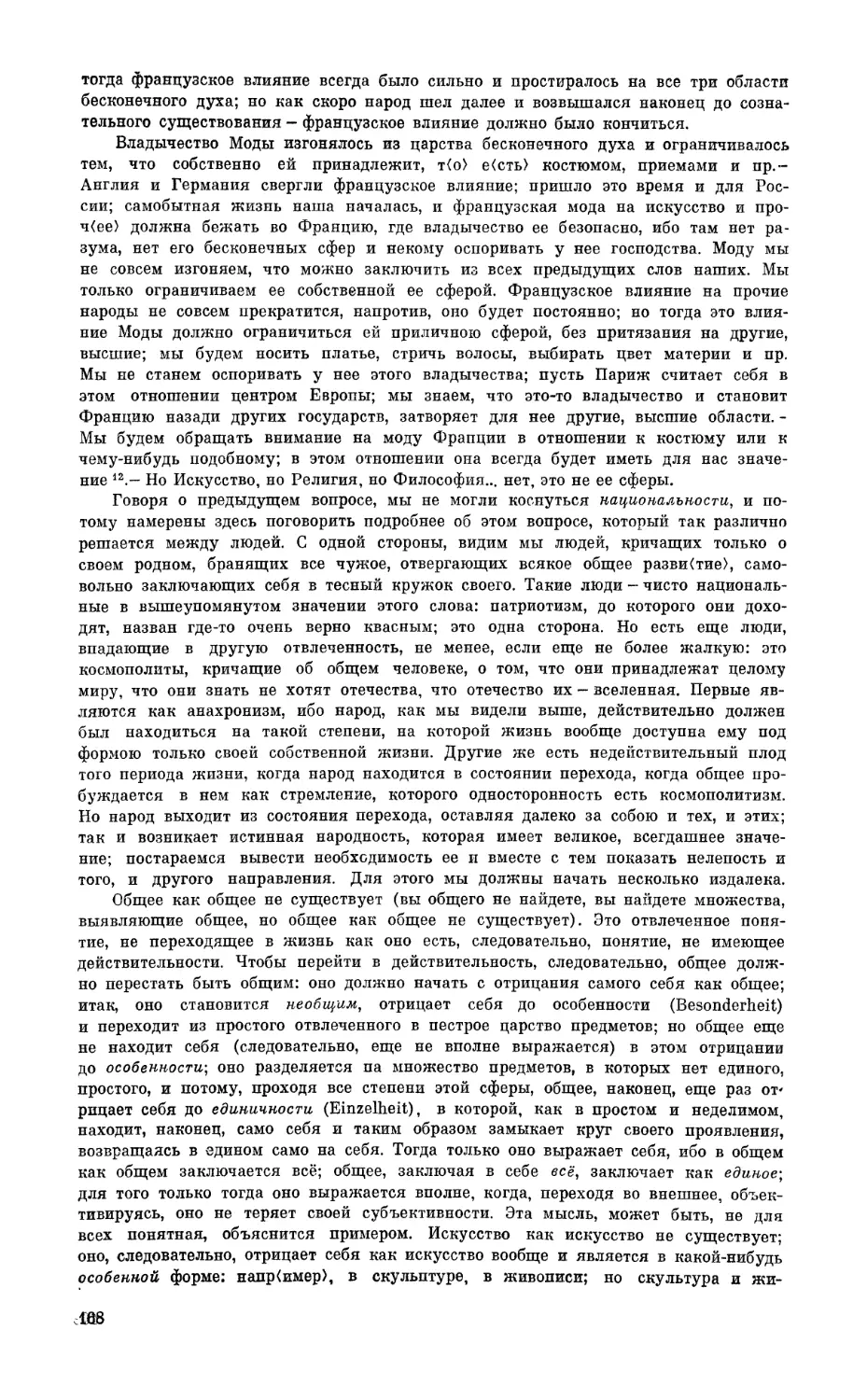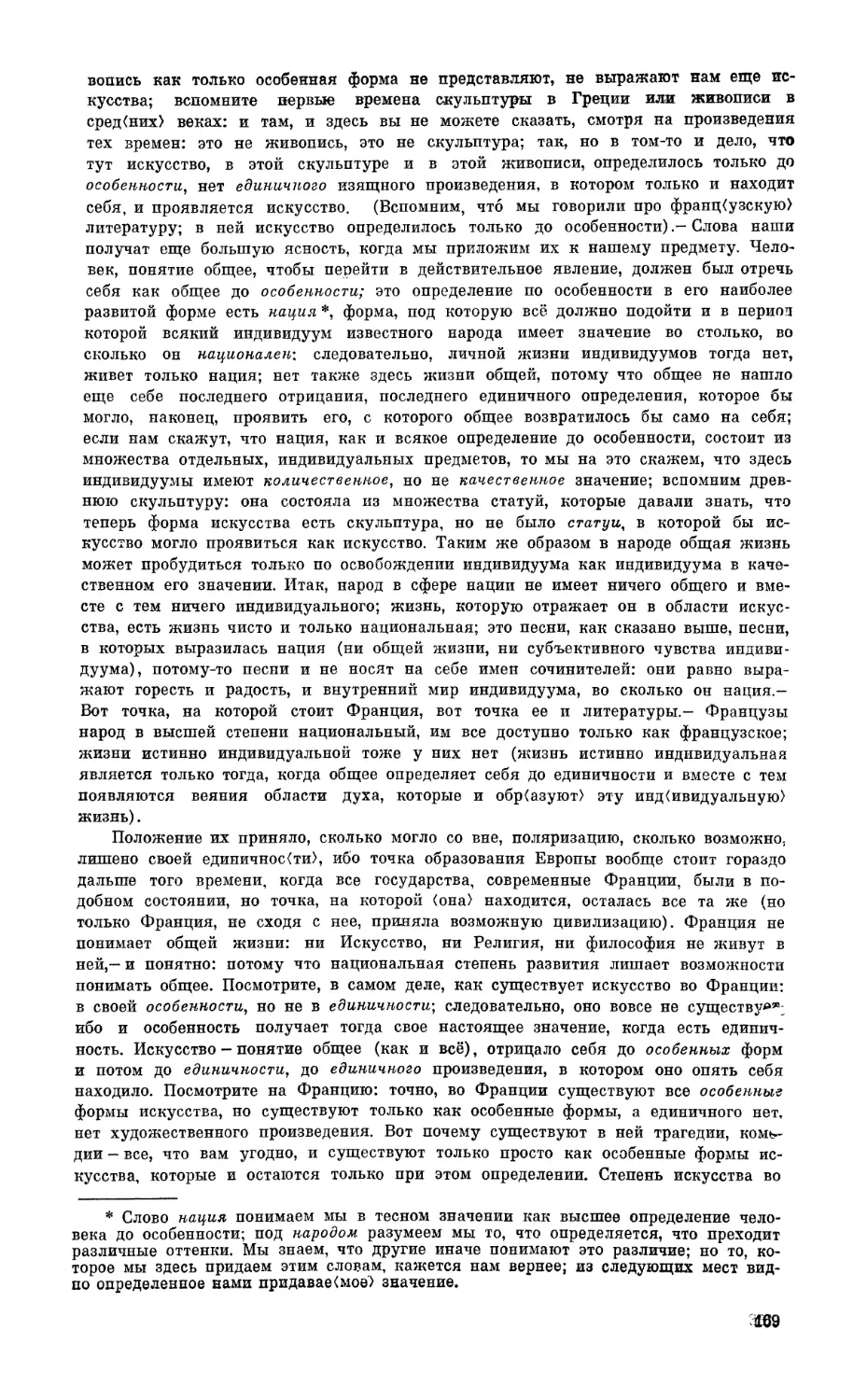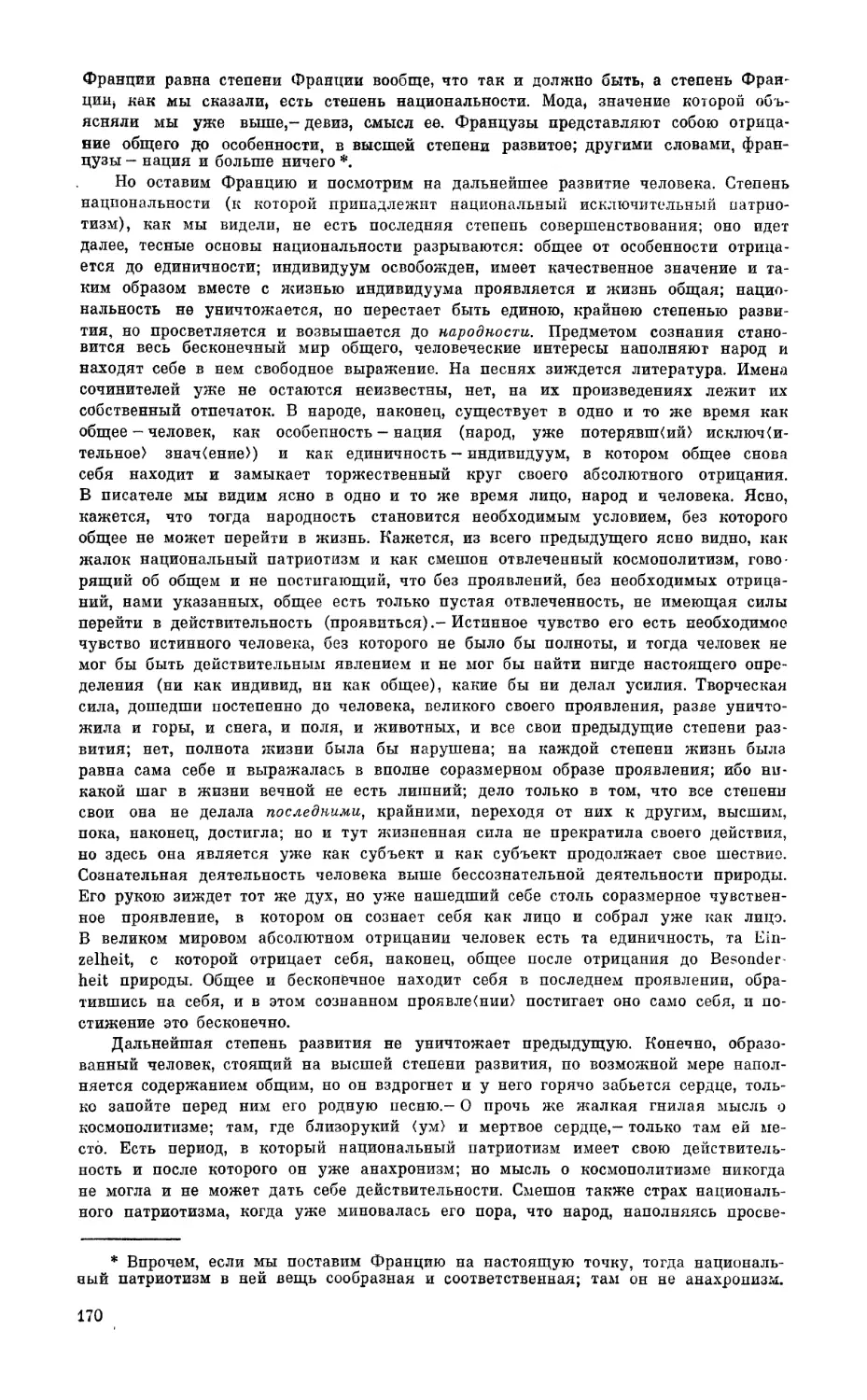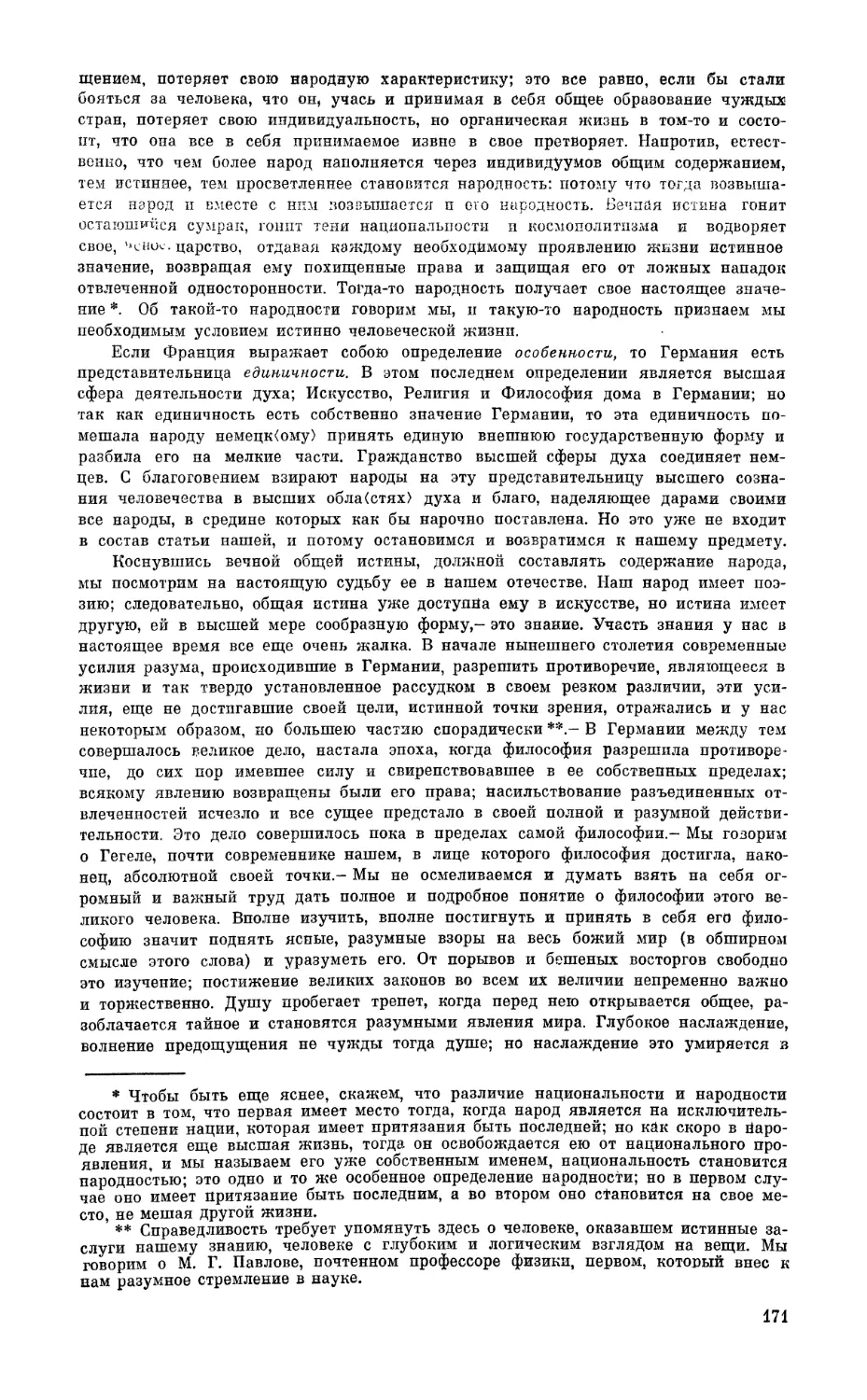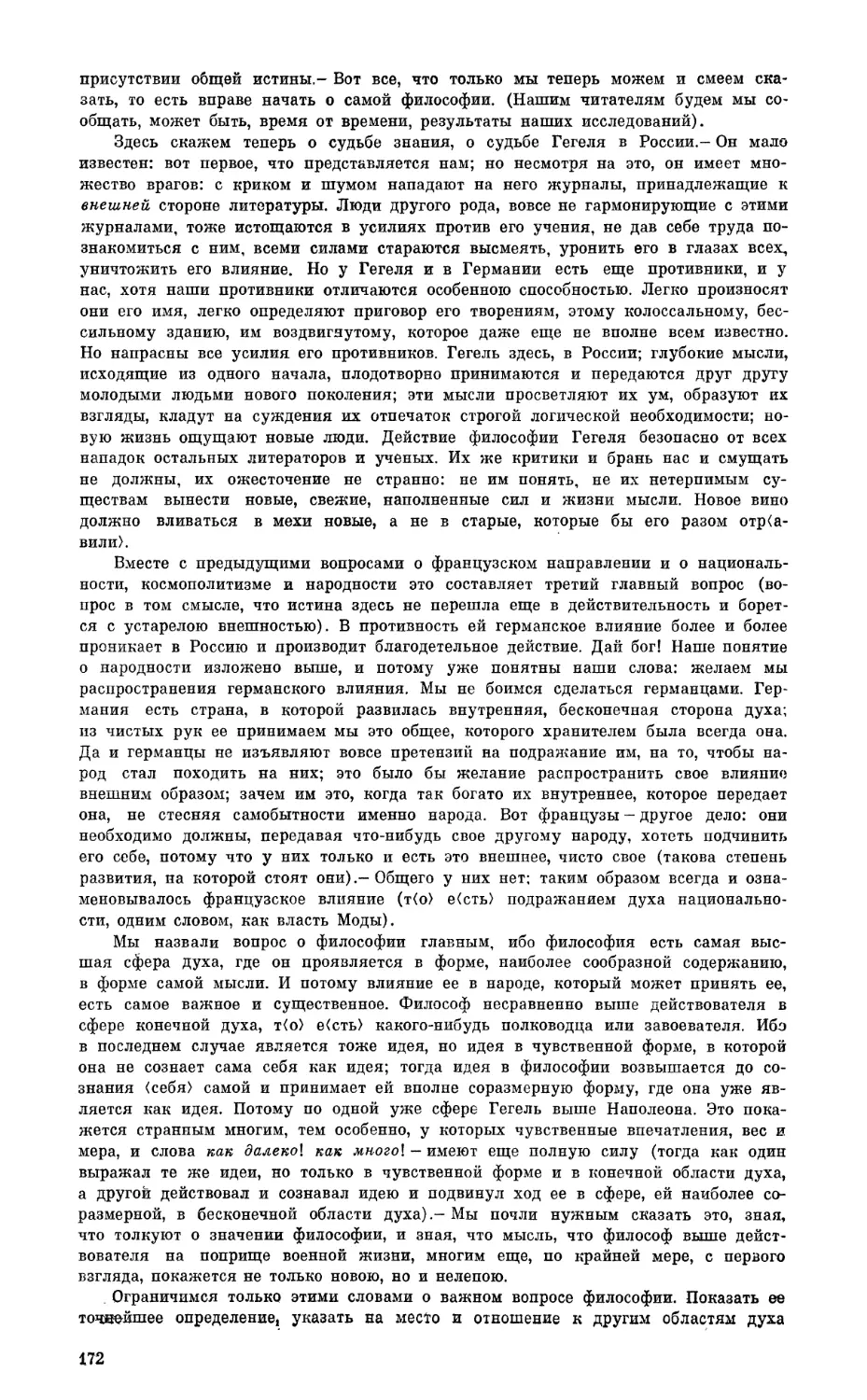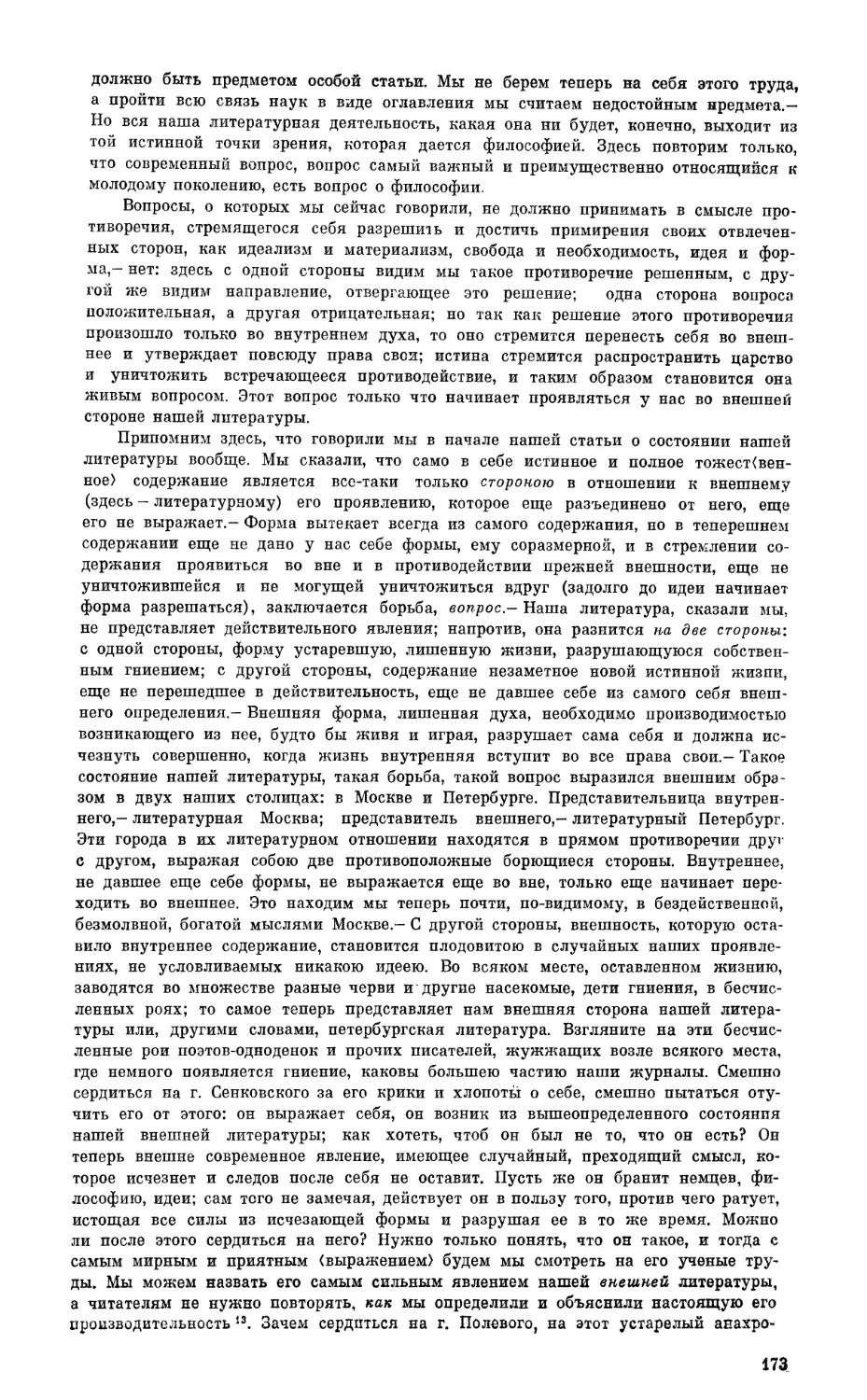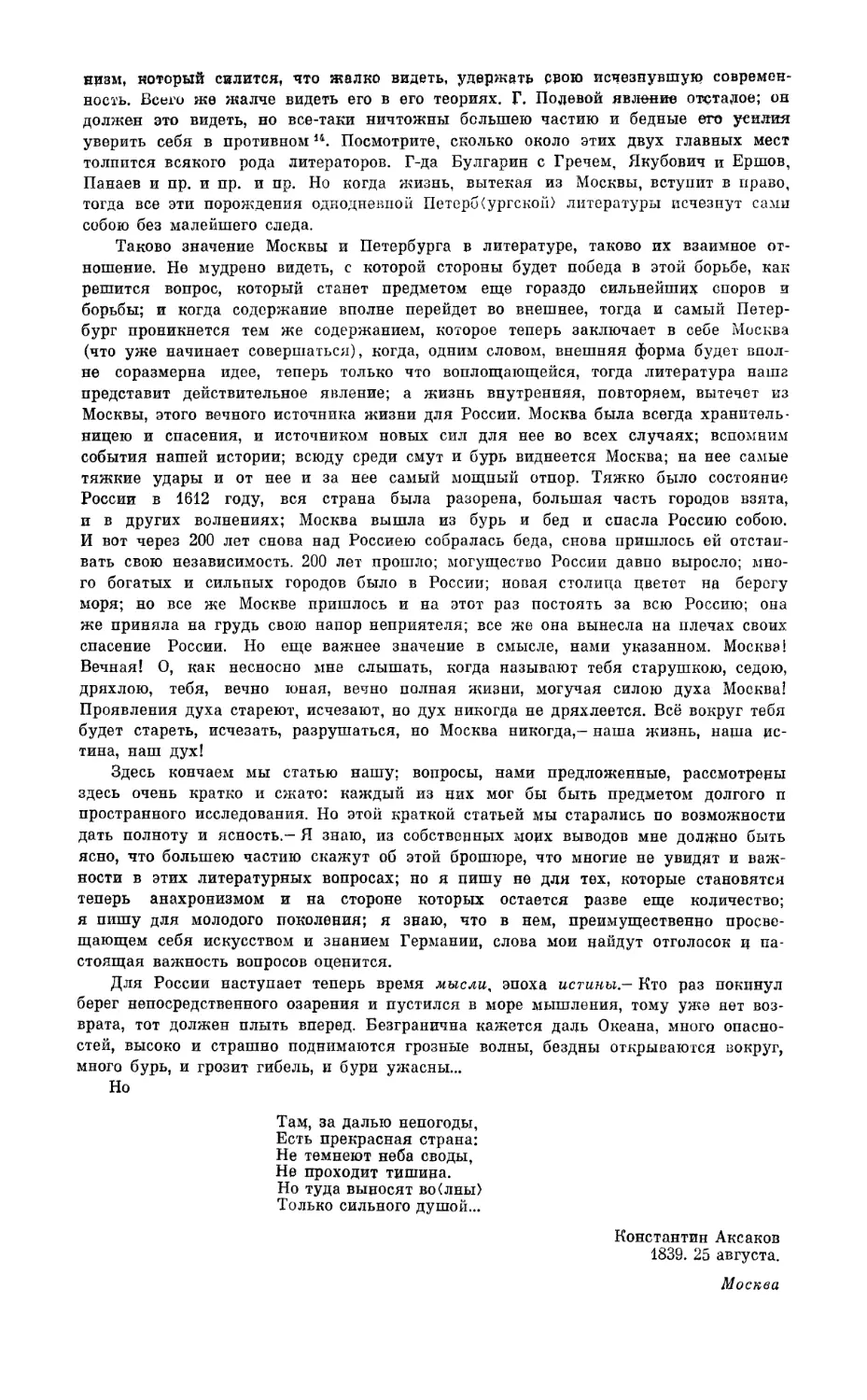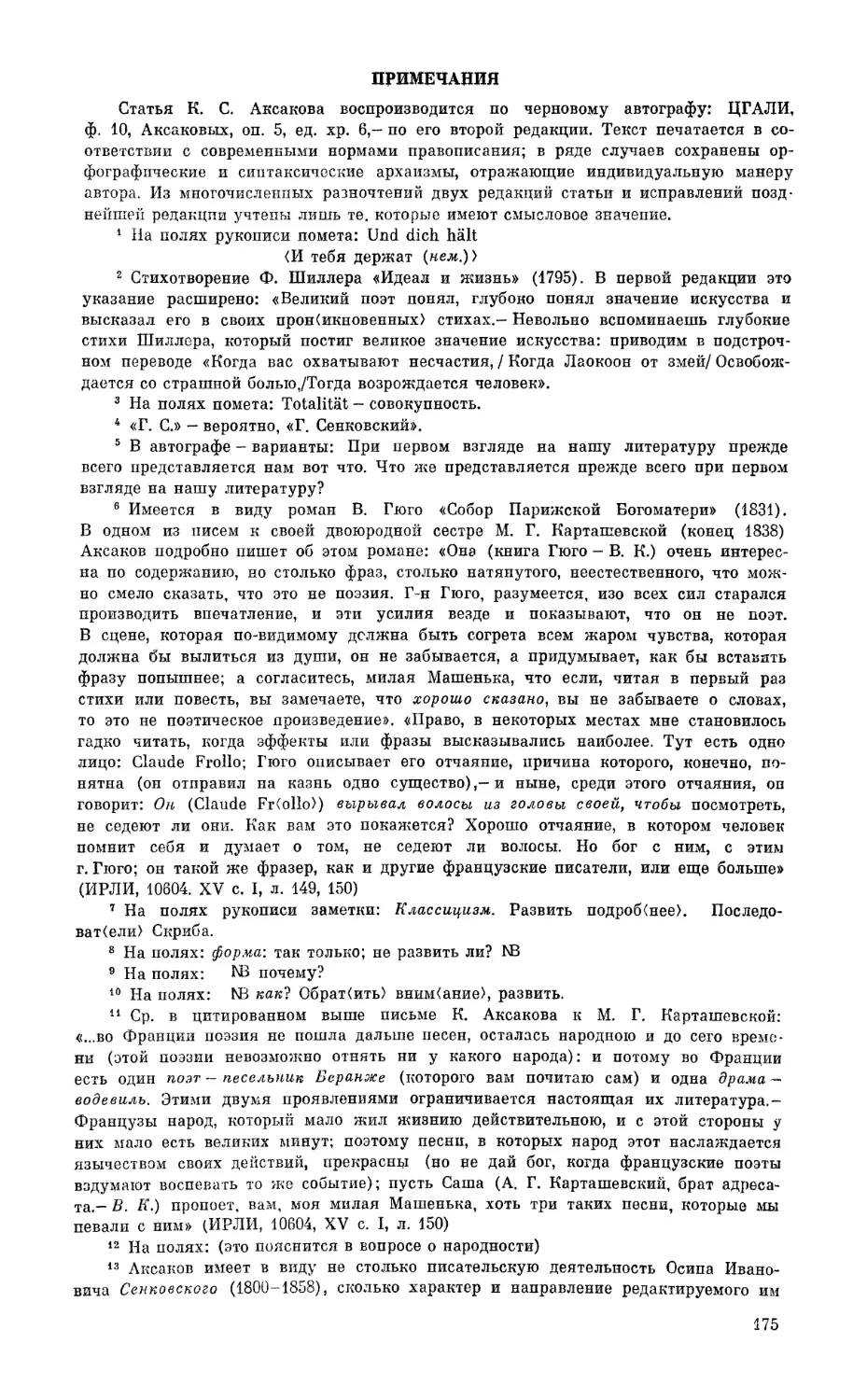Текст
АКАДЕМИЯ НАУК СССР
ИНСТИТУТ ФИЛОСОФИИ
ВОПРОСЫ
ФИЛОСОФИИ
№ НАУЧНО-ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ
у ИЗДАЕТСЯ С ИЮЛЯ 1947 ГОДА 4 QQ А
^ ВЫХОДИТ ЕЖЕМЕСЯЧНО ±U%J\J
СОДЕРЖАНИЕ
A. Д. Сахаров — Размышления о прогрессе, мирном
сосуществовании и интеллектуальной свободе 4
Философские проблемы культуры
Л. В. Карасев — Знаки покинутого детства («постоянное» у А.
Платонова) 26
Л. Г. Ионин — Две реальности «Мастера и Маргариты» 44
Из истории советской философской науки
Ф. Т. Михайлов — Слово об Ильенкове 56
B. И. Коровиков — Начало и первый погром 65
Э. В. Ильенков — Свобода воли (предисловие к публикации А. Г. Но-
вохатько) 69
Дискуссии и обсуждения
К. М. Кантор — Два проекта всемирной истории 76
Из истории отечественной философской мысли
Н. А. Бердяев — Русская идея (окончание) 87
Научные сообщения и публикации
В. А.. Кошелев — «Чудная страна» Константина Аксакова
(предисловие к публикации) 155
К. С. Аксаков — О некоторых современных собственно литературных
вопросах 158
Наши авторы «...:::::: 176
МОСКВА. ИЗДАТЕЛЬСТВО «НАУКА». 1990
CONTENTS
A. D. SACHAROV. Reflexions on progress, peaceful co-existence and
intellectual freedom. L. V. KARASYOV. Signs of a childhood abandoned
(«invariable» in Andrey Platonov). L. G. IONIN. Two realities of «Master and
Margaret». F. T. MIKHAYLOV. A word on Ilyenkov. V. I. KOROVIKOV.
Beginning and the first pogrom. E. V. ILYENKOV. The free will
(introduced by A. G. Novokhatko). К. М. KANTOR. Two projects of the world
history. N. A. BERDYAEV. The Russian idea (the end). V. A. KOSHELEV.
Konstantin Aksakov's «Wonderland». K. S. AKSAKOV. On some
contemporary questions of the literature.
Издательство «Наука», «Вопросы философии», 1990
От редакции. Кончина Андрея Дмитриевича Сахарова вызвала у нас,
как и у многих, чувство скорби, невосполнимой потери Человека, отдавшего
жизнь служению добру и правде, напоминавшего нам своей
самоотверженностью о том, что совесть, долг, чистота помыслов — живы на Земле.
Мы публикуем первую работу А. Д. Сахарова, повлекшую за собой
изменения в его судьбе. В предисловии к сборнику «О стране и мире» (1974)
он писал: «В начале 1968 года я начал работу над книгой, которую назвал
«Размышления о прогрессе, мирном сосуществовании и интеллектуальной
свободе». В ней я хотел отразить свои мысли о самых важных вопросах,
стоящих перед человечеством — о войне и мире, о диктатуре, о запретной
теме сталинского террора и свободе мысли, о демографических проблемах
и загрязнении среды обитания, о той роли, которую может сыграть наука
и научно-технический прогресс. На общем настроении работы сказалось
время ее написания — разгар «Пражской весны». Основные мысли,
которые я пытался развить в «Размышлениях», не являются очень новыми и
оригинальными. В основном, это компиляция либеральных,
гуманистических и «науко-кратических» идей, базирующаяся на доступных мне
сведениях и личном опыте. Я оцениваю сейчас это произведение как
эклектическое и местами претенциозное, несовершенное («сырое») по форме.
Тем не менее основные мысли его мне дороги. В работе четко
сформулирован представляющийся мне очень важным тезис о сближении
социалистической и капиталистической систем, сопровоо/сдающемся
демократизацией, демилитаризацией, социальным и научно-техническим прогрессом,
как единственной альтернативы гибели человечества. Начиная с мая-июня
1968 года, «Размышления» широко распространялись в СССР. Это моя
первая работа, ставшая достоянием самиздата. К июлю и августу
относятся первые зарубежные сообщения о моем выступлении; в дальнейшем
«Размышления» многократно публиковались за рубежом большими
тиражами, вызвали огромный поток откликов в прессе множества стран.
Наряду с содержанием работы в этом несомненно сыграло важную роль то,
что это было одно из первых прорвавшихся на Запад произведений
общественно-политического характера, к тому же автором был отмеченный
высшими знаками отличия представитель «таинственной» и «грозной»
специальности физика-атомщика (эта сенсационность, к сожалению, и
сейчас еще окруоюает меня, особенно на страницах массовой западной
печати).
Опубликование за рубежом «Размышлений» мгновенно повлекло мое
отстранение от секретных работ (в августе 1968 года) и перестройку всей
моей жизни на новый лад».
«Размышления» — веха нашего самосознания, личность и идеи А. Д.
Сахарова — непреходящая ценность Отечества.
Размышления о прогрессе,
мирном сосуществовании
и интеллектуальной свободе
А. Д. САХАРОВ
Лишь тот достоин жизни и свободы,
Кто каждый день за них идет на бой.
Гете
Взгляды автора формировались в среде научной и научно-технической
интеллигенции, которая проявляет очень большую озабоченность в
принципиальных и конкретных вопросах внешней и внутренней политики,
в вопросах будущего человечества. В частности, эта озабоченность
питается сознанием того, что еще не стал реальностью научный метод
руководства политикой, экономикой, искусством, образованием и военным
делом. «Научным» мы считаем метод, основанный на глубоком изучении
фактов, теорий и взглядов, предполагающий непредвзятое, бесстрастное в
своих выводах, открытое обсуждение. Вместе с тем, сложность и
многоплановость всех явлений современной жизни, огромные возможности и
опасности, связанные с научно-технической революцией и с рядом
общественно-социальных тенденций, настоятельно требуют именно такого
подхода, что признается и в ряде официальных высказываний.
В выносимой на обсуждение читателей брошюре автор поставил себе
целью с наибольшей доступной ему убедительностью и откровенностью
изложить два тезиса, которые разделяются очень многими людьми во
всем мире. Эти тезисы суть:
1. Разобщенность человечества угрожает ему гибелью. Цивилизации
грозит всеобщая термоядерная война; катастрофический голод для
большей части человечества; оглупление в дурмане «массовой культуры» и
в тисках бюрократизированного догматизма; распространение массовых
мифов, бросающих целые народы и континенты во власть жестоких и
коварных демагогов; гибель и вырождение от непредвидимых результатов
быстрых изменений условий существования на планете.
Перед лицом опасности любое действие, увеличивающее
разобщенность человечества, любая проповедь несовместимости мировых
идеологий * и наций — безумие, преступление. Лишь всемирное
сотрудничество в условиях интеллектуальной свободы, высоких нравственных
идеалов социализма и труда, с устранением факторов догматизма и давления
скрытых интересов господствующих классов — отвечает интересам
сохранения цивилизации.
Миллионы людей во всем мире стремятся покончить с нищетой,
ненавидят угнетение, догматизм и демагогию (и их крайнее выражение —
расизм, фашизм, сталинизм и маоизм), верят в прогресс на основе ис-
* Читатель понимает, что при этом не идет речь об идеологическом мире с теми
фанатичными, сектантскими и экстремистскими идеологиями, которые отрицают
всякую возможность сближения с ними, дискуссии и компромиссы, например, с
идеологиями фашистской, расистской, милитаристской или маоистской демагогии.
пользования в условиях социальной справедливости и интеллектуальной
свободы всего положительного опыта, накопленного человечеством.
2. Второй основной тезис: человеческому обществу необходима
интеллектуальная свобода — свобода получения и распространения
информации, свобода непредвзятого и бесстрашного обсуждения, свобода от
давления авторитета и предрассудков. Такая тройная свобода мысли —
единственная гарантия от заражения народа массовыми мифами, которые
в руках коварных лицемеров-демагогов легко превращаются в кровавую
диктатуру. Это — единственная гарантия осуществимости
научно-демократического подхода к политике, экономике и культуре.
Но свобода мысли в современном обществе находится под тройной
угрозой: со стороны рассчитанного опиума массовой культуры, со
стороны трусливой и эгоистической мещанской идеологии, со стороны
окостенелого догматизма бюрократической олигархии и ее излюбленного
оружия — идеологической цензуры. Поэтому свобода мысли нуждается в
защите всех мыслящих и честных людей. Это задача не только
интеллигенции, но и всех слоев общества, и в особенности наиболее активной
и организованной его прослойки — рабочего класса. Мировые опасности
войны, голода, культа, бюрократизма — это опасности для всего
человечества.
Осознание рабочим классом и интеллигенцией общности их
интересов — примечательное явление современности. Можно сказать, что
наиболее прогрессивная, интернациональная и самоотверженная часть
интеллигенции по существу является частью рабочего класса, а
передовая, образованная и интернациональная, наиболее далекая от мещанства
часть рабочего класса является одновременно частью интеллигенции *.
Эту брошюру мы разделили на две части. Первую озаглавим
«Опасности», вторую — «Основа надежды».
Брошюра носит дискуссионный, спорный во многом характер и
призывает дискутировать и спорить.
Опасности
Угроза термоядерной войны
Три технических аспекта термоядерного оружия сделали
термоядерную ьойну угрозой самому существованию цивилизации. Это — огромная
разрушительная сила термоядерного взрыва, относительная дешевизна
ракетно-термоядерного оружия и практическая невозможность
эффективной защиты от массированного ракетно-ядерного нападения.
На сегодня «типичным» термоядерным зарядом можно считать трех-
мегатонный (это нечто среднее между зарядом ракеты «Минитмен» и
ракеты «Титан II»). Площадь зоны пожаров при взрыве такого заряда в
150 раз больше, а площадь зоны разрушения в 30 раз больше, чем у
хиросимской бомбы. При взрыве одного такого заряда над городом на
площади 100 кв. км. возникает зона сплошного разрушения и огня,
десятки миллионов квадратных метров жилой площади уничтожаются, не
менее 1 миллиона людей гибнут под обломками зданий, от огня и
радиации, задыхаются в кирпичной пыли и в дыму, гибнут в заваленных
убежищах. В случае наземного взрыва выпадение радиоактивной пыли
создает опасность смертельного облучения на площади в десятки тысяч
квадратных километров.
* Такое положение интеллигенции в обществе делает бессмысленными
громогласные требования к интеллигенции подчинить свои стремления воле и интересам
рабочего класса (в СССР, Польше и других соц. странах). На самом деле в таких
призывах подразумевается подчинение воле партии или, еще конкретней, ее
центральному аппарату, его чиновникам. Но где гарантия, что эти чиновники всегда
выражают истинные интересы рабочего класса в целом, истинные интересы прогресса,
а не свои кастовые интересы?
Теперь о стоимости pi возможном числе взрывов.
После того, как пройдена стадия поисков и исследований, массовое
производство термоядерного оружия и ракет-носителей оказывается не
более сложным и дорогим, чем, например, производство военных
самолетов, которые во время войны изготовляли десятками тысяч.
Сейчас годовое производство плутония во всем мире исчисляется
десятками тысяч тонн. Если принять, что половина этой продукции идет
на военные цели и что в одном заряде в среднем используется несколько
кг плутония, становится очевидным, что уже сейчас накоплено
достаточно зарядов для многократного уничтожения всего человечества.
Третьим техническим аспектом термоядерной опасности (наряду с
мощностью и дешевизной зарядов) мы называем практическую
неотразимость массированного ракетного нападения. Это обстоятельство
хорошо известно специалистам; в научно-популярной литературе смотр.,
например, недавнюю статью Бете и Гарвина в журнале «Сайентифик Аме-
рикэн» (№ 3 за 1968 год).
Сейчас техника и тактика нападения далеко обогнали технику
обороны, несмотря на создание очень маневренных и мощных противоракет
с ядерными зарядами, несмотря на другие технические идеи (типа
использования лазерного луча и т. п.).
Повышение стойкости зарядов к воздействию ударной волны, к
радиационному воздействию нейтронного и рентгеновского облучения,
возможность широкого использования относительно легких и дешевых
«ложных целей», почти не отличимых от боевых зарядов и истощающих
технические средства противоракетной обороны противника,
совершенствование тактики массированных концентрированных во времени и
пространстве ракетно-термоядерных атак, превышающих пропускную
способность станций обнаружения и наведения и вычисления,
использование орбитальных и настильных траекторий атаки, активных и пассивных
помех и ряд других, пока не освещенных в печати приемов,— все это
поставило перед созданием эффективной противоракетной обороны
технические и экономические препятствия, которые в настоящее время
практически непреодолимы *.
Исключением является случай очень большого различия технико-
экономических потенциалов двух противостоящих друг другу
противников. В этом случае более сильная сторона, создав систему
противоракетной обороны с многократным запасом прочности, имеет соблазн
попытаться навсегда избавиться от опасного неустойчивого равновесия —
пойти на превентивную авантюру, затратив часть своего потенциала
атаки на уничтожение большей части ракетных стартовых позиций
противника и рассчитывая на безнаказанность на последней ступени
эскалации, т. е. при уничтожении городов и промышленности противника.
К счастью для стабильности мира, различие технико-экономических
потенциалов СССР и США не настолько велико, чтобы для одной из
этих сторон такая «превентивная агрессия» не была бы связана с
почти неминуемым риском ответного сокрушительного удара, и это
положение не изменится при решении гонки вооружений на строительство
систем ПРО. По мнению многих, разделяемому автором, дипломатическое
оформление этой взаимно-понимаемой ситуации (например, в виде
договора о моратории строительства ПРО) было бы полезной демонстрацией
желания США и СССР сохранить статус-кво и не расширять гонку воо-
* Опыт прошлых войн дал множество примеров того, что первое применение
нового технического или тактического приема нападения обычно оказывалось очень
эффективным даже в том случае, если вскоре удавалось найти простое противоядие.
Но в случае термоядерной войны уже первое применение может оказаться
решающим и свести на нет многолетние работы и многомиллиардные расходы по созданию
ПРО (противоракетной обороны).
6
ружений на безумно дорогие противоракетные системы, демонстрацией
желания сотрудничать, а не воевать.
Термоядерная война не может рассматриваться как продолжение
политики военными средствами (по формуле Клаузевица), а является
средством всемирного самоубийства *.
Полное уничтожение городов, промышленности, транспорта, системы
образования, отравление полей, воды и воздуха радиоактивностью,
физическое уничтожение большей части человечества, нищета, варварство,
одичание и генетическое вырождение под действием радиации
оставшейся части, уничтожение материальной и информационной базы
цивилизации — вот мера опасности, перед которой ставит мир разобщенность
двух мировых сверхсил.
Каждое разумное существо, оказавшись на краю пропасти, сначала
старается отойти от этого края, а уж потом думает об удовлетворении
всех остальных потребностей. Для человечества отойти от края
пропасти — это значит преодолеть разобщенность.
Необходимый шаг на этом пути — пересмотр традиционного метода в
международной политике, который можно назвать «эмпирико-конъюык-
турным». Попросту — это метод максимального улучшения своих
позиций всюду, где это возможно, и одновременно метод максимальных
неприятностей противостоящим силам без учета общего блага и общих
интересов.
Если политика — это игра двух игроков, то это единственно
возможный метод. Но к чему такой метод приводит в современной
беспрецедентной обстановке?
Во Вьетнаме силы реакции не надеются на желательный для них
исход народного волеизъявления, применяют силу военного давления,
нарушают все правовые и моральные нормы, совершают вопиющие
преступления против человечности. Целый народ приносится в жертву
предполагаемой задаче остановки «коммунистического потопа».
От американского народа пытаются скрыть роль соображений
личного и партийного престижа, цинизм и жестокость, бесперспективность и
неэффективность антикоммунистических задач американской политики во
Вьетнаме, вред этой войны для истинных целей американского народа,
которые совпадают с общечеловеческими задачами укрепления мирного
сосуществования.
Прекращение войны во Вьетнаме — это, в первую очередь, дело
спасения гибнущих там людей. Но это также дело спасения мира во всем
мире. Ничто так не подрывает возможности мирного сосуществования,
как продолжение войны во Вьетнаме.
Другой трагический пример — Ближний Восток. Если во Вьетнаме
самая прямая ответственность лежит на США, то в этом случае
косвенная ответственность ложится и на США, и на СССР (а в 1948 и 1956 гг.—
и на Англию). С одной стороны, имело место безответственное поощрение
так называемого арабского единства (которое ни в коей мере не носило
социалистического характера — достаточно вспомнить Иорданию,—
а было чисто националистическим, антиизраильским); при этом
утверждалось, что в своей основе борьба арабов носит антиимпериалистический
характер. С другой стороны, имело место столь же безответственное
поощрение израильских экстремистов. ,
* Существуют два направления попыток вернуть термоядерной войне в глазах
общественного мнения «обычный» политический характер. Это, во-первых,
концепция «бумажного тигра», концепция безответственных маоистских авантюристов.
Во-вторых, это выработанная научно-милитаристскими кругами США стратегическая
доктрина эскалации. Не преуменьшая всей серьезности вызова, заключенного в этой
доктрине, ограничимся здесь замечанием, что реальным противовесом этой
доктрины является политическая стратегия мирного сосуществования.
Мы не можем здесь анализировать всей противоречивой, трагической
истории событий последних 20 лет, в ходе которой и арабы, и Израиль
наряду с исторически оправданными действиями совершали и весьма
предосудительные действия, часто обусловленные действиями внешних
сил. Так, в 1948 году Израиль вел оборонительную войну, но в 1956 году
действия Израиля представляются предосудительными. Превентивная
война «шести дней» перед лицом угрозы уничтожения безжалостными,
многократно превосходящими силами арабской коалиции должна быть
оправдана; но жестокость по отношению к беженцам и военнопленным,
а также противозаконное стремление решать территориальные споры
военными методами должны быть осуждены. Несмотря на это
осуждение, разрыв отношений с Израилем представляется ошибкой,
затрудняющей мирное урегулирование в этом районе, затрудняющей
необходимое дипломатическое признание Израиля арабскими государствами.
Аналогичный характер носит происхождение трудностей и
международной напряженности в германском вопросе и в других местах.
По нашему мнению, необходимо внести определенные изменения в
самые принципы проведения международной политики, последовательно
подчинив все конкретные цели и местные задачи основной задаче
активного предупреждения обострения международной обстановки,
активно проводить и углублять до уровня сотрудничества политику мирного
сосуществования, планировать политику таким образом, чтобы ее
ближайшие и отдаленные последствия не обостряли международную
обстановку, не вызывали бы ни у одной стороны таких трудностей, которые
могут вызвать усиление сил реакции, милитаризма, национализма,
фашизма, реваншизма.
Международная политика должна быть всецело пропитана научной
методологией и демократическим духом, со стремлением к бесстрашному
учету всех фактов, взглядов и теорий, с максимальной гласностью точно
сформулированных главных и промежуточных целей, с принципиальной
последовательностью.
Международная политика двух ведущих мировых сверхсил (США и
СССР) должна основываться на повсеместном применении единых общих
принципов, которые в первом приближении мы бы сформулировали
следующим образом:
1) Все народы имеют право решать свою судьбу свободным
волеизъявлением. Это право гарантируется международным контролем над
соблюдением всеми правительствами «Декларации прав человека».
Международный контроль предполагает как применение экономических санкций,
так и использование вооруженных сил ООН для защиты «прав
человека».
2) Все военные и военно-экономические формы экспорта
контрреволюции и революции являются незаконными и приравниваются к
агрессии.
3) Все страны стремятся к взаимопомощи в экономических,
культурных и общеорганизационных проблемах в целях безболезненного
устранения внутренних и международных трудностей, для предупреждения
обострения международной напряженности и усиления сил реакции.
4) Международная политика не преследует целей использования
местных конкретных условий для расширения зоны влияния и для создания
трудностей другой стране. Цель международной политики — обеспечить
повсеместное выполнение «Декларации прав человека», предупредить
обострение международной обстановки, усиление тенденции
милитаризма и национализма.
Такая политика ни в коем случае не есть предательство
революционной и национально-освободительной борьбы с реакцией и
контрреволюцией. Наоборот, при устранении всех сомнительных случаев
увеличивается возможность решительных действий в хех крайних случаях реакции,
расизма и милитаризма, когда не остается других средств, кроме
вооруженной борьбы; углубление мирного сосуществования дало бы
возможность предупреждения таких трагических событий, как в Греции и
Индонезии.
Такая политика ставит перед советскими вооруженными силами
четко ограниченные оборонительные задачи, задачи обороны нашей страны
и наших союзников от агрессии. Как показывает история, при обороне
родины, ее великих социальных и культурных завоеваний наш народ и
его вооруженные силы едины и непобедимы.
Угроза голода
Специалисты обращают внимание на возрастающую угрозу
всеобщего голода в «более бедной» половине земного шара. Хотя на всей
планете за последние 30 лет возрастание населения на 50% сопровождалось
увеличением производства продовольствия на 70%, но в бедной
половине баланс был неблагоприятным. Реальное положение в Индии,
Индонезии, в ряде стран Латинской Америки и в огромном числе других
слаборазвитых стран — отсутствие технико-экономических резервов, деловых
кадров и культурных навыков, социальная отсталость, высокий уровень
рождаемости,— все это систематически ухудшает пищевой баланс и
несомненно будет продолжать ухудшать его в ближайшие годы. Спасением
было бы широкое применение удобрений, улучшение системы орошения,
улучшение агротехники, более широкое использование ресурсов океана,
постепенное освоение технически вполне возможных уже сейчас методов
производства синтетической пищи (в первую очередь аминокислот) „
Однако это все хорошо для «богатых». В более отсталых, как очевидно
из реального анализа ситуации сейчас и имеющихся тенденций,
улучшение не может быть достигнуто в ближайшее время, до предполагаемой
даты трагедии (1975—1980 гг.).
Речь идет о таком прогнозируемом из анализа существующих
тенденций обострения «среднего» продовольственного баланса, при котором
местные, локализированные в пространстве и времени продовольственные
кризисы сливаются в сплошное море голода, невыносимых страданий и
отчаяния, горя, гибели и ярости сотен миллионов людей. Эта
трагическая опасность угрожает всему человечеству. Катастрофа такого
масштаба не может не иметь самых глубоких последствий во всем мире,
для каждого человека, вызовет волны войн и озлоблений, общий упадом
уровня жизни во всем мире, наложит трагический, цинический и
антикоммунистический отпечаток на жизнь последующих поколений.
Первая реакция обывателя, когда он узнает о существовании
проблемы: «они» сами виноваты, почему «они» так сильно размножаются?
Несомненно, ограничение избыточной рождаемости очень важно, и
общественность, например, в Индии, принимает ряд мер в этом
направлении; но эти меры остаются пока почти безрезультатными в условиях
социальной и экономической отсталости, при наличии устойчивых
традиций многодетности, в результате отсутствия страхования от старости,
высокой детской смертности в совсем недавнем прошлом и непрерывной
угрозы голодной смерти в будущем, и других причин. Очевидно,
бесполезно только призывать более отсталые страны ограничить
рождаемость — необходимо, в первую очередь, помочь им экономически и
технически, причем эта помощь должна быть такого масштаба, такого
бескорыстия и широты, которые совершенно невозможны, пока не
ликвидирована мировая разобщенность, эгоистический, мещанский подход к
отношению между нациями и расами, пока две великие мировые
сверхсилы — СССР и США — противостоят друг другу как соперники или
даже противники.
Социальные факторы играют важную роль в трагическом положении
и еще более трагическом будущем «бедных» районов. Но надо ясно по-
9
шшать, что если угроза голода является, наряду со стремлением к
национальному освобождению, главной причиной «аграрной» революции, то
сама по себе «аграрная» революция не устраняет угрозы голода (во
всяком случае, в ближайшем будущем). В сложившемся положении угроза
голода не может быть устранена достаточно быстро без помощи
развитых стран, и это потребует значительного изменения их внешней и
внутренней политики.
Сейчас «белые» граждане США не проявляют желания пойти на
минимальные жертвы для ликвидации неравноправного экономического
и культурного положения «черных» граждан США, составляющих
немногим более 10% населения. Но необходимо так изменить психологию
граждан США, чтобы они добровольно и бескорыстно, во имя одних
только высших и отдаленных целей, во имя сохранения цивилизации и
гуманности на нашей планете поддержали свое правительство и
общемировые усилия в изменении экономики, техники и уровня жизни
миллионов людей (что, конечно, потребует серьезного снижения темпов
экономического развития в США).
Аналогичный перелом в психологии народа и практической
деятельности правительств должен быть достигнут в СССР и в других развитых
странах.
По мнению автора, необходим своеобразный налог на развитые
страны в сумме порядка 20% их национального дохода на протяжении
примерно пятнадцати лет. Введение такого «налога» приведет
автоматически к значительному уменьшению расходов на вооружение. Очень
существенно влияние такой совместной помощи на стабилизацию и
оздоровление положения в самых слаборазвитых странах, на
ограничение влияния экстремистов всех типов.
При изменении экономического положения слаборазвитых стран
проблема избыточной рождаемости разрешится относительно безболезненно,
без варварских методов стерилизации, как это показывает опыт развитых
стран, Все же определенные изменения в политике, представлениях и
традициях в этом «деликатном» вопросе неизбежны и в развитых
странах. Человечество может безболезненно развиваться, только
рассматривая себя в демографическом смысле как единое целое, как одна семья,
без разделения на нации в каком-либо ином смысле, кроме истории и
традиций.
Поэтому в политике правительства, в законодательстве о семье и
браке, в пропаганде нельзя поощрять увеличение рождаемости в
развитых странах и одновременно требовать ее ограничения в странах менее
развитых, получающих помощь. Ничего, кроме озлобления и
национализма, такая двойная игра не вызовет.
В заключение я хочу подчеркнуть, что вопрос о регулировке
рождаемости является очень «многоплановым», и его стандартное,
догматическое решение «на все времена и народы» было бы неправильным. В
частности, и все вышесказанное должно восприниматься с оговорками, как
некоторое упрощение.
Проблемы геогигиены
Мы живем в быстро меняющемся мире. Промышленное и
гидротехническое строительство, лесозаготовки, распашка целинных земель,
применение ядохимикатов -— это все неконтролируемым, стихийным об-
ралом меняет облик земли, нашу «среду обитания». Научное изучение
всех взаимосвязей в природе и последствии нашего вмешательства явно
отстает от темпов происходящих изменений. В воздух и воду
выбрасывается огромное количество вредных отходов промышленности и
транспорта, в том числе канцерогенных. Не будет ли перейден «предел
безопасности» повсеместно, как это уже имеет место в ряде мест?
Углекислота от сжигания угля меняет теплоотражательные свойства атмосферы.
Рано или поздно это примет опасные масштабы. Но мы не знаем —
когда. Ядохимикаты, применяемые в сельском хозяйстве для борьбы с
вредителями, проникают в тело человека и животных как непосредственно,
так и в виде ряда видоизмененных, еще более опасных соединений,
оказывают очень вредное влияние на мозг, нервную систему, кроветворные
органы, печень и другие органы. Тут тоже нетрудно перейти предел, но
вопрос не изучен, и очень трудно управлять всеми этими процессами.
Применение антибиотиков в птицеводстве способствует выработке
новых форм болезнетворных микробов, устойчивых к антибиотикам.
Я мог бы упомянуть о проблеме сброса моющих веществ и
радиоактивных отходов, об эрозии и засолонении почвы, о затоплении лугов,
о вырубке лесов на горных склонах и лесов водоохранного значения,
о гибели птиц и таких полезных животных, как жабы и лягушки, о
многих других примерах неразумного хищничества, вызванных приматом
местных, временных, ведомственных и эгоистических интересов, а
иногда и просто вопросами ведомственного престижа, как это имело место в
печально знаменитой проблеме Байкала. Проблемы гиогигиены очень
сложны и многообразны, очень тесно переплетаются с экономическими
и социальными проблемами. Их полное решение в национальном и тем
более местном масштабе поэтому невозможно. Спасение нашей внешней
среды обитания настоятельно требует преодоления разобщенности и
давления временного, местного интереса. Иначе СССР отравит СЩА
своими отходами, а США отравит СССР своими. Пока это — гипербола,
но при возрастании количества отходов на 10% ежегодно за 100 лет
общее возрастание достигнет 20 тысяч раз.
Угроза расизма, национализма, милитаризма
и диктаторских режимов
Крайним выражением опасностей современного общественного
развития является развитие расизма, национализма и милитаризма и, в
особенности, возникновение демагогических, лицемерных и чудовищно
жестоких полицейских, диктаторских режимов. В первую очередь, это —
режим Сталина, Гитдера и Мао Цзэ-дуна, а также ряд крайне
реакционных режимов в меньших странах (Испания, Португалия, ЮАР, Греция,
Албания, Гаити и ряд латиноамериканских стран).
Истоками всех этих трагических явлений всегда были борьба
эгоистических групповых интересов, борьба за неограниченную власть,
подавление интеллектуальной свободы, распространение в народе массовых
эмоциональных и интеллектуально упрощенных, удобных мещанину мифов
(миф расы, земли и крови, миф об еврейской опасности,
антиинтеллектуализм, концепция «жизненного пространства» в Германии, миф об
усилении классовой борьбы и о пролетарской непогрешимости,
дополненный культом Сталина и преувеличением противоречий с
капиталистическими странами в СССР, миф о Мао Цзэ-дуне, крайний китайский
национализм и воскрешение концепции «жизненного пространства»,
антиинтеллектуализма, крайний антигуманизм, определенные предрассудки
крестьянского социализма в Китае).
Обычная практика — преимущественное использование демагогии
штурмовиков и хуивэйбпыов на первом этапе и террористической
бюрократии надежных «кадров» типа Эйхмана, Гиммлера, Ежова и Берии
на вершине обожествления неограниченной власти. Мир никогда не
забудет костров из книг на площадях немецких городов, истерических,
людоедских речей фашистских «вождей» и их еще более людоедских
тайных планов уничтожения и порабощения целых народов, в том числе
и русского. Фашизм начал частичную реализацию этих планов во время
развязанной им войны, уничтожая военнопленных и заложников, сжигая
деревни, осуществляя преступнейшую политику геноцида (на период
11
войны центральный удар геноцида был направлен по евреям, что, по-
видимому, имело также определенный провокационный смысл, в
частности на Украине и в Польше).
Мы никогда не забудем многокилометровые рвы, наполненные
трупами, душегубки и газовые камеры, эсэсовских овчарок и
врачей-изуверов, прессованные кипы женских волос, чемоданы с золотыми зубами и
удобрения в качестве «продукции» фабрик смерти.
Анализируя причины прихода Гитлера к власти, мы не забываем о
роли немецкого и международного монополистического капитала, не
забываем также о преступно-сектантской, догматической ограниченной
политике Сталина и его соратников, натравивших друг на друга
социалистов и коммунистов (об этом хорошо рассказано в известном письме
Э. Генри И. Эренбургу).
Фашизм в Германии просуществовал 12 лет, сталинизм в СССР —
вдвое больше. При очень многих общих чертах есть и определенные
различия. Это — гораздо более изощренный наряд лицемерия и демагогии,
опора не на откровенно людоедскую программу, как у Гитлера, а на
прогрессивную, научную и популярную среди трудящихся
социалистическую идеологию, которая явилась очень удобной ширмой для обмана
рабочего класса, для усыпления бдительности интеллигенции и
соперников в борьбе за власть, с коварным и внезапным использованием
механизма цепной реакции пыток, казней и доносов, с запугиванием и
оболваниванием миллионов людей, в большинстве своем не трусов и не
дураков. Эта «специфика» сталинизма имела одним из своих следствий
то, что самый страшный удар был нанесен против советского народа,
его наиболее активных, способных и честных представителей. Не менее
10—15 миллионов советских людей погибли в застенках НКВД от пыток
и казней, в лагерях для ссыльных кулаков и так называемых
«подкулачников» и членов их семей, в лагерях «без права переписки» (это
были фактически прообразы фашистских лагерей смерти, где
практиковались, например, массовые расстрелы тысяч заключенных из пулеметов
при «перенаселенности» лагерей или получении «специальных
указаний»), в холодных шахтах Норильска и Воркуты от холода, голода и
непосильного труда на бесчисленных стройках, лесозаготовках,
каналах *, просто на перевозках в заколоченных вагонах и затопленных
трюмах «кораблей смерти» Охотского моря, при пересылке целых
народов — крымских татар, немцев Поволжья, калмыков, многих других
народов.
Сменялись помощники (Ягода, Молотов, Ежов, Жданов, Маленков,
Берия), но антинародный режим Сталина оставался все таким же
свирепым и в то же время догматически ограниченным, слепым в своей
жестокости. Уничтожение военных и инженерных кадров перед войной,
слепая вера в разумность собрата по преступлениям — Гитлера и другие
истоки национальной трагедии 1941 года, хорошо освещенные в книге
Некрича, в записках генерал-майора Григоренко и в ряде других
публикаций,— это далеко не единственный пример этого сочетания
преступлений и преступной ограниченности, недальновидности.
Сталинский догматизм и отрыв от реальной жизни особенно
проявился в деревне — в политике безудержной эксплуатации деревни
—грабительскими заготовками по «символическим» ценам, с почти крепостным
закабалением крестьянства, с лишением колхозников права владения
основными средствами механизации, с назначением председателей
колхозов по признаку угодливости и изворотливости. Результат налицо —
глубочайшее и трудно поправимое разрушение экономики и всего укла-
* Недавно наш читатель имел возможность ознакомиться с описанием
строительства «дороги смерти» Норильск - Игарка в журнале «Новый мир», № 8, 1964 г.
12
да жизни в деревне, которое по «закону сообщающихся сосудов»
подрывало также и промышленность.
Антинародный характер сталицизма ярко проявился в репрессиях
военнопленных, выживших в фашистском плену и угодивших в
сталинские лагеря, в антирабочих «указах», в преступном переселении целых
народов, обрекая их на медленное вымирание, в свойственном сталинской
бюрократии и НКВД (и лично Сталину) мещанско-зоологическом
антисемитизме, в драконовских законах по охране социалистической
собственности (5 лет за «колоски» и так далее), которые фактически служили
главным образом одним из средств удовлетворения спроса на «рынки
рабов», в свойственной Сталину украинофобии и тому подобное.
Глубокий анализ генезиса и проявлений сталинизма содержит
фундаментальная (тысяча страниц) монография Р. Медведева. Это
написанное с социалистических, марксистских позиций выдающееся
произведение, к сожалению, до сих пор не увидело света. Вероятно, автор не
дождется таких же комплиментов от товарища Р. Медведева, который
найдет в его взглядах элементы «западничества». Ну что же, спор так
спор! Но по существу взгляды автора являются глубоко
социалистическими, и он надеется, что внимательный читатель это поймет.
Автор очень хорошо понимает, какие уродливые явления в области
человеческих и международных отношений рождает эгоистический
принцип капитала, когда он не испытывает давления социалистических
прогрессивных сил; он думает, однако, что прогрессивные люди на Западе
понимают это лучше его и ведут борьбу с этими проявлениями. Автор
концентрирует внимание на том, что у него перед глазами и что
мешает, с его точки зрения, общемировым задачам преодоления
разобщенности, борьбе за демократию, социальный прогресс и интеллектуальную
свободу.
Сейчас наша страна вступила на путь самоочищения от скверны
«сталинизма». Мы «по капле выдавливаем из себя раба» (выражение
А. П. Чехова), научаемся выражать свое мнение, не глядя в рот
начальству и не боясь за собственную жизнь.
Начало этого трудного и далеко не прямолинейного пути,
по-видимому, следует датировать докладом Н. С. Хрущева на XX съезде КПСС;
это смелое, неожиданное для бывших сообщников Сталина по
преступлениям выступление и ряд сопутствующих мероприятий — освобождение
сотен тысяч политзаключенных и их реабилитация, шаги по
восстановлению принципов мирного сосуществования, шаги по воссозданию
демократии — все это заставляет нас очень высоко оценить историческую
роль Н. С. Хрущева, несмотря на ряд допущенных им в последующие
годы досадных ошибок волюнтаристического характера и несмотря на
то, что при жизни Сталина Хрущев, конечно, являлся одним из
соучастников его преступлений, занимая ряд достаточно крупных постов.
Разоблачению сталинизма в нашей стране далеко до окончания.
Конечно, абсолютно необходимо опубликование всех имеющихся
достоверных материалов (в том числе архивов НКВД), проведение
всенародного расследования. Для международного авторитета КПСС и идей
социализма было бы весьма целесообразно намечавшееся в 1964 году,
но «почему-то» отмененное символическое исключение из КПСС
Сталина — убийцы миллионов ее членов * и политическая реабилитация жертв
* Лишь в 1936-39 гг. было арестовано более 1,2 миллиона членов ВКП(б)
-половина всей партии. Только 50 тысяч вышло на свободу — остальные были
замучены при допросах, расстреляны (600 тысяч) или погибли в лагерях. Только единицы
из числа реабилитированных были допущены к работе на ответственных должностях,
еще меньше смогли принять участие в расследовании преступлений, свидетелями
и жертвами которых они были. В последнее время часто раздаются призывы «не
сыпать соль в раны». Такие призывы обычно исходят от тех, у кого не было никаких
рал. На самом деле лишь тщательный анализ прошлого и его последствий в
настоящем даст возможность смыть всю безмерную кровь и грязь, которые запачкали наше
13
сталинизма. Необходимо всемерно ограничить влияние неосталинистов
на нашу политическую жизнь, Здесь мы вынуждены коснуться одного
персонального вопроса. Одним из очень влиятельных представителей
неосталинизма сейчас является нынешний заведующий отделом науки
ЦК КПСС С. П. Трапезников. Руководство нашей страны и наш народ
должны знать, что позиция этого несомненно умного, хитрого и очень
последовательного в своих взглядах и принципах человека является в
своей основе сталинской (т. е., с нашей точки зрения, выражающей
интересы бюрократической элиты), в корне расходится с чаяниями и
стремлениями большей и наиболее активной части нашей интеллигенции
(выражающей, с нашей точки зрения, истинные интересы всего нашего
народа и прогрессивного человечества). Руководство нашей страны
должно понимать, что пока такой человек (если я не ошибаюсь в
характеристике его взглядов) пользуется влиянием, нельзя надеяться на
укрепление позиций партийного руководства среди научной и художественной
интеллигенции. Намек был дан на последних выборах в АН СССР, когда
С. П. Трапезников был забаллотирован заметным большинством голосов,
по не был «понят» руководством. Речь не идет о деловых или личных
качествах тов. С. П. Трапезникова, о которых я мало знаю, речь идет о
политической линии. Я основываюсь в вышенаписанном на устных
сведениях, поэтому я в принципе не могу исключить (хотя и считаю
маловероятным), что в действительности все обстоит как раз наоборот.
В этом более приятном случае я бы просил извинения и взял бы все
вышенаписанное обратно.
В последние годы стихия демагогии, насилия, жестокости и подлости
вновь овладела великой страной, вставшей на путь социалистического
развития. Я говорю, конечно, о Китае. Нельзя без ужаса и боли читать
о массовой заразе антигуманизма, который насаждает «великий
кормчий» и его соратники, о хунвэйбинах, которые, по сообщению
китайского радио, «прыгали от радости» во время публичной казни «врагов
идей» председателя Мао. Идиотизм культа личности принял в Китае
чудовищные, гротескно-трагикомические формы с доведением до абсурда
многих черт сталинизма и гитлеризма. Но это абсурд оказался
эффективным средством для оболванивания десятков миллионов людей, для
уничтожения и унижения миллионов более честных и более умных. Полная
картина постигшей Китай трагедии неясна. Но, во всяком случае, ее
нельзя рассматривать в отрыве от внутренних экономических трудностей
Китая после провала авантюры большого скачка; от борьбы за власть
различных группировок и в отрыве от внешнеполитической обстановки
войны во Вьетнаме, разобщенности в мире, неполноты и запоздалого
характера борьбы со сталинизмом в СССР.
Часто в качестве главного ущерба от маоизма называют раскол
мирового коммунистического движения. Это, конечно, не так. Раскол есть
следствие «болезни» и в какой-то мере путь к ее преодолению. При
наличии «болезни» формальное единство было бы опасным беспринципным
компромиссом, который окончательно завел бы в тупик мировое
коммунистическое движение. Фактически преступления маоистов против прав
человека зашли слишком далеко, и китайский народ более нуждается в
единстве мировых демократических сил для защиты своих прав, чем в
знамя. В обсуждениях и литературе иногда проводится мысль, что политические
проявления сталинизма есть «надстройка» над экономическим базисом
антиленинского «неосоциализма», который привел к формированию в нашей стране особого
класса — бюрократической «номенклатурной» элиты, присваивающей себе плоды
общественного труда при помощи сложной цепи явных и тайных привилегий. Я не могу
отрицать, что какая-то (непонятная, по моему мнению) доля истины в таком
подходе содержится и, в частности, объясняет живучесть неосталинизма, но полный
анализ этого круга идей выходит за пределы этой статьи, уделяющей главное
внимание другой стороне проблемы.
единстве мировых коммунистических сил с его коммунистическими в
маоистском смысле хозяевами для борьбы с так называемой
империалистической опасностью где-нибудь в Африке, или Латинской Америке, или
на Ближнем Востоке.
Угроза интеллектуальной свободе
Угроза независимости и ценности человеческой личности, угроза
смыслу человеческой жизни.
Ничто так н-з угрожает свободе личности и смыслу жизни, как
воина, нищета, террор. Однако существуют и очень серьезные косвенные,
лишь немногим более отдаленные опасности. Одна из этих опасностей —
оболванивание человека («серой массы», по циничному определению
буржуазной футурологии) «массовой» культурой с намеренным или
коммерчески обусловленным снижением интеллектуального уровня и
проблемности, с упором на развлекательность или утилитарность, с
тщательно охранительным цензурированием.
Другой пример связан с проблемами образования. Система
образования, находящаяся под государственным контролем, отделение школы от
церкви, всеобщее бесплатное обучение — все зто величайшее достижение
социального прогресса. Но это все имеет свою оборотную сторону:
в данном случае это излишняя унификация, которая распространяется
и на само преподавание, и на программы, в особенности по таким
предметам, как литература, история, обществоведение, география, и на
систему экзаменов. Нельзя не видеть опасности в излишней апелляции к
авторитетам, в определенном сужении рамок дискуссий и
интеллектуальной смелости выводов в том возрасте, когда происходит
формирование убеждений. В старом Китае система экзаменов на должность
приводила к умственному застою, к канонизации реакционных сторон
конфуцианства. Очень нежелательно иметь что-либо подобное в современном
обществе.
Современная техника и массовая психология дают все новые
возможности управления установочными критериями, поведением,
стремлениями и убеждениями людских масс. Это не только управление через
информацию с учетом теории рекламы и массовой психологии, но и
более технические методы, о которых много пишут в зарубежной
печати. Примеры — систематический контроль рождаемости, биохимическое
управление психическими процессами, радиоэлектронный контроль
психических процессов. С моей точки зрения, мы не можем полностью
отказаться от новых методов, нельзя наложить принципиальный запрет
на развитие науки и техники, но мы должны ясно понимать страшную
опасность основным человеческим ценностям, самому смыслу жизни,
которая скрывается в злоупотреблении техническими и биохимическими
методами и методами массовой психологии. Человек не должен
превратиться в курицу или крысу в известных опытах, испытывающую
электронное наслаждение от вделанных в мозг электродов. Сюда примыкает
также вопрос о возрастающем использовании успокаивающих и
веселящих средств, разрешенных и неразрешенных наркотиков и тому
подобное.
Нельзя забывать также о вполне реальной опасности, о которой
пишет Винер в своей книге «Кибернетика»,— об отсутствии у
кибернетической техники устойчивых человеческих установочных критериев.
Соблазнительное беспрецедентное могущество, которое дает человечеству
(или, еще хуже, той или иной группировке разделенного человечества)
использование мудрых советов будущих интеллектуальных
помощников —искусственных «думающих» автоматов, может обернуться, как
подчеркивает Винер, роковой ловушкой: советы могут оказаться непости-
.15
жимо коварными, преследующими не человеческие цели, а цели
решения абстрактных, непредусмотренно трансформировавшихся в
искусственном мозгу задач. Такая опасность станет вполне реальной через
несколько десятилетий, если человеческие ценности, и в первую очередь
свобода мысли, не будут подкреплены в этот период, если не будет
ликвидирована разобщенность.
Вернемся к опасностям и требованиям сегодняшнего дня, к
необходимости интеллектуальной свободы, которая дает народу и
интеллигенции возможность контроля и общественной экспертизы всех действий,
намерений и решений правящей группировки.
Как писал Маркс, «начальство все лучше знает», «могут судить
только высшие сферы, обладающие знаниями об официальной природе
вещей* Эту иллюзию разделяют и государственные чиновники,
отождествляющие общественный интерес с авторитетом государственной власти».
И Маркс и Ленин всегда подчеркивали порочность бюрократической
системы управления как антипода демократической системы. Ленин
говорит, что каждая кухарка должна научиться управлять государством.
Сейчас многоплановость, сложность общественных явлений, опасности,
лежащие перед человечеством, неизмеримо возросли, и тем важней
обезопасить человечество от опасности догматических и волюнтаристских
сшибок, неизбежных при решении проблем «кабинетным методом» с
негласными советниками «теневых кабинетов».
Не случайно проблема цензуры (в широком смысле этого слова)
является одной из центральных в идеологической борьбе последних лет.
Вот цитата из прогрессивного исследователя Л. Козера:
«Было бы абсурдно приписывать отчуждение многих авангардных
авторов исключительно битве с цензорами, но можно утверждать, что
эти битвы в немалой степени способствовали такому отчуждению. Для
этих авторов цензор стал главным символом филистерства, лицемерия и
низости буржуазного общества. Многие авторы, вначале аполитичные,
перешли к американской политической левой, потому что левые были в
авангарде борьбы против цензуры. Тесный союз художественного
авангарда с авангардом политического и социального радикализма
объясняется, по крайней мере отчасти, тем фактом, что в сознании многих людей
они в конце концов слились в единой битве за свободу против всякого
угнетения...» (цитирую по статье И. Кона в номере первом журнала
«Новый мир» за 1968 год).
Все мы знаем страстное, глубоко аргументированное обращение по
этому вопросу выдающегося советского писателя А. Солженицына.
А. Солженицын, Г. Владимов, Г. Свирский и другие писатели,
выступавшие на ту же тему, ярко показали, как некомпетентная цензура
убивает в зародыше живую душу советской литературы; но ведь то же
самое относится и ко всем другим проявлениям общественной мысли,
вызывая застой, серость, полное отсутствие каких-то свежих и глубоких
мыслей. Ведь глубокие мысли появляются только в дискуссии, при
наличии возражений, только при потенциальной возможности высказывать
не только верные, но и сомнительные идеи. Это было ясно еще
философам древней Греции, и едва ли кто-нибудь сейчас в этом сомневается.
Но после 50 лет безраздельного господства над умами целой страны наше
руководство, похоже, боится даже намека на такую дискуссию. Здесь мы
вынуждены коснуться позорных тенденций, которые проявились в
последние годы.
Приведем лишь разрозненные примеры, без попыток создать цельную
картину. Вновь усилились цензурные рогатки, калечащие советскую
художественную и политическую литературу. Десятки глубоких, блестящих
произведений не могут увидеть света, и в том числе лучшие
произведения А. Солженицына, исполненные очень большой художественной и
нравственной силой, содержащие глубокие художественно-философские
16
обобщения. Разве все это — не позор? Большое возмущение вызывает
принятый Верховным Советом РСФСР закон с дополнениями к
Уголовному кодексу, которые прямо противоречат провозглашенным нашей
Конституцией гражданским свободам.
Осужденный прогрессивной общественностью у нас и за рубежом
(от Луи Арагона до Г. Грина) компрометирующий коммунистическую
систему процесс Даниэля и Синявского до сих пор не пересмотрен, сами
они томятся в лагере строгого режима и подвергаются (особенно
Даниэль) тяжелым издевательствам и испытаниям *.
Разве не позор арест, 12-месячное заключение без суда и осуждение
на 5—7 лет Гинзбурга, Галанскова и других за деятельность, реальным
содержанием которой была защита гражданских свобод и персонально
(отчасти в качестве примера) Даниэля и Синявского? Автор этих строк
11 февраля 1967 года обратился в ЦК КПСС с просьбой о прекращении
дела Гинзбурга и Галанскова. Однако он не получил никакого ответа
на свое обращение, никаких разъяснений по существу дела. Лишь
много поздней ему стало известно, что была предпринята (по-видимому, по
инициативе бывшего председателя КГБ Семичастного) попытка
оклеветать его и ряд дру1их лиц при помощи инспирированных ложных
показаний одного из обвиняемых по делу Галанскова —Гинзбурга
(впоследствии показания именно этого обвиняемого—Добровольского—были
использованы обвинением на процессе Гинзбурга—.Галанскова для
доказательства связи этих обвиняемых с зарубежной антисоветской
организацией, что вызывает невольные сомнения).
Разве не позор осуждение (на 3 года лагерей) Хаустова и
Буковского за участие в митинге в защиту своих товарищей? Разве не позор
преследование в лучшем стиле охотников за ведьмами десятков
представителей советской интеллигенции, выступивших против произвола
судебных и психиатрических органов, попытка заставить честных людей
подписать лживые, лицемерные «опровержения», увольнение с работы
с занесением в черные списки, лишение молодых писателей, редакторов
и других интеллигентов всех средств к жизни?
Вот типичный пример этой деятельности. Женщина, редактор
литературы по кинематографии тов. В., вызывается в райком. Первый
вопрос: Кто дал вам подписать письмо в защиту Гинзбурга?— Разрешите
мне на этот вопрос не отвечать.— Хорошо, выйдите, мы посоветуемся.
— Решение: исключить из партии, рекомендовать снять с работы с
запрещением работать в области культуры.
Партия с такими методами убеждения и воспитания вряд ли может
претендовать на роль духовного вождя человечества.
Разве не позор выступление на Московской партконференции
президента АН СССР —очевидно, либо слишком запуганного, либо слишком
догматичного в своих взглядах? Разве не позор очередной рецидив
антисемитизма в кадровой политике (впрочем, в высшей бюрократической
элите нашего государства дух мещанского антисемитизма никогда
полностью не выветривался после 30-х годов)? Разве не позор продолжаю-
* В настоящее время большинство политзаключенных содержится в группе
лагпунктов Дубровлага на территории Мордовии (вместе с уголовниками - около
30 000 заключенных). По имеющимся сведениям, начиная с 1961 года режим в этом
лагере непрерывно ожесточался, все большую роль приобретали кадры, оставшиеся
от сталинских времен. (Справедливость требует отметить, что в самое последнее
время замечается некоторое улучшение. Можно надеяться, что этот поворот окажется
устойчивым.) Несомненно, восстановление ленинских принципов общественного
контроля над местами заключения было бы очень целесообразно. Не менее важна
была бы полная амнистия политзаключенных (а не та «куцая» амнистия, которая по
причине временной победы правых тенденций в нашем руководстве была объявлена
к 50-летию Октября), а также пересмотр вызывающих сомнение у прогрессивной
общественности судебных политических процессов.
гоиеся ограничения прав народа крымских татар, потерявшего от
сталинских репрессий около 46% населения (в основном детей и стариков)?*
Ик-ше пе величайший позои и опасность участившиеся попытки
публичной прямой или косвенной (с помощью умолчания) реабилитации
Сталина, его соратников и его политики, его лжесоциализма,
террористической бюрократии, социализма лицемерия и показного роста —в лучшем
случае, количественного и однобокого роста с утерей многих
качественных характеристик? **
Хотя все эти позорные явления еще далеки от чудовищных
масштабов преступлений сталинизма и скорей приближаются по масштабам к
печально знаменитому маккартизму эпохи «холодной войны», но
советская общественность не может не быть крайне обеспокоена и
возмущена, проявляет бдительность перед лицом даже незначительных
проявлений возможности появления в нашей стране неосталинизма.
Мы уверены, что мировая коммунистическая общественность также
отрицательно относится ко всем попыткам возрождения сталинизма в
нашей стране — ведь это было бы страшным ударом по притягательной
силе коммунистических идей во всем мире.
На сегодня ключ к прогрессивной перестройке государственной
системы в интересах человечества лежит в индивидуальной свободе. Это
поняли, в частности, в Чехословакии, и мы, без сомнения, должны
поддерживать их смелую и очень ценную для судеб социализма и всего
человечества инициативу (и политически, и, на первых порах, усилением
экономической помощи).
Положение с цензурой (Главлитом) в нашей стране таково, что его
вряд ли можно устойчиво, надолго исправить при помощи тех или иных
«либеральных» инструкций. Необходимы очень серьезные
организационные и законодательные меры, например, принятие специального закона
о печати и информации, который бы четко и аргументированно
определил —что можно и чего нельзя, и возложил бы ответственность за это
на компетентных и контролируемых общественностью лиц. Очень важно
всемерно усиливать обмен информацией в международном масштабе
(печать, туризм и т. д.), очень важно лучше знать самих себя, не
жалеть денег на социологические, общеполитические и экономические
исследования и обследования, в том числе не только по государственно
контролируемым программам (в последнем случае мы можем поддаться
соблазну избегать «неприятных» тем и вопросов).
Основа надежды
Сейчас перспективы социализма связаны с тем, удастся ли сделать
социализм привлекательным, окажется ли нравственная
привлекательность идей социализма и возвеличивания труда при ее сравнении с
эгоистическим принципом частной собственности и возвеличивания
капитала решающим фактором, который люди будут иметь в виду при
нравственном сравнении капитализма и социализма, или люди будут в
первую очередь вспоминать об ограничениях при социализме
интеллектуальной свободы или, еще хуже, о фашизмоподобных режимах культа.
Я выдвигаю на первый план именно нравственные факторы, так как и в
вопросе обеспечения высшей производительности общественного труда,
и в развитии производственных сил, и в вопросе обеспечения высокою
* Национальные проблемы будут долго служить причиной волнений и
недовольства, если не признать и не проанализировать все имевшие место отклонения
от ленинских принципов и не взять твердый курс на исправление всех ошибок.
** Речь идет об основных тенденциях и последствиях сталинской политики,
сталинизма, а не о всесторонней характеристике всей многоплановой ситуации
огромной страны с 200-миллионным населением.
18
уровня жизни большей части населения капитализм и социализм
«сыграли вничью». Остановимся на этом вопросе подробнее.
А. По глубокому снегу бегут два лыжника. В начале соревнований
один из них, в полосатой майке, находился на много километров
впереди, но сейчас лыжник в красной майке вплотную приблизился к
лидеру. Что можно сказать об их сравнительной силе? Не очень много, ведь
бег двух лыжников происходит в разных условиях: «полосатый»
прокладывает лыжню, а «красный» —нет (читатель понимает, что эта
лыжня символизирует то бремя технического и организационного риска
разработочных издержек, которое ложится на страну, лидирующую в
технике). Можно лишь утверждать, что исключено очень большое
различие в силе двух лыжников и ничего кроме.
Приведенная притча, конечно, не отражает всей сложности
сравнения динамики экономического и научно-технического прогресса СССР
и США, сравнения жизнеспособности РРР и АМД (русского
революционного размаха и американской деловитости).
Мы не можем не учитывать, что значительную часть отчетного
периода СССР вел тягчайшую войну и залечивал нанесенные ею раны, не
можем не учитывать, что некоторые нелепости нашего развития не были
органическим следствием социалистического пути, а явились своего рода
трагической случайностью, тяжелой, но неизбежной болезнью; с другой
стороны, цри сравнении по большому счету нельзя не учесть, что
сейчас мы догоняем США лишь по некоторым старым «традиционным»
отраслям, в значительной мере потерявшим для США определяющее
значение (черная металлургия и др.), а в более новых отраслях (напри-
пример, в цроизводстве средств автоматики и вычислительных машин,
в нефтехимии и, в особенности, в научных и научно-технических
исследованиях) мы имеем не только отставание, но и меньшие темпы роста,
и это исключает возможность полной победы нашей экономики в
ближайшие десятилетия. Следует учесть наличие в нашей стране очень
богатого, неоценимого комплекса природных условий (от чернозема до
угля и леса, до нефти, марганца и алмазов). Следует учесть, что в
«отчетный» период наш народ работал с предельным напряжением, что
привело к определенному истощению ресурсов. Нам следует учесть
упомянутый эффект «лыжни», использование в СССР принципов
организации производства, технических направлений, уже опробованных в США
(достаточно вспомнить проблему топливного баланса, методы
организации массового поточного производства, антибиотики, ядерную
энергетику, конверторное производство стали, гибридную кукурузу, самоходные
комбайны, добычу угля открытым способом, роторными экскаваторами,
полупроводники в электронике, переход от паровозов к тепловозам и
многое другое).
По-видимому, единственно обоснованной будет следующая
осторожная формулировка:
1) Доказана жизнеспособность социалистического пути, который
принес народу огромные материальные, культурные и социальные
достижения, как никакой другой строй возвеличил нравственное значение
труда,
2) Нет оснований утверждать (как это часто делают по
догматической традиции), что капиталистический способ производства приводит
в тупик производительные силы, является несомненно худшим с точки
зрения производительности общественного труда, чем социалистический
способ производства, и тем более нельзя утверждать, что капитализм
всегда приводит к абсолютному обнищанию рабочего класса.
Продолжающееся при капиталистическом строе развитие
производительных сил является для всякого недогматического марксиста фактом
первостепенного теоретического, принципиального значения, именно
этот факт является теореаической основой мирного сосуществования,
19
дает принципиальную возможность того, что заведенный в
экономический тупик капитализм не будет обязательно вынужден броситься в
отчаянную военную авантюру. И капиталистический, и социалистический
строй имеют возможности длительно развиваться, черпая друг у друга
положительные черты (и фактически сближаясь в существенных
отношениях) .
Я мысленно слышу тут вопли о ревизионизме и притуплении
классового подхода, усмешки по поводу политической наивности, незрелости,
но факты говорят о реальном развитии производительных сил в США и
других капиталистических странах, о реальном использовании
социальных принципов социализма, о реальных улучшениях в положении
трудящихся. А самое главное, факты говорят, что на любом другом пути,
кроме все углубляющегося сосуществования и сотрудничества двух
систем и двух сфер, со сглаживанием противоречий и взаимной помощью,—
что на любом другом пути человечество ожидает гибель. Выбора нет.
Б. Сравним распределение личного дохода и потребления по
отдельным группам граждан в СССР и США. Обычно в наших
пропагандистских материалах пишут, что в США имеется вопиющее неравенство,
а у нас —нечто весьма справедливое, нечто весьма в интересах
трудящихся. На самом деле в обоих этих утверждениях содержится
полуправда с изрядной долей лицемерного умалчивания.
Я не собираюсь преуменьшать трагизм нищеты, бесправия и
унижения 22 миллионов американских негров. Но надо ясно понимать, что
эта проблема в первую очередь не классовая, а связанная с расизмом,
в том числе и с расизмом и эгоизмом белых рабочих, и что правящая
группировка США заинтересована в решении этой проблемы (хотя пока
еще не проявляет должной активности, будучи связанной рядом опасений
избирательного характера, а также опасений расшатать неустойчивое
равновесие в стране и оживить деятельность крайне левых и особенно
крайне правых партий; я думаю, что мы, социалистический лагерь,
заинтересованы в том, чтобы правящая группировка в США смогла
решить негритянскую проблему без обострения положения в стране).
С другой стороны, наличие в США миллионеров не является
слишком серьезным экономическим бременем в силу их малочисленности.
Суммарное потребление «богачей» меньше 20%, т. е. меньше, чем
суммарный прирост народного потребления за 5 лет. С этой точки зрения,
революция, которая приостанавливает экономическое развитие более
чем на 5 лет, не может считаться экономически выгодным для
трудящихся делом. Я не говорю при этом о плате народной кровью, которая
неизбежна при революции. Я не говорю тут и об опасности проявления
той иронии истории, о которой так выразительно писал Энгельс в своем
знаменитом письме В. Засулич, об «иронии», которая обернулась в
нашей стране сталинизмом.
Конечно, существует ситуация, когда революция является
единственным выходом из тупика. Особенно часто это относится к
национальному восстанию.
Но в США и в ряде других развитых капиталистических стран дело
обстоит не так (это отражено и в программах коммунистических партий
этих стран). Что касается нашей страны, то тут тоже не следует
предполагать идиллии.
Имеет место очень большое имущественное неравенство между
городом и деревней, особенно плохо положение в районах, не имеющих
транспортного выхода на частный рынок и не производящих особенно
выгодных в частной торговле продуктов. Очень велико различие между
городами с развитой промышленностью привилегированных отраслей и
старыми, «доживающими свой век» городами. В результате около 40%
населения нашей страны оказываются в очень трудном экономическом
положении (в США грань бедности-это примерно 25% населения).
С другой стороны, около 5% населения, принадлежащих к
«начальству», являются в той же мере привилегированными, как аналогичная
группировка в США.
Развитие современного общества идет в СССР и США по одному и
тому же закону усложнения структуры и усложнения задач кооперации
в управлении, что приводит к выделению очень сходной по своей
природе «управляющей» группировки.
Таким образом, мы должны признать, что не имеется качественной
разницы в структуре общества по признаку распределения потребления.
К сожалению, эффективность «управляющей» группировки в нашей
стране (как, впрочем, и в США, но в меньшей мере) оценивается не
только чисто экономической или производственной результативностью (ведь
кто сейчас будет говорить о большой экономической роли
социалистического соревнования?): имеется скрытая охраняющая функция, и ей
соответствуют в сфере потребления скрытые тайные привилегии
управляющей группировки. Очень мало кто знает о практиковавшейся в годы
Сталина системе «зарплаты в конвертах», о непрерывно возникающей
то в одной, то в другой форме системе закрытого распределения
дефицитных продуктов и товаров и разных услуг, о привилегиях в
курортном обслуживании и т. п. Хочу подчеркнуть, что я не против
социалистического принципа оплаты по количеству и качеству труда, ведь
относительно высокая зарплата лучшим административным работникам,
высококвалифицированным рабочим, педагогам и медикам, работникам
опасных и вредных профессий, научным работникам и деятелям
культуры и искусства (составляющая малый процент в общем фонде
зарплаты), не сопровождающаяся тайными преимуществами, не угрожает
обществу и, более того, полезна обществу, если она выплачивается по
заслугам. Ведь каждая неправильно использованная минута крупного
администратора означает крупные материальные потери, каждая
потерянная минута деятеля искусства означает потери в эмоциональном, фи-
лософско-художественном богатстве общества. Но когда что-то делается
втайне, невольно возникает подозрение, что дело нечисто, что тут имеет
место подкуп верных слуг существующей системы. Я думаю, что
разумным методом решения этой «деликатной» проблемы являлся бы не
партмаксимум или что-нибудь подобное, а запрещение всех привилегий и
установление системы зарплаты с учетом общественной ценности труда
и экономически-рыночного подхода к проблеме зарплаты.
Я считаю, что в ходе углубления экономической реформы усиление
роли экономических рыночных факторов, при соблюдении необходимого
условия усиления народного контроля над управляющей группировкой
(это существенно и в капиталистических странах), все шероховатости
нашего распределения будут благополучно и безболезненно
ликвидированы. Еще больше и принципиально важна роль углубления
экономической реформы для регулирования и стимулирования общественного
производства методом правильного (рыночного) ценообразования,
целесообразного направления и быстрого эффективного использования
капиталовложений, правильного использования природных и людских
ресурсов на основе соответствующей ренты в интересах нашего общества.
В настоящее время в ряде социалистических стран, в том числе и
в СССР, Югославии, Чехословакии, проводится широкое
экспериментирование в основных экономических проблемах соотношения роли плана
и рынка, государственной и кооперативной собственности и т. п.
Значение этих поисков и экспериментов очень велико.
Суммируя содержание первых разделов, мы приходим к нашему
основному выводу о нравственном, морально-этическом характере
преимущества социалистического пути развития человеческого общества.
С нашей точки зрения, это ни в какой мере не умаление значения
социализма. Ведь без социализма буржуазный практицизм и эгоисттнте-
ский принцип частной собственности рождал «людей бездны»,
описанных в известных очерках Д. Лондона, а ранее — Энгельсом. Только
конкуренция с социализмом, давление рабочего класса сделало возможным
социальный прогресс 20-го Бека и, тем более, дальнейший, теперь уже
неизбежный, процесс сближения двух систем. Только социализм поднял
значение труда до вершин нравственного подвига. Без социализма
национальный эгоизм рождал колониальное угнетение, национализм и
расизм. Но теперь уже видно, что победа—за общечеловеческим,
интернациональным подходом.
Капиталистический мир не мог не породить социалистического, но
социалистический мир не должен разрушать методом вооруженного
насилия породившую его почву —это было бы самоубийством
человечества, в сложившихся конкретных условиях. Социализм должен
облагородить эту почву своим примером и другими косвенными формами
давления и слиться с ней. Сближение с капиталистическим миром не
должно быть беспринципным, антинародным «заговором правящих
группировок» (что это в принципе возможно, видно на «крайнем» примере
событий 39-40 гг.), и оно должно происходить не только на
социалистической, но и общенародной демократической основе, под контролем
общественного мнения через все демократические институты гласности,
выборов и т. д.
Такое слияние подразумевает не только широкие социальные
реформы в капиталистических странах, но и существенное изменение
структуры собственности с усилением государственной и кооперативной
собственности и одновременно сохранение основных черт структуры
собственности на орудия и средства производства в социалистических
странах. На этом пути нашими союзниками являются не только рабочий
класс и прогрессивная интеллигенция, заинтересованные в мирном
сосуществовании и социальном прогрессе, в демократическом, мирном
врастании в социализм (как это и отражено в программах
коммунистических партий разных стран), но и реформистская часть* буржуазии,
практически силою вещей примыкающая к этой программе
«конвергенции» (мы употребляем термин, принятый в западной литературе,
однако —как видно из вышенаписанного—придавая этому термину
социалистический и демократический смысл).
На съезде сторонников мира Б. Рассел говорит: «Мир будет спасен
от термоядерной гибели, если руководители каждой из систем
предпочтут полную победу другой системы термоядерной войне» (цитирую по
памяти). Я думаю, что для большинства человечества в любой стране,
как капиталистической, так и социалистической, такое решение
является приемлемым. Я думаю, что постепенно руководители
капиталистической и социалистической систем силою вещей будут вынуждены принять
точку зрения большинства человечества. Интеллектуальная свобода
общества облегчит и сделает эволюционной эту трансформацию к
терпимости, гибкости и безопасности от догматизма, страха и авантюризма.
Все человечество, в том числе самые организованные, активные его
* Типичными представителями этих реформистских кругов являются С. Итон,
президенты Ф. Рузвельт и особенно Д. Кеннеди. Не желая бросать камень в адрес
товарища Н. С. Хрущева (наша высокая оценка его заслуг дана выше), я все же
ке могу не вспомнить об одном его высказывании, которое, может быть, более ти-
г'ичео для всей окружавшей его среды, чем для него лично. 10 июля 1961 года,
рассказывая на приеме специалистов о своей встрече с Кеннеди, тов. Хрущев упо-
м.чнул о просьбе Кеннеди — при проведении политики и выдвижении требований
учитывать реальные возможности и трудности «новой администрации Кеннеди» и не
требовать от нее больше, чем можно сделать без опасения сорваться и быть
сваленными правыми силами. Тогда Хрущев отнесся к беспрецедентной просьбе Кен-
веди без должного внимания, мягко говоря (попросту говоря, начал ругаться).
А сейчас, после выстрела в Далласе, никто не может сказать, какие благоприятные
возможности в развитии мировой истории если не исчезли, то, во всяком случае,
значительно отодвинулись из-за отсутствия такого понимания.
22
силы —рабочий класс и интеллигенция, заинтересовано в свободе и
безопасности.
Рассмотрев в первой части этой работы развитие человечества по
«худшему» варианту, который приводит его к гибели, мы должны
попытаться, хотя бы схематически, представить себе альтернативный,
«лучший» вариант *.
1-й этап. В социалистических странах нарастающая идейная борьба
между сталинистскими и маоистскими силами, с одной стороны, и
реалистическими силами левых коммунистов-ленинцев и «левых
западников», с другой стороны, приводит к глубокому идейному размежеванию
в международном национальном и внутрипартийном масштабе.
В СССР и других социалистических странах зтот процесс приводит
сначала к многопартийной системе кое-где ** и острой идеологической
борьбе, к дискуссиям, а затем к идейной победе реалистов, к
утверждению курса на углубление мирного сосуществования, укрепление
демократии и расширение экономической реформы (1968—1980 годы). Даты
относятся к самому оптимистическому варианту событий.
2-й этап. В США и других капиталистических странах
настоятельные жизненные требования социального прогресса, мирного
сосуществования, давление примера стран социализма и внутренних
прогрессивных сил (рабочего класса и интеллигенции) приводит к победе левого,
реформистского крыла буржуазии, которое в своей деятельности
усваивает программу сближения («конвергенции») с социализмом, т. е.
социальных реформ, мирного сосуществования и сотрудничества с
социализмом в мировом масштабе, изменение структуры собственности. Эта
программа включает сильное увеличение роли интеллигенции и атаку
на силы расизма и милитаризма (1972—1985 гг.). (Сроки этапов
перекрываются.)
3-й этап. СССР и США, преодолев разобщенность, решают проблему
спасения более «бедной» половины земного шара. Осуществляется
упомянутый выше 20%-ный налог на национальный доход развитых стран.
Строятся гигантские фабрики минеральных удобрений и системы
орошения, работающие на атомной энергии, колоссально возрастает
использование моря, обучаются национальные кадры, проводится
индустриализация. Строятся гигантские предприятия по производству синтетических
аминокислот и микробиологическому синтезу белков, жиров и
углеводов. Одновременно происходит разоружение (1972—1990 годы).
4-й этап. Социалистическая конвергенция приводит к сглаживанию
различий социальных структур, к развитию интеллектуальной свободы,
науки и производительных сил, к созданию мирового правительства и
сглаживанию национальных противоречий (1968—2000 гг.). В этот
период можно предположить решающие успехи в развитии ядерной
энергетики, как на базе урана и тория, так и, вероятно, на базе дейтерия
и лития.
В частности, ряду авторов кажется правдоподобным использование
взрывного бридинга (размножение активных веществ плутония, урана-
233 и трития при подземных или камерных взрывах).
В этот же период развитие космических полетов приведет к
необходимости многим тысячам людей непрерывно работать и жить на других
* Сознавая примитивность своей попытки в области «футурологии», требующей
усилий очень многих специалистов, автор здесь более, чем в других местах статьи,
надеется на позитивную критику.
** Автор не принадлежит к тем, кто считает многопартийную систему
несомненно необходимым этапом развития социалистического строя или, тем более, панацеей
от всех бед; но он предполагает, что в некоторых случаях возникновение
многопартийной системы является неизбежным следствием хода событий, если правящая
коммунистическая партия по тем или иным причинам отказывается осуществить
руководство научно-демократическим методом, который является исторически
необходимым.
23
планетах и на Луне, на искусственных спутниках и повернутых при
помощи ядерных взрывов на новые орбиты астероидах. Можно
предположить, что синтез веществ, сверхпроводящих при комнатной
температуре, совершенно изменит технический облик всей электротехники,
кибернетической техники, транспорта и связи. Успехи в биологических
науках (в этот и последующие периоды) дадут возможность эффективно
контролировать и направлять все жизненные процессы на
биохимическом, клеточном, организменном, экологическом и социальных уровнях,
от рождаемости и старения до психических процессов и
наследственности включительно. Конечно, такая всепроникающая, сулящая
неисчислимые блага научно-техническая революция возможна и безопасна лишь
при величайшей научной предусмотрительности и осторожности, при
величайшем внимании к общечеловеческим ценностям
морально-этического и личного плана. Об опасностях бездумно-бюрократического
использования научно-технической революции в разобщенном мире я кратко
писал в разделе «Опасности», но можно еще многое добавить. (Такая
революция возможна и безопасна лишь при очень «интеллигентном», в
широком смысле, общемировом руководстве.)
Итак, наши надежды основываются:
а) на наличии общемировой заинтересованности в преодолении
разобщенности;
б) на наличии разнообразных явлений и поисков и модификаций в
советских и капиталистических странах, которые в ряде случаев носят
характер уменьшения противоречий и различий;
в) на общемировой заинтересованности интеллигенции, рабочего
класса и других прогрессивных сил в научно-демократическом подходе к
политике, экономике и культуре:
г) на отсутствии непреодолимых препятствий в развитии
производительных сил в обеих мировых экономических системах, которые могли
бы в противном случае привести с неизбежностью к обстановке тупика,
отчаяния и авантюризма.
Каждый честный и думающий человек, не отравленный ядом
мещанского равнодушия, стремится к тому, чтобы развитие шло по «лучшему»
варианту. Однако лишь широкое обсуждение, без давления страха и
предрассудков, поможет большинству найти правильный и лучший
метод действий.
В заключение я суммирую некоторые конкретные предложения
разной степени важности, которые обсуждались в тексте. Эти предложения,
обращенные к руководству нашей страны, не исчерпывают содержания
статьи.
1. Необходимо всемерно углублять стратегию мирного
сосуществования и сотрудничества. Разработать научные методы и принципы
международной политики, основанные на научном предвидении отдаленных и
ближайших последствий.
2. Проявить инициативу в разработке широкой программы борьбы
с голодом.
3. Необходимо разработать, широко обсудить и принять «Закон о
печати и информации», преследующий цели не только ликвидировать
безответственную идеологическую цензуру, но и всемерно поощрять
самоизучение в нашем обществе, поощрять дух бесстрашного обсуждения и
поисков истины. Закон должен предусмотреть материальные ресурсы
свободы мысли.
4. Необходимо отменить все антиконституционные законы и
указания, нарушающие «права человека».
5. Необходимо амнистировать политических заключенных, а также
пересмотреть ряд имевших в последпее время место политических
процессов (например, Даниэля и Синявского, Галанскова — Гинзбурга).
Немедленно облегчить лагерный режим для политических заключенных.
24 ^
6. Необходимо довести до конца —до полной правды, а не до
взвешенной на весах кастовой целесообразности полуправды —разоблачение
сталинизма. Необходимо всемерно ограничить влияние неосталинистов
на нашу политическую жизнь (в тексте упоминался, в качестве
примера, пользующийся излишним влиянием С. П. Трапезников).
7. Необходимо всемерно углублять экономическую реформу,
расширять сферу эксперимента и делать все выводы из его результатов.
8. Необходимо принять после широкого научного обсуждения «Закон
о геогигиене», который впоследствии должен слиться с мировыми
усилиями в этой области.
Заключение
С этой статьей автор обращается к руководству нашей страны, ко
всем гражданам, ко всем людям доброй воли во всем мире. Автор
понимает спорность многих положений статьи, его цель — открытое,
откровенное обсуждение в условиях гласности.
В заключение — одно «текстологическое» замечание. В процессе
обсуждения предварительных вариантов этой статьи известное
распространение получили неполные и поэтому односторонние в том или ином
отношении тексты; кроме того, в них содержался ряд неудачных, с точки
зрения формы и такта, мест, которые автор включил по недосмотру.
Автор просит читателей учесть это. Автор глубоко благодарит тех
читателей предварительных вариантов, которые сообщили ему свои
дружественные замечания и тем способствовали улучшению статьи и уточнению
ряда принципиальных положений.
1968 год, июнь
25
ФИЛОСОФСКИЕ ПРОБЛЕМЫ КУЛЬТУРЫ
Знаки покинутого детства
(«постоянное» у А. Платонова)
Л. В. КАРАСЕВ
Тот, кто видел свой город перевернутым,
видел его правильно.
Г. К. Честертон. «Франциск
Ассизский».
Платонов — на редкость однообразный писатель. «Однообразный»
в прямом смысле слова: он настойчиво воспроизводит один и тот же
набор исходных образов-мотивов, которые то просматриваются вполне
отчетливо, то прячутся и требуют специальной расшифровки. Эти
смыслы — и есть «постоянное» у Платонова. Они позволяют взглянуть на все
его тексты как на некий единый огромный текст, под «поверхностью»
которого — «голубая глубина» целокупного мирочувствия и столь же
целостного художественного видения.
Платоновское «постоянное» — это одновременно и его «потайное».
Почти каждый мотив у Платонова двойствен, имеет свой «секрет», хотя
сам Платонов ничего в нем специально не зашифровывал. Все получалось
как бы «само собой», своим установленным порядком. Платонов просто
напишет, что в двановском сне дождь пахнет потом, что Чепурный любит
воду и плавает лучше, чем Копенкин, или что девочку Улю нашли «под
сосною у дорожного колодца» («Уля»). Однако все это просто лишь на
первый взгляд. Потайные смыслы, содержащиеся в таких описаниях,
в символических тенях, отбрасываемых людьми, животными и
предметами,— и есть особые платоновские знаки: постоянные, универсальные и
связанные между собой незримыми, но прочными нитями.
«Однообразие» платоновского миропонимания сказывается и в самих
конструкциях его текстов. Для Платонова в известной мере вообще не
столь уж значим сюжетный принцип. Он мыслит иначе и все самое
важное проговаривает уже на уровне слова— детали, реплики или
короткого описания. Отсюда — изобилие сходных мотивов и лиц в его рассказах,
разнесенных десятилетиями; отсюда непредсказуемость или, напротив,
трафаретность сюжетов, возможность помыслить альтернативные
варианты концовок; отсюда, наконец, очевидность швов, соединяющих блоки
«Чевенгура», и, наоборот, способность многих платоновских рассказов
выступать как целое, их взаимодополнительность, напоминающая отноше-
26
ния между различными образцами одного и того же мифа или «жития».
Спрямляя мысль, для того чтобы вернее донести ее энергию, можно
сказать: за платоновским «однообразием» действительно стоит один и тот
же образ-смысл и один и тот же герой, получивший сотню различных
жизней, но не сделавшийся от этого сотней разных героев. Сопоставлять его с
Платоновым напрямую — нельзя, о чем предупреждал и сам писатель, но
нельзя и не сопоставлять: общий набор глубинных душевных движений
делает платоновских персонажей братьями по чувству, которым с ними
поделился их создатель. В этом смысле, сближаясь в этическом исходе с
чутко прочитанным им Достоевским, Платонов противостоит ему в способе
мировидения, в самой отправной точке движения. Персонажам —
носителям многих равноправных идей (М. Бахтин) Платонов противопоставляет
одну идею, но рассаженную по головам многих персонажей. В ней
сказывается и судьба Платонова, и его философский и эстетический выбор,
и дыхание «стальной» эпохи. И еще, за всем этим, в тени событий
угадываются исходные универсальные знаки, Платоновым преднайденные
заново, проявившиеся по-особому. Без них понимание его мирочувствия и
его поэтики было бы не только неполным, но и превратным.
...В мире Платонова удивляет отсутствие смеха, в «Чевенгуре» и
«Котловане» почти тотальное. Очевидно, как непомерно, неоправданно много
«самодельные» платоновские люди плачут, стыдятся, спят, как трудно,
неумело они мыслят и говорят. К этим мотивам легко прибавить и
другие, столь же очевидные, вроде «бесполого» отношения к женщине,
однако такой тематический список мало что даст. Беспорядочные, друг с
другом не связанные находки малополезны для «архетипологии»
платоновского культурного слоя. Выйдет, как у Чепурного в голове, где, будто
«в тихом озере, плавали обломки когда-то виденного мира и встреченных
событий, но никогда в одно целое эти обломки не слеплялись, не имея
для Чепурного ни связи, ни живого смысла». Иначе говоря, важно не
столько зафиксировать пресловутые «странности» в поведении
платоновских «терпеливых» людей, сколько увидеть их в сцеплении друг с
другом, как нечто целое и между собой связанное.
Это «целое» есть детское в мире Платонова. Принцип особого,
изначального взгляда был утвержден Платоновым настойчиво и
повсеместно: к нему — без каких-либо особых усилий — может быть сведен любой
из называвшихся постоянных мотивов. Сам же он несводим ни к
одному из них, главенствует над всем и составляет тот дух, которым живут
платоновские герои. Они грезят о приближающемся царстве сознания и
труда, их лица с полузакрытыми глазами повернуты «заре навстречу»,
к тем пустым пространствам, где они ожидают узреть «новое небо»
и «новую землю».
«...И сказал: истинно говорю вам, если не обратитесь и не будете как
дети, не войдете в Царство Небесное» (Мф. 18, 3). В сказанном
Христом— ключ к пониманию платоновского мира, в котором этим словам
не суждено было сбыться. Детское, пронизавшее собой взрослое, сделало
его другим, инаковым взрослым. Этот выбор оказался способным
охватить собою все, переиначив привычные образы и их взаимоотношения,
логику событий и логику символов. Платоновские мечты и теоретические
проекты, его заветная философия и безотчетная религиозность
соединились в уникальном художественном репротипе, давшем причудливую
графику «Чевенгура» и «Котлована», «Мусорного ветра» и «Железной
старухи».
«Постоянное» у Платонова живет в его собственной, персональной
мифологии. Она возникает сама собой, исходит изнутри человеческого су-
27
щества, отчеканивается в раннем детстве, неизбежно повторяя
универсальный символический набор: детский и архаический типы смыслообра-
уования идут от одного корня.
Платонов сохранил свое изначальное видение почти без потерь,
подобно А. Белому, сохранил для того, чтобы соединить это видение,
причем подчас незаметно для себя самого, с «обломками» «когда-то
виденного мира и встреченных событий», связать их между собой звеньями
ассоциаций. Поэтому созданный им мир сделался необычным — почти
что одним сплошным отклонением, хотя в его основании и царит
прозрачная логика детского мироощущения.
Бессознательное начало, укорененное в раннем опыте Платонова
и, глубже, в его естестве, и дало этот феноменальный взгляд,
отозвавшийся в каждой его строчке. Это то самое «драгоценное свойство», которое
Платонов назвал «выбором глаз» для наблюдения: подобно герою
хроники «Впрок», он «способен был ошибиться, но не солгать». Смысл такого
ирреально-честного видения, столь напоминающего взгляд ребенка, или
верующего отчасти осознавался и самим Платоновым; в иных терминах,
но с сохранением сути, которую, кстати, удачно выразил Дванов, сказав
анархисту Мрачинскому по поводу его книги: «Вы там глядели на
человека, как обезьяна на Робинзона: понимали все наоборот *, и вышло для
чтения хорошо». Не таков ли и сам платоновский взгляд,
переворачивающий, иногда и в прямом смысле, весь мир?
«...Дванову стало тягостно, и он заплакал во сне ... Отец и сам
заплакал от расставания, а потом так сжал сына в своем горе, что мальчик
зарыдал, чувствуя себя одиноким навеки». В «Чевенгуре», помимо
многократно плачущего Дванова, вообще преизбыток плача, явно выводящий
его за границы «нормы»: плачет Копенкин, думая о возлюбленной своей
Розе, о Дванове, слушая музыку («ребята, бывало, заиграют на
гармони, а я сижу и тоскую в слезах»); плачет Симон Сербинов, рыдает
комсомолец-истопник, плачет неизвестно от чего «ненужный человек» в
степи и многие другие «нужные» и «ненужные» чевенгурские люди.
А в «Котловане», подобно людям, плачет медведь-молотобоец.
Прояснить эти случаи можно, вспомнив об одном из скрытых
платоновских ориентиров — христианстве, в иерархии душевных движений
которого слезы, всеохватная «слезная жалость» (С. Аверинцев) стоят на
одном из первых мест. Если «не будете как дети» — логика идей
оказывается связанной с логикой чувств. Достаточно взглянуть на плач
другими глазами — детскими — и он станет понятен. Плач — естественный и
обычный для ребенка — передается Платоновым взрослому, и его
поведение сразу же становится странным и необъяснимым.
Но в том-то и дело, что плачущий взрослый — это уже почти
ребенок; этим он и дорог Платонову, не упускающему любой возможности
проявить во взрослом детское. Оттого Копенкин — «круглая пожилая
сирота», да и вообще все взрослые люди — «сироты». Чевенгурские
«прочие» — это не только исстрадавшийся пролетариат, но прежде всего
люди, давным-давно лишившиеся своих родителей. Все они, вроде Па-
шинцева,— «сироты земного шара», поневоле «покинувшие» детство и не
могущие оторваться от него полностью (см. выбор «матерей» в
Чевенгуре). Это люди, каждого из которых, подобно самому Платонову, жизнь
превращала «из ребенка во взрослого человека, лишая юности». Поэтому
так «томятся» они в жизни, доплакивая то, чего недоплакали в своем
«покинутом детстве». Люди-сироты и плачут-то в основном по ночам, как
и положено малым детям, боящимся темноты.
Этот мотив — детского ночного ужаса — также очень устойчив у
Платонова: Никита боялся, «как в детстве, приближающейся ночи» («Река
Потудань»); Ольгу окружает «страшная тихая ночь детства, населенная
1 Здесь и далее в цитатах курсив мой.
28
невидимыми существами» («На заре туманной юности»); из-за реки
«шла страшная, долгая ночь; в ней можно умереть, не увидев более отца
с матерью» («Июльская гроза»); «на дворе стояла ночь — только
начавшаяся, долгая, всю ее не проспишь; и если заснешь, все равно
проснешься до рассвета, в то страшное время, когда все спят,— и люди и травы,
а проснувшийся человек бывает один на свете» («Железная старуха»).
А до своего пробуждения платоновские люди видят сны, которые
возвращают их, подобно плачу, в детское время жизни. Часто сон и плач
идут в паре: одно вызывает другое или составляет единое целое.
«Никита... умолк и поздно ночью заплакал во сне. Но Люба не спала, она
услышала его слезы и осторожно вытерла спящее лицо Никиты» («Река По-
тудань»). Альберт «сморщился и заплакал, как в детском ужасающем
сновидении» («Мусорный ветер»). Сон и плач, идущие в паре,
становятся у Платонова универсальным мотивом, «омывающим» важнейшие
впечатления-воспоминания детства: «Дванов сжался до полного ощущения
своего тела — и затих. И постепенно, как рассеивающее утомление,
вставал перед Двановым его детский день — не в глубине заросших лет,
а в глубине притихшего, трудного себя самого мучающего тела ... Двано-
ву стало тягостно, и он заплакал во сне».
Жизнь переполнена снами, они возвращают спящих к их умершим
родителям, к «родине жизни». Таких примеров у Платонова десятки.
Умершие родители снятся даже Копенкину, которому «ничего не снилось,
потому что у него все сбывалось наяву». Сну подвластны все. И как бы
сюжетно не мотивировал различные случаи этой сонной болезни сам
Платонов, внутренний ее смысл остается одним и тем же: засыпая,
платоновские люди-сироты начинают жить «назад», тянутся к своей
«материнской родине», потому что здешняя взрослая жизнь принимает их, как
мачеха. Отсюда все эти постоянные возвраты в прошлое,
неослабевающее желание сбежать через «заднюю дверь воспоминаний», чтобы
пожить по-настоящему: ведь жизнь во сне — это та же самая жизнь, но
только «в обнаженном смысле».
Однако сон, как и все у Платонова, двойствен, антитетичен. Он не
только спасает, но и угрожает. Он и вправду способен рождать чудовищ,
готовя беззащитному человеку встречу с детским ужасом долгой и
страшной ночи. В «Эфирном тракте» Мария Александровна боится, что
«отдыхающий беззащитный мозг могут растерзать дикие образы ее
неутомимого несчастья. Она знала, что в спящем человеке разводятся страшные
образы, как сорняки в некультурных заброшенных полях». Такие образы
и в самом деле непобедимы, они, как «мутные предметы, враждебно
двигаются на маленького зажмурившегося человека» («Мусорный
ветер»), вызывая в нем то, что можно было бы назвать ужасом тихой
ночи —«тихим ужасом»...
Поэтому сон не только желанен, но и тягостен. Даже лишенный
кошмаров, пустой, бесцветный, он нередко воспринимается как остановка в
движении, временная смерть, или как перегон, который нужно поскорее
проскочить и добраться до станции, где кончается темная теснота
забытья и можно, наконец-то, «жить снаружи». Желая поскорее пережить
ночь — время ужаса и бездействия,— человек садится в поезд сна и
«проезжает» это время, как Дванов, уснувший в настоящем поезде:
«Дванов закрыл глаза, чтобы отмежеваться от всякого зрелища и
бессмысленно пережить дорогу». Это походит на случай, когда, стремясь
поскорее увидеть Соню, Дванов «сразу лег спать до утра, чтобы увидеть
новый день и не запомнить ночи».
Преизобилие сна, сонная болезнь во всех ее видах, которой
подвержены платоновские люди, могут быть прочитаны, помимо всего прочего,
и как намек на избыток сна у ребенка, и как отпечаток детского
представления о связи между сном и ростом тела (Дванов проснулся «в
тишине долгой устоявшейся ночи, когда, по легенде, растут дети»; герой
29
«Потомков Солнца» тоже рос по ночам: «В нем цвела дута, как во
всяком ребенке, в него входили темные, неудержимые, страстные силы
мира и превращались в человека» )•
В этом мотиве, может быть, и спрятана одна из самых неприметных,
но важных причин существования платоновского «царства сна», в
котором проходит жизнь покинувших детство людей. Они и в самом деле
«сироты», растущие при социализме, как дети при питающей их матери.
Поэтому, когда в «Ювенильном море» Босталоеза, глядя на старика
Кемаля, спрашивает: «Отчего у нас люди так быстро развиваются?»,
в ее вопросе слышится и какой-то телесный смысл, хотя речь идет о
«росте» сознательности одной из многочисленных «пожилых сирот».
Сон— временная смерть. Это «время и место» встречи с умершими.
Потому так настойчив Платонов, создавая пары, где сои, смерть, детское
и материнское мыслятся вкупе, как нерасторжимое целое. «Кривая
смысла», если взять термин Я. Голосовкера2, как бы стремится
замкнуться в семантический круг, перебрав на своем пути все основные
варианты возможного соотношения мотивов (ср. с более детально
разработанной методикой К. Леви-Строса 3). В «Мусорном ветре» Альберт
находит безумную мать, качающую в люльке своих давно умерших детей.
В «Чевенгуре» мать укладывает в постель, будто для сна, мертвого
ребенка и засыпает вместе с ним. В «Котловане»— обратная ситуация,
но с сохранением исходного «парного» смысла: дремлющий ребенок не
дает заснуть (умереть) матери: «Около лампы лежала женщина на
земле ... глаза ее глубоко смежились, точно она томилась или спала, и
девочка, которая сидела у ее головы, тоже дремала, но все время водила
по губам матери коркой лимона, не забывая об этом».
Заснуть — значит «умереть», а умереть — значит «заснуть». В
«Чевенгуре» попавший в аварию Дванов исчезает из жизни — будто
засыпает: его зрение заслоняет теплая «тишина тьмы», а за мгновение до этого
он вспоминает свое «детское видение и детское чувство»; «закрыть зро-
ние» просит Дванова умирающий красиоармеец. Для того, чтобы
поскорее умереть, ложатся спать женщины из «Такыра»: «Так мы скорей
умрем. Чего зря глядеть. Ведь нечего, мы все уж видели»...
Сон, умирание, темнота, ночь — у всех этих мотивов есть одна общая
черта: затрудненность видения мира. Или слепота, или неполное
видение — «дремлющее зрение». Оказывается, платоновские персонажи
страдают не только болезнью сна или плача, но и зрительной
недостаточностью. Умирание и засыпание — суть синонимы. Зрение соотносится с
жизнью, слепота («закрытое зрение») — со смертью, и эта аналогия
реализуется уже как бы помимо сознательной работы самого Платонова:
задав вполне продуманно «детские» мотивы страха темноты,
сна-смерти, плача, он естественным образом перешел к их трансформациям и
более общим смыслам: так и явилась линия неполного или «закрытого»
видения, суммирующая по одному-единствешюму основанию целый набор
различных, но связанных между собой мотивов.
Зрение посреди темноты — вариант все той же слепоты. Оно
бесполезно, недействительно. Поэтому многие люди у Платонова, даже будучи
зрячими, живут, как слепые, подобно пастухам из «Ювенильного моря»,
которые «старались спать днем, и то посменно, а ночью они ходили во
тьме с открытыми глазами». «Усиленный» вариант слепоты — у
провидицы Ули, которая, «набрав в подол черного сору с земли, уходила в
темное место и там играла одна, перебирая сор руками и закрыв
глаза». Апофеоз слепоты в «Маркуне»: яркая красная игрушка, купленная
для ребенка-слепца...
2 См.: Голосовкер Я. Э. Логика мифа. М.„ 1987. "ч
3 См.: Лев и-С трос К. Структурная антропология. М., 1985.
30
«Дремлющее зрение» не дает людям возможности узнать друг друга.
Они видят, но не доверяют своим глазам. Смотрит и не узнает своей
возлюбленной инженер Прушевский, а Чиклин* не надеясь на зрение,
целует женщину в мертвые губы («Котлован»). Впервые «узнает» Айну
Николай Вермо: он тоже целует ее, уже мертвую, и думает о том, что «если б
она осталась жива, он мог бы жениться на ней» («Ювепильное море»).
Сходная ситуация в «Реке Потудани», где Никита вспоминает об
умирающей Жене: «Она тоже, кажется, прекрасная: зря он ее не разглядел
тогда ео тьме и плохо запомнил».
Везде у Платонова мотив слепоты, «дремлющего» или «закрытого»
зрения образует глубинный подсмысл мотивов сна, ночи, слез, смерти,
рождения, образуя замкнутый цикл, в котором одни элементы, как ~
мифе, легко встают на место других, пли же сцепляются звеньями лог: -
ки ассоциаций.
Помимо «бытовых» вариантов слепоты или неполного зрения Плато
нов дает случаи и слепоты «зрячей» — внутреннего видения, выдающего
себя за внешнее. Такой взгляд был у Ули, которая видела вокруг себл
одну только ложь. Такой взгляд был и у машиниста Мальцева, не заме
тившего своей неожиданной слепоты: ему казалось, что он, как обычно
«видит линию, сигналы, пшеницу в степи, работу правой машины»,
а в действительности он видел все это «только в своем уме, в
воображении».
Тотальная слепота, дефицит видения и света неожиданно объясняют
особую роль запахов, причем одних и тех же, постоянно встречающихся
в платоновских описаниях. Подобно тому, как это было в случае с
«дремлющим зрением», Платонов интуитивно выстраивает очередную
систему, и сам возмещает преизбытком одних чувств нехватку других, им
же и созданную. Так появляется цикл запахов, описывающих жизнь в
ее высших точках, от зачатия и рождения до смерти. Запахи
«материнского подола» и «увядшей травы» оказываются в этом круге
устойчивыми знаками женщины, какой ее воспринимает ребенок и взрослый.
Смысл запаха «материнского подола» очевиден, а мотив «увядшей» или
«умершей» травы скрывает в себе целый сюжет из крестьянской жизни.
Трава — растущая, живая — отождествляется с женским рождающим на
чалом. Она напоминает женские волосы и передает им свой запах
(дурман сена). Но умирание скошенной травы, так же как и умирание
женщины, условно. Женщина родит тело от тела, а трава станет сначала
кормом коровьего тела, а затем плотью новой жизни (теленок), которая
в свою очередь будет целиком отдана человеку («Корова»). Может быть,
поэтому у кровати рожающей Мавры Фетисовны пахнет «говядиной и
сыром молочным телком» («Чевенгур»). Вся цепочка смыслов здесь как
бы сворачивается, проговаривается Платоновым «про себя», а наружу
выходит лишь последнее звено — запах хлева,— заставляющее, кстати
говоря, вспомнить и о хлеве, в котором был рожден Христос.
Сходным образом, за часто упоминаемым Платоновым запахом пота
также обнаруживается цепь крепко спаянных между собой смыслов,
содержащих ту же внутреннюю антитетику и тот же всеохватный
экзистенциальный интервал. Пот как универсальное вещество, жидкость и
запах жизни становится знаком всех ее проявлений — телесного влечения
и его отрицания (Сербинов и Дванов), физического труда, сна и смерти
(спящие рабочие в «Котловане», раненый Дванов и умирающий ребенок
в «Чевенгуре»). Пахнущий же во сне Дванова потом дождь — не просто
вольное уподобление, а почти реальная «метаморфоза» в том смысле,
в каком вслед за А. Блоком употребил этот термин С. Бочаров4. Одно
4 Бочаров С. Вещество существования (Мир Андрея Платонова).-В кн.:
Бочаров С. О художественных мирах. М., 1985, с. 258, 262.
31
вещество магическим образом становится другим. Пот как слезы тела,
смешивается со слезами неба — дождем, соединяя их между собой. В
общем-то все здесь и в самом деле реально: капли пота так же солоны, как
и слезы, а капли слез не отличить по виду от дождевых...
Внешне не вполне приметный «детский слой» выходит иногда на
поверхность более чем явно. Антитетика платоновского видения все время
стремится привести мир в состояние равновесия, создавая своеобразные
семантические пары по типу «обратного параллелизма».
Тема «взрослые как дети», прописанная Платоновым широко и
многомерно — требовала контроверзы, смыслового противовеса. Это сказалось
в «средневековом» взгляде на детей как на «мелких людей» или
«маленьких взрослых». Таких примеров у Платонова немало. В
«Чевенгуре» это дети Поганкина; они «за годы холода постарели и, как большие,
думали только о добыче хлеба. Две девочки походили уже на баб: они
носили длинные юбки, кофты, имели шпильки в волосах и сплетничали.
Странно было видеть маленьких умных озабоченных женщин,
действующих вполне целесообразно, но еще не имеющих чувства размножения.
Это упущение делало девочек в глазах Дванова какими-то тягостными,
стыдными существами». Таковы же и платоновские мальчики,
соединяющие в себе детские и взрослые черты в близкой пропорции. И в ранних
и в поздних вещах Платонова они — как родные братья: от «Чевенгура»
(слова отца к маленькому Прошке: «Тебе бы вот отцом-то надо быть,
а не мне, мокрый подхлюсток!») до «Возвращения, где явлен
Петрушка — «малорослый и худощавый мальчуган», похожий «на маленького,
небогатого, но исправного мужичка». «—Ты отец, что ль?—спросил
Петрушка, когда Иванов обнял его и поцеловал, приподнявши к себе.—
Знать отец!»
Само собой, за таким взглядом на ребенка стоит драма реальности,
сначала послереволюционной, затем военной и послевоенной, но
явственно проступает здесь и внутренняя исходная потребность в изображении
детей именно такими. Они нужны, чтобы «уравновесить» мир взрослых,
похожих на детей и виноватых в немалой мере в том, что благодаря их
детскости существует мир «мелких людей»— детей, похожих на
взрослых. В этом соединении черт детскости и «маскирующих» эту детскость
«официально» заявленных мотивах поведения персонажей — особость
статуса платоновской реальности. Она многомерна и содержит в себе
возможность разных прочтений, среди которых «детское прочтение»,
поддерживаемое глубинной религиозной символикой, просится в число наиболее
предпочтительных. Может быть, и в самом деле прав был
«невыясненный» Умрищев, доказавший себе, что «вековечные страсти-страдания
происходят оттого, что люди ведут себя малолетним образом и всюду
неустанно суются, нарушая размеры спокойствия»?
Настоящие же «отцы» и «мужички» отданы занятиям, далеким от
взрослых. Многие из них охвачены страстью, которую можно было бы
назвать «синдромом Вощева». Эти собиратели «забвенного дерьма» едины
в своем интересе к «сору мира», хотя их мотивы опять-таки могут не
совпадать. Если Яков Титыч из «Чевенгура» просто «любил поднимать с
дорог и с задних дворов какие-нибудь частички и смотреть на них», то
Вощев специально собирал и хранил все «нищие, отвергнутые предметы»,
«ветхие вещи», необходимые для будущего отмщения. Схож с ними и
старик Юшка: он бродил по земле, «целовал цветы... гладил кору на
деревьях и подымал с тропинки бабочек и жуков, которые пали замертво,
и долго всматривался в их лица, чувствуя себя без них осиротевшим».
При объяснении всего этого темой любви к природе или же федоровской
концепцией «всеобщего воскрешения» не обойтись, как не обойтись Вей-
нингером при объяснении проблемы пола у Платонова. Все подобные
случаи объединяет нечто более важное и заветное, спрятанное за
теоретическими и психологическими прочтениями.
Догадка Умрищева многое открывает и в этой потайной части
платоновского мира. За частичками, цветами, бабочками и жуками стоит
интерес прежде всего детский, малолетний, легко выявляемый, например,
в «Такыре» или «Железной старухе». А в рассказе «Третий сын»
Платонов говорит об этом прямо: «...Горела лампа на подоконнике старого
дома, и она освещала ночь, летающих жуков, синюю траву, рой мошек
в воздухе,—весь детский мир, оставленный теми, кто в нем родился».
Платоновские странные люди сумели вернуться, вопреки логике
жизни, в этот «детский мир», в свое «покинутое детство», где, засмотревшись
на «отвергнутые предметы» и «лица» жуков, они придали им свой
взрослый смысл, но при этом сами перестали быть настоящими взрослыми.
Детское начало, являющееся на глубинном уровне стержневым у
Платонова, проступает в сотнях деталей, эпизодов, оно содержится в них как
подтекст, который при обычном чтении кажется эстетической
странностью, а при чтении аналитическом становится оправданным и
органичным. Это и повторяющееся, по сути своей, детское недомогание Якова Ти-
тыча и Дванова («У Дванова заболел живот, с ним всегда это
повторялось, когда он думал о дальних недостижимых краях»), и сам мотив
края, конца, содержащий в себе типично детский апокалиптический
интерес,—по Вощеву, ребенок «весь мир родился окончить», иначе, довести
свой интерес: «а что дальше?» до конца в прямом смысле слова. Отец
Дванова хотел узнать истину взрослых, но пошел к ней по-детски —
ведь в платоновском мире истина не просто конкретна, она еще и
конечна, и момент ее получения означает конец мира. Для двановского
отца «обретение» истины стало концом его жизни.
Беспредельная, читай, детская жадность чевенгурского Пиюси,
пожалевшего солнца для буржуев, жадность Свата из «Ямской слободы»,
пожалевшего солнца для всех, игра в войну рыцаря Пашинцева, его «малый
рост», и вообще столь часто подчеркиваемый Платоновым малый рост
его героев — все это черты детства, которые явно или скрыто
присутствуют в облике и поведении взрослых, «личных», «терпеливых»
«невыясненных», «двусторонних» к «прочих» людей.
Таков же и интерес к пустоте, полости,— интерес выраженно детский
(Ж. Пиаже): «Священный хотел взять любую мякоть и проглотить ее в
свое пустое тело» («Ювенильное море»). В «Мусорном ветре» Платонов
дает мотиву пустоты некое пара-логическое обоснование, имеющее, в себе
тем не менее, гораздо больше психологической правды, чем выдумки:
«Конвойный офицер, шедший слева от Лихтенберга, попал на край
пропасти, вырытой для какого-то могучего механизма, и пошел по ней
осторожно и благополучно; но Лихтенберг внезапно толкнул его — по
детской привычке сунуть что-нибудь в пустое место. Офицер исчез вниз и
вскрикнул оттуда, одновременно со скрежетом железа к трением своих
трескающихся костей».
Тема костей, мертвых тел, особенно «близкородственных»,—одна из
основных у Платонова. Этот интерес к мертвому телу, повсеместно
отмеченный этнографией детства, у платоновских людей становится более
чем явным. В «Чевенгуре» Захар Павлович через каждые десять лет
«собирался откапывать сына из могилы, чтобы видеть его и чувствовать
себя вместе с ним». Платонов опять-таки сам вполне прозрачно
указывает на истоки этого столь странного для взрослого, но вполне
объяснимого для ребенка желания, когда пишет о самоощущении двановского
«приемного» отца: «Захару Павловичу сильно захотелось раскопать могилу и
посмотреть на мать, на ее кости, волосы и на последние пропадающие
остатки своей детской родины. Он и сейчас не прочь бы иметь живую
мать, потому что не чувствовал в себе особой разницы с детством». Зато
эту разницу Платонов дает почувствовать читателю, для которого
поведение Захара Павловича или Пашки из «Ямской слободы» («Мать-то он
2 Вопросы философия, Jv& 2 33
в прошлом году из могилы раскапывал—волоса да кости нашел!»)
выглядит непонятным и патологическим.
Оставшимся наполовину детьми, платоновским «нечаянным» людям
нужна мать, поэтому они и сохраняют на протяжении своей жизни
чисто детский, «сыновний» интерес к женщине. Эта особенность выписана
Платоновым настолько явно и на стольких страницах, что позволяет нам
ограничиться одним лишь ее упоминанием. Тема бесполого отношения к
женщине, хорошо известная в мифологии, интересна нам только в своем
детском повороте, как элемент, входящий в «систему» платоновского ми-
ровидения, в которой подсознательно «продумано» все — от
универсальных тем плача, сна, смерти, боязни темноты, удвоения мира (помимо
мифологических истоков, тема двойничества составляет одну из типичных
черт детской психологии) до деталей вроде детского объяснения причины
роста ногтей («Чевенгур») или настойчивого упоминания, что «малые
ростом» платоновские люди, как дети, не пьют вина; например, Копен-
кин «не пил сознательно», а Дванов — просто «не понимал вина».
Детские черты проникают у Платонова даже в область ужасного:
сила исходного принципа была такова, что оставила свой след на всем,
чего она коснулась. Так прочитывается эпизод, в котором чевенгурские
большевики находят железный бак, где прячется «полоумная буржуйка»,
и приступают к делу, напоминающему обычную мальчишескую
забаву — игру консервной банкой. Вот только «банка» для них оказывается
очень большой, а они слишком маленькими. «Восьмеро большевиков
уперлись руками в бак и покатили его прочь... Все время движения бака
внутри его каталась какая-то мягкая начинка, но большевики спешили,
давали баку ускорение и не прислушивались к замолкшей полоумной
буржуйке». Детская бессмысленная, бесцельная жестокость в сочетании с
детским, уже упоминавшимся, интересом к концу, к тому, каким именно
будет этот конец: «Чепурный присел наземь, подслушивая конец котлу.
Гул его вращения вдруг сделался неслышным — это котел полетел по
воздуху с обрыва оврага на его дно — и приткнулся через полминуты
(явное преувеличение! — Л. К.) мирным тупым ударом в потухший
овражный песок».
Сходным образом и сцена расстрела чевенгурских буржуев более
походит на страшную игру в расстрел, чем на действительное убийство
живых людей: правила «игры» делают из буржуев невсамделишных
врагов, в которых совсем не страшно стрелять, особенно если убийцами
руководит детская обида на то, что правила игры нарушаются: «Ах, вы
так! — сказал Пиюся и выстроил чекистов, не ожидая часа
полуночничай их, ребята! (это напоминает слова «кадета» в финале «Чевенгура»
о нападении «по правилам» и «не по правилам»), А дальше идет азарт
стрельбы — тот же, что у Кирея, бившего из пулемета просто так, как
дорвавшийся до забавы подросток, когда никаких буржуев в живых уже
не было: ему «заранее была охота постреляться во что попало, лишь бы
не в живой пролетариат».
Почти в каждой своей вещи, определяя интеллектуальные
возможности героев, Платонов ведет тему затрудненного, слабого мышления, не
способного иногда не только сформулировать, но и вообще произвести
путную мысль. Филат из «Ямской слободы», Чиклин, Вощев, Елисей из
«Котлована», Захар Павлович, Копенкин из «Чевенгура» — все они,
хотя и в разной степени,, с трудом понимают и себя в мире, и сам мир.
Их головы пусты и темны, и осветить их может только «свет» сознания
(вспомним, что свет — это и устойчивый христианский символ).
Впечатления же внешнего мира производят в головах «самодельных людей»
лишь «тоску тщетности» и сумрак непонимания. Тут нащупывается оче-
34
редкая связка с мотивами темноты, «закрытого», «дремлющего» зрения,
сна и смерти. Они как бы поддерживают главную теоретическую идею
Платонова об отмене «темноты» чувства «светом» мысли. В спящих,
слепых, плохо видящих людях — людях мира темноты, «дремлющего
зрения» брезжит рассвет сознания-зрения, возвещающий о приближении
нового «царства».
Сначала это почти не мышление, однако рождающийся в нем звук
означает первый прорыв из темноты, которая у Платонова равна
молчанию и немоте. Филат из «Ямской слободы» слышит в себе «сердечный
гнет от неясного тоскующего зова. Этот зов звучал и вечерами,
превращался в явственный голос, говоривший малопонятные глухие слова. Но
мозг не думал, а скрежетал — источник ясного сознания в нем был
забит навсегда и не поддавался напору смутного чувства». Эта молчащая
темнота чувства постепенно преодолевается в звучащей мысли — как у
«самодельных людей», которые «бормочут» свои мысли, как у Чепурно-
го, не умевшего «соображать молча», как у Якова Титыча, считавшего,
что пока «слово не скажешь, то умным не станешь», как у всех тех, кто
«всегда говорил вслух», потому что «учился думать при революции».
Темнота рождает, но поначалу она рождает вещи, не годящиеся для
рассмотрения при дневном свете. У Филата «на первых порах чувство
так грубо встряхивало мысль, что она рождалась чудовищем и ее нельзя
было гладко выговорить». Это — еще сонная, недоношенная мысль,
отмеченная печатью породившего ее подземного темного чувства, от которого
должен избавиться идущий «заре навстречу» пролетариат. В финале
«Котлована» умирает маленькая Настя, едва начавшая в себе
«чувствовать» ум. Уже «светает» в головах Дванова и Вермо, «мучившего» в
«темноте своего сознания зарождающуюся, еле живую мысль, еще
неизвестную самой себе, но связанную с рассветом нового дня». Везде
прослеживается путь от темноты к свету, от немоты к слову, от небытия к
рождению.
А также и символический путь снизу вверх: голова ямского
слободчанина Филата — настоящее подземное царство. Он ощущает в себе
мысль «огромно и страшно — как первое движение гор, заледеневших в
кристаллы от давления девственного забвения». В этой глубине стоит
«ювенильное море» — в «каменных могилах в неприкосновенном,
девственном виде». Его воды (мысль) хочет поднять из-под толщи земли
(чувства) наверх, на свет дня инженер Вермо. И это снова не
метафора, а метаморфоза: вода связывается с мыслью, сознанием через
промежуточный член — истину, имеющую у Платонова, который повторяет
здесь универсальную архаическую символику (К. Г. Юнг), вид воды.
Ведь именно в воде думал найти истину отец Дванова, когда выплывал
на середину озера Мутево (истина «прячется» в мутной воде). В глазах
мертвых рыб— жителей воды — он видел всю окончательную
«премудрость», то есть истину: рыба от того немая и глядит «без выражения»,
что «она уже все знает».
Полна скрытого смысла сцена купания Чепурного и Копенкина.
В ней выясняется, что между сообразительностью Чепурного и его
любовью к купанию есть некая тайная связь. Он «умнеет» буквально на
глазах, окунаясь в воду-истину: «С середины реки, куда не доплыть
неумелому Копенкину, Чепурный кричал песни и все более делался
разговорчивым». На берег он выходит с признанием: «Знаешь, Копенкин,
когда я в воде — мне кажется, что я до точности правду знаю...» И еще
важный оттенок. Чепурный не только не боится воды, в отличие от
Копенкина, но и с удовольствием погружается в нее целиком, открывает в
ней глаза (подводное зрение) и достает «со дна различные кости,
крупные камни и лошадиные головы».
Если выстроить все эти детали в ряд, то выявится определенная
система: дно, то есть земля под водой — это мир смерти («кости», «лошади-
2* 35
ные головы»). Пространство над водой — мир рождения и жизни (свет,
воздух). Вода, стоящая меж двумя этими мирами,— есть истина. Оттого
рыба, которая «все уже знает», стоит в воде, то есть посередке «между
жизнью и смертью». Вода, поэтому, принципиально двойственна, она
может быть «живой» и «мертвой»: она рождает людей и растения, и она же
есть жидкость смерти и сама является смертью. В ней гибнет отец Два-
нова, сам Дванов. В шде дождя или пота она присутствует в событиях
жизни и смерти, а также в снах, где человек встречается со своими
умершими родителями.
«Я хочу спать и плавать в воде»,—говорит перед смертью ребенок,
которого не спас чевенгурский «коммунизм». В этих словах — свернутый
сюжет всей платоновской «персональной мифологии». Смерть — конец
жизни. Он равен обретению конечной истины: «плавать» и «спать»—
значит умирать в воде истины. Для Платонова, воспроизводящего здесь,
хотя и своеобразно — через метаморфозу,— вполне традиционную
семантику, вода не просто соединяет жизнь со смертью, но вообще
оказывается одним и тем же: выразителен эпизод, где Дванов опасается, что
мертвый, быстро опухающий человек, как будто растущий («было видно
движение растущего тела»), «мог лопнуть и брызнуть своею жидкостью
жизни».
В «Чевенгуре» обнаруживается особый, условно говоря восточный код,
также содержащий сведения о связи воды, истины и смерти. Едущий
домой Дванов случайно оказывается в одном поезде с китайцами. На
остановке китайцы «поели весь рыбный суп, от какого отказались
русские матросы, затем собрали хлебом всю питательную влагу со стенок
супных ведер и сказали матросам в ответ на их вопрос о смерти: «Мы
любим смерть! Мы очень ее любим!» В этой сцене все значимо. Особое
восточное отношение к смерти (небоязнь, культ смерти) прочитывается в
акте поедания китайцами рыбного супа (рыба — один из символов
Христа, и рыба «все знает» и живет в воде-истине): вот от чего так
подчеркнуто отказались русские матросы. Таким образом, непосредственно
«съев» истину, китайцы «сытыми ложатся спать» — то есть
символически умирают, получив «окончательное» знание о мире.
В ряд с этим эпизодом встает и история скорохода с неопределенно-
восточной фамилией-прозвищем Луй. Он тоже выражение связан с
мыслью и истиной, так как сумел в отличие от большинства
платоновских героев додуматься до многого «своими силами». Как и Чепурный,
он стремится к воде и свой скрытый смысл открывает тоже у воды.
Достигнув водораздела двух чистых рек, подойдя к спящему Гопнеру, он
вытаскивает за него удочку с давно сидящим на ней подлещиком. Для
рыбы, владеющей «премудростью»,— это действительный конец
(«подлещик затих в руке пешехода, открыл жабры и начал кончаться от
испуганного утомления»), а для рыбака — прикосновение к истине, которая,
согласно теоретическим взглядам Платонова, должна когда-нибудь
вывести человечество из сна чувства: «Чего-то я во сне долго рассматривал,
так и не докончил,— заговорил Гопнер (обращаясь к Лую,— Л. К.) .—
Проснулся, а ты стоишь, как исполнение желаний...» Опять — набор
связанных между собой мотивов: вода, смерть, сон, конец, истина.
Неслучайна и кличка Чепурного — «Японец». Его связь со смертью может
быть прочитана через мотивы истины и воды (см. сцену купания),
а также главную цель «Японца»—устроить в Чевенгуре «конец света»!
Этот «конец света», понятый буквально, т. е. как метаморфоза, вновь
дает нам тему мрака и, соответственно, слепоты (нет света, нет и
зрения), которая связана, помимо упоминавшегося уже феномена «любви к
смерти», с «азиатским» кодом «Чевенгура»: за восточным прищуром глаз
также можно угадать мотив «закрытого» или «дремлющего» зрения,
тесно связанного у Платонова с мотивами смерти, сна и конечно-конкретной
истины.
3G
Чепурный — любитель воды (истины-смерти), помнивший лишь «все
конкретное»,—полномочный представитель смерти в «Чевенгуре». Он и
«трудовой район» свой описывает как огромное озеро, освещенное
лунным светом, соединяя вместе темы воды, истины, «конца света» и луны
(связь луны и смерти традиционна: луна — это солнце мертвых). «Эх,
хорошо сейчас у нас в Чевенгуре!... На небе луна, а под нею
громадный трудовой район — и весь в коммунизме, как рыба в озере\» В каком-
то смысле Чевенгура — «мертвого царства» — и нет вовсе, во всяком
случае в мире живых; он загробен, эфемерен. Ведь останавливает же Гопнер
Чепурного, уличая его в обмане: «Какая луна, будь ты проклят? Неделю
назад ей последняя четверть была...»
Наконец, вспомним символику первой встречи Чепурного и Копенки-
на, в которой причастность Чепурного к смерти еще более очевидна.
Копенкин видит его издалека спящим на лошади, утонувшей ногами в
болотном иле так, будто она вырастала из этой смеси земли и воды.
Эта странная коротконогая лошадь, не случайно показавшаяся Копенки-
пу не вполне «живой и настоящей», и то место, где она стояла, бывшее
«некогда полноводным», и спящий на лошади Чепурный —все это
предвидение Чевенгура и его страшного конца. Посыльный смерти —
Чепурный — заманивает в Чевенгур живых, приготовляя их к «концу света»
и заботясь об их уборе: «Скоро в Чевенгуре тебе любую шапку вмах
заготовят»,— говорит он, едва проснувшись, Копенкину.— «Сними
веревкой мерку с твоей головы»...
Мертвому — мертвое. Поэтому-то находящийся в особых отношениях
со смертью Чепурный в принципе не мог оживить умершего в Чевенгуре
младенца — ни реально, ни мистически. Он и сам-то в финальной
схватке с «кадетами» и не умирает будто, а просто скрывается, исчезает из
мира: «Чепурный полетел долой с лошади, потому что не попал в
намеченного врага, и скрылся в чаще конских топчущихся ног». Если
вспомнить особый интерес Чепурного к лошадям, к их черепам, его слова
о схожести человека и коня и сопоставить все это с широко
распространенным в мифологии сближением тем лошади и смерти, сказавшемся
даже в пушкинской «Песни о вещем Олеге», то исчезновение Чепурнога
под лошадьми уже не покажется случайным.
Всю длинную цепочку своих основных мотивов-образов Платонов
доводит до последней страницы «Чевенгура», будто нарочно перечислив
последовательно все ее звенья. «Дванов подъехал к урезу воды. Он в дай
купался и из нее кормился в ранней жизни, она некогда успокоила
отца в своей глубине... Дванов посмотрел и увидел удочку, которую
волокла лошадиная нога с берегового нагорья. На крючке удочки
прицепленный иссохший, сломанный скелет маленькой рыбы, и Дванов
узнал, что это была его удочка, забытая здесь в детстве... Дванов понудил
Пролетарскую Силу войти в воду по грудь и, не прощаясь с ней,
продолжая свою жизнь, сам сошел с седла в воду — в поисках той дороги,
по которой когда-то прошел отец в любопытстве смерти...» Здесь есть
все — и вода, и смерть, и лошадь, и рыба, и ребенок, и отец со всеми
связывающими их смыслами, столь постоянными у Платонова и столь
часто им воспроизводимыми.
Если вернуться к набору мотивов органически связанному с
«водяным» циклом, мы увидим, что у Платонова путь от чувства к мысли,
от небытия к бытию — это путь из темноты к свету, от слепоты к
зрению, от молчания к звучащему слову, из низа — вверх. Последняя пара
выводит нас за границы чисто телесного само-чувствия и, так же как
37
тема воды, в основном касается мира, который находится, если взять
платоновское слово, за «краем тела».
Мотив падения вверх, нередкий в русской поэзии начала века, просту-
дает у Платонова как вполне реальная возможность. Ощущение того,
что человек может не удержаться на земной поверхности и сорваться в
нависшую над ним бездну, исходящее из времени раннего детства
(возможно также «припоминание» внутриутробного перевернутого мира),
входит в сознание взрослых платоновских героев и маскируется в нем,
подобно мотивам сна, плача, слепоты, мрака. Оно оборачивается то
теоретическими рассуждениями о полете, то мечтой о нем, то самим —
вполне реальным — полетом. Но глазное — оно все время проступает
как ожидание, смутное предчувствие полета, который должен вот-вот
начаться: «В минуты сознания Дванов лежал пустой и засохший,
он чувствовал только свою кожу и прижимал себя к постели, ему
казалось, что он может полететь, как летят сухие трупики пауков». В том же
«Чевенгуре»: Яков Титыч поднимал голову к небу и «чувствовал, что
дыхание ослабевает в его груди, будто освещенная легкая высота сосала
из него воздух, дабы сделать его легче и он мог лететь туда».
Устойчивый мотив падения вверх распространяется у Платонова и на
саму землю. Она вообще может сделаться «небом», оставаясь при этом
на месте, как в «Июльской грозе», где сияет особый, все
переворачивающий свет: это «светились травы, цветы и рожь своим светом, и они
сейчас одни освещали поля и избы, потемневшие было под тучей, и сама
туча была озарена снизу светлой землей». Земля может стронуться
с места («Маркун»), уйти в небо и даже сама сделаться небом.
В «Потомках солнца» мечта Маркуна о том, чтобы «вскинуть землю до
любой звезды», становится кошмарно-фантастической реальностью.
Во время гигантского взрыва массы гранита «превратились в
мельчайшие газы, а газы унеслись в самые высокие слои атмосферы, там как-то
вступили в соединение с эфиром и навсегда оторвались от земли.
От Карпат не осталось и песчинки на память. Карпаты переселились
ближе к звездам». На первый взгляд научное, хотя и весьма вольное,
описание Езрыва, на самом деле — очередной прорыв бессознательного
ощущения непрочности земного, возможности взлета вверх. Земля же,
взлетевшая вверх, делает твердым, земляным само небо, что повторяет
архаическое и чисто детское представление о небе как о «тверди». Так,
звезды делаются «небесными кирпичами», небо — «дрожащей твердью»
(«Ямская слобода»), а Млечный Путь — «вскопанным», как земля
(«Джан»).
В одном из писем Платонов говорит о своем особом восприятии неба
над головой: «Я шел по глубокому логу... Если вглядишься в звезду,
ужас войдет в душу, можно зарыдать от безнадежности и невыразимой
муки — так далека, далека эта звезда. Можно думать о бесконечности —
это легко, а тут я вцжу, я достаю ее и слышу ее молчание. Мне
кажется, что я лечу, и только светится недостижимое дно колодца и стены
пропасти не движутся от полета». Светлая точка звезды — увиденная как
край колодца, наверху, над головой, в глубине небесной. Таково видение
А. Платонова, ощущавшего над собой опасный провал бездны.
Образ перевернутого мира близок и органичен ребенку: таким этот
мир был для него изначально, в темной тесноте материнского тела, таким
он видел его в начале жизни. Наконец, таким он видит его всякий раз,
когда становится на руки. Г. К. Честертон выразительно описал взгляд
Франциска Ассизского, который однажды увидел свой родной город
перевернутым, готовым сорваться в небо. Св. Франциск возблагодарил тогда
Всевышнего за то, что город не упал в бездну, за то, что вся Вселенная
не «оборвалась» до сих пор, как огромная сосулька. Сближение св.
Франциска и платоновских «терпеливых» людей, возможное по многим
причинам, находит неожиданную поддержку и в этом особом способе видения,
38
в «выборе глаз» для наблюдения. «А все мироздания с виду прочны,
а сами на волосках держатся,— говорит селькор из «Эфирного
тракта»,—Никто волоски не рвет, они и целы»... Такое же видение и в
«Котловане»: «Вдалеке, на весу и без спасения, светила неясная звезда»..,
Особо внимателен Платонов к точкам, где человек оказывается
посередине мира— меж бездной подземной (подводной) и небесной: «Мать
оглянулась вокруг, желая увидеть, откуда взывает к ней дочь, откуда
прозвучал ее тихий голос — из тихого поля, из земной глубины или
с высоты неба, с той ясной звезды» («Взыскание погибших»).
Посередине мира находится и Кирпичников из «Эфирного тракта», и Вермо,
всегда помнивший о стоящих под его ногами водах «ювенильного моря».
А любивший всматриваться в небо Никита («Река Потудань») иногда
«ложился животом и смотрел вниз под лед, где видно было, как тихо
текла вода».—Линия, отделяющая Никиту от верхнего и нижнего миров,
оказывается одновременно реальной и эфемерной: всего лишь несколько
сантиметров прозрачной, превратившейся в лед воды, а под ней и над
ней — потенциально бесконечные вертикали верха и низа.
Упоминавшаяся ранее деталь — место, где нашли Улю («в летнее
время под сосною у дорожного колодца»),—перестает быть случайной:
«отмеченному» ребенку соответствует столь же «отмеченное» место.
Сосна — вертикаль, указывающая на небо (путь в небесное
пространство) , колодец — вертикаль подземная, связанная не только с устойчивой
мифотемой рождения (колодец — рождающее лоно), но и путь, ведущий
к воде, обозначающей у Платонова истину (Уля — ребенок-провидец).
В конце рассказа Платонов приводит на то же место мать Ули, как бы
«подтверждая» значимость этой пространственной точки: «Она села
у дорожного колодца, возле которого росла старая сосна, поглядела на
дерево, потом поднялась и огцупала землю (снова мотив «закрытого»
зрения.— Л. /?.) вокруг сосны, точно искала что-то, давно оставленное
и забытое».
Низ и верх, земля и небо для Платонова чрезвычайно важны, и он не
забывает постоянно напоминать об этом, придавая смысл даже такой
детали, как положение тела лежащего человека; рождающийся или
живой (бодрствующий) человек лежит лицом вверх, как Уля у колодца,
умирающий — поворачивается лицом вниз, как Бобыль или Копенкин,
повторяющие этот обязательный ритуал умирания. Таких примеров
у Платонова десятки, и все они повторяют друг друга, допуская лишь
отдельные внутренне мотивированные отклонения, как, например, в
случае с Вощевым, для которого равно мертвы и верх и низ, ожидающие
«будущего отмщения»: «Вощев, опершись о гробы спиной (смерть
внизу.— Л. К.), глядел с телеги вверх — на звездное собрание и в мертвую
массовую муть Млечного Пути». Лежать лицом вниз — значит терять
жизнь, уходить в смерть, тогда как человеку положено избегать ее.
Поэтому Гопнер в «Чевенгуре» переворачивает спящего Дванова «на
спину, чтобы он дышал из воздуха, а не из земли».
И еще один, присущий только Платонову оттенок пространственного
противопоставления — соединение вертикали верха-низа с устойчивым
мотивом пустоты. «Пустых» пространств очень много и в «Чевенгуре»
и в «Котловане»; котлован, кстати, сам — пустое могильное пространство.
Говоря языком «усомнившегося» Макара, мир вообще «просторен и
пуст». И вот в этом пустом мире иногда оказывается так мало места,
что в нем не могут разойтись два человека. Бывает, что их встреча
несет смерть. Решив покончить с собой, инженер Крейцкопф «сразу без
разбега, кинулся в окно. Его арестантская фуражка слетела с головы,
а халат накрыл и его и часового, на которого упал Крейцкопф.
Вонзившись в неожиданное мягкое тело, Крейцкопф захлебнулся своей кровью,
хлынувшей из треснувших легких, но понял, что остался жив. Часовой
39
лежал под ним мертвый, с ногами упертыми в собственную голову,
сломанный пополам в седалище» («Лунная бомба»).
Столь же очевиден и потенциально столь же смертелен эпизод из
хроники «Впрок», где к мотивам пустоты, встречи, вертикального
движения присоединяется и мотив сна. Герой хроники забирается на дерево,
смотрит вверх на звезды и нечаянно засыпает: «Утомившись я задремал
и так пробыл неопределенное время, пока не упал от испуга, но не
убился. Неизвестный человек отстранился от дерева, давая мне свобод-
ное место падать». Тесно в «пустом» мире. Тесно настолько, что на
«поверхности земного шара» не хватает человеку свободного места даже для
смерти: под упавшим с неба болидом гибнет, превращается в ничто
инженер Кирпичников из «Эфирного тракта». В колумбарии, где
находится его пустая урна, стоит еще одна — тоже пустая, принадлежащая
инженеру Крейцкопфу. Ему тоже не хватило места на Земле. Надпись
на урне: «Улетел в своем снаряде на Луну и не возвратился» —
движение вниз и вверх, как у настоящего машинного ползуна-крейцкопфа,
но всякий раз движение смертельное...
...Выход к «свету» мысли из «темноты» чувства — это рождение
в жизнь, переход от сна к яви. Иначе говоря, это переход от
чувствования мира к его осознанию, пониманию, который требует напряжения,
равного созданию самого мира. Отсюда — особенности речи платоновских
людей: она еще только нарождается, становится и пробует насколько
возможно точно описать то, что видят, но не вполне понимают глаза.
Поэтому и она способна «ошибиться, но не солгать».
Это речь не метафорическая — при всей своей образности,— а
метонимическая, фиксирующая5. Синекдохи обобщающие (пионерка
«сорвала растение», оркестр «заиграл музыку») и синекдохи сужающие
(«урод империализма», «социалистические дети») создают у Платонова
впечатление особого аномально-философического способа описания. В нем
нет символизма, а если и есть, то символизм необычный —
телесно-вещный. Предметы фиксируются, схватываются. То же самое происходит
и во фразе. Промежуточные элементы, соединяющие элементы исходные
и заключительные, как бы «опускаются». Так появляются
«внимательные головы» пионерок, «мертвые лошади социальной войны», желание
«жить впереди детей» и т. д.
Аналог такому типу описания можно отыскать в детской речи. Она
тоже не уверена в себе, боится ошибки и потому неуклюже-строго
фиксирует, «называет» то, что видят не вполне понимающие мир глаза.
Выстраивается очередной ряд соответствий: начало жизни (детство) —
начало «нового мира» — начало мышления, знания.
Платоновские люди уже пробуждаются от сна чувства, но оно еще
крепко держит их, затемняя свет сознания. Поэтому все, что они
слышат, ощущают и видят, описывается ими предельно осторожно, так
чтобы избежать возможной ошибки: предметы и люди ни с чем не
сравниваются, а лишь описываются и классифицируются. Девочка —
«маленькая женщина», цветок — «растение», пионерский марш — «музыка».
Такое описание мира может казаться непривычным, но оно не может
быть ошибочным. Ведь если сказано, что инвалид «простонал звук», или
что с войны он вернулся «не полностью», или что в голове его были
«неслышные мысли», то, как бы это странно ни звучало, такое описание
все равно остается верным — действительно у инвалида нет ног, а
мысли в его голове никому «снаружи» не слышны. «Материалист...— это
честный человек, который сознает свои слабые познавательные силы
и, учитывая это, берет за предмет исследования не вселенную, а волос,
атом, т. к. он знает, что он ищет истину». «Материалистическая наука
5 Для того чтобы избежать подбора, подгонки, возьмем примеры подряд, один
за другим, из короткой сцены прохождения пионеров, занимающей всего две
страницы «Котлована».
40
изучает части мира, а не все целое» б. Не так ли и платоновские люди
«неизвестного назначения» осторожно описывают все, что они чувствуют
и видят,— подробности мира, а не все целое? Зрение неистинно —
вспомним мотивы темноты, слепоты, сна — оно может сбить с толку,
обмануть, пока слаба еще в человеке «красная сила ума», способного
постигнуть мир как целое. Отсюда дефицит метафорического и
символического в платоновском слове. И это при том, что на уровне целого он
мыслит выраженью символически.
В мире детей-взрослых, мыслящих, подобно Чепурному,
исключительно «конкретно», нет поэтому ничего невещественного. Все ощутимо, все
состоит из вещества, электронов, частиц, все можно потрогать, как
Христову рану,—в том числе и Истину, которая есть одновременно и
вещество и конец мира. Все есть вещество, и нет ничего кроме вещества.
Масло — «зажиточное вещество», ребенок — «вещество создания», время —
«это движение горя и такой жз ощутимый предмет, как любое вещество,
хотя бы и негодное в отделку», коммунизм — вещество «между
туловищами пролетариев», счастье — «вещество долгой жизни».
Можно в этот ряд поставить и платоновское «вещество
существования», имеющее весьма неясную природу: возможно, это синоним всего
мира, возможно, символ связи между людьми, а может быть, и то и
другое одновременно. Прочитанное же сугубо материально, «вещество
существования» может оказаться даже потом — спутником и знаком
человеческого коллективного труда, в котором соединяются «туловища
пролетариев»: «Ты же не работаешь, ты не переживаешь вещества существования,
откуда же ты вспомнишь мысль!» — говорят Вощеву рабочие. Если
взять во внимание факт несомненной связи этого «вещества» с тяжелой
физической работой и универсальное значение пота для платоновских
героев (в «Чевенгуре» пот вообще — символ связи Дванова с умершим
отцом), то нельзя отказываться от возможности и такого прочтения.
В пустых пространствах платоновского мира не слышно смеха.
В «Котловане», кроме решившего покончить с собой Прушевского и
обреченной на смерть Насти, почти никто даже не улыбается. В
«Эфирном тракте» об ужасающем смехе Матиссена сказано, что он был «столь
же част, как затмение солнца» (перевертывание традиционной смехо-све-
товой семантики). В «Чевенгуре» также подчеркивается редкость,
необычность смеха («Сербинов стыдился своего смеха»; Гопнер «редко
улыбался»). А в «Ювенильном море» Кемаль говорит от всего поколения:
«Я старый кузнец -и механик, я не смеялся тридцать лет, а вот пришел
инженер Вермо, открыл нам пространство науки — и я улыбнулся».
Смех связывается Платоновым с наукой, мыслью, а следовательно
с нозым, нарождающимся сознанием. Оттого, видимо, и могла в
«Котловане» смеяться маленькая Настя, что постоянно чувствовала в своей
голове «ум», а в «Чевенгуре» нормально смеется едва ли не один
кузнец Сотых, да и то смеется «умным голосом».
Принцип «песмеяния» явно нарушает Священный из «Ювенильного
моря»: вопреки запрету на смех, он смеется беспрерывно и беспричинно.
Лишь однажды Священный «захохотал и умолк с внезапным испугом,
ощутив свое, контрольное, предупреждающее сознание». Однако смех
его — не вполне человеческий («Священный по-страшному и
беспрерывно хохотал»), и сам он никакой не «священный», а смеющийся бес,
дурно пахнущий и пожирающий колбасу из бычьего члена.
6 Платонов А. О культуре пролетариата,—В кн.: Платонов А. Возвращение.
М., 1989, с. 25-26.
41
Если продолжить аналогию с детским мирочувствием, то этот
дефицит смеха становится отчасти объяснимым. Платонов описывает людей
с оборванным детством, что есть обладающих искаженным восприятием
жизни. «Никто из прочих (а «прочих» можно встретить не только
в «Чевенгуре» — Л. #.) не видел своего отца, а мать помнил лишь
смутной тоской тела по утраченному покою,— тоской, которая в зрелом
возрасте обратилась в опустошающую грусть». «Прочие обречены на
эмоциональную ущербность; они и «были рождены без дара: ума и щедрости
чувств в них не могло быть». Каждый из этих «самодельных людей»
оказался когда-то в мире одиноким — «лежал посреди него и плакал,
сопротивляясь этим первому горю, которое останется незабвенным на всю
жизнь».
Таким людям было действительно не до смеха. Им, если
воспользоваться платоновским самоописанием, было «некогда расти, надо сразу
нахмуриться и биться». Поэтому отсутствие у них смеха — неслучайно,
оно спровоцировано тем особым типом детско-взрослого сознания —
«недоделанного», «вымороченного»,— который сконструировал Платонов
и «рассадил» по головам молодых и пожилых «сирот».
У сказанного есть и другая сторона, связанная с первой. Сознание
Платонова — анонимно-религиозное. Оно невольно «припоминает» или
даже само «изобретает» то, что было установлено и отрефлексировано
в христианстве. Например, линию отказа от смеха, который в Священном
писании однозначно отождествляется со злом. В этом смысле и
христианская культура чувства по-своему ущербна, ибо отторгает от себя, по
крайней мере на словах, нечто очень значимое.
Платонов угадал последствия такой ущербности и обозначил их
в своем мире. Отсутствие смеха — одного из душевных полюсов —
чревато резким, всеохватным усилением другого, а именно любезного
христианству плача, которого так много на страницах «Чевенгура». Однако
Платонов уловил возможность и другого противопоставления, стоящего на
порядок выше, нежели то, где плачу соответствовал примитивный,
плотский смех — смех «женихов и невест» («Ювенильное море»). Речь идет
о феномене стыда, противоположного стихии «умного», подлинного
смеха. Стыда не сексуального, а духовного, представляющего собой кальку
смеха, но смеха, перевернутого с ног на голову7.
Стыд часто упоминается в христианских текстах. Однако его
изобильно там именно потому, что одной только антитезы смеха и слез
оказывается недостаточно. Стыд необходим, чтобы заполнить гигантскую
лакуну, которая немедленно образуется в том случае, если из душевного
обращения изымается смех. Подобно плачу, стыд противостоит смеху,
ео на другом уровне, и образует с ним устойчивую этическую пару,
постепенно сменяющую в культуре архаическую антитезу смеха и плача.
Поэтому стыд, тотальная стыдливость платоновских людей тоже
неслучайны. Всепобеждающий, нелепый и необъяснимый обычным порядком
стыд заполняет собой все «пустое пространство» души, которое
изначально было приготовлено для смеха.
Стыд, незнакомый настоящим детям, закономерно и полноправно
входит в мир полудетского, ущербного, «окороченного», если взять
платоновское слово, сознания людей «неизвестного назначения». Вместе с
неизбывными тоской и скукой, потеснившими смех, стыд становится центром
этого сознания, мстя за разрушенное детство и оккупируя душу,
исковерканную в битвах «социальной войны». Едва народившись, новый мир
уже готов умереть, ибо рожден он был, подобно «прочим»,— бездарно.
Евангельский завет осуществился лишь вполовину: взрослые
уменьшились, стали как дети, но при этом не обратились, не выросли духом и
лишились чаемого царства. Сами того не заметив, они сделали начало
света его концом, но концом без последующего воскресения.
7 См.: Карасев Л. В. Парадокс о смехе.-«Вопросы философии», 1989, № 5.
42
Ирреальный платоновский универсум с его «новым небом» и «новой
землей» живет в ожидании светлого и возрождающего смеха, который
один только и способен спасти этот стыдящийся своей нелепости
подрастающий мир, еще не успевший узнать «ценности жизни», но зато уже
по-детски жадно впитавший в себя и ее «общую грусть» и «тоску
тщетности».
В апокрифическом Евангелии от Фомы, неизвестном Платонову,
Христос дает ответ на вопрос, который исподволь мучил чевенгурских
искателей «конца» и «края». Ученикам, искавшим конца сущего, Иисус
сказал: «Открыли вы начало, чтобы искать конец? Ибо в месте, где
начало, там будет конец. Блажен тот, кто будет стоять в начале: и он
познает конец, и он не вкусит смерти» (Фм. 19) 8.
Конца, в котором начиналось бы начало,— вот чего ищут
платоновские «умалившиеся» взрослые, ибо «не бесконечности, а конца
результата прогресса хочет человечество» 9. Однако, не зная пути к нему, они
не могут обрести того, чего ищут. Дух пятого Евангелия — Евангелия от
Фомы — разлит в пространстве «Чевенгура»: дух начала и конца,
постигаемых через из-начальное детское видение. «...Если мы младенцы, мы
войдем в царствие?» — спрашивают ученики у Христа, и он отвечает:
«Когда вы сделаете двоих одним, и когда вы сделаете внутреннюю
сторону как внешнюю сторону, и внешнюю сторону как внутреннюю
сторону, и верхнюю сторону как нижнюю сторону, и когда вы сделаете
мужчину и женщину одним, чтобы мужчина не был мужчиной и
женщина не была женщиной, когда вы сделаете глаза вместо глаза и руку
вместо руки, и ногу вместо ноги, образ вместо образа,— тогда вы войдете
в царствие» (Фм. 27) 10.
Не в этом ли дух «постоянного» у Платонова? Двое у него и в самом
деле — в Дванове — делаются одним. И его мужчины — не мужчины в
той же мере, в какой его женщины — не женщины. Нет ни внешнего,
ни внутреннего, так как не сказано ни об обликах, ни о душах:
«двусоставные» люди живут особой внутри-внешней жизнью, как дети или
спящие, не отделяя себя от того, что находится за «краем тела», а сна
от яви. Верхнюю сторону Платонов сделал нижней, позволив небу
превращаться в землю, а земле в небо. Увидеть же одно как другое — тут
надобен соответствующий «выбор глаз» («глаза вместо глаза»),—как у
Франциска Ассизского, видевшего естественные вещи в
сверхъестественном свете: «образ вместо образа»...
За сказанным — символический набор совпадений, наложение никогда
не соприкасавшихся друг с другом текстов, имеющих в то же время
связь единственно значимую — внутреннюю. Такая связь способна дать
не только совпадение важнейших смыслов, но даже и имен: ведь Дваиов —
тот же Фома, чье имя в переводе с древнееврейского означает «двойной».
...Платонов верил в будущий всеобщий «полет к бессмертию», в
разгадку Тайны, которая наконец-то откроет людям последнюю Истину.
Конец и начало действительно совпадут — в смысле, внятном ребенку,
заглядывающему в последнюю страницу книги, не одолев первой.
Если человечеству и в самом деле суждено когда-нибудь
«обратиться», встать над собой и увидеть мир новыми глазами, то всматриваясь
в полумрак прошлого, оно встретится с взглядом одного из тех, кто
способен был «ошибиться, но не солгать», с взглядом, перевернувшим мир
еще задолго до того, как он перевернулся сам собой. Платонов
предвещает это будущее видение: прислушиваясь к мощному «напору смутного
чувства», он произносит «малопонятные глухие слова», истинный смысл
которых в конце концов станет очевиден и ясен, как солнечный свет.
8 Евангелие от Фомы.— В кн.: «Апокрифы древних христиан». М., 1989, с. 252.
9 Платонов А. Культура пролетариата, с. 32.
10 Евангелие от Фомы, с. 253.
Две реальности
«Мастера и Маргариты»
л. г. ионин
I. Методологические соображения
В этой статье знаменитый роман Михаила Булгакова используется
как источник эмпирических данных, на основе которых должны
сложиться некоторые категории и обобщения, вводящие в новую
социологическую дисциплину — социологию повседневности. Впрочем, нова она
только для нас. В западной философии и социальной науке анализ
повседневности имеет солидную традицию, в основном в русле аналитической
философии и социальной феноменологии. Настоящий «опыт» опирается
на социально-феноменологические штудии Альфреда Шюца и его
последователей.
Все это можно было бы изложить «нормальным» образом, не
прибегая к помощи Булгакова. Но, как показывает практика, усвоение
социально-феноменологической концепции повседневности сложно для того,
кто привык к традиционному объективному, отчужденному пониманию
социальных структур. Здесь - попытка разрушить барьер, косвенным
образом пробудить иной взгляд на человеческий мир.
Роман Булгакова дает для этого бесценный материал. Это
объясняется, в частности, его жанровой спецификой. Роман принадлежит к жанру
мениппеи, названному по имени философа III в. до н. э. Мениппа из
Гадары. М. М. Бахтин, характеризуя мениппею, особо подчеркивал такие
ее особенности, как сочетание необугданной фантастики с постановкой
глубоко мировоззренческих проблем, причем, писал он, самая смелая
фантастика и авантюра мотивируется и оправдывается «чисто идейно-
философской целью — создавать исключительные ситуации для
провоцирования и испытания философской идеи» \ Методологическая
характеристика мениппеи (по Бахтину) — морально-психологический
эксперимент, нарушение нормального общепринятого хода событий, создание
исключительных ситуаций, выпукло демонстрирующих и провоцирующих
мнения и представления.
Развитие феноменологических идей в социологии дало образец
«прикладной мениппеи» с точно таким же, как в мениппее, отношением
к «нормальной» действительности. Это эксперименты Г. Гарфинкеля —
создателя так называемой этнометодологии2. Суть этнометодологического
1967.
44
1 Бахтин М М. Проблемы поэтики Достоевского. М., 1972, с. 103.
2 См. Gar fink el H. Studies in Ethnomcthodology. Englewood-Cliffs, New Jersey,
экспериментирования состоит именно в неожиданном нарушении
общепринятого и нормального хода событий с тем, чтобы выявить
содержание и формы обыденных «идей» и представлений, не обнаруживающихся
при нормальном течении дел обычной жизни. Это испытание,
провоцирование повседневности, которая, реагируя, выдает сокровенные механизмы
своего устройства, так же как философско-этическая идея,
провоцируемая в мешшпее, обнаруживает свои потаенные выводы и следствия,
которые вовсе не очевидны при ее «нормальной» реализации.
Но возникает вопрос: зачем вообще нужно это нарушение привычных
устоявшихся структур повседневных взаимодействий? Разве именно
повседневность не является ясной и прозрачной сферой жизни, не
требующей рефлексивного рассмотрения? Ясность эта кажущаяся.
Повседневность кажется ясной не потому, что отрефлексирована, а потому, что
ускользает от рефлексии. «Обычная жизнь» не анализируется до тех пор,
пока не нарушена каким-нибудь из ряда вон выходящим событием.
А столкнувшись с таким нарушением, «повседневные деятели» стремятся
прежде всего «нормализовать» ситуацию, ввести ее в рамки
повседневности и лишь затем приступают к исследованию нарушившего ход
нормальной жизни фактора, который уже интерпретируется как
нормальное, повседневное явление.
Суть дела можно продемонстрировать на примере. В ходе
нормального, самого обычного разговора экспериментатор начинает приближать
свое лицо к лицу ничего не подозревающего партнера. Партнер
смешивается, отодвигается, пока, наконец не осознает, что ситуация
изменилась и он участвует в каком-то ином взаимодействии, чем то, какое
предполагал ранее. Типичная реакция была такой: «Ты что, ненормальный?»
Некоторые воспринимали действия партнера как мотивированные
сексуальными побуждениями. Кто-то видел в нем больного.
Происходило переопределение ситуации. Будучи переопределенной,
она нормализовывалась, снова становилась ситуацией повседневности,
ибо каждый знал, что нужно делать, если партнер болен, как вести себя
с «шизиком» или с бесцеремонным ухажером. Ситуация могла показаться
тяжелой, неприятной, но она переставала быть непонятной и
бессмысленной.
Нормализация происходила путем приписывания партнеру какого-то
типичного мотива, т. е. путем типизации личности партнера («шизик»,
«больной», «ухажер» и т. п.), и на этой основе типизировалось «новое»
взаимодействие. Оно целиком укладывалось в сферу повседневности
и виделось как каузально детерминированное именно этой типической
личностью. Если бы понадобилось подвергнуть ситуацию научному
исследованию, то ученый, естественно, пошел бы «вглубь» по цепочке
причин и следствий, стремясь обнаружить источник нарушения либо в
психофизиологических особенностях личности нарушителя, либо в
особенностях его воспитания в раннем возрасте, среды и т. п. Но что точно
не попало бы в поле его зрения — это сам процесс переопределения
ситуации, все связанные с ним проблемы: как осознается, что
взаимодействие не соответствует собственной норме? как «новое»
взаимодействие типизируется тем или иным образом? где источник и каков
«репертуар» типов, которыми пользуются повседневные деятели? каковы
необходимые и достаточные признаки того или иного типа? какова
логическая структура повседневной интерпретации? и т. д. Ответить на
эти вопросы значит разобраться с формальной структурой
повседневности. Пока это не сделано, ясность и прозрачность повседневной жизни
представляются обманчивыми. Она не столько ясна, сколько принята на
ееру как таковая. И не только «повседневными деятелями», но и
специалистами-социологами. Для последних она оказывается, как говорил
Эдмунд Гуссерль, основой, необходимой предпосылкой исследования, но
не становится исследовательской темой. А внимание к этой теме необ-
45
ходимо для прояснения и уточнения фундаментальных методологических
принципов социальных паук.
Может показаться, что здесь делаются чересчур глубокие выводы на
основе не очень значительного социально-психологического опыта.
Поэтому приведу еще один пример эксперимента с повседневностью. Пример
не из Гарфинкеля, а из Булгакова. Заранее прошу прощения за
чересчур объемистую цитату, которая содержит не только описание
эксперимента, но и булгаковский иронический, но в основе своей точный
комментарий к нему. «Причиной приезда Максимилиана Андреевича в
Москву была полученная им позавчера поздним вечером телеграмма сде-
дующего содержания:
«Меня только что зарезало трамваем на Патриарших.
Похороны пятницу, три часа дня. Приезжай. Берлиоз».
...И самого умного человека подобная телеграмма может поставить
в тупик. Раз человек телеграфирует, что его зарезало, то ясно, что его
зарезало не насмерть. Но при чем же тогда похороны? Или он очень
плох и предвидит, что умрет? Это возможно, но в высшей степени
странна эта точность — откуда ж он так-таки и знает, что хоронить его будут
в пятницу в три часа дня? Удивительная телеграмма!
Однако умные люди на то и умны, чтобы разбираться в запутанных
вещах. Очень просто. Произошла ошибка, и депешу передали
исковерканной. Слово «меня», без сомнения, попало сюда из другой телеграммы
вместо слова «Берлиоза», которое приняло вид «Берлиоз» и попало в
конец телеграммы. С такой поправкой смысл телеграммы становился
ясен но, конечно, трагичен».
Это еще один образец обыденной интерпретации — свойственного
повседневности стандартного метода превращения непонятного и
невозможного в возможное и понятное. Воланд, отправивший в Киев немыслимую
телеграмму, выступает как экспериментатор; задача экспериментатора —
нарушить нормальный ход событий и зафиксировать реакцию субъекта
на это нарушение. Реакция оказывается состоящей в интерпретации
«типичная ошибка при передаче телеграммы», цель которой —
превращение бессмысленного и непонятного в осмысленное и само собой
разумеющееся в терминах повседневной жизни. Аналогичную реакцию
обнаруживал и Гарфинкель в экспериментах с логикой повседневности.
Однако возможности этнометодологического эксперимента ограничены.
Граница пролегает в двух отношениях. С одной стороны,
экспериментатор не может освободиться от «уз» повседневности, занять по отношению
к ней абсолютно стороннюю, объективную позицию. Он не может,
например, отрешиться от повседневной «физики», воплощенной в самой
человеческой телесной определенности. Так же де может он выйти в ходе
эксперимента за пределы естественного языка, предоставляющего (и
ограничивающего) набор интерпретационных типов.
С другой стороны, этнометодологический эксперимент ограничен в
морально-этическом отношении. Некоторые из гарфинкелевских опытов,
ориентированные на разрушение традиционных предпосылок поведения,
порождали в психике невольно попавших в их сферу людей «чувства
смущения, неуверенности, внутреннего конфликта, психосоциальной
изоляции, острой и непонятной тревоги, сопровождаемые различными
симптомами острой деперсонализации» 3. Здесь налицо отмеченные Бахтиным
в мениппее «ненормальные морально-психические состояния». В
реальности эксперимент может дурно отразиться на психике его участников.
Для мениппеи таких границ не существует. В ней возникает
возможность нарушения и разрушения (мы методологически рассматриваем
такое нарушение как эксперимент) не только логики повседневности,
т. е. типологических интерпретационных схем, лежащих в основе по-
3 Carfinkel H. Studies in Ethnoinethodology, с. 55.
46
вседневной жизни, но и самого фундамента этой логики, состоящего
в се —в конечном счете — закрепленности в телесном, физическом
существовании индивида.
Основатель социальной феноменологии Альфред Шюц именно в
предметно-телесной закрепленности видел «преимущества» повседневности по
сравнению с другими сферами человеческого оцыта (он называл их
конечными областями значений) 4. Имецно поэтому, считал он,
повседневность в известном смысле реальнее, чем любая иная из сфер опыта,
будь то религия, сон, игра, научное теоретизирование,
художественное творчество, мир душевной болезни и т. п. По Шюцу,
повседневность — «верховная реальность». Человек живет и трудится в ней по
преимуществу и, отлетая мыелью в те или иные сферы, всегда и
неизбежно возвращазтся в мир повседневности.
Пока не требует позта
К священной жэртве Anon дон,
В заботах суетного света
Он малодушно погружен...
Точно так же поэт возвращается к этим заботам и принеся жертву
Аполлону.
Верховная власть повседневности обеспечивается именно связью
повседневных дел и забот с физической телесностью действующего индивида.
Так вот, Воланду — главному экспериментатору булгаковского романа —
удается превзойти не только логику повседневности, но и ее
фундамент—повседневную «физику», гарантирующую устойчивость этой
логики. Пребывая по ту сторону жизни и смерти, он ставит под сомнение
сам принцип верховенства повседневной реальности. Это поистине
уникальный эксперимент, и если мы попробуем отнестись всерьез к
художественной фантазиц Булгакова, то мощен обрести доступ к
повседневности, которая уже —• не верховная реальность, но одна из «конечных
областей значений», которая может объективно наблюдаться в ее
отношениях с другими смысловыми сферами.
II. Логика повседневности
Разберемся сначала в собственной, внутренней логике повседневности,
как она проявляется в романе, т. е. уточним характеристики
повседневности, обнаруживающиеся в ходе воландовского «эксперимента».
Кто выступает здесь в качестве «испытуемых»? Люди различного
социального положения, образования, интеллектуальных возможностей и
способности воображения: писатели, служащие, врачи, ученые, сыщики,
кухарки, буфетчики, домоуцрдвы и др. Но все они демонстрируют одни
и те owe структуры в своих интерпретациях дьявольских воздействий.
Так, свое первое столкновение с невозможным фактом литератор Берлиоз
комментирует следующим образом: «...Ты знаешь, Иван, у меня сейчас
едва удар от жары не сделался! Даже что-то вроде галлюцинации было...».
Чуть позже, когда «галлюцинация» возвратилась, он счел это глупым
совпадением: «Михаил Александрович так и попятился, но утешил себя
тем соображением, что это глупое совпадение и что вообще сейчас об
этом некогда размышлять».
Можно привести и другие примеры. Степа Лиходеев, когда
обнаружил, придя в себя после пьянки, у своей постели Воланда,
проинтерпретировал этот факт как «провал в памяти» и «галлюцинацию».
Повсюду и во всех случаях мы обнаруживаем одно и то же: если
происходящее настолько невероятно, что не вмещается в рамки нормаль-
4 См.: Григорьев Л. Г. Альфред Шюц и социология повседневности.-
«Социологические исследования», 1988, А*2 2.
47
ного течения жизни, повседневные деятели прибегают к одному и тому же
приему — делают попытку просто отбросить невозможный факт,
«объяснив» его как галлюцинацию, провал в памяти или глупое совпадение.
Иными словами, они пытаются истолковать вопиющий, но невозможный
в повседневной жизни факт как несуществующий.
Строго говоря, каждое из названных «объяснений» может выступать
как теоретическое: галлюцинацию или провал в памяти можно
объяснить психологически; совпадению, даже «глупому», можно найти
истолкование в терминах теории вероятностей. Но, как правило, за таким
объяснением отнюдь не стоит теория: названные категории выступают в
качестве повседневных категорий, а не научных понятий. Объяснения
через провал в памяти, галлюцинацию и т. п. представляют собой
повседневные автоматизмы, стандартизованные «ходы» повседневной логики,
обеспечивающие возможность игнорировать чуждое и непонятное до тех
пор, пока оно не вторгается в более интимную сферу практической
телесности.
Такие объяснения можно счесть первым шагом (или первым
уровнем) интерпретации, предпринимаемой как одна из предохранительных
мер в деле «социальной защиты» повседневности. Эта интерпретация
совершается «в языке», она остается «внутри» языка и не требует
практических действий со стороны интерпретатора.
Шюц говорил, что одни и те же факты в рамках какой-либо из сфер
реальности (понимаемых как сферы опыта) могут трактоваться либо как
знаки, либо как символы. В первом случае они входят в целостную
систему, понимаемую как отдельная сфера реальности, конечная область
значений, во втором — выводят за пределы этой системы, указывая на
иную, трансцендентную по отношению к ней, реальность 5. Если
применить шюцевскую терминологию, можно сказать, что на этой первой
ступени интерпретации события истолковываются как знаки; тем самым они
включаются в знаковую систему повседневности, т. е. «нормализуются»,
благодаря чему можно дальше не обращать на них внимания.
Однако процесс интерпретации предполагает еще один шаг, еще одну
ступень. Если «объясненные» факты слишком настойчиво заявляют
о своей необходимости, если они оказываются «слишком» реальными,
если их не удается «нормализовать» и тем самым отбросить в сторону,—
тогда их приходится интерпретировать как указание на нечто иное, чем
повседневность, т. е. на какую-то иную смысловую сферу.
Роман Булгакова демонстрирует несколько вариантов такого рода
интерпретаций, т. е. объяснений непонятного и невозможного путем
отнесения к какой-либо из чуждых повседневности областей значений,
смысловых сфер. Это, прежде всего, объяснение происходящего как
шпионажа, вредительства, преступной деятельности вообще.
Примеров много. Даже деятельность Воланда и его спутников в целом
была объяснена как работа шайки преступников.
«Наиболее развитые и культурные люди в этих рассказах о нечистой
силе, посетившей столицу, разумеется, никакого участия не принимали
и даже смеялись над ними и пытались рассказчиков образумить.
Но факт, все-таки, как говорится, остается фактом, и отмахнуться от
него без объяснений никак нельзя: кто-то побывал в столице...
Культурные люди стали на точку зрения следствия: работала шайка
гипнотизеров и чревовещателей, великолепно владеющая своим
искусством».
Другим вариантом интерпретации на этом уровне (когда «факт
остается фактом и отмахнуться от него без объяснений никак нельзя»)
оказывается отнесение факта к такой смысловой сфере, как «душевная
болезнь». Нет необходимости подтверждать это примерами, ибо такое
5 Schutz A. Collected Papers. Vol. 1. Hague, 1967, с. 312.
48
объяснение свойственно было почти всем героям событий (Иван
Бездомный — самый яркий образец).
И, наконец, третий вариант: объяснение пугающих событий как
результата воздействия дьявола, нечистой силы.
Иногда встречаются попытки объяснить непонятное как «сон». Но
«сон», «мне снится» — такие приемы применяются, как правило, на
первой ступени интерпретации, когда задача — «нормализовать» факты,
отбросив их вон. Если это не удается, приходится «проснуться», и
интерпретация ведет к одному из названных вариантов.
Налицо, следовательно, три возможности: козни нечистой силы,
преступная деятельность, душевная болезнь. Таковы три конечные области
значений, к которым обращаются люди в обыденной жизни, когда
возникает настоятельная потребность понять, объяснить, сделать
приемлемым что-то абсолютно непопятное, неприемлемое с точки зрения
повседневности, жизни «как обычно».
Если следовать мысли Шюца, можно сказать, что на этой второй
ступени интерпретации факты, не поддающиеся традиционному «повсе-
диевностному» осмыслению, используются как символы, указывающие на
трансцендентную по отношению к повседневности реальность. Шюц
полагал, что символы являются средством коммуникации между этой
реальностью и реальностью повседневной жизни. Однако происходящие в
романе события показывают, что такое понимание не совсем верно.
Требуется ответить на два вопроса. Первый: используются ли эти
события—символы как повод к установлению коммуникации с другой
реальностью или, наоборот, их интерпретация в качестве символов ведет
к попыткам избежать коммуникации, заделать, так сказать, «дыры» в
повседневности, через которые вторгается в жизнь иная реальность?
И второй вопрос: вводится ли, благодаря этим интерпретациям,
другая реальность в жизнь повседневности или же, наоборот, символическая
интерпретация становится основанием для попыток редуцировать новые
факты к повседневности?
Обратимся к роману. Какие шаги предпринимают повседневные
индивиды, проинтерпретировав воландовские действия как символы
трансцендентной реальности? Поэт Иван Бездомный, разоблачая дьявольские
козни, зажигает свечку, вешает на грудь иконку и звонит в милицию,
чтобы прислали «три мотоциклета с пулеметами».
Сочетание не такое уж бессмысленное. Оба института — милиция и
институциональная религия — являются как раз механизмами
социальной жизни, которые ставят своей задачей упорядочение либо
элиминирование трансцендентных воздействий на ход повседневности.
Другие примеры: Степан Лиходеев, финансовый директор Римский и
другие — все ищут защиты и помощи у милиции. Некоторые из
участников событий защищаются от потусторонних реальностей, прибегая к
медицинским или религиозным ритуалам.
«Комната уже колыхалась в багровых столбах, и вместе с дымом
выбежали через двери трое, поднялись по каменной лестнице вверх и
оказались во дворике. Первое, что они увидели там, это сидящую на
земле кухарку застройщика; возле нее валялся рассыпавшийся картофель
и несколько пучков луку... Трое черных коней храпели у сарая,
вздрагивали, взрывали фонтанами землю. Маргарита вскочила первая, а за
нею Азазелло, последним мастер. Кухарка, простонав, хотела поднять
руку для крестного знамения, но Азазелло грозно закричал с седла:
— Отрежу руку! — Он свистнул, и кони, ломая ветви лип, взвились
и вонзились в низкую черную тучу».
Блестящий пример, и поучительный! Нигде в романе не идет речь о
преднамеренных, целеустремленных попытках установления
коммуникации с другой реальностью, но повсюду — лишь об обороне повседневности,
о попытках отделить ее от этих реальностей. Это относится даже к са-
49
мому уверенному в существовании других реальностей герою — Мастеру.
В повседневности имеются, встроены механизмы, как раз и
предназначенные для этих целей. Это названные милиция, медицина (в
частности, психиатрия), религия (понимается как совокупность ритуальных
действий). Все это неотъемлемые части повседневной реальности,
функционирующие для того, чтобы элиминировать воздействие
трансцендентного, сведя его к повседневности. Каждый из этих социальных
механизмов вырабатывает собственные специфические методы для достижения
своих целей (можно говорить в этой связи о профессиональной
интерпретации или экспертизе) 6, но все они имеют одну общую задачу:
заделывание «дыр» в повседневности и восстановление ее суверенитета.
Выработка таких механизмов была, можно сказать, одним из важнейших
моментов становления повседневности, ее возникновения из целостной,
синкретической совокупности «примитивнао» восприятия социального
мира 7.
Теперь можно ответить на поставленные выше вопросы:
интерпретация каких-то фактов как символов ведет не к установлению
коммуникации с другими сферами реальности, но к «превращению» их из
символов в знаки, т. е. к редуцированию трансцендентного к повседневности.
Лишь только факт интерпретируется как подлежащий ведению
представителя милиции, или психиатра, или служителя культа («Окропить
помещение!» — командовал домоуправ Босой),—он превращается в
обычный нормальный факт повседневности, поскольку в повседневности
имеются орудия для обращения с этим фактом.
В таком случае то, что Шюц именует символом, лучше считать
симптомом — симптомом «болезни» повседневности. Когда же симптом
осознается в качестве такового, задачей повседневных деятелей становится:
предпринять все возможное для его элиминации.
Таков булгаковский (имплицитно содержащийся в романе) вариант
истолкования повседневности как особой смысловой сферы. Для этой
интерпретации характерна закрытость повседневной жизни, ее
отталкивание от трансцендентных сфер.
Эта черта представляется универсальной. Каждое общество, каждая
культура имеет — в тай или иной форме - механизмы, аналогичные трем
названным. Функции их не всегда четко разделяются. Это зависит от
специфики применяемых интерпретационных схем. Так, в средневековье
душевная болезнь понималась как одержимость дьяволом, а потому
подлежала ведению служителей культа. Экзорцизм — это и ритуальное
действие, и акт лечения. Уже в наше время — в последние десятилетия,
например,— то, что раньше подлежало ведению правоохранительных
органов, стало трактоваться как душевная болезнь, и носители ее
передавались в соответствующие психиатрические учреждения. В этом сказалось
изменение интерпретационных схем ц, соответственно, изменение
представлений о нормальном характере повседневности.
Как меняются представления о нормальной повседневности, каковы,
соответственно, трансцендентные реадыюсти, их влияние ца
повседневность, необходимые способы «социальной защиты» повседневности? — это
все вопросы, требующие содержательного исследования. Изучение их
может объяснить многое в том, что касается роли тех или иных
«защитных» институтов, статуса экспертов-профессионалов по защите
повседневности и т. д. Может сложиться типологическая классификация
культур и социальных общностей по степени открытости или закрытости
повседневности, а также классификация личностей по их отношению к
6 См.: И о н и н Д. Г. Обыденная и профессиональная интерпретация.- В кн.
«Структура культуры и человек в современном мире». М., 1987.
' И о н и н Л. Г. Историзм повседневности.- В кн. «Ускорение
социально-экономических процессов и культурные проблемы социальной организации». М., 1987,
50
трансцендентным реальностям и по типу применяемых ими
интерпретаций.
В свою очередь, такое изучение дает возможность прояснить
подлинные функции того, что мы назвали трансцендентными реальностями, в их
взаимоотношениях с повседневностью.
///. Мир Волапда
Естественно, возникает вопрос о той реальности (неважно, писать это
слово без кавычек или в кавычках), что вторглась в повседневную жизнь
москвичей. По Булгакову, это мир дьявола. Но ограничиться таким
ответом мы не вправе; надо определить его точнее, по действиям и
высказываниям живущих в нем существ (прежде всего самого Волаида),
выяснить и описать его — этого мира — сущностные характеристики.
1. Прежде всего, реальность, в которой живет Воланд, это высшая
реальность по отношению как к повседневности, так и к другим
смысловым сферам. Она как бы охватывает все прочие сферы и делает для
Воланда и членов его свиты возможным свободный и беспрепятственный
доступ всюду. Более то,го, она создает возможность сообщения между
прочими смысловыми сферами, которые иначе оказываются безнадежно
разделенными (например, художественный мир написанного Мастером
романа и мир повседневности, повседневность и мир душевной болезни
и т. д.). Именно ока оказывается «верховною) по отношению ко всем
прочим реальностям, т. е. исполняет именно ту роль, ко.торую Шюц
приписывает реальности повседневной жизни.
2. Эта воланцовская реальность представляет собой царство строгого
детерминизма. Здесь царствует логика — не приблизительная логика
повседневной интерпретации, но математически-астрономическая строго
детерминистски донимаемая логика. Здесь нет хместа бессознательным
допущениям, неявным идеализациям и неосознаваемым предпосылкам, на
которых основана повседневная жизнь.
В тадом мире Воланду не представляет труда делать успешные
предсказания:
«Да, человек смертен, но это было бы еще полбеды. Плохо то, что
он иногда внезапно смертец, вот в чем фокус! И вообще не может ска-
здть, что он будет делать в сегодняшний вечер.
«Какая-то нелепая постановка вопроса...» — помыслил Берлиоз и
возразил:
— Ну, здесь уж есть преувеличение. Сегодняшний вечер мне
известен более или менее точно. Само собой разумеется, что, если на Бронной
мне свалится на голову кирпич...
— Кирпич ни с того ни с сего,— внушительно перебил неизвестный,—
никому и никогда на голову не свалится. В частности же, уверяю вас,
вам он ни в каком случае не угрожает. Вы умрете другой смертью.
— Может быть, вы знаете, какой именно? — с совершенно
естественной иронией осведомился Берлиоз, вовлекаясь в какой-то действительно
нелепый разговор,— и скажете мне?
— Охотно,— отозвался незнакомец. Он смерил Берлиоза взглядом,
как будто собирался сшить ему костюм, сквозь зубы пробормотал что-то
вроде: «Раз, два... Меркурий во втором доме... луна ушла... шесть —
несчастье... вечер — семь...» — и громко и радостно объявил: — Вам
отрежут голову!»
3. Этот универсальный детерминизм порождает отсутствие времени,
или вне временность мира Воланда.
Прошлое и будущее, так же как и современность, столь же
прозрачны и ясны для Воланда, как и для лапласовского гипотетического
«демона детерминизма», который одним взглядом в единый момент времени
51
способен ухватить судьбу всех вещей Вселенной от ее возникновения до
ее конца. История мира здесь совпадает с его логикой.
В таком мире царит вечное настоящее. Прошлое и будущее включены
в момент настоящего. Поэтому эти три характеристики временности
могут по произволу Воланда меняться местами. Все временные
определения кажутся условными и релятивными.
Однако смешение потусторонней «вневременности» и субъективно
переживаемого времени повседневности порождает проблемы и для
самого дьявола. Сам Во ланд сознает трудности, которые возникают при
попытке воссоздать прошлое Мастера и Маргариты.
«Тут Мастер засмеялся и, охватив давно развившуюся кудрявую
голову Маргариты, сказал:
— Ах, не слушайте бедную женщину, мессир. В этом подвале уже
давно живет другой человек, и вообще не бывает так, чтобы все стало,
как было.— Он приложил щеку к голове своей подруги, обнял Маргариту
и стал бормотать: «Бедная, бедная...»
— Не бывает, вы говорите? — сказал Воланд.— Это верно. Но мы по*
пробуем».
Попытка не удается, хотя Воланд предпринял все от него зависящее,
совершил все потребные перестановки и перемещения. Даже для него
оказалась невозможной аутентичная реконструкция прошлого. Чтобы
решить проблему, ему пришлось перенести героев в свой собственный
мир, в котором время отсутствует. Правда, это было не столько
решением проблемы, сколько ее подменой. Воланду не удалось справиться с
субъективным, эмоционально нагруженным повседневностным
переживанием временем, и он подменил повседневность миром логики, где
«времена» одновременны.
4. В мире Воланда нет подразделения знаний на релевантное и
нерелевантное.
Релевантность и нерелевантность зиания — категории, введенные Шю-
цем для описания повседневного опыта. Объем и ясность наших знаний
о предметах, людях, явлениях в повседневной жизни определяются в
первую очередь тем, насколько важны эти знания с точки зрения наших
практических планов и целей. Наиболее важные для достижения цели,
т. е. релевантные, знания отличаются наибольшей глубиной и ясностью.
Менее важные, соответственно, менее четки и разработанны.
Нерелевантные — обрывочны, случайны, неглубоки. Разработанная Шюцем теория
релевантности включает в себя целый ряд важных гносеологических,
психологических и методологических проблем 8.
Так вот, границы знаний Воланда не определены горизонтами
сознательного и бессознательного, четкого и приблизительного, ясного и
туманного знания; в строго детерминированной цепи явлений,
разворачивающихся перед глазами Воланда, всё априори релевантно.
Релевантность или нерелевантность повседневных знаний
определяется практической природой опыта повседневности. Воланд же знает все;
его планы — не планы в смысле повседневной жизни. Его предсказания,
соответствующие строгому детерминизму его мира,—
самоосуществляющиеся предсказания, и его желания соответствуют его предсказаниям.
В этом смысле свобода Воланда заключена в рамки строгой
необходимости, осознающейся им как таковая. Вот замечательный образец одного из
самоосуществляющихся предсказаний Воланда.
«Да, кстати, барон,— вдруг интимно понизив голос, проговорил
Воланд,— разнеслись слухи о чрезвычайной вашей любознательности.
Говорят, что она, в соединении с вашей не менее развитой
разговорчивостью, стала привлекать общее внимание. Более того, злые языки уже
уронили слово - наушник и шпион. И еще более того, есть предположе-
8 См.: S ch и t z A. Theorie der Relevanz. Frankfurt am Main, 1981.
52
ние, что это приведет вас к печальному концу не далее чем через месяц.
Так вот, чтобы избавить вас от этого томительного ожидания, мы решили
прийти к вам на помощь, воспользовавшись тем обстоятельством, что вы
напросились ко мне в гости именно с целью подсмотреть и подслушать
все что можно».
5. Строго говоря, все сверхъестественные черты мира Воланда
определены указанными выше его свойствами. Воланд и его «коллеги» имеют
неограниченные возможности превращения, мгновенного дальнодействия
и т. п. Однако все это может иметь естественное объяснение, хотя это
скорее «естественность» магии или средневековой натурфилософии, чем
современного естествознания. Впрочем, мгновенный полет демона на
Енисей и обратно можно разъяснить с привлечением топологии, так же
как и расширение до сверхъестественных размеров квартиры № 50 в
ночь бала полнолуния9.
Воланд в этом смысле напоминает ученого, который в тиши своего
рабочего кабинета сидит и измышляет «сумасшедшие» гипотезы, причем
он еще мгновенно проверяет их. Проверка оказывается реализацией
гипотезы, а в его воландовском мире любая гипотеза реализуема.
6. В мире Воланда нет смерти. Согласно Шюцу, порожденная
знанием о неизбежной смерти «фундаментальная тревога» является конечным
побудительным стимулом деятельности в повседневной жизни; все наши
планы и проекты определяются, в конечном счете, этим стимулом10.
Воланд, напротив, от такой тревоги освобожден. Он ничего не должен
делать; он бесстрашен, хладнокровен, свободен, действуя sub specie ae-
terni.
Как в целом охарактеризовать реальность, в которой существует
Воланд? Можно ли найти ей какие-то аналогии в человеческом обществе
или в человеческих представлениях? Ясно, что она не соответствует
традиционным религиозным представлениям о рае, аде, загробной жизни
и т. п., а сам Воланд — не традиционный «христианский» дьявол.
Ее можно сравнить с идеальным миром научного теоретизирования.
С идеальным, т. е. не таким, каким он явился и является исторически.
Такое сравнение не просто. Есть различные конкурирующие точке
зрения относительно структуры, функций, содержания научной теории,
и сперва нужно, пожалуй, решить, какая из них адекватна.
Однако существует еще и некий обобщенный образ науки, ведущий
свое происхождение от механистического детерминизма XVII—XVIII вв.,
связанный с именами Галилея, Кеплера, Декарта, затем — Лапласа и др.
и, в общем-то, живущий и поныне в большинстве современных ыауко-
учений. Согласно такому пониманию, задача науки состоит в том, чтобы
охватить весь мир, проследить путь всех вещей мира, объяснить все
факты каузально и, наконец, создать единую грандиозную картину
мира, где будет представлена вся жизнь Вселенной — от ее начала до
ее конца. В таком понимании наука, научная картина мира оказывается
коррелятом реального мира. Это универсальная наука, мир всезнания и
всемогущества.
Его характеристики точно соответствуют чертам, которыми наделил
Булгаков мир Воланда: и тот и другой представляют собой «высшие»
реальности по сравнению с миром повседневности (предполагается ведь,
что наука «выше» и «истиннее», чем здравый смысл); для обоих
характерен строгий детерминизм; оба существуют по ту сторону времени
(наука вырабатывает абсолютные вневременные истины, результаты ее
могут углубляться, но не могут быть изменены); оба не знают
релевантного или нерелевантного знания (для науки ценно знание как таковое,
вопросы его практического применения второстепенны); наконец, в обе-
9 См.: Горелик Е. Воланд и пятимерная теория поля.- «Природа», 1978, № 1.
10 S с h u t z A. Collected Papers, Vol. 1, p. 224,
53
их сферах возможны (и даже приветствуются — в науке) любые, самые
«сумасшедшие» гипотезы.
Речь здесь идет, разумеется, об идеальной, совершенной и
завершенной йауке, которую осуществляет столь же идеальный, совершенный
ученый. Он бесстрастен и отрешен от забот повседневности,
«фундаментальная тревога» ему чужда, ибо наука вечна и бессмертна, и заботы и
тревоги (в том числе и «фундаментальную» тревогу) ученый оставляет
перед ее порогом (порогом кабинета, лаборатории).
И, разумеется, такой идеальный ученый не страдает от провалов в
памяти, галлюцинаций и тому подобных мелких житейских
неприятностей.
Когда думаешь об этой «дьявольской» науке, поневоле приходит в
голову концепция «третьего мира» Карла Попперап. Этот «третий
мир» есть, согласно Попперу, мир идей вообще, связанных между
собой правилами логики. К нему относятся, ему принадлежат все теории
и концепции, когда-либо выдвигавшиеся в истории человечества, и те,
которым предстоит быть выдвинутыми, все гипотезы, все задачи и
уравнения, решенные, решаемые и те, которым еще предстоит быть
сформулированными и решенными.
Принадлежность к «третьему миру» тех з&дач и теорий, которые еще
только будут (а, может быть, и никогда не будут) решены, объясняется
тем, что они имплицитно содержатся в нем, ибо могут быть выведены из
существующих по правилам логики.
В этом мире — в этой «конечной области значений» — чувствовал бы
себя как дома Воланд — булгаковский «абсолютный ученый». И только
он, ибо обыкновенные люди — повседневные деятели — располагают
другой, повседневной логикой, их знание относительно, т. е. релевантно,
их планы, теории, гипотезы определяются множеством факторов, иных7
чем необходимость и всеобщность познания. Неудивительно поэтому, что
столкновение такого «дьявольского» мира с реальностью повседневной
жизни — столкновение, порожденное художественной фантазией М.
Булгакова,— вызвало столько смертей, пожаров, свело с ума десятки
людей.
IV. Заключение
Воспользовавшись булгаковской «мениппеей», мы осветили
некоторые основные разделы социологии повседневности — концепцию
повседневной интерпретации и типизации, учение о конечных областях
значений или смысловых сферах, остановились кратко на методологических
вопросах изучения повседневности. Однако возникает вопрос — зачем
нужно изучать повседневность?
Ответ, очевидно, будет таким: изучение повседневности необходимо
для того, чтобы социально-научное знание не теряло из виду своей
укорененности в повседневной жизни и своей постоянной и глубокой
обусловленности ею. Выше говорилось, что повседневность является
основой и необходимой предпосылкой исследования в социальных науках,
но почти никогда не становится для них темой. Попытка тематизации
повседневности должна выявить глубинные основания социально-научного
знания. Прояснение связи категории повседневной интерпретации^ и
понятий социальных наук — тема, требующая особого рассмотрения. Здесь
можно лишь сказать, что такая методологическая рефлексия и
последующее «воссоединение» науки и повседневности должны иметь своим
следствием преодоление принципиального разрыва между миром
человеческой практики и миром социальной теории. Это означало бы для
социолога отказ от позиций непогрешимого учительства, от ощущения
всезнания и всемогущества, от чувства превосходства человека, воору-
11 См.: Popper К. Objective Knowledge. Oxford, 1972.
54
женного передовой теорией по отношению к человеку, опирающемуся
лишь на здравый смысл. Теория должна спуститься из заоблачных
высей, и тогда она поймет, что пренебрегаемый ею здравый смысл — не
существо низшего порядка, а ее законный и полноправный родитель.
Искомое «воссоединение)) откроет новые возможности участия
социальной науки в человеческой жизни, ибо иное определение наукой
своего места в мире — это и иной мир, открывающий новые бесчисленные
возможности реализации человеческих жизненных планов. На это
намекает и Воланд в известном эпизоде романа.
«Михаил Александрович,— негромко обратился Воланд к голове,
и тогда веки убитого приподнялись, и на мертвом лице Маргарита,
содрогнувшись, увидела живые, полные мысли и страдания глаза.— Все
сбылось, не правда ли? — продолжал Воланд, глядя в глаза головы,—
голова отрезана женщиной, заседание не состоялось, и живу я в вашей
квартире. Это — факт. А факт — самая упрямая в мире вещь. Но теперь
нас интересует дальнейшее, а не этот уже совершившийся факт. Вы
всегда были горячим проповедником той теории, что по отрезании
головы жизнь в человеке прекращается, он превращается в золу и уходит в
небытие. Мне приятно сообщить вам в присутствии моих гостей, хотя
они и служат доказательством совсем другой теории, о том, что ваша
теория и солидна и остроумна. Впрочем, ведь все теории стоят одна
другой. Есть среди них и такая, согласно которой каждому будет дано по
его вере. Да сбудется же это! Вы уходите в небытие, а мне радостно
будет из чаши, в которую вы превращаетесь, выпить за бытие.— Воланд
поднял шпагу».
Есть в социологии так называемая теорема Томаса, гласящая: «Если
ситуация рассматривается как реальная, она реальна по своим
последствиям». Сам Уильям Томас, ее автор, приводил такой пример:
параноик в Нью-Йорке убил несколько человек, имевших несчастную
привычку говорить сами с собой на улицах. Он считал, что эти люди ругают
его грязными словами,— и мстил им. Здесь видно, как ситуация,
воспринимаемая в качестве реальной, становится реальной по своим
последствиям. Да и мы на многочисленных примерах убедились, как
определенного рода интерпретация, т. е. отнесение действия к определенному типу,
предполагает возникновение новой объективной среды,— объективной в
том смысле, что она представляется объективной самим участникам
взаимодействия и обретает подлинно объективное воплощение в их
действиях, направленных на практическое изменение мира.
В устах Воланда слова «каждому по вере его» — поистине дьявольская
формулировка теоремы Томаса, одной из центральных теорем
социологии повседневности. В них — ключ к пониманию судьбы Мастера, к
пониманию того, как реализуются в мире человеческие планы и цели.
ИЗ ИСТОРИИ СОВЕТСКОЙ ФИЛОСОФСКОЙ НАУКИ
От редакции. Наш журнал уже обращался к творчеству выдающегося
советского философа Эвальда Васильевича Ильенкова (1924—1979). Работавший в
тяжелых условиях, подвергавшийся идеологической травле, Э. В. Ильенков еще в конце
50-х — начале 60-х годов начал обсуждать в своих работах ряд проблем, многие
из которых позже оказались в центре философских дискуссий. Это и вопросы
методологии научного познания (его работы о восхождении от абстрактного к
конкретному были пионерскими и оказали большое влияние не только на философов, но
и на многих специалистов в области чаук о человеке), проблемы сознания,
идеального как особого типа реальности, вопросы творчества и деятельности. Э. В.
Ильенков одним из первых анализировал проблему отчуждения при социализме.
Интерес к творчеству советского философа растет не только в нашей стране, но и за
рубежом. Проводятся семинары, обсуждающие его идеи, выходят статьи и книги,
развивающие его концепции. Профессор Университета Сан-Диего (США) Д. Бэк-
херст написал книгу «Ильенков и современная советская философия».
В этом номере журнала мы публикуем подборку материалов об Э. ,В.
Ильенкове.
Слово об Ильенкове
Ф. Т. МИХАЙЛОВ
Так уж случилось, что познакомился я с Э. В. Ильенковым довольно поздно -
в середине, а то и в конце 60-х. И лишь за десять с небольшим лет до его
кончины почувствовал себя своим в его доме, смог приходить без звонка, звать
по имени и на «ты». То есть так, как многие и многие не только истинные
друзья, но и сердечно сблизившиеся с ним единомышленники, большинство из
которых справедливо считало себя его учениками. ... Вот дверь широко распахнута,
и Оля - профессор К. И. Салимова, жена и самый преданный друг Эвальда,
ничуть не удивившись неожиданному гостю, будто даже страшно радуясь его
приходу (да и вправду, обычно совсем не жалея), старается прежде всего завлечь его
на кухню и покормить... что ей чаще всего и удавалось. Не о себе речь веду:
гостей всегда было много, и именно так попадали они в квартиру Ильенковых.
Недавно в той же «Литературной газете» один критик вспоминал тех, кого он в
60-е годы встречал у Эвальда. «Это был сплоченный кружок единомышленников,-
пишет критик.- Но одних уж нет, а большинство далече, за кордоном». Видно,
не часто бывал он в зтом доме или что-то потерял в памяти за давностью лет.
Здесь никогда не было и не могло быть «кружка» - не тот хозяин, не тот стиль
жизни и общения. С добрую сотню хороших и разных людей встречал я у
Эвальда... И Н. Коржавина, и В. Давыдова, и А. Мещерякова, и С. Виноградову,
ж Н. Дубинина, и В. Зинченко, и А. Зиновьева, и Ю. Карякина, и ... да нет,
страниц пяти не хватит перечислять и очень знаменитых и знаменитых не очень,
и просто человечных, ничем не прославившихся. Другом этого дома был На-
зым Хикмет. И А. Н. Леонтьев, и Б. М. Кедров... Всплывают в памяти все
новые лица, фигуры, слова. Простить себе не могу, что однажды увлек меня
Эвальд Васильевич к Юрию Любимову (и с ним он хорошо дружил), вез читать
56
свою пьесу: «Ни бог, ни царь и ни герой,..», да дело какое-то было у меня, вот
такое важное, что и не помню сейчас, и помнить-то, видно, не стоит. А вернее
всего: постеснялся к горящему творчеством человеку незваным явиться. Так же и
с Галичем получилось... Особенно любил Эвальд его песню о Зощенко. Не пел
ее — рассказывал, но так, что слезы всегда на глаза наворачивались.
Думаю, что очень многие сегодня могли бы поделиться личными
воспоминаниями о годах близости с Ильенковым, но я позволил себе чисто личное с особой
целью, если хотите, собственно деловой. Прежде чем слово мое о школе
Ильенкова прозвучит, необходимо было сформулировать забавный парадокс: речь пойдет
именно о школе, а школы как таковой никогда у него и не было. В
подтверждение тому — последнее личное воспоминание.
Несколько лет тому назад пришлось мне выступать с серией докладов (или,
вернее, с одним, но в течение трех дней) перед коллективом философского
факультета Ростовского государственного университета. В большущей аудитории,
представляя докладчика слушателям, декан факультета вдруг сказал, обращаясь
теперь уже ко мне: «А Вам я представлю наш факультет одним, уверен,
приятным для Вас словом: мы все - от первокурсника до декана - ильенковцы». Зал
буквально взорвался аплодисментами. А вот и прямо противоположное: недавно
на защите одной из наших аспиранток ее официальный оппонент с плохо
скрываемым раздражением заявил: «Работа выполнена профессионально, но позиция
диссертанта неприемлема - она же явная ильенковка». И тем также утвердил
наличие этой особенной школы.
И все равно: школы не было. Э. В. Ильенков никого не учил. Он работал,
писал. Выступал не часто. И слово его влияло на читателей и слушателей только
потому, что это было серьезное слово высокой философской культуры,
возрождению которой он отдал свой талант, всю душу и саму жизнь. В человечески
искренней статье, ставшей предисловием к посмертному изданию книги Ильенкова
«Искусство и коммунистический идеал», Мих. Лифшиц очень точно раскрыл секрет
обаяния его философии. Здесь следовало бы процитировать целую, как минимум,
страницу из этой статьи, но, отсылая читателя к первоисточнику, приведу лишь
два отрывка:
«Помню, я читал его раннюю рукопись о диалектике в «Капитале» Маркса
(есть еще более ранняя — «Космология духа»,— Ф. М.) и понял, что годы войны и
послевоенных событий совершенно устранили лучшую традицию предшествующе
го десятилетия, что каким-то чудом семена, брошенные тогда в благодатную
почву, но основательно затоптанные, все же взошли, хотя и в другой, неузнаваемой
форме. Эвальд Ильенков, с его живым интересом к Гегелю и молодому Марксу
(открытому у нас в двадцатых-тридцатых годах, а не за рубежом, как пишут
иногда по незнанию или по другим причинам), с его пониманием диалектики
«Капитала» Маркса, «Философских тетрадей» Ленина, казался наследником наших
дум. Этими словами я не хочу ослабить оригинальность Ильенкова. Он шел в том
же направлении, но в другое время и другим путем. Я хочу только сказать, что
его появление в моей берлоге было как бы доказательством закона сохранения
мысли, воспроизводства ее в новых условиях, если она того заслуживает. Для
меня он был неожиданно найденным союзником в тот момент, когда подъем
марксистски мыслящей и образованной молодежи тридцатых годов остался только
хорошим воспоминанием. За Ильенковым чувствовалось множество других
молодых голов, множество, правда, неопределенной плотности» *.
И еще, если позволите: «Читая сегодня произведения Эвальда Ильенкова,
я в каждой написанной им строке вижу его деликатную и вместе с тем
беспокойную натуру, чувствую пламя души, страстное желание выразить близость
земного, нерелигиозного воскресения жизни и эту нервную дрожь перед
сложностью времени, приводящей иногда в отчаяние. Неплохо сказано гдз-то у Томаса
Манна: нужно привыкнуть к тому, что привыкнуть к этому нельзя.
1 Цит. по кн.: Ильенков Э. В. Искусство и коммунистический идеал.
М., 1984, с. 6,
57
Вы не могли привыкнуть к этому, мой друг, вот почему, наверное, вы так рано
ушли от нас» 2.
Его жгучую боль за судьбы культуры, скрытую в жестких продуманных
строчках, как бы вбивающих в легкомысленные головы людей, приобщавшихся к
философии через толщу бездарных комментариев к убогой четвертой главе «Истории
ВКП(б)», упругие формулы логики исторической общественной деятельности
человека,— эту боль многие (видно, безнадежно уже отравленные облегченным пафосом
популяризаторских брошюр) принимали за ригоризм сектанта. С некоторыми из
таких он бурно полемизировал. Нет, не надеясь и их увлечь живым духом
философии. Полемикой с ними он думал расшатать инертность мысли молодых
читателей, привычно следующих за «дешевыми разносчиками научных истин», как
называл Энгельс философов, мыслящих «естественно-научно» и принимающих
каждое последнее слово натуралиста за выдающееся философское обобщение. Таких
ни увлечь, ни убедить в чем-либо нельзя. В одном из рассказов марсианского
цикла Рея Бредбери заблудившиеся во времени при встрече не могут даже руки
пожать друг другу - в том же месте пространства они взаимопроницаемы, нет в
них друг для друга ни сопротивления, ни тепла. Вот так и с нашими
«разносчиками»: сквозь, мимо текста Ильенкова проходит их взгляд, не чувствуя
сопротивления аргументации, не задерживаясь на узловых точках мысли. Только
«выводы» колят их больно, только на «формулировку» обрушивается весь их
критический пафос. «Как,- несется по городам и весям крик возмущения,- идеальное,
и вдруг не в голове! Не субъективная реальность переживания организмом
состояния собственных нервов! Гегельянщина, платонизм! Идеализм объективный!»
И сочиняется из плохопереваренной мешанины отвлеченных
нейрофизиологических представлений и предельных абстракций теории информации «новейший»
вариант старого как мир натуралистского объяснения чистой субъективности
идеального: когда одна нейродинамическая система считывает информацию с другой,
раскодируя ее,- носители информации материальны, а значение таковой,
естественно, не вещественно, а следовательно, идеально. Ей-богу, у Демокрита:
«оттиски», оставляемые на теле центрального чувствилища внешней атомной оболочкой
вещи, от нее оторвавшейся,- звучит не хуже. Его натурализм даже прозорливее,
ведь именно сущностная форма (эйдос) внешнего предмета, ему как таковому
присущая, собственной персоной достигает чувствилища души и внедряется в нее.
А современные толкователи идеального как лишь субъективной реальности,
уловив чувствительнее самых лучших сейсмографов «подземные толчки», грозящие
разрушить здание примитивного натурализма, вне которого им, не читавшим даже
Фихте, так неуютно, преподносят нам на полном серьезе и со ссылками на самую
передовую науку полумистический, полу вульгарный «кентавризм». Тут и
считывающие информацию друг с друга материальные нейронные системы, тут и
неизвестно откуда выскочившая личность. Но она-то что такое: система всех систем
или одна из них, наделенная светом разума?... Задавать эти вопросы критикам
Ильенкова — безнадежное дело. В их логике человек один на один противостоит
внешним источникам информации (материальным предметам и процессам), и вся
драма идей разрешается на этом робинзоновском необитаемом острове. Помню
спор солидного философа с самым рьяным защитником «информационного»
идеального. Философ спросил его: «Вот в Третьяковке на стене висит полотно Репина,
а в зале никого... Так как же по-вашему, образ старика отца, в припадке безумия
убивающего своего сына, исчез с полотна, как только последний посетитель вышел
из помещения?» Даже я не ожидал, что критик наш будет столь
последовательно упорным: «На материальном холсте только материальные краски; образ же
возникает лишь в голове воспринимающего информацию человека»,- таков был
ответ. Бедный Репин! Он-то старался думать и чувствовать цветом, рисунком,
композицией! И навсегда впечатленный им жуткий образ отчаяния, еще как-то
надеющегося остановить мгновение, вернуть роковой миг, отвергнуть неминуемое,
оказывается не на полотне... Это какая-то фата-моргана, возникающая во мне,
в моей бедной голове и только в ней. Тогда и форма стула не зовет меня,
2 Т а м же,с. 1
58
усталого, присесть... Та самая, объективно приданная дереву руками мастера
форма! Эх, да что там говорить! Бесполезно говорить.
А Ильенков спорил, доказывал, но, повторяю, не «разносчикам», а тем, кто
еще способен свежим взглядом прочитать Декарта и Спинозу, Фихте и Гегеля,
Маркса и ... Мегрелидзе, например. И вслед за его текстами втягивались молодые
(и не очень) в чтение философской классики, и спорили с ним, и убеждали его...
Поверьте, он очень даже умел слушать и обдумывать возражения. И принимал их,
если находил разумными.
Снова вспоминаю, как незадолго до кончины он, усадив меня в свое кресло и
присев на подлокотник (любимая поза - это подтвердят многие), заставил
читать кусок рукописи. Свежий, утренний - для книги о диалектике Ленина и
метафизике махизма. Рукопись была еще не правлена рукой автора. Я читал, он
«бежал» глазами по следу моего взгляда, скользящего по машинописным строчкам.
Но вот, отложив рукопись, я стал упрекать его за излишнюю резкость выражений
(«в ругани ты Ильича самого перещеголял»), за перехлесты в, как мне казалось,
одностороннем изображении и истолковании фантастической повести А. А.
Богданова (Малиновского). Последнее замечание он отверг неумолимо: «Разве ты не
видишь, что надежда Богданова на технократическое от имени науки управление
уродлива, но реально воплотилась в жизнь! «Частичность» мира, не достигшего
обобществления труда и трудящихся, представленная «умными» инженерами
вещей и душ, воплощенная в механизме управления, есть власть, есть лишь
ступень к новой и самой страшной форме деспотизма. И мы эту ступень уже
«осилили»,- волновался он. И в дальнейшем не только не ослабил, но даже усилил,
как мне показалось, критику идеи просвещенного, но властного управления. По
другие замечания выслушал молча. «Пожалуй,-уставив в пространство
неподвижный взгляд больших, круглых, выразительных глаз, заметил он как-то вяло,-
сказано у меня верно, но... додумаю». Заспорили о чем-то другом, Эвальд возражал
снова. Потом снова вернулся к рукописи, что-то перечитал и отложил. В
окончательном (нет, окончательного варианта так и не получилось, он далеко не
закончил работу) варианте замечания, как говорится, были учтены. То же рассказывал
мне не раз и Э. В. Безчеревных, нежно любивший его, не намного его
переживший. Именно он был издательским редактором книг Ильенкова и уверял, что
автора более внимательного к замечаниям ему встречать не приходилось.
Ну вот. Получилось и еще одно «самое последнее» личное воспоминание.
Возможно, для моей цели не только личное, но уже и лишнее. Об ушедших из
жизни всегда вспоминают хорошее, а тем более об Эвальде хочется рассказать
побольше.
Но и при жизни, и после смерти говорили и плохое. Например, что он не
очень храбрый человек, что панически боялся репрессивного аппарата, что
поэтому не всегда писал то, что думал. И что из Ленина диалектика великого «лепил»
по той же причине. Страх, должно быть, был; но не тот храбр, кто не боится,
а тот, кто и при этом говорит и делает так, как велит ему совесть. А ведь
это о нем на одном из научных собраний, посвященных его памяти, было
сказано: «Говорят иные, что Эвальд не был храбр, только вот ведь что
получается: с этой трибуны, с трибуны зала всех собраний Института философии в самые
тяжелые времена один только Эвальд и говорил открыто то, что думал». Это,
конечно, преувеличение — «только Эвальд», но что среди немногих и он — это
правда. Писал и говорил искренне. Искренне «пересаливал» в спорах с унижающими
философию. Искренне не соглашался со своими друзьями, если они переходили в
стан борцов с диалектикой, с марксизмом. И был он однолюб, упрямо работал
над проблемой творческого воображения как истинно человеческой, сущностно
человеческой основы всех прочих субъективных способностей людей, рождаемой
каждый раз заново в изменяющей обстоятельства со-деятельности людей. Истории
и способам этой деятельности, логике, способной опереться на исторические формы
общности, как на собственные категории, он и посвятил себя без остатка.
Давать сжатый обзор его взглядов нет смысла. Лучше внимательно
перечитать то, что ои нам оставил. Лучше — книгу за книгой, статью за статьей. И
именно теперь, когда куда-го вглубь времени ушли наши старые нервные споры, когда
59
на поверхности тьма-тьмущая новых проблем. А вдруг окажется, что и к ним,
к их теоретическому осмыслению ведут логические пути-дорожки, для прокладки
которых всю свою жизнь работал Э. В. Ильенков.
Ведь за теми спорами о продуктивном воображении, об идеальном, о
противоречии, его природе и формах бытия, об учении и воспитании, об абстрактном и
конкретном, как и о многом другом, скрывалось глубокое различие двух способов
полагания предмета мысли - двух разных подходов вообще к любой проблеме,
достойной человека. Первый — традиционный подход рассудочного мышления к
своему предмету. Назовем его хотя бы для краткости «нерефлексивным». Предмет
теоретического мышления здесь конструируется пространственно, «берется в форме
объекта» (Маркс) и уже поэтому как бы совпадает в сознании с объектом,
представляясь сознанию своей пространственной проекцией. К самому себе мышление
вынуждено отнестись как к чему-то принципиально внешнему для предхмета,
чуждому ему. А именно: как к чисто субъективной способности разума, так же
предстающему самому субъекту в виде его «естественного» качества или свойства.
Такого же естественного, как свойство огня греть и жечь. Мировоззренческих и
методологических следствий из столь «естественной» установки не счесть. Здесь и
представление о познании как «передаче» органами чувств и мышлением свойств
объекта на суд разума. Здесь и неискоренимая в натуралистических штудиях
убежденность в том, что именно объект диктует разуму методики его
исследования: есть в мире вещей, например, сила притяжения их друг к другу,
следовательно, измеряй ее, высчитывай., соображай, чему она пропорциональна прямо,
а чему обратно. А если обнаружил микрочастицу, то по ее объективным
свойствам для ее зглавливания и изучения надо конструировать и строить
соответствующие приборы и т. д., и т. п. Здесь и неизбежное допущение предустановленной
гармонии мышления и мира объектов. Здесь и вынужденное признание
неизбывной таинственности, а, возможно, и абсолютной непознаваемости интуитивных
всплесков продуктивного воображения, видимо, рвущихся навстречу предметному
(сиречь, объектному) миру из таких глубин психики, которые сознанием и не
измеряются. И то верно: если психика, сознание, разум, мышление есть нечто
изначально субъектное, к миру объектов относящееся лишь в качестве «уловителя»
и «преобразователя» сигналов (информации и т. п.), идущих извне, тогда
неизбежно признание любой силы познания и преобразования мира как силы, изначально
и по сущности своей так же субъективной, в субъекте замкнутой, да и самим
субъектом правящей.
Категории же мышления — просто наиболее широкие обобщения внешних
впечатлений, а если это не проходит (а это, действительно, в серьезном подступе к
практике мышления и мысленного конструирования не проходит), то тогда они —
врожденные формы самого мышления, кои мы называем разными словами.
Например: причина — действие, возможность — действительность, сущность — явление
и т. п. Что же касается противоречий, то тут уж совсем обязательно исходить
из семантики слова: речение против, спор, а то и результат непоследовательности
в развитии мысли, приводящей к тому, что субъект начинает что-то утверждать и
отрицать в одно и то же время. В мире объектов (в объективном мире) никто
ничего не «речет», ни о чем не судит, а потому и запутаться не может, и с
самим собой «спорить» не будет: объект есть то, что он есть, а изменившись, он
становится другим, то есть опять-таки тем, чем стал.
И наконец, последнее из перечисленных следствий рассудочного,
нерефлексивного подхода. Последнее в качестве примера, ибо имя таким следствиям - легион,
и каждое из них вызывает столкновения философов и теоретиков, коль скоро стоят
они в разном отношении к собственным способностям полагать предмет своего
мышления. Те, кто прочно усвоил логические приемы и зависимые от них
представления первого подхода, опять-таки просто вынуждены видеть вокруг себя
множество отдельных вещей и предметов, разными и разнообразными свойствами
обладающих. Все это многообразие для них (как многообразие самостоятельных
сущностей; скажем, по Аристотелю - «первых сущностей») и есть подлинное
богатство конкретного, «вот этого», здесь и теперь представшего перед наблюдателем
мира. Благодаря естественной способности своего разума, тот же наблюдатель
может отдельно рассмотреть то или иное качество (свойство), ту или иную
особенность, но повторяющуюся у целого ряда вещей - объектов. Он как бы отвлекает
свойство от его носителя, и возникает в его сознании представление, скажем, о
тяжести или белизне, мягкости или... стоимости. Отвлечение есть абстрагирование,
а дальнейшие операции мышления с такими абстрактными (отвлеченными)
категориями есть не что иное, как абстрактное мышление. Итак, и в этом случае
конкретное - в миру, абстрактное - в сознании, в мысли. Между миром и мыслью
пропасть не зарастает.
Да, чуть было не забыл: идеальное! И тут логика подхода к предмету
мышления и к мышлению (ставшему тем самым тоже предметом мысли) с железной
необходимостью заставляет теоретика-натуралиста или, что то же самое,—
нерефлексивно мыслящего теоретика, признать любой объект материальным (так
сказать, целиком и полностью), плоды же абстрактного мышления и сам процесс
оперирования с абстракциями — идеальным. О том, к каким казусам приводит
такой подход, верный библейскому принципу: «или — или, а что сверх того, то от
лукавого», я говорить не буду. Достаточно ранее прозвучавшего напоминания о па»
радоксах, а то и просто полной неразберихе в случае с натуралистическим
толкованием того же идеального.
Второй подход (назовем его теперь уж рефлексивным, то есть на себя
обращенным и себя не упускающим из виду даже при суждениях об объектах) oi -
личается от первого прежде всего тем, что различает вынужденно объект и
предмет мышления (осмысленной, целесообразной деятельности вообще). Почему
вынужденно? Да прежде всего потому, что считается с фактом, на разные лады
обсуждавшимся в истории философами, но лишь укрепившимся этими
обсуждениями в их сознаний в качестве факта. Таким фактом является то, что, строго
говоря, прежде чем зафиксировать «объект» как таковой, прежде чем выделить
его даже для наблюдения, а тем более для таких его преобразований, которые
позволяют зафиксировать в нем нечто устойчивое, для сообщения другим доступное,
человек должен... изобрести орудия, средства и способы, подходящие для таких
своих активных действий.
Простым запечатлением в мозгу или на экране сознания наличных свойств
объекта тут уж никак не обойдешься. Поэтому мышлению все время приходится
иметь дело не прямо с самим объектом как таковым, а с теми мышлением же
рождаемыми образами орудий, с помощью которых этот объект и для
практической деятельности, и для самого мышления мог бы быть представлен (поставлен
перед). И нельзя не согласиться по крайней мере с двумя следствиями такого
простого исторического факта. Во-первых, оказывается, предмет осознающей себя
человеческой деятельности изначально не тождествен некоему безразличному к
ней, деятельности, объекту, из которого его приходится «изымать» для
представления сознанию. И не методами, органично, безусловно и врожденно присущими
самому человеку как таковому: его мозгу, его психике, его сознанию, разуму и
мышлению. Ведь сами эти методы человеку вместе с другими и для других (только
поэтому и для себя) приходится изобретать, подгоняя себя образом цели, также
не возникающим спонтанно в голове, а рождающимся при поиске выхода из той
или иной «безвыходной» ситуации. Только и сами эти методы ничего не стоят и
даже не могут замаячить на горизонте поиска без одновременно потребного нового
орудия или средства воздействия на строптивую ситуацию и ее вещные атрибуты.
Вот и получается, что предмет осмысливающей себя человеческой деятельности
(предмет мышления) - совсем не то, что объект.
Но ведь и мышление теперь уже совсем не то, что в первом случае, при
первом нерефлексивном подходе к нему. Голову, конечно, и в этом случае надо
иметь на плечах. Но и руки, и ноги, и все прочие органы, обеспечивающие
целесообразную жизнедеятельность человека, его потребности и способности их удов-
61
летворевия. Для мышления все это абсолютно необходимое, однако не достаточное
условие. Самодостаточное, то есть - главное, системообразующее, генерирующее
изменения и во всех остальных «условиях» и средствах жизни - это... воображение.
Но и оно оказывается при исторически рефлексивном подходе к логике
человеческой деятельности не врожденным свойством, не даром бога или природы, а
рождающимся в обращениях людей друг к другу способом переводить во-образ то, что
ничего не (или мало что) значило до этого для обращающихся друг к другу
людей, вместе стремящихся вырваться из-под давления обстоятельств. То есть не
просто в некий, зеркально повторяющий внешние, чувственно воспринимаемые
качества объекта, а в именно в общезначимый (значимый одно и то же для всех,
всеобщий), формулируемый для обращения людей друг к другу и только для них
«именно такой» образ. Проективный даже тогда, когда человек один на один
созерцает объект.
Ведь и в этом случае он занят формообразованием (этот процесс психологи
сегодня и называют восприятием; только у животных формообразование следует
видоспецифической потребности, такому же опыту и т. п., а у человека -
потребности в обращении к другим людям, почему и формообразование у него есть
прежде всего образование понятной формы).
Мышление человека - отнюдь не переработка информации в недрах серого
вещества мозга, хотя и в таком универсально-бытийном механизме оно нуждается.
Мышление человека — это прежде всего и по самой своей сути, не говоря уже о
происхождении, деятельность, обращенная к другому и всегда вместе с ним
совершаемая (даже если этот «другой» сам субъект мышления) для разрешения
противоречий в сложившихся обстоятельствах, в задачах, которые бытие не всегда
любезно подбрасывает людям. Для мышления мало мозга одного человека: всегда
нужны мозги, а главное — то, что приводит их в движение — потребности, самими
же обладателями мозгов произведенные вместе с производством средств к жизни,
условий жизни и форм своего общения.
Так сближаются, грозя слиться, берега ранее непроходимой пропасти,
отделявшей мышление и бытие. И при этом сближении, при исторически рефлексивной
реконструкции шагов и этапов, форм и всеобщих способов становления и развития
осознанного бытия людей - реального процесса их жизни, принципиально ииысз
даются ответы на вопросы о том, что есть противоречие, конкретное и абстрактное,
идеальное и т. д. по всему неполно приведенному выше перечню.
Обоснованием этих ответов и занят был всю свою творческую жизнь
Эвальд Васильевич Ильенков. Это он, анализируя «Капитал» Маркса, ярко
продемонстрировал нам еще в 50-е годы, что не выдерживает критики как абсолютно
несостоятельное понимание абстрактного и конкретного, логики и теории познания
вообще, все еще распространенное в нашей философии. Вернее, в сознании
несостоятельных учеников полузабытых эмпиристов. И оказалось, что созерцание в
наличном бытии свойств предметов, представших перед субъектом, не есть
отношение к конкретному. Напротив, сие есть типичнейший пример самой
первоначальной бытийной абстракции. Недаром так любил Эвальд Васильевич советовать всем,
кто начинает свое знакомство с философией, прочитать статью Гегеля «Кто мыслит
абстрактно»! Конкретное же обернулось богатством развитых форм, многообразием
выявления ведущей силы процесса во всех этих (в том числе и противоречивых,
противостоящих друг другу) формах. И только их целокупность, только
осмысление их богатства как некоторой целостности поаволяет увидеть в каждой из них
всю полноту действия единой для всех для них сущности.
Оставим в стороне вопрос, вытекающий из такого подхода к абстрактному и
конкретному,— вопрос о трудной работе мысли в ее движении от абстрактного к
конкретному, хотя и в самое последнее время не так уж редко приходится
слышать: вначале человек идет от конкретного к абстрактному, а потом — наоборот.
Эту форму, скрыто возвращающую в философский обиход привычный для
нерефлексивно мыслящих эмпирический подход к мышлению и его предметам, а тем
самым и к отношению мышления к бытию, приходилось не только слышать, но
и читать. Где? Да в тех же старых вузовских учебниках. Несмотря на это, не
буду цитировать ни Гегеля, ни Маркса, ни Ильенкова. Дело сделано, и сделано
основательно. А имеющий голову, да внимает и думает.
Такими же «необычными» предстали в работах Ильенкова и все другие его
сгожеты и темы. Но следует, однако, иметь в виду, что в постоянном напряжении
выдерживая давление «охранителей-ортодоксов», Ильенков во многих работах
своих доводил аргументацию «от противного» до такой степени демонстративности,
что терялась порой «другая сторона» проблемы, обоснованию которой он так
неистово отдавался. Так, например, на мой взгляд, произошло с разъяснением бытил-
ности мышления и трактовкой идеального. Возможно, и с какими-либо еще
сюжетами, но я остановлюсь на этих двух, еще раз предупреждая читателя, что нельзя
не учитывать адресата некоторых публикаций о мышлении и идеальном.
Итак, о бытийности мышления. Некоторые читатели Ильенкова, в том числе ч
симпатизирующие ему как философу и личности (в нем это, правда, сливалось),
не могут и сегодня согласиться с чисто спинозовским, как им кажется, взглядом
на проблему мышления в его реальности. «Движение по предмету, движение по
логике предмета, как два уровня телесного воспроизведения в реальном жизнедей-
ствии внешней формы и сущности воспринимаемого мышления мира» — эта
формула ничего не дает, кроме утверждения земного, бытийного, не потустороннего
бытия мысли. Ну, еще и уподобление субъективного образа образу (форме и
сущности) предмета кое-как тут объясняется. Но ведь чистейший же механицизм!
Зачем, мол, понадобилось Ильенкову - именно ему! - использовать эти старые
фокусы Спинозы в споре с нашими вульгарными материалистами, либо вообще
отрицающими бытийную реальность мыслительной деятельности, либо, напротив,
полностью сводящими эту деятельность к физиологической функции мозга? — Так
нередко спрашивают, более того, так нередко возмущаются думающие читатели.
Им кажется, что даже обращение к логике продуктивного материального,
общественного производства - развернутой тем же автором, не спасет положение.
Пресловутое «круговое движение руки», воспроизводящее форму круга, но не передающее
образ круга (отдельно от движения руки) куда-то «внутрь, в психику, в мозг»,
распространяется якобы и па орудийно опосредствованную взаимную деятельность
людей, на труд> на общение, на предметную деятельность вообще, сохраняя €
здесь свое значение ключика Буратино — ключа к тайнам отношения мышления
и бытия.
Такова сила инерции удачно найденного для частной цели яркого образа: он
претендует и на объяснение всеобщего. И вот что интересно: хорошо помню, как^ю
взрывную роль играл этот образ для переориентации сознания тех, кто привык
«медицински» оценивать функцию мозга - мышление. Ильенковский бросок к
Спинозе, а от него к Гегелю, к Фихте, к классике философской, к Марксу - этот
путь вслед за Эвальдом Васильевичем прошли на моих глазах многие из бывнгах
«натуралистов». В текстах Эвальда Васильевича и этот образ работал безотказно...
на первых порах приобщения к философской культуре. Но нередко те же
«обращенные» уже после Гегеля и современных философов (зарубежных) с
удивлением смотрели на злополучное «движение руки, воспроизводящее форму круга»: но
здесь же нет и намека на продуктивное воображение! — восклицали они,— а бе.ч
его решающей роли никакое это не мышление, а сканирование примитивной
копировальной машиной внешних границ предъявленного ей объекта!
Кто мыслит абстрактно? Видимо, все-таки тот, кто оценку большому
философу, включающую в себя характеристику его самости, его места в истории нашей
философии, дает на основании одного запомнившегося образа, сыгравшего в свое
время в его собственном развитии важную роль. Все это так, но, как
предупреждение всем нам,- в философии нет и по самой природе ее (если, конечно, это
рефлексивная философия) не может быть «частности», произведенной для
«частной» цели и не несущей в себе и через себя всю полноту исходного основания
философской концепции. И все же я вынужден признать, что сам по себе
«спинозизм» при утверждении бытийности мышления — работает не только на явление
читателю концепции самого Эвальда Васильевича, но и подводит под нее
незаметную вначале мину. Нет, не потому, что сам Спиноза «чего-то недопонял» и вообще
устарел: Ильенков ведь и брал его именно как необходимый исторический этап
63
становления диалектически противоречивого тождества бытия и мышления. В чем
легко убедиться, обратившись к текстам. И тем более он никогда не ограничивался
этим этапом, прослеживая его развитие в самой истории философии, идя строго
вслед за ней. И его Фихте, его Гегель, его, наконец, Маркс - разве они оставили
в неприкосновенности логику «уподобления»? (Кстати, на самом деле в чистом
виде ее нет и у самого Спинозы.) Но Спиноза, как провозвестник диалектической
идеи тождества мышления и бытия (новой для Нового времени), сделал однажды
свое дело в текстах Ильенкова и, как Мавр, мог бы уходить. Однако он оставался
и, на мой взгляд, все же не случайно. Он что-то мешающее делу нашептывает
нам, когда мы читаем великолепные статьи Э. В. Ильенкова об идеальном. В
первой («Философская энциклопедия» т. 2, М., 1962) голоса старика Спинозы я,
признаюсь, не слышал. Но вот в посмертно изданной нашим журналом статье
(«Проблема идеального» - «Вопросы философии», 1979, №№ 6 и 7) все же
ощущается присутствие логики «уподобления», хотя бы и скрытой (более того,
преодоленной) движением гегелевского «снятия» (Aufheben) к «снятому» (Ideelle). Но
ощущается особенно теми, для кого подобная «гегельянщина» - темень темная. Скользя
глазами мимо главного, они вычленяют для себя одну лишь формулу:
идеальное — это существование вещи вне самой вещи; это — ее воспроизведение в ином
«материале» - в предметной деятельности людей, в образах действия с «вещью».
А вычленив только это, чувствуют себя неуютно. Будто что-то очень важное для
понимания идеального недосказано в данной формуле.
Верно: главное в ней пропущено. Но не у Гегеля и тем более не у Ильенко-
sa, которого также следует брать в полном многообразии его материалистических
подходов к идеальному. И сама формула сия — не что иное, как момент развития
мысли о бытийно творческой силе вечно пребывающего, конечные формы
преобразующего предметного творчества природы и человека. И все же. Наверное, в особом
внимании к «формуле» воспроизведения, в небрежении процессом
формообразования, формотворчества, требующего для своего понимания ответа на вопрос о
природе знтелехиальных сил, повинны не только забывшие или невнимательно читавшие
Гегеля читатели последней статьи Ильенкова... Спинозовский «модус» субстанции,
способный выявить один из ее атрибутов — мышление — именно воспроизведением
формы и сути любых иных модусов, в данной статье имеет одно имя: Человек.
Природа же способности человека к творчеству более подробно раскрыта в других
работах Ильенкова, ему постоянно памятных и для него подсознательно
присутствующих и в обсуждаемом тексте.
Читая его труды, нетрудно убедиться, что для него не только причиносообф&з-
ные, но и целесообразные силы natura naturans (это, собственно, одна сила — сила
творения новых форм бытия) по существу своему далеко еще не раскрыты и в
самом близком нам природном «объекте» - в человеческой продуктивной,
творческой деятельности. Понятие же об идеальном не есть понятие об эпифеномене
действия данной силы, но о самом ее действии, о «механизме» его. Именно
Эвальд Васильевич много, гораздо более других сделал для того, чтобы мы сегодня
смогли ответить на вопросы, рождаемые попытками проникнуть в тайны этого
«механизма». Во времена широкого распространения (если не господства)
натуралистических представлений о человеке он сумел показать, что энтелехиальная
продуктивная сила - сила воображения - не заложена ни в предметности условий
человеческой жизни, ни в устройстве человеческого мозга; тем более ее нельзя
отыскать в любых механизмах и процессах «уподобления». Перечитайте,
пожалуйста, под этим углом зрения статью моего героя - статью «Об эстетической
природе фантазии». Здесь, на мой взгляд, он вплотную приближается и к природе
идеального...
Вот почему такое напряженное в своих социальных и теоретических
импульсах, но такое спокойно-уверенное, в великолепную форму выливающееся
творчество Ильенкова нельзя брать фрагментарно, используя для цитат отдельные
положения. А для полного собрания сочинений, видно, эпоха была не та. Не та эпоха,
чтобы ... а впрочем, она была такая, которая породила уникальное явление в
нашей философии - философа. И он сделал много и очень успешно прежде всего
для того, чтобы такие «явления» при всей своей обязательной уникальности не были
одиноки.
64
Начало и первый погром
В. И. КОРОВИКОВ
Годы перестройки и гласности во многом заново раскрывают историю нашего
общества, дают объективные оценки и событиям, и лицам. Особый интерес
вызывают люди, не мирившиеся с духовным застоем, ложью и лицемерием. К числу
таких рыцарей духа, в любых обстоятельствах остававшихся верными своему
нравственному и профессиональному долгу, с полным правом можно отнести
выдающегося философа Эвальда Васильевича Ильенкова (1924—1979).
Известность и авторитет его исследований в области диалектической логики,
истории философии, психологии, широкий интерес к ним нарастают с каждым
годом. Хотя, к сожалению, его работы редко издаются и достать их не всегда легко.
К тому же почти все рукописи, особенно такие, как «Диалектика абстрактного п
конкретного в «Капитале» Маркса» (М. 1960 г.), «Об идолах и идеалах» (М. 1988 г.;,
первое издание «Диалектической логики» (М. 1974 г.), подвергались в
издательствах сокращениям, нередко варварским. Можно надеяться, что в недалеком будущем
книги этого страстного, глубокого мыслителя и публициста в полном объеме станут
доступны читателям, послужат духовно-нравственному возрождению нашего
общества.
Для меня Эвальд Ильенков был и остается очень близким другом. Он щедро
дарил свой талант и идеи, всегда оставался верным, искренним и надежным
человеком в трудные времена хозяйничанья в общественных науках догматиков,
«спасителей» марксизма типа Митина, Поспелова, Украинцева и им подобных.
Мы встретились сразу после войны студентами философского факультета
МГУ. И целое десятилетие, пока обоих не изгнали из нашей альма матер, вместе
учились, работали, откровенно обсуждали все волнующие проблемы — от личных
до сугубо политических, отдыхали, ходили по туристским тропам Подмосковья.
В аспирантуре были на одной кафедре (истории зарубежной философии) и
защитили свои диссертации в 1953 году. На пашей кафедре, пожалуй, единственной
тогда в СССР, велось серьезное исследование процесса формирования марксистской
философии в середине прошлого века. Нам повезло в том, что со студенческой
скамьи у нас была возможность черпать знания из первоисточников, осмысливать
их богатства, а не пробавляться пособиями и учебниками конъюнктурного,
пропагандистского толка. Зачастую все их содержание сводилось к комментированию,
разжевыванию «истин в последней инстанции», изложенных в 4 главе «Краткого
курса истории ВКП(б)».
Ильенков еще в 1941 году поступил в Московский институт истории,
философии и литературы, где он нашел своего первого философского наставника, глубокого
знатока немецкой классической философии профессора Б. С. Чернышева. И
влияние этого ученого и педагога отразилось на приоритетах творчества Эвальда
Васильевича, на выборе объектов исследования. А ими были прежде всего
диалектика и логика научного мышления, труды великих философов — мудрецов
человечества.
Вернувшийся из поверженного Берлина демобилизованный лейтенант Ильенков,
как и многие его сверстники, с неутоленной жаждой знаний буквально набросился
на учебу, на книги. Условия для этого, по крайней мере на нашей кафедре, были
вполне приличными. В студенческие и аспирантские годы нас особенно не
прижимали, хотя к Ильенкову, его вольномыслию, поискам собственных оценок и
выводов факультетские официальные лидеры относились с явной настороженностью.
Не потому ли вернувшийся с фронта кандидатом в члены партии, он сменил
кандидатскую карточку на партбилет лишь через пять лет?
После защиты диссертаций наше участие в работе кафедры и факультета
стало более активным: мы читали курсы лекций, вели семинары. Тут и начались
первые сложности и конфликты.
3 Биврссы философии, Л$ 2 g§
Мы не признавали учебников, обсуждали со студентами первоисточники,
и чаще наши "семинары заканчивались вопросами - о предмете философии, о
соотношении диалектической и формальной логики, о периодизации философии,
о роли идеализма,- чем готовыми ответами. Собственно, смысл нашей работы
заключался в одном — мы пытались научить студентов мыслить, а это плохо
укладывалось в ко мандно-постул атную систему духовкой жизни. Вот и получалось, что
на лекциях история философии выглядела как немудрящий ранжир: идеалисты
(кретины!) направо, материалисты (молодцы!) налево, а на наших семинарах лты
предлагали студентам усомниться в простоте и непогрешимости подобных
дефиниций. К тому же и разные кафедры факультета рьяно отстаивали свои весьма
разноречивые позиции. Споры между кафедрами, их руководителями (к примеру,
3. Я. Белецкого и Т. И. Ойзермака) шли годами и были общеизвестны.
Наш преподавательский тандем (Ильенков — Коровиков), где, бесспорно,
ведущую творческую роль играл Эвальд Васильевич, был более близок студентам, более
резок в обосновании своих взглядов, и, естественно, на нас прежде всего направили
свое командно-директивное внимание факультетские и философские начальники.
Весной 1954 года нам предложили представить на кафедру для дискуссии тезисы
о предмете философии, Мы их написали, причем нарочито заостренно, иной раз с
крайними выводами, чтобы вызвать более горячее и, как нам казалось, более
полезное обсуждение. Мы не подозревали, что истории с тезисами суждено длиться
почти два года,— были тогда во многом наивными, верили, что истина родится из
столкновения мнений и восторжествует в честной научной дискуссии. Но в те
времена споры в науке велись отнюдь не ради выявления истины, а по особым
инквизиторским сталинистским правилам. В сущности, ничто не дискутировалось
и глубоко, всерьез, не обсуждалось. Еще до начала той или иной якобы научной,
объективной кампании было заведомо известно, точно решено и указано свыше,
кто прав, кто виноват, кто еретики и отступники, кого бить. Примеров тому тьма,
За наши университетские годы подобные погромы проводились с поразительной
регулярностью — почти ежегодно.
1946 г.- разгром ряда журналов, поношения А. Ахматовой, М. Зощенко;
1947 г.— философская «дискуссия»; 1948 г.— разгром генетики, геростратовский
триумф Трофима Лысенко. На нашем факультете ярым проповедником лысеиковщины
был заведующий кафедрой диамата профессор 3. Я. Белецкий, который
кардинально расправился со всеми вековыми поисками и вопросами философии, объявив, что
«истина — это природа» и мудрствовать тут нечего. Дело доходило до
трагикомических анекдотов. Помню, как на партактиве МГУ один преподаватель кафедры
классической филологии рьяно доказывал, что профессор с 1898 года С. И.
Соболевский и его кафедра исповедуют вейсманизм-морганизм, искажая труды
Лукреция Кара, который-де был античным предтечей мичуринского учения! Оголтелый
латинист-лысенковец призвал «выжечь это змеино-злобствующее гнездо
рафинированных эстетов». 1949 г.— борьба с космополитизмом, 1950 г.— провозглашение
нового языкознания, почему-то заинтересовавшего «корифея мировой науки», 1952 г.--
дискуссии по политэкономии социализма и т. п. Все они проходили по схожим
сценариям.
После ухода из жизни Сталина, ликвидации бериевской машины терроро
(а она весьма активно воздействовала на ход и результаты помянутых выше
«научных» кампаний), многое изменилось, и наши надежды на доброжелательную,
объективную атмосферу при обсуждении спорных философских проблем были во
многом связаны с новой политической обстановкой в стране. Однако традиции
сталинистских разоблачений «еретиков», навешивания на них политических
ярлыков и обвинений с последующими жесткими оргвыводами все еще сохранялись,
а до очистительного XX съезда партии еще было два года.
Ситуация на факультете тем временем обострялась. Несколько студентов
(членов партии) выступили на собрании с замечаниями о плачевном состоянии
сельского хозяйства в связи с обсуждением итогов посвященного этим проблемам
пленума ЦК КПСС,- это было недопустимым «вольнодумством». Серьезное
противоборство началось на кафедре истории русской философии, где преподаватель
Г. С. Арефьева, аспиранты Е. Г. Плимак и Ю. Ф. Карякин открыто критиковали
профессора И. Я. Щипанова и его сторонников за фальсификацию исторических
фактов, за грубую подгонку взглядрв русских революционных демократов под
марксизм, за убргие, косноязычные лекции.
Наши «тезисы» в тот момент стали желанным документом для обнаружения я
изобличения виновников факультетских неурядиц. Тесные связи со студентами
(многие из них были всего на три-пять лет моложе нас), их поддержка и
симпатии также оценивались как опасные попытки «сбить студентов с толку»,
привить им неверные взгляды. Была у нас и кличка - «гносеологии, поскольку мы
отрицали, что предметом философии является «мир в целом» и считали, опираясь на
основополагающие вымазывания Маркса-Энгельса—Ленина, что за философией
остается учение о законах процесса мышления, логика и диалектика. Не буду
вдаваться в доказательства и толкования этой непростой проблемы, по которой и
аоныие идут споры. Отмочу только, что Э. В. Ильенков до конца своей жизни
доказывал единство и тождество диалектики, логики и теории познания в
марксистской философии, что «диалектика и есть логика и есть теория познания
современного материализма» (см. его посмертно изданную работу «Ленинская диалектика и
метафизика позитивизма» М., 1980 г., с. 164).
Весной 1955 года за «гносеологов» взялись всерьез. Нам предложили выступить
с разъяснениями своих взглядов на Ученом совете факультета. Этому же
посвящали специальные собрания. К, наконец, 13 мая был проведен еще один Ученый
совет, где нас громили без всяких церемоний. Наступил час церберов от философии,
критика шла на уничтожение. У меня сохранились записи этих «прений». Лищь
несколько голосов раздалось в нашу защиту. Абсолютное большинство ораторов
изощрялись в приписывании нам всех смертных грехов — от зазнайства до анш-
партийцой деятельности. Две тирады двух деканов того года - Гагарина и Молод-
цова - пожалуй, ярче всего отразили суть этой экзекуции, заодно раскрыв и облик
наших философских надзирателей. «Аракчеевщины бояться нечего, наш долг
разоблачать»,— твердо отпарировал Гагарин чыо-то реплику о слищком жестком,
разгромном тоне критики. А Молодцов патетически восклицал: «Куда они нас тащат!
Нас тащат в область мышления!» Впрочем реакция зала была моментальной: «Не
ройтесь, вас туда не затащишь!».— На Ученом совете присутствовали сотни
студентов. И многие из них вполне понимали, что за «очистительная» операция
проводится на факультете.
Для нас с Ильенковым это были очень тягостные дни, хотя мы ощущали явноэ
сочувствие некоторых преподавателей и особенно студентов. Впрочем, и в их среде
были вполне сформировавшиеся церберята - будущая смена Гагариных и Молодцо-
еых. Кое-кто из них преуспел на этом пути в следующие годы, и Эвальд
Васильевич до самых последних дней пе раз подвергался циничным, наглым нападкам
этой публики в Институте философии АН СССР, на страницах печати.
Майские экзекуции привели меня к твердому решению уйти из философии.
Тем более что с факультета меня вскоре уволили, а партбюро завело персональное
дело и на своем заседании исключило меня из партии — ретивые функционеры по
хорошо известным образцам недавнего прошлого спешили обрядить еретика на
этап. Изгнали из МГУ еще нескольких молодых преподавателей (в том числе
Г. С. Арефьеву) и аспирантов. Были специально распределены подальше от
Москвы студенты - выпускники 1955 года, которые разделяли наши взгляды, занимались
проблемами гносеологии, диалектической логики. На факультете на долгие годы
уртановилась спокойная атмосфера, угроза оказаться в «сфере мышления»
миновала, а в провинции лекторы еще долгое время спустя сообщали, что «в Москве
разоблачена опасная антимарксистская группа»...
К счастью для нашей настоящей философии, Э. В. Ильенкрв, лишенный
возможности преподавать в МГУ, в это время уже был coiрудником Института
философии АН СССР и, несмотря на все препоны, воздвигаемые догматиками и
начетчиками от марксизма, смог продолжать свою подвижническую творческую работу.
Надо подчеркнуть, что в Институте философии были зрелые, дальновидные
философы (Б. М. Кедров, М. М. Розенталь, П. В. Коинин), которые распознали а
высоко оценили талант молодого ученого, помогал и ему отбиваться от ревнителей
«чистоты» идеологии. Да я думаю, что он никогда не смог бы уйти от своего
3* 67
призвания, редкого умения «мыслить о мыслях», раскрывать в своих исследованиях,
лекциях, диспутах логику, ход теоретического мышления, анализировать зту
чудодейственную способность человечества. В этом он абсолютный антипод
псевдофилософов, для которых «сфера мышления» совершенно недоступна.
Шел 1955 год, оттепель чувствовалась все сильнее, приближался XX съезд
партии. Майский погром на факультете уже все более выглядел как рецидив страшного
прошлого, а не как очередная победа над всякого рода «гносеологами» и другими
злоумышленниками. Пришли отклики на наши «тезисы» из-за границы, от весьма
авторитетных людей. Пальмиро Тольятти и Тодор Павлов высказали свое
недоумение в связи с обвинениями и преследованиями молодых преподавателей в МГУ,
ибо в целом разделяли подобный же подход к предмету философии. Мы, в свою
очередь, обратились с несколькими письмами в ЦК КПСС, где объяснили свои
взгляды и требовали оградить нас от несправедливых гонений и обвинений. К
осени наше дело постепенно, как говорится, «спускалось на тормозах». Не поднимался
уже вопрос о моем персональном деле, решение партбюро об исключении из
партии было позабыто. Но свое слово уйти из философии я сдержал, и уже треть
века работаю в газетах.
Наша дружба с Эвальдом продолжалась. Не раз он убеждал меня, что надо
вернуться в науку. Но я остался эскапистом, ибо видел, сколь тяжка доля самого
Ильенкова, когда годами не печатают, корежат рукописи. За одну и ту же работу
и награждают медалью Академии, и объявляют «извратителем марксизма». И
вместе с тем я искренно восхищался его целеустремленностью и трудолюбием, его
мужеством, его самоотверженным служением истине, идеям марксизма и
гуманизма, которым он был глубоко привержен.
Большие и малые погромы отнимали у Эвальда Васильевича много сил,
времени, творческой энергии, порой доводили до отчаяния. Он мог бы сделать для нашей
духовной жизни, философской мысли значительно больше, если бы не постоянные
притеснения, обвинения бдительных идеологических охранников.
И десять лет назад наступила трагическая развязка. Он ушел из жизни в
самый разгар общественного застоя, безвременья, когда преуспевали карьеристы, ха-
пугк и всевозможные прохиндеи. Подобная антидуховная, циничная, стяжательская
атмосфера была для него смертельна...
Несколько месяцев назад я вернулся из Индии, где прожил семь лет. Много
раз приходилось слышать от индийцев, интересующихся философией,
небезосновательные сетования на скудость серьезных работ по марксистской теории познания,
диалектике. И в то же время те, кто был знаком с английскими переводами книг
Ильенкова по этим проблемам, высоко оценивали их, отмечали оригинальность и
глубину мыслей автора, его емкий, образный язык.
За несколько дней до отъезда из Дели я зашел в большой магазин на главной
торговой площади столицы. На полке увидел «Диалектическую логику» моего друга.
- Спрос на эту книгу не прекращается,- ответил на мой вопрос продавец,- ее
охотно покупают. А памфлет «Об идолах и идеалах» разошелся за несколько
дней...
В московских магазинах книг Ильенкова не найдешь. А они, думаю, очень и
очень нужны, ибо учат мыслить, мыслить творчески, диалектически, учат отличать
идолов от идеалов. Это крайне необходимо всем нам сегодня, может быть, даже
больше, чем когда-либо в прошлом.
ПРЕДИСЛОВИЕ К ПУБЛИКАЦИИ
Публикуемые впервые три теоретических наброска Эвальда Васильевича
Ильенкова написаны в конце 1975 - в начале 1976 гг. Кроме чисто внешнего,
тематического единства (взгляд на творчество Фихте и в первую очередь на «Наукоуче-
ние» и «Основы естественного права» как на философско-теоретическую
альтернативу Спинозе с его «Этикой» и «Перепиской»), они заключают в себе как бы
особую связь жизненных обстоятельств тех лет. Дело в том, что с момента
внезапной кончины А. И. Мещерякова в 1974 г. Э. В. Ильенков вынужден был львиную
долю своих сил отдать непосредственно тифлосурдопедагогике, своим «ребяткам»,
как он называл известную теперь всему миру четверку слепоглухих ребят и их
младших товарищей из Загорского интерната. И если взять творчество Эвальда
Васильевича последних лет, особенно работы 1974—79 гг.,— перед нами предстает
редкий пример тонкого сопряжения собственно философской мысли с анализом
фактов психического развития.
Пожалуй, нет необходимости комментировать публикуемые фрагменты. Укажем
только, что второй отрывок («К пониманию системы Фихте...») раскрывается
гораздо конкретнее в контексте комментария к «Основам естественного права»,
небольшой раздел из которого Э. В. Ильенков перевел для журнала «Вопросы
философии» (1977, № 5). Идеи, заложенные в приводимых ниже набросках, были
обоснованы и фундаментально разработаны в двух рукописях, одна из которых -
«Что же такое личность?» — увидела свет уже после смерти автора, в сборнике
«С чего начинается личность» (М., 1979, 1984), а вторая в настоящее время
готовится к печати.
А. Г. НОВОХАТЬКО
Свобода воли
(К разговору о Фихте и «свободе воли»)
Э. В. ИЛЬЕНКОВ
«Свобода воли» - иллюзия или факт?
Тут тоже — как и в случае с мышлением - важно иметь продуманное
определение. Прежде всего под этим выражением всегда имелась в виду независимость
от всего сплетения причинно-следственных зависимостей внешнего (по отношению
к телу человека) мира, способность действовать вопреки давлению всей массы
«внешних» обстоятельств. Определение, как само собой понятно, чисто-негативное,
т. е. еще не определение.
Далее - уже «позитивно» - свобода воли определялась как способность строить
действия сообразно цели (в противоположность «причине»), а та далее
определялась как идеал (ибо «целью» организма вообще оказывается вполне материальная
нужда, и цель благополучно сводится к материальной причине). Свобода воли,
поэтому, свойственна лишь человеку, животному - нет, ибо все действия
животного есть следствие давления совершенно независимой от «сознания и воли» нужды,
потребности.
Конечно, когда феномен свободы воли берется сразу в его финальной,
развитой форме - как «факт», интроспективно обнаруживаемый в себе существом, наде-
69
ленным сознанием, самосознанием,— он и выступает как «простое», как
невыводимое свойство и даже как предпосылка самосознания,— как нечто не только не
объяснимое, но и лежащее в основании вообще «объяснения» всех других
феноменов сознания.
Спинозизм безусловно обязывает относиться к так понимаемой свободе воли
как к чистейшей воды психологической иллюзии, за коей всегда кроется
неосознаваемая причина (пьяный, говорит Спиноза, всегда мнит, что он желает чего-то
«свободно», а на самом-то деле под влиянием, под воздействием винных паров на
его мозг, па «особое расположение частей его тела»).
Научное понимание феноменов своСоды воли соеюпт посему в отыскания
скрытых от сознания причин таких-то и таких-то «действий», неосознанных
причин. Спинозистов поэтому всегда — и на первый взгляд справедливо — обзиняли в
фатализме, ибо сходу отождествляли понятие свободы вообще со «свободой воли».
Между тем этот упрек совершенно несправедлив и неоснователен, ибо понятие
свободы спинозизм отнюдь не упраздняет, поскольку связывает феномен
мышления вообще с реальной деятельностью мыслящего тела (а не с понятием
бестелесной души), и в этом мыслящем теле предполагает активность - и опять-таки
вполне телесную,
Спиноза в общем совершенно правильно решает вопрос,— свобода это прежде
всего свобода от рабской зависимости человека от внешних обстоятельств, но не
вообще от них, а от ближайших, от частных и случайных. И, наоборот,
зависимость от универсальной связи вещей,— действованне в согласии с ними, с нею.
Как познанная универсальная необходимость. Свобода как акт постоянно-длящегося
освобождения из плена ближайших внешних обстоятельств,— как деятельность
мыслящего тела в мире вещей, тел.
Конечно же, «свобода» вообще есть форма и результат акта освобождения
(каждый раз от чего-то, от определенной зависимости,- и, как таковая, она всегда
конкретна). Посему и животное — по сравнению с растением — свободно от
привязанности к совершенно-случайным условиям пространства, оно может уйтп
от данной точки, где условия стали неблагоприятны — в другую точку
пространства,— преодолеть собственным движением разрыв между органической нуждой и ее
предметом.
Действие, ч преодолевающее рабскую зависимость от ближайших (случайных
единичных) обстоятельств—условий, и есть элементарный акт свободы, действие по
цели (осознанной потребности). Роль дистантных рецепторов: установление
идеальной связи там, где материальная связь прервана и где ее необходимо восстановить
действием-пе-ремещевшем собственного тела в пространстве, заполненном другими
телами, стоящими, как препятствие, между «мыслящим телом» и его предметом,
предметом его потребности, нужды.
«Препятствие» это каждый раз индивидуально и случайно,- потому никак
набор заранее заданных «алгоритмов» действия обеспечить решение задачи
(разрешение противоречия) и не может. Действие должно варьировать по ходу своего
свершения, должна осуществляться непрерывная коррекция траектории движения,
направленного на предмет-цель,- т. е. постоянная рефлексия на внешние действия
собственного тела, - наблюдение за движением собственного тела среди других
тел,-взгляд на себя как на другое, как на нечто, находящееся среди других тел;
непосредственно-очевидная (простейшая) форма самосознания, взгляд на Я как па
Не—Я, а на Не—Я—как на компонент «Я» (т. е. всей сферы действий этого
«Я», всей совокупности тел, охваченных этими действиями, вовлеченных в их
сферу. Вещь в руке - «внутри «Я»).
Раздваиваются — в непосредственно очевидном виде — вполне телесные
действия,— рука «идет» по предмету, а глаз заранее — чуть впереди — идет по предстоя-
щим движению руки изгибам (контурам, геометрии) внешнего тела.
(У слепого - слепоглухонемого тем более - этого опережения (движения
глазом движения руки) нет.— Посмотреть, как тут происходит возникновение взгляда
на «Я» — у зрячего руки —как на другое,— не имеет ли сюда отношение проверка
работы руки губами,- В. Третьяк. Тут, впрочем, проверка - т. е. задним числом
совершаемая работа,- тут произошло перевертывание во времени. Но не так ли
70
вначале и там? Ведь чтобы что-то проверять (верно или нет?) —надо сначала
сделать! Иначе нечего проверять...)
Вернемся к феномену «самосознания» - к способности одновременно
действовать в пространстве и следить за собственными действиями как бы извне, как бы
глазами другого человека. Тут уже воображение в весьма развитой его форме.
А в самой неразвитой?
Контроль одной руки над работой другой?
Одной половины мозга над другой?
Сознание как самоощущение этого раздво: шш? Т. е. «самоощущение» и
«самосознание» в их простейшей форме тоже одно и го же"}
А пожалуй что и так. И тогда в исходном Пункте прав Спиноза: одно и то
же — мыслящее тело — раздваивается затем на «душу» и «тело»,— а ие так, как у
Декарта, у кого проблема состоит в «объединении» заранее противостоящих
половинок.
Да. Там, где действие легко «скользит» по предмету, не встречая
сопротивления, послушно повинуясь геометрии объекта, там, собственно, сознание и не
требуется. Другое дело — ситуация, когда «изнутри» диктуемая траектория — позднее
это «образ вещи» — наталкивается на сопротивление геометрической формы
предмета действия.
Там, где кончается власть автоматизма (автоматизм как вообще отработакпая —
и потому не требующая контроля — форма действия,— до сознания сложившаяся,
а потому и та простейшая форма, в которую опять «разрешается» сделашиее свое
дело сознание).
Это в пользу того, что сознание вообще есть там, где есть расхождение
заранее заданной схемы действия - и реально-осуществимой схемы и где эта последняя
тоже дана субъекту как схема внешней ситуации, с коей надо согласовывать
заранее заданную.
В таком случае «сознание» и «самосознание» в их простейших формах тоже
категории зоопсихологии, т. к. поведение животного включает в себя
перечисленные моменты,— корректировка движения собственного тела среди других тел —
способность «смотреть» на собственное тело как на другое.
(«Отношение к себе как к другому, а к другому как к самому себе».)
В понимании «предмета» как препятствия, «отталкивающего» деятельность
назад, «в себя», заключена, конечно, правда, и немалая. Для субъекта, «для нас»
предмет появляется именно через ото отношение - активное с нашей стороны,
а не со стороны «объекта». Этот Anstoss Фихте, предполагающий «практическое Я»
как условие «Я теоретического», имеет свой прообраз в психофизиологии. И
собственно представление, или образ предмета возникает, конечно, через деятельность
воображения, полагающего предмет в пространстве вообще — через акт презраще-
ния раздражения нашего собственного тела («зрительного нерва», например) —
в образ вещи вне глаза, вне тела вообще, вне «мозга» — «там», во внешнем
пространстве...
Этим и предполагается «стремление» - фихтевская категория, также имеющая
свой совершенно реальный «телесный» - физиологический - прообраз, вообще
говоря,— животную жизнедеятельность, понимаемую как (в самой простой форме)
перемещение тела среди других тел в поиске пищи и пр. внешних условий
существования. Самоощущение этого движения в пространстве — реальное движение
тела в пространстве среди других тел обретает в лице животного
самоощущение. Т. е. (Фейербах) «сознание человека - самосознание вещи». В моем лице
вещь обрела самосознание. Вначале - в форме самоощущения... Но это - с самого
начала - реальное движение реального тела.
Организму свойственно самодвижение, т. е. движение, стимулированное
изнутри,— противоречием (органической нуждой, «потребностью»). Иными словами —
и это видели уже Шеллинг и Гегель,— то, что в неживой природе существует
только через взаимодействие миллиардов единичных вещей, тут выступает как
индивид, как форма его существования.
Но, конечно, ошибочно было бы принимать витальную энергию этого
самодвижения за первую форму воли (как то выглядит у Шопенгауэра и пр.).
71
Воля, как специально-человеческая особенность, с самого начала выступает
именно как противодействие чисто биологической активности, как ее торможение,
как ее сдерживание. Как таковая она предполагает сознание. (Почему Фихте и
рассматривает «теоретическое Я» как условие Я «практического».)
Воля вообще есть, по-видимому, просто-напросто способность удерживать
цель, т. е. неуклонно строить свои действия в направлении цели. Безвольный
человек как раз этого-то делать и не умеет,- он идет вперед под влиянием
ежеминутно меняющихся обстоятельств — как внешних, так и «внутренних», и при этом
способен проявлять огромную витальную силу — «аффект», напористость.
Маркс об отличии архитектора от пчелы,- цель как закон, определяющий весь
ход действий. Тут весь секрет функции воли, и тем самым ее пресловутой
«свободы». Свободы от власти ближайших эмпирических обстоятельств,— как вне, так
и внутри его собственного тела,— действие сообразно более широкому кругу «об-
стоятельств», сообразно необходимости, заключенной в этом более широком кругу
и субъекту данной лишь «идеально», как осознанная человеческая (социальная на
100%) потребность, удовлетворяемая как раз изменением ближайших -
эмпирически— данных — обстоятельств (а потому тоже учитываемых как объект действий).
Ближайшие обстоятельства именно как препятствие на пути «практического
Я», т. е. на пути телесного действования, направленного на цель.
Тут-то и важно перевертывание, выраженное латинским афоризмом - «человек
ест, чтобы жить, а не живет затем, чтобы есть». Органическая нужда тут
выступает именно как препятствие, как чисто-внешнее обстоятельство, которое нужно
убрать, чтобы не мешало... Чтобы действие совершалось действительно свободно.
И чтобы — стало быть, и воля была свободна (ибо несвободная воля и в самом деле
есть нонсенс, иллюзия, скрывающая реальную рабскую зависимость от ближайших
обстоятельств,- а самые ближайшие заключены как раз внутри тела - вспомнить
слова Спинозы про пьяного, думающего, что он «желает свободно» - активно -
а на деле чисто страдательно).
«Свобода» как возможность выбора между многими (в пределе между двумя)
вариантами действия, между траекториями, ведущими к цели, а также и выбора
цели самой (частной?).
Итак, у Фихте это первоначальный, ниоткуда не выводимый феномен,
совпадающий с Я вообще. Дело же в том, чтобы получить определения его, исходя из
анализа специально-человеческой формы деятельности, как ее функцию и потому
как ее производное, как необходимую форму ее осуществления, как условие
возможности ее,- т. е. обра-шым ходом, по Спинозе.
Эта функция возникает вместе с осознанием социально-диктуемой дисциплины
поведения, не раньше,— и именно вместо витального «порыва», напора жизненной
силы организма, именно против последней, как сдерживающая ее контр-сил а, про-
тиво-толчок, Gegen-anstoss, как преодоление данного.
И ни в коем случае не как его «развитие» в эволюционном смысле, т. е. не
как «усовершенствование», «усложнение» и т. д. природой данного (витальной
энергии действия, возбуждаемой давлением неудовлетворенной нужды, органиче-
ски-встроенной потребности).
Воля, иными словами, возникает лишь там, где человеческий индивидуум
полностью освобожден - свободен - от давления органических нужд, там, где его
действия начинают руководиться специфически-человеческой потребностью, идеально
предстоящей ему как цель - как закон, определяющий весь ход реализующих ее
действий.
(Удовлетворение же органической нужды низводится тут на роль средства,
на роль внешней предпосылки, совершенно безразличного условия
специально-человеческой деятельности, тогда как у животного оно всегда и навсегда остается
конечной целью, достижение коей исчерпывает энергию действия, останавливает
«мотор» движения.)
Человек есть, чтобы жить, а не наоборот,— поэтому он не животное. Тут тайна
«бескорыстного, незаинтересованного созерцания», отношения к предмету как к
предмету, а вовсе не как к предмету специфической потребности,- тайна
универсальности рода в противоположность особенности вида,
72
Воля - чисто-идеалъный фактор деятельности, несмотря на то, что он - как и
все остальные психические функции - реализуется, разумеется, вполне
материальными - нервно-мозговыми - «механизмами». И тут, как и во всех случаях,
функция, диктуемая всей совокупностью условий внешнего действия, создает себе
соответствующий орган, а не наоборот.
Итак, что же это такое - «свобода воли»? Способность осуществлять всю
совокупность действий вопреки отклоняющим воздействиям "ближайших
обстоятельств, т. е. «свободно» по отношению к ним, сообразуя действия с
универсальной зависимостью (необходимостью), идеально-выраженной в форме цели (т. е.
потребности чисто-социального - всеобщего, а не индивидуального - происхождения и
свойства). «Карфаген должен быть разрушен!»...
Это не «моя» (индивидуально-эгоистическая) потребность, а всеобщая
(коллективно-положенная) потребность, сделавшаяся моей, личной.
Это не «свобода выбора» между альтернативами (сие — лишь момент), а
реальная свобода движения по логике предметной действительности, действий в
согласии с нею, преодолевающая силу давления ближайших обстоятельств (в том числе
и органических) на психику (т. е. на ход деятельности и «аппарат»
управления ею).
Воля тем «сильнее» (тем «свободнее»), чем яснее представление о всей
совокупности обстоятельств — как ближайших, так и отдаленных,— внутри которой
совершается деятельность (совокупность действий). Это Спиноза чистейшей воды.
Т. е. самое понятие (понимание) цели тут должно быть понято как интегральная
составляющая всей массы причиино-следственных зависимостей, как их общая
равнодействующая, как необходимость, пробивающая себе дорогу сквозь массу
случайностей, как всеобщее, связующее всю массу особенных и единичных обстоятельств...
Тут опять противоположность Спинозы - и Декарта-Фихте (воля столь же
широка, как и рассудок - воля шире рассудка и ведет его).
Т. е. воля, ломающая силу обстоятельств, и воля, согласующаяся со всей
массой обстоятельств,— с идеально-выраженной материальной необходимостью. Какая
из них «свободна»?
По субъективному самочувствию - декартовско-фихтеанская. По объективному
значению — спинозистская. (Привести по «переписке» Спинозы.)
(У Фихте именно воля фигурирует как «бессознательный интеллект», как
«бессознательная деятельность» — как деятельность до рефлексии, т. е. как инстинкто-
образная жизнедеятельность организма, «тела Я».)
К пониманию системы Фихте как «перевернутого Спинозы»
Да, только так ее и можно понять: Фихте «дедуцирует» все те факты, которые
Спиноза полагает как «краеугольные камни» своего понимания — как следствия —
как «условия возможности Я», «самосознания», «зелъбот'аъ,— и прежде всего
мыслящее тело.
Но при этой «дедукции» появляются те «априори» принятые предпосылки,
которые в системе Спинозы вообще не могут быть «дедуцированы» и потому
отвергаются как иллюзии — прежде всего «свобода воли»...
У Спинозы ее нет, а у Фихте она — предпосылка, некритически-принятая
характеристика Я, самосознания... Притом принятая необходимо, ибо иначе не из
чего «дедуцировать» тело,— как «орган свободы» (—свободы воли).
Дедуцировать-то надо мыслящее тело, не просто тело.
А мыслящее тело у Спинозы предполагает способность строить свое движение
во внешнем пространстве сообразно «форме и расположению» вещей вне этого
тела, а не сообразно форме и расположению частей собственного организма,
притом активное согласовывание траектории движения с геометрией внешнего мира
(у Спинозы это —условие возможности его).
У Фихте «геометрии» внешнего мира нет в составе предпосылок, он ее хочет
«вывести» из деятельности Я. Поэтому ему и приходится «засунуть» в это Я то,
что на самом деле (и у Спинозы) является внешним условием построения
траектории движения: бесконечное многообразие внешних форм и сочетаний вещей
(обстоятельств), способность строить любую.
73
В теле как таковом это «условие» отсутствует (будь то «внутреннее тело» или
«внешнее» тело, их совокупность).
Отсюда и неизбежность принятия свободы как свободы воли, а не как
согласия деятельности с внешними условиями ее осуществления, не как «познанной
необходимости» внешнего мира...
Свобода воли как свобода вообраэюения у Фихте, как состояние абсолютной
независимости акта построения образа от всей совокупности «внешних»
обстоятельств.
И наоборот, полная зависимость «образа» от деятельности (от ее формы, т. е.
от ее траектории) — управляемой «изнутри», т. е. со стороны Я
(что=самосознанию, «свободной воле»).
«Дедукция» посему «засовывает» в Я то, что на самом деле есть следствие
(во времени) деятельности реального Я в реальном пространстве, есть форма этой
деятельности («свобода»). И, как «условие возможности», мыслящее тело предстает
в его дедукции как априори наделенное свободой воли —т. е. как раз тем, что за
ним отрицал Спиноза... возврат к Декарту.
А «необходимость», которая тут познается, оказывается целиком и полностью
необходимостью «внутренней», необходимостью, заранее заключенной в
самосознании, только не в «эмпирическом», а в «трансцендентальном», в кантовском...
Это все равно, как если бы в политэкономии заранее была принята денежная
форма, а товар (т. е. простая, единичная и случайная) — пытались бы
«дедуцировать» именно как «условие возможности».
Хотя — и в этом огромный смысл. Маркс дедуцирует деньги, а не что-нибудь
другое. Т. е.: денежная форма заранее известна как развитая форма (как
материализация всеобщего эквивалента),— потому в отношении холст—сюртук и
становится видимым тот момент, который без этого попросту не виден.
(«Намек па высшее в составе низшей формы можно увидеть лишь тогда,
когда это высшее уже само по себе известно» — т. е. задано, и низшая форма
именно «дедуцируется», и именно как условие возможности. В этом ~ сила каптовской
категории. Только Спицоза ориентирован на реальный генезис «вещи» - в данном
случае «мыслящего тела»,- а Фихте на чисто логический аспект «дедукции», не
имеющий опоры во времени, в порядле последовательности реального генезиса
этой вещи...)
Тут все преимущество Спинозы (его «дедукции») перед дедукцией Фихте. Тут
же и преимущество школы Выготского перед любой другой схемой объяснения
психики,- будь то исходящей из интроспективно-выделяемых характеристик, будь то
из устройства мозга («мыслящего тела»), т. е. грубо—физикально трактуемой
«души».
(Т. е. «мозг» наделяется всеми характеристиками прежней «души», «Я»,—
только они выражаются в другой терминологии, в физиологической, биохимической,
кибернетической, и т. д. и т. п., не меняясь по содержанию.)
А против этой глупо-позитпвистской версии права даже теология, а не только
Маркс или Спиноза...
Ибо «душа» (т. е. совокупность подвижных функциональных органов) вначале
структурно никак в мозгу не заключена, а возникает постольку, поскольку тело
функционирует по форме и расположению вещей, созданных человеком для
человека,- формируется в согласии с опредмеченным в вещах разумом (это уже пошел
Гегель, который опять вводит спинозистский элемент в систему фихте,— в виде
«объективного духа», воплощенного в вещах, в предметах во внешнем по
отношению к мозгу пространстве, в «неорганическом теле человека»).
Спинозовскую субстанцию (causa sui) Гегель и вводит обратно как
объективный дух. А «душа» — порождение овеществленного духа. И это куда глубже и
ближе к истине, чем все плоские кибернетические (нейрофизиологические) дедукцип
функций мозга из его структур.
Ибо тут не «структура», не морфология мозга проявляет себя во внешнем
функционировании, а как раз наоборот,- функция формирует себе орган, способный ее
осуществлять...
(Отсюда и мудрое определение Фейербаха - в человеке вепрь обретает
самосознание, сознает себя в лице человека, посредством Я, а не наоборот не-Я
(самосознание) «овеществляется» (объективируется, «реализуется», «экстраэциру-
ется», «экстериоризируется» и т. п.) в виде «внешнего предмета».)
Тут и развить полюса «интериоризации-экстериоризации». Было бы чему
«экстериоризироваться», «овеществляться».
Тут уж выбирайте: либо Фихте, либо Спиноза. Либо сначала «интериоризация»
внешних действий во внешнем пространстве — Спиноза,— либо с самого начала
экстериоризация всего «внешнего» мира из априори заложенных внутри
(безразлично — называют это «мозгом» или «душой», церебральными структурами или
экзистенцией) условий. Все формы (все траектории) внешнего действия у Фихте -
внешнее выявление активности «внутреннего», априори заложенных
(«положенных») форм самосознания, свободы воли. А потому -и всех свернутых
(симультанных) образов внешнего действия по форме вещей, всех пространственных «ге-
штальтов». Или - пространственных форм, развернутых деятельностью во времени
(Юля Виноградова и овраг).
Кстати, только отсюда и можно понять, почему пространство для Спинозы -
атрибут субстанции, а время — лишь модус мышления, модус лишь одного из
атрибутов. «Физических» оснований этот ход мысли ни у Декарта, ни у Спинозы tie
имеет. Основания чисто психологические,— сукцессивиость и симультанность
пространственных «гештальтов». «Мазр (время) сделал свое дело (траекторию по
форме внешней вещи) — мавр может уходить»...
А траектория осталась — как «симультанный» образ, как образ вещи во
внешнем пространстве, как ее форма.
Тут и разгадка фокуса, благодаря коему раздражение зрительного нерва
воспринимается не как раздражение зрительного нерва, а как внешняя вещь, как ее
форма («Капитал»).
Работа воображения, проделывающего этот фокус,- т. е. акт построения образа
внешней вещи, веи^и во внешнем пространстве. Фихте,- деятельность.
Но это уже новая большая тема, это — на завтра.
(Вторник, 2 декабря 1975 года).
К Фихте
Возврат от Спинозы к Декгрту тут по всем линиям. Собственно, и «душу»
(как Я, как самосознание) он тоже считает специфиально человеческим
достоянием и за животными наличие ее отвергает. Животное, правда, есть органическое
тело (в кантовстюм смысле «организма» как системы, работающей по цели, а не по
причинной зависимости), ко цель-то в него встроена природой вместе со всем
набором средств ее реализации — а человек нет, не имеет ни одного встроенного
средства (способа жизнедеятельности). Поэтому-то и цель тут должна привходить
в тело извне,— т. е. из чисто-бестелесного начала, из самосознания, из души в ео
спиритуалистическом варианте, в картезианском значении слова.
Преимущества этого взгляда перед вульгарно-кибернетически-мозговом
толкованием «души», и полная беспомощность перед Спинозой!
А дальше развернуть вопрос о том, как расшифровывается (конкретизируется)
в марксизме понятие «мыслящего тела» (краеугольного камня системы Спинозы).
Человек — не как индивид и не как то, что одинаково общо каждому индивиду,
не немая «общность рода», а как конкретно-исторически развившаяся совокупность
всех общественных отношений, как их полный ансамбль. Притом отношений,
«опосредованных» вещами, созданными человеком для человека. Мозг как
функциональный орган управления этим телом,— неорганическим телом человека ( и тот
же мозг, как орган управления органическим его телом). Гегель: «дух как чистый
посредник между вещами», а мышление - как чистое (ничего от себя не
привносящее и не вмешивающее) опосредование. Иначе объективности мышления
понять нельзя принципиально.
ДИСКУССИИ И ОБСУЖДЕНИЯ
Два проекта всемирной истории
К. М. КАНТОР
Снова и снова возникают новые планы,
из которых новейший подчас оказывается
всего лишь возрождением старого, и в
будущем никогда не будет недостатка в
еще более окончательных проектах.
И. К а н т
I
Теперь мы знаем: распят был не
только Христос - в тоталитарных
государствах XX столетия распято было
христианство.
Но. воистину смертию смерть поправ,
воскресло христианство, воскресает и
учение Маркса. Тоталитарным режимам
любой окраски, даже враждующим
между собой, они одинаково ненавистны.
О «воинствующем атеизме» читатель
знает не понаслышке, почти ничего о
гитлеровском антихристианстве. Вот,
однако, характерный пример. В антимарк-
систско-антихристианской кампании
нацистских газет издевательски
высмеивалась Нагорная Проповедь. Ее называли
«Первым Манифестом марксизма», а
Геббельс утверждал, что существует альянс
между христианским клиром и
марксистами. Было всякое, но было и это.
Герой и мученик антифашистского
сопротивления, протестантский священник
Дитрих Бонхеффер в своих письмах из
гитлеровских застенков спрашивал: «Если
религия не более чем покров
христианства, тогда что же такое
безрелигиозное христианство?» 1.
Вслед за ним аргентинский
проповедник Элиас Кастельнуэво также
«услышал» внутреннюю «перекличку» перво-
христианства с первомарксизмом
(разумеется, радуясь своему открытию, а не
1 Bonhoeffer D. Letters and Papers
from Prison. L.-Glasgow. 1968, p. 92.
Напомню, что многие и противники,
и сторонники учения Маркса называли
его безрелигпозпой религией, уходящей
своими корнями в христианство.
злорадствуя, подобно Геббельсу).
«Несмотря на дистанцию, отделяющую их
друг от друга,— писал католический
пастор,- Нагорная Проповедь и
Коммунистический Манифест — это два близнеч-
пых воззвания, которые, хотя и
разными словами, одинаково клеймят позором
привилегированные классы и одинаково
восхваляют «труждающихся и обреме-
пеиных». В обоих одинаково возвещается
падение богатых и возвышение
бедных» 2.
Это также нечто большее, чем диалог,
когда Фидель Кастро, поведавший миру,
что он хорошо знает принципы
христианства и следует заповедям Иисуса
Христа, посчитал необходимым добавить:
«Думаю, что под Нагорной Проповедью мог
подписаться и сам К. Маркс»3. Ничего
подобного не доводилось пока слышать
от находящихся у власти
коммунистических лидеров Старого Света. Но
Латинская Америка вообще, как говорится,
«особый случай». Там возникла ведь
«теология освобождения», встревожившая
Ватикан, поскольку ее создатели,
католические священники, решили в своем
вероучении сочетать марксизм и
христианство.
Один из основателей теологии
освобождения, профессор католического
университета в Перу Густаво Гутьеррес
называет Христа «первым социалистом»,
революцию рассматривает как форму
искупления; грех и отчуждение как
понятия тождественные, а «нового человека»
2 Castelnuevo Ed. Jesucristo-monto-
nero de Judia. Buenes-Aires, 1971, p. 19.
3 «Fidel у la religion (Conversaciones
con fraile Betto)». La Habana, 1985, p. 328.
76
апостола Павла как предвосхшцение
«нового человека» Маркса. Он убежден, что
марксизм фактически является чем-то
большим, чем наука, что истолкование
марксизма только как науки
равносильно его кастрации. В то же время,
согласно Гутьерресу, и Христос выходит
далеко за церковные врата, а
христианское спасение включает в себя и то, что
марксизм понимает под освобождением4.
Пример Латинской Америки
поучителен не только сам по себе, но и как
подтверждение того, что существует некое
внутреннее сродство марксизма и
христианства, которое если и не
обязательно стимулирует попытки их
конвергенции, то во всяком случае облегчает
переход от одного к другому и (или)
возможность их сосуществования,
например, по боровскому «принципу
дополнительности». Так это уже было накануне
революции в России, где марксизм
приобрел свои отличные от
западноевропейских, вполне оригинальные черты.
Отказ от догм доперестроечной
идеологии легализовал философию русского
«религиозного Ренессанса», в которой
(в творчестве С. Булгакова и особенно
Н. Бердяева) взаимоотношение
марксизма и христианства было не только
теологической проблемой, но и жизненной
драмой. «Как это ни странно с первого
взгляда,— признавался Н. Бердяев,— но
именно из недр марксизма... вышло у
нас идеологическое, а потом и
религиозное течение»5. С. Булгаков, который,
по его собственным словам, мучительно
и трудно освобождался от гипноза идей
марксизма, объяснял эту зависимость
тем, что в марксизме бьет горячий ключ
социального утопизма, питающий чисто
религиозное одушевление. И тем, что
сочетание в учении Маркса научных
элементов с утопическими дает не только
удовлетворение запросам разума, но и
утоляет религиозную жажду
абсолютного.
«Да, социализм имеет не только свою
апокалиптику, но и свою мистику,
которую знает всякий, ее переживший,—
писал С. Булгаков,- я мог бы сослаться на
свой прошлый опыт. В социализме,
особенно в марксизме, есть живое
ощущение органического роста, исторического
становления, могучего
сверхиндивидуального процесса... в нем действительно
подслушано биение исторического пульса,
есть ощущение исторического
прозябания» 6.
Н. Бердяев высоко ценил открытие
Марксом процесса дегуманизации и
овеществления человека, учение о
фетишизме товаров, которое он называл
«гениальным», однако и он объяснял силу
марксизма не научностью. Душа
марксизма, утверждал
философ-экзистенциалист, не в экономическом детерминизме,
а в его квазирелигиозном учении об
избавлении, о мессианском призвании
пролетариата, о грядущем совершенном
обществе. Более того, Н. Бердяев
усматривал прямую связь историзма доктрины
Маркса с историзмом христианства.
«Я утверждаю,— писал он,— что
христианство создало не только философию
истории, которая называется христианской
в вероисповедном смысле, как философия
Бл. Августина или Боссюэта, но и все
последующие философии истории вплоть
до философии истории Маркса, который
с присущим ему историческим
динамизмом так характерен для христианского
периода истории» 7.
Предвосхищая западноевропейскую
«теологическую» критику марксизма,
С. Булгаков и Н. Бердяев, пожалуй,
первые обратили внимание на
«гомологические» совпадения в Богочеловеческой
религии Христа и в «религии человеко-
божия» Маркса. Так, в марксизме, по их
мнению, «избранный народ, носитель
мессианской идеи (как позднее в
христианских сектах народ «святых»)
заменяется пролетариатом... Роль сатаны
досталась на долю класса капиталистов,
возведенных в ранг метафизического
зла» 8.
Правда, в устах С. Булгакова это уже
не похвала. Марксизм в целом оъ зтвер-
гает безоговорочно как воинствующий
атеизм и антигуманизм.
Для С. Булгакова, пережившего
духовный кризис, разочаровавшегося в
марксизме (с его российским
богостроительством и богоискательством) такой
разоблачительный — по тону, по стилю -
способ «замаливания грехов» своего
недавнего «кумирослужеиия» вполне
понятен, хотя и неубедителен.
Предреволюционный успех марксизма
С. Булгаков считал карой за грехи
исторического христианства я призывом к
его исправлению. Ныне можно было бы
сказать, что возврат к традиционной
религиозности это кара за грехи
исторического марксизма (точнее, марксизма
«национализированного» государством)
и призыв к его исправлению.
Кажется, этот призыв услышан. Не
потому ли мы наблюдаем сегодня то. что
десятилетие назад предположил один из
исследователей русского религиозного
Ренессанса: «Можно надеяться, что
когда в России опять будут созданы
внешние условия для свободного развития и
выражения мысли, русская
интеллигенция, сформировавшаяся в атмосфере
марксизма, откроет снова свою,
коренящуюся в глубинах души,
конгениальность с той целью, которая нашла бле-
4 См.: Gutierrez G. Teologia de la
Liberacion. Lima, 1971.
5 Бердяев Н. Истоки и смысл
русского коммунизма. Париж, 1955, с. 90.
6 Булгаков С. «Два града», т. II. М.,
1911, с. 39.
7 Бердяев Н. Смысл истории.
Берлин, 1923, с. 43.
8 Булгаков С. Указ. соч., с. 116
117,
73,
стящее выражение в русской
религиозной философии» 9.
Это не значит, я надеюсь, что некий
марксистскО-православный синтез станет
обновленной идеологией государства и
одновременно единой всенародной
верой,— отчасти потому, что православие в
свое время явилось, собственно, моделью,
по которой бессознательно была скроена
сменившая его идеология;
отчасти потому, что время единой
государственно-общенародной идеологии, даже
самой привлекательной, для России, для
Советского Союза, как мне кажется,
миновало.
Общество демократическое не
нуждается ё единственной идеологии.
Потребность в метафизическом самоопределении
человека, по-видимому, неустранима, йо
если она удовлетворяется без внешнего
навязывания и не стадно, то возникает
множество мировоззрений, каждое из
которых строится свободным выбором
индивида.
Эти соображения - не к тому; чтобы
принизить важность выяснения
зависимости марксизма от христианства, чем
не напрасно захвачена ныне
латиноамериканская мысль, обеспокоена
предреволюционная русская, воЛнуема
западноевропейская и североамериканская,
в отличие от советской, которая эту
зависимость отрицала.
Из великого множества западных
авторов, писавших и Пишущих на эту тему,
приведу высказывания лиШь одного из
наиболее значительных.
Талкотт Иарсонс, уверенный, что пе
Маркс, а он созДйл подлинно научную
социологию, е некоторым даже
торжеством выявлял христианскую «подоплеку»
марксовоя теории общества. Юсо'бйнно
интересна и важна,— писая Парсонс,-
параллель между миссией Христа и
миссией пролетариата. Обе миссии
мыслятся возможными и значительными,
благодаря самой специфике двойственной
природы Христа и пролетариата.
Христос - бог, который становится
человеком и затем покивает человеческий
«статус», будучи распятым на кресте.
В марксистском мифе пролетарии, как
и другие агенты капиталистического
общества, страдают от отчуждения... Й
только авангард пролетариата; который
обрел классовое самосознание, избегает
состояния отчуждения п становится
главной силой осуществления нового а
полностью идеального общества»40. Gd-
ответствённо, и «труд в мйрксчзйом мифе
имеет символическое значение,
параллельное значению страдания в
христианском мифе» и. Общий же вывод Щр-
сонса совпадает с выводами Шпенглера
й Тойнби 12 (или заимствован у кого-то
из них): ранний аскетический
протестантизм, который часто называют
первоначальным кальвинизмом, есть
ближайший аналог марксовбй парадигмы:
в обоих случаях предполагается^ что
«царство Божйе» может быть
установлено на Земле.
Тщательнейше исследовал
христианские истоки марксизма американский
марксолот Роберт Такер, попытавшийся
Доказать' что марксово учение о
капитале теоретически и фактически
несостоятельно1, зато высоко оценивший его
«эстетическую утопию», в которой снято
отчуждение человека и свободная
личность сама творит формы социального
общения; а не подчиняется им; утЬиию,
являющуюся великолепной разработкой
варианта христианской идеи
«возвращенного рйй>>- воплощением которой стали,
по утверждению Р. Такёра, Соединенные
Штаты Америки 13.
А каково собственное, Маркса и
Энгельса, суждение о христианстве и об
отношений их учения к учению Христа?
Ведь это свидетельство может
оказаться решающим. Прислушаемся к словам
западногерманского' автора Доротеи Зел-
ле: «Теологи еяишком долго
игнорировали постановку вопроса, при которой
религия становится необходимой; она
оказались боЛеё ае в состоянии слышать
«вздох угенетенной твари» или понять и
выразить «сердце бессердечного мира»,
как описывал религию К. Маркс... Мы,
критические теологи, все стбим на
плечах Маркса, этб в самом деле нечто само
собой разумеющееся» 14.
Шдобйо тому, как в портрете, напи-
еяинйм живописцем, запечатлен духов-
пый мир и самого художника (как бы
его автопортрет), так в оценке
Марксом и Энгельсом смысла учения Христа
и исторической рбли христианстве
содержится скрытая от неискушенного
глаза, но, может быть, самая йсповедаль-
яай самооценка марксизма.
Марксизм самоопределился не только
через свое отношение к философий,
политэкономии, утопическому социализм^,
но и к христианству; и не глйвным ли
образом к йему? И поскольку судить 66
этом извне, обходя етбропой главные
действующие лица этой драмы, мягко
говоря «неучтиво», я предоставляю
слово им самим.
6 В е т т е р Г. Русская религиозная
философия и марксизм,— В кн.: «Русская
религиозно-философская мысль XX века»,
Питтсбург, 1975, с. 115.
10 Parsons Т» The Simbolic
Environment of Modern Economics,- «Sdcial
Research», 1979, voL 46, № 3, p. 443.
11 Ibid, p. 446.
12 А. Токнбп, например, считал, что
Маркс сделал для пролетариата XIX века
то. что для буржуазии XVI в. сделал
Кальвин, ибо, подобно Шпенглеру,
полагал, что марксова теория исторической
необходимости подобна кальвиновскому
учению о предопределений;
13 Tucker R, Philosophy and Myth in
Karl Marx. Cambridge. 1961.
14 «Religionsgesprache». Darmstadt,
1975, S. 147.
II
Юность Маркса и Энгельса - юность
верующих христиан. И не просто
верующих, но жаждущих совершить
жертвенный подвиг братолюбия по примеру
Христа. В выпускном гимназическом
сочинении на свободную тему -
«Размышления юноши при выборе профессии»
Маркс писал: «Сама религия учит нас
тому, что тот идеал, к которому все
стремятся, принес себя в жертву ради
человечества,— а кто осмелится отрицать
подобные поучения?» 15.
Таким образом, Христос был идеалом,
подражать которому стремился Маркс;
Христос научил его презирать
эгоистическое счастье, трудиться не для себя,
а для человечества, жертвовать собой во
имя счастья других. «Если человек
трудится только для себя,— писал Маркс в
том сочинении,- он может, пожалуй,
стать знаменитым ученым, великим
мудрецом, превосходным поэтом, но никогда
пе сможет стать истинно великим и
совершенным человеком» 16.
Маркс прожил исключительно трудную
жизнь, оказывался часто на грани
нищеты, тяжело болел, терял детей,
умиравших от недоедания, от плохих
жилищных условий. У него было много
искушений. Он пе поддался ни на одно.
Повторяя сказанное в семнадцать лет,
он уже стариком писал своему другу
Вейдемейеру, что принес в жертву
собственное здоровье, здоровье и счастье
своей семьи, жизнь своих детей потому, что
не мог «повернуться спиной к
страданиям человечества».
Юноша Фридрих Энгельс, который был
воспитан в крайностях ортодоксия и
пиетизма, преодолев слепую веру в
соответствие между Библией и учением
Церкви и придя к убеждению, что
«божественным можно считать лишь то
учение, которое может выдержать
критику разума» i7, утвердился в той же
самой мысли, что и Маркс.
Девятнадцати лет от роду он писал: «Всякий
должен стараться осуществить в себе идею
человечества, т. е. по духовному
совершенству стать равным богу» 18. Как
видим, взгляды, убеждения, намерения,
«исходный пункт» духовного развития
двух гениальных юношей, не знавших в
то время друг друга,- совпадали.
Правда, очень скоро, спустя каких-нибудь
три-четыре года Маркс и Энгельс
выступили как атеисты и оставались ими всю
последующую жизнь. Вот аргумент,
который, как кажется, сводит на нет
указание на факт их юношеской веры.
«Неотразимость» этого аргумента,
однако, мнимая. Нужен был импульс
именно христианской веры, чтобы
выступить в последующем критиками
религии. Нужно было именно не поверх-
15 Маркс К. и Энгельс Ф. Из
ранних произведений. Mi, 1956, е. 5.
16 Т а м ж е, с. 5.
17 Там ж е, с. 302.
13 Т а м ж е, с. 306.
ностное, а органическое усвоение
христианства, чтобы стать такими
богоборцами, какими стали Маркс и Энгельс, ибо
ни одна другая религия, кроме
христианства, не является столь адогматиче-
ской, допускающей (ради того только,
чтобы человек проявил свою свободу)
несогласие с богом и даже
отрицание бога.
Когда Маркс бросил упрек Фейербаху
в том, что тот не понял, как идеи могут
не только отражать мир, но и творить
его, не понял взаимопревращений
природы и духа, он имел в виду не только
собственное учение, но и революционно-
критический дух христианства,
которому как религии (в отличие от
философии) было присуще единство теории и
практики или, точнее, единство веры и
верой определенных дел, поступков,
жизни.
Прорыв христианства в историю из
замкнутой на себя циклической,
космологической культуры, мощный импульс
историческому продвижению
человечества от рабства к свободе, от свободы
немногих к свободе каждого — вот что
прежде всего привлекало Маркса и Энгельса
к учению Христа. С утверждения, что
появление христианства было
революцией, они начинали свое поприще и этим
же утверждением завершили его.
Христианство стало, по словам Энгельса,
«одним из революционнейших элементов
в духовной истории человечества»19.
Неудивительно поэтому, что
революционность своей доктрины Маркс и
Энгельс определяли мерой ее соответствия
доктрине христианской, нисколько не
смущаясь религиозностью последней,
неизбежной л&я своего времени. Это
потребовало от них изучения конкретных
исторических обстоятельств,
предопределивших возникновение в Древнем Риме
именно христианства, а не какой-либо
другой мировой религии, выявления в
христианстве соотношения установок на
перемены внутренние (духовный мир
человека) и внешние (социум,
традиционная культура общества).
Создатели новой революционной
идеологии опирались при этом на гегелевский
анализ и оценки первоначального
христианства, принимая многое из
сказанного им без обычных
«материалистических поправок», которые в данном
случае были излишни.
Называя христианство религией
истины и свободы, Гегель следующим
образом объяснил его возникновение:
«Именно несчастье побуждает человека
обратиться в себя, оттеспяя его в себя, и,
поскольку в нем присутствует это
жесткое требование разумности мира, он
отказывается от мира и ищет счастья,
удовлетворения в самом себе,—
удовлетворения как согласия своей
утвердительной стороны с самой собой. Чтобы
достичь такого согласия, он отказывается
от внешнего мира, переносит свое счастье
19 Маркс К. и Энгельс Ф. Соч.,
т. 22, с. 478.
в самого себя, удовлетворяется в себе
самом» 20.
О революционном характере
христианства Гегель говорит неоднократно,
подчеркивая, что это учение вступает в
полное противоречие с существующим
государством, основанным на другой
религии, и то, что Христос — подлинный
революционер, полностью посвятивший
свою жизнь своему учению и скрепивший
свою веру печатью смерти.
Мученичество Христа не было беспричинным
надругательством над невинным, не
ведающим, что он творит,— оно было связано
с деятельностью его. «Поскольку учение
Христа,— пишет Гегель,— было
революционным, он был обвинен и казнен;
истину своего учения он скрепил своей
смертью. Эту историю в общем
принимают и неверующие; она вполне сходна с
историей Сократа, только происходит на
иной почЕе» 21.
Итоги сорокалетнего исследования
первоначального христианства Марксом и
Энгельсом предстают (в плане
принципиальном) как историческая
конкретизация выводов великого диалектика.
В общем и целом они таковы.
В отличие от других мировых
религий - буддизма, ислама — христианство
возникло в государстве, где наряду с мпо-
гочисленными покоренными народами,
порабощенными единоличной верховной
властью, оказался и народ — завоеватель,
ранее пользовавшийся гражданскими и
личными свободами.
Это справедливо было даже по
отношению к рабам, ибо «большинство из
них было некогда свободными или
сыновьями свободнорожденным. Среди них,
стало быть, должна была еще по
большей части сохраняться живая, хотя
внешне бессильная ненависть против
условий ИХ ЖИЗНИ» 22.
Тем более это касается свободных —
неимущих и богачей. Полная утрата
самостоятельности, ненадежность
существования переживалась ими как мировая
катастрофа. Люди, привыкшие
принимать участие в делах общества и
государства, стали жертвами ничем не
ограниченного императорского произвола.
Воцарилось «всеобщее убеждение, что
из этого положения нет выхода...
Всеобщему бесправию и утрате надежды на
возможность лучших порядков
соответствовала всеобщая апатия и
деморализация» 2<\
Старые языческие религии и иудаизм,
уже не соответствующие реальным
духовным запросам индивида
многонационального общества, пришли в упадок.
И философия тоже, ибо была элитарной.
Нужна была новая религия, доступная
массам, но обращенная к каждому ин-
20 Г е г е ль. Философия религии. М.,
1977, т. 2, с. 268.
21 Т а м ж е, с. 286.
22 Маркс К. и Энгельс Ф. Соч.,
т. 19, с. 311.
23 Там же, с. 310,311.
дивиду персонально, Оез различия
наций, религия, способная вернуть
свободу индивиду.
«Во время этого всеобщего
экономического, политического, интеллектуального
и морального разложения и выступило
христианство» 24.
Христос не просто отвернулся от
внешнего мира, открыв человеку внутренний
мир, но утвердил в нем индивида в
качестве духовно свободной личности,
способной к раскаянию, самоочищению от
житейской скверны, к самосотворению
по божественному образцу.
«...Христианство затронуло струну, которая должна
была найти отклик в бесчисленных
сердцах. На все жалобы по поводу
тяжелых времен и по поводу всеобщей
материальной и моральной нищеты
христианское сознание греховности
отвечало: да, это так и иначе быть не может,
в испорченности мира виноват ты,
виноваты все вы, твоя и ваша собственная
внутренняя испорченность! И где бы
нашелся человек, который мог бы это
отрицать? Меа culpa! Ни один человек не
мог отказаться от признания за собой
части вины в общем несчастье, и
признание это стало теперь предпосылкой
духовного спасения, которое
одновременно было провозглашено
христианством» 2:>.
Итак, выход был найден. Свобода
индивида была восстановлена. Но это была
уже не та социальная свобода, какая у
него была отнята. Христианин
переместился в новое измерение свободы, о
существовании которого «средний» человек
античного мира даже и не подозревал.
Индивид теперь как бы «раздвоился»:
в себе и для себя он открыл свое «Я» —
«внутреннюю личность», отличную от
нею самого, выступающего в качестве
природного и социального существа. При
этом духовная свобода личности была
поставлена в зависимость от добра,
возрастая но мере морального
совершенствования индивида и его добрых дел, его
любви м ближнему и дальнему.
Маркс и Энгельс, напомню, еще
юношами вознамерились послужить делу
человеческой свободы по примеру Христа.
Имелись ли для этого основания? Не
исчерпал ли Христос все, что нужно было
для этого сделать? Оставалось ли что-
либо на долю других?
Лучший (из известных мне) ответ на
этот вопрос принадлежит Канту. По его
мысли, жизнь и смерть Христа «есть,
собственно, не победа над злым
принципом,— ибо царство последнего еще
длится, и во всяком случае должна еще
наступить новая эпоха, когда оно будет
разрушено,- но лишь подрыв его
могущества» 26.
Подрыв могущества «царства зла» —
важный шаг в историческом шествии че-
24 Там ж е, с. 313.
25 Там же, т. 19, с. 314.
26 Кант И. Трактаты и письма. М.,
1980, с. 153.
ловечества от рабства к свободе, но это
лишь первый шаг. Социальный мир в
реальности его экономических,
социальных и политических возможностей
остался враждебным свободе человека.
Христос подорвал могущество «царства зла»
лишь в моральном отношении. «В
остальном же,- как говорит не
обольщающийся победами христианства Кант,-
злой принцип все еще будет называться
князем мира сего, в котором
примкнувшие к доброму принципу всегда будут
обречены на физические страдания,
жертвы, оскорбление самолюбия... ибо
он имеет в своем царстве награды
только для тех, кто сделал земное благо
своей конечной целью» 27.
Так оно и было в действительности,
так это продолжается и до сих пор.
Кенигсбергский мудрец не обсуждал
впрямую проблемы окончательной
победы над «царством зла», но подводил к
ее рассмотрению. Он прочертил четкую
линию преемственности от христианства
через его переориентацию в своей
моральной философии к тому (самому ему
еще неведомому) революционному
учению, которое ополчилось на «море бед»
человеческих. Этим революционным
учением и стал марксизм. Маркс, выдвигая
идею революционного переустройства
мира, признал, что он опирался при этом
на категорический императив Канта.
«Критика религии завершается
учением, что человек - высшее существо для
человека, завершается, следовательно,
категорическим императивом,
повелевающим ниспровергнуть все отношения,
в которых человек является униженным,
порабощенным, беспомощным,
презренным существом» 28.
III
Уже на первоначальном этапе
исследования исходного и элементарного
пункта капиталистической экономики Маркс
представляет товар как такой
экономический феномен, который вместе с тем
носит мистический, фетишистский
характер.
Однако это еще не капитализм, при
котором и рабочая сила также
становится товаром, в результате чего
христианское «разделение» человека на
«внутреннего» и «внешнего» получает свое
завершение. Христианство явилось
религиозной подготовкой универсализации
экономического обособления частных
товаропроизводителей. Переход к простому
товарному производству как
господствующему привел экономические
отношения в соответствие с культурным типом
личности, сформированным
христианством. Разумеется, опосредование
общественных отношений через обмен товаров —
это более «низкий» вид опосредования.
Все же он лишь по видимости
принадлежит иному типу религиозности. Если
евангельский Христос изгнал торгующих
из храма, то Христос протестантизма и
реформированного католицизма вполне
уживается в сознании людей
современного Запада с коммерциализацией
человеческих отношений. Для общества
товаропроизводителей, отметил Маркс в
«Капитале», «наиболее подходящей
формой религии является христианство с
его культом абстрактного человека, в
особенности в своих буржуазных
разновидностях, каковы протестантизм, деизм
и т. д.» 2Э.
Идея человеческого равенства, по
словам Маркса, приобретает «прочность
народного предрассудка» лишь в таком
обществе, где «отношение людей друг к
другу как товаровладельцев является
господствующим общественным
отношением» 30. А. духовный «зародыш» этого
народного предрассудка, которого еще не
знал древний мир. содержался уже в
христианстве. «В христианстве впервые,-
подчеркивал Энгельс,— было выражено
отрицательное равенство перед богом всех
людей пак грешников и в более узком
смысле равенство тех и других детей
божьих, искупленных благодатью и
кровью Христа» 3i.
Следовательно, религиозность, и
притом особая, христианская,
предполагающая равенство обособленных индивидов
оказывается вплетенной в самую ткань
товарных экономических отношений,
составляющих предпосылку и основу
капиталистического производства. А
предельная форма проявления
человеческого равенства не знает никаких
этнических, расовых и национальных ограни
чений. И это также в одинаковой
степени свойственно как капитализму, так в
христианству. «Капиталистическое
производство, подобно христианству, по
самому существу своему космополитично,-
пишет Маркс.— Поэтому-то христианство
и является специфической религией
капитала. И тут и там имеет значение
только человек» 32.
Не только капиталистическая
экономика, но и политическая надстройка,
адекватная ей — демократия,— обязана,
согласно Марксу, христианству (как в
христианство обязано ей), ибо только в
условиях демократии христианство
раскрывает свой неполитический характер,
свою обращенность к внесоциальным
духовным запросам личности.
В демократическом обществе
христианство (как и все другие вероисповедания)
перестает быть религией господства -
оно становится средством защиты
граждан от посягательства государства на
частную жизнь и необходимым условием
функционирования демократической
общественной системы. «Не христианство.
27 Т а м ж е, с. 153.
28 Там ж е, с. 153, 154.
29 Маркс К. и Энгельс Ф. Соч
т. 23, с. 89.
30 Т а м ж е, т. 23, с. 69-70.
31 Та м же, т. 20. с. 636.
32 Т а м ж е, т. 26, ч. III, с. 467.
а человеческая основа христианства есть
основа этого государства» 33.
Суверенитет человека, который в
христианстве является лишь постулатом,
«представляет собой в демократии
чувственную действительность, современность,
мирской принцип» 34.
Итак, подобно тому как христианство
наилучшим образом отвечало
потребности становления и функционирования
капиталистической экономики, оно,
согласно Марксу, явилось также духовной
предпосылкой демократии как
адекватной ему политической надстройки.
Однако капиталистический способ
производства и буржуазная демократия не
есть конечный пункт истории. Маркс не
был бы Марксом, если бы не увидел, что
и в этом обществе, более благоприятном
для реализации свободы и равенства, чем
все предшествующие, сохраняется
зависимость человека от денег, от вещей, от
труда и профессий, важных не как
сфера творческой самореализации индивида,
а как источник скромного заработка или
обогащения, если бы и в демократии,
охраняющей эгоистические права
индивида, он не усмотрел способа
ущемления его родовых человеческих прав,
препятствия для действительной
человеческой эмансипации.
Насильственная, несвоевременная
замена товарно-денежных отношений
прямым продуктообменом и регулируемым
государством распределением жизненных
благ приводит общество, как мы в этом
убедились, на грань катастрофы, а
человека превращает в государственного
лакея, знающего, что его благополучие
зависит от степени его послушания,
лакейской льстивости, холуйской
угодливости, т. е. от рабства добровольного,
еще более отвратительного, чем испод-
палочный вынужденный труд зека.
По сравнению с таким социальным
устройством общество, где господствуют
товарно-денежные отношения в и?;
развитой современной капиталистической
форме, должно казаться обетованной
землей свободы и равенства, но для тех, кто
живет в этом «земном раю», все более
предпочтительной, чем денежная,
становится человечески содержательная
работа, более предпочтительной, чем
политическая,- свободная общественная
самодеятельность.
Доводя до логического завершения
свои размышления о связи
товарно-денежных отношений со свободой и
равенством, Маркс писал: «Меновая стоимость
или, при более детальном рассмотрении
вопроса, система денежных отношений
действительно является системой
равенства и свободы, а то, что при более
детальном развитии этой системы
противодействует равенству и свободе и
нарушает их, представляет собой
нарушения, имманентные этой системе: это как
раз и есть осуществление равенства и
свободы, оказывающихся на деле
неравенством и несвободой» 35.
Это - об экономике. А вот - о
политике. В демократическом государстве
человек обретает права члена
гражданского общества, т. е. эгоистического
человека, изолированного, замкнувшегося на
себя, чья свобода основывается на
обособлении от другого, также
эгоистического человека. Эта свобода «ставит
всякого человека в такое положение, при
котором он рассматривает другого
человека не как осуществление своей
свободы, а, наоборот, как ее предел»36.
Демократическое государство гарантирует
только эту свободу. Отделение
гражданского общества от государства и
превращение последнего в слугу
гражданского общества — это громадный шаг
вперед на пути к человеческой эмансипации,
но это еще не все, что для нее
необходимо. Демократия — это все же еще
государственная власть, в которой
отчужден от индивида широкий спектр его
социальных потребностей и способностей.
Само гражданское общество выступает
здесь как внешняя для индивидов
рамка, ограничивающая их
самостоятельность. Где же выход? Что необходимо,
чтобы индивид мог осуществить всю
полноту присущей ему родовой свободы?
Христос говорит: «Кесарю - кесарево,
Богу — богово». То есть государство не
только остается в неприкосновенности
как «врожденная» черта всякого
развитого социума, но и (в силу этого) человек
обязан отдать государству частицу
самого себя, пусть не всего себя, как это
было прежде, пусть даже не душу,
а только тело (как будто возможно одно
без другого). Потом - уже не на Земле,
а на Небесах - кесаря (государства) не
будет. Иными словами, полная свобода
человека в этой жизни не достижима.
Маркс принимает эту заповедь как
точно отражающую реальное положение
индивидов в западном обществе. Но он
предполагает нечто совершенно
фантастическое (даже по меркам отчаянно
смелого воображения), а именно, что самим
объективным ходом вещем, работой
«мирового духа» общество, уже
осуществившее политическую эмансипацию, будет
подведено к такому состоянию, когда оно
не будет больше нуждаться в услугах
кесаря: государство отомрет, и
безгосударственное общество перестанет
ограничивать свободу индивида. Лишь «тог-
гда, когда человек познает и организует
свои «собственные силы» как
общественные силы и потому не станет больше
отделять от себя общественную силу в
виде политической силы,— лишь тогда
свершится человеческая эмансипация» 37.
33 Там же, т. I, с. 396.
34 Там ж е, т. I, с. 397.
85 Из рукописи Карла Маркса
«Критика политической экономии».- «Вопросы
философии», 1965, № 8, с. 135.
36 Маркс К. и Энгельс Ф. Соч.,
т. I, с. 401.
37 Там ж е, с. 406.
Могут сказать, что если этот вывод
(об отмирании государства) был
утопическим, когда он впервые был высказан,
то сегодня он представляется утопичным
вдвойне и втройне, т. е. нелепым, почти
бредовым. Мощь современных государств
возросла неимоверно, она стала ядерной;
государственный контроль над
общественной и частной жизнью и возможности
государственного манипулирования
сознанием (благодаря современной
информационной технике) - беспрецедентны.
Без государства конфликты внутри
общества и между народами, как кажется,
привели бы к взаимному истреблению
людей, война всех против всех вернула
бы человечество к состоянию дикости.
Все Это вроде бы неоспоримо, но, во-
первых, это не имеет никакого
отношения к идеалу: Маркс четко формулирует
условия, при которых человеческая
эмансипация станет возможной, и обращает
внимание на некоторые объективные
тенденции, ведущие общество в этом
направлении, а сложатся ли когда-нибудь
такие условия — это другой вопрос. Если
не сложатся, значит полная свобода
человека на Земле недостижима, но Идеал
свободы все равно останется
единственным мерилом реально достигнутой
свободы. Во-вторых, не все так беспросветно
в подлунном мире. В западных странах
(теперь и у нас) складываются
свободные неполитические общественные
объединения, оспаривающие безраздельную
власть государства над обществом и
человеком, й небезуспешно.
Правовое демократическое
государство — элементарная предпосылка
человеческой эмансипации, но это еще не она
сама. Для первого в христианских
странах был необходим Христос, для
второй — еще и Маркс.
IV
Неудовлетворенность современным
состоянием &;ира стимулирует религиозные
искания. Возникают новые, неведомые
прежде верования а культы. Старые
религиозные и квазирелигиозные идеологии
приспособляются к реалиям XX
столетия.
Трудно сказать, что произойдет со
временем в высшей сфере духовности,
подверженной изменениям, как и все
остальные. Но как бы впредь ни
складывались судьбы христианства и марксизма,
причины их отталкиваний и
взаимопритяжений ждут сегодня своего
объяснения.
В контексте своих недавних
размышлений о верованиях нового века Л. Джи-
ринг повторил много раз сказанное до
него: «Маркс оказался творцом новой
формы секулярной религий без Бога.
Структурно она идентична иудео-хри^
стйанству» 38.
38 Geering L. Faith's new age: a
perspective on contemporary religions
change. L., 1980, p. 167.
Что же обусловило эту идентичность?
Какие устойчивые (может быть, и
непреходящие) противоречия
человеческого существования лежат глубже этих
идеологических структур?
Культурно-исторический анализ
ориентирует нас в поисках ответа на
противоречие между личностью и обществом,
актуальное для исторического типа
культуры и потенциальное для
космологического, ему предшествующего и ему
сопутствующего.
Всякая наличная социальная
организация, не являясь окончательной,
обладает тем не менее достаточным запасом
прочности, чтобы противостоять
попыткам ее изменений, внутренним
источником которых является стремление
личности к свободному самосуществованию.
Личность, разумеется,
детерминирована обществом, но не только его
наличной формой, а всей предшествующей
историей социального существования, что
и обусловливает противоречие между
личностью и конкретностью
ограниченных в пространстве и во времени
общественных отношений, конкретностью
состояния культуры общества.
Рассмотренная в отношении к исторически
определенной социальной организации,
сущность человека, воплощенная в бытии
личности, выступает как
сверхсоциальная.
Христианство как раз и выявляет
сверхсоциальную сущность человека
(объявляя, правда, ее надмирной,
божественной), помогая занять персональную
оборону против общества, враждебного
личности.
Марксизм также выявляет и фиксирует
сверхсоцкапъиую сущность человека, не
считая ее, однако, надмирной и
божественной, ибо в действительности она
формируется совокупностью всех
исторически изменявшихся социальных
отношений (но не только и не обязательно
наличных, как это следует из
вульгарной трактовки известного положения
Маркса). Сущность человека не дана
изначально, но, сформировавшись, она
становится константой человеческого
существования, мерилом человечности
общества и не изменяется вместе с любыми
изменениями социума й культуры. И лишь
в силу этого в конкретном бытии
личности возникают противоречия между
человеческой сущностью и
существованием. Марксизм, как и христианство,
выступает хранителем человеческой
сущности.
О христианстве мало сказать, что оно
религия или даже абсолютная религия.
Христианство — это идеология
освобождения, универсальная, общечеловеческая^
признающая равенство всех людей
между собой. Распространяясь на всех
людей без изъятия, оно все же возникло
как идеология угнетенных - рабов,
ремесленников, колонов. Христианство, по
словам Энгельса, можно считать
исторически первой идеологией «пролетариата»,
каким он был во времена Римской им-
перии. Однако христианство вовсе не
имело в виду содействовать достижению
гуртовой свободы «пролетариев». В
центре его внимания - личность, ее
духовная свобода.
Марксизм, как и христианство,
является идеологией освобождения
человеческой личности, но также апеллирует
прежде всего к «труждающимся и
обремененным» своего века — промышленным
пролетариям, поскольку в бытии
каждого из них особенно резко сказался
разрыв между человеческой сущностью в
существованием.
Как и христианство, марксизм имеет
общечеловеческий характер. Как и
христианство, он является идеологией
возвеличивания человека, становления
каждого индивида свободной личностью,
идеологией преодоления всех враждебных
свободе личности форм социальной
организации; идеологией, нацеленной на
разрешение противоречия между индивидом
и родом, хотя, быть может, полностью
преодолеть это противоречие никогда не
удается, ибо оно имеет свойство
возрождаться, в новых и неожиданных формах.
Христианство возникло в эпоху
всеобщей веры в Бога, и потому оно не могло
не стать религией. Марксизм возник в
эпоху кризиса религиозной веры и
наступающего господства научного знания и
потому не мог не притязать на научность.
Для завершения процесса
кристаллизации «человеческой природы»
необходимо было выделение индивида из
первоначального общинного коллектива.
Условия для этого сложились лишь в мутант-
ной, качественно отличной от всех
остальных, античной культуре.
Христианство могло возникнуть только на почве
последней. Речь должна идти не только
о позднем периоде античности, об
эллинизме или римском мире, где отчасти
уже проявил себя принцип
субъективности, но также и об античности
периода древнегреческой классики.
Маркс отмечает противоположность
Платона и Христа, состоящую в том, что
«Платон отстаивал в своем государстве
греческую субстанциальность против
надвигающегося принципа
субъективности», тогда как «Христос отстаивал
момент субъективности против
существующего государства, которое он признавал
лишь мирским и, следовательно,
нечестивым» 39.
Поставив в центре тварного мира
наделенную бессмертной душой
человеческую личность, перевешивающую на
«божественных весах» не только
государство и общество, но и весь космос,
Христос не превращал отдельного человека
в самодовлеющую, обособленную от мира,
от других людей единичность. Напротив,
через свободу личности он утверждал
добровольный, основанный на взаимной
любви, духовный и душевный союз всех
человеческих существ, равноправно
владеющих общим имуществом. Христос,
иными словами, был социалистом.
Социалистами были апостолы,
социалистическими были раннехристианские
общины (Деян. 4, 32-35). «Социализм»-
«в той мере, в какой он был тогда
возможен, действительно существовал и даже
достиг господства — в лице
христианства» 40.
Христос, однако не был первым
социалистом. Социализм как учение (в
отличие от «реального социализма» родового
общества и азиатских деспотий) впервые
возник в Древней Греции и явился
реакцией на классовое расслоение
общества, возникновение частной собственности,
свободного индивида и демократии.
«Богоподобный» Платон пытался сдержать
огненный поток социальных перемен,
сгубивший доклассовую общину и
родовую аристократию (и приведший в
апокалиптический ужас Гераклита) своим
проектом идеального
«социалистического» Государства. Начавшаяся история
должна была вернуться вспять и
прекратиться. В Государстве Платона
допускалось лишь воспроизводство всегда
равного самому себе состояния с неизменным
делением на сословия, с жестким
разделением труда, с полицейским
надзором над всеми, с человеководством, со
всеобщим рабством.
В социализме Платона индивид
всецело, душой и телом, принадлежит
Государству; он мельчайшая космическая
пылинка, которая вращается вокруг
государства-солнца. Социализм Христа
является прямой противоположностью
социализма Платона. Нагорная проповедь
сразу положила начало великой
коллизии между «социализмом прошлого» и
«социализмом будущего», борьбе
истории и антиистории.
Только искаженное в духе Платона
учение Христа могло стать идеологией
«христианского тоталитаризма», о
котором говорил А. Тойнби. Заметим, что
даже тогда, когда в Новое время
возродились христианские социалистические
утопки - Томаса Мора и Томмазо Кампа-
иеллы,- они были скорее
платоновскими, чем христианскими, т. е. такими же
государство-центрическими,
предполагающими насилие над индивидом (а в
«Утопии» даже и рабство).
И только Маркс и Энгельс на мирской
основе восстановили «человеческую
основу» социализма Христа, ибо для них
устранение социальных антагонизмов,
преодоление всех форм отчуждения,
превращение государства из господина
общества в его слугу, создание
материального изобилия на основе научно
организованного автоматического производства,
находящегося в реальной, а не
фиктивной, собственности всех членов общества,
было не самоцелью, а лишь средством
достижения действительной свободы
каждого индивида, свободы их всесто-
39 Маркс К. и Энгельс Ф. Из
ранних произведений, с. 199.
40 Маркс К. и Энгельс Ф. Соч., т. 22
с, 488.
роннего развития, свободы их
самоосуществления, за пределами
материального производства («царства
необходимости») и вне какого-либо контроля не
только со стороны государства (которое, по
их мысли, со временем должно
отмереть), но и со стороны общества, его
стихийных, анонимных, но от этого не
менее жестких товарно-денежных
зависимостей. Это ведь они выдвинули
формулу, понимание которой с таким трудом
давалось их мнимым последователям:
«свободное развитие каждого есть
условие свободного развития всех». Именно
так, а не наоборот: не свобода
государства, не свобода общества, не свобода
класса стоит на первом месте, а свобода
индивида. Не индивид должен служить
государству, классу, но, напротив,
государство (если оно еще сохраняется),
класс (если он еще существует) должны
быть организованы так, чтобы индивид мог
проявить, развернуть все свои
природные задатки, все смыслы
беспрепятственно освоенных богатств мировой
культуры — этого воистину всеобщего
достояния.
Таков коммунистический идеал
Маркса, который был подменен идеалом
(и теорией), а затем и практикой,
реальностью «социализма прошлого» (как это
прежде произошло с идеалом Христа).
Подмена идеалов, следует заметить,
«процедура» не механическая: в
массовом сознании происходит неподвластное
самоконтролю смешение, даже
взаиморастворение противоположных идеалов,
в результате чего «старый» (фактически
еще дохристианский) присваивает себе
некоторые черты «нового» (первомарк-
систского) со всеми принадлежащими
ему самоопределениями. Такая подмена
идеалов на какой-то, достаточно
длительный, период времени неотвратима, ибо
прошлое и будущее связаны между
собой не только синхронно, но и диахрон-
но. Сосуществование прошлого с
будущим, когда различные исторические
стадии отливаются в определенные
регионально-культурные,
национально-государственные формы, создает постоянные
альтернативы двюкения «прошлое -
будущее». В середине XIX века эта
альтернатива приняла вид: либо вперед от
капитализма к социализму как высшей
стадии исторического развития, либо назад
от капитализма (хотя и с «невольной»
помощью капитализма, с помощью
созданных им технических средств) тоже
к «социализму», но «социализму»
средневековому и даже дофеодальному.
Произошло и то, и другое. Сложность
современного этапа мировой истории
состоит в том, что наряду с
противоречиями между социализмом и капитализмом
возникли противоречия между
«социализмом» докапиталистическим... и
социализмом послекапиталистическим, и в том,
что эти противоречия переплелись между
собой.
Из сказанного не следует, что между
социализмом Христа и социализмом
Маркса нет различий, хотя их идеал
вроде бы совпадает: свобода не только от
государства, но и от частной
собственности, от Маммоны, и даже от труда —
источника материального богатства; свобода
в духе и для духа, всех объединяющего.
Различия состоят в том, как понималось
ими достижение этого идеала.
Покажу это на примере их отношения
к частной собственности.
Обещая Царство Божие на том свете,
евангельский учитель не был
безразличен к поведению человека на этом, ибо,
как он говорил, только то, что свяжется
на Земле, будет связано и на Небесах.
От частной собственности Он требовал
отказаться немедленно, грозя вечной
карой даже и тем, кто, следуя всем другим
его заповедям, не пожелал расстаться со
своим имуществом (Мф. 19, 16-24).
Когда Анания и жена его Сапфира,
продав свое имение, часть цены положили к
ногам Апостолов, а другую оставили для
себя, то как «солгавшие Богу» они тут
же пали замертво (Деян. 5, 1-10). Но
вина их была не только в этом: отдать
следовало все без остатка 41.
Маркс и Энгельс также — в идеале —
были противниками частной
собственности, власти денег, но, в отличие от
Христа, они категорически возражали против
немедленного «отказа» от частной
собственности или, тем более, немедленной
«отмены» ее, даже крупной, не говоря о
частной собственности самих тружеников.
Самым ужасным, что пережила
Западная Европа со времени Ренессанса, была,
по убеждению Маркса, кровавая
экспроприация мелкой частной собственности
миллионов крестьян и ремесленников.
Об этом автор «Капитала» пишет с
негодованием, горечью и состраданием к
труженикам, которые вместе со своей
собственностью лишились исходного
условия свободного развития: «Частная
собственность работника на его средства
производства есть основа мелкого
производства, а мелкое производство
составляет необходимое условие для развития
общественного производства и свободной
индивидуальности, самого работника
(Курсив мой.- К. К.). Правда, этот способ
производства встречается и при
рабовладельческом, и при крепостном строе, и при
других формах личной зависимости.
Однако он достигает расцвета, проявляет
всю свою энергию, приобретает
адекватную классическую форму лишь там, где
работник является свободным частным
собственником своих, им самим
применяемых условий труда, где крестьянин
обладает полем, которое он возделывает,
ремесленник — инструментами, которыми
он владеет, как виртуоз» 42.
41 Не так ли поступили герои
«Чевенгура» А. Платонова, предав смерти
односельчан, не пожелавших расстаться со
своим малым крестьянским скарбом?
42 Маркс К. и Энгельс Ф Соч.
х. 23, с. 771
Эти слова Маркса выражают его
заветную мысль. Все его историко-философское
построение, его антропология, его
гуманизм исходят из нее. Общество, где не
было частной собственности или где
труженик не являлся свободным частным
собетвенником, не имело условий ни для
развития свободной индивидуальности
самого работника, ни для развития
общественного производства. Оно могло
быть самоудовлетворенным, относительно
благополучным, но оно не было
историческим. Только в обществе, где на
протяжении нескольких веков мелкая частная
собственность была господствующей
формой собственности, мог возникнуть
капитализм, оттеснивший мелкую
собственность на задний план, но не
уничтоживший ее. Тут произошла перемена
формы частной собственности или, точнее
сказать, из старой возникла новая, более
эффективная, подчинившая себе (но
одновременно одарившая новыми
возможностями) старую мелкую частную
собственность. (Теперь в условиях
автоматизации и компьютеризации это стало
особенно ясно.) Развитие свободной
индивидуальности непосредственных
производителей в процессе производства было
ограничено капиталом, но не было
приостановлено вовсе. Отсюда и возникло
напряженное социокультурное
противоречие между потребностью индивида в
свободном самоосуществлении и полит-
экономическими и
производственно-техническими структурами капитала,
мешающими самореализации. С точки
зрения Маркса, выход из этой ситуации был
только один — вносить рабочей борьбой
гуманистические коррективы в научно-
технический прогресс, противодействуя
сверхзксплуатации трудящихся. II лишь
это, только это может привести к
восстановлению индивидуальной собственности
и свободного развития индивида.
Капиталистическая собственность,- писал
Маркс,— «есть первое отрицание
индивидуальной частной собственности,
основанной на собственном труде. Но
капиталистическое производство порождает с
необходимостью естественного процесса
свое собственное отрицание. Это —
отрицание отрицания. Оно восстанавливает не
частную собственность, а
индивидуальную собственность на основе достижений
капиталистической эры: на основе
кооперации и общего владения землей и
произведенными самим трудом средствами
производства» 4з (курсив мой.- К. К.).
Будущее представлялось Марксу не
сужением, а расширением горизонтов
индивидуальной свободы. Он предсказал
Возрождение Возрождения.
Развитие Запада после Маркса шло не
совсем так, как ото предполагал он; в ка-
кття-то отношениях опровергая некоторые
предположения Маркса, но все же в
основных своих тенденциях - по Марксу,
т. е. через бурный научно-технический
прогресс, через превращение науки в не-
посредствепиую производительную силу,
через все большее освобождение
трудящихся от рутинного труда, через
расширение сферы свободной
самодеятельности, через упрочение демократических
институтов. А это куда важнее для
обретения свободы, чем полицейски
контролируемое «марксистское идолопоклонство».
* Парадигмальной основой
христианского проекта истории явился античный
гуманизм. Парадигмальной основой второго
великого проекта всемирной истории
явился возрожденческий гуманизм. От
акме античного гуманизма до появления
христианства прошло примерно 300 лет.
От кульминации ренессапсного
гуманизма до появления марксизма — столько же.
Культуру эллинскую сменила культура
аллинизма. культуру Ренессанса — то, что
я назвал бы «возрожденческим
эллинизмом», подразумевая иод этим
распространение западноевропейской цивилизации
на заокеанский материк.
Ренессанс, строго говоря, не вторая
парадигма истории. Парадигма — одна.
Ренессанс - это все та же парадигма, кото-
гая в процессе ее исторического
«развертывания» обогатилась смыслами первого
парадигмального проекта —
христианства,— что и сделало возможным и
необходимым создание второго парадигмального
проекта всемирной истории — марксизма.
43 М а р к с К. и Энгельс Ф. Соч.,
т. 23, с. 773.
ИЗ ИСТОРИИ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ
ФИЛОСОФСКОЙ МЫСЛИ
Русская идея
Основные проблемы русской мысли XIX века
и начала XX века
НИКОЛАЙ БЕРДЯЕВ
Глава VI
Оправдание культуры. Различение культуры и цивилизации. Культура
конца. Русский нигилизм: Добролюбов, Писарев. Аскетические,
эсхатологические и моралистические элементы в нигилизме. Культ
естественных наук. Противоречие между принципом личности и материализмом.
Противоположение совершенной культуры и совершенной жизни. Л.
Толстой. Опрощение Толстого и Руссо. К. Леонтьев и его отношение к
культуре.
1.
Теме оправдания культуры принадлежало в русском сознании
большее место, чем в сознании западном. Люди Запада редко сомневались в
оправданности культуры. Они почитали себя наследниками
средиземноморской греко-римской культуры и были уверены в священности ее
традиций. Вместе с тем эта культура представлялась им универсальной
и единственной, весь же остальной мир варварским. Это было особенно
остро у французов. Правда, Ж.-Ж. Руссо усомнился в благе
цивилизации (это слово французы предпочитают слову культура). Но то было
явление исключительное, почти скандальное, и вопрос ставился иначе
чем у русских. Мы увидим разницу с Л. Толстым. У русских нет куль-
туропоклонства, так свойственного западным людям. Достоевский
сказал: все мы нигилисты. Я бы сказал: мы, русские, апокалиптики или
нигилисты. Мы апокалиптики или нигилисты потому, что устремлены к
концу и плохо понимаем ступепность исторического процесса,
враждебны чистом форме. Это и имел в виду Шпенглер, когда сказал, что
Россия есть апокалиптический бунт против античности, т. е. против
совершенной формы, совершенной культуры *. Но совершенно ошибочно
мнение о. Г. Флоровского, что русский нигилизм был анти-историческим
утопизмом **. Нигилизм принадлежит русской исторической судьбе, как
Окончание. Начало см. «Вопросы философии», 1990, № 1.
* См. О. S p e n g 1 е г. «Der Untergang des Abendlandes». Zweiter Band.
** См. о. Г. Флоровский: «Пути русского богословия».
87
принадлежит и революция. Нельзя признавать историческим лишь то,
что нравится консервативным вкусам. Бунт есть также историческое
явление, один из путей осуществления исторической судьбы. Русский не
может осуществлять своей исторической судьбы без бунта, таков уж
этот народ. Нигилизм типически русское явление, и он родился на
духовной почве православия, в нем есть переживание сильного элемента
православной аскезы. Православие, и особенно русское православие, не
имеет своего оправдания культуры, в нем был нигилистический элемент
в отношении ко всему, что творит человек в этом мире. Католичество
усвоило себе античный гуманизм. В православии сильнее всего была
выражена эсхатологическая сторона христианства. И в русском
нигилизме можно различать аскетические и эсхатологические элементы. Русский
народ есть народ конца, а не середины исторического процесса.
Гуманистическая же культура принадлежит середине исторического
процесса. Русская литература XIX века, которая в общем словоупотреблении
была самым большим проявлением русской культуры, не была
культурой в западном классическом смысле слова, и она всегда переходила за
пределы культуры. Великие русские писатели чувствовали конфликт
между совершенной культурой и совершенной жизнью, и они
стремились к совершенной, преображенной жизни. Они сознавали, хотя и не
всегда удачно выражали это, что русская идея не есть идея культуры.
Гоголь, Толстой, Достоевский в этом отношении очень показательны.
Я говорил уже, что русская литература не была ренессансной, что она
была проникнута болью о страданиях человека и народа и что русский
гений хотел припасть к земле, к народной стихии. Но русским
свойственно и обскурантское отрицание культуры, этот обскурантский элемент
есть и в официальном православии. Русские, когда они делаются
ультраправославными, легко впадают в обскурантизм. Но мнения о культуре
людей некультурных или очень низкого уровня культуры не интересны,
не ставят никакой проблемы. Интересно, когда проблему оправдания
культуры ставят самые большие русские люди, которые творили рус-
скую культуру, или ставит интеллигенция, умственно воспитанная на
западном научном просвещении. Именно во вторую половину XIX века
пробужденное русское сознание ставит вопрос о цене культуры так, как
он, напр., поставлен Лавровым (Миртовым) в «Исторических письмах»,
и даже прямо о грехе культуры. Русский нигилизм был нравственной
рефлексией над культурой, созданной привилегированным слоем и для
него лишь предназначенной. Нигилисты не были культурными
скептиками, они были верующими людьми. Это было движение верующей
юности. Когда нигилисты протестовали против морали, то они делали это
во имя добра. Они изобличали ложь идеальных начал, но делали это во
имя любви к неприкрашенной правде. Они восставали против условной
лжи цивилизации. Так и Достоевский, враг нигилистов, восставал
против «высокого и прекрасного», порвал с «Шиллерами», с идеалистами
40-х годов. Разоблачение возвышенной лжи —один из существенных
русских мотивов. Русская литература и мысль носила в значительной
степени обличительный характер. Ненависть к условной жизни
цивилизации привела к исканию правды в народной жизни. Отсюда опрощение,
снятие с себя условных культурных оболочек, желание добраться до
подлинного, правдивого ядра жизни. Это наиболее обнаруживается у
Л. Толстого. В «природе» больше истины и правды, больше
божественного, чем в «культуре». Нужно отметить, что русские задолго до Шпенг-
лера делали различие между «культурой» и «цивилизацией», и они
обличали «цивилизацию», даже когда оставались сторонниками
«культуры». Это различие, по существу, хотя и в другой терминологии, было
у славянофилов, у Герцена, у К. Леонтьева и мн. др. Может быть, тут
было влияние немецкого романтизма. Могут сказать, что русским легче
было сомневаться в культуре и восставать против нее, потому что они
менее были проникнуты традициями греко-римской культуры и от
меньших богатств приходилось отказываться. Зтот аргумент, связанный с
тем, что в русском сознании и мысли XIX века было меньше
связанности с тяжестью истории и традиции, ничего не. доказывает. Именно
это и привело к большей свободе русской мысли. Нельзя, впрочем, ска-
зать, что в России не было никакой связи с Грецией, она существовала
через греческую патристику, хотя и была прервана. Любопытно, что
классическое образование в той форме, в какой его насаждал министр
народного просвещения гр. Д. Толстой, носило явно реакционный
характер, в то время как на Западе оно носило ^прогрессивный характер
и поддерживало гуманистическую традицию. Естественным же наукам
придавалось у нас освободительное значение.
2.
Русский нигилизм есть радикальная форма русского
просветительства. Это диалектический момент в развитии русской души и русского
сознания. Русский нигилизм имеет мало общего с тем, что иногда
называют нигилизмом на Западе. Нигилистом называют Ницше. Нигилистами
можно назвать таких людей, как Морис Баррес. Но такой нигилизм
может быть связан с утонченностью и совсем не принадлежит эпохе
просвещения. В русском нигилизме нет ничего утонченного, и он как раз
подвергает сомнению всякую утонченную культуру и требует, чтобы
она себя оправдала. Добролюбов, Чернышевский, Писарев — русские
просветители. Они мало походили на западных просветителей, на
Вольтера или Дидро, которые не объявляли бунта против мировой
цивилизации и сами были порождением этой цивилизации. Очень интересен
для понимания духовных истоков нигилизма дневник Добролюбова.
Мальчик Добролюбов был очень аскетически настроен, формация его души
была православно-христианская. Он видел грех даже в самых
незначительных удовлетворениях своих желаний, напр., если он съедал слишком
много варенья. В нем было что-то суровое. Он теряет веру после
смерти горячо любимой матери, его возмущает духовно низменный характер
жизни православного духовенства, из которого он вышел, он не может
примирить веры в Бога и Промысел Божий с существованием зла я
несправедливых страданий. Атеизм Добролюбова, как и вообще русский
атеизм, родствен маркионизму по своим перзоистокам, но выражен в
эпоху отрицательного просветительства *. У русских нигилистов было
большое правдолюбие, отвращение к лжи и ко всяким прикрасам, ко
всякой возвышенной риторике. Необыкновенно правдолюбив был
Чернышевский. Мы видели это уже по его отношению к любви, требованию
искренности и свободы чувств. Главой русского нигилизма считают
Писарева, и его личность представлялась многим похожей на
тургеневского Базарова. В действительности не было ничего подобного. Прежде
всего, в отличие от Чернышевского, Добролюбова и др. нигилистов 60-х
годов, он не был разночинец, он происходил из родового дворянства, он
типичное дворянское дитя, маменькин сынок **. Его воспитывали так,
чтобы получился jeune hornme correct et bien eleve *. Он был очень
послушный ребенок, часто плакал. Искренность и правдивость его были
так велики, что его назвали «хрустальной коробочкой». Этот нигилист,
разрушитель эстетики, стал очень благовоспитанным молодым человеком,
хорошо говорившим по-французски, безукоризненно-элегантным, эстетом
по своим вкусам. В нем было что-то мягкое, не было моральной
суровости Добролюбова. Ничего похожего на Базарова, за исключением
увлечения естественными науками. Писарев хотел оголенной правды, прав-
* См. мою книгу «Психология русского нигилизма и атеизма».
** См. Е. Соловьев: «Писарев».
дивости прежде всего, ненавидел фразы и прикрашивашш, не любил
энтузиазма. Он принадлежит к реалистически настроенной эпохе 60-х
годов, когда происходила борьба против поколения идеалистов 40-х годов,
когда требовали полезного дела и не любили мечтательности. В другую
эпоху он был бы иным и по-иному боролся бы за личность. Бурная
реакция Писарева, природного эстета, против Пушкина, против эстетики
была борьбой против поколения «идеалистов», против роскоши, которую
дозволяли себе привилегированные кучки культурных людей.
Действительность выше искусства. Это тезис Чернышевского. Но
действительность понимается тут иначе, чем понималась Белинсшш и Бакуниным
в гегелиаиский период. Понятие «действительности» носит не
консервативный, а революционный характер. Как типичный просветитель,
Писарев думал, что просвещающий ум есть главное орудие изменения
действительности. Он борется прежде всего за личность, за индивидуум, он
ставит личную нравственную проблему. Характерно, что в ранней
юности Писарев участвовал в христиански-аскетическом «Обществе
мыслящих людей». Эта аскетическая закваска осталась в русском нигилизме.
В 40-е годы был выработан идеал гармонически развитой личности.
Идеал «мыслящего реалиста» 60-х годов, который проповедывал
Писарев, был сужением идеала личности, умалением объема и глубины
личности. С этим связано основное противоречие нигилизма в его борьбе
за эмансипацию личности. Но закал личности сказался в способности
нигилистов к жертве, в отказе этих утилитаристов и материалистов от
всякого жизненного благополучия. Проповедь эгоизма у Писарева менее
всего означала проповедь эгоизма, она означала протест против
подавления индивидуума общим, была неосознанным и плохо философски
обоснованным персонализмом. Писарев хочет бороться за индивидуальность,
за право личности, и тут у него есть что-то свое, оригинальное. По
философия его совсем не своя и не оригинальная. К социальной теме он
неравнодушен, но она отступает на второй план по сравнению с
борьбой за личность, за умственную эмансипацию. Но все это происходило
в атмосфере умственного просветительства 60-х годов, т. е. под
диктатурой естественных наук.
У нигилистов было подозрительное отношение к высокой культуре,
но был культ науки, т. е. естественных наук, от которых ждали
решения всех вопросов. Сами нигилисты не сделали никаких научных
открытий. Они популяризировали естественно-научную философию, т. е. в то
время материалистическую философию.
Это было философски столь упадочное и жалкое время, когда
считали серьезным аргументом против существования души тот факт, что
при анатомировании трупов души не нашли. G большим основанием
можно было бы сказать, что если бы нашли душу, то это был бы аргумент
в пользу материализма. В вульгарном, философски полуграмотном
материализме Бюхнера и Молешотта находили опору для освобождения
человека и народа, в то время как освобождать может лишь дух,
материя же может лишь порабощать. В области наук естественных в России
были замечательные, первоклассные ученые, напр., Менделеев, но они не
имеют отношения к нигилистам. Прохождение через идолопоклонческое
отношение к естественным наукам было моментом в судьбе
интеллигенции, искавшей правду. И это связано было с тем, что наука духовная
была превращена в орудие порабощения человека и народа. Такова
человеческая судьба. Помешательство на естественных науках отчасти
объяснялось научной отсталостью России, несмотря на существование
отдельных замечательных ученых. В русском воинствующем
рационализме и особенно материализме чувствовалась провинциальная
отсталость и низкий уровень культуры. Историк умственного развития
России Щапов, близкий идеям Писарева, счигал идеалистическую филосо-
сЬию и эстетику аристократическими и признавал демократическими
90
естественные науки *. Такова была и мысль Писарева. Щапов думал,
что русский народ —реалист, а не идеалист, и имеет прирожденную
склонность к естествознанию и технике, к наукам, имеющим
практически полезные результаты. Он только забыл моральный по
преимуществу склад русского мышления и религиозное беспокойство русского
народа, склонного постоявно ставить проблемы религиозного
характера. Курьез в печальной истории русского просвещения, что министр
народного просвещения 7 к. Шяринский-Шихматов, упразднивший в 50-ые
годы преподавание философии, рекламировал естественные науки,
которые представлялись ему политически-кейтральными, философские же
науки представлялись источников вольномыслия. В 80-ые годы положение
меняется и источником вольномыслия признаются естественные науки,
философия же источником реакции. Но и в том и в другом случае
наука и философия не рассматривались по существу, а лишь как орудия.
То же нужно сказать и относительно морали. Нигилизм обвиняли в
отрицании морали, в аморализме. В действительности в русском
аморализме, как уже было сказано, есть сильный моральный пафос, пафос
негодования против царящего в мире ала и неправды, пафос,
устремленный к лучшей жизни, в которой будет больше правды: в нигилизме
сказался русский максимализм. В максимализме этом был неосознанный,
выраженный в жалкой философии русский эсхатологизм, устремленность
к концу, к конечному состоянию. Нигилистическое оголение, снятие
обманчивых покровов есть непринятие мира, лежащего во зле. Это
непринятие злого мира было в православном аскетизме и эсхатологизме, в
русском расколе. Не нужно придавать слишком большого значения
мыслительным формулировкам в сознании, все определяется на большей
глубине. Но русский нигилизм iрешил основным противоречием,
которое особенно явственно видно у Писарева.
Писарев боролся за освобождение личности. Он проповедывал
свободу личности и ее право на полноту жизни, он требовал, чтобы личность
возвысилась над социальной средой, над традициями прошлого. Но
откуда личность возьмет силы для такой борьбы? Писарев и нигилисты
были материалистами, в морали они были утилитаристами. То же
нужно сказать и о Чернышевском. Можно понять утверждение
материализма и утилитаризма как орудий отрицания предрассудков прошлого
и традиционных мировоззрений, которыми пользовались для
порабощения личности. Этим только и можно объяснить увлечение такими
примитивными и не выдерживающими никакой философской критики
теориями. Но, положительно, могут ли дать эти теории что-нибудь для
защиты личности от порабощения природной и социальной средой, для
достижения полноты жизни? Материализм есть крайняя форма
детерминизма, определяемое™ человеческой личности внешней средой, он не
видит внутри человеческой личности никакого начала, которое она
могла бы противопоставить действию окружающей среды извне. Таким
началом может быть лишь духовное начало, внутренняя опора свободы
человека, начало, не выводимое извне, из природы и общества.
Утилитарное обоснование морали, которое соблазнило нигилистов, совсем не
благоприятно свободе личности и совсем не оправдывает стремления к
полноте жизни, к возрастанию жизни в ширину и глубину. Польза есть
принцип приспособления для охраны жизни и достижения благополучия.
Но охрана жизни и благополучия могут противоречить свободе и
достоинству личности. Утилитаризм антиперсоналистичен. Утилитарист
Д. С. Милль принужден был сказать, что лучше быть недовольным
Сократом, чем довольной свиньей. И русские нигилисты менее всего
хотели походить на довольных свиней. Лучше был принцип развития, кото-
* А. Щапов: «Социально-педагогические условия умственного развития
русского народа».
91
рый признавали нигилисты, личность реализуется в процессе развития,
но развитие понималось в духе натуралистической эволюционной
теории. Борец за личность Писарев отрицал творческую полноту личности,
полноту ее духовной и даже душевной жизни, отрицал право на
творчество в философии, в искусстве, в высшей духовной культуре. Он
утверждал крайне суженное, обедненное сознание человека. Человек
оказался обреченным исключительно на естественные науки, даже
вместо романов предлагалось писать популярные статьи по естествознанию.
Это означало обеднение личности и подавление ее свободы. Такова была
обратная сторона русской борьбы за освобождение и за социальную
правду. Результаты сказались на русской революции, на совершенных ею
гонениях на дух. По несправедливо было бы возлагать тут
ответственность исключительно на нигилистов и на тех, которые за ними
следовали. Также несправедливо возлагать ответственность за европейское
безбожие и отпадение от христианства исключительно на французскую
просветительную философию XVIII века. Тяжкая вина лежала и на
историческом христианстве, в частности, на православии. Воинствующее
безбожие есть расплата за рабьи идеи о Боге, за приспособление
исторического христианства к господствующим силам. Атеизм может быть
экзистенциальным диалектическим моментом в очищении идеи Бога,
отрицание духа может быть очищением духа от служебной роли для
господствующих интересов мира. Не может быть классовой истины, но
может быть классовая ложь, и она играет немалую роль в истории.
Нигилисты были людьми, соблазнившимися историческим христианством
и исторической духовностью. Их философское миросозерцание было
ложным по своим основам, но они были правдолюбивые люди. Нигилизм
есть характерно русское явление.
3.
В 70-ые годы тема о культуре ставилась иначе, чем в нигилизме
60-х годов. Это была прежде всего тема о долге слоя,
воспользовавшегося культурой, интеллигенции перед народом. Культура
привилегированного слоя стала возможной благодаря поту и крови, пролитым
трудовым народом. Этот долг должен быть уплачен. На такой постановке
темы особенно настаивал в 70-е годы П. Лавров. Но вражды к
культуре, по существу, у него не было. Гораздо более интересен и радикален
Лев Толстой. Он —гениальный выразитель религиозно обоснованного
нигилизма в отношении к культуре. В нем сознание вины относительно
народа и покаяние достигли предельного выражения. Обыкновенно
принято резко противополагать Л. Толстого-художника и Л.
Толстого-мыслителя и проповедника и очень преувеличивать резкость происшедшего в
нем переворота. Но основные толстовские мотивы и идеи можно уже
найти в ранней повести «Казаки», в «Войне и мире» и «Аннз
Карениной». Там уже утверждалась правда первичной народной жизни и ложь
цивилизации, ложь, на которой покоится жизнь нашего общества.
Прелесть, обаяние толстовского художественного творчества связаны с тем,
что он изображает двойную жизнь: с одной стороны, жизнь его героев в
обществе с его условностями, в цивилизации, с ее обязательной ложью,
с другой стороны, то, что думают его герои, когда они не стоят перед
обществом, когда они поставлены перед тайной бытия, перед Богом и
природой. Это есть различие между князем Андреем в петербургском
салоне Анны Павловны и кн. Андреем перед звездным небом, когда он
лежит на поле раненный. Повсюду и всегда Толстой изображает
правду жизни, близкую к природе, правду труда, глубину рождения и
смерти по сравнению с лживостью и неподлинностью так назыв.
«исторической» жизни в цивилизации. Правда для него в природно-бессознатель-
ном, ложь в цивилизованно-сознательном. Мы увидим, что тут было
противоречие у Толстого, ибо религию свою он хотел основать на разу-
92.
ме. Левин все время восстает против неправды жизни цивилизованного
общества и уходит к деревне, к природе, к народу и труду. Не раз
указывали на близость толстовских идей к Ж.-Ж. Руссо. Толстой любил
Руссо, но не следует преувеличивать влияние на него Руссо. Толстой
глубже и радикальнее. У него было русское сознание своей вины,
которой у Руссо не было. Он менее всего считал свою природу доброй. У него
была натура, полная страстей и любви к жизни, вместе с тем была
склонность к аскетизму, и всегда оставалось что-то от православия.
Руссо не знал такого напряженного искания смысла жизни и такого
мучительного сознания своей греховности и виновности, такого искания
совершенства жизни. Руссо требовал возврата от парижских салонов
XVIII в. к природе. Но у него не было толстовской и очень русской
любви к простоте, требования очищения. Огромная разница еще в том,
что в то время как Руссо не остается в правде природной жизни и
требует социального контракта, после которого создается очень
деспотическое государство, отрицающее свободу совести, Толстой не хочет
никакого социального контракта и хочет остаться в правде божественной
природы, что и есть исполнение закона Бога. Но и Руссо, и Толстой
смешивают падшую природу, в которой царит беспощадная борьба за
существование, эгоизм, насилие и жестокость, с преображенной
природой, с природой нумеиалыюй, или райской. Оба стремятся к райской
жизни. Оба критикуют прогресс и видят в кем движение, обратное
движению к раю. к Царству Божьему. Интересно сравнить мучения Иова
с мучениями Л. Толстого, который был близок к самоубийству. Крик
Иова есть крик страдальца, у которого все отнято в жизни, который
стал несчастнейшим из людей. Крик Л. Толстого есть крик страдальца,
который поставлен в счастливое положение, у которого есть все, но
который не может вынести своего привилегированного положения. Люди
стремятся к славе, к богатству, к знатности, к семейному счастью, видят
во всем этом благо жизни. Толстой все это имеет и стремится от всего
этого отказаться, хочет опроститься и слиться с трудовым народом.
В мучениях над этой темой он был очень русский. Он хочет конечного,
предельного, совершенного состояния. Религиозная драма самого Л.
Толстого была бесконечно глубже его религиозно-философских идей. Вл.
Соловьев, который не любил Толстого, сказал, что его религиозная
философия есть лишь феноменология его великого духа. Толстой был менее
всего националистом, но он видел великую правду в русском народе.
Он верил, что «начнется переворот не где-нибудь, а именно в России,
потому что нигде, как в русском народе, не удержалось в такой силе и
чистоте христианское мировоззрение». «Русский народ всегда иначе
относился к власти, чем европейские народы,—он всегда смотрел на
власть не как на благо, а как на зло... Разрешить земельный вопрос
упразднением земельной собственности и указать другим народам путь
разумной, свободной и счастливой жизни—вне промышленного
фабричного, капиталистического насилия и рабства—вот историческое
призвание русского народа». И Толстой, и Достоевский по-разному, но оба
отрицают европейский мир, цивилизованный и буржуазный, и они—
предшественники революции. Но революция их не признала, как и они
бы ее не признали. Толстой, быть может, наиболее близок к православию
в сознании неоправданности творчества человека и греха творчества.
Но это есть и наибольшая опасность толстовства. Он прошел через
отрицание своего собственного великого творчества, но в этом мы менее
всего можем следовать за ним. Он стремился не к совершенству формы,
а к жизненной мудрости. Он почитал Конфуция, Будду, Соломона,
Сократа, к мудрецам причислял и Иисуса Христа, но мудрецы не были для
него культурой, а были учителями жизни, и сам он хотел быть учителем
жизни. Мудрость он соединял с простотой, культура же сложна. И,
поистине, все великое просто. Такой продукт усложненной культуры, как
Пруст, соединял в себе утонченность с простотой. Поэтому его и можно
назвать гениальным писателем, единственным гениальным писателем
Франции.
Полярно противоположным полюсом толстовства и народничества
является отношение к культуре К. Леонтьева. В нем русский
дворянский культурный слой как бы защищает свое право на
привилегированную роль, не хочет покаяния в социальном грехе. И поразительно, что
в то время как не-христиаке и, во всяком случае, неправославные
христиане каялись и мучились, православные христиане не хотят каяться.
Это интересно для исторической судьбы христианства. К. Леонтьев,
принявший тайный постриг в монашество, не сомневается в оправданности
цветущей культуры, хотя бы купленной ценой великих страданий,
страшных неравенств и несправедливостей. Он говорит, чтр все
страдания народа оправданны, если благодаря им сделалось возможным
появление Пушкина. Сам Пушкин был в этом менее уверен, если вспомнить
его стихотворение «Деревня». К. Леонтьеву чужда русская болезнь
совести, примат морального критерия. Эстетический критерий был для
него универсальным, и он совпадал с биологическим критерием. Он был
предшественником современных течений, утверждающих волю к
могуществу как пафос жизни. Он одно время верил, что Россия может явить
совершенно оригинальную культуру и стать во главе человечества.
Красота и цветение культуры были для него связаны с разнообразием и
неравенством. Уравнительный процесс губит культуру и влечет к
уродству. При всей ложности его моральных установок ему удалось что-то
существенное открыть в роковом процессе понижения и упадка кудьтур.
У К. Леонтьева было большое бесстрашие мысли, и он решился
высказать то, что другие скрывают и прикрывают. Он один решается
признаться, что он не хочет правды и справедливости в социальной жизни,
потому что она означает гибель красоты жизни. Он до последней край-
кости обострил противоречие исторического христианства, конфликт
евангельских заветов с языческим отношением к жизни в мире, к
жизни обществ. Он выходил из затруднения тем, что устанавливал
крайний дуализм морали личной и морали общественной, монашескую аскезу
для одной сферы и силу и красоту для другой сферы. Но русская идея
не есть идея цветущей культуры и могущественного царства, русская
идея есть эсхатологическая идея Царства Божьего. Это не есть
гуманистическая идея в европейском смысле слова. Но русский народ подстерегают
опасности, с одной стороны, обскурантского отрицания культуры вместо
эсхатологической критики ее, а с другой стороны, механической,
коллективистической цивилизации. Только культура конца может
преодолеть обе опасности. Наиболее близок к этому был Н. Федоров, который
тоже обличал ложь культуры и хотел полного изменения мира,
достижения родства и братства не только социального, но и космического.
Глава VII
Тема о власти. Анархизм. Русское отношение к власти. Русская
вольница. Раскол. Сектантство. Отношение интеллигенции к власти: у
либералов, у славянофилов. Анархизм. Бакунин. Страсть к разрушению есть
творческая страсть. Кропоткин. Религиозный анархизм: религиозный
анархизм Л. Толстого. Учение о непротивлении. Анархия и анархизм.
Анархический элемент у Достоевского. Легенда о Великом Инквизиторе.
1.
Анархизм есть главным образом создание русских. Интересно, что
анархическая идеология была по преимуществу создана высшим слоем
русского дворянства. Таков главный и самый крайний анархист Баку-
нин, таков князь Кропоткин и религиозный анархист граф Л. Толстой.
Тема о власти и об оправданности государства очень русская тема.
У русских особенное отношение к власти. К. Леонтьев был прав, когда
говорил, что русская государственность с сильной властью была
создана благодаря татарскому и немецкому элементу. По его мнению, русский
народ и вообще славянство ничего, кроме анархии, создать не могли
бы. Это суждение преувеличено, у русского народа есть большая
способность к организации, чем обыкновенно думают, способность к
колонизации была, во всяком случае, большая, чем у немцев, которым мешает
воля к могуществу и склонность к насилию. Но верно, что русские не
любят государства и не склонны считать его своим, они или бунтуют
против государства, или покорно несут его гнет. Зло и грех всякой
власти русские чувствуют сильнее, чем западные люди. Но может поражать
противоречие между русской анархичностью и любовью к вольности и
русской покорностью государству, согласием народа служить
образованию огромной империи. Я говорил уже, что славянофильская концепция
русской истории не объясняет образования огромной империи.
Возрастание государственного могущества, высасывающего все соки кз народа,
имело обратной стороной русскую вольницу, уход из государства,
физический или духовный. Русский раскол — основное явление русской
истории. На почве раскола образовались анархические течения. То же было
в русском сектантстве. Уход из государства оправдывался тем, что в
нем не было правды, торжествовал не Христос, а антихрист.
Государство, царство кесаря, противоположно Царству Божьему, Царству
Христову. Христиане не имеют здесь своего града, они взыскуют града
грядущего. Это очень русская идея, Но через русскую историю проходит
дуализм, раскол. Официально, государственное православие все время
религиозно обосновывает и укрепляет самодержавную монархию и
государственную мощь. Лишь славянофилы пытались соединить идею
самодержавного монарха с идеей русского принципиального анархизма. Но
зта попытка не удалась, у их детей и внуков победила монархическая
государственность против анархической правды. Русская интеллигенция
с конца XVIII века, с Радищева, задыхалась в самодержавной
государственности и искала свободы и правды в социальной жизни. Весь XIX век
интеллигенция борется с империей, исповедует безгосударственный,
безвластный идеал, создает крайние формы анархической идеологии. Даже
революционно-социалистическое направление, которое не было
анархическим, не представляло себе, после торжества революции, взятия власти
в свои руки и организации нового государства. Единственное
исключение представлял Ткачев. Всегда было противоположение «мы»
—интеллигенция, общество, народ, освободительное движение, и
«они»—государство, империя, власть. Такого резкого противоположения не знала
Зап. Европа. Русская литература XIX века терпеть пе могла империи,
в ней силен был обличительный элемент. Русская литература, как и
русская культура вообще, соответствовала огромности России, она могла
возникнуть лишь в огромной стране с необъятными горизонтами, но она
не связывала это с империей, с государственной властью. Была
необъятная русская земля, была огромная, могущественная стихия русского
народа. Но огромное государство, империя, представлялось изменой
земле и народу, искажением русской идеи. Своеобразный анархический
элемент можно открыть во всех социальных течениях русского XIX века,
и религиозных, и антирелигиозных, у великих русских писателей, в
самом складе русского характера, совсем не устроительном. Обратной
стороной русского странничества, всегда в сущности анархического,
русской любви к вольности является русское мещанство, которое
сказалось в нашем купеческом, чиновничьем и мещанском быте. Это все та
же поляризованность русской души. У народа анархического по
основной своей устремленности было государство с чудовищно развитой и все-
95
властной бюрократией, окружавшей самодержавного царя и отделявшей
»го от народа. Такова особенность русской судьбы. Характерно, что в
России никогда не было либеральной идеологии, которая бы
вдохновляла и имела влияние. Деятели 60-ых годов, которые производили
реформы, могут быть названы либералами, но это не было связано с
определенной идеологией, с целым миросозерцанием. Меня сейчас интересует
не история России XIX века, а история русской мысли XIX века, в
которой отразилась русская идея. Русский пафос свободы был скорее
связан с принципиальным анархизмом, чем с либерализмом. Единственным
философом либерализма можно было бы назвать Б. Чичерина, да и он
скорее был либеральным консерватором или консервативным либералом,
чем чистым либералом. Сильный ум, но ум по преимуществу
распорядительный, как про него сказал Вл. Соловьев, правый гегелианец, сухой
рационалист, он имел мало влияния. Он был ненавистником социализма,
который соответствовал русским исканиям правды. Это был редкий в
России государственник, очень отличный в этом и от славянофилов, и от
левых западников. Для него государство есть ценность высшая, чем
человеческая личность. Его можно было бы назвать правым западником.
Он принимает империю, но хочет, чтобы она была культурной и
впитала в себя либеральные правовые элементы. По Чичерину можно изучать
дух, противоположный русской идее, как она выразилась в
преобладающих течениях русской мысли XIX века.
2.
Было уже сказано, что в славянофильской идеологии был сильный
анархический элемент. Славянофилы не любили государства и власти,
они видели зло во всякой власти. Очень русской была у них та идея,
что складу души русского парода чужд культ власти и славы, которая
достигается государственным могуществом. Из славянофилов наиболее
анархистом был К. Аксаков. «Государство как принцип —зло»,
«государство по своей идее—ложь»,—писал он. В другом месте он пишет:
«православное дело и совершаться должно нравственным путем, без
помощи внешней, принудительной силы. Вполне достойный путь один для
человека, путь свободного убеждения, тот путь, который открыл нам
Божественный Спаситель и которым шли Его Апостолы». Для него
«Запад—торжество внешнего закона». В основании государства
русского: добровольность, свобода и мир. В исторической действительности
ничего подобного не было, это была романтически-утопичная прикраса.
Но реально тут то, что К. Аксаков хотел добровольности, свободы и
мира. Хомяков говорит, что Запад не понимает несовместимости
государства и христианства. Он, в сущности, не признавал возможности
существования христианского государства. И вместе с тем славянофилы
были сторонниками самодержавной монархии. Как согласовать это?
Монархизм славянофилов, по своему обоснованию и по своему внутреннему
пафосу, был анархический, происходил от отвращения к власти. В
понимании источников власти Хомяков был демократом, сторонником
суверенитета народа *. Изначально полнота власти принадлежит народу,
но народ власти не любит, от власти отказывается, избирает царя и
поручает ему нести бремя власти. Хомяков очень дорожит тем, что царь
избирается народом. У него, как и вообще у славянофилов, совсем не
было религиозного обоснования самодержавной монархии, не было
мистики самодержавия. Царь царствует не в силу божественного права, а в
силу народного избрания, изъявления воли народа. Славянофильское
обоснование монархии очень своеобразно. Самодержавная монархия,
основанная на народном избрании и народном доверии, есть минимум го-
* См. мою книгу «А. С. Хомяков».
90
сударства, минимум власти, так, по крайней мере, должно быть. Идея
царя не государственная, а народная. Она ничего общего не должна
иметь с империализмом, и славянофилы резко противополагают свое
самодержавие западному абсолютизму. Государственная власть есть
зло и грязь. Власть принадлежит народу, но народ отказывается от
власти и возлагает полноту власти на царя. Лучше, чтобы один человек
был запачкан властью, чем весь народ. Власть не право, а тягота,
бремя. Никто не имеет права властвовать, но есть один человек, который
обязан нести тяжелое бремя власти. Юридических гарантий не нужно,
они увлекли бы народ в атмосферу властвования, в политику, всегда
злую. Народу нужна лишь свобода духа, свобода думы, совести, слова.
Славянофилы решительно противопоставляют земство, общество
государству. Славянофилы были уверены, что русский народ не любит
власти и государствования и не хочет этим заниматься, хочет остаться в
свободе духа. В действительности русское самодержавие, особенно
самодержавие Николая I, было абсолютизмом и империализмом, которых
славянофилы не хотели, было чудовищным развитием всесильной
бюрократии, которую славянофилы терпеть не могли. Своей анархической
идеологией монархии, которая была лишь утопией, славянофилы
прикрывали свое свободолюбие и свои симпатии к идеалу безвластия.
В противоположность славянофилам, Герцен ничего не прикрывал, не
пытался согласовать несогласимое. У него анархическая,
безгосударственная тенденция явственна. К. Леонтьев в своем отношении к
государству —антипод славянофилов. Он признает, что у русского народа есть
склонность к анархии, но считает это великим злом. Он говорит, что
русская государственность есть создание византийских начал и элемента
татарского и немецкого. Он тоже совершенно не разделяет
патриархально-семейственной идеологии славянофилов и думает, что в России
государство сильнее семьи. К. Леонтьев гораздо вернее понимал
действительность, чем славянофилы, имел более острый взгляд, но славянофилы
безмерно выше и правее его по своим нравственным оценкам и по
своему идеалу. Но обратимся к настоящему русскому анархизму.
3.
Бакунин от гегелевского идеализма переходит к философии действия,
к революционному анархизму в наиболее крайних формах. Он —
характерное русское явление, русский барин, объявивший бунт. Мировую
известность он приобрел главным образом на Западе. Во время
революционного восстания в Дрездене он предлагает выставить впереди борцов-
революционеров Мадонну Рафаэля, в уверенности, что войска не решатся
в нее стрелять. Анархизм Бакунина есть также славяно-русский
мессианизм. В нем был сильный славянофильский элемент. Свет для него
придет с Востока. Из России пойдет мировой пожар, который охватит мир.
Что-то от Бакунина войдет в коммунистическую революцию, несмотря на
вражду его к марксизму. Бакунин думал, что славяне сами никогда
государства не создали бы, государство создают только завоевательные
народы. Славяне жили братствами и общинами. Он очень не любил
немцев, и его главная книга носит заглавие: «Киуто-германская империя».
Одно время в Париже он был близок с Марксом, но потом резко с ним
расходится и ведет борьбу из-за I Интернационала, в которой победил
Маркс. Для Бакунина Маркс был государственником, пан-германистом и
якобинцем. А он очень не любил якобинцев. Анархисты хотят революции
через народ, якобинцы — через государство. Как и все русские
анархисты, он — противник демократии. Он совершенно отрицательно относился
ко всеобщему избирательному праву. По его мнению, правительственный
деспотизм наиболее силен, когда опирается на мнимое представительство
народа. Он также очень враждебно относился к тому, чтобы допустить
4 Вопросы философии, Jsfi 2 97
управление жизни наукой и уменьши. Социализм марксистский есть
социализм ученый. Этому Бакунин противополагает свой революционный
дионисизм. Он делает жуткое предсказание: если какой-нибудь народ
попробует осуществить в своей стране марксизм, то это будет самая
страшная тирания, какую только видел мир. В противоположность
марксизму он утверждает свою веру в стихийность народа, и прежде всего
русского народа. Народ не нужно готовить к революции путем
пропаганды, его нужно только взбунтовать. Своими духовньши
предшественниками он прмспавал Стеньку Разина и Пугачева. Бакунину
принадлежат знаменательные слова: страсть к разрушению есть творческая
страсть. Нужно зажечь мировой пожар, нужно разрушить старый мир.
На пепелище старого мира, на его развалинах возникает сам собой
новый, лучший мир. Анархизм Бакунина не индивидуалистический, как у
Макса Штирнера, а коллективистический. Но коллективизм или
коммунизм не будет делом организации, он возникает из свободы, которая
наступит после разрушения старого мира. Сам собой возникает вольный
братский союз производительных ассоциаций. Анархизм Бакунина есть
крайняя форма народничества. Подобно славянофилам, он верит в
правду, скрытую в народной стихии. Но он хочет взбунтовать самые низшие
слои трудового народа и готов присоединить к ним элементы
разбойничьи, преступные. Он прежде всего верит в стихию, а не в сознание.
У Бакунина есть своеобразная антропология. Человек стал человеком
через срывание плодов с древа познания добра и зла. Есть три признака
человеческого развития: 1) человеческая животность, 2) мысль, 3) бунт.
Бунт есть естественный признак поднявшегося человека. Бунту
придается почти мистическое значение. Бакунин был также воинствующим
атеистом, он изложил это е книжке «Бог и государство». Для него
государство опирается главным образом на идею Бога. Идея Бога — отречение от
человеческого разума, от справедливости и свободы. «Если Бог есть,
человек — раб». Бог мстителен, все религии жестоки. В воинствующем
безбожии Бакунин идет дальше коммунистов. «Одна лишь социальная
революция,— говорит он,— будет обладать силой закрыть в одно и то же
время и все кабаки, и все церкви». Он совсем неспособен ставить вопрос
о Боге по существу, отрешаясь от тех социальных влияний, которые
искажали человеческую идею о Боге. Он видел и знал только искажения.
Для него идея Бога очень напоминала злого Бога — творца мира Маркио-
иа *. Искреннее безбожие всегда видит лишь такого Бога, И в этом
виноваты не только безбожники, но еще более те, которые пользовались
верой в Бога для низших и корыстных земных целей, для поддержания
злых форм государства. Бакунин был интересной, почти фантастической
русской фигурой. И, при всей ложности основ его миросозерцания, он
часто приближается к подлинной русской идее. Главная слабость его
мировоззрения — в отсутствии сколько-нибудь продуманной идеи личности.
Он объявляет бунт против государства и всякой власти, но это бунт не
во имя человеческой личности. Личность остается подчиненной
коллективу, и она тонет в народной стихии» Герцен стоял выше по своему
чувству человеческой личности. Анархизм Бакунина противоречив в том
отношении, что он не отрицает последовательно насилия и власти над
человеком. Анархическая революция совершается путем кровавого
насилия, и она предполагает, хотя и не организованную, власть
взбунтовавшегося народа над личностью. Анархизм Кропоткина был несколько
иного типа, Он менее крайний, более идиллический, он обосновывается
натуралистически и предполагает очень оптимистический взгляд на
природу и на человека. Кропоткин верит в естественную склонность к
кооперации. Метафизическое чувство зла отсутствовало у анархистов. Анар-
* См. A. Harnack - «Marcion: Das Evangelium vom Frem den Gott». Гарнак
утверждает, что у русских есть склонность к маркионизму.
9S
хический элемент был во всем русском народничестве, Но в русском
революционном движении анархисты в собственном смысле играли
второстепенную роль. Анархизм нужно оценивать иначе, как русское
отвержение соблазна царства этого мира. В этом сходятся К. Аксаков и
Бакунин. Но в сознании это принимало формы, не выдерживающие
критики и часто нелепые.
4
Религиозный анархизм Льва Толстого есть самая последовательная и
радикальная форма анархизма, т. е. отрицание начала власти и насилия.
Совершенно ошибочно считать более радикальным тот анархизм,
который требует насилия для своего осуществления, как, например,
анархизм Бакунина. Также оншбочно считать наиболее революционным то
направление, которое проливает наибольшее количество крови.
Настоящая революционность требует духовного изменения первооснов жизни.
Принято считать Л. Толстого рационалистом. Это неверно не только
относительно Толстого как художника, но и как мыслителя. Очень легко
раскрыть в толстовской религиозной философии наивное поклонение
разумному. Он смешивает разум-мудрость, разум божественный, с
разумом просветителей, с разумом Вольтера, с рассудком. Но именно
Толстой потребовал безумия в жизни, именно он не хотел допустить
никакого компромисса между Богом и миром, именно он предложил рискнуть
всем. Толстой требовал абсолютного сходства средств с целями, в то
время как историческая жизнь основана на абсолютном несходстве
средств с целями. Вл. Соловьев при всем своем мистицизме строил очень
разумные, рассудительные, безопасные планы теократического
устройства человеческой жизни, с государями, с войной, с собственностью, со
всем, что мир признает благом. Очень легко критиковать толстовское
учение о непротивлении злу насилием, легко показать, что при этом
восторжествует зло и злые. Но обыкновенно не понимают самой глубины
поставленной проблемы. Толстой противополагает закон мира и закон
Бога. Он предлагает рискнуть миром для исполнения закона Бога.
Христиане обычно строят и организуют свою практическую жизнь
на всякий случай так, чтобы это было выгодно и целесообразно и дела
шли хорошо независимо от того, есть ли Бог или пет Бога. Нет почти
никакой разницы в практической жизни, личной и общественной, между
человеком верующим в Бога и не верующим в Бога. Никто, за
исключением отдельных святых или чудаков, даже не пробует строить свою
жизнь на евангельских началах, и все практически уверены, что это
привело бы к гибели жизни, и личной, и общественной, хотя это не
мешает им теоретически признавать абсолютное значение за евангельскими
началами, но значение внежизненное по своей абсолютности. Есть Бог
или нет Бога, а дела мира устраиваются по закону мира, а не по закону
Бога. Вот с этим Л. Толстой не мог примириться, и это делает ему
великую честь, хотя бы его религиозная философия была слабой и его
учение практически неосуществимым. Смысл толстовского непротивления
насилиям был более глубоким, чем обычно думают. Если человек
перестанет противиться злу насилием, т. е. перестанет следовать закону
этого мира, то будет непосредственное вмешательство Бога, то вступит в
свои права божественная природа. Добро побеждает лишь при условии
действия самого Божества. Толстовское учение есть форма квиетизма,
перенесенного на общественную и историческую жизнь. При всей
значительности толстовской темы ошибка была в том, что Толстой как будто
не интересовался теми, над кем совершается насилие и кого нужно
защитить от насилия. Он прав, что насилием нельзя побороть зла и
нельзя осуществить добра, но он не признает, что насилию нужно положить
внешнюю границу. Есть насилие порабощающее, как есть насилие
освобождающее. Моральный максимализм Толстого не видит, что добро при-
4* 99
нуждено действовать в темной, злой мировой среде и потому действие
его не прямолинейное. Но он видит, что добро заражается злом в
борьбе и начинает пользоваться злыми средствами. Он хотел до конца
принять в сердце нагорную проповедь. Случай с Толстым наводит на очень
важную мысль, что истина опасна и не дает гарантий и что вся
общественная жизнь людей основана на полезной лжи. Есть прагматизм
лжи. Это очень русская тема, чуждая более социализированным народам
западной цивилизации. Очень ошибочно отожествлять анархизм с
анархией. Анархизм противоположен не порядку, ладу, гармонии, а власти,
насилию, царству кесаря. Анархия есть хаос и дисгармония, т. е.
уродство. Анархизм есть идеал свободной, изнутри определяемой гармонии и
лада, т. е. победа Царства Божьего над царством кесаря. За
насильническим, деспотическим государством обычно скрыта внутренняя анархия
и дисгармония. Принципиально, духовно обоснованный анархизм
соединим с познанием функционального значения государства, с
необходимостью государственных функций, но не соединим с верховенством
государства, с его абсолютизацией, с его посягательством на духовную
свободу человека, с его волей к могуществу. Толстой справедливо считал,
что преступление было условием жизни государства, как она слагалась
в истории. Он был потрясен смертной казнью, как и Достоевский, как и
Тургенев, как и Вл. Соловьев, как и все лучшие русские люди. Западные
люди не потрясены, и казнь не вызывает в них сомнения, они даже
видят в ней порождение социального инстинкта. Мы же, слава Богу, не
были так социализированы. У русских было даже сомнение в
справедливости наказаний вообще. Достоевский защищал наказание только
потому, что видел в самом преступнике потребность наказания для
ослабления муки совести, а не по причинам социальной полезности. Толстой
отрицал совсем суд и наказание, основываясь на Евангелии.
Внешне-консервативные политические взгляды, высказанные
Достоевским в «Дневнике писателя», мешали разглядеть его существенный
анархизм. Монархизм Достоевского принадлежит к столь же
анархическому типу, как и монархизм славянофилов. Теократическая утопия,
раскрывающаяся в «Братьях Карамазовых», совершенно внегосударствен-
ная, она должна преодолеть государство, в ней государство должно
окончательно уступить место Церкви, в Церкви должно раскрыться
царство, Царство Божье, а не царство кесаря. Это есть апокалиптическое
ожидание. Теократия Достоевского противоположна «буржуазной»
цивилизации, противоположна всякому государству, в ней обличается
неправда внешнего закона (очень русский мотив, который был даже у К.
Леонтьева), в нее входит русский христианский анархизм и русский
христианский социализм (Достоевский прямо говорит о православном
социализме). Государство заменяется Церковью и исчезает. «От востока земля
сия воссияет»,— говорит отец Паисий. «Сие и буди, буди, хотя бы в
конце веков». Настроенность явно эсхатологическая. Но настоящее
религиозное и метафизическое обоснование анархизма дано в «Легенде о
Великом Инквизиторе». Анархический характер легенды не был достаточно
замечен, она ввела многих в заблуждение, например, Победоносцева,
которому она очень понравилась. Очевидно, сбило с толку католическое
обличье легенды. В действительности «Легенда о Великом Инквизиторе»
наносит страшные удары всякому авторитету и всякой власти, она бьет
по царству кесаря не только в католичестве, но и в православии и во
всякой религии, так же как в коммунизме и социализме. Религиозный
анархизм у Достоевского носит особый характер и имеет иное
обоснование, чем у Л. Толстого, и идет в большую глубину, для него проблема
свободы духа имеет центральное значение, которого она не имеет у
Л. Толстого. Но Толстой более свободен от внешнего налета
традиционных идей, в нем меньше смешанности. Очень оригинально у
Достоевского, что свобода для него не право человека, а обязанность, долг; свобода
не легкость, а тяжесть. Я формулировал эту тему так, что не человек
требует от Бога свободы, а Бог требует от человека свободы и в этой
свободе видит достоинство богоподобия человека. Поэтому Великий
Инквизитор упрекает Христа в том, что Он поступал, как бы не любя
человека, возложив на него бремя свободы. Сам Великий Инквизитор хочет
дать миллиону миллионов людей счастье слабосильных младенцев, сняв
с них непосильное бремя свободы, лишив их свободы духа *. Вся
легенда построена на принятии или отвержении трех искушений Христа в
пустыне. Великий Инквизитор принимает все три искушения, их
принимает католичество, как принимает всякая авторитарная религия, всякий
империализм и атеистический социализм и коммунизм. Религиозный
анархизм обосновывается на отвержении Христом искушения царством мира
сего. Для Достоевского принудительное устроение царства земного есть
римская идея, которую наследует и атеистический социализм. Он
противополагает римской идее, основанной на принуждении, русскую идею,
основанную на свободе духа, он обличает ложные теократии во имя
истинной свободной теокрагии (выражение Вл. Соловьева). Ложная
теократия и ее обратное безбожное подобие и есть то, что сейчас называют
тоталитарным строем, тоталитарным государством. Отрицание свободы
духа для Достоевского есть соблазн антихриста. Авторитарность есть
антихристово начало. Это есть самое крайнее отвержение авторитета и
принуждения, какое знает история христианства, и Достоевский выходит тут
за пределы исторического православия и исторического христианства
вообще, переходит к эсхатологическому христианству, к христианству
Духа, раскрывает профетическую сторону христианства. Компромиссное,
оппортунистическое, приспособляющееся отношение к государству, к
царству кесаря в историческом христианстве обычно оправдывалось тем, что
сказано воздавать кесарево кесарю, а Божье Богу. Но принципиальное
отношение к царству кесаря в Евангелии определяется отвержением
искушения царством этого мира. Кесарь совсем не есть нейтральное
лицо, это — князь этого мира, т. е. начало, обратное Христу,
антихристово. В истории христианства постоянно воздавалось Божье кесарю, это
совершалось всякий раз, когда в духовной жизни утверждался принцип
авторитета и власти, когда совершалось принуждение и насилие.
Достоевский, как будто, сам недостаточно понимал анархические выводы из
легенды. Таково было дерзновение русской мысли XIX века. Уже в
конце века и в начале нового века странный мыслитель Н. Федоров,
русский из русских, тоже будет обосновывать своеобразный анархизм,
враждебный государству, соединенный, как и у славянофилов, с
патриархальной монархией, которая не есть государство, и раскроет самую
грандиозную и самую радикальную утопию, какую знает история человеческой
мысли. Но в нем мысль окончательно переходит в эсхатологическую
сферу, чему будет посвящена отдельная глава. Анархизм в русских
формах остается темой русского сознания и русских исканий.
Глава VIII
Религиозная тема. Религиозный характер русской философии. Разница
между богословием и религиозной философией. Критика западного
рационализма. Философские идеи Киреевского и Хомякова. Идея
соборности. Владимир Соловьев. Эротика. Интуиция всеединства. Бытие и сущее.
Идея богочеловечества. Учение о Софии. «Смысл любви». Религиозная
философия Достоевского и Л. Толстого. Русская религиозная мысль в
духовных академиях. Архиепископ Иннокентий. Несмелое. Тареев,
* См. мою книгу «Миросозерцание Достоевского», в основу которой положено
истолкование «Легенды о Великом Инквизиторе»,
101
В русской культуре XIX Бека религиозная тема имела определяющее
значение. И так было не только в религиозных направлениях, но и в
направлениях внерелигиозцых и богоборческих, хотя бы это и не было
сознано. В России не было философов такого размера, как наши
писатели, как Достоевский и Л. Толстой. Русская академическая философия не
отличалась особенной оригинальностью. Русская мысль по своей ннтен-
сии была слишком тоталитарной, ока не могла оставаться отвлеченно-
философской, она хотела быть в то же время религиозной и социальной,
в ней был силен моральный пафос. В России долгое время не
образовывалось культурной философской среды. Она начала образовываться лишь
в 80-ые годы, когда начал выходить журнал «Вопросы философии и
психологии». Для насаждения у нас философской культуры значение имела
деятельность II. Грота, который сам был малоинтересный философ.
Условия для развития у нас философии были очень неблагоприятны,
философия подвергалась гонению и со стороны власти, и со стороны
общества, справа и слева. Но в России создавалась и нарастала
оригинальная религиозная философия. Такова была одна из задач русской мысли.
Речь идет именно о религиозной философии, а не о богословии. На
Западе мысль и знание очень дифференцированны, все распределено по
категориям. Официальное католичество и официальный протестантизм
создали огромную богословскую литературу, богословие стало делом
профессиональным, им занимались специалисты, люди духовные, профессора
богословских факультетов и институтов. Профессора богословия всегда
ие любили религиозную философию, которая представлялась им
слишком вольной и подозревалась в гностическом уклоне, они ревниво
охраняли исключительные права богословия как защитники ортодоксии.
В России, в русском православии долгое время пе было никакого
богословия или было лишь подражание западной схоластике. Единственная
традиция православной мысли, традиция платонизма и греческой
патристики, была порвана и забыта. В XVIII-ом веке даже считалась
наиболее соответствующей православию философия рационалиста и
просветителя Вольфа. Оригинально, по-православному богословетвовать начал
не профессор богословия, чв иерарх Церкви, а конно-гвардейский
офицер в отставке и помещик Хомяков. Потом самые замечательные
религиозно-философские мысли были у нас высказаны не специальными
богословами, а писателями, людьми вольными. В России образовалась
религиозно-философская волышда, которая в официальных церковных
кругах оставалась на подозрении. Вл. Соловьев был философ, а не
богослов. Он был приват-доцентом и был изгнан из университета за речь
против смертной казни. Он менее всего походил на
специалиста-богослова и специалиста-философа. Интересно, что изгнанная из университетов
философия находила себе приют в духовных академиях. Но духовные
академии не создавали оригинальной русской философии, за очень
редкими исключениями. Русская религиозная философия пробудилась от
долгого сна мысли вследствие толчков, полученных от германской
философии, гл. обр. от Шеллинга и Гегеля. Единственный иерарх Церкви,
представляющий некоторый интерес в области мысли, архиепископ
Иннокентий, принадлежит скорее религиозной философии, чем
богословию. Из профессоров Духовной академии самый оригинальный и
замечательный мыслитель — Неемелов, по духу своему религиозный философ,
а не богослов, а он делает ценный вклад в создание русской религиозной
философии. Чистый богослов мыслит от лица Церкви и опирается
главным образом на Священное Писание и священное предание, он
принципиально догматичен, его наука социально организована. Религиозная
философия принципиально свободна в путях познания, хотя в основании
ее лежит духовный опыт, вера. Для религиозного философа откровение
есть духовный опыт и духовный факт, а не авторитет, его метод интуц-
тивцый. Религиозная философия предполагает соединение теоретического
и практического разума, достижение целостности в познании. Это есть
познание совокупностью духовных сил, а не одним разумом. Русская
религиозная философия особенно настаивает на том, что философское
познание есть познание целостным духом, в котором разум соединяется
с волей и чувством и в котором нет рационалистической рассеченности.
Поэтому критика рационализма есть первая задача. Рационализм
признавали первородным грехом западной мысли, и она неверно
окрашивалась почти целиком в рациональный цвет. На Западе всегда
существовали течения, противоположные рационализму. Но русская религиозная
философия находила себя и определяла себя по противоположению
западной мысли. При этом большое значение для нее имели Шеллинг,
Гегель, Фр. Баадер *. Последний боролся с рационализмом не менее
славянофильских философов. Но оригинальной особенностью русской
религиозной и философской мысли нужно признать ее тоталитарный характер,
ее искание целостности. Мы видели уже, что позитивист Н.
Михайловский не менее И. Киреевского и Хомякова стремился к целостной правде,
правде-истине pi правде-справедливости. Употребляя современное
выражение, можбо было бы сказать, что русская философия, религиозно
окрашенная, хотела быть экзистенциальной, в ней сам познающий и
философствующий был экзистенциален, выражал свой духовный и
моральный опыт, целостный, а не разорванный опыт. Величайшим русским
метафизиком и наиболее экзистенциальным был Достоевский. Унамуно
говорит, что испанская философия — в Дон-Кихоте. Так и мы можем
сказать, что русская философия — в Достоевском. Для русского сознания
XIX века характерно, что русские безрелигиозные направления —
социализм, народничество, анархизм, нигилизм и самый наш атеизм —
имели религиозную тему и переживались с религиозным пафосом. Это
отлично понимал Достоевский. Он говорит, что русский социализм есть
вопрос о Боге и бессмертии. Для революционной интеллигенции
революция была религиозной, она была тоталитарна, и отношение к ней было
тоталитарное. Религиозный характер русских течений выражался уже в
том, что более всего мучила проблема теодицеи, проблема существования
зла. Она мучила Белинского и Бакунина столь же, как и Достоевского.
С этой проблемой связан и русский атеизм.
Программа самостоятельной русской философии была впервые
начертана И. Киреевским и Хомяковым. Они прошли школу германского
идеализма. Но они пытались отнестись критически к вершине
европейской философии своего времени, т. е. к Шеллингу и Гегелю. Можно было
бы сказать, что Хомяков мыслил от Гегеля, но он никогда пе был геге-
лианцем и его критика Гегеля очень замечательна. И. Киреевский писал
в своей программной философской статье: «Как необходима философия:
все развитие нашего ума требует ее. Ею одною живет и дышит наша
поэзия; она одна может дать душу и целостность нашим младенствутощим
наукам, и самая жизнь наша, может быть, займет от нее изящество
стройности. Но откуда придет она? Где искать ее? Конечно, первый шаг
наш к ней должен быть проявлением умственных богатств той страны,
которая в умозрении опередила все народы. Но чужие мысли полезны
только для развития собственных. Философия немецкая вкорендться у
нас не может, Наша философия должна развиться из нашей жизни,
создаться из текущих вопросов, из господствующих интересов нашего
народного и частного бытия». Характерно, что И. Киреевский хочет
вывести философию из жизни. Хомяков утверждает зависимость философии
qt религиозного опыта. Его философия по типу своему есть философия
* См. недавно вышедшее самое обстоятельное изложение философии Баадера —
Е. Suisini — «Franz von Baader et le romantisme mystique». Deux Volumes.
103
действия. К сожалению, И. Киреевский и Хомяков не написали ни
одной философской книги, они ограничились лишь философскими статьями.
Но у них была замечательная интуиция. Они провозглашают конец
отвлеченной философии и стремятся к целостному знанию. Происходит
преодоление гегелианства и переход от отвлеченного идеализма к
идеализму конкретному. Этот путь будет продолжать Вл. Соловьев и напишет
книги для выражения своей философии. Согласно славянофильской
схеме, католичество порождает протестантизм, протестантизм порождает
идеалистическую философию и Гегеля, а гегелианство переходит в
материализм. С замечательной проницательностью Хомяков предвидит
появление диалектического материализма. Хомяковская критика более
всего обличает в философии Гегеля исчезновение сущего, субстрата.
«Сущее,— говорит он,— должно быть совершенно отстранено. Самое
понятие, в своей полнейшей отвлеченности, должно было все возродить из
собственных недр». «Вечное, самовозрождатощееся творение из недр
отвлеченного понятия, не имеющего в себе никакой сущности». Основная
идея русской философии есть идея конкретного сущего, существующего,
предшествующего рациональному сознанию. Наиболее близка
славянофильская философия, как и философия Вл. Соловьева, к Фр. Баадеру и
отчасти к Шеллингу последнего периода. Намечается очень оригинальная
гносеология, которую можно было бы назвать соборной, церковной
гносеологией. Любовь признается принципом познания, она обеспечивает
познание истины. Любовь — источник и гарантия религиозной истины.
Общение в любви, соборность есть критерий познания. Это принцип,
противоположный авторитету. Это также путь познания, противоположный
декартовскому cogito ergo sum2. He я мыслю, мы мыслим, т. е. мыслит
общение в любви, и не мысль доказывает мое существование, а воля и
любовь. Хомяков — волюнтарист; он утверждает волящий разум. «Воля
для человека принадлежит области до-пред метой.ъ Только воля, только
разум волящий, а не безвольный, полагает различие между я и не я,
между внутренним и внешним. В основании знания лежит вера. Сущее
воспринимается верой. Знание и вера, в сущности, тожественны. «В этой
области (области первичной веры), предшествующей логическому
сознанию и наполненной сознанием жизненным, не нуждающимся в
доказательствах и доводах, сознает человек, что принадлежит его умственному
миру и что — миру внешнему». Воля узревает сущее до рационального
сознания. Но воля у Хомякова не слепая и не иррациональная, как у ТТТо-
пенгаузра, она есть волящий разум. Это не иррационализм, а
сверхрационализм. Логическое сознание не вполне схватывает предмет, реальность
сущего схватывается до логического сознания. У Хомякова философия
настолько зависит от религиозного опыта как первичного, что он даже
говорит о зависимости философского познания от верования в Св. Троицу.
Но Хомяков делает одну ошибку относительно немецкой философии.
Поглощенный борьбой с западным рационализмом, он как будто не
замечает, насколько немецкая метафизика была проникнута волюнтаризмом,
который восходит к Я. Беме и который есть у Канта, Фихте, Шеллинга.
Правда, волюнтаризм самого Хомякова был несколько иной. Воля у него
также означает свободу, но свобода не имеет темного, иррационального
истока, воля соединена с разумом, нет рассеченности, есть целостность,
целостность духа. У Хомякова были замечательные философские
интуиции, основоположные философские идеи, но в неразвитом, неразвернутом
состоянии. В том же направлении будет двигаться философия Вл.
Соловьева, но в более рациональной форме, и особенно философия
кн. С. Трубецкого с его учением о соборном сознании, которое он не
успел достаточно развить. Спиритуалистическая философия Голубинско-
го, Кудрявцева и др., вышедшая из духовных академий, носила другой
характер. Она была родственна западным течениям умозрительного
теизма. Более интересен был Юркевич тем, что утверждал центральное
104
значение сердца. В философии университетской наиболее замечательны
Козлов и Лопатин. Это спиритуалистическая философия, родственная
Лейбницу, Мен де Бирану, Лотце, Тейхмюллеру. Козлов и Лопатин
свидетельствуют о том, что в России была самостоятельная философская
мысль, но они не представляют оригинальной русской философии, всегда
тоталитарной по постановке проблем, всегда соединяющей теоретический
и практический разум, всегда окрашенной религиозно.
Более раскрыты были богословские мысли Хомякова, тесно, впрочем,
связанные с его философией. Но в богословии нельзя было ждать от
Хомякова систематических трудов. К сожалению, он раскрывал свои
положительные мысли в форме полемики с западными вероисповеданиями,
с католичеством и протестантизмом, к которым часто был несправедлив.
Особенно бросается в глаза, что, говоря о православной церкви, Хомяков
имеет в виду идеальное православие, такое, каким оно должно быть по
своей идее, а говоря о католической церкви, он имеет в виду
католичество эмпирическое, такое, каким оно было в исторической
действительности, часто неприглядной, В основание богословстзования Хомякова
положены идеи свободы и соборности, органическое соединение свободы и
любви, общности. У него был пафос духовной свободы (этим проникнуто
все его мышление), была гениальная интуиция соборности, которую он
узрел не в исторической действительности православной церкви, а за
ней. Соборность принадлежит умопостигаемому образу церкви, и в
отношении к церкви эмпирической она есть долженствование. Слово
«соборность» непереводимо на иностранные языки. Дух соборности присущ
православию, и идея соборности, духовной коммюнотарности, есть
русская идея. Но трудно найти хомяковскую соборность в историческом
православии. Богословские произведения Хомякова были запрещены в
России цензурой, и они появились за границей на французском языке и
лишь значительно позже появились на русском. Это очень характерно.
Между тем как друг и последователь Хомякова Ю. Самарин предлагал
признать Хомякова учителем Церкви. Догматическое богословие
митрополита Макария, которое Хомяков назвал восхитительно-глупым,
выражавшее официальную церковность, было снимком с католической
схоластики. Хомяков же пытался выразить оригинальное православное бого-
словствование. Что же представляет собой соборность у Хомякова?
Богословствование Хомякова было занято главным образом учением
о Церкви, что для него совпадало с учением о соборности, дух же
соборности был для него духом свободы. Он — решительный, радикальный
противник принципа авторитета. Буду характеризовать хомяковские
взгляды его собственными словами. «Никакого главы церкви, ни
духовного, ни светского мы не признаем. Христос есть глава, и другого она не
знает». «Церковь — не авторитет, как не авторитет Бог, не авторитет
Христос; ибо авторитет есть нечто для нас внешнее. Не авторитет, а
истина, и в то же время жизнь христианина, внутренняя жизнь его». «Кто
ищет вне надежды и веры каких-либо гарантий для духа любви, тот
уже рационалист». «Непогрешимость почиет единственно во вселепско-
сти церкви, объединенной взаимной любовью». Это и есть соборность.
«Церковь знает братства, но не знает подданства». «Мы исповедуем
церковь единую и свободную». «Христианство есть не иное что, как свобода
во Христе»... «Я признаю церковь более свободною, чем протестанты...
В делах церкви принужденное единство есть ложь, а принужденное
послушание есть смерть». «Никакой внешний признак, никакое знамение
не ограничит свободы христианской совести». «Единство церкви есть не
иное что, как согласие личных свобод». «Свобода и единство — таковы
две силы, которым достойно вручена тайна свободы человеческой во
Христе». «Знание истины дается лишь взаимной любовью». Можно было
бы умножить цитаты из Хомякова, из II тома собрания его сочинений,
посвященного богословию. Такого понимания христианства как религии
105
свобода такого радикального отрицания авторитета в религиозной жизни
никто еще, кажется, не выражал. Авторитету противополагается не
ъолькф свобода, но и любовь. Любовь есть главный источник познания
христианской истины. Церковь и есть единство любви и свободы.
Невозможно формальное, рациональное определение церкви, оно узнается лишь
в церковном духовном опыте. В этом — глубокое отличие католического
богословия и характерный признак русского богословия XIX века и
начала XX века. Тема свободы была наиболее выражена у Хомякова и
Достоевского. Западные христиане, и католики и протестанты, обыкновенно
с трудом понимают, что такое соборность. Соборность противоположна и
католической авторитарности, и протестантскому индивидуализму, она
означает коммюнотарность, не знающую внешнего над собой авторитета,
но не знающую и индивидуалистического уединения и замкнутости. Для
Хомякова вселенский собор тоже не был авторитетом, навязывающим
церковному народу свое понимание христианской истины. Вселенский
характер церковного собора не имеет внешних формальных признаков.
Не там действует Дух Св., где по формальным признакам вселенский
собор, а там вселенский собор, где действует Дух Св. Для определения
Духа Св. нет никаких внешних формальных признаков. Ничто низшее,
юридическое, похожее на жизнь государства не может быть критерием
подлинности действия Духа Св. Так же рационально-логическое не
может быть критерием истинности догматов. Дух Св. не знает других
критериев, кроме самого Духа Св. Где был подлинный вселенский собор,
а где не подлинный, как, например, «разбойничий», решает церковный
народ, т. е. решает дух соборности. Это было наиболее заострено против
католического учения о церкви. Совершенно ошибочно противополагать
католическое учение о непогрешимости папы, говорящего ex cathedra3,
якобы православному учению о непогрешимости собора епископов.
Хомяков также отрицает и авторитет епископата. Истина для него не в
соборе, а в соборности, в коммюнотарном духе церковного народа. Но
беда в том, что официальное православное богословие склонялось к
признанию авторитета епископата, в противоположность авторитету папы.
Соборов в православной церкви не было слишком долго. В России
нужна была страшная революция, чтобы возможен был собор. Правые
православные круги, почитавшие себя наиболее ортодоксальными,
утверждали даже, что соборность есть выдумка Хомякова, что православная
свобода у Хомякова несет на себе печать учения Канта и немецкого
идеализма об автономии. В этом была доля истины, но это значит лишь, что
богословие Хомякова пыталось творчески осмыслить весь духовный опыт
вековой новой истории. В известном смысле Хомякова можно назвать
православным модернистом, у него есть некоторое родство с
католическим модернизмом — борьба против схоластики и против интеллектуалис-
тического понимания догматов, сильный модерниетический элемент
защиты свободной критической мысли. В его время католического
модернизма не было. Но наибольшее родство он имел с замечательным
католическим богословом первой половины XIX века Мелером, который
защищал идею, очень близкую хомяковской соборности *. Хомяков читал
швейцарского протестанта Винэ и, наверное, сочувствовал его защите
религиозной свободы. Но хомяковское соединение духа свободы с духом
коммюнотарности остается очень русской идеей. Наибольшие симпатии
Хомяков имел в англиканской церкви и переписывался с Пальмером,
которого хотел обратить в православие. К синодальному управлению у него,
как и вообще у славянофилов, было отрицательное отношение. Мысль
Хомякова свидетельствует о том, что в православии возможна большая
свобода мысли (говорю о внутренней, а не о внешней свободе). Это объ-
* См. J. A. М 6 h 1 е г — «Die Einheit in der Kirche» и книгу E. Wermeil —
«J. А. МбЫег et Fccole catholique de Tubingen», Вермейль считает Мелера
родоначальником модернизма.
100
ясняется отчасти тем, что православная церковь не имеет обязательной
системы и более решительно, чем католичество, отделяет догматы от
богословия. Впрочем, это имеет и более глубокие причины. Но богословст-
воваиие Хомякова имело свои границы, многих вопросов, которые потом
поднимала русская религиозно-философская мысль, он не затрагивает,
например, проблему космологическую. Направленность его мысли очень
мало эсхатологическая. У него не было ожидания нового откровения
Св. Духа, не было параклетизма. Размах религиозно-философской мысли
Вл. Соловьева был больший, но о церкви вернее мыслил Хомяков.
Интересно отметить, что в русской религиозно-философской и богословской
мысли совсем не было идеи натуральной теологии, которая играла
большую роль в западной мысли. Русское сознание не делает разделения на
теологию откровенную и теологию натуральную, для этого русское
мышление слишком целостно и в основе знания видит опыт веры.
2.
Владимир Соловьев признается самым выдающимся русским
философом XIX века. В отличие от славянофилов, он написал ряд
философских книг и создал целую систему. Образ его, если взять его в целом,
более интересен и оригинален, чем его философия в собственном
смысле *. Это был загадочный, противоречивый человек, о нем возможны
самые противоположные суждения, из него вышли самые
противоположные течения. Два обер-прокурора Св. Синода признавались его
друзьями и учениками **, от него пошли братья Трубецкие и столь отличный
от них С. Булгаков, с ним себя связывали и ему поклонялись как
родоначальнику русские символисты А. Блок и А. Белый, и Вячеслав
Иванов готов был признать его своим учителем, его считали своим
антропософы. Правые и левые, православные и католики одинаково
ссылались на него и искали в нем опоры. И вместе с тем Вл. Соловьев был
очень одинок, мало понят и очень поздно оценен. Лишь в начале XX
века образовался миф о нем. И образованию этого мифа способствовало
то, что был Вл. Соловьев дневной и был Вл. Соловьев ночной, внешне
открывавший себя и в самом раскрытии себя скрывавший, и в самом
главном себя не раскрывавший. Лишь в своих стихотворениях он
раскрывал то, что было скрыто, было прикрыто и задавлено
рациональными схемами его философии. Подобно славянофилам, он критиковал
рационализм, но философия его была слишком рациональной, и в ней
слишком большую роль игр ад и схемы, которые он очень любил. Он
был мистиком, имел мистический опыт, об этом свидетельствуют все
его знавшие, у него была оккультная одаренность, которой совсем не
было у славянофилов, но мышление его было очень рациональным. Он
был из тех, которые скрывают себя в своем умственном творчестве, а
не раскрывают себя, как, например, раскрывал себя Достоевский со
всеми своими противоречиями. В этом он походит на Гоголя. Гоголь и
Вл. Соловьев — самые загадочные фигуры в русской литературе XIX
века. Наш самый большой христианский философ прошлого века совсем
не был уже бытовым человеком, подобно славянофилам. Он был
человеком стихии воздуха, а не стихии земли, был странником в этом
мире, а не человеком оседлым. Он принадлежит эпохе Достоевского,
с которым был непосредственно связан. Л. Толстого он не любил. Но
этот загадочный странник всегда хотел обосновать и укрепить жизнь
людей и обществ на незыблемых объективных началах и всегда
выражал это обоснование в рациональных схемах. Это поражает в Соловьеве.
Он всегда стремился к целостности, но целостности в нем самом не
было. Он был философом эротическим, в платоновском смысле слова, эро-
* Для характеристики личности Вл. Соловьева особенно интересна книга К. М о-
чульского - «Владимир Соловьев». Для изложения и критики философии
Вл. Соловьева наибольший интерес представляет кн. Е. Трубецкой -
«Миросозерцание Вл. Соловьева». Два тома.
** Кн, А. Оболенский и Лукьянов.
107
тика высшего порядка играла огромную роль в его жизни, была его
экзистенциальной темой. И вместе с тем в нем был сильный
моралистический элемент, он требовал осуществления христианской морали в
полноте жизни. Этот моралистический элемент особенно чувствуется в его
статьях о христианской политике и в его борьбе с националистами. Он
был не только рациональным философом, признававшим права разума,
но также теософом. Ему близки не только Платон, Кант, Гегель,
Шопенгауэр, но также христианские теософы Я. Беме, Портедж, Фр. Баадер,
Шеллинг последнего периода. Он хочет построить систему свободной
христианской теософии и соединить ее со свободной теократией и
теургией. У Вл. Соловьева была своя первичная интуиция, как у всякого
значительного философа. Это была интуиция всеединства. У него было
видение целостности, всеединства мира, божественного космоса, в
котором нет отделения частей от целого, нет вражды и раздора, нет ничего
отвлеченного и самоутверждающегося. То было видение Красоты. То
была интуиция интеллектуальная и эротическая. То было искание
преображения мира и Царства Божьего. Интуиция всеединства делает
Вл. Соловьева универсалистом по своей основной направленности.
С этим будут связаны и его католические симпатии. Очень интересно,
что за этим универсализмом, за этой устремленностью к всеединству
скрыт момент эротический и экстатический, скрыта влюбленность в
красоту божественного космоса, которому он даст имя Софии. Вл.
Соловьев — романтик, и, в качестве романтика, у него происходило
неуловимое сближение и отождествление влюбленности в красоту вечной
женственности Премудрости Божией с влюбленностью в красоту
конкретного женского образа, которого он так никогда и не мог найти. Интуиция
всеединства, конкретного универсализма делает его прежде всего
критиком «отвлеченных начал», чему посвящена его главная книга.
Вл. Соловьев — интеллектуалист, а не волюнтарист. Поэтому у него
не играет такой роли свобода, как у волюнтариста Хомякова. Его
миросозерцание скорее принадлежит к типу универсального детерминизма,
но детерминизм этот спиритуалистический. Оно принадлежит также к
типу эволюционного миросозерцания, но эволюционизм этот получен не
от натуралистических учений об эволюции, а от германской
идеалистической метафизики. Достижение всеединства, социального и
космического, носит у него интеллектуальный характер. Иррациональной свободы
у него нет. Отпадение мира от Бога есть распадение его на
враждующие начала. Эгоистическое самоутверждение и отчуждение суть
главные признаки падшести человека и мира. Но каждое из отделившихся
от высшего центра начал заключает в себе частичную истину.
Воссоединение этих начал с подчинением их высшему божественному началу
есть достижение всеединства. Всеединство мыслится не абстрактно,
а конкретно, с внесением в него всех индивидуальных ступеней. Так,
в теории познания эмпиризм, рационализм и мистицизм являются
отвлеченными началами, которые ложны в своем исключительном
самоутверждении, но заключают в себе частичные истины, которые войдут
в целостное познание свободной теософии. Также в сфере практической
свободная теократия достигается соединением начал церкви,
государства и земщины, как тогда обозначали в славянофильской терминологии
общество. Вл. Соловьев одно время слишком верил, что
интеллектуальная концепция свободной теософии и свободной теократии может очень
способствовать достижению конкретного всеединства. Он сам потом в
этом разочаровался. Но совершенно верна была его мысль, что нельзя
рассматривать то, что он называл «отвлеченными началами», как зло,
грех и заблуждение. Так, эмпиризм сам по себе есть заблуждение, но в
нем есть частичная истина, которая должна войти в теорию познания
более высшего типа. Так, гуманизм в своем исключительном
самоутверждении есть заблуждение и неправда, но в нем есть и большая истина,
108
которая входит в богочеловеческую жизнь. Преодоление «отвлеченных
начал» и есть то, что Гегель называет Aufhebung4. В преодоление
входит то, что было истинного в предшествующем. Вл. Соловьев говорит,
что для того, чтобы преодолеть неправду социализма, нужно признать
правду социализма. Но стремится он всегда к целостности, он хочет
целостного знания. С целостностью всегда для него была связана не
только истина и добро, но и красота. Он остается в линии Гегеля и
немецких романтиков, оттуда он получил универсализм и органичность. Он
не переживал с остротой проблему свободы, личности и конфликта, но
с большой силой переживал проблему единства, целостности, гармонии.
Его тройственная теософическая, теократическая и теургическая утопия
есть все то же русское искание Царства Божьего, совершенной жизни.
В этой утопии есть социальный элемент, его христианство — социальное.
По мнению Вл. Соловьева, есть два отрицательных начала — смерть и
грех, и два положительных желания — желание бессмертия и желание
правды. Жизнь природы есть скрытое тление. Господствующая в
природном мире материя, отделенная от Бога, есть дурная бесконечность.
Вера в Бога есть вера в то, что добро есть, что оно сущее. Искушение
же в том, что зло принимает форму добра. Победа над смертью и тле-
яием есть достижение всеединства, преображение не только человека,
ао и всего космоса. Но самая интересная и оригинальная идея Вл.
Соловьева связана с различением бытия и сущего.
Он был, конечно, под сильным влиянием Гегеля. Но он все-таки по-
иному решает вопрос о бытии. Бытие есть лишь предикат субъекта —
сущего, но не самый субъект, не самое сущее. Бытие говорит о том,
что что-то есть, а не о том, что есть. Нельзя сказать, что бытие есть, есть
только сущее, существующее. Понятие- бытия логически и
грамматически двусмысленное, в нем смешиваются два смысла. Бытие значит,
что что-то есть, и бытие значит то, что есть. Но второй смысл «бытия»
должен быть устранен. Бытие оказывается субъектом и предикатом.
Говорят: «это существо есть» и «это ощущение есть». Так происходит ги-
постазирование предиката *. По-настоящему предметом философии
должно было бы быть не бытие вообще, а то, чему и кому бытие
принадлежит, т. е. сущее **. Это важное для Вл. Соловьева различие между
бытием и сущим не на всех языках выразимо. Тут он как будто бы
приближается к экзистенциальной философии. Но его собственное
философствование не принадлежит к экзистенциальному типу. В основании
его философии лежала живая интуиция конкретного сущего, и его
философия была делом его жизни. Но самая его философия остается
отвлеченной и рациональной, сущее в ней задавлено схемами. Он все
время настаивает на необходимости мистического элемента в философии.
Этим проникнута его критика отвлеченных начал, его искание
целостного знания, в основании знания, в основании философии лежит вера,
самое признание реальности внешнего мира предполагает веру. Но как
философ Вл. Соловьев совсем не был экзистенциалистом, он не выражал
своего внутреннего существа, а прикрывал. Он пытался компенсировать
себя в стихах, но и в стихах он прикрывал себя шуткой, которая
иногда производит впечатление, не соответствующее серьезности темы.
Особенности Вл. Соловьева как мыслителя и писателя дали основание Та-
рееву написать о нем: «Страшно подумать, что Соловьев, столь много
писавший о христианстве, ни одним словом не обнаружил чувство
Христа» ***. Тареев имел тут в виду, что Вл. Соловьев, говоря о Христе,
обычно говорил как будто бы о Логосе неоплатонизма, а не об Иисусе
* См. Вл. Со до вьев - «Критика отвлеченных начал» и «Философские начала
цельного знания».
** См. мою еще не напечатанную книгу — «Творчество и объективизация. Опыт
эсхатологической метафизики».
*** См. Тареев- «Основы христианства». Т. IV. «Христианская свобода».
109
из Назарета. Но его интимная духовная жизнь оставалась для нас
скрытой, и не следует произносить о ней суда. Нужно помнить, что он
отличался необыкновенной добротой, раздавал бедным свою одежду, и
однажды должен был появиться в одеяле. Он принадлежит к числу людей
внутренно раздвоенных, но он стремился к целостности, к сущему,
к всеединству, к конкретному знай ею. К конкретному знанию
стремился и Гегель, но достигал этого лишь частично, главным образом в
«Феноменологии духа». Как у русского философа, тема ксториософическая
была для Вл. Соловьева центральной, вся его философия в известном
смысле есть философия истории, учение о путях человечества к бого-
человечеству, к всеединству, к Царству Божьему. Его теократия есть
историософическое построение. Философия истории связана для него с
учением о Богочеловечестве, что и есть главная его заслуга перед
русской религиозно-философской мыслью. В этом отношении огромное
значение имеют его «Чтения о Богочеловечестве». Идея Богочеловечества,
выношенная русской мыслью и малопонятная западной католической
и протестантской мысли, означает своеобразное понимание
христианства. Эту идею не нужно отожествлять с соловьевским эволюционизмом,
при котором и Богочеловек и Богочелозечество суть как бы продукт
мировой эволюции. Но и в эволюционизме Вл. Соловьева, в основном
ошибочном и несоединимом со свободой, есть доля несомненной истины.
Так гуманистический опыт новой истории входит в Богочеловечество,
и результатом этого является эволюция христианства. Вл. Соловьев
хочет христиански осмыслить этот опыт и выражает это в
замечательном учении о Богочеловечестве.
Христианство есть не только вера в Бога, но и вера в человека,
в возможность раскрытия божественного в человеке. Существует
соизмеримость между Богом и человеком, и потому только и возможно
откровение Бога человеку. Чистый, отвлеченный трансцендентизм делает
невозможным откровение, не может раскрыть путей к Богу и исключает
возможность общения между человеком и Богом. Даже юдаизм и
магометанство не являются таким трансцендентизмом в крайней его форме.
В Иисусе Христе — Богочеловеке, в индивидуальной личности, дано
совершенное соединение двух природ, божественной и человеческой. Это
должно произойти коллективно в человечестве, в человеческом
обществе. С этим связана для Вл. Соловьева самая идея Церкви. Церковь есть
богочеловеческий организм, история Церкви есть богочеловеческий
процесс и потому есть развитие. Должно произойти свободное соединение
Божества и человечества. Таково задание, поставленное перед
христианским человечеством, которое его плохо исполняло. Зло и страдание мира
не мешали Вл. Соловьеву в этот период видеть богочеловеческий процесс
развития. Богочеловечество подготовлялось еще в языческом мире,
в языческих религиях. До явления Христа история стремилась к Бого-
человечеству. После явления Христа история стремится к Богочеловеку.
Внехристианский и противохристианский гуманистический период
истории входит в этот богочеловеческий процесс. Богочеловечество возможно
потому, что человеческая природа консубстанциональна человеческой
природе Христа. На идее Богочеловечества лежит печать социальной и
космической утопии, которой вдохновлялся Вл. Соловьев. Он хотел
осуществления христианства в путях истории, в человеческом обществе,
а не в индивидуальной только душе, он искал Царства Божьего,
которое будет явлено еще на этой земле. Я употребляю слово утопия не в
порицательном смысле, наоборот, я вижу большую заслугу Вл.
Соловьева в том, что он хотел социального и космического преображения.
Утопия обозначает только целостный, тоталитарный идеал, предельное
совершенство. Но утопизм обыкновенно связан с оптимизмом. И мы тут
наталкиваемся на основное противоречие. Соединение человечества и
Божества, достижение Боючеловечества можно мыслить только
свободно
но, оно не может быть принудительным, не может быть результатом
необходимости. Это Вл. Соловьев признает, и вместе с тем богочелове-
ческий процесс, который приводит к Богочеловечеству, для него как
будто бы есть необходимый, детерминированный процесс эволюции.
Проблема свободы не продумана до конца. Свобода предполагает не
непрерывность, а прерывность. Свобода может быть и противлением
осуществлению Богочеловечества, может быть и искажением, как мы видели в
истории Церкви. Парадокс свободы в том, что она может переходить в
рабство. У Вл. Соловьева богочеловеческий процесс бестрагичен, между
тем как он трагичен. Свобода порождает трагедию. На «Чтениях о Бо-
гочеловечестве» лежит несомненная печать влияния Шеллинга
последнего периода. Но тем не менее соловьевское учение о Богочелозечестве
есть оригинальный плод русской мысли, этого учения в такой форме
нет ни у Шеллинга, ни у других представителей западной мысли. Идея
Богочеловечества означает преодоление самодостаточности человека в
гуманизме и вместе с тем утверждение активности человека, высшего
его достоинства, божественного в человеке. Понимание христианства как
религии Богочеловечества радикально противоположно судебному
пониманию отношений между Богом и человеком и судебной теории
искупления, распространенной в богословии католическом и протестантском.
Явление Богочеловечества и грядущее явление Богочеловечества
означают продолжение миротворения. Русская религиозно-философская мысль
в своих лучших представителях решительно борется против всякого
юридического истолкования тайны христианства, и это входит в русскую
идею. Вместе с тем идея Богочеловечества обращается к космическому
преображению, это почти совершенно чуждо официальному
католичеству и протестантизму. На Западе родство с космологизмом русской
религиозной философии можно найти лишь в немецкой христианской
теософии, у Я. Беме, Фр. Баадера, Шеллинга. Это приводит нас к теме
о Софии, с которой Вл. Соловьев связывает свое учение о Богочелове-
честве.
Учение о Софии, которое стало популярно в религиозно-философских
и поэтических течениях начала XX века, связано с платоновским
учением об идеях. <кСофия есть выраженная, осуществленная идея»,—
говорит Соловьев. «София есть тело Божие, материя Божества, проникнутая
началом Божественного единства». Учение о Софии утверждает начало
божественной премудрости в тварном мире, в космосе и человечестве,
оно не допускает абсолютного разрыва между Творцом и творением.
Для Вл. Соловьева София есть также идеальное чедовечество. И он
сближает культ Софии с культом человечества у Ог. Коыта. Для придания
Софии православного характера он указывает на иконы Св. Софии
Премудрости Божией в Новгороде и в киевском Софиевском соборе.
Наибольшие нападения в православных кругах вызвало понимание Софии как
вечной женственности, внесение женственного начала в Божество. Но
принципиально те же возражения должно было вызвать внесение
мужественного начала в Божество. С Софией связаны наиболее интимные
мистические переживания Вл, Соловьева, выраженные главным образом
в его стихах. Услышав внутренний призыв, он совершает таинственное
путешествие в Египет на свидание с Софией — Вечной Женственностью
Он описывает это в стихотворении «Трц свидания» и других
стихотворениях.
Не веруя обманчивому миру
Под грубою корою вещества,
Я осязал нетленную порфиру
И увнавал еиянье Божества.
Все видел я, и все одно лишь было —
Один лишь образ женской красоты...
Безмерное в его размер входило,—
Передо м**лй. во мне,— одна лишь ты*
Еще невольник суетному миру
Под грубою корою вещества
Так я прозрел нетленную порфиру
И ощутил сиянье Божества.
Подруга вечная, тебя не назову я.
И еще:
Знайте же: вечная женственность ныне
В теле нетленном на землю идет.
В свете немеркнущем новой богини
Небо слилося с пучиною вод.
Все, чем красна Афродита мирская,
Радость домов, и лесов, и морей,-
Все совместит красота неземная.
Чище, сильней, и живей, и полней.
Видение Софии есть видение красоты Божественного космоса,
преображенного мира. Если София есть Афродита, то Афродита небесная,
а не простонародная. Соловьевское учение о Софии — Вечной
Женственности и стихи, посвященные ей, имели огромное влияние на поэтов-
символистов начала XX века Александра Блока и Андрея Белого,
которые верили в Софию и мало верили в Христа, что было огромным
отличием от Вл. Соловьева. На Западе гениальное учение о Софии было
у Якова Беме, но оно носило несколько иной характер, чем у Вл.
Соловьева и у русских софиологов *. Учение Я. Беме о Софии есть учение
о вечной девственности, а не о вечной женственности. София есть
действенность, целостность человека, андрогинный образ человека.
Грехопадение человека и было утерей им своей Девы-Софии. После падения
София отлетает на небо, а на земле является Ева. Человек тоскует по
своей Деве-Софии, по целостности. Пол есть знак раздвоенности и
надшести. Можно открыть родство бемевского учения о Софии с
Платоном (учение об андрогине) и с Каббалой. Софиология у Беме имеет
главным образом антропологический характер, у Вл. Соловьева —
главным образом космологический. Бемевское учение чище соловьевского,
которое допускает муть в софийных настроениях. У Вл. Соловьева было,
несомненно, космическое прельщение. Но в его ожидании красоты
преображенного космоса была большая правда. И в этом он выходит за
пределы исторического христианства, как и все оригинальные течения
русской религиозной мысли. Статья Вл. Соловьева «Смысл любви» —
самое замечательное из всего им написанного, это даже единственное
оригинальное слово, сказанное о любви-эросе в истории христианской
мысли. Но в ней можно найти противоречие с учением о Софии, учение
о любви выше учения о Софии. Вл. Соловьев — первый христианский
мыслитель, по-настоящему признававший личный, а не родовой смысл
любви между мужчиной и женщиной. Традиционное христианское сознание
не признавало смысла любви и даже не замечало ее, для него
существовало только оправдание соединения мужчины и женщины для
деторождения, т. е. оправдание родовое. То, что писал об этом Бл. Августин,
напоминает трактат по скотоводству. Но такова преобладающая
церковная точка зрения. Вл. Соловьев устанавливает противоположность между
совершенством личности и деторождением. Это — биологическая истина.
Метафизическая же истина в том, что существует противоположность
между перспективой личного бессмертия и перспективой смены вновь
рождающихся поколений. Личность как бы распадается в деторождении,
* См. мою статью: «Учение Якова Беме о Софии» в «Пути».
112
торжествует безличный род над личностью. Вл. Соловьев соединяет
мистическую эротику с аскетизмом. В гениальных прозрениях «Смысла
любви» ставится проблема антропологическая. В ней меньше той
синтезирующей примирительности, которая часто раздражает в
Соловьеве, раздражает более всего в его «Оправдании добра», системе
нравственной философии, в этой статье он мыслит радикально. Единственным
его предшественником в этой области можно признать лишь Фр. Бааде-
ра, но его точка зрения все же несколько иная *.
В свое время Вл. Соловьев был мало оценен и непонят. Ценили
главным образом его идею теократии, т. е. самое слабое в нем; более
широкое признание имела его либеральная публицистика. Огромное
влияние он имел позже на духовный ренессанс начала XX века, когда в
части русской интеллигенции произошел духовный кризис. Как оценить
дело Вл. Соловьева? Его манера философствования принадлежит
прошлому, она более устарела, чем философия Гегеля, которой в наше
время по-новому увлекаются. Его построение всемирной теократии с
тройственным служением царя, первосвященника и пророка разрушено им
самим и менее всего может быть удержано. Также предлагаемый им
способ соединения церквей, обращенный к церковным правительствам,
кажется наивным и несоответствующим современным настроениям, когда
придают больше значения типам духовности и мистики. И все же
значение Вл. Соловьева очень большое. Прежде всего, огромное значение
в соловьевском деле имеет его утверждение профетической стороны
христианства, и в этом оно более всего входит в русскую идею. Профе-
тизм его не имеет обязательной связи с его теократической схемой и
даже опрокидывает ее. Вл. Соловьев верил в возможность новизны в
христианстве, он был проникнут мессианской идеей, обращенной к
будущему, и в этом он нам наиболее близок. Русские течения религиозной
мысли, русские религиозные искания начала XX века будут продолжать
профетическое служение Вл. Соловьева. Он был врагом всякого монофи-
зитского уклона в понимании христианства, он утверждал активность
человека в христианском богочеловеческом деле, он ввел в христианство
правду гуманизма и гумаыитаризма. Вопрос о католичестве Вл.
Соловьева обычно неверно освещается и его католическими сторонниками, и его
православными противниками. Он никогда не переходил в католичество,
это было бы слишком просто и не соответствовало бы значительности
поставленной им темы. Он хотел быть разом и католиком и
православным, хотел принадлежать ко Вселенской Церкви, в которой была бы
полнота, какой нет еще ни в католичестве, ни в православии, взятых в
их изолированности и самоутверждении, он допускал возможность интер-
коммюниона. Это значит, что Вл. Соловьев был сверхконфессионален,
верил в возможность новой эпохи в истории христианства. Католические
симпатии и уклоны, особенно выраженные, когда он писал книгу
«Россия и Вселенская Церковь», были выражением универсализма Вл.
Соловьева. Но он никогда не порывал с православием и перед смертью
исповедывался и приобщался у православного священника. В «Повести
об антихристе» православный старец Иоанн первый узнает антихриста,
и этим утверждается мистическое призвание православия. Вл. Соловьев,
как и Достоевский, выходил за пределы исторического христианства,
и в этом его религиозное значение. Об его эсхатологических настроениях
под конец жизни речь будет в следующей главе. Он разочаровался в
оптимизме своих теократических и теософических схем, увидел силу
зла в истории. Но это был лишь момент его внутренней судьбы, он
принадлежал к типу мессианских религиозных мыслителей, родственных
польскому мессианисту Чешковскому. Нужно еще сказать, что борьба,
* См. в «Schriften Franz Baaders». Insel-Verlag: «Saetze aus cter erotischen
Philosophic» и «Vierzig Saetze aus einer religioesen Erotiks,
113
которую Вл. Соловьев вел с национализмом, торжествовавшим в 80-ые
годы, внешне может казаться устаревшей, но она остается живой и для
нашего времени. Это его большая заслуга. Так же как борьба за свободу
совести, мысли, слова. Уже в XX веке от богатой, разнообразной, часто
противоречивой мысли Вл. Соловьева пошли разные течения —
религиозная философия С. Булгакова и кн. Е. Трубецкого, философия
всеединства С. Франка, символизм А. Блока, А. Белого, В. Иванова; с ним очень
связана проблематика начала века, хотя в узком смысле соловьевства у
нас, может быть, и не было.
3.
Но главцые фигуры в русской религиозной мысли и религиозных ис*
каниях XIX века не философы, а романисты — Достоевский и Л. Толстой.
Достоевский — величайший русский метафизик, вернее, антрополог. Он
сделал великие открытия о человеке, и от него начинается новая эра
во внутренней истории человека. После него человек уже не тот, что
до него. Только Ницше и Кирхегард могут разделить с Достоевским
славу зачинателей этой новой эры. Эта новая антропология учит о человеке
как о существе противоречивом и трагическом, в высшей степени
неблагополучном, не только страдающем, но и любящем страдания.
Достоевский более пневматолог, чем психолог, он ставит проблемы духа, и о
проблемах духа написаны его романы. Он изображает человека,
проходящего через раздвоение. У него появляются люди двоящихся мыслей.
В человеческом мире Достоевского раскрывается полярность в самой
глубине бытия, полярность самой красоты. Достоевский
заинтересовывается человеком, когда начинается внутренняя революция духа. И он
изображает экзистенциальную диалектику человеческого раздвоения.
Страдание не только глубоко присуще человеку, но оно есть
единственная причина возникновения сознания. Страдание искупает зло. Свобода,
которая есть знак высшего достоинства человека, его богоподобия,
переходит в своеволие. Своеволие же порождает зло. Зло есть знак
внутренней глубины человека. Достоевский открывает подполье и подпольного
человека, глубины подсознательного. Из этой глубины восклицает
человек, что он хочет «по своей глупой воле» пожить и что «дважды два —
четыре» есть начало смерти. Основная тема Достоевского есть тема
свободы, тема метафизическая, которая никогда еще не была так глубоко
поставлена. Со свободой связано и страдание. Отказ от свободы
облегчил бы страдание. Существует противоречие между свободой и счастьем.
Достоевский видит дуализм злой свободы и принудительного добра. Эта
тема о свободе есть основная тема «Легенды о Великом Инквизиторе»,
вершины творчества Достоевского. Принятие свободы означает веру в
человека, веру в дух. Отказ от свободы есть неверие в человека.
Отрицание свободы есть антихристов дух. Тайна Распятия есть тайна
свободы. Распятый Бог свободно избирается предметом любви. Христос не
насилует своим образом. Если бы Сын Божий стал царем и организовал
бы земное царство, то свобода была бы отнята от человека. Великий
Инквизитор говорит Христу: «Ты возжелал свободной любви человека».
Но свобода — аристократична, она есть непосильное бремя для
миллиона миллионов людей. Возложив на людей бремя свободы, «Ты поступил,
как бы не любя их вовсе». Великий Инквизитор принимает три
искушения, отвергнутые Христом в пустыне, отрицает свободу духа и хочет
сделать счастливыми миллионы миллионов младенцев. Миллионы будут
счастливы, отказавшись от личности и свободы. Великий Инквизитор
хочет сделать муравейник, рай без свободы. «Эвклидов ум» не понимает
тайны свободы, она рационально непостижима. Можно было бы избежать
зла и страдания, но ценой отречения от свободы. Зло, порожденное
свободой НДК своеволием, должно сгореть, но оно есть прохождение через
искушающий опыт. Достоевский раскрывает глубину преступления и
114
глубину совести. Иван Карамазов объявляет бунт, не принимает мира
Божьего и возвращает билет Богу на вход в мировую гармонию. Но
это лишь путь человека. Все миросозерцание Достоевского было
связано с идеей личного бессмертия. Без веры в бессмертие ни один вопрос
не разрешим. И если бы не было бессмертия, то Великий Инквизитор
был бы прав. В «Легенде» Достоевский имел, конечно, в виду не только
католичество, не только всякую религию авторитета, но и религию
коммунизма, отвергающую бессмертие и свободу духа. Достоевский,
вероятно, принял бы своеобразный христианский коммунизм и, наверное,
предпочел бы его буржуазному капиталистическому строю. Но коммунизм,
отрицающий свободу, достоинство человека как бессмертного существа,
он признавал порождением антихристова духа.
Религиозная метафизика Льва Толстого менее глубокая и менее
христианская, чем религиозная метафизика Достоевского. Но Л. Толстой
имел огромное значение в русской религиозности второй половины
XIX века. Он был пробудителем религиозной совести в обществе
религиозно-индифферентном или враждебном христианству. Он вызвал
искание смысла жизни: Достоевский как религиозный мыслитель имел
влияние на сравнительно небольшой круг интеллигенции, на души более
усложненные. Толстой как религиозный нравственный проповедник имел
влияние на более широкий круг, он захватывал и народные слои. Его
влияние чувствовалось в сектантских движениях. Группы толстовцев
в собственном смысле были немногочисленны. Но толстовская мораль
имела большое влияние на моральные оценки очень широких кругов
русского интеллигентного общества. Сомнение в оправданности частной
собственности, особенно земельной, сомнение в праве судить и
наказывать, обличение зла и неправды всякого государства и власти, покаяние
в своем привилегированном положении, сознание вины перед трудовым
народом, отвращение к войне и насилию, мечта о братстве людей — все
эти состояния были очень свойственны средней массе русской
интеллигенции, они проникли и в высший слой русского общества, захватили
даже часть русского чиновничества. Это было толстовство платоническое,
толстовская мораль считалась неосуществимой, но самой высокой, какую
только можно себе представить. Таково, впрочем, было отношение и к
евангельской морали вообще. В Л. Толстом произошло сознание своей
вины в господствующем слое русского общества. Это было прежде всего
аристократическое покаяние. У Л. Толстого была необычайная жажда
совершенной жизни, она томила его большую часть жизни, было острое
сознание своего совершенства *. От православия получил он сознание
своей греховности, склонность к неустанному покаянию. Мысль, что
нужно прежде всего исправить себя, а не улучшать жизнь других, есть
традиционно-православная мысль. Православная основа у него была
сильнее, чем обыкновенно думают. Самый нигилизм его в отношении к
культуре получен от православия. Одно время он делал усилия быть
самым традиционным православным, чтобы быть в духовном единстве с
рабочим народом. Но он не выдержал испытания, он возмутился против
грехов и зол исторической церкви, против неправды жизни тех, которые
почитали себя православными. И он стал гениальным обличителем
неправд исторической церковности. В своей критике, в которой было
много правды, он зашел так далеко, что начал отрицать самые первоосновы
христианства и пришел к религии, более близкой к буддизму. Л. Толстой
был отлучен от церкви Св. Синодом, органом малоавторитетным. Между
тем как православная церковь не любила отлучать. Могут сказать, что
Толстой сам себя отлучил. Но отлучение было возмутительно потому,
что оно было применено к человеку, который так много сделал для
пробуждения религиозных интересов в обществе безбожном, в котором
люди, мертвые для христианства, не отлучались. Л. Толстой был прежде
' *" Много материалов дает П. Бирюков- «Л. И. Толстой. Биография».
Д15
всего борцом против идолопоклонников. В этом была его правда. Но
ограниченность духовного типа Толстого связана с тем, что религия его
была столь исключительно моралистической. Он никогда не сомневался
только в добре. От толстовского мировоззрения иногда бывает душно,
и у толстовцев же это бывает невыносимо. Отсюда нелюбовь Толстого к
обрядам. Но за толстовским морализмом скрыто было искание Царства
Божьего, которое должно осуществляться здесь, на земле, и сейчас.
Нужно начинать сейчас, но, по его словам, идеал Царства Божьего
бесконечен. Он любил выражаться с нарочитой грубостью и почти
нигилистической циничностью, он не любил никаких прикрас. В этом есть
большое сходство с Лениным. Иногда Толстой говорит: Христос учит
не делать глупостей. Но он же говорит: то, что есть, неразумно,
разумно то, чего нет, мировая разумность — зло, мировая нелепость — добро.
Он стремился к мудрости и в этом хочет быть вместе с Конфуцием,
Лаодзе, Буддой, Соломоном, Сократом, стоиками, Шопенгауэром,
которого очень почитал. Величайшим из мудрых он почитал Иисуса Христа.
Но он был ближе к буддизму и к стоицизму, чем к христианству.
Метафизика Л. Толстого, лучше всего выраженная в его книге «О жизни»,
резко антиперсоналистична. Только отказ от личного сознания победит
страх смерти. В личности, в личном сознании, которое для него есть
животное сознание, он видит величайшее препятствие для осуществления
совершенной жизни, для соединения с Богом. Бог же для него и есть
истинная жизнь. Истинная жизнь есть любовь. Антиперсонализм
Толстого наиболее отделяет его от христианства и наиболее приближает его к
индусскому религиозному сознанию. У него было большое уважение к
Нирване. Для Достоевского в центре стоял человек. Для Толстого
человек есть лишь часть космической жизни, и человек должен слиться с
божественной природой. Самое художество его космическое, в нем как
бы космическая жизнь сама себя выражает. Самое большое значение
имеет жизненная судьба самого Толстого, его уход перед смертью.
Личность Толстого необыкновенно значительна и гениальна в самых своих
противоречиях. Он был теллургическим человеком, он нес в себе всю
тяжесть земли, и он устремлен был к чисто духовной религии. В этом
его основное трагическое противоречие. И он не мог примкнуть к
толстовским колониям не вследствие своей слабости, а вследствие своей
гениальности. Всю жизнь у этого гордого, полного страстей, важного
барина, настоящего грандсеньера, была память о смерти, и все время
он хотел смириться перед волей Бога. Он хотел осуществить закон
Хозяина жизни, как он любил выражаться. Он много мучился, религия
его была безблагодатна. Про него скажут, что он собственными силами
хотел осуществить совершенную жизнь. Но, по его богосознанию,
осуществление совершенной жизни есть присутствие Бога в человеке. Чего-то
в христианстве он до конца не мог понять, но вина в этом лежит не
на нем, не только на нем. По своим исканиям правды, смысла жизни,
исканиям Царства Божьего, своим покаяниям, своему
религиозно-анархическому бунту против неправды истории и цивилизации он
принадлежит русской идее. Он есть русское противопоставление Гегелю и
Ницше.
Русская религиозная проблематика была очень мало связана с
духовной средой, с духовными академиями, с иерархами церкви. В XVIII веке
замечательным духовным писателем был св. Тихой Задонский, имевший
такое значение для Достоевского. В нем было веяние нового духа, на
в его имел влияние западный христианский гуманизм, Арндт и др.
В XIX веке можно назвать немного людей из духовной среды, которые
представляют интерес, хотя они остаются вне основных духовных
течений. Таковы Бухарев (архимандрит Федор), архиепископ Иннокентий,
Несмелов в особенности, и Тареев. Жизнь Бухарева была очень
драматична. Будучи монахом и архимандритом, он пережил духовный кризис,
116
усомнился в своем монашеском призвании и в традиционных формах
аскезы, ушел из монашества, но остался горячо верующим
православным. Потом он женился и придавал особенное религиозное значение
браку. Всю жизнь он продолжал быть духовным писателем, и через
инерцию традиционного православия у него прорывалась новизна, он
ставил проблемы, которых не ставила официальная православная мысль.
Он, конечно, подвергся преследованию, и положение его было
трагическим и мучительным. Официальная православная среда не признавала
его своим, широкие же круги интеллигенции его не читали и не знали.
Заинтересовались им позже, уже в начале XX века. Писал он очень
старомодно, языком, не свойственным русской литературе, и читать его
было не очень приятно. Его книга об Апокалипсисе, которую он писал
большую часть жизни и которой придавал особенное значение,— самое
слабое из его произведений, очень устаревшее, и сейчас ее читать
невозможно. Интересна только самая его обращенность к Апокалипсису.
Новым у него был исключительный интерес к вопросу об отношении
православия к современности, так и называется одна из его книг*.
Понимание Бухаревым христианства можно было бы назвать панхристиз-
мом. Он хочет приобретения и усвоения себе Христа, а не Его
заповедей. Он все сводит к Христу, к Его лику. В этом резко отличается от
Л. Толстого, у которого было слабое чувство личности Христа. Дух
Христов не отворачивание от людей, а человеколюбие и самопожертвование.
Бухарев особенно настаивает на том, что главная жертва Христа — за
мир и человека, а не жертва человека и мира для Бога. Это
противоположно судебному пониманию христианства. Ради всякого человека
Сын Божий стал человеком. Агнец был заклан до сотворения мира. Бог
творил мир, отдавая себя на заклание. «Мир явился мне,— говорит
Бухарев,—не только областью, во зле лежащей, но и великою средой для
раскрытия благодати Богочеловека, взявшего зло мира на себя». «Мыслью
о Христовом царстве не от мира сего мы пользуемся только для
своего нечеловеколюбивого, ленивого и малодушного безучастия к труж-
дающимся и обремененным в сем мире». Бухарев утверждает не
деспотию Бога, а самопожертвование Агнца. Дух силен свободой, а не
рабством страха. Ему дороже всего «снисхождение Христово на землю».
Ничто существенно-человеческое не отвергается, кроме греха. Благодать
противополагается греху, а не природе. Естественное неотделимо от
сверхъестественного. Творческие силы человека есть отсвет Бога Слова.
«Будет ли и когда будет у нас это духовное преобразование, по которому
и все земное мы стали бы разуметь по Христу; все гражданские
порядки были бы нами и понимаемы и сознательно выдерживаемы в силе и
смысле благодатных порядков». Идея Царства Божьего должна быть
применена к судьбам и делам царства мира сего. Бухарев говорит, что
Христос сам действует в церкви, а не передает авторитет иерархам.
Оригинальность его была в том, что он не столько хотел осуществления
в полноте жизни христианских принципов, сколько приобретения
полнотой жизни самого Христа, как бы продолжения воплощения Христа во
всей жизни. Он утверждал, как потом Н. Федоров, внехрамовую
литургию. Русской религиозной мысли вообще была свойственна идея
продолжающегося боговоплощения, как и продолжающегося в явлении Христа
миротворения. Это — отличие русской религиозной мысли от западной.
Отношение между Творцом и творением не вызывает никаких
представлений о судебном процессе. Бухареву свойственна необыкновенная
человечность, все христианство его проникнуто духом человечности. Он
хочет осуществлять эту христианскую человечность. Но он, как и
славянофилы, еще держался за монархию, совсем, впрочем, не похожую на
* См. его книгу - «Об отношении православия к современности» и «О
современных потребностях мысли и жизни, особенно русской»,
абсолютизм и империализм. Иногда кажется, что монархизм был
защитным цветом русской христианской мысли XIX века. Но в нем был я
непреодоленный исторический романтизм.
Единственный иерарх церкви, о котором стоит упомянуть, когда
говорят о русской религиозной философии, это — архиепископ
Иннокентий *. Митрополит Филарет был очень талантливый человек, но для
религиозной философии он совсем не интересен, у него не было в этой
области своих интересных мыслей. Епископ Феофан Затворник писал
исключительно книги по духовной жизни и аскетике в духе «Добротолю-
бия». Архиепископа Иннокентия можно назвать скорее философом, чем
богословом. Он, подобно славянофилам и Вл. Соловьеву, прошел через
немецкую философию и мыслил очень свободно. Ревнители ортодоксии,
вероятно, признают многие его мысли недостаточно православными. Он
говорил: страх Божий приличествует для еврейской религии, для
христианства он не подходит. И еще говорил: если бы в человеке, в его
сердце не было зародыша религии, то ш сам Бог не научил бы религии.
Человек свободен, и Бог не может заставить меня хотеть того, чего я
не хочу. Религия любит жизнь и свободу. «Кто почувствует свою
зависимость от Бога, тот станет выше всякого страха, выше деспотизма».
Бог захотел увидеть своего другого, своего друга. Откровение не
должно противоречить уму высшему, не должно унижать человека.
Источники религий: озарение Св. Духа, избранные люди, предание и Св.
Писание, и пятый источник — пастыри. Откровение есть внутреннее действР1е
Бога на человека. Нельзя доказать бытия Божьего. Бог познается и
чувством и умом, но не умом и понятием. Религия принимается только
сердцем. «Никакая наука, никакое доброе действие, никакое чистое
наслаждение не лишни для религии». Иисус Христос дал лишь план
церкви, а устроение ее предоставил времени. Иерархи не непогрешимы,
испорченность присутствует внутри церкви. Подобно Вл. Соловьеву,
архиепископ Иннокентий думает, что «всякое познание основано на
вере». Воображение не могло бы выдумать христианства. Некоторые его
мысли не соответствуют преобладающим богословским мнениям. Так,
он справедливо думает, что душа должна предсуществовать, что она
вечно была в Боге, что мир создан не во времени, а в вечности. На
Средние века он смотрел как на время суеверия и грабежа, что было
преувеличением. В религиозной философии архиепископа Иннокентия были
элементы модернизма. Западные лмберальные веяния коснулись и нашей
духовной среды, которая была очень затхлой. Многие профессора
духовных академий находились под сильным влиянием немецкой
протестантской науки. И это имело положительное значение. Но, к сожалению,
это приводило к неискренности и притворству: должны были выдавать
себя за православных те, которые ими уже не были. Были в среде
профессоров духовных академий и совсем неверующие. Но были и такие,
которым удавалось соединить совершенную свободу науки с искренней
православной верой. Таков был замечательный историк церкви Болотов,
человек необъятной учености. Но в русской богословской литературе
совсем не было трудов по библейской критике, по научной экзегезе
Священного Писания. Это отчасти объясняется цензурой. Библейская
критика оставалась запретной областью, и с трудом просачивались
некоторые критические мысли. Единственным замечательным трудом в этой
области, стоящим на высоте европейской науки и свободной
философской мысли, была книга кн. С. Трубецкого «Учение о Логосе». Но
много ценных трудов было по патристике. Духовная цензура
свирепствовала. Так, например, книга Несмелова «Догматическая система св.
Григория Нисского» была искажена духовной цензурой, его заставили
изменить конец книги в смысле, неблагоприятном для учения св. Григория
* См. «Сочинения Архиепископа Иннокентия».
418
Нисского о всеобщем спасении. Несмелов — самое крупное явление в
русской религиозной философии, вышедшей из духовных академий,
и вообще один из самых замечательных религиозных мыслителей. По
своей религиозной и философской антропологии он интереснее Вл.
Соловьева, но в нем, конечно, нет универсализма последнего, нет размаха
мысли, нет такой сложности личности.
Несмелов, скромный профессор Казанской духовной академии,
намечает возможность своеобразной и во многом новой христианской
философии *. Главный труд его называется «Наука о человеке». Огромный
интерес представляет второй том этого труда, озаглавленный
«Метафизика христианской жизни». Несмелов хочет построить христианскую
антропологию, но эта антропология превращается в понимание
христианства в целом вследствие особого значения, которое он придает
человеку. Загадка о человеке — вот проблема, которая с большой остротой
им ставится. Человек для него и есть единственная загадка мировой
жизни. Эта загадочность человека определяется тем, что он, с одной
стороны, есть природное существо, с другой же стороны, он не
вмещается в природный мир и выходит за его пределы. Из учителей церкви
несомненное влияние на Несмелова имел св. Григорий Нисский. Учение
о человеке св. Григория Нисского превосходит святоотеческую
антропологию, он хотел поднять достоинство человека, для него человек был не
только грешным существом, по и действительно был образом и
подобием Божиим и микрокосмом **. Для Несмелова человек есть двойственное
существо. Он — религиозный психолог, и он хочет иметь дело не с
логическими понятиями, а с реальными фактами человеческого
существования, он гораздо конкретнее Вл. Соловьева. Он предлагает новое
антропологическое доказательство бытия Божьего. «Идея Бога
действительно дана человеку, но только она дана ему не откуда-нибудь извне в
качестве мысли о Боге, а предметно-фактически осуществлена в нем
природою его личности как нового образа Бога. Если бы человеческая
личность не была идеальной по отношению к реальным условиям ее
собственного существования, человек и не мог бы иметь идеи Бога,
и никакое откровение никогда бы не могло сообщить ему эту идею,
потому что он не в состоянии был бы понять ее... Человеческая личность
реальна в бытии и идеальна по своем природе, и самым фактом своей
идеальной реальности она непосредственно утверждает объективное
существование Бога как истинной личности». Несмелое особенно
настаивает на том, что человеческая личность необъяснима из природного
мира, превосходит его и требует высшего бытия, чем бытия мира.
Интересно, что Несмелов очень ценит Фейербаха и хочет превратить мысль
Фейербаха об антропологической тайне религии в орудие защиты
христианства. Тайна христианства есть прежде всего антропологическая
тайна, И атеизм Фейербаха может быть понят как диалектический
момент христианского богоиознания. Отвлеченное богословие с его игрой
понятий должно было вызвать антропологическую реакцию Фейербаха.
Это заслуга Несмелова, что он хочет антропологизм Фейербаха обратить
в пользу христианства. Интересна и своеобразна у него психология
грехопадения. Сущность грехопадения он видит в суеверном отношении
к материальным вещам как источнику силы и знания. «Люди захотели,
чтобы их жизнь и судьба определялись не ими самими, а внешними
материальными причинами. Несмелов все время борется против
языческих, идолопоклоннических, магических элементов в христианстве.
* Я, кажется, первый обратил внимание па Несмелова в статье «Опыт
философского оправдания христианства», напечатанной в «Русской Мысли» 35 лет тому
назад.
*♦ Сейчас католики, главным образом иезуиты, заинтересовались св. Григорием
Нисским. См. интересную книгу: Hans von Balthasar — «Presence et pensee. Es-
sai sur la philosophie religieuse de Gregoire de Nysse»,
Д19
Он — самый крайний противник и острый критик юридической теории
искупления как сделки с Богом. В искании спасения и счастья он
видит язычески-иудейское, суеверное искажение христианства. Понятие
об истинной жизни он противополагает понятию о спасении. Спасение
приемлемо только как достижение истинной и совершенной жизни. Он
также хотел бы изгнать из христианства страх наказания и заменить
сознанием несовершенства. Подобно Оригену, св. Григорию Нисскому и
многим восточным учителям церкви, он хочет всеобщего спасения. Он
борется против рабьего сознания в христианстве, против унижения
человека в аскетически-монашеском понимании христианства.
Христианская философия Несмелова есть в большей степени персонализм, чем
христианская философия Вл. Соловьева. Русская
религиозно-философская мысль ставила по-иному проблему религиозной антропологии, чем
католическая и протестантская антропология, и она идет дальше
антропологии и патристической и схоластической, в ней сильнее человечность.
Несмелову принадлежит большое место в этой религиозной
антропологии.
Профессор Московской духовной академии Тареев создал
оригинальную концепцию христианства, наиболее отличающуюся от
традиционного православия *. У него находили скрытый протестантизм, что,
конечно, есть условная терминология. Но есть в нем и что-то
характерно-русское. По мнению Тареева, русский народ — смиренно верующий и кротко
любящий. В христологии его главное место занимает учение о кенезисе,
о самоуничижении Христа и подчинении его законам человеческого
существования. Божественное слово соединилось не с человеческой силой,
а с человеческим уничижением. Вогосыновство Христа есть вместе с
тем богосыновство каждого человека. Индивидуально-ценное в
религиозной области можно увидеть лишь имманентно, по родству с предметом.
Истинная религия не только священнически-консервативна, но и
пророчески духовна, не только стихийно народна, но и лично духовна, она
даже по преимуществу пророчески духовна. Тареев — сторонник
духовного христианства. Евангелию свойственна лично-духовная абсолютность.
Эта абсолютность и духовность не может быть выражена в естественной
исторической жизни, которая всегда относительна. Духовная истина
христианства не может воплощаться в исторической жизни, она
выражается в ней лишь символически, а не реально. Тареевская концепция
христианства — дуалистическая и очень отличается от монизма
славянофилов и Вл. Соловьева. У Тареева есть много верного. Он — решительный
враг теократии. Но он также враг всякого гностицизма. Царство Божие
есть царство личностей духовно-свободных. Основная идея Евангелия —
идея божественной духовной жизни. Есть два понимания Царства
Божьего: эсхатологическое и теократическое. Верно эсхатологическое
понимание. В Евангелии церковь имеет второстепенное значение,
и Царство Божье — все. В царстве Христовом не может быть власти и
авторитета. Тареев хочет освобождения духовной религии от
символической оболочки. Он противопоставляет символическое служение Богу и
духовное служение Богу. Евангельская вера — абсолютная форма
религии и погружена в безграничную свободу. Тареев утверждает свободу
абсолютной религии духа от исторических форм и свободу природно-
исторической жизни от притязаний религиозной власти. Поэтому для
него не может быть христианского народа, государства, брака. Вечная
жизнь есть не загробная жизнь, а истинная духовная жизнь. Дух есть
не часть человеческой природы, а божественное в человеке.
Непреодолимый дуализм Тареева имеет обратной своей стороной монизм.
Религиозная антропология Несмелова выше религиозной антропологии Тареева.
Тареевский дуализм имеет большую ценность как критика ложности
* См. Тареев - «Основы христианства». Четыре тома.
120
исторических воплощений христианства, этот дуализм справедливо
указывает на смешение символического с реальным, относительного с
абсолютным. Но он не может быть окончательным. Остается непонятным
смысл существования исторической церкви с ее символикой. У Тареева
нет философии истории. Но он — оригинальный религиозный мыслитель,
острый по своим противоположениям, и неверно сводить его целиком к
немецким протестантским влияниям, сопоставляя его с Ричлем. Дуализм
Тареева во всем противоположен дуализму К. Леонтьева. Тареев
склонялся к известной форме имманентизма. К. Леонтьев исповедует
крайний траысцендентизм. Его религия есть религия страха и насилия, а не
любви и свободы, как у Тареева, это религия трансцендентного эгоизма.
При всех уклонах Тареева от традиционного православия его
христианство более русское, чем христианство Леонтьева, совсем, как было уже
сказано, не русское, византийское, исключительно
монашески-аскетическое и авторитарное. Необходимо установить различие между русской
творческой религиозной мыслью, которая по-новому ставит проблему
антропологическую и космологическую, и официальным
монашески-аскетическим православием, для которого авторитет «Добротолюбия» стоит
выше авторитета Евангелия. Новым в творческой религиозной мысли,
столь отличной от мертвящей схоластики, было ожидание, не всегда
открыто выраженное, новой эпохи в христианстве, эпохи Сз. Духа. Это и
есть более всего русская идея. Русская мысль — существенно
эсхатологическая, и эсхатологизм этот принимает разные формы.
Глава IX
Ожидание новой эпохи Святого Духа. Эсхатологический и профетический
характер русской мысли. Отрицание буржуазных добродетелей.
Странничество. Народные искатели Царства Божьего. Эсхатологическое
настроение среди интеллигенции. Извращенная эсхатология у
революционной интеллигенции. Странничество Л. Толстого. Эсхатологизм и
мессианизм у Достоевского. Срыв у Леонтьева и Соловьева. Гениальная идея
Федорова об условности апокалиптических пророчеств. Прозрение Четко в-
ского. Проблема рождения и смерти у В. Соловьева, Федорова и
Розанова.
1.
В своей книге о Достоевском я писал, что русские — апокалиптики или
нигилисты. Россия есть апокалиптический бунт против античности
(Шпенглер). Это значит, что русский народ по метафизической своей
природе и по своему призванию в мире есть народ конца. Апокалипсис
всегда играл большую роль и в нашем народном слое, и в высшем
культурном слое, у русских писателей и мыслителей. В нашем
мышлении эсхатологическая проблема занимает несоизмеримо большее место,
чем в мышлении западном. И это связано с самой структурой русского
сознания, мало способного и мало склонного удержаться на
совершенных формах серединной культуры. Историки-позитивисты могут указать,
что для характеристики русского народа я делаю выбор, выбираю
немногое, исключительное, в то время как многое, обыкновенное, было
иное. Но умопостигаемый образ народа можно начертать лишь путем
выбора, интуитивно проникая в наиболее выразительное и значительное.
Я все время подчеркивал профетический элемент в русской литературе
и мысли XIX века. Я говорил также о роли, которую играла
эсхатологическая настроенность в русском расколе и сектантстве. Элемент
педагогический и благоустроительный был у нас или очень слаб, почти
отсутствовал, или был ужасен, безобразен, как в «Домострое».
Нравоучительные книги епископа Феофана Затворника также посят довольно
низменный характер. Все это связано с коренным русским дуализмом.
Устраивают землю и земную жизнь злые силы, отступившие от правды
Христовой, добрые же силы ждут Града Грядущего, Царства Божьего.
Русский народ очень одаренный, но у него сравнительно слабый дар
формы. Сильная стихия опрокидывает всякую форму. Это и есть, то,
что западным людям, особенно французам, у которых почти исчезла
первичная стихия, представляется варварством. В Западной Европе
цивилизация, которая достигла большой высоты, все более закрывает
эсхатологическое сознание. Католическое сознание боится эсхатологического
понимания христианства, так как оно открывает возможность опасном
новизны. Устремленность к грядущему свету, мессианское ожидание
противоречат пед атоническому, социально-устроительному характеру
католичества, вызывают опасение, что ослабится возможность
водительства душами. 1Лакже и буржуазное общество, ни во что не верящее,
боится, что эсхатологическое сознание может расшатать основы этого
буржуазного общества. Леон Блуа, редкий во Франции писатель
апокалиптического духа, был враждебен буржуазному обществу и буржуазной
цивилизации, его не любили и мало ценили *. В годы катастроф
апокалиптические настроения появляются и в европейском обществе. Так
было после французской революции и наполеоновских войн **. Тогда Юнг
Штилииг пророчествовал о скором явлении антихриста. В более далеком
прошлом, в IX веке, на Западе было ожидание антихриста. Более
близки русским пророчества Иоахима из Флориды о новой эпохе Св. Духа,
эпохе любви, дружбы, свободы, хотя все это слишком связывалось с
монахами. Близок русским также образ св. Франциска Ассизского,
искупающий многие грехи исторического христианства. Но христианская
цивилизация Запада строилась вне эсхатологической перспективы.
Необходимо объяснить, что я понимаю под эсхатологией. Я имею в виду не
эсхатологическую часть богословской системы, которую можно найти
во всяком курсе католического или протестантского богословия. Я имею
в виду эсхатологическое понимание христианства в целом, которое
нужно противоположить историческому пониманию христианства.
Христианское откровение есть откровение эсхатологическое, откровение о конце
этого мира, о Царстве Божьем. Все первохристианство было эсхатологич*
но, ждало второго пришествия Христа и наступления Царства
Божьего ***. Историческое христианство, историческая церковь означают, что
Царство Божье не наступило, означают неудачу, приспособление
христианского откровения к царству этого мира. Поэтому в христианстве
остается мессианское упование, эсхатологическое ожидание, и оно сильнее
в русском христианстве, чем в христианстве западном. Церковь не есть
Царство Божье, церковь явилась в истории и действовала в истории, она
не означает преображения мира, явления нового неба и новой земли,
Царство же Божье есть преображение мира, не только преображение
индивидуального человека, но также преображение социальное и
космическое. Это — конец этого мира, мира неправды и уродства, и начало
нового мира, мира правды и красоты. Когда Достоевский говорил, что
красота спасет мир, он имел в виду преображение мира, наступление
Царства Божьего. Это и есть эсхатологическая надежда. Она была у
большей части представителей русской религиозной мысли* Но русское
мессианское сознание, как и русский эсхатологизм, было двойственно.
В русском мессианизме, столь свойственном русскому народу, чистая
мессианская идея Царства Божьего, царства правды, была затуманена
идеей империалистической, волей к могуществу. Мы это видели уже в
отношении к идеологии Москвы — Третьего Рима. И в русском коммуниз-
* См. изумительную книгу Л. Блуа - «Exegese des lieux communs». Это-
страстное обличение буржуазного духа и буржуазной мудрости.
** Много интересных материалов можно найти у A. W i a 11 e: «Les sources occub
tes du romantisme». Deux volumes.
*** Эсхатологическое понимание христианства можно найти у Вейса и Луази.
ме, в который перешла русская мессианская идея в бгзрелигиозной и
антирелигиозной форме, произошло то же извращение русского искания
царства правды волей к могуществу. Но русским людям, несмотря на
все соблазны, которым они подвержены, очень свойственно отрицание
величия и славы этого мира. Таковы, по крайней мере, они в высших
своих состояниях. Величие и слава мира остаются соблазном и грехом, а не
высшей ценностью, как у западных людей. Характерно, что русским не
свойственна риторика, ее совсем не было в русской революции, в то
время как она играла огромную роль во французской революции. В этом
Ленин со своей грубостью, отсутствием всяких прикрас, всякой
театральности, с простотой, переходящей в цинизм,— характерно русский
человек. Относительно Петра Великого и Наполеона, образов величия и
славы, русский народ создал легенду, что они — антихристы. У русских
отсутствуют буржуазные добродетели, именно добродетели, столь
ценимые Западной Европой. Буржуазные же пороки у русских есть, именно
пороки, которые такими и сознаются. Слова «буржуа», «буржуазный» в
России, носили порицательный характер, в то время как на Западе эти
слова означали почтенное общественное положение. Вопреки мнению
славянофилов, русский народ — менее семейственный, чем народы
Запада, менее прикованный к семье, сравнительно легко с ней разрывающий.
Авторитет родителей в интеллигенции, в дворянстве, в средних слоях,
за исключением, может быть, купечества, был слабее, чем на Западе.
Вообще у русских было сравнительно иерархическое чувство, или оно
существовало в отрицательной форме низкопоклонства, т. е., опять-таки
порока, а не добродетели. Русский народ в глубоких явлениях своего
духа —наименее мещанский из народов, наименее детерминированный,
наименее прикованный к ограниченным формам быта, наименее
дорожащий установленными формами жизни. При этом самый быт русский,
напр., купеческий быт, описанный Островским, бывал безобразен в
такой степени, в какой этого не знали народы западной цивилизации. Но
этот буржуазный быт не почитался святыней. В русском человеке легко
обнаруживается нигилист. Все мы — нигилисты, говорит Достоевский.
Наряду с низкопоклонством и рабством легко обнаруживается бунтарь и
анархист. Все протекало в крайних противоположностях. И всегда есть
устремленность к чему-то бесконечному. У русских всегда есть жажда
иной жизни, иного мира, всегда есть недовольство тем, что есть.
Эсхатологическая устремленность принадлежит к структуре русской души.
Странничество — очень характерное русское явление, в такой степени
незнакомое Зацаду. Странник ходит по необъятной русской земле, никогда
не оседает и ни к чему не прикрепляется. Странник ищет правды, ищет
Царства Божьего, он устремлен в даль. Странник не имеет на земле
своего пребывающего града, он устремлен к Граду Грядущему.
Народный слой всегда выделял из своей среды странников. Но по духу
своему странниками были и наиболее творческие представители русской
культуры, странниками были Гоголь, Достоевский, Л. Толстой, Вл.
Соловьев и вся революционная интеллигенция. Есть не только физическое,
во и духовное странничество. Оно есть невозможность успокоиться ни
на чем конечном, устремленность к бесконечному. Но это и есть
эсхатологическая устремленность, есть ожидание, что всему конечному
наступит конец, что окончательная правда откроется, что в грядущем
будет какое-то необычайное явление. Я назвал бы это мессианской
чувствительностью, одинаково свойственной людям из царода и людям высшей
культуры. Русские, в большей или меньшей степени сознательно или
бессознательно,— хилиасты. Западные люди гораздо более оседлые, более
прикреплены к усовершенствованным формам своей цивилизации, болев
дорожат своим настоящим, более обращены к благоустройству земли.
Они боятся бесконечности, как хаоса, и этим походят на древних
греков. Слово «стихия» с трудом переводимо на иностранные языки. Труд-
123
но дать имя, когда ослабела и почти исчезла самая реальность. Но
стихия есть исток, прошлое, сила жизни, зсхатологичность же есть
обращенность к грядущему, к концу вещей. В России эти две нити соединены.
2.
мне посчастливилось приблизительно около 10-го года этого столетия
прийти в личное соприкосновение с бродячей Русью, ищущей Бога и
Божьей правды. Я могу говорить об этом характерном для России
явлении не по книгам, а по личным впечатлениям. И могу сказать, что это —
одно из самых сильных впечатлений моей жизни. В Москве, в трактире
около церкви Флора и Лавра, одно время каждое воскресенье
происходили народные религиозные собеседования. Трактир этот тогда называли
«Яма». На этих собраниях, носивших народный стиль уже по
замечательному русскому языку, присутствовали представители самых
разнообразных сект. Тут были и бессмертники, и баптисты, и толстовцы,
и евангелисты разных оттенков, и хлысты, по обыкновению себя
скрывавшие, и одиночки — народные теософы. Я бывал на этих собраниях и
принимал активное участие в собеседованиях. Меня поражали
напряженность духовного искания, захваченность одной какой-нибудь идеей,
искание правды жизни, а иногда и глубокомысленный гнозис.
Сектантский уклон всегда означает сужение сознания, недостаток
универсализма, вытеснение сложного многообразия жизни. Но каким укором
официальному православию являлись эти народные богоискатели!
Присутствовавший православный миссионер был жалкой фигурой и производил
впечатление полицейского чиновника. Народные искатели Божьей правды
хотели, чтобы христианство осуществилось в жизни, они хотели
большей духовности в отношении к жизни, не соглашались на
приспособление к законам этого мира. Наибольший интерес представляла
мистическая секта бессмертников, которые утверждали, что верующий во
Христа никогда не умрет и что люди умирают только потому, что верят
в смерть и не верят в победу Христа над смертью. Я много говорил с
бессмертниками, они приходили ко мне, и я убедился, что переубедить
их невозможно. Они защищали какую-то часть истины, взятую не в
полноте, в исключительности. Некоторые народные богомудры имели целую
гностическую систему, напоминающую Я. Беме и других мистиков
гностического типа. Обычно силен был дуалистический элемент, мучила
трудность разрешить проблему зла. Но, как это нередко бывает,
дуализм парадоксально сочетался с монизмом. В X. губернии, рядом с
имением, в котором я много лет жил летом, была колония, основанная
одним толстовцем, замечательным человеком. В эту колонию стекались
искатели Бога и Божьей правды со всех концов России. Иногда они
проводили в этой колонии всего несколько дней и шли дальше, на
Кавказ. Все приезжающие бывали у меня, и мы вели духовные беседы,
иногда необыкновенно интересные. Было много добролюбовцев. Это —
последователи Александра Добролюбова, «декадентского» поэта, который ушел
в народ, опростился, стал учителем духовной жизни. С добролюбовцами
общение было трудно, потому что у них был обет молчания. Все
богоискатели обычно имели свою систему спасения мира и были беззаветно
ей преданы. Все считали этот мир, в котором приходилось жить, злым и
безбожным и искали иного мира, иной жизни. В отношении к этому
миру, к истории, к современной цивилизации настроение было
эсхатологическое. Этот мир кончается, в них начинается новый мир. Духовная
жажда была огромная, и так характерно было ее присутствие в русском
народе. То были русские странники. Вспоминаю простого мужика,
чернорабочего, еще очень юного, и беседы с ним. С ним мне легче было
говорить на духовные и мистические темы, чем с культурными людьми,
с интеллигенцией. Он описывал пережитый им мистический опыт, ко-
124 .
торый очень напоминает то, о чем писали Экхардт и Беме, о которых
он, конечно, не имел никакого понятия. Ему открылось рождение Бога
из тьмы. Я не представляю себе России и русского народа без этих
искателей Божьей правды. В России всегда было и всегда будет духовное
странничество, всегда была эта устремленность к конечному состоянию.
У русской революционной интеллигенции, исповедывавшей в
большинстве случаев самую жалкую материалистическую идеологию, казалось бы,
не может быть эсхатологии. Но так думают потому, что придают
слишком исключительное значение сознательным идеям, которые часто
затрагивают лишь поверхность человека. В более глубоком слое, не
нашедшем себе выражения в сознании, в русском нигилизме, социализме
была эсхатологическая настроенность и напряженность, была
обращенность к концу. Речь всегда шла о каком-то конечном совершенном
состоянии, которое должно прийти на смену злому, несправедливому,
рабьему миру. «Шигалев смотрел так, как будто ждал разрушения
мира... так-этак, послезавтра утром, ровно в двадцать пять минут
одиннадцатого». Тут Достоевский угадывает что-то очень существенное в
русском революционере. Русские революционеры, анархисты и
социалисты, были бессознательными хилиастами, они ждали тысячелетнего
царства. Революционный миф есть миф хилиастический. Русская натура
была наиболее благоприятна для его восприятия. Это русская идея, что
невозможно индивидуальное спасение, что спасение — коммюнотарно, что
все ответственны за всех. Отношение Достоевского к русским
революционерам-социалистам было сложное, двойственное. С одной стороны,
он писал против них почти пасквили. Но, с другой стороны, он говорит,
что бунтующие против христианства тоже суть Христова лика.
3.
Можно подумать, что у Л. Толстого нет эсхатологии, что его
религиозная философия, монистическая и близкая к индусской, не знает
проблемы конца мира. Но зто суждение остается на поверхности. Уход
Толстого из семьи перед смертью есть эсхатологический уход и полон
глубокого смысла. Он был духовным странником, он хотел им сделаться во
всей своей жизни, что ему не удавалось. Но странник устремлен к
концу. Он хотел выхода из истории, из цивилизации в природную
божественную жизнь. Это есть устремление к концу, к тысячелетнему царству.
Л. Толстой не был эволюционистом, который хотел бы постепенного
движения истории к вожделенному концу, к Царству Божьему. Он —
максималист и хочет срыва истории, прекращения истории. Он не хочет
продолжать жить в истории, которая покоится на безбожном законе
мира, он хочет жить в природе, смешивая падшую природу, подчиненную
злому закону мира не менее истории, с природой преображенной и
просветленной, природой божественной. Но эсхатологическая
устремленность Л. Толстого не подлежит сомнению. Он искал совершенной жизни.
Именно за искание совершенной жизни, за обличение жизни дурной и
грешной черная сотня и призывала к убийству Толстого. Этот гнойник
русского народа, осмеливавшийся называть себя союзом русского
народа, ненавидел все, что есть великого в русском народе, все творческое,
все, что свидетельствовало о высоком призвании русского народа в мире.
Крайние ортодоксы ненавидят и отвергают Л. Толстого потому, что он
был отлучен Синодом от церкви. Большой вопрос, можно ли было
признать Синод органом церкви Христовой и не был ли он скорее органом
царства кесаря. Отказаться от Льва Толстого значило отказаться от
русского гения, в конце концов, отказаться от русского призвания в
мире. Высокая оценка Толстого в истории русской идеи совсем не
означает принятия его религиозной философии, которую я считаю слабой и
неприемлемой с точки зрения христианского сознания. Оценка должна
быть связана с его личностью в целом, с его путем, его исканием, с его
критикой злой исторической действительности,^ грехов исторического
христианства, с его жаждой совершенной жизни. Л. Толстой
соприкасается с духовным движением в народной среде, о которой я говорил, и в
этом отношении он — единственный из русских писателей. Он, вместе с
совсем не похожим на него Достоевским, представляет русский гений на
его вершинах. О себе Л. Толстой, всю жизнь каявшийся, сказал гордые
слова: «Я такой, какой есть. А какой я, это знаю я и Бог». Но и нам
подобает узнавать, каков он.
Творчество Достоевского насквозь эсхатологично, оно интересуется
лишь конечным, лишь обращенным к концу. В Достоевском профетиче-
ский элемент сильнее, чем в каком-либо из русских писателей. Профе-
тическое художество его определялось тем, что он раскрывал
вулканическую почву духа, изображал внутреннюю революцию духа. Он
обозначал внутреннюю катастрофу, с него начинаются новые души. Вместе с
Ницше и Кирхегардом он открывает в XIX веке трагическое. В человеке
есть четвертое измерение. Это открывается обращением к конечному,
выходом из срединного существования, из общеобязательного, которое
получает название «всемства». Именно у Достоевского наиболее остро
русское мессианское сознание, оно гораздо острее, чем у славянофилов.
Ему принадлежат слова, что русский народ— народ-богоносец. Это
говорится устами Шатова. Но в образе Шатова обнаруживается и
двойственность мессианского сознания — двойственность, которая была уже у
еврейского народа. Шатов начал верить, что русский народ — народ-бо-
гоыосец, когда он в Бога еще не поверил. Для него русский народ
делается Богом, он — идолопоклонник. Достоевский обличает это с большой
силой, но остается впечатление, что в нем самом есть что-то шатовское.
Он, во всяком случае, верил в великую богонссную миссию русского
народа, верил, что русскому народу надлежит сказать свое новое слово в
конце времен. Идея конечного, совершенного состояния человечества,
земного рая играла огромную роль у Достоевского, и он раскрывает
сложную диалектику, связанную с этой идеей, это — все та же
диалектика свободы. «Сон смешного человека» и сон Версилова в «Подростке»
посвящены этой идее, от которой мысль Достоевского никогда не могла
освободиться. Он отлично понимал, что мессианское сознание —
универсально, говорил об универсальном призвании народа. Мессианизм ничего
общего не имеет с замкнутым национализмом, мессианизм размыкает,
а не замыкает. Поэтому Достоевский говорит в речи о Пушкине, что
русский человек—всечеловек, что в нем есть универсальная
отзывчивость. Призвание русского народа ставится в эсхатологическую
перспективу, и этим сознание это отличается от сознания идеалистов 30-ых и
40-ых годов. Эсхатологизм Достоевского выражается в пророчестве о
явлении человекобога. Образ Кириллова в этом отношении наиболее
важен, в нем предвосхищается Ницше и идея сверхчеловека. Кто победит
боль и страх, будет богом. Время «погаснет в уме». «Мир закончит тот»,
кому имя будет «человекобог». Атмосфера разговора Кириллова и Став-
рогина совершенно эсхатологическая, разговор идет о конце времен.
Достоевский писал не о настоящем, а о грядущем. «Бесы» написаны о
грядущем, скорее о нашем времени, чем о том времени. Пророчества
Достоевского о русской революции суть проникновение в глубину
диалектики с человеке,— человеке, выходящем за пределы
средне-нормального сознания. Характерно, что отрицательные пророчества оказались
более верными, чем положительные пророчества. Политические
пророчества были совсем слабы. Но интереснее всего, что самое христианство
Достоевского было обращено к грядущему, к новой завершающей эпохе
в христианстве. Профетизм Достоевского выводил его за пределы
исторического христианства. Старец Зосима был пророчеством о новом
старчестве, он совсем не походил на оптинского старца Амвросия, и од-
тинские старцы не признали его своим *. Алеша Карамазов был
пророчеством о новом типе христианина, и он мало походил на обычный тип
православия. И старец Зосима, и Алеша Карамазов менее удались, чем
Иван Карамазов и Дмитрий Карамазов. Это объясняется трудностью для
пророческого художества создавать образы. Но К. Леонтьев был прав,
когда говорил, что православие Достоевского не традиционное, не его
Еизактийско-монашеское православие, а новое, в которое входит гума-
нитаризм. Но только никак нельзя его назвать розовым, оно —
трагическое. Он думал, что восстание на Бога в человеке может происходить
от божественного в нем, от чувства справедливости, жалости и
достоинства. Достоевский проповедывал Иоанново христианство,— христианство
преображенной земли, религии воскресения прежде всего.
Традиционный старец не сказал бы того, что говорит старец Зосима: «Братья, не
бойтесь греха людей, любите человека и во грехе его... Любите все
создание Божье, и целое, и каждую песчинку. Каждый листок, каждый луч
Божий любите, любите животных, любите растения, любите всякую вещь.
Будем любить всякую вещь и тайну Божию постигать в вещах».
«Землю целуй и неустанно, ненасытно люби, всех люби, ищи восторга и
исступления сего». В Достоевском были зачатки новой христианской
антропологии и космологии, была новая обращенность к тварному миру,
чуждая святоотеческому православию. Черты сходства на Западе можно
было бы найти в св. Франциске Ассизском. Это обозначает уже переход
от христианства исторического к христианству эсхатологическому.
К концу XIX века в России возникли апокалиптические настроения,
связанные с чувством наступления конца мира и явления антихриста,
т. е. окрашенные пессимистически. Ожидали не столько новой
христианской эры и пришествия Царства Божьего, сколько царства антихриста.
Это было глубокое разочарование в путях истории и неверие в
существование еще исторических задач. Это был срыв русской идеи. Некоторые
склонны объяснять это ожидание конца мира предчувствием конца
русской империи, русского царства, которое почиталось священным.
Главными выразителями этих апокалиптических настроений были К.
Леонтьев и Вл. Соловьев. Апокалиптический пессимизм К. Леонтьева имел два
источника. Философия истории и социология К. Леонтьева, которая имела
биологическую почву, учили о неотвратимом наступлении дряхлости
всех обществ, государства и цивилизаций. Он связывал эту
дряхлость с либерально-эгалитарным прогрессом. Дряхлость для него
означала также уродство, гибель красоты, связанной с былым цветом культуры.
Эта социологическая теория, претендующая на научность, сочеталась у
пего с религиозной апокалиптической настроенностью. Огромное
значение в возникновении этих мрачных апокалиптических настроений имела
потеря веры в возможность еще в России оригинальной цветущей
культуры. Он всегда думал, что все непрочно и неверно на земле. К.
Леонтьев слишком натурализировал конец мира. Дух никогда и нигде не
является у него активным, у него нет свободы. Он никогда не верил в
русский народ, и оригинальных результатов он ждал совсем не от
русского народа, а от навязанных ему сверху византийских начал. Но
наступал момент, когда это неверие в русский народ делается острым и
безнадежным. Он делает страшное предсказание: «Русское общество,
и без того довольно эгалитарное по привычкам, помчится еще быстрее
всего другого по смертному пути всесмешения... и мы неожиданно из
наших государственных недр, сперва бессословных, а потом
бесцерковных или уже слабо церковных,—родим антихриста». Ни к чему
другому русский народ не способен. К. Леонтьев предвидел русскую
революцию и многое угадал в ее характере. Он предвидел, что революция будет
* Наибольшее влияние на Достоевского имел образ св. Тихона Задонского,
который был христианским гуманистом в стиле XVIII века.
127
сделана не на розовой воде, что в ней не будет свободы, свобода будет
совсем отменена и что для революции потребуются вековые инстинкты
повиновения. Революция будет социалистической, а не либеральной и не
демократической. Защитники свободы буду г сметены. Предсказывая
ужасную и жестокую революцию, К. Леонтьев вместе с тем сознает, что
вопрос об отношении между трудом и капиталом должен быть разрешен.
Он был реакционером, но он признавал безнадежность реакционных
принципов и неотвратимость революции. Он предвидел не только
русскую, но и мировую революцию. Это предчувствие неотвратимости
мировой революции принимает апокалиптическую форму, и она
представляется наступлением конца мира. «Антихрист идет!»,—восклицает К.
Леонтьев. Понимание Апокалипсиса было у него совершенно пассивное.
Человек не может ничего сделать, может лишь спасать свою душу. К.
Леонтьева эстетически привлекает этот апокалиптический пессимизм, ему
нравится, что на земле правда не восторжествует. У него не было
русской жажды всеобщего спасения, он совсем не был устремлен к
преображению человечества и мира. В сущности, ему была чужда идея
соборности и идея теократии. Он обличал Достоевского и Л. Толстого в
розовом христианстве, гумаыитаризме. Эсхатологизм К. Леонтьева носит
отрицательный характер и совсем не характерен для русской
эсхатологической идеи. Но ему нельзя отказать в остроте и радикализме мысли,
а часто и в исторической проницательности.
Под конец жизни настроение Вл. Соловьева очень меняется, оно
делается мрачно-апокалиптическим. Он пишет «Три разговора», в которых
есть скрытая полемика с Л. Толстым, и к ним прилагается «Повесть об
антихристе». Он окончательно разочаровывается в своей теократической
утопии, не верит более в гуманистический прогресс, не верит в свое
основное — в богочеловечество, или, вернее, идея богочеловечества для
него страшно суживается. Им овладевает пессимистический взгляд на
конец истории, который он чувствует приближающимся. В «Повести об
антихристе» Вл. Соловьев прежде все^о сводит счеты со своим
собственным прошлым, со своими теократическими и гуманитарными иллюзиями.
Это — прежде всего крах теократической утопии. Он не верит больше в
возможность христианского государства, неверие очень полезное и для
него, и для всех. Но он идет дальше, он не верит в исторические задачи
вообще. История кончается, и начинается сверх-история. Соединение
церквей, которое он продолжает желать, происходит за пределами
истории. По своим теократическим идеям Вл. Соловьев принадлежит
прошлому. Он от этого отжившего прошлого отказывается, но входит в
пессимистическую и апокалиптическую настроенность. Между теократической
идеей и эсхатологией существует противоположность. Теократия,
осуществленная в истории, исключает эсхатологическую перспективу, она
делает конец как бы имманентным самой истории. Церковь, понятая как
царство, христианское государство, христианская цивилизация
ослабляют искание Царства Божьего. Раньше у Вл. Соловьева было слабое
чувство зла. Теперь чувство зла делается преобладающим. Он ставит себе
очень трудную задачу начертать образ антихриста, он делает это не в
богословской и философской форме, а в форме повести. Это оказалось
возможным осуществить только благодаря шутливой форме, к которой
он так любил прибегать, когда речь шла о самом заветном и интимном.
Многих это шокировало, но шутливость эта может быть понята как
стыдливость. Я не разделяю мнения тех, которые чуть ли не выше всего
у Вл. Соловьева ставят «Повесть об антихристе». Она очень интересна,
и без нее нельзя было бы понять путь Вл. Соловьева. Но повесть
принадлежит к неверным и устаревшим толкованиям Апокалипсиса, в
которых слишком многое принадлежит времени, а не вечности. Это —
пассивная, не активная и не творческая эсхатология. Нет ожидания новой
эпохи Св. Духа. В начертании образа антихриста ошибочным является то,
128
что он изображается человеколюбцем, гуманитаристом, он осуществляет
социальную справедливость. Это как бы оправдывало самые
контрреволюционные и обскурантские апокалиптические теории. В
действительности, говоря об антихристе, вернее сказать, что он будет совершенно
бесчеловечен и будет соответствовать стадии крайней дегуманизации.
Более прав Достоевский, изображая антихристово начало прежде всего
враждебным свободе и презирающим человека. «Легенда о Великом
Инквизиторе» много выше «Повести об антихристе». Английский
католический писатель Бенсон написал роман, очень напоминающий «Повесть об
антихристе». Все это находится в линии, обратной движению к активно-
творческому пониманию конца мира. Учение Вл. Соловьева о богочело-
вечестве, доведенное до конца, должно бы привести к активной, а не
пассивной эсхатологии, к сознанию творческого призвания человека в
конце истории, которое только и сделает возможным наступление конца
мира и второе пришествие Христа. Конец истории, конец мира есть
конец богочеловеческий, он зависит и от человека, от человеческой
активности. У Вл. Соловьева не видно, каков же положительный результат
богочеловеческого процесса истории. Раньше он ошибочно представлял
себе его слишком эволюционным. Теперь он верно представляет себе
конец истории катастрофическим. Но катастрофизм не значит, что не
будет никакого положительного результата творческого дела человека
для Царства Божьего. Единственным положительным у Вл. Соловьева
является соединение церквей в лице папы Петра, старца Иоанна и
доктора Паулуса. Православие оказывается наиболее мистическим.
Эсхатология Вл. Соловьева все-таки прежде всего есть эсхатология суда. Это
один из эсхатологических аспектов, но должен быть другой. Совершенно
иное отношение к Апокалипсису Н. Федорова.
Н. Ф. Федоров при жизни был мало известен и оценен. Им особенно
заинтересовалось лишь наше поколение начала XX века *. Он был
скромный библиотекарь Румянцевского музея, живший на 17 рублей в
месяц, аскет, спавший на ящике, и вместе с тем противник
аскетического понимания христианства. Н. Федоров — характерно русский
человек, гениальный самородок, оригинал. При ндазни он почти ничего не
напечатал. После смерти друзья его напечатали в двух томах его
«Философию общего дела», которую раздавали даром небольшому кругу
людей, так как Н. Федоров считал недопустимой продажу книг. Это был
русский искатель всеобщего спасения. В нем достигло предельной
остроты чувство ответственности всех за всех,— каждый ответствен за весь
мир и за всех людей, и каждый должен стремиться к спасению всех и
всего. Западные люди легче мирятся с гибелью многих. Это, вероятно,
связано с ролью, которую играет справедливость в западном сознании.
Н. Федоров не был писателем по своему складу. Все, что он писал, есть
лишь «проект» всеобщего спасения. Временами он напоминает таких
людей, как Фурье. В нем сочетается фантазерство с практическим
реализмом, мистика — с рационализмом, мечтательность — с трезвостью.
Но вот что писали о нем самые замечательные русские люди. Вл.
Соловьев пишет ему: «Проект» ваш я принимаю безусловно и без всяких
оговорок. Со времени появления христианства ваш «проект» есть первое
движение вперед человеческого духа по пути Христову. Я с своей
стороны, могу только признать вас своим учителем и отцом духовным» **.
Л. Толстой говорил о Федорове: «Я горжусь, что живу в одно время с
подобным человеком». Очень высокого мнения о Федорове был и
Достоевский, который писал о нем: «Он (Федоров) слишком заинтересовал
* Одной из первых статей о Н. Федорове была моя статья «Религия
воскрешения» в «Русской Мысли».
** См. книгу В. А. Кожевникова- «Николай Федорович Федоров», очень
богатую материалами.
5 Вопросы философии, Nt 2 .$29
меня... В сущности, совершенно согласен с этими мыслями. Их я
принял как бы за свои». Что же за «проект» у Федорова, что за
необыкновенные мысли поразили самых гениальных русских людей? Н.
Федоров был единственный человек, чья жизнь импонировала Л. Толстому.
В основании всего миросозерцания Н. Федорова лежало печалование о
горе людей. И не было на земле человека, у которого была бы такая
скорбь о смерти людей, такая жажда возвращения их к жизни. Он
считал сынов виновными в смерти отцов. Он называл сынов блудными
сынами, потому что они забыли могилы отцов, увлеклись женами,
капитализмом и цивилизацией. Цивилизация строилась на костях отцов.
Истоки миросозерцания Н. Федорова родственны славянофильству. У него
есть идеализация патриархального строя, патриархальной монархии,
вражда к западной культуре. Но он выходит за пределы славянофилов,
и в нем есть совершенно революционные элементы — активность
человека, коллективизм, определяющее значение труда, хозяйственность,
высокая оценка позитивной науки и техники. В советский период внутри
России было течение федоровцев. И, как это ни странно, было некоторое
соприкосновение между учением Федорова и коммунизмом, несмотря на
его очень враждебное отношение к марксизму. Но вражда Федорова к
капитализму была еще большая, чем у марксистов. Главная его идея,
его «проект», связана с регуляцией стихийных сил природы, с
подчинением природы человеку. Вера в могущество человека идет у него дальше
марксизма, она более дерзновенна. Совершенно оригинально у него это
соединение христианской веры с верой в могущество науки и техники.
Он верил, что возвращение жизни всем умершим, активное воскрешение,
а не пассивное лишь ожидание воскресения, должно быть не только
христианским делом, внехрамовой литургией, но и делом
позитивно-научным, техническим. Есть две стороны в учении Н. Федорова — его
истолкование Апокалипсиса, гениальное и единственное в истории
христианства, и его «проект» воскрешения мертвых, в котором есть, конечно,
элемент фантастический. Но самое нравственное сознание его есть самое
высокое сознание в истории христианства.
У Н. Федорова были обширные знания, но культура его была скорее
естественно-научная, чем философская. Он очень не любил
философского идеализма, не любил гностических тенденций, которые были у Вл.
Соловьева. Он был моноидеистом, он целиком захвачен одной идеей —
идеей победы над смертью, возвращения жизни умершим. И в его образе
и образе его мыслей было что-то суровое. Память смертная, о которой
есть христианская молитва, у него всегда была, он жил и мыслил перед
лицом смерти, не его собственной, а других людей, всех умерших людей
за всю историю. Но суровость, не допускающая никакой игры
избыточных сил, была связана у него с оптимистической верой в возможность
окончательной победы над смертью, в возможность не только
воскресения, но и воскрешения, т. е. активного участия человека в деле
всеобщего восстановления жизни. Н. Федорову принадлежит совершенно
оригинальное истолкование апокалиптических пророчеств, которое можно
назвать активным, в отличие от обычного, пассивного истолкования. Ов
предлагает толковать апокалиптические пророчества как условные, чего
еще никогда не делалось. И, действительно, нельзя понимать конец
мира, о котором пророчествует Апокалипсис, как фатум. Это
противоречило бы христианской идее свободы. Фатальный конец, описанный в
Апокалипсисе, наступит как результат путей зла. Если заветы Христа
не будут исполнены людьми, то неотвратимо будет то-то. Но если
христианское человечество соединится для общего братского дела
победы над смертью и всеобщего воскресения, то оно может избежать
фатального конца мира, явления антихриста, страшного суда и ада. Тогда
человечество может непосредственно перейти в вечную жизнь.
Апокалипсис есть угроза человечеству, погруженному во зло, и он ставит
Ш
активную задачу перед человеком. Пассивное ожидание страшного конца
недостойно человека. Эсхатология Н. Федорова резко отличается от
эсхатологии Вл. Соловьева и К. Леонтьева, и правда на его стороне, ему
принадлежит будущее. Он — решительный враг традиционного
понимания бессмертия и воскресения. «Страшный суд есть только угроза для
младенствующего человечества. Завет христианства заключается в
соединении небесного с земным, божественного — с человеческим; всеобщее
же воскрешение, воскрешение имманентное, всем сердцем, всей мыслью,
всеми действиями, т. е. всеми силами и способностями всех сынов
человеческих совершаемое, и есть исполнение этого завета Христа — Сына
Божьего и вместе с тем сына человеческого». Воскрешение
противоположно прогрессу, который примиряется со смертью всех поколений.
Воскрешение есть обращение времени, активность человека в отношении к
прошлому, а не к будущему только. Воскрешение противоположно также
цивилизации и культуре, которые цветут на кладбищах и основаны на
забвении смерти отцов. Великим злом Н. Федоров считал
капиталистическую цивилизацию. Он — враг индивидуализма, сторонник религиозного
и социального коллективизма, братства людей. Общее христианское
дело должно начаться в России как стране, наименее испорченной
безбожной цивилизацией. Н. Федоров исповедывал русский мессианизм. Но
в чем же был этот таинственный «проект», который так поражал,
вызывал восторги одних и насмешки других? Это есть не более и не менее,
как проект избежания страшного суда. Победа над смертью, всеобщее
воскрешение не есть только дело Бога при пассивности человека, это
есть дело богочеловеческое, т. е. и дело коллективной человеческой
активности. Нужно признать, что в «проекте» Н. Федорова гениальное
прозрение в толковании апокалиптических пророчеств, необыкновенная
высота нравственного сознания, всеобщей ответственности всех за всех
соединяются с утопическим фантазерством. Автор проекта говорит, что
наука и техника могут способствовать воскрешению умерших, что
человек может окончательно овладеть стихийными силами природы,
регулировать природу и подчинить ее себе. Конечно, у него все время
это соединяется с воскрешающими религиозными силами, с верой в
Христово Воскресение. Но он все-таки рационализирует тайну смерти.
Оп недостаточно чувствовал значение креста, для него христианство
было исключительно религией воскресения. Он совсем не чувствует
иррациональность зла. В учении Федорова очень многое должно быть
удержано как входящее в русскую идею. Я не знаю более характерно
русского мыслителя, который должен казаться чуждым Западу. Он
хочет братства людей не только в пространстве, но и во времени, и верит
в возможность изменения прошлого. Но предложенные им
материалистические методы воскрешения не могут быть удержаны. Вопрос об
отношении духа к природному миру не был им до конца продуман.
Мессианизм был свойствен не только русским, но и полякам.
Страдальческая судьба Польши его обострила. Интересно сопоставить
русские мессианские и эсхатологические идеи с идеями величайшего
философа польского мессианизма Чешковского, который до сих пор
недостаточно еще оценен. Его главное четырехтомное сочинение «Notre Рёге»
построено в форме толкования молитвы Отче Наш *. Это есть
оригинальное толкование христианства в целом, но в особенности есть
христианская философия истории. Подобно славянофилам и Вл. Соловьеву,
Чешковский прошел через германский идеализм и испытал влияние
Гегеля. Но мысль его остается самостоятельной и творческой. Он хочет
остаться католиком, не порывает с католической церковью, но выходит
за пределы исторического католичества. Он более определенно, чем рус-
Издано по-французски. A. Ciezkowski- «Notre pere». 4 тома.
5* 131
ские мыслители, выражает религию Св. Духа. Он стремится к тому, что
называет Revelation de la Revelation5. Полное откровение Бога есть
откровение Духа Св. Бог и есть Дух Св., это Его настоящее имя. Дух
есть высшее. Все есть Дух и через Дух. Только в третьем откровении
Духа, полном и синтетическом, раскроется Св. Троица. Догмат
Троичности не мог быть еще открыт в Св. Писании. Только молчание о
Св. Духе считалось ортодоксальным, все остальное считалось
еретическим. Ипостаси Троицы — имена, образы, моменты откровения. У Чеш-
ковского люди очень ортодоксальные, вероятно, найдут уклон к савели-
анству. По мнению Чешковского, в ересях была частичная истина, но не
было полноты истины. Он пророчествует о наступлении новой эпохи
Св. Духа. Только параклетическая эпоха даст полное откровение. Вслед
за германским идеализмом, подобно Вл. Соловьеву, он утверждал
духовный прогресс, духовное развитие. Человечество не могло еще вместить
Св. Духа, не было еще достаточно зрело. Но время особенного действия
Духа Св. близится. Наступает духовная зрелость человека, когда он в
силах будет вместить откровение Св. Духа, исповедывать религию Духа.
Действие Духа распространится на все человечество. Дух объемлет душу
и тело. В эпоху Духа войдут также социальные и культурные элементы
человеческого прогресса. Чешковский настаивает на социальности
славянства. Он ждет откровения Слова в социальном акте. В этом сходство
с русской мыслью. Он проповедует Communaute du St. Esprit6.
Человечество будет жить во имя Параклета. «Отче Наш» — профетическая
молитва. Церковь не есть еще Царство Божье. Человек активен в создании
нового мира. Очень интересна мысль Чешковского, что мир действует на
Бога. Установление социальной гармонии внутри человечества, которая
будет соответствовать эпохе Св. Духа, приведет к абсолютной гармонии в
Боге. Страдание Бога есть признак Его святости. Чешковский прошел
через Гегеля и потому признает диалектическое развитие. Наступление
новой эпохи Св. Духа, который охватит всю социальную жизнь
человечества, он представляет себе скорее в форме развития, чем в форме
катастрофы. Не может быть новой религии, но может быть творческое
развитие вечной религии. Религия Св. Духа и есть вечная христианская
религия. Вера для Чешковского есть знание, принятое чувством. У него
есть много интересных философских мыслей, на которых я не могу
здесь останавливаться. Чешковский учит не столько о конце мира,
сколько о конце века, о наступлении нового зона. Время для него есть часть
вечности. Чешковекий был, конечно, большим оптимистом, он был
полон надежды на скорое наступление нового зона, хотя вокруг были
малоотрадные события. Этот оптимизм был свойствен его эпохе. Мы не
можем быть столь оптимистичны. Но это не мешает оценить значительность
его основных идей. Многие мысли его схожи с русскими мыслями,
с русскими христианскими упованиями. Чешковского у нас совсем не
знали, ни у кого нет ссылок на него, как и он не знал русской мысли.
Очевидно, сходство есть сходство общеславянское. В некоторых
отношениях я готов поставить мысль Чешковского выше мысли Вл. Соловьева,
хотя личность последнего была сложнее и богаче, в ней было больше
противоречий. Сходство было в том, что должна наступить новая эпоха
в христианстве, что предстоит новое излияние Св. Духа и что человек
будет в этом активен, а не пассивен. Апокалиптическая настроенность
ждет завершающего откровения. Церковь Нового Завета есть лишь
символический образ вечной Церкви.
4.
Три замечательных русских мыслителя — Вл. Соловьев, Н. Федоров
я В. Розанов высказали очень глубокие мысли о смерти и об
отношении между смертью и рождением. Это мысли разные, даже
противоположные. Более всего интересовала тема о победе вечной жизни над
132
смертью. Вл. Соловьев устанавливает противоположность между
перспективой вечной жизни для личности и перспективой родовой, в которой
рождение новой жизни ведет к смерти предшествующих поколений.
Смысл любви — в победе над смертью, и достижение вечной личной
жизни Н. Федоров также видит в связи между рождением и смертью.
Сыны рождаются, забывая о смерти отцов. Но победа над смертью
означает требование воскрешения отцов, обращение энергии рождающей в
энергию воскрешающую. В отличие от Вл. Соловьева, Н. Федоров — не
эротический философ. У В. Розанова — третья точка зрения. Об этом
необыкновенном писателе речь будет в следующей главе, сейчас скажу
только о его решении темы о смерти и рождении. Все творчество
Розанова есть апофеоз рождающей жизни. В родовом процессе,
порождающем все новую и новую жизнь, Вл. Соловьев и Н. Федоров видят
смертность, отравленность грехом. Розанов, наоборот, хочет
обоготворить рождающий пол. Рождение и есть победа над смертью, вечное
цветение жизни. Пол — свят, потому что он есть источник жизни,
антисмерть. Такое решение вопроса связано со слабым чувством и сознанием
личности. Рождение неисчислимого количества новых поколений не
может примирить со смертью хотя бы одного человека, Во всяком
случае, русская мысль глубоко задумалась над темой о смерти, о победе
над смертью, о рождении, о метафизике пола. Все три мыслителя
понимали, что тема о смерти и рождении есть тема о метафизической
глубине пола. У Вл. Соловьева энергия пола в любви-эросе перестает быть
рождающей и ведет к личному бессмертию, он — платоник; у Н.
Федорова энергия пола превращается в энергию, воскрешающую умерших
отцов; у В. Розанова, возвращающегося к юдаизму и язычеству, энергия
пола освящается как рождающая новую жизнь и этим побеждающая
смерть. Очень знаменательно, что в русской религиозности главное
значение имеет Воскресение. Это — существенное отличие от религиозности
западной, где Воскресение отходит на второй план. Для католической и
протестантской мысли проблема пола была исключительно проблемой
социальной и моральной, но не была проблемой метафизической и
космической, как была для мысли русской. Это объясняется тем, что Запад
был слишком замкнут в цивилизации, слишком социализирован,
христианство было слишком педагогическое. Самая тайна Воскресения была
не космической тайной, а догматом, потерявшим жизненное значение.
Тайна космической жизни была закрыта организованной социальностью.
Был, конечно, Я. Беме, который не впадал в организованную
социальность. Взятая в целом, западная мысль имеет бесспорно большее
значение для решения проблемы религиозной антропологии и религиозной
космологии. Но католическая и протестантская мысль в официальных
своих формах очень мало интересовалась этими проблемами во всей их
глубине, вне вопросов церковно-организационных и педагогически-води-
тельствующих. В православии не был органически усвоен греко-римский
гуманизм, преобладала аскетическая отрешенность. Но именно поэтому
на почве православия легче может раскрыться новое о человеке и
космосе. Также православие не имело такого активного отношения к
истории, какое имело западное христианство. Но, может быть, именно
поэтому оно будет иметь исключительное отношение к концу истории. В
русской православной религиозности всегда было скрыто эсхатологическое
ожидание.
В русском православии можно различить три течения, которые
могут переплетаться: традиционное монашески-аскетическое, связанное с
«Добротолюбием», космоцентрическое, узревающее божественные
энергии в тварном мире, обращенное к преображению мира, с ним связана
софиология, и антропоцентрическое, историософское, эсхатологическое,
обращенное к активности человека в природе и обществе. Первое
течение не ставит никаких творческих проблем, и в прошлом оно опирается
133
не столько на греческую патристику, сколько на сирийскую
аскетическую литературу. Второе и третье течения ставят проблемы о космосе
и человеке. Но за всеми этими различаемыми течениями скрыта общая
русская православная религиозность, выработавшая тип русского
человека с его недовольством этихМ миром, с его душевной мягкостью, с его
нелюбовью к могуществу этого мира, с его устремленностью к миру
иному, к концу, к Царству Божьему. Русская народная душа
воспитывалась не столько проповедями и доктринальным обучением, сколько
литургически и традицией христианского милосердия, проникшей в самую
глубину душевной структуры. Русские думали, что Россия — страна
совсем особенная, с особенным призванием. Но главным была не сама
Россия, а то, что Россия несет миру, прежде всего — братство людей и
свобода духа. Тут мы подходим к самому трудному вопросу. Русские
устремлены не к царству этого мира, они движутся не волей к власти и
могуществу. Русский народ по духовному своему строю не
империалистический народ, он не любит государство. В этом славянофилы были
правы. И вместе с тем это — народ-колонизатор, pi имеет дар колонизации,
и он создал величайшее в мире государство. Что это значит, как это
понять? Достаточно уже было сказано о дуалистической структуре
русской истории. То, что Россия так огромна, есть не только удача и благо
русского народа в истории, но также и источник трагизма судьбы
русского народа. Нужно было принять ответственность за огромность
русской земли и нести ее тяготу. Огромная стихия русской земли защищала
русского человека, но и сам он должен был защищать и устраивать
русскую землю. Получалась болезненная гипертрофия государства,
давившего народ и часто истязавшего народ. В сознании русской идеи,
русского призвания в мире произошла подмена. И Москва — Третий Рим,
и Москва — Третий Интернационал связаны с русской мессианской
идеей, но представляют ее искажение. Нет, кажется, народа в истории,
который совмещал бы в своей истории такие противоположности.
Империализм всегда был искажением русской идеи и русского призвания. Но
не случайно Россия так огромна. Эта огромность — провиденциальна,
и она связана с идеей и призванием русского народа. Огромность России
есть ее метафизическое свойство, а не только свойство ее эмпирической
истории. Великая русская духовная культура может быть свойственна
только огромной стране, огромному народу. Великая русская литература
могла возникнуть лишь у многочисленного народа, живущего на
огромной земле. Русская литература, русская мысль были проникнуты
ненавистью к империи, обличали ее зло. И вместе с тем предполагали
империю, предполагали огромность России. Это — противоречие, присуще©
самой духовной структуре России и русского народа. Огромность России
могла бы быть иной, не быть империей с се злыми сторонами, она могла
бы быть народным царством. Но оформление русской земли
происходило в тяжелой исторической обстановке, русская земля была
окружена врагами. Это было использовано злыми силами истории. Русская
идея сознавалась в разных формах в XIX веке. Но она находилась в
глубоком конфликте с русской историей, как она создавалась
господствующими в ней силами. В этом — трагизм русской исторической судьбы
к сложность нашей темы.
Глава X
ХХ-ый век: культурный ренессанс и коммунизм. Источники
культурного ренессанса. Пробуждение религиозного беспокойства в литературе.
Критический марксизм и идеализм. Религиозные искания среди
марксистов. Мережковский. Розанов. Обращение к ценностям духовной
культуры. Религиозно-философские собрания. Расцвет поэзии. Символизм.
Влияние Соловьева. Блок. Белый. В. Иванов. Шестов. Расцвет русской
религиозной философии. Религиозно-философское общество. Флоренский.
134
Булгаков. Бердяев. Трубецкой. Эрн. Лосский. Франк. Разрыв между
высшими культурными силами и революцией. Попытки сближения:
журнал «Вопросы жизни». Коммунизм как извращение русской мессианской
идеи. Итоги русской мысли XIX века: Русская идея.
1.
Только в начале XX века были оценены результаты русской мысли
XIX века и подведены итоги. Но самая проблематика мысли к началу
XX века очень усложнилась, и в нее вошли новые веяния, новые
элементы. В России в начале века был настоящий культурный ренессанс.
Только жившие в это время знают, какой творческий подъем был у нас
пережит, какое веяние духа охватило русские души. Россия пережила
расцвет поэзии и философии, пережила напряженные религиозные
искания, мистические и оккультные настроения. Как всегда и везде, к
искреннему подъему присоединилась мода, и было немало вранья. У нас
был культурный ренессанс, но неверно было бы сказать, что был
религиозный ренессанс. Для религиозного ренессанса не хватало сильной и
сосредоточенной воли, была слишком большая культурная утонченность,
были элементы упадочности в настроениях культурного слоя, и этот
высший культурный слой был слишком замкнут в себе. Поразительный
факт. Только в начале XX века критика по-настоящему оценила
великую русскую литературу XIX века, прежде всего Достоевского и Л.
Толстого. Духовная проблематика вершин русской литературы была усвоена,
ею прониклись, и вместе с тем произошло большое изменение, не
всегда благоприятное по сравнению с литературой XIX века. Исчезла
необыкновенная правдивость и простота русской литературы. Появились люди
двоящихся мыслей. Таков прежде всего Д. Мережковский; он имеет
несомненные заслуги в оценке Достоевского и Л. Толстого, которых
неспособна была оценить традиционная публицистическая критика. Но у
Мережковского нельзя уже найти этого необыкновенного правдолюбия
русской литературы, у него все двоится, он играет сочетаниями слов,
принимая их за реальности. То же нужно сказать про Вячеслава
Иванова и про всех почти. Но произошел один знаменательный факт —
изменение сознания интеллигенции. Традиционное миросозерцание левой
интеллигенции пошатнулось. Вл. Соловьев победил Чернышевского. Уже
во вторую половину 80-ых годов и в 90-ые годы это подготовлялось.
Было влияние философии Шопенгауэра и Л. Толстого. Начался интерес
к философии, и образовалась культурная философская среда. В этом
сыграл свою роль журнал «Вопросы философии и психологии» под
редакцией Н. Грота. Появились интересные философы метафизического
направления — кн. С. Трубецкой и Л. Лопатин. Изменилось эстетическое
сознание, и начали придавать большее значение искусству. Журнал
«Северный Вестник» с его редактором А. Волынским был одним из
симптомов этого изменения. Тогда же начали печататься Д. Мережковский,
Н. Минский, К. Бальмонт. Позже появились журналы культурно-ренес-
сансного направления — «Мир Искусства», «Весы», «Новый Путь»,
«Вопросы Жизни». В петровской императорской России не было целостного
стиля культуры, образовалась многопланность, разноэтажность, и русские
жили как бы в разных веках. В начале века велась трудная, часто
мучительная борьба людей ренессанса против суженности сознания
традиционной интеллигенции,— борьба во имя свободы творчества и во имя
духа. Русский духовно-культурный ренессанс был встречен очень
враждебно левой интеллигенцией, как измена традициям освободительного
движения, как измена народу, как реакция. Это было несправедливо уже
потому, что многие представители культурного ренессанса были
сторонниками освободительного движения и участвовали в нем. Речь шла об
освобождении духовной культуры от гнета социального утилитаризма. Но
изменение основ миросозерцания и новое направление нелегко даются.
Борьба шла в разных направлениях, по нескольким линиям. Наш
ренессанс имел несколько истоков и относился к разным сторонам культуры.
Ио по всем линиям нужно было преодолеть материализм, позитивизм,
утилитаризм, от которых не могла освободиться лево настроенная
интеллигенция. Это было вместе с тем возвратом к творческим вершинам
духовной культуры XIX века. Но беда была в том, что люди ренессанса
в пылу борьбы, из естественной реакции против устаревшего
миросозерцания часто недостаточно оценивали ту социальную правду, которая
была в левой интеллигенции и которая оставалась в силе. Все тот же
дуализм, та же расколотость продолжают быть характерными для
России. Это будет иметь роковые последствия для характера русской
революции, для ее духоборства. В нашем ренессансе элемент эстетический,
раньше задавленный, оказался сильнее элемента этического, который
оказался очень ослабленным. Но это означало ослабление воли,
пассивность. И это особенно неблагоприятно должно было отозваться на
попытках религиозного возрождения. Много дарований было дано русским
людям начала века. То была эпоха исключительно талантливая,
блестящая. Было много надежд, которые не сбылись. Ренессанс стоял не
только под знаком Духа, но и Диониса. И в нем смешался ренессанс
христианский с ренессансом языческим.
Духовный перелом, связанный с русским ренессансом, имел
несколько источников. Более широкое значение для интеллигенции имел
источник, связанный с марксизмом. Часть марксистов более высокой
культуры перешла к идеализму и в конце концов — к христианству. В
значительной степени отсюда вышла русская религиозная философия. Факт
этот может показаться странным и требует объяснения. Марксизм в
России был кризисом левой интеллигенции и разрывом с некоторыми ее
традициями. Он возник у нас во вторую половину 80-ых годов в
результате неудачи русского народнического социализма, который не мог
найти опоры в крестьянстве, и срыва партии Народной воли после убийства
Александра II. Старые формы революционного социалистического
движения казались изжитыми, и нужно было искать новых форм. За границей
возникает группа «Освобождения труда», которая кладет основы
русского марксизма, это: Г. В. Плеханов, Б. Аксельрод, В. Засулич. Марксисты
переоценивают народническую идею о том, что Россия может и должна
миновать период капиталистического развития, они — за развитие
капитализма в России, и не потому, что капитализм сам по себе — благо,
а потому, что развитие капитализма способствует развитию рабочего
класса, который и будет единственным в России революционным классом.
В деле освобождения на рабочий класс более можно опереться, чем на
крестьянство, которое, по Марксу, есть класс реакционный. Во вторую
половину 90-ых годов в России возникает сильное марксистское
движение, которое захватывает все более широкие круги интеллигенции.
Вместе с тем возникает и рабочее движение. В многочисленных кружках
происходят сражения марксистов и народников, и победа все более
склоняется на сторону марксистов. Возникают марксистские журналы.
Меняется душевный тип интеллигенции: марксистский тип более жесткий,
чем народнический. Первоначально марксизм был западничеством, по
сравнению со старым народничеством. В части марксистов второй
половины 90-ых годов очень повышается уровень культуры, особенно
культуры философской, пробуждаются более сложные культурные запросы,
происходит освобождение от нигилизма. Для старой народнической
интеллигенции революция была религией, отношение к революции было
тоталитарным, вся умственная и культурная жизнь была подчинена
освобождению народа, свержению самодержавной монархии. В конце
XIX века начался процесс дифференциации, высвобождения отдельных
сфер культуры от подчинения революционному центру. Философия ис-
136
та
кусства, духовная жизнь вообще объявляются свободными сферами. Но
мы увидим, что русский тоталитаризм в конце концов возьмет реванш.
От марксизма осталась широкая историософическая перспектива,
которая и была его главным обаянием. Во всяком случае на почве
марксизма, правда критического, а не ортодоксального, стало возможным
умственное и духовное движение, которое почти прекратилось в
староверческой народнической интеллигенции. Некоторые марксисты, оставаясь
верными марксизму в социальной сфере, с самого начала не соглашались
быть материалистами в философии, они были кантианцами или
фихтеанцами, т. е. идеалистами. Этим открывались новые возможности.
Марксисты более ортодоксального типа, державшиеся за материализм,
относились очень подозрительно к философскому свободомыслию и
предсказывали отпадение от марксизма. Получалось разделение на принимавших
марксизм тоталитарно и принимавших его лишь частично. Во второй
группе и произошел переход от марксизма к идеализму. Эта
идеалистическая стадия продолжалась недолго, и скоро обнаружилось движение к
религии, к христианству, к православию. К поколению марксистов,
пришедших к идеализму, принадлежали С. Булгаков, со временем ставший
священником, пишущий эти строки, П. Струве, наиболее политик из
этой группы, С. Франк. Все обратились к проблемам духовной культуры,
которая в предшествующих поколениях левой интеллигенции была
задавлена. Как участник движения могу свидетельствовать, что процесс этот
сопровождался большим подъемом. Раскрывались целые миры.
Умственная и духовная жажда была огромная. Прошло веяние Духа. Было
чувство, что начинается новая эра. Было движение к новому, небывшему.
Но был и возврат к традициям русской мысли XIX века, к
религиозному содержанию русской литературы, к Хомякову, к Достоевскому и
Вл. Соловьеву. Мы попали в необыкновенно творчески одаренную эпоху.
Был очень пережит Ницше, хотя и не всеми одинаково. Влияние Ницше
было основным в русском ренессансе начала века. Но тема Ницше
представлялась русским темой религиозной по преимуществу. Имел
значение также Ибсен. Но рядом с этим, как и в первую половину XIX века,
имел огромное значение германский идеализм, Кант, Гегель, Шеллинг.
Так образовывалось одно из течений, создавших русский ренессанс.
Другой источник ренессанса был по преимуществу литературный.
В начале века Д. С. Мережковский играл главную роль в пробуждении
религиозного интереса и беспокойства в литературе и культуре. Это —
литератор, до мозга костей живущий в литературе и словесных
сочетаниях и отражениях более, чем в жизни. У него — большой литературный
талант, он—необыкновенно плодовитый писатель, но он не был
значительным художником, его романы, представляющие интересное чтение,
свидетельствуют об эрудиции, имеют огромные художественные
недостатки, они проводят его идеологические схемы, и о них было сказано,
что это — смесь идеологии с археологией. Главные романы:
«Юлиан-Отступник», «Леонардо да Винчи», «Петр Великий» — посвящены теме
«Христос и антихрист». Мережковский пришел к христианству, но не к
традиционному и не к церковному христианству, к новому религиозному
сознанию. Главная его книга, которой он приобрел значение в истории
русской мысли, это — «Л. Толстой и Достоевский», в которой впервые
обращено достаточное внимание на религиозную проблематику двух
величайших русских гениев. Книга — блестящая, но испорченная
обычными недостатками Мережковского—риторикой, идеологическим
схематизмом, мутью двоящихся мыслей, преобладанием словесных сочинений
над реальностями. У Мережковского отсутствует нравственное чувство,
которое так сильно было у писателей и мыслителей XIX века. Он
стремится к синтезу христианства и язычества и ошибочно отожествляет его
с синтезом духа и плоти. Иногда остается впечатление, что он хочет
137
синтезировать Христа и антихриста. Христос и антихрист — его основная
тема. Возможность нового откровения в христианстве для него связана
с реабилитацией плоти и пола. Мережковский — символист, и «плоть»
оказывается для него символом и всей культуры и общественности. Его
нельзя понять без влияния на него В. В. Розанова. Последний —
гениальный писатель, его писательство было настоящей магией слов, и он очень
теряет от изложения его идей вне литературной формы. Он не сразу себя
обнаружил во весь свой рост. Его iictokpi —
славянофильски-консервативные и православные. Но не в этом его интерес. Писания его
приобретают захватывающий интерес, когда он начинает отступать от
христианства, делается острым критиком христианства. Он становится моноидеистом
и говорит про себя: «сам-то я бездарен, да тема моя талантлива». В
действительности он был очень талантлив, но талант его разворачивается на
талантливой теме. Это — тема пола, взятая как религиозная. Розанов
разделяет религии на религии рождения и религии смерти. Юдаизм,
большая часть языческих религий — религии рождения, апофеоз жизни,
христианство же есть религия смерти. Тень Голгофы легла на мир и
отравила радость жизни. Иисус заворожил мир, и в сладости Иисуса мир
прогорк. Рождение связано с полом. Пол — источник жизни. Если
благословлять и освящать жизнь и рождение, то должно благословлять и
освящать пол. Христианство в этом отношении остается двусмысленным.
Оно не решается осудить жизнь и рождение. Оно даже видит оправдание
брака, соединение мужа и жены в рождении детей. Но пола оно
гнушается и закрывает глаза на него. Розанов считает это лицемерием и
провоцирует христиан на решительный ответ. Он в конце концов приходит
к мысли, что христианство — враг жизни, что оно есть религия смерти.
Он не хочет видеть, что последнее слово христианства есть не распятие,
а Воскресение. Для него христианство не религия Воскресения, а
исключительно религия Голгофы. Никогда с таким радикализмом и такой
религиозной углубленностью не ставился вопрос о поле. Решение
Розанова было неверно, это означало или реюдаизацию христианства, или
возврат к язычеству, он хочет не столько преображения пола и плоти мира,
сколько их освящения такими, каковы они есть. Но постановка вопроса
была верной и была большой заслугой Розанова. У него было много
почитателей священников, которые его плохо понимали и думали, что
речь идет о реформе семьи. Вопрос об отношении христианства к полу
превратился в вопрос об отношении христианства к миру вообще и к
человечеству. Ставилась проблема религиозной космологии и
антропологии.
В 1903-ем году в Петербурге организуются религиозно-философские
собрания, на которых происходит встреча русской интеллигенции
верхнего культурного слоя с представителями православного духовенства.
На собраниях председательствовал ректор Петербургской Духовной
Академии епископ Сергий, потом Патриарх Московский. Из иерархов
церкви активную роль играл еще епископ Антонин, впоследствии
живоцерковник. Со стороны светской культуры выступали Д. Мережковский, В.
Розанов, Н. Минский, А. Карташов, изгнанный из Духовной Академии,
впоследствии министр исповеданий Временного правительства, апокалип-
тик и хилиаст В. Терыавцев, тогда чиновник особых поручений при обер-
прокуроре Св. Синода. Собрания были очень живыми и интересными,
новыми по общению людей разных, совершенно разобщенных миров и
по темам. Главную роль играл Д. Мережковский. Но темы были связаны
с Розановым. Его влияние означало, что преобладали темы о поле. То
была также тема об отношении христианства к миру и жизни.
Представители культуры допрашивали иерархов церкви, является ли
христианство исключительно аскетической, враждебной миру и жизни религией
или оно может освятить мир и жизнь. Так стала центральной тема об
отношении церкви к культуре и общественной жизни. Все, что говорили
представители светской культуры, предполагало возможность нового
христианского сознания, новой эпохи в христианстве. Это было трудно
допустить иерархам церкви, хотя бы и наиболее просвещенным. Для
представителей духовенства христианство давно стало повседневной
прозой, искавшие же нового христианства хотели, чтобы оно было
поэзией. Религиозно-философские собрания были интересны главным
образом своими вопрошениями, а не ответами. Верно было, что на почве
исторического христианства трудно, почти невозможно было решить вопросы
о браке, о справедливом устройстве общества, о культурном творчестве,
об искусстве. Некоторые участники собраний формулировали это как
ожидание нового откровения правды на земле. Мережковский связывал
с этим проблему плоти, но при этом слово «плоть» он употреблял в
философском неверном смысле. В исторической церковности б>ыло как раз
слишком много плоти, уплотненности и недостаточно духовности.
Розанов отталкивался от образа Христа, в котором видел вражду к жизни,
к рождению, но он любил быт православной церкви, видел в нем много
плоти. И новое христианство будет не более плотским, а более духовным.
Духовность же совсем не противоположна плоти, телу, а
противоположна царству необходимости, порабощеиности человека природным и
социальным порядком. В религиозно-философских собраниях отразилось
русское ожидание эпохи Св. Духа. Это ожидание принимало в России
разнообразные формы, иногда очень несовершенно выраженные. Но
всегда это характерно для России. Наиболее активный характер это
имело у Н. Федорова. Его мышление было очень социальным. Этого
нельзя сказать про участников религиозно-философских собраний. То
были прежде всего люди литературы, и у них не было ни теоретической,
ни практической подготовки для решения вопросов социального
порядка. Между тем они ставили вопросы о христианской общественности.
Мережковский говорил, что христианство не раскрыло тайны трех, т. е.
тайны общественности. В. Териавцев, который писал замечательную
книгу об Апокалипсисе, очень верил в Первую Ипостась, Отца, и Третью
Ипостась, Духа, но мрло верил во Вторую Ипостась, Сына. У всех была
религиозная взволнованность, религиозное брожение и искание, но не
было настоящего религиозного возрождения. Менее всего оно могло
возникнуть из литературных кругов, которым был присущ элемент
утонченной упадочности. Но религиозная тема, которая среди интеллигенции
долгое время была под запретом, была выдвинута на первый план. Было
очень bien vu 7 говорить на религиозные темы, это стало почти модным.
По свойствам русской души, деятели ренессанса не могли оставаться в
кругу вопросов литературы, искусства, чистой культуры. Ставились
последние вопросы. Вопросы о творчестве, о культуре, о задачах
искусства, об устройстве обществ, о любви и т. п. приобретали характер
вопросов религиозных. Эти вопросы — все тех же «русских мальчиков», но
ставших более культурными. Религиозно-философские собрания
существовали недолго, и такой встречи интеллигенции с духовенством уже не
повторилось. Да и сама интеллигенция этих собраний распалась на
разные направления. В начале века у нас было либеральное движение в
части духовенства, главным образом белого. Это движение было
враждебно епископату и монашеству. Но в нем не было глубоких
религиозных идей,— идей, выношенных в русской мысли. Сопротивление
официальной церкви было очень сильное, и церковная реформа, в которой
была нужда, не удалась. Поразительно, что на Соборе 17-го года, который
стал возможен только благодаря революции, не обнаружилось никакого
интереса к религиозным проблемам, мучившим русскую мысль XIX и
начала XX века. Собор занялся исключительно вопросами церковной
организации.
2.
Третье течение в русском ренессансе связано с расцвеюм русской
поэзии. Русская литература XX века не создала большого романа,
подобного роману XIX века, но создала очень замечательную поэзию. И эта
поэзия очень знаменательна для русского сознания, для истории русских
идейных трений. То была эпоха символизма. Александр Блок, самый
большой русский поэт начала века, Андрей Белый, у которого были
проблески гениальности, Вячеслав Иванов, человек универсальный, главный
теоретик символизма, и многие поэты и эссеисты меньшего размера, все
были символистами. Символисты сознавали себя новым течением и были
в конфликте с представителями старой литературы. Основным влиянием
на символистов было влияние Вл. Соловьева. Он так формулировал
сущность символизма в одном из своих стихотворений:
«Все, видимое нами,
Только отблеск, только тени
От незримого очами».
Символизм видит духовную действительность за этой видимой
действительностью. Символ есть связь между двумя мирами, знак иного
мира в этом мире. Символисты верили, что есть иной мир. Вера их
совсем не была догматической. Лишь один Вяч. Иванов, впоследствии
перешедший в католичество, был одно время очень близок к православию.
Вл. Соловьев сообщил символистам свою веру в Софию. Но характерно,
что символисты начала века, в отличие от Вл. Соловьева, верили в
Софию и ждали ее явления как Прекрасной Дамы, но не верили в Христа.
И это нужно определить как космическое прельщение, под которым
жило это поколение. Правда тут была в жажде красоты преображенного
космоса. А. Белый говорит в своих воспоминаниях: «символ «жены»
стал зарею для нас (соединением неба с землею), сплетаясь с учением
гностиков о конкретной премудрости, с именем новой музы, сливающей
мистику с жизнью» *. Влиял не дневной Вл. Соловьев с его
рационализированными богословскими и философскими трактатами, а Соловьев
ночной, выразившийся в стихах и небольших статьях, в сложившемся о
нем мифе. Наряду с Вл. Соловьевым влиял Ницше. Это было самое
сильное западное влияние на русский ренессанс. Но в Ницше
воспринято было не то, о чем больше всего писали о нем на Западе, не близость
его к биологической философии, не борьба за аристократическую расу
ее культуру, не воля к могуществу, а религиозная тема. Ницше
воспринимался как мистик и пророк. Из поэтов Запада, вероятно, наибольшее
значение имел Бодлер. Но русский символизм очень отличался от
французского. Поэзия символистов выходила за пределы искусства, и это
была очень русская черта. Период так называемого «декадентства» и
эстетизма у нас быстро кончился, и произошел переход к символизму,
который означал искания духовного порядка, и к мистике. Вл. Соловьев
был для Блока и Белого окном, из которого дул ветер грядущего.
Обращенность к грядущему, ожидание необыкновенных событий в грядущем
очень характерны для поэтов-символистов. Русская литература и поэзия
начала века носили профетический характер. Поэты-символисты со
свойственной им чуткостью чувствовали, что Россия летит в бездну, что
старая Россия кончается и должна возникнуть новая Россия, еще
неизвестная. Подобно Достоевскому, они чувствовали, что происходит
внутренняя революция. Русским людям культурного слоя XIX и XX века
свойственна быстрая смена поколений и настроений; постоянная распря
детей и отцов особенно характерна для России. А. Белый в своих воспо-
* Воспоминания А. Белого об А. Блоке, напечатанные в четырех томах
«Эпопеи»,— первоклассный материал для характеристики атмосферы ренессаысной эпохи,
во фактически в нем мною неточного.
140"
минаниях характеризует напряженность своего кружка
поэтов-символистов как ожидание зорь и как видение зорь. Ждали восхода солнца
Грядущего дня. Это было ожидание не только совершенно новой
коллективной символической культуры, но также и ожидание грядущей
революции. А. Белый называет «нашими» только тех, которые видели «зори» и
предчувствовали зоревое откровение. Это также была одна из форм
ожидания наступления эпохи Св. Духа. А. Белый блестяще характеризует
атмосферу, в которой возник русский символизм. Время было очень
замечательное. Но неприятна кружковщина, почти сектантство, молодых
символистов, резкое деление на «наших» и не наших, самоуверенность
и самоупоенность. Этому времени свойственна была взвинченность,
склонность к преувеличениям, раздувание иногда незначительных
событий, недостаточная правдивость с собой и другими. Так, необычайные,
почти космические размеры приобретала распря Белого с Блоком, хотя
за ней скрыты чувства, в которых ничего космического не было. Жена
Блока одно время играла роль Софии, она была Прекрасной Дамой.
В этом было что-то неправдивое и неприятное, была игра с жизнью, ко-
торая вообще была свойственна той эпохе. В значительной степени от
Вл. Соловьева получил Блок культ Прекрасной Дамы, которой посвящен
целый том его стихов. Разочарование в Прекрасной Даме он выразил в
«Балаганчике». Негодование Белого против якобы измены Блока и
петербургской литературы символическому искусству преувеличено и не
вполне правдиво, так как за этим было скрыто что-то личное. По
воспоминаниям Белого, самое лучшее впечатление производит Блок. В нем
было больше простоты, правдивости, было меньше вранья, чем у других.
Белый был сложнее и многообразнее по своим дарованиям, чем Блок, он
был не только поэтом, но и замечательным романистом, он любил
философствовать и стал впоследствии антропософом. Он написал толстую
книгу о символизме, который обосновал при помощи философии Риккер-
та. Он был у нас единственным замечательным футуристом. В очень
оригинальном романе «Петербург» человек и космос разлагаются на
элементы, исчезает целостность вещей и границы, отделяющие одно от
другого; человек может переходить в лампу, лампа — в улицу, улица
проваливается в космическую бесконечность. В другом романе изображается
утробная жизнь до рождения. Блок, в отличие от Белого, не пленяется
никакими теориями. Он — исключительно лирический поэт, величайший
поэт начала века. У него было сильное чувство России, и стихи,
посвященные России,— гениальны. У Блока было предчувствие, что на Россию
надвигается что-то страшное.
«Развязаны дикие страсти
Под игом ущербной луны...
Я вижу над Русью далече
Широкий и тихий пожар».
В изумительном стихотворении «Россия» он вопрошает, кому
отдастся Россия и что от этого произойдет.
«Какому хочешь чародею
Отдай разбойную красу,
Пускай заманит и обманет,
Не пропадешь, не сгинешь ты,
И лишь забота затуманит
Твои прекрасные черты».
Но наиболее замечательно его стихотворение «Скифы». Это
стихотворение пророческое, посвященное теме Востока и Запада.
»ф ©Е
141
«Мильоны — вас. Нас — тьмы, и тьмы, и тьмы.
Попробуйте, сразитесь с нами!
Да, скифы — мы! Да, азиаты — мы,
С раскосыми и жадными очами...
Россия — Сфинкс. Ликуя и скорбя,
И обливаясь чериой кровью,
Она глядит, глядит, глядит в тебя,
И с ненавистью, и с любовью...
Да, так любить, как любит наша кровь,
Никто из вас давно не любит!..
Мы любим все - и жар холодных числ,
И дар божественных видений,
Нам внятно все - и острый галльский смысл,
И сумрачный германский гений...
Вот строчки, очень жуткие для людей Запада, которые могут
оправдывать беспокойство, которое вызывает Россия:
«Виновны ль мы — коль хрустнет ваш скелет
В тяжелых, нежных наших лапах?».
В заключение — обращение к Западу:
«В последний раз - опомнись, старый мир!
На братский пир труда и мира,
В последний раз на светлый братский пир
Сзывает варварская лира».
Тут с необыкновенной остротой поставлена тема о России и Европе,
основная тема русского сознания XIX века. Она не поставлена в
категориях христианских, но христианские мотивы остаются. Можно было бы
сказать, что мироощущение поэтов-символистов стояло под знаком
космоса, а не Логоса. Поэтому космос поглощает у них личность; ценность
личности была ослаблена: у них были яркие индивидуальности, но слабо
выражена личность. А. Белый даже сам говорил про себя, что у него
нет личности. В ренессансе был элемент антиперсоналистический.
Языческий космизм, хотя и в очень преображенной форме, преобладал над
христианским персонализмом.
Вячеслав Иванов был самой характерной и блестящей фигурой
ренессанса. Он не принадлежал к группе молодых поэтов, увидевших зори.
В то время он был за границей. Он был учеником Моммзена, написал
по-латински диссертацию о налогах в Риме. Это был человек западной
образованности, очень больших знаний, которых не было у Блока и у
Белого. На него влияли главным образом Шопенгауэр, Р. Вагнер,
Ницше; из русских — Вл. Соловьев, которого он знал лично. Наиболее
близок он к Р. Вагнеру. Стихи он начал писать поздно. Поэзия его трудная,
ученая, пышная, полная выражений, взятых из церковно-славянского
языка, требующая комментариев. Он не исключительно поэт, он — также
ученый филолог, лучший русский эллинист, блестящий эссеист, учитель
поэтов, он — и теолог, и философ, и теософ. Человек универсальный,
синтетического духа. В России он был человеком самой утонченной
культуры. Такого и на Западе не было. Ценила его главным образом
культурная элита, для более широких кругов он был недоступен. Это не только
блестящий писатель, но и блестящий causeur8. Co всеми он мог говорить
на тему их специальности. Его идеи по видимости менялись. Он был
консерватором, мистическим анархистом, православным, оккультистом,
патриотом, коммунистом и кончает свою жизнь в Риме католиком, и до-
вольно правым. Но в своих постоянных изменениях он, в сущности,
всегда оставался самим собой. В жизни этого шармера было много игры.
Приехав из-за границы, он привез с собой религию Диониса, о которой
написал замечательную и очень ученую книгу. Он хотел не только
примирить, но и почти отожествить Диониса и Христа. Вяч. Иванов, как и
Мережковский, вносил много язычества в свое христианство, и это было
характерно для ренессанса начала века. Поэзия его также хотела быть
дионистической, но в ней нет непосредственного стихийного дионисизма,
дионисизм у него надуманный. Проблема личности была ему чужда.
Вяч. Иванов имел склонность к оккультизму, который вообще процветал
в России около 10 г. нашего века. Как в конце XVII 1-го и начале
XIX-го века, у нас искали в эти годы настоящего розенкрейцерства,
искали то у Р. Штейнера, го в разных тайных обществах. Но большее
утончение культуры делало это течение менее правдивым и наивным, чем
в начале XIX века. Вяч. Иванов был человеком многосоставным и мно-
гопланным, и он мог оборачиваться разными своими сторонами. Он был
насыщен великими культурами прошлого, особенно греческой культурой,
и жил их отражениями. Он частью проповедывал взгляды почти
славянофильские, но такая гиперкультурность, такая упадочная утонченность
была не русской в нем чертой. В нем не было того искания правды, той
простоты, которые пленяли в литературе XIX века. Но в русской
культуре должны были быть явлены и образы утонченности и культурного
многообразия. Вячеслав Иванов останется одним из самых
замечательных людей начала века, человеком ренессансным по преимуществу.
Во всем противоположен Вяч. Иванову был Л. Шестов, один из самых
оригинальных и замечательных мыслителей начала XX века. В отличие
от Вяч. Иванова, Л. Шестов был моноидеистом, человеком одной темы,
которая владела им целиком и которую он вкладывал во все написанное
им. Это был не эллин, а иудей. Он представляет Иерусалим, а не
Афины. Вышел он из Достоевского, Л. Толстого и Ницше. Его тема связана
с судьбой личности, единичной, неповторимой, единственной. Во имя этой
единичной личности он борется с общим, с универсальным, с
общеобязательной моралью и общеобязательной логикой. Он хочет стать по ту
сторону добра и зла. Самое возникновение добра и зла, самое их различие
есть грехопадение. Познание с его общеобязательностью, с порождаемой
им необходимостью есть рабство человека. Будучи философом, он
борется против философии, против Сократа, Платона, Аристотеля, против
Спинозы, Канта, Гегеля. Его герои это немногие люди, пережившие
потрясения, это — Исайя, ап. Павел, Паскаль, Лютер, Достоевский, Ницше,
Кирхегардт. Тема Шестова — религиозная. Это тема о неограниченных
возможностях для Бога. Бог может сделать однажды бывшее небывшим,
может сделать, что Сократ не был отравлен. Бог не подчинен ни добру,
ни разуму, не подчинен никакой необходимости. Грехопадение для
Шестова не онтологическое, а гносеологическое, оно связано с
возникновением познания добра и зла, т. е. с возникновением общего,
общеобязательного, необходимого. У Достоевского особенное значение он придает
«Запискам из подполья». Он хочет философствовать как подпольный
человек. Опыт потрясения выводит человека из царства обыденности,
которому противоположно царство трагедии. Шестов противополагает древу
познания добра и зла древо жизни. Но он всегда был гораздо сильнее в
отрицании, чем в утверждении, которое было у него довольно бедно.
Ошибочно считать его психологом. Когда он писал о Ницше,
Достоевском, Л. Толстом, Паскале, Кирхегардте, то он интересовался не столько
ими, сколько своей единственной темой, которую он вкладывал в них. Он
был прекрасный писатель, и это скрадывало недостатки его мысли.
Пленяет в нем независимость мысли; он никогда не принадлежал ни к каким
течениям, не подвергался влиянию духа времени. Он стоял в стороне от
основного русла русской мысли. Но Достоевский связывал его с основ-
143.
ными русскими проблемами, прежде всего с проблемой конфликта
личности и мировой гармонии. Под конец жизни он встретился с Кирхе-
гардтом, с которым имел большое родство. Л. Шестов является
представителем своеобразной экзистенциальной философии. Книги его переведены
на иностранные языки, и его ценят. Но нельзя сказать, чтобы его верно
понимали. Во вторую половину жизни он Есе более и более обращался к
Библии. Религиозность, к которой он шел, была скорее библейская, чем
евангельская. Но он чувствовал родство с Лютером, которого он
оригинально сближал с Ницше (по ту сторону добра и зла). Главное для Ше-
стова была вера, противополагаемая знанию. Он искал веры, но он не
выразил сахмой веры. Фигура Л. Шестова очень существенна для
многообразия русского ренессанса начала века.
3.
Около 1908 года в России образовалось религиозно-философское
общество в Москве по инициативе С. Н. Булгакова, в Петербурге — по моей
инициативе, в Киеве — по инициативе профессоров Духовной Академии.
Религиозно-философское общество сделалось центром
религиозно-философской мысли и духовных исканий. В Москве общество называлось
«Памяти Вл. Соловьева». Это общество отражало нарождение в России
оригинальной религиозной философии. Для них характерна была
большая свобода мысли, несвязанность школьными традициями. Мысль была
не столько богословской, сколько религиозно-философской. Это
характерно для России. На Западе существовало резкое разделение между
богословием и философией, религиозная философия была редким явлением,
и ее не любили ни богословы, ни философы. В России в начале века
философия, которая очень процветала, приобретала религиозный характер,
и исповедание веры обосновывалось философски. Философия совсем не
ставилась в зависимость от богословия и от церковного авторитета, она
была свободна, но внутренне зависела от религиозного опыта.
Религиозная философия охватывала все вопросы духовной культуры и даже все
принципиальные вопросы социальной жизни. Религиозно-философские
общества первоначально имели большой успех, публичные заседания с
докладами и прениями очень посещались, посещались и людьми, которые
имели умственные и духовные интересы, но не специально религиозно-
христианские. В Москве центральной фигурой религиозно-философского
общества был С. Н. Булгаков, тогда еще не священник. Произошло
соединение с течениями XIX века, главным образом с Хомяковым, Вл.
Соловьевым, Достоевским. Началось искание истинного православия. Его
пытались найти в Св. Серафиме Саровском, любимом святом той эпохи,
и в старчестве. Обратились также к греческой патристике. Но в
религиозно-философском обществе участвовали также такие люди, как В.
Иванов. Участвовали и антропософы. Русская религиозная философия
подготовлялась с разных концов. Очень характерной фигурой ренессанса был
отец Павел Флоренский. Это был разнообразно одаренный человек. Он —
математик, физик, филолог, богослов, философ, оккультист, поэт. Натура
очень сложная и не прямая. Он вышел из кружка Свентицкого и Эрна,
которые одно время пытались соединить православие с революцией. Но
постепенно он делался все более и более консервативным и в профессуре
Московской Духовной Академии был представителем правого крыла.
Впрочем, его консервативность и правость носили не столько
реалистический, сколько романтический характер. В то время это часто случалось.
П. Флоренский сначала окончил математический факультет Московского
университета и подавал большие надежды в качестве математика. После
духовного кризиса он поступает в Московскую Духовную Академию,
делается профессором Академии и хочет стать монахом. По совету старца
он не делается монахом, а лишь священником. В то время многие люди
144
из интеллигенции принимают священство — П. Флоренский, С. Булгаков,
С. Соловьев, С. Дурылин и др. Это было желание войти в глубь
православия, приобщиться к его тайне. П. Флоренский был человеком
утонченной культуры, и в нем был элемент утонченной упадочности. В нем
совсем нет простоты и прямоты, нет ничего непосредственного, он все
время что-то прикрывает, много говорит нарочно и представляет интерес
для психологического анализа. Я характеризовал его православие как
стилизованное православие *. Он — стилизатор во всем. Он — эстет, в этом
он — человек своей эпохи, человек, равнодушный к моральной стороне
христианства. В русской православной мысли в первый раз появляется
такая фигура. Этот реакционер по эстетическому чувству во многом
является новатором в богословии. Его блестящая книга «Столп и утверждение
истины» произвела большое впечатление в некоторых кругах и на
многих имела влияние, например, на С. Н. Булгакова, человека совсем
другой формации и иного душевного склада. Книга П. Флоренского по
своей музыке производит впечатление падающих осенних листьев. В
ней разлита меланхолия осени. Написана она в форме писем к другу.
Ее можно было бы причислить к типу экзистенциальной философии.
Наиболее ценна в книге ее психологическая сторона, особенно глава об
9
Положительна также борьба с рационализмом в богословии и
философии и защита аытияомичности. П. Флоренский хочет, чтобы
богословие было духовно-опытным. Мысль его все же нельзя назвать
творческим словом в христианстве. Он — слишком стилизатор, слишком хочет
быть традиционным и ортодоксальным. Но по душевному складу своему
он все-таки новый человек, человек своего времени, даже известных
годов начала XX века. Он слишком понимал движение Духа как реакцию,
а не как движение вперед. Но он ставит проблемы нетрадиционные.
Такова прежде всего проблема Софии — Премудрости Божией. Самая эта
проблема не традиционно-богословская, сколько бы Флоренский ни
пытался опереться на учителей церкви. Постановка проблемы Софии
означает уже иное отношение к космической жизни, к тварному миру.
Развитие темы о Софии и ее богословское оформление будут принадлежать
о. С. Булгакову. Но о. П. Флоренский давал первые толчки. Он говорил
враждебно и даже пренебрежительно о «новом религиозном сознании»,
но он все-таки слишком производит впечатление современника Д.
Мережковского, В. Иванова, А. Белого, А. Блока, Особенно близко он себя
чувствует к Розанову. Он равнодушен к теме о свободе и потому
равнодушен к моральной теме. Он погружен в магическую атмосферу.
Характерно, что в книге, которая представляет целую богословскую систему,
хотя и не в систематической форме, почти совсем нет Христа. П.
Флоренский старается скрыть, что он живет под космическим прельщением
и что человек у него подавлен. Но как русский религиозный мыслитель
он тоже по-своему ждет новой эпохи Духа Св. Выражает он это с
большими опасениями, так как книга его была диссертацией для Духовной
Академии и он стал ее профессором и священником. Во всяком случае,
П. Флоренский — интересная фигура годов русского ренессанса.
Но центральной фигурой в движесши русской мысли к православию
был С. Булгаков. Он был в молодости марксистом, профессором
политической экономии в Политехническом институте. Происходит он из
духовного звания, предки его были священниками, первоначально учился
он в духовной семинарии. В нем была глубоко заложенная православная
основа. Он никогда не был ортодоксальным марксистом, в философии
был не материалистом, а кантианцем. Пережитый им перелом он
выразил в книге «От марксизма к идеализму». Он первый в этом течении
* Моя статья в «Русской Мысли» о книге П. Флоренского «Столп и
утверждение истины» называлась «Стилизованное православие».
£ ВОПРОСЫ фИЛОСОфИИ, № 2 ^/с
делается христианином и православным. В известный момент основное
влияние на него имел Вл. Соловьев. Его интересы от вопросов
экономических переходят к вопросам философским и богословским. По складу
своему он всегда был догматиком. В 1918-ом году он делается
священником. Высланный из Советской России в 1922-ом году с группой ученых
и писателей, он делается профессором догматического богословия в
Париже в Православном богословском институте. Уже в Париже он
создает целую богословскую систему под общим заглавием: «О Богочеловече-
стве». Первый том называется «Агнец Божий», второй том —
«Утешитель», 3-й том — «Невеста Агнца». Еще до войны 1914-го г. он изложил
свою религиозную философию в книге «Свет Невечерний». Я не
собираюсь излагать идеи о. С. Булгакова. Он — современник. Укажу только
самые общие черты. Его направление называют софиологическим, и его
софиология вызывает резкие нападки право-ортодоксальных кругов. Он
хочет дать отвлеченно-богословское выражение русским софиологическим
исканиям. Он хочет быть не философом, а богословом, но в его
богословии есть много философских элементов, и для его мысли большое
значение имеют Платон и Шеллинг, Он остается представителем русской
религиозной философии. Он остается верен основной русской идее Богоче-
ловечества. Богочеловечество есть обожение твари. Богочеловечество
осуществляется через Духа Св. Софиологическая тема есть тема о
Божественном и тварном мире. Это есть тема прежде всего
космологическая, которая интересовала русскую религиозную мысль более, чем
западную. Нет абсолютного разделения между Творцом и творением. Есть
предвечная нетварная София в Боге, мир платоновских идей, через нее
наш мир сотворен,— и есть София тварная, проникающая в творение.
0<тец> С. Булгаков называет свою точку зрения панентеизмом (термин
Краузе), в отличие от пантеизма. Можно было бы это назвать также
панпневматизмом. Происходит как бы сошествие Духа Св. в космос.
Панпневматизм вообще характерен для русской религиозной мысли.
Наибольшее затруднение для софиологии связано с проблемой зла,
которая и недостаточно поставлена, и не разрешена. Это — система
оптимистическая. Основной оказывается не идея свободы, а идея Софии. София
есть Вечная Женственность Божья, что вызывает наибольшие нарекания.
Самая проблема о. С. Булгакова имеет большое значение, и она
недостаточно разрешена в христианстве. Ее постановка указывает на творческую
мысль в русском православии. Но критику вызывает неясность
определения того, что такое София. Софией оказывается и Св. Троица, и каждая
из Ипостасей Св. Троицы, и космос, и человечество, и Божья Матерь.
Является вопрос, не происходит ли слишком большое умножение
посредников. 0<тец> С. Булгаков решительно возражает против
отожествления Софии с Логосом. Неясно, что должно быть отнесено к откровению,
что — к богословию и что — к философии, неясно также, какую
философию нужно считать обязательно связанной с православным богословием.
Неясно, как примирить эсхатологическую перспективу с
софиологическим оптимизмом. Происходит отожествление церкви с Царством
Божьим, что противоречит эсхатологическому ожиданию. Я не разделяю со-
фиологического направления, но очень ценю у о. С. Булгакова движение
мысли в православии, постановку новых проблем. Философия его не
принадлежит к типу экзистенциальному. Он — объективист и универсалист,
в своей первооснове — платоник, он слишком верит в богопознание через
понятие, катафатический элемент слишком преобладает над апофатиче-
ским. Как и все представители русской религиозно-философской мысли,
он устремлен к новому, к царству Духа, но остается неясным, в какой
мере он признает возможность нового, третьего откровения. 0<тец>
С. Булгаков — одно из течений русской религиозной мысли, главным
образом сосредоточенных на теме о божественности космоса. Самой
большой правдой его остается его вера в божественное начало в человеке.
146 '
Он — горячий защитник всеобщего спасения. В этом смысле его мысль
противоположна томизму и особенно бартианству, а также —
традиционно-православному монашески-аскетическому богословию.
Сам я принадлежу к поколению русского ренессанса, участвовал в его
движении, был близок с деятелями и творцами ренессанса. Но во многом
я расходился с людьми того замечательного времени. Я являюсь одним
из создателей образовавшейся в России религиозной философии. Я не
собираюсь излагать свои философские идеи. Кто интересуется, может
познакомиться с ними по моим книгам. Очень важные для меня книги
написаны уже за границей, в эмиграции, т. е. выходят за пределы ренес-
сансной эпохи, о которой я пишу. Но я считаю полезным для
характеристики многообразия нашей ренессансной эпохи определить черты
отличия меня от других, с которыми я иногда действовал вместе.
Своеобразие моего миросозерцания было выражено в моей книге «Смысл
творчества. Опыт оправдания человека», написанной в 1912— 1913-ом гг.
Это был Sturm und Drang 10. Книга была посвящена основной теме моей
жизни и моей мысли — теме о человеке и его творческом призвании.
Мысль о человеке как о творце была потом развита в моей книге «О
назначении человека. Опыт парадоксальной этики», изданной уже на
Западе,— лучше развита, но с меньшей страстью. Меня не без основания
называли философом свободы. Тема о человеке и о творчестве связана с
темой о свободе. Такова была моя основная проблематика, которую часто
плохо понимали. Большое значение для меня имел Я. Беме, которого я
в известный момент моей жизни с энтузиазмом читал. Из чистых
философов я более других обязан Канту, хотя во многом расхожусь с
кантианством. Но первоначальное определяющее значение для меня имел
Достоевский. Позже имел значение Ницше и особенно Ибсен. В моем
отношении к неправде окружающего мира, неправде истории и цивилизации
в очень ранней молодости большое значение для меня имел Л. Толстой,
а потом — К. Маркс. Моя тема о творчестве, близкая ренессансной эпохе,
но не близкая большей части философов того времени, не есть тема о
творчестве культуры, о творчестве человека з «науках и искусстве», это
тема более глубокая, метафизическая, тема о продолжении человеком
миротворения, об ответе человека Богу, который может обогатить самую
божественную жизнь. Мои взгляды на поверхности могли меняться,
главным образом в зависимости от моих иногда слишком острых и страстных
реакций на то, что в данный момент господствовало, но я всю жизнь был
защитником свободы духа и высшего достоинства человека. Моя мысль
ориентирована антропоцентркчно, а не космоцентрично. Все мной
написанное относится к философии истории и этике, я более всего — историо-
соф и моралист, может быть, теософ в смысле христианской теософии
Фр, Баадера, Чешковского или Вл. Соловьева. Меня называли
модернистом, и это верно в том смысле, что я верил и верю в возможность новой
эпохи в христианстве — эпохи Духа, которая и будет творческой эпохой.
Для меня христианство есть религия Духа. Более верно назвать мою
религиозную философию эсхатологической. И я в течение долгого времени
пытаюсь усовершенствовать мое понимание эсхатологии. Мое понимание
христианства — эсхатологическое, и я противополагаю его христианству
историческому. Понимание же эсхатологии у меня активно-творческое,
а не пассивное. Конец этого мира, конец истории зависит и от
творческого акта человека. Вместе с тем я раскрывал трагедию человеческого
творчества, которая заключается в том, что есть несоответствие между
творческим замыслом и творческим продуктом; человек творит не новую
жизнь, не новое бытие, а культурные продукты. Основной философской
проблемой для меня является проблема объективации, которая основана
на отчуждении, потере свободы и личности, подчинении общему и
необходимому. Моя философия — резко персоналистическая, и по ставшей
модной ныне терминологии ее можно назвать экзистенциальной, хотя и
6* 147
совсем в другом смысле, чем, например, философию Гейдеггера. Я не
верю в возможность метафизики и теологии, основанных на понятиях,
и совсем не хочу строить онтологии. Бытие есть лишь объективизация
существования. Бог-Отец, Бог-Сын, Бог-Дух — образы и символы
невыразимого Божества, и это имеет огромное экзистенциальное значение.
Метафизика есть лишь символика духовного опыта, она — экспрессиони-
стична. Откровение Духа есть откровение духовности в человеке. Я
утверждаю дуализм мира феноменального, который есть мир объективации
и необходимости, и мира нуменалыюго, который есть мир подлинной
жизни и свободы. Этот дуализм преодолим лишь эсхатологически. Моя
религиозная философия не монистическая, и я пе могу быть назван
платоником, как о. С. Булгаков, о. П. Флоренский, С. Франк и др. Более
всего я сопротивляюсь тому, что можно назвать ложным объективизмом
и что ведет к подчинению индивидуального общему. Человек, личность,
свобода, творчество, эсхатологически-мессианское разрешение дуализма
двух миров — таковы мои основные темы. Социальная проблема у меня
играет гораздо большую роль, чем у других представителей русской
религиозной философии, я близок к тому течению, которое на Западе
называется религиозным социализмом, но социализм этот — решительно
персоналистический. Во многом, и иногда очень важном, я оставался
и остаюсь одинок. Я представляю крайнюю левую в русской релрггиозной
философии ренессаисной эпохи, но связи с православной Церковью не
теряю и не хочу терять.
К религиозно-философскому течению начала века принадлежали
также кн. Е. Трубецкой и В. Эрн. Кн. Е. Трубецкой был близок к Вл.
Соловьеву и был активным участником московского
религиозно-философского общества. Направление его было более академическое. Наибольший
интерес представляет его «Мировоззрение Владимира Соловьева», с
ценной критикой. Мировоззрение самого Е. Трубецкого прошло через
немецкий идеализм, но он хочет быть православным философом. Он очень
критически относится к софиологическому направлению о. П.
Флоренского и С. Булгакова, видит в нем уклон к пантеизму. В. Эрн, который
не успел вполне себя выразить, так как рано умер, наиболее был близок
к софиологии о. П. Флоренского и о. С. Булгакова. Вся его критика,
часто несправедливая, была направлена главным образом против
немецкой философии, которая делалась особенно популярной в кругах русской
философской молодежи. Русский ренессанс был также ренессансом
философским. Никогда, кажется, не было еще у нас такого интереса к
философии. Образовывались философские кружки, в которых была
интенсивная философская жизнь. Наиболее замечательными представителями
чистой философии были Н. Лосский и С. Франк, которые создали
оригинальные философские системы, которые можно назвать идеал-реализмом.
Самая их манера философствовать более напоминала немецкую. Но
направление их было метафизическое, когда в Германии еще
господствовало враждебное метафизике неокантианство. Н. Лосский создал
своеобразную форму интуитивизма, которую можно было бы назвать критическим
восстановлением наивного реализма. Он не вышел из философии Канта,
Фихте, Шеллинга, Гегеля. Его истоки другие, близкие к Лейбницу, Лот-
це, Козлову. С. Франк ближе к классическому германскому идеализму.
Он, подобно Вл. Соловьеву, хочет создать философию всеединства. Сам
он называет себя продолжателем Плотина и Николая Кузанского,
особенно последнего. В общем, его философия принадлежит к платоновскому
течению русской философии. Его книга «Предмет знания» — очень
ценный вклад в русскую философию. Много позже в Германии Н. Гартман
будет защищать точку зрения, близкую к С. Франку. И Н. Лосский,
и С. Франк в конце концов переходят к христианской философии и
входят в общее русло нашей религиозно-философской мысли начала века.
Основная тема русской мысли начала XX века есть тема о божественном
14$!
космосе и о космическом преображении, об энергиях Творца в творениях;
тема о божественном в человеке, о творческом призвании человека и
смысле культуры; тема эсхатологическая, тема философии истории.
Русские мыслили о всех проблемах по существу, как бы стоя перед тайной
бытия, западные же люди, отягченные своим прошлым, мыслили о всех
проблемах слишком в культурных отражениях, т. е. в русской мысли
было больше свежести и непосредственности. И можно установить что-то
общее между богоискательством в народной среде и богоискательством в
верхнем слое интеллигенции.
И все-таки нужно признать, что был разрыв между интересами
высшего культурного слоя ренессанса и интересами революционного
социального движения в народе и в левой интеллигенции, не пережившей
еще умственного и духовного кризиса. Жили в разных этажах культуры,
почти что в разных веках. Это имело роковые последствия для
характера русской революции. Журнал «Вопросы жизни», редактированный
мной и С. Н. Булгаковым, пытался соединить разные течения. То было
время первой малой революции, и журнал мог просуществовать только
год. Политически журнал был левого, радикального направления, но он
впервые в истории русских журналов соединял такого рода социально-
политические идеи с религиозными исканиями, метафизическим
миросозерцанием и новыми течениями в литературе. Это была попытка
соединения бывших марксистов, ставших идеалистами и двигающихся к
христианству, с Мережковским и символистами, частью с представителями
академической философии идеалистического и спиритуалистического
направления и с публицистами радикального направления. Синтез был
недостаточно органическим и не мог быть прочным. То было очень
интересное и напряженное время, когда для наиболее культурной части
интеллигенции раскрывались новые миры, когда души освобождались для
творчества духовной культуры. Наиболее существенно, что появились
души, которые вышли из замкнутого имманентного круга земной жизни
и повернулись к трансцендентному миру. Но это произошло лишь в части
интеллигенции, большая часть ее продолжала жить старыми
материалистическими и позитивистическими идеями, враждебными религии,
мистике, метафизике, эстетике и новым течениям в искусстве, и такую
установку считали обязательной для всех, кто участвует в освободительном
движении и борется за социальную правду. Я вспоминаю яркий образ
разрыва и раскола в русской жизни. У Вячеслава Иванова на «башне» —
так называлась его квартира на углу самого верхнего этажа высокого
дома против Таврического дворца — по средам в течение нескольких лет
собиралась культурная элита: поэты, романисты, философы, ученые,
художники, актеры. На «Ивановских средах» читались доклады, велись
самые утонченные споры. Говорили не только на литературные темы, но и
на темы философские, религиозные, мистические, оккультические.
Присутствовал цвет русского ренессанса. В это же время внизу, в
Таврическом дворце и вокруг, бушевала революция. Деятели революции совсем
не интересовались темами «Ивановских сред», а люди культурного
ренессанса, спорившие по средам на «башне», хотя и не были консерваторами
и правыми, многие из них даже были левого направления и готовы были
сочувствовать революции, но большинство из них было асоциально и
очень далеко от интересов бушевавшей революции. Когда в 1917-ом году
победили деятели революции, то они признали деятелей культурного
ренессанса своими врагами и низвергли их, уничтожив их творческое дело.
Вина тут лежала на обеих сторонах. У деятелей ренессанса,
открывавших новые миры, была слабая нравственная воля и было слишком много
равнодушия к социальной стороне жизни, Деятели же революции жили
отсталыми и элементарными идеями. В этом отличие от французской
революции. Деятели французской революции жили передовыми идеями
того времени, идеями Ж.-Ж. Руссо, просветительной философией XVIII в.
149
Деятели русской революции жили идеями Чернышевского, Плеханова,
материалистической и утилитарной философией, отсталой тенденциозной
л^ературой, они не интересовались Достоевским, Л. Толстым, Вл.
Соловьевым, не знали новых движений зап. культуры. Поэтому революция
была у нас кризисом и утеснением духовной культуры. Воинствующее
безбожие коммунистической революции обьясияется не только
состоянием сознания коммунистов, очень сушенного и зависящего от разного рода
ressentiments и, но и историческими грехами православия, которое не
выполняло своей миссии преображения жизни, поддерживая строй,
основанный на неправде и гнете. Христиане должны сознать свою вину, а не
только обвинять противников христианства и посылать их в ад.
Враждебна христианству и всякой религии не социальная система коммунизма,
которая более соответствует христианству, чем капитализм, а лже-рели-
гия коммунизма, которой хотят заменить христианство. Но лже-религия
коммунизма образовалась потому, что христианство не исполняло своего
долга и было искажено. Официальная церковь заняла консервативную
позицию в отношении к государству и социальной жизни и была рабски
подчинена старому режиму. Некоторое время после революции 1917-го
года значительная часть духовенства и мирян, почитавших себя
особенно православными, была настроена контрреволюционно, и только позже
появились священники нового типа. Церковной реформы и обновления
церковной жизни творческими идеями XIX века и начала XX века не
произошло. Официальная церковь жила в замкнутом мире, сила инерции
была в ней огромна. Это тоже было одно из проявлений разрыва и
раскола, проходившего через всю русскую жизнь.
4.
К 1917-му году, в атмосфере неудачной войны, все созрело для
революции. Старый режим сгяил и не имел приличных защитников. Пала
священная русская империя, которую отрицала и с которой боролась целое
столетие русская интеллигенция. В народе ослабели и подверглись
разложению те религиозные верования, которые поддерживали
самодержавную монархию. Из официальной фразеологии «православие,
самодержавие и народность» исчезло реальное содержание, фразеология :->та
стала неискренней и лживой; В России революция либеральная,
буржуазная, требующая правового строя, и была утопией, не соответствующей
русским традициям и господствовавшим з России революционным идеям.
В России революция могла быть только социалистической. Либеральное
движение было связано с Государственной Думой и кадетской партией.
Но оно не имело опоры в народных массах и лишено было
вдохновляющих идей. По русскому духовному складу, революция могла быть только
тоталитарной. Все русские идеологии были всегда тоталитарными,
теократическими или социалистическими. Русские — максималисты, и
именно то, что представляется утопией, в России наиболее реалистично. Как
известно, слово «большевизм» произошло от большинства на съезде
социал-демократической партии в 1903-ем году, слово же «меньшевизм» —
от меньшинства этого съезда. Слово «большевизм» оказалось отличным
символом для русской революции, слово же «меньшевизм» — негодным.
Для русской левой интеллигенции революция всегда была и религией,
и философией, революционная идея была целостной. Этого не понимали
более умеренные направлееия. Очень легко доказать, что марксизм есть
совершенно неподходящая идеология для революции в земледельческой
стране, с подавляющим преобладанием крестьянства, с отсталой
промышленностью и с очень немногочисленным пролетариатом. Но символика
революции — условна, ее не нужно понимать слишком буквально.
Марксизм был приспособлен к русским условиям и русифицирован. Мессиан-
150
екая идея марксизма, связанная с миссией пролетариата, соединилась и
отожествилась с русской мессианской идеей. В русской коммунистической
революции господствовал не эмпирический пролетариат, а идея
пролетариата, миф о пролетариате. Но коммунистическая революция, которая и
была настоящей революцией, была мессианизмом универсальным, она
хотела принести всему миру благо и освобождение от угнетения. Правда,
она создала самое большое угнетение и уничтожила всякую свободу, но
делала это* искренно думая, что это — временное средство, необходимое
для осуществления высшей цели. Русские коммунисты, продолжавшие
себя считать марксистами, вернулись к некоторым народническим идеям,
господствовавшим в XIX веке, они признали возможным для России
миновать капиталистическую стадию развития и прямо перескочить к
социализму. Индустриализация должна происходить иод знаком
коммунизма, и она происходит. Коммунисты оказались ближе к Ткачеву, чем к
Плеханову и даже чем к Марксу и Энгельсу. Они отрицают демократию,
как отрицали многие народники. Вместе с тем они практикуют
деспотические формы управления, свойственные старой России. Они вносят
изменения в марксизм, который должен быть приведен в соответствие с
эпохой пролетарских революций, которой еще не знал Маркс. Ленин был
замечательным теоретиком и практиком революции. Это был характерно
русский человек с примесью татарских черт. Ленинисты экзальтировали
революционную волю и признали мир пластическим, годным для любых
изменений со стороны революционного меньшинства. Они начали
утверждать форму диалектического материализма, в которой исчезает
детерминизм, раньше столь бросавшийся в глаза в марксизме, почти исчезает и
материя, которой приписываются духовные качества — возможность
самодвижения изнутри, внутренняя свобода и разумность. Произошла также
острая национализация Советской России и возвращение ко многим
традициям русского прошлого. Ленинизм-сталинизм не есть уже
классический марксизм. Русский коммунизм есть извращение русской
мессианской идеи. Он утверждает свет с Востока, который должен просветить
буржуазную тьму Запада. В коммунизме есть своя правда и своя ложь.
Правда — социальная, раскрытие возможности братства людей и
народов, преодоление классов, ложь же — в духовных основах, которые
приводят к процессу дегуманизации, к отрицанию ценности всякого
человека, к сужению человеческого сознания, которое было уже в русском
нигилизме, Коммунизм есть русское явление, несмотря на марксистскую
идеологию. Коммунизм есть русская судьба, момент внутренней судьбы
русского народа. И изжит он должен быть внутренними силами русского
народа. Коммунизм должен быть преодолен, а не уничтожен. В высшую
стадию, которая наступит после коммунизма, должна войти и правда
коммунизма, но освобожденная от лжи. Русская революция пробудила и
расковала огромные силы русского народа. В этом ее главный смысл.
Советская конституция 1936-го года создала самое лучшее в мире
законодательство о собственности. Личная собственность признается, но в
форме, не допускающей эксплоатации* Назрел новый душевный тип с
хорошими и плохими чертами. Но свободы человека все еще нет.
При всей разорванности русской культуры и противоположности
между революционным движением и ренессансом между ними было что-
то общее. Дионистическое начало прорывалось и там и там, хотя в
разных формах. Я называю русским ренессансом тот творческий подъем,
который у нас был в начале века. Но он не походил на большой
европейский ренессанс по своему . характеру. Позади его не было
средневековья, позади была пережитая интеллигенцией эпоха просвещения.
Русский ренессанс вернее сравнить с германским романтизмом начала
XIX века, которому тоже предшествовала эпоха просвещения. Но в
русском движении того времени были специфически русские черты, которые
связаны с русским XIX веком. Это прежде всего религиозное беспокой-
15*
ство и религиозное искание, это — постоянный переход в философии за
границы философского познания, в поэзии — за границы искусства, в
политике — за границы политики в направлении эсхатологической
перспективы. Все протекало в мистической атмосфере. Русский ренессанс не был
классическим, он был романтическим, если употреблять эту условную
терминологию. Но романтизм этот был иной, чем на Западе, в нем была
устремленность к религиозному реализму, хотя этот реализм и1 не
достигался. В России не было той самодовольной замкнутости в культуре,
которая так характерна для Западной Европы. Несмотря на западные
влияния, особенно Ницше, хотя и по-особенному понятого, влияния зап.
символистов, была устремленность к русскому самосознанию. В эту эпоху
было написано уже цитированное стихотворение А. Блока «Скифы».
Только в ренессансную эпоху стал нам по-настоящему близок
Достоевский, полюбили поэзию Тютчева и оценили Вл. Соловьева. Но вместе с
тем было преодолено нигилистическое отрицание XIX века. Русское
революционное движение, русская устремленность к новой социальности
оказались сильнее культурно-ренессансного движения; движение
опиралось на поднимающиеся снизу массы и было связано с сильными
традициями XIX века. Культурный ренессанс был сорван и его творцы
отодвинуты от переднего плана истории, частью принуждены были уйти в
эмиграцию. Некоторое время торжествовали самые поверхностные
материалистические идеи, и в культуре произошел возврат к старому
рационалистическому просвещению. Социальный революционер был
культурным реакционером. Но все это, свидетельствуя о трагической судьбе
русского народа, совсем не означает, что весь запас творческой энергии
и творческих идей пропал даром и не будет иметь значения для
будущего. Но так совершается история. Она протекает в разнообразных
психических реакциях, в которых то суживается, то расширяется сознание.
Многое то уходит в глубину, исчезая с поверхности, то опять поднимается
вверх и выражает себя во-вне. Так будет и у нас. Происшедший у нас
разгром духовной культуры есть только диалектический момент в судьбе
русской духовной культуры и свидетельствует о проблематичности
культуры для русских. Все творческие идеи прошлого вновь будут иметь
оплодотворяющее значение. Духовная жизнь не может быть угашена,
она — бессмертна. В эмиграции реакция против революции создала и
реакционную религиозность. Но явление это — незначительно в свете
более далеких перспектив.
Русская мысль, русские искания начала XIX века и начала XX века
свидетельствуют о существовании русской идеи, которая соответствует
характеру и призванию русского народа. Русский народ — религиозный
по своему типу и по своей душевной структуре. Религиозное
беспокойство свойственно и неверующим. Русские атеизм, нигилизм, материализм
приобретали религиозную окраску. Русские люди из народного, трудового
слоя, даже когда они ушли от православия, продолжали искать Бога и
Божьей правды, искать смысла жизни. Русским чужд рафинированный
скептицизм французов, они — верующие и тогда, когда исповедуют
материалистический коммунизм. Даже у тех русских, которые не только не
имеют православной веры, но даже воздвигают гонение на православную
церковь, остается в глубине души слой, формированный православием.
Русская идея — эсхатологическая, обращенная к концу. Отсюда русский
максимализм. Но в русском сознании эсхатологическая идея принимает
форму стремления ко всеобщему спасению. Русские люди любовь ставят
выше справедливости. Русская религиозность носит соборный характер.
Христиане Запада не знают такой коммюнотарности, которая свойственна
русским. Все это — черты, находящие свое выражение не только в рели-
152
гиозных течениях, но и в течениях социальных. Известно, что главный
праздник русского православия есть праздник Пасхи. Христианство
понимается прежде всего как религия Воскресения. Если брать православие
не в его официальной, казенной, извращенной форме, то в нем больше
свободы, больше чувства братства людей, больше доброты, больше
истинного смирения, меньше властолюбия, чем в христианстве западном. За
внешним иерархическим строем русские в последней глубине всегда
были анти-иерархичны, почти анархичны. У русского народа нет той
любви к историческому величию, которым так пленены народы Запада.
Народ, обладающий величайшим в мире государством, не любит
государства и власти и устремлен к иному. Немцы давно уже построили теорию,
что русский народ —• народ женственный и душевный, в
противоположность мужественному и духовному немецкому народу. Мужественный
дух немецкого народа должен овладеть женственной душой русского
народа. С этой теорией связывалась и соответственная практика. Вся
теория построена для оправдания германского империализма и германской
воли к могуществу. В действительности русский народ всегда был
способен к проявлению большой мужественности, и он это докажет и доказал
уже германскому народу. В нем было богатырское начало. Русские
искания носят не душевный, а духовный характер. Всякий народ должен
быть муже-женственным, в нем должно быть соединение двух начал.
Верно, что в германском народе есть преобладание мужественного
начала, но это скорее уродство, чем качество, и это до добра не доводит. Эти
суждения имеют, конечно, ограничительное значение. В эпоху немецкого
романтизма проявилось и женственное начало. Но верно, что германская
и русская идеи — противоположны. Германская идея есть идея
господства, преобладания, могущества, русская же идея есть идея коммюнотар-
ности и братства людей и народов. В Германии всегда был резкий
дуализм между ее государством и милитаристическим и завоевательным
духом и ее духовной культурой, огромной свободой ее мысли. Русские
очень много получили от германской духовной культуры, особенно от ее
великой философии, но германское государство есть исторический враг
России. В самой германской мысли есть элемент нам враждебный,
особенно в Гегеле, в Ницше и, как это ни странно, в Марксе. Мы должны
желать братских отношений с германским народом, который сотворил
много великого, но при условии его отказа от воли к могуществу. Воле
к могуществу и господству должна быть противопоставлена
мужественная сила защиты. У русских моральное сознание очень отличается от
морального сознания западных людей, это сознание более христианское.
Русские моральные оценки определяются по отношению к человеку, а не
к отвлеченным началам собственности, государства, не к отвлеченному
добру. У русских иное отношение к греху и преступлению, есть жалость
к падшим, униженным, есть нелюбовь к величию. Русские менее
семейственны, чем западные люди, но безмерно более коммтонотарны. Они
ищут не столько организованного общества, сколько общности, общения,
и они мало педагогичны. Русский парадокс заключается в том, что
русский народ гораздо менее социализирован, чем народы Запада, но и
гораздо более коммюнотарен, более открыт для общения. Возможна мутация
и резкие изменения под влиянием революции. Это возможно и1 в
результате русской революции. Но Божий замысел о народе остается тот же,
и дело усилий свободы человека — оставаться верным этому замыслу.
Есть какая-то индстермиыированность в жизни русского человека,
которая мало понятна более рационально детерминированной жизни
западного человека. Но эта индетерминированпость открывает много
возможностей. У русских нет таких делений, классификаций, группировок по
разным сферам, как у западных людей, есть большая цельность. Но это
же создает и трудности, возможность смешений. Нужно помнить, что
природа русского человека очень поляризованная. С одной стороны —
153
смирение, отречение; с другой стороны — бунт, вызванный жалостью и
требующий справедливости. G одной стороны — сострадательность,
жалостливость; с другой стороны — возможность жестокости; с одной
стороны — любовь к свободе, с другой — склонность к рабству. У
русских — иное чувство земли, и самая земля иная, чем у Запада. Русским
чужда мистика расы и крови, но очень близка мистика земли. Русский
народ, по своей вечной идее, не любит устройства этого земного града к
устремлен к Граду Грядущему, к Новому Иерусалиму, но Новый
Иерусалим не оторван от огромной русской земли, он с ней связан, и она в
него войдет. Для Нового Иерусалима необходима коммюнотарность,
братство людей, и для этого необходимо еще пережить эпоху Духа Св.,
в которой будет новое откровение об обществе. В России это
подготовлялось.
ПРИМЕЧАНИЯ
1 Благовоспитанный молодой человек (фр.).
2 Я мыслю, следовательно, существую (лат.).
3 С кафедры (лат.).
4 Преодоление, снятие (нем.).
5 Откровение откровения (фр.).
6 Общество Св. Духа (фр.).
7 Хорошим тоном (фр.).
8 Собеседник (фр.)\
9 Буря и натиск (нем.).
10 Снятие, вынесение за скобки (греч.).
11 Неприятие (фр,).
НАУЧНЫЕ СООБЩЕНИЯ
И ПУБЛИКАЦИИ
«Чудная страна» Константина Аксакова
10 января 1840 года Виссарион Белинский, молодой критик «Отечественных
записок», недавно переехавший из Москвы в Петербург, писал своему другу
Константину Аксакову, неистовому московскому гегельянцу: «Я привез с собою в Питер
твою статью о Шиллере и отдал Краевскому. Так как для «Литературной газеты»
она велика и серьезна, под отделы «Отечественных записок» не подходит, то
Кр(аевский) и хотел ее поместить в «Смеси» I № и отослал в типографию, но
получил обратно с уведомлением, что ни один наборщик не в состоянии разобрать
в ней ни единой буквы» *.
Дружеские отношения Белинского и К. Аксакова, завязавшиеся в конце
1830-х годов, вскоре прервались: уже в 1841 г. Белинский в ряде статей выступил
против зарождающегося славянофильства (к которому примкнул К. Аксаков)
и тогда же «раздражительным» письмом (25-28 июля) 2 прекратил и без того
скудную переписку. А еще через год разгорелась ожесточенная полемика былых
приятелей по поводу «Мертвых душ» Н. В. Гоголя 3.
Упоминаемая Белинским статья так и не появилась в «Отечественных
записках». Не была она напечатана и позже. Более того: никакой «статьи о Шиллере*
у К. Аксакова, вероятно, и не было,- во всяком случае, ничего подобного не
упоминается в обширной переписке Аксаковых. Речь здесь, думается, идет о другой
статье, на первых страницах которой действительно упоминается и даже
цитируется Шиллер,- о большой работе под названием «О некоторых современных
собственно литературных вопросах».
Эту статью Аксаков начал писать в конце 1838-начале 1839 г.,
возвратившись в Москву после известной «поездки в чужие край». Об этом
свидетельствует письмо его к братьям от 5 декабря 1838 г.: «Наблюдатель» будет выходить
большими книжками, как «Библиотека», и в первом номере будет моя
философическая статья, которая вам известна, только не знаю, всю ли я вам читал ее.
Я начал еще одну, не знаю, как-то она вытанцуется, говоря выражением нашего
великого Гоголя»4. «Философическая статья», которую имеет в виду Аксаков,—
это помещенная в первом номере «Московского наблюдателя» статья «О грамматике
вообще (по поводу грамматики г. Белинского)»5. Она была начата еще весной
1838 е. (до отъезда за границу) и окончена, как свидетельствует помета в
рукописи, 2 августа 1838 года в Люцерне6; однако для журнальной публикации
дорабатывалась еще зимой 1838 г.
1 Белинский В.Г. Поли. собр. соч., т. II. М., 1956, с. 434.
2 Письмо не сохранилось. См. о нем: «Русь», 1881, № 8, с. 15.
3 См.: Кошелев В. А. Эстетические и литературные воззрения русских
славянофилов (1840-1850-е годы). Л., 1984, с. 106-142.
4 «Литературное наследство», т. 56. М., 1950, с. 119.
5 См.: «Московский наблюдатель», 1839, ч. 1, Науки, с. 1-26. Перепеч • \ к с а-
к о в К. С. Поли. собр. соч., т. 2. М., 1875, с. 3-24.
6 ИРЛИ, ф. 3, Аксаковых, оп. 7, ед. хр. 3.
155
Работа Аксакова над его второй статьей была не менее длительной. В письме
к отцу от февраля 1839 г. он замечает о том, что заканчивает статью, предполагая
ее, как и первую, для «Московского наблюдателя» 7. Однако первый из дошедших
до нас черновых вариантов датирован лишь 5 мая 1839 г., второй - 25 августа того
же года 8- К этому времени стало совершенно ясно, что печатать статью в
«Наблюдателе» не имеет никакого смысла: журнал доживал последние дни. Кроме того,
поздний черновой вариант (который лег в основу настоящей публикации) не
является окончательным: осенью 1839 г. автор еще раз переписал статью; однако, тот
вариант ее, который был переслан с Белинским для публикации в «Отечественных
записках», до нас, вероятно, не дошел.
Столь длительная, почти на год растянувшаяся, работа над небольшой
критической статьей может быть объяснена не только как общая особенность
славянофильской критики, подмеченная Б. Ф. Егоровым9, но и характером творческих
исканий К. Аксакова на рубеже 1830-1840-х годов. Именно этот период стал для
будущего «передового бойца славянофильства» временем творческого
самоопределения.
В начале 1839 г. Аксаков окончательно отошел от кружка Н. В. Станкевича,
активным и деятельным членом которого стал едва ли не с 15-летнего возраста (со
времени поступления в Московский университет) 10. «...Что сказать вам про мои
отношения с приятелями, милые друзья? — пишет он братьям в феврале—марте
1839 г.-Я расстался со всем их кружком, без ссоры, без вражды, отдавая им
полную справедливость в том, что в них есть хорошего, расстался сам, по истинному
своему влечению, и чувствую себя теперь совершенно под вольным небом и дышу
свободно» ".
Тогда же он, вместе с Ю. Ф. Самариным, начал готовиться к магистерскому
экзамену (который успешно выдержал в феврале следующего года) и задумал
работу над диссертацией. В этот же период, наконец, он оказался вовлечен в споры
зарождающегося славянофильства. Во время написания статьи оформилась и тема
будущей диссертации: о роли и месте Ломоносова в истории русского языка и
литературы.
Публикуемая статья, как губка, впитала в себя эти разнообразные влияния.
Наследием «философских университетов» кружка Станкевича оказалось заявленное в
ней преклонение перед гегелевской философией. «Увлекаясь величавым строем
философской системы Гегеля,- писал Иван Аксаков, вспоминая старшего брата начала
40-х годов,— он гнул и натягивал его отвлеченные формулы на «определение» и
вящее прославление русской земли; вся мудреная Гегелева логомахия призвана была
послужить этой задаче и доказать всемирно-историческое значение русской
народности...» 12
Иван Аксаков написал эти строки в предисловии к переизданию диссертации
К. Аксакова - и действительно, философская основа диссертации, приведенная в
первой ее части, совершенно адекватна философским рассуждениям,
представленным в этой статье: то же рассуждение об общем, особенном и единичном, та же
попытка представить литературное преломление гегелевой «триады», «тезисом»
которой становится «национальная» литература (устное народное творчество),
«антитезисом» - возникновение «поэзии личностей», «синтезом» - возможность
будущей «высшей» гармонии, возникающей на основе «народности». Эта эстетическая
система (которая в диссертации оказалась связана с Ломоносовым — первым в
русской словесности носителем последовательно «авторского» начала) не претерпела
принципиальных изменений и в дальнейшей эволюции К. Аксакова 13,
7 ЦГАЛИ, ф. 10, оп. 4. ед. хр. 5.
8 Т ам же, оп. 5, ед. хр. 6. Данная единица хранения включает в себя два
варианта статьи и ее неполную копию, сделанную в начале XX в. Е. А. Ляцким.
9 Е г о р о в Б. О мастерстве литературной критики. Жанры, композиция, стиль.
Л., 1980, с. 136-137.
10 См.: Аксаков К. С. Воспоминания студентства 1832-1835 годов, Пг., 1911.
11 «Литературное наследство», т. 56, с. 125.
12 Аксаков К. С. Полн. собр. соч., т. ТТ. с. XI.
13 См.: К о ш е л е в В. А. Указ. соч., с. 63-75.
156
«Мудреная Гегелева логомахия» повлияла и на те особенности формирования
славянофильской идеологии, которую представляли в начале 40-х годов К. Аксаков
и Ю. Самарин, выделявшие в русской истории «период народности инстинктивной
и исключительной» и сменивший ее «период подражания», начавшийся после
реформ Петра Великого, который, в свою очередь, должен неуклонно привести к
некоему «синтетически» новому этапу «исключительной своеобразной
будущности» 14. Идея внутренней исчерпанности «поверхностного» подражания выражается
уже и в публикуемой статье, которая для К. Аксакова знаменовала одну из
первых попыток «оправдания православия гегелевской философией» (И. Аксаков).
Так же, как первая статья К. Аксакова («О грамматике вообще...»)
провозгласила комплекс лингвистических идей, которым он оставался верен во всех
последующих работах,- так и эта, вторая, статья стала своеобразным провозвестником
его будущих эстетических, критических и даже публицистических построений.
Даже его излюбленная идея об особенном значении Москвы для жизни России
возникла, сколько можно судить по финалу этой статьи, не как следствие развития
его славянофильских построений, а как их исходный момент.
Знаменательно, что к этим идеалам Аксаков, в отличие от других
славянофилов, идет не от исторических или общефилософских построений, а от литературы,
которая в идеале представляется ему «чудной страной», а в реалии становится
формой, которая «разрушается собственным гниением». Первоначальный черновой
набросок статьи открывался характерной картиной: «В настоящую минуту
литература наша представляет самое пустынное поле. Пушкина нет. Гоголь давно молчит,
только изредка доходят к нам из Рима утешительные слухи, что он пишет, что он
написал уже что-то, но пока это только слухи, осуществления которых нам
остается только с нетерпением ожидать. На литературном поприще виднеются толстые
журналы. Книг появляется мало, почти все испачканные грязью, которою щедро
перекидываются они друг в друга. «Северн<ая> пчела» и «Сын О<течества>»
преимущественно виднеются в этом искусстве и не терпят недостатка в необходимом для
этого оружии».
Это неутешительное «настоящее состояние литературы» вызывает, по мнению
автора, необходимость поиска путей в «чудную страну», а пути эти оказываются
родственными тем историко-философским поискам идеальной России, которые были
заявлены двумя другими лидерами русского славянофильства в двух статьях,
написанных и прочитанных в московских салонах в том же 1839 г.— А. С. Хомяковым
(«О старом и новом») и И. В. Киреевским («В ответ А. С. Хомякову»). Именно
этими статьями по традиции открывают славянофильство как направление.
Публикуемая статья Константина Аксакова оказывается, по существу, третьим
документом в этом ряду. Аксаков, как и другие славянофилы, «выговорил» здесь
слово «народность», ввел это понятие в нетрадиционный для того времени
философский контекст и, таким образом, предпринял попытку разрешить национальные
проблемы применительно к «собственно литературным вопросам». Он фактически
открыл для славянофильства ту область, которой не касались в своих статьях на
Хомяков, ни Киреевский,- область искусства, литературы, критики.
Именно смутную опасность этой неожиданной позиции К. Аксакова
почувствовал Белинский — и потому не особенно стремился помочь своему приятелю
опубликовать переданную статью, которую не смогли прочитать наборщики...
В. А. КОШЕЛЕВ
14 См. напр., письмо Ю. Самарина к Ф. Могену от августа 1840 г.:
Самарин Ю. Ф. Сочинения. М., 1911, т. XII, с. 449,
157
О некоторых современных
собственно литературных вопросах
К. С. АКСАКОВ
Искусство составляет одну из высших сфер деятельности духа. Эта сторона
искусства не есть что-то отвлеченное, мечтательное, безразличное; напротив, она
заключает в себе многие области, заселенные живыми, конкретными образами.-
Чудная страна! В ее светлых садах высятся храмы и колонны, блестят чистые
формы статуй, виднеются лица, весельями рдеют щеки, сверкают очи; и горы,
и леса, и реки, и утро, и полдень, и вечер блещут отвсюду на живом полотне;
не пуст, не безответен там воздух. Он наполняется звуками; в разлетающемся
молчании слышно таинственное пение; музыка, кажется, довершает все, чего
недоставало в этой чудной стороне; но здесь еще нет слова, слова, охватившего всю
природу, весь мир ее бытия. Но как ни прекрасны эти области искусства, есть еще
одна, которая сама заключает в себе целое особое царство образов; эта область -
венец искусства; там все уже живет и движется, там нет пределов, нет границ
творчеству; это поэзия, раскрывающая перед нами новый мир, простирающаяся над
всеми веками, над всеми формами искусства *. Чуден мир этот, вечно ясен, лежит
он над жизнию человека; отчаянные вопли, борьба случайностей, стечение тяжелое
обстоятельств не долетают до него. Горе, отчаяние там является просвежительным
и не отягчает, а возвышает душу.
Великий поэт первый постиг великое значение искусства: отсылаем читателей
к его глубокому стихотворению «Das Ideal und das Leben» 2 у всякого народа есть
область поэзии, есть сфера, где он живет высшею духовною жизнию — мы говорим
собственно о поэзии, об искусстве в слове, которое всегда и везде существовало;
жизнь народа в поэзии ознаменовывается произведениями, заселяющими эту
область. Словесностью, литературой народа называем мы совокупность его
поэтических произведений 3.
Здесь мы остановимся на минуту, чтобы объяснить недоразумение, могущее
возникнуть.
Слово «литература» можем мы употребить или подразумевая под этим, как мы
сказали, совокупность произведений поэтических; тогда мы разумеем только
истинные произведения искусства, в которых открывается дух народа, произведения, не
унесенные потоком времени, имеющие пребывающий интерес— Или же слово
«литература» понимаем мы собственно в современном состоянии, как письменное
выражение настоящего направления; тогда входят в нее все произведения, имеющие
какое-нибудь отношение к настоящей эпохе, хотя бы они и не имели собственного
достоинства; здесь современное состояние выражается вообще письменностью: сюда
станут ряды книжек и сочинений, часто само по себе обременительных,
достоинства не имею'пдих; входят и книги дельные, но только по их отношению к
настоящему времени или назначению, или пользе, или по важности вопроса, а не по
своему положительному достоинству; но преимущественно представители
современности — журналы. Удачна их преходимость; они должны являться и исчезать,
удовлетворяя только настоящей минуте, и на этом-то самом и основывается их
необходимость, ибо всегда есть настоящая минута, сменяющая и сменяемая и
требующая удовлетворения. В журнале не должно быть положительных статей, как
зеркало, показывает он вам настоящее время в его непрерывном стремлении. Он
стоит каждый, как кормщик, если так можно выразиться, и указывает вам, где вы
теперь. В нем, следовательно, сосредоточивается современность. И, стало (быть),
критика есть важнейшая часть его; в ней видите вы сознание настоящего времени,
она представляет вам точку зрения, перед которой проходят произведения того
времени.— Журнал есть явление организованное, все его части покорены одной
158
точке зрения, одной идее, которая в отделении критики протекает наружу и дает
голос- И хотя журнал есть явление преходящее, но он открывает вам, дает вам
возможность заглянуть в тайные глубины духа, из которого созиждется или
зиждется новая жизнь, явления которой будут уже не преходящие, но вечные, и
потому-то журнал преимущественно есть верное выражение состояния жизни
народной, проявляющейся в сфере высшей деятельности, важный представитель
литературы, принятой в значении современности, литературы, совокупностью явлений
своих показывающей настоящее направление, настоящее состояние духа,
действующего в своих бесконечно великих сферах.
Здесь хотим мы поговорить о наших современных литературных вопросах
и, следовательно, здесь принимаем мы слово «литература» во втором его значении
(сейчас нами определенном).
Что же представляет нам собою наша современная литература? — Перед нами
печальное зрелище. Книг вообще выходит мало, еще меньше сколько-нибудь
замечательных; их поглотили большею частию толстые журналы, которые виднеются
почти одни на литературном поприще. Мы видим, как, поддерживаемые
меркантильными расчетами, перекидываются они грязью между собою, мы слышим их
крики против науки, против просвещения, против Москвы (журналы издаются
большею частию в Йетербурге). Справедливость требует исключить отсюда
«Отечественные записки» и «Литературные прибавления» в Петербурге, но эти
журналы, издаваемые с благою целию и бессильно бесцветные, неорганизованные,
представляют сборник сложенных вместе разных статей, не проникнутых единством
целого,— и потому лишены энергии. Есть еще московский журнал «Наблюдатель»,
в котором есть идея, есть энергия; но он выходит медленно и не есть журнал
общечитаемый.— До сих пор еще голоса «Сев(ерной) Пч<елы>», «Библ(иотеки) для
Чт<ения>», «Сы<на> От<ечества>» заглушают почти все мнения. В подробный
разбор их входить не стоит. Жалко состояние той литературы, где такие журналы
имеют возвышать голос.
Таково современное состояние нашей литературы с первого взгляда. Так
представляется она нам с внешней стороны. Но эта печальная внешность есть ли
соразмерное выражение внутренней сущности нашей литературы? В таком случае мы
бы должны были отречься вовсе от истинной литературной деятельности.
Безжизненное и мертвое не может быть выражением жизни, а где такая внешность есть
точное выражение внутреннего состояния, там уже нет жизни; неужто же у нас
нет литературы; неужто же нам суждено проститься с этою благородною деятель-
ностию, когда мы только что ее начали? Нет! -
Следующие строки, думаем, могут пояснить и решить эти вопросы.
Когда внешнее (форма) есть соразмерное выражение внутреннего (идеи), тогда
перед собою видим мы живое явление, в котором согласно, неразрывно сочетаются
обе стороны, явление полное, истинное, ибо форма вполне выражает идею, идея
вполне открывается в форме; но как скоро эта гармоническая связь нарушена,
тогда явление становится недействительным; внешнее перестает быть выражением
идеи, уже не существующей, отвлеченной, и должно исчезнуть, как все ложное.
Пока, напр<имер>, человек жив, пока тело его есть соразмерная форма его души,
тогда это явление истинное, и тело есть истинная форма человека; но как скоро
целость явления расторгнута, когда человек умирает, тогда толо, бездушный труп,
не есть уже выражение улетевшей души; мы видим еще перед собой голову,
которая мыслила, грудь, которая вздымалась, или руки, все члены, им<ев)шие прежде
живой образ человека,— но человека нет, и образ его, еще имеющий вид жизни,
не заключает ее в себе, есть ложь и существовать не должен; тут диалектика
вещей выступает со всею своей силою и обличает ложь: труп гниет; из пего самого
возникает его разрушающая деятельность, с ним вместе уничтожающаяся.
Этот пример приведен здесь для того, чтобы яснее представить мысль нашу;
закон же, в нем проявляющийся, есть закон общий, и ничто не открывает нам его
с такою полнотою, как история: там деятельность духа не прекращается, как в
примере, нами приведенном; с разрушением одной устаревшей формы
освобожденный дух становится на высшую ступень, из самого себя рождает новую форму и
таким образом продолжает свое развитие.- Дух, чтобы перейти в действитель-
159
кость, должен воплотиться, дать себе форму. История представляет нам это
необходимое поступательное воплощение духа (во времени). Всякое выражение во
внешнем духе есть его полное истинное выражение, но истинное только как
момент; следовательно, оно исчезает, и дух идет далее в своем развитии и только в
совокупности (Totalitat) своих конкретных моментов находит себе полное
бесконечное выражение. Как скоро форма перестает быть соразмерно внутреннему
духа, другими словами, как скоро известное выражение духа низводится до
момента, тогда внешнее, форма, перестает быть соответственною содержанию духа,
идущего в дальнейшую) степ(ень) развития, как ложное исчезает (начин<ает>
исчезать) и представляет собою то же, что гниющий труп. Из недр этого самого
внешнего выходит деятельность, его разрушающая и уничтожающая его в
дальнейших (и ложных) притязаниях на вечное выражение духа.
Между тем, когда, с одной стороны, форма разрушается сама собою, дух дает
себе новую, ему теперь соразмерную форму; новая идея, сама в себе конкретная,
но еще отвлеченно (in abstracto), еще не воплотившаяся (во внешности), начинает
переходить в действительность (внешность).— Такое состояние, в котором внешнее
(форма) уже не есть соразмерное выражение внутреннего (идеи), а идея еще не
имеет столько силы, чтобы перейти в действительность,— есть состояние перехода,
результат которого как всегда один, что и естественно: т<о> е<сть> ложная,
безжизненная, лишенная духа форма исчезнет и конкретная идея переходит в
действительность, из самой себя дая себе соразмерную форму.
Вспомним последнее время и падение Римской империи, вспомним падение
католицизма и Лютера, вспомним французскую революцию.— Теперь ясно, кажется,
что мы подразумеваем под состоянием перехода. С этой точки зрения яснее
представляется нам настоящее состояние нашей литературы. Это состояние не
действительное, но переходное. С одной стороны, видим мы гниение старой (прежней)
формы (внешнего), с другой — идею, еще не давшую себе действительности.
Следовательно, в литературе нашей видим мы теперь две стороны, не проникающие
взаимно, но, напротив, отвлеченные одна от другой: внешнее оставляется жизнию,
разрушается; внутреннее, куда обратились все силы и где производится Inne-
геп *, едва начинает переходить, но еще не перешло в действительность. Нас не
смущает более жалкое состояние нашей (только внешней) литературы; нам оно
ясно; мы нимало не ужасаемся, напротив, благодарны и радуемся этому
благодетельному гниению, этой многообразной деятельности, возникающей из
безжизненной, разрушающейся внешности; теперь нам весело видеть такое количество
деятелей (как Г. С. и др.), трудящихся над разрушением старой формы, которая
все-таки есть условие их примерного существования. Г-да Сенковский, Полевой,
Булгарин, Греч и все прочие подобные, и эта туча одноденок, толпящихся особенно
вокруг наиболее гнилых мест, не возбуждает в нас негодования, как в других:
мы теперь понимаем их, понимаем их значение и видим их пользу.
Так как литература является перед нами в состоянии перехода, и две стороны
ее, внутреннее и внешнее, представляются отвлеченными отдельно друг от
друга,- то, следовательно, мы как будто видим и две современности: современность
внешнего и современность внутреннего. Мы, кажется, достаточно сказали об одной
(первой): ее удел исчезнуть; говорить об ней больше нечего. Обратив же внимание
на другую, субстанциальную (сущную) современность, на то внутреннее, которое
еще только что переходит во внешнее, возьмем противоречия, возникающие на
пути этого внутреннего - не в случайном их значении - и постараемся высказать
в опровержении это внутреннее, это современное, сущное, еще не перешедшее в
действительность, содержание.— Может быть, покажется странным, что мы с такой
важной точки зрения смотрим на литературу, но из всей брошюрки нашей, мы
надеемся, будет видно, какое важное значение имеет эта деятельность духа.—
Мы далеки от притязания высказать и определить в этой маленькой брошюрке
всю современную сущность литературную (у нас и намерения этого не было), но
слова наши, по крайней мере, выходят из духа этой сущности, этого внутреннего.
* Внутреннее содержание {нем.).
1ШЗ
Вот что представляется нам прежде всего при первом взгляде на нашу
литературу 5.
Не далее, как за тридцать лет, французское направление было у нас в полной
еще силе. Расин и Вольтер переводились александрийскими стихами, и перевод
французской трагедии считался еще литературного заслугою, дающею право на
почетное место. Мы были в странном, напряженном состоянии, мы подчиняли свою,
только еще юнеющую, свежую жизнь неестественным правилам гнилого
французского классицизма, тогда как в Германии уже давно пробудилась истинно
народная жизнь, когда она праздновала освобождение свое великими явлениями,
возникавшими из недр ее собственных сил; тогда как Шиллер не только начал, но и
совершил свое поприще, когда Гете был уже не юношей, не Аполлоном Бельведер-
ским, но Юпитером Олимпийским,— Жуковский, истинное эстетическое чувство
которого поняло поэзию Германии, первый стал переводить нам в своих прекрасных
переводах стихотворения Гете, Шиллера, Уланда и др.— В это же время
познакомил он нас и с поэзиею Англии.- Это составило эпоху в нашей литературе:
французское влияние ослабело; румяны и белилы (и все прикрасы) померкли перед
блеском истинной жизни (прекрасной красоты).- Явился Пушкин, великий поэт
народный; всё было увлечено им, всякая строка его, повторяясь, доходила до
отдаленнейших стран необъятной России; это довершило начатое; с появлением его
кончилось влияние французского классицизма, тем более, что французы сами уже
устали, наконец, от него, им захотелось чего-нибудь нового.—
18 век кончил свое существование кровавым самоубийством; с ним вместе
кинуты были вычурность, манерности, натянутость. Наполеон, деятель новый, провел
французов за собой по трем частям света среди славных побед и славных
несчастий. Все эти происшествия отгородили резко французов XIX века от века
предыдущего. Тоненькая шпага, кафтан и парик искаженного классицизма не могли
пленять их более. Вокруг них в Англии и Германии давно уже развивалось свободно
искусство, и французы познакомились с настоящим европейским направлением
литературы и бросились в романтизм, который есть точно дальнейшая и крайняя
ступень искусства, о чем говорить подробнее здесь не место. Французы не поняля
Романтизма; они схватили только его внешнюю сторону, внешнюю его разницу от
других форм искусства, что одно бросилось им в глаза; им показались очень
эффектны растрепанные волосы, бледное лицо, кинжал, яд, кровь и прочие
всевозможные ужасы; — вся эта сторона естественно являлась, выходила в произведениях
чисто художественных и не оскорбляла эстетического чувства, но у французов,
которые только и ухватили одну эту сторону, стала она только романтическим
(отвлеченным) эффектом. И боже мой, как они преувеличили и умножили новыми
собственными изобретениями романтические ужасы; чего не выдумали они, чтобы
как-нибудь произвести судорожное впечатление в читателе. Целая туча повестей,
романов и драм поднялась над Францией; эффекты были всех родов, мастерски
придуманные и устроенные, и юная французская литература произвела сильное
впечатление почти на всю Европу.— Разумеется, что люди, от души кричавшие о
французской литературе, не имели истинно эстетического чувства и принадлежали
к преходящей толпе, которой, разумеется, доступнее истинных произведений
искусства громкие фразы Ламартина и Барбъе, эффектные балаганные драмы В. Гюго
и А. Дюма, сальность описаний Жакоба Библиофила и различные тур-де-алюры
остальных французских писателей, возбуждающие в людях, озаренных истинным
чувством изящного, одно омерзение. Были такие, которые уже не находили
удовольствия в чтении произведений самой французской литературы, бросали с
ужасом книгу, не понимая, как можно наслаждаться тем, что производит в них
содрогание; но люди такого рода, разумеется, стоя несравненно выше поклонников
Франции, ясно, между тем, выказывали в себе еще детское, робкое чувство, которое
может испугаться святочной маски, страшно размалеванной. Люди, наконец, с
чувством более образованным, видели ясно, что все ужасы французской литературы-
поддельные, кинжал — жестяной, усы — накладные, морщины, проведенные горем и
мыслию - надрисованные. Все, что может произвести в таких людях (с чувством
эстетическим истинно образованным) вся толпа растрепанных этих произведений,—
так это даже не ужас, а только жалкую улыбку или раздражение, справедливое
Ш
негодование (последнее особливо при виде влияния их на, иногда, многих людей).
Есть произведения в области искусства, которые растерзывают душу, наводят
на нее ужас, отравляют покой, но нужно, чтоб эти произведения были, по крайней
мере, поэтические, чтобы они были плодом незрелого, но истинного таланта, нужно,
чтоб они были результатом внутренней борьбы, внутренней разорванности, чтобы
в них разрешалось тяжкое мучение их творца, стремящегося, по своей
художественной природе, выразить его ь образах; здесь нужно Шиллера (т. е. в его первых
произведениях) или Байрона. Между тем, откуда проистекает все направление, вся
оригинальность теперешних произведений во Франции? Причина чисто внешняя -
это костюм, который в моде, и больше ничего; а так как мода есть идол толпы,
то потому французский романтизм и имел сильное влияние вообще в Европе,
следовательно, и у нас— И вот в России французское влияние классическое
заменилось французским влиянием романтическим; толпа, как и везде, протрубила имена
Бальзака, Виктора Гюго, Жорж Занд и проч. и пр. и пр., - их много, этих Господ
французских поэтов; не все, впрочем, кинулись на ужасное в романтизме, нет,
некоторые схватили и другие его внешние стороны: так, г. Ламартин развивает
сентиментальность, г. де-Виньи хлопочет о простоте, а остальные (как мы
говорили прежде) схватились за то, что эффективнее и легче - за ужас. Влияние
французского романтизма у нас и до сих пор продолжается довольно сильно,
особенно в среднем поколении; люди, к нему принадлежащие, восхищаются
писателями юной литературы, как отцы их восхищались Корнелем и Расином. Люди
молодые большею частию не подходят под эту категорию; благое знание Германии -
предмет их внимания, их изучения; истинно художественное — предмет их
эстетического наслаждения *.
Но эти два мнения борются; это современный (хотя слабо выражающийся
печатно) вопрос, ибо сам вопрос не достиг еще полного своего развития; вопрос
более важный, нежели о нем думают, ибо здесь борются два направления,
которых состязание заслуживает наше внимание. Итак, распространимся здесь о
французской литературе, которая имеет еще многих, и очень многих, защитников, и
скажем здесь о ней свое мнение.
Литература народа представляет нам проявление деятельности его духа в
искусстве и именно в поэзии (подразумевая под этим названием искусство,
выразившееся в слове). Эта деятельность, проявляясь, не остается отвлеченною, но
осуществляется в полноте или совокупности (Totalitat) форм, необходимо из нее
проистекающих.- С этой точки зрения взглянем на Францию: есть ли у ней литература
(найдем ли в ней проявление той деятельности, о которой мы сейчас говорили)?
Вам укажут на целые ряды французских песен, эпических произведений, драм;
стало быть, во Франции нельзя отрицать той деятельности искусства, именно
поэзии, выразившей себя в полной совокупности своих форм; другими словами,
литература во Франции есть.— Но можем ли мы удовлетвориться этим определением?
Кончило ли свой круг искусство, если оно определило себя до своих форм?
Достаточно ли одной формы искусства для поэтического произведения, или яснее:
неужто трагедия уж непременно хороша потому, что она только трагедия, которая,
хотя и трагедия, но плоха? Истины этого возражения не признать нельзя, стало
быть, определение (иначе отрицание до Magerung **) искусства только до форм
(или иначе только до особенности, Besonderheit***) мало.-Взгляд на французскую
литературу еще более удостоверит нас в этом: мы найдем в ней все формы поэзии
и ни одного поэтического произведения; мы увидим ряд трагедий и ни одной
трагедии. Развитие нашего вопроса следует далее, а теперь обратим прилежное
внимание на французскую литературу, чтобы ближе рассмотреть свойства ее
произведений, и потом выйдем из этого противоречия и разрешим для себя вопрос: доста-
* Направление их пе односторонне, они не сделались немцами, но из рук
немцев принимают просвещение, которое имеете с этим дает им чувствовать все
значение, всю необходимость истинно народного. Люди с нынешним так называемым
немецким направлением не стыдятся, не отрекаются быть русскими.
** оскудение, деградация (нем.).
*** особенное (нем.).
162
точно ли для искусства (здесь именно для поэзии) определение (отрицание) себя
только до своих форм или есть другое, дальнейшее?
Какое бы ни взяли произведение французской словесности из периода
классицизма или романтизма, во всяком можем найти мы, как сказали прежде, какую-
нибудь форму поэзии, т<о> е<сть> о всяком можем мы сказать, что это или драма,
или поэма и пр., но если (отнеся ее только к роду произведений) захотим
обратить внимание собственно на него как на отдельное явление (само по себе)
искусства, то что нам представится? — Во всяком произведении увидим мы, что форма
его не вытекает из самого содержания, из идеи; внешнее является не органическим
его осуществлением, а составляет оболочку, отдельно взятую, которая
приспособлена к мысли или к которой мысль приспособлена. Мы заметим также, что внешнее,
форма, составляет особенный предмет попечения французских писателей; так как
в этом случае нет свободного творчества, которое не хлопочет о форме, ибо она
сама вытекает у него из идеи осуществляющейся,— то произведение
французское всегда стоит (иногда) очень заметных усилий своему автору; поэтому всякое
сочинение натянуто, везде фразы, умышленные эффекты; внимательный взгляд
всякого на французскую словесность должен подтвердить истину слов наших.
Напрасно стали бы мы искать по обширному в количественном отношении полю
французской литературы,— мы не найдем того, чего ищем. Мы не увидим творения,
в котором бы внешняя форма была бы живым, движущимся, соразмерным образом
идеи, мы не увидим высоты органического единства,- Поэтому не талант
творческий нужен был для этих произведений; - вбякой умный человек во Франции
может сейчас сделаться, если захочет, одним из первых ее писателей. Француз,
собирающийся писать, задает сначала себе тему, мысль и потом на эту тему пишет
сочинение и хлопочет изо всех сил, чтобы как можно лучше обработать и
отделать одежду, которую он готовит на предложенную мысль; эти хлопоты с
одеждою, как мы уже сказали, составляют предмет главных трудов его. Он шьет ее
по мерке, как портной платье; дело сделано, и является произведение, в котором
форма надета на мысль; так как здесь все внимание писателя преимущественно
посвящено внешней стороне произведения, то большею частию мысль остается
незамеченного (тем более, что писатель почти всегда равнодушен к ней). Мысль
сочинения может быть сама по себе истинна, но это нисколько еще не составляет
изящного произведения. Для примера возьмем Гюго.
Мысль, им себе заданная, истинна. Она заключается в том, что чувство любви
облагораживает человека, на какой бы низкой степени он ни находился; но
выражается ли эта мысль непосредственно в его произведениях? Можно догадаться, что
он хочет доказать ее, но впечатление, принятое вами по прочтении его сочинения,
не заключает в себе этой мысли; разбирая то, что вы испытывали, вы никак не
найдете ее, а увидите, что только резкие внешности действовали на вас одна за
другою. Вы дойдете до нее другим путем: вы догадаетесь о ней. Вспомните, какие
фразы начинает говорить Квазимодо, избавя от виселицы Эсмеральду. Клод Фролло
в отчаяний рвет на себе волосы и смотрит, не седеют ли они 6 — <aLe roi s'amuse»,
«Marion de Lorme», «Andjelo» * и пр<очие> его произведения содержат ту же мысль
и также не выражают ее непосредственно. Мы указали на Гюго как на пример,
но здесь примером может служить всякой французской писатель.- Мы должны
здесь сделать маленькую оговорку: не только произведения художественные
принадлежат к области искусства; есть произведения пламенные, исполненные жизни,
которая бьет из глубины сердца, произведения, в которых преобладает мысль
(классицизм), в которых нет полного соответствия содержания и формы,—
следовательно, произведения не художественные; но они также производят сильное
впечатление7; часто мысль, ими выражаемая, не есть мысль истинная, но они
сокрушительно врываются в душу человека, которая не может противустать этому
пламенному потоку, если образование его не достигло истинной своей точки, того
глубокого спокойствия, с которого ему уже безопасны все бури, порожденные
внутренним противоречием, разорванностью духа человеческого. Но в таких
произведениях нет натянутостей, нет внешней отдельной формы (как у французов, где
* «Король забавляется», «Марион Делорм», «Анжело» (фр.).
163
внешняя форма первое дело), нет умышленных эффектов; они стремятся изнутри
груди человеческой, и пламенное их стремление мешает им выразиться в вполне
соразмерной форме. Мы намекнули на такие сочинения, которые назовем
поэтическими, несколько выше, когда указали на Шиллера и Байрона. Первый в своих
юных произведениях совершенно представляет такое зрелище. Вспомним его
«Разбойников», «Коварство и любовь»; из стихотворений: «Kampf»,
«Resignation», «Goiter Griechenlands» * и пр.; но мы видим, как этот всесокрушающий поток
становится тише и принимает спокойное величественное течение, в котором не
искаженно, а свободно отражается жизнь, сама в себе истинная. Мы видим это в
«Валленштейне», в «Вильгельме Телле» и в некоторых глубоких его стихотворениях:
«Der Spaziergang», «Das Gliick» ** и пр.— Но во французской словесности не
замечаем мы и таких поэтических произведений. Что мы видим у них? Не из глубины
духа стремится идея ***, в своей необузданности и незрелости или в своей
ложности заключающая невозможность выразиться в художественной форме - нет,
а берется только одна внешняя, мертвая форма и бесплодное содержание,
нисколько не проникающие друг в друга (чуждые друг другу), что не может представлять
явления поэтического, ибо форма должна вытекать из самой же идеи; в противном
же случае (сама по себе) она не имеет жизни (ни смысла) и может только
представлять претензию на искусство8, которая оскорбляет человека с эстетическим
вкусом тем более, чем сильнее она высказывается. Такие-то претензии на
искусство представляет нам французская словесность, как в классическом, так и в
романтическом периоде; но первый мало занимает нас, потому что влияние его прошло,
тогда как второй еще имеет много почитателей даже и между молодыми
людьми.- Когда мы говорим: французский классицизм, французский романтизм,- мы
далеки от того, чтобы придавать этим выражениям настоящий смысл классицизма
или романтизма, которые точно составляют важные ступени в развитии
искусства; но во Франции оба эти проявления (определения) искусства явились только
в искаженном виде, схваченные только со стороны их внешнего различия; поэтому
должно было бы говорить: искаженный классицизм, искаженный романтизм,- но
мы заменяем это слово, говоря: французский.
Итак, вот какими являются нам произведения французской словесности. В пей
не находим мы ни одного поэта. Разбирать вполне французские сочинения не было
здесь нашею целию; мы предоставляем это сделать самим нашим юным
читателям-современникам.- Припомним здесь теперь, что мы сказали прежде. Мы
сказали, что искусство, именно поэзия, определила себя в словесности до полного
собрания (совокупности) форм, из нее самой истекающих; в то же время видим
мы, что этого определения недостаточно (что искусство тут еще не является как
искусство), что представляет нам на деле французская словесность; следовательно,
должно быть еще дальнейшее определение.
Постараемся решить этот вопрос.
Определив так французскую литературу и не находя в ней ни одного
произведения поэтического, мы не можем отказать французам в национальных песнях.
Национальные песни есть у каждого народа (ибо без настоящего) чув<ства> нет
народа). Мы же далеки от того, чтобы отвергать поэзию национальных песен.
Постараемся же решить предложенный нами вопрос и вместе с этим назначить
место национальным песням.
Истинное царство бесконечного духа есть область Искусства, Религии и
Философии. Только там освобождается человек от случайности, к которой привязаны все
его действия, вся жизнь его. (Эту истину примем мы за доказанную; подробное ее
развитие будет в другом месте).- Народ, чуждый этим трем сферам бесконечного
духа, может иметь только историческое значение, которое не есть еще значение
высшее.- Искусство (предмет нашего исследования) есть первая степень в этой
бесконечной области духа. Теперь мы спросим себя, может ли быть народ без
эстетического элемента, не есть ли этот элемент уже необходимая принадлежность
человеческого духа вообще? - Да, с этим нельзя не согласиться9, этот элемент
* «Борьба», «Коронование», «Боги Греции» (нем.).
** «Прогулка», «Счастье» (нем.).
*** Мы принимаем здесь идею в смысле содержания..
164
необходим; но взглянем теперь на те формы (выражения), которые принимает он на
степени его развития. Первое сознание народа, сознание в сфере искусства, именно
в поэзии, встречаем мы в его народных песнях 10.
Но это сознание еще чисто национальное *; народ понимает только свою
частную жизнь, как отдельного народа, и ее, только ее, отражает в поэзии; на первой
ступени, на которой находится народ, содержанием его сознания не может быть
ни общая истина, ни индивидуальная жизнь его членов; всё, что ни выражается в
песне,- всё это чисто национальное и равно может относиться к жизни каждого
народа, ибо жизнь индивидуальная, как мы сказали, не развита еще на этой
первой ступени; песнь равно принадлежит всякому в народе (ибо всякий имеет
значение постольку, поскольку он часть такого-то народа), поэтому-то и неизвестны
сочинители народных песен, и они являются нам как будто вдруг принятые целым
народом. Развитие идет вперед, и первобытная национальность разрушается; народ
уже не ограничивается одним собою; жизнь индивидуальная, сама по себе (для
себя) имеющая значение (смысл), освобождаясь от национальности, пробуждается
в народе, и вместе с нею только тогда и общая истина становится его
содержанием: ибо народ, как и нация, не может, оставаясь чисто народом в этой первой
национальной исключительной форме, наполниться общим содержанием; тесный
круг национальности разбивается, и человек в народе является уже свободным,
самобытным лицом. В своих индивидуумах сознает народ общую жизнь; это
сознание находит себе, как известно, первое выражение в искусстве, именно в поэзии;
содержанием поэзии становится уже тогда не только сама народная жизнь, но
общее; на песнях созидается литература, где уже каждое произведение, плод
индивидуального сознания, имеет значение само для себя, а не постольку, поскольку оно
выражает жизнь национальную; где уже является талант, имена под сочинениями,
где уже недостаточно одной формы, чтобы быть произведением искусства; эта, уже
литературная, деятельность влечет за собою множество плохих произведений,
носящих на себе отпечаток личности автора.— В период национальности, наоборот,
всякое произведение есть отражение целой жизни народа (ибо индивидуального
сознания нет, нет, следовательно, различных произведений), то все произведения в
этом отношении имеют равное достоинство (иб'о всякое исполняет свое
назначение) ; одно то, что это национальная песня, самая форма, следовательно, есть уже
порука за достоинство; национальные песни все без исключения хороши и имеют
эстетическое достоинство (если они не подложны, разумеется); разница их состоит
только в том, с какой стороны выражают они национальное состояние народа.
В литературе видим мы иное: произведение должно иметь отдельное,
единичное достоинство; здесь уже недостаточно одной формы искусства. Выше сказали
мы, что во Франции поэзия определила себя только до особенности, другими
словами, литература во Франции есть только собрание форм искусства; теперь мы
видим, что этим искусство не ограничивается, что в своем развитии идет оно далее
и определяет себя не только до особенности, но уже до индивидуального явления,
до единичности (Einzelheit).
Национальные песни - другое дело. Здесь поэзия (на степени
национальности)) выражает себя в ей вполне соразмерной форме, форме, соответствующей
тому определению, в котором находится она на степени особенности.- Но как
скоро поэзия переходит от этой национальной песенной формы к формам и сфере
истинной литературы, тогда уже определение до особенности уничтожает все
достоинства произведений литературы, которых сущность и превосходство состоит в
том, что они имеют значение сами для себя, другими словами, когда в искусстве
возникает единичность. Здесь человек выражает личную жизнь, является не
членом нации, но свободным, отдельным лицом. Так было в Германии, так было в
Англии, так было и у нас, но не так было во Франции.- Во Франции, как мы
уже сказали, вся поэзия определила себя до особенности и, следовательно, таким
образом, этим определением уничтожила все достоинство всех произведений,
кроме песни, ибо ни одна форма, кроме песенной (в обширн<ом> смысле) не может
* Слово «нация» мы различаем от слова «народ», понимая народ как нечто
движущееся и образующееся, а нацию как одну из форм его образования; из самого
употребления виднее будет значение слова «нация».
как форма быть уже порукой за эстетическое достоинство. Во Франции песня есть.
На этой степени песни остановилось в ней искусство; следовательно, Франция
находится в кругу тесной национальности, где народ сам себя только и выражать,
и понимать может. И до сих пор песня есть единственная форма, в которой
выражается поэзия французов; песнью называем мы такую поэтическую форму, в
которой выражается субъективное чувство народа, и потому все песни, т(о> е<ст.ь)
стихотворения, в которых нет претензий на общее, в которых выражается не лицо,
а француз во Франции» имеют истинное поэтическое достоинство. Собственная
форма песни во Франции есть куплет и драматизированный куплет — водевиль.
Беранже как куплетист, как писатель, в котором выражается не Беранже, не лицо,
а француз, нация, есть единственный поэт Франции11.— Итак, куплет и водевиль
есть единственные формы, возможные для французской поэзии. Все остальные
формы ложны, и все претензии французов на литературу (т. е. как на жизнь
народа в искусстве, перешедшего за степень особенности) - смешны. Все
произведения их, и классические, и романтические, натянуты и эффектированны.—
Задача наша нам уяснилась.- Искусство не довольствуется отрицанием себя
как общего до особенности, не определяет себя только до форм своих (только до
внешности),—оно идет далее и выражает себя в произведении отдельном, доходит
до единичности. Во Франции искусство остановилось на степени особенности; на
этой степени искусство выражает себя в форме национальной песни (где нет
ничего единичного); во Франции есть песня, и только песня есть единственная форма
ее поэзии, ибо она только есть соразмерное выражение поэзии на определ(еи-
ной> степени особенности, поэзии национальной. Остальная же литература есть
собрание произведений не поэтических, ибо поэзия здесь уже не есть отражение
национальной) жизни и должна явиться в произведениях самих по себе значащих,
чего нет во французской литературе, которая вся вышла из состояния
национальности, и следовательно во всей в ней видна только претензия на истинную
художественность. Может, мы нашу мысль не представили еще здесь надлежащим
образом ясно.— Ниже, гозоря о народности, мы изложим ее удовлетворительнее и
определеннее, и тогда самое теперешнее заключение получит еще большую ясность.
Вслед за сим представляется нам следующий (вопрос): почему французы,
народ, заключенный в тесной форме национальности, мог иметь такое сильное
влияние своим языком, нравами, литературой и вообще направлением? Постараемся
отвечать на этот вопрос.
Развитие бесконечного духа совершается в конечных явлениях; вечная идея
является в беспрерывно преходящих образах; закон необходимости действует в
сфере случайности. Эта преходящая случайность сама есть одно из необходимых
условий общей жизни, и будучи сама в себе совершенно произвольна, не подчинена
никакому закону, она сама является как закон, как одно из необходимых различий
духа, являющегося во вне.— В Истории видим мы развитие идеи, беспрестанно
выражающейся в кругу явлений случайных, которые сейчас уничтожаются и исчезают,
выполнив свое назначение; но та степень развития, на которой случайные явления
сами для себя преходят, но необходимость их, но случайность, говоря вообще,
остается как одна из различий вечного духа, без чего бы не было тоталитета.
История является во временах преходящих, для которых настоящая минута есть
минута высшая; всякое определение, которое принимает идея в развитии, является
как настоящее, как то, что есть случайность, чрез которую выражается она в
настоящем, исчезает; но так как это определение есть только степень, а не истинное,
то оно и исчезает как настоящее, и является в ходе развития мысли как
необходимый момент его; отсюда уже видна необходимость случайности. Необходимый
момент в своем настоящем проявлении разнообразится до бесконечности пестротою
ему покорной случайной современности. И так как, с одной стороны, находим мы,
что всякой момент истории есть необходимый, так с другой стороны видим мы, что
всякой этот момент является в сфере современной случайности, которая в одно
время делает его настоящим и потом, исчезая, уничтожает его как настоящее, как
само для себя истинное, как непреходящее, и становит таким образом его
моментом истории, необходимым как момент. Рассматривая какое-нибудь историческое
время в его необходимом значении в отношении к развитию, мы видим, что всё,
166
даже самая одежда, выражала современную идею. Как согласно было с пластиче-
ск<им> миром греков их одеяние, столько выгодное для скульптуры, эта туника и
эта мантия, свободно упадавшая около тела, не представлявшая сама для себя
никакой формы; форма давалась им извнутри самим телом, около которого свободно
падала она различными складками, уплотняясь, обрисовывая при каждом
движении контуры тела.- Как много говорит нам железный наряд рыцарей средних
веков: опущенное забрало, меч крестом, сталь. Народ необходимо соприкасается)
с мыслию современною, является в случайности, и ничто, как народ, так не
разнообразится, не пестреет в ее сфере, ибо народ есть выражение самое высшее.
Случайность (как мы уже сказали), явления которой своему существу не
должны исчезать, есть необходимость, закон. И эта необходимость, и этот закон,
который задержать есть произвол, закон, сам в себе заключающий отсутствие всякой
необходимости),- есть Мода. Это случайность, понятая как необходимость. Этот
общий закон, смысл которого есть совершенный произвол, закон, который внутри
самого себя в своих проявлениях, заключает совершенную свою нечеткость,
прихотливость явления,— есть Мода. Мы употребляем это слово, большею частию
ограничивая круг его значения нарядом, и точно: нигде Царство Моды не является в
таком полном блеске, во всей своей пестроте, как в наряде, потому что, как мы
выше упомянули, наряд всего более есть выражение внешнее.
Но Мода простирается на все, что только проявляется. Случайность есть
общее условие для всех времен и расстояний. Франция есть по преимуществу
представительница) Моды: она схватила только эту сторону жизни, и на этом
основывается ее могущество, ибо - как Мода, вторгается Франция всюду, и на этом
общем для всех народов условии жизни основывается ее всеобщее влияние. Но
Франция развивает только моду, она представляет только одну эту сторону.
Мода есть единственная сфера ее понятия, и во Франции все подчинено ее
владычеству.
Мы должны пояснить наши слова, сказанные нами о случайности; всюду она
необходимое усло.вие, но есть область духа, от него свободная, где уже не прости
рается владычество моды; это та область, в которой бесконечный дух выражается
уже в бесконечной форме,- область Искусства, Религии и Философии.- Народ
тогда только освобождается от оков национальности, когда сознает себя в этих
высших сферах, все прочие определения, какие ни принимает он,- все обращаются
в кругу случайности: самая форма государства, ежели мы уже станем употреблять
это название, не считая необходимым для него условием высшую область духа,
самое государство не освобождает еще человека от бренного преходящего, от всего
горького, земного, он все еще в юдоли слез.
Для Франции закрыта эта высшая область. Франция — страна чисто внешняя,
и будучи такою, она необходима в общем составе человечества. Но потому что
внешность есть ее смысл, потому что жизнь в нации движется только со стороны
случайной и преходящей, потому-то Мода и нашла в ней свое царство. Мы уже
видели, до какой степени определено во Франции искусство; до такой же (т. е. до
особенности) определены в ней и другие две высшие сферы духа. Существуя при
таком определении, они не существуют в самом деле, а только со стороны
внешней, и (при таком определении) они вместе подчинены Моде; двигателем Франции
был всегда рассудок, не способный понять высшей деятельности духа. Естественпо
после этого, почему Мода выбрала себе местопребыванием Францию, где не
должна она была уступать могуществу высшему духа. Естественно отсюда и всеобщее
влияние Франции, которая, схватив случайность, схватила вместе и общее
необходимое условие, в котором движется развитие, схватила эту внешнюю
исчезающую современность, и на этой современности, на настоящей мимолетной минуте,
основывается вечное влияние Франции, вечное, ибо случайность всегда будет,
а Франция есть представительница этой случайности.
Отличие Франции от других государств в этом случае состоит в том, что
влияние Моды у ней простирается и на искусства, и на другие высшие сферы, что
самое и показывает их истинное в ней отсутствие.— Другие народы на пути
своего развития должны были находиться на той же точке, на которой и Франция,
должны были, следовательно, жить также более в сфере внешнего, случайного;
167
тогда французское влияние всегда было сильно и простиралось на все три области
бесконечного духа; но как скоро народ шел далее и возвышался наконец до
сознательного существования - французское влияние должно было кончиться.
Владычество Моды изгонялось из царства бесконечного духа и ограничивалось
тем, что собственно ей принадлежит, т<о> е<сть> костюмом, приемами и пр.~
Англия и Германия свергли французское влияние; пришло это время и для
России; самобытная жизнь наша началась, и французская мода на искусство и про-
ч<ее> должна бежать во Францию, где владычество ее безопасно, ибо там нет
разума, нет его бесконечных сфер и некому оспоривать у нее господства. Моду мы
не совсем изгоняем, что можно заключить из всех предыдущих слов наших. Мы
только ограничиваем ее собственной ее сферой. Французское влияние на прочие
народы не совсем прекратится, напротив, оно будет постоянно; но тогда это
влияние Моды должно ограничиться ей приличною сферой, без притязания на другие,
высшие; мы будем носить платье, стричь волосы, выбирать цвет материи и пр.
Мы не станем оспоривать у нее этого владычества; пусть Париж считает себя в
этом отношении центром Европы; мы знаем, что это-то владычество и становит
Францию назади других государств, затворяет для нее другие, высшие области. -
Мы будем обращать внимание на моду Франции в отношении к костюму или к
чему-нибудь подобному; в этом отношении она всегда будет иметь для нас
значение 12.~ Но Искусство, но Религия, но Философия... нет, это не ее сферы.
Говоря о предыдущем вопросе, мы не могли коснуться национальности, и
потому намерены здесь поговорить подробнее об этом вопросе, который так различно
решается между людей. С одной стороны, видим мы людей, кричащих только о
своем родном, бранящих все чужое, отвергающих всякое общее разви<тие>,
самовольно заключающих себя в тесный кружок своего. Такие люди - чисто
национальные в вышеупомянутом значении этого слова: патриотизм, до которого они
доходят, назван где-то очень верно квасным; это одна сторона. Но есть еще люди,
впадающие в другую отвлеченность, не менее, если еще не более жалкую: это
космополиты, кричащие об общем человеке, о том, что они принадлежат целому
миру, что они знать не хотят отечества, что отечество их — вселенная. Первые
являются как анахронизм, ибо народ, как мы видели выше, действительно должен
был находиться на такой степени, на которой жизнь вообще доступна ему под
формою только своей собственной жизни. Другие же есть недействительный плод
того периода жизни, когда народ находится в состоянии перехода, когда общее
пробуждается в нем как стремление, которого односторонность есть космополитизм.
Но народ выходит из состояния перехода, оставляя далеко за собою и тех, и этих;
так и возникает истинная народность, которая имеет великое, всегдашнее
значение; постараемся вывести необходимость ее и вместе с тем показать нелепость и
того, и другого направления. Для этого мы должны начать несколько издалека.
Общее как общее не существует (вы общего не найдете, вы найдете множества,
выявляющие общее, но общее как общее не существует). Это отвлеченное
понятие, не переходящее в жизнь как оно есть, следовательно, понятие, не имеющее
действительности. Чтобы перейти в действительность, следовательно, общее
должно перестать быть общим: оно должно начать с отрицания самого себя как общее;
итак, оно становится необщим, отрицает себя до особенности (Besonderheit)
и переходит из простого отвлеченного в пестрое царство предметов; но общее еще
не находит себя (следовательно, еще не вполне выражается) в этом отрицании
до особенности; оно разделяется па множество предметов, в которых нет единого,
простого, и потому, проходя все степени этой сферы, общее, наконец, еще раз от*
рицает себя до единичности (Einzelheit), в которой, как в простом и неделимом,
находит, наконец, само себя и таким образом замыкает круг своего проявления,
возвращаясь в едином само на себя. Тогда только оно выражает себя, ибо в общем
как общем заключается всё; общее, заключая в себе всё, заключает как единое-,
для того только тогда оно выражается вполне, когда, переходя во внешнее, объек-
тивируясь, оно не теряет своей субъективности. Эта мысль, может быть, не для
всех понятная, объяснится примером. Искусство как искусство не существует;
оно, следовательно, отрицает себя как искусство вообще и является в какой-нибудь
особенной форме: напр<имер>, в скульптуре, в живописи; но скультура и жи-
вопись как только особенная форма не представляют, не выражают нам еще
искусства; вспомните первые времена скульптуры в Греции или живописи в
сред<них> веках: и там, и здесь вы не можете сказать, смотря на произведения
тех времен: это не живопись, это не скульптура; так, но в том-то и дело, что
тут искусство, в этой скульптуре и в этой живописи, определилось только до
особенности, нет единичного изящного произведения, в котором только и находит
себя, и проявляется искусство. (Вспомним, что мы говорили про франц(узскую>
литературу; в ней искусство определилось только до особенности).— Слова наши
получат еще большую ясность, когда мы приложим их к нашему предмету.
Человек, понятие общее, чтобы перейти в действительное явление, должен был отречь
себя как общее до особенности; это определение по особенности в его наиболее
развитой форме есть нация *, форма, под которую всё должно подойти и в период
которой всякий индивидуум известного народа имеет значение во столько, во
сколько он национален: следовательно, личной жизни индивидуумов тогда нет,
живет только нация; нет также здесь жизни общей, потому что общее не нашло
еще себе последнего отрицания, последнего единичного определения, которое бы
могло, наконец, проявить его, с которого общее возвратилось бы само на себя;
если нам скажут, что нация, как и всякое определение до особенности, состоит из
множества отдельных, индивидуальных предметов, то мы на это скажем, что здесь
индивидуумы имеют количественное, но не качественное значение; вспомним
древнюю скульптуру: она состояла из множества статуй, которые давали знать, что
теперь форма искусства есть скульптура, но не было статуи, в которой бы
искусство могло проявиться как искусство. Таким же образом в народе общая жизнь
может пробудиться только по освобождении индивидуума как индивидуума в
качественном его значении. Итак, народ в сфере нации не имеет ничего общего и
вместе с тем ничего индивидуального; жизнь, которую отражает он в области
искусства, есть жизнь чисто и только национальная; это песни, как сказано выше, песни,
в которых выразилась нация (ни общей жизни, ни субъективного чувства
индивидуума), потому-то песни и не носят на себе имен сочинителей: они равно
выражают горесть и радость, и внутренний мир индивидуума, во сколько он нация.-
Вот точка, на которой стоит Франция, вот точка ее и литературы.- Французы
народ в высшей степени национальный, им все доступно только как французское;
жизни истинно индивидуальной тоже у них нет (жизнь истинно индивидуальная
является только тогда, когда общее определяет себя до единичности и вместе с тем
появляются веяния области духа, которые и обр(азуют) эту инд(ивидуальную)
жизнь).
Положение их приняло, сколько могло со вне, поляризацию, сколько возможно,
лишено своей единичное(ти>, ибо точка образования Европы вообще стоит гораздо
дальше того времени, когда все государства, современные Франции, были в
подобном состоянии, но точка, на которой <она> находится, осталась все та же (но
только Франция, не сходя с нее, приняла возможную цивилизацию). Франция не
понимает общей жизни: ни Искусство, ни Религия, ни философия не живут в
ней,— и понятно: потому что национальная степень развития лишает возможности
понимать общее. Посмотрите, в самом деле, как существует искусство во Франции:
в своей особенности, но не в единичности; следовательно, оно вовсе не существуй
ибо и особенность получает тогда свое настоящее значение, когда есть
единичность. Искусство — понятие общее (как и всё), отрицало себя до особенных форм
и потом до единичности, до единичного произведения, в котором оно опять себя
находило. Посмотрите на Францию: точно, во Франции существуют все особенные
формы искусства, но существуют только как особенные формы, а единичного нет,
нет художественного произведения. Вот почему существуют в ней трагедии,
комедии - все, что вам угодно, и существуют только просто как особенные формы
искусства, которые и остаются только при этом определении. Степень искусства во
* Слово нация понимаем мы в тесном значении как высшее определение
человека до особенности; под народом разумеем мы то, что определяется, что преходит
различные оттенки. Мы знаем, что другие иначе понимают это различие; но то,
которое мы здесь придаем этим словам, кажется нам вернее; из следующих мест
видно определенное нами придавав<мое) значение.
ЗШ9
Франции равна степени Франции вообще, что так и должно быть, а степень Фран-
ции, как мы сказали, есть степень национальности. Мода, значение которой
объясняли мы уже выше,- девиз, смысл ее. Французы представляют собою
отрицание общего до особенности, в высшей степени развитое; другими словами,
французы — нация и больше ничего *.
Но оставим Францию и посмотрим на дальнейшее развитие человека. Степень
национальности (к которой принадлежит национальный исключительный
патриотизм), как мы видели, не есть последняя степень совершенствования; оно идет
далее, тесные основы национальности разрываются: общее от особенности
отрицается до единичности; индивидуум освобожден, имеет качественное значение и
таким образом вместе с жизнью индивидуума проявляется и жизнь общая;
национальность не уничтожается, но перестает быть единою, крайнею степенью
развития, но просветляется и возвышается до народности. Предметом сознания
становится весь бесконечный мир общего, человеческие интересы наполняют народ и
находят себе в нем свободное выражение. На песнях зиждется литература. Имена
сочинителей уже не остаются неизвестны, нет, на их произведениях лежит их
собственный отпечаток. В народе, наконец, существует в одно и то же время как
общее — человек, как особенность — нация (народ, уже потерявш<ий>
исключительное) знач<ение>) и как единичность — индивидуум, в котором общее снова
себя находит и замыкает торжественный круг своего абсолютного отрицания.
В писателе мы видим ясно в одно и то же время лицо, народ и человека. Ясно,
кажется, что тогда народность становится необходимым условием, без которого
общее не может перейти в жизнь. Кажется, из всего предыдущего ясно видно, как
жалок национальный патриотизм и как смешон отвлеченный космополитизм,
говорящий об общем и не постигающий, что без проявлений, без необходимых
отрицаний, нами указанных, общее есть только пустая отвлеченность, не имеющая силы
перейти в действительность (проявиться).- Истинное чувство его есть необходимое
чувство истинного человека, без которого не было бы полноты, и тогда человек не
мог бы быть действительным явлением и не мог бы найти нигде настоящего
определения (ни как индивид, ни как общее), какие бы ни делал усилия. Творческая
сила, дошедши постепенно до человека, великого своего проявления, разве
уничтожила и горы, и снега, и поля, и животных, и все свои предыдущие степени
развития; нет, полнота жизни была бы нарушена; на каждой степени жизнь была
равна сама себе и выражалась в вполне соразмерном образе проявления; ибо
никакой шаг в жизни вечной не есть лишний; дело только в том, что все степени
свои она не делала последними, крайними, переходя от них к другим, высшим,
пока, наконец, достигла; но и тут жизненная сила не прекратила своего действия,
но здесь она является уже как субъект и как субъект продолжает свое шествие.
Сознательная деятельность человека выше бессознательной деятельности природы.
Его рукою зиждет тот же дух, но уже нашедший себе столь соразмерное
чувственное проявление, в котором он сознает себя как лицо и собрал уже как лицо.
В великом мировом абсолютном отрицании человек есть та единичность, та Ein-
zelheit, с которой отрицает себя, наконец, общее после отрицания до Besonder-
heit природы. Общее и бесконечное находит себя в последнем проявлении,
обратившись на себя, и в этом сознанном проявле(нии) постигает оно само себя, и
постижение это бесконечно.
Дальнейшая степень развития не уничтожает предыдущую. Конечно,
образованный человек, стоящий на высшей степени развития, по возможной мере
наполняется содержанием общим, но он вздрогнет и у него горячо забьется сердце,
только запойте перед ним его родную песню.— О прочь же жалкая гнилая мысль о
космополитизме; там, где близорукий <ум> и мертвое сердце,— только там ей
место. Есть период, в который национальный патриотизм имеет свою
действительность и после которого он уже анахронизм; но мысль о космополитизме никогда
не могла и не может дать себе действительности. Смешон также страх
национального патриотизма, когда уже миновалась его пора, что народ, наполняясь просве-
* Впрочем, если мы поставим Францию на настоящую точку, тогда
национальный патриотизм в ней вещь сообразная и соответственная; там он не анахронизм.
170
щением, потеряет свою народную характеристику; это все равно, если бы стали
бояться за человека, что он, учась и принимая в себя общее образование чуждых
стран, потеряет свою индивидуальность, но органическая жизнь в том-то и
состоит, что она все в себя принимаемое извне в свое претворяет. Напротив,
естественно, что чем более народ наполняется через индивидуумов общим содержанием,
тем истиннее, тем просветленнее становится народность: потому что тогда
возвышается народ и вместе с ним дозвышается и его народность. Вечийя истина гонит
остающийся сумрак, гонит тени национальности и космополитизма и водворяет
свое, ненсх. царство, отдавая каждому необходимому проявлению жизни истинное
значение, возвращая ему похищенные права и защищая его от ложных нападок
отвлеченной односторонности. Тогда-то народность получает свое настоящее
значение *. Об такой-то народности говорим мы^ и такую-то народность признаем мы
необходимым условием истинно человеческой жизни.
Если Франция выражает собою определение особенности, то Германия есть
представительница единичности. В этом последнем определении является высшая
сфера деятельности духа; Искусство, Религия и Философия дома в Германии; но
так как единичность есть собственно значение Германии, то эта единичность
помешала народу немецк(ому) принять единую внешнюю государственную форму и
разбила его на мелкие части. Гражданство высшей сферы духа соединяет
немцев. С благоговением взирают народы на эту представительницу высшего
сознания человечества в высших обла<стях> духа и благо, наделяющее дарами своими
все народы, в средине которых как бы нарочно поставлена. Но это уже не входит
в состав статьи нашей, и потому остановимся и возвратимся к нашему предмету.
Коснувшись вечной общей истины, должной составлять содержание народа,
мы посмотрим на настоящую судьбу ее в Нашем отечестве. Наш народ имеет
поэзию; следовательно, общая истина уже доступна ему в искусстве, но истина имеет
другую, ей в высшей мере сообразную форму— это знание. Участь знания у нас в
настоящее время все еще очень жалка. В начале нынешнего столетия современные
усилия разума, происходившие в Германии, разрешить противоречие, являющееся в
жизни и так твердо установленное рассудком в своем резком различии, эти
усилия, еще не достигавшие своей цели, истинной точки зрения, отражались и у нас
некоторым образом, но большею частию спорадически **.— В Германии между тем
совершалось великое дело, настала эпоха, когда философия разрешила
противоречие, до сих пор имевшее силу и свирепствовавшее в ее собственных пределах;
всякому явлению возвращены были его права; насильстЁОвание разъединенных от-
влеченностей исчезло и все сущее предстало в своей полной и разумной
действительности. Это дело совершилось пока в пределах самой философии.— Мы говорим
о Гегеле, почти современнике нашем, в лице которого философия достигла,
наконец, абсолютной своей точки.— Мы не осмеливаемся и думать взять на себя
огромный и важный труд дать полное и подробное понятие о философии этого
великого человека. Вполне изучить, вполне постигнуть и принять в себя его
философию значит поднять ясные, разумные взоры на весь божий мир (в обширном
смысле этого слова) и уразуметь его. От порывов и бешеных восторгов свободно
это изучение; постижение великих законов во всем их величии непременно важно
и торжественно. Душу пробегает трепет, когда перед него открывается общее,
разоблачается тайное и становятся разумными явления мира. Глубокое наслаждение,
волнение предощущения не чужды тогда душе; но наслаждение это умиряется з
* Чтобы быть еще яснее, скажем, что различие национальности и народности
состоит в том, что первая имеет место тогда, когда народ является на
исключительной степени нации, которая имеет притязания быть последней; но как скоро в
народе является еще высшая жизнь, тогда он освобождается ею от национального
проявления, и мы называем его уже собственным именем, национальность становится
народностью; это одно и то же особенное определение народности; но в первом
случае оно имеет притязание быть последним, а во втором оно становится на свое
место, не мешая другой жизни.
** Справедливость требует упомянуть здесь о человеке, оказавшем истинные
заслуги нашему знанию, человеке с глубоким и логическим взглядом на вещи. Мы
говорим о М. Г. Павлове, почтенном профессоре физики, первом, который внес к
нам разумное стремление в науке.
171
присутствии общей истины.- Вот все, что только мы теперь можем и смеем
сказать, то есть вправе начать о самой философии. (Нашим читателям будем мы
сообщать, может быть, время от времени, результаты наших исследований).
Здесь скажем теперь о судьбе знания, о судьбе Гегеля в России.- Он мало
известен: вот первое, что представляется нам; но несмотря на это, он имеет
множество врагов: с криком и шумом нападают на него журналы, принадлежащие к
внешней стороне литературы. Люди другого рода, вовсе не гармонирующие с этими
журналами, тоже истощаются в усилиях против его учения, не дав себе труда
познакомиться с ним, всеми силами стараются высмеять, уронить его в глазах всех,
уничтожить его влияние. Но у Гегеля и в Германии есть еще противники, и у
нас, хотя наши противники отличаются особенною способностью. Легко произносят
они его имя, легко определяют приговор его творениям, этому колоссальному,
бессильному зданию, им воздвигнутому, которое даже еще не вполне всем известно.
Но напрасны все усилия его противников. Гегель здесь, в России; глубокие мысли,
исходящие из одного начала, плодотворно принимаются и передаются друг другу
молодыми людьми нового поколения; эти мысли просветляют их ум, образуют их
взгляды, кладут на суждения их отпечаток строгой логической необходимости;
новую жизнь ощущают новые люди. Действие философии Гегеля безопасно от всех
нападок остальных литераторов и ученых. Их же критики и брань нас и смущать
не должны, их ожесточение не странно: не им понять, не их нетерпимым
существам вынести новые, свежие, наполненные сил и жизни мысли. Новое вино
должно вливаться в мехи новые, а не в старые, которые бы его разом
отравили).
Вместе с предыдущими вопросами о французском направлении и о
национальности, космополитизме и народности это составляет третий главный вопрос
(вопрос в том смысле, что истина здесь не перешла еще в действительность и
борется с устарелою внешностью). В противность ей германское влияние более и более
проникает в Россию и производит благодетельное действие. Дай бог! Наше понятие
о народности изложено выше, и потому уже понятны наши слова: желаем мы
распространения германского влияния. Мы не боимся сделаться германцами.
Германия есть страна, в которой развилась внутренняя, бесконечная сторона духа;
из чистых рук ее принимаем мы это общее, которого хранителем была всегда она.
Да и германцы не изъявляют вовсе претензий на подражание им, на то, чтобы
народ стал походить на них; это было бы желание распространить свое влияние
внешним образом; зачем им это, когда так богато их внутреннее, которое передает
она, не стесняя самобытности именно народа. Вот французы - другое дело: они
необходимо должны, передавая что-нибудь свое другому народу, хотеть подчинить
его себе, потому что у них только и есть это внешнее, чисто свое (такова степень
развития, на которой стоят они).—Общего у них нет; таким образом всегда и
ознаменовывалось французское влияние (т<о> е<сть> подражанием духа
национальности, одним словом, как власть Моды).
Мы назвали вопрос о философии главным, ибо философия есть самая
высшая сфера духа, где он проявляется в форме, наиболее сообразной содержанию,
в форме самой мысли. И потому влияние ее в народе, который может принять ее,
есть самое важное и существенное. Философ несравненно выше действователя в
сфере конечной духа, т<о> е(сть> какого-нибудь полководца или завоевателя. Ибо
в последнем случае является тоже идея, но идея в чувственной форме, в которой
она не сознает сама себя как идея; тогда идея в философии возвышается до
сознания (себя) самой и принимает ей вполне соразмерную форму, где она уже
является как идея. Потому по одной уже сфере Гегель выше Наполеона. Это
покажется странным многим, тем особенно, у которых чувственные впечатления, вес и
мера, и слова как далеко] как много\ — имеют еще полную силу (тогда как один
выражал те же идеи, но только в чувственной форме и в конечной области духа,
а другой действовал и сознавал идею и подвинул ход ее в сфере, ей наиболее
соразмерной, в бесконечной области духа).-Мы почли нужным сказать это, зная,
что толкуют о значении философии, и зная, что мысль, что философ выше
действователя на поприще военной жизни, многим еще, по крайней мере, с первого
взгляда, покажется не только новою, но и нелепою.
. Ограничимся только этими словами о важном вопросе философии. Показать ее
точдайшее определение^ указать на место и отношение к другим областям духа
172
должно быть предметом особой статьи. Мы не берем теперь на себя этого труда,
а пройти всю связь наук в виде оглавления мы считаем недостойным предмета.—
Но вся наша литературная деятельность, какая она ни будет, конечно, выходит из
той истинной точки зрения, которая дается философией. Здесь повторим только,
что современный вопрос, вопрос самый важный и преимущественно относящийся к
молодому поколению, есть вопрос о философии.
Вопросы, о которых мы сейчас говорили, не должно принимать в смысле
противоречия, стремящегося себя разреши!ь и достичь примирения своих
отвлеченных сторон, как идеализм и материализм, свобода и необходимость, идея и
форма,- нет: здесь с одной стороны видим мы такое противоречие решенным, с
другой же видим направление, отвергающее это решение; одна сторона вопроса
положительная, а другая отрицательная; но так как решение этого противоречия
произошло только во внутреннем духа, то оно стремится перенесть себя во
внешнее и утверждает повсюду права свои; истина стремится распространить царство
и уничтожить встречающееся противодействие, и таким образом становится она
живым вопросом. Этот вопрос только что начинает проявляться у нас во внешней
стороне нашей литературы.
Припомним здесь, что говорили мы в начале нашей статьи о состоянии нашей
литературы вообще. Мы сказали, что само в себе истинное и полное тожест(вен-
ное> содержание является все-таки только стороною в отношении к внешнему
(здесь — литературному) его проявлению, которое еще разъединено от него, еще
его не выражает.— Форма вытекает всегда из самого содержания, но в теперешнем
содержании еще не дано у нас себе формы, ему соразмерной, и в стремлении
содержания проявиться во вне и в противодействии прежней внешности, еще не
уничтожившейся и не могущей уничтожиться вдруг (задолго до идеи начинает
форма разрешаться), заключается борьба, вопрос-Наша литература, сказали мы,
не представляет действительного явления; напротив, она разнится на две стороны:
с одной стороны, форму устаревшую, лишенную жизни, разрушающуюся
собственным гниением; с другой стороны, содержание незаметное новой истинной жизпи,
еще не перешедшее в действительность, еще не давшее себе из самого себя
внешнего определения.— Внешняя форма, лишенная духа, необходимо производимостыо
возникающего из нее, будто бы живя и играя, разрушает сама себя и должна
исчезнуть совершенно, когда жизнь внутренняя вступит во все права свои.— Такое
состояние нашей литературы, такая борьба, такой вопрос выразился внешним
образом в двух наших столицах: в Москве и Петербурге. Представительница
внутреннего,- литературная Москва; представитель внешнего,- литературный Петербург.
Эти города в их литературном отношении находятся в прямом противоречии друг
с другом, выражая собою две противоположные борющиеся стороны. Внутреннее,
не давшее еще себе формы, не выражается еще во вне, только еще начинает
переходить во внешнее. Это находим мы теперь почти, по-видимому, в бездейственной,
безмолвной, богатой мыслями Москве.- С другой стороны, внешность, которую
оставило внутреннее содержание, становится плодовитою в случайных наших
проявлениях, не условливаемых никакою идеею. Во всяком месте, оставленном жизнию,
заводятся во множестве разные черви и другие насекомые, дети гниения, в
бесчисленных роях; то самое теперь представляет нам внешняя сторона нашей
литературы или, другими словами, петербургская литература. Взгляните на эти
бесчисленные рои поэтов-одноденок и прочих писателей, жужжащих возле всякого места,
где немного появляется гниение, каковы большею частию наши журналы. Смешно
сердиться на г. Сенковского за его крики и хлопоты о себе, смешно пытаться
отучить его от этого: он выражает себя, он возник из вышеопределенного состояния
нашей внешней литературы; как хотеть, чтоб он был не то, что он есть? Он
теперь внешне современное явление, имеющее случайный, преходящий смысл,
которое исчезнет и следов после себя не оставит. Пусть же он бранит немцев,
философию, идеи; сам того не замечая, действует он в пользу того, против чего ратует,
истощая все силы из исчезающей формы и разрушая ее в то же время. Можно
ли после этого сердиться на него? Нужно только понять, что он такое, и тогда с
самым мирным и приятным {выражением) будем мы смотреть на его ученые
труды. Мы можем назвать его самым сильным явлением нашей внешней литературы,
а читателям не нужно повторять, как мы определили и объяснили настоящую его
производительность 13. Зачем сердиться на г. Полевого, на этот устарелый анахро-
173
низм, ноторый силится, что шалко видеть, удержать свою исчезнувшую,
современность. Всего же жалче видеть его в его теориях. Г. Полевой явление отсталое; он
должен это видеть, но все-таки ничтожны большею частию и бедные его уеил-ия
уверить себя в противном14. Посмотрите, сколько около этих двух главных мест
толпится всякого рода литераторов. Г-да Булгарин с Гречем, Якубович и Ершов,
Панаев и пр. и пр. и пр. Но когда жизнь, вытекая из Москвы, вступит в право,
тогда все эти порождения однодневной Петербургской) литературы исчезнут сами
собою без малейшего следа.
Таково значение Москвы и Петербурга в литературе, таково их взаимное
отношение. Не мудрено видеть, с которой стороны будет победа в этой борьбе, как
решится вопрос, который станет предметом еще гораздо сильнейших споров и
борьбы; и когда содержание вполне перейдет во внешнее, тогда и самый
Петербург проникнется тем же содержанием, которое теперь заключает в себе Москва
(что уже начинает совершаться), когда, одним словом, внешняя форма будет
вполне соразмерна идее, теперь только что воплощающейся, тогда литература наша
представит действительное явление; а жизнь внутренняя, повторяем, вытечет из
Москвы, этого вечного источника жизни для России. Москва была всегда
хранительницею и спасения, и источником новых сил для нее во всех случаях; вспомнил!
события нашей истории; всюду среди смут и бурь виднеется Москва; на нее самые
тяжкие удары и от нее и за нее самый мощный отпор. Тяжко было состояние
России в 1612 году, вся страна была разорена, большая часть городов взята,
и в других волнениях; Москва вышла из бурь и бед и спасла Россию собою.
И вот через 200 лет снова над Россиею собралась беда, снова пришлось ей
отстаивать свою независимость. 200 лет прошло; могущество России давно выросло;
много богатых и сильных городов было в России; новая столица цветет на берегу
моря; но все же Москве пришлось и на этот раз постоять за всю Россию; она
же приняла на грудь свою напор неприятеля; все же она вынесла на плечах своих
спасение России. Но еще важнее значение в смысле, нами указанном. Москва!
Вечная! О, как несносно мне слышать, когда называют тебя старушкою, седою,
дряхлою, тебя, вечно юная, вечно полная жизни, могучая силою духа Москва!
Проявления духа стареют, исчезают, но дух никогда не дряхлеется. Всё вокруг тебя
будет стареть, исчезать, разрушаться, но Москва никогда,- наша жизнь, наша
ретина, наш дух!
Здесь кончаем мы статью нашу: вопросы, нами предложенные, рассмотрены
здесь очень кратко и сжато: каждый из них мог бы быть предметом долгого п
пространного исследования. Но этой краткой статьей мы старались по возможности
дать полноту и ясность.- Я знаю, из собственных моих выводов мне должно быть
ясно, что большею частию скажут об этой брошюре, что многие не увидят и
важности в этих литературных вопросах; но я пишу не для тех, которые становятся
теперь анахронизмом и на стороне которых остается разве еще количество;
я пишу для молодого поколения; я знаю, что в нем, преимущественно
просвещающем себя искусством и знанием Германии, слова мои найдут отголосок и
настоящая важность вопросов оценится.
Для России наступает теперь время мысли, эпоха истины.— Кто раз покинул
берег непосредственного озарения и пустился в море мышления, тому уже нет
возврата, тот должен плыть вперед. Безгранична кажется даль Океана, много
опасностей, высоко и страшно поднимаются грозные волны, бездны открываются вокруг,
много бурь, и грозит гибель, и бури ужасны...
Но
Там, за далью непогоды,
Есть прекрасная страна:
Не темнеют неба своды,
Не проходит тишина.
Но туда выносят во<лны>
Только сильного душой...
Константин Аксаков
1839. 25 августа.
Москва
ПРИМЕЧАНИЯ
Статья К. С. Аксакова воспроизводится по черновому автографу: ЦГАЛИ,
ф. 10, Аксаковых, оп. 5, ед. хр. 6,- по его второй редакции. Текст печатается в
соответствии с современными нормами правописания; в ряде случаев сохранены
орфографические и синтаксические архаизмы, отражающие индивидуальную манеру
автора. Из многочисленных разночтений двух редакций статьи и исправлений
позднейшей редакции учтены лишь те. которые имеют смысловое значение.
1 На полях рукописи помета: Und dich halt
<И тебя держат (нем.))
2 Стихотворение Ф. Шиллера «Идеал и жизнь» (1795). В первой редакции это
указание расширено: «Великий поэт понял, глубоко понял значение искусства и
высказал его в своих прон<икновенных) стихах.— Невольно вспоминаешь глубокие
стихи Шиллера, который постиг великое значение искусства: приводим в
подстрочном переводе «Когда вас охватывают несчастия, / Когда Лаокоон от змей/
Освобождается со страшной болыо/Гогда возрождается человек».
3 На полях помета: Totalitat — совокупность.
4 «Г. С.» - вероятно, «Г. Сенковский».
5 В автографе - варианты: При первом взгляде на нашу литературу прежде
всего представляется нам вот что. Что же представляется прежде всего при первом
взгляде на нашу литературу?
6 Имеется в виду роман В. Гюго «Собор Парижской Богоматери» (1831).
В одном из писем к своей двоюродной сестре М. Г. Карташевской (конец 1838)
Аксаков подробно пишет об этом романе: «Она (книга Гюго — В. К.) очень
интересна по содержанию, но столько фраз, столько натянутого, неестественного, что
можно смело сказать, что это не поэзия. Г-н Гюго, разумеется, изо всех сил старался
производить впечатление, и эти усилия везде и показывают, что он не поэт.
В сцене, которая по-видимому должна быть согрета всем жаром чувства, которая
должна бы вылиться из души, он не забывается, а придумывает, как бы вставать
фразу попышнее; а согласитесь, милая Машенька, что если, читая в первый раз
стихи или повесть, вы замечаете, что хорошо сказано, вы не забываете о словах,
то это не поэтическое произведение». «Право, в некоторых местах мне становилось
гадко читать, когда эффекты или фразы высказывались наиболее. Тут есть одно
лицо: Claude Frollo; Гюго описывает его отчаяние, причина которого, конечно,
понятна (он отправил на казнь одно существо),- и ныне, среди этого отчаяния, оп
говорит: Он (Claude Fr<ollo>) вырывал волосы из головы своей, чтобы посмотреть,
не седеют ли они. Как вам это покажется? Хорошо отчаяние, в котором человек
помнит себя и думает о том, не седеют ли волосы. Но бог с ним, с этим
г. Гюго; он такой же фразер, как и другие французские писатели, или еще больше»
(ИРЛИ, 10604. XV с. I, л. 149, 150)
7 На полях рукописи заметки: Классицизм. Развить подроб<нее>.
Последователи) Скриба.
8 На полях: форма: так только; не развить ли? Ш
9 На полях: N3 почему?
10 На полях: ЬВ как? Обрат(ить) вним(ание), развить.
11 Ср. в цитированном выше письме К. Аксакова к М. Г. Карташевской:
«...во Франции поэзия не пошла дальше песен, осталась народною и до сего
времени (этой поэзии невозможно отнять ни у какого народа): и потому во Франции
есть один поэт — песельник Беранже (которого вам почитаю сам) и одна драма —
водевиль. Этими двумя проявлениями ограничивается настоящая их литература.-
Французы народ, который мало жил жизнию действительною, и с этой стороны у
них мало есть великих минут; поэтому песни, в которых народ этот наслаждается
язычеством своих действий, прекрасны (но не дай бог, когда французские поэты
вздумают воспевать то же событие); пусть Саша (А. Г. Карташевский, брат
адресата.— В. К.) пропоет, вам, моя милая Машенька, хоть три таких песни, которые мы
певали с ним» (ИРЛИ, 10604, XV с. I, л. 150)
12 На полях: (это поленится в вопросе о народности)
13 Аксаков имеет в виду не столько писательскую деятельность Осипа
Ивановича Сенковского (1800-1858), сколько характер и направление редактируемого им
175
журнала «Библиотека для чтения». Ср. характеристику этого журнала в
неопубликованной статье Аксакова «Письмо из деревни» (1845): «Библиотека для
чтения» - первый увесистый журнал в России - имела огромный числительный успех и
до сих пор держится твердо. Она поняла, где стоит множество народа на гуляньях,
чему раздается одобрительный хохот; она поняла это и осуществила на деле;
и точно, около нее сбирается народ, которого тешит записной остряк, готовый на
какие угодно шутки, чтоб только вынудить смех,- и точно: невольно смеешься. Но
что проповедует, что думает «Библиотека для чтения»? — ничего не думает: она
скажет вам, что думать — вздор. Что чувствует? Ничего опять не чувствует: она
скажет вам, что и чувство — вздор. Какое же ее убеждение, цель? Ведь вот,
например, у г. Булгарина есть убеждение и цель. У г. Булгарина есть убеждение и
цель, известные всей России, а у «Библиотеки» нет никакого. У нее есть цель
посмешить, и, разумеется, она не даром проделывает свои шутки и насмешки»
(ЦГАЛИ, ф. 10, оп. 5, ед. хр. 8, л. 2).
14 Ср. характеристику Николая Алексеевича Полевого (1796—1846) в той же
статье: «Во всякую эпоху и просто во всякое время есть совершенно
поверхностная современность, за которую обыкновенно хватаются люди, желающие успеха.
Это старый маневр, но он всегда удается. Хлопот здесь больших нет. Человек
современно поверхностный, или, лучше, поверхностно современный не спускается в
глубь эпохи, в глубь этого великого потока времени; такие люди составляют
ненужную пену, которую мощная река разбрасывает по берегам и которая исчезает без
следа...» (там же, л. 2 об.).
ПУБЛИКАЦИЯ И ПРИМЕЧАНИЯ В. А. КОШЕЛЕВА
Наши авторы
КАРАСЕВ — кандидат философских наук, консультант журнала
Леонид Владимирович «Вопросы философии»
ИОНИН — доктор философских наук, главный научный сотрудник
Леонид Григорьевич Института социологии АН СССР
МИХАЙЛОВ - доктор философских наук, заведующий сектором Ин-
Феликс Трофимович ститута философии АН СССР
КОРОВИКОВ - кандидат философских наук
Валентин Иванович
КАНТОР - кандидат философских наук, старший научный сотруд-
Карл Моисеевич ник Института международного рабочего движения АН
СССР
КОШЕЛЕВ - доктор филологических наук, профессор Череповецко-
Вячеслав Анатольевич го педагогического института
РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:
В. А. Лекторский (главный редактор), Г. С. Арефьева, А. И. Володин, П. П. Гайденко,
Б. Т. Григорьян, В. П. Зинченко, А. Ф. Зотов, В. Ж. Келле, Л. Н. Митрохин, Н. Н.
Моисеев, Н. В. Мотрошилова, В. И. Мудрагей (заместитель главного редактора),
Т. И. Ойзерман, В. А. Смирнов, В. С. Степин, В. С. Швырев, А. А. Яковлев
(ответственный секретарь).
Технический редактор Е. А. Колесникова
Сдано в набор 02.01.90 Подписано к печати 26.01.90. Формат 70ХЮ87и
Высокая печать Усл. печ. л. 15,4 Усл. кр.-отт. 1346,7 Уч.-изд. л. 17,7 Бум. л. 5,5
Тираж 85800 экз. Заказ № 3899 Цена 80 к.
Адрес редакции: 121002, Москва, Г-2, Смоленский бульвар, 20. Телефон 201-56-86.
2-я типография издательства «Наука», 121099, Москва, Г-99, Шубиыский пер^ 6
176