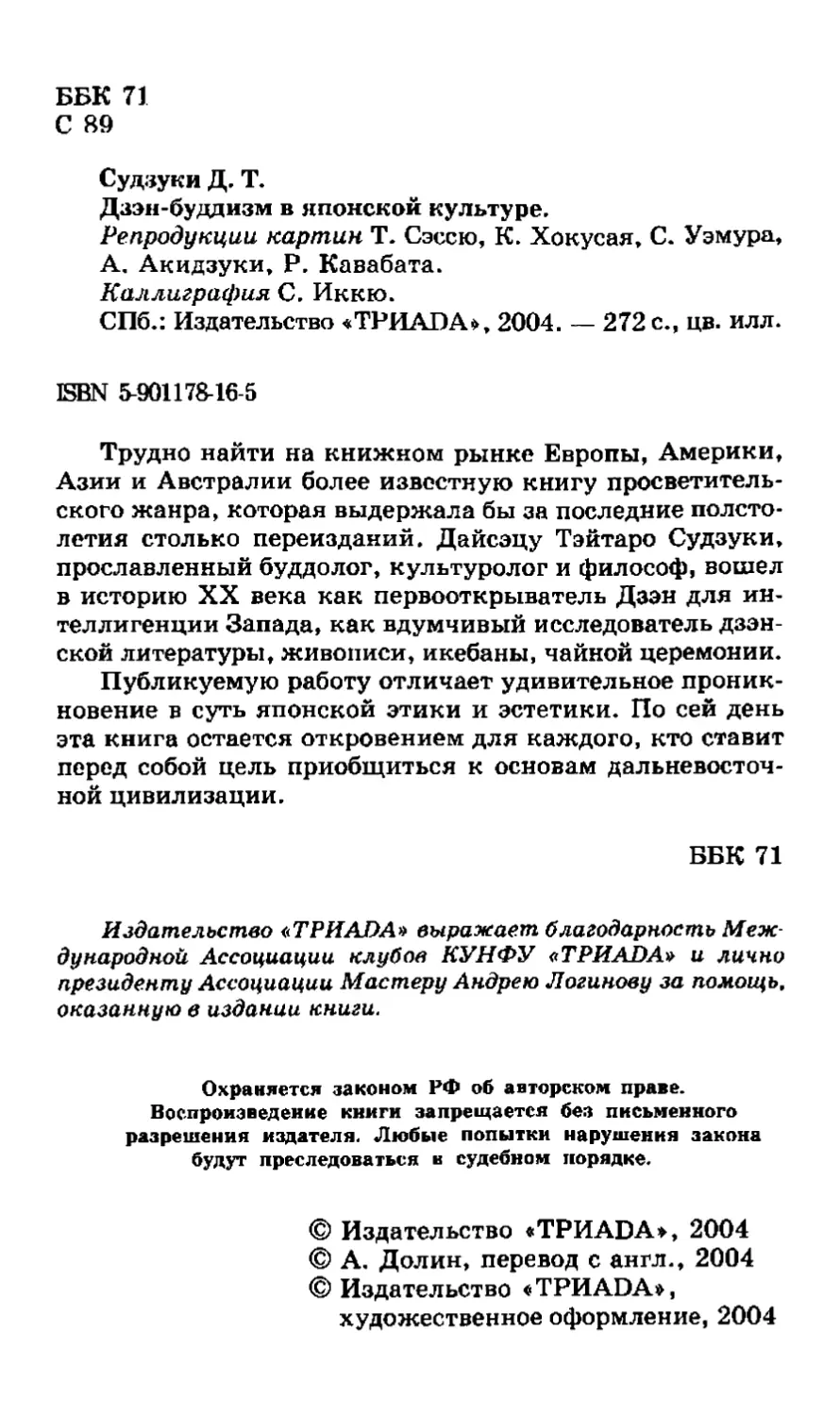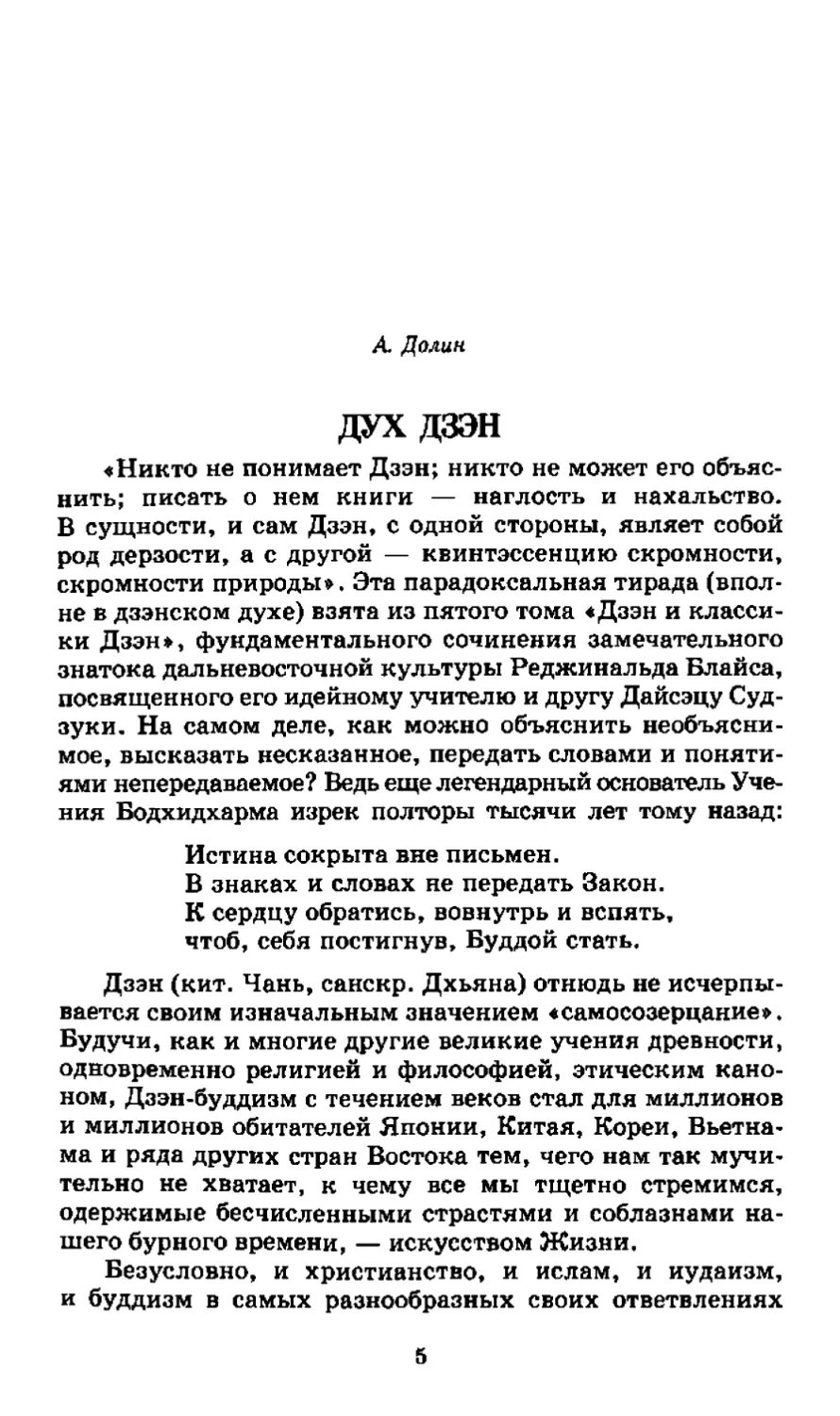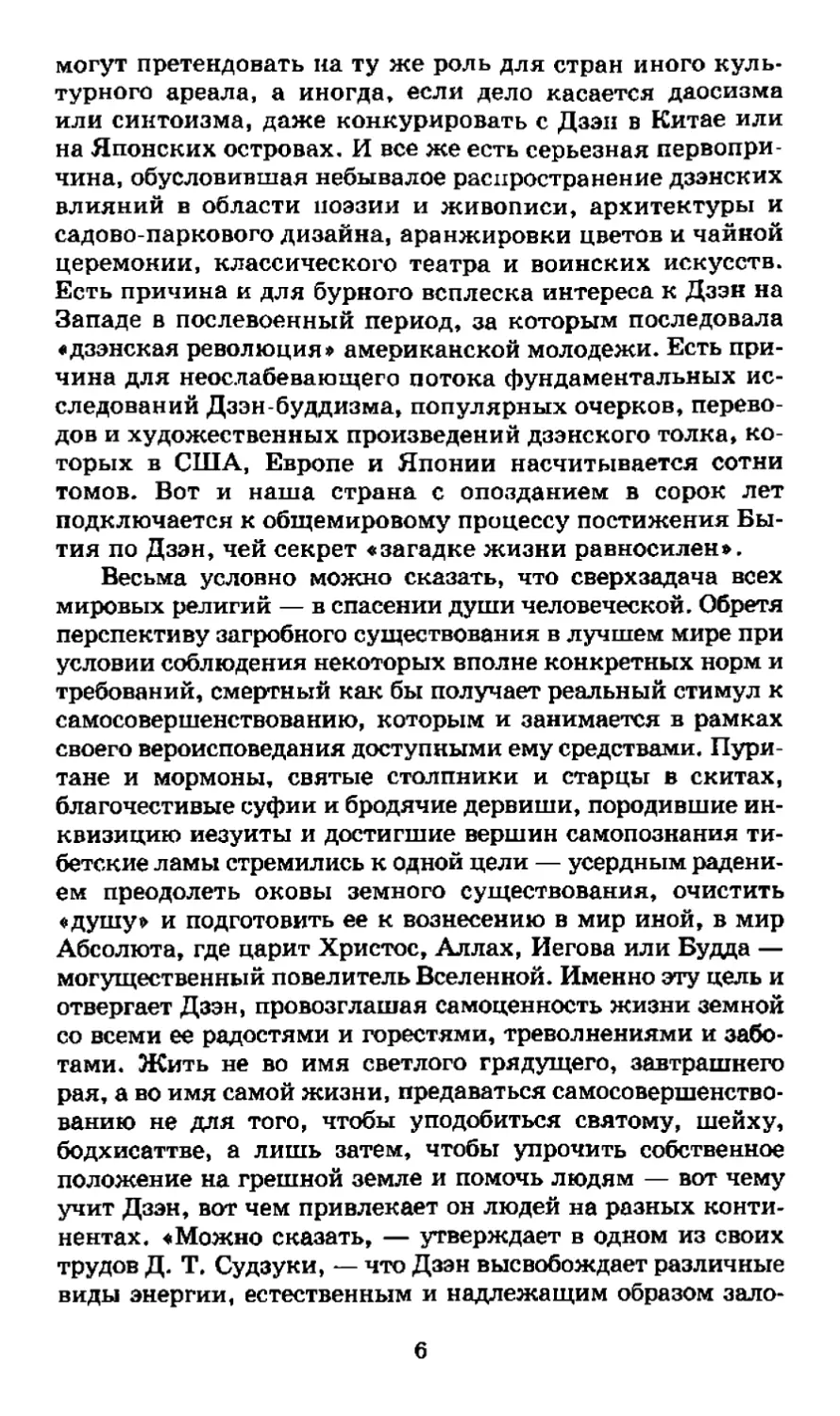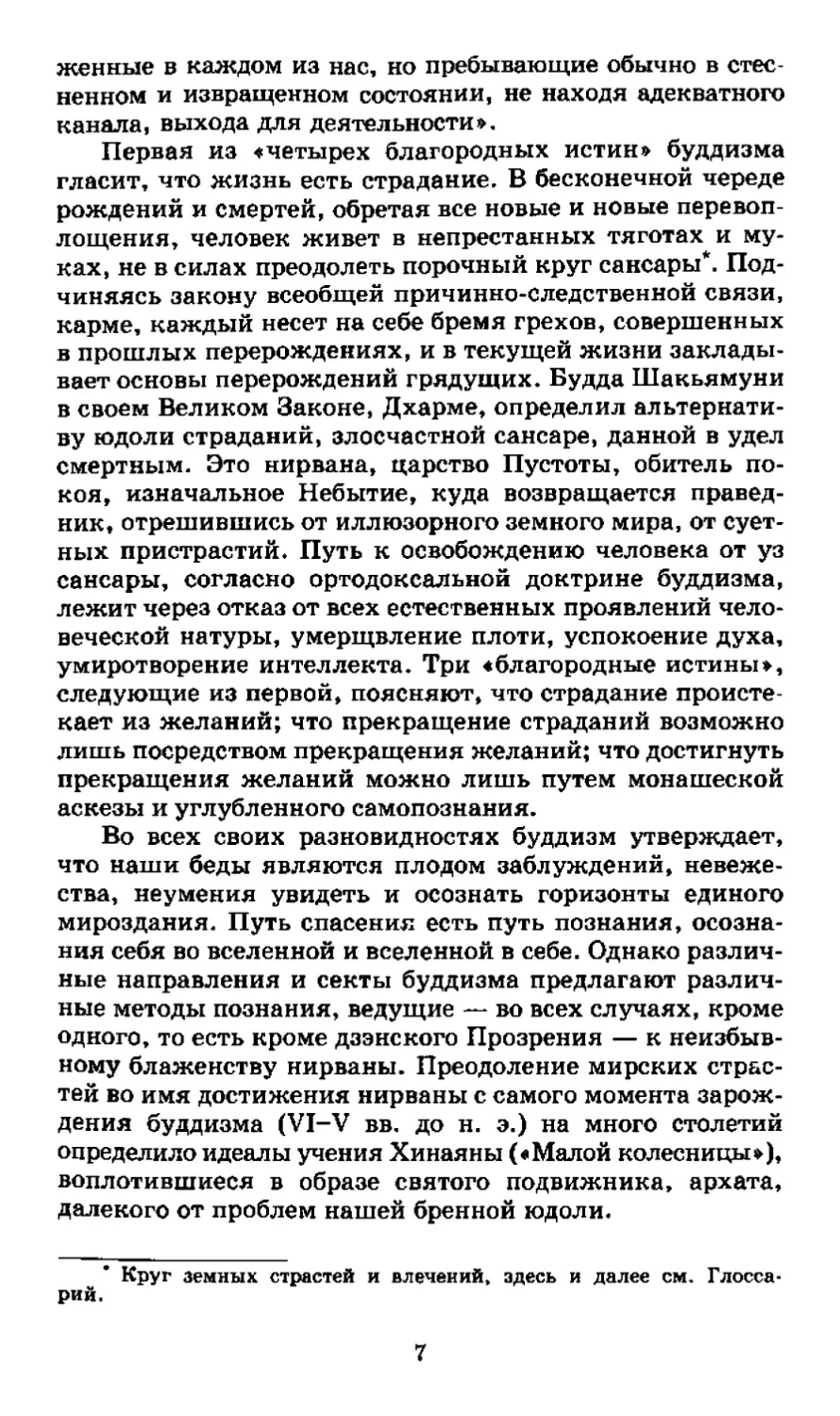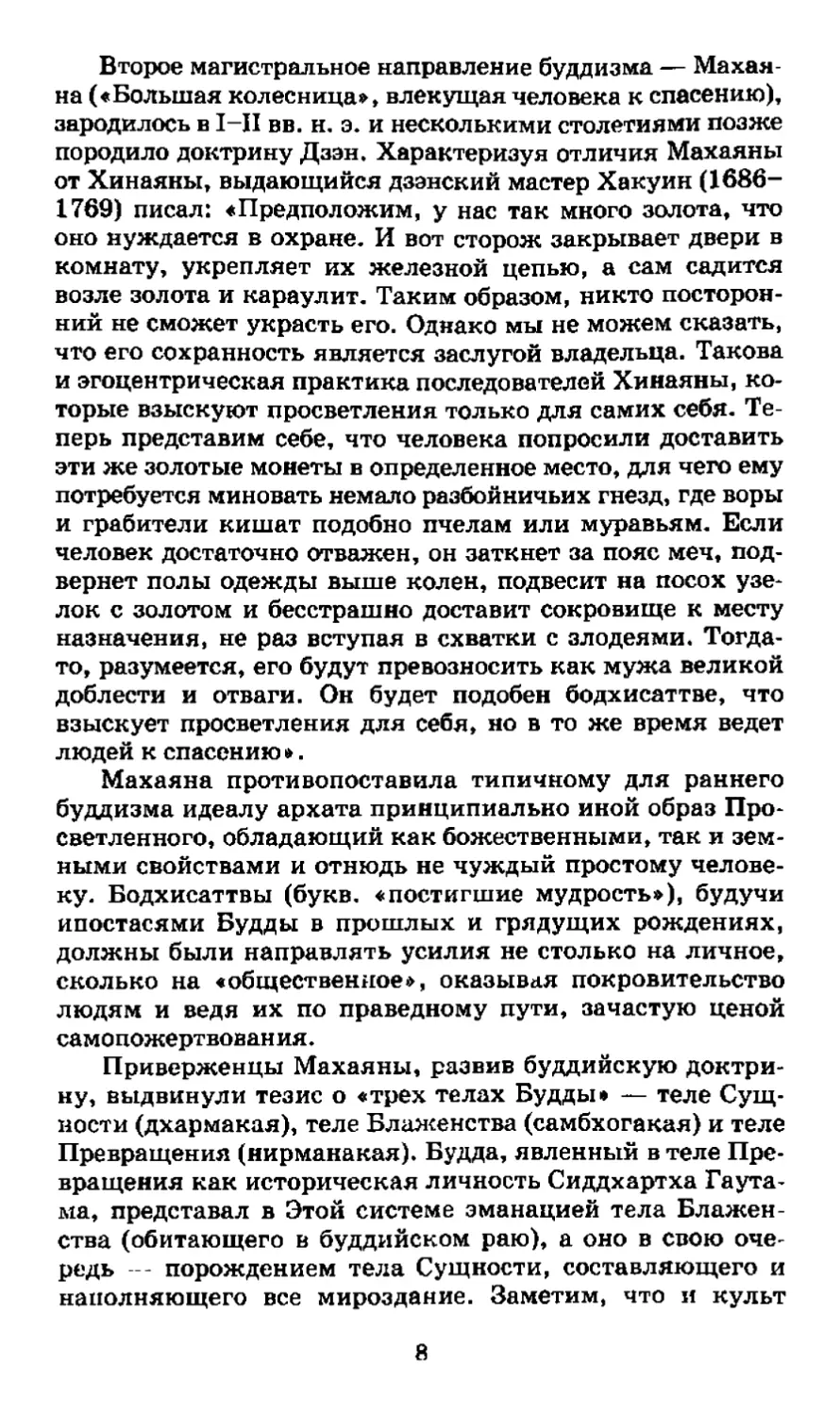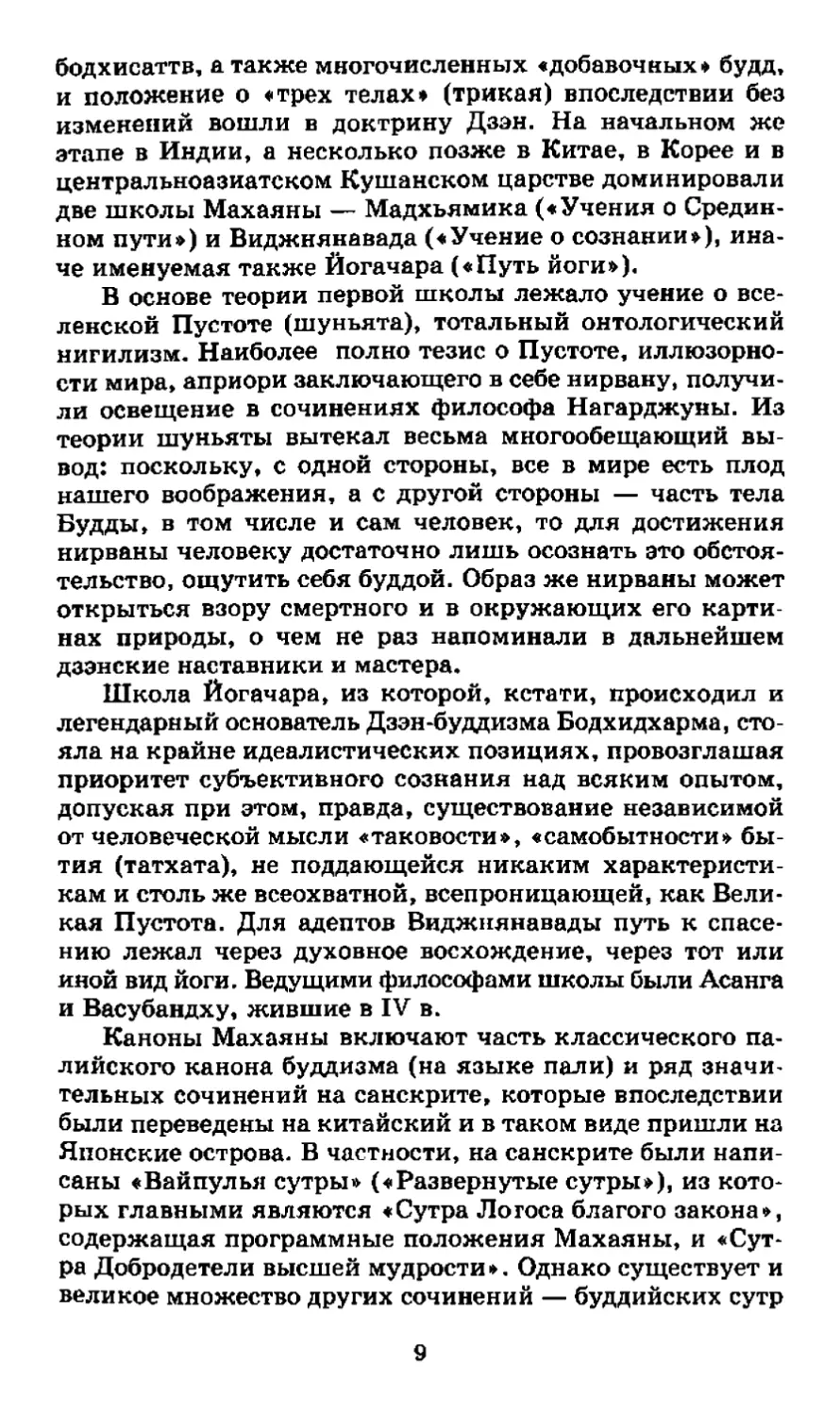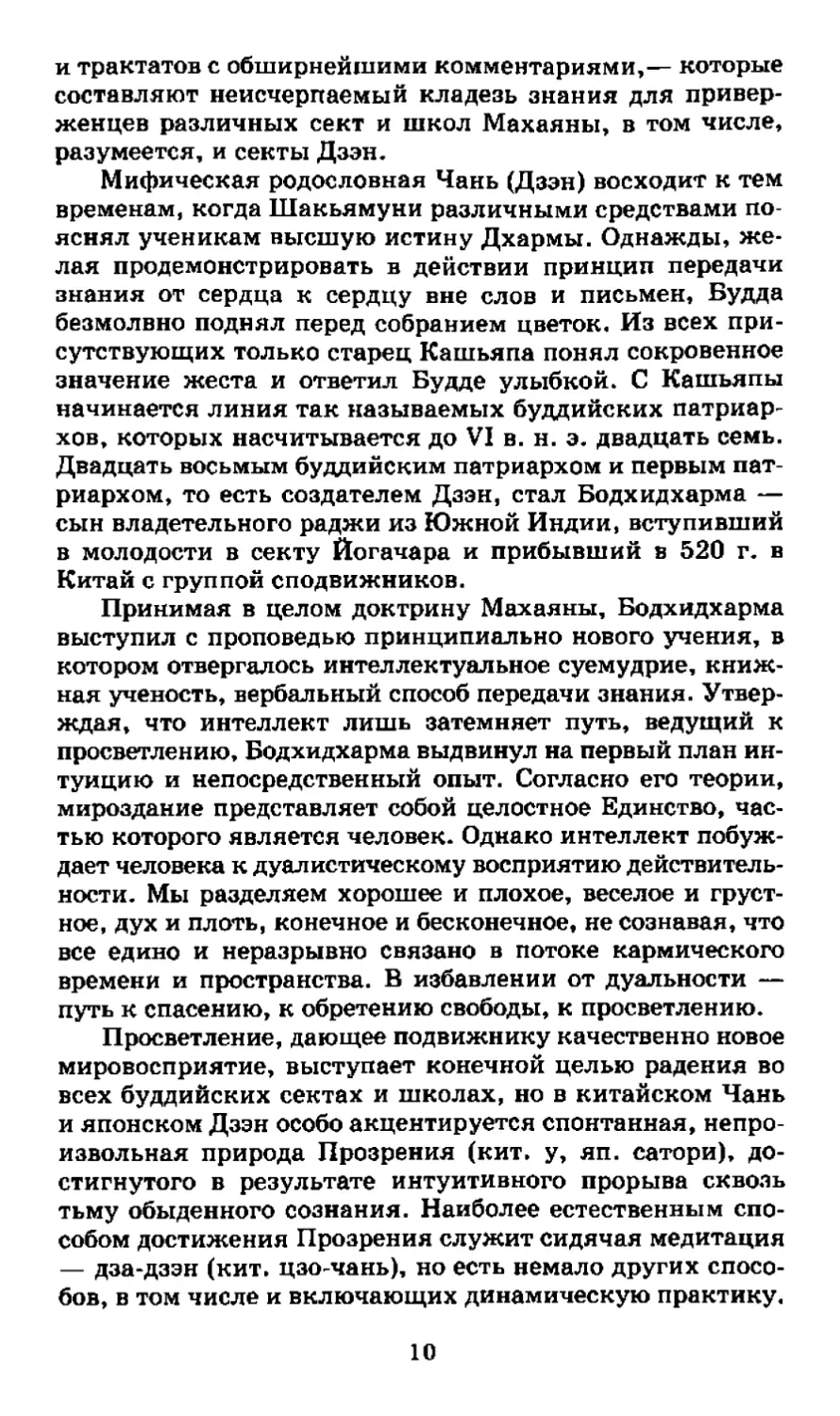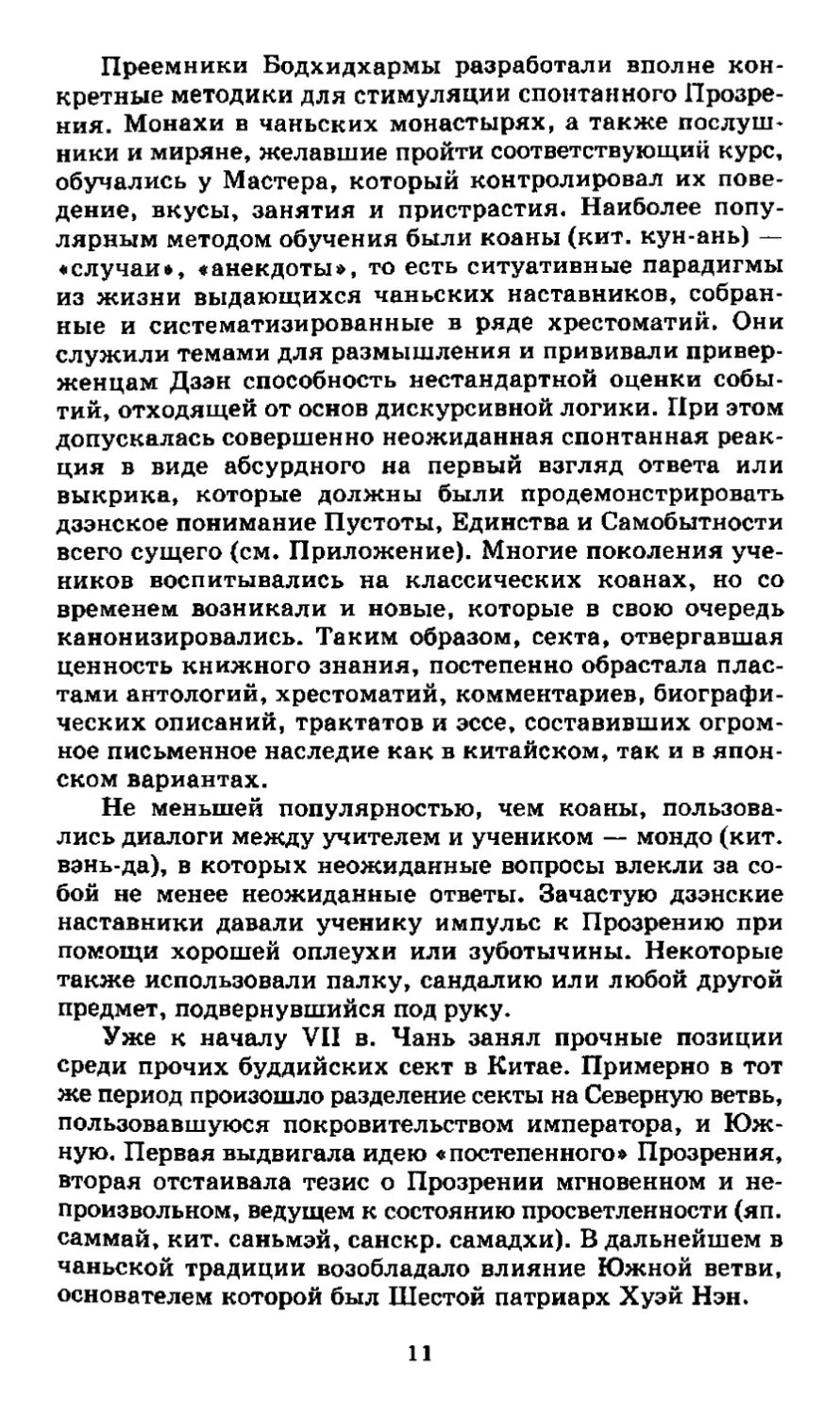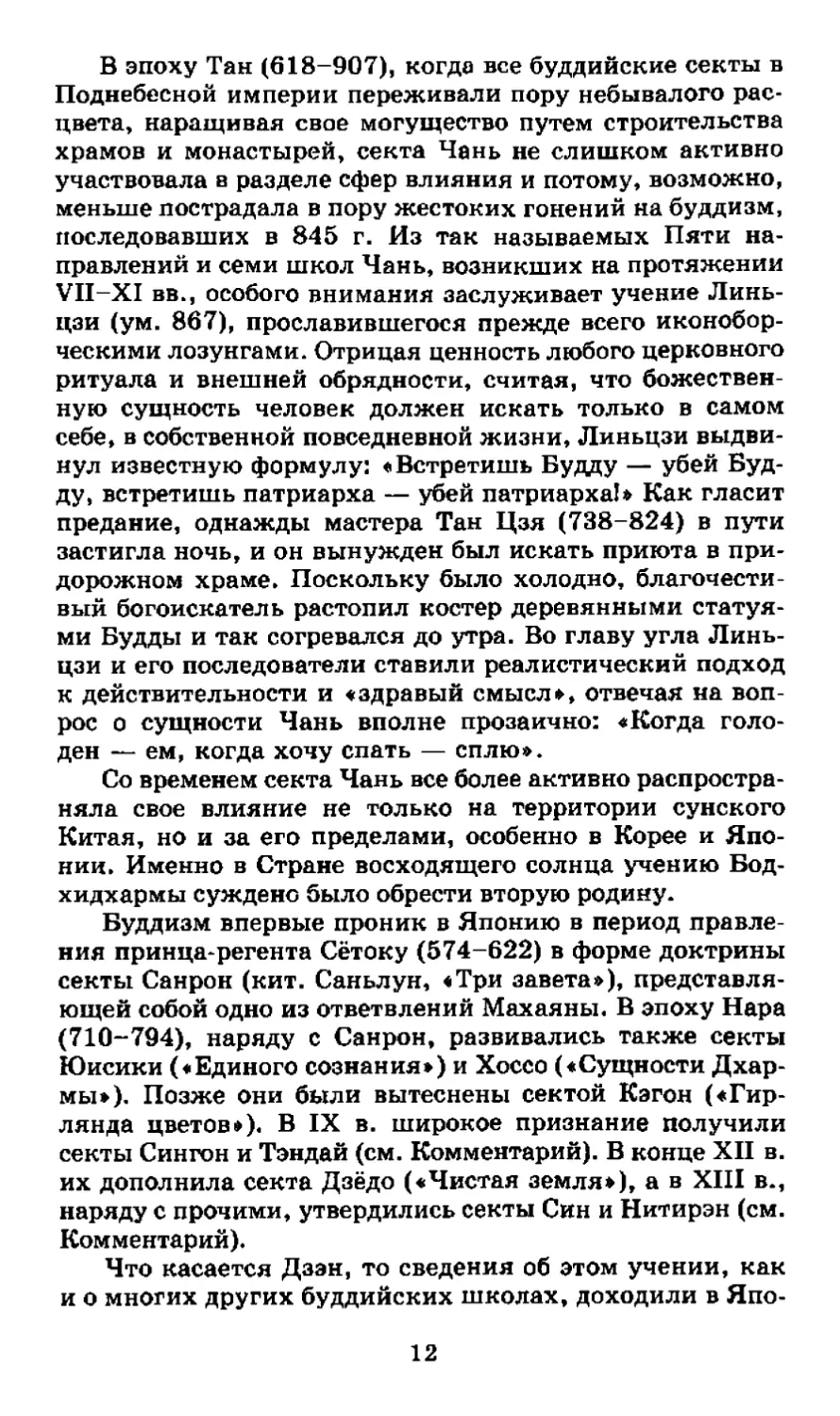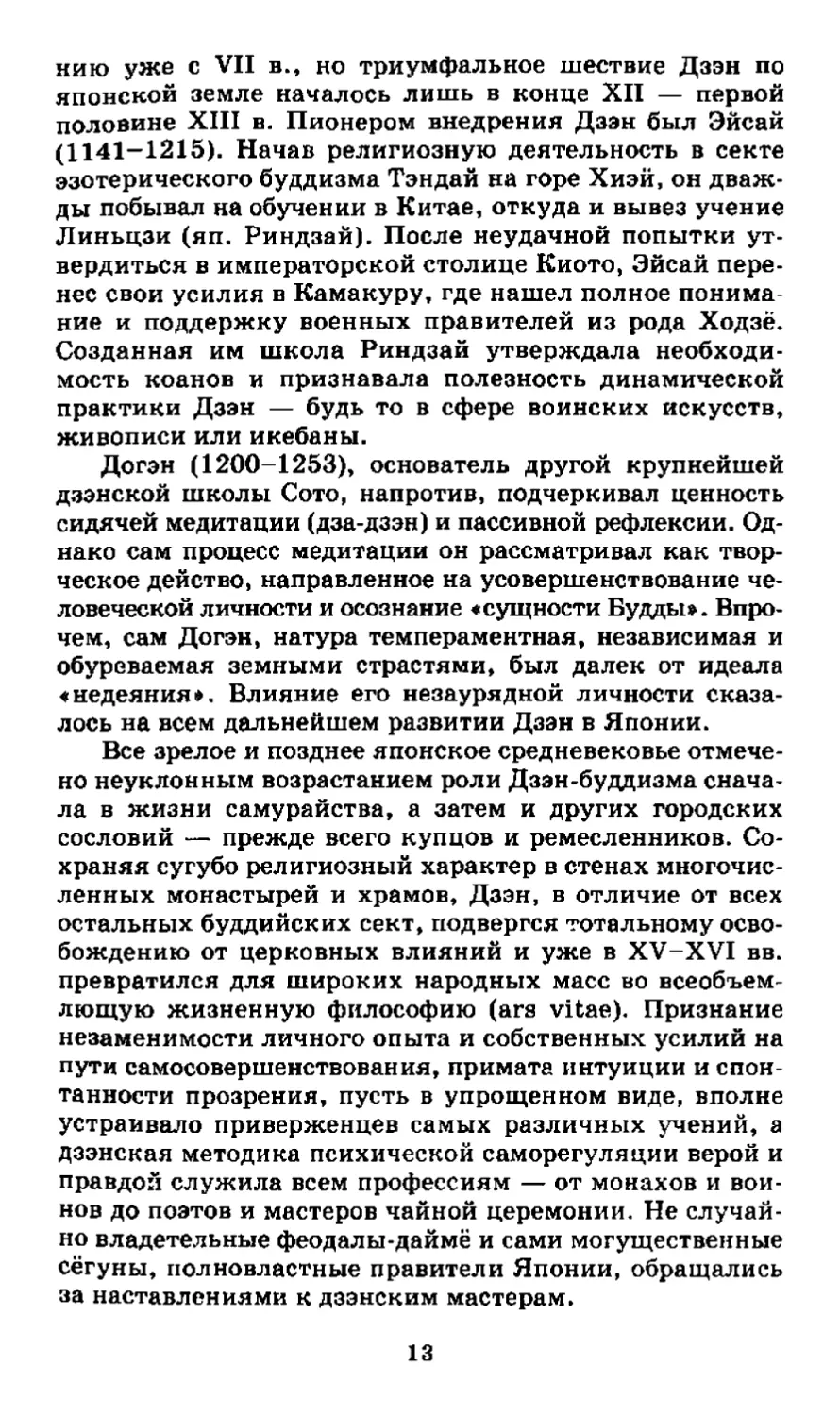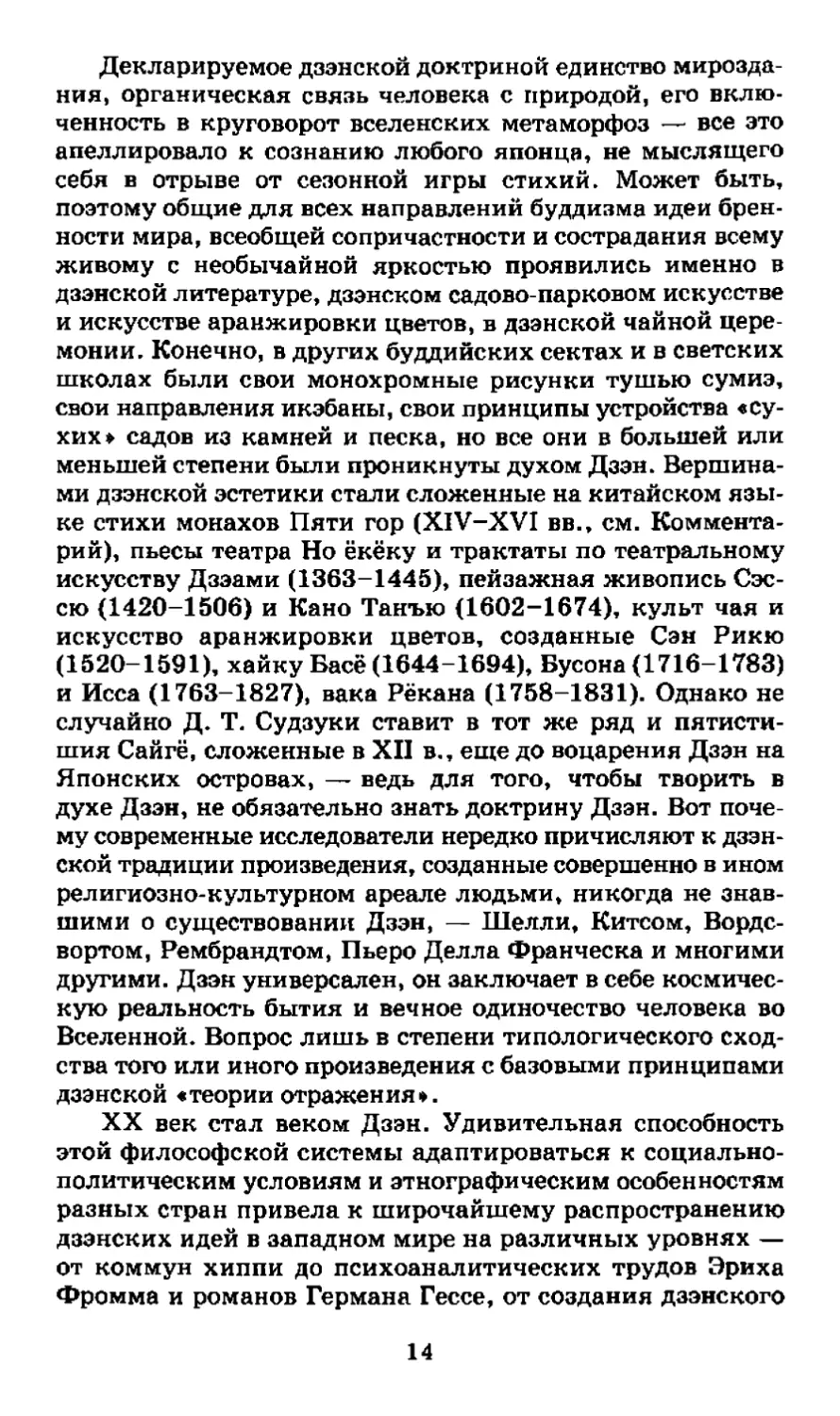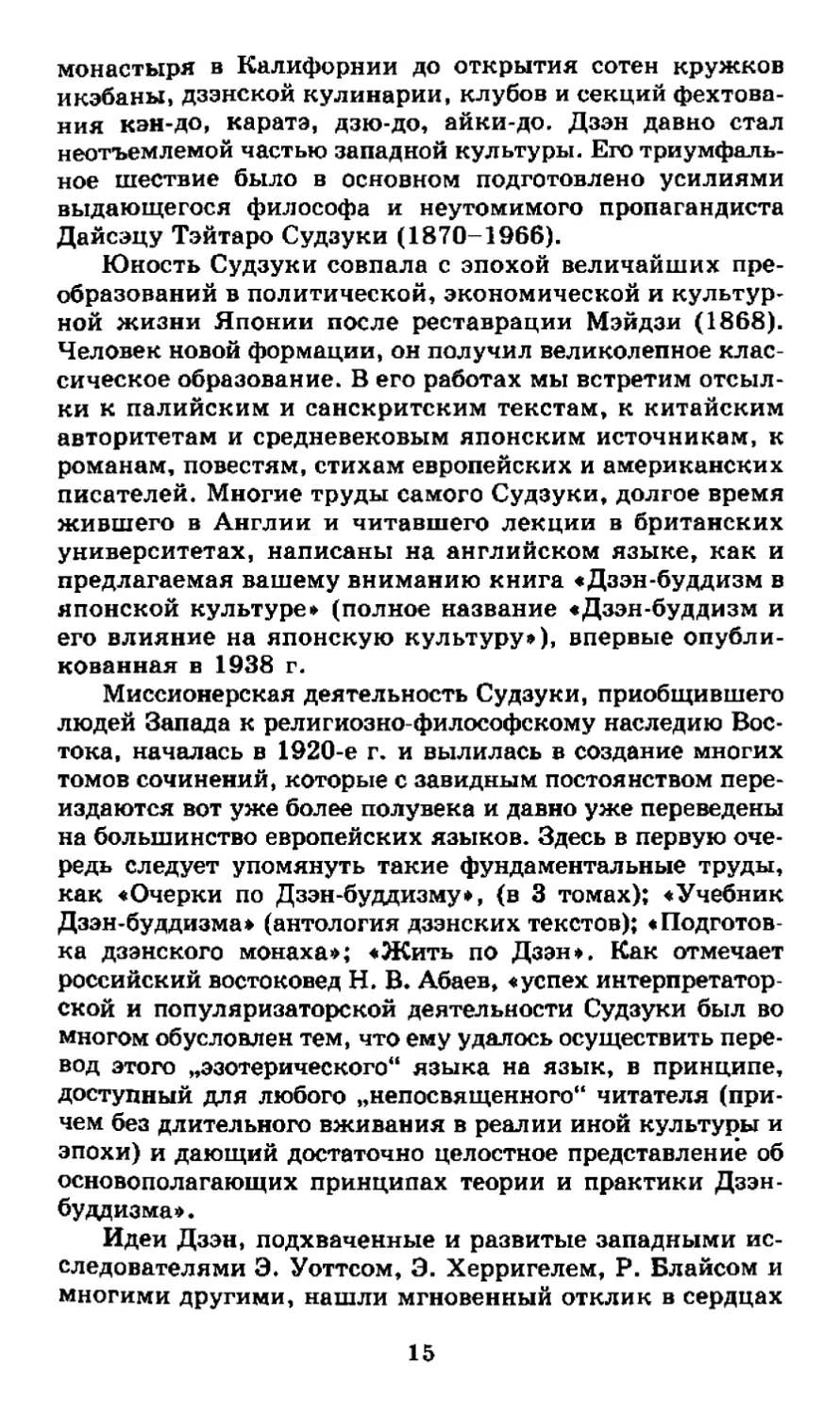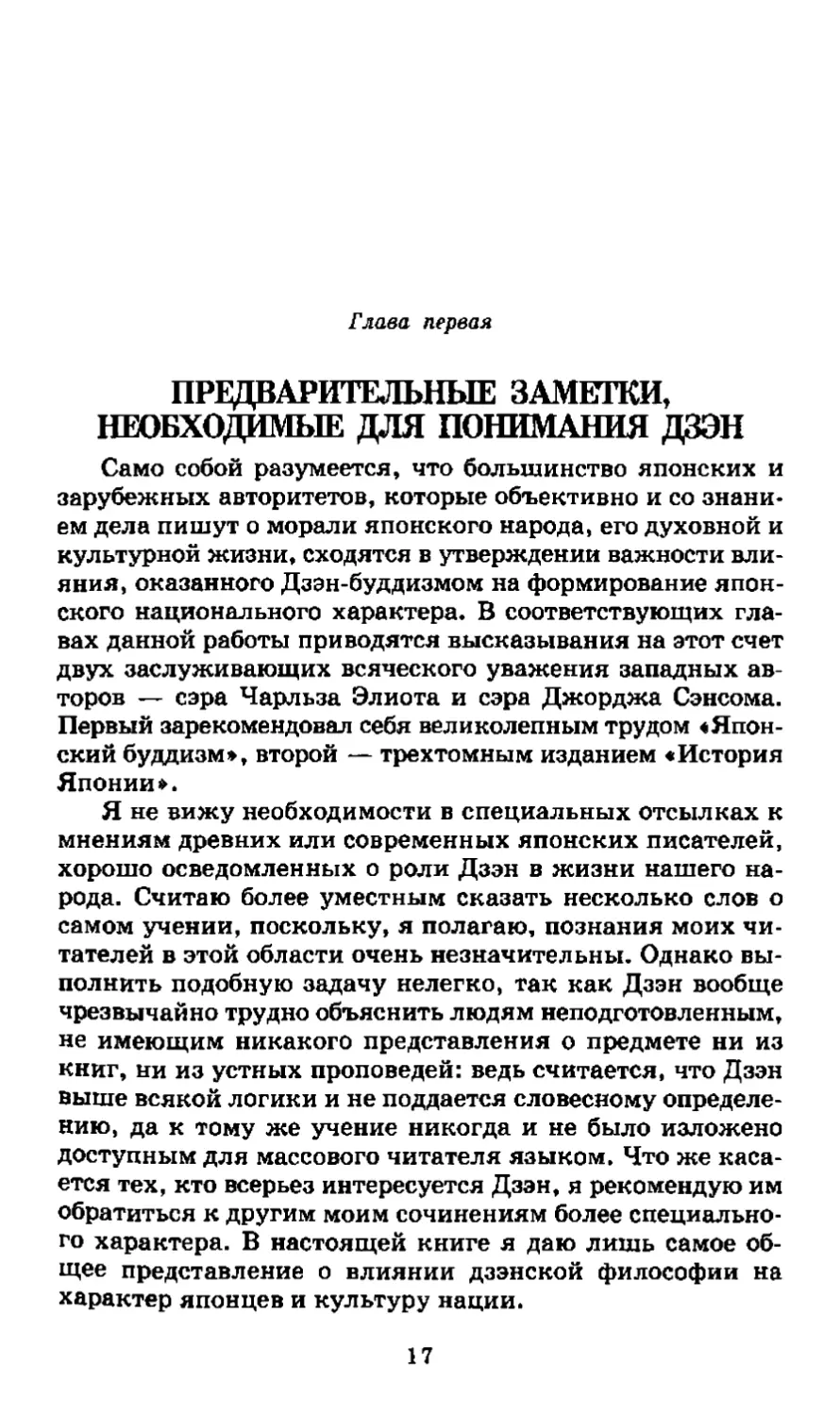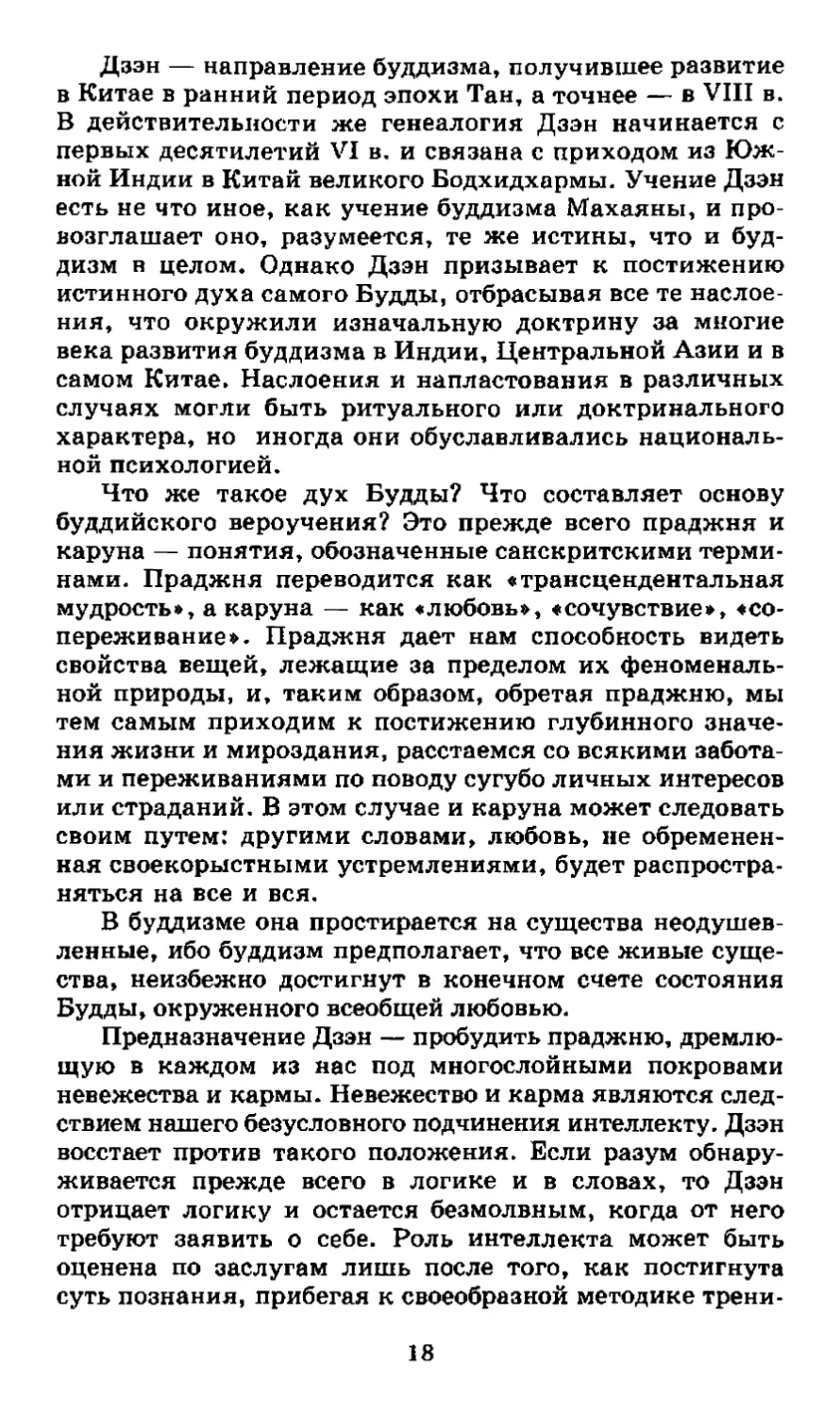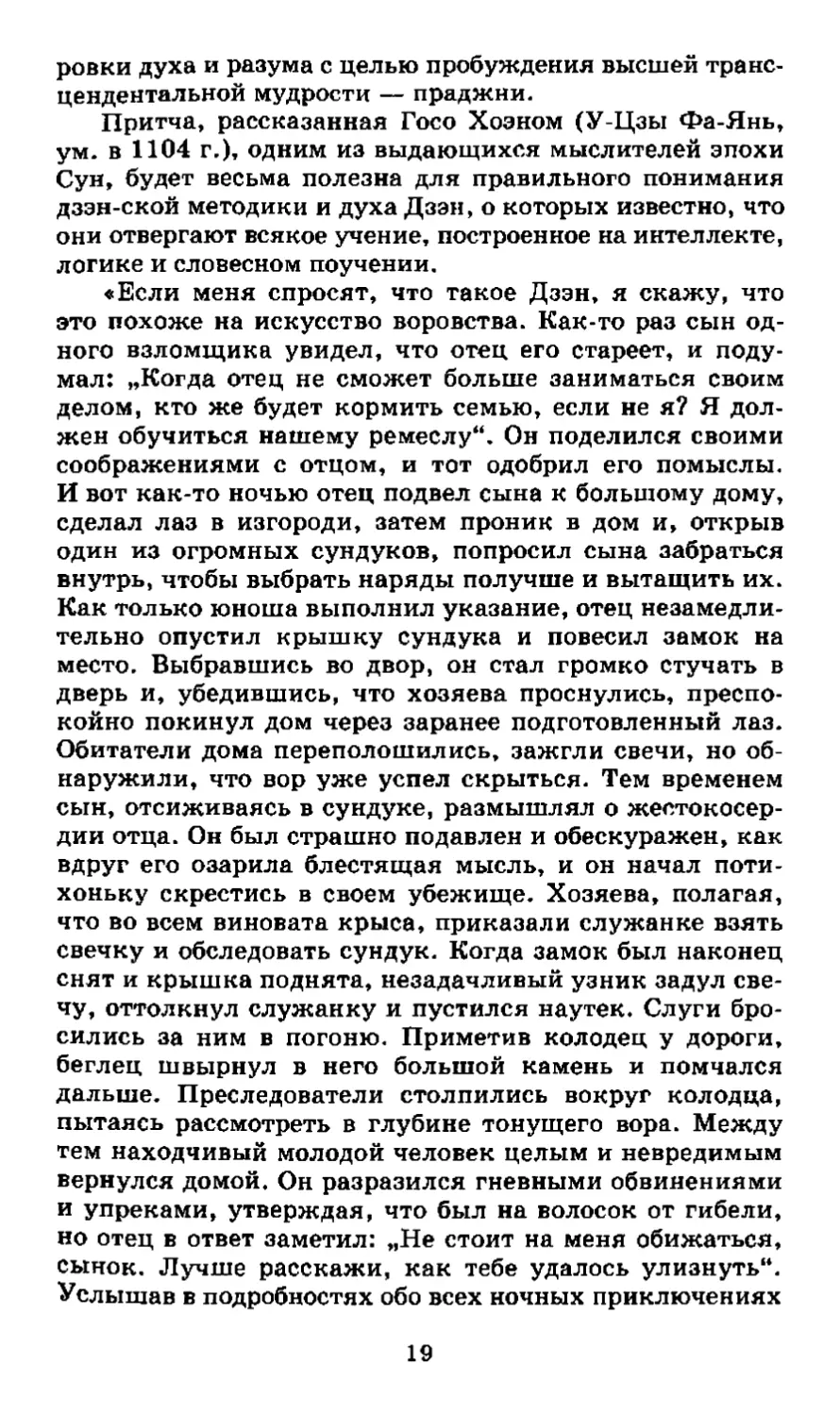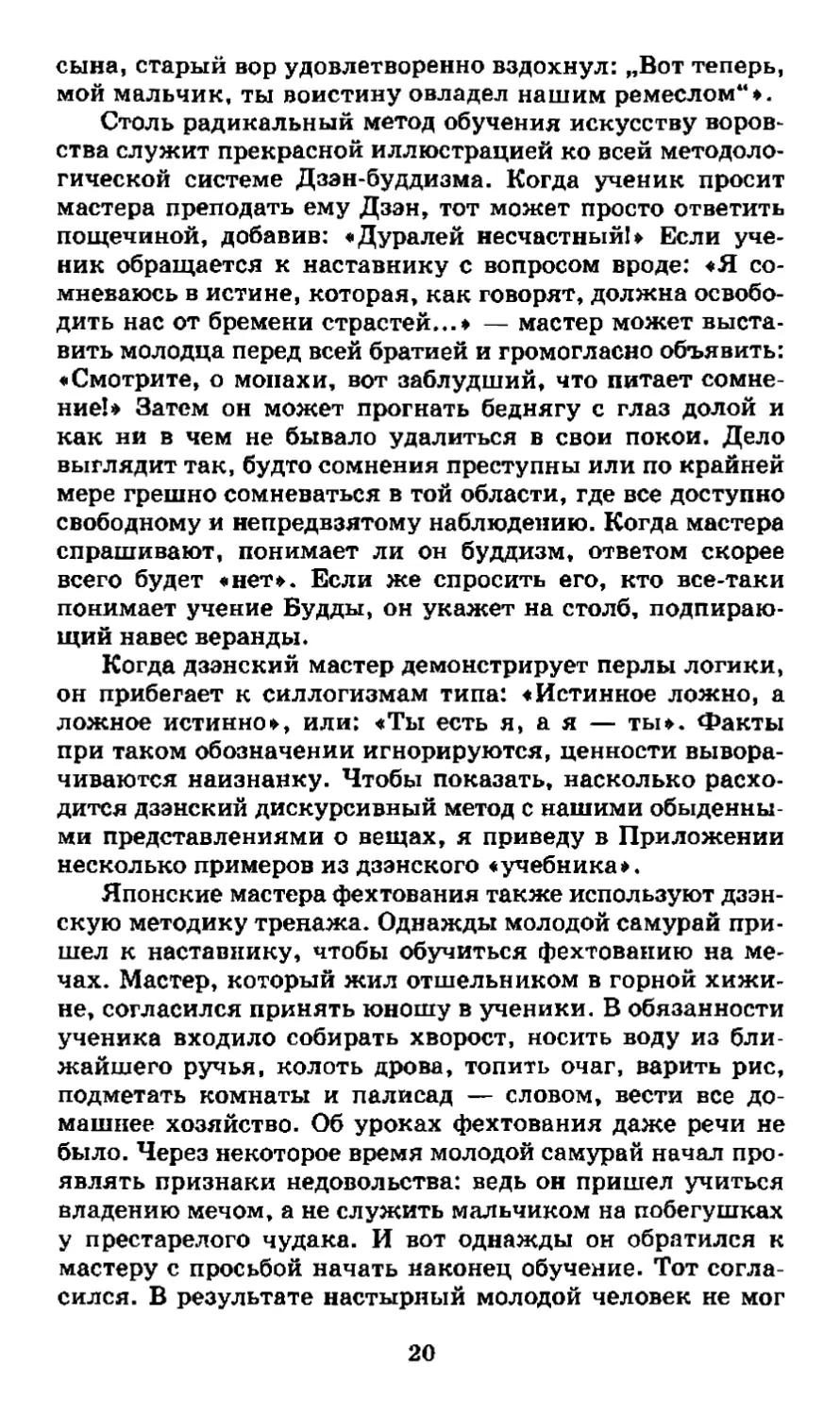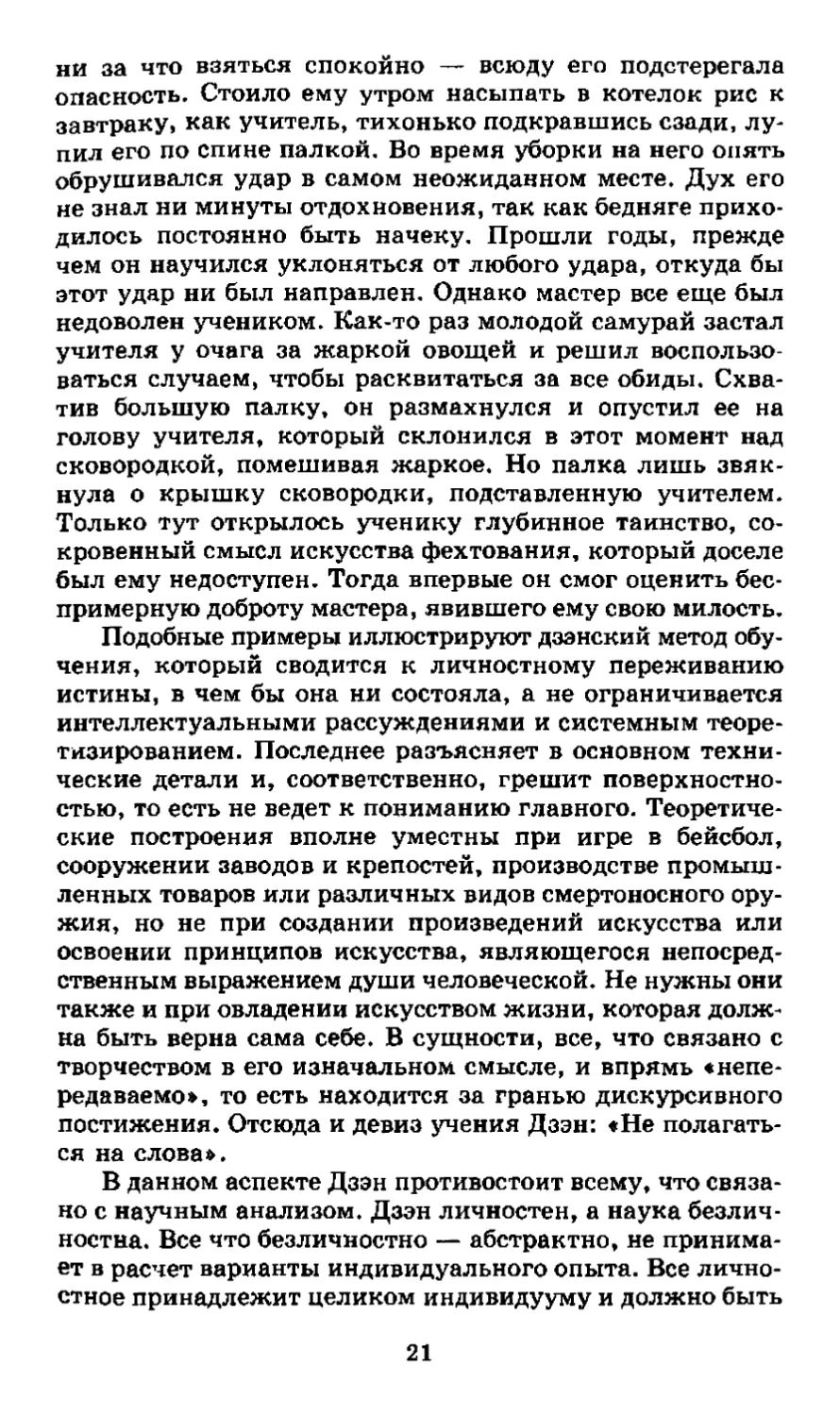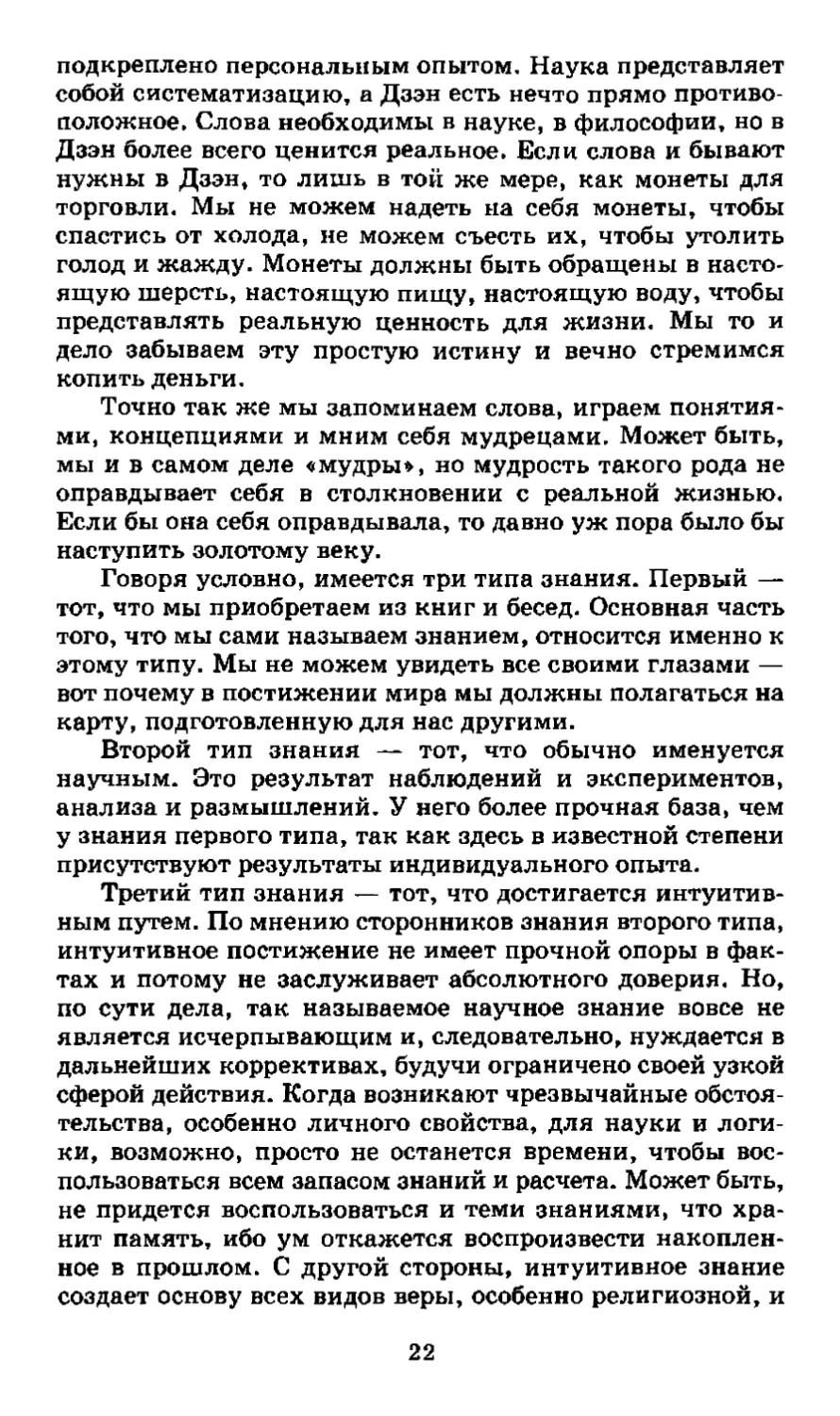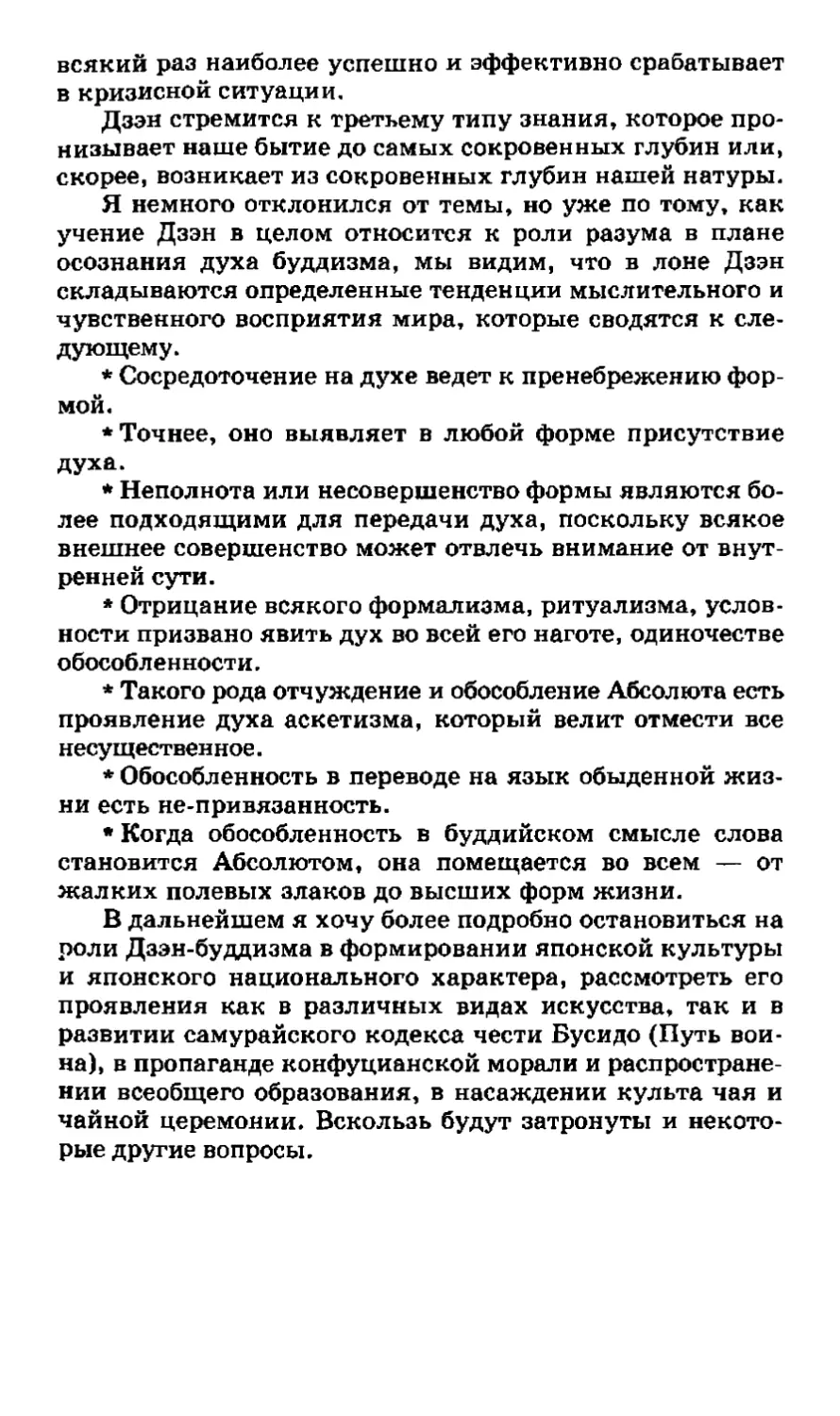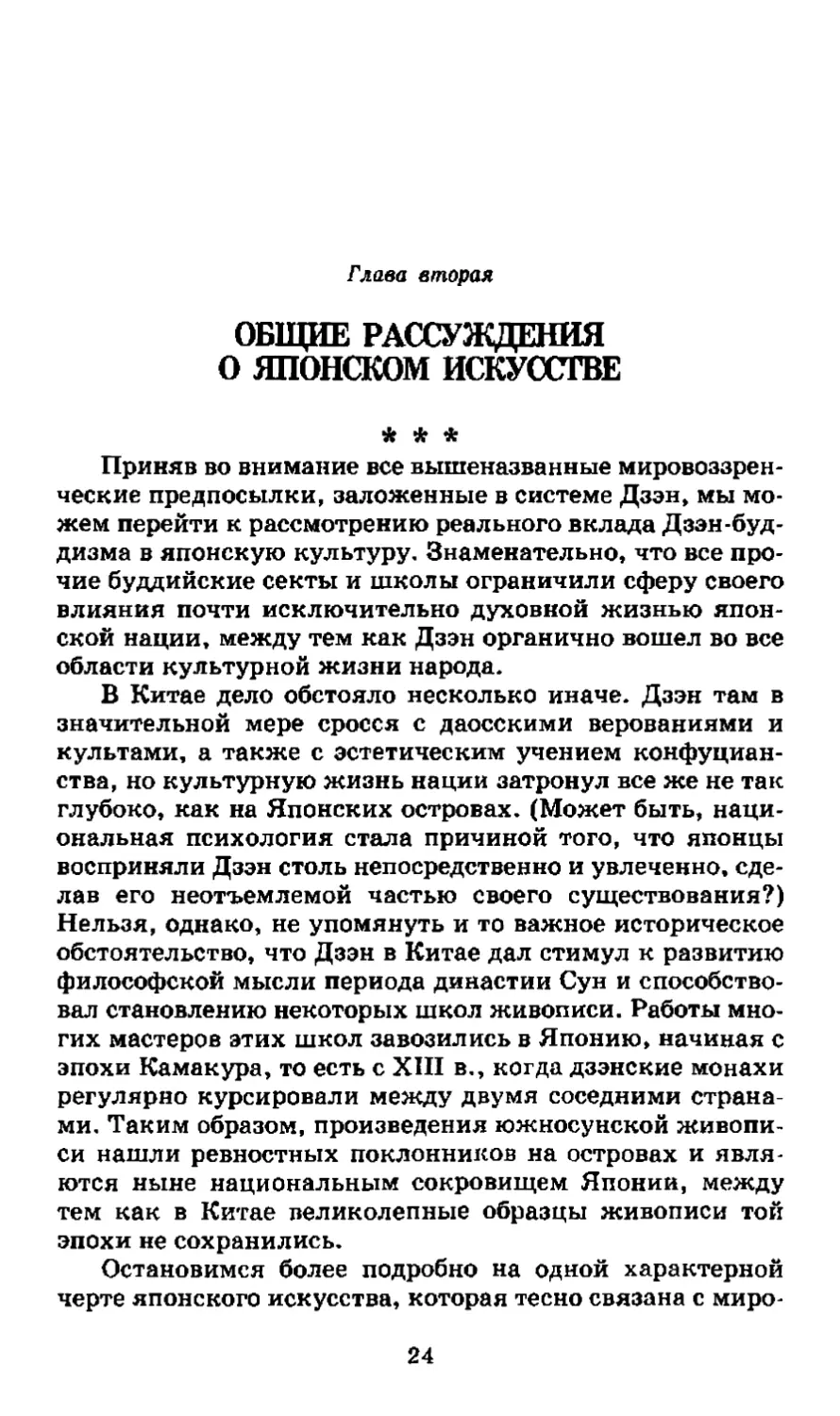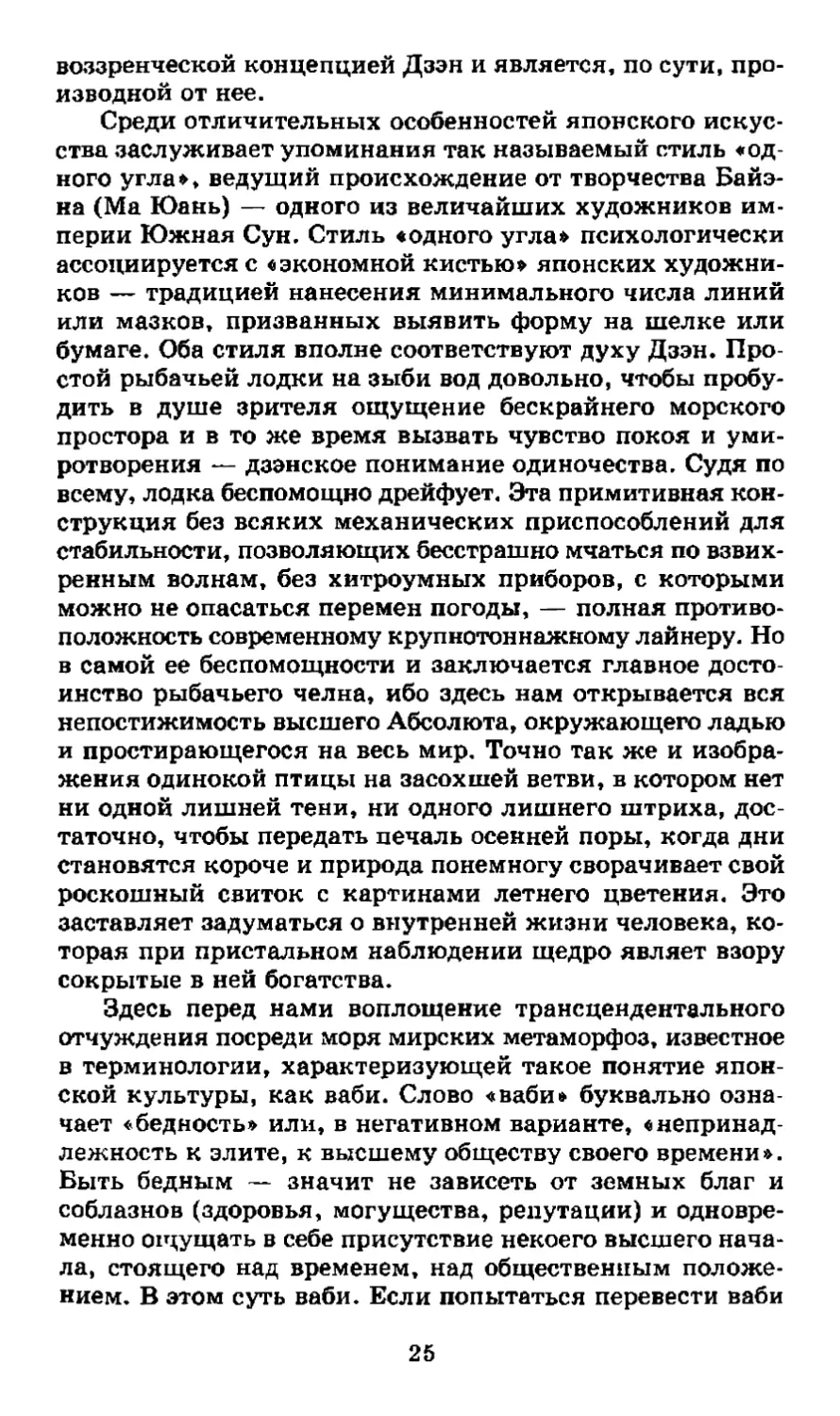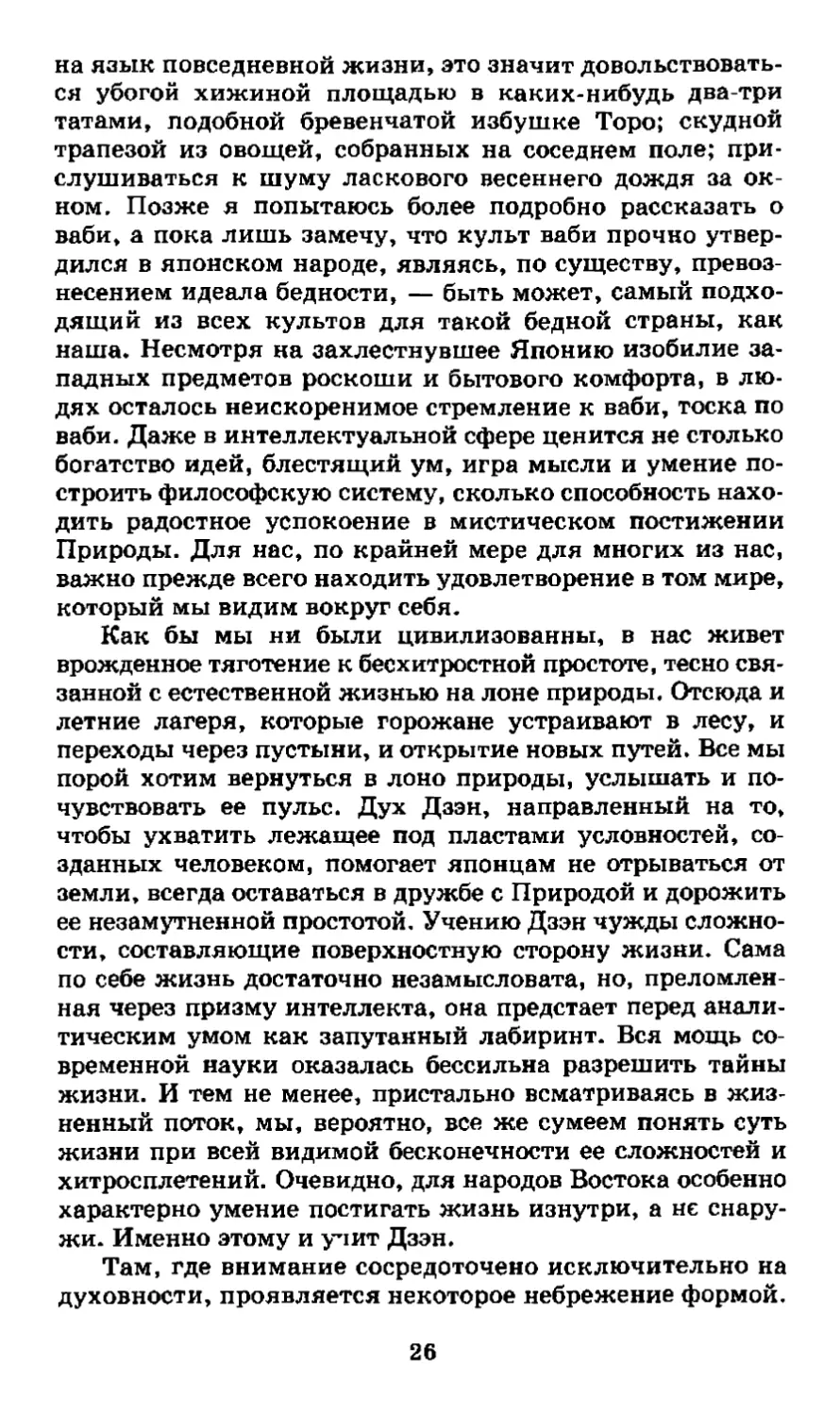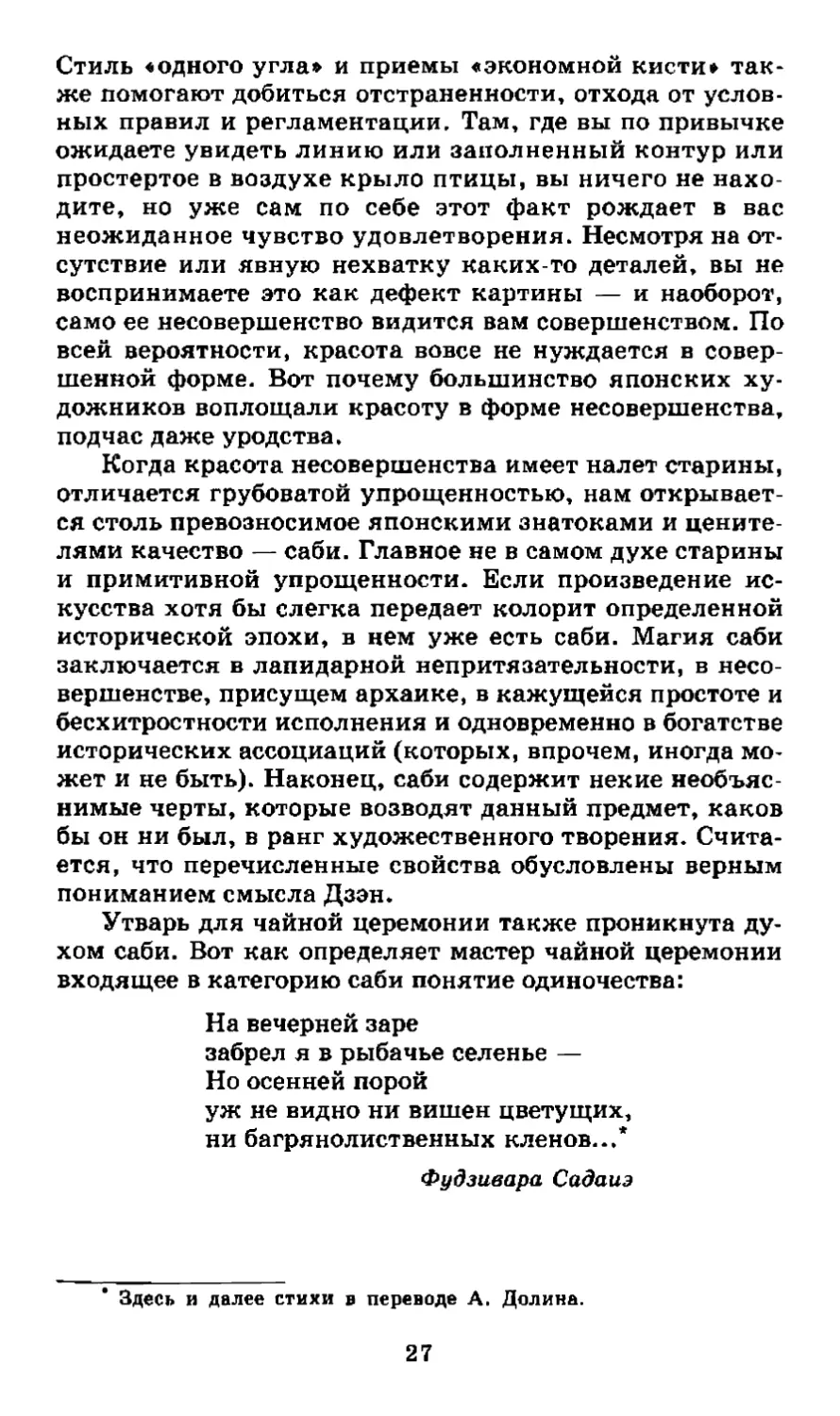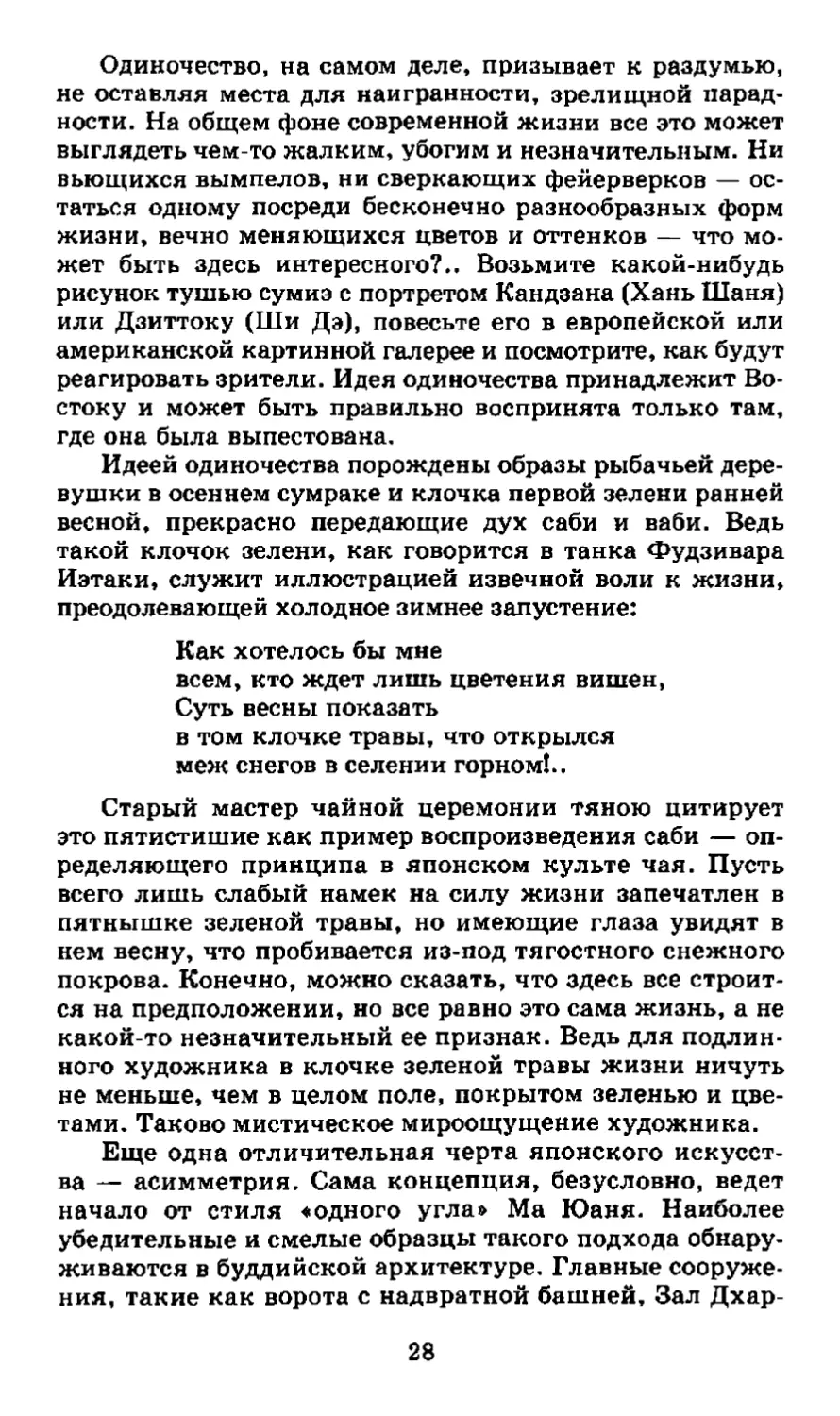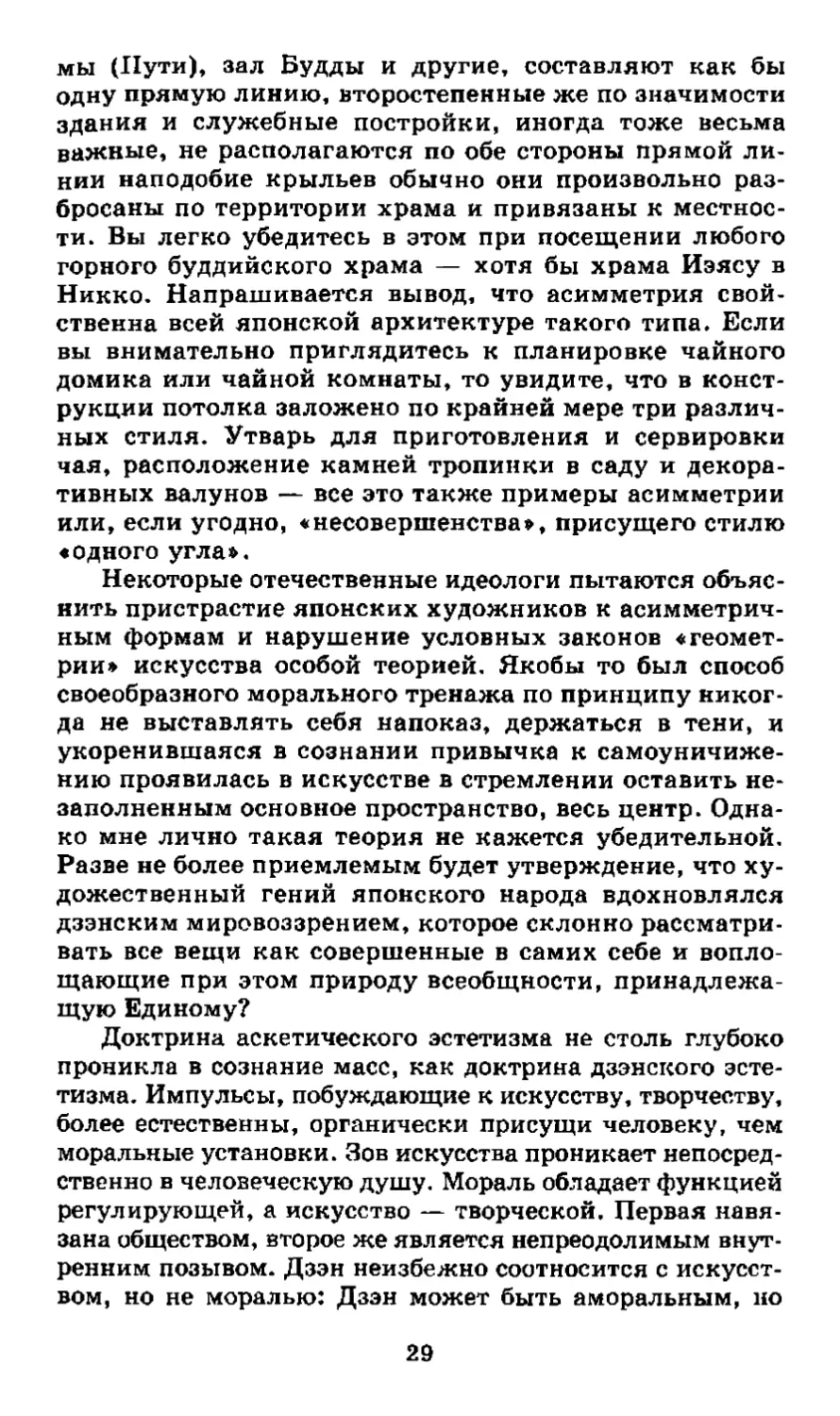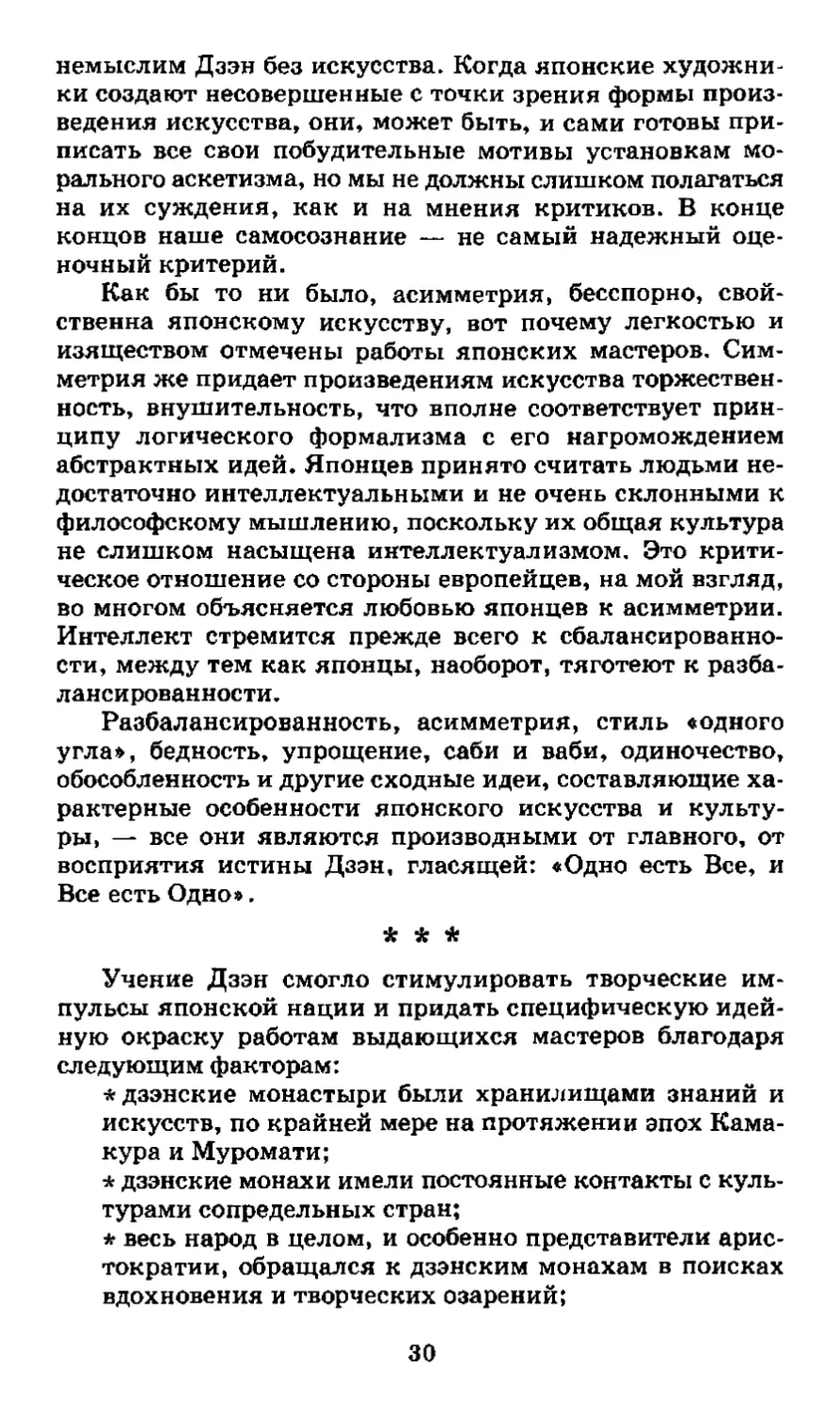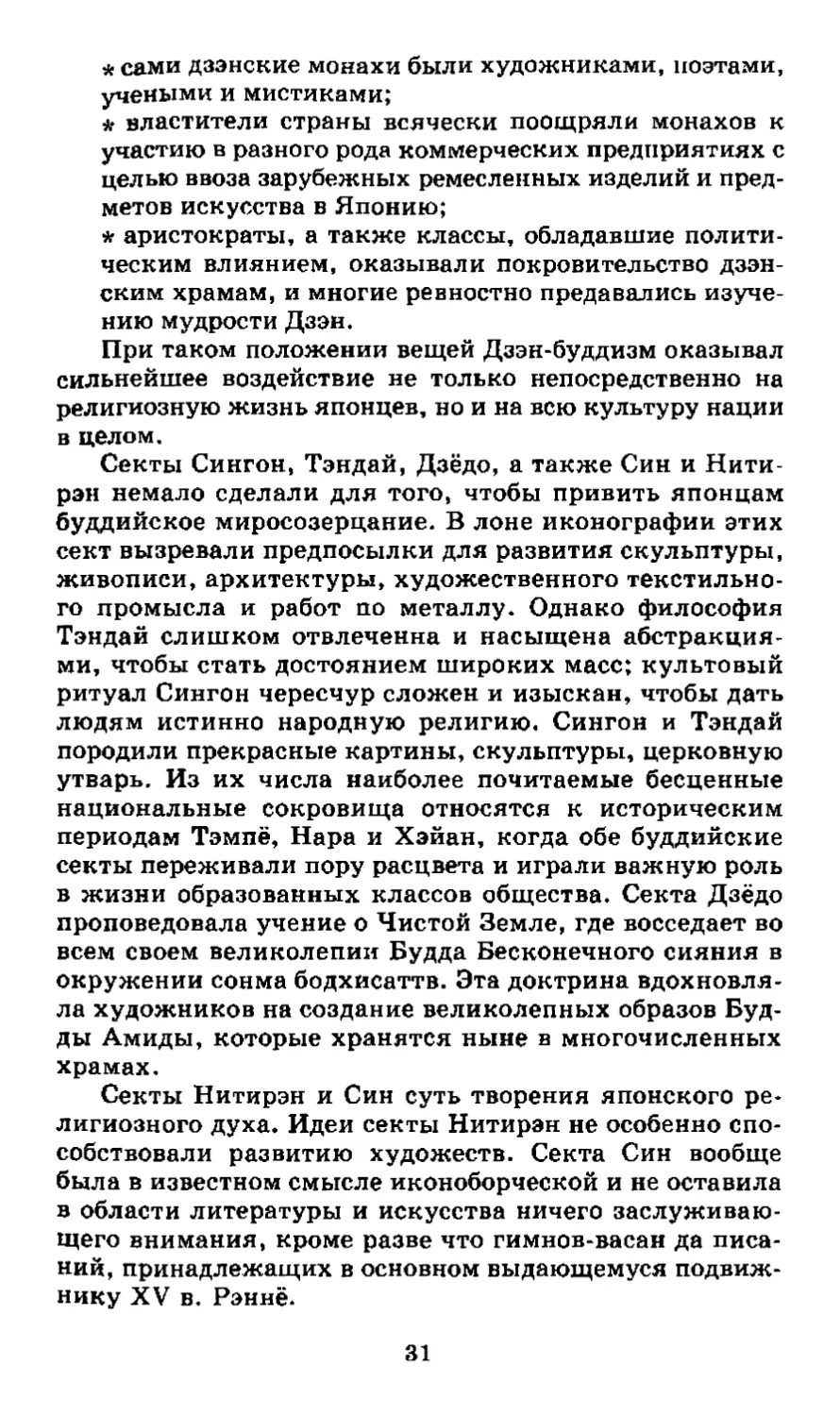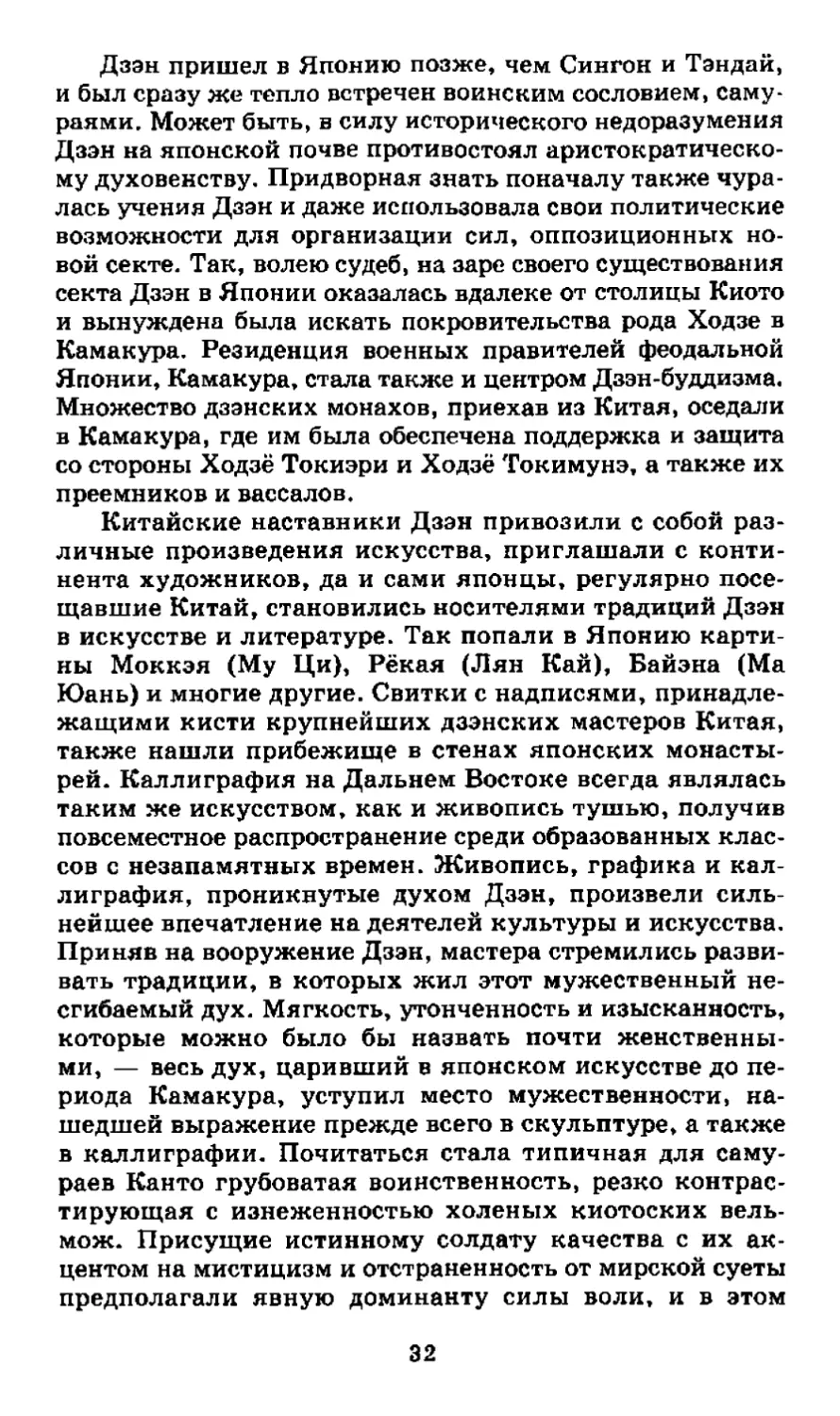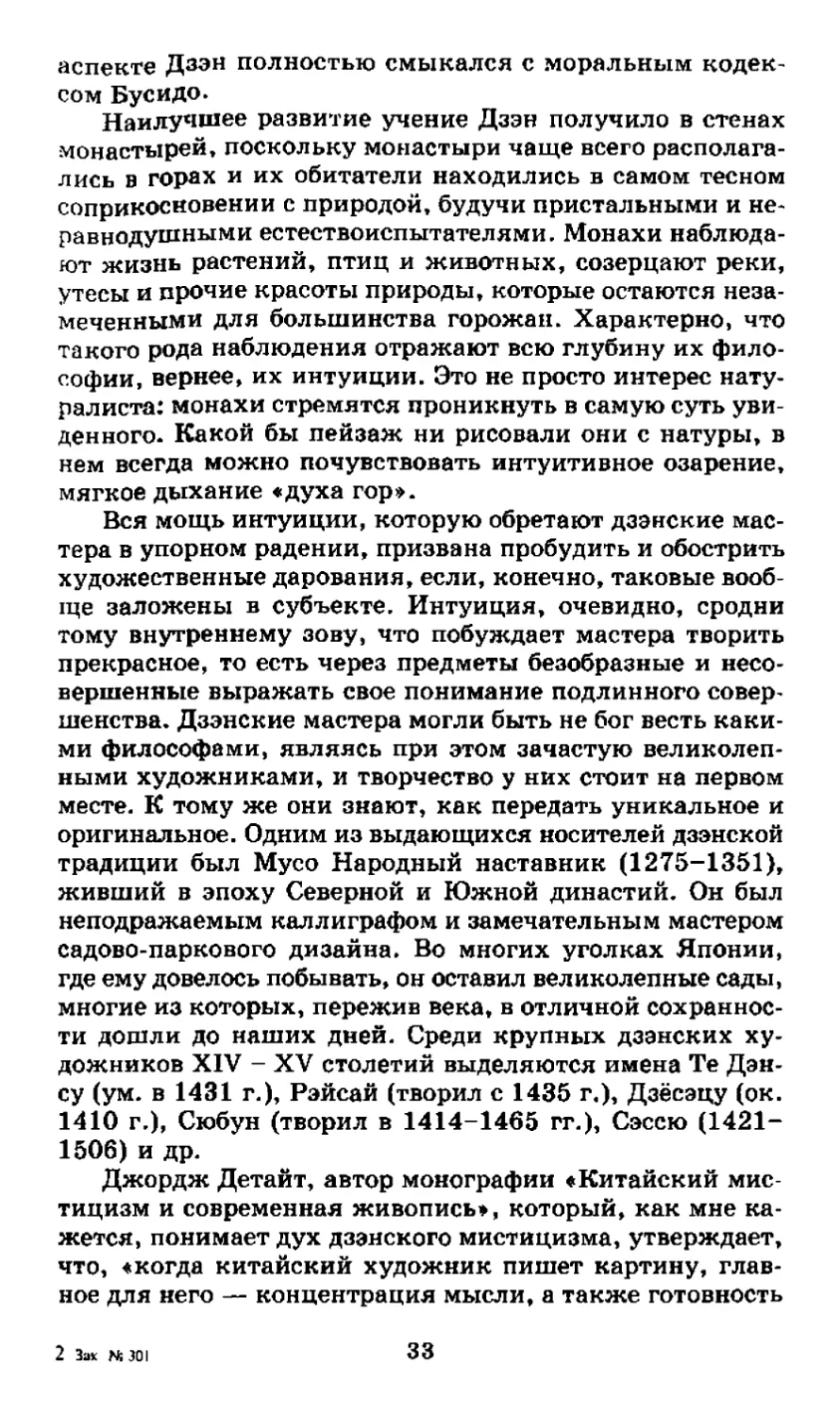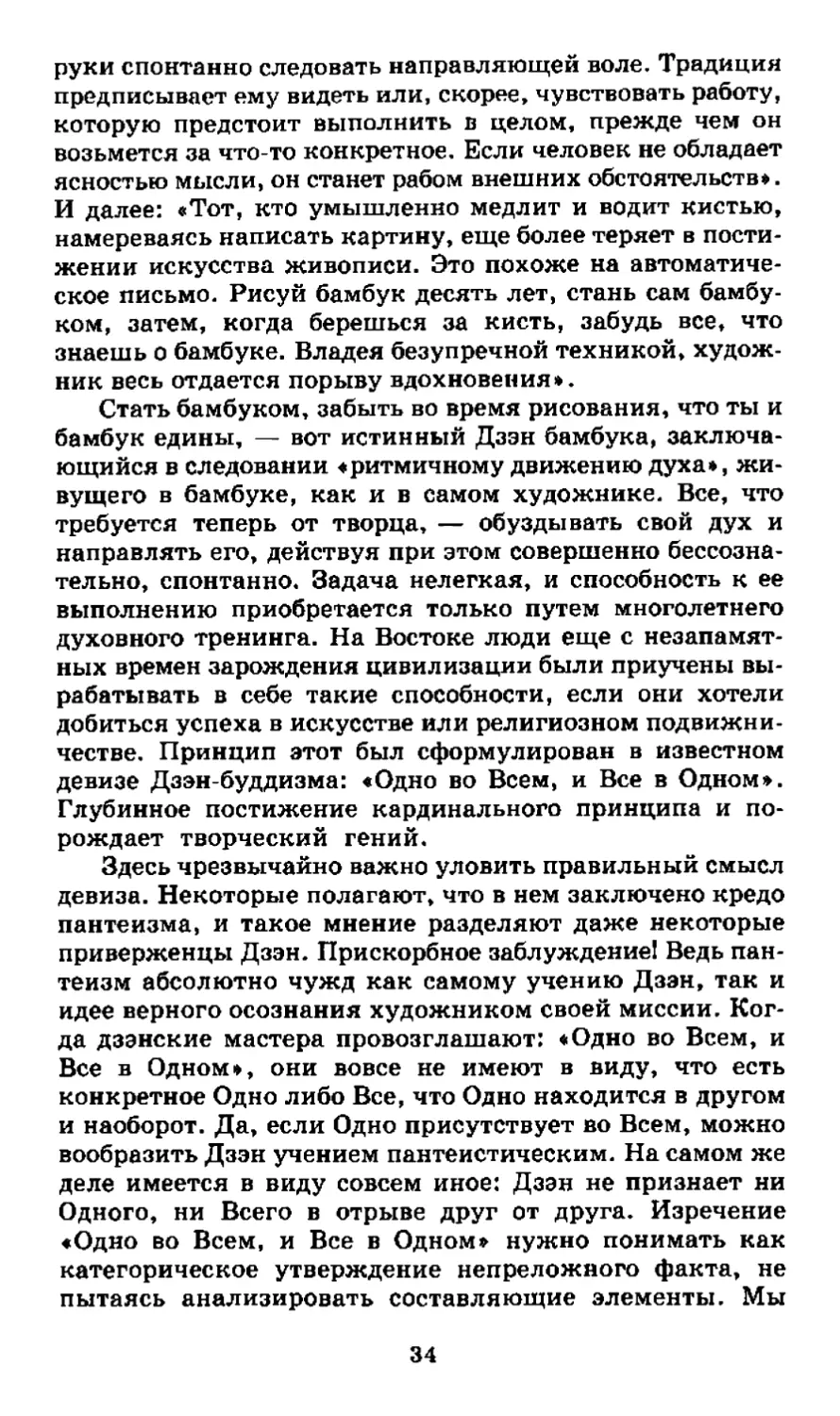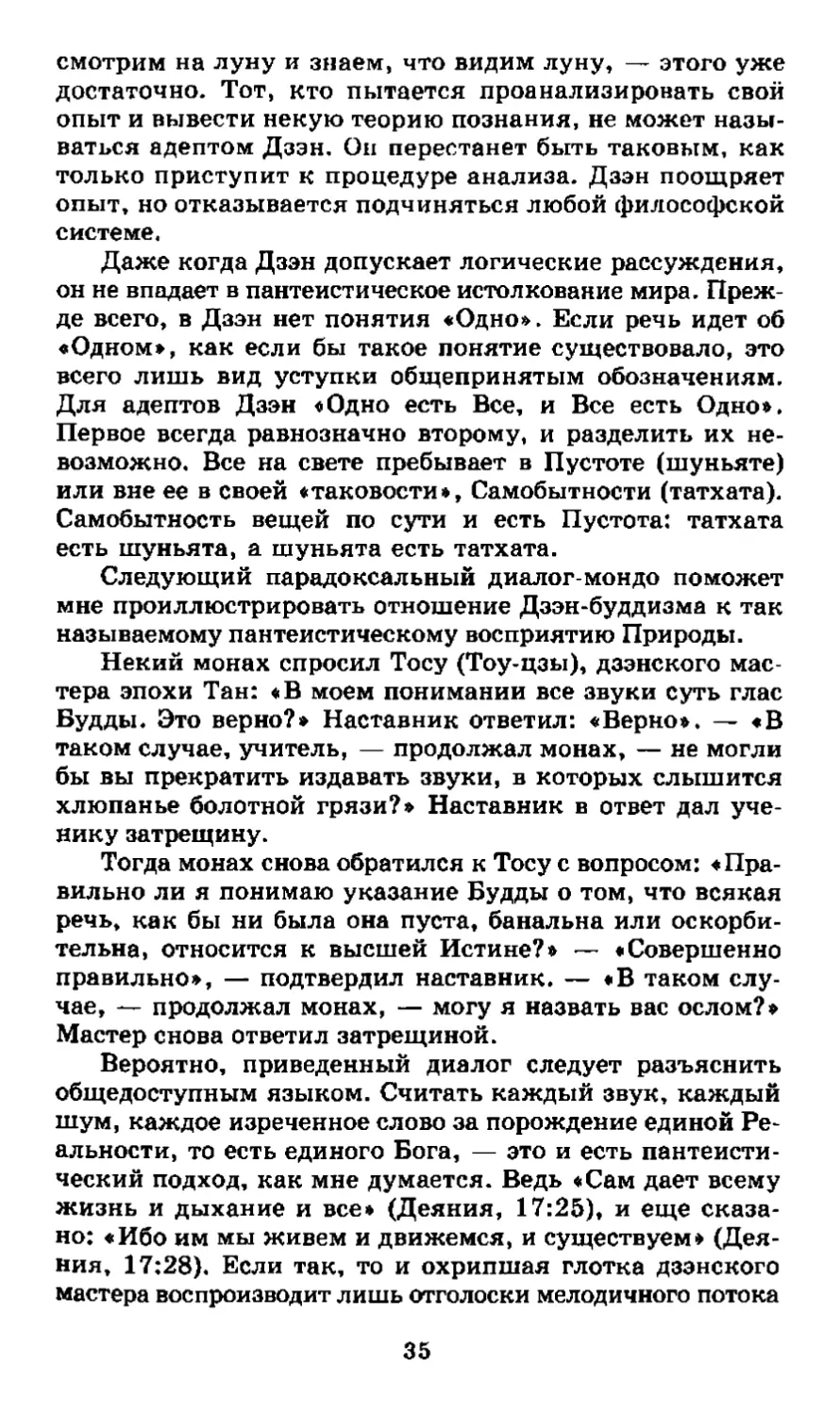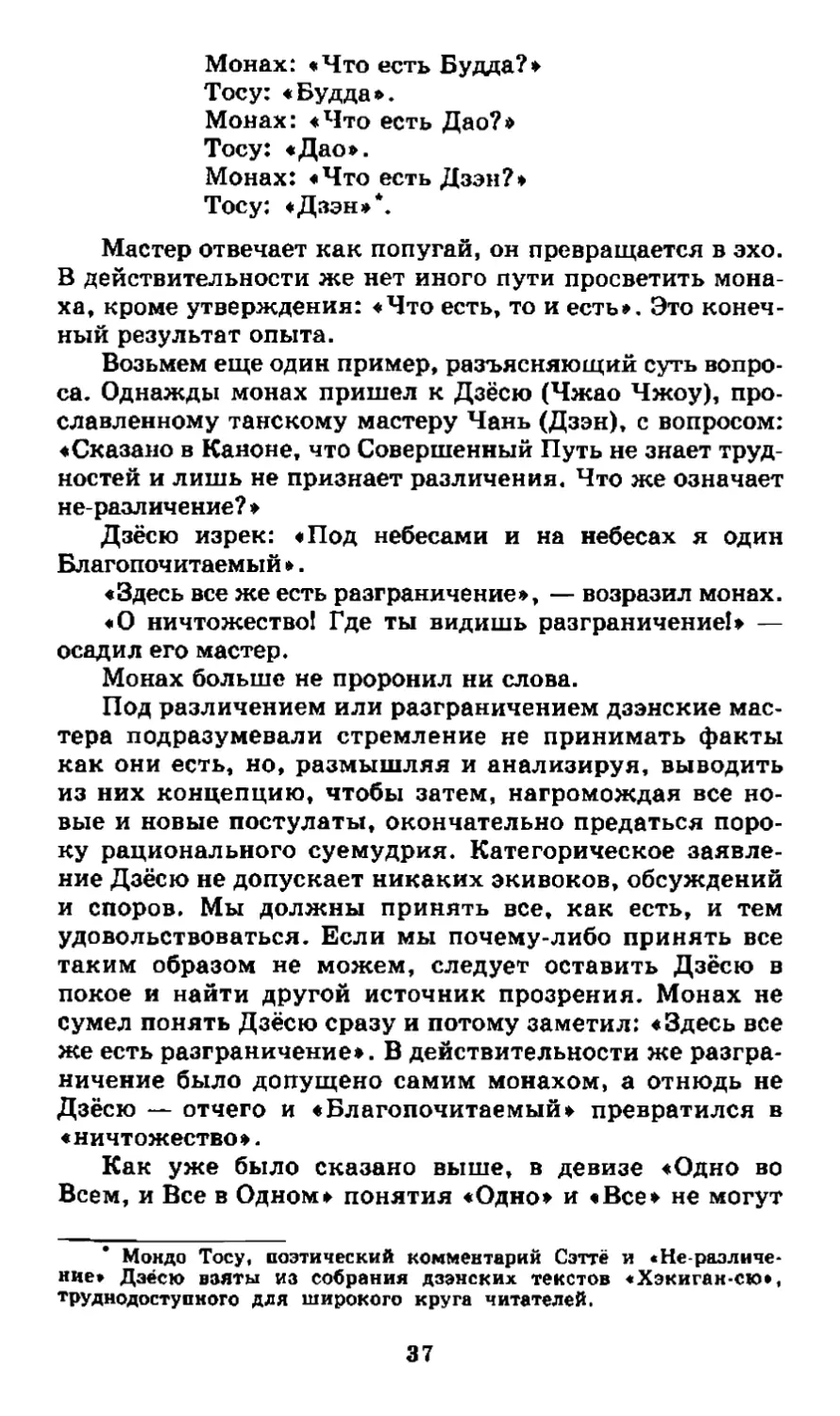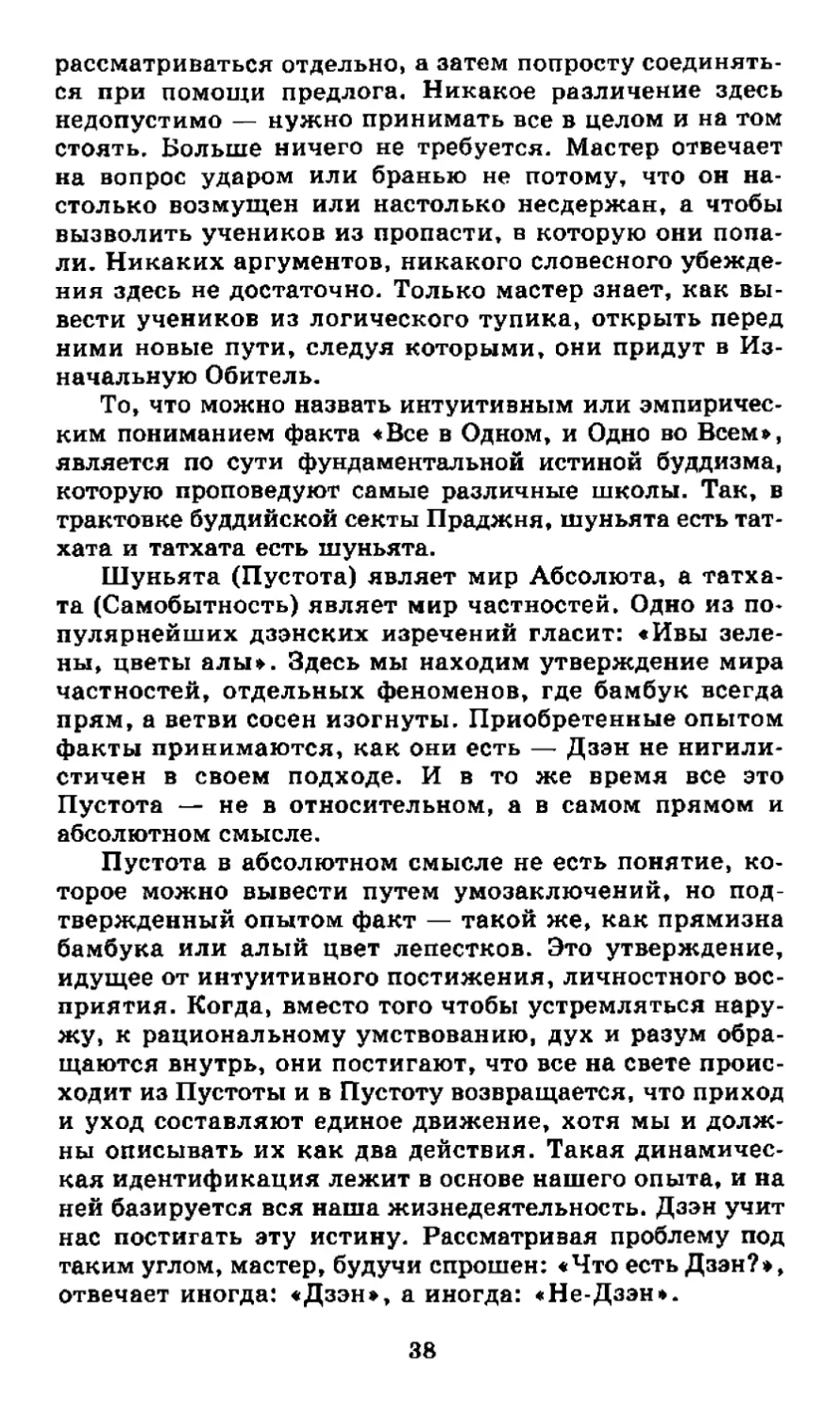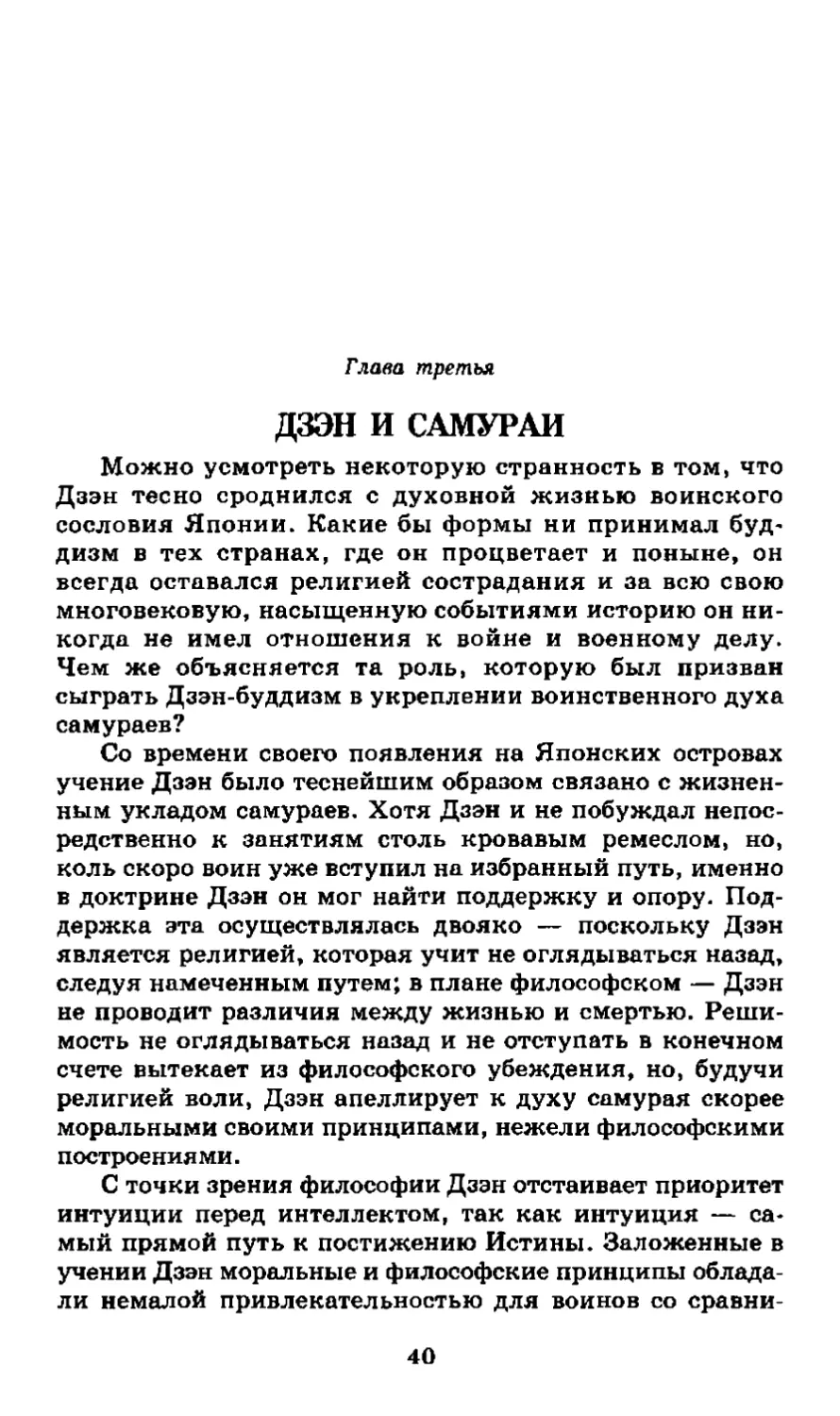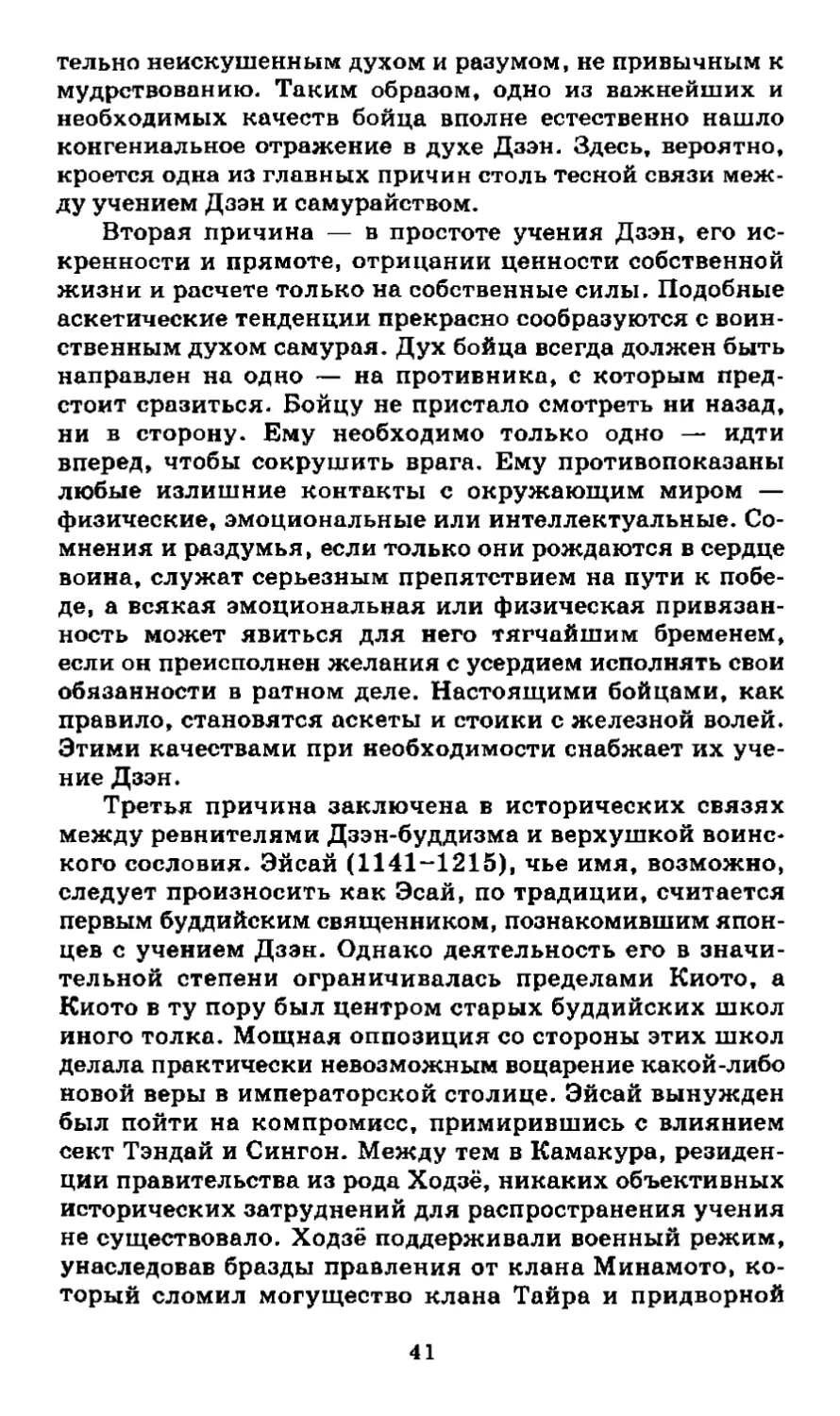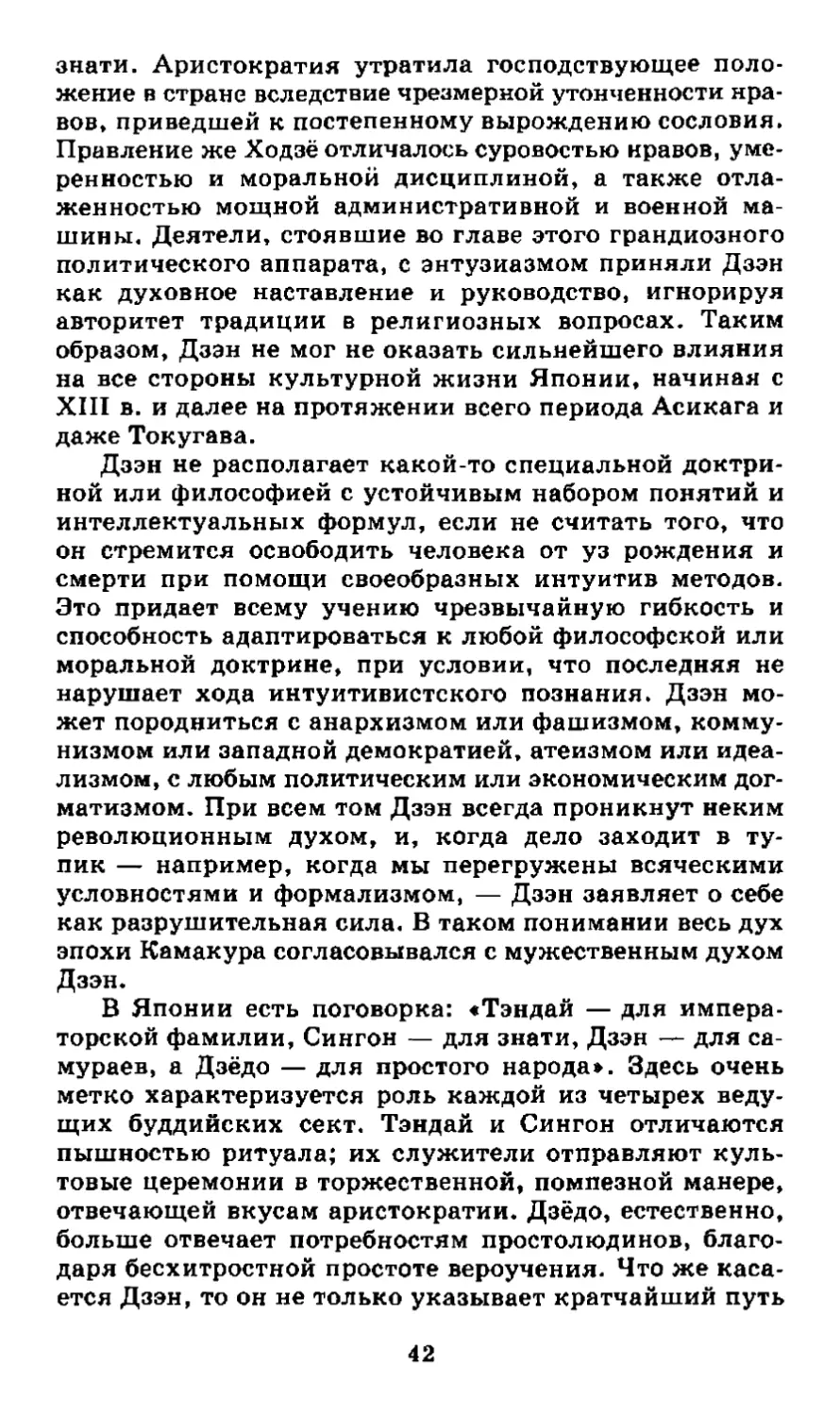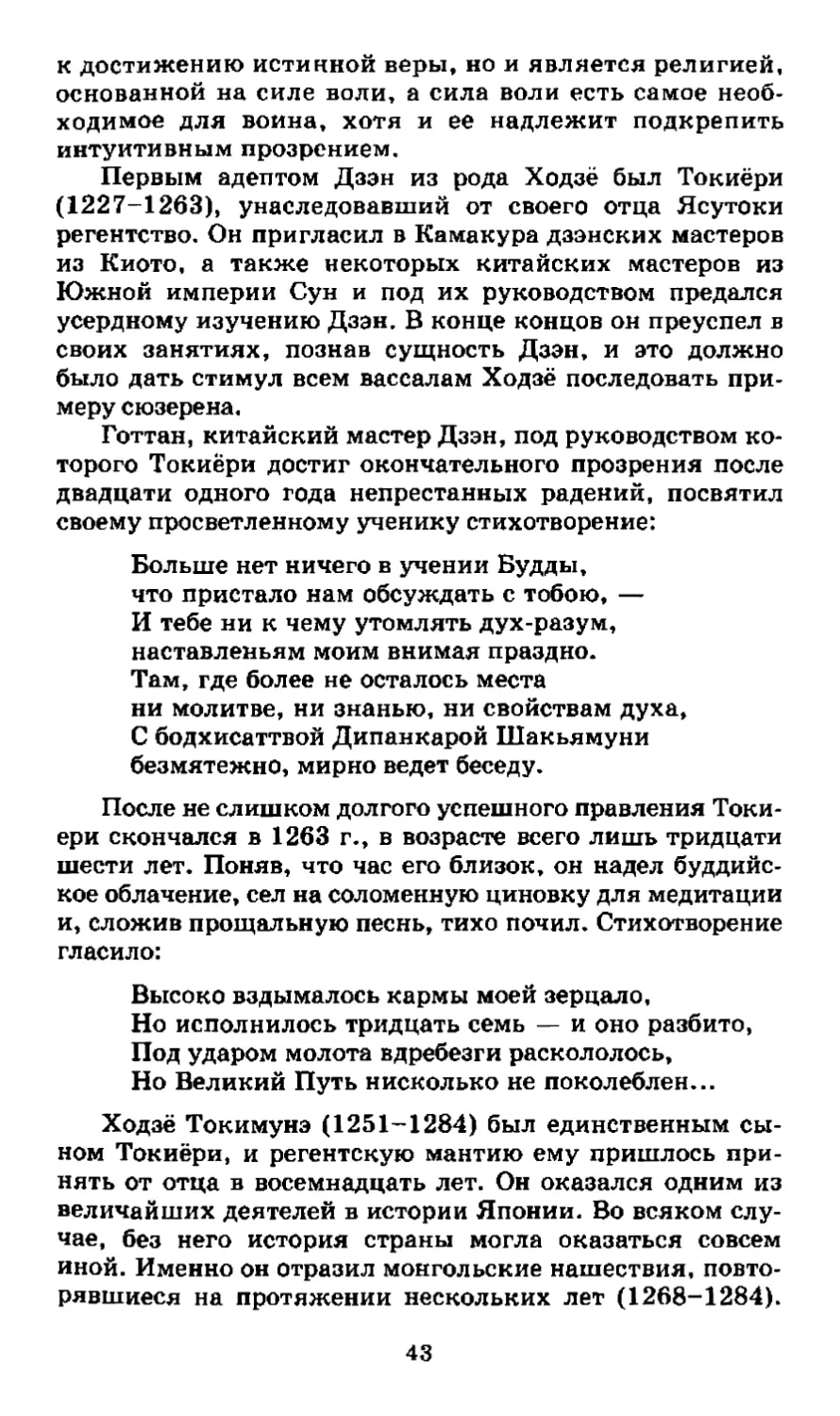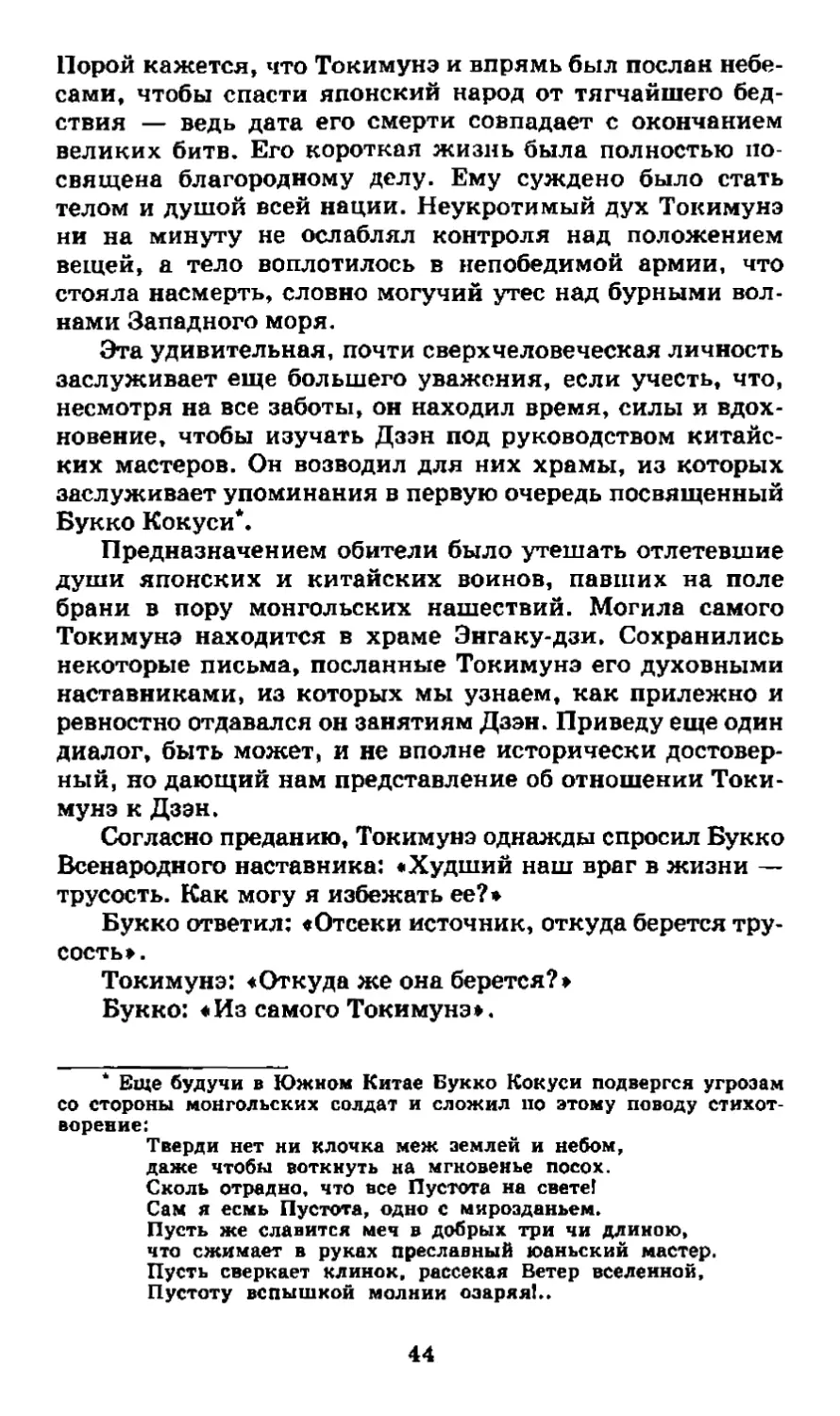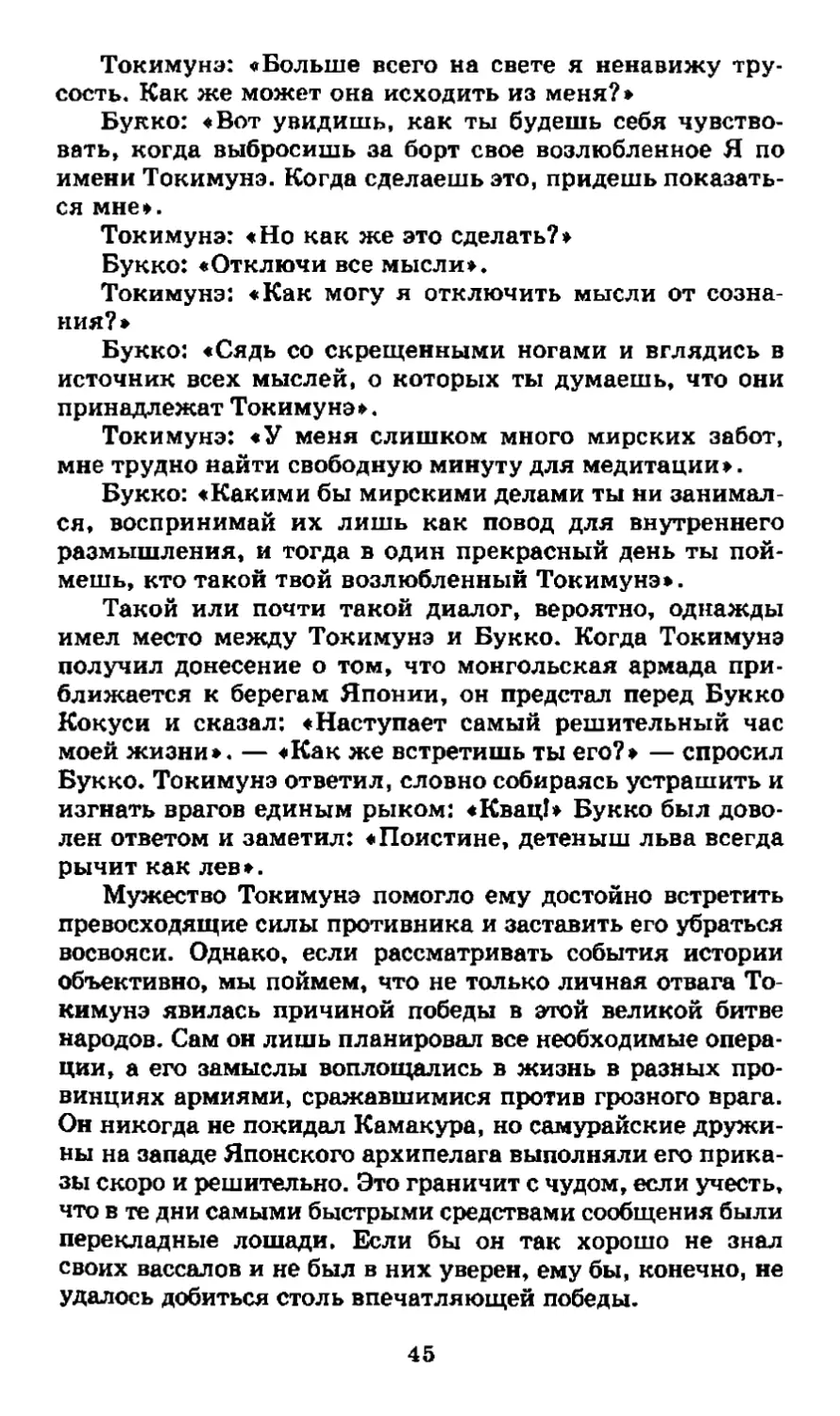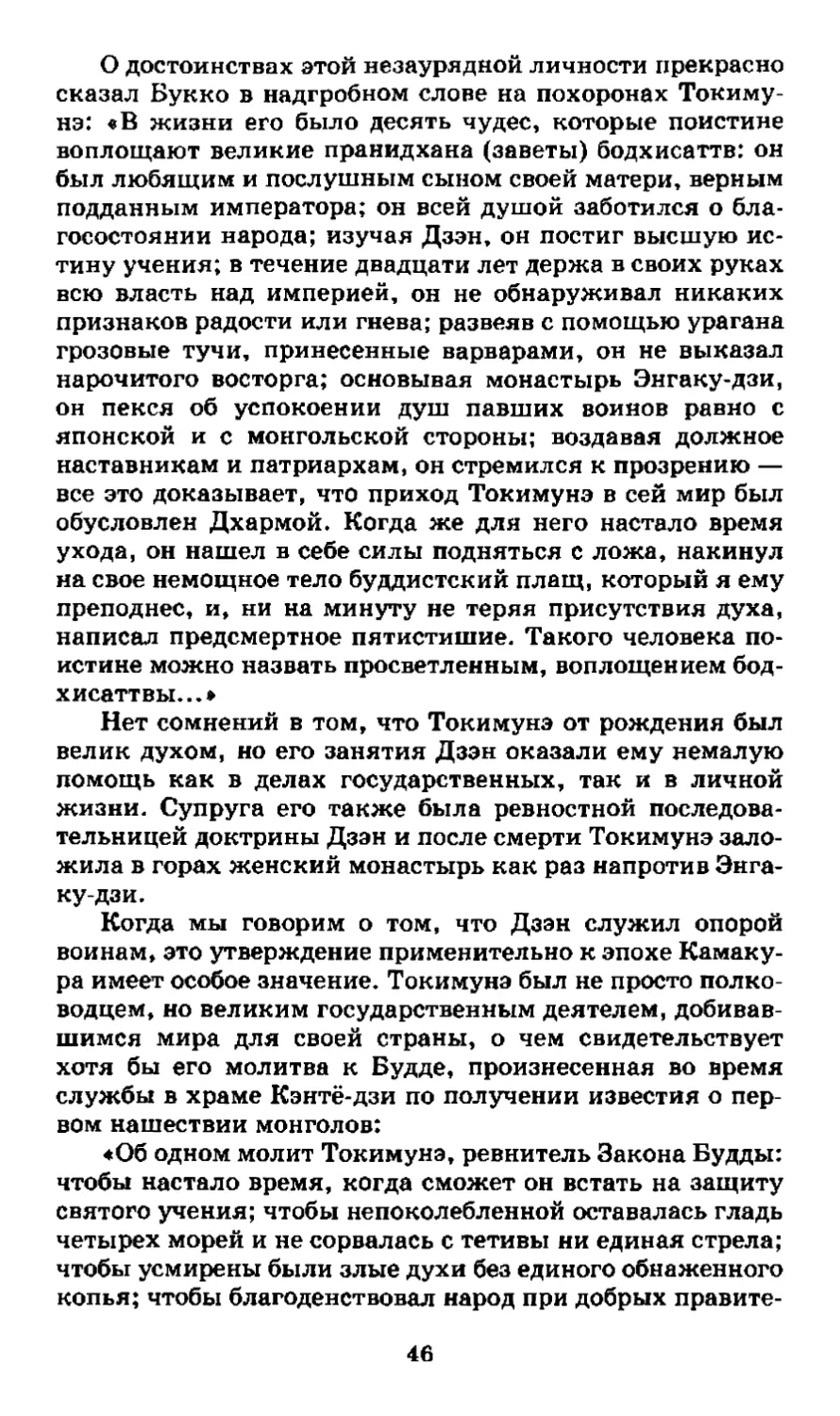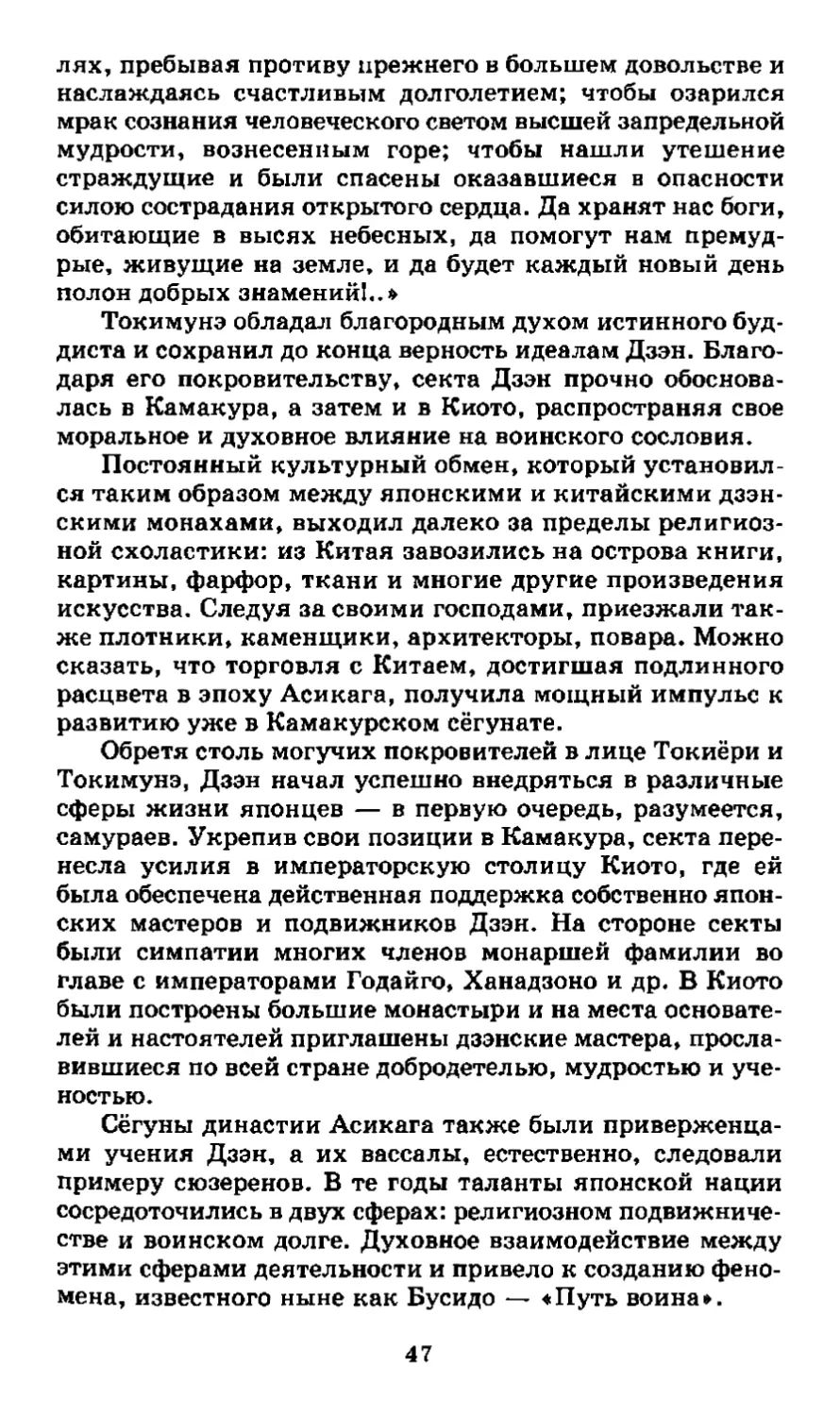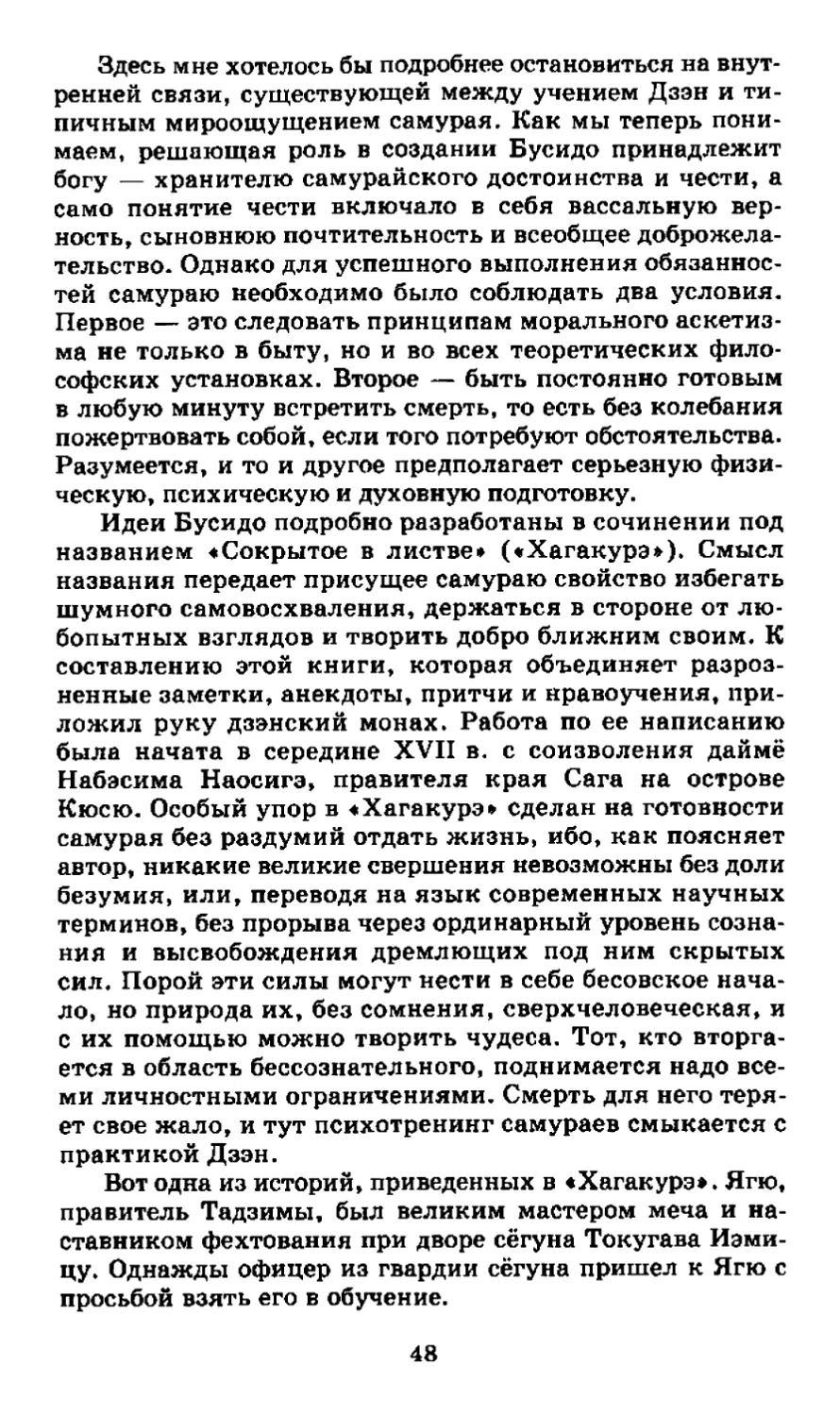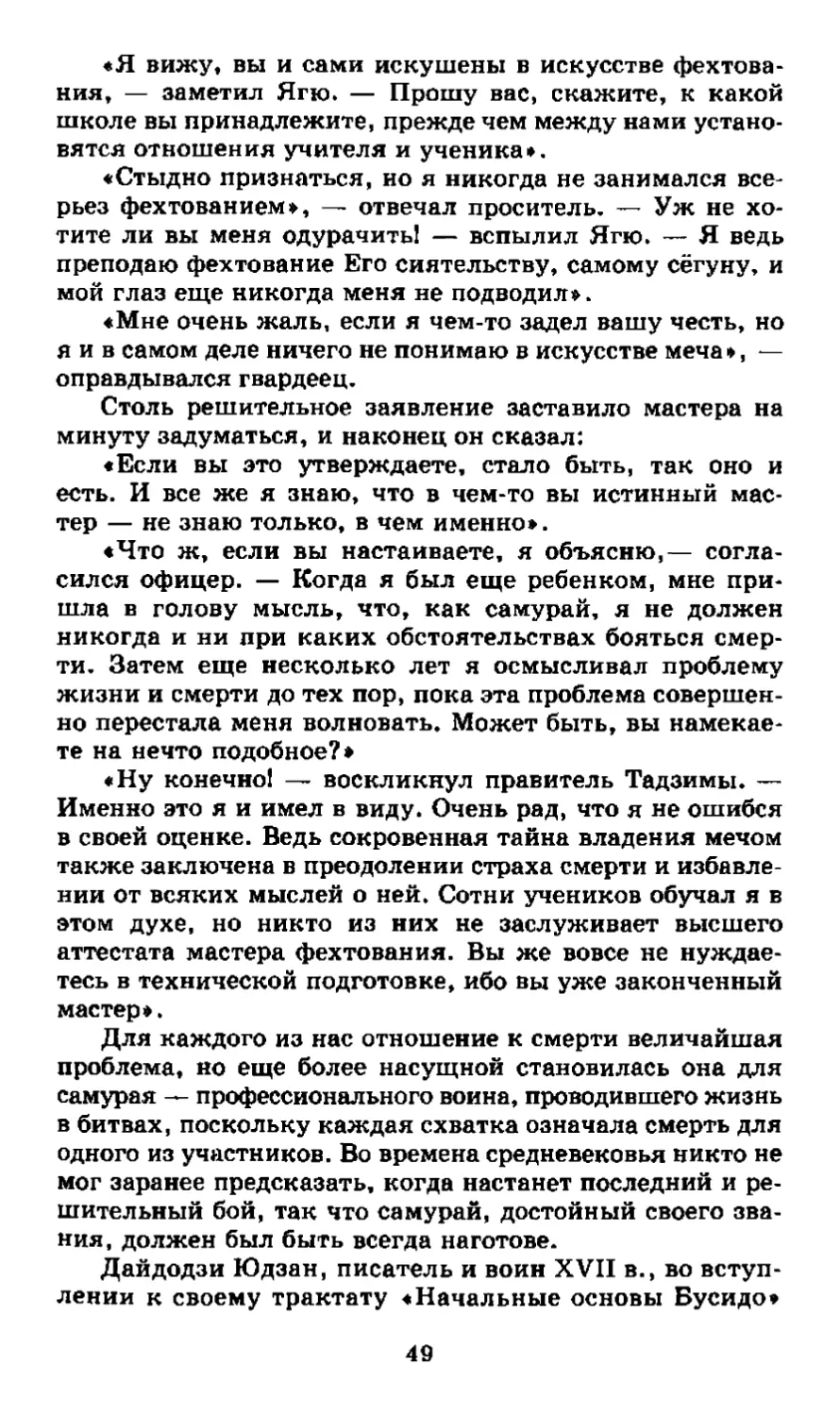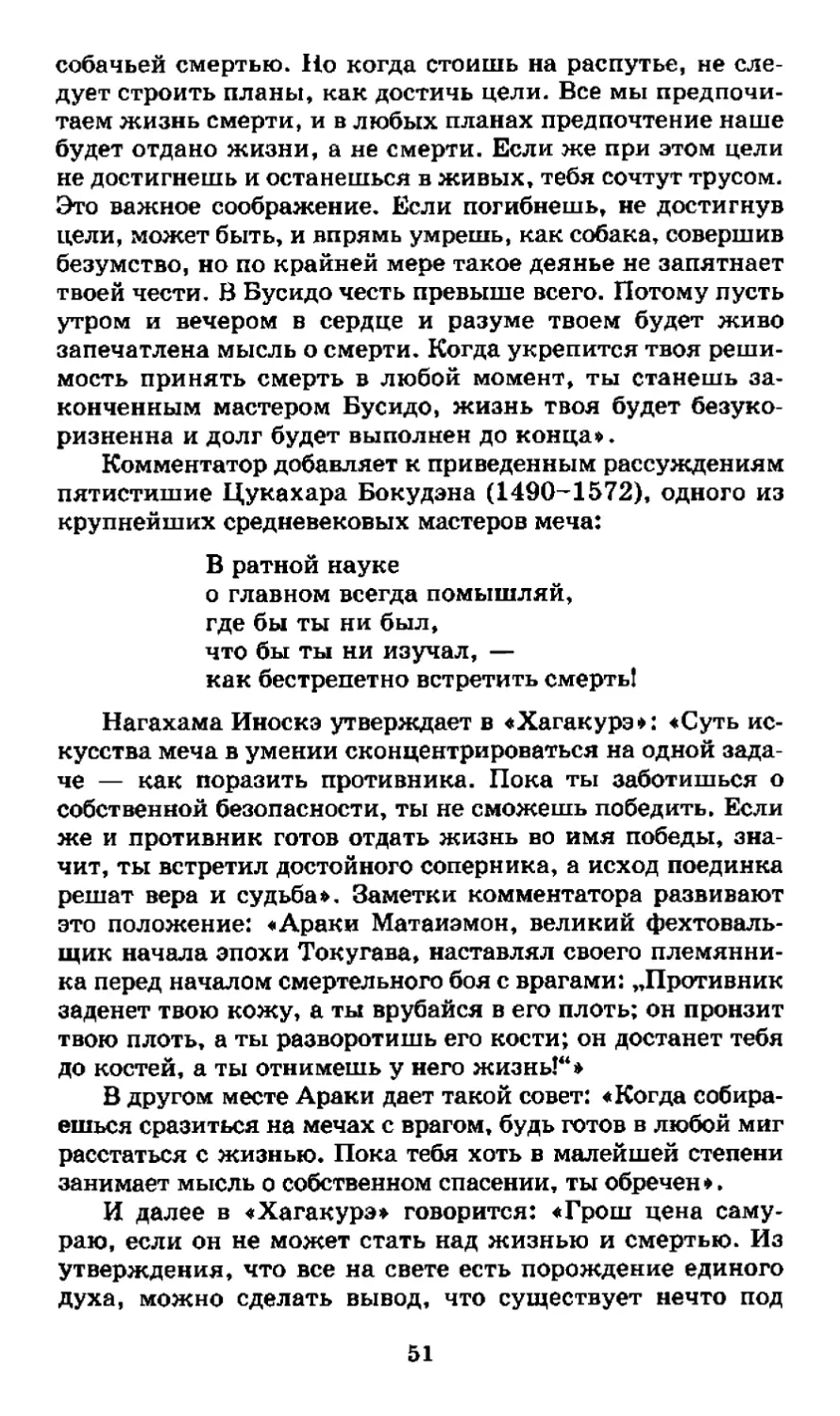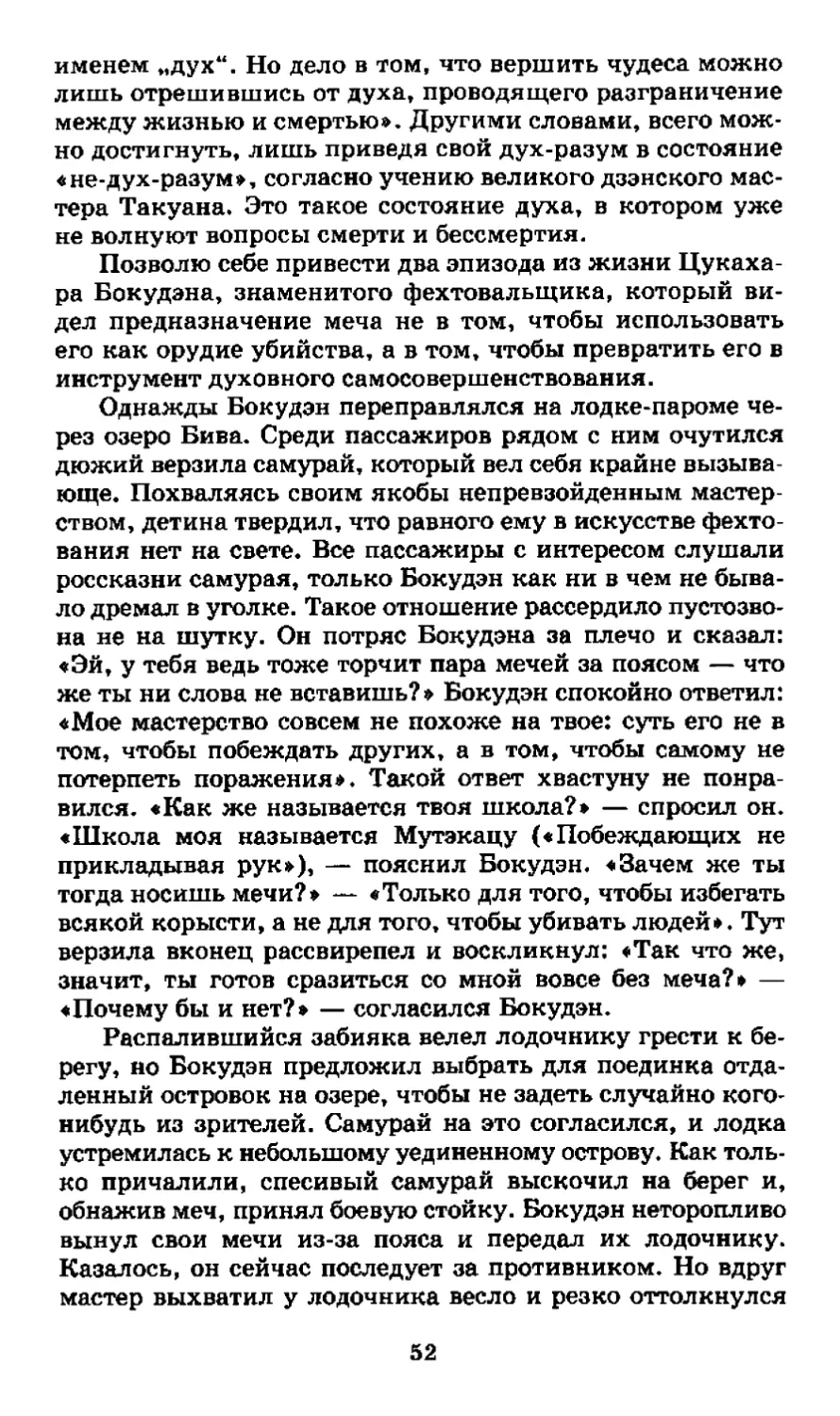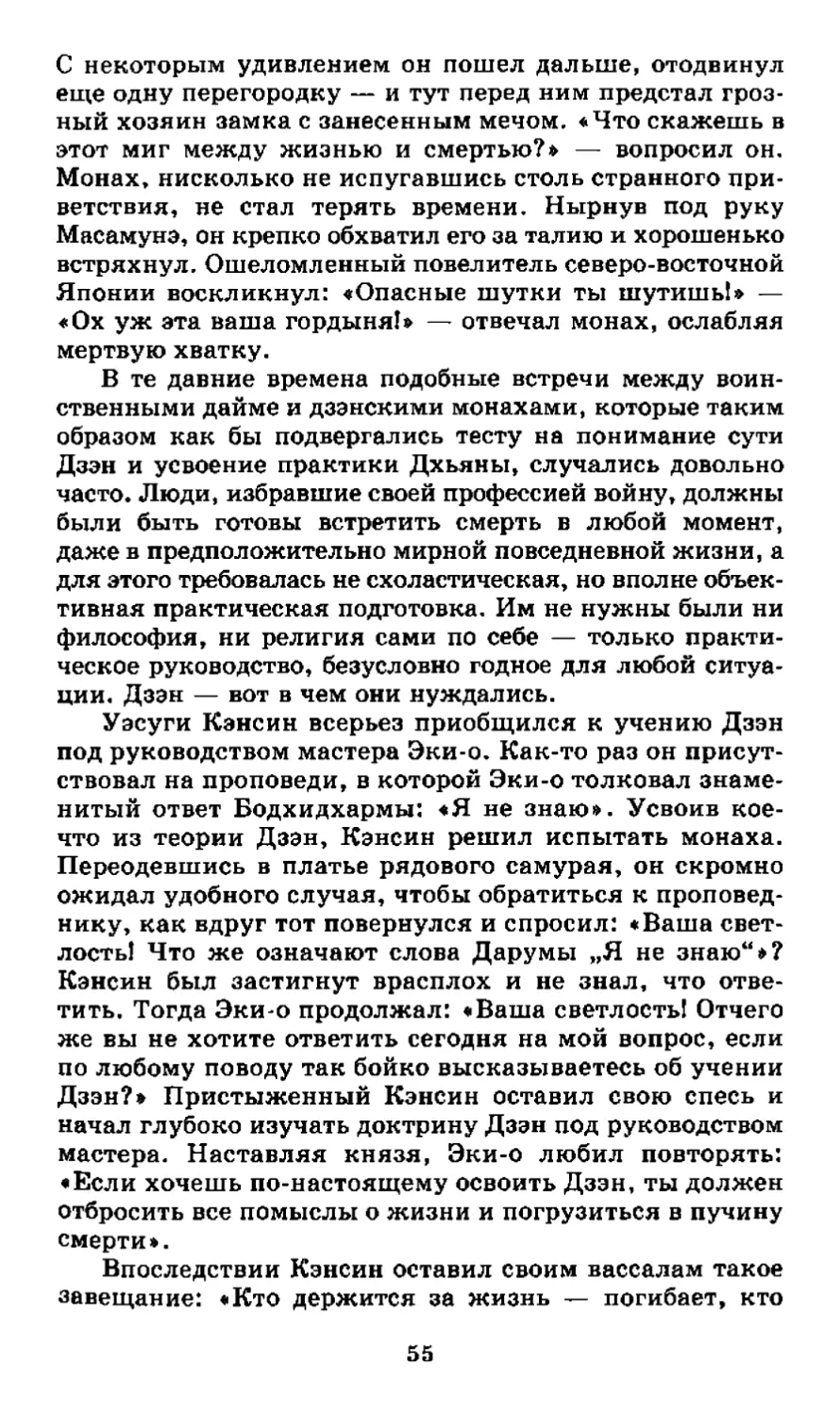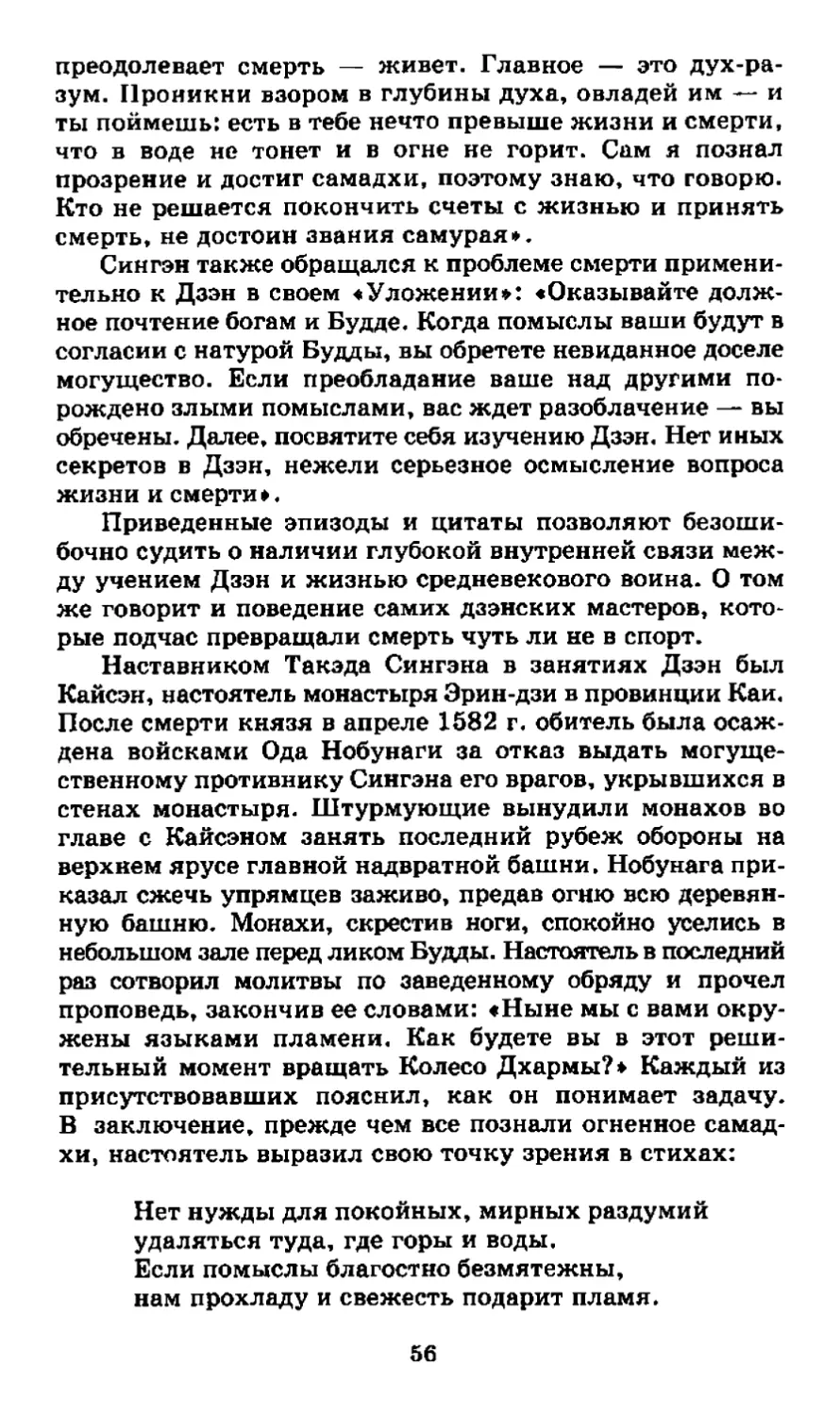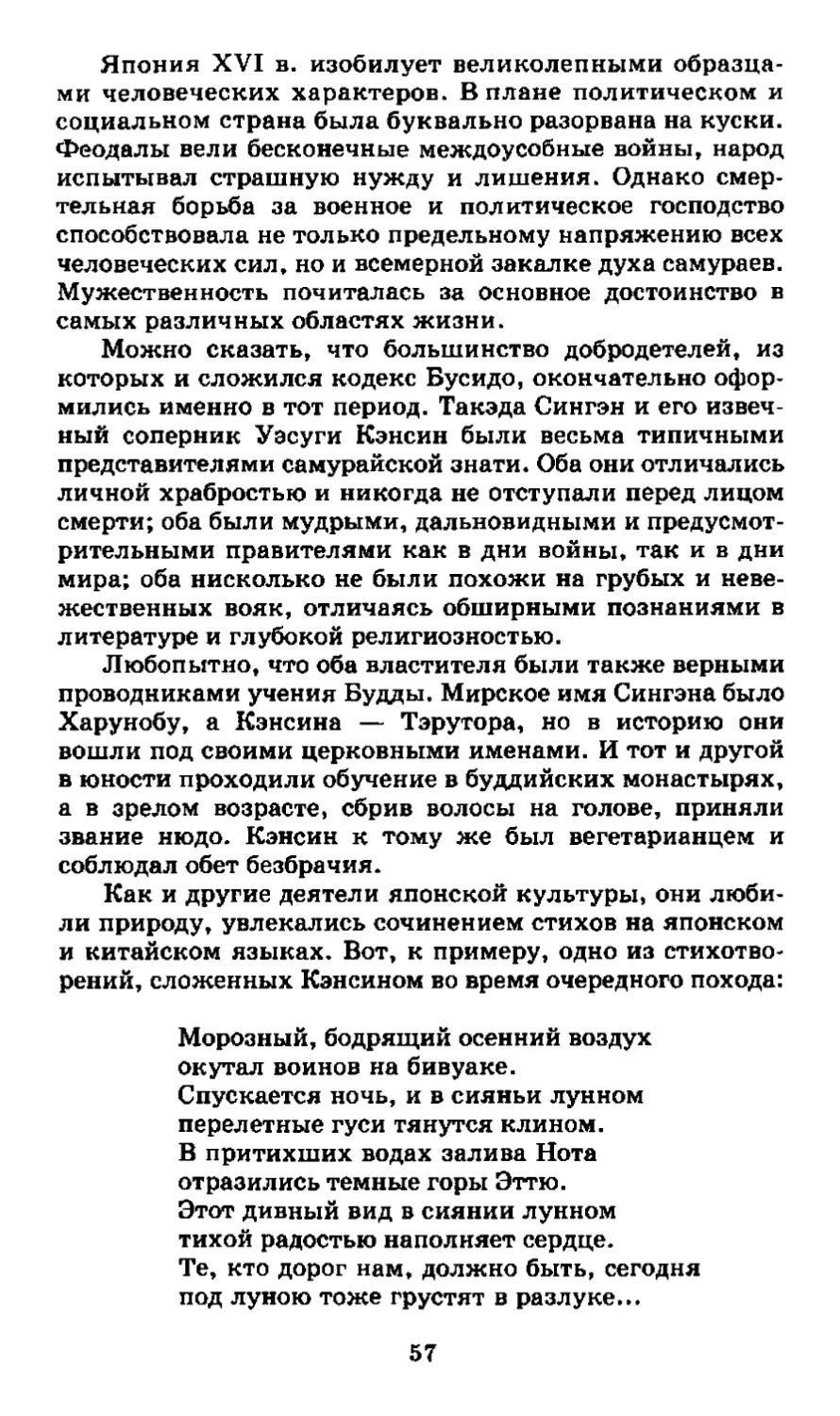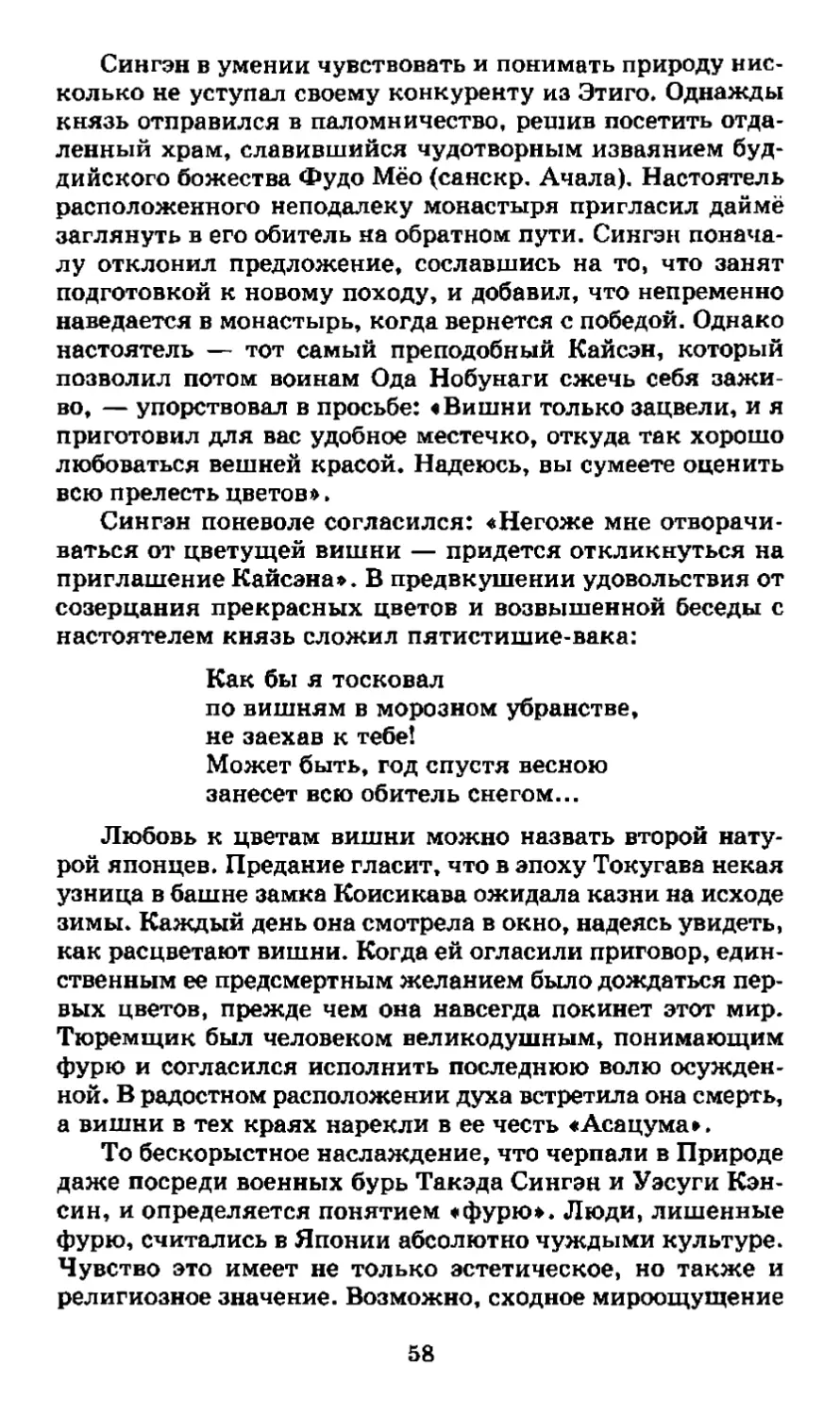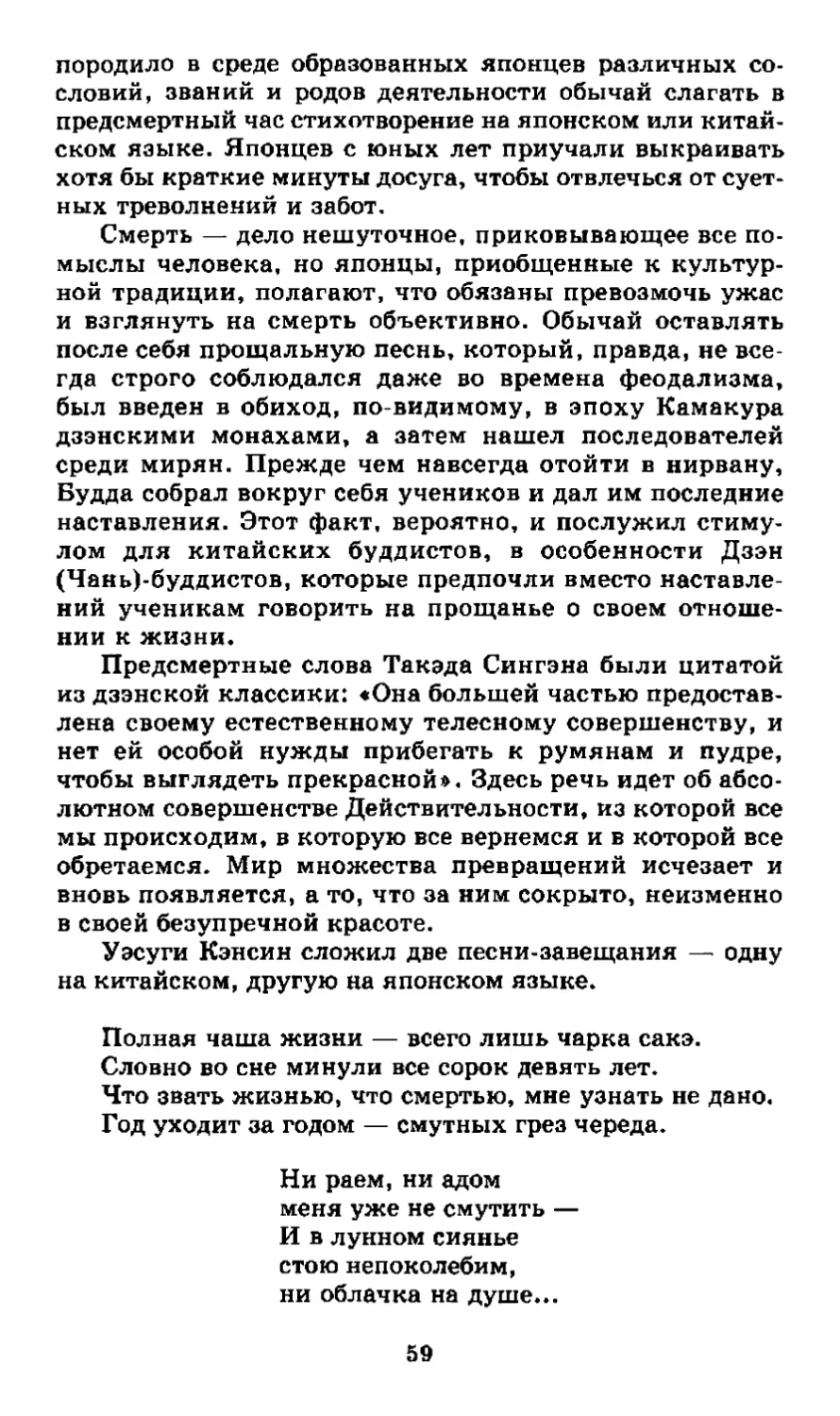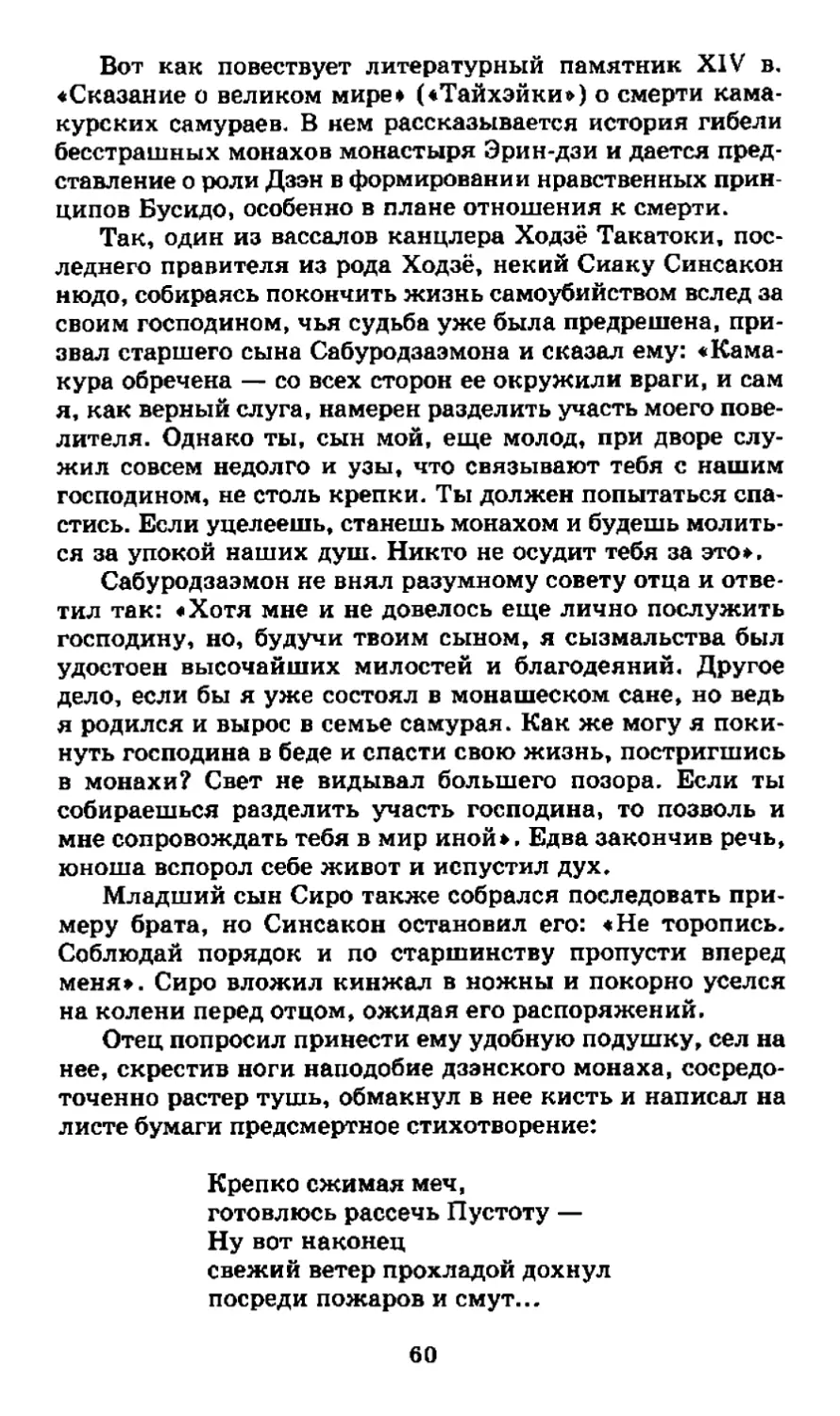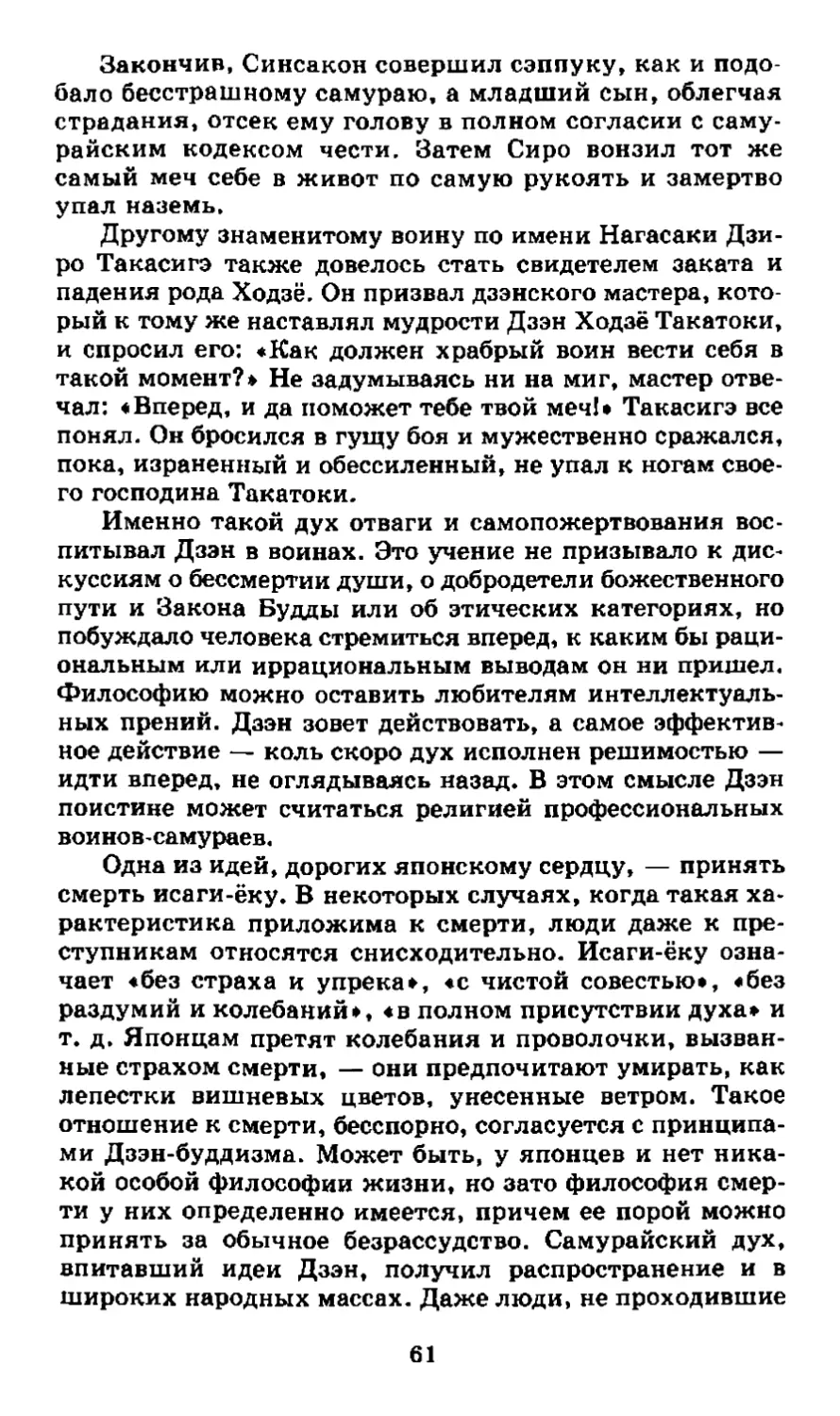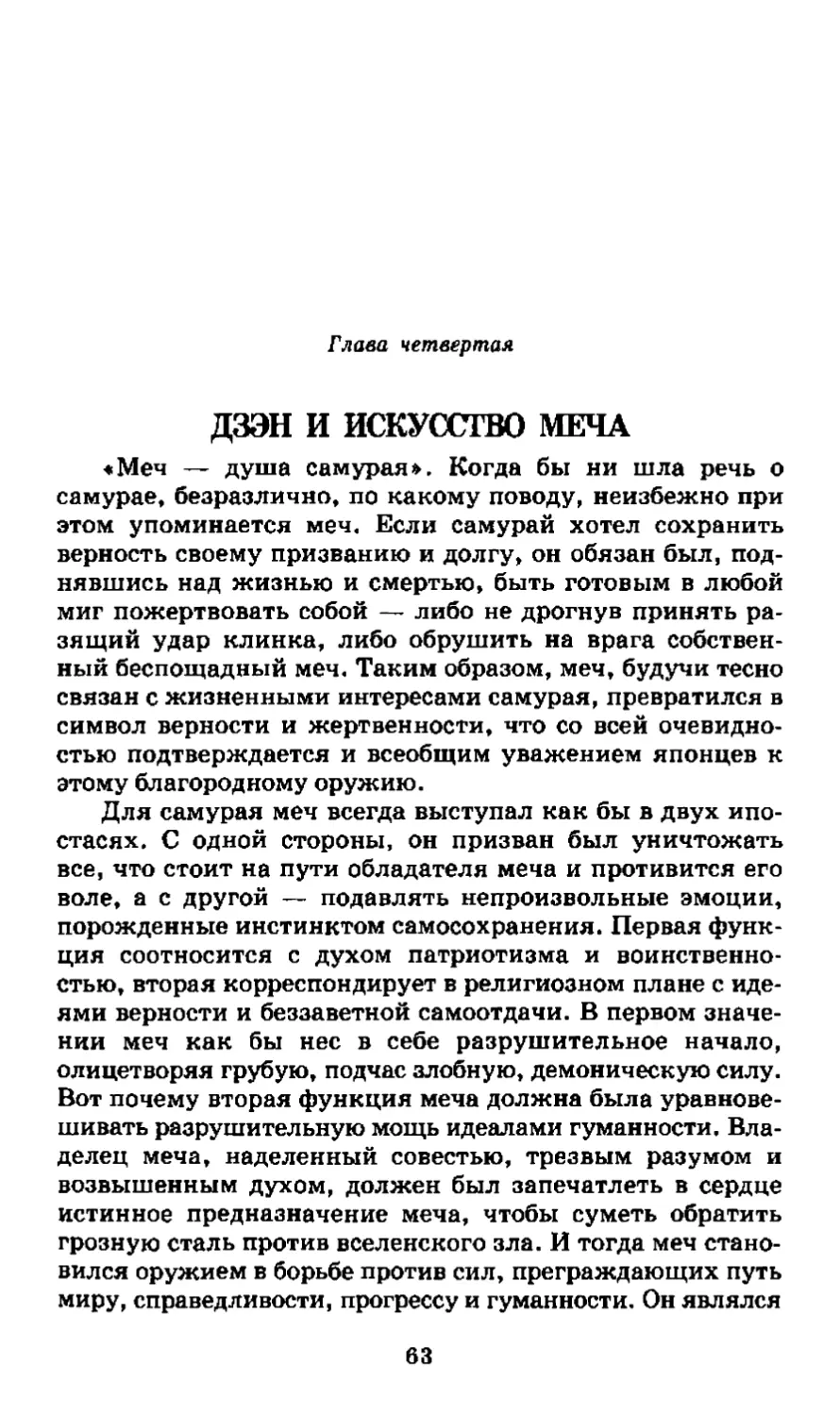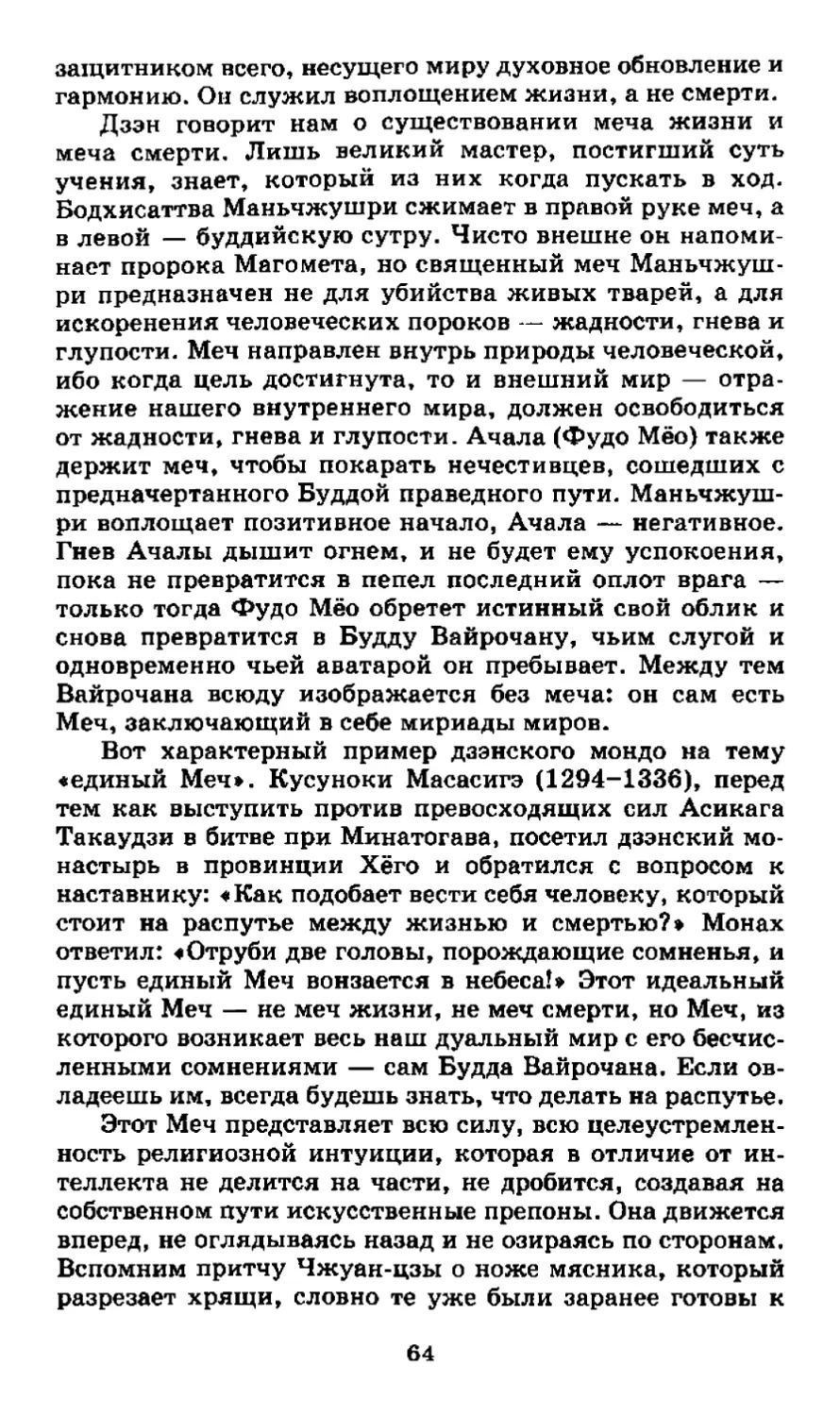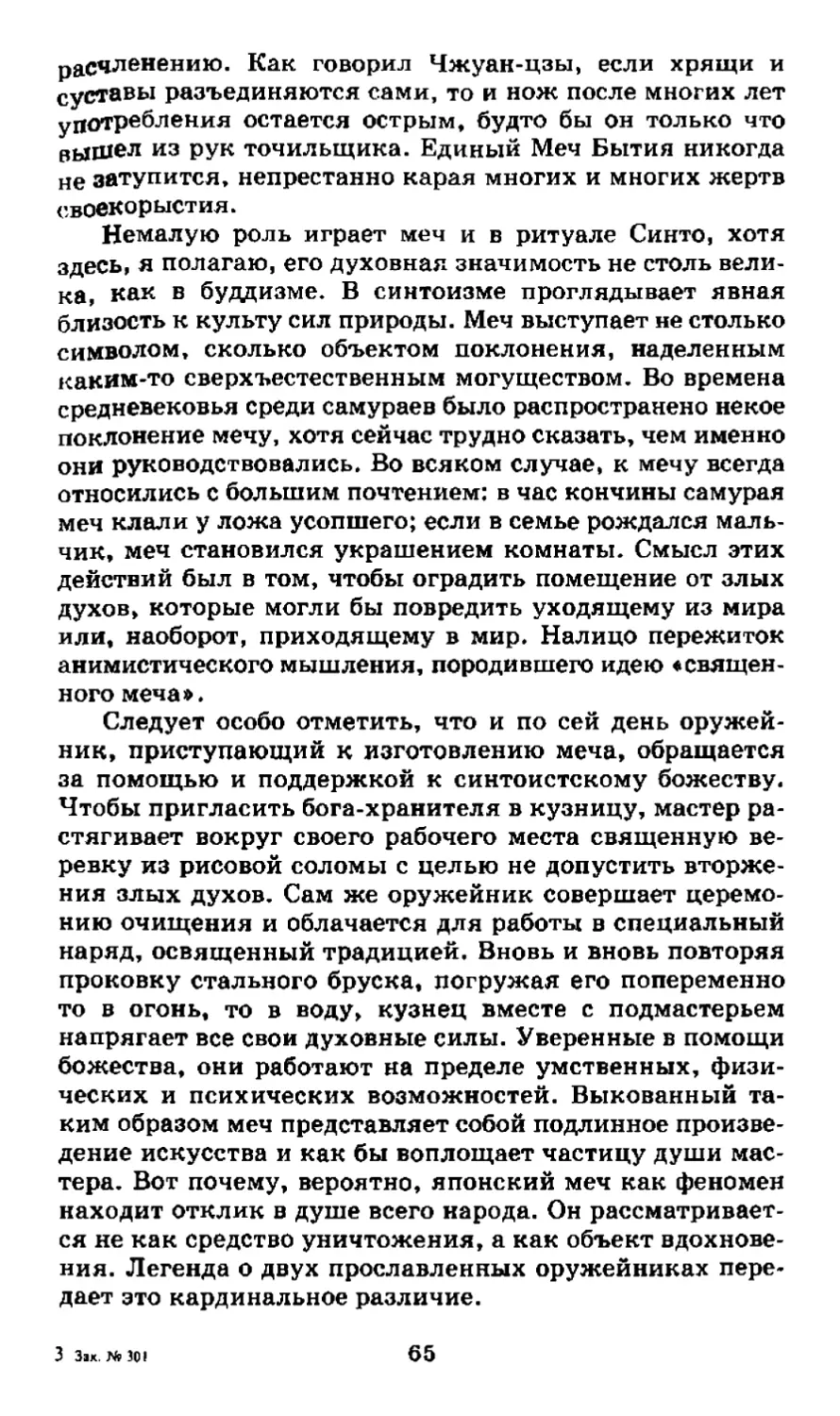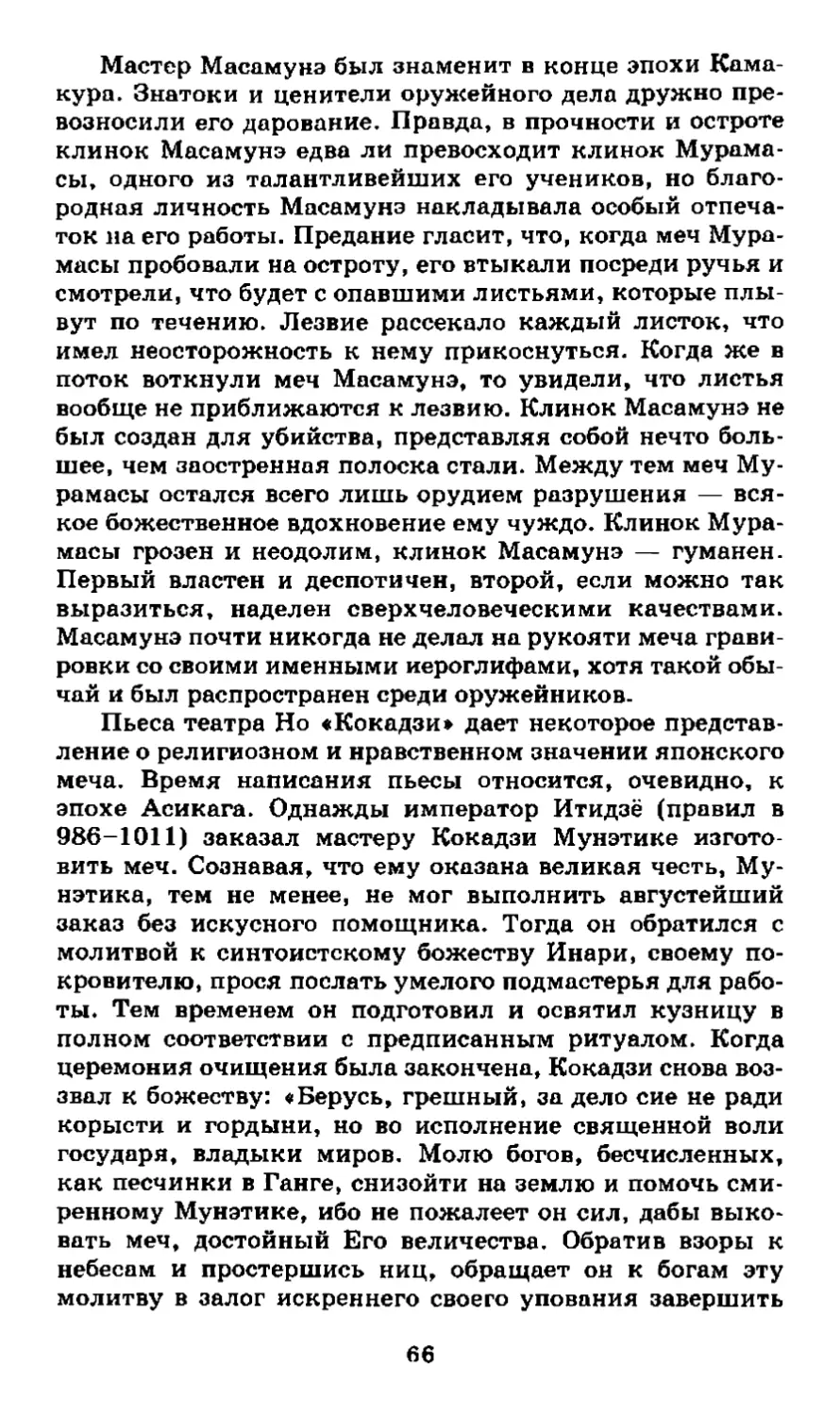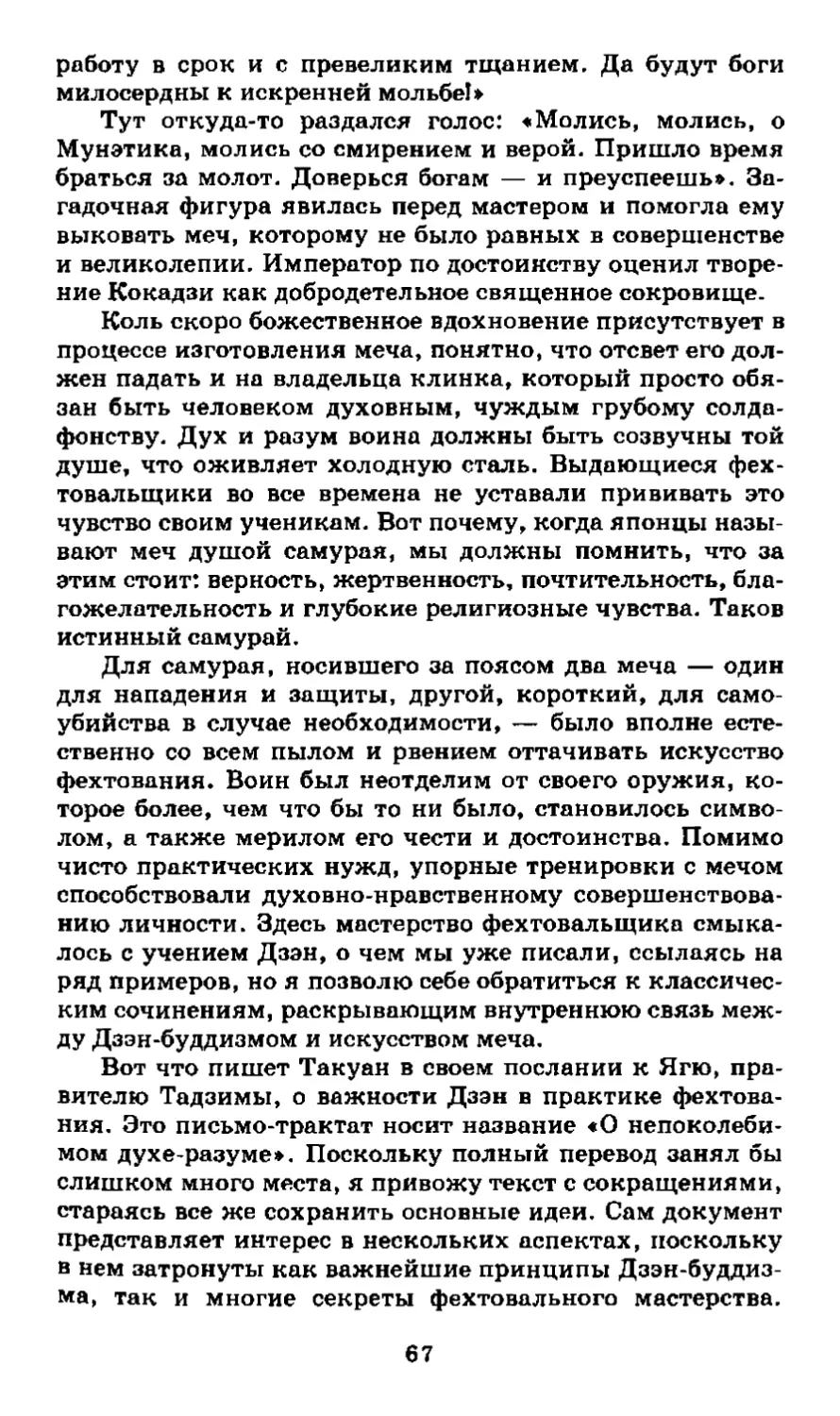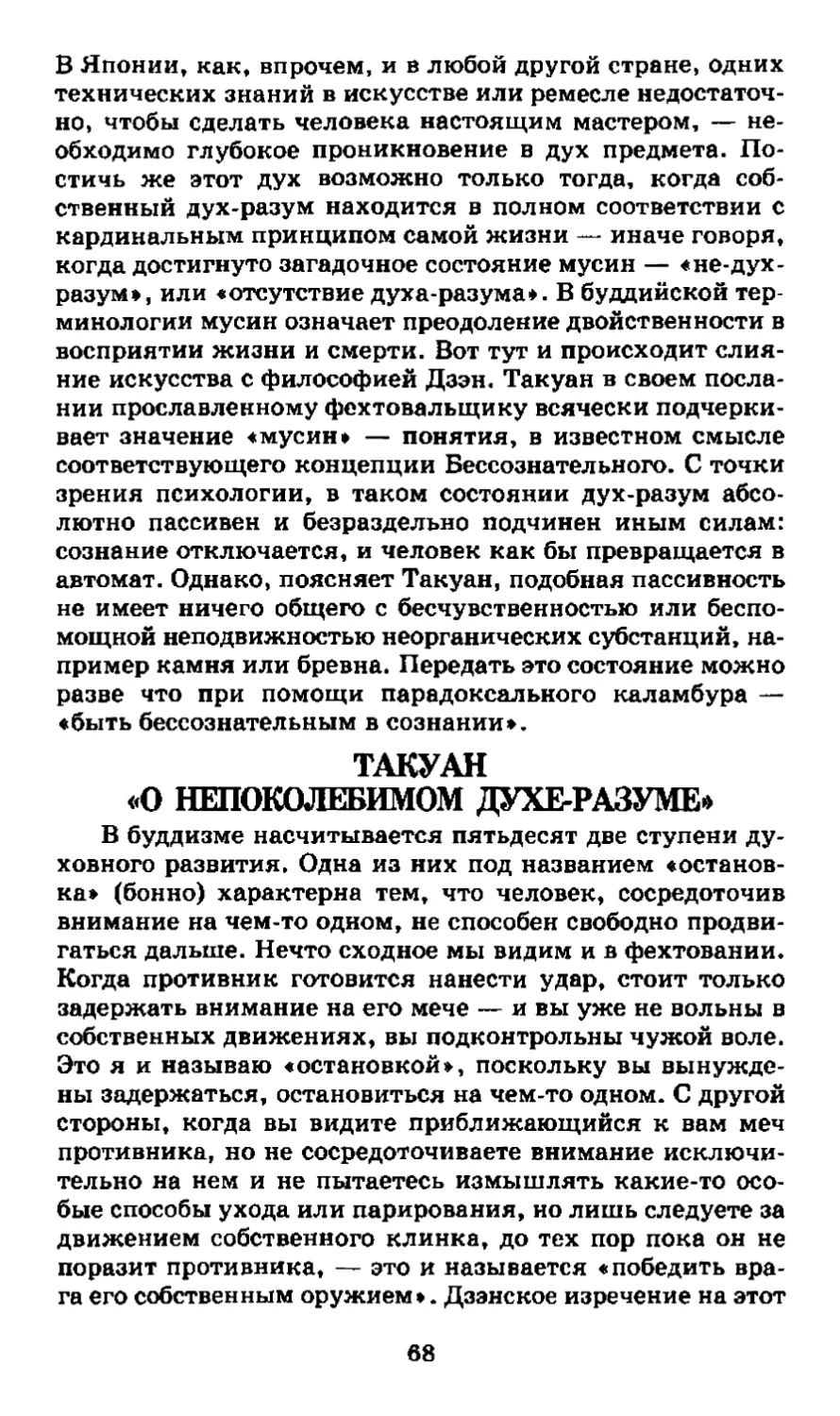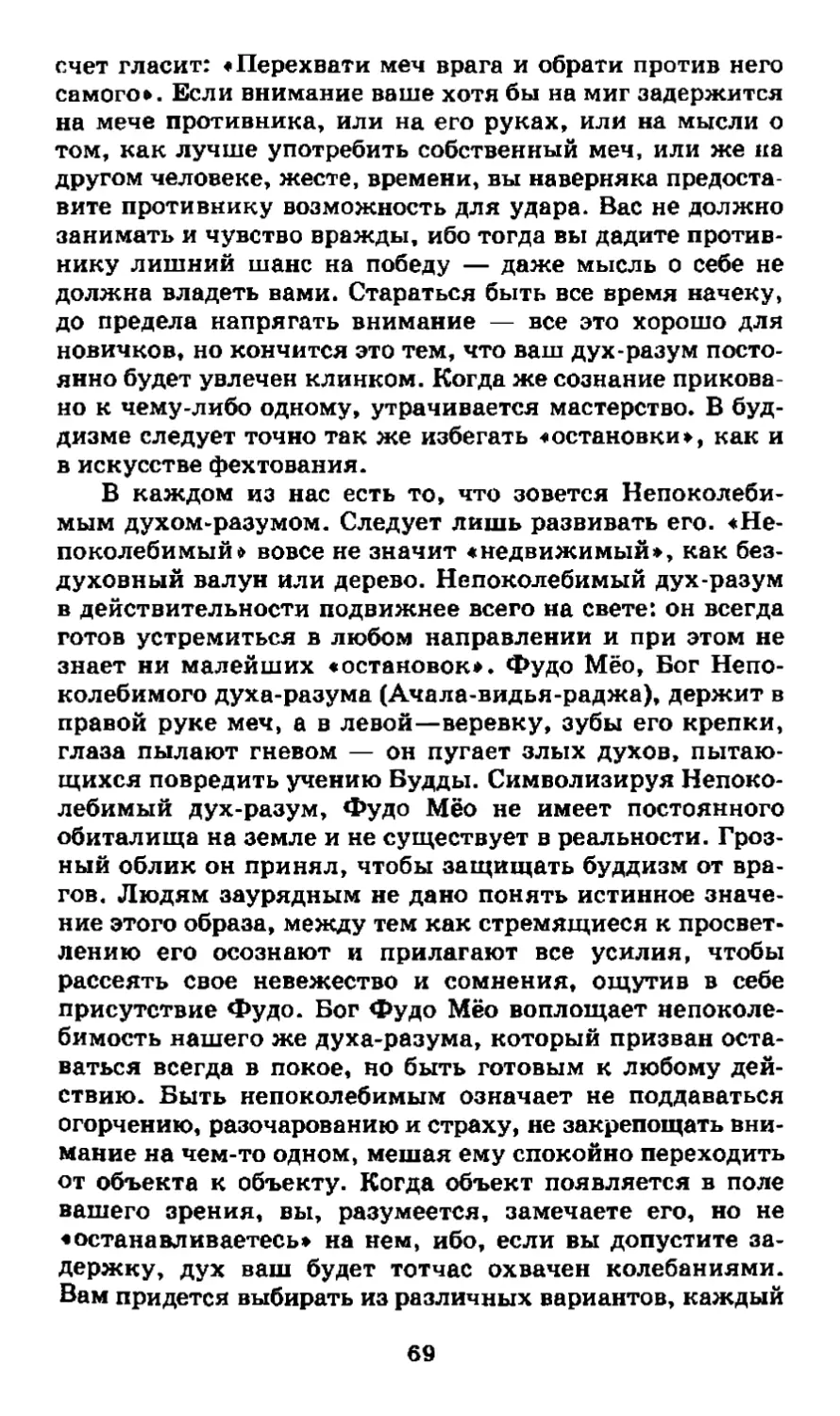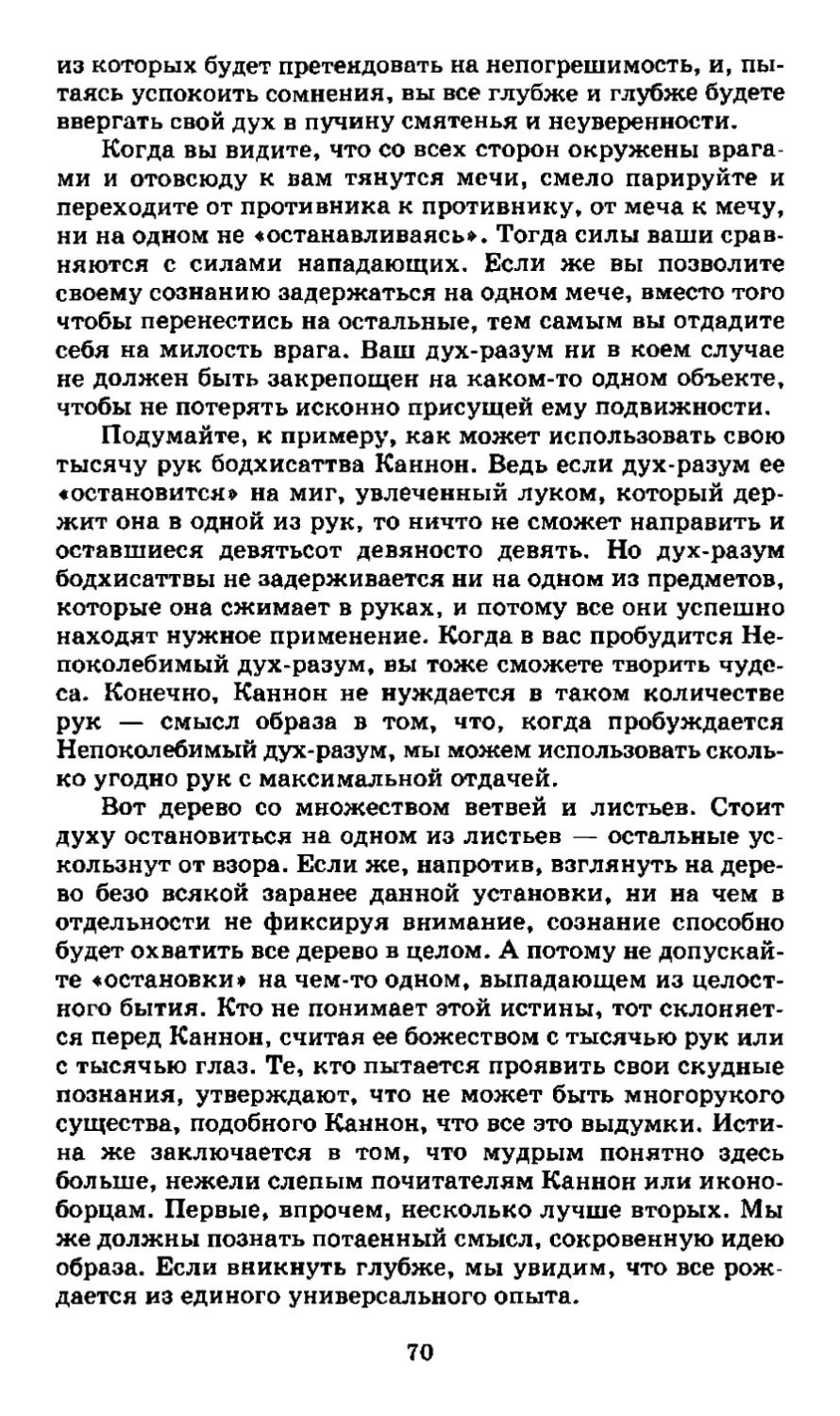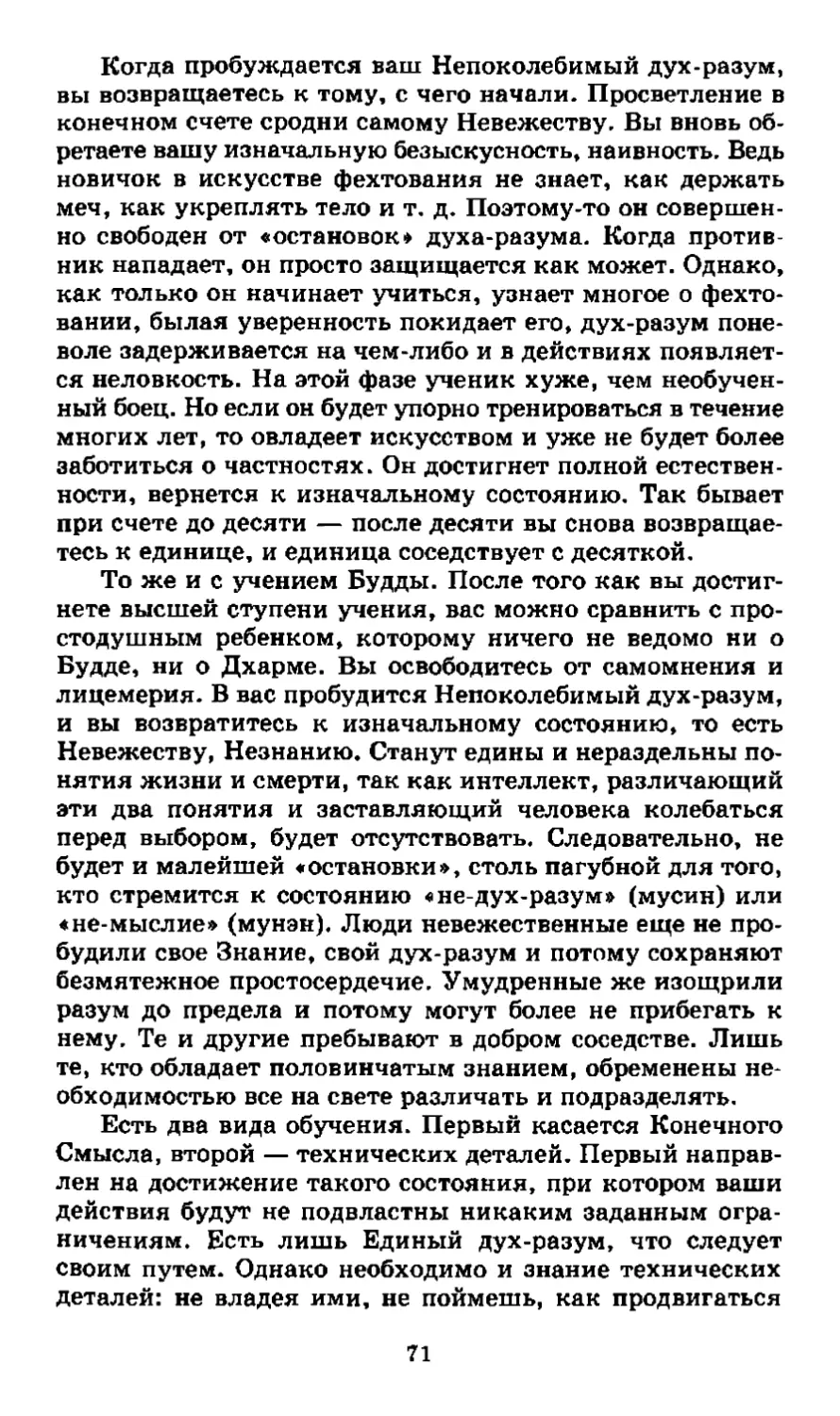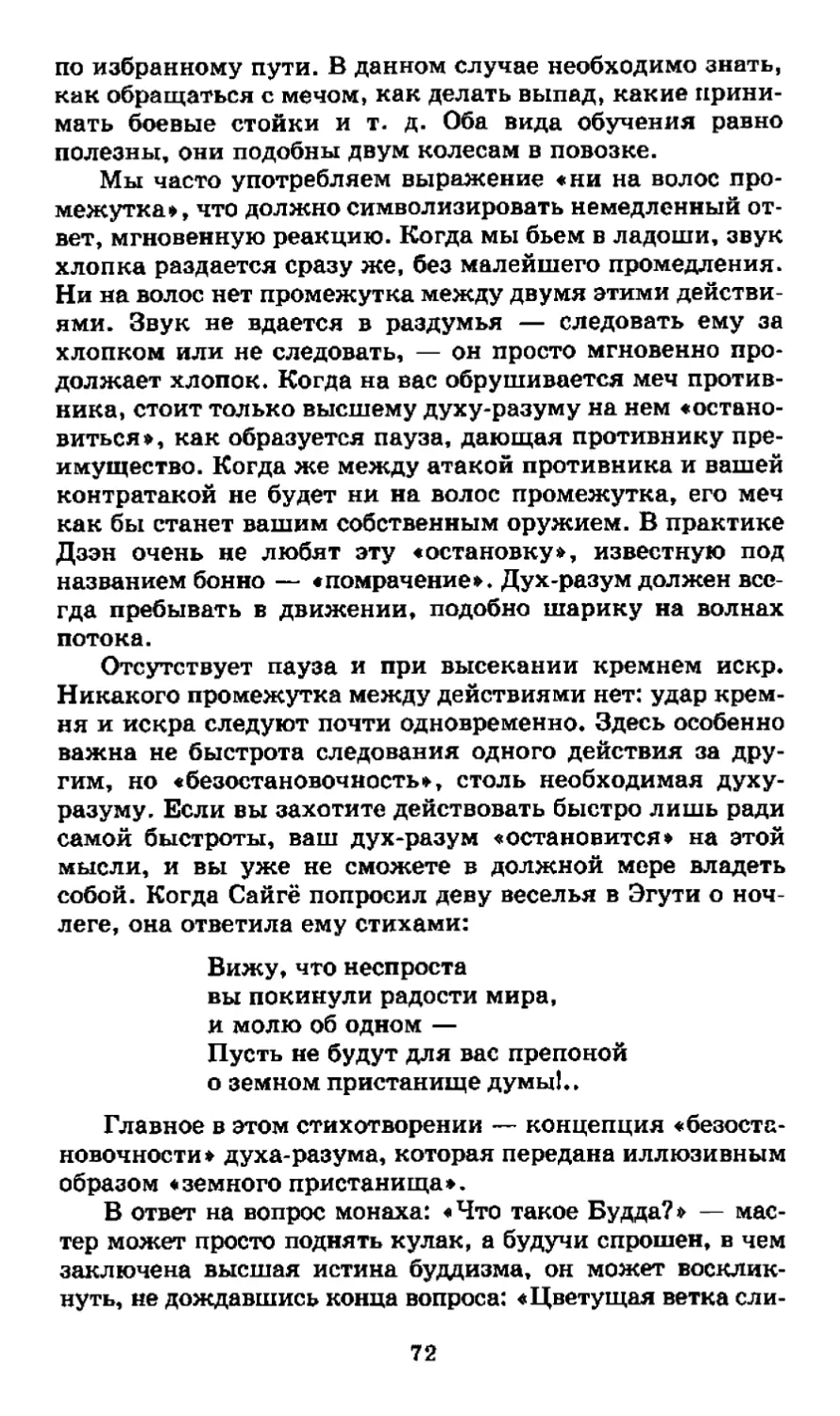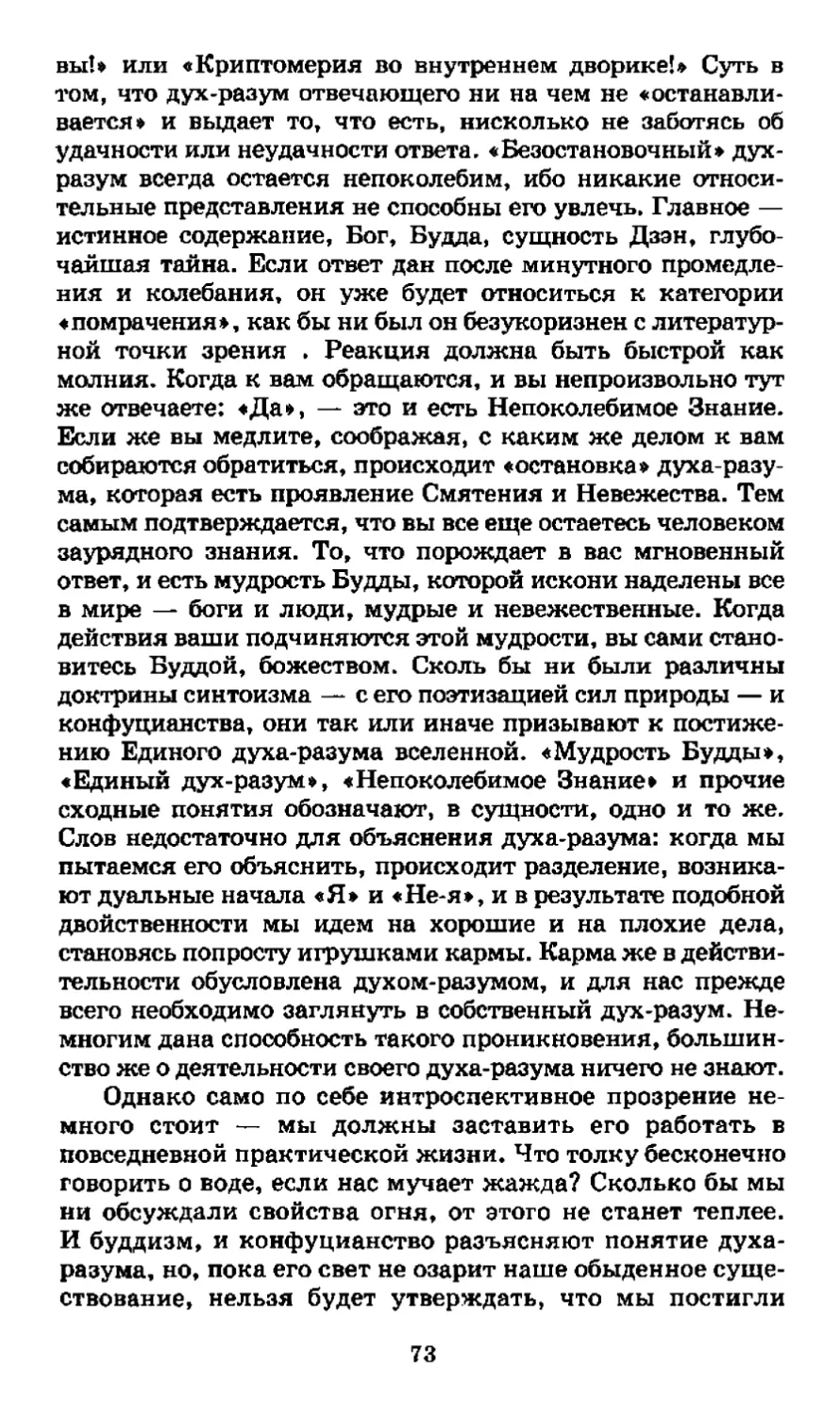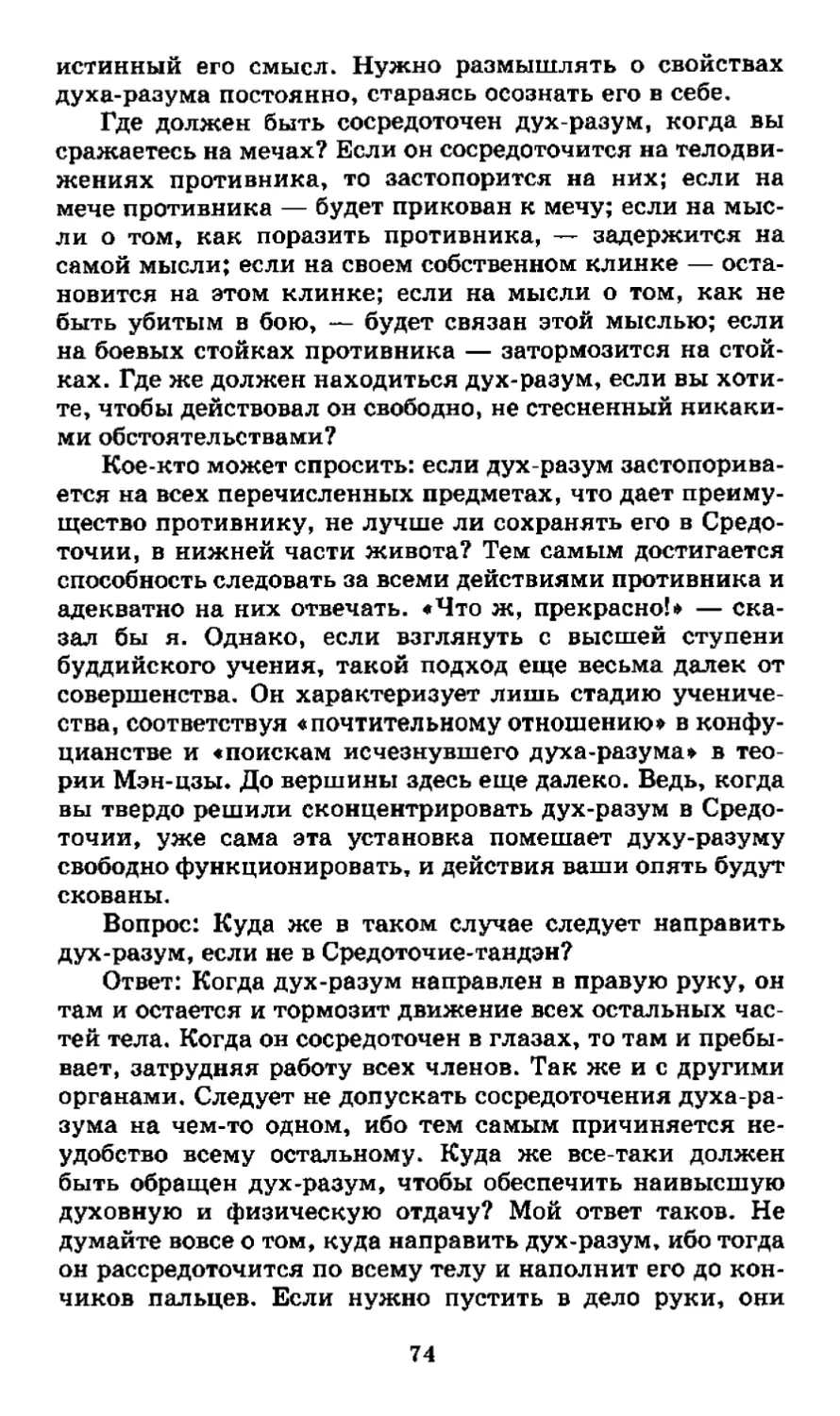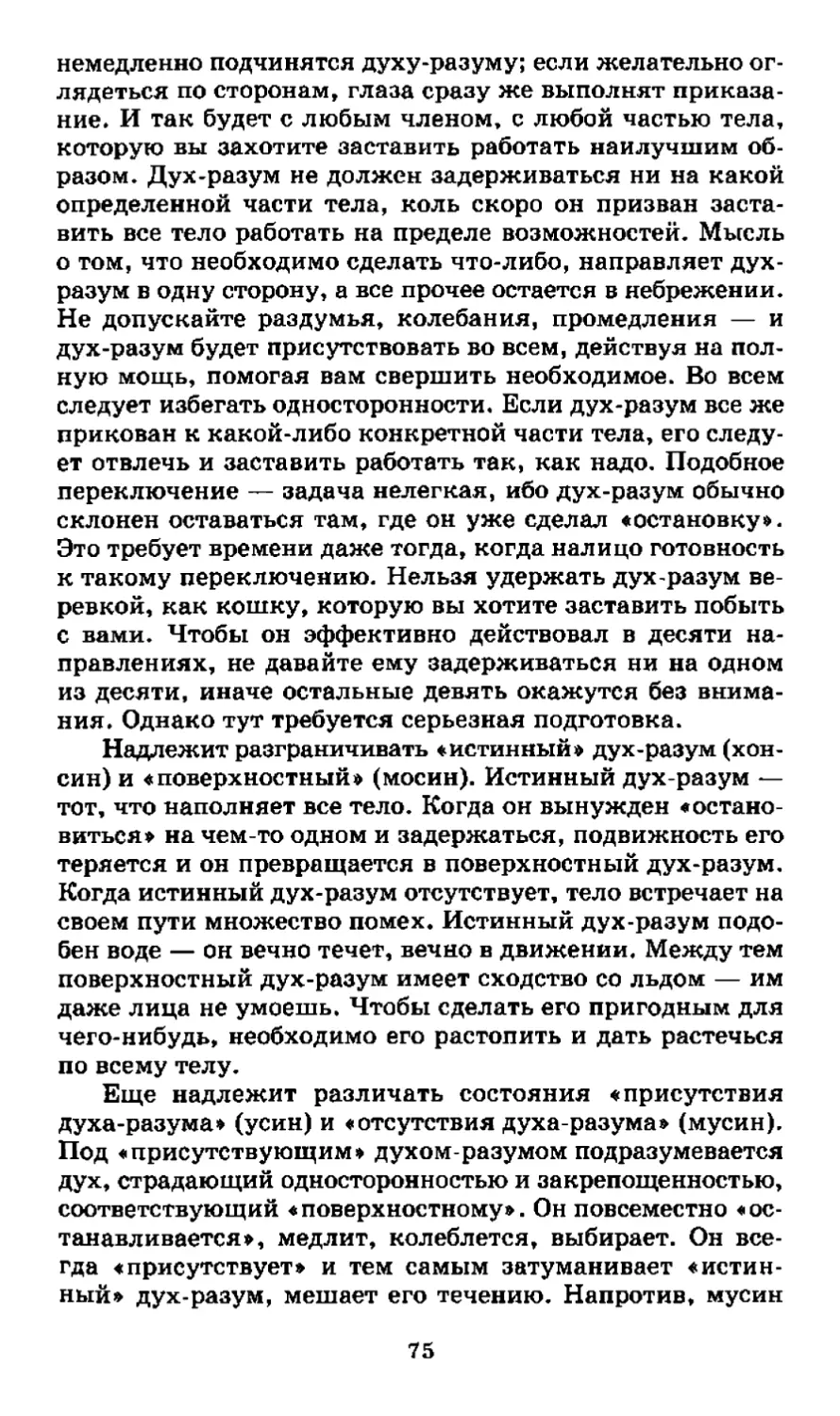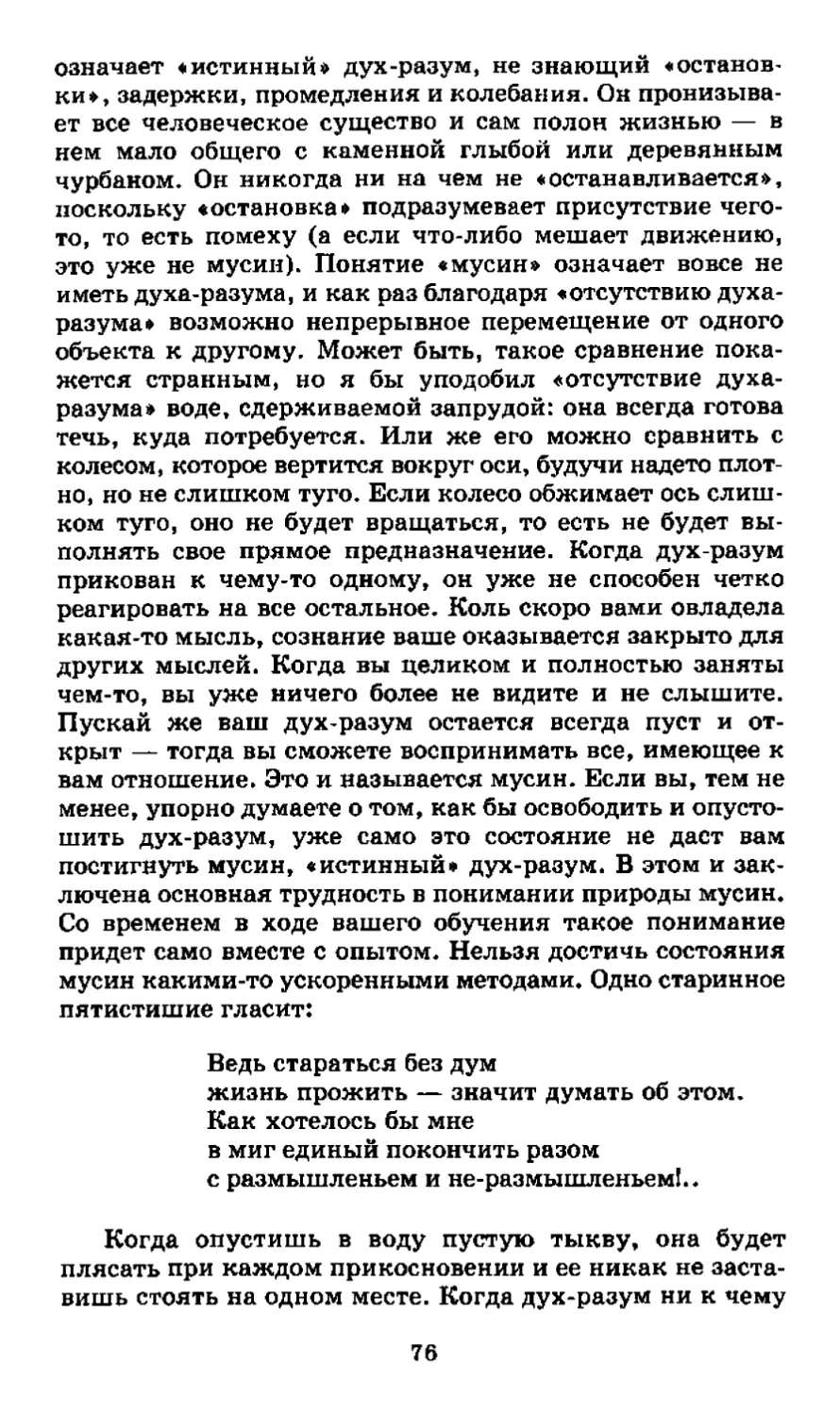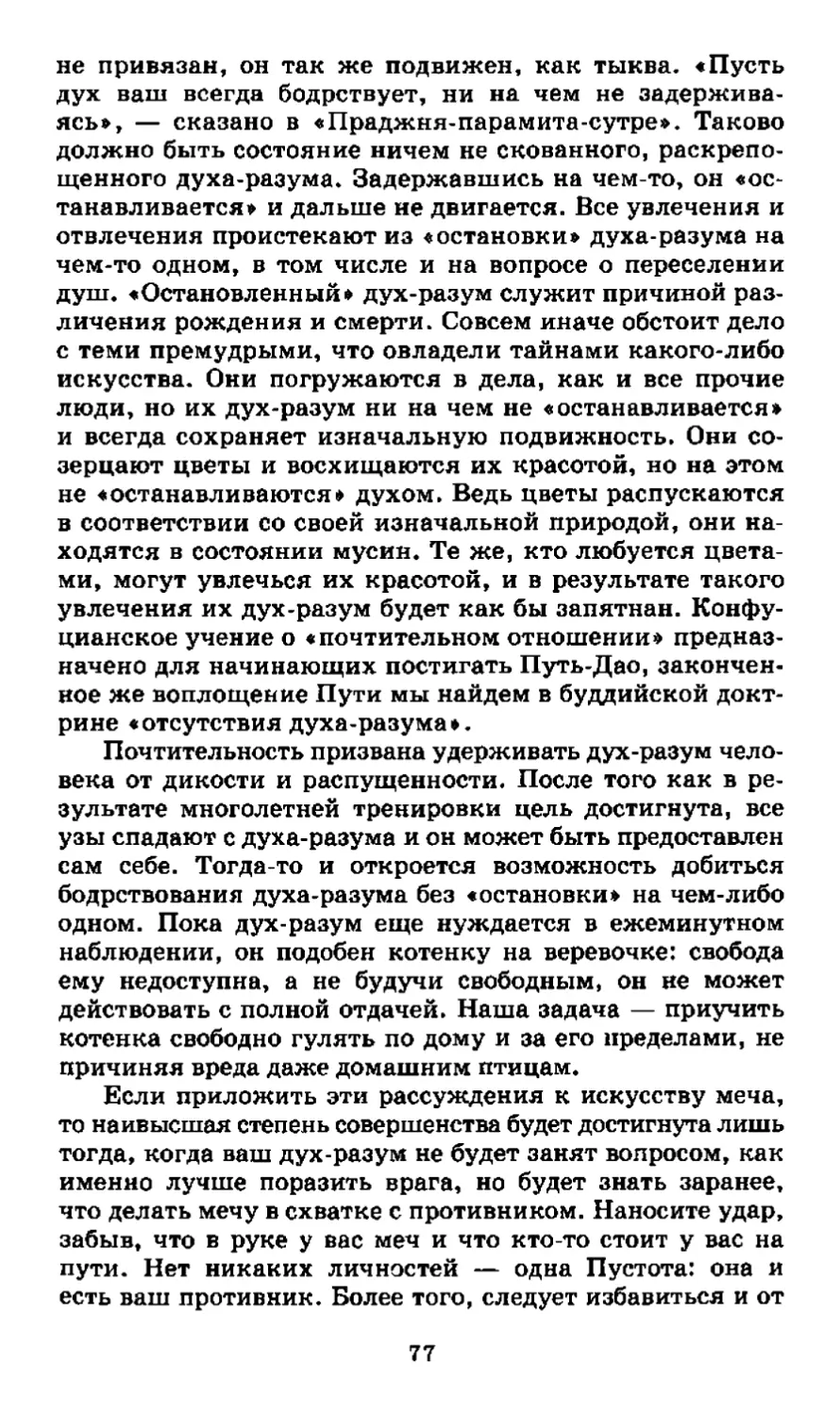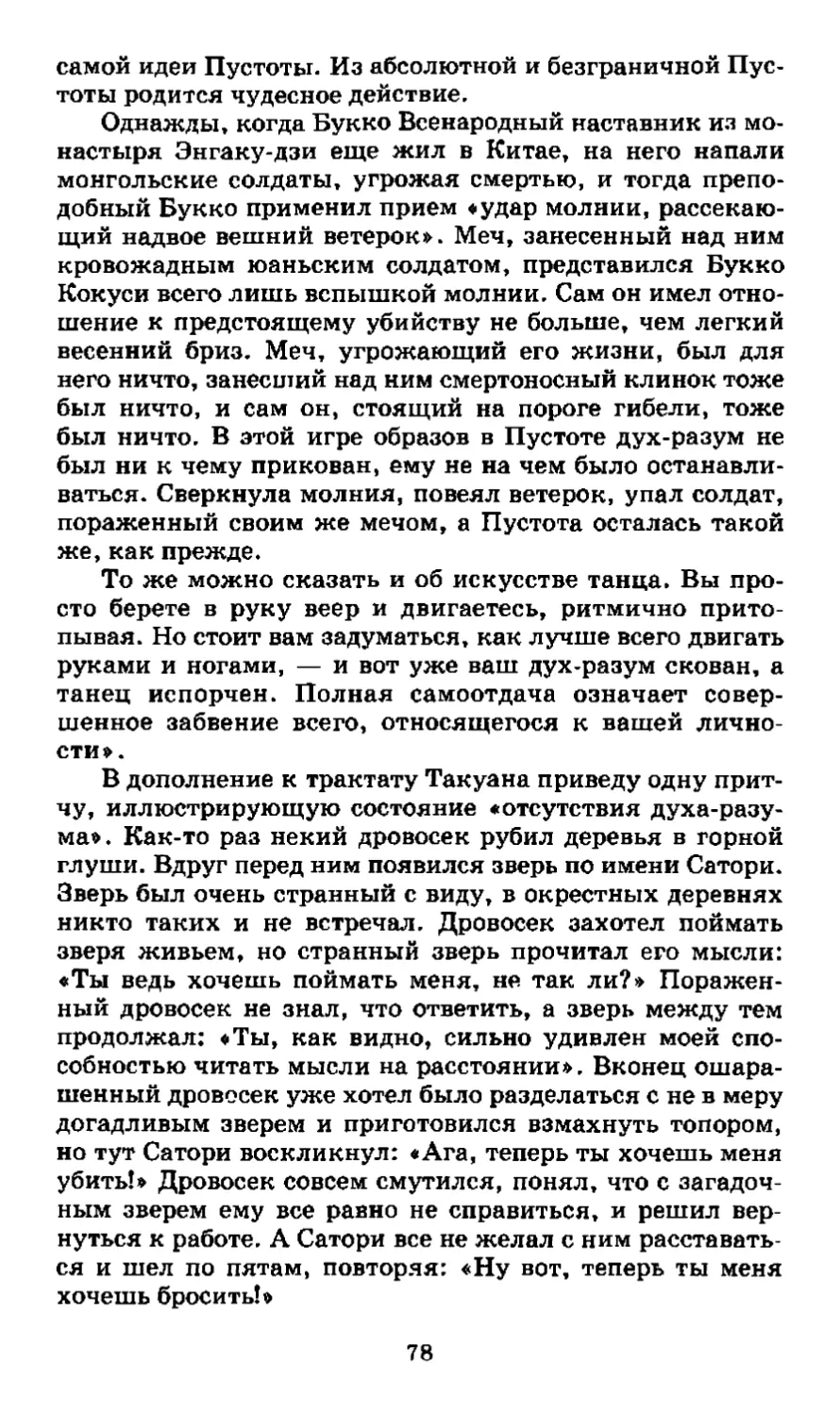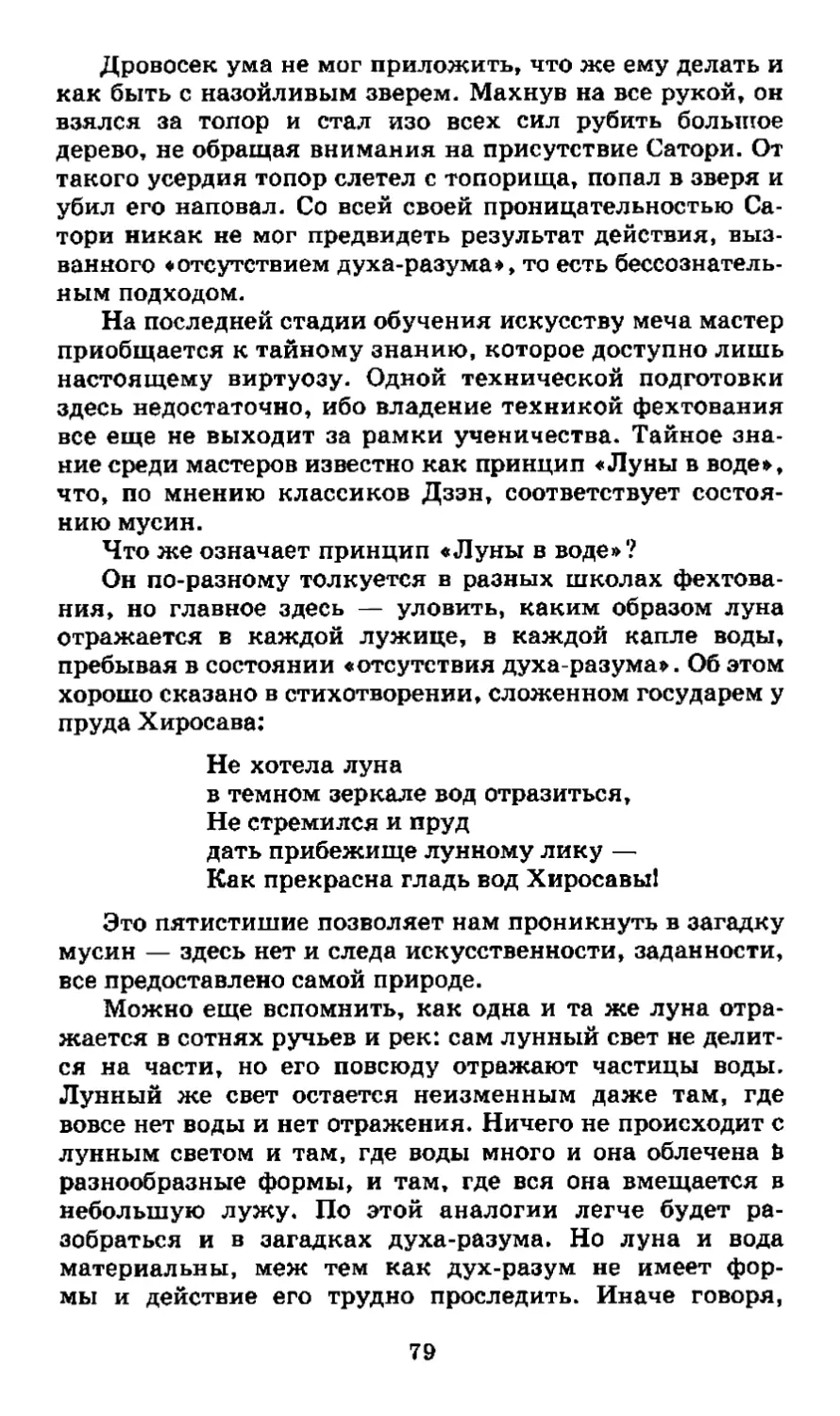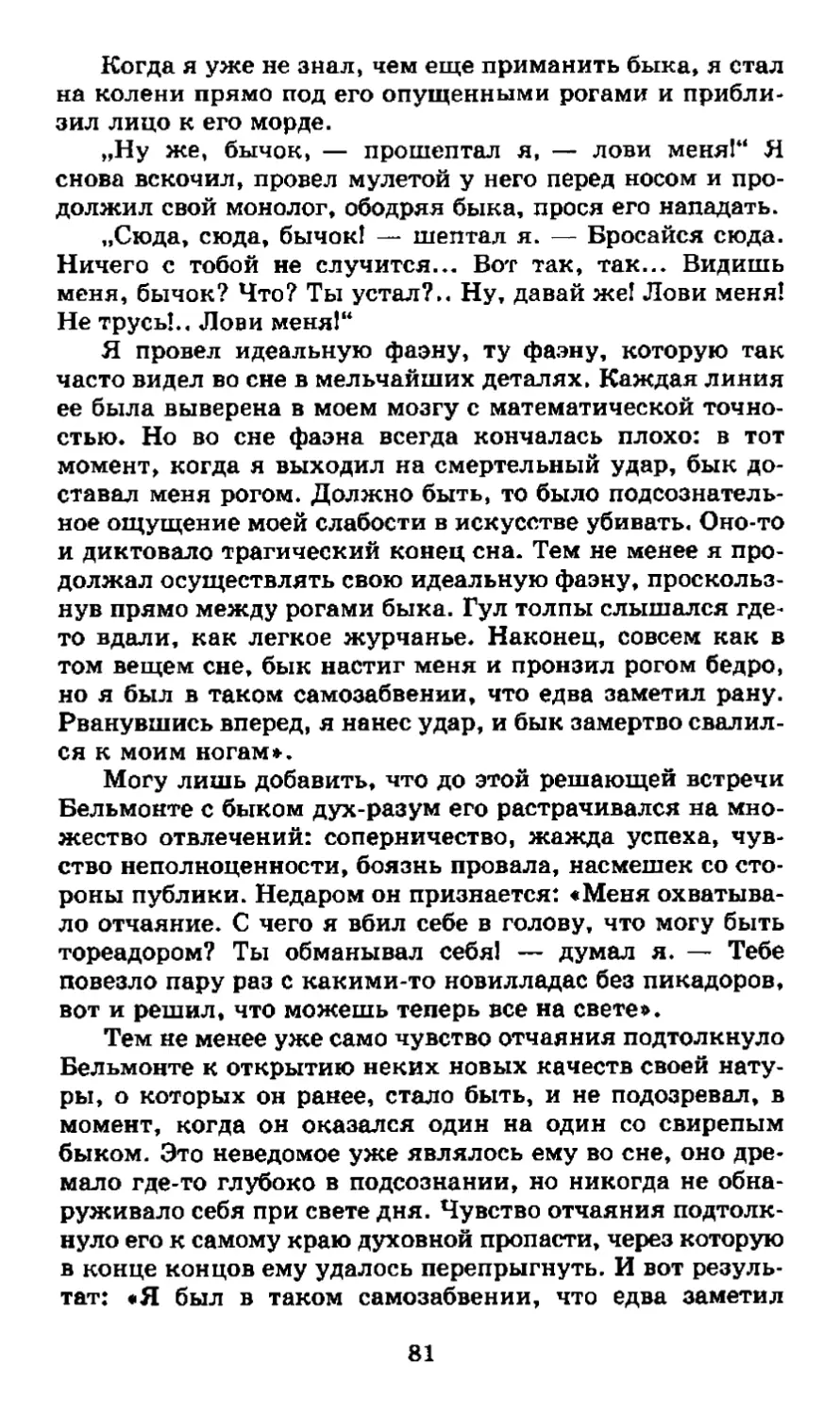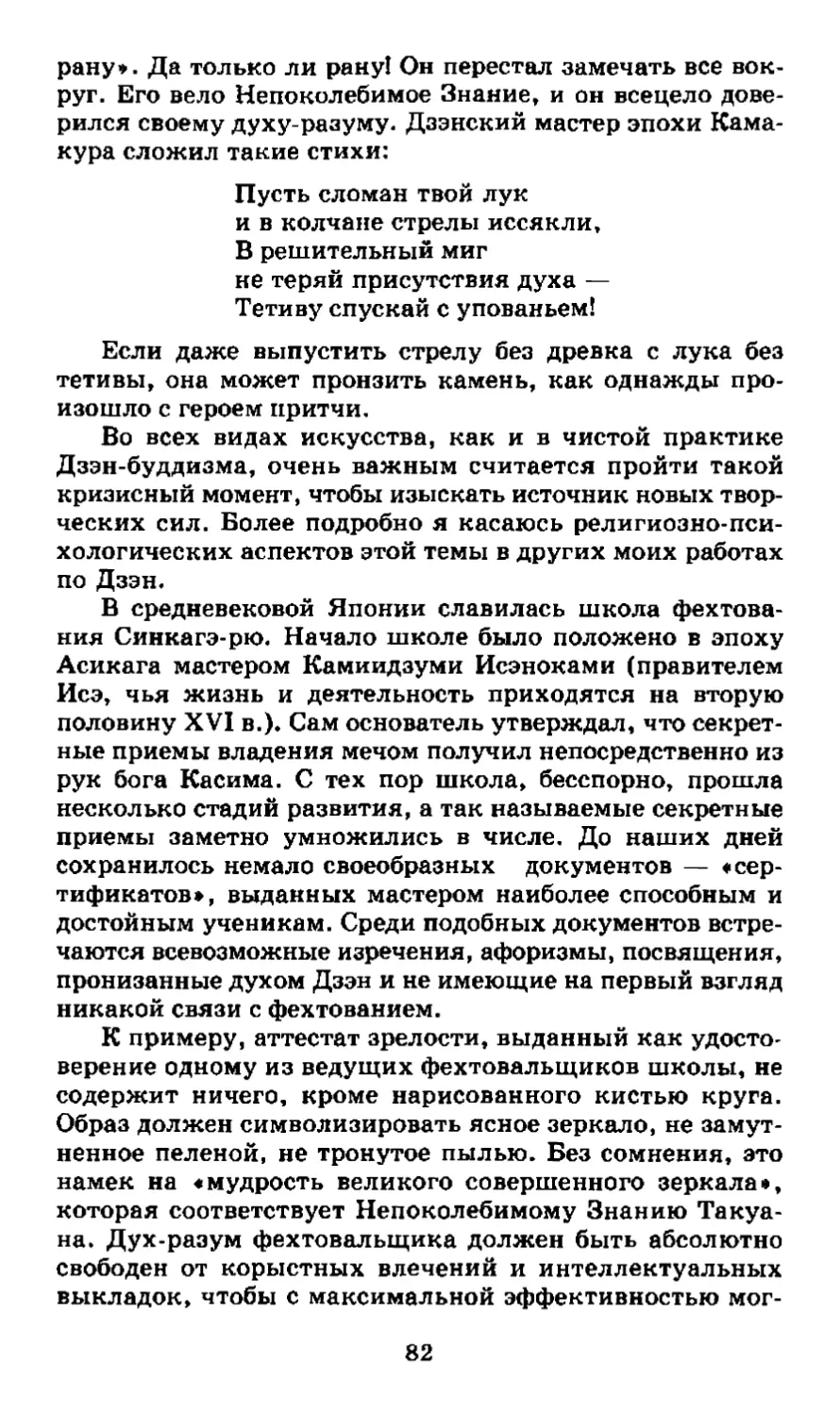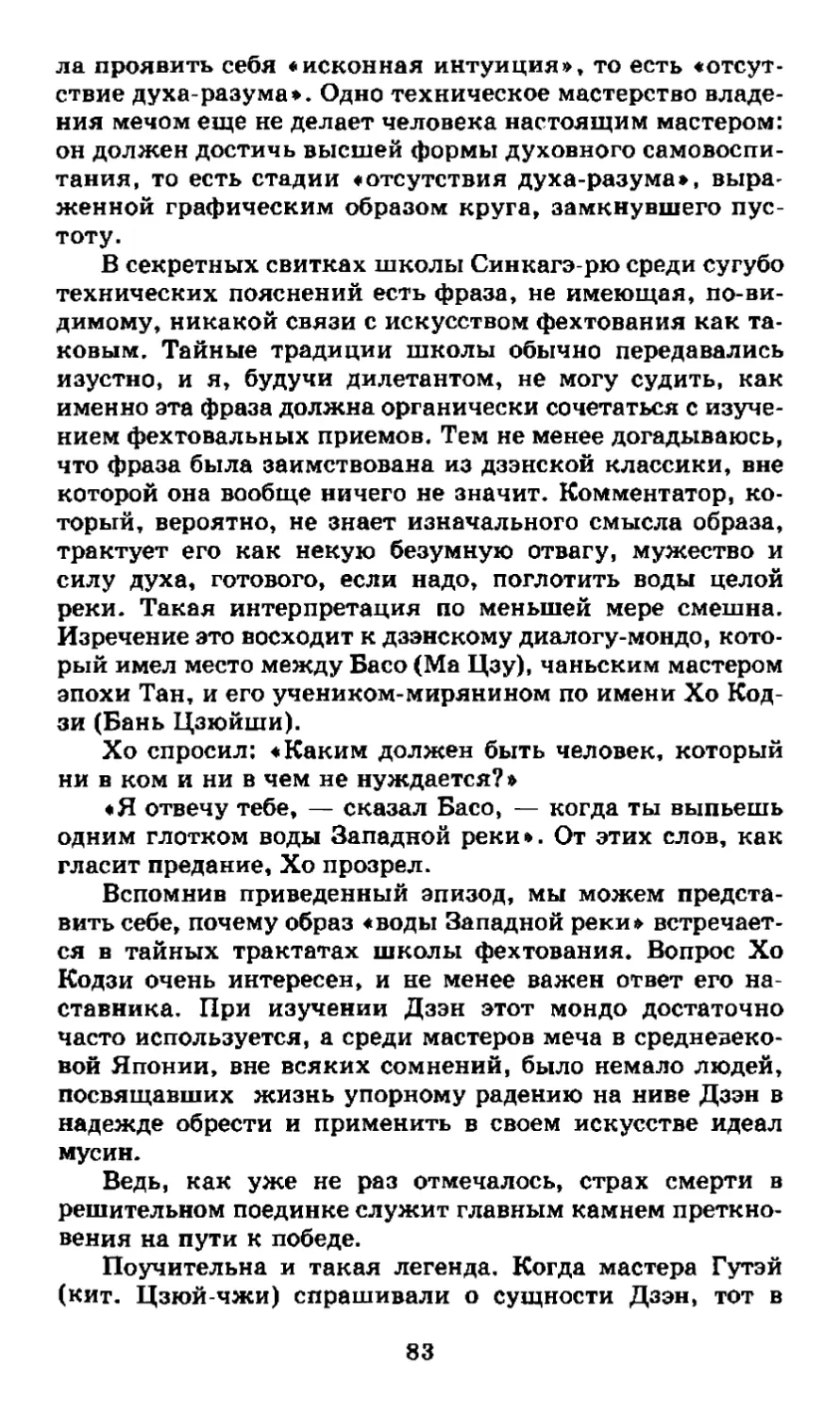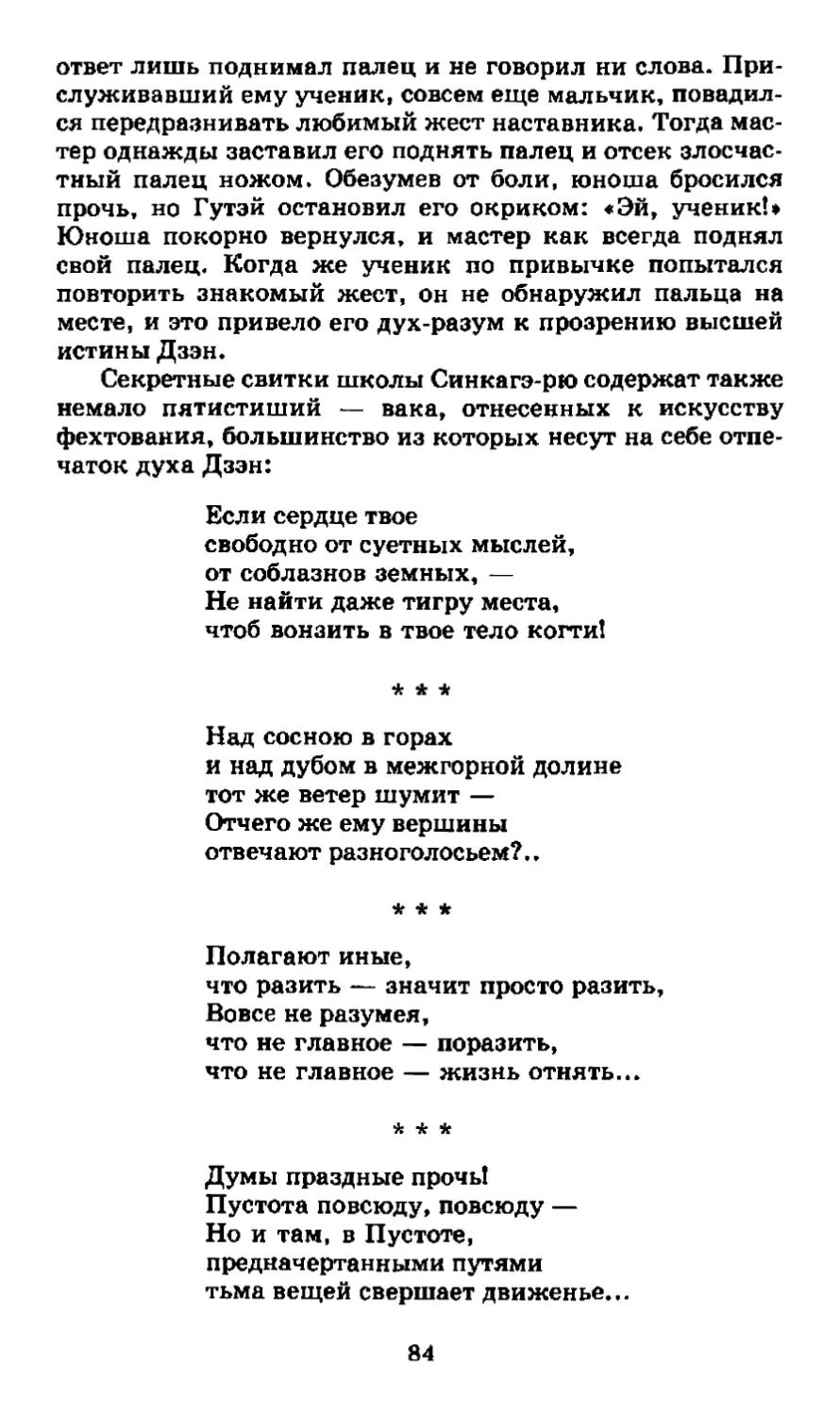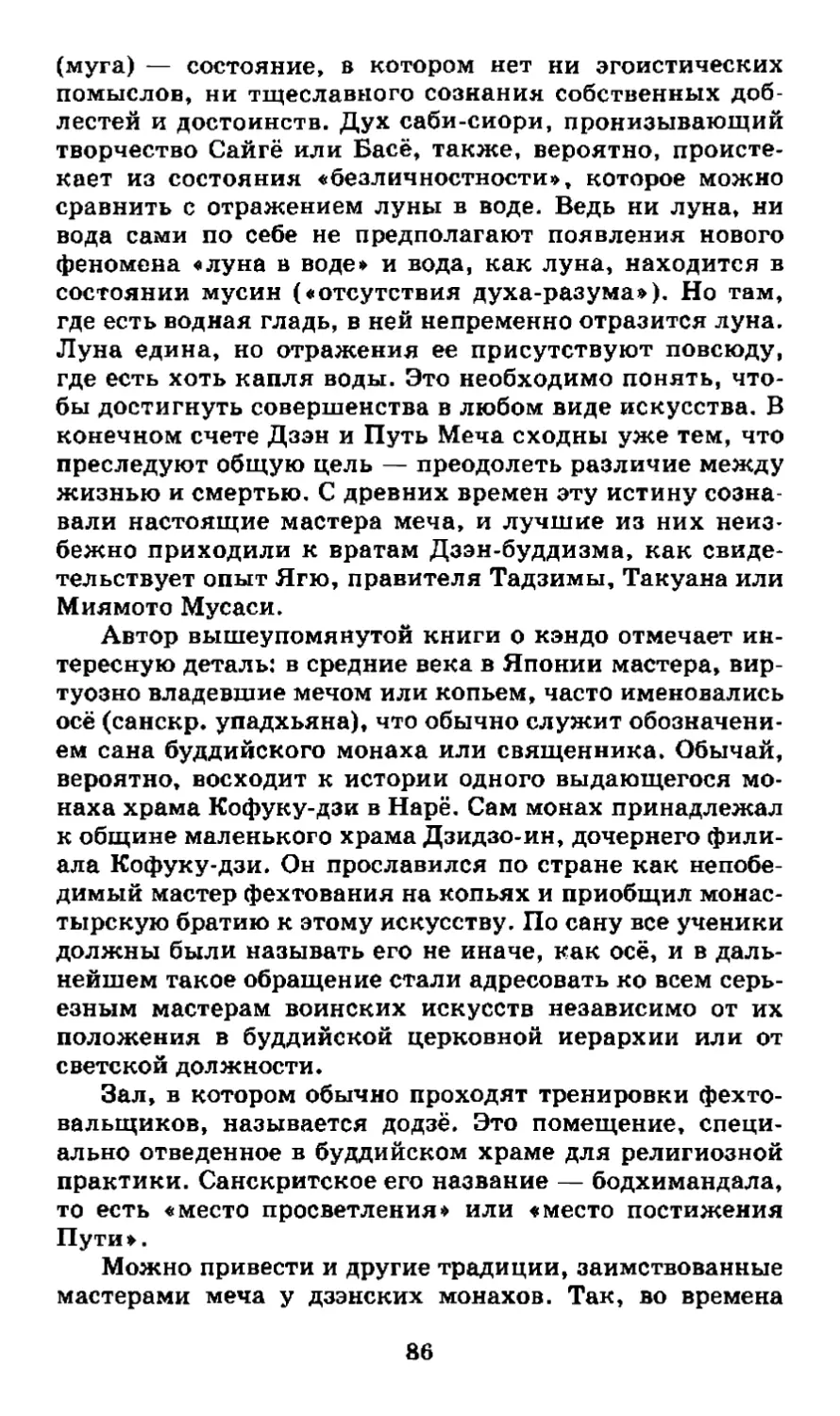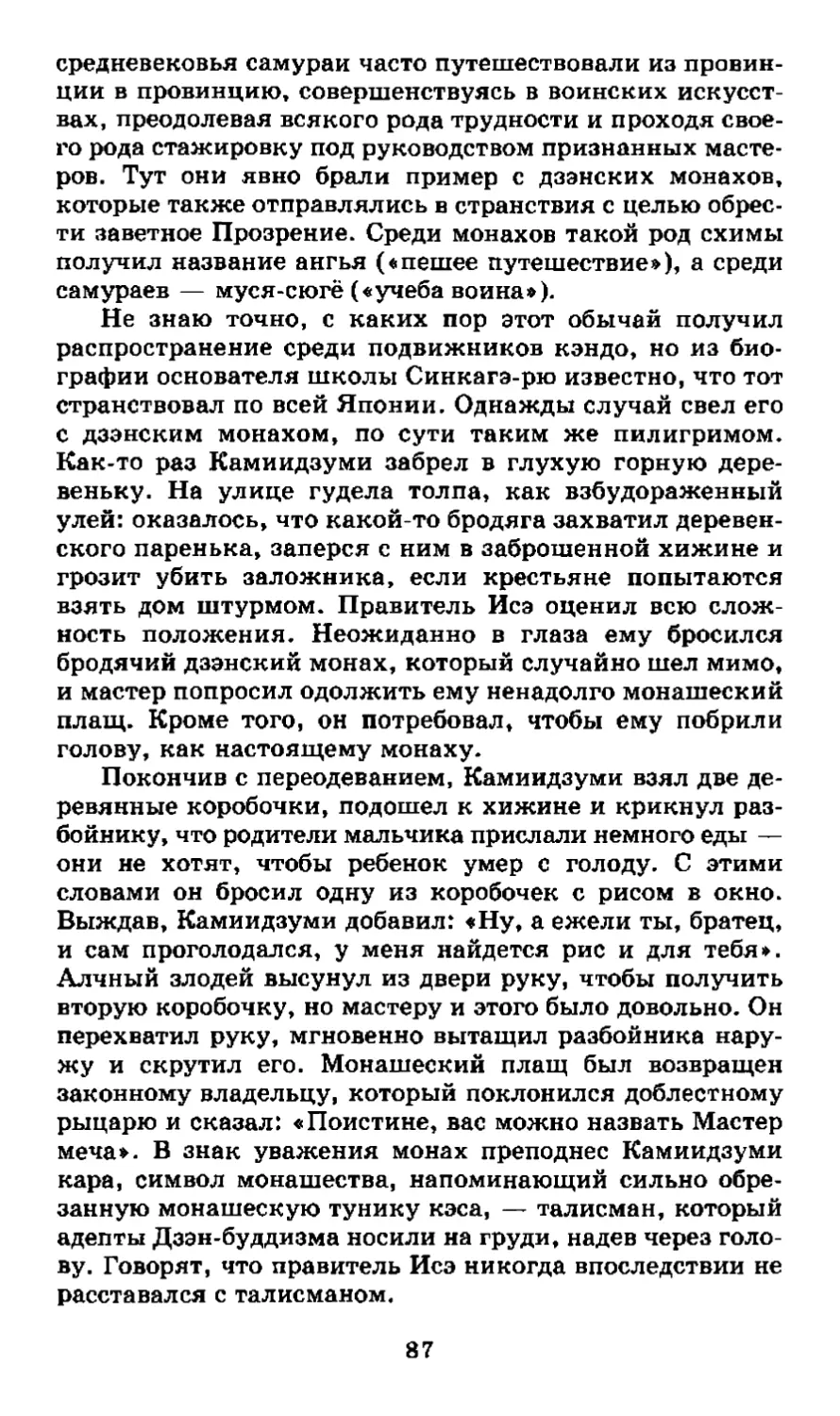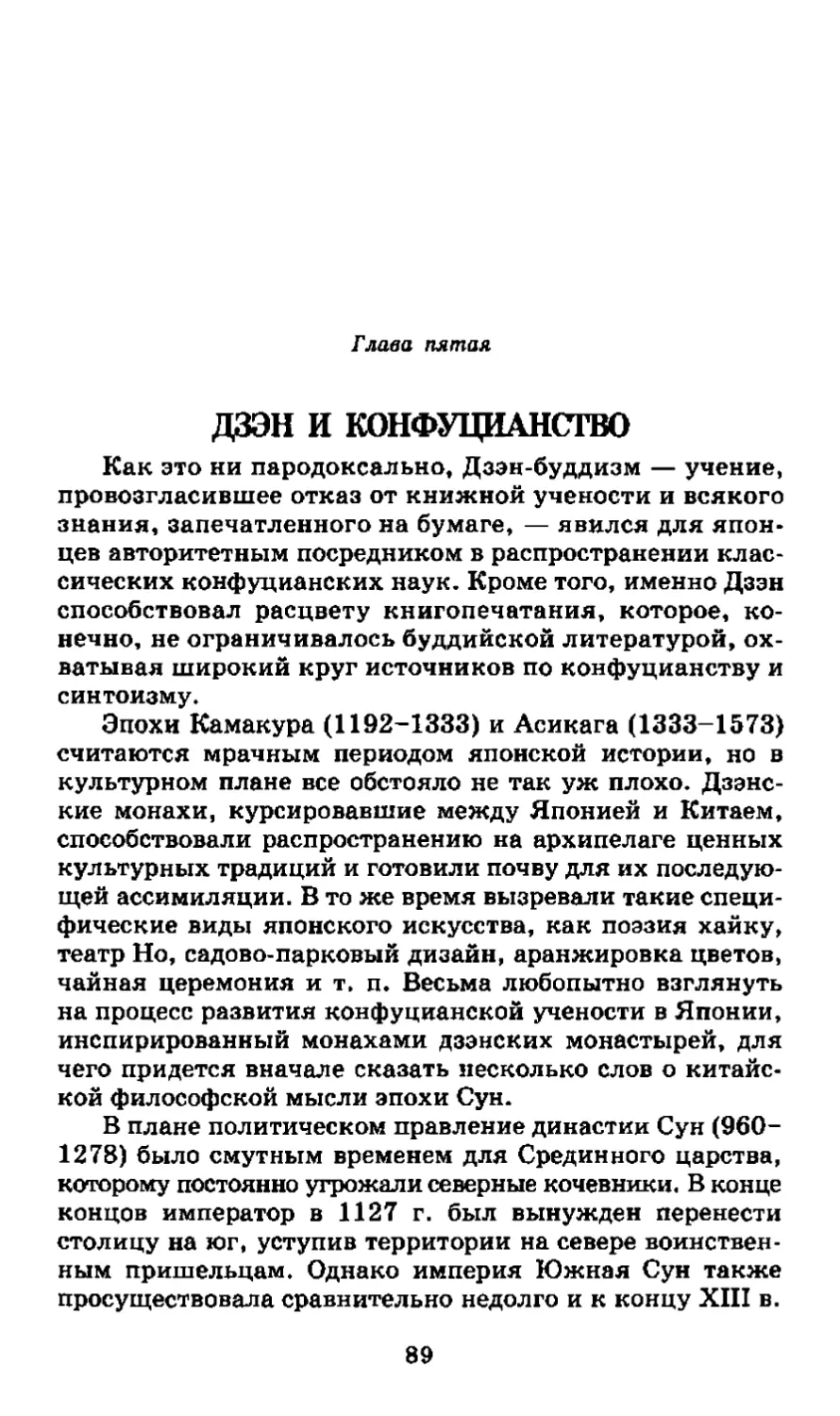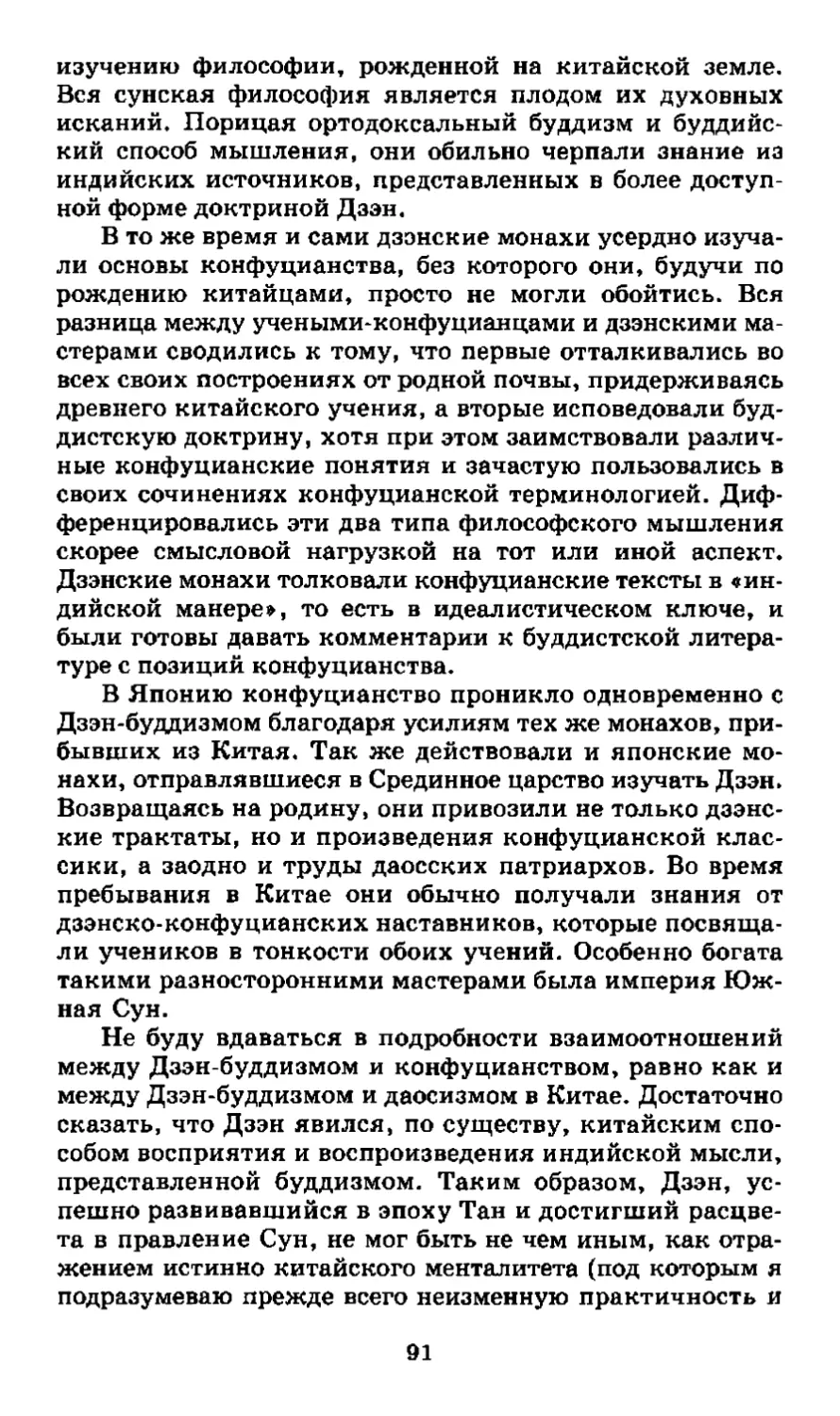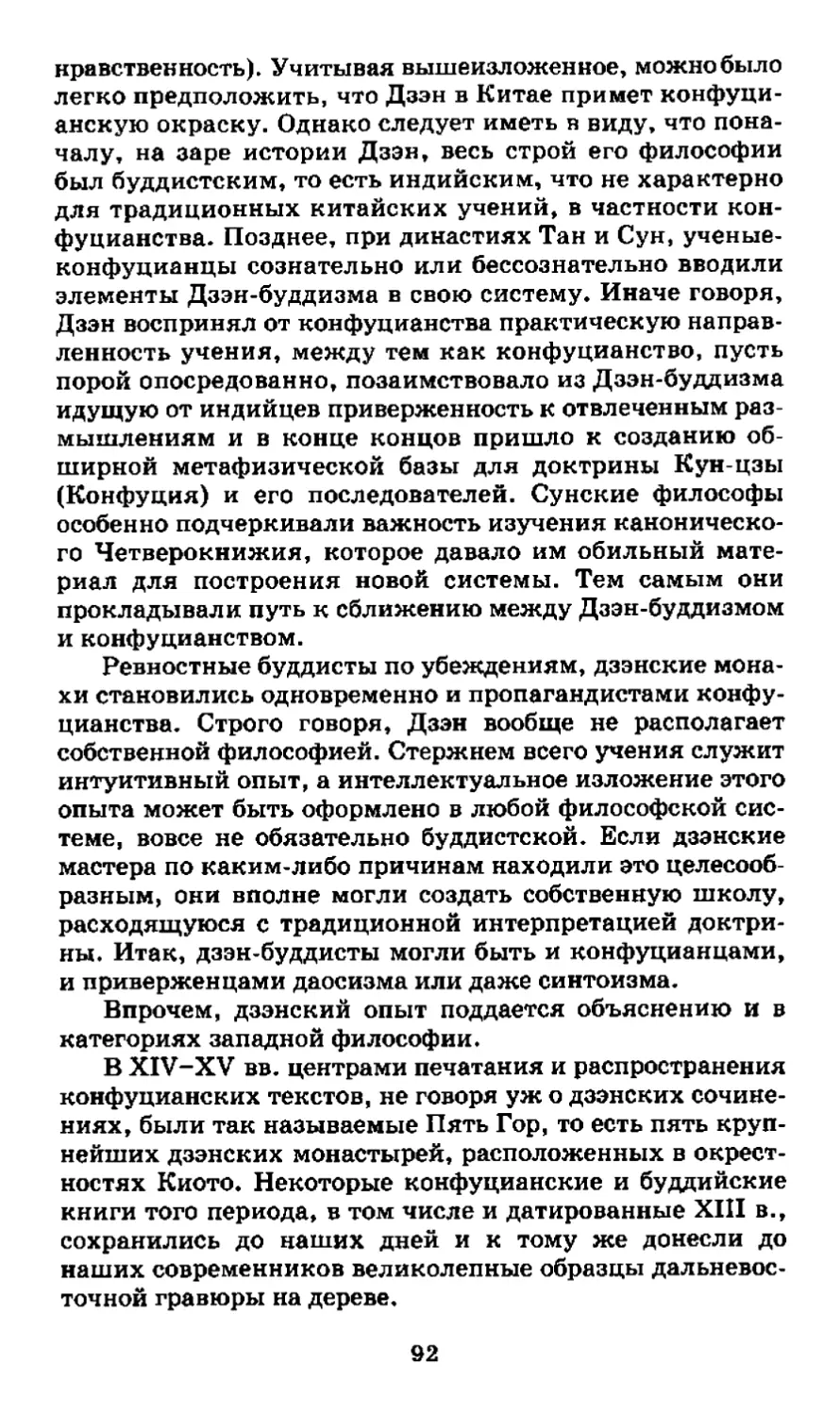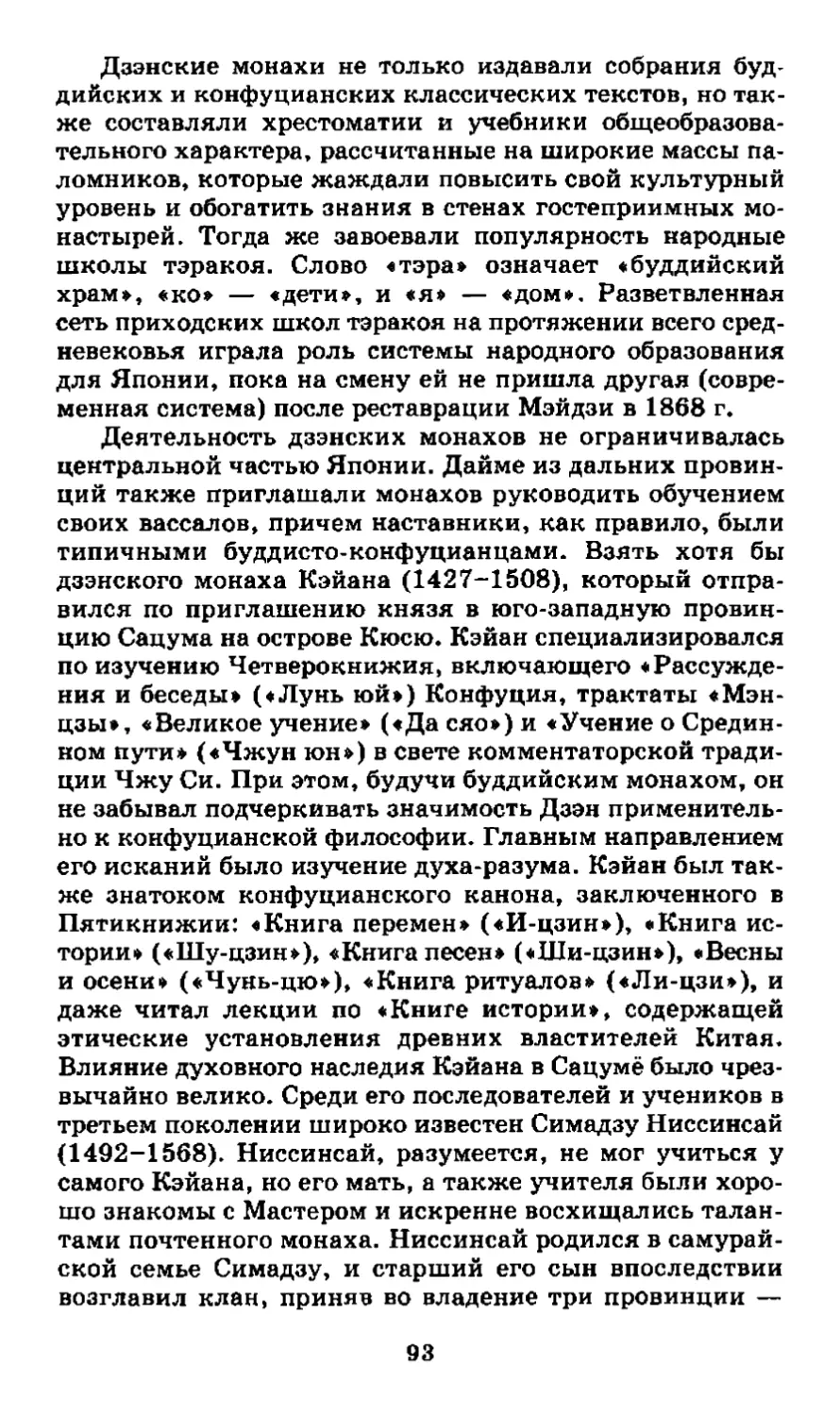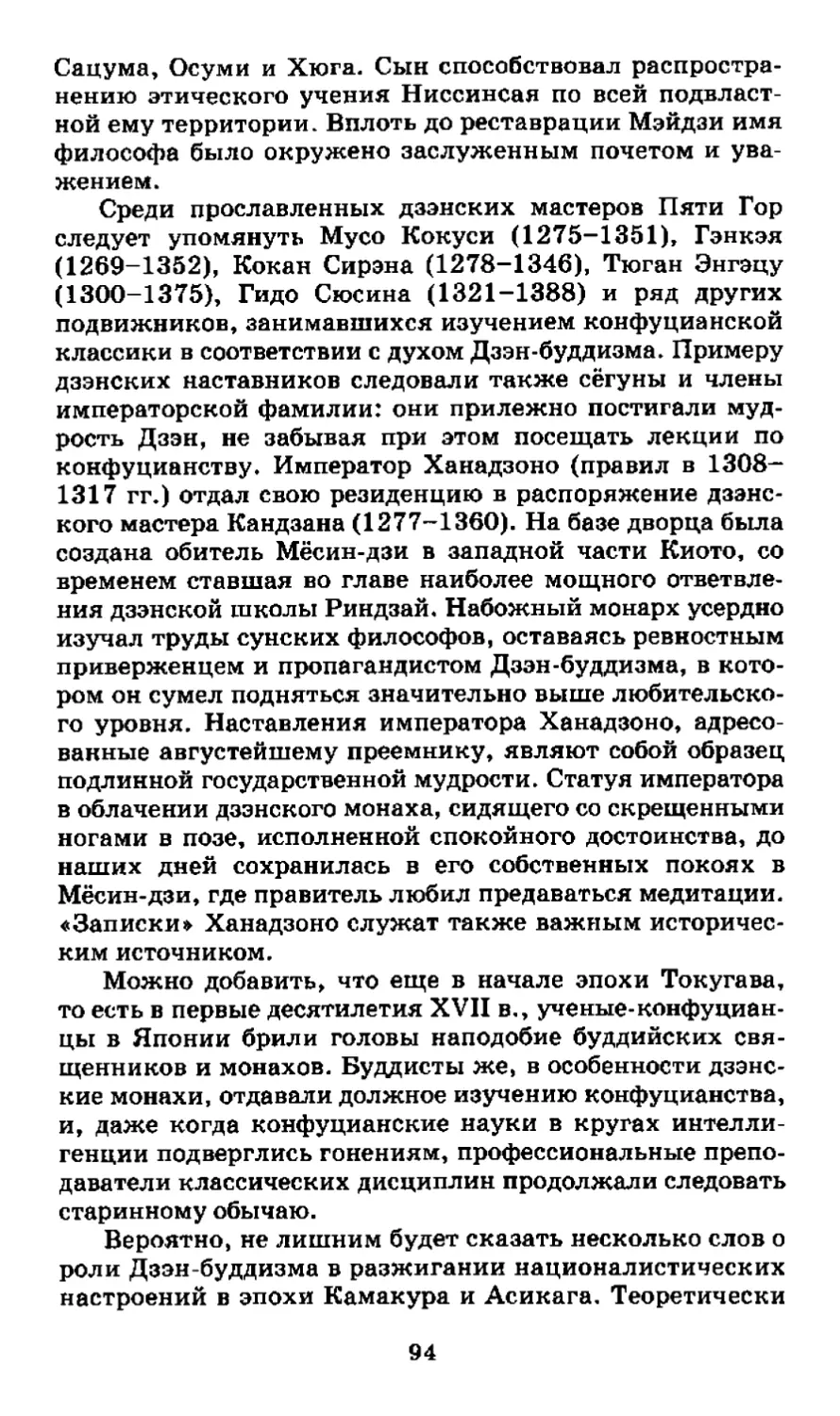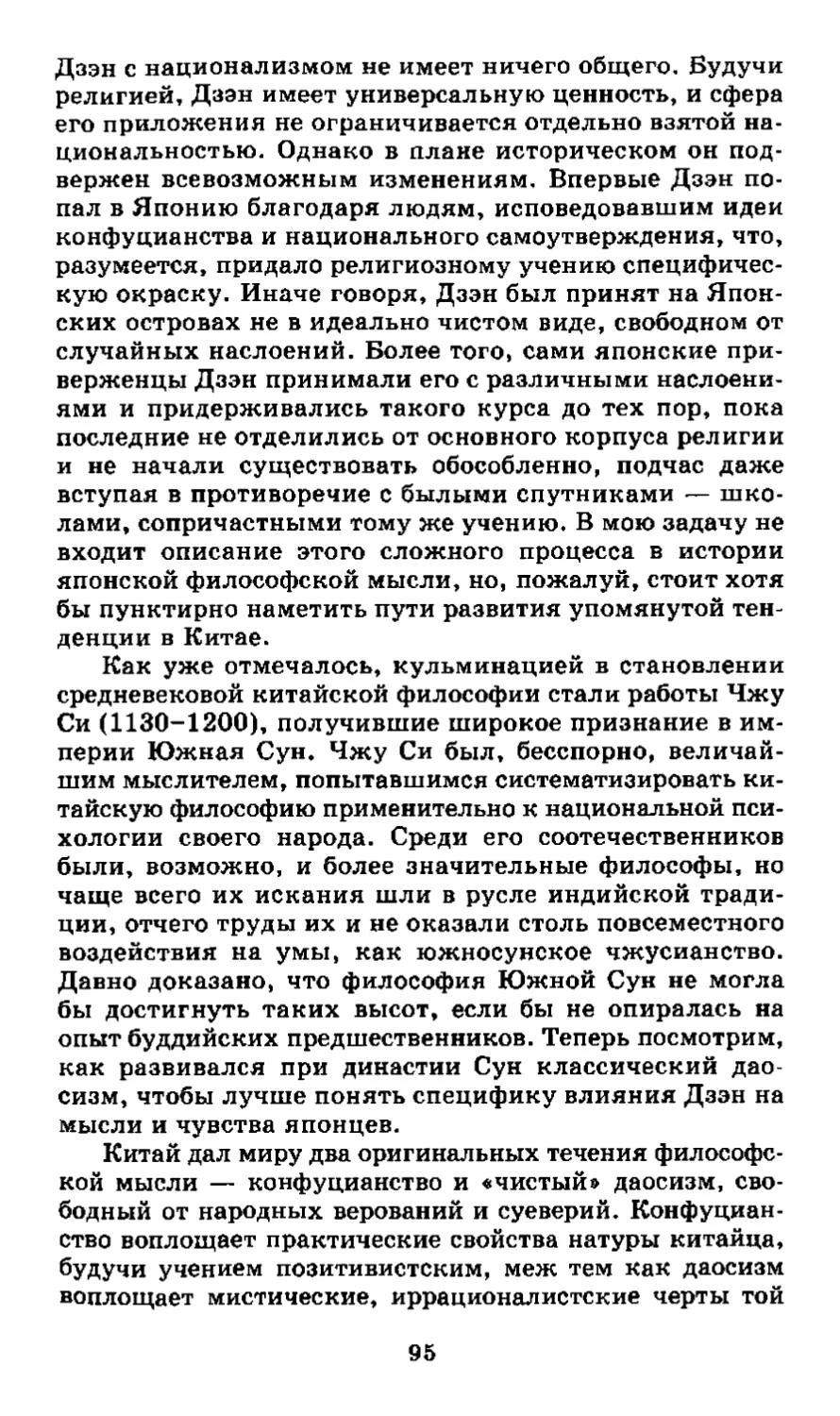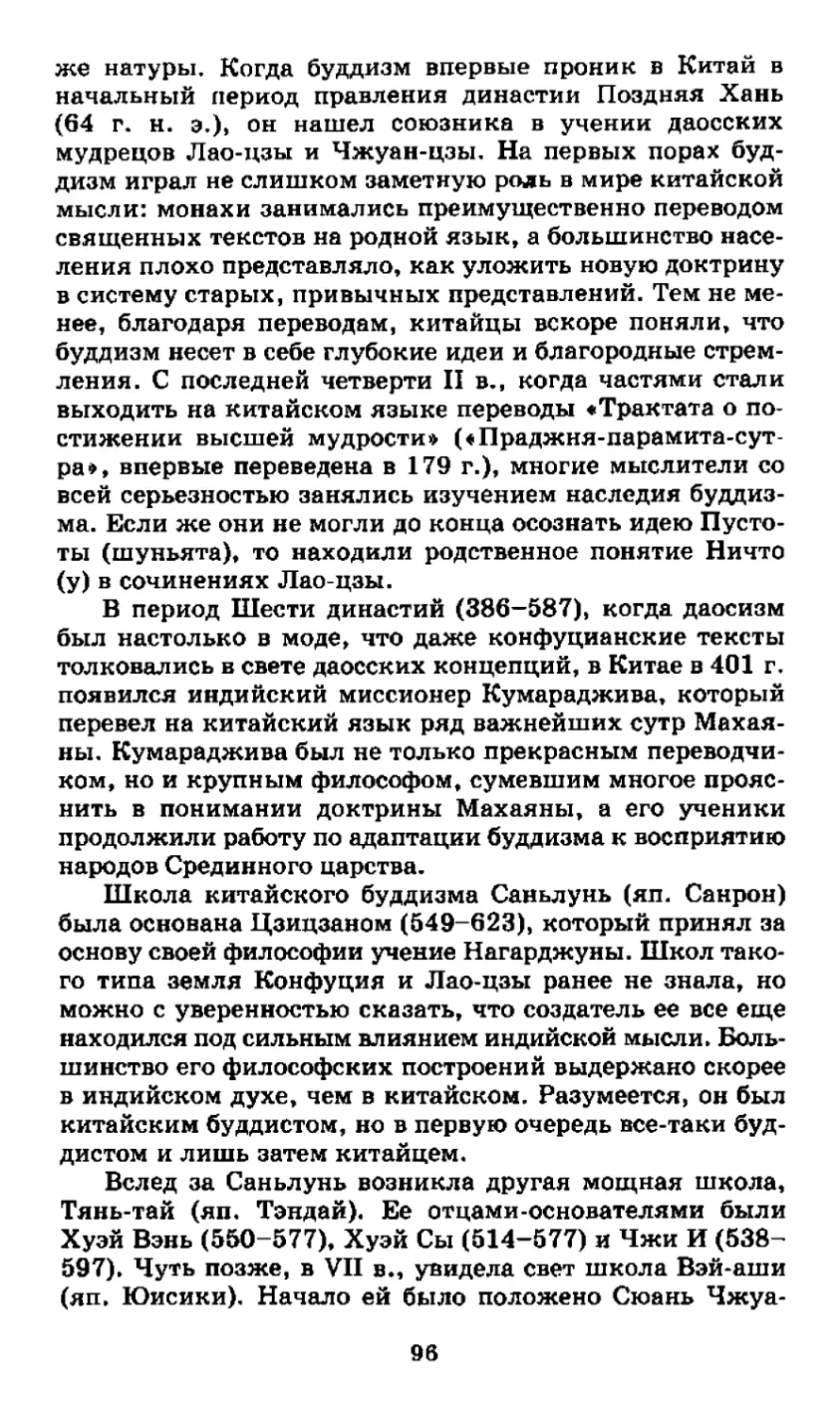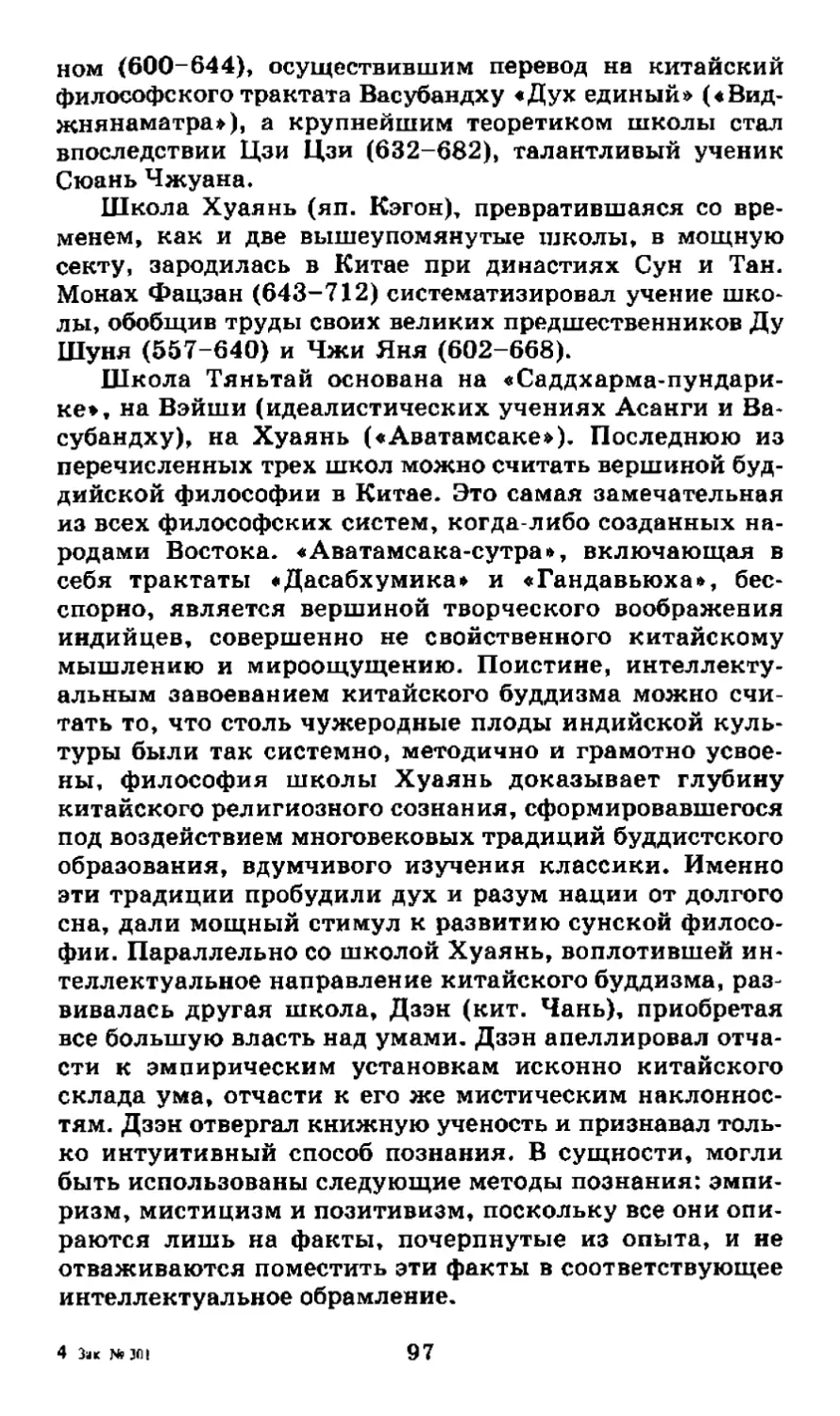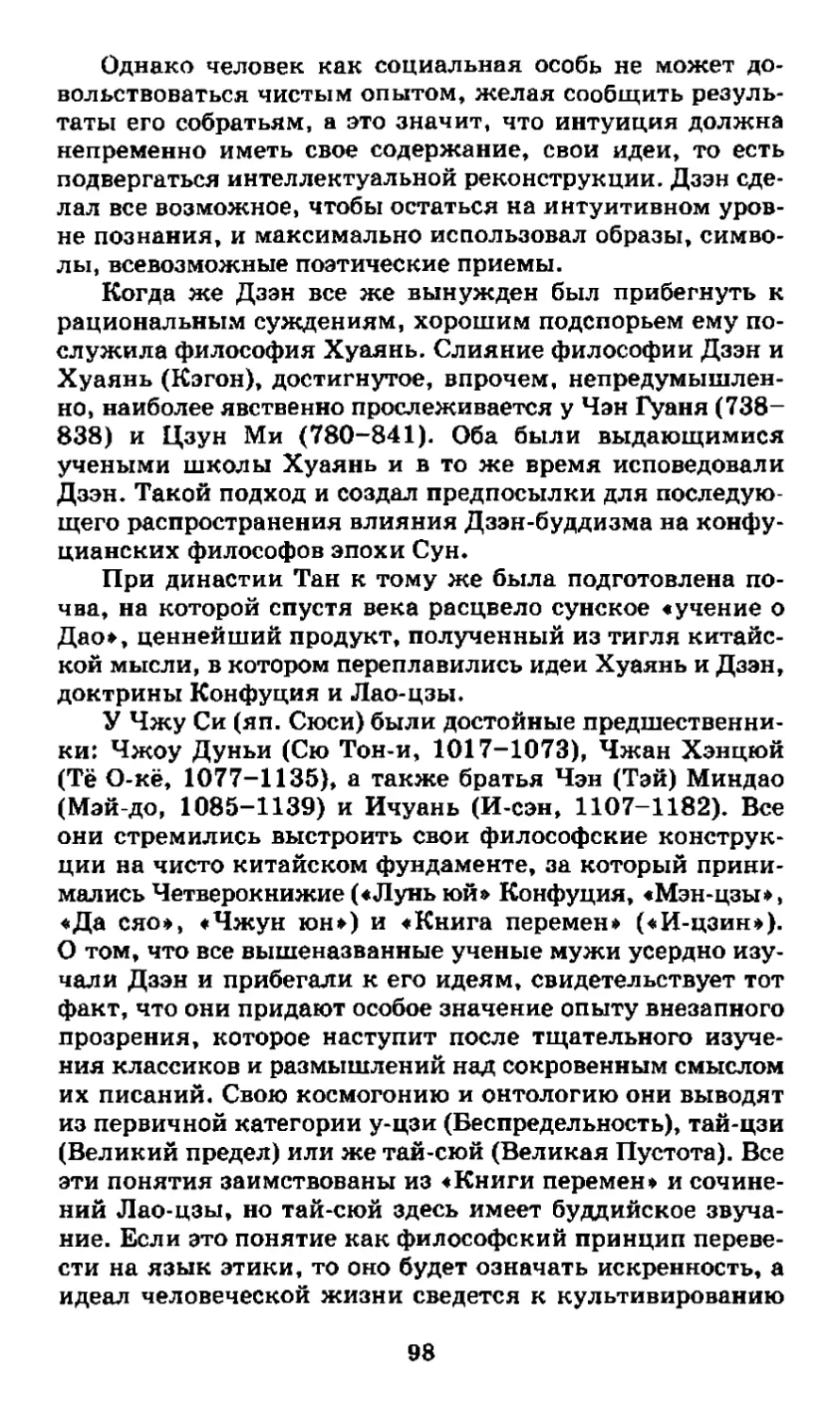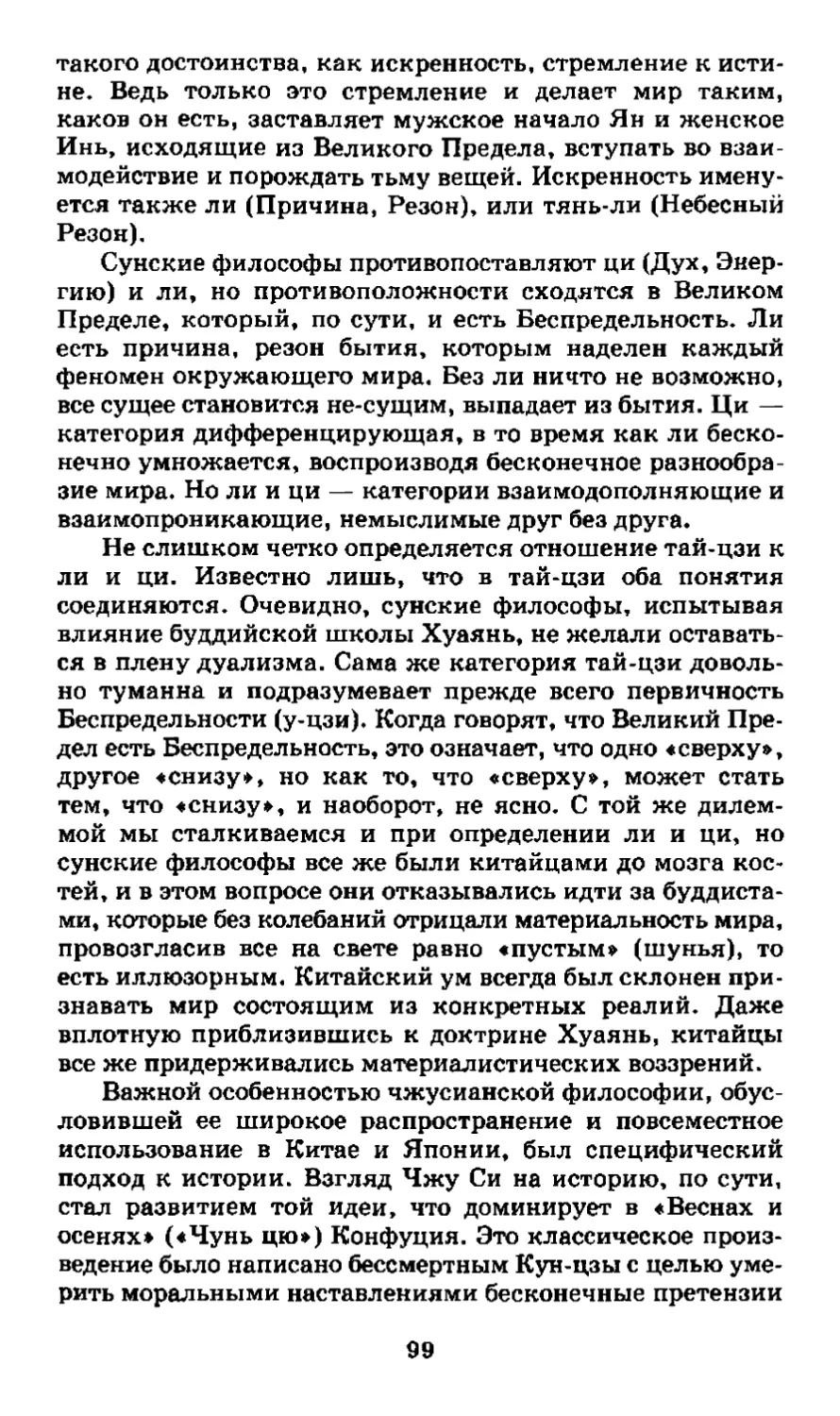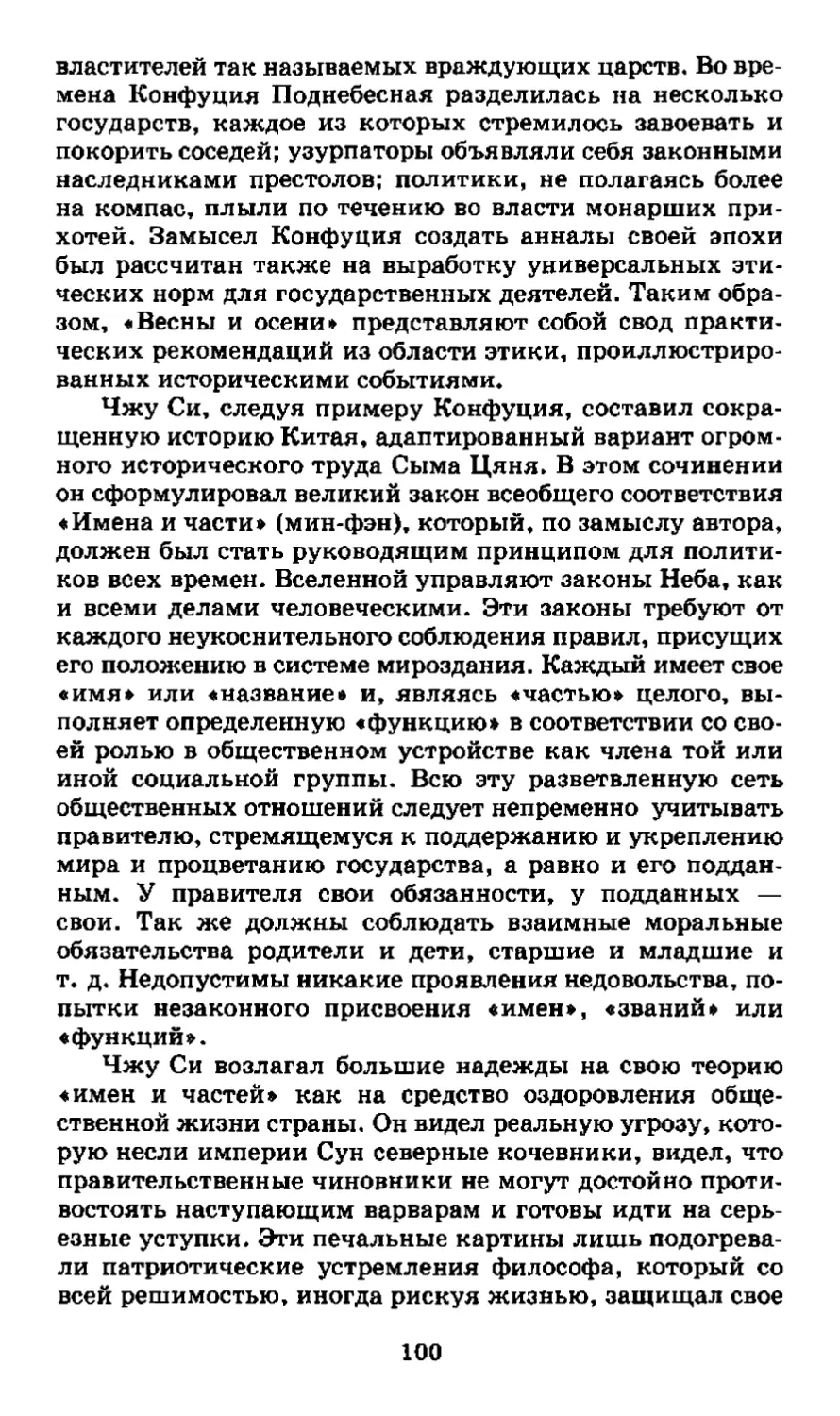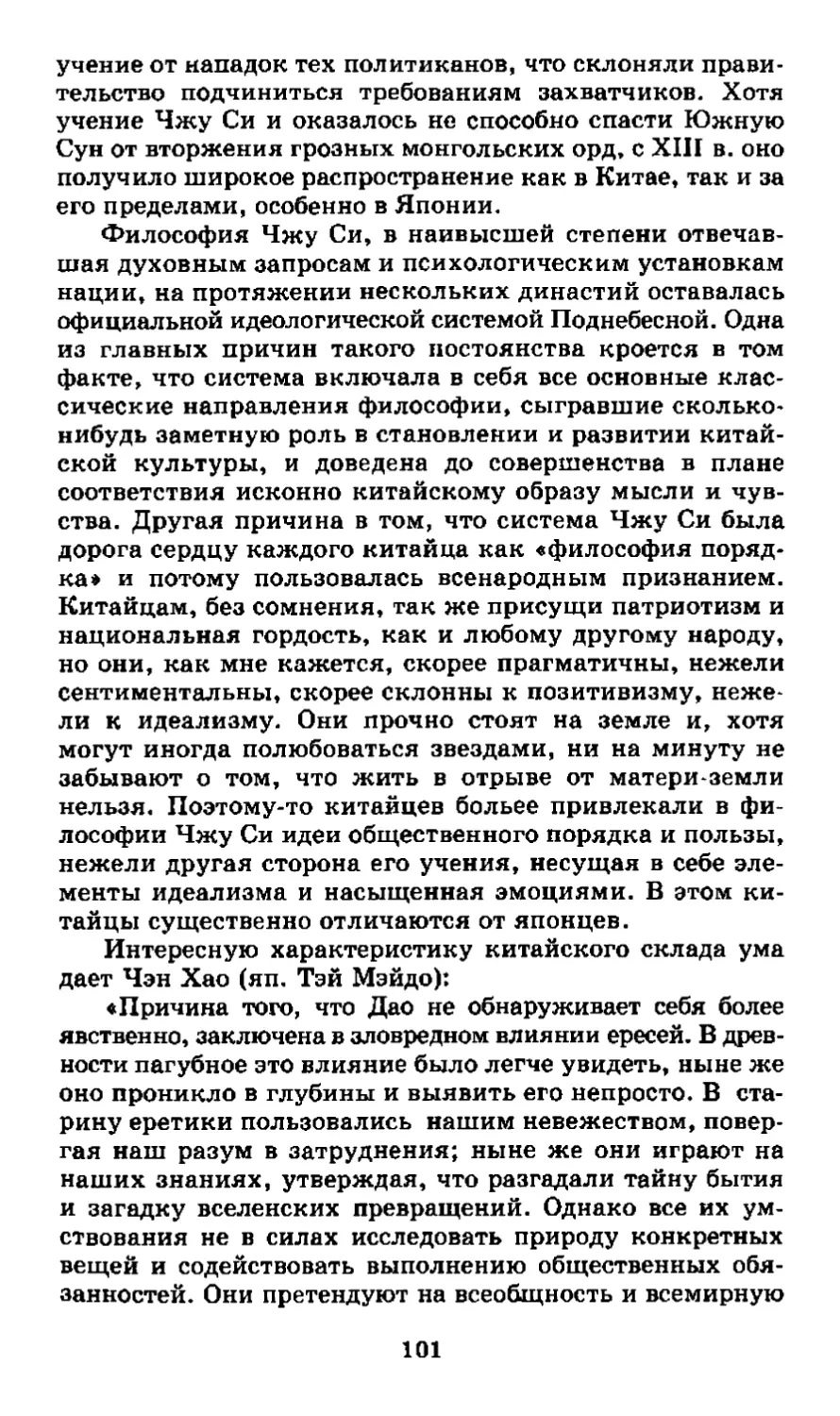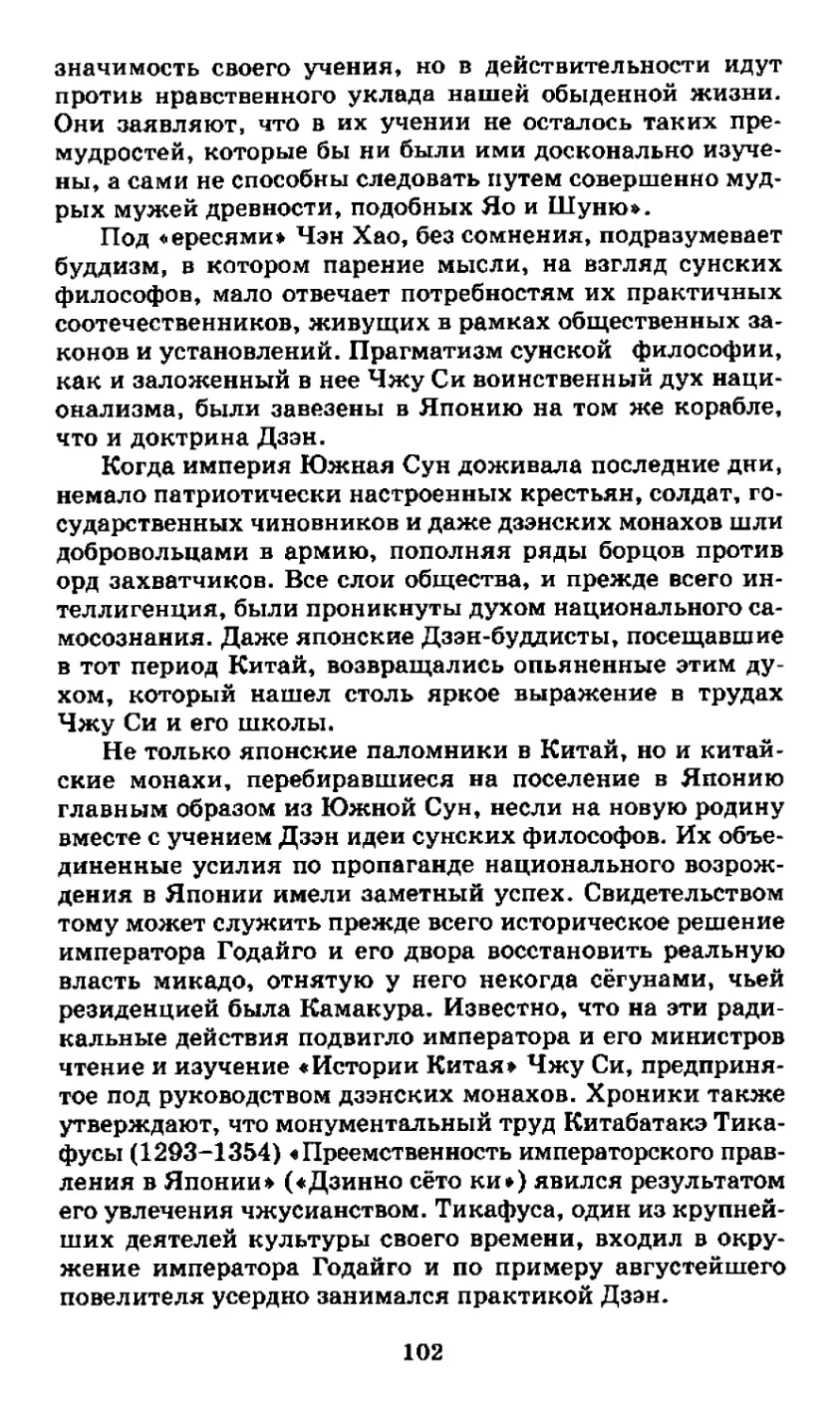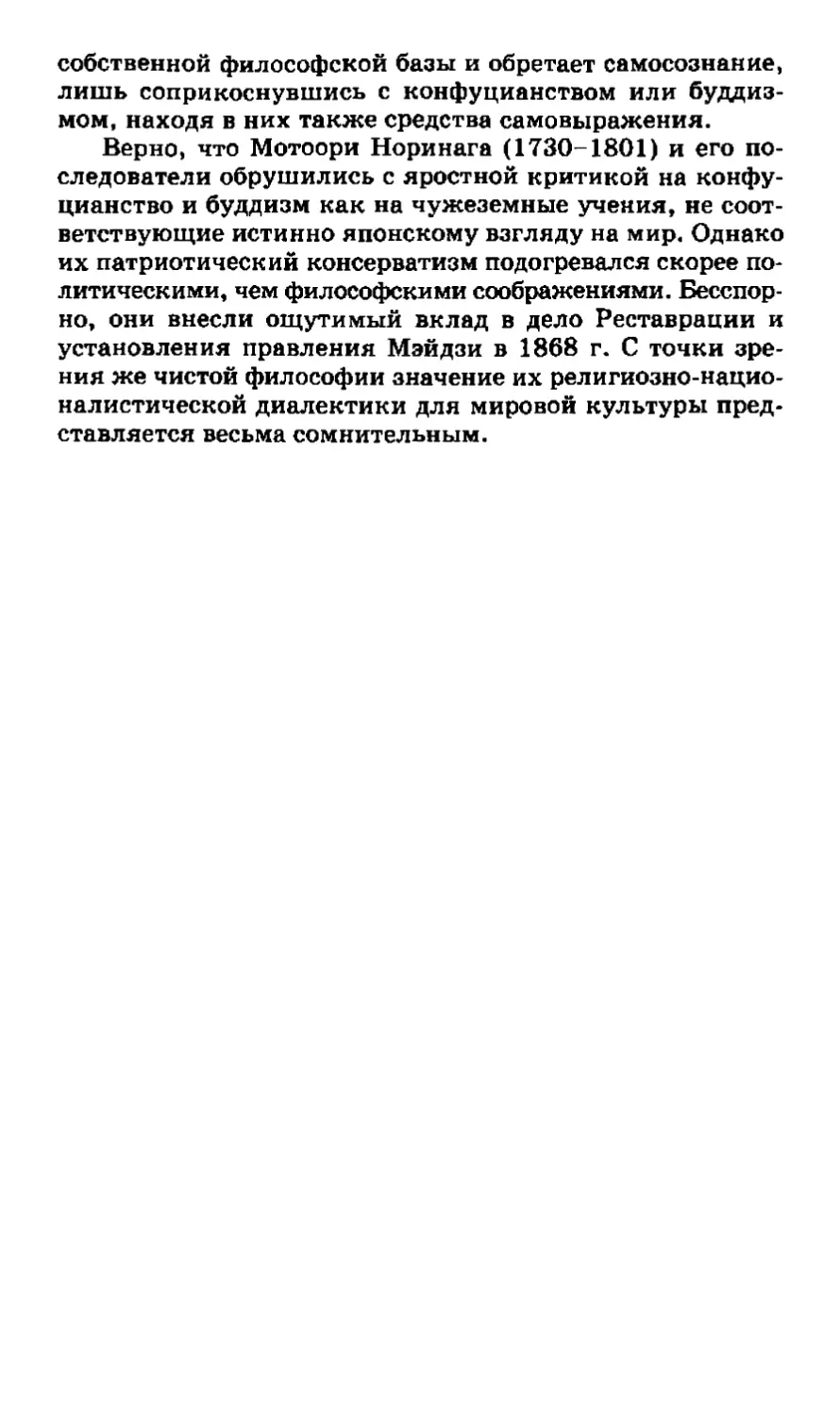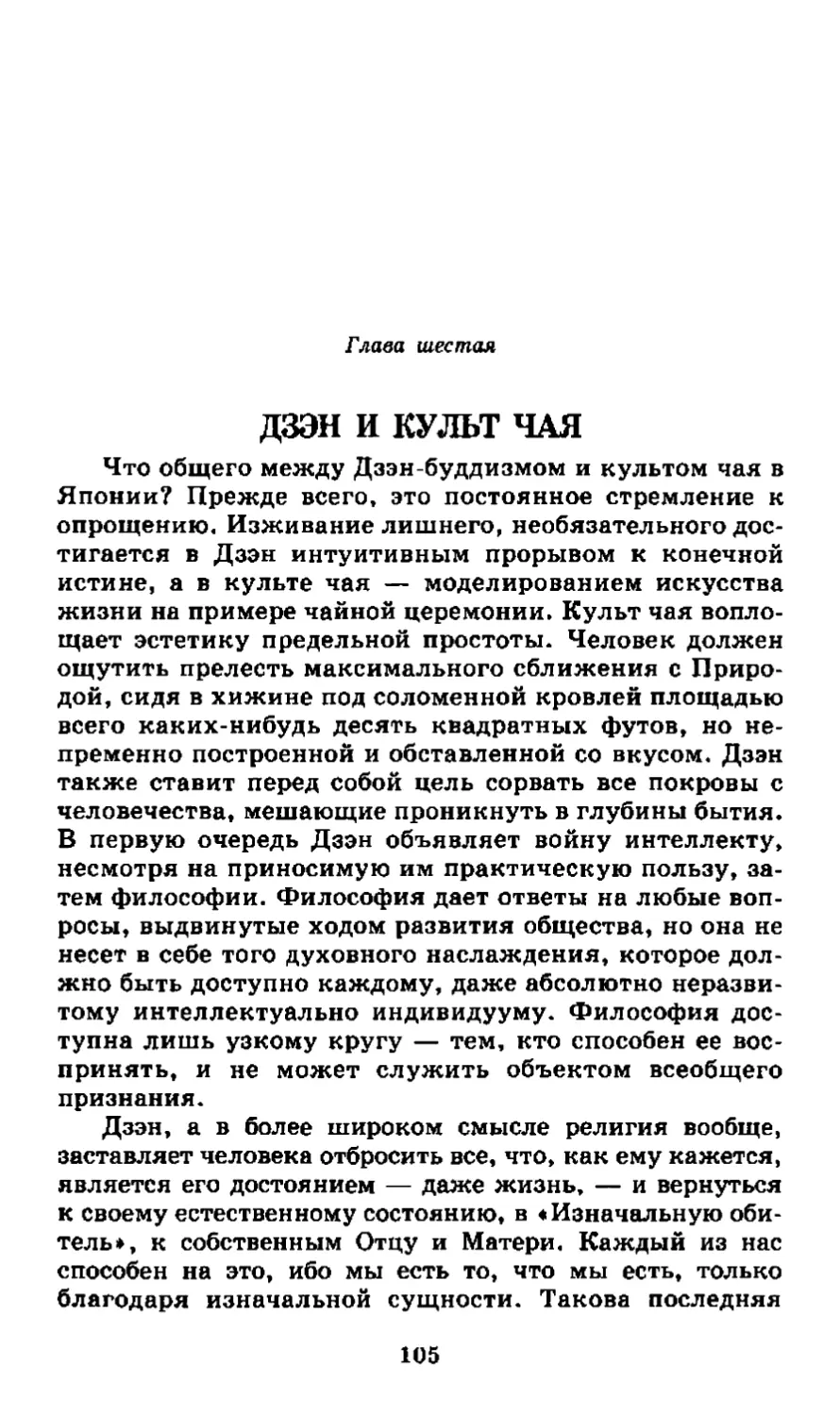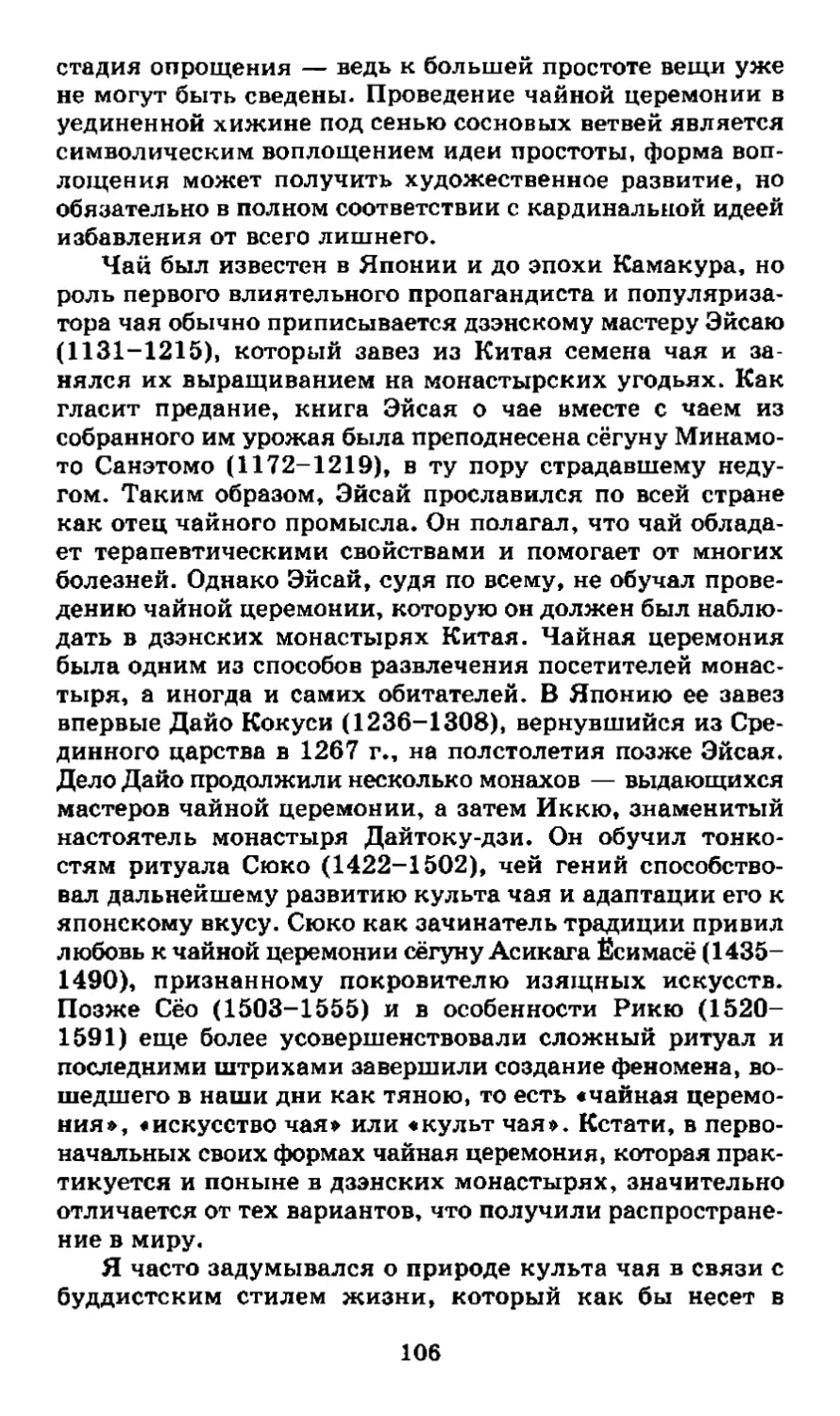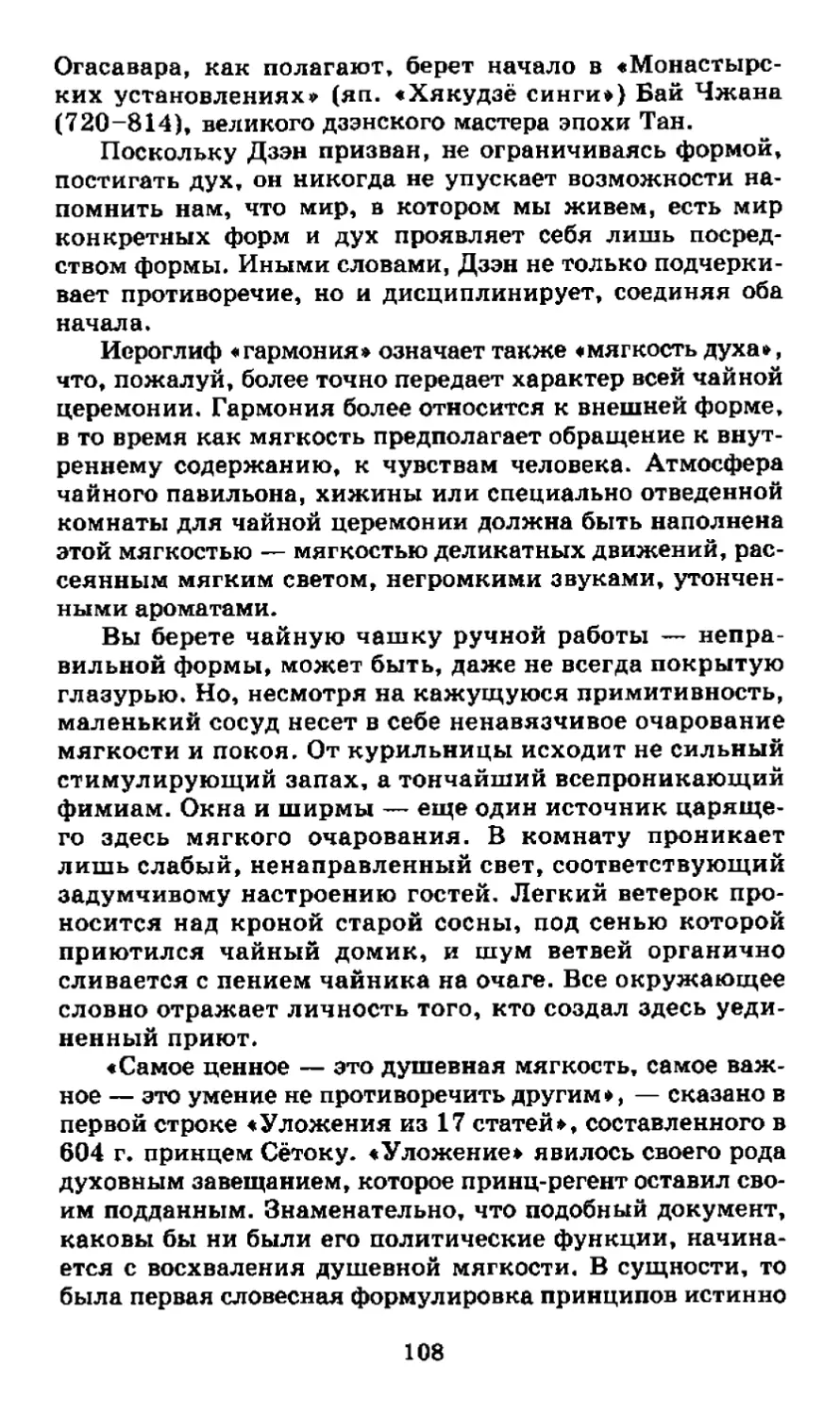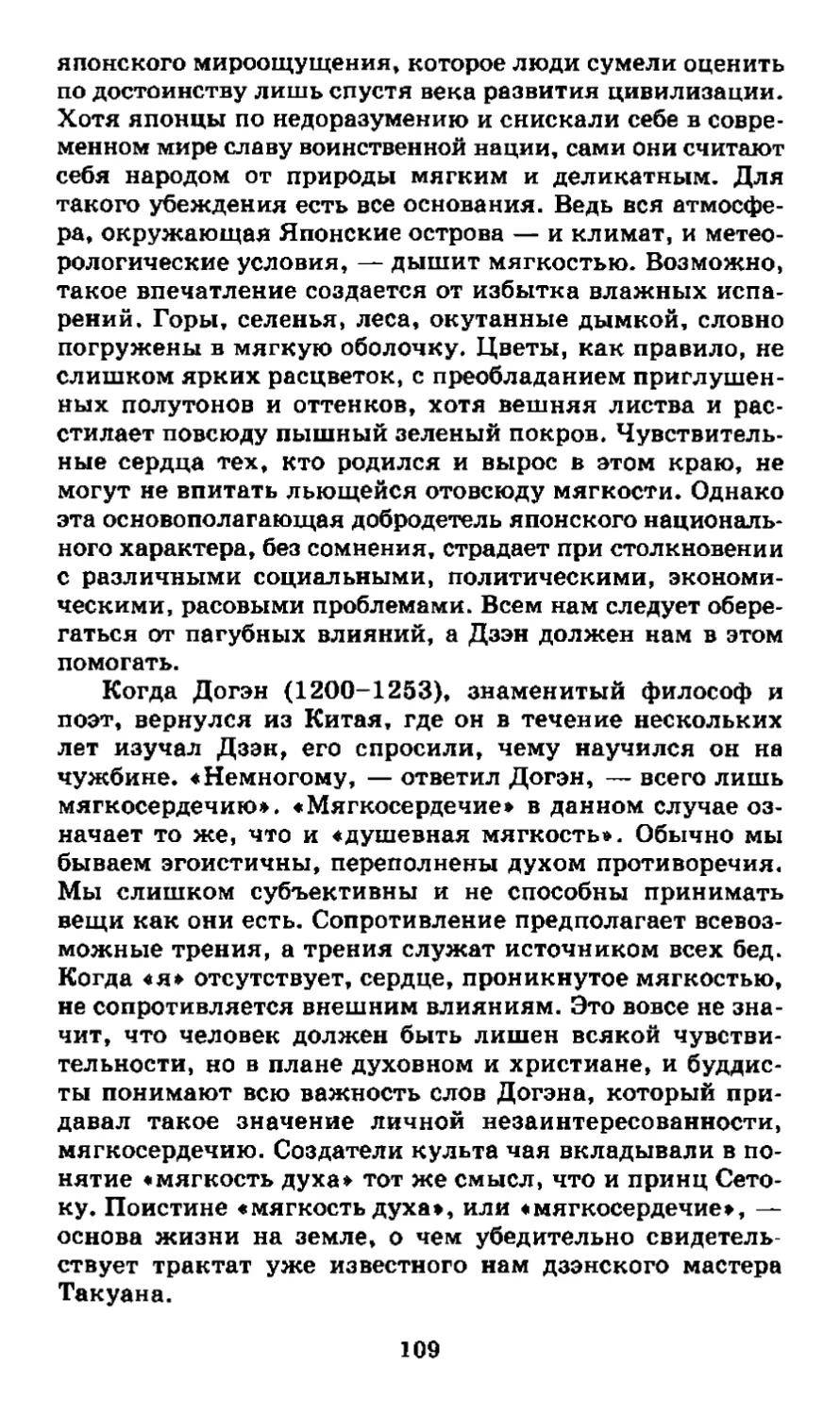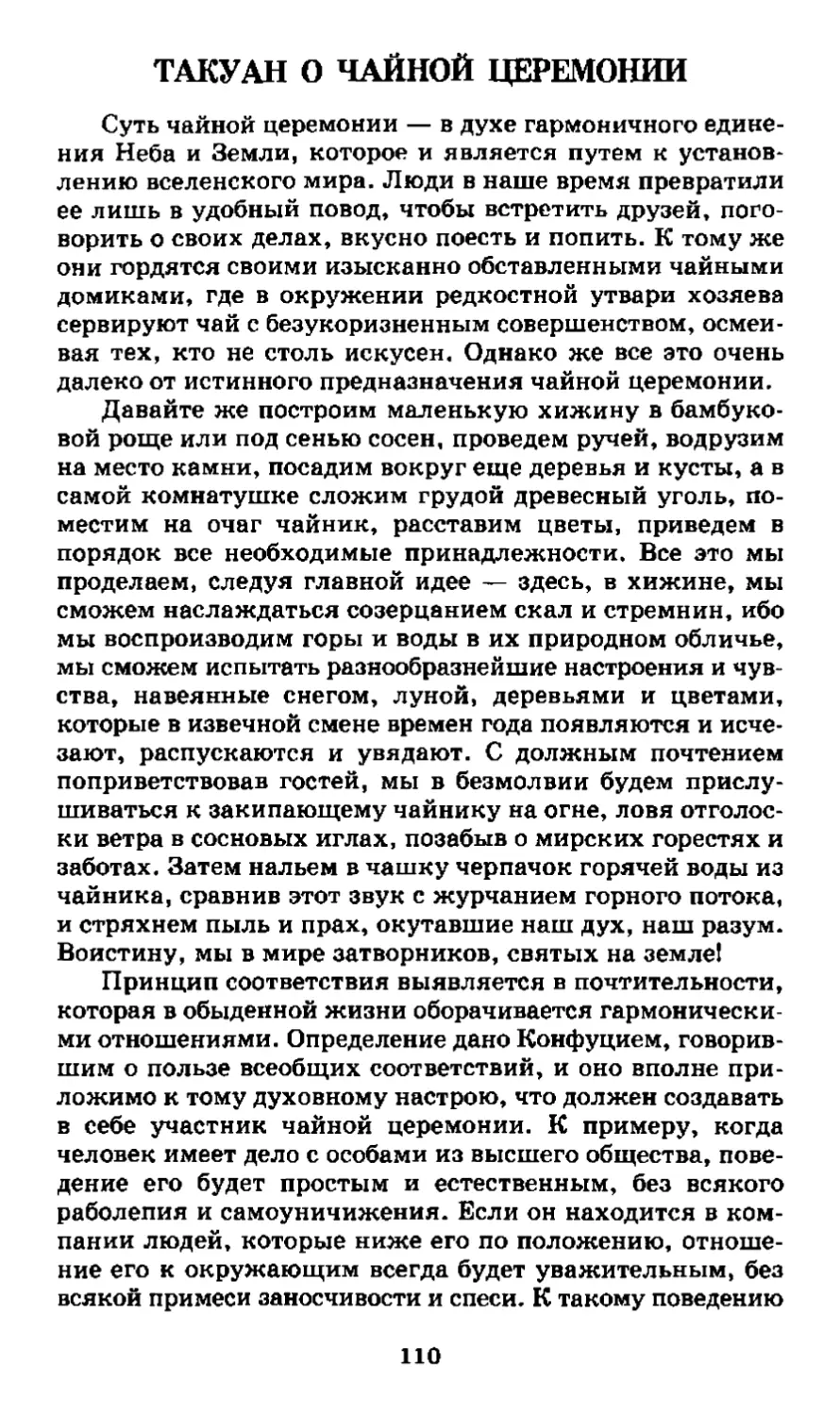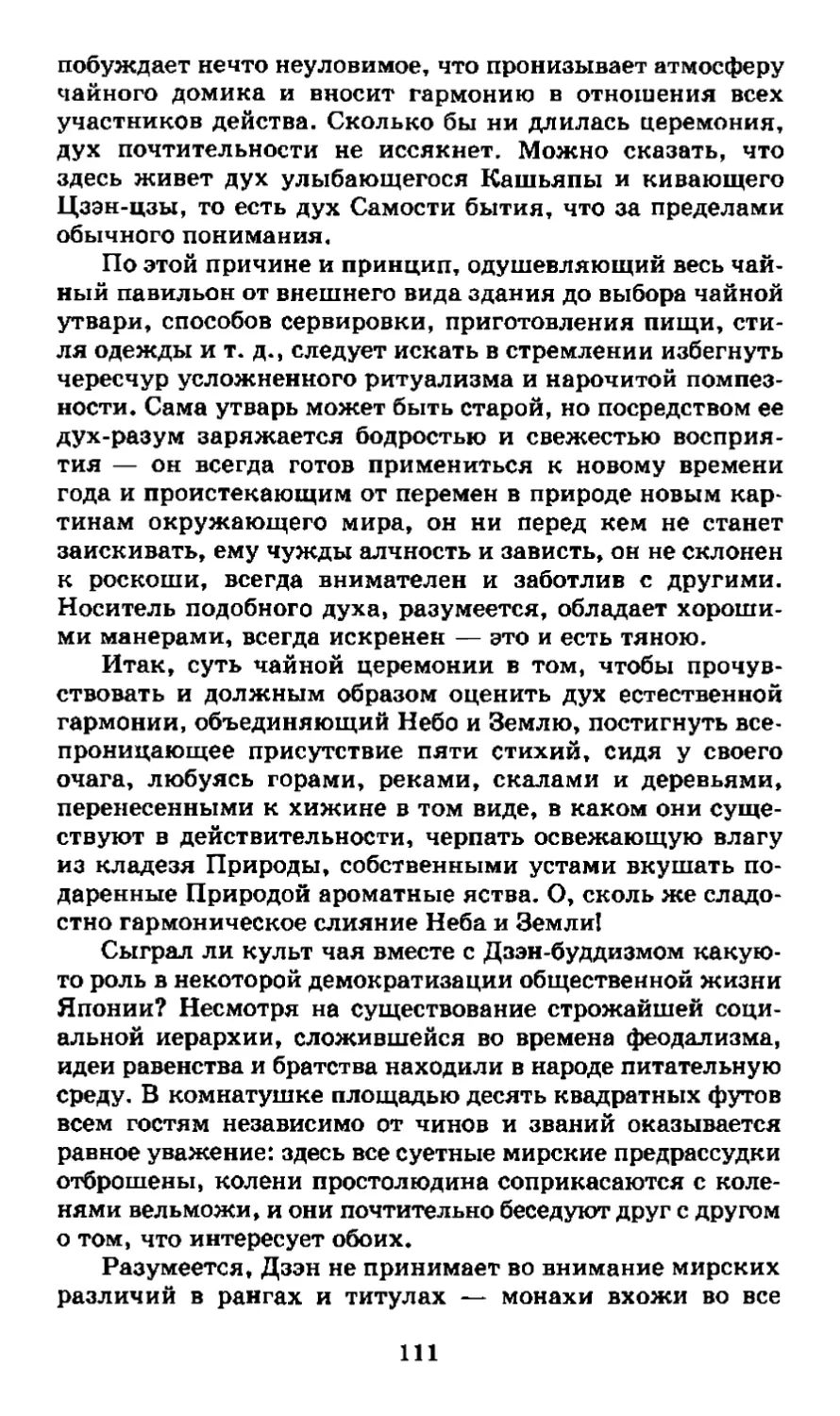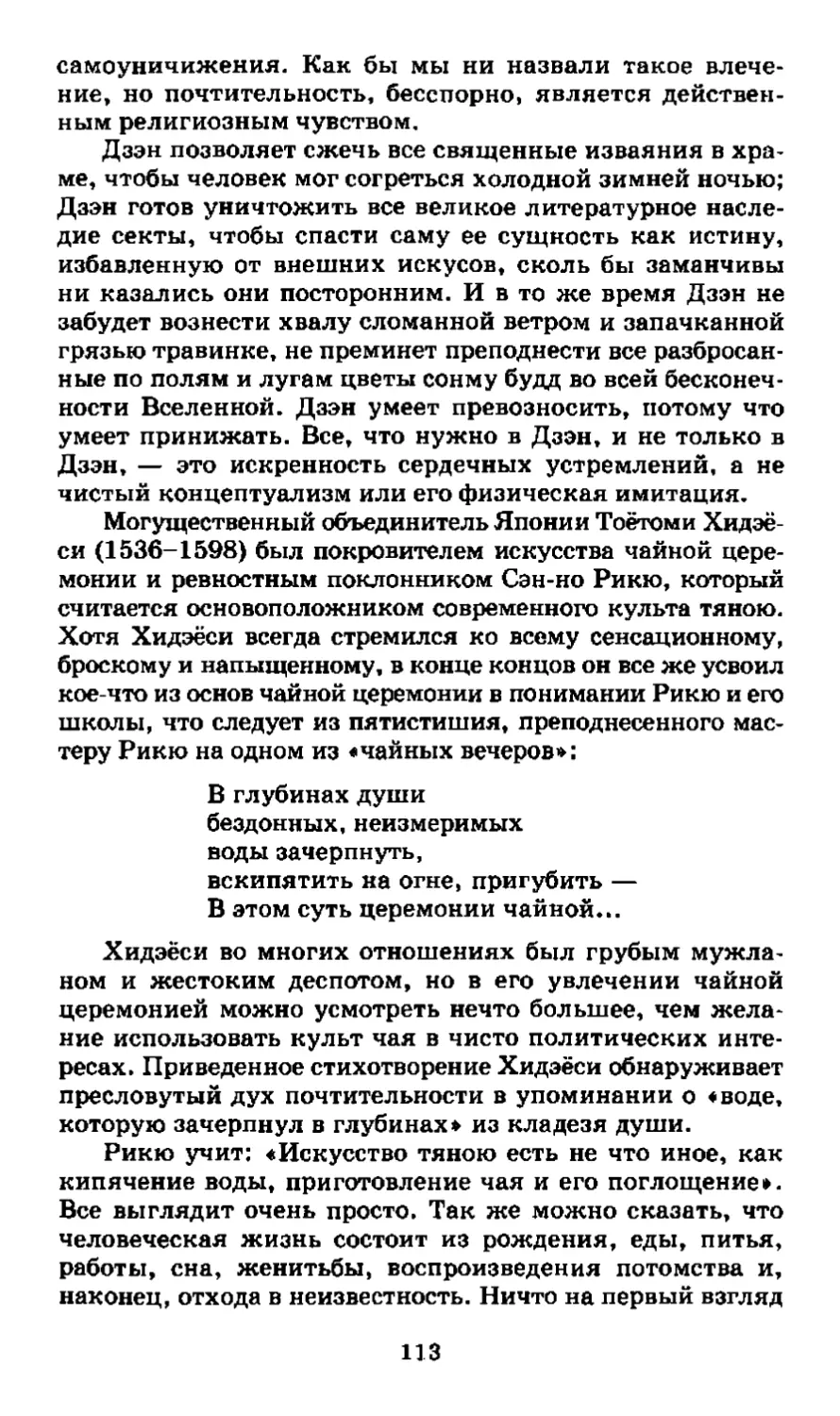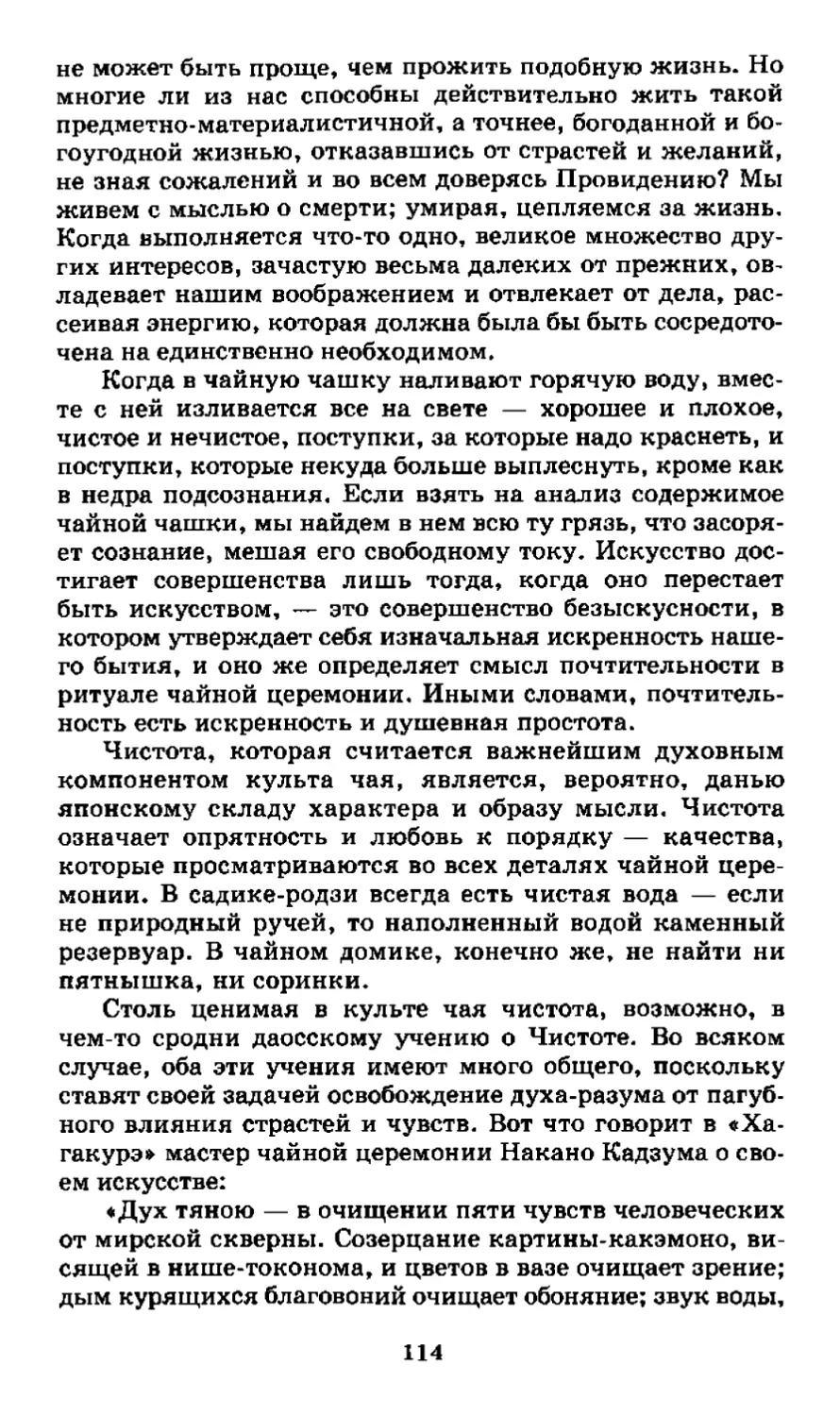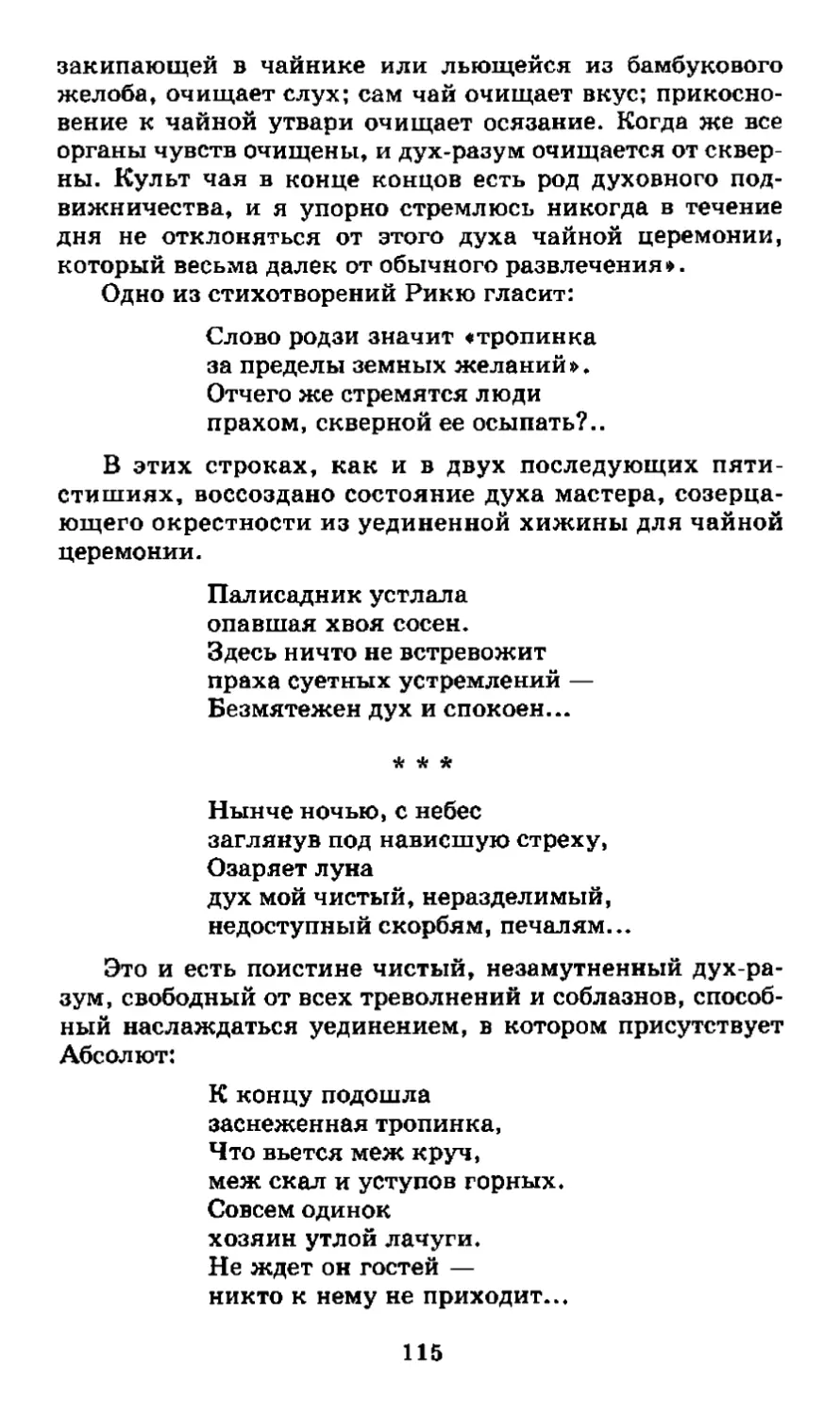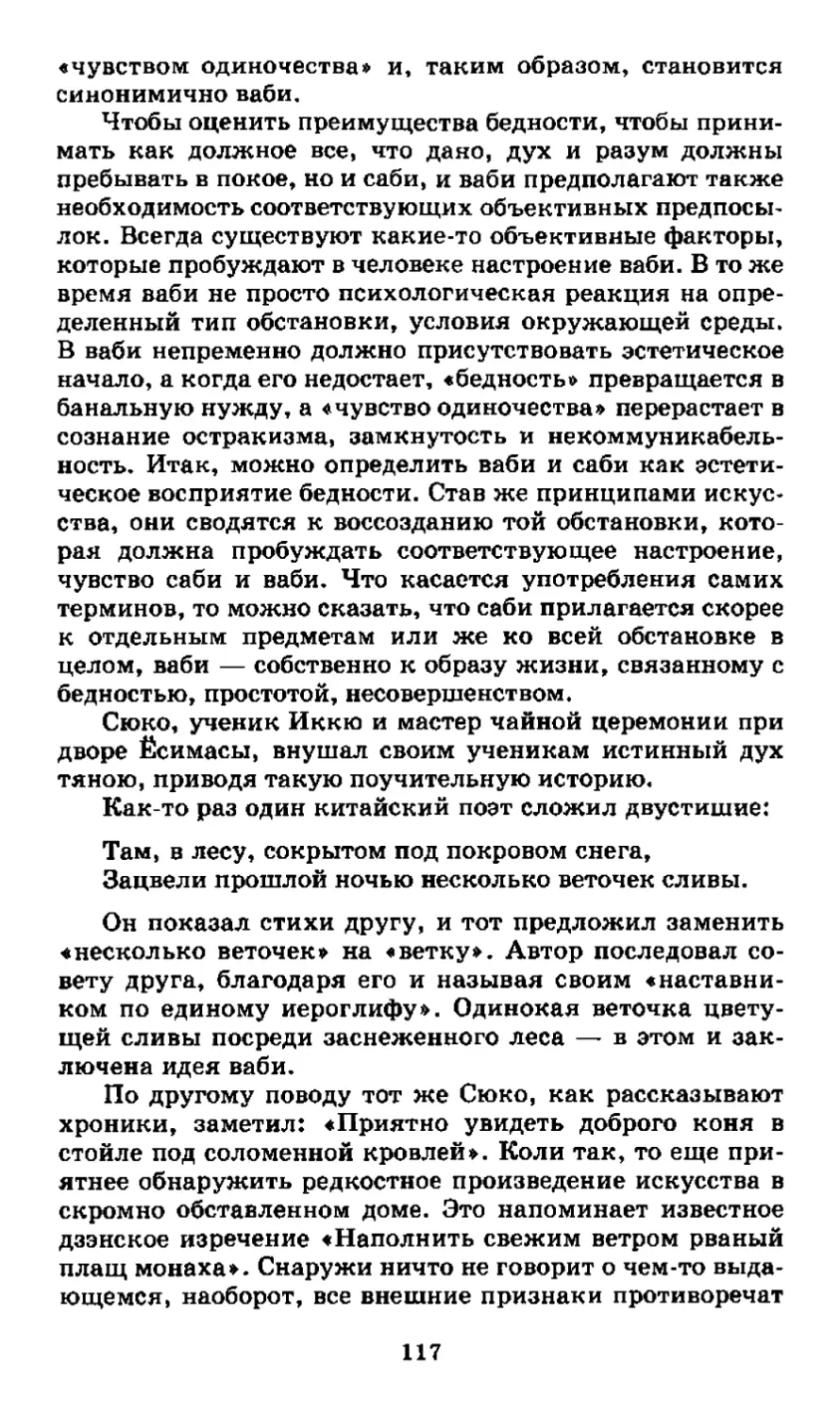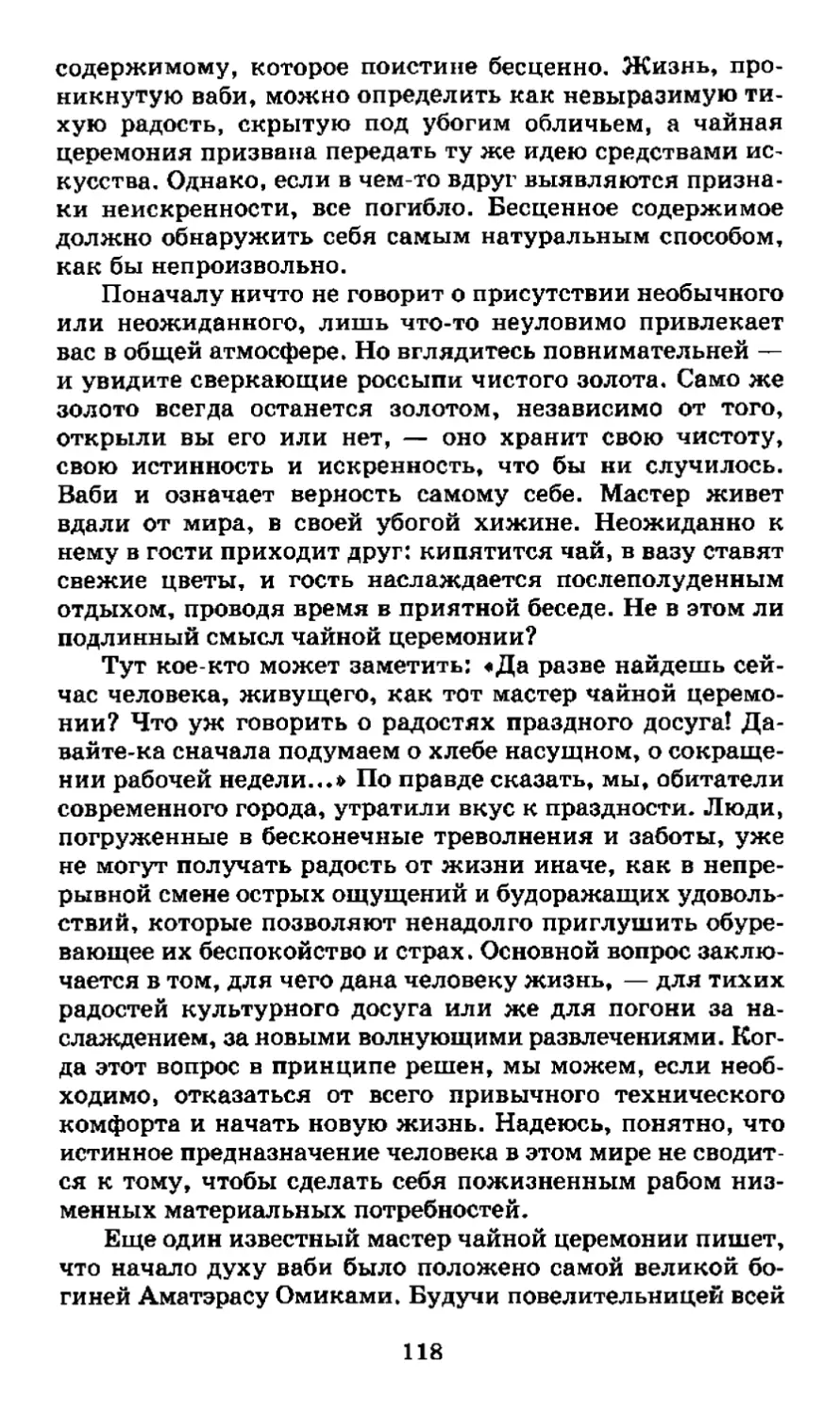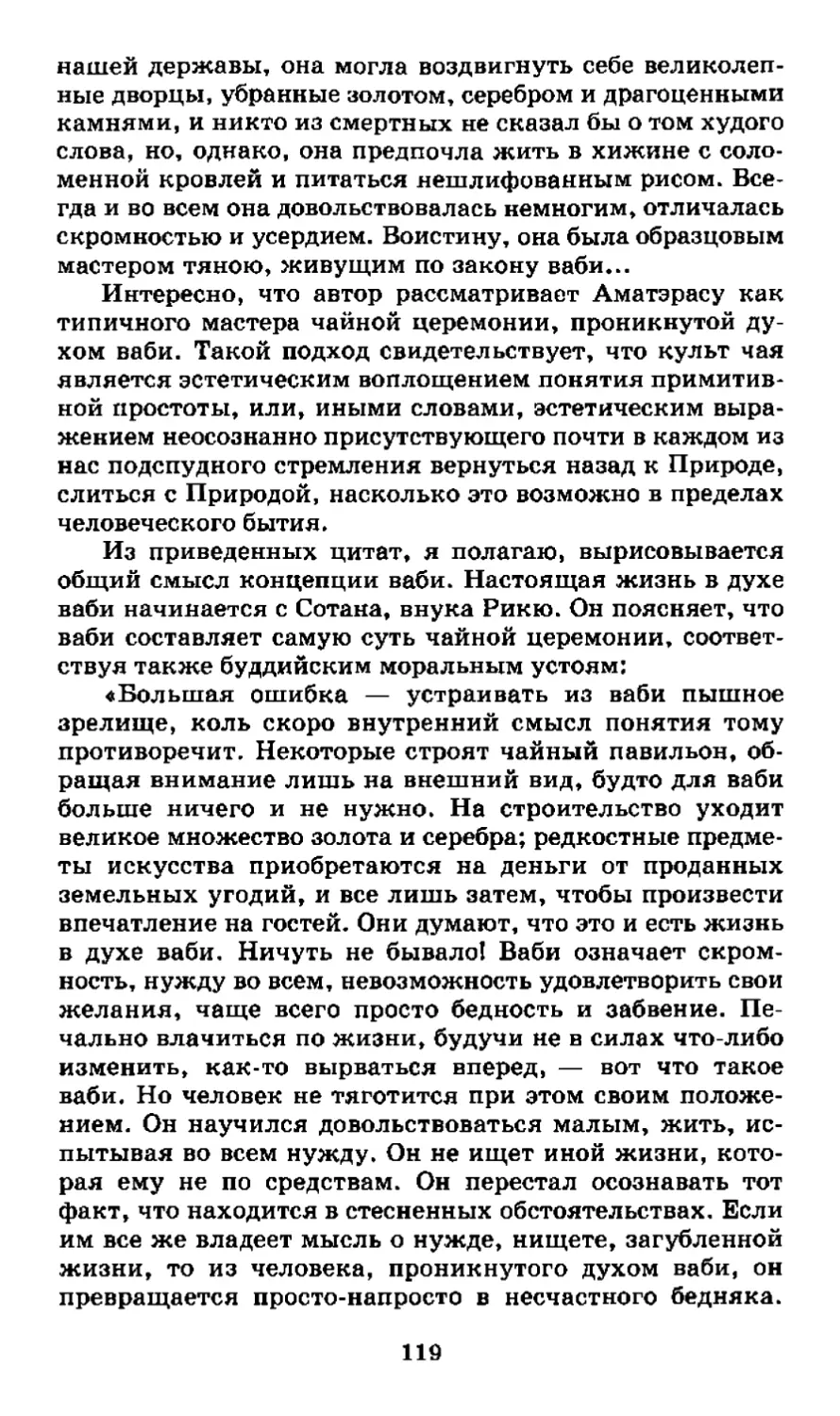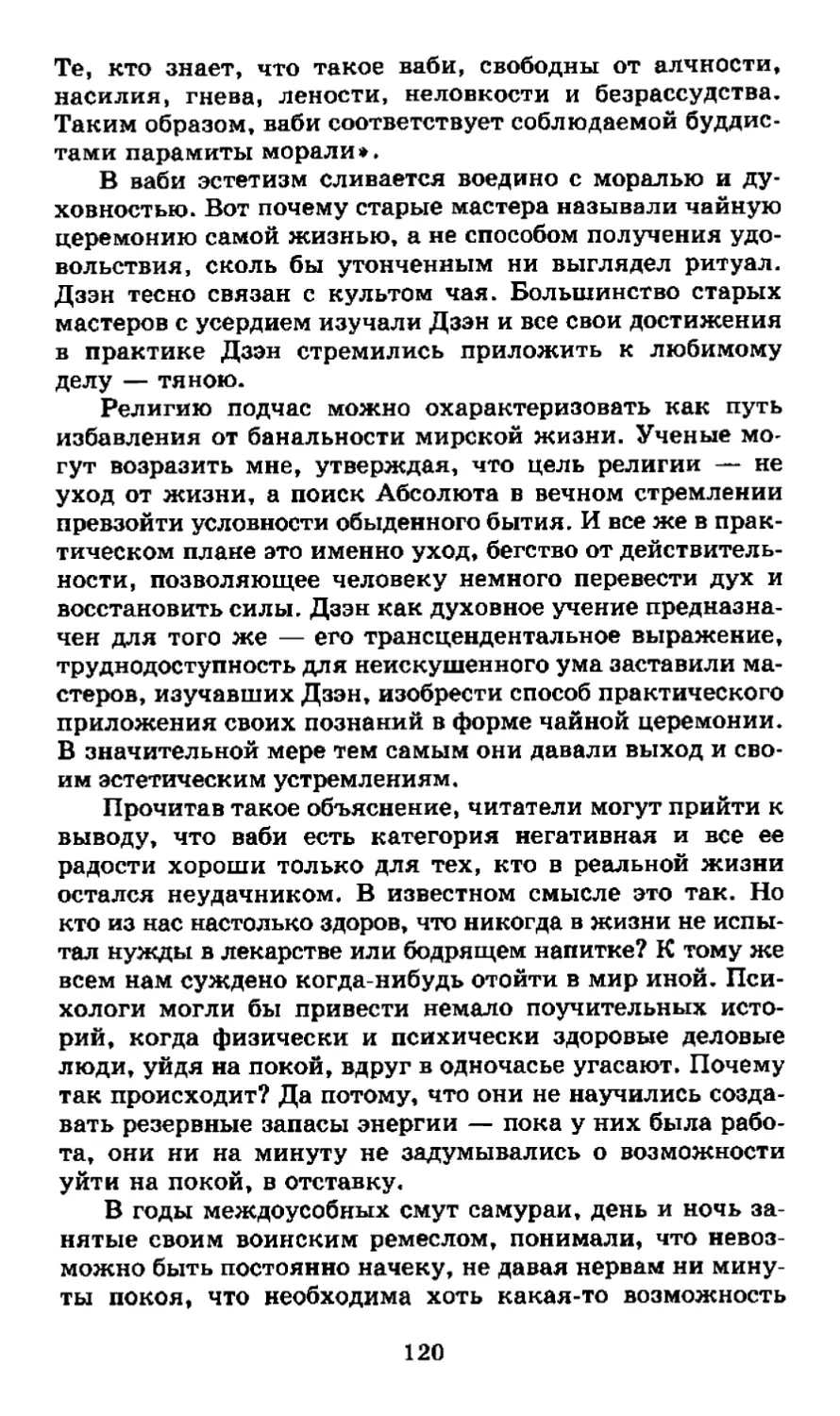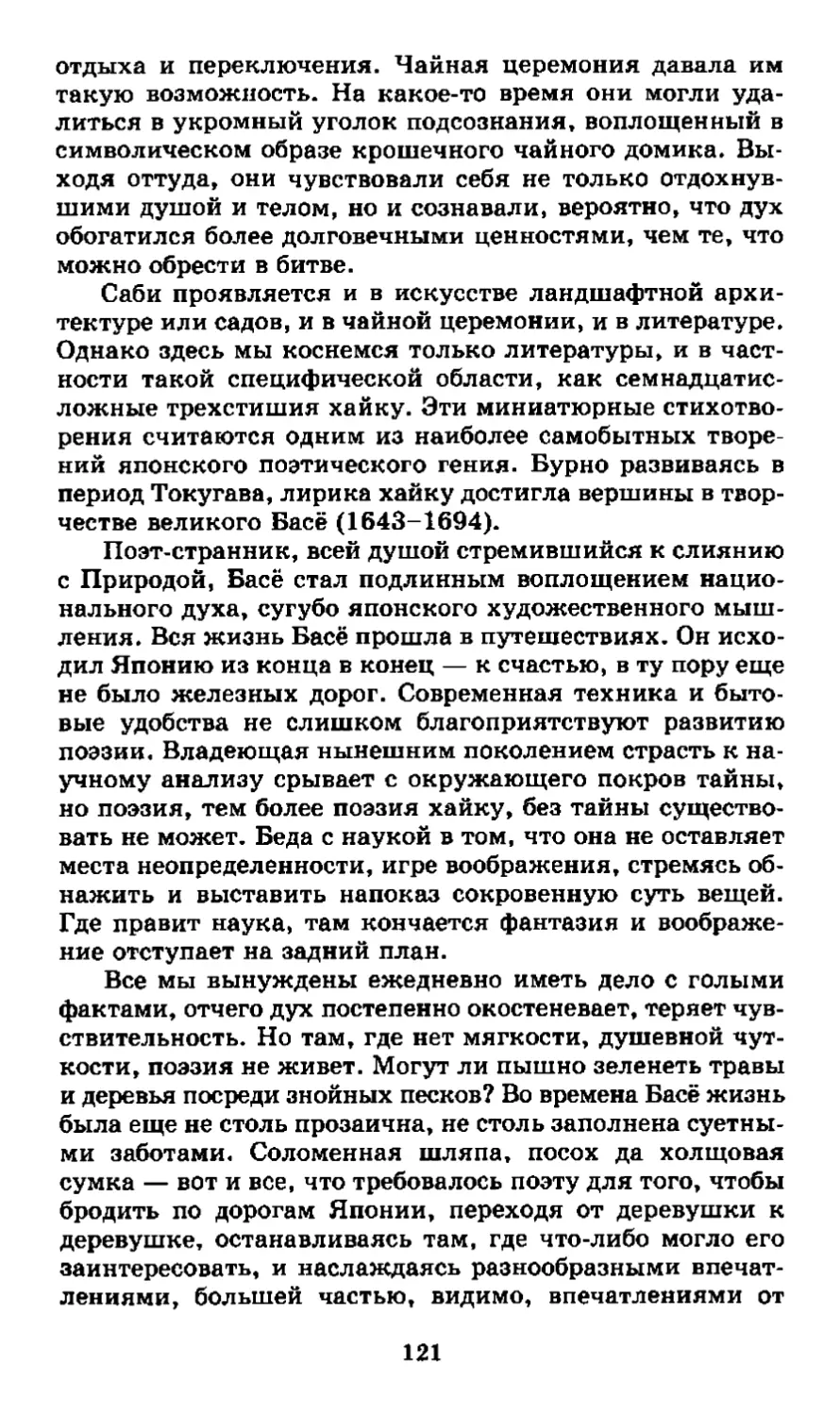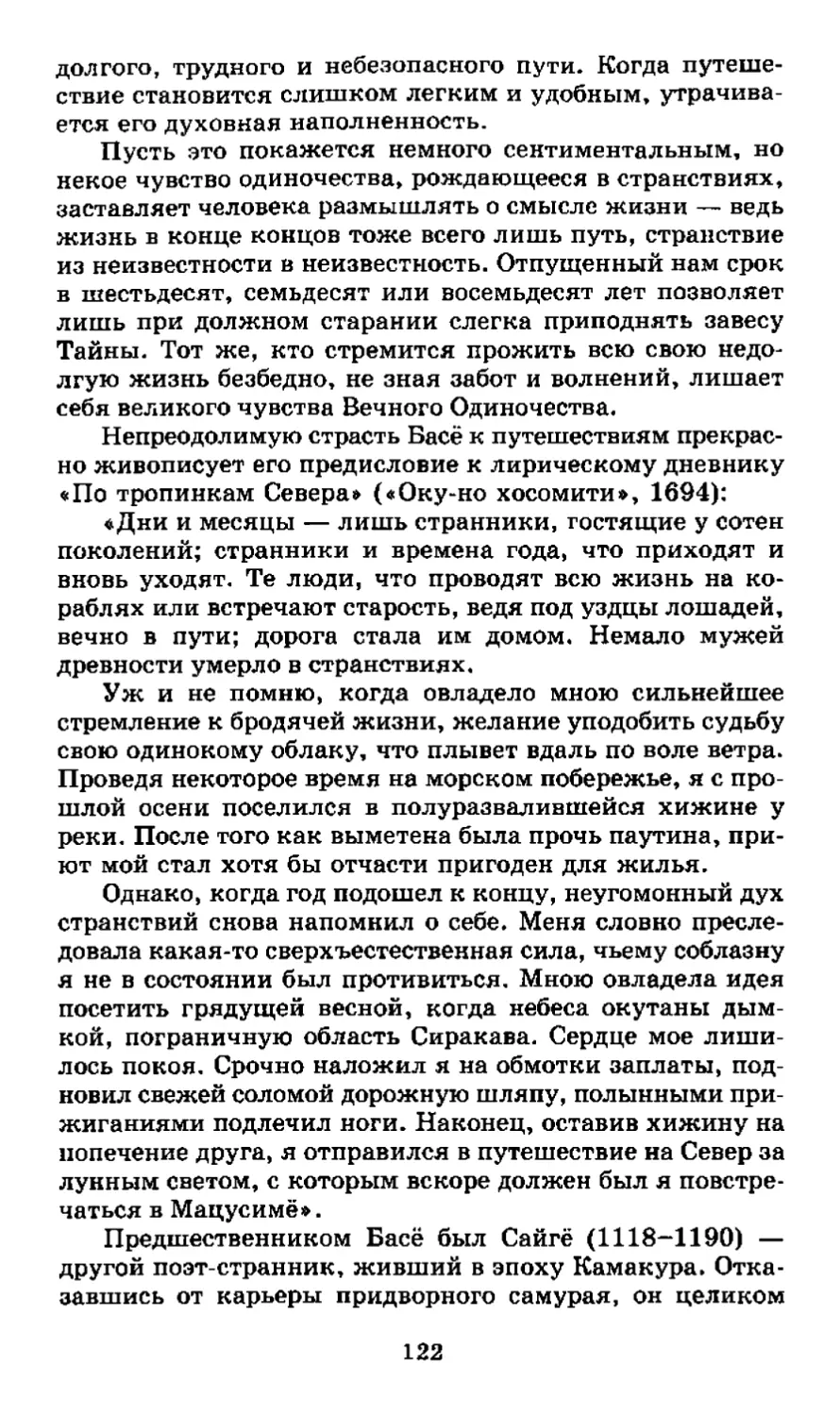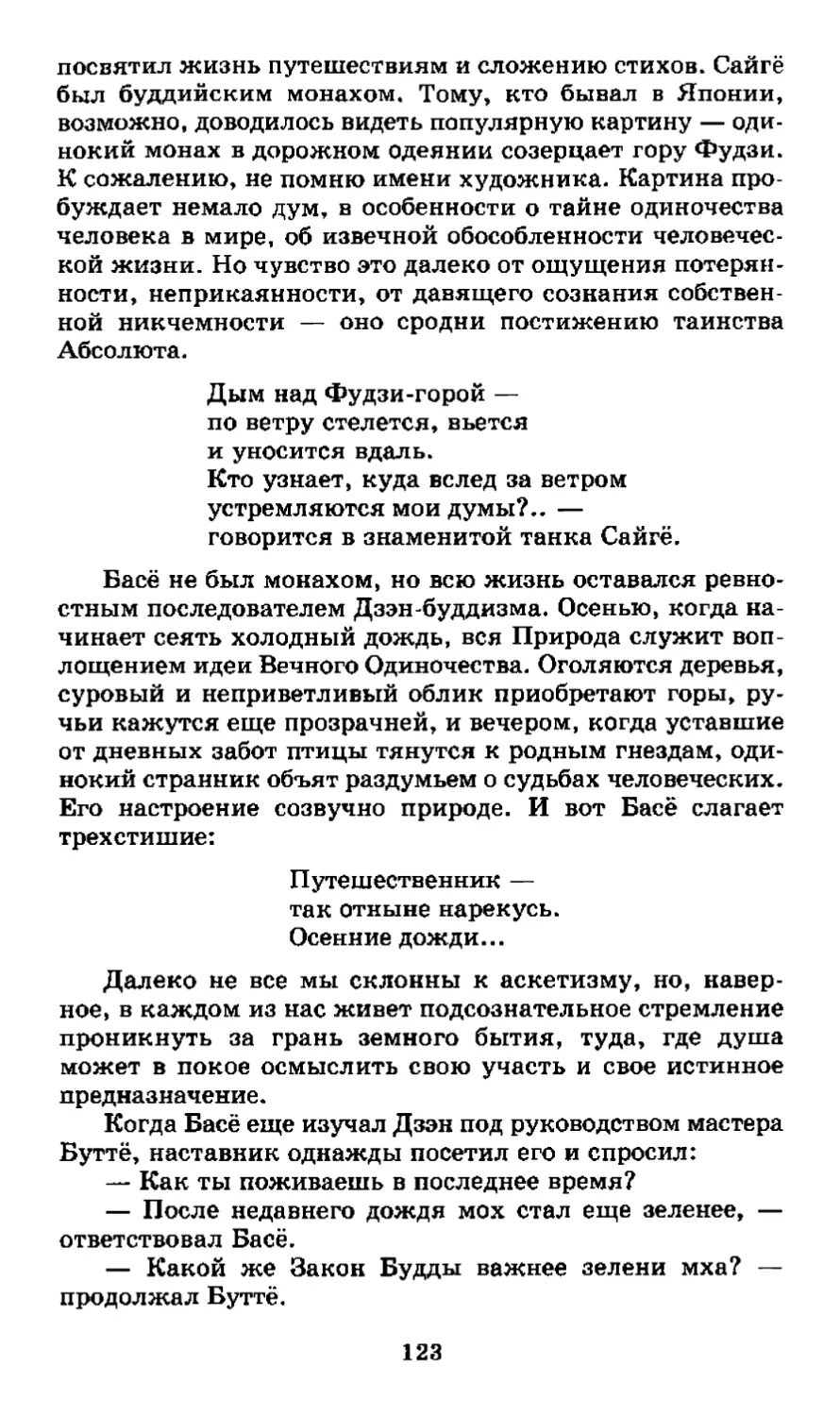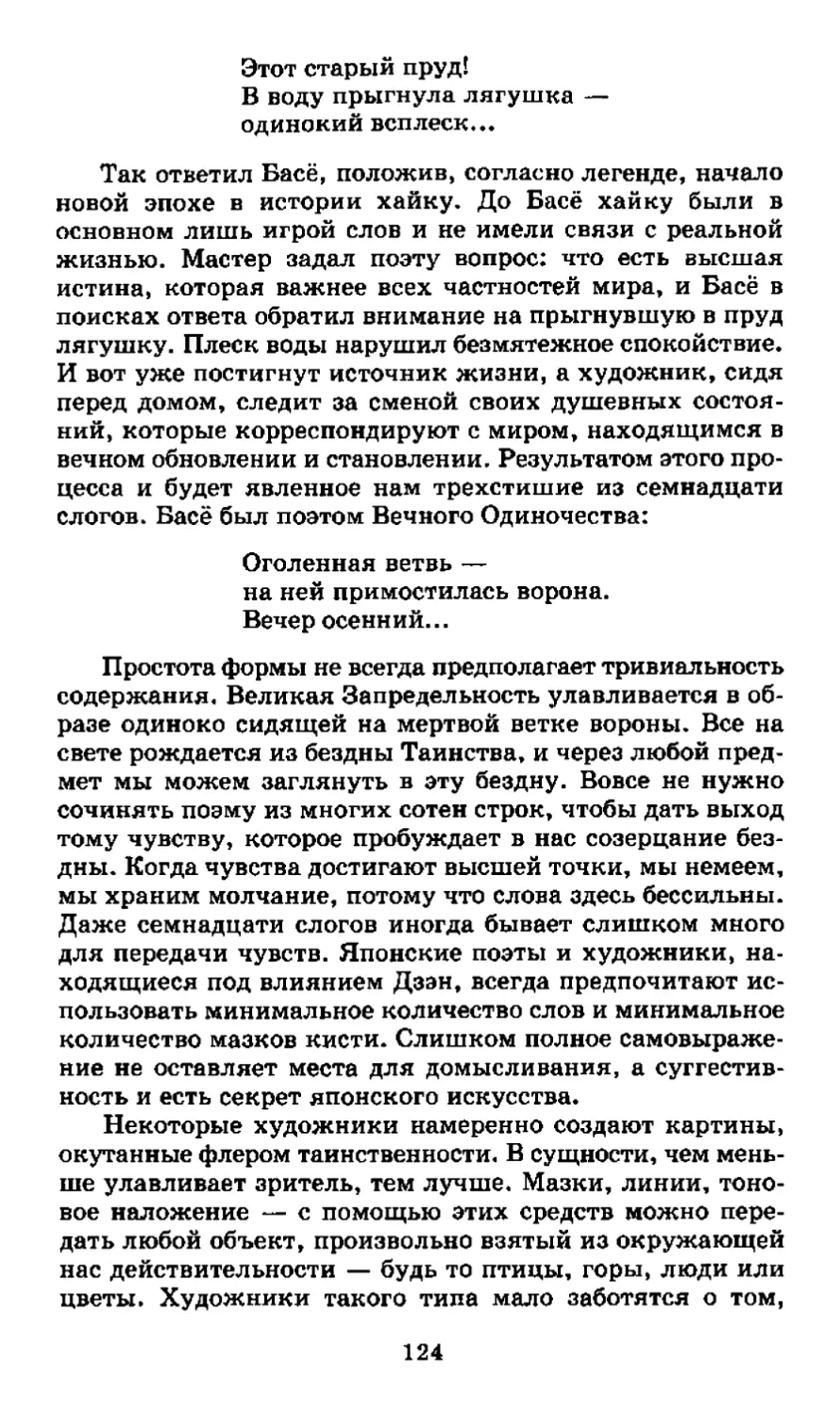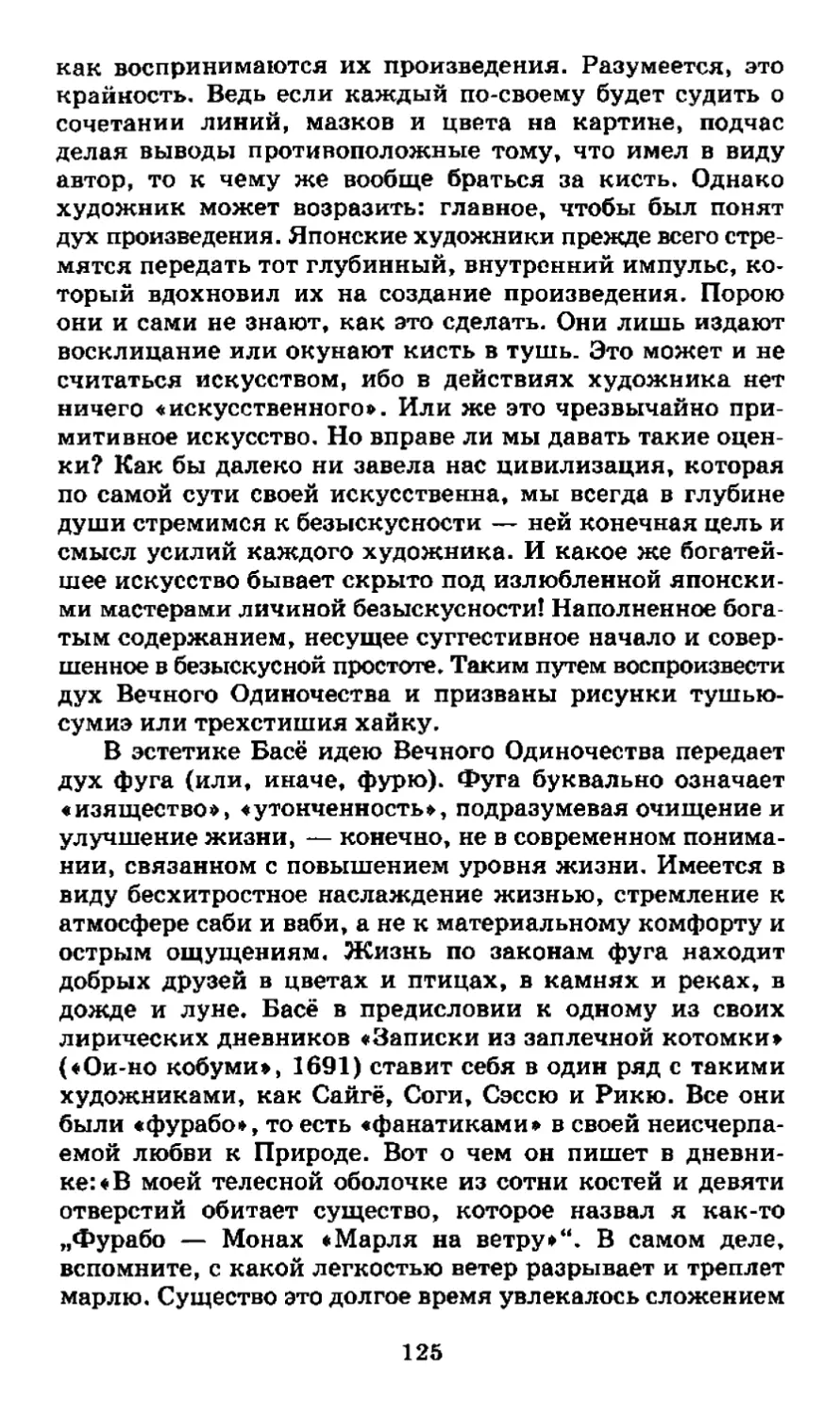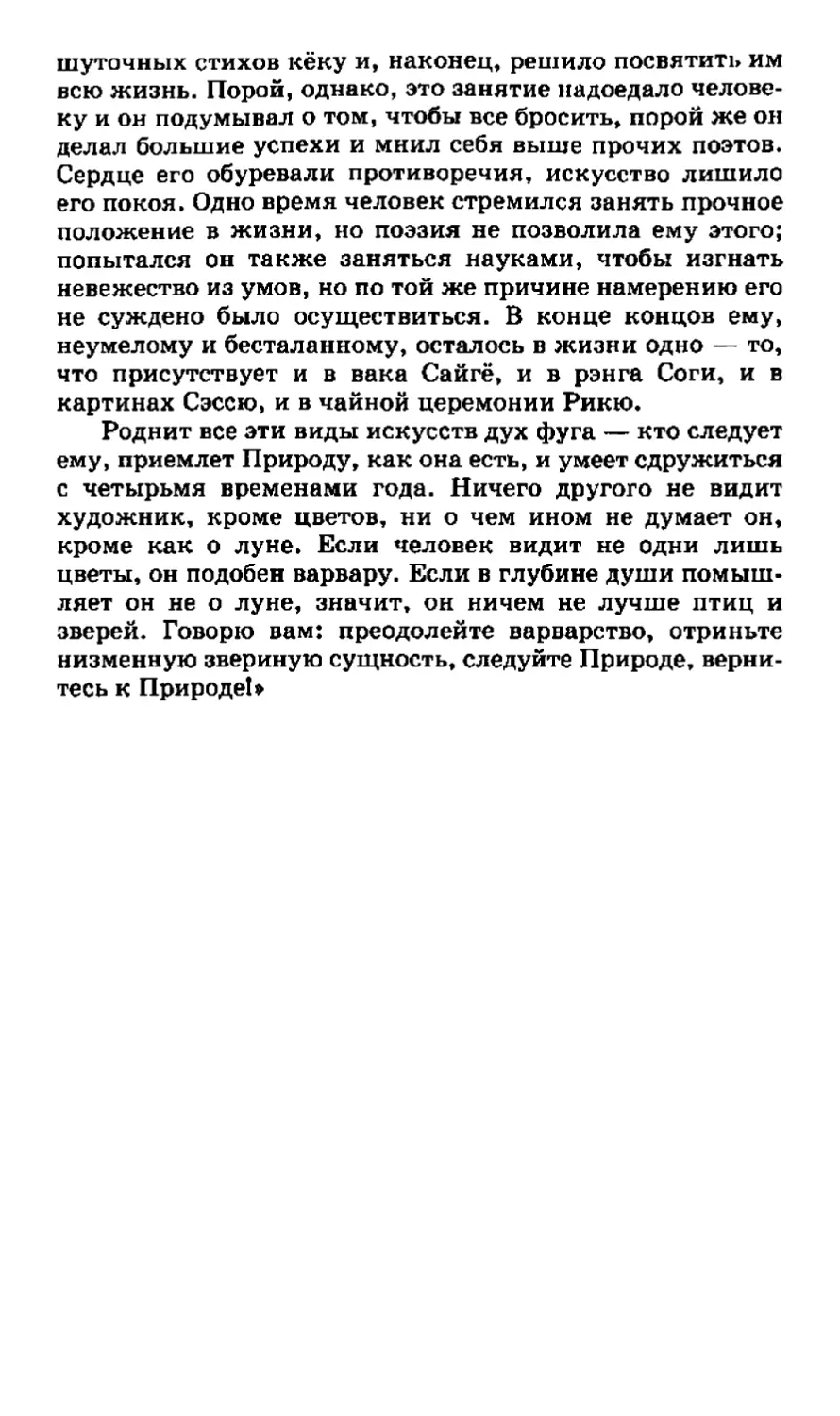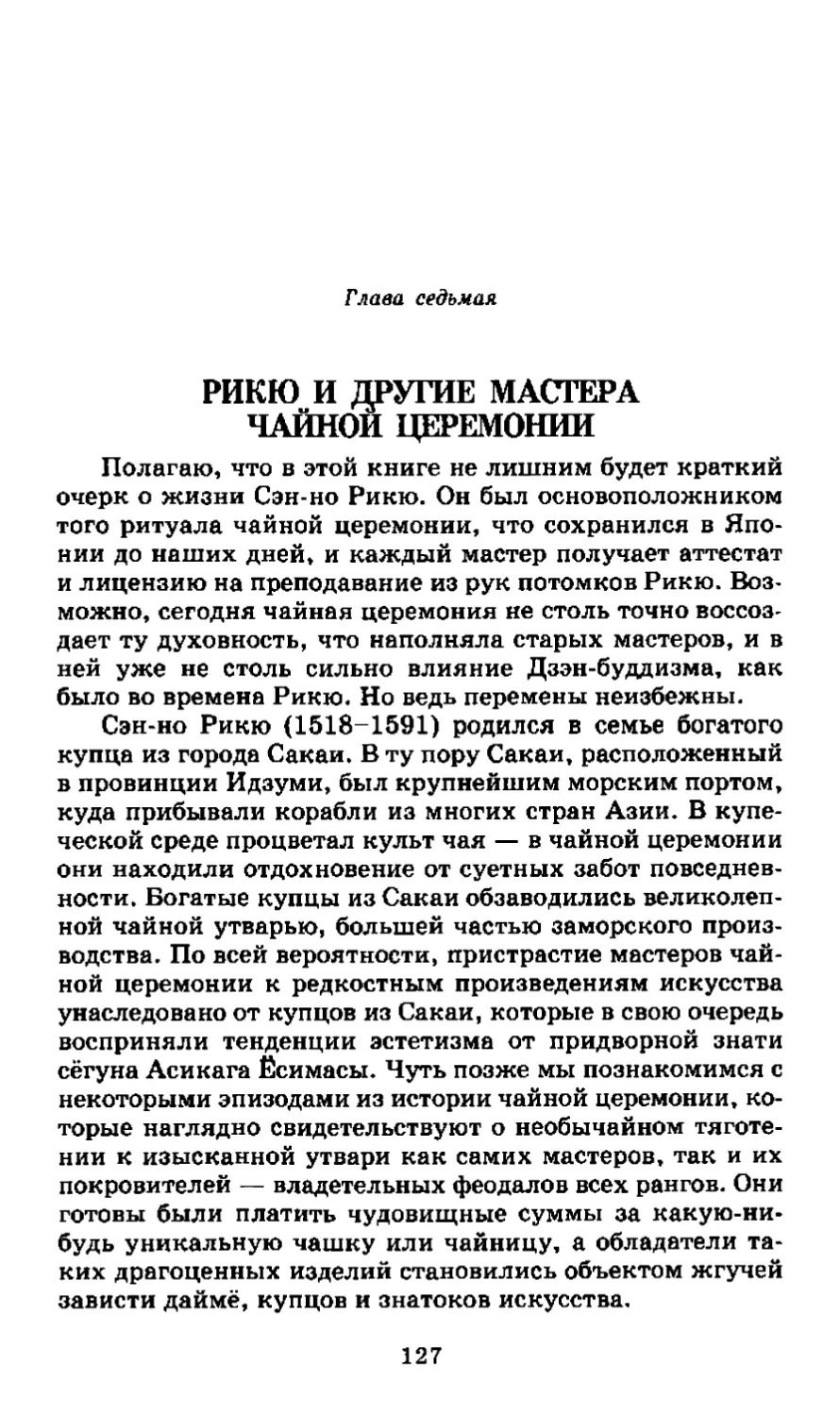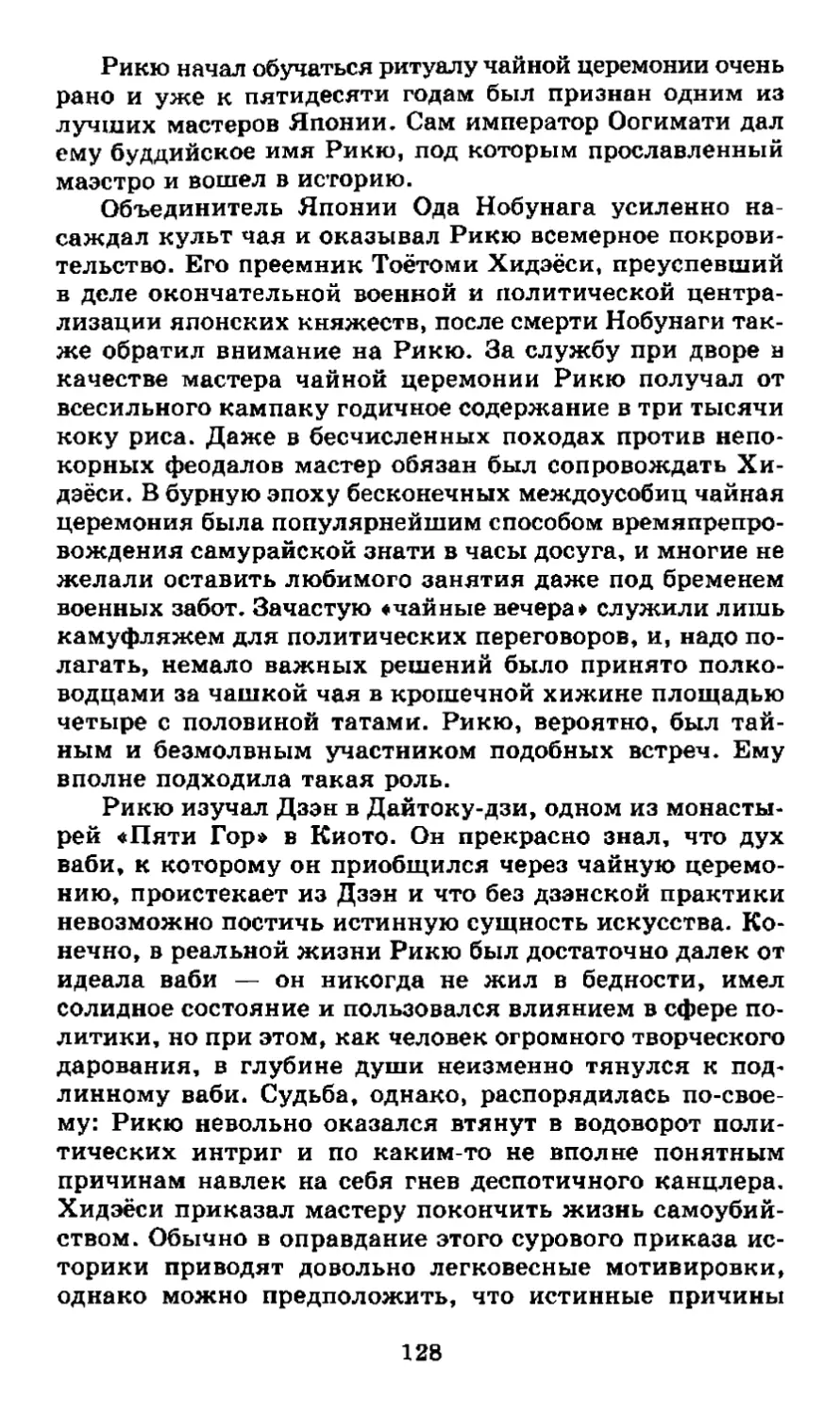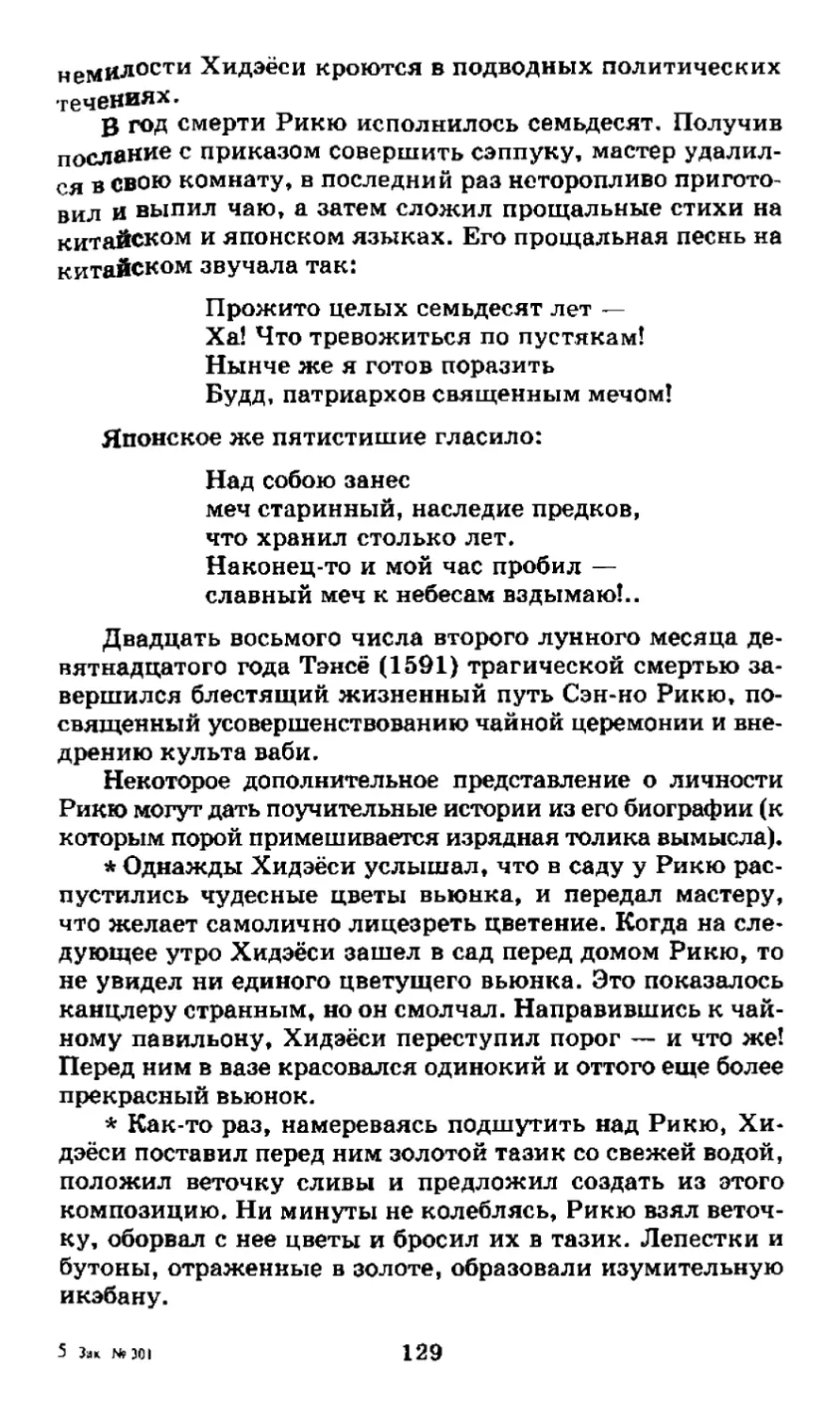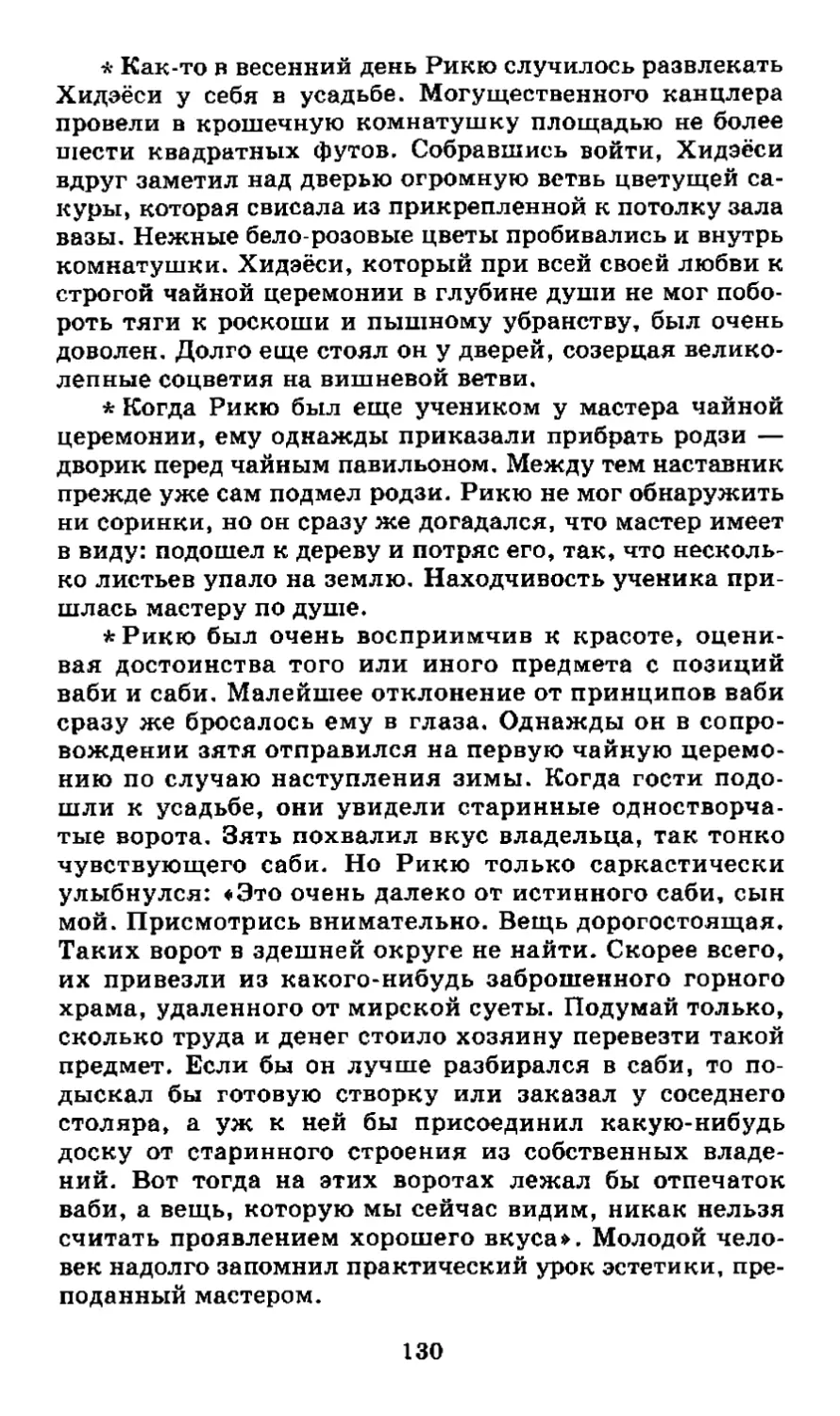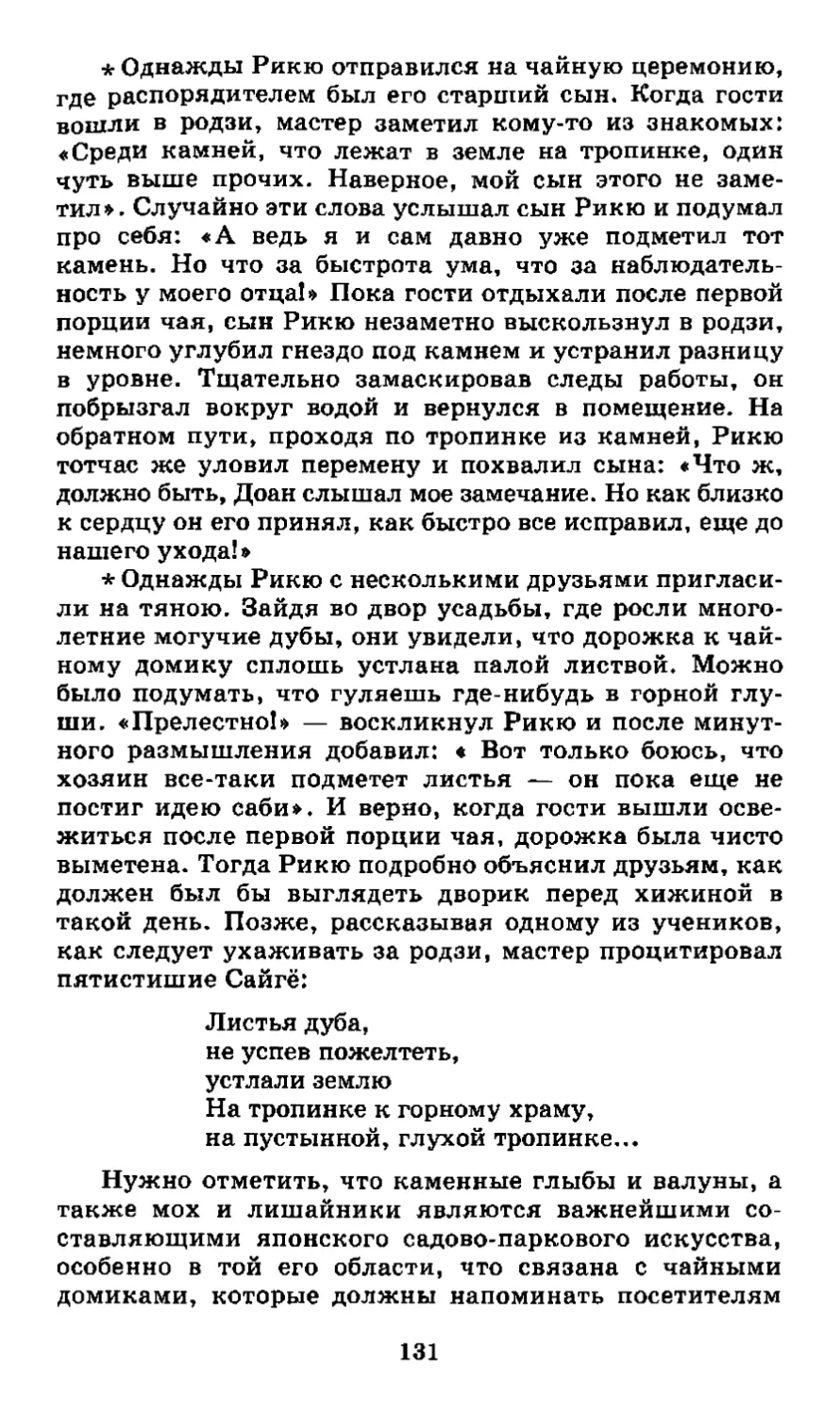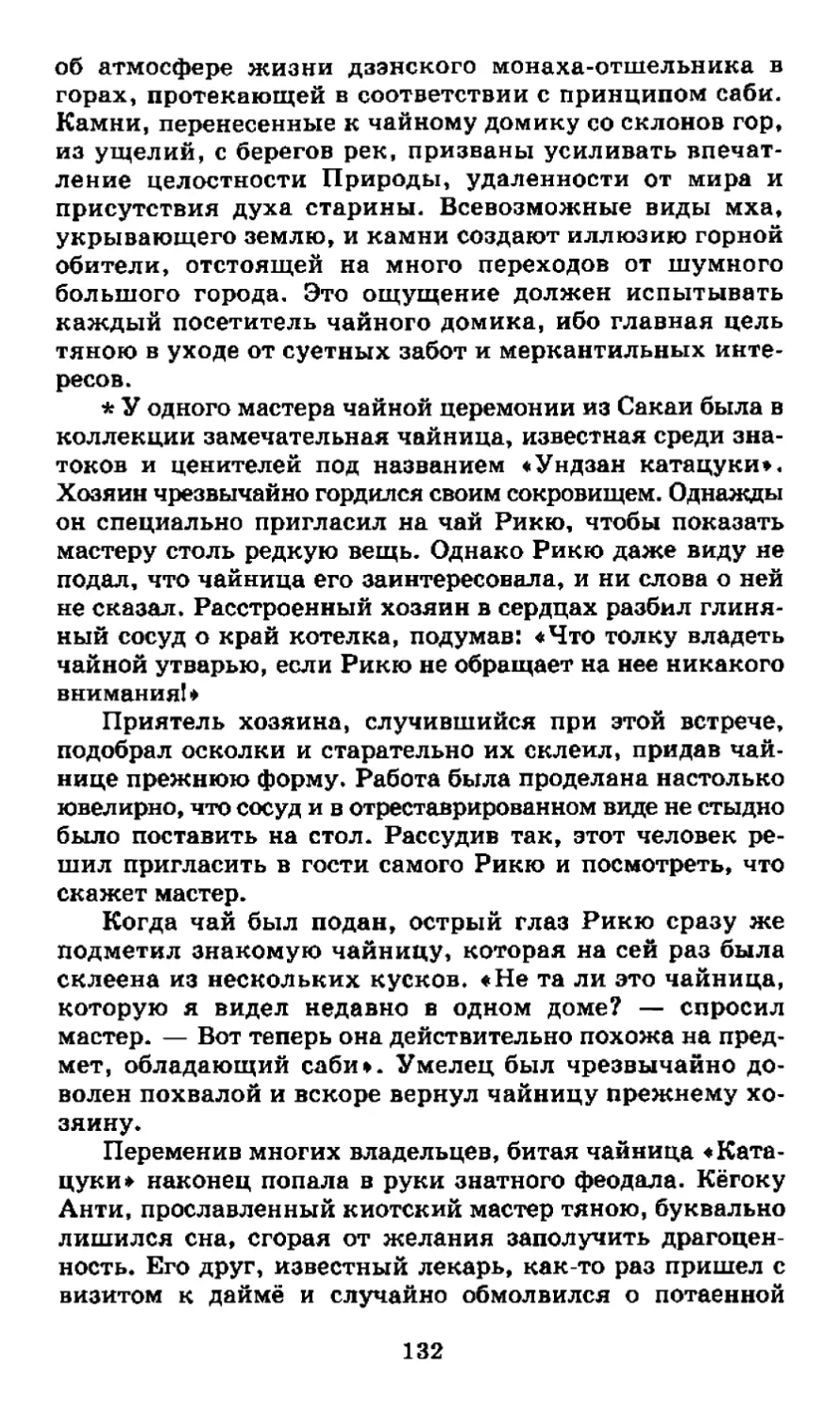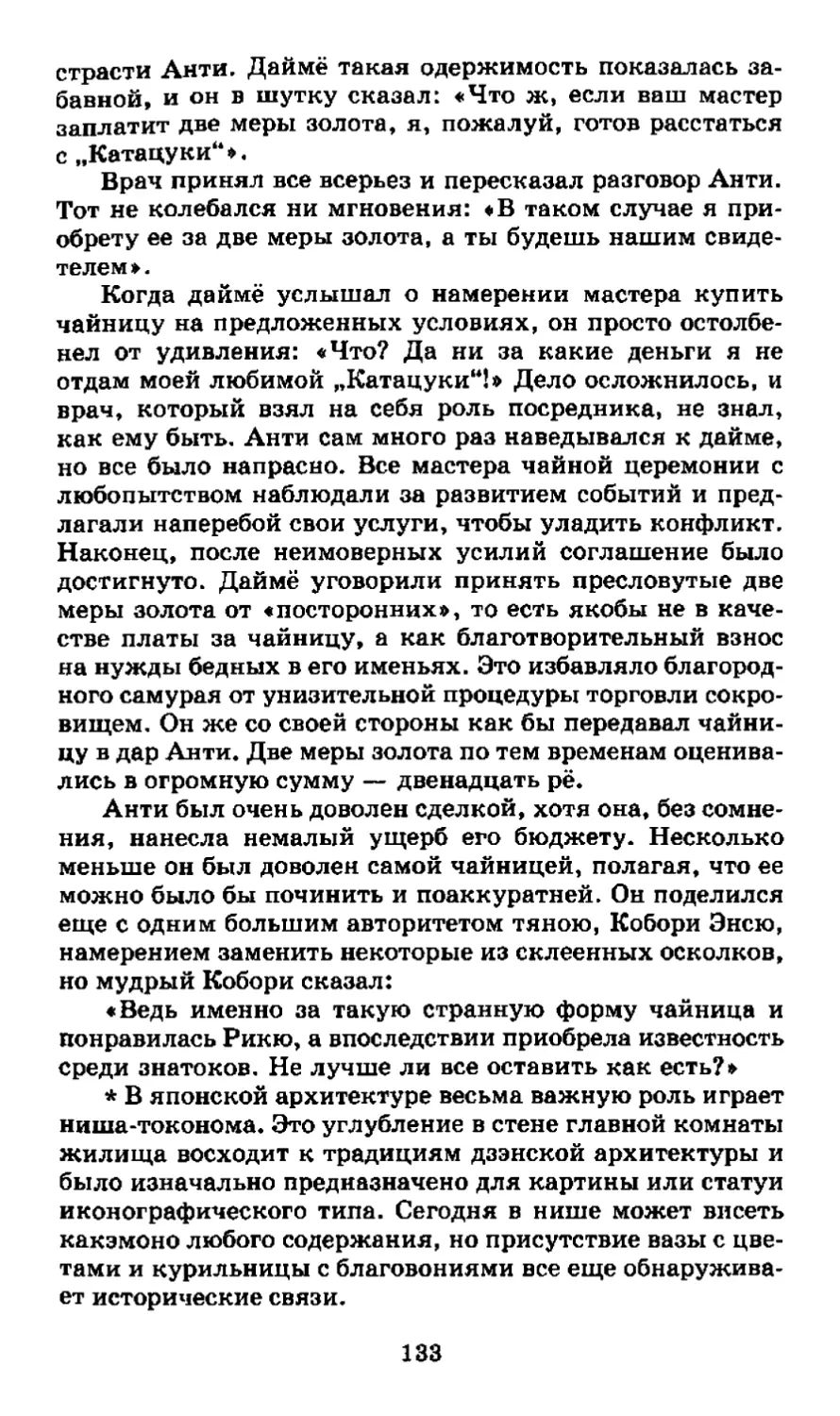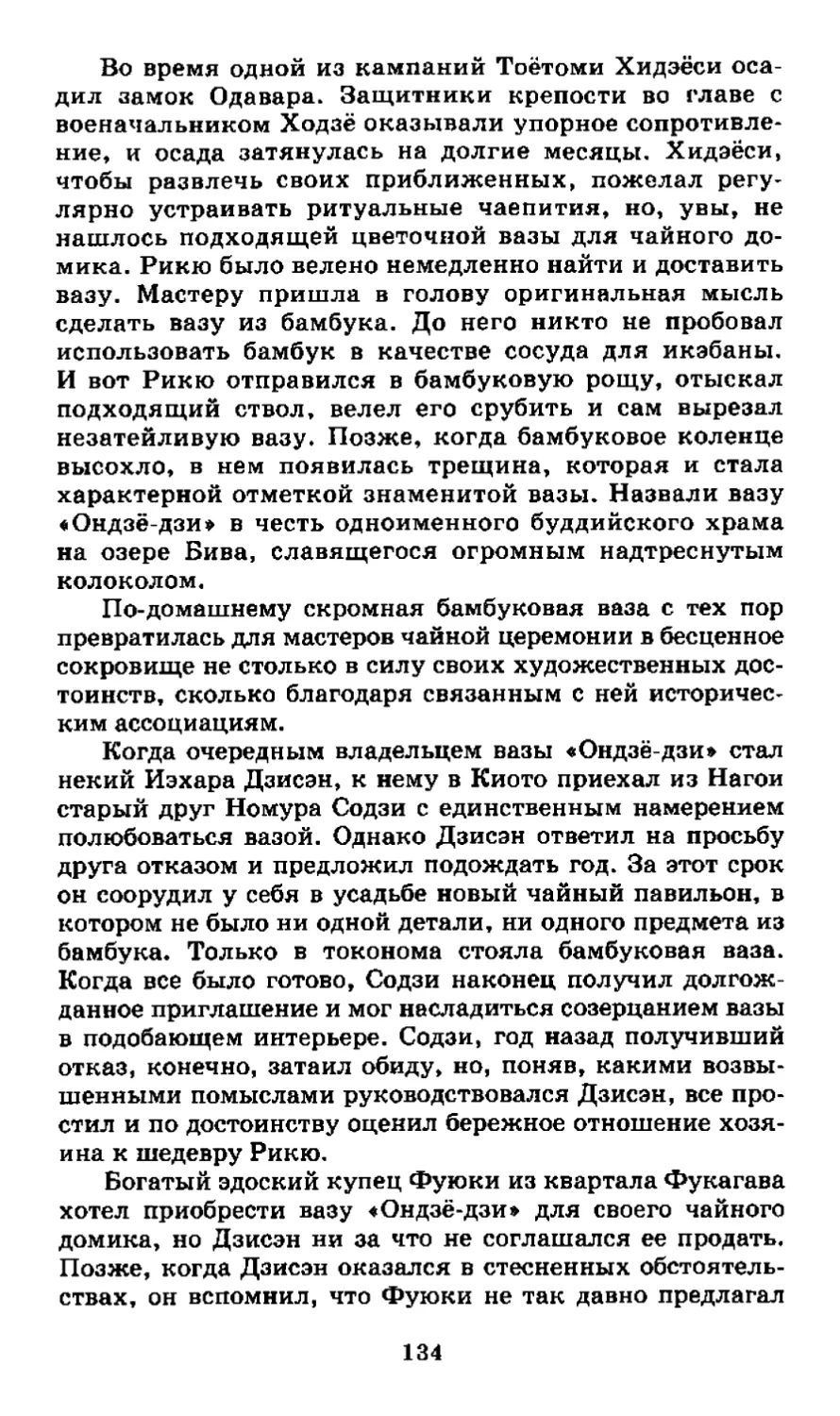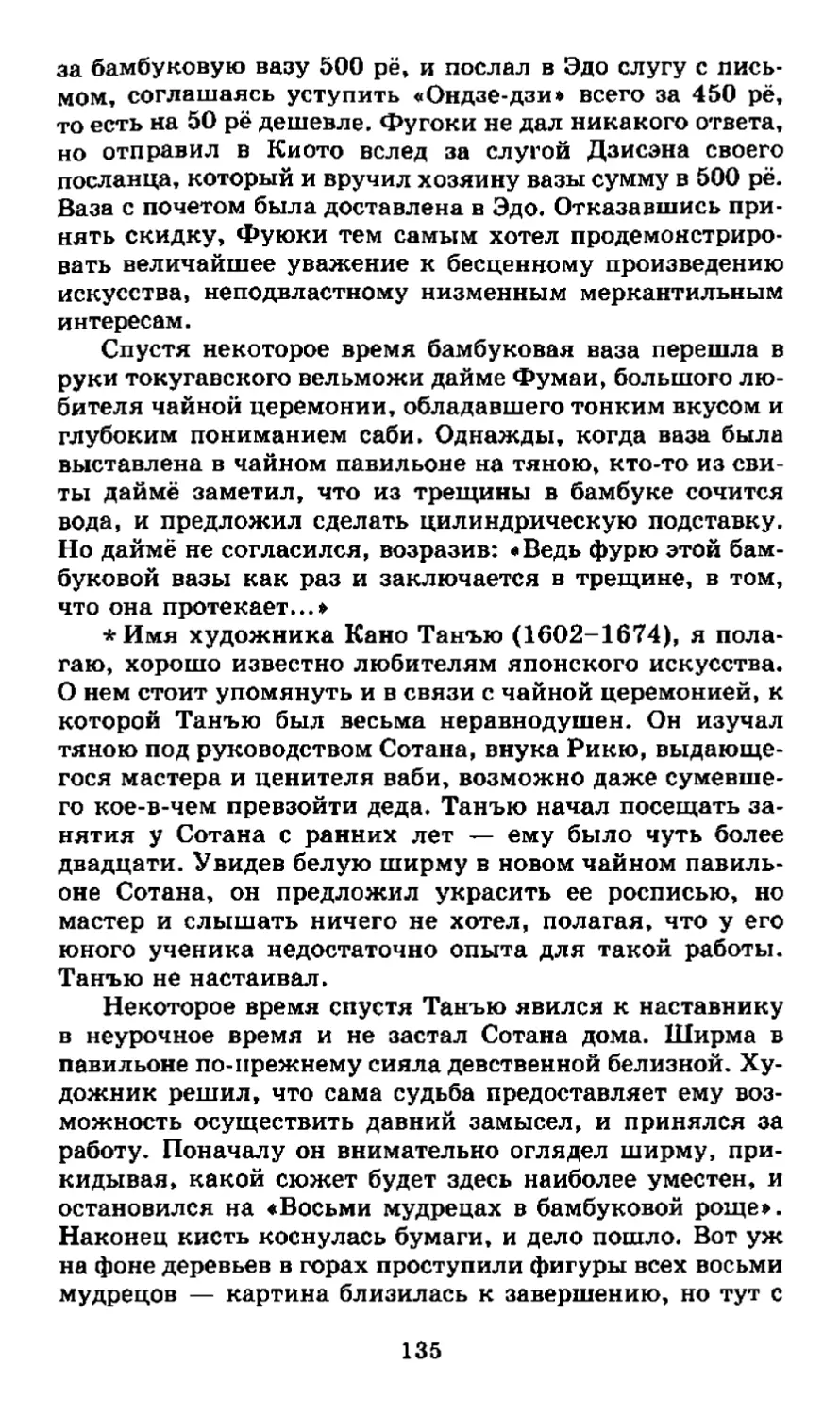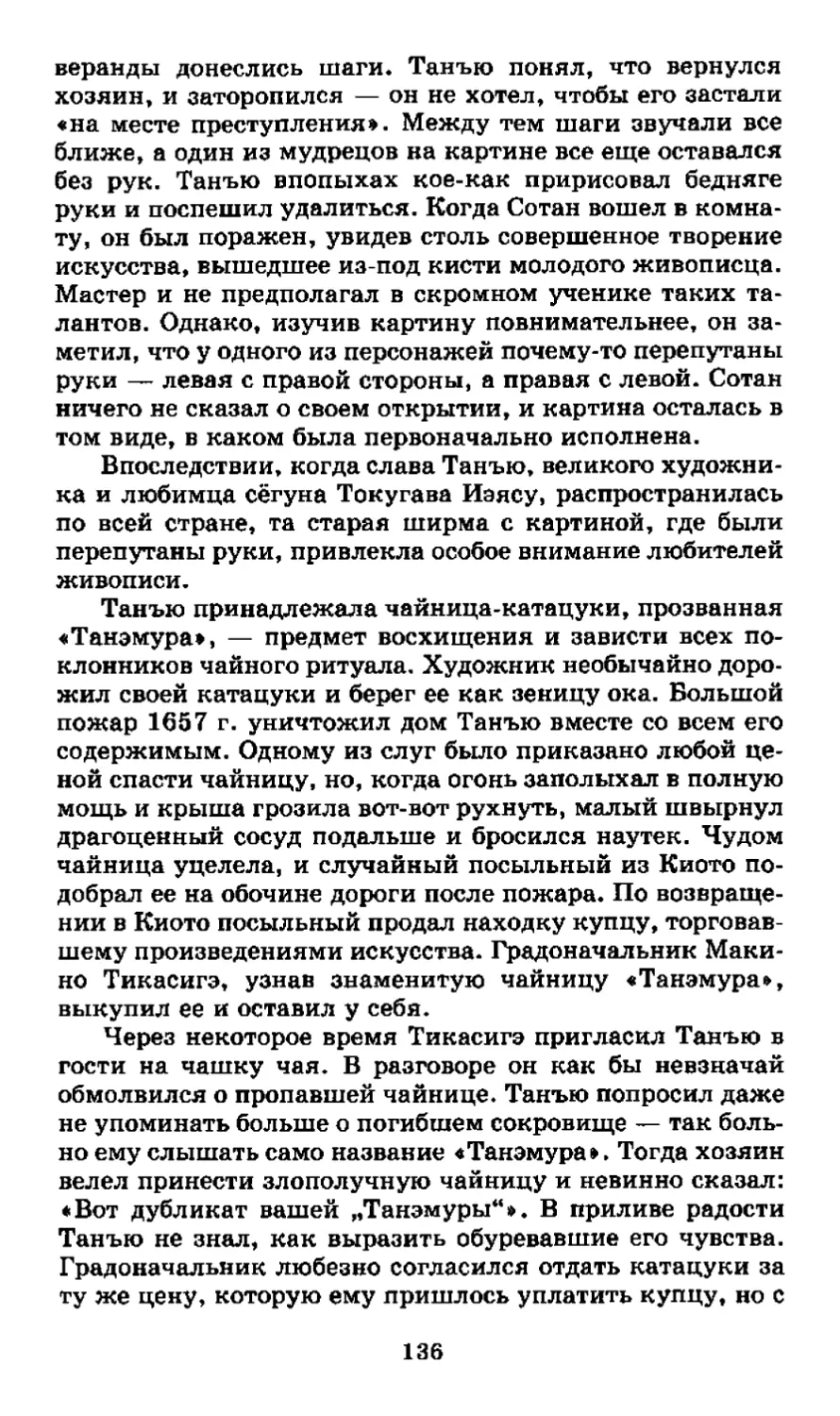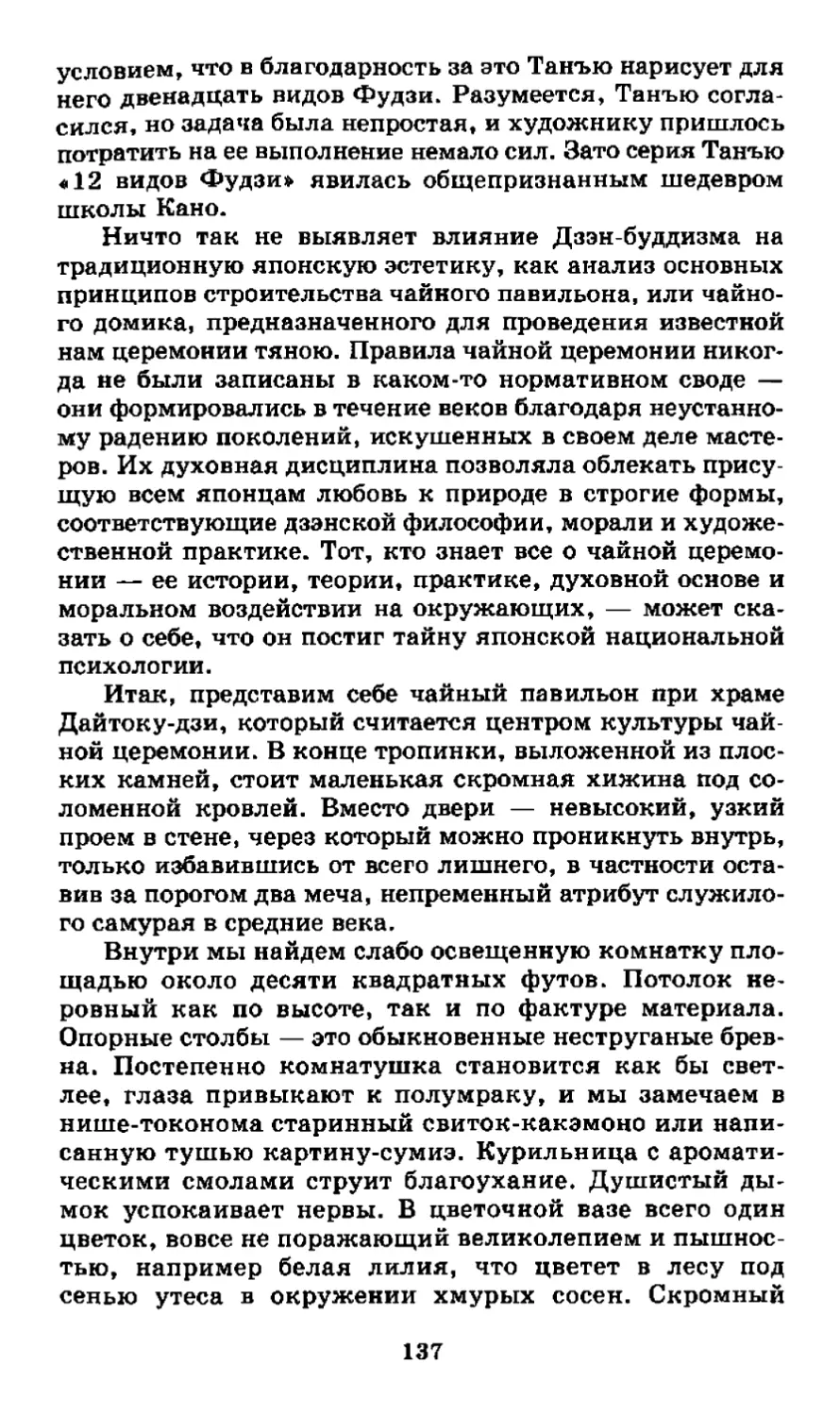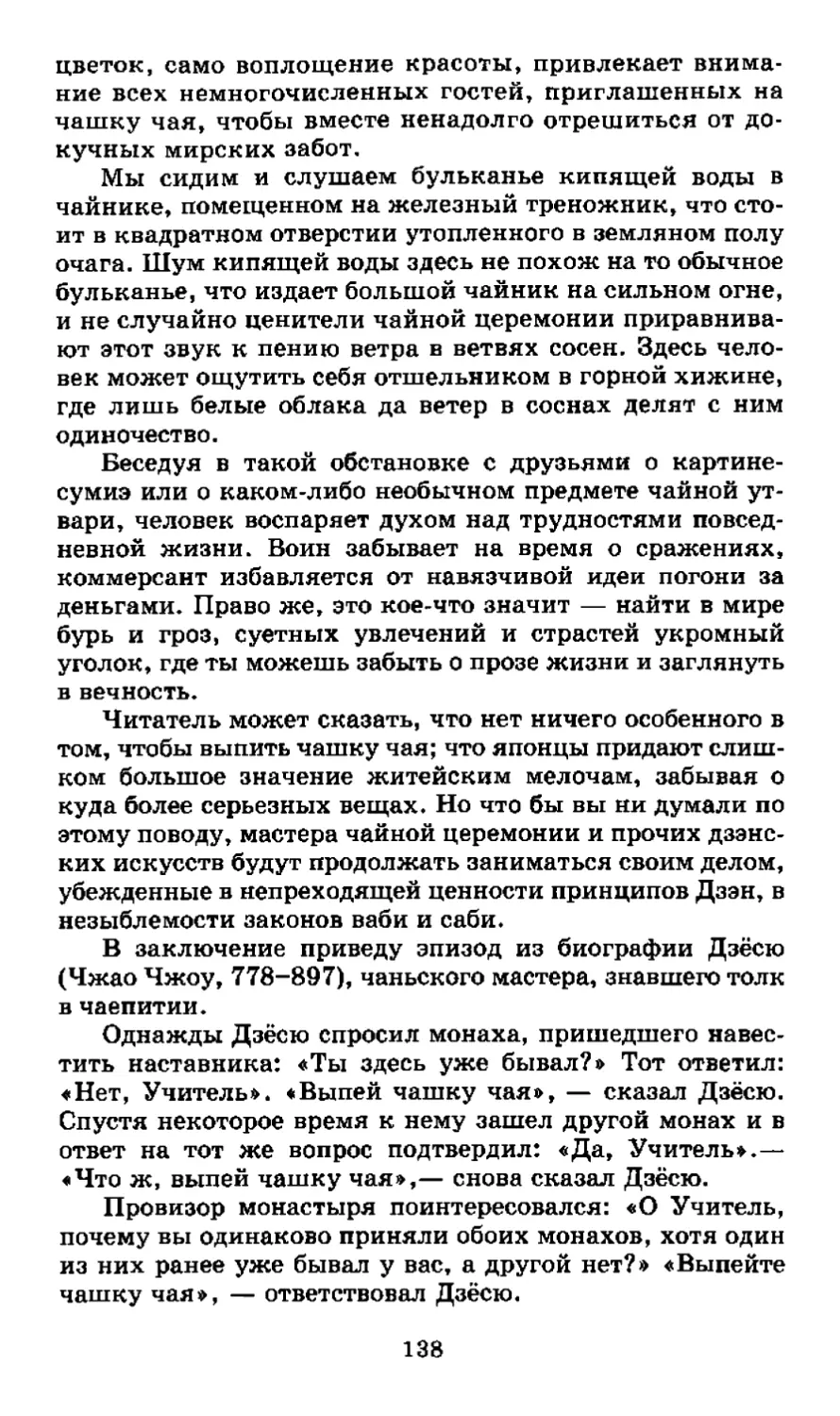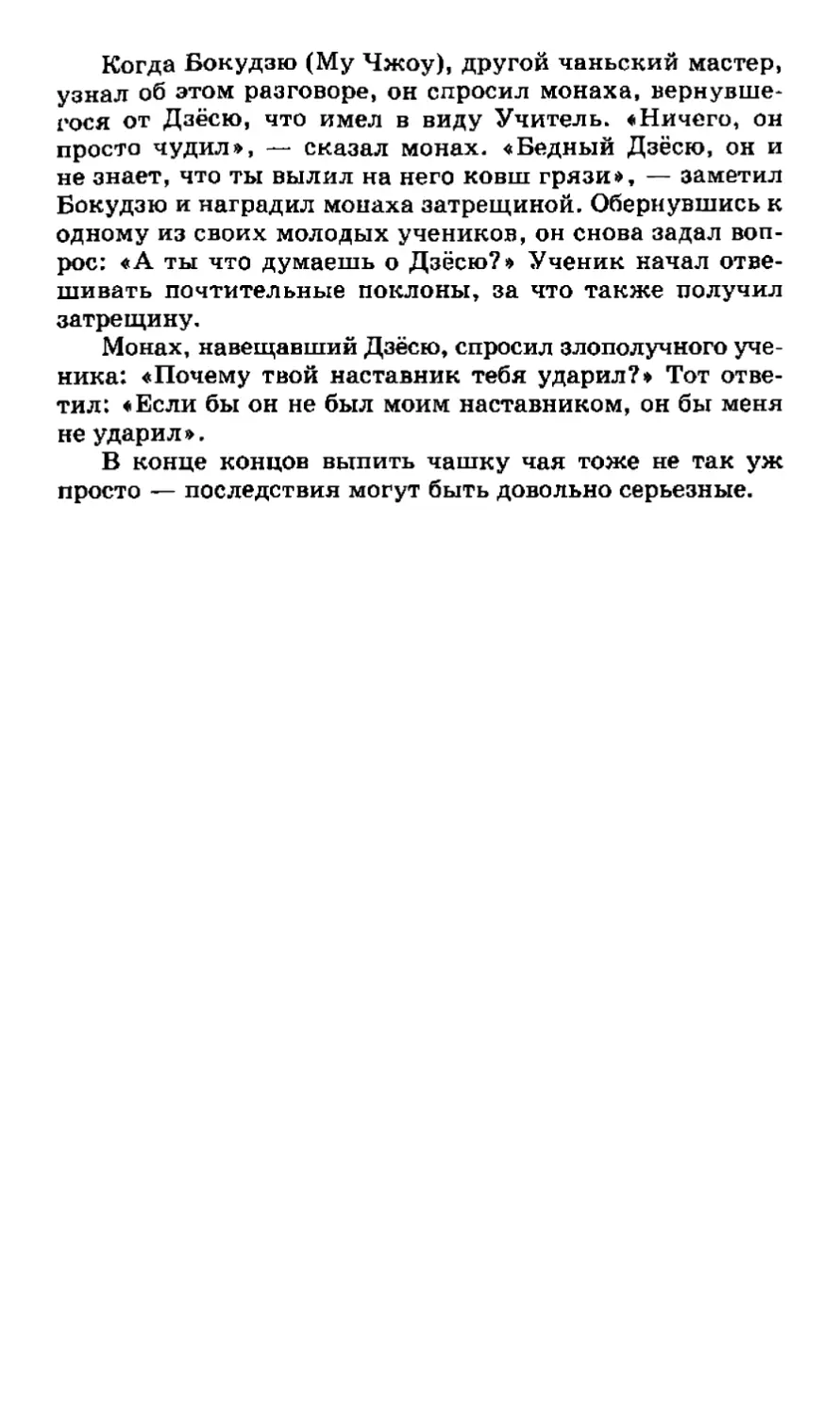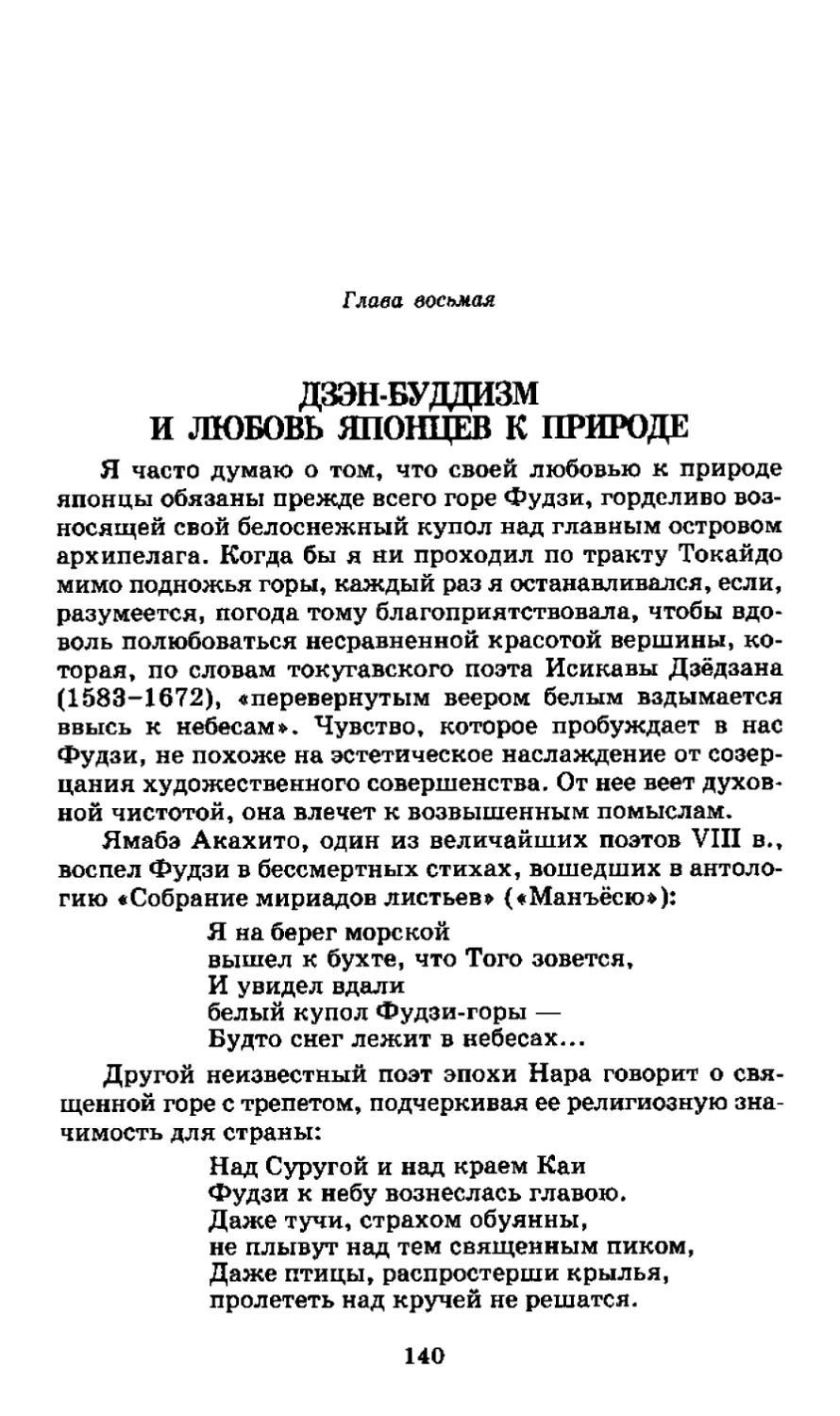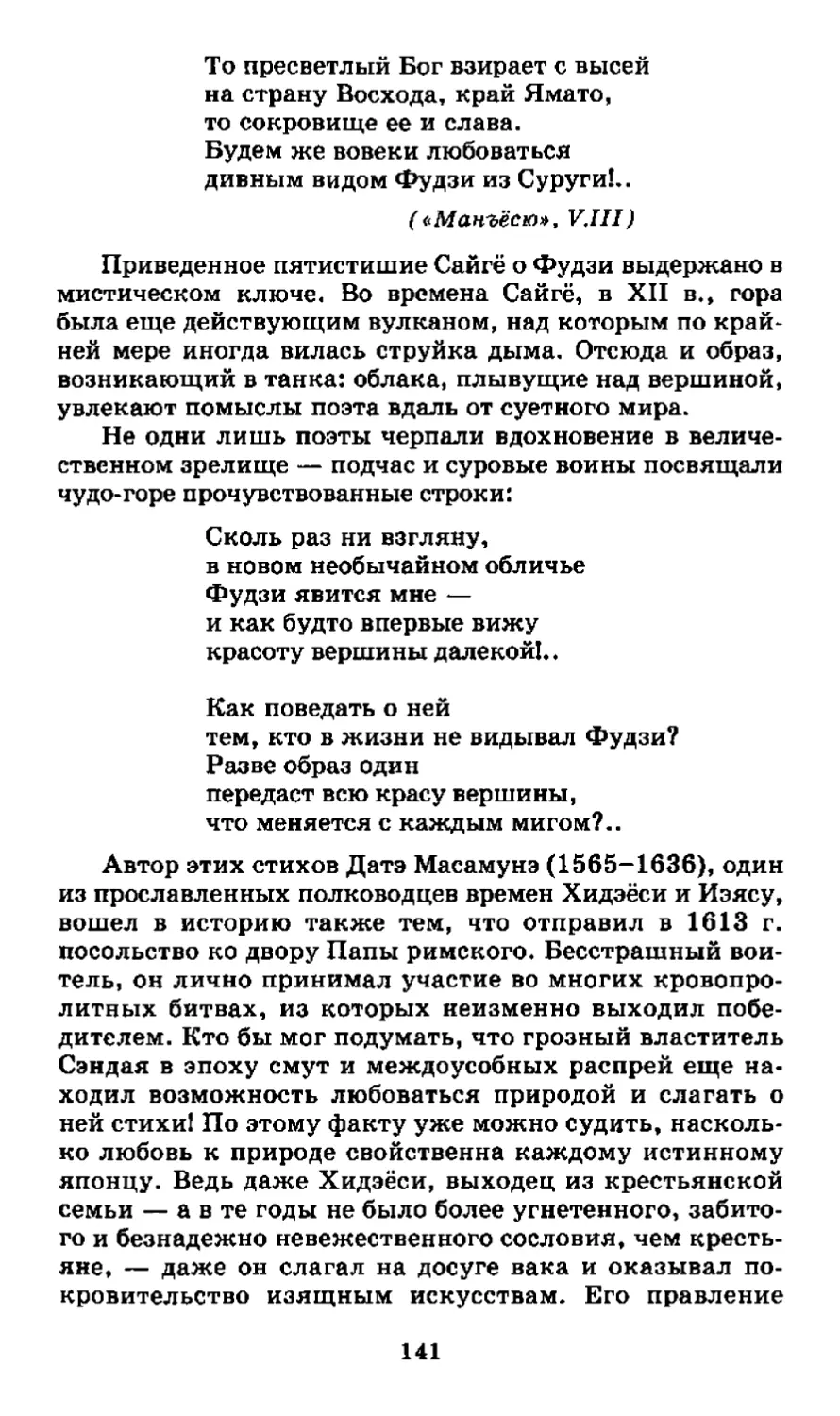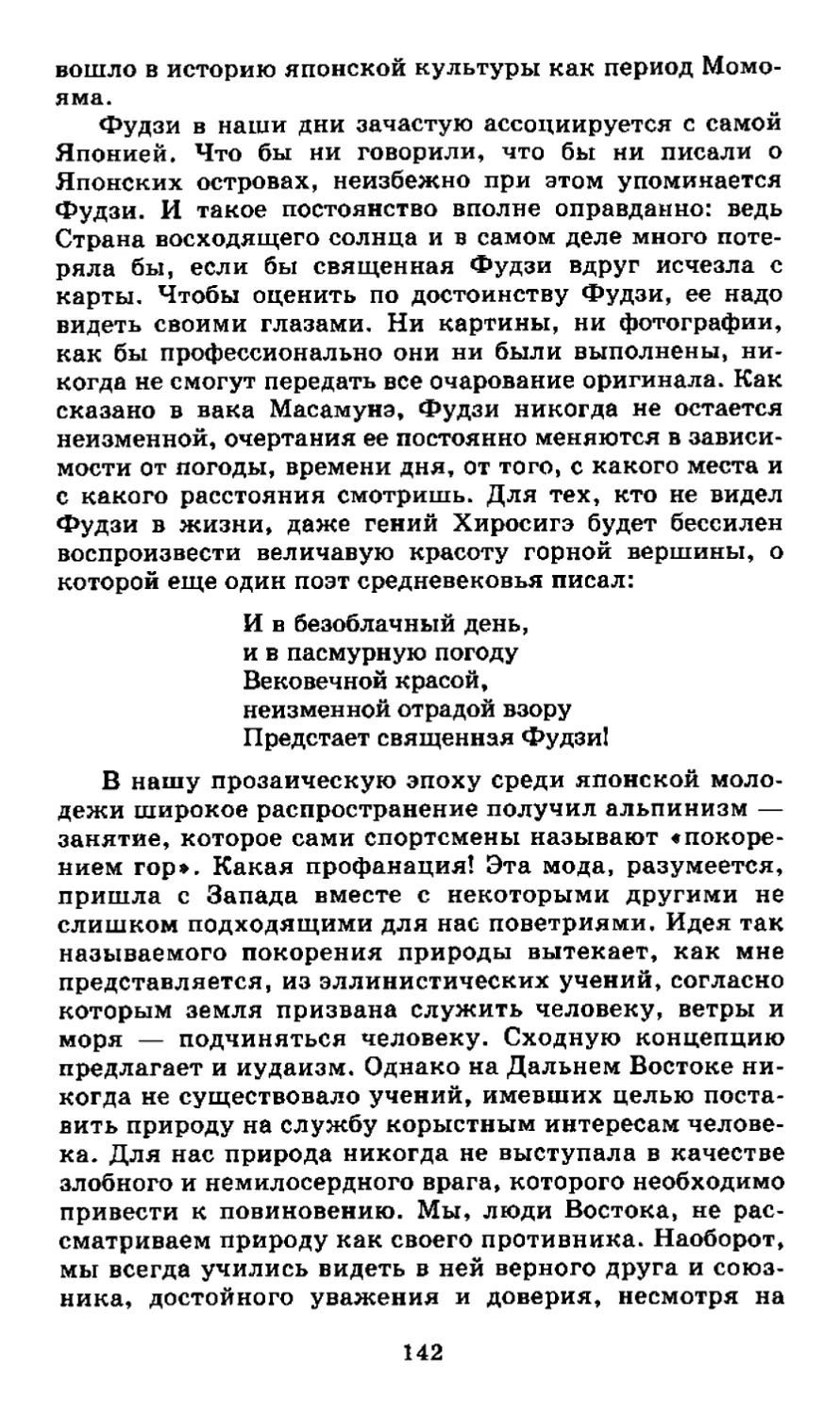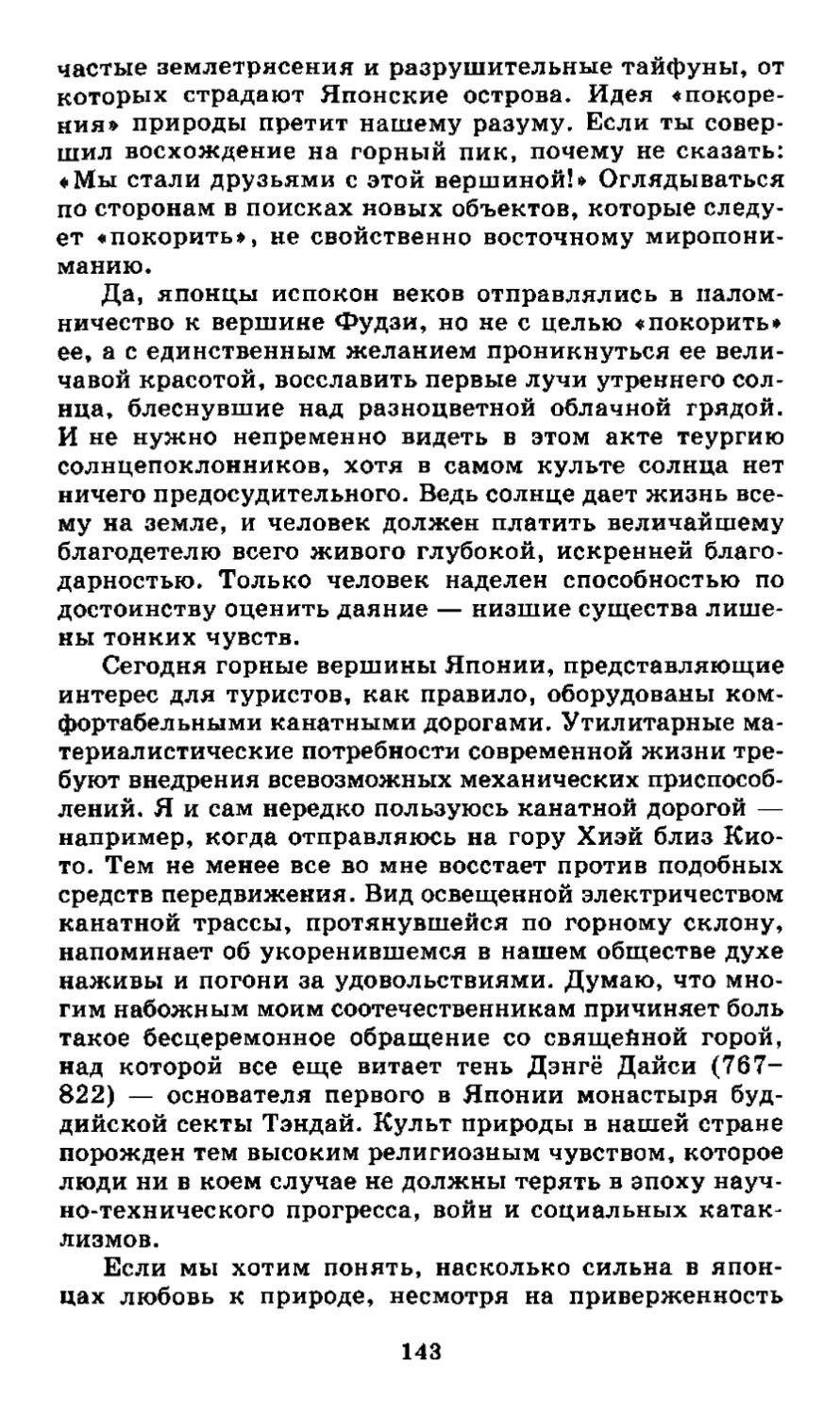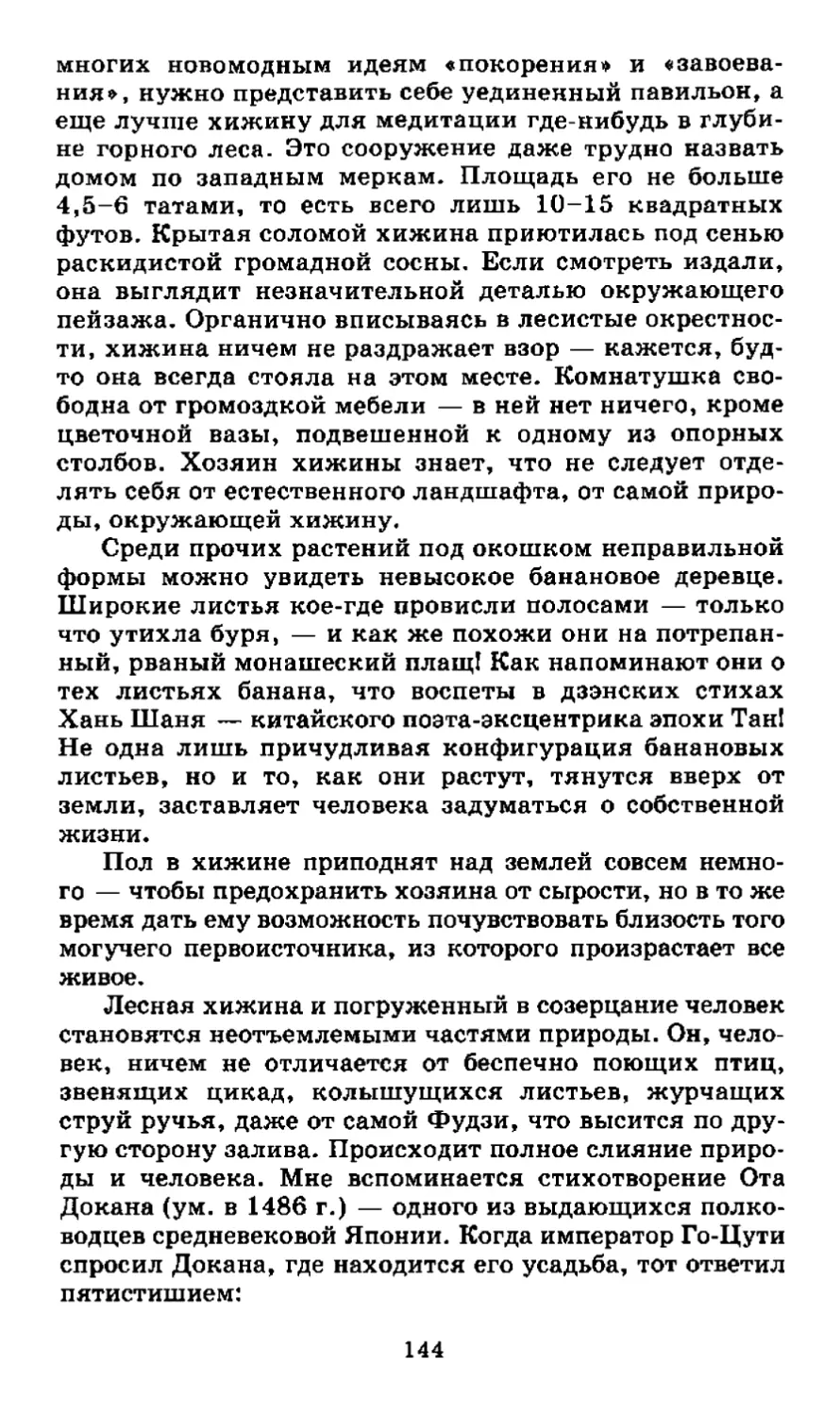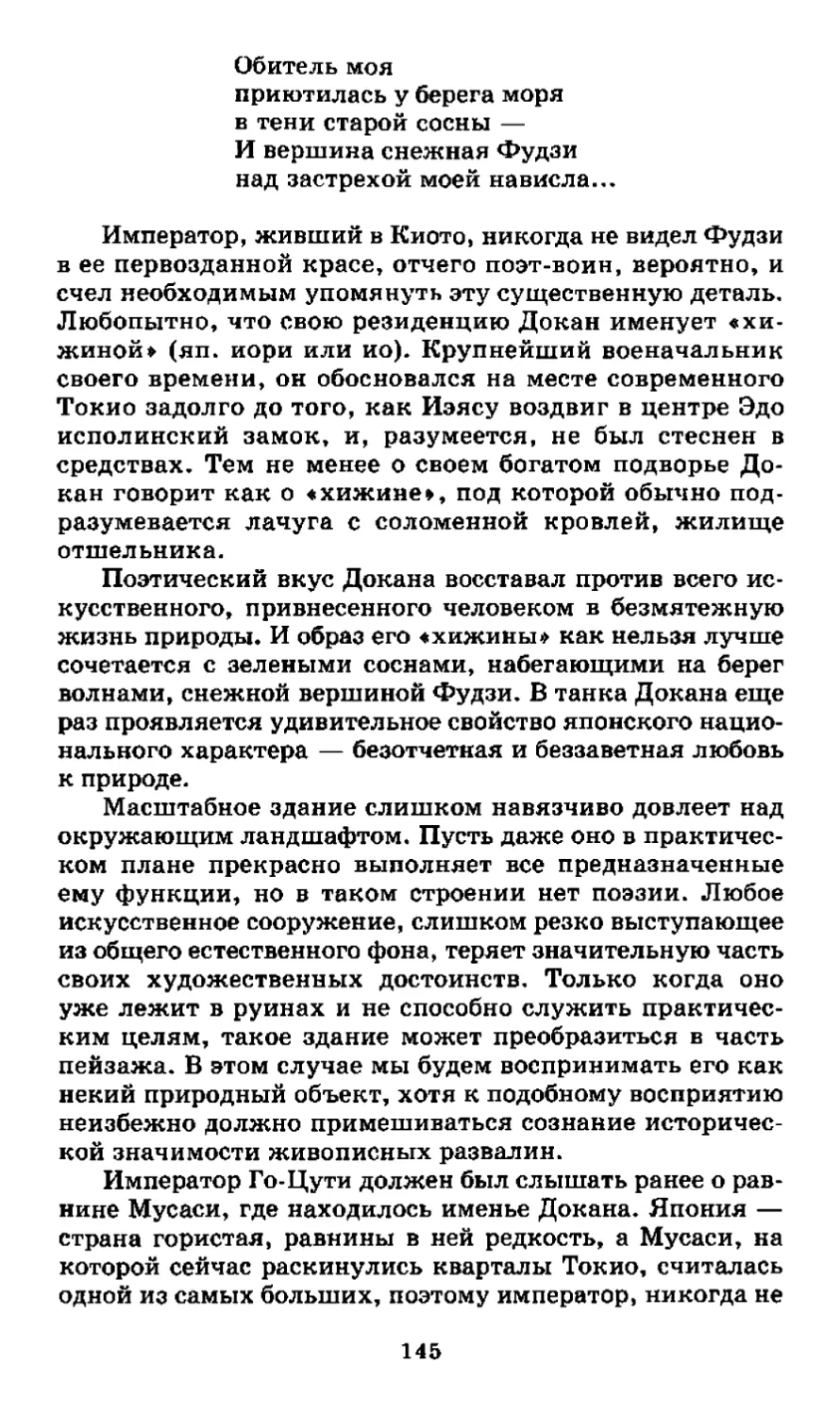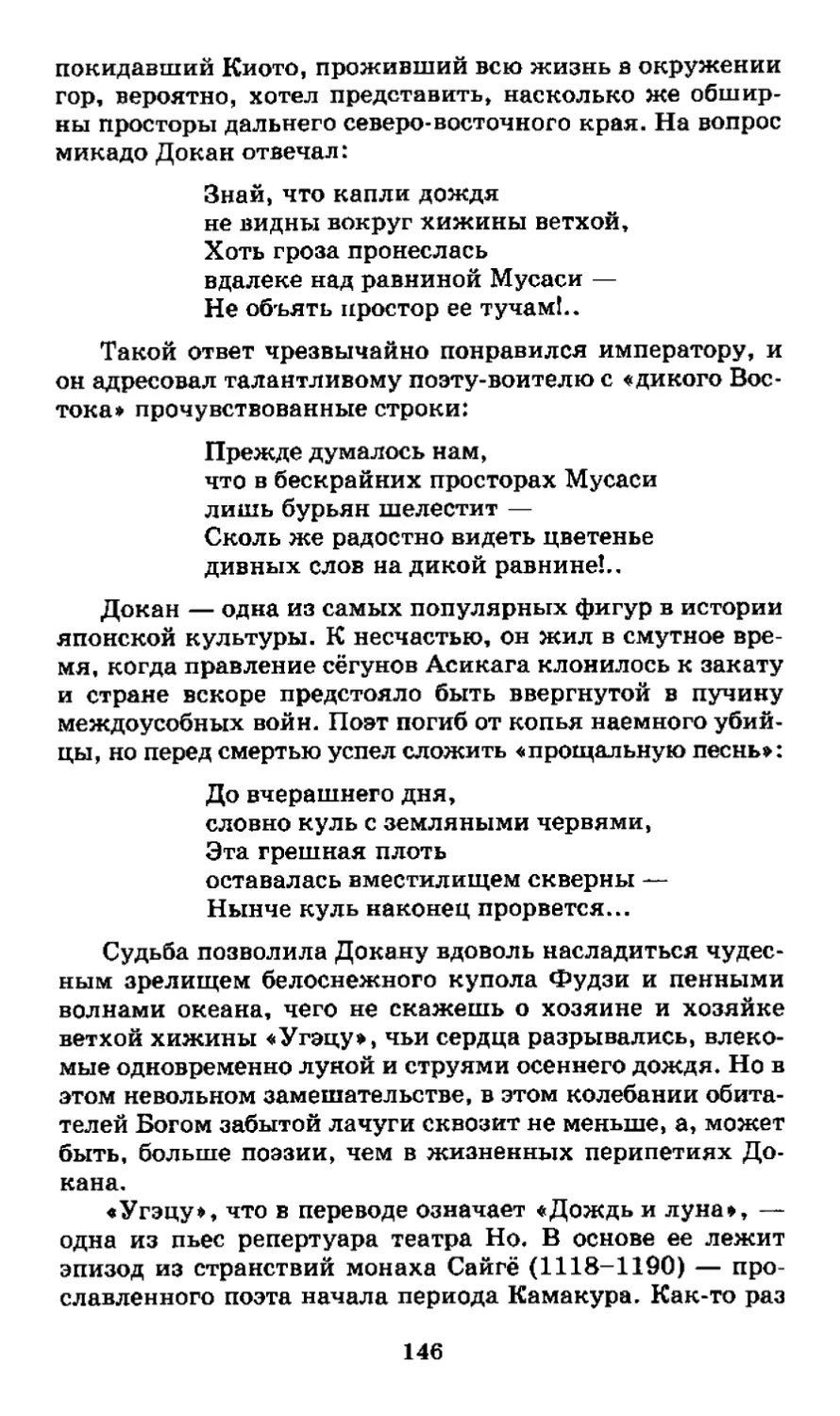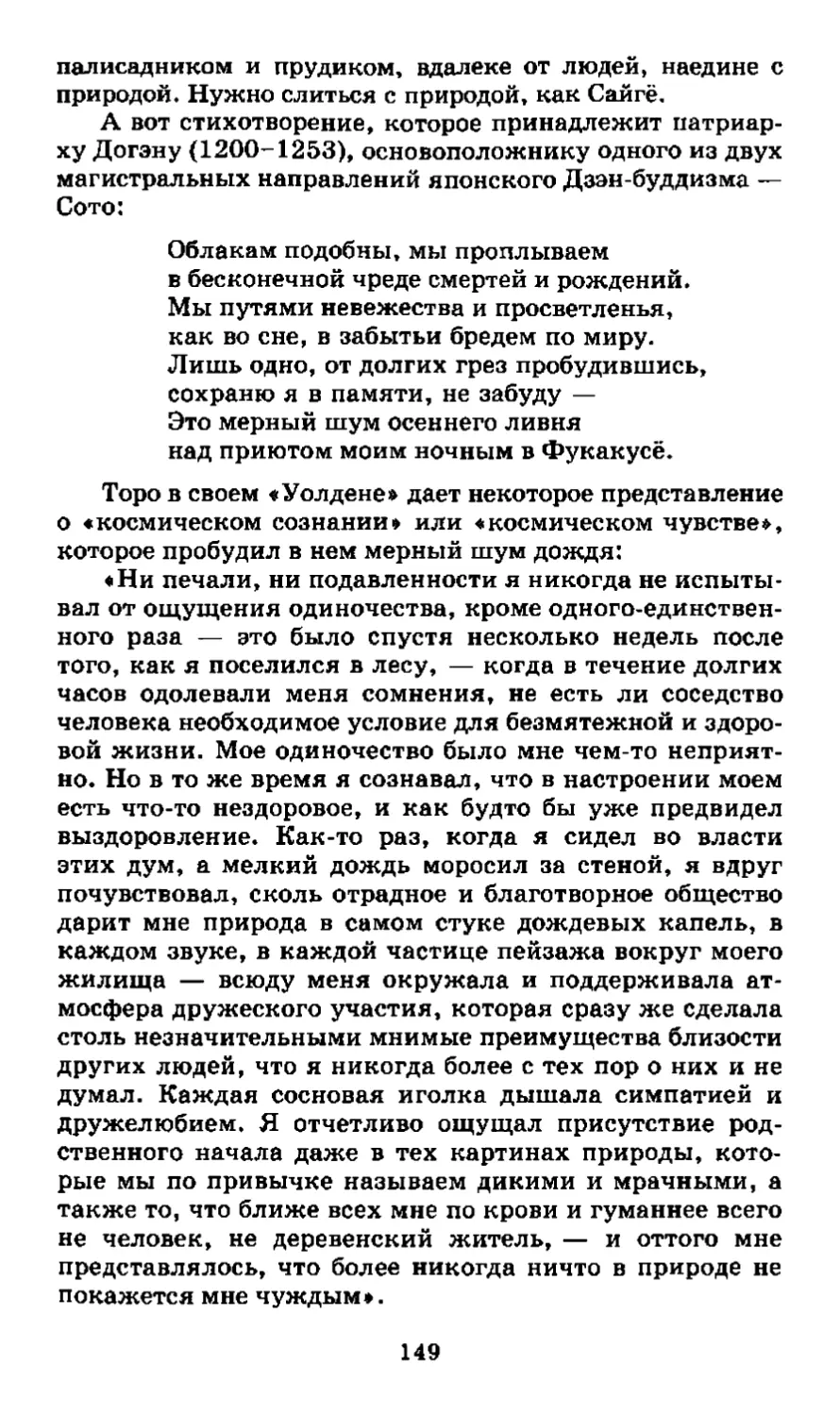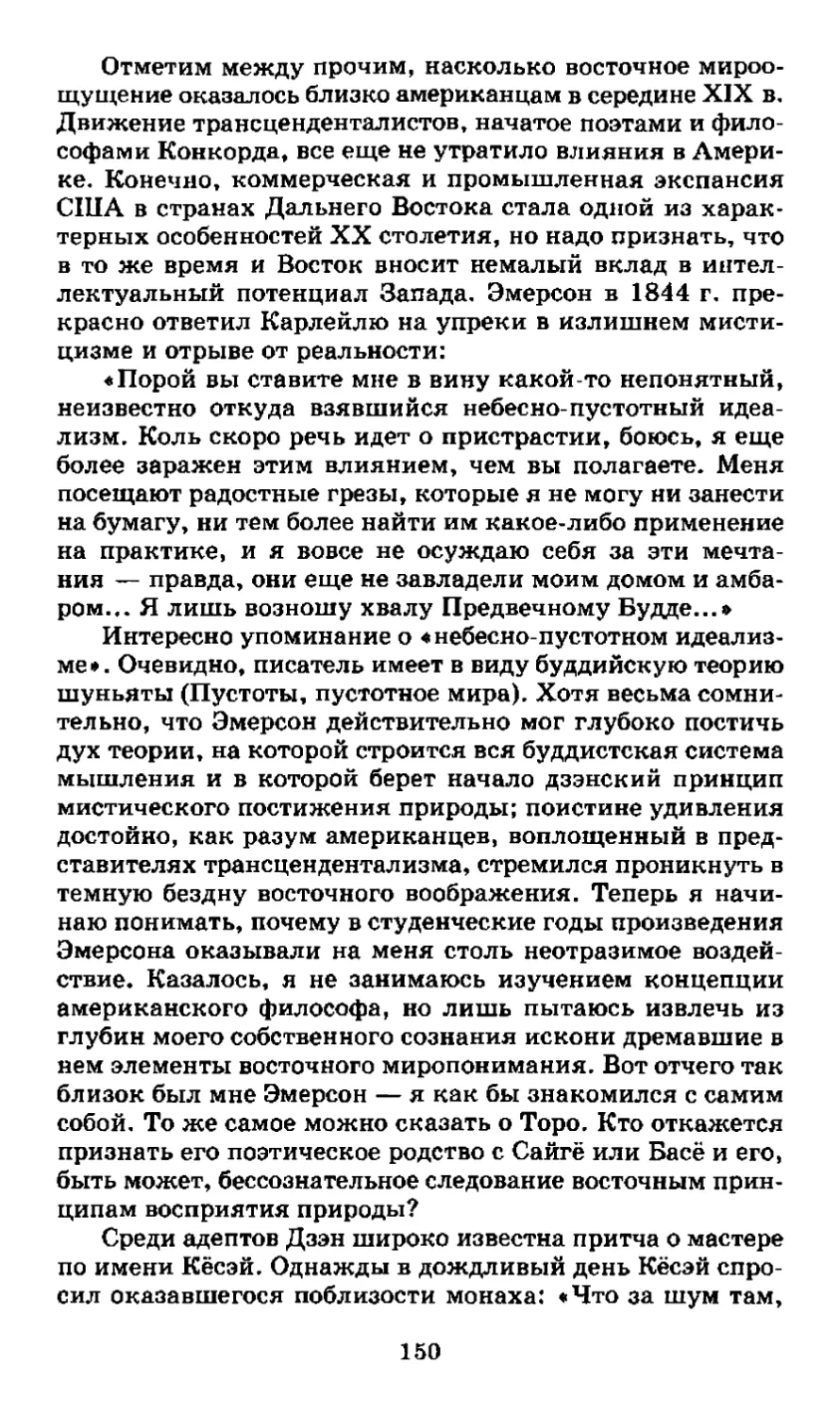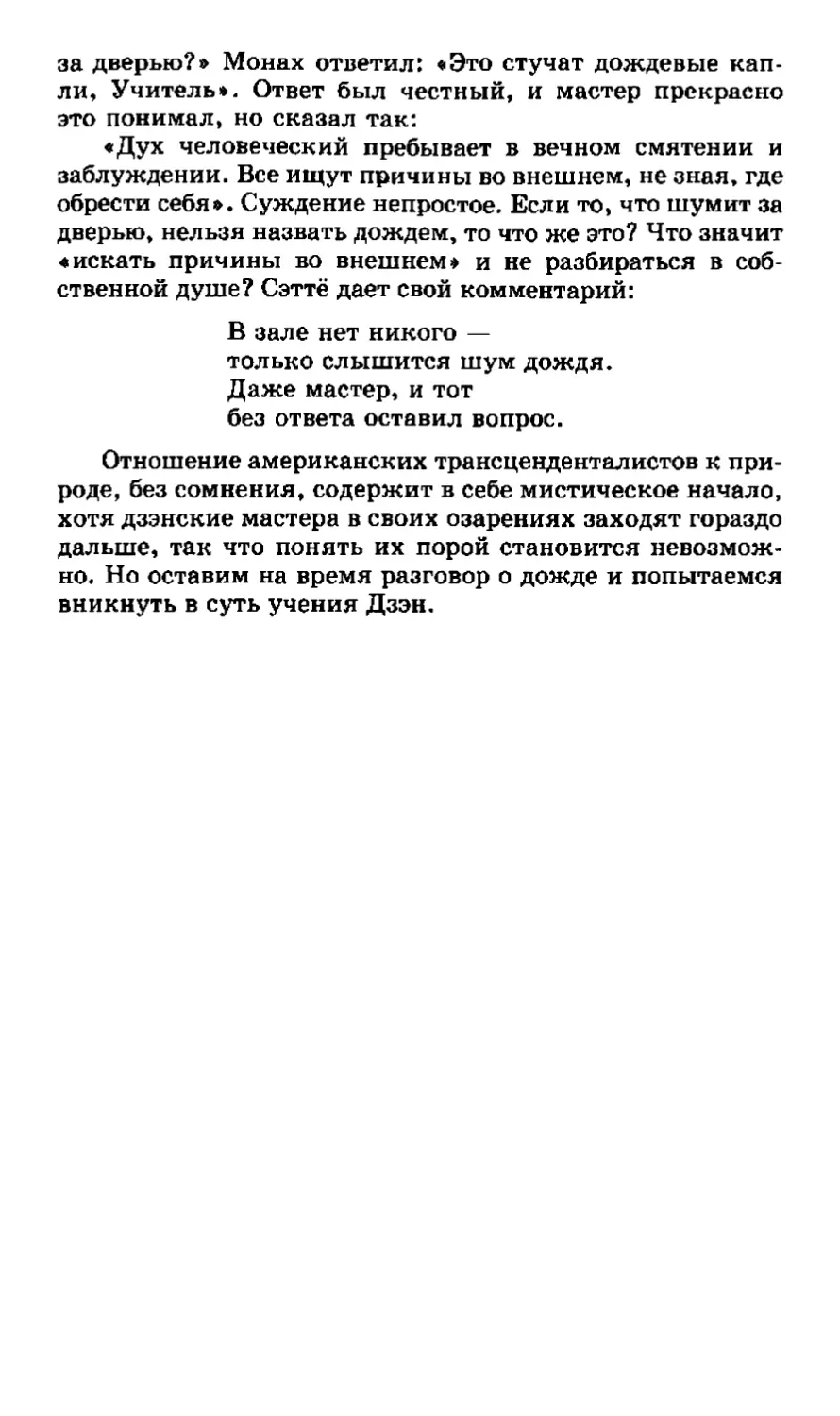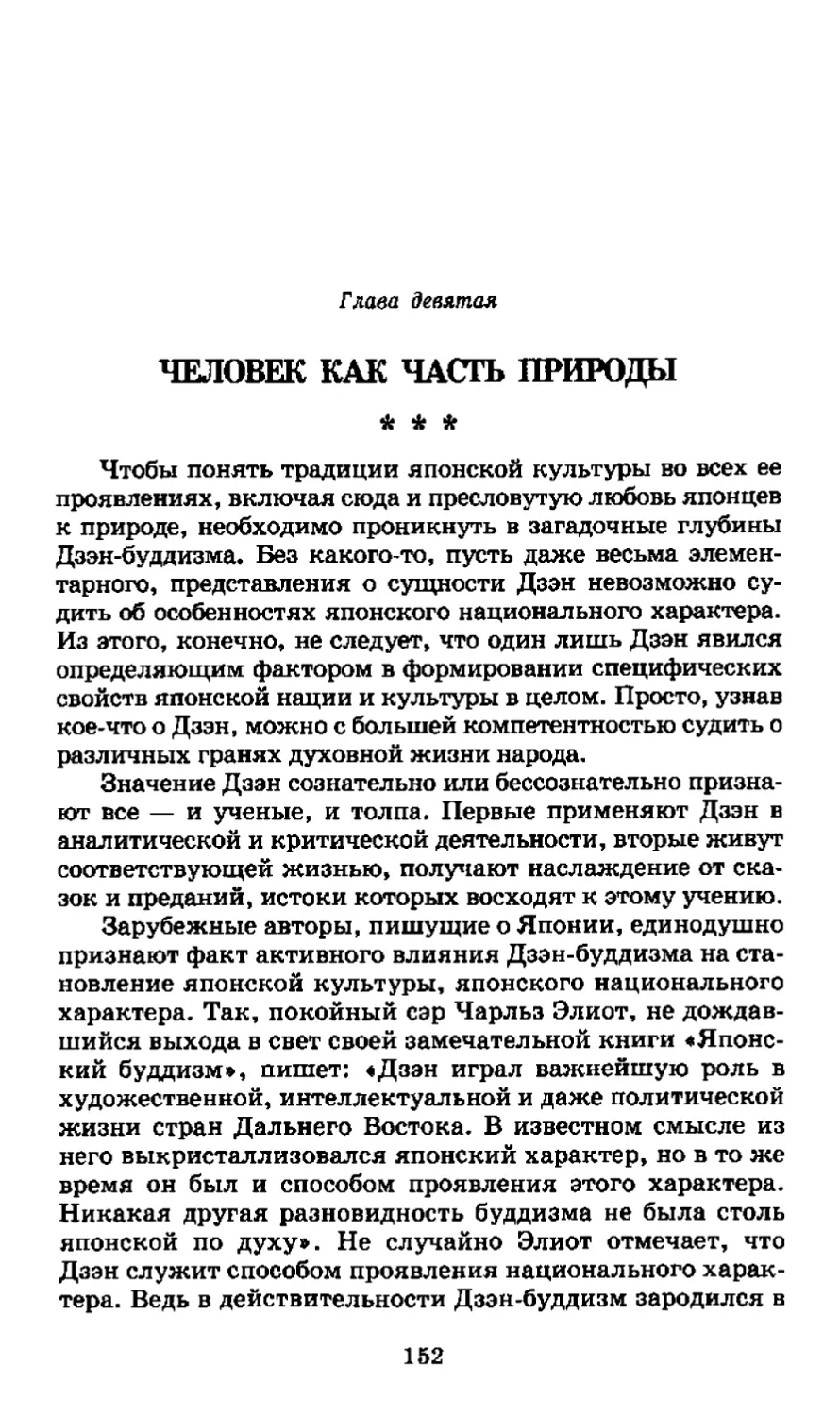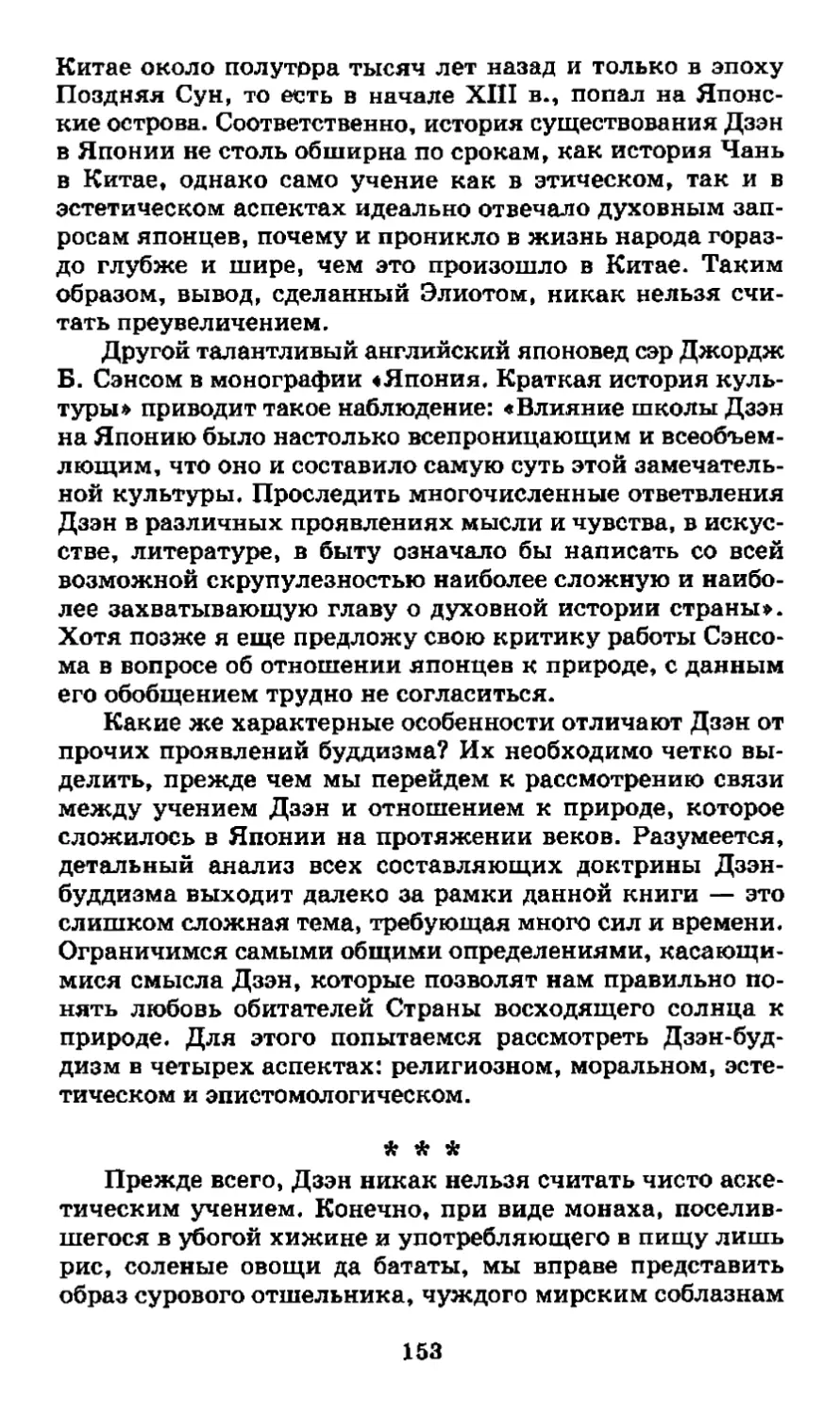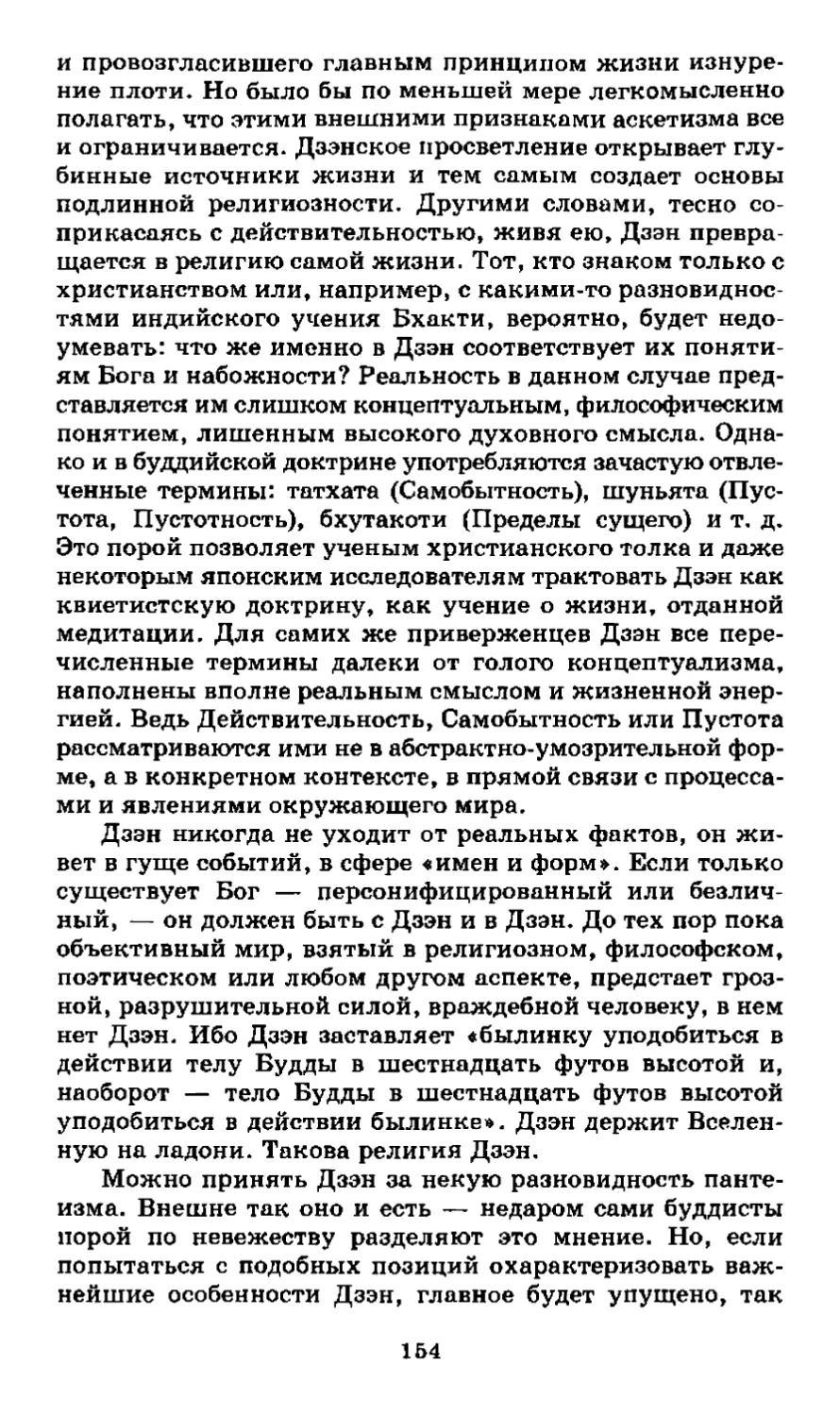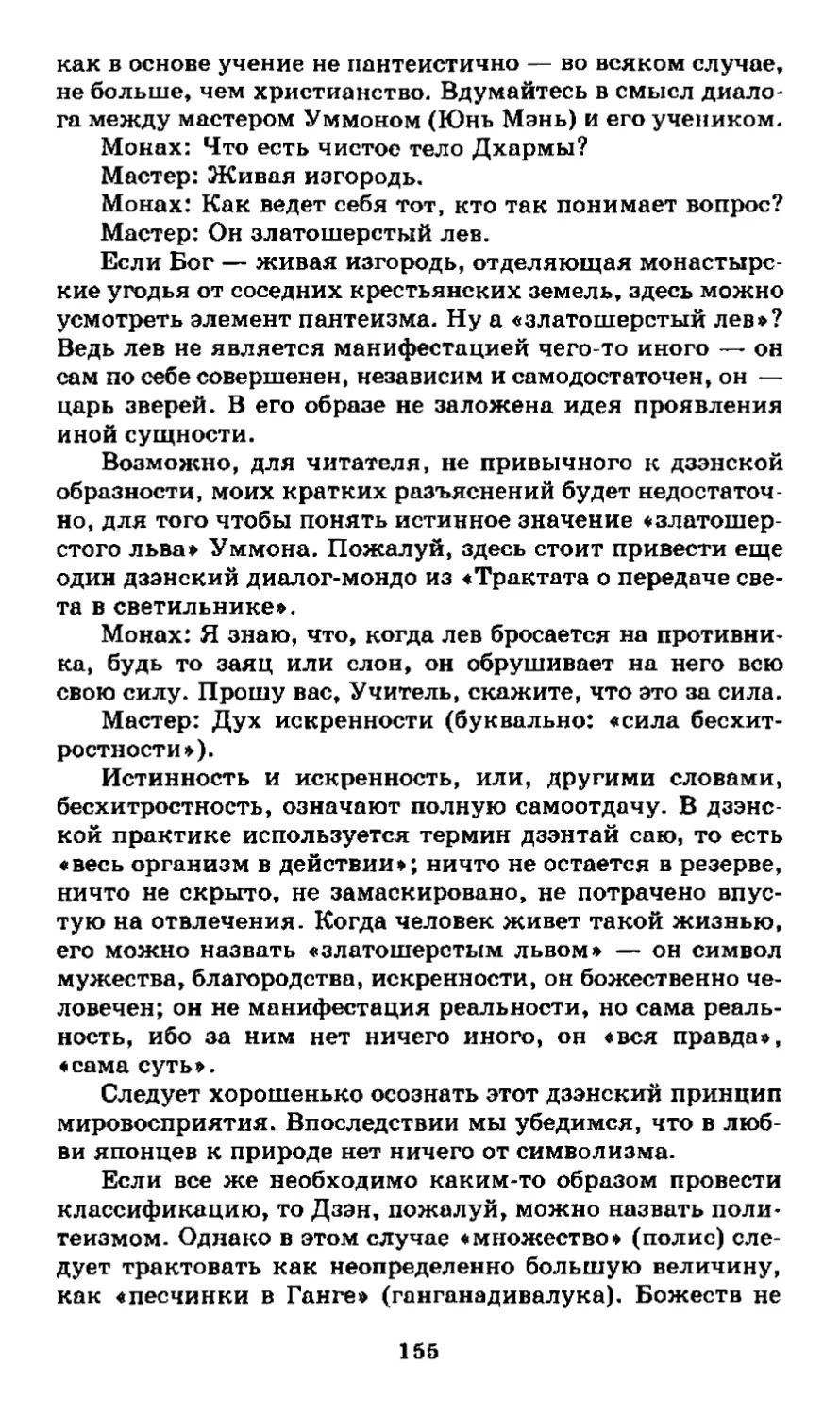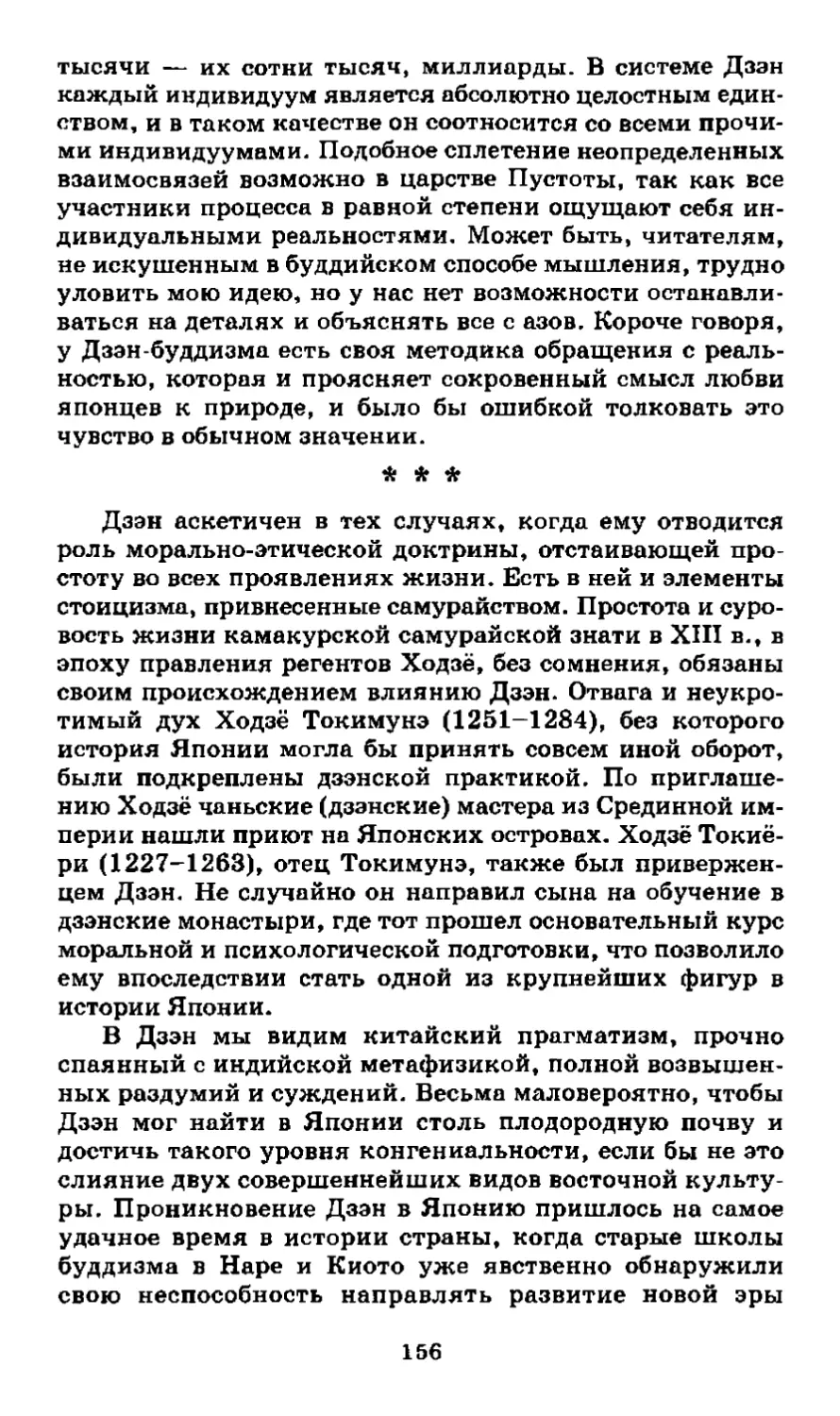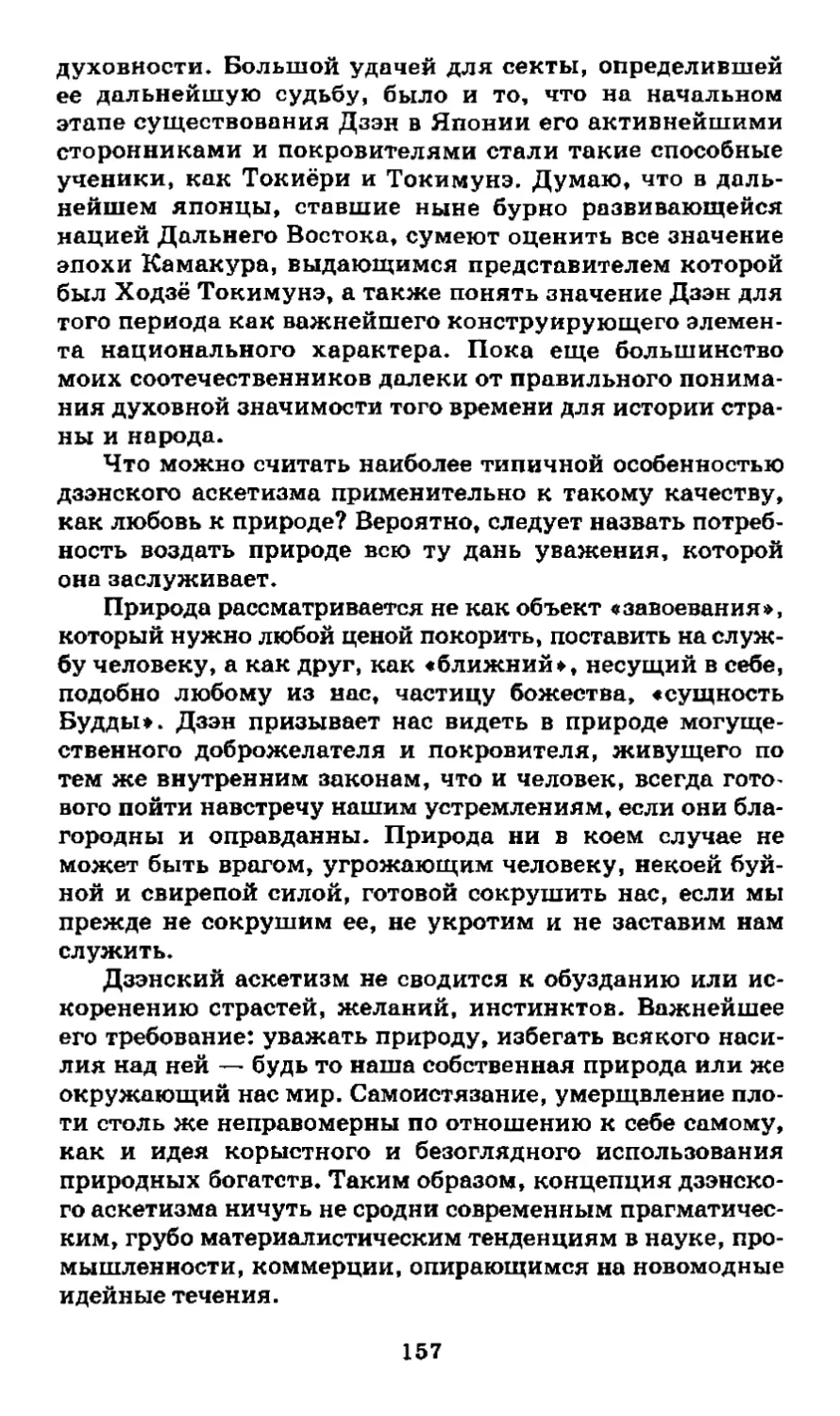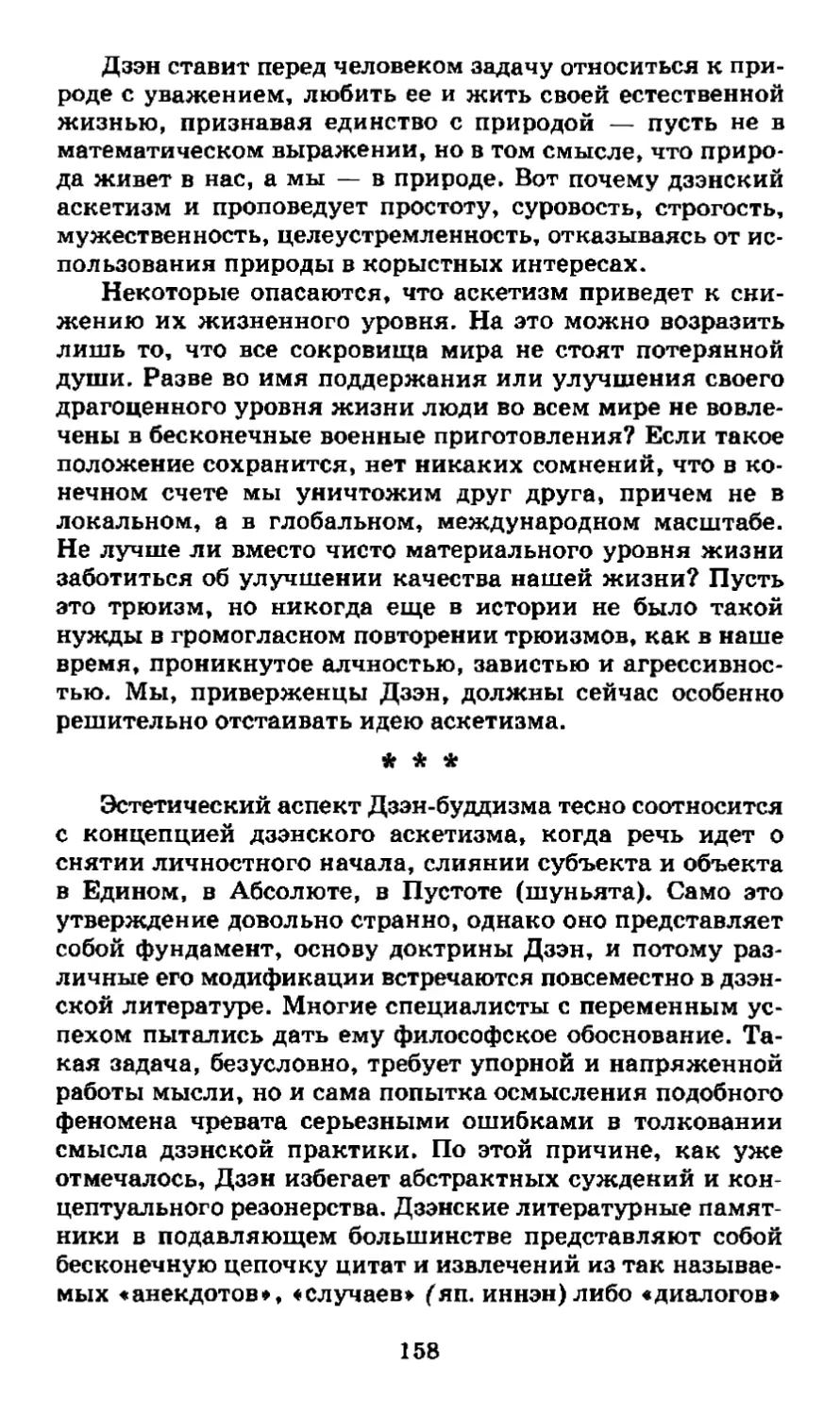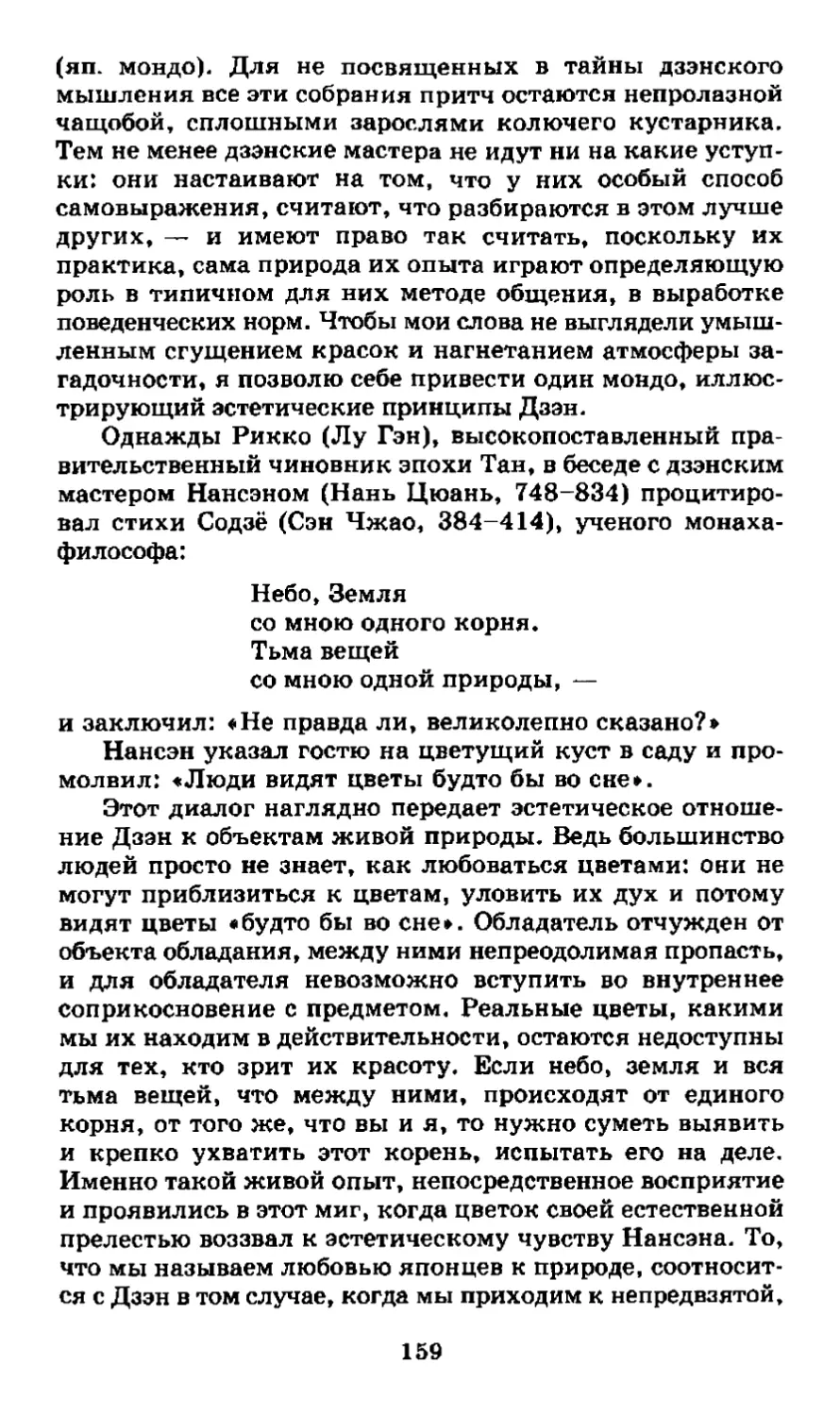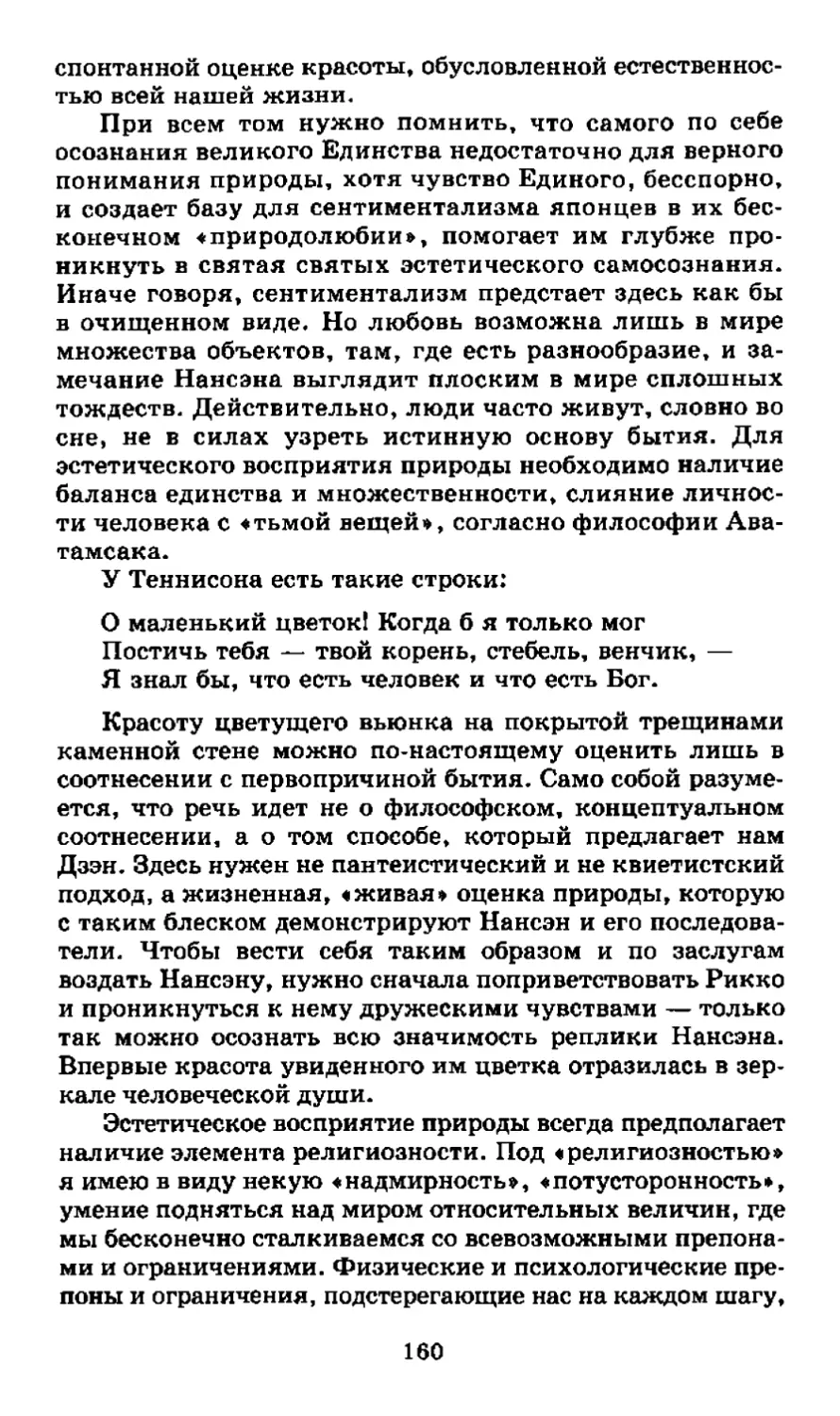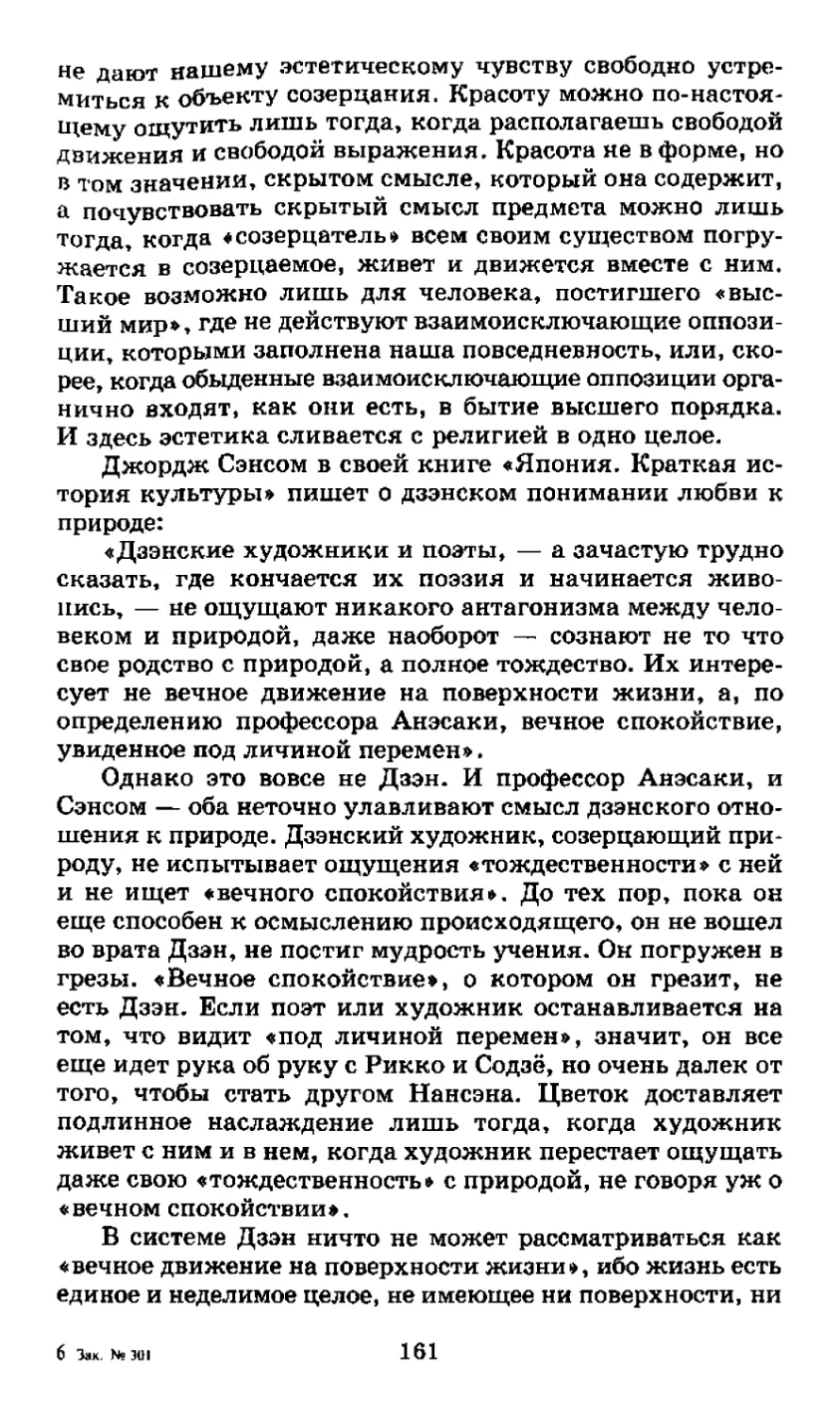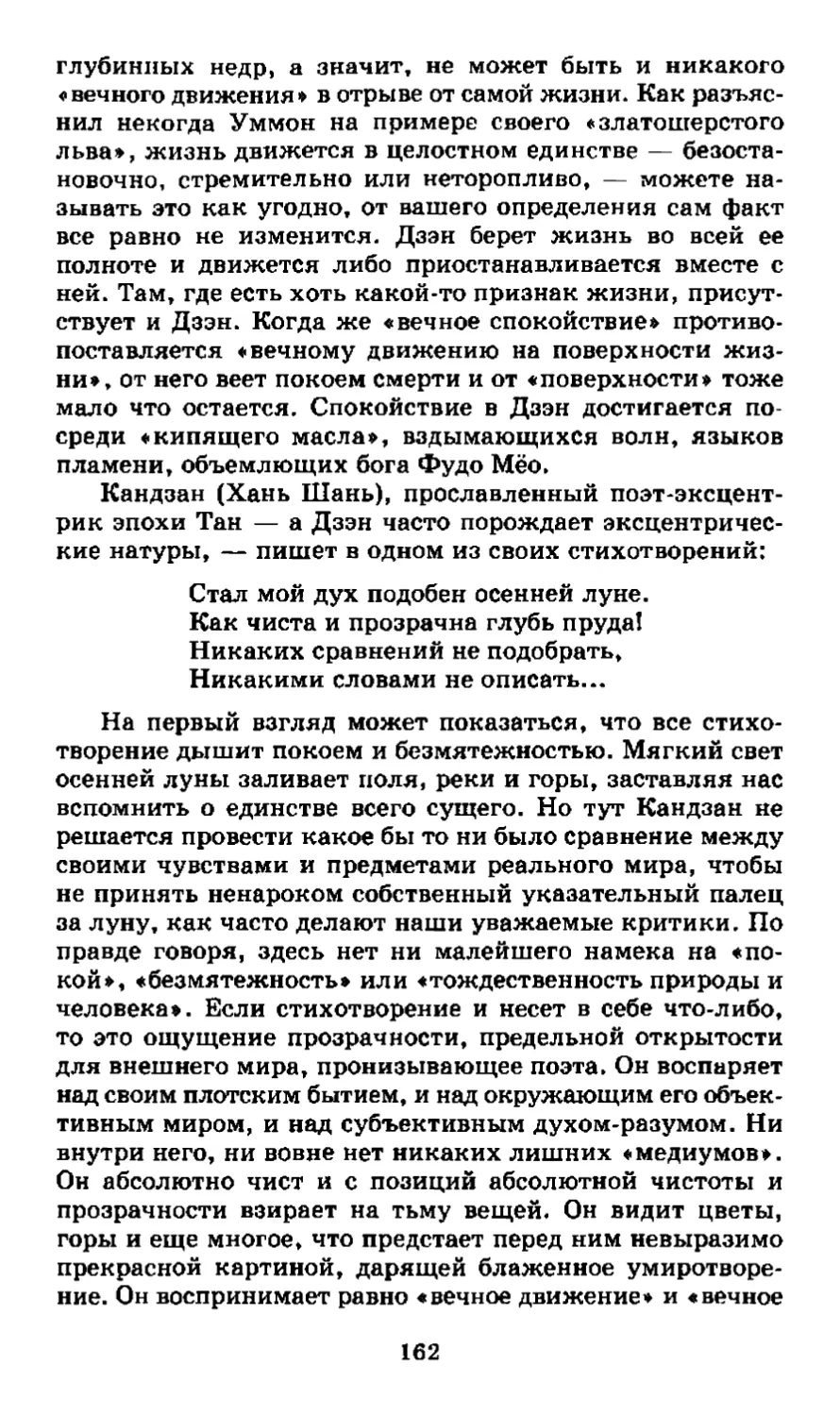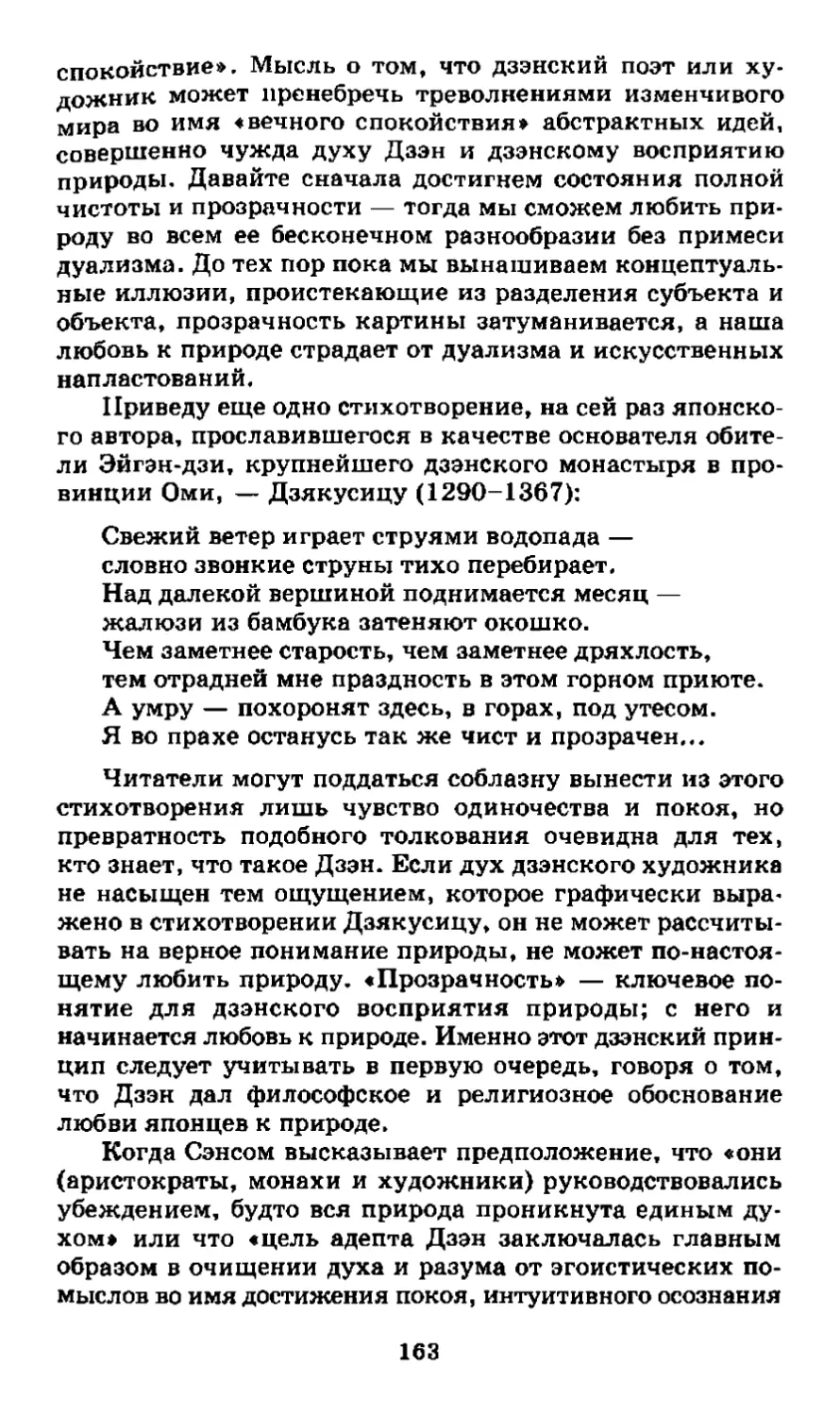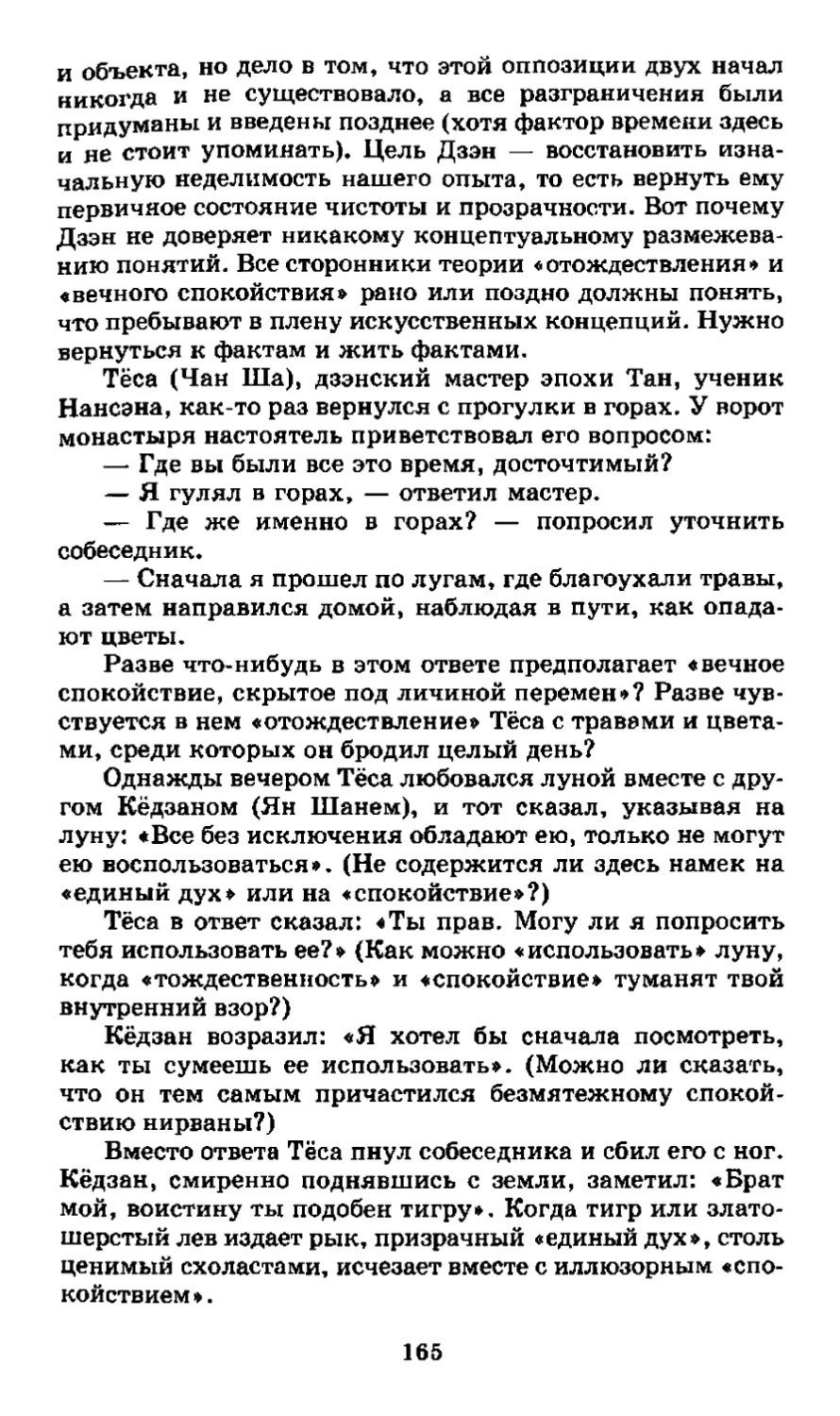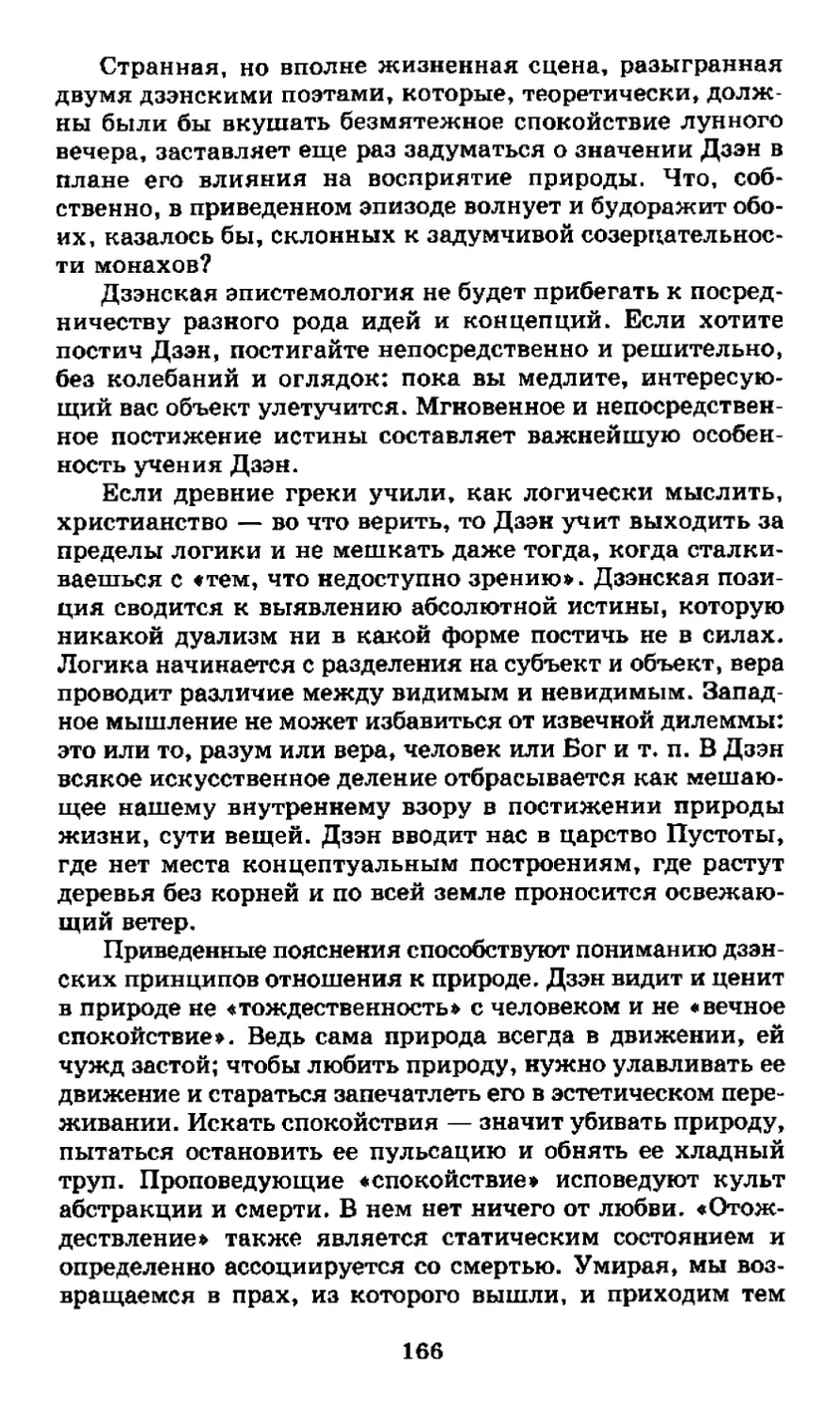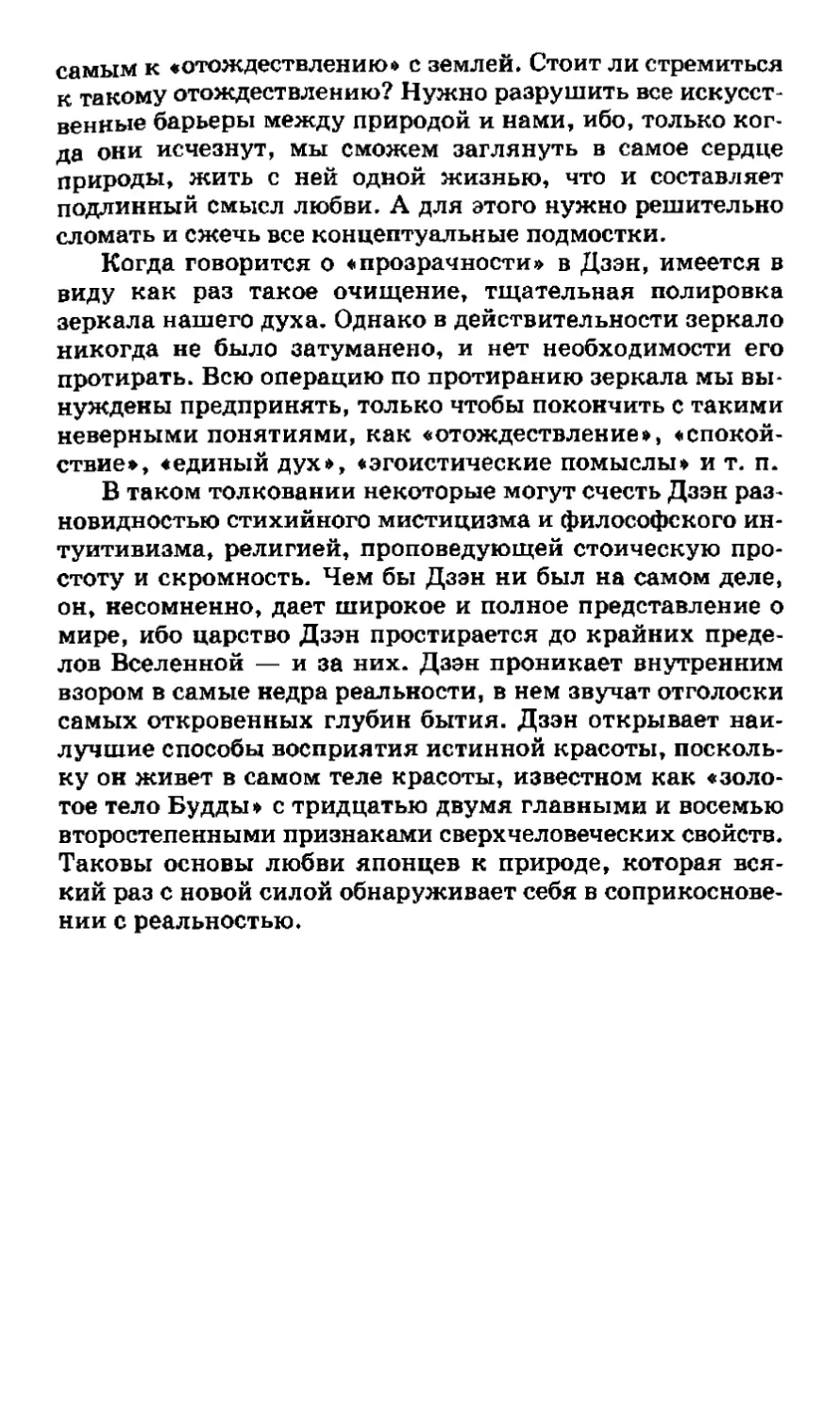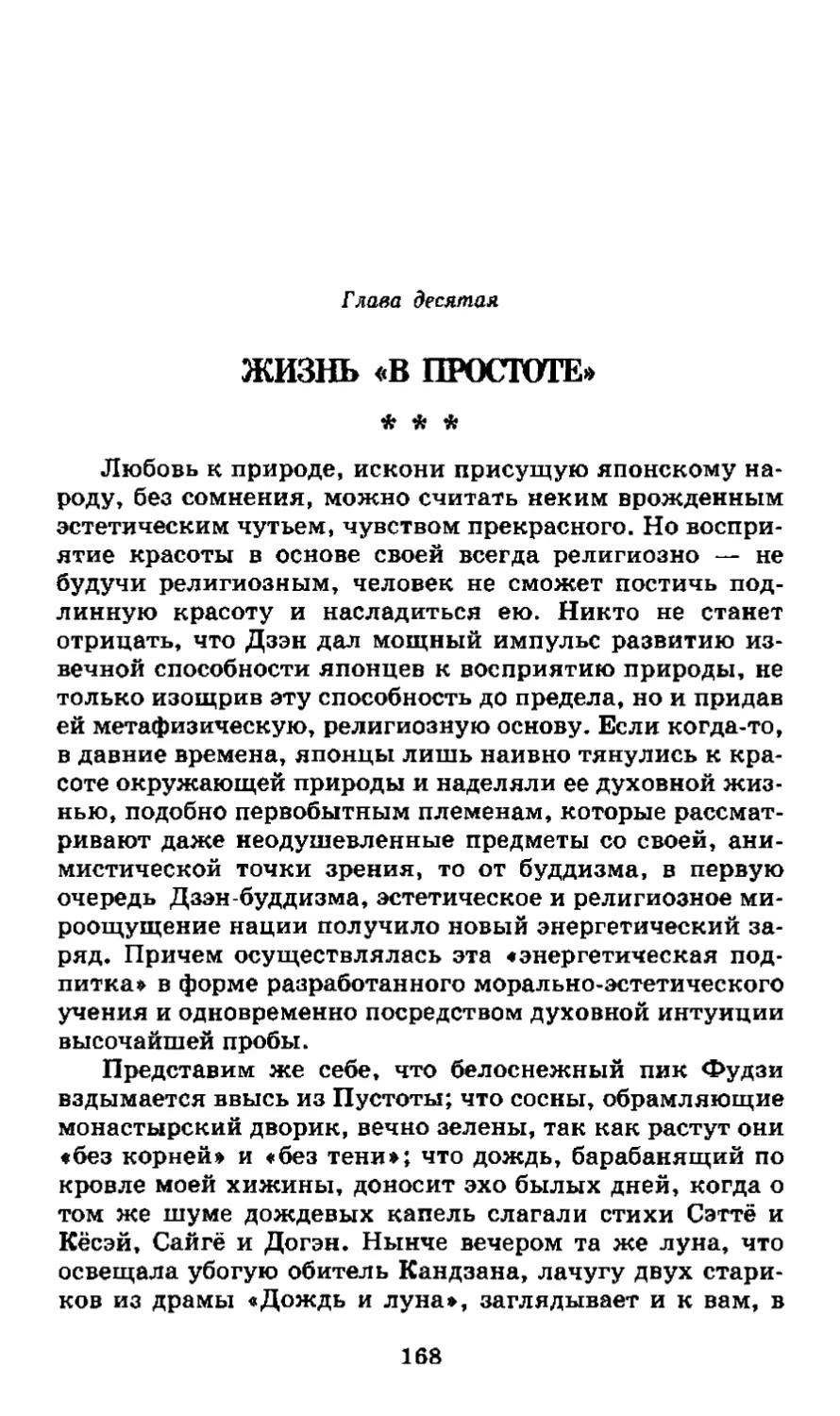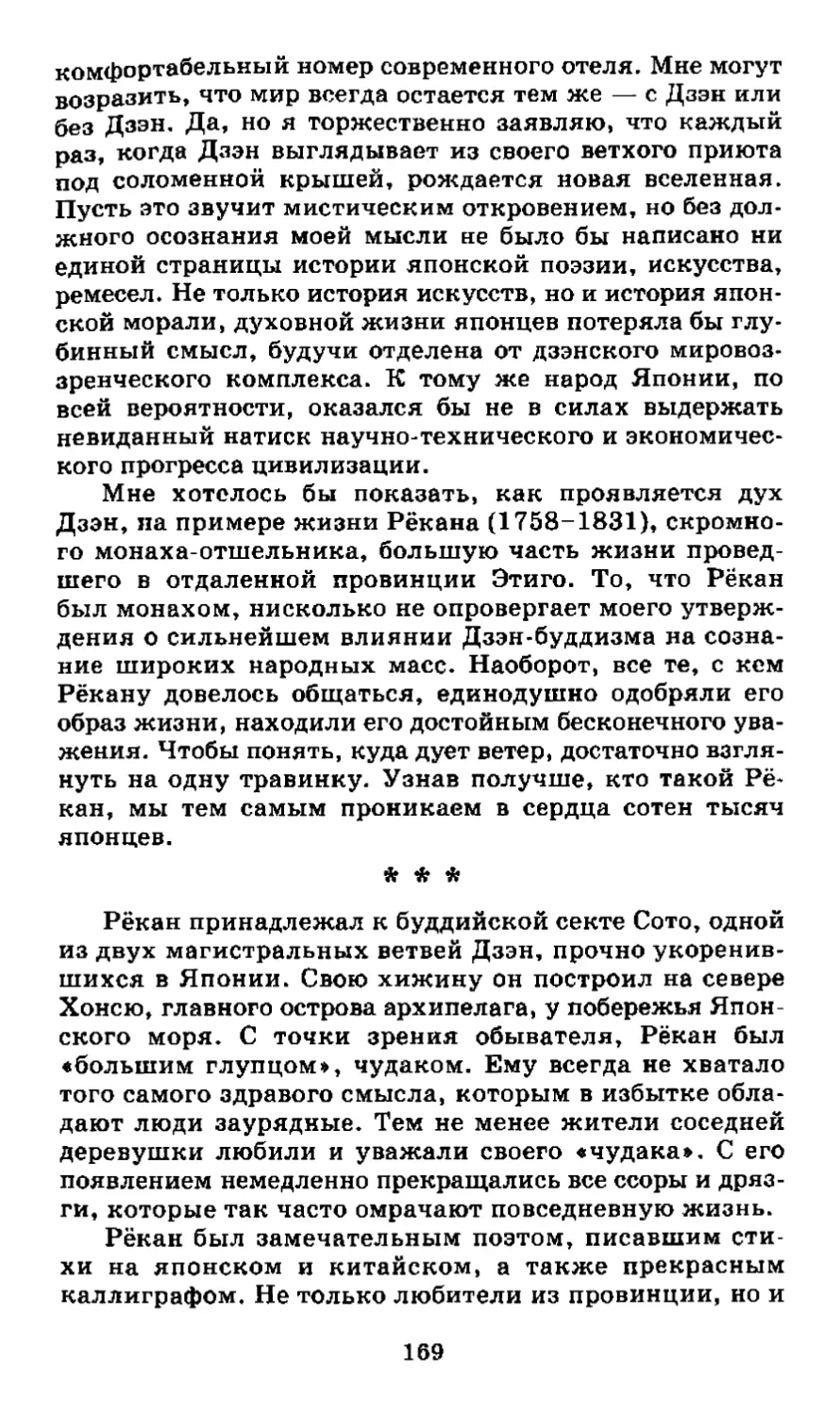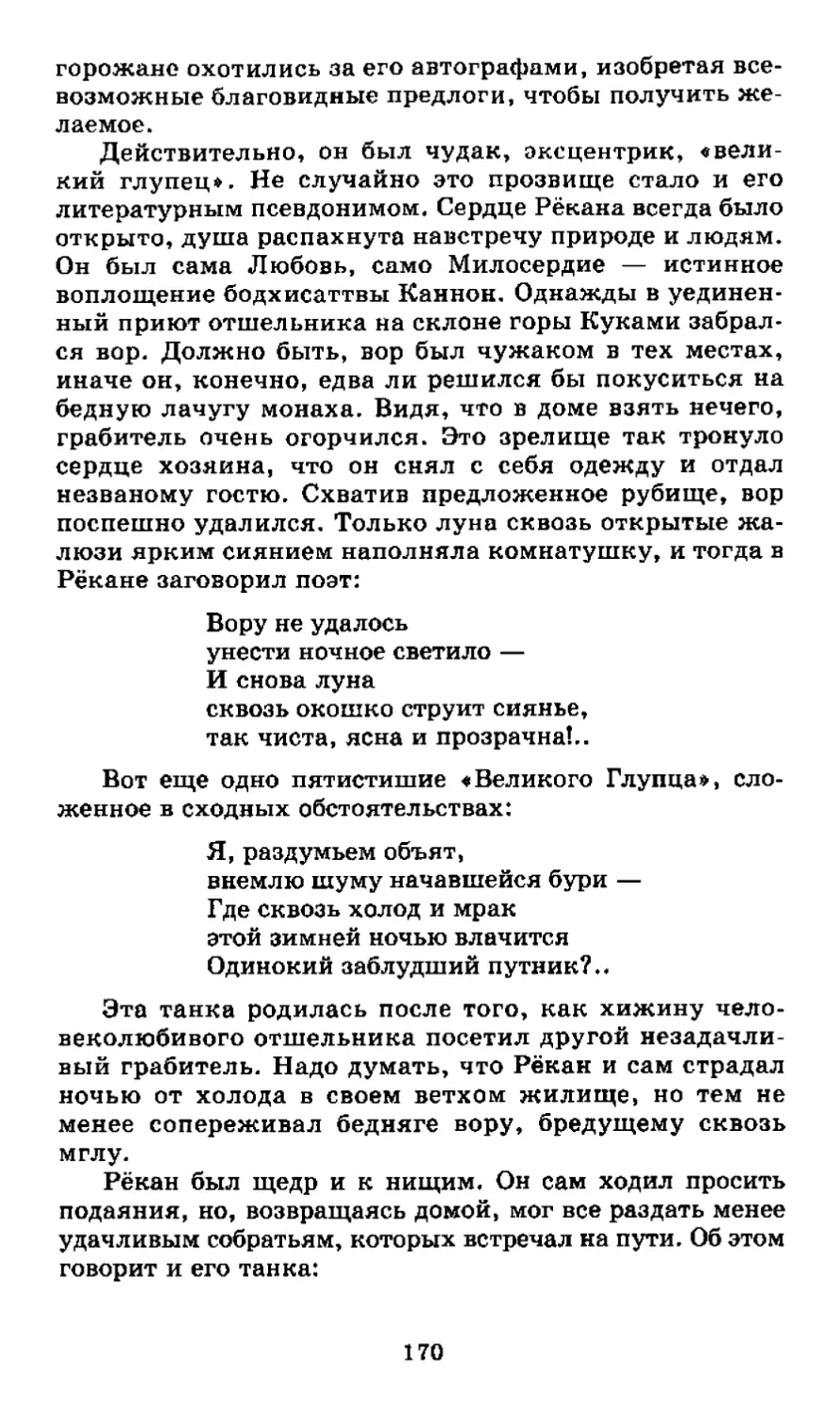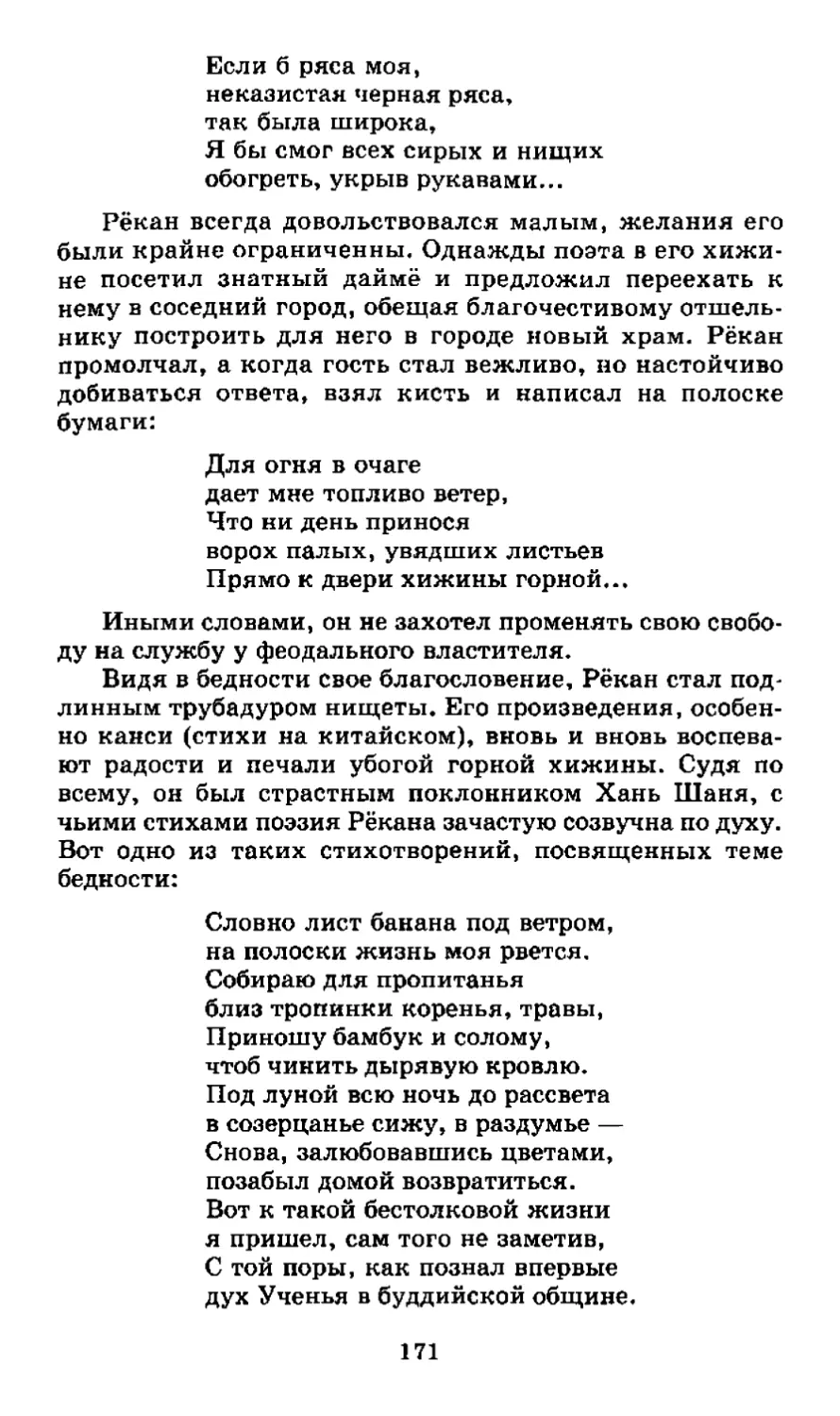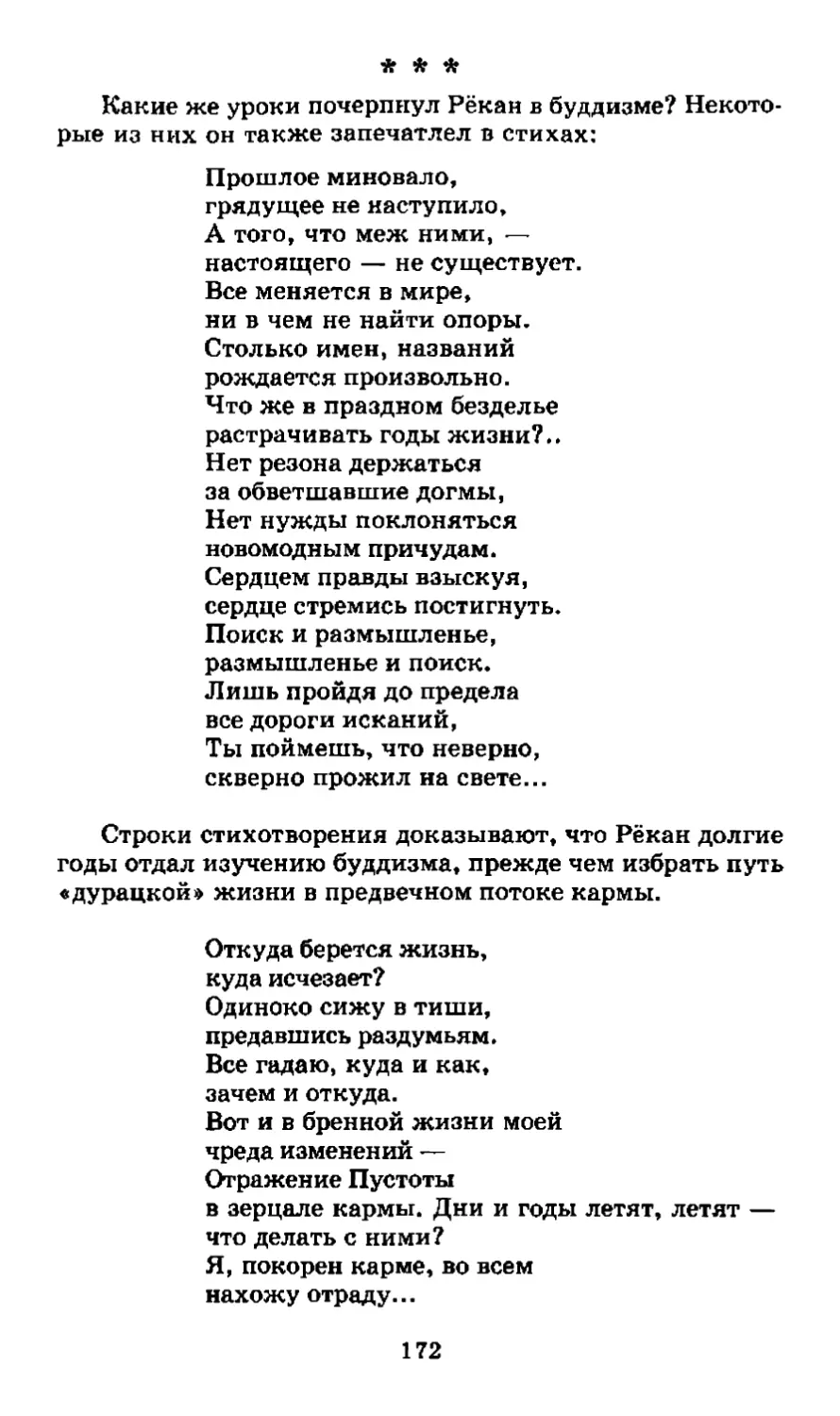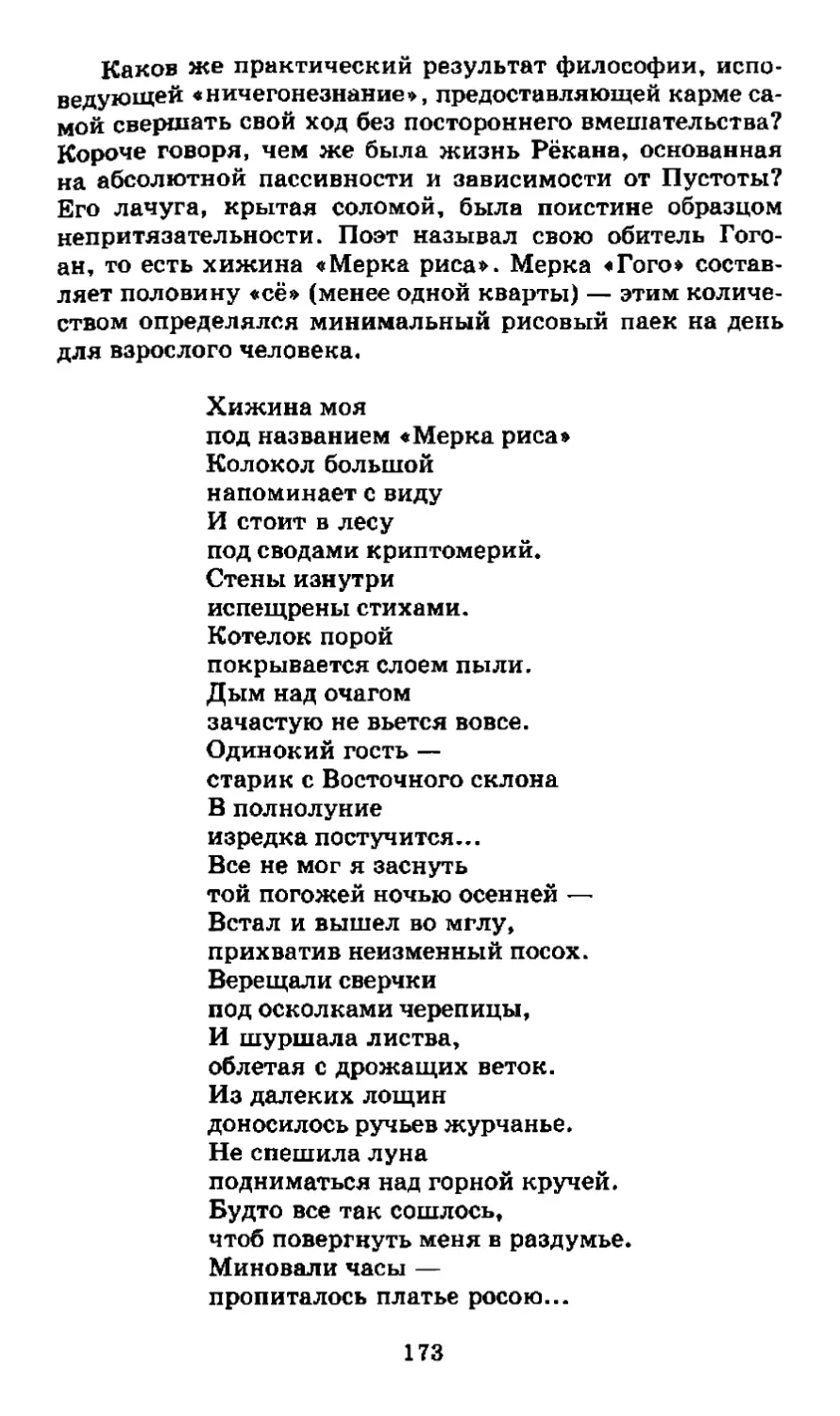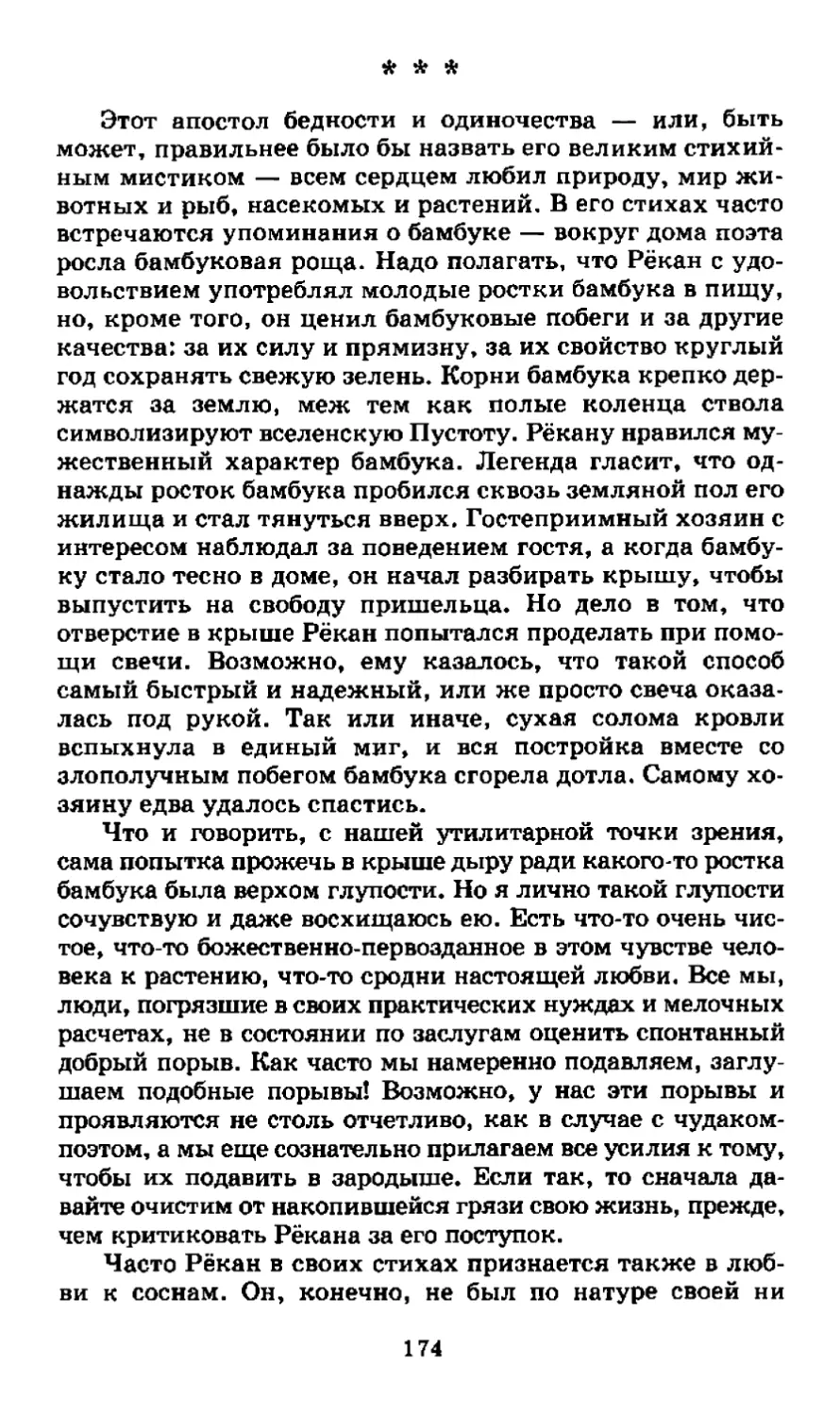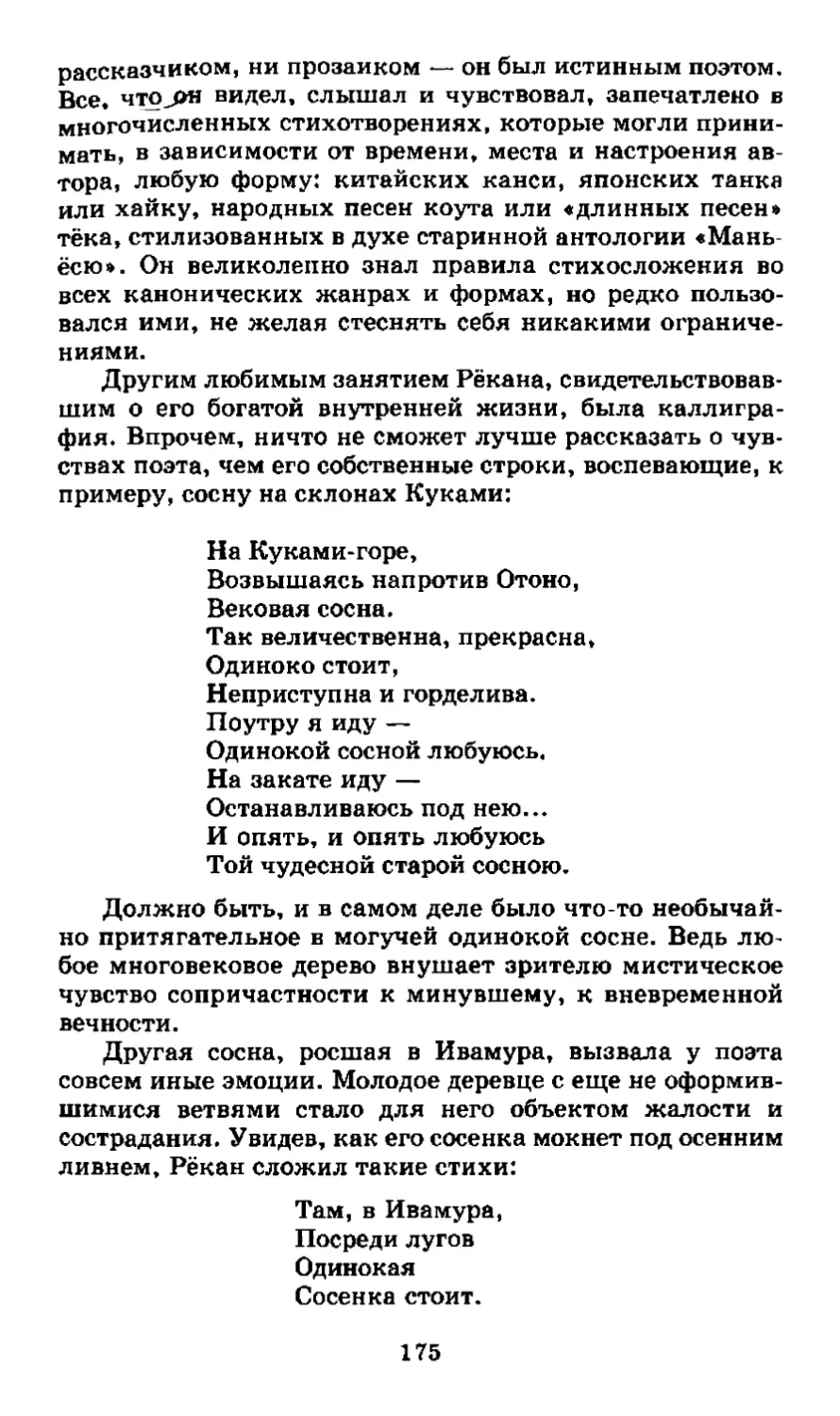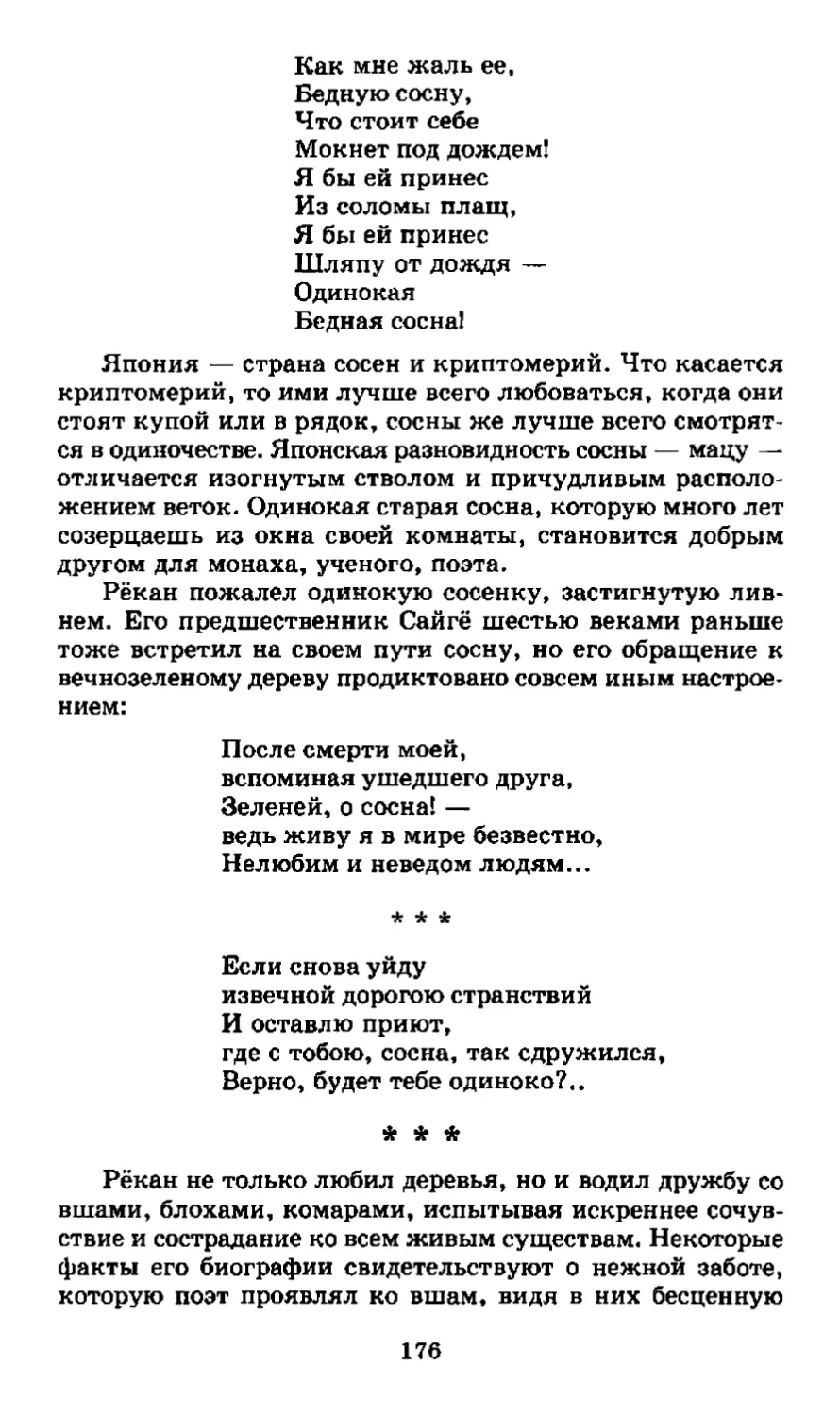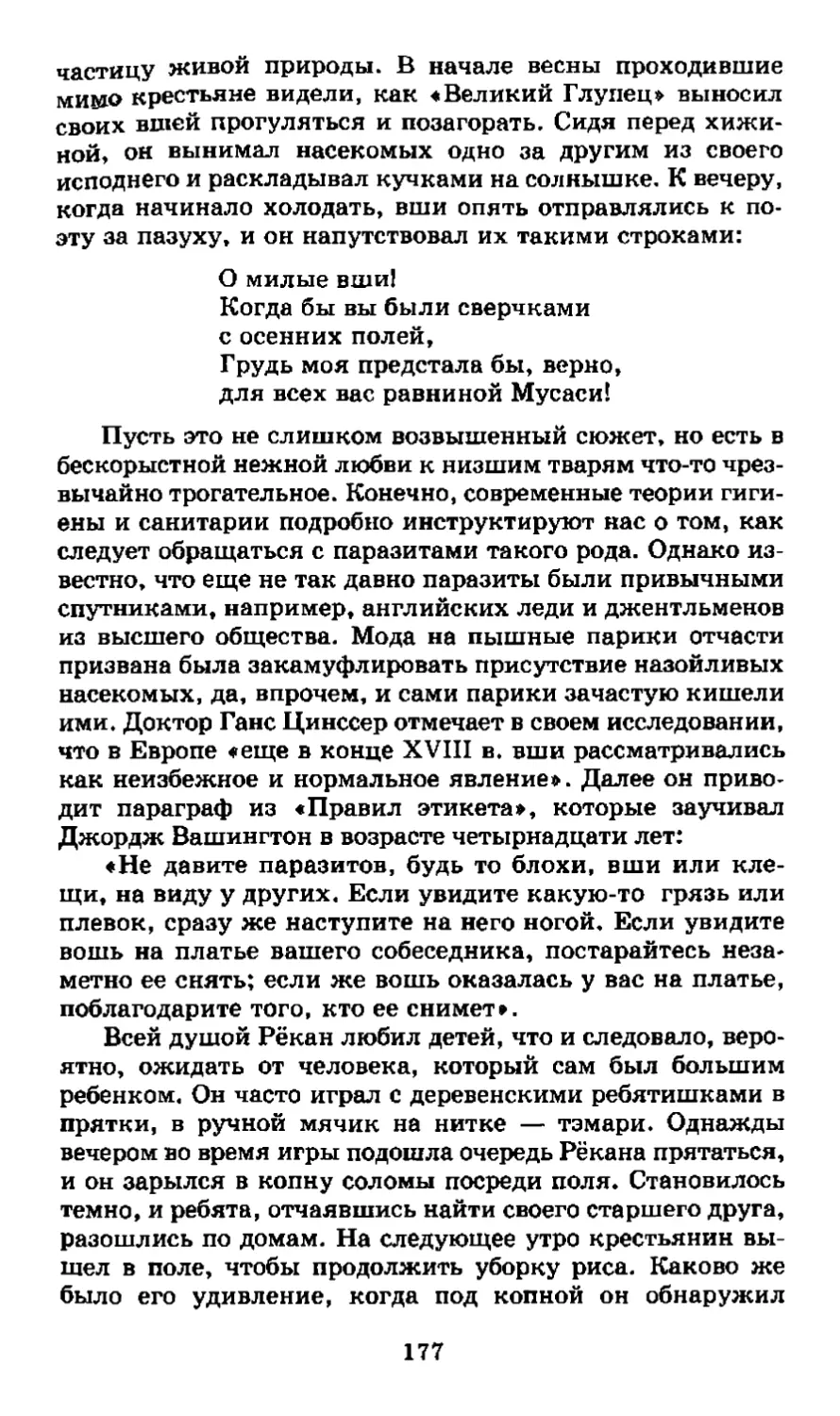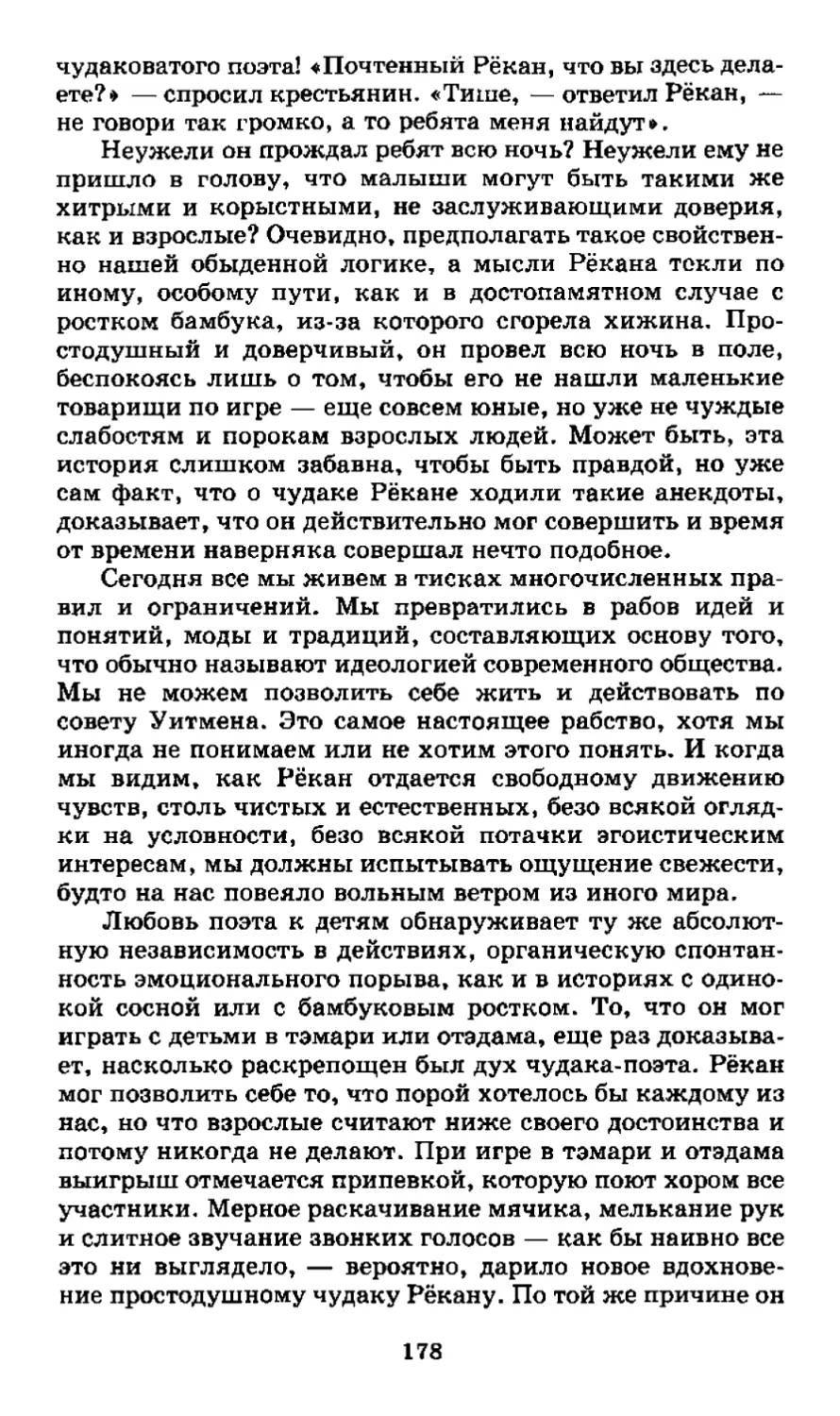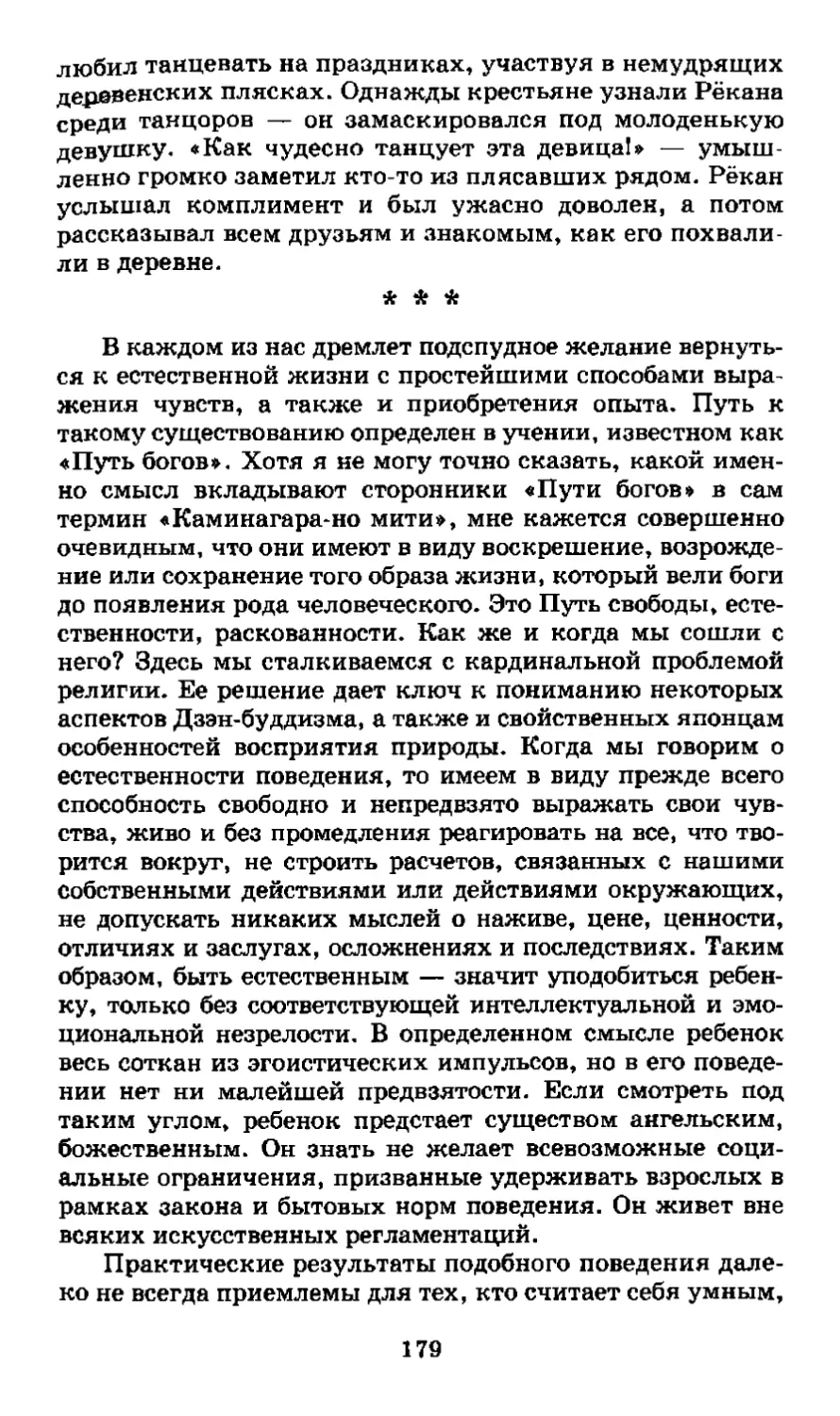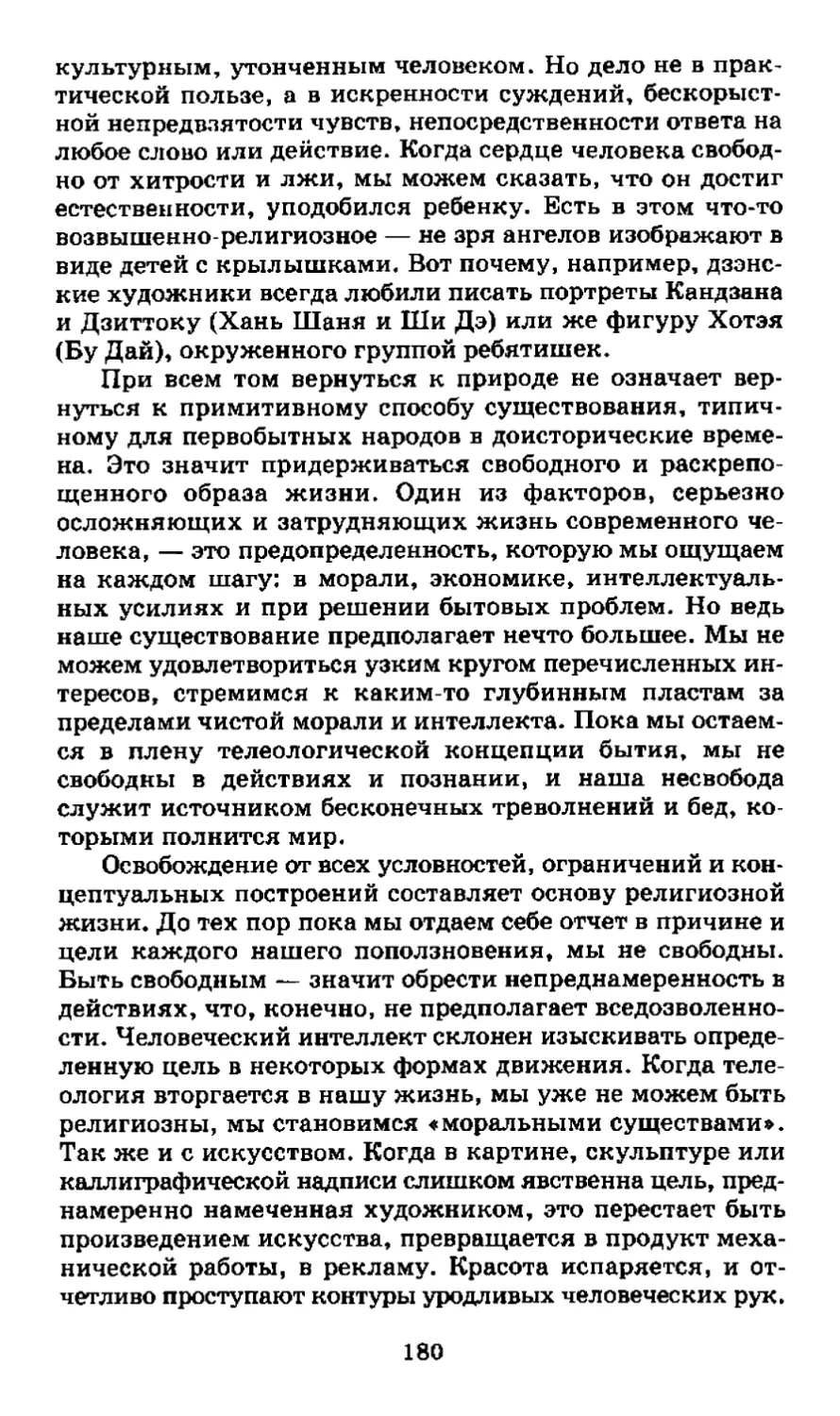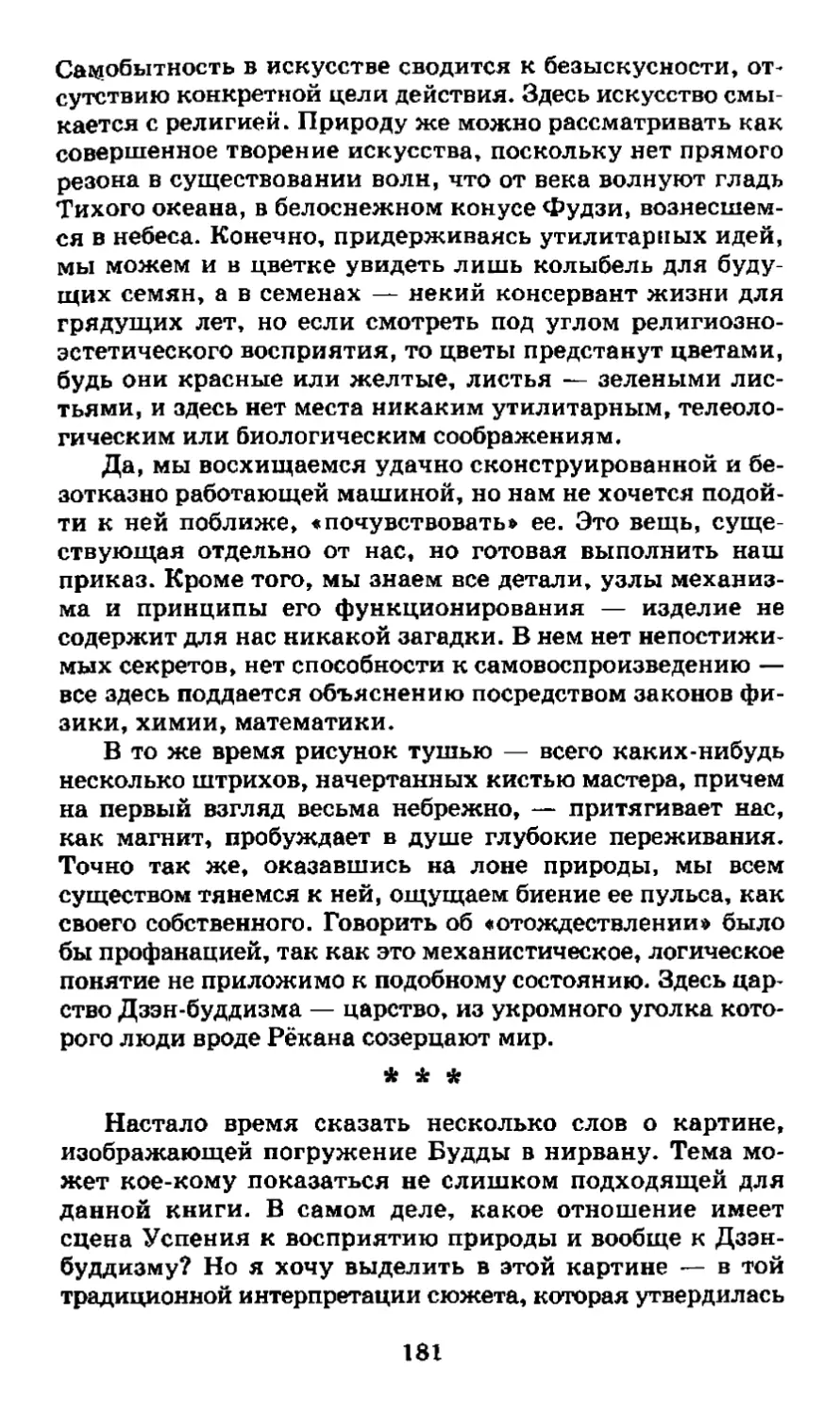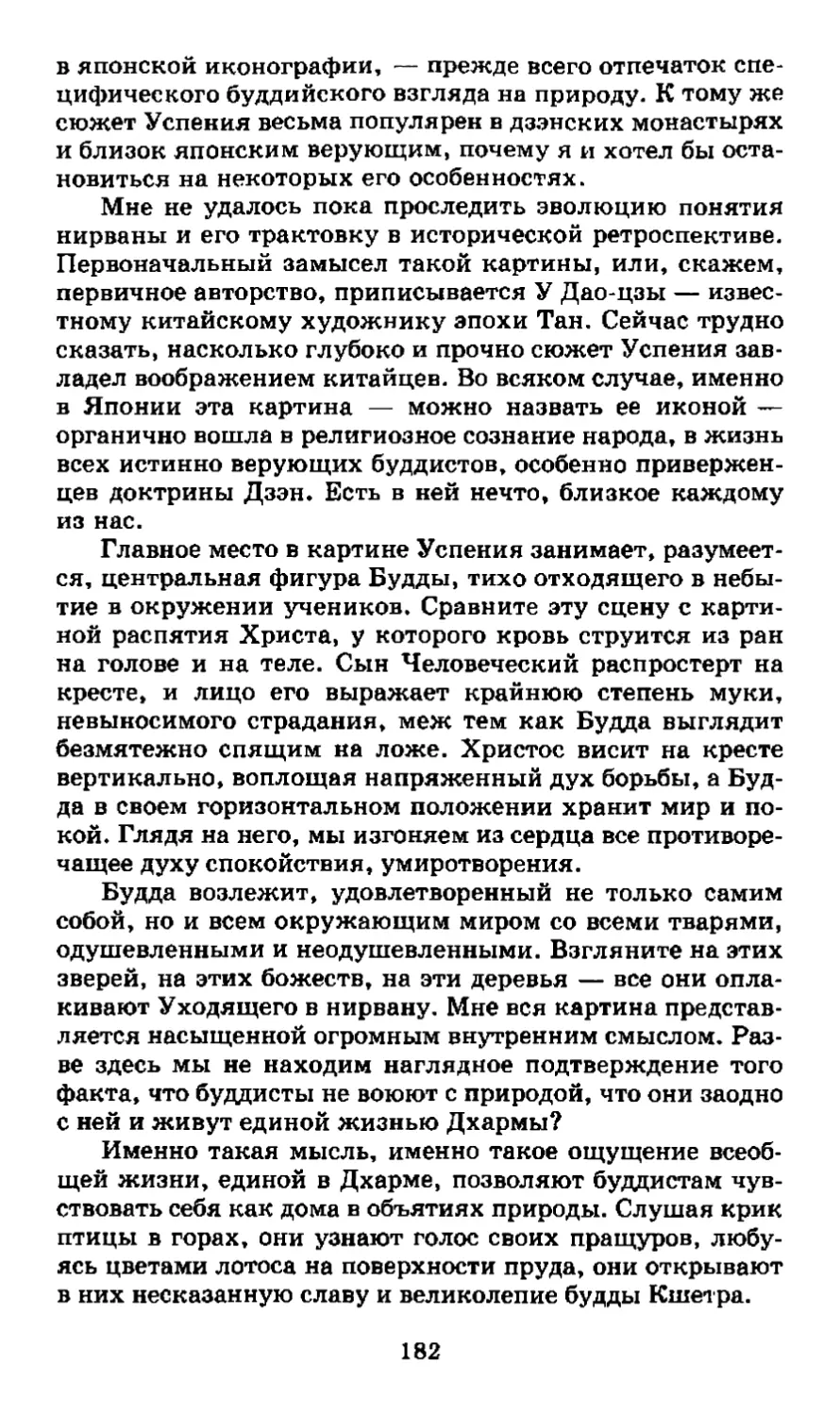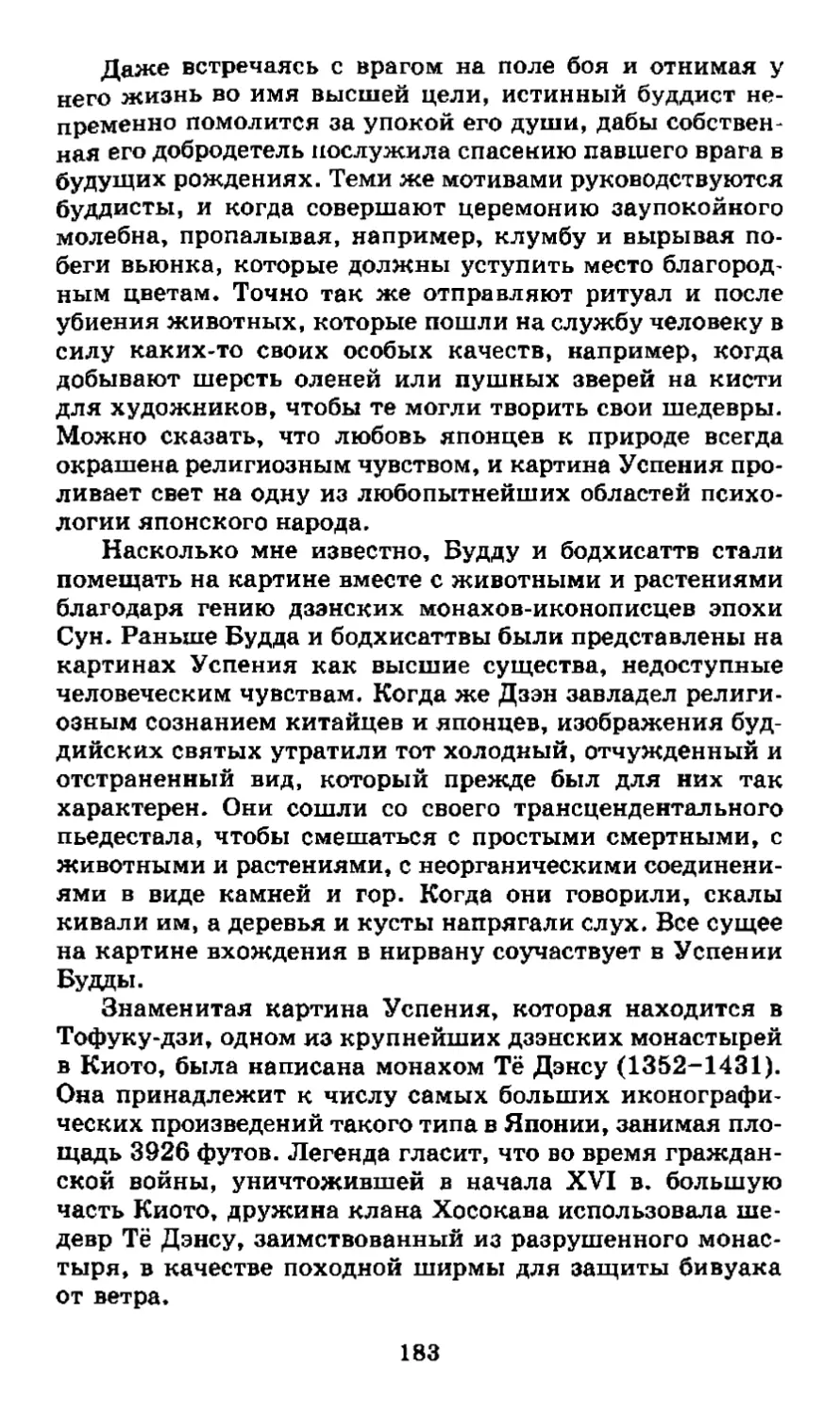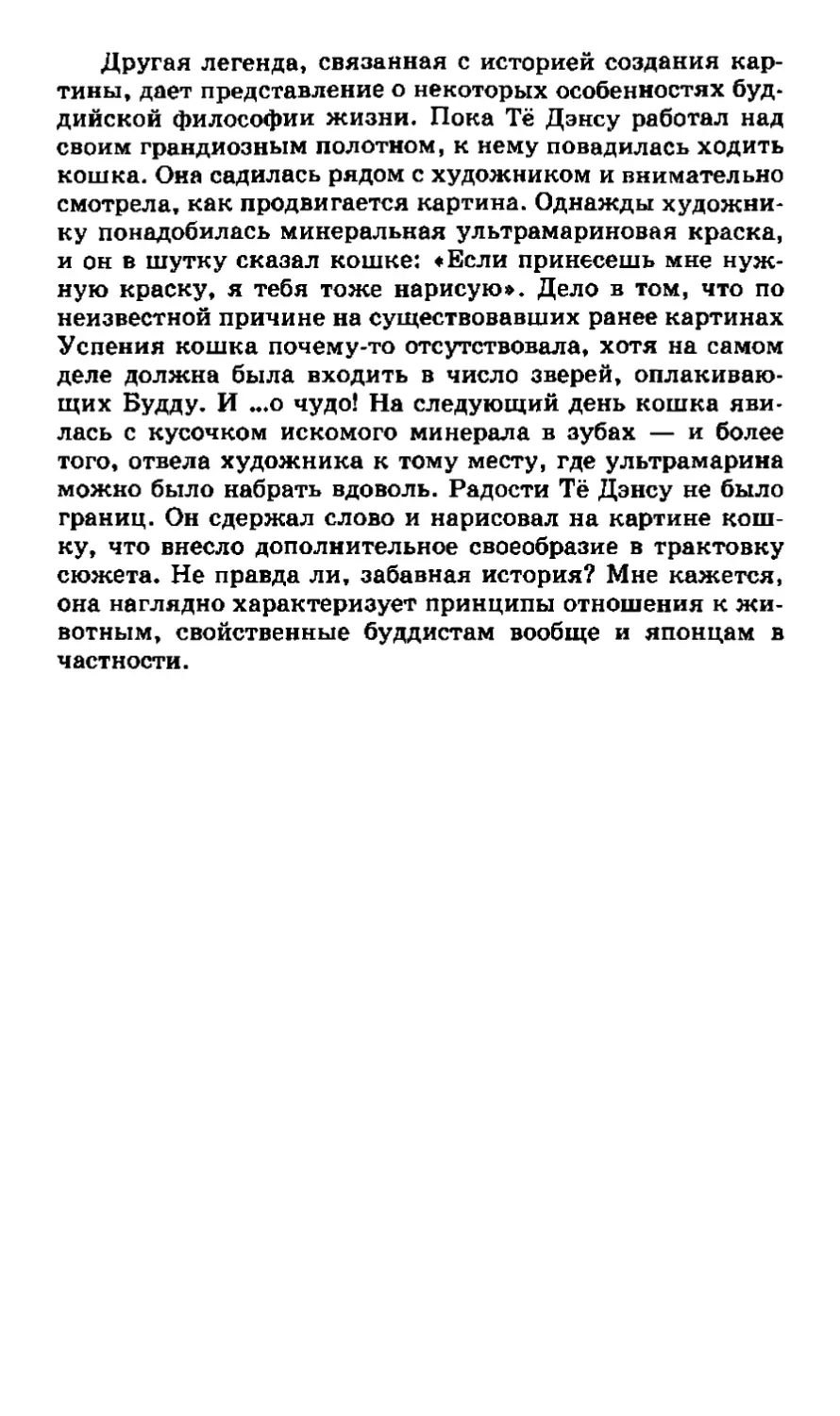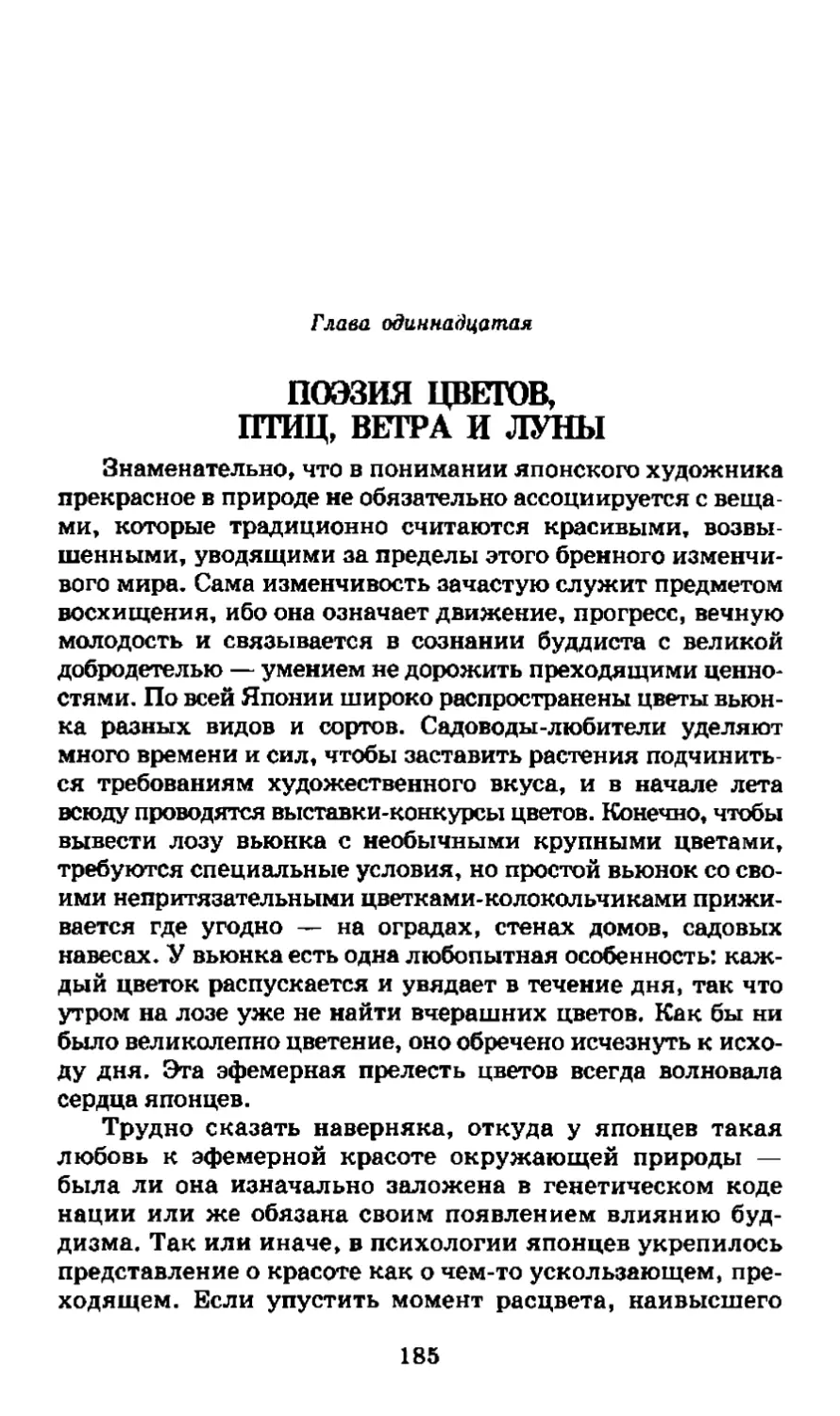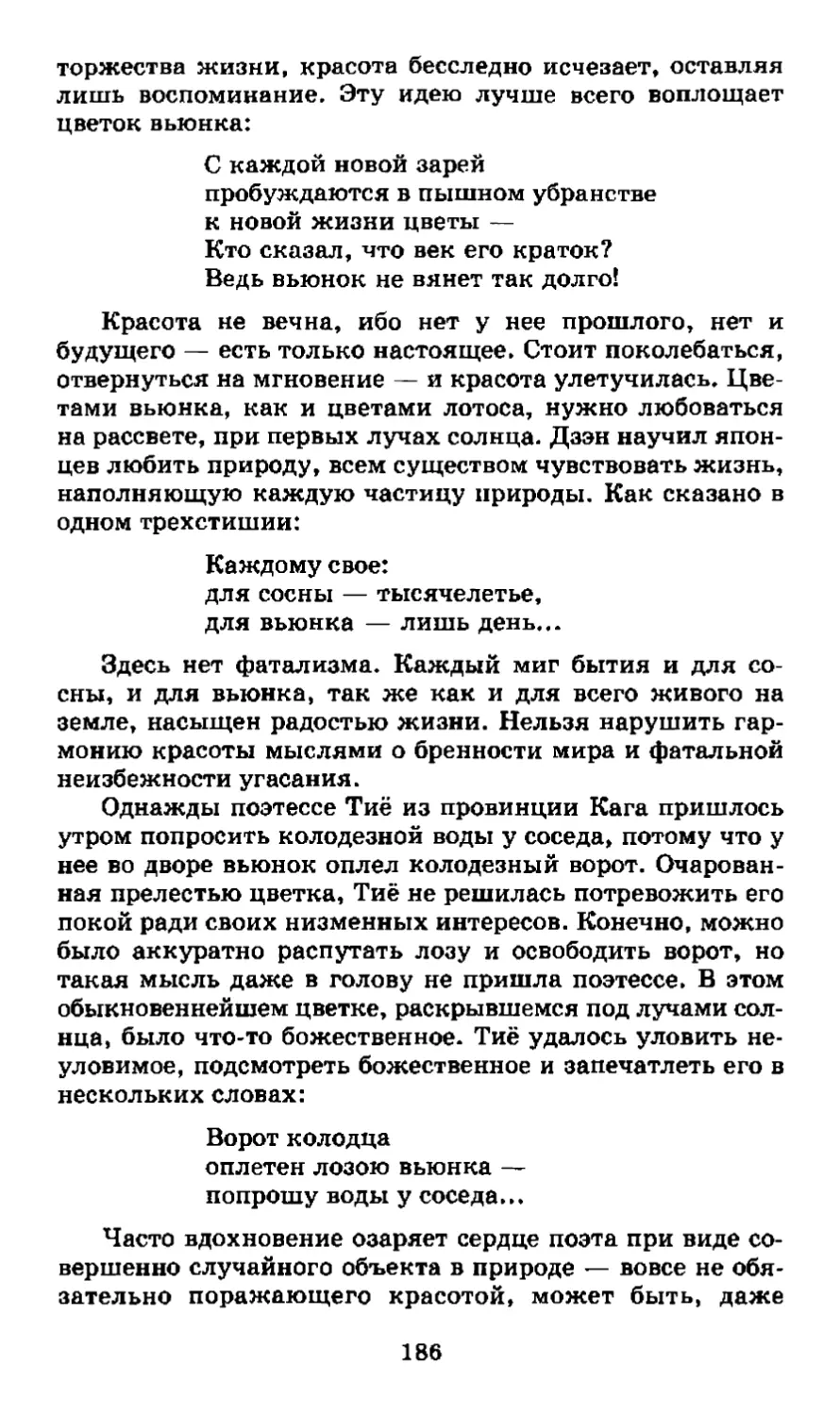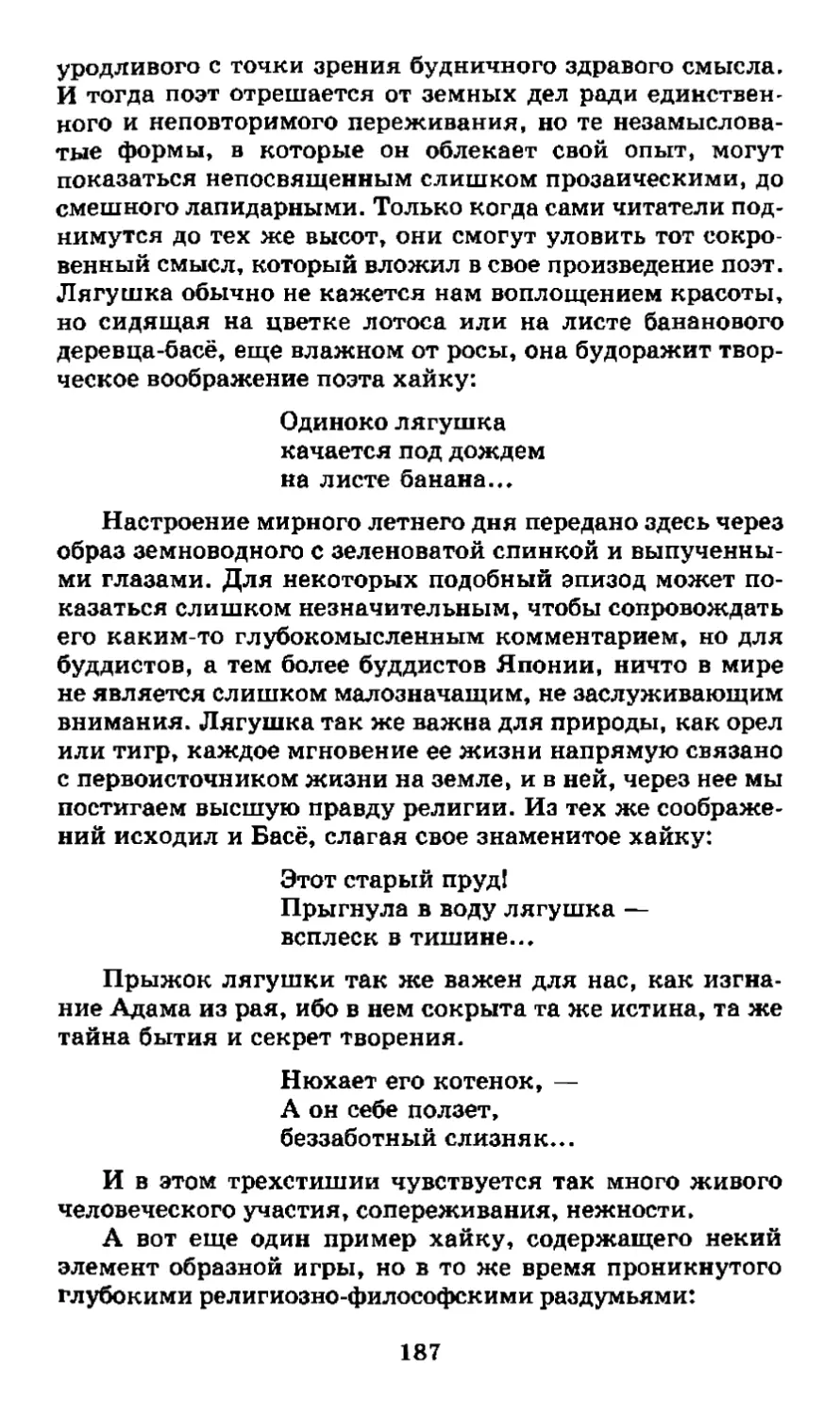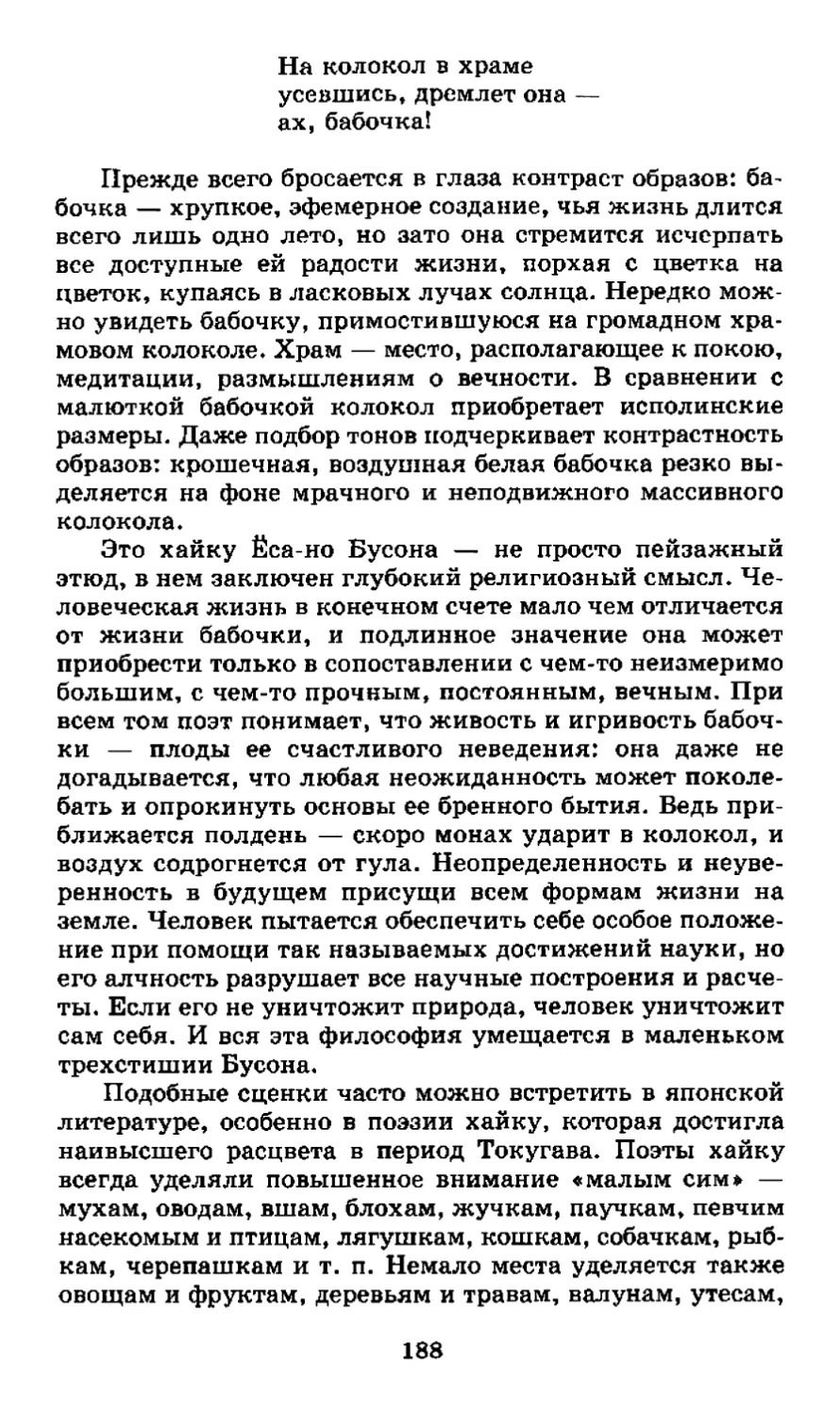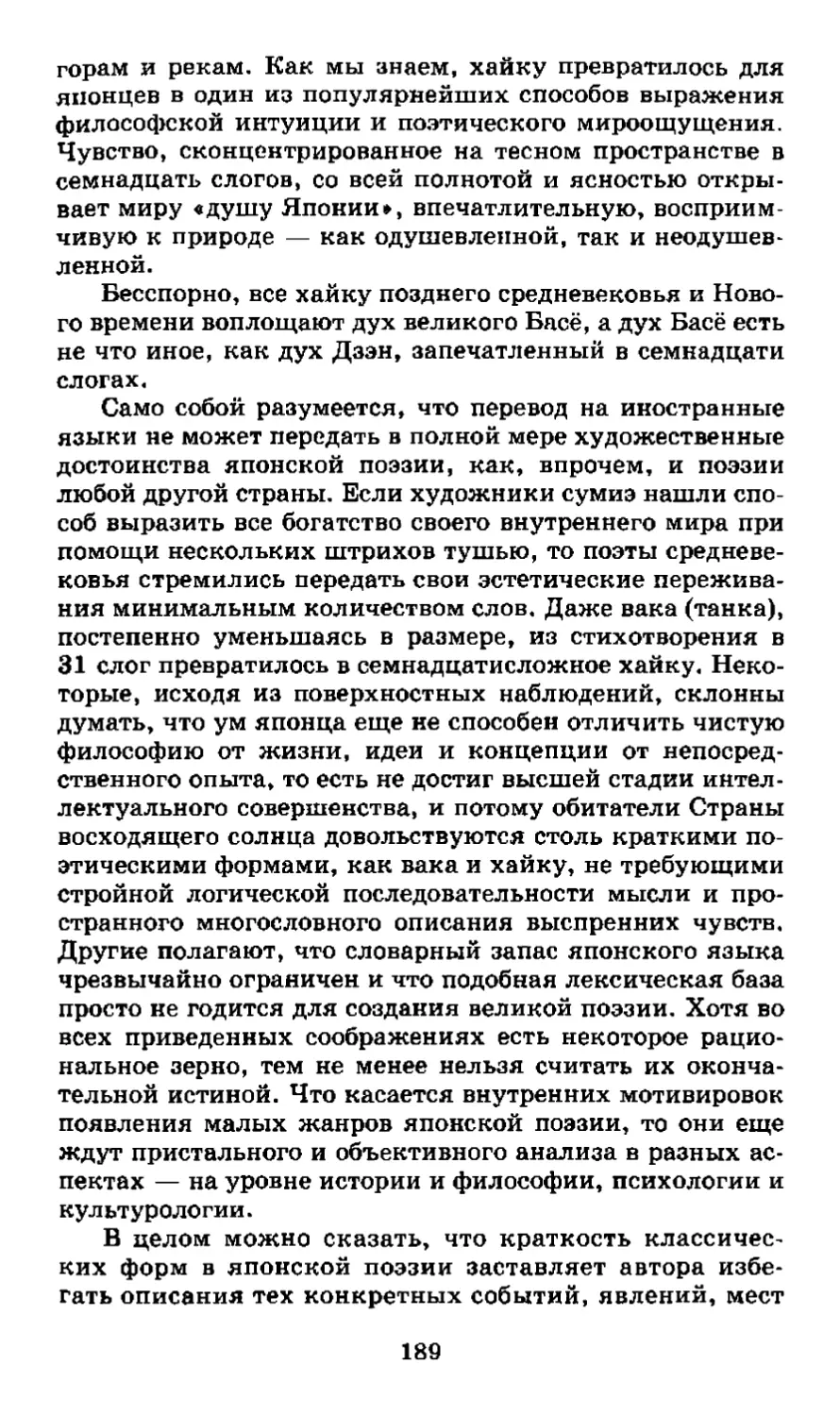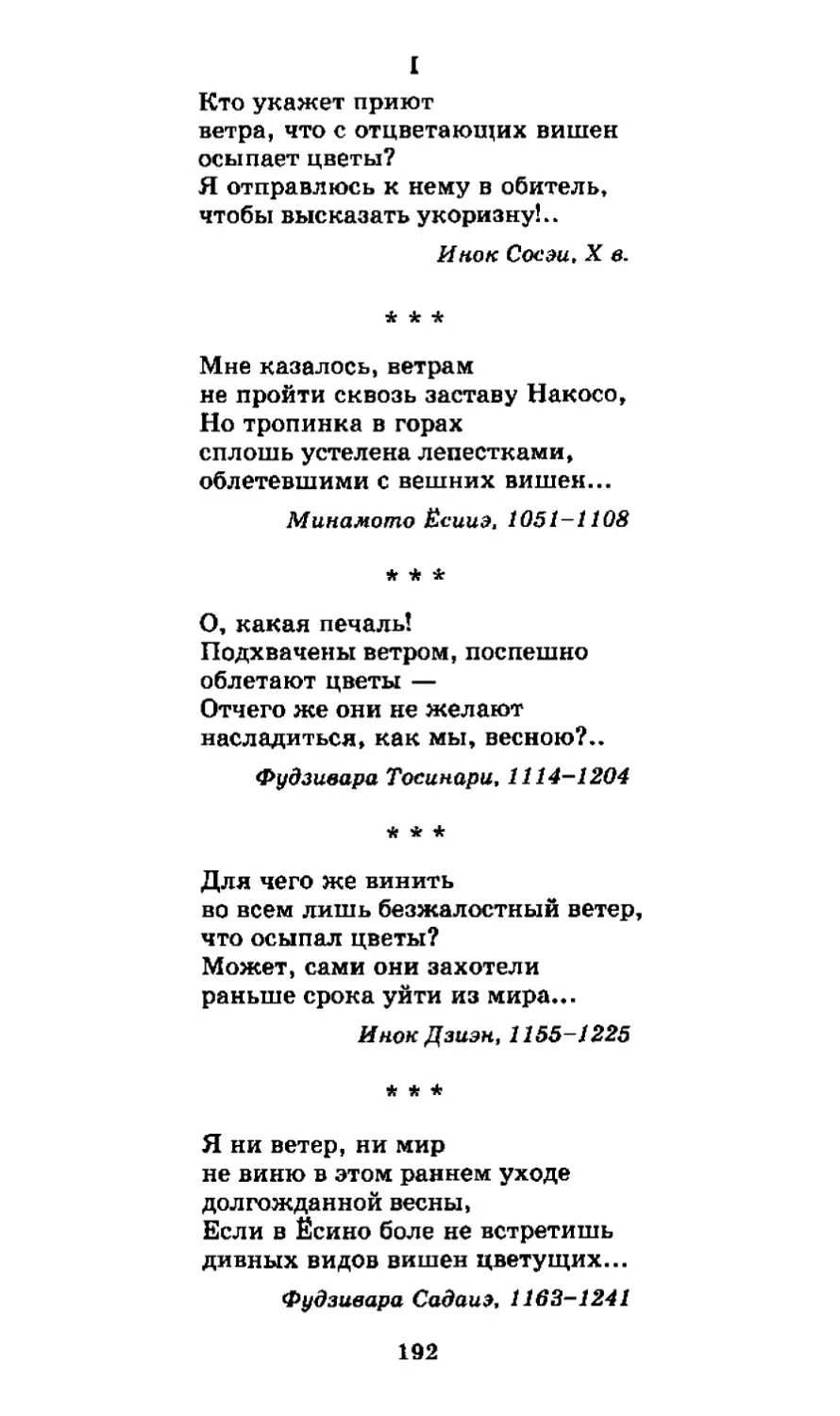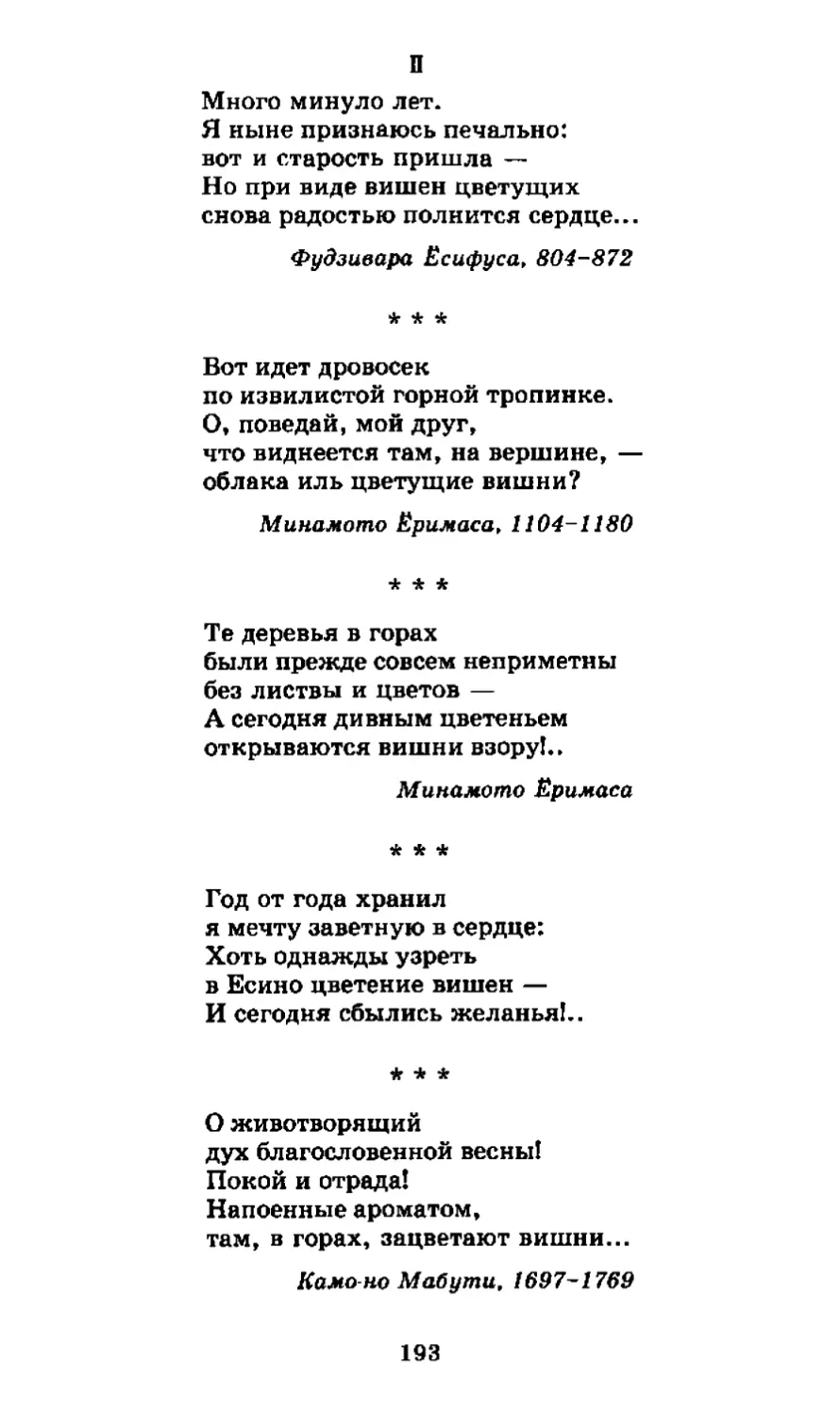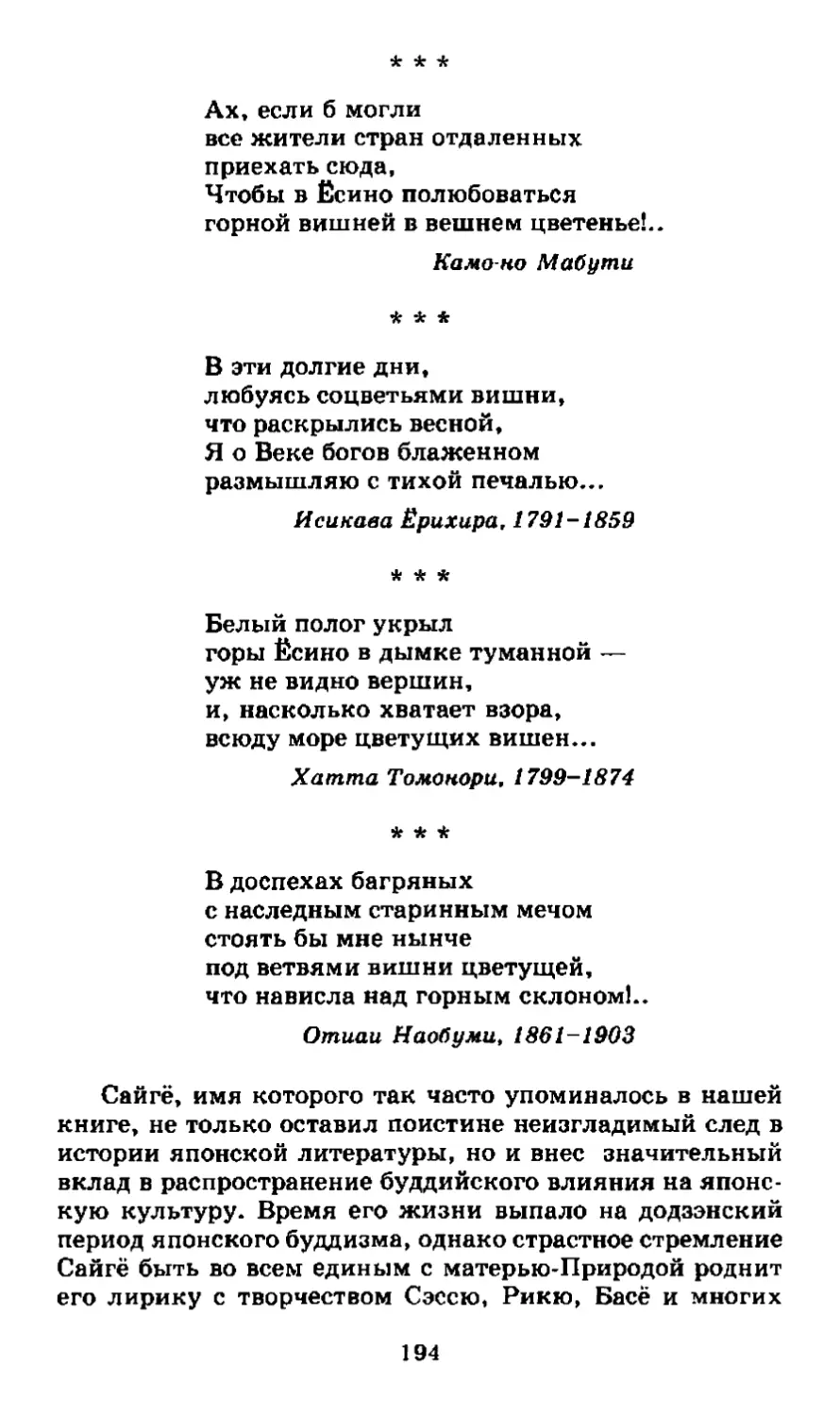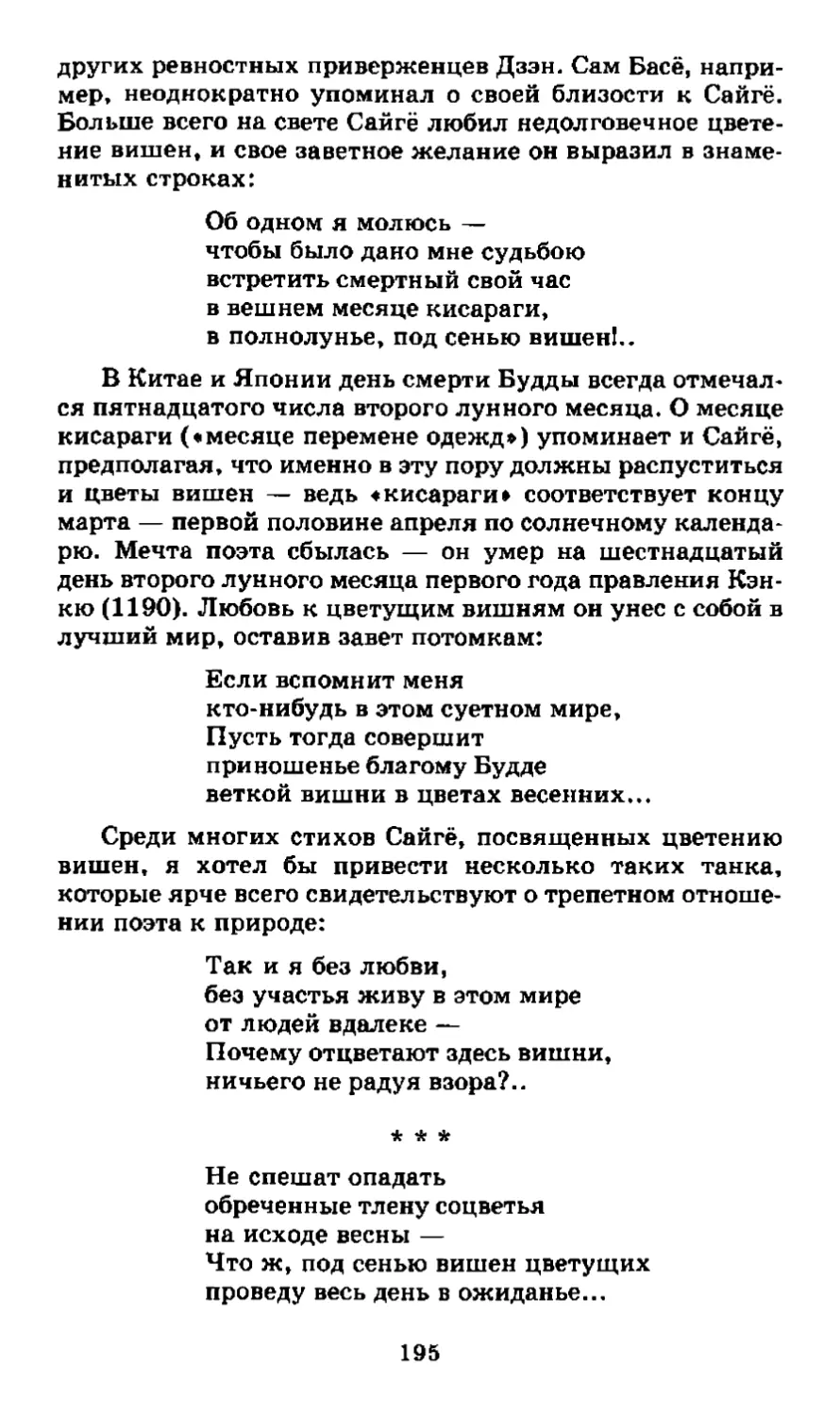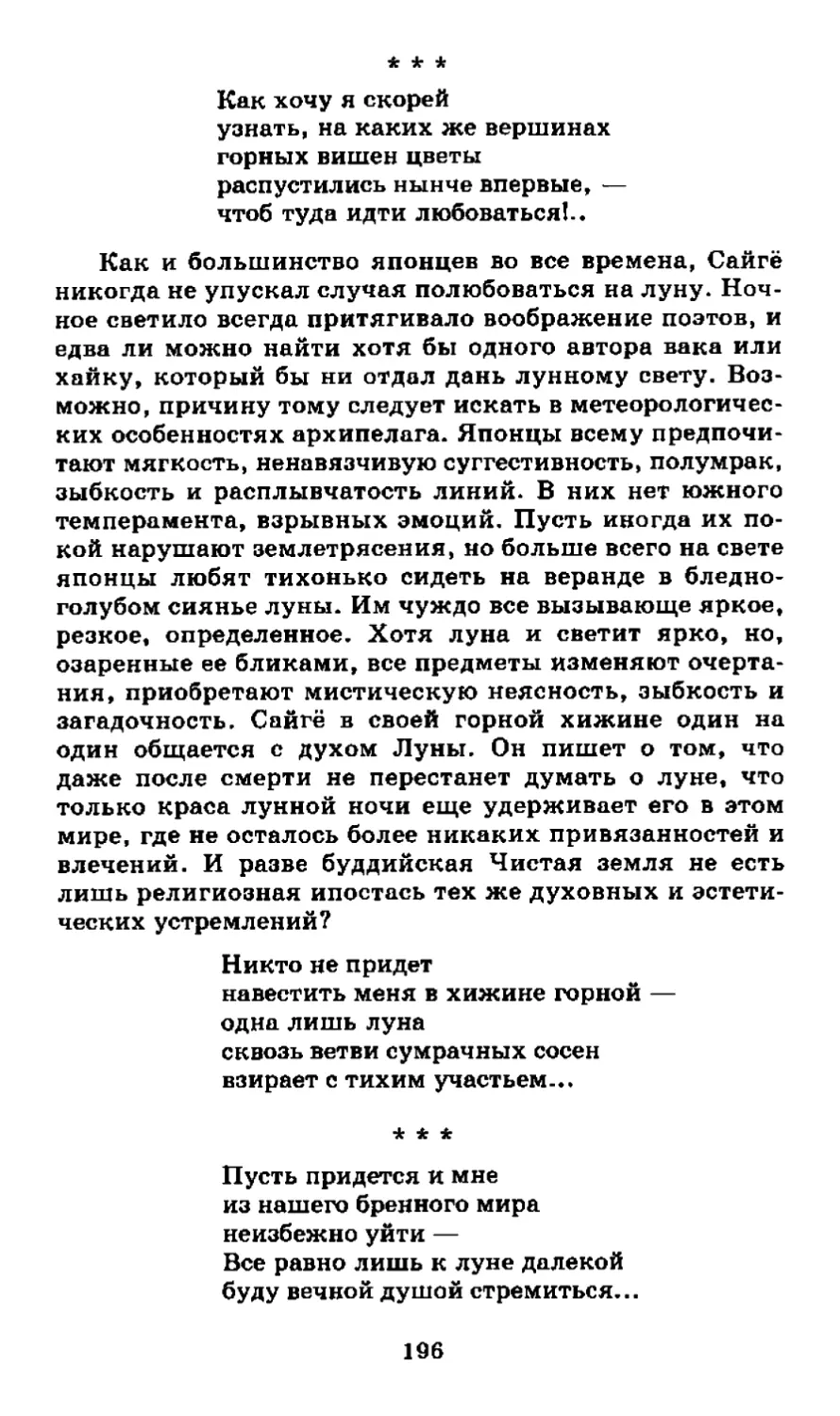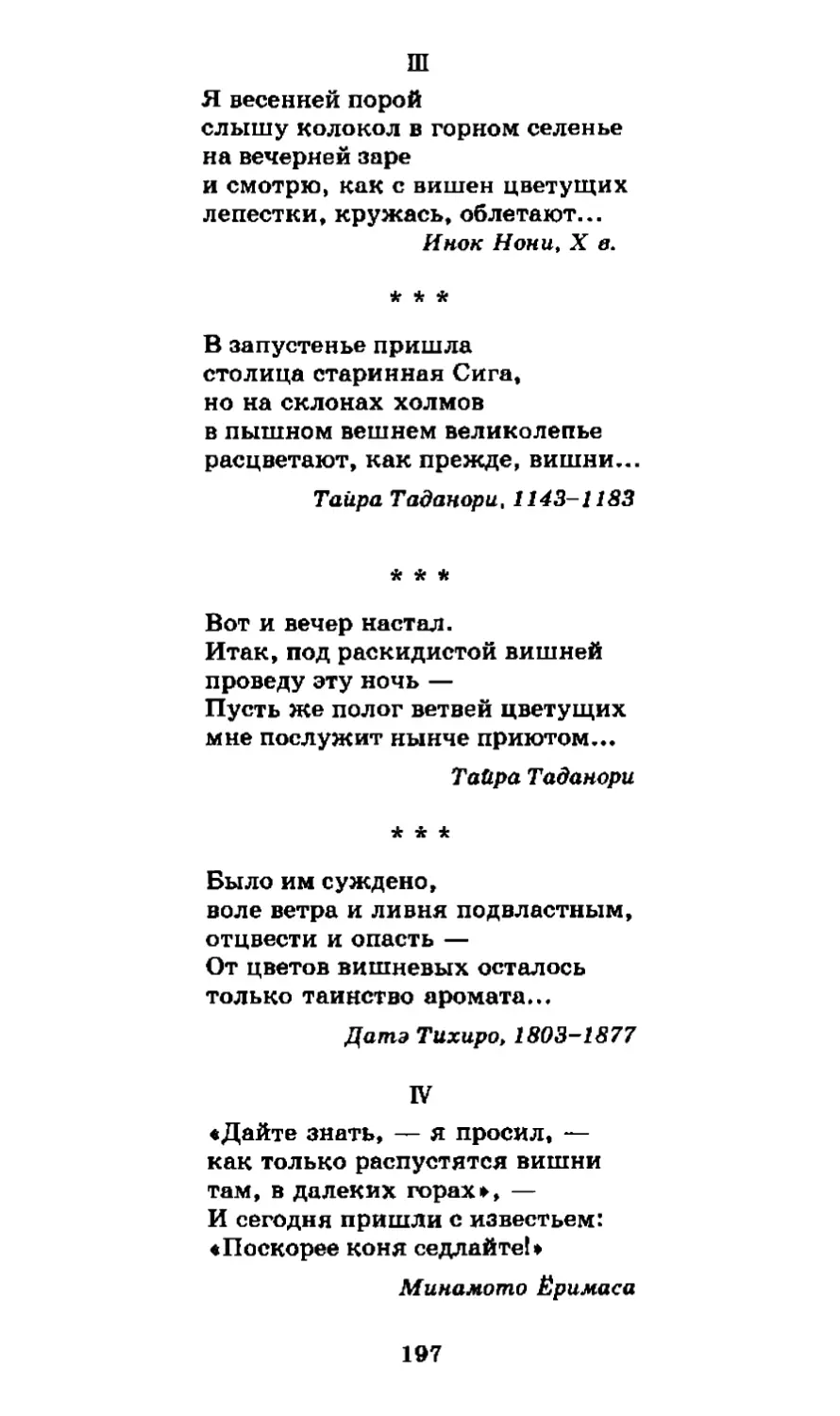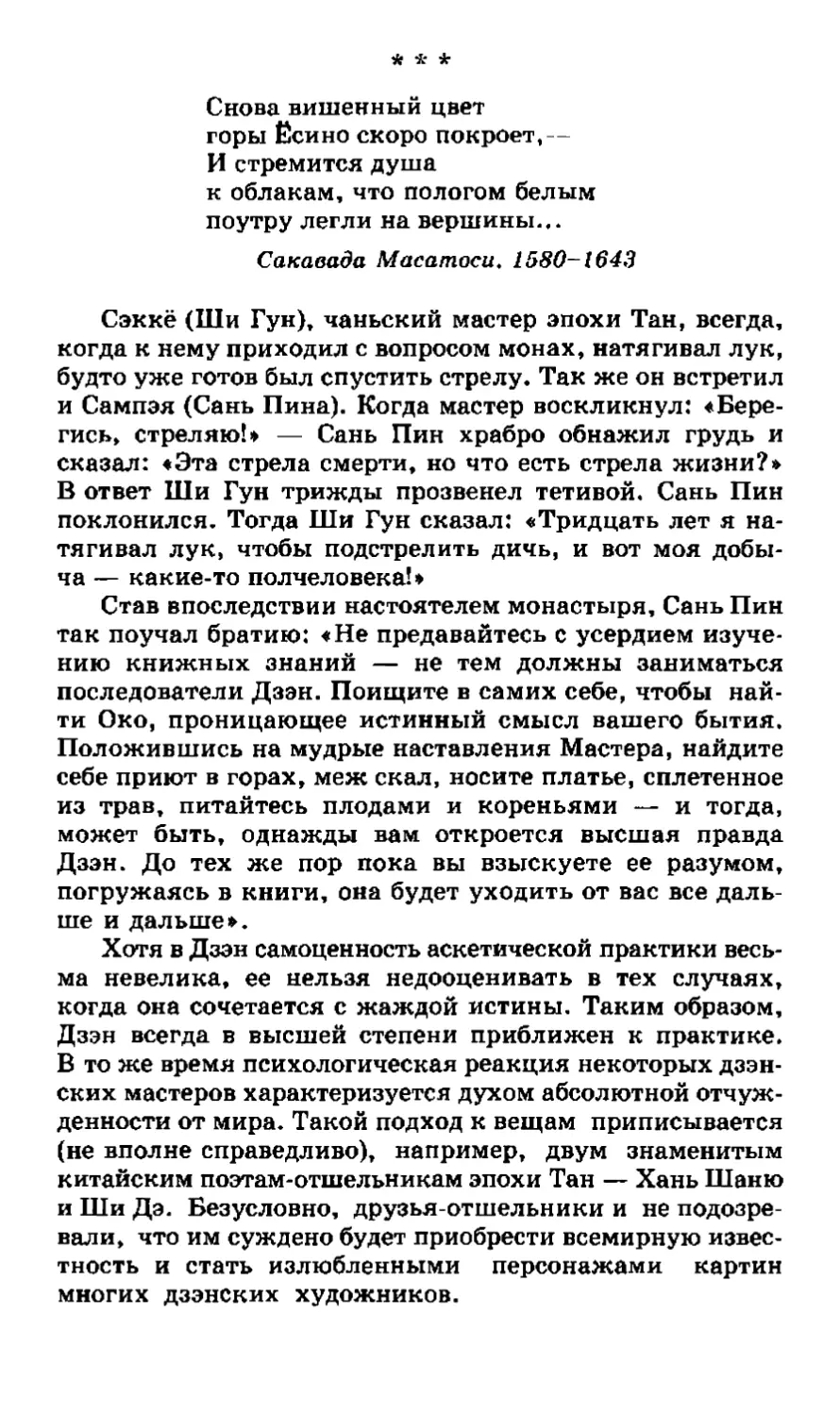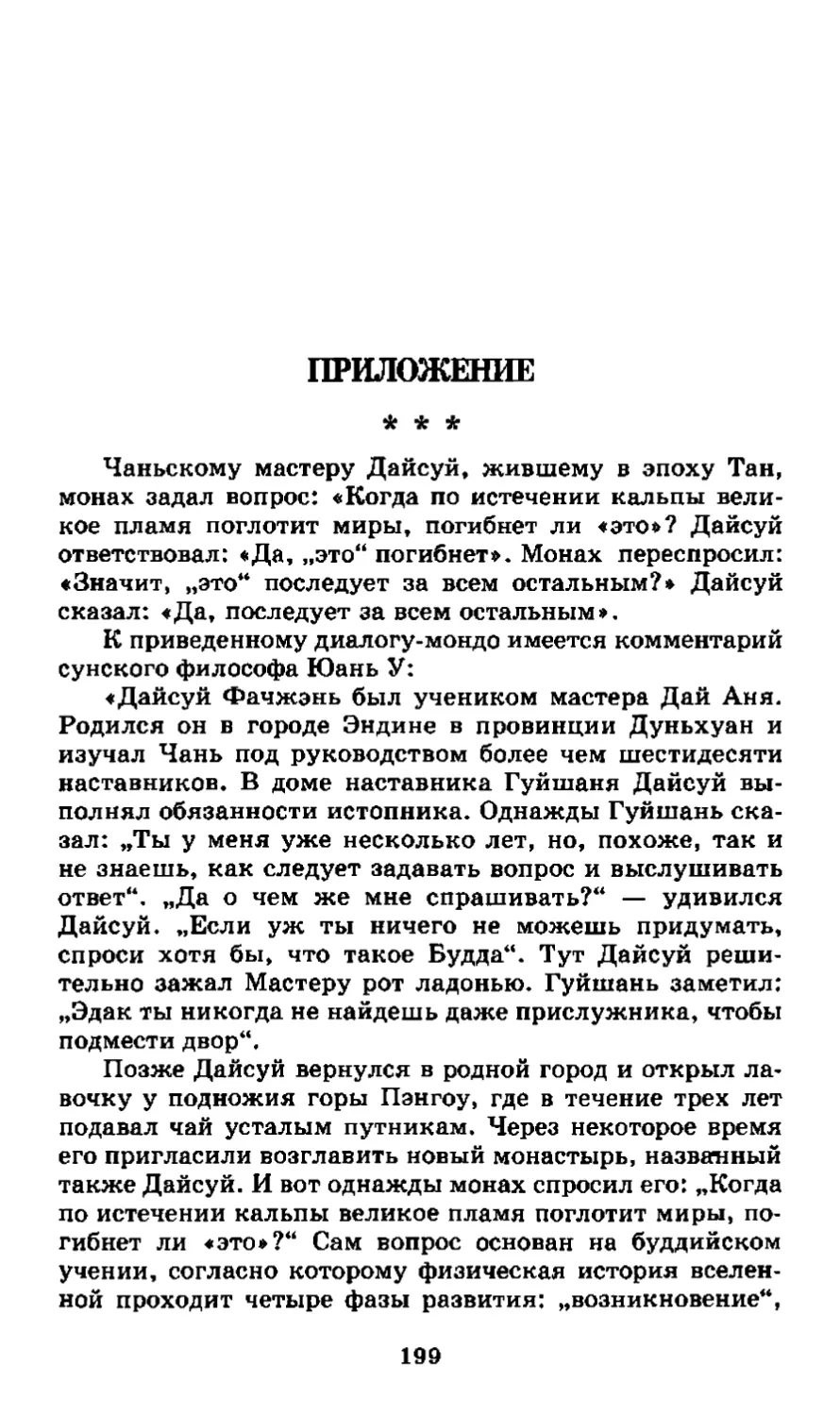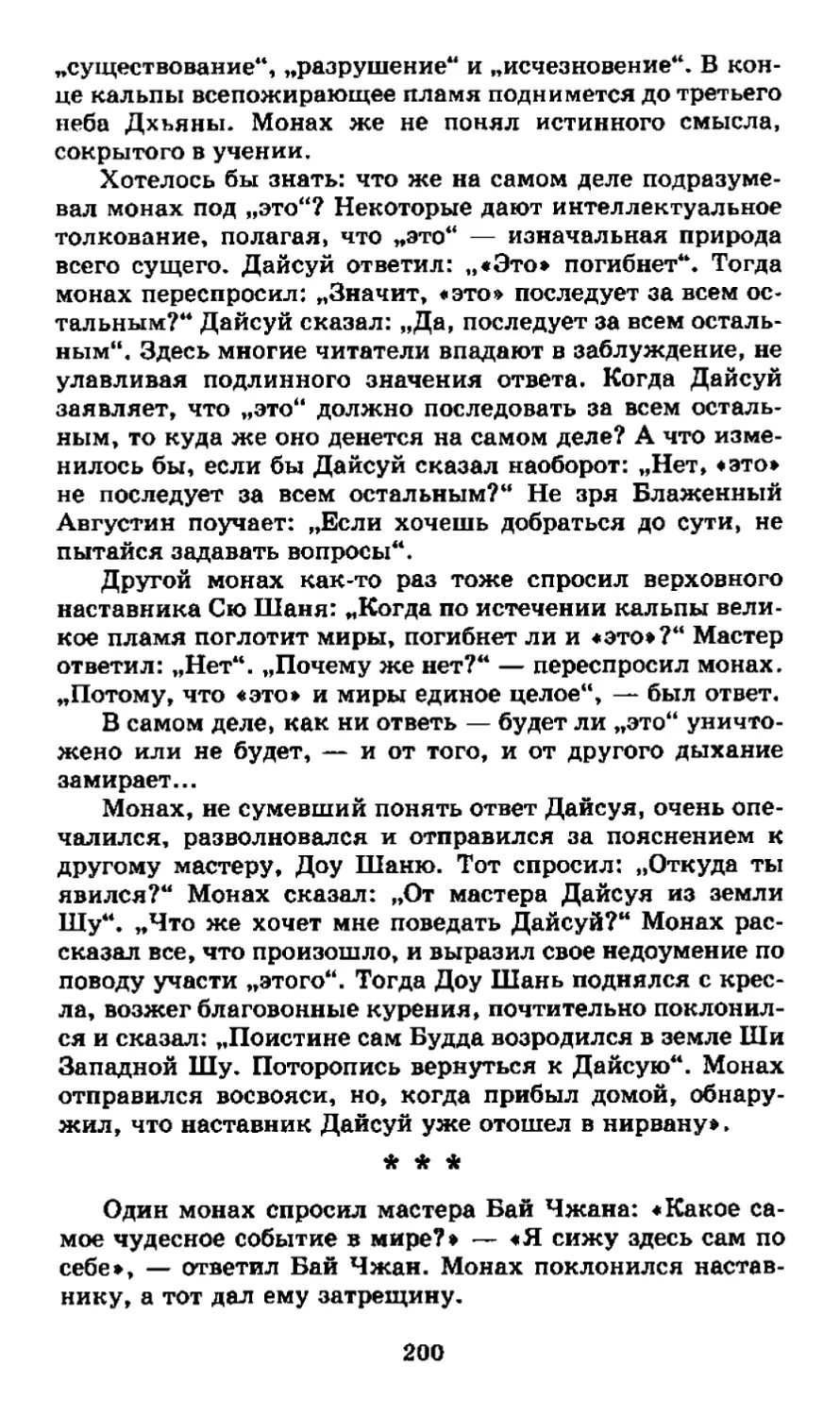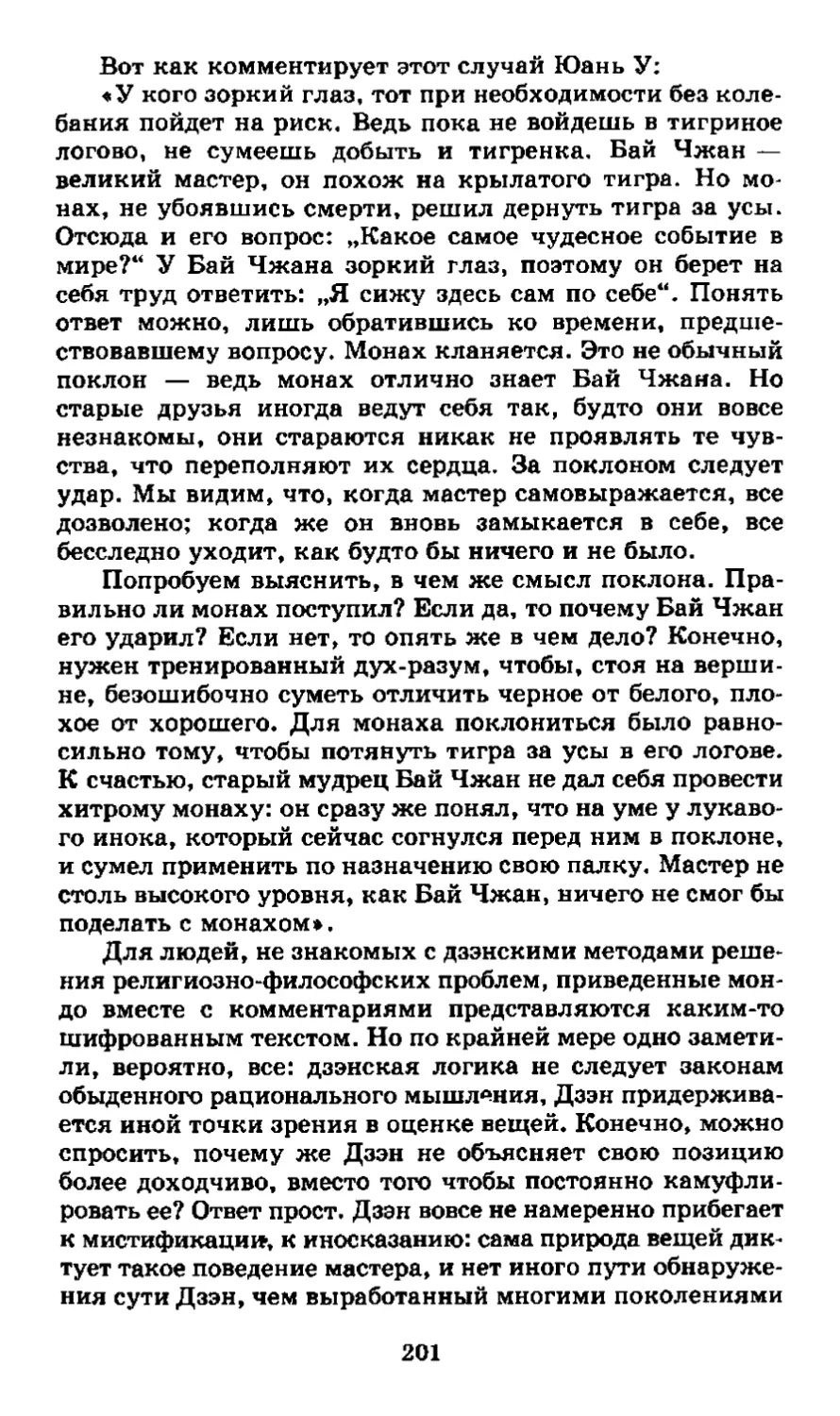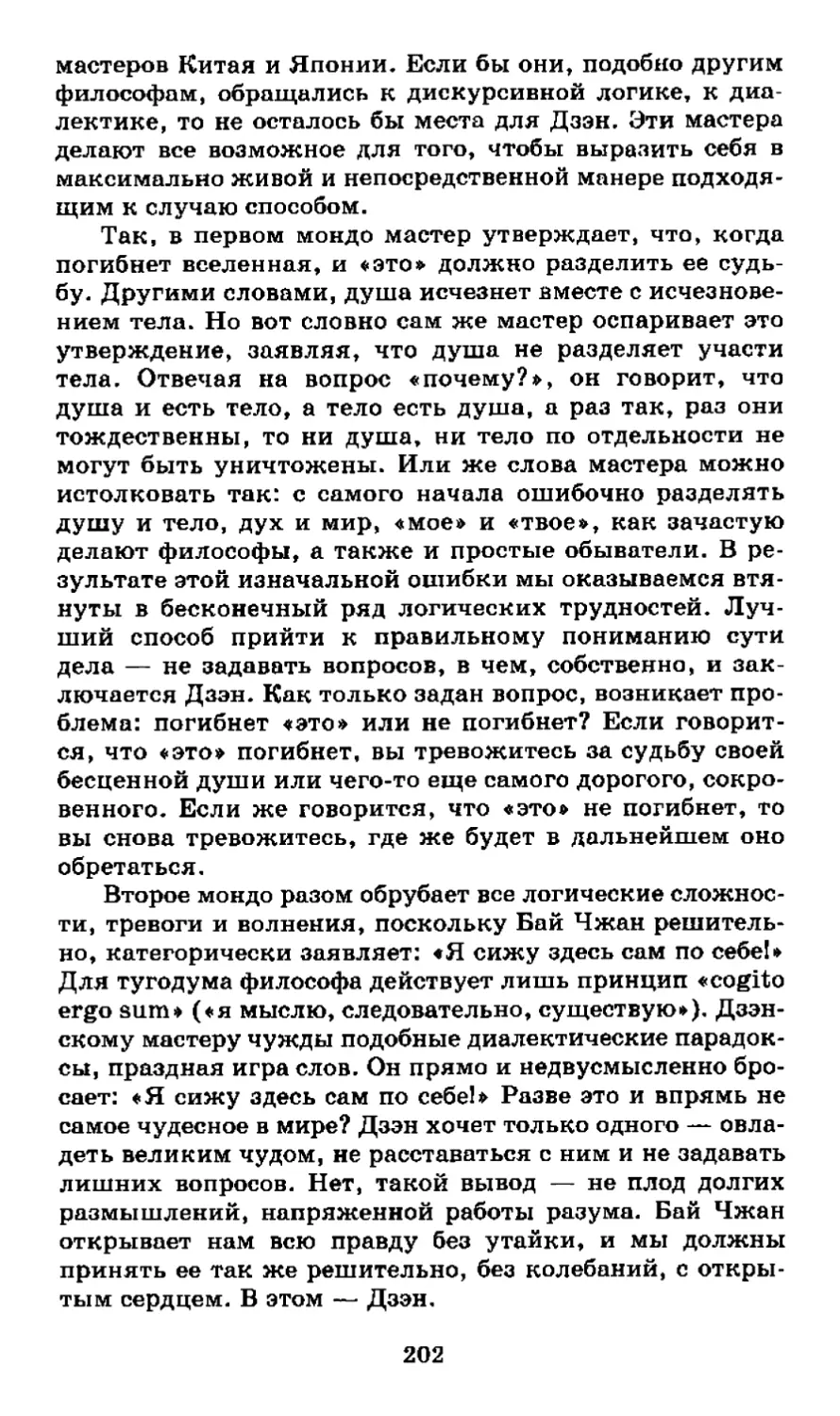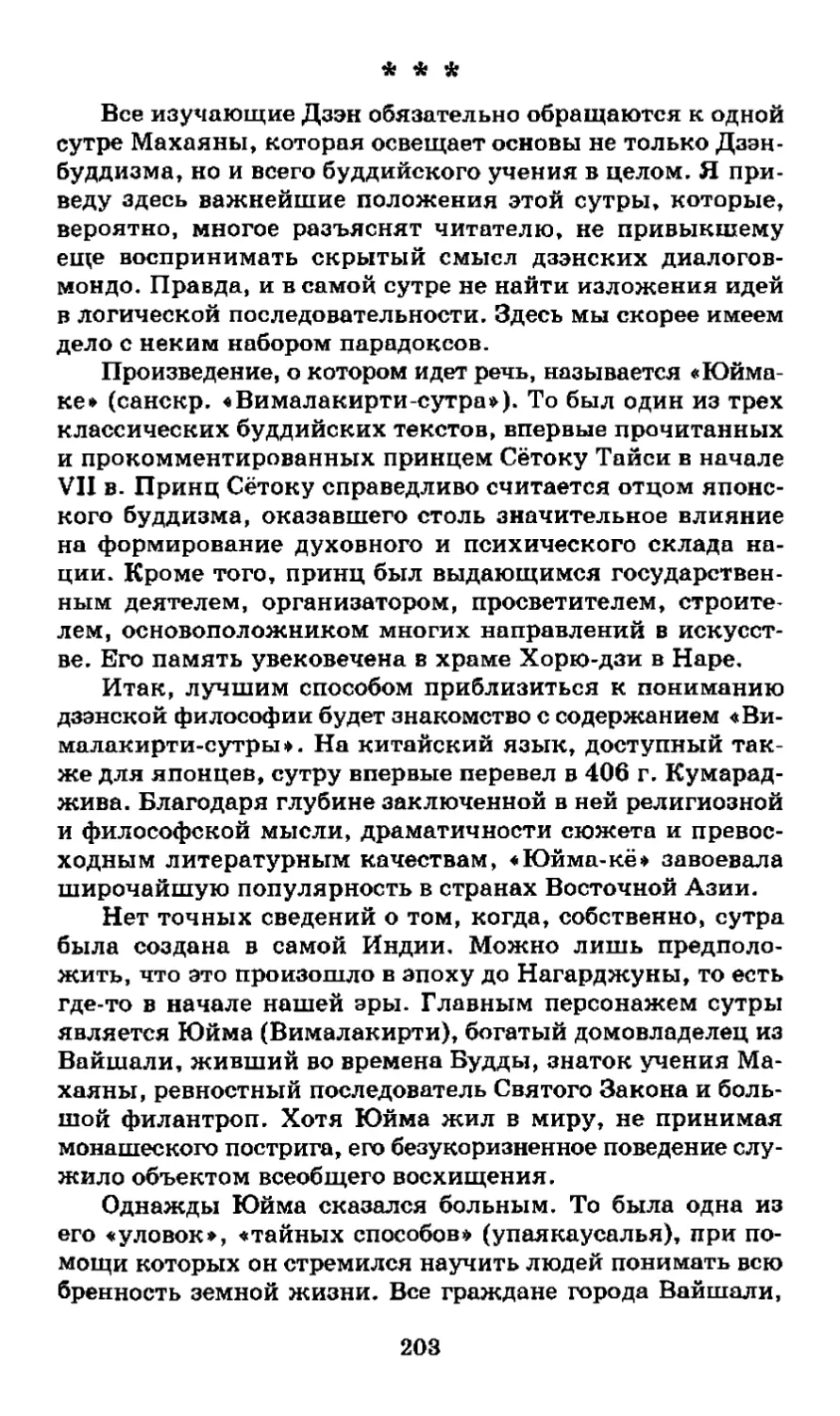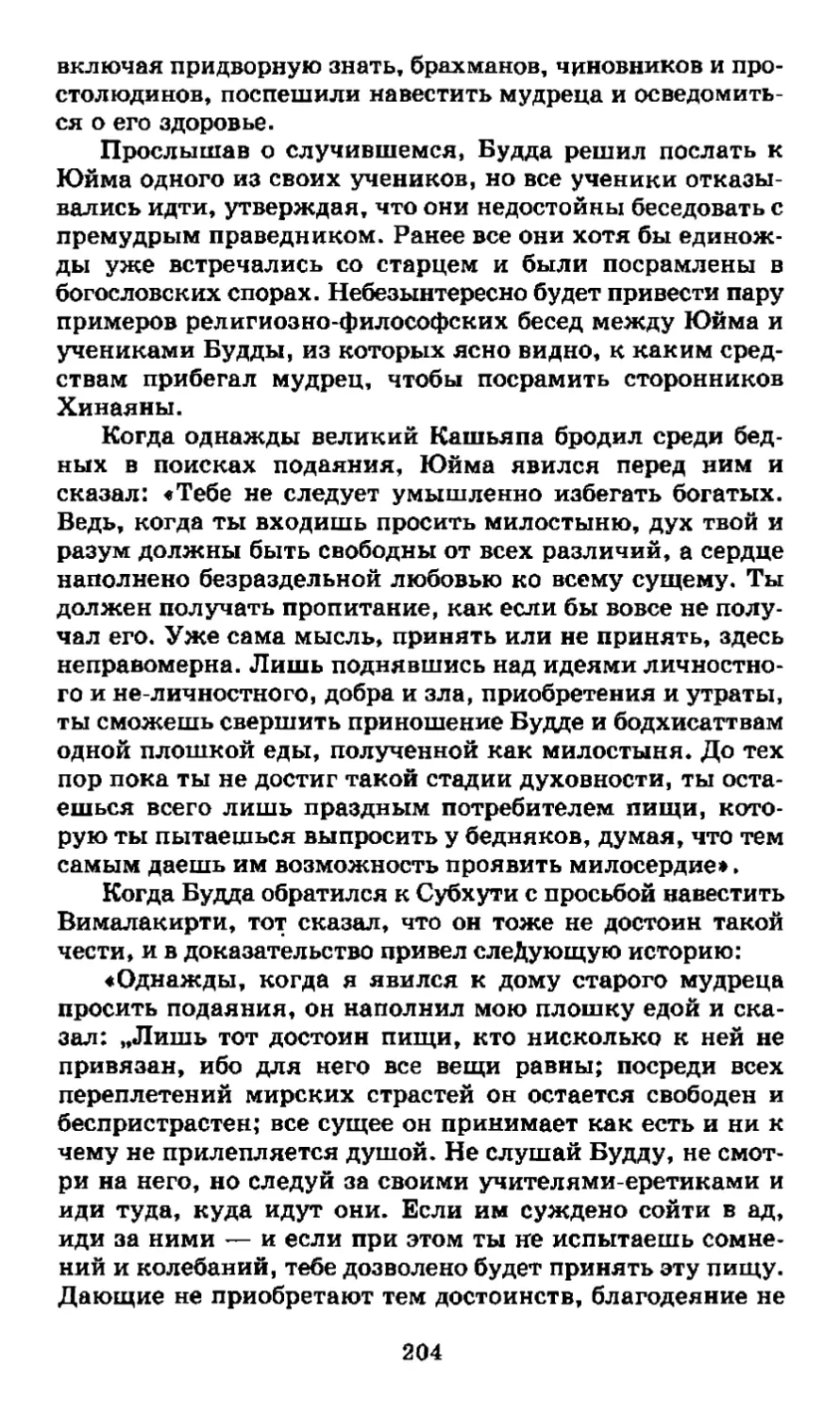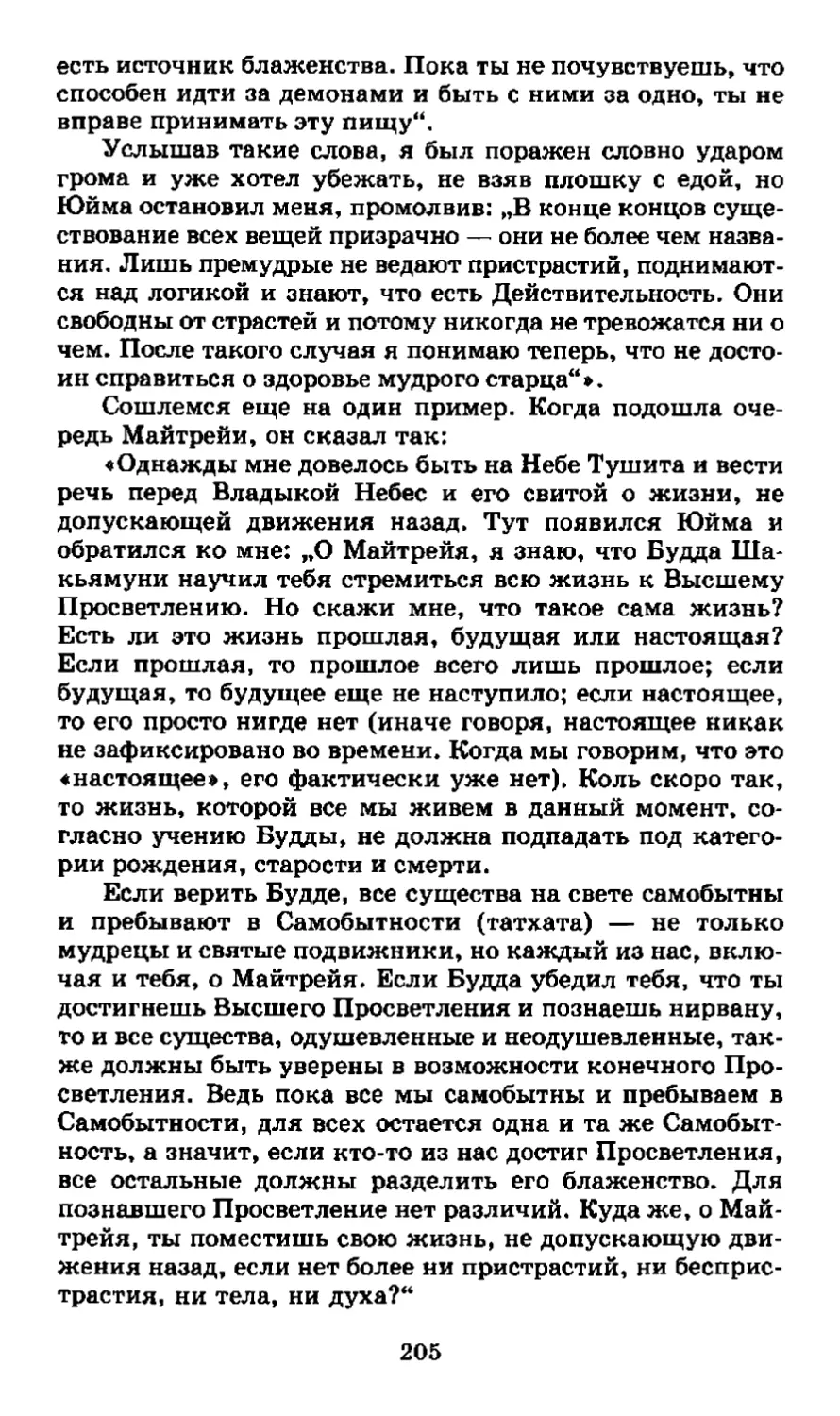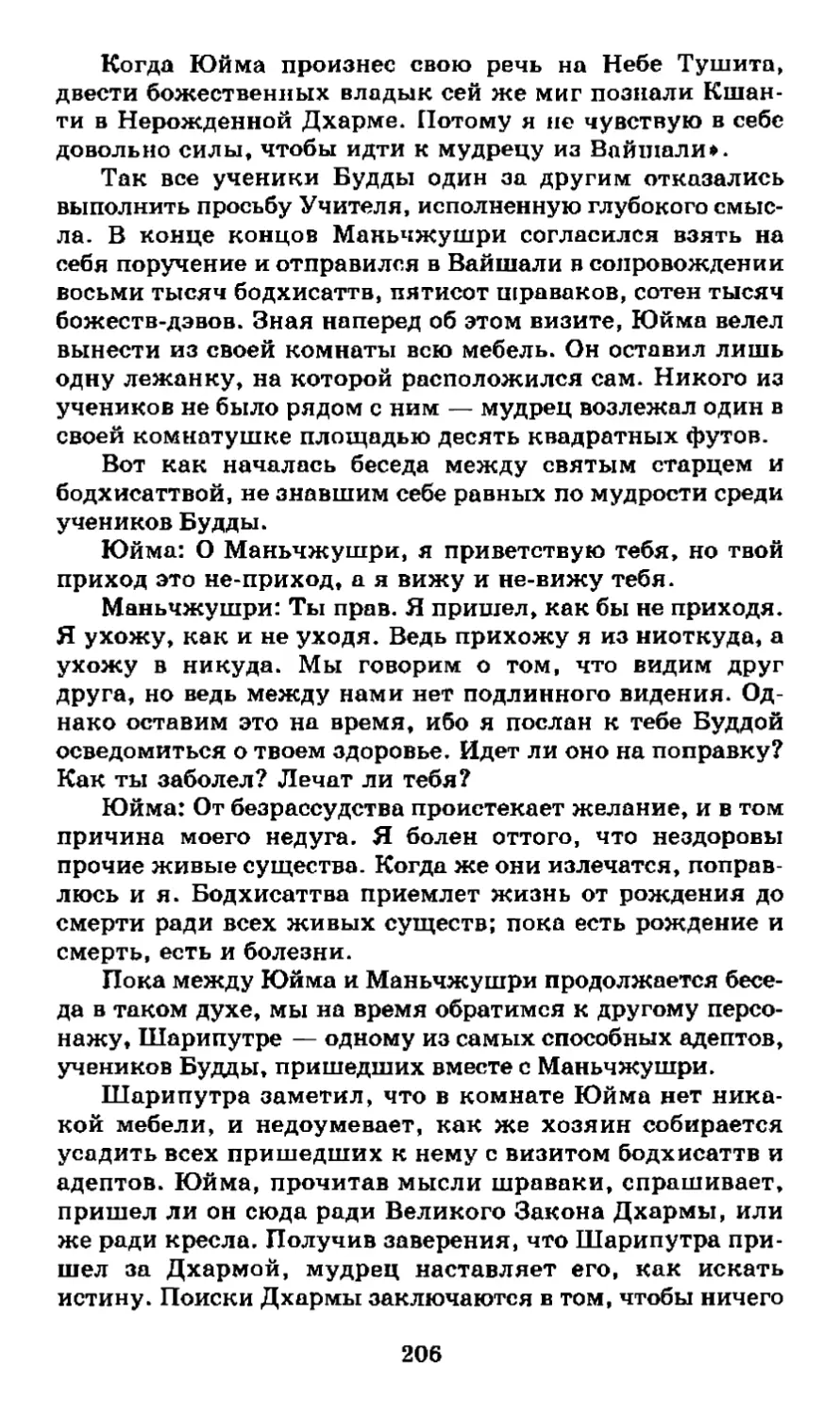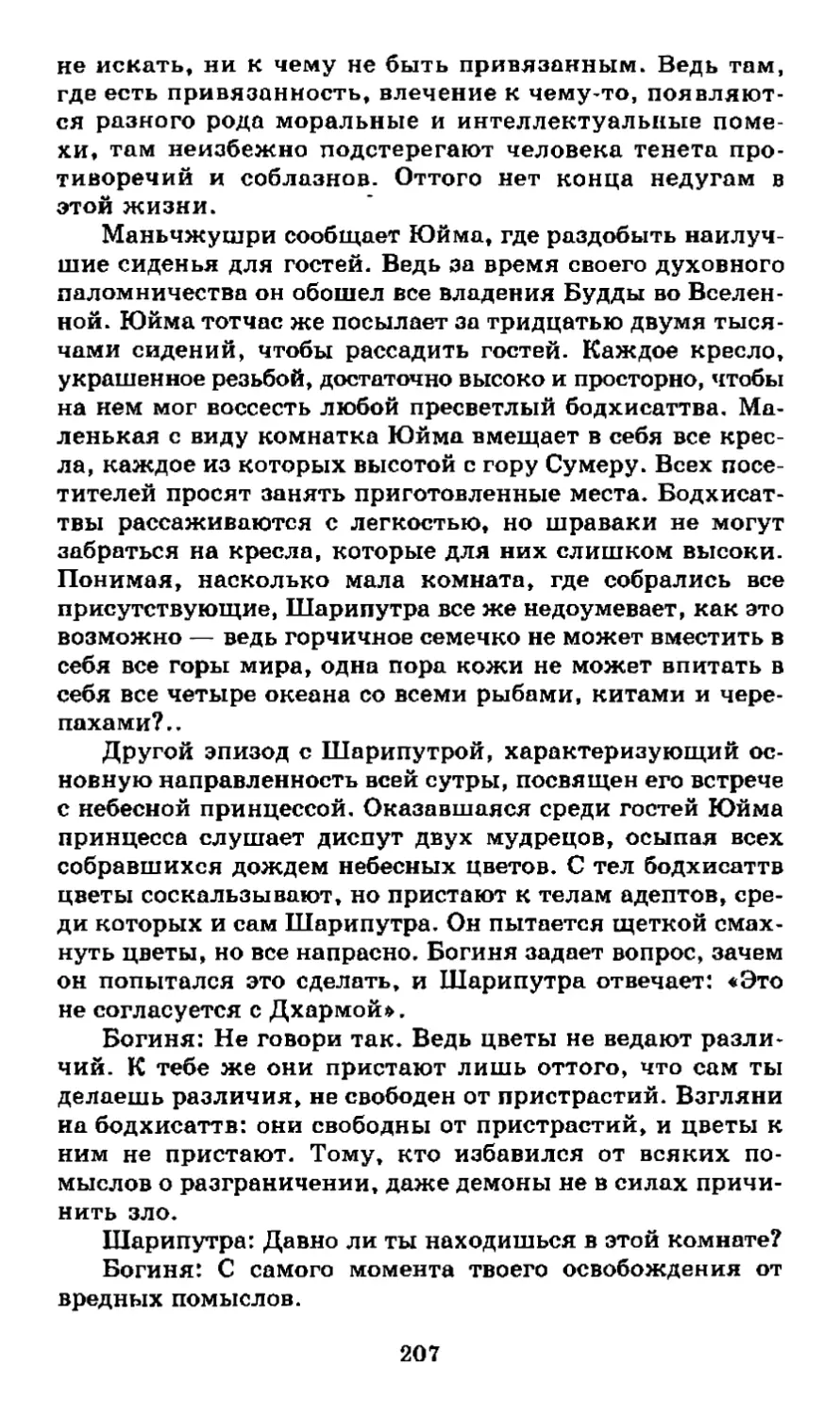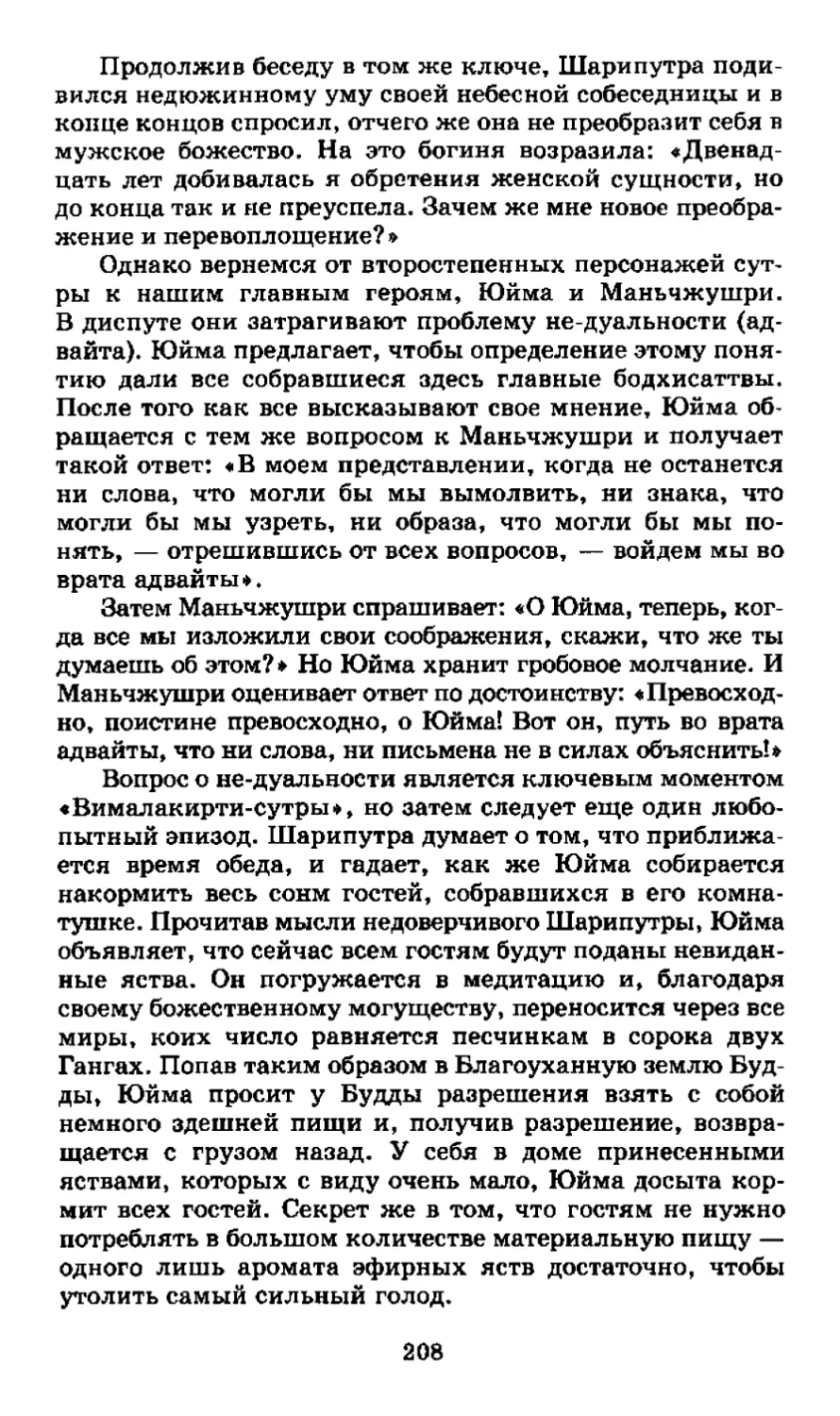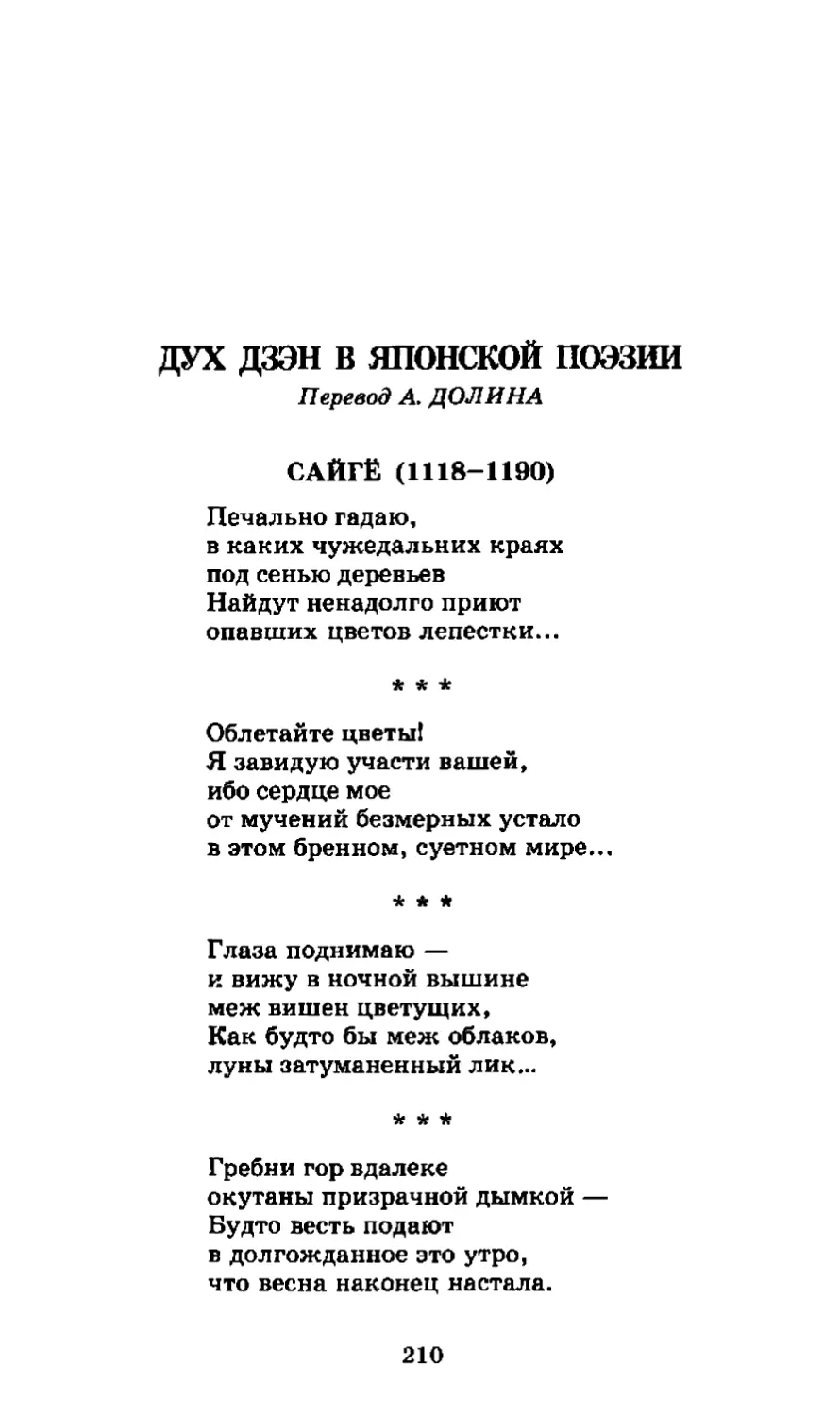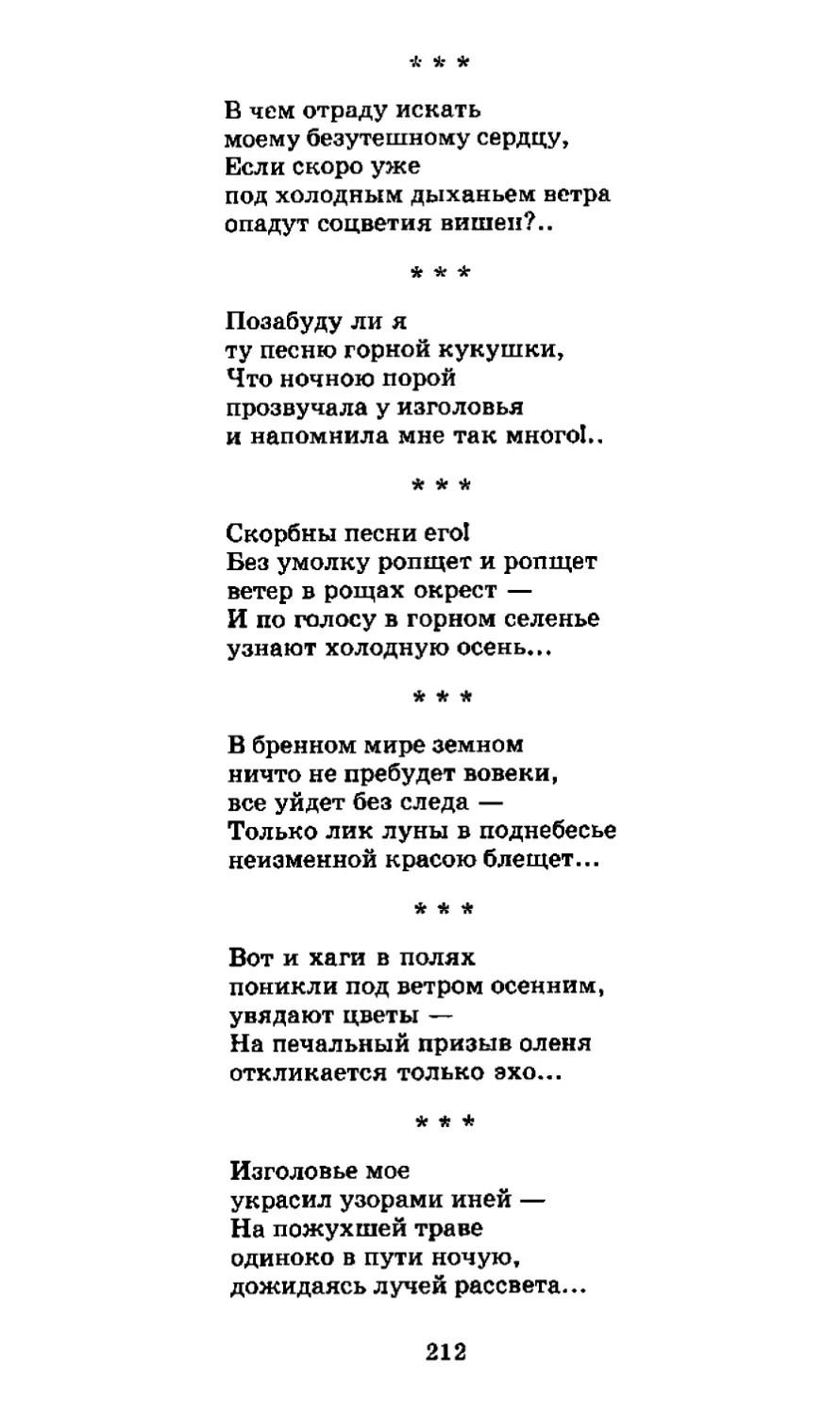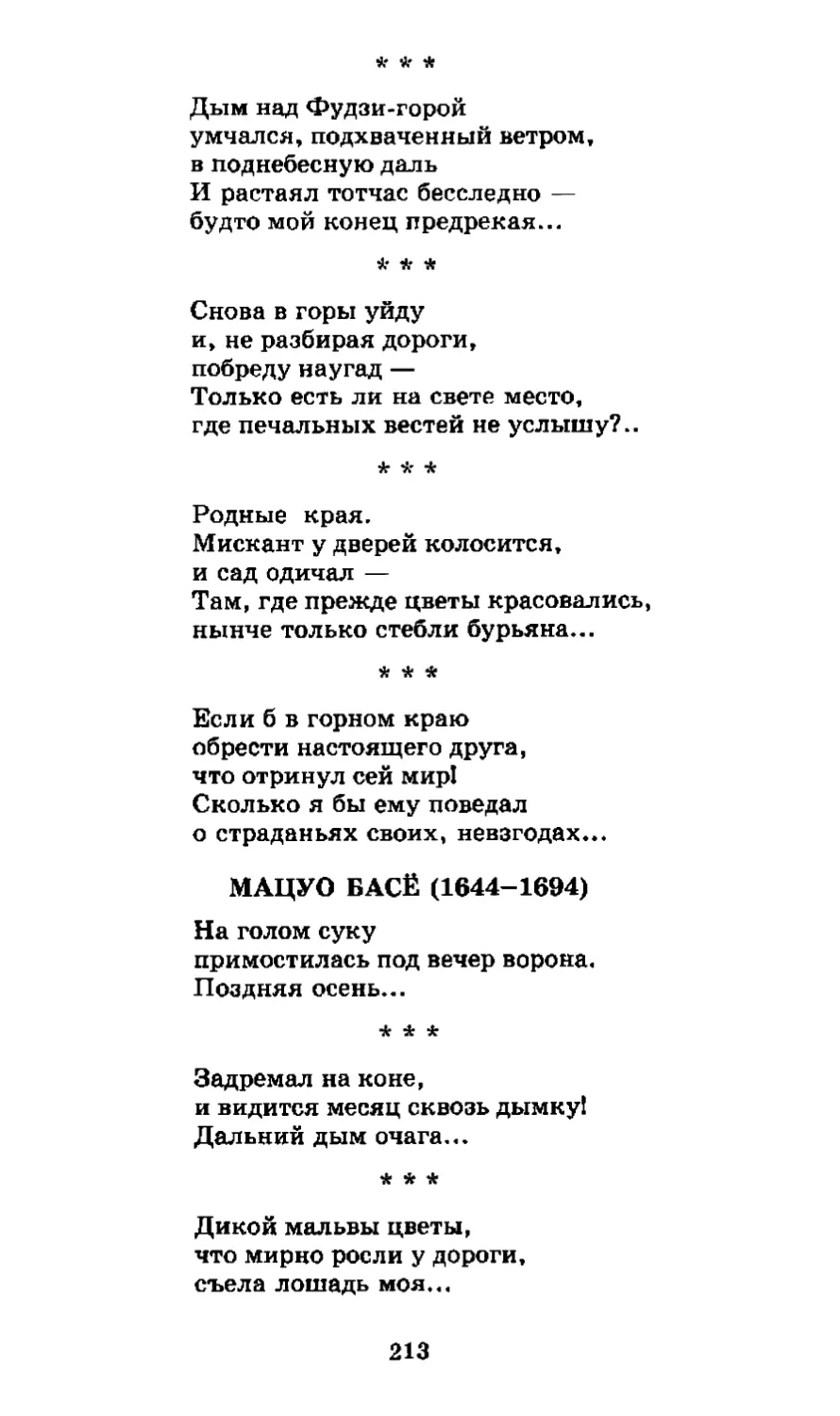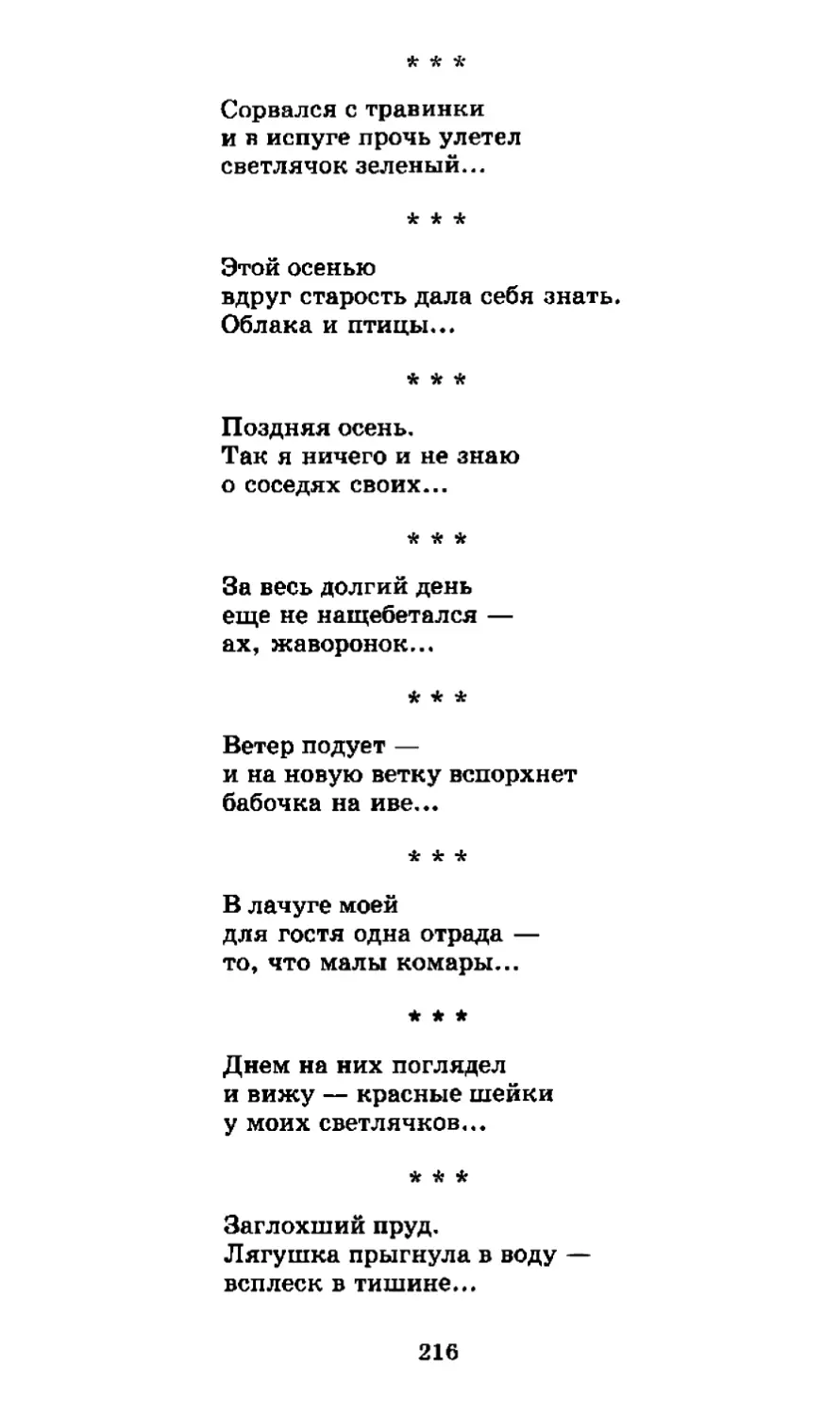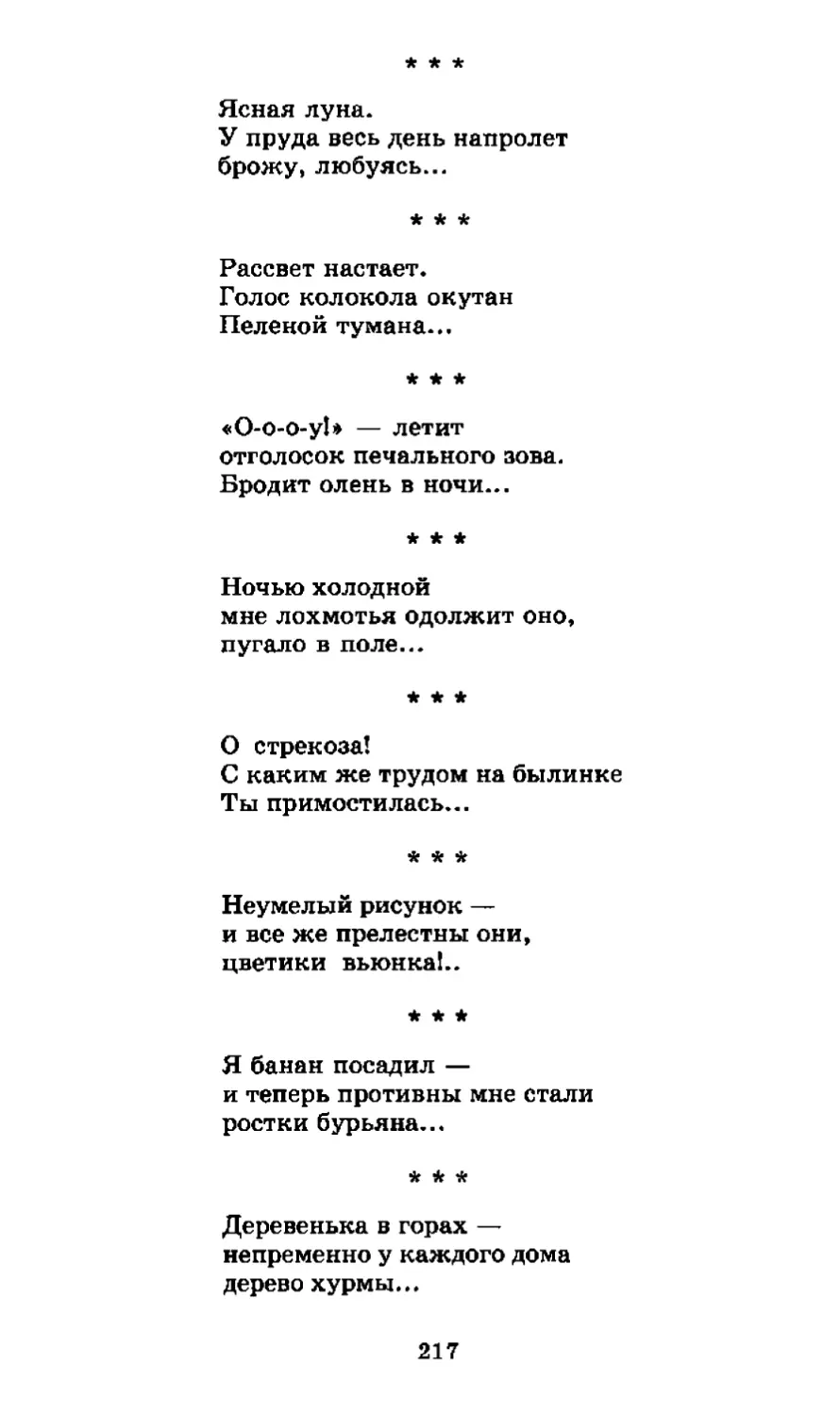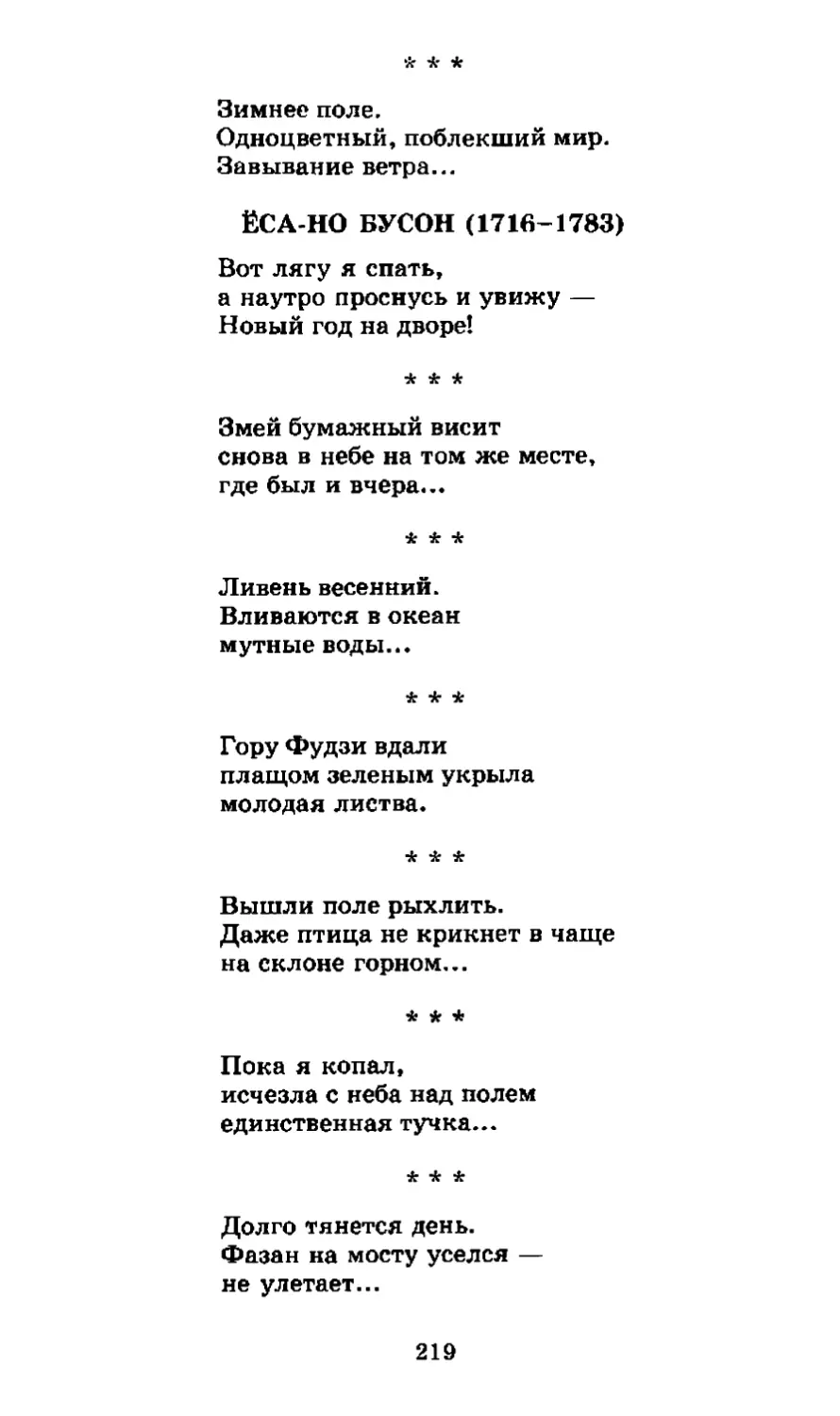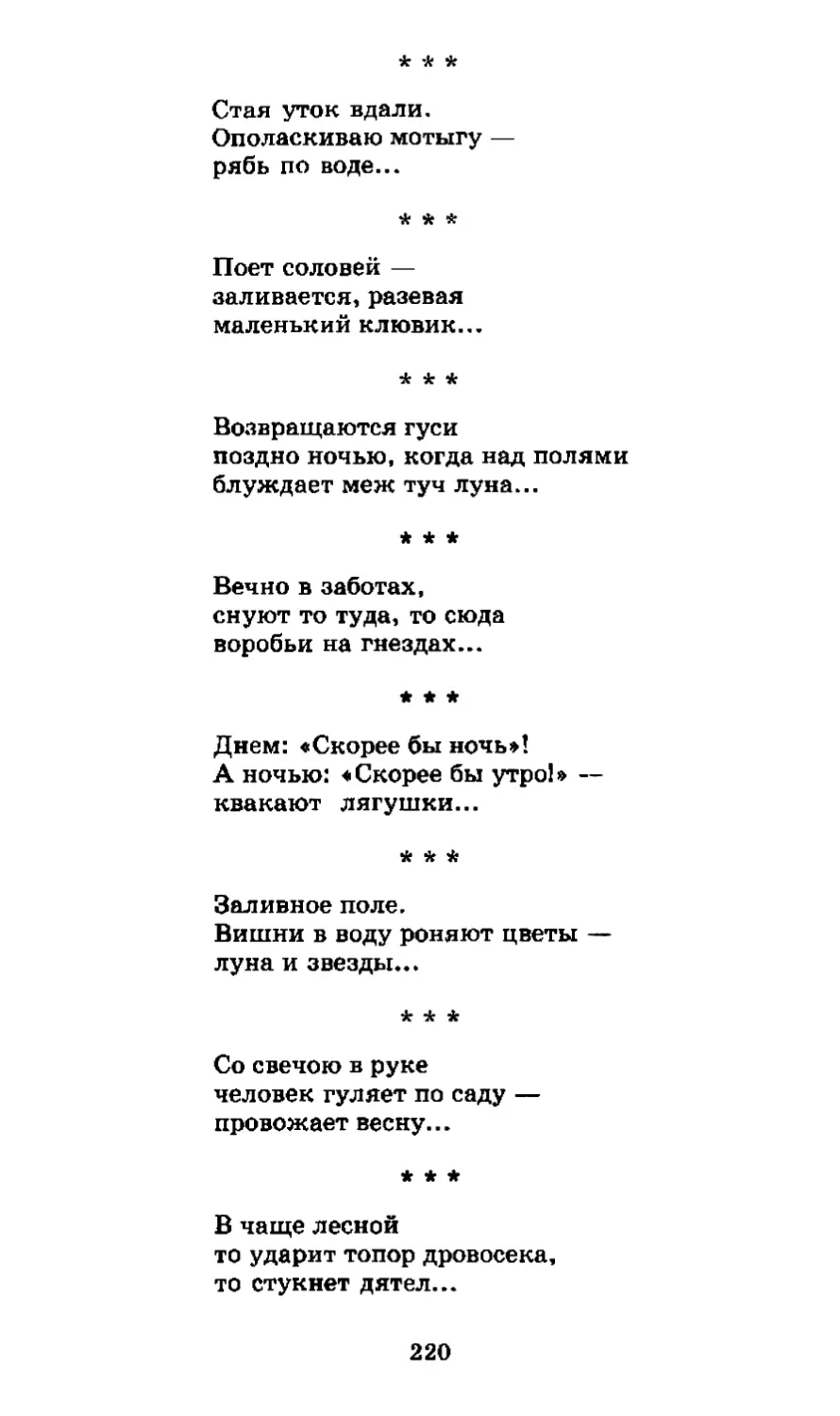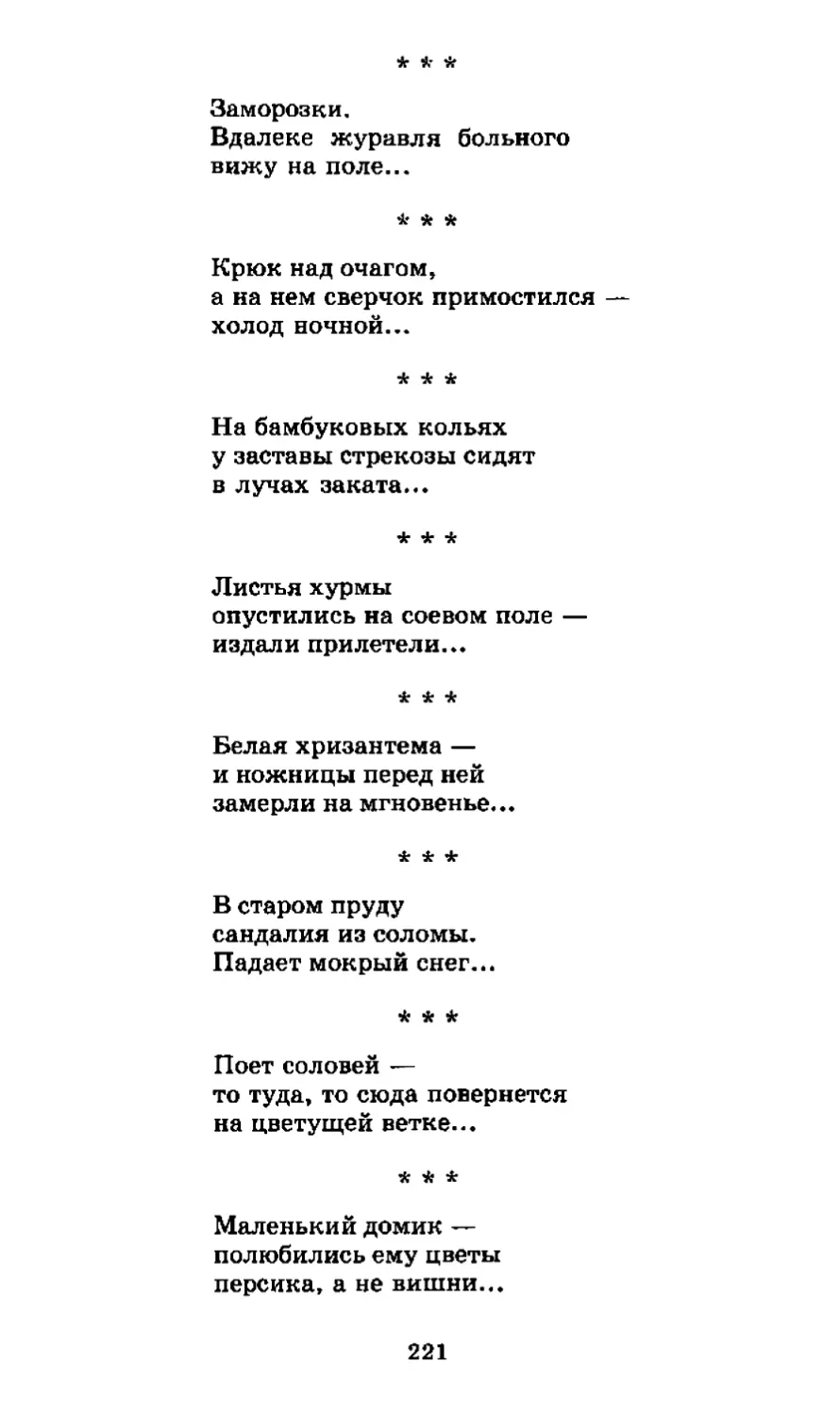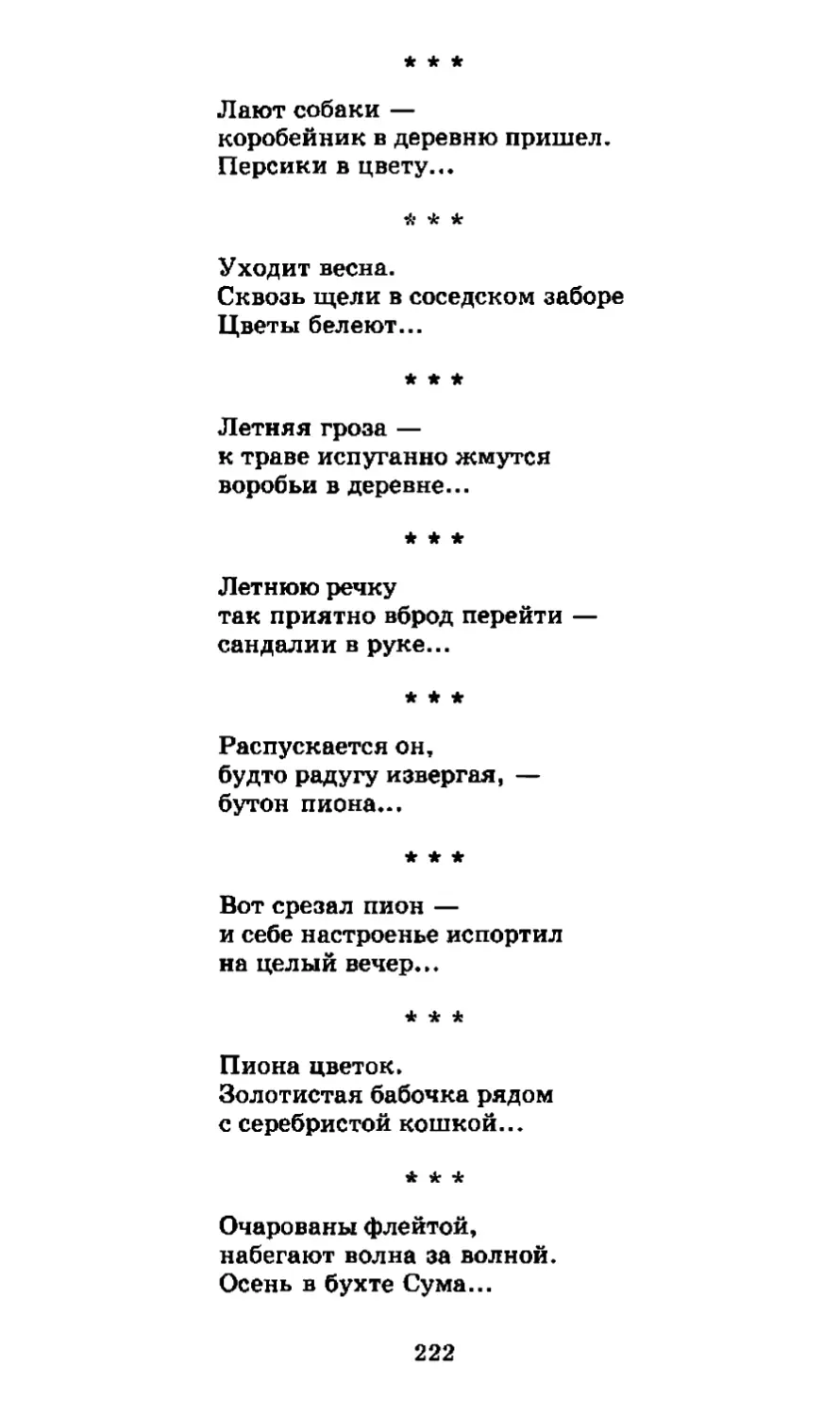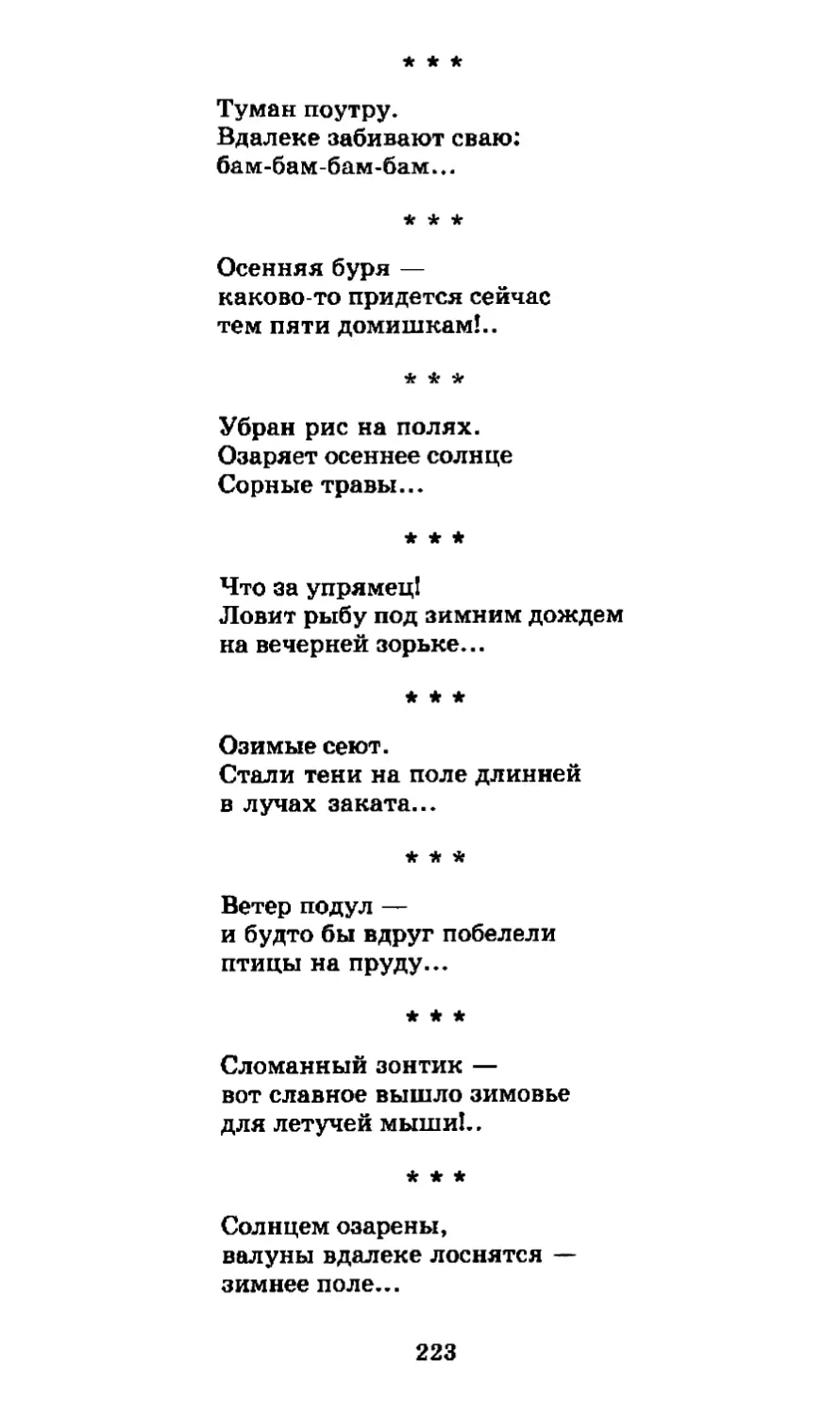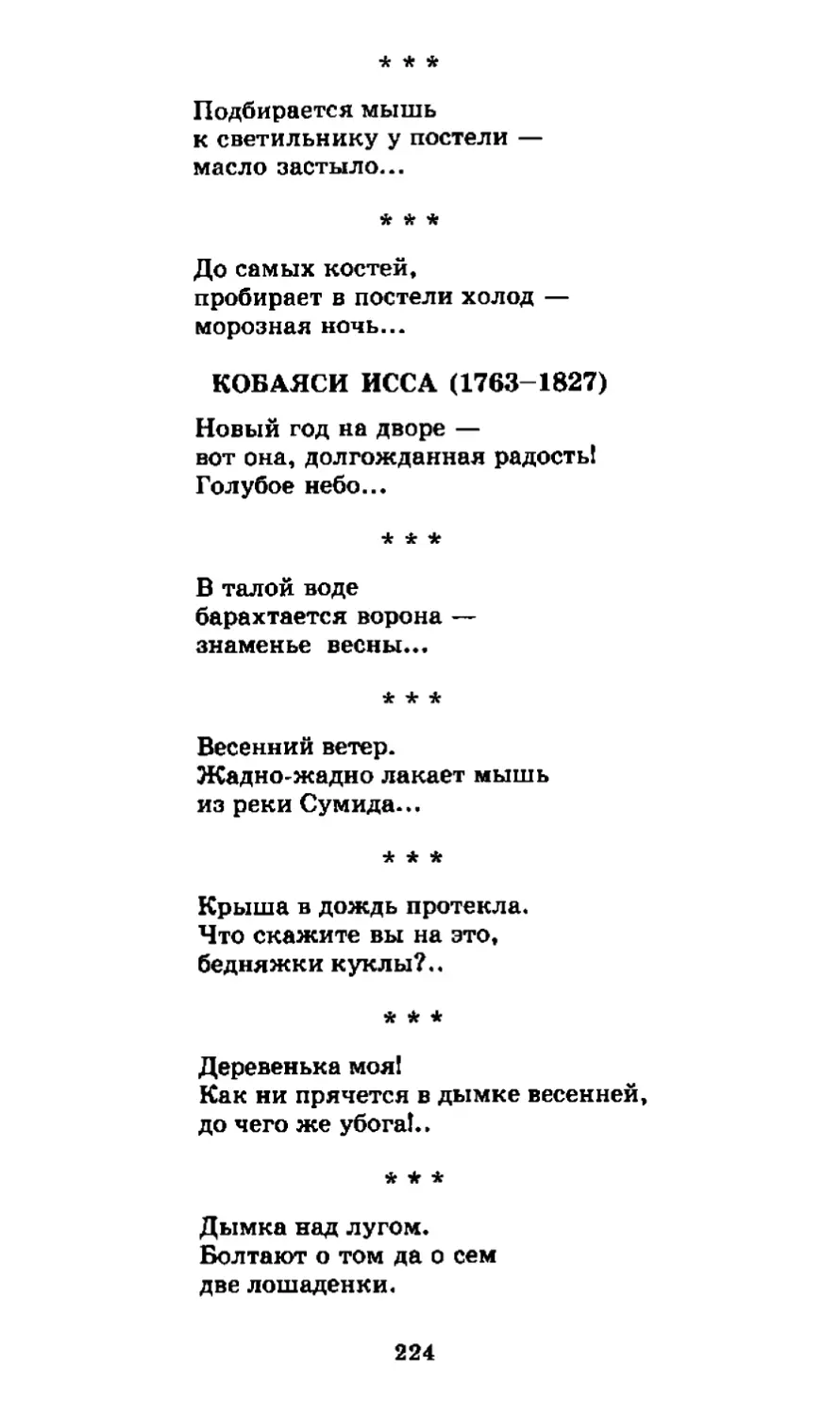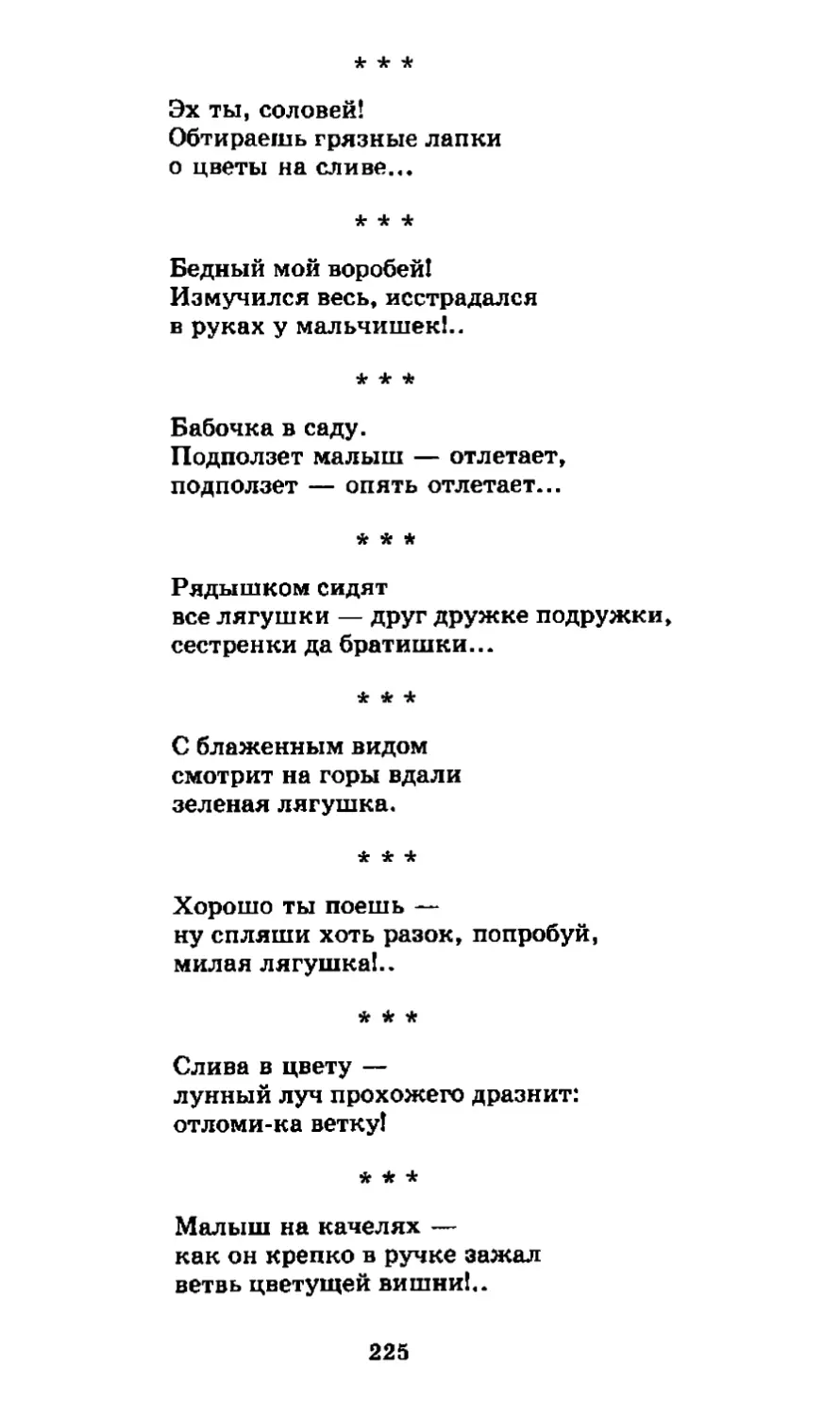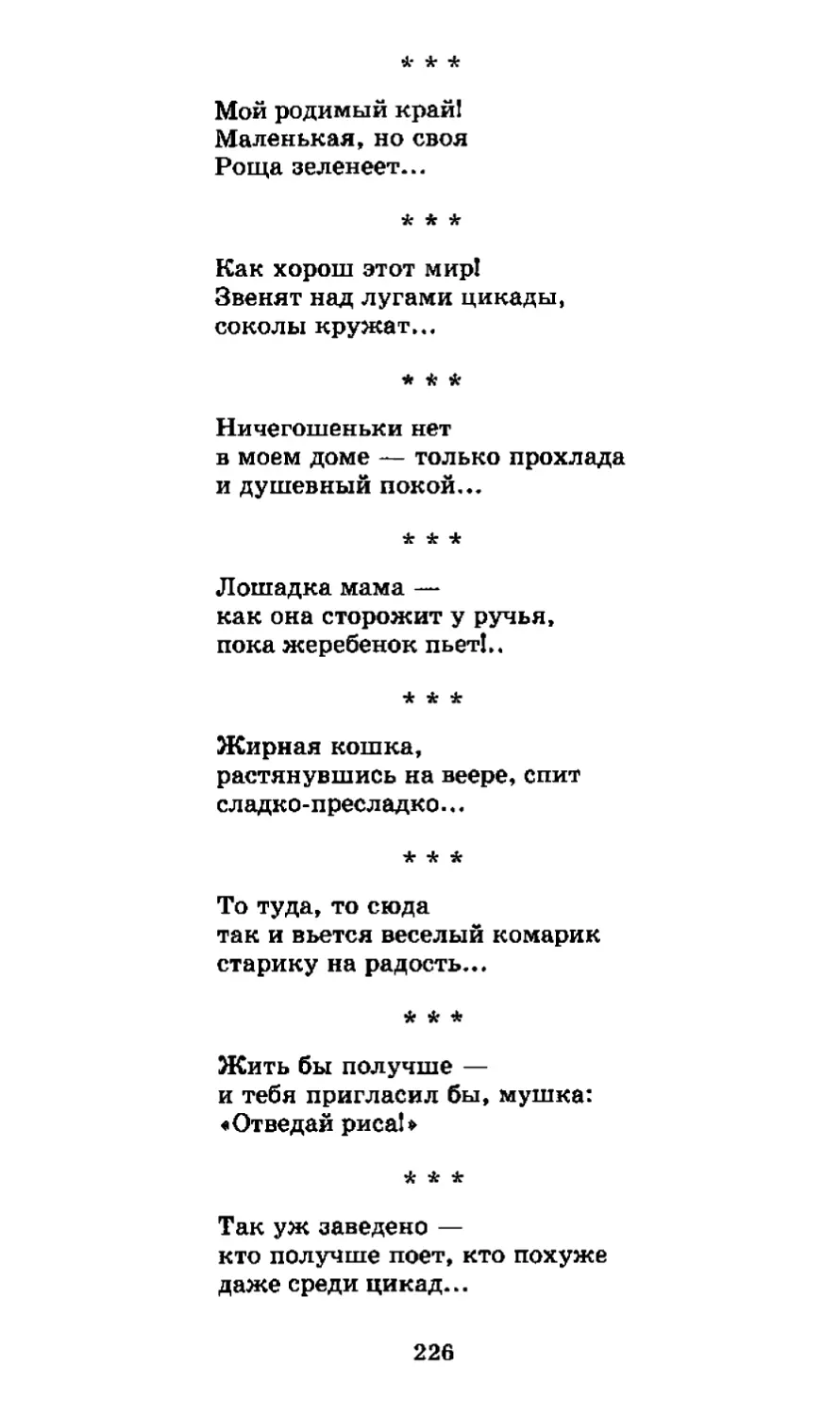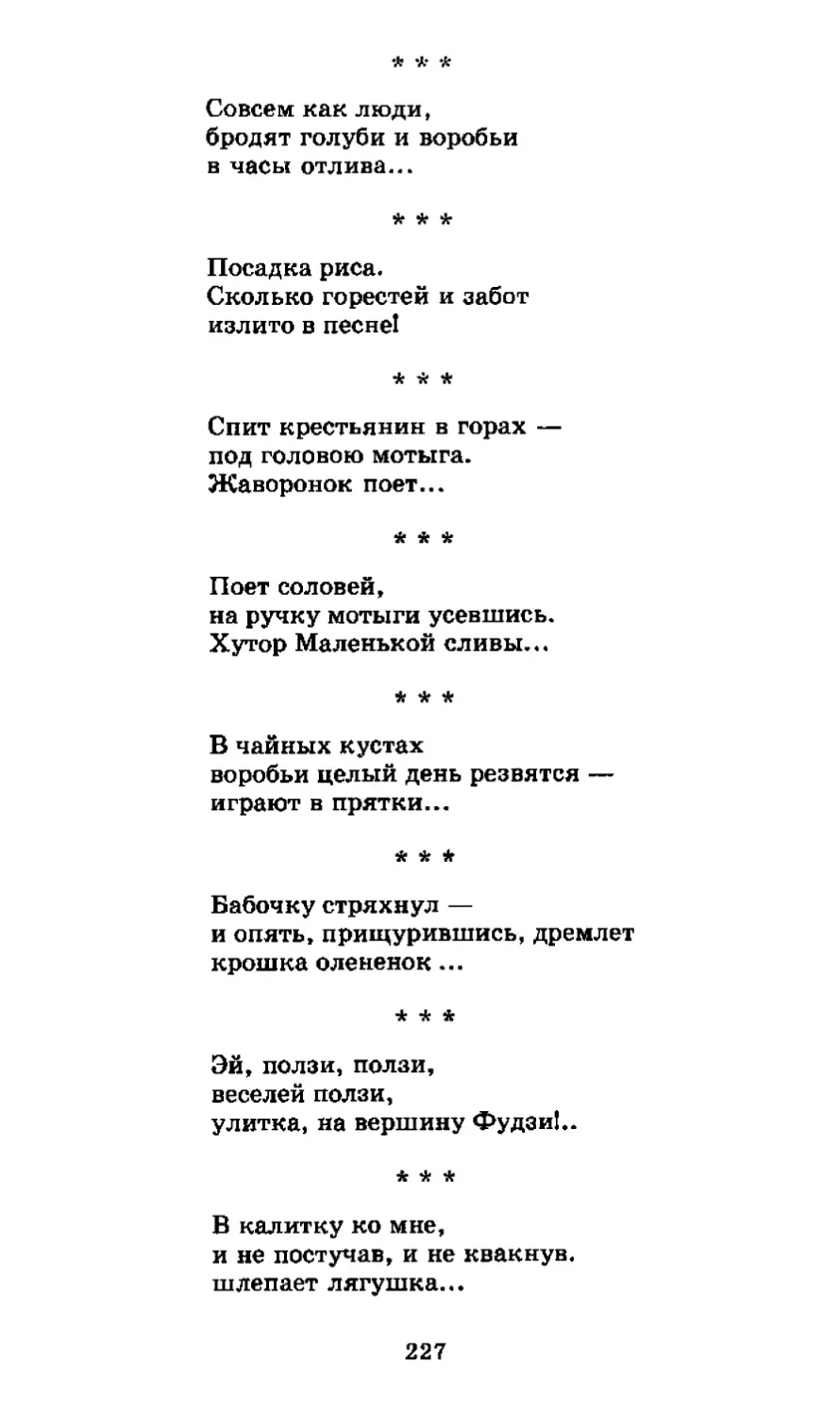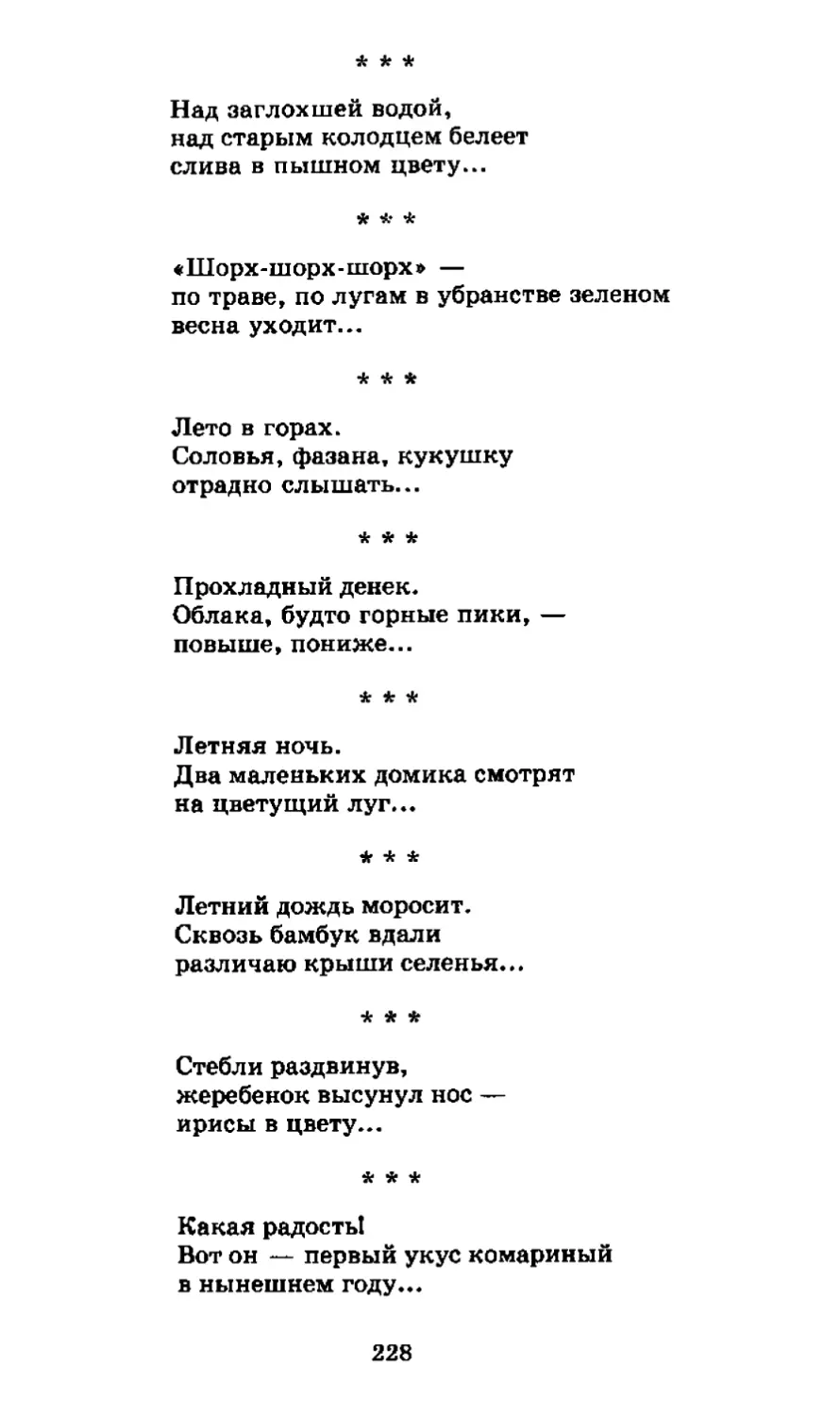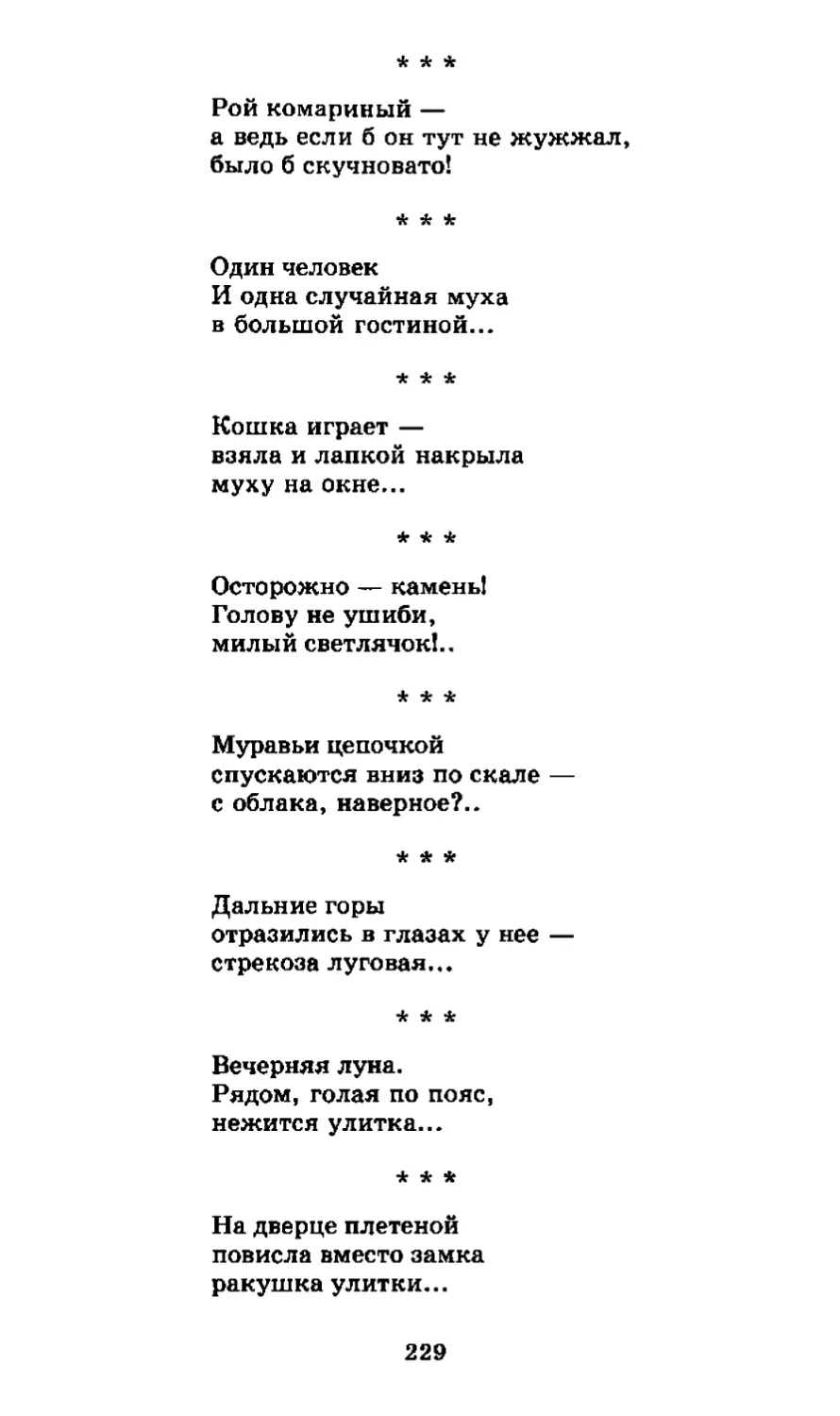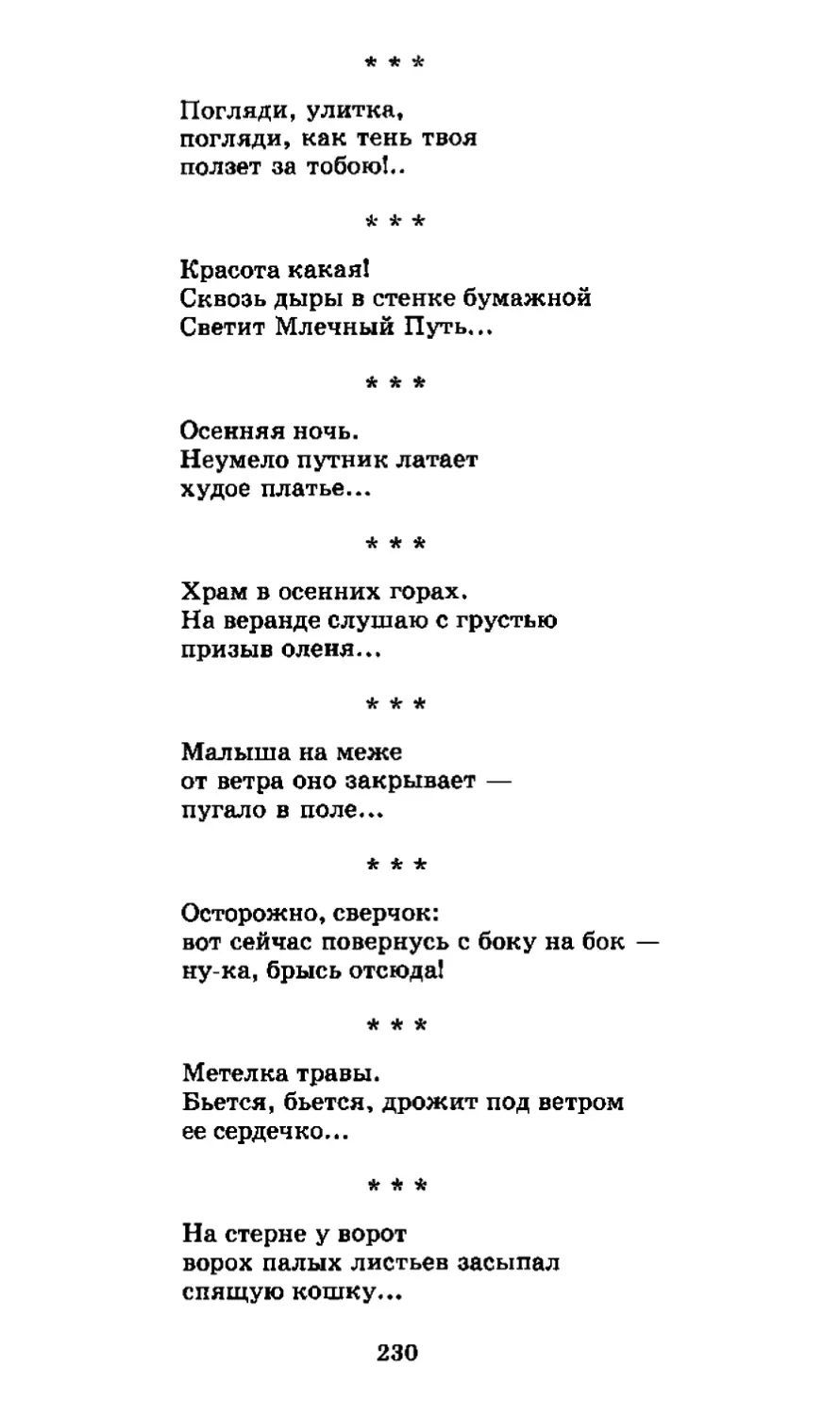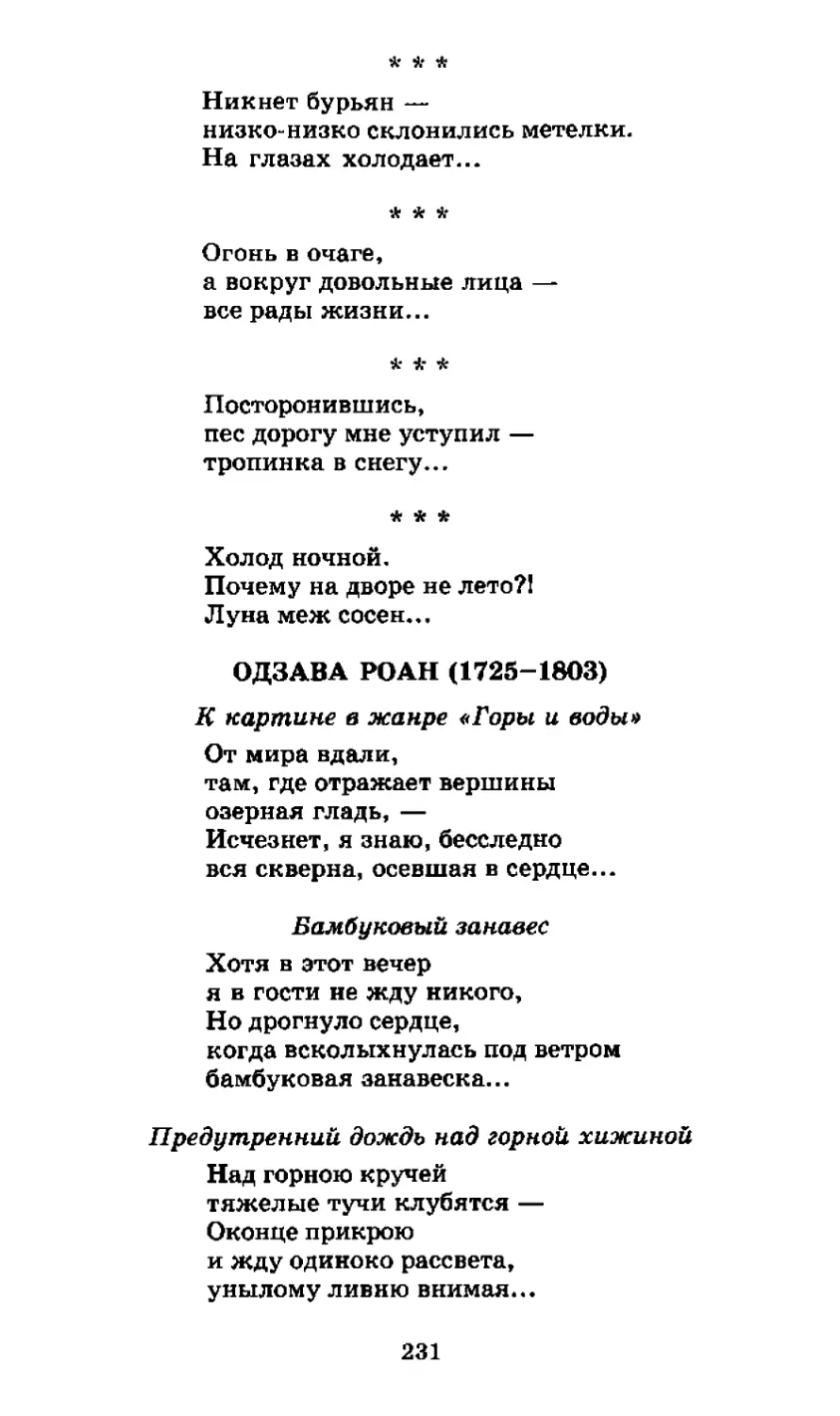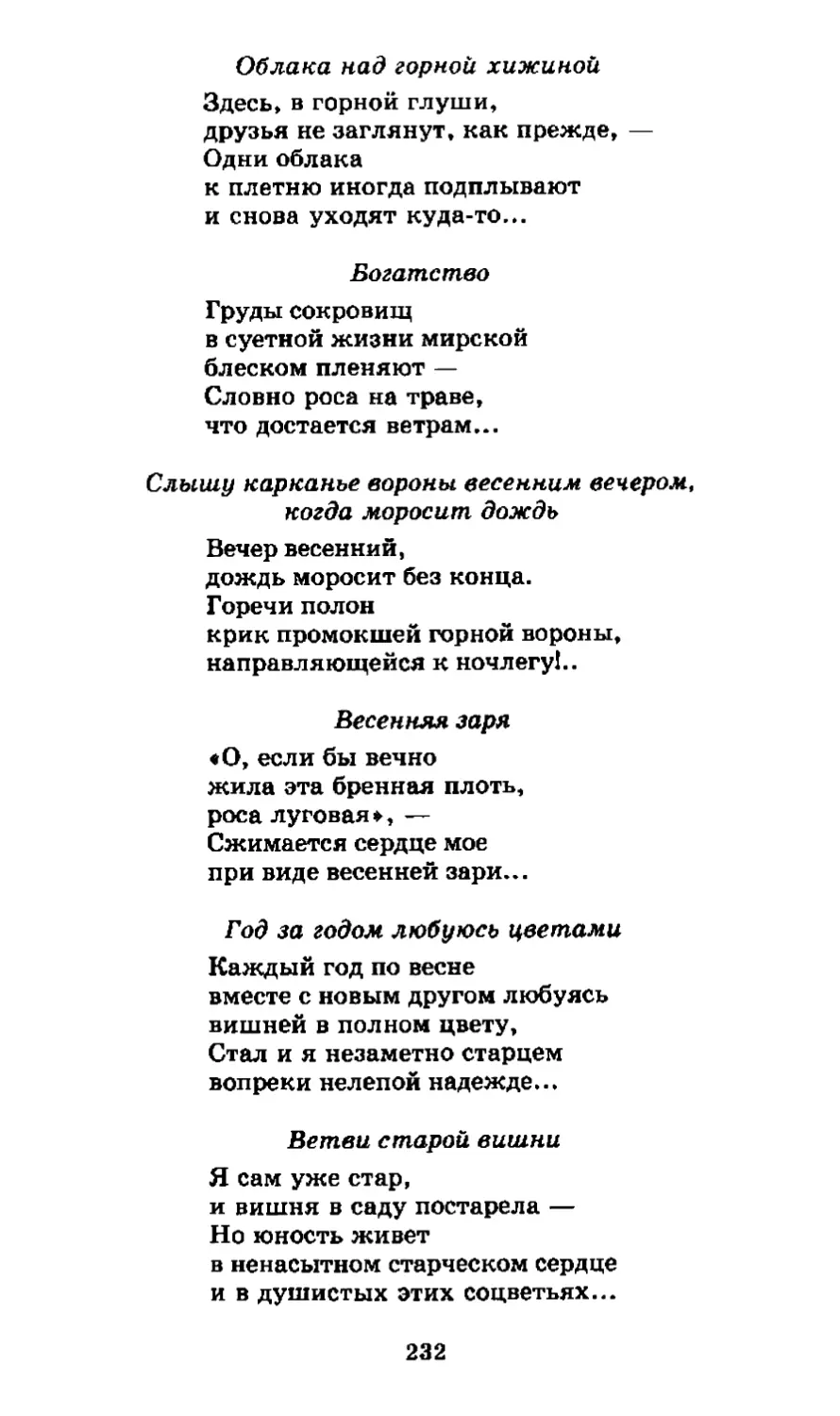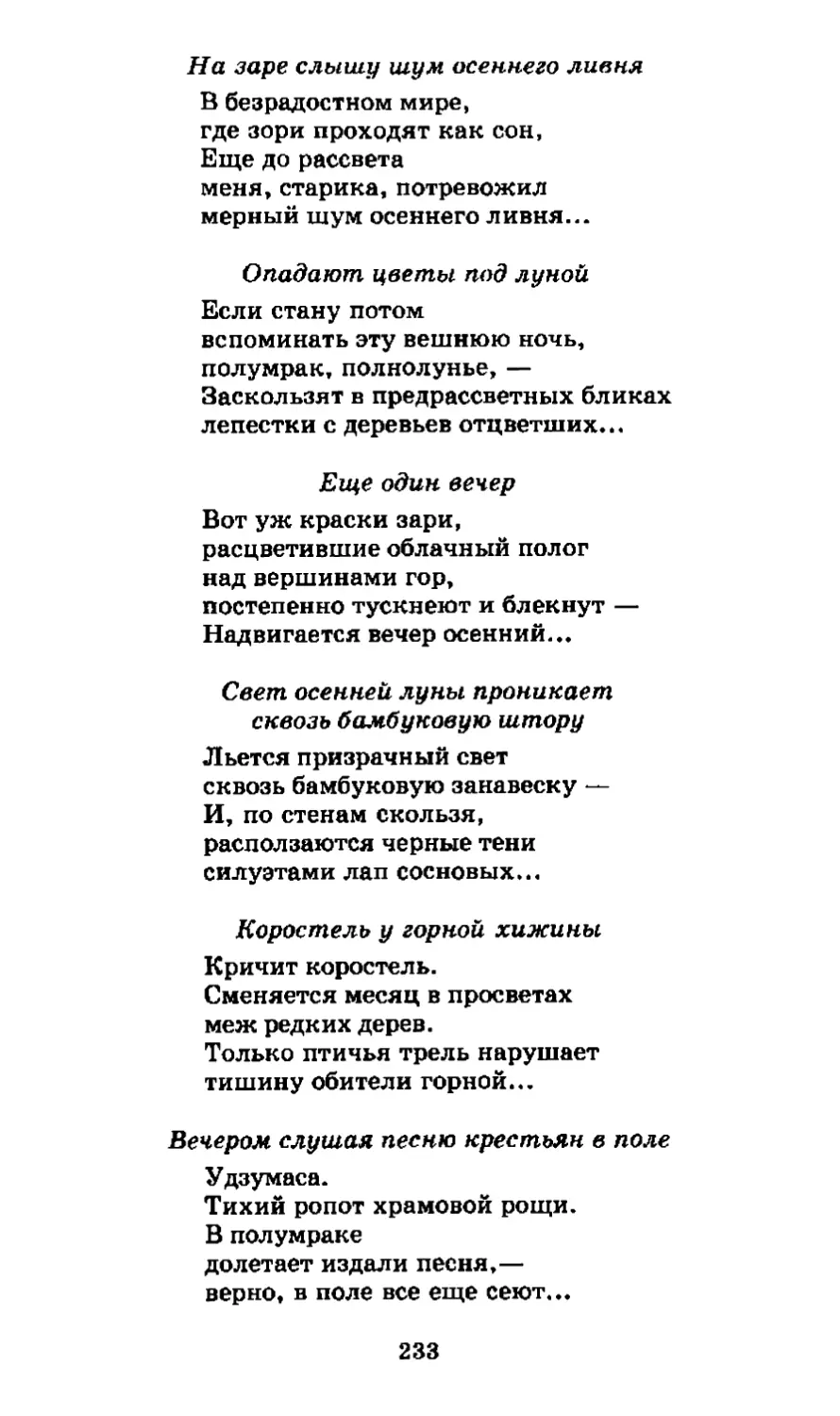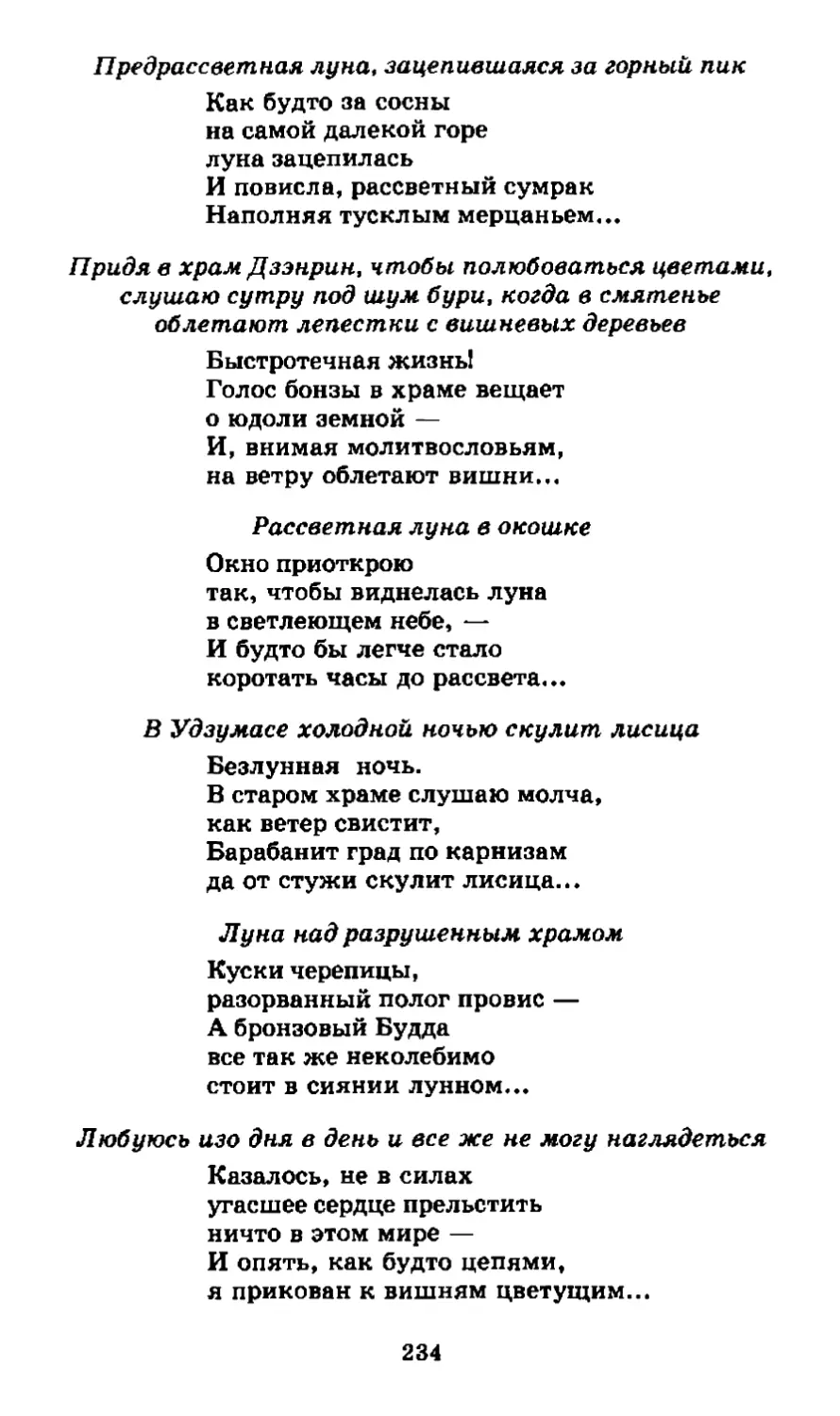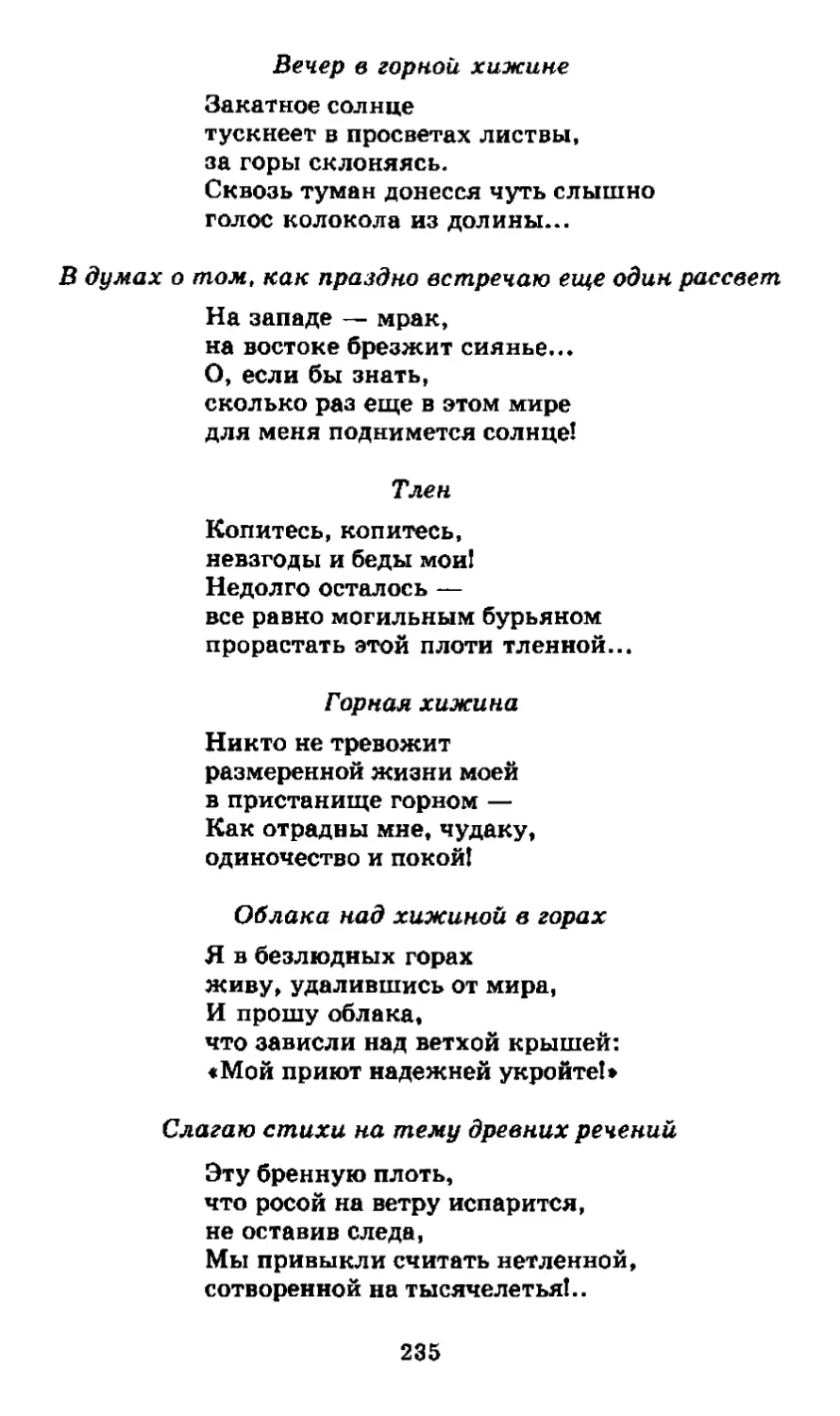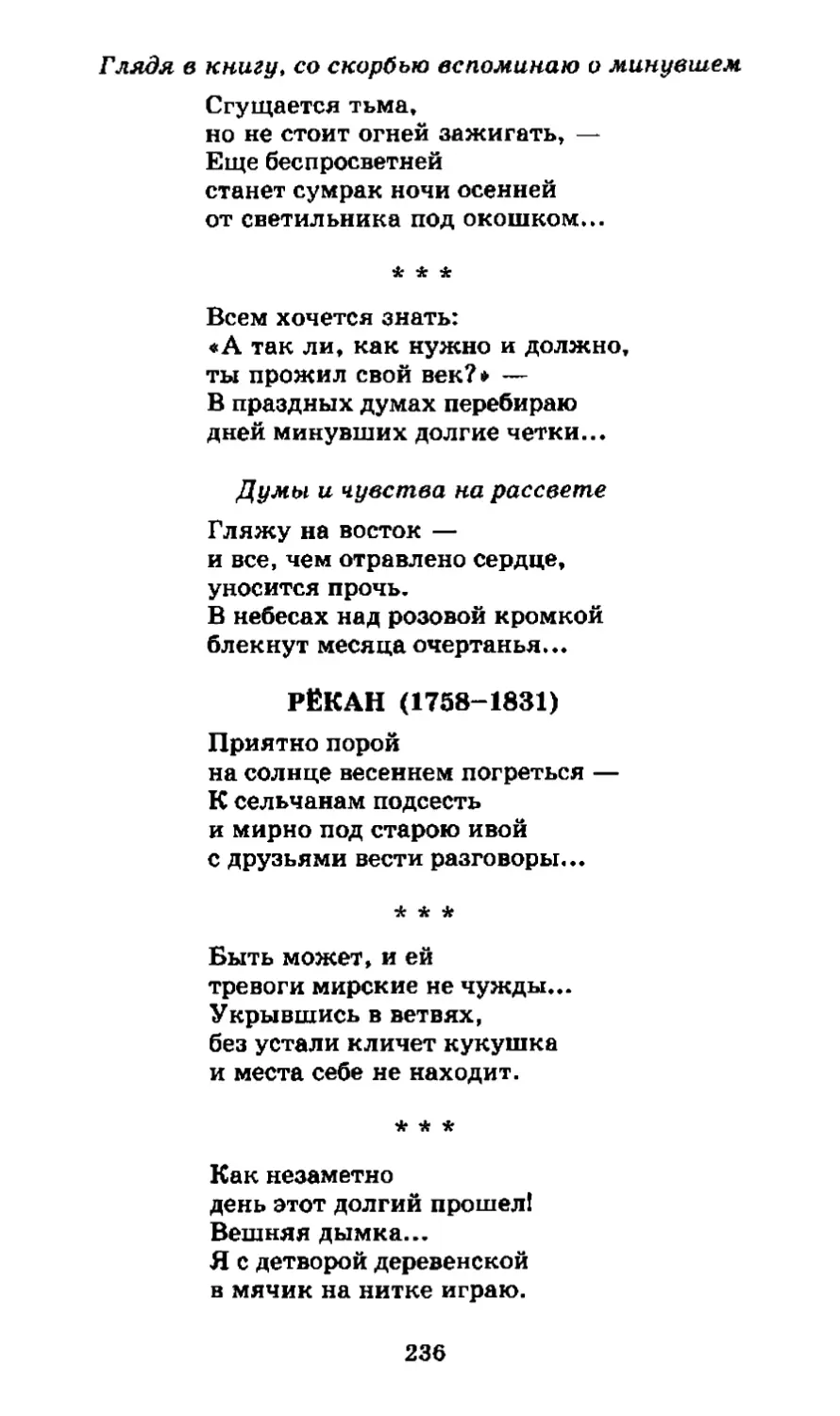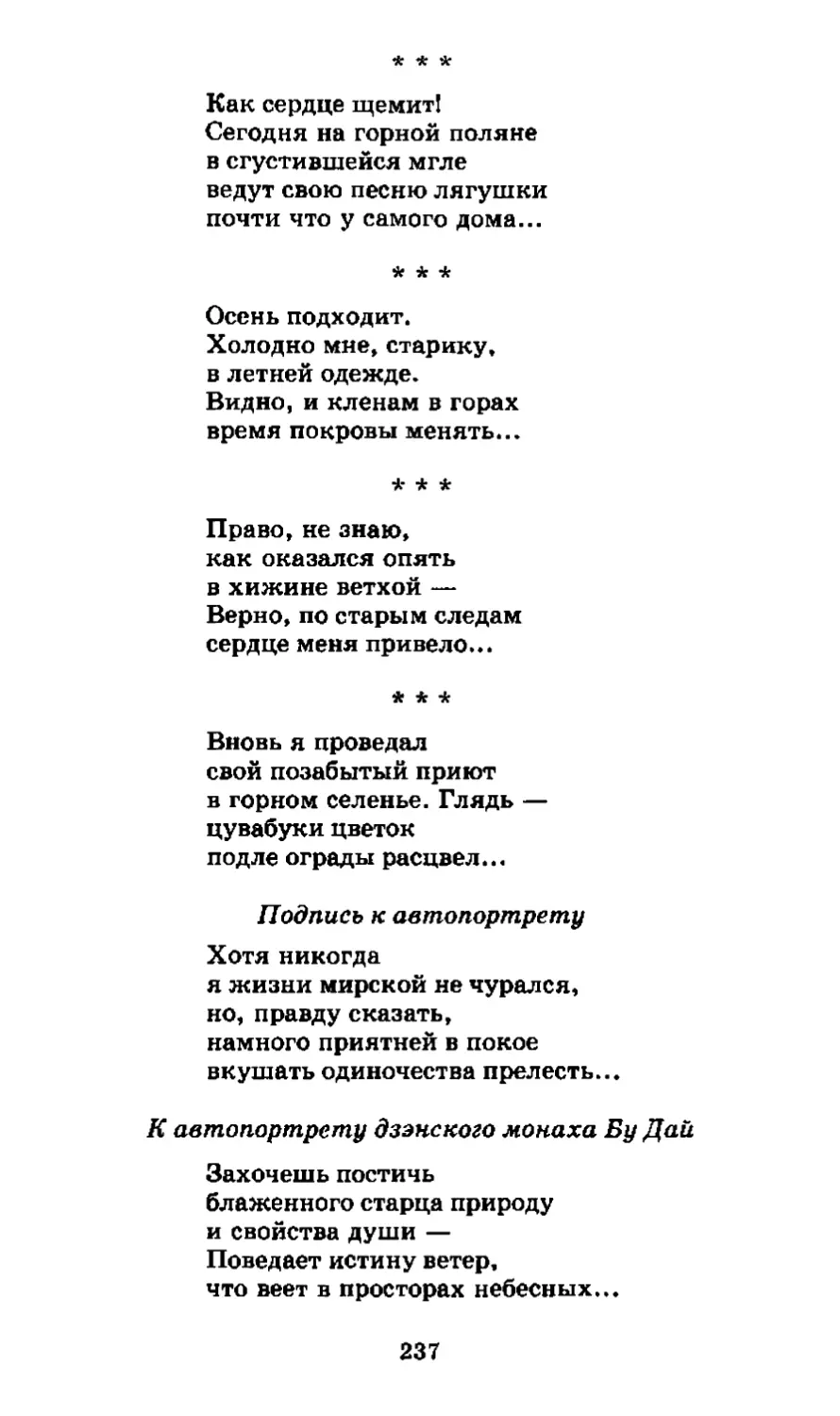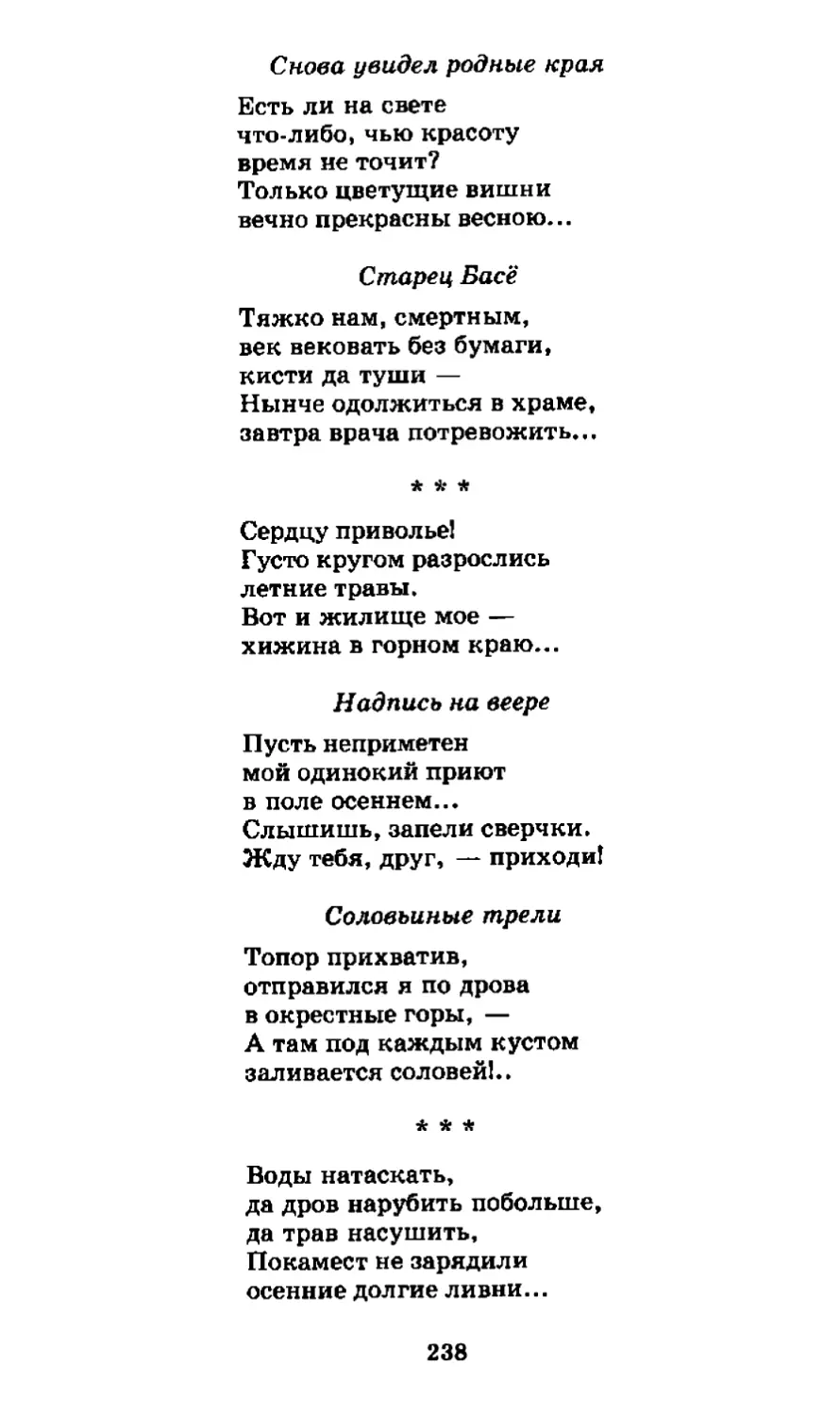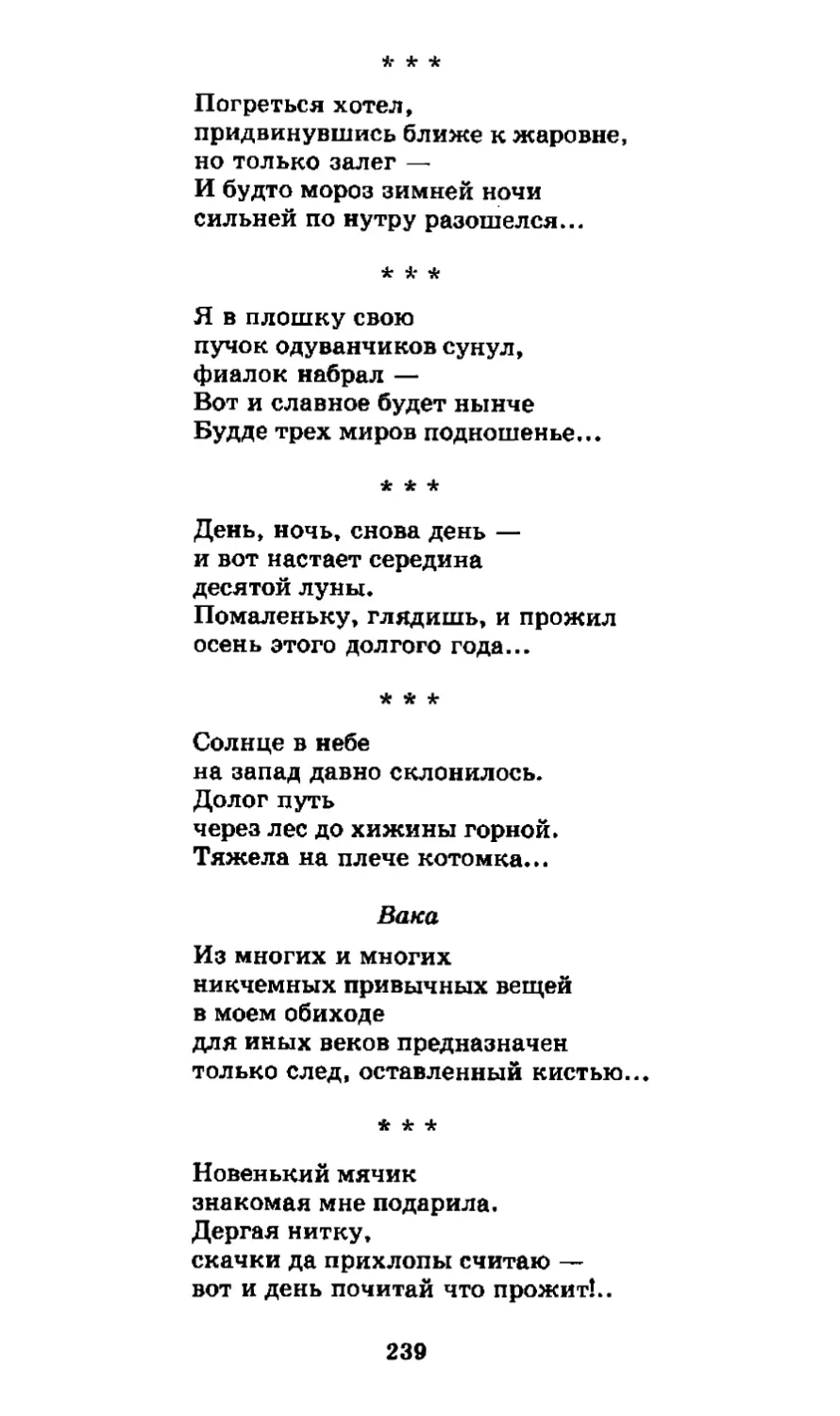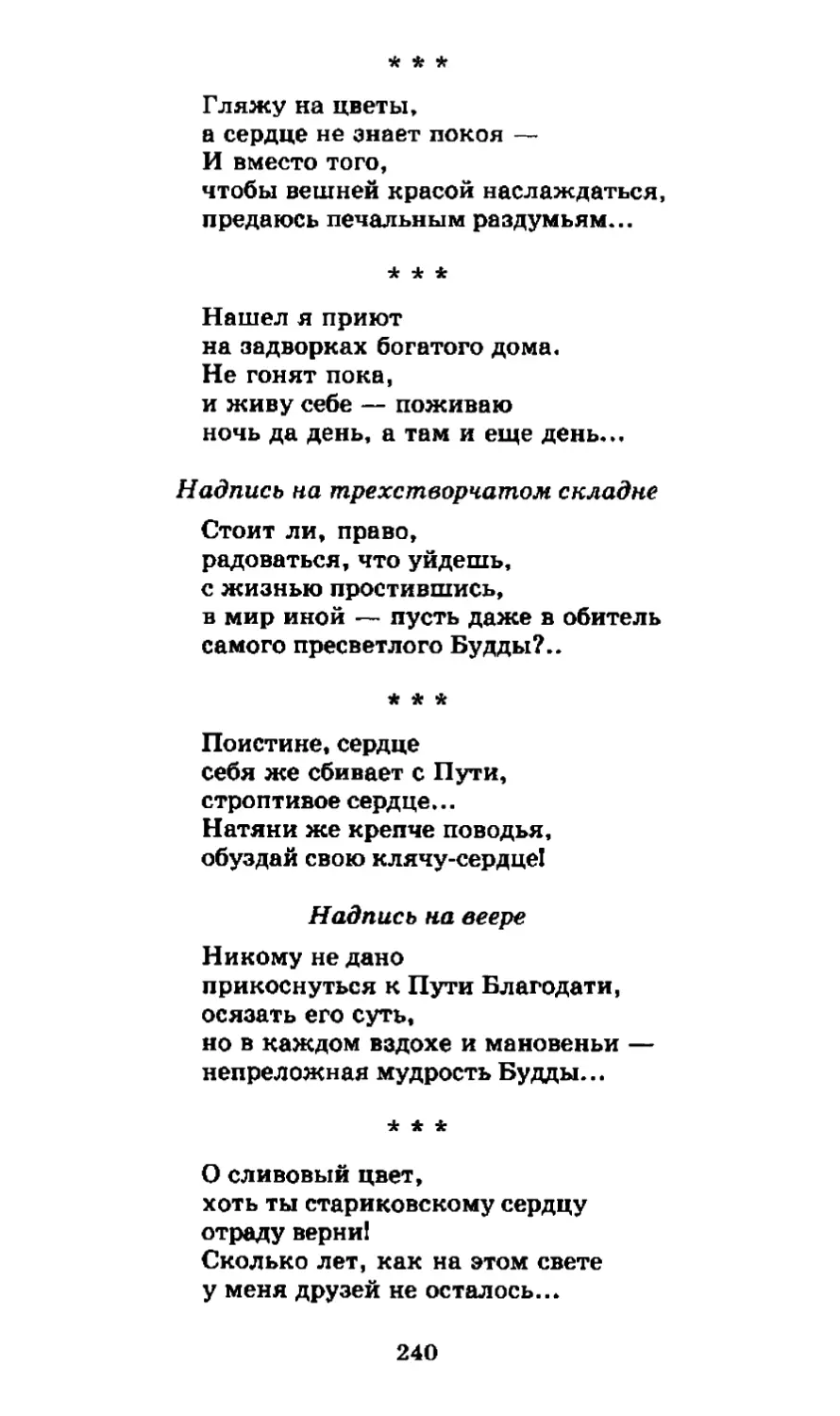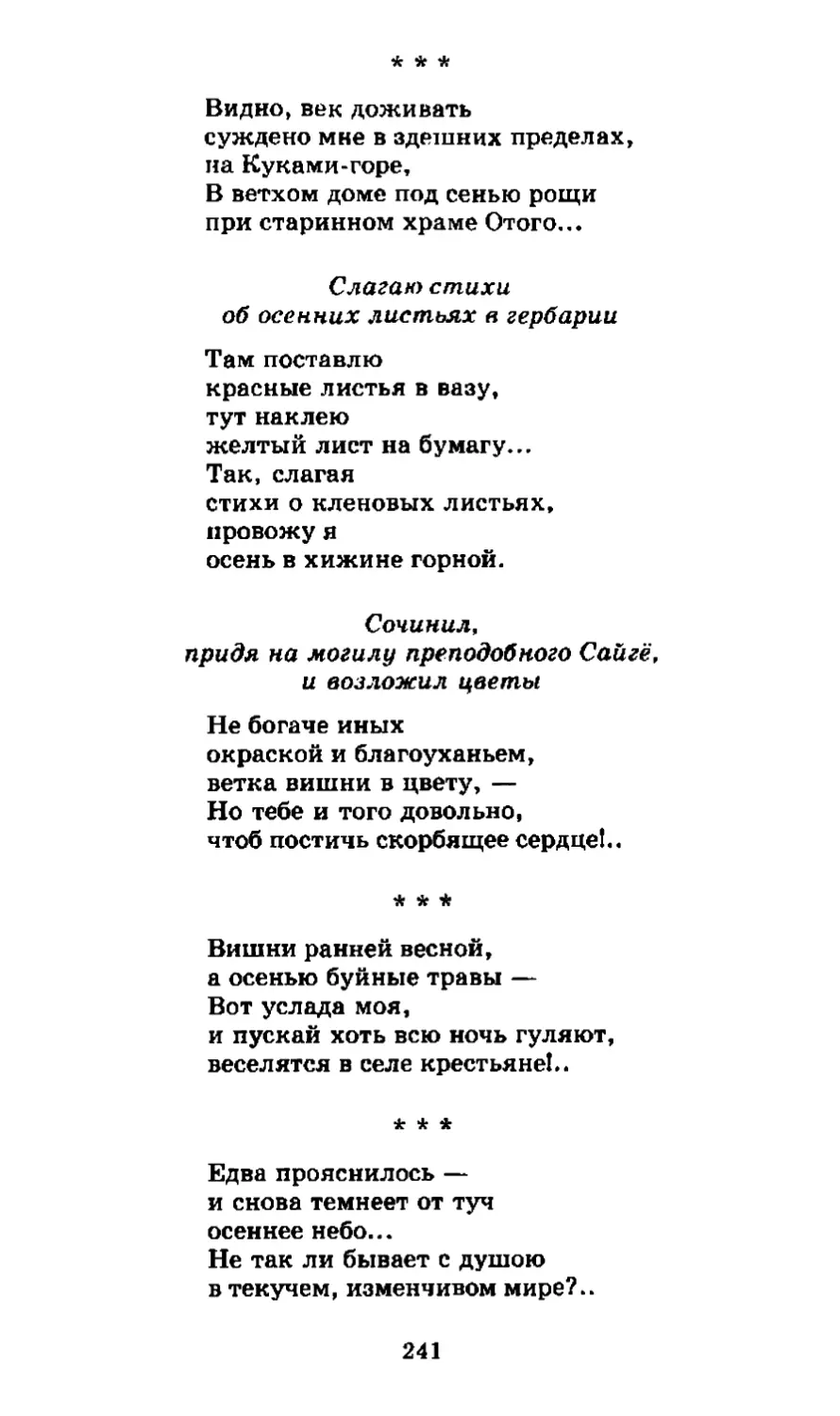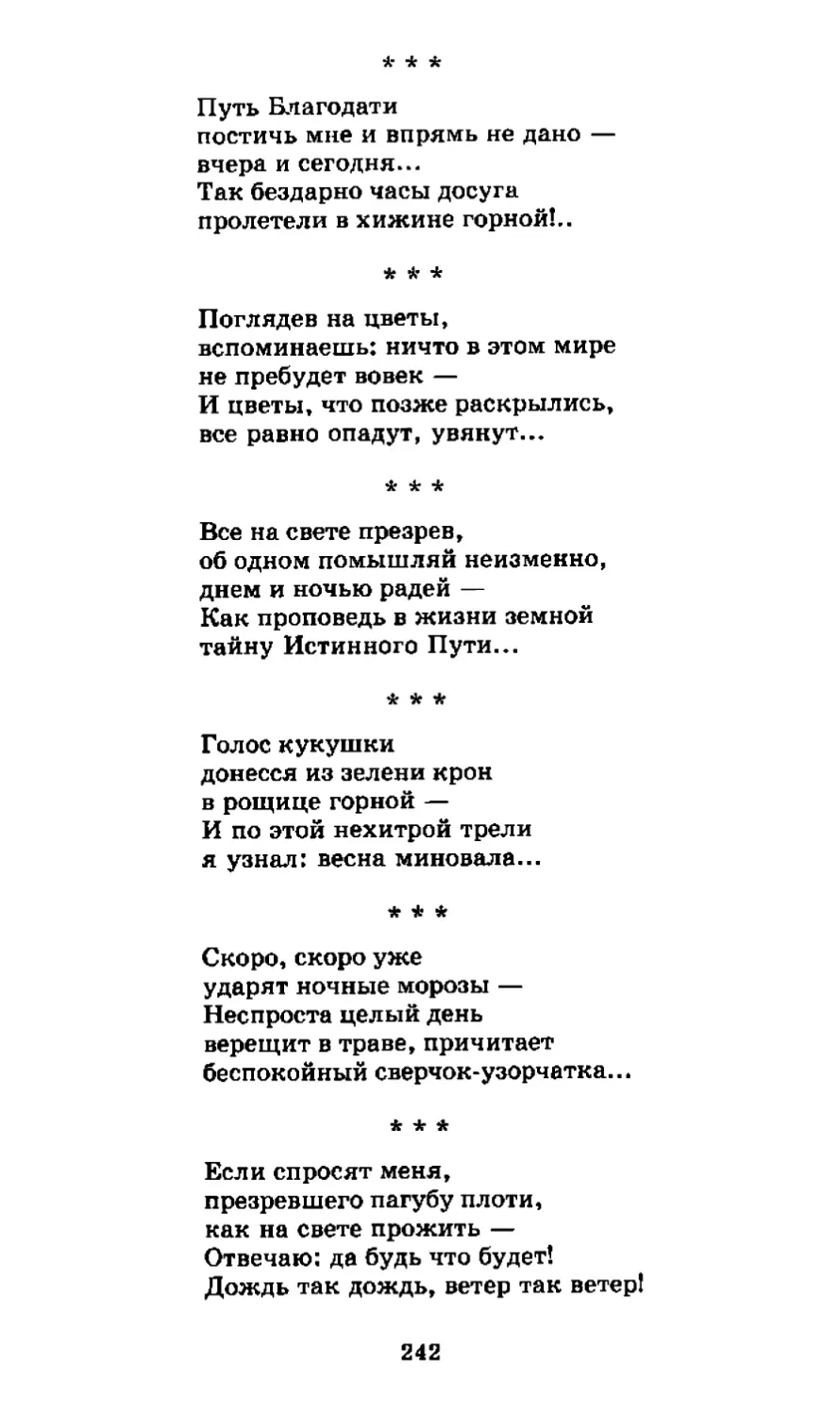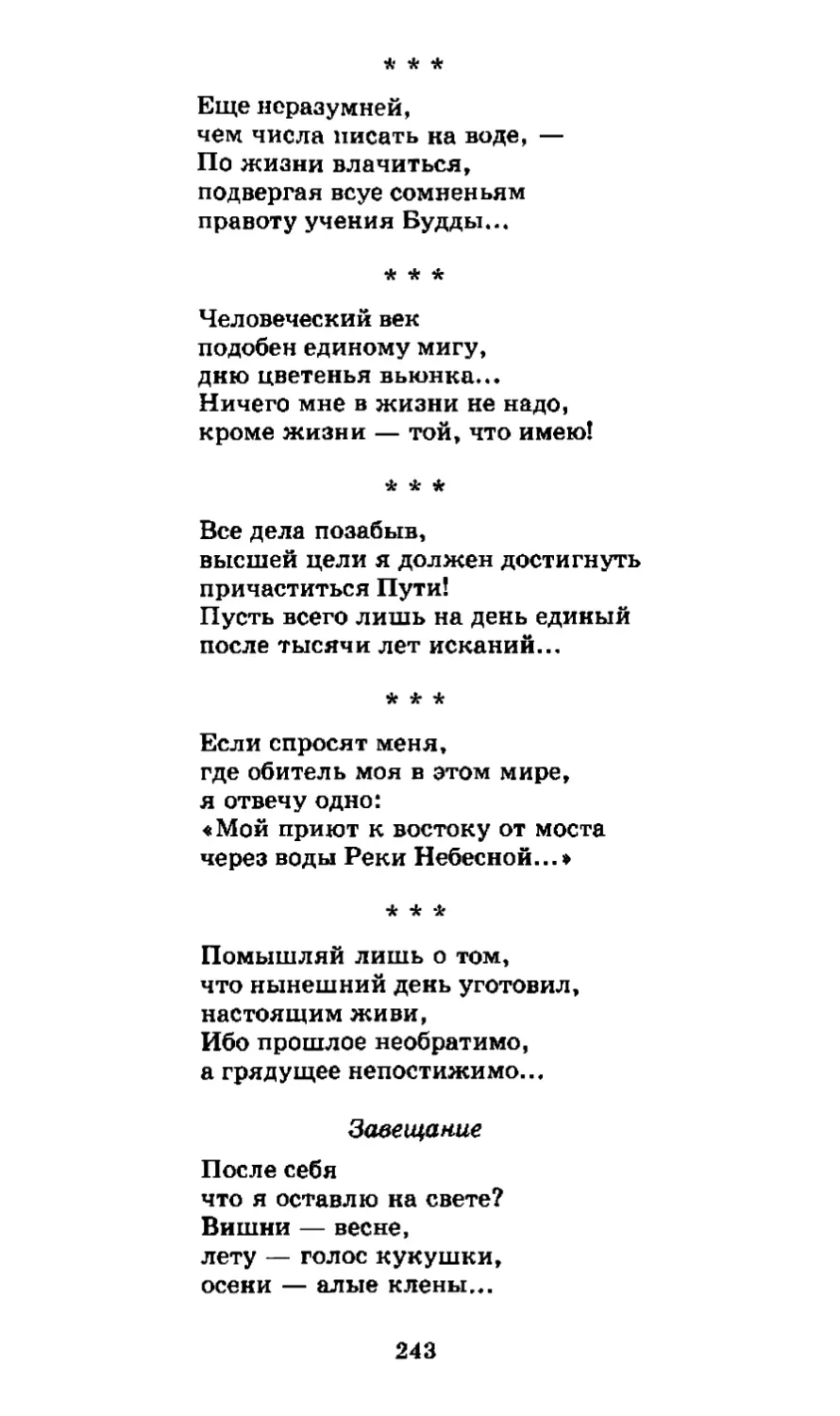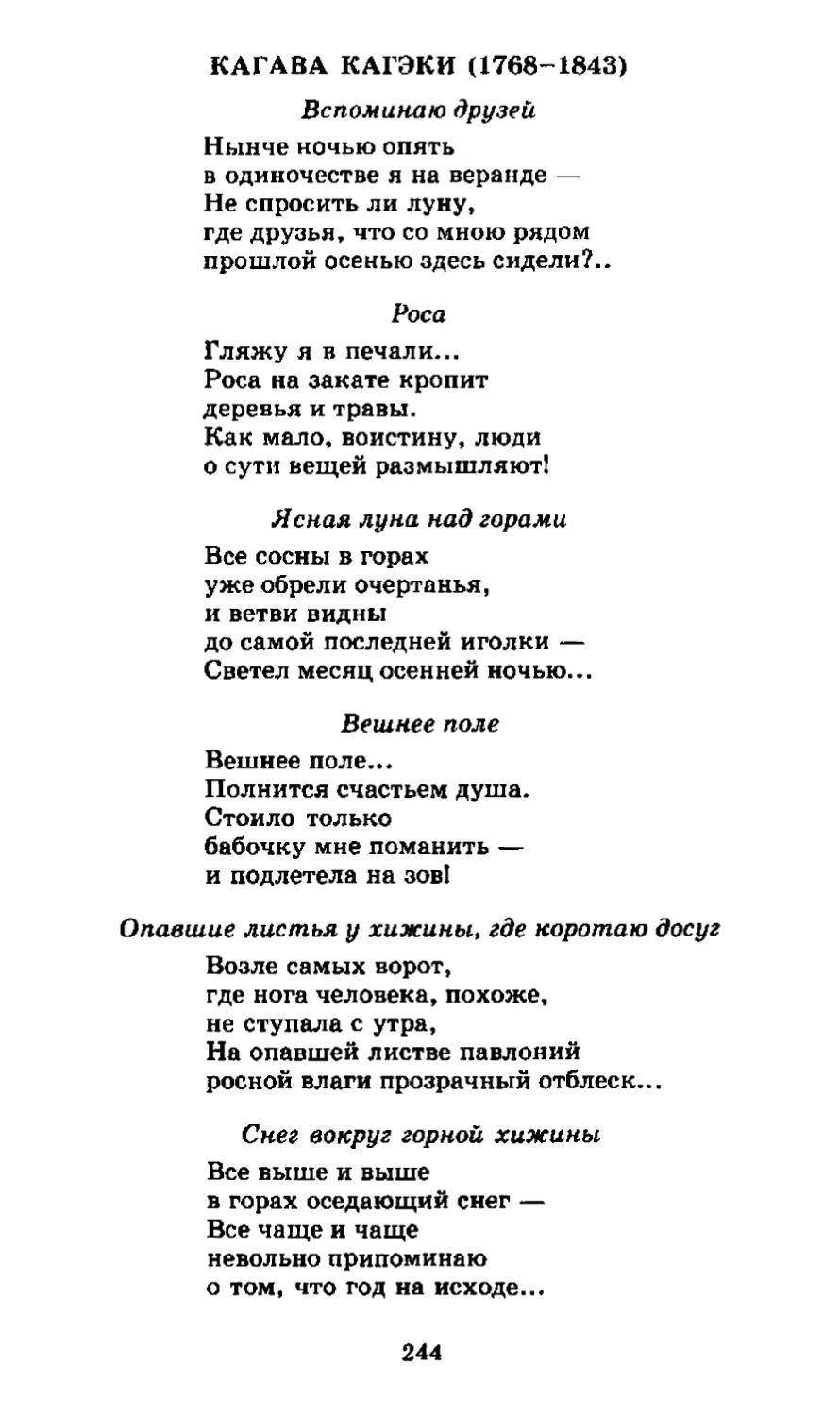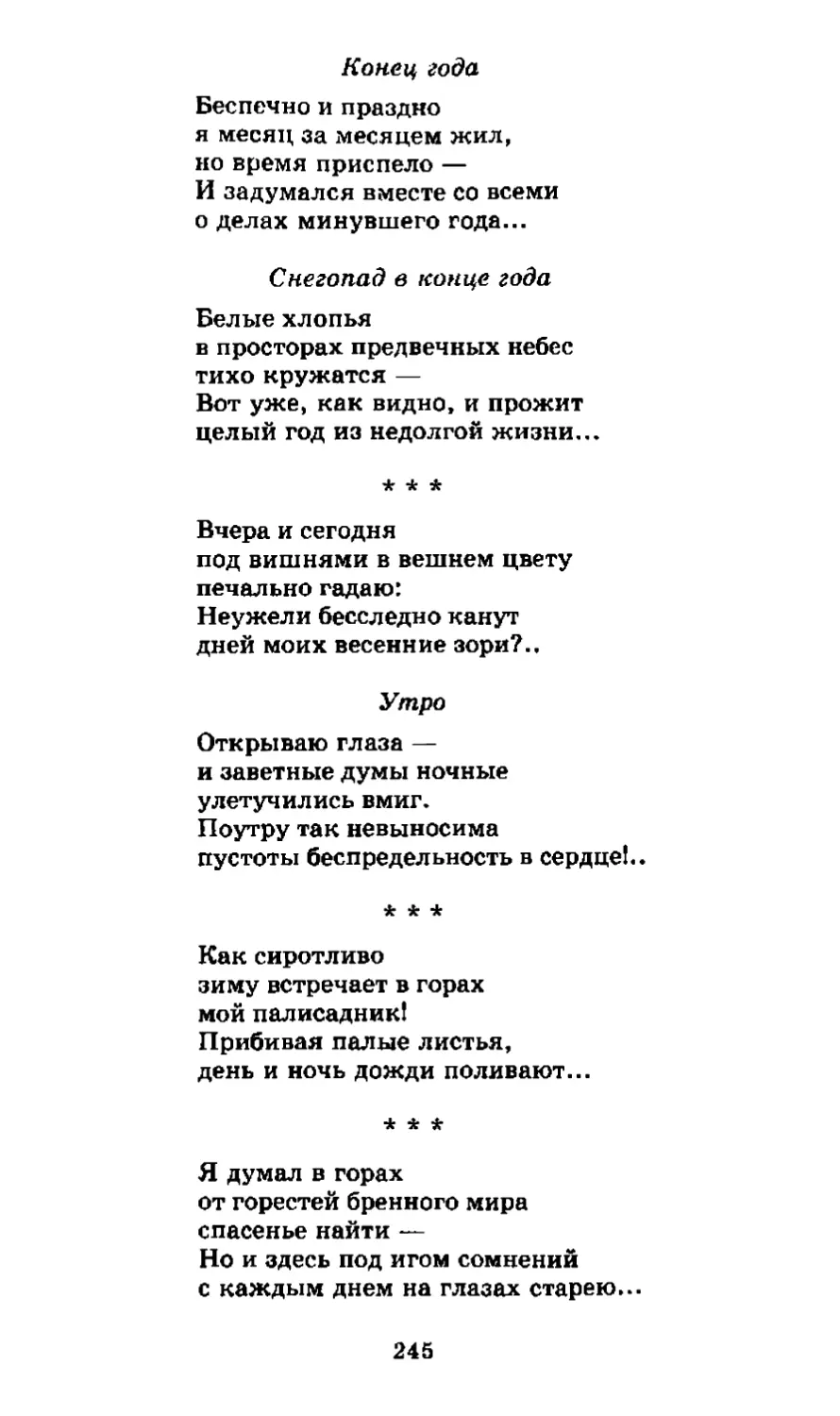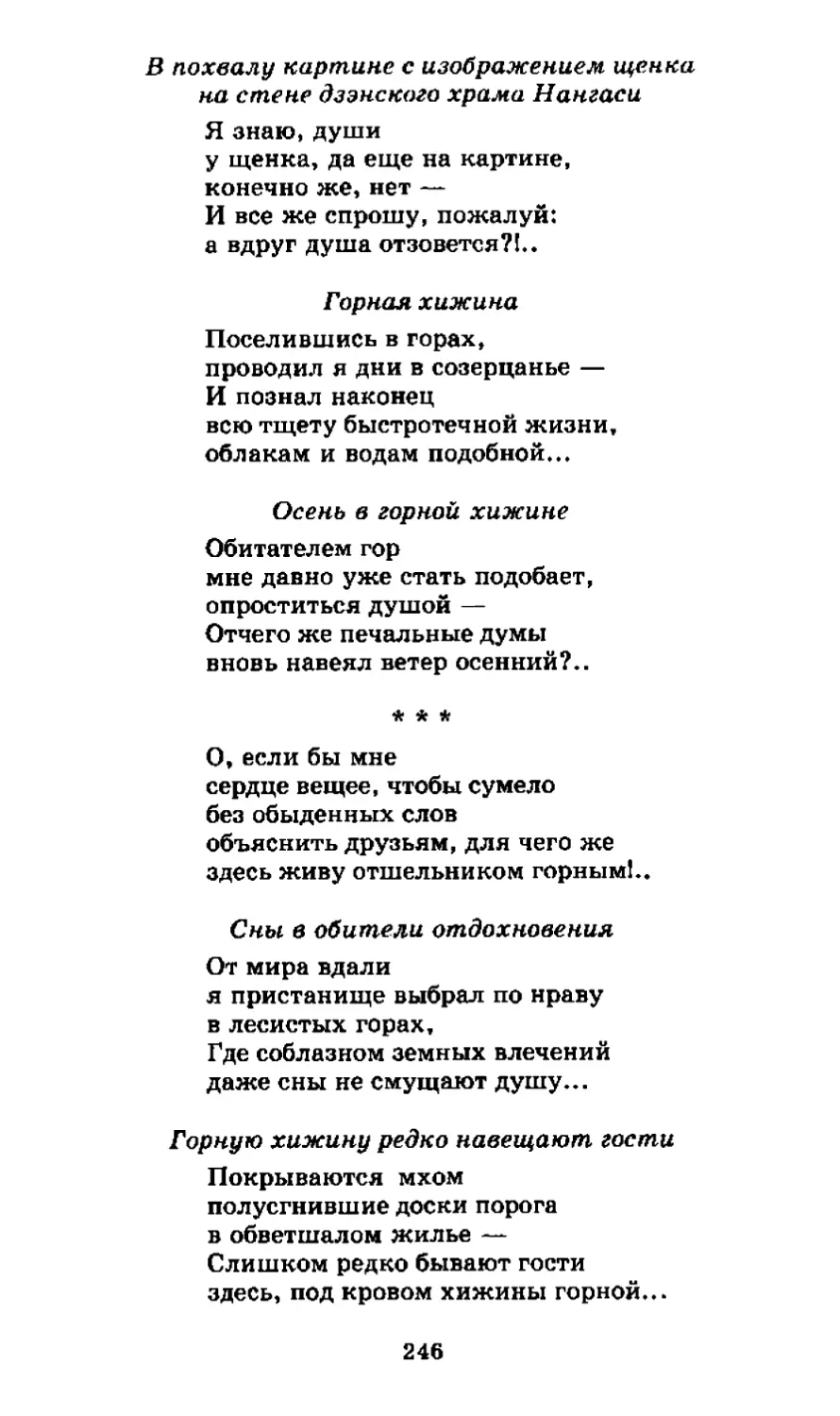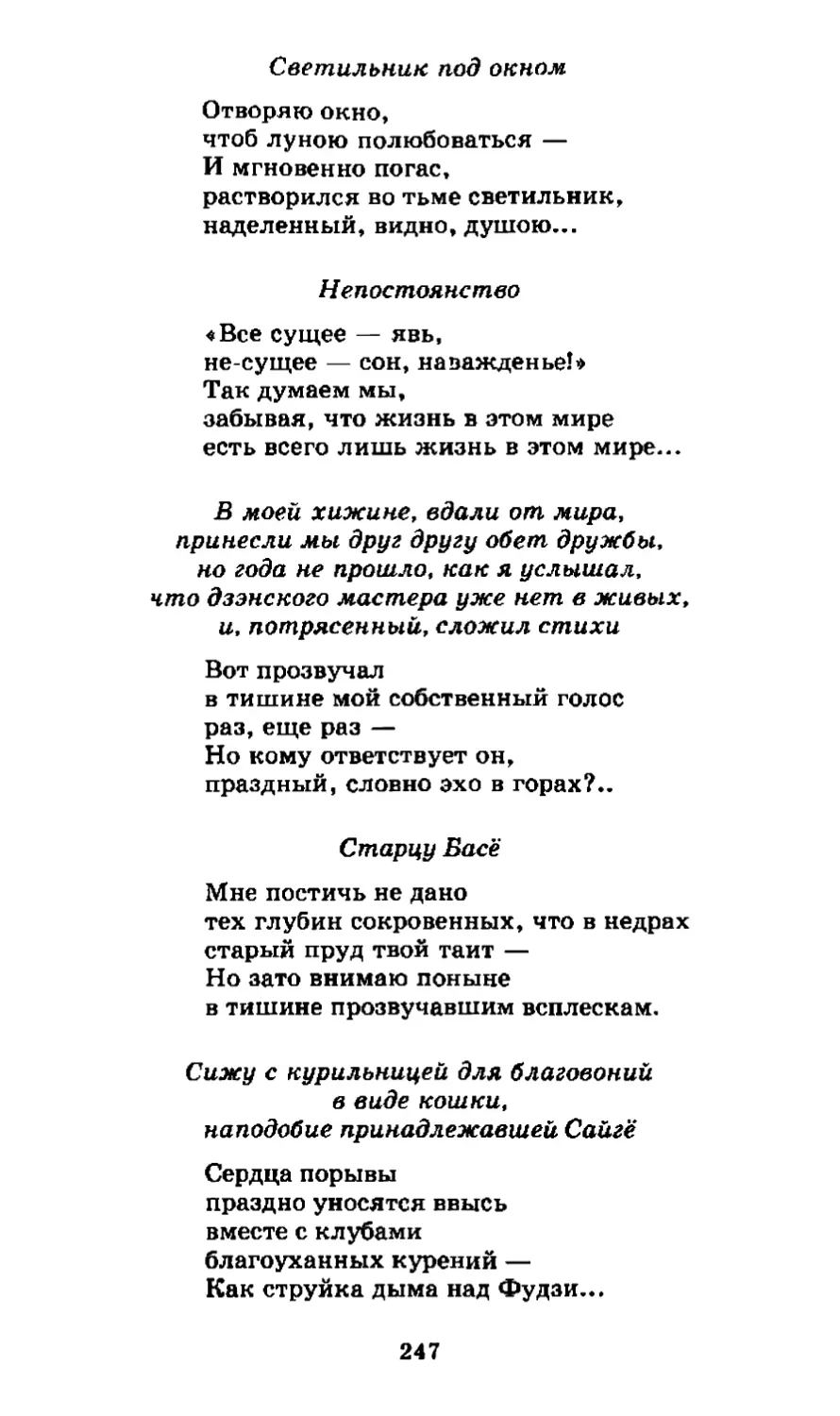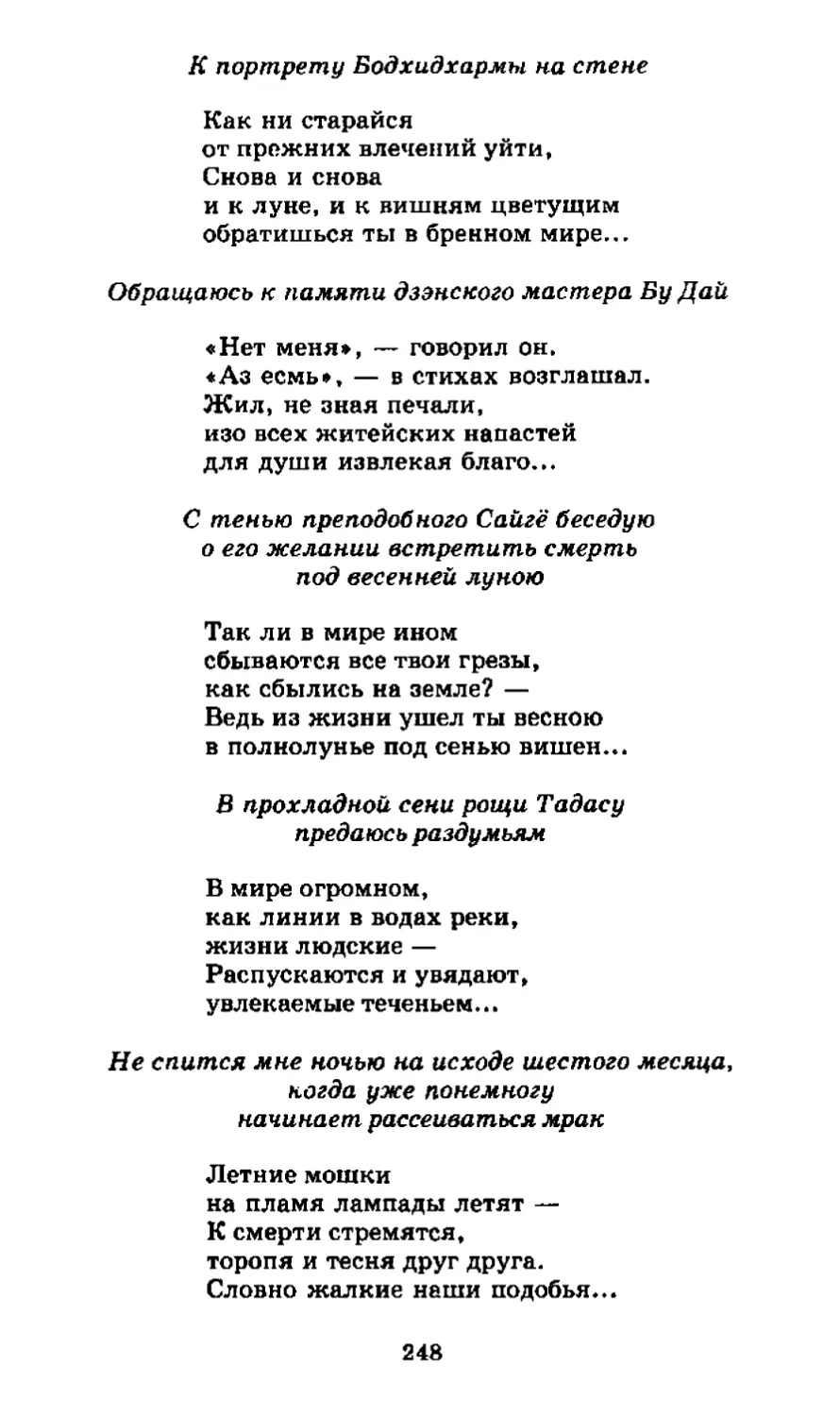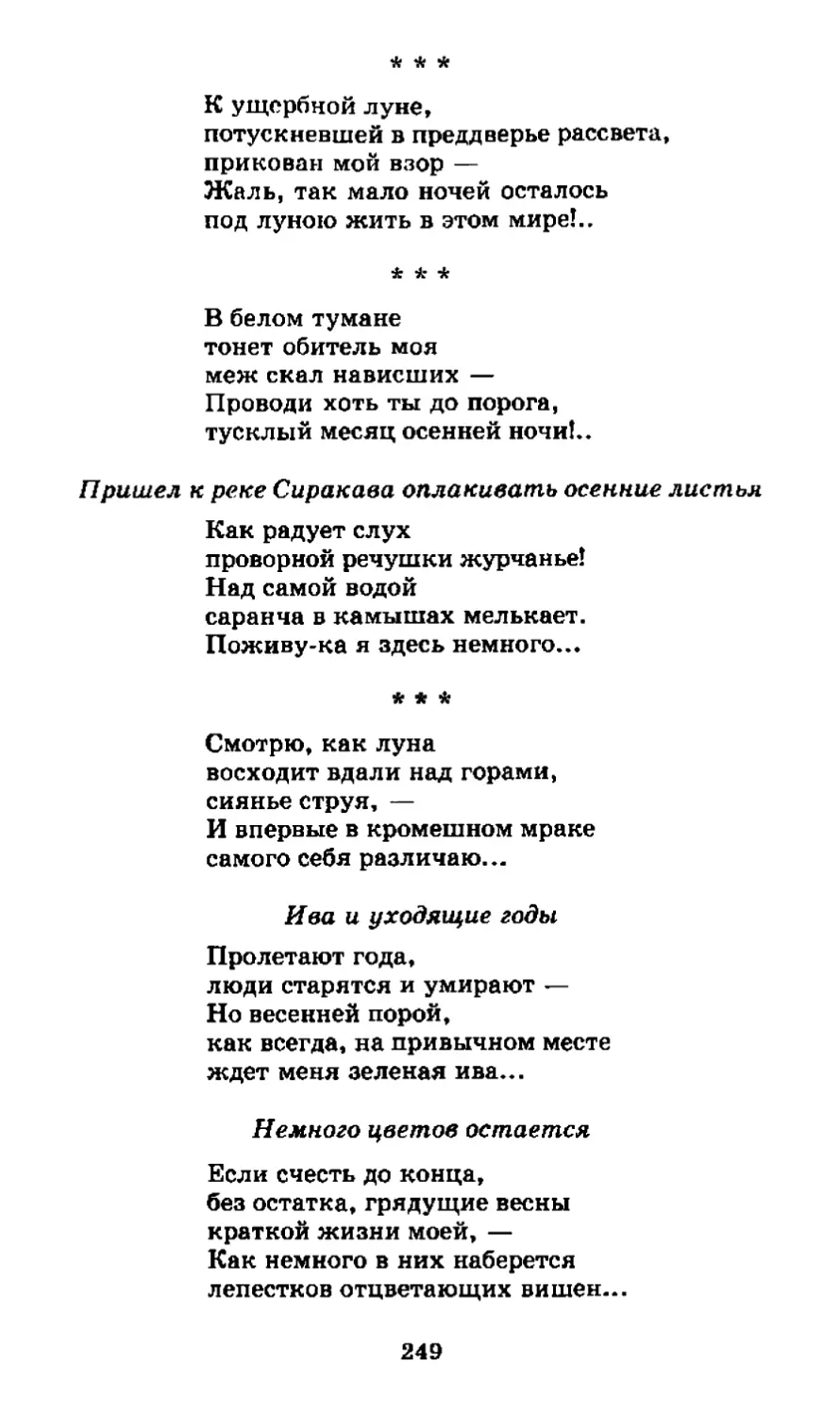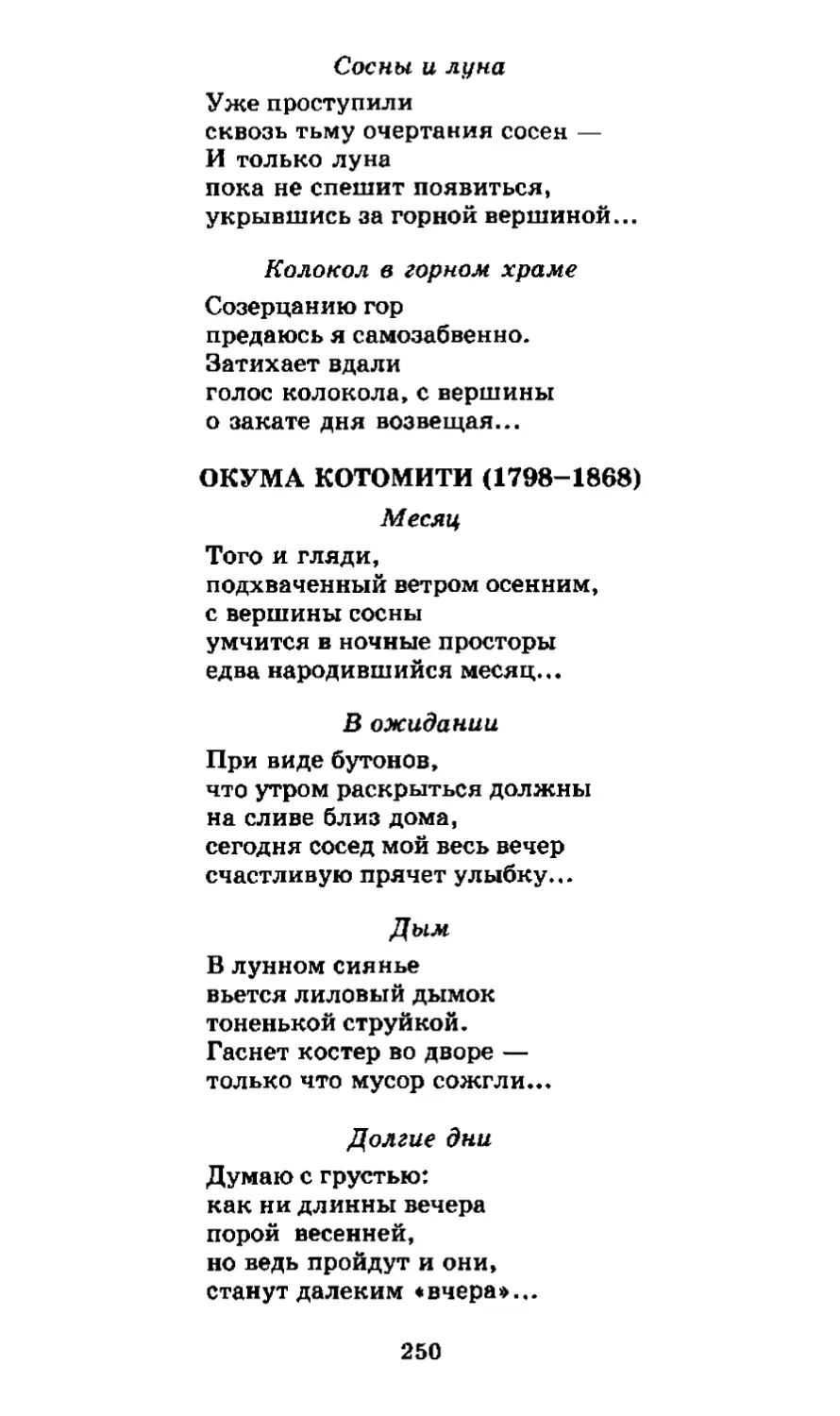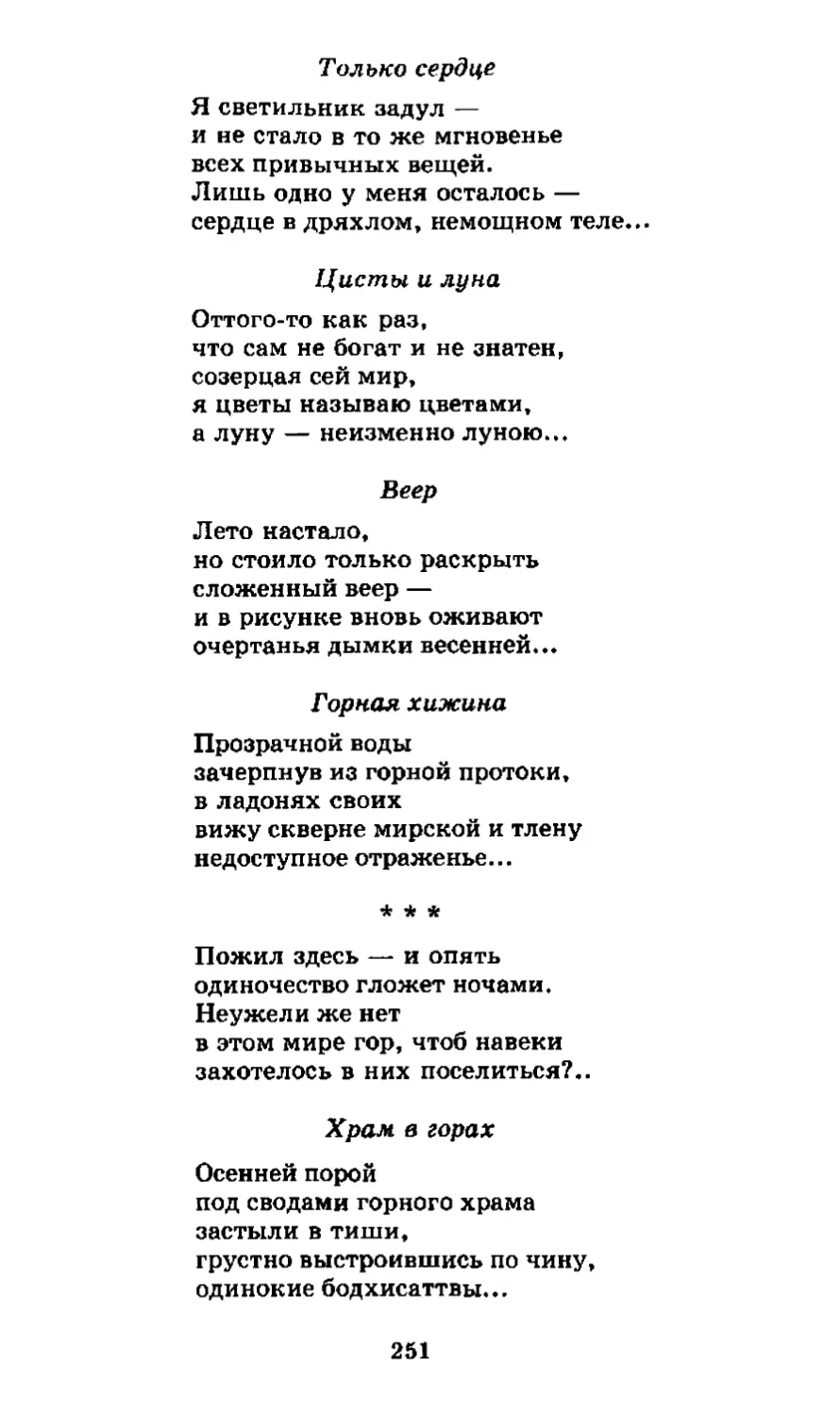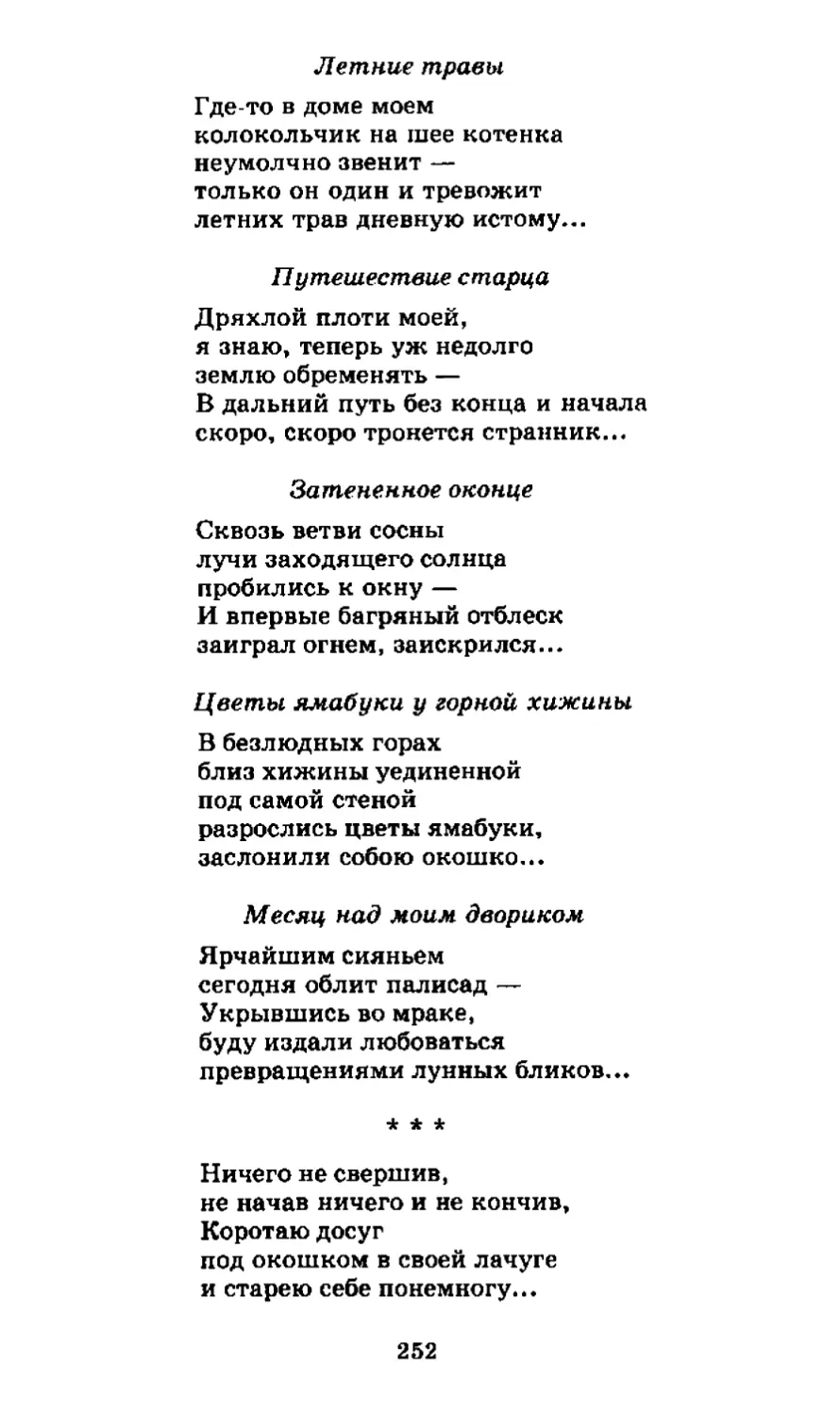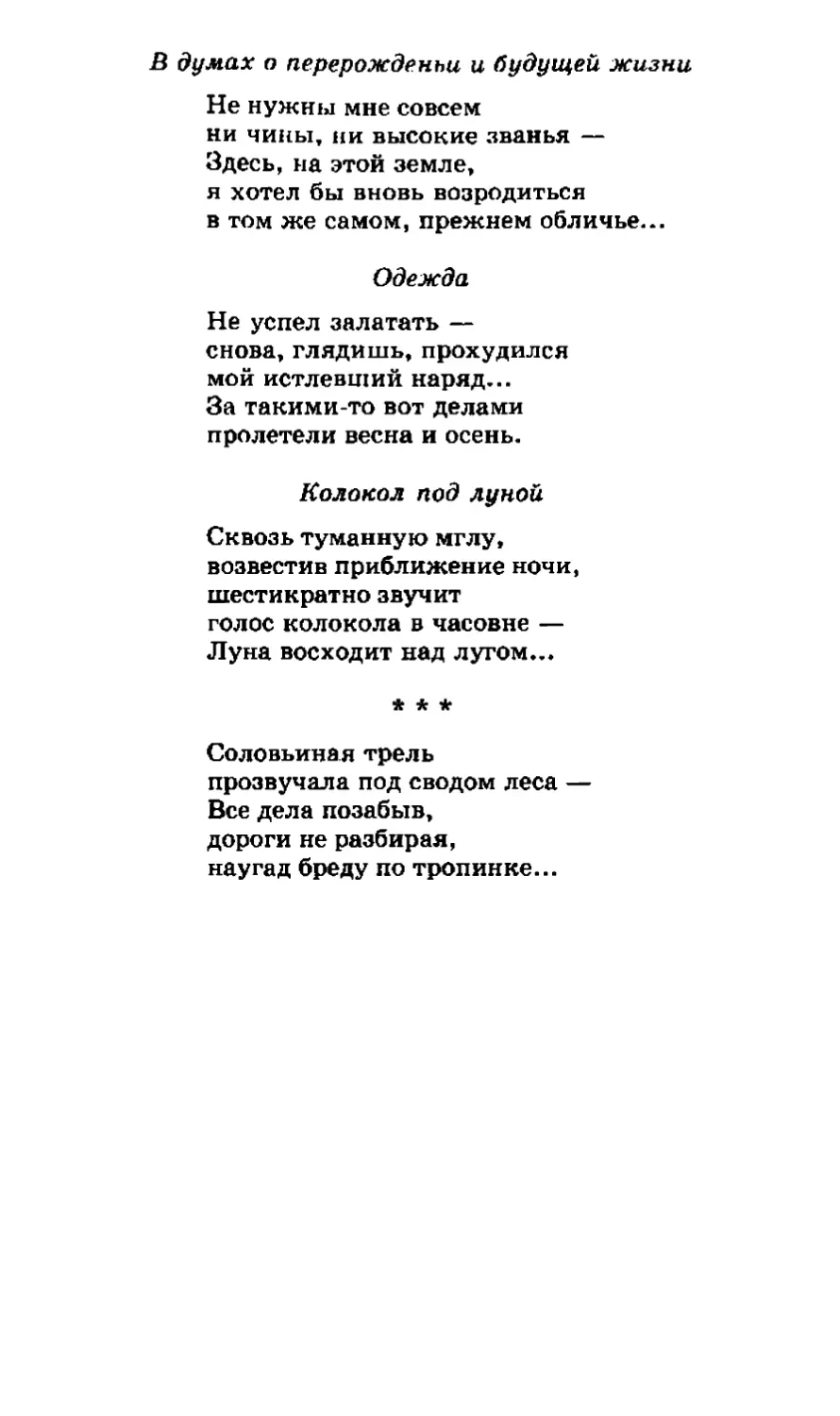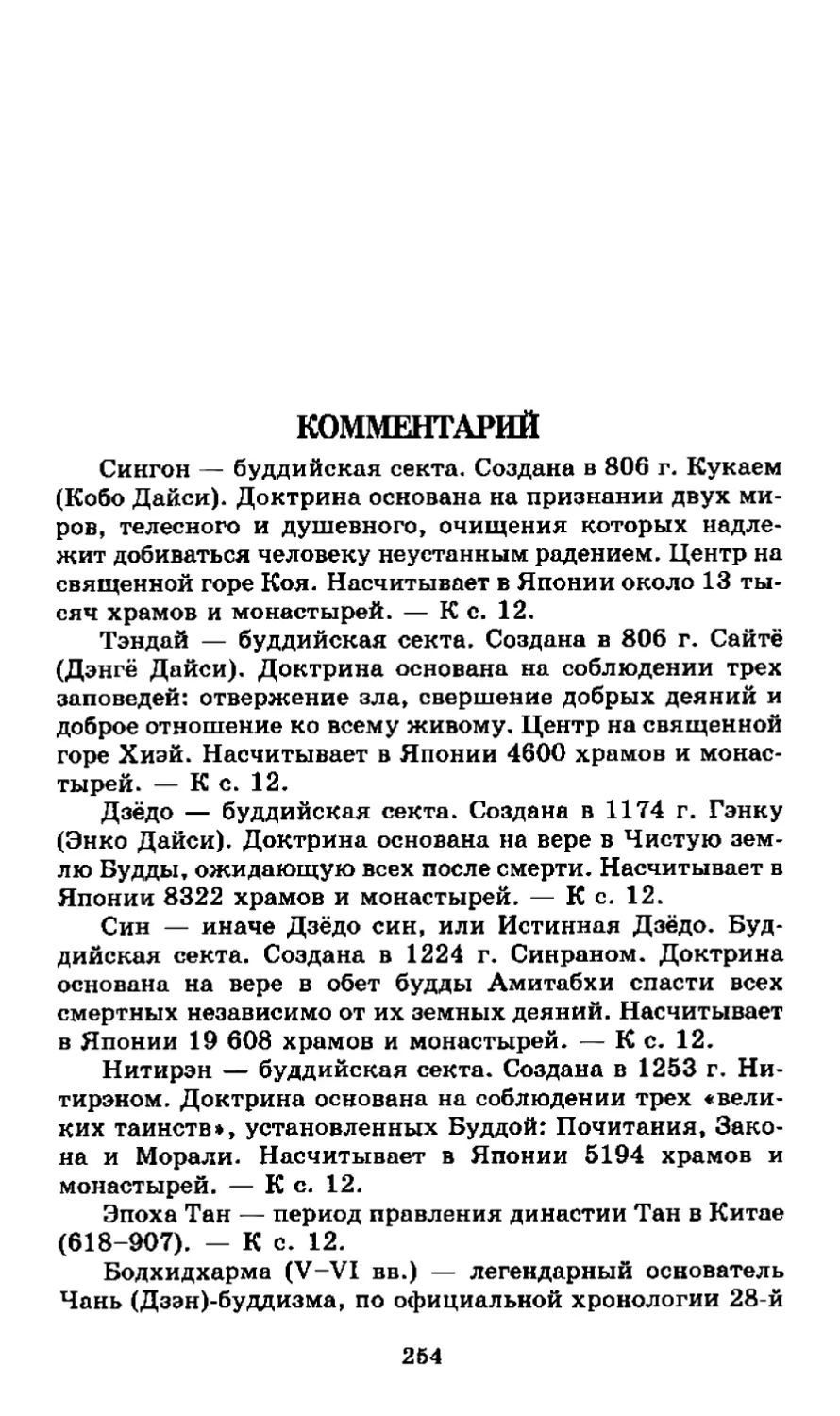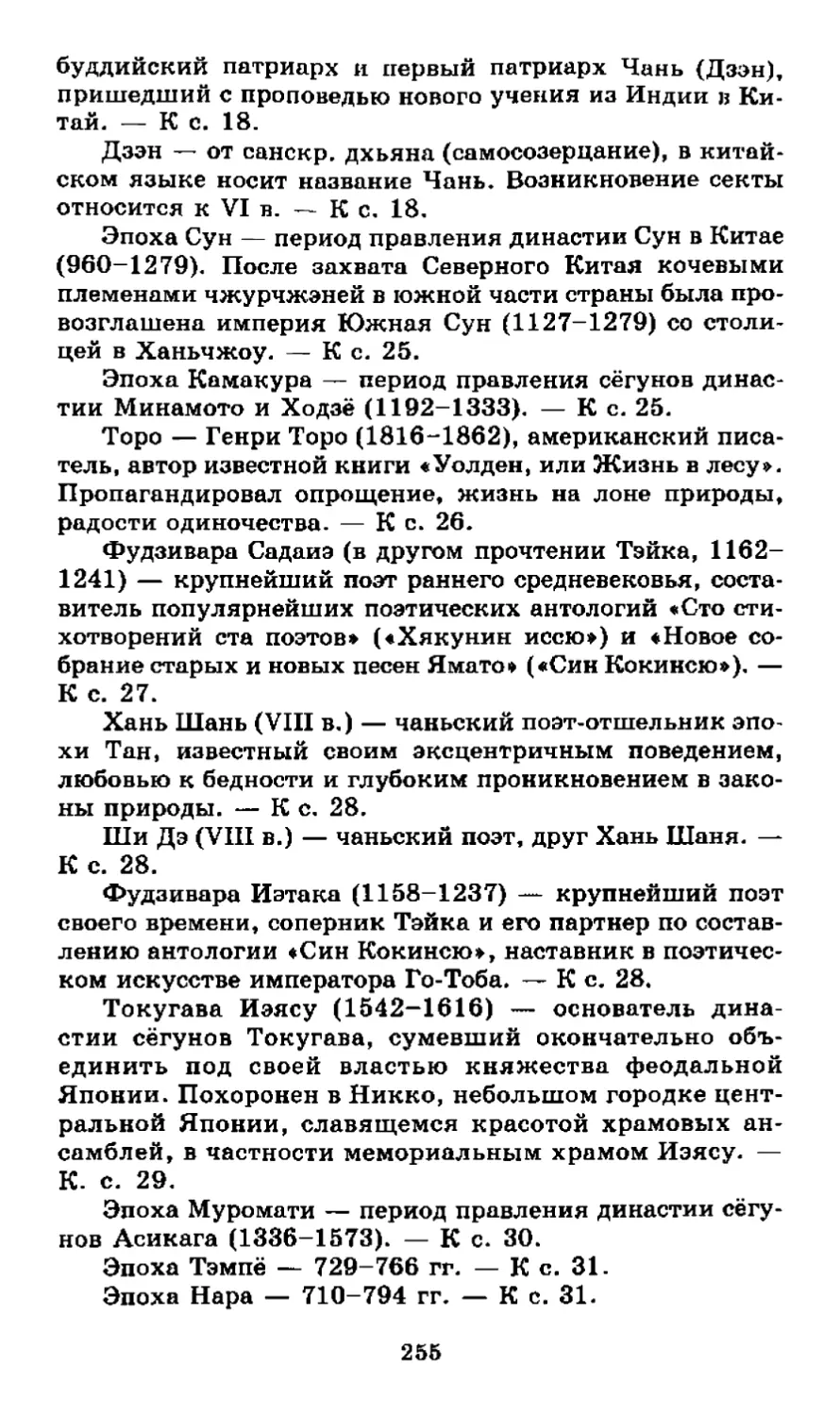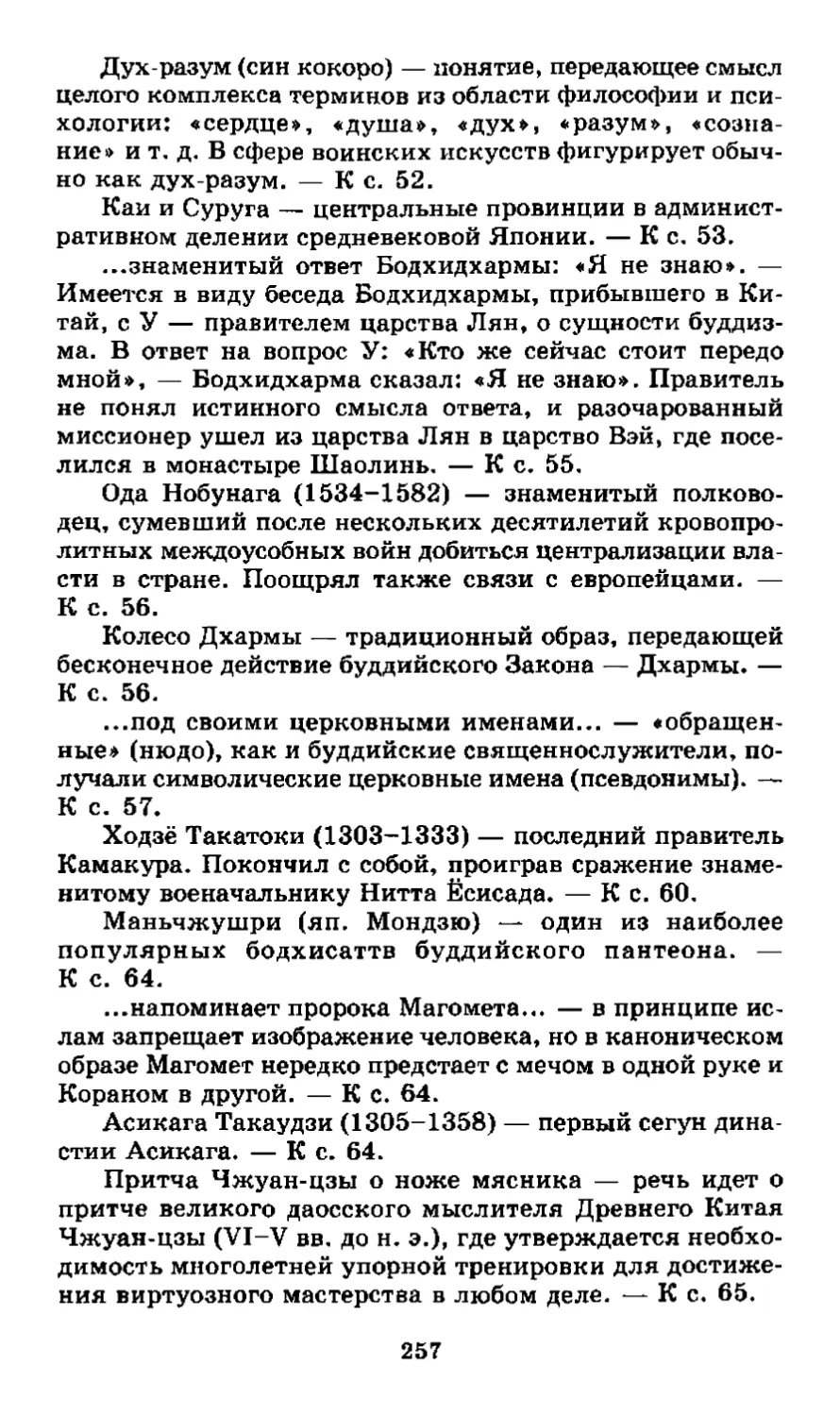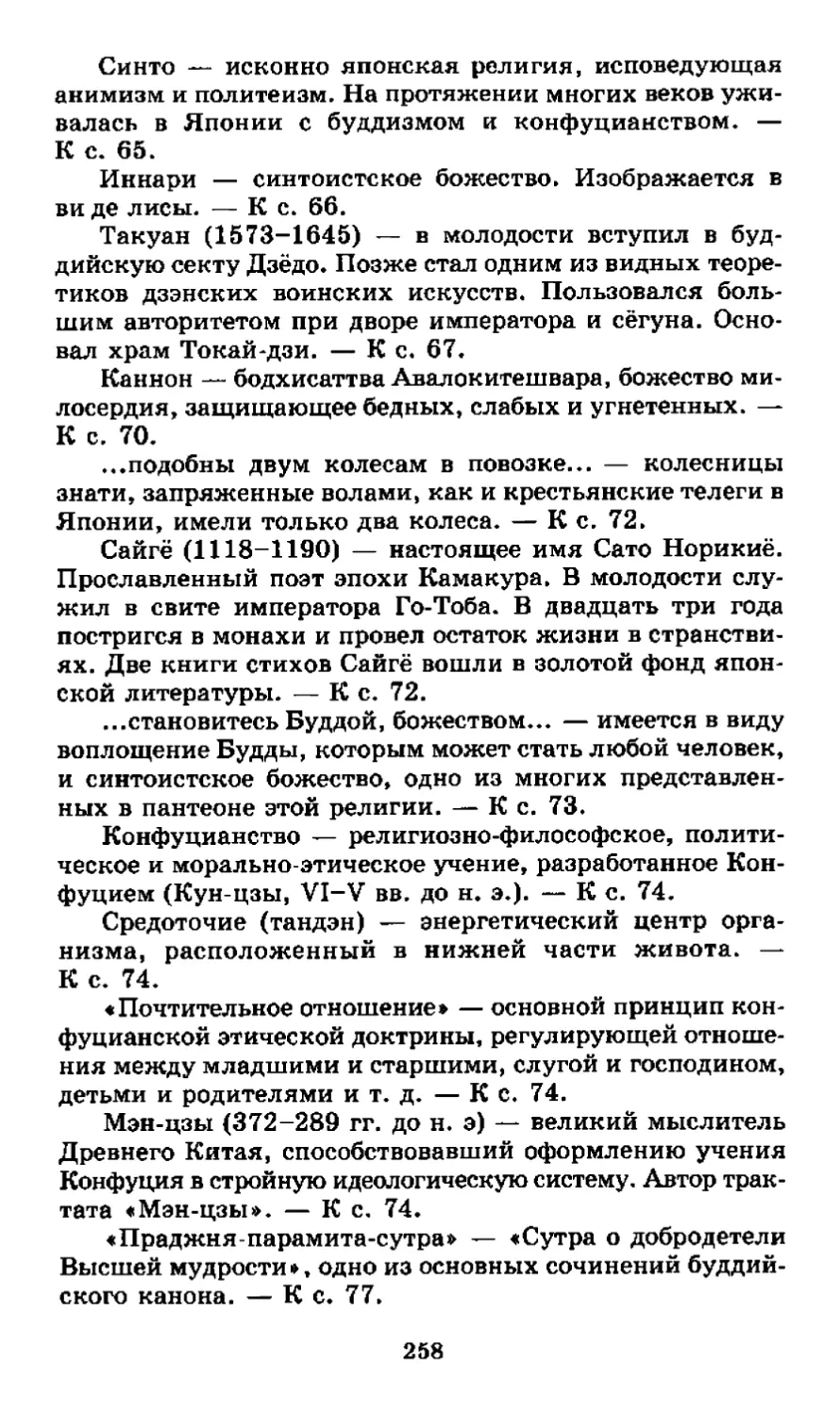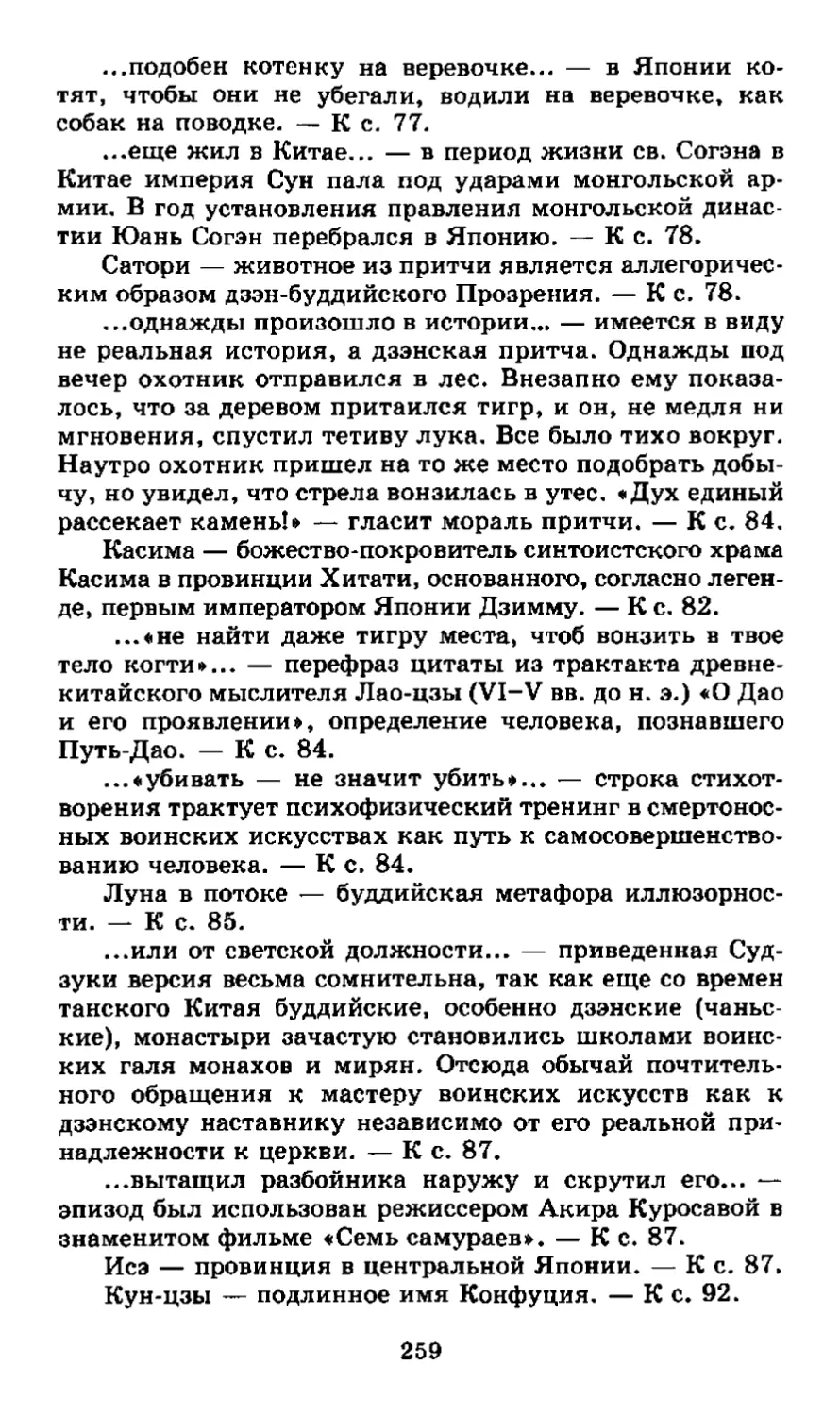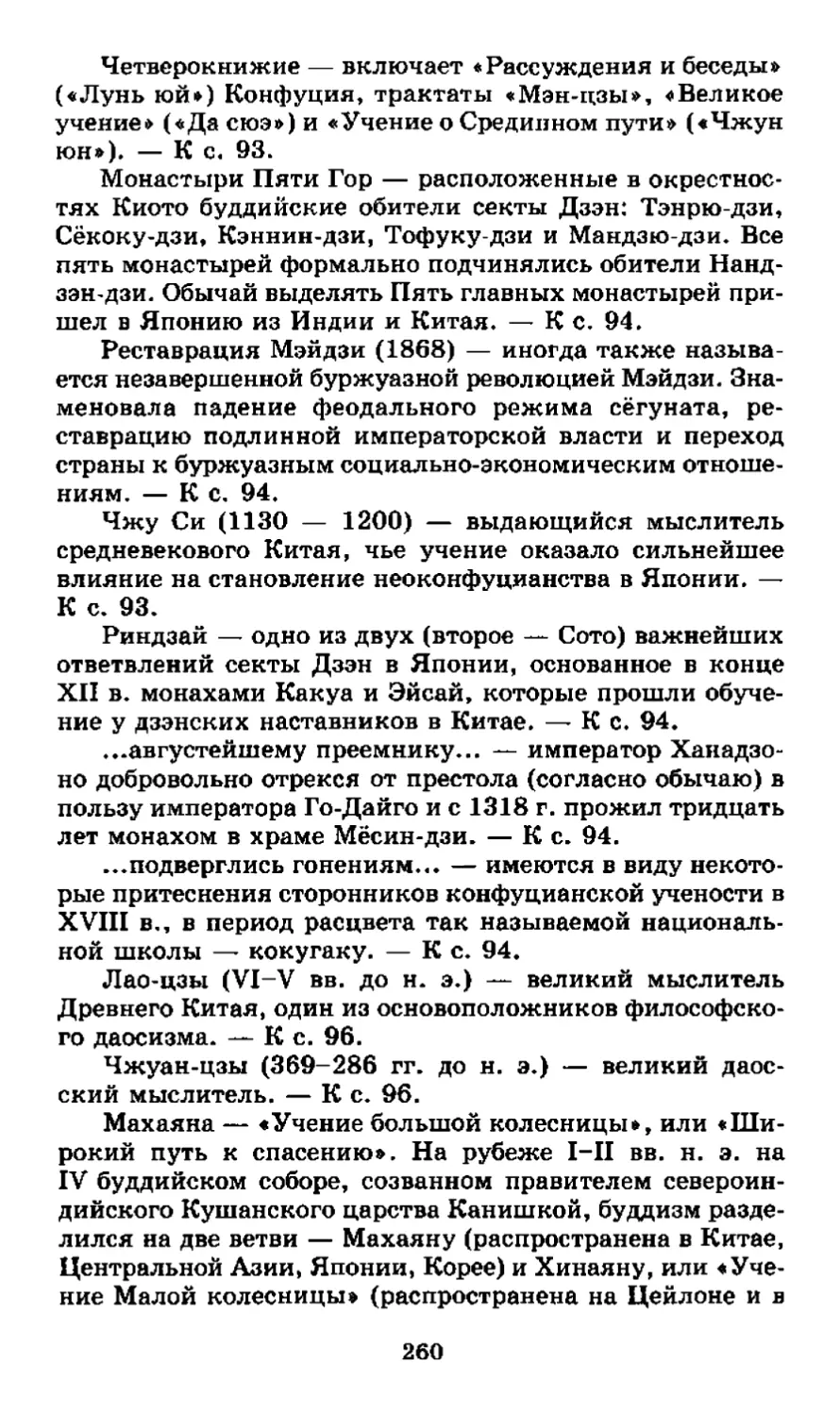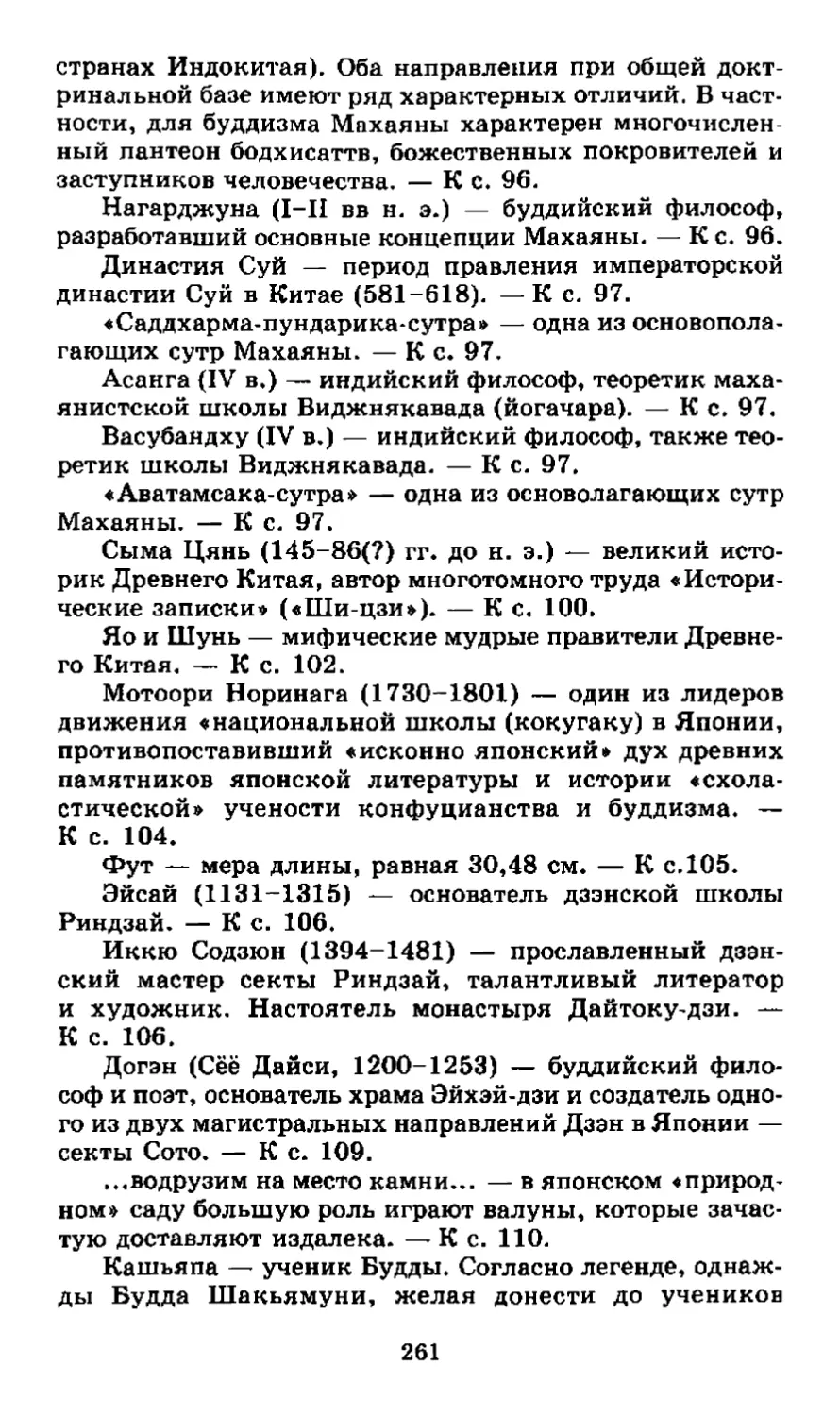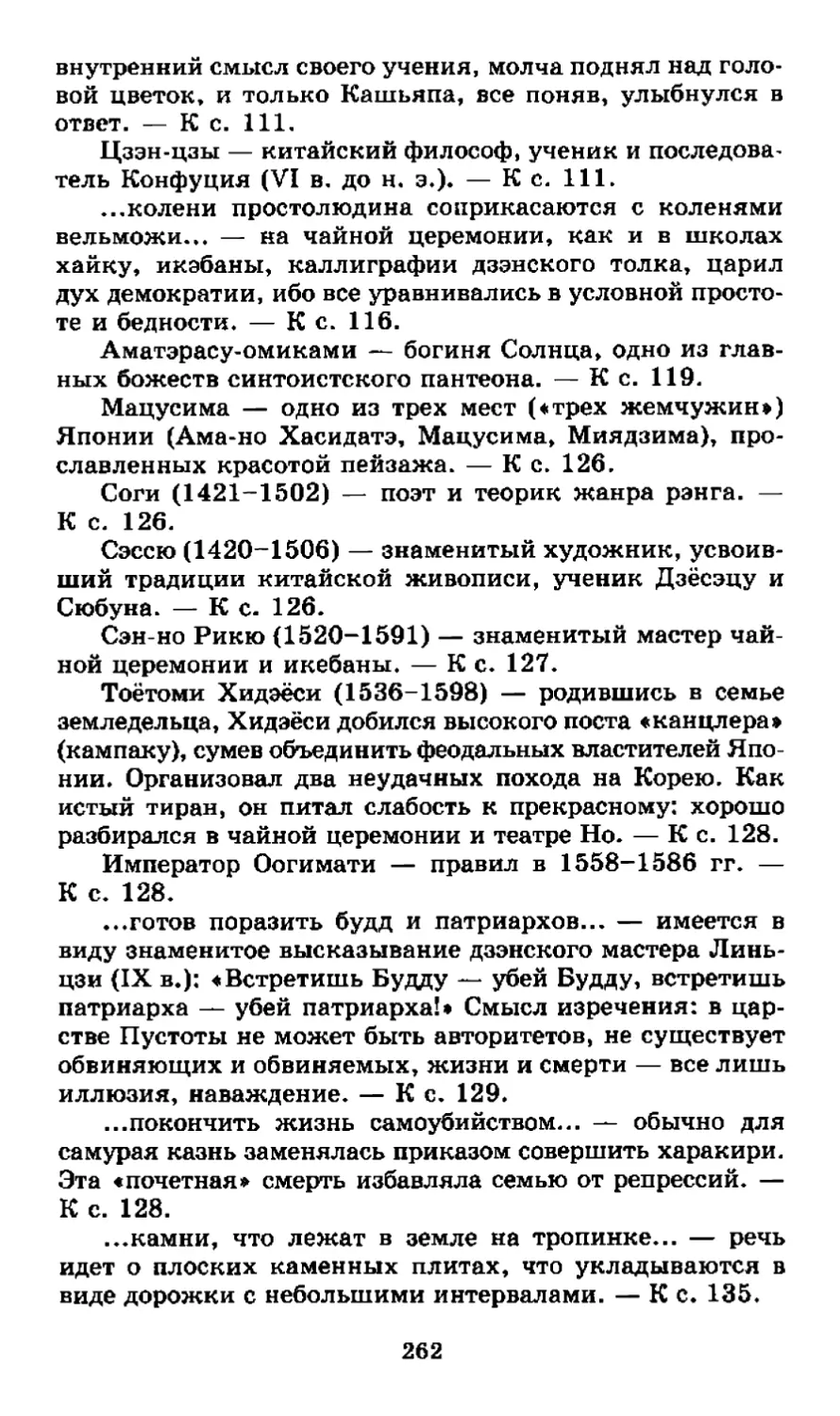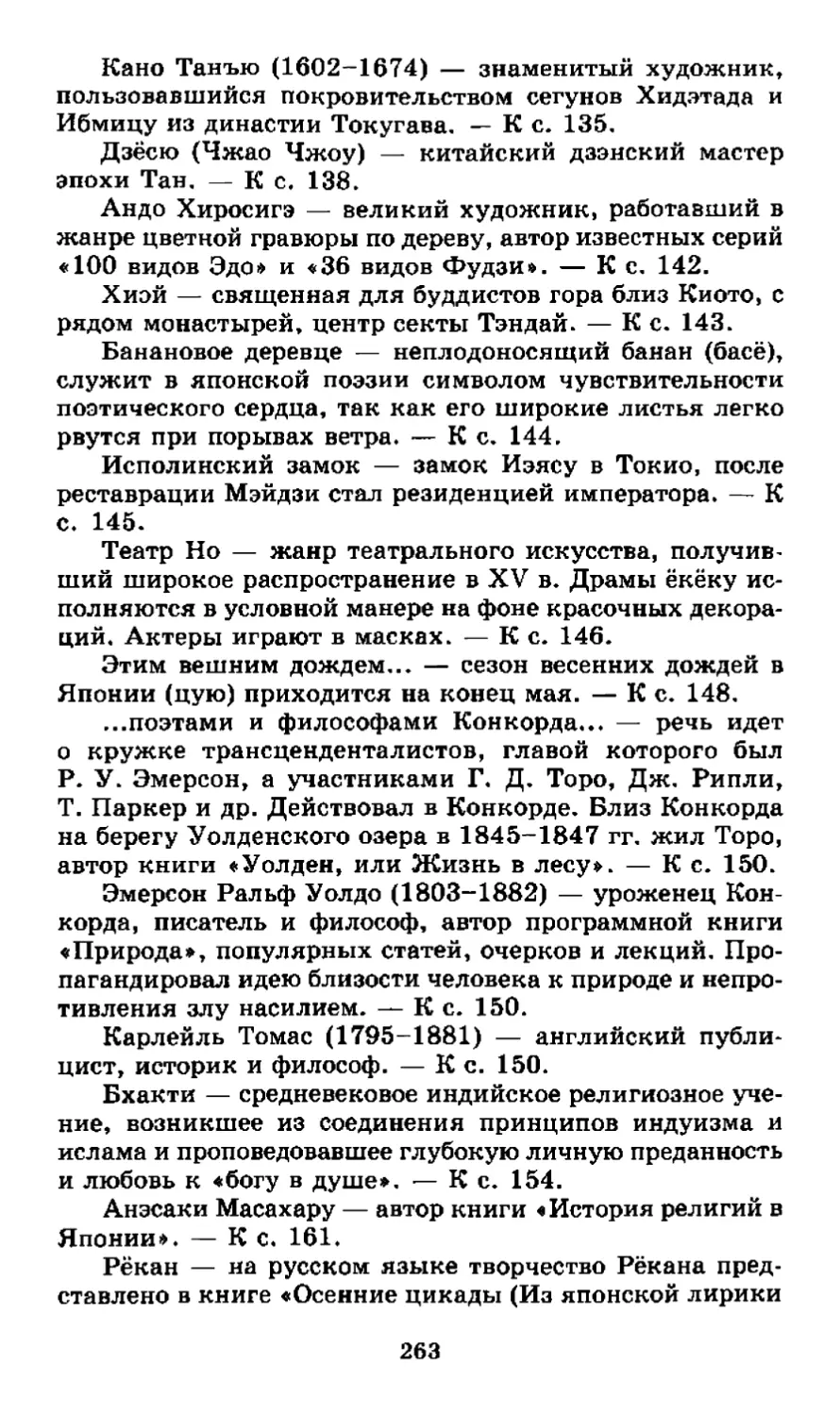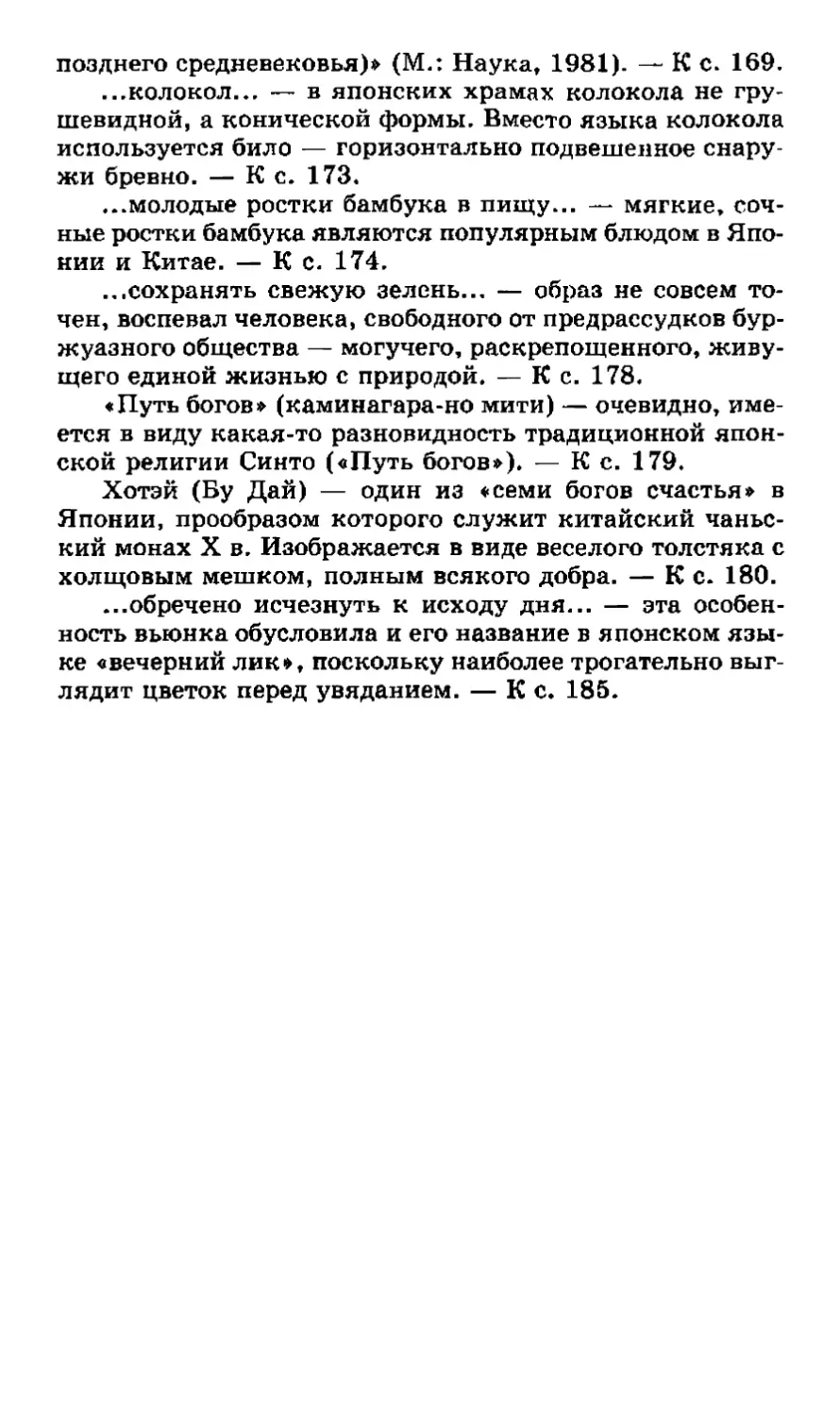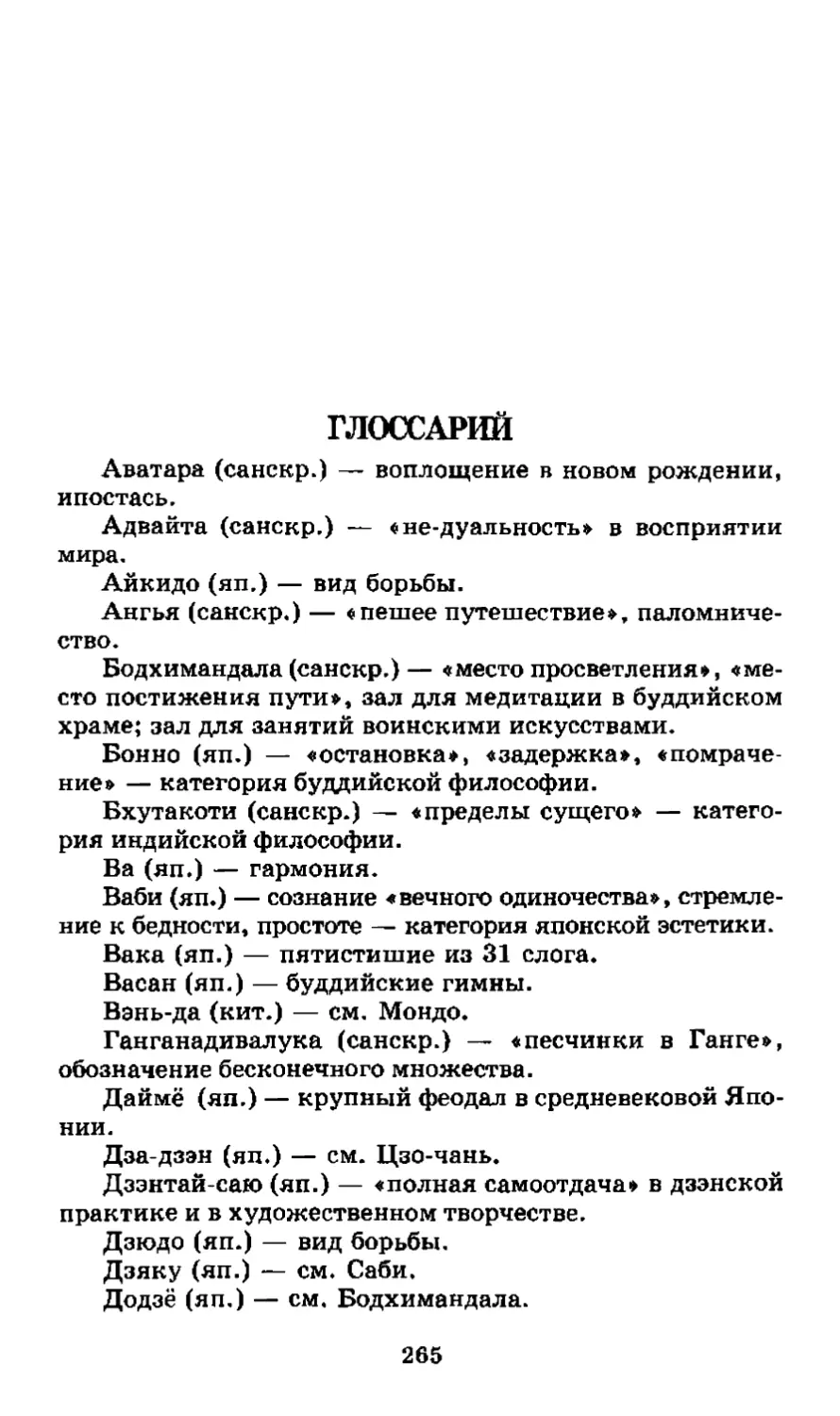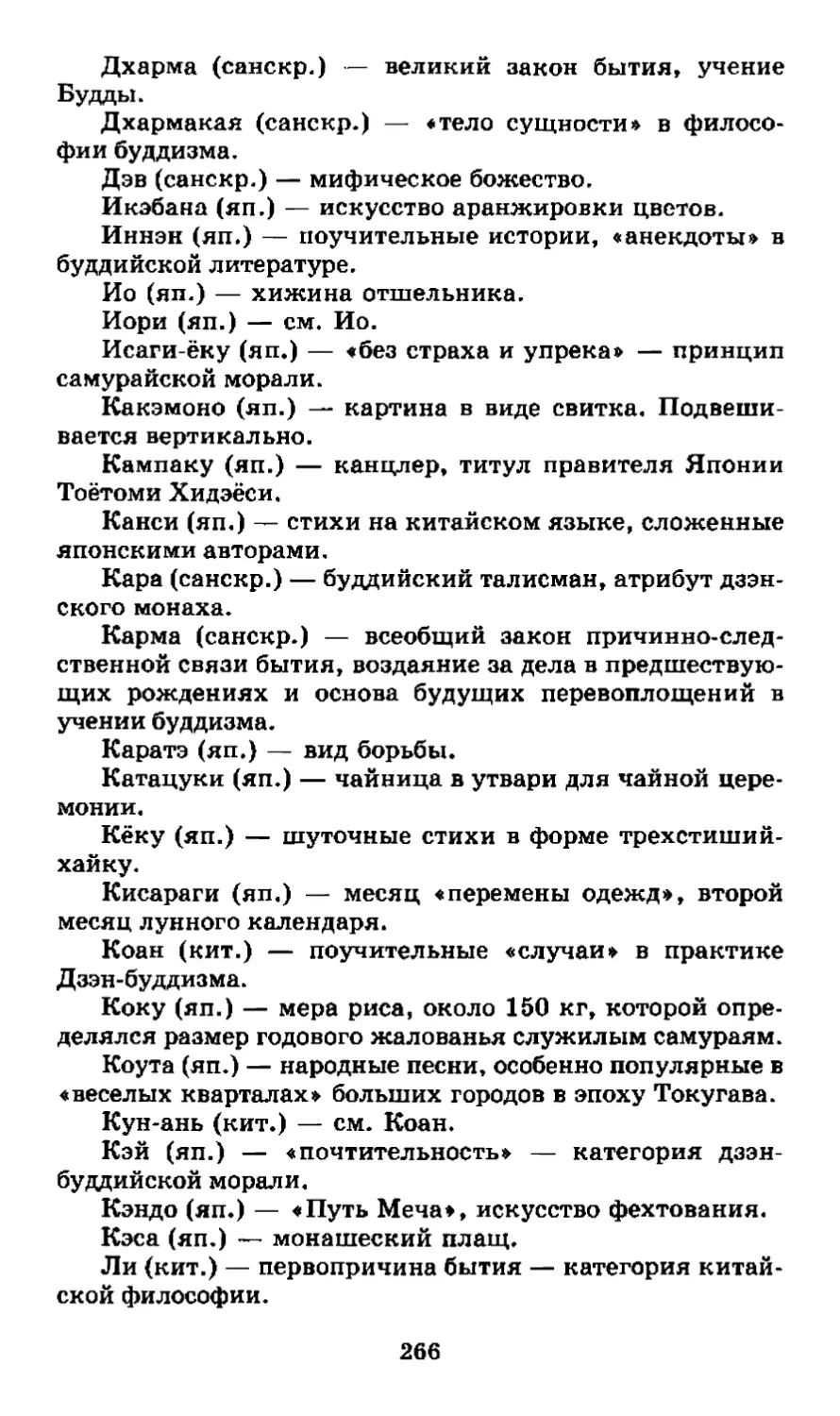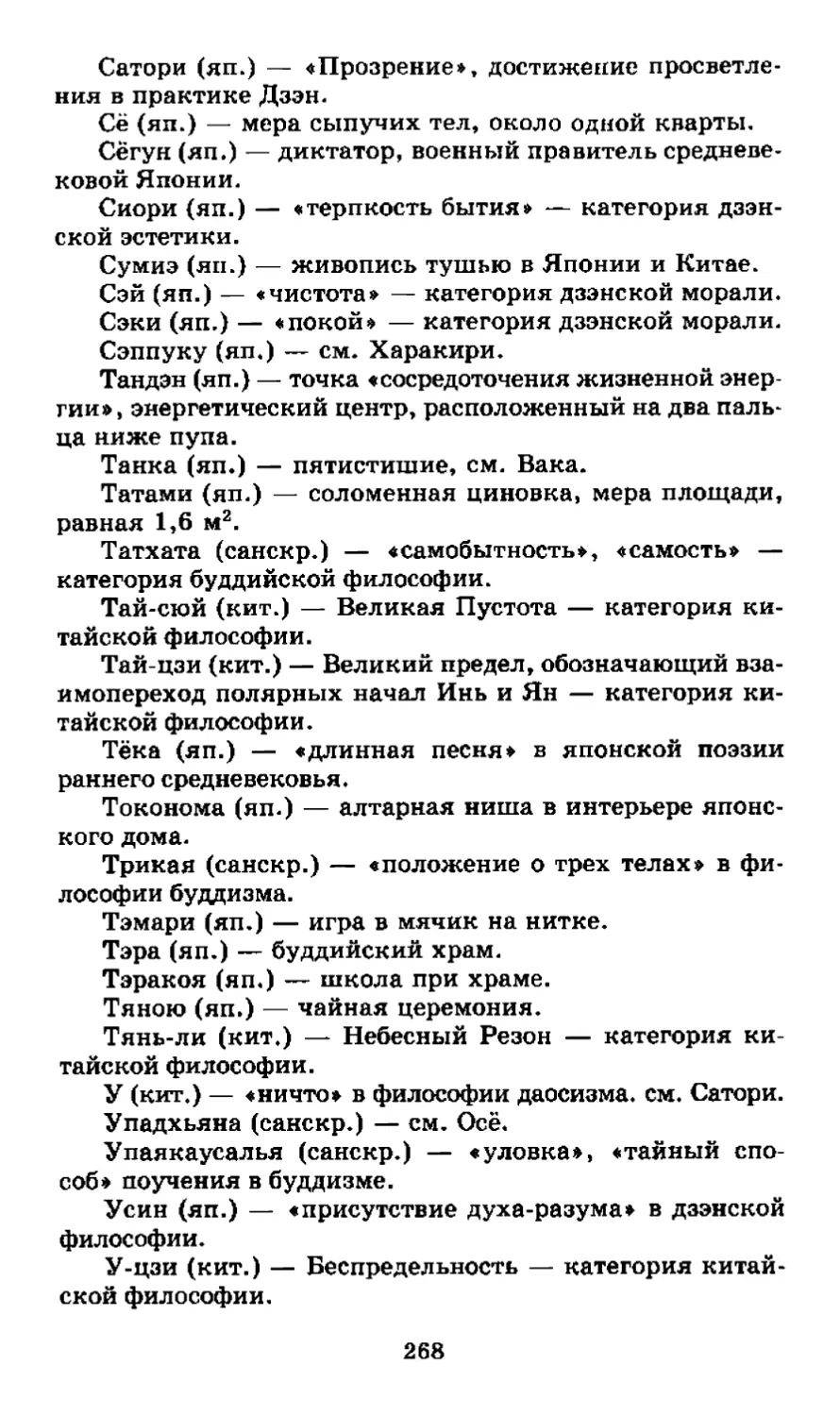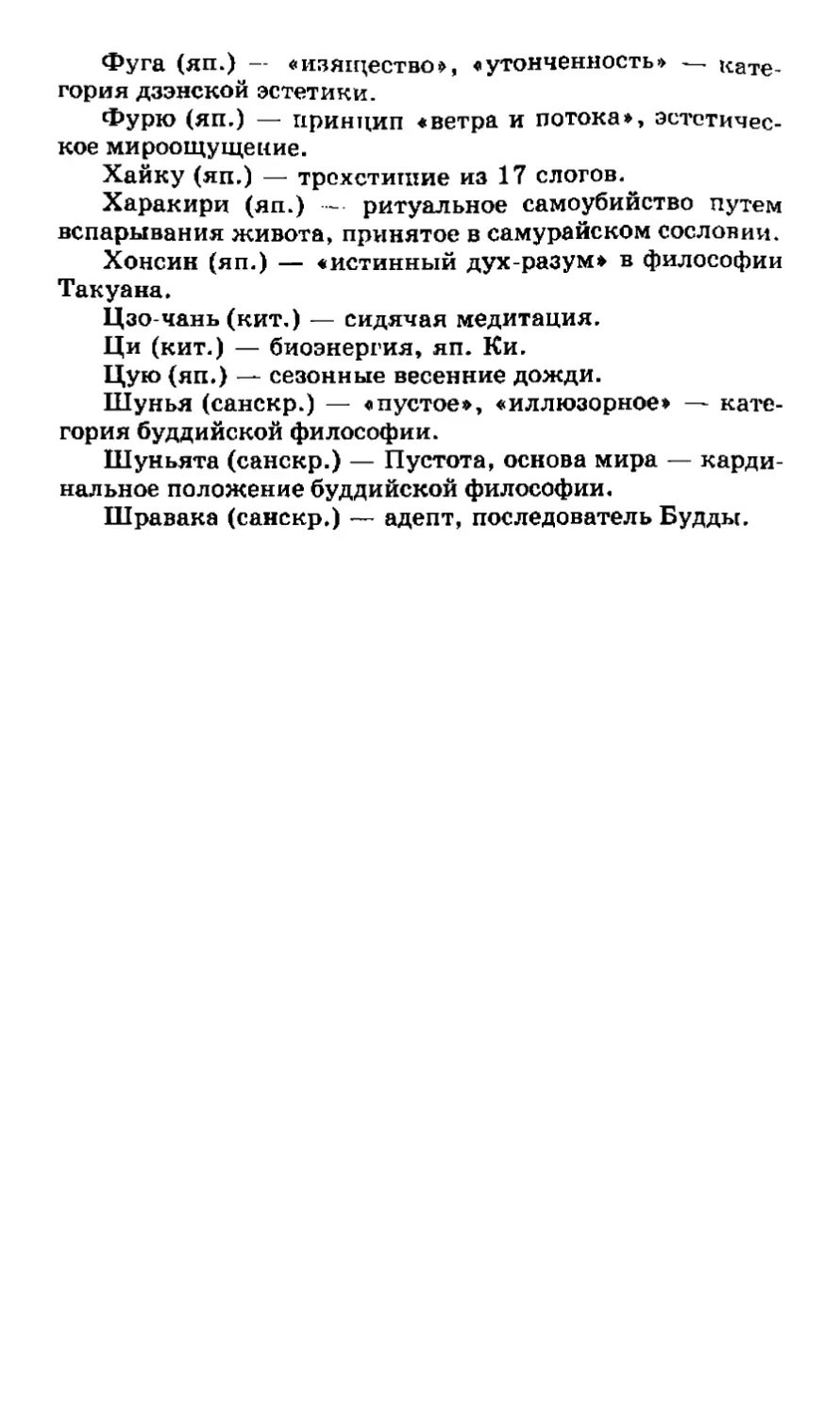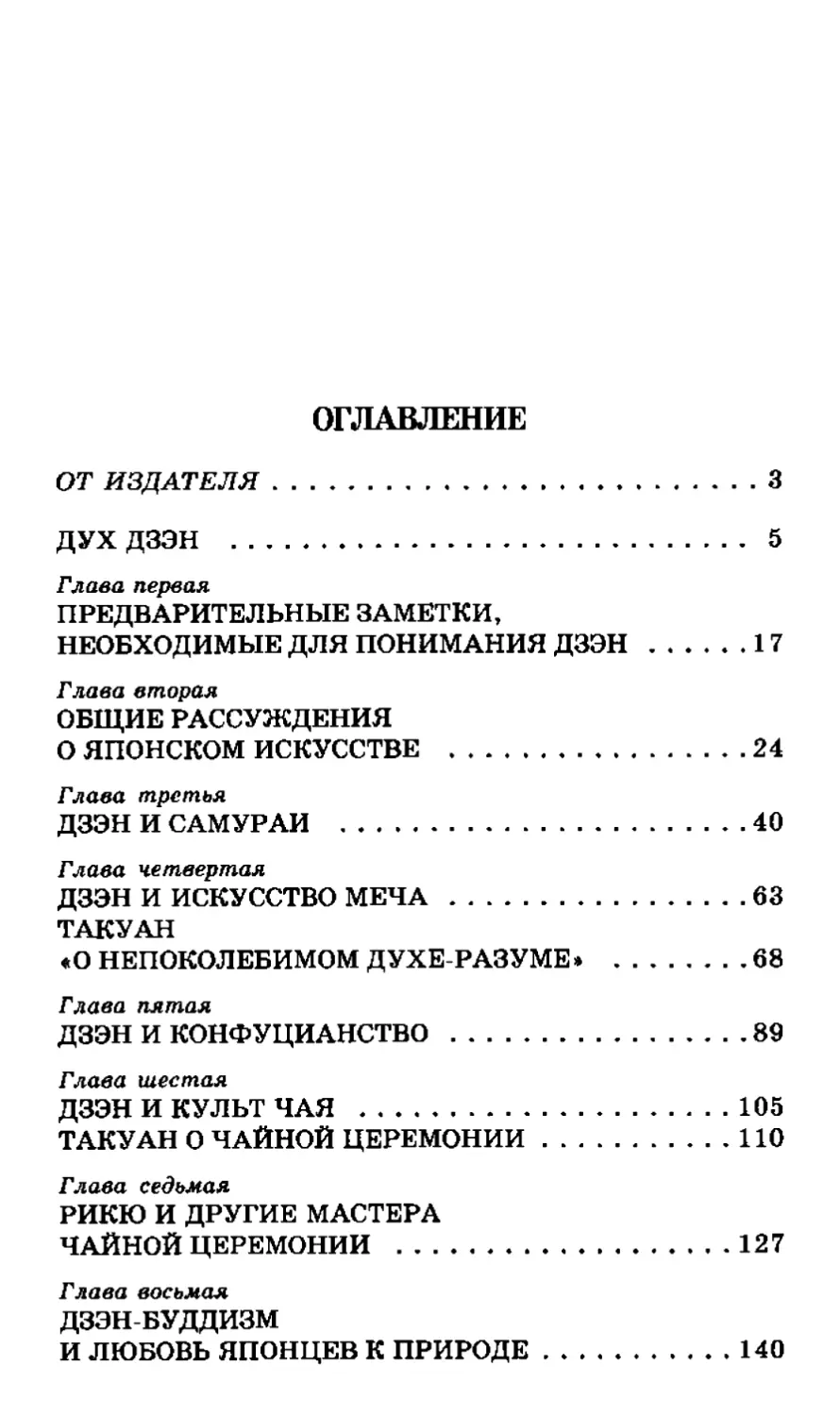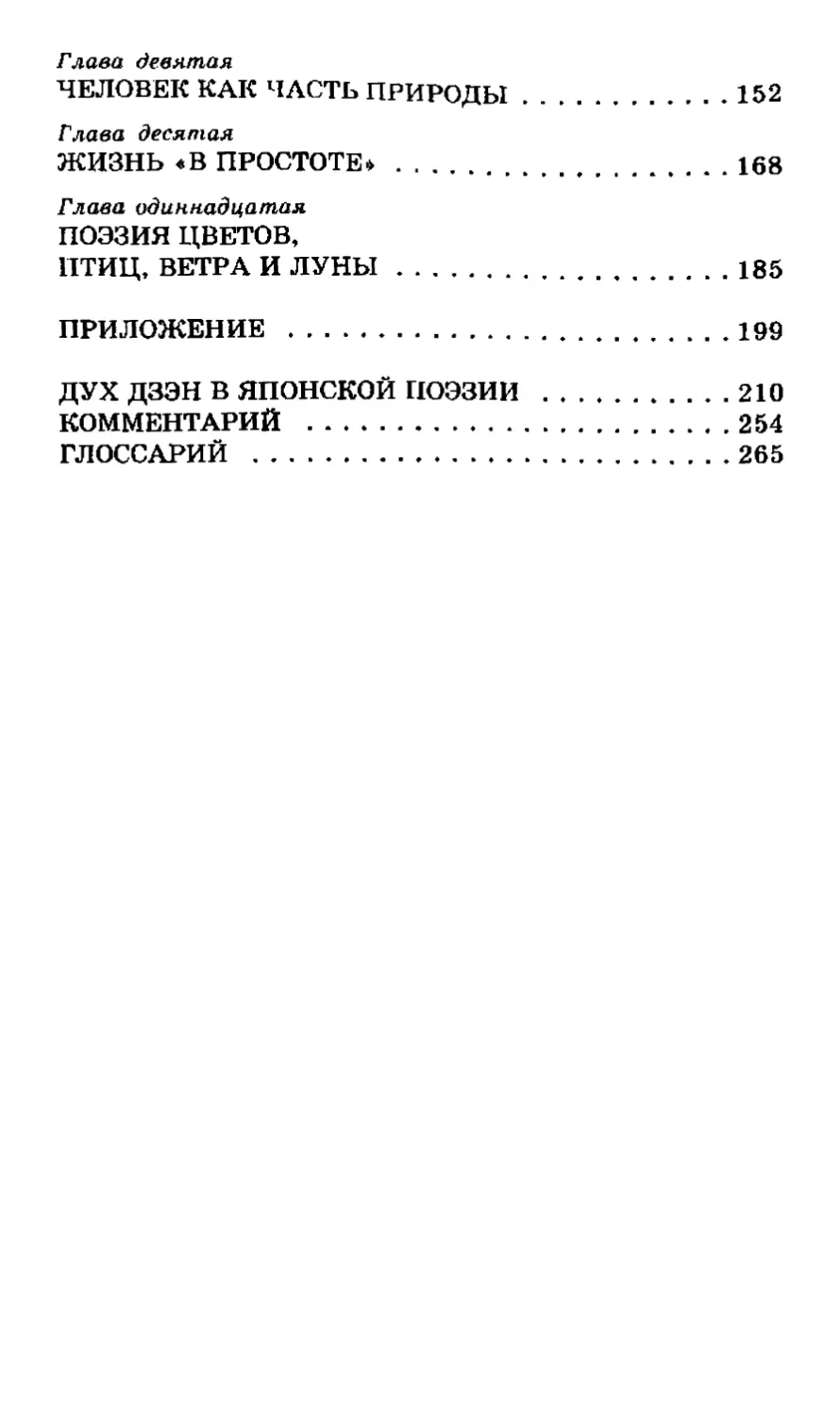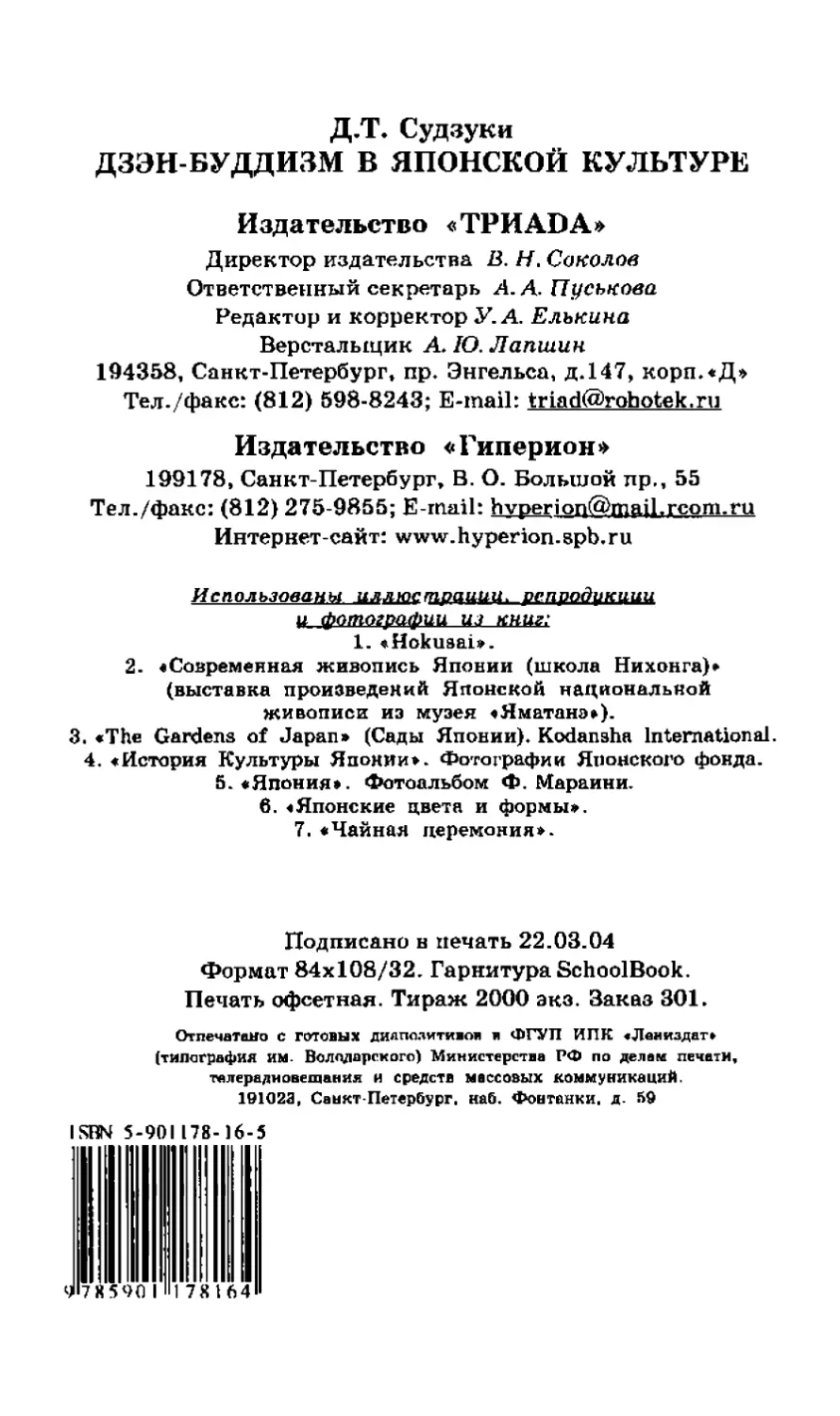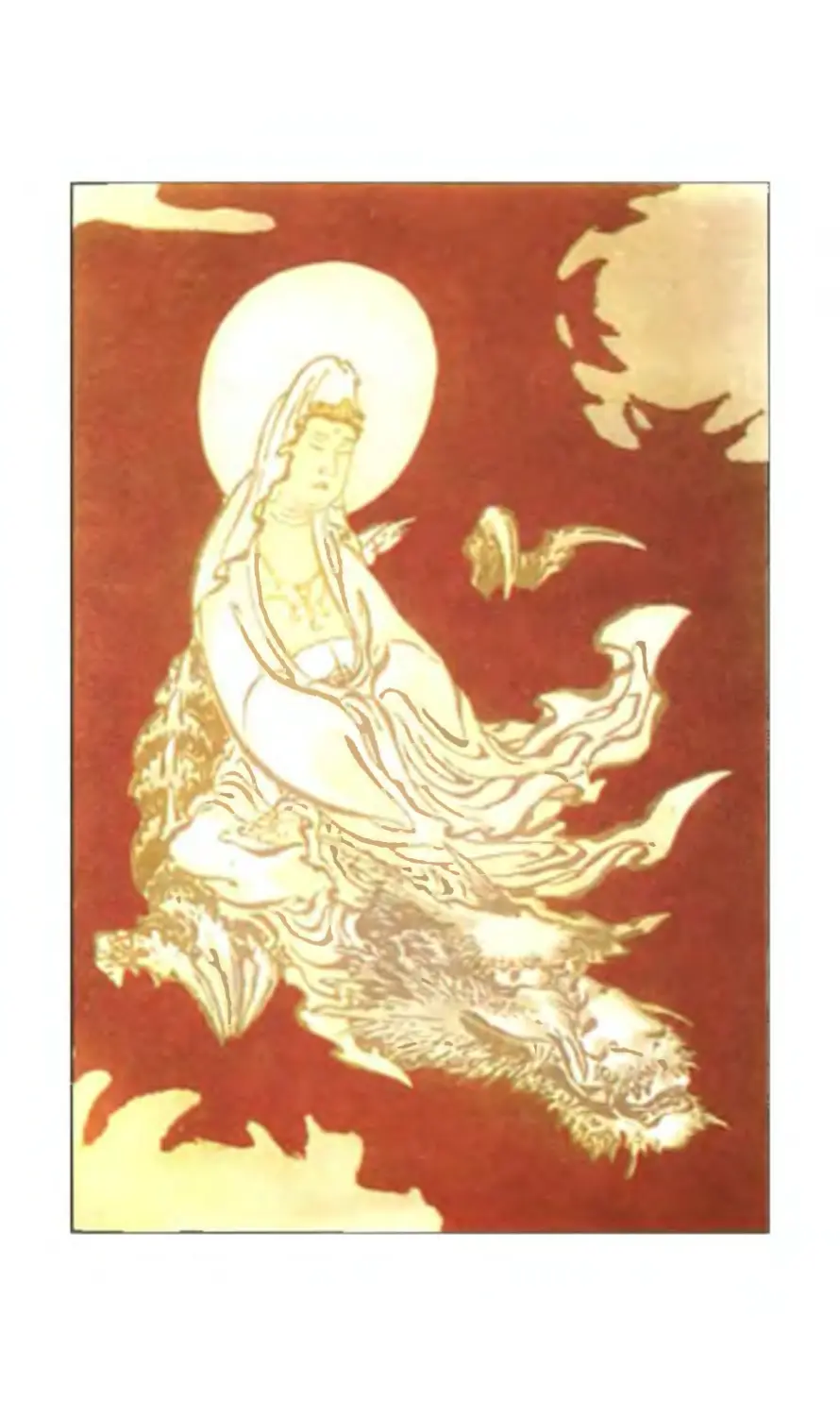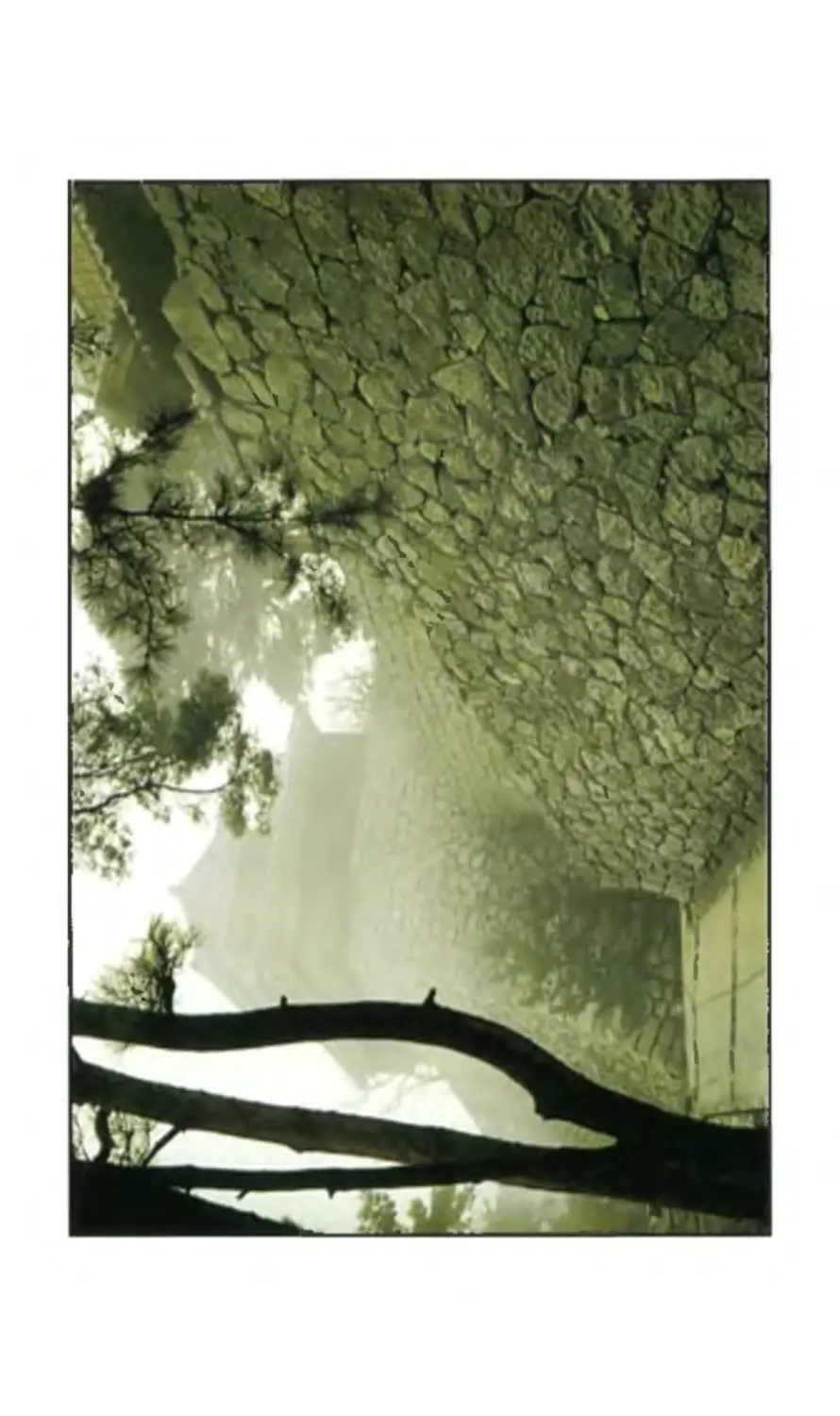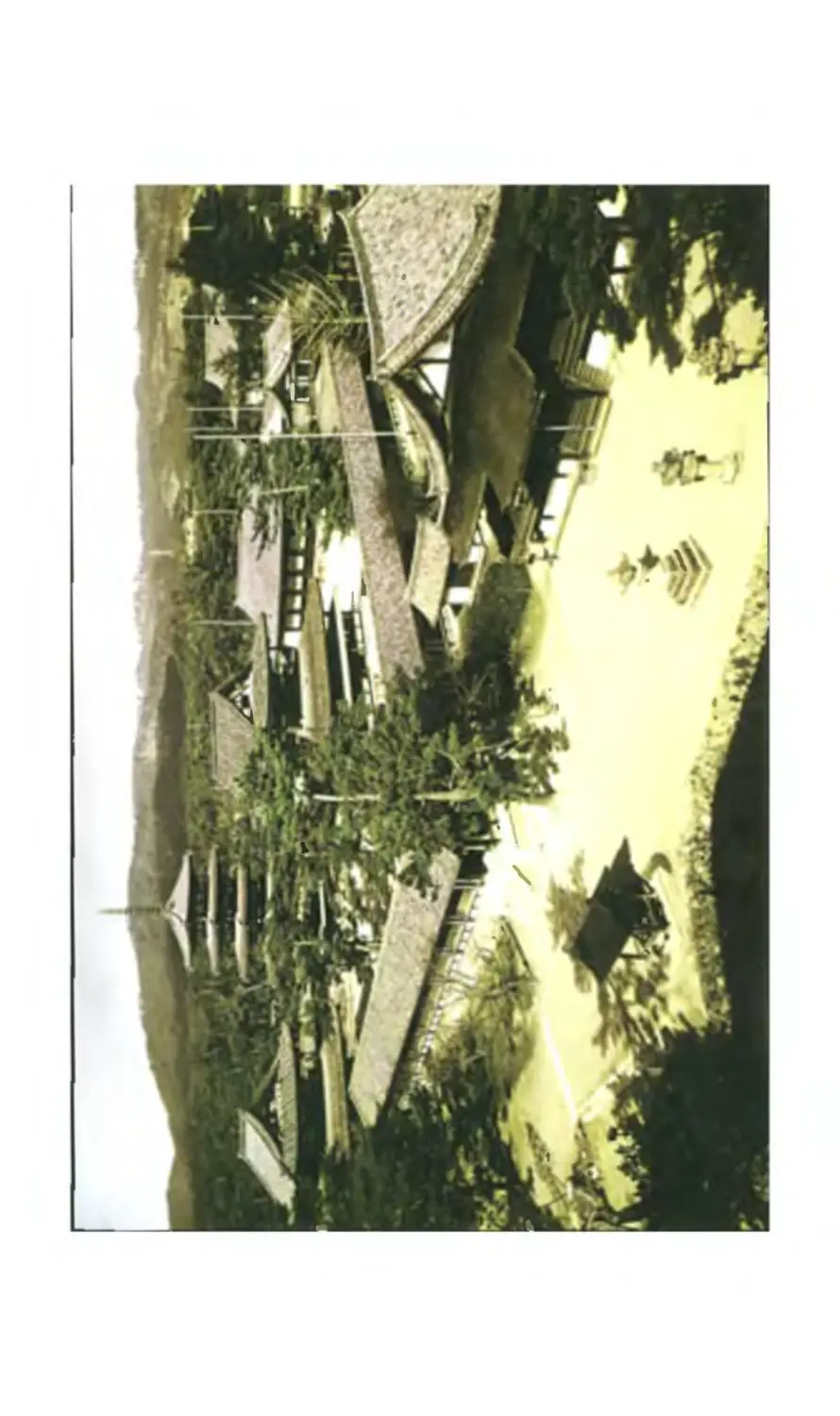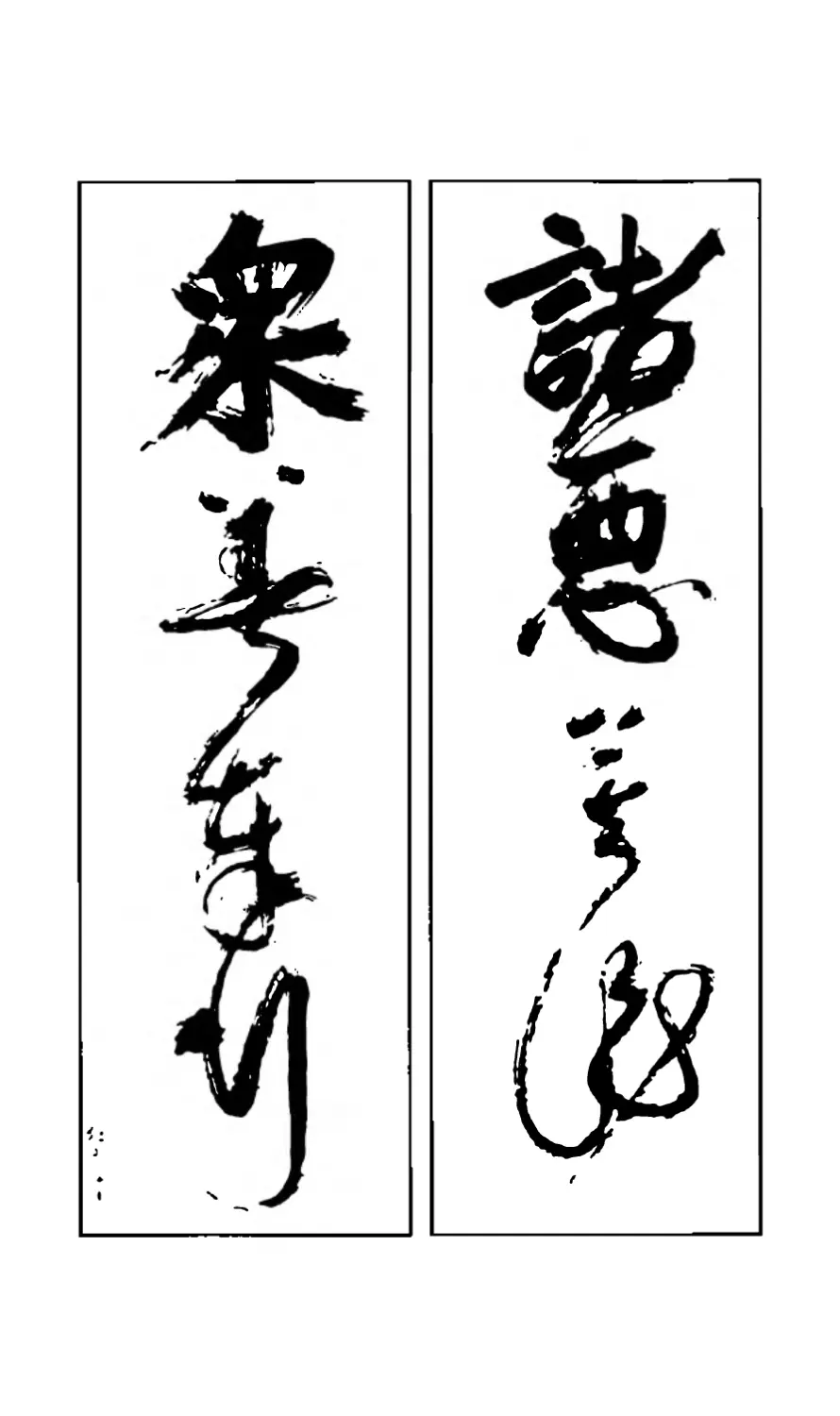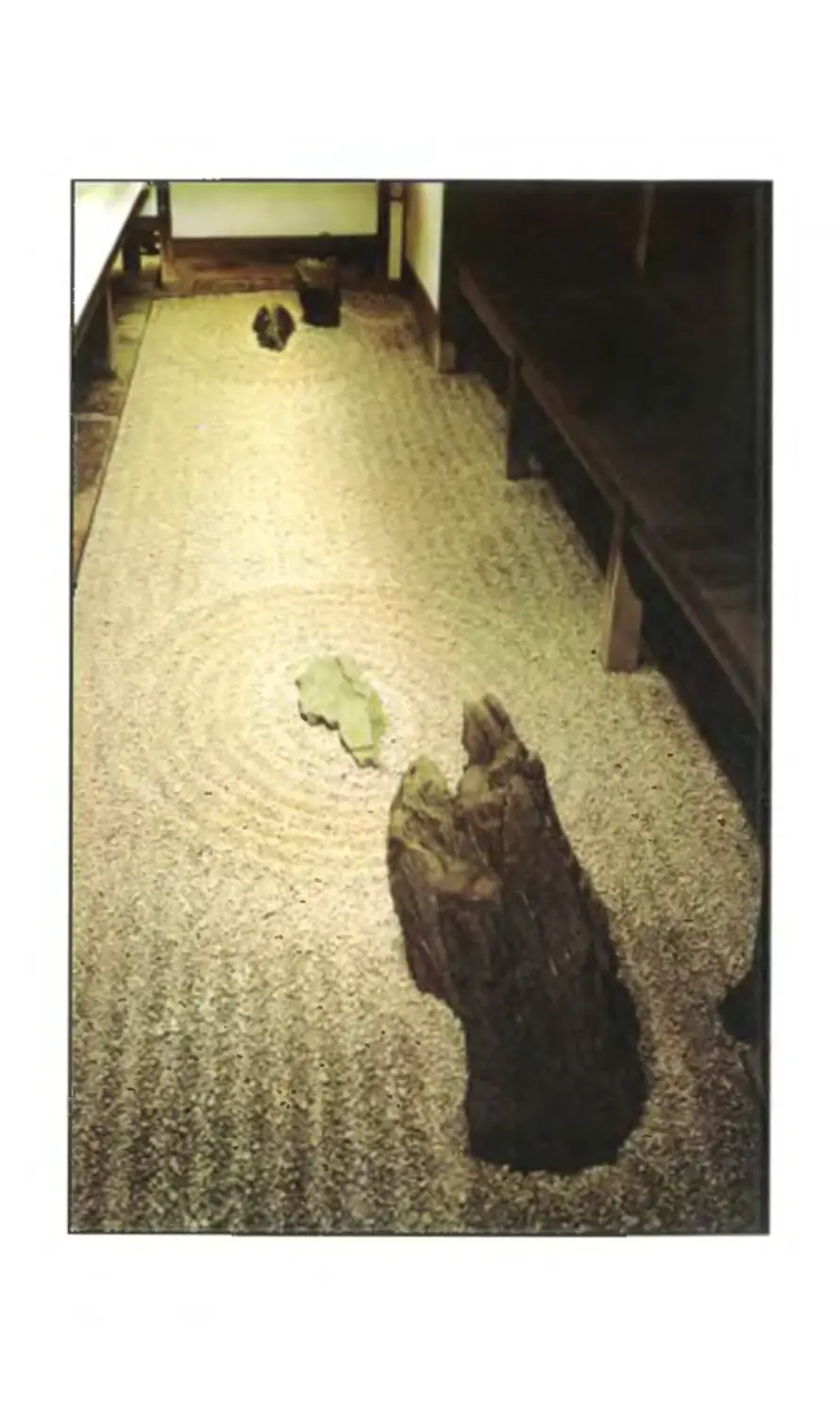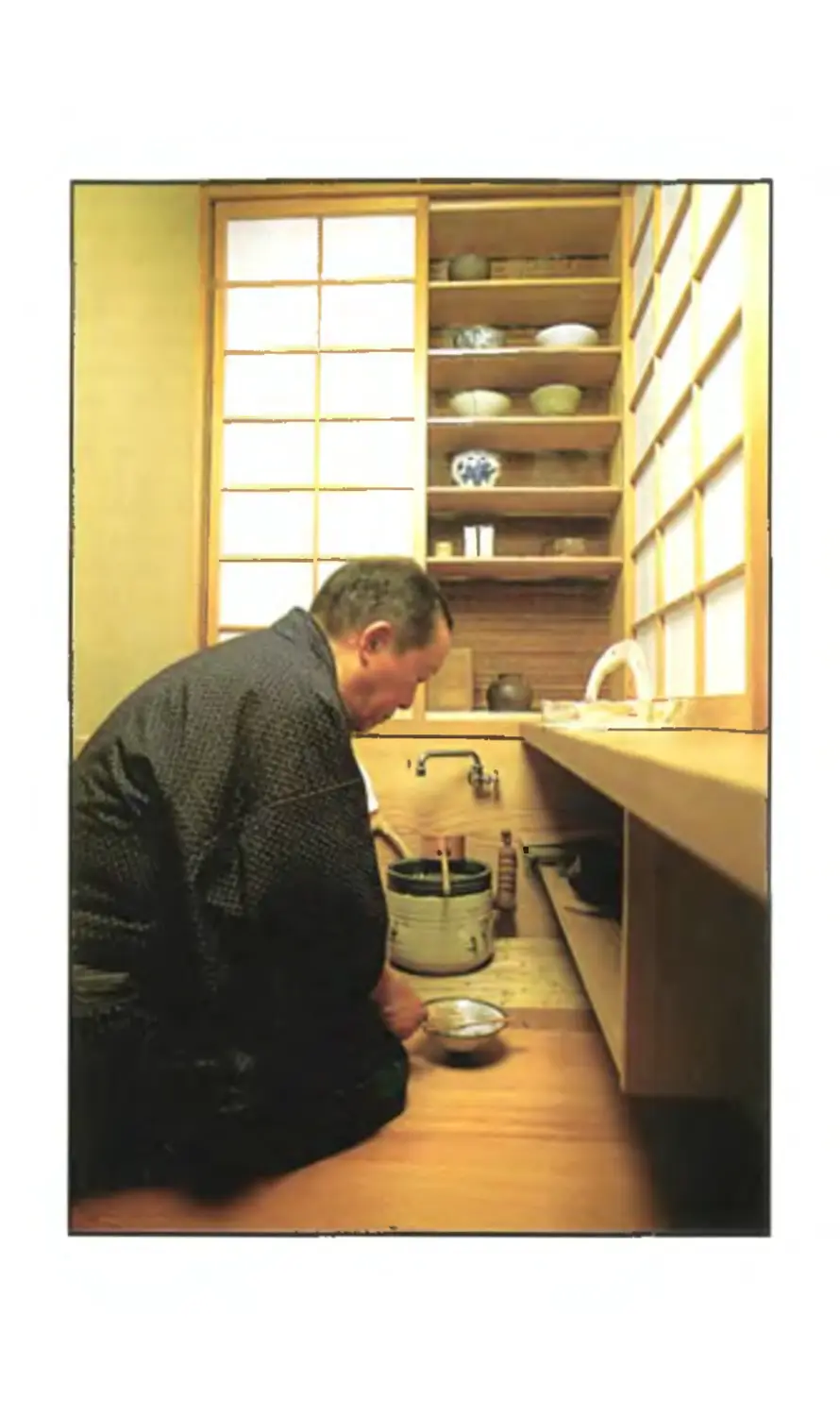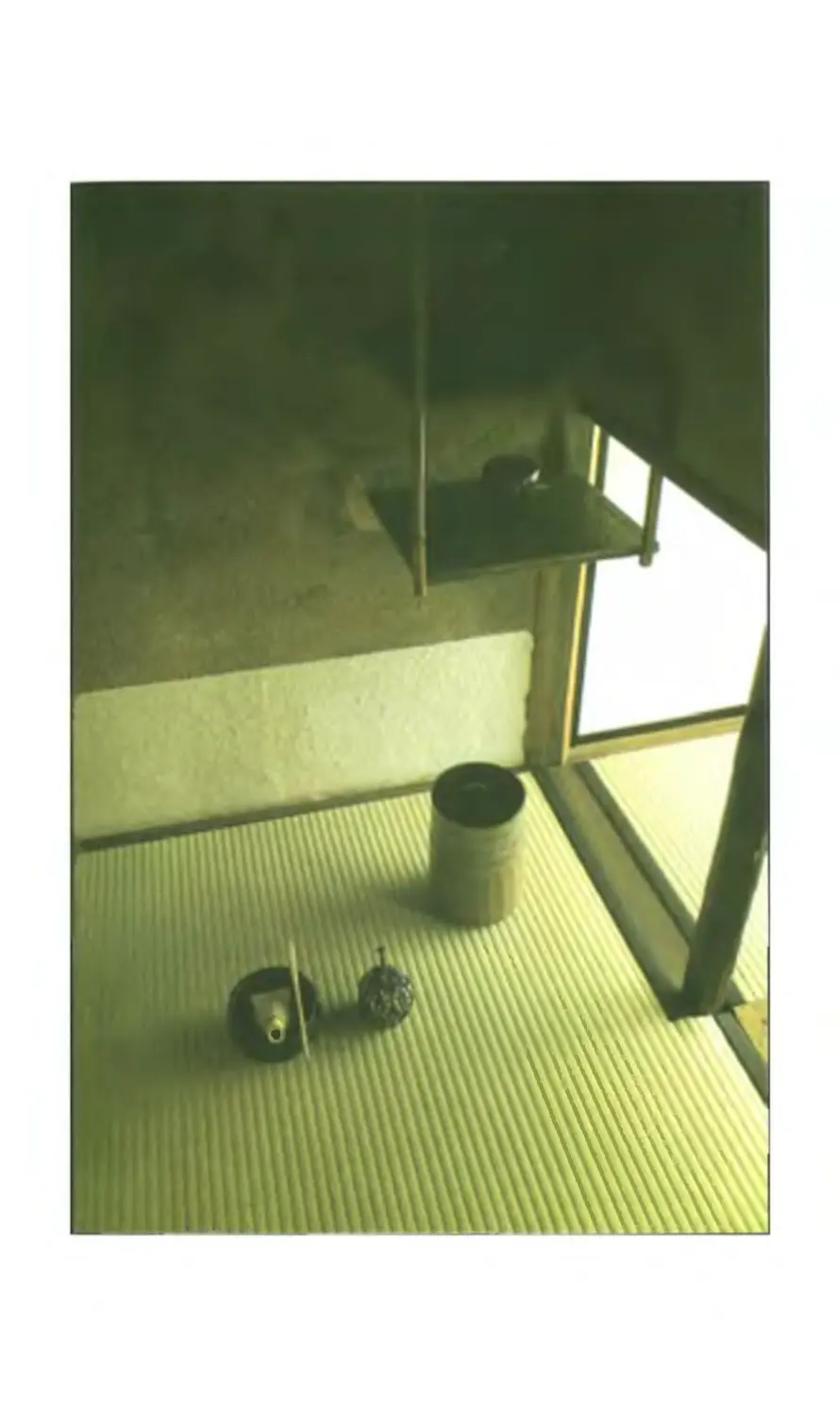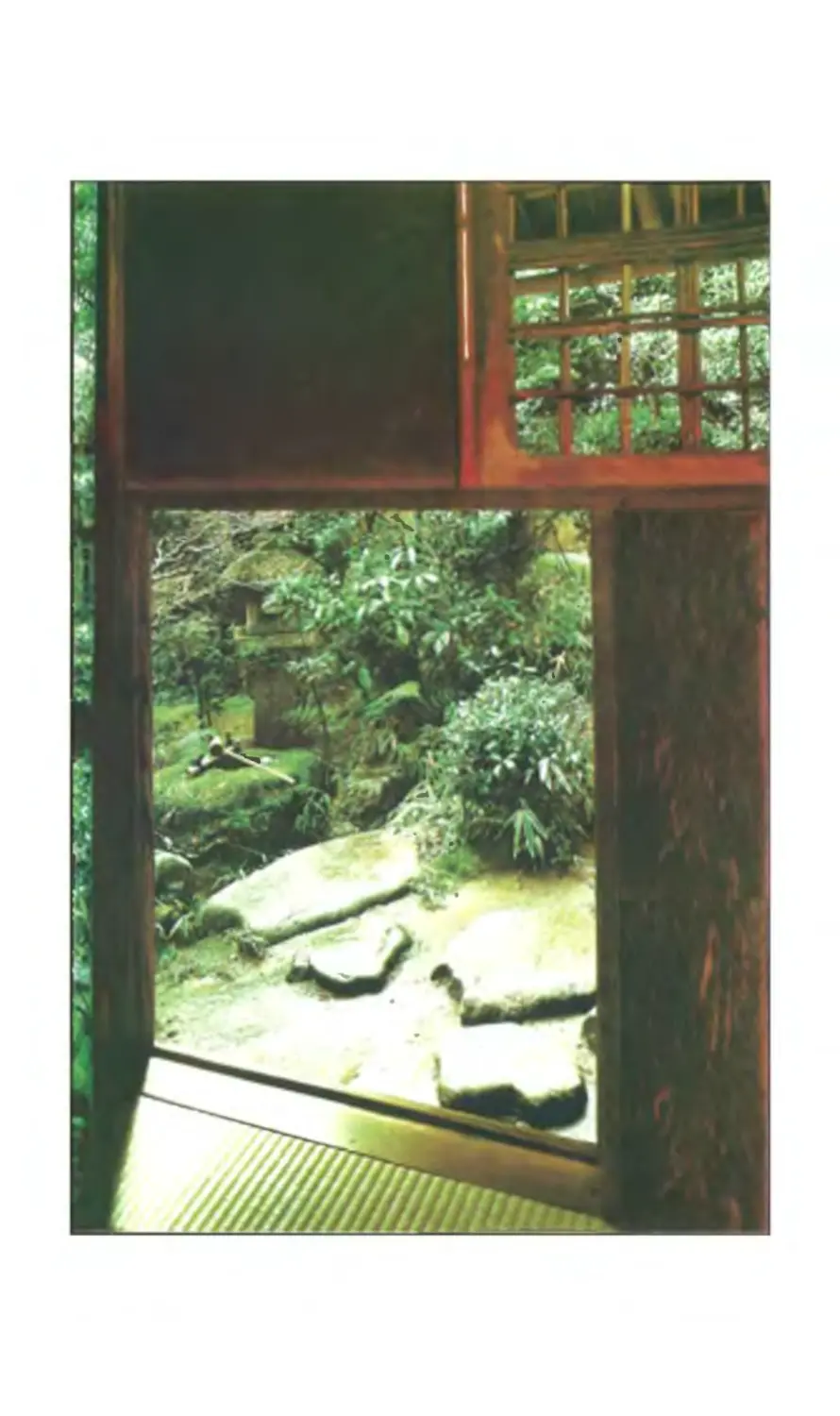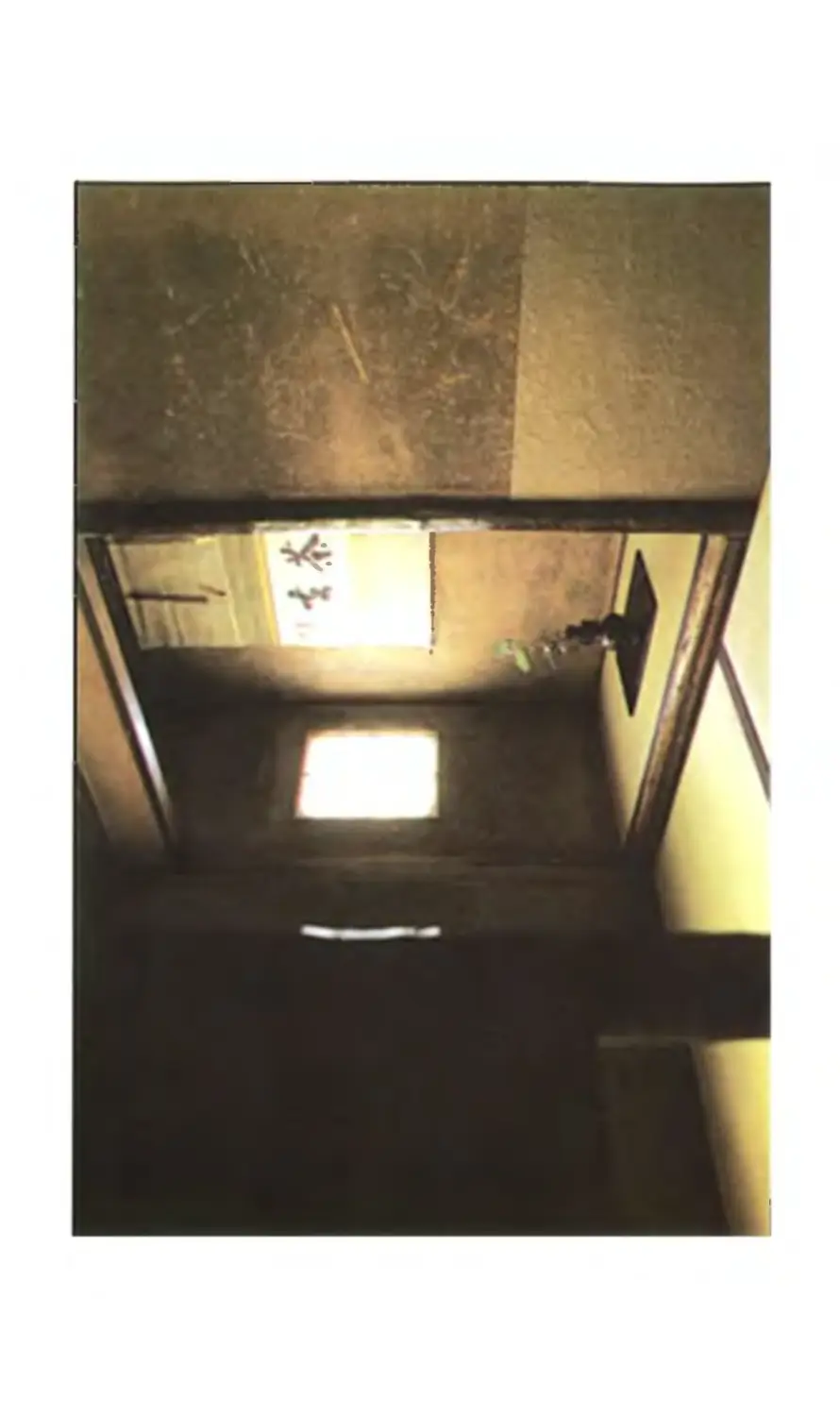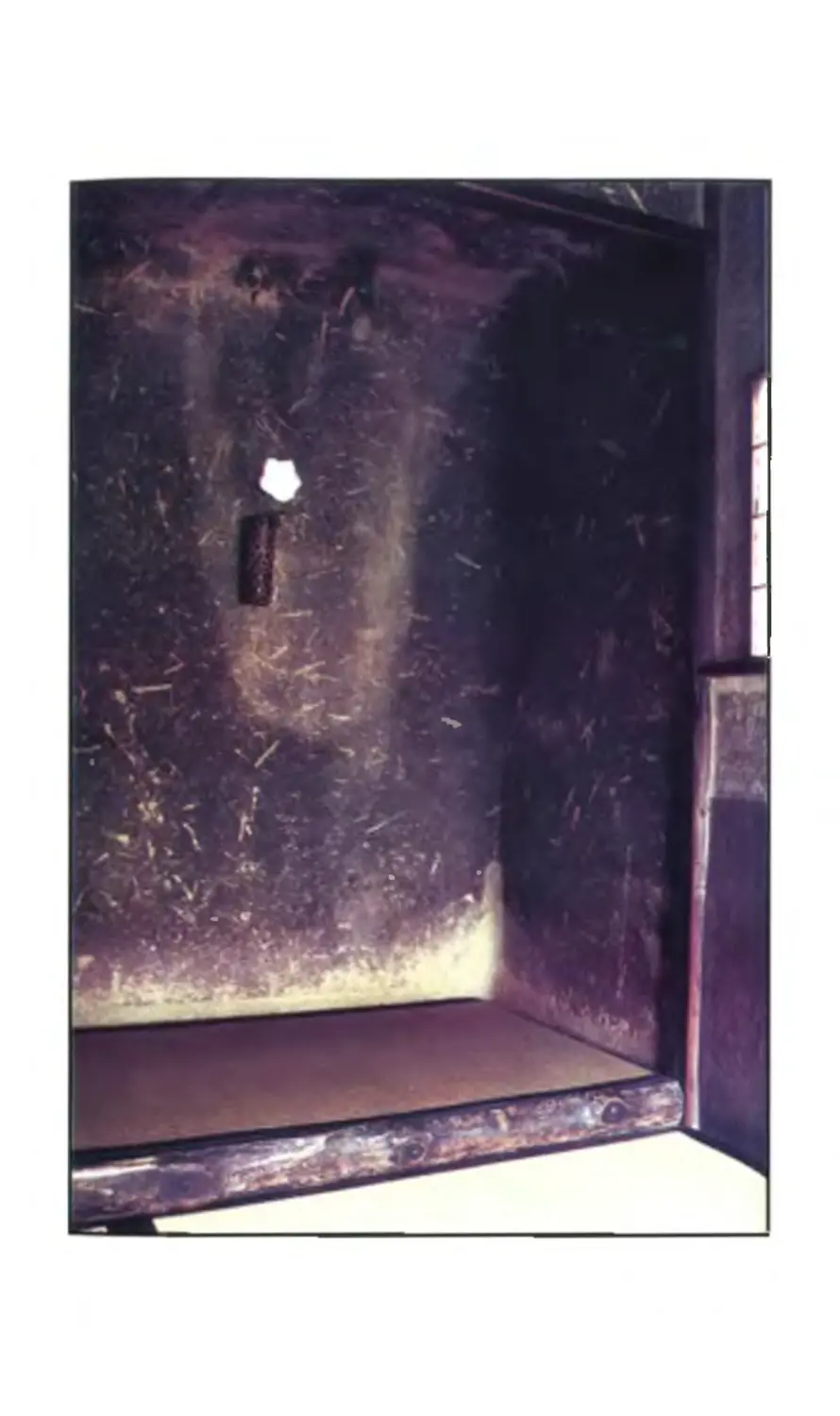Автор: Судзуки Д.Т.
Теги: культура культурное строительство буддизм дзен культура японии востоковедение
ISBN: 5-901178-16-5
Год: 2004
Текст
H.t. еудзуки
ББК 71
С 89
Судзуки Д. Т.
Дзэн-буддизм в японской культуре.
Репродукции картин Т. Сэссю, К. Хокусая, С. Уэмура,
А. Акидзуки, Р. Кавабата.
Каллиграфия С. Иккю.
СПб.: Издательство «ТРИАВА», 2004. — 272 с, цв. илл.
ISBN 5-901178-16-5
Трудно найти на книжном рынке Европы, Америки,
Азии и Австралии более известную книгу
просветительского жанра, которая выдержала бы за последние
полстолетия столько переизданий, Дайсэцу Тэйтаро Судзуки,
прославленный будд о лог, культуролог и философ, вошел
в историю XX века как первооткрыватель Дзэн для
интеллигенции Запада, как вдумчивый исследователь дзэн-
ской литературы, живописи, икебаны, чайной церемонии.
Публикуемую работу отличает удивительное
проникновение в суть японской этики и эстетики. По сей день
эта книга остается откровением для каждого, кто ставит
перед собой цель приобщиться к основам
дальневосточной цивилизации.
ББК 71
Издательство «ТРИАЛА* выражает благодарность
Международной Ассоциации клубов КУНФУ «TPHADA» u лично
президенту Ассоциации Мастеру Андрею Логинову за помощь,
оказанную в издании книги.
Охраняется законом РФ об авторском праве.
Воспроизведение книги запрещается без письменного
разрешения издателя. Любые попытки нарушения закона
будут преследоваться н судебном порядке.
© Издательство «TPMADA», 2004
© А, Долин, перевод с англ., 2004
©Издательство «TPHADA»,
художественное оформление, 2004
ОТ ИЗДАТЕЛЯ
Судзуки Дайсэцу... Личность, которая для меня
устойчиво ассоциируется с неким эфирным мостом
между Востоком и Западом. Мостом необходимым и
прочным, вместе с тем, усколъзающе тонким и
невостребованным в должной мере. Всю свою
интенсивную и глубоко насыщенную жизнь он был, прежде
всего, глашатаем и ярым приверженцем Дзэн, а затем
уже беспристрастным ученым и скрупулезным
исследователем. В трудах этого невозмутимого японца
восхищает градус накала, неистовость подачи материала,
восторженность от причастности к великим
традициям духа и безоговорочное стремление донести жгуче
чувствуемое откровение до всего человечества,
К сожалению, данная книга мэтра шла к
российскому читателю более полувека. Отрадно, что
благодаря общим усилиям это событие все же состоялось.
Сегодня предлагаемая Вам работа Судзуки Дайсэцу не
только не потеряла своей актуальности, напротив -
во многом приобрела пронзительную остроту
классики, которая всегда своевременна.
Откройте для себя красоту культуры Японии и
Вы убедитесь, что Россию разделяет с этой
таинственной страной всего лишь несколько взмахов весла
по неспокойным водам пролива.
Президент Международной
Ассоциации клубов КУНФУ «ТРИADA»
Мастер Андрей Логинов
А Долин
дух дзэн
«Никто не понимает Дзэн; никто не может его
объяснить; писать о нем книги — наглость и нахальство.
В сущности, и сам Дзэн, с одной стороны, являет собой
род дерзости, а с другой — квинтэссенцию скромности,
скромности природы». Эта парадоксальная тирада
(вполне в дзэнском духе) взята из пятого тома «Дзэн и
классики Дзэн», фундаментального сочинения замечательного
знатока дальневосточной культуры Реджинальда Блайса,
посвященного его идейному учителю и другу Дайсэцу Суд-
зуки. На самом деле, как можно объяснить
необъяснимое, высказать несказанное, передать словами и
понятиями непередаваемое? Ведь еще легендарный основатель
Учения Бодхидхарма изрек полторы тысячи лет тому назад:
Истина сокрыта вне письмен.
В знаках и словах не передать Закон.
К сердцу обратись, вовнутрь и вспять,
чтоб, себя постигнув, Буддой стать.
Дзэн (кит. Чань, санскр. Дхьяна) отнюдь не
исчерпывается своим изначальным значением «самосозерцание»,
Будучи, как и многие другие великие учения древности,
одновременно религией и философией, этическим
каноном, Дзэн-буддизм с течением веков стал для миллионов
и миллионов обитателей Японии, Китая, Кореи,
Вьетнама и ряда других стран Востока тем, чего нам так
мучительно не хватает, к чему все мы тщетно стремимся,
одержимые бесчисленными страстями и соблазнами
нашего бурного времени, — искусством Жизни,
Безусловно, и христианство, и ислам, и иудаизм,
и буддизм в самых разнообразных своих ответвлениях
5
могут претендовать на ту же роль для стран иного
культурного ареала, а иногда, если дело касается даосизма
или синтоизма, даже конкурировать с Дзэн в Китае или
на Японских островах. И все же есть серьезная
первопричина, обусловившая небывалое распространение дзэнских
влияний в области поэзии и живописи, архитектуры и
садово-паркового дизайна, аранжировки цветов и чайной
церемонии, классического театра и воинских искусств.
Есть причина и для бурного всплеска интереса к Дзэн на
Западе в послевоенный период, за которым последовала
«дзэнская революция» американской молодежи. Есть
причина для неослабевающего потока фундаментальных
исследований Дзэн-буддизма, популярных очерков,
переводов и художественных произведений дзэнского толка,
которых в США, Европе и Японии насчитывается сотни
томов. Вот и наша страна с опозданием в сорок лет
подключается к общемировому процессу постижения
Бытия по Дзэн, чей секрет «загадке жизни равносилен».
Весьма условно можно сказать, что сверхзадача всех
мировых религий — в спасении души человеческой. Обретя
перспективу загробного существования в лучшем мире при
условии соблюдения некоторых вполне конкретных норм и
требований, смертный как бы получает реальный стимул к
самосовершенствованию, которым и занимается в рамках
своего вероисповедания доступными ему средствами.
Пуритане и мормоны, святые столпники и старцы в скитах,
благочестивые суфии и бродячие дервиши, породившие
инквизицию иезуиты и достигшие вершин самопознания
тибетские ламы стремились к одной цели — усердным
радением преодолеть оковы земного существования, очистить
«душу» и подготовить ее к вознесению в мир иной, в мир
Абсолюта, где царит Христос, Аллах, Иегова или Будда —
могущественный повелитель Вселенной. Именно эту цель и
отвергает Дзэн, провозглашая самоценность жизни земной
со всеми ее радостями и горестями, треволнениями и
заботами* Жить не во имя светлого грядущего, завтрашнего
рая, а во имя самой жизни, предаваться
самосовершенствованию не для того, чтобы уподобиться святому, шейху,
бодхисаттве, а лишь затем, чтобы упрочить собственное
положение на грешной земле и помочь людям — вот чему
учит Дзэн, вот чем привлекает он людей на разных
континентах, «Можно сказать, — утверждает в одном из своих
трудов Д. Т. Судзуки, — что Дзэн высвобождает различные
виды энергии, естественным и надлежащим образом зало-
6
женные в каждом из нас, но пребывающие обычно в
стесненном и извращенном состоянии, не находя адекватного
канала, выхода для деятельности».
Первая из «четырех благородных истин» буддизма
гласит, что жизнь есть страдание. В бесконечной череде
рождений и смертей, обретая все новые и новые
перевоплощения, человек живет в непрестанных тяготах и
муках, не в силах преодолеть порочный круг сансары*.
Подчиняясь закону всеобщей причинно-следственной связи,
карме, каждый несет на себе бремя грехов, совершенных
в прошлых перерождениях, и в текущей жизни
закладывает основы перерождений грядущих. Будда Шакьямуни
в своем Великом Законе, Дхарме, определил
альтернативу юдоли страданий, злосчастной сансаре, данной в удел
смертным. Это нирвана, царство Пустоты, обитель
покоя, изначальное Небытие, куда возвращается
праведник, отрешившись от иллюзорного земного мира, от
суетных пристрастий» Путь к освобождению человека от уз
сансары, согласно ортодоксальной доктрине буддизма,
лежит через отказ от всех естественных проявлений
человеческой натуры, умерщвление плоти, успокоение духа,
умиротворение интеллекта. Три «благородные истины»,
следующие из первой, поясняют, что страдание
проистекает из желаний; что прекращение страданий возможно
лишь посредством прекращения желаний; что достигнуть
прекращения желаний можно лишь путем монашеской
аскезы и углубленного самопознания.
Во всех своих разновидностях буддизм утверждает,
что наши беды являются плодом заблуждений,
невежества, неумения увидеть и осознать горизонты единого
мироздания- Путь спасения есть путь познания,
осознания себя во вселенной и вселенной в себе. Однако
различные направления и секты буддизма предлагают
различные методы познания, ведущие — во всех случаях, кроме
одного, то есть кроме дзэнского Прозрения — к
неизбывному блаженству нирваны. Преодоление мирских
страстей во имя достижения нирваны с самого момента
зарождения буддизма (VI-V вв, до н. э.) на много столетий
определило идеалы учения Хинаяны («Малой колесницы»),
воплотившиеся в образе святого подвижника, архата,
далекого от проблем нашей бренной юдоли.
Круг земных страстей и влечений» здесь и далее см.
Глоссарий.
7
Второе магистральное направление буддизма — Махая-
на («Большая колесница», влекущая человека к спасению),
зародилось в I—II вв. н, э. и несколькими столетиями позже
породило доктрину Дзэн, Характеризуя отличия Махаяны
от Хинаяны, выдающийся дзэнский мастер Хакуин (1686-
1769) писал: «Предположим, у нас так много золота, что
оно нуждается в охране. И вот сторож закрывает двери в
комнату, укрепляет их железной цепью, а сам садится
возле золота и караулит. Таким образом, никто
посторонний не сможет украсть его. Однако мы не можем сказать,
что его сохранность является заслугой владельца. Такова
и эгоцентрическая практика последователей Хинаяны,
которые взыскуют просветления только для самих себя.
Теперь представим себе, что человека попросили доставить
эти же золотые монеты в определенное место, для чего ему
потребуется миновать немало разбойничьих гнезд, где воры
и грабители кишат подобно пчелам или муравьям. Если
человек достаточно отважен, он заткнет за пояс меч,
подвернет полы одежды выше колен, подвесит на посох
узелок с золотом и бесстрашно доставит сокровище к месту
назначения, не раз вступая в схватки с злодеями« Тогда-
то, разумеется, его будут превозносить как мужа великой
доблести и отваги. Он будет подобен бодхисаттве, что
взыскует просветления для себя, но в то же время ведет
людей к спасению*.
Махаяна противопоставила типичному для раннего
буддизма идеалу архата принципиально иной образ
Просветленного, обладающий как божественными, так и
земными свойствами и отнюдь не чуждый простому
человеку. Бодхисаттвы (букв, «постигшие мудрость»), будучи
ипостасями Будды в прошлых и грядущих рождениях,
должны были направлять усилия не столько на личное,
сколько на «общественное*, оказывая покровительство
людям и ведя их по праведному пути, зачастую ценой
самопожертвования·
Приверженцы Махаяны, развив буддийскую
доктрину, выдвинули тезис о «трех телах Будды· — теле
Сущности (дхармакая), теле Блаженства (самбхогакая) и теле
Превращения (нирманакая). Будда, явленный в теле
Превращения как историческая личность Сиддхартха Гаута-
ма, представал в Этой системе эманацией тела
Блаженства (обитающего в буддийском раю), а оно в свою
очередь -— порождением тела Сущности, составляющего и
наполняющего все мироздание. Заметим, что и культ
8
бодхисаттв, а также многочисленных «добавочных» будд,
и положение о «трех телах» (трикая) впоследствии без
изменений вошли в доктрину Дзэн. На начальном же
этапе в Индии, а несколько позже в Китае, в Корее и в
централъноазиатском Кушанском царстве доминировали
две школы Махаяны — Мадхьямика («Учения о
Срединном пути») и Виджнянавада («Учение о сознании»),
иначе именуемая также Йогачара («Путь йоги»),
В основе теории первой школы лежало учение о
вселенской Пустоте (шунъята), тотальный онтологический
нигилизм. Наиболее полно тезис о Пустоте,
иллюзорности мира, априори заключающего в себе нирвану,
получили освещение в сочинениях философа Нагарджуны. Из
теории шуньяты вытекал весьма многообещающий
вывод: поскольку, с одной стороны, все в мире есть плод
нашего воображения, а с другой стороны — часть тела
Будды, в том числе и сам человек, то для достижения
нирваны человеку достаточно лишь осознать это
обстоятельство, ощутить себя буддой. Образ же нирваны может
открыться взору смертного и в окружающих его
картинах природы, о чем не раз напоминали в дальнейшем
дзэнские наставники и мастера.
Школа Йогачара, из которой, кстати, происходил и
легендарный основатель Дзэн-буддизма Бодхидхарма,
стояла на крайне идеалистических позициях, провозглашая
приоритет субъективного сознания над всяким опытом,
допуская при этом, правда, существование независимой
от человеческой мысли «таковости», «самобытности»
бытия (татхата), не поддающейся никаким
характеристикам и столь же всеохватной, всепроницающей, как
Великая Пустота. Для адептов Виджнянавады путь к
спасению лежал через духовное восхождение, через тот или
иной вид йоги. Ведущими философами школы были Асанга
и Васубандху, жившие в IV в.
Каноны Махаяны включают часть классического па-
лийского канона буддизма (на языке пали) и ряд
значительных сочинений на санскрите, которые впоследствии
были переведены на китайский и в таком виде пришли на
Японские острова. В частности, на санскрите были
написаны «Вайпулья сутры* («Развернутые сутры»), из
которых главными являются «Сутра Логоса благого закона»,
содержащая программные положения Махаяны, и
«Сутра Добродетели высшей мудрости». Однако существует и
великое множество других сочинений — буддийских сутр
9
и трактатов с обширнейшими комментариями,— которые
составляют неисчерпаемый кладезь знания для
приверженцев различных сект и школ Махаяны, в том числе,
разумеется, и секты Дзэн.
Мифическая родословная Чань (Дзэн) восходит к тем
временам, когда Шакьямуни различными средствами
пояснял ученикам высшую истину Дхармы. Однажды,
желая продемонстрировать в действии принцип передачи
знания от сердца к сердцу вне слов и письмен, Будда
безмолвно поднял перед собранием цветок. Из всех
присутствующих только старец Кашьяпа понял сокровенное
значение жеста и ответил Будде улыбкой. С Кашьяпы
начинается линия так называемых буддийских
патриархов, которых насчитывается до VI в. н. э. двадцать семь.
Двадцать восьмым буддийским патриархом и первым
патриархом, то есть создателем Дзэн, стал Бодхидхарма —
сын владетельного раджи из Южной Индии, вступивший
в молодости в секту Йогачара и прибывший в 520 г. в
Китай с группой сподвижников.
Принимая в целом доктрину Махаяны, Бодхидхарма
выступил с проповедью принципиально нового учения, в
котором отвергалось интеллектуальное суемудрие,
книжная ученость, вербальный способ передачи знания.
Утверждая, что интеллект лишь затемняет путь, ведущий к
просветлению, Бодхидхарма выдвинул на первый план
интуицию и непосредственный опыт. Согласно его теории,
мироздание представляет собой целостное Единство,
частью которого является человек. Однако интеллект
побуждает человека к дуалистическому восприятию
действительности. Мы разделяем хорошее и плохое, веселое и
грустное, дух и плоть, конечное и бесконечное, не сознавая, что
все едино и неразрывно связано в потоке кармического
времени и пространства. В избавлении от дуальности —
путь к спасению, к обретению свободы, к просветлению.
Просветление, дающее подвижнику качественно новое
мировосприятие, выступает конечной целью радения во
всех буддийских сектах и школах, но в китайском Чань
и японском Дзэн особо акцентируется спонтанная,
непроизвольная природа Прозрения (кит. у, яп. сатори),
достигнутого в результате интуитивного прорыва сквозь
тьму обыденного сознания. Наиболее естественным
способом достижения Прозрения служит сидячая медитация
— дза-дзэн (кит. цзо-чань), но есть немало других
способов, в том числе и включающих динамическую практику.
10
Преемники Бодхидхармы разработали вполне
конкретные методики для стимуляции спонтанного
Прозрения. Монахи в чаньских монастырях, а также
послушники и миряне, желавшие пройти соответствующий курс,
обучались у Мастера, который контролировал их
поведение, вкусы, занятия и пристрастия. Наиболее
популярным методом обучения были коаны (кит. кун-ань) —
«случаи», «анекдоты», то есть ситуативные парадигмы
из жизни выдающихся чаньских наставников,
собранные и систематизированные в ряде хрестоматий. Они
служили темами для размышления и прививали
приверженцам Дзэн способность нестандартной оценки
событий, отходящей от основ дискурсивной логики. При этом
допускалась совершенно неожиданная спонтанная
реакция в виде абсурдного на первый взгляд ответа или
выкрика, которые должны были продемонстрировать
дзэнское понимание Пустоты, Единства и Самобытности
всего сущего (см· Приложение). Многие поколения
учеников воспитывались на классических коанах, но со
временем возникали и новые, которые в свою очередь
канонизировались. Таким образом, секта, отвергавшая
ценность книжного знания, постепенно обрастала
пластами антологий, хрестоматий, комментариев,
биографических описаний, трактатов и эссе, составивших
огромное письменное наследие как в китайском, так и в
японском вариантах.
Не меньшей популярностью, чем коаны,
пользовались диалоги между учителем и учеником — мондо (кит-
вэнь-да), в которых неожиданные вопросы влекли за
собой не менее неожиданные ответы· Зачастую дзэнские
наставники давали ученику импульс к Прозрению при
помощи хорошей оплеухи или зуботычины· Некоторые
также использовали палку, сандалию или любой другой
предмет, подвернувшийся под руку-
Уже к началу VII в. Чань занял прочные позиции
среди прочих буддийских сект в Китае. Примерно в тот
же период произошло разделение секты на Северную ветвь,
пользовавшуюся покровительством императора, и
Южную, Первая выдвигала идею «постепенного» Прозрения,
вторая отстаивала тезис о Прозрении мгновенном и
непроизвольном, ведущем к состоянию просветленности (яп.
саммай, кит. саньмэй, санскр. самадхи). В дальнейшем в
чаньской традиции возобладало влияние Южной ветви,
основателем которой был Шестой патриарх Хуэй Нэн.
11
В эпоху Тан (618-907), когда все буддийские секты в
Поднебесной империи переживали пору небывалого
расцвета, наращивая свое могущество путем строительства
храмов и монастырей, секта Чань не слишком активно
участвовала в разделе сфер влияния и потому, возможно,
меньше пострадала в пору жестоких гонений на буддизм,
последовавших в 845 г. Из так называемых Пяти
направлений и семи школ Чань, возникших на протяжении
VII-XI вв., особого внимания заслуживает учение Линь-
цзи (ум. 867), прославившегося прежде всего
иконоборческими лозунгами. Отрицая ценность любого церковного
ритуала и внешней обрядности, считая, что
божественную сущность человек должен искать только в самом
себе, в собственной повседневной жизни, Линьцзи
выдвинул известную формулу: «Встретишь Будду — убей
Будду, встретишь патриарха — убей патриарха!» Как гласит
предание, однажды мастера Тан Цзя (738-824) в пути
застигла ночь, и он вынужден был искать приюта в
придорожном храме. Поскольку было холодно,
благочестивый богоискатель растопил костер деревянными
статуями Будды и так согревался до утра. Во главу угла
Линьцзи и его последователи ставили реалистический подход
к действительности и «здравый смысл», отвечая на
вопрос о сущности Чань вполне прозаично: «Когда
голоден — ем, когда хочу спать — сплю».
Со временем секта Чань все более активно
распространяла свое влияние не только на территории сунского
Китая, но и за его пределами, особенно в Корее и
Японии. Именно в Стране восходящего солнца учению Бод-
хидхармы суждено было обрести вторую родину.
Буддизм впервые проник в Японию в период
правления принца-регента Сётоку (574-622) в форме доктрины
секты Санрон (кит. Саньлун, «Три завета»),
представляющей собой одно из ответвлений Махаяны. В эпоху Нара
(710-794), наряду с Санрон, развивались также секты
Юисики («Единого сознания») и Хоссо («Сущности
Дхармы»), Позже они были вытеснены сектой Кэгон
(«Гирлянда цветов о). В IX в. широкое признание получили
секты Сингон и Тэндай (см. Комментарий). В конце XII в.
их дополнила секта Дзёдо («Чистая земля»), а в XIII в.,
наряду с прочими, утвердились секты Син и Нитирэн (см.
Комментарий)«
Что касается Дзэн, то сведения об этом учении, как
и о многих других буддийских школах, доходили в Япо-
12
нию уже с VII в., но триумфальное шествие Дзэн по
японской земле началось лишь в конце XII — первой
половине XIII в- Пионером внедрения Дзэн был Эйсай
(1141-1215). Начав религиозную деятельность в секте
эзотерического буддизма Тэндай на горе Хиэй, он
дважды побывал на обучении в Китае, откуда и вывез учение
Линьцзи (яп, Риндзай). После неудачной попытки
утвердиться в императорской столице Киото, Эйсай
перенес свои усилия в Камакуру, где нашел полное
понимание и поддержку военных правителей из рода Ходзё.
Созданная им школа Риндзай утверждала
необходимость коанов и признавала полезность динамической
практики Дзэн — будь то в сфере воинских искусств,
живописи или икебаны.
Догэн (1200-1253), основатель другой крупнейшей
дзэнской школы Сото, напротив, подчеркивал ценность
сидячей медитации (дза-дзэн) и пассивной рефлексии.
Однако сам процесс медитации он рассматривал как
творческое действо, направленное на усовершенствование
человеческой личности и осознание «сущности Будды».
Впрочем, сам Догэн, натура темпераментная, независимая и
обуреваемая земными страстями, был далек от идеала
«недеяния*. Влияние его незаурядной личности
сказалось на всем дальнейшем развитии Дзэн в Японии.
Все зрелое и позднее японское средневековье
отмечено неуклонным возрастанием роли Дзэн-буддизма
сначала в жизни самурайства, а затем и других городских
сословий — прежде всего купцов и ремесленников.
Сохраняя сугубо религиозный характер в стенах
многочисленных монастырей и храмов, Дзэн, в отличие от всех
остальных буддийских сект, подвергся тотальному
освобождению от церковных влияний и уже в XV-XVI вв.
превратился для широких народных масс во
всеобъемлющую жизненную философию (ars vitae). Признание
незаменимости личного опыта и собственных усилий на
пути самосовершенствования, примата интуиции и
спонтанности прозрения, пусть в упрощенном виде, вполне
устраивало приверженцев самых различных учений, а
дзэнская методика психической саморегуляции верой и
правдой служила всем профессиям — от монахов и
воинов до поэтов и мастеров чайной церемонии. Не
случайно владетельные феодалы-даймё и сами могущественные
сегуны, полновластные правители Японии, обращались
за наставлениями к дзэнским мастерам.
13
Декларируемое дзэнской доктриной единство
мироздания, органическая связь человека с природой, его
включенность в круговорот вселенских метаморфоз — все это
апеллировало к сознанию любого японца, не мыслящего
себя в отрыве от сезонной игры стихий. Может быть,
поэтому общие для всех направлений буддизма идеи
бренности мира, всеобщей сопричастности и сострадания всему
живому с необычайной яркостью проявились именно в
дзэнской литературе, дзэнском садово-парковом искусстве
и искусстве аранжировки цветов, в дзэнской чайной
церемонии. Конечно, в других буддийских сектах и в светских
школах были свои монохромные рисунки тушью сумиэ,
свои направления икэбаны, свои принципы устройства
«сухих» садов из камней и песка, но все они в большей или
меньшей степени были проникнуты духом Дзэн.
Вершинами дзэнской эстетики стали сложенные на китайском
языке стихи монахов Пяти гор (XIV-XV1 вв., см.
Комментарий), пьесы театра Но ёкёку и трактаты по театральному
искусству Дзэами (1363-1445), пейзажная живопись Сэс-
сю (1420-1506) и Кано Танъю (1602-1674), культ чая и
искусство аранжировки цветов, созданные Сэн Рикю
(1520-1591), хайку Басе (1644-1694), Бусона (1716-1783)
и Исса (1763-1827), вака Рёкана (1758-1831). Однако не
случайно Д. Т. Судзуки ставит в тот же ряд и
пятистишия Сайге, сложенные в XII в., еще до воцарения Дзэн на
Японских островах, — ведь для того, чтобы творить в
духе Дзэн, не обязательно знать доктрину Дзэн. Вот
почему современные исследователи нередко причисляют к
дзэнской традиции произведения, созданные совершенно в ином
религиозно-культурном ареале людьми, никогда не
знавшими о существовании Дзэн, — Шелли, Китсом, Вордс-
вортом, Рембрандтом, Пьеро Делла Франческа и многими
другими. Дзэн универсален, он заключает в себе
космическую реальность бытия и вечное одиночество человека во
Вселенной. Вопрос лишь в степени типологического
сходства того или иного произведения с базовыми принципами
дзэнской «теории отражения».
XX век стал веком Дзэн. Удивительная способность
этой философской системы адаптироваться к социально-
политическим условиям и этнографическим особенностям
разных стран привела к широчайшему распространению
дзэнских идей в западном мире на различных уровнях —
от коммун хиппи до психоаналитических трудов Эриха
Фромма и романов Германа Гессе, от создания дзэнского
14
монастыря в Калифорнии до открытия сотен кружков
икэбаны, дзэнской кулинарии, клубов и секций
фехтования кэн-до, каратэ, дзю-до, айки-до. Дзэн давно стал
неотъемлемой частью западной культуры. Его
триумфальное шествие было в основном подготовлено усилиями
выдающегося философа и неутомимого пропагандиста
Дайсэцу Тэйтаро Судзуки (1870-1966).
Юность Судзуки совпала с эпохой величайших
преобразований в политической, экономической и культур-
ной жизни Японии после реставрации Мэйдзи (1868).
Человек новой формации, он получил великолепное
классическое образование. В его работах мы встретим
отсылки к палийским и санскритским текстам, к китайским
авторитетам и средневековым японским источникам, к
романам, повестям, стихам европейских и американских
писателей. Многие труды самого Судзуки, долгое время
жившего в Англии и читавшего лекции в британских
университетах, написаны на английском языке, как и
предлагаемая вашему вниманию книга «Дзэн-буддизм в
японской культуре» (полное название «Дзэн-буддизм и
его влияние на японскую культуру»), впервые
опубликованная в 1938 г.
Миссионерская деятельность Судзуки, приобщившего
людей Запада к религиозно-философскому наследию
Востока, началась в 1920-е г. и вылилась в создание многих
томов сочинений, которые с завидным постоянством
переиздаются вот уже более полувека и давно уже переведены
на большинство европейских языков. Здесь в первую
очередь следует упомянуть такие фундаментальные труды,
как «Очерки по Дзэн-буддизму*, (в 3 томах); «Учебник
Дзэн-буддизма» (антология дзэнских текстов);
«Подготовка дзэнского монаха*; «Жить по Дзэн*. Как отмечает
российский востоковед Н. В· Абаев, «успех интерпретатор-
ской и популяризаторской деятельности Судзуки был во
многом обусловлен тем, что ему удалось осуществить
перевод этого „эзотерического" языка на язык, в принципе,
доступный для любого „непосвященного" читателя
(причем без длительного вживания в реалии иной культуры и
эпохи) и дающий достаточно целостное представление об
основополагающих принципах теории и практики Дзэн-
буддизма*·
Идеи Дзэн, подхваченные и развитые западными
исследователями Э. Уоттсом, Э. Херригелем, Р. Блайсом и
многими другими, нашли мгновенный отклик в сердцах
15
философов и писателей по обе стороны Атлантики. Гессе,
Хаксли, Сэлинджер, Керуак, Гинзберг, Снайдер, Рекссрот —
вот далеко не полный список имен авторов, усвоивших
«дух Дзэн».
Как философия жизни, противопоставившая
самоценную личность постылому истэблишменту, Дзэн был взят
на вооружение битниками, хиппи, интеллектуальной
богемой, а также широкими кругами фрондирующей
западной интеллигенции. В то же время дзэнские методики
психотренинга прочно укоренились в медицинских
учреждениях Запада, в спорте и военном деле. В Японии, в
Киото, в крупнейшем дзэнском монастыре Дайтоку-дзи
был открыт специальный центр по подготовке западных
адептов. Принимать послушников из Америки и Европы
стали и другие дзэнские обители,
В нашей стране острый интерес к Дзэн-буддизму до
недавнего времени удовлетворялся лишь самиздатовски-
ми перепечатками да случайными журнальными
публикациями. Лишь в последние годы стали появляться
исследования и переводы, имеющие прямое отношение к
Дзэн, в основном в китайской его ипостаси. Нужен ли
нам Дзэн? Найдется ли место этому восточному учению
в нашей стране на крутом повороте истории? «Праздный
вопрос!» — сказал бы профессор Судзуки. Никто не
может испытывать нужду в Дзэн, Ведь Дзэн есть всюду, он
наполняет и пронизывает наше существование, а наша
задача — постараться постичь самих себя, слиться
воедино с окружающей нас природой и тем самым ощутить
дух Дзэн.
Глава первая
ПРВДВАРИТЕЛЬНЫЕ ЗАМЕГГКИ,
НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ПОНИМАНИЯ ДЗЭН
Само собой разумеется, что большинство японских и
зарубежных авторитетов, которые объективно и со
знанием дела пишут о морали японского народа, его духовной и
культурной жизни, сходятся в утверждении важности
влияния, оказанного Дзэн-буддизмом на формирование
японского национального характера· В соответствующих
главах данной работы приводятся высказывания на этот счет
двух заслуживающих всяческого уважения западных
авторов — сэра Чарльза Элиота и сэра Джорджа Сэнсома.
Первый зарекомендовал себя великолепным трудом
«Японский буддизм», второй — трехтомным изданием «История
Японии».
Я не вижу необходимости в специальных отсылках к
мнениям древних или современных японских писателей,
хорошо осведомленных о роли Дзэн в жизни нашего
народа. Считаю более уместным сказать несколько слов о
самом учении, поскольку, я полагаю, познания моих
читателей в этой области очень незначительны. Однако
выполнить подобную задачу нелегко, так как Дзэн вообще
чрезвычайно трудно объяснить людям неподготовленным,
не имеющим никакого представления о предмете ни из
книг, ни из устных проповедей: ведь считается, что Дзэн
выше всякой логики и не поддается словесному
определению, да к тому же учение никогда и не было изложено
доступным для массового читателя языком. Что же
касается тех, кто всерьез интересуется Дзэн, я рекомендую им
обратиться к другим моим сочинениям более
специального характера. В настоящей книге я даю лишь самое
общее представление о влиянии дзэнской философии на
характер японцев и культуру нации.
17
Дзэн — направление буддизма, получившее развитие
в Китае в ранний период эпохи Тан, а точнее — в VIII в.
В действительности же генеалогия Дзэн начинается с
первых десятилетий VI в, и связана с приходом из
Южной Индии в Китай великого Бодхидхармы. Учение Дзэн
есть не что иное, как учение буддизма Махаяны, и
провозглашает оно, разумеется, те же истины, что и
буддизм в целом· Однако Дзэн призывает к постижению
истинного духа самого Будды, отбрасывая все те
наслоения, что окружили изначальную доктрину за многие
века развития буддизма в Индии, Центральной Азии и в
самом Китае. Наслоения и напластования в различных
случаях могли быть ритуального или доктринального
характера, но иногда они обуславливались
национальной психологией.
Что же такое дух Будды? Что составляет основу
буддийского вероучения? Это прежде всего праджня и
каруна — понятия, обозначенные санскритскими
терминами. Праджня переводится как «трансцендентальная
мудрость», а каруна — как «любовь», «сочувствие»,
«сопереживание»· Праджня дает нам способность видеть
свойства вещей, лежащие за пределом их
феноменальной природы, и, таким образом, обретая праджню, мы
тем самым приходим к постижению глубинного
значения жизни и мироздания, расстаемся со всякими
заботами и переживаниями по поводу сугубо личных интересов
или страданий. В этом случае и каруна может следовать
своим путем: другими словами, любовь, не
обремененная своекорыстными устремлениями, будет
распространяться на все и вся.
В буддизме она простирается на существа
неодушевленные, ибо буддизм предполагает, что все живые
существа, неизбежно достигнут в конечном счете состояния
Будды, окруженного всеобщей любовью.
Предназначение Дзэн — пробудить праджню,
дремлющую в каждом из нас под многослойными покровами
невежества и кармы. Невежество и карма являются
следствием нашего безусловного подчинения интеллекту. Дзэн
восстает против такого положения. Если разум
обнаруживается прежде всего в логике и в словах, то Дзэн
отрицает логику и остается безмолвным, когда от него
требуют заявить о себе. Роль интеллекта может быть
оценена по заслугам лишь после того, как постигнута
суть познания, прибегая к своеобразной методике трени-
18
ровки духа и разума с целью пробуждения высшей
трансцендентальной мудрости — праджни.
Притча, рассказанная Госо Хоэном (У-Цзы Фа-Янь,
ум. в 1104 г.), одним из выдающихся мыслителей эпохи
Сун, будет весьма полезна для правильного понимания
дзэн-ской методики и духа Дзэн, о которых известно, что
они отвергают всякое учение, построенное на интеллекте,
логике и словесном поучении.
«Если меня спросят, что такое Дзэн, я скажу, что
это похоже на искусство воровства. Как-то раз сын
одного взломщика увидел, что отец его стареет, и
подумал: „Когда отец не сможет больше заниматься своим
делом, кто же будет кормить семью, если не я? Я
должен обучиться нашему ремеслу". Он поделился своими
соображениями с отцом, и тот одобрил его помыслы.
И вот как-то ночью отец подвел сына к большому дому,
сделал лаз в изгороди, затем проник в дом и, открыв
один из огромных сундуков, попросил сына забраться
внутрь, чтобы выбрать наряды получше и вытащить их.
Как только юноша выполнил указание, отец
незамедлительно опустил крышку сундука и повесил замок на
место. Выбравшись во двор, он стал громко стучать в
дверь и, убедившись, что хозяева проснулись,
преспокойно покинул дом через заранее подготовленный лаз.
Обитатели дома переполошились, зажгли свечи, но
обнаружили, что вор уже успел скрыться- Тем временем
сын, отсиживаясь в сундуке, размышлял о
жестокосердии отца. Он был страшно подавлен и обескуражен, как
вдруг его озарила блестящая мысль, и он начал
потихоньку скрестись в своем убежище. Хозяева, полагая,
что во всем виновата крыса, приказали служанке взять
свечку и обследовать сундук. Когда замок был наконец
снят и крышка поднята, незадачливый узник задул
свечу, оттолкнул служанку и пустился наутек♦ Слуги
бросились за ним в погоню. Приметив колодец у дороги,
беглец швырнул в него большой камень и помчался
дальше. Преследователи столпились вокруг колодца,
пытаясь рассмотреть в глубине тонущего вора. Между
тем находчивый молодой человек целым и невредимым
вернулся домой» Он разразился гневными обвинениями
и упреками, утверждая, что был на волосок от гибели,
но отец в ответ заметил: „Не стоит на меня обижаться,
сынок. Лучше расскажи, как тебе удалось улизнуть".
Услышав в подробностях обо всех ночных приключениях
19
сына, старый вор удовлетворенно вздохнул: „Вот теперь,
мой мальчик, ты воистину овладел нашим ремеслом"*-
Столь радикальный метод обучения искусству
воровства служит прекрасной иллюстрацией ко всей
методологической системе Дзэн-буддизма. Когда ученик просит
мастера преподать ему Дзэн, тот может просто ответить
пощечиной, добавив: «Дуралей несчастный!» Если
ученик обращается к наставнику с вопросом вроде: «Я
сомневаюсь в истине, которая, как говорят, должна
освободить нас от бремени страстей...» — мастер может
выставить молодца перед всей братией и громогласно объявить:
«Смотрите, о монахи, вот заблудший, что питает
сомнение!» Затем он может прогнать беднягу с глаз долой и
как ни в чем не бывало удалиться в свои покои. Дело
выглядит так, будто сомнения преступны или по крайней
мере грешно сомневаться в той области, где все доступно
свободному и непредвзятому наблюдению. Когда мастера
спрашивают, понимает ли он буддизм, ответом скорее
всего будет «нет». Если же спросить его, кто все-таки
понимает учение Будды, он укажет на столб,
подпирающий навес веранды«
Когда дзэнский мастер демонстрирует перлы логики,
он прибегает к силлогизмам типа: « Истинное ложно, а
ложное истинно», или: «Ты есть я, а я — ты». Факты
при таком обозначении игнорируются, ценности
выворачиваются наизнанку. Чтобы показать, насколько
расходится дзэнский дискурсивный метод с нашими
обыденными представлениями о вещах, я приведу в Приложении
несколько примеров из дзэнского «учебника»«
Японские мастера фехтования также используют дзэн-
скую методику тренажа. Однажды молодой самурай
пришел к наставнику, чтобы обучиться фехтованию на
мечах. Мастер, который жил отшельником в горной
хижине, согласился принять юношу в ученики. В обязанности
ученика входило собирать хворост, носить воду из
ближайшего ручья, колоть дрова, топить очаг, варить рис,
подметать комнаты и палисад — словом, вести все
домашнее хозяйство. Об уроках фехтования даже речи не
было. Через некоторое время молодой самурай начал
проявлять признаки недовольства: ведь он пришел учиться
владению мечом, а не служить мальчиком на побегушках
у престарелого чудака. И вот однажды он обратился к
мастеру с просьбой начать наконец обучение. Тот
согласился. В результате настырный молодой человек не мог
20
ни за что взяться спокойно — всюду его подстерегала
опасность. Стоило ему утром насыпать в котелок рис к
завтраку, как учитель, тихонько подкравшись сзади,
лупил его по спине палкой. Во время уборки на него опять
обрушивался удар в самом неожиданном месте, Дух его
не знал ни минуты отдохновения, так как бедняге
приходилось постоянно быть начеку. Прошли годы, прежде
чем он научился уклоняться от любого удара, откуда бы
этот удар ни был направлен. Однако мастер все еще был
недоволен учеником. Как-то раз молодой самурай застал
учителя у очага за жаркой овощей и решил
воспользоваться случаем, чтобы расквитаться за все обиды.
Схватив большую палку, он размахнулся и опустил ее на
голову учителя, который склонился в этот момент над
сковородкой, помешивая жаркое. Но палка лишь
звякнула о крышку сковородки, подставленную учителем.
Только тут открылось ученику глубинное таинство,
сокровенный смысл искусства фехтования, который доселе
был ему недоступен. Тогда впервые он смог оценить
беспримерную доброту мастера, явившего ему свою милость.
Подобные примеры иллюстрируют дзэнский метод
обучения, который сводится к личностному переживанию
истины, в чем бы она ни состояла, а не ограничивается
интеллектуальными рассуждениями и системным
теоретизированием. Последнее разъясняет в основном
технические детали и, соответственно, грешит
поверхностностью, то есть не ведет к пониманию главного.
Теоретические построения вполне уместны при игре в бейсбол,
сооружении заводов и крепостей, производстве
промышленных товаров или различных видов смертоносного
оружия, но не при создании произведений искусства или
освоении принципов искусства, являющегося
непосредственным выражением души человеческой. Не нужны они
также и при овладении искусством жизни, которая
должна быть верна сама себе, В сущности, все, что связано с
творчеством в его изначальном смысле, и впрямь
«непередаваемо», то есть находится за гранью дискурсивного
постижения· Отсюда и девиз учения Дзэн: «Не
полагаться на слова»*
В данном аспекте Дзэн противостоит всему, что
связано с научным анализом. Дзэн личностей, а наука безлич-
ностна. Все что безличностно — абстрактно, не
принимает в расчет варианты индивидуального опыта. Все
личностное принадлежит целиком индивидууму и должно быть
21
подкреплено персональным опытом. Наука представляет
собой систематизацию, а Дзэн есть нечто прямо
противоположное. Слова необходимы в науке, в философии, но в
Дзэн более всего ценится реальное. Если слова и бывают
нужны в Дзэн, то лишь в той же мере, как монеты для
торговли. Мы не можем надеть на себя монеты, чтобы
спастись от холода, не можем съесть их, чтобы утолить
голод и жажду. Монеты должны быть обращены в
настоящую шерсть, настоящую пищу, настоящую воду, чтобы
представлять реальную ценность для жизни. Мы то и
дело забываем эту простую истину и вечно стремимся
копить деньги.
Точно так же мы запоминаем слова, играем
понятиями, концепциями и мним себя мудрецами. Может быть,
мы и в самом деле «мудры», но мудрость такого рода не
оправдывает себя в столкновении с реальной жизнью.
Если бы она себя оправдывала, то давно уж пора было бы
наступить золотому веку.
Говоря условно, имеется три типа знания. Первый —
тот, что мы приобретаем из книг и бесед. Основная часть
того, что мы сами называем знанием, относится именно к
этому типу. Мы не можем увидеть все своими глазами —
вот почему в постижении мира мы должны полагаться на
карту, подготовленную для нас другими.
Второй тип знания — тот, что обычно именуется
научным. Это результат наблюдений и экспериментов,
анализа и размышлений. У него более прочная база, чем
у знания первого типа, так как здесь в известной степени
присутствуют результаты индивидуального опыта.
Третий тип знания — тот, что достигается
интуитивным путем. По мнению сторонников знания второго типа,
интуитивное постижение не имеет прочной опоры в
фактах и потому не заслуживает абсолютного доверия. Но,
по сути дела, так называемое научное знание вовсе не
является исчерпывающим и, следовательно, нуждается в
дальнейших коррективах, будучи ограничено своей узкой
сферой действия. Когда возникают чрезвычайные
обстоятельства, особенно личного свойства, для науки и
логики, возможно, просто не останется времени, чтобы
воспользоваться всем запасом знаний и расчета. Может быть,
не придется воспользоваться и теми знаниями, что
хранит память, ибо ум откажется воспроизвести
накопленное в прошлом. С другой стороны, интуитивное знание
создает основу всех видов веры, особенно религиозной, и
22
всякий раз наиболее успешно и эффективно срабатывает
в кризисной ситуации.
Дзэн стремится к третьему типу знания, которое
пронизывает наше бытие до самых сокровенных глубин или,
скорее, возникает из сокровенных глубин нашей натуры.
Я немного отклонился от темы, но уже по тому, как
учение Дзэн в целом относится к роли разума в плане
осознания духа буддизма, мы видим, что в лоне Дзэн
складываются определенные тенденции мыслительного и
чувственного восприятия мира, которые сводятся к
следующему.
* Сосредоточение на духе ведет к пренебрежению
формой.
♦Точнее, оно выявляет в любой форме присутствие
духа.
* Неполнота или несовершенство формы являются
более подходящими для передачи духа, поскольку всякое
внешнее совершенство может отвлечь внимание от
внутренней сути.
* Отрицание всякого формализма, ритуализма,
условности призвано явить дух во всей его наготе, одиночестве
обособленности.
* Такого рода отчуждение и обособление Абсолюта есть
проявление духа аскетизма, который велит отмести все
несущественное.
* Обособленность в переводе на язык обыденной
жизни есть не-привязанность.
* Когда обособленность в буддийском смысле слова
становится Абсолютом, она помещается во всем — от
жалких полевых злаков до высших форм жизни.
В дальнейшем я хочу более подробно остановиться на
роли Дзэн-буддизма в формировании японской культуры
и японского национального характера, рассмотреть его
проявления как в различных видах искусства, так и в
развитии самурайского кодекса чести Бусидо (Путь
воина), в пропаганде конфуцианской морали и
распространении всеобщего образования, в насаждении культа чая и
чайной церемонии» Вскользь будут затронуты и
некоторые другие вопросы.
Глава вторая
ОБЩИЕ РАССУЖДЕНИЯ
О ЯПОНСКОМ ИСКУССТВЕ
* * *
Приняв во внимание все вышеназванные
мировоззренческие предпосылки, заложенные в системе Дзэн, мы
можем перейти к рассмотрению реального вклада
Дзэн-буддизма в японскую культуру. Знаменательно, что все
прочие буддийские секты и школы ограничили сферу своего
влияния почти исключительно духовной жизнью
японской нации, между тем как Дзэн органично вошел во все
области культурной жизни народа.
В Китае дело обстояло несколько иначе. Дзэн там в
значительной мере сросся с даосскими верованиями и
культами, а также с эстетическим учением
конфуцианства, но культурную жизнь нации затронул все же не так
глубоко, как на Японских островах. (Может быть,
национальная психология стала причиной того, что японцы
восприняли Дзэн столь непосредственно и увлеченно,
сделав его неотъемлемой частью своего существования?)
Нельзя, однако, не упомянуть и то важное историческое
обстоятельство, что Дзэн в Китае дал стимул к развитию
философской мысли периода династии Сун и
способствовал становлению некоторых школ живописи. Работы
многих мастеров этих школ завозились в Японию, начиная с
эпохи Камакура, то есть с XIII в., когда дзэнские монахи
регулярно курсировали между двумя соседними
странами. Таким образом, произведения южносунской
живописи нашли ревностных поклонников на островах и
являются ныне национальным сокровищем Японии, между
тем как в Китае великолепные образцы живописи той
эпохи не сохранились.
Остановимся более подробно на одной характерной
черте японского искусства, которая тесно связана с миро-
24
воззренческой концепцией Дзэн и является, по сути,
производной от нее.
Среди отличительных особенностей японского
искусства заслуживает упоминания так называемый стиль *
одного угла», ведущий происхождение от творчества Байэ-
на (Ma Юань) — одного из величайших художников
империи Южная Сун. Стиль «одного угла» психологически
ассоциируется с «экономной кистью» японских
художников — традицией нанесения минимального числа линий
или мазков, призванных выявить форму на шелке или
бумаге. Оба стиля вполне соответствуют духу Дзэн·
Простой рыбачьей лодки на зыби вод довольно, чтобы
пробудить в душе зрителя ощущение бескрайнего морского
простора и в то же время вызвать чувство покоя и
умиротворения — дзэнское понимание одиночества. Судя по
всему, лодка беспомощно дрейфует. Эта примитивная
конструкция без всяких механических приспособлений для
стабильности, позволяющих бесстрашно мчаться по
взвихренным волнам, без хитроумных приборов, с которыми
можно не опасаться перемен погоды, — полная
противоположность современному крупнотоннажному лайнеру. Но
в самой ее беспомощности и заключается главное
достоинство рыбачьего челна, ибо здесь нам открывается вся
непостижимость высшего Абсолюта, окружающего ладью
и простирающегося на весь мир. Точно так же и
изображения одинокой птицы на засохшей ветви, в котором нет
ни одной лишней тени, ни одного лишнего штриха,
достаточно, чтобы передать печаль осенней поры, когда дни
становятся короче и природа понемногу сворачивает свой
роскошный свиток с картинами летнего цветения« Это
заставляет задуматься о внутренней жизни человека,
которая при пристальном наблюдении щедро являет взору
сокрытые в ней богатства.
Здесь перед нами воплощение трансцендентального
отчуждения посреди моря мирских метаморфоз, известное
в терминологии, характеризующей такое понятие
японской культуры, как ваби. Слово «ваби* буквально
означает «бедность» или, в негативном варианте,
«непринадлежность к элите, к высшему обществу своего времени».
Выть бедным — значит не зависеть от земных благ и
соблазнов (здоровья, могущества, репутации) и
одновременно ощущать в себе присутствие некоего высшего
начала, стоящего над временем, над общественным
положением. В этом суть ваби. Если попытаться перевести ваби
25
на язык повседневной жизни, это значит
довольствоваться убогой хижиной площадью в каких-нибудь два-три
татами, подобной бревенчатой избушке Торо; скудной
трапезой из овощей, собранных на соседнем поле;
прислушиваться к шуму ласкового весеннего дождя за
окном. Позже я попытаюсь более подробно рассказать о
ваби, а пока лишь замечу, что культ ваби прочно
утвердился в японском народе, являясь, по существу,
превознесением идеала бедности, — быть может, самый
подходящий из всех культов для такой бедной страны, как
наша* Несмотря на захлестнувшее Японию изобилие
западных предметов роскоши и бытового комфорта, в
людях осталось неискоренимое стремление к ваби, тоска по
ваби. Даже в интеллектуальной сфере ценится не столько
богатство идей, блестящий ум, игра мысли и умение
построить философскую систему, сколько способность
находить радостное успокоение в мистическом постижении
Природы. Для нас, по крайней мере для многих из нас,
важно прежде всего находить удовлетворение в том мире,
который мы видим вокруг себя.
Как бы мы ни были цивилизованны, в нас живет
врожденное тяготение к бесхитростной простоте, тесно
связанной с естественной жизнью на лоне природы. Отсюда и
летние лагеря, которые горожане устраивают в лесу, и
переходы через пустыни, и открытие новых путей» Все мы
порой хотим вернуться в лоно природы, услышать и
почувствовать ее пульс. Дух Дзэн, направленный на то,
чтобы ухватить лежащее под пластами условностей,
созданных человеком, помогает японцам не отрываться от
земли, всегда оставаться в дружбе с Природой и дорожить
ее незамутненной простотой. Учению Дзэн чужды
сложности, составляющие поверхностную сторону жизни. Сама
по себе жизнь достаточно незамысловата, но,
преломленная через призму интеллекта, она предстает перед
аналитическим умом как запутанный лабиринт. Вся мощь
современной науки оказалась бессильна разрешить тайны
жизни. И тем не менее, пристально всматриваясь в
жизненный поток, мы, вероятно, все же сумеем понять суть
жизни при всей видимой бесконечности ее сложностей и
хитросплетений. Очевидно, для народов Востока особенно
характерно умение постигать жизнь изнутри, а не
снаружи. Именно этому и учит Дзэн.
Там, где внимание сосредоточено исключительно на
духовности, проявляется некоторое небрежение формой.
26
Стиль «одного угла» и приемы «экономной кисти»
также помогают добиться отстраненности, отхода от
условных правил и регламентации. Там, где вы по привычке
ожидаете увидеть линию или заполненный контур или
простертое в воздухе крыло птицы, вы ничего не
находите, но уже сам по себе этот факт рождает в вас
неожиданное чувство удовлетворения. Несмотря на
отсутствие или явную нехватку каких-то деталей, вы не
воспринимаете это как дефект картины — и наоборот,
само ее несовершенство видится вам совершенством. По
всей вероятности, красота вовсе не нуждается в
совершенной форме. Вот почему большинство японских
художников воплощали красоту в форме несовершенства,
подчас даже уродства.
Когда красота несовершенства имеет налет старины,
отличается грубоватой упрощенностью, нам
открывается столь превозносимое японскими знатоками и
ценителями качество — саби. Главное не в самом духе старины
и примитивной упрощенности. Если произведение
искусства хотя бы слегка передает колорит определенной
исторической эпохи, в нем уже есть саби. Магия саби
заключается в лапидарной непритязательности, в
несовершенстве, присущем архаике, в кажущейся простоте и
бесхитростности исполнения и одновременно в богатстве
исторических ассоциаций (которых, впрочем, иногда
может и не быть). Наконец, саби содержит некие
необъяснимые черты, которые возводят данный предмет, каков
бы он ни был, в ранг художественного творения.
Считается, что перечисленные свойства обусловлены верным
пониманием смысла Дзэн·
Утварь для чайной церемонии также проникнута
духом саби. Вот как определяет мастер чайной церемонии
входящее в категорию саби понятие одиночества:
На вечерней заре
забрел я в рыбачье селенье —
Но осенней порой
уж не видно ни вишен цветущих,
ни багрянолиственных кленов..»*
Фудзивара Садаиэ
Здесь и далее стихи в переводе А. Долина.
27
Одиночество, на самом деле, призывает к раздумью,
не оставляя места для наигранности, зрелищной
парадности. На общем фоне современной жизни все это может
выглядеть чем-то жалким, убогим и незначительным. Ни
вьющихся вымпелов, ни сверкающих фейерверков —
остаться одному посреди бесконечно разнообразных форм
жизни, вечно меняющихся цветов и оттенков — что
может быть здесь интересного?.. Возьмите какой-нибудь
рисунок тушью сумиэ с портретом Кандзана (Хань Шаня)
или Дзиттоку (Ши Дэ), повесьте его в европейской или
американской картинной галерее и посмотрите, как будут
реагировать зрители. Идея одиночества принадлежит
Востоку и может быть правильно воспринята только там,
где она была выпестована.
Идеей одиночества порождены образы рыбачьей
деревушки в осеннем сумраке и клочка первой зелени ранней
весной, прекрасно передающие дух саби и ваби. Ведь
такой клочок зелени, как говорится в танка Фудзивара
Иэтаки, служит иллюстрацией извечной воли к жизни,
преодолевающей холодное зимнее запустение:
Как хотелось бы мне
всем, кто ждет лишь цветения вишен,
Суть весны показать
в том клочке травы, что открылся
меж снегов в селении горном!..
Старый мастер чайной церемонии тяною цитирует
это пятистишие как пример воспроизведения саби —
определяющего принципа в японском культе чая. Пусть
всего лишь слабый намек на силу жизни запечатлен в
пятнышке зеленой травы, но имеющие глаза увидят в
нем весну, что пробивается из-под тягостного снежного
покрова. Конечно, можно сказать, что здесь все
строится на предположении, но все равно это сама жизнь, а не
какой-то незначительный ее признак. Ведь для
подлинного художника в клочке зеленой травы жизни ничуть
не меньше, чем в целом поле, покрытом зеленью и
цветами. Таково мистическое мироощущение художника.
Еще одна отличительная черта японского
искусства — асимметрия. Сама концепция, безусловно, ведет
начало от стиля «одного угла» Ma Юаня. Наиболее
убедительные и смелые образцы такого подхода
обнаруживаются в буддийской архитектуре. Главные
сооружения, такие как ворота с надвратной башней, Зал Дхар-
28
мы (Пути), зал Будды и другие, составляют как бы
одну прямую линию, второстепенные же по значимости
здания и служебные постройки, иногда тоже весьма
важные, не располагаются по обе стороны прямой
линии наподобие крыльев обычно они произвольно
разбросаны по территории храма и привязаны к
местности. Вы легко убедитесь в этом при посещении любого
горного буддийского храма — хотя бы храма Иэясу в
Никко. Напрашивается вывод, что асимметрия
свойственна всей японской архитектуре такого типа. Если
вы внимательно приглядитесь к планировке чайного
домика или чайной комнаты, то увидите, что в
конструкции потолка заложено по крайней мере три
различных стиля. Утварь для приготовления и сервировки
чая, расположение камней тропинки в саду и
декоративных валунов — все это также примеры асимметрии
или, если угодно, «несовершенства», присущего стилю
«одного угла*«
Некоторые отечественные идеологи пытаются
объяснить пристрастие японских художников к
асимметричным формам и нарушение условных законов
«геометрии» искусства особой теорией. Якобы то был способ
своеобразного морального тренажа по принципу
никогда не выставлять себя напоказ, держаться в тени, и
укоренившаяся в сознании привычка к
самоуничижению проявилась в искусстве в стремлении оставить
незаполненным основное пространство, весь центр.
Однако мне лично такая теория не кажется убедительной.
Разве не более приемлемым будет утверждение, что
художественный гений японского народа вдохновлялся
дзэнским мировоззрением, которое склонно
рассматривать все вещи как совершенные в самих себе и
воплощающие при этом природу всеобщности,
принадлежащую Единому?
Доктрина аскетического эстетизма не столь глубоко
проникла в сознание масс, как доктрина дзэнского
эстетизма. Импульсы, побуждающие к искусству, творчеству,
более естественны, органически присущи человеку, чем
моральные установки. Зов искусства проникает
непосредственно в человеческую душу. Мораль обладает функцией
регулирующей, а искусство — творческой. Первая
навязана обществом, второе же является непреодолимым
внутренним позывом. Дзэн неизбежно соотносится с
искусством, но не моралью: Дзэн может быть аморальным, но
29
немыслим Дзэн без искусства. Когда японские
художники создают несовершенные с точки зрения формы
произведения искусства, они, может быть, и сами готовы
приписать все свои побудительные мотивы установкам
морального аскетизма, но мы не должны слишком полагаться
на их суждения, как и на мнения критиков. В конце
концов наше самосознание — не самый надежный
оценочный критерий.
Как бы то ни было, асимметрия, бесспорно,
свойственна японскому искусству, вот почему легкостью и
изяществом отмечены работы японских мастеров.
Симметрия же придает произведениям искусства
торжественность, внушительность, что вполне соответствует
принципу логического формализма с его нагромождением
абстрактных идей· Японцев принято считать людьми
недостаточно интеллектуальными и не очень склонными к
философскому мышлению, поскольку их общая культура
не слишком насыщена интеллектуализмом. Это
критическое отношение со стороны европейцев, на мой взгляд,
во многом объясняется любовью японцев к асимметрии.
Интеллект стремится прежде всего к
сбалансированности, между тем как японцы, наоборот, тяготеют к разба-
лансированности.
Разбалансированность, асимметрия, стиль «одного
угла», бедность, упрощение, саби и ваби, одиночество,
обособленность и другие сходные идеи, составляющие
характерные особенности японского искусства и
культуры, — все они являются производными от главного, от
восприятия истины Дзэн, гласящей: «Одно есть Все, и
Все есть Одно»,
* * *
Учение Дзэн смогло стимулировать творческие
импульсы японской нации и придать специфическую
идейную окраску работам выдающихся мастеров благодаря
следующим факторам:
*дзэнские монастыри были хранилищами знаний и
искусств, по крайней мере на протяжении эпох Кама-
кура и Муромати;
* дзэнские монахи имели постоянные контакты с
культурами сопредельных стран;
* весь народ в целом, и особенно представители
аристократии, обращался к дзэнским монахам в поисках
вдохновения и творческих озарений;
30
* сами дзэнские монахи были художниками, поэтами,
учеными и мистиками;
* властители страны всячески поощряли монахов к
участию в разного рода коммерческих предприятиях с
целью ввоза зарубежных ремесленных изделий и
предметов искусства в Японию;
* аристократы, а также классы, обладавшие
политическим влиянием, оказывали покровительство дзэн-
ским храмам, и многие ревностно предавались
изучению мудрости Дзэн,
При таком положении вещей Дзэн-буддизм оказывал
сильнейшее воздействие не только непосредственно на
религиозную жизнь японцев, но и на всю культуру нации
в целом.
Секты Сингон, Тэндай, Дзёдо, а также Син и Нити-
рэн немало сделали для того, чтобы привить японцам
буддийское миросозерцание. В лоне иконографии этих
сект вызревали предпосылки для развития скульптуры,
живописи, архитектуры, художественного
текстильного промысла и работ по металлу. Однако философия
Тэндай слишком отвлеченна и насыщена
абстракциями, чтобы стать достоянием широких масс; культовый
ритуал Сингон чересчур сложен и изыскан, чтобы дать
людям истинно народную религию. Сингон и Тэндай
породили прекрасные картины, скульптуры, церковную
утварь. Из их числа наиболее почитаемые бесценные
национальные сокровища относятся к историческим
периодам Тэмпё, Нара и Хэйан, когда обе буддийские
секты переживали пору расцвета и играли важную роль
в жизни образованных классов общества« Секта Дзёдо
проповедовала учение о Чистой Земле, где восседает во
всем своем великолепии Будда Бесконечного сияния в
окружении сонма бодхисаттв. Эта доктрина
вдохновляла художников на создание великолепных образов
Будды Амиды, которые хранятся ныне в многочисленных
храмах.
Секты Нитирэн и Син суть творения японского ре*
лигиозного духа· Идеи секты Нитирэн не особенно
способствовали развитию художеств. Секта Син вообще
была в известном смысле иконоборческой и не оставила
в области литературы и искусства ничего
заслуживающего внимания, кроме разве что гимнов-васан да
писаний, принадлежащих в основном выдающемуся
подвижнику XV в, Рэннё.
31
Дзэн пришел в Японию позже, чем Сингон и Тэндай,
и был сразу же тепло встречен воинским сословием,
самураями. Может быть, в силу исторического недоразумения
Дзэн на японской почве противостоял
аристократическому духовенству. Придворная знать поначалу также
чуралась учения Дзэн и даже использовала свои политические
возможности для организации сил, оппозиционных
новой секте. Так, волею судеб, на заре своего существования
секта Дзэн в Японии оказалась вдалеке от столицы Киото
и вынуждена была искать покровительства рода Ходзе в
Камакура. Резиденция военных правителей феодальной
Японии, Камакура, стала также и центром Дзэн-буддизма,
Множество дзэнских монахов, приехав из Китая, оседали
в Камакура, где им была обеспечена поддержка и защита
со стороны Ходзё Токиэри и Ходзё Токимунэ, а также их
преемников и вассалов.
Китайские наставники Дзэн привозили с собой
различные произведения искусства, приглашали с
континента художников, да и сами японцы, регулярно
посещавшие Китай, становились носителями традиций Дзэн
в искусстве и литературе. Так попали в Японию
картины Моккэя (My Ци), Рёкая (Лян Кай), Байэна (Ma
Юань) и многие другие. Свитки с надписями,
принадлежащими кисти крупнейших дзэнских мастеров Китая,
также нашли прибежище в стенах японских
монастырей. Каллиграфия на Дальнем Востоке всегда являлась
таким же искусством, как и живопись тушью, получив
повсеместное распространение среди образованных
классов с незапамятных времен. Живопись, графика и
каллиграфия, проникнутые духом Дзэн, произвели
сильнейшее впечатление на деятелей культуры и искусства.
Приняв на вооружение Дзэн, мастера стремились
развивать традиции, в которых жил этот мужественный
несгибаемый дух. Мягкость, утонченность и изысканность,
которые можно было бы назвать почти
женственными, — весь дух, царивший в японском искусстве до
периода Камакура, уступил место мужественности,
нашедшей выражение прежде всего в скульптуре, а также
в каллиграфии. Почитаться стала типичная для
самураев Канто грубоватая воинственность, резко
контрастирующая с изнеженностью холеных киотоских
вельмож. Присущие истинному солдату качества с их
акцентом на мистицизм и отстраненность от мирской суеты
предполагали явную доминанту силы воли, и в этом
32
аспекте Дзэн полностью смыкался с моральным
кодексом Бус идо.
Наилучшее развитие учение Дзэн получило в стенах
монастырей, поскольку монастыри чаще всего
располагались в горах и их обитатели находились в самом тесном
соприкосновении с природой, будучи пристальными и
неравнодушными естествоиспытателями. Монахи
наблюдают жизнь растений, птиц и животных, созерцают реки,
утесы и прочие красоты природы, которые остаются
незамеченными для большинства горожан. Характерно, что
такого рода наблюдения отражают всю глубину их
философии, вернее, их интуиции. Это не просто интерес
натуралиста: монахи стремятся проникнуть в самую суть
увиденного. Какой бы пейзаж ни рисовали они с натуры, в
нем всегда можно почувствовать интуитивное озарение,
мягкое дыхание «духа гор».
Вся мощь интуиции, которую обретают дзэнские
мастера в упорном радении, призвана пробудить и обострить
художественные дарования, если, конечно, таковые
вообще заложены в субъекте. Интуиция, очевидно, сродни
тому внутреннему зову, что побуждает мастера творить
прекрасное, то есть через предметы безобразные и
несовершенные выражать свое понимание подлинного совер-
шенства. Дзэнские мастера могли быть не бог весть
какими философами, являясь при этом зачастую
великолепными художниками, и творчество у них стоит на первом
месте. К тому же они знают, как передать уникальное и
оригинальное. Одним из выдающихся носителей дзэнской
традиции был Myco Народный наставник (1275-1351),
живший в эпоху Северной и Южной династий. Он был
неподражаемым каллиграфом и замечательным мастером
садово-паркового дизайна» Во многих уголках Японии,
где ему довелось побывать, он оставил великолепные сады,
многие из которых, пережив века, в отличной
сохранности дошли до наших дней. Среди крупных дзэнских
художников XIV - XV столетий выделяются имена Те Дэн-
су (ум. в 1431 г.), Рэйсай (творил с 1435 г.), Дзёсэцу (ок.
1410 г.), Сюбун (творил в 1414-1465 гг.), Сэссю (1421-
1506) и др.
Джордж Детайт, автор монографии «Китайский
мистицизм и современная живопись», который, как мне
кажется, понимает дух дзэнского мистицизма, утверждает,
что, «когда китайский художник пишет картину,
главное для него — концентрация мысли, а также готовность
2 Зак. M30I
33
руки спонтанно следовать направляющей воле. Традиция
предписывает ему видеть или, скорее, чувствовать работу,
которую предстоит выполнить в целом, прежде чем он
возьмется за что-то конкретное. Если человек не обладает
ясностью мысли, он станет рабом внешних обстоятельств».
И далее: «Тот, кто умышленно медлит и водит кистью,
намереваясь написать картину, еще более теряет в
постижении искусства живописи. Это похоже на
автоматическое письмо. Рисуй бамбук десять лет, стань сам
бамбуком, затем, когда берешься за кисть, забудь все» что
знаешь о бамбуке. Владея безупречной техникой,
художник весь отдается порыву вдохновения».
Стать бамбуком, забыть во время рисования, что ты и
бамбук едины, — вот истинный Дзэн бамбука,
заключающийся в следовании «ритмичному движению духа»,
живущего в бамбуке, как и в самом художнике. Все, что
требуется теперь от творца, — обуздывать свой дух и
направлять его, действуя при этом совершенно
бессознательно, спонтанно« Задача нелегкая, и способность к ее
выполнению приобретается только путем многолетнего
духовного тренинга. На Востоке люди еще с
незапамятных времен зарождения цивилизации были приучены
вырабатывать в себе такие способности, если они хотели
добиться успеха в искусстве или религиозном
подвижничестве. Принцип этот был сформулирован в известном
девизе Дзэн-буддизма: «Одно во Всем, и Все в Одном».
Глубинное постижение кардинального принципа и
порождает творческий гений*
Здесь чрезвычайно важно уловить правильный смысл
девиза. Некоторые полагают, что в нем заключено кредо
пантеизма, и такое мнение разделяют даже некоторые
приверженцы Дзэн. Прискорбное заблуждение! Ведь
пантеизм абсолютно чужд как самому учению Дзэн, так и
идее верного осознания художником своей миссии.
Когда дзэнские мастера провозглашают: «Одно во Всем, и
Все в Одном », они вовсе не имеют в виду, что есть
конкретное Одно либо Все, что Одно находится в другом
и наоборот. Да, если Одно присутствует во Всем, можно
вообразить Дзэн учением пантеистическим. На самом же
деле имеется в виду совсем иное: Дзэн не признает ни
Одного, ни Всего в отрыве друг от друга. Изречение
«Одно во Всем, и Все в Одном» нужно понимать как
категорическое утверждение непреложного факта, не
пытаясь анализировать составляющие элементы. Мы
34
смотрим на луну и знаем, что видим луну, — этого уже
достаточно. Тот, кто пытается проанализировать свой
опыт и вывести некую теорию познания, не может
называться адептом Дзэн, Он перестанет быть таковым, как
только приступит к процедуре анализа. Дзэн поощряет
опыт, но отказывается подчиняться любой философской
системе.
Даже когда Дзэн допускает логические рассуждения,
он не впадает в пантеистическое истолкование мира.
Прежде всего, в Дзэн нет понятия «Одно». Если речь идет об
«Одном», как если бы такое понятие существовало, это
всего лишь вид уступки общепринятым обозначениям.
Для адептов Дзэн «Одно есть Все, и Все есть Одно».
Первое всегда равнозначно второму, и разделить их
невозможно. Все на свете пребывает в Пустоте (шуньяте)
или вне ее в своей «таковости», Самобытности (татхата).
Самобытность вещей по сути и есть Пустота: татхата
есть шуньята, а шуньята есть татхата.
Следующий парадоксальный диалог-мондо поможет
мне проиллюстрировать отношение Дзэн-буддизма к так
называемому пантеистическому восприятию Природы.
Некий монах спросил Тосу (Тоу-цзы), дзэнского
мастера эпохи Тан: «В моем понимании все звуки суть глас
Будды, Это верно?» Наставник ответил: «Верно», — «В
таком случае, учитель, — продолжал монах, — не могли
бы вы прекратить издавать звуки, в которых слышится
хлюпанье болотной грязи?» Наставник в ответ дал
ученику затрещину.
Тогда монах снова обратился к Тосу с вопросом: *
Правильно ли я понимаю указание Будды о том, что всякая
речь, как бы ни была она пуста, банальна или
оскорбительна, относится к высшей Истине?» — «Совершенно
правильно», — подтвердил наставник, — «В таком
случае, — продолжал монах, — могу я назвать вас ослом?»
Мастер снова ответил затрещиной.
Вероятно, приведенный диалог следует разъяснить
общедоступным языком. Считать каждый звук, каждый
шум, каждое изреченное слово за порождение единой
Реальности, то есть единого Бога, — это и есть
пантеистический подход, как мне думается. Ведь «Сам дает всему
жизнь и дыхание и все» (Деяния, 17:25), и еще
сказано: «Ибо им мы живем и движемся, и существуем»
(Деяния, 17:28), Если так, то и охрипшая глотка дзэнского
мастера воспроизводит лишь отголоски мелодичного потока
35
сладкоголосых речей, изливающихся из золотых уст
Будды. Если так, то и при уподоблении уважаемого мастера
ослу оскорбление должно рассматриваться не как
оскорбление, а как отражение частицы высшей истины· Все
формы и разновидности зла должны быть сочтены
воплощающими по-своему правду, добро и красоту, вносящими
свою лепту в усовершенствование Сущего. Выражаясь
более определенно, плохое есть хорошее, безобразное есть
прекрасное, ложь есть правда, несовершенное есть
совершенное и наоборот. Таково восприятие людей,
считающих, что божественная природа имманентно присуща
всему в мире» Дзэн же часто подвергался критике за
демонстрацию сходной тенденции миросозерцания на практике·
Однако Тосу выступил против такого интеллектуали-
стского толкования и потому ударил монаха. Последний,
по всей вероятности, ожидал, что наставник придет в
замешательство от его вопросов, которые логически
вытекали из первой посылки. Мастер же, как и все мастера
Дзэн, знал бесполезность любой попытки разубедить
монаха словом. Ведь словопрения ведут от сложности к
сложности, и так без конца. Очевидно, оставался один
действенный способ заставить такого, как этот упрямый
монах, осознать ложность его концептуальных
построений — просто ударить и дать на личном опыте
почувствовать смысл утверждения «Одно во Всем и Все в Одном».
Его следовало пробудить от зачарованного сна
логических рассуждений — отсюда и радикальная мера,
примененная мастером Тосу.
Сэттё (Сюэ Toy) приводит комментарий к этому мондо
в поэтических строках:
Сколь прискорбно, что многие внемлют соблазну
беззаботно играть с волнами прилива,
Ибо их ожидает неизбежная гибель —
всех поглотит безжалостная пучина.
О, когда бы от сна пробудились люди,
от бездумного тяжкого помраченья,
И узрели, что реки текут к истокам,
вспять стремятся, вздымаясь и разливаясь!..
Здесь нужен поворот, пробуждение, сдвиг сознания,
благодаря которому человек придет к пониманию истины
Дзэн, а истина эта — не за пределами сознания и не в
самом сознании, а в реальной жизни. Тосу
провозглашает истину так:
36
Монах: «Что есть Будда?»
Тосу: «Будда».
Монах: «Что есть Дао?*
Тосу: «Дао».
Монах: «Что есть Дзэн?»
Тосу: «Дзэн»*.
Мастер отвечает как попугай, он превращается в эхо.
В действительности же нет иного пути просветить
монаха, кроме утверждения: «Что есть, то и есть». Это
конечный результат опыта.
Возьмем еще один пример, разъясняющий суть
вопроса. Однажды монах пришел к Дзёсю (Чжао Чжоу),
прославленному танскому мастеру Чань (Дзэн), с вопросом:
«Сказано в Каноне, что Совершенный Путь не знает
трудностей и лишь не признает различения. Что же означает
не-различение? »
Дзёсю изрек: «Под небесами и на небесах я один
Благопочитаемый ».
«Здесь все же есть разграничение», — возразил монах.
«О ничтожество! Где ты видишь разграничение!» —
осадил его мастер*
Монах больше не проронил ни слова.
Под различением или разграничением дзэнские
мастера подразумевали стремление не принимать факты
как они есть, но, размышляя и анализируя, выводить
из них концепцию, чтобы затем, нагромождая все
новые и новые постулаты, окончательно предаться
пороку рационального суемудрия. Категорическое
заявление Дзёсю не допускает никаких экивоков, обсуждений
и споров» Мы должны принять все, как есть, и тем
удовольствоваться. Если мы почему-либо принять все
таким образом не можем, следует оставить Дзёсю в
покое и найти другой источник прозрения. Монах не
сумел понять Дзёсю сразу и потому заметил: «Здесь все
же есть разграничение». В действительности же
разграничение было допущено самим монахом, а отнюдь не
Дзёсю — отчего и «Благопочитаемый» превратился в
« ничтожество ♦.
Как уже было сказано выше, в девизе «Одно во
Всем, и Все в Одном» понятия «Одно» и «Все» не могут
M он до Тосу, поэтический комментарий Сэттё и «Не-раз л
мнение» Дзёсю взяты из собрания дзэнских текстов «Хэкиган-сю»,
труднодоступного для широкого круга читателей.
37
рассматриваться отдельно, а затем попросту
соединяться при помощи предлога. Никакое различение здесь
недопустимо — нужно принимать все в целом и на том
стоять. Больше ничего не требуется. Мастер отвечает
на вопрос ударом или бранью не потому, что он
настолько возмущен или настолько несдержан, а чтобы
вызволить учеников из пропасти, в которую они
попали. Никаких аргументов, никакого словесного
убеждения здесь не достаточно. Только мастер знает, как
вывести учеников из логического тупика, открыть перед
ними новые пути, следуя которыми, они придут в
Изначальную Обитель.
То, что можно назвать интуитивным или
эмпирическим пониманием факта «Все в Одном, и Одно во Всем»,
является по сути фундаментальной истиной буддизма,
которую проповедуют самые различные школы. Так, в
трактовке буддийской секты Праджня, шуньята есть тат-
хата и татхата есть шуньята.
Шуньята (Пустота) являет мир Абсолюта, а
татхата (Самобытность) являет мир частностей. Одно из по*
пулярнейших дзэнских изречений гласит: «Ивы
зелены, цветы алы». Здесь мы находим утверждение мира
частностей, отдельных феноменов, где бамбук всегда
прям, а ветви сосен изогнуты. Приобретенные опытом
факты принимаются, как они есть — Дзэн не нигили-
стичен в своем подходе. И в то же время все это
Пустота — не в относительном, а в самом прямом и
абсолютном смысле.
Пустота в абсолютном смысле не есть понятие,
которое можно вывести путем умозаключений, но
подтвержденный опытом факт — такой же, как прямизна
бамбука или алый цвет лепестков. Это утверждение,
идущее от интуитивного постижения, личностного
восприятия. Когда, вместо того чтобы устремляться
наружу, к рациональному умствованию, дух и разум
обращаются внутрь, они постигают, что все на свете
происходит из Пустоты и в Пустоту возвращается, что приход
и уход составляют единое движение, хотя мы и
должны описывать их как два действия. Такая
динамическая идентификация лежит в основе нашего опыта, и на
ней базируется вся наша жизнедеятельность. Дзэн учит
нас постигать эту истину. Рассматривая проблему под
таким углом, мастер, будучи спрошен: «Что есть Дзэн?»,
отвечает иногда: «Дзэн», а иногда: «Не-Дзэн».
38
Теперь мы понимаем, что принципы рисунка тушью
сумиэ следуют из дзэнского опыта и что такие качества,
как Прямота, Простота, Динамизм, Одухотворенность,
Полнота, органически соотносятся с Дзэн, В сумиэ нет
пантеизма — нет его и в Дзэн.
Глава третья
ДЗЭН И САМУРАИ
Можно усмотреть некоторую странность в том, что
Дзэн тесно сроднился с духовной жизнью воинского
сословия Японии. Какие бы формы ни принимал
буддизм в тех странах, где он процветает и поныне, он
всегда оставался религией сострадания и за всю свою
многовековую, насыщенную событиями историю он
никогда не имел отношения к войне и военному делу»
Чем же объясняется та роль, которую был призван
сыграть Дзэн-буддизм в укреплении воинственного духа
самураев?
Со времени своего появления на Японских островах
учение Дзэн было теснейшим образом связано с
жизненным укладом самураев. Хотя Дзэн и не побуждал
непосредственно к занятиям столь кровавым ремеслом, но,
коль скоро воин уже вступил на избранный путь, именно
в доктрине Дзэн он мог найти поддержку и опору-
Поддержка эта осуществлялась двояко — поскольку Дзэн
является религией, которая учит не оглядываться назад,
следуя намеченным путем; в плане философском — Дзэн
не проводит различия между жизнью и смертью.
Решимость не оглядываться назад и не отступать в конечном
счете вытекает из философского убеждения, но, будучи
религией воли, Дзэн апеллирует к духу самурая скорее
моральными своими принципами, нежели философскими
построениями.
С точки зрения философии Дзэн отстаивает приоритет
интуиции перед интеллектом, так как интуиция —
самый прямой путь к постижению Истины. Заложенные в
учении Дзэн моральные и философские принципы
обладали немалой привлекательностью для воинов со сравни-
40
тельно неискушенным духом и разумом, не привычным к
мудрствованию. Таким образом, одно из важнейших и
необходимых качеств бойца вполне естественно нашло
конгениальное отражение в духе Дзэн. Здесь, вероятно,
кроется одна из главных причин столь тесной связи
между учением Дзэн и самурайством.
Вторая причина — в простоте учения Дзэн, его
искренности и прямоте, отрицании ценности собственной
жизни и расчете только на собственные силы. Подобные
аскетические тенденции прекрасно сообразуются с
воинственным духом самурая. Дух бойца всегда должен быть
направлен на одно — на противника, с которым
предстоит сразиться. Бойцу не пристало смотреть ни назад,
ни в сторону. Ему необходимо только одно — идти
вперед, чтобы сокрушить врага. Ему противопоказаны
любые излишние контакты с окружающим миром —
физические, эмоциональные или интеллектуальные.
Сомнения и раздумья, если только они рождаются в сердце
воина, служат серьезным препятствием на пути к
победе, а всякая эмоциональная или физическая
привязанность может явиться для него тягчайшим бременем,
если он преисполнен желания с усердием исполнять свои
обязанности в ратном деле. Настоящими бойцами, как
правило, становятся аскеты и стоики с железной волей»
Этими качествами при необходимости снабжает их
учение Дзэн«
Третья причина заключена в исторических связях
между ревнителями Дзэн-буддизма и верхушкой воине*
кого сословия. Эйсай (1141-1215), чье имя, возможно,
следует произносить как Эсай, по традиции, считается
первым буддийским священником, познакомившим
японцев с учением Дзэн. Однако деятельность его в
значительной степени ограничивалась пределами Киото, а
Киото в ту пору был центром старых буддийских школ
иного толка. Мощная оппозиция со стороны этих школ
делала практически невозможным воцарение какой-либо
новой веры в императорской столице. Эйсай вынужден
был пойти на компромисс, примирившись с влиянием
сект Тэндай и Сингон. Между тем в Камакура,
резиденции правительства из рода Ходзё, никаких объективных
исторических затруднений для распространения учения
не существовало. Ходзё поддерживали военный режим,
унаследовав бразды правления от клана Минамото,
который сломил могущество клана Тайра и придворной
41
знати. Аристократия утратила господствующее
положение в стране вследствие чрезмерной утонченности
нравов, приведшей к постепенному вырождению сословия.
Правление же Ходзё отличалось суровостью нравов,
умеренностью и моральной дисциплиной, а также отла-
женностью мощной административной и военной
машины. Деятели, стоявшие во главе этого грандиозного
политического аппарата, с энтузиазмом приняли Дзэн
как духовное наставление и руководство, игнорируя
авторитет традиции в религиозных вопросах. Таким
образом, Дзэн не мог не оказать сильнейшего влияния
на все стороны культурной жизни Японии, начиная с
XIII в. и далее на протяжении всего периода Асикага и
даже Токугава.
Дзэн не располагает какой-то специальной
доктриной или философией с устойчивым набором понятий и
интеллектуальных формул, если не считать того, что
он стремится освободить человека от уз рождения и
смерти при помощи своеобразных интуитив методов.
Это придает всему учению чрезвычайную гибкость и
способность адаптироваться к любой философской или
моральной доктрине, при условии, что последняя не
нарушает хода интуитивистского познания» Дзэн
может породниться с анархизмом или фашизмом,
коммунизмом или западной демократией, атеизмом или
идеализмом, с любым политическим или экономическим
догматизмом. При всем том Дзэн всегда проникнут неким
революционным духом, и, когда дело заходит в
тупик — например, когда мы перегружены всяческими
условностями и формализмом, — Дзэн заявляет о себе
как разрушительная сила. В таком понимании весь дух
эпохи Камакура согласовывался с мужественным духом
Дзэн.
В Японии есть поговорка: «Тэндай — для
императорской фамилии, Сингон — для знати, Дзэн — для
самураев, а Дзёдо — для простого народа». Здесь очень
метко характеризуется роль каждой из четырех
ведущих буддийских сект« Тэндай и Сингон отличаются
пышностью ритуала; их служители отправляют
культовые церемонии в торжественной, помпезной манере,
отвечающей вкусам аристократии* Дзёдо, естественно,
больше отвечает потребностям простолюдинов,
благодаря бесхитростной простоте вероучения. Что же
касается Дзэн, то он не только указывает кратчайший путь
42
к достижению истинной веры, но и является религией,
основанной на силе воли, а сила воли есть самое
необходимое для воина, хотя и ее надлежит подкрепить
интуитивным прозрением.
Первым адептом Дзэн из рода Ходзё был Токиёри
(1227-1263), унаследовавший от своего отца Ясутоки
регентство. Он пригласил в Камакура дзэнских мастеров
из Киото, а также некоторых китайских мастеров из
Южной империи Сун и под их руководством предался
усердному изучению Дзэн. В конце концов он преуспел в
своих занятиях, познав сущность Дзэн, и это должно
было дать стимул всем вассалам Ходзё последовать
примеру сюзерена,
Готтан, китайский мастер Дзэн, под руководством
которого Токиёри достиг окончательного прозрения после
двадцати одного года непрестанных радений, посвятил
своему просветленному ученику стихотворение:
Больше нет ничего в учении Будды,
что пристало нам обсуждать с тобою, —
И тебе ни к чему утомлять дух-разум,
наставленьям моим внимая праздно.
Там, где более не осталось места
ни молитве, ни знанью, ни свойствам духа,
С бодхисаттвой Дипанкарой Шакьямуни
безмятежно, мирно ведет беседу.
После не слишком долгого успешного правления
Токиери скончался в 1263 г., в возрасте всего лишь тридцати
шести лет· Поняв, что час его близок, он надел
буддийское облачение, сел на соломенную циновку для медитации
и, сложив прощальную песнь, тихо почил. Стихотворение
гласило:
Высоко вздымалось кармы моей зерцало,
Но исполнилось тридцать семь — и оно разбито,
Под ударом молота вдребезги раскололось,
Но Великий Путь нисколько не поколеблен...
Ходзё Токимунэ (1251-1284) был единственным
сыном Токиёри, и регентскую мантию ему пришлось
принять от отца в восемнадцать лет. Он оказался одним из
величайших деятелей в истории Японии. Во всяком
случае, без него история страны могла оказаться совсем
иной. Именно он отразил монгольские нашествия,
повторявшиеся на протяжении нескольких лет (1268-1284).
43
Порой кажется, что Токимунэ и впрямь был послан
небесами, чтобы спасти японский народ от тягчайшего
бедствия — ведь дата его смерти совпадает с окончанием
великих битв· Его короткая жизнь была полностью
посвящена благородному делу. Ему суждено было стать
телом и душой всей нации. Неукротимый дух Токимунэ
ни на минуту не ослаблял контроля над положением
вещей, а тело воплотилось в непобедимой армии, что
стояла насмерть, словно могучий утес над бурными
волнами Западного моря.
Эта удивительная, почти сверхчеловеческая личность
заслуживает еще большего уважения, если учесть, что,
несмотря на все заботы, он находил время, силы и
вдохновение, чтобы изучать Дзэн под руководством
китайских мастеров. Он возводил для них храмы, из которых
заслуживает упоминания в первую очередь посвященный
Вукко Кокуси*·
Предназначением обители было утешать отлетевшие
души японских и китайских воинов, павших на поле
брани в пору монгольских нашествий. Могила самого
Токимунэ находится в храме Энгаку-дзи. Сохранились
некоторые письма, посланные Токимунэ его духовными
наставниками, из которых мы узнаем, как прилежно и
ревностно отдавался он занятиям Дзэн. Приведу еще один
диалог, быть может, и не вполне исторически
достоверный, но дающий нам представление об отношении
Токимунэ к Дзэн,
Согласно преданию, Токимунэ однажды спросил Вукко
Всенародного наставника: «Худший наш враг в жизни —
трусость. Как могу я избежать ее?»
Букко ответил: «Отсеки источник, откуда берется
трусость».
Токимунэ: « Откуда же она берется?»
Букко: «Из самого Токимунэ»«
* Еще будучи в Южном Китае Букко Кокуси подвергся угрозам
со стороны монгольских солдат и сложил по этому поводу
стихотворение:
Тверди нет ни клочка меж землей и небом,
даже чтобы воткнуть на мгновенье посох.
Сколь отрадно, что все Пустота на светеÎ
Сам я есмь Пустота, одно с мирозданьем.
Пусть же славится меч в добрых три чи длиною,
что сжимает в руках преславный юаньский мастер.
Пусть сверкает клинок, рассекая Ветер вселенной,
Пустоту вспышкой молнии озаряя!..
44
Токимунэ: «Больше всего на свете я ненавижу
трусость. Как же может она исходить из меня?»
Букко: «Вот увидишь, как ты будешь себя
чувствовать, когда выбросишь за борт свое возлюбленное Я по
имени Токимунэ. Когда сделаешь это, придешь
показаться мне».
Токимунэ: «Но как же это сделать?»
Букко: «Отключи все мысли»·
Токимунэ: «Как могу я отключить мысли от
сознания?»
Букко: «Сядь со скрещенными ногами и вглядись в
источник всех мыслей, о которых ты думаешь, что они
принадлежат Токимунэ».
Токимунэ: «У меня слишком много мирских забот,
мне трудно найти свободную минуту для медитации».
Букко: «Какими бы мирскими делами ты ни
занимался , воспринимай их лишь как повод для внутреннего
размышления, и тогда в один прекрасный день ты
поймешь, кто такой твой возлюбленный Токимунэ».
Такой или почти такой диалог, вероятно, однажды
имел место между Токимунэ и Букко« Когда Токимунэ
получил донесение о том, что монгольская армада
приближается к берегам Японии, он предстал перед Букко
Кокуси и сказал; «Наступает самый решительный час
моей жизни». — «Как же встретишь ты его?» — спросил
Букко· Токимунэ ответил, словно собираясь устрашить и
изгнать врагов единым рыком: «Квац!» Букко был
доволен ответом и заметил: «Поистине, детеныш льва всегда
рычит как лев».
Мужество Токимунэ помогло ему достойно встретить
превосходящие силы противника и заставить его убраться
восвояси. Однако, если рассматривать события истории
объективно, мы поймем, что не только личная отвага
Токимунэ явилась причиной победы в этой великой битве
народов. Сам он лишь планировал все необходимые
операции, а его замыслы воплощались в жизнь в разных
провинциях армиями, сражавшимися против грозного врага.
Он никогда не покидал Камакура, но самурайские
дружины на западе Японского архипелага выполняли его
приказы скоро и решительно. Это граничит с чудом, если учесть,
что в те дни самыми быстрыми средствами сообщения были
перекладные лошади. Если бы он так хорошо не знал
своих вассалов и не был в них уверен, ему бы, конечно, не
удалось добиться столь впечатляющей победы.
45
О достоинствах этой незаурядной личности прекрасно
сказал Букко в надгробном слове на похоронах Токиму-
нэ: «В жизни его было десять чудес, которые поистине
воплощают великие пранидхана (заветы) бодхисаттв: он
был любящим и послушным сыном своей матери, верным
подданным императора; он всей душой заботился о
благосостоянии народа; изучая Дзэн, он постиг высшую
истину учения; в течение двадцати лет держа в своих руках
всю власть над империей, он не обнаруживал никаких
признаков радости или гнева; развеяв с помощью урагана
грозовые тучи, принесенные варварами, он не выказал
нарочитого восторга; основывая монастырь Энгаку-дзи,
он пекся об успокоении душ павших воинов равно с
японской и с монгольской стороны; воздавая должное
наставникам и патриархам, он стремился к прозрению —
все это доказывает, что приход Токимунэ в сей мир был
обусловлен Дхармой. Когда же для него настало время
ухода, он нашел в себе силы подняться с ложа, накинул
на свое немощное тело буддистский плащ, который я ему
преподнес, и, ни на минуту не теряя присутствия духа,
написал предсмертное пятистишие- Такого человека
поистине можно назвать просветленным, воплощением бод-
хисаттвы...»
Нет сомнений в том, что Токимунэ от рождения был
велик духом, но его занятия Дзэн оказали ему немалую
помощь как в делах государственных, так и в личной
жизни. Супруга его также была ревностной
последовательницей доктрины Дзэн и после смерти Токимунэ
заложила в горах женский монастырь как раз напротив
Энгаку-дзи.
Когда мы говорим о том, что Дзэн служил опорой
воинам, это утверждение применительно к эпохе Камаку-
ра имеет особое значение. Токимунэ был не просто
полководцем, но великим государственным деятелем,
добивавшимся мира для своей страны, о чем свидетельствует
хотя бы его молитва к Будде, произнесенная во время
службы в храме Кэнтё-дзи по получении известия о
первом нашествии монголов:
♦Об одном молит Токимунэ, ревнитель Закона Будды:
чтобы настало время, когда сможет он встать на защиту
святого учения; чтобы не поколебленной оставалась гладь
четырех морей и не сорвалась с тетивы ни единая стрела;
чтобы усмирены были злые духи без единого обнаженного
копья; чтобы благоденствовал народ при добрых правите-
46
лях, пребывая противу прежнего в большем довольстве и
наслаждаясь счастливым долголетием; чтобы озарился
мрак сознания человеческого светом высшей запредельной
мудрости, вознесенным горе; чтобы нашли утешение
страждущие и были спасены оказавшиеся в опасности
силою сострадания открытого сердца. Да хранят нас боги,
обитающие в высях небесных, да помогут нам
премудрые, живущие на земле, и да будет каждый новый день
полон добрых знамений!«,»
Токимунэ обладал благородным духом истинного
буддиста и сохранил до конца верность идеалам Дзэн.
Благодаря его покровительству, секта Дзэн прочно
обосновалась в Камакура, а затем и в Киото, распространяя свое
моральное и духовное влияние на воинского сословия.
Постоянный культурный обмен, который
установился таким образом между японскими и китайскими дзэн-
скими монахами, выходил далеко за пределы
религиозной схоластики: из Китая завозились на острова книги,
картины, фарфор, ткани и многие другие произведения
искусства. Следуя за своими господами, приезжали
также плотники, каменщики, архитекторы, повара· Можно
сказать, что торговля с Китаем, достигшая подлинного
расцвета в эпоху Асикага, получила мощный импульс к
развитию уже в Камакурском сёгунате.
Обретя столь могучих покровителей в лице Токиёри и
Токимунэ, Дзэн начал успешно внедряться в различные
сферы жизни японцев — в первую очередь, разумеется,
самураев. Укрепив свои позиции в Камакура, секта
перенесла усилия в императорскую столицу Киото, где ей
была обеспечена действенная поддержка собственно
японских мастеров и подвижников Дзэн. На стороне секты
были симпатии многих членов монаршей фамилии во
главе с императорами Годайго, Ханадзоно и др. В Киото
были построены большие монастыри и на места
основателей и настоятелей приглашены дзэнские мастера,
прославившиеся по всей стране добродетелью, мудростью и
ученостью.
Сегуны династии Асикага также были
приверженцами учения Дзэн, а их вассалы, естественно, следовали
примеру сюзеренов. В те годы таланты японской нации
сосредоточились в двух сферах: религиозном
подвижничестве и воинском долге. Духовное взаимодействие между
этими сферами деятельности и привело к созданию
феномена, известного ныне как Бусидо — «Путь воина ».
47
Здесь мне хотелось бы подробнее остановиться на
внутренней связи, существующей между учением Дзэн и
типичным мироощущением самурая. Как мы теперь
понимаем, решающая роль в создании Бусидо принадлежит
богу — хранителю самурайского достоинства и чести, а
само понятие чести включало в себя вассальную
верность, сыновнюю почтительность и всеобщее
доброжелательство. Однако для успешного выполнения
обязанностей самураю необходимо было соблюдать два условия.
Первое — это следовать принципам морального
аскетизма не только в быту, но и во всех теоретических
философских установках. Второе — быть постоянно готовым
в любую минуту встретить смерть, то есть без колебания
пожертвовать собой, если того потребуют обстоятельства.
Разумеется, и то и другое предполагает серьезную
физическую, психическую и духовную подготовку.
Идеи Бусидо подробно разработаны в сочинении под
названием «Сокрытое в листве» («Хагакурэ»)· Смысл
названия передает присущее самураю свойство избегать
шумного самовосхваления, держаться в стороне от
любопытных взглядов и творить добро ближним своим, К
составлению этой книги, которая объединяет
разрозненные заметки, анекдоты, притчи и нравоучения,
приложил руку дзэнский монах» Работа по ее написанию
была начата в середине XVII в. с соизволения даймё
Набэсима Наосигэ, правителя края Сага на острове
Кюсю. Особый упор в «Хагакурэ» сделан на готовности
самурая без раздумий отдать жизнь, ибо, как поясняет
автор, никакие великие свершения невозможны без доли
безумия, или, переводя на язык современных научных
терминов, без прорыва через ординарный уровень
сознания и высвобождения дремлющих под ним скрытых
сил. Порой эти силы могут нести в себе бесовское
начало, но природа их, без сомнения, сверхчеловеческая, и
с их помощью можно творить чудеса. Тот, кто
вторгается в область бессознательного, поднимается надо
всеми личностными ограничениями. Смерть для него
теряет свое жало, и тут психотренинг самураев смыкается с
практикой Дзэн.
Вот одна из историй, приведенных в «Хагакурэ», Ягю,
правитель Тадзимы, был великим мастером меча и
наставником фехтования при дворе сегуна Токугава Иэми-
цу. Однажды офицер из гвардии сегуна пришел к Ягю с
просьбой взять его в обучение.
48
«Я вижу, вы и сами искушены в искусстве
фехтования, — заметил Ягю. — Прошу вас, скажите, к какой
школе вы принадлежите, прежде чем между нами
установятся отношения учителя и ученика»,
«Стыдно признаться, но я никогда не занимался
всерьез фехтованием», — отвечал проситель. — Уж не
хотите ли вы меня одурачить! — вспылил Ягю» — Я ведь
преподаю фехтование Его сиятельству, самому сегуну, и
мой глаз еще никогда меня не подводил».
«Мне очень жаль, если я чем-то задел вашу честь, но
я и в самом деле ничего не понимаю в искусстве меча », —
оправдывался гвардеец.
Столь решительное заявление заставило мастера на
минуту задуматься, и наконец он сказал:
«Если вы это утверждаете, стало быть, так оно и
есть. И все же я знаю, что в чем-то вы истинный
мастер — не знаю только, в чем именно».
«Что ж, если вы настаиваете, я объясню,—
согласился офицер. — Когда я был еще ребенком, мне
пришла в голову мысль, что, как самурай, я не должен
никогда и ни при каких обстоятельствах бояться
смерти. Затем еще несколько лет я осмысливал проблему
жизни и смерти до тех пор, пока эта проблема
совершенно перестала меня волновать· Может быть, вы
намекаете на нечто подобное?»
«Ну конечно! — воскликнул правитель Тадзимы· —
Именно это я и имел в виду. Очень рад, что я не ошибся
в своей оценке. Ведь сокровенная тайна владения мечом
также заключена в преодолении страха смерти и
избавлении от всяких мыслей о ней» Сотни учеников обучал я в
этом духе, но никто из них не заслуживает высшего
аттестата мастера фехтования. Вы же вовсе не
нуждаетесь в технической подготовке, ибо вы уже законченный
мастер».
Для каждого из нас отношение к смерти величайшая
проблема, но еще более насущной становилась она для
самурая — профессионального воина, проводившего жизнь
в битвах, поскольку каждая схватка означала смерть для
одного из участников. Во времена средневековья никто не
мог заранее предсказать, когда настанет последний и
решительный бой, так что самурай, достойный своего
звания, должен был быть всегда наготове.
Дайдодзи Юдзан, писатель и воин XVII в., во
вступлении к своему трактату «Начальные основы Бусидо»
49
(«Бусидо её хатто») пишет: «Ключевой и жизненно
важной остается для самурая идея смерти, которую он
должен лелеять в сознании день и ночь, ночь и день, от
рассвета первого дня года до последних закатных
минут дня последнего. Когда понятие это полностью
тобой овладеет, ты сможешь выполнить свои
обязанности в наивысшей и наилучшей степени: ты верен
господину, почтителен к родителям и естественным образом
избегаешь всех несчастий и бед. Тем самым ты не
только способствуешь продлению срока своей жизни, но и
еще более укрепляешь собственные честь и
достоинство. Подумай, сколь непрочна жизнь, в особенности
жизнь самурая* А если так, то каждый день жизни
следует рассматривать как последний и посвящать его
неукоснительному выполнению долга. Не давай
мыслям о долгой жизни завладеть тобою, иначе
погрязнешь в легкомысленных утехах и окончишь дни свои в
позорном бесчестьи. Вот почему Масасигэ, как гласит
предание, завещал своему сыну Масацурё никогда не
расставаться с мыслью о смерти»·
Автор «Начальных основ» верно сформулировал те
представления, которые безотчетно присутствовали в
подсознании любого самурая. Сознание близости
смерти, с одной стороны, заставляет мысль преодолевать
ограничения, связанные с бренностью жизни, а с
другой — постоянно будоражит ее, побуждая серьезно
воспринимать повседневность« Таким образом,
трезвомыслящий самурай, чтобы естественным образом освоиться
с идеей смерти, должен был обратиться к
Дзэн-буддизму. Предложенная дзэнской доктриной возможность
решить эту проблему, не прибегая ни к книжной
учености, ни к специальной моральной подготовке, ни к
ритуальной практике, представляла большой соблазн
для сравнительно неискушенного ума самурая.
Просматривается некая логическая связь между общими
психологическими установками и конкретным
практическим учением Дзэн*
Далее мы читаем в «Хагакурэ»: «Бусидо означает
определившуюся волю к смерти. Когда стоишь на
распутье, без колебаний выбирай путь, ведущий к смерти.
Здесь не нужны никакие особые основания, кроме того,
что дух твой тем самым приводится в полную готовность
для дела. Некоторые могут возразить, что, если умрешь,
не достигнув цели, такая смерть будет бессмысленной.
50
собачьей смертью. Но когда стоишь на распутье, не
следует строить планы, как достичь цели. Все мы
предпочитаем жизнь смерти, и в любых планах предпочтение наше
будет отдано жизни, а не смерти. Если же при этом цели
не достигнешь и останешься в живых, тебя сочтут трусом.
Это важное соображение. Если погибнешь, не достигнув
цели, может быть, и впрямь умрешь, как собака, совершив
безумство, но по крайней мере такое деянье не запятнает
твоей чести. В Бусидо честь превыше всего. Потому пусть
утром и вечером в сердце и разуме твоем будет живо
запечатлена мысль о смерти. Когда укрепится твоя
решимость принять смерть в любой момент, ты станешь
законченным мастером Бусидо, жизнь твоя будет
безукоризненна и долг будет выполнен до конца».
Комментатор добавляет к приведенным рассуждениям
пятистишие Цукахара Бокудэна (1490-1572), одного из
крупнейших средневековых мастеров меча:
В ратной науке
о главном всегда помышляй,
где бы ты ни был,
что бы ты ни изучал, —
как бестрепетно встретить смерть!
Нагахама Иноскэ утверждает в «Хагакурэ»: «Суть
искусства меча в умении сконцентрироваться на одной
задаче — как поразить противника. Пока ты заботишься о
собственной безопасности, ты не сможешь победить. Если
же и противник готов отдать жизнь во имя победы,
значит, ты встретил достойного соперника, а исход поединка
решат вера и судьба». Заметки комментатора развивают
это положение: «Араки Матаиэмон, великий
фехтовальщик начала эпохи Токугава, наставлял своего
племянника перед началом смертельного боя с врагами: „Противник
заденет твою кожу, а ты врубайся в его плоть; он пронзит
твою плоть, а ты разворотишь его кости; он достанет тебя
до костей, а ты отнимешь у него жизнь!"*
В другом месте Араки дает такой совет: «Когда
собираешься сразиться на мечах с врагом, будь готов в любой миг
расстаться с жизнью· Пока тебя хоть в малейшей степени
занимает мысль о собственном спасении, ты обречен».
И далее в «Хагакурэ» говорится: «Грош цена
самураю, если он не может стать над жизнью и смертью. Из
утверждения, что все на свете есть порождение единого
духа, можно сделать вывод, что существует нечто под
51
именем „дух". Но дело в том, что вершить чудеса можно
лишь отрешившись от духа, проводящего разграничение
между жизнью и смертью». Другими словами, всего
можно достигнуть, лишь приведя свой дух-разум в состояние
«не-дух-разум», согласно учению великого дзэнского
мастера Такуана. Это такое состояние духа, в котором уже
не волнуют вопросы смерти и бессмертия.
Позволю себе привести два эпизода из жизни
Цукахара Бокудэна, знаменитого фехтовальщика, который
видел предназначение меча не в том, чтобы использовать
его как орудие убийства, а в том, чтобы превратить его в
инструмент духовного самосовершенствования.
Однажды Бокудэн переправлялся на лодке-пароме
через озеро Бива. Среди пассажиров рядом с ним очутился
дюжий верзила самурай, который вел себя крайне
вызывающе« Похваляясь своим якобы непревзойденным
мастерством, детина твердил, что равного ему в искусстве
фехтования нет на свете· Все пассажиры с интересом слушали
россказни самурая, только Бокудэн как ни в чем не
бывало дремал в уголке. Такое отношение рассердило
пустозвона не на шутку. Он потряс Бокудэна за плечо и сказал:
«Эй, у тебя ведь тоже торчит пара мечей за поясом — что
же ты ни слова не вставишь?» Бокудэн спокойно ответил:
«Мое мастерство совсем не похоже на твое: суть его не в
том, чтобы побеждать других, а в том, чтобы самому не
потерпеть поражения*. Такой ответ хвастуну не
понравился. «Как же называется твоя школа?» — спросил он.
«Школа моя называется Мутэкацу («Побеждающих не
прикладывая рук»), — пояснил Бокудэн, «Зачем же ты
тогда носишь мечи?» — «Только для того, чтобы избегать
всякой корысти, а не для того, чтобы убивать людей» ♦ Тут
верзила вконец рассвирепел и воскликнул: «Так что же,
значит, ты готов сразиться со мной вовсе без меча?» —
«Почему бы и нет?» — согласился Бокудэн.
Распалившийся забияка велел лодочнику грести к
берегу, но Бокудэн предложил выбрать для поединка
отдаленный островок на озере, чтобы не задеть случайно кого-
нибудь из зрителей. Самурай на это согласился, и лодка
устремилась к небольшому уединенному острову. Как
только причалили, спесивый самурай выскочил на берег и,
обнажив меч, принял боевую стойку. Бокудэн неторопливо
вынул свои мечи из-за пояса и передал их лодочнику.
Казалось, он сейчас последует за противником. Но вдруг
мастер выхватил у лодочника весло и резко оттолкнулся
52
от камня, так, что лодка отплыла на безопасное
расстояние. На прощанье Бокудэн с улыбкой заметил: «Вот это и
есть моя школа „Побеждающих не прикладывая рук'Ч,
Другая притча иллюстрирует представления Бокудэна
об истинном мастерстве фехтовальщика, которое отнюдь
не должно ограничиваться чисто профессиональными
навыками владения мечом.
У Бокудэна было три сына, все трое первоклассные
мастера меча. Как-то раз отец захотел испытать, на что
годятся сыновья. Он взял небольшую подушечку для
сидения и положил ее над дверью в свою комнату поверх
короткой занавески, прикрывавшей изнутри верхнюю часть
входа. Каждый, кто захотел бы пройти в дверь, должен
был приподнять занавеску — и тогда подушечка
неминуемо свалилась бы посетителю на голову.
Первым Бокудэн призвал старшего сына. Подойдя к
двери, тот по тени определил присутствие постороннего
предмета, аккуратно снял подушку и, войдя в комнату,
положил ее обратно. Тогда настал черед среднего сына.
Он приподнял занавеску, чтобы войти, но, увидев
падающую подушку, успел поймать ее и водрузил на место.
Младший сын просто отдернул занавеску и шагнул в
комнату, так что подушка шлепнула его прямо по
затылку. Однако прежде, чем подушка коснулась пола, юноша
успел разрубить ее мечом надвое.
«Что ж, ты и впрямь стал настоящим мастером*, —
сказал Бокудэн старшему сыну и преподнес ему
драгоценный меч. «Тебе, сынок, надо еще усердно
тренироваться >►> — заметил он среднему, «А ты, — обратился
престарелый виртуоз к младшему сыну, — позоришь нашу семью!»
Такэда Сингэн (1521-1573) и Уэсуги Кэнсин (1530-
1578), выдающиеся полководцы средневековой Японии,
жили в период постоянных гражданских войн, в так
называемую эпоху враждующих княжеств. Имена обоих
военачальников часто упоминаются вместе, поскольку их
владения — у одного в северной, у другого в центральной
части острова Хонсю — имели общие границы, что
побуждало грозных даймё к упорной борьбе за приоритет.
Князья были достойными соперниками: храбрые воины и
мудрые правители, оба они к тому же исповедовали
учение Дзэн.
Однажды провинцию Каи, наследственный удел Такэ-
ды Сингэна, постиг «соляной голод». Жители Каи,
окруженной со всех сторон горами, испокон веков завозили
53
соль из южных провинций, с Тихоокеанского побережья.
Когда у Сингэна испортились отношения с князьями
южных провинций, те решили организовать соляную
блокаду противника. Узнав об этом, Кэнсин, правитель края
Эти го, пришел в ярость от подобного трусливого
коварства· Он полагал, что истинным самураям пристало
сражаться лишь с оружием в руках на поле боя. Написав
письмо Сингэну, он предложил доставить в Каи нужное
количество соли из своих владений. Благородное
предложение было принято и по достоинству оценено.
Как сообщают хроники, в кровопролитном бою при
Каванакадзима Кэнсин, видя, что его армия не может
добиться успеха, потерял терпение и решил самолично
способствовать решительному перелому. С небольшим
отрядом всадников он прорвался в лагерь Сингэна.
Соперник спокойно сидел на складном полевом стуле в
окружении малочисленной свиты» Кэнсин направил коня
прямо к вражеской ставке и, опуская меч на голову Сингэна,
задал типичный дзэнский вопрос: «Ну, что ты скажешь в
такой момент?» Сингэн и бровью не повел. «Снежинка
на раскаленном очаге*, — отвечал он, уверенно отражая
смертельный удар круглым железным веером. Может быть,
в действительности и не было этого характерного
ситуативного дзэнского диалога-мондо, но вся история
замечательно иллюстрирует дзэнский подход к жизни двух
отважных бритоголовых воителей»
А вот как встретился князь Датэ Масамунэ со своим
дзэнским наставником. Масамунэ, прославившийся, в
частности, стихами о горе Фудзи, был усердным ревнителем
и пропагандистом Дзэн-буддизма. Однажды он задумал
пригласить нового настоятеля для фамильного дзэнского
храма, где покоились предки рода Датэ. Ему
порекомендовали некоего монаха из глухого провинциального
прихода. Желая проверить достоинства кандидата на столь
ответственный пост, Масамунэ пригласил монаха в свою
резиденцию, в замок города Сэндай.
Рин-ан — таково было имя монаха — принял
приглашение и в назначенный день явился в замок. Его
проводили в княжеские покои и оставили одного. Рин-
ан, которому было сказано, что князь ожидает в одной
из ближайших комнат, миновал длинный коридор и
открыл дверь, но в помещении никого не было. Пройдя
через комнату, он отодвинул сдвижную перегородку и
попал в другую комнату, где снова никого не оказалось.
54
С некоторым удивлением он пошел дальше, отодвинул
еще одну перегородку — и тут перед ним предстал
грозный хозяин замка с занесенным мечом. «Что скажешь в
этот миг между жизнью и смертью?» — вопросил он.
Монах, нисколько не испугавшись столь странного
приветствия, не стал терять времени. Нырнув под руку
Масамунэ, он крепко обхватил его за талию и хорошенько
встряхнул. Ошеломленный повелитель северо-восточной
Японии воскликнул: «Опасные шутки ты шутишь!» —
«Ох уж эта ваша гордыня!» — отвечал монах, ослабляя
мертвую хватку.
В те давние времена подобные встречи между
воинственными дайме и дзэнскими монахами, которые таким
образом как бы подвергались тесту на понимание сути
Дзэн и усвоение практики Дхьяны, случались довольно
часто* Люди, избравшие своей профессией войну, должны
были быть готовы встретить смерть в любой момент,
даже в предположительно мирной повседневной жизни, а
для этого требовалась не схоластическая, но вполне
объективная практическая подготовка. Им не нужны были ни
философия, ни религия сами по себе — только
практическое руководство, безусловно годное для любой
ситуации. Дзэн — вот в чем они нуждались.
Уэсуги Кэнсин всерьез приобщился к учению Дзэн
под руководством мастера Эки-о. Как-то раз он
присутствовал на проповеди, в которой Эки-о толковал
знаменитый ответ Бодхидхармы: «Я не знаю». Усвоив кое-
что из теории Дзэн, Кэнсин решил испытать монаха.
Переодевшись в платье рядового самурая, он скромно
ожидал удобного случая, чтобы обратиться к
проповеднику, как вдруг тот повернулся и спросил: «Ваша
светлость! Что же означают слова Дарумы „Я не знаю"»?
Кэнсин был застигнут врасплох и не знал, что
ответить. Тогда Эки-о продолжал: «Ваша светлость! Отчего
же вы не хотите ответить сегодня на мой вопрос, если
по любому поводу так бойко высказываетесь об учении
Дзэн?» Пристыженный Кэнсин оставил свою спесь и
начал глубоко изучать доктрину Дзэн под руководством
мастера. Наставляя князя, Эки-о любил повторять:
«Если хочешь по-настоящему освоить Дзэн, ты должен
отбросить все помыслы о жизни и погрузиться в пучину
смерти».
Впоследствии Кэнсин оставил своим вассалам такое
завещание: «Кто держится за жизнь — погибает, кто
55
преодолевает смерть — живет. Главное — это
дух-разум. Проникни взором в глубины духа, овладей им — и
ты поймешь: есть в тебе нечто превыше жизни и смерти,
что в воде не тонет и в огне не горит. Сам я познал
прозрение и достиг самадхи, поэтому знаю, что говорю.
Кто не решается покончить счеты с жизнью и принять
смерть, не достоин звания самурая».
Сингэн также обращался к проблеме смерти
применительно к Дзэн в своем «Уложении»: «Оказывайте
должное почтение богам и Будде. Когда помыслы ваши будут в
согласии с натурой Будды, вы обретете невиданное доселе
могущество. Если преобладание ваше над другими
порождено злыми помыслами, вас ждет разоблачение — вы
обречены. Далее, посвятите себя изучению Дзэн, Нет иных
секретов в Дзэн, нежели серьезное осмысление вопроса
жизни и смерти».
Приведенные эпизоды и цитаты позволяют
безошибочно судить о наличии глубокой внутренней связи
между учением Дзэн и жизнью средневекового воина. О том
же говорит и поведение самих дзэнских мастеров,
которые подчас превращали смерть чуть ли не в спорт.
Наставником Такэда Сингэна в занятиях Дзэн был
Кайсэн, настоятель монастыря Эрин-дзи в провинции Каи.
После смерти князя в апреле 1582 г, обитель была
осаждена войсками Ода Нобунаги за отказ выдать
могущественному противнику Сингэна его врагов, укрывшихся в
стенах монастыря. Штурмующие вынудили монахов во
главе с Кайсэном занять последний рубеж обороны на
верхнем ярусе главной надвратной башни. Нобунага
приказал сжечь упрямцев заживо, предав огню всю
деревянную башню. Монахи, скрестив ноги, спокойно уселись в
небольшом зале перед ликом Будды. Настоятель в последний
раз сотворил молитвы по заведенному обряду и прочел
проповедь, закончив ее словами: «Ныне мы с вами
окружены языками пламени. Как будете вы в этот
решительный момент вращать Колесо Дхармы?» Каждый из
присутствовавших пояснил, как он понимает задачу.
В заключение, прежде чем все познали огненное
самадхи, настоятель выразил свою точку зрения в стихах:
Нет нужды для покойных, мирных раздумий
удаляться туда, где горы и воды.
Если помыслы благостно безмятежны,
нам прохладу и свежесть подарит пламя»
56
Япония XVI в. изобилует великолепными
образцами человеческих характеров. В плане политическом и
социальном страна была буквально разорвана на куски.
Феодалы вели бесконечные междоусобные войны, народ
испытывал страшную нужду и лишения. Однако
смертельная борьба за военное и политическое господство
способствовала не только предельному напряжению всех
человеческих сил, но и всемерной закалке духа самураев.
Мужественность почиталась за основное достоинство в
самых различных областях жизни.
Можно сказать, что большинство добродетелей, из
которых и сложился кодекс Бусидо, окончательно
оформились именно в тот период. Такэда Сингэн и его
извечный соперник Уэсуги Кэнсин были весьма типичными
представителями самурайской знати· Оба они отличались
личной храбростью и никогда не отступали перед лицом
смерти; оба были мудрыми, дальновидными и
предусмотрительными правителями как в дни войны, так и в дни
мира; оба нисколько не были похожи на грубых и
невежественных вояк, отличаясь обширными познаниями в
литературе и глубокой религиозностью.
Любопытно, что оба властителя были также верными
проводниками учения Будды, Мирское имя Сингэна было
Харунобу, а Кэнсина — Тэрутора, но в историю они
вошли под своими церковными именами. И тот и другой
в юности проходили обучение в буддийских монастырях,
а в зрелом возрасте, сбрив волосы на голове, приняли
звание нюдо. Кэнсин к тому же был вегетарианцем и
соблюдал обет безбрачия.
Как и другие деятели японской культуры, они
любили природу, увлекались сочинением стихов на японском
и китайском языках. Вот, к примеру, одно из
стихотворений, сложенных Кэнсином во время очередного похода:
Морозный, бодрящий осенний воздух
окутал воинов на бивуаке.
Спускается ночь, и в сияньи лунном
перелетные гуси тянутся клином.
В притихших водах залива Нота
отразились темные горы Эттю.
Этот дивный вид в сиянии лунном
тихой радостью наполняет сердце.
Те, кто дорог нам, должно быть, сегодня
под луною тоже грустят в разлуке,..
57
Сингэн в умении чувствовать и понимать природу
нисколько не уступал своему конкуренту из Этиго. Однажды
князь отправился в паломничество, решив посетить
отдаленный храм, славившийся чудотворным изваянием
буддийского божества Фудо Мёо (санскр, Ачала), Настоятель
расположенного неподалеку монастыря пригласил даймё
заглянуть в его обитель на обратном пути. Сингэн
поначалу отклонил предложение, сославшись на то, что занят
подготовкой к новому походу, и добавил, что непременно
наведается в монастырь, когда вернется с победой. Однако
настоятель — тот самый преподобный Кайсэн, который
позволил потом воинам Ода Нобунаги сжечь себя
заживо, — упорствовал в просьбе: «Вишни только зацвели, и я
приготовил для вас удобное местечко, откуда так хорошо
любоваться вешней красой· Надеюсь, вы сумеете оценить
всю прелесть цветов*,
Сингэн поневоле согласился: «Негоже мне
отворачиваться от цветущей вишни — придется откликнуться на
приглашение Кайсэна». В предвкушении удовольствия от
созерцания прекрасных цветов и возвышенной беседы с
настоятелем князь сложил пятистишие-вака:
Как бы я тосковал
по вишням в морозном убранстве,
не заехав к тебе!
Может быть, год спустя весною
занесет всю обитель снегом...
Любовь к цветам вишни можно назвать второй
натурой японцев* Предание гласит, что в эпоху Токугава некая
узница в башне замка Коисикава ожидала казни на исходе
зимы. Каждый день она смотрела в окно, надеясь увидеть,
как расцветают вишни. Когда ей огласили приговор,
единственным ее предсмертным желанием было дождаться
первых цветов, прежде чем она навсегда покинет этот мир.
Тюремщик был человеком великодушным, понимающим
фурю и согласился исполнить последнюю волю
осужденной· В радостном расположении духа встретила она смерть,
а вишни в тех краях нарекли в ее честь «Асацума».
То бескорыстное наслаждение, что черпали в Природе
даже посреди военных бурь Такэда Сингэн и Уэсуги Кэн-
син, и определяется понятием «фурю*· Люди, лишенные
фурю, считались в Японии абсолютно чуждыми культуре.
Чувство это имеет не только эстетическое, но также и
религиозное значение. Возможно, сходное мироощущение
58
породило в среде образованных японцев различных
сословий, званий и родов деятельности обычай слагать в
предсмертный час стихотворение на японском или
китайском языке. Японцев с юных лет приучали выкраивать
хотя бы краткие минуты досуга, чтобы отвлечься от
суетных треволнений и забот.
Смерть — дело нешуточное, приковывающее все
помыслы человека, но японцы, приобщенные к
культурной традиции, полагают, что обязаны превозмочь ужас
и взглянуть на смерть объективно. Обычай оставлять
после себя прощальную песнь, который, правда, не
всегда строго соблюдался даже во времена феодализма,
был введен в обиход, по-видимому, в эпоху Камакура
дзэнскими монахами, а затем нашел последователей
среди мирян. Прежде чем навсегда отойти в нирвану,
Будда собрал вокруг себя учеников и дал им последние
наставления. Этот факт, вероятно, и послужил
стимулом для китайских буддистов, в особенности Дзэн
(Чань)-буддистов, которые предпочли вместо
наставлений ученикам говорить на прощанье о своем
отношении к жизни·
Предсмертные слова Такэда Сингэна были цитатой
из дзэнской классики: «Она большей частью
предоставлена своему естественному телесному совершенству, и
нет ей особой нужды прибегать к румянам и пудре,
чтобы выглядеть прекрасной » . Здесь речь идет об
абсолютном совершенстве Действительности, из которой все
мы происходим, в которую все вернемся и в которой все
обретаемся. Мир множества превращений исчезает и
вновь появляется, а то, что за ним сокрыто, неизменно
в своей безупречной красоте.
Уэсуги Кэнсин сложил две песни-завещания — одну
на китайском, другую на японском языке.
Полная чаша жизни — всего лишь чарка сакэ.
Словно во сне минули все сорок девять лет.
Что звать жизнью, что смертью, мне узнать не дано.
Год уходит за годом — смутных грез череда.
Ни раем, ни адом
меня уже не смутить —
И в лунном сиянье
стою непоколебим,
ни облачка на душе.·.
59
Вот как повествует литературный памятник XIV в,
«Сказание о великом мире φ («Тайхэйки») о смерти кама-
курских самураев. В нем рассказывается история гибели
бесстрашных монахов монастыря Эрин-дзи и дается
представление о роли Дзэн в формировании нравственных
принципов Бусидо, особенно в плане отношения к смерти.
Так, один из вассалов канцлера Ходзё Такатоки,
последнего правителя из рода Ходзё, некий Сиаку Синсакон
нюдо, собираясь покончить жизнь самоубийством вслед за
своим господином, чья судьба уже была предрешена,
призвал старшего сына Сабуродзаэмона и сказал ему: «Кама-
кура обречена — со всех сторон ее окружили враги, и сам
я, как верный слуга, намерен разделить участь моего
повелителя. Однако ты, сын мой, еще молод, при дворе
служил совсем недолго и узы, что связывают тебя с нашим
господином, не столь крепки. Ты должен попытаться
спастись. Если уцелеешь, станешь монахом и будешь
молиться за упокой наших душ. Никто не осудит тебя за это».
Сабуродзаэмон не внял разумному совету отца и
ответил так: «Хотя мне и не довелось еще лично послужить
господину, но, будучи твоим сыном, я сызмальства был
удостоен высочайших милостей и благодеяний. Другое
дело, если бы я уже состоял в монашеском сане, но ведь
я родился и вырос в семье самурая. Как же могу я
покинуть господина в беде и спасти свою жизнь, постригшись
в монахи? Свет не видывал большего позора. Если ты
собираешься разделить участь господина, то позволь и
мне сопровождать тебя в мир иной*. Едва закончив речь,
юноша вспорол себе живот и испустил дух*
Младший сын Сиро также собрался последовать
примеру брата, но Синсакон остановил его: «Не торопись.
Соблюдай порядок и по старшинству пропусти вперед
меня». Сиро вложил кинжал в ножны и покорно уселся
на колени перед отцом, ожидая его распоряжений.
Отец попросил принести ему удобную подушку, сел на
нее, скрестив ноги наподобие дзэнского монаха,
сосредоточенно растер тушь, обмакнул в нее кисть и написал на
листе бумаги предсмертное стихотворение:
Крепко сжимая меч,
готовлюсь рассечь Пустоту —
Ну вот наконец
свежий ветер прохладой дохнул
посреди пожаров и смут...
60
Закончив, Синсакон совершил сэппуку, как и
подобало бесстрашному самураю, а младший сын, облегчая
страдания, отсек ему голову в полном согласии с
самурайским кодексом чести. Затем Сиро вонзил тот же
самый меч себе в живот по самую рукоять и замертво
упал наземь.
Другому знаменитому воину по имени Нагасаки Дзи-
ро Такасигэ также довелось стать свидетелем заката и
падения рода Ходзё. Он призвал дзэнского мастера,
который к тому же наставлял мудрости Дзэн Ходзё Такатоки,
и спросил его: «Как должен храбрый воин вести себя в
такой момент?» Не задумываясь ни на миг, мастер
отвечал: «Вперед, и да поможет тебе твой меч!· Такасигэ все
понял- Он бросился в гущу боя и мужественно сражался,
пока, израненный и обессиленный, не упал к ногам
своего господина Такатоки.
Именно такой дух отваги и самопожертвования
воспитывал Дзэн в воинах. Это учение не призывало к
дискуссиям о бессмертии души, о добродетели божественного
пути и Закона Будды или об этических категориях, но
побуждало человека стремиться вперед, к каким бы
рациональным или иррациональным выводам он ни пришел.
Философию можно оставить любителям
интеллектуальных прений. Дзэн зовет действовать, а самое
эффективное действие — коль скоро дух исполнен решимостью —
идти вперед, не оглядываясь назад· В этом смысле Дзэн
поистине может считаться религией профессиональных
воинов^самураев.
Одна из идей, дорогих японскому сердцу, — принять
смерть исаги-ёку · В некоторых случаях, когда такая
характеристика приложима к смерти, люди даже к
преступникам относятся снисходительно. Исаги-ёку
означает «без страха и упрека·, «с чистой совестью·, «без
раздумий и колебаний·, «в полном присутствии духа· и
т. д. Японцам претят колебания и проволочки,
вызванные страхом смерти, — они предпочитают умирать, как
лепестки вишневых цветов, унесенные ветром. Такое
отношение к смерти, бесспорно, согласуется с
принципами Дзэн-буддизма. Может быть, у японцев и нет
никакой особой философии жизни, но зато философия
смерти у них определенно имеется, причем ее порой можно
принять за обычное безрассудство. Самурайский дух,
впитавший идеи Дзэн, получил распространение и в
широких народных массах. Даже люди, не проходившие
61
никакой специальной военной подготовки, усвоили этот
дух и подчас готовы пожертвовать жизнью за дело,
которое они считают достойным того. В войнах, что по
разным причинам приходилось вести Японии, это не раз
находило подтверждение. Один зарубежный автор,
пишущий о японском буддизме, верно заметил, что Дзэн и
есть японский характер.
Глава четвертая
ДЗЭН И ИСКУССТВО МЕЧА
♦ Меч — душа самурая». Когда бы ни шла речь о
самурае, безразлично, по какому поводу, неизбежно при
этом упоминается меч. Если самурай хотел сохранить
верность своему призванию и долгу, он обязан был,
поднявшись над жизнью и смертью, быть готовым в любой
миг пожертвовать собой — либо не дрогнув принять
разящий удар клинка, либо обрушить на врага
собственный беспощадный меч. Таким образом, меч, будучи тесно
связан с жизненными интересами самурая, превратился в
символ верности и жертвенности, что со всей
очевидностью подтверждается и всеобщим уважением японцев к
этому благородному оружию.
Для самурая меч всегда выступал как бы в двух
ипостасях» С одной стороны, он призван был уничтожать
все, что стоит на пути обладателя меча и противится его
воле, а с другой — подавлять непроизвольные эмоции,
порожденные инстинктом самосохранения. Первая
функция соотносится с духом патриотизма и
воинственностью, вторая корреспондирует в религиозном плане с
идеями верности и беззаветной самоотдачи. В первом
значении меч как бы нес в себе разрушительное начало,
олицетворяя грубую, подчас злобную, демоническую силу.
Вот почему вторая функция меча должна была
уравновешивать разрушительную мощь идеалами гуманности.
Владелец меча, наделенный совестью, трезвым разумом и
возвышенным духом, должен был запечатлеть в сердце
истинное предназначение меча, чтобы суметь обратить
грозную сталь против вселенского зла. И тогда меч
становился оружием в борьбе против сил, преграждающих путь
миру, справедливости, прогрессу и гуманности. Он являлся
63
защитником всего, несущего миру духовное обновление и
гармонию. Он служил воплощением жизни, а не смерти.
Дзэн говорит нам о существовании меча жизни и
меча смерти. Лишь великий мастер, постигший суть
учения, знает, который из них когда пускать в ход.
Водхисаттва Маньчжушри сжимает в правой руке меч, а
в левой — буддийскую сутру. Чисто внешне он
напоминает пророка Магомета, но священный меч
Маньчжушри предназначен не для убийства живых тварей, а для
искоренения человеческих пороков — жадности, гнева и
глупости. Меч направлен внутрь природы человеческой,
ибо когда цель достигнута, то и внешний мир —
отражение нашего внутреннего мира, должен освободиться
от жадности, гнева и глупости. Ачала (Фудо Мёо) также
держит меч, чтобы покарать нечестивцев, сошедших с
предначертанного Буддой праведного пути.
Маньчжушри воплощает позитивное начало, Ачала — негативное.
Гнев Ачалы дышит огнем, и не будет ему успокоения,
пока не превратится в пепел последний оплот врага —
только тогда Фудо Мёо обретет истинный свой облик и
снова превратится в Будду Вайрочану, чьим слугой и
одновременно чьей аватарой он пребывает. Между тем
Вайрочана всюду изображается без меча: он сам есть
Меч, заключающий в себе мириады миров.
Вот характерный пример дзэнского мондо на тему
«единый Меч». Кусуноки Масасигэ (1294-1336), перед
тем как выступить против превосходящих сил Асикага
Такаудзи в битве при Минатогава, посетил дзэнский
монастырь в провинции Хёго и обратился с вопросом к
наставнику: «Как подобает вести себя человеку, который
стоит на распутье между жизнью и смертью?» Монах
ответил: «Отруби две головы, порождающие сомненья, и
пусть единый Меч вонзается в небеса!» Этот идеальный
единый Меч — не меч жизни, не меч смерти, но Меч, из
которого возникает весь наш дуальный мир с его
бесчисленными сомнениями — сам Будда Вайрочана* Если
овладеешь им, всегда будешь знать, что делать на распутье.
Этот Меч представляет всю силу, всю
целеустремленность религиозной интуиции, которая в отличие от
интеллекта не делится на части, не дробится, создавая на
собственном пути искусственные препоны. Она движется
вперед, не оглядываясь назад и не озираясь по сторонам.
Вспомним притчу Чжуан-цзы о ноже мясника, который
разрезает хрящи, словно те уже были заранее готовы к
64
расчленению. Как говорил Чжуан-цзы, если хрящи и
суставы разъединяются сами, то и нож после многих лет
употребления остается острым, будто бы он только что
вышел из рук точильщика. Единый Меч Бытия никогда
не затупится, непрестанно карая многих и многих жертв
своекорыстия.
Немалую роль играет меч и в ритуале Синто, хотя
здесь, я полагаю, его духовная значимость не столь
велика, как в буддизме. В синтоизме проглядывает явная
близость к культу сил природы. Меч выступает не столько
символом, сколько объектом поклонения, наделенным
каким-то сверхъестественным могуществом. Во времена
средневековья среди самураев было распространено некое
поклонение мечу, хотя сейчас трудно сказать, чем именно
они руководствовались» Во всяком случае, к мечу всегда
относились с большим почтением: в час кончины самурая
меч клали у ложа усопшего; если в семье рождался
мальчик, меч становился украшением комнаты. Смысл этих
действий был в том, чтобы оградить помещение от злых
духов, которые могли бы повредить уходящему из мира
или, наоборот, приходящему в мир» Налицо пережиток
анимистического мышления, породившего идею
«священного меча*.
Следует особо отметить, что и по сей день
оружейник, приступающий к изготовлению меча, обращается
за помощью и поддержкой к синтоистскому божеству.
Чтобы пригласить бога-хранителя в кузницу, мастер
растягивает вокруг своего рабочего места священную
веревку из рисовой соломы с целью не допустить
вторжения злых духов. Сам же оружейник совершает
церемонию очищения и облачается для работы в специальный
наряд, освященный традицией. Вновь и вновь повторяя
проковку стального бруска, погружая его попеременно
то в огонь, то в воду> кузнец вместе с подмастерьем
напрягает все свои духовные силы. Уверенные в помощи
божества, они работают на пределе умственных,
физических и психических возможностей. Выкованный
таким образом меч представляет собой подлинное
произведение искусства и как бы воплощает частицу души
мастера. Вот почему, вероятно, японский меч как феномен
находит отклик в душе всего народа. Он
рассматривается не как средство уничтожения, а как объект
вдохновения. Легенда о двух прославленных оружейниках
передает это кардинальное различие.
3 Зах. NpÎOI
65
Мастер Масамунэ был знаменит в конце эпохи Кама-
кура. Знатоки и ценители оружейного дела дружно
превозносили его дарование. Правда, в прочности и остроте
клинок Масамунэ едва ли превосходит клинок Мурама-
сы, одного из талантливейших его учеников, но
благородная личность Масамунэ накладывала особый
отпечаток на его работы. Предание гласит, что, когда меч Мура-
масы пробовали на остроту, его втыкали посреди ручья и
смотрели, что будет с опавшими листьями, которые
плывут по течению. Лезвие рассекало каждый листок, что
имел неосторожность к нему прикоснуться. Когда же в
поток воткнули меч Масамунэ, то увидели, что листья
вообще не приближаются к лезвию. Клинок Масамунэ не
был создан для убийства, представляя собой нечто
большее, чем заостренная полоска стали* Между тем меч Му-
рамасы остался всего лишь орудием разрушения —
всякое божественное вдохновение ему чуждо. Клинок Мура-
масы грозен и неодолим, клинок Масамунэ — гуманен.
Первый властен и деспотичен, второй, если можно так
выразиться, наделен сверхчеловеческими качествами.
Масамунэ почти никогда не делал на рукояти меча
гравировки со своими именными иероглифами, хотя такой
обычай и был распространен среди оружейников.
Пьеса театра Но «Кокадзи» дает некоторое
представление о религиозном и нравственном значении японского
меча. Время написания пьесы относится, очевидно, к
эпохе Асикага. Однажды император Итидзё (правил в
986-1011) заказал мастеру Кокадзи Мунэтике
изготовить меч. Сознавая, что ему оказана великая честь, Му-
нэтика, тем не менее, не мог выполнить августейший
заказ без искусного помощника. Тогда он обратился с
молитвой к синтоистскому божеству Инари, своему
покровителю, прося послать умелого подмастерья для
работы* Тем временем он подготовил и освятил кузницу в
полном соответствии с предписанным ритуалом. Когда
церемония очищения была закончена, Кокадзи снова
воззвал к божеству: «Берусь, грешный, за дело сие не ради
корысти и гордыни, но во исполнение священной воли
государя, владыки миров. Молю богов, бесчисленных,
как песчинки в Ганге, снизойти на землю и помочь
смиренному Мунэтике, ибо не пожалеет он сил, дабы выко-
вать меч, достойный Его величества. Обратив взоры к
небесам и простершись ниц, обращает он к богам эту
молитву в залог искреннего своего упования завершить
66
работу в срок и с превеликим тщанием. Да будут боги
милосердны к искренней мольбе!»
Тут откуда-то раздался голос: * Молись, молись, о
Мунэтика, молись со смирением и верой. Пришло время
браться за молот. Доверься богам — и преуспеешь».
Загадочная фигура явилась перед мастером и помогла ему
выковать меч, которому не было равных в совершенстве
и великолепии. Император по достоинству оценил
творение Кокадзи как добродетельное священное сокровище-
Коль скоро божественное вдохновение присутствует в
процессе изготовления меча, понятно, что отсвет его
должен падать и на владельца клинка, который просто
обязан быть человеком духовным, чуждым грубому
солдафонству. Дух и разум воина должны быть созвучны той
душе, что оживляет холодную сталь. Выдающиеся
фехтовальщики во все времена не уставали прививать это
чувство своим ученикам. Вот почему, когда японцы
называют меч душой самурая, мы должны помнить, что за
этим стоит: верность, жертвенность, почтительность,
благожелательность и глубокие религиозные чувства. Таков
истинный самурай.
Для самурая, носившего за поясом два меча — один
для нападения и защиты, другой, короткий, для
самоубийства в случае необходимости, — было вполне
естественно со всем пылом и рвением оттачивать искусство
фехтования· Воин был неотделим от своего оружия,
которое более, чем что бы то ни было, становилось
символом, а также мерилом его чести и достоинства. Помимо
чисто практических нужд, упорные тренировки с мечом
способствовали духовно-нравственному
совершенствованию личности. Здесь мастерство фехтовальщика
смыкалось с учением Дзэн, о чем мы уже писали, ссылаясь на
ряд примеров, но я позволю себе обратиться к
классическим сочинениям, раскрывающим внутреннюю связь
между Дзэн-буддизмом и искусством меча.
Вот что пишет Такуан в своем послании к Ягю,
правителю Тадзимы, о важности Дзэн в практике
фехтования. Это письмо-трактат носит название «О
непоколебимом духе-разуме». Поскольку полный перевод занял бы
слишком много места, я привожу текст с сокращениями,
стараясь все же сохранить основные идеи. Сам документ
представляет интерес в нескольких аспектах, поскольку
в нем затронуты как важнейшие принципы
Дзэн-буддизма, так и многие секреты фехтовального мастерства.
67
В Японии, как, впрочем, и в любой другой стране, одних
технических знаний в искусстве или ремесле
недостаточно, чтобы сделать человека настоящим мастером, —
необходимо глубокое проникновение в дух предмета.
Постичь же этот дух возможно только тогда, когда
собственный дух-разум находится в полном соответствии с
кардинальным принципом самой жизни — иначе говоря,
когда достигнуто загадочное состояние мусин — «не-дух-
разум», или «отсутствие духа-разума*. В буддийской
терминологии мусин означает преодоление двойственности в
восприятии жизни и смерти. Вот тут и происходит
слияние искусства с философией Дзэн. Такуан в своем
послании прославленному фехтовальщику всячески
подчеркивает значение «мусинφ — понятия, в известном смысле
соответствующего концепции Бессознательного. С точки
зрения психологии, в таком состоянии дух-разум
абсолютно пассивен и безраздельно подчинен иным силам:
сознание отключается, и человек как бы превращается в
автомат. Однако, поясняет Такуан, подобная пассивность
не имеет ничего общего с бесчувственностью или
беспомощной неподвижностью неорганических субстанций,
например камня или бревна. Передать это состояние можно
разве что при помощи парадоксального каламбура —
«быть бессознательным в сознании».
ТАКУАН
«О НЕПОКОЛЕБИМОМ ДУХЕ-РАЗУМЕ»
В буддизме насчитывается пятьдесят две ступени
духовного развития. Одна из них под названием
«остановка» (бонно) характерна тем, что человек, сосредоточив
внимание на чем-то одном, не способен свободно
продвигаться дальше. Нечто сходное мы видим и в фехтовании·
Когда противник готовится нанести удар, стоит только
задержать внимание на его мече — и вы уже не вольны в
собственных движениях, вы подконтрольны чужой воле.
Это я и называю «остановкой», поскольку вы
вынуждены задержаться, остановиться на чем-то одном. С другой
стороны, когда вы видите приближающийся к вам меч
противника, но не сосредоточиваете внимание
исключительно на нем и не пытаетесь измышлять какие-то
особые способы ухода или парирования, но лишь следуете за
движением собственного клинка, до тех пор пока он не
поразит противника, — это и называется «победить
врага его собственным оружием». Дзэнское изречение на этот
68
счет гласит: «Перехвати меч врага и обрати против него
самого». Если внимание ваше хотя бы на миг задержится
на мече противника, или на его руках, или на мысли о
том, как лучше употребить собственный меч, или же на
другом человеке, жесте, времени, вы наверняка
предоставите противнику возможность для удара. Вас не должно
занимать и чувство вражды, ибо тогда вы дадите
противнику лишний шанс на победу — даже мысль о себе не
должна владеть вами. Стараться быть все время начеку,
до предела напрягать внимание — все это хорошо для
новичков, но кончится это тем, что ваш дух-разум
постоянно будет увлечен клинком. Когда же сознание
приковано к чему-либо одному, утрачивается мастерство· В
буддизме следует точно так же избегать «остановки», как и
в искусстве фехтования.
В каждом из нас есть то, что зовется
Непоколебимым духом-разумом. Следует лишь развивать его.
«Непоколебимый» вовсе не значит «недвижимый», как
бездуховный валун или дерево. Непоколебимый дух-разум
в действительности подвижнее всего на свете: он всегда
готов устремиться в любом направлении и при этом не
знает ни малейших «остановок»· Фудо Мёо, Бог
Непоколебимого духа-разума (Ачала-видья-раджа), держит в
правой руке меч, а в левой—веревку, зубы его крепки,
глаза пылают гневом — он пугает злых духов,
пытающихся повредить учению Будды. Символизируя
Непоколебимый дух-разум, Фудо Мёо не имеет постоянного
обиталища на земле и не существует в реальности.
Грозный облик он принял, чтобы защищать буддизм от
врагов. Людям заурядным не дано понять истинное
значение этого образа, между тем как стремящиеся к
просветлению его осознают и прилагают все усилия, чтобы
рассеять свое невежество и сомнения, ощутив в себе
присутствие Фудо. Бог Фудо Мёо воплощает
непоколебимость нашего же духа-разума, который призван
оставаться всегда в покое, но быть готовым к любому
действию. Быть непоколебимым означает не поддаваться
огорчению, разочарованию и страху, не закрепощать
внимание на чем-то одном, мешая ему спокойно переходить
от объекта к объекту. Когда объект появляется в поле
вашего зрения, вы, разумеется, замечаете его, но не
«останавливаетесь» на нем, ибо, если вы допустите
задержку, дух ваш будет тотчас охвачен колебаниями.
Вам придется выбирать из различных вариантов, каждый
69
из которых будет претендовать на непогрешимость, и,
пытаясь успокоить сомнения, вы все глубже и глубже будете
ввергать свой дух в пучину смятенья и неуверенности.
Когда вы видите, что со всех сторон окружены
врагами и отовсюду к вам тянутся мечи, смело парируйте и
переходите от противника к противнику» от меча к мечу,
ни на одном не «останавливаясь»· Тогда силы ваши
сравняются с силами нападающих. Если же вы позволите
своему сознанию задержаться на одном мече, вместо того
чтобы перенестись на остальные, тем самым вы отдадите
себя на милость врага« Ваш дух-разум ни в коем случае
не должен быть закрепощен на каком-то одном объекте,
чтобы не потерять исконно присущей ему подвижности.
Подумайте, к примеру, как может использовать свою
тысячу рук бодхисаттва Каннон. Ведь если дух-разум ее
« остановится ρ на миг, увлеченный луком, который
держит она в одной из рук, то ничто не сможет направить и
оставшиеся девятьсот девяносто девять. Но дух-разум
бодхисаттвы не задерживается ни на одном из предметов,
которые она сжимает в руках, и потому все они успешно
находят нужное применение. Когда в вас пробудится
Непоколебимый дух-разум, вы тоже сможете творить
чудеса. Конечно, Каннон не нуждается в таком количестве
рук — смысл образа в том, что, когда пробуждается
Непоколебимый дух-разум, мы можем использовать
сколько угодно рук с максимальной отдачей.
Вот дерево со множеством ветвей и листьев. Стоит
духу остановиться на одном из листьев — остальные
ускользнут от взора. Если же, напротив, взглянуть на
дерево безо всякой заранее данной установки, ни на чем в
отдельности не фиксируя внимание, сознание способно
будет охватить все дерево в целом. А потому не
допускайте «остановки» на чем-то одном, выпадающем из
целостного бытия. Кто не понимает этой истины, тот
склоняется перед Каннон, считая ее божеством с тысячью рук или
с тысячью глаз. Те, кто пытается проявить свои скудные
познания, утверждают, что не может быть многорукого
существа, подобного Каннон, что все это выдумки.
Истина же заключается в том, что мудрым понятно здесь
больше, нежели слепым почитателям Каннон или
иконоборцам. Первые, впрочем, несколько лучше вторых. Мы
же должны познать потаенный смысл, сокровенную идею
образа. Если вникнуть глубже, мы увидим, что все
рождается из единого универсального опыта.
70
Когда пробуждается ваш Непоколебимый дух-разум,
вы возвращаетесь к тому, с чего начали. Просветление в
конечном счете сродни самому Невежеству. Вы вновь
обретаете вашу изначальную безыскусность, наивность. Ведь
новичок в искусстве фехтования не знает, как держать
меч, как укреплять тело и т. д. Поэтому-то он
совершенно свободен от «остановок» духа-разума. Когда
противник нападает, он просто защищается как может. Однако,
как только он начинает учиться, узнает многое о
фехтовании, былая уверенность покидает его, дух-разум
поневоле задерживается на чем-либо и в действиях
появляется неловкость. На этой фазе ученик хуже, чем
необученный боец. Но если он будет упорно тренироваться в течение
многих лет, то овладеет искусством и уже не будет более
заботиться о частностях. Он достигнет полной
естественности, вернется к изначальному состоянию. Так бывает
при счете до десяти — после десяти вы снова
возвращаетесь к единице, и единица соседствует с десяткой.
То же и с учением Будды. После того как вы
достигнете высшей ступени учения, вас можно сравнить с
простодушным ребенком, которому ничего не ведомо ни о
Будде, ни о Дхарме. Вы освободитесь от самомнения и
лицемерия. В вас пробудится Непоколебимый дух-разум,
и вы возвратитесь к изначальному состоянию, то есть
Невежеству, Незнанию* Станут едины и нераздельны
понятия жизни и смерти, так как интеллект, различающий
эти два понятия и заставляющий человека колебаться
перед выбором, будет отсутствовать. Следовательно, не
будет и малейшей «остановки», столь пагубной для того,
кто стремится к состоянию «не-дух-разум» (мусин) или
«не-мыслие» (мунэн). Люди невежественные еще не
пробудили свое Знание, свой дух-разум и потому сохраняют
безмятежное простосердечие. Умудренные же изощрили
разум до предела и потому могут более не прибегать к
нему. Те и другие пребывают в добром соседстве. Лишь
те, кто обладает половинчатым знанием, обременены
необходимостью все на свете различать и подразделять.
Есть два вида обучения. Первый касается Конечного
Смысла, второй — технических деталей. Первый
направлен на достижение такого состояния, при котором ваши
действия будут не подвластны никаким заданным
ограничениям. Есть лишь Единый дух-разум, что следует
своим путем. Однако необходимо и знание технических
деталей: не владея ими, не поймешь, как продвигаться
71
по избранному пути. В данном случае необходимо знать,
как обращаться с мечом, как делать выпад, какие
принимать боевые стойки и т. д. Оба вида обучения равно
полезны, они подобны двум колесам в повозке.
Мы часто употребляем выражение «ни на волос
промежутка», что должно символизировать немедленный
ответ, мгновенную реакцию. Когда мы бьем в ладоши, звук
хлопка раздается сразу же, без малейшего промедления.
Ни на волос нет промежутка между двумя этими
действиями. Звук не вдается в раздумья — следовать ему за
хлопком или не следовать, — он просто мгновенно
продолжает хлопок* Когда на вас обрушивается меч
противника, стоит только высшему духу-разуму на нем
«остановиться», как образуется пауза, дающая противнику
преимущество. Когда же между атакой противника и вашей
контратакой не будет ни на волос промежутка, его меч
как бы станет вашим собственным оружием. В практике
Дзэн очень не любят эту «остановку», известную под
названием бонно — «помрачение». Дух-разум должен
всегда пребывать в движении, подобно шарику на волнах
потока.
Отсутствует пауза и при высекании кремнем искр·
Никакого промежутка между действиями нет: удар
кремня и искра следуют почти одновременно· Здесь особенно
важна не быстрота следования одного действия за
другим, но «безостановочность», столь необходимая духу-
разуму. Если вы захотите действовать быстро лишь ради
самой быстроты, ваш дух-разум «остановится» на этой
мысли, и вы уже не сможете в должной мере владеть
собой. Когда Сайге попросил деву веселья в Эгути о
ночлеге, она ответила ему стихами:
Вижу, что неспроста
вы покинули радости мира,
и молю об одном —
Пусть не будут для вас препоной
о земном пристанище думы!·.
Главное в этом стихотворении — концепция
«безостановочное™» духа-разума, которая передана иллюзивным
образом «земного пристанища».
В ответ на вопрос монаха: «Что такое Будда?» —
мастер может просто поднять кулак, а будучи спрошен, в чем
заключена высшая истина буддизма, он может
воскликнуть, не дождавшись конца вопроса: «Цветущая ветка сли-
72
вы!» или «Криптомерия во внутреннем дворике!» Суть в
том, что дух-разум отвечающего ни на чем не
«останавливается» и выдает то, что есть, нисколько не заботясь об
удачности или неудачности ответа. «Безостановочный» дух-
разум всегда остается непоколебим, ибо никакие
относительные представления не способны его увлечь. Главное —
истинное содержание, Бог, Будда, сущность Дзэн,
глубочайшая тайна. Если ответ дан после минутного
промедления и колебания, он уже будет относиться к категории
«помрачения», как бы ни был он безукоризнен с
литературной точки зрения , Реакция должна быть быстрой как
молния. Когда к вам обращаются, и вы непроизвольно тут
же отвечаете: «Да», — это и есть Непоколебимое Знание.
Если же вы медлите, соображая, с каким же делом к вам
собираются обратиться, происходит «остановка»
духа-разума, которая есть проявление Смятения и Невежества. Тем
самым подтверждается, что вы все еще остаетесь человеком
заурядного знания. То, что порождает в вас мгновенный
ответ, и есть мудрость Будды, которой искони наделены все
в мире — боги и люди, мудрые и невежественные. Когда
действия ваши подчиняются этой мудрости, вы сами
становитесь Буддой, божеством. Сколь бы ни были различны
доктрины синтоизма — с его поэтизацией сил природы — и
конфуцианства, они так или иначе призывают к
постижению Единого духа-разума вселенной. «Мудрость Будды»,
«Единый дух-разум», «Непоколебимое Знание» и прочие
сходные понятия обозначают, в сущности, одно и то же.
Слов недостаточно для объяснения духа-разума: когда мы
пытаемся его объяснить, происходит разделение,
возникают дуальные начала «Я» и «Не-я», и в результате подобной
двойственности мы идем на хорошие и на плохие дела,
становясь попросту игрушками кармы. Карма же в
действительности обусловлена духом-разумом, и для нас прежде
всего необходимо заглянуть в собственный дух-разум.
Немногим дана способность такого проникновения,
большинство же о деятельности своего духа-разума ничего не знают.
Однако само по себе интроспективное прозрение
немного стоит — мы должны заставить его работать в
повседневной практической жизни· Что толку бесконечно
говорить о воде, если нас мучает жажда? Сколько бы мы
ни обсуждали свойства огня, от этого не станет теплее.
И буддизм, и конфуцианство разъясняют понятие духа-
разума, но, пока его свет не озарит наше обыденное
существование, нельзя будет утверждать, что мы постигли
73
истинный его смысл. Нужно размышлять о свойствах
духа-разума постоянно, стараясь осознать его в себе.
Где должен быть сосредоточен дух-разум, когда вы
сражаетесь на мечах? Если он сосредоточится на
телодвижениях противника, то застопорится на них; если на
мече противника — будет прикован к мечу; если на
мысли о том, как поразить противника, — задержится на
самой мысли; если на своем собственном клинке —
остановится на этом клинке; если на мысли о том, как не
быть убитым в бою, — будет связан этой мыслью; если
на боевых стойках противника — затормозится на
стойках. Где же должен находиться дух-разум, если вы
хотите, чтобы действовал он свободно, не стесненный
никакими обстоятельствами?
Кое-кто может спросить: если дух-разум
застопоривается на всех перечисленных предметах, что дает
преимущество противнику, не лучше ли сохранять его в
Средоточии, в нижней части живота? Тем самым достигается
способность следовать за всеми действиями противника и
адекватно на них отвечать. «Что ж, прекрасно!» —
сказал бы я. Однако, если взглянуть с высшей ступени
буддийского учения, такой подход еще весьма далек от
совершенства. Он характеризует лишь стадию
ученичества, соответствуя «почтительному отношению» в
конфуцианстве и «поискам исчезнувшего духа-разума» в
теории Мэн-цзы· До вершины здесь еще далеко. Ведь, когда
вы твердо решили сконцентрировать дух-разум в
Средоточии, уже сама эта установка помешает духу-разуму
свободно функционировать, и действия ваши опять будут
скованы.
Вопрос: Куда же в таком случае следует направить
дух-разум, если не в Средоточие-тандэн?
Ответ: Когда дух-разум направлен в правую руку, он
там и остается и тормозит движение всех остальных
частей тела« Когда он сосредоточен в глазах, то там и
пребывает, затрудняя работу всех членов. Так же и с другими
органами« Следует не допускать сосредоточения
духа-разума на чем-то одном, ибо тем самым причиняется
неудобство всему остальному. Куда же все-таки должен
быть обращен дух-разум, чтобы обеспечить наивысшую
духовную и физическую отдачу? Мой ответ таков. Не
думайте вовсе о том, куда направить дух-разум, ибо тогда
он рассредоточится по всему телу и наполнит его до
кончиков пальцев. Если нужно пустить в дело руки, они
74
немедленно подчинятся духу-разуму; если желательно
оглядеться по сторонам, глаза сразу же выполнят
приказание. И так будет с любым членом, с любой частью тела,
которую вы захотите заставить работать наилучшим
образом. Дух-разум не должен задерживаться ни на какой
определенной части тела, коль скоро он призван
заставить все тело работать на пределе возможностей. Мысль
о том, что необходимо сделать что-либо, направляет дух-
разум в одну сторону, а все прочее остается в небрежении.
Не допускайте раздумья, колебания, промедления — и
дух-разум будет присутствовать во всем, действуя на
полную мощь, помогая вам свершить необходимое. Во всем
следует избегать односторонности* Если дух-разум все же
прикован к какой-либо конкретной части тела, его
следует отвлечь и заставить работать так, как надо. Подобное
переключение — задача нелегкая, ибо дух-разум обычно
склонен оставаться там, где он уже сделал «остановку».
Это требует времени даже тогда, когда налицо готовность
к такому переключению. Нельзя удержать дух-разум
веревкой, как кошку, которую вы хотите заставить побыть
с вами. Чтобы он эффективно действовал в десяти
направлениях, не давайте ему задерживаться ни на одном
из десяти, иначе остальные девять окажутся без
внимания. Однако тут требуется серьезная подготовка.
Надлежит разграничивать «истинный» дух-разум (хон-
син) и «поверхностныйφ (мосин). Истинный дух-разум —
тот, что наполняет все тело. Когда он вынужден
«остановиться» на чем-то одном и задержаться, подвижность его
теряется и он превращается в поверхностный дух-разум.
Когда истинный дух-разум отсутствует, тело встречает на
своем пути множество помех· Истинный дух-разум
подобен воде — он вечно течет, вечно в движении« Между тем
поверхностный дух-разум имеет сходство со льдом — им
даже лица не умоешь. Чтобы сделать его пригодным для
чего-нибудь, необходимо его растопить и дать растечься
по всему телу.
Еще надлежит различать состояния «присутствия
духа-разума» (усин) и «отсутствия духа-разума» (мусин).
Под «присутствующим» духом-разумом подразумевается
дух, страдающий односторонностью и закрепощенностью,
соответствующий «поверхностному». Он повсеместно
«останавливается», медлит, колеблется, выбирает. Он
всегда «присутствует» и тем самым затуманивает
«истинный» дух-разум, мешает его течению. Напротив, мусин
75
означает «истинный* дух-разум, не знающий «останов-
ки», задержки, промедления и колебания. Он
пронизывает все человеческое существо и сам полон жизнью — в
нем мало общего с каменной глыбой или деревянным
чурбаном. Он никогда ни на чем не «останавливается»,
поскольку «остановка» подразумевает присутствие чего-
то, то есть помеху (а если что-либо мешает движению,
это уже не мусин). Понятие «мусин» означает вовсе не
иметь духа-разума, и как раз благодаря «отсутствию духа-
разума » возможно непрерывное перемещение от одного
объекта к другому. Может быть, такое сравнение
покажется странным, но я бы уподобил «отсутствие духа-
разума* воде, сдерживаемой запрудой: она всегда готова
течь, куда потребуется. Или же его можно сравнить с
колесом, которое вертится вокруг оси, будучи надето
плотно, но не слишком туго. Если колесо обжимает ось
слишком туго, оно не будет вращаться, то есть не будет
выполнять свое прямое предназначение. Когда дух-разум
прикован к чему-то одному, он уже не способен четко
реагировать на все остальное. Коль скоро вами овладела
какая-то мысль, сознание ваше оказывается закрыто для
других мыслей. Когда вы целиком и полностью заняты
чем-то, вы уже ничего более не видите и не слышите.
Пускай же ваш дух-разум остается всегда пуст и
открыт — тогда вы сможете воспринимать все, имеющее к
вам отношение. Это и называется мусин. Если вы, тем не
менее, упорно думаете о том, как бы освободить и
опустошить дух-разум, уже само это состояние не даст вам
постигнуть мусин, «истинный» дух-разум. В этом и
заключена основная трудность в понимании природы мусин·
Со временем в ходе вашего обучения такое понимание
придет само вместе с опытом. Нельзя достичь состояния
мусин какими-то ускоренными методами· Одно старинное
пятистишие гласит:
Ведь стараться без дум
жизнь прожить — значит думать об этом.
Как хотелось бы мне
в миг единый покончить разом
с размышленьем и не-размышленьем!.·
Когда опустишь в воду пустую тыкву, она будет
плясать при каждом прикосновении и ее никак не
заставишь стоять на одном месте. Когда дух-разум ни к чему
76
не привязан, он так же подвижен, как тыква. «Пусть
дух ваш всегда бодрствует, ни на чем не
задерживаясь», — сказано в «Праджня-парамита-сутре». Таково
должно быть состояние ничем не скованного,
раскрепощенного духа-разума. Задержавшись на чем-то, он
«останавливается» и дальше не двигается. Все увлечения и
отвлечения проистекают из «остановки» духа-разума на
чем-то одном, в том числе и на вопросе о переселении
душ· «Остановленный* дух-разум служит причиной
различения рождения и смерти. Совсем иначе обстоит дело
с теми премудрыми, что овладели тайнами какого-либо
искусства. Они погружаются в дела, как и все прочие
люди, но их дух-разум ни на чем не «останавливается»
и всегда сохраняет изначальную подвижность. Они
созерцают цветы и восхищаются их красотой, но на этом
не «останавливаются* духом. Ведь цветы распускаются
в соответствии со своей изначальной природой, они
находятся в состоянии мусин. Те же, кто любуется
цветами, могут увлечься их красотой, и в результате такого
увлечения их дух-разум будет как бы запятнан.
Конфуцианское учение о «почтительном отношении*
предназначено для начинающих постигать Путь-Дао,
законченное же воплощение Пути мы найдем в буддийской
доктрине «отсутствия духа-разума*.
Почтительность призвана удерживать дух-разум
человека от дикости и распущенности. После того как в
результате многолетней тренировки цель достигнута, все
узы спадают с духа-разума и он может быть предоставлен
сам себе. Тогда-то и откроется возможность добиться
бодрствования духа-разума без «остановки» на чем-либо
одном. Пока дух-разум еще нуждается в ежеминутном
наблюдении, он подобен котенку на веревочке: свобода
ему недоступна, а не будучи свободным, он не может
действовать с полной отдачей. Наша задача — приучить
котенка свободно гулять по дому и за его пределами, не
причиняя вреда даже домашним птицам«
Если приложить эти рассуждения к искусству меча,
то наивысшая степень совершенства будет достигнута лишь
тогда, когда ваш дух-разум не будет занят вопросом, как
именно лучше поразить врага, но будет знать заранее,
что делать мечу в схватке с противником. Наносите удар,
забыв, что в руке у вас меч и что кто-то стоит у вас на
пути. Нет никаких личностей — одна Пустота: она и
есть ваш противник. Более того, следует избавиться и от
77
самой идеи Пустоты- Из абсолютной и безграничной
Пустоты родится чудесное действие.
Однажды, когда Букко Всенародный наставник из
монастыря Энгаку-дзи еще жил в Китае, на него напали
монгольские солдаты, угрожая смертью, и тогда
преподобный Букко применил прием «удар молнии,
рассекающий надвое вешний ветерок». Меч, занесенный над ним
кровожадным юаньским солдатом, представился Букко
Кокуси всего лишь вспышкой молнии. Сам он имел
отношение к предстоящему убийству не больше, чем легкий
весенний бриз. Меч, угрожающий его жизни, был для
него ничто, занесший над ним смертоносный клинок тоже
был ничто, и сам он, стоящий на пороге гибели, тоже
был ничто. В этой игре образов в Пустоте дух-разум не
был ни к чему прикован, ему не на чем было
останавливаться. Сверкнула молния, повеял ветерок, упал солдат,
пораженный своим же мечом, а Пустота осталась такой
же, как прежде.
То же можно сказать и об искусстве танца» Вы
просто берете в руку веер и двигаетесь, ритмично
притопывая. Но стоит вам задуматься, как лучше всего двигать
руками и ногами, — и вот уже ваш дух-разум скован, а
танец испорчен. Полная самоотдача означает
совершенное забвение всего, относящегося к вашей
личности ».
В дополнение к трактату Такуана приведу одну
притчу, иллюстрирующую состояние «отсутствия
духа-разума* ♦ Как-то раз некий дровосек рубил деревья в горной
глуши. Вдруг перед ним появился зверь по имени Сатори.
Зверь был очень странный с виду, в окрестных деревнях
никто таких и не встречал. Дровосек захотел поймать
зверя живьем, но странный зверь прочитал его мысли:
«Ты ведь хочешь поймать меня, не так ли?»
Пораженный дровосек не знал, что ответить, а зверь между тем
продолжал: «Ты, как видно, сильно удивлен моей
способностью читать мысли на расстоянии». Вконец
ошарашенный дровосек уже хотел было разделаться с не в меру
догадливым зверем и приготовился взмахнуть топором,
но тут Сатори воскликнул: «Ага, теперь ты хочешь меня
убить!» Дровосек совсем смутился, понял, что с
загадочным зверем ему все равно не справиться, и решил
вернуться к работе. А Сатори все не желал с ним
расставаться и шел по пятам, повторяя: «Ну вот, теперь ты меня
хочешь бросить!φ
78
Дровосек ума не мог приложить, что же ему делать и
как быть с назойливым зверем. Махнув на все рукой, он
взялся за топор и стал изо всех сил рубить большое
дерево, не обращая внимания на присутствие Сатори. От
такого усердия топор слетел с топорища, попал в зверя и
убил его наповал. Со всей своей проницательностью
Сатори никак не мог предвидеть результат действия,
вызванного «отсутствием духа-разума*, то есть
бессознательным подходом.
На последней стадии обучения искусству меча мастер
приобщается к тайному знанию, которое доступно лишь
настоящему виртуозу. Одной технической подготовки
здесь недостаточно, ибо владение техникой фехтования
все еще не выходит за рамки ученичества. Тайное
знание среди мастеров известно как принцип «Луны в воде»,
что, по мнению классиков Дзэн, соответствует
состоянию мусин.
Что же означает принцип «Луны в воде»?
Он по-разному толкуется в разных школах
фехтования, но главное здесь — уловить, каким образом луна
отражается в каждой лужице, в каждой капле воды,
пребывая в состоянии «отсутствия духа-разума». Об этом
хорошо сказано в стихотворении, сложенном государем у
пруда Хиросава:
Не хотела луна
в темном зеркале вод отразиться,
Не стремился и пруд
дать прибежище лунному лику —
Как прекрасна гладь вод Хиросавы!
Это пятистишие позволяет нам проникнуть в загадку
мусин — здесь нет и следа искусственности, заданности,
все предоставлено самой природе.
Можно еще вспомнить, как одна и та же луна
отражается в сотнях ручьев и рек: сам лунный свет не
делится на части, но его повсюду отражают частицы воды.
Лунный же свет остается неизменным даже там, где
вовсе нет воды и нет отражения« Ничего не происходит с
лунным светом и там, где воды много и она облечена Ь
разнообразные формы, и там, где вся она вмещается в
небольшую лужу« По этой аналогии легче будет
разобраться и в загадках духа-разума. Но луна и вода
материальны, меж тем как дух-разум не имеет
формы и действие его трудно проследить. Иначе говоря,
79
символические образы не передают всей истины, а лишь
намекают на нее.
Мне попался в руки номер «Atlantic monthly» со
статьей испанского тореадора Хуана Бельмонте, где он
делится секретами своего мастерства, В бое быков,
очевидно, много общего с японским фехтованием на мечах. Его
рассказ полон интересных соображений, и я позволю себе
процитировать частично заметки переводчика вместе с
описанием поединка, который принес Бельмонте славу
лучшего тореро своего времени» В том бою он постиг
состояние духа, о котором говорит Такуан в своем
послании к Ягю, правителю Тадзимы. Если бы испанский
герой проходил подготовку по буддистскому методу, он
непременно приобщился бы к Непоколебимому Знанию.
Переводчик комментирует: «Бой быков — не спорт,
его нельзя даже сравнивать со спортом. Бой быков —
нравится он вам или не нравится, одобряете вы его или
не одобряете — есть искусство, такое же как музыка или
живопись, и судить о нем можно только как об
искусстве. Он пробуждает духовные страсти и затрагивает
глубины души подобно тому, как симфонический оркестр под
управлением знаменитого дирижера волнует сердце
истинного любителя и знатока музыки».
Вот как передает Бельмонте свое психическое
состояние в напряженный момент схватки: «Как только бык
появился на арене, я направился к нему и, сделав всего
три шага, услышал рев толпы. Весь стадион вскочил на
ноги. Что же я сделал дальше? Мгновенно забыл о
публике, о других тореро, о себе самом и даже о быке. Я
сражался, как прежде много раз сражался в одиночестве
по ночам в кораллях и на пастбищах, словно набрасывая
некий рисунок на грифельной доске.
Говорят, в тот день мои пассы со шляпой и работа с
мулетой были настоящим откровением в искусстве боя
быков. Не знаю и не берусь об этом судить. Я просто
сражался — так, как, по моему убеждению, и должен
был сражаться, ни единой посторонней мыслью не
смущая своей веры в дело, за которое взялся. Этот бык
впервые в жизни заставил меня отдаться чистой радости
боя, не обращая внимания на публику. Тренируясь с
другими быками на свободе, я часто говорил с ними, и в
тот день мы тоже долго разговаривали с быком — все то
время, что моя мулета вычерчивала в воздухе арабески,
примеряясь к фаэне, смертельному удару.
80
Когда я уже не знал, чем еще приманить быка, я стал
на колени прямо под его опущенными рогами и
приблизил лицо к его морде.
„Ну же, бычок, — прошептал я, — лови меня1и Я
снова вскочил, провел мулетой у него перед носом и
продолжил свой монолог, ободряя быка, прося его нападать.
„Сюда, сюда, бычок! — шептал я. — Бросайся сюда.
Ничего с тобой не случится... Вот так, так... Видишь
меня, бычок? Что? Ты устал?.. Ну, давай же! Лови меня!
Не трусь!.. Лови меня!"
Я провел идеальную фаэну, ту фаэну, которую так
часто видел во сне в мельчайших деталях. Каждая линия
ее была выверена в моем мозгу с математической
точностью· Но во сне фаэна всегда кончалась плохо: в тот
момент, когда я выходил на смертельный удар, бык
доставал меня рогом. Должно быть, то было
подсознательное ощущение моей слабости в искусстве убивать. Оно-то
и диктовало трагический конец сна. Тем не менее я
продолжал осуществлять свою идеальную фаэну,
проскользнув прямо между рогами быка. Гул толпы слышался где-
то вдали, как легкое журчанье. Наконец, совсем как в
том вещем сне, бык настиг меня и пронзил рогом бедро,
но я был в таком самозабвении, что едва заметил рану.
Рванувшись вперед, я нанес удар, и бык замертво
свалился к моим ногам».
Могу лишь добавить, что до этой решающей встречи
Бельмонте с быком дух-разум его растрачивался на
множество отвлечений: соперничество, жажда успеха,
чувство неполноценности, боязнь провала, насмешек со
стороны публики. Недаром он признается: «Меня
охватывало отчаяние. С чего я вбил себе в голову, что могу быть
тореадором? Ты обманывал себя! — думал я. — Тебе
повезло пару раз с какими-то новилладас без пикадоров,
вот и решил, что можешь теперь все на свете о·
Тем не менее уже само чувство отчаяния подтолкнуло
Бельмонте к открытию неких новых качеств своей
натуры, о которых он ранее, стало быть, и не подозревал, в
момент, когда он оказался один на один со свирепым
быком. Это неведомое уже являлось ему во сне, оно
дремало где-то глубоко в подсознании, но никогда не
обнаруживало себя при свете дня. Чувство отчаяния
подтолкнуло его к самому краю духовной пропасти, через которую
в конце концов ему удалось перепрыгнуть. И вот
результат: «Я был в таком самозабвении, что едва заметил
81
рану». Да только ли рану! Он перестал замечать все
вокруг. Его вело Непоколебимое Знание, и он всецело
доверился своему духу-разуму. Дзэнский мастер эпохи Кама-
кура сложил такие стихи:
Пусть сломан твой лук
и в колчане стрелы иссякли,
В решительный миг
не теряй присутствия духа —
Тетиву спускай с упованьем!
Если даже выпустить стрелу без древка с лука без
тетивы, она может пронзить камень, как однажды
произошло с героем притчи.
Во всех видах искусства, как и в чистой практике
Дзэн-буддизма, очень важным считается пройти такой
кризисный момент, чтобы изыскать источник новых
творческих сил. Более подробно я касаюсь
религиозно-психологических аспектов этой темы в других моих работах
по Дзэн«
В средневековой Японии славилась школа
фехтования Синкагэ-рю« Начало школе было положено в эпоху
Асикага мастером Камиидзуми Исэноками (правителем
Исэ, чья жизнь и деятельность приходятся на вторую
половину XVI в.)· Сам основатель утверждал, что
секретные приемы владения мечом получил непосредственно из
рук бога Касима. С тех пор школа, бесспорно, прошла
несколько стадий развития, а так называемые секретные
приемы заметно умножились в числе. До наших дней
сохранилось немало своеобразных документов —
«сертификатов», выданных мастером наиболее способным и
достойным ученикам. Среди подобных документов
встречаются всевозможные изречения, афоризмы, посвящения,
пронизанные духом Дзэн и не имеющие на первый взгляд
никакой связи с фехтованием.
К примеру, аттестат зрелости, выданный как
удостоверение одному из ведущих фехтовальщиков школы, не
содержит ничего, кроме нарисованного кистью круга.
Образ должен символизировать ясное зеркало, не
замутненное пеленой, не тронутое пылью. Без сомнения, это
намек на «мудрость великого совершенного зеркала»,
которая соответствует Непоколебимому Знанию Такуа-
на» Дух-разум фехтовальщика должен быть абсолютно
свободен от корыстных влечений и интеллектуальных
выкладок, чтобы с максимальной эффективностью мог-
82
л а проявить себя «исконная интуиция», то есть
«отсутствие духа-разума». Одно техническое мастерство
владения мечом еще не делает человека настоящим мастером:
он должен достичь высшей формы духовного
самовоспитания, то есть стадии «отсутствия духа-разума»,
выраженной графическим образом круга, замкнувшего
пустоту.
В секретных свитках школы Синкагэ-рю среди сугубо
технических пояснений есть фраза, не имеющая,
по-видимому, никакой связи с искусством фехтования как
таковым. Тайные традиции школы обычно передавались
изустно, и я, будучи дилетантом, не могу судить, как
именно эта фраза должна органически сочетаться с
изучением фехтовальных приемов. Тем не менее догадываюсь,
что фраза была заимствована из дзэнской классики, вне
которой она вообще ничего не значит. Комментатор,
который, вероятно, не знает изначального смысла образа,
трактует его как некую безумную отвагу, мужество и
силу духа, готового, если надо, поглотить воды целой
реки. Такая интерпретация по меньшей мере смешна.
Изречение это восходит к дзэнскому диалогу-мондо,
который имел место между Басо (Ma Цзу), чаньским мастером
эпохи Тан, и его учеником-мирянином по имени Хо Код-
зи (Бань Цзюйши).
Хо спросил: 4Каким должен быть человек, который
ни в ком и ни в чем не нуждается?»
φ Я отвечу тебе, — сказал Басо, — когда ты выпьешь
одним глотком воды Западной реки». От этих слов, как
гласит предание, Хо прозрел.
Вспомнив приведенный эпизод, мы можем
представить себе, почему образ «воды Западной реки»
встречается в тайных трактатах школы фехтования« Вопрос Хо
Кодзи очень интересен, и не менее важен ответ его
наставника. При изучении Дзэн этот мондо достаточно
часто используется, а среди мастеров меча в
средневековой Японии, вне всяких сомнений, было немало людей,
посвящавших жизнь упорному радению на ниве Дзэн в
надежде обрести и применить в своем искусстве идеал
мусин.
Ведь, как уже не раз отмечалось, страх смерти в
решительном поединке служит главным камнем
преткновения на пути к победе.
Поучительна и такая легенда. Когда мастера Гутэй
(кит. Цзюй-чжи) спрашивали о сущности Дзэн, тот в
83
ответ лишь поднимал палец и не говорил ни слова.
Прислуживавший ему ученик, совсем еще мальчик,
повадился передразнивать любимый жест наставника. Тогда
мастер однажды заставил его поднять палец и отсек
злосчастный палец ножом. Обезумев от боли, юноша бросился
прочь, но Гутэй остановил его окриком: «Эй, ученик!»
Юноша покорно вернулся, и мастер как всегда поднял
свой палец. Когда же ученик по привычке попытался
повторить знакомый жест, он не обнаружил пальца на
месте, и это привело его дух-разум к прозрению высшей
истины Дзэн·
Секретные свитки школы Синкагэ-рю содержат также
немало пятистиший — вака, отнесенных к искусству
фехтования, большинство из которых несут на себе
отпечаток духа Дзэн:
Если сердце твое
свободно от суетных мыслей,
от соблазнов земных, —
Не найти даже тигру места,
чтоб вонзить в твое тело когти!
* * *
Над сосною в горах
и над дубом в межгорной долине
тот же ветер шумит —
Отчего же ему вершины
отвечают разноголосьем?,.
* * *
Полагают иные,
что разить — значит просто разить,
Вовсе не разумея,
что не главное — поразить,
что не главное — жизнь отнять...
* * *
Думы праздные прочь!
Пустота повсюду, повсюду —
Но и там, в Пустоте,
предначертанными путями
тьма вещей свершает движенье·,.
84
* * *
Ловит контуры взор,
но никто никогда не сумеет
дотянуться рукой —
Безмятежной луне в потоке
уподоблю секреты школы,..
* * *
Дымка и облака —
порожденье течений воздушных,
А в небесной дали
никогда не меркнет сиянье
вековечных Луны и Солнца.,·
* * it
В бой не вступая,
победу сумеет добыть
Тот, кто без страха
Путь постигнет, очистив свой дух,
о кончине отринув мысль!..
Все это соответствует принципу Пустоты,
названному великим Миямото Мусаси высшей тайной искусства
меча, проникнуть в которую можно лишь годами
упорных тренировок. Значительная роль духовности в
обучении позволяет мастеру фехтования считать
фехтование поистине видом творчества, подлинным
искусством. Недаром сам Мусаси был не только гениальным
фехтовальщиком, но и выдающимся художником
жанра сумиэ.
Хиромаса Такано, современный исследователь,
описывающий «Путь Меча (кэндо) и его историю, приходит
к следующему заключению: для мастера кэндо, помимо
технических навыков, на пути к совершенствованию
чрезвычайно важно духовное начало, которое пронизывает
все традиционное искусство фехтования. Речь идет о
состоянии духа-разума, известном как «безмыслиеφ (му-
нэн) или «бездумье» (мусо). Разумеется, это не означает,
что навстречу врагу с мечом в руках нужно выходить,
лишившись всех мыслей и чувств. Речь идет только о
том, чтобы позволить своим естественным способностям
действовать при абсолютно свободном сознании —
свободном от раздумий, переживаний и увлечений любого
свойства. Такое состояние еще называют «безличностность»
85
(муга) — состояние, в котором нет ни эгоистических
помыслов, ни тщеславного сознания собственных
доблестей и достоинств. Дух саби-сиори, пронизывающий
творчество Сайге или Басе, также, вероятно,
проистекает из состояния «безличностиости», которое можно
сравнить с отражением луны в воде. Ведь ни луна» ни
вода сами по себе не предполагают появления нового
феномена о луна в воде» и вода, как луна, находится в
состоянии мусин («отсутствия духа-разума»). Но там,
где есть водная гладь, в ней непременно отразится луна.
Луна едина, но отражения ее присутствуют повсюду,
где есть хоть капля воды. Это необходимо понять,
чтобы достигнуть совершенства в любом виде искусства, В
конечном счете Дзэн и Путь Меча сходны уже тем, что
преследуют общую цель — преодолеть различие между
жизнью и смертью. С древних времен эту истину
сознавали настоящие мастера меча, и лучшие из них
неизбежно приходили к вратам Дзэн-буддизма, как
свидетельствует опыт Ягю, правителя Тадзимы, Такуана или
Миямото Мусаси.
Автор вышеупомянутой книги о кэндо отмечает
интересную деталь: в средние века в Японии мастера,
виртуозно владевшие мечом или копьем, часто именовались
осё (санскр. упадхьяна), что обычно служит
обозначением сана буддийского монаха или священника· Обычай,
вероятно, восходит к истории одного выдающегося
монаха храма Кофуку-дзи в Нарё, Сам монах принадлежал
к общине маленького храма Дзидзо-ин, дочернего
филиала Кофуку-дзи. Он прославился по стране как
непобедимый мастер фехтования на копьях и приобщил
монастырскую братию к этому искусству. По сану все ученики
должны были называть его не иначе, как осё, и в
дальнейшем такое обращение стали адресовать ко всем
серьезным мастерам воинских искусств независимо от их
положения в буддийской церковной иерархии или от
светской должности·
Зал, в котором обычно проходят тренировки
фехтовальщиков, называется додзё. Это помещение,
специально отведенное в буддийском храме для религиозной
практики. Санскритское его название — бодхимандала,
то есть «место просветления» или «место постижения
Пути».
Можно привести и другие традиции, заимствованные
мастерами меча у дзэнских монахов. Так, во времена
86
средневековья самураи часто путешествовали из
провинции в провинцию, совершенствуясь в воинских
искусствах, преодолевая всякого рода трудности и проходя
своего рода стажировку под руководством признанных
мастеров. Тут они явно брали пример с дзэнских монахов,
которые также отправлялись в странствия с целью
обрести заветное Прозрение. Среди монахов такой род схимы
получил название ангья («пешее путешествие»), а среди
самураев — муся-сюгё («учеба воина»).
Не знаю точно, с каких пор этот обычай получил
распространение среди подвижников кэндо, но из
биографии основателя школы Синкагэ-рю известно, что тот
странствовал по всей Японии. Однажды случай свел его
с дзэнским монахом, по сути таким же пилигримом.
Как-то раз Камиидзуми забрел в глухую горную
деревеньку. На улице гудела толпа, как взбудораженный
улей: оказалось, что какой-то бродяга захватил
деревенского паренька, заперся с ним в заброшенной хижине и
грозит убить заложника, если крестьяне попытаются
взять дом штурмом. Правитель Исэ оценил всю
сложность положения. Неожиданно в глаза ему бросился
бродячий дзэнский монах, который случайно шел мимо,
и мастер попросил одолжить ему ненадолго монашеский
плащ. Кроме того, он потребовал, чтобы ему побрили
голову, как настоящему монаху.
Покончив с переодеванием, Камиидзуми взял две
деревянные коробочки, подошел к хижине и крикнул
разбойнику, что родители мальчика прислали немного еды —
они не хотят, чтобы ребенок умер с голоду. С этими
словами он бросил одну из коробочек с рисом в окно.
Выждав, Камиидзуми добавил: «Ну, а ежели ты, братец,
и сам проголодался, у меня найдется рис и для тебя».
Алчный злодей высунул из двери руку, чтобы получить
вторую коробочку, но мастеру и этого было довольно. Он
перехватил руку, мгновенно вытащил разбойника
наружу и скрутил его. Монашеский плащ был возвращен
законному владельцу, который поклонился доблестному
рыцарю и сказал: «Поистине, вас можно назвать Мастер
меча». В знак уважения монах преподнес Камиидзуми
кара, символ монашества, напоминающий сильно
обрезанную монашескую тунику кэса, — талисман, который
адепты Дзэн-буддизма носили на груди, надев через
голову. Говорят, что правитель Исэ никогда впоследствии не
расставался с талисманом.
87
Что касается того бродячего монаха, то он, судя по
всему, не был новичком в Дзэн. Ведь само понятие
«Мастер меча* часто используется в дзэнскои практике для
обозначения зрелого, умудренного опытом монаха,
перешедшего грань между жизнью и смертью. У Камиидзуми
были все основания бережно хранить полученную от дзэн-
ского паломника кара.
Глава пятая
ДЗЭН И КОНФУЦИАНСТВО
Как это ни пародоксально, Дзэн-буддизм — учение,
провозгласившее отказ от книжной учености и всякого
знания, запечатленного на бумаге, — явился для
японцев авторитетным посредником в распространении
классических конфуцианских наук. Кроме того, именно Дзэн
способствовал расцвету книгопечатания, которое,
конечно, не ограничивалось буддийской литературой,
охватывая широкий круг источников по конфуцианству и
синтоизму.
Эпохи Камакура (1192-1333) и Асикага (1333-1573)
считаются мрачным периодом японской истории, но в
культурном плане все обстояло не так уж плохо. Дзэнс-
кие монахи, курсировавшие между Японией и Китаем,
способствовали распространению на архипелаге ценных
культурных традиций и готовили почву для их
последующей ассимиляции. В то же время вызревали такие
специфические виды японского искусства, как поэзия хайку,
театр Но, садово-парковый дизайн, аранжировка цветов,
чайная церемония и т. п· Весьма любопытно взглянуть
на процесс развития конфуцианской учености в Японии,
инспирированный монахами дзэнских монастырей, для
чего придется вначале сказать несколько слов о
китайской философской мысли эпохи Сун.
В плане политическом правление династии Сун (960-
1278) было смутным временем для Срединного царства,
которому постоянно угрожали северные кочевники« В конце
концов император в 1127 г. был вынужден перенести
столицу на юг, уступив территории на севере
воинственным пришельцам» Однако империя Южная Сун также
просуществовала сравнительно недолго и к концу XIII в.
89
была завоевана монголами. В 1278 г. власть
монгольской династии Юань утвердилась во всей Поднебесной.
Тем не менее культура и в Северной, и, особенно, в
Южной империи Сун достигла небывалых высот. В
частности, на Юге страны значительное развитие получила
философия. Создается впечатление, что исконно
китайская философская мысль, оформившаяся в эпоху Хань, но
в последующие века до некоторой степени сдерживаемая
мощным индийским религиозно-философским влиянием,
наконец-то прорвала плотину и в полный голос заявила о
себе в то время, когда вся страна изнывала под
чужеземным игом. В результате увидели свет блестящие
философские трактаты, в которых лучшие достижения
зарубежной мысли были синтезированы с собственно
китайскими теориями на базе китайской ментальности, что
придавало сочинениям относительную доступность. Су
некая философия стала свидетельством взлета китайского
национального гения.
Одним из факторов повлиявших на развитие
китайской философской мысли, было учение Дзэн, которое
всегда и во всем побуждает к размышлению, призывая
познавать суть вещей, абстрагируясь от любых внешних
напластований. Когда конфуцианство ограничило себя
простым изучением ритуала, практическими моральными
наставлениями и критическим комментированием
классических текстов, оно оказалось, можно сказать, на
грани краха. Учению угрожала гибель как источнику
свободной творческой мысли. Оживить его могли лишь
какие-то новые, свежие силы.
Даосизм, направление китайской
религиозно-философской мысли, конкурировавшее с буддизмом, со временем
оказался погребенным под толстым слоем народных
верований и суеверий» В нем не оставалось никаких духовных
и интеллектуальных сил, способных влить свежую струю
в застойные воды конфуцианства. Если бы в эпоху Тан
глубины китайской национальной психологии не были
взбудоражены Дзэн-буддизмом, сунские мыслители,
вероятно, никогда не создали бы своих учений,
воскрешающих философию древности, реконструирующих ее и
задающих ей новый импульс. Почти все выдающиеся умы
эпохи Сун хотя бы раз в жизни находили прибежище в
каком-нибудь дзэнском монастыре« Независимо от того,
удавалось ли им достигнуть Прозрения или нет, там, за
стенами обители, они вновь и вновь обращались к
90
изучению философии, рожденной на китайской земле.
Вся сунская философия является плодом их духовных
исканий♦ Порицая ортодоксальный буддизм и
буддийский способ мышления, они обильно черпали знание из
индийских источников, представленных в более
доступной форме доктриной Дзэн.
В то же время и сами дзэнские монахи усердно
изучали основы конфуцианства, без которого они, будучи по
рождению китайцами, просто не могли обойтись. Вся
разница между учеными-конфуцианцами и дзэнскими
мастерами сводились к тому, что первые отталкивались во
всех своих построениях от родной почвы, придерживаясь
древнего китайского учения, а вторые исповедовали
буддистскую доктрину, хотя при этом заимствовали
различные конфуцианские понятия и зачастую пользовались в
своих сочинениях конфуцианской терминологией.
Дифференцировались эти два типа философского мышления
скорее смысловой нагрузкой на тот или иной аспект·
Дзэнские монахи толковали конфуцианские тексты в
«индийской манере», то есть в идеалистическом ключе, и
были готовы давать комментарии к буддистской
литературе с позиций конфуцианства.
В Японию конфуцианство проникло одновременно с
Дзэн-буддизмом благодаря усилиям тех же монахов,
прибывших из Китая, Так же действовали и японские
монахи, отправлявшиеся в Срединное царство изучать Дзэн»
Возвращаясь на родину, они привозили не только
дзэнские трактаты, но и произведения конфуцианской
классики, а заодно и труды даосских патриархов. Во время
пребывания в Китае они обычно получали знания от
дзэнско-конфуцианских наставников, которые
посвящали учеников в тонкости обоих учений. Особенно богата
такими разносторонними мастерами была империя
Южная Сун.
Не буду вдаваться в подробности взаимоотношений
между Дзэн-буддизмом и конфуцианством, равно как и
между Дзэн-буддизмом и даосизмом в Китае· Достаточно
сказать, что Дзэн явился, по существу, китайским
способом восприятия и воспроизведения индийской мысли,
представленной буддизмом. Таким образом, Дзэн,
успешно развивавшийся в эпоху Тан и достигший
расцвета в правление Сун, не мог быть не чем иным, как
отражением истинно китайского менталитета (под которым я
подразумеваю прежде всего неизменную практичность и
91
нравственность). Учитывая вышеизложенное, можно было
легко предположить, что Дзэн в Китае примет
конфуцианскую окраску. Однако следует иметь в виду, что
поначалу, на заре истории Дзэн, весь строй его философии
был буддистским, то есть индийским, что не характерно
для традиционных китайских учений, в частности
конфуцианства. Позднее, при династиях Тан и Сун, ученые-
конфуцианцы сознательно или бессознательно вводили
элементы Дзэн-буддизма в свою систему· Иначе говоря,
Дзэн воспринял от конфуцианства практическую
направленность учения, между тем как конфуцианство, пусть
порой опосредованно, позаимствовало из Дзэн-буддизма
идущую от индийцев приверженность к отвлеченным
размышлениям и в конце концов пришло к созданию
обширной метафизической базы для доктрины Кун-цзы
(Конфуция) и его последователей. Сунские философы
особенно подчеркивали важность изучения
канонического Четверокнижия, которое давало им обильный
материал для построения новой системы. Тем самым они
прокладывали путь к сближению между Дзэн-буддизмом
и конфуцианством.
Ревностные буддисты по убеждениям, дзэнские
монахи становились одновременно и пропагандистами
конфуцианства. Строго говоря, Дзэн вообще не располагает
собственной философией. Стержнем всего учения служит
интуитивный опыт, а интеллектуальное изложение этого
опыта может быть оформлено в любой философской
системе, вовсе не обязательно буддистской. Если дзэнские
мастера по каким-либо причинам находили это
целесообразным, они вполне могли создать собственную школу,
расходящуюся с традиционной интерпретацией
доктрины* Итак, дзэн-буддисты могли быть и конфуцианцами,
и приверженцами даосизма или даже синтоизма.
Впрочем, дзэнский опыт поддается объяснению и в
категориях западной философии.
В XIV-XV вв. центрами печатания и распространения
конфуцианских текстов, не говоря уж о дзэнских
сочинениях, были так называемые Пять Гор, то есть пять
крупнейших дзэнских монастырей, расположенных в
окрестностях Киото· Некоторые конфуцианские и буддийские
книги того периода, в том числе и датированные XIII в.,
сохранились до наших дней и к тому же донесли до
наших современников великолепные образцы
дальневосточной гравюры на дереве.
92
Дзэнские монахи не только издавали собрания
буддийских и конфуцианских классических текстов, но
также составляли хрестоматии и учебники
общеобразовательного характера, рассчитанные на широкие массы
паломников, которые жаждали повысить свой культурный
уровень и обогатить знания в стенах гостеприимных
монастырей. Тогда же завоевали популярность народные
школы тэракоя. Слово «тэра» означает «буддийский
храм», «ко» — «дети», и «я» — «дом». Разветвленная
сеть приходских школ тэракоя на протяжении всего
средневековья играла роль системы народного образования
для Японии, пока на смену ей не пришла другая
(современная система) после реставрации Мэйдзи в 1868 г.
Деятельность дзэнских монахов не ограничивалась
центральной частью Японии. Дайме из дальних
провинций также приглашали монахов руководить обучением
своих вассалов, причем наставники, как правило, были
типичными будд исто-конфуцианцами. Взять хотя бы
дзэнского монаха Кэйана (1427-1508), который
отправился по приглашению князя в юго-западную
провинцию Сацума на острове Кюсю· Кэйан специализировался
по изучению Четверокнижия, включающего
«Рассуждения и беседы» («Лунь юй») Конфуция, трактаты «Мэн-
цзы», «Великое учение» («Да сяо») и «Учение о
Срединном пути» («Чжун юн») в свете комментаторской
традиции Чжу Си. При этом, будучи буддийским монахом, он
не забывал подчеркивать значимость Дзэн
применительно к конфуцианской философии. Главным направлением
его исканий было изучение духа-разума. Кэйан был
также знатоком конфуцианского канона, заключенного в
Пятикнижии: «Книга перемен» («И-цзин»), «Книга
истории» («Шу-цзин»), «Книга песен» («Ши-цзин»), «Весны
и осени» («Чунь-цю»), «Книга ритуалов» {«Ли-цзи»), и
даже читал лекции по «Книге истории», содержащей
этические установления древних властителей Китая*
Влияние духовного наследия Кэйана в Сацумё было
чрезвычайно велико. Среди его последователей и учеников в
третьем поколении широко известен Симадзу Ниссинсай
(1492-1568). Ниссинсай, разумеется, не мог учиться у
самого Кэйана, но его мать, а также учителя были
хорошо знакомы с Мастером и искренне восхищались
талантами почтенного монаха. Ниссинсай родился в
самурайской семье Симадзу, и старший его сын впоследствии
возглавил клан, приняв во владение три провинции —
93
Сацума, Осуми и Хюга. Сын способствовал
распространению этического учения Ниссинсая по всей
подвластной ему территории. Вплоть до реставрации Мэйдзи имя
философа было окружено заслуженным почетом и
уважением.
Среди прославленных дзэнских мастеров Пяти Гор
следует упомянуть Myco Кокуси (1275-1351), Гэнкэя
(1269-1352), Кокан Сирэна (1278-1346), Тюган Энгэцу
(1300-1375), Гидо Сюсина (1321-1388) и ряд других
подвижников, занимавшихся изучением конфуцианской
классики в соответствии с духом Дзэн-буддизма. Примеру
дзэнских наставников следовали также сегуны и члены
императорской фамилии: они прилежно постигали
мудрость Дзэн, не забывая при этом посещать лекции по
конфуцианству* Император Ханадзоно (правил в 1308-
1317 гг.) отдал свою резиденцию в распоряжение дзэнс-
кого мастера Кандзана (1277-1360). На базе дворца была
создана обитель Мёсин-дзи в западной части Киото, со
временем ставшая во главе наиболее мощного
ответвления дзэнской школы Риндзай. Набожный монарх усердно
изучал труды сунских философов, оставаясь ревностным
приверженцем и пропагандистом Дзэн-буддизма, в
котором он сумел подняться значительно выше
любительского уровня. Наставления императора Ханадзоно,
адресованные августейшему преемнику, являют собой образец
подлинной государственной мудрости. Статуя императора
в облачении дзэнского монаха, сидящего со скрещенными
ногами в позе, исполненной спокойного достоинства, до
наших дней сохранилась в его собственных покоях в
Мёсин-дзи, где правитель любил предаваться медитации.
«Записки» Ханадзоно служат также важным
историческим источником.
Можно добавить> что еще в начале эпохи Токугава,
то есть в первые десятилетия XVII в,,
ученые-конфуцианцы в Японии брили головы наподобие буддийских
священников и монахов. Буддисты же, в особенности дзэнс-
кие монахи, отдавали должное изучению конфуцианства,
и, даже когда конфуцианские науки в кругах
интеллигенции подверглись гонениям, профессиональные
преподаватели классических дисциплин продолжали следовать
старинному обычаю.
Вероятно, не лишним будет сказать несколько слов о
роли Дзэн-буддизма в разжигании националистических
настроений в эпохи Камакура и Асикага, Теоретически
94
Дзэн с национализмом не имеет ничего общего. Будучи
религией, Дзэн имеет универсальную ценность, и сфера
его приложения не ограничивается отдельно взятой
национальностью. Однако в плане историческом он
подвержен всевозможным изменениям. Впервые Дзэн
попал в Японию благодаря людям, исповедовавшим идеи
конфуцианства и национального самоутверждения, что,
разумеется, придало религиозному учению
специфическую окраску. Иначе говоря, Дзэн был принят на
Японских островах не в идеально чистом виде, свободном от
случайных наслоений. Более того, сами японские
приверженцы Дзэн принимали его с различными
наслоениями и придерживались такого курса до тех пор, пока
последние не отделились от основного корпуса религии
и не начали существовать обособленно, подчас даже
вступая в противоречие с былыми спутниками —
школами, сопричастными тому же учению* В мою задачу не
входит описание этого сложного процесса в истории
японской философской мысли, но, пожалуй, стоит хотя
бы пунктирно наметить пути развития упомянутой
тенденции в Китае.
Как уже отмечалось, кульминацией в становлении
средневековой китайской философии стали работы Чжу
Си (1130-1200), получившие широкое признание в
империи Южная Сун. Чжу Си был, бесспорно,
величайшим мыслителем, попытавшимся систематизировать
китайскую философию применительно к национальной
психологии своего народа. Среди его соотечественников
были, возможно, и более значительные философы, но
чаще всего их искания шли в русле индийской
традиции, отчего труды их и не оказали столь повсеместного
воздействия на умы, как южносунское чжусианство.
Давно доказано, что философия Южной Сун не могла
бы достигнуть таких высот, если бы не опиралась на
опыт буддийских предшественников. Теперь посмотрим,
как развивался при династии Сун классический
даосизм, чтобы лучше понять специфику влияния Дзэн на
мысли и чувства японцев.
Китай дал миру два оригинальных течения
философской мысли — конфуцианство и «чистый» даосизм,
свободный от народных верований и суеверий.
Конфуцианство воплощает практические свойства натуры китайца,
будучи учением позитивистским, меж тем как даосизм
воплощает мистические, иррационалистские черты той
95
же натуры. Когда буддизм впервые проник в Китай в
начальный период правления династии Поздняя Хань
(64 г. н. a.)i 0H нашел союзника в учении даосских
мудрецов Лао-цзы и Чжуан-цзы, На первых порах
буддизм играл не слишком заметную роль в мире китайской
мысли: монахи занимались преимущественно переводом
священных текстов на родной язык, а большинство
населения плохо представляло, как уложить новую доктрину
в систему старых, привычных представлений. Тем не
менее, благодаря переводам, китайцы вскоре поняли, что
буддизм несет в себе глубокие идеи и благородные
стремления. С последней четверти II в., когда частями стали
выходить на китайском языке переводы «Трактата о
постижении высшей мудрости* («Праджня-парамита-сут-
ра», впервые переведена в 179 г.), многие мыслители со
всей серьезностью занялись изучением наследия
буддизма. Если же они не могли до конца осознать идею
Пустоты (шуньята), то находили родственное понятие Ничто
(у) в сочинениях Лао-цзы.
В период Шести династий (386-587), когда даосизм
был настолько в моде, что даже конфуцианские тексты
толковались в свете даосских концепций, в Китае в 401 г.
появился индийский миссионер Кумараджива, который
перевел на китайский язык ряд важнейших сутр Махая-
ны. Кумараджива был не только прекрасным
переводчиком, но и крупным философом, сумевшим многое
прояснить в понимании доктрины Махаяны, а его ученики
продолжили работу по адаптации буддизма к восприятию
народов Срединного царства.
Школа китайского буддизма Саньлунь (яп. Санрон)
была основана Цзицзаном (549-623), который принял за
основу своей философии учение Нагарджуны. Школ
такого типа земля Конфуция и Лао-цзы ранее не знала, но
можно с уверенностью сказать, что создатель ее все еще
находился под сильным влиянием индийской мысли.
Большинство его философских построений выдержано скорее
в индийском духе, чем в китайском. Разумеется, он был
китайским буддистом, но в первую очередь все-таки
буддистом и лишь затем китайцем«
Вслед за Саньлунь возникла другая мощная школа,
Тянь-тай (яп* Тэндай). Ее отцами-основателями были
Хуэй Вэнь (550-577), Хуэй Сы (514-577) и Чжи И (538-
597). Чуть позже, в VII в·, увидела свет школа Вэй-аши
(яп. Юисики), Начало ей было положено Сюань Чжуа-
96
ном (600-644), осуществившим перевод на китайский
философского трактата Васубандху «Дух единый» («Вид-
жнянаматра»), а крупнейшим теоретиком школы стал
впоследствии Цзи Цзи (632-682), талантливый ученик
Сюань Чжуана*
Школа Хуаянь (яп. Кэгон), превратившаяся со
временем, как и две вышеупомянутые школы, в мощную
секту, зародилась в Китае при династиях Сун и Тан.
Монах Фацзан (643-712) систематизировал учение
школы, обобщив труды своих великих предшественников Ду
Шуня (557-640) и Чжи Яня (602-668).
Школа Тяньтай основана на «Саддхарма-пундари-
ке»? на Вэйши (идеалистических учениях Асанги и
Васубандху), на Хуаянь («Аватамсаке»), Последнюю из
перечисленных трех школ можно считать вершиной
буддийской философии в Китае. Это самая замечательная
из всех философских систем, когда-либо созданных
народами Востока. «Аватамсака-сутра», включающая в
себя трактаты «Дасабхумика» и «Гандавьюха»,
бесспорно, является вершиной творческого воображения
индийцев, совершенно не свойственного китайскому
мышлению и мироощущению. Поистине,
интеллектуальным завоеванием китайского буддизма можно
считать то, что столь чужеродные плоды индийской
культуры были так системно, методично и грамотно
усвоены, философия школы Хуаянь доказывает глубину
китайского религиозного сознания, сформировавшегося
под воздействием многовековых традиций буддистского
образования, вдумчивого изучения классики· Именно
эти традиции пробудили дух и разум нации от долгого
сна, дали мощный стимул к развитию сунской
философии. Параллельно со школой Хуаянь, воплотившей
интеллектуальное направление китайского буддизма,
развивалась другая школа. Дзэн (кит. Чань), приобретая
все большую власть над умами. Дзэн апеллировал
отчасти к эмпирическим установкам исконно китайского
склада ума, отчасти к его же мистическим
наклонностям. Дзэн отвергал книжную ученость и признавал
только интуитивный способ познания, В сущности, могли
быть использованы следующие методы познания;
эмпиризм, мистицизм и позитивизм, поскольку все они
опираются лишь на факты, почерпнутые из опыта, и не
отваживаются поместить эти факты в соответствующее
интеллектуальное обрамление.
4 Зак №ЗП!
97
Однако человек как социальная особь не может
довольствоваться чистым опытом, желая сообщить
результаты его собратьям, а это значит, что интуиция должна
непременно иметь свое содержание, свои идеи, то есть
подвергаться интеллектуальной реконструкции. Дзэн
сделал все возможное, чтобы остаться на интуитивном
уровне познания, и максимально использовал образы,
символы, всевозможные поэтические приемы.
Когда же Дзэн все же вынужден был прибегнуть к
рациональным суждениям, хорошим подспорьем ему
послужила философия Хуаянь. Слияние философии Дзэн и
Хуаянь (Кэгон), достигнутое, впрочем,
непредумышленно, наиболее явственно прослеживается у Чэн Гуаня (738-
838) и Цзун Ми (780-841). Оба были выдающимися
учеными школы Хуаянь и в то же время исповедовали
Дзэн· Такой подход и создал предпосылки для
последующего распространения влияния Дзэн-буддизма на
конфуцианских философов эпохи Сун·
При династии Тан к тому же была подготовлена
почва, на которой спустя века расцвело сунское «учение о
Дао», ценнейший продукт, полученный из тигля
китайской мысли, в котором переплавились идеи Хуаянь и Дзэн,
доктрины Конфуция и Лао-цзьь
У Чжу Си (яп. Сюси) были достойные
предшественники: Чжоу Дуньи (Сю Тон-и, 1017-1073), Чжан Хэнцюй
(Те О-кё, 1077-1135), а также братья Чэн (Тэй) Миндао
(Мэй до, 1085-1139) и Ичуань (И-сэн, 1107-1182), Все
они стремились выстроить свои философские
конструкции на чисто китайском фундаменте, за который
принимались Четверокнижие («Лунь юй» Конфуция, «Мэн-цзы»,
«Да сяо», «Чжун юн») и «Книга перемен» («И-цзин»).
О том, что все вышеназванные ученые мужи усердно
изучали Дзэн и прибегали к его идеям, свидетельствует тот
факт, что они придают особое значение опыту внезапного
прозрения, которое наступит после тщательного
изучения классиков и размышлений над сокровенным смыслом
их писаний. Свою космогонию и онтологию они выводят
из первичной категории у-цзи (Беспредельность), тай-цзи
(Великий предел) или же тай-сюй (Великая Пустота). Все
эти понятия заимствованы из «Книги перемен» и
сочинений Лао-цзы, но тай-сюй здесь имеет буддийское
звучание. Если это понятие как философский принцип
перевести на язык этики, то оно будет означать искренность, а
идеал человеческой жизни сведется к культивированию
98
такого достоинства, как искренность, стремление к
истине. Ведь только это стремление и делает мир таким,
каков он есть, заставляет мужское начало Ян и женское
Инь, исходящие из Великого Предела, вступать во
взаимодействие и порождать тьму вещей. Искренность
именуется также ли (Причина, Резон), или тянь-ли (Небесный
Резон),
Сунские философы противопоставляют ци (Дух,
Энергию) и ли, но противоположности сходятся в Великом
Пределе, который, по сути, и есть Беспредельность. Ли
есть причина, резон бытия, которым наделен каждый
феномен окружающего мира. Без ли ничто не возможно,
все сущее становится не-сущим, выпадает из бытия. Ци —
категория дифференцирующая, в то время как ли
бесконечно умножается, воспроизводя бесконечное
разнообразие мира. Но ли и ци — категории взаимодополняющие и
взаимопроникающие, немыслимые друг без друга·
Не слишком четко определяется отношение тай-цзи к
ли и ци. Известно лишь, что в тай-цзи оба понятия
соединяются. Очевидно, сунские философы, испытывая
влияние буддийской школы Хуаянь, не желали
оставаться в плену дуализма. Сама же категория тай-цзи
довольно туманна и подразумевает прежде всего первичность
Беспредельности (у-цзи). Когда говорят, что Великий
Предел есть Беспредельность, это означает, что одно «сверху»,
другое «снизу», но как то, что « сверху », может стать
тем, что «снизу», и наоборот, не ясно. С той же
дилеммой мы сталкиваемся и при определении ли и ци, но
сунские философы все же были китайцами до мозга
костей, и в этом вопросе они отказывались идти за
буддистами, которые без колебаний отрицали материальность мира,
провозгласив все на свете равно «пустым» (шунья), то
есть иллюзорным. Китайский ум всегда был склонен
признавать мир состоящим из конкретных реалий. Даже
вплотную приблизившись к доктрине Хуаянь, китайцы
все же придерживались материалистических воззрений.
Важной особенностью чжусианской философии,
обусловившей ее широкое распространение и повсеместное
использование в Китае и Японии, был специфический
подход к истории. Взгляд Чжу Си на историю, по сути,
стал развитием той идеи, что доминирует в «Веснах и
осенях» («Чунь цю») Конфуция. Это классическое
произведение было написано бессмертным Кун-цзы с целью
умерить моральными наставлениями бесконечные претензии
99
властителей так называемых враждующих царств* Во
времена Конфуция Поднебесная разделилась на несколько
государств, каждое из которых стремилось завоевать и
покорить соседей; узурпаторы объявляли себя законными
наследниками престолов; политики, не полагаясь более
на компас, плыли по течению во власти монарших
прихотей« Замысел Конфуция создать анналы своей эпохи
был рассчитан также на выработку универсальных
этических норм для государственных деятелей. Таким
образом, «Весны и осени» представляют собой свод
практических рекомендаций из области этики,
проиллюстрированных историческими событиями·
Чжу Си, следуя примеру Конфуция, составил
сокращенную историю Китая, адаптированный вариант
огромного исторического труда Сыма Цяня. В этом сочинении
он сформулировал великий закон всеобщего соответствия
«Имена и части» (мин-фэн), который, по замыслу автора,
должен был стать руководящим принципом для
политиков всех времен. Вселенной управляют законы Неба, как
и всеми делами человеческими. Эти законы требуют от
каждого неукоснительного соблюдения правил, присущих
его положению в системе мироздания. Каждый имеет свое
«имя» или «название» и, являясь «частью» целого,
выполняет определенную «функцию» в соответствии со
своей ролью в общественном устройстве как члена той или
иной социальной группы. Всю эту разветвленную сеть
общественных отношений следует непременно учитывать
правителю, стремящемуся к поддержанию и укреплению
мира и процветанию государства, а равно и его
подданным. У правителя свои обязанности, у подданных —
свои. Так же должны соблюдать взаимные моральные
обязательства родители и дети, старшие и младшие и
т· д. Недопустимы никакие проявления недовольства,
попытки незаконного присвоения «имен», «званий» или
«функций».
Чжу Си возлагал большие надежды на свою теорию
«имен и частей» как на средство оздоровления
общественной жизни страны. Он видел реальную угрозу,
которую несли империи Сун северные кочевники, видел, что
правительственные чиновники не могут достойно
противостоять наступающим варварам и готовы идти на
серьезные уступки» Эти печальные картины лишь
подогревали патриотические устремления философа, который со
всей решимостью, иногда рискуя жизнью, защищал свое
100
учение от нападок тех политиканов, что склоняли
правительство подчиниться требованиям захватчиков. Хотя
учение Чжу Си и оказалось не способно спасти Южную
Сун от вторжения грозных монгольских орд, с XIII в. оно
получило широкое распространение как в Китае, так и за
его пределами, особенно в Японии,
Философия Чжу Си, в наивысшей степени
отвечавшая духовным запросам и психологическим установкам
нации, на протяжении нескольких династий оставалась
официальной идеологической системой Поднебесной. Одна
из главных причин такого постоянства кроется в том
факте, что система включала в себя все основные
классические направления философии, сыгравшие сколько-
нибудь заметную роль в становлении и развитии
китайской культуры, и доведена до совершенства в плане
соответствия исконно китайскому образу мысли и
чувства. Другая причина в том, что система Чжу Си была
дорога сердцу каждого китайца как «философия
порядка» и потому пользовалась всенародным признанием.
Китайцам, без сомнения, так же присущи патриотизм и
национальная гордость, как и любому другому народу,
но они, как мне кажется, скорее прагматичны, нежели
сентиментальны, скорее склонны к позитивизму,
нежели к идеализму. Они прочно стоят на земле и, хотя
могут иногда полюбоваться звездами, ни на минуту не
забывают о том, что жить в отрыве от матери-земли
нельзя. Поэтому-то китайцев больее привлекали в
философии Чжу Си идеи общественного порядка и пользы,
нежели другая сторона его учения, несущая в себе
элементы идеализма и насыщенная эмоциями. В этом
китайцы существенно отличаются от японцев.
Интересную характеристику китайского склада ума
дает Чэн Хао (яп. Тэй Мэйдо):
«Причина того, что Дао не обнаруживает себя более
явственно, заключена в зловредном влиянии ересей. В
древности пагубное это влияние было легче увидеть, ныне же
оно проникло в глубины и выявить его непросто, В
старину еретики пользовались нашим невежеством,
повергая наш разум в затруднения; ныне же они играют на
наших знаниях, утверждая, что разгадали тайну бытия
и загадку вселенских превращений. Однако все их
умствования не в силах исследовать природу конкретных
вещей и содействовать выполнению общественных
обязанностей. Они претендуют на всеобщность и всемирную
101
значимость своего учения, но в действительности идут
против нравственного уклада нашей обыденной жизни.
Они заявляют, что в их учении не осталось таких
премудростей, которые бы ни были ими досконально
изучены, а сами не способны следовать путем совершенно
мудрых мужей древности, подобных Яо и Шуню».
Под «ересями* Чэн Хао, без сомнения, подразумевает
буддизм, в котором парение мысли, на взгляд сунских
философов, мало отвечает потребностям их практичных
соотечественников, живущих в рамках общественных
законов и установлений. Прагматизм сунской философии,
как и заложенный в нее Чжу Си воинственный дух
национализма, были завезены в Японию на том же корабле,
что и доктрина Дзэн.
Когда империя Южная Сун доживала последние дни,
немало патриотически настроенных крестьян, солдат,
государственных чиновников и даже дзэнских монахов шли
добровольцами в армию, пополняя ряды борцов против
орд захватчиков. Все слои общества, и прежде всего
интеллигенция, были проникнуты духом национального
самосознания. Даже японские Дзэн-буддисты, посещавшие
в тот период Китай, возвращались опьяненные этим
духом, который нашел столь яркое выражение в трудах
Чжу Си и его школы.
Не только японские паломники в Китай, но и
китайские монахи, перебиравшиеся на поселение в Японию
главным образом из Южной Сун, несли на новую родину
вместе с учением Дзэн идеи сунских философов. Их
объединенные усилия по пропаганде национального
возрождения в Японии имели заметный успех. Свидетельством
тому может служить прежде всего историческое решение
императора Годайго и его двора восстановить реальную
власть микадо, отнятую у него некогда сегунами, чьей
резиденцией была Камакура. Известно, что на эти
радикальные действия подвигло императора и его министров
чтение и изучение «Истории Китая » Чжу Си,
предпринятое под руководством дзэнских монахов. Хроники также
утверждают, что монументальный труд Китабатакэ Тика-
фусы (1293-1354) « Преемственность императорского
правления в Японии» («Дзинно сёто ки») явился результатом
его увлечения чжусианством. Тикафуса, один из
крупнейших деятелей культуры своего времени, входил в
окружение императора Годайго и по примеру августейшего
повелителя усердно занимался практикой Дзэн.
102
К сожалению, Годайго так и не удалось вернуть власть
императорскому двору. Однако аномалии в политическом
устройстве страны не повлекли за собой ослабления
влияния конфуцианской учености на японскую
интеллигенцию. Конфуцианство по-прежнему продолжало активно
развиваться благодаря усилиям дзэнских монахов Пяти
Гор, а также многих провинциальных монастырей и
храмов. Они понимали, что Дзэн более всего нужен там, где
сунская философия наиболее убедительно доказала свою
практическую полезность. В эпоху Асикага (1338-1573)
дзэнские монахи становились подлинными проводниками
философии Чжу Си, расширяя сферы ее влияния до
самых отдаленных провинций.
Уже в эпоху Токугава (1611-1868) группа
последователей Дзэн-буддизма, отделившая Дзэн от сунской
философии чжусианского толка, помогла разграничить сферы
влияния между буддизмом и конфуцианством в Японии.
Дух практицизма, присущий мироощущению китайцев,
который нашел столь четкое выражение в работах Чжу
Си, весьма импонировал создателям сёгуната Токугава.
Ведь они ставили перед собой цель в кратчайший срок
восстановить в стране мир и порядок после нескольких
десятилетий кровавых междоусобиц, а для этой цели
учение китайского мыслителя подходило как нельзя лучше.
Первыми официальными представителями сунской
философии в Японии, воспринятой через комментарии
Чжу Си, были Фудзивара Сэйка (1561-1619) и его
ученик Хаяси Радзан (1583-1657)· Сэйка, будучи
буддийским монахом, так увлекся изучением конфуцианских
текстов, что в конце концов скинул свою рясу (хотя еще
долгое время ходил с бритой головой). После него и
Радзана конфуцианское учение обрело собственных
приверженцев, а дзэнские монахи были вполне довольны
тем, что могли, по крайней мере официально, заняться
пропагандой своей доктрины.
Тем не менее не следует забывать, что в Японии, как
и в Китае, со времени заимствования сунской философии
постоянно наблюдались попытки синтезировать все три
учения — конфуцианство, буддизм и синтоизм. Один
примечательный факт в истории японской мысли
заслуживает упоминания. Синтоизм, который рассматривается как
официальное воплощение японского национального духа,
включает в себя элементы и конфуцианства, и буддизма·
Вероятно, объясняется это тем, что синтоизм не имеет
103
собственной философской базы и обретает самосознание,
лишь соприкоснувшись с конфуцианством или
буддизмом, находя в них также средства самовыражения.
Верно, что Мотоори Норинага (1730-1801) и его
последователи обрушились с яростной критикой на
конфуцианство и буддизм как на чужеземные учения, не
соответствующие истинно японскому взгляду на мир. Однако
их патриотический консерватизм подогревался скорее по-
литическими, чем философскими соображениями.
Бесспорно, они внесли ощутимый вклад в дело Реставрации и
установления правления Мэйдзи в 1868 г. С точки
зрения же чистой философии значение их
религиозно-националистической диалектики для мировой культуры
представляется весьма сомнительным.
Глава шестая
дзэн и культ чая
Что общего между Дзэн-буддизмом и культом чая в
Японии? Прежде всего, это постоянное стремление к
опрощению. Изживание лишнего, необязательного
достигается в Дзэн интуитивным прорывом к конечной
истине, а в культе чая — моделированием искусства
жизни на примере чайной церемонии. Культ чая
воплощает эстетику предельной простоты. Человек должен
ощутить прелесть максимального сближения с
Природой, сидя в хижине под соломенной кровлей площадью
всего каких-нибудь десять квадратных футов, но
непременно построенной и обставленной со вкусом. Дзэн
также ставит перед собой цель сорвать все покровы с
человечества» мешающие проникнуть в глубины бытия·
В первую очередь Дзэн объявляет войну интеллекту,
несмотря на приносимую им практическую пользу,
затем философии. Философия дает ответы на любые
вопросы, выдвинутые ходом развития общества, но она не
несет в себе того духовного наслаждения, которое
должно быть доступно каждому, даже абсолютно
неразвитому интеллектуально индивидууму. Философия
доступна лишь узкому кругу — тем, кто способен ее
воспринять, и не может служить объектом всеобщего
признания.
Дзэн, а в более широком смысле религия вообще,
заставляет человека отбросить все, что, как ему кажется,
является его достоянием — даже жизнь, — и вернуться
к своему естественному состоянию, в «Изначальную
обитель*, к собственным Отцу и Матери. Каждый из нас
способен на это, ибо мы есть то, что мы есть, только
благодаря изначальной сущности. Такова последняя
105
стадия опрощения — ведь к большей простоте вещи уже
не могут быть сведены- Проведение чайной церемонии в
уединенной хижине под сенью сосновых ветвей является
символическим воплощением идеи простоты, форма
воплощения может получить художественное развитие, но
обязательно в полном соответствии с кардинальной идеей
избавления от всего лишнего.
Чай был известен в Японии и до эпохи Камакура, но
роль первого влиятельного пропагандиста и
популяризатора чая обычно приписывается дзэнскому мастеру Эйсаю
(1131-1215), который завез из Китая семена чая и
занялся их выращиванием на монастырских угодьях. Как
гласит предание, книга Эйсая о чае вместе с чаем из
собранного им урожая была преподнесена сегуну Минамо-
то Санэтомо (1172-1219), в ту пору страдавшему
недугом. Таким образом, Эйсай прославился по всей стране
как отец чайного промысла· Он полагал, что чай
обладает терапевтическими свойствами и помогает от многих
болезней. Однако Эйсай, судя по всему, не обучал
проведению чайной церемонии, которую он должен был
наблюдать в дзэнских монастырях Китая. Чайная церемония
была одним из способов развлечения посетителей
монастыря, а иногда и самих обитателей. В Японию ее завез
впервые Дайо Кокуси (1236-1308), вернувшийся из
Срединного царства в 1267 г·, на полстолетия позже Эйсая*
Дело Дайо продолжили несколько монахов — выдающихся
мастеров чайной церемонии, а затем Иккю, знаменитый
настоятель монастыря Дайтоку-дзи· Он обучил
тонкостям ритуала Сюко (1422-1502), чей гений
способствовал дальнейшему развитию культа чая и адаптации его к
японскому вкусу. Сюко как зачинатель традиции привил
любовь к чайной церемонии сегуну Асикага Ёсимасё (1435-
1490), признанному покровителю изящных искусств.
Позже Сео (1503-1555) и в особенности Рикю (1520-
1591) еще более усовершенствовали сложный ритуал и
последними штрихами завершили создание феномена,
вошедшего в наши дни как тяною, то есть «чайная
церемония», «искусство чая» или «культ чая». Кстати, в
первоначальных своих формах чайная церемония, которая
практикуется и поныне в дзэнских монастырях, значительно
отличается от тех вариантов, что получили
распространение в миру.
Я часто задумывался о природе культа чая в связи с
буддистским стилем жизни, который как бы несет в
106
себе многие характерные для чая особенности. Чай
поддерживает ясность ума и бодрость духа, но при этом
не опьяняет. Он обладает теми качествами, которые
особенно должны цениться учеными мужами и монахами»
Вполне естественно, что чай получил столь широкое
распространение в буддийских монастырях и что
первыми его пропагандистами на Японских островах были
монахи. Если чай ассоциируется с буддизмом, то,
вероятно, с христианством ассоциируется вино» Во всяком
случае, виноградное вино находит среди христиан
широкое применение. В церковном причастии оно
символизирует кровь Христову, которая, согласно догматам
христианства, была пролита за греховное человечество.
Возможно, из этих соображений средневековые монахи в
Европе содержали при монастырях виноградники. На
картинах они выглядят довольными и счастливыми,
собравшись с кубками в руках вокруг винного бочонка.
Но вино вначале бодрит, а затем опьяняет. Действие его
во многих отношениях противоположно действию чая,
и столь же велики различия между буддизмом и
христианством.
Мы видим, что культ чая теснейшим образом
соотносится с Дзэн-буддизмом не только в практических
проявлениях, но и вообще в следовании тому духу, который
пронизывает всю церемонию. Дух же этот, если
обозначить его в конкретных терминах, состоит из гармонии
(ва), почтительности (кэй), чистоты (сэй) и покоя (сэки).
Эти четыре элемента, необходимые для успешного
отправления церемонии, являются также важнейшими
составляющими жизни, исполненной порядка и братского
человеколюбия,— той самой, которой и живет дзэнская
обитель. Об упорядоченности существования монашеской
общины можно судить хотя бы по замечанию Чэн Мин-
дао, ученого-конфуцианца, однажды посетившего
монастырь под названием Динлинь-сы: «Поистине мы
наблюдаем здесь следование ритуалу в классических его
формах, словно в эпоху древних трех династий». Пресловутые
«три династии» — всего лишь аллегория идеального
правления, о котором мечтал каждый ученый муж и каждый
государственный деятель в Китае, время, когда дела в
империи якобы шли блестяще и народ наслаждался всеми
благами, проистекающими из мудрости государей. Дзэнс-
кие монахи и в наши дни усердно практикуются
индивидуально и совместно в соблюдении ритуала. Школа этикета
107
Огасавара, как полагают, берет начало в
«Монастырских установлениях» (яп. «Хякудзё синги») Бай Чжана
(720-814), великого дзэнского мастера эпохи Тан.
Поскольку Дзэн призван, не ограничиваясь формой,
постигать дух, он никогда не упускает возможности
напомнить нам, что мир, в котором мы живем, есть мир
конкретных форм и дух проявляет себя лишь
посредством формы» Иными словами, Дзэн не только
подчеркивает противоречие, но и дисциплинирует, соединяя оба
начала»
Иероглиф «гармония» означает также « мягкость духа»,
что, пожалуй, более точно передает характер всей чайной
церемонии« Гармония более относится к внешней форме,
в то время как мягкость предполагает обращение к
внутреннему содержанию, к чувствам человека. Атмосфера
чайного павильона, хижины или специально отведенной
комнаты для чайной церемонии должна быть наполнена
этой мягкостью — мягкостью деликатных движений,
рассеянным мягким светом, негромкими звуками,
утонченными ароматами.
Вы берете чайную чашку ручной работы —
неправильной формы, может быть, даже не всегда покрытую
глазурью. Но, несмотря на кажущуюся примитивность,
маленький сосуд несет в себе ненавязчивое очарование
мягкости и покоя. От курильницы исходит не сильный
стимулирующий запах, а тончайший всепроникающий
фимиам. Окна и ширмы — еще один источник
царящего здесь мягкого очарования. В комнату проникает
лишь слабый, ненаправленный свет, соответствующий
задумчивому настроению гостей. Легкий ветерок
проносится над кроной старой сосны, под сенью которой
приютился чайный домик, и шум ветвей органично
сливается с пением чайника на очаге. Все окружающее
словно отражает личность того, кто создал здесь
уединенный приют»
«Самое ценное — это душевная мягкость, самое
важное — это умение не противоречить другим*, — сказано в
первой строке «Уложения из 17 статей», составленного в
604 г· принцем Сётоку. «Уложение» явилось своего рода
духовным завещанием, которое принц-регент оставил
своим подданным. Знаменательно, что подобный документ,
каковы бы ни были его политические функции,
начинается с восхваления душевной мягкости, В сущности, то
была первая словесная формулировка принципов истинно
108
японского мироощущения» которое люди сумели оценить
по достоинству лишь спустя века развития цивилизации.
Хотя японцы по недоразумению и снискали себе в
современном мире славу воинственной нации, сами они считают
себя народом от природы мягким и деликатным. Для
такого убеждения есть все основания. Ведь вся
атмосфера, окружающая Японские острова — и климат, и
метеорологические условия, — дышит мягкостью. Возможно,
такое впечатление создается от избытка влажных
испарений. Горы, селенья, леса, окутанные дымкой, словно
погружены в мягкую оболочку» Цветы, как правило, не
слишком ярких расцветок, с преобладанием
приглушенных полутонов и оттенков, хотя вешняя листва и
расстилает повсюду пышный зеленый покров»
Чувствительные сердца тех, кто родился и вырос в этом краю, не
могут не впитать льющейся отовсюду мягкости· Однако
эта основополагающая добродетель японского
национального характера, без сомнения, страдает при столкновении
с различными социальными, политическими,
экономическими, расовыми проблемами. Всем нам следует
оберегаться от пагубных влияний, а Дзэн должен нам в этом
помогать.
Когда Догэн (1200-1253), знаменитый философ и
поэт, вернулся из Китая, где он в течение нескольких
лет изучал Дзэн, его спросили, чему научился он на
чужбине· «Немногому, — ответил Догэн, — всего лишь
мягкосердечию»» «Мягкосердечие» в данном случае
означает то же, что и «душевная мягкость». Обычно мы
бываем эгоистичны, переполнены духом противоречия.
Мы слишком субъективны и не способны принимать
вещи как они есть. Сопротивление предполагает
всевозможные трения, а трения служат источником всех бед.
Когда «я» отсутствует, сердце, проникнутое мягкостью,
не сопротивляется внешним влияниям. Это вовсе не
значит, что человек должен быть лишен всякой
чувствительности, но в плане духовном и христиане, и
буддисты понимают всю важность слов Догэна, который
придавал такое значение личной незаинтересованности,
мягкосердечию. Создатели культа чая вкладывали в
понятие «мягкость духа» тот же смысл, что и принц Сето-
ку· Поистине «мягкость духа», или «мягкосердечие», —
основа жизни на земле, о чем убедительно
свидетельствует трактат уже известного нам дзэнского мастера
Такуана.
109
ТАКУАН О ЧАЙНОЙ ЦЕРЕМОНИИ
Суть чайной церемонии — в духе гармоничного
единения Неба и Земли, которое и является путем к
установлению вселенского мира. Люди в наше время превратили
ее лишь в удобный повод, чтобы встретить друзей,
поговорить о своих делах, вкусно поесть и попить. К тому же
они гордятся своими изысканно обставленными чайными
домиками, где в окружении редкостной утвари хозяева
сервируют чай с безукоризненным совершенством,
осмеивая тех, кто не столь искусен. Однако же все это очень
далеко от истинного предназначения чайной церемонии.
Давайте же построим маленькую хижину в
бамбуковой роще или под сенью сосен, проведем ручей, водрузим
на место камни, посадим вокруг еще деревья и кусты, а в
самой комнатушке сложим грудой древесный уголь,
поместим на очаг чайник, расставим цветы, приведем в
порядок все необходимые принадлежности. Все это мы
проделаем, следуя главной идее — здесь, в хижине, мы
сможем наслаждаться созерцанием скал и стремнин, ибо
мы воспроизводим горы и воды в их природном обличье,
мы сможем испытать разнообразнейшие настроения и
чувства, навеянные снегом, луной, деревьями и цветами,
которые в извечной смене времен года появляются и
исчезают, распускаются и увядают. С должным почтением
поприветствовав гостей, мы в безмолвии будем
прислушиваться к закипающему чайнику на огне, ловя
отголоски ветра в сосновых иглах, позабыв о мирских горестях и
заботах. Затем нальем в чашку черпачок горячей воды из
чайника, сравнив этот звук с журчанием горного потока,
и стряхнем пыль и прах, окутавшие наш дух, наш разум.
Воистину, мы в мире затворников, святых на земле!
Принцип соответствия выявляется в почтительности,
которая в обыденной жизни оборачивается
гармоническими отношениями. Определение дано Конфуцием,
говорившим о пользе всеобщих соответствий, и оно вполне при-
ложимо к тому духовному настрою, что должен создавать
в себе участник чайной церемонии. К примеру, когда
человек имеет дело с особами из высшего общества,
поведение его будет простым и естественным, без всякого
раболепия и самоуничижения. Если он находится в
компании людей, которые ниже его по положению,
отношение его к окружающим всегда будет уважительным, без
всякой примеси заносчивости и спеси. К такому поведению
110
побуждает нечто неуловимое, что пронизывает атмосферу
чайного домика и вносит гармонию в отношения всех
участников действа. Сколько бы ни длилась церемония,
дух почтительности не иссякнет. Можно сказать, что
здесь живет дух улыбающегося Кашьяпы и кивающего
Цзэн-цзы, то есть дух Самости бытия, что за пределами
обычного понимания.
По этой причине и принцип, одушевляющий весь
чайный павильон от внешнего вида здания до выбора чайной
утвари, способов сервировки, приготовления пищи,
стиля одежды и т. д., следует искать в стремлении избегнуть
чересчур усложненного ритуализма и нарочитой
помпезности. Сама утварь может быть старой, но посредством ее
дух-разум заряжается бодростью и свежестью
восприятия — он всегда готов примениться к новому времени
года и проистекающим от перемен в природе новым кар-
тинам окружающего мира, он ни перед кем не станет
заискивать, ему чужды алчность и зависть, он не склонен
к роскоши, всегда внимателен и заботлив с другими.
Носитель подобного духа, разумеется, обладает
хорошими манерами, всегда искренен — это и есть тяною.
Итак, суть чайной церемонии в том, чтобы
прочувствовать и должным образом оценить дух естественной
гармонии, объединяющий Небо и Землю, постигнуть все-
проницающее присутствие пяти стихий, сидя у своего
очага, любуясь горами, реками, скалами и деревьями,
перенесенными к хижине в том виде, в каком они
существуют в действительности, черпать освежающую влагу
из кладезя Природы, собственными устами вкушать
подаренные Природой ароматные яства. О, сколь же
сладостно гармоническое слияние Неба и Земли!
Сыграл ли культ чая вместе с Дзэн-буддизмом какую-
то роль в некоторой демократизации общественной жизни
Японии? Несмотря на существование строжайшей
социальной иерархии, сложившейся во времена феодализма,
идеи равенства и братства находили в народе питательную
среду, В комнатушке площадью десять квадратных футов
всем гостям независимо от чинов и званий оказывается
равное уважение: здесь все суетные мирские предрассудки
отброшены, колени простолюдина соприкасаются с
коленями вельможи, и они почтительно беседуют друг с другом
о том, что интересует обоих«
Разумеется, Дзэн не принимает во внимание мирских
различий в рангах и титулах — монахи вхожи во все
111
сословия и повсюду чувствуют себя как дома. В недрах
человеческой натуры заложено подспудное стремление
отбросить все ограничения, искусственно навязанные
обществом, и хотя бы изредка позволить себе непредвзято,
раскованно и сердечно общаться с ближними — людьми,
животными, растениями и так называемыми
неодушевленными вещами. Потому-то мы всегда рады
возможности такого раскрепощения. Без сомнения, это и имеет в
виду Такуан, говоря о «гармоническом слиянии Неба и
Земли», воспетом ангельским хором.
♦ Почтительность» в изначальной своей основе есть
чувство религиозное — чувство, присущее тем, кто выше
нас, простых смертных. Со временем оно
трансформируется в общественные отношения, а затем может
выродиться в голый формализм.
В наши дни, в эпоху демократии, никто не может
считать себя выше другого, по крайней мере по
социальному происхождению. Но если проанализировать само
чувство почтительности, проследить за его истоками, то
мы увидим в нем отражение недостатков каждого,
проявляющееся в признании ограниченности своих
физических, интеллектуальных, моральных и духовных
возможностей. Подобное сознание пробуждает в нас желание
преодолеть себя и самосовершенствоваться, а также
потребность общения с теми, кто чем-то отличается от нас·
Потребность эта направляет наши духовные импульсы к
внешнему объекту; будучи же обращена к собственному
«я», она превращается в самоотрицание,
самоуничижение, чувство греховности· Все перечисленные качества
сами по себе негативны, но позитивное их значение в
том, что они пробуждают почтительность к другим
людям, воспитывают умение не принижать достоинство
окружающих·
Мы живем в тенетах противоречий: с одной стороны,
мы считаем себя не хуже любого другого, с другой —
врожденная подозрительность подсказывает нам, что
многие лучше нас по тем или иным свойствам характера, а
это порождает своего рода комплекс неполноценности.
В буддизме Махаяны есть бодхисаттва, известный под
именем Садапарибхута — « Никогда не принижающий»·
О нем упоминается в «Саддхарма-пундарика-сутре*.
Может быть, лишь с самими собой мы бываем искренни,
когда в сокровенной глубине души испытываем
непреодолимую тягу к ближним, несущую в себе оттенок
112
самоуничижения. Как бы мы ни назвали такое
влечение, но почтительность, бесспорно, является
действенным религиозным чувством.
Дзэн позволяет сжечь все священные изваяния в
храме, чтобы человек мог согреться холодной зимней ночью;
Дзэн готов уничтожить все великое литературное
наследие секты, чтобы спасти саму ее сущность как истину,
избавленную от внешних искусов, сколь бы заманчивы
ни казались они посторонним. И в то же время Дзэн не
забудет вознести хвалу сломанной ветром и запачканной
грязью травинке, не преминет преподнести все
разбросанные по полям и лугам цветы сонму будд во всей
бесконечности Вселенной. Дзэн умеет превозносить, потому что
умеет принижать. Все, что нужно в Дзэн, и не только в
Дзэн, — это искренность сердечных устремлений, а не
чистый концептуализм или его физическая имитация.
Могущественный объединитель Японии Тоётоми Хидэё-
си (1536-1598) был покровителем искусства чайной
церемонии и ревностным поклонником Сэн-но Рикю, который
считается основоположником современного культа тяною.
Хотя Хидэёси всегда стремился ко всему сенсационному,
броскому и напыщенному, в конце концов он все же усвоил
кое-что из основ чайной церемонии в понимании Рикю и его
школы, что следует из пятистишия, преподнесенного
мастеру Рикю на одном из «чайных вечеров*:
В глубинах души
бездонных, неизмеримых
воды зачерпнуть,
вскипятить на огне, пригубить —
В этом суть церемонии чайной·..
Хидэёси во многих отношениях был грубым
мужланом и жестоким деспотом, но в его увлечении чайной
церемонией можно усмотреть нечто большее, чем
желание использовать культ чая в чисто политических
интересах. Приведенное стихотворение Хидэёси обнаруживает
пресловутый дух почтительности в упоминании о φ воде,
которую зачерпнул в глубинах* из кладезя души.
Рикю учит: «Искусство тяною есть не что иное, как
кипячение воды, приготовление чая и его поглощение*.
Все выглядит очень просто. Так же можно сказать, что
человеческая жизнь состоит из рождения, еды, питья,
работы, сна, женитьбы, воспроизведения потомства и,
наконец, отхода в неизвестность. Ничто на первый взгляд
113
не может быть проще, чем прожить подобную жизнь. Но
многие ли из нас способны действительно жить такой
предметно-материалистичной, а точнее, богоданной и
богоугодной жизнью, отказавшись от страстей и желаний,
не зная сожалений и во всем доверясь Провидению? Мы
живем с мыслью о смерти; умирая, цепляемся за жизнь.
Когда выполняется что-то одно, великое множество
других интересов, зачастую весьма далеких от прежних,
овладевает нашим воображением и отвлекает от дела,
рассеивая энергию, которая должна была бы быть
сосредоточена на единственно необходимом.
Когда в чайную чашку наливают горячую воду,
вместе с ней изливается все на свете — хорошее и плохое,
чистое и нечистое, поступки, за которые надо краснеть, и
поступки, которые некуда больше выплеснуть, кроме как
в недра подсознания. Если взять на анализ содержимое
чайной чашки, мы найдем в нем всю ту грязь, что
засоряет сознание, мешая его свободному току. Искусство
достигает совершенства лишь тогда, когда оно перестает
быть искусством, — это совершенство безыскусности, в
котором утверждает себя изначальная искренность
нашего бытия, и оно же определяет смысл почтительности в
ритуале чайной церемонии. Иными словами,
почтительность есть искренность и душевная простота.
Чистота, которая считается важнейшим духовным
компонентом культа чая, является, вероятно, данью
японскому складу характера и образу мысли. Чистота
означает опрятность и любовь к порядку — качества,
которые просматриваются во всех деталях чайной
церемонии· В садике-родзи всегда есть чистая вода — если
не природный ручей, то наполненный водой каменный
резервуар. В чайном домике, конечно же, не найти ни
пятнышка, ни соринки.
Столь ценимая в культе чая чистота, возможно, в
чем-то сродни даосскому учению о Чистоте. Во всяком
случае, оба эти учения имеют много общего, поскольку
ставят своей задачей освобождение духа-разума от
пагубного влияния страстей и чувств. Вот что говорит в «Ха-
гакурэ» мастер чайной церемонии Накано Кадзума о
своем искусстве:
«Дух тяною — в очищении пяти чувств человеческих
от мирской скверны. Созерцание картины-какэмоно,
висящей в нише-токонома, и цветов в вазе очищает зрение;
дым курящихся благовоний очищает обоняние; звук воды,
114
закипающей в чайнике или льющейся из бамбукового
желоба, очищает слух; сам чай очищает вкус;
прикосновение к чайной утвари очищает осязание. Когда же все
органы чувств очищены, и дух-разум очищается от
скверны. Культ чая в конце концов есть род духовного
подвижничества, и я упорно стремлюсь никогда в течение
дня не отклоняться от этого духа чайной церемонии,
который весьма далек от обычного развлечения».
Одно из стихотворений Рикю гласит:
Слово родзи значит «тропинка
за пределы земных желаний».
Отчего же стремятся люди
прахом, скверной ее осыпать?..
В этих строках, как и в двух последующих
пятистишиях, воссоздано состояние духа мастера,
созерцающего окрестности из уединенной хижины для чайной
церемонии.
Палисадник устлала
опавшая хвоя сосен.
Здесь ничто не встревожит
праха суетных устремлений —
Безмятежен дух и спокоен...
Нынче ночью, с небес
заглянув под нависшую стреху,
Озаряет луна
дух мой чистый, неразделимый,
недоступный скорбям, печалям...
Это и есть поистине чистый, незамутненный
дух-разум, свободный от всех треволнений и соблазнов,
способный наслаждаться уединением, в котором присутствует
Абсолют:
К концу подошла
заснеженная тропинка,
Что вьется меж круч,
меж скал и уступов горных«
Совсем одинок
хозяин утлой лачуги.
Не ждет он гостей —
никто к нему не приходит..»
115
В книге «Записки из Южного храма» («Намбо-року»),
одном из важнейших, чуть ли не священных текстов в
искусстве чайной церемонии, имеется характерный
пассаж, показывающий, что цель культа чая — в
постижении Чистой земли Будды на земле, сколь бы ни был мал
клочок этой земли, и в стремлении увидеть идеальное
сообщество людей независимо от числа участников
церемонии и времени их общения·
«Дух ваби призван воплотить Чистую землю Будды,
и потому ни в родзи, ни в хижине под соломенной
кровлей не должно быть ни пылинки; и хозяин, и гости
должны быть искренни между собой. Никакие обыден-
ные условности и нормы этикета здесь неприемлемы.
Разжигается огонь, кипятится вода, подается чай — вот
и все, что нужно, так как единственное наше
желание — способствовать наиболее полному выражению духа
Будды, Если стремиться к слишком тщательному
соблюдению церемониала и этикета, различные мирские
помыслы непременно примешиваются к действу, хозяин
и гости начнут подмечать друг у друга недостатки,
ошибки и промахи* Ныне становится все труднее и труднее
найти истинных ценителей, понимающих сокровенную
суть культа чая. Если сам Дзёсю был бы за хозяина,
первый дзэнский патриарх Бодхидхарма за гостя, а мы с
Рикю подметали бы пыль в родзи — вот уж, верно,
отрадная была бы встреча*.,»
Мы видим, как глубоко проникнута духом Дзэн эта
тирада одного из лучших учеников Рикю.
В отдельной главе я постараюсь подробнее осветить
понятия саби и ваби, являющиеся четвертой
составляющей чайной церемонии, к тому же самой важной, без
которой чайная церемония вообще немыслима, ибо только
посредством саби и ваби и происходит приобщение к
Дзэн.
Я назвал четвертую составляющую чайной
церемонии «покоем», но, возможно, это слово не совсем точно
передает значение иероглифа «дзяку»· В японском
чтении дзяку и есть саби, но саби подразумевает большее,
чем просто «покой». Правда, эквивалент того же
понятия на санскрите санти и в самом деле означает «покой»,
«мир», «умиротворенность», а в буддийской литературе
иероглиф «дзяку» нередко выступает как эвфемизм
«смерти» или нирваны. Однако в чайной церемонии понятие
саби скорее ассоциируется с «бедностью», «простотой»,
116
«чувством одиночества» и, таким образом, становится
синонимично ваби.
Чтобы оценить преимущества бедности, чтобы
принимать как должное все, что дано, дух и разум должны
пребывать в покое, но и саби, и ваби предполагают также
необходимость соответствующих объективных
предпосылок. Всегда существуют какие-то объективные факторы,
которые пробуждают в человеке настроение ваби. В то же
время ваби не просто психологическая реакция на
определенный тип обстановки, условия окружающей среды.
В ваби непременно должно присутствовать эстетическое
начало, а когда его недостает, «бедность* превращается в
банальную нужду, а «чувство одиночества» перерастает в
сознание остракизма, замкнутость и
некоммуникабельность. Итак, можно определить ваби и саби как
эстетическое восприятие бедности. Став же принципами
искусства, они сводятся к воссозданию той обстановки,
которая должна пробуждать соответствующее настроение,
чувство саби и ваби. Что касается употребления самих
терминов, то можно сказать, что саби прилагается скорее
к отдельным предметам или же ко всей обстановке в
целом, ваби — собственно к образу жизни, связанному с
бедностью, простотой, несовершенством.
Сюко, ученик Иккю и мастер чайной церемонии при
дворе Ёсимасы, внушал своим ученикам истинный дух
тяною, приводя такую поучительную историю.
Как-то раз один китайский поэт сложил двустишие:
Там, в лесу, сокрытом под покровом снега,
Зацвели прошлой ночью несколько веточек сливы.
Он показал стихи другу, и тот предложил заменить
«несколько веточек» на «ветку». Автор последовал
совету друга, благодаря его и называя своим
«наставником по единому иероглифу». Одинокая веточка
цветущей сливы посреди заснеженного леса — в этом и
заключена идея ваби.
По другому поводу тот же Сюко, как рассказывают
хроники, заметил: «Приятно увидеть доброго коня в
стойле под соломенной кровлей». Коли так, то еще
приятнее обнаружить редкостное произведение искусства в
скромно обставленном доме. Это напоминает известное
дзэнское изречение «Наполнить свежим ветром рваный
плащ монаха». Снаружи ничто не говорит о чем-то
выдающемся, наоборот, все внешние признаки противоречат
117
содержимому, которое поистине бесценно. Жизнь,
проникнутую ваби, можно определить как невыразимую
тихую радость, скрытую под убогим обличьем, а чайная
церемония призвана передать ту же идею средствами
искусства. Однако, если в чем-то вдруг выявляются
признаки неискренности, все погибло. Бесценное содержимое
должно обнаружить себя самым натуральным способом,
как бы непроизвольно.
Поначалу ничто не говорит о присутствии необычного
или неожиданного, лишь что-то неуловимо привлекает
вас в общей атмосфере» Но вглядитесь повнимательней —
и увидите сверкающие россыпи чистого золота* Само же
золото всегда останется золотом, независимо от того,
открыли вы его или нет, — оно хранит свою чистоту,
свою истинность и искренность, что бы ни случилось.
Ваби и означает верность самому себе. Мастер живет
вдали от мира, в своей убогой хижине. Неожиданно к
нему в гости приходит друг: кипятится чай, в вазу ставят
свежие цветы, и гость наслаждается послеполуденным
отдыхом, проводя время в приятной беседе. Не в этом ли
подлинный смысл чайной церемонии?
Тут кое-кто может заметить: «Да разве найдешь
сейчас человека, живущего, как тот мастер чайной
церемонии? Что уж говорить о радостях праздного досуга!
Давайте-ка сначала подумаем о хлебе насущном, о
сокращении рабочей недели..·» По правде сказать, мы, обитатели
современного города, утратили вкус к праздности. Люди,
погруженные в бесконечные треволнения и заботы, уже
не могут получать радость от жизни иначе, как в
непрерывной смене острых ощущений и будоражащих
удовольствий, которые позволяют ненадолго приглушить
обуревающее их беспокойство и страх» Основной вопрос
заключается в том, для чего дана человеку жизнь, — для тихих
радостей культурного досуга или же для погони за
наслаждением, за новыми волнующими развлечениями.
Когда этот вопрос в принципе решен, мы можем, если
необходимо, отказаться от всего привычного технического
комфорта и начать новую жизнь. Надеюсь, понятно, что
истинное предназначение человека в этом мире не
сводится к тому, чтобы сделать себя пожизненным рабом
низменных материальных потребностей.
Еще один известный мастер чайной церемонии пишет,
что начало духу ваби было положено самой великой
богиней Аматэрасу Омиками, Будучи повелительницей всей
118
нашей державы, она могла воздвигнуть себе
великолепные дворцы, убранные золотом, серебром и драгоценными
камнями, и никто из смертных не сказал бы о том худого
слова, но, однако, она предпочла жить в хижине с
соломенной кровлей и питаться нешлифованным рисом. Все-
гда и во всем она довольствовалась немногим, отличалась
скромностью и усердием. Воистину, она была образцовым
мастером тяною, живущим по закону ваби...
Интересно, что автор рассматривает Аматэрасу как
типичного мастера чайной церемонии, проникнутой
духом ваби. Такой подход свидетельствует, что культ чая
является эстетическим воплощением понятия
примитивной простоты, или, иными словами, эстетическим
выражением неосознанно присутствующего почти в каждом из
нас подспудного стремления вернуться назад к Природе,
слиться с Природой, насколько это возможно в пределах
человеческого бытия»
Из приведенных цитат, я полагаю, вырисовывается
общий смысл концепции ваби. Настоящая жизнь в духе
ваби начинается с Сотана, внука Рикю. Он поясняет, что
ваби составляет самую суть чайной церемонии,
соответствуя также буддийским моральным устоям:
«Большая ошибка — устраивать из ваби пышное
зрелище, коль скоро внутренний смысл понятия тому
противоречит. Некоторые строят чайный павильон,
обращая внимание лишь на внешний вид, будто для ваби
больше ничего и не нужно» На строительство уходит
великое множество золота и серебра; редкостные
предметы искусства приобретаются на деньги от проданных
земельных угодий, и все лишь затем, чтобы произвести
впечатление на гостей. Они думают, что это и есть жизнь
в духе ваби. Ничуть не бывало! Ваби означает
скромность, нужду во всем, невозможность удовлетворить свои
желания, чаще всего просто бедность и забвение.
Печально влачиться по жизни, будучи не в силах что-либо
изменить, как-то вырваться вперед, — вот что такое
ваби. Но человек не тяготится при этом своим
положением. Он научился довольствоваться малым, жить,
испытывая во всем нужду» Он не ищет иной жизни,
которая ему не по средствам. Он перестал осознавать тот
факт, что находится в стесненных обстоятельствах. Если
им все же владеет мысль о нужде, нищете, загубленной
жизни, то из человека, проникнутого духом ваби, он
превращается просто-напросто в несчастного бедняка.
119
Те, кто знает, что такое ваби, свободны от алчности,
насилия, гнева, лености, неловкости и безрассудства.
Таким образом, ваби соответствует соблюдаемой
буддистами парамиты морали » ♦
В ваби эстетизм сливается воедино с моралью и
духовностью. Вот почему старые мастера называли чайную
церемонию самой жизнью, а не способом получения
удовольствия, сколь бы утонченным ни выглядел ритуал.
Дзэн тесно связан с культом чая. Большинство старых
мастеров с усердием изучали Дзэн и все свои достижения
в практике Дзэн стремились приложить к любимому
делу — тяною.
Религию подчас можно охарактеризовать как путь
избавления от банальности мирской жизни. Ученые
могут возразить мне, утверждая, что цель религии — не
уход от жизни, а поиск Абсолюта в вечном стремлении
превзойти условности обыденного бытия. И все же в
практическом плане это именно уход, бегство от
действительности, позволяющее человеку немного перевести дух и
восстановить силы. Дзэн как духовное учение
предназначен для того же — его трансцендентальное выражение,
труднодоступность для неискушенного ума заставили
мастеров, изучавших Дзэн, изобрести способ практического
приложения своих познаний в форме чайной церемонии.
В значительной мере тем самым они давали выход и
своим эстетическим устремлениям«
Прочитав такое объяснение, читатели могут прийти к
выводу, что ваби есть категория негативная и все ее
радости хороши только для тех, кто в реальной жизни
остался неудачником, В известном смысле это так. Но
кто из нас настолько здоров, что никогда в жизни не
испытал нужды в лекарстве или бодрящем напитке? К тому же
всем нам суждено когда-нибудь отойти в мир иной.
Психологи могли бы привести немало поучительных
историй, когда физически и психически здоровые деловые
люди, уйдя на покой, вдруг в одночасье угасают. Почему
так происходит? Да потому, что они не научились
создавать резервные запасы энергии — пока у них была
работа, они ни на минуту не задумывались о возможности
уйти на покой, в отставку,
В годы междоусобных смут самураи, день и ночь
занятые своим воинским ремеслом, понимали, что
невозможно быть постоянно начеку, не давая нервам ни
минуты покоя, что необходима хоть какая-то возможность
120
отдыха и переключения. Чайная церемония давала им
такую возможность. На какое-то время они могли
удалиться в укромный уголок подсознания, воплощенный в
символическом образе крошечного чайного домика.
Выходя оттуда, они чувствовали себя не только
отдохнувшими душой и телом, но и сознавали, вероятно, что дух
обогатился более долговечными ценностями, чем те, что
можно обрести в битве.
Саби проявляется и в искусстве ландшафтной
архитектуре или садов, и в чайной церемонии, и в литературе.
Однако здесь мы коснемся только литературы, и в
частности такой специфической области, как семнадцатис-
ложные трехстишия хайку. Эти миниатюрные
стихотворения считаются одним из наиболее самобытных
творений японского поэтического гения. Бурно развиваясь в
период Токугава, лирика хайку достигла вершины в
творчестве великого Басе (1643-1694).
Поэт-странник, всей душой стремившийся к слиянию
с Природой, Басе стал подлинным воплощением
национального духа, сугубо японского художественного
мышления» Вся жизнь Басе прошла в путешествиях. Он
исходил Японию из конца в конец — к счастью, в ту пору еще
не было железных дорог. Современная техника и
бытовые удобства не слишком благоприятствуют развитию
поэзии. Владеющая нынешним поколением страсть к
научному анализу срывает с окружающего покров тайны,
но поэзия, тем более поэзия хайку, без тайны
существовать не может. Беда с наукой в том, что она не оставляет
места неопределенности, игре воображения, стремясь
обнажить и выставить напоказ сокровенную суть вещей.
Где правит наука, там кончается фантазия и
воображение отступает на задний план.
Все мы вынуждены ежедневно иметь дело с голыми
фактами, отчего дух постепенно окостеневает, теряет
чувствительность. Но там, где нет мягкости, душевной
чуткости, поэзия не живет. Могут ли пышно зеленеть травы
и деревья посреди знойных песков? Во времена Басе жизнь
была еще не столь прозаична, не столь заполнена
суетными заботами. Соломенная шляпа, посох да холщовая
сумка — вот и все, что требовалось поэту для того, чтобы
бродить по дорогам Японии, переходя от деревушки к
деревушке, останавливаясь там, где что-либо могло его
заинтересовать, и наслаждаясь разнообразными
впечатлениями, большей частью, видимо, впечатлениями от
121
долгого, трудного и небезопасного пути. Когда
путешествие становится слишком легким и удобным,
утрачивается его духовная наполненность.
Пусть это покажется немного сентиментальным, но
некое чувство одиночества, рождающееся в странствиях,
заставляет человека размышлять о смысле жизни — ведь
жизнь в конце концов тоже всего лишь путь, странствие
из неизвестности в неизвестность. Отпущенный нам срок
в шестьдесят, семьдесят или восемьдесят лет позволяет
лишь при должном старании слегка приподнять завесу
Тайны. Тот же, кто стремится прожить всю свою
недолгую жизнь безбедно, не зная забот и волнений, лишает
себя великого чувства Вечного Одиночества,
Непреодолимую страсть Басе к путешествиям
прекрасно живописует его предисловие к лирическому дневнику
«По тропинкам Севера» («Оку-но хосомити», 1694):
«Дни и месяцы — лишь странники, гостящие у сотен
поколений; странники и времена года, что приходят и
вновь уходят. Те люди, что проводят всю жизнь на
кораблях или встречают старость, ведя под уздцы лошадей,
вечно в пути; дорога стала им домом* Немало мужей
древности умерло в странствиях*
Уж и не помню, когда овладело мною сильнейшее
стремление к бродячей жизни, желание уподобить судьбу
свою одинокому облаку, что плывет вдаль по воле ветра.
Проведя некоторое время на морском побережье, я с
прошлой осени поселился в полуразвалившейся хижине у
реки. После того как выметена была прочь паутина,
приют мой стал хотя бы отчасти пригоден для жилья.
Однако, когда год подошел к концу, неугомонный дух
странствий снова напомнил о себе» Меня словно
преследовала какая-то сверхъестественная сила, чьему соблазну
я не в состоянии был противиться. Мною овладела идея
посетить грядущей весной, когда небеса окутаны
дымкой, пограничную область Сиракава. Сердце мое
лишилось покоя. Срочно наложил я на обмотки заплаты,
подновил свежей соломой дорожную шляпу, полынными
прижиганиями подлечил ноги. Наконец, оставив хижину на
попечение друга, я отправился в путешествие на Север за
лунным светом, с которым вскоре должен был я
повстречаться в Мацусимё».
Предшественником Басе был Сайге (1118-1190) —
другой поэт-странник, живший в эпоху Камакура.
Отказавшись от карьеры придворного самурая, он целиком
122
посвятил жизнь путешествиям и сложению стихов. Сайге
был буддийским монахом. Тому, кто бывал в Японии,
возможно, доводилось видеть популярную картину —
одинокий монах в дорожном одеянии созерцает гору Фудзи.
К сожалению, не помню имени художника. Картина
пробуждает немало дум, в особенности о тайне одиночества
человека в мире, об извечной обособленности
человеческой жизни. Но чувство это далеко от ощущения
потерянности, неприкаянности, от давящего сознания
собственной никчемности — оно сродни постижению таинства
Абсолюта.
Дым над Фудзи-горой —
по ветру стелется, вьется
и уносится вдаль.
Кто узнает, куда вслед за ветром
устремляются мои думы?,. —
говорится в знаменитой танка Сайге.
Басе не был монахом, но всю жизнь оставался
ревностным последователем Дзэн-буддизма» Осенью, когда
начинает сеять холодный дождь, вся Природа служит
воплощением идеи Вечного Одиночества. Оголяются деревья,
суровый и неприветливый облик приобретают горы,
ручьи кажутся еще прозрачней, и вечером, когда уставшие
от дневных забот птицы тянутся к родным гнездам,
одинокий странник объят раздумьем о судьбах человеческих.
Его настроение созвучно природе. И вот Басе слагает
трехстишие:
Путешественник —
так отныне нарекусь.
Осенние дожди...
Далеко не все мы склонны к аскетизму, но,
наверное, в каждом из нас живет подсознательное стремление
проникнуть за грань земного бытия, туда, где душа
может в покое осмыслить свою участь и свое истинное
предназначение.
Когда Басе еще изучал Дзэн под руководством мастера
Вуттё, наставник однажды посетил его и спросил:
— Как ты поживаешь в последнее время?
— После недавнего дождя мох стал еще зеленее, —
ответствовал Басе.
— Какой же Закон Будды важнее зелени мха? —
продолжал Вуттё.
123
Этот старый пруд!
В воду прыгнула лягушка —
одинокий всплеск*··
Так ответил Басе, положив, согласно легенде, начало
новой эпохе в истории хайку. До Басе хайку были в
основном лишь игрой слов и не имели связи с реальной
жизнью. Мастер задал поэту вопрос: что есть высшая
истина, которая важнее всех частностей мира, и Басе в
поисках ответа обратил внимание на прыгнувшую в пруд
лягушку. Плеск воды нарушил безмятежное спокойствие·
И вот уже постигнут источник жизни, а художник, сидя
перед домом, следит за сменой своих душевных
состояний, которые корреспондируют с миром, находящимся в
вечном обновлении и становлении. Результатом этого
процесса и будет явленное нам трехстишие из семнадцати
слогов. Басе был поэтом Вечного Одиночества:
Оголенная ветвь —
на ней примостилась ворона.
Вечер осенний...
Простота формы не всегда предполагает тривиальность
содержания. Великая Запредельность улавливается в
образе одиноко сидящей на мертвой ветке вороны. Все на
свете рождается из бездны Таинства, и через любой
предмет мы можем заглянуть в эту бездну. Вовсе не нужно
сочинять поэму из многих сотен строк, чтобы дать выход
тому чувству, которое пробуждает в нас созерцание
бездны· Когда чувства достигают высшей точки, мы немеем,
мы храним молчание, потому что слова здесь бессильны.
Даже семнадцати слогов иногда бывает слишком много
для передачи чувств. Японские поэты и художники,
находящиеся под влиянием Дзэн, всегда предпочитают
использовать минимальное количество слов и минимальное
количество мазков кисти. Слишком полное
самовыражение не оставляет места для домысливания, а
суггестивность и есть секрет японского искусства·
Некоторые художники намеренно создают картины,
окутанные флером таинственности, В сущности, чем
меньше улавливает зритель, тем лучше. Мазки, линии,
тоновое наложение — с помощью этих средств можно
передать любой объект, произвольно взятый из окружающей
нас действительности — будь то птицы, горы, люди или
цветы. Художники такого типа мало заботятся о том,
124
как воспринимаются их произведения. Разумеется, это
крайность. Ведь если каждый по-своему будет судить о
сочетании линий, мазков и цвета на картине, подчас
делая выводы противоположные тому, что имел в виду
автор, то к чему же вообще браться за кисть» Однако
художник может возразить: главное, чтобы был понят
дух произведения. Японские художники прежде всего
стремятся передать тот глубинный, внутренний импульс,
который вдохновил их на создание произведения. Порою
они и сами не знают, как это сделать. Они лишь издают
восклицание или окунают кисть в тушь. Это может и не
считаться искусством, ибо в действиях художника нет
ничего «искусственного». Или же это чрезвычайно
примитивное искусство. Но вправе ли мы давать такие
оценки? Как бы далеко ни завела нас цивилизация, которая
по самой сути своей искусственна, мы всегда в глубине
души стремимся к безыскусности — ней конечная цель и
смысл усилий каждого художника. И какое же
богатейшее искусство бывает скрыто под излюбленной
японскими мастерами личиной безыскусности! Наполненное
богатым содержанием, несущее суггестивное начало и
совершенное в безыскусной простоте. Таким путем воспроизвести
дух Вечного Одиночества и призваны рисунки тушью-
сумиэ или трехстишия хайку.
В эстетике Басе идею Вечного Одиночества передает
дух фуга (или, иначе, фурю). Фуга буквально означает
«изящество*, «утонченность», подразумевая очищение и
улучшение жизни, — конечно, не в современном
понимании, связанном с повышением уровня жизни. Имеется в
виду бесхитростное наслаждение жизнью, стремление к
атмосфере саби и ваби, а не к материальному комфорту и
острым ощущениям. Жизнь по законам фуга находит
добрых друзей в цветах и птицах, в камнях и реках, в
дожде и луне· Басе в предисловии к одному из своих
лирических дневников «Записки из заплечной котомки»
(«Ои-но кобуми», 1691) ставит себя в один ряд с такими
художниками, как Сайге, Соги, Сэссю и Рикю. Все они
были «фурабо», то есть «фанатиками» в своей
неисчерпаемой любви к Природе. Вот о чем он пишет в
дневнике: «В моей телесной оболочке из сотни костей и девяти
отверстий обитает существо, которое назвал я как-то
„Фурабо — Монах «Марля на ветру»". В самом деле,
вспомните, с какой легкостью ветер разрывает и треплет
марлю» Существо это долгое время увлекалось сложением
125
шуточных стихов кёку и, наконец, решило посвятить им
всю жизнь. Порой, однако, это занятие надоедало
человеку и он подумывал о том, чтобы все бросить, порой же он
делал большие успехи и мнил себя выше прочих поэтов*
Сердце его обуревали противоречия, искусство лишило
его покоя. Одно время человек стремился занять прочное
положение в жизни, но поззия не позволила ему этого;
попытался он также заняться науками, чтобы изгнать
невежество из умов, но по той же причине намерению его
не суждено было осуществиться. В конце концов ему,
неумелому и бесталанному, осталось в жизни одно — то,
что присутствует и в вака Сайге, и в рэнга Соги, и в
картинах Сэссю, и в чайной церемонии Рикю·
Роднит все эти виды искусств дух фуга — кто следует
ему, приемлет Природу, как она есть, и умеет сдружиться
с четырьмя временами года. Ничего другого не видит
художник, кроме цветов, ни о чем ином не думает он,
кроме как о луне. Если человек видит не одни лишь
цветы, он подобен варвару. Если в глубине души
помышляет он не о луне, значит, он ничем не лучше птиц и
зверей. Говорю вам: преодолейте варварство, отриньте
низменную звериную сущность, следуйте Природе,
вернитесь к Природе! »
Глава седьмая
РИКЮ И ДРУГИЕ МАСТЕРА
ЧАЙНОЙ ЦЕРЕМОНИИ
Полагаю, что в этой книге не лишним будет краткий
очерк о жизни Сэн-но Рикю. Он был основоположником
того ритуала чайной церемонии, что сохранился в
Японии до наших дней, и каждый мастер получает аттестат
и лицензию на преподавание из рук потомков Рикю.
Возможно, сегодня чайная церемония не столь точно воссоз-
дает ту духовность, что наполняла старых мастеров, и в
ней уже не столь сильно влияние Дзэн-буддизма, как
было во времена Рикю. Но ведь перемены неизбежны.
Сэн-но Рикю (1518-1591) родился в семье богатого
купца из города Сакаи. В ту пору Сакаи, расположенный
в провинции Идзуми, был крупнейшим морским портом,
куда прибывали корабли из многих стран Азии. В
купеческой среде процветал культ чая — в чайной церемонии
они находили отдохновение от суетных забот
повседневности. Богатые купцы из Сакаи обзаводились
великолепной чайной утварью, большей частью заморского
производства. По всей вероятности, пристрастие мастеров
чайной церемонии к редкостным произведениям искусства
унаследовано от купцов из Сакаи, которые в свою очередь
восприняли тенденции эстетизма от придворной знати
сегуна Асикага Ёсимасы. Чуть позже мы познакомимся с
некоторыми эпизодами из истории чайной церемонии,
которые наглядно свидетельствуют о необычайном
тяготении к изысканной утвари как самих мастеров, так и их
покровителей — владетельных феодалов всех рангов. Они
готовы были платить чудовищные суммы за
какую-нибудь уникальную чашку или чайницу, а обладатели
таких драгоценных изделий становились объектом жгучей
зависти даймё, купцов и знатоков искусства.
127
Рикю начал обучаться ритуалу чайной церемонии очень
рано и уже к пятидесяти годам был признан одним из
лучших мастеров Японии. Сам император Оогимати дал
ему буддийское имя Рикю, под которым прославленный
маэстро и вошел в историю.
Объединитель Японии Ода Нобунага усиленно
насаждал культ чая и оказывал Рикю всемерное
покровительство. Его преемник Тоётоми Хидэёси, преуспевший
в деле окончательной военной и политической
централизации японских княжеств, после смерти Нобунаги
также обратил внимание на Рикю. За службу при дворе н
качестве мастера чайной церемонии Рикю получал от
всесильного кампаку годичное содержание в три тысячи
коку риса. Даже в бесчисленных походах против
непокорных феодалов мастер обязан был сопровождать Хи-
дэёси, В бурную эпоху бесконечных междоусобиц чайная
церемония была популярнейшим способом
времяпрепровождения самурайской знати в часы досуга, и многие не
желали оставить любимого занятия даже под бременем
военных забот. Зачастую «чайные вечера» служили лишь
камуфляжем для политических переговоров, и, надо
полагать, немало важных решений было принято
полководцами за чашкой чая в крошечной хижине площадью
четыре с половиной татами. Рикю, вероятно, был
тайным и безмолвным участником подобных встреч. Ему
вполне подходила такая роль.
Рикю изучал Дзэн в Дайтоку-дзи, одном из
монастырей «Пяти Гор» в Киото. Он прекрасно знал, что дух
ваби, к которому он приобщился через чайную
церемонию, проистекает из Дзэн и что без дзэнской практики
невозможно постичь истинную сущность искусства.
Конечно, в реальной жизни Рикю был достаточно далек от
идеала ваби — он никогда не жил в бедности, имел
солидное состояние и пользовался влиянием в сфере
политики, но при этом, как человек огромного творческого
дарования, в глубине души неизменно тянулся к
подлинному ваби. Судьба, однако, распорядилась
по-своему: Рикю невольно оказался втянут в водоворот
политических интриг и по каким-то не вполне понятным
причинам навлек на себя гнев деспотичного канцлера.
Хидэёси приказал мастеру покончить жизнь
самоубийством. Обычно в оправдание этого сурового приказа
историки приводят довольно легковесные мотивировки,
однако можно предположить, что истинные причины
128
немилости Хидэёси кроются в подводных политических
течениях.
В год смерти Рикю исполнилось семьдесят. Получив
послание с приказом совершить сэппуку, мастер
удалился в свою комнату, в последний раз неторопливо
приготовил и выпил чаю, а затем сложил прощальные стихи на
китайском и японском языках. Его прощальная песнь на
китайском звучала так:
Прожито целых семьдесят лет —
Ха! Что тревожиться по пустякам!
Нынче же я готов поразить
Будд, патриархов священным мечом!
Японское же пятистишие гласило:
Над собою занес
меч старинный, наследие предков,
что хранил столько лет»
Наконец-то и мой час пробил —
славный меч к небесам вздымаю!..
Двадцать восьмого числа второго лунного месяца
девятнадцатого года Тэнсё (1591) трагической смертью
завершился блестящий жизненный путь Сэн-но Рикю,
посвященный усовершенствованию чайной церемонии и
внедрению культа ваби.
Некоторое дополнительное представление о личности
Рикю могут дать поучительные истории из его биографии (к
которым порой примешивается изрядная толика вымысла)·
* Однажды Хидэёси услышал» что в саду у Рикю
распустились чудесные цветы вьюнка, и передал мастеру,
что желает самолично лицезреть цветение. Когда на
следующее утро Хидэёси зашел в сад перед домом Рикю, то
не увидел ни единого цветущего вьюнка. Это показалось
канцлеру странным, но он смолчал. Направившись к
чайному павильону, Хидэёси переступил порог — и что же!
Перед ним в вазе красовался одинокий и оттого еще более
прекрасный вьюнок.
* Как-то раз, намереваясь подшутить над Рикю,
Хидэёси поставил перед ним золотой тазик со свежей водой,
положил веточку сливы и предложил создать из этого
композицию. Ни минуты не колеблясь, Рикю взял
веточку, оборвал с нее цветы и бросил их в тазик. Лепестки и
бутоны, отраженные в золоте, образовали изумительную
икэбану.
5 За* №301
129
* Как-то в весенний день Рикю случилось развлекать
Хидэёси у себя в усадьбе. Могущественного канцлера
провели в крошечную комнатушку площадью не более
шести квадратных футов. Собравшись войти, Хидэёси
вдруг заметил над дверью огромную ветвь цветущей
сакуры, которая свисала из прикрепленной к потолку зала
вазы. Нежные бело-розовые цветы пробивались и внутрь
комнатушки. Хидэёси, который при всей своей любви к
строгой чайной церемонии в глубине души не мог
побороть тяги к роскоши и пышному убранству, был очень
доволен. Долго еще стоял он у дверей, созерцая
великолепные соцветия на вишневой ветви.
* Когда Рикю был еще учеником у мастера чайной
церемонии, ему однажды приказали прибрать родзи —
дворик перед чайным павильоном. Между тем наставник
прежде уже сам подмел родзи. Рикю не мог обнаружить
ни соринки, но он сразу же догадался, что мастер имеет
в виду: подошел к дереву и потряс его, так, что
несколько листьев упало на землю. Находчивость ученика
пришлась мастеру по душе.
*Рикю был очень восприимчив к красоте,
оценивая достоинства того или иного предмета с позиций
ваби и саби. Малейшее отклонение от принципов ваби
сразу же бросалось ему в глаза» Однажды он в
сопровождении зятя отправился на первую чайную
церемонию по случаю наступления зимы. Когда гости
подошли к усадьбе, они увидели старинные
одностворчатые ворота. Зять похвалил вкус владельца, так тонко
чувствующего саби. Но Рикю только саркастически
улыбнулся: «Это очень далеко от истинного саби, сын
мой. Присмотрись внимательно. Вещь дорогостоящая·
Таких ворот в здешней округе не найти. Скорее всего,
их привезли из какого-нибудь заброшенного горного
храма, удаленного от мирской суеты. Подумай только,
сколько труда и денег стоило хозяину перевезти такой
предмет» Если бы он лучше разбирался в саби, то
подыскал бы готовую створку или заказал у соседнего
столяра, а уж к ней бы присоединил какую-нибудь
доску от старинного строения из собственных
владений. Вот тогда на этих воротах лежал бы отпечаток
ваби, а вещь, которую мы сейчас видим, никак нельзя
считать проявлением хорошего вкуса». Молодой
человек надолго запомнил практический урок эстетики,
преподанный мастером.
130
* Однажды Рикю отправился на чайную церемонию,
где распорядителем был его старший сын« Когда гости
вошли в родзи, мастер заметил кому-то из знакомых:
«Среди камней, что лежат в земле на тропинке, один
чуть выше прочих. Наверное, мой сын этого не
заметил». Случайно эти слова услышал сын Рикю и подумал
про себя: «А ведь я и сам давно уже подметил тот
камень. Но что за быстрота ума, что за
наблюдательность у моего отца!» Пока гости отдыхали после первой
порции чая, сын Рикю незаметно выскользнул в родзи,
немного углубил гнездо под камнем и устранил разницу
в уровне. Тщательно замаскировав следы работы, он
побрызгал вокруг водой и вернулся в помещение. На
обратном пути, проходя по тропинке из камней, Рикю
тотчас же уловил перемену и похвалил сына: «Что ж,
должно быть, Доан слышал мое замечание. Но как близко
к сердцу он его принял, как быстро все исправил, еще до
нашего ухода!»
* Однажды Рикю с несколькими друзьями
пригласили на тяною. Зайдя во двор усадьбы, где росли
многолетние могучие дубы, они увидели, что дорожка к
чайному домику сплошь устлана палой листвой» Можно
было подумать, что гуляешь где-нибудь в горной
глуши. «Прелестно!» — воскликнул Рикю и после
минутного размышления добавил: « Вот только боюсь, что
хозяин все-таки подметет листья — он пока еще не
постиг идею саби», И верно, когда гости вышли
освежиться после первой порции чая, дорожка была чисто
выметена. Тогда Рикю подробно объяснил друзьям, как
должен был бы выглядеть дворик перед хижиной в
такой день. Позже, рассказывая одному из учеников,
как следует ухаживать за родзи, мастер процитировал
пятистишие Сайге:
Листья дуба,
не успев пожелтеть,
устлали землю
На тропинке к горному храму,
на пустынной, глухой тропинке,,·
Нужно отметить, что каменные глыбы и валуны, а
также мох и лишайники являются важнейшими
составляющими японского садово-паркового искусства,
особенно в той его области, что связана с чайными
домиками, которые должны напоминать посетителям
131
об атмосфере жизни дзэнского монаха-отшельника в
горах, протекающей в соответствии с принципом саби.
Камни, перенесенные к чайному домику со склонов гор,
из ущелий, с берегов рек, призваны усиливать
впечатление целостности Природы, удаленности от мира и
присутствия духа старины. Всевозможные виды мха,
укрывающего землю, и камни создают иллюзию горной
обители, отстоящей на много переходов от шумного
большого города. Это ощущение должен испытывать
каждый посетитель чайного домика, ибо главная цель
тяною в уходе от суетных забот и меркантильных
интересов.
* У одного мастера чайной церемонии из Сакаи была в
коллекции замечательная чайница, известная среди
знатоков и ценителей под названием «Ундзан катацуки».
Хозяин чрезвычайно гордился своим сокровищем. Однажды
он специально пригласил на чай Рикю, чтобы показать
мастеру столь редкую вещь. Однако Рикю даже виду не
подал, что чайница его заинтересовала, и ни слова о ней
не сказал. Расстроенный хозяин в сердцах разбил
глиняный сосуд о край котелка, подумав: «Что толку владеть
чайной утварью, если Рикю не обращает на нее никакого
внимания!»
Приятель хозяина, случившийся при этой встрече,
подобрал осколки и старательно их склеил, придав
чайнице прежнюю форму. Работа была проделана настолько
ювелирно, что сосуд и в отреставрированном виде не стыдно
было поставить на стол. Рассудив так, этот человек
решил пригласить в гости самого Рикю и посмотреть, что
скажет мастер.
Когда чай был подан, острый глаз Рикю сразу же
подметил знакомую чайницу, которая на сей раз была
склеена из нескольких кусков, «Не та ли это чайница,
которую я видел недавно в одном доме? — спросил
мастер. — Вот теперь она действительно похожа на
предмет, обладающий саби*. Умелец был чрезвычайно
доволен похвалой и вскоре вернул чайницу прежнему
хозяину*
Переменив многих владельцев, битая чайница «Ката-
цуки» наконец попала в руки знатного феодала. Кёгоку
Анти, прославленный киотский мастер тяною, буквально
лишился сна, сгорая от желания заполучить
драгоценность· Его друг, известный лекарь, как-то раз пришел с
визитом к даймё и случайно обмолвился о потаенной
132
страсти Анти. Даймё такая одержимость показалась
забавной, и он в шутку сказал: «Что ж, если ваш мастер
заплатит две меры золота, я, пожалуй, готов расстаться
с „Катацуки%.
Врач принял все всерьез и пересказал разговор Анти.
Тот не колебался ни мгновения: «В таком случае я
приобрету ее за две меры золота, а ты будешь нашим
свидетелем».
Когда даймё услышал о намерении мастера купить
чайницу на предложенных условиях, он просто
остолбенел от удивления: «Что? Да ни за какие деньги я не
отдам моей любимой „Катацуки"!» Дело осложнилось, и
врач, который взял на себя роль посредника, не знал,
как ему быть. Анти сам много раз наведывался к дайме,
но все было напрасно. Все мастера чайной церемонии с
любопытством наблюдали за развитием событий и
предлагали наперебой свои услуги, чтобы уладить конфликт.
Наконец, после неимоверных усилий соглашение было
достигнуто. Даймё уговорили принять пресловутые две
меры золота от «постороннихφ, то есть якобы не в
качестве платы за чайницу, а как благотворительный взнос
на нужды бедных в его именьях. Это избавляло
благородного самурая от унизительной процедуры торговли
сокровищем. Он же со своей стороны как бы передавал
чайницу в дар Анти, Две меры золота по тем временам
оценивались в огромную сумму — двенадцать рё·
Анти был очень доволен сделкой, хотя она, без
сомнения, нанесла немалый ущерб его бюджету. Несколько
меньше он был доволен самой чайницей, полагая, что ее
можно было бы починить и поаккуратней. Он поделился
еще с одним большим авторитетом тяною, Кобори Энею,
намерением заменить некоторые из склеенных осколков,
но мудрый Кобори сказал:
«Ведь именно за такую странную форму чайница и
понравилась Рикю, а впоследствии приобрела известность
среди знатоков. Не лучше ли все оставить как есть?»
* В японской архитектуре весьма важную роль играет
ниша-токонома. Это углубление в стене главной комнаты
жилища восходит к традициям дзэнской архитектуры и
было изначально предназначено для картины или статуи
иконографического типа. Сегодня в нише может висеть
какэмоно любого содержания, но присутствие вазы с
цветами и курильницы с благовониями все еще
обнаруживает исторические связи.
133
Во время одной из кампаний Тоётоми Хидэёси
осадил замок Одавара. Защитники крепости во главе с
военачальником Ходзё оказывали упорное
сопротивление, и осада затянулась на долгие месяцы, Хидэёси,
чтобы развлечь своих приближенных, пожелал
регулярно устраивать ритуальные чаепития, но, увы, не
нашлось подходящей цветочной вазы для чайного
домика. Рикю было велено немедленно найти и доставить
вазу. Мастеру пришла в голову оригинальная мысль
сделать вазу из бамбука. До него никто не пробовал
использовать бамбук в качестве сосуда для икэбаны,
И вот Рикю отправился в бамбуковую рощу, отыскал
подходящий ствол, велел его срубить и сам вырезал
незатейливую вазу* Позже, когда бамбуковое коленце
высохло, в нем появилась трещина, которая и стала
характерной отметкой знаменитой вазы. Назвали вазу
«Ондзё-дзи» в честь одноименного буддийского храма
на озере Вива, славящегося огромным надтреснутым
колоколом.
По-домашнему скромная бамбуковая ваза с тех пор
превратилась для мастеров чайной церемонии в бесценное
сокровище не столько в силу своих художественных
достоинств, сколько благодаря связанным с ней
историческим ассоциациям.
Когда очередным владельцем вазы «Ондзё-дзи» стал
некий Иэхара Дзисэн, к нему в Киото приехал из Нагой
старый друг Номура Содзи с единственным намерением
полюбоваться вазой. Однако Дзисэн ответил на просьбу
друга отказом и предложил подождать год. За этот срок
он соорудил у себя в усадьбе новый чайный павильон, в
котором не было ни одной детали, ни одного предмета из
бамбука· Только в токонома стояла бамбуковая ваза.
Когда все было готово, Содзи наконец получил
долгожданное приглашение и мог насладиться созерцанием вазы
в подобающем интерьере. Содзи, год назад получивший
отказ, конечно, затаил обиду, но, поняв, какими
возвышенными помыслами руководствовался Дзисэн, все
простил и по достоинству оценил бережное отношение
хозяина к шедевру Рикю,
Богатый эдоский купец Фуюки из квартала Фукагава
хотел приобрести вазу «Ондзё-дзи» для своего чайного
домика, но Дзисэн ни за что не соглашался ее продать.
Позже, когда Дзисэн оказался в стесненных
обстоятельствах, он вспомнил, что Фуюки не так давно предлагал
134
за бамбуковую вазу 500 рё, и послал в Эдо слугу с
письмом, соглашаясь уступить «Ондзе-дзи» всего за 450 рё,
то есть на 50 рё дешевле, Фугоки не дал никакого ответа,
но отправил в Киото вслед за слугой Дзисэна своего
посланца, который и вручил хозяину вазы сумму в 500 рё.
Ваза с почетом была доставлена в Эдо, Отказавшись
принять скидку, Фуюки тем самым хотел
продемонстрировать величайшее уважение к бесценному произведению
искусства, неподвластному низменным меркантильным
интересам.
Спустя некоторое время бамбуковая ваза перешла в
руки токугавского вельможи дайме Фумаи, большого
любителя чайной церемонии, обладавшего тонким вкусом и
глубоким пониманием саби. Однажды, когда ваза была
выставлена в чайном павильоне на тяною, кто-то из
свиты даймё заметил, что из трещины в бамбуке сочится
вода, и предложил сделать цилиндрическую подставку.
Но даймё не согласился, возразив: «Ведь фурю этой
бамбуковой вазы как раз и заключается в трещине, в том,
что она протекает,**»
*Имя художника Кано Танъю (1602-1674), я
полагаю, хорошо известно любителям японского искусства·
О нем стоит упомянуть и в связи с чайной церемонией, к
которой Танъю был весьма неравнодушен. Он изучал
тяною под руководством Сотана, внука Рикю,
выдающегося мастера и ценителя ваби, возможно даже
сумевшего кое-в-чем превзойти деда» Танъю начал посещать
занятия у Сотана с ранних лет — ему было чуть более
двадцати. Увидев белую ширму в новом чайном
павильоне Сотана, он предложил украсить ее росписью, но
мастер и слышать ничего не хотел, полагая, что у его
юного ученика недостаточно опыта для такой работы.
Танъю не настаивал»
Некоторое время спустя Танъю явился к наставнику
в неурочное время и не застал Сотана дома. Ширма в
павильоне по-прежнему сияла девственной белизной.
Художник решил, что сама судьба предоставляет ему
возможность осуществить давний замысел, и принялся за
работу. Поначалу он внимательно оглядел ширму,
прикидывая, какой сюжет будет здесь наиболее уместен, и
остановился на «Восьми мудрецах в бамбуковой роще».
Наконец кисть коснулась бумаги, и дело пошло. Вот уж
на фоне деревьев в горах проступили фигуры всех восьми
мудрецов — картина близилась к завершению, но тут с
135
веранды донеслись шаги· Танъю понял, что вернулся
хозяин, и заторопился — он не хотел, чтобы его застали
«на месте преступления*. Между тем шаги звучали все
ближе, а один из мудрецов на картине все еще оставался
без рук. Танъю впопыхах кое-как пририсовал бедняге
руки и поспешил удалиться. Когда Сотан вошел в
комнату, он был поражен, увидев столь совершенное творение
искусства, вышедшее из-под кисти молодого живописца.
Мастер и не предполагал в скромном ученике таких
талантов. Однако, изучив картину повнимательнее, он
заметил, что у одного из персонажей почему-то перепутаны
руки — левая с правой стороны, а правая с левой. Сотан
ничего не сказал о своем открытии, и картина осталась в
том виде, в каком была первоначально исполнена.
Впоследствии, когда слава Танъю, великого
художника и любимца сегуна Токугава Иэясу, распространилась
по всей стране, та старая ширма с картиной, где были
перепутаны руки, привлекла особое внимание любителей
живописи.
Танъю принадлежала чайница-катацуки, прозванная
«Танэмура», — предмет восхищения и зависти всех
поклонников чайного ритуала. Художник необычайно
дорожил своей катацуки и берег ее как зеницу ока. Большой
пожар 1657 г. уничтожил дом Танъю вместе со всем его
содержимым. Одному из слуг было приказано любой
ценой спасти чайницу, но, когда огонь заполыхал в полную
мощь и крыша грозила вот-вот рухнуть, малый швырнул
драгоценный сосуд подальше и бросился наутек. Чудом
чайница уцелела, и случайный посыльный из Киото
подобрал ее на обочине дороги после пожара· По
возвращении в Киото посыльный продал находку купцу,
торговавшему произведениями искусства. Градоначальник Маки-
но Тикасигэ, узнав знаменитую чайницу «Танэмура»,
выкупил ее и оставил у себя.
Через некоторое время Тикасигэ пригласил Танъю в
гости на чашку чая. В разговоре он как бы невзначай
обмолвился о пропавшей чайнице« Танъю попросил даже
не упоминать больше о погибшем сокровище — так
больно ему слышать само название «Танэмура*. Тогда хозяин
велел принести злополучную чайницу и невинно сказал:
«Вот дубликат вашей „Танэмуры"». В приливе радости
Танъю не знал, как выразить обуревавшие его чувства.
Градоначальник любезно согласился отдать катацуки за
ту же цену, которую ему пришлось уплатить купцу, но с
136
условием, что в благодарность за это Танъю нарисует для
него двенадцать видов Фудзи. Разумеется, Танъю
согласился, но задача была непростая, и художнику пришлось
потратить на ее выполнение немало сил. Зато серия Танъю
«12 видов Фудзи» явилась общепризнанным шедевром
школы Кано.
Ничто так не выявляет влияние Дзэн-буддизма на
традиционную японскую эстетику, как анализ основных
принципов строительства чайного павильона, или
чайного домика, предназначенного для проведения известной
нам церемонии тяною. Правила чайной церемонии
никогда не были записаны в каком-то нормативном своде —
они формировались в течение веков благодаря
неустанному радению поколений, искушенных в своем деле
мастеров. Их духовная дисциплина позволяла облекать
присущую всем японцам любовь к природе в строгие формы,
соответствующие дзэнской философии, морали и
художественной практике. Тот, кто знает все о чайной
церемонии — ее истории, теории, практике, духовной основе и
моральном воздействии на окружающих, — может
сказать о себе, что он постиг тайну японской национальной
психологии.
Итак, представим себе чайный павильон при храме
Дайтоку-дзи, который считается центром культуры
чайной церемонии. В конце тропинки, выложенной из
плоских камней, стоит маленькая скромная хижина под
соломенной кровлей. Вместо двери — невысокий, узкий
проем в стене, через который можно проникнуть внутрь,
только избавившись от всего лишнего, в частности
оставив за порогом два меча, непременный атрибут
служилого самурая в средние века.
Внутри мы найдем слабо освещенную комнатку
площадью около десяти квадратных футов. Потолок
неровный как по высоте, так и по фактуре материала.
Опорные столбы — это обыкновенные неструганые
бревна. Постепенно комнатушка становится как бы
светлее, глаза привыкают к полумраку, и мы замечаем в
нише-токонома старинный свиток-какэмоно или
написанную тушью картину-сумиэ. Курильница с
ароматическими смолами струит благоухание* Душистый
дымок успокаивает нервы. В цветочной вазе всего один
цветок, вовсе не поражающий великолепием и
пышностью, например белая лилия, что цветет в лесу под
сенью утеса в окружении хмурых сосен. Скромный
137
цветок, само воплощение красоты, привлекает
внимание всех немногочисленных гостей, приглашенных на
чашку чая, чтобы вместе ненадолго отрешиться от
докучных мирских забот.
Мы сидим и слушаем бульканье кипящей воды в
чайнике, помещенном на железный треножник, что
стоит в квадратном отверстии утопленного в земляном полу
очага. Шум кипящей воды здесь не похож на то обычное
бульканье, что издает большой чайник на сильном огне,
и не случайно ценители чайной церемонии
приравнивают этот звук к пению ветра в ветвях сосен. Здесь
человек может ощутить себя отшельником в горной хижине,
где лишь белые облака да ветер в соснах делят с ним
одиночество.
Беседуя в такой обстановке с друзьями о картине-
сумиэ или о каком-либо необычном предмете чайной
утвари, человек воспаряет духом над трудностями
повседневной жизни. Воин забывает на время о сражениях,
коммерсант избавляется от навязчивой идеи погони за
деньгами. Право же, это кое-что значит — найти в мире
бурь и гроз, суетных увлечений и страстей укромный
уголок, где ты можешь забыть о прозе жизни и заглянуть
в вечность.
Читатель может сказать, что нет ничего особенного в
том, чтобы выпить чашку чая; что японцы придают
слишком большое значение житейским мелочам, забывая о
куда более серьезных вещах* Но что бы вы ни думали по
этому поводу, мастера чайной церемонии и прочих дзэнс-
ких искусств будут продолжать заниматься своим делом,
убежденные в непреходящей ценности принципов Дзэн, в
незыблемости законов ваби и саби*
В заключение приведу эпизод из биографии Дзёсю
(Чжао Чжоу, 778-897), чаньского мастера, знавшего толк
в чаепитии.
Однажды Дзёсю спросил монаха, пришедшего
навестить наставника: «Ты здесь уже бывал?» Тот ответил:
«Нет, Учитель». «Выпей чашку чая», — сказал Дзёсю.
Спустя некоторое время к нему зашел другой монах и в
ответ на тот же вопрос подтвердил: «Да, Учитель»·—
«Что ж, выпей чашку чая»,— снова сказал Дзёсю.
Провизор монастыря поинтересовался: «О Учитель,
почему вы одинаково приняли обоих монахов, хотя один
из них ранее уже бывал у вас, а другой нет?φ «Выпейте
чашку чая», — ответствовал Дзёсю,
138
Когда Бокудзю (My Чжоу), другой чаньский мастер,
узнал об этом разговоре, он спросил монаха,
вернувшегося от Дзёсю, что имел в виду Учитель. «Ничего, он
просто чудил», — сказал монах- «Бедный Дзёсю, он и
не знает, что ты вылил на него ковш грязи», — заметил
Бокудзю и наградил монаха затрещиной. Обернувшись к
одному из своих молодых учеников, он снова задал
вопрос: «А ты что думаешь о Дзёсю7» Ученик начал
отвешивать почтительные поклоны, за что также получил
затрещину.
Монах, навещавший Дзёсю, спросил злополучного
ученика: «Почему твой наставник тебя ударил?» Тот
ответил: «Если бы он не был моим наставником, он бы меня
не ударил».
В конце концов выпить чашку чая тоже не так уж
просто — последствия могут быть довольно серьезные.
Глава восьмая
ДЗЭН-БУДДИЗМ
И ЛЮБОВЬ ЯПОНЦЕВ К ПРИРОДЕ
Я часто думаю о том, что своей любовью к природе
японцы обязаны прежде всего горе Фудзи, горделиво
возносящей свой белоснежный купол над главным островом
архипелага. Когда бы я ни проходил по тракту Токай до
мимо подножья горы, каждый раз я останавливался, если,
разумеется, погода тому благоприятствовала, чтобы
вдоволь полюбоваться несравненной красотой вершины,
которая, по словам токугавского поэта Исикавы Дзедзана
(1583-1672), «перевернутым веером белым вздымается
ввысь к небесам». Чувство, которое пробуждает в нас
Фудзи, не похоже на эстетическое наслаждение от
созерцания художественного совершенства. От нее веет
духовной чистотой, она влечет к возвышенным помыслам.
Ямабэ Акахито, один из величайших поэтов VIII в»,
воспел Фудзи в бессмертных стихах, вошедших в
антологию «Собрание мириадов листьев ρ («Манъёсю»):
Я на берег морской
вышел к бухте, что Того зовется,
И увидел вдали
белый купол Фудзи-горы —
Будто снег лежит в небесах...
Другой неизвестный поэт эпохи Нара говорит о
священной горе с трепетом, подчеркивая ее религиозную
значимость для страны:
Над Суругой и над краем Каи
Фудзи к небу вознеслась главою»
Даже тучи, страхом обуянны,
не плывут над тем священным пиком,
Даже птицы, распростерши крылья,
пролететь над кручей не решатся.
140
То пресветлый Бог взирает с высей
на страну Восхода, край Ямато,
то сокровище ее и слава.
Будем же вовеки любоваться
дивным видом Фудзи из Суруги!..
(«Мапъёсю», V.III)
Приведенное пятистишие Сайге о Фудзи выдержано в
мистическом ключе. Во времена Сайге, в XII в., гора
была еще действующим вулканом, над которым по
крайней мере иногда вилась струйка дыма. Отсюда и образ,
возникающий в танка: облака, плывущие над вершиной,
увлекают помыслы поэта вдаль от суетного мира.
Не одни лишь поэты черпали вдохновение в
величественном зрелище — подчас и суровые воины посвящали
чудо-горе прочувствованные строки:
Сколь раз ни взгляну,
в новом необычайном обличье
Фудзи явится мне —
и как будто впервые вижу
красоту вершины далекой!· ♦
Как поведать о ней
тем, кто в жизни не видывал Фудзи?
Разве образ один
передаст всю красу вершины,
что меняется с каждым мигом?..
Автор этих стихов Датэ Масамунэ (1565-1636), один
из прославленных полководцев времен Хидэёси и Иэясу,
вошел в историю также тем, что отправил в 1613 г.
посольство ко двору Папы римского* Бесстрашный
воитель, он лично принимал участие во многих
кровопролитных битвах, из которых неизменно выходил
победителем. Кто бы мог подумать, что грозный властитель
Сэндая в эпоху смут и междоусобных распрей еще
находил возможность любоваться природой и слагать о
ней стихи! По этому факту уже можно судить,
насколько любовь к природе свойственна каждому истинному
японцу. Ведь даже Хидэёси, выходец из крестьянской
семьи — а в те годы не было более угнетенного,
забитого и безнадежно невежественного сословия, чем
крестьяне, — даже он слагал на досуге вака и оказывал
покровительство изящным искусствам. Его правление
141
вошло в историю японской культуры как период Момо-
яма.
Фудзи в наши дни зачастую ассоциируется с самой
Японией» Что бы ни говорили, что бы ни писали о
Японских островах, неизбежно при этом упоминается
Фудзи. И такое постоянство вполне оправданно: ведь
Страна восходящего солнца и в самом деле много
потеряла бы, если бы священная Фудзи вдруг исчезла с
карты. Чтобы оценить по достоинству Фудзи, ее надо
видеть своими глазами. Ни картины, ни фотографии,
как бы профессионально они ни были выполнены,
никогда не смогут передать все очарование оригинала. Как
сказано в вака Масамунэ, Фудзи никогда не остается
неизменной, очертания ее постоянно меняются в
зависимости от погоды, времени дня, от того, с какого места и
с какого расстояния смотришь. Для тех, кто не видел
Фудзи в жизни, даже гений Хиросигэ будет бессилен
воспроизвести величавую красоту горной вершины, о
которой еще один поэт средневековья писал:
И в безоблачный день,
и в пасмурную погоду
Вековечной красой,
неизменной отрадой взору
Предстает священная Фудзи!
В нашу прозаическую эпоху среди японской
молодежи широкое распространение получил альпинизм —
занятие, которое сами спортсмены называют
«покорением гор». Какая профанация! Эта мода, разумеется,
пришла с Запада вместе с некоторыми другими не
слишком подходящими для нас поветриями. Идея так
называемого покорения природы вытекает, как мне
представляется, из эллинистических учений, согласно
которым земля призвана служить человеку, ветры и
моря — подчиняться человеку. Сходную концепцию
предлагает и иудаизм* Однако на Дальнем Востоке
никогда не существовало учений, имевших целью
поставить природу на службу корыстным интересам
человека. Для нас природа никогда не выступала в качестве
злобного и немилосердного врага, которого необходимо
привести к повиновению. Мы, люди Востока, не
рассматриваем природу как своего противника. Наоборот,
мы всегда учились видеть в ней верного друга и
союзника, достойного уважения и доверия, несмотря на
142
частые землетрясения и разрушительные тайфуны, от
которых страдают Японские острова. Идея
«покорения» природы претит нашему разуму. Если ты
совершил восхождение на горный пик, почему не сказать:
«Мы стали друзьями с этой вершиной!» Оглядываться
по сторонам в поисках новых объектов, которые
следует «покорить*, не свойственно восточному
миропониманию·
Да, японцы испокон веков отправлялись в
паломничество к вершине Фудзи, но не с целью «покорить»
ее, а с единственным желанием проникнуться ее
величавой красотой, восславить первые лучи утреннего
солнца, блеснувшие над разноцветной облачной грядой.
И не нужно непременно видеть в этом акте теургию
солнцепоклонников, хотя в самом культе солнца нет
ничего предосудительного. Ведь солнце дает жизнь
всему на земле, и человек должен платить величайшему
благодетелю всего живого глубокой, искренней
благодарностью. Только человек наделен способностью по
достоинству оценить даяние — низшие существа
лишены тонких чувств.
Сегодня горные вершины Японии, представляющие
интерес для туристов, как правило, оборудованы
комфортабельными канатными дорогами. Утилитарные
материалистические потребности современной жизни
требуют внедрения всевозможных механических
приспособлений« Я и сам нередко пользуюсь канатной дорогой —
например, когда отправляюсь на гору Хиэй близ
Киото. Тем не менее все во мне восстает против подобных
средств передвижения. Вид освещенной электричеством
канатной трассы, протянувшейся по горному склону,
напоминает об укоренившемся в нашем обществе духе
наживы и погони за удовольствиями. Думаю, что
многим набожным моим соотечественникам причиняет боль
такое бесцеремонное обращение со свящейной горой,
над которой все еще витает тень Дэнгё Дайси (767-
822) — основателя первого в Японии монастыря
буддийской секты Тэндай. Культ природы в нашей стране
порожден тем высоким религиозным чувством, которое
люди ни в коем случае не должны терять в эпоху
научно-технического прогресса, войн и социальных
катаклизмов.
Если мы хотим понять, насколько сильна в
японцах любовь к природе, несмотря на приверженность
143
многих новомодным идеям «покоренияψ и
«завоевания», нужно представить себе уединенный павильон, а
еще лучше хижину для медитации где-нибудь в
глубине горного леса. Это сооружение даже трудно назвать
домом по западным меркам. Площадь его не больше
4,5-6 татами, то есть всего лишь 10-15 квадратных
футов. Крытая соломой хижина приютилась под сенью
раскидистой громадной сосны. Если смотреть издали,
она выглядит незначительной деталью окружающего
пейзажа. Органично вписываясь в лесистые
окрестности, хижина ничем не раздражает взор — кажется,
будто она всегда стояла на этом месте. Комнатушка
свободна от громоздкой мебели — в ней нет ничего, кроме
цветочной вазы, подвешенной к одному из опорных
столбов. Хозяин хижины знает, что не следует
отделять себя от естественного ландшафта, от самой
природы, окружающей хижину«
Среди прочих растений под окошком неправильной
формы можно увидеть невысокое банановое деревце.
Широкие листья кое-где провисли полосами — только
что утихла буря, — и как же похожи они на
потрепанный, рваный монашеский плащ! Как напоминают они о
тех листьях банана, что воспеты в дзэнских стихах
Хань Шаня — китайского поэта-эксцентрика эпохи Тан!
Не одна лишь причудливая конфигурация банановых
листьев, но и то, как они растут, тянутся вверх от
земли, заставляет человека задуматься о собственной
жизни·
Пол в хижине приподнят над землей совсем
немного — чтобы предохранить хозяина от сырости, но в то же
время дать ему возможность почувствовать близость того
могучего первоисточника, из которого произрастает все
живое.
Лесная хижина и погруженный в созерцание человек
становятся неотъемлемыми частями природы. Он,
человек, ничем не отличается от беспечно поющих птиц,
звенящих цикад, колышущихся листьев, журчащих
струй ручья, даже от самой Фудзи, что высится по
другую сторону залива. Происходит полное слияние
природы и человека. Мне вспоминается стихотворение Ота
Докана (ум. в 1486 г.) — одного из выдающихся
полководцев средневековой Японии. Когда император Го-Цути
спросил Докана, где находится его усадьба, тот ответил
пятистишием:
144
Обитель моя
приютилась у берега моря
в тени старой сосны —
И вершина снежная Фудзи
над застрехой моей нависла...
Император, живший в Киото, никогда не видел Фудзи
в ее первозданной красе, отчего поэт-воин, вероятно, и
счел необходимым упомянуть эту существенную деталь.
Любопытно, что свою резиденцию Докан именует
«хижиной» (яп. иори или ио). Крупнейший военачальник
своего времени, он обосновался на месте современного
Токио задолго до того, как Иэясу воздвиг в центре Эдо
исполинский замок, и, разумеется, не был стеснен в
средствах. Тем не менее о своем богатом подворье
Докан говорит как о « хижине », под которой обычно
подразумевается лачуга с соломенной кровлей, жилище
отшельника.
Поэтический вкус Докана восставал против всего
искусственного, привнесенного человеком в безмятежную
жизнь природы· И образ его «хижиныψ как нельзя лучше
сочетается с зелеными соснами, набегающими на берег
волнами, снежной вершиной Фудзи. В танка Докана еще
раз проявляется удивительное свойство японского
национального характера — безотчетная и беззаветная любовь
к природе.
Масштабное здание слишком навязчиво довлеет над
окружающим ландшафтом« Пусть даже оно в
практическом плане прекрасно выполняет все предназначенные
ему функции, но в таком строении нет поэзии. Любое
искусственное сооружение, слишком резко выступающее
из общего естественного фона, теряет значительную часть
своих художественных достоинств. Только когда оно
уже лежит в руинах и не способно служить
практическим целям, такое здание может преобразиться в часть
пейзажа. В этом случае мы будем воспринимать его как
некий природный объект, хотя к подобному восприятию
неизбежно должно примешиваться сознание
исторической значимости живописных развалин.
Император Го-Цути должен был слышать ранее о
равнине Мусаси, где находилось именье Докана. Япония —
страна гористая, равнины в ней редкость, а Мусаси, на
которой сейчас раскинулись кварталы Токио, считалась
одной из самых больших, поэтому император, никогда не
145
покидавший Киото, проживший всю жизнь в окружении
гор, вероятно, хотел представить, насколько же
обширны просторы дальнего северо-восточного края. На вопрос
микадо Докан отвечал:
Знай, что капли дождя
не видны вокруг хижины ветхой,
Хоть гроза пронеслась
вдалеке над равниной Мусаси —
Не объять простор ее тучам!.·
Такой ответ чрезвычайно понравился императору, и
он адресовал талантливому поэту-воителю с «дикого
Востока» прочувствованные строки:
Прежде думалось нам,
что в бескрайних просторах Мусаси
лишь бурьян шелестит —
Сколь же радостно видеть цветенье
дивных слов на дикой равнине!.,
Докан — одна из самых популярных фигур в истории
японской культуры. К несчастью, он жил в смутное
время, когда правление сегунов Асикага клонилось к закату
и стране вскоре предстояло быть ввергнутой в пучину
междоусобных войн. Поэт погиб от копья наемного
убийцы, но перед смертью успел сложить «прощальную песнь»:
До вчерашнего дня,
словно куль с земляными червями,
Эта грешная плоть
оставалась вместилищем скверны —
Нынче куль наконец прорвется...
Судьба позволила Докану вдоволь насладиться
чудесным зрелищем белоснежного купола Фудзи и пенными
волнами океана, чего не скажешь о хозяине и хозяйке
ветхой хижины «Угэцу», чьи сердца разрывались,
влекомые одновременно луной и струями осеннего дождя* Но в
этом невольном замешательстве, в этом колебании
обитателей Богом забытой лачуги сквозит не меньше, а, может
быть, больше поэзии, чем в жизненных перипетиях До-
кана.
«Угэцу», что в переводе означает «Дождь и луна», —
одна из пьес репертуара театра Но, В основе ее лежит
эпизод из странствий монаха Сайге (1118-1190) —
прославленного поэта начала периода Камакура. Как-то раз
146
на исходе дня Сайге постучал в дверь одинокой хижины
и попросился на ночлег. В убогой лачуге жила
престарелая чета« Старик отказался впустить монаха, сказав, что
столь неказистое жилище недостойно гостя, однако жена
его сжалилась и дала путнику приют. Хижина изнутри и
в самом деле оказалась в скверном состоянии. Дело было
в том, что старуха слишком любила лунный свет и
потому пожелала оставить прорехи в кровле, чтобы
наслаждаться небесным сияньем. Старик же любил слушать,
как дождь барабанит по крыше, и потому хотел, чтобы
крыша была цела* Что же делать? Совсем не чинить
крышу, чтобы не мешать лунным лучам проникать в
хижину, или же покрыть ее свежей соломой, подготовив
к сезону дождей? Уже наступила осень, приближалась
пора любования полной луной. Но может быть, лучше
сидеть в тепле и слушать, как бьют по крыше струи
осеннего ливня? Пока вопрос не решен, считали хозяева,
не следует приглашать в дом постороннего человека:
Крыть ли нам иль не крыть соломой
кровлю хижины сей убогой?
Сайге при этих словах воскликнул: «Вот и
наполовину готовое стихотворение!» «Коли ты смыслишь в
поэзии, — попросили старики, — дополни пятистишие, и
получишь у нас ночлег». Сайге тотчас же сложил такие
строки:
Свет ли лунный впустить
или пусть барабанит ливень —
Мы решить не смогли:
крыть ли нам иль не крыть соломой
кровлю хижины сей убогой? ♦♦
Кстати, в собрании стихов Сайге есть другая, сходная
по смыслу вака:
Снова в дождь протекла
ветхой хижины старая кровля.
Я до нитки промок,
но чинить не спешу прорехи —
Жду, что в гости луна заглянет...
Итак, хозяева пригласили странника войти.
Постепенно сгустился сумрак, и луна, все ярче разгораясь в небесах,
залила серебристым светом отдаленные горы и долы« Лучи
ее беспрепятственно проникли в хижину. Но что это?
147
Начинается дождь! Вот он шелестит в листве деревьев· .♦
Нет, это палые листья шуршат на ветру, словно редкие
капли стучат по крыше. Небо же по-прежнему ясно» Дождь
опавших листьев в призрачном лунном сиянье.·.
Я в лачуге моей,
листопаду печально внимая,
Буду ночь коротать —
И не знаю, то палые листья
или дождь шумит за стеною.··—
сказал некогда Минамото Ёридзанэ.
Осенние листья часто пробуждали вдохновение
японских поэтов. Печальное очарование листопада зовет к
грустным раздумьям. Не мог остаться равнодушным и
Сайге, когда однажды в горной хижине он был
разбужен ночью шорохом листьев, принесенных ветром к
дверям и ставням его жилища. Должно быть, он еще
глубже ощутил одиночество человека в мире, проникся
духом осенней природы. Стихи его не просто отражают
впечатление момента, но несут в себе горькую прелесть
увядания:
Может быть, это дождь
разбудил меня ночью осенней?
Нет, шурша на ветру,
под порывом его бессильны,
опадают листья с деревьев...
С точки зрения житейских удобств дождь — явление
неприятное, но в японской литературе, как и в
классической китайской поэзии, очень много упоминаний о
дождях, особенно о столь типичном для наших островов
мелком моросящем летнем или осеннем дождике,
который словно тихонько нашептывает о тайнах бытия.
Вот еще одно стихотворение Сайге:
Этим вешним дождем
окружен и отрезан от мира,
Вдалеке от людей,
одиноко я коротаю
дни и ночи в хижине горной,..
Чтобы осознать всю поэзию, всю философскую
наполненность весеннего дождя, нужно пожить в Японии в
домике под соломенной кровлей — может быть, с маленьким
148
палисадником и прудиком, вдалеке от людей, наедине с
природой» Нужно слиться с природой, как Сайге.
А вот стихотворение, которое принадлежит
патриарху Догэну (1200^1253), основоположнику одного из двух
магистральных направлений японского Дзэн-буддизма —
Сото:
Облакам подобны, мы проплываем
в бесконечной чреде смертей и рождений.
Мы путями невежества и просветленья,
как во сне, в забытьи бредем по миру.
Лишь одно, от долгих грез пробудившись,
сохраню я в памяти, не забуду —
Это мерный шум осеннего ливня
над приютом моим ночным в Фукакусё.
Торо в своем «Уолдене» дает некоторое представление
о «космическом сознании φ или «космическом чувстве»,
которое пробудил в нем мерный шум дождя:
«Ни печали, ни подавленности я никогда не
испытывал от ощущения одиночества, кроме одного-единствен-
ного раза — это было спустя несколько недель после
того, как я поселился в лесу, — когда в течение долгих
часов одолевали меня сомнения, не есть ли соседство
человека необходимое условие для безмятежной и
здоровой жизни. Мое одиночество было мне чем-то
неприятно· Но в то же время я сознавал, что в настроении моем
есть что-то нездоровое, и как будто бы уже предвидел
выздоровление· Как-то раз, когда я сидел во власти
этих дум, а мелкий дождь моросил за стеной, я вдруг
почувствовал, сколь отрадное и благотворное общество
дарит мне природа в самом стуке дождевых капель, в
каждом звуке, в каждой частице пейзажа вокруг моего
жилища — всюду меня окружала и поддерживала
атмосфера дружеского участия, которая сразу же сделала
столь незначительными мнимые преимущества близости
других людей, что я никогда более с тех пор о них и не
думал. Каждая сосновая иголка дышала симпатией и
дружелюбием» Я отчетливо ощущал присутствие
родственного начала даже в тех картинах природы,
которые мы по привычке называем дикими и мрачными, а
также то, что ближе всех мне по крови и гуманнее всего
не человек, не деревенский житель, — и оттого мне
представлялось, что более никогда ничто в природе не
покажется мне чуждым*.
149
Отметим между прочим, насколько восточное
мироощущение оказалось близко американцам в середине XIX в.
Движение трансценденталистов, начатое поэтами и
философами Конкорда, все еще не утратило влияния в
Америке, Конечно, коммерческая и промышленная экспансия
США в странах Дальнего Востока стала одной из
характерных особенностей XX столетия, но надо признать, что
в то же время и Восток вносит немалый вклад в
интеллектуальный потенциал Запада, Эмерсон в 1844 г,
прекрасно ответил Карлейлю на упреки в излишнем
мистицизме и отрыве от реальности:
«Порой вы ставите мне в вину какой-то непонятный,
неизвестно откуда взявшийся небесно-пустотный
идеализм. Коль скоро речь идет о пристрастии, боюсь, я еще
более заражен этим влиянием, чем вы полагаете. Меня
посещают радостные грезы, которые я не могу ни занести
на бумагу, ни тем более найти им какое-либо применение
на практике, и я вовсе не осуждаю себя за эти
мечтания — правда, они еще не завладели моим домом и
амбаром.,. Я лишь возношу хвалу Предвечному Будде...»
Интересно упоминание о « небесно-пустотном
идеализме». Очевидно, писатель имеет в виду буддийскую теорию
шуньяты (Пустоты, пустотное мира). Хотя весьма
сомнительно, что Эмерсон действительно мог глубоко постичь
дух теории, на которой строится вся буддистская система
мышления и в которой берет начало дзэнский принцип
мистического постижения природы; поистине удивления
достойно, как разум американцев, воплощенный в
представителях трансцендентализма, стремился проникнуть в
темную бездну восточного воображения. Теперь я
начинаю понимать, почему в студенческие годы произведения
Эмерсона оказывали на меня столь неотразимое
воздействие· Казалось, я не занимаюсь изучением концепции
американского философа, но лишь пытаюсь извлечь из
глубин моего собственного сознания искони дремавшие в
нем элементы восточного миропонимания. Вот отчего так
близок был мне Эмерсон — я как бы знакомился с самим
собой. То же самое можно сказать о Торо. Кто откажется
признать его поэтическое родство с Сайге или Басе и его,
быть может, бессознательное следование восточным
принципам восприятия природы?
Среди адептов Дзэн широко известна притча о мастере
по имени Кёсэй. Однажды в дождливый день Кёсэй
спросил оказавшегося поблизости монаха: «Что за шум там,
150
за дверью?φ Монах ответил: «Это стучат дождевые
капли, Учитель». Ответ был честный, и мастер прекрасно
это понимал, но сказал так:
«Дух человеческий пребывает в вечном смятении и
заблуждении. Все ищут причины во внешнем, не зная, где
обрести себя»· Суждение непростое. Если то, что шумит за
дверью, нельзя назвать дождем, то что же это? Что значит
«искать причины во внешнем» и не разбираться в
собственной душе? Сэттё дает свой комментарий:
В зале нет никого —
только слышится шум дождя.
Даже мастер, и тот
без ответа оставил вопрос.
Отношение американских трансценденталистов к
природе, без сомнения, содержит в себе мистическое начало,
хотя дзэнские мастера в своих озарениях заходят гораздо
дальше, так что понять их порой становится
невозможно. Но оставим на время разговор о дожде и попытаемся
вникнуть в суть учения Дзэн.
Глава девятая
ЧЕЛОВЕК КАК ЧАСТЬ ПРИРОДЫ
* * *
Чтобы понять традиции японской культуры во всех ее
проявлениях, включая сюда и пресловутую любовь японцев
к природе, необходимо проникнуть в загадочные глубины
Дзэн-буддизма· Без какого-то, пусть даже весьма
элементарного, представления о сущности Дзэн невозможно
судить об особенностях японского национального характера.
Из этого, конечно, не следует, что один лишь Дзэн явился
определяющим фактором в формировании специфических
свойств японской нации и культуры в целом. Просто, узнав
кое-что о Дзэн, можно с большей компетентностью судить о
различных гранях духовной жизни народа.
Значение Дзэн сознательно или бессознательно
признают все — и ученые, и толпа» Первые применяют Дзэн в
аналитической и критической деятельности, вторые живут
соответствующей жизнью, получают наслаждение от
сказок и преданий, истоки которых восходят к этому учению.
Зарубежные авторы, пишущие о Японии, единодушно
признают факт активного влияния Дзэн-буддизма на
становление японской культуры, японского национального
характера. Так, покойный сэр Чарльз Элиот, не
дождавшийся выхода в свет своей замечательной книги
«Японский буддизм», пишет: «Дзэн играл важнейшую роль в
художественной, интеллектуальной и даже политической
жизни стран Дальнего Востока. В известном смысле из
него выкристаллизовался японский характер, но в то же
время он был и способом проявления этого характера.
Никакая другая разновидность буддизма не была столь
японской по духу». Не случайно Элиот отмечает, что
Дзэн служит способом проявления национального
характера. Ведь в действительности Дзэн-буддизм зародился в
152
Китае около полутрра тысяч лет назад и только в эпоху
Поздняя Сун, то есть в начале XIII в., попал на
Японские острова. Соответственно, история существования Дзэн
в Японии не столь обширна по срокам, как история Чань
в Китае» однако само учение как в этическом, так и в
эстетическом аспектах идеально отвечало духовным
запросам японцев, почему и проникло в жизнь народа
гораздо глубже и шире, чем это произошло в Китае. Таким
образом, вывод, сделанный Элиотом, никак нельзя
считать преувеличением.
Другой талантливый английский японовед сэр Джордж
Б. Сэнсом в монографии «Япония« Краткая история
культуры» приводит такое наблюдение: «Влияние школы Дзэн
на Японию было настолько всепроницающим и
всеобъемлющим, что оно и составило самую суть этой
замечательной культуры. Проследить многочисленные ответвления
Дзэн в различных проявлениях мысли и чувства, в
искусстве, литературе, в быту означало бы написать со всей
возможной скрупулезностью наиболее сложную и
наиболее захватывающую главу о духовной истории страны».
Хотя позже я еще предложу свою критику работы Сэнсо-
ма в вопросе об отношении японцев к природе, с данным
его обобщением трудно не согласиться.
Какие же характерные особенности отличают Дзэн от
прочих проявлений буддизма? Их необходимо четко
выделить, прежде чем мы перейдем к рассмотрению связи
между учением Дзэн и отношением к природе, которое
сложилось в Японии на протяжении веков. Разумеется,
детальный анализ всех составляющих доктрины Дзэн-
буддизма выходит далеко за рамки данной книги — это
слишком сложная тема, требующая много сил и времени.
Ограничимся самыми общими определениями,
касающимися смысла Дзэн, которые позволят нам правильно
понять любовь обитателей Страны восходящего солнца к
природе. Для этого попытаемся рассмотреть
Дзэн-буддизм в четырех аспектах: религиозном, моральном,
эстетическом и эпистемологическом.
* * *
Прежде всего, Дзэн никак нельзя считать чисто
аскетическим учением. Конечно, при виде монаха,
поселившегося в убогой хижине и употребляющего в пищу лишь
рис, соленые овощи да бататы, мы вправе представить
образ сурового отшельника, чуждого мирским соблазнам
153
и провозгласившего главным принципом жизни
изнурение плоти. Но было бы по меньшей мере легкомысленно
полагать, что этими внешними признаками аскетизма все
и ограничивается. Дзэнское просветление открывает
глубинные источники жизни и тем самым создает основы
подлинной религиозности. Другими словами, тесно
соприкасаясь с действительностью, живя ею, Дзэн
превращается в религию самой жизни. Тот, кто знаком только с
христианством или, например, с какими-то
разновидностями индийского учения Бхакти, вероятно, будет
недоумевать: что же именно в Дзэн соответствует их
понятиям Бога и набожности? Реальность в данном случае
представляется им слишком концептуальным, философическим
понятием, лишенным высокого духовного смысла.
Однако и в буддийской доктрине употребляются зачастую
отвлеченные термины: татхата (Самобытность), шуньята
(Пустота, Пустотность), бхутакоти (Пределы сущего) и т. д.
Это порой позволяет ученым христианского толка и даже
некоторым японским исследователям трактовать Дзэн как
квиетистскую доктрину, как учение о жизни, отданной
медитации. Для самих же приверженцев Дзэн все
перечисленные термины далеки от голого концептуализма,
наполнены вполне реальным смыслом и жизненной
энергией. Ведь Действительность, Самобытность или Пустота
рассматриваются ими не в абстрактно-умозрительной
форме, а в конкретном контексте, в прямой связи с
процессами и явлениями окружающего мира.
Дзэн никогда не уходит от реальных фактов, он
живет в гуще событий, в сфере «имен и форм». Если только
существует Бог — персонифицированный или
безличный, — он должен быть с Дзэн и в Дзэн. До тех пор пока
объективный мир, взятый в религиозном, философском,
поэтическом или любом другом аспекте, предстает
грозной, разрушительной силой, враждебной человеку, в нем
нет Дзэн. Ибо Дзэн заставляет «былинку уподобиться в
действии телу Будды в шестнадцать футов высотой и,
наоборот — тело Будды в шестнадцать футов высотой
уподобиться в действии былинке*. Дзэн держит
Вселенную на ладони. Такова религия Дзэн.
Можно принять Дзэн за некую разновидность
пантеизма. Внешне так оно и есть — недаром сами буддисты
порой по невежеству разделяют это мнение. Но, если
попытаться с подобных позиций охарактеризовать
важнейшие особенности Дзэн, главное будет упущено, так
154
как в основе учение не пантеистично — во всяком случае,
не больше, чем христианство. Вдумайтесь в смысл
диалога между мастером Уммоном (Юнъ Мэнь) и его учеником.
Монах: Что есть чистое тело Дхармы?
Мастер: Живая изгородь.
Монах: Как ведет себя тот, кто так понимает вопрос?
Мастер: Он златошерстый лев.
Если Бог — живая изгородь, отделяющая
монастырские угодья от соседних крестьянских земель, здесь можно
усмотреть элемент пантеизма. Ну а «златошерстый лев»?
Ведь лев не является манифестацией чего-то иного — он
сам по себе совершенен, независим и самодостаточен, он —
царь зверей- В его образе не заложена идея проявления
иной сущности.
Возможно, для читателя, не привычного к дзэнской
образности, моих кратких разъяснений будет
недостаточно, для того чтобы понять истинное значение «златошер-
стого льва» Уммона. Пожалуй, здесь стоит привести еще
один дзэнский диалог-мондо из «Трактата о передаче
света в светильнике».
Монах: Я знаю, что, когда лев бросается на
противника, будь то заяц или слон, он обрушивает на него всю
свою силу. Прошу вас, Учитель, скажите, что это за сила.
Мастер: Дух искренности (буквально: «сила
бесхитростности»).
Истинность и искренность, или, другими словами,
бесхитростность, означают полную самоотдачу. В
дзэнской практике используется термин дзэнтай саю, то есть
«весь организм в действии»; ничто не остается в резерве,
ничто не скрыто, не замаскировано, не потрачено
впустую на отвлечения. Когда человек живет такой жизнью,
его можно назвать « злато шерстым львом» — он символ
мужества, благородства, искренности, он божественно
человечен; он не манифестация реальности, но сама
реальность, ибо за ним нет ничего иного, он «вся правда»,
«сама суть».
Следует хорошенько осознать этот дзэнский принцип
мировосприятия. Впоследствии мы убедимся, что в
любви японцев к природе нет ничего от символизма.
Если все же необходимо каким-то образом провести
классификацию, то Дзэн, пожалуй, можно назвать
политеизмом. Однако в этом случае «множество» (полис)
следует трактовать как неопределенно большую величину,
как «песчинки в Ганге» (ганганадивалука). Божеств не
155
тысячи — их сотни тысяч, миллиарды. В системе Дзэн
каждый индивидуум является абсолютно целостным
единством, и в таком качестве он соотносится со всеми
прочими индивидуумами. Подобное сплетение неопределенных
взаимосвязей возможно в царстве Пустоты, так как все
участники процесса в равной степени ощущают себя
индивидуальными реальностями. Может быть, читателям,
не искушенным в буддийском способе мышления, трудно
уловить мою идею, но у нас нет возможности
останавливаться на деталях и объяснять все с азов. Короче говоря,
у Дзэн-буддизма есть своя методика обращения с
реальностью, которая и проясняет сокровенный смысл любви
японцев к природе, и было бы ошибкой толковать это
чувство в обычном значении.
* * *
Дзэн аскетичен в тех случаях, когда ему отводится
роль морально-этической доктрины, отстаивающей
простоту во всех проявлениях жизни. Есть в ней и элементы
стоицизма, привнесенные самурайством. Простота и
суровость жизни камакурской самурайской знати в XIII в., в
эпоху правления регентов Ходзё, без сомнения, обязаны
своим происхождением влиянию Дзэн. Отвага и
неукротимый дух Ходзё Токимунэ (1251-1284), без которого
история Японии могла бы принять совсем иной оборот,
были подкреплены дзэнской практикой. По
приглашению Ходзё чаньские (дзэнские) мастера из Срединной
империи нашли приют на Японских островах. Ходзё Токиё-
ри (1227-1263), отец Токимунэ, также был
приверженцем Дзэн. Не случайно он направил сына на обучение в
дзэнские монастыри, где тот прошел основательный курс
моральной и психологической подготовки, что позволило
ему впоследствии стать одной из крупнейших фигур в
истории Японии.
В Дзэн мы видим китайский прагматизм, прочно
спаянный с индийской метафизикой, полной
возвышенных раздумий и суждений. Весьма маловероятно, чтобы
Дзэн мог найти в Японии столь плодородную почву и
достичь такого уровня конгениальности, если бы не это
слияние двух совершеннейших видов восточной
культуры. Проникновение Дзэн в Японию пришлось на самое
удачное время в истории страны, когда старые школы
буддизма в Наре и Киото уже явственно обнаружили
свою неспособность направлять развитие новой эры
156
духовности. Большой удачей для секты, определившей
ее дальнейшую судьбу, было и то, что на начальном
этапе существования Дзэн в Японии его активнейшими
сторонниками и покровителями стали такие способные
ученики, как Токиёри и Токимунэ. Думаю, что в
дальнейшем японцы, ставшие ныне бурно развивающейся
нацией Дальнего Востока, сумеют оценить все значение
эпохи Камакура, выдающимся представителем которой
был Ходзё Токимунэ, а также понять значение Дзэн для
того периода как важнейшего конструирующего
элемента национального характера. Пока еще большинство
моих соотечественников далеки от правильного
понимания духовной значимости того времени для истории
страны и народа.
Что можно считать наиболее типичной особенностью
дзэнского аскетизма применительно к такому качеству,
как любовь к природе? Вероятно, следует назвать
потребность воздать природе всю ту дань уважения, которой
она заслуживает.
Природа рассматривается не как объект «завоевания»,
который нужно любой ценой покорить, поставить на
службу человеку, а как друг, как «ближний», несущий в себе,
подобно любому из нас, частицу божества, «сущность
Будды». Дзэн призывает нас видеть в природе
могущественного доброжелателя и покровителя, живущего по
тем же внутренним законам, что и человек, всегда
готового пойти навстречу нашим устремлениям, если они
благородны и оправданны. Природа ни в коем случае не
может быть врагом, угрожающим человеку, некоей
буйной и свирепой силой, готовой сокрушить нас, если мы
прежде не сокрушим ее, не укротим и не заставим нам
служить.
Дзэнский аскетизм не сводится к обузданию или
искоренению страстей, желаний, инстинктов. Важнейшее
его требование: уважать природу, избегать всякого
насилия над ней — будь то наша собственная природа или же
окружающий нас мир. Самоистязание, умерщвление
плоти столь же неправомерны по отношению к себе самому,
как и идея корыстного и безоглядного использования
природных богатств· Таким образом, концепция
дзэнского аскетизма ничуть не сродни современным
прагматическим, грубо материалистическим тенденциям в науке,
промышленности, коммерции, опирающимся на новомодные
идейные течения.
157
Дзэн ставит перед человеком задачу относиться к
природе с уважением, любить ее и жить своей естественной
жизнью, признавая единство с природой — пусть не в
математическом выражении, но в том смысле, что
природа живет в нас, а мы — в природе. Вот почему дзэнский
аскетизм и проповедует простоту, суровость, строгость,
мужественность, целеустремленность, отказываясь от
использования природы в корыстных интересах.
Некоторые опасаются, что аскетизм приведет к
снижению их жизненного уровня. На это можно возразить
лишь то, что все сокровища мира не стоят потерянной
души. Разве во имя поддержания или улучшения своего
драгоценного уровня жизни люди во всем мире не
вовлечены в бесконечные военные приготовления? Если такое
положение сохранится, нет никаких сомнений, что в
конечном счете мы уничтожим друг друга, причем не в
локальном, а в глобальном, международном масштабе.
Не лучше ли вместо чисто материального уровня жизни
заботиться об улучшении качества нашей жизни? Пусть
это трюизм, но никогда еще в истории не было такой
нужды в громогласном повторении трюизмов, как в наше
время, проникнутое алчностью, завистью и
агрессивностью. Мы, приверженцы Дзэн, должны сейчас особенно
решительно отстаивать идею аскетизма.
* * *
Эстетический аспект Дзэн-буддизма тесно соотносится
с концепцией дзэнского аскетизма, когда речь идет о
снятии личностного начала, слиянии субъекта и объекта
в Едином, в Абсолюте, в Пустоте (шуньята)· Само это
утверждение довольно странно, однако оно представляет
собой фундамент, основу доктрины Дзэн, и потому
различные его модификации встречаются повсеместно в дзэн-
ской литературе. Многие специалисты с переменным
успехом пытались дать ему философское обоснование.
Такая задача, безусловно, требует упорной и напряженной
работы мысли, но и сама попытка осмысления подобного
феномена чревата серьезными ошибками в толковании
смысла дзэнской практики. По этой причине, как уже
отмечалось, Дзэн избегает абстрактных суждений и
концептуального резонерства. Дзэнские литературные
памятники в подавляющем большинстве представляют собой
бесконечную цепочку цитат и извлечений из так
называемых * анекдотов*, «случаев» (яп. иннэн) либо «диалогов»
158
(яп. мондо). Для не посвященных в тайны дзэнского
мышления все эти собрания притч остаются непролазной
чащобой, сплошными зарослями колючего кустарника.
Тем не менее дзэнские мастера не идут ни на какие
уступки: они настаивают на том, что у них особый способ
самовыражения, считают, что разбираются в этом лучше
других, — и имеют право так считать, поскольку их
практика, сама природа их опыта играют определяющую
роль в типичном для них методе общения, в выработке
поведенческих норм. Чтобы мои слова не выглядели
умышленным сгущением красок и нагнетанием атмосферы
загадочности, я позволю себе привести один мондо,
иллюстрирующий эстетические принципы Дзэн.
Однажды Рикко (Лу Гэн), высокопоставленный
правительственный чиновник эпохи Тан, в беседе с дзэнским
мастером Нансэном (Нань Цюань, 748-834)
процитировал стихи Содзё (Сэн Чжао, 384-414), ученого монаха-
философа:
Небо, Земля
со мною одного корня·
Тьма вещей
со мною одной природы, —
и заключил: «Не правда ли, великолепно сказано?»
Нансэн указал гостю на цветущий куст в саду и
промолвил: «Люди видят цветы будто бы во сне».
Этот диалог наглядно передает эстетическое
отношение Дзэн к объектам живой природы. Ведь большинство
людей просто не знает, как любоваться цветами: они не
могут приблизиться к цветам, уловить их дух и потому
видят цветы «будто бы во сне». Обладатель отчужден от
объекта обладания, между ними непреодолимая пропасть,
и для обладателя невозможно вступить во внутреннее
соприкосновение с предметом. Реальные цветы, какими
мы их находим в действительности, остаются недоступны
для тех, кто зрит их красоту. Если небо, земля и вся
тьма вещей, что между ними, происходят от единого
корня, от того же, что вы и я, то нужно суметь выявить
и крепко ухватить этот корень, испытать его на деле.
Именно такой живой опыт, непосредственное восприятие
и проявились в этот миг, когда цветок своей естественной
прелестью воззвал к эстетическому чувству Нансэна. То,
что мы называем любовью японцев к природе,
соотносится с Дзэн в том случае, когда мы приходим к непредвзятой.
159
спонтанной оценке красоты, обусловленной
естественностью всей нашей жизни«
При всем том нужно помнить, что самого по себе
осознания великого Единства недостаточно для верного
понимания природы, хотя чувство Единого, бесспорно,
и создает базу для сентиментализма японцев в их
бесконечном « природолюбии», помогает им глубже
проникнуть в святая святых эстетического самосознания.
Иначе говоря, сентиментализм предстает здесь как бы
в очищенном виде« Но любовь возможна лишь в мире
множества объектов, там, где есть разнообразие, и
замечание Нансэна выглядит плоским в мире сплошных
тождеств. Действительно, люди часто живут, словно во
сне, не в силах узреть истинную основу бытия. Для
эстетического восприятия природы необходимо наличие
баланса единства и множественности, слияние
личности человека с «тьмой вещей », согласно философии Ава-
тамсака.
У Теннисона есть такие строки:
О маленький цветок! Когда б я только мог
Постичь тебя — твой корень, стебель, венчик, —
Я знал бы, что есть человек и что есть Бог.
Красоту цветущего вьюнка на покрытой трещинами
каменной стене можно по-настоящему оценить лишь в
соотнесении с первопричиной бытия. Само собой
разумеется, что речь идет не о философском, концептуальном
соотнесении, а о том способе, который предлагает нам
Дзэн. Здесь нужен не пантеистический и не квиетистский
подход, а жизненная, «живая» оценка природы, которую
с таким блеском демонстрируют Нансэн и его
последователи. Чтобы вести себя таким образом и по заслугам
воздать Нансэну, нужно сначала поприветствовать Рикко
и проникнуться к нему дружескими чувствами — только
так можно осознать всю значимость реплики Нансэна.
Впервые красота увиденного им цветка отразилась в
зеркале человеческой души.
Эстетическое восприятие природы всегда предполагает
наличие элемента религиозности. Под «религиозностью»
я имею в виду некую «надмирность», «потусторонность»,
умение подняться над миром относительных величин, где
мы бесконечно сталкиваемся со всевозможными
препонами и ограничениями. Физические и психологические
препоны и ограничения, подстерегающие нас на каждом шагу,
160
не дают нашему эстетическому чувству свободно
устремиться к объекту созерцания. Красоту можно
по-настоящему ощутить лишь тогда, когда располагаешь свободой
движения и свободой выражения. Красота не в форме, но
в том значении, скрытом смысле, который она содержит,
а почувствовать скрытый смысл предмета можно лишь
тогда, когда «созерцатель» всем своим существом
погружается в созерцаемое, живет и движется вместе с ним*
Такое возможно лишь для человека, постигшего
«высший мир*, где не действуют взаимоисключающие
оппозиции, которыми заполнена наша повседневность, или,
скорее, когда обыденные взаимоисключающие оппозиции
органично входят, как они есть, в бытие высшего порядка.
И здесь эстетика сливается с религией в одно целое.
Джордж Сэнсом в своей книге «Япония. Краткая
история культуры» пишет о дзэнском понимании любви к
природе:
«Дзэнские художники и поэты, — а зачастую трудно
сказать, где кончается их поэзия и начинается
живопись, — не ощущают никакого антагонизма между
человеком и природой, даже наоборот — сознают не то что
свое родство с природой, а полное тождество. Их
интересует не вечное движение на поверхности жизни, а, по
определению профессора Анэсаки, вечное спокойствие,
увиденное под личиной перемен»»
Однако это вовсе не Дзэн. И профессор Анэсаки, и
Сэнсом — оба неточно улавливают смысл дзэнского
отношения к природе. Дзэнекий художник, созерцающий
природу, не испытывает ощущения «тождественности» с ней
и не ищет «вечного спокойствия». До тех пор, пока он
еще способен к осмыслению происходящего, он не вошел
во врата Дзэн, не постиг мудрость учения. Он погружен в
грезы. «Вечное спокойствие», о котором он грезит, не
есть Дзэн. Если поэт или художник останавливается на
том, что видит «под личиной перемен», значит, он все
еще идет рука об руку с Рикко и Содзё, но очень далек от
того, чтобы стать другом Нансэна. Цветок доставляет
подлинное наслаждение лишь тогда, когда художник
живет с ним и в нем, когда художник перестает ощущать
даже свою «тождественность» с природой, не говоря уж о
«вечном спокойствии»,
В системе Дзэн ничто не может рассматриваться как
«вечное движение на поверхности жизни», ибо жизнь есть
единое и неделимое целое, не имеющее ни поверхности, ни
6 Зак. № 3ÜI
161
глубинных недр, а значит, не может быть и никакого
о вечного движения» в отрыве от самой жизни* Как
разъяснил некогда Уммон на примере своего «златошерстого
льва», жизнь движется в целостном единстве —
безостановочно, стремительно или неторопливо, — можете
называть это как угодно, от вашего определения сам факт
все равно не изменится- Дзэн берет жизнь во всей ее
полноте и движется либо приостанавливается вместе с
ней. Там, где есть хоть какой-то признак жизни,
присутствует и Дзэн. Когда же «вечное спокойствие»
противопоставляется «вечному движению на поверхности
жизни», от него веет покоем смерти и от «поверхности» тоже
мало что остается. Спокойствие в Дзэн достигается
посреди «кипящего масла», вздымающихся волн, языков
пламени, объемлющих бога Фудо Мёо.
Кандзан (Хань Шань), прославленный
поэт-эксцентрик эпохи Тан — а Дзэн часто порождает
эксцентрические натуры, — пишет в одном из своих стихотворений:
Стал мой дух подобен осенней луне.
Как чиста и прозрачна глубь пруда!
Никаких сравнений не подобрать,
Никакими словами не описать...
На первый взгляд может показаться, что все
стихотворение дышит покоем и безмятежностью. Мягкий свет
осенней луны заливает ноля, реки и горы, заставляя нас
вспомнить о единстве всего сущего. Но тут Кандзан не
решается провести какое бы то ни было сравнение между
своими чувствами и предметами реального мира, чтобы
не принять ненароком собственный указательный палец
за луну, как часто делают наши уважаемые критики. По
правде говоря, здесь нет ни малейшего намека на
«покой», «безмятежность» или «тождественность природы и
человека». Если стихотворение и несет в себе что-либо,
то это ощущение прозрачности, предельной открытости
для внешнего мира, пронизывающее поэта. Он воспаряет
над своим плотским бытием, и над окружающим его
объективным миром, и над субъективным духом-разумом. Ни
внутри него, ни вовне нет никаких лишних «медиумов».
Он абсолютно чист и с позиций абсолютной чистоты и
прозрачности взирает на тьму вещей. Он видит цветы,
горы и еще многое, что предстает перед ним невыразимо
прекрасной картиной, дарящей блаженное
умиротворение. Он воспринимает равно «вечное движение* и «вечное
162
спокойствие». Мысль о том, что дзэнский поэт или
художник может пренебречь треволнениями изменчивого
мира во имя «вечного спокойствия» абстрактных идей,
совершенно чужда духу Дзэн и дзэнскому восприятию
природы. Давайте сначала достигнем состояния полной
чистоты и прозрачности — тогда мы сможем любить
природу во всем ее бесконечном разнообразии без примеси
дуализма. До тех пор пока мы вынашиваем
концептуальные иллюзии, проистекающие из разделения субъекта и
объекта, прозрачность картины затуманивается, а наша
любовь к природе страдает от дуализма и искусственных
напластований.
Приведу еще одно стихотворение, на сей раз
японского автора, прославившегося в качестве основателя
обители Эйгэн-дзи, крупнейшего дзэнского монастыря в
провинции Оми, — Дзякусицу (1290-1367):
Свежий ветер играет струями водопада —
словно звонкие струны тихо перебирает.
Над далекой вершиной поднимается месяц —
жалюзи из бамбука затеняют окошко.
Чем заметнее старость, чем заметнее дряхлость,
тем отрадней мне праздность в этом горном приюте.
А умру — похоронят здесь, в горах, под утесом.
Я во прахе останусь так же чист и прозрачен,,.
Читатели могут поддаться соблазну вынести из этого
стихотворения лишь чувство одиночества и покоя, но
превратность подобного толкования очевидна для тех,
кто знает, что такое Дзэн. Если дух дзэнского художника
не насыщен тем ощущением, которое графически
выражено в стихотворении Дзякусицу, он не может
рассчитывать на верное понимание природы, не может
по-настоящему любить природу. «Прозрачность» — ключевое
понятие для дзэнского восприятия природы; с него и
начинается любовь к природе. Именно этот дзэнский
принцип следует учитывать в первую очередь, говоря о том,
что Дзэн дал философское и религиозное обоснование
любви японцев к природе»
Когда Сэнсом высказывает предположение, что «они
(аристократы, монахи и художники) руководствовались
убеждением, будто вся природа проникнута единым
духом» или что «цель адепта Дзэн заключалась главным
образом в очищении духа и разума от эгоистических
помыслов во имя достижения покоя, интуитивного осознания
163
своей тождественности с мирозданием», он упускает из
виду ту часть Дзэн, которая внесла столь заметный вклад
в оформление эстетического подхода японцев к природе.
Исследователь не может избавиться от навязчивых идей
«вечного спокойствия» и духовного отождествления
субъекта с объектом.
Концепция «духовного отождествления», при
посредстве которого укрощаются эгоистические помыслы и
достигается «вечное спокойствие», оказалась весьма
соблазнительной для большинства ученых, изучающих
культуру и философию Дальнего Востока. В этой концепции
стремятся найти ключ к постижению тайн восточной
психологии· Но таким образом западные специалисты лишь
пытаются разрешить проблему на свой манер — ничего
иного им и не остается. Что же касается нас, японцев, то
мы никак не можем принять подобную трактовку
западных коллег без комментариев. Попросту говоря, Дзэн не
признает «единый дух», пронизывающий природу, и не
добивается «осознания своей тождественности с
мирозданием» путем «очищения духа и разума от эгоистических
помыслов». По Сэнсому, постижение «единого духа»,
очевидно, и есть «осознание тождественности», то есть фаза,
которую минуют в результате очищения от эгоистических
помыслов. Поскольку это положение нелегко
убедительно опровергнуть, оставаясь в рамках формального спора
по принципу «да-нет», я постараюсь прояснить свою
точку зрения на конкретных примерах.
Теперь следует сказать несколько слов о дзэнской
эпистемологии. Сам термин может показаться читателю
слишком наукообразным, но я намерен дать лишь некоторые
пояснения, касающиеся роли интуиции в учении Дзэн.
Вообще классики Дзэн, пытаясь дать характеристику
своей доктрины, более всего опасались «медиумов» и
отвергали всякое концептуальное посредничество. Посредник
любого рода, встающий между Дзэн и фактами
непосредственного опыта, неизбежно замутняет природу последнего.
Вместо того чтобы прояснить и упростить ситуацию,
присутствие третьего лица всегда создает дополнительные
сложности и неясности. Итак, Дзэн не признает посредников,
призывая своих последователей вступать в прямой,
непосредственный контакт с объектом опыта, о чем бы ни шла
речь. Часто говорят об «отождествлении» с объектом в
практике Дзэн, но это неточный термин. Ведь
отождествление предполагает изначальное противопоставление субъекта
164
и объекта, но дело в том, что этой оппозиции двух начал
никогда и не существовало, а все разграничения были
придуманы и введены позднее (хотя фактор времени здесь
и не стоит упоминать)· Цель Дзэн — восстановить
изначальную неделимость нашего опыта, то есть вернуть ему
первичное состояние чистоты и прозрачности. Вот почему
Дзэн не доверяет никакому концептуальному
размежеванию понятий. Все сторонники теории «отождествления» и
«вечного спокойствия» рано или поздно должны понять,
что пребывают в плену искусственных концепций. Нужно
вернуться к фактам и жить фактами.
Тёса (Чан Ша), дзэнский мастер эпохи Тан, ученик
Нансэна, как-то раз вернулся с прогулки в горах. У ворот
монастыря настоятель приветствовал его вопросом:
— Где вы были все это время, досточтимый?
— Я гулял в горах, — ответил мастер.
— Где же именно в горах? — попросил уточнить
собеседник·
— Сначала я прошел по лугам, где благоухали травы,
а затем направился домой, наблюдая в пути, как
опадают цветы.
Разве что-нибудь в этом ответе предполагает «вечное
спокойствие, скрытое под личиной перемен»? Разве
чувствуется в нем «отождествление» Тёса с травами и
цветами, среди которых он бродил целый день?
Однажды вечером Тёса любовался луной вместе с
другом Кёдзаном (Ян Шанем), и тот сказал, указывая на
луну: «Все без исключения обладают ею, только не могут
ею воспользоваться». (Не содержится ли здесь намек на
«единый дух» или на «спокойствие»?)
Тёса в ответ сказал: «Ты прав. Могу ли я попросить
тебя использовать ее?» (Как можно «использовать» луну,
когда «тождественность» и «спокойствие» туманят твой
внутренний взор?)
Кёдзан возразил: «Я хотел бы сначала посмотреть,
как ты сумеешь ее использовать». (Можно ли сказать,
что он тем самым причастился безмятежному
спокойствию нирваны?)
Вместо ответа Тёса пнул собеседника и сбил его с ног.
Кёдзан, смиренно поднявшись с земли, заметил: «Врат
мой, воистину ты подобен тигру». Когда тигр или злато-
шерстый лев издает рык, призрачный «единый дух», столь
ценимый схоластами, исчезает вместе с иллюзорным
«спокойствием».
165
Странная, но вполне жизненная сцена, разыгранная
двумя дзэнскими поэтами, которые, теоретически,
должны были бы вкушать безмятежное спокойствие лунного
вечера, заставляет еще раз задуматься о значении Дзэн в
плане его влияния на восприятие природы. Что,
собственно, в приведенном эпизоде волнует и будоражит
обоих, казалось бы, склонных к задумчивой
созерцательности монахов?
Дзэнская эпистемология не будет прибегать к
посредничеству разного рода идей и концепций. Если хотите
постич Дзэн, постигайте непосредственно и решительно,
без колебаний и оглядок: пока вы медлите,
интересующий вас объект улетучится. Мгновенное и
непосредственное постижение истины составляет важнейшую
особенность учения Дзэн.
Если древние греки учили, как логически мыслить,
христианство — во что верить, то Дзэн учит выходить за
пределы логики и не мешкать даже тогда, когда
сталкиваешься с «тем, что недоступно зрению». Дзэнская
позиция сводится к выявлению абсолютной истины, которую
никакой дуализм ни в какой форме постичь не в силах.
Логика начинается с разделения на субъект и объект, вера
проводит различие между видимым и невидимым.
Западное мышление не может избавиться от извечной дилеммы:
это или то, разум или вера, человек или Бог и т, п. В Дзэн
всякое искусственное деление отбрасывается как
мешающее нашему внутреннему взору в постижении природы
жизни, сути вещей. Дзэн вводит нас в царство Пустоты,
где нет места концептуальным построениям, где растут
деревья без корней и по всей земле проносится
освежающий ветер.
Приведенные пояснения способствуют пониманию дзэн-
ских принципов отношения к природе. Дзэн видит и ценит
в природе не «тождественность» с человеком и не «вечное
спокойствие ». Ведь сама природа всегда в движении, ей
чужд застой; чтобы любить природу, нужно улавливать ее
движение и стараться запечатлеть его в эстетическом
переживании. Искать спокойствия — значит убивать природу,
пытаться остановить ее пульсацию и обнять ее хладный
труп. Проповедующие « спокойствие» исповедуют культ
абстракции и смерти» В нем нет ничего от любви.
«Отождествление» также является статическим состоянием и
определенно ассоциируется со смертью. Умирая, мы
возвращаемся в прах, из которого вышли, и приходим тем
166
самым к «отождествлению* с землей. Стоит ли стремиться
к такому отождествлению? Нужно разрушить все
искусственные барьеры между природой и нами, ибо, только
когда они исчезнут, мы сможем заглянуть в самое сердце
природы, жить с ней одной жизнью, что и составляет
подлинный смысл любви. А для этого нужно решительно
сломать и сжечь все концептуальные подмостки.
Когда говорится о «прозрачности» в Дзэн, имеется в
виду как раз такое очищение, тщательная полировка
зеркала нашего духа. Однако в действительности зеркало
никогда не было затуманено, и нет необходимости его
протирать. Всю операцию по протиранию зеркала мы
вынуждены предпринять, только чтобы покончить с такими
неверными понятиями, как «отождествление»,
«спокойствие», «единый дух», «эгоистические помыслы» и т. п.
В таком толковании некоторые могут счесть Дзэн
разновидностью стихийного мистицизма и философского
интуитивизма, религией, проповедующей стоическую
простоту и скромность. Чем бы Дзэн ни был на самом деле,
он, несомненно, дает широкое и полное представление о
мире, ибо царство Дзэн простирается до крайних
пределов Вселенной — и за них. Дзэн проникает внутренним
взором в самые недра реальности, в нем звучат отголоски
самых откровенных глубин бытия. Дзэн открывает
наилучшие способы восприятия истинной красоты,
поскольку он живет в самом теле красоты, известном как
«золотое тело Будды» с тридцатью двумя главными и восемью
второстепенными признаками сверхчеловеческих свойств*
Таковы основы любви японцев к природе, которая
всякий раз с новой силой обнаруживает себя в
соприкосновении с реальностью.
Глава десятая
жизнь «в простоте»
# * *
Любовь к природе, искони присущую японскому
народу, без сомнения, можно считать неким врожденным
эстетическим чутьем, чувством прекрасного. Но
восприятие красоты в основе своей всегда религиозно — не
будучи религиозным, человек не сможет постичь
подлинную красоту и насладиться ею. Никто не станет
отрицать, что Дзэн дал мощный импульс развитию
извечной способности японцев к восприятию природы, не
только изощрив эту способность до предела, но и придав
ей метафизическую, религиозную основу. Если когда-то,
в давние времена, японцы лишь наивно тянулись к
красоте окружающей природы и наделяли ее духовной
жизнью, подобно первобытным племенам, которые
рассматривают даже неодушевленные предметы со своей,
анимистической точки зрения, то от буддизма, в первую
очередь Дзэн-буддизма, эстетическое и религиозное
мироощущение нации получило новый энергетический
заряд· Причем осуществлялась эта ♦энергетическая
подпитка» в форме разработанного морально-эстетического
учения и одновременно посредством духовной интуиции
высочайшей пробы.
Представим же себе, что белоснежный пик Фудзи
вздымается ввысь из Пустоты; что сосны, обрамляющие
монастырский дворик, вечно зелены, так как растут они
«без корней» и «без тени»; что дождь, барабанящий по
кровле моей хижины, доносит эхо былых дней, когда о
том же шуме дождевых капель слагали стихи Сэттё и
Кёсэй, Сайге и Догэн· Нынче вечером та же луна, что
освещала убогую обитель Кандзана, лачугу двух
стариков из драмы «Дождь и луна», заглядывает и к вам, в
168
комфортабельный номер современного отеля. Мне могут
возразить, что мир всегда остается тем же — с Дзэн или
без Дзэн, Да, но я торжественно заявляю, что каждый
раз, когда Дзэн выглядывает из своего ветхого приюта
под соломенной крышей, рождается новая вселенная.
Пусть это звучит мистическим откровением, но без
должного осознания моей мысли не было бы написано ни
единой страницы истории японской поэзии, искусства,
ремесел» Не только история искусств, но и история
японской морали, духовной жизни японцев потеряла бы
глубинный смысл, будучи отделена от дзэнского
мировоззренческого комплекса. К тому же народ Японии, по
всей вероятности, оказался бы не в силах выдержать
невиданный натиск научно-технического и
экономического прогресса цивилизации.
Мне хотелось бы показать, как проявляется дух
Дзэн, на примере жизни Рёкана (1758-1831),
скромного монаха-отшельника, большую часть жизни
проведшего в отдаленной провинции Этиго. То, что Рёкан
был монахом, нисколько не опровергает моего
утверждения о сильнейшем влиянии Дзэн-буддизма на
сознание широких народных масс. Наоборот, все те, с кем
Рёкану довелось общаться, единодушно одобряли его
образ жизни, находили его достойным бесконечного
уважения. Чтобы понять, куда дует ветер, достаточно
взглянуть на одну травинку. Узнав получше, кто такой
Рёкан, мы тем самым проникаем в сердца сотен тысяч
японцев.
* * *
Рёкан принадлежал к буддийской секте Сото, одной
из двух магистральных ветвей Дзэн, прочно
укоренившихся в Японии. Свою хижину он построил на севере
Хонсю, главного острова архипелага, у побережья
Японского моря, С точки зрения обывателя, Рёкан был
«большим глупцом», чудаком. Ему всегда не хватало
того самого здравого смысла, которым в избытке
обладают люди заурядные. Тем не менее жители соседней
деревушки любили и уважали своего «чудака», С его
появлением немедленно прекращались все ссоры и
дрязги, которые так часто омрачают повседневную жизнь.
Рёкан был замечательным поэтом, писавшим
стихи на японском и китайском, а также прекрасным
каллиграфом. Не только любители из провинции, но и
169
горожане охотились за его автографами, изобретая
всевозможные благовидные предлоги, чтобы получить
желаемое.
Действительно, он был чудак, эксцентрик,
«великий глупец*. Не случайно это прозвище стало и его
литературным псевдонимом. Сердце Рекана всегда было
открыто, душа распахнута навстречу природе и людям.
Он был сама Любовь, само Милосердие — истинное
воплощение бодхисаттвы Каннон, Однажды в
уединенный приют отшельника на склоне горы Куками
забрался вор. Должно быть, вор был чужаком в тех местах,
иначе он, конечно, едва ли решился бы покуситься на
бедную лачугу монаха. Видя, что в доме взять нечего,
грабитель очень огорчился. Это зрелище так тронуло
сердце хозяина, что он снял с себя одежду и отдал
незваному гостю. Схватив предложенное рубище, вор
поспешно удалился. Только луна сквозь открытые
жалюзи ярким сиянием наполняла комнатушку, и тогда в
Рёкане заговорил поэт:
Вору не удалось
унести ночное светило —
И снова луна
сквозь окошко струит сиянье,
так чиста, ясна и прозрачна!..
Вот еще одно пятистишие «Великого Глупца*,
сложенное в сходных обстоятельствах:
Я, раздумьем объят,
внемлю шуму начавшейся бури —
Где сквозь холод и мрак
этой зимней ночью влачится
Одинокий заблудший путник?*.
Эта танка родилась после того, как хижину
человеколюбивого отшельника посетил другой
незадачливый грабитель. Надо думать, что Рёкан и сам страдал
ночью от холода в своем ветхом жилище, но тем не
менее сопереживал бедняге вору, бредущему сквозь
мглу.
Рёкан был щедр и к нищим. Он сам ходил просить
подаяния, но, возвращаясь домой, мог все раздать менее
удачливым собратьям, которых встречал на пути. Об этом
говорит и его танка:
170
Если б ряса моя,
неказистая черная ряса,
так была широка,
Я бы смог всех сирых и нищих
обогреть, укрыв рукавами...
Рёкан всегда довольствовался малым, желания его
были крайне ограниченны. Однажды поэта в его
хижине посетил знатный даймё и предложил переехать к
нему в соседний город, обещая благочестивому
отшельнику построить для него в городе новый храм. Рёкан
промолчал, а когда гость стал вежливо, но настойчиво
добиваться ответа, взял кисть и написал на полоске
бумаги:
Для огня в очаге
дает мне топливо ветер,
Что ни день принося
ворох палых, увядших листьев
Прямо к двери хижины горной«..
Иными словами, он не захотел променять свою
свободу на службу у феодального властителя·
Видя в бедности свое благословение, Рёкан стал
подлинным трубадуром нищеты· Его произведения,
особенно канси (стихи на китайском), вновь и вновь
воспевают радости и печали убогой горной хижины. Судя по
всему, он был страстным поклонником Хань Шаня, с
чьими стихами поэзия Рёкана зачастую созвучна по духу.
Вот одно из таких стихотворений, посвященных теме
бедности:
Словно лист банана под ветром,
на полоски жизнь моя рвется.
Собираю для пропитанья
близ тропинки коренья, травы,
Приношу бамбук и солому,
чтоб чинить дырявую кровлю·
Под луной всю ночь до рассвета
в созерцанье сижу, в раздумье —
Снова, залюбовавшись цветами,
позабыл домой возвратиться.
Вот к такой бестолковой жизни
я пришел, сам того не заметив,
С той поры, как познал впервые
дух Ученья в буддийской общине.
171
* * *
Какие же уроки почерпнул Рёкан в буддизме?
Некоторые из них он также запечатлел в стихах:
Прошлое миновало,
грядущее не наступило,
А того, что меж ними, —
настоящего — не существует.
Все меняется в мире,
ни в чем не найти опоры.
Столько имен, названий
рождается произвольно.
Что же в праздном безделье
растрачивать годы жизни?».
Нет резона держаться
за обветшавшие догмы,
Нет нужды поклоняться
новомодным причудам.
Сердцем правды взыскуя,
сердце стремись постигнуть.
Поиск и размышленье,
размышленье и поиск·
Лишь пройдя до предела
все дороги исканий,
Ты поймешь, что неверно,
скверно прожил на свете...
Строки стихотворения доказывают, что Рёкан долгие
годы отдал изучению буддизма, прежде чем избрать путь
«дурацкойφ жизни в предвечном потоке кармы.
Откуда берется жизнь,
куда исчезает?
Одиноко сижу в тиши,
предавшись раздумьям»
Все гадаю, куда и как,
зачем и откуда.
Вот и в бренной жизни моей
чреда изменений —
Отражение Пустоты
в зерцале кармы. Дни и годы летят, летят —
что делать с ними?
Я, покорен карме, во всем
нахожу отраду...
172
Каков же практический результат философии,
исповедующей «ничегонезнание», предоставляющей карме
самой свершать свой ход без постороннего вмешательства?
Короче говоря, чем же была жизнь Рёкана, основанная
на абсолютной пассивности и зависимости от Пустоты?
Его лачуга, крытая соломой, была поистине образцом
непритязательности. Поэт называл свою обитель Гого-
ан, то есть хижина «Мерка риса». Мерка «Гого»
составляет половину «сё» (менее одной кварты) — этим
количеством определялся минимальный рисовый паек на день
для взрослого человека.
Хижина моя
под названием «Мерка риса»
Колокол большой
напоминает с виду
И стоит в лесу
под сводами криптомерии·
Стены изнутри
испещрены стихами.
Котелок порой
покрывается слоем пыли.
Дым над очагом
зачастую не вьется вовсе.
Одинокий гость —
старик с Восточного склона
В полнолуние
изредка постучится...
Все не мог я заснуть
той погожей ночью осенней —
Встал и вышел во мглу,
прихватив неизменный посох.
Верещали сверчки
под осколками черепицы,
И шуршала листва,
облетая с дрожащих веток.
Из далеких лощин
доносилось ручьев журчанье»
Не спешила луна
подниматься над горной кручей»
Будто все так сошлось,
чтоб повергнуть меня в раздумье·
Миновали часы —
пропиталось платье росою...
173
* * A
Этот апостол бедности и одиночества — или, быть
может, правильнее было бы назвать его великим
стихийным мистиком — всем сердцем любил природу, мир
животных и рыб, насекомых и растений, В его стихах часто
встречаются упоминания о бамбуке — вокруг дома поэта
росла бамбуковая роща. Надо полагать, что Рёкан с
удовольствием употреблял молодые ростки бамбука в пищу,
но, кроме того, он ценил бамбуковые побеги и за другие
качества: за их силу и прямизну, за их свойство круглый
год сохранять свежую зелень. Корни бамбука крепко
держатся за землю, меж тем как полые коленца ствола
символизируют вселенскую Пустоту. Рёкану нравился
мужественный характер бамбука. Легенда гласит, что
однажды росток бамбука пробился сквозь земляной пол его
жилища и стал тянуться вверх» Гостеприимный хозяин с
интересом наблюдал за поведением гостя, а когда
бамбуку стало тесно в доме, он начал разбирать крышу, чтобы
выпустить на свободу пришельца· Но дело в том, что
отверстие в крыше Рёкан попытался проделать при
помощи свечи. Возможно, ему казалось, что такой способ
самый быстрый и надежный, или же просто свеча
оказалась под рукой. Так или иначе, сухая солома кровли
вспыхнула в единый миг, и вся постройка вместе со
злополучным побегом бамбука сгорела дотла« Самому
хозяину едва удалось спастись.
Что и говорить, с нашей утилитарной точки зрения,
сама попытка прожечь в крыше дыру ради какого-то ростка
бамбука была верхом глупости· Но я лично такой глупости
сочувствую и даже восхищаюсь ею. Есть что-то очень
чистое, что-то божественно-первозданное в этом чувстве
человека к растению, что-то сродни настоящей любви. Все мы,
люди, погрязшие в своих практических нуждах и мелочных
расчетах, не в состоянии по заслугам оценить спонтанный
добрый порыв. Как часто мы намеренно подавляем,
заглушаем подобные порывы! Возможно, у нас эти порывы и
проявляются не столь отчетливо, как в случае с чудаком-
поэтом, а мы еще сознательно прилагаем все усилия к тому,
чтобы их подавить в зародыше· Если так, то сначала
давайте очистим от накопившейся грязи свою жизнь, прежде,
чем критиковать Рёкана за его поступок.
Часто Рёкан в своих стихах признается также в
любви к соснам. Он, конечно, не был по натуре своей ни
174
рассказчиком, ни прозаиком — он был истинным поэтом.
Все» 4TOj>H видел, слышал и чувствовал, запечатлено в
многочисленных стихотворениях, которые могли
принимать, в зависимости от времени, места и настроения
автора, любую форму: китайских канси, японских танка
или хайку, народных песен коута или «длинных песен»
тёка, стилизованных в духе старинной антологии «Мань-
ёсю». Он великолепно знал правила стихосложения во
всех канонических жанрах и формах, но редко
пользовался ими, не желая стеснять себя никакими
ограничениями.
Другим любимым занятием Рёкана,
свидетельствовавшим о его богатой внутренней жизни, была
каллиграфия» Впрочем, ничто не сможет лучше рассказать о
чувствах поэта, чем его собственные строки, воспевающие, к
примеру, сосну на склонах Куками:
На Куками-горе,
Возвышаясь напротив Отоно,
Вековая сосна.
Так величественна, прекрасна,
Одиноко стоит,
Неприступна и горделива.
Поутру я иду —
Одинокой сосной любуюсь.
На закате иду —
Останавливаюсь под нею...
И опять, и опять любуюсь
Той чудесной старой сосною.
Должно быть, и в самом деле было что-то
необычайно притягательное в могучей одинокой сосне. Ведь
любое многовековое дерево внушает зрителю мистическое
чувство сопричастности к минувшему, к вневременной
вечности.
Другая сосна, росшая в Ивамура, вызвала у поэта
совсем иные эмоции. Молодое деревце с еще не
оформившимися ветвями стало для него объектом жалости и
сострадания. Увидев, как его сосенка мокнет под осенним
ливнем, Рёкан сложил такие стихи:
Там, в Ивамура,
Посреди лугов
Одинокая
Сосенка стоит.
175
Как мне жаль ее,
Бедную сосну,
Что стоит себе
Мокнет под дождем!
Я бы ей принес
Из соломы плащ,
Я бы ей принес
Шляпу от дождя —
Одинокая
Бедная сосна!
Япония — страна сосен и криптомерии. Что касается
криптомерии, то ими лучше всего любоваться, когда они
стоят купой или в рядок, сосны же лучше всего смотрят^
ся в одиночестве. Японская разновидность сосны — мацу —
отличается изогнутым стволом и причудливым
расположением веток- Одинокая старая сосна, которую много лет
созерцаешь из окна своей комнаты, становится добрым
другом для монаха, ученого, поэта.
Рёкан пожалел одинокую сосенку, застигнутую
ливнем. Его предшественник Сайге шестью веками раньше
тоже встретил на своем пути сосну, но его обращение к
вечнозеленому дереву продиктовано совсем иным настрое-
нием:
После смерти моей,
вспоминая ушедшего друга,
Зеленей, о сосна! —
ведь живу я в мире безвестно,
Нелюбим и неведом людям...
* * *
Если снова уйду
извечной дорогою странствий
И оставлю приют,
где с тобою, сосна, так сдружился,
Верно, будет тебе одиноко?,♦
* * *
Рёкан не только любил деревья, но и водил дружбу со
вшами, блохами, комарами, испытывая искреннее
сочувствие и сострадание ко всем живым существам. Некоторые
факты его биографии свидетельствуют о нежной заботе,
которую поэт проявлял ко вшам, видя в них бесценную
176
частицу живой природы. В начале весны проходившие
мимо крестьяне видели, как «Великий Глупец» выносил
своих вшей прогуляться и позагорать. Сидя перед
хижиной, он вынимал насекомых одно за другим из своего
исподнего и раскладывал кучками на солнышке. К вечеру,
когда начинало холодать, вши опять отправлялись к
поэту за пазуху, и он напутствовал их такими строками:
О милые вши!
Когда бы вы были сверчками
с осенних полей,
Грудь моя предстала бы, верно,
для всех вас равниной Мусаси!
Пусть это не слишком возвышенный сюжет, но есть в
бескорыстной нежной любви к низшим тварям что-то
чрезвычайно трогательное. Конечно, современные теории
гигиены и санитарии подробно инструктируют нас о том, как
следует обращаться с паразитами такого рода. Однако
известно, что еще не так давно паразиты были привычными
спутниками, например, английских леди и джентльменов
из высшего общества. Мода на пышные парики отчасти
призвана была закамуфлировать присутствие назойливых
насекомых, да, впрочем, и сами парики зачастую кишели
ими» Доктор Ганс Цинссер отмечает в своем исследовании,
что в Европе «теще в конце XVIII в. вши рассматривались
как неизбежное и нормальное явление*. Далее он
приводит параграф из «Правил этикета», которые заучивал
Джордж Вашингтон в возрасте четырнадцати лет:
♦Не давите паразитов, будь то блохи, вши или
клещи, на виду у других. Если увидите какую-то грязь или
плевок, сразу же наступите на него ногой. Если увидите
вошь на платье вашего собеседника, постарайтесь
незаметно ее снять; если же вошь оказалась у вас на платье,
поблагодарите того, кто ее снимет».
Всей душой Рёкан любил детей, что и следовало,
вероятно, ожидать от человека, который сам был большим
ребенком. Он часто играл с деревенскими ребятишками в
прятки, в ручной мячик на нитке — тэмари. Однажды
вечером во время игры подошла очередь Рёкана прятаться,
и он зарылся в копну соломы посреди поля· Становилось
темно, и ребята, отчаявшись найти своего старшего друга,
разошлись по домам. На следующее утро крестьянин
вышел в поле, чтобы продолжить уборку риса. Каково же
было его удивление, когда под копной он обнаружил
177
чудаковатого поэта! «Почтенный Рёкан, что вы здесь
делаете?» — спросил крестьянин. «Тише, — ответил Рёкан, —
не говори так громко, а то ребята меня найдут ».
Неужели он прождал ребят всю ночь? Неужели ему не
пришло в голову, что малыши могут быть такими же
хитрыми и корыстными, не заслуживающими доверия,
как и взрослые? Очевидно, предполагать такое
свойственно нашей обыденной логике, а мысли Рёкана текли по
иному, особому пути, как и в достопамятном случае с
ростком бамбука, из-за которого сгорела хижина.
Простодушный и доверчивый, он провел всю ночь в поле,
беспокоясь лишь о том, чтобы его не нашли маленькие
товарищи по игре — еще совсем юные, но уже не чуждые
слабостям и порокам взрослых людей. Может быть, эта
история слишком забавна, чтобы быть правдой, но уже
сам факт, что о чудаке Рёкане ходили такие анекдоты,
доказывает, что он действительно мог совершить и время
от времени наверняка совершал нечто подобное.
Сегодня все мы живем в тисках многочисленных
правил и ограничений. Мы превратились в рабов идей и
понятий, моды и традиций, составляющих основу того,
что обычно называют идеологией современного общества.
Мы не можем позволить себе жить и действовать по
совету Уитмена. Это самое настоящее рабство, хотя мы
иногда не понимаем или не хотим этого понять. И когда
мы видим, как Рёкан отдается свободному движению
чувств, столь чистых и естественных, безо всякой
оглядки на условности, безо всякой потачки эгоистическим
интересам, мы должны испытывать ощущение свежести,
будто на нас повеяло вольным ветром из иного мира.
Любовь поэта к детям обнаруживает ту же
абсолютную независимость в действиях, органическую
спонтанность эмоционального порыва, как и в историях с
одинокой сосной или с бамбуковым ростком. То, что он мог
играть с детьми в тэмари или отэдама, еще раз
доказывает, насколько раскрепощен был дух чудака-поэта. Рёкан
мог позволить себе то, что порой хотелось бы каждому из
нас, но что взрослые считают ниже своего достоинства и
потому никогда не делают. При игре в тэмари и отэдама
выигрыш отмечается припевкой, которую поют хором все
участники. Мерное раскачивание мячика, мелькание рук
и слитное звучание звонких голосов — как бы наивно все
это ни выглядело, — вероятно, дарило новое
вдохновение простодушному чудаку Рёкану. По той же причине он
178
любил танцевать на праздниках, участвуя в немудрящих
деревенских плясках. Однажды крестьяне узнали Рёкана
среди танцоров — он замаскировался под молоденькую
девушку. «Как чудесно танцует эта девица!» —
умышленно громко заметил кто-то из плясавших рядом. Рёкан
услышал комплимент и был ужасно доволен, а потом
рассказывал всем друзьям и знакомым, как его
похвалили в деревне.
* * *
В каждом из нас дремлет подспудное желание
вернуться к естественной жизни с простейшими способами
выражения чувств, а также и приобретения опыта. Путь к
такому существованию определен в учении, известном как
«Путь богов». Хотя я не могу точно сказать, какой
именно смысл вкладывают сторонники «Пути богов» в сам
термин «Каминагара-но мити», мне кажется совершенно
очевидным, что они имеют в виду воскрешение,
возрождение или сохранение того образа жизни, который вели боги
до появления рода человеческого. Это Путь свободы,
естественности, раскованности. Как же и когда мы сошли с
него? Здесь мы сталкиваемся с кардинальной проблемой
религии. Ее решение дает ключ к пониманию некоторых
аспектов Дзэн-буддизма, а также и свойственных японцам
особенностей восприятия природы. Когда мы говорим о
естественности поведения, то имеем в виду прежде всего
способность свободно и непредвзято выражать свои
чувства, живо и без промедления реагировать на все, что
творится вокруг, не строить расчетов, связанных с нашими
собственными действиями или действиями окружающих,
не допускать никаких мыслей о наживе, цене, ценности,
отличиях и заслугах, осложнениях и последствиях. Таким
образом, быть естественным — значит уподобиться
ребенку, только без соответствующей интеллектуальной и
эмоциональной незрелости, В определенном смысле ребенок
весь соткан из эгоистических импульсов, но в его
поведении нет ни малейшей предвзятости. Если смотреть под
таким углом, ребенок предстает существом ангельским,
божественным. Он знать не желает всевозможные
социальные ограничения, призванные удерживать взрослых в
рамках закона и бытовых норм поведения. Он живет вне
всяких искусственных регламентации.
Практические результаты подобного поведения
далеко не всегда приемлемы для тех, кто считает себя умным,
179
культурным, утонченным человеком. Но дело не в
практической пользе, а в искренности суждений,
бескорыстной непредвзятости чувств, непосредственности ответа на
любое слово или действие. Когда сердце человека
свободно от хитрости и лжи, мы можем сказать, что он достиг
естественности, уподобился ребенку. Есть в этом что-то
возвышенно-религиозное — не зря ангелов изображают в
виде детей с крылышками. Вот почему, например, дзэнс-
кие художники всегда любили писать портреты Кандзана
и Дзиттоку (Хань Шаня и Ши Дэ) или же фигуру Хотэя
(Бу Дай), окруженного группой ребятишек.
При всем том вернуться к природе не означает
вернуться к примитивному способу существования,
типичному для первобытных народов в доисторические
времена. Это значит придерживаться свободного и
раскрепощенного образа жизни. Один из факторов, серьезно
осложняющих и затрудняющих жизнь современного
человека, — это предопределенность, которую мы ощущаем
на каждом шагу: в морали, экономике,
интеллектуальных усилиях и при решении бытовых проблем. Но ведь
наше существование предполагает нечто большее. Мы не
можем удовлетвориться узким кругом перечисленных
интересов, стремимся к каким-то глубинным пластам за
пределами чистой морали и интеллекта. Пока мы
остаемся в плену телеологической концепции бытия, мы не
свободны в действиях и познании, и наша несвобода
служит источником бесконечных треволнений и бед,
которыми полнится мир.
Освобождение от всех условностей, ограничений и
концептуальных построений составляет основу религиозной
жизни· До тех пор пока мы отдаем себе отчет в причине и
цели каждого нашего поползновения, мы не свободны.
Быть свободным — значит обрести непреднамеренность в
действиях, что, конечно, не предполагает
вседозволенности. Человеческий интеллект склонен изыскивать
определенную цель в некоторых формах движения. Когда
телеология вторгается в нашу жизнь, мы уже не можем быть
религиозны, мы становимся «моральными существами».
Так же и с искусством* Когда в картине, скульптуре или
каллиграфической надписи слишком явственна цель,
преднамеренно намеченная художником, это перестает быть
произведением искусства, превращается в продукт
механической работы, в рекламу. Красота испаряется, и
отчетливо проступают контуры уродливых человеческих рук»
180
Самобытность в искусстве сводится к безыскусности,
отсутствию конкретной цели действия. Здесь искусство
смыкается с религией. Природу же можно рассматривать как
совершенное творение искусства, поскольку нет прямого
резона в существовании волн, что от века волнуют гладь
Тихого океана, в белоснежном конусе Фудзи,
вознесшемся в небеса. Конечно, придерживаясь утилитарных идей,
мы можем и в цветке увидеть лишь колыбель для
будущих семян, а в семенах — некий консервант жизни для
грядущих лет, но если смотреть под углом религиозно-
эстетического восприятия, то цветы предстанут цветами,
будь они красные или желтые, листья — зелеными
листьями, и здесь нет места никаким утилитарным,
телеологическим или биологическим соображениям.
Да, мы восхищаемся удачно сконструированной и
безотказно работающей машиной, но нам не хочется
подойти к ней поближе» «почувствовать» ее. Это вещь,
существующая отдельно от нас, но готовая выполнить наш
приказ. Кроме того, мы знаем все детали, узлы
механизма и принципы его функционирования — изделие не
содержит для нас никакой загадки. В нем нет
непостижимых секретов, нет способности к самовоспроизведению —
все здесь поддается объяснению посредством законов
физики, химии, математики.
В то же время рисунок тушью — всего каких-нибудь
несколько штрихов, начертанных кистью мастера, причем
на первый взгляд весьма небрежно, — притягивает нас,
как магнит, пробуждает в душе глубокие переживания.
Точно так же, оказавшись на лоне природы, мы всем
существом тянемся к ней, ощущаем биение ее пульса, как
своего собственного. Говорить об «отождествлении* было
бы профанацией, так как это механистическое, логическое
понятие не приложимо к подобному состоянию. Здесь
царство Дзэн-буддизма — царство, из укромного уголка
которого люди вроде Рёкана созерцают мир.
* * *
Настало время сказать несколько слов о картине,
изображающей погружение Будды в нирвану. Тема
может кое-кому показаться не слишком подходящей для
данной книги. В самом деле, какое отношение имеет
сцена Успения к восприятию природы и вообще к Дзэн-
буддизму? Но я хочу выделить в этой картине — в той
традиционной интерпретации сюжета, которая утвердилась
181
в японской иконографии, — прежде всего отпечаток
специфического буддийского взгляда на природу- К тому же
сюжет Успения весьма популярен в дззнских монастырях
и близок японским верующим, почему я и хотел бы
остановиться на некоторых его особенностях.
Мне не удалось пока проследить эволюцию понятия
нирваны и его трактовку в исторической ретроспективе.
Первоначальный замысел такой картины, или, скажем,
первичное авторство, приписывается У Дао-цзы —
известному китайскому художнику эпохи Тан. Сейчас трудно
сказать, насколько глубоко и прочно сюжет Успения
завладел воображением китайцев. Во всяком случае, именно
в Японии эта картина — можно назвать ее иконой —
органично вошла в религиозное сознание народа, в жизнь
всех истинно верующих буддистов, особенно
приверженцев доктрины Дзэн· Есть в ней нечто, близкое каждому
из нас.
Главное место в картине Успения занимает,
разумеется, центральная фигура Будды, тихо отходящего в
небытие в окружении учеников. Сравните эту сцену с
картиной распятия Христа, у которого кровь струится из ран
на голове и на теле. Сын Человеческий распростерт на
кресте, и лицо его выражает крайнюю степень муки,
невыносимого страдания, меж тем как Будда выглядит
безмятежно спящим на ложе. Христос висит на кресте
вертикально, воплощая напряженный дух борьбы, а
Будда в своем горизонтальном положении хранит мир и
покой. Глядя на него, мы изгоняем из сердца все
противоречащее духу спокойствия, умиротворения.
Будда возлежит, удовлетворенный не только самим
собой, но и всем окружающим миром со всеми тварями,
одушевленными и неодушевленными. Взгляните на этих
зверей, на этих божеств, на эти деревья — все они
оплакивают Уходящего в нирвану. Мне вся картина
представляется насыщенной огромным внутренним смыслом.
Разве здесь мы не находим наглядное подтверждение того
факта, что буддисты не воюют с природой, что они заодно
с ней и живут единой жизнью Дхармы?
Именно такая мысль, именно такое ощущение
всеобщей жизни, единой в Дхарме, позволяют буддистам
чувствовать себя как дома в объятиях природы. Слушая крик
птицы в горах, они узнают голос своих пращуров,
любуясь цветами лотоса на поверхности пруда, они открывают
в них несказанную славу и великолепие будды Кшетра.
182
Даже встречаясь с врагом на поле боя и отнимая у
него жизнь во имя высшей цели, истинный буддист
непременно помолится за упокой его души, дабы
собственная его добродетель послужила спасению павшего врага в
будущих рождениях. Теми же мотивами руководствуются
буддисты, и когда совершают церемонию заупокойного
молебна, пропалывая, например, клумбу и вырывая
побеги вьюнка, которые должны уступить место благород-
ным цветам· Точно так же отправляют ритуал и после
убиения животных, которые пошли на службу человеку в
силу каких-то своих особых качеств, например, когда
добывают шерсть оленей или пушных зверей на кисти
для художников, чтобы те могли творить свои шедевры.
Можно сказать, что любовь японцев к природе всегда
окрашена религиозным чувством, и картина Успения
проливает свет на одну из любопытнейших областей
психологии японского народа.
Насколько мне известно, Будду и бодхисаттв стали
помещать на картине вместе с животными и растениями
благодаря гению дзэнских монахов-иконописцев эпохи
Сун. Раньше Будда и бодхисаттвы были представлены на
картинах Успения как высшие существа, недоступные
человеческим чувствам. Когда же Дзэн завладел
религиозным сознанием китайцев и японцев, изображения
буддийских святых утратили тот холодный, отчужденный и
отстраненный вид, который прежде был для них так
характерен· Они сошли со своего трансцендентального
пьедестала, чтобы смешаться с простыми смертными, с
животными и растениями, с неорганическими
соединениями в виде камней и гор. Когда они говорили, скалы
кивали им, а деревья и кусты напрягали слух. Все сущее
на картине вхождения в нирвану соучаствует в Успении
Будды.
Знаменитая картина Успения, которая находится в
Тофуку-дзи, одном из крупнейших дзэнских монастырей
в Киото, была написана монахом Те Дэнсу (1352-1431).
Она принадлежит к числу самых больших
иконографических произведений такого типа в Японии, занимая
площадь 3926 футов. Легенда гласит, что во время
гражданской войны, уничтожившей в начала XVI в. большую
часть Киото, дружина клана Хосокава использовала
шедевр Те Дэнсу, заимствованный из разрушенного
монастыря, в качестве походной ширмы для защиты бивуака
от ветра·
183
Другая легенда, связанная с историей создания
картины, дает представление о некоторых особенностях
буддийской философии жизни. Пока Те Дэнсу работал над
своим грандиозным полотном, к нему повадилась ходить
кошка. Она садилась рядом с художником и внимательно
смотрела, как продвигается картина. Однажды
художнику понадобилась минеральная ультрамариновая краска,
и он в шутку сказал кошке: «Если принесешь мне
нужную краску, я тебя тоже нарисую»· Дело в том, что по
неизвестной причине на существовавших ранее картинах
Успения кошка почему-то отсутствовала, хотя на самом
деле должна была входить в число зверей,
оплакивающих Будду. И ..«о чудо! На следующий день кошка
явилась с кусочком искомого минерала в зубах — и более
того, отвела художника к тому месту, где ультрамарина
можно было набрать вдоволь. Радости Те Дэнсу не было
границ. Он сдержал слово и нарисовал на картине
кошку, что внесло дополнительное своеобразие в трактовку
сюжета· Не правда ли, забавная история? Мне кажется,
она наглядно характеризует принципы отношения к
животным, свойственные буддистам вообще и японцам в
частности.
Глава одиннадцатая
поэзия цветов,
ПТИЦ, ВЕТРА И ЛУНЫ
Знаменательно, что в понимании японского художника
прекрасное в природе не обязательно ассоциируется с
вещами, которые традиционно считаются красивыми,
возвышенными, уводящими за пределы этого бренного
изменчивого мира. Сама изменчивость зачастую служит предметом
восхищения, ибо она означает движение, прогресс, вечную
молодость и связывается в сознании буддиста с великой
добродетелью — умением не дорожить преходящими
ценностями. По всей Японии широко распространены цветы
вьюнка разных видов и сортов. Садоводы-любители уделяют
много времени и сил, чтобы заставить растения
подчиниться требованиям художественного вкуса, и в начале лета
всюду проводятся выставки-конкурсы цветов. Конечно, чтобы
вывести лозу вьюнка с необычными крупными цветами,
требуются специальные условия, но простой вьюнок со
своими непритязательными цветками-колокольчиками
приживается где угодно — на оградах, стенах домов, садовых
навесах. У вьюнка есть одна любопытная особенность:
каждый цветок распускается и увядает в течение дня, так что
утром на лозе уже не найти вчерашних цветов. Как бы ни
было великолепно цветение, оно обречено исчезнуть к
исходу дня. Эта эфемерная прелесть цветов всегда волновала
сердца японцев.
Трудно сказать наверняка, откуда у японцев такая
любовь к эфемерной красоте окружающей природы —
была ли она изначально заложена в генетическом коде
нации или же обязана своим появлением влиянию
буддизма. Так или иначе, в психологии японцев укрепилось
представление о красоте как о чем-то ускользающем,
преходящем. Если упустить момент расцвета, наивысшего
185
торжества жизни, красота бесследно исчезает, оставляя
лишь воспоминание. Эту идею лучше всего воплощает
цветок вьюнка:
С каждой новой зарей
пробуждаются в пышном убранстве
к новой жизни цветы —
Кто сказал, что век его краток?
Ведь вьюнок не вянет так долго!
Красота не вечна, ибо нет у нее прошлого, нет и
будущего — есть только настоящее» Стоит поколебаться,
отвернуться на мгновение — и красота улетучилась.
Цветами вьюнка, как и цветами лотоса, нужно любоваться
на рассвете, при первых лучах солнца- Дзэн научил
японцев любить природу, всем существом чувствовать жизнь,
наполняющую каждую частицу природы. Как сказано в
одном трехстишии:
Каждому свое:
для сосны — тысячелетье,
для вьюнка — лишь день,,.
Здесь нет фатализма. Каждый миг бытия и для
сосны, и для вьюнка, так же как и для всего живого на
земле, насыщен радостью жизни. Нельзя нарушить
гармонию красоты мыслями о бренности мира и фатальной
неизбежности угасания.
Однажды поэтессе Тиё из провинции Kara пришлось
утром попросить колодезной воды у соседа, потому что у
нее во дворе вьюнок оплел колодезный ворот.
Очарованная прелестью цветка, Тиё не решилась потревожить его
покой ради своих низменных интересов. Конечно, можно
было аккуратно распутать лозу и освободить ворот, но
такая мысль даже в голову не пришла поэтессе» В этом
обыкновеннейшем цветке, раскрывшемся под лучами
солнца, было что-то божественное. Тиё удалось уловить
неуловимое, подсмотреть божественное и запечатлеть его в
нескольких словах:
Ворот колодца
оплетен лозою вьюнка —
попрошу воды у соседа...
Часто вдохновение озаряет сердце поэта при виде
совершенно случайного объекта в природе — вовсе не
обязательно поражающего красотой, может быть, даже
186
уродливого с точки зрения будничного здравого смысла.
И тогда поэт отрешается от земных дел ради единствен -
но го и неповторимого переживания, но те
незамысловатые формы, в которые он облекает свой опыт, могут
показаться непосвященным слишком прозаическими, до
смешного лапидарными. Только когда сами читатели
поднимутся до тех же высот, они смогут уловить тот
сокровенный смысл, который вложил в свое произведение поэт.
Лягушка обычно не кажется нам воплощением красоты,
но сидящая на цветке лотоса или на листе бананового
деревца-басе, еще влажном от росы, она будоражит
творческое воображение поэта хайку:
Одиноко лягушка
качается под дождем
на листе банана.,.
Настроение мирного летнего дня передано здесь через
образ земноводного с зеленоватой спинкой и
выпученными глазами. Для некоторых подобный эпизод может
показаться слишком незначительным, чтобы сопровождать
его каким-то глубокомысленным комментарием, но для
буддистов, а тем более буддистов Японии, ничто в мире
не является слишком малозначащим, не заслуживающим
внимания. Лягушка так же важна для природы, как орел
или тигр, каждое мгновение ее жизни напрямую связано
с первоисточником жизни на земле, и в ней, через нее мы
постигаем высшую правду религии. Из тех же
соображений исходил и Басе, слагая свое знаменитое хайку:
Этот старый пруд!
Прыгнула в воду лягушка —
всплеск в тишине...
Прыжок лягушки так же важен для нас, как
изгнание Адама из рая, ибо в нем сокрыта та же истина, та же
тайна бытия и секрет творения.
Нюхает его котенок, —
А он себе ползет,
беззаботный слизняк··.
И в этом трехстишии чувствуется так много живого
человеческого участия, сопереживания, нежности.
А вот еще один пример хайку, содержащего некий
элемент образной игры, но в то же время проникнутого
глубокими религиозно-философскими раздумьями:
187
На колокол в храме
усевшись, дремлет она —
ах, бабочка!
Прежде всего бросается в глаза контраст образов:
бабочка — хрупкое, эфемерное создание, чья жизнь длится
всего лишь одно лето, но зато она стремится исчерпать
все доступные ей радости жизни, порхая с цветка на
цветок, купаясь в ласковых лучах солнца- Нередко
можно увидеть бабочку, примостившуюся на громадном
храмовом колоколе* Храм — место, располагающее к покою,
медитации, размышлениям о вечности. В сравнении с
малюткой бабочкой колокол приобретает исполинские
размеры. Даже подбор тонов подчеркивает контрастность
образов: крошечная, воздушная белая бабочка резко
выделяется на фоне мрачного и неподвижного массивного
колокола*
Это хайку Ёса-но Бусона — не просто пейзажный
этюд, в нем заключен глубокий религиозный смысл.
Человеческая жизнь в конечном счете мало чем отличается
от жизни бабочки, и подлинное значение она может
приобрести только в сопоставлении с чем-то неизмеримо
большим, с чем-то прочным, постоянным, вечным. При
всем том поэт понимает, что живость и игривость
бабочки — плоды ее счастливого неведения: она даже не
догадывается, что любая неожиданность может
поколебать и опрокинуть основы ее бренного бытия. Ведь
приближается полдень — скоро монах ударит в колокол, и
воздух содрогнется от гула. Неопределенность и
неуверенность в будущем присущи всем формам жизни на
земле. Человек пытается обеспечить себе особое
положение при помощи так называемых достижений науки, но
его алчность разрушает все научные построения и
расчеты« Если его не уничтожит природа, человек уничтожит
сам себя, И вся эта философия умещается в маленьком
трехстишии Бусона,
Подобные сценки часто можно встретить в японской
литературе, особенно в поэзии хайку, которая достигла
наивысшего расцвета в период Токугава. Поэты хайку
всегда уделяли повышенное внимание «малым сим» —
мухам, оводам, вшам, блохам, жучкам, паучкам, певчим
насекомым и птицам, лягушкам, кошкам, собачкам,
рыбкам, черепашкам и т. п. Немало места уделяется также
овощам и фруктам, деревьям и травам, валунам, утесам,
183
горам и рекам. Как мы знаем, хайку превратилось для
японцев в один из популярнейших способов выражения
философской интуиции и поэтического мироощущения.
Чувство, сконцентрированное на тесном пространстве в
семнадцать слогов, со всей полнотой и ясностью
открывает миру «душу Японии», впечатлительную,
восприимчивую к природе — как одушевленной, так и неодушев^
ленной.
Бесспорно, все хайку позднего средневековья и
Нового времени воплощают дух великого Басе, а дух Басе есть
не что иное, как дух Дзэн, запечатленный в семнадцати
слогах.
Само собой разумеется, что перевод на иностранные
языки не может передать в полной мере художественные
достоинства японской поэзии, как, впрочем, и поэзии
любой другой страны. Если художники сумиэ нашли
способ выразить все богатство своего внутреннего мира при
помощи нескольких штрихов тушью, то поэты
средневековья стремились передать свои эстетические
переживания минимальным количеством слов. Даже вака (танка),
постепенно уменьшаясь в размере, из стихотворения в
31 слог превратилось в семнадцатисложное хайку.
Некоторые, исходя из поверхностных наблюдений, склонны
думать, что ум японца еще не способен отличить чистую
философию от жизни, идеи и концепции от
непосредственного опыта, то есть не достиг высшей стадии
интеллектуального совершенства, и потому обитатели Страны
восходящего солнца довольствуются столь краткими
поэтическими формами, как вака и хайку, не требующими
стройной логической последовательности мысли и
пространного многословного описания выспренних чувств.
Другие полагают, что словарный запас японского языка
чрезвычайно ограничен и что подобная лексическая база
просто не годится для создания великой поэзии. Хотя во
всех приведенных соображениях есть некоторое
рациональное зерно, тем не менее нельзя считать их
окончательной истиной. Что касается внутренних мотивировок
появления малых жанров японской поэзии, то они еще
ждут пристального и объективного анализа в разных
аспектах — на уровне истории и философии, психологии и
культурологии.
В целом можно сказать, что краткость
классических форм в японской поэзии заставляет автора
избегать описания тех конкретных событий, явлений, мест
189
и размышлений, которые послужили предпосылкой для
написания данного стихотворения, легли в его основу
или же, наоборот, из стихотворения следуют. Все «про-
пуски* надлежит заполнить самому читателю, который,
разумеется, должен быть достаточно хорошо знаком с
той материальной и психологической средой, в которой
жил и творил поэт. Гений поэта заключается в том,
чтобы отобрать наиболее существенные, значимые
моменты, по которым читатель сможет, отталкиваясь от своего
опыта, воссоздать все поэтические ассоциации,
вместившиеся в несколько слогов.
Однако не только суггестивность составляет секрет
лирики хайку. Вот Рёта, поэт XVIII в., живописует в
трехстишии свои чувства, связанные с созерцанием луны.
Много ночей небо было закрыто тучами, шли затяжные
весенние дожди — и, наконец, долгожданная луна
неожиданно проглянула меж кронами сосен. Сезон дождей
(цую) в Японии, когда дни пасмурны, а ночи
беспросветны, — тяжелое испытание для всех, кто находит отраду
в любовании вешней луной. Тем большее удовольствие
для поэта снова увидеть серебристое сияние, разлитое над
влажной землей, над белесыми клубами испарений:
Майские дожди.
Ночью вдруг проглянула украдкой
луна сквозь сосны,,♦
Стихотворение другого поэта хайку, Тэнтоку,
ставшее манифестом человечности, вошло у японцев в
пословицу:
Вот и первый снег,
А он ведь тоже дитя человечье,
маленький уборщик,..
Конечно, внутренний пафос образа доступен только
тому, кто знает, что такое для японцев первый снег и чем
занимались мусорщики «специального назначения».
Снегопад в Японии знаменует самое холодное время года, но
в день снегопада люди обеспеченные и располагающие
досугом могли собраться на дружескую пирушку —
выпить сакэ где-нибудь в загородном ресторанчике, на
открытой веранде в саду. Очевидно, по дороге на такую
пирушку поэт заметил на улице босоногого паренька в
потрепанном платье, занятого уборкой выброшенных
пустых бочонков из-под сака. При виде оборванца, мерзнущего
190
под снегом, сердце поэта наполнилось жалостью: ведь
этот мальчик -- тоже дитя человеческое. Так почему же
он должен страдать, когда множество его сверстников
пребывают в безделье и роскоши? Властно заявившее о
себе чувство справедливости подсказало Тэнтоку его
строки. Будь он Гудом, он наверняка написал бы «Песню о
рубашке«,
Вака или танка порой могут вместить в 31 слоге
больше, чем краткое трехстишие, но нередко и эта
лирика требует комментария, чтобы прояснить поэтический
намек. Возможно, одна из причин, почему вака
сохранили лаконизм и не развились за много веков в более
объемистую композиционную форму, — наличие в японской
литературе жанра «стихотворения в прозе»,
позволявшего поэту при необходимости выразить свои мысли и
чувства с предельной полнотой.
Чтобы проиллюстрировать принципы поэтического
мировосприятия японцев, я произвольно выбрал из
классических сборников несколько пятистиший-танка о
цветах вишни, к которым в нашей стране относятся с особой
любовью и нежностью. Вся подборка условно делится на
четыре раздела. В первом говорится в основном о ветре и
дожде, что скоро развеют, осыплют лепестки цветов. Ведь
цветы сакуры так недолговечны — они живут не больше
недели, а потом опадают. Распускаются они дружно и
пышно в начале апреля, и тогда горы, долины, берега рек
выглядят сплошным морем цветов. Особенно красиво
цветет сакура на фоне других деревьев, которые еще стоят
обнаженными, провожая холодную зиму.
Стихотворения второго раздела воспевают
несравненную прелесть вешнего цветения. Красоту этого зрелища
не передать словами· Чего стоят хотя бы склоны гор
Ёсино, сплошь покрытые бело-розовой дымкой! Когда
теплое, ласковое солнце пригревает цветы, благоухание
заливает округу и кружит головы людям в Токио, Киото,
Нагое...
Третий раздел призван донести до читателя
неповторимый дух цветов сакуры, который сумели уловить
поэты разных времен.
В последнем разделе запечатлено тревожное ожидание
поэтов, не чающих дождаться заветного дня, когда
вишня, наконец, зацветет. Ведь в пору цветения сакуры
весна полностью вступает в свои права, дни становятся
длиннее и воспоминание о зиме отходит в прошлое.
191
I
Кто укажет приют
ветра, что с отцветающих вишен
осыпает цветы?
Я отправлюсь к нему в обитель,
чтобы высказать укоризну!..
Инок Сосэи, X е.
* * ■*
Мне казалось, ветрам
не пройти сквозь заставу Накосо,
Но тропинка в горах
сплошь устелена лепестками,
облетевшими с вешних вишен...
Минамото Ёсииэ, 105Î-1108
* it *
О, какая печаль!
Подхвачены ветром, поспешно
облетают цветы —
Отчего же они не желают
насладиться, как мы, весною?..
Фудзивара Тосинари, ÎÎ14-1204
it * *
Для чего же винить
во всем лишь безжалостный ветер,
что осыпал цветы?
Может, сами они захотели
раньше срока уйти из мира··.
ИнокДзиэн, 1155-1225
* * *
Я ни ветер, ни мир
не виню в этом раннем уходе
долгожданной весны,
Если в Ёсино боле не встретишь
дивных видов вишен цветущих...
Фудзивара Садаиэ, 1163-1241
192
π
Много минуло лет.
Я ныне признаюсь печально:
вот и старость пришла —
Но при виде вишен цветущих
снова радостью полнится сердце...
Фудзивара Ёсифуса, 804-872
* * *
Вот идет дровосек
по извилистой горной тропинке.
О, поведай, мой друг,
что виднеется там, на вершине, —
облака иль цветущие вишни?
Минамото Ёримаса, 1104-1180
■к * *
Те деревья в горах
были прежде совсем неприметны
без листвы и цветов —
А сегодня дивным цветеньем
открываются вишни взору!·►
Мипамото Ёримаса
* * *
Год от года хранил
я мечту заветную в сердце:
Хоть однажды узреть
в Есино цветение вишен —
И сегодня сбылись желанья!..
* * *
О животворящий
дух благословенной весны!
Покой и отрада!
Напоенные ароматом,
там, в горах, зацветают вишни...
Камо-но Мабути. 1697-1769
193
* * *
Ах, если б могли
все жители стран отдаленных
приехать сюда,
Чтобы в Ёсино полюбоваться
горной вишней в вешнем цветенье!..
Камо но Мабути
* * *
В эти долгие дни,
любуясь соцветьями вишни,
что раскрылись весной,
Я о Веке богов блаженном
размышляю с тихой печалью,..
Исикава Ёрихира. 1791-1859
* * *
Белый полог укрыл
горы Ёсино в дымке туманной —
уж не видно вершин,
и, насколько хватает взора,
всюду море цветущих вишен...
Хатта Томонори. 1799-1874
* * *
В доспехах багряных
с наследным старинным мечом
стоять бы мне нынче
под ветвями вишни цветущей,
что нависла над горным склоном!..
Отиаи Наобуми. 1861-1903
Сайге, имя которого так часто упоминалось в нашей
книге, не только оставил поистине неизгладимый след в
истории японской литературы, но и внес значительный
вклад в распространение буддийского влияния на
японскую культуру. Время его жизни выпало на додзэнскии
период японского буддизма, однако страстное стремление
Сайге быть во всем единым с матерью-Природой роднит
его лирику с творчеством Сэссю, Рикю, Басе и многих
194
других ревностных приверженцев Дзэн. Сам Басе,
например, неоднократно упоминал о своей близости к Сайге.
Больше всего на свете Сайге любил недолговечное
цветение вишен, и свое заветное желание он выразил в
знаменитых строках:
Об одном я молюсь —
чтобы было дано мне судьбою
встретить смертный свой час
в вешнем месяце кисараги,
в полнолунье, под сенью вишен!..
В Китае и Японии день смерти Будды всегда отмечал*
ся пятнадцатого числа второго лунного месяца« О месяце
кисараги («месяце перемене одежд») упоминает и Сайге,
предполагая, что именно в эту пору должны распуститься
и цветы вишен — ведь «кисараги» соответствует концу
марта — первой половине апреля по солнечному
календарю. Мечта поэта сбылась — он умер на шестнадцатый
день второго лунного месяца первого года правления Кэн-
кю (1190). Любовь к цветущим вишням он унес с собой в
лучший мир, оставив завет потомкам:
Если вспомнит меня
кто-нибудь в этом суетном мире,
Пусть тогда совершит
приношенье благому Будде
веткой вишни в цветах весенних...
Среди многих стихов Сайге, посвященных цветению
вишен, я хотел бы привести несколько таких танка,
которые ярче всего свидетельствуют о трепетном
отношении поэта к природе:
Так и я без любви,
без участья живу в этом мире
от людей вдалеке —
Почему отцветают здесь вишни,
ничьего не радуя взора?..
Не спешат опадать
обреченные тлену соцветья
на исходе весны —
Что ж, под сенью вишен цветущих
проведу весь день в ожиданье...
195
* * *
Как хочу я скорей
узнать, на каких же вершинах
горных вишен цветы
распустились нынче впервые, —
чтоб туда идти любоваться!.·
Как и большинство японцев во все времена, Сайге
никогда не упускал случая полюбоваться на луну.
Ночное светило всегда притягивало воображение поэтов, и
едва ли можно найти хотя бы одного автора вака или
хайку, который бы ни отдал дань лунному свету.
Возможно, причину тому следует искать в
метеорологических особенностях архипелага. Японцы всему
предпочитают мягкость, ненавязчивую суггестивность, полумрак,
зыбкость и расплывчатость линий. В них нет южного
темперамента, взрывных эмоций. Пусть иногда их
покой нарушают землетрясения, но больше всего на свете
японцы любят тихонько сидеть на веранде в бледно-
голубом сиянье луны. Им чуждо все вызывающе яркое,
резкое, определенное. Хотя луна и светит ярко, но,
озаренные ее бликами, все предметы изменяют
очертания, приобретают мистическую неясность, зыбкость и
загадочность. Сайге в своей горной хижине один на
один общается с духом Луны. Он пишет о том, что
даже после смерти не перестанет думать о луне, что
только краса лунной ночи еще удерживает его в этом
мире, где не осталось более никаких привязанностей и
влечений. И разве буддийская Чистая земля не есть
лишь религиозная ипостась тех же духовных и
эстетических устремлений?
Никто не придет
навестить меня в хижине горной —
одна лишь луна
сквозь ветви сумрачных сосен
взирает с тихим участьем.·.
* * *
Пусть придется и мне
из нашего бренного мира
неизбежно уйти —
Все равно лишь к луне далекой
буду вечной душой стремиться,..
196
ш
Я весенней порой
слышу колокол в горном селенье
на вечерней заре
и смотрю, как с вишен цветущих
лепестки, кружась, облетают.·.
Инок H они, X в.
* * *
В запустенье пришла
столица старинная Сига,
но на склонах холмов
в пышном вешнем великолепье
расцветают, как прежде, вишни...
Тайра Таданори, 1143-1183
* * *
Вот и вечер настал.
Итак, под раскидистой вишней
проведу эту ночь —
Пусть же полог ветвей цветущих
мне послужит нынче приютом.··
Тайра Таданори
■к -к -к
Было им суждено,
воле ветра и ливня подвластным,
отцвести и опасть —
От цветов вишневых осталось
только таинство аромата.»«
Датэ Тихиро, 1803-1877
TV
«Дайте знать, — я просил, —
как только распустятся вишни
там, в далеких горах►, —
И сегодня пришли с известьем:
«Поскорее коня седлайте!*
Минамотпо Ёримаса
197
* * *
Снова вишенный цвет
горы Ёсино скоро покроет,—
И стремится душа
к облакам, что пологом белым
поутру легли на вершины.,.
Сакавада Масатоси. 1580-1643
Сэккё (Ши Гун), чаньский мастер эпохи Тан, всегда,
когда к нему приходил с вопросом монах, натягивал лук,
будто уже готов был спустить стрелу· Так же он встретил
и Сампэя (Сань Пина). Когда мастер воскликнул:
«Берегись, стреляю!» — Сань Пин храбро обнажил грудь и
сказал: «Эта стрела смерти, но что есть стрела жизни?»
В ответ Ши Гун трижды прозвенел тетивой. Сань Пин
поклонился. Тогда Ши Гун сказал: «Тридцать лет я
натягивал лук, чтобы подстрелить дичь, и вот моя
добыча — какие-то полчеловека!»
Став впоследствии настоятелем монастыря, Сань Пин
так поучал братию: «Не предавайтесь с усердием
изучению книжных знаний — не тем должны заниматься
последователи Дзэн. Поищите в самих себе, чтобы
найти Око, проницающее истинный смысл вашего бытия»
Положившись на мудрые наставления Мастера, найдите
себе приют в горах, меж скал, носите платье, сплетенное
из трав, питайтесь плодами и кореньями — и тогда,
может быть, однажды вам откроется высшая правда
Дзэн. До тех же пор пока вы взыскуете ее разумом,
погружаясь в книги, она будет уходить от вас все
дальше и дальше».
Хотя в Дзэн самоценность аскетической практики
весьма невелика, ее нельзя недооценивать в тех случаях,
когда она сочетается с жаждой истины. Таким образом,
Дзэн всегда в высшей степени приближен к практике*
В то же время психологическая реакция некоторых дзэн-
ских мастеров характеризуется духом абсолютной
отчужденности от мира. Такой подход к вещам приписывается
(не вполне справедливо), например, двум знаменитым
китайским поэтам-отшельникам эпохи Тан — Хань Шаню
и Ши Дэ. Безусловно, друзья-отшельники и не
подозревали > что им суждено будет приобрести всемирную
известность и стать излюбленными персонажами картин
многих дзэнских художников.
ПРИЛОЖЕНИЕ
* * *
Чаньскому мастеру Дайсуй, жившему в эпоху Тан,
монах задал вопрос: «Когда по истечении кальпы
великое пламя поглотит миры, погибнет ли «этоо? Дайсуй
ответствовал: «Да, „это" погибнет». Монах переспросил:
«Значит, „это" последует за всем остальным?» Дайсуй
сказал: «Да, последует за всем остальным»,
К приведенному диалогу-мондо имеется комментарий
сунского философа Юань У:
«Дайсуй Фачжэнь был учеником мастера Дай Аня.
Родился он в городе Энди не в провинции Дуньхуан и
изучал Чань под руководством более чем шестидесяти
наставников· В доме наставника Гуйшаня Дайсуй
выполнял обязанности истопника. Однажды Гуйшань
сказал: „Ты у меня уже несколько лет, но, похоже, так и
не знаешь, как следует задавать вопрос и выслушивать
ответ", „Да о чем же мне спрашивать?" — удивился
Дайсуй* „Если уж ты ничего не можешь придумать,
спроси хотя бы, что такое Будда". Тут Дайсуй
решительно зажал Мастеру рот ладонью. Гуйшань заметил:
„Эдак ты никогда не найдешь даже прислужника, чтобы
подмести двор".
Позже Дайсуй вернулся в родной город и открыл
лавочку у подножия горы Пэнгоу, где в течение трех лет
подавал чай усталым путникам. Через некоторое время
его пригласили возглавить новый монастырь, названный
такэке Дайсуй. И вот однажды монах спросил его: „Когда
по истечении кальпы великое пламя поглотит миры,
погибнет ли «это»?" Сам вопрос основан на буддийском
учении, согласно которому физическая история
вселенной проходит четыре фазы развития: „возникновение",
199
„существование", „разрушение" и „исчезновение". В
конце кальпы всепожирающее пламя поднимется до третьего
неба Дхъяны. Монах же не понял истинного смысла,
сокрытого в учении.
Хотелось бы знать: что же на самом деле
подразумевал монах под „это"? Некоторые дают интеллектуальное
толкование, полагая, что „это" — изначальная природа
всего сущего. Дайсуй ответил: „«Это» погибнет"· Тогда
монах переспросил: „Значит, «это» последует за всем ос*
тальным?" Дайсуй сказал: „Да, последует за всем
остальным". Здесь многие читатели впадают в заблуждение, не
улавливая подлинного значения ответа. Когда Дайсуй
заявляет, что „это" должно последовать за всем
остальным, то куда же оно денется на самом деле? А что
изменилось бы, если бы Дайсуй сказал наоборот: „Нет, φ это»
не последует за всем остальным?" Не зря Блаженный
Августин поучает: „Если хочешь добраться до сути, не
пытайся задавать вопросы".
Другой монах как-то раз тоже спросил верховного
наставника Сю Шаня: „Когда по истечении кальпы
великое пламя поглотит миры, погибнет ли и «это»?" Мастер
ответил: „Нет". „Почему же нет?" — переспросил монах.
„Потому, что «это» и миры единое целое", — был ответ,
В самом деле, как ни ответь — будет ли „это"
уничтожено или не будет, — и от того, и от другого дыхание
замирает...
Монах, не сумевший понять ответ Дайсуя, очень
опечалился, разволновался и отправился за пояснением к
другому мастеру, Доу Шаню. Тот спросил: „Откуда ты
явился?" Монах сказал: „От мастера Дайсуя из земли
Шу"· „Что же хочет мне поведать Дайсуй?" Монах
рассказал все, что произошло, и выразил свое недоумение по
поводу участи „этого". Тогда Доу Шань поднялся с
кресла, возжег благовонные курения, почтительно
поклонился и сказал: „Поистине сам Будда возродился в земле Ши
Западной Шу. Поторопись вернуться к Дайсую". Монах
отправился восвояси, но, когда прибыл домой,
обнаружил, что наставник Дайсуй уже отошел в нирвану».
* * *
Один монах спросил мастера Бай Чжана: * Какое
самое чудесное событие в мире?» — «Я сижу здесь сам по
себе», — ответил Бай Чжан. Монах поклонился
наставнику, а тот дал ему затрещину.
200
Вот как комментирует этот случай Юань У;
«У кого зоркий глаз, тот при необходимости без
колебания пойдет на риск. Ведь пока не войдешь в тигриное
логово, не сумеешь добыть и тигренка. Бай Чжан —
великий мастер, он похож на крылатого тигра. Но
монах, не убоявшись смерти, решил дернуть тигра за усы.
Отсюда и его вопрос: „Какое самое чудесное событие в
мире?" У Бай Чжана зоркий глаз, поэтому он берет на
себя труд ответить: „Я сижу здесь сам по себе". Понять
ответ можно, лишь обратившись ко времени,
предшествовавшему вопросу* Монах кланяется. Это не обычный
поклон — ведь монах отлично знает Бай Чжана. Но
старые друзья иногда ведут себя так, будто они вовсе
незнакомы, они стараются никак не проявлять те
чувства, что переполняют их сердца. За поклоном следует
удар. Мы видим, что, когда мастер самовыражается, все
дозволено; когда же он вновь замыкается в себе, все
бесследно уходит, как будто бы ничего и не было.
Попробуем выяснить, в чем же смысл поклона.
Правильно ли монах поступил? Если да, то почему Бай Чжан
его ударил? Если нет, то опять же в чем дело? Конечно,
нужен тренированный дух-разум, чтобы, стоя на
вершине, безошибочно суметь отличить черное от белого,
плохое от хорошего· Для монаха поклониться было
равносильно тому, чтобы потянуть тигра за усы в его логове.
К счастью, старый мудрец Бай Чжан не дал себя провести
хитрому монаху: он сразу же понял, что на уме у
лукавого инока, который сейчас согнулся перед ним в поклоне,
и сумел применить по назначению свою палку. Мастер не
столь высокого уровня, как Бай Чжан, ничего не смог бы
поделать с монахом».
Для людей, не знакомых с дзэнскими методами
решения религиозно-философских проблем, приведенные мон-
до вместе с комментариями представляются каким-то
шифрованным текстом. Но по крайней мере одно
заметили, вероятно, все: дзэнская логика не следует законам
обыденного рационального мышления, Дзэн
придерживается иной точки зрения в оценке вещей· Конечно, можно
спросить, почему же Дзэн не объясняет свою позицию
более доходчиво, вместо того чтобы постоянно
камуфлировать ее? Ответ прост. Дзэн вовсе не намеренно прибегает
к мистификаци», к иносказанию: сама природа вещей
диктует такое поведение мастера, и нет иного пути
обнаружения сути Дзэн, чем выработанный многими поколениями
201
мастеров Китая и Японии. Если бы они, подобно другим
философам, обращались к дискурсивной логике, к
диалектике, то не осталось бы места для Дзэн. Эти мастера
делают все возможное для того, чтобы выразить себя в
максимально живой и непосредственной манере
подходящим к случаю способом.
Так, в первом мондо мастер утверждает, что, когда
погибнет вселенная, и «это» должно разделить ее
судьбу. Другими словами, душа исчезнет вместе с
исчезновением тела. Но вот словно сам же мастер оспаривает это
утверждение, заявляя, что душа не разделяет участи
тела. Отвечая на вопрос «почему?», он говорит, что
душа и есть тело, а тело есть душа, а раз так, раз они
тождественны, то ни душа, ни тело по отдельности не
могут быть уничтожены. Или же слова мастера можно
истолковать так: с самого начала ошибочно разделять
душу и тело, дух и мир, «мое» и «твое», как зачастую
делают философы, а также и простые обыватели. В
результате этой изначальной ошибки мы оказываемся
втянуты в бесконечный ряд логических трудностей.
Лучший способ прийти к правильному пониманию сути
дела — не задавать вопросов, в чем, собственно, и
заключается Дзэн. Как только задан вопрос, возникает
проблема: погибнет «это» или не погибнет? Если
говорится, что «это» погибнет, вы тревожитесь за судьбу своей
бесценной души или чего-то еще самого дорогого,
сокровенного. Если же говорится, что «это» не погибнет, то
вы снова тревожитесь, где же будет в дальнейшем оно
обретаться.
Второе мондо разом обрубает все логические
сложности, тревоги и волнения, поскольку Бай Чжан
решительно, категорически заявляет: «Я сижу здесь сам по себе!»
Для тугодума философа действует лишь принцип «cogito
ergo sum» («я мыслю, следовательно, существую»), Дзэн-
скому мастеру чужды подобные диалектические
парадоксы, праздная игра слов. Он прямо и недвусмысленно
бросает: «Я сижу здесь сам по себе!» Разве это и впрямь не
самое чудесное в мире? Дзэн хочет только одного —
овладеть великим чудом, не расставаться с ним и не задавать
лишних вопросов. Нет, такой вывод — не плод долгих
размышлений, напряженной работы разума. Бай Чжан
открывает нам всю правду без утайки, и мы должны
принять ее так же решительно, без колебаний, с
открытым сердцем. В этом — Дзэн.
202
* * *
Все изучающие Дзэн обязательно обращаются к одной
сутре Махаяны, которая освещает основы не только Дзэн-
буддизма, но и всего буддийского учения в целом. Я
приведу здесь важнейшие положения этой сутры, которые,
вероятно, многое разъяснят читателю, не привыкшему
еще воспринимать скрытый смысл дзэнских диалогов-
мондо. Правда, и в самой сутре не найти изложения идей
в логической последовательности. Здесь мы скорее имеем
дело с неким набором парадоксов.
Произведение, о котором идет речь, называется «Юйма-
ке» (санскр. «Вималакирти-сутра»). То был один из трех
классических буддийских текстов, впервые прочитанных
и прокомментированных принцем Сётоку Тайси в начале
VII в. Принц Сётоку справедливо считается отцом
японского буддизма, оказавшего столь значительное влияние
на формирование духовного и психического склада
нации. Кроме того, принц был выдающимся
государственным деятелем, организатором, просветителем, строите-
л ем, основоположником многих направлений в
искусстве. Его память увековечена в храме Хорю-дзи в Наре,
Итак, лучшим способом приблизиться к пониманию
дзэнской философии будет знакомство с содержанием «Ви-
малакирти-сутры ». На китайский язык, доступный
также для японцев, сутру впервые перевел в 406 г. Кумарад-
жива. Благодаря глубине заключенной в ней религиозной
и философской мысли, драматичности сюжета и
превосходным литературным качествам, «Юйма-кё» завоевала
широчайшую популярность в странах Восточной Азии.
Нет точных сведений о том, когда, собственно, сутра
была создана в самой Индии, Можно лишь
предположить, что это произошло в эпоху до Нагарджуны, то есть
где-то в начале нашей эры. Главным персонажем сутры
является Юйма (Вималакирти), богатый домовладелец из
Вайшали, живший во времена Будды, знаток учения Ма-
хаяны, ревностный последователь Святого Закона и
большой филантроп. Хотя Юйма жил в миру, не принимая
монашеского пострига, его безукоризненное поведение
служило объектом всеобщего восхищения.
Однажды Юйма сказался больным. То была одна из
его «уловок», «тайных способов* (упаякаусалья), при
помощи которых он стремился научить людей понимать всю
бренность земной жизни. Все граждане города Вайшали,
203
включая придворную знать, брахманов, чиновников и
простолюдинов, поспешили навестить мудреца и
осведомиться о его здоровье.
Прослышав о случившемся, Будда решил послать к
Юйма одного из своих учеников, но все ученики
отказывались идти, утверждая, что они недостойны беседовать с
премудрым праведником. Ранее все они хотя бы
единожды уже встречались со старцем и были посрамлены в
богословских спорах. Небезынтересно будет привести пару
примеров религиозно-философских бесед между Юйма и
учениками Будды, из которых ясно видно, к каким
средствам прибегал мудрец, чтобы посрамить сторонников
Хинаяны.
Когда однажды великий Кашьяпа бродил среди
бедных в поисках подаяния, Юйма явился перед ним и
сказал: «Тебе не следует умышленно избегать богатых.
Ведь, когда ты входишь просить милостыню, дух твой и
разум должны быть свободны от всех различий, а сердце
наполнено безраздельной любовью ко всему сущему. Ты
должен получать пропитание, как если бы вовсе не
получал его. Уже сама мысль, принять или не принять, здесь
неправомерна. Лишь поднявшись над идеями
личностного и не-личностного, добра и зла, приобретения и утраты,
ты сможешь свершить приношение Будде и бодхисаттвам
одной плошкой еды, полученной как милостыня· До тех
пор пока ты не достиг такой стадии духовности, ты
остаешься всего лишь праздным потребителем пищи,
которую ты пытаешься выпросить у бедняков, думая, что тем
самым даешь им возможность проявить милосердие»»
Когда Будда обратился к Субхути с просьбой навестить
Вималакирти, тот сказал, что он тоже не достоин такой
чести, и в доказательство привел следующую историю:
♦Однажды, когда я явился к дому старого мудреца
просить подаяния, он наполнил мою плошку едой и
сказал: „Лишь тот достоин пищи, кто нисколько к ней не
привязан, ибо для него все вещи равны; посреди всех
переплетений мирских страстей он остается свободен и
беспристрастен; все сущее он принимает как есть и ни к
чему не прилепляется душой. Не слушай Будду, не
смотри на него, но следуй за своими учителями-еретиками и
иди туда, куда идут они. Если им суждено сойти в ад,
иди за ними — и если при этом ты не испытаешь
сомнений и колебаний, тебе дозволено будет принять эту пищу.
Дающие не приобретают тем достоинств, благодеяние не
204
есть источник блаженства. Пока ты не почувствуешь, что
способен идти за демонами и быть с ними за одно, ты не
вправе принимать эту пищу".
Услышав такие слова, я был поражен словно ударом
грома и уже хотел убежать, не взяв плошку с едой, но
Юйма остановил меня, промолвив: „В конце концов
существование всех вещей призрачно — они не более чем
названия. Лишь премудрые не ведают пристрастий,
поднимаются над логикой и знают, что есть Действительность. Они
свободны от страстей и потому никогда не тревожатся ни о
чем. После такого случая я понимаю теперь, что не
достоин справиться о здоровье мудрого старца"».
Сошлемся еще на один пример. Когда подошла
очередь Майтрейи, он сказал так:
«Однажды мне довелось быть на Небе Тушита и вести
речь перед Владыкой Небес и его свитой о жизни, не
допускающей движения назад. Тут появился Юйма и
обратился ко мне: „О Майтрейя, я знаю, что Будда Ша*
кьямуни научил тебя стремиться всю жизнь к Высшему
Просветлению. Но скажи мне, что такое сама жизнь?
Есть ли это жизнь прошлая, будущая или настоящая?
Если прошлая, то прошлое всего лишь прошлое; если
будущая, то будущее еще не наступило; если настоящее,
то его просто нигде нет (иначе говоря, настоящее никак
не зафиксировано во времени. Когда мы говорим, что это
«настоящее», его фактически уже нет). Коль скоро так,
то жизнь, которой все мы живем в данный момент,
согласно учению Будды, не должна подпадать под
категории рождения, старости и смерти.
Если верить Будде, все существа на свете самобытны
и пребывают в Самобытности (татхата) — не только
мудрецы и святые подвижники, но каждый из нас,
включая и тебя, о Майтрейя. Если Будда убедил тебя, что ты
достигнешь Высшего Просветления и познаешь нирвану,
то и все существа, одушевленные и неодушевленные,
также должны быть уверены в возможности конечного
Просветления. Ведь пока все мы самобытны и пребываем в
Самобытности, для всех остается одна и та же
Самобытность, а значит, если кто-то из нас достиг Просветления,
все остальные должны разделить его блаженство. Для
познавшего Просветление нет различий« Куда же, о
Майтрейя, ты поместишь свою жизнь, не допускающую
движения назад, если нет более ни пристрастий, ни
беспристрастия, ни тела, ни духа?"
205
Когда Юйма произнес свою речь на Небе Тушита,
двести божественных владык сей же миг познали Кшан-
ти в Нерожденной Дхарме* Потому я не чувствую в себе
довольно силы, чтобы идти к мудрецу из Вайшали».
Так все ученики Будды один за другим отказались
выполнить просьбу Учителя, исполненную глубокого
смысла. В конце концов Маньчжушри согласился взять на
себя поручение и отправился в Вайшали в сопровождении
восьми тысяч бодхисаттв, пятисот шраваков, сотен тысяч
божеств-дэвов. Зная наперед об этом визите, Юйма велел
вынести из своей комнаты всю мебель. Он оставил лишь
одну лежанку, на которой расположился сам* Никого из
учеников не было рядом с ним — мудрец возлежал один в
своей комнатушке площадью десять квадратных футов.
Вот как началась беседа между святым старцем и
бодхисаттвой, не знавшим себе равных по мудрости среди
учеников Будды.
Юйма: О Маньчжушри, я приветствую тебя, но твой
приход это не-приход, а я вижу и не-вижу тебя.
Маньчжушри: Ты прав. Я пришел, как бы не приходя.
Я ухожу, как и не уходя. Ведь прихожу я из ниоткуда, а
ухожу в никуда. Мы говорим о том, что видим друг
друга, но ведь между нами нет подлинного видения.
Однако оставим это на время, ибо я послан к тебе Буддой
осведомиться о твоем здоровье. Идет ли оно на поправку?
Как ты заболел? Лечат ли тебя?
Юйма: От безрассудства проистекает желание, и в том
причина моего недуга. Я болен оттого, что нездоровы
прочие живые существа. Когда же они излечатся,
поправлюсь и я. Бодхисаттва приемлет жизнь от рождения до
смерти ради всех живых существ; пока есть рождение и
смерть, есть и болезни.
Пока между Юйма и Маньчжушри продолжается
беседа в таком духе, мы на время обратимся к другому
персонажу, Шарипутре — одному из самых способных адептов,
учеников Будды, пришедших вместе с Маньчжушри.
Шарипутра заметил, что в комнате Юйма нет
никакой мебели, и недоумевает, как же хозяин собирается
усадить всех пришедших к нему с визитом бодхисаттв и
адептов. Юйма, прочитав мысли шраваки, спрашивает,
пришел ли он сюда ради Великого Закона Дхармы, или
же ради кресла. Получив заверения, что Шарипутра
пришел за Дхармой, мудрец наставляет его, как искать
истину. Поиски Дхармы заключаются в том, чтобы ничего
206
не искать, ни к чему не быть привязанным. Ведь там,
где есть привязанность, влечение к чему-то,
появляются разного рода моральные и интеллектуальные
помехи, там неизбежно подстерегают человека тенета
противоречий и соблазнов. Оттого нет конца недугам в
этой жизни.
Маньчжушри сообщает Юйма, где раздобыть
наилучшие сиденья для гостей. Ведь эа время своего духовного
паломничества он обошел все владения Будды во
Вселенной. Юйма тотчас же посылает за тридцатью двумя
тысячами сидений, чтобы рассадить гостей. Каждое кресло,
украшенное резьбой, достаточно высоко и просторно, чтобы
на нем мог воссесть любой пресветлый бодхисаттва.
Маленькая с виду комнатка Юйма вмещает в себя все
кресла, каждое из которых высотой с гору Сумеру. Всех
посетителей просят занять приготовленные места. Бодхисат-
твы рассаживаются с легкостью, но шраваки не могут
забраться на кресла, которые для них слишком высоки.
Понимая, насколько мала комната, где собрались все
присутствующие, Шарипутра все же недоумевает, как это
возможно — ведь горчичное семечко не может вместить в
себя все горы мира, одна пора кожи не может впитать в
себя все четыре океана со всеми рыбами, китами и
черепахами?..
Другой эпизод с Шарипутрой, характеризующий
основную направленность всей сутры, посвящен его встрече
с небесной принцессой. Оказавшаяся среди гостей Юйма
принцесса слушает диспут двух мудрецов, осыпая всех
собравшихся дождем небесных цветов. С тел бодхисаттв
цветы соскальзывают, но пристают к телам адептов,
среди которых и сам Шарипутра. Он пытается щеткой
смахнуть цветы, но все напрасно. Богиня задает вопрос, зачем
он попытался это сделать, и Шарипутра отвечает: «Это
не согласуется с Дхармой».
Богиня: Не говори так. Ведь цветы не ведают
различий. К тебе же они пристают лишь оттого, что сам ты
делаешь различия, не свободен от пристрастий. Взгляни
на бодхисаттв: они свободны от пристрастий, и цветы к
ним не пристают. Тому, кто избавился от всяких
помыслов о разграничении, даже демоны не в силах
причинить зло.
Шарипутра: Давно ли ты находишься в этой комнате?
Богиня: С самого момента твоего освобождения от
вредных помыслов.
207
Продолжив беседу в том же ключе, Шарипутра
подивился недюжинному уму своей небесной собеседницы и в
конце концов спросил, отчего же она не преобразит себя в
мужское божество. На это богиня возразила:
«Двенадцать лет добивалась я обретения женской сущности, но
до конца так и не преуспела. Зачем же мне новое
преображение и перевоплощение?»
Однако вернемся от второстепенных персонажей
сутры к нашим главным героям, Юйма и Маньчжушри.
В диспуте они затрагивают проблему не-дуальности <ад-
вайта), Юйма предлагает, чтобы определение этому
понятию дали все собравшиеся здесь главные бодхисаттвы.
После того как все высказывают свое мнение, Юйма об-
ращается с тем же вопросом к Маньчжушри и получает
такой ответ: «В моем представлении, когда не останется
ни слова, что могли бы мы вымолвить, ни знака, что
могли бы мы узреть, ни образа, что могли бы мы
понять, — отрешившись от всех вопросов, — войдем мы во
врата адвайты».
Затем Маньчжушри спрашивает: «О Юйма, теперь,
когда все мы изложили свои соображения, скажи, что же ты
думаешь об этом?» Но Юйма хранит гробовое молчание. И
Маньчжушри оценивает ответ по достоинству: «
Превосходно, поистине превосходно, о Юйма! Вот он, путь во врата
адвайты, что ни слова, ни письмена не в силах объяснить!»
Вопрос о не-дуальности является ключевым моментом
«Вималакирти-сутры», но затем следует еще один
любопытный эпизод. Шарипутра думает о том, что
приближается время обеда, и гадает, как же Юйма собирается
накормить весь сонм гостей, собравшихся в его
комнатушке. Прочитав мысли недоверчивого Шарипутры, Юйма
объявляет, что сейчас всем гостям будут поданы
невиданные яства. Он погружается в медитацию и, благодаря
своему божественному могуществу, переносится через все
миры, коих число равняется песчинкам в сорока двух
Гангах. Попав таким образом в Благоуханную землю
Будды, Юйма просит у Будды разрешения взять с собой
немного здешней пищи и, получив разрешение,
возвращается с грузом назад. У себя в доме принесенными
яствами, которых с виду очень мало, Юйма досыта
кормит всех гостей. Секрет же в том, что гостям не нужно
потреблять в большом количестве материальную пищу —
одного лишь аромата эфирных яств достаточно, чтобы
утолить самый сильный голод.
208
Вслед за тем все присутствующие, включая самого
старого мудреца, предстают пред очами Будды, который и
рассказывает им о родине Юйма. Страна эта называется
Абхирати, Край Совершенного блаженства, и правит там
будда Акшобхья («Непоколебимый»). По просьбе Будды
Юйма чудесным образом переносит всех собравшихся в
дивную страну Абхирати. Здесь и будда Акшобхья, и
бодхисаттвы, и шраваки, и все ранги дэвов и нагов, и
всевозможные живые существа обоих полов, и горы, и
реки, и моря, и деревья, и травы, и цветы. В стране
Будды три лестницы ведут с земли на Небо Тушита.
Очарованные увиденным, все гости говорят, что хотели
бы вновь родиться в стране Абхирати* Сутра
заканчивается неизменным пожеланием Будды содействовать
дальнейшему процветанию Дхармы на земле и клятвой всех
собравшихся следовать заветам Будды.
ДУХ ДЗЭН В ЯПОНСКОЙ ПОЭЗИИ
Перевод А ДОЛИНА
САЙГЕ (1118-1190)
Печально гадаю,
в каких чужедальних краях
под сенью деревьев
Найдут ненадолго приют
опавших цветов лепестки...
* * *
Облетайте цветы!
Я завидую участи вашей,
ибо сердце мое
от мучений безмерных устало
в этом бренном, суетном мире.,,
* * *
Глаза поднимаю —
и вижу в ночной вышине
меж вишен цветущих,
Как будто бы меж облаков,
луны затуманенный лик...
* * *
Гребни гор вдалеке
окутаны призрачной дымкой —
Будто весть подают
в долгожданное это утро,
что весна наконец настала.
210
* * *
Долго ль гостя мне ждать,
что придет насладиться цветеньем
в нашем горном краю? —
Ведь уже лепестки роняет
у плетня растущая слива...
* * *
Сердцу милы цветы
той сливы у старой застрехи —
Созерцая ее,
я сроднился нынче душою
с теми, кто обитал здесь прежде...
* * *
Знаю, что о весне
цветы все равно не забудут —
время их не пришло.
Значит, снова мне в ожиданье
целый день предстоит томиться...
4е * <*
Как хотелось бы мне
из мира уйти в полнолунье,
Чтобы вишенный цвет
вешним месяцем «кисараги»
надо мною струил сиянье!..
* * *
Если б в мире земном
луна не скрывалась за тучи,
Если б вишни весной
лепестки свои не роняли,
я бы жил, тревоги не зная..·
* * *
Я увидел во сне,
как ветер весенний развеял
белый вишенный цвет —
И уже давно пробудившись,
все тревоги унять не в силах..·
211
-Λ· * *
В чем отраду искать
моему безутешному сердцу,
Если скоро уже
под холодным дыханьем ветра
опадут соцветия вишен?..
* * *
Позабуду ли я
ту песню горной кукушки,
Что ночною порой
прозвучала у изголовья
и напомнила мне так многоК,
* * *
Скорбны песни erol
Без умолку ропщет и ропщет
ветер в рощах окрест —
И по голосу в горном селенье
узнают холодную осень· „
* * *
В бренном мире земном
ничто не пребудет вовеки,
все уйдет без следа —
Только лик луны в поднебесье
неизменной красою блещет...
* * *
Вот и хаги в полях
поникли под ветром осенним,
увядают цветы —
На печальный призыв оленя
откликается только эхо«.
* * *
Изголовье мое
украсил узорами иней —
На пожухшей траве
одиноко в пути ночую,
дожидаясь лучей рассвета. ..
212
* * *
Дым над Фудзи-горой
умчался, подхваченный ветром,
в поднебесную даль
И растаял тотчас бесследно —
будто мой конец предрекая...
* * *
Снова в горы уйду
и, не разбирая дороги,
побреду наугад —
Только есть ли на свете место,
где печальных вестей не услышу?..
* * *
Родные края.
Мискант у дверей колосится,
и сад одичал —
Там, где прежде цветы красовались,
нынче только стебли бурьяна...
* * *
Если б в горном краю
обрести настоящего друга,
что отринул сей мир1
Сколько я бы ему поведал
о страданьях своих, невзгодах·«*
МАЦУО БАСЕ (1644-1694)
На голом суку
примостилась под вечер ворона.
Поздняя осень...
■* * *
Задремал на коне,
и видится месяц сквозь дымку!
Дальний дым очага, ..
* * *
Дикой мальвы цветы,
что мирно росли у дороги,
съела лошадь моя«..
213
* * *
Море дремлет во тьме —
одни голоса диких уток
смутно белеют...
* * *
Запах хризантем!
В храмах Нары древностью веют
Изваянья будд...
* * *
Платье летнее —
все никак не вытряхну
набившихся вшей··.
* * *
Тишина вокруг.
Сами камни пронизаны будто
Трелями цикад..·
* * *
Слепень меж цветов —
погоди, не клюй его,
дружок-воробей!..
* * *
Зваться странником
мне отныне суждено·
Первый зимний дождь*..
* * *
Там, где скрылась вдали
печальная песня кукушки,
виден островок...
* * *
На поле битвы
Летняя трава —
павших воинов грезы былые
ею сокрыты...
214
* * *
Уходит весна.
Птицы кличут в тоске, и у рыбы
Слезы на глазах...
* * *
Первый зимний дождь.
Верно, хочется и обезьянке
теплый плащ надеть...
* * *
У соленой рыбы
от холода зубы свело —
рыбная лавка...
* * *
Холодной ночью
заболевший, отставший в пути,
гусь дремлет в поле..·
* * *
Колосок ячменя —
одна мне осталась опора
от друзей вдали.,·
* * *
Под вишней сижу.
Всюду — в супе и в рыбном салате
лепестки цветов.·.
* * *
Тихо лошадь трусит.
Будто вижу себя на картинке
средь летних полей.
* * *
Крабик песчаный
карабкается ло ноге —
как вода прозрачна!
215
* * *
Сорвался с травинки
и л испуге прочь улетел
светлячок зеленый...
* * *
Этой осенью
вдруг старость дала себя знать»
Облака и птицы*·»
* * *
Поздняя осень.
Так я ничего и не знаю
о соседях своих...
* * *
За весь долгий день
еще не нащебетался —
ах, жаворонок..«
* * *
Ветер подует —
и на новую ветку вспорхнет
бабочка на иве.··
* * *
В лачуге моей
для гостя одна отрада —
то, что малы комары...
* • •
Днем на них поглядел
и вижу — красные шейки
у моих светлячков,«·
* * "к
Заглохший пруд.
Лягушка прыгнула в воду —
всплеск в тишине»♦♦
216
• * *
Ясная луна.
У пруда весь день напролет
брожу, любуясь...
* * *
Рассвет настает·
Голос колокола окутан
Пеленой тумана.»,
* * *
«О-о-о- у!» — летит
отголосок печального зова.
Бродит олень в ночи...
* * *
Ночью холодной
мне лохмотья одолжит оно,
пугало в поле...
* * *
О стрекоза!
С каким же трудом на былинке
Ты примостилась...
* * *
Неумелый рисунок —
и все же прелестны они,
цветики вьюнка!..
* • *
Я банан посадил —
и теперь противны мне стали
ростки бурьяна..«
* * *
Деревенька в горах —
непременно у каждого дома
дерево хурмы»♦♦
217
* * *
Как невзрачен, как слаб
стебелек хризантемы садовой —
а бутон уж набух!..
* * *
Петух прокричал.
Зимний дождь барабанит по крыше.
Притихли коровы в хлеву...
* * *
Даже зонтика нет —
а ливень холодный все хлещет.
Эх, вот незадачаК.
* * *
Как тяжел первый снег!
Опустились и грустно поникли
Листья нарциссов...
* * *
Даже серой вороне
это серое утро к лицу —
ишь, как похорошела!
* * *
Зимняя буря,
в бамбуковой чаще осев,
там и утихла.·.
* * *
Я еду верхом»
а тень моя рядом плетется —
холодно бедняжке...
* * *
У очага
поет так самозабвенно
знакомый сверчок!..
218
* * *
Зимнее поле.
Одноцветный, поблекший мир.
Завывание ветра...
ЁСА-НО БУСОН (1716-1783)
Вот лягу я спать,
а наутро проснусь и увижу —
Новый год на дворе!
■к к к
Змей бумажный висит
снова в небе на том же месте,
где был и вчера..·
•к "к -к
Ливень весенний.
Вливаются в океан
мутные воды..·
* ■*■ *
Гору Фудзи вдали
плащом зеленым укрыла
молодая листва·
* * "к
Вышли поле рыхлить.
Даже птица не крикнет в чаще
на склоне горном...
* ie *
Пока я копал,
исчезла с неба над полем
единственная тучка. ~
* * *
Долго тянется день.
Фазан на мосту уселся —
не улетает...
219
* * *
Стая уток вдали.
Ополаскиваю мотыгу —
рябь по воде...
* * *
Поет соловей —
заливается, разевая
маленький клювик...
* * *
Возвращаются гуси
поздно ночью, когда над полями
блуждает меж туч луна...
* * *
Вечно в заботах,
снуют то туда, то сюда
воробьи на гнездах...
* * *
Днем: «Скорее бы ночь»!
А ночью: «Скорее бы утро!» —
квакают лягушки...
* * *
Заливное поле.
Вишни в воду роняют цветы —
луна и звезды··»
* * *
Со свечою в руке
человек гуляет по саду —
провожает весну...
* • •
В чаще лесной
то ударит топор дровосека,
то стукнет дятел...
220
* * *
Заморозки.
Вдалеке журавля больного
вижу на поле...
* * *
Крюк над очагом,
а на нем сверчок примостился —
холод ночной...
* * *
На бамбуковых кольях
у заставы стрекозы сидят
в лучах заката»«·
* * ■*
Листья хурмы
опустились на соевом поле —
издали прилетели..·
•к "к -к
Белая хризантема —
и ножницы перед ней
замерли на мгновенье,··
* * *
В старом пруду
сандалия из соломы.
Падает мокрый снег...
* * *
Поет соловей —
то туда, то сюда повернется
на цветущей ветке.-·
* * *
Маленький домик —
полюбились ему цветы
персика, а не вишни.,·
221
* * *
Лают собаки —
коробейник в деревню пришел.
Персики в цвету.,·
* * *
Уходит весна.
Сквозь щели в соседском заборе
Цветы белеют...
* * *
Летняя гроза —
к траве испуганно жмутся
воробьи в деревне...
* * *
Летнюю речку
так приятно вброд перейти —
сандалии в руке...
* * •
Распускается он,
будто радугу извергая, —
бутон пиона·..
* * *
Вот срезал пион —
и себе настроенье испортил
на целый вечер·.»
* * *
Пиона цветок.
Золотистая бабочка рядом
с серебристой кошкой...
* * *
Очарованы флейтой,
набегают волна за волной.
Осень в бухте Сума...
222
* * *
Туман поутру.
Вдалеке забивают сваю:
бам-бам-бам-бам...
* * *
Осенняя буря —
каково-то придется сейчас
тем пяти домишкам!..
* * *
Убран рис на полях.
Озаряет осеннее солнце
Сорные травы...
* * *
Что за упрямец!
Ловит рыбу под зимним дождем
на вечерней зорьке...
* * *
Озимые сеют.
Стали тени на поле длинней
в лучах заката...
* * *
Ветер подул —
и будто бы вдруг побелели
птицы на пруду...
* * *
Сломанный зонтик —
вот славное вышло зимовье
для летучей мыши!..
* * *
Солнцем озарены,
валуны вдалеке лоснятся —
зимнее поле...
223
* * *
Подбирается мышь
к светильнику у постели —
масло застыло...
* * *
До самых костей,
пробирает в постели холод —
морозная ночь...
КОБАЯСИ ИССА (1763-1827)
Новый год на дворе —
вот она, долгожданная радость!
Голубое небо..·
* * *
В талой воде
барахтается ворона —
знаменье весны···
* * *
Весенний ветер.
Жадно-жадно лакает мышь
из реки Сумида..,
* * *
Крыша в дождь протекла«
Что скажите вы на это,
бедняжки куклы?**
* * *
Деревенька моя!
Как ни прячется в дымке весенней,
до чего же убога!··
* * *
Дымка над лугом·
Болтают о том да о сем
две лошаденки.
224
* * *
Эх ты, соловей!
Обтираешь грязные лапки
о цветы на сливе.,·
* * *
Бедный мой воробей!
Измучился весь» исстрадался
в руках у мальчишек!..
•Je 'к Ы?
Бабочка в саду.
Подползет малыш — отлетает,
подползет — опять отлетает...
* * *
Рядышком сидят
все лягушки — друг дружке подружки,
сестренки да братишки...
* * ■*
С блаженным видом
смотрит на горы вдали
зеленая лягушка,
* * ■*
Хорошо ты поешь —
ну спляши хоть разок, попробуй,
милая лягушка!..
* * *
Слива в цвету —
лунный луч прохожего дразнит:
отломи-ка ветку!
* * *
Малыш на качелях —
как он крепко в ручке зажал
ветвь цветущей вишни!,.
225
* * *
Мой родимый край!
Маленькая, но своя
Роща зеленеет...
* * *
Как хорош этот мир!
Звенят над лугами цикады,
соколы кружат.«,
* * *
Ничегошеньки нет
в моем доме — только прохлада
и душевный покой.·.
* * ■*
Лошадка мама —
как она сторожит у ручья,
пока жеребенок пьет!.«
■* * *
Жирная кошка,
растянувшись на веере, спит
сладко-пресладко. *,
* * *
То туда, то сюда
так и вьется веселый комарик
старику на радость.·.
* * *
Жить бы получше —
и тебя пригласил бы, мушка:
«Отведай риса!»
it * *
Так уж заведено —
кто получше поет, кто похуже
даже среди цикад...
226
* * *
Совсем как люди,
бродят голуби и воробьи
в часы отлива...
* * *
Посадка риса.
Сколько горестей и забот
излито в песне!
* * *
Спит крестьянин в горах —
под головою мотыга.
Жаворонок поет...
* * *
Поет соловей,
на ручку мотыги усевшись.
Хутор Маленькой сливы.*«
* * *
В чайных кустах
воробьи целый день резвятся —
играют в прятки...
* * *
Бабочку стряхнул —
и опять, прищурившись, дремлет
крошка олененок...
* * *
Эй, ползи, ползи,
веселей ползи,
улитка, на вершину Фудзи!..
* * *
В калитку ко мне,
и не постучав, и не квакнув,
шлепает лягушка.*·
227
* * *
Над заглохшей водой,
над старым колодцем белеет
слива в пышном цвету...
* * *
«Шорх-шорх-шорх» —
по траве, по лугам в убранстве зеленом
весна уходит...
* * *
Лето в горах.
Соловья, фазана, кукушку
отрадно слышать...
* * *
Прохладный денек.
Облака, будто горные пики, —
повыше, пониже...
* * *
Летняя ночь.
Два маленьких домика смотрят
на цветущий луг.··
* * *
Летний дождь моросит.
Сквозь бамбук вдали
различаю крыши селенья·..
* * *
Стебли раздвинув,
жеребенок высунул нос —
ирисы в цвету...
* * *
Какая радость1
Вот он — первый укус комариный
в нынешнем году··.
228
* * *
Рой комариный —
а ведь если б он тут не жужжал,
было б скучновато!
* * *
Один человек
И одна случайная муха
в большой гостиной...
* * "к
Кошка играет —
взяла и лапкой накрыла
муху на окне...
* * *
Осторожно — камень!
Голову не ушиби,
милый светлячок!..
* * "к
Муравьи цепочкой
спускаются вниз по скале —
с облака, наверное?..
* * *
Дальние горы
отразились в глазах у нее —
стрекоза луговая,.«
* * *
Вечерняя луна.
Рядом, голая по пояс,
нежится улитка...
* * *
На дверце плетеной
повисла вместо замка
ракушка улитки...
229
* * *
Погляди, улитка,
погляди, как тень твоя
ползет за тобою!,.
* * *
Красота какая!
Сквозь дыры в стенке бумажной
Светит Млечный Путь«,»
* * *
Осенняя ночь.
Неумело путник латает
худое платье...
* * *
Храм в осенних горах»
На веранде слушаю с грустью
призыв оленя..»
* * *
Малыша на меже
от ветра оно закрывает —
пугало в поле,..
* * *
Осторожно, сверчок:
вот сейчас повернусь с боку на бок —
ну-ка, брысь отсюда!
* * *
Метелка травы.
Бьется, бьется, дрожит под ветром
ее сердечко...
* * *
На стерне у ворот
ворох палых листьев засыпал
спящую кошку,..
230
* * *
Никнет бурьян —
низко-низко склонились метелки.
На глазах холодает...
* * *
Огонь в очаге,
а вокруг довольные лица —
все рады жизни...
* * *
Посторонившись,
пес дорогу мне уступил —
тропинка в снегу...
* * *
Холод ночной.
Почему на дворе не лето?!
Луна меж сосен.,,
ОДЗАВА РОАН (1725-1803)
К картине в жанре «Горы и воды»
От мира вдали,
там, где отражает вершины
озерная гладь, —
Исчезнет, я знаю, бесследно
вся скверна, осевшая в сердце...
Бамбуковый занавес
Хотя в этот вечер
я в гости не жду никого,
Но дрогнуло сердце,
когда всколыхнулась под ветром
бамбуковая занавеска...
Предутренний дождь над горной хижиной
Над горною кручей
тяжелые тучи клубятся —
Оконце прикрою
и жду одиноко рассвета,
унылому ливню внимая.«·
231
Облака над горной хижиной
Здесь, в горной глуши,
друзья не заглянут, как прежде, —
Одни облака
к плетню иногда подплывают
и снова уходят куда-то.».
Богатство
Груды сокровищ
в суетной жизни мирской
блеском пленяют —
Словно роса на траве,
что достается ветрам...
Слышу карканье вороны весенним вечером,
когда моросит дождь
Вечер весенний,
дождь моросит без конца.
Горечи полон
крик промокшей горной вороны,
направляющейся к ночлегу!..
Весенняя заря
♦О, если бы вечно
жила эта бренная плоть,
роса луговая», —
Сжимается сердце мое
при виде весенней зари...
Год за годом любуюсь цветами
Каждый год по весне
вместе с новым другом любуясь
вишней в полном цвету,
Стал и я незаметно старцем
вопреки нелепой надежде»..
Ветви старой вишни
Я сам уже стар,
и вишня в саду постарела —
Но юность живет
в ненасытном старческом сердце
и в душистых этих соцветьях...
232
На заре слышу шум осеннего ливня
В безрадостном мире,
где зори проходят как сон,
Еще до рассвета
меня, старика, потревожил
мерный шум осеннего ливня...
Опадают цветы под луной
Если стану потом
вспоминать эту вешнюю ночь,
полумрак, полнолунье, —
Заскользят в предрассветных бликах
лепестки с деревьев отцветших. .«
Еще один вечер
Вот уж краски зари,
расцветившие облачный полог
над вершинами гор,
постепенно тускнеют и блекнут —
Надвигается вечер осенний.··
Свет осенней луны проникает
сквозь бамбуковую штору
Льется призрачный свет
сквозь бамбуковую занавеску —
И, по стенам скользя,
расползаются черные тени
силуэтами лап сосновых».«
Коростель у горной хижины
Кричит коростель.
Сменяется месяц в просветах
меж редких дерев.
Только птичья трель нарушает
тишину обители горной.«.
Вечером слушая песню крестьян в поле
Удзумаса.
Тихий ропот храмовой рощи.
В полумраке
долетает издали песня,—
верно, в поле все еще сеют«··
233
Предрассветная луна, зацепившаяся за горный пик
Как будто за сосны
на самой далекой горе
луна зацепилась
И повисла, рассветный сумрак
Наполняя тусклым мерцаньем,··
Придя в храм Дзэнрин, чтобы полюбоваться цветами,
слушаю сутру под шум бури, когда в смятенье
облетают лепестки с вишневых деревьев
Быстротечная жизнь!
Голос бонзы в храме вещает
о юдоли земной —
И, внимая молитвословьям,
на ветру облетают вишни,,.
Рассветная луна в окошке
Окно приоткрою
так, чтобы виднелась луна
в светлеющем небе, —
И будто бы легче стало
коротать часы до рассвета.··
В Удзумасе холодной ночью скулит лисица
Безлунная ночь.
В старом храме слушаю молча,
как ветер свистит,
Барабанит град по карнизам
да от стужи скулит лисица..·
Луна над разрушенным храмом
Куски черепицы,
разорванный полог провис —
А бронзовый Будда
все так же неколебимо
стоит в сиянии лунном.··
Любуюсь изо дня в день и все же не могу наглядеться
Казалось, не в силах
угасшее сердце прельстить
ничто в этом мире —
И опять, как будто цепями,
я прикован к вишням цветущим...
234
Вечер в горной хижине
Закатное солнце
тускнеет в просветах листвы,
за горы склоняясь.
Сквозь туман донесся чуть слышно
голос колокола из долины...
В думах о том, как праздно встречаю еще один рассвет
На западе — мрак,
на востоке брезжит сиянье,,·
О, если бы знать,
сколько раз еще в этом мире
для меня поднимется солнце!
Тлен
Копитесь, копитесь,
невзгоды и беды мои!
Недолго осталось —
все равно могильным бурьяном
прорастать этой плоти тленной...
Горная хижина
Никто не тревожит
размеренной жизни моей
в пристанище горном —
Как отрадны мне, чудаку,
одиночество и покой!
Облака над хижиной в горах
Я в безлюдных горах
живу, удалившись от мира,
И прошу облака,
что зависли над ветхой крышей:
«Мой приют надежней укройте!»
Слагаю стихи на тему древних речений
Эту бренную плоть,
что росой на ветру испарится,
не оставив следа,
Мы привыкли считать нетленной,
сотворенной на тысячелетья!..
235
Глядя в книгу, со скорбью вспоминаю о минувшем
Сгущается тьма,
но не стоит огней зажигать, —
Еще бес просвети ей
станет сумрак ночи осенней
от светильника под окошком...
* * *
Всем хочется знать:
«А так ли, как нужно и должно,
ты прожил свой век?* —
В праздных думах перебираю
дней минувших долгие четки..·
Думы и чувства на рассвете
Гляжу на восток —
и все, чем отравлено сердце,
уносится прочь.
В небесах над розовой кромкой
блекнут месяца очертанья.··
РЁКАН (1758-1831)
Приятно порой
на солнце весеннем погреться —
К сельчанам подсесть
и мирно под старою ивой
с друзьями вести разговоры«··
* * *
Быть может, и ей
тревоги мирские не чужды··.
Укрывшись в ветвях,
без устали кличет кукушка
и места себе не находит.
* * *
Как незаметно
день этот долгий прошел!
Вешняя дымка...
Я с детворой деревенской
в мячик на нитке играю.
236
* * *
Как сердце щемит!
Сегодня на горной поляне
в сгустившейся мгле
ведут свою песню лягушки
почти что у самого дома...
* * *
Осень подходит.
Холодно мне, старику,
в летней одежде.
Видно, и кленам в горах
время покровы менять...
* * *
Право, не знаю,
как оказался опять
в хижине ветхой —
Верно, по старым следам
сердце меня привело»«.
* * *
Вновь я проведал
свой позабытый приют
в горном селенье. Глядь —
цувабуки цветок
подле ограды расцвел..«
Подпись к автопортрету
Хотя никогда
я жизни мирской не чурался,
но, правду сказать,
намного приятней в покое
вкушать одиночества прелесть..·
К автопортрету дзэнского монаха Бу Дай
Захочешь постичь
блаженного старца природу
и свойства души —
Поведает истину ветер,
что веет в просторах небесных..·
237
Снова увидел родные края
Есть ли на свете
что-либо, чью красоту
время не точит?
Только цветущие вишни
вечно прекрасны весною...
Старец Басе
Тяжко нам, смертным,
век вековать без бумаги,
кисти да туши —
Нынче одолжиться в храме,
завтра врача потревожить,,,
* * *
Сердцу приволье!
Густо кругом разрослись
летние травы.
Вот и жилище мое —
хижина в горном краю...
Надпись на веере
Пусть неприметен
мой одинокий приют
в поле осеннем..·
Слышишь, запели сверчки.
Жду тебя, друг, — приходи!
Соловьиные трели
Топор прихватив,
отправился я по дрова
в окрестные горы, —
А там под каждым кустом
заливается соловей!·.
* * *
Воды натаскать,
да дров нарубить побольше,
да трав насушить,
Покамест не зарядили
осенние долгие ливни...
238
* * *
Погреться хотел,
придвинувшись ближе к жаровне,
но только залег —
И будто мороз зимней ночи
сильней по нутру разошелся...
* * *
Я в плошку свою
пучок одуванчиков сунул,
фиалок набрал —
Вот и славное будет нынче
Будде трех миров подношенье,.·
* * *
День, ночь, снова день —
и вот настает середина
десятой луны·
Помаленьку, глядишь, и прожил
осень этого долгого года...
* * *
Солнце в небе
на запад давно склонилось.
Долог путь
через лес до хижины горной.
Тяжела на плече котомка·..
Бака
Из многих и многих
никчемных привычных вещей
в моем обиходе
для иных веков предназначен
только след, оставленный кистью..·
* * *
Новенький мячик
знакомая мне подарила.
Дергая нитку,
скачки да прихлопы считаю —
вот и день почитай что прожит!..
239
* * *
Гляжу на цветы,
а сердце не знает покоя —
И вместо того,
чтобы вешней красой наслаждаться,
предаюсь печальным раздумьям...
* * *
Нашел я приют
на задворках богатого дома«
Не гонят пока,
и живу себе — поживаю
ночь да день, а там и еще день..*
Надпись на трехстворчатом складне
Стоит ли, право,
радоваться, что уйдешь,
с жизнью простившись,
в мир иной — пусть даже в обитель
самого пресветлого Будды?..
* * *
Поистине, сердце
себя же сбивает с Пути,
строптивое сердце»..
Натяни же крепче поводья,
обуздай свою клячу-сердце1
Надпись на веере
Никому не дано
прикоснуться к Пути Благодати,
осязать его суть,
но в каждом вздохе и мановеньи —
непреложная мудрость Будды...
* * *
О сливовый цвет,
хоть ты стариковскому сердцу
отраду верни!
Сколько лет, как на этом свете
у меня друзей не осталось...
240
* * *
Видно, век доживать
суждено мне в здешних пределах,
на Куками-горе,
В ветхом доме под сенью рощи
при старинном храме Отого,,·
Слагаю стихи
об осенних листьях я гербарии
Там поставлю
красные листья в вазу,
тут наклею
желтый лист на бумагу,..
Так, слагая
стихи о кленовых листьях,
провожу я
осень в хижине горной.
Сочинил,
придя на могилу преподобного Сайге,
и возложил цветы
Не богаче иных
окраской и благоуханьем,
ветка вишни в цвету, —
Но тебе и того довольно,
чтоб постичь скорбящее сердце!,.
* * *
Вишни ранней весной,
а осенью буйные травы —
Вот услада моя,
и пускай хоть всю ночь гуляют,
веселятся в селе крестьяне!».
* * *
Едва прояснилось —
и снова темнеет от туч
осеннее небо...
Не так ли бывает с душою
в текучем, изменчивом мире?..
241
* * *
Путь Благодати
постичь мне и впрямь не дано —
вчера и сегодня...
Так бездарно часы досуга
пролетели в хижине горной!..
* * *
Поглядев на цветы,
вспоминаешь: ничто в этом мире
не пребудет вовек —
И цветы, что позже раскрылись,
все равно опадут, увянут...
* "к -к
Все на свете презрев,
об одном помышляй неизменно,
днем и ночью радей —
Как проповедь в жизни земной
тайну Истинного Пути...
* * *
Голос кукушки
донесся из зелени крон
в рощице горной —
И по этой нехитрой трели
я узнал: весна миновала...
* * *
Скоро, скоро уже
ударят ночные морозы —
Неспроста целый день
верещит в траве, причитает
беспокойный сверчок-узорчатка...
* * *
Если спросят меня,
презревшего пагубу плоти,
как на свете прожить —
Отвечаю: да будь что будет!
Дождь так дождь, ветер так ветер!
242
* * *
Еще неразумней,
чем числа писать ка воде, —
По жизни влачиться,
подвергая всуе сомненьям
правоту учения Будды«.♦
* * *
Человеческий век
подобен единому мигу,
дню цветенья вьюнка».·
Ничего мне в жизни не надо,
кроме жизни — той, что имею!
* * *
Все дела позабыв,
высшей цели я должен достигнуть
причаститься Пути!
Пусть всего лишь на день единый
после тысячи лет исканий..,
* * *
Если спросят меня,
где обитель моя в этом мире,
я отвечу одно:
«Мой приют к востоку от моста
через воды Реки Небесной...»
* * *
Помышляй лишь о том,
что нынешний день уготовил,
настоящим живи,
Ибо прошлое необратимо,
а грядущее непостижимо...
Завещание
После себя
что я оставлю на свете?
Вишни — весне,
лету — голос кукушки,
осени — алые клены...
243
К АГАВ А КАГЭКИ (1768-1843)
Вспоминаю друзей
Нынче ночью опять
в одиночестве я на веранде —
Не спросить ли луну,
где друзья, что со мною рядом
прошлой осенью здесь сидели?..
Роса
Гляжу я в печали...
Роса на закате кропит
деревья и травы.
Как мало, воистину, люди
о сути вещей размышляют!
Ясная луна над горами
Все сосны в горах
уже обрели очертанья,
и ветви видны
до самой последней иголки —
Светел месяц осенней ночью...
Вешнее поле
Вешнее поле.·«
Полнится счастьем душа.
Стоило только
бабочку мне поманить —
и подлетела на зов!
Опавшие листья у хижины, где коротаю досуг
Возле самых ворот,
где нога человека, похоже,
не ступала с утра,
На опавшей листве павлоний
росной влаги прозрачный отблеск...
Снег вокруг горной хижины
Все выше и выше
в горах оседающий снег —
Все чаще и чаще
невольно припоминаю
о том, что год на исходе..«
244
Конец года
Беспечно и праздно
я месяц за месяцем жил,
но время приспело —
И задумался вместе со всеми
о делах минувшего года...
Снегопад в конце года
Белые хлопья
в просторах предвечных небес
тихо кружатся —
Вот уже, как видно, и прожит
целый год из недолгой жизни,,.
* * *
Вчера и сегодня
под вишнями в вешнем цвету
печально гадаю:
Неужели бесследно канут
дней моих весенние зори?..
Утро
Открываю глаза —
и заветные думы ночные
улетучились вмиг.
Поутру так невыносима
пустоты беспредельность в сердце!«·
* * *
Как сиротливо
зиму встречает в горах
мой палисадник!
Прибивая палые листья,
день и ночь дожди поливают...
* * *
Я думал в горах
от горестей бренного мира
спасенье найти —
Но и здесь под игом сомнений
с каждым днем на глазах старею...
245
В похвалу картине с изображением щенка
на стене дз энского храма Нангаси
Я знаю, души
у щенка, да еще на картине,
конечно же, нет —
И все же спрошу, пожалуй:
а вдруг душа отзовется?!*·
Горная хижина
Поселившись в горах,
проводил я дни в созерцанье —
И познал наконец
всю тщету быстротечной жизни,
облакам и водам подобной*♦♦
Осень в горной хижине
Обитателем гор
мне давно уже стать подобает,
опроститься душой —
Отчего же печальные думы
вновь навеял ветер осенний?..
* * *
О, если бы мне
сердце вещее, чтобы сумело
без обыденных слов
объяснить друзьям, для чего же
здесь живу отшельником горным!..
Сны в обители отдохновения
От мира вдали
я пристанище выбрал по нраву
в лесистых горах.
Где соблазном земных влечений
даже сны не смущают душу...
Горную хижину редко навещают гости
Покрываются мхом
полусгнившие доски порога
в обветшалом жилье —
Слишком редко бывают гости
здесь, под кровом хижины горной**.
246
Светильник под окном
Отворяю окно,
чтоб луною полюбоваться —
И мгновенно погас,
растворился во тьме светильник,
наделенный, видно, душою...
Непостоянство
«Все сущее — явь,
не-сущее — сон, наважденье!*
Так думаем мы,
забывая, что жизнь в этом мире
есть всего лишь жизнь в этом мире...
В моей хижине, вдали от мира,
принесли мы друг другу обет дружбы,
но года не прошло, как я услышал,
что дзэнского мастера уже нет в живых,
и, потрясенный, сложил стихи
Вот прозвучал
в тишине мой собственный голос
раз, еще раз —
Но кому ответствует он,
праздный, словно эхо в горах?·.
Старцу Васе
Мне постичь не дано
тех глубин сокровенных, что в недрах
старый пруд твой таит —
Но зато внимаю поныне
в тишине прозвучавшим всплескам.
Сижу с курильницей для благовоний
в виде кошки,
наподобие принадлежавшей Сайге
Сердца порывы
праздно уносятся ввысь
вместе с клубами
благоуханных курений —
Как струйка дыма над Фудзи...
247
К портрету Бодхидхармы на стене
Как ни старайся
от прежних влечений уйти,
Снова и снова
и к луке, и к вишням цветущим
обратишься ты в бренном мире...
Обращаюсь к памяти дзэнского мастера By Дай
«Нет меня», — говорил он.
«Аз есмь», — в стихах возглашал.
Жил, не зная печали,
изо всех житейских напастей
для души извлекая благо..«
С тенью преподобного Сайге беседую
о его желании встретить смерть
под весенней луною
Так ли в мире ином
сбываются все твои грезы,
как сбылись на земле? —
Ведь из жизни ушел ты весною
в полнолунье под сенью вишен.«.
В прохладной сени рощи Тадасу
предаюсь раздумьям
В мире огромном,
как линии в водах реки,
жизни людские —
Распускаются и увядают,
увлекаемые теченьем...
Не спится мне ночью на исходе шестого месяца,
когда уже понемногу
начинает рассеиваться мрак
Летние мошки
на пламя лампады летят —
К смерти стремятся,
торопя и тесня друг друга.
Словно жалкие наши подобья...
248
* * *
К ущербной луне,
потускневшей в преддверье рассвета,
прикован мой взор —
Жаль, так мало ночей осталось
под луною жить в этом мире!..
* * *
В белом тумане
тонет обитель моя
меж скал нависших —
Проводи хоть ты до порога,
тусклый месяц осенней ночи!..
Пришел κ реке Сиракава оплакивать осенние листья
Как радует слух
проворной речушки журчанье!
Над самой водой
саранча в камышах мелькает.
Поживу-ка я здесь немного..·
* * *
Смотрю, как луна
восходит вдали над горами,
сиянье струя, —
И впервые в кромешном мраке
самого себя различаю...
Ива и уходящие годы
Пролетают года,
люди старятся и умирают —
Но весенней порой,
как всегда, на привычном месте
ждет меня зеленая ива...
Немного цветов остается
Если счесть до конца,
без остатка, грядущие весны
краткой жизни моей, —
Как немного в них наберется
лепестков отцветающих вишен...
249
Сосны и луна
Уже проступили
сквозь тьму очертания сосен —
И только луна
пока не спешит появиться,
укрывшись за горной вершиной...
Колокол в горном храме
Созерцанию гор
предаюсь я самозабвенно.
Затихает вдали
голос колокола, с вершины
о закате дня возвещая...
ОКУМА КОТОМИТИ (1798-1868)
Месяц
Того и гляди,
подхваченный ветром осенним,
с вершины сосны
умчится в ночные просторы
едва народившийся месяц«.·
В ожидании
При виде бутонов,
что утром раскрыться должны
на сливе близ дома,
сегодня сосед мой весь вечер
счастливую прячет улыбку...
Дым
В лунном сиянье
вьется лиловый дымок
тоненькой струйкой.
Гаснет костер во дворе —
только что мусор сожгли··.
Долгие дни
Думаю с грустью:
как ни длинны вечера
порой весенней,
но ведь пройдут и они,
станут далеким * вчера ».,.
250
Только сердце
Я светильник задул —
и не стало в то же мгновенье
всех привычных вещей.
Лишь одно у меня осталось —
сердце в дряхлом, немощном теле·..
Цисты и луна
Оттого-то как раз,
что сам не богат и не знатен,
созерцая сей мир,
я цветы называю цветами,
а луну — неизменно луною.,.
Веер
Лето настало,
но стоило только раскрыть
сложенный веер —
и в рисунке вновь оживают
очертанья дымки весенней.··
Горная хижина
Прозрачной воды
зачерпнув из горной протоки,
в ладонях своих
вижу скверне мирской и тлену
недоступное отраженье...
* * *
Пожил здесь — и опять
одиночество гложет ночами.
Неужели же нет
в этом мире гор, чтоб навеки
захотелось в них поселиться?·.
Храм в горах
Осенней порой
под сводами горного храма
застыли в тиши,
грустно выстроившись по чину,
одинокие бодхисаттвы.·.
251
Летние травы
Где-то в доме моем
колокольчик на шее котенка
неумолчно звенит —
только он один и тревожит
летних трав дневную истому...
Путешествие старца
Дряхлой плоти моей,
я знаю, теперь уж недолго
землю обременять —
В дальний путь без конца и начала
скоро, скоро тронется странник...
Затененное оконце
Сквозь ветви сосны
лучи заходящего солнца
пробились к окну —
И впервые багряный отблеск
заиграл огнем, заискрился...
Цветы ямабуки у горной хижины
В безлюдных горах
близ хижины уединенной
под самой стеной
разрослись цветы ямабуки,
заслонили собою окошко,.·
Месяц над моим двориком
Ярчайшим сияньем
сегодня облит палисад —
Укрывшись во мраке,
буду издали любоваться
превращениями лунных бликов.··
* * *
Ничего не свершив,
не начав ничего и не кончив,
Коротаю досуг
под окошком в своей лачуге
и старею себе понемногу..·
252
В думах о перерожденъи и будущей жизни
Не нужны мне совсем
ни чины, ни высокие званья —
Здесь, на этой земле,
я хотел бы вновь возродиться
в том же самом, прежнем обличье...
Одежда
Не успел залатать —
снова, глядишь, прохудился
мой истлевший наряд...
За такими-то вот делами
пролетели весна и осень.
Колокол под луной
Сквозь туманную мглу,
возвестив приближение ночи,
шестикратно звучит
голос колокола в часовне —
Луна восходит над лугом·.·
* * *
Соловьиная трель
прозвучала под сводом леса —
Все дела позабыв,
дороги не разбирая,
наугад бреду по тропинке...
КОММЕНТАРИЙ
Сингон — буддийская секта. Создана в 806 г. Кукаем
(Кобо Дайси). Доктрина основана на признании двух
миров, телесного и душевного, очищения которых
надлежит добиваться человеку неустанным радением. Центр на
священной горе Коя. Насчитывает в Японии около 13
тысяч храмов и монастырей. — К с. 12,
Тэндай — буддийская секта. Создана в 806 г. Сайте
(Дэнгё Дайси), Доктрина основана на соблюдении трех
заповедей: отвержение зла, свершение добрых деяний и
доброе отношение ко всему живому. Центр на священной
горе Хиэй. Насчитывает в Японии 4600 храмов и
монастырей. — К с. 12.
Дзёдо — буддийская секта. Создана в 1174 г. Гэнку
(Энко Дайси). Доктрина основана на вере в Чистую
землю Будды, ожидающую всех после смерти. Насчитывает в
Японии 8322 храмов и монастырей. — К с. 12.
Син — иначе Дзёдо син, или Истинная Дзёдо.
Буддийская секта. Создана в 1224 г. Синраном. Доктрина
основана на вере в обет будды Амитабхи спасти всех
смертных независимо от их земных деяний. Насчитывает
в Японии 19 608 храмов и монастырей. — К с. 12.
Нитирэн — буддийская секта· Создана в 1253 г. Ни-
тирэном. Доктрина основана на соблюдении трех
«великих таинств», установленных Буддой: Почитания,
Закона и Морали. Насчитывает в Японии 5194 храмов и
монастырей. — К с. 12.
Эпоха Тан — период правления династии Тан в Китае
(618-907). — К с. 12.
Бодхидхарма (V-VI вв.) — легендарный основатель
Чань (Дзэн)-буддизма, по официальной хронологии 28-й
254
буддийский патриарх и первый патриарх Чань (Дзэн),
пришедший с проповедью нового учения из Индии η
Китай. — К с. 18.
Дзэн — от санскр. дхьяна (самосозерцание), в
китайском языке носит название Чань. Возникновение секты
относится к VI в. — К с, 18,
Эпоха Сун — период правления династии Сун в Китае
(960-1279). После захвата Северного Китая кочевыми
племенами чжурчжэней в южной части страны была
провозглашена империя Южная Сун (1127-1279) со
столицей в Ханьчжоу. — К с. 25.
Эпоха Камакура — период правления сегунов
династии Минамото и Ходзё (1192-1333). — К с. 25.
Торо — Генри Торо (1816-1862), американский
писатель, автор известной книги «Уолден, или Жизнь в лесу».
Пропагандировал опрощение, жизнь на лоне природы,
радости одиночества. — К с. 26.
Фудзивара Садаиэ (в другом прочтении Тэйка, 1162—
1241) — крупнейший поэт раннего средневековья,
составитель популярнейших поэтических антологий «Сто
стихотворений ста поэтов» («Хякунин иссю») и «Новое
собрание старых и новых песен Ямато» («Син Кокинсю»), —
К с. 27.
Хань Шань (VIII в.) — чаньский поэт-отшельник
эпохи Тан, известный своим эксцентричным поведением,
любовью к бедности и глубоким проникновением в
законы природы. — К с, 28.
Ши Дэ (VIII в.) — чаньский поэт, друг Хань Шаня. —
К с. 28.
Фудзивара Иэтака (1158-1237) — крупнейший поэт
своего времени, соперник Тэйка и его партнер по
составлению антологии «Син Кокинсю», наставник в
поэтическом искусстве императора Го-Тоба. — К с. 28,
Токугава Иэясу (1542-1616) — основатель
династии сегунов Токугава, сумевший окончательно
объединить под своей властью княжества феодальной
Японии. Похоронен в Никко, небольшом городке
центральной Японии, славящемся красотой храмовых
ансамблей, в частности мемориальным храмом Иэясу. —
К. с. 29.
Эпоха Муромати — период правления династии
сегунов Асикага (1336-1573). — К с. 30.
Эпоха Тэмпё — 729-766 гг. — К с. 31.
Эпоха Нара — 710-794 гг. — К с. 31.
255
Эпоха Хэйан — 794-1192 гг. — К с. 31.
Чистая земля Будды (Дзёдо) — буддийский рай в
представлении адептов секты Син. — К с. 31.
Рэннё (1415-1499) — выдающийся реформатор
буддийской секты Син, основатель ряда крупнейших
храмов- — К с, 31.
Канто — обширная равнина в восточной части
острова Хонсю, на которой расположены, в частности, Эдо
(Токио) и Камакура, бывшая столица Камакурского сёгу-
ната. — К с. 32-
Эпоха Северной и Южной династий — период «двое-
царствия» (1336-1392), когда на юге Японии, в Ёсино,
правил законный император Годайго и его наследник, а
престол в Киото был захвачен узурпатором,
ставленником сегунов Асикага. В дальнейшем Южная династия
была ликвидирована. — К с. 33«
Эпоха Асикага — период правления династии сегунов
Асикага (1335-1573). — К с. 42.
Букко Кокуси (1226-1286) — в истории японской
церкви известен как Согэн. Прибыв из Китая в 1279 г»
по приглашению Ходзё Токимунэ, стал настоятелем
крупнейшего монастыря Энгаку-дзи дзэнской секты Риндзай.
Получил посмертное имя Букко. — К с, 44,
Квац! — традиционное восклицание дээнского
мастера· — К с. 45.
...принесенные варварами...— по примеру китайцев,
японцы называли варварами как монголов, так и
европейцев. — К с. 46.
.„равно с японской и с монгольской стороны··,— в
монгольской армии Хубилая было немало также
китайских и корейских воинов, призванных для участия в
экспедиции. — К с· 46»
...гладь четырех морей...— историческая метафора.
«Четыре моря» в китайской классике означает
Поднебесную империю — Китай, а в расширительном значении
весь мир* — К с. 46.
«Сокрытое в листве» («Хагакурэ») — сочинение
Ямамото Цунэтомо, самурая, постригшегося в буддийские
монахи. — К с. 48,
Масасигэ — имеется в виду Кусуноки Масасигэ (1294-
1336), прославленный полководец, сражавшийся под
знаменем императора Го-Дайго· — К с. 50.
Эпоха Токугава — период правления династии
сегунов Токугава (1603-1868). — К с. 51.
256
Дух-разум (син кокоро) — понятие, передающее смысл
целого комплекса терминов из области философии и
психологии: «сердце», «душа», «дух», «разум»,
«сознание» и т, д. В сфере воинских искусств фигурирует
обычно как дух-разум. — К с. 52.
Каи и Суруга — центральные провинции в
административном делении средневековой Японии. — К с, 53.
...знаменитый ответ Бодхидхармы: «Я не знаю». —
Имеется в виду беседа Бодхидхармы, прибывшего в
Китай, с У — правителем царства Л ян, о сущности
буддизма. В ответ на вопрос У: «Кто же сейчас стоит передо
мной», — Бодхидхарма сказал: «Я не знаю». Правитель
не понял истинного смысла ответа, и разочарованный
миссионер ушел из царства Л ян в царство Вэй, где
поселился в монастыре Шаолинь. — К с. 55.
Ода Нобунага (1534-1582) — знаменитый
полководец, сумевший после нескольких десятилетий
кровопролитных междоусобных войн добиться централизации
власти в стране. Поощрял также связи с европейцами. —
К с. 56.
Колесо Дхармы — традиционный образ, передающей
бесконечное действие буддийского Закона — Дхармы· —
К с. 56.
...под своими церковными именами... —
«обращенные* (нюдо), как и буддийские священнослужители,
получали символические церковные имена (псевдонимы). —
К с. 57·
Ходзё Такатоки (1303-1333) — последний правитель
Камакура. Покончил с собой, проиграв сражение
знаменитому военачальнику Нитта Ёсисада· — К с. 60.
Маньчжушри (яп. Мондзю) — один из наиболее
популярных бодхисаттв буддийского пантеона. —
К с. 64.
...напоминает пророка Магомета*·♦ — в принципе
ислам запрещает изображение человека, но в каноническом
образе Магомет нередко предстает с мечом в одной руке и
Кораном в другой. — К с« 64.
Асикага Такаудзи (1305-1358) — первый сегун
династии Асикага. — К с. 64.
Притча Чжуан-цзы о ноже мясника — речь идет о
притче великого даосского мыслителя Древнего Китая
Чжуан-цзы (VI-V вв, до н. э.), где утверждается
необходимость многолетней упорной тренировки для
достижения виртуозного мастерства в любом деле. — К с« 65.
257
Синто — исконно японская религия, исповедующая
анимизм и политеизм. На протяжении многих веков
уживалась в Японии с буддизмом и конфуцианством. —
К с. 65.
Иннари — синтоистское божество. Изображается в
ви де лисы. — К с. 66.
Такуан (1573-1645) — в молодости вступил в
буддийскую секту Дзёдо· Позже стал одним из видных
теоретиков дзэнских воинских искусств« Пользовался
большим авторитетом при дворе императора и сегуна.
Основал храм Токай-дзи. — К с* 67·
Каннон — бодхисаттва Авалокитешвара, божество
милосердия, защищающее бедных, слабых и угнетенных. —
К с. 70.
♦ «•подобны двум колесам в повозке... — колесницы
знати, запряженные волами, как и крестьянские телеги в
Японии, имели только два колеса. — К с. 72.
Сайге (1118-1190) — настоящее имя Сато Норикиё.
Прославленный поэт эпохи Камакура. В молодости
служил в свите императора Го-Тоба. В двадцать три года
постригся в монахи и провел остаток жизни в
странствиях. Две книги стихов Сайге вошли в золотой фонд
японской литературы. — К с. 72.
...становитесь Буддой, божеством... — имеется в виду
воплощение Будды, которым может стать любой человек,
и синтоистское божество, одно из многих
представленных в пантеоне этой религии. — К с. 73.
Конфуцианство — религиозно-философское,
политическое и морально-этическое учение, разработанное
Конфуцием (Кун-цзы, VI-V вв. до н· э.). — К с. 74.
Средоточие (тандэн) — энергетический центр
организма, расположенный в нижней части живота. —
К с. 74.
«Почтительное отношение» — основной принцип
конфуцианской этической доктрины, регулирующей
отношения между младшими и старшими, слугой и господином,
детьми и родителями и т. д. — К с* 74.
Мэн-цзы (372-289 гг. до н* э) — великий мыслитель
Древнего Китая, способствовавший оформлению учения
Конфуция в стройную идеологическую систему. Автор
трактата «Мэн-цзы». — К с, 74·
«Праджня-парамита-сутра» — «Сутра о добродетели
Высшей мудрости», одно из основных сочинений
буддийского канона. — К с· 77.
258
.,. подобен котенку на веревочке... — в Японии
котят, чтобы они не убегали, водили на веревочке, как
собак на поводке. — К с. 77.
...еще жил в Китае,,. — в период жизни св. Согэна в
Китае империя Сун пала под ударами монгольской
армии, В год установления правления монгольской
династии Юань Согэн перебрался в Японию. — К с. 78.
Сатори — животное из притчи является
аллегорическим образом дзэн-буддийского Прозрения. — К с. 78.
...однажды произошло в истории,·» — имеется в виду
не реальная история, а дзэ некая притча. Однажды под
вечер охотник отправился в лес« Внезапно ему
показалось, что за деревом притаился тигр, и он, не медля ни
мгновения, спустил тетиву лука. Все было тихо вокруг.
Наутро охотник пришел на то же место подобрать
добычу, но увидел, что стрела вонзилась в утес, «Дух единый
рассекает камень!» — гласит мораль притчи, — Кс. 84,
Касима — божество-покровитель синтоистского храма
Касима в провинции Хитати, основанного, согласно
легенде, первым императором Японии Дзимму. — К с. 82.
...«не найти даже тигру места, чтоб вонзить в твое
тело когти»..· — перефраз цитаты из тракт акта
древнекитайского мыслителя Лао-цзы (VI-V вв. до н. э.) «О Дао
и его проявлении», определение человека, познавшего
Путь Дао. — К с. 84.
...«убивать — не значит убить».,· — строка
стихотворения трактует психофизический тренинг в
смертоносных воинских искусствах как путь к
самосовершенствованию человека. — К с» 84·
Луна в потоке — буддийская метафора
иллюзорности. — К с. 85.
...или от светской должности... — приведенная Суд-
зуки версия весьма сомнительна, так как еще со времен
танского Китая буддийские, особенно дзэнские (чаньс-
кие), монастыри зачастую становились школами
воинских галя монахов и мирян. Отсюда обычай
почтительного обращения к мастеру воинских искусств как к
дзэнскому наставнику независимо от его реальной
принадлежности к церкви. -Кс. 87·
...вытащил разбойника наружу и скрутил его·.. —
эпизод был использован режиссером Акира Куросавой в
знаменитом фильме «Семь самураев»· — К с, 87.
Исэ — провинция в центральной Японии. — К с. 87.
Кун-цзы — подлинное имя Конфуция. — К с· 92.
259
Четверокнижие — включает «Рассуждения и беседы»
(«Лунь юй») Конфуция, трактаты «Мэн-цзы», «Великое
учение» («Да сюэ») и «Учение о Срединном пути» («Чжун
юн»). — К с, 93.
Монастыри Пяти Гор — расположенные в
окрестностях Киото буддийские обители секты Дзэн: Тэнрю-дзи,
Сёкоку-дзи, Кэннин-дзи, Тофуку-дзи и Мандзю-дзи. Все
пять монастырей формально подчинялись обители Нанд-
зэн-дзи. Обычай выделять Пять главных монастырей
пришел в Японию из Индии и Китая* — К с. 94»
Реставрация Мэйдзи (1868) — иногда также
называется незавершенной буржуазной революцией Мэйдзи.
Знаменовала падение феодального режима сёгуната,
реставрацию подлинной императорской власти и переход
страны к буржуазным социально-экономическим
отношениям, — К с, 94.
Чжу Си (ИЗО — 1200) — выдающийся мыслитель
средневекового Китая, чье учение оказало сильнейшее
влияние на становление неоконфуцианства в Японии» —
К с. 93.
Риндзай — одно из двух (второе — Сото) важнейших
ответвлений секты Дзэн в Японии, основанное в конце
XII в. монахами Какуа и Эйсай, которые прошли
обучение у дзэнских наставников в Китае» — К с* 94.
♦ ..августейшему преемнику... — император Хаиадзо-
но добровольно отрекся от престола (согласно обычаю) в
пользу императора Го-Дайго и с 1318 г. прожил тридцать
лет монахом в храме Мёсин-дзи. — К с. 94.
...подверглись гонениям*,· — имеются в виду
некоторые притеснения сторонников конфуцианской учености в
XVIII в., в период расцвета так называемой
национальной школы — кокугаку. — К с. 94·
Лао-цзы (VI-V вв. до н. э.) — великий мыслитель
Древнего Китая, один из основоположников
философского даосизма. — К с. 96.
Чжуан-цзы (369-286 гг. до н. э.) — великий
даосский мыслитель. — К с. 96.
Махаяна — «Учение большой колесницы», или
«Широкий путь к спасению». На рубеже I—II вв. н. э. на
IV буддийском соборе, созванном правителем
североиндийского Кушанского царства Канишкой, буддизм
разделился на две ветви — Махаяну (распространена в Китае,
Центральной Азии, Японии, Корее) и Хинаяну, или
«Учение Малой колесницы % (распространена на Цейлоне и в
260
странах Индокитая). Оба направления при общей докт-
ринальной базе имеют ряд характерных отличий. В
частности, для буддизма Махаяны характерен
многочисленный пантеон бодхисаттв, божественных покровителей и
заступников человечества, — К с* 96-
Нагарджуна (I-II вв н. э.) - буддийский философ,
разработавший основные концепции Махаяны - — К с, 96.
Династия Суй — период правления императорской
династии Суй в Китае (581-618). — К с. 97.
«Саддхарма-пундарика-сутра» — одна из
основополагающих сутр Махаяны. — К с· 97.
Асанга {IV в») — индийский философ, теоретик маха-
янистской школы Виджнякавада (йогачара). — К с. 97,
Васубандху (IV в.) — индийский философ, также
теоретик школы Виджнякавада. — К с. 97.
«Аватамсака-сутра» — одна из основолагающих сутр
Махаяны. — К с. 97,
Сыма Цянь (145-86(7) гг· до н. э.) — великий
историк Древнего Китая, автор многотомного труда
«Исторические записки* («Ши-цзи»). — К с, 100.
Яо и Шунь — мифические мудрые правители
Древнего Китая, — К с. 102.
Мотоори Норинага (1730-1801) — один из лидеров
движения «национальной школы (кокугаку) в Японии,
противопоставивший «исконно японский» дух древних
памятников японской литературы и истории
«схоластической» учености конфуцианства и буддизма. —
К с. 104.
Фут — мера длины, равная 30,48 см. — К с. 105.
Эйсай (1131-1315) — основатель дзэнской школы
Риндзай. — К с. 106.
Иккю Содзюн (1394-1481) — прославленный дзэн-
ский мастер секты Риндзай, талантливый литератор
и художник. Настоятель монастыря Дайтоку-дзи. —
К с. 106.
Догэн (Сёё Дайси, 1200-1253) — буддийский
философ и поэт, основатель храма Эйхэй-дзи и создатель
одного из двух магистральных направлений Дзэн в Японии —
секты Сото. — К с. 109.
...водрузим на место камни... — в японском
«природном* саду большую роль играют валуны, которые
зачастую доставляют издалека. — К с. 110.
Кашьяпа — ученик Будды. Согласно легенде,
однажды Будда Шакьямуни, желая донести до учеников
261
внутренний смысл своего учения, молча поднял над
головой цветок, и только Кашьяпа, все поняв, улыбнулся в
ответ. — К с. 111.
Цзэн-цаы — китайский философ, ученик и последовав
тель Конфуция (VI в, до н* э*)· — К с. 111.
...колени простолюдина соприкасаются с коленями
вельможи·,* — на чайной церемонии, как и в школах
хайку, икэбаны, каллиграфии дзэнского толка, царил
дух демократии, ибо все уравнивались в условной
простоте и бедности, — К с. 116.
Аматэрасу-омиками — богиня Солнца» одно из
главных божеств синтоистского пантеона. — К с. 119.
Мацусима — одно из трех мест («трех жемчужин»)
Японии (Ама-но Хасидатэ, Мацусима» Миядзима),
прославленных красотой пейзажа. — К с. 126.
Соги (1421-1502) — поэт и теорик жанра ранга. —
К с. 126.
Сэссю (1420-1506) — знаменитый художник,
усвоивший традиции китайской живописи, ученик Дзёсэцу и
Сюбуна. — К с. 126.
Сэн-но Рикю (1520-1591) — знаменитый мастер
чайной церемонии и икебаны, — К с. 127.
Тоётоми Хидэёси (1536-1598) — родившись в семье
земледельца, Хидэёси добился высокого поста «канцлера»
(кампаку), сумев объединить феодальных властителей
Японии» Организовал два неудачных похода на Корею. Как
истый тиран, он питал слабость к прекрасному: хорошо
разбирался в чайной церемонии и театре Но. — К с. 128.
Император Оогимати — правил в 1558-1586 гг. —
К с. 128.
• ♦♦готов поразить будд и патриархов... — имеется в
виду знаменитое высказывание дзэнского мастера Линь-
цзи {IX в#): «Встретишь Будду — убей Будду, встретишь
патриарха — убей патриарха!» Смысл изречения: в
царстве Пустоты не может быть авторитетов, не существует
обвиняющих и обвиняемых, жизни и смерти — все лишь
иллюзия, наваждение. — К с. 129.
...покончить жизнь самоубийством... — обычно для
самурая казнь заменялась приказом совершить харакири.
Эта «почетная» смерть избавляла семью от репрессий. —
К с. 128.
...камни, что лежат в земле на тропинке... — речь
идет о плоских каменных плитах, что укладываются в
виде дорожки с небольшими интервалами. — К с· 135*
262
Кано Танъю (1602-1674) — знаменитый художник,
пользовавшийся покровительством сегунов Хидэтада и
Ибмицу из династии Токугава, — К с. 135.
Дзёсю (Чжао Чжоу) — китайский дзэнский мастер
эпохи Тан, — К с. 138.
Андо Хиросигэ — великий художник, работавший в
жанре цветной гравюры по дереву, автор известных серий
«100 видов Эдо» и «36 видов Фудзи». — К с, 142.
Хиэй — священная для буддистов гора близ Киото, с
рядом монастырей, центр секты Тэндай. — К с. 143.
Банановое деревце — неплодоносящий банан (басе),
служит в японской поэзии символом чувствительности
поэтического сердца, так как его широкие листья легко
рвутся при порывах ветра» — К с. 144.
Исполинский замок — замок Иэясу в Токио, после
реставрации Мэйдзи стал резиденцией императора. — К
с. 145.
Театр Но — жанр театрального искусства, получив -
ший широкое распространение в XV в. Драмы ёкёку
исполняются в условной манере на фоне красочных
декораций« Актеры играют в масках. — К с. 146.
Этим вешним дождем... — сезон весенних дождей в
Японии (цую) приходится на конец мая. — К с. 148.
...поэтами и философами Конкорда«·. — речь идет
о кружке трансценденталистов, главой которого был
Р. У. Эмерсон, а участниками Г. Д. Торо, Дж. Рипли,
Т. Паркер и др. Действовал в Конкорде. Близ Конкорда
на берегу Уолденского озера в 1845-1847 гг. жил Торо,
автор книги «Уолден, или Жизнь в лесу». — К с. 150.
Эмерсон Ральф Уолдо (1803-1882) — уроженец
Конкорда, писатель и философ, автор программной книги
«Природа», популярных статей, очерков и лекций.
Пропагандировал идею близости человека к природе и
непротивления злу насилием. — К с. 150.
Карлейль Томас (1795-1881) — английский
публицист, историк и философ. — К с. 150.
Бхакти — средневековое индийское религиозное
учение, возникшее из соединения принципов индуизма и
ислама и проповедовавшее глубокую личную преданность
и любовь к «богу в душе». — К с. 154.
Анэсаки Масахару — автор книги «История религий в
Японии»» — К с« 161·
Рёкан — на русском языке творчество Рёкана
представлено в книге «Осенние цикады (Из японской лирики
263
позднего средневековья)» (M.: Наука, 1981). — К с. 169.
...колокол... — в японских храмах колокола не
грушевидной, а конической формы. Вместо языка колокола
используется било — горизонтально подвешенное
снаружи бревно. — К с. 173,
♦ ..молодые ростки бамбука в пищу... — мягкие,
сочные ростки бамбука являются популярным блюдом в
Японии и Китае. — К с. 174.
...сохранять свежую зелень... — образ не совсем
точен, воспевал человека, свободного от предрассудков
буржуазного общества — могучего, раскрепощенного,
живущего единой жизнью с природой. — К с. 178,
«Путь богов» (каминагара-но мити) — очевидно,
имеется в виду какая-то разновидность традиционной
японской религии Синто («Путь богов»). — К с. 179.
Хотэй (Бу Дай) — один из «семи богов счастья» в
Японии, прообразом которого служит китайский чаньс-
кий монах X в. Изображается в виде веселого толстяка с
холщовым мешком, полным всякого добра. — К с. 180.
...обречено исчезнуть к исходу дня... — эта
особенность вьюнка обусловила и его название в японском
языке «вечерний лик», поскольку наиболее трогательно
выглядит цветок перед увяданием. — К с. 185.
ГЛОССАРИЙ
Аватара (санскр.) — воплощение в новом рождении,
ипостась.
Адвайта (санскр.) — «не-дуальность» в восприятии
мира.
Айкидо (яп.) — вид борьбы.
Ангья (санскр.) — «пешее путешествие»,
паломничество.
Бодхимандала(санскр.)— «местопросветления»,
«место постижения пути», зал для медитации в буддийском
храме; зал для занятий воинскими искусствами.
Бонно (яп.) — «остановка», «задержка»,
«помрачение» — категория буддийской философии.
Бхутакоти (санскр.) — «пределы сущего» —
категория индийской философии.
Ва (лп.) — гармония.
Ваби (яп·) — сознание «вечного одиночества»,
стремление к бедности, простоте — категория японской эстетики.
Вака (яп.) — пятистишие из 31 слога*
Васан (яп.) — буддийские гимны.
Вэнь-да (кит.) — см, Мондо·
Ганганадивалука (санскр.) — «песчинки в Ганге»,
обозначение бесконечного множества.
Даймё (яп.) — крупный феодал в средневековой
Японии.
Дза-дзэн (яп.) — см. Цзо-чань.
Дзэнтай-саю (яп.) — «полная самоотдача» в дзэнской
практике и в художественном творчестве.
Дзюдо (яп.) — вид борьбы,
Дзяку (яп.) — см. Саби.
Додзё (яп,) — см. Бодхимандала.
265
Дхарма (санскр.) — великий закон бытия, учение
Будды.
Дхармакая (санскр.) — «тело сущности» в
философии буддизма,
Дэв (санскр.) — мифическое божество.
Икэбана (яп.) — искусство аранжировки цветов-
Иннэн (яп*) — поучительные истории, «анекдоты» в
буддийской литературе.
Ио (яп.) — хижина отшельника.
Иори (яп.) — см. Ио.
Исаги-ёку (яп·) — «без страха и упрека» — принцип
самурайской морали.
Какэмоно (яп.) — картина в виде свитка.
Подвешивается вертикально.
Кампаку (яп.) — канцлер, титул правителя Японии
Тоётоми Хидэёси,
Канси (яп,) — стихи на китайском языке, сложенные
японскими авторами.
Кара (санскр.) — буддийский талисман, атрибут дзэн-
ского монаха.
Карма (санскр.) — всеобщий закон
причинно-следственной связи бытия, воздаяние за дела в
предшествующих рождениях и основа будущих перевоплощений в
учении буддизма.
Каратэ (яп,) — вид борьбы·
Катацуки (яп.) — чайница в утвари для чайной
церемонии,
Кёку (яп.) — шуточные стихи в форме трехстиший-
хайку.
Кисараги (яп,) — месяц «перемены одежд», второй
месяц лунного календаря.
Коан (кит.) — поучительные «случаи» в практике
Дзэн-буддизма.
Коку (яп.) — мера риса, около 150 кг, которой
определялся размер годового жалованья служилым самураям.
Коута (яп.) — народные песни, особенно популярные в
«веселых кварталах» больших городов в эпоху Токугава.
Кун-ань (кит·) — см. Коан.
Кэй (яп.) — «почтительность» — категория дзэн-
буддийской морали.
Кэндо (яп·) — «Путь Меча», искусство фехтования,
Кэса (яп.) — монашеский плащ·
Ли (кит.) — первопричина бытия — категория
китайской философии.
266
Микадо (яп,) — архаичное название императора.
Мин-фэн (кит.) — закон «имен и частей » в
философии Чжу Си.
Мондо (яπ0 — «поверхностный дух-разум» в
философии Такуана.
Муга (яп.) — «безличностность», состояние
отрешенности духа в дзэнской философии.
Мунэн (яп.) — «не-мыслие» — категория дзэнской
философии.
Мусин (яп.) — «не-дух-разум», растворение духа во
вселенной — категория дзэнской философии.
Myco (яп.) — «бездумье» в философии Такуана.
Муся-сюгё (яп.) — «учеба воина», рыцарские
странствия самурая.
Наги (санскр.) — змееподобные существа в индийской
мифологии.
Нирвана (санскр.) — «небытие», обитель забвения и
вечного блаженства в буддийской философии.
Нирманакая (санскр.) — «тело Превращения» в
философии буддизма,
Нуса (яп.) — моление, священные таблички.
Нюдо (яп.) — «обращенный», мирянин, ставший на
путь Дзэн,
Осё (яп.) — буддийский священник, обращение к
священнослужителю или мастеру Преподобный,
Отэдама (яп.) — игра в ручной мячик.
Парамита (санскр.) — добродетель.
Рё (яп.) — денежная единица в средневековой Японии.
Родзи (яп.) — «тропинка», «подход», палисадник
возле чайного домика.
Рэнга (яп*) — «стихи-цепочки» — жанр
средневековой японской поэзии»
Саби (яп.) — «прелесть обыденного», красота мира —
категория дзэнской эстетики*
Сакэ (яп.) — алкогольный напиток из риса.
Употребляется в подогретом виде.
Самадхи (санскр.) — состояние Просветления в
буддизме.
Самбхогакая (санскр.) — «тело Блаженства» в
философии буддизма.
Саммай (яп.) — см. Самадхи.
Сансара — круг земных страстей и влечений.
Санти (санскр.) — состояние покоя и умиротворенности.
Санъмэй (кит») — см. Самадхи.
267
Сатори (яп.) — «Прозрение», достижение
просветления в практике Дзэн.
Сё (яп.) — мера сыпучих тел, около одной кварты,
Сёгун (яп.) — диктатор, военный правитель
средневековой Японии.
Сиори (яп.) — «терпкость бытия» — категория дзэн-
ской эстетики.
Сумиэ (яи.) — живопись тушью в Японии и Китае.
Сэй (яп.) — «чистота» — категория дзэнской морали«
Сэки (яп.) — «покой» — категория дзэнской морали.
Сэппуку (яп«) — см. Харакири.
Тандэн (яп.) — точка «сосредоточения жизненной
энергии», энергетический центр, расположенный на два паль^
ца ниже пупа.
Танка (яп·) — пятистишие, см. Вака.
Татами (яп.) — соломенная циновка, мера площади,
равная 1,6 м2.
Татхата (санскр.) — «самобытность», «самость» —
категория буддийской философии.
Тай-сюй (кит.) — Великая Пустота — категория
китайской философии.
Тайцзи (кит.) — Великий предел, обозначающий
взаимопереход полярных начал Инь и Ян — категория
китайской философии.
Тёка (яп.) — «длинная песня» в японской поэзии
раннего средневековья.
Токонома (яп.) — алтарная ниша в интерьере
японского дома.
Трикая (санскр.) — «положение о трех телах» в
философии буддизма.
Тэмари (яп.) — игра в мячик на нитке.
Тэра (яп.) — буддийский храм.
Тэракоя (яπ0 — школа при храме.
Тяною (яп.) — чайная церемония.
Тянь-ли (кит.) — Небесный Резон — категория
китайской философии.
У (кит.) — «ничто» в философии даосизма, см. Сатори.
Упадхьяна (санскр.) — см. Осё.
Упаякаусалья (санскр.) — «уловка», «тайный
способ» поучения в буддизме.
Усин (яп.) — «присутствие духа-разума» в дзэнской
философии.
У-цзи (кит.) — Беспредельность — категория
китайской философии.
268
Фуга (яп.) — «изящество», «утонченность» ^
категория дзэнской эстетики.
Фурю (яп.) — принцип «ветра и потока»,
эстетическое мироощущение.
Хайку (яп.) — трехстишие из 17 слогов.
Харакири (яп.) — ритуальное самоубийство путем
вспарывания живота, принятое в самурайском сословии.
Хонсин (яп.) — «истинный дух-разум» в философии
Такуана.
Цзо-чань (кит.) — сидячая медитация.
Ци (кит.) — биоэнергия, яп. Ки.
Цую (яп.) — сезонные весенние дожди.
Шунья (санскр.) — «пустое», «иллюзорное» —
категория буддийской философии.
Шуньята (санскр.) — Пустота, основа мира —
кардинальное положение буддийской философии,
Шравака (санскр,) — адепт, последователь Будды.
ОГЛАВЛЕНИЕ
ОТ ИЗДАТЕЛЯ 3
ДУХ ДЗЭН 5
Глава первая
ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ЗАМЕТКИ,
НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ПОНИМАНИЯ ДЗЭН 17
Глава вторая
ОБЩИЕ РАССУЖДЕНИЯ
О ЯПОНСКОМ ИСКУССТВЕ 24
Глава третья
ДЗЭН И САМУРАИ 40
Глава четвертая
ДЗЭН И ИСКУССТВО МЕЧА 63
ТАКУАН
«О НЕПОКОЛЕБИМОМ ДУХЕ РАЗУМЕ» 68
Глава пятая
ДЗЭН И КОНФУЦИАНСТВО 89
Глава шестая
ДЗЭН И КУЛЬТ ЧАЯ 105
ТАКУАН О ЧАЙНОЙ ЦЕРЕМОНИИ 110
Глава седьмая
РИКЮ И ДРУГИЕ МАСТЕРА
ЧАЙНОЙ ЦЕРЕМОНИИ 127
Глава восьмая
ДЗЭНБУДДИЗМ
И ЛЮБОВЬ ЯПОНЦЕВ К ПРИРОДЕ 140
Глава девятая
ЧЕЛОВЕК КАК ЧАСТЬ ПРИРОДЫ 152
Глава десятая
ЖИЗНЬ «В ПРОСТОТЕ» 168
Глава одиннадцатая
ПОЭЗИЯ ЦВЕТОВ,
ПТИЦ, ВЕТРА И ЛУНЫ 185
ПРИЛОЖЕНИЕ 199
ДУХ ДЗЭН В ЯПОНСКОЙ ПОЭЗИИ 210
КОММЕНТАРИЙ 254
ГЛОССАРИЙ 265
Д.Т. Судзуки
ДЗЭН-БУДДИЗМ В ЯПОНСКОЙ КУЛЬТУРЕ
Издательство «ТРИADA»
Директор издательства В. И. Соколов
Ответственный секретарь A.A. Пуськова
Редактор и корректор У. А. Елъкина
Верстальщик Α. ΪΟ. Лапшин
194358, Санкт-Петербург» пр* Энгельса, дЛ47, коргь«Д»
Тел./факс: (812) 598-8243; E-mail: triad(5)robotek.ru
Издательство «Гиперион»
199178, Санкт-Петербург, В. О. Большой пр., 55
Тел./факс: (812) 275-9855; E-mail: h vper i or](a>ffîail. rcom. ru
Интер нет - сай τ : www.h y per ion. spb, r u
Использованы иллюстрации, репродукции
и фотографии из книг:
1. «Hokusai».
2. «Современная живопись Японии (школа Ни χ он га)*·
(выставка произведений Японской национальной
живописи иэ музея «Яматанэ»).
3. «The Gardens of Japan» (Сады Японии). Kodansha International.
4. «История Культуры Японии ». Фотографии Японского фонда.
5. «Япония». Фотоальбом Ф. Мараини.
6. «Японские цвета и формы».
7. «Чайная церемония».
Подписано в печать 22.03.04
Формат 84x108/32. Гарнитура SchoolBook.
Печать офсетная. Тираж 2000 экз. Заказ 301.
Отпечатано с готовых дияподугтивоя я Φ ГУ Π ИПК «Лвниздаг»
(типография им. Володарского) Министерства РФ по делам печати,
телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.
191023, Санкт-Петербург, наб. Фонтанки, д. 59
ISBN 5-90I178-16-5