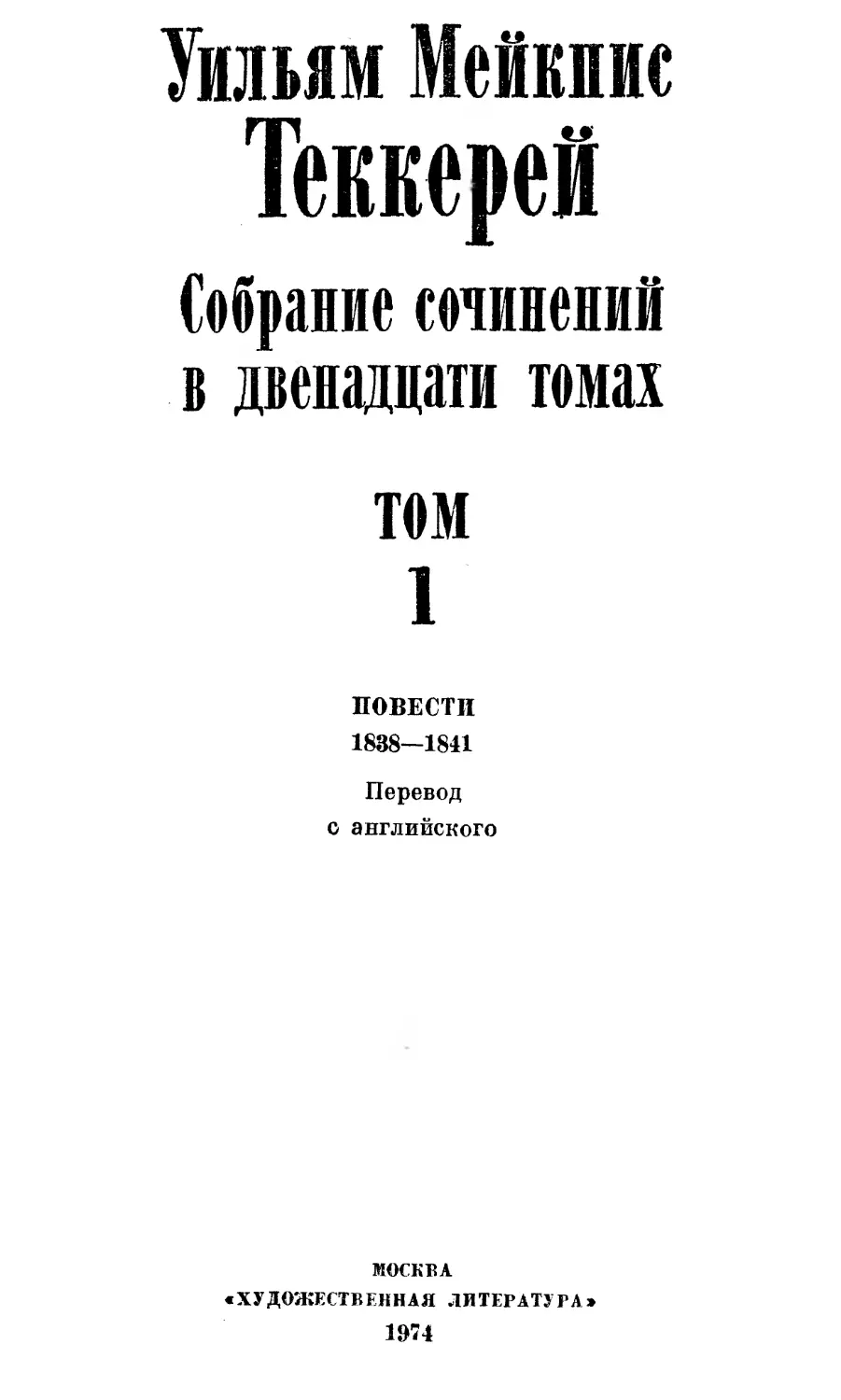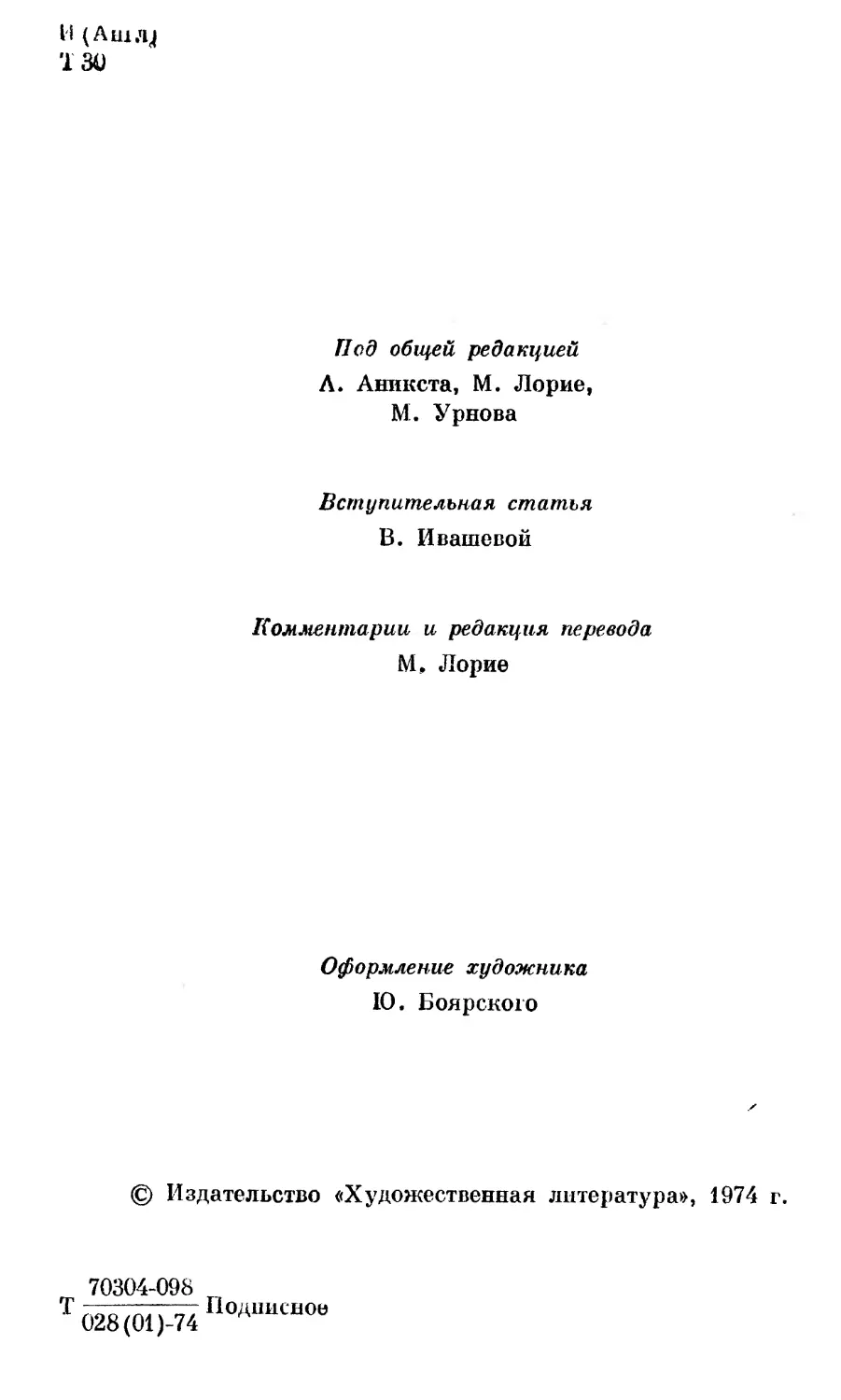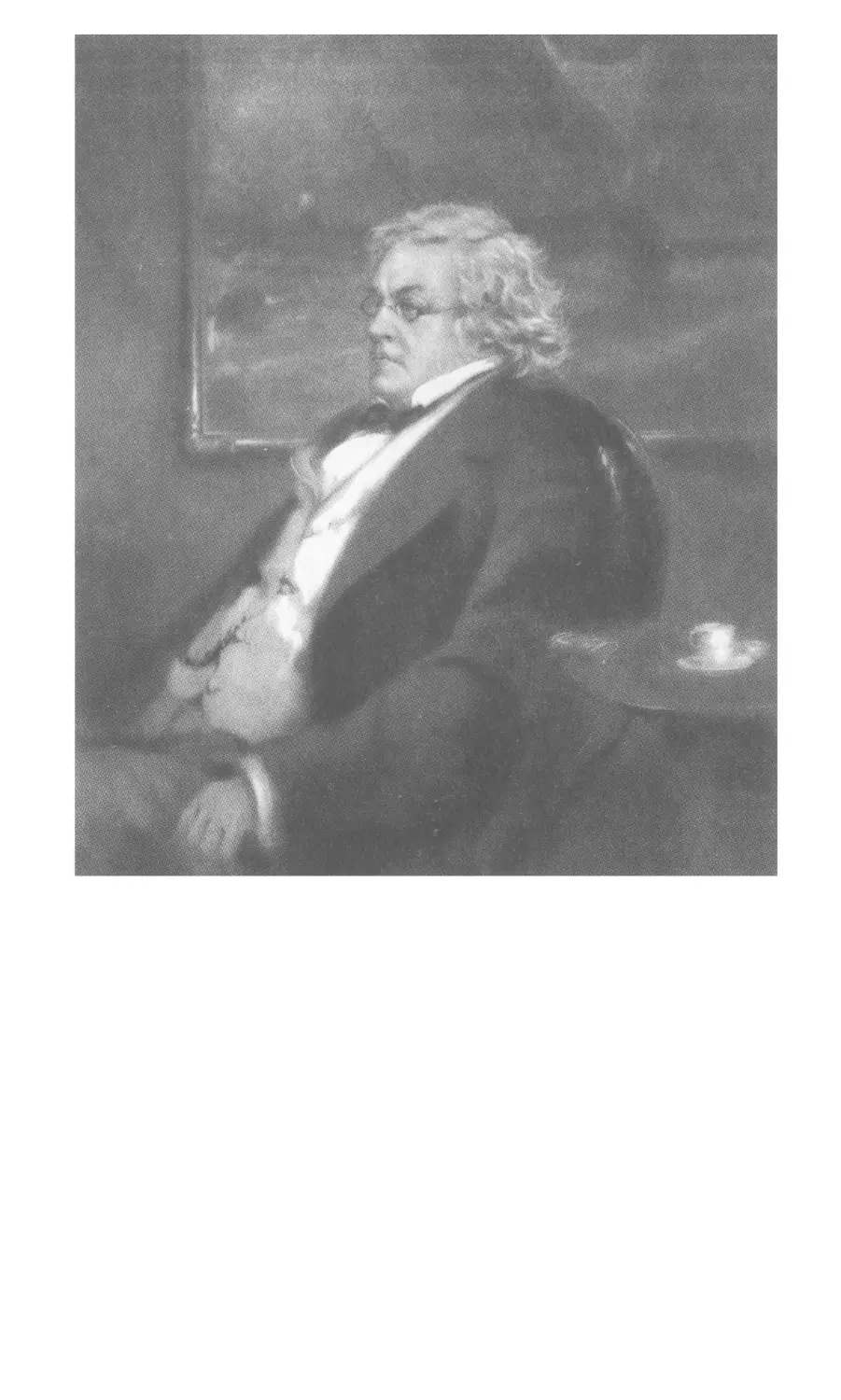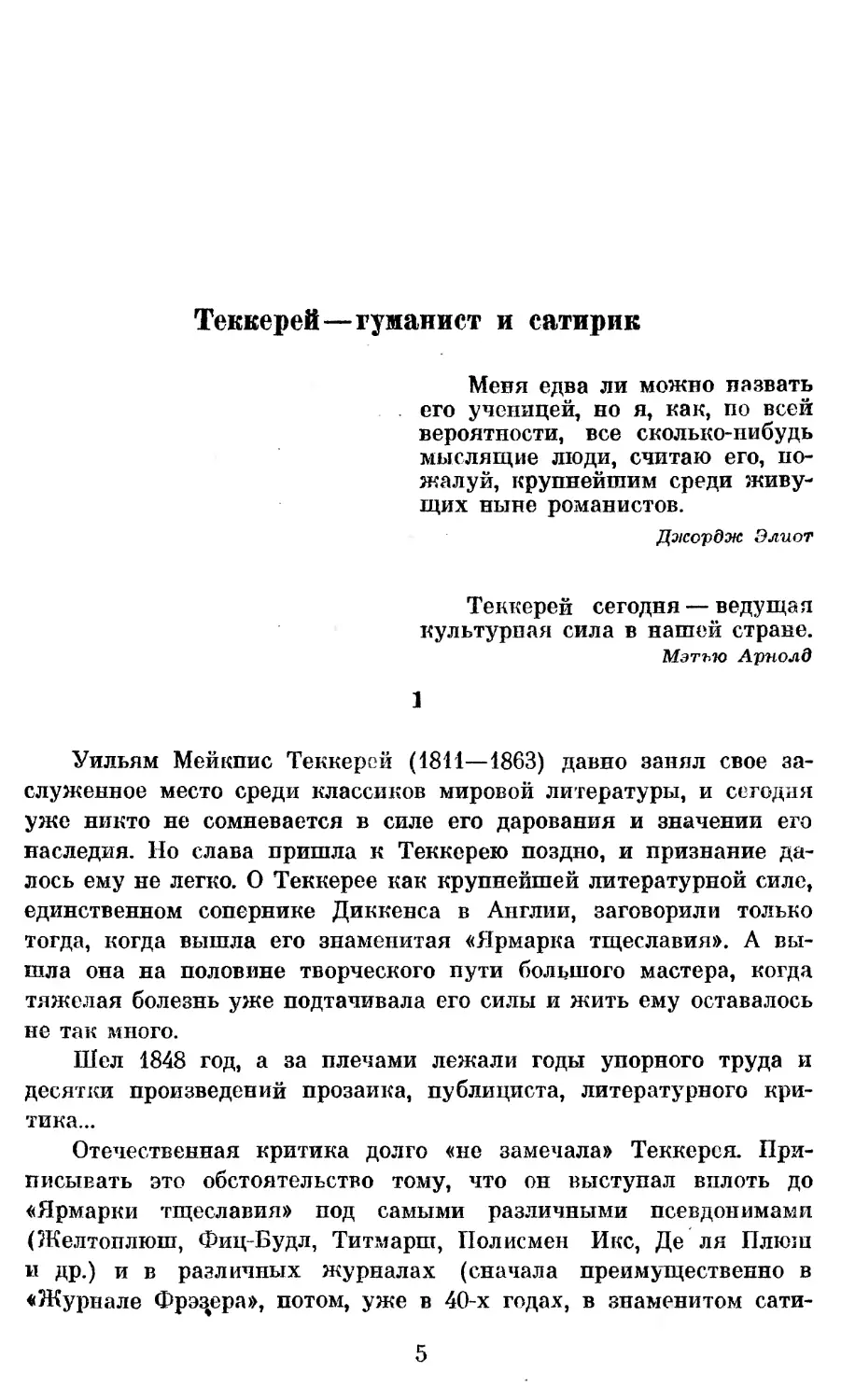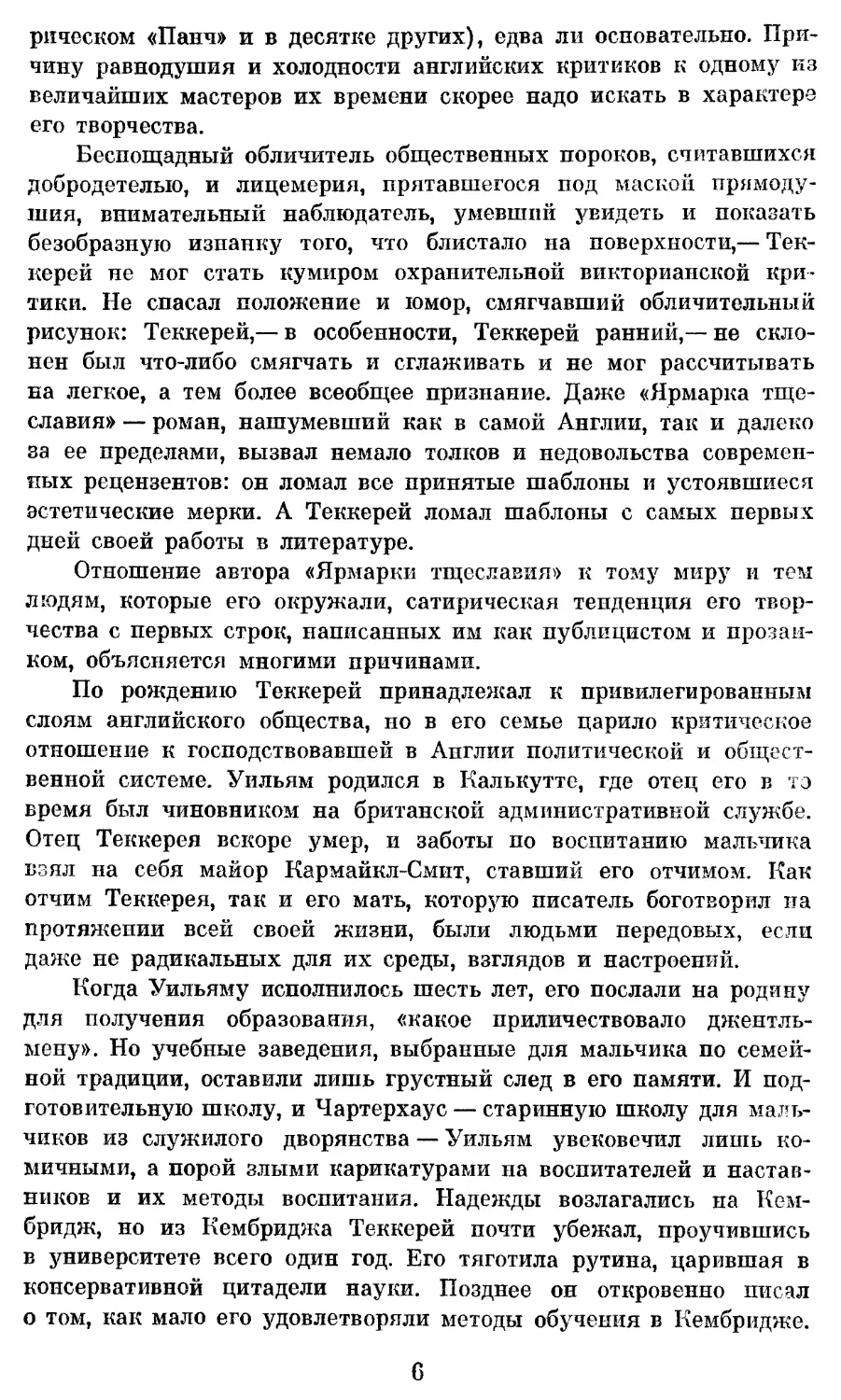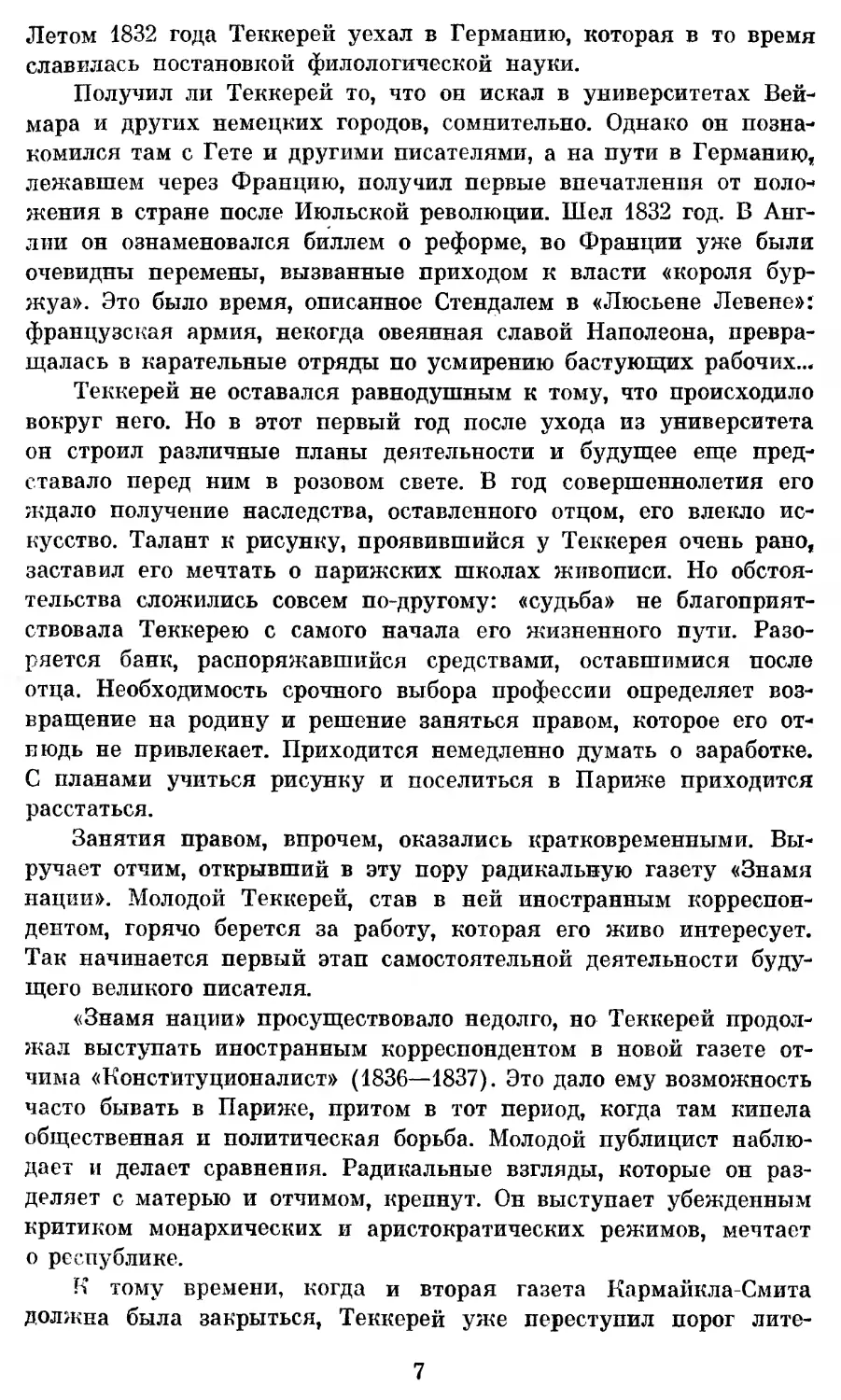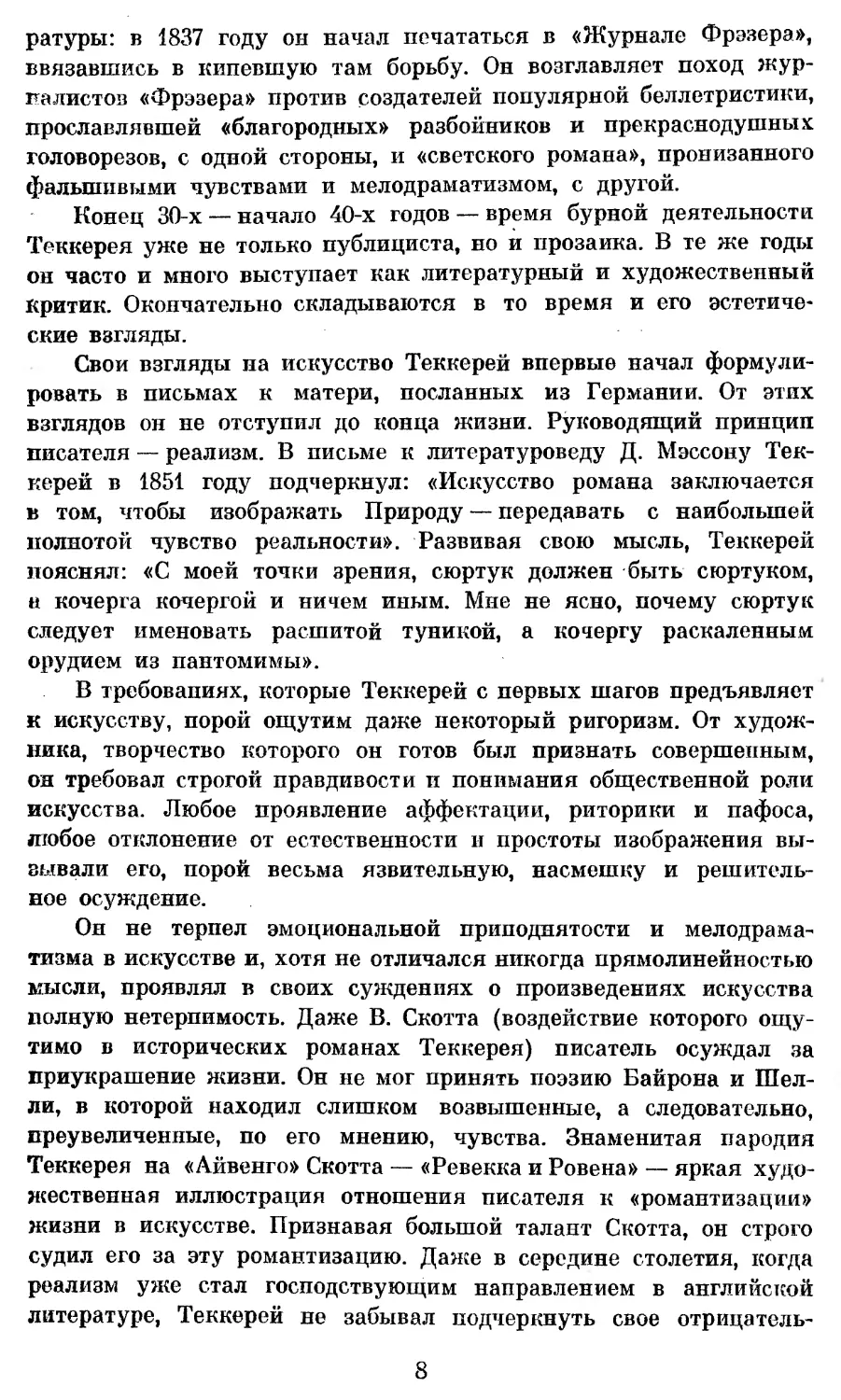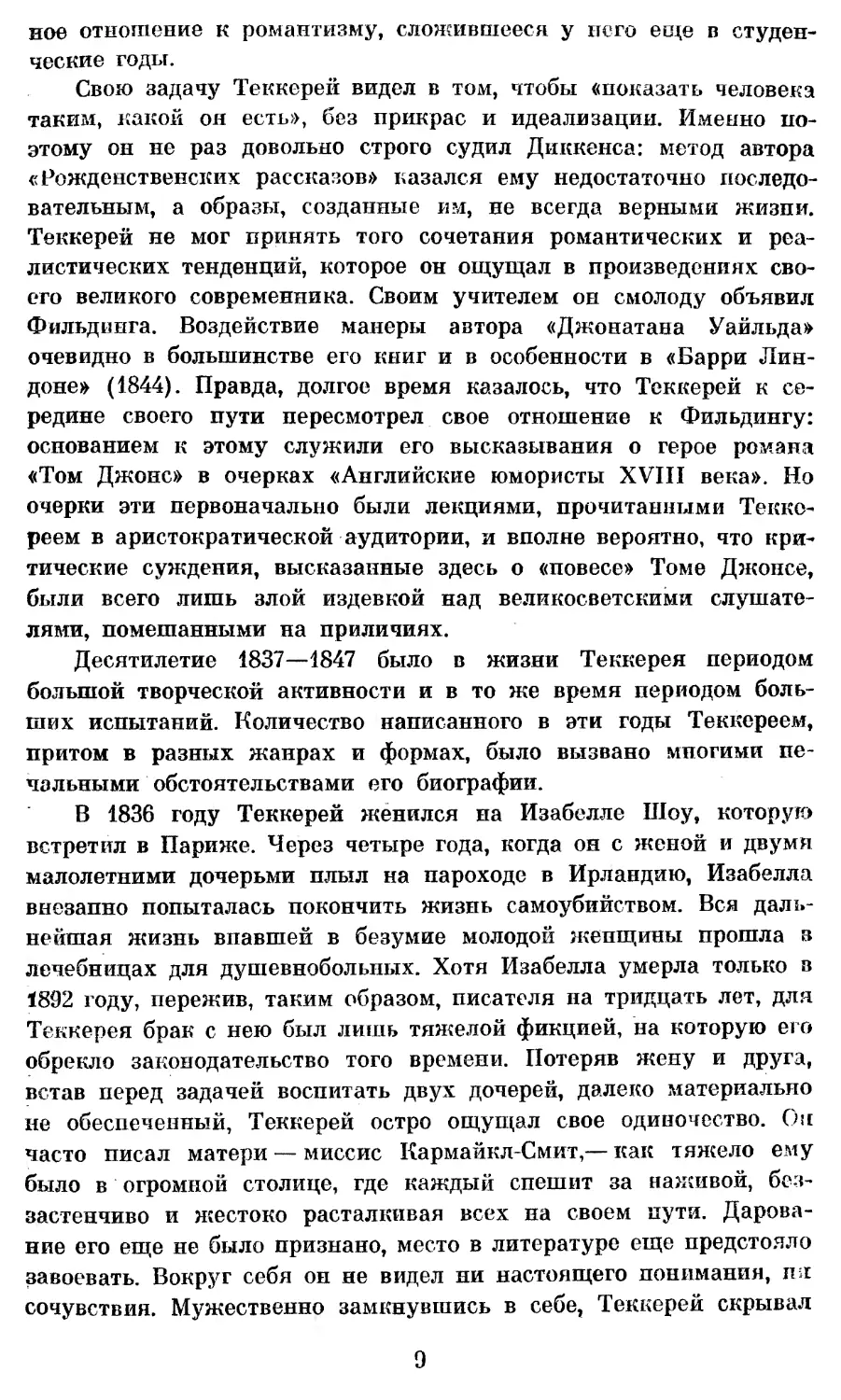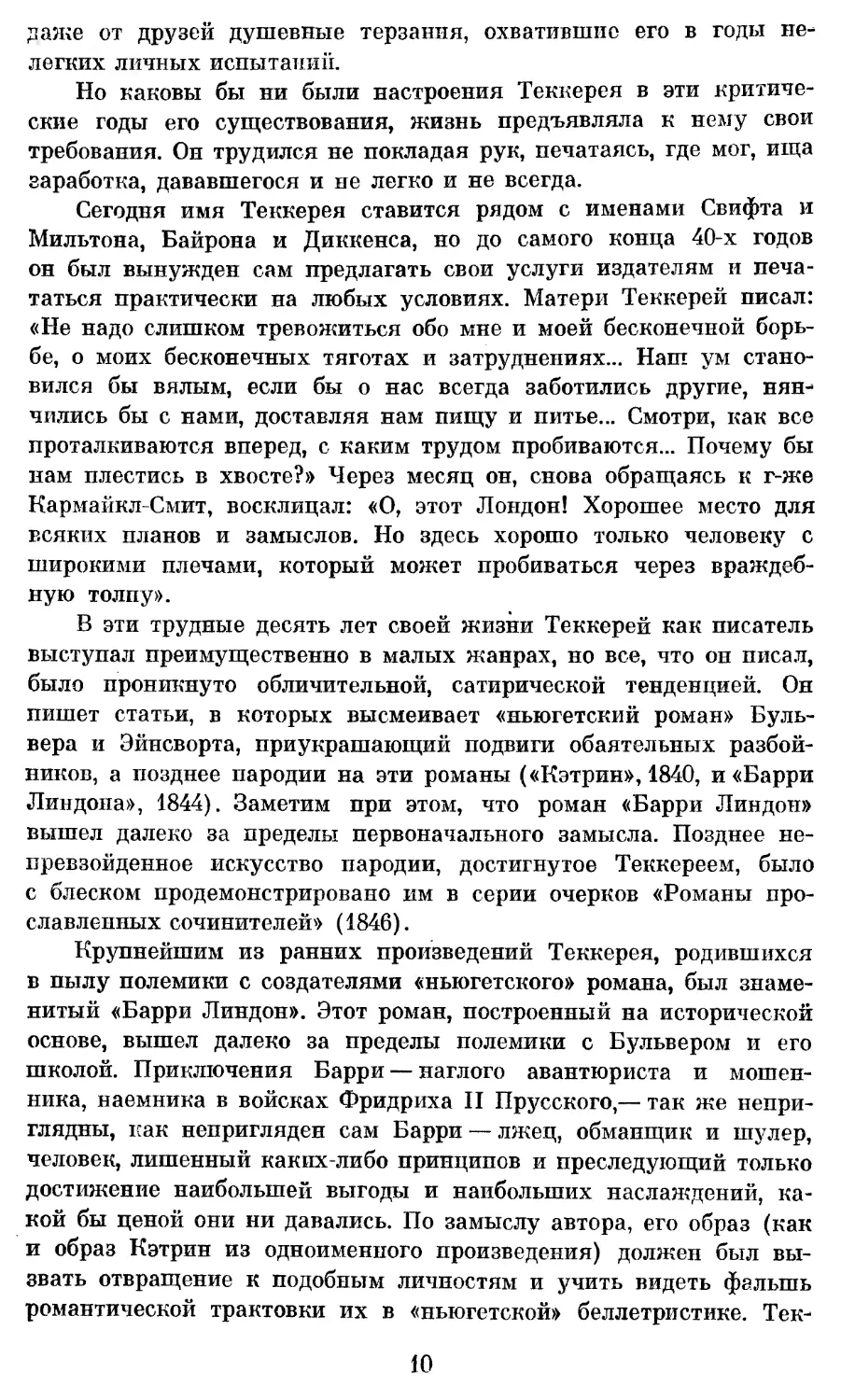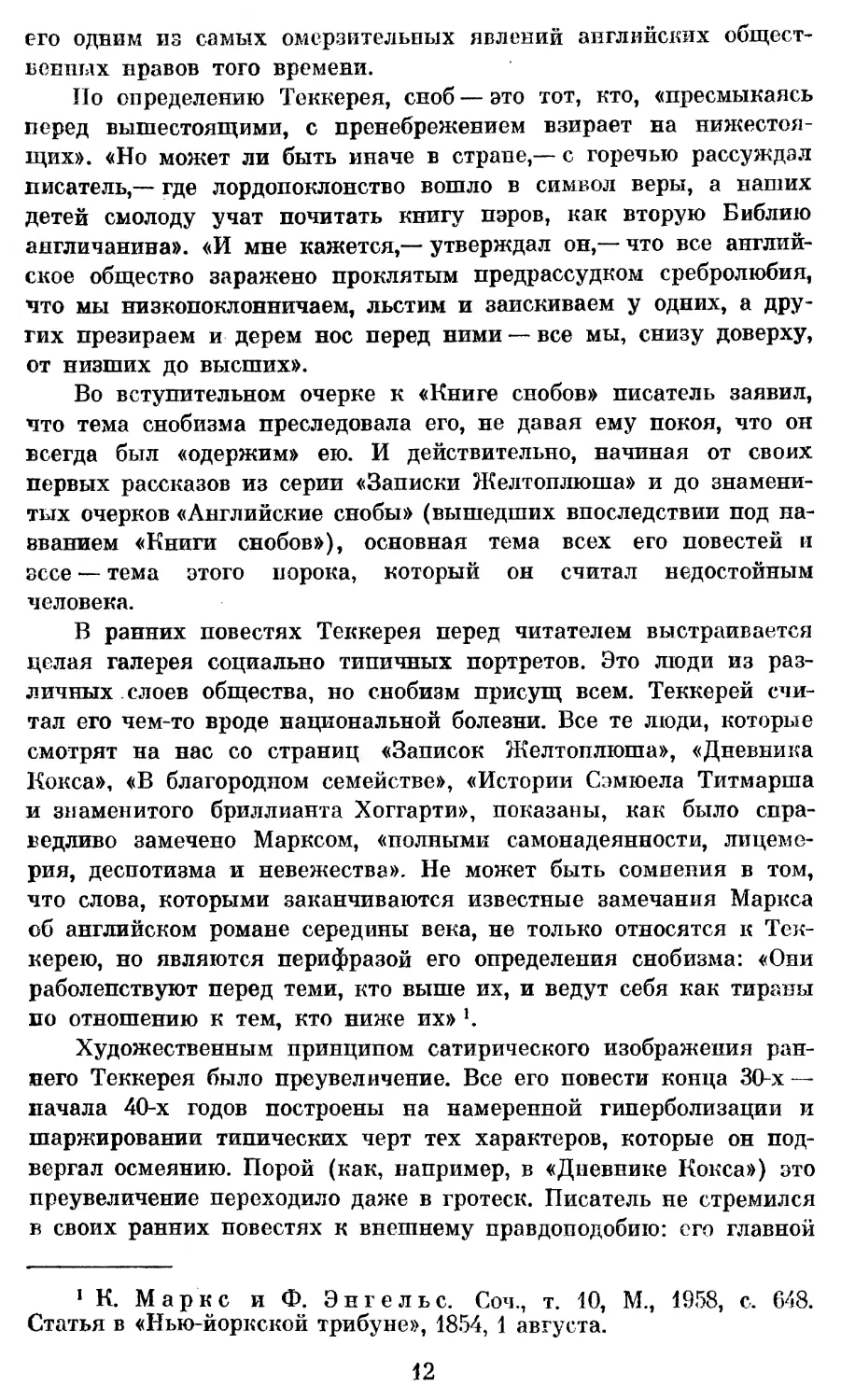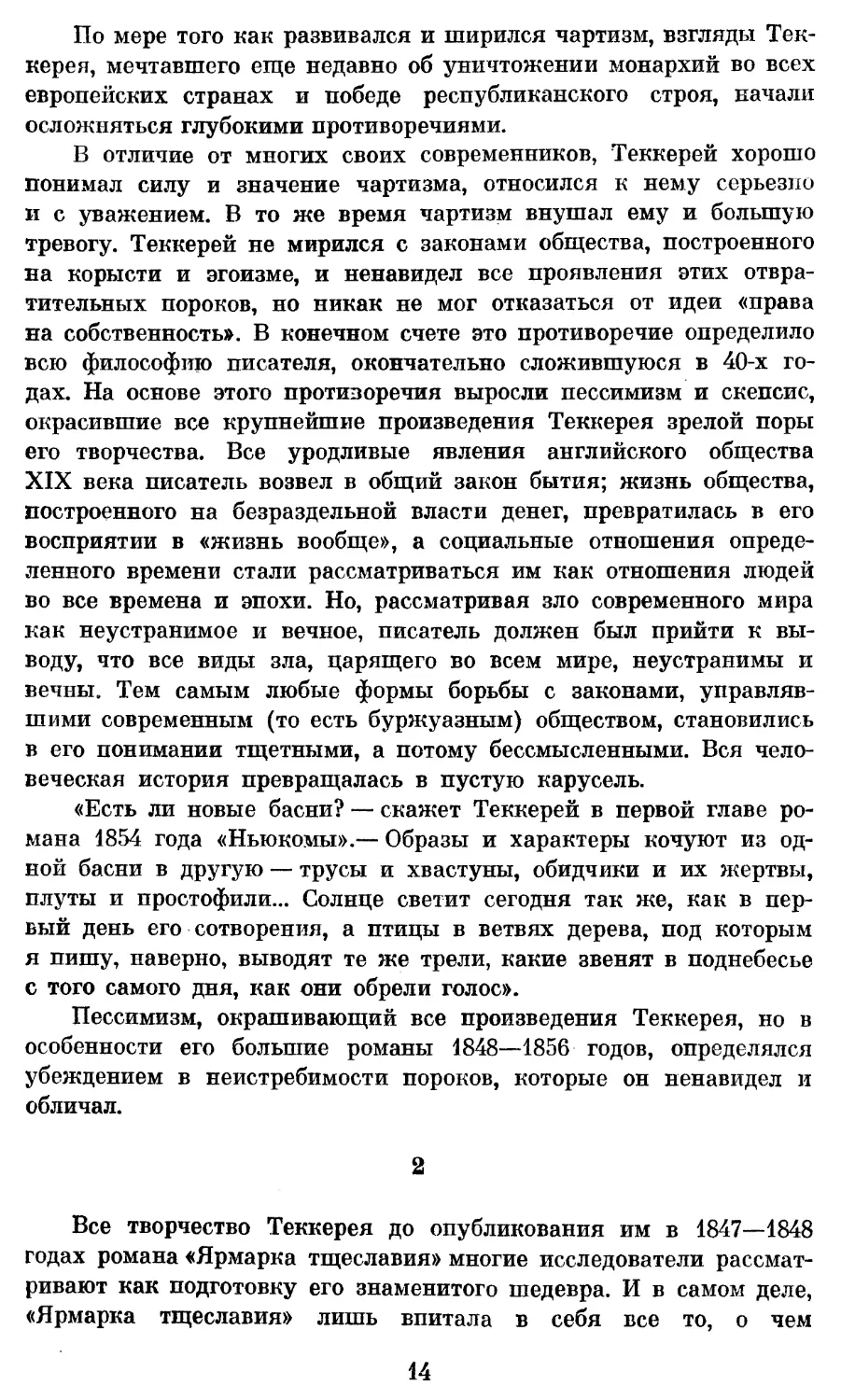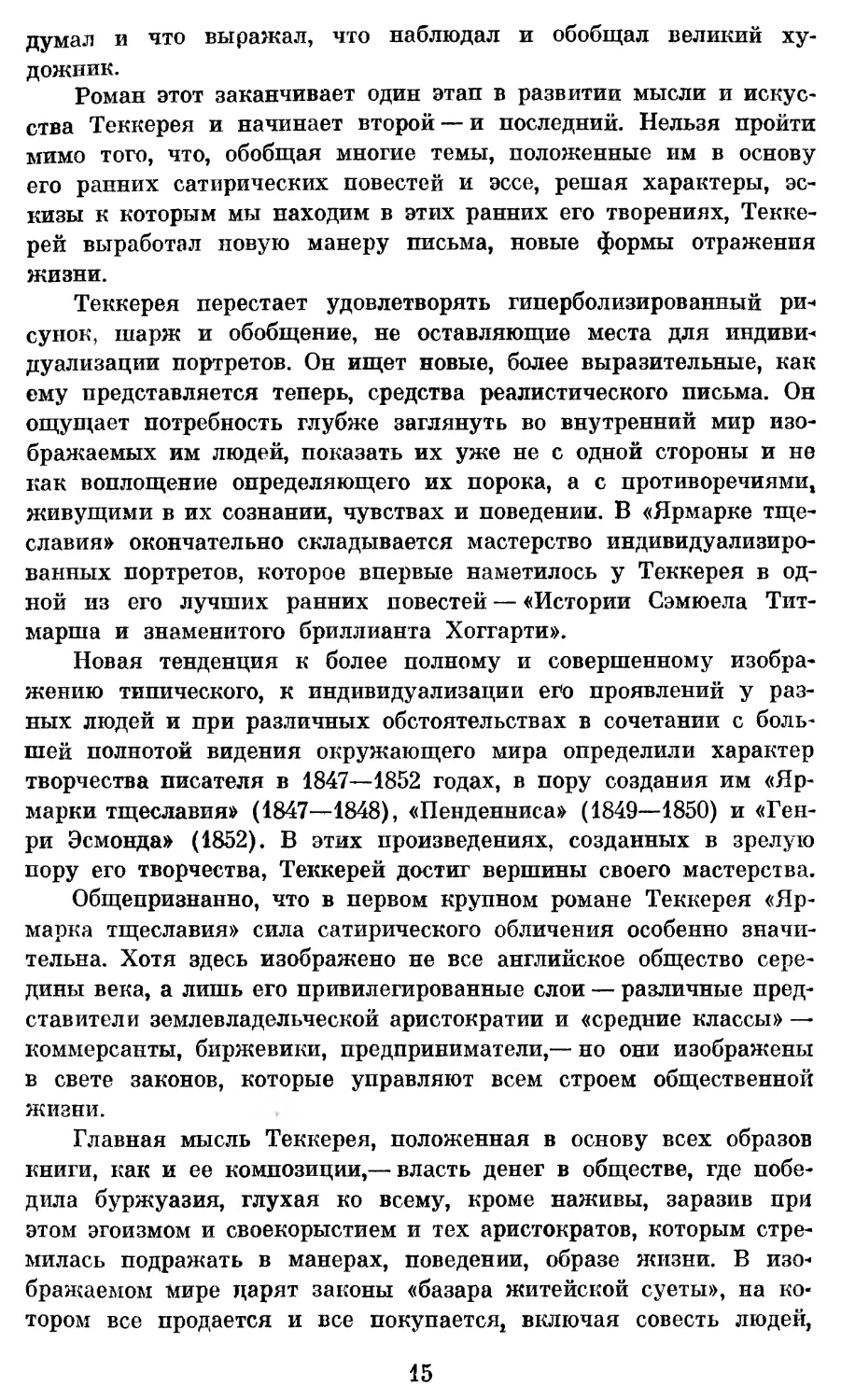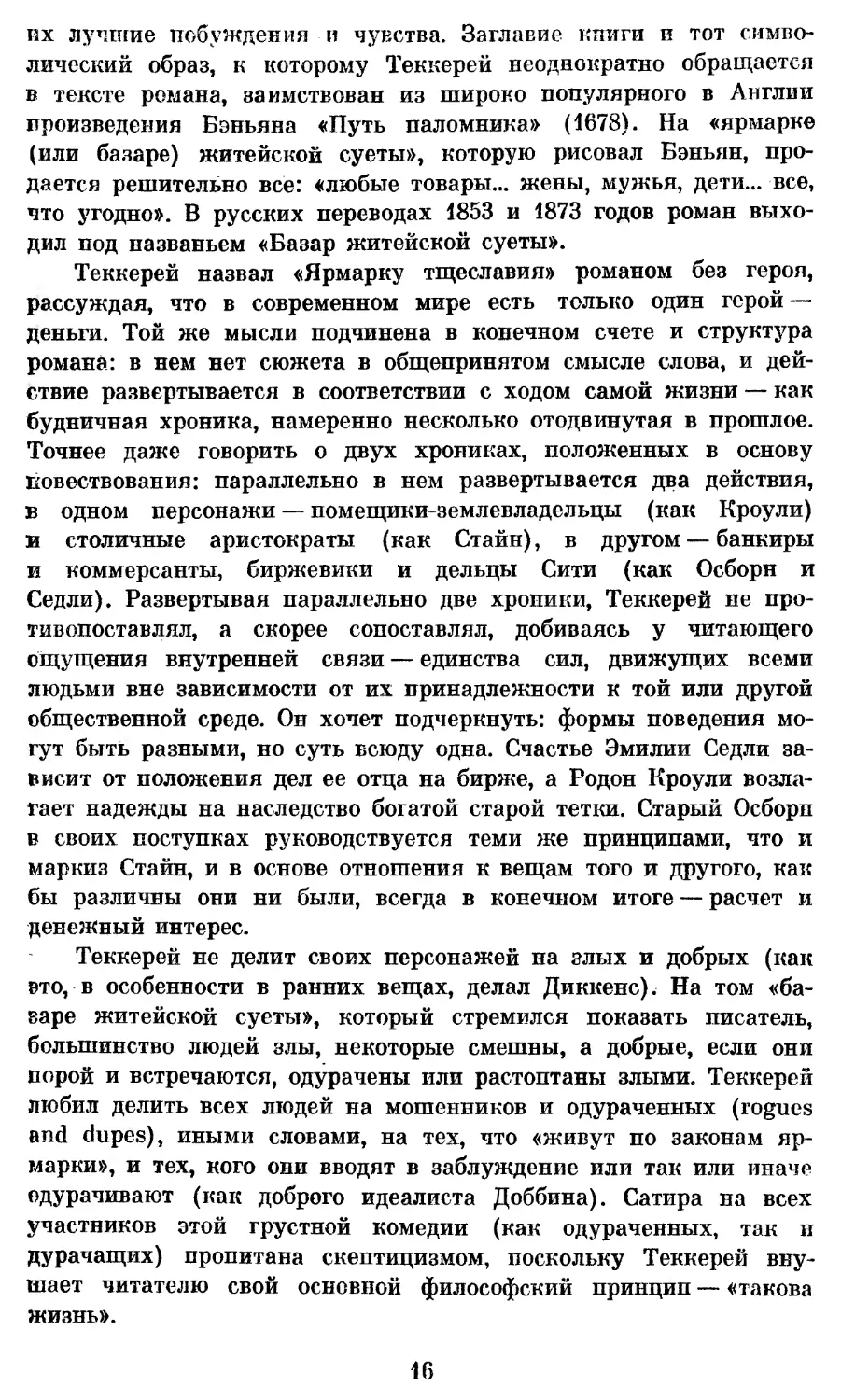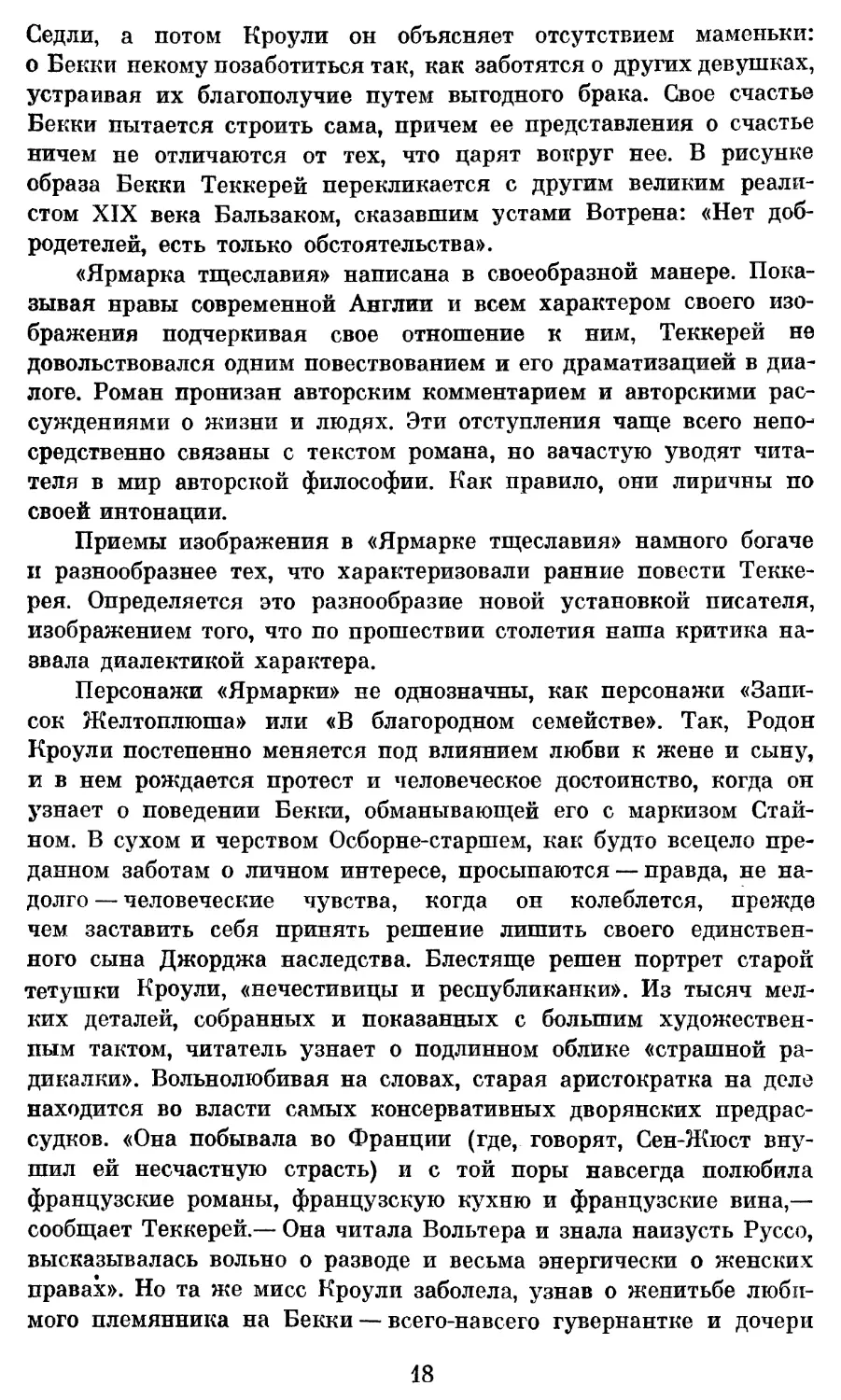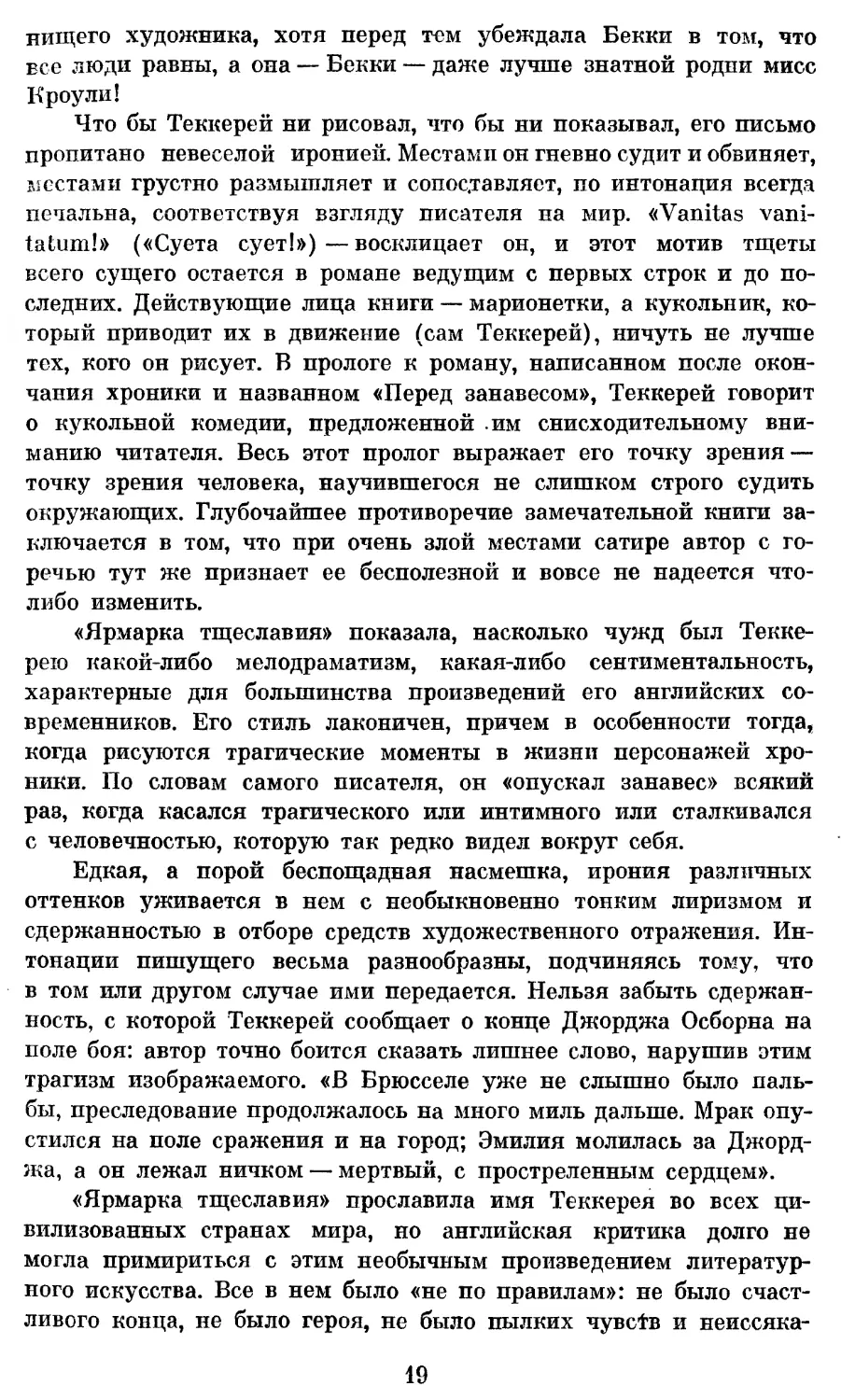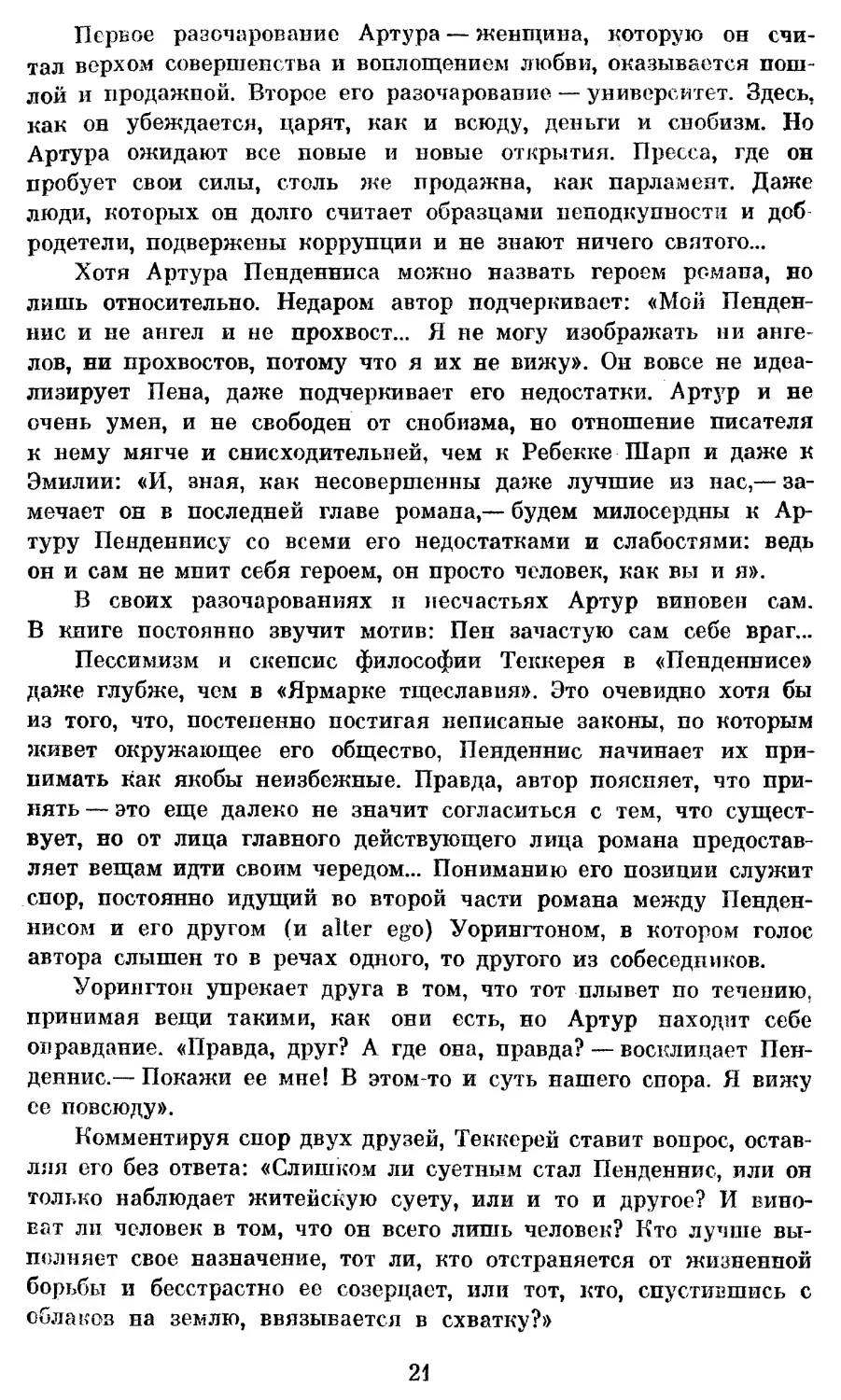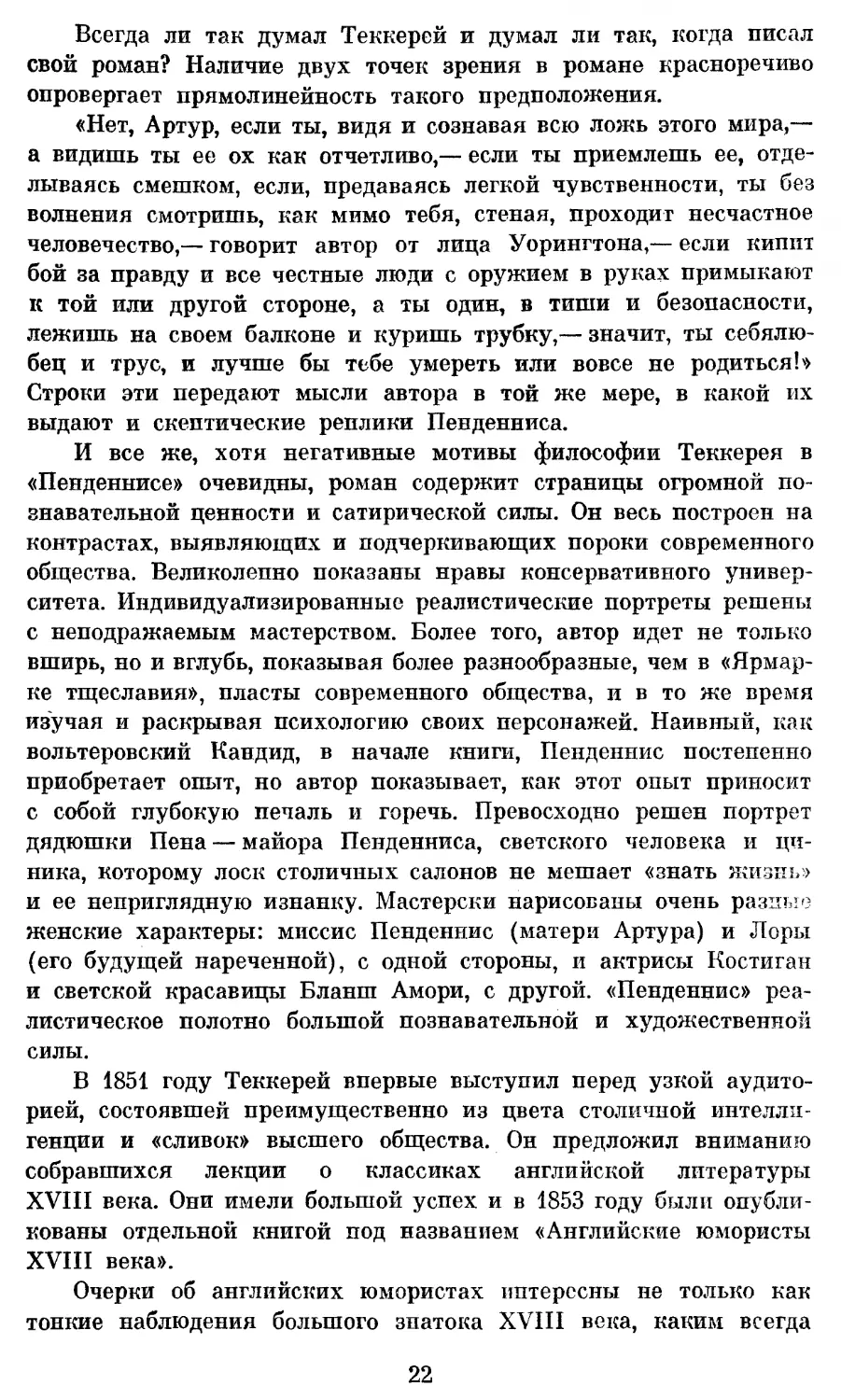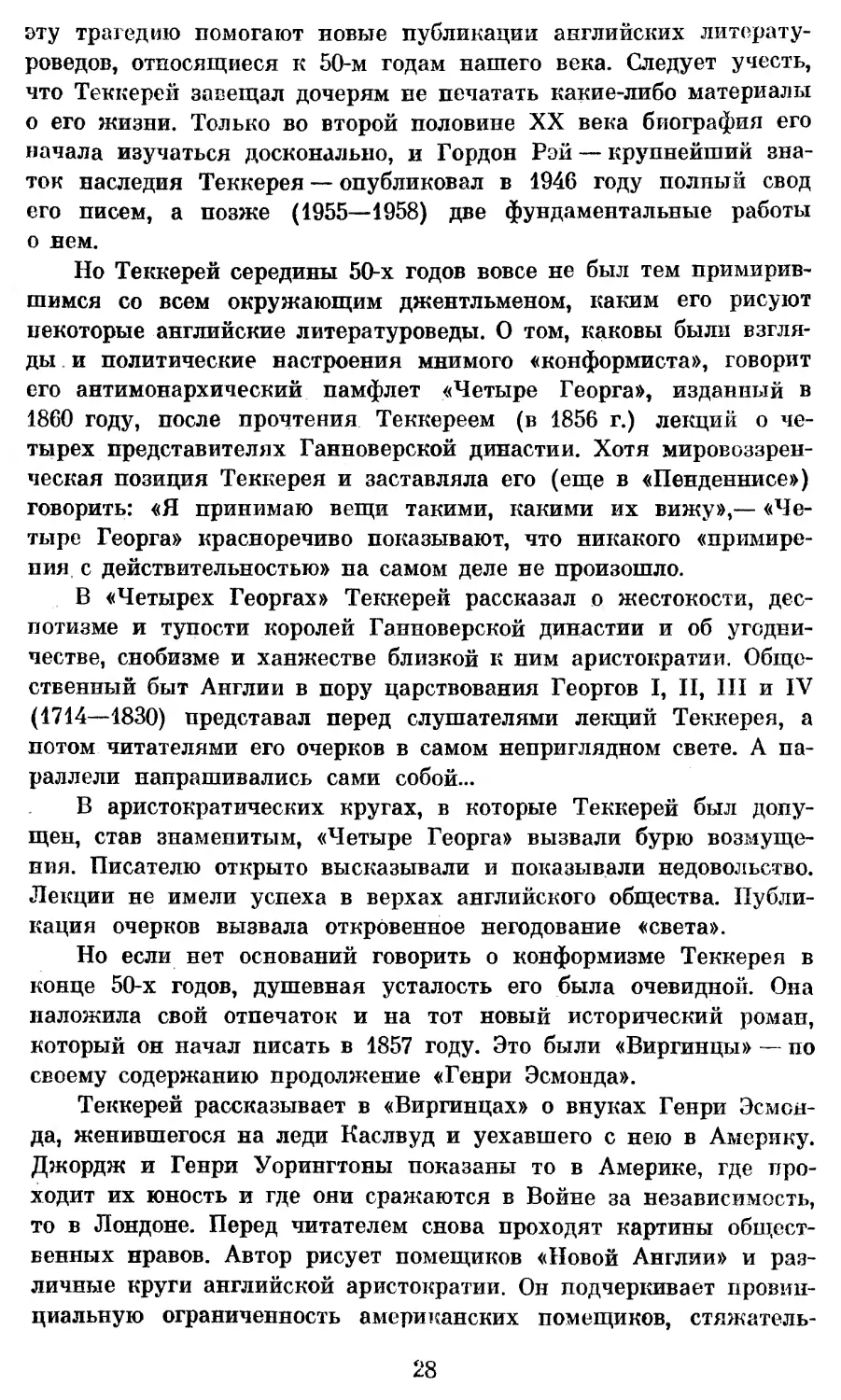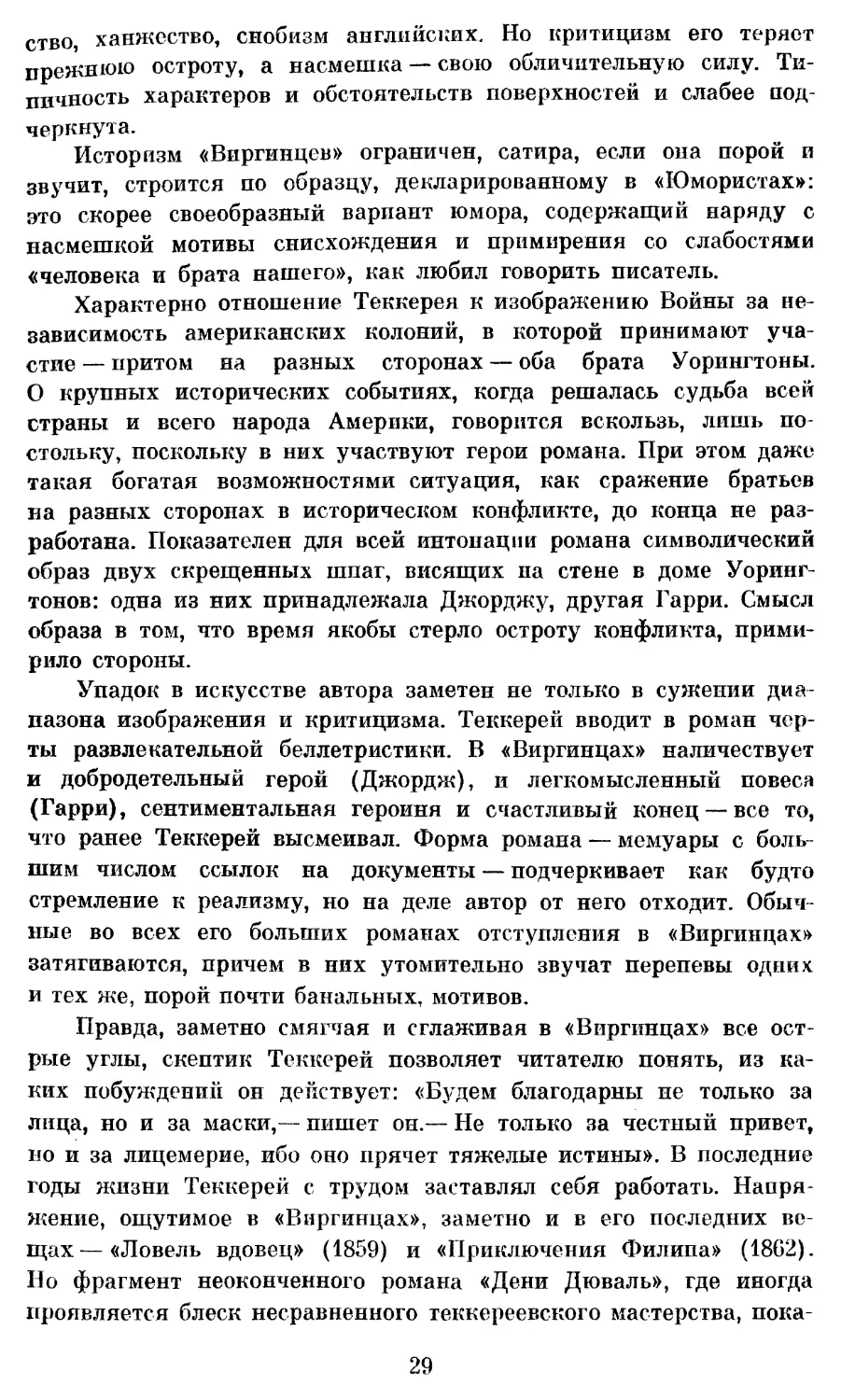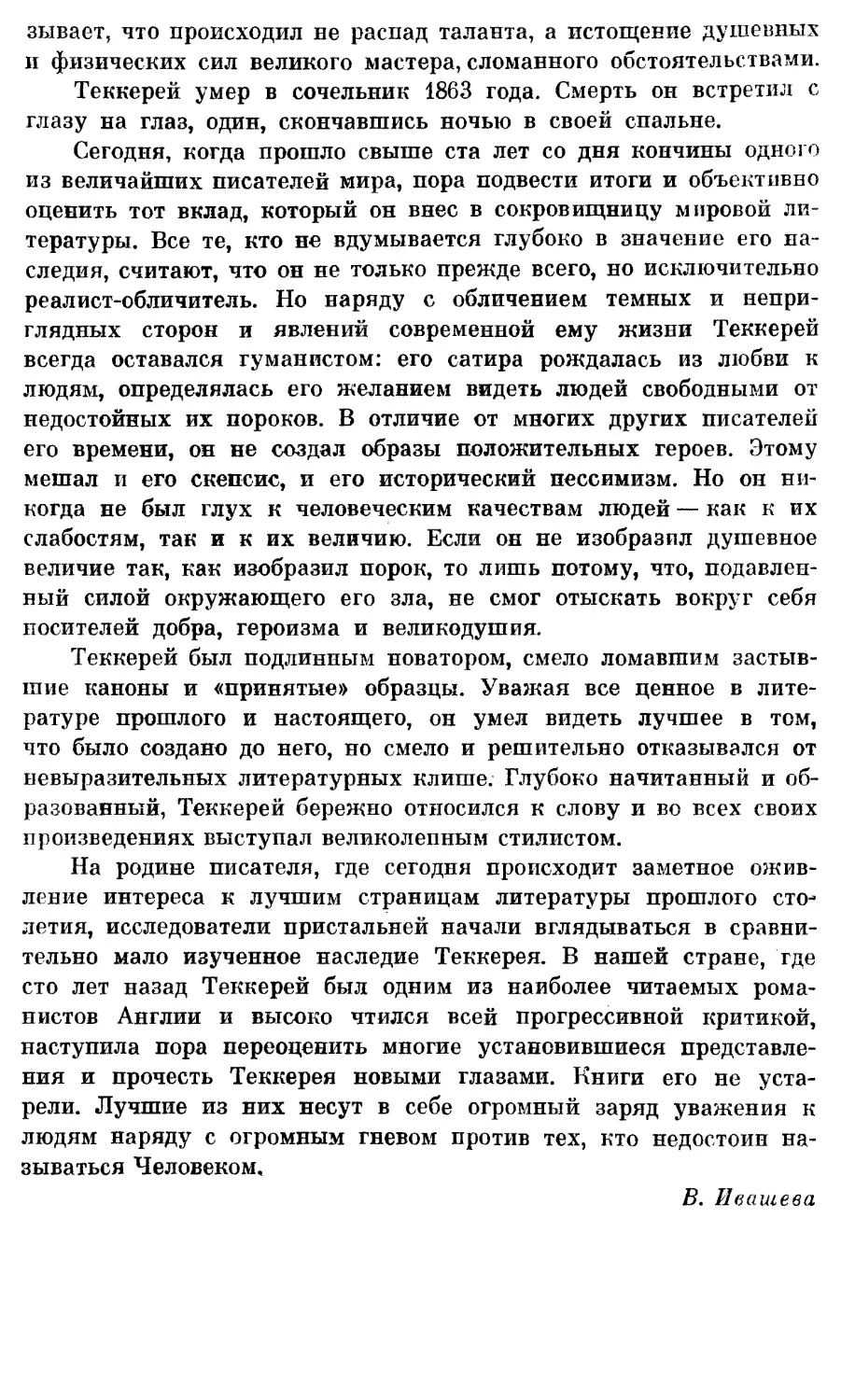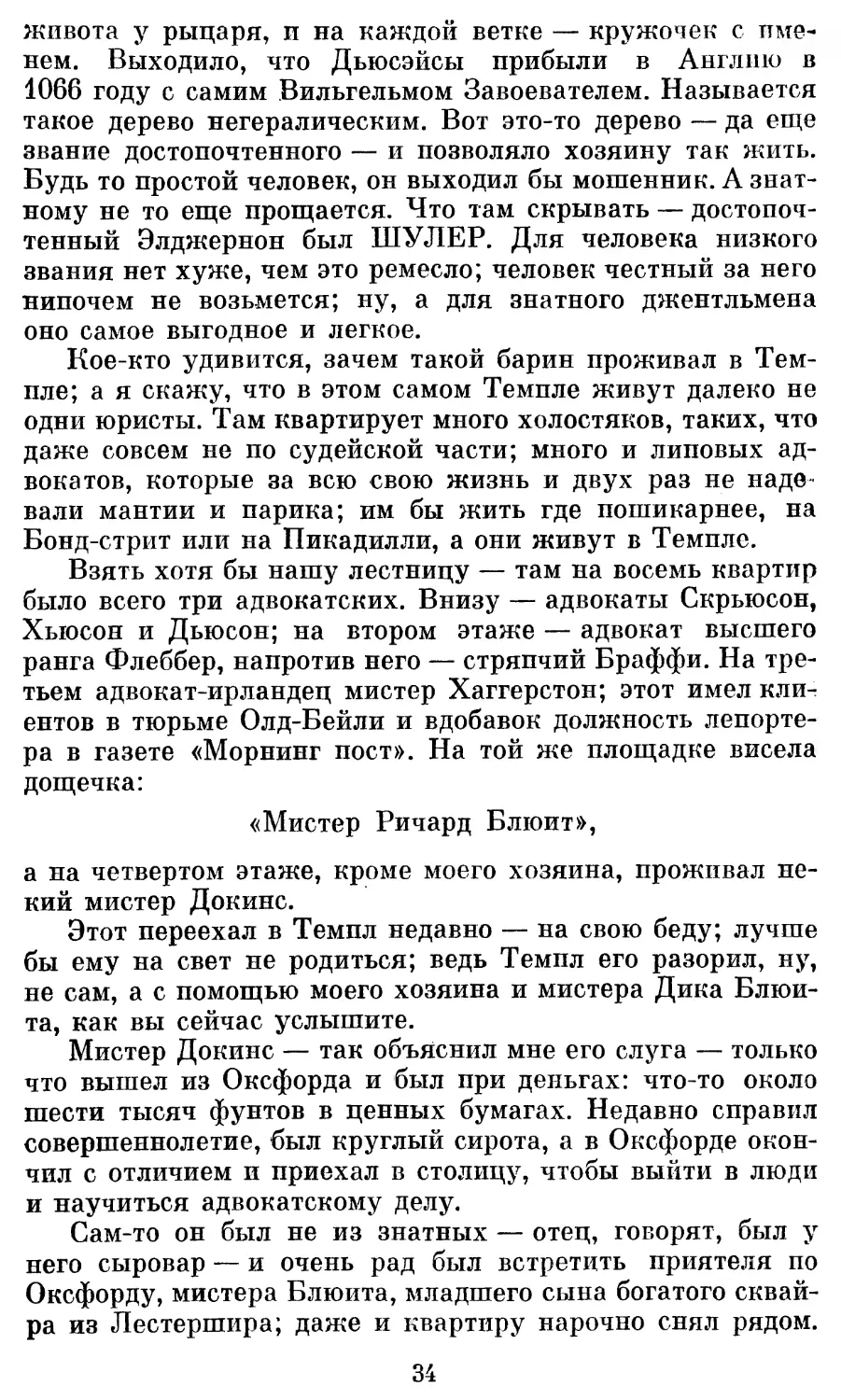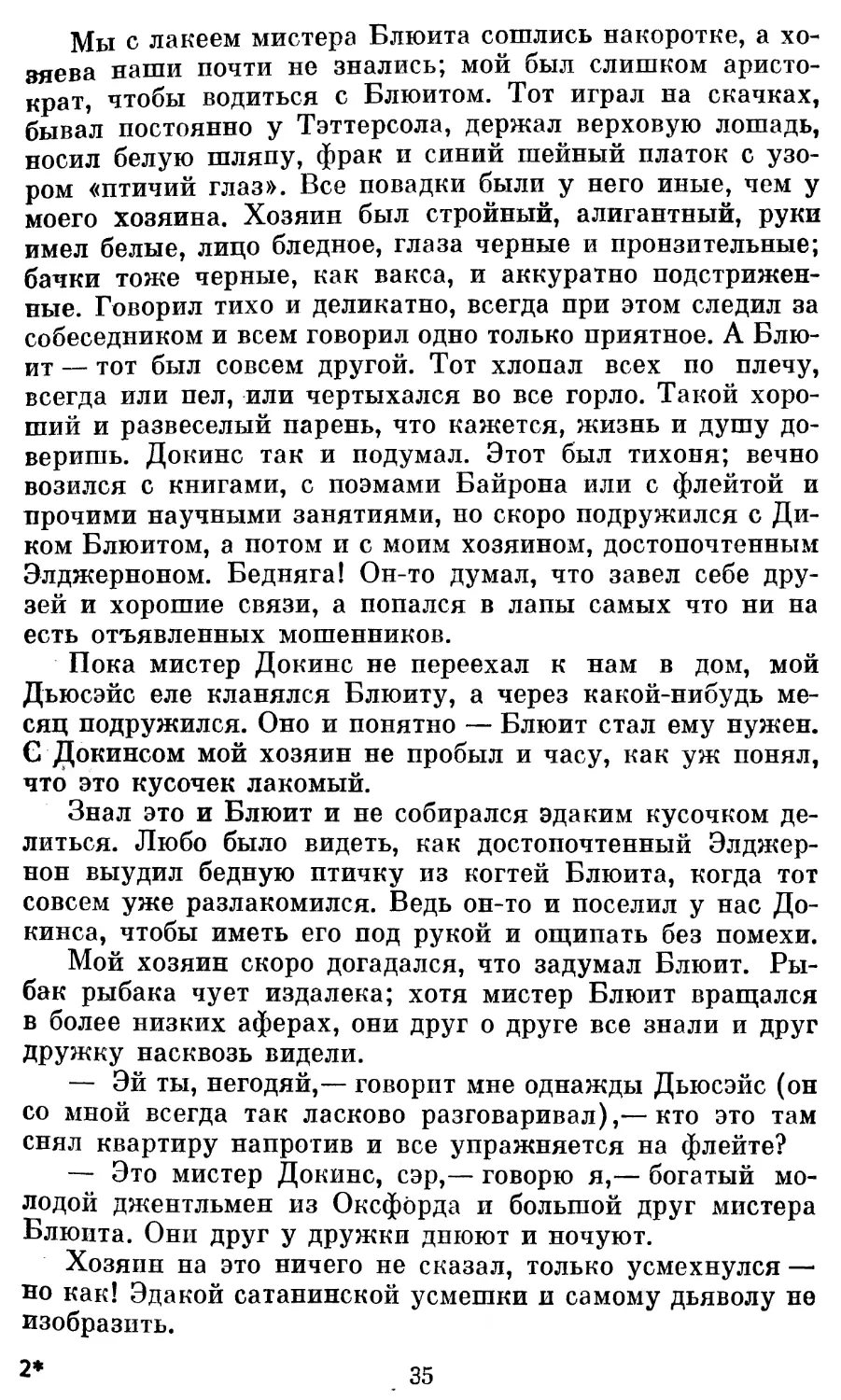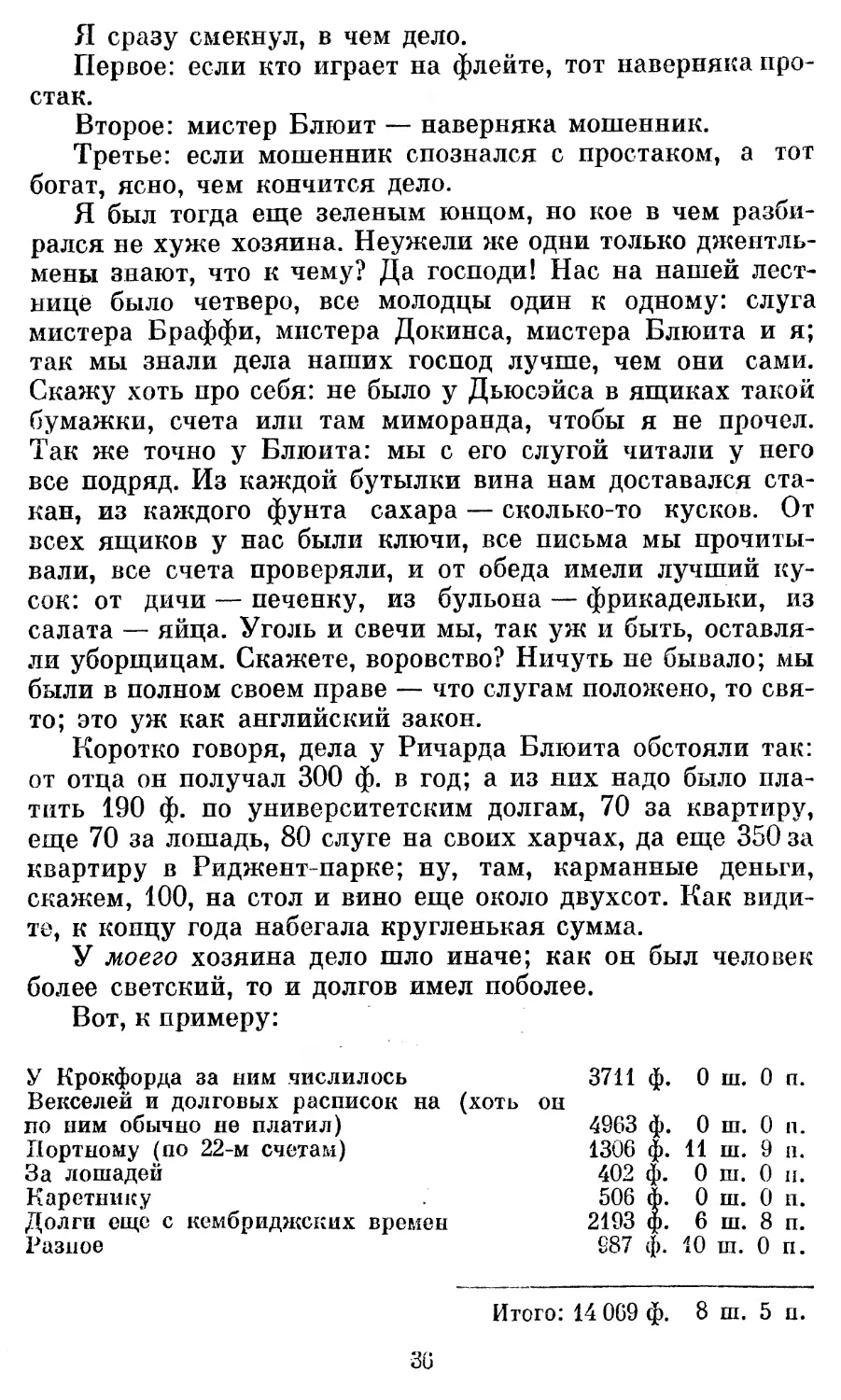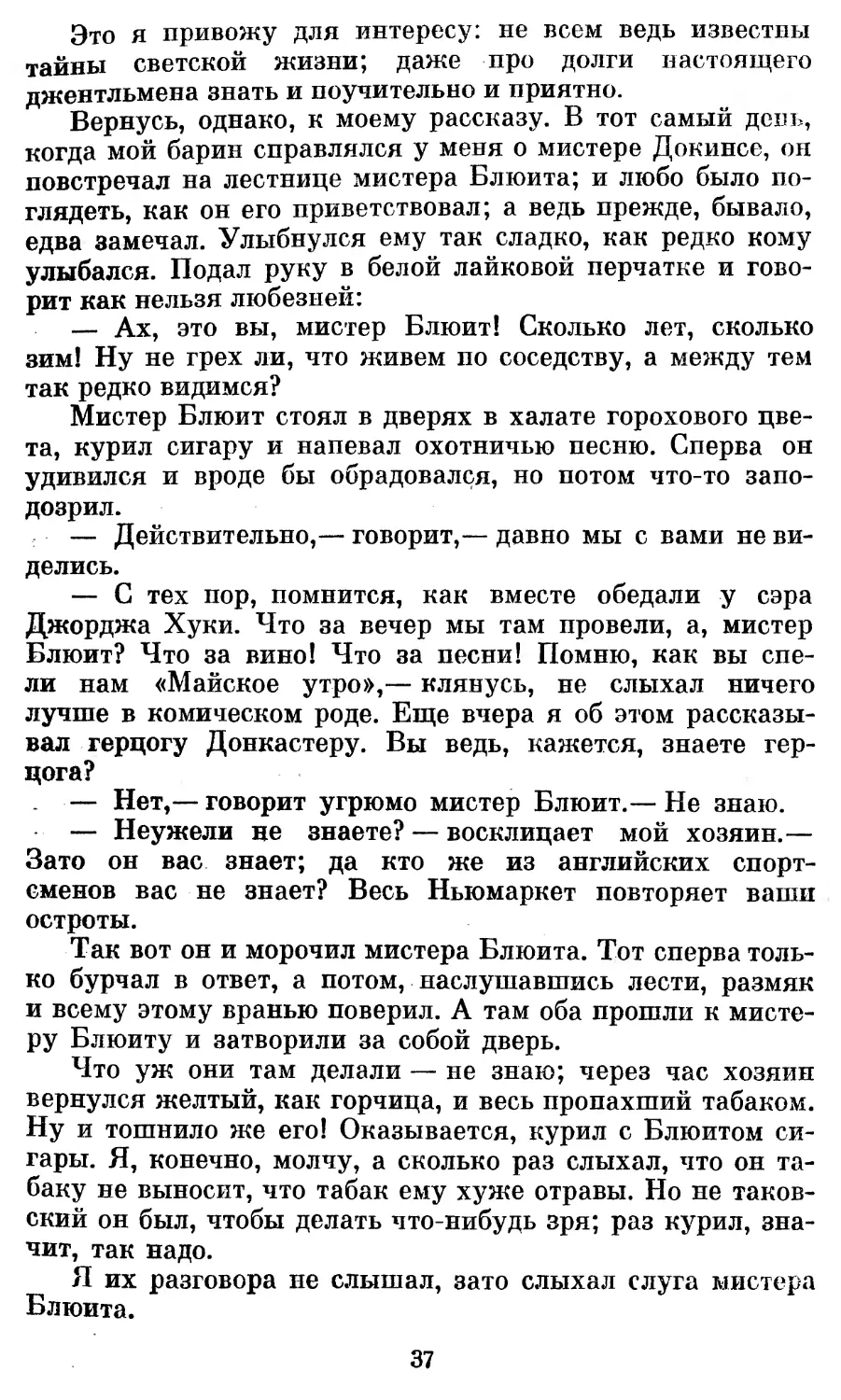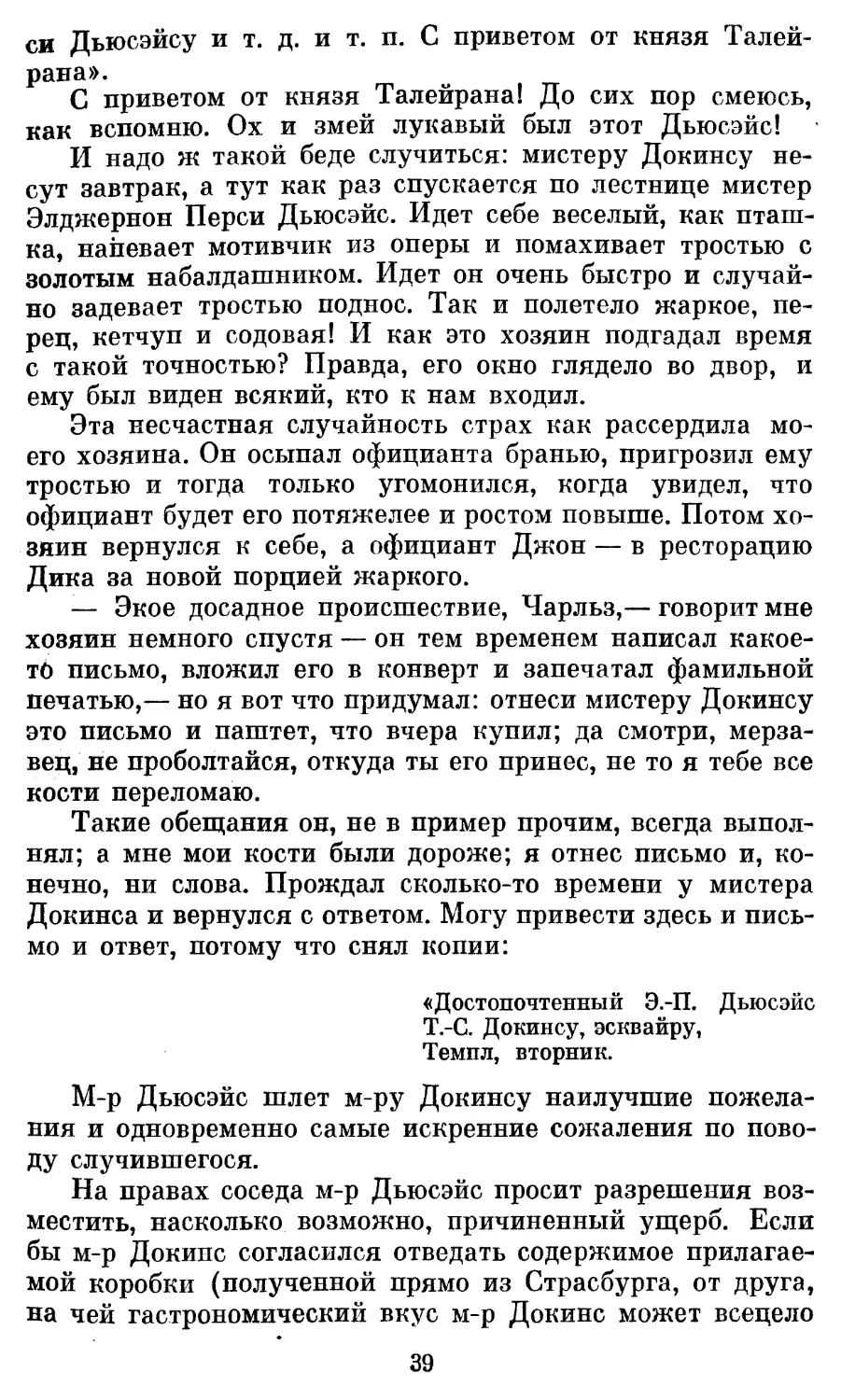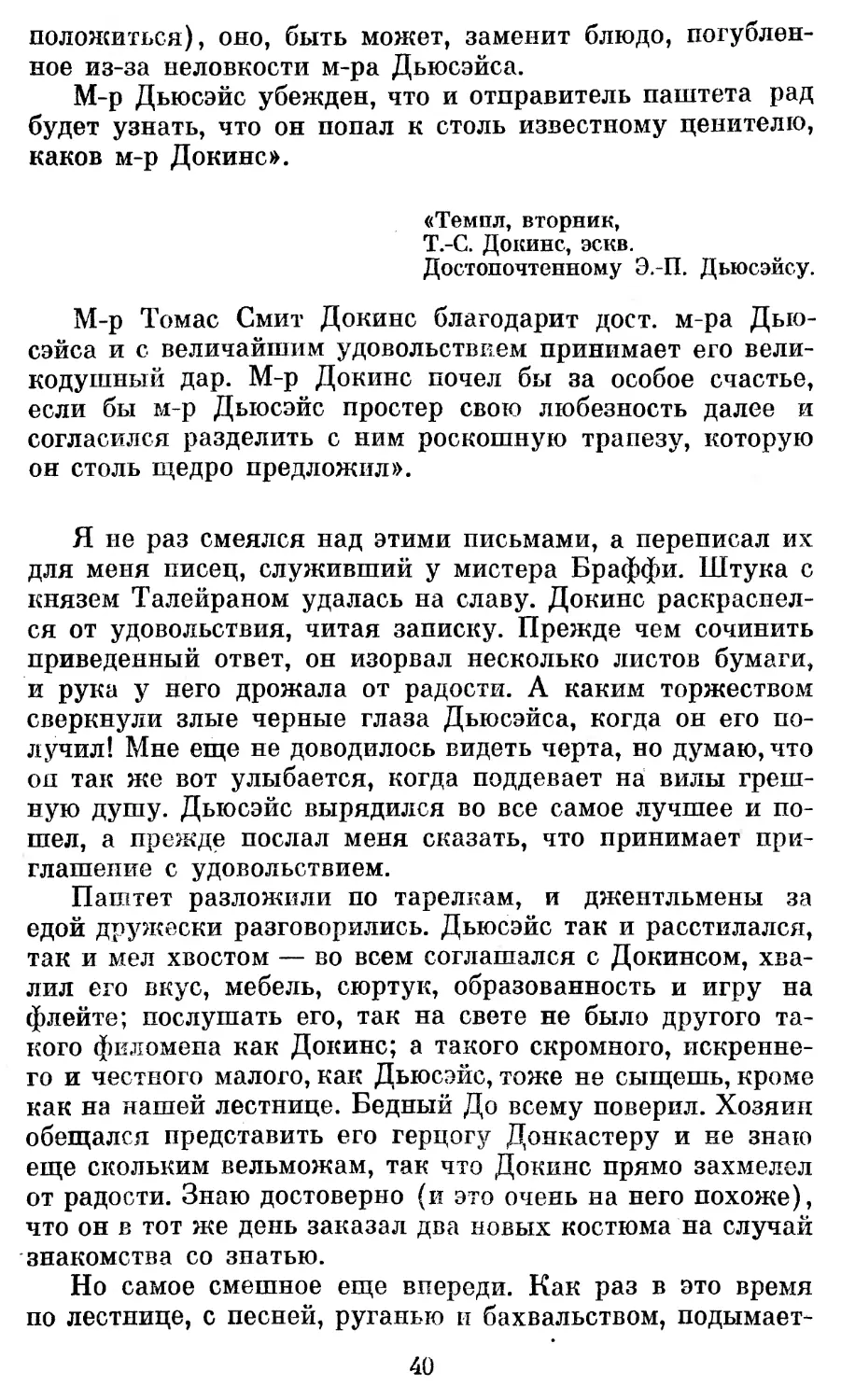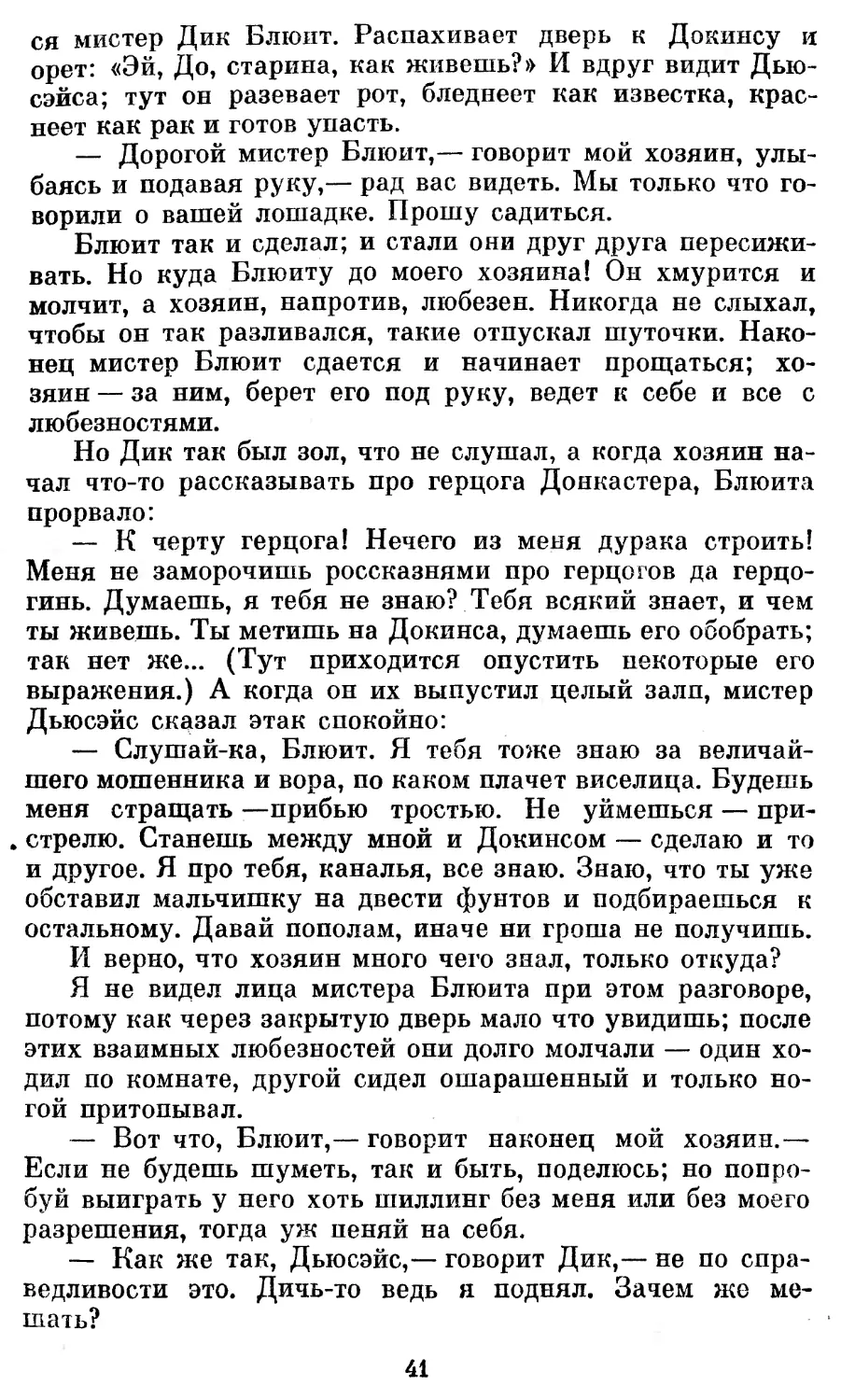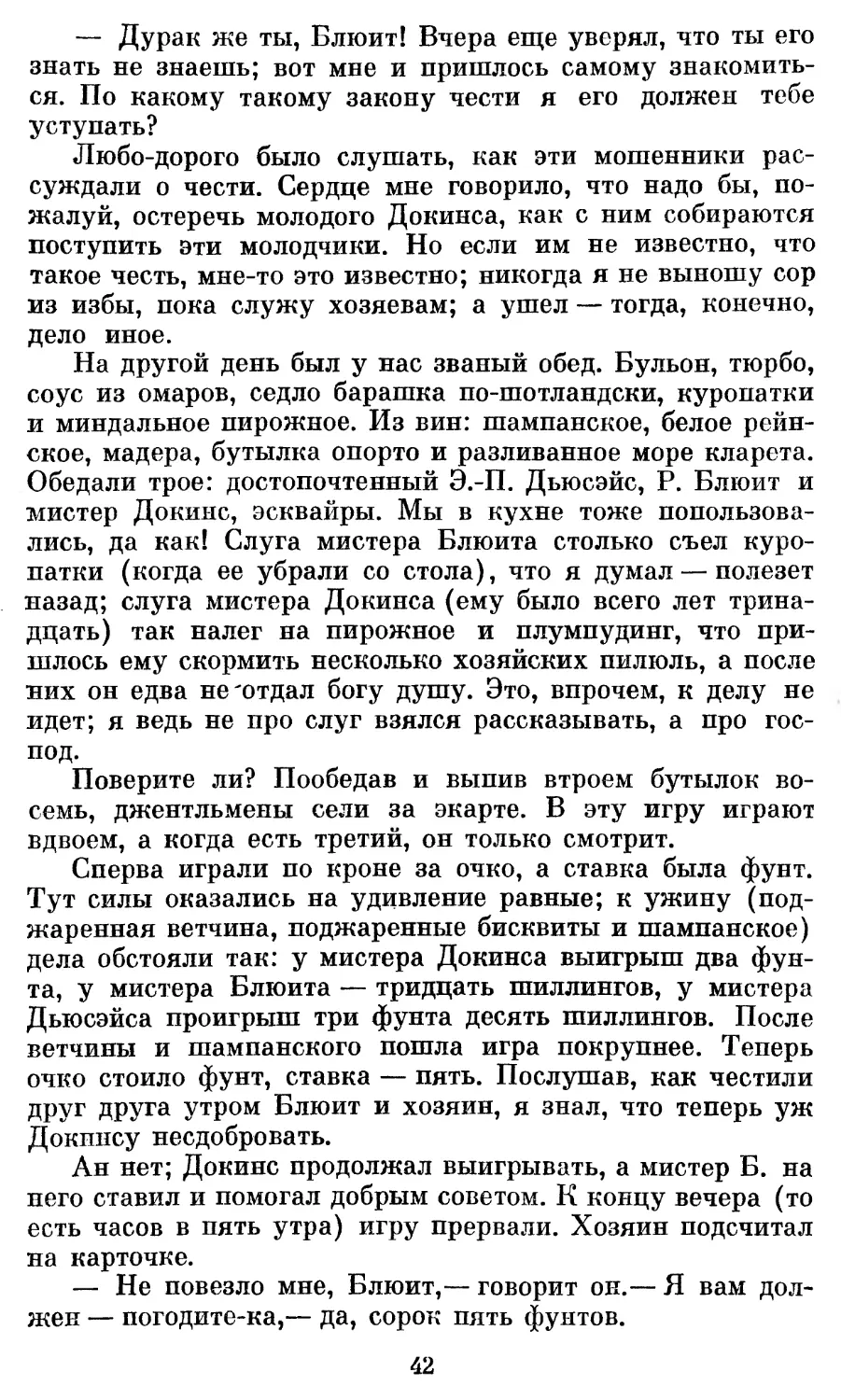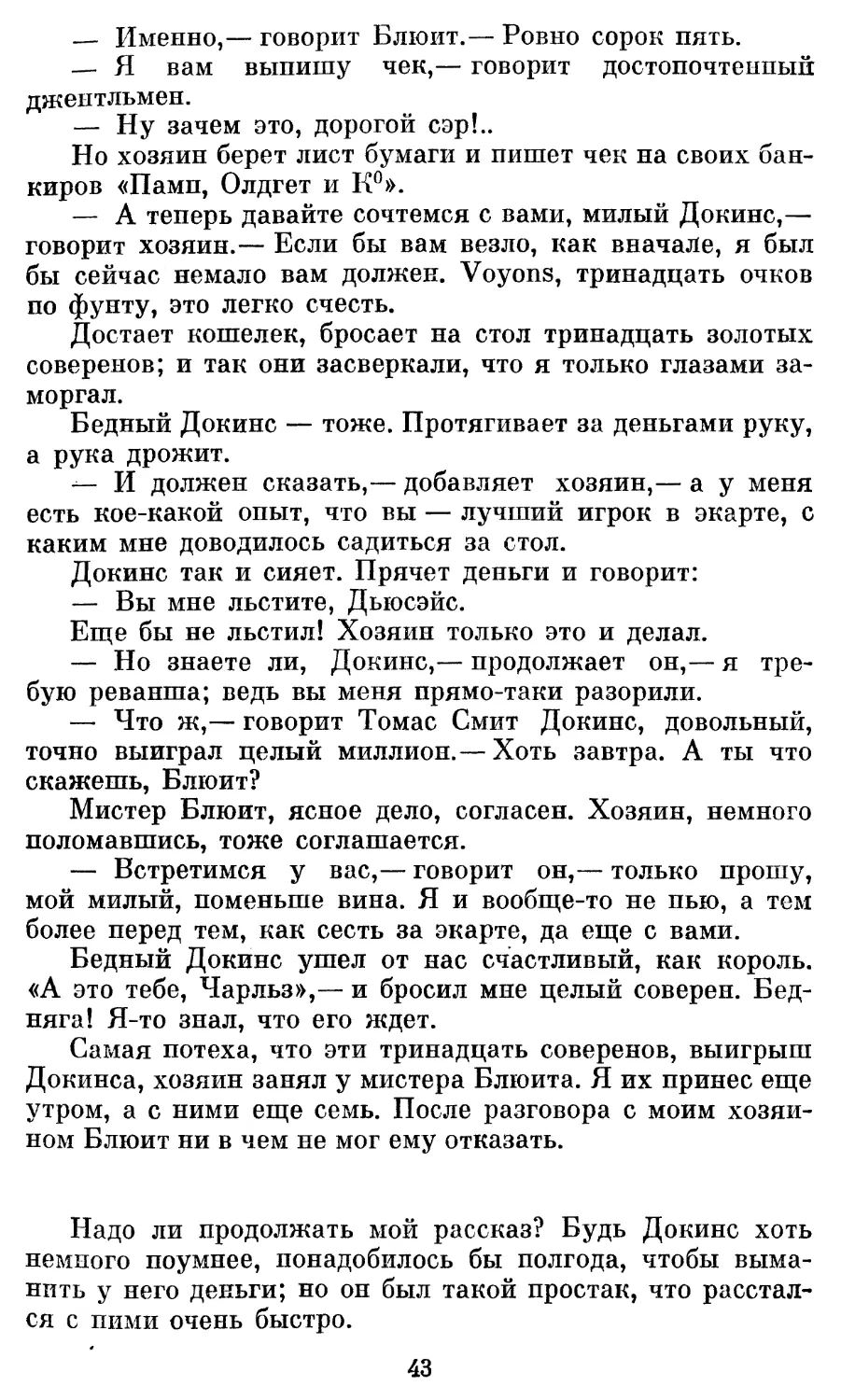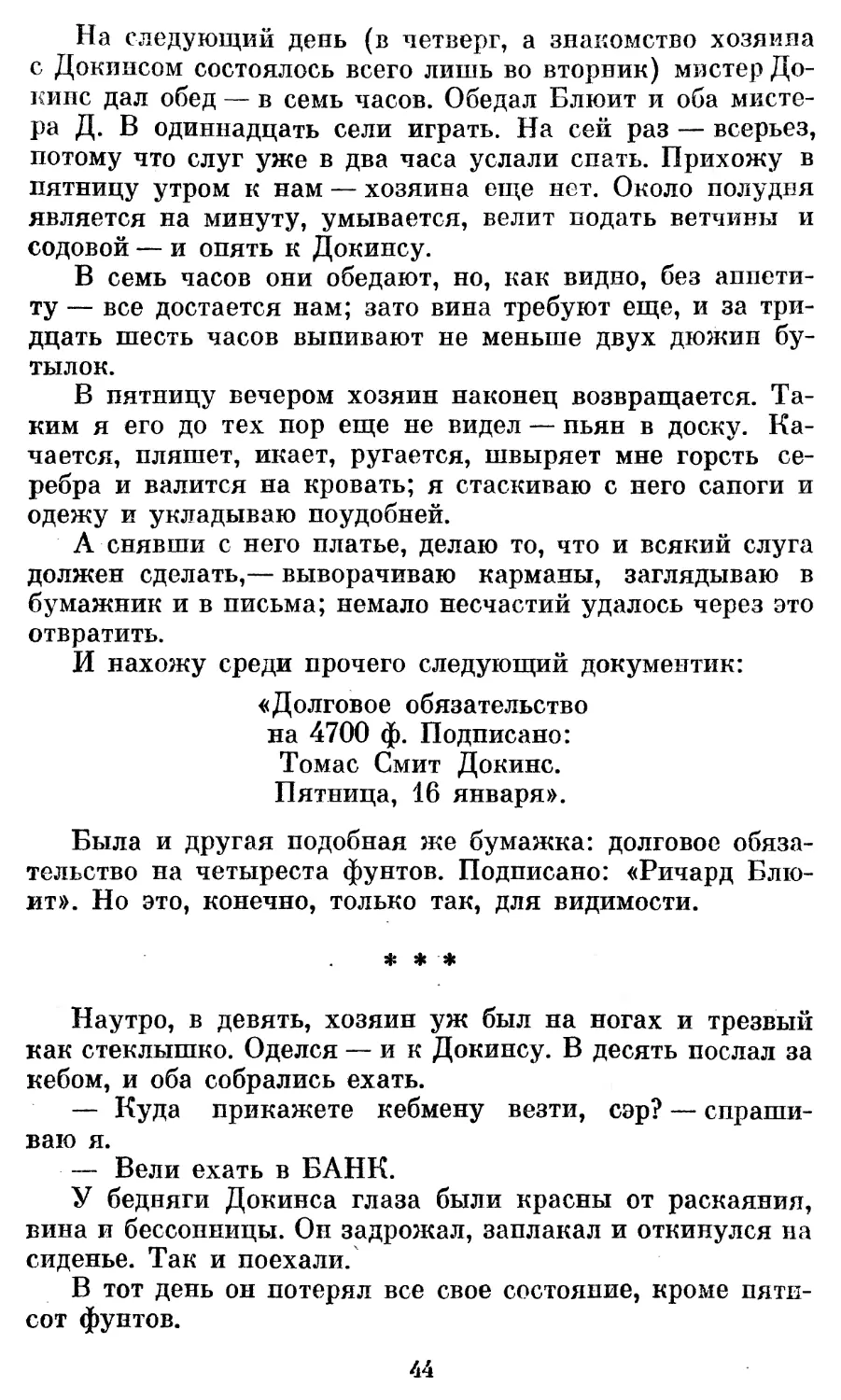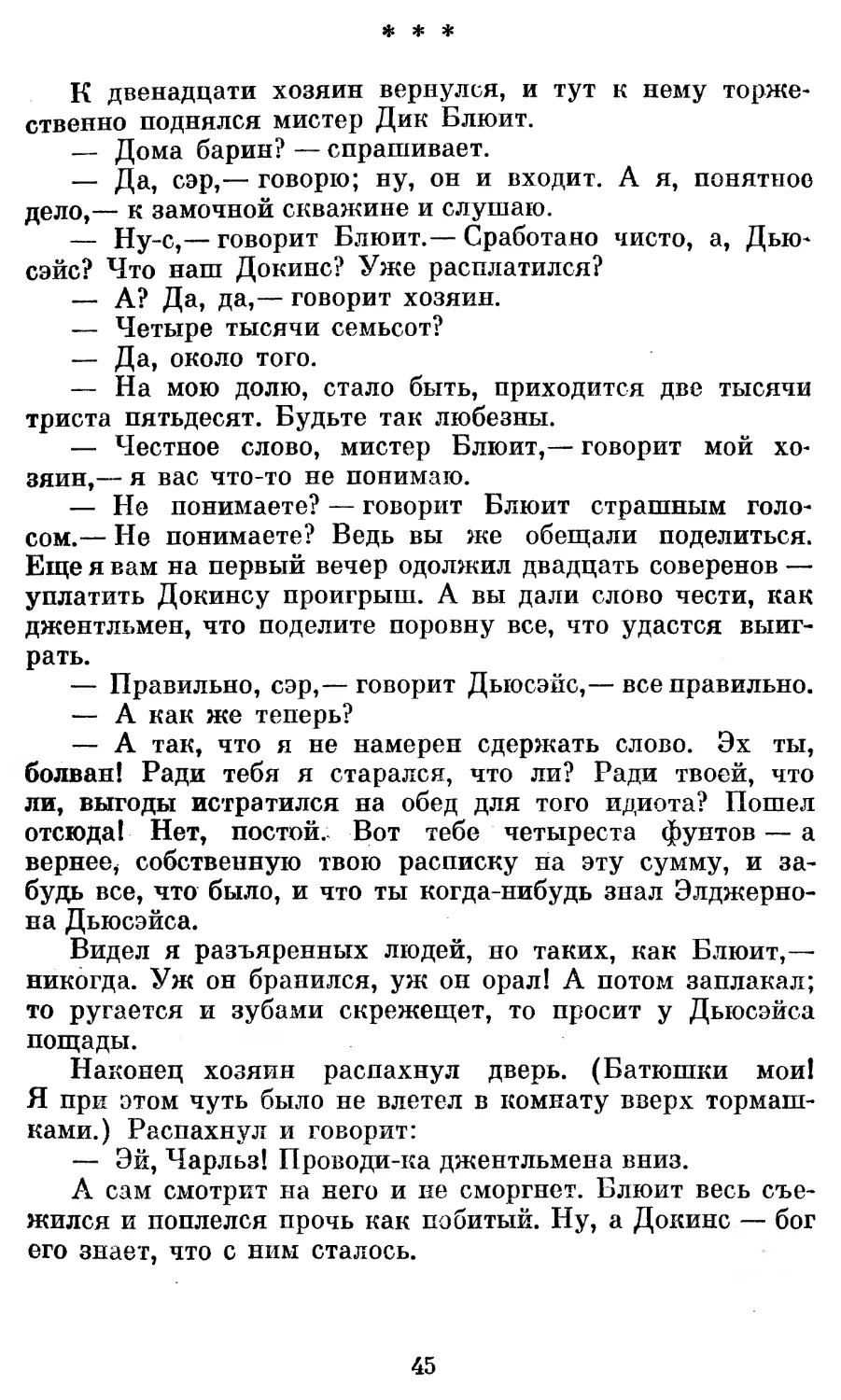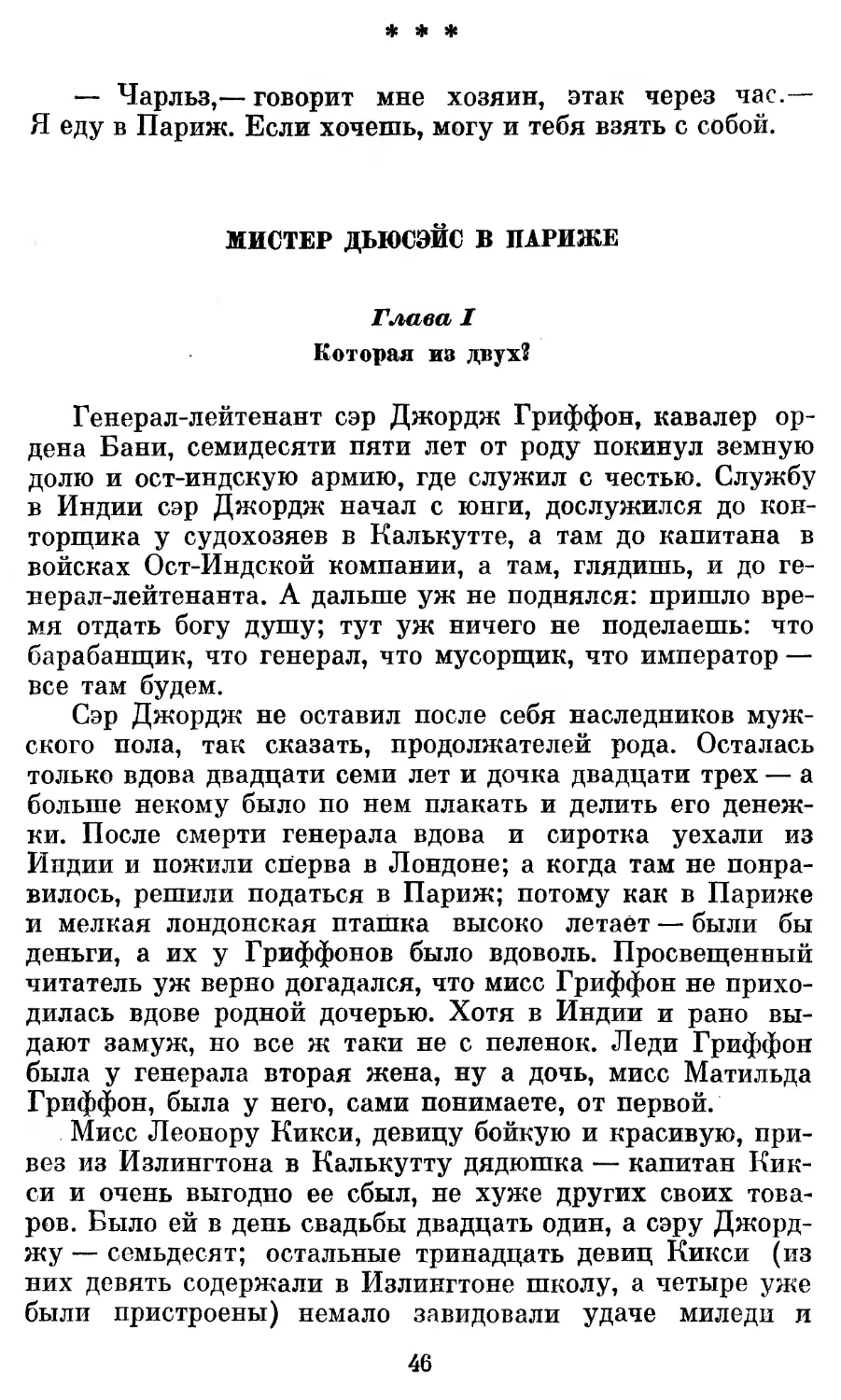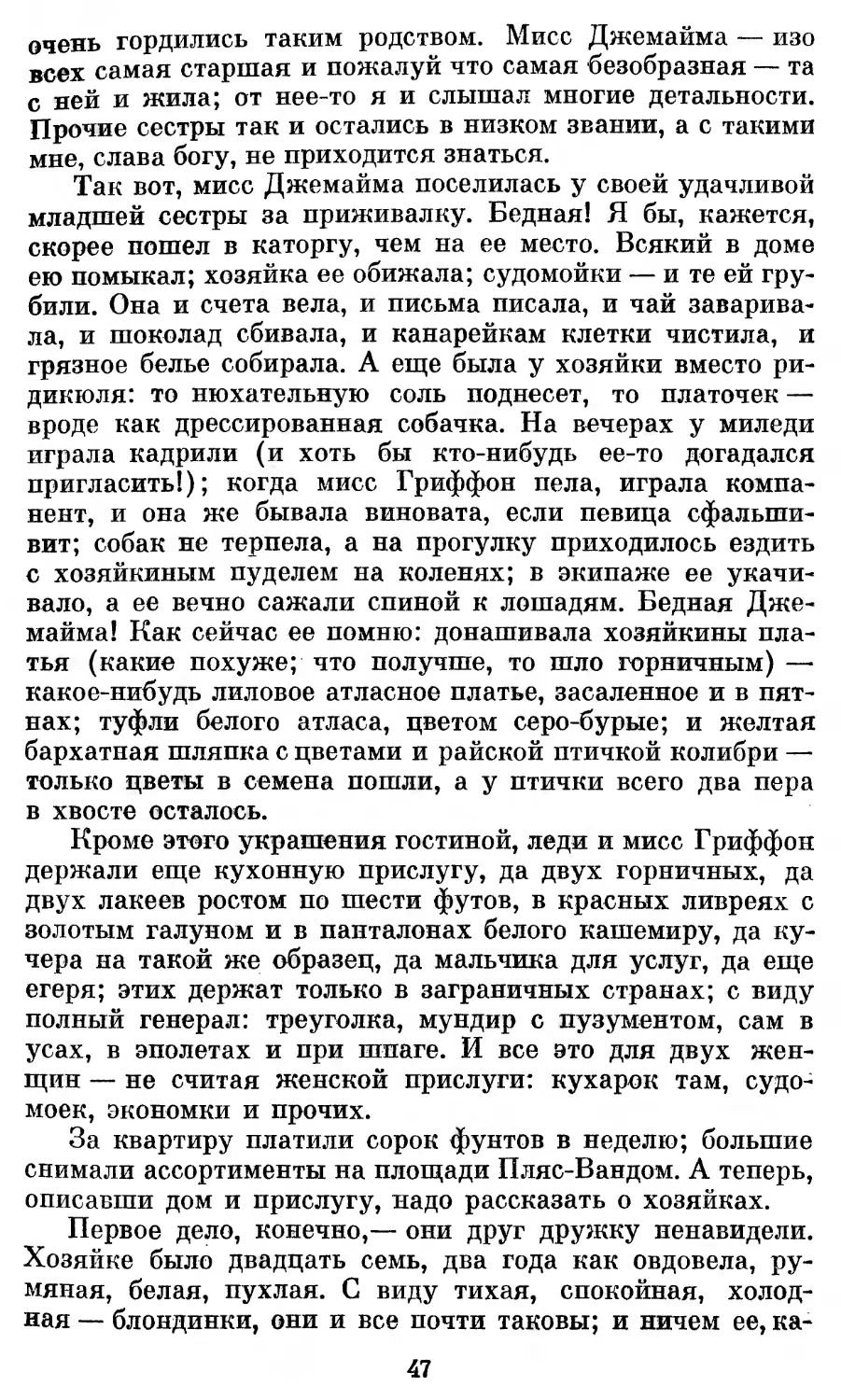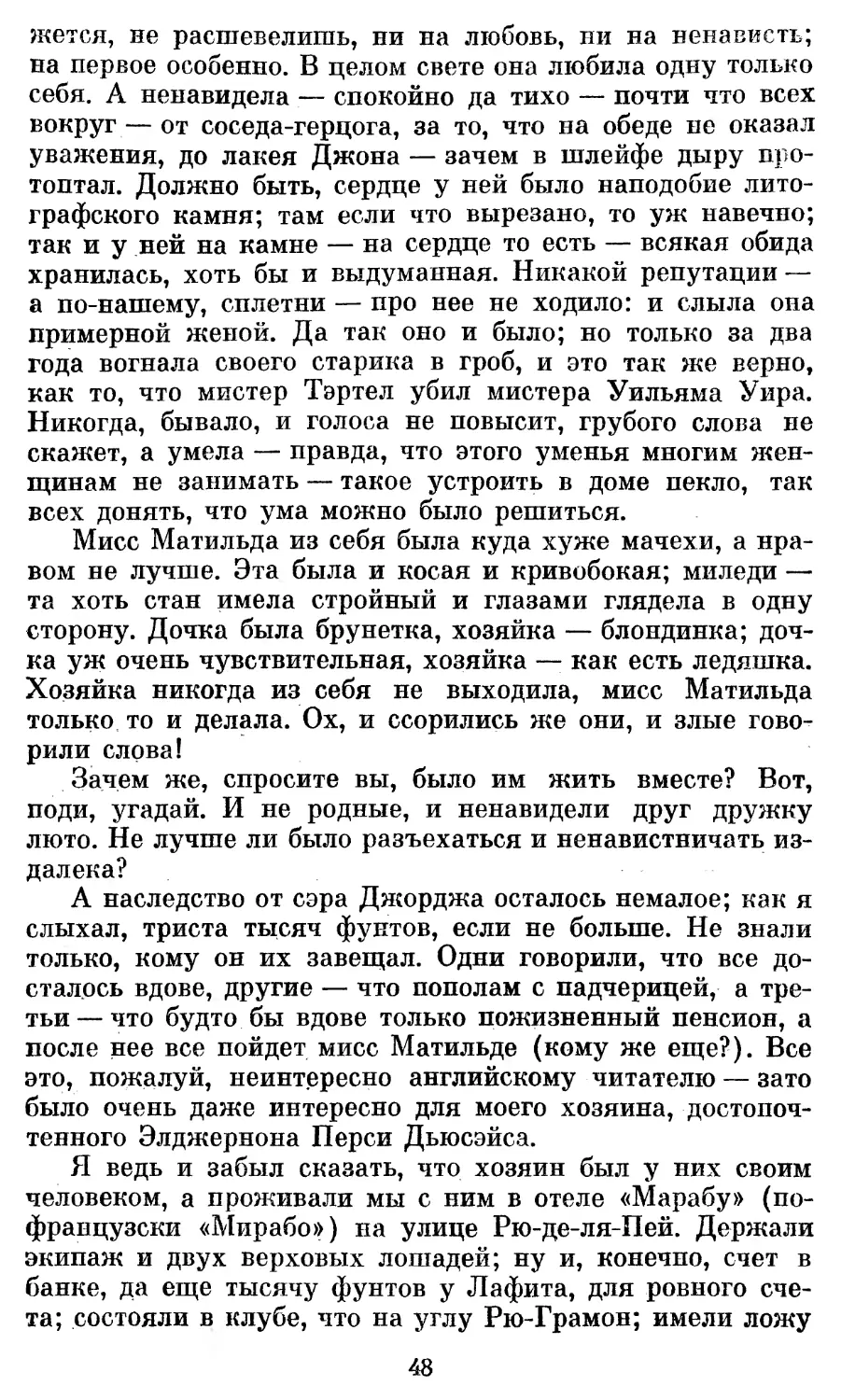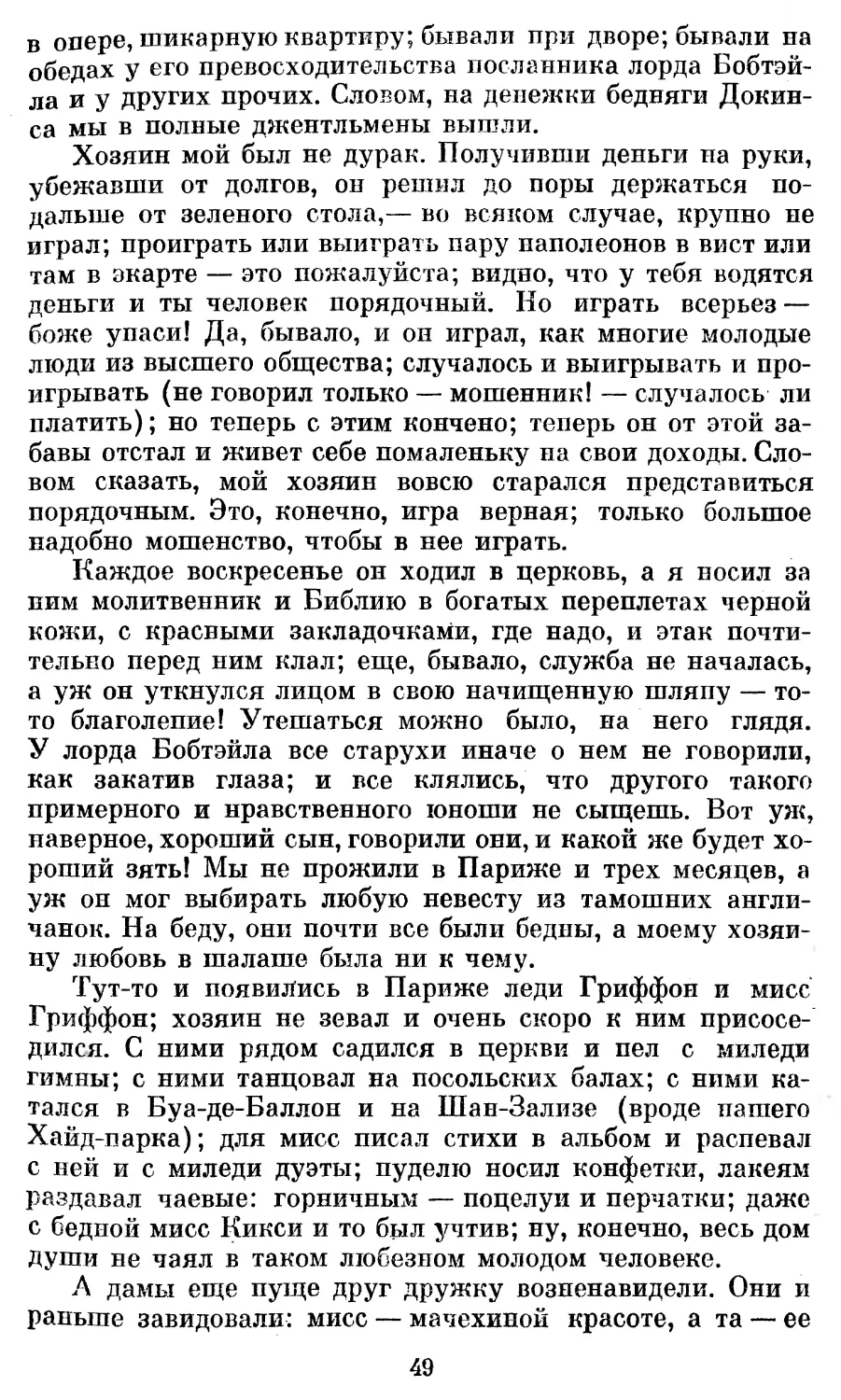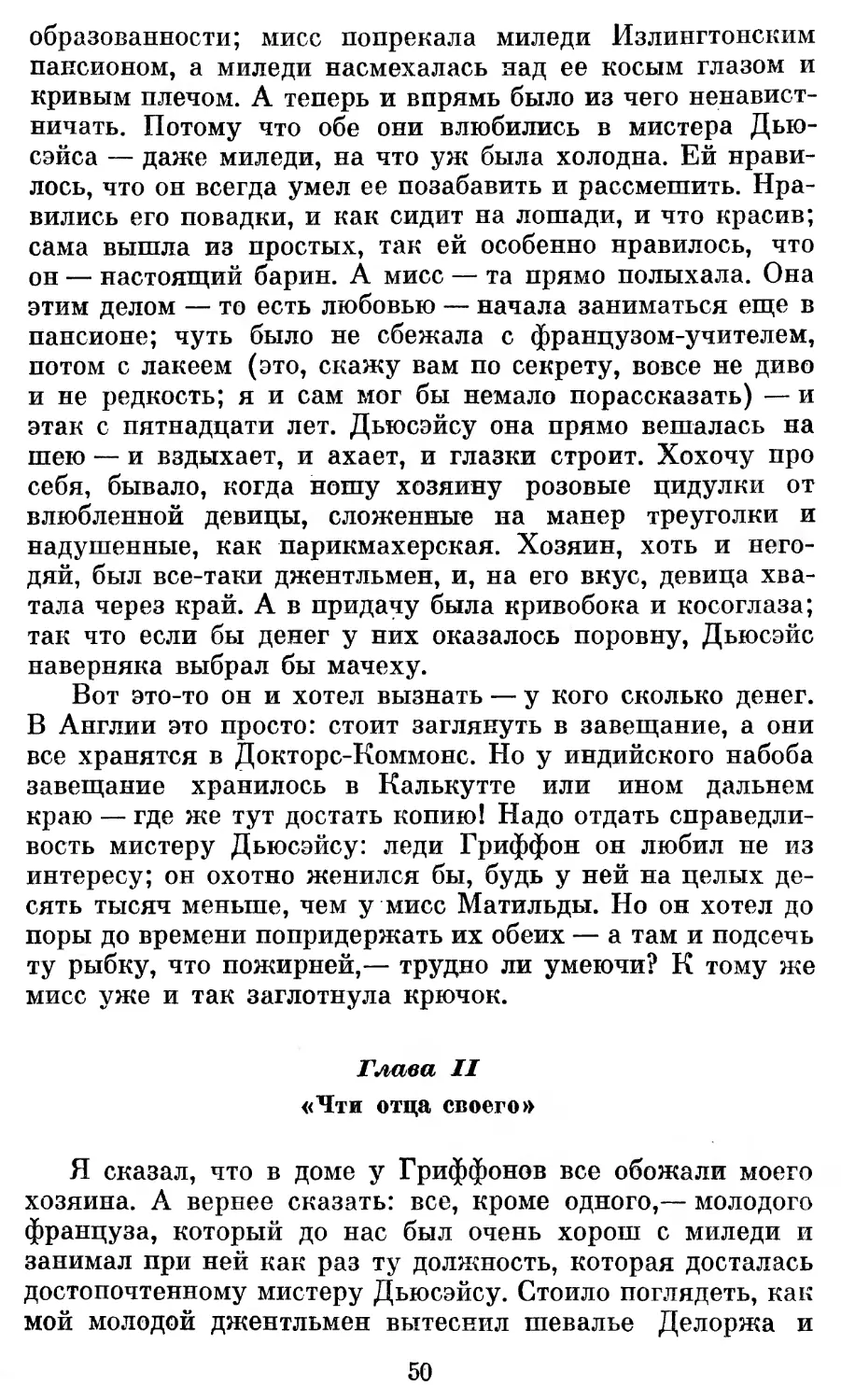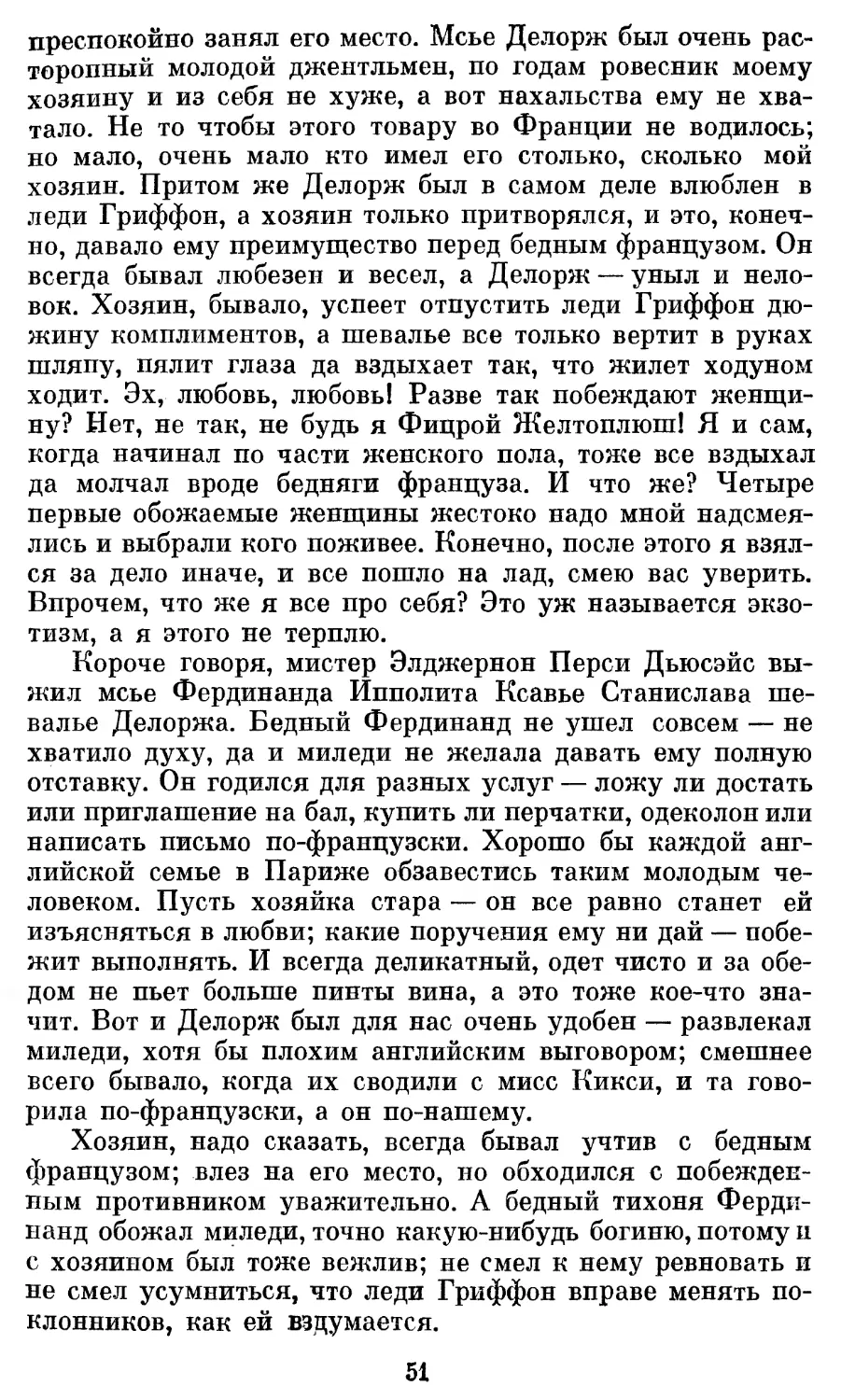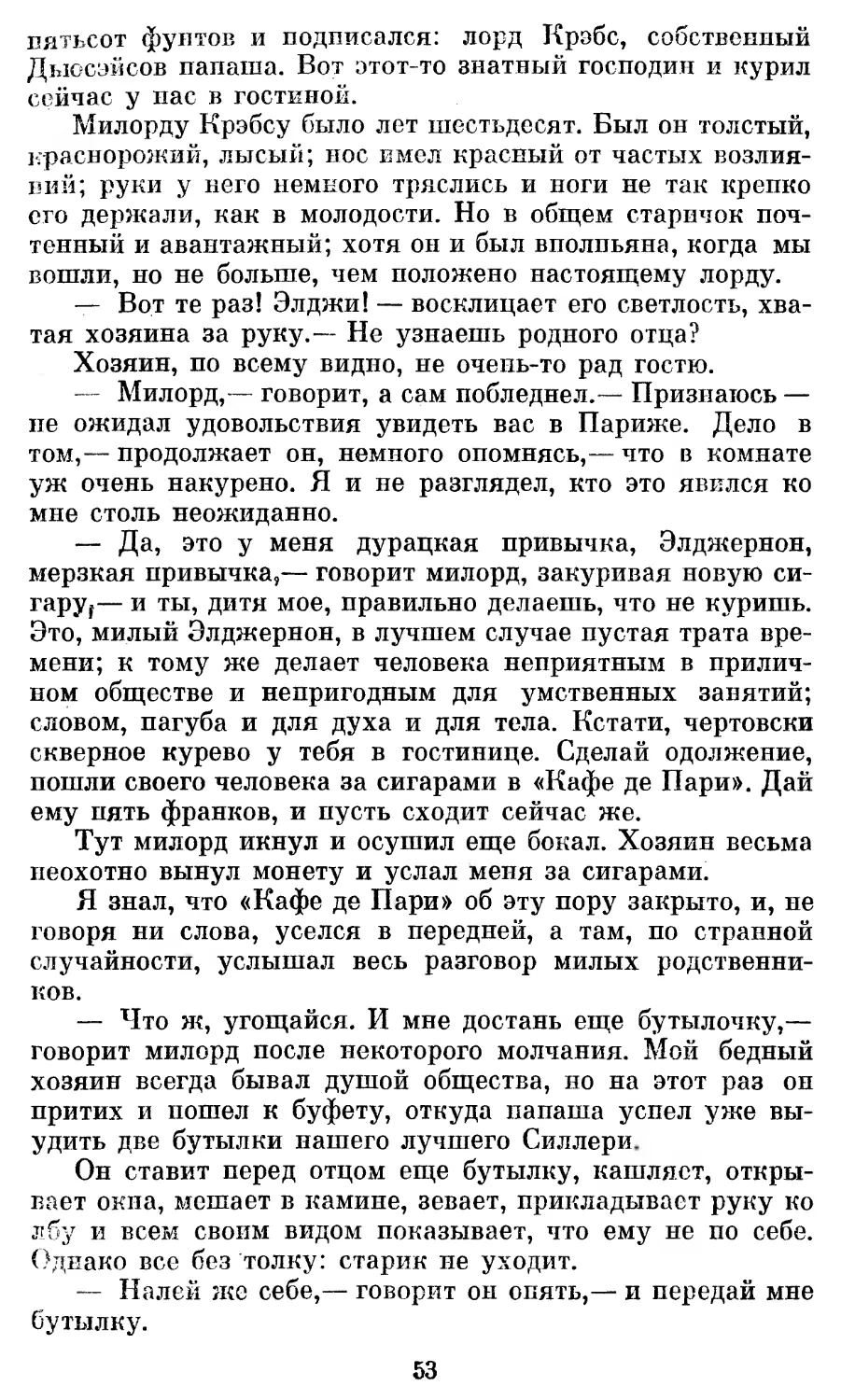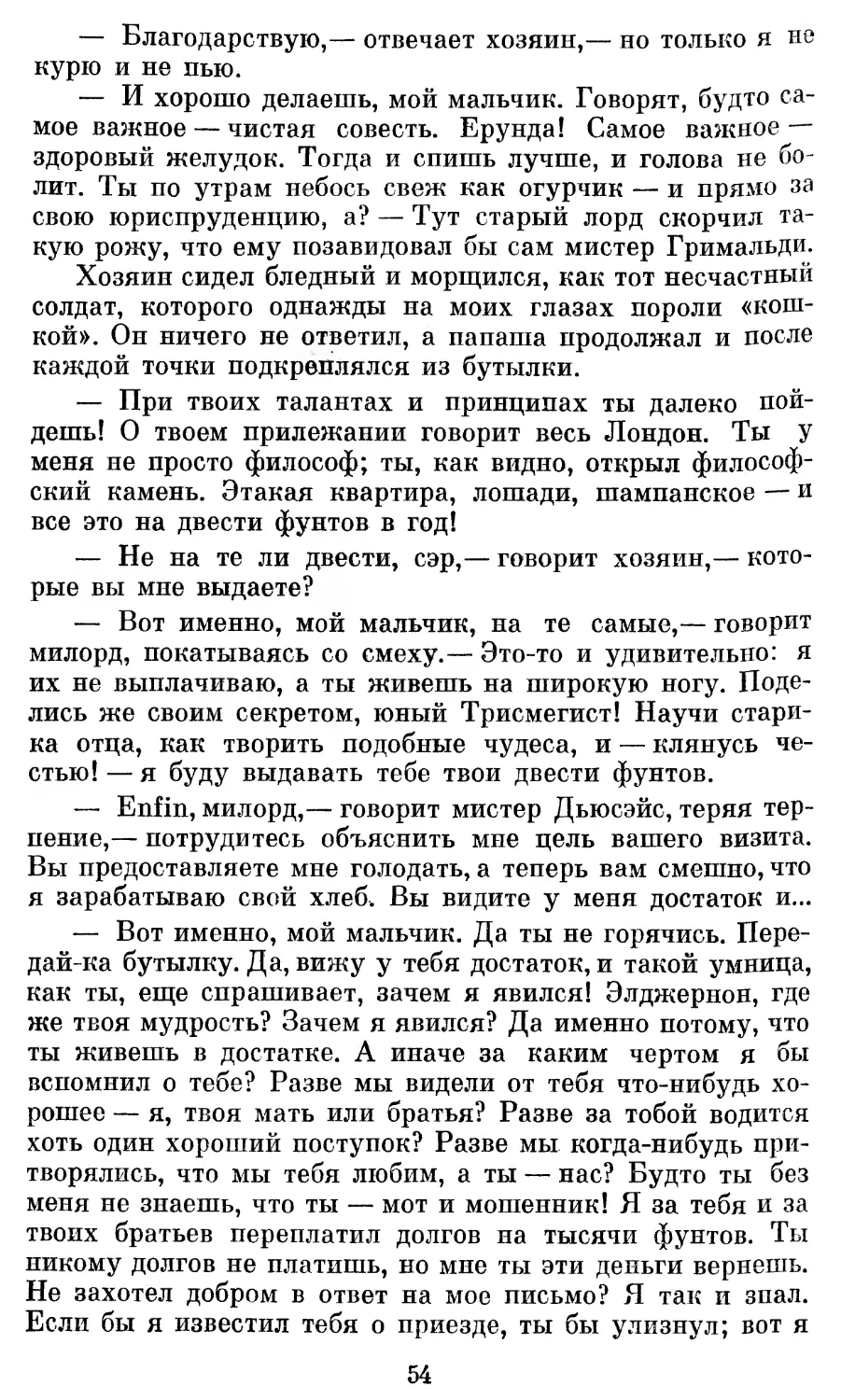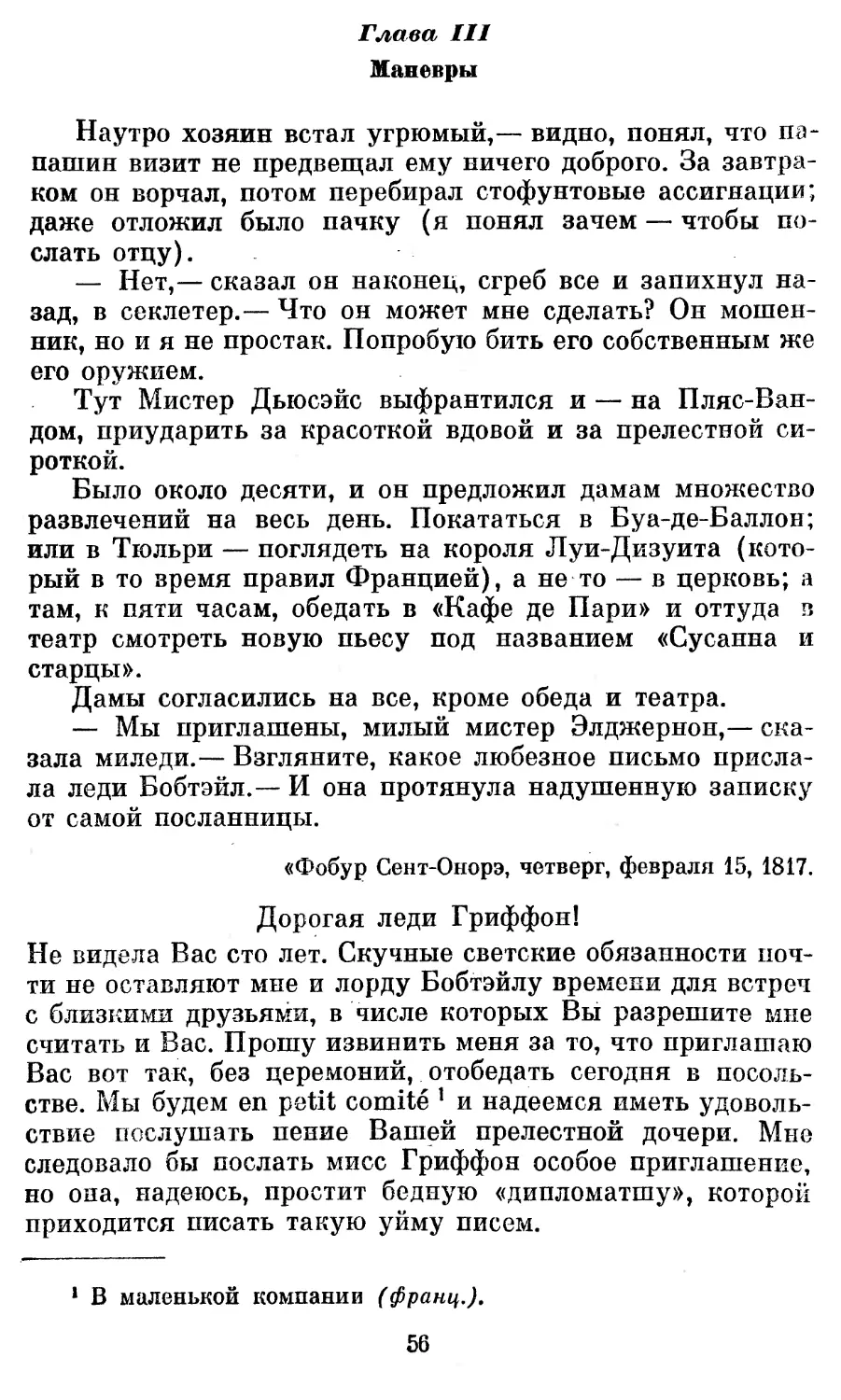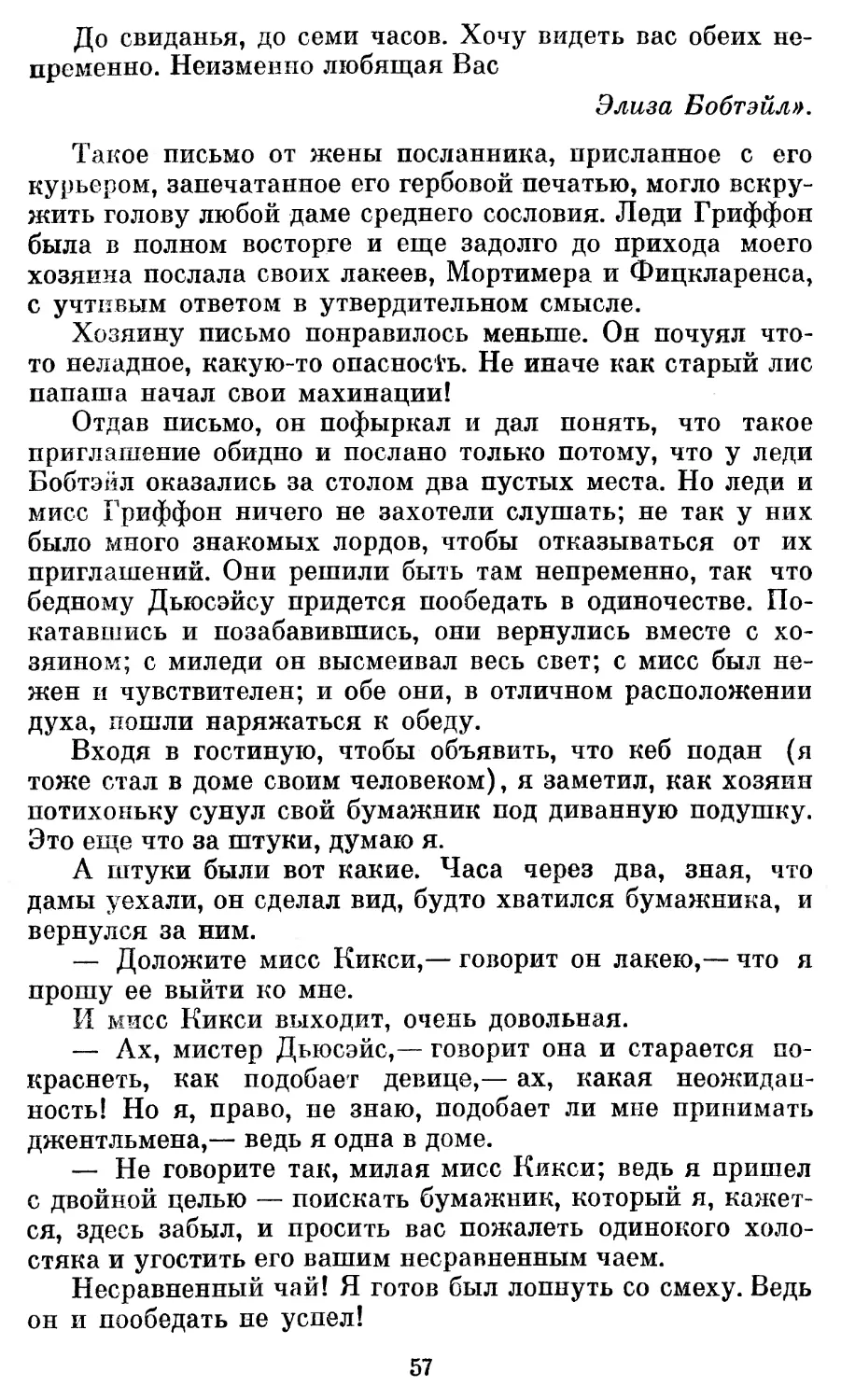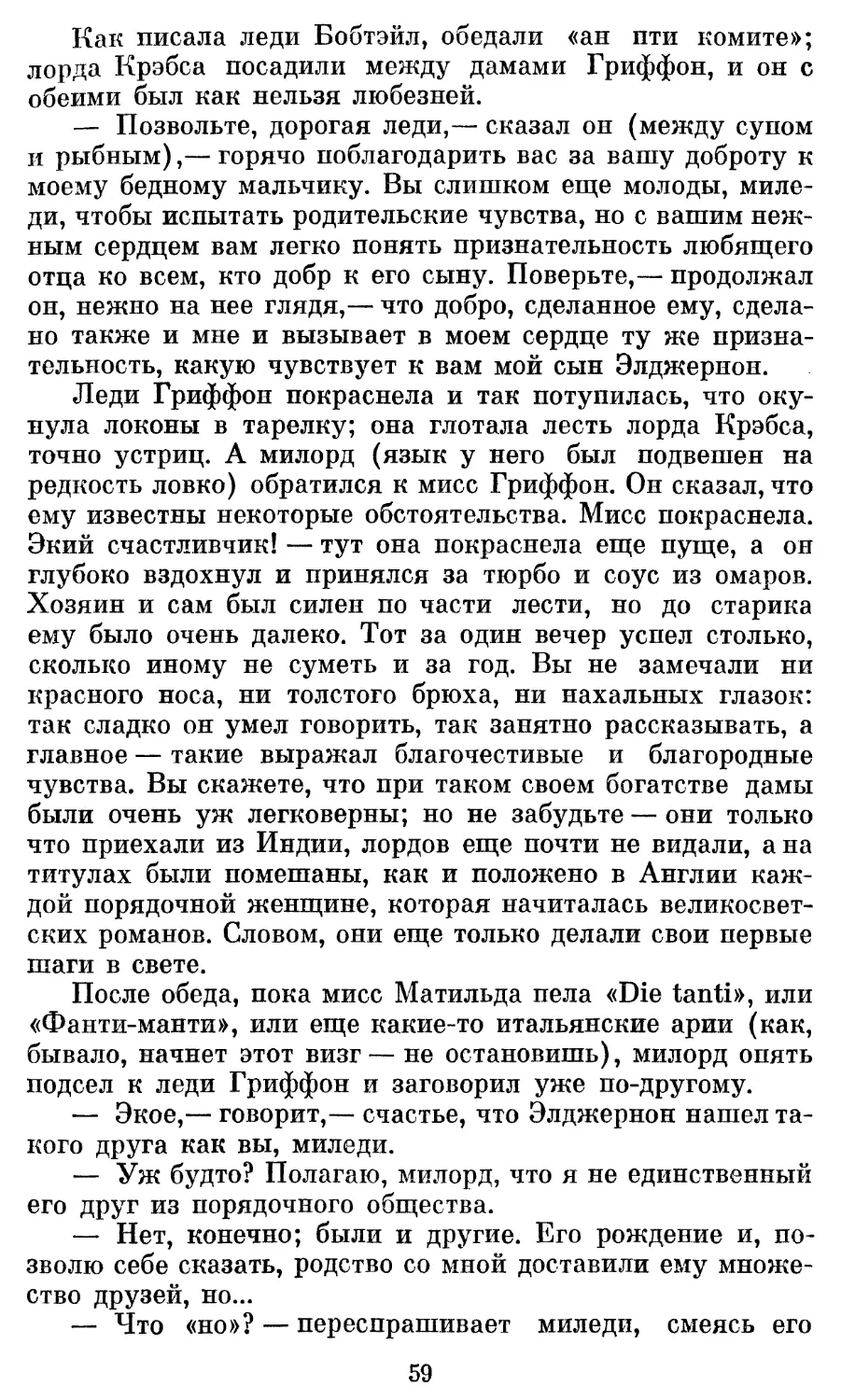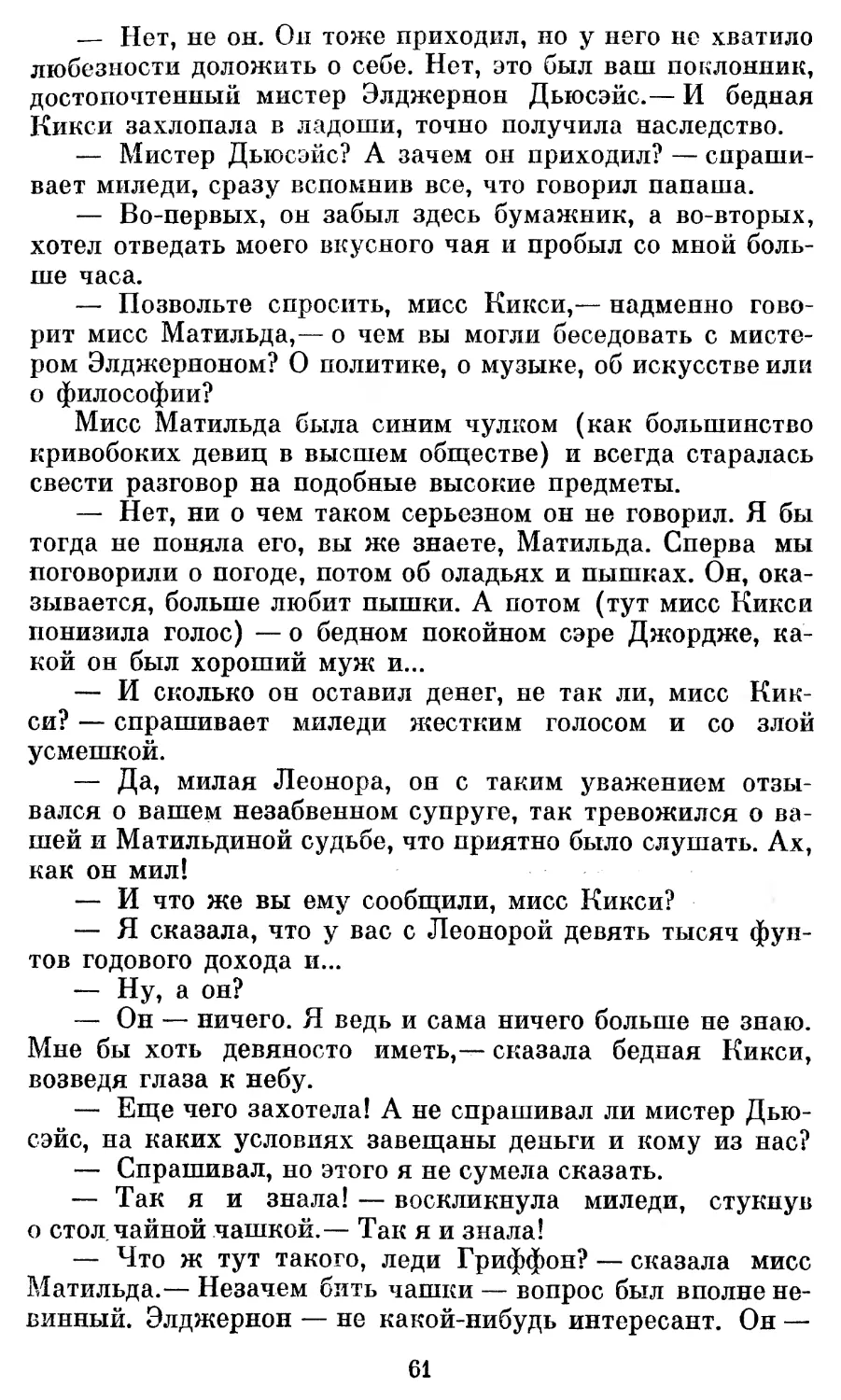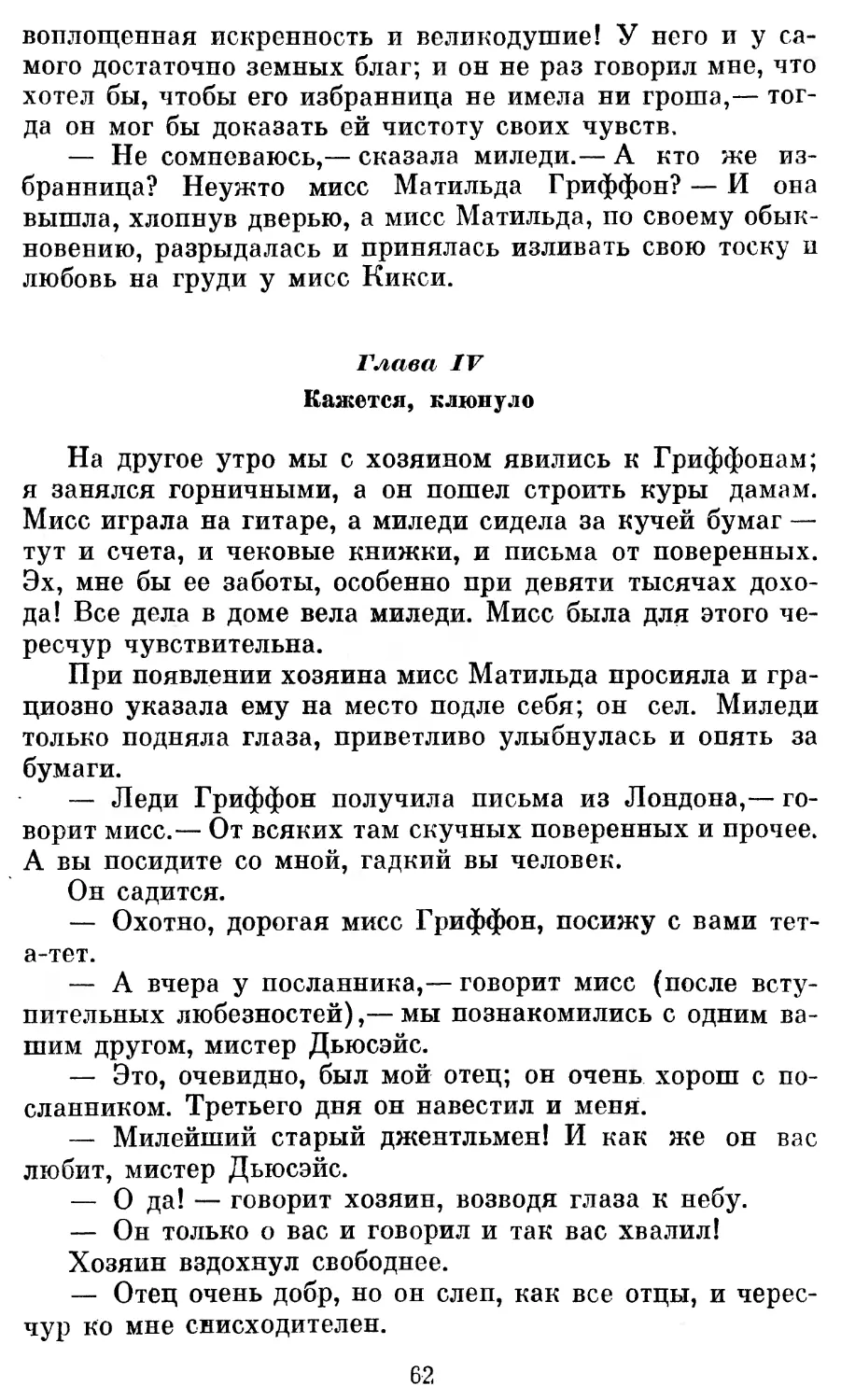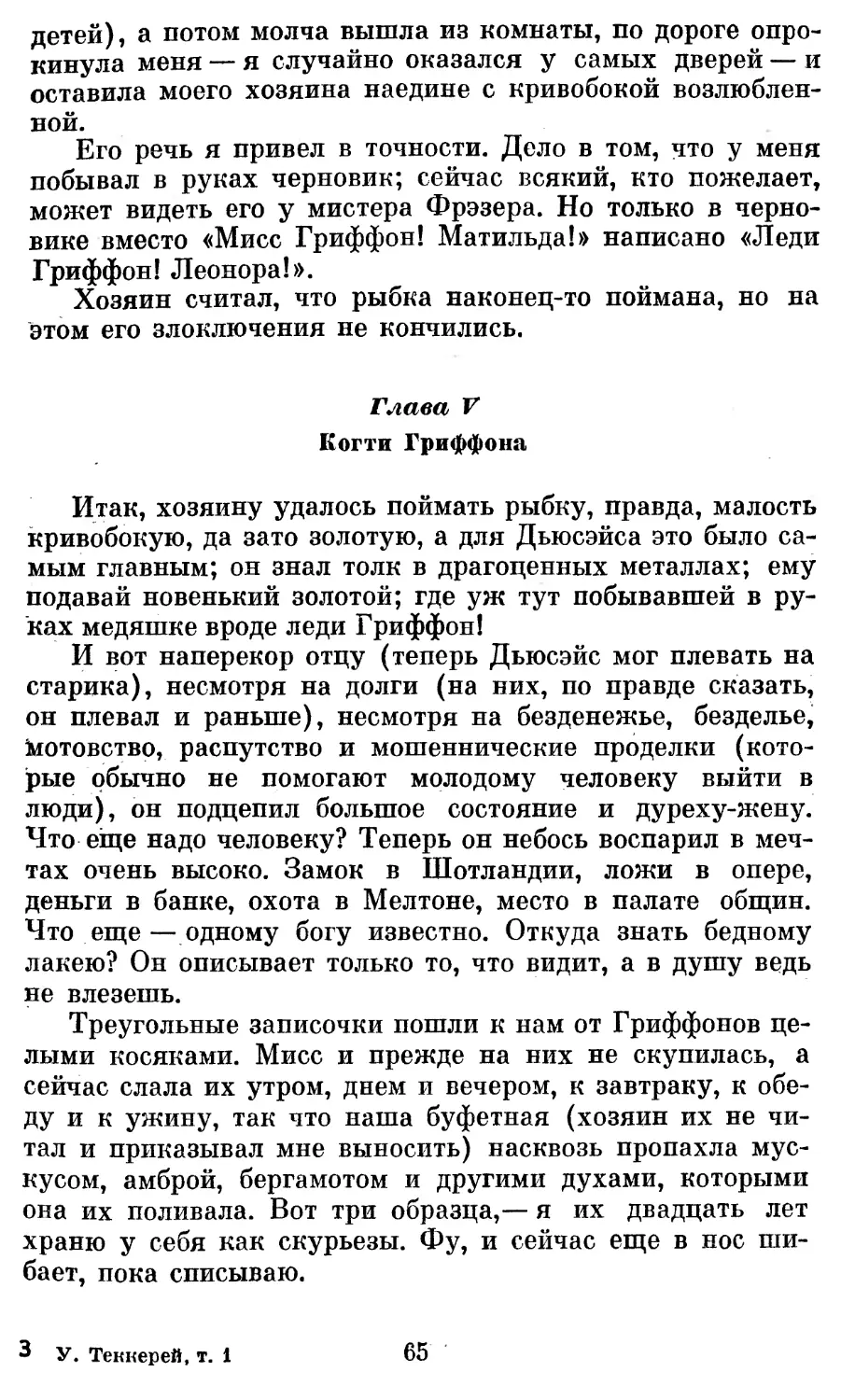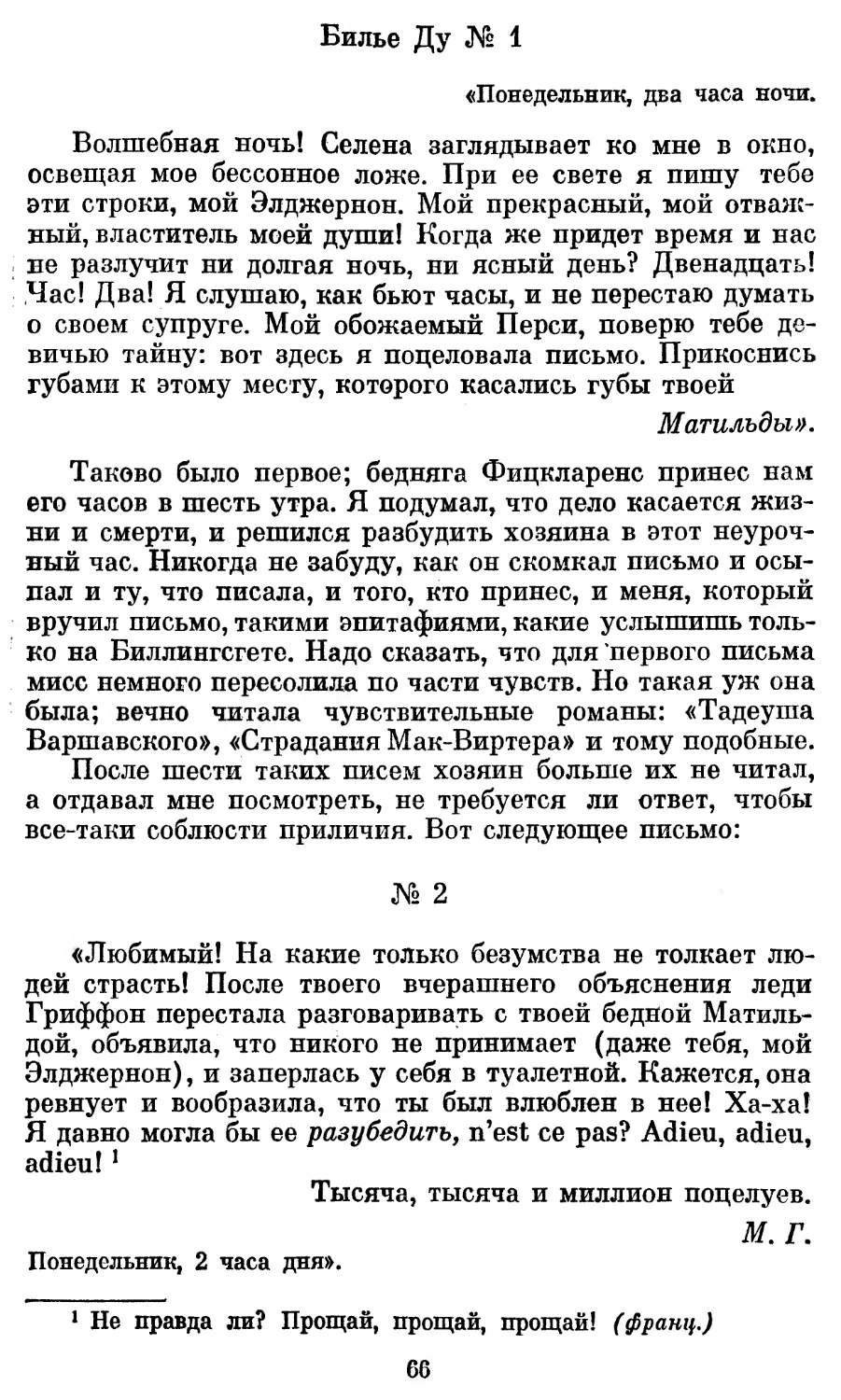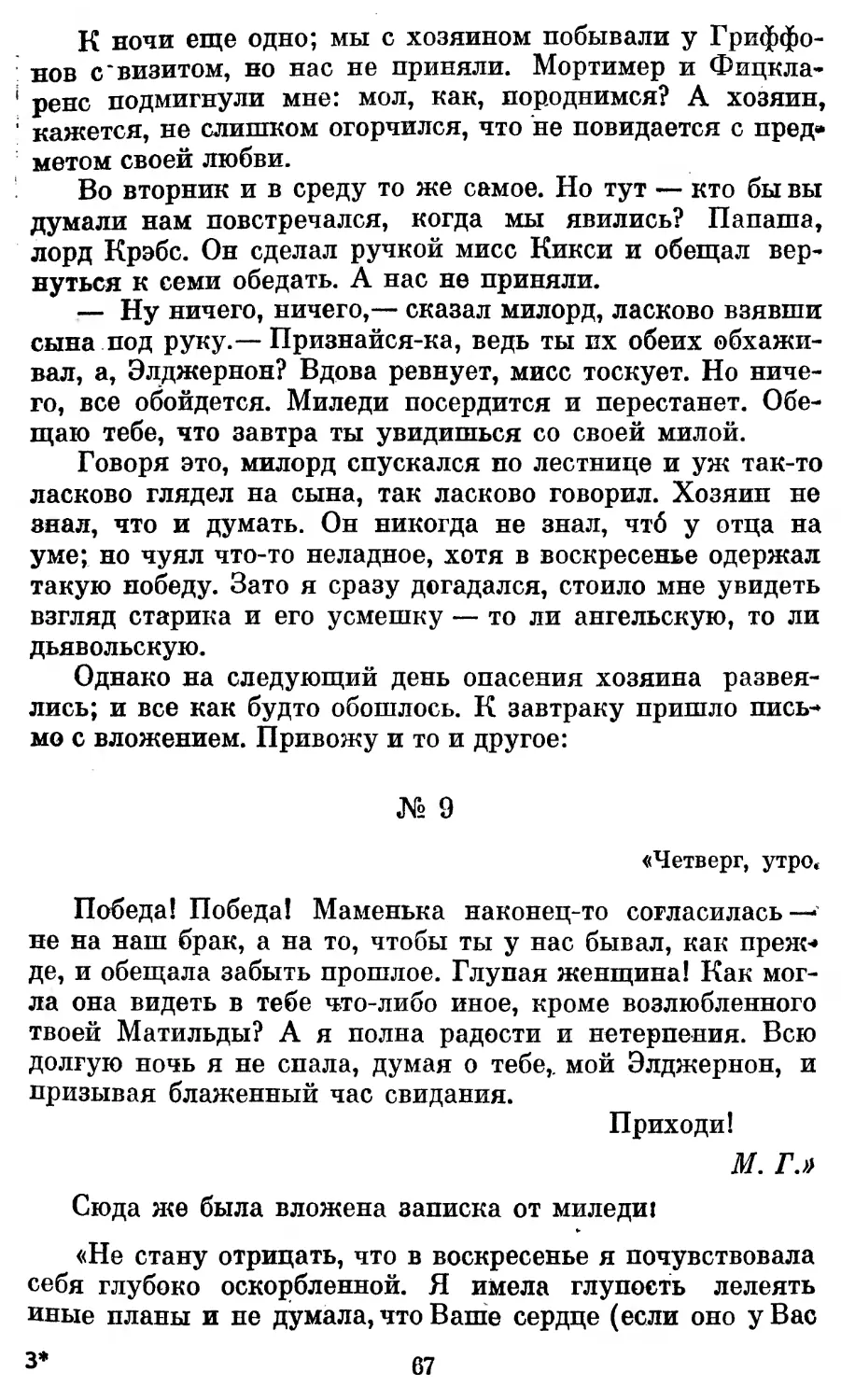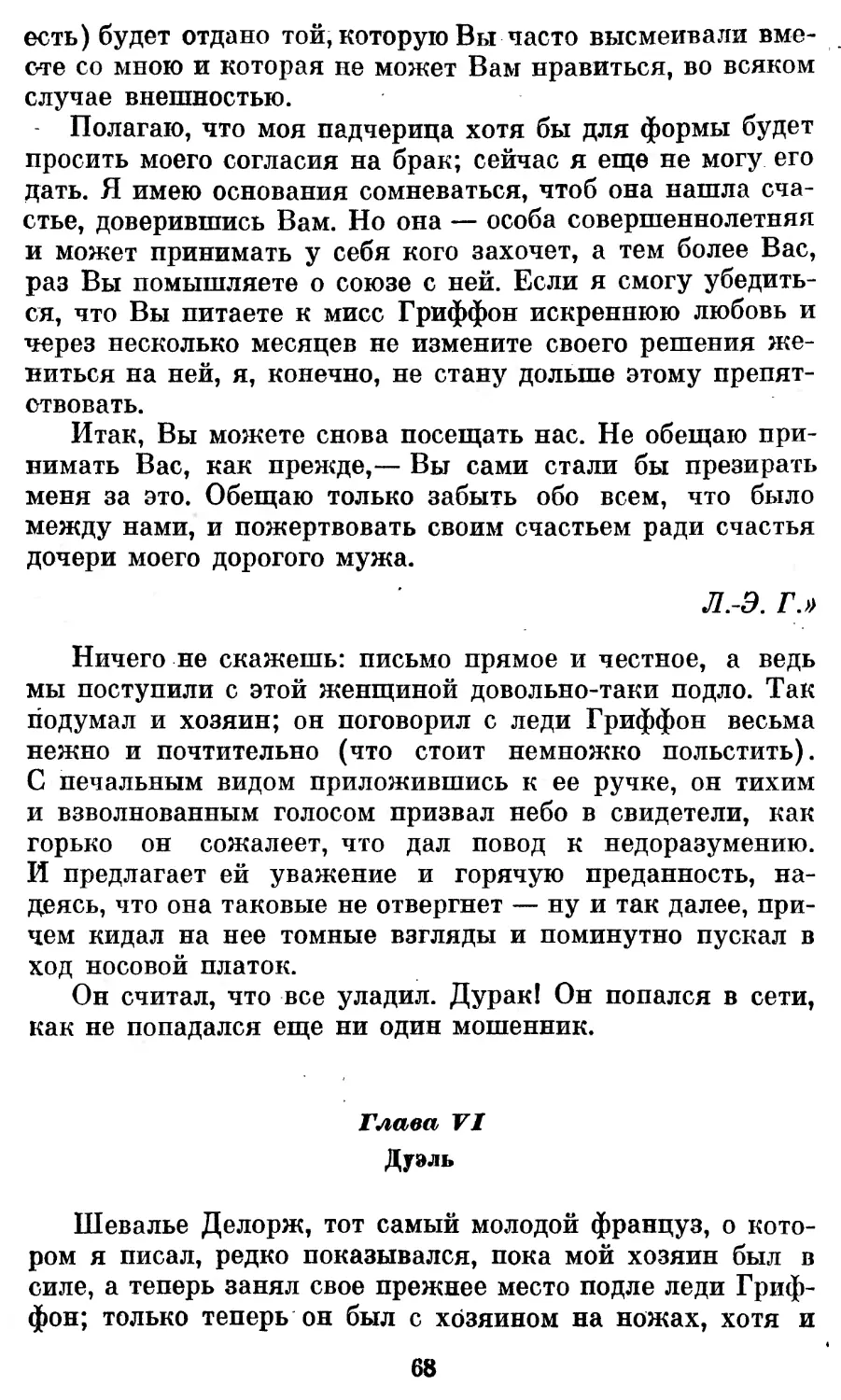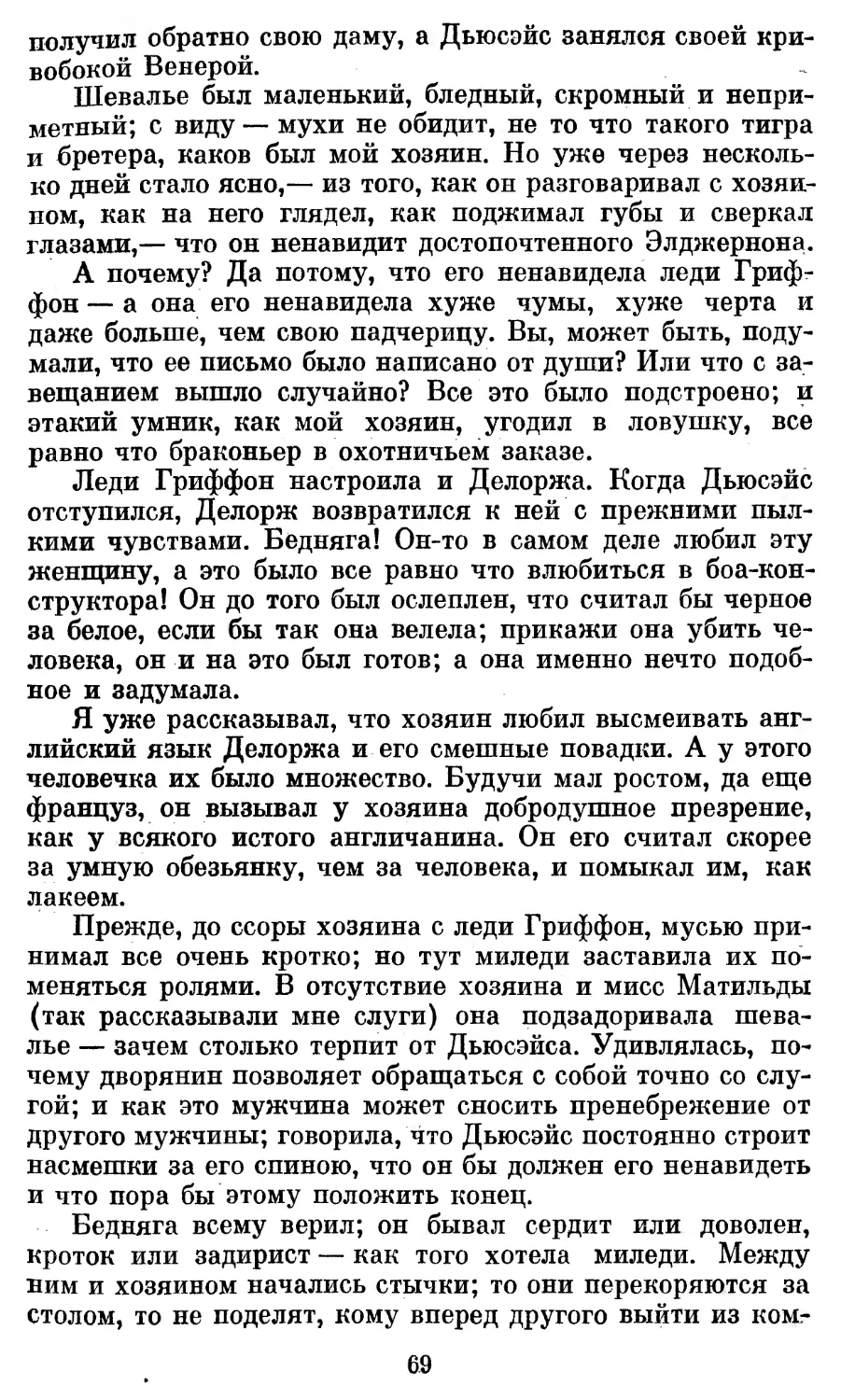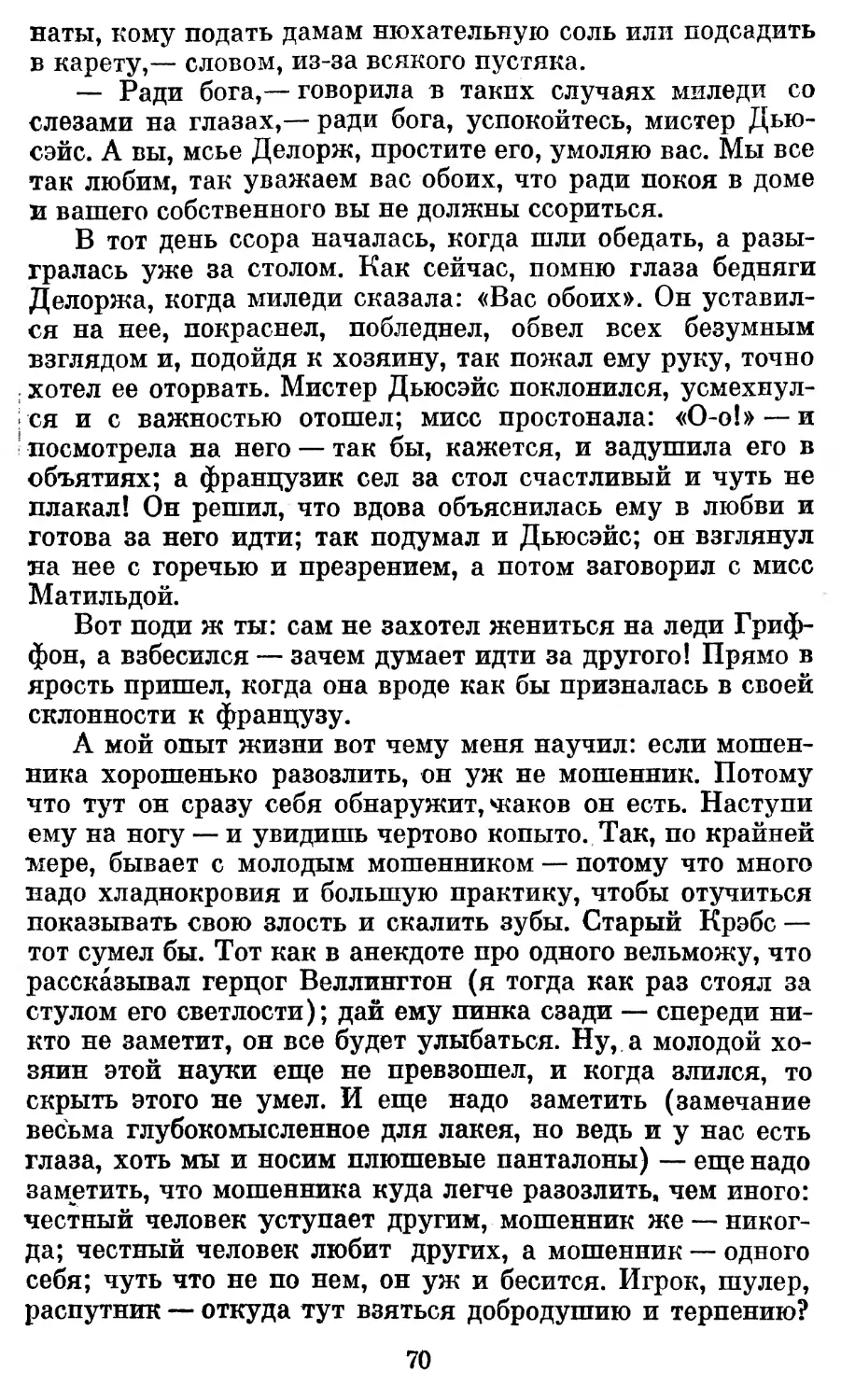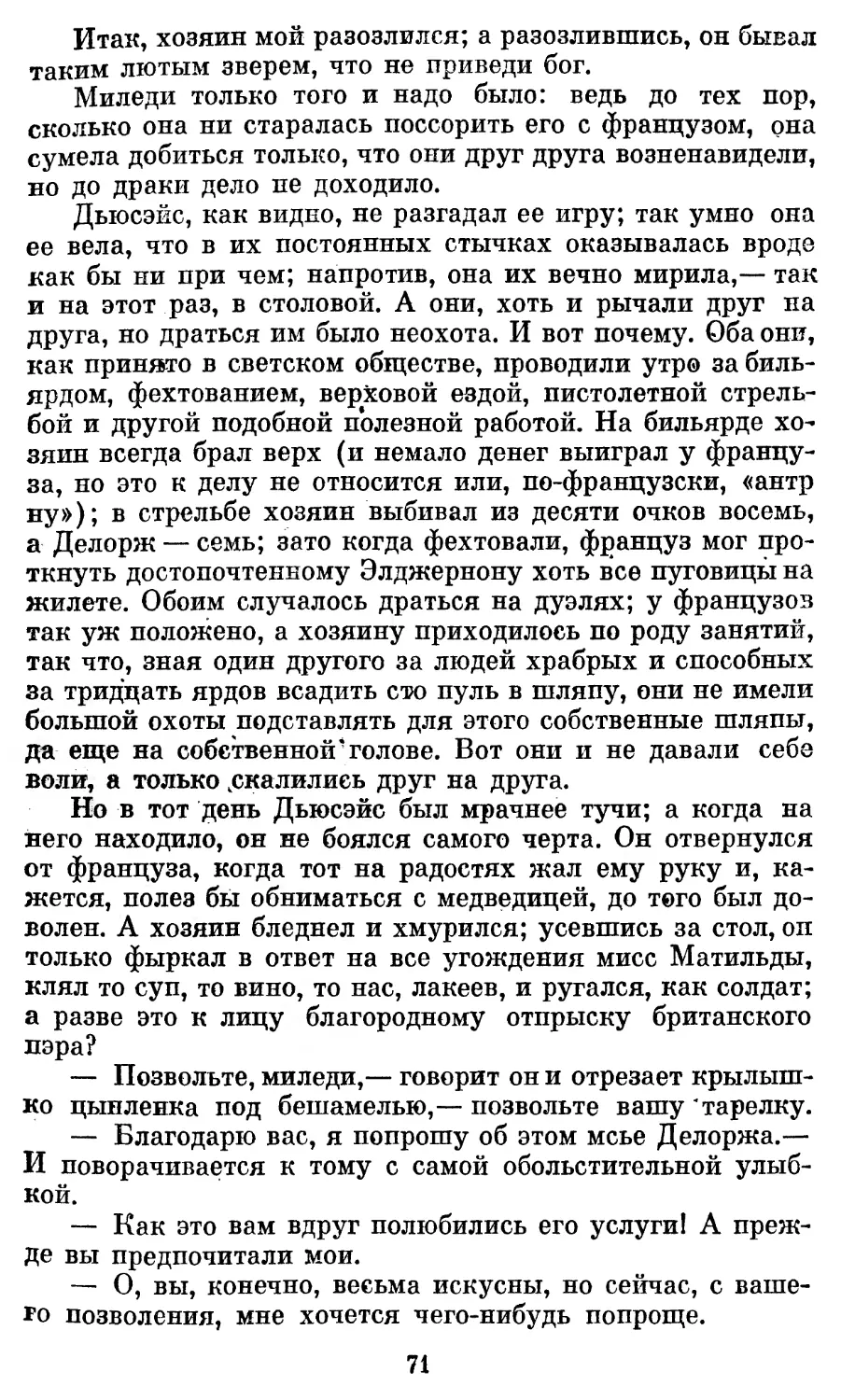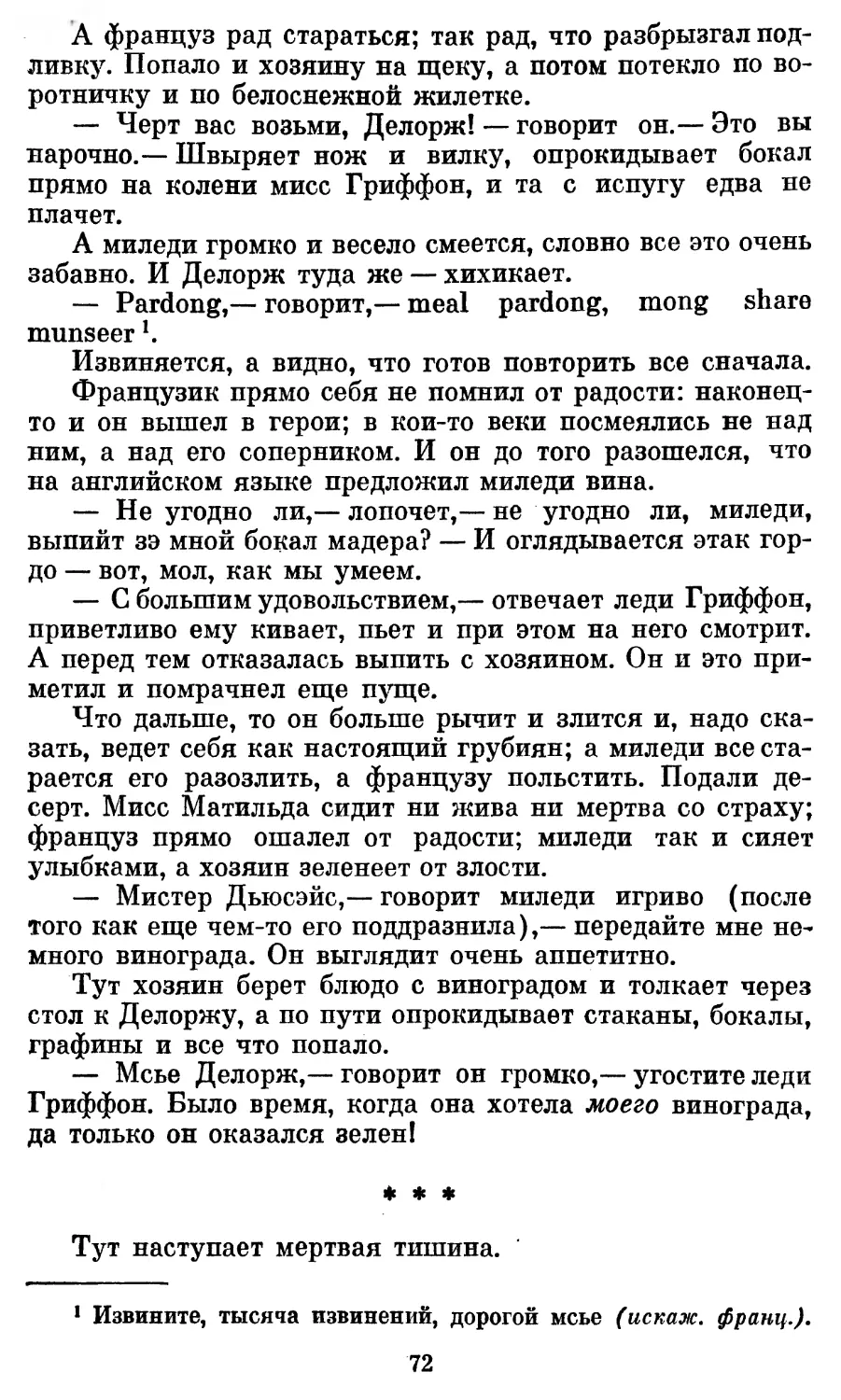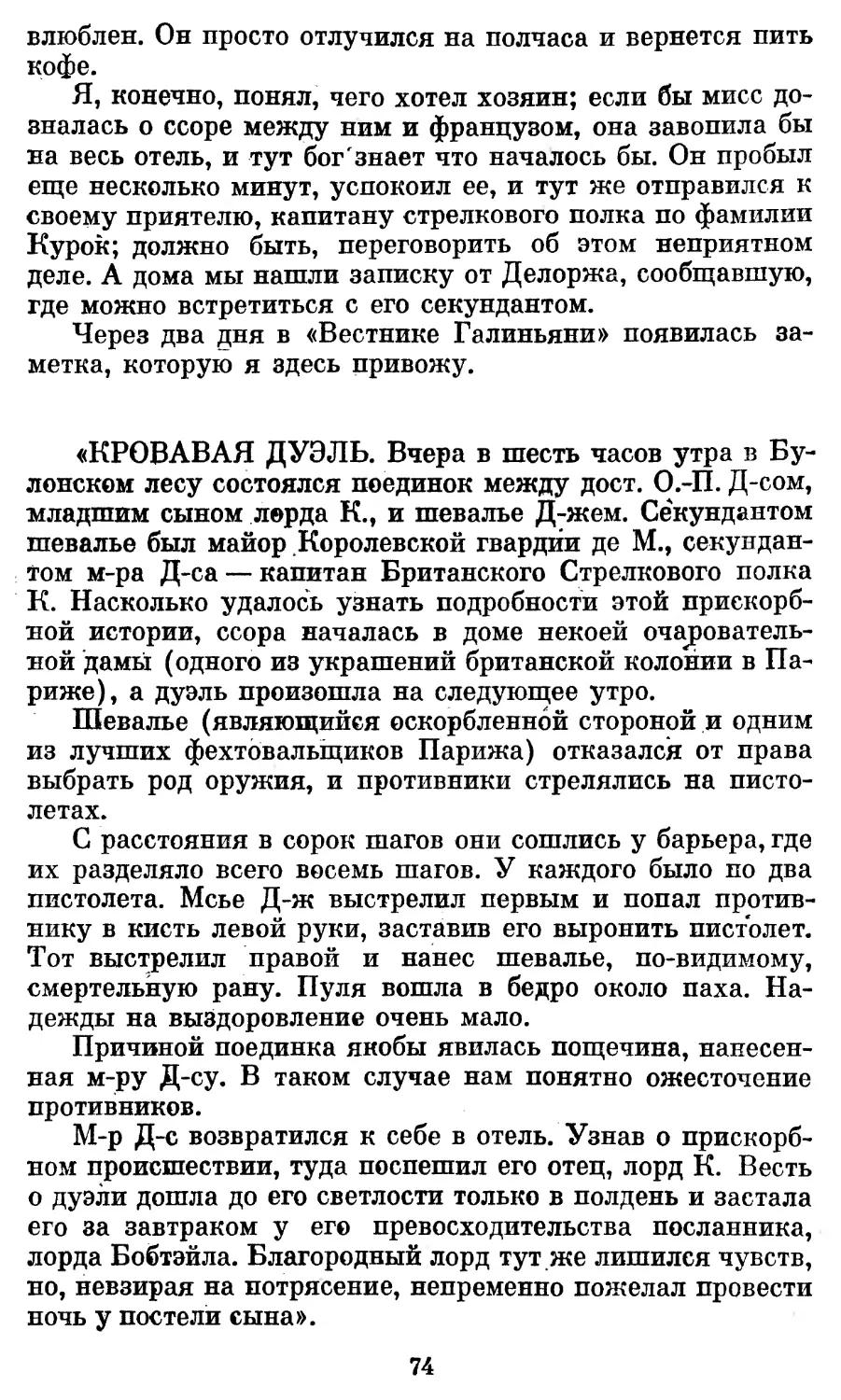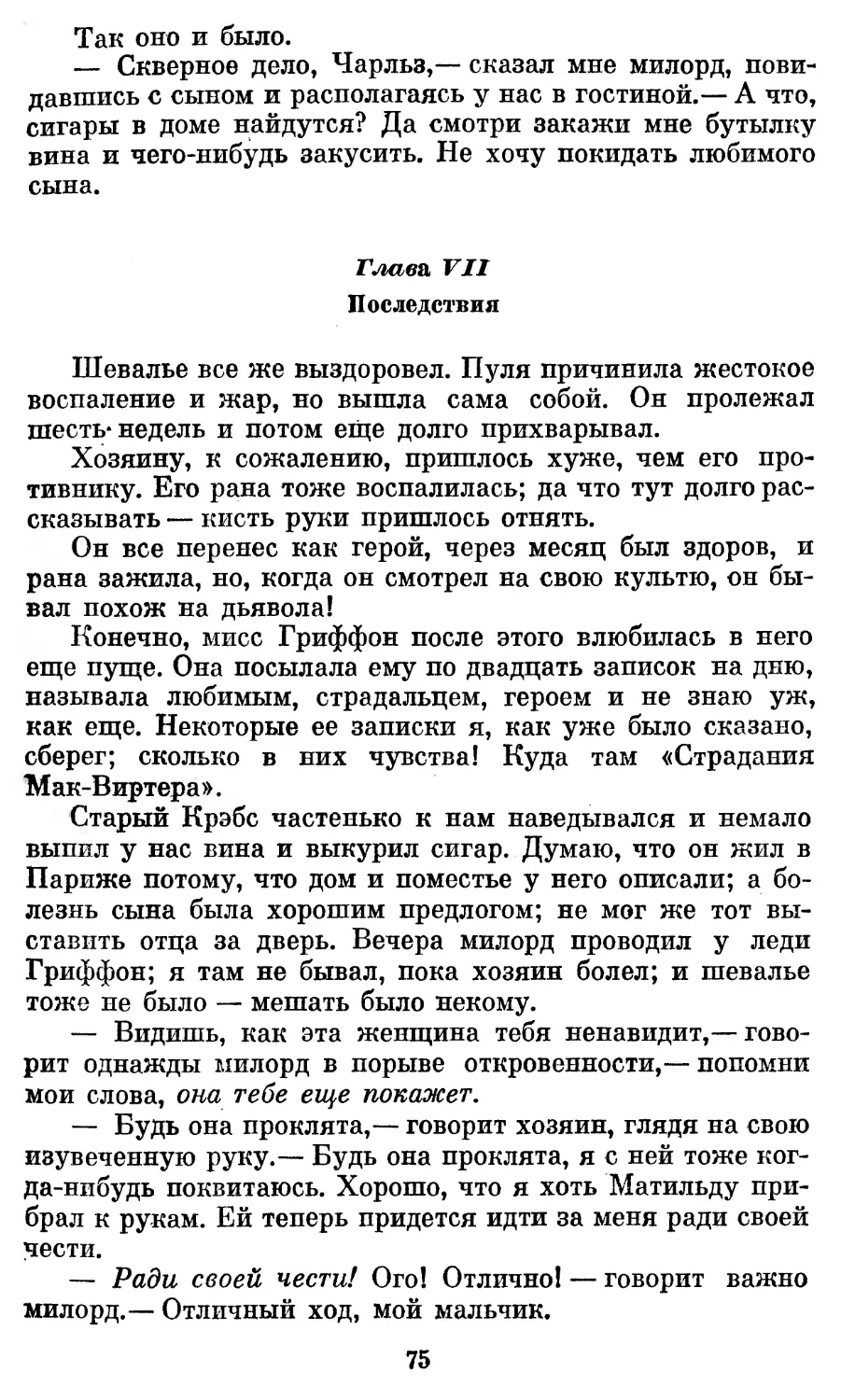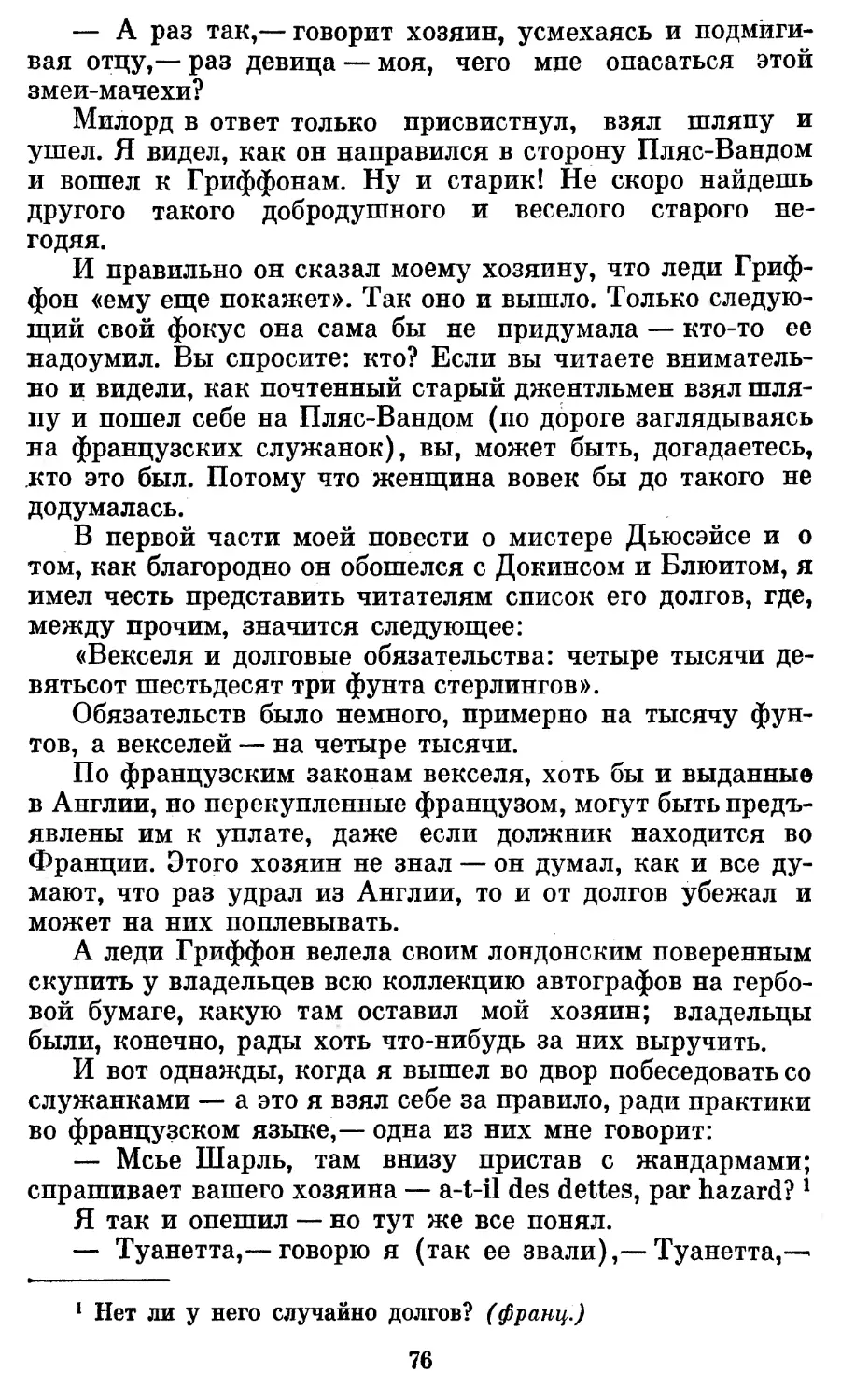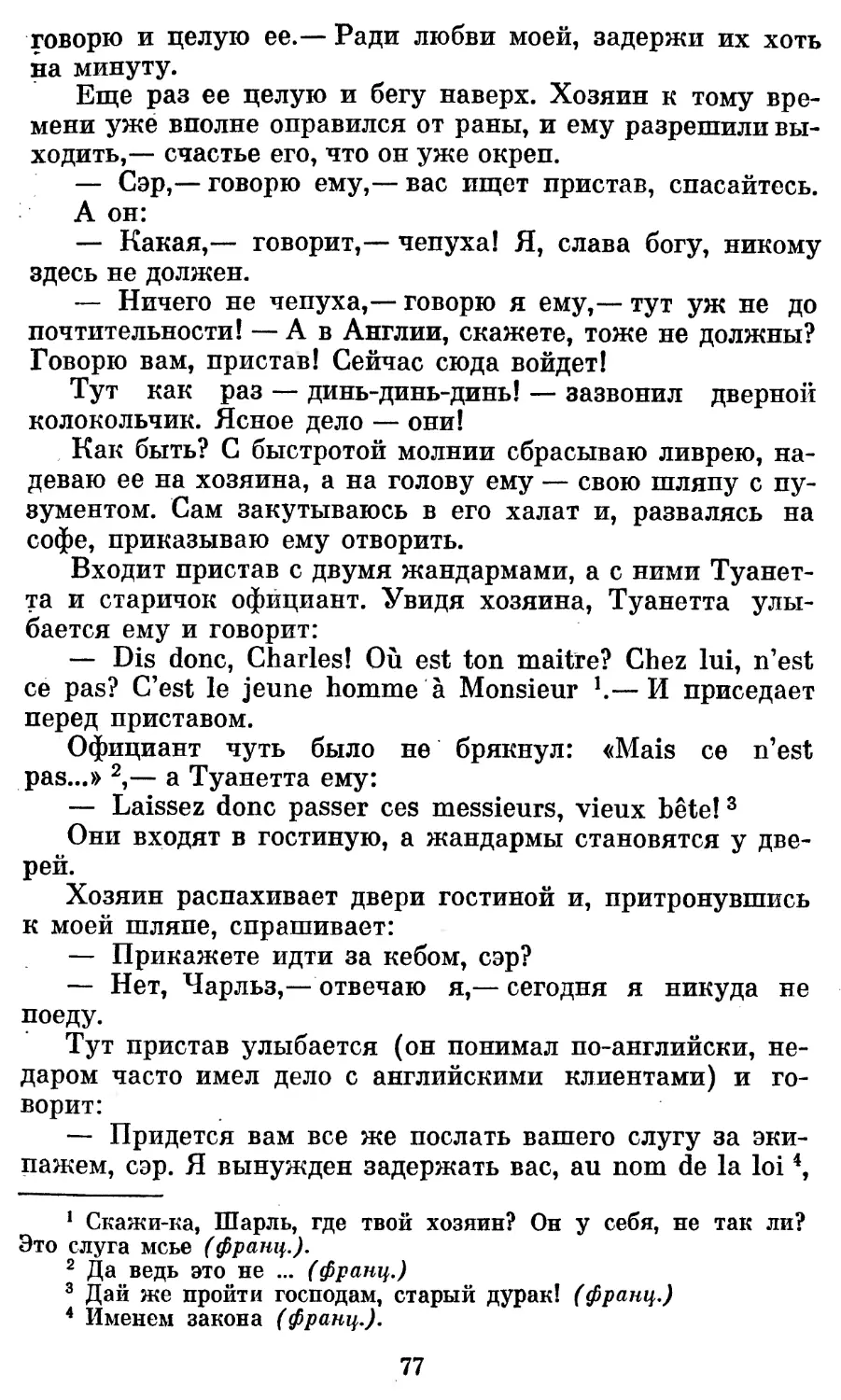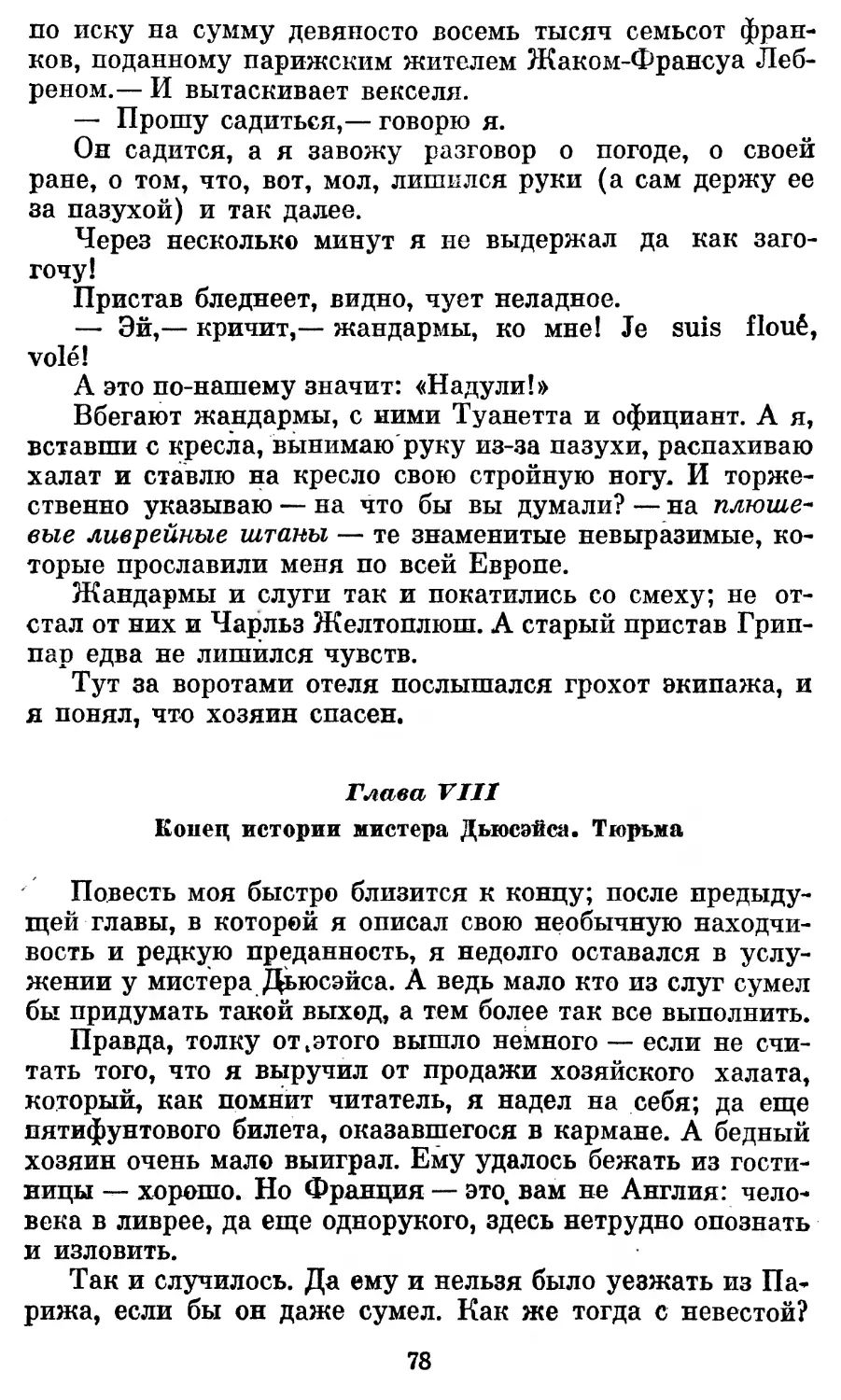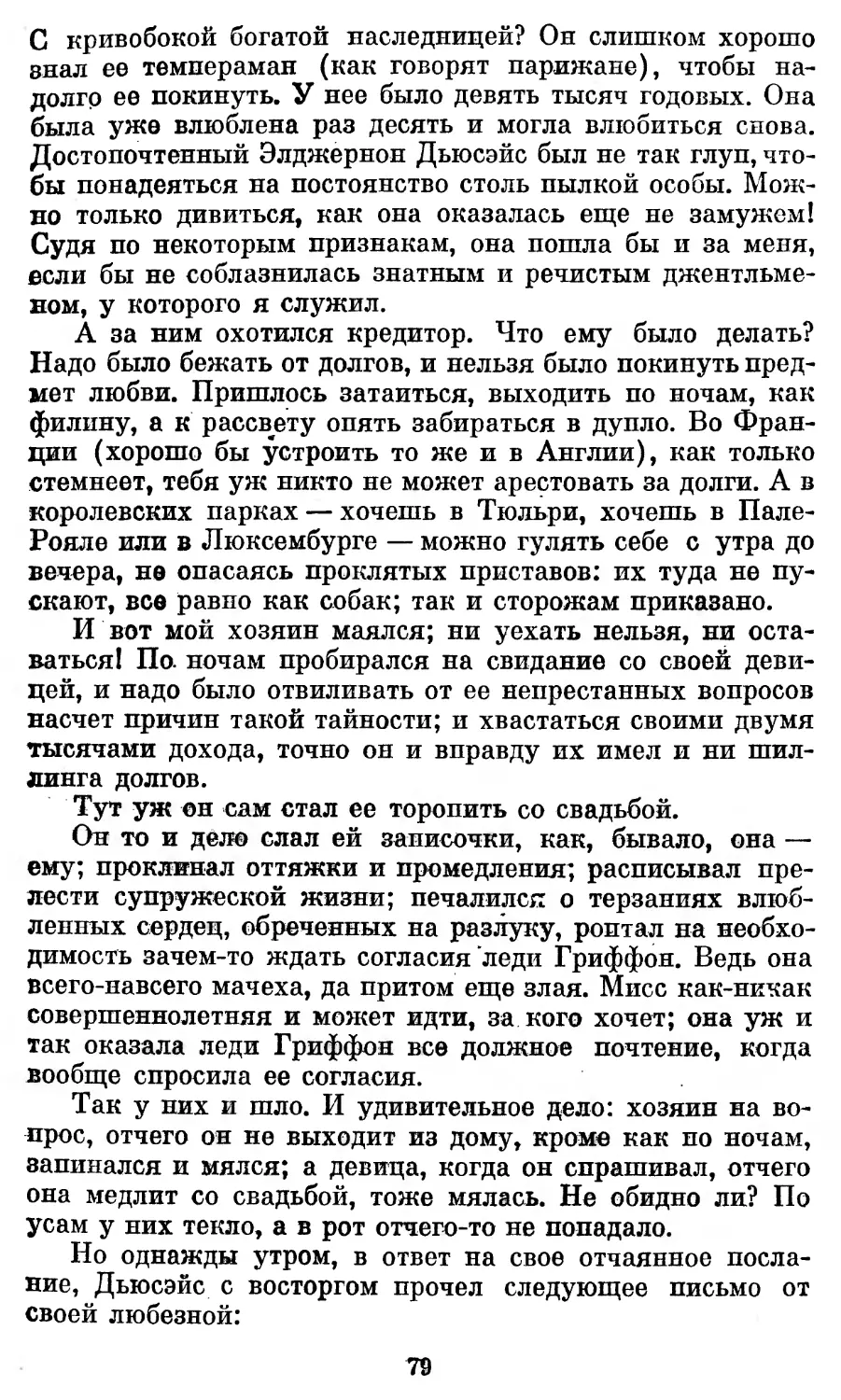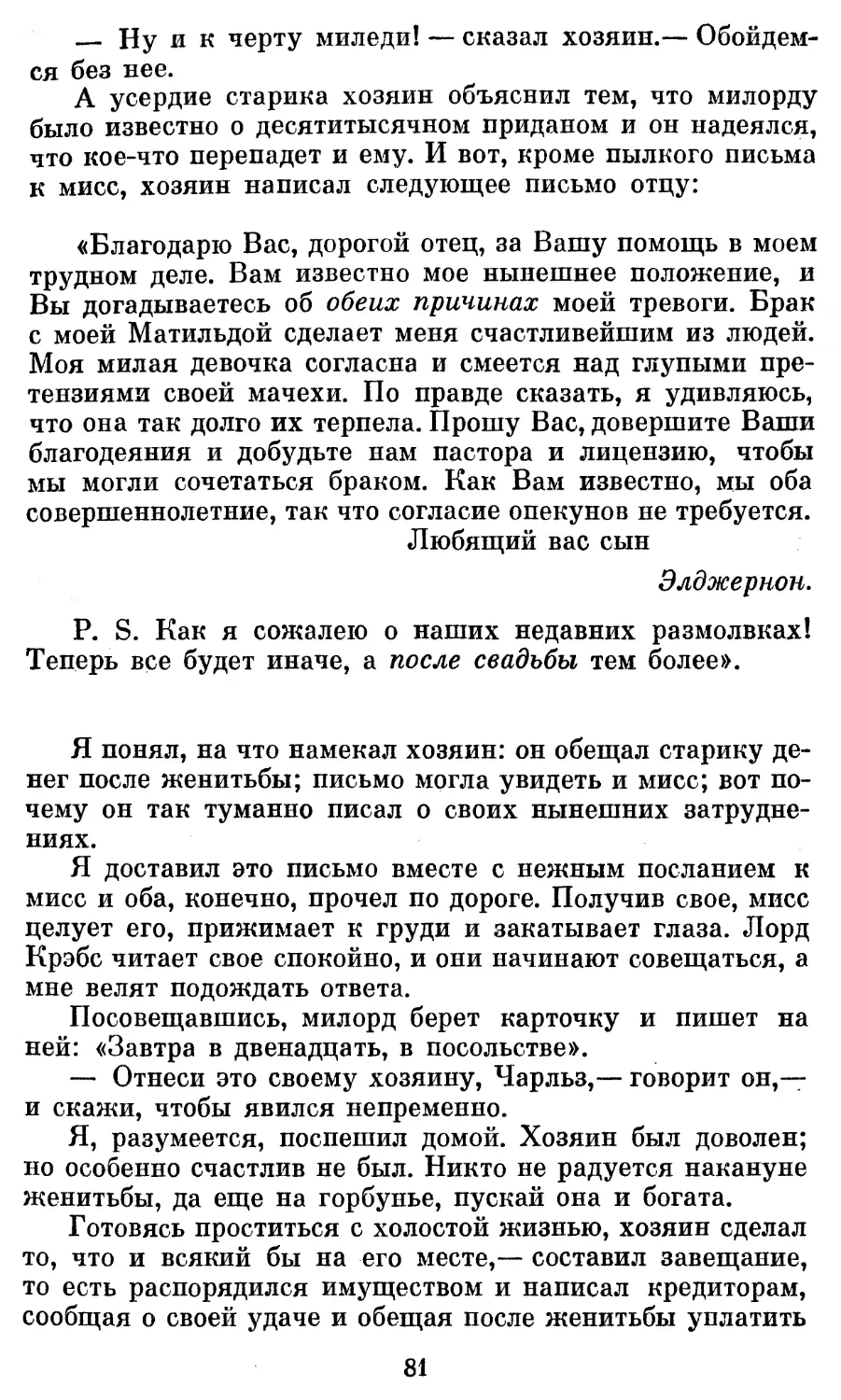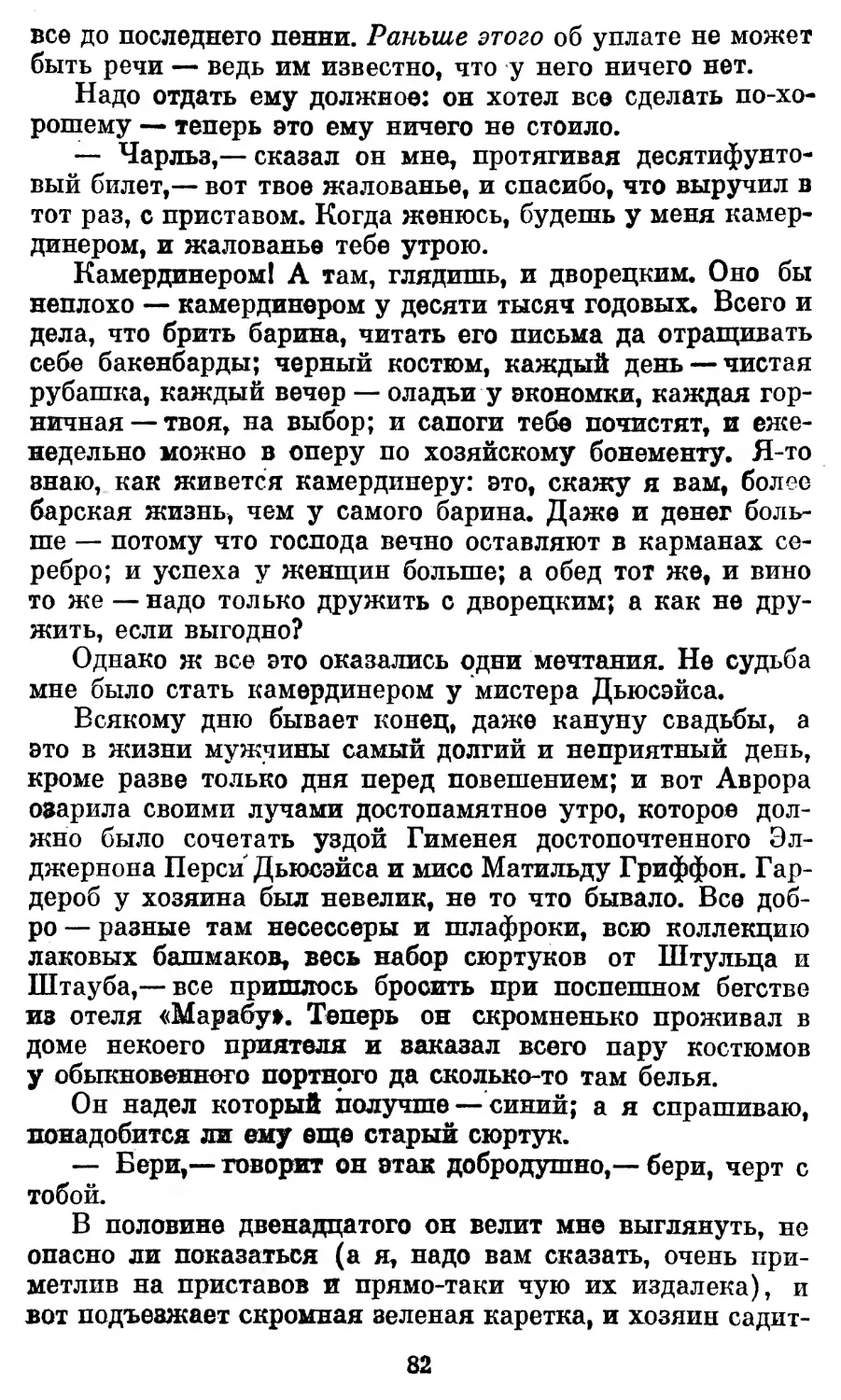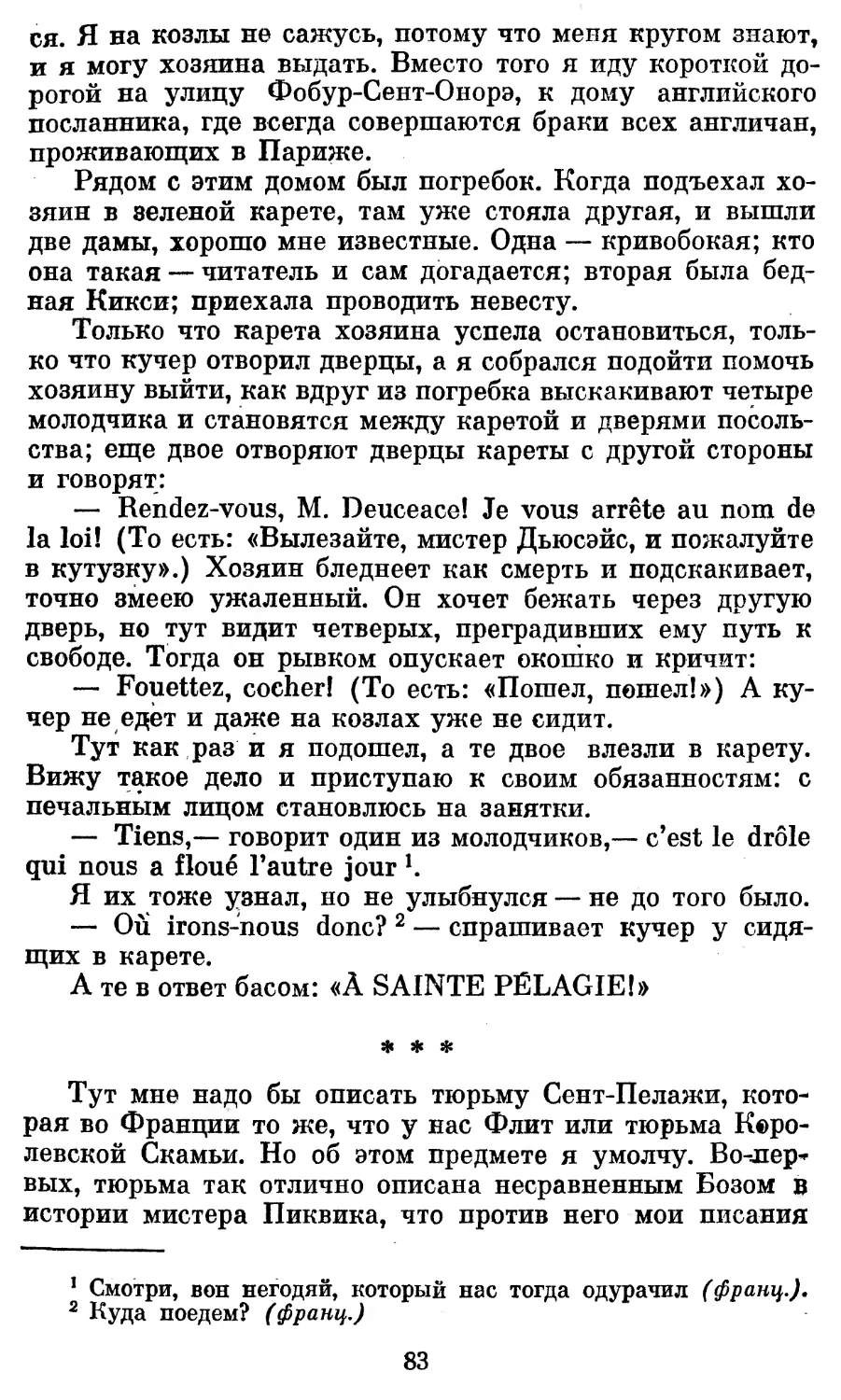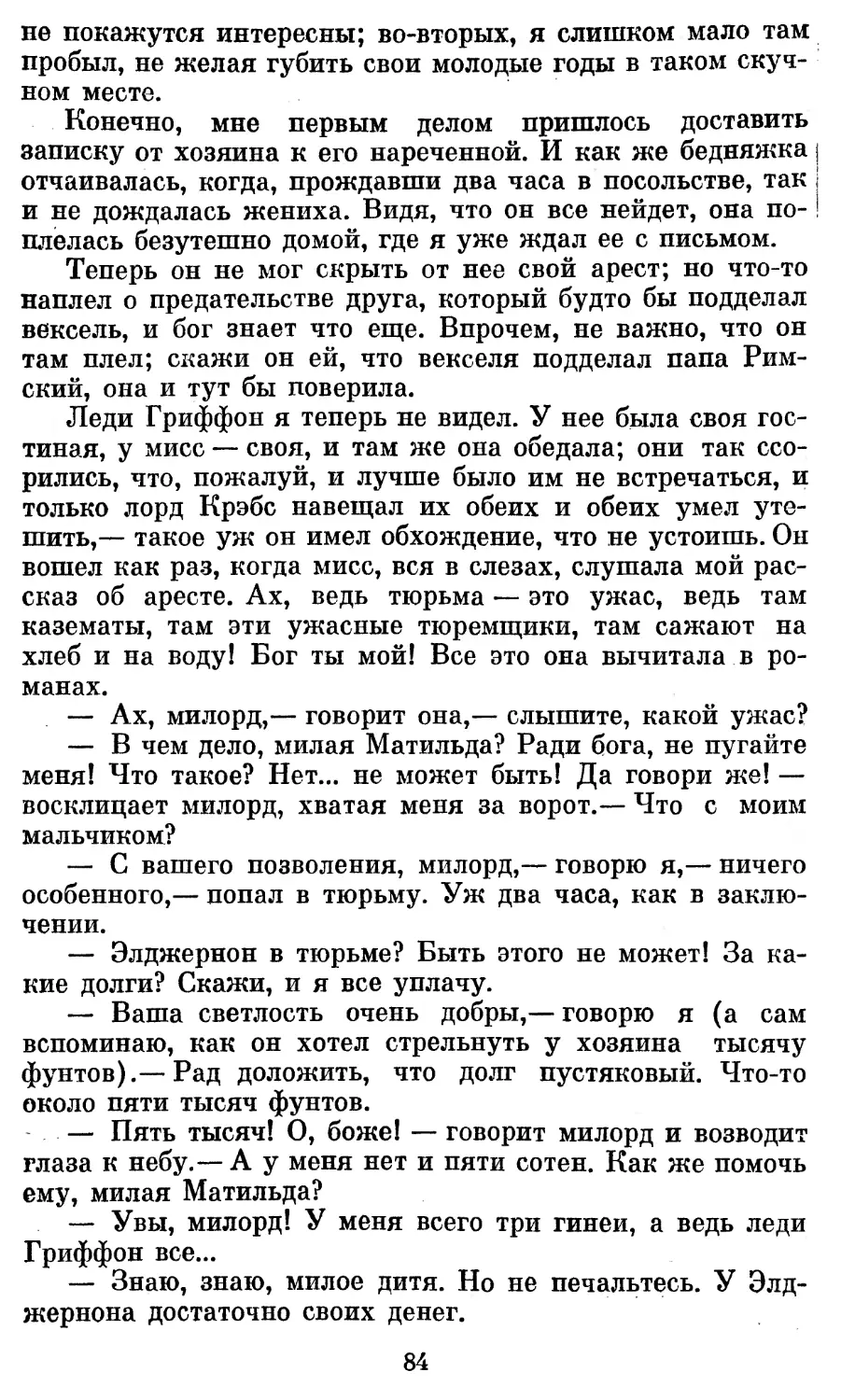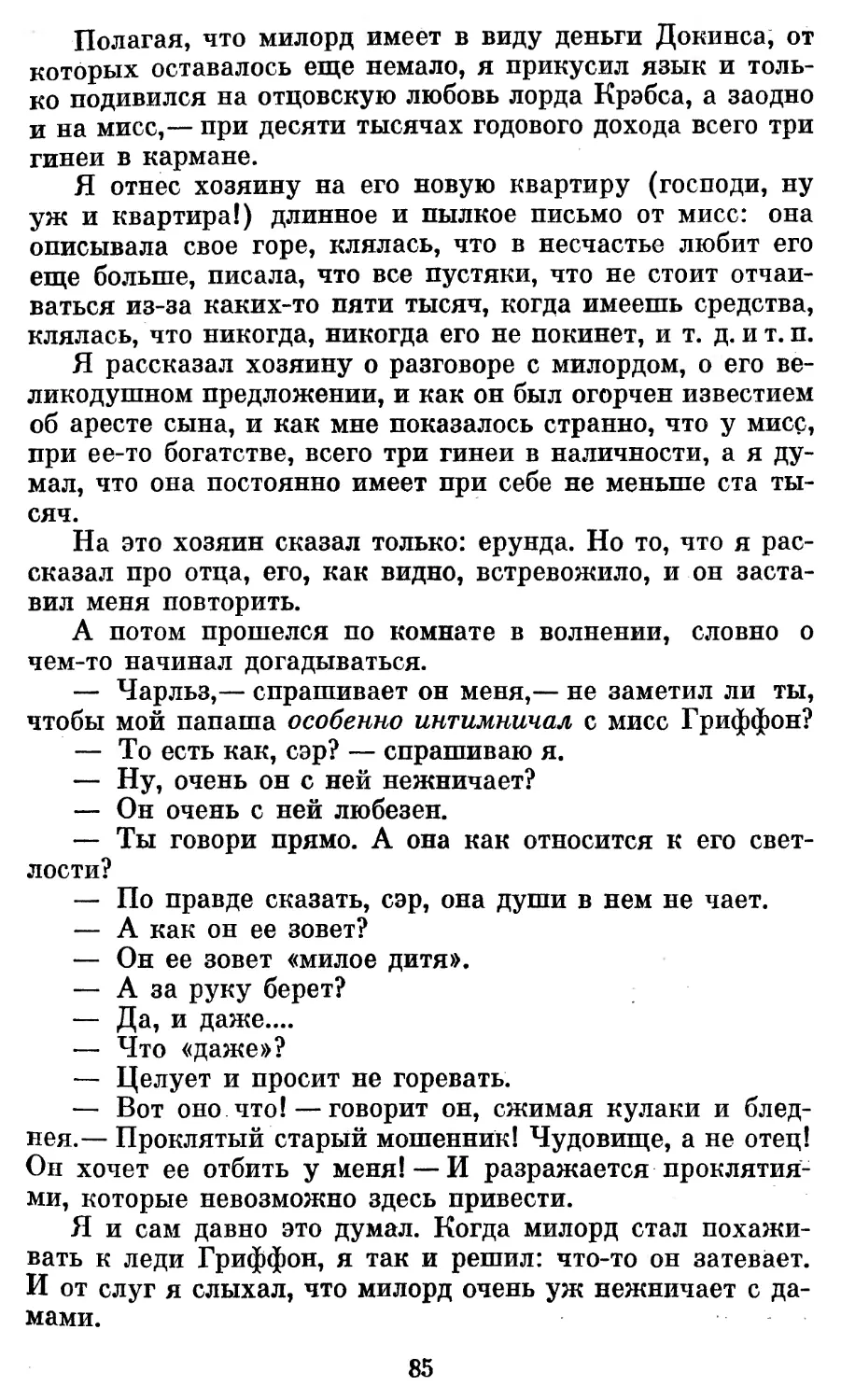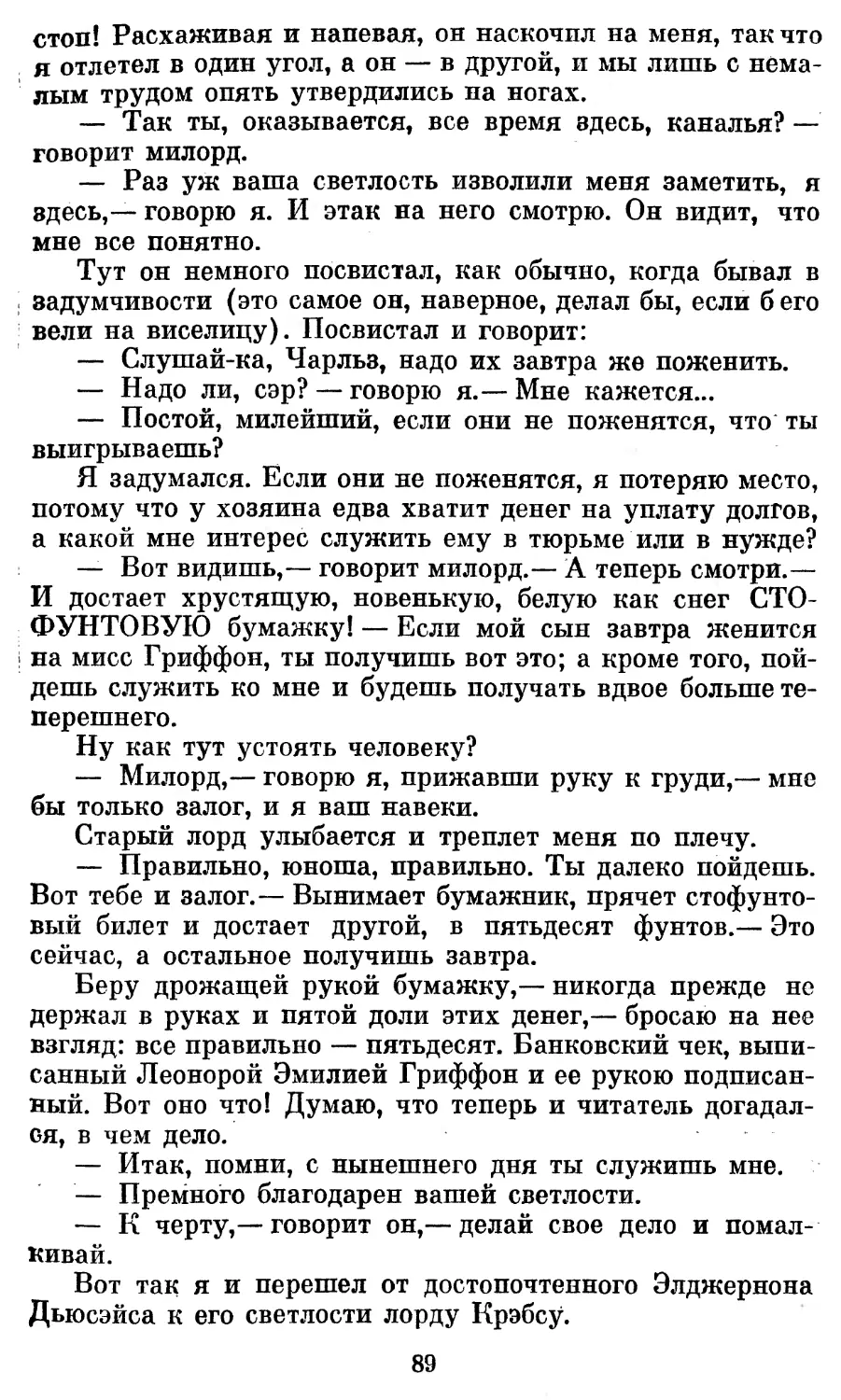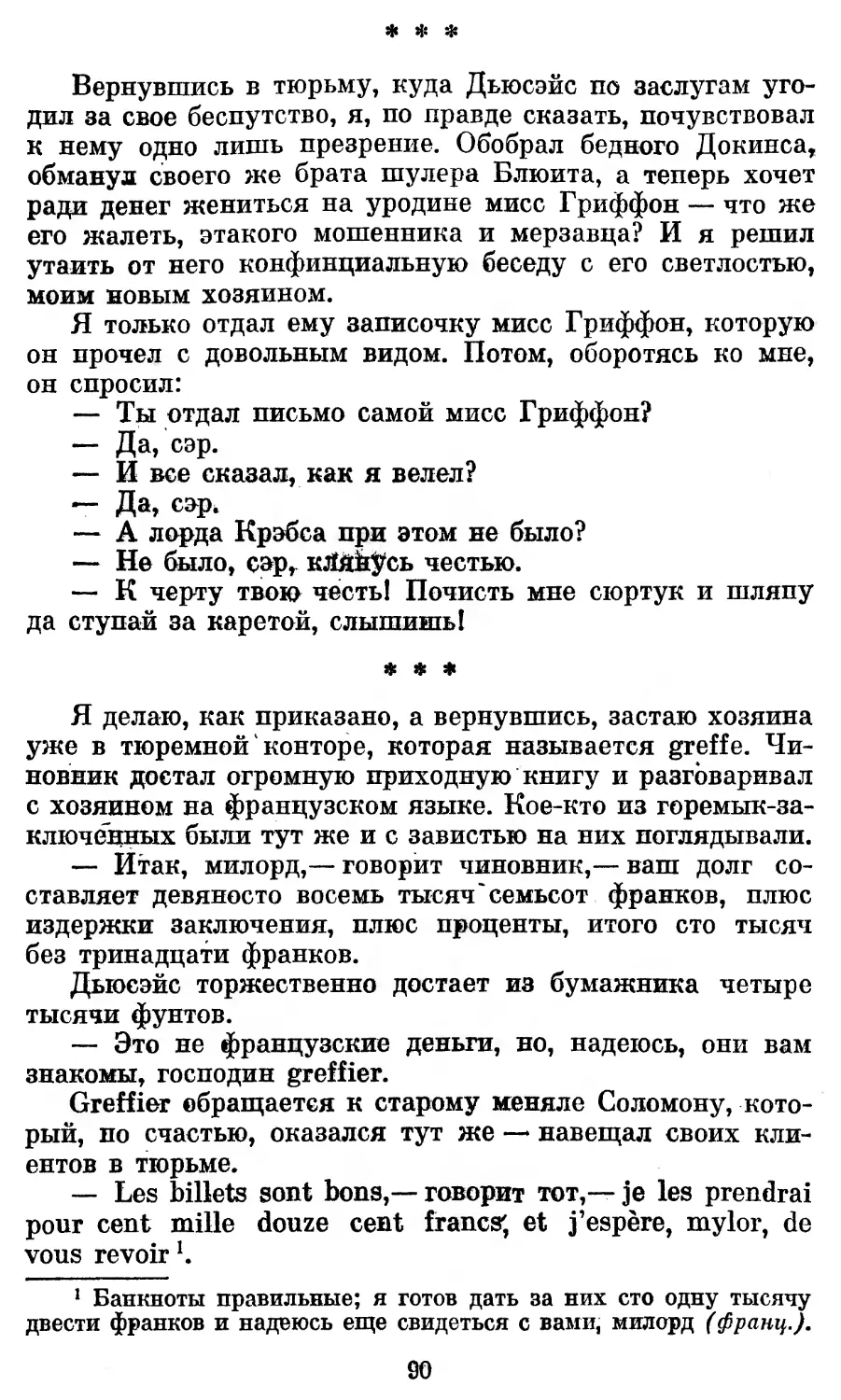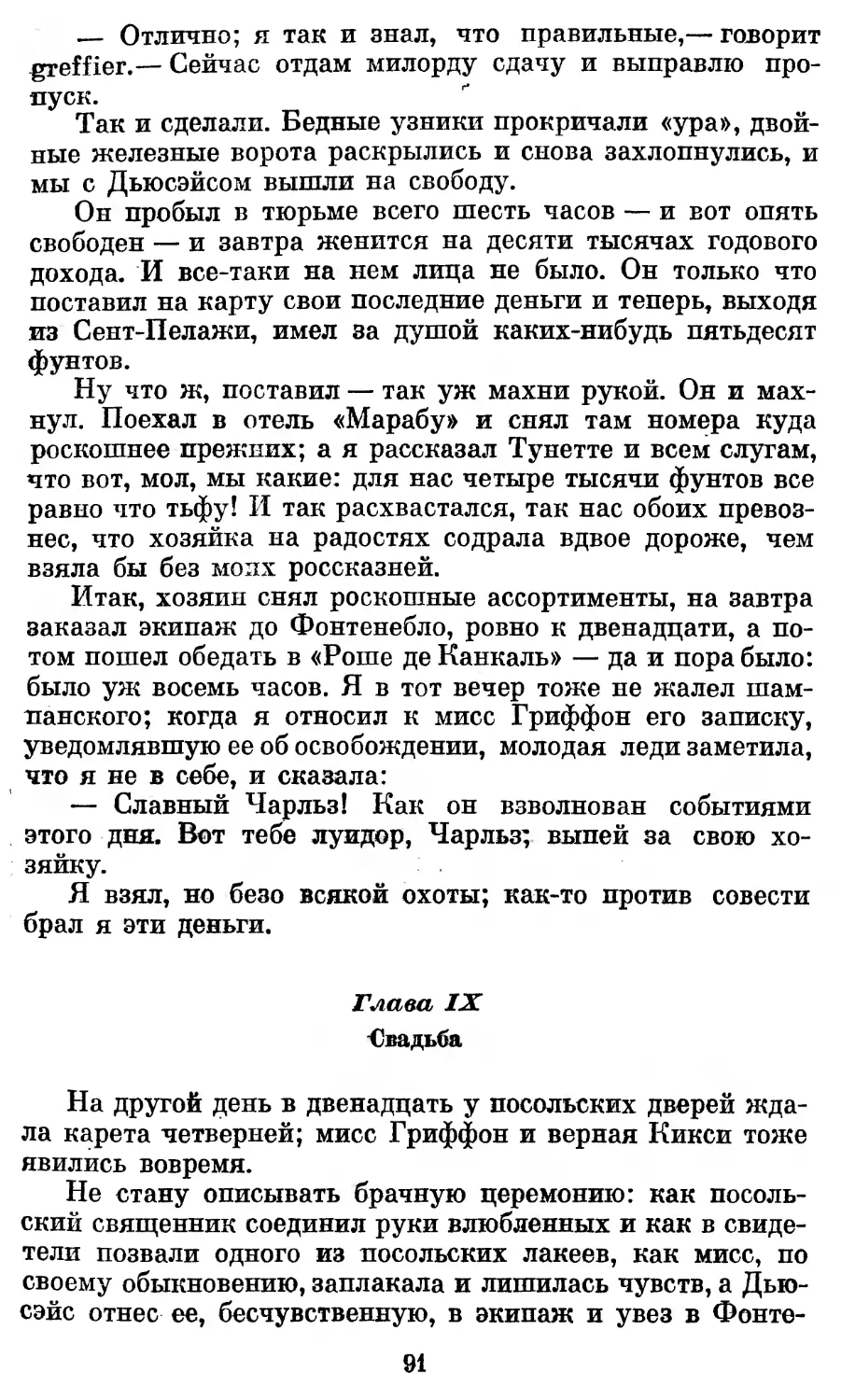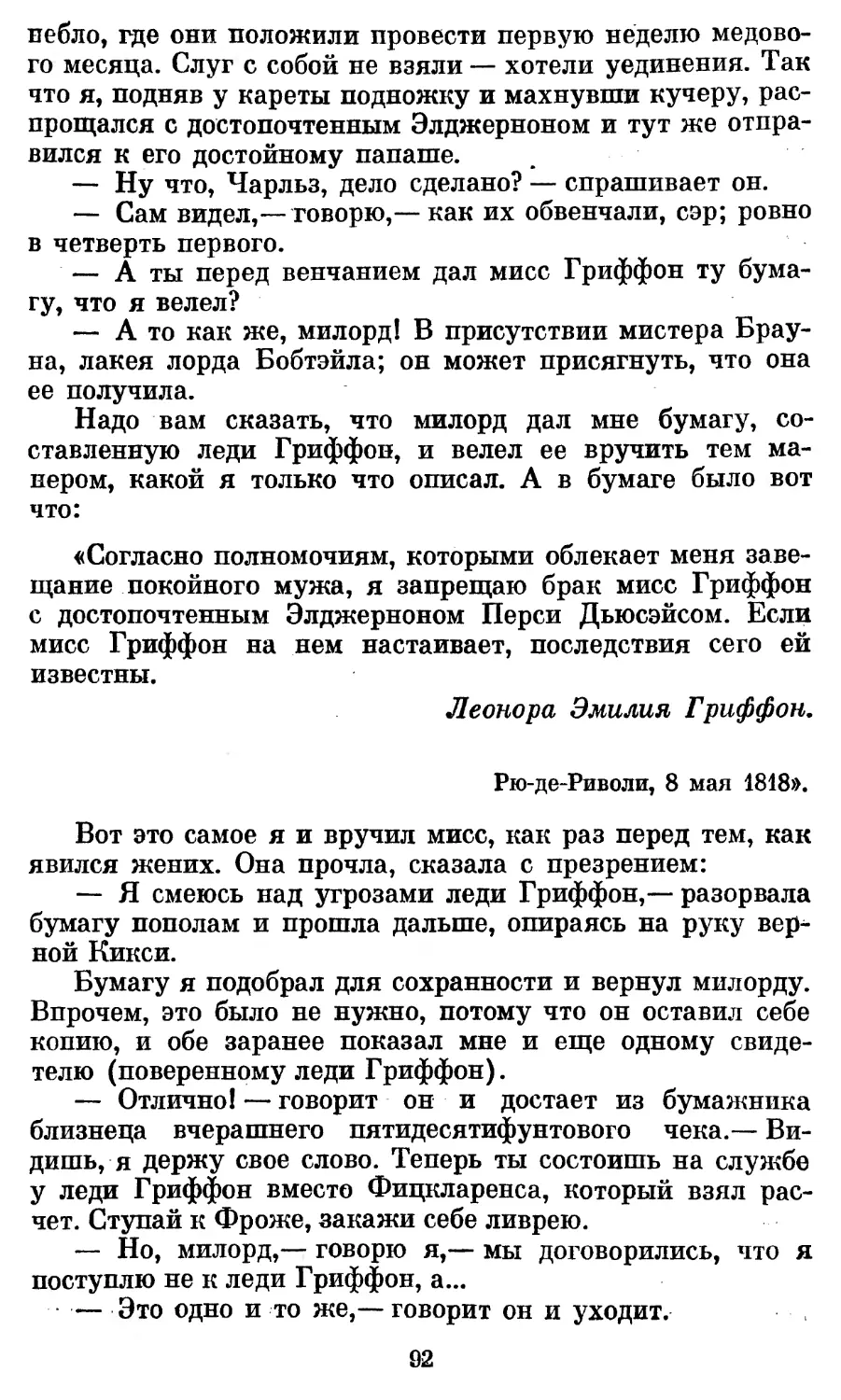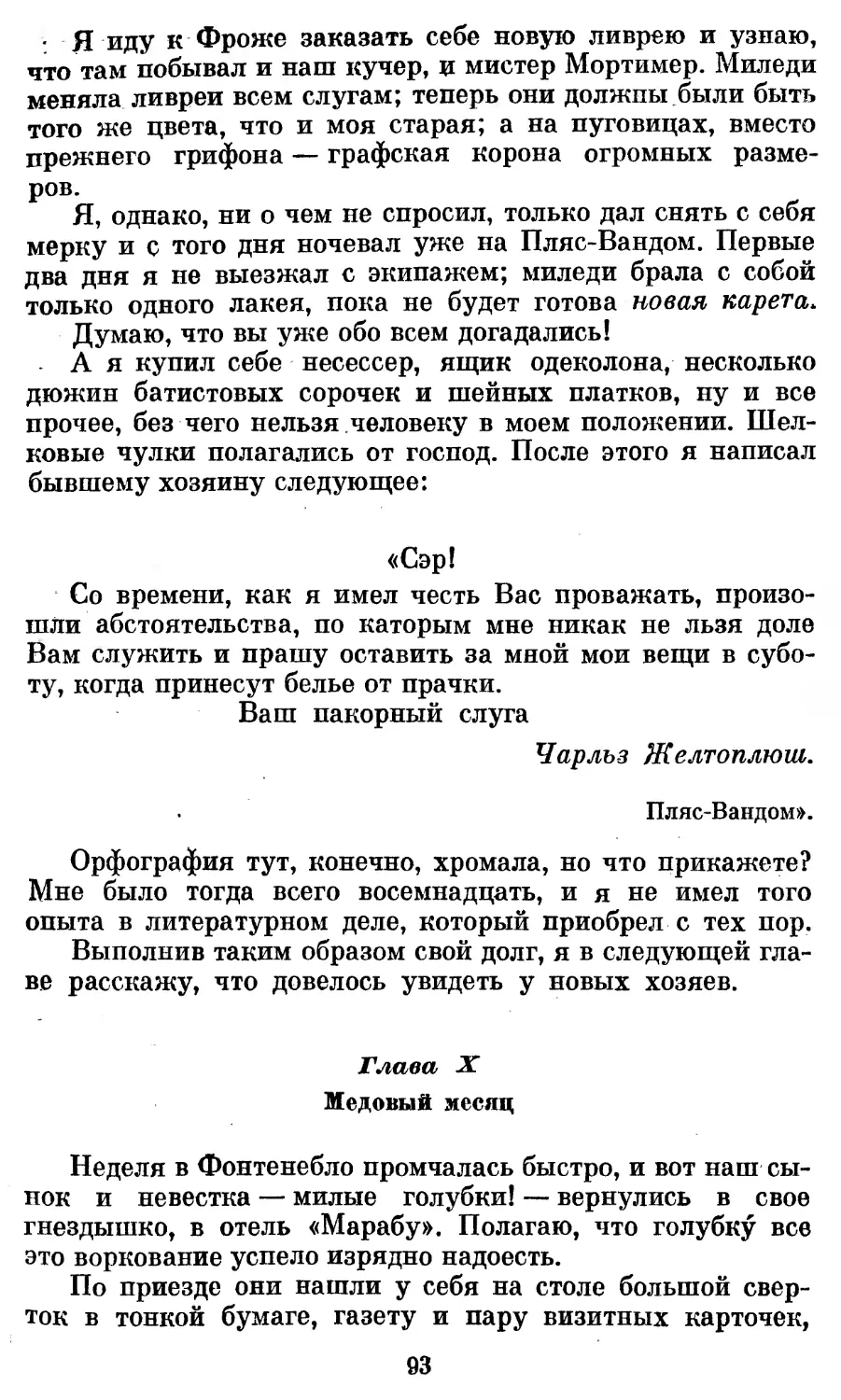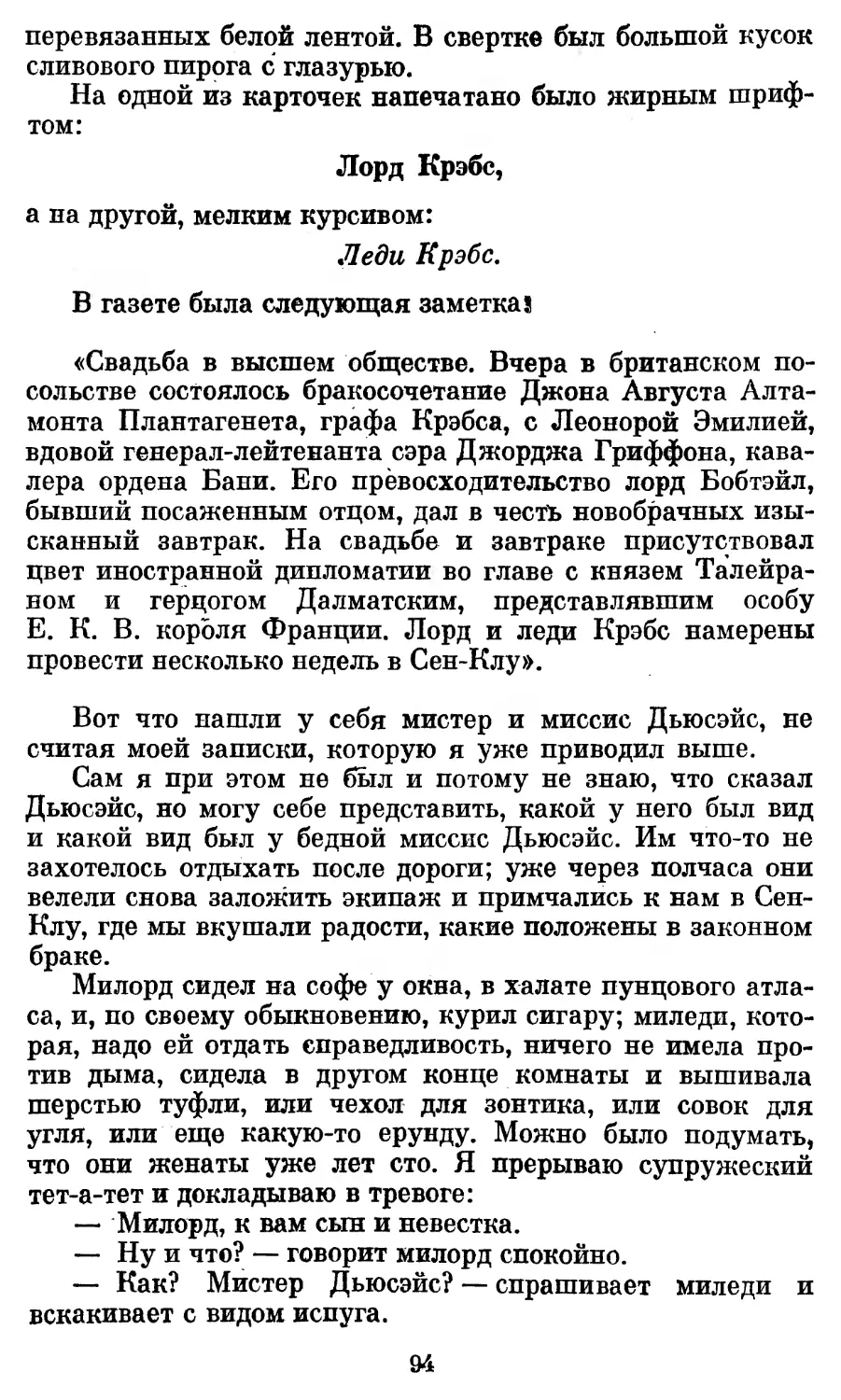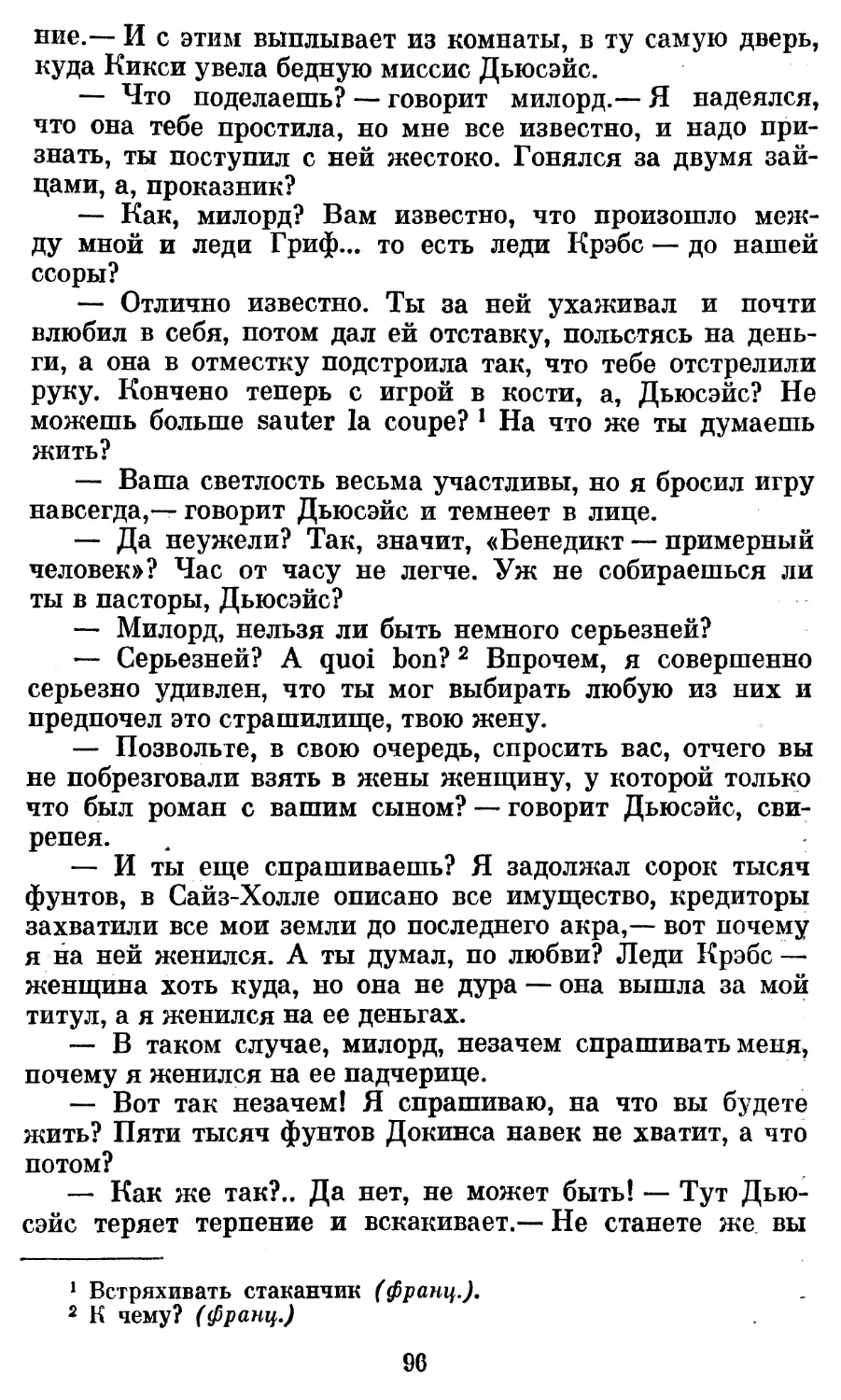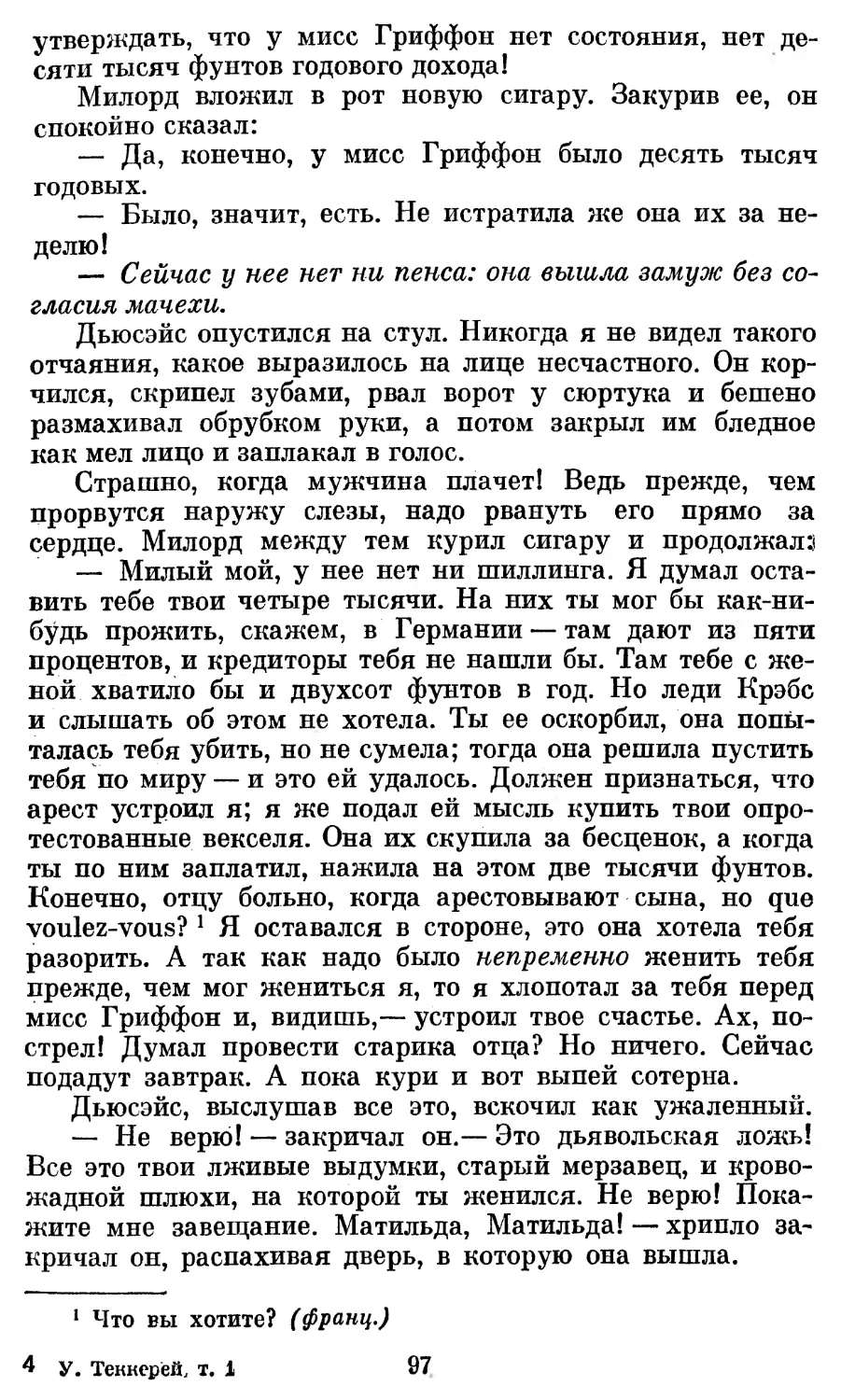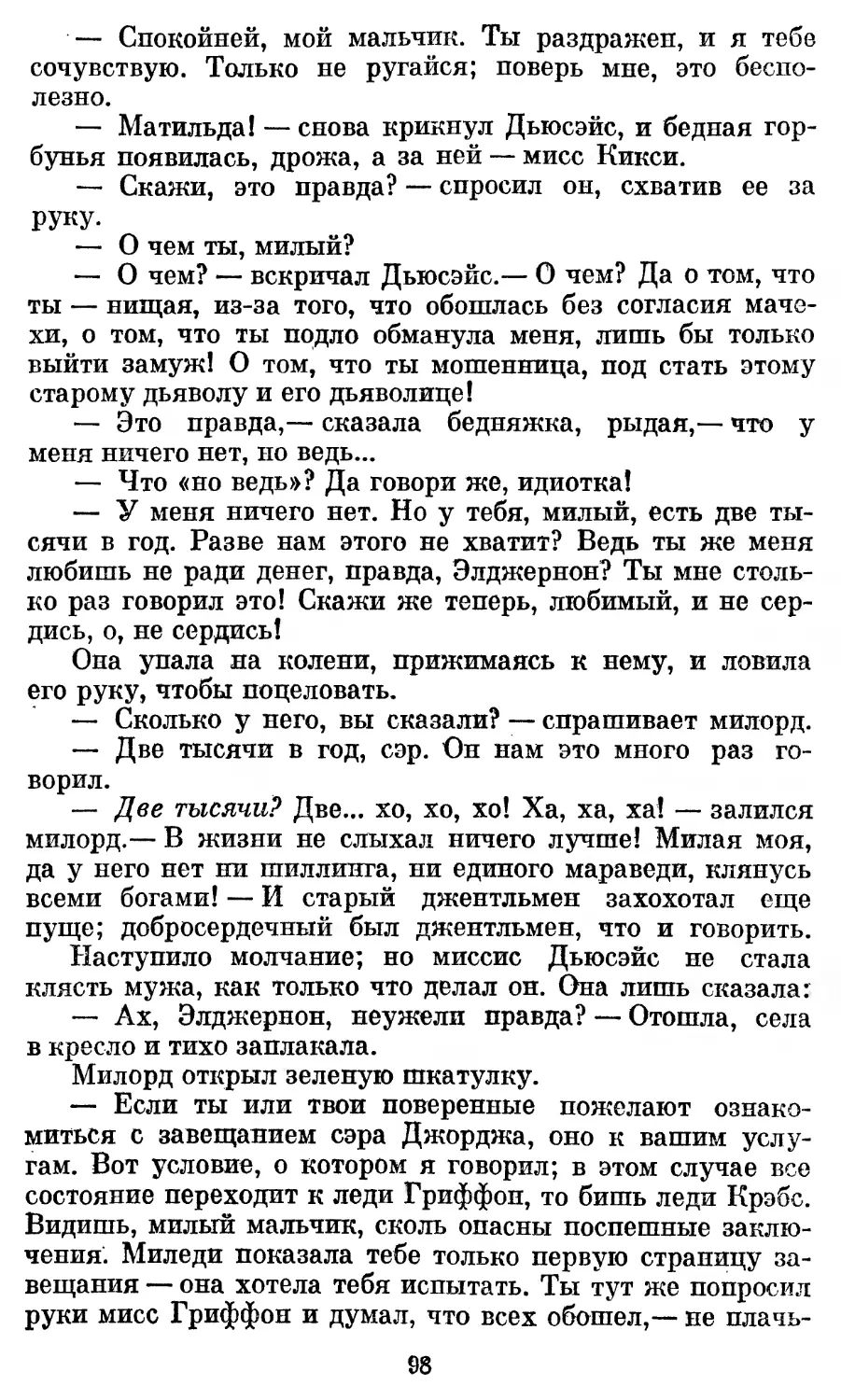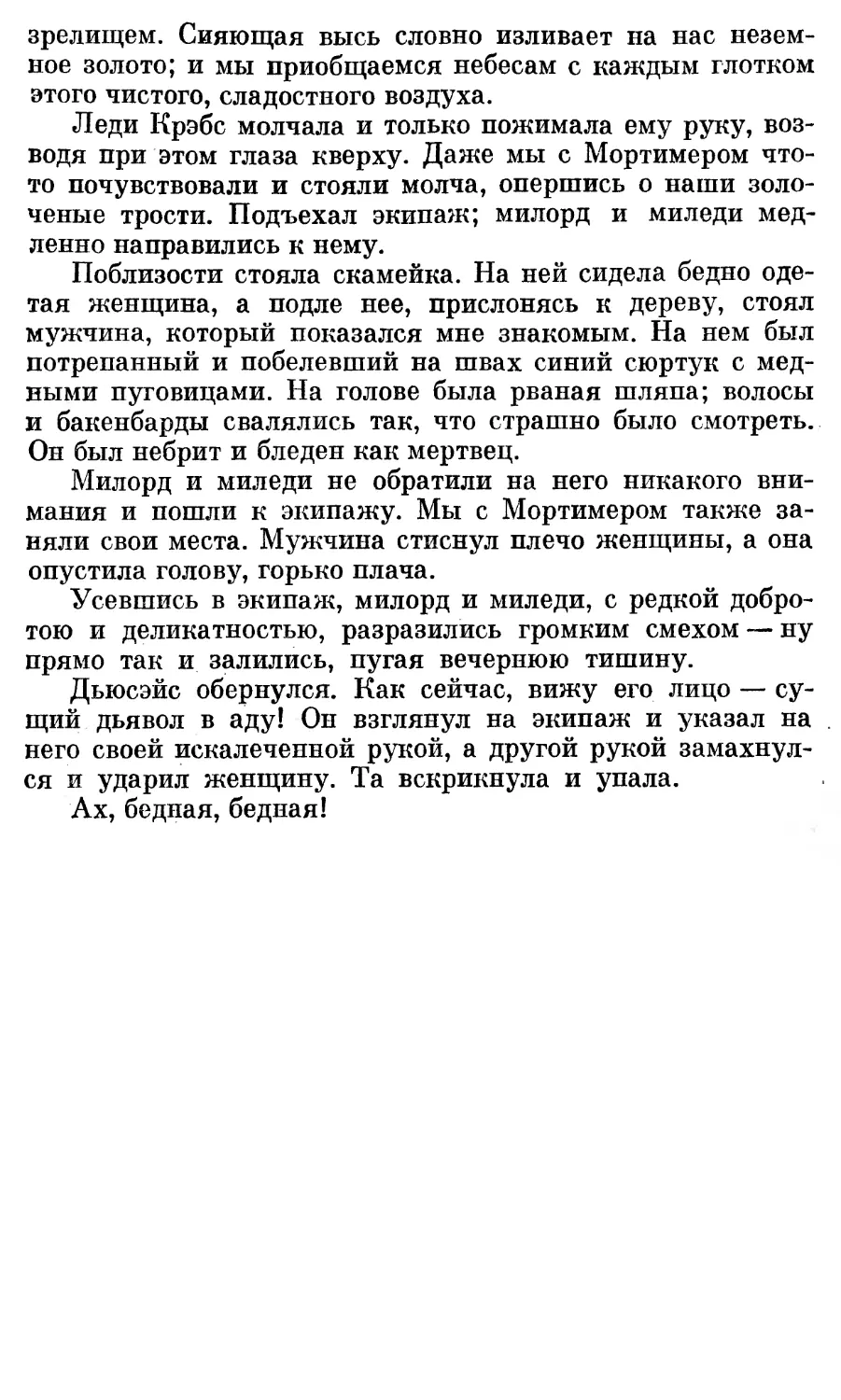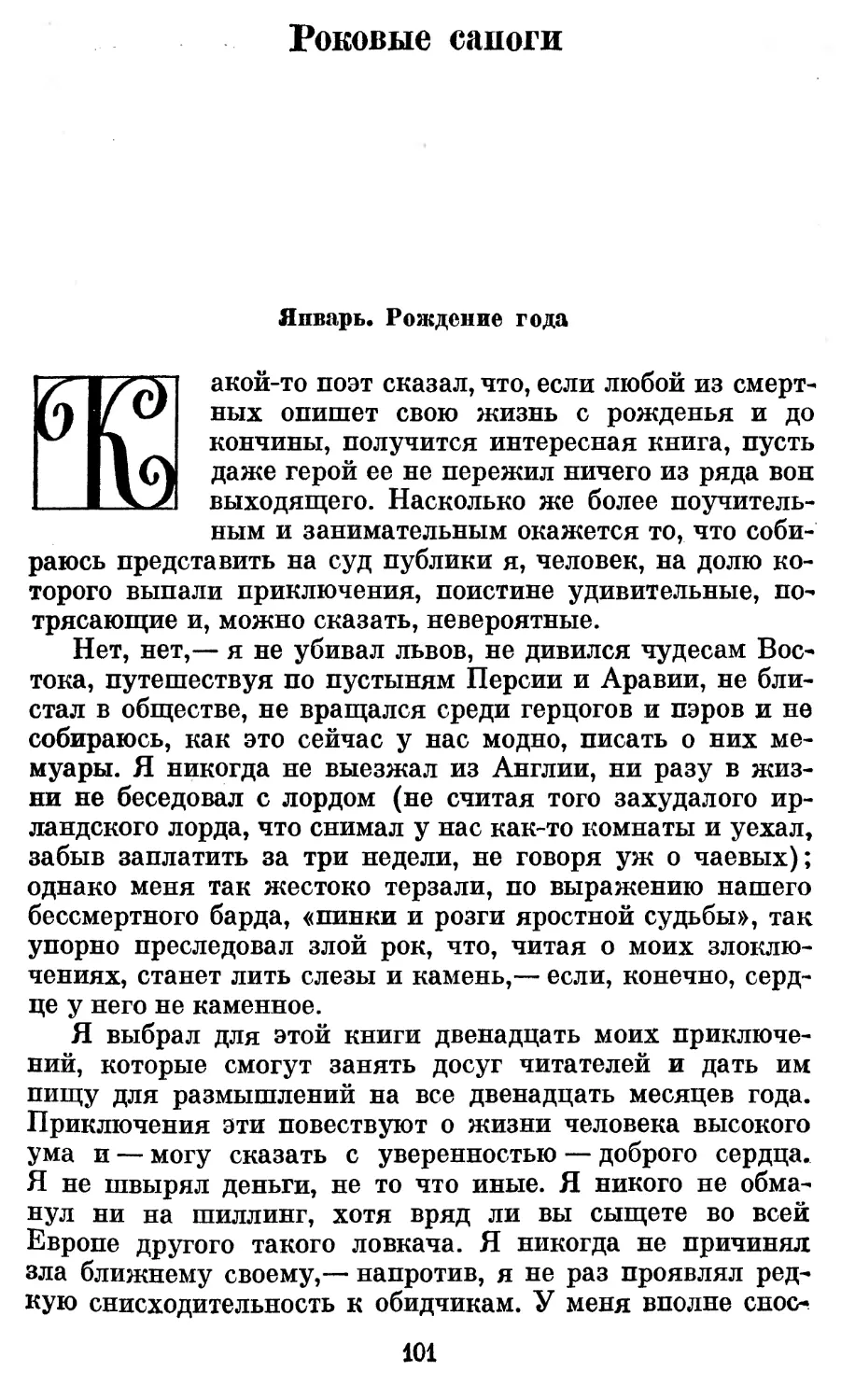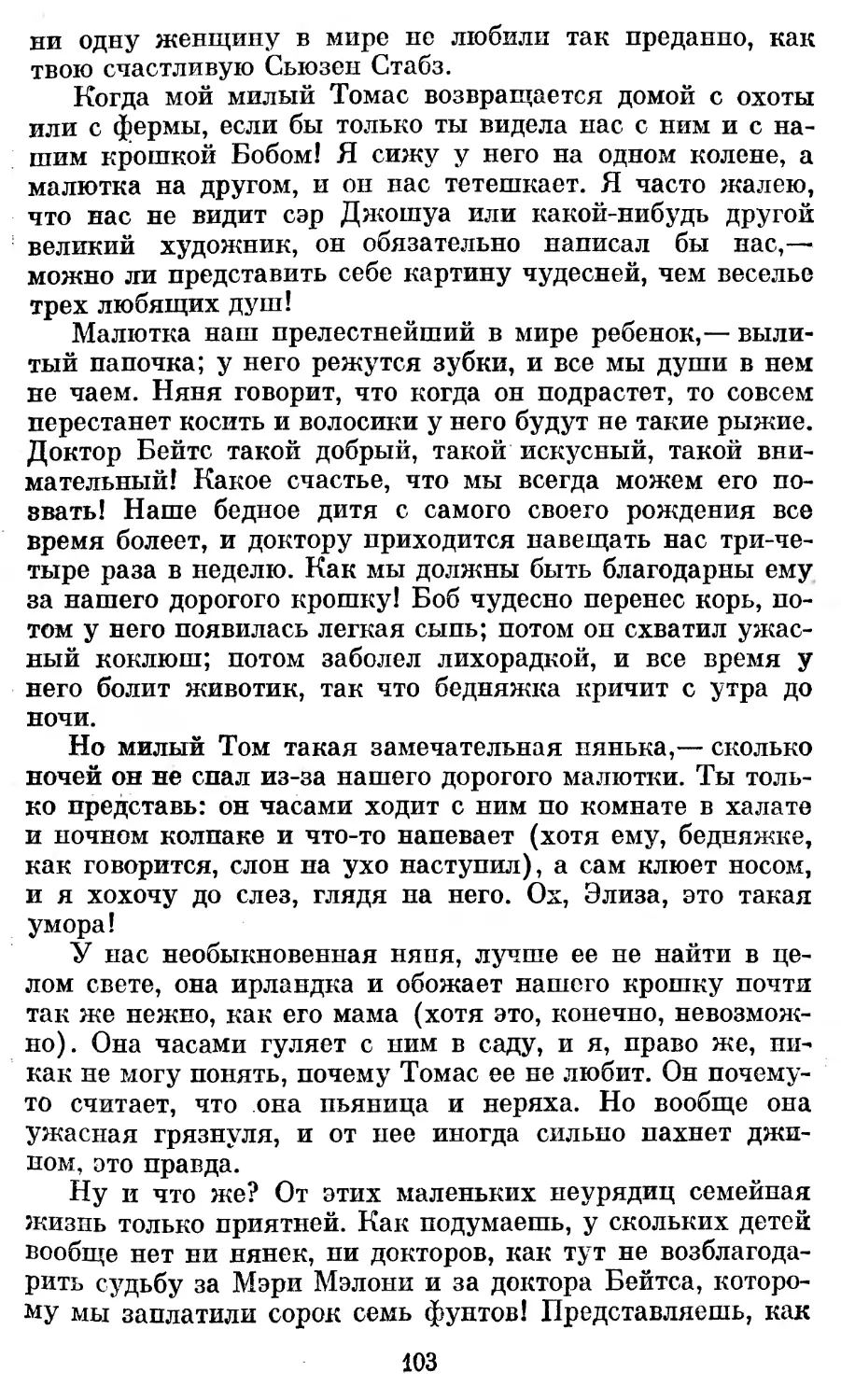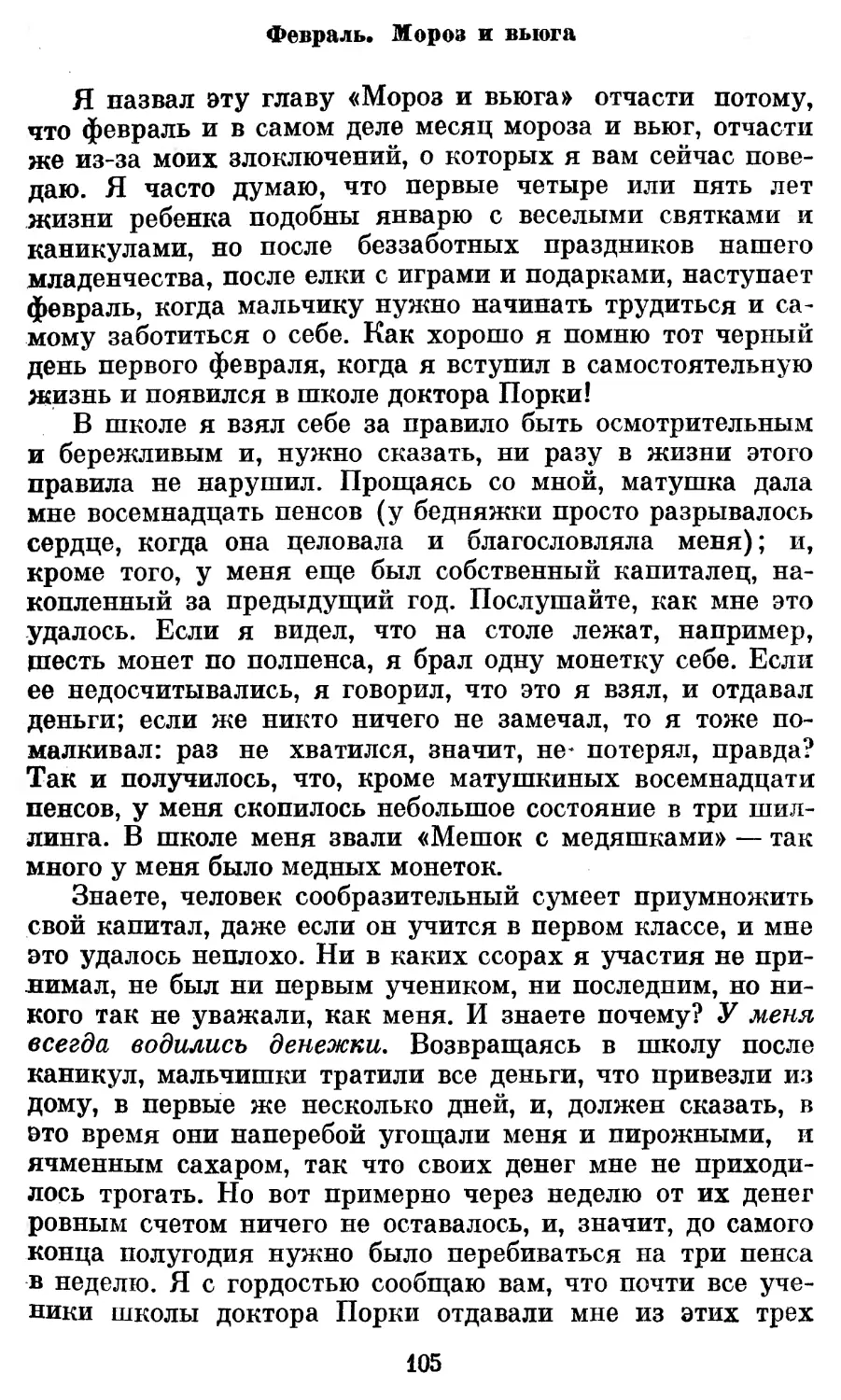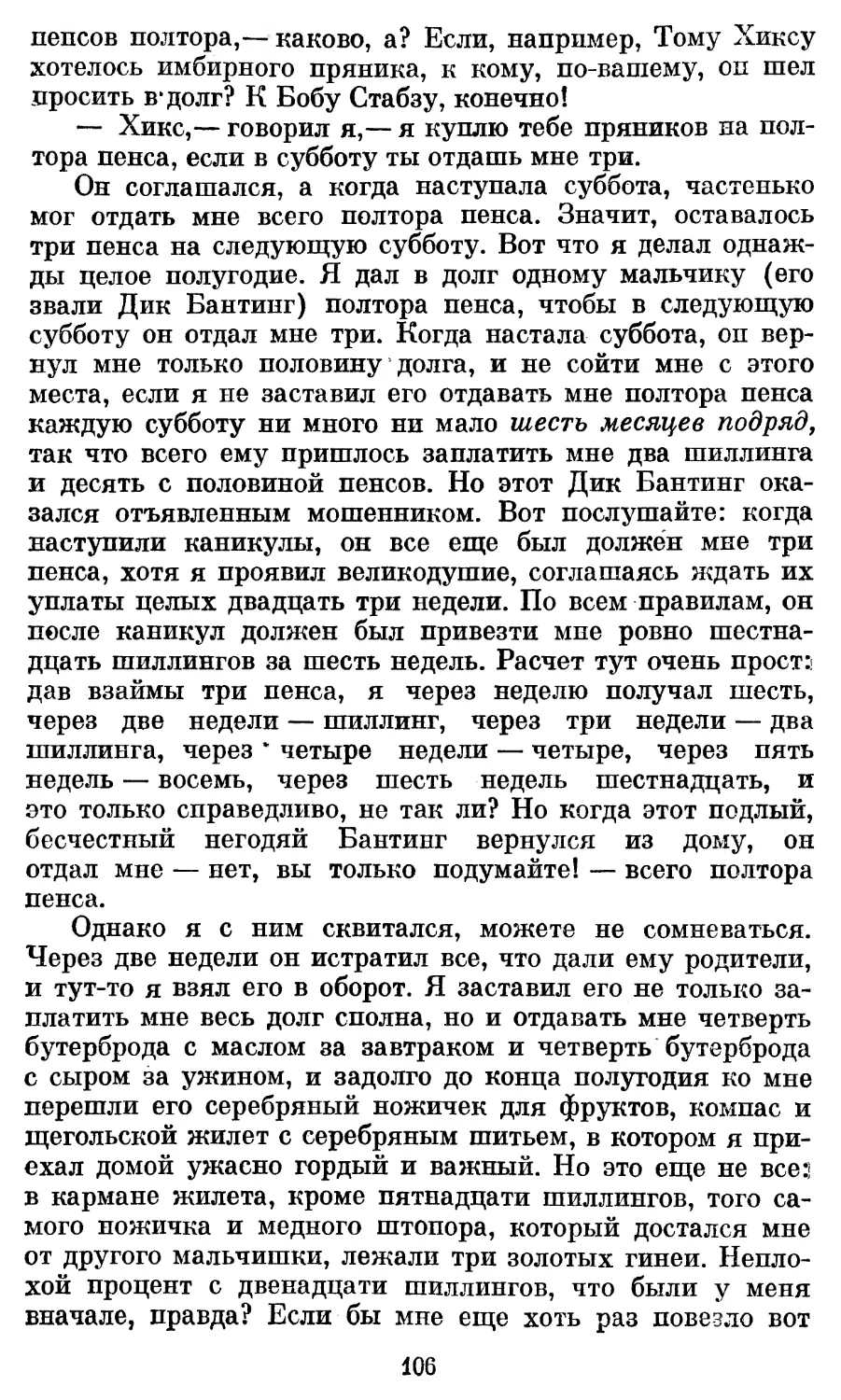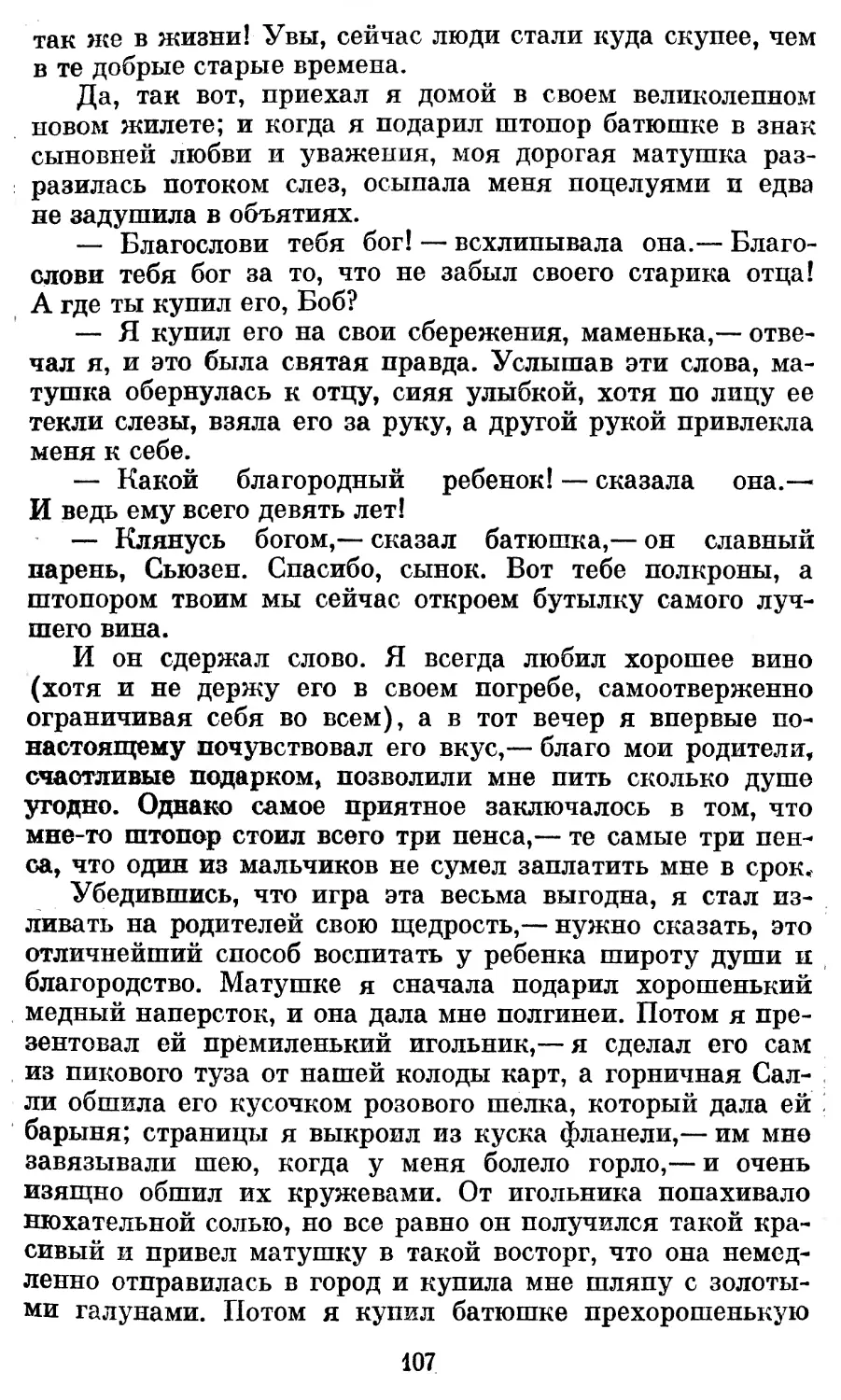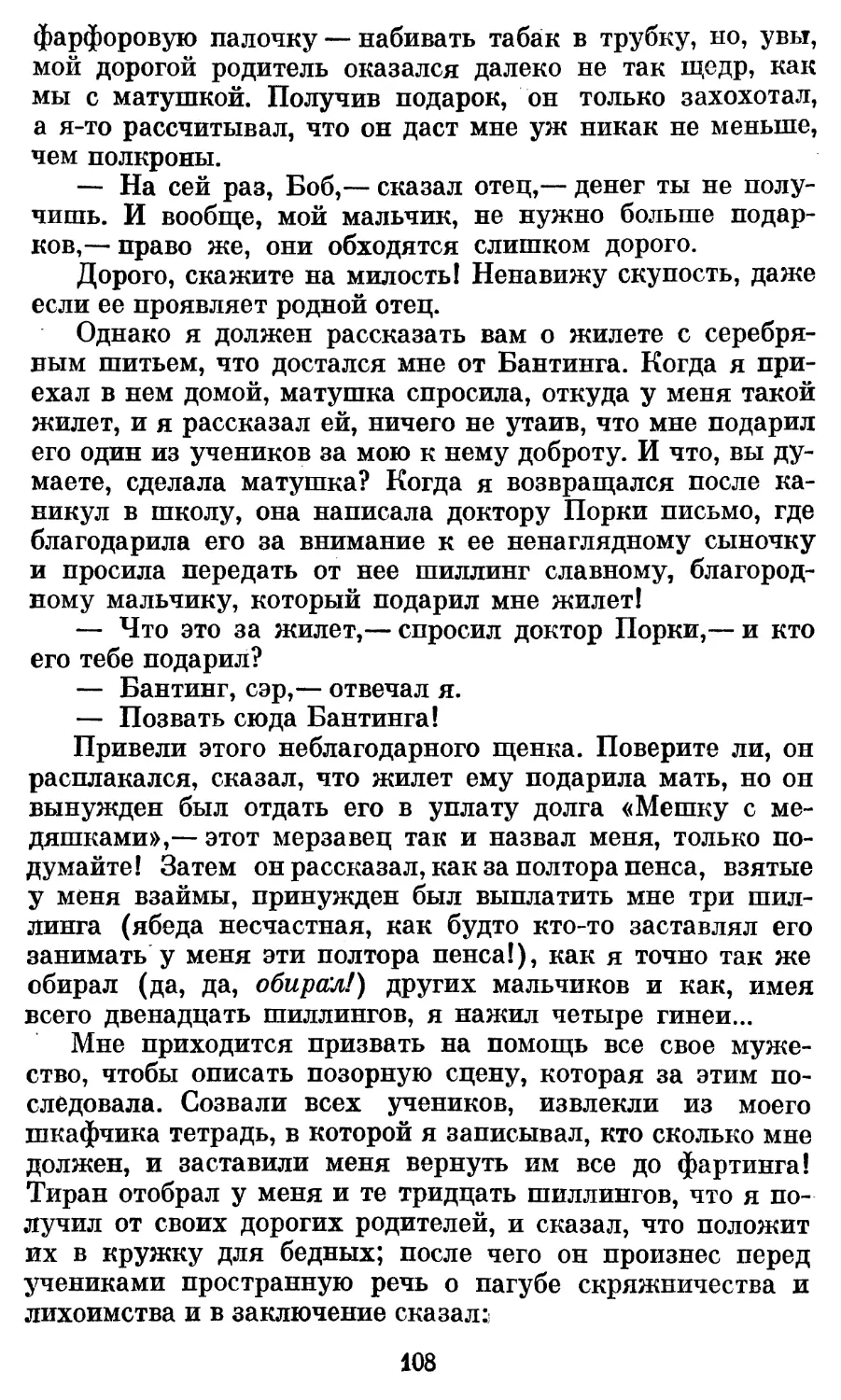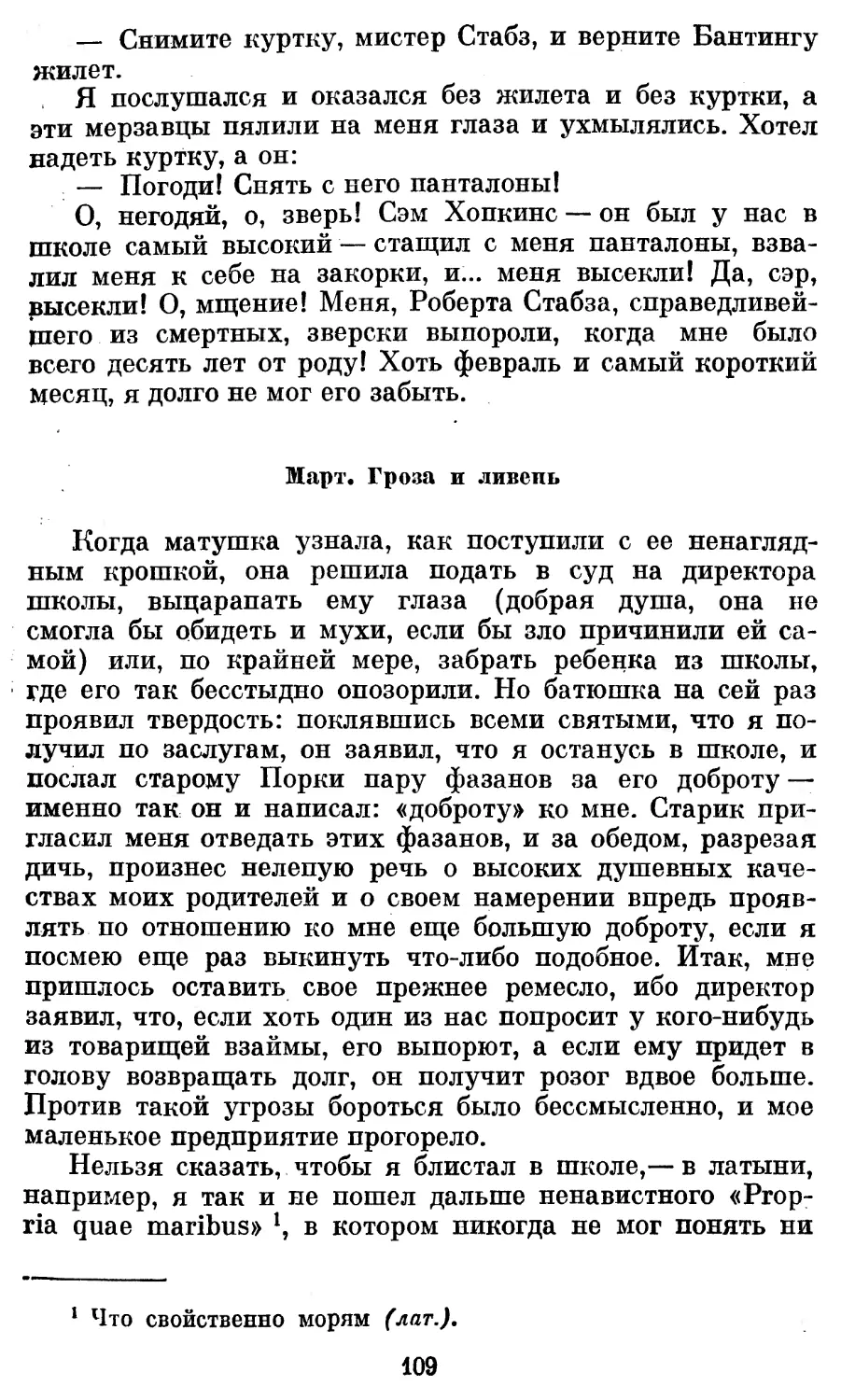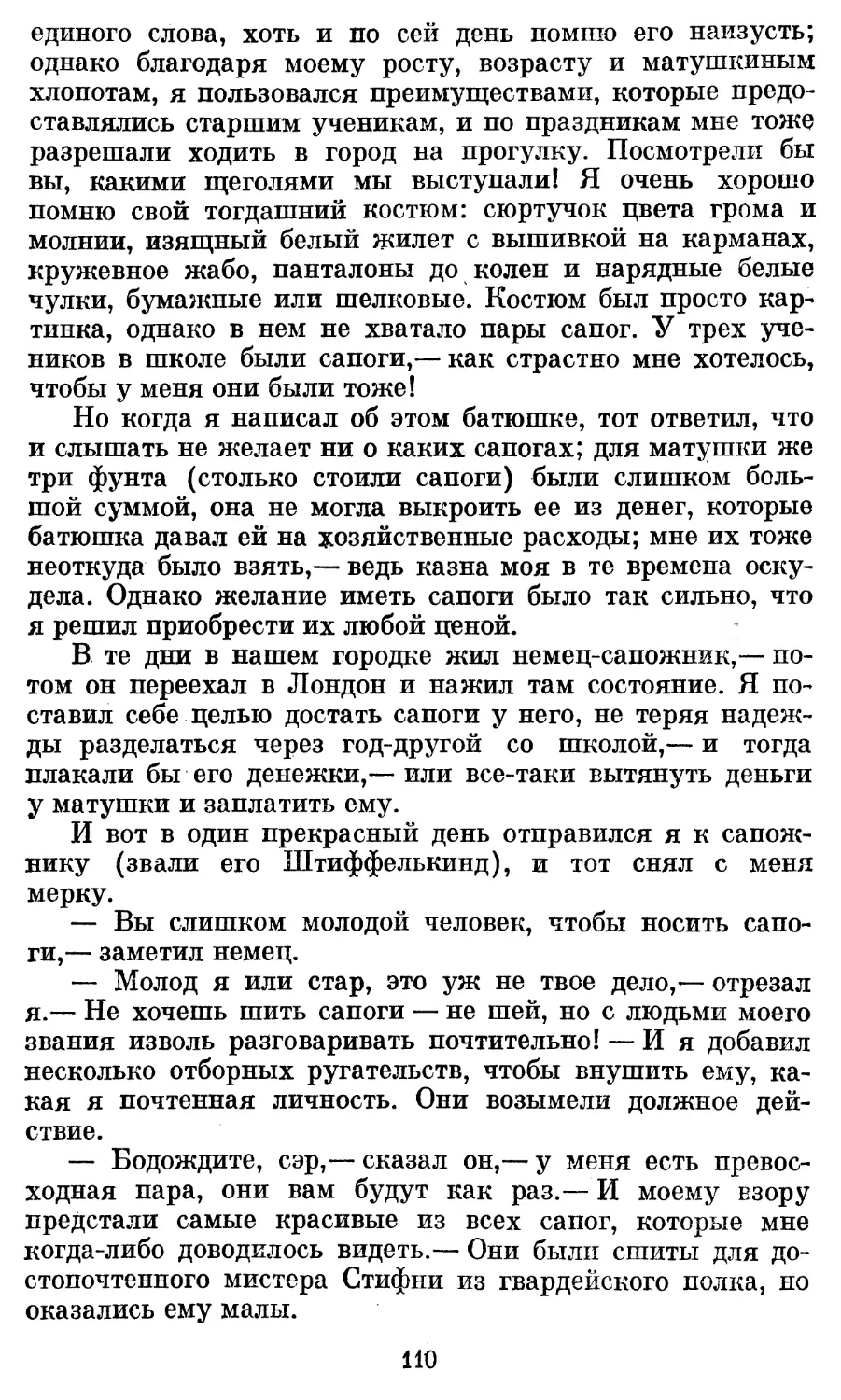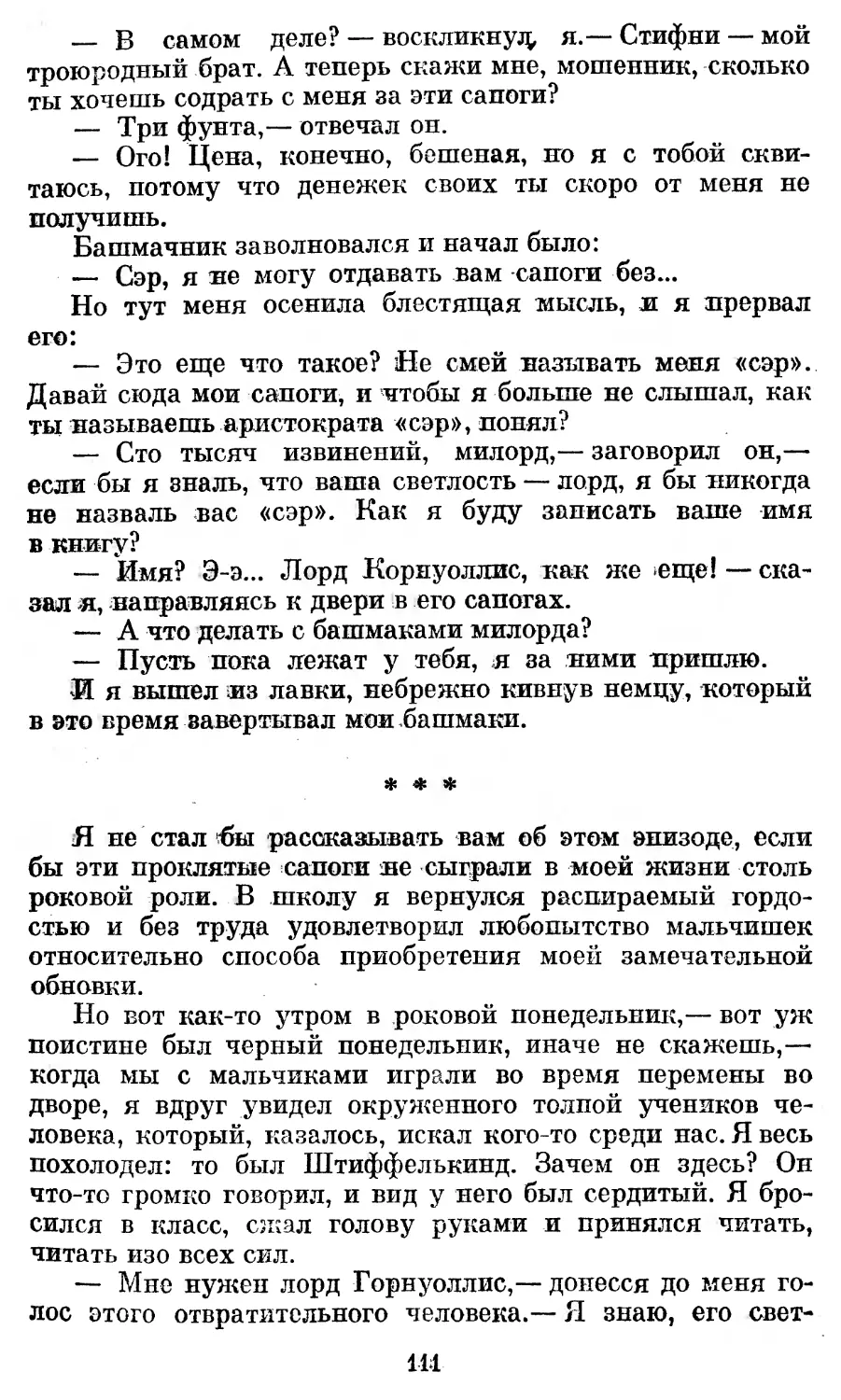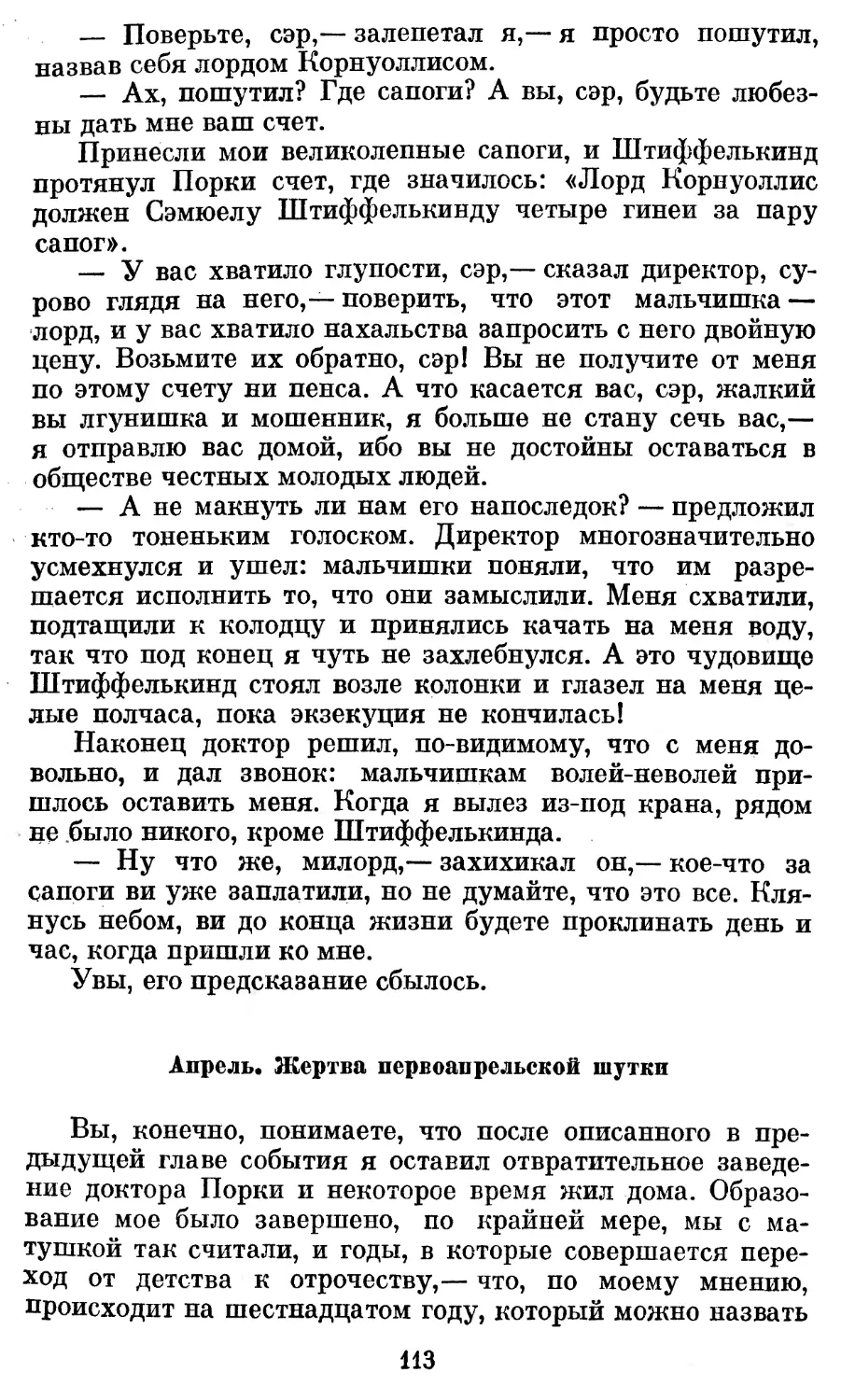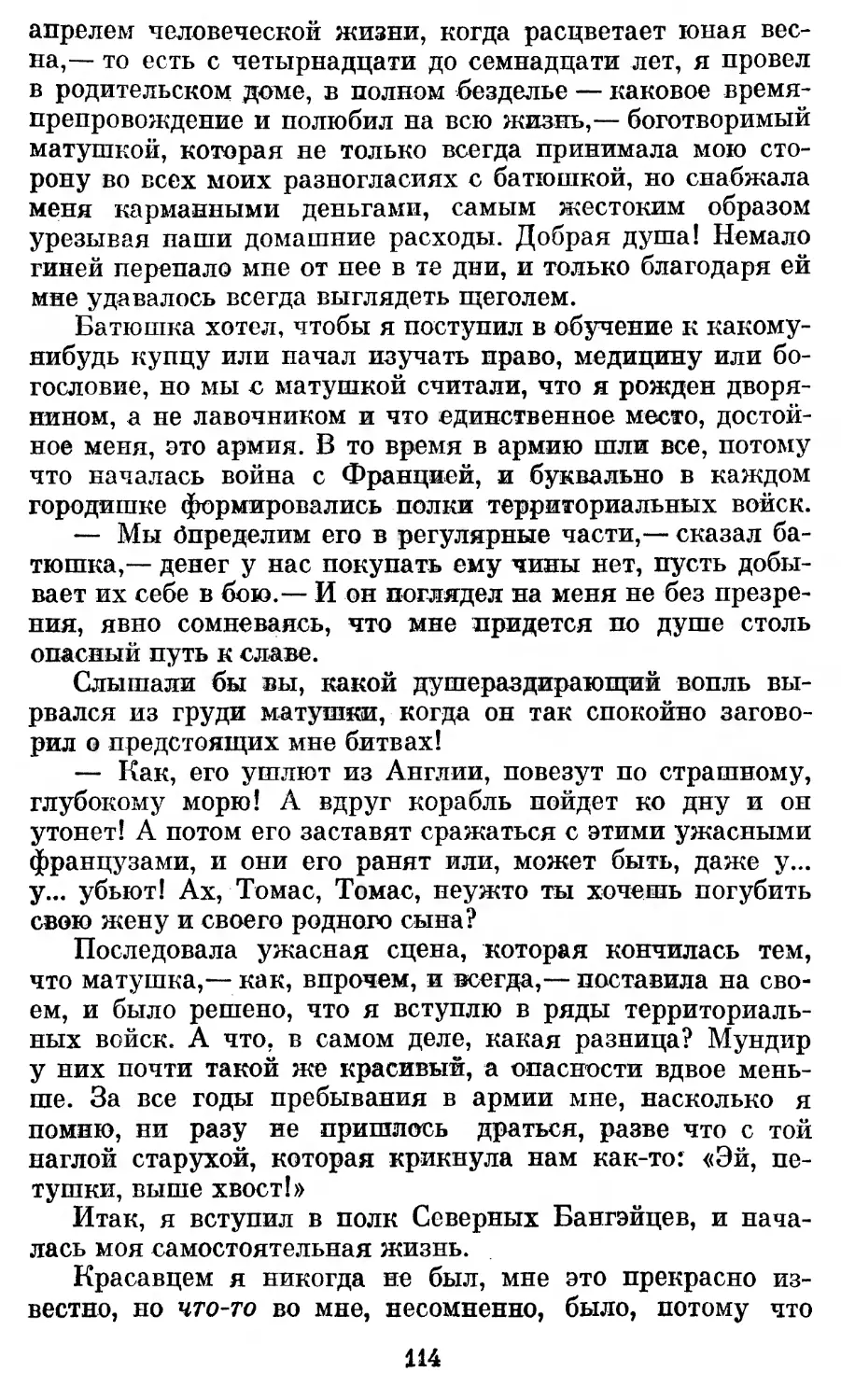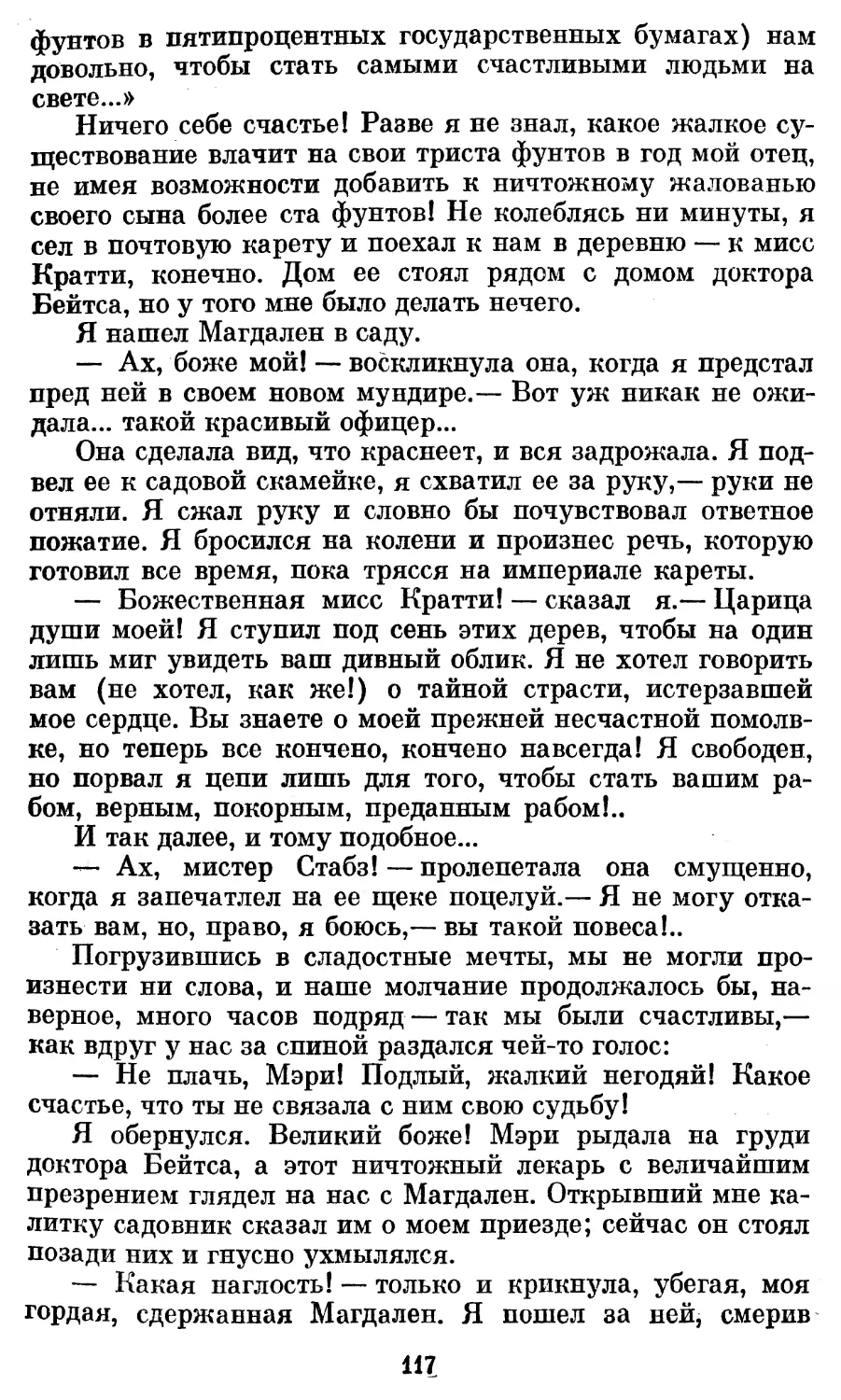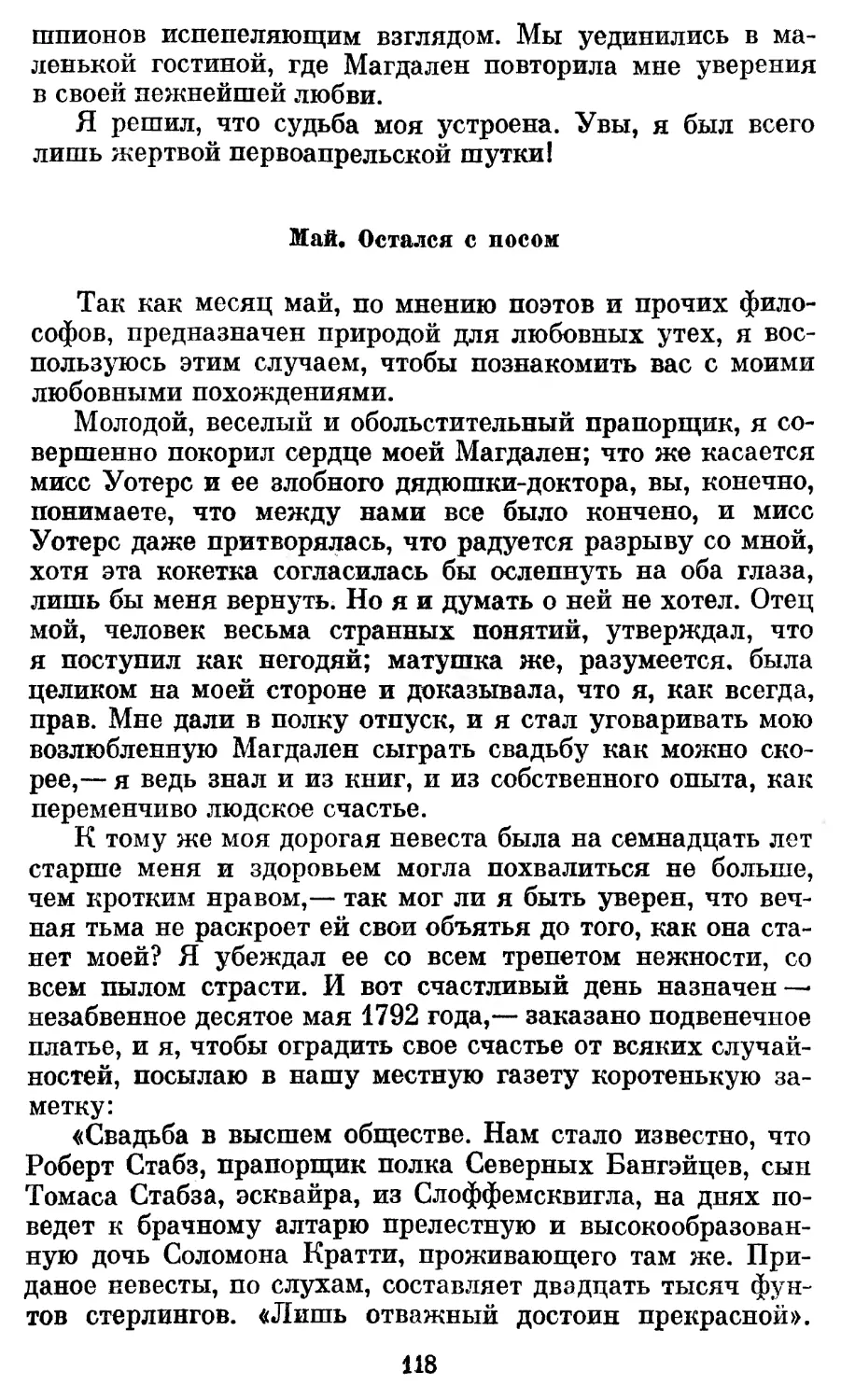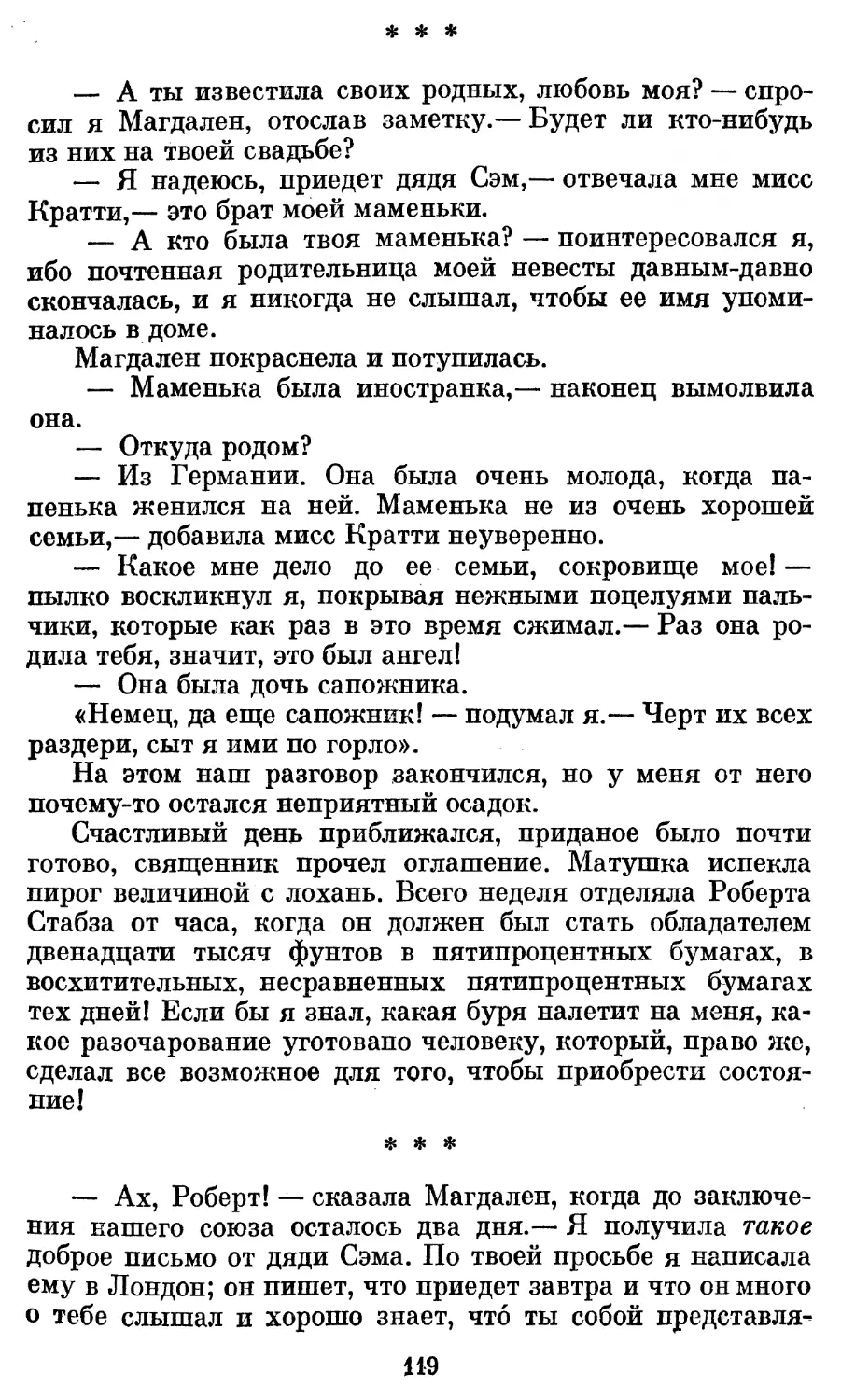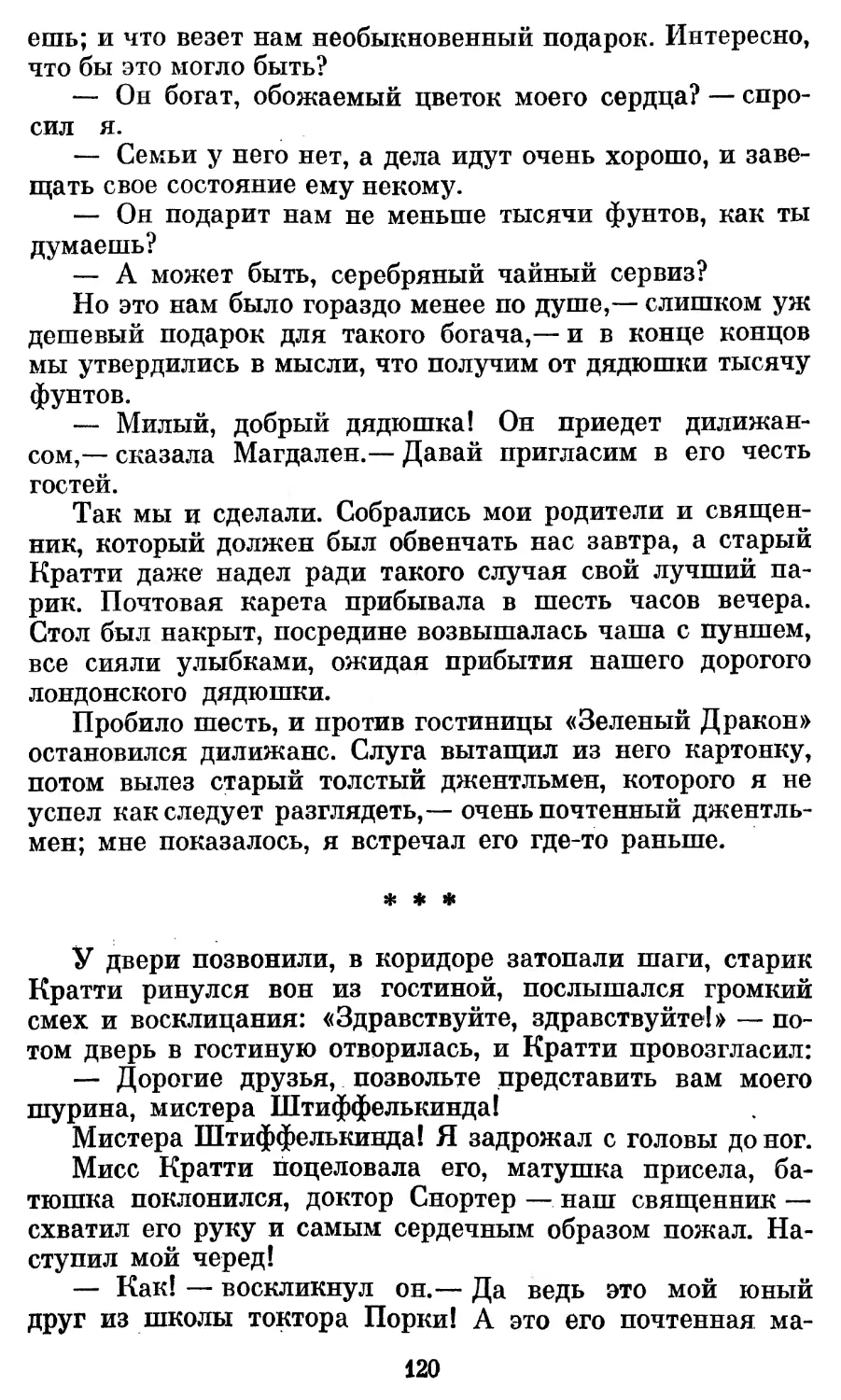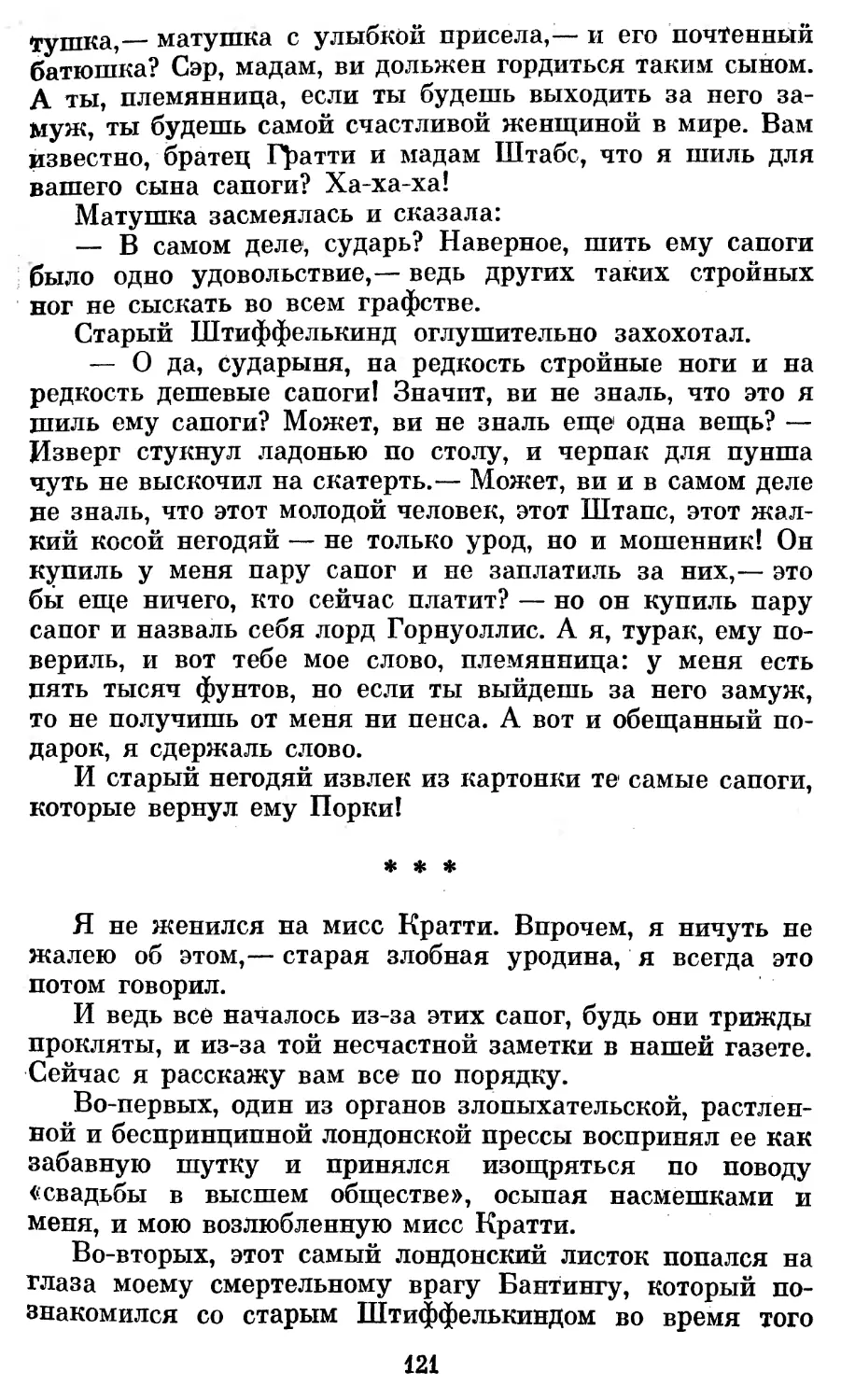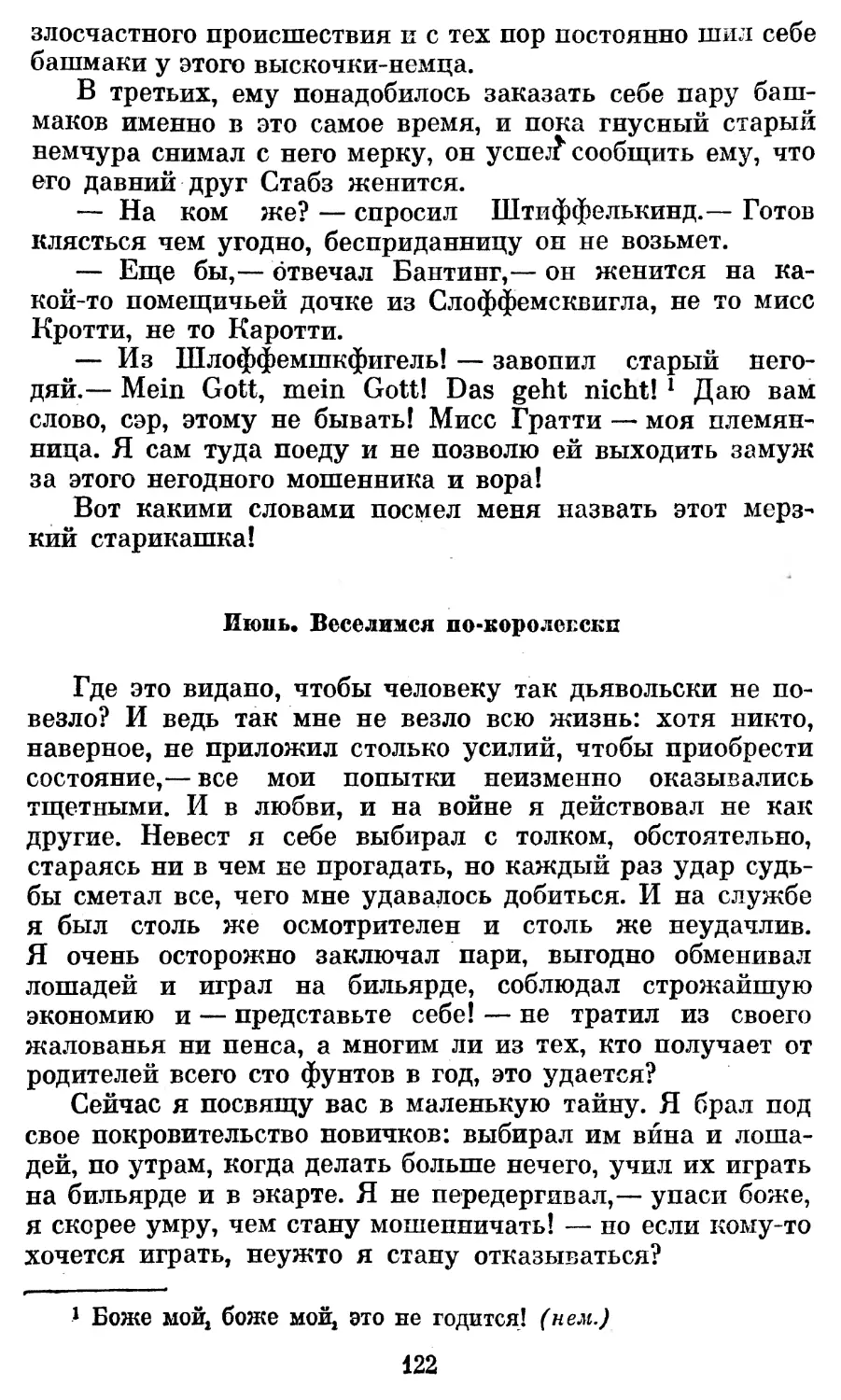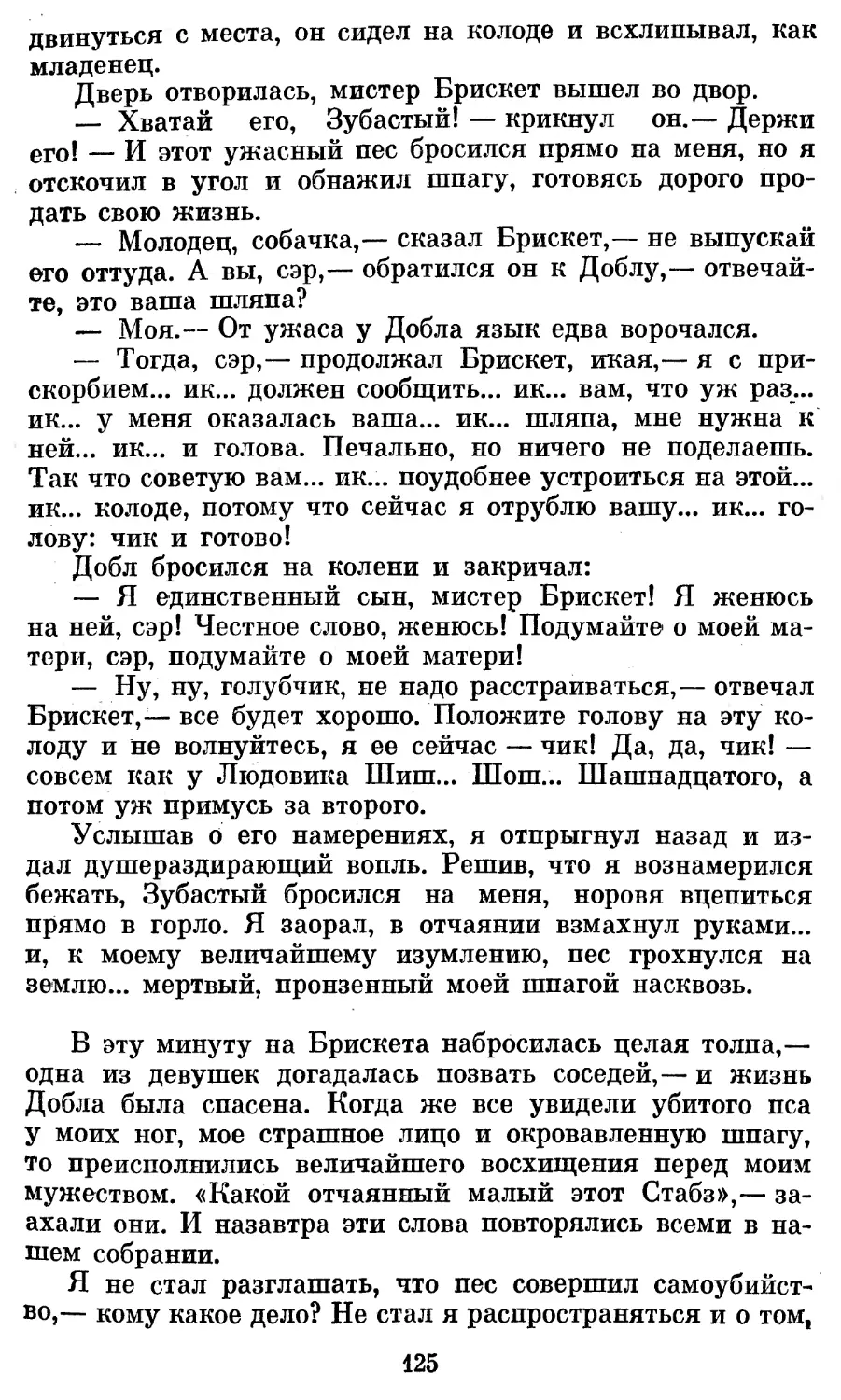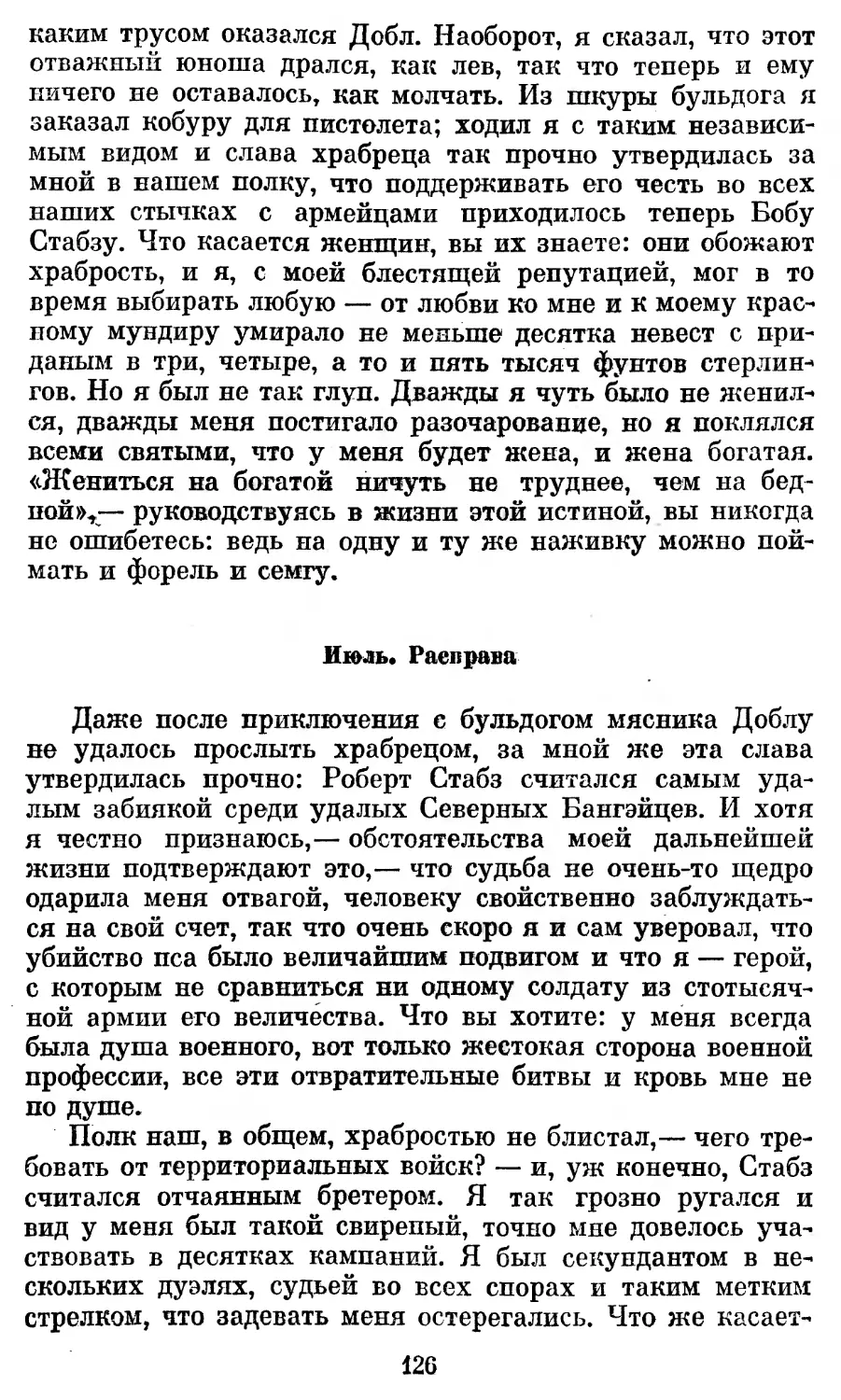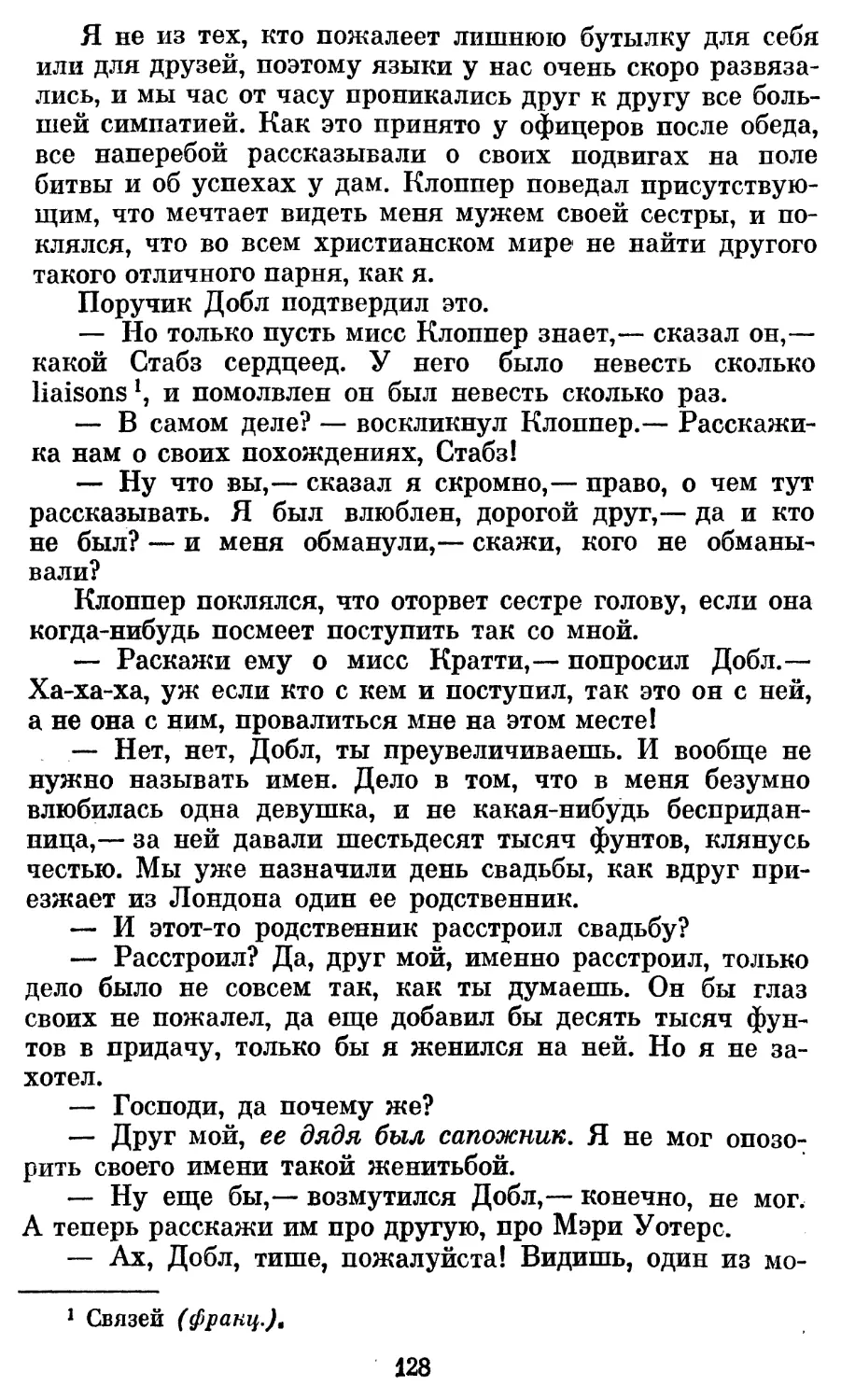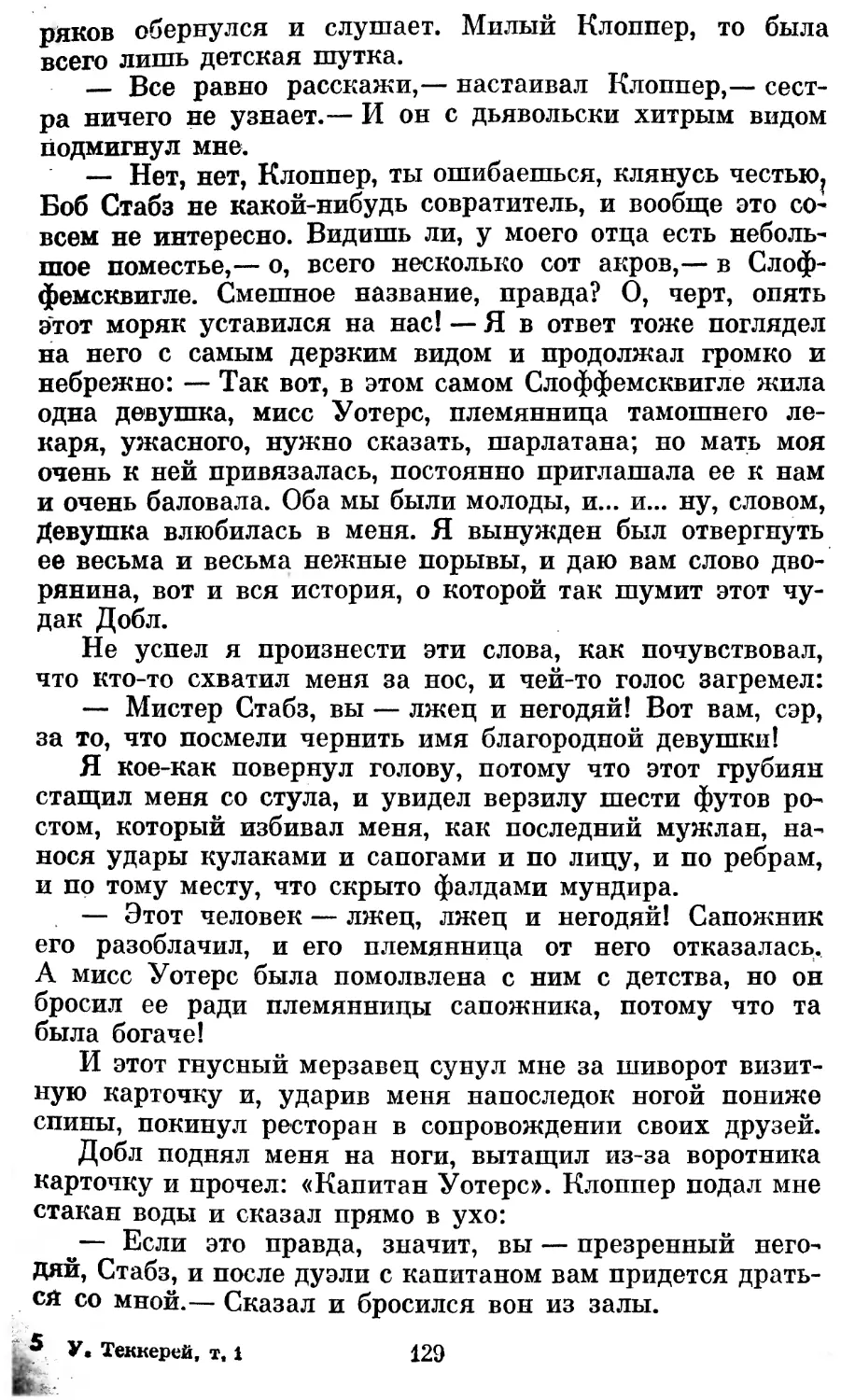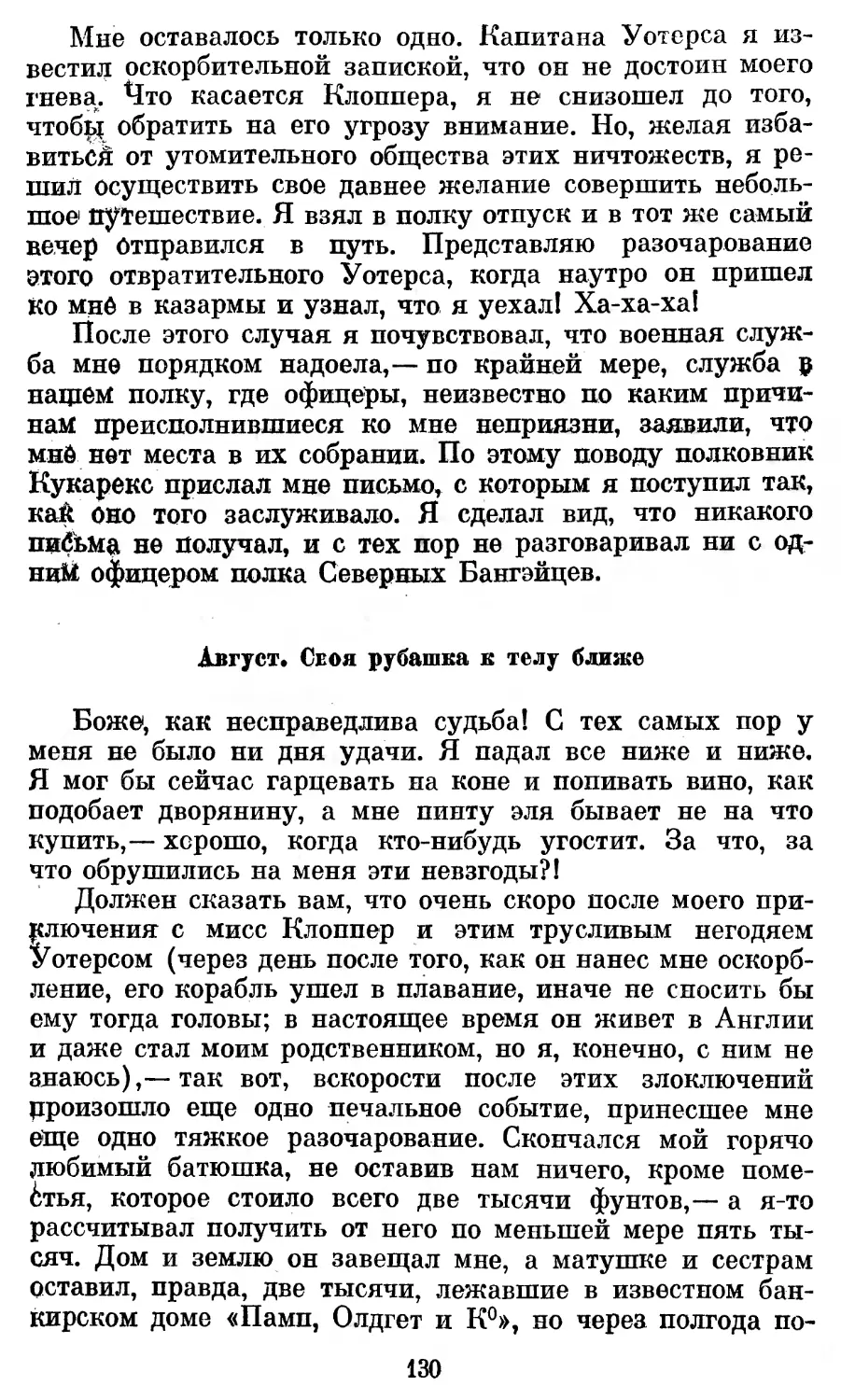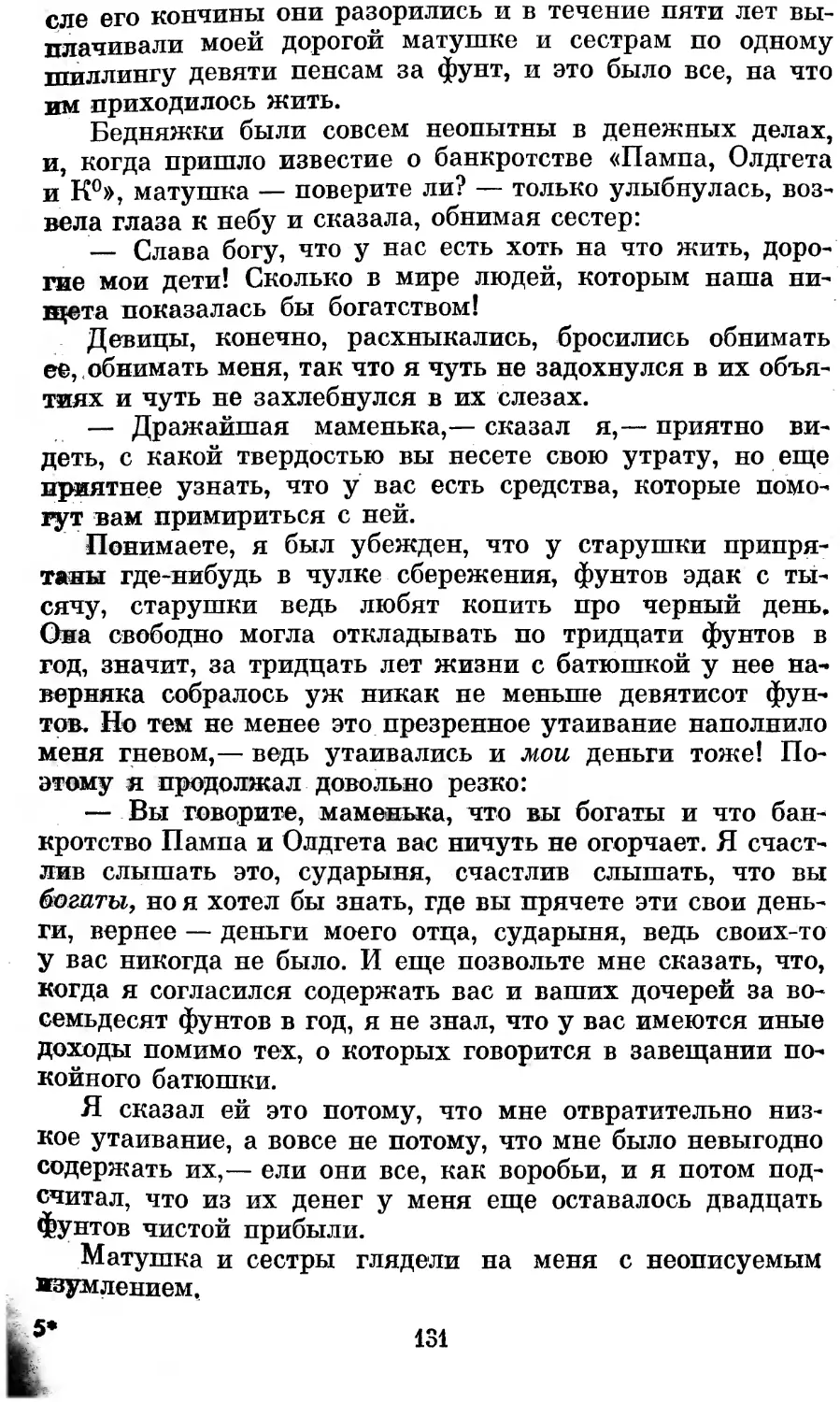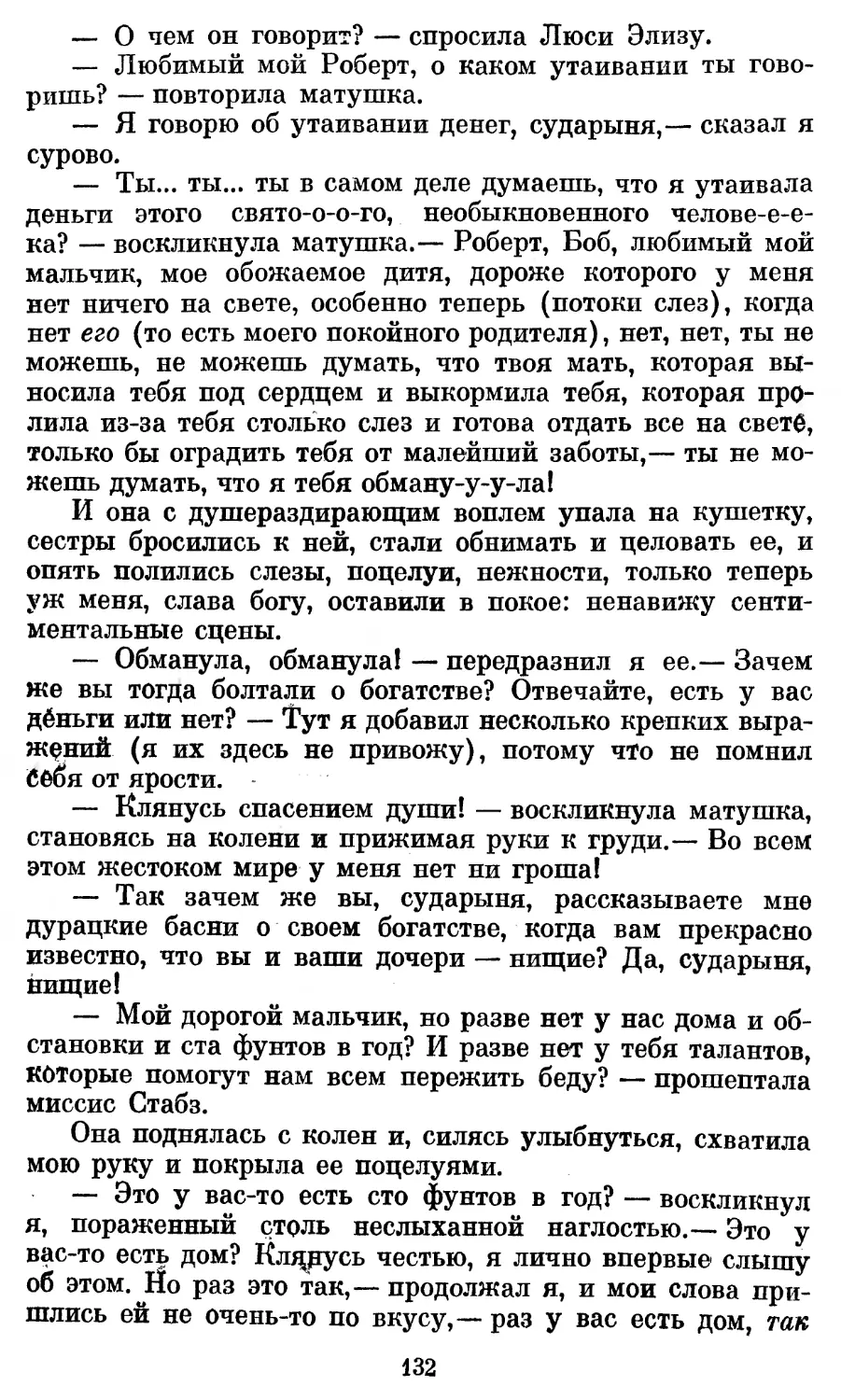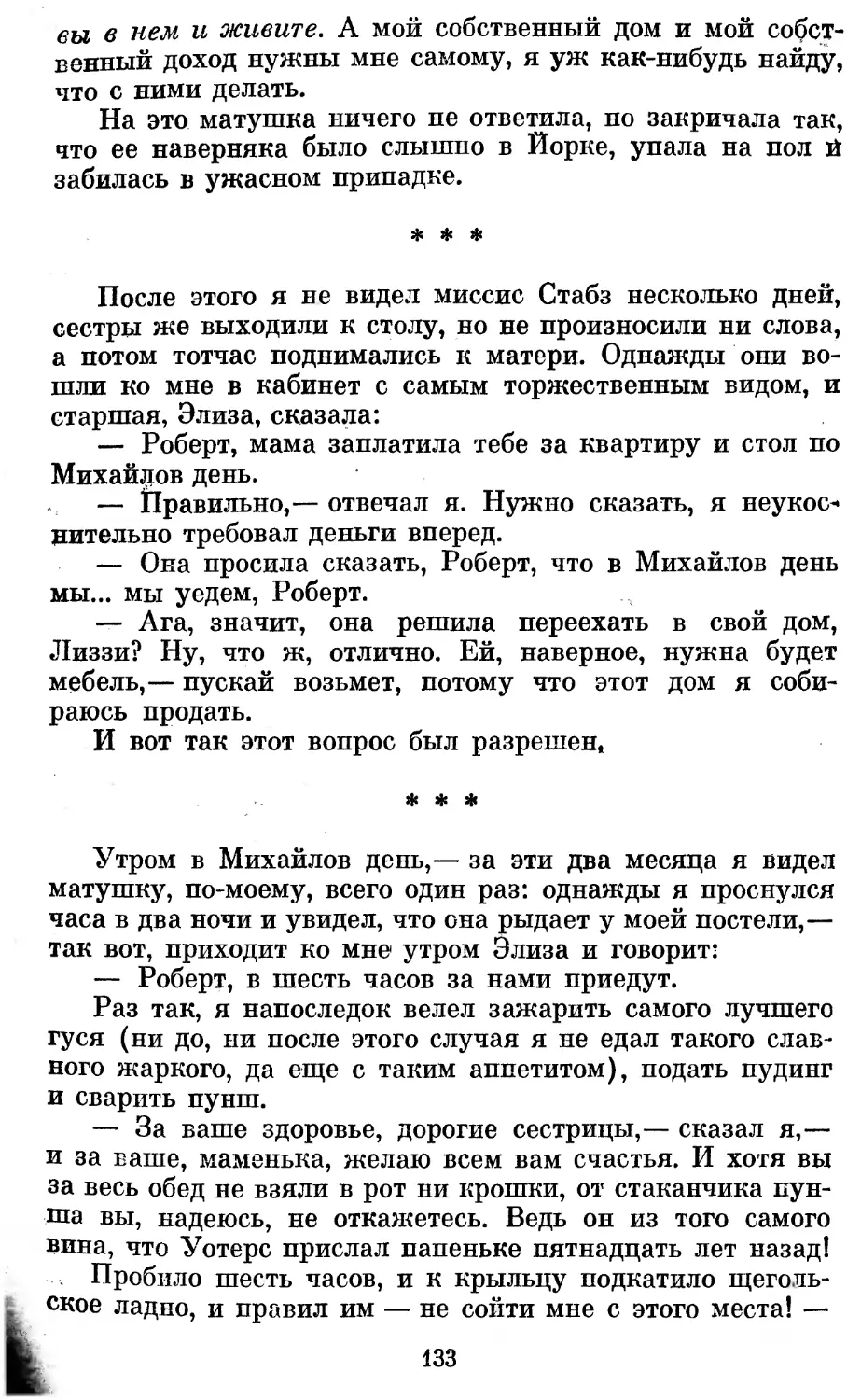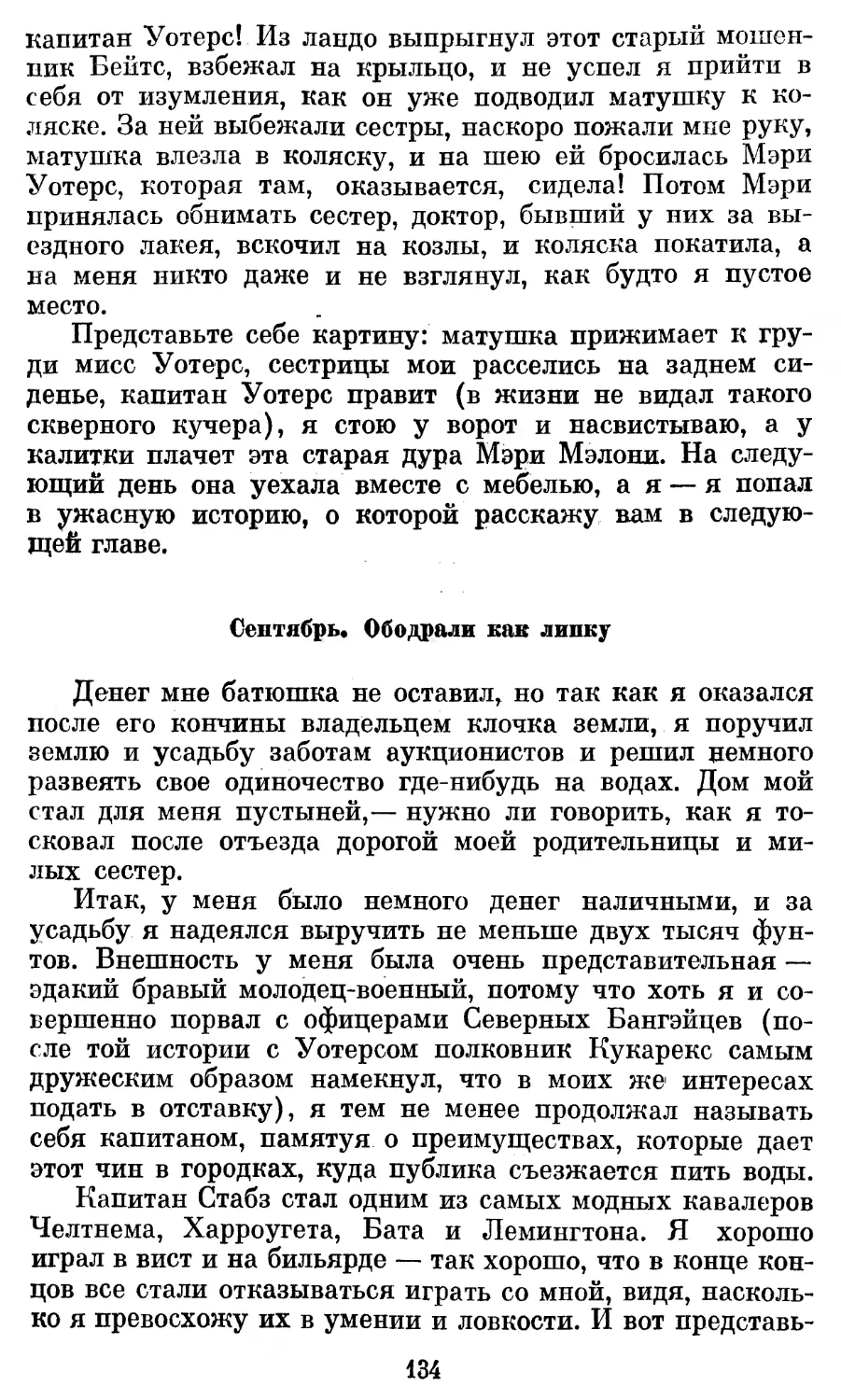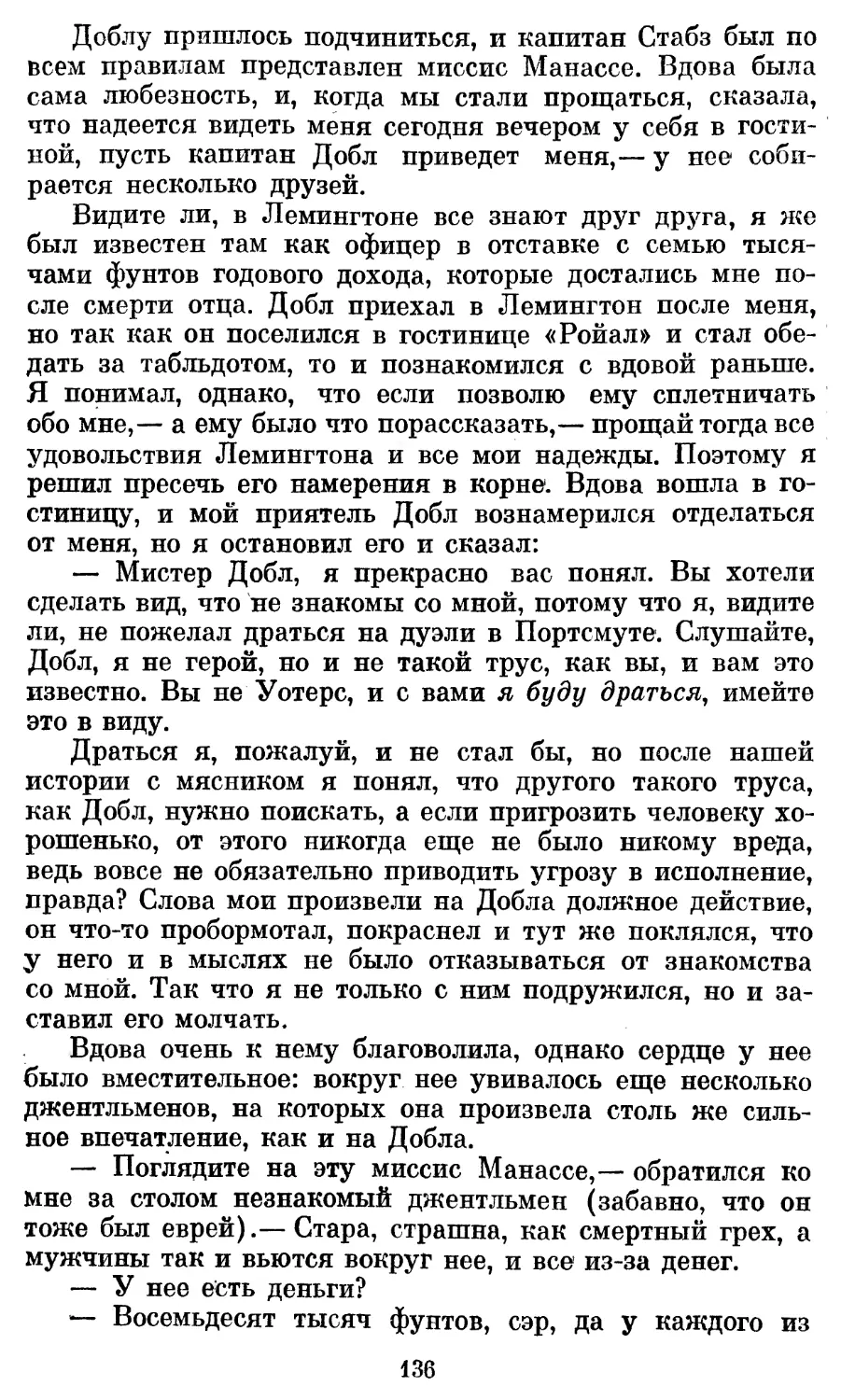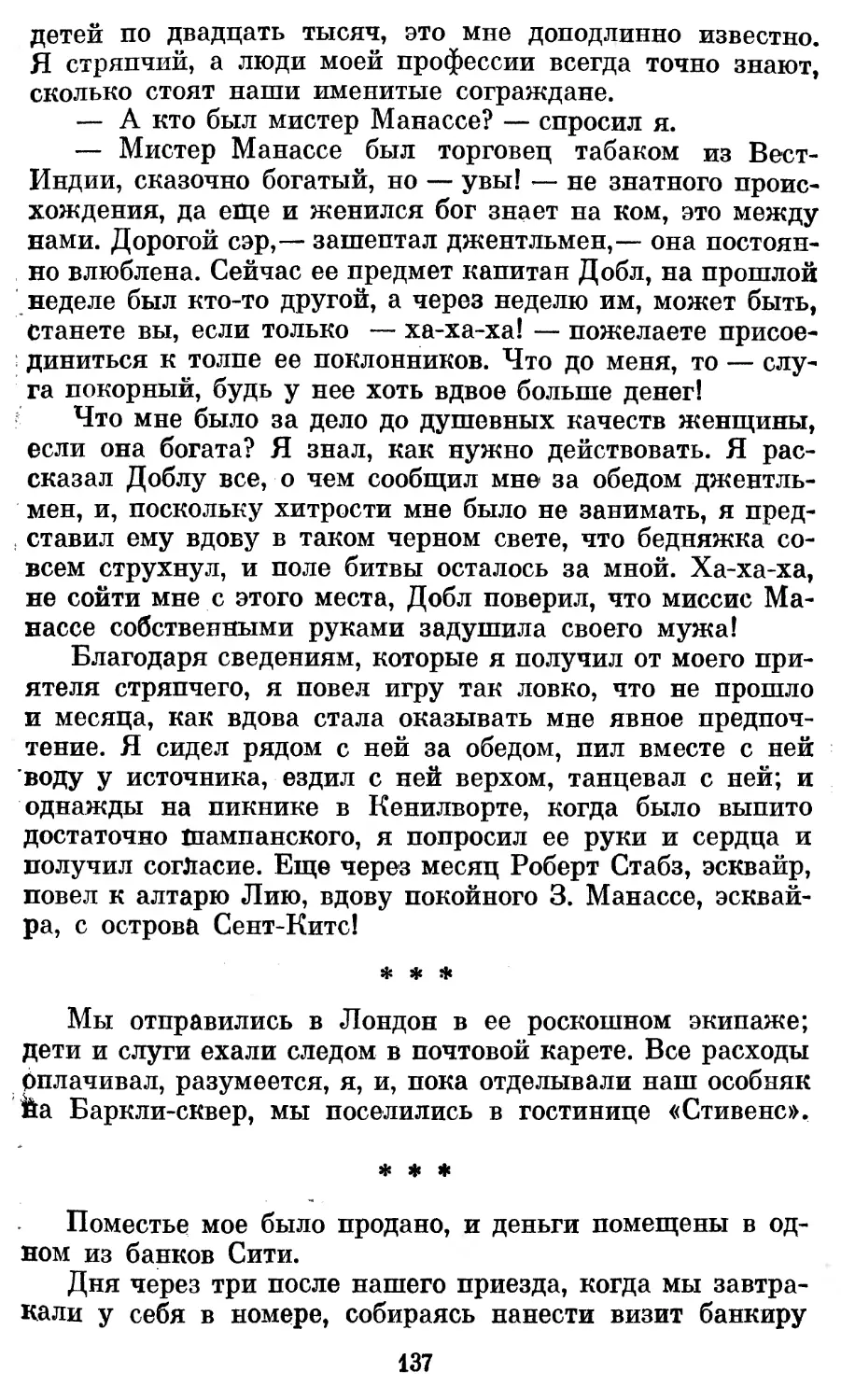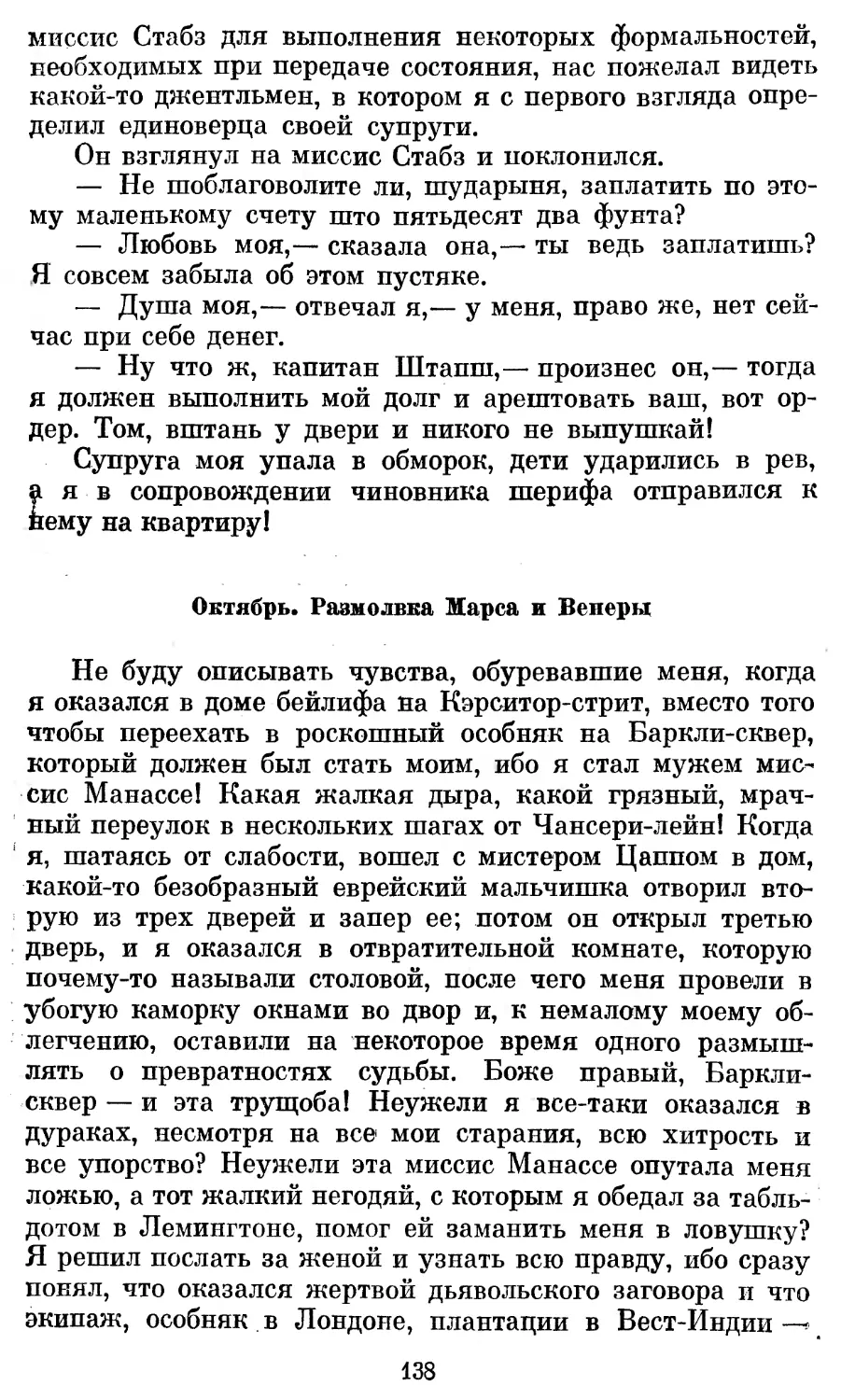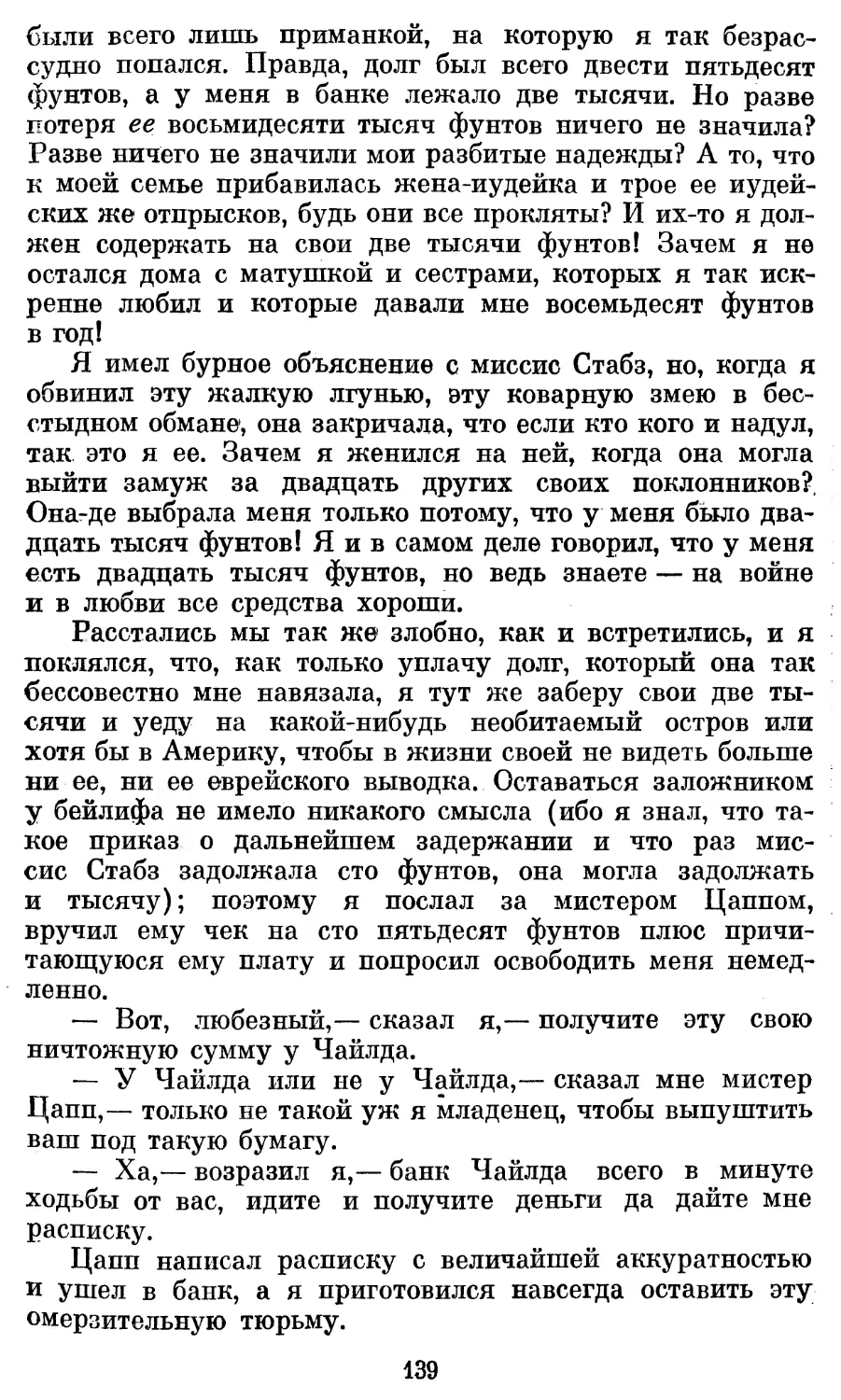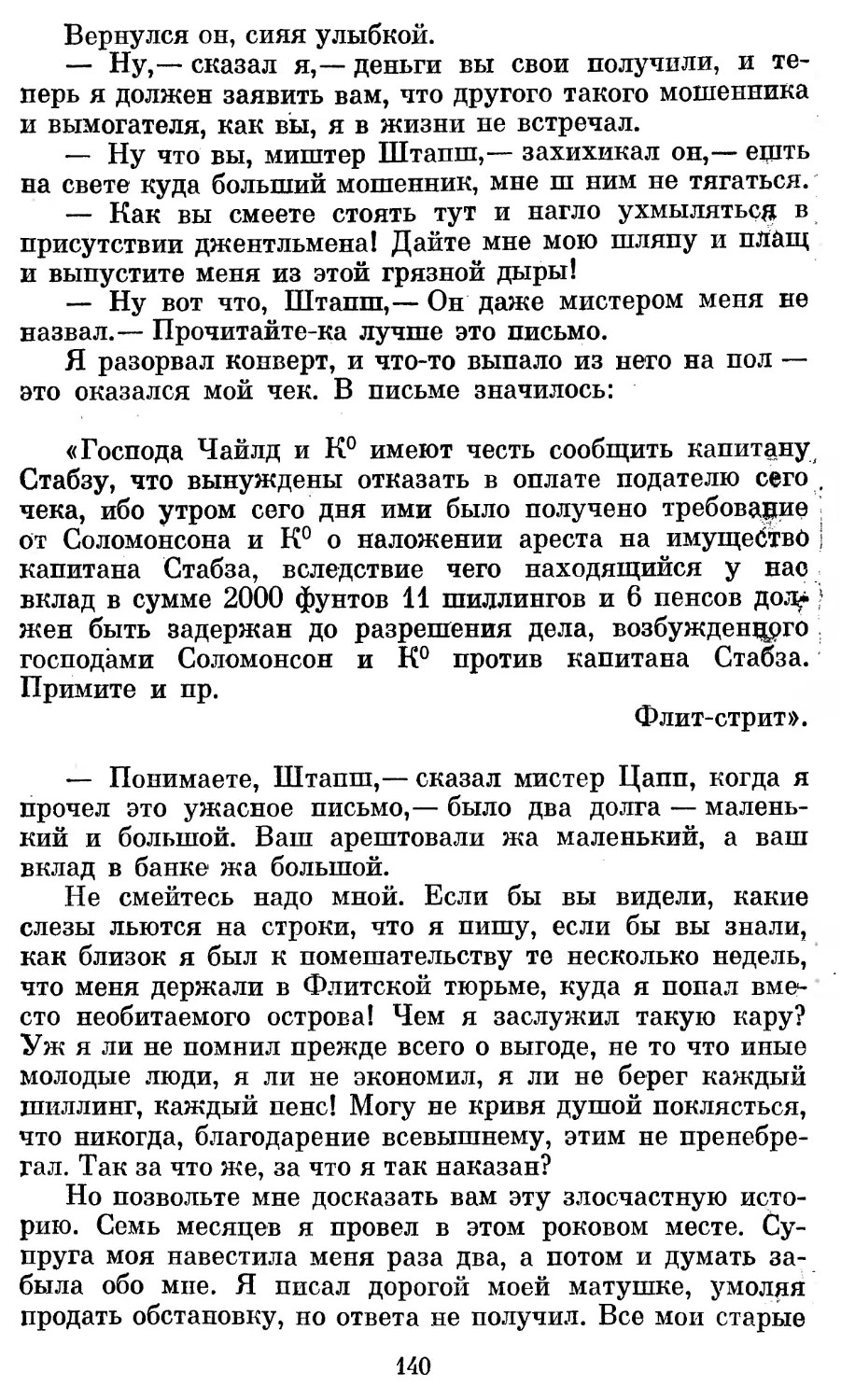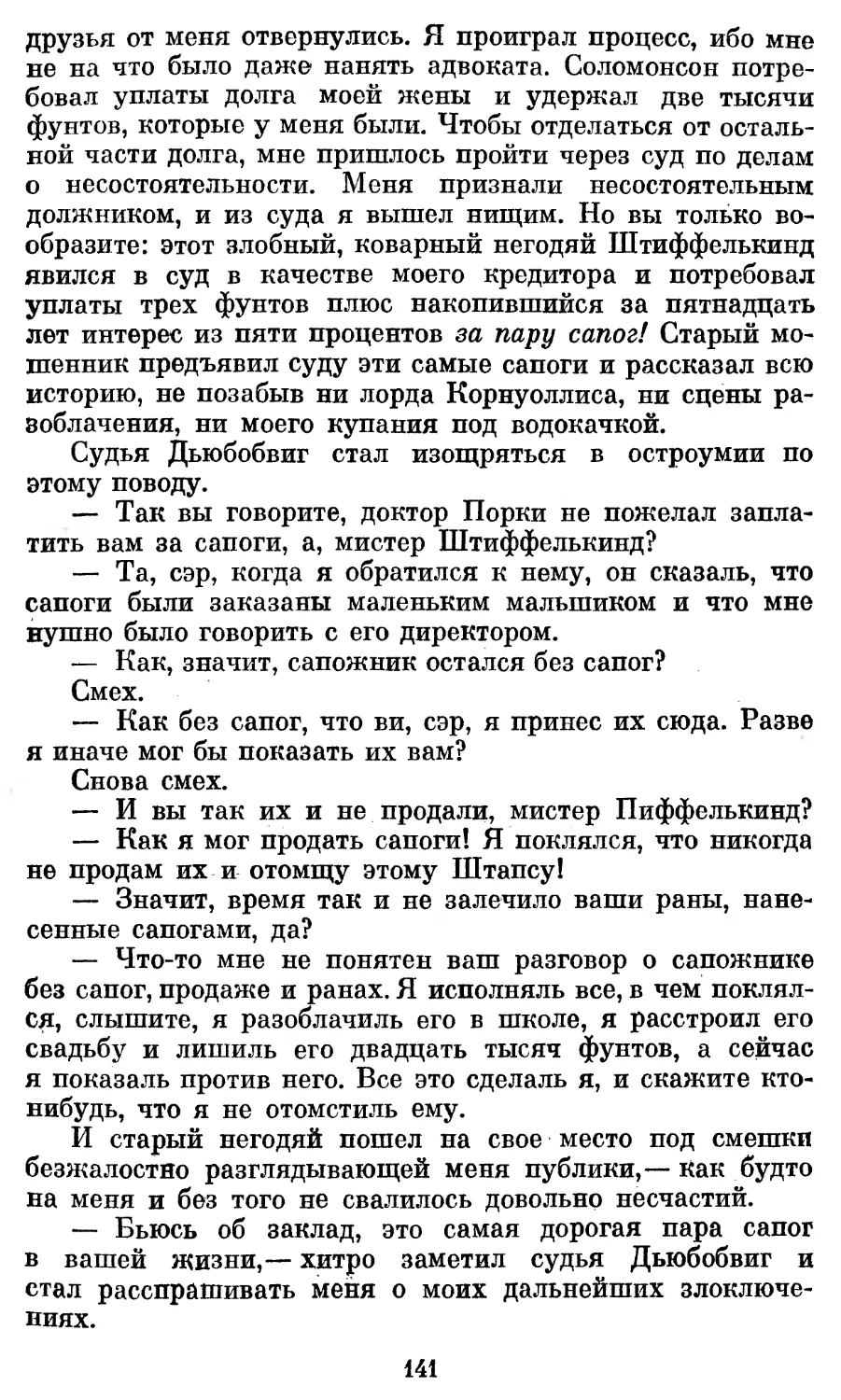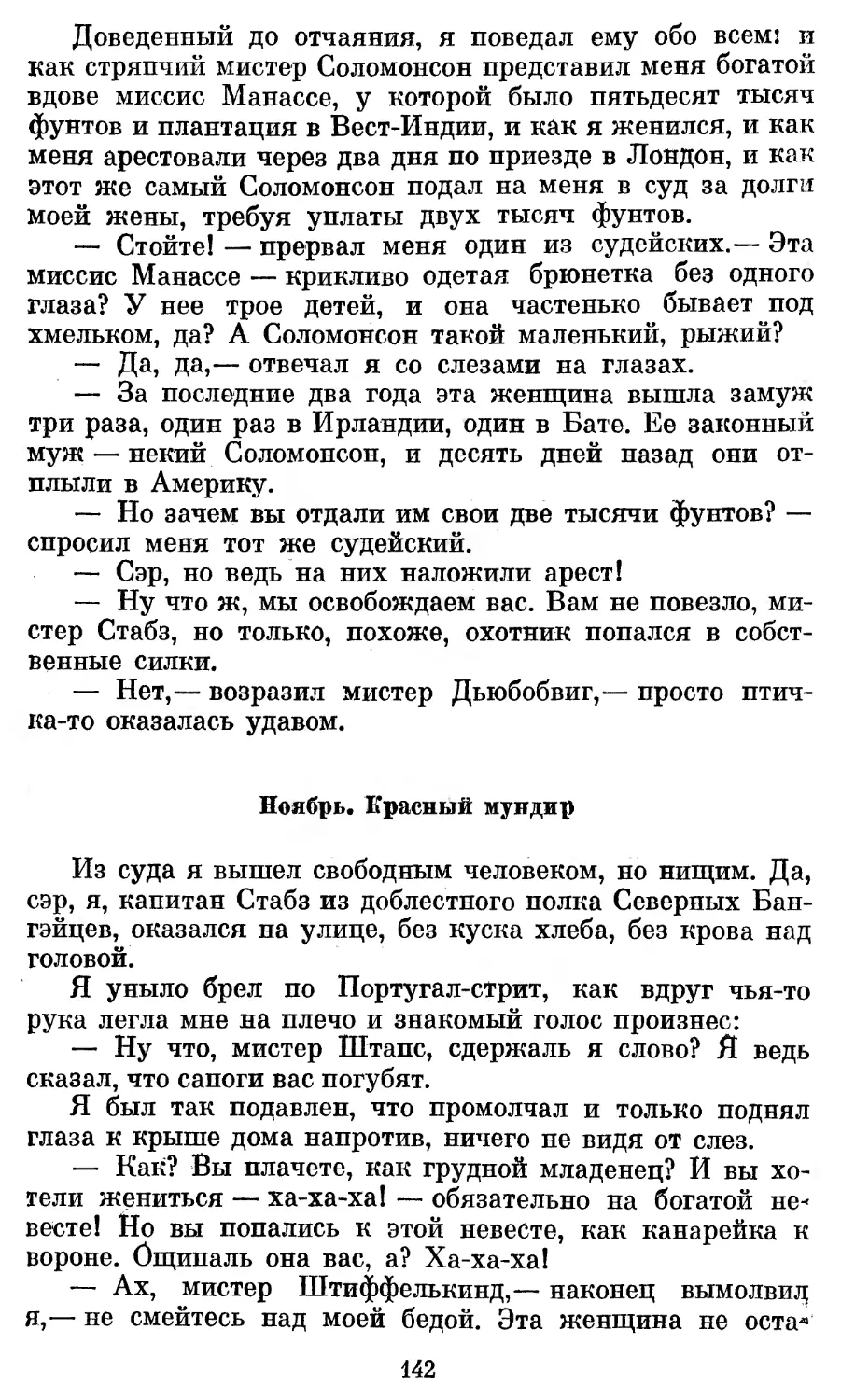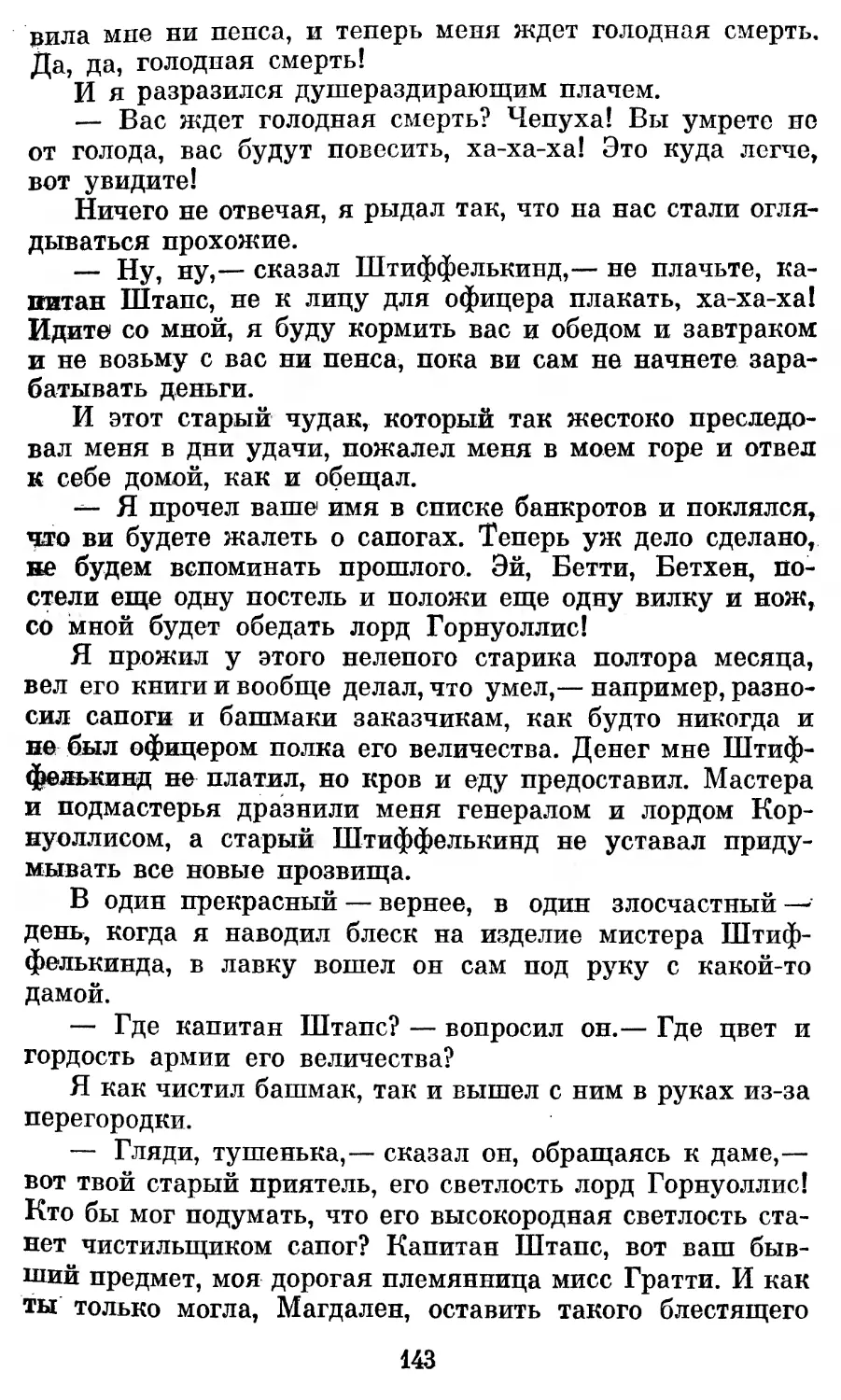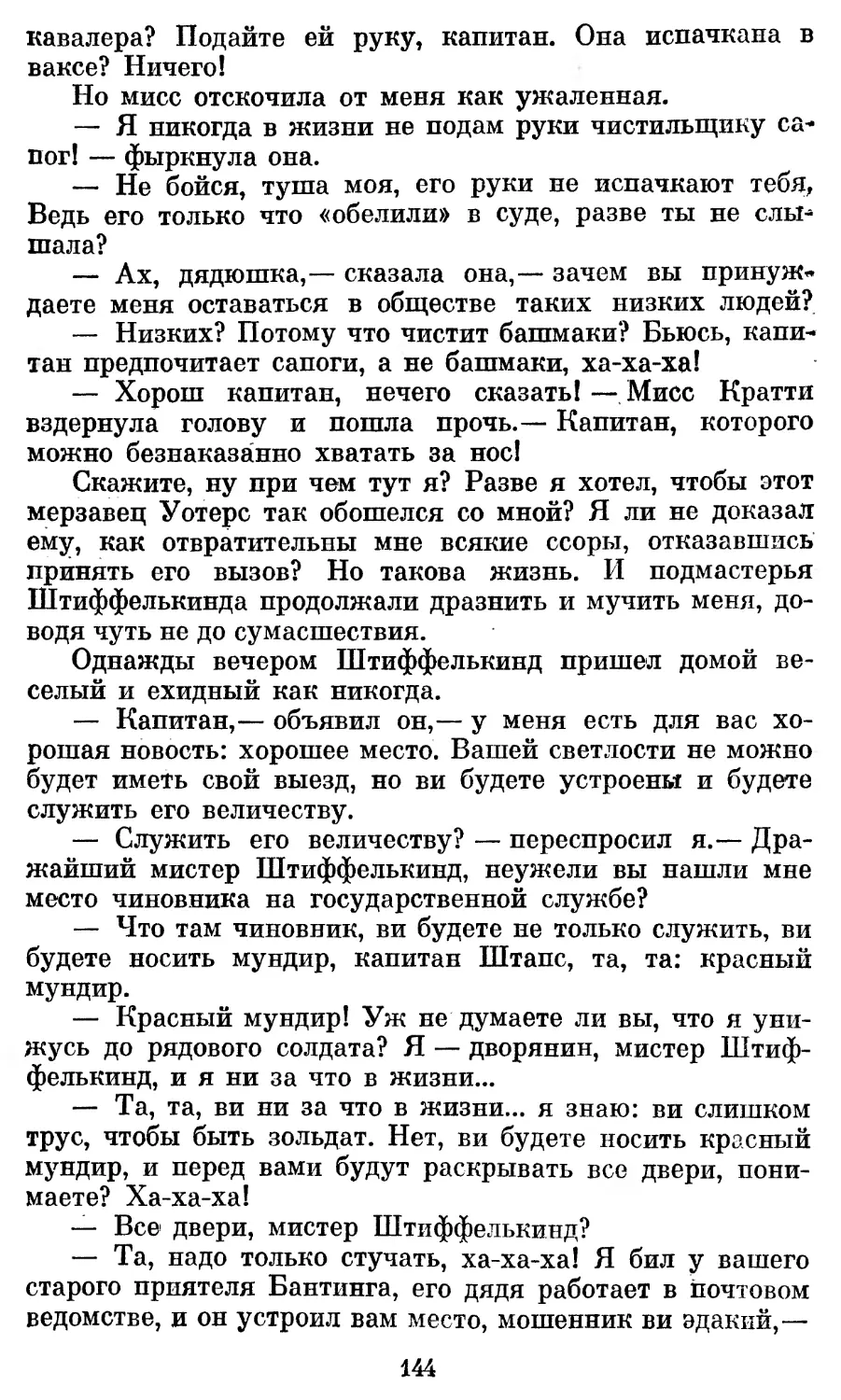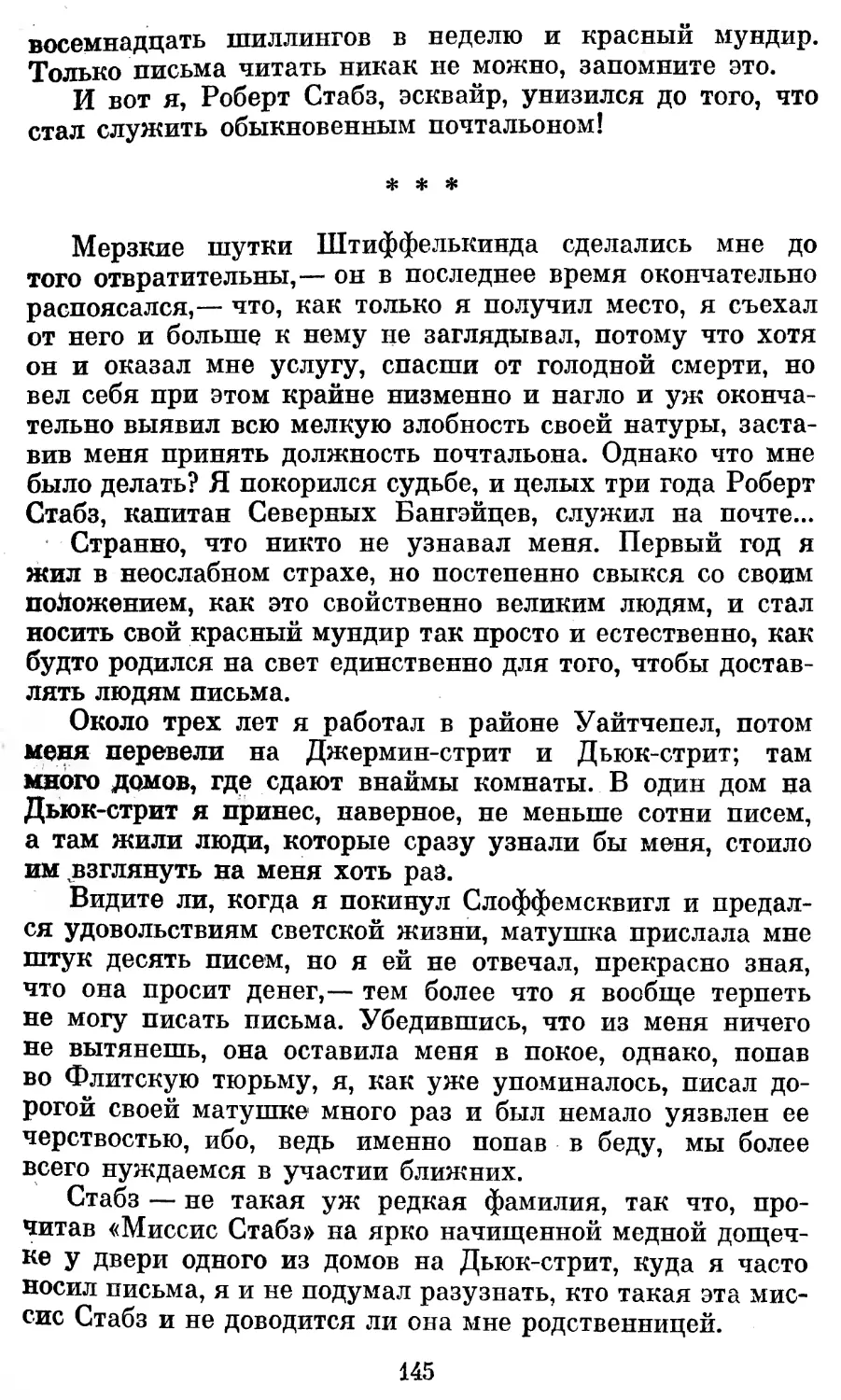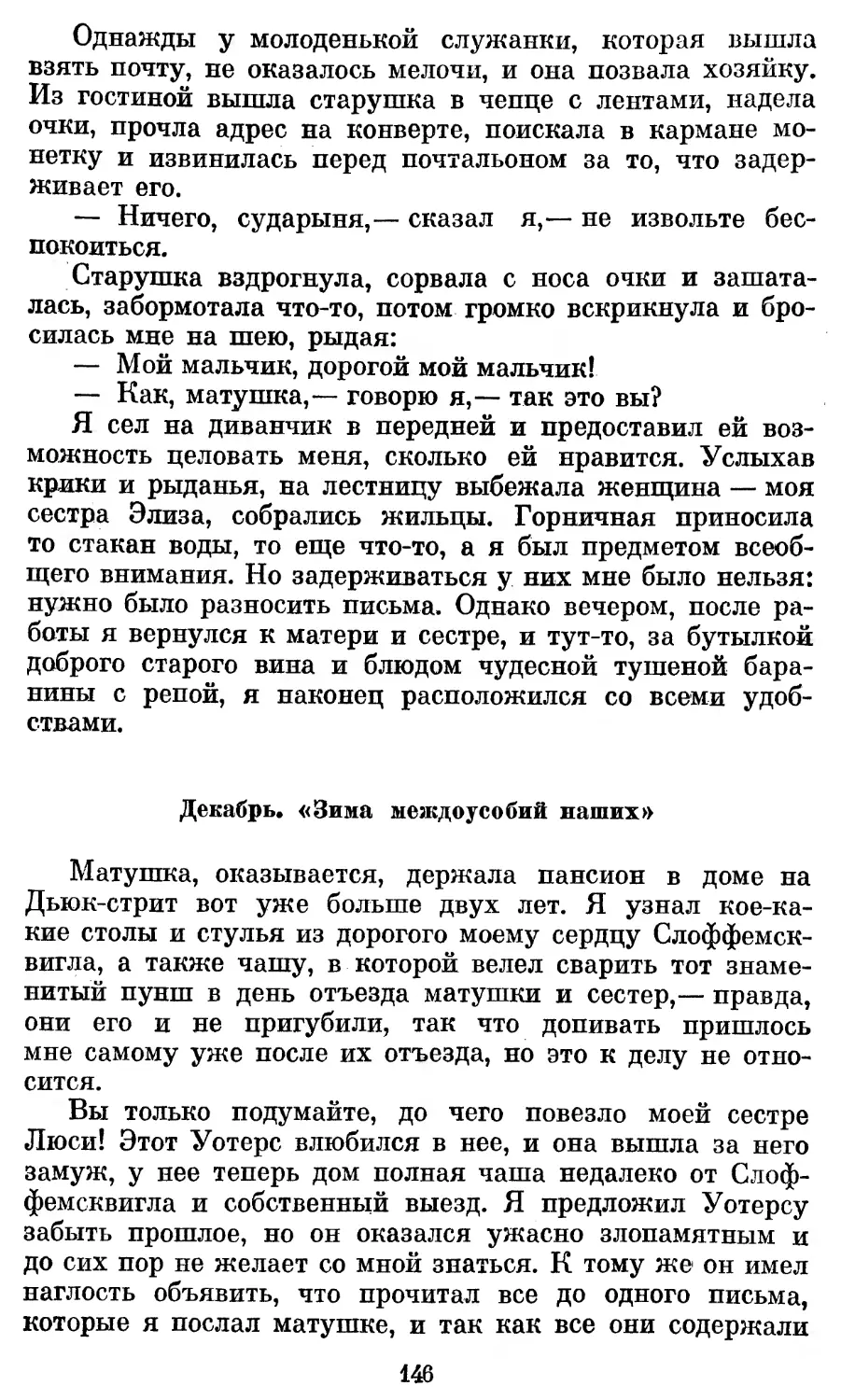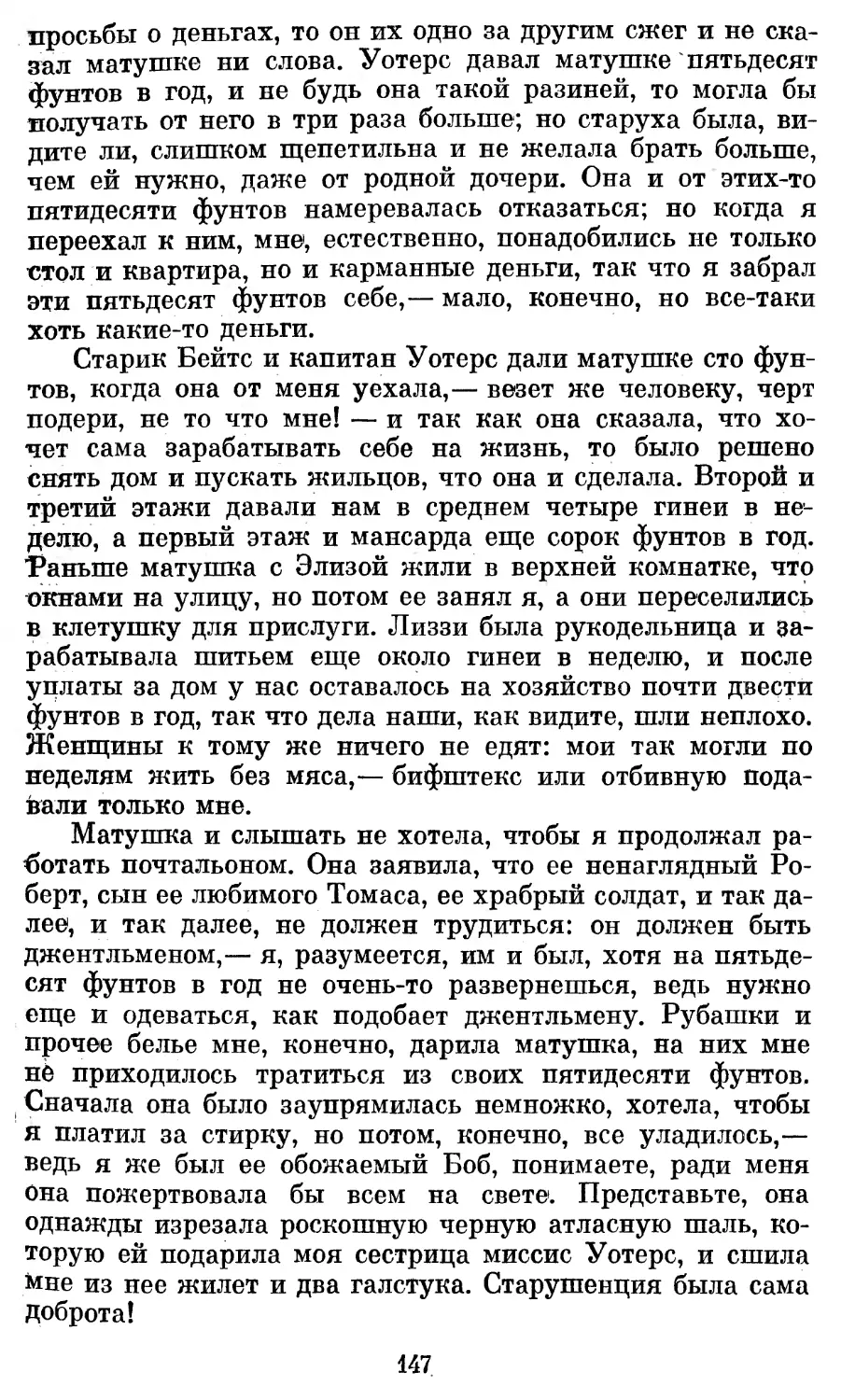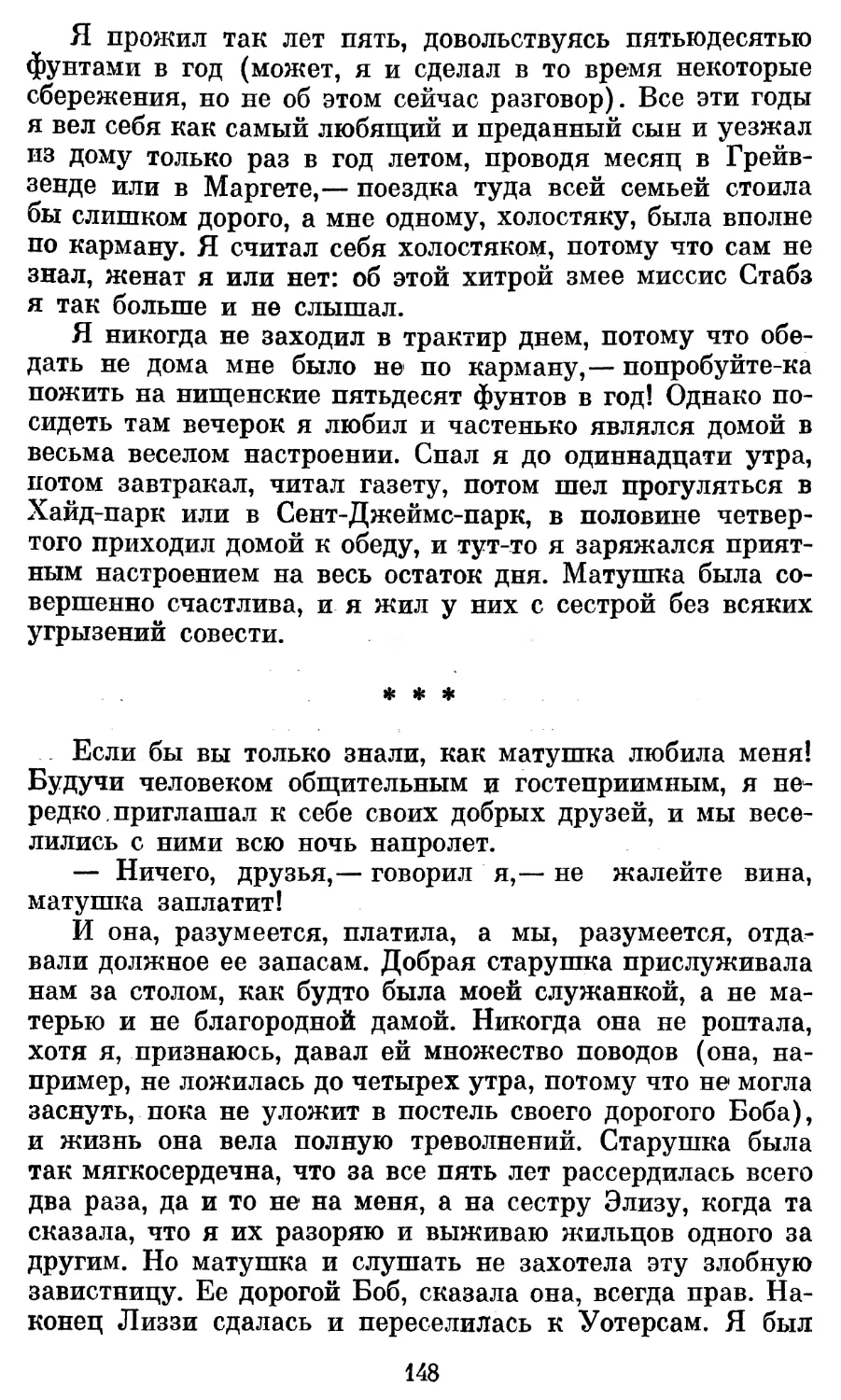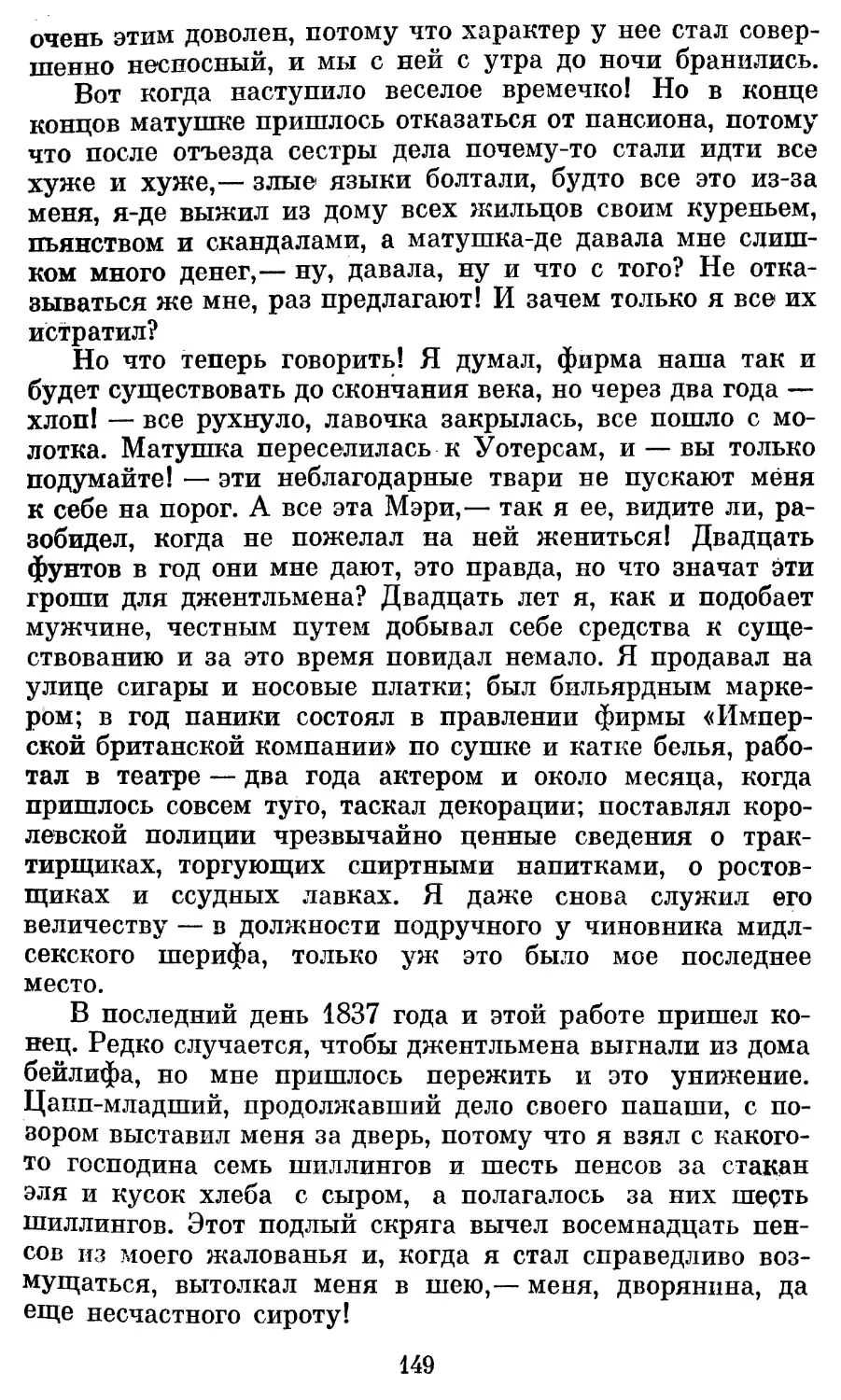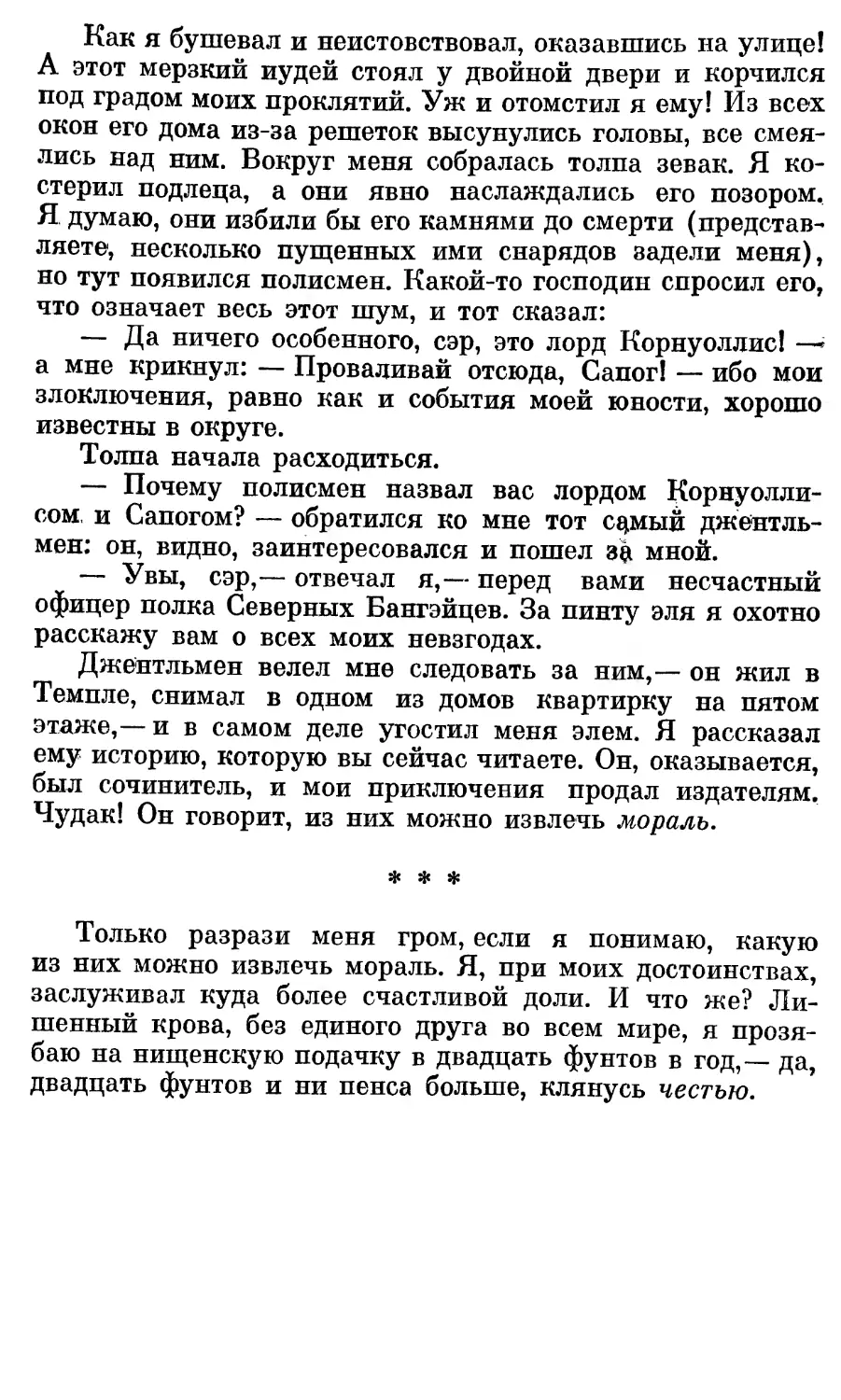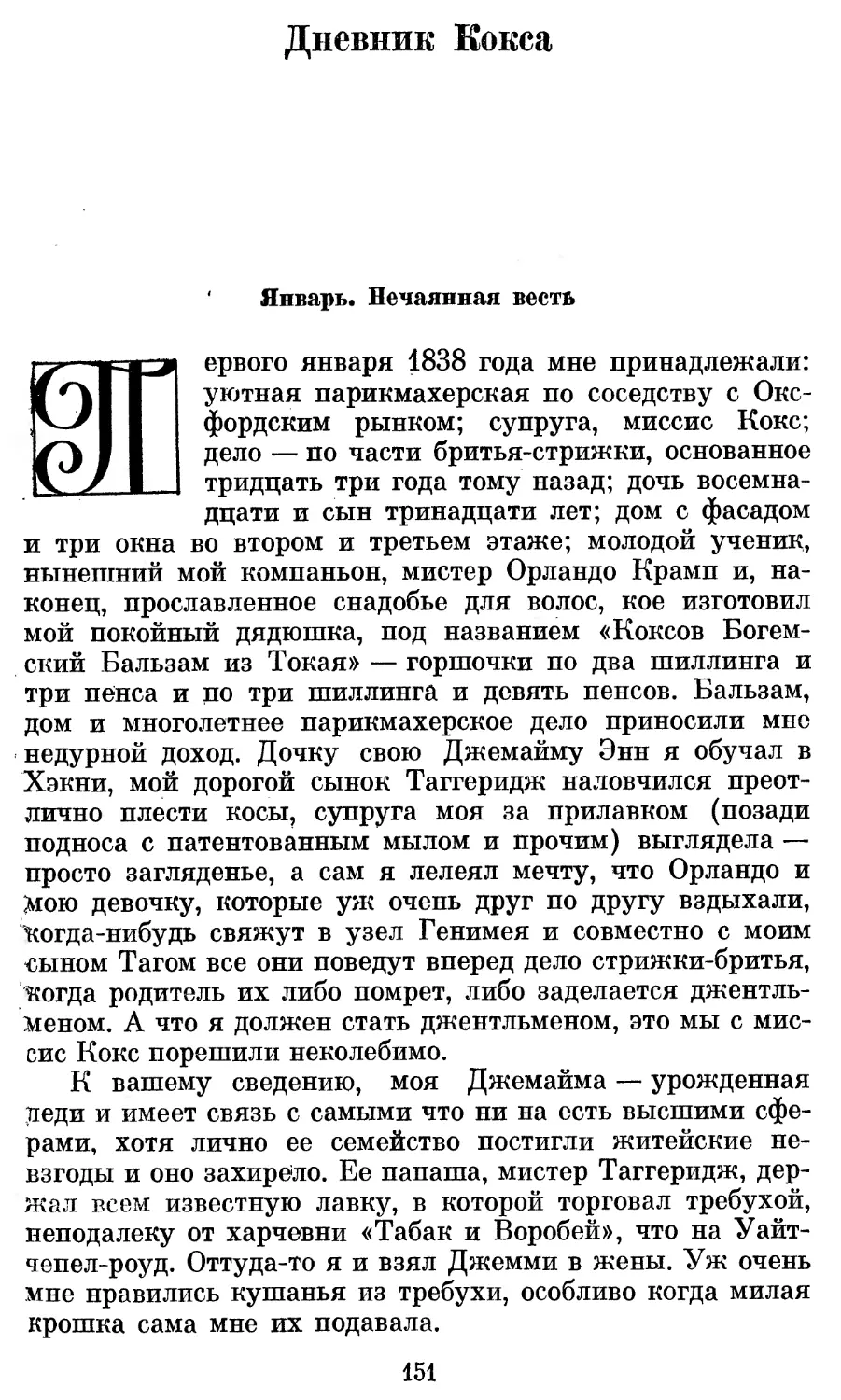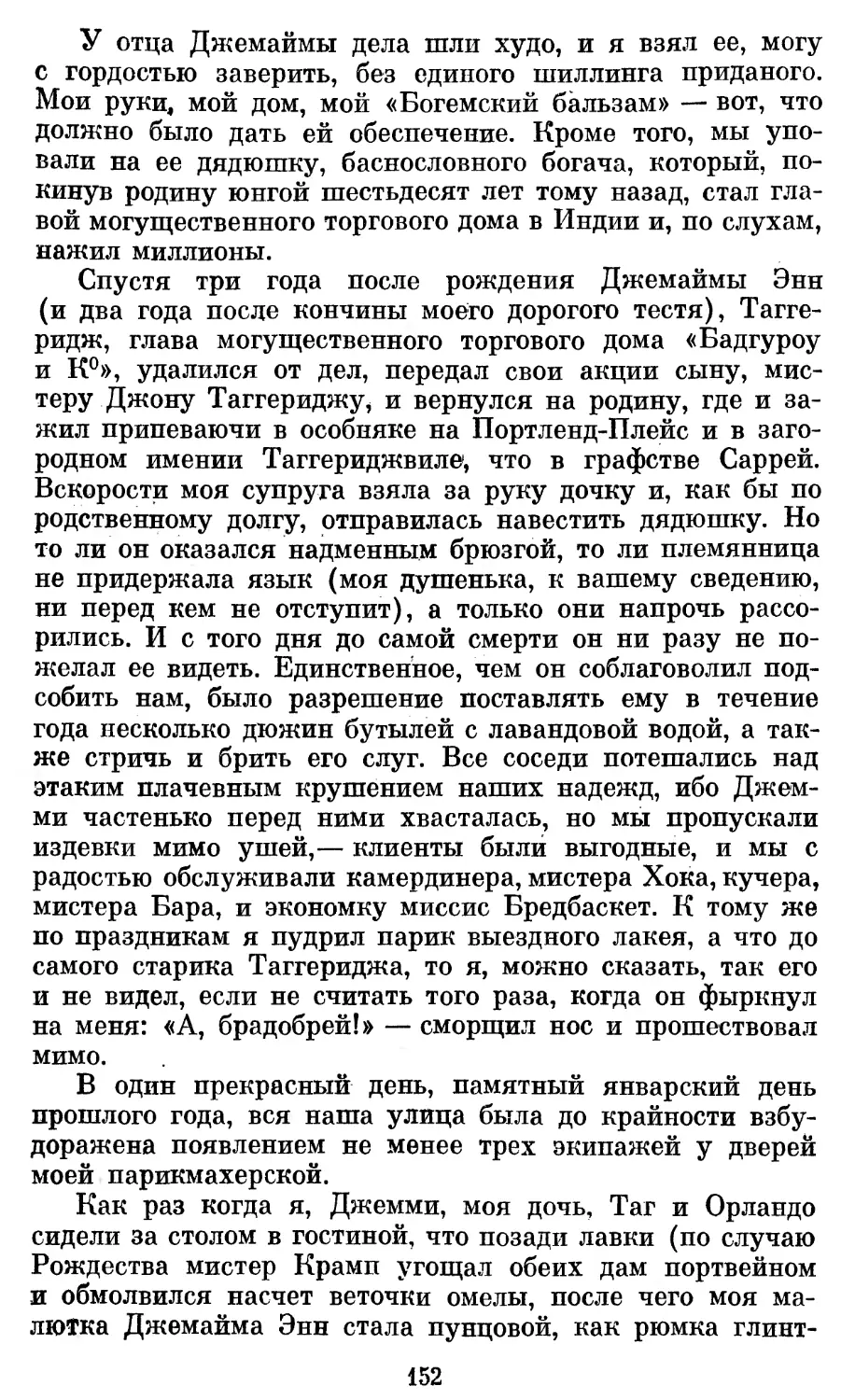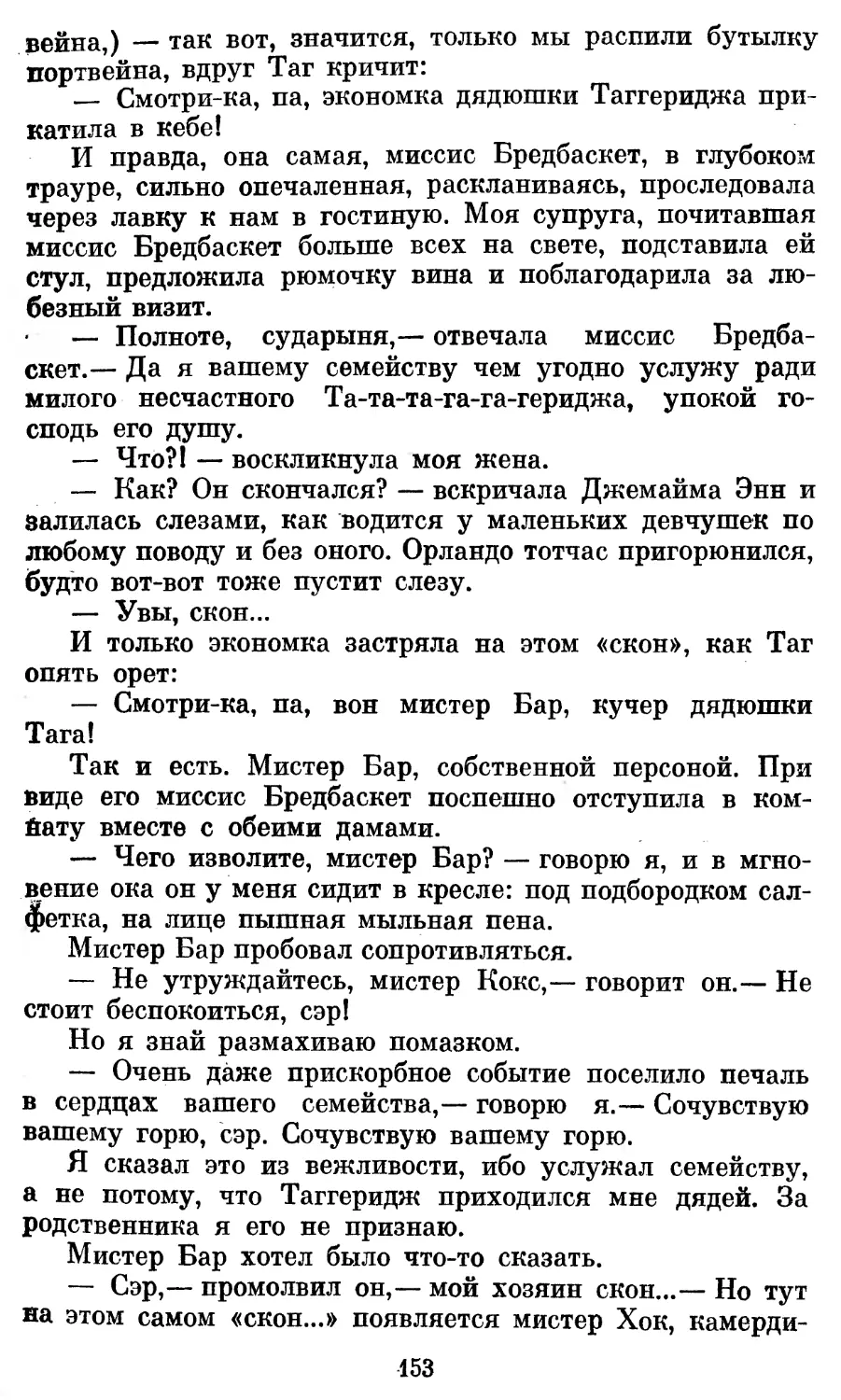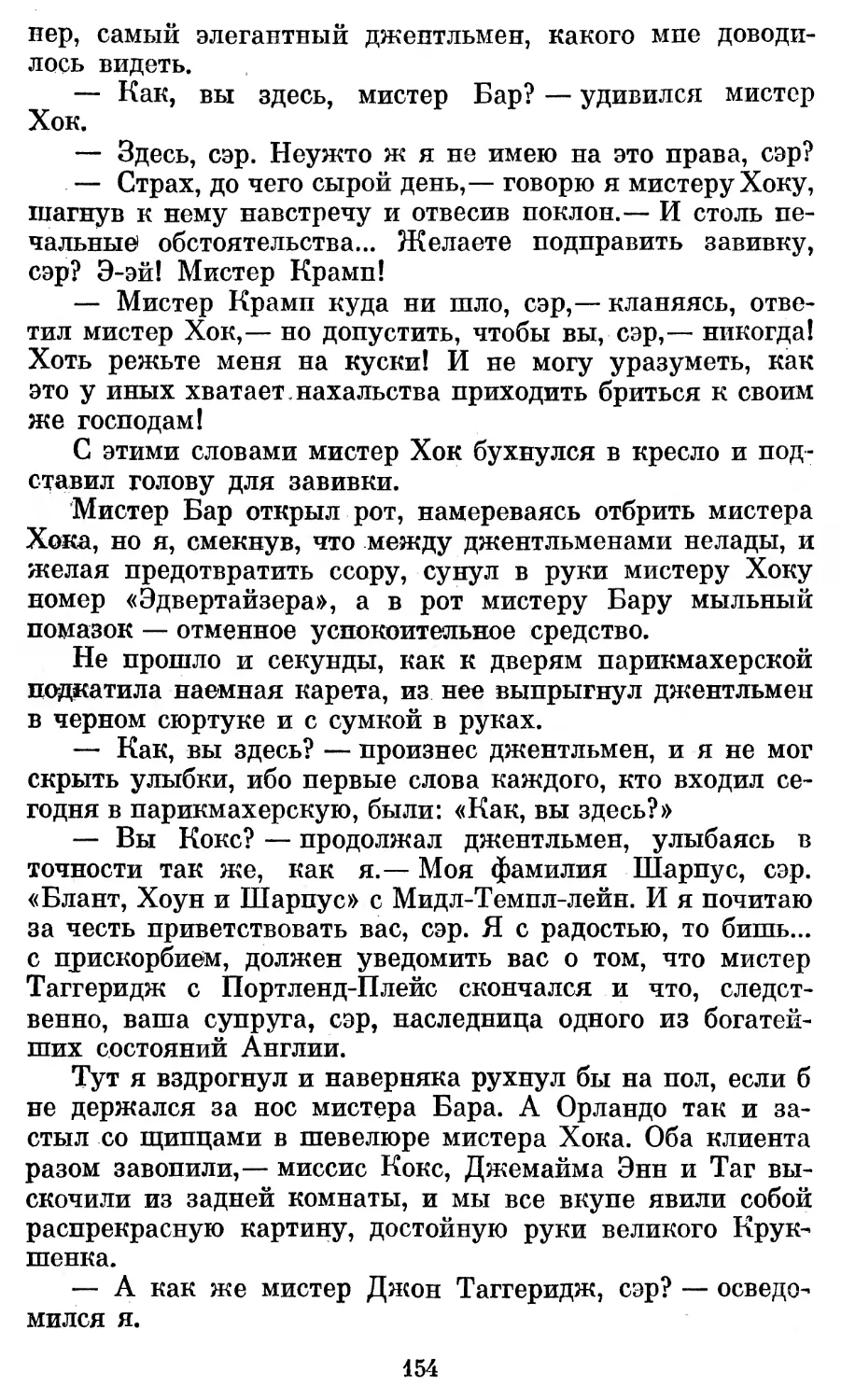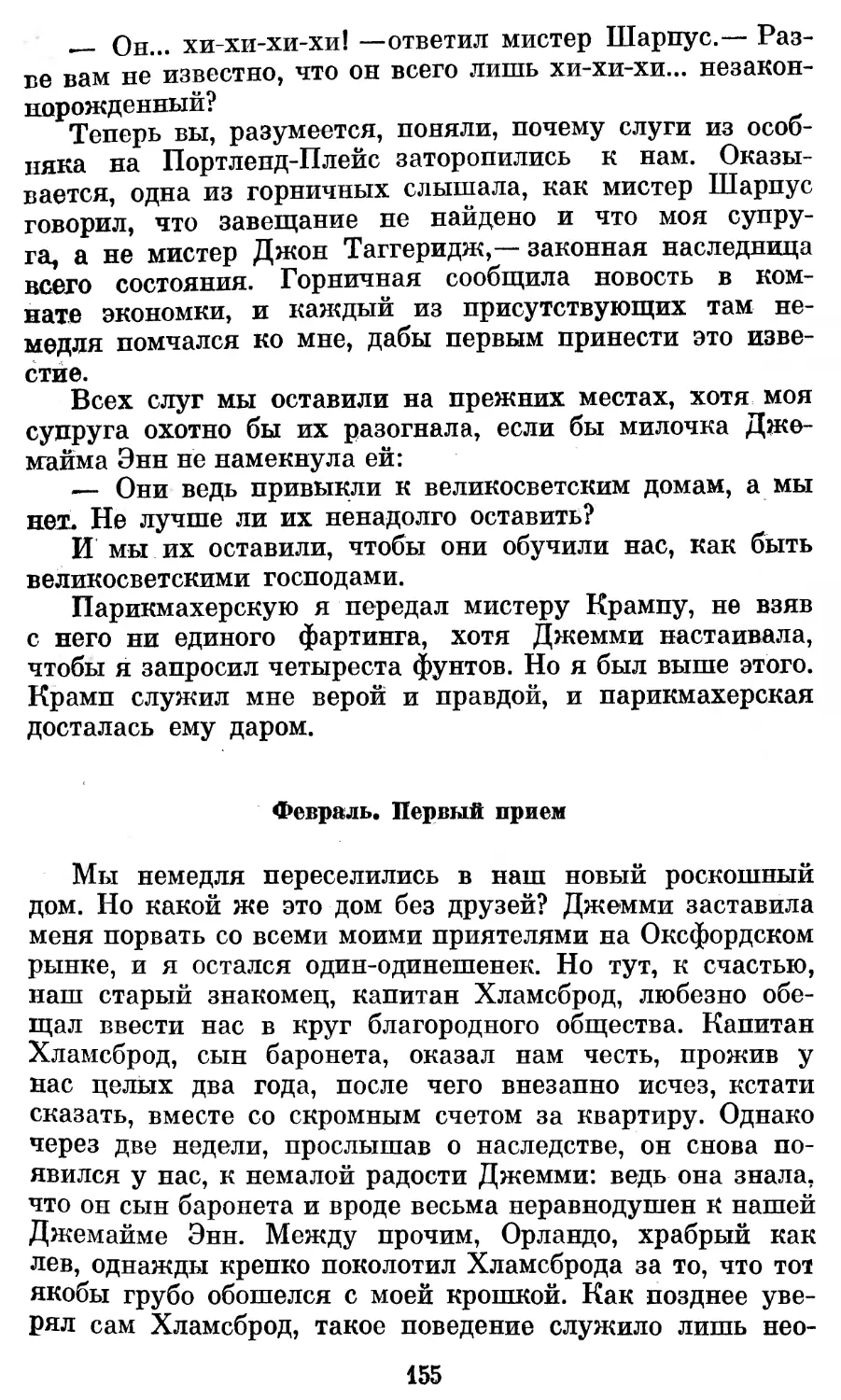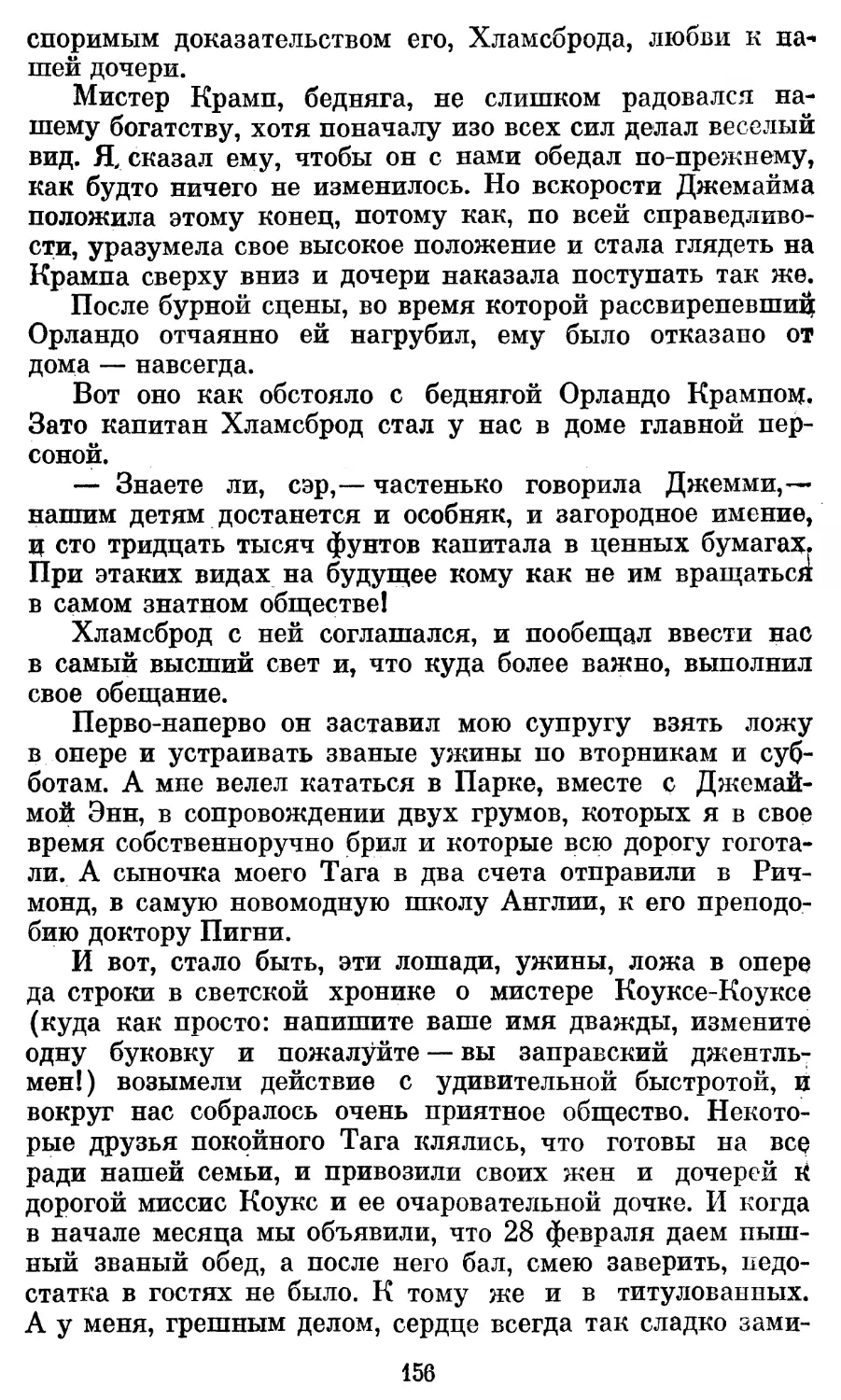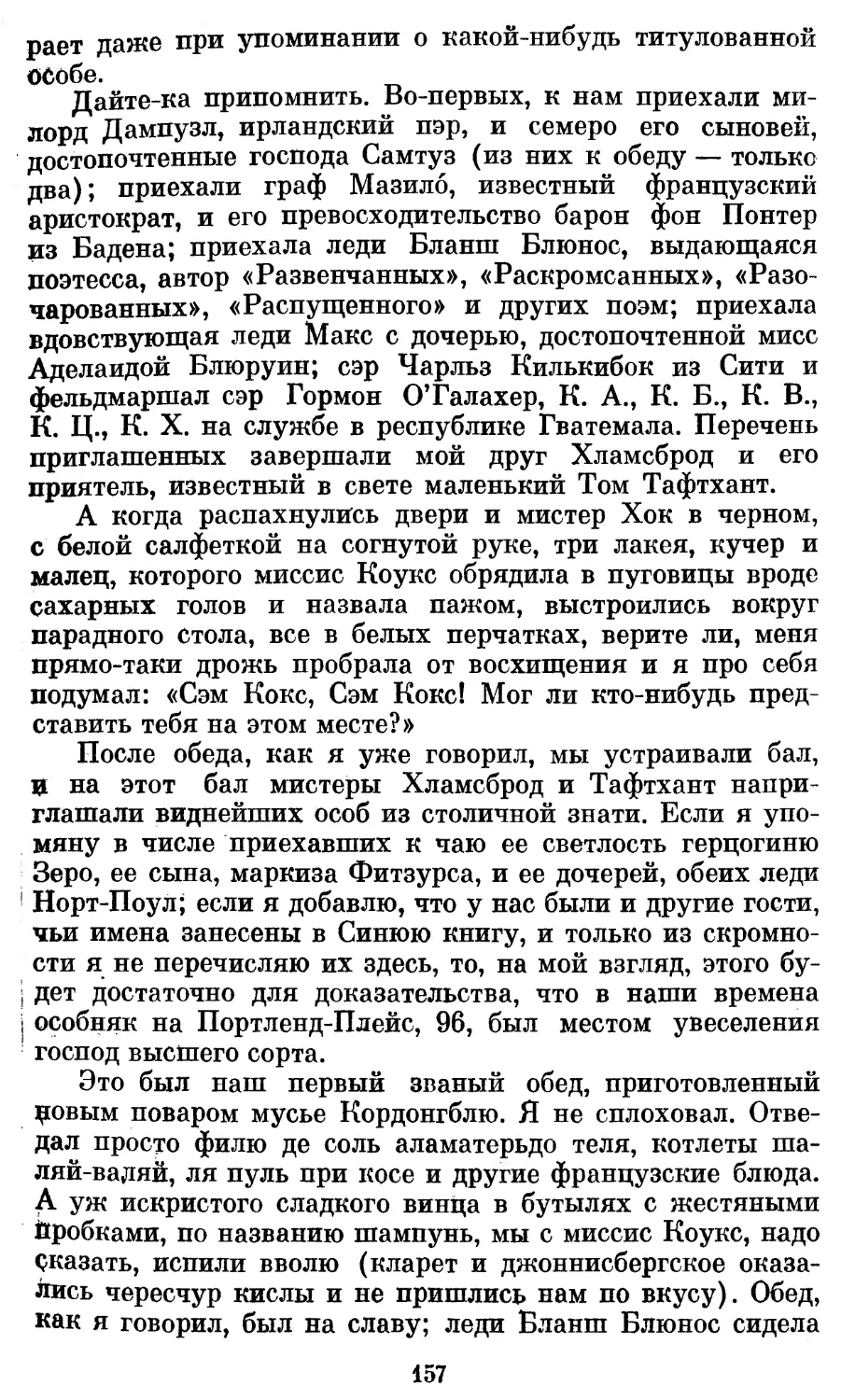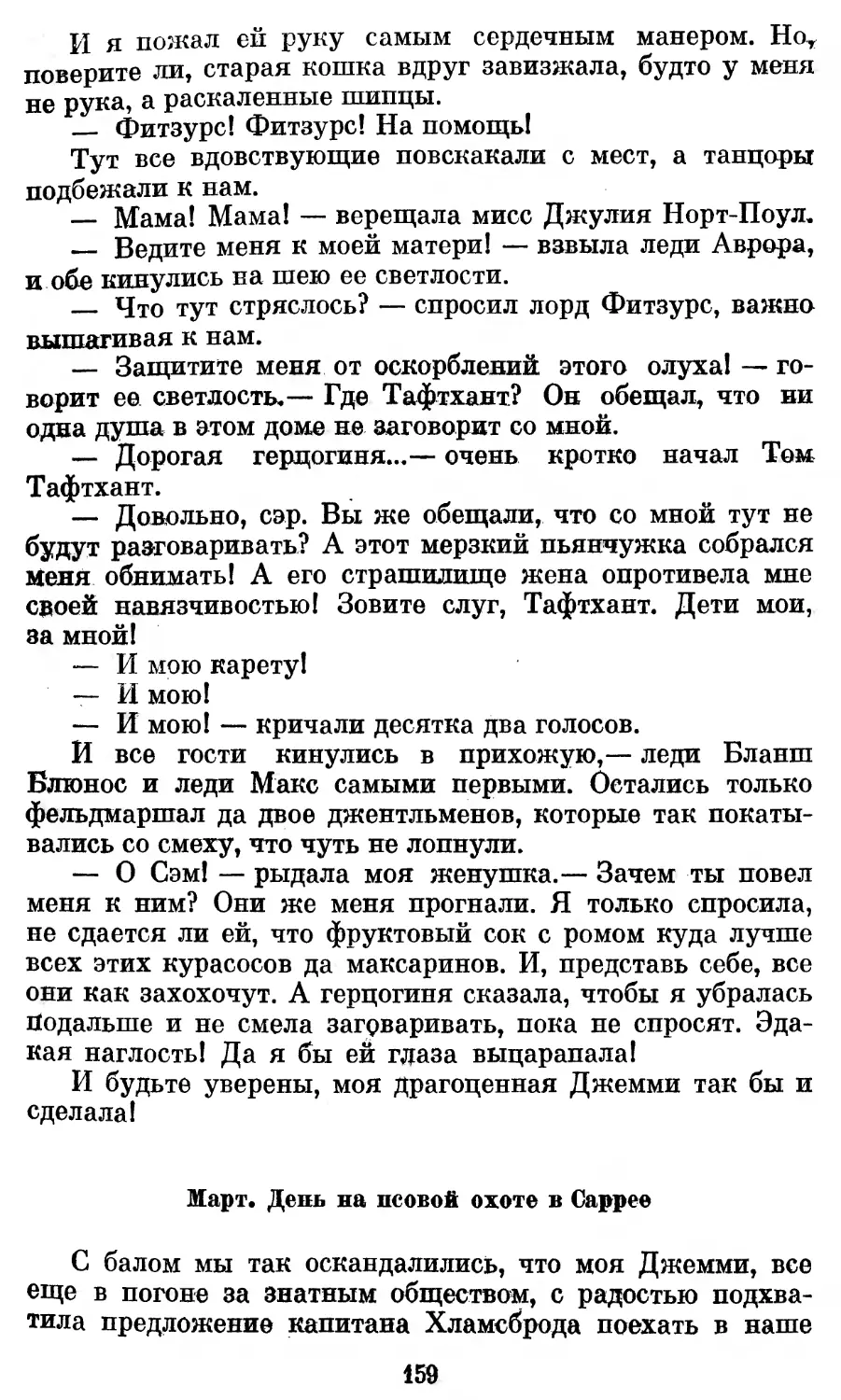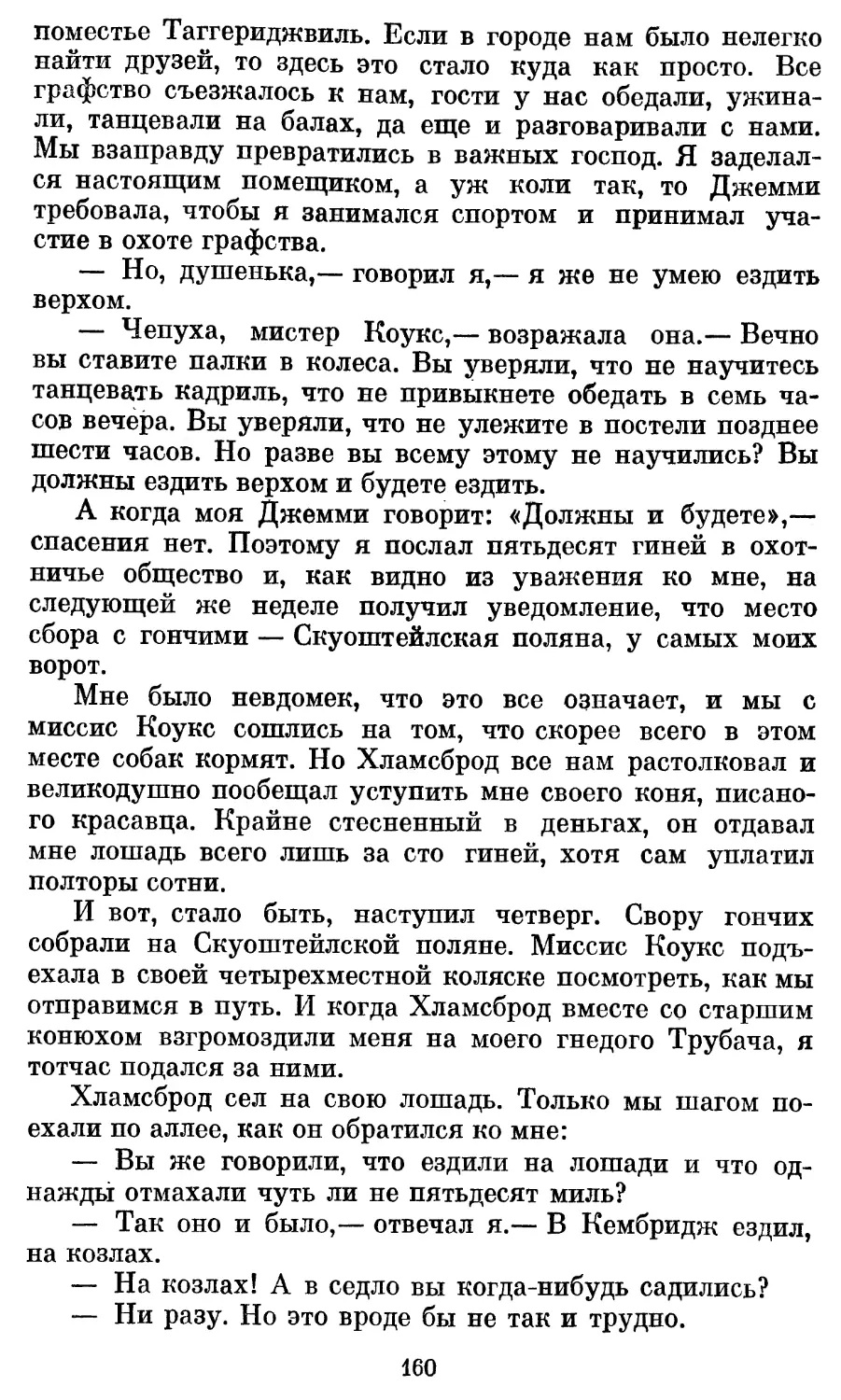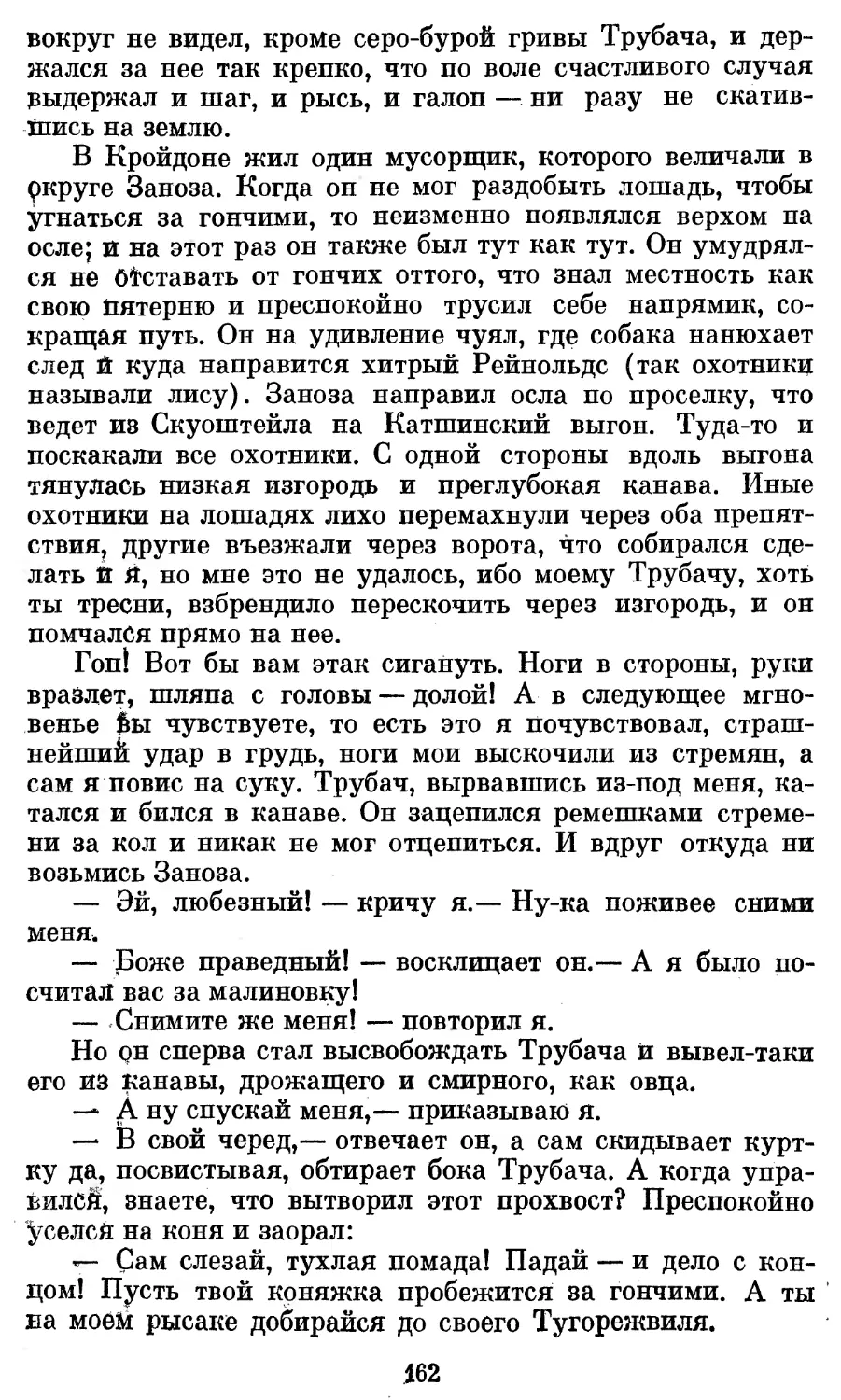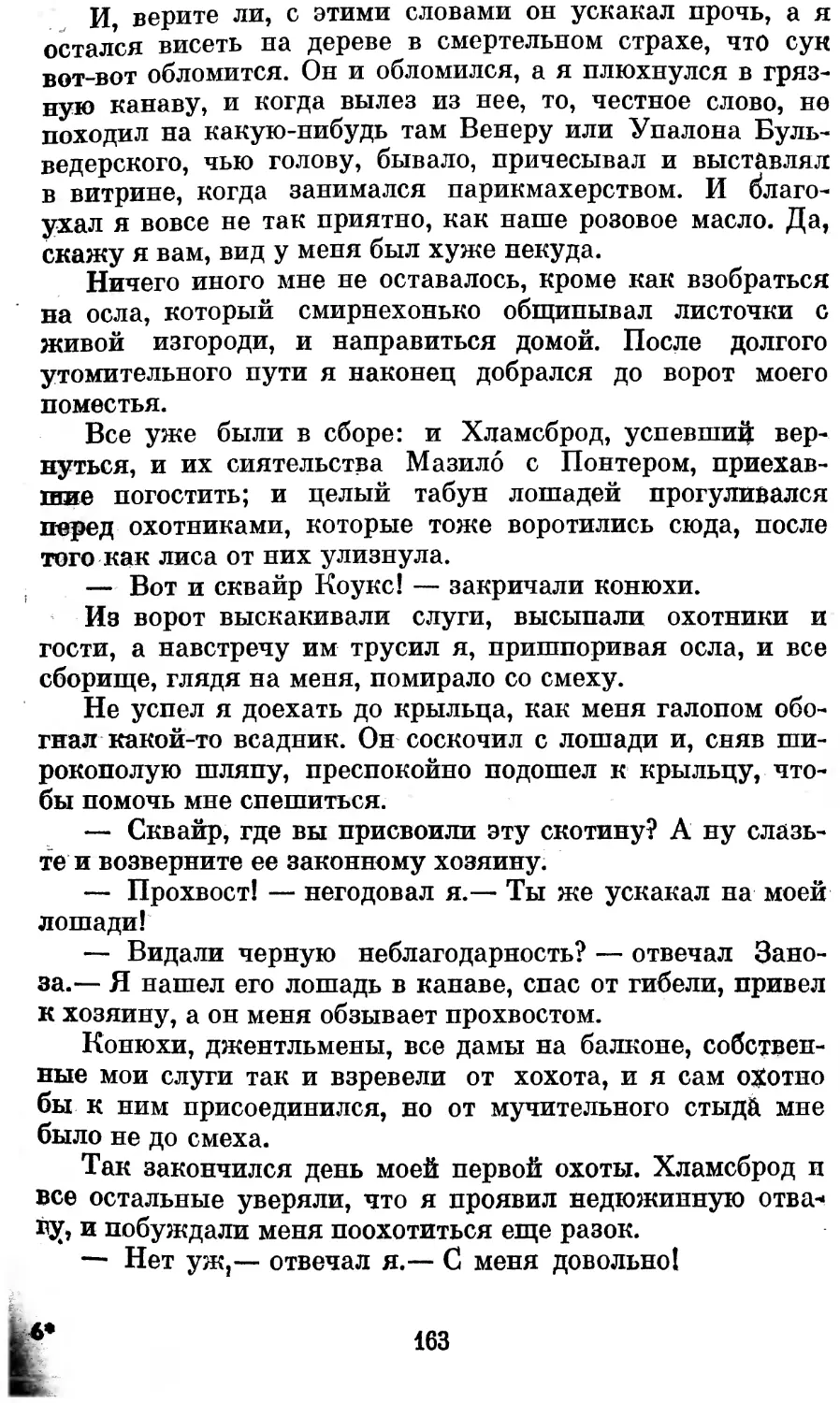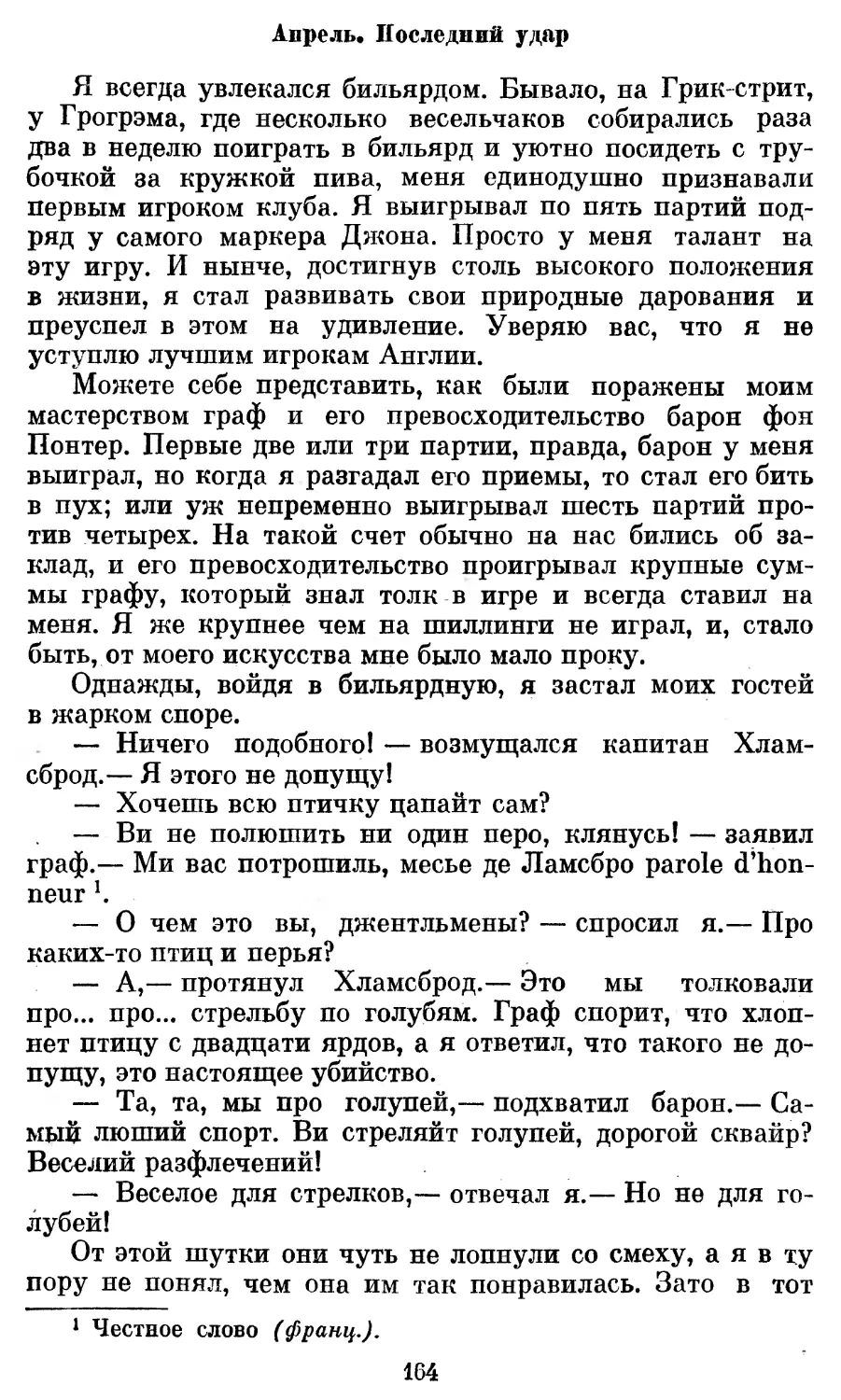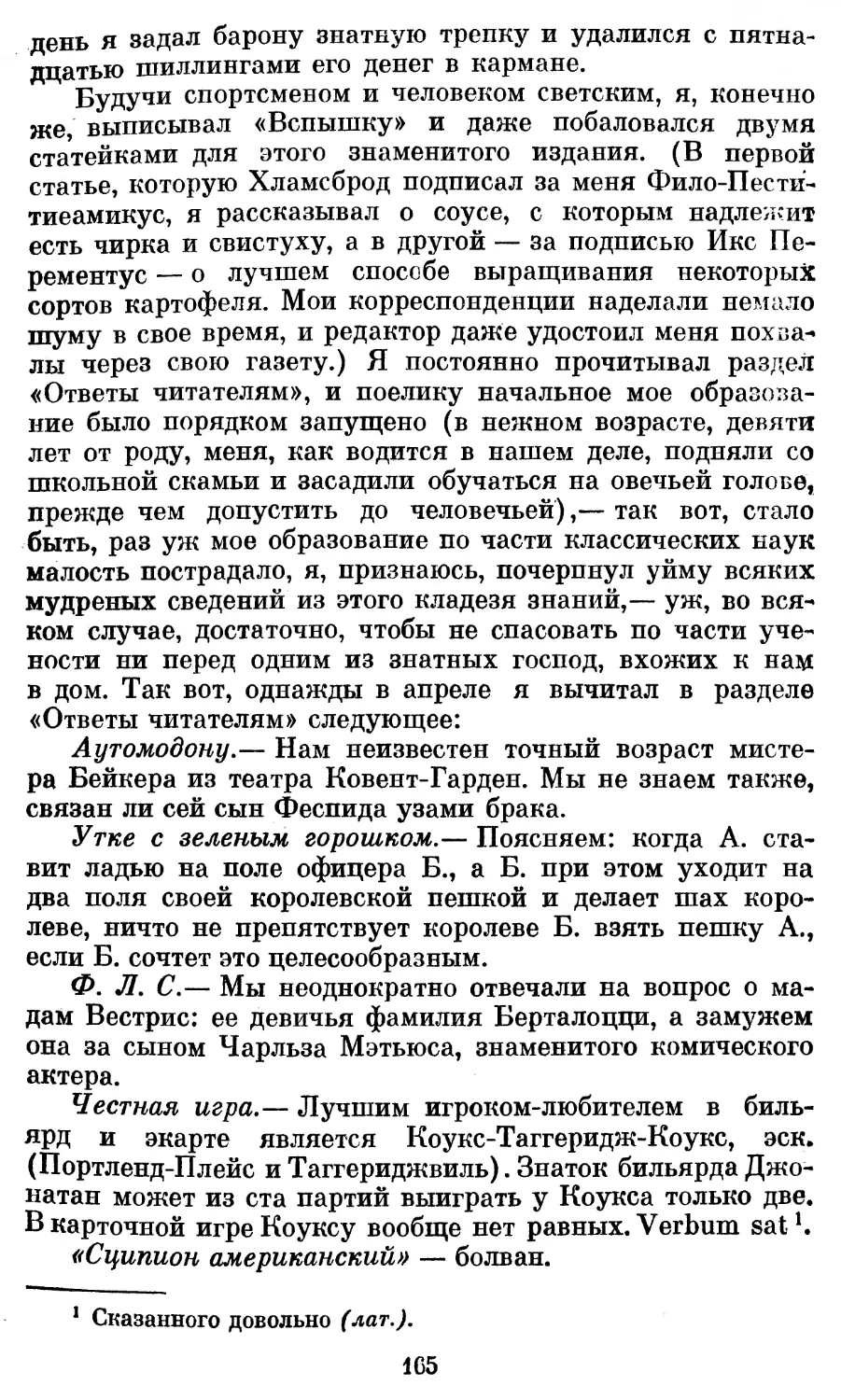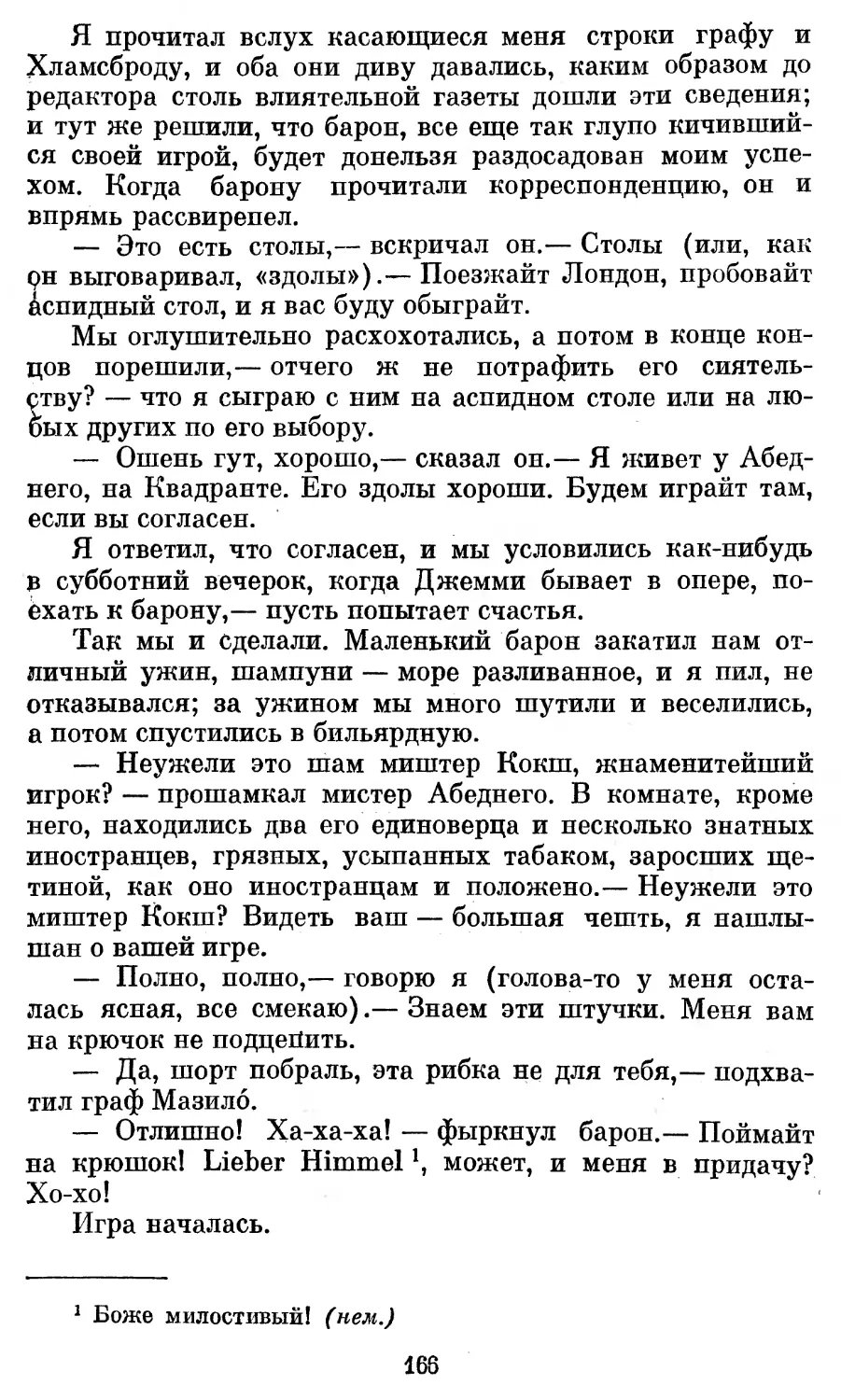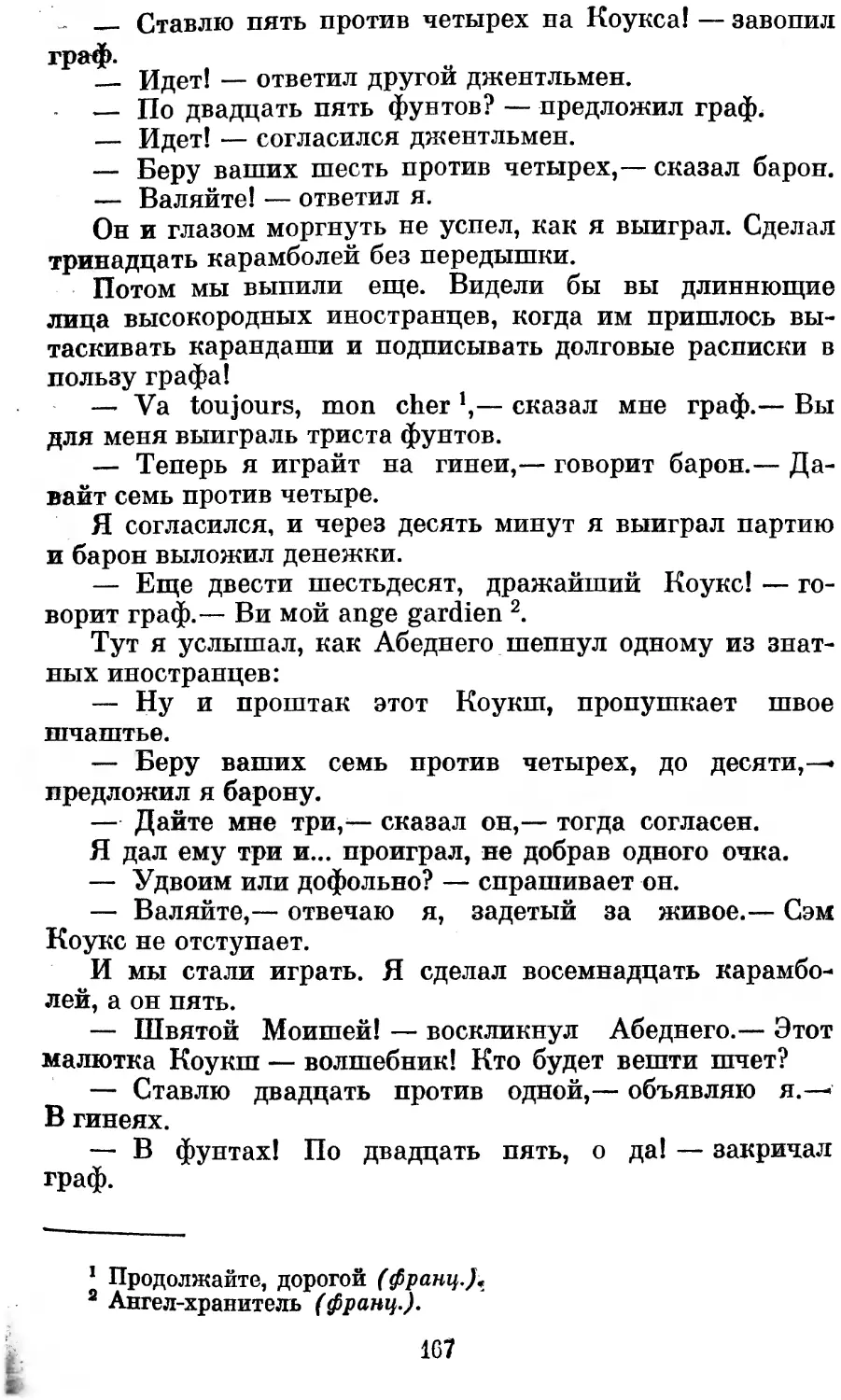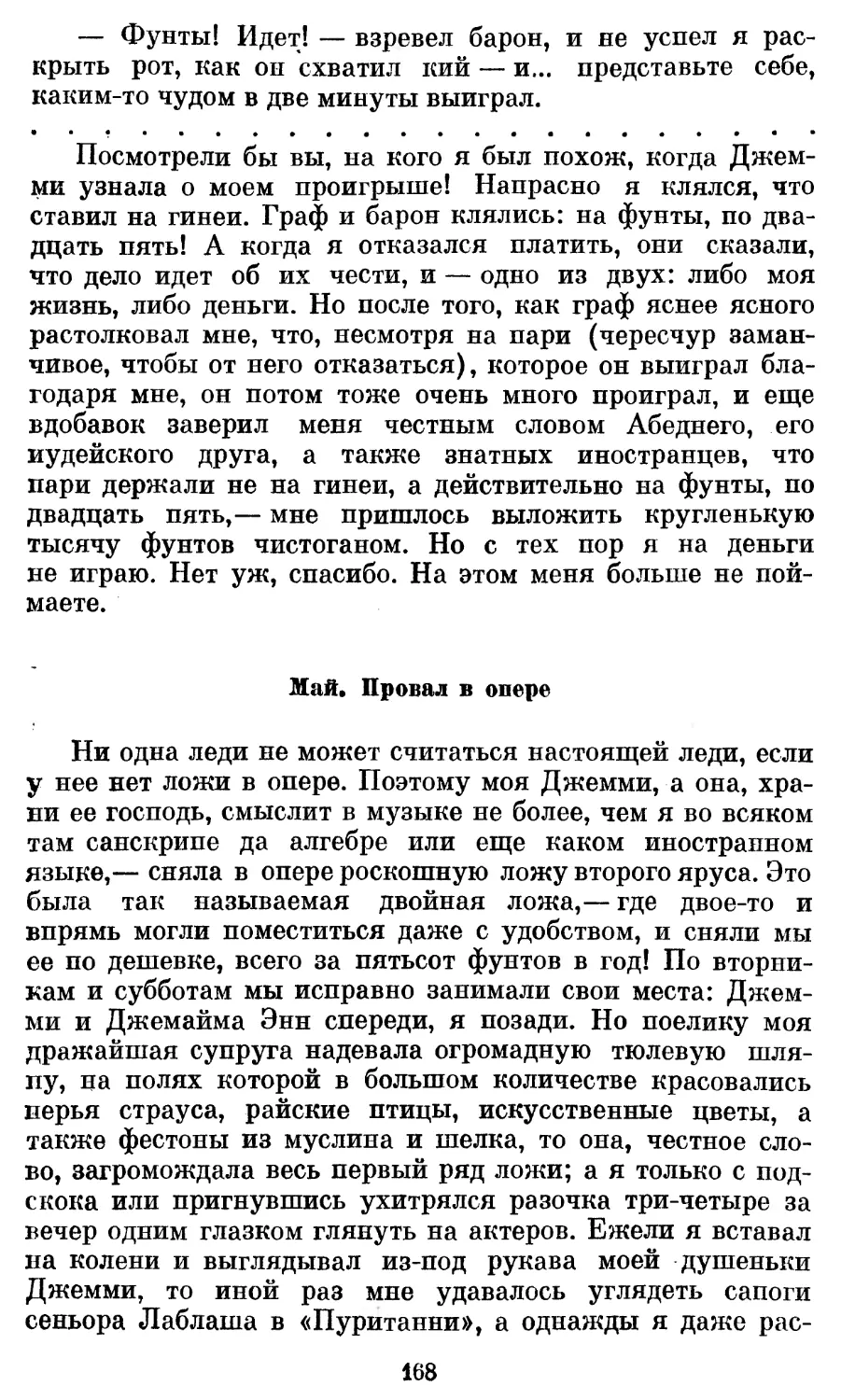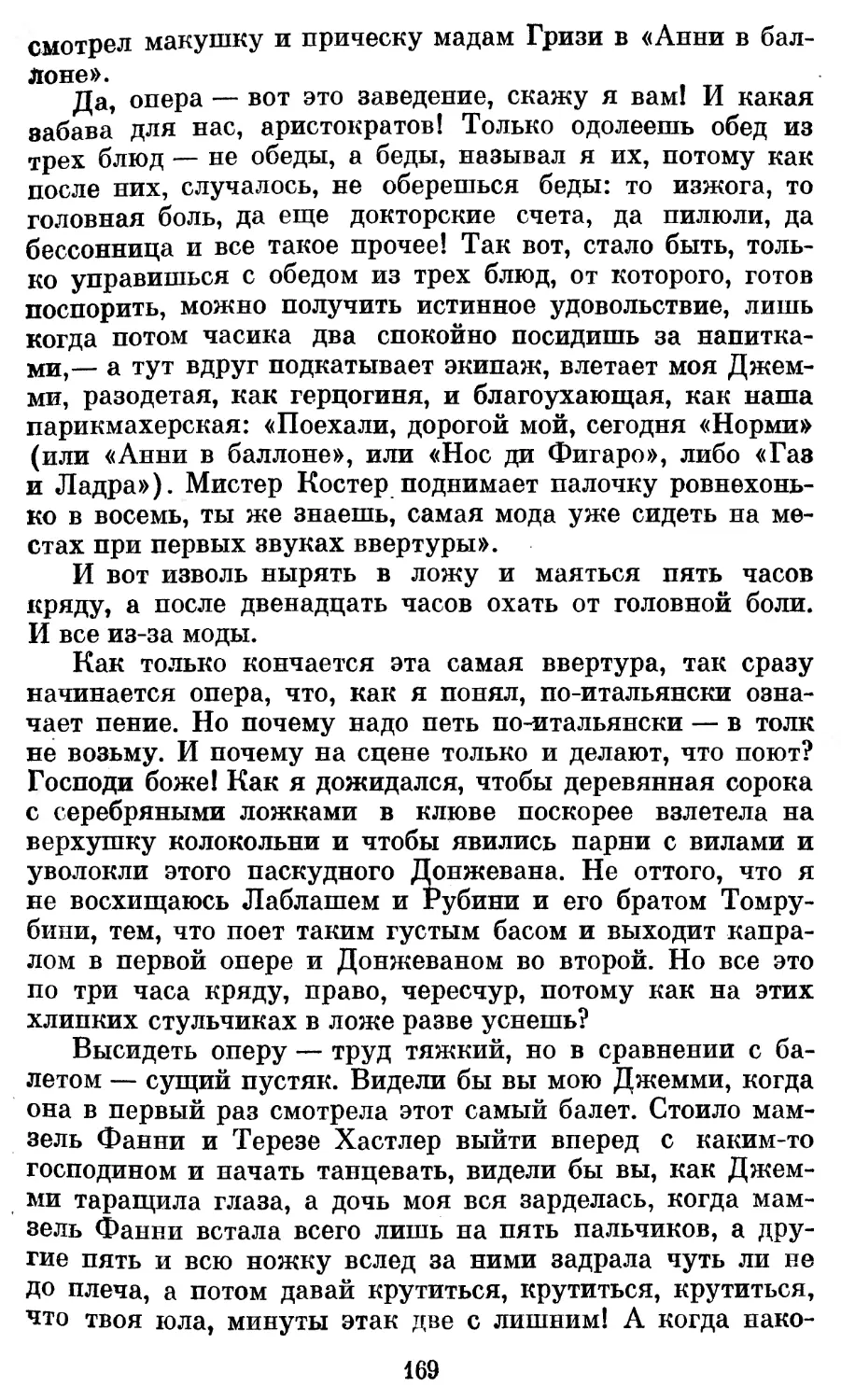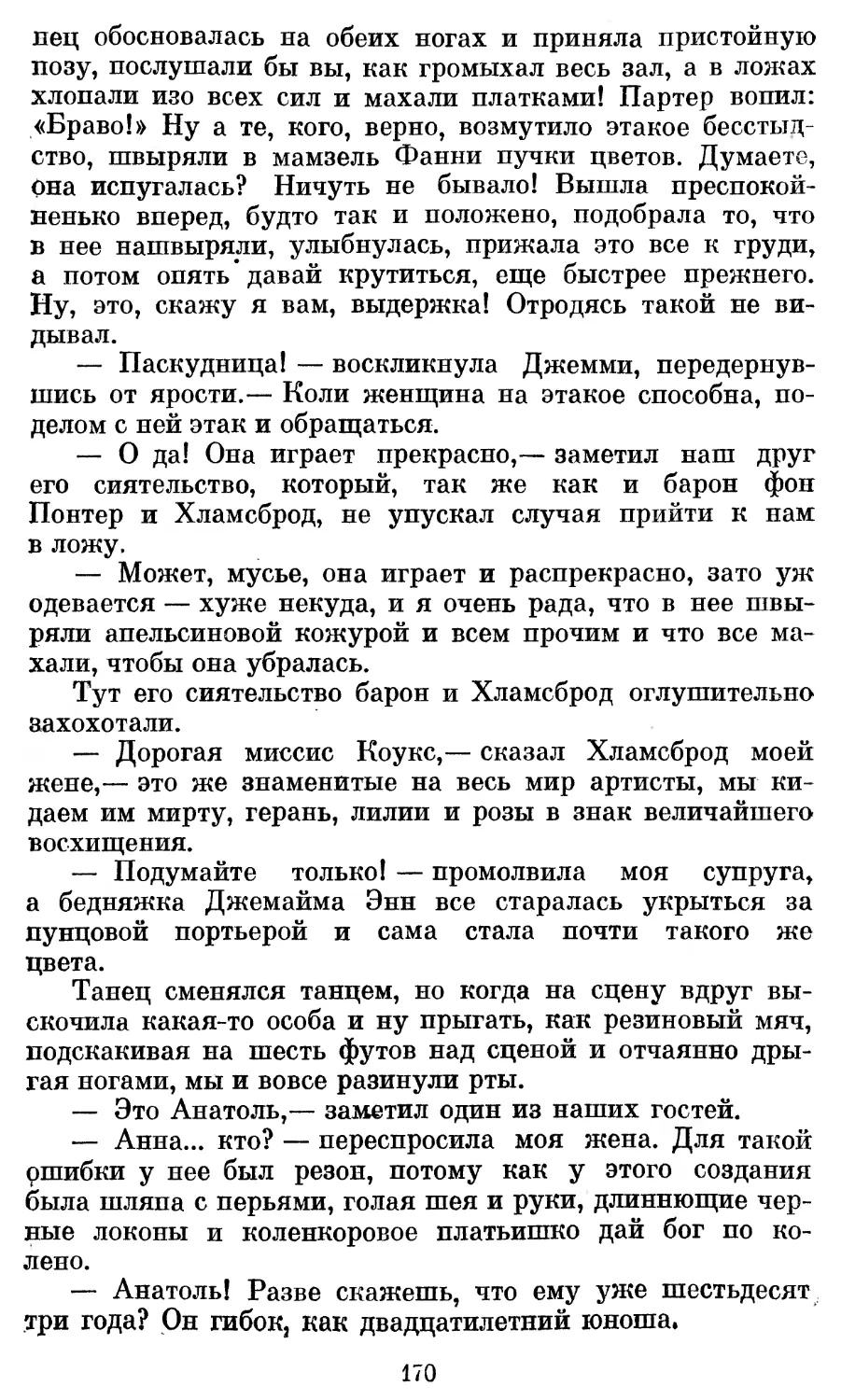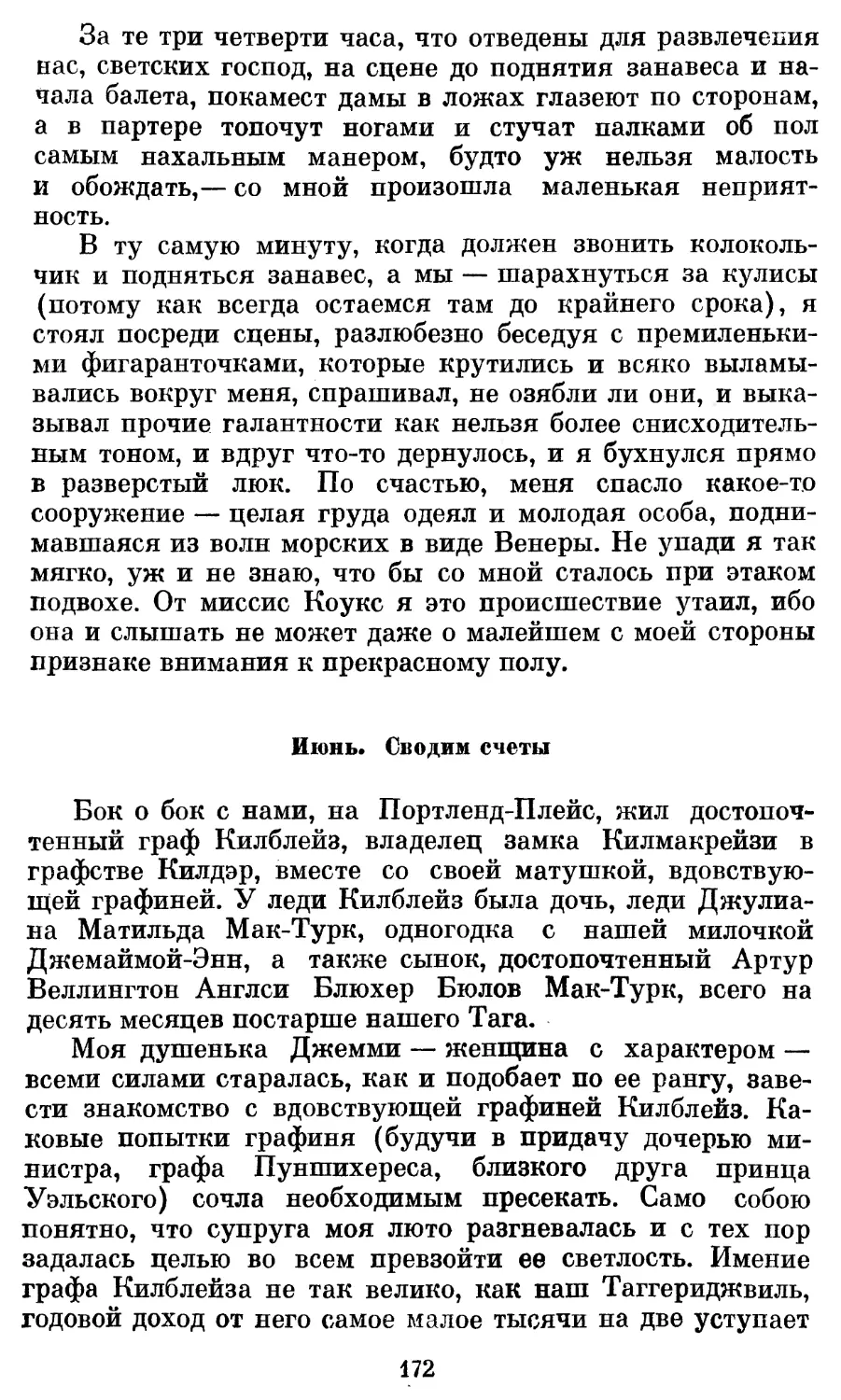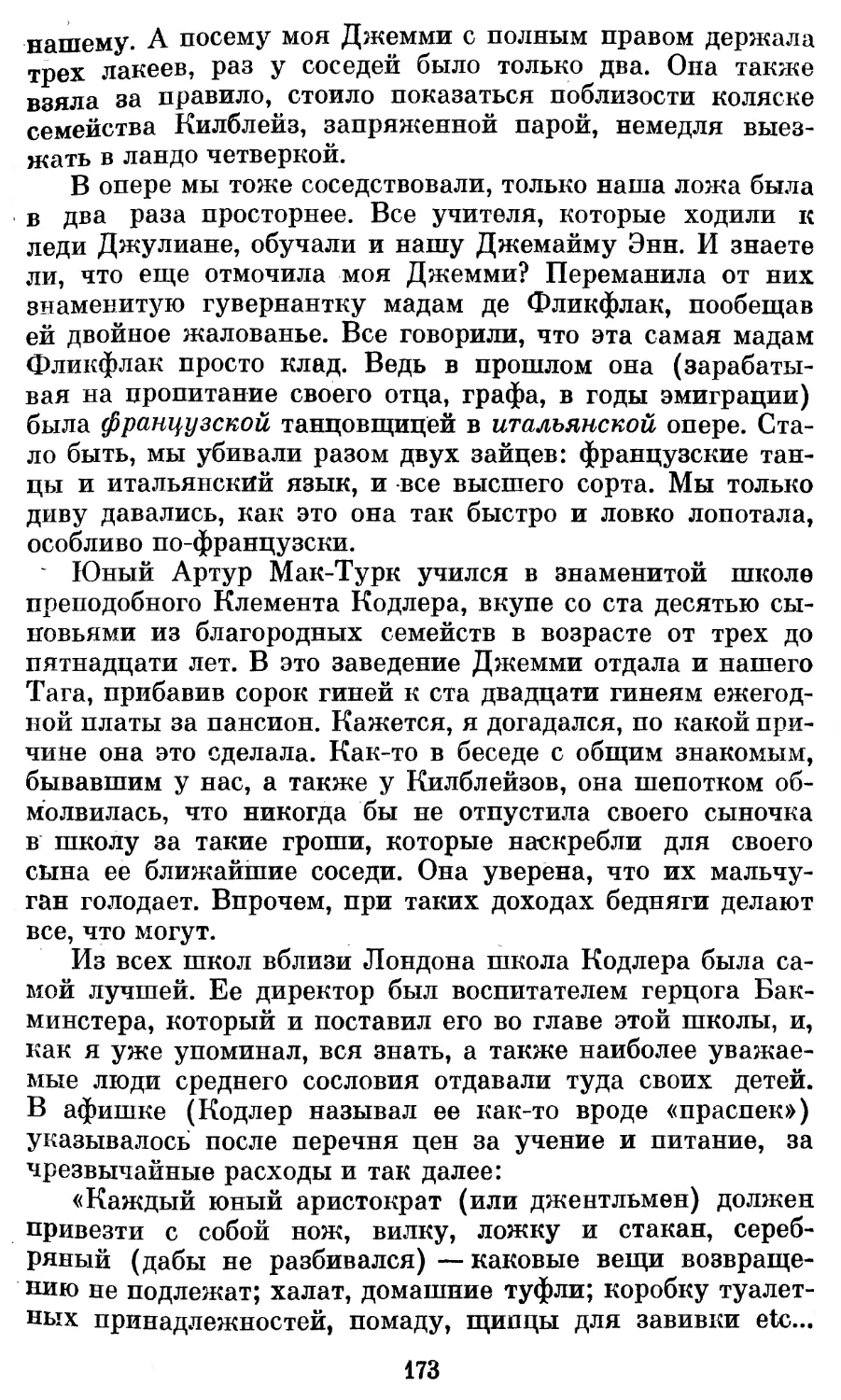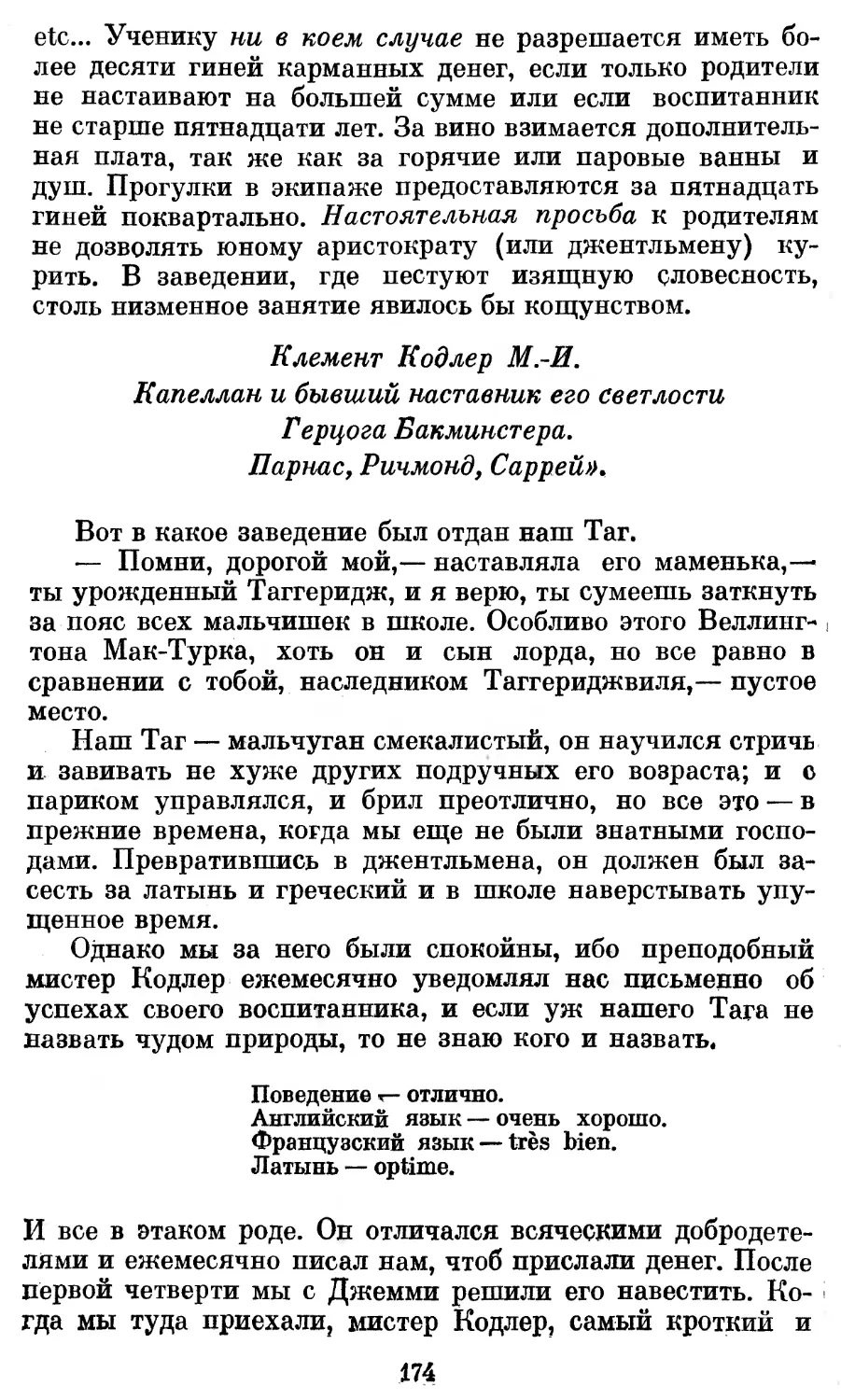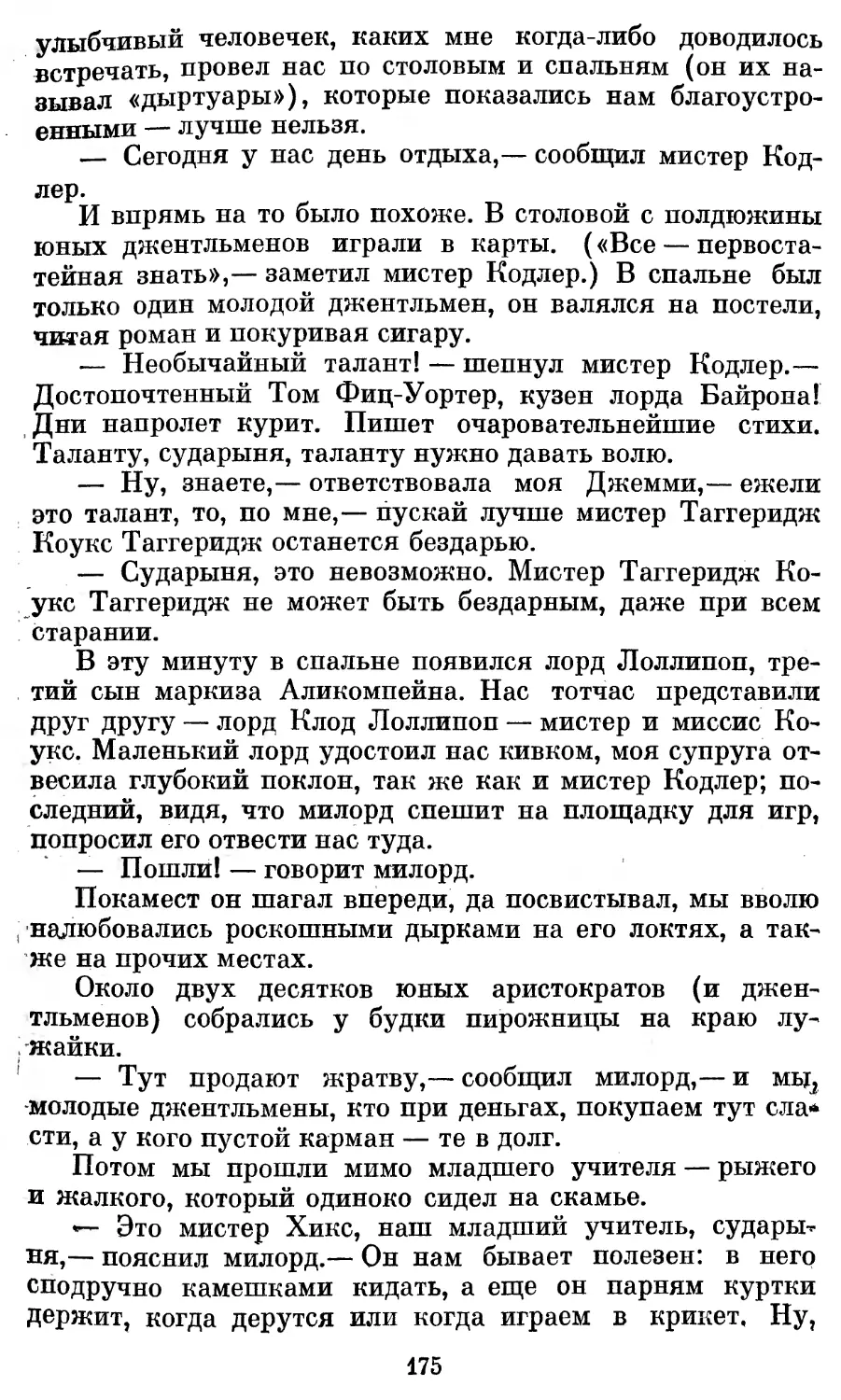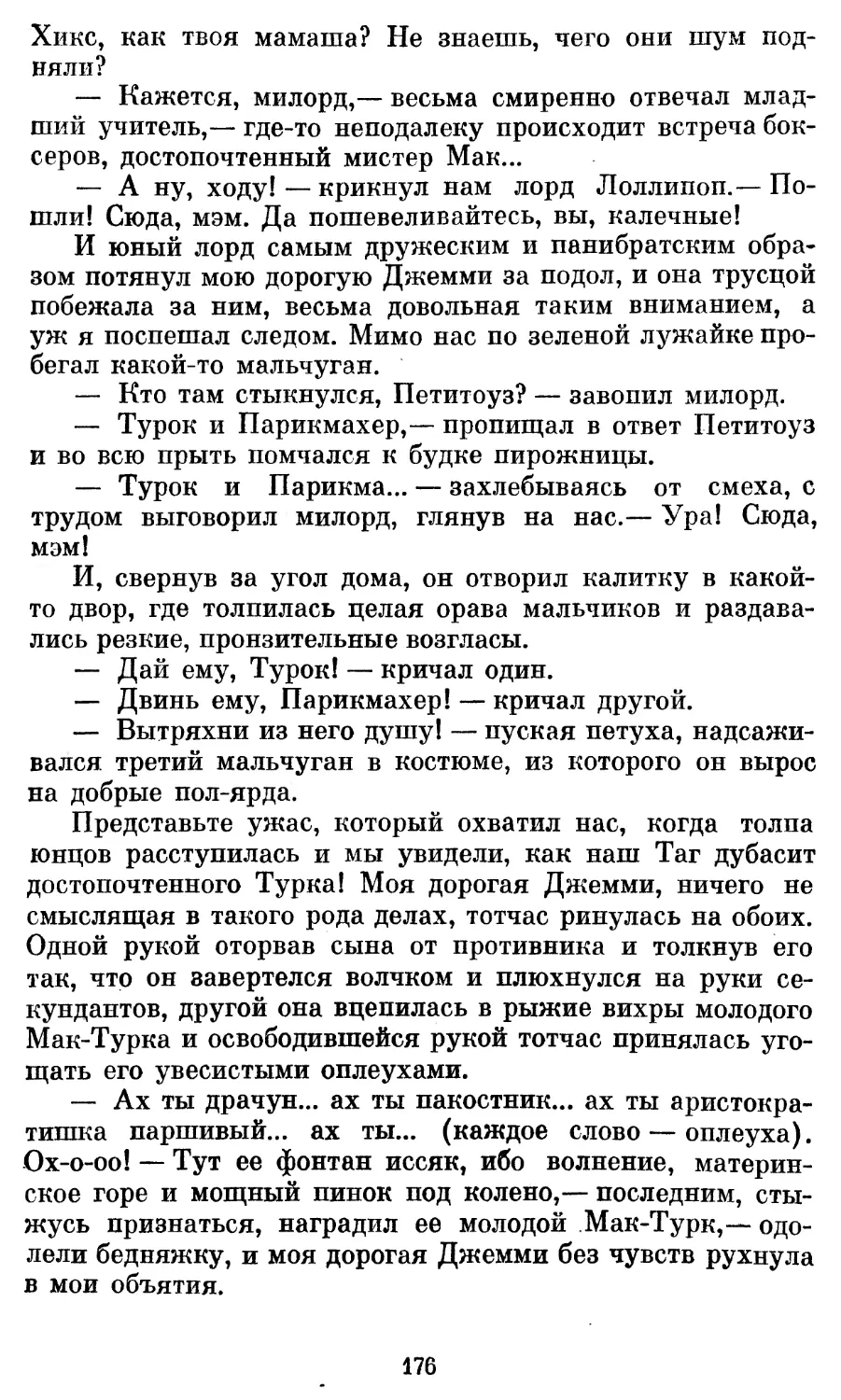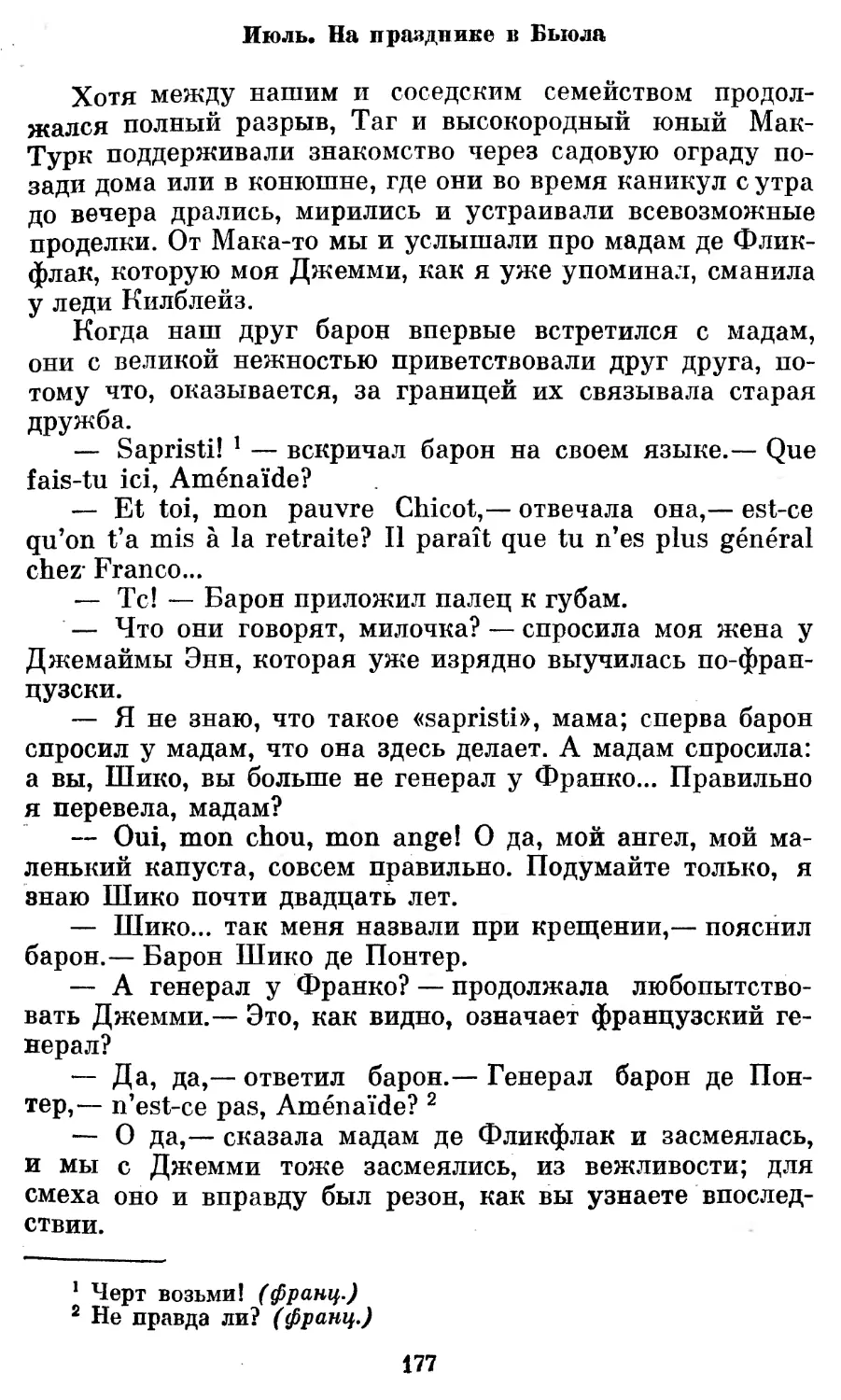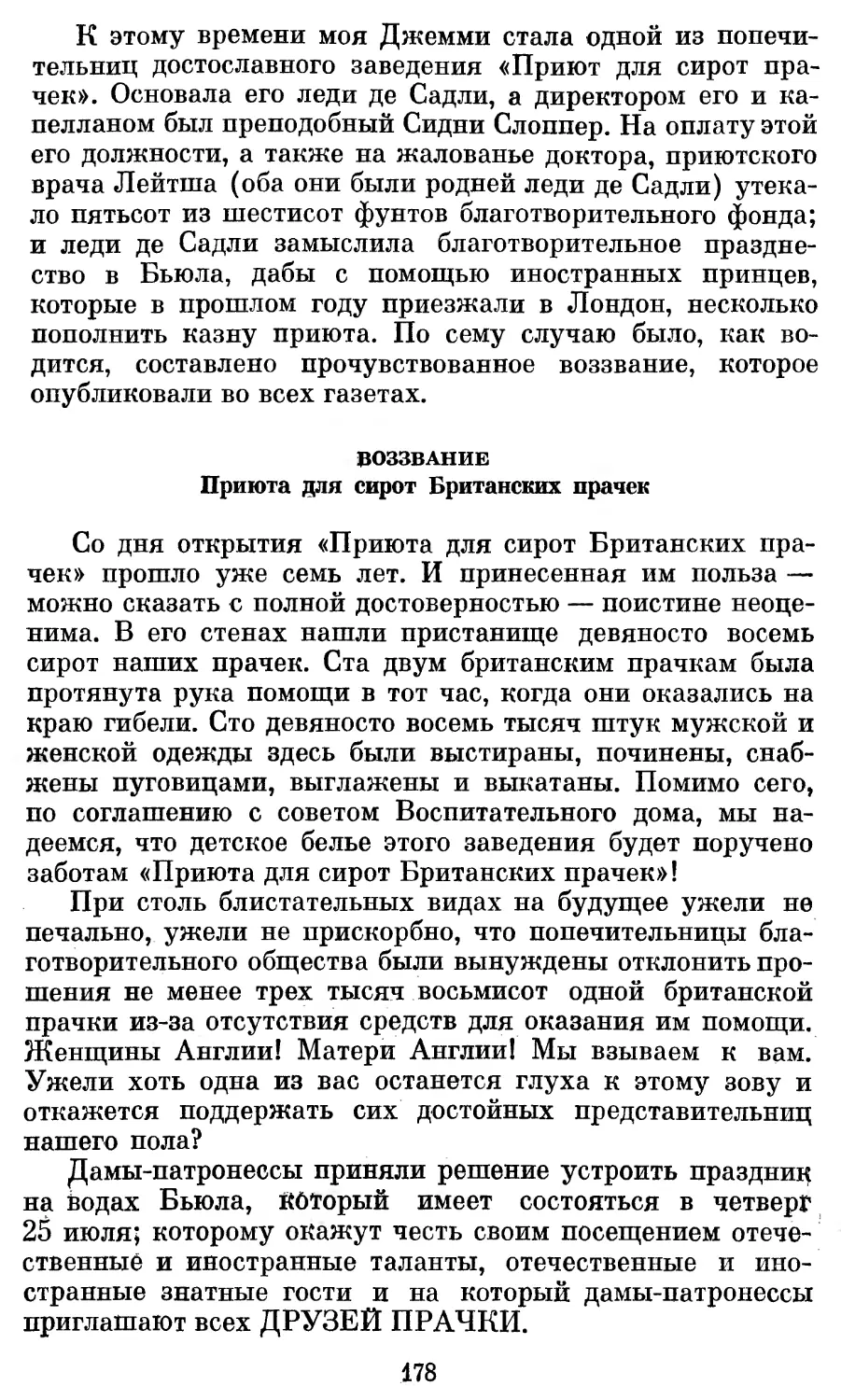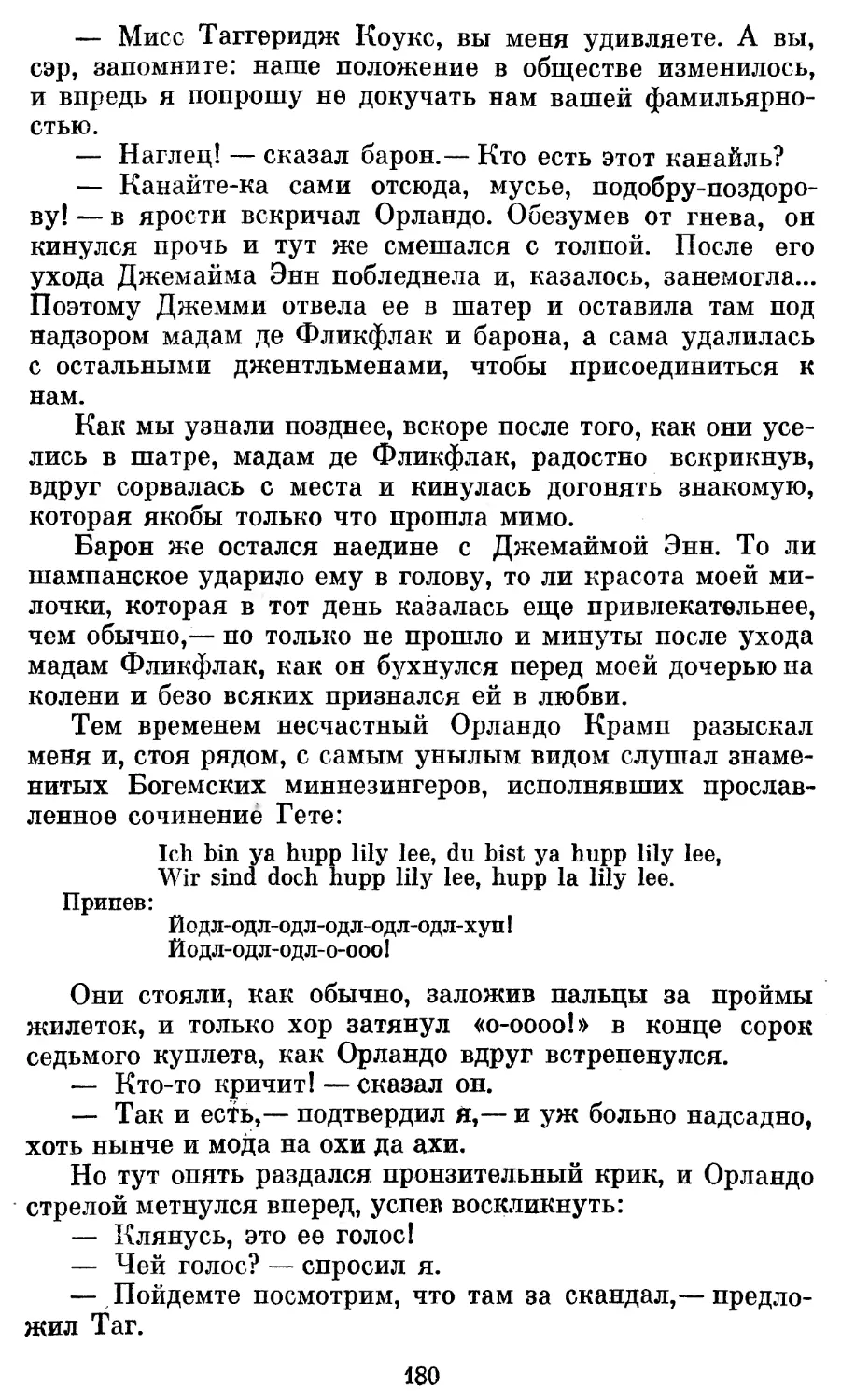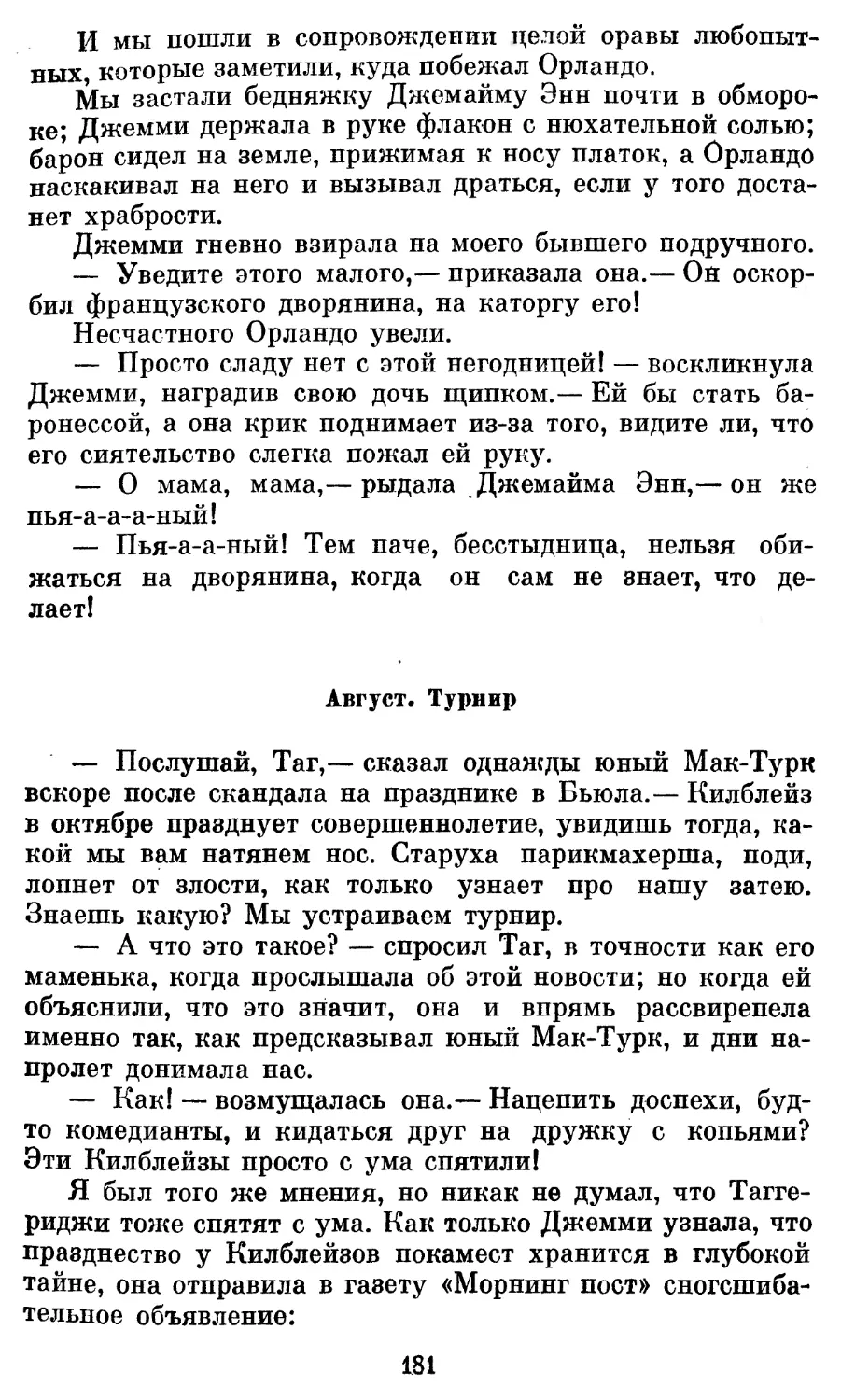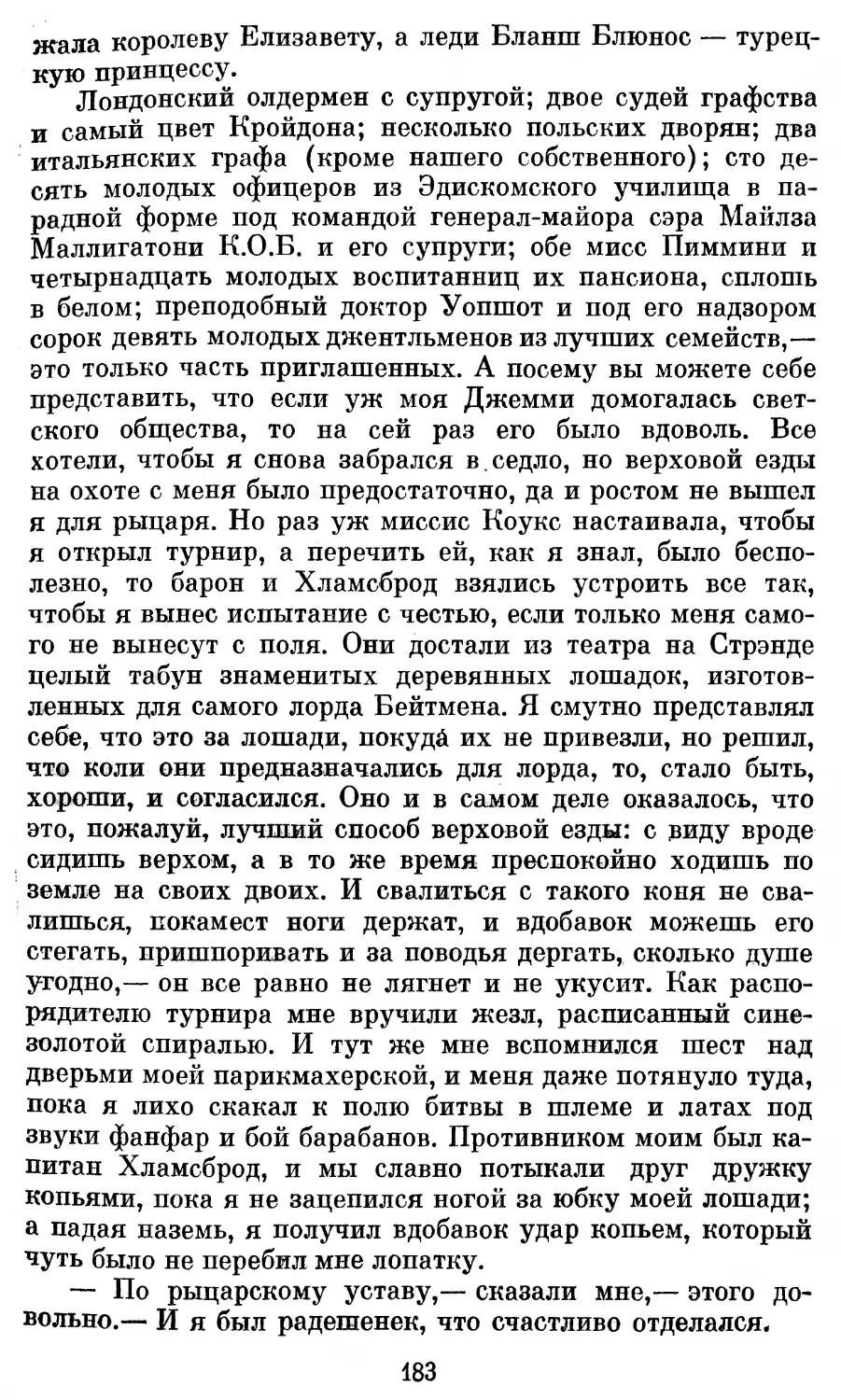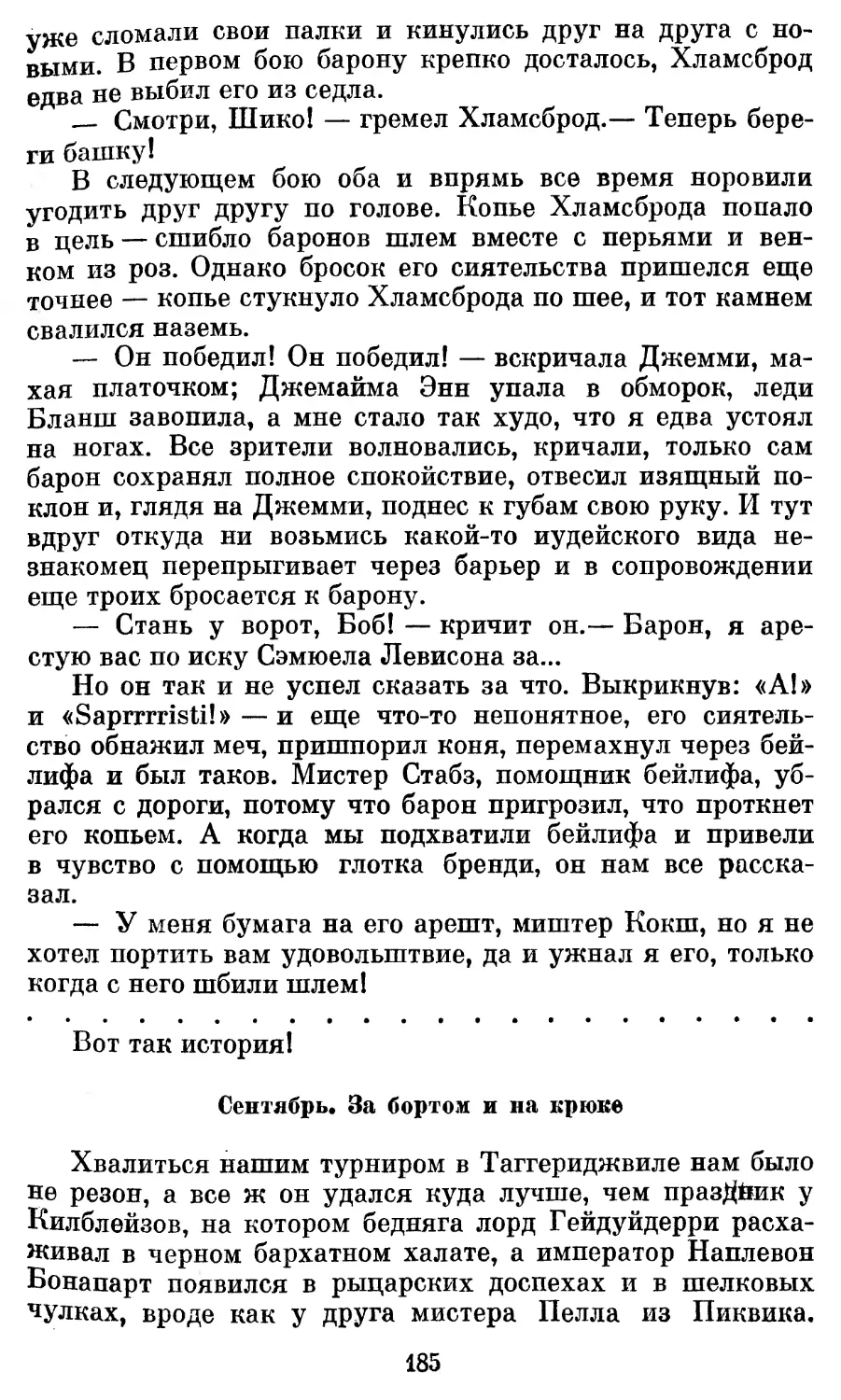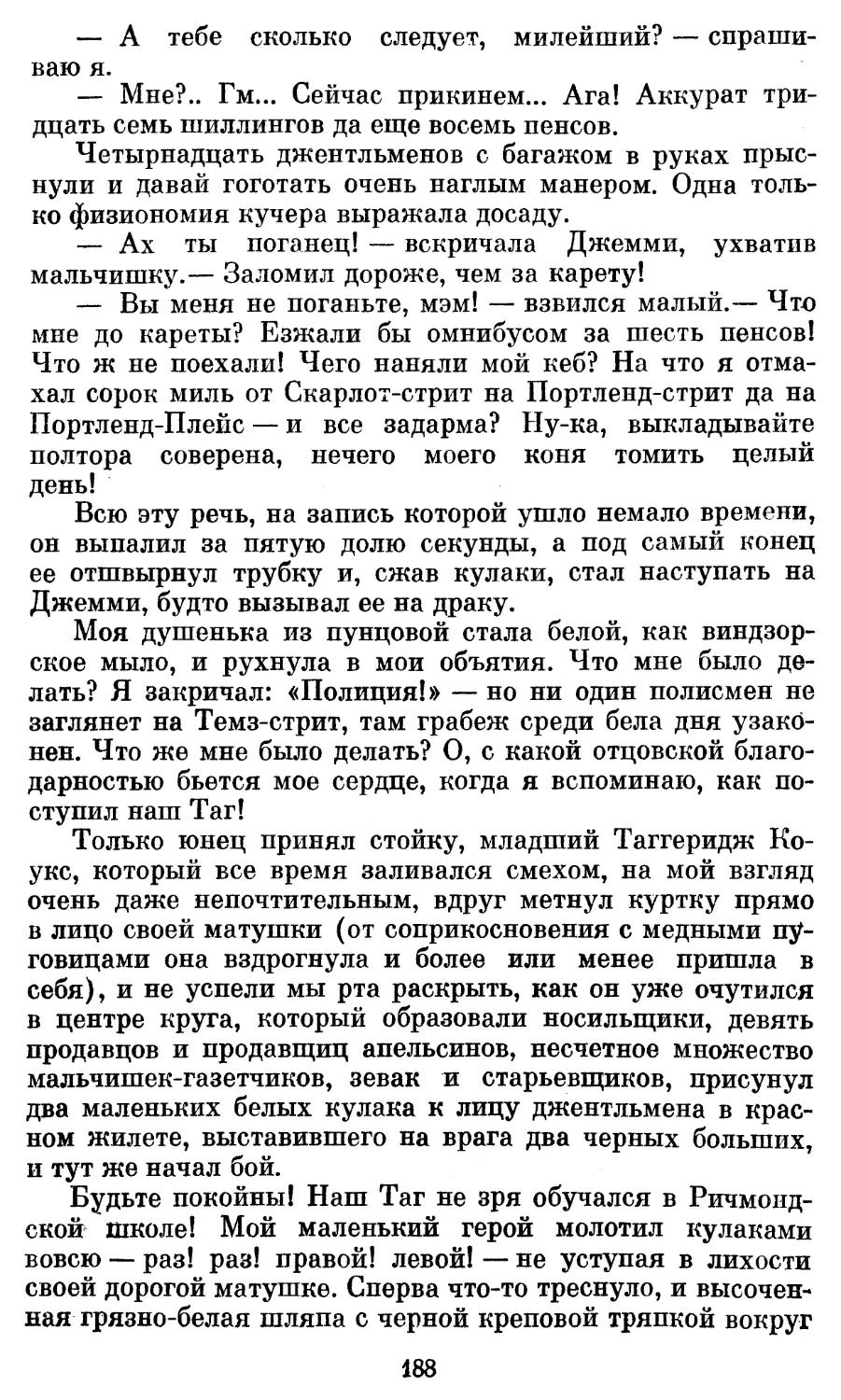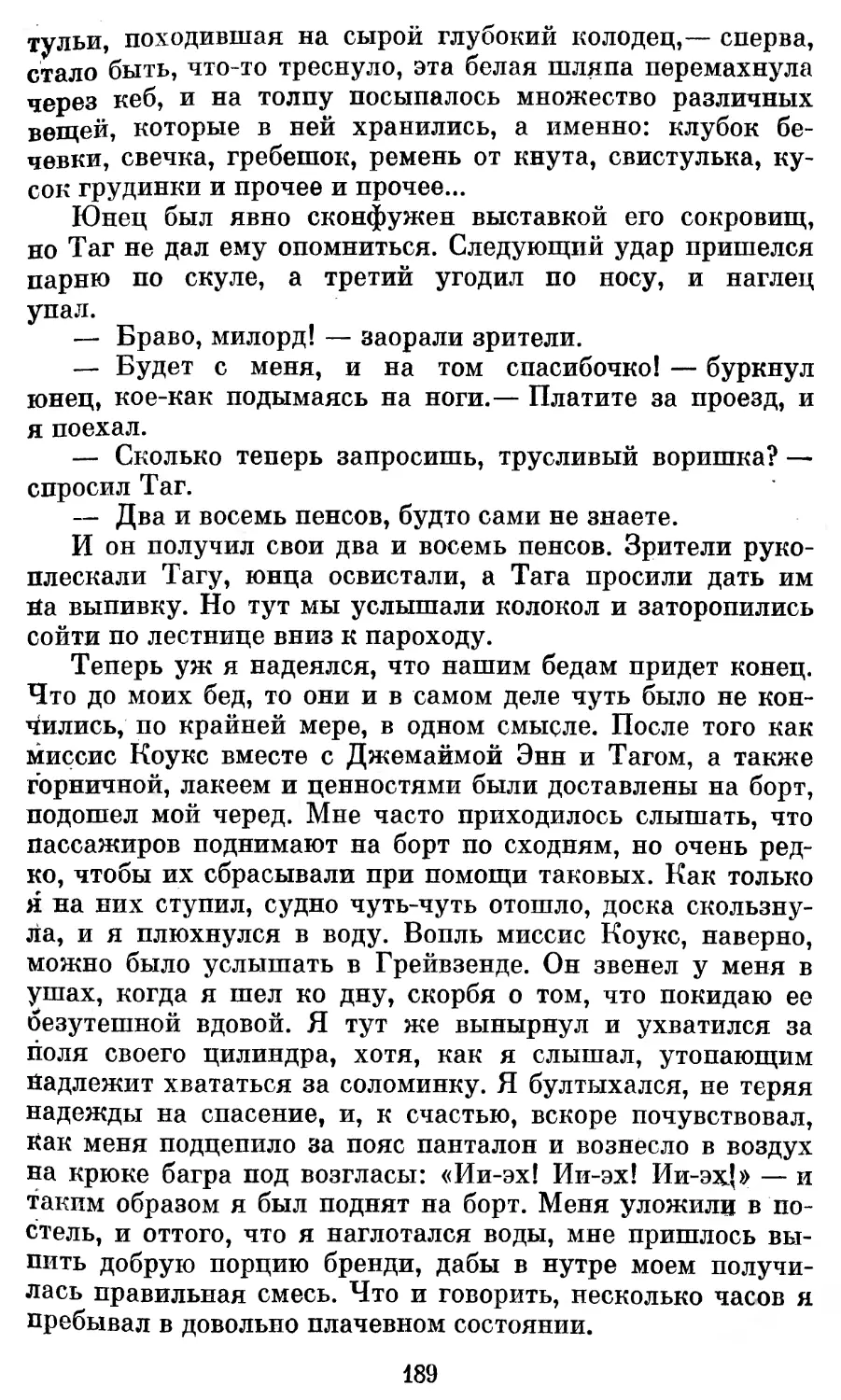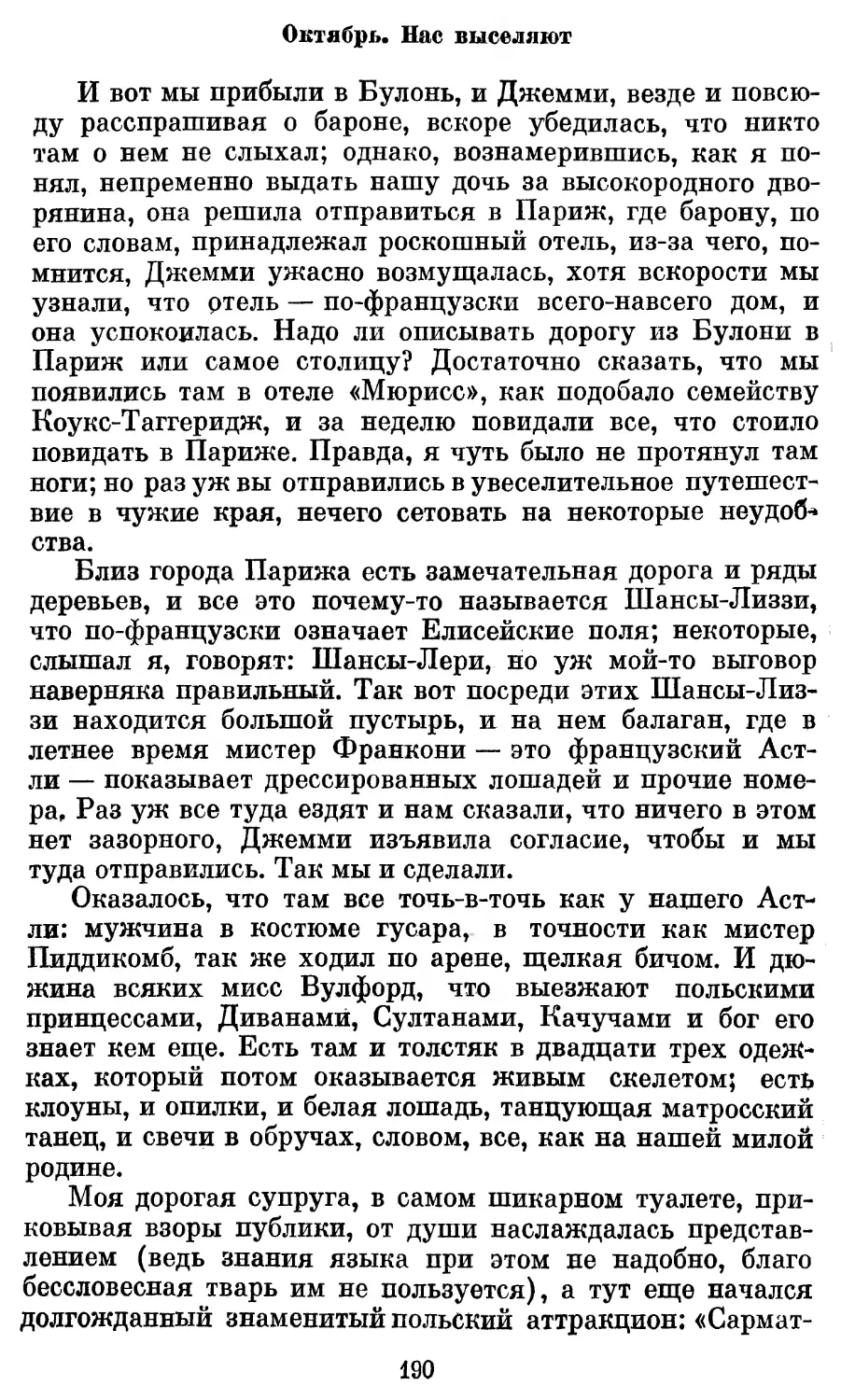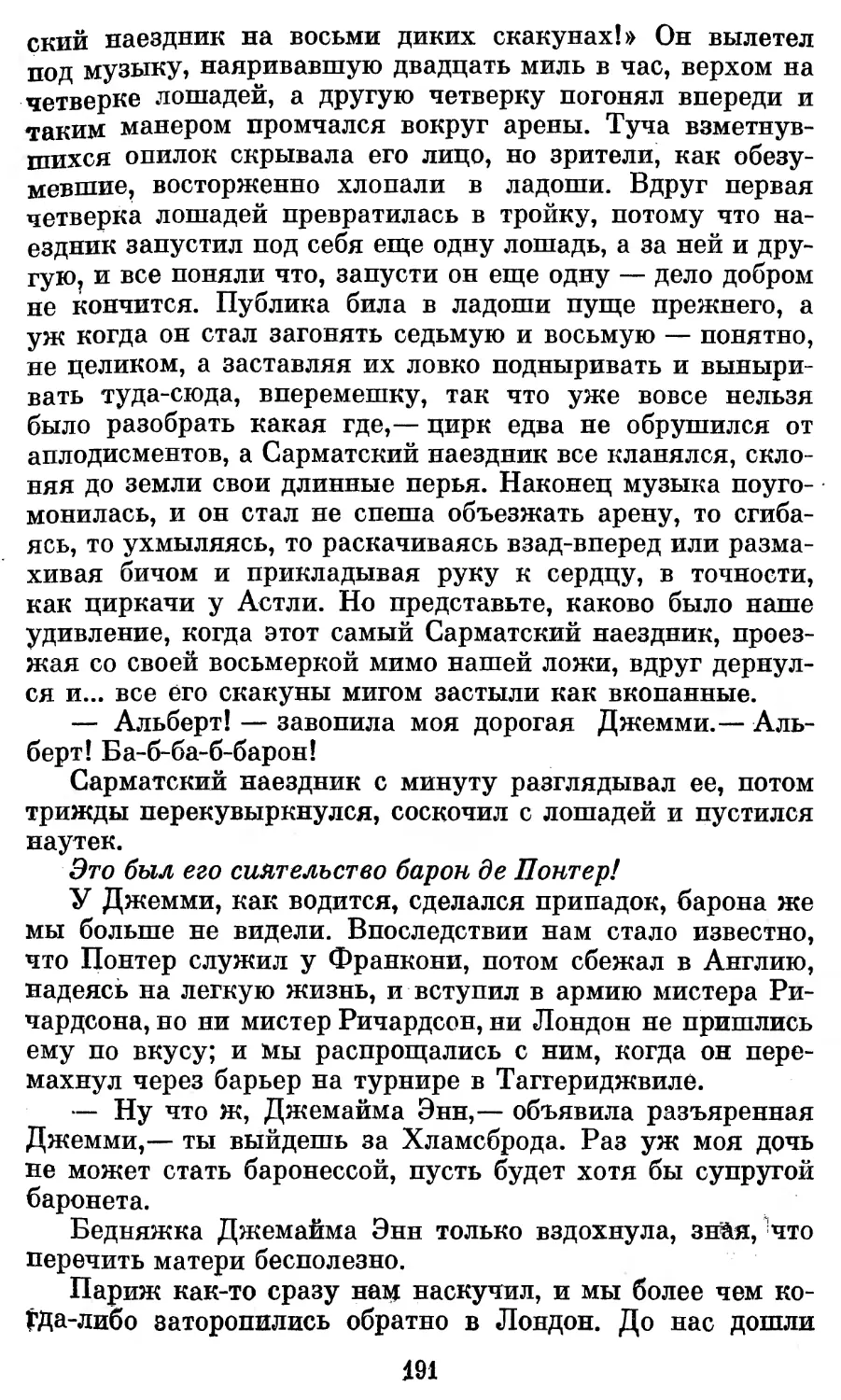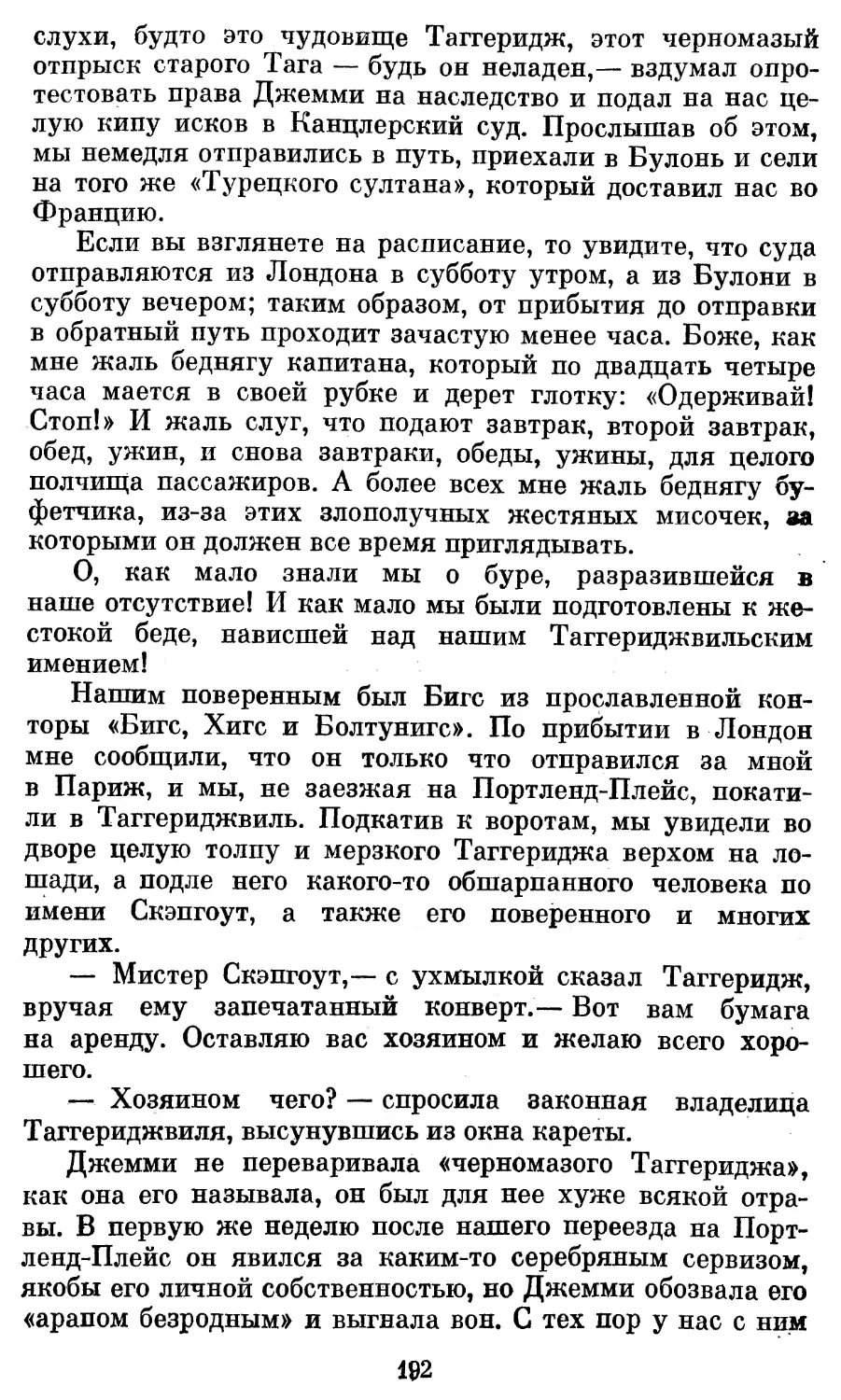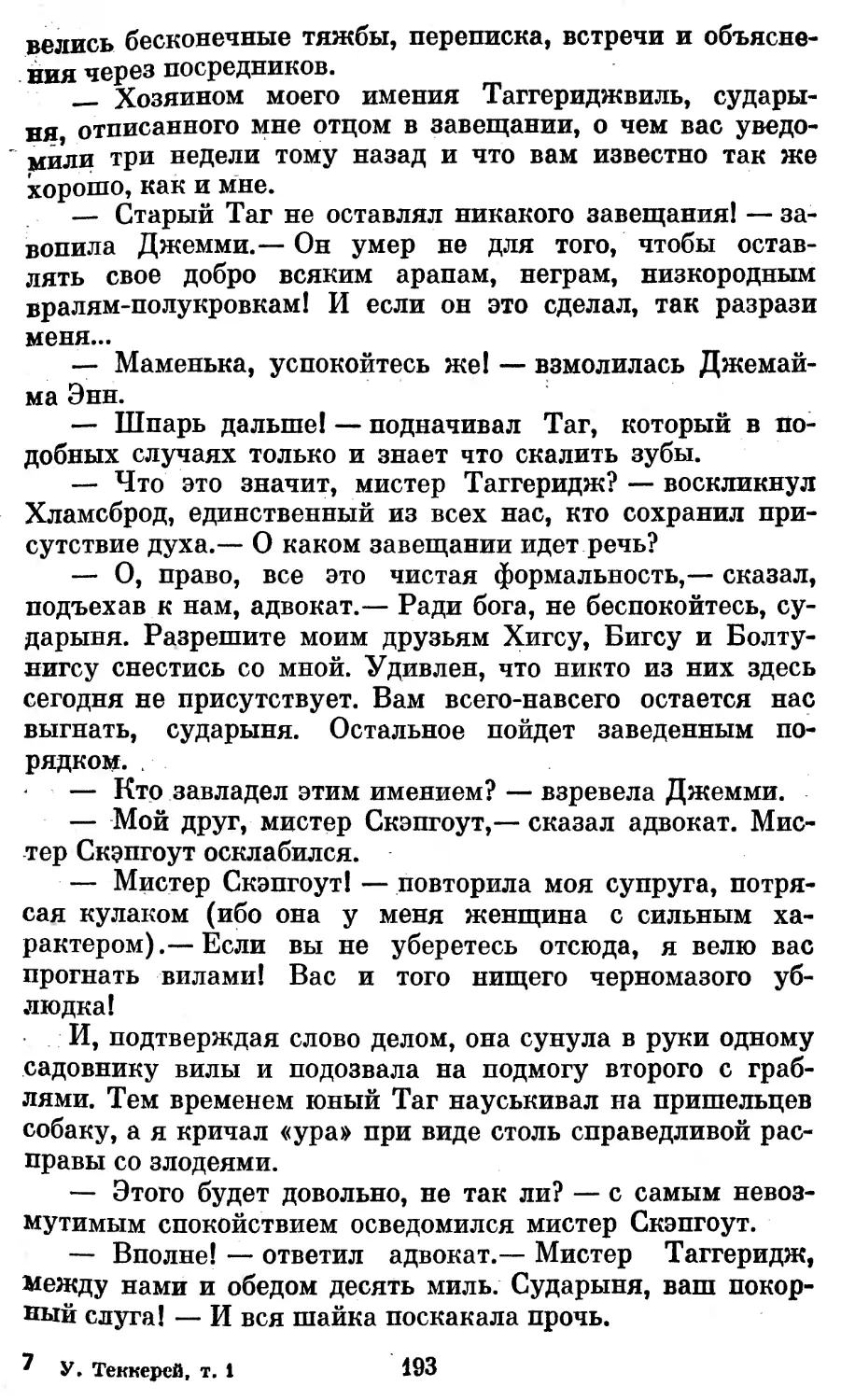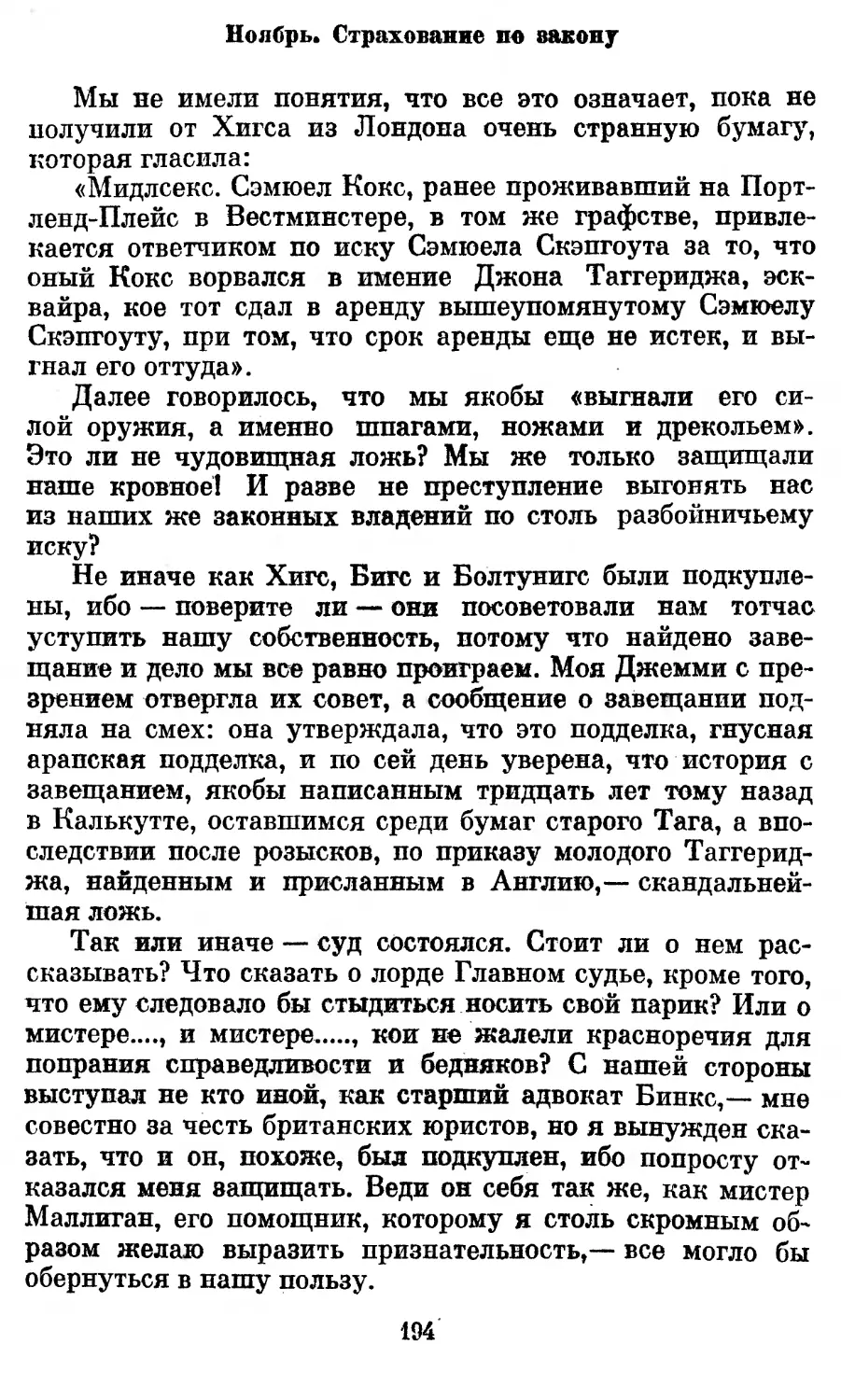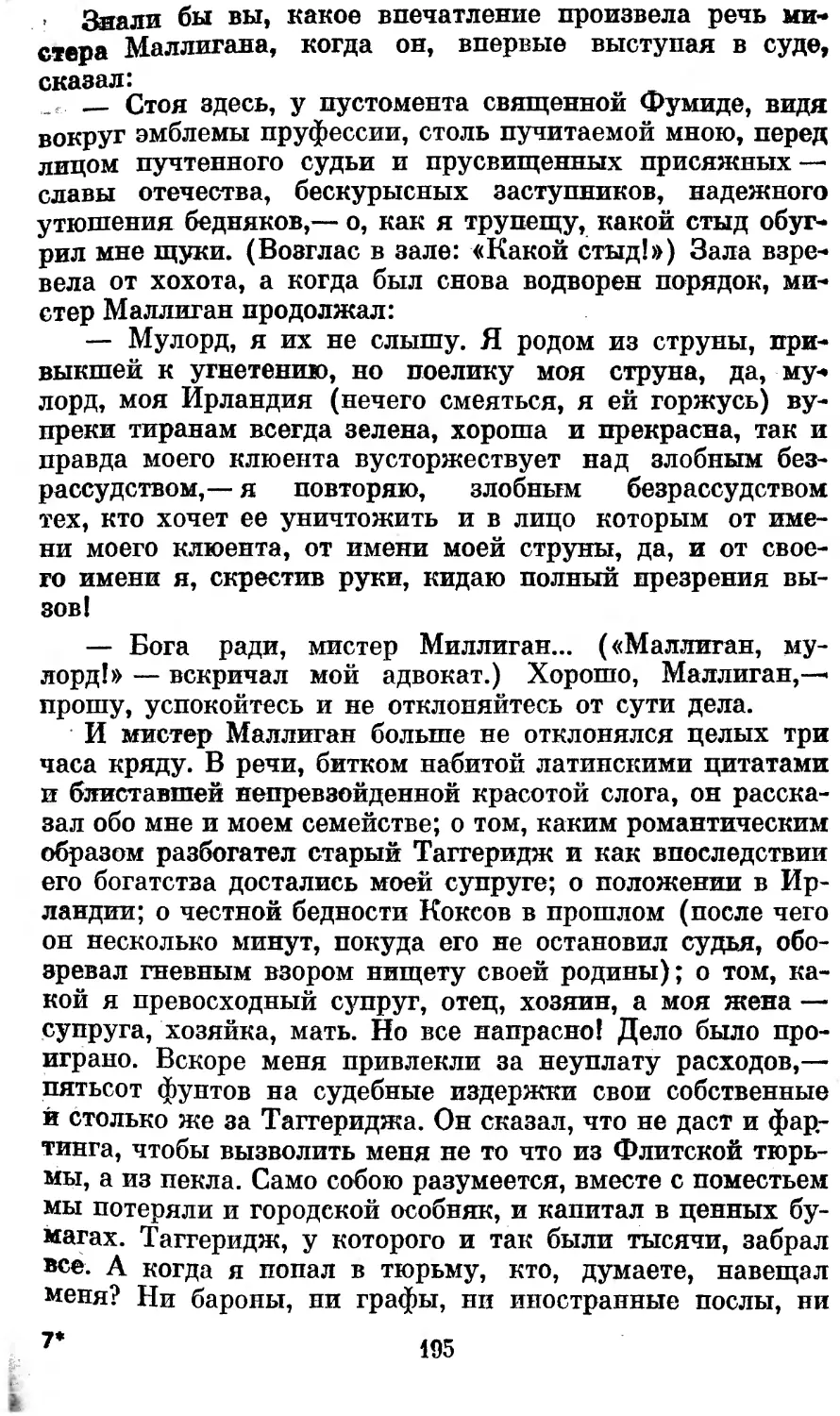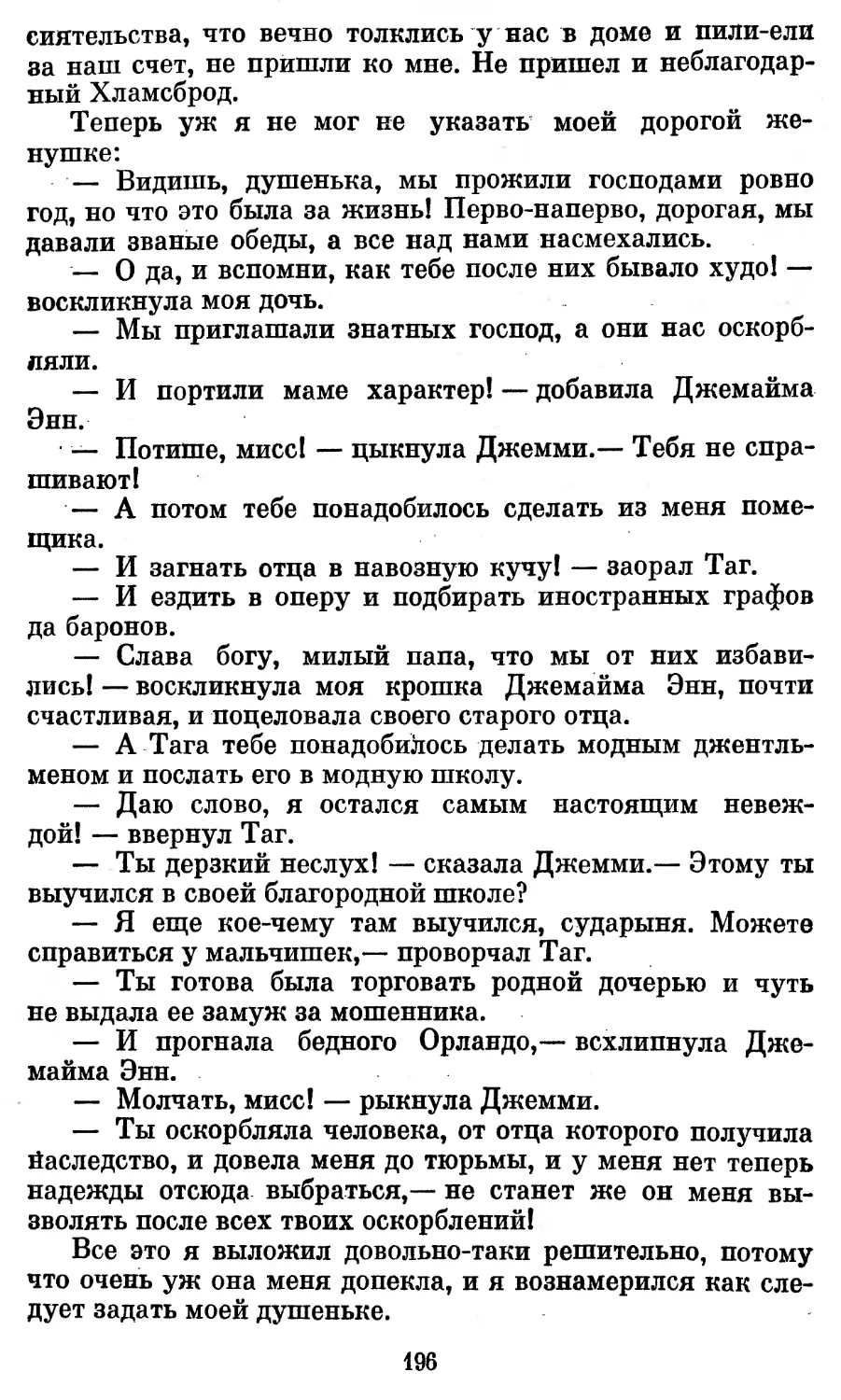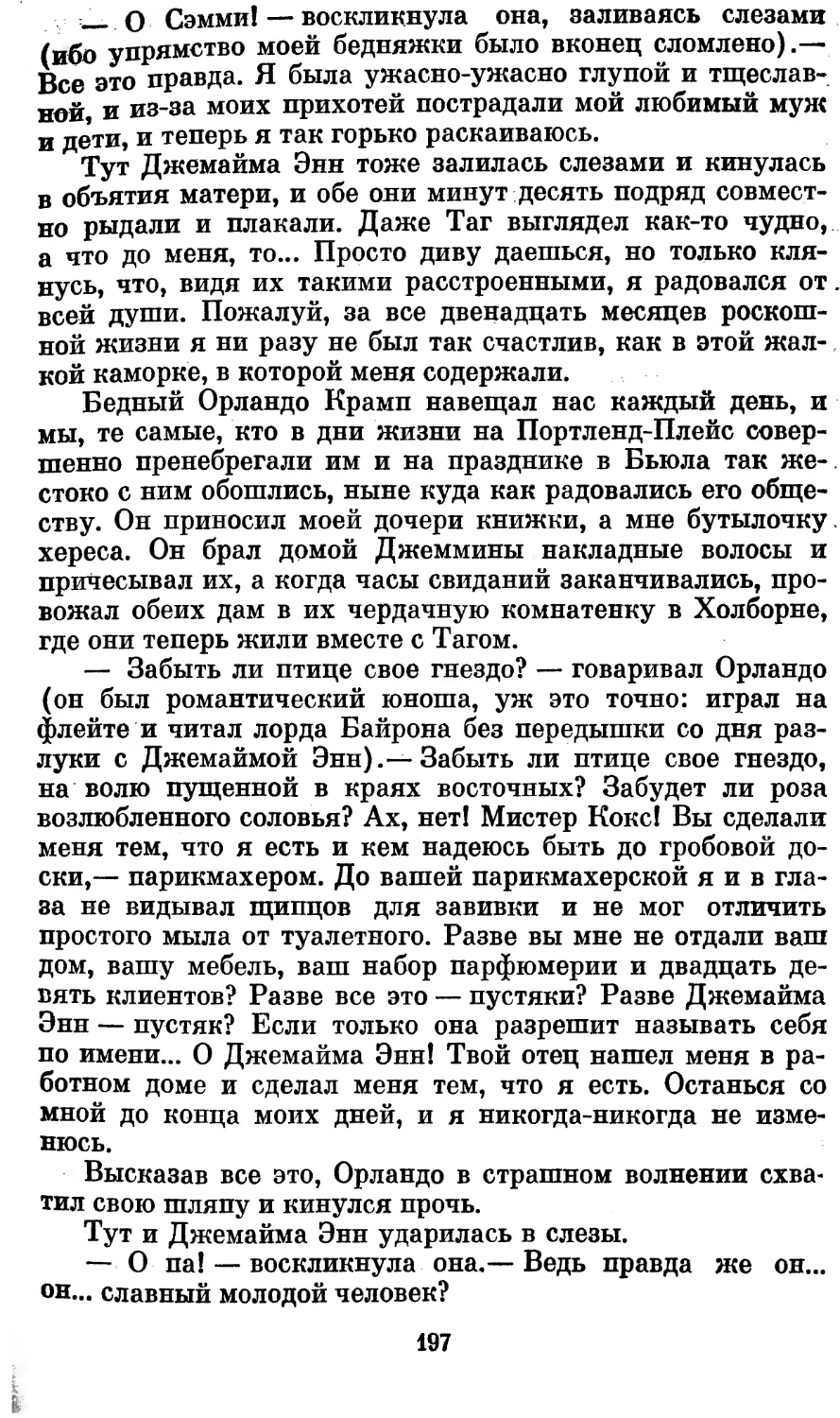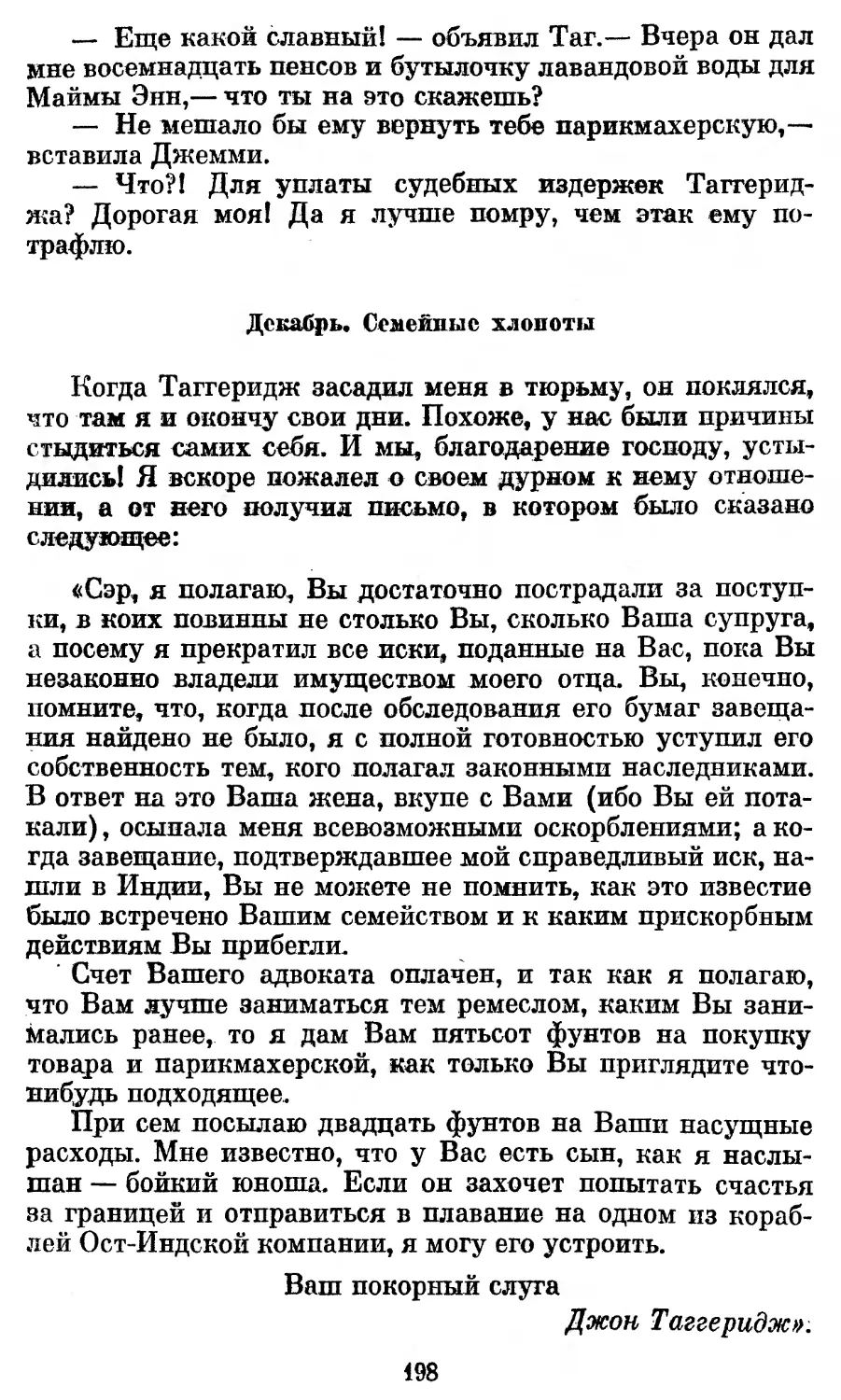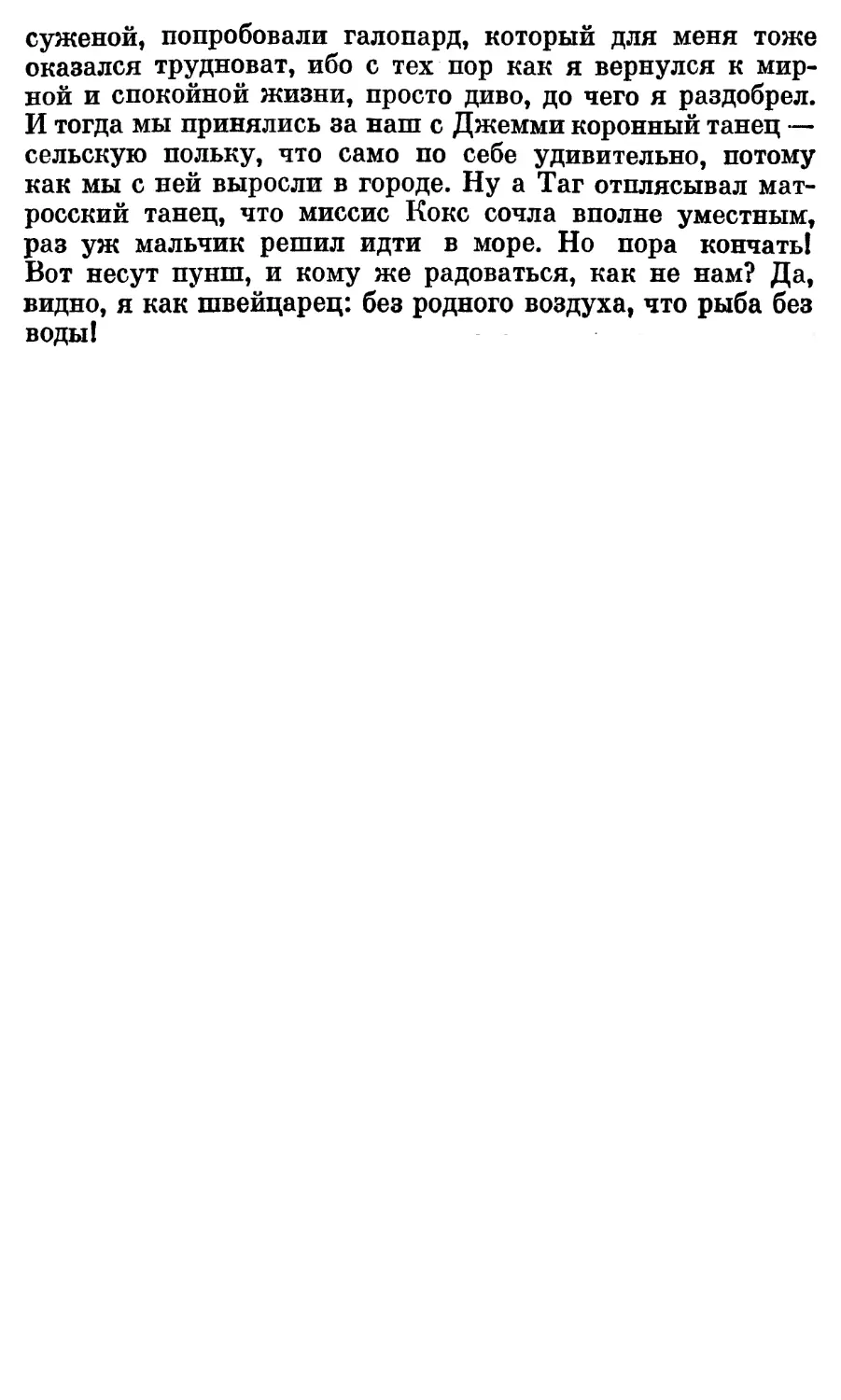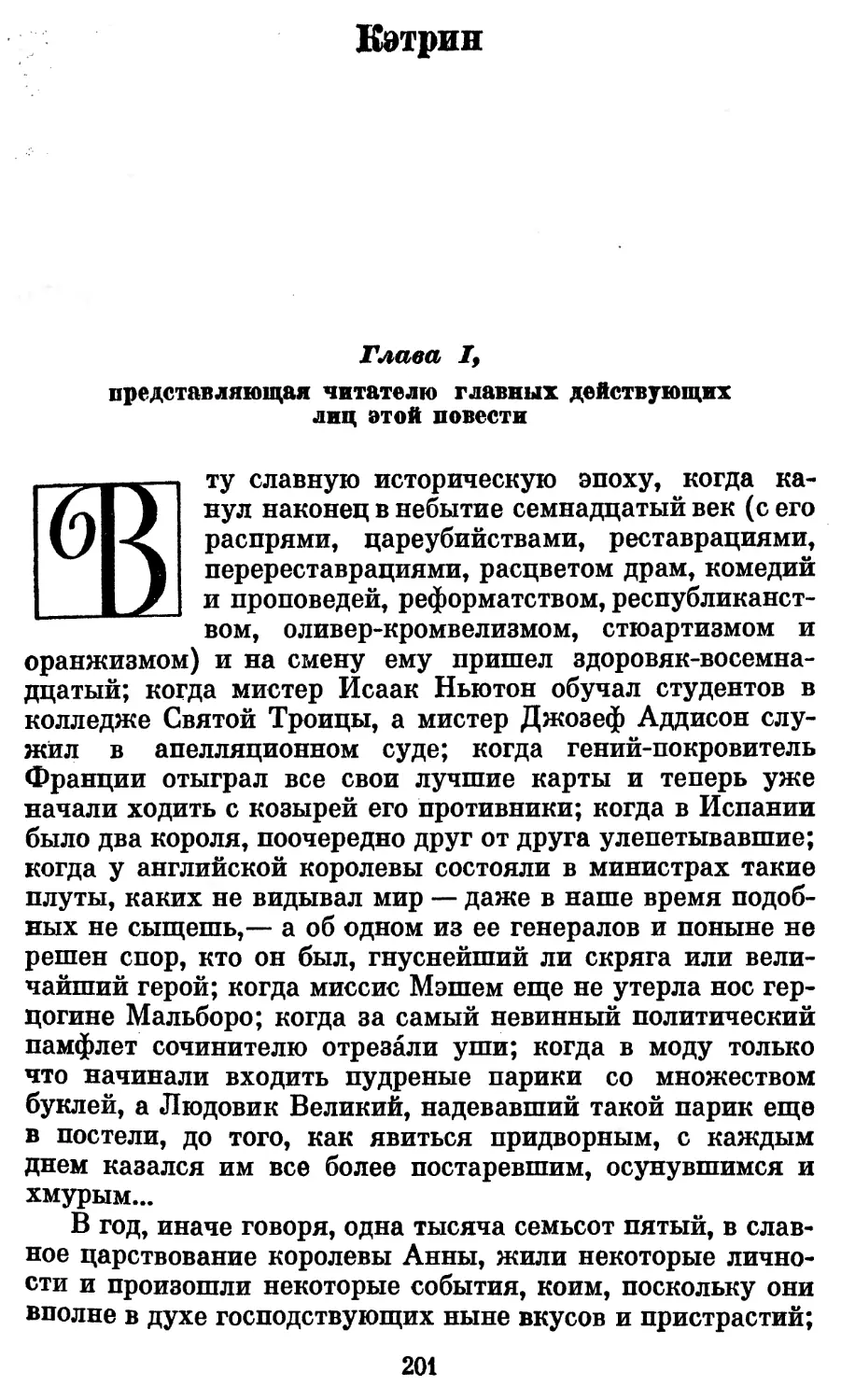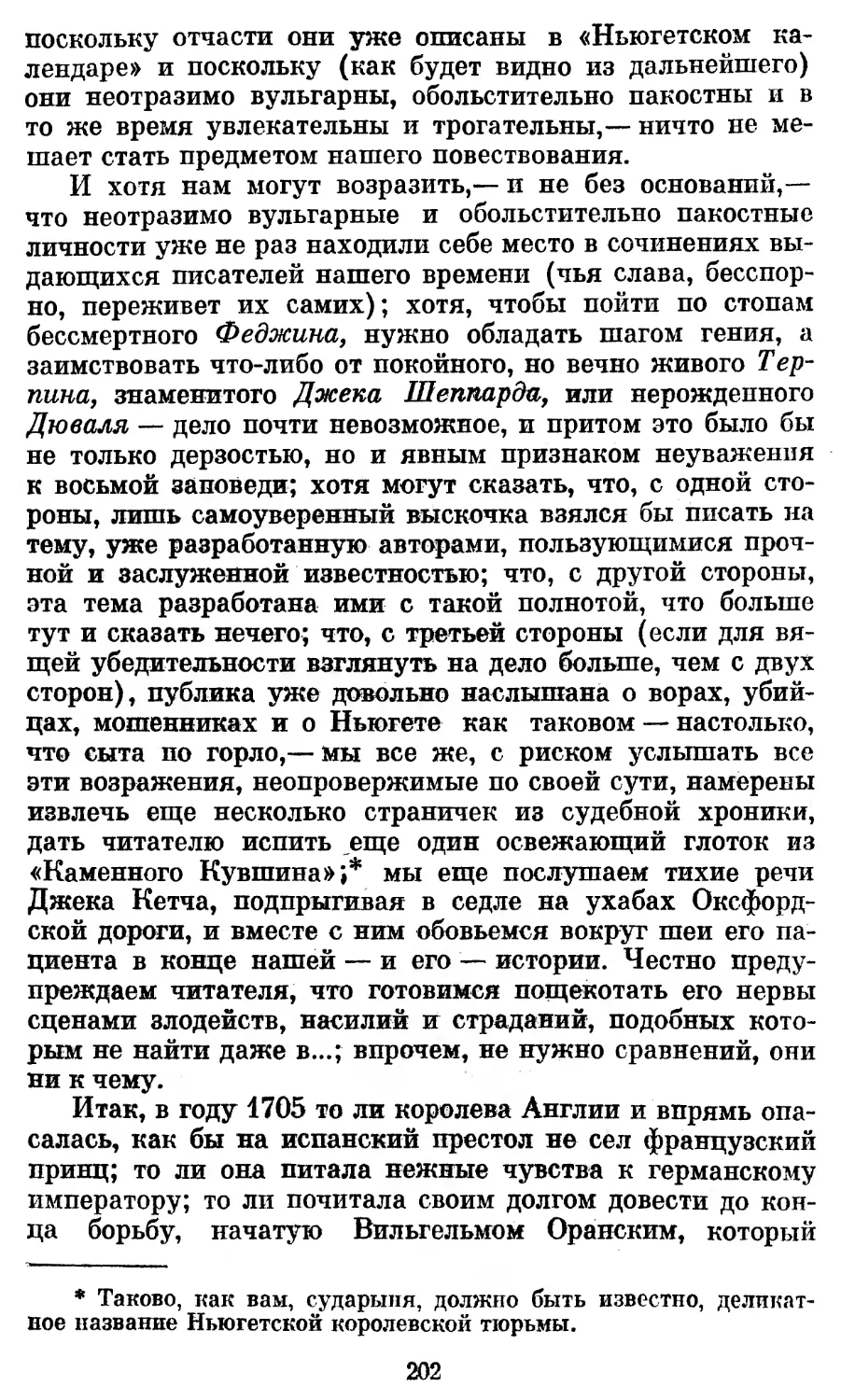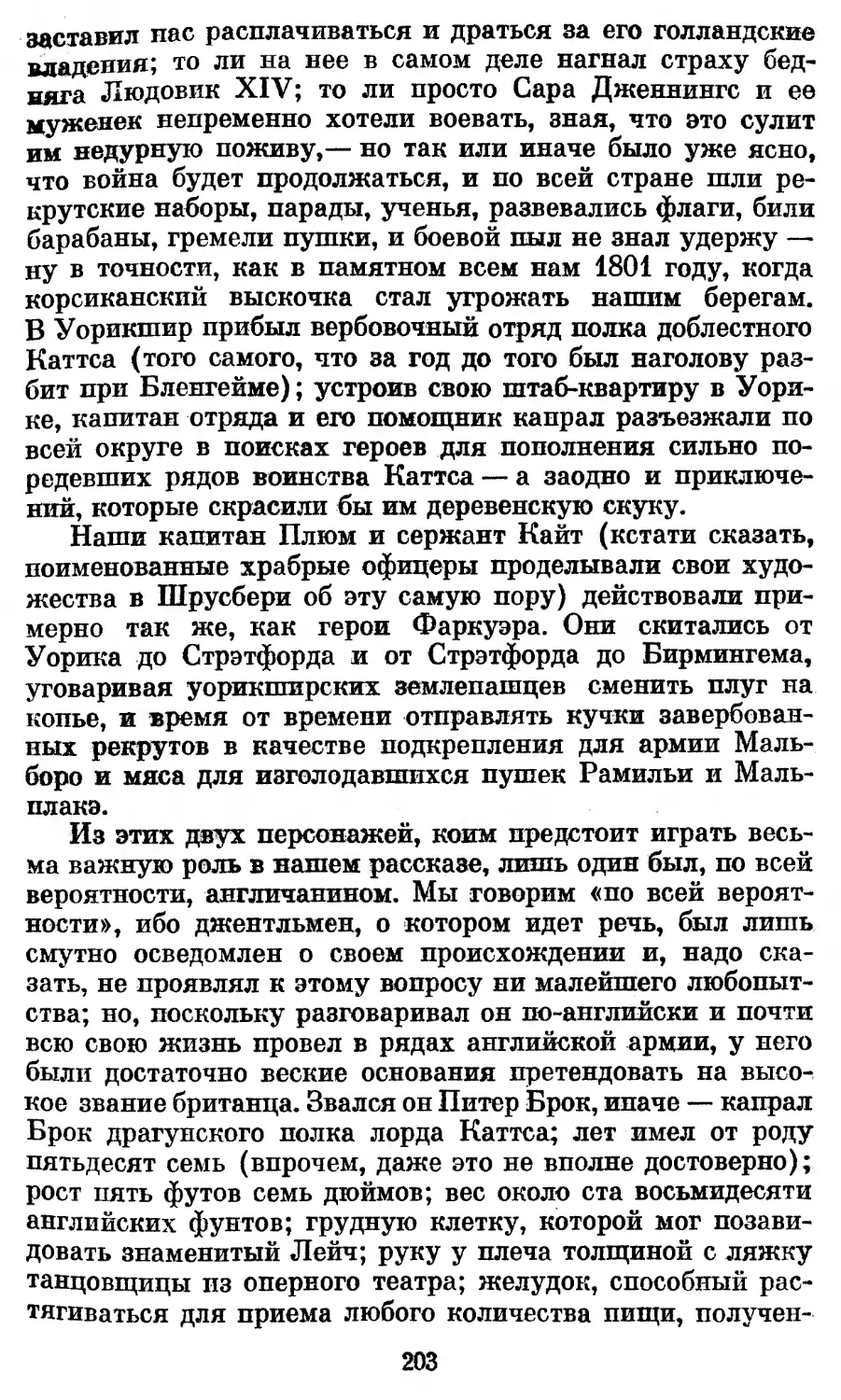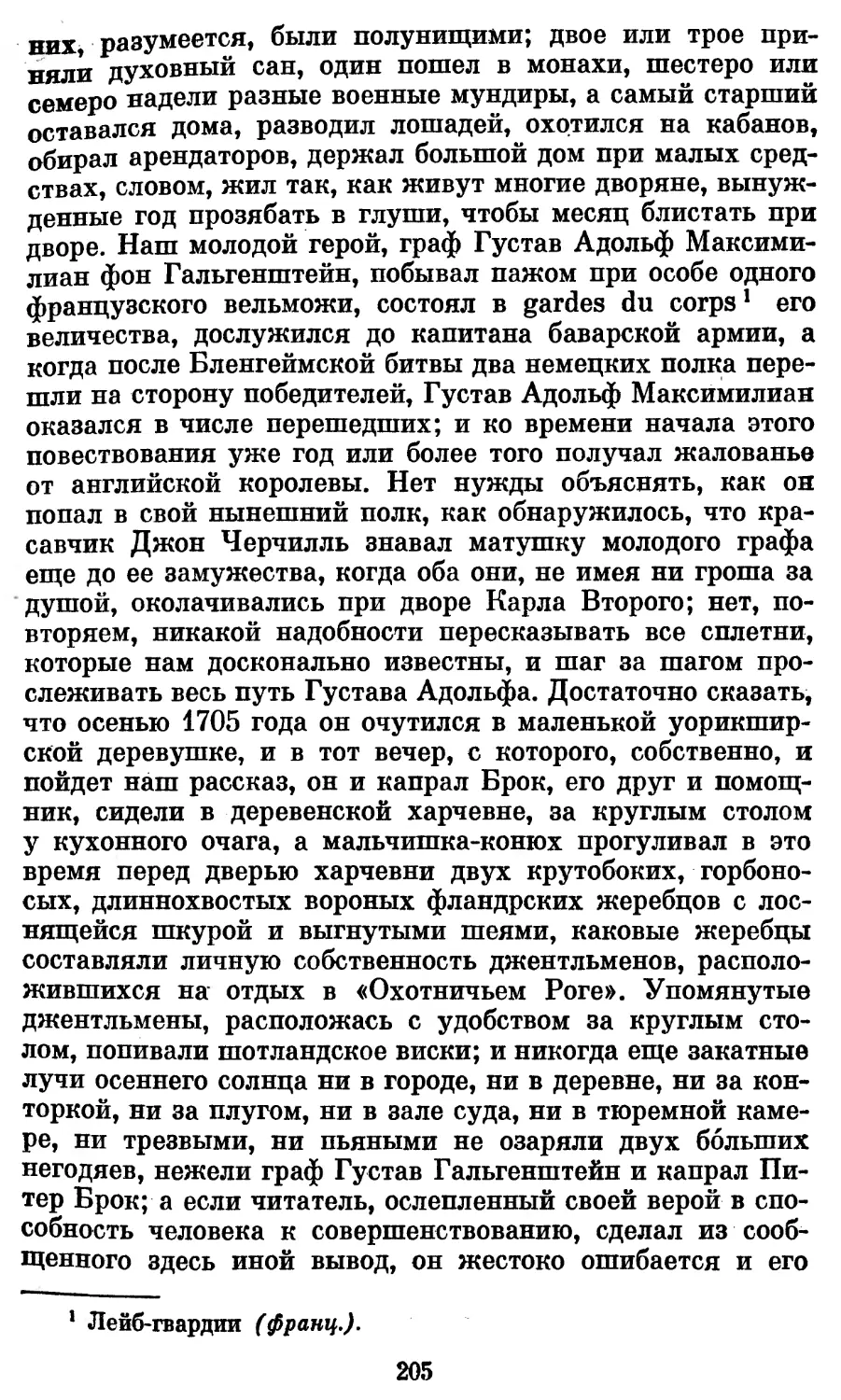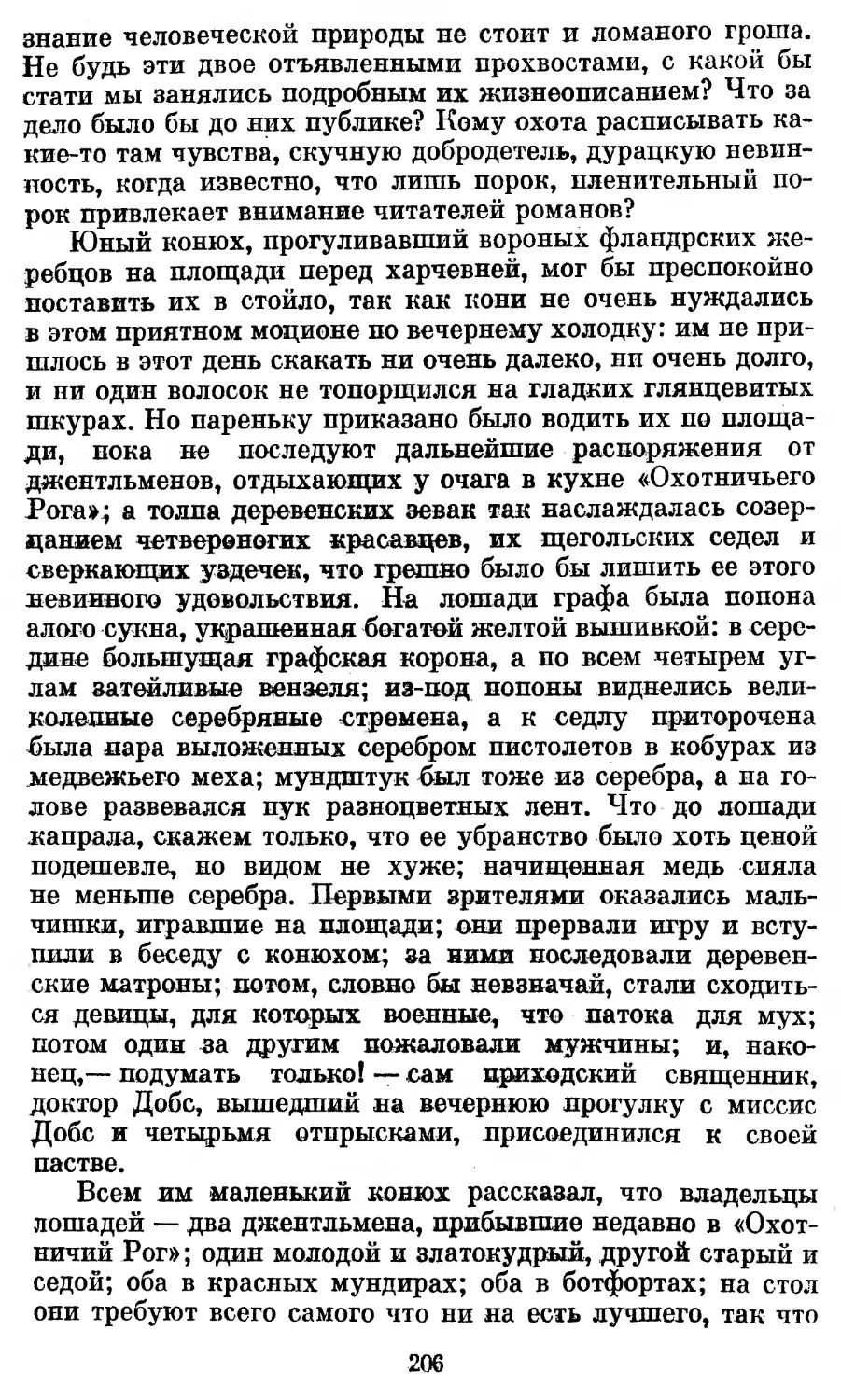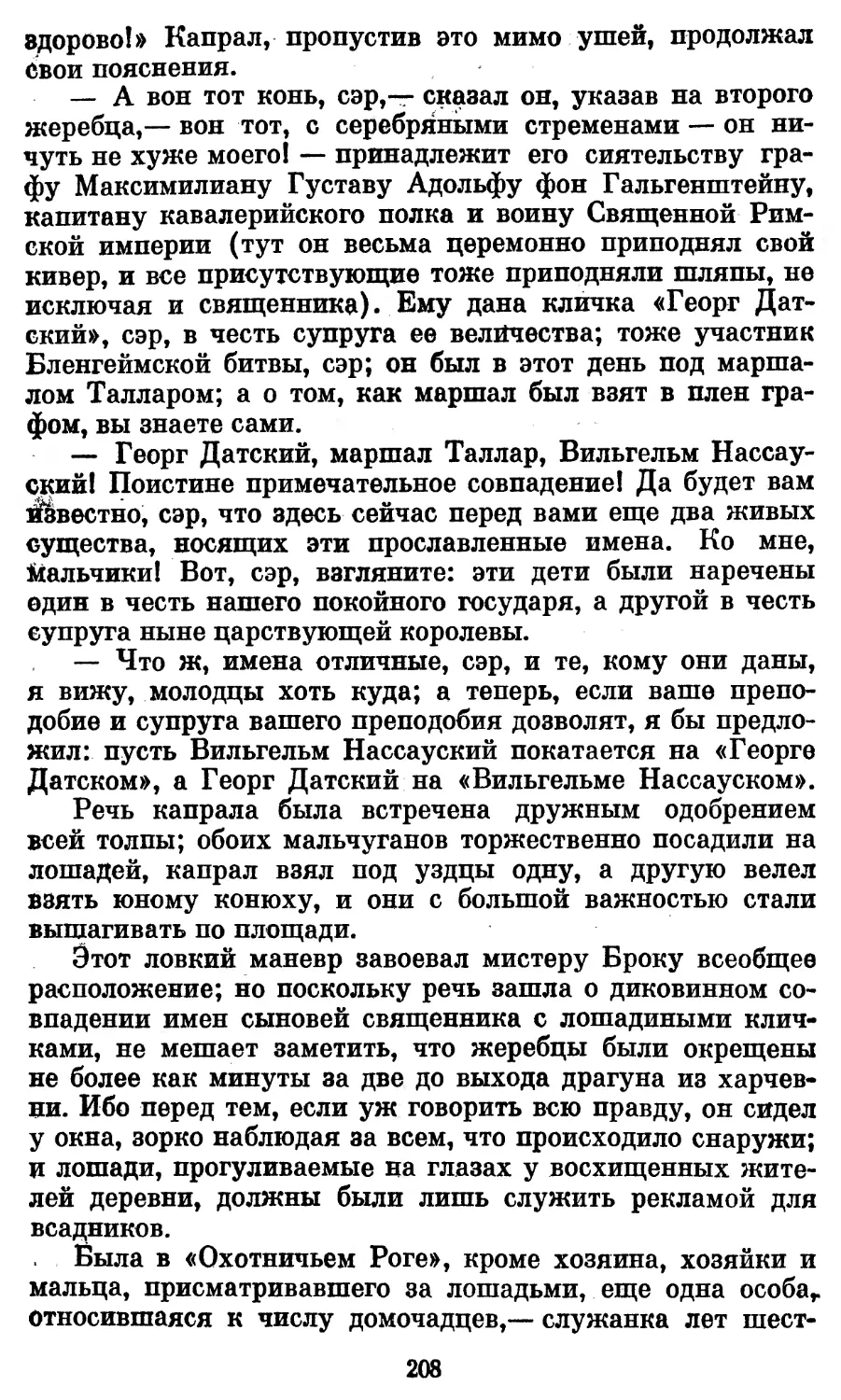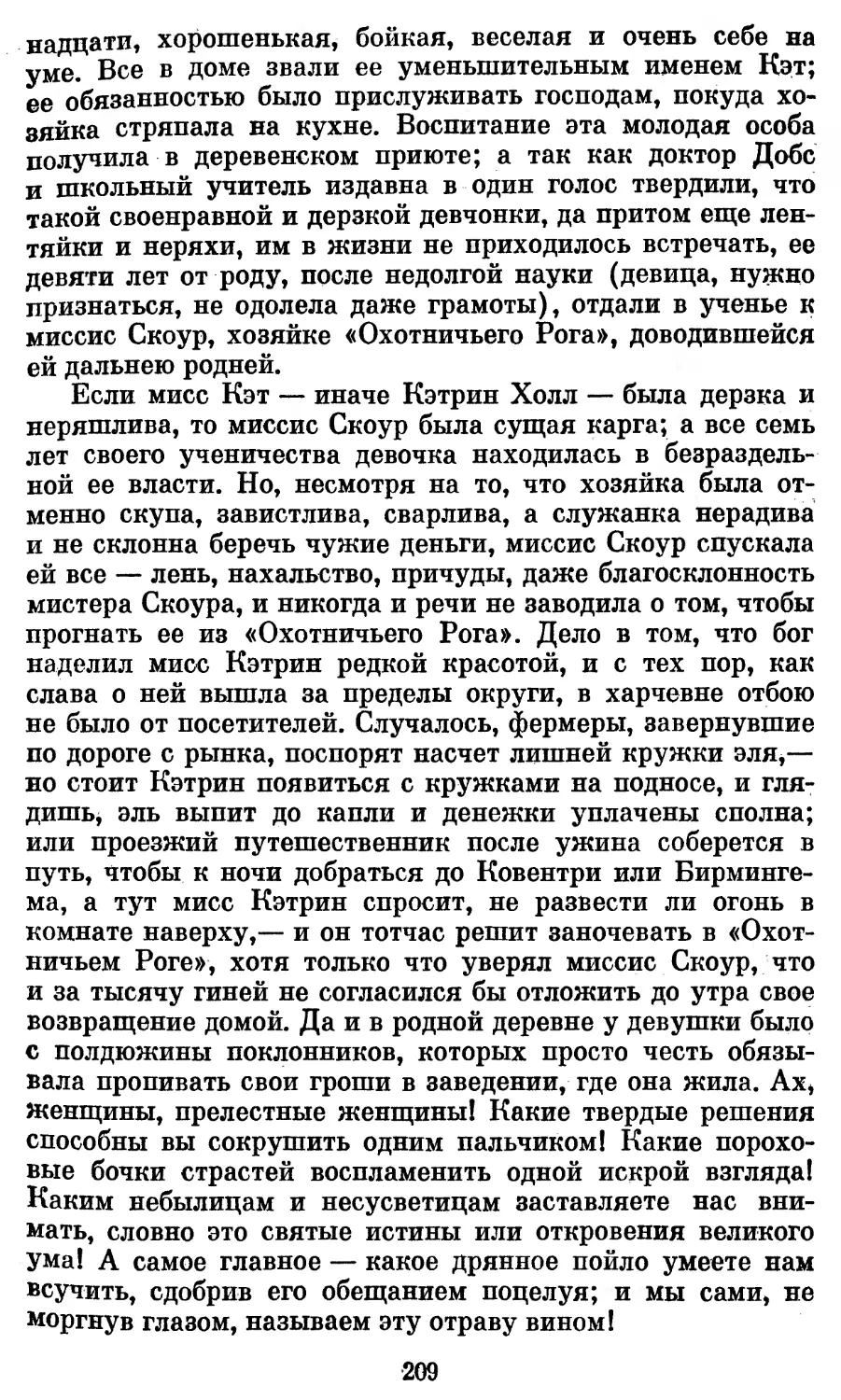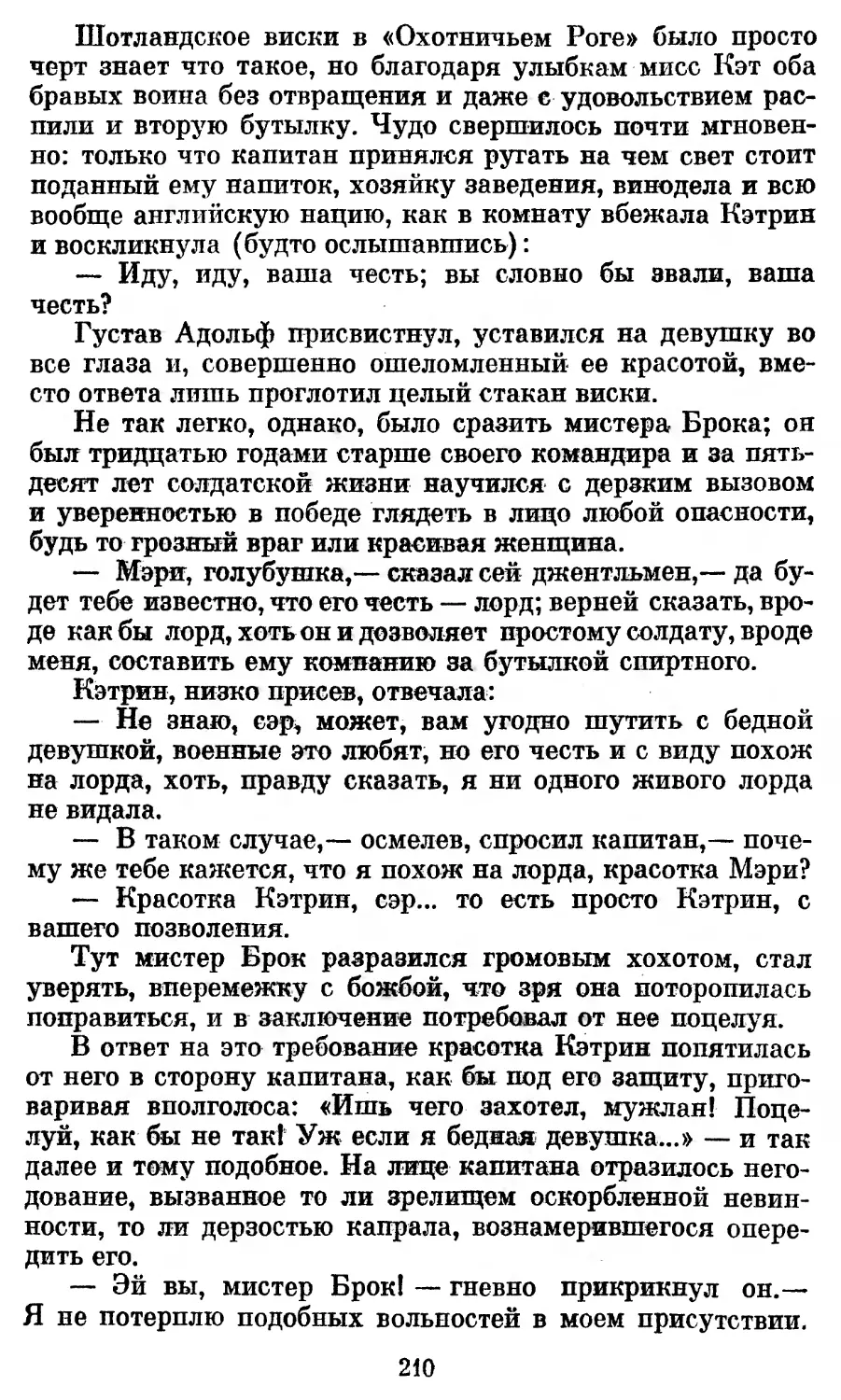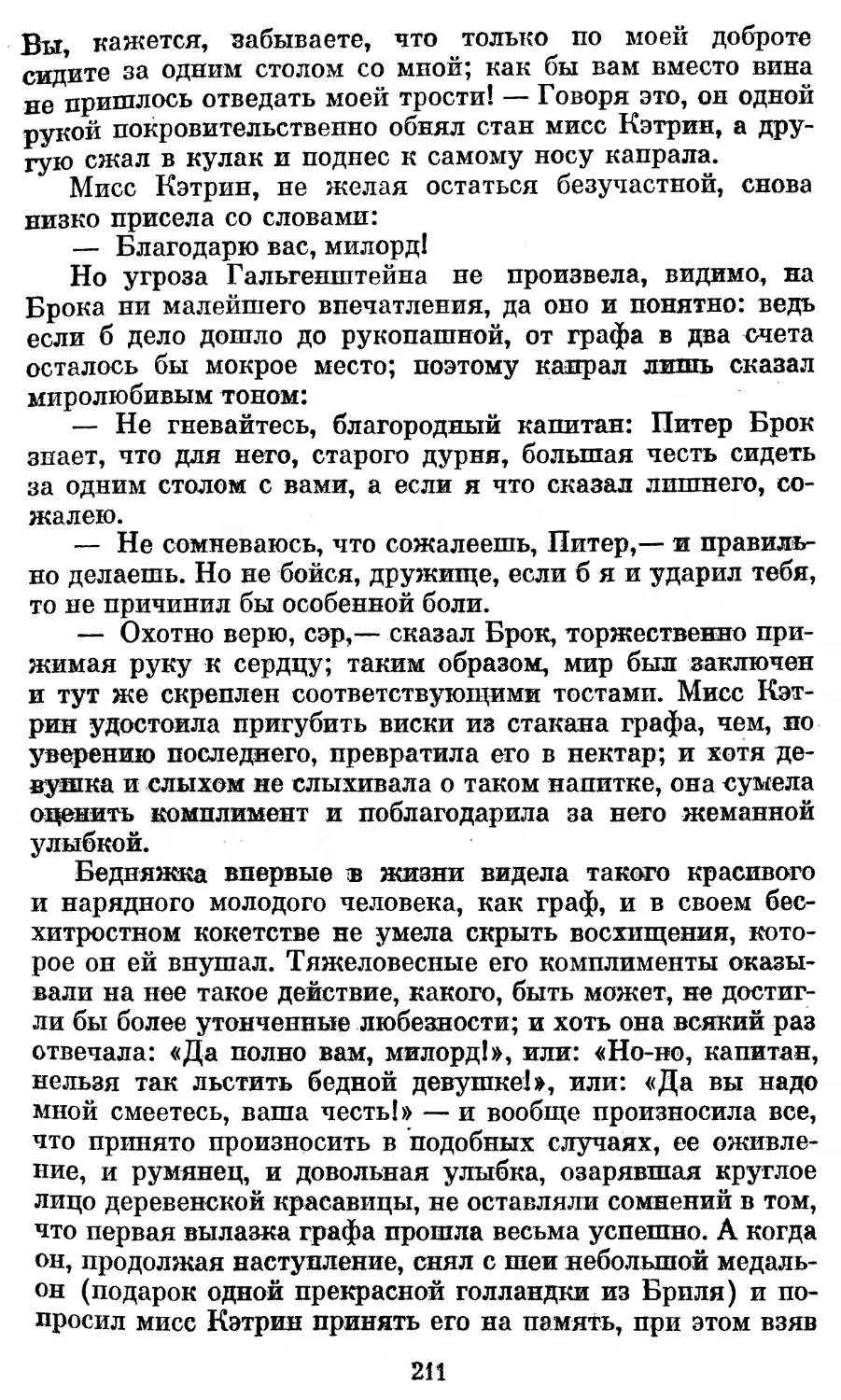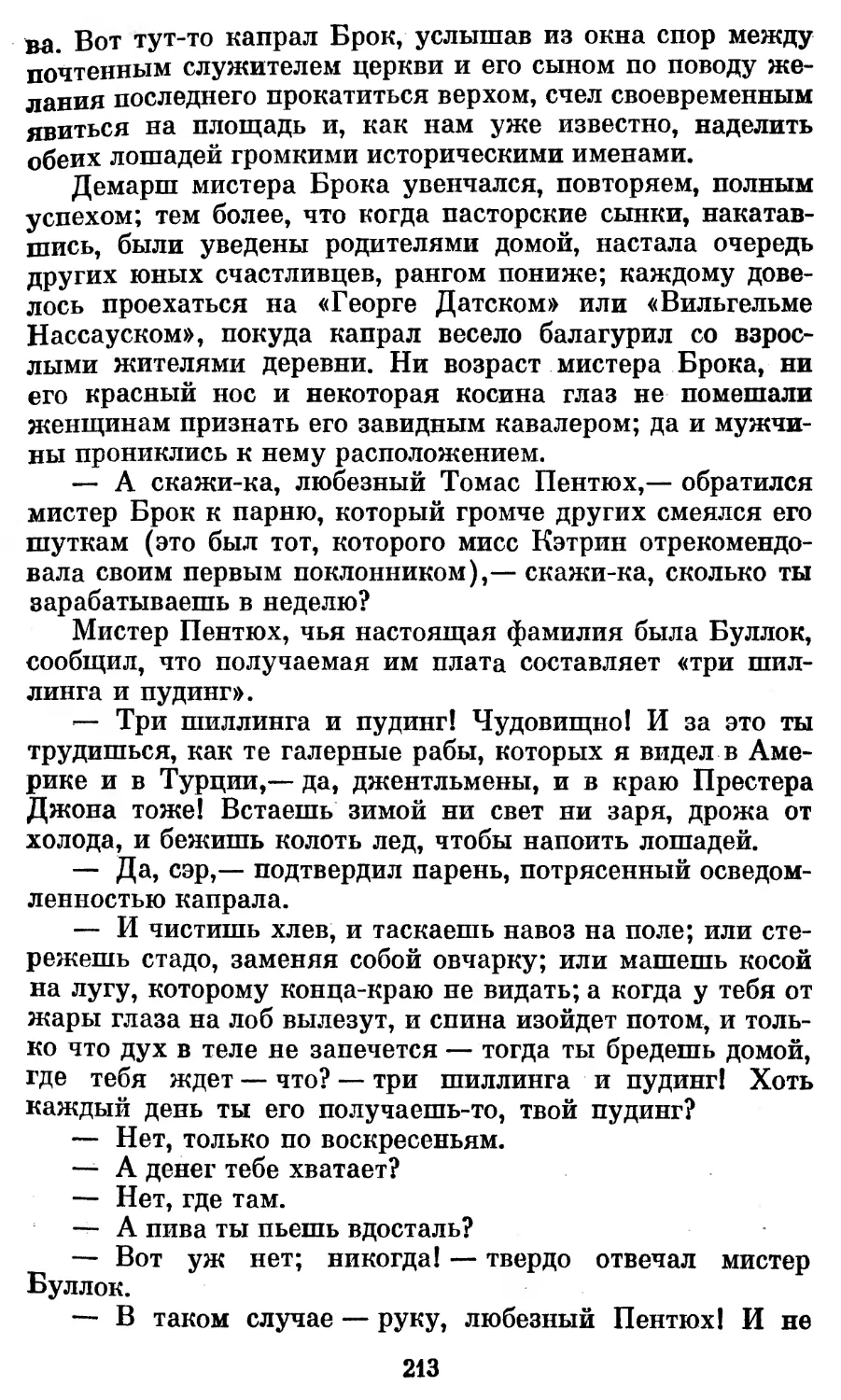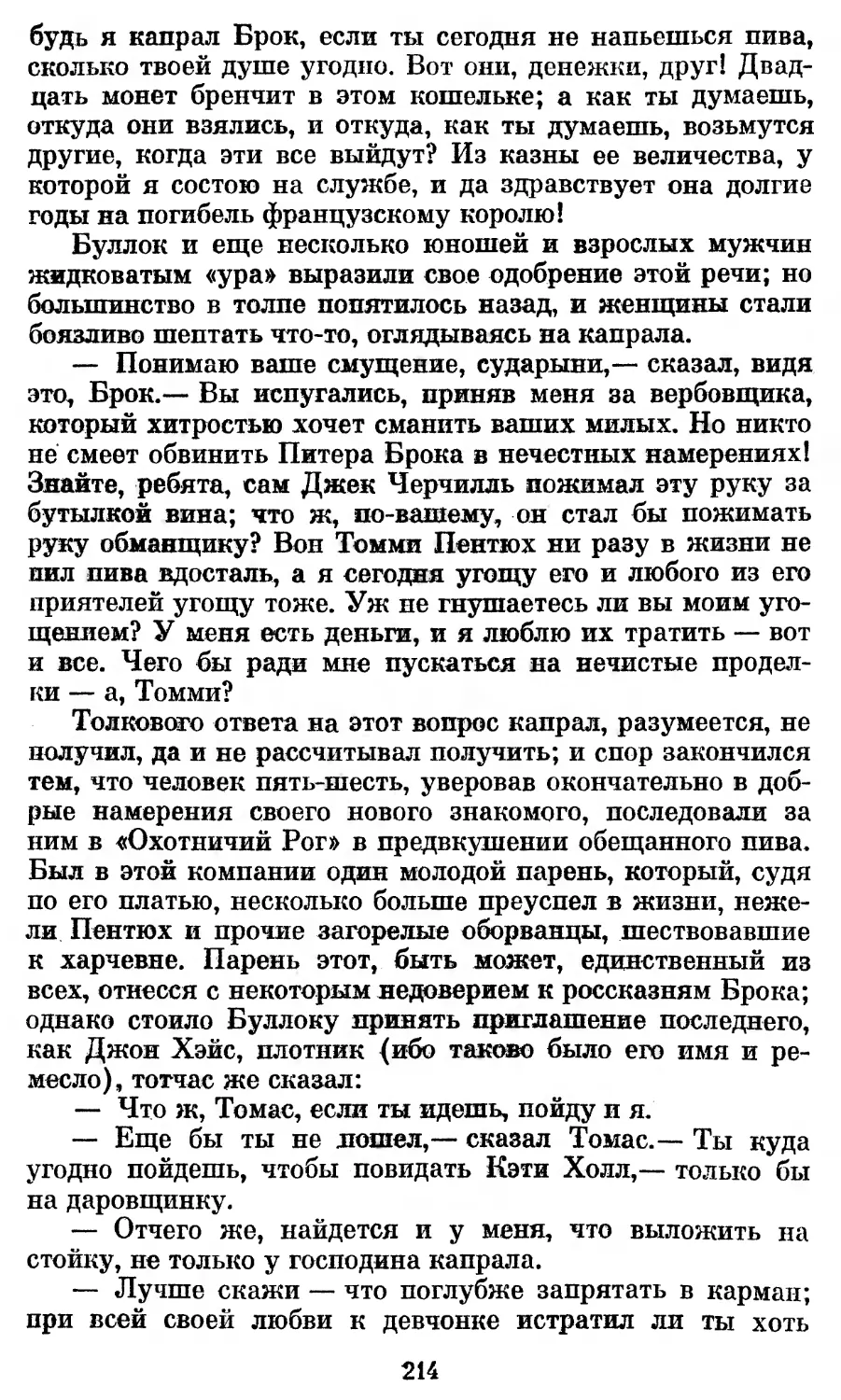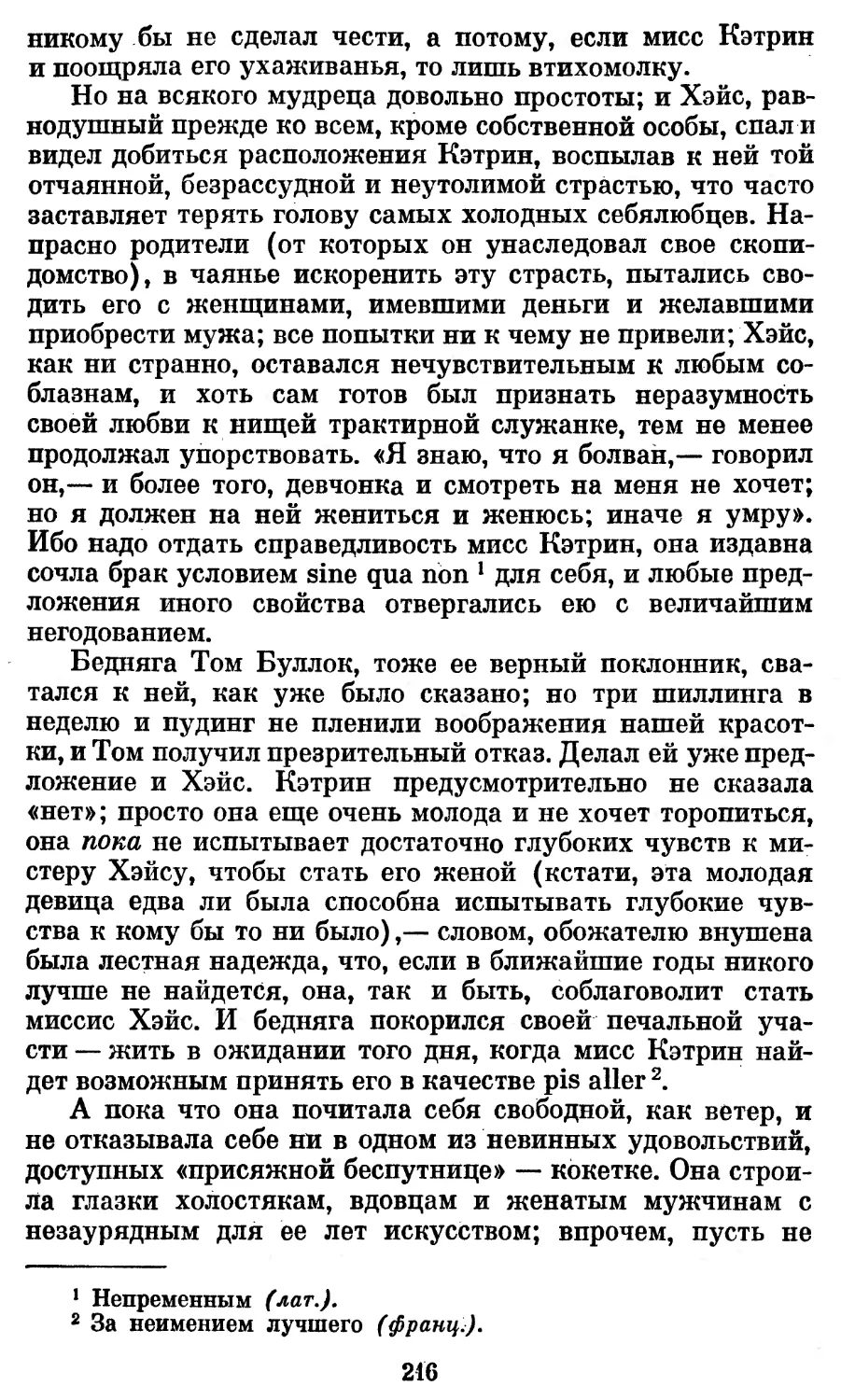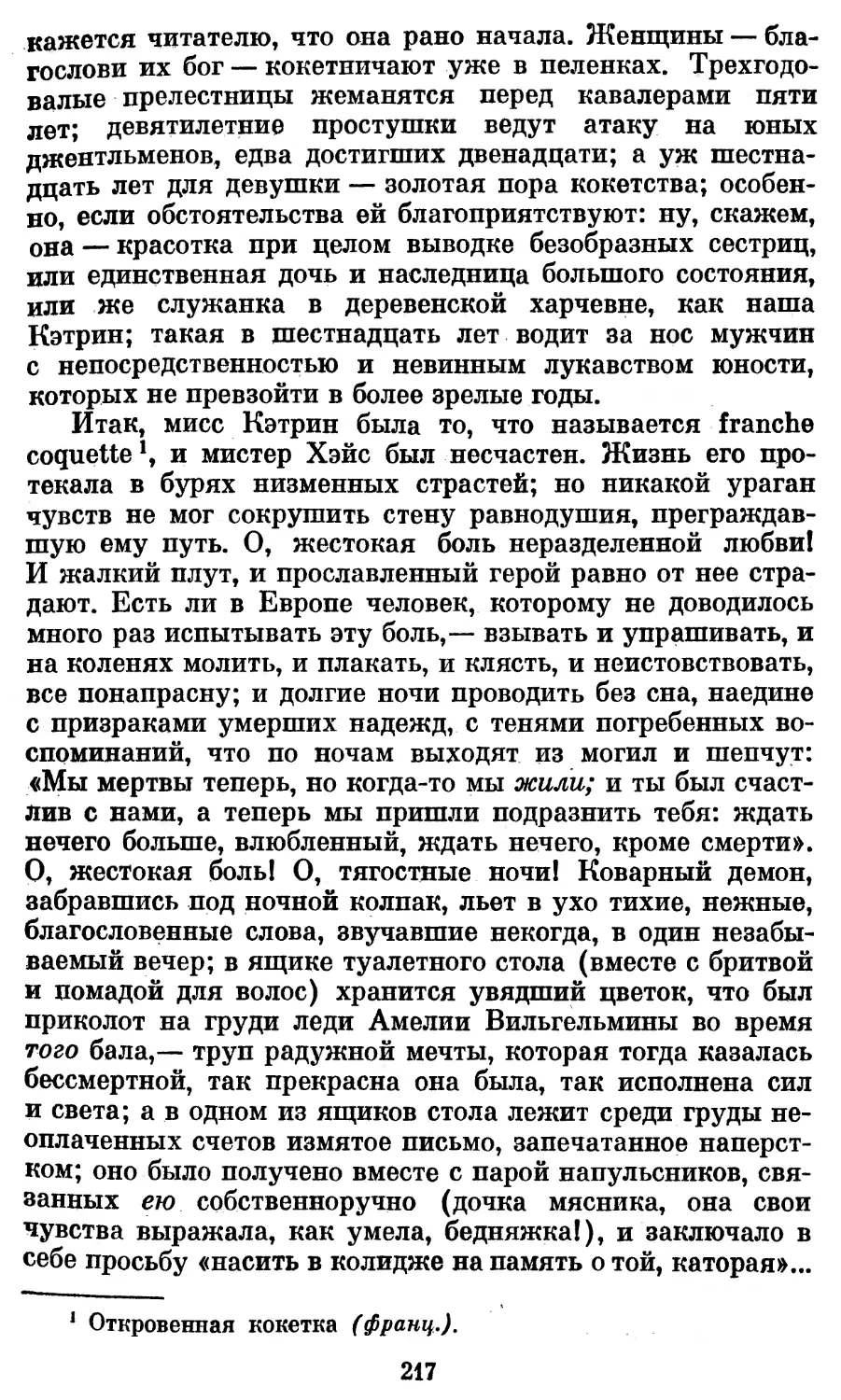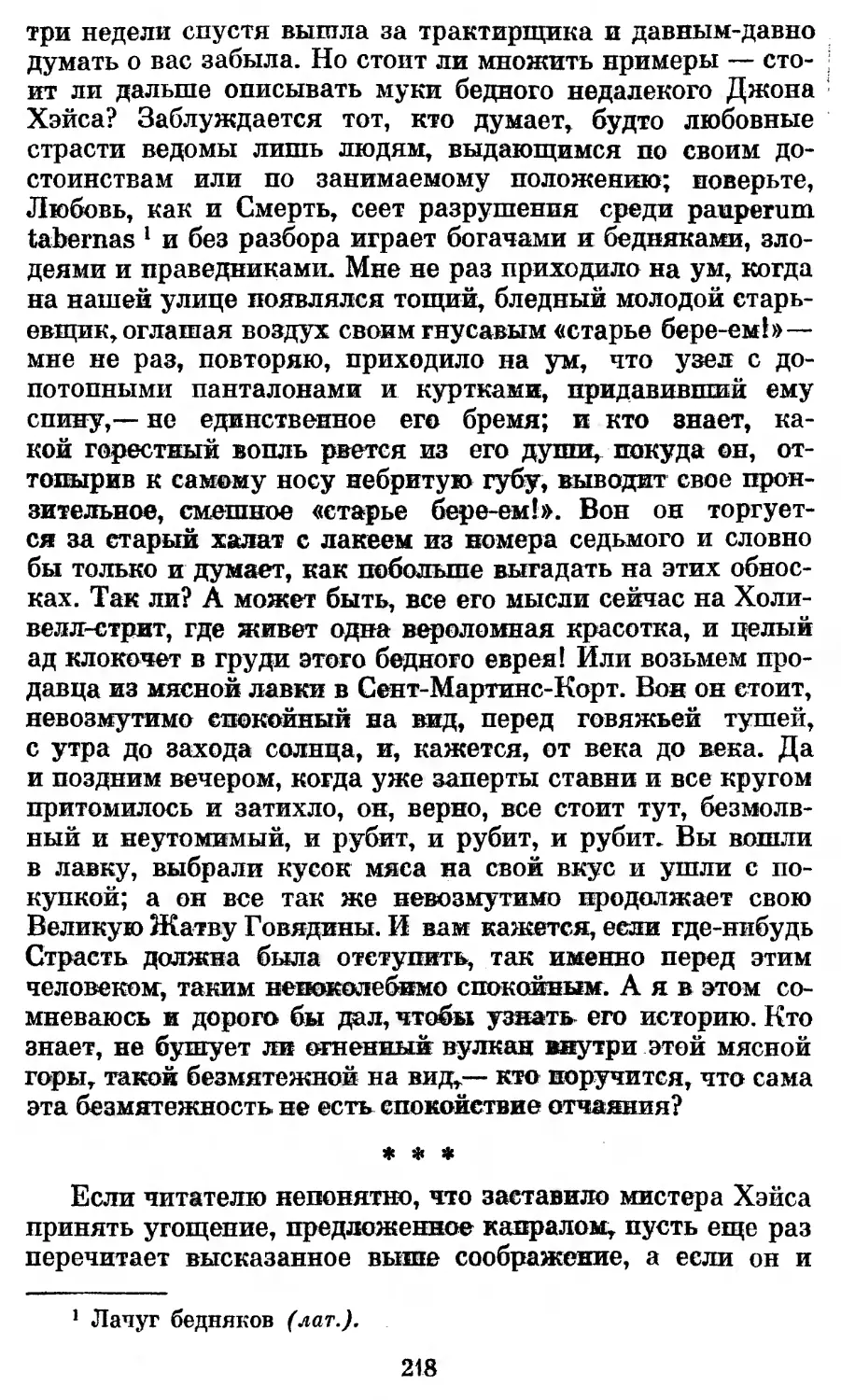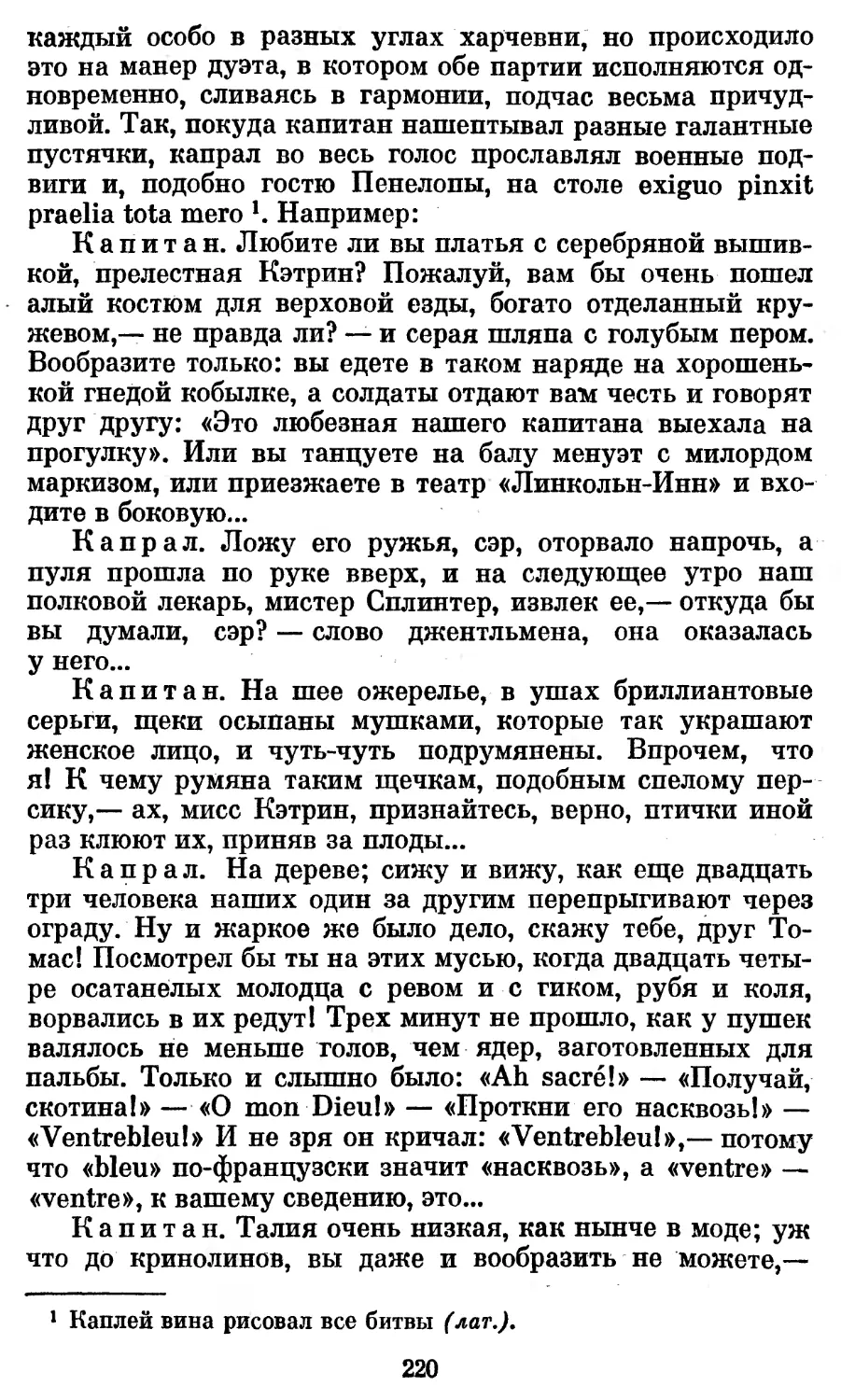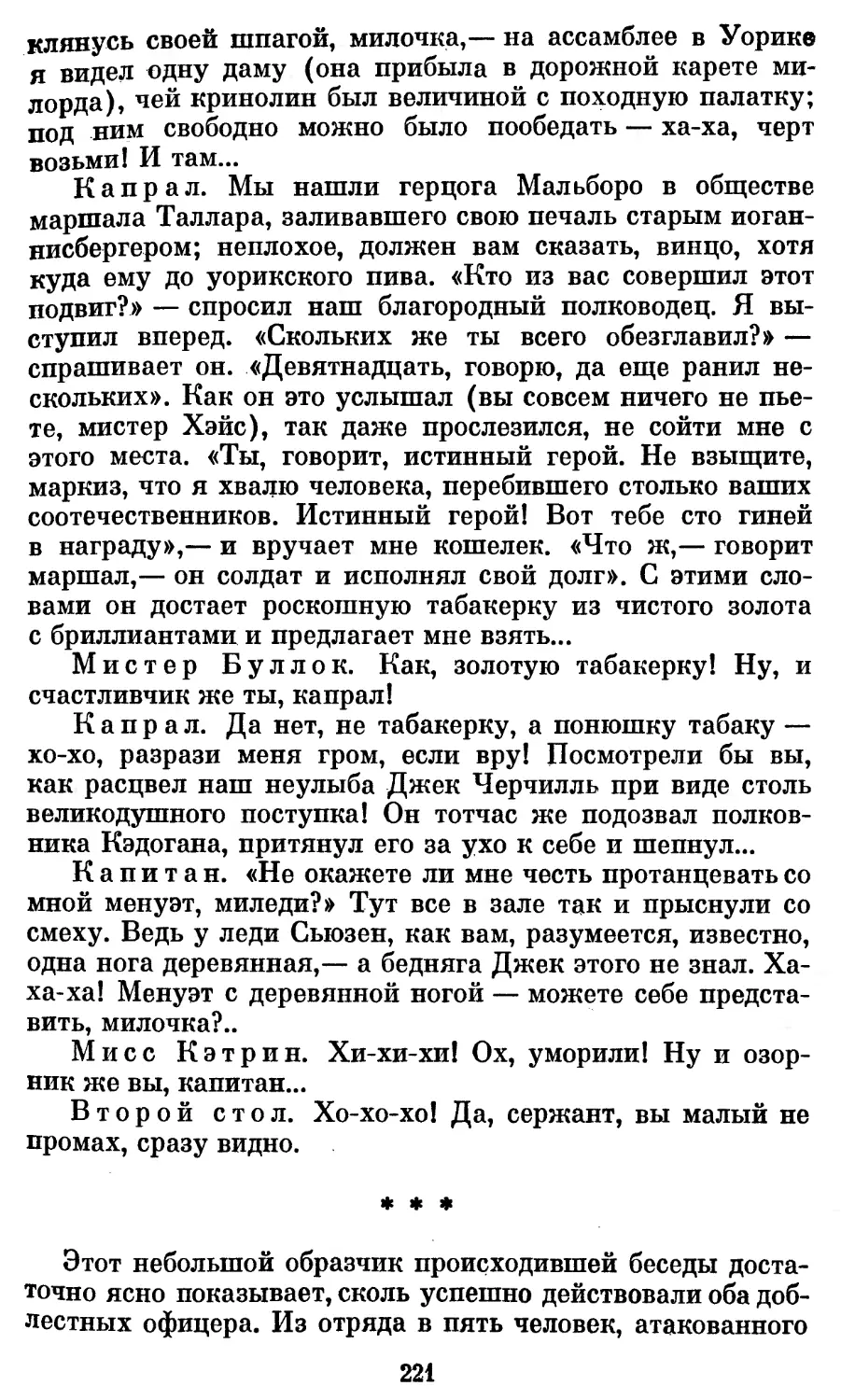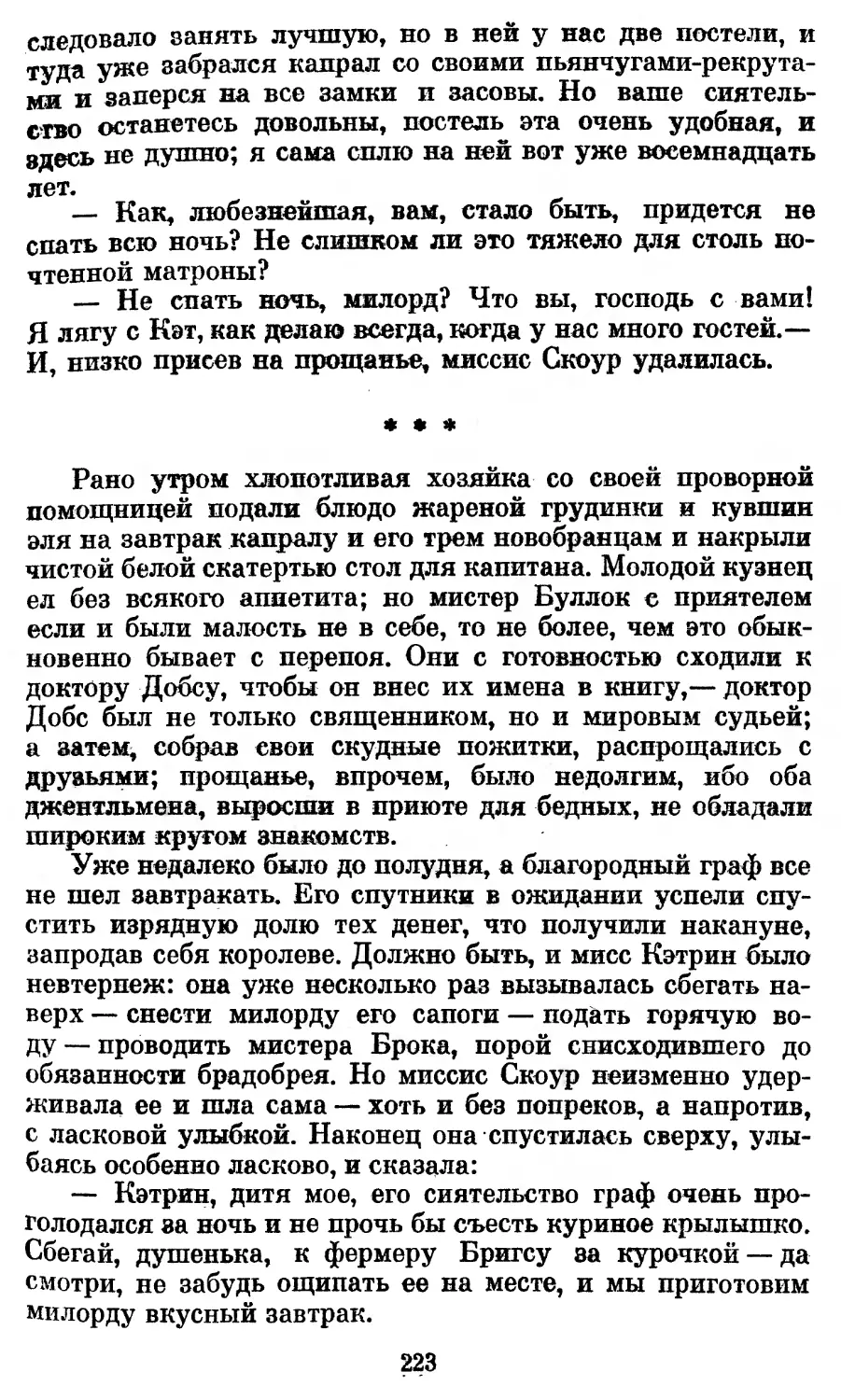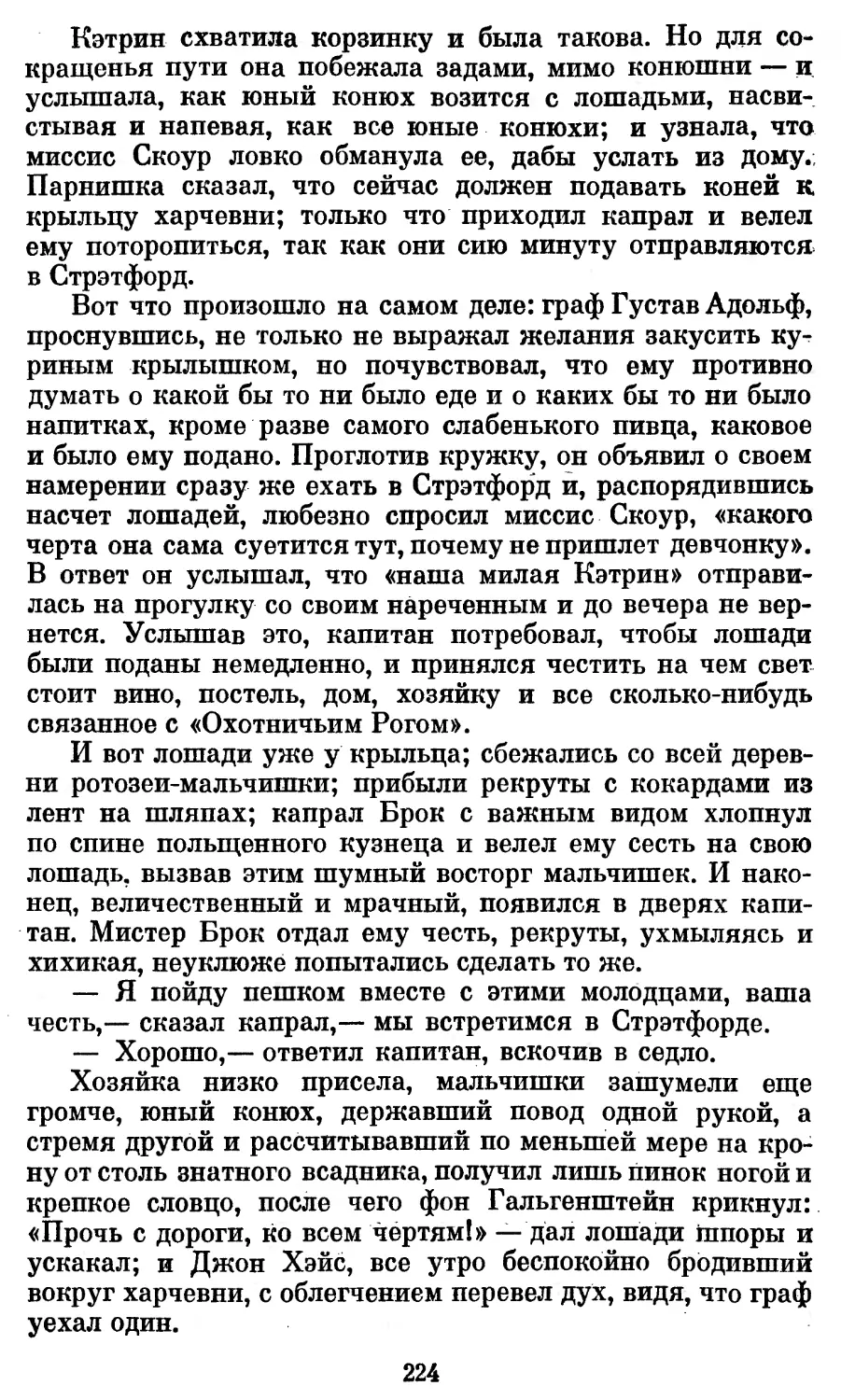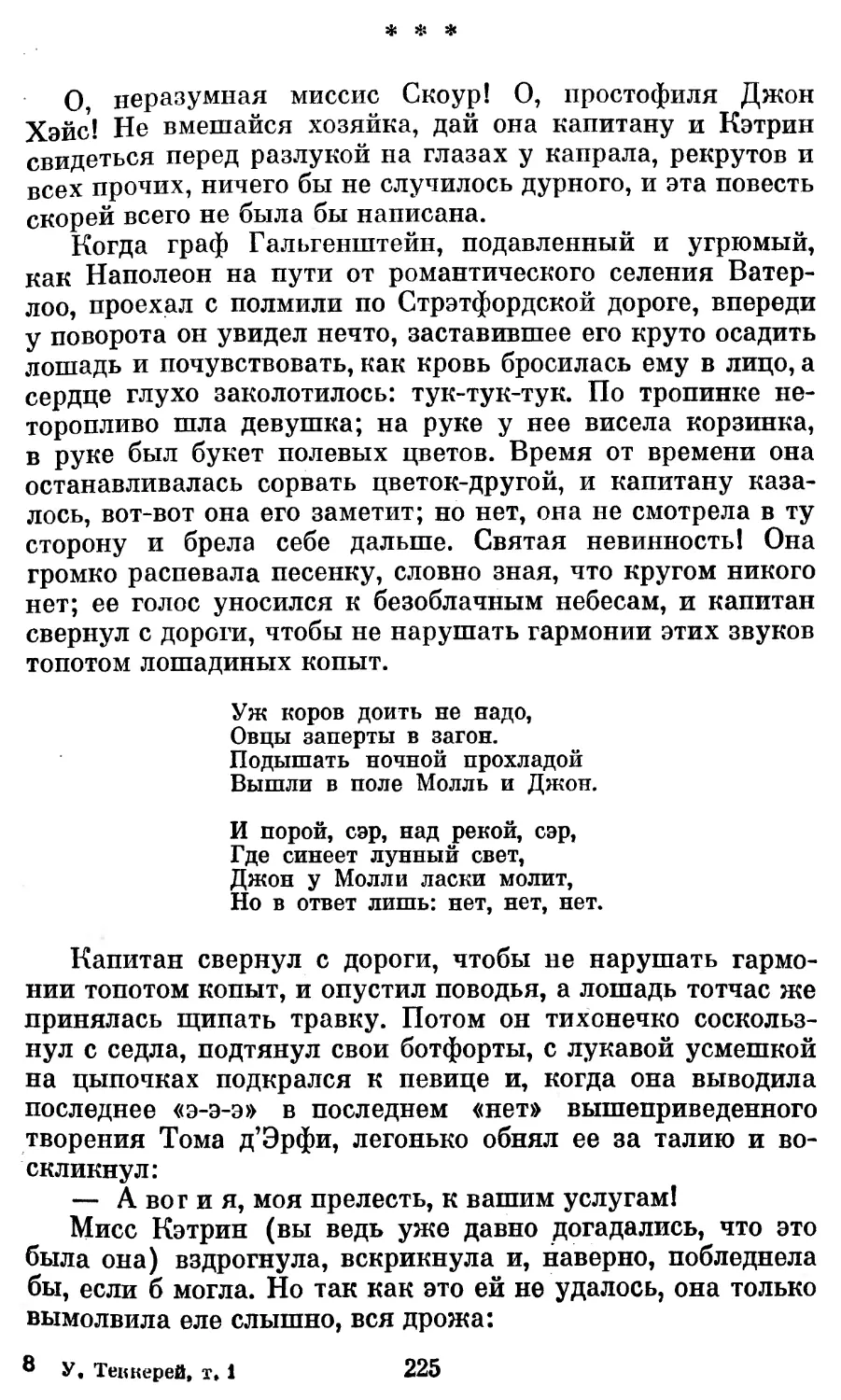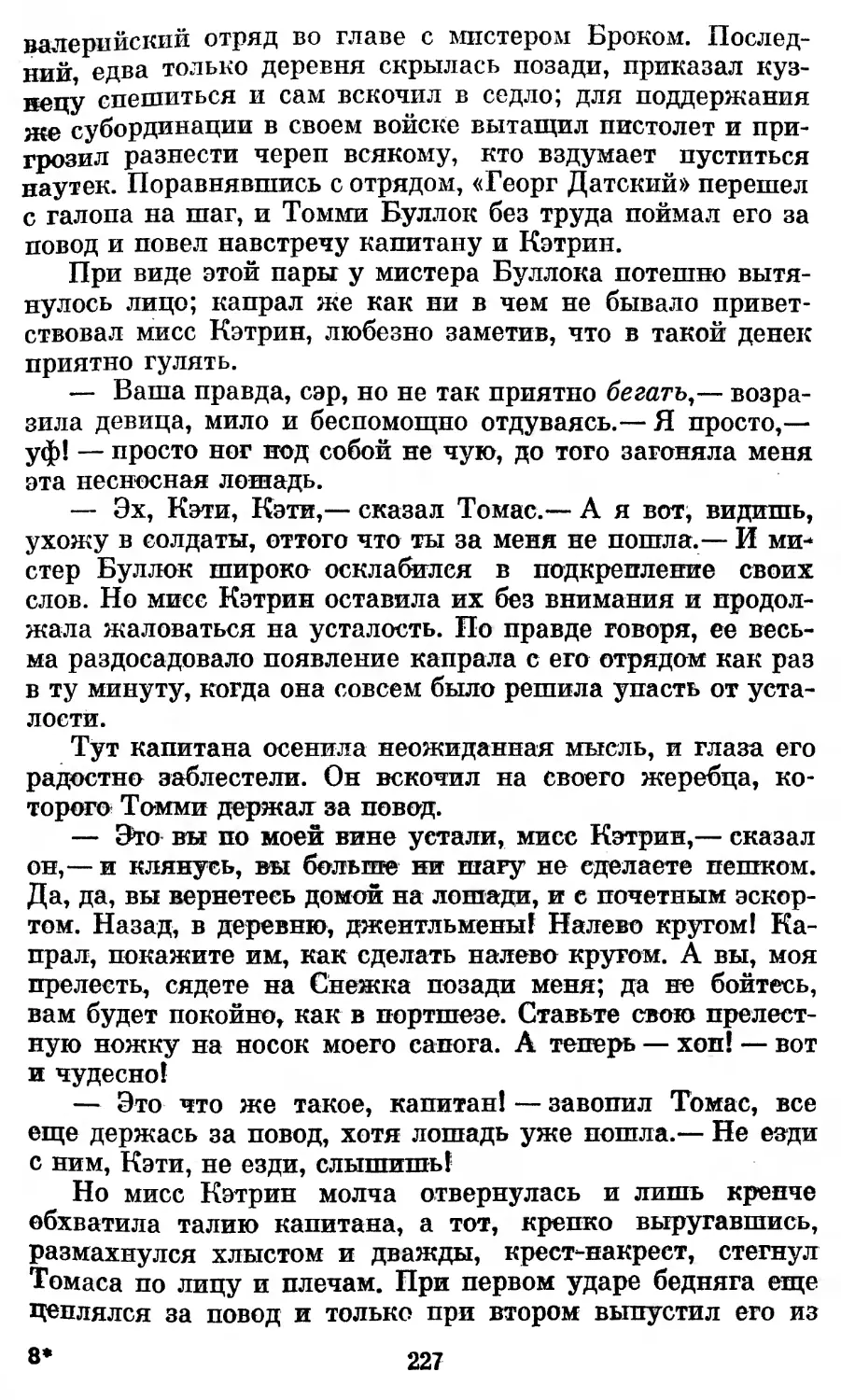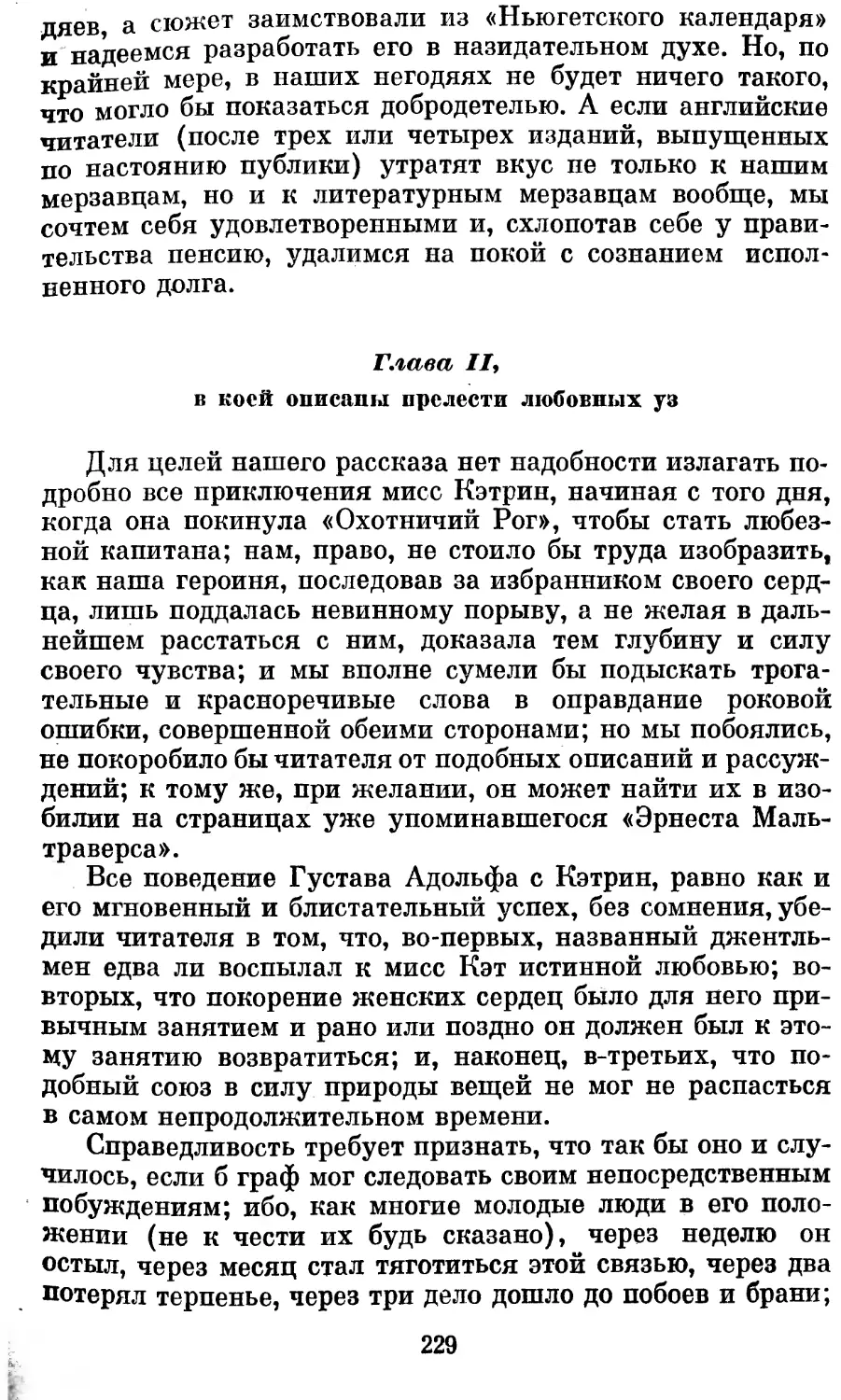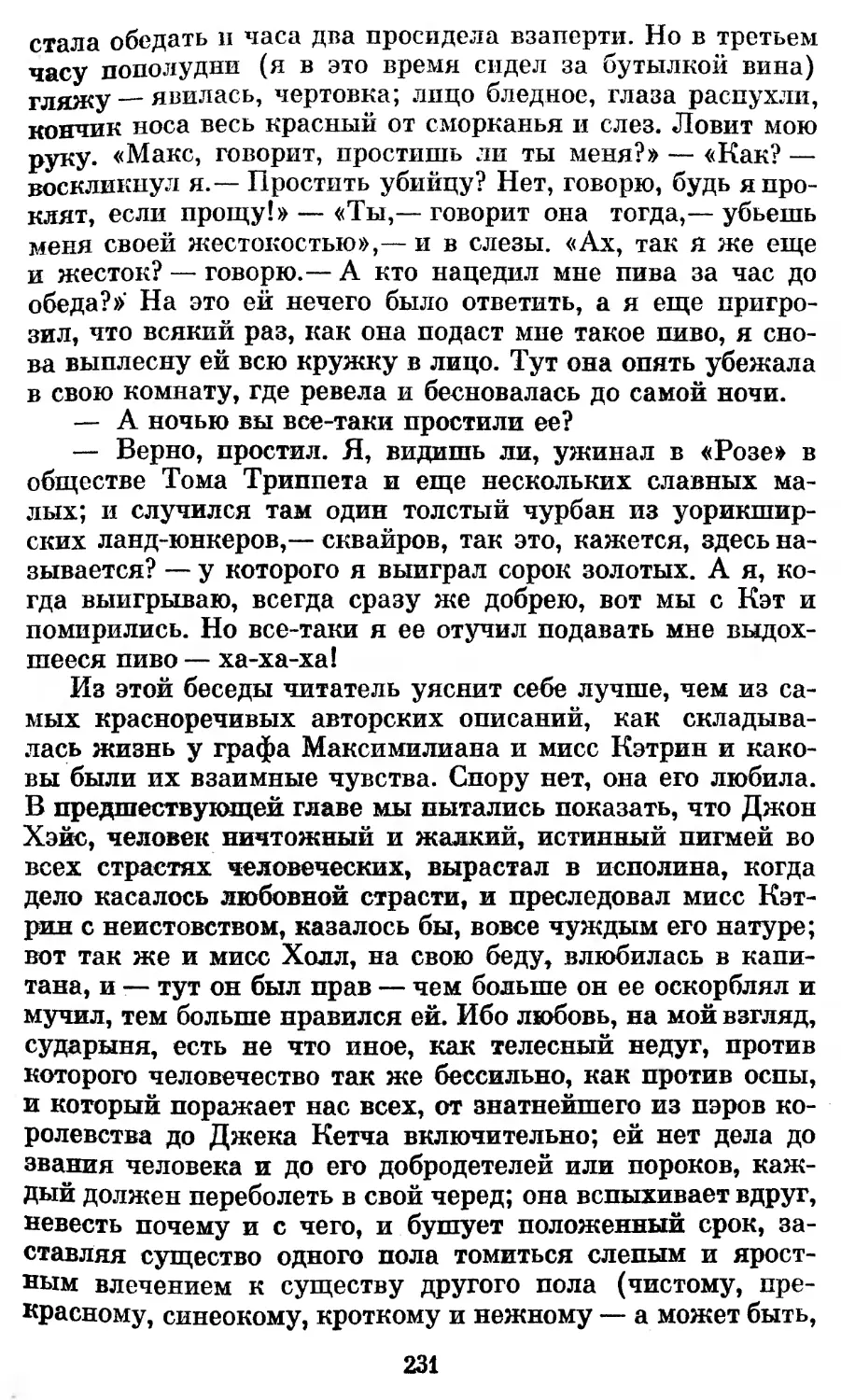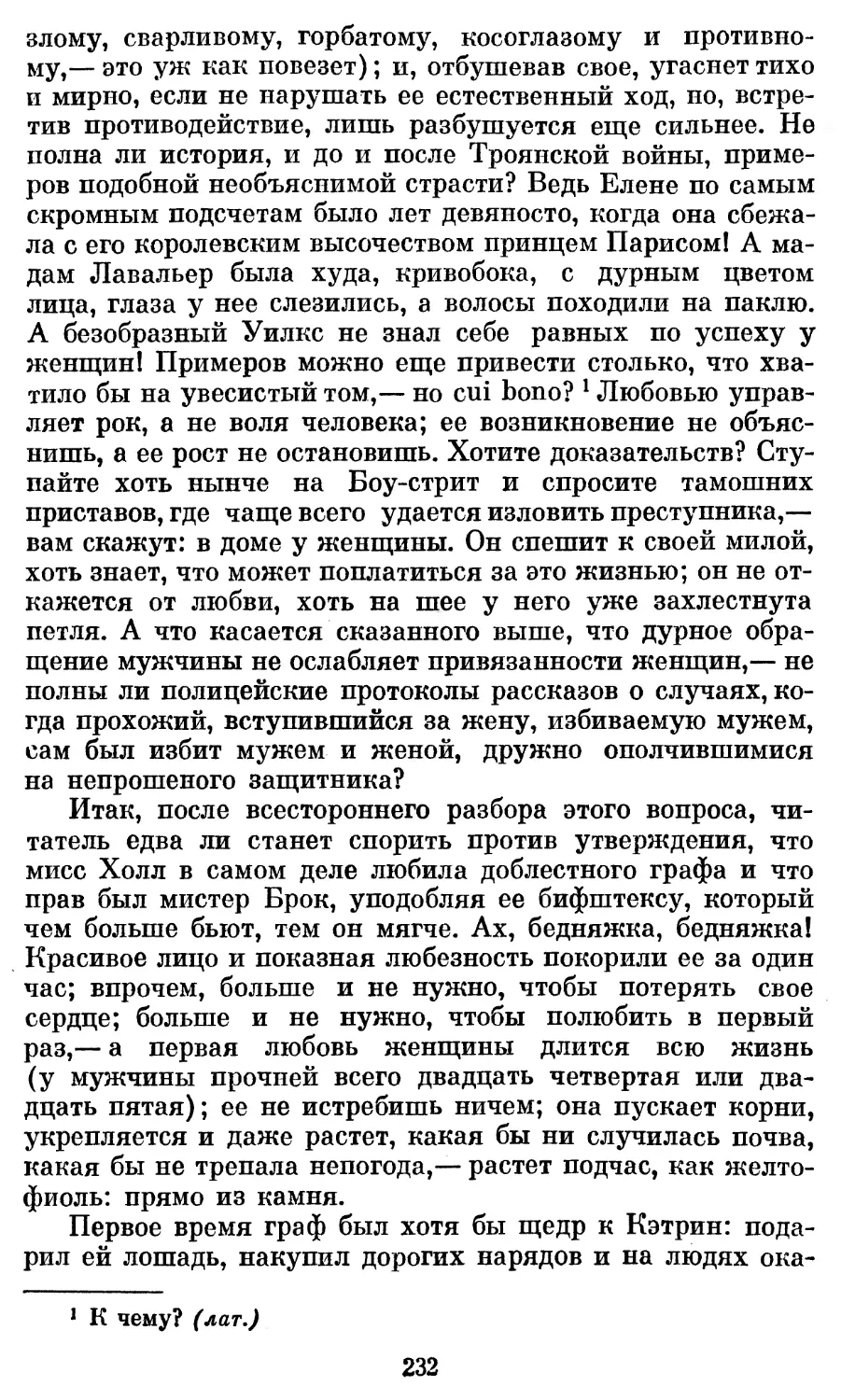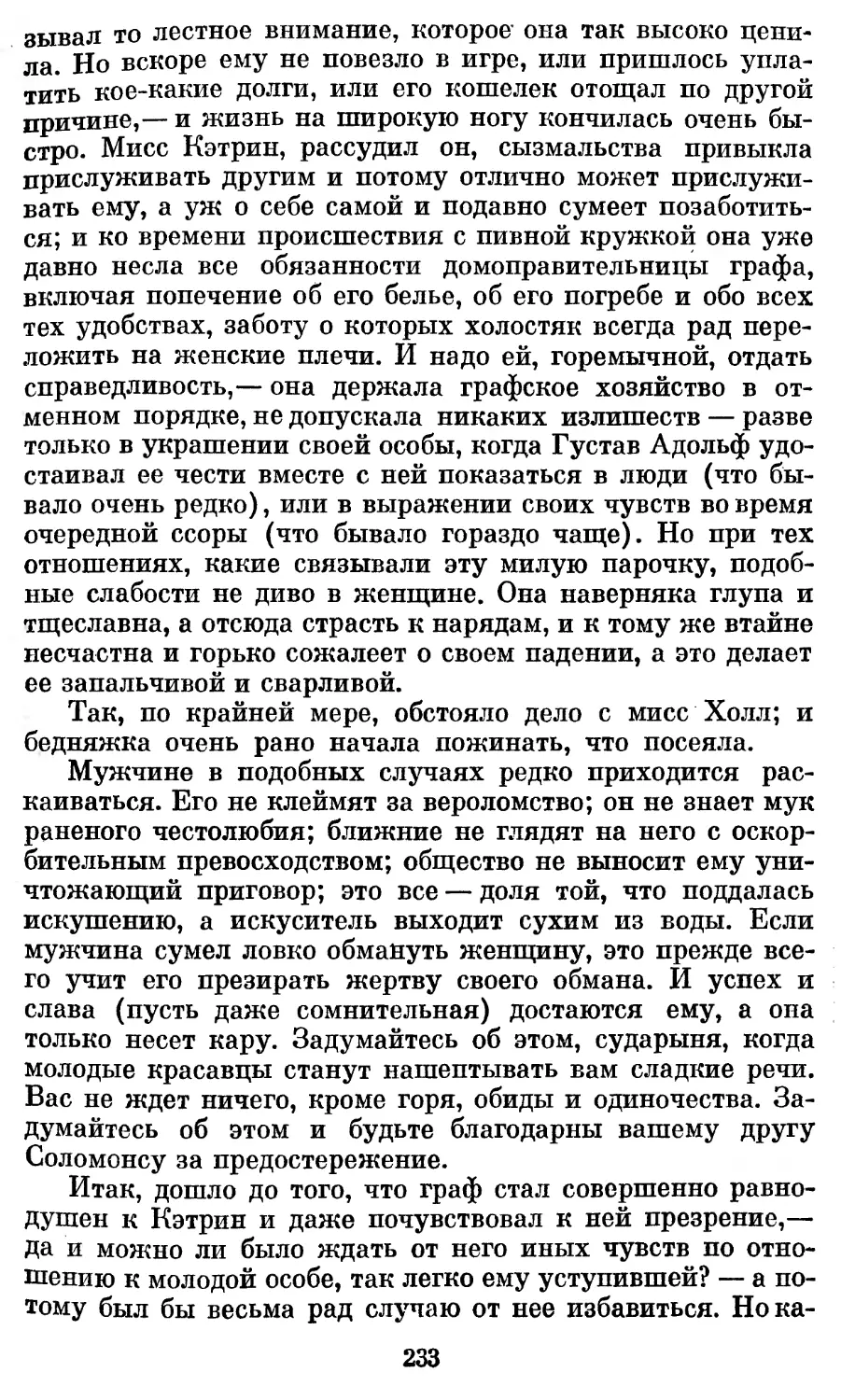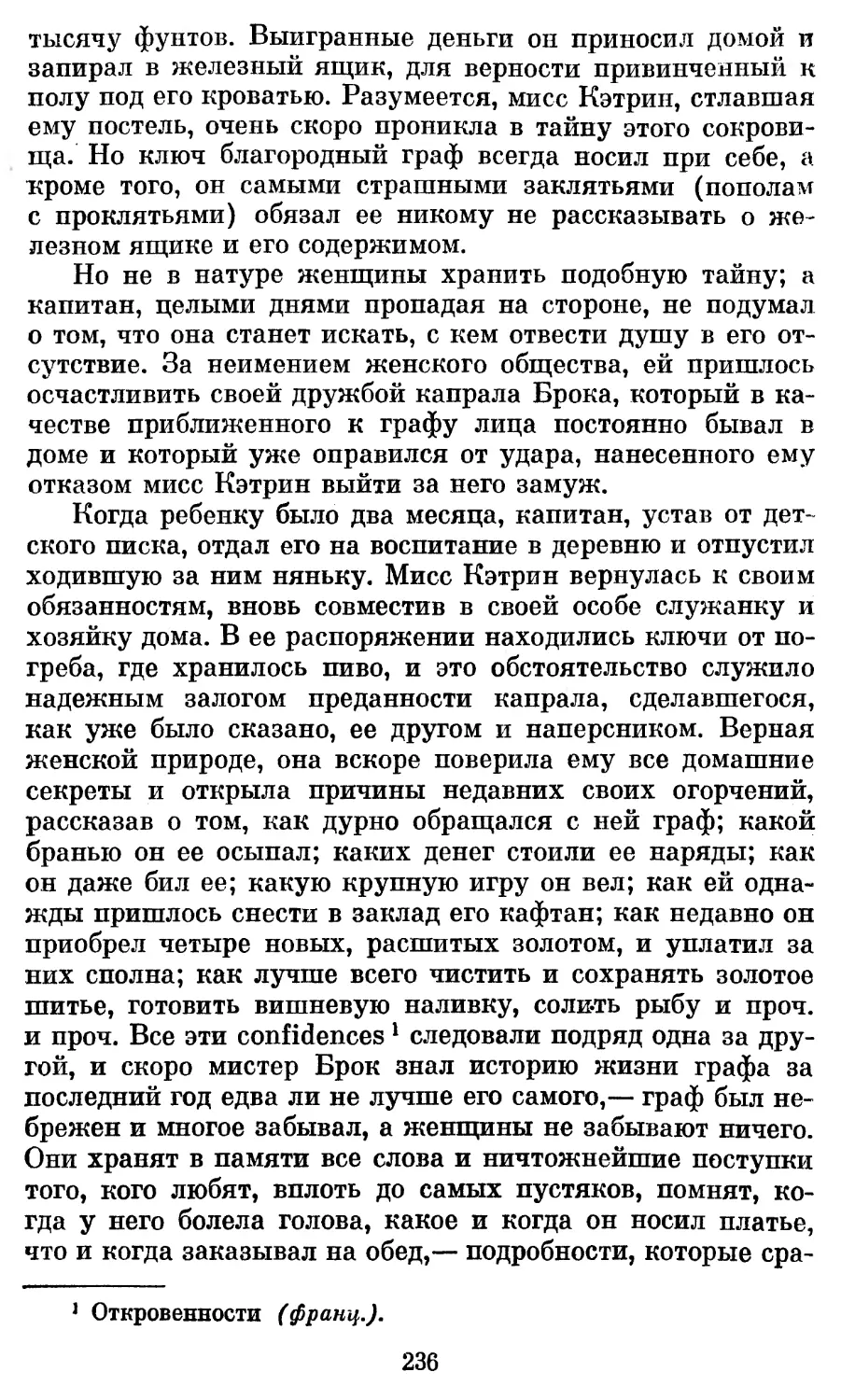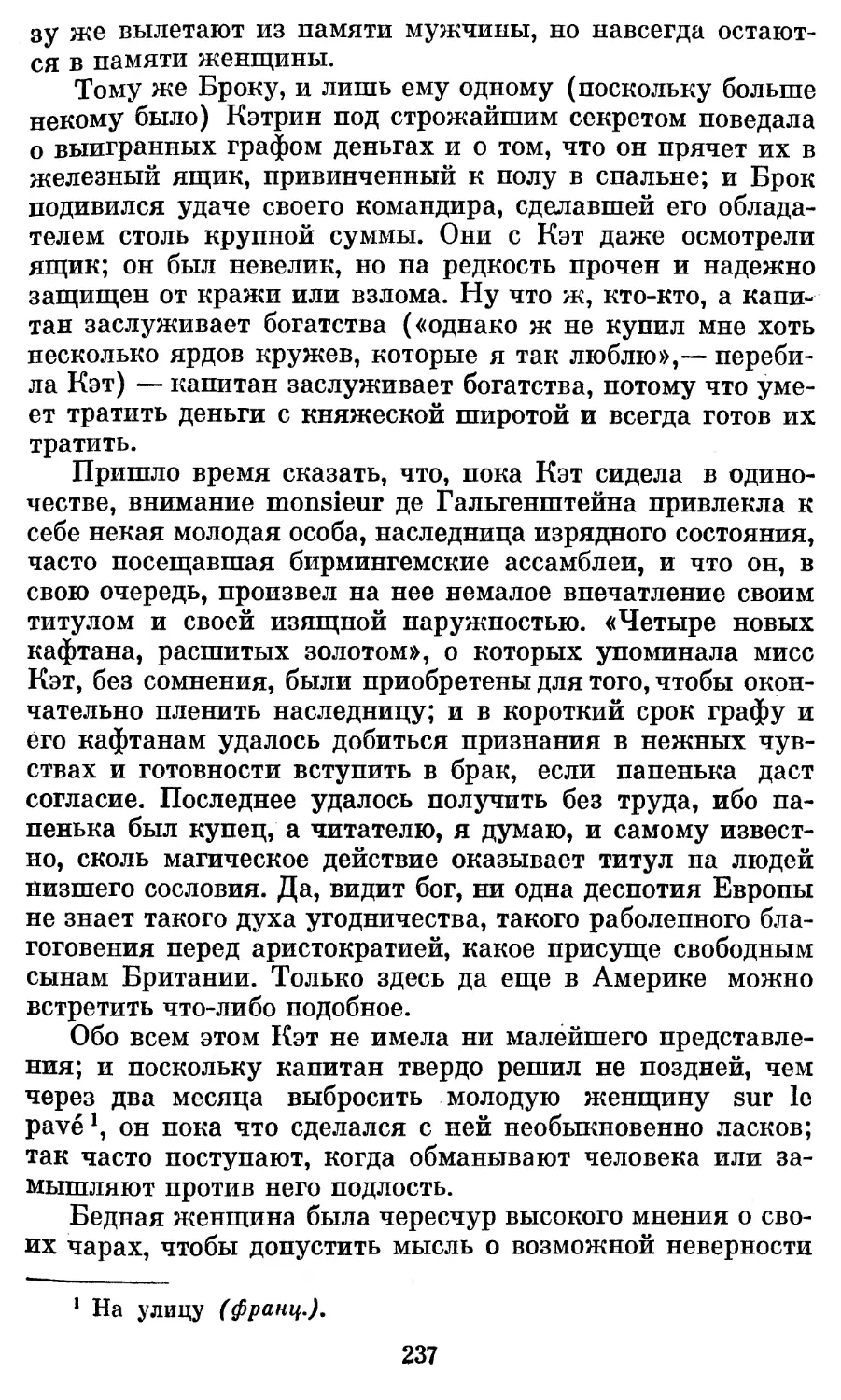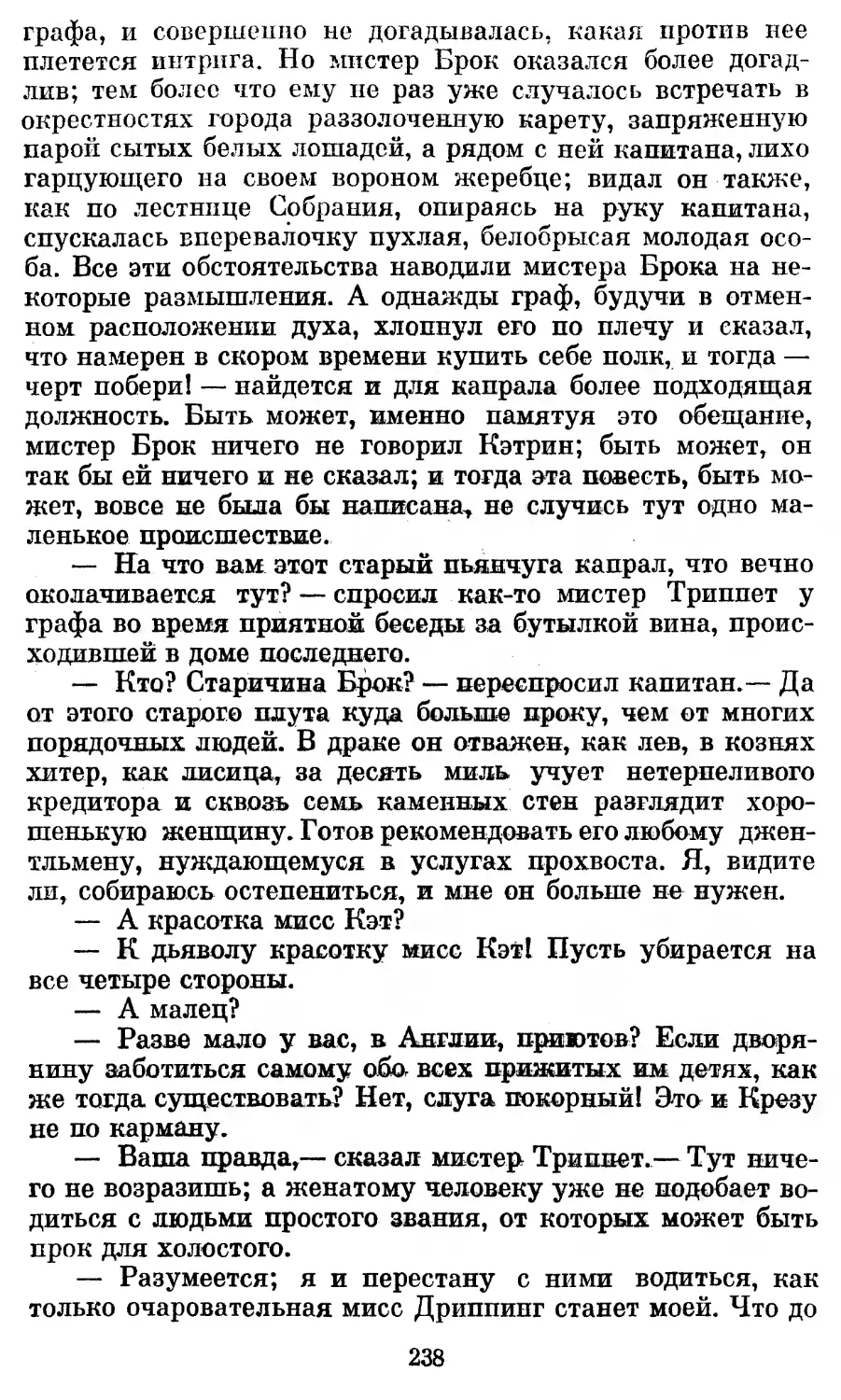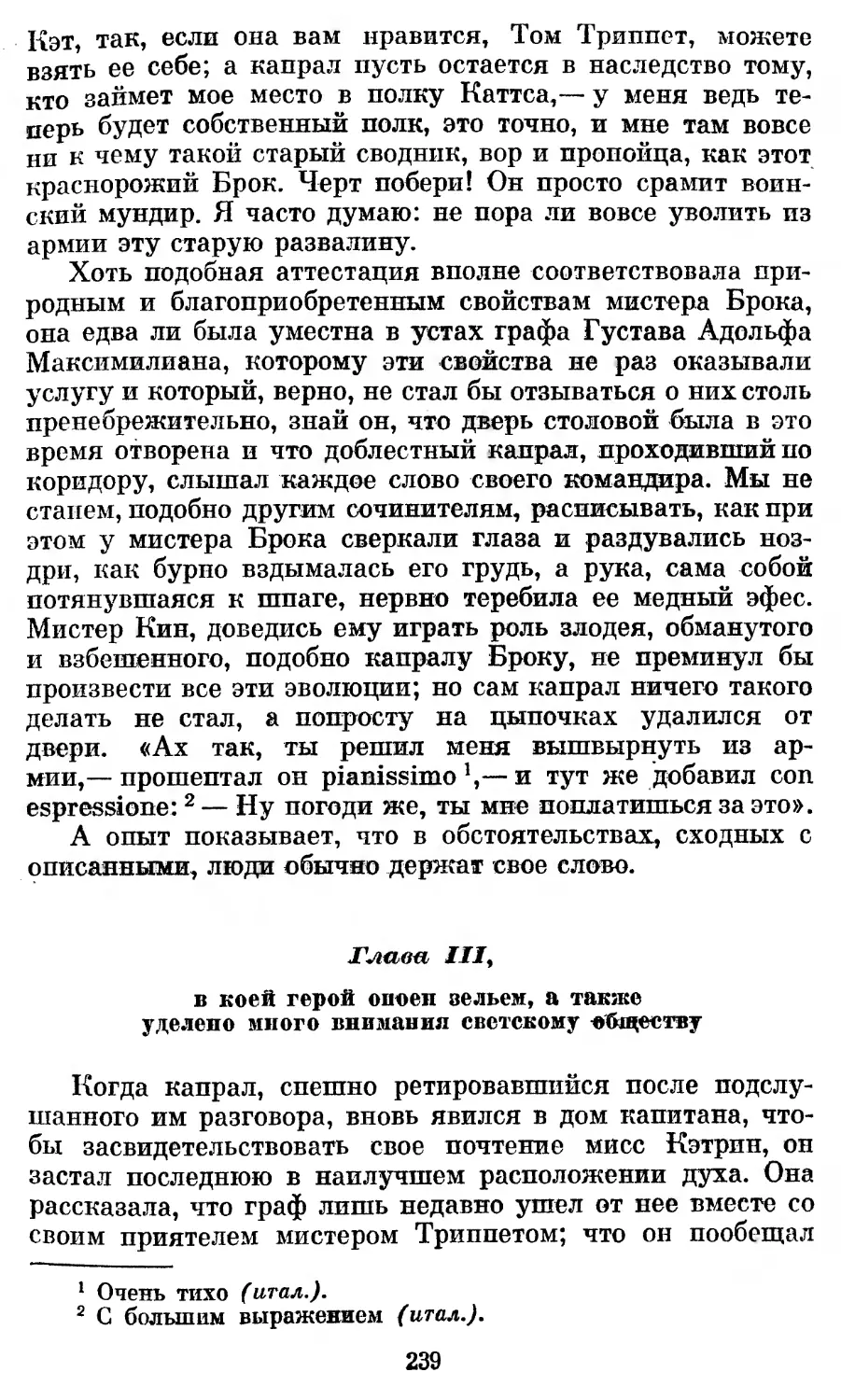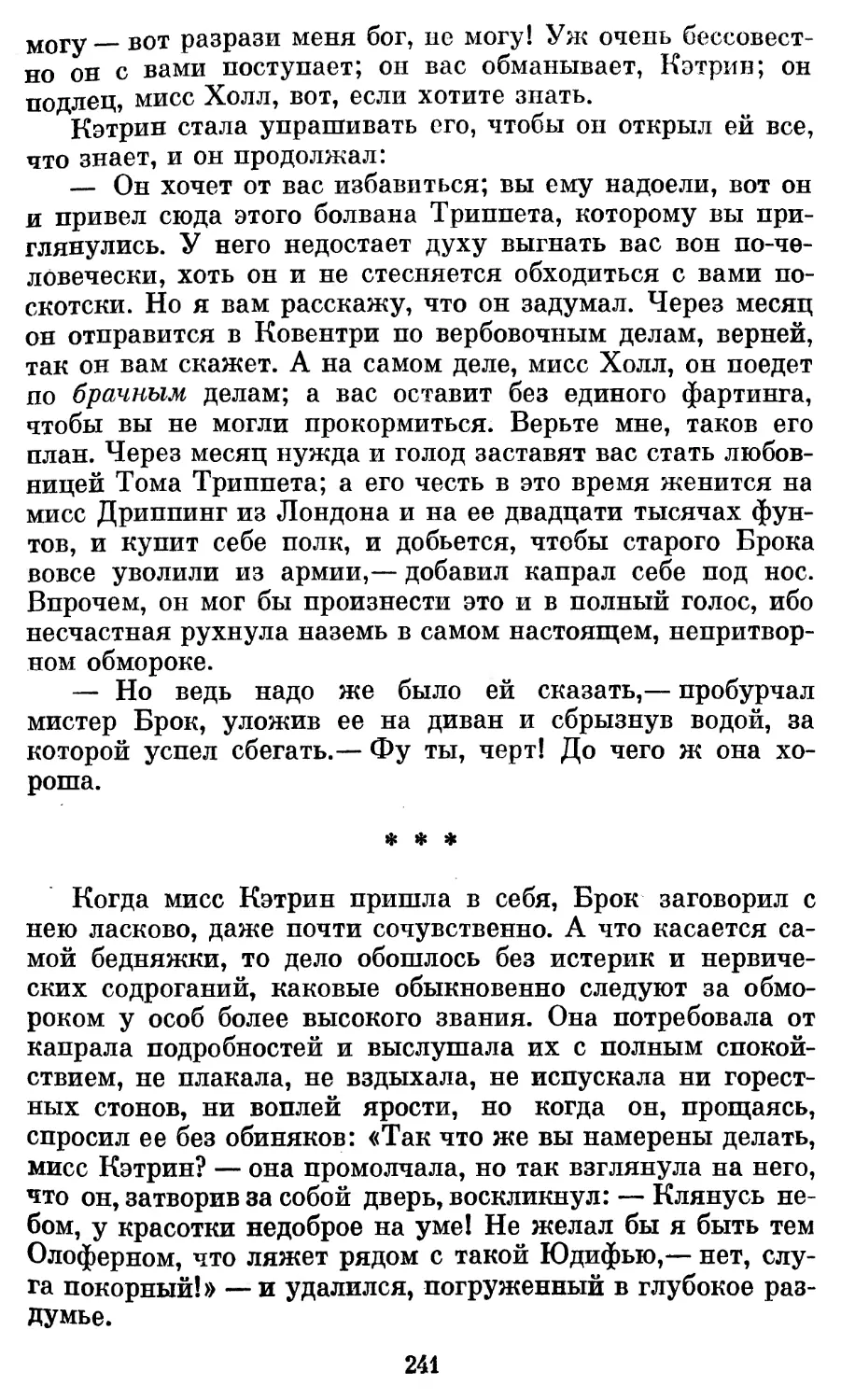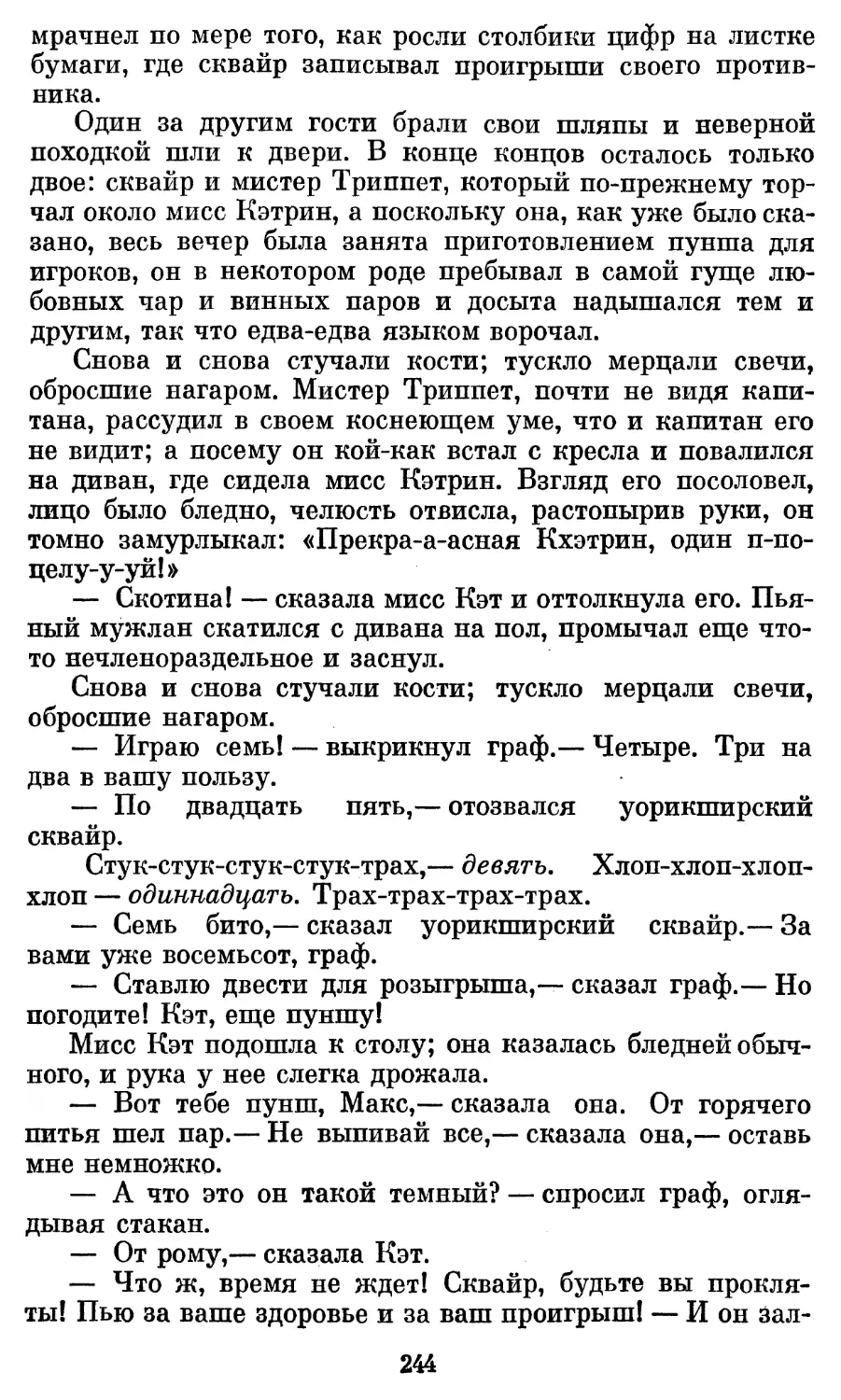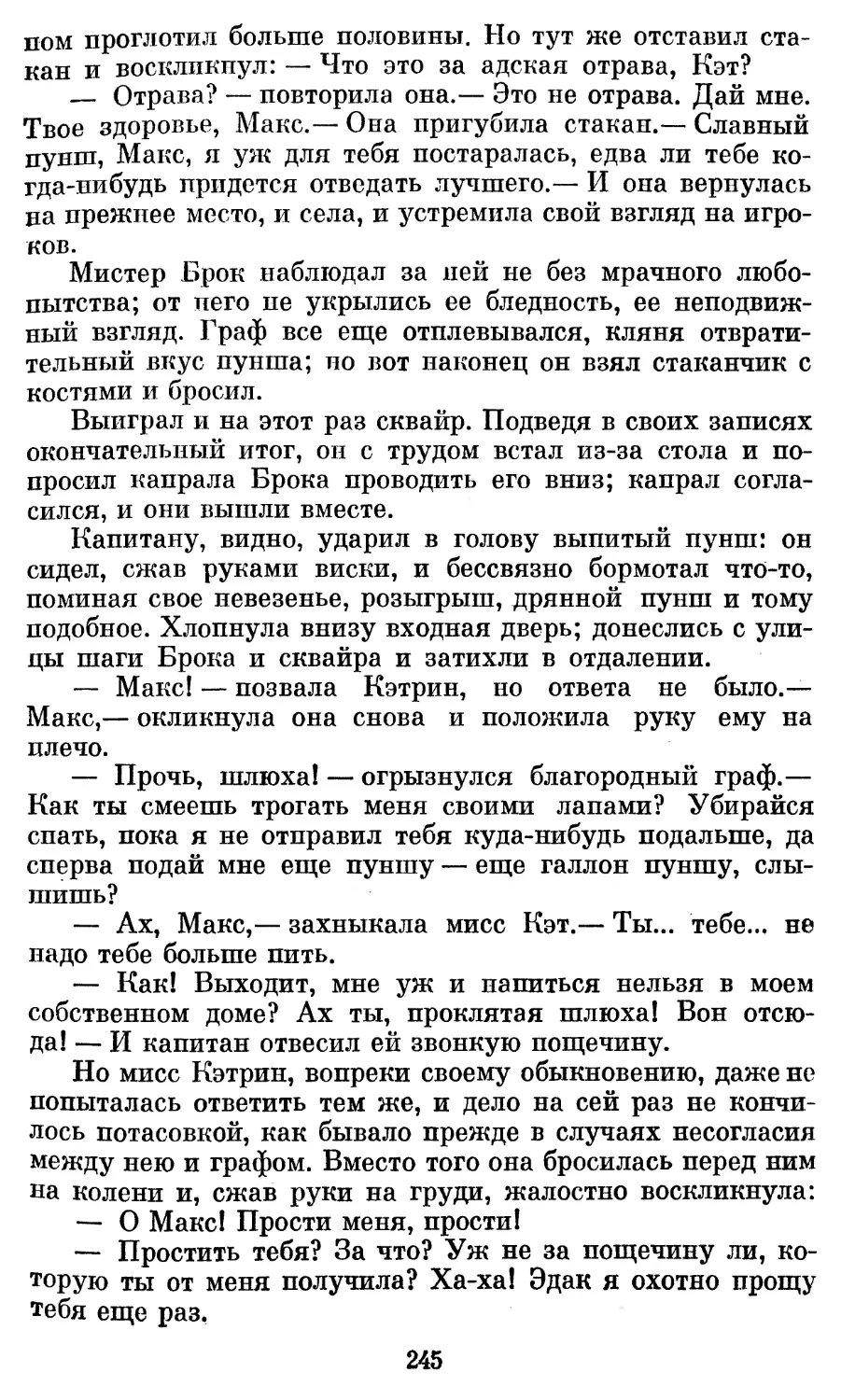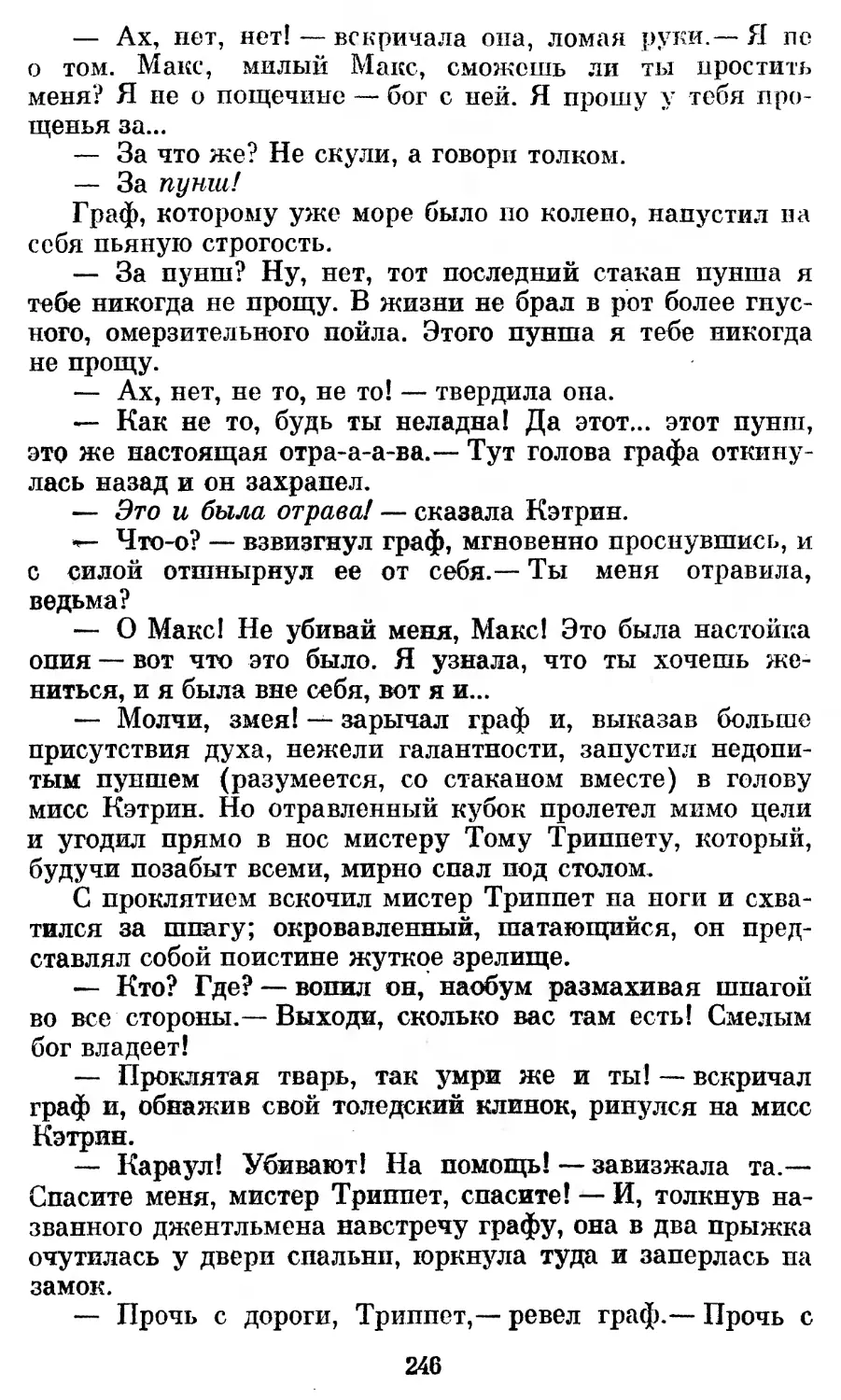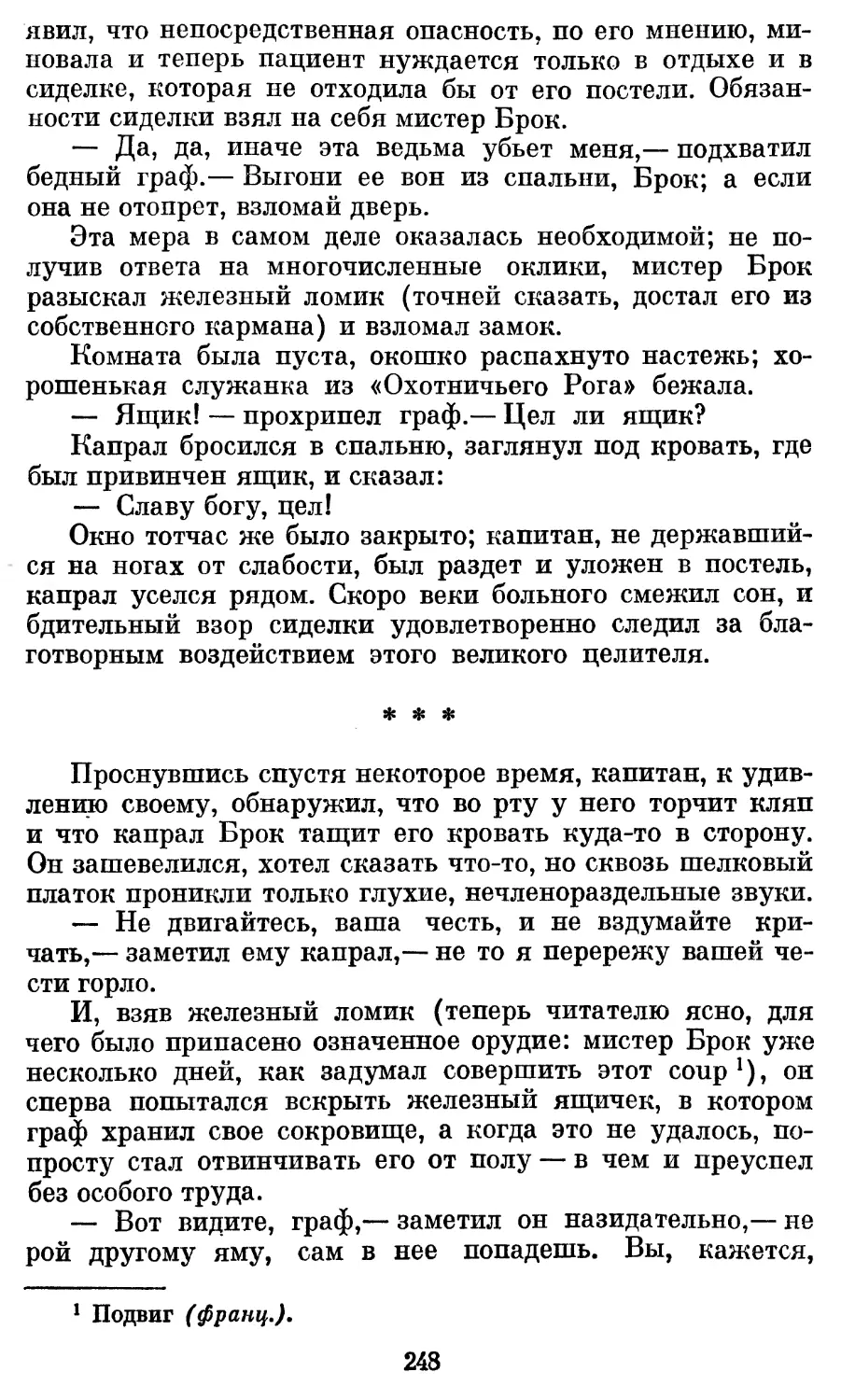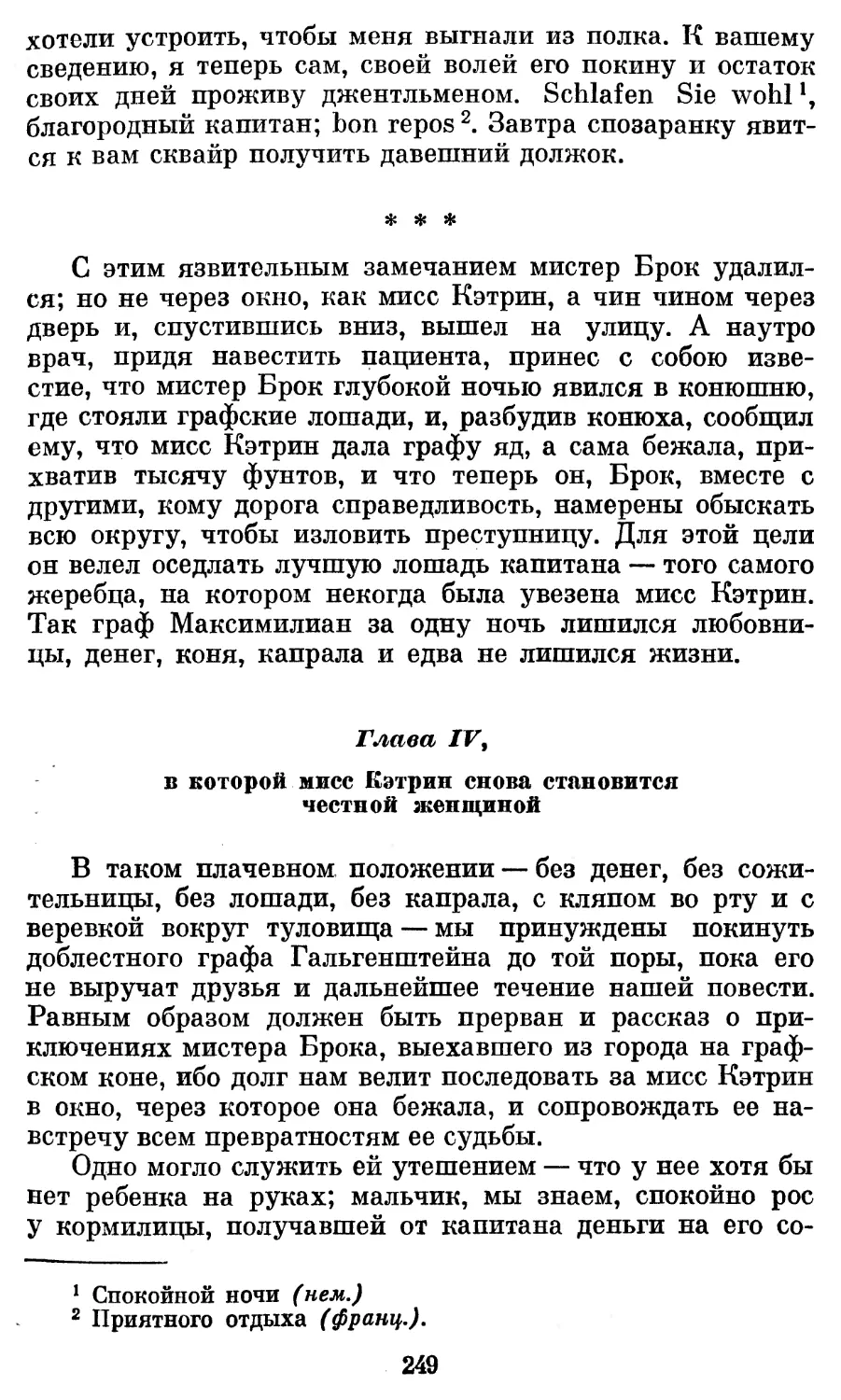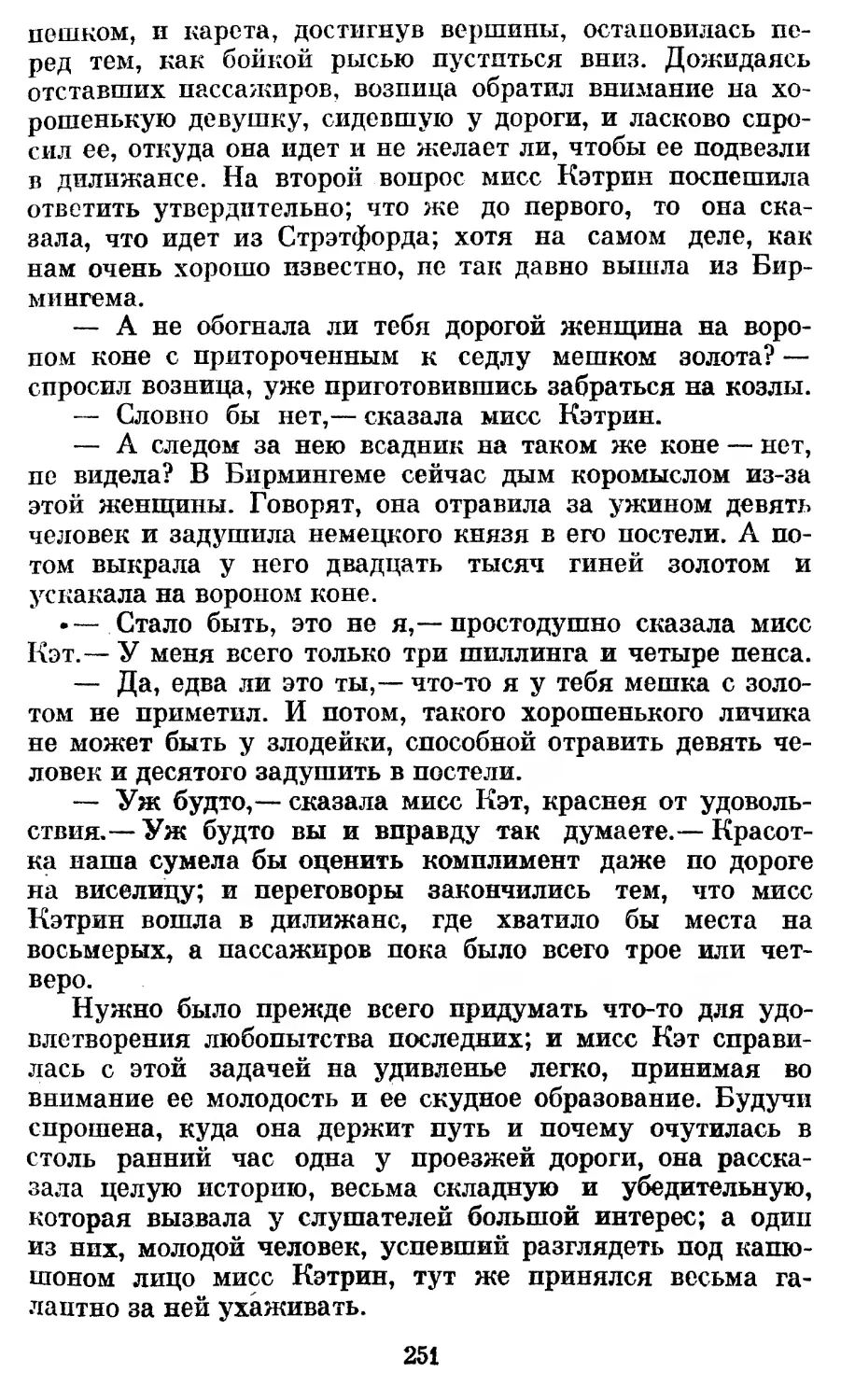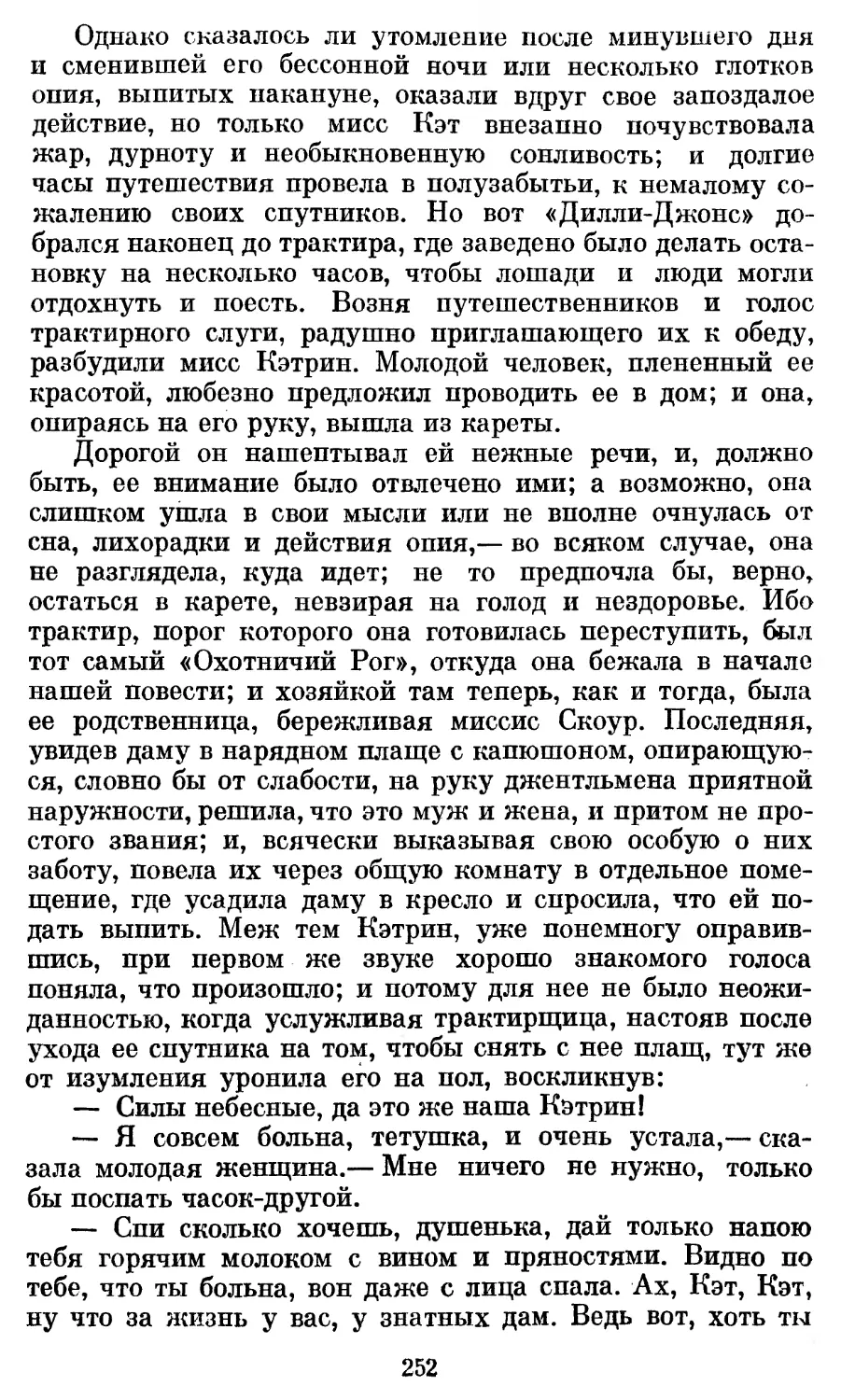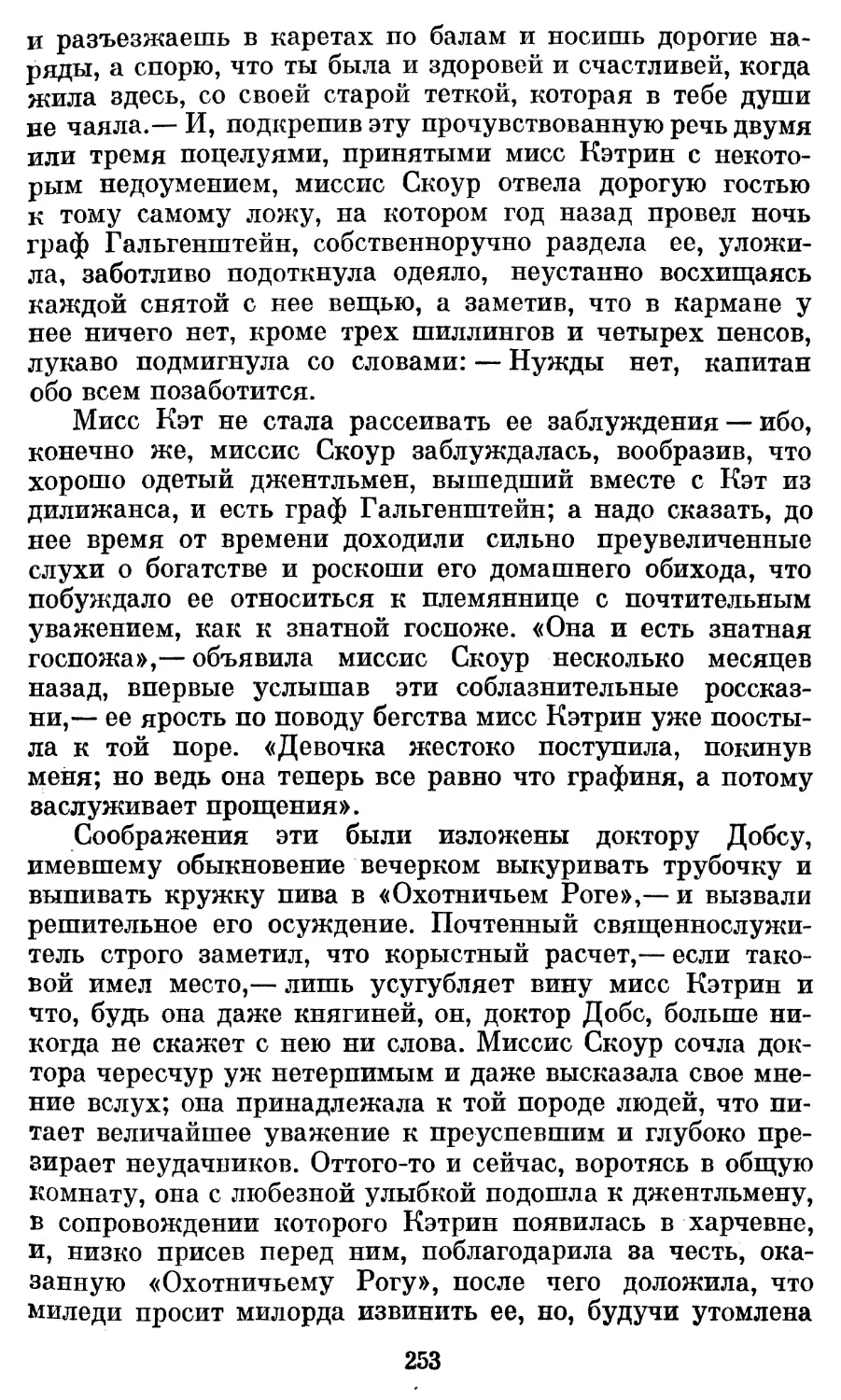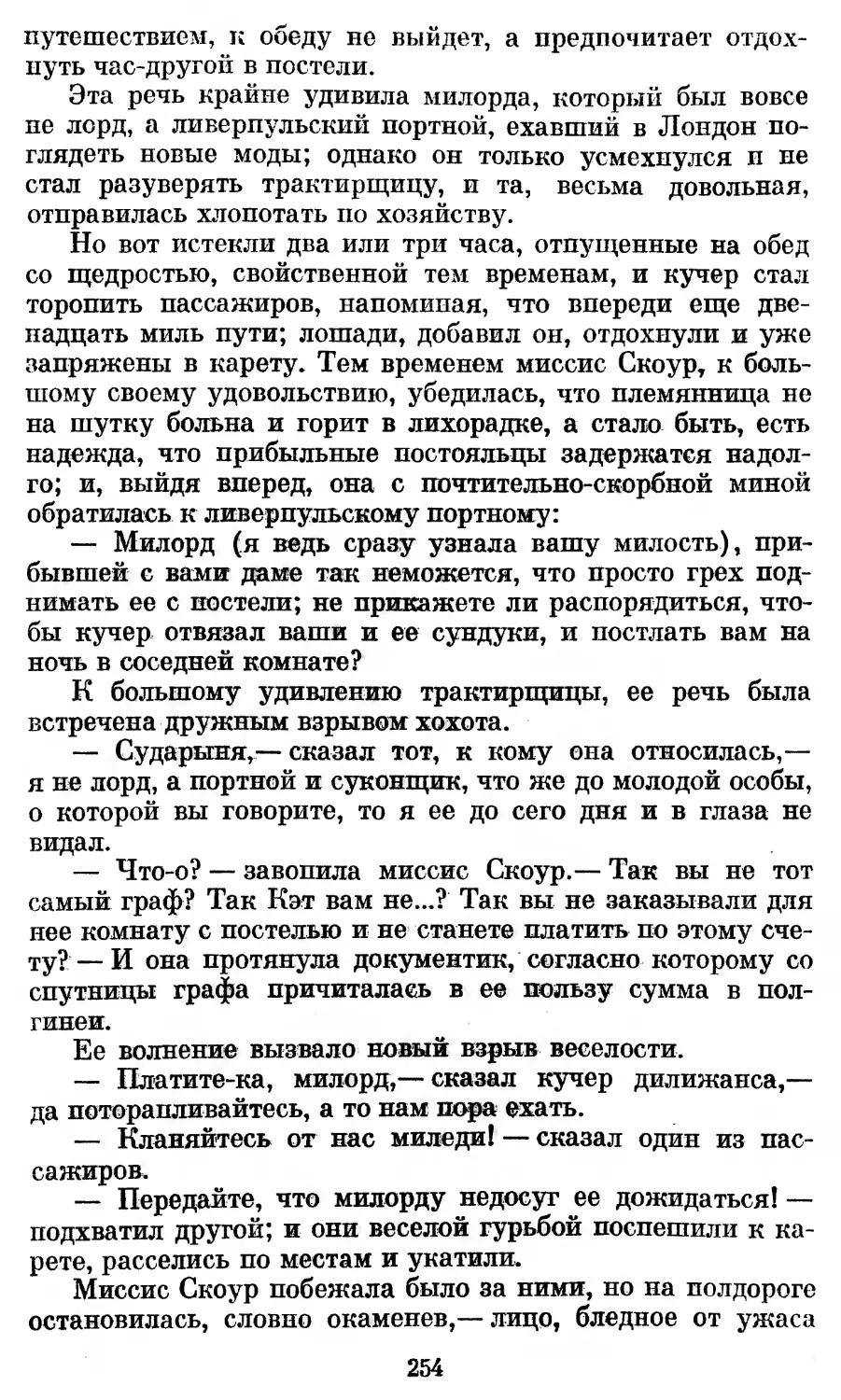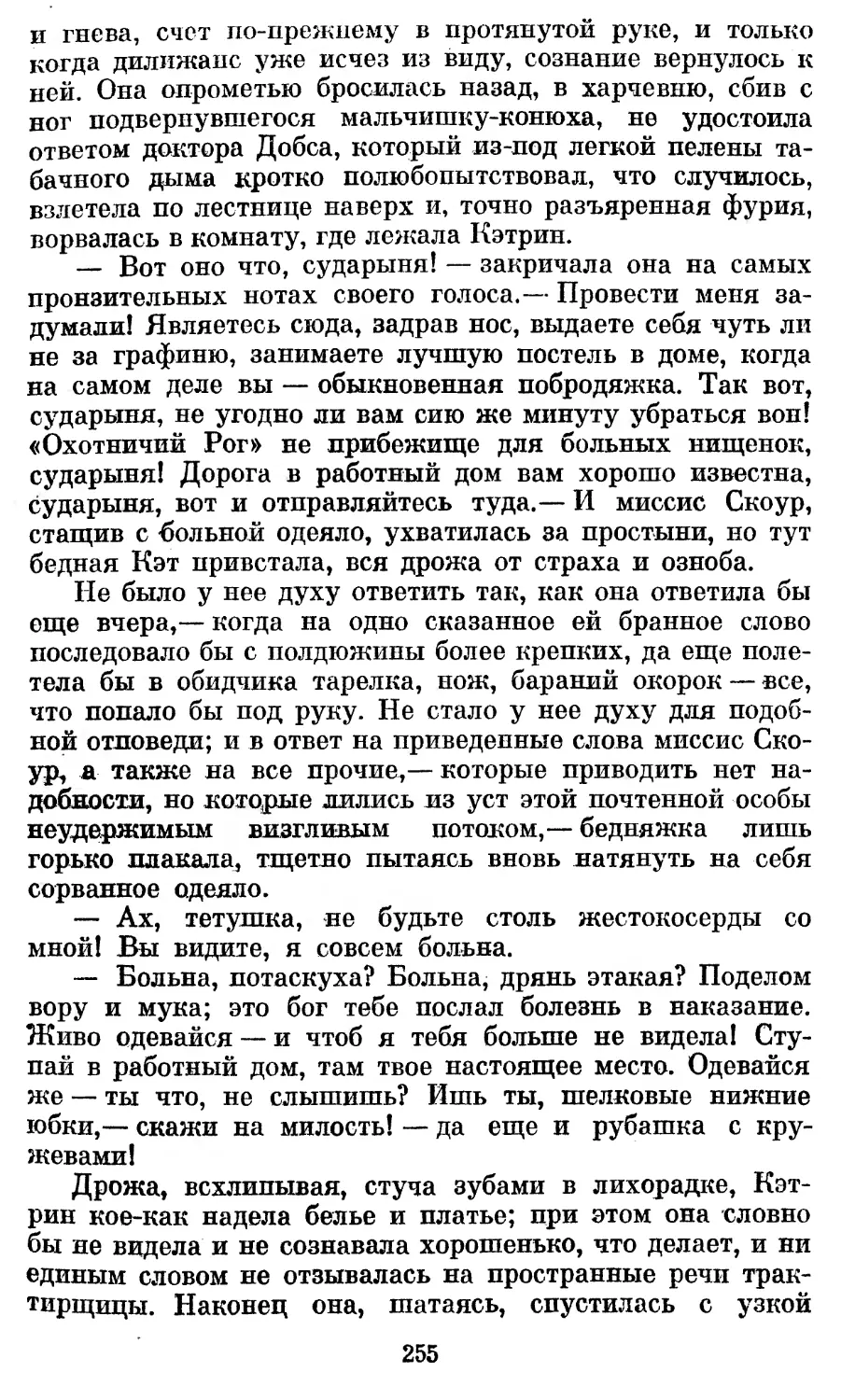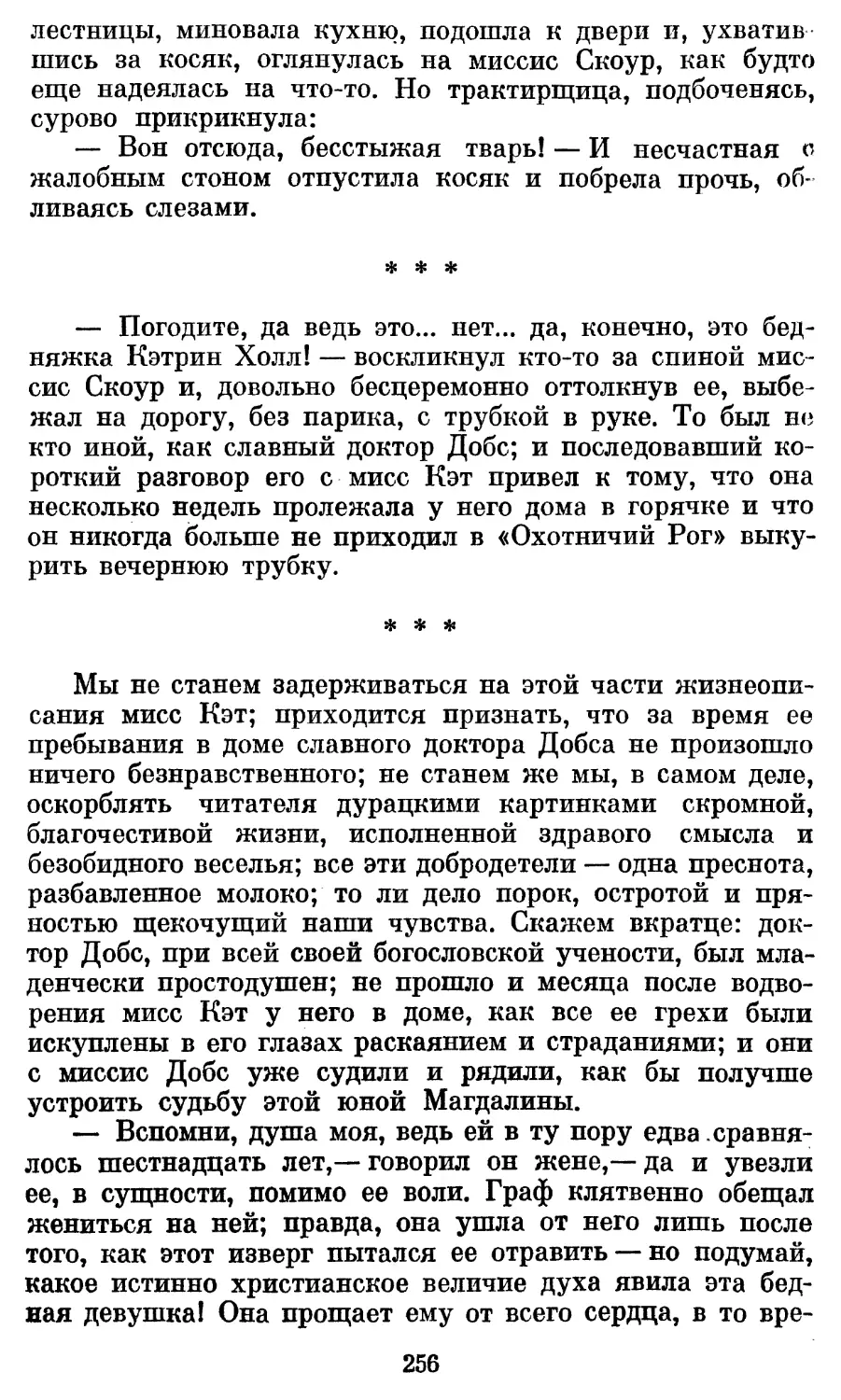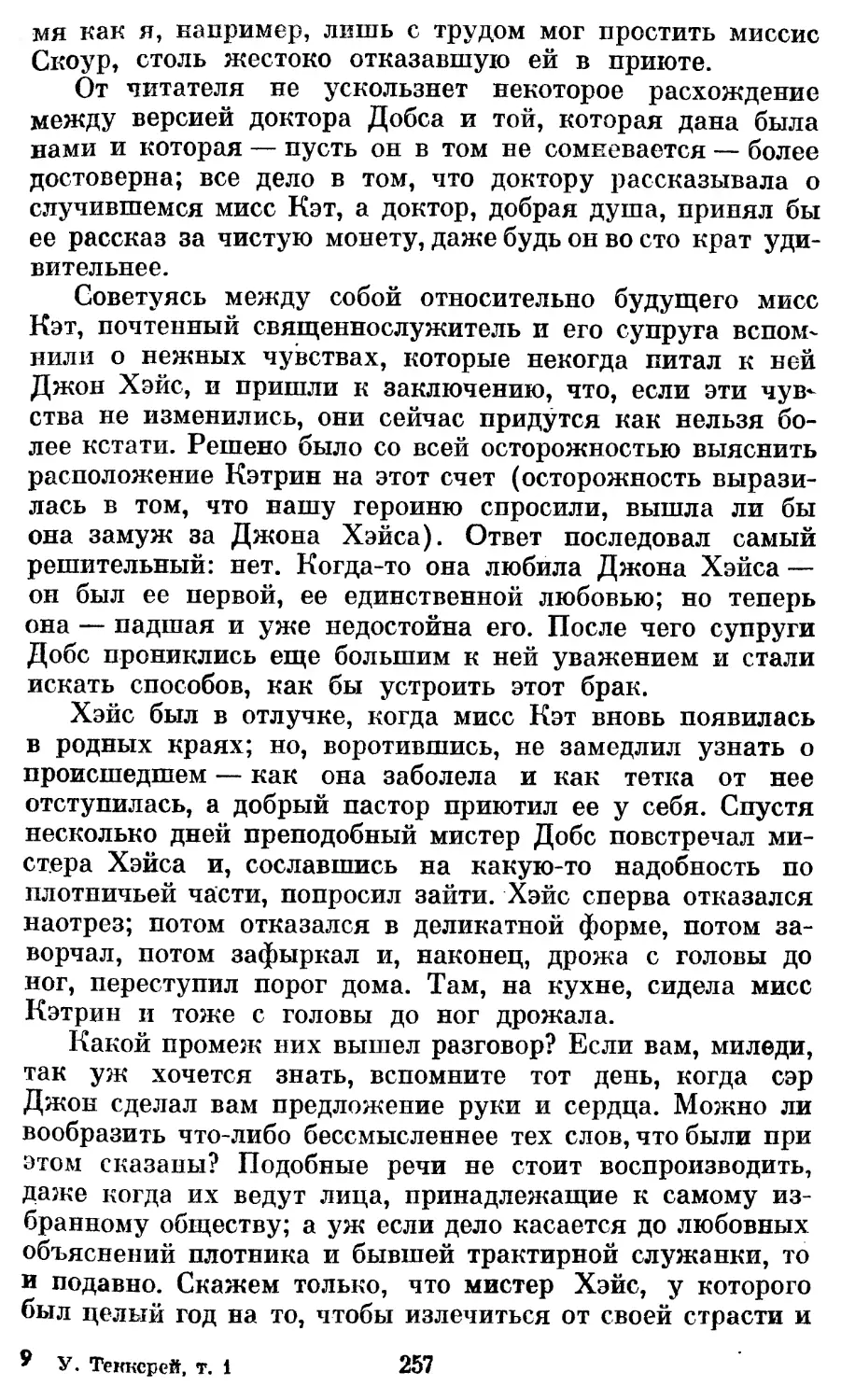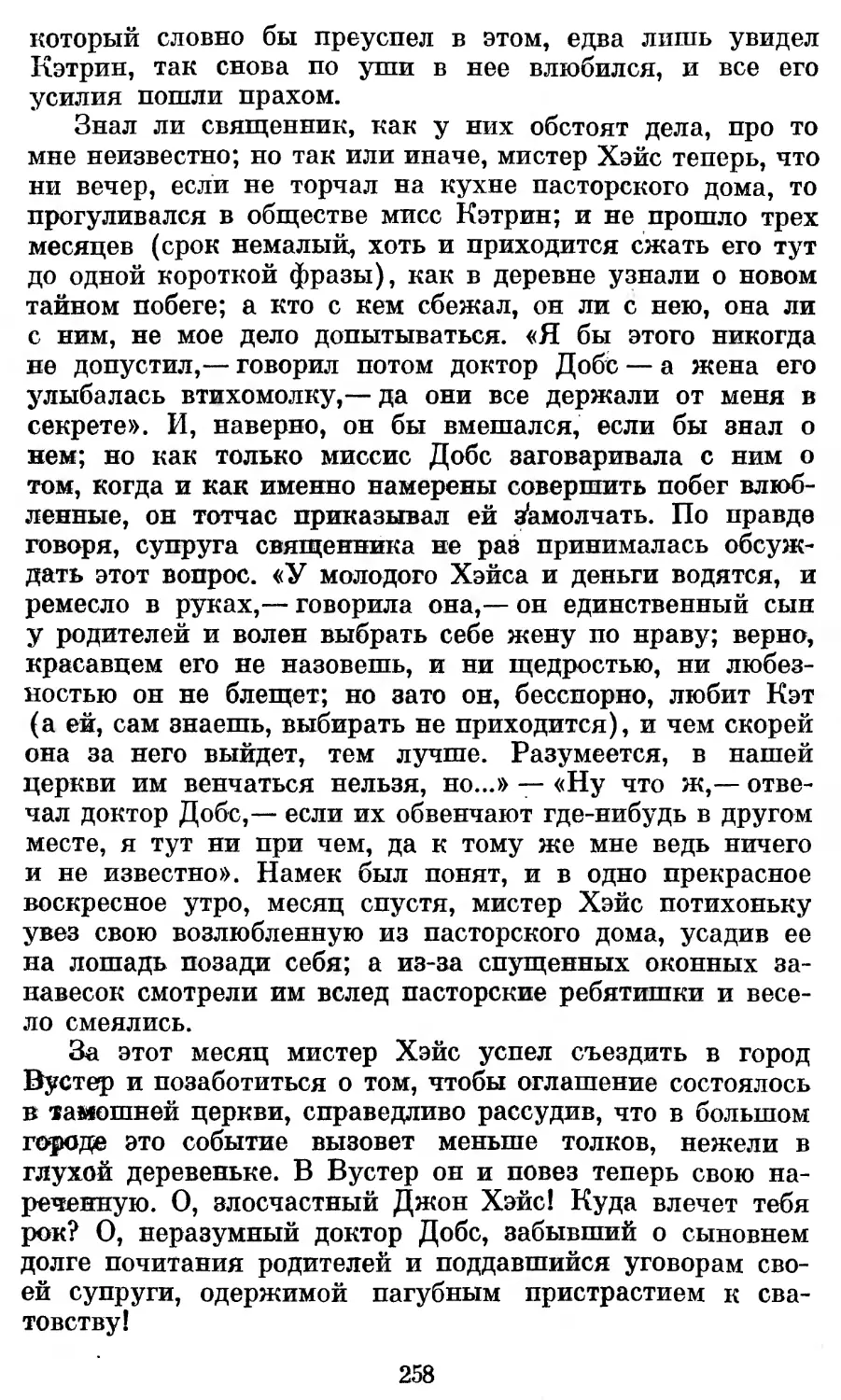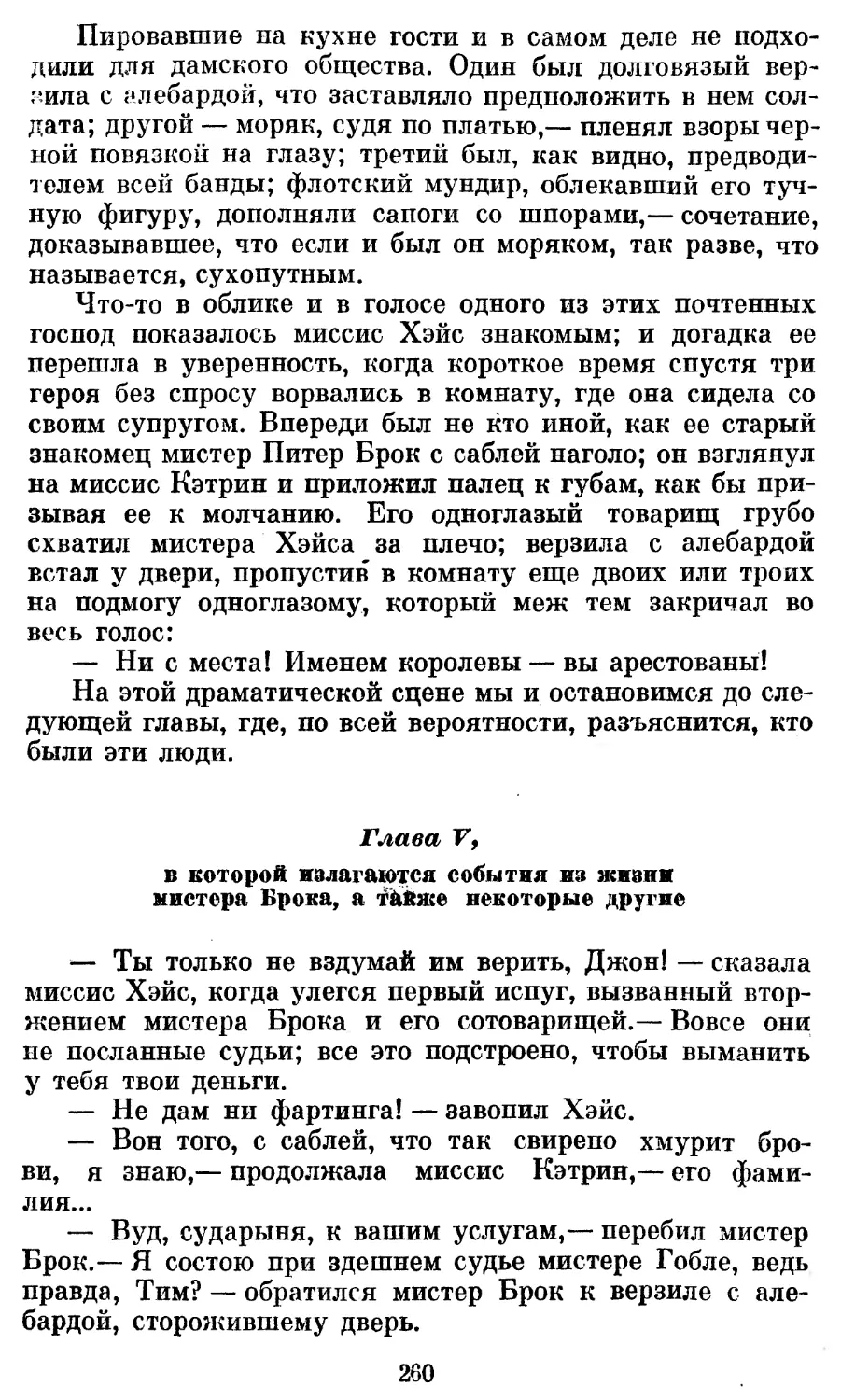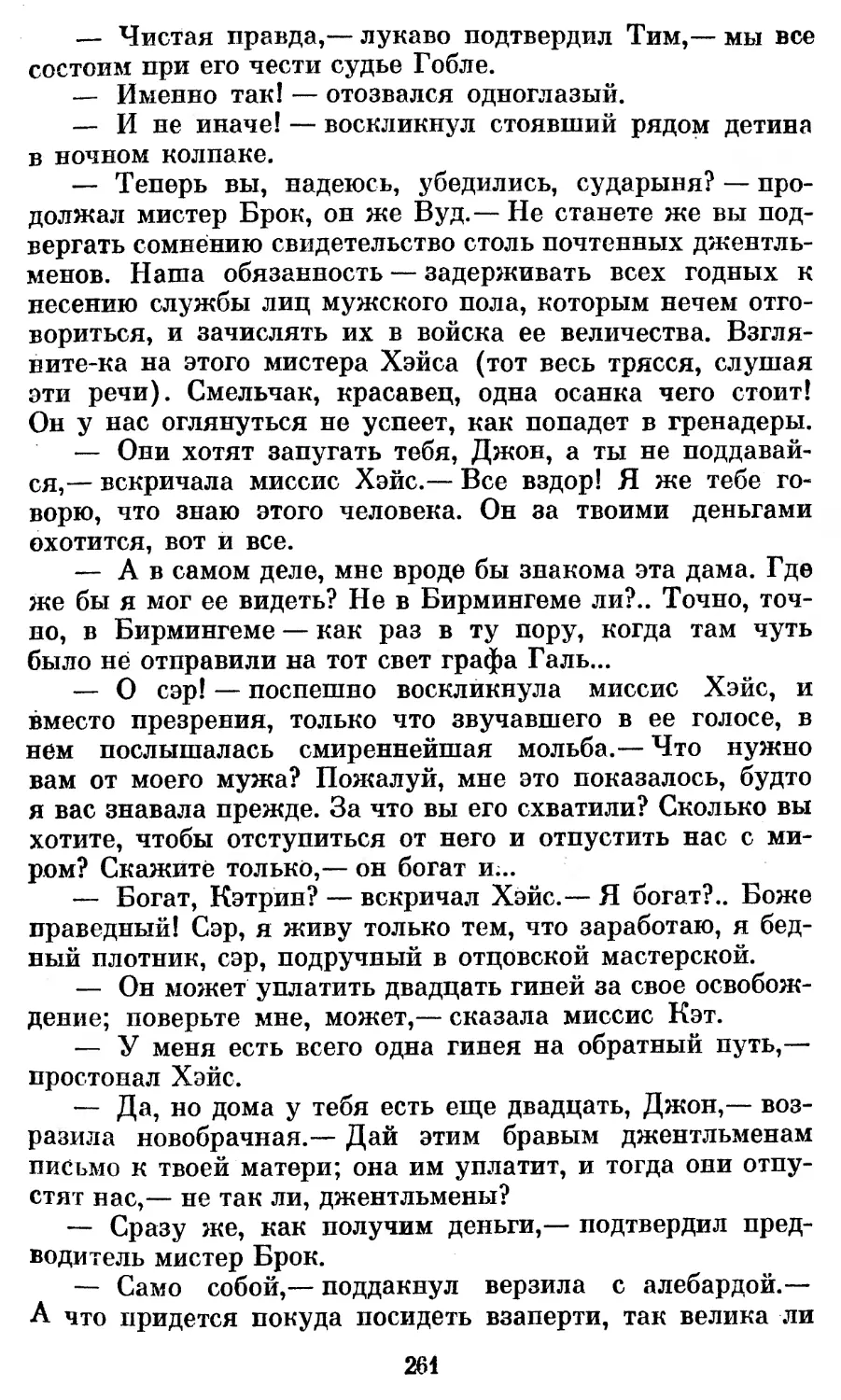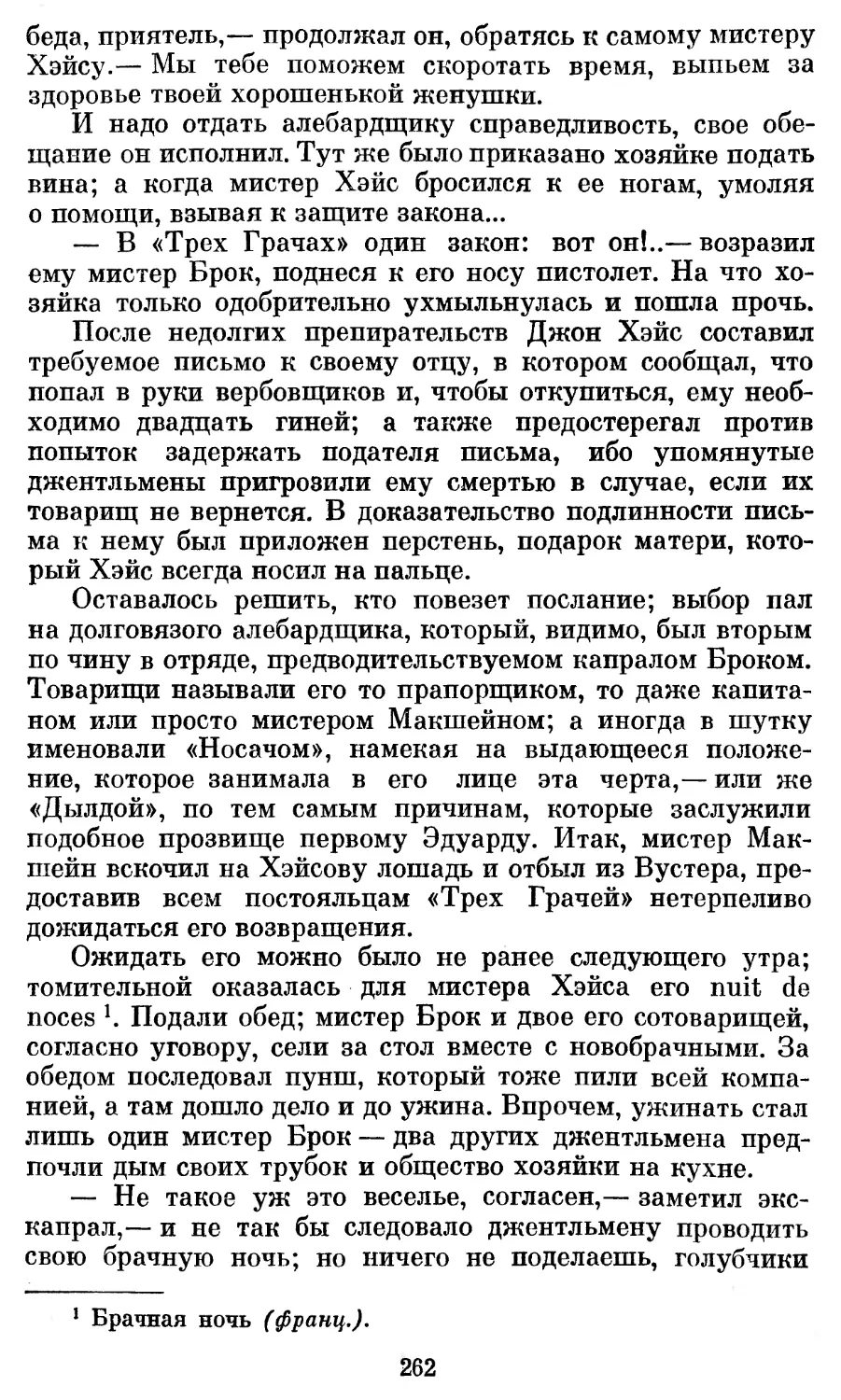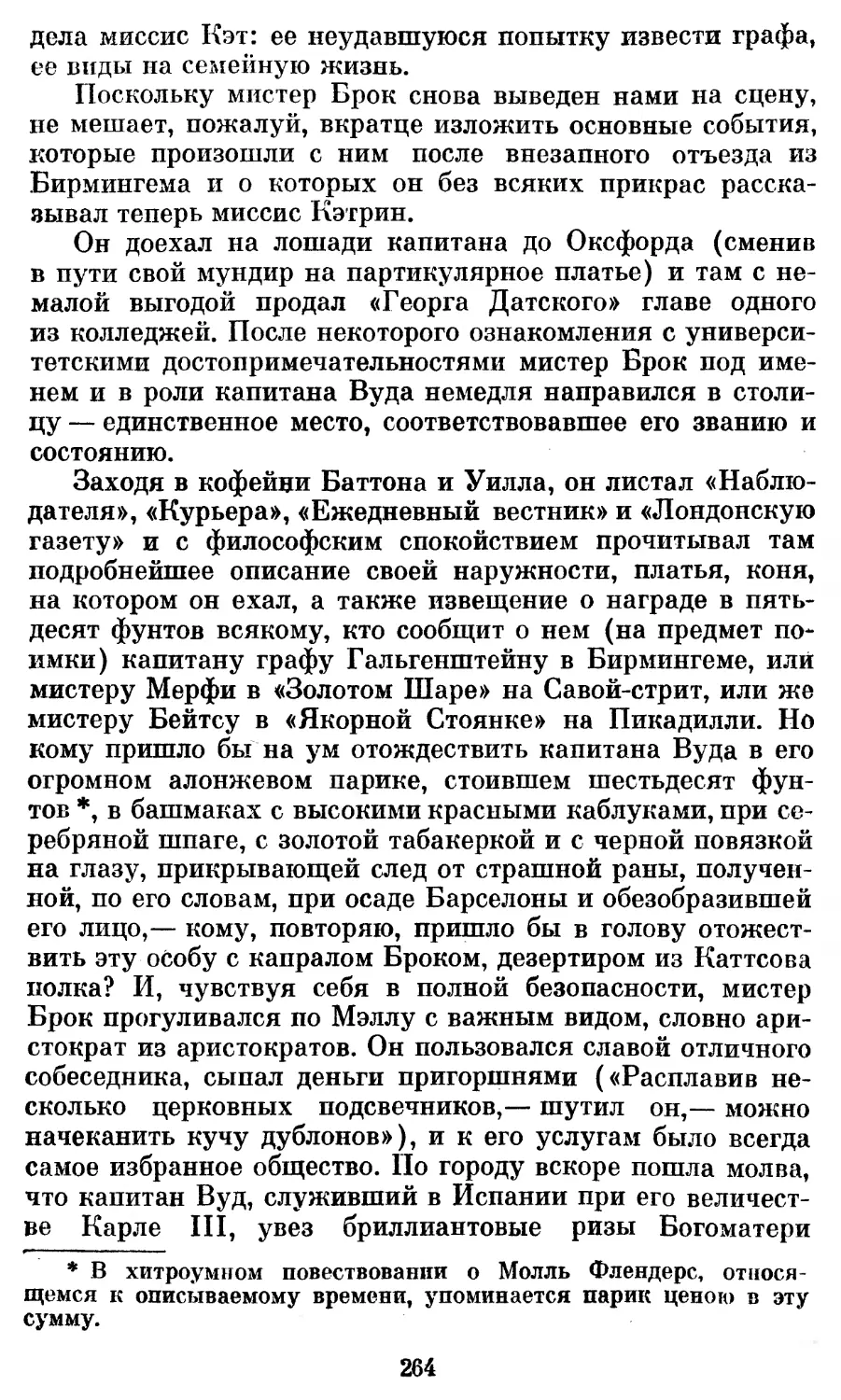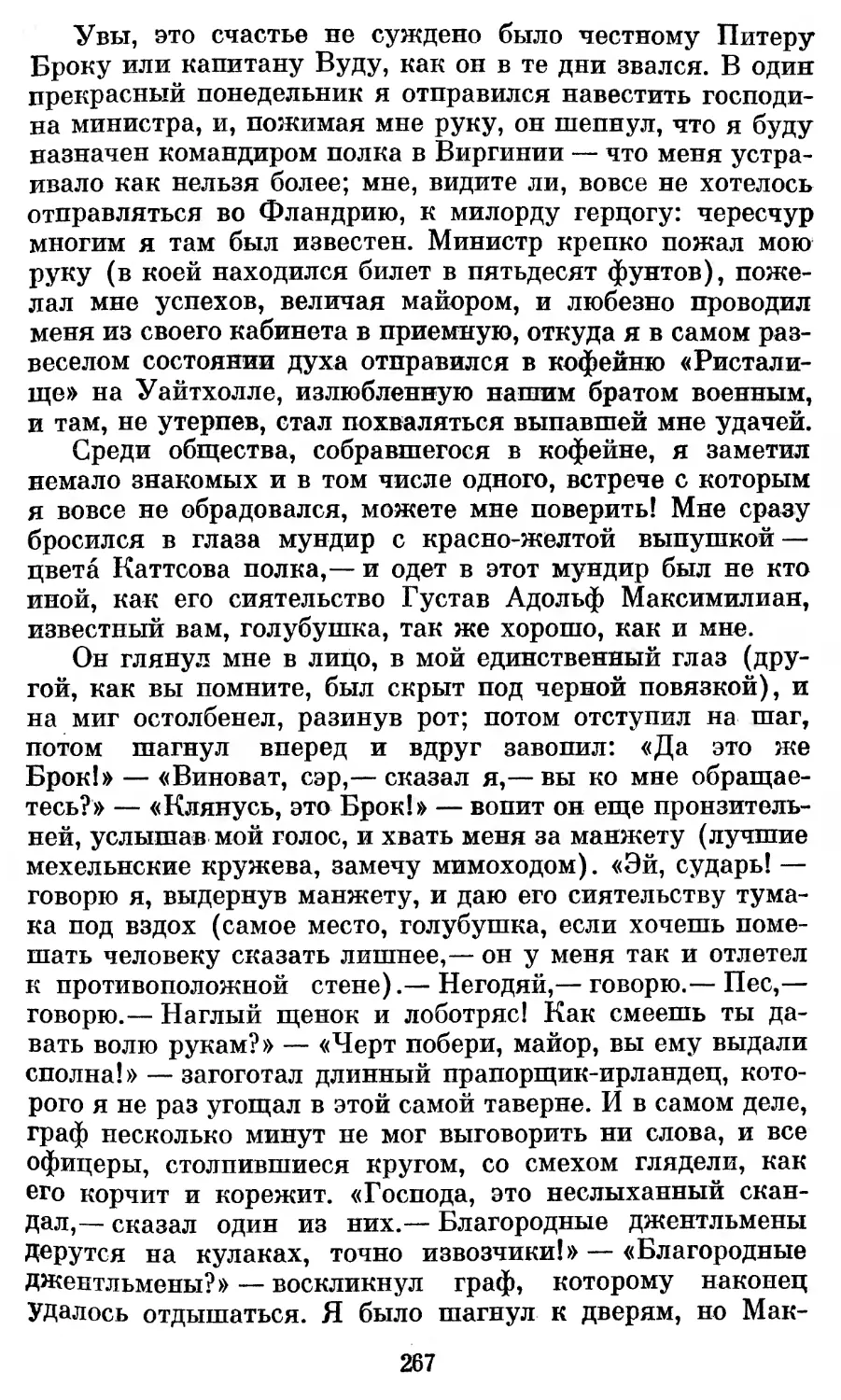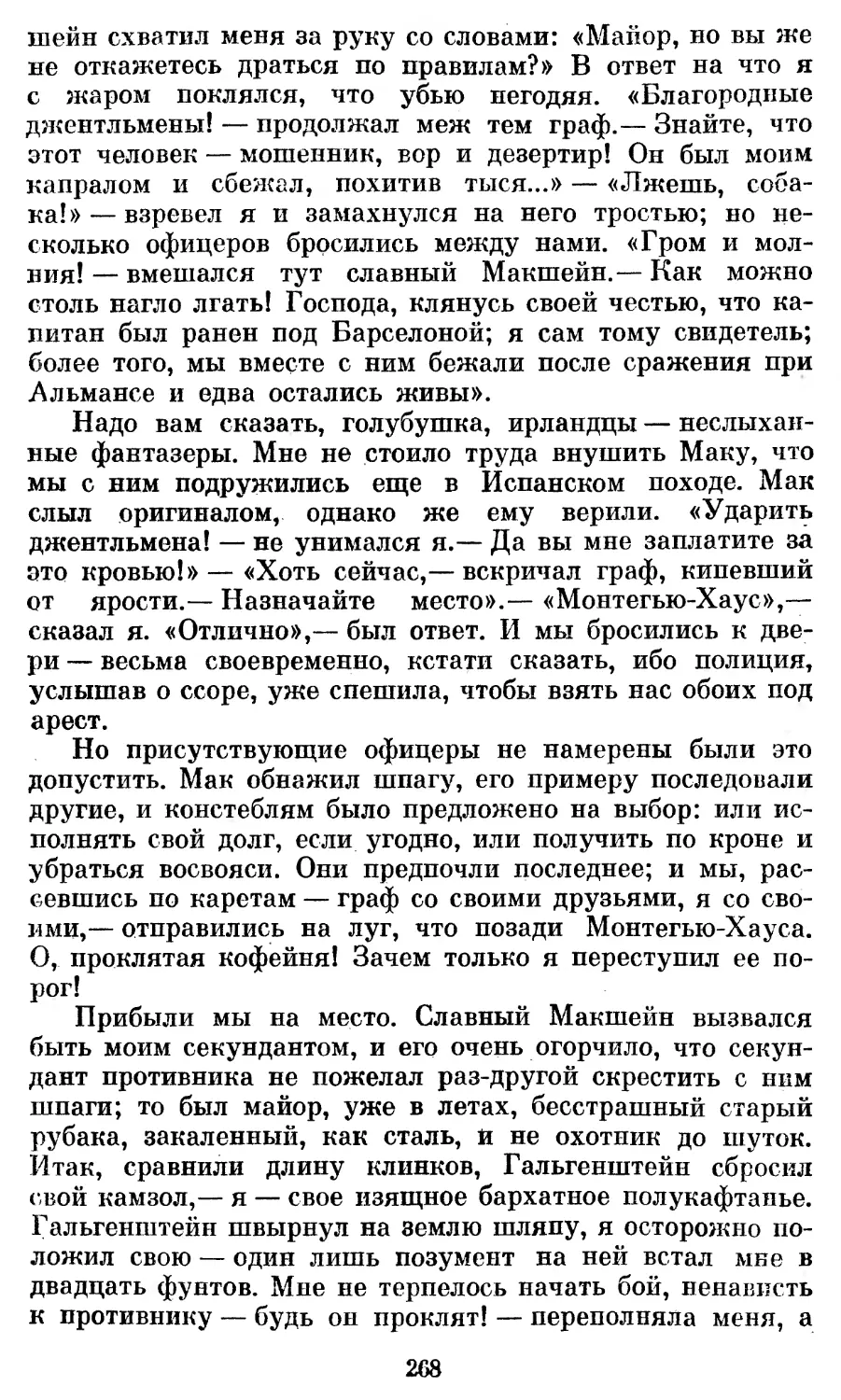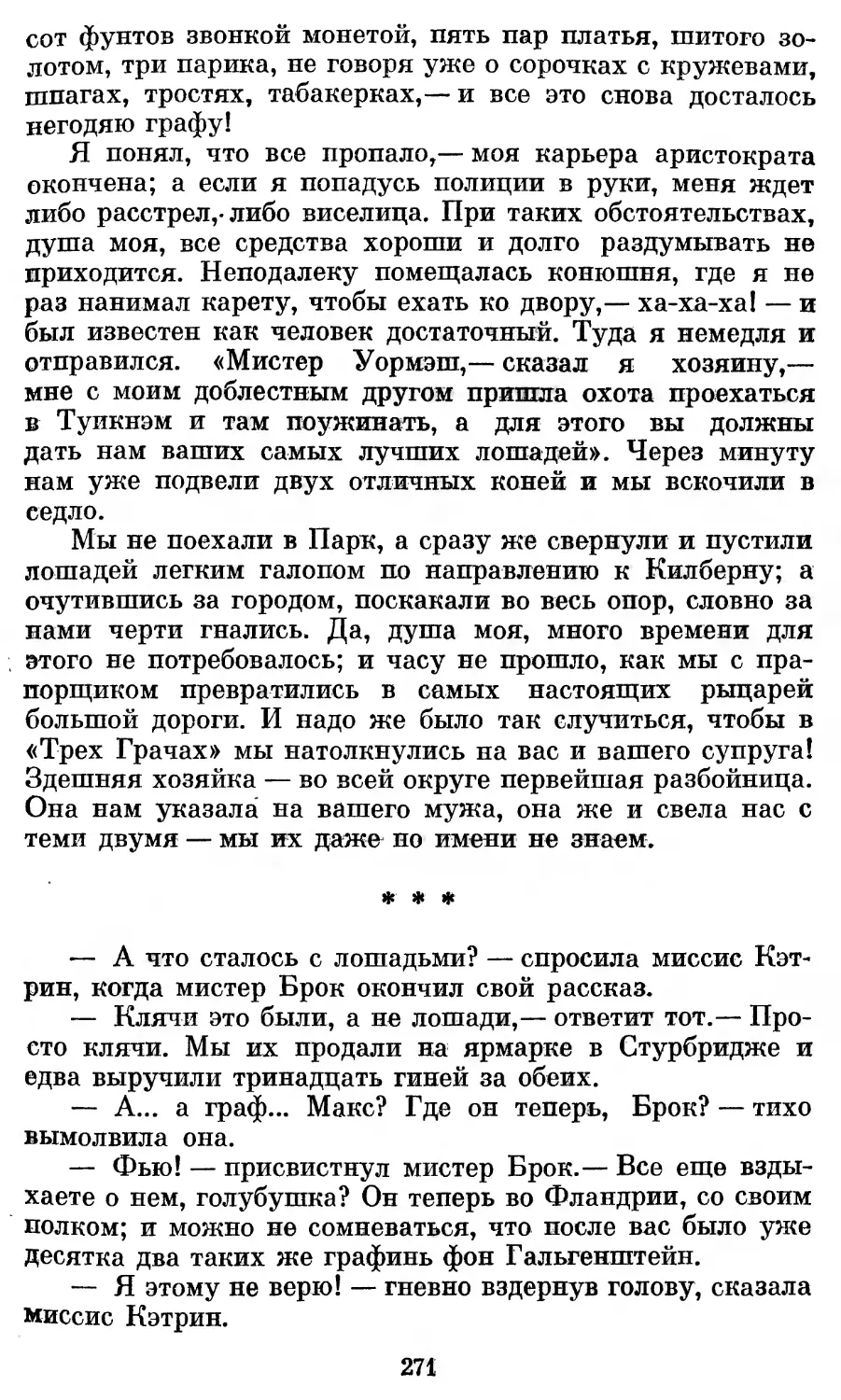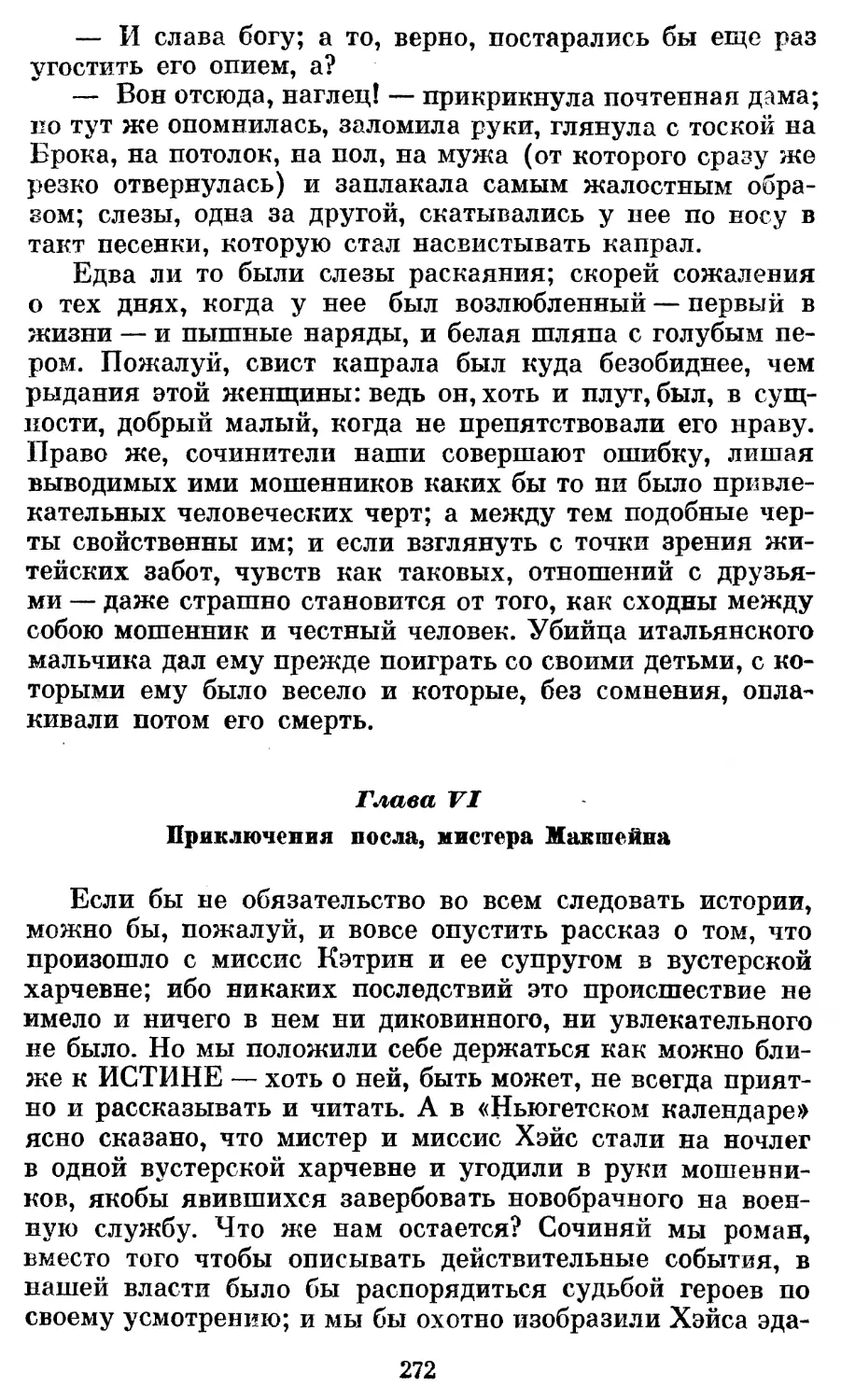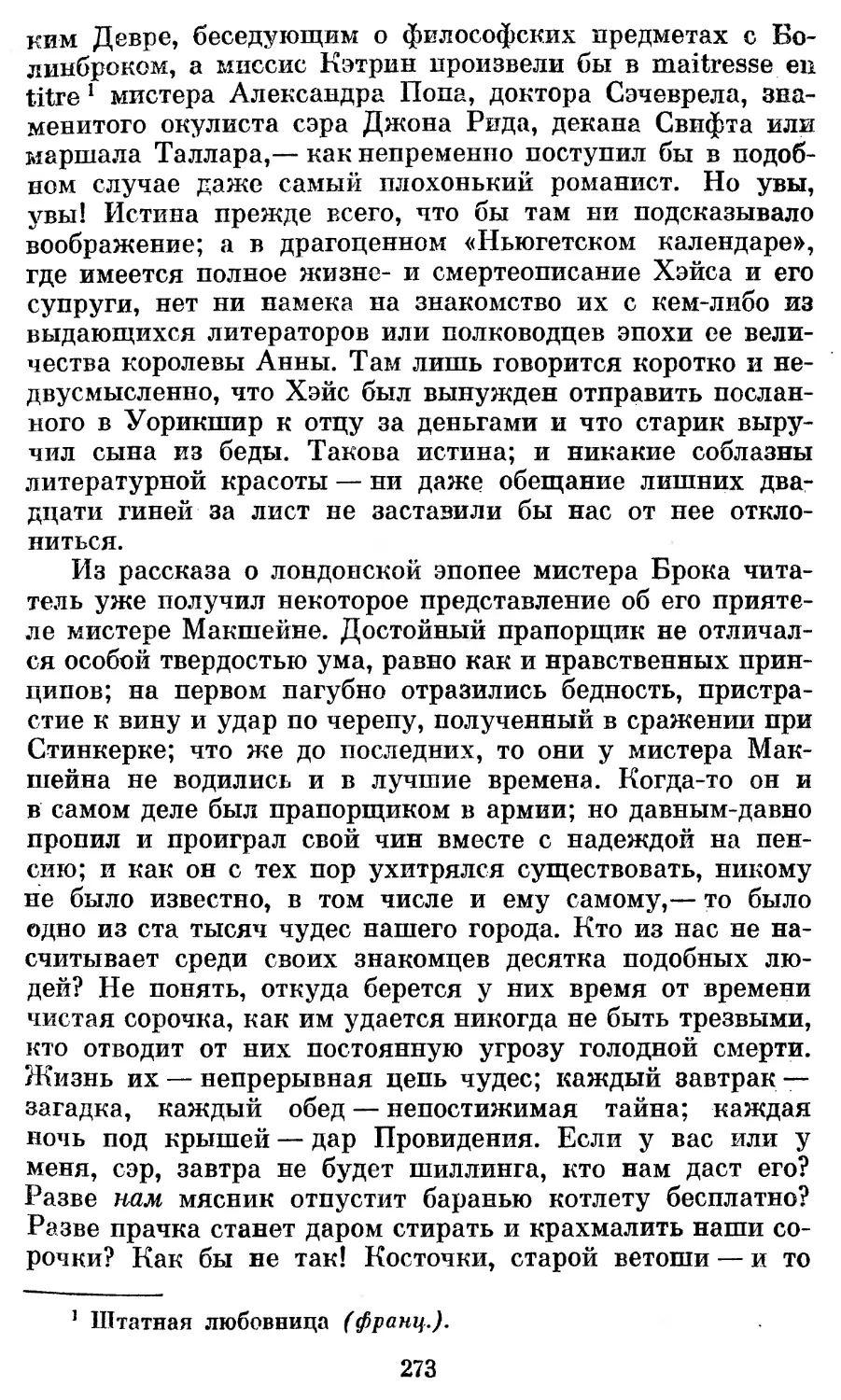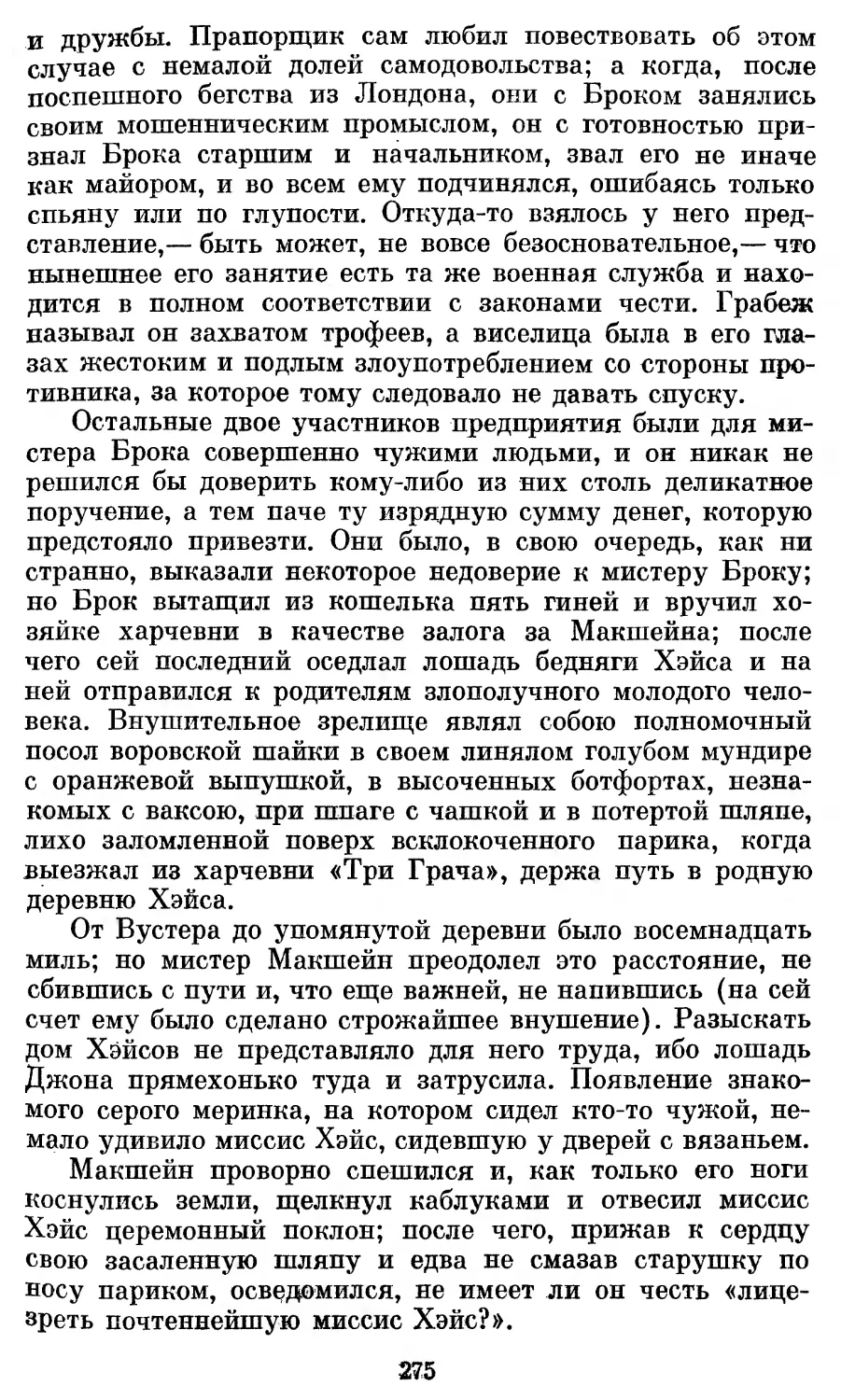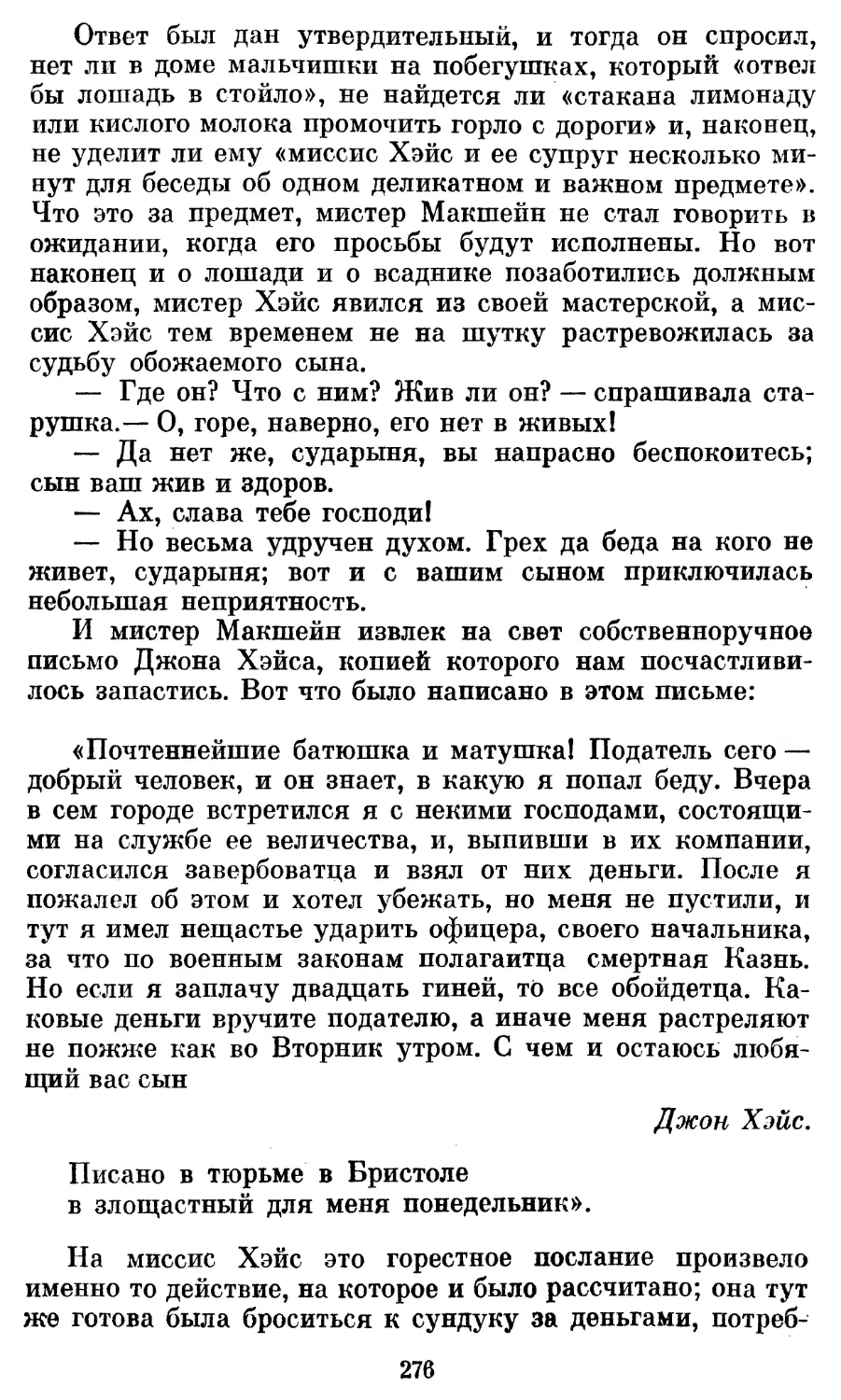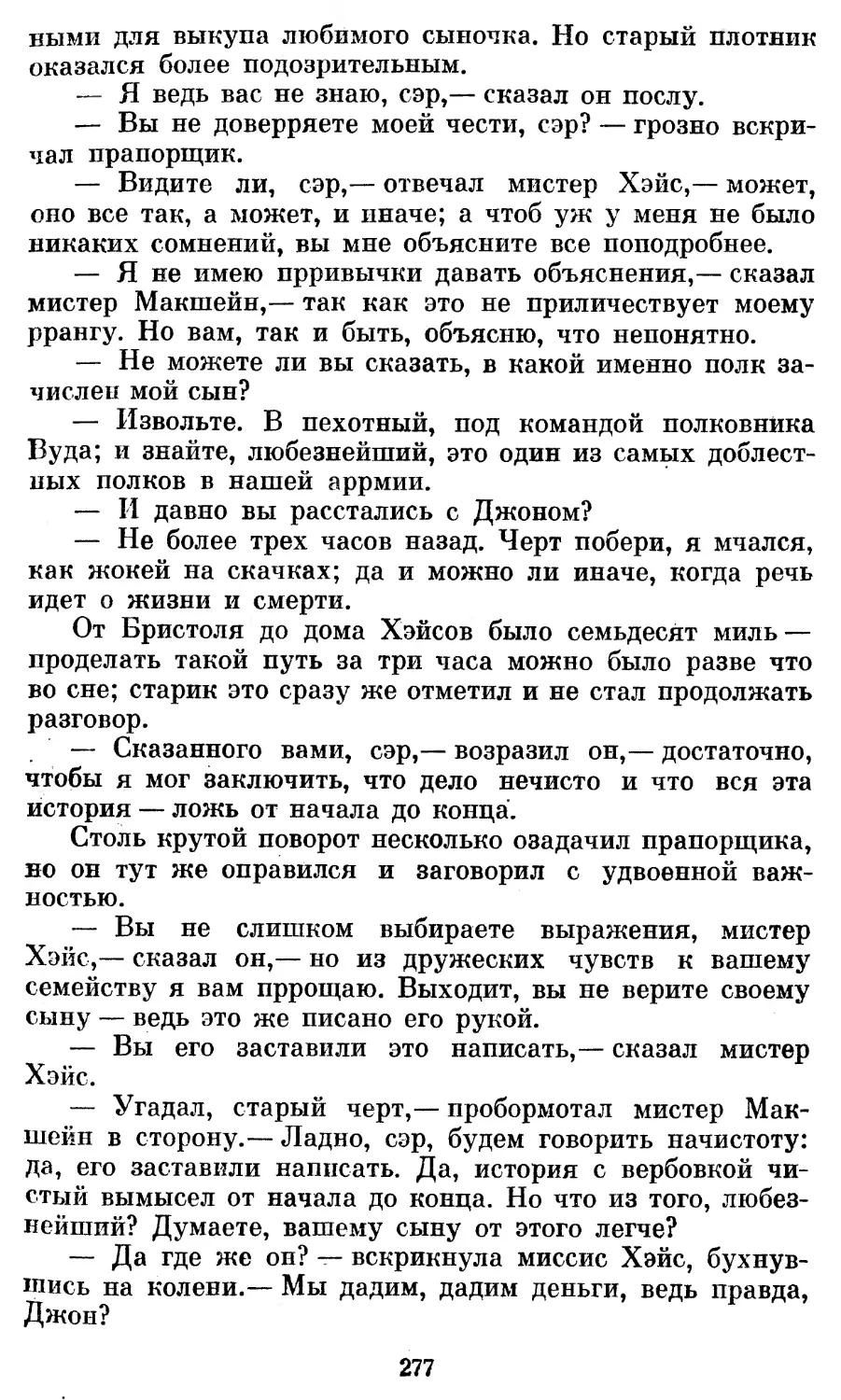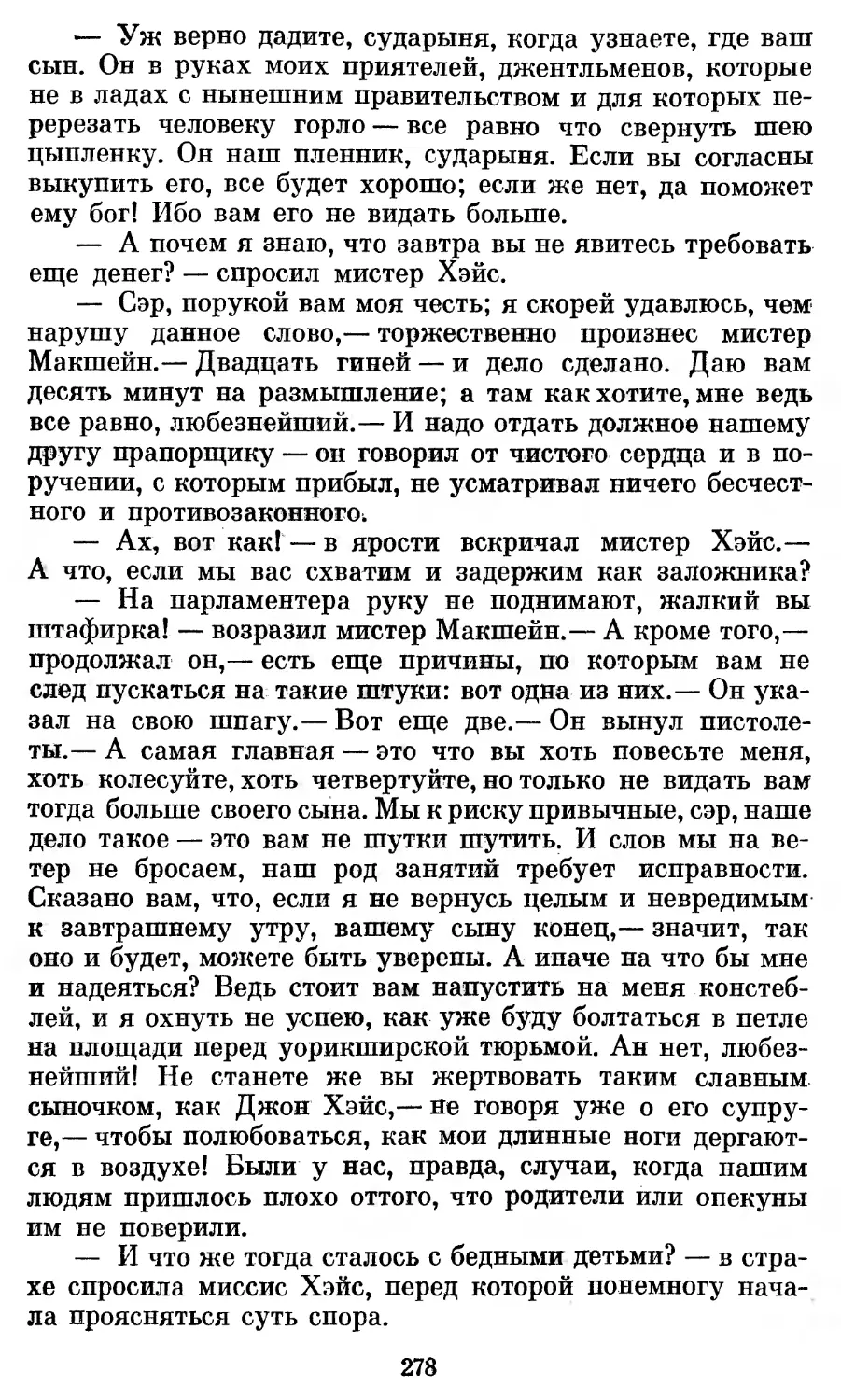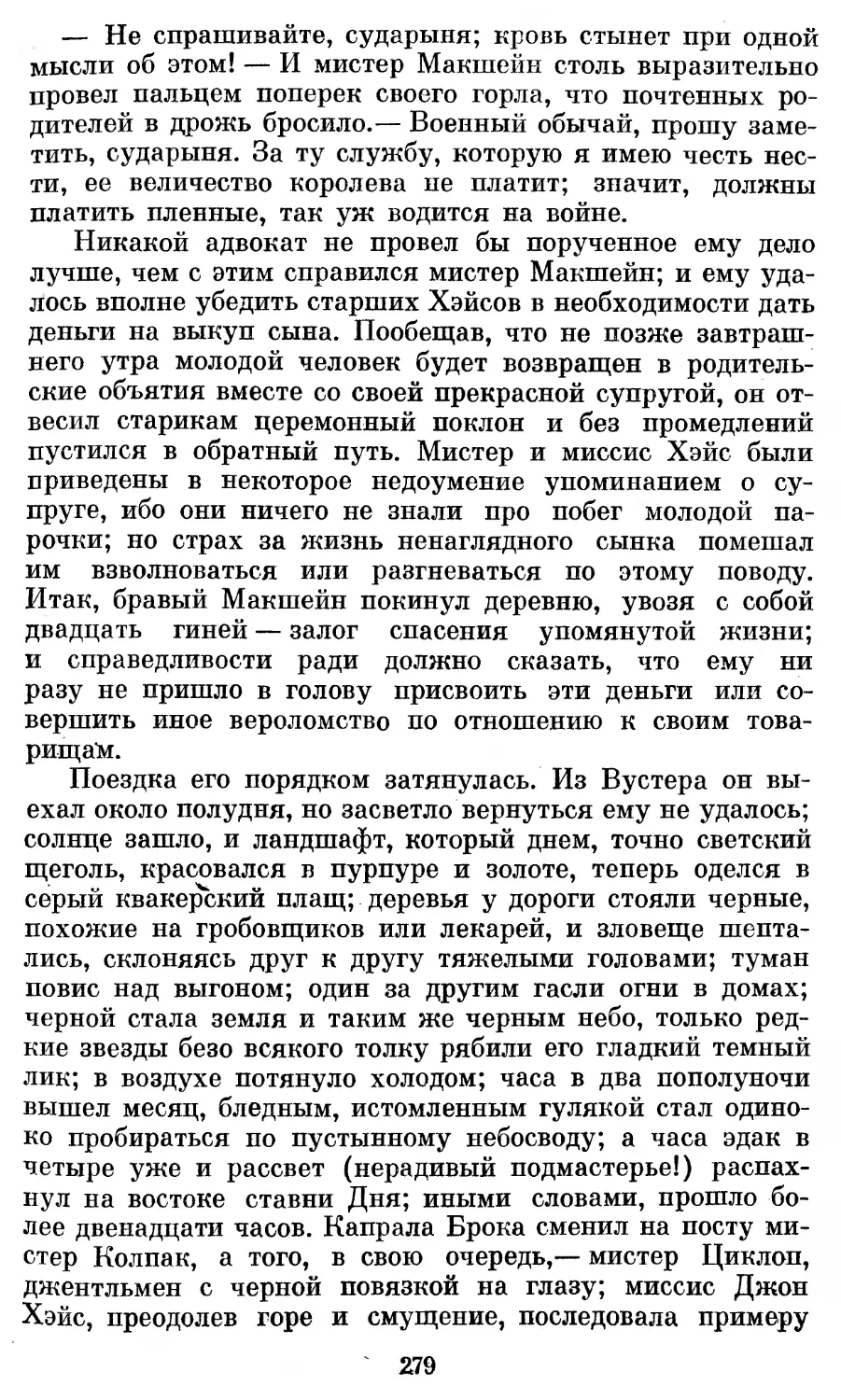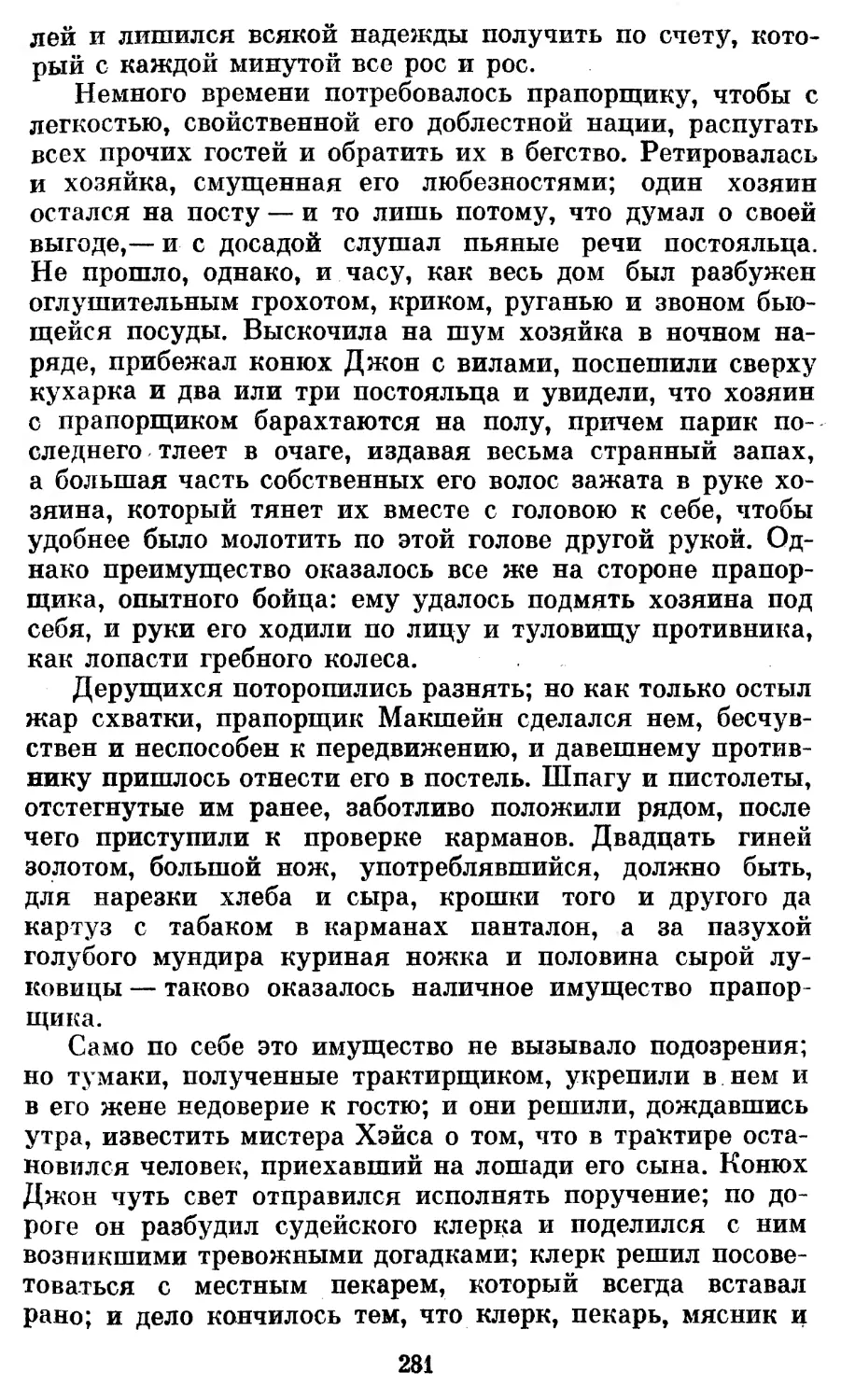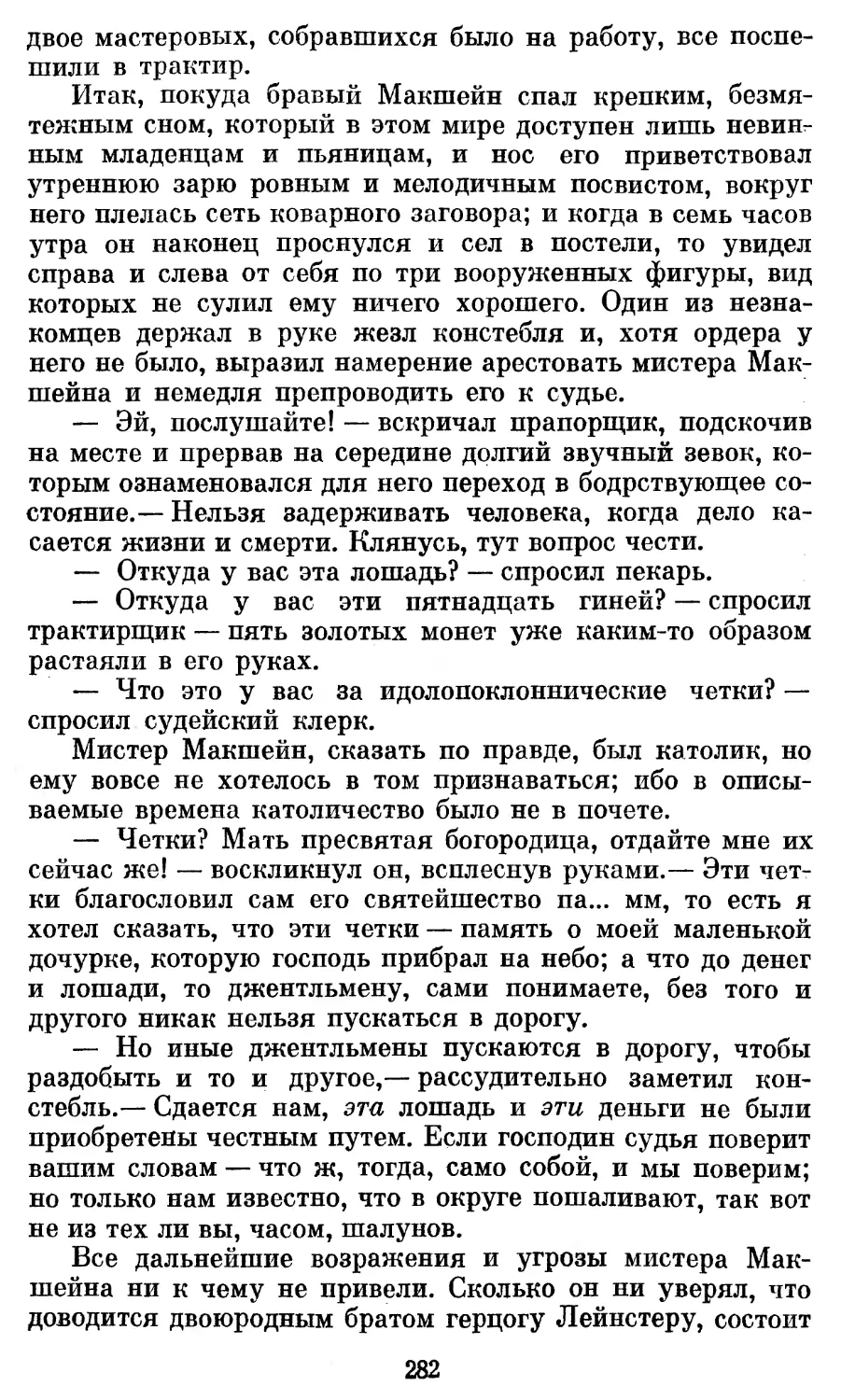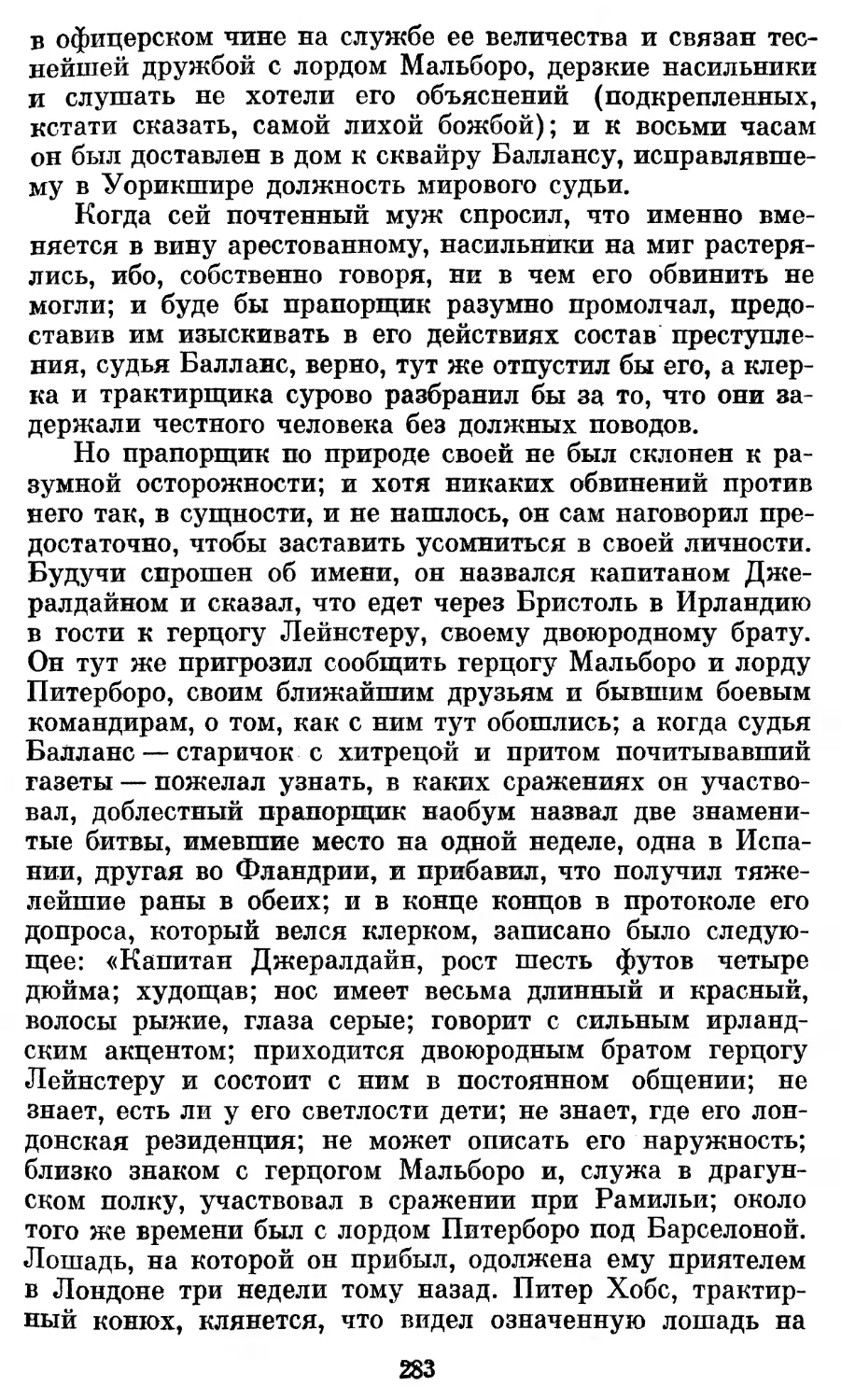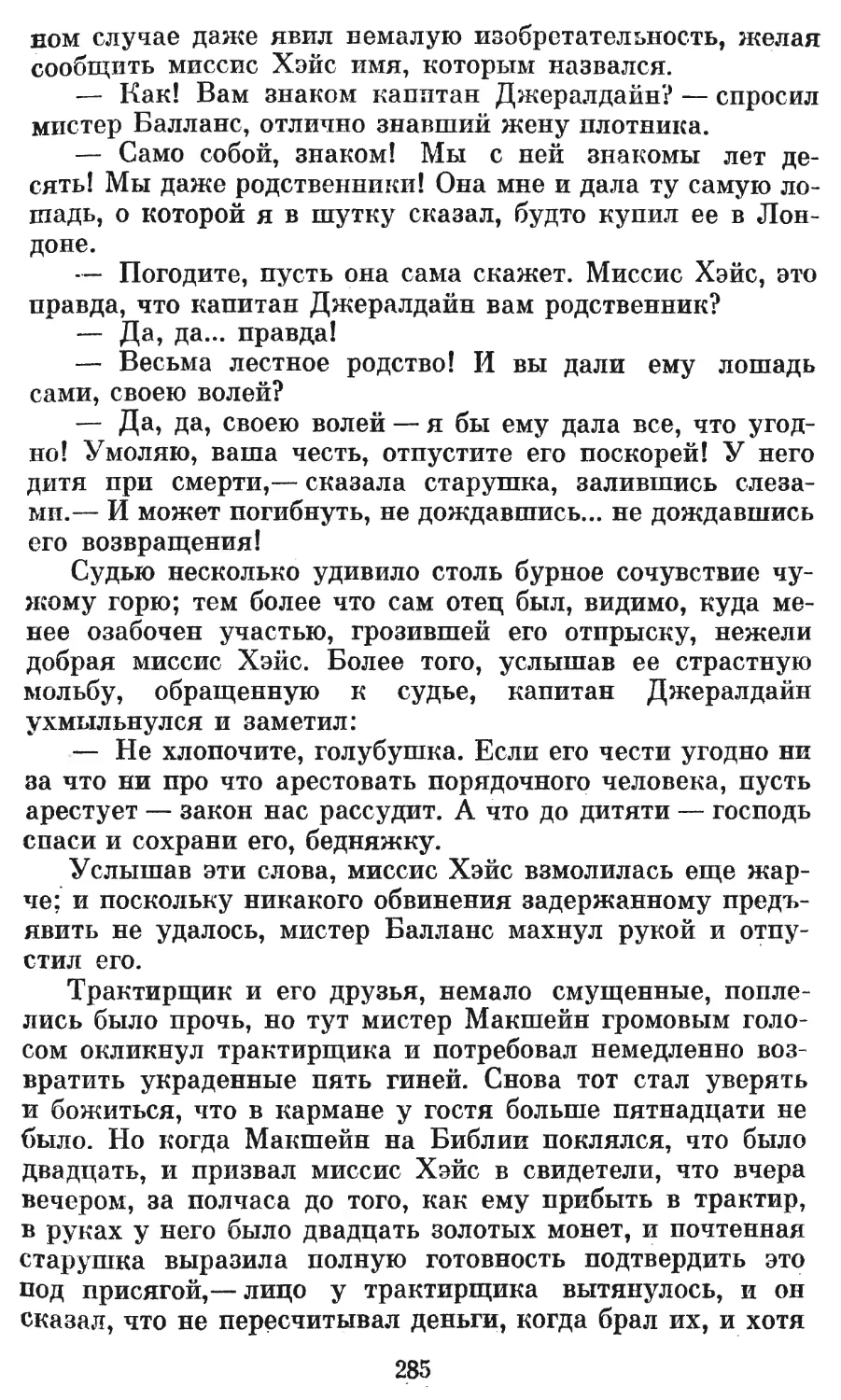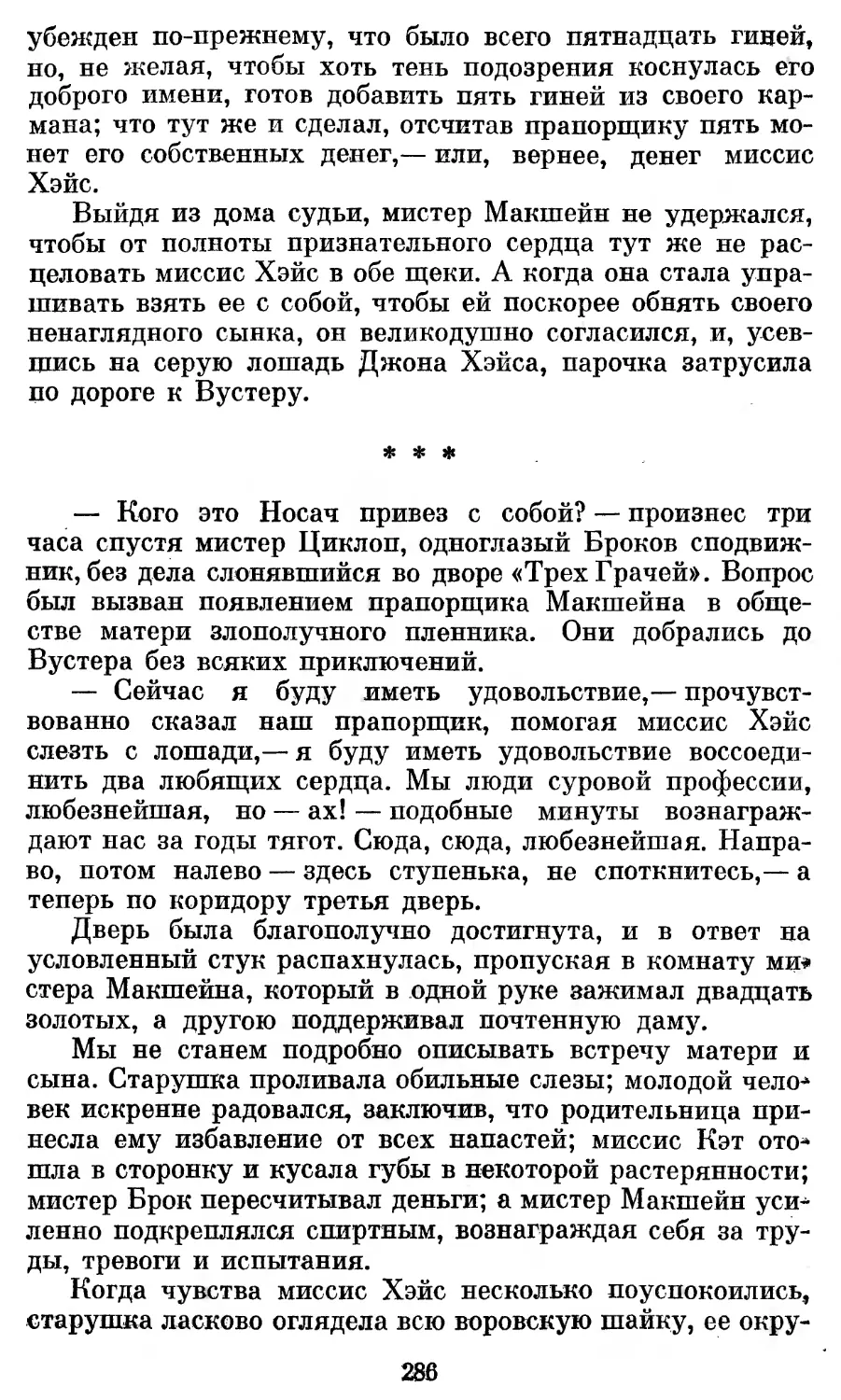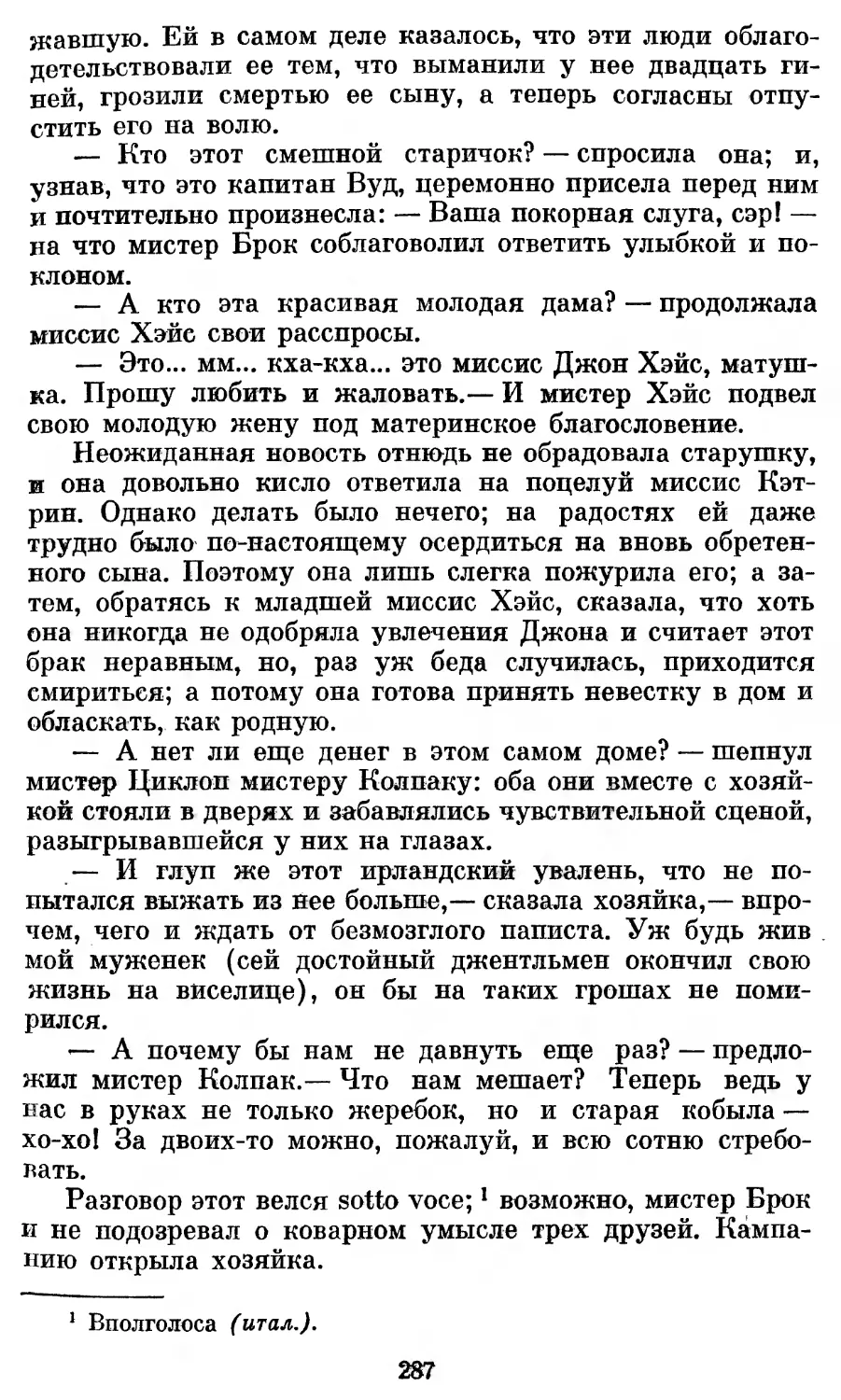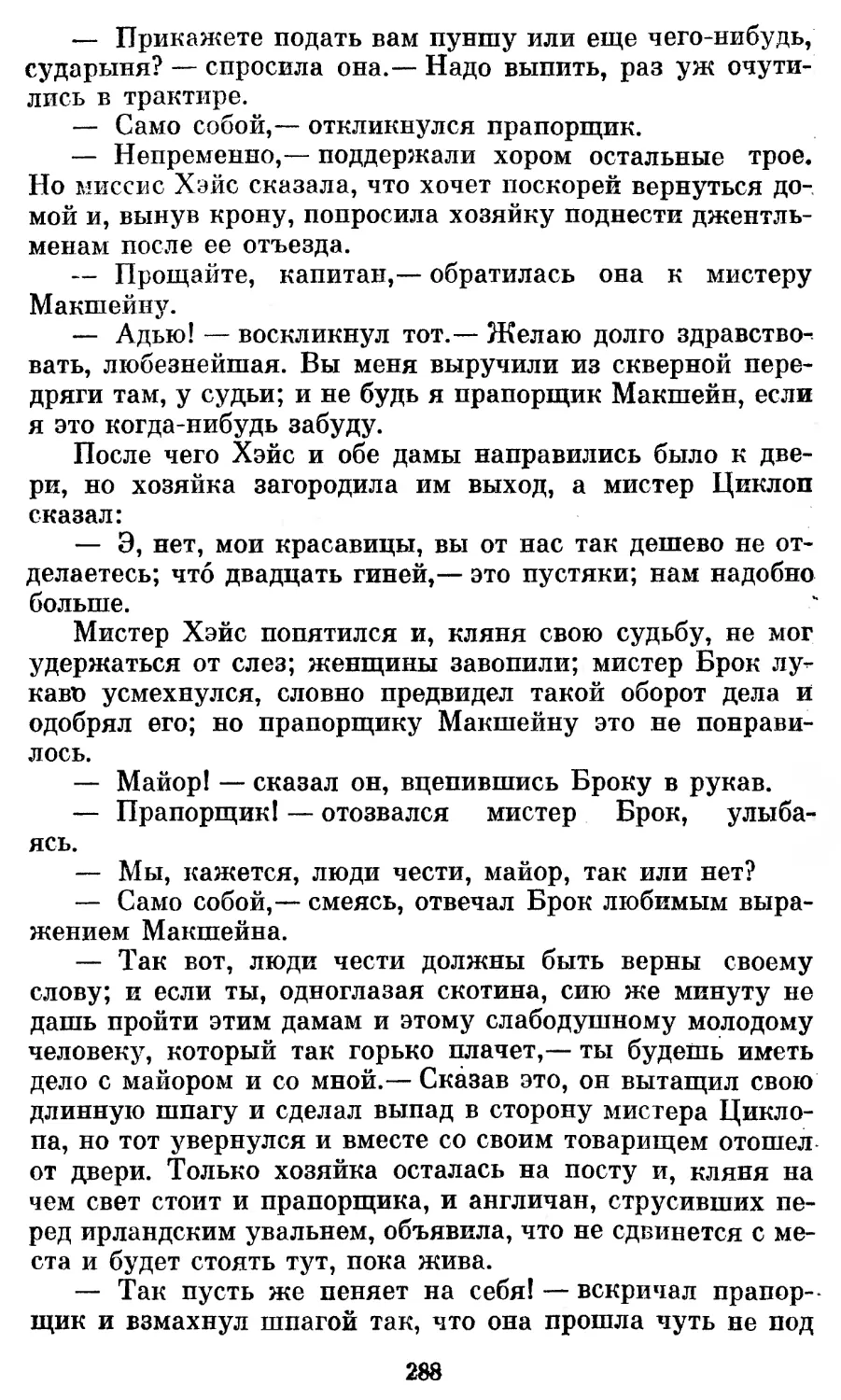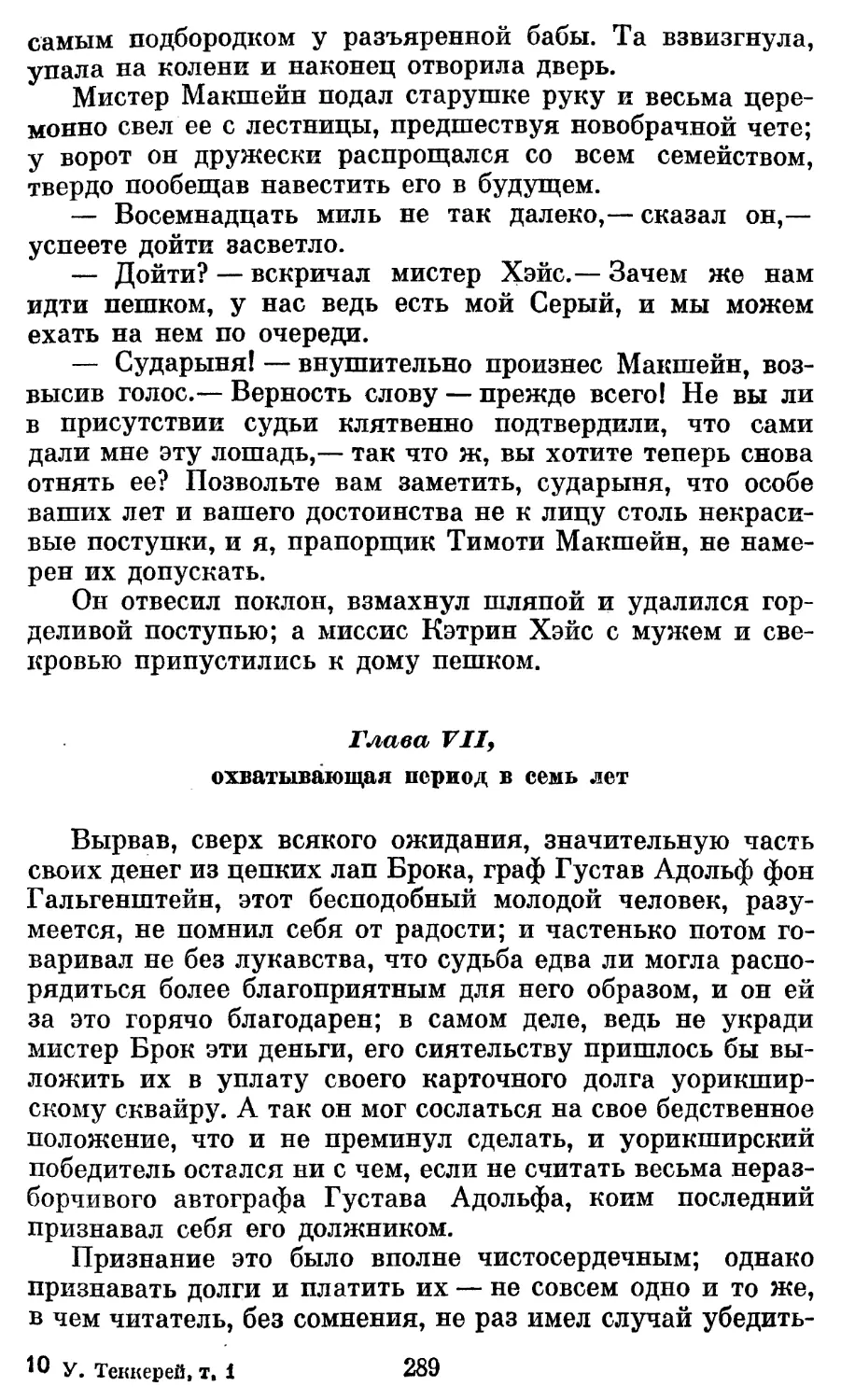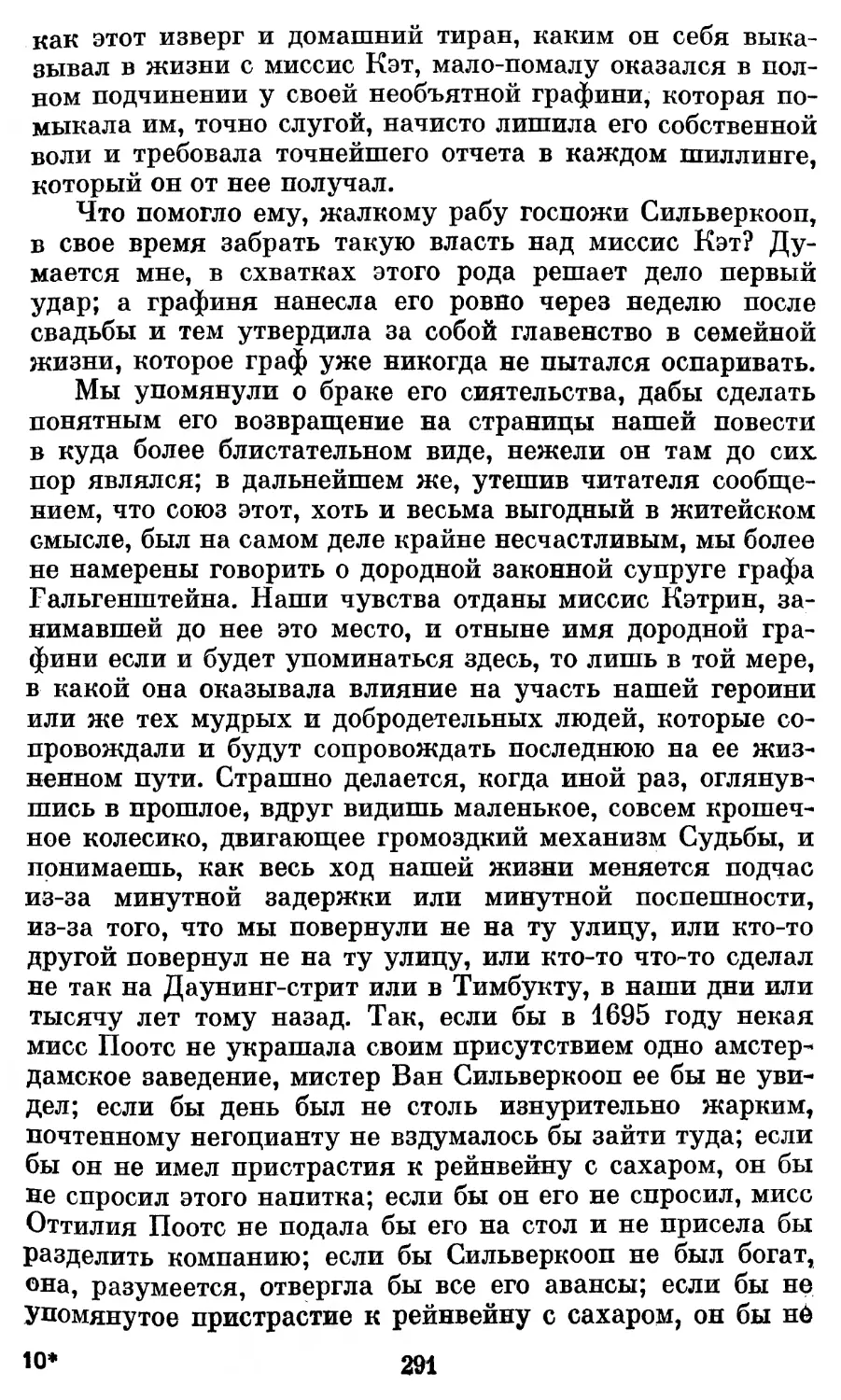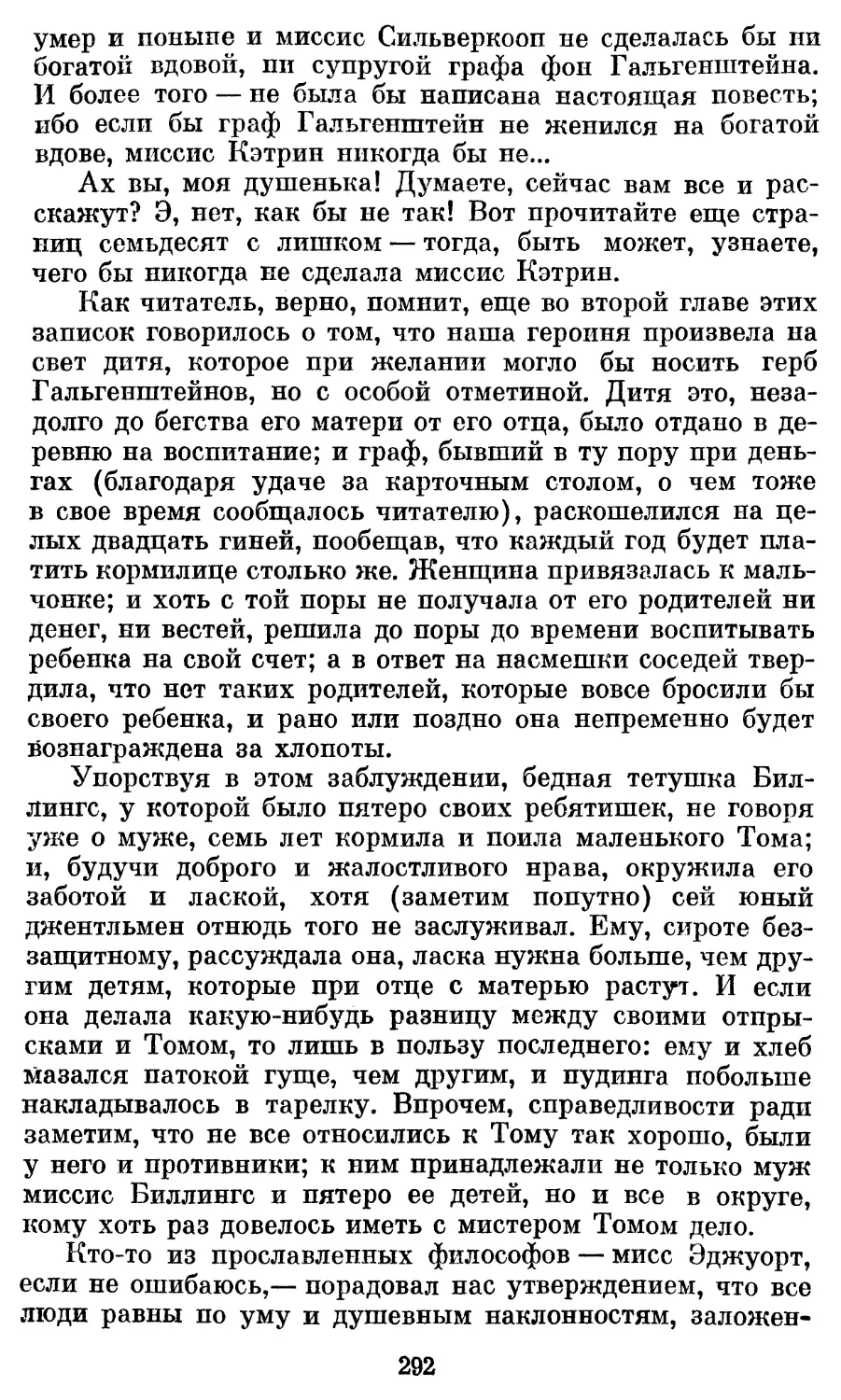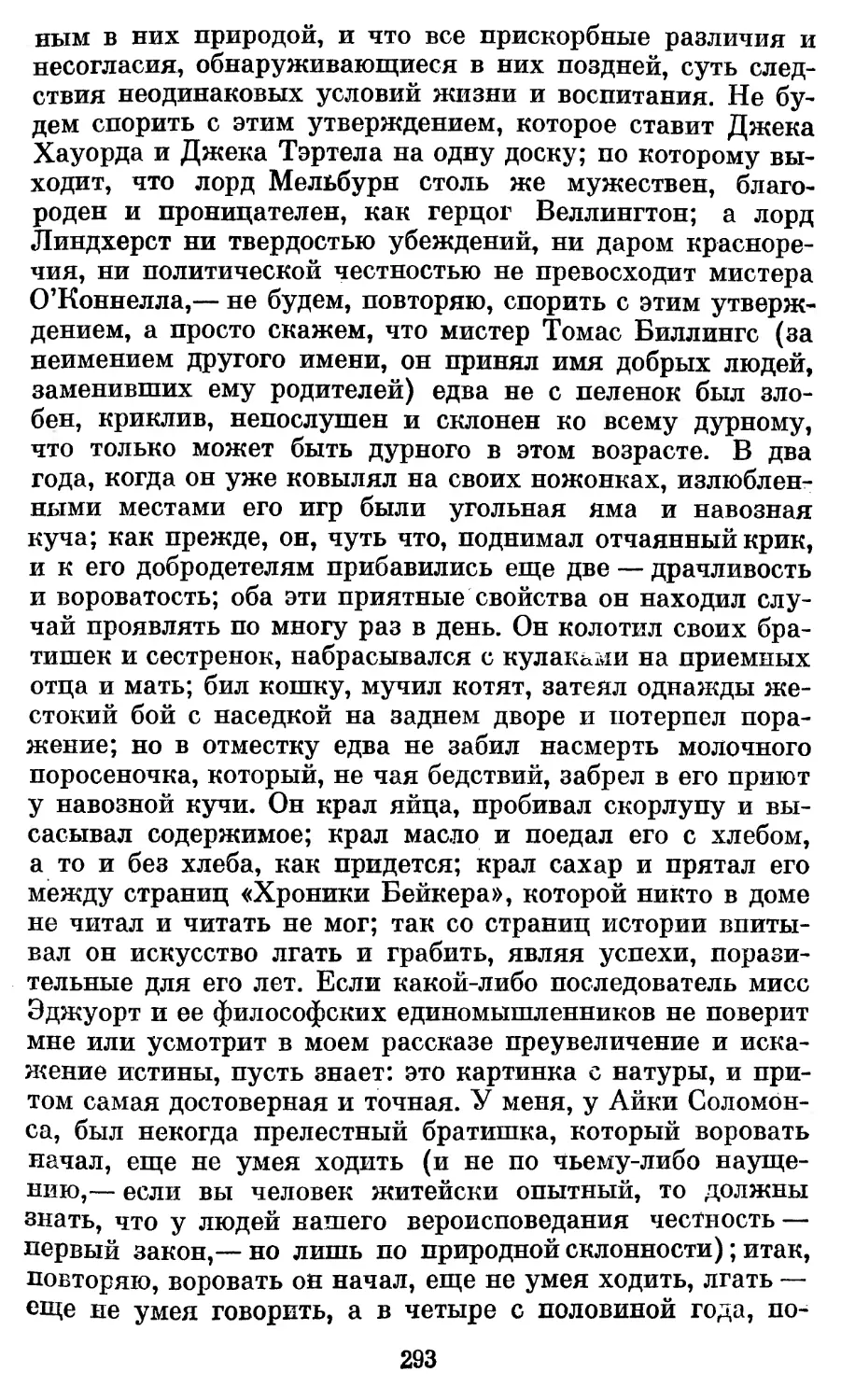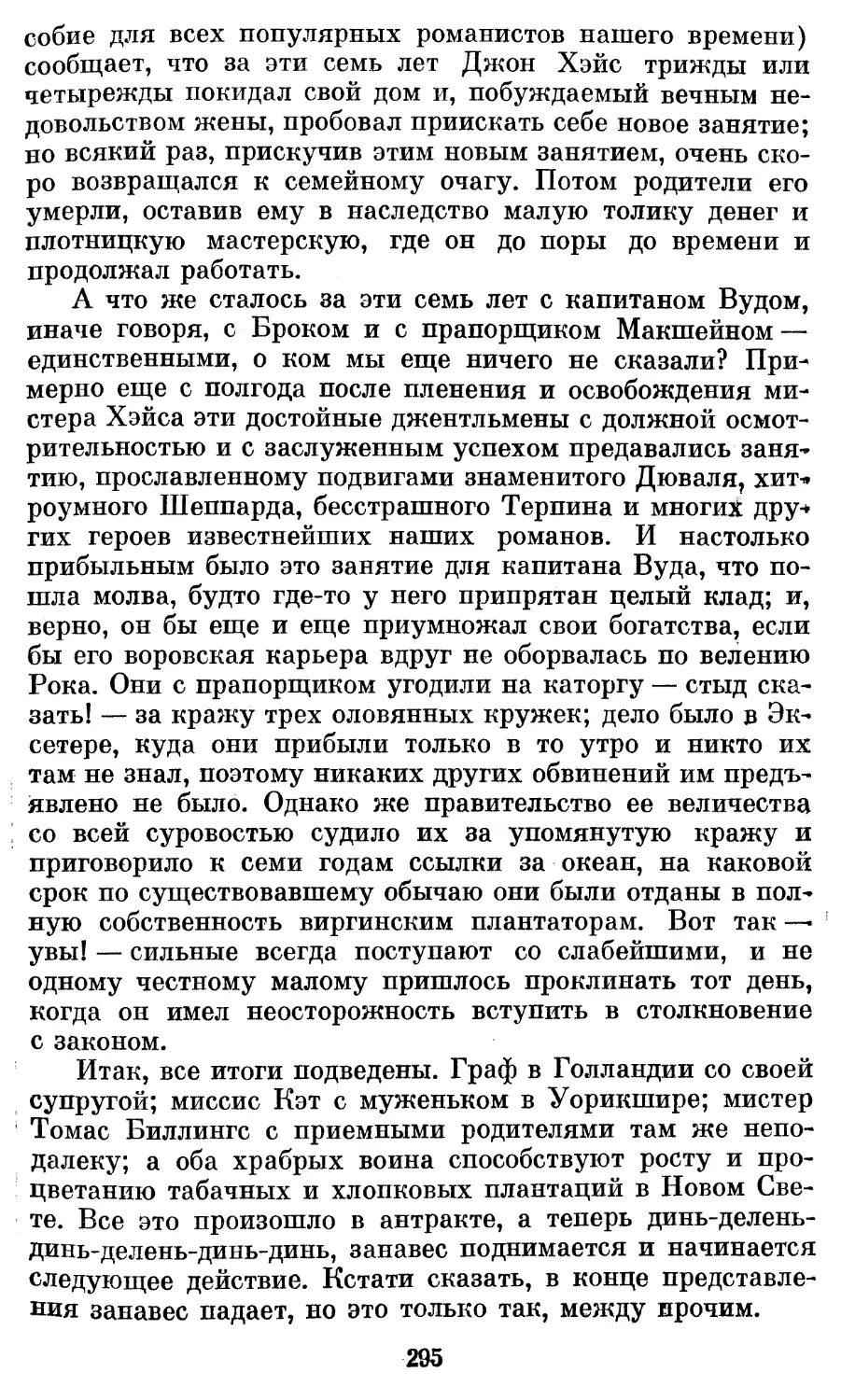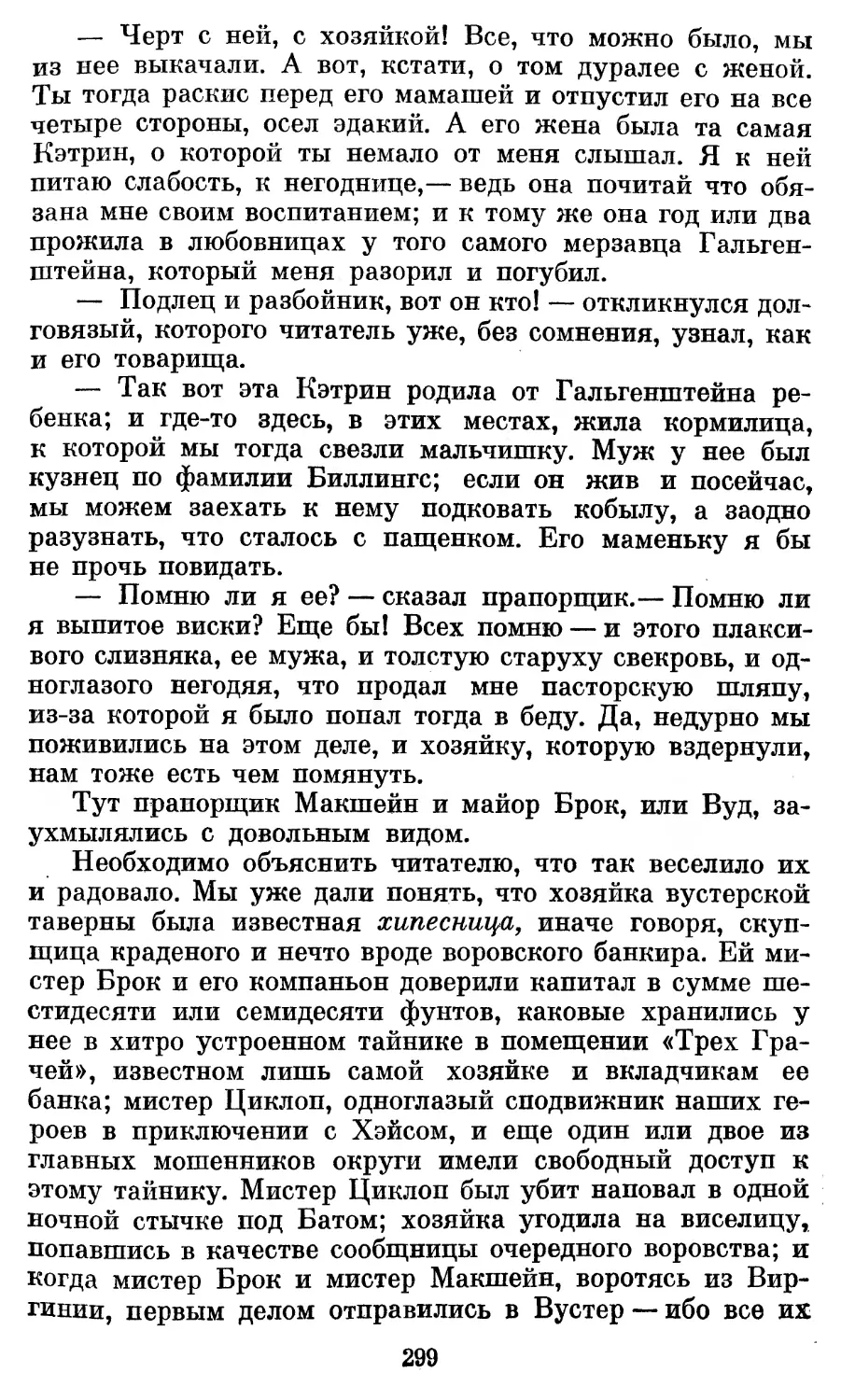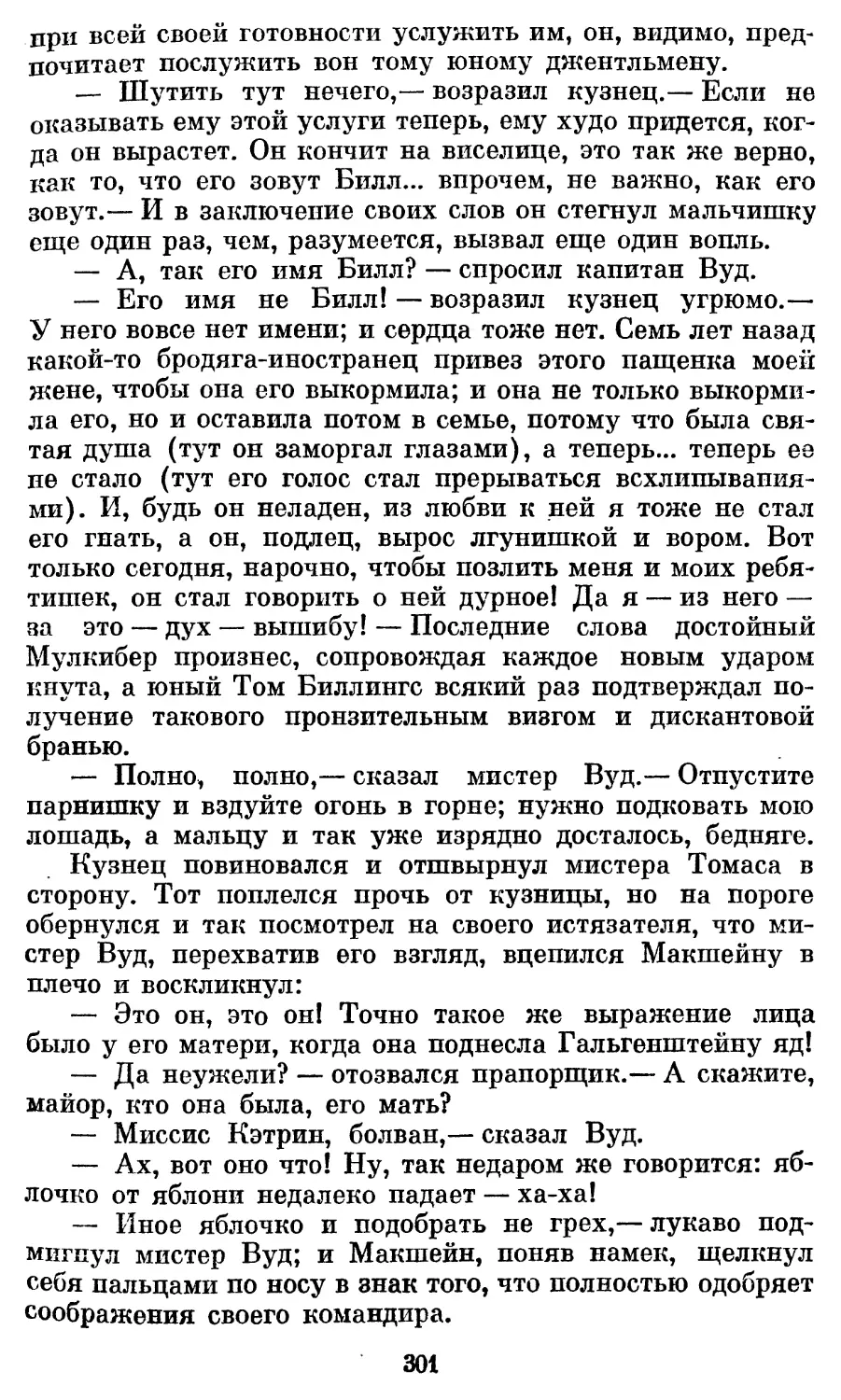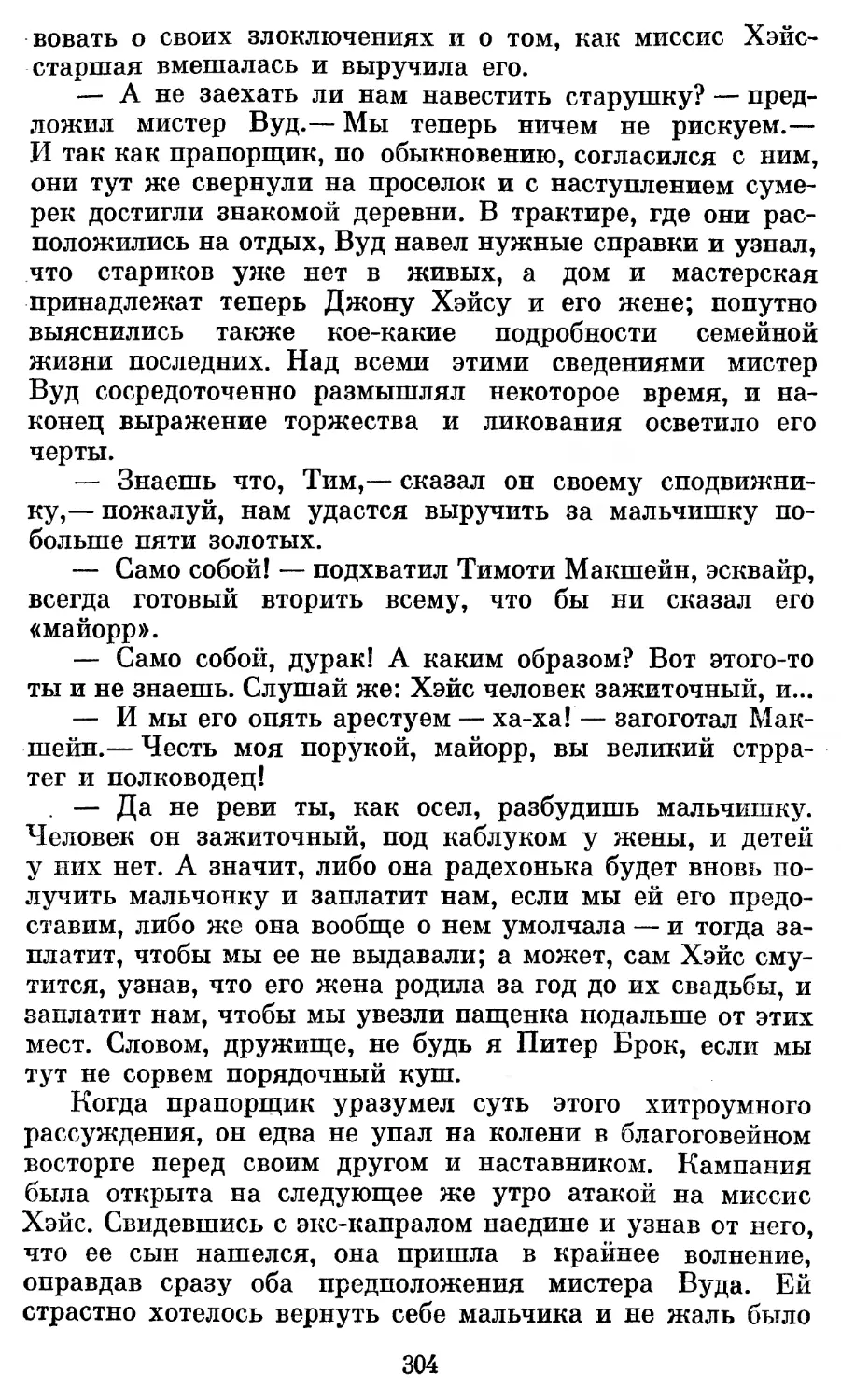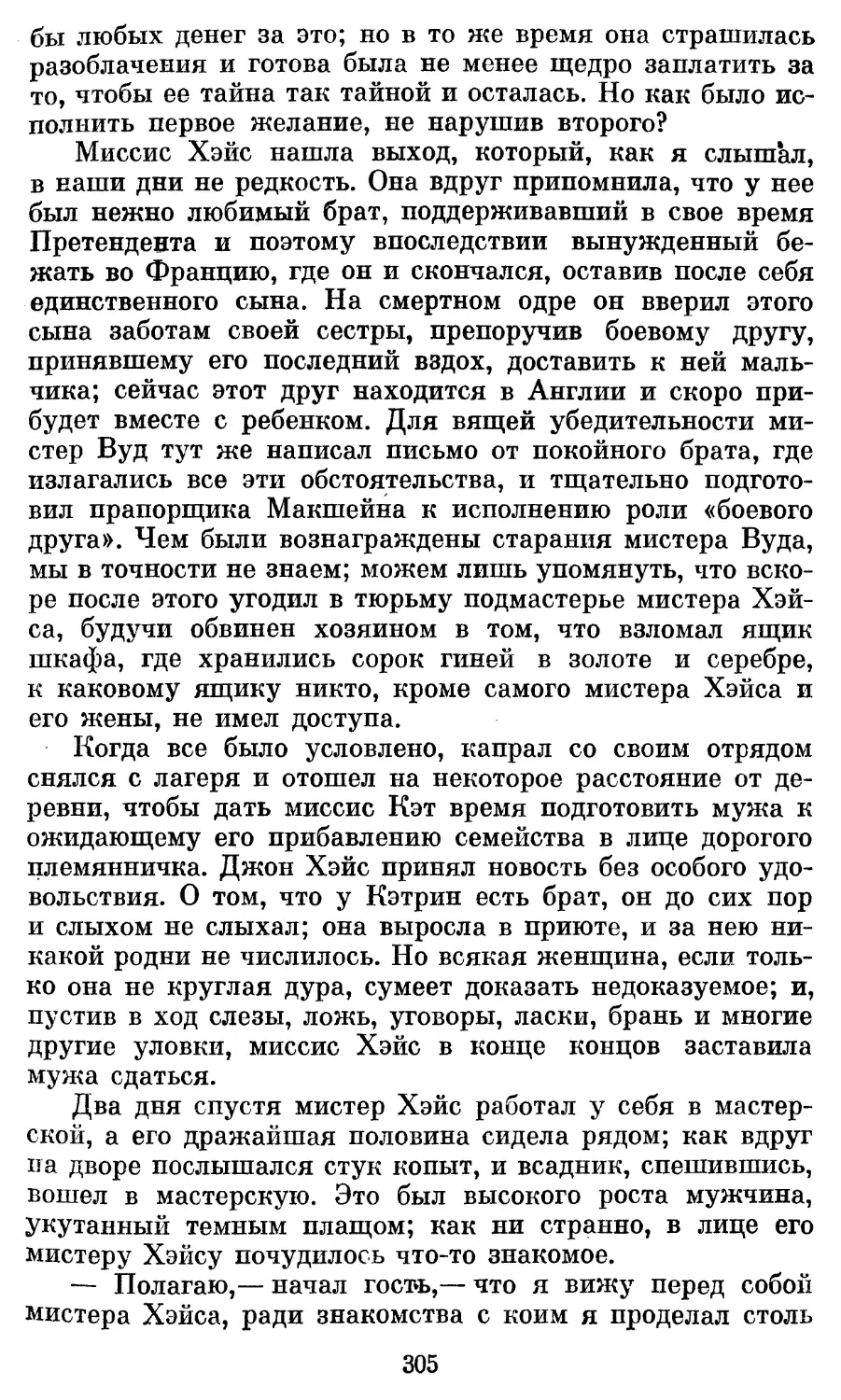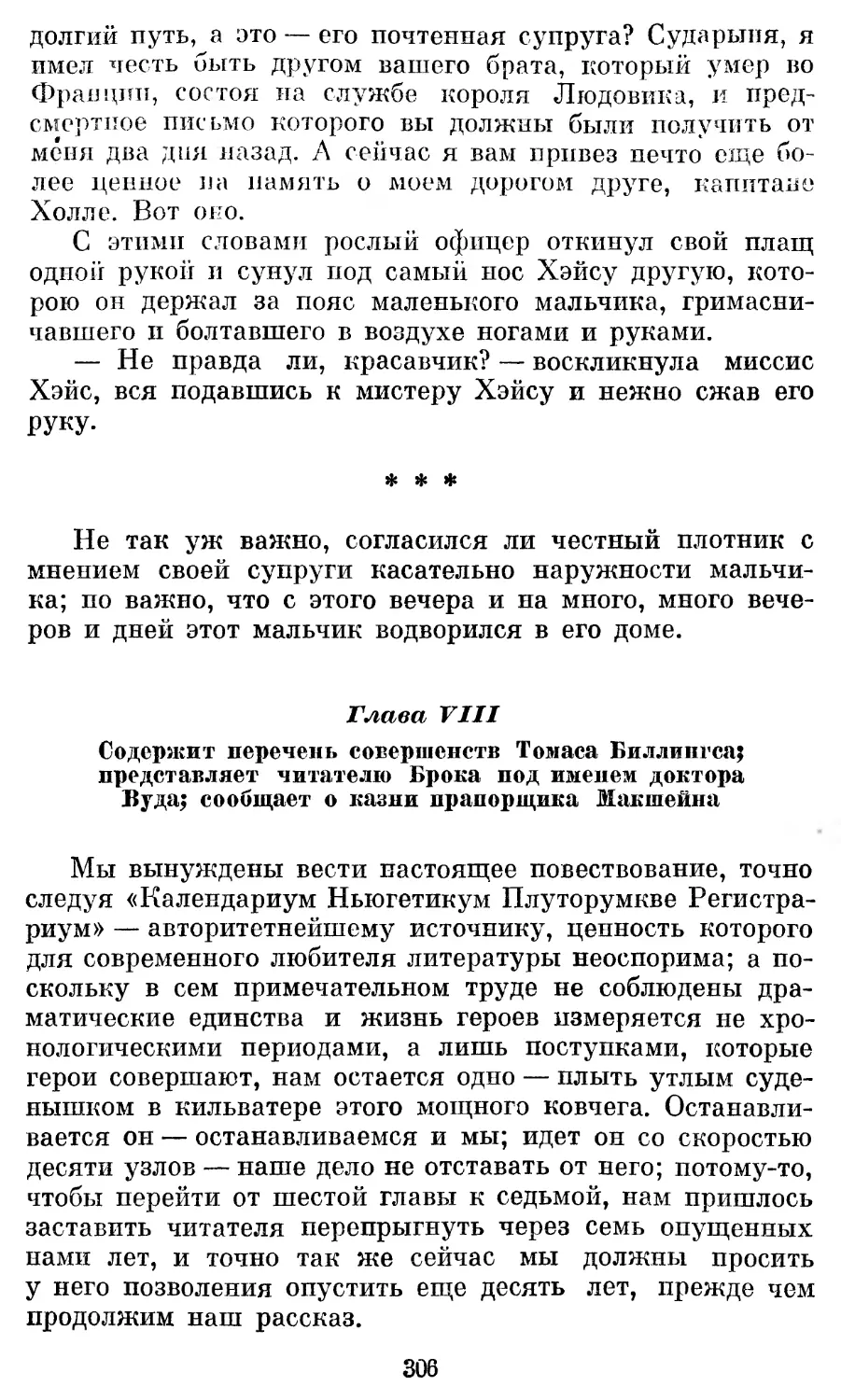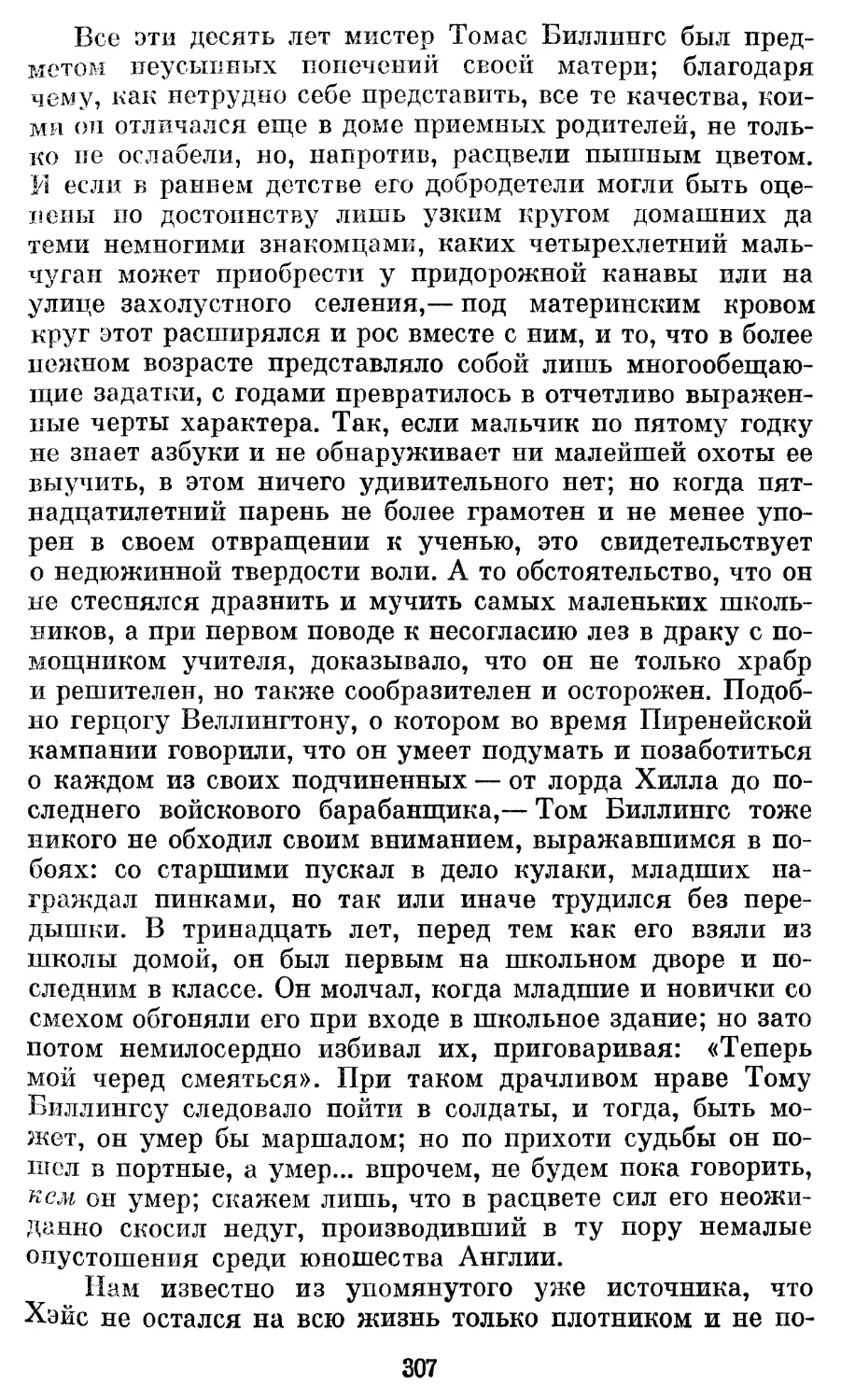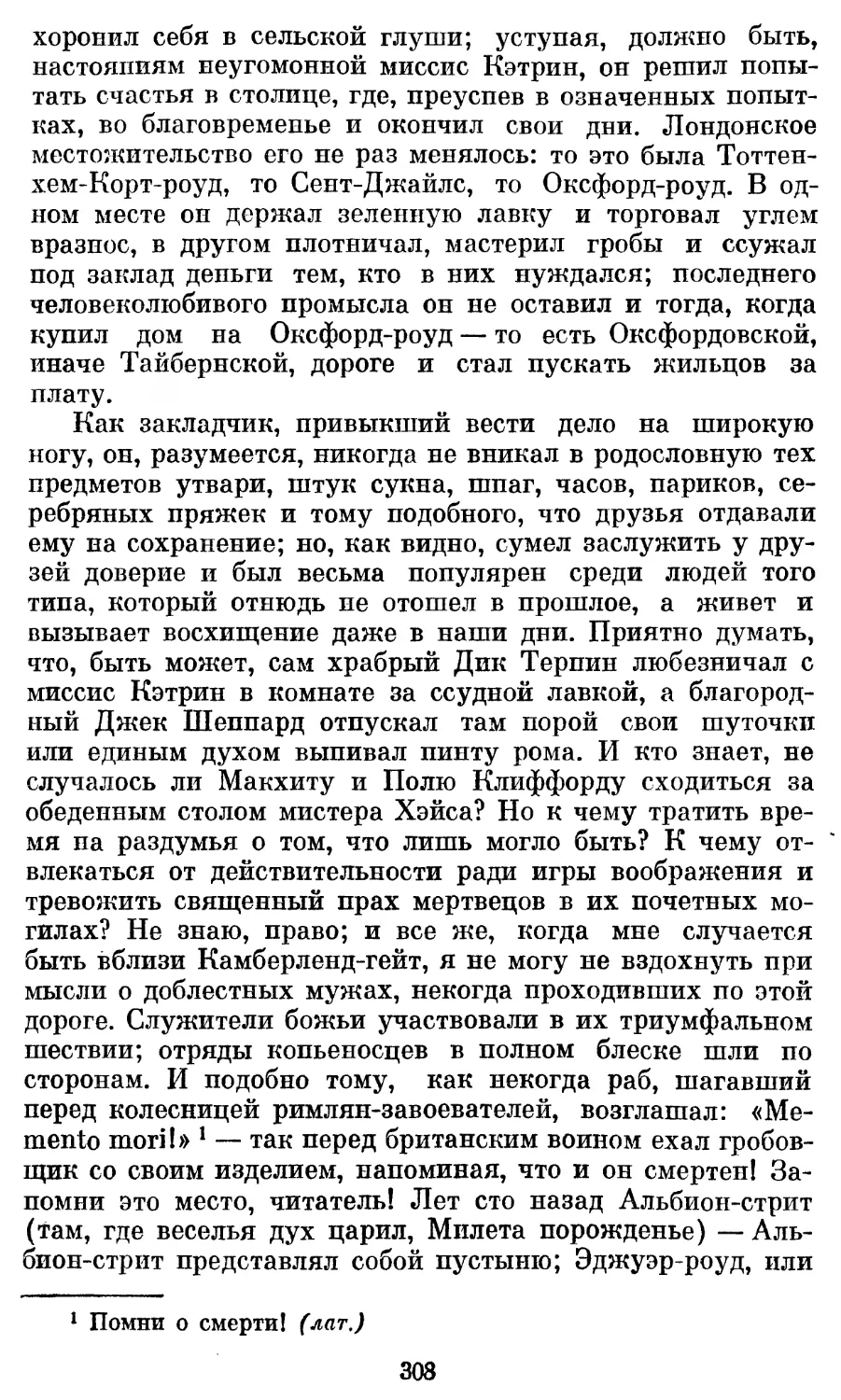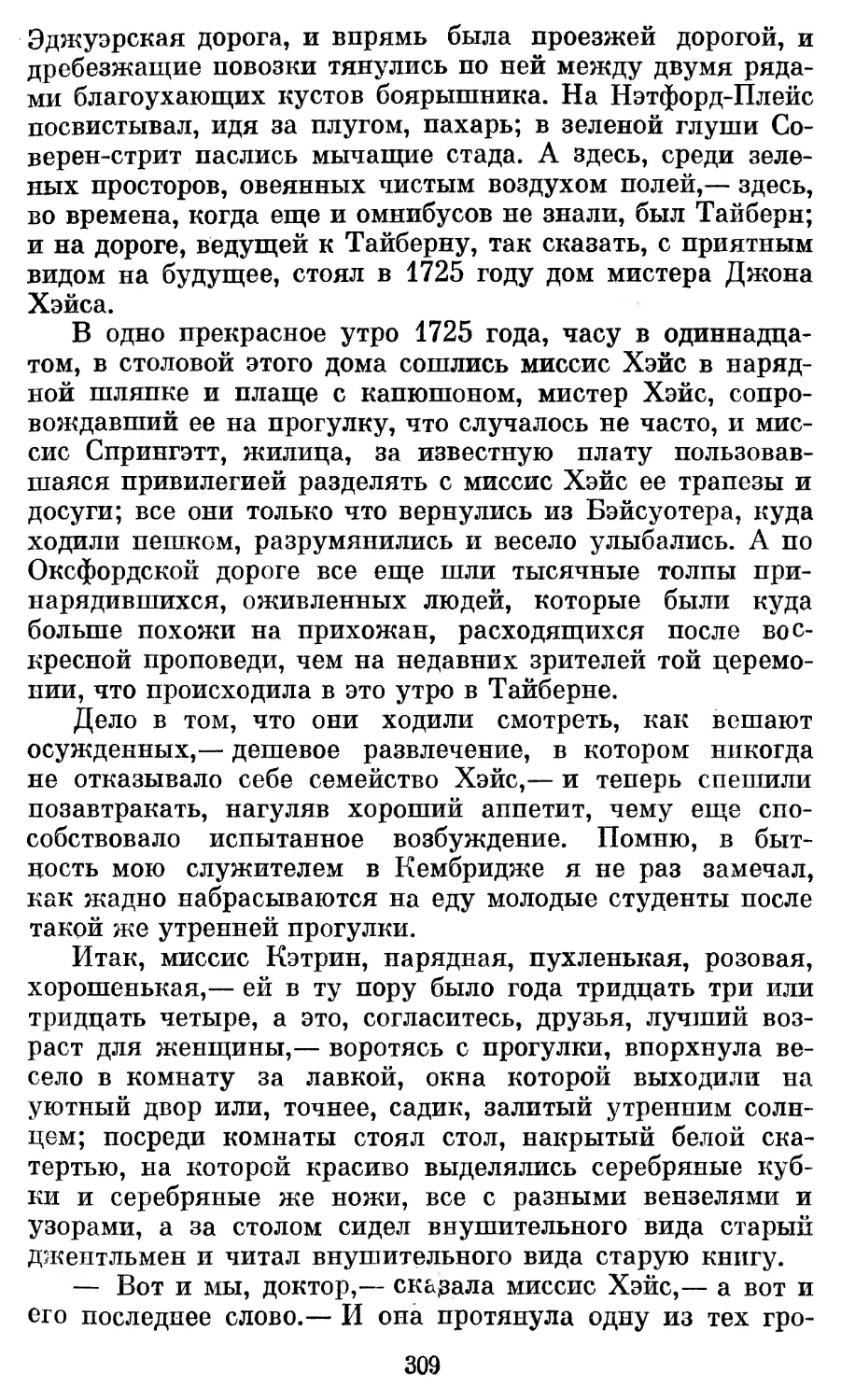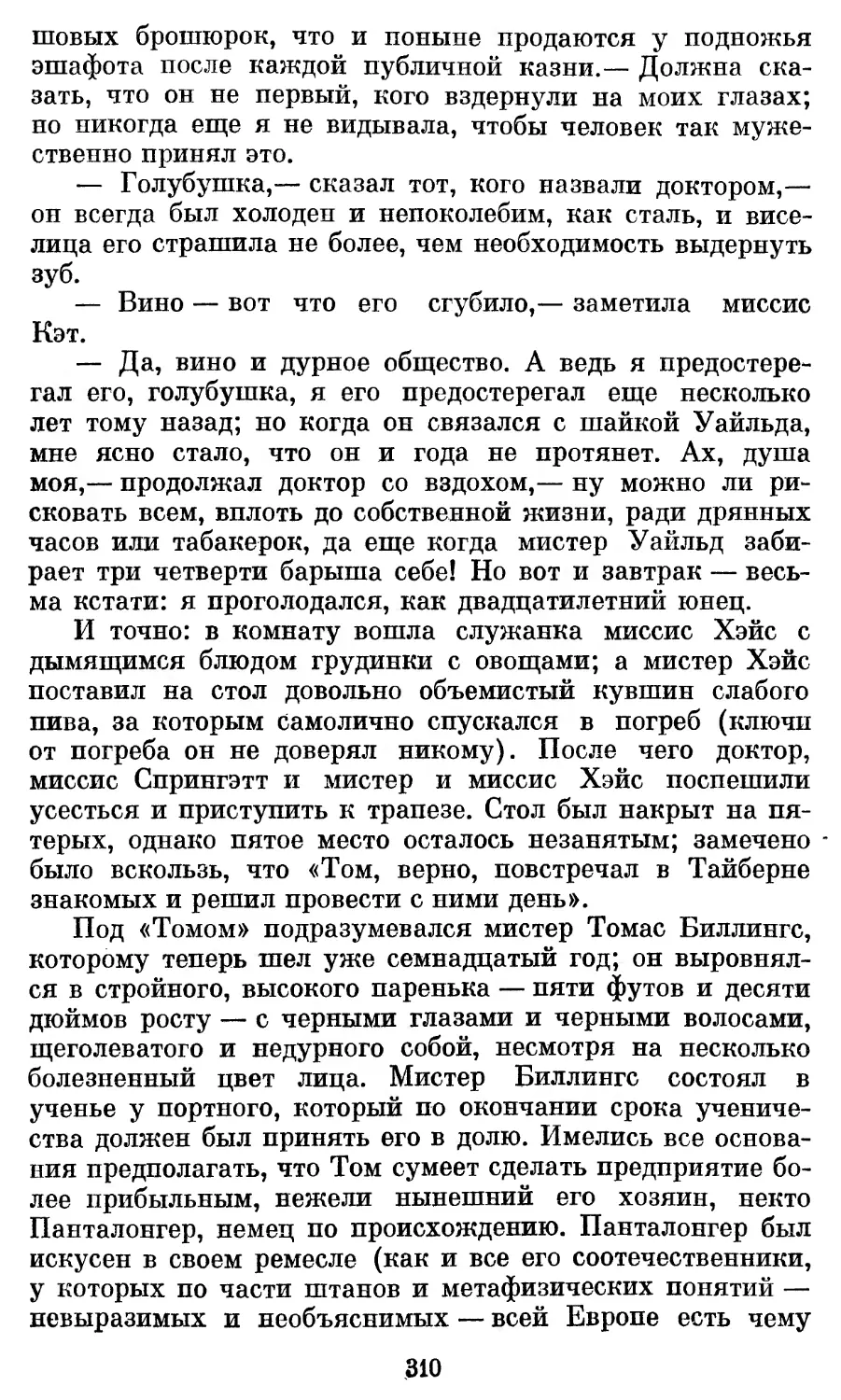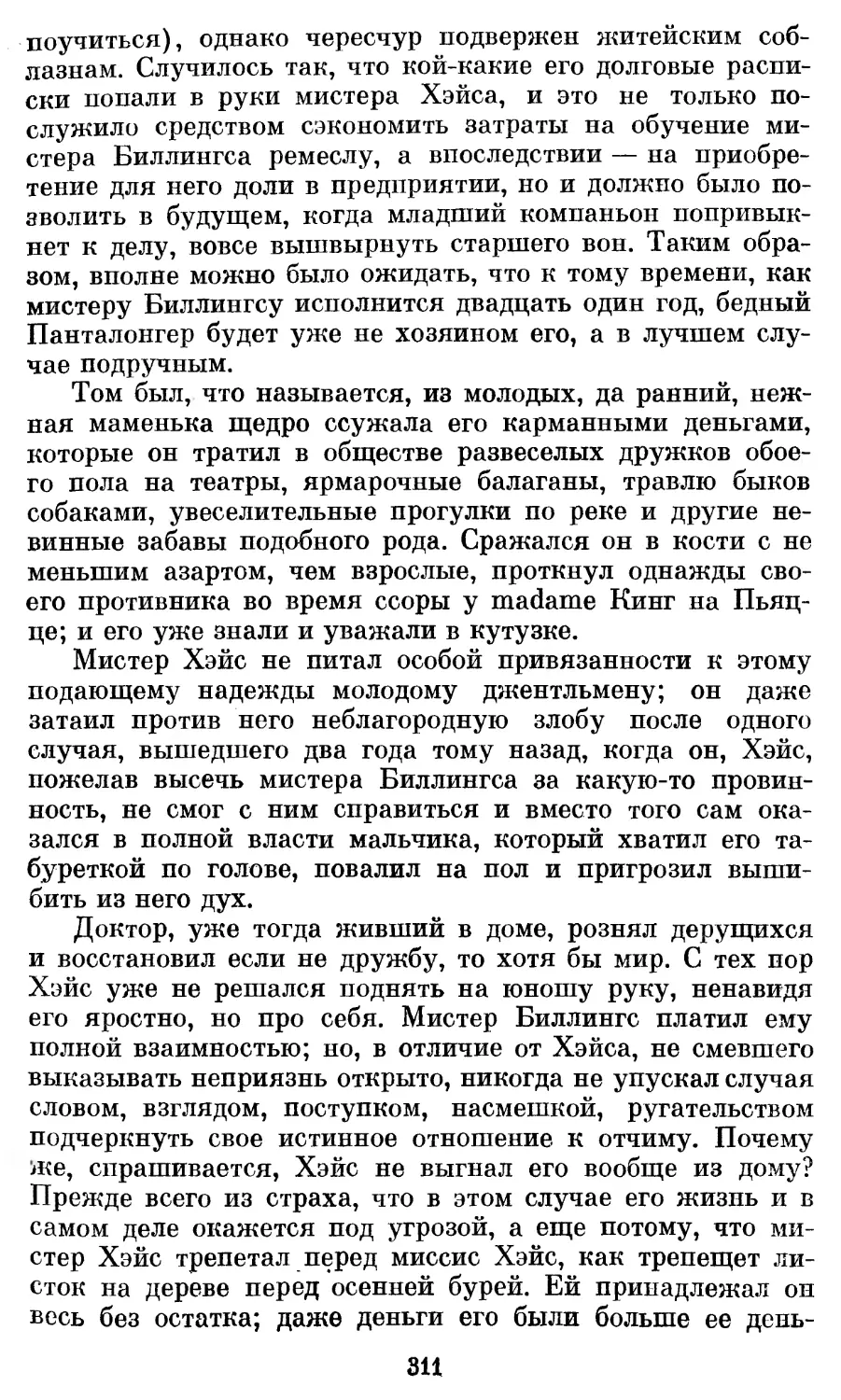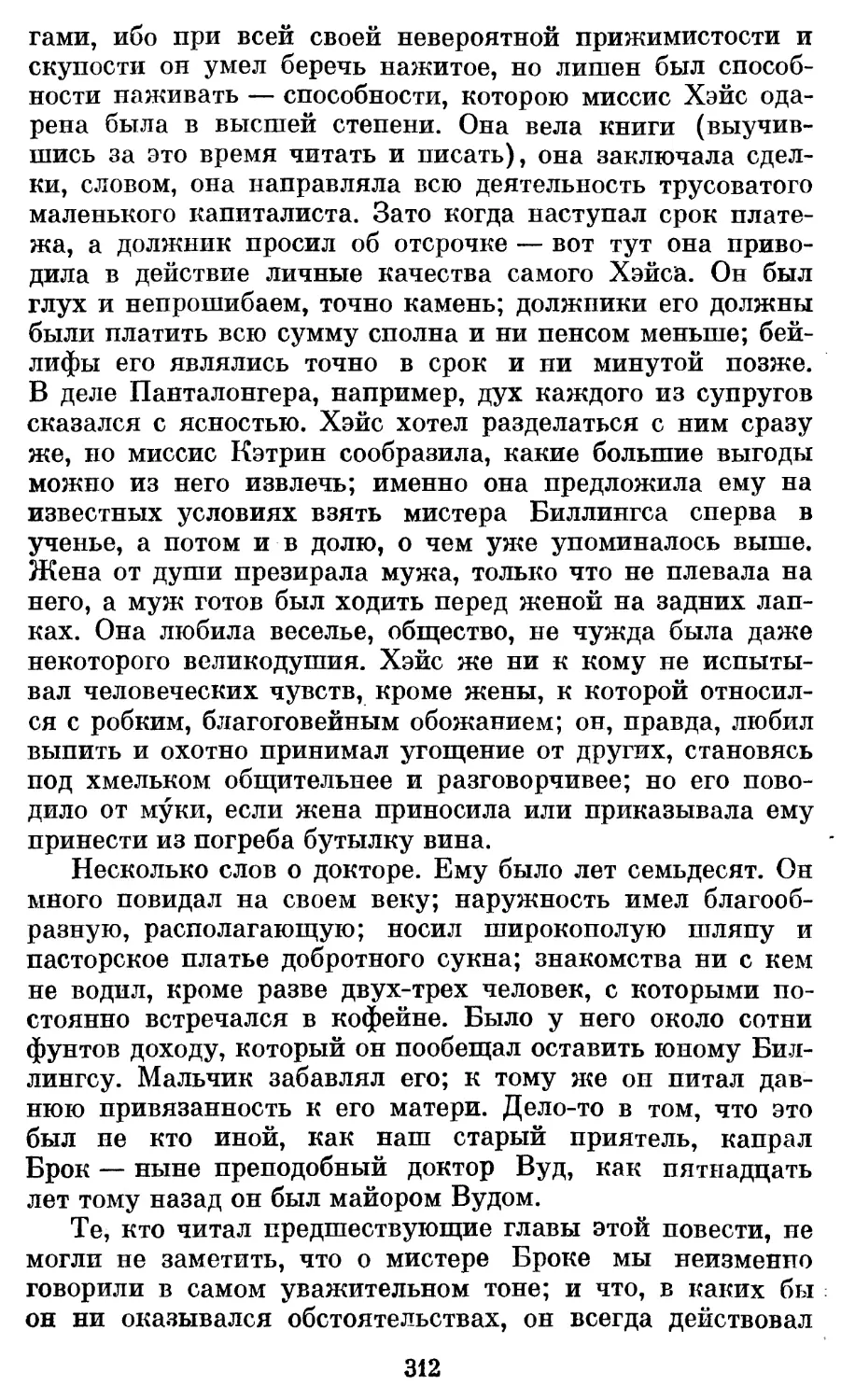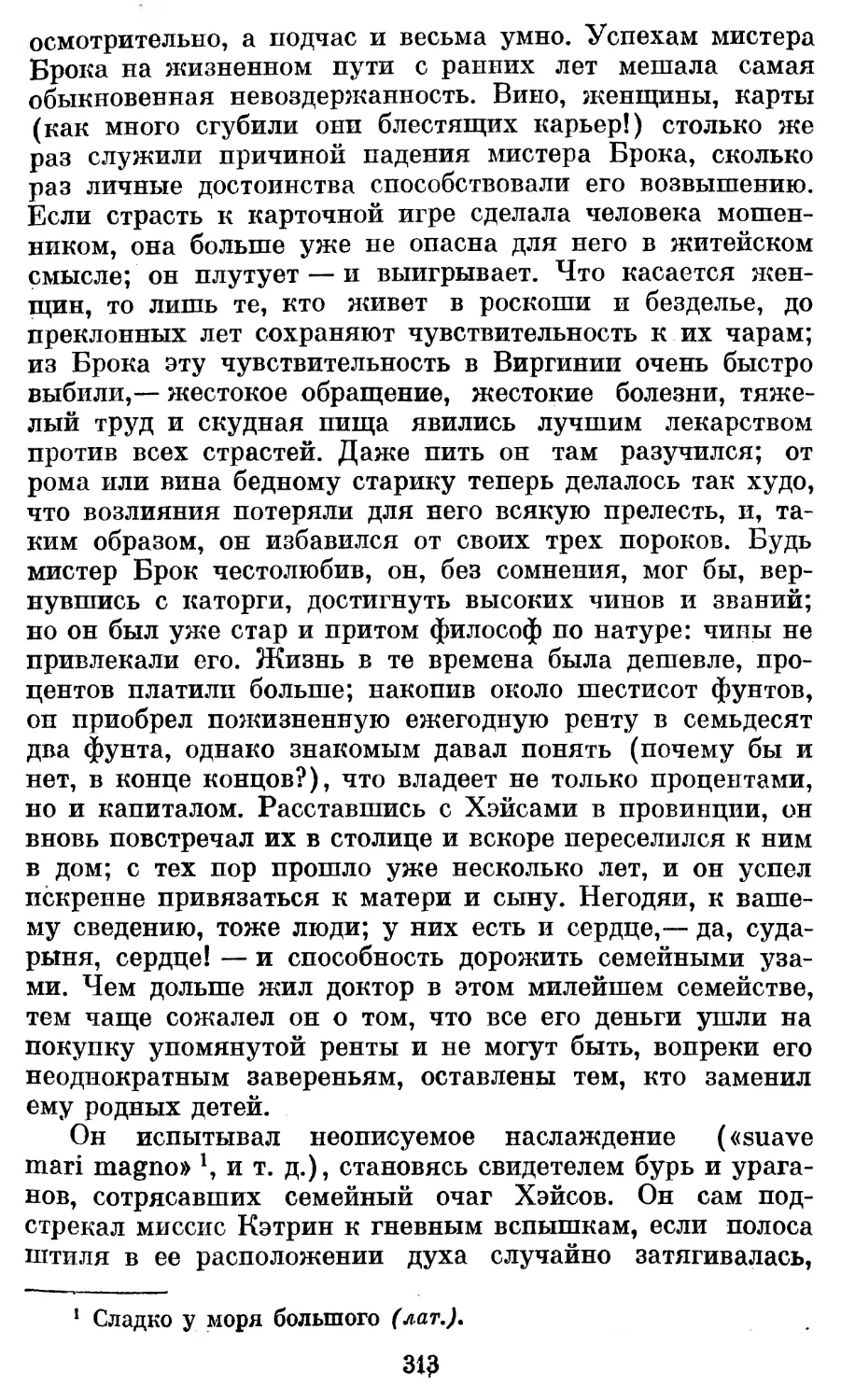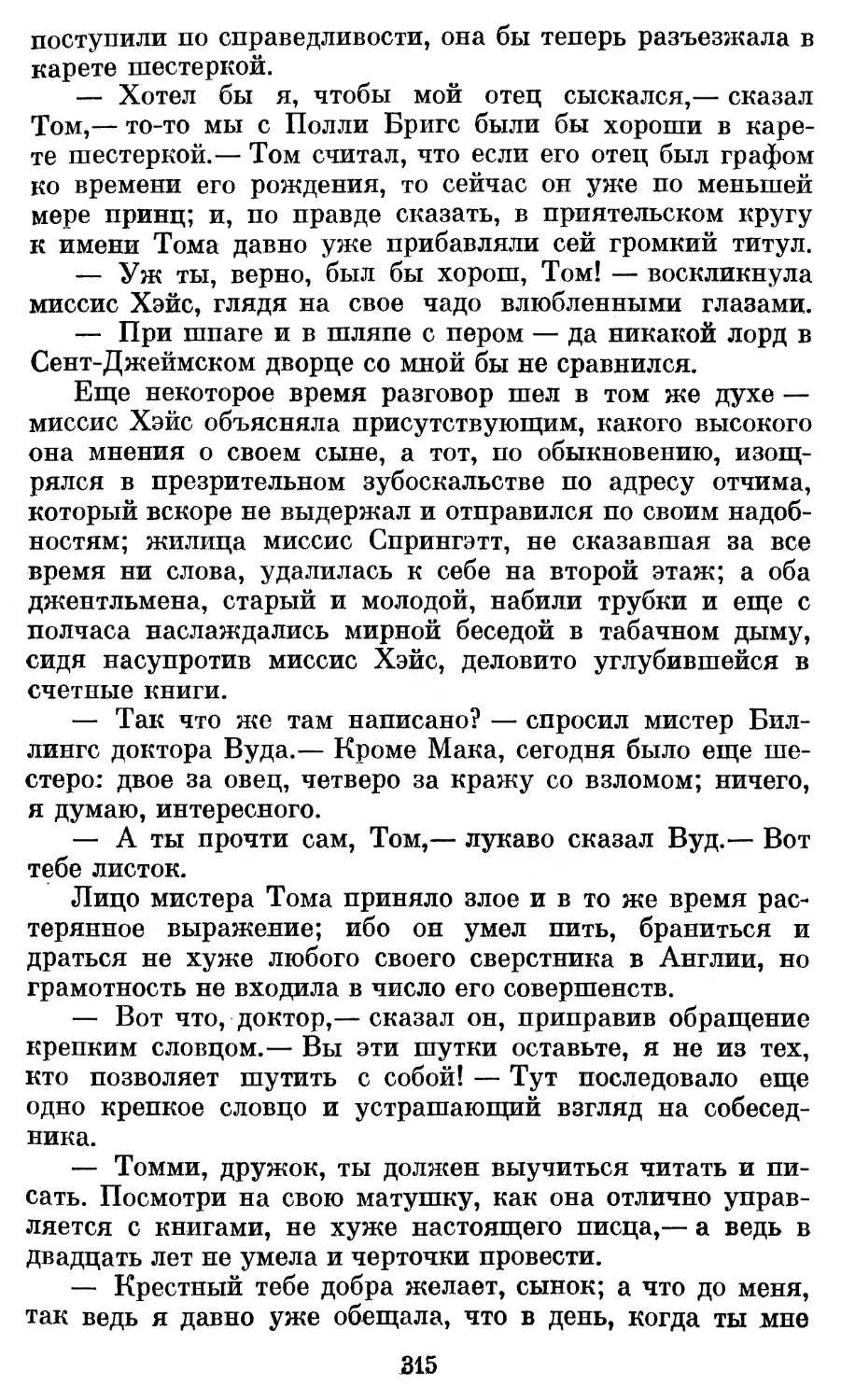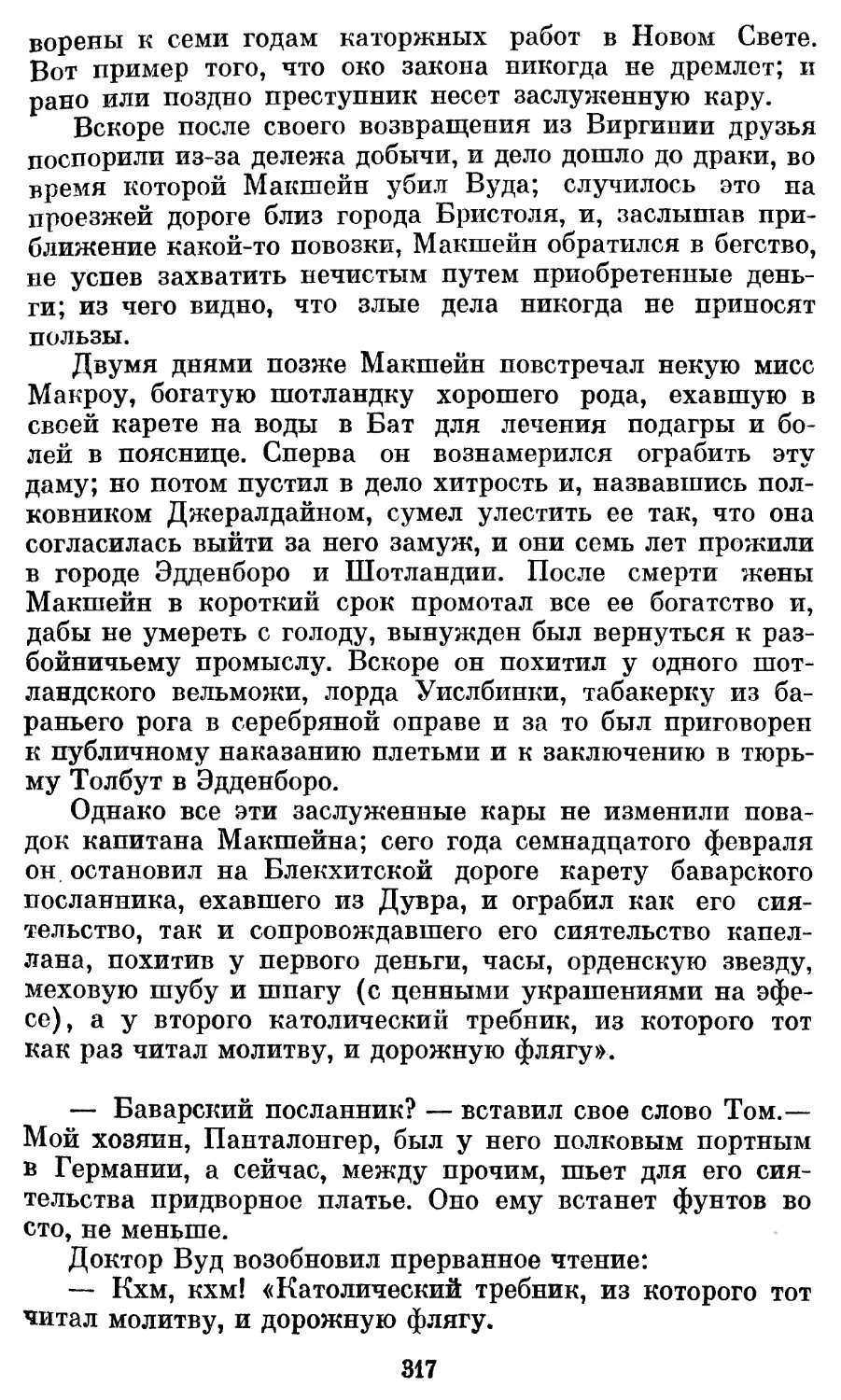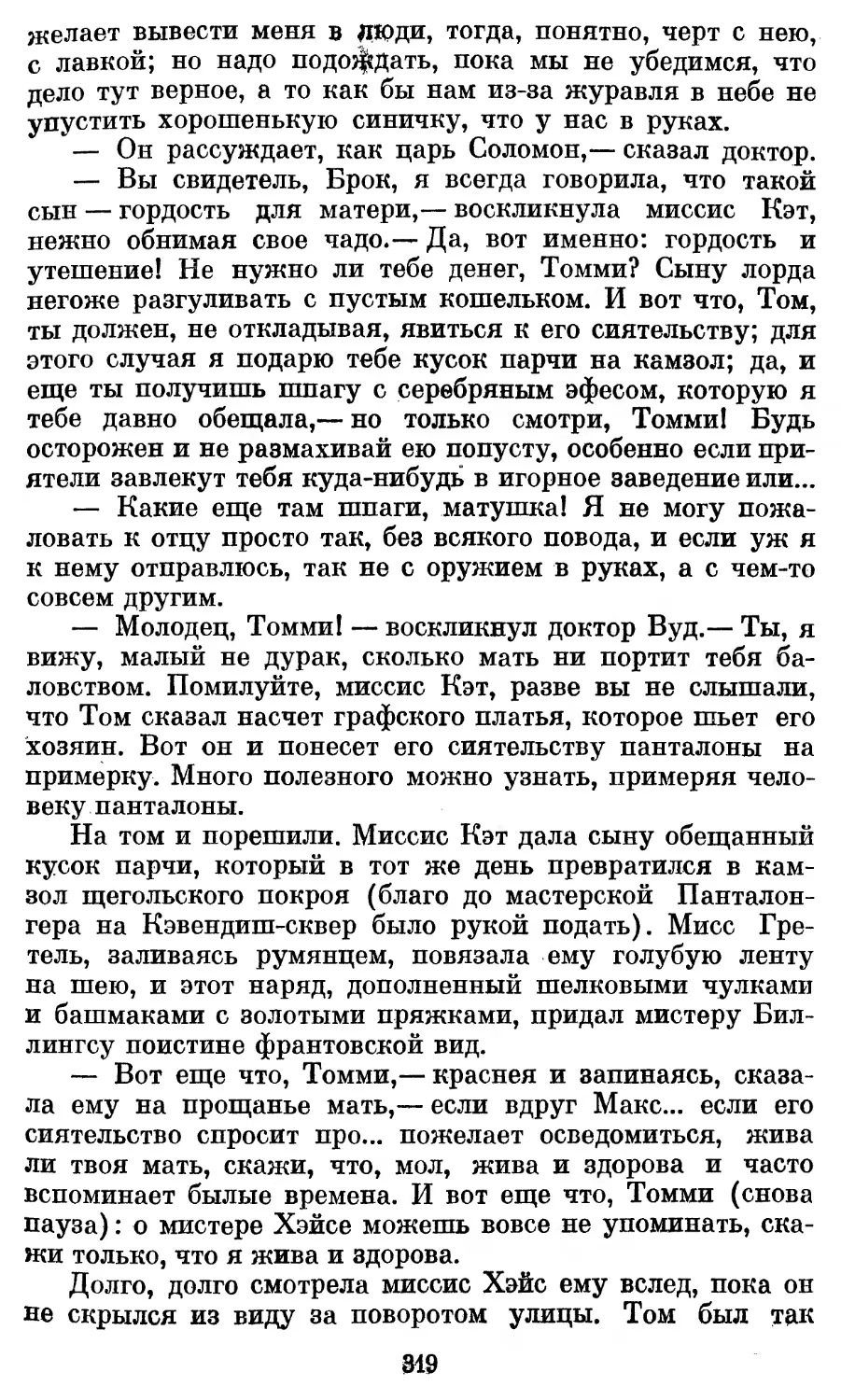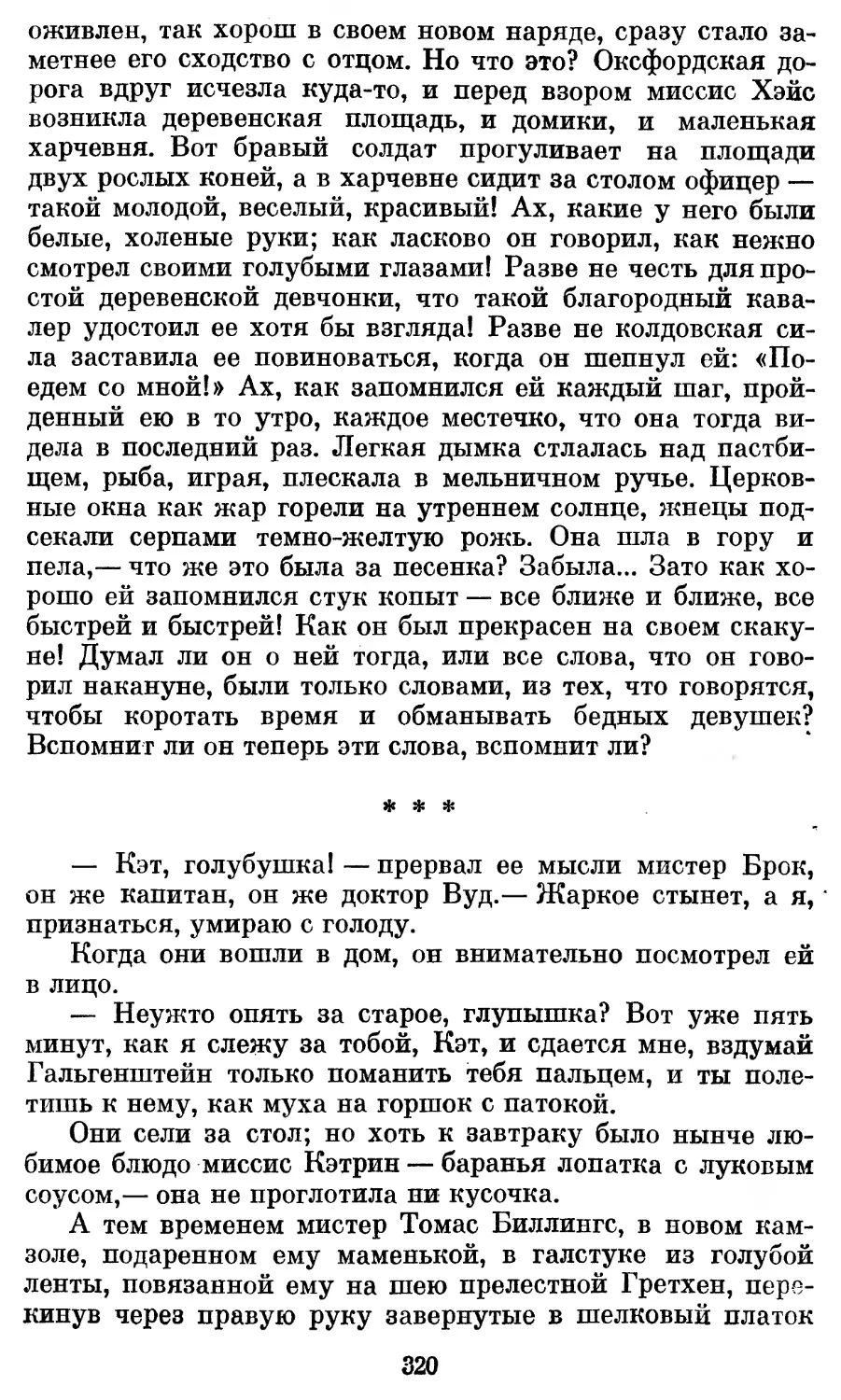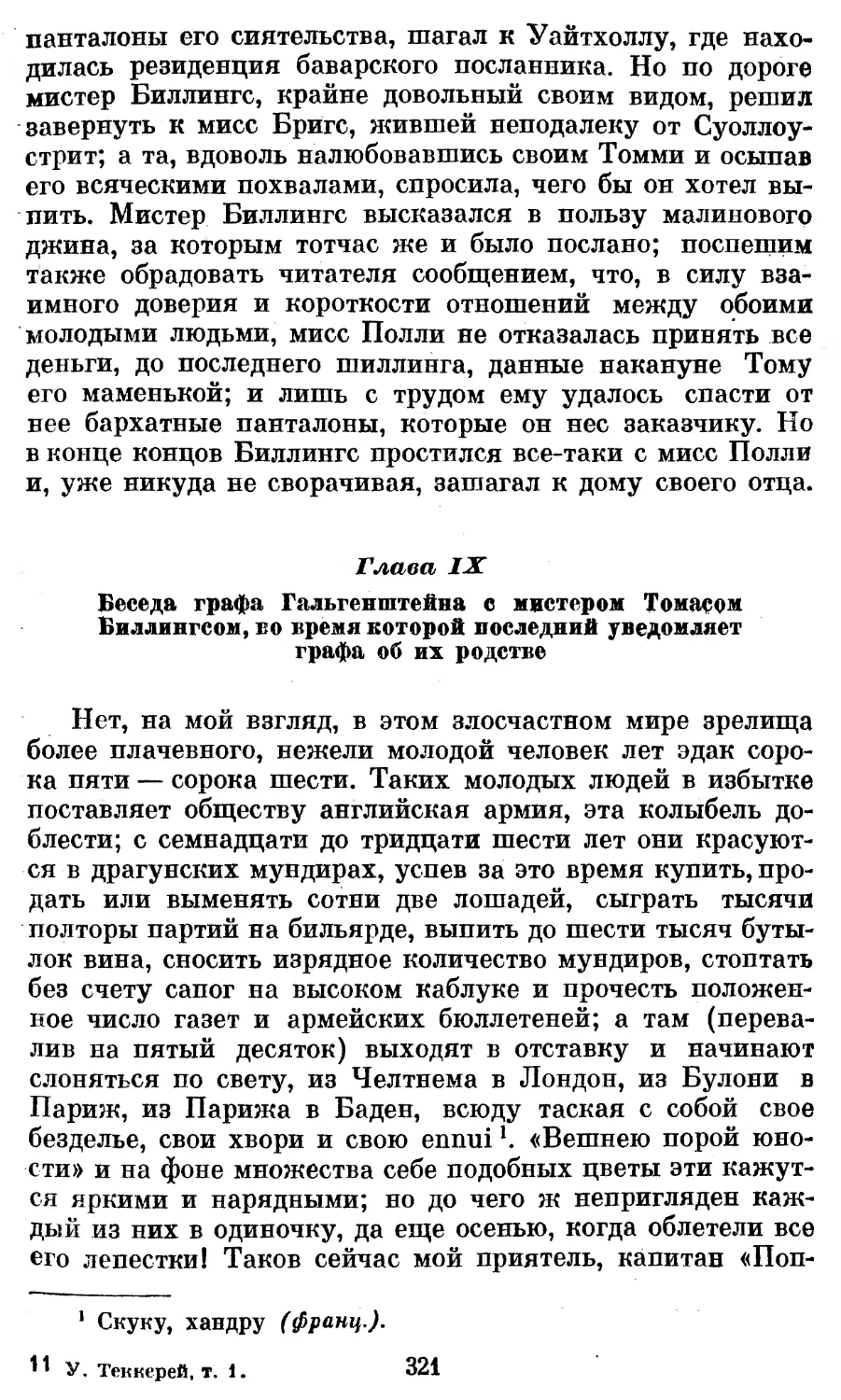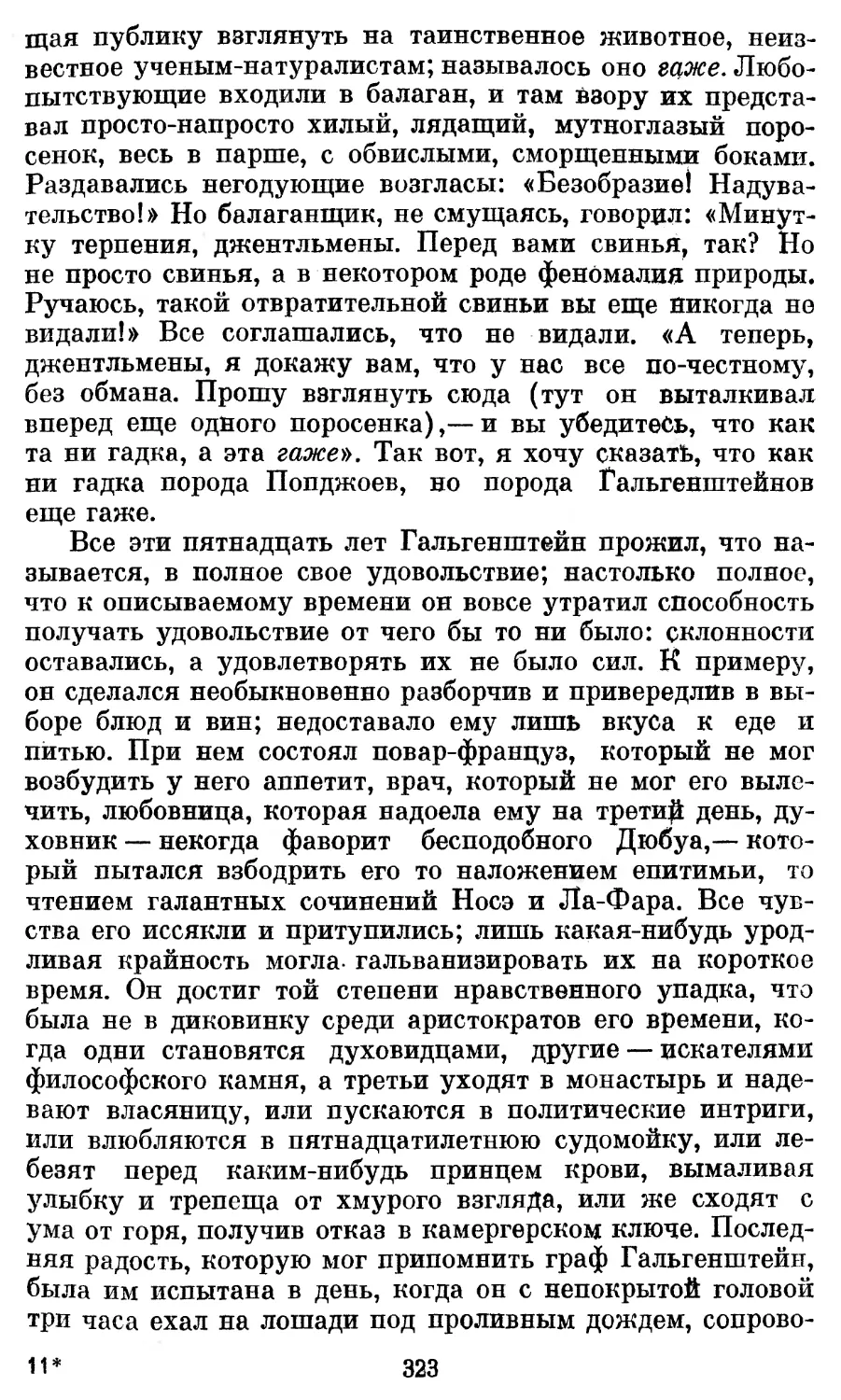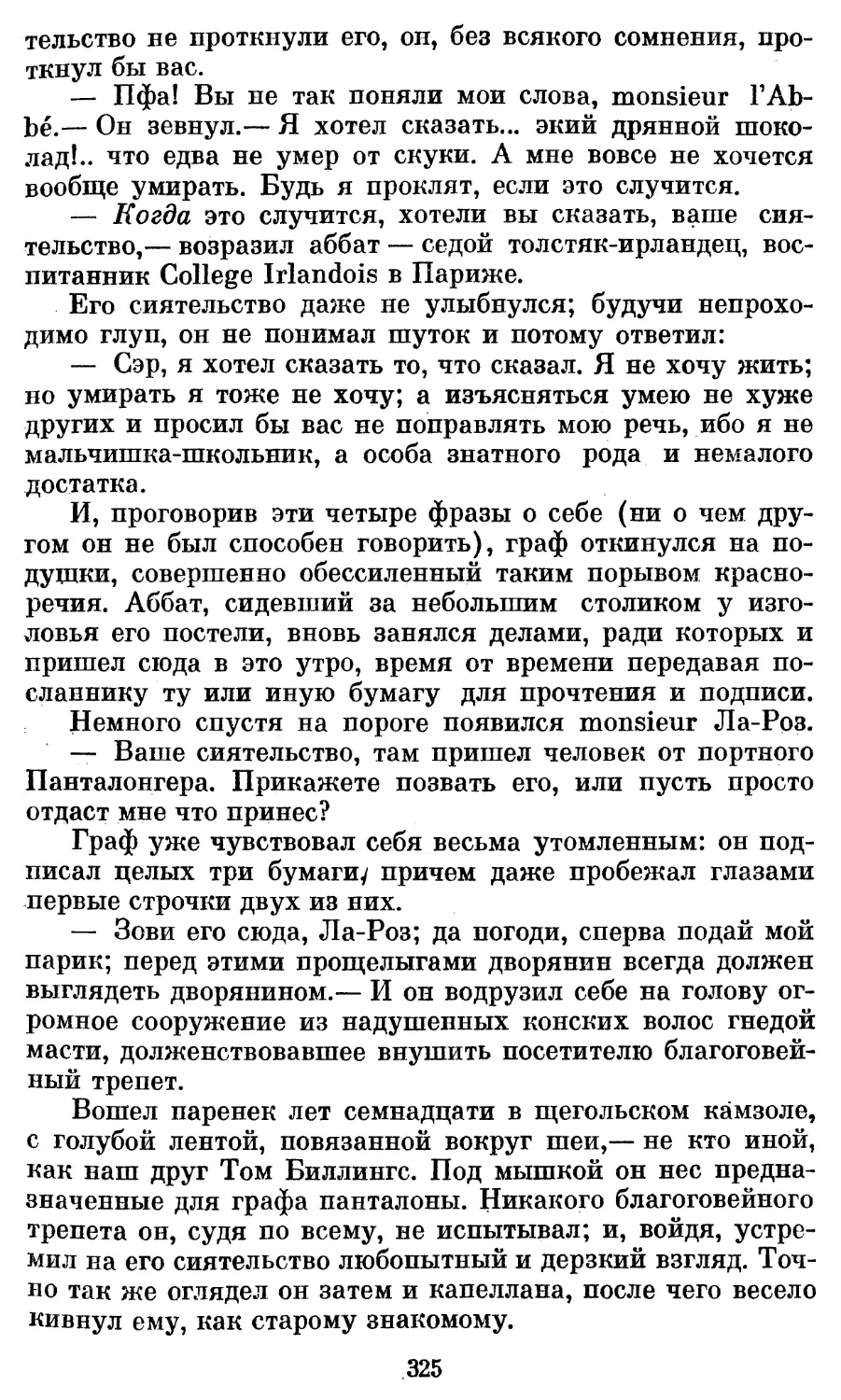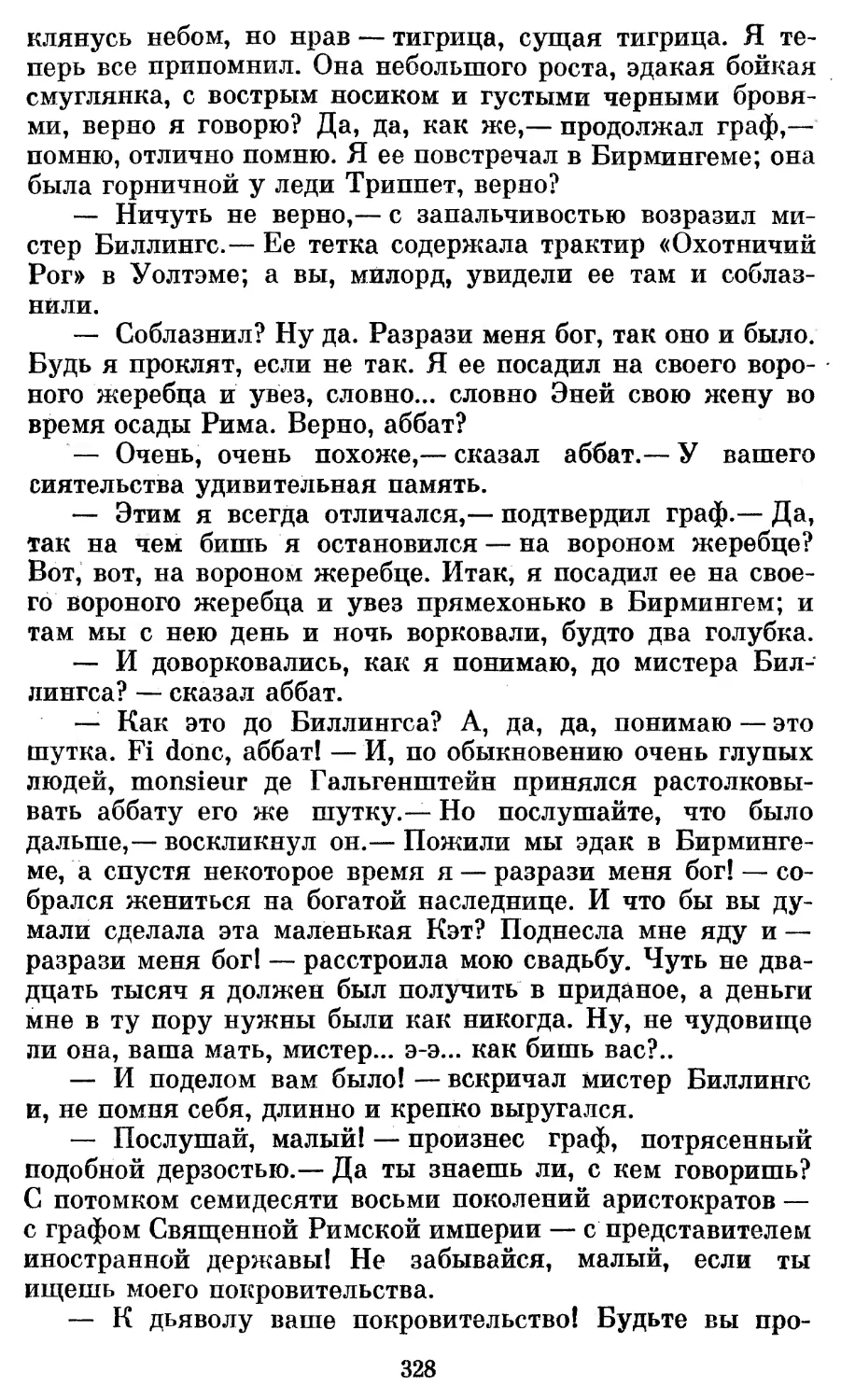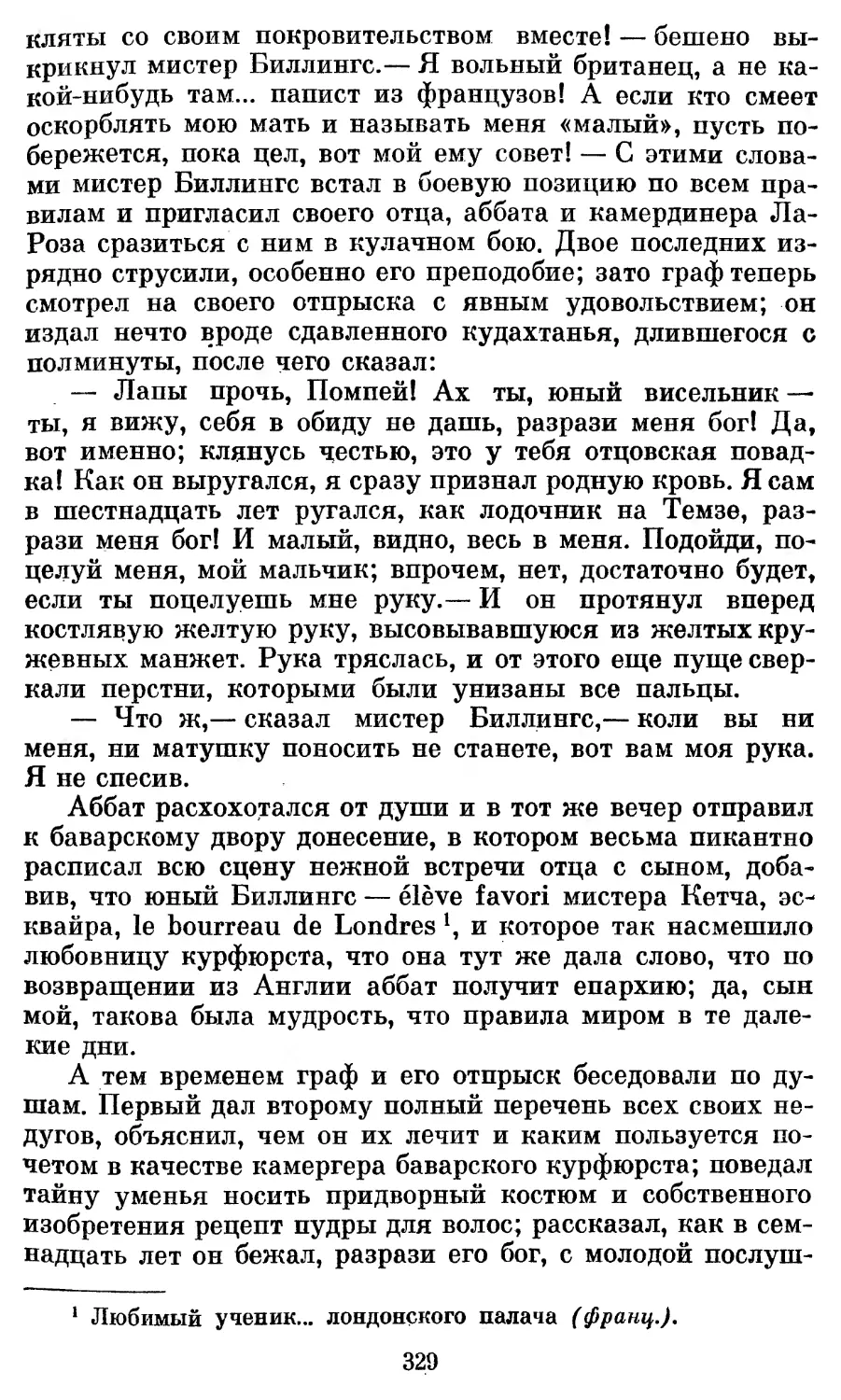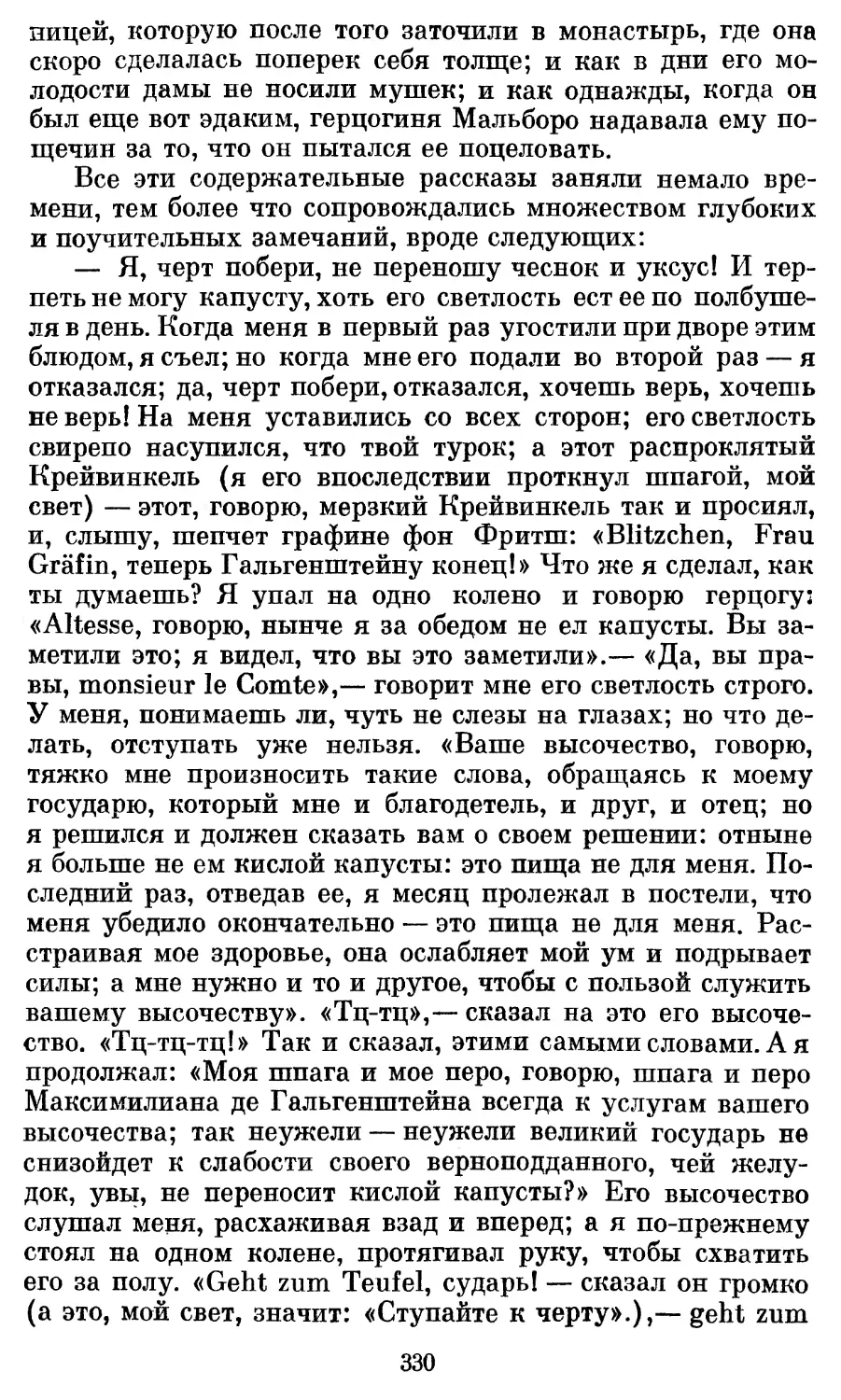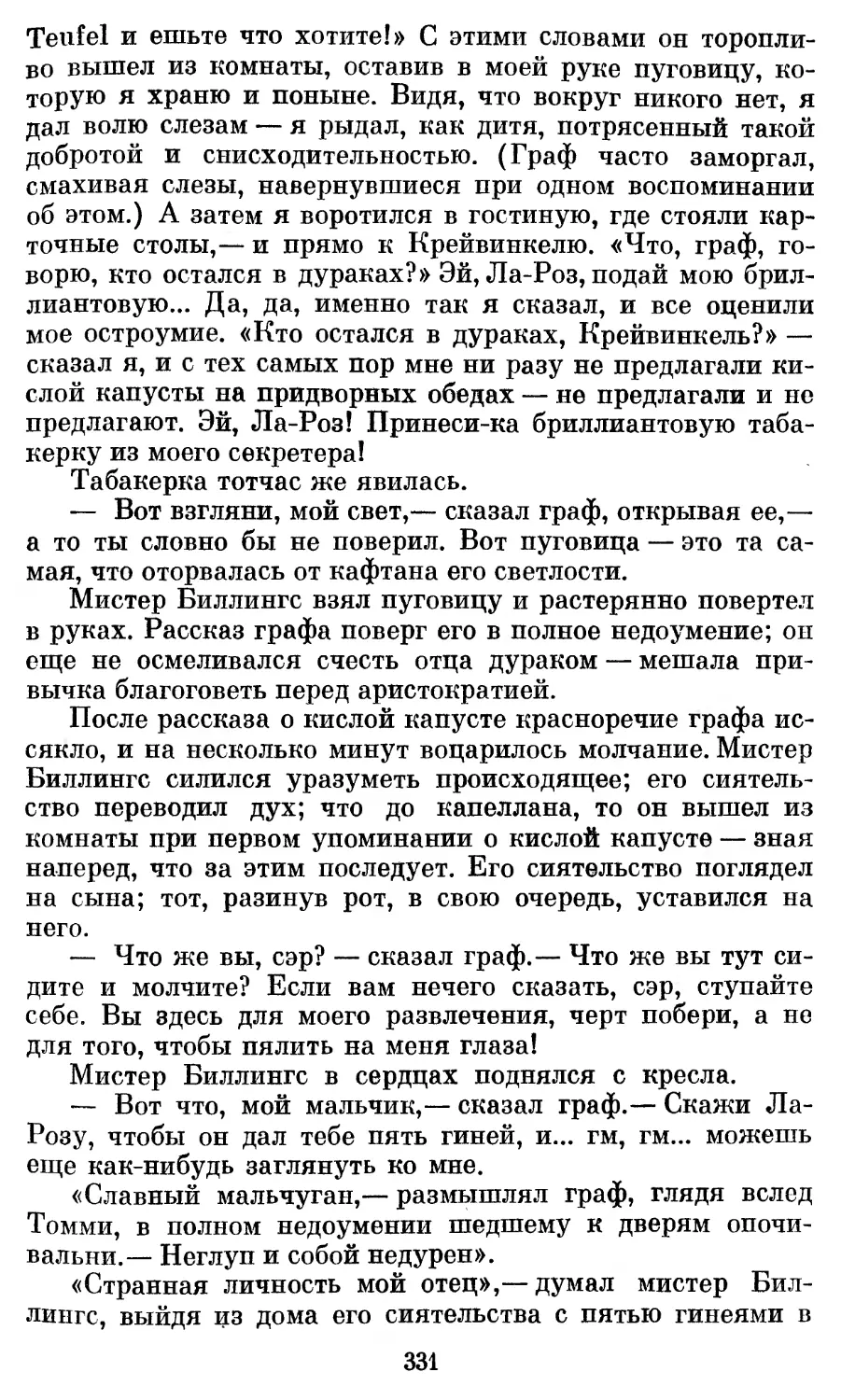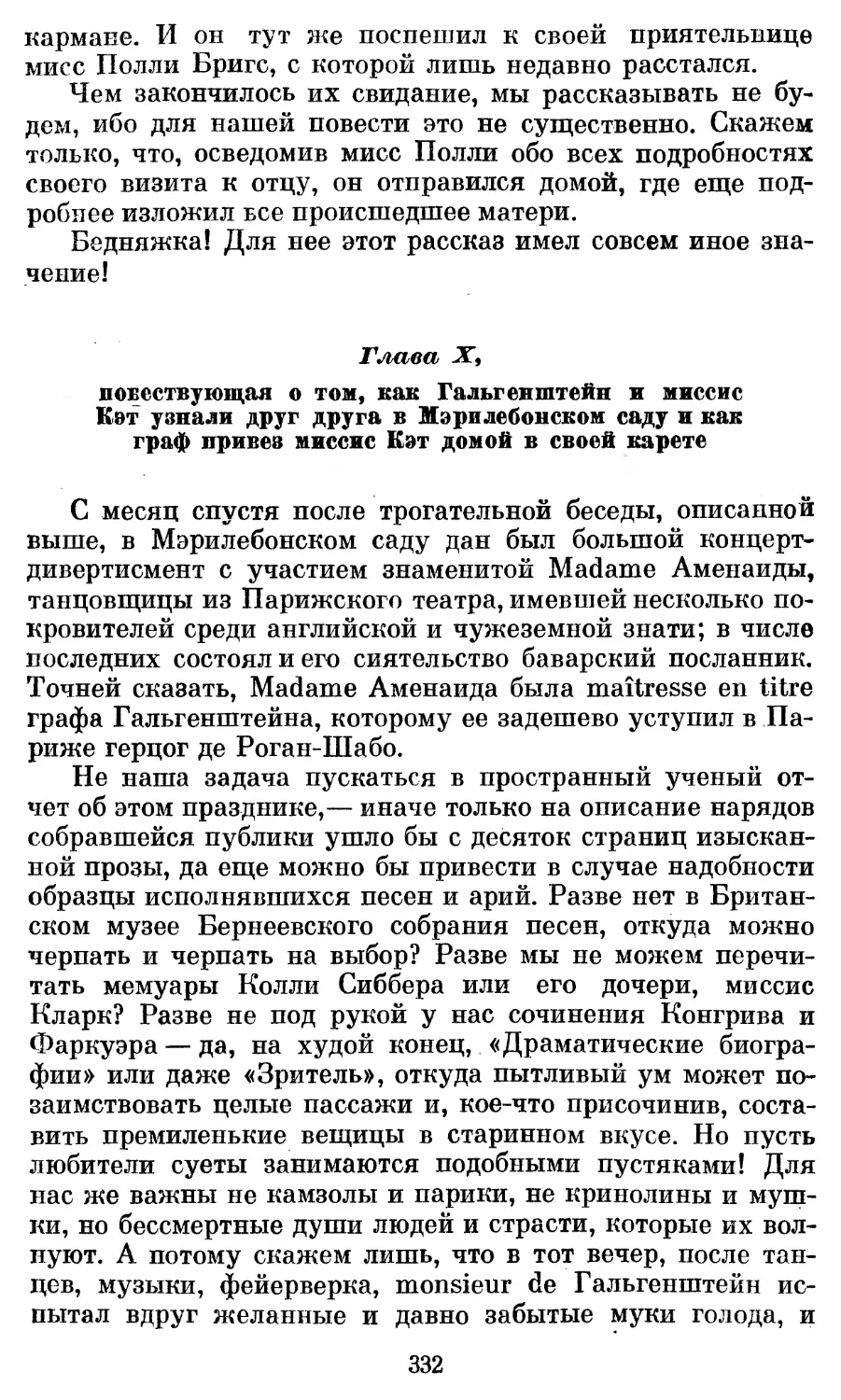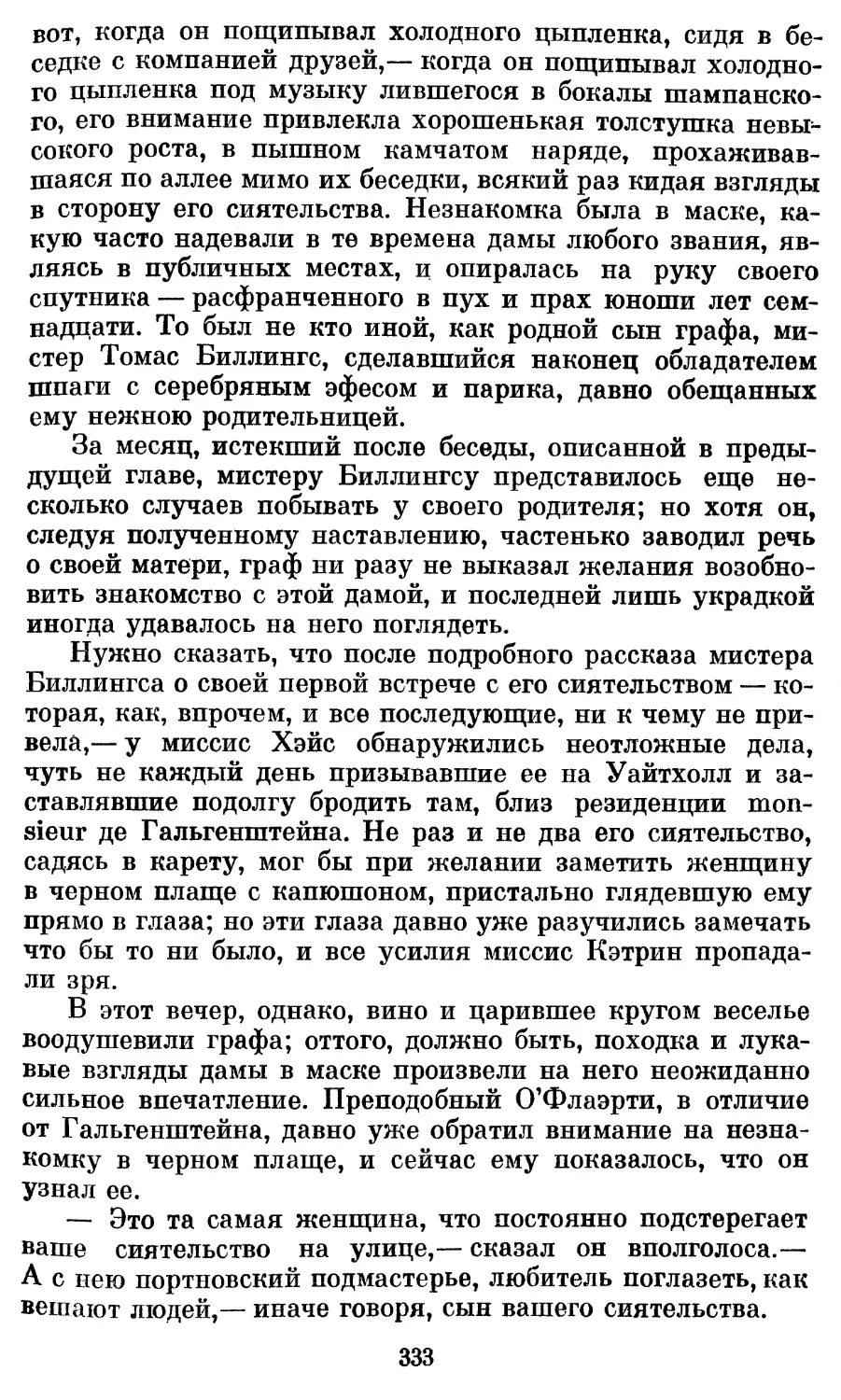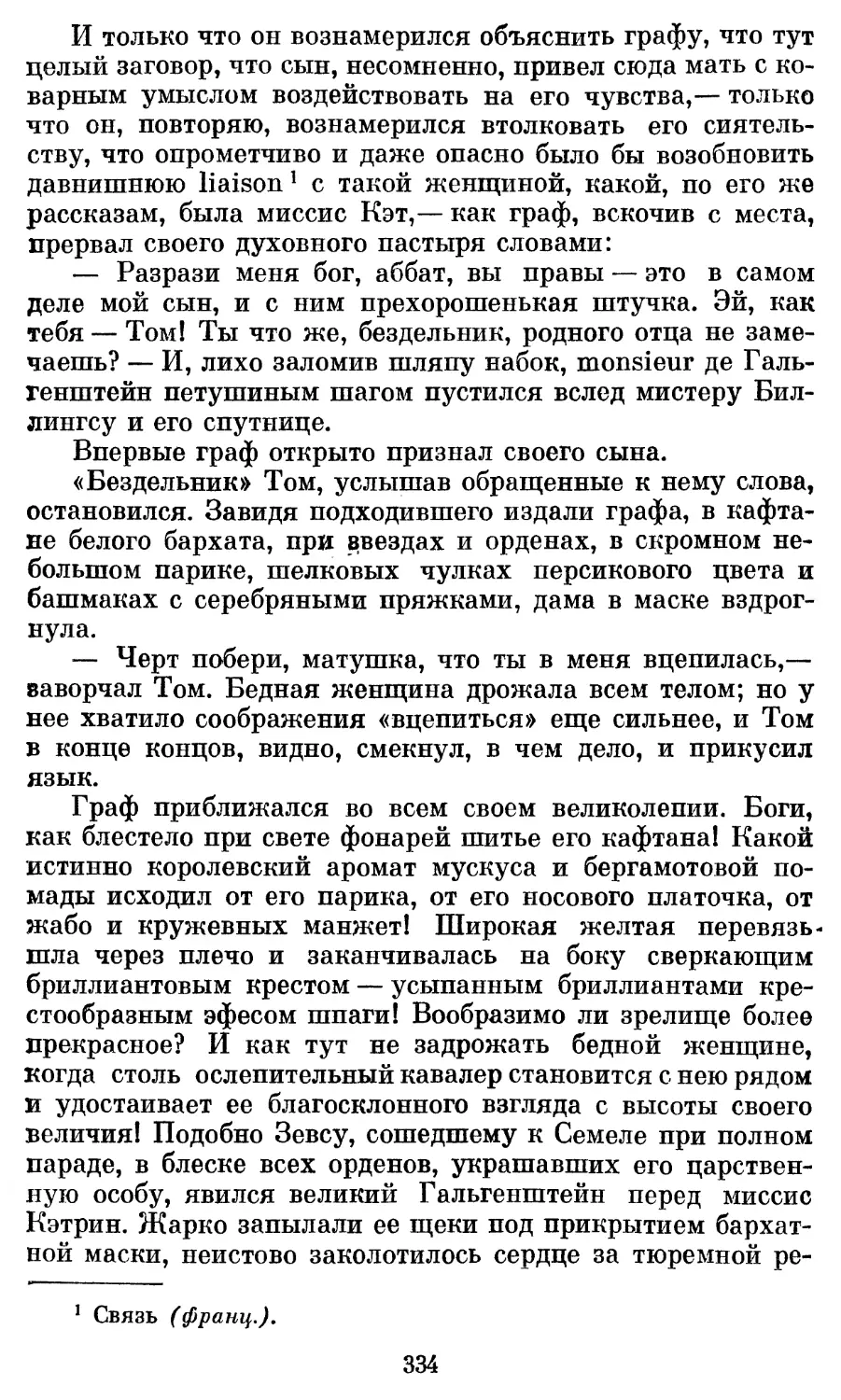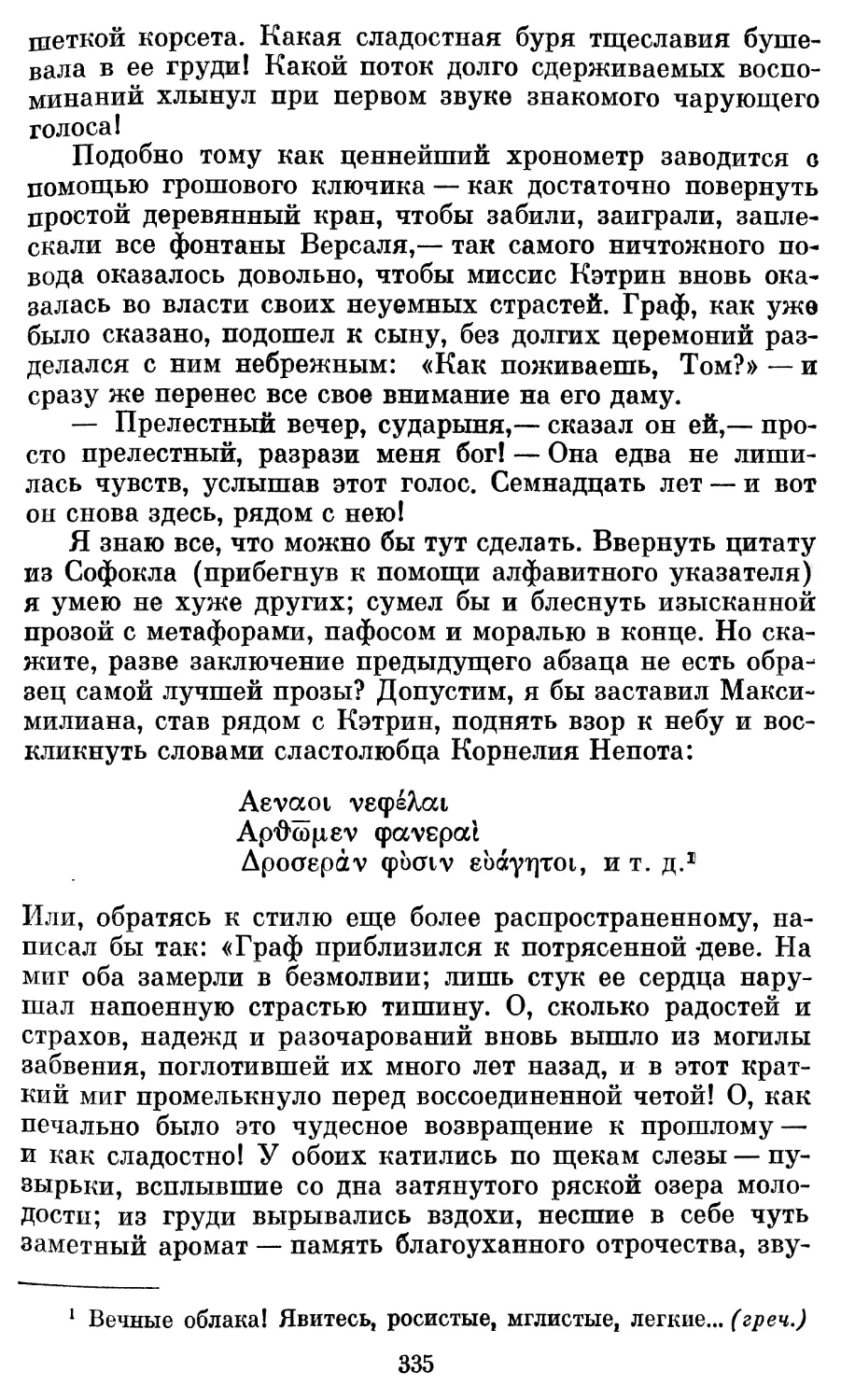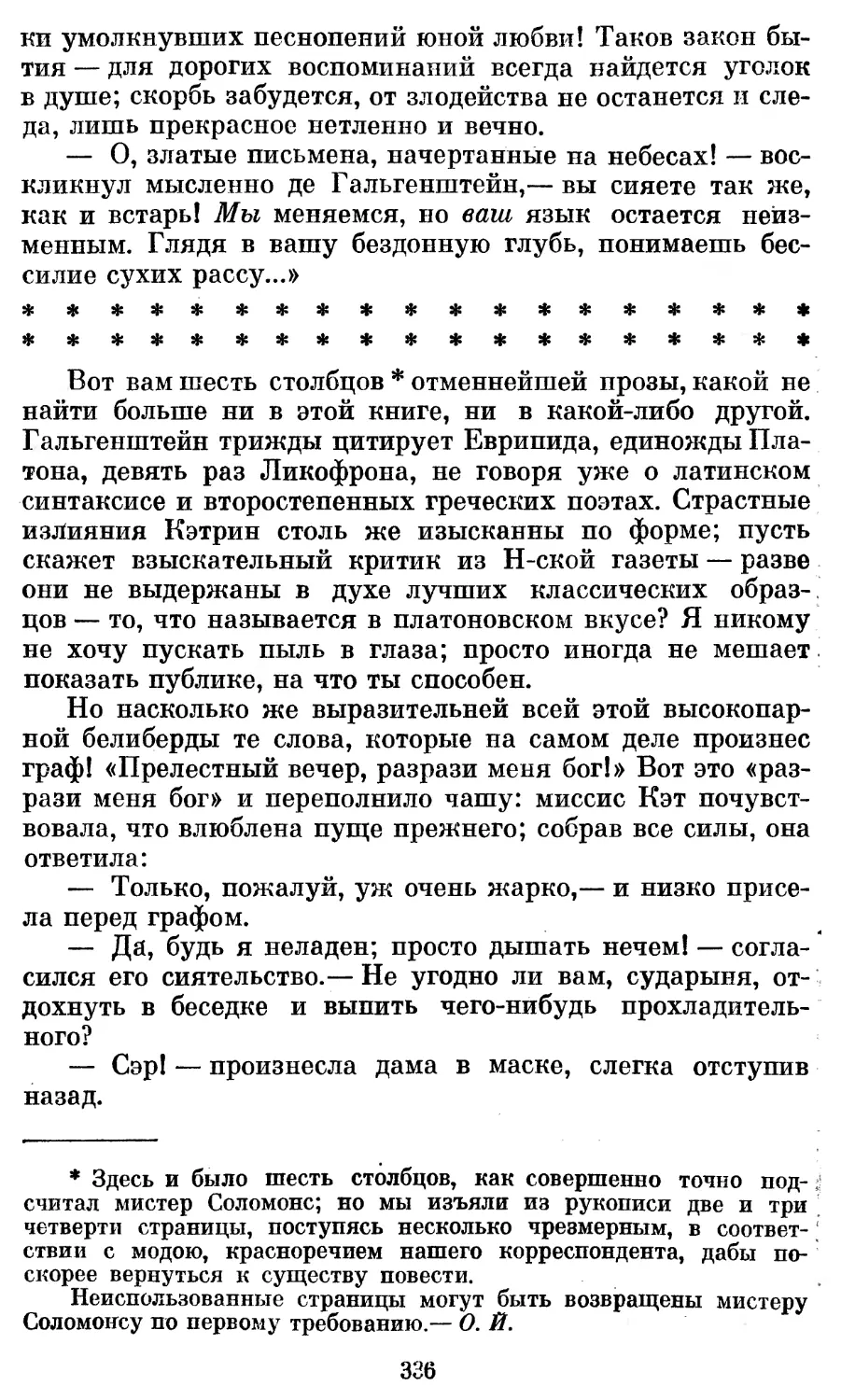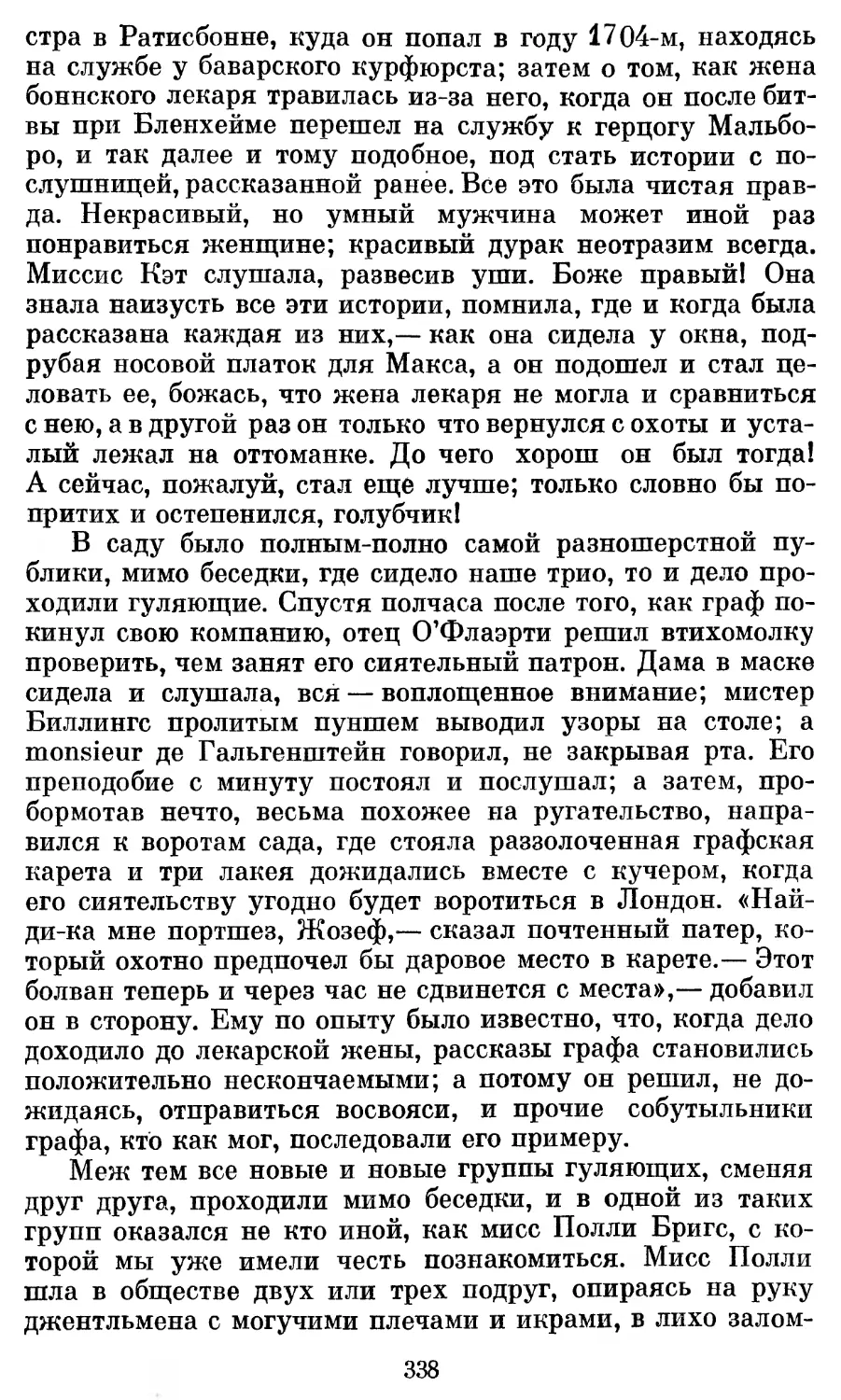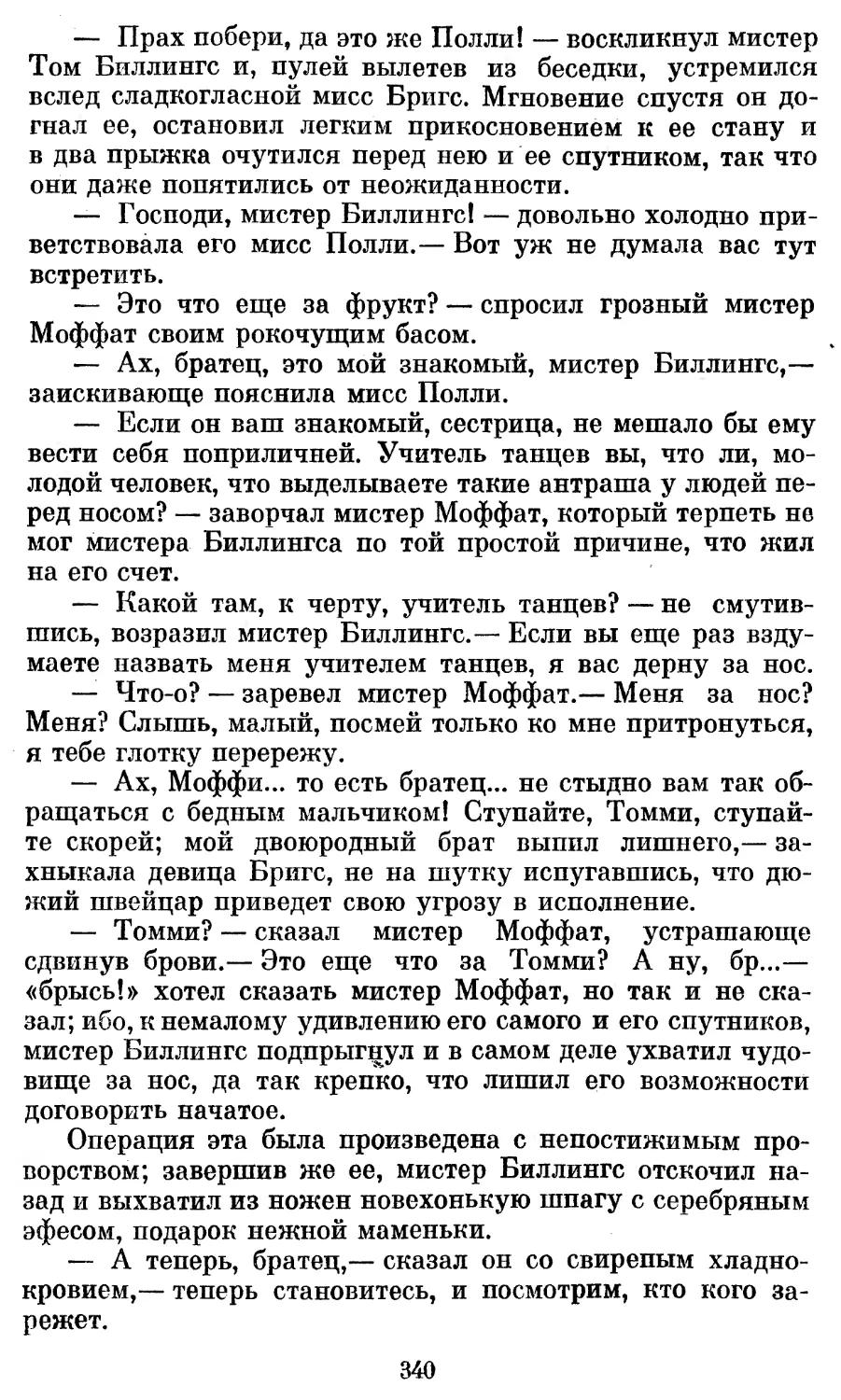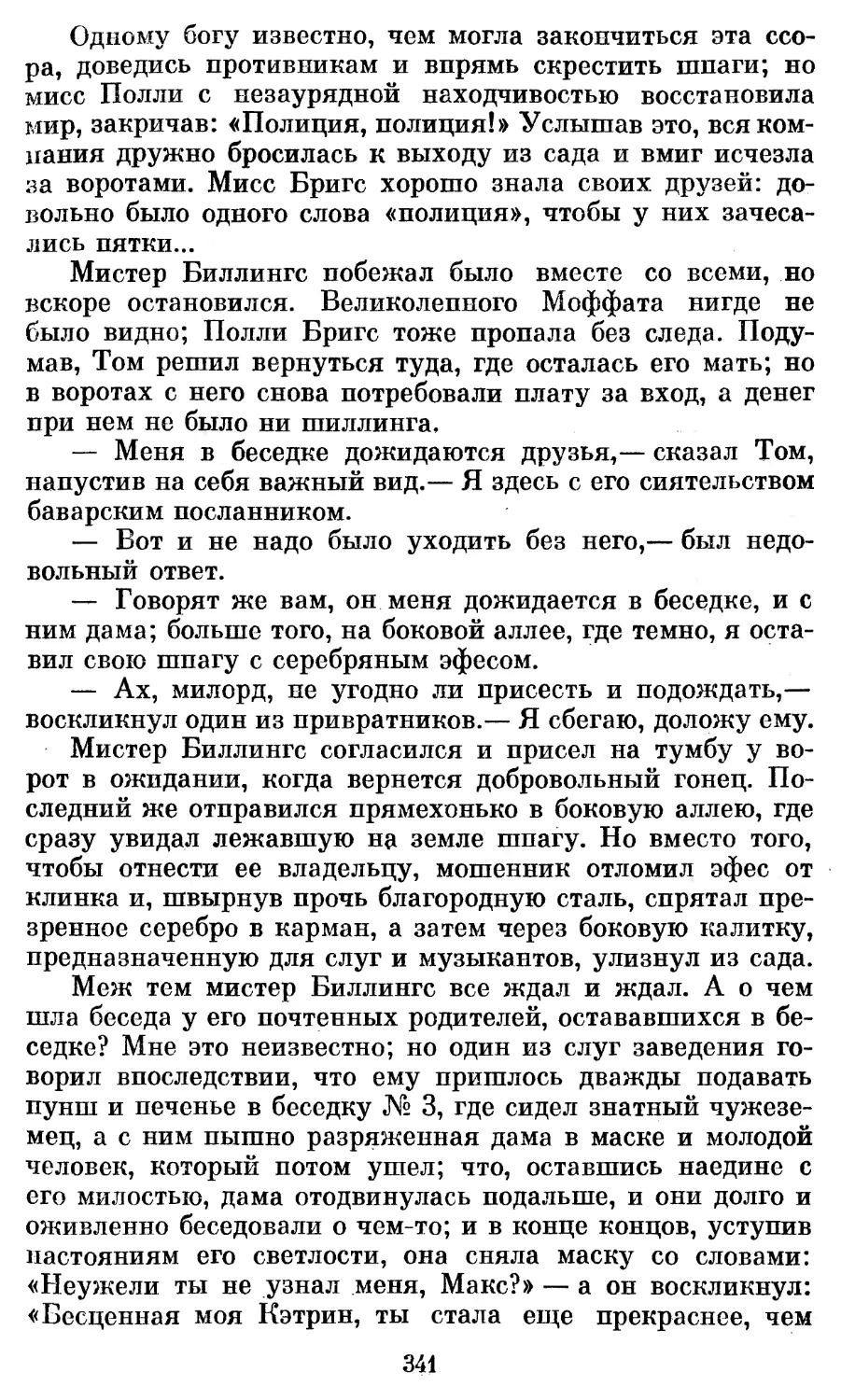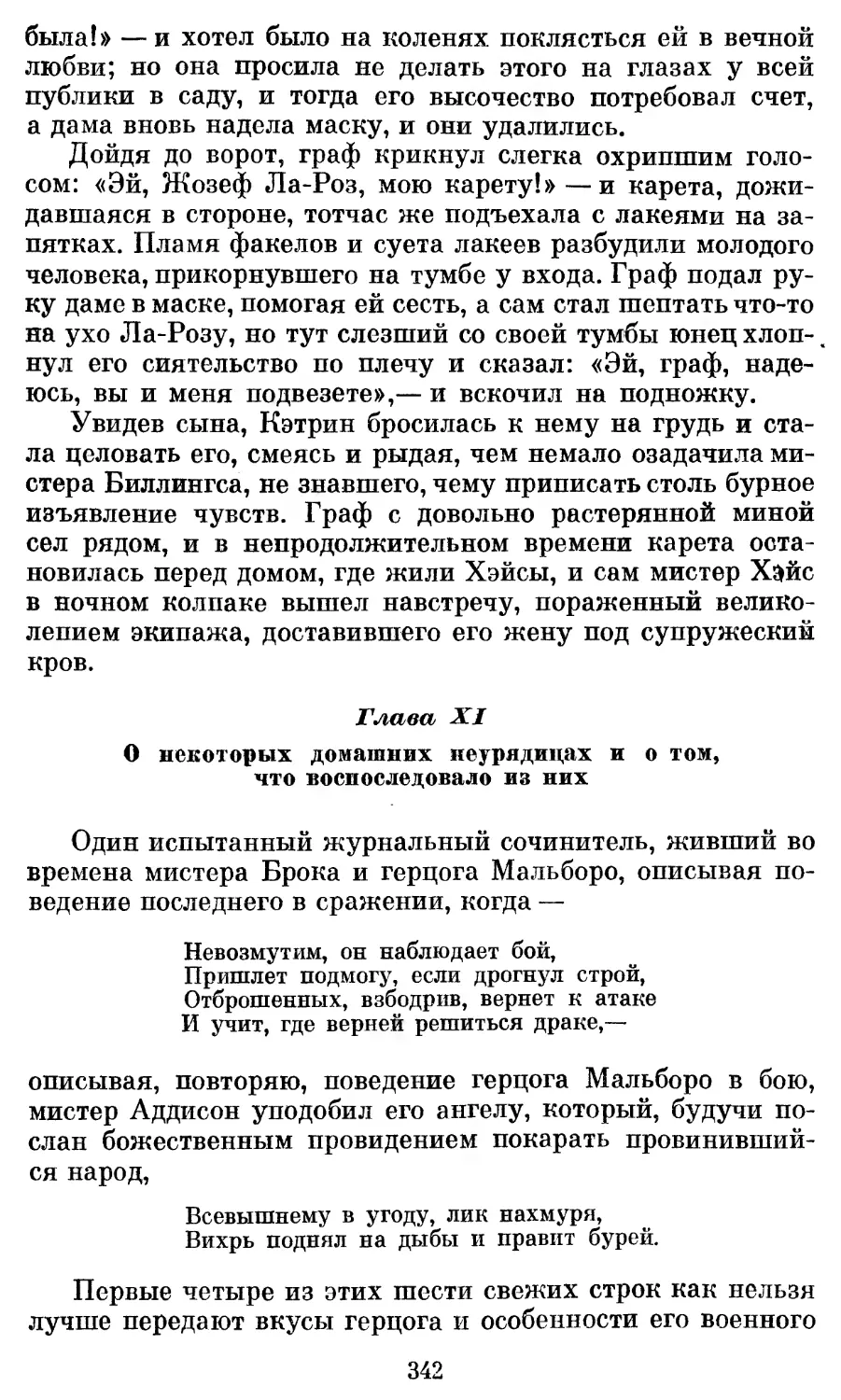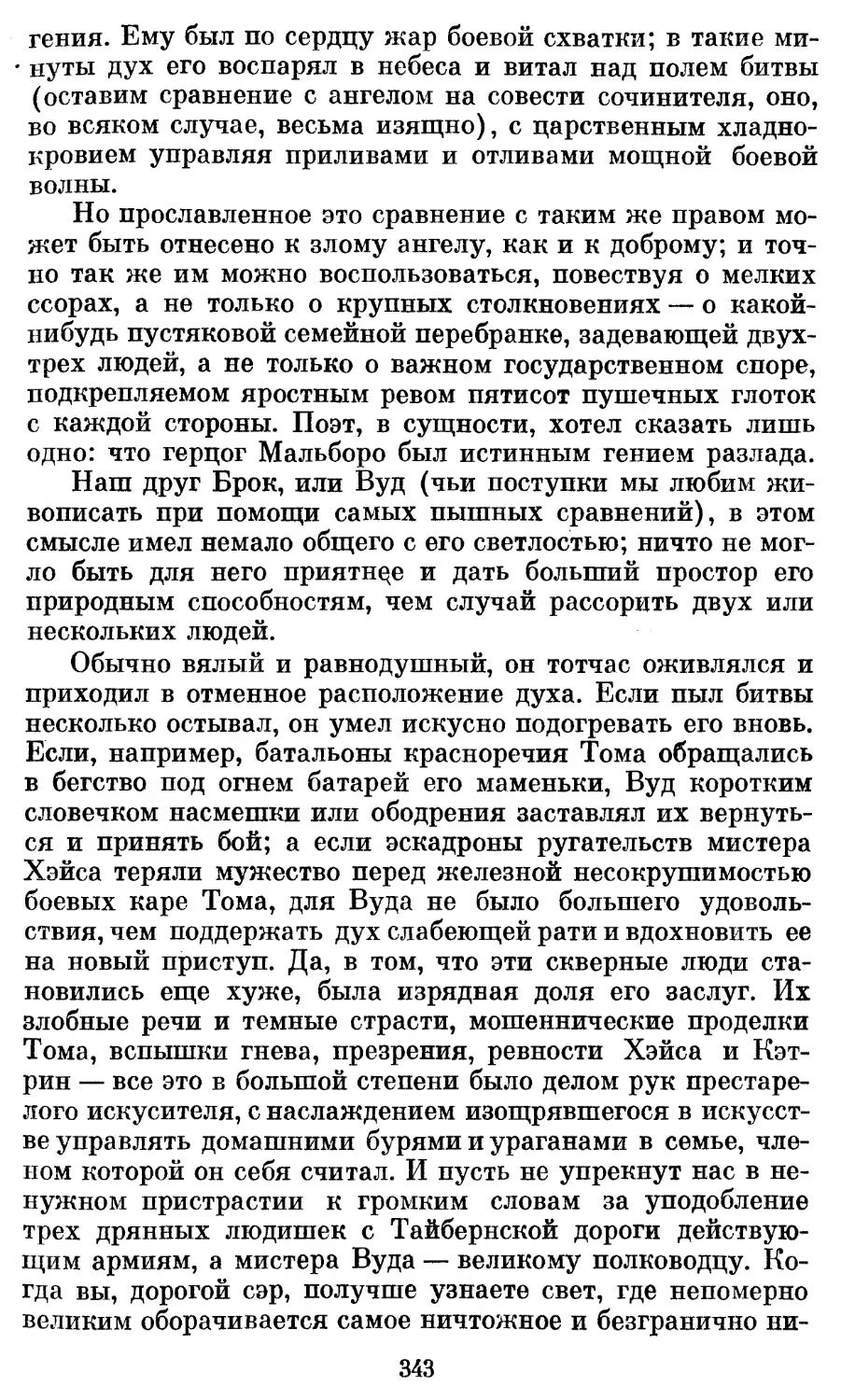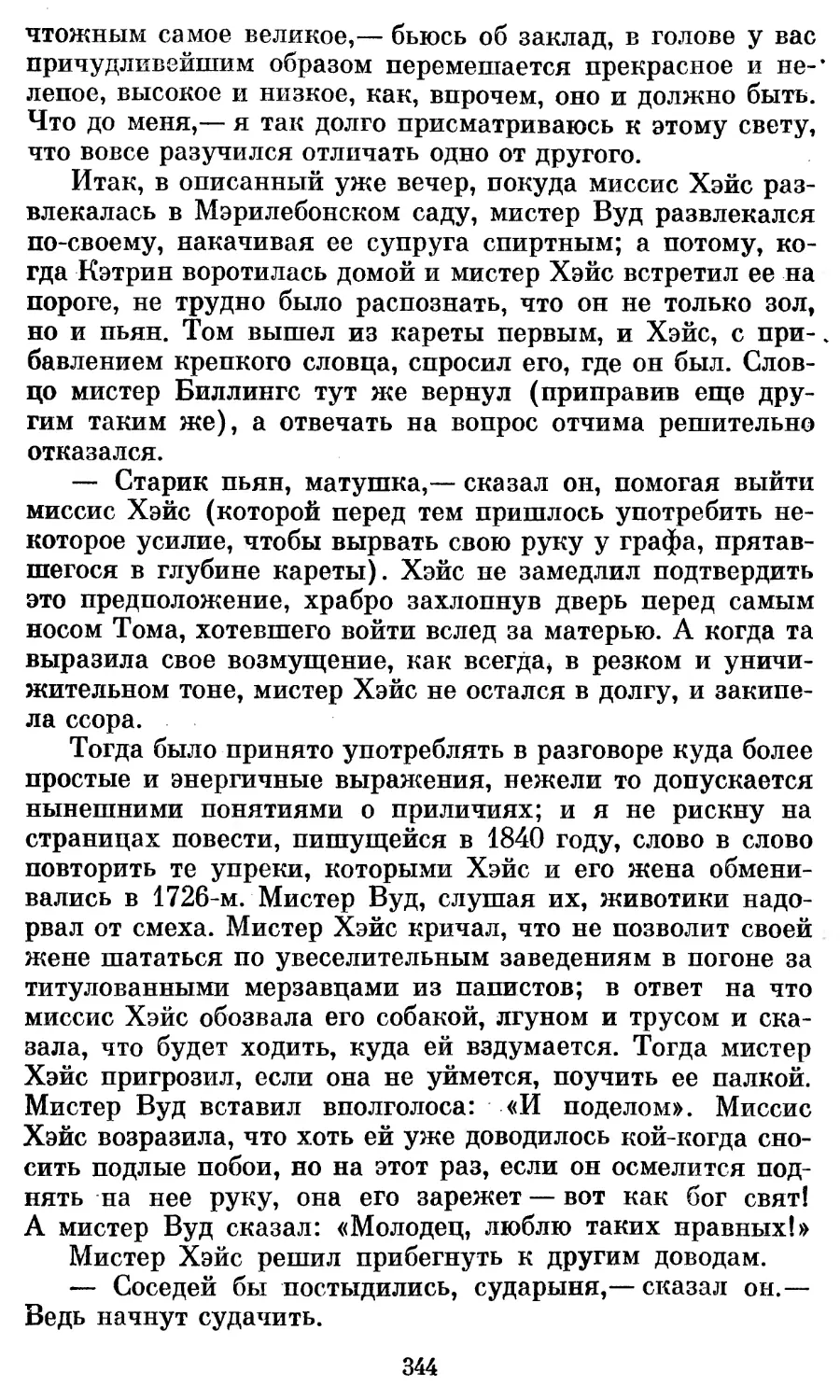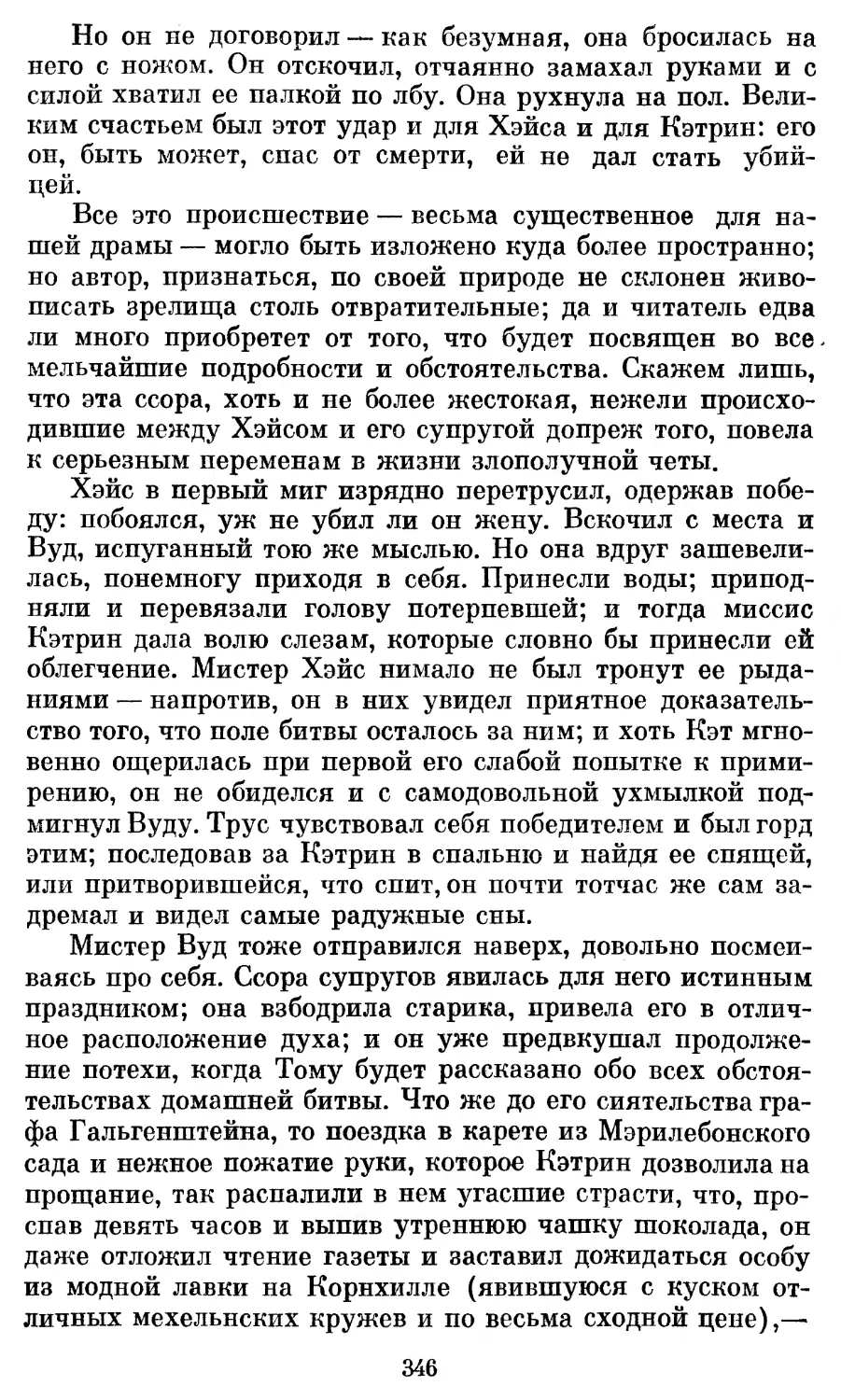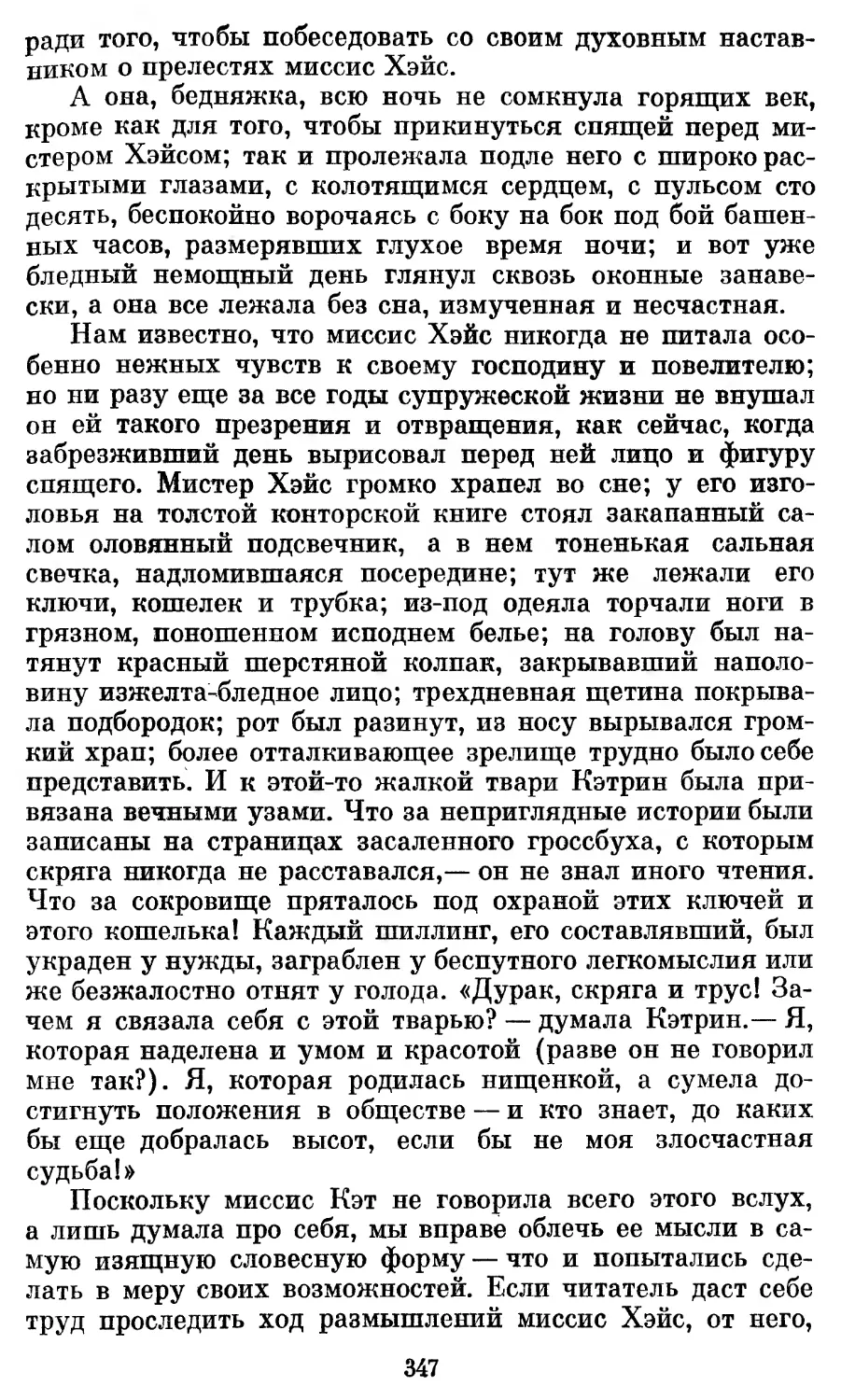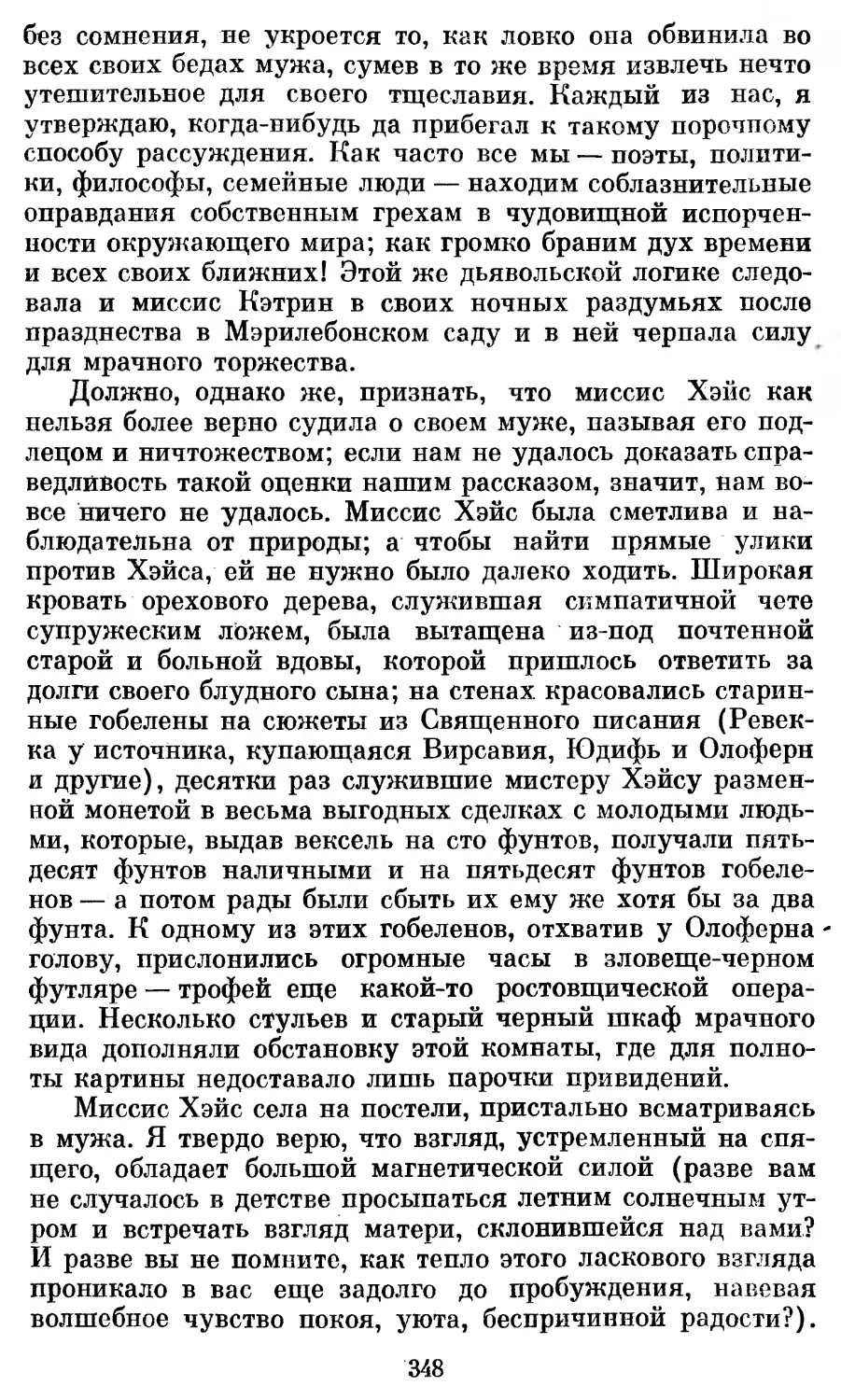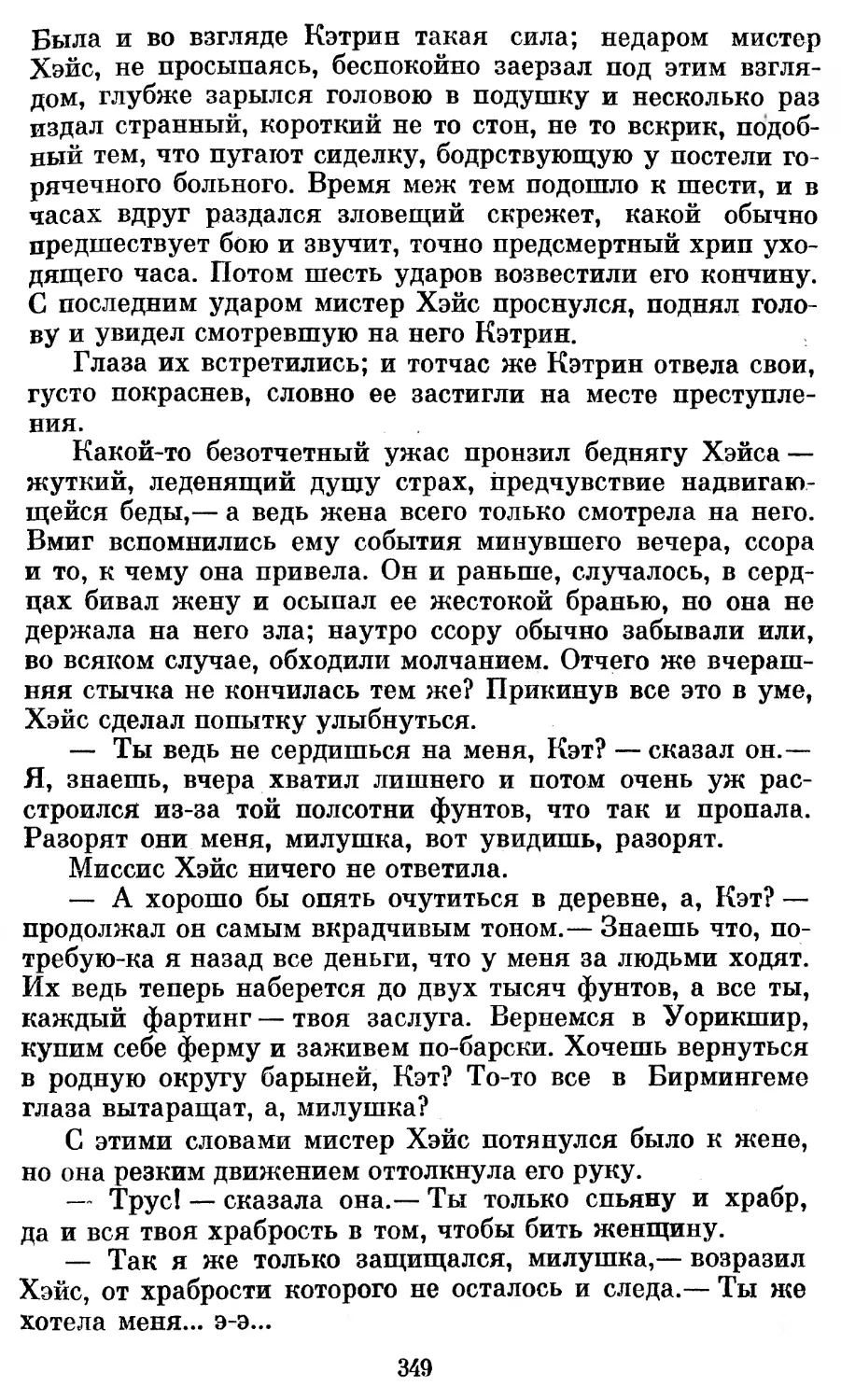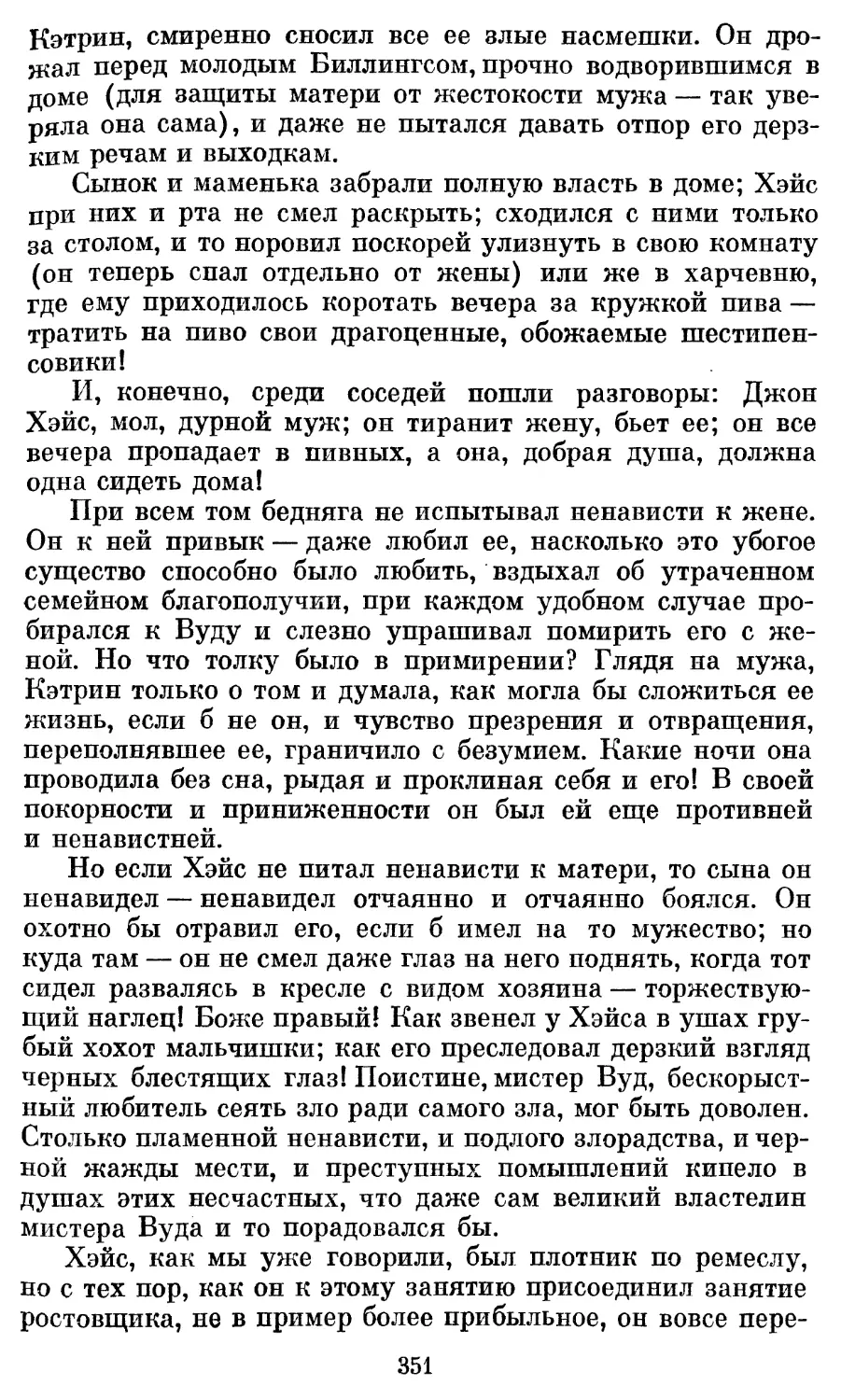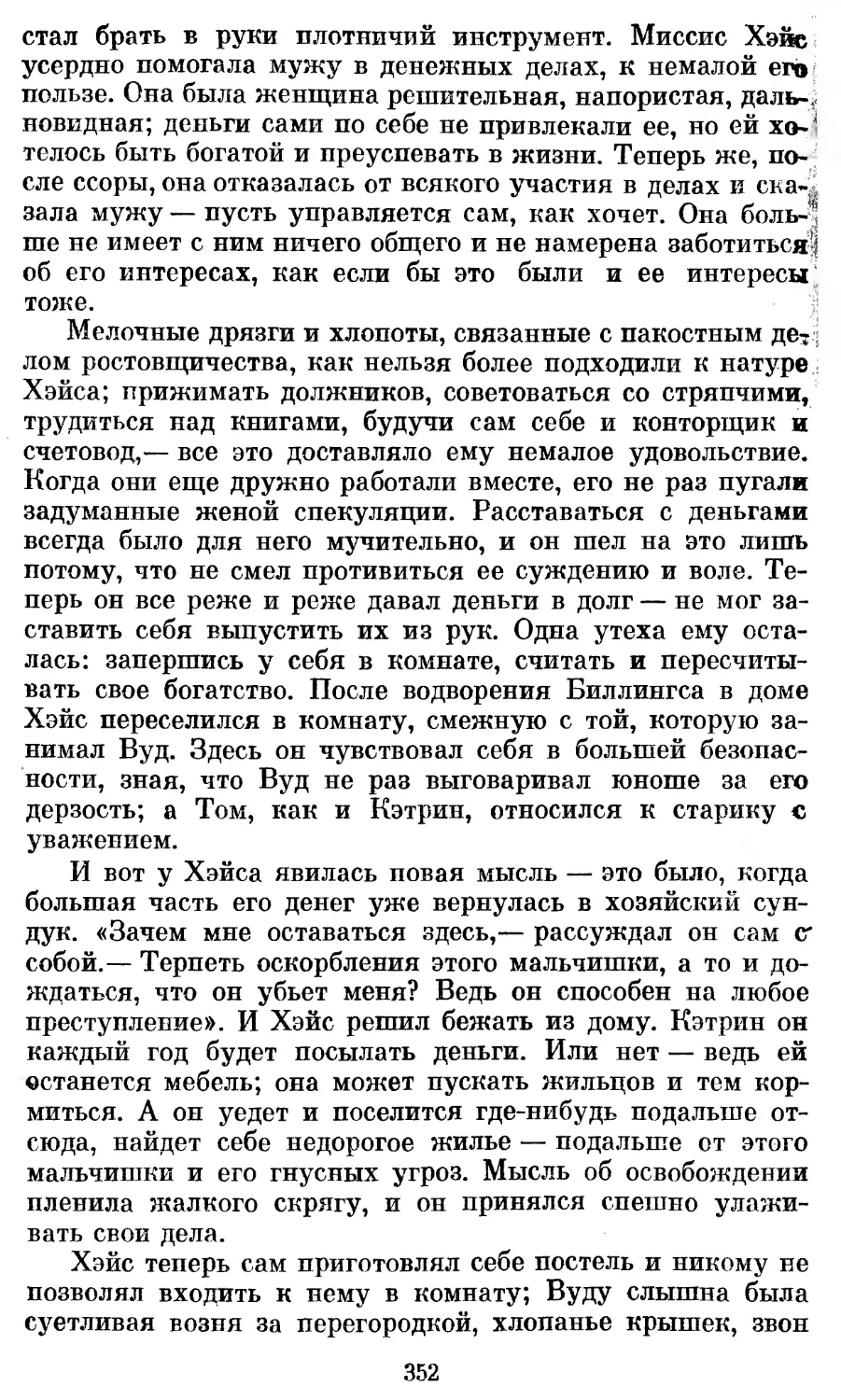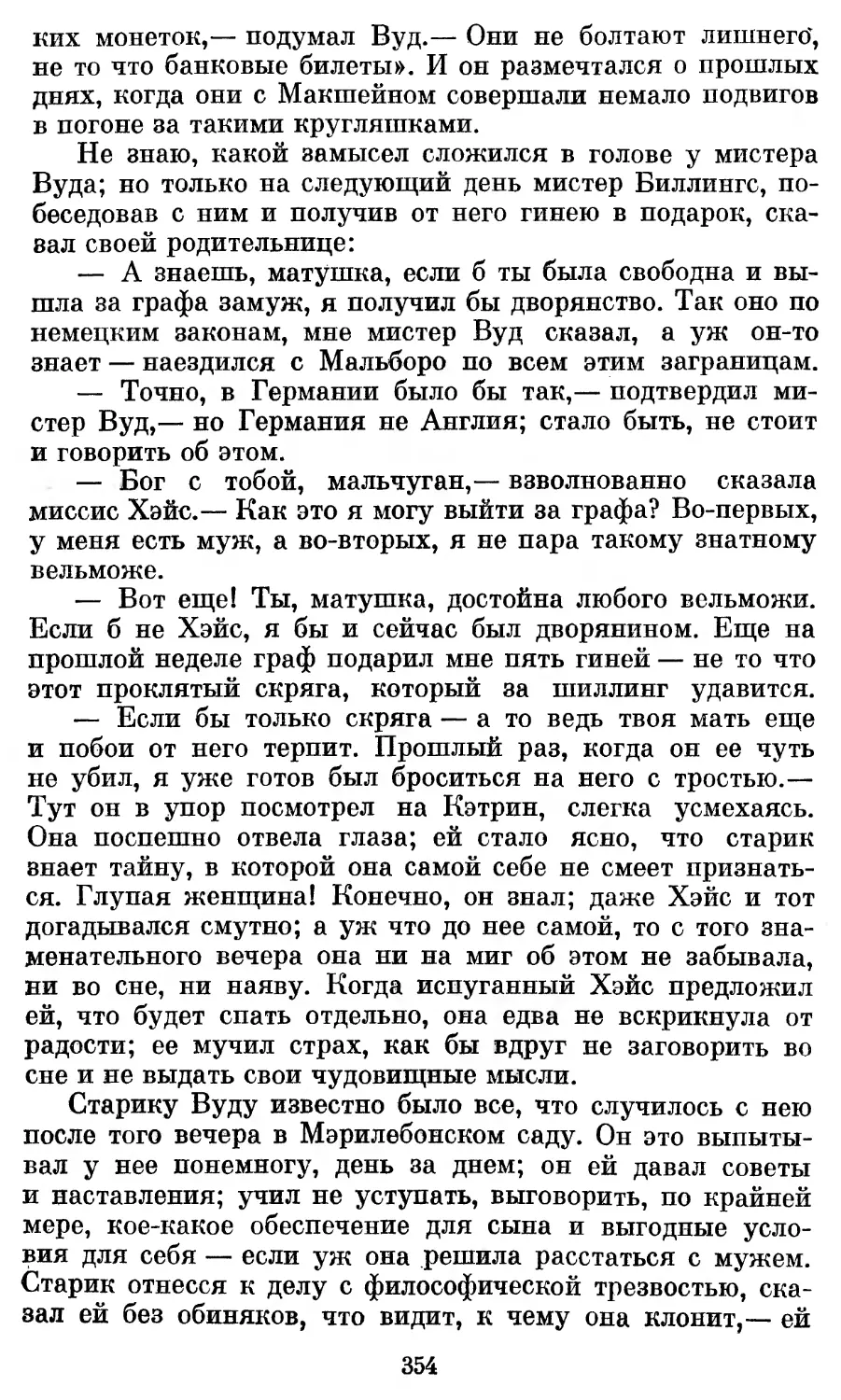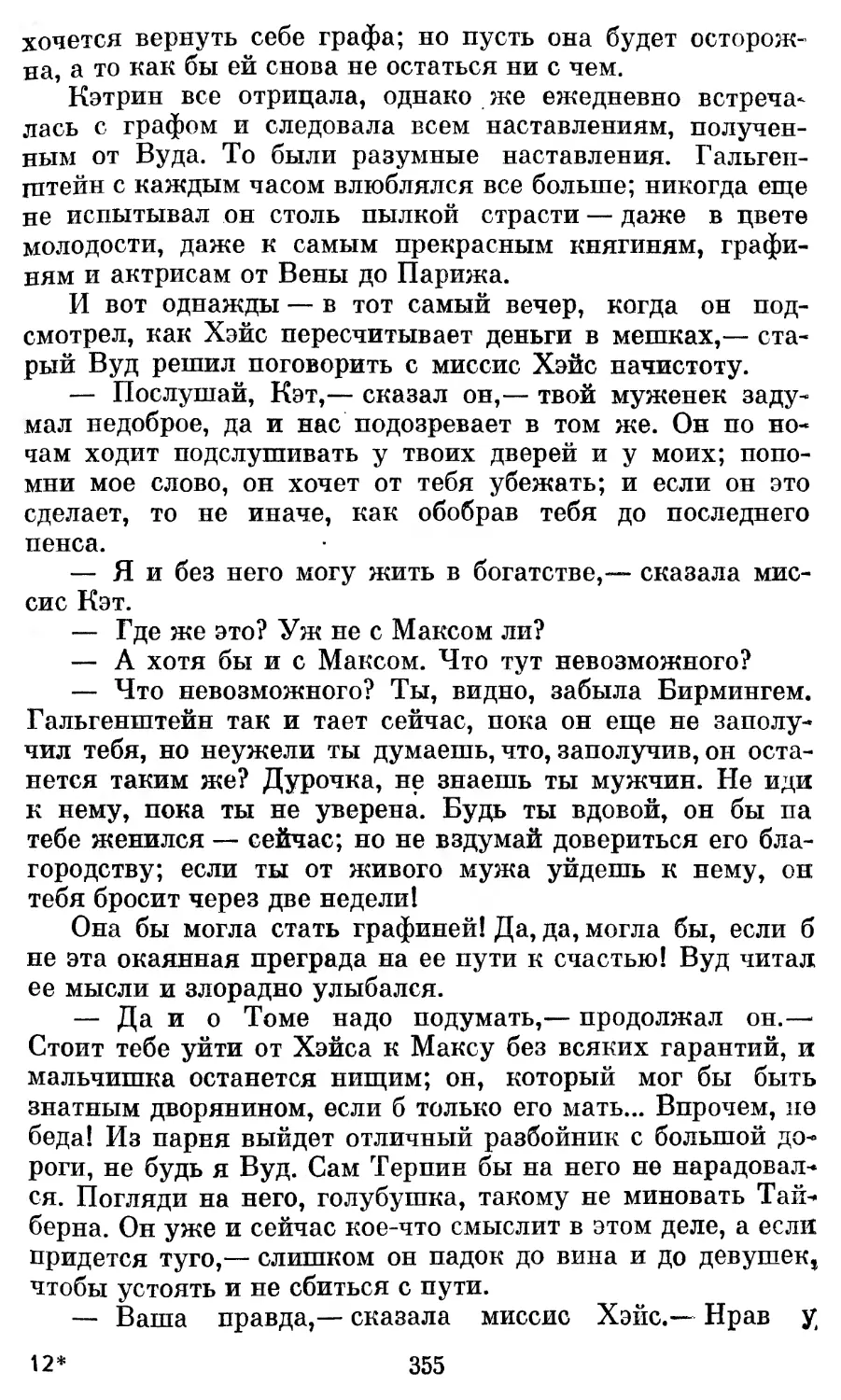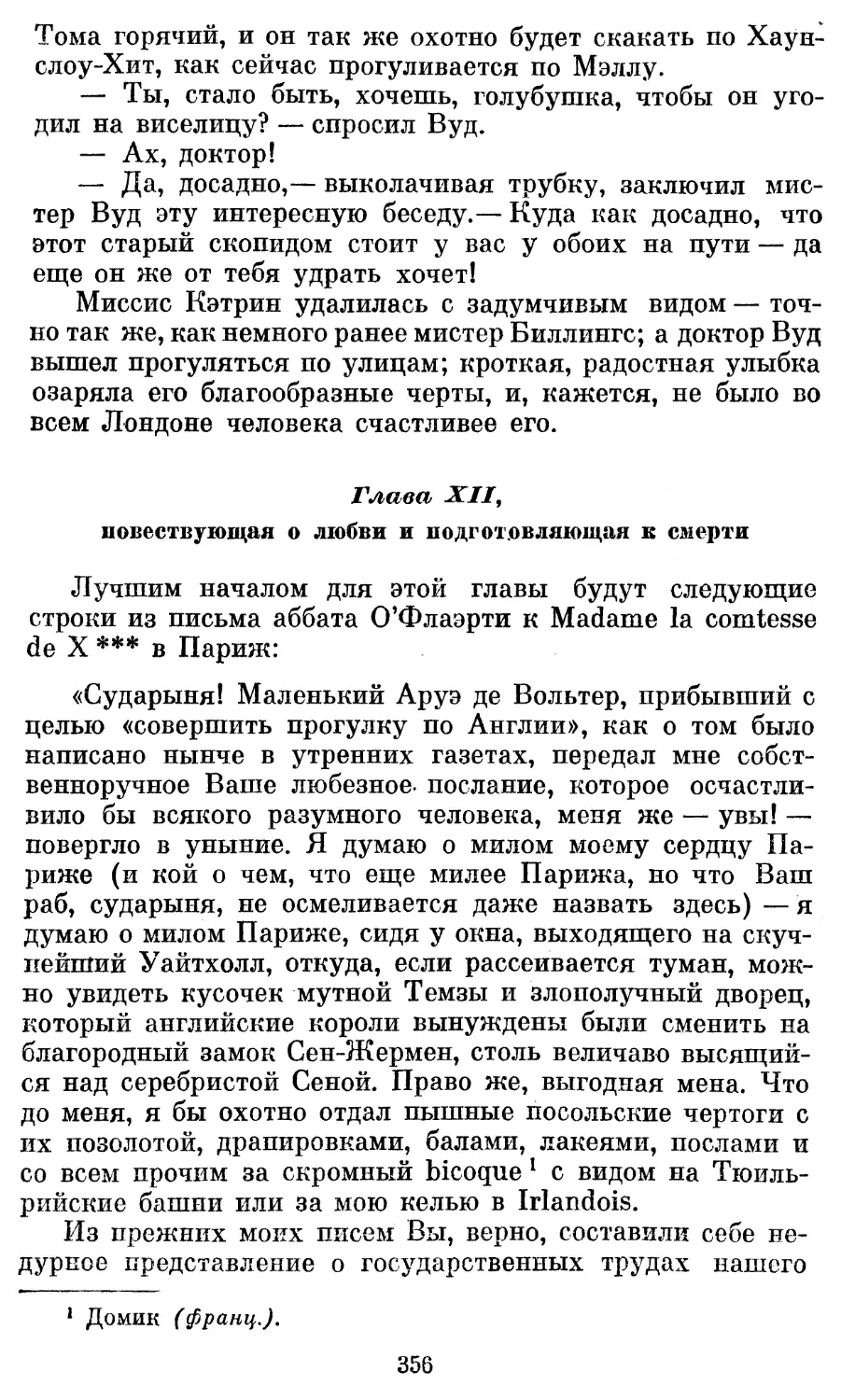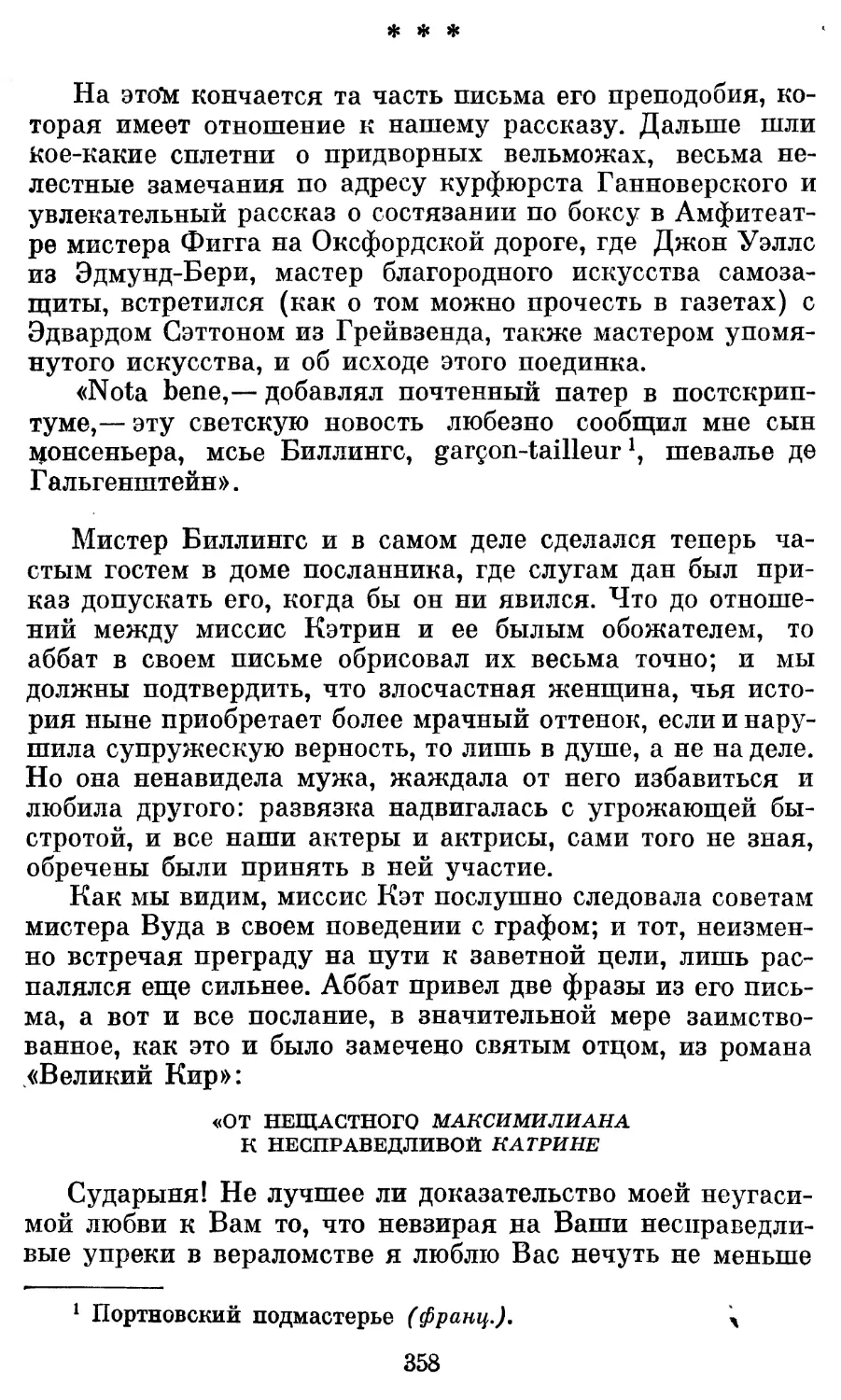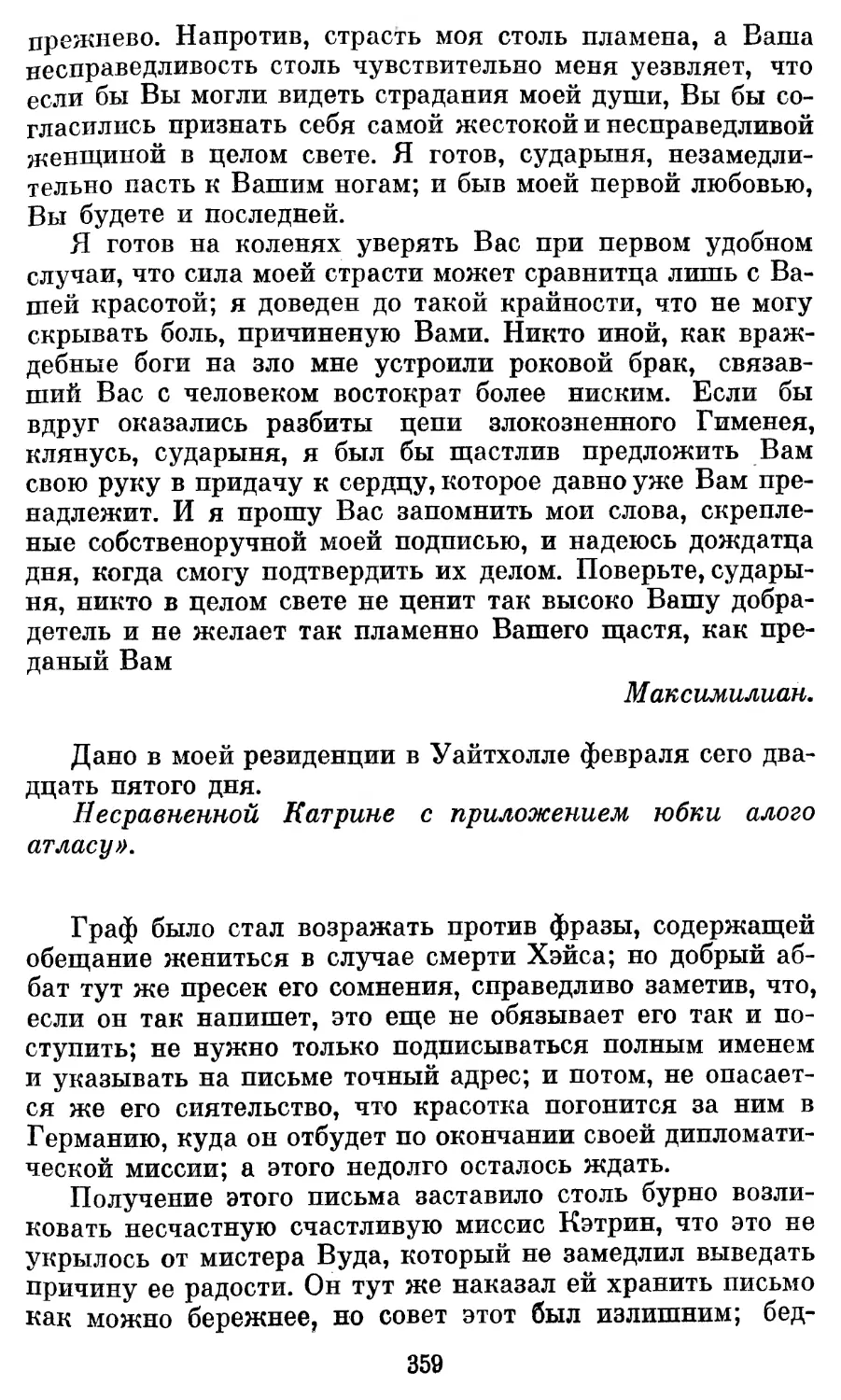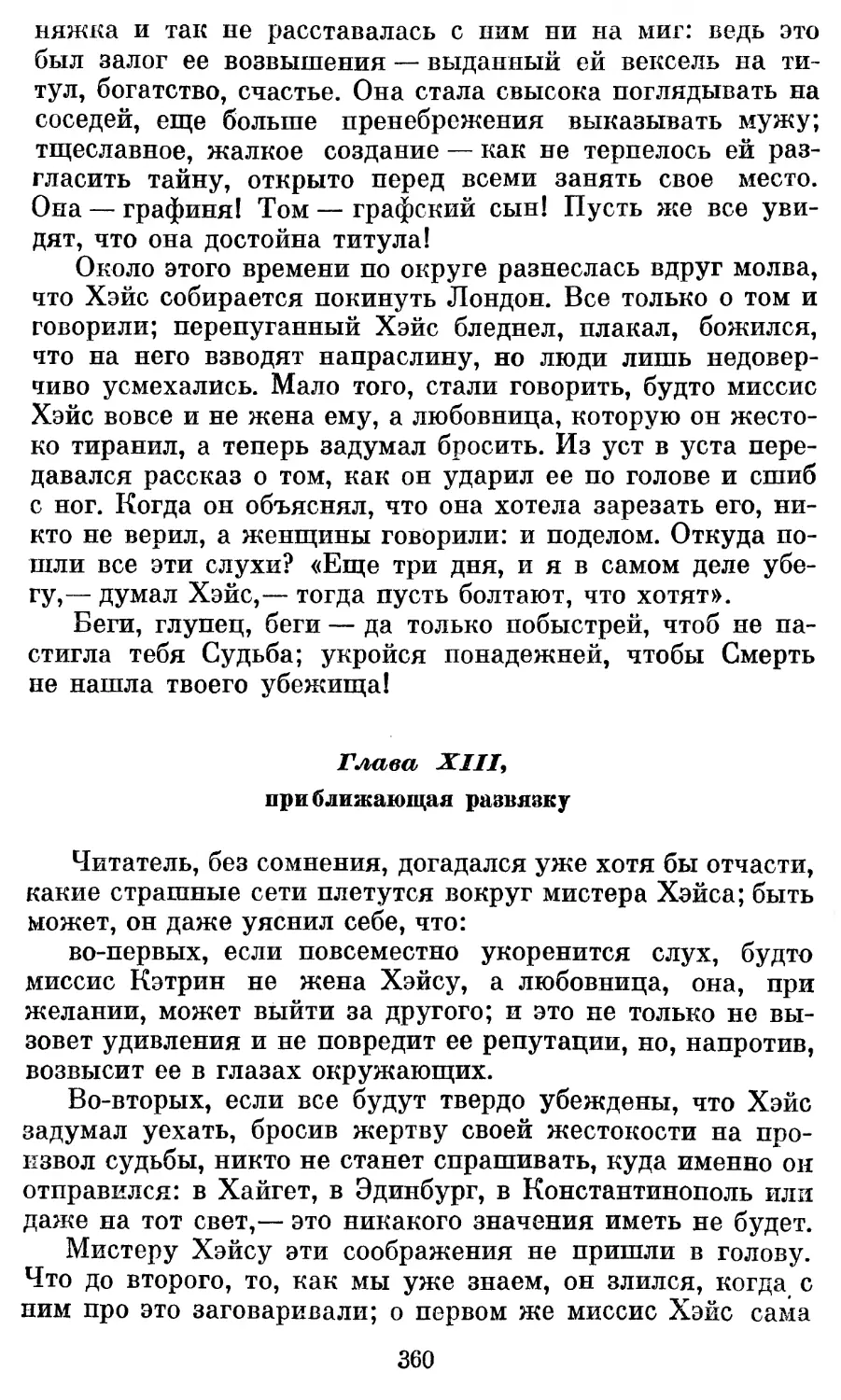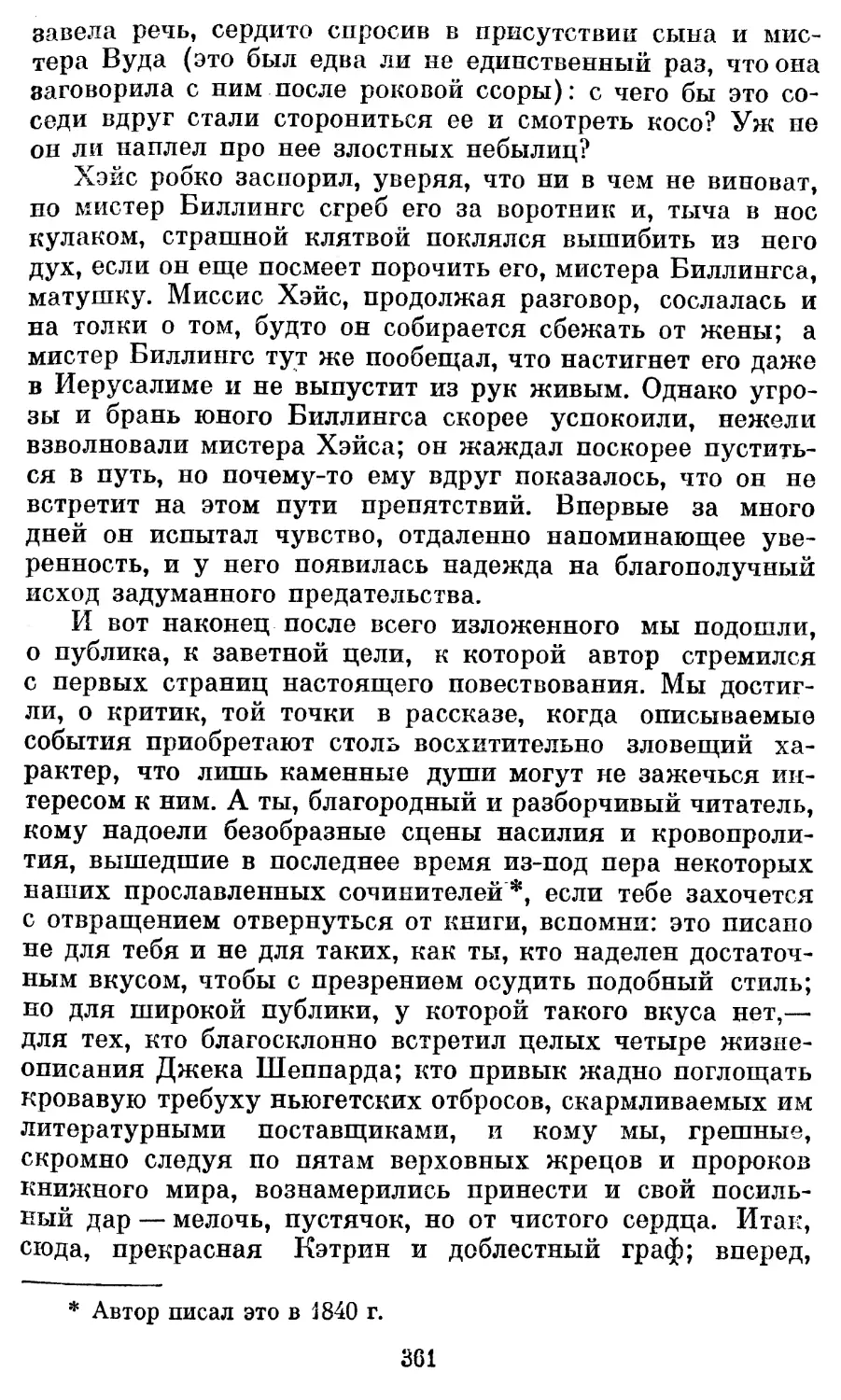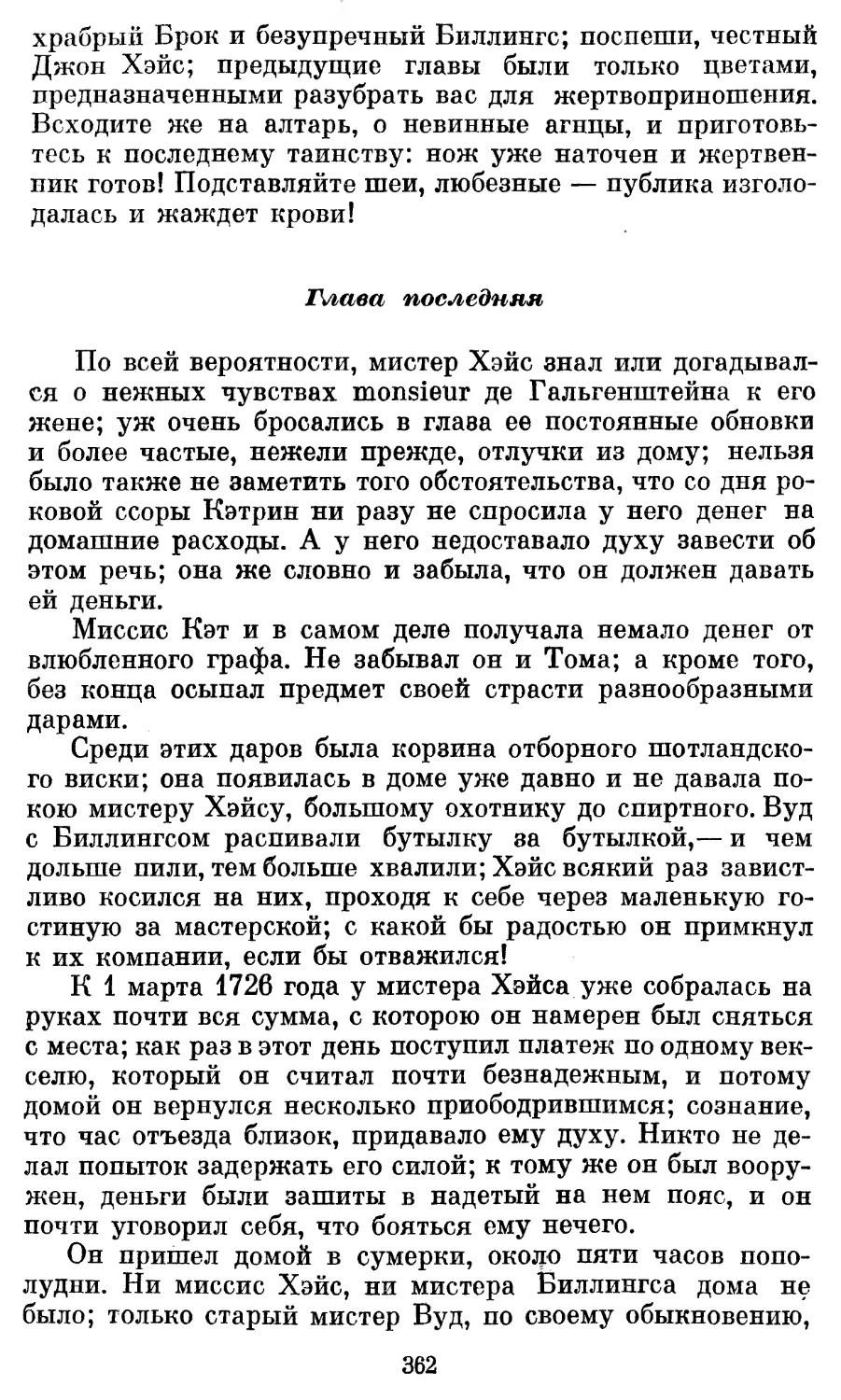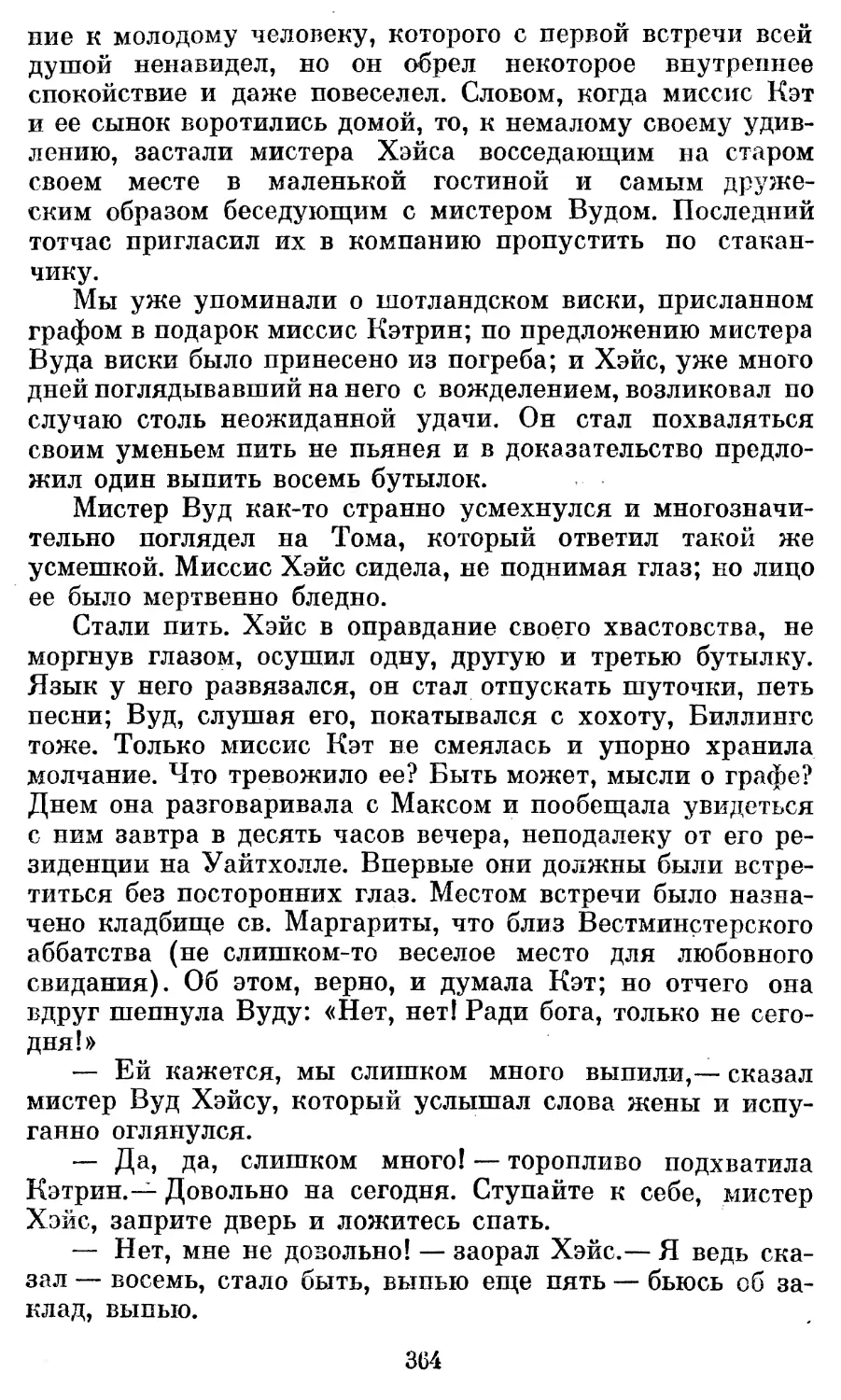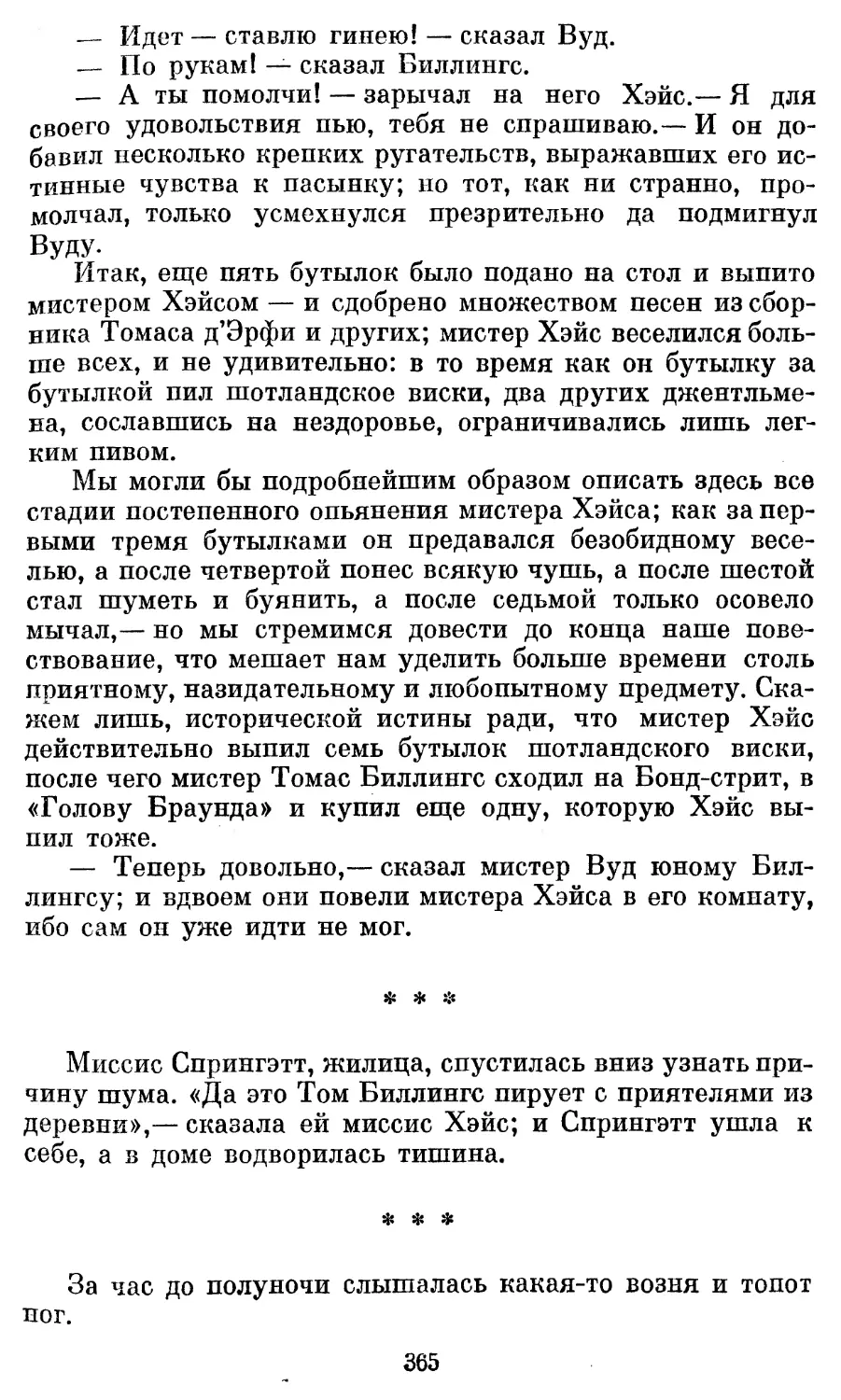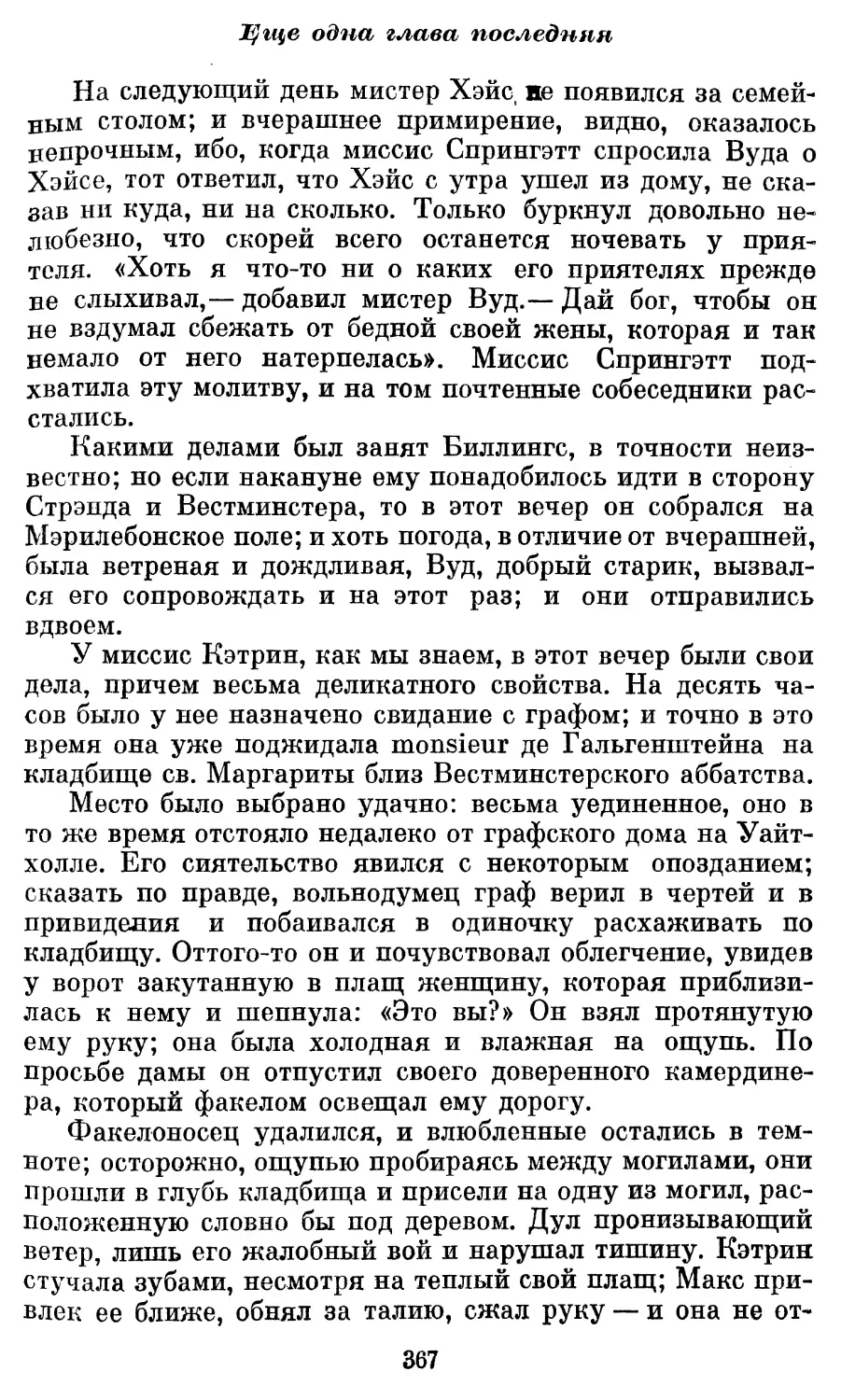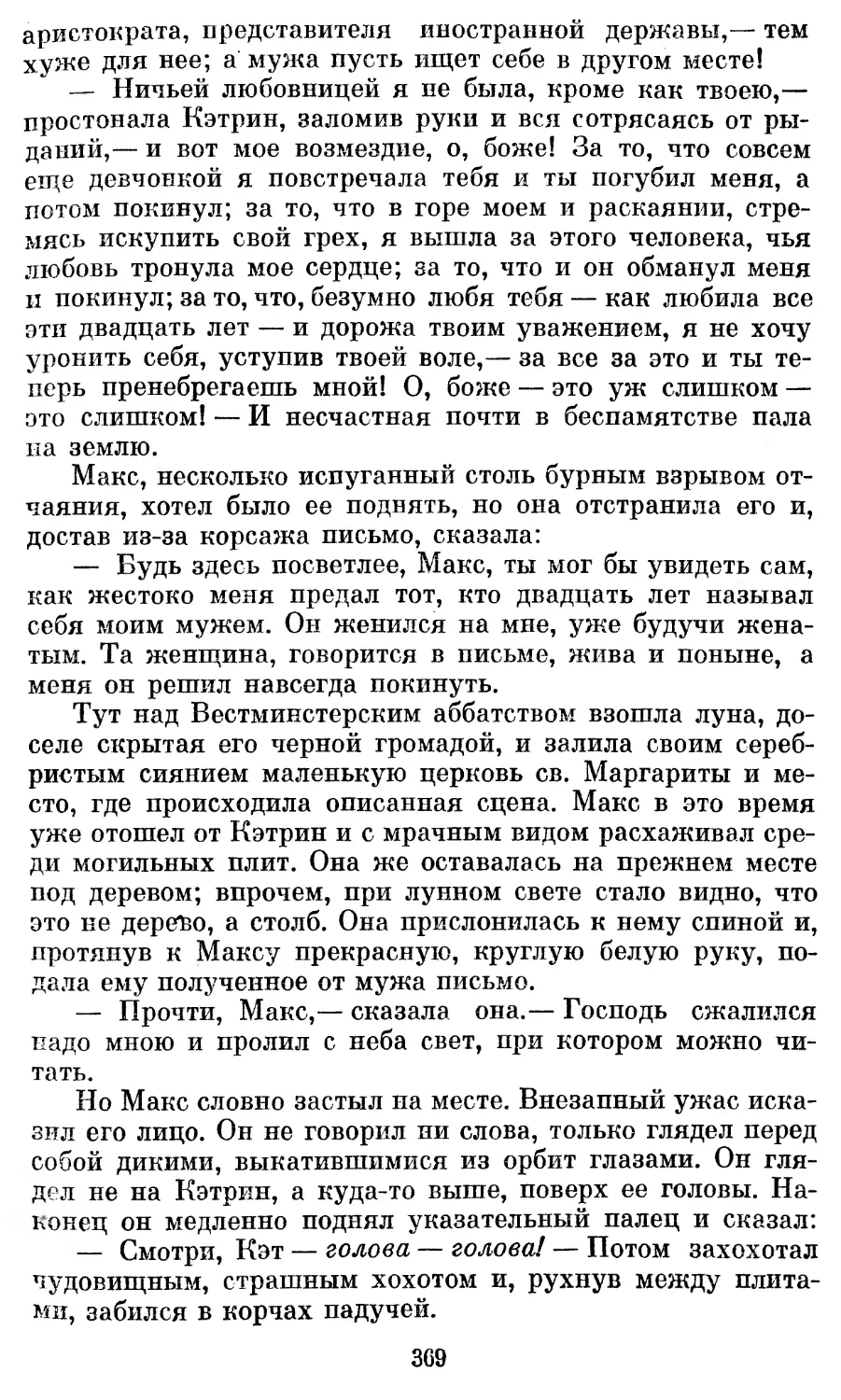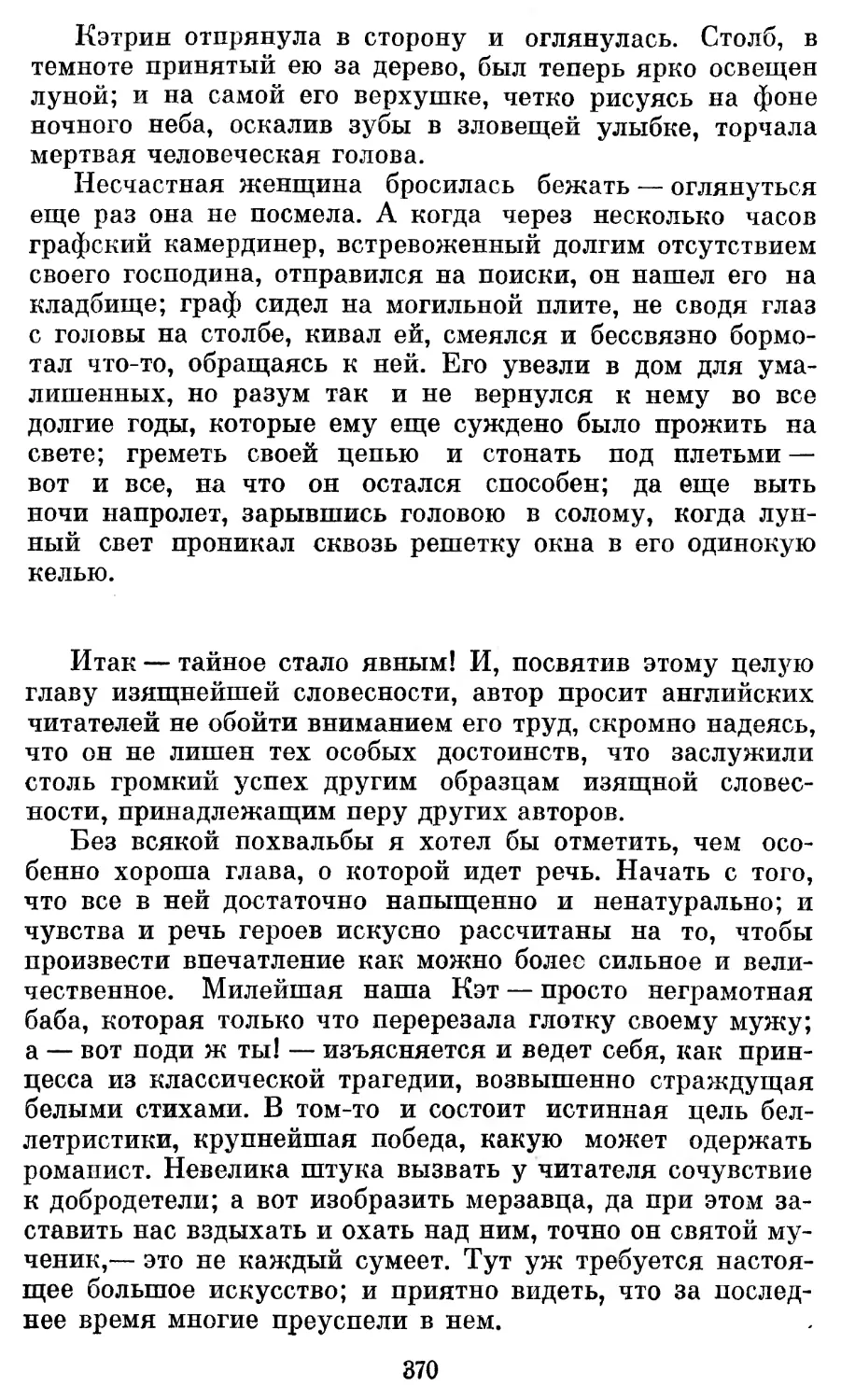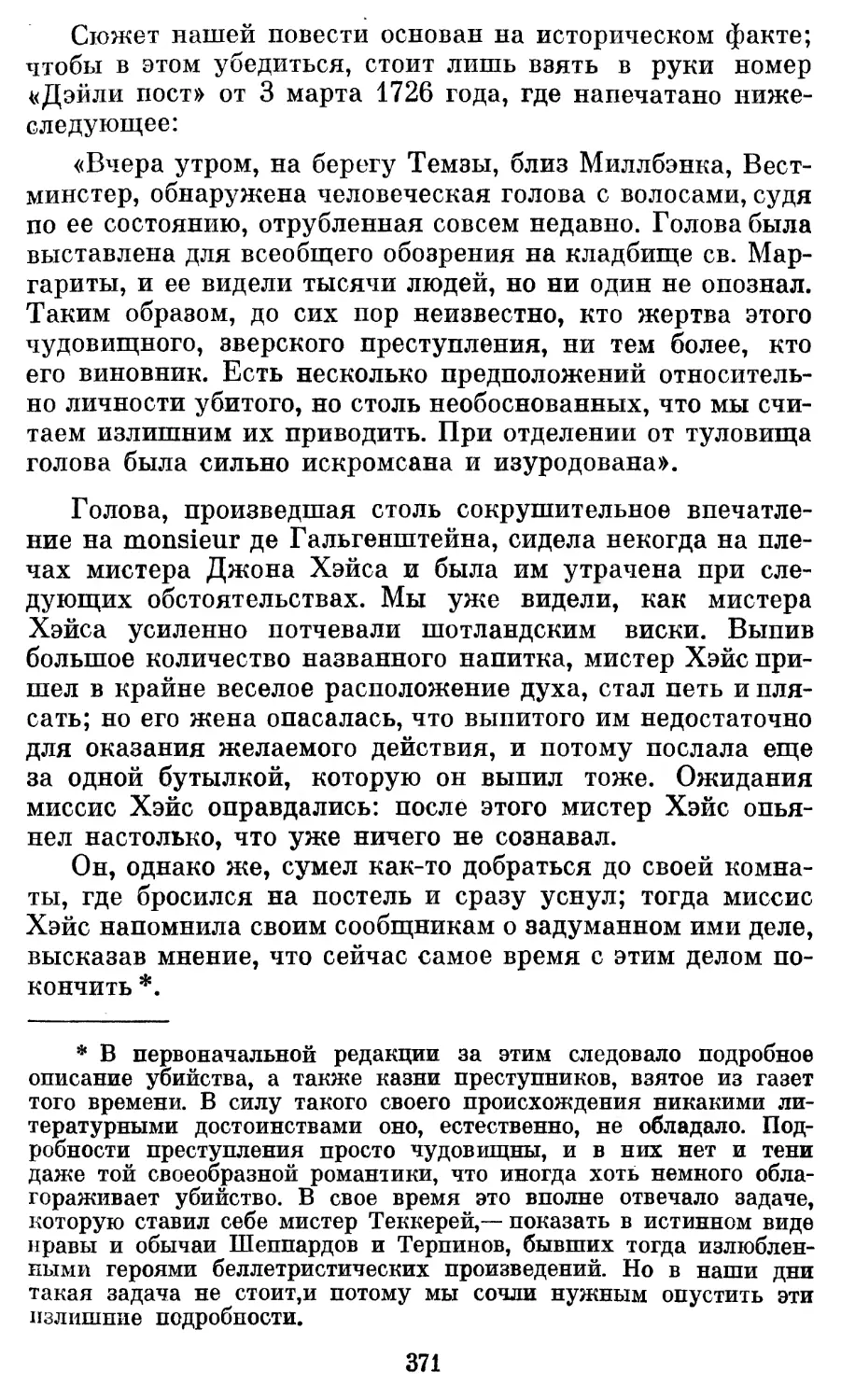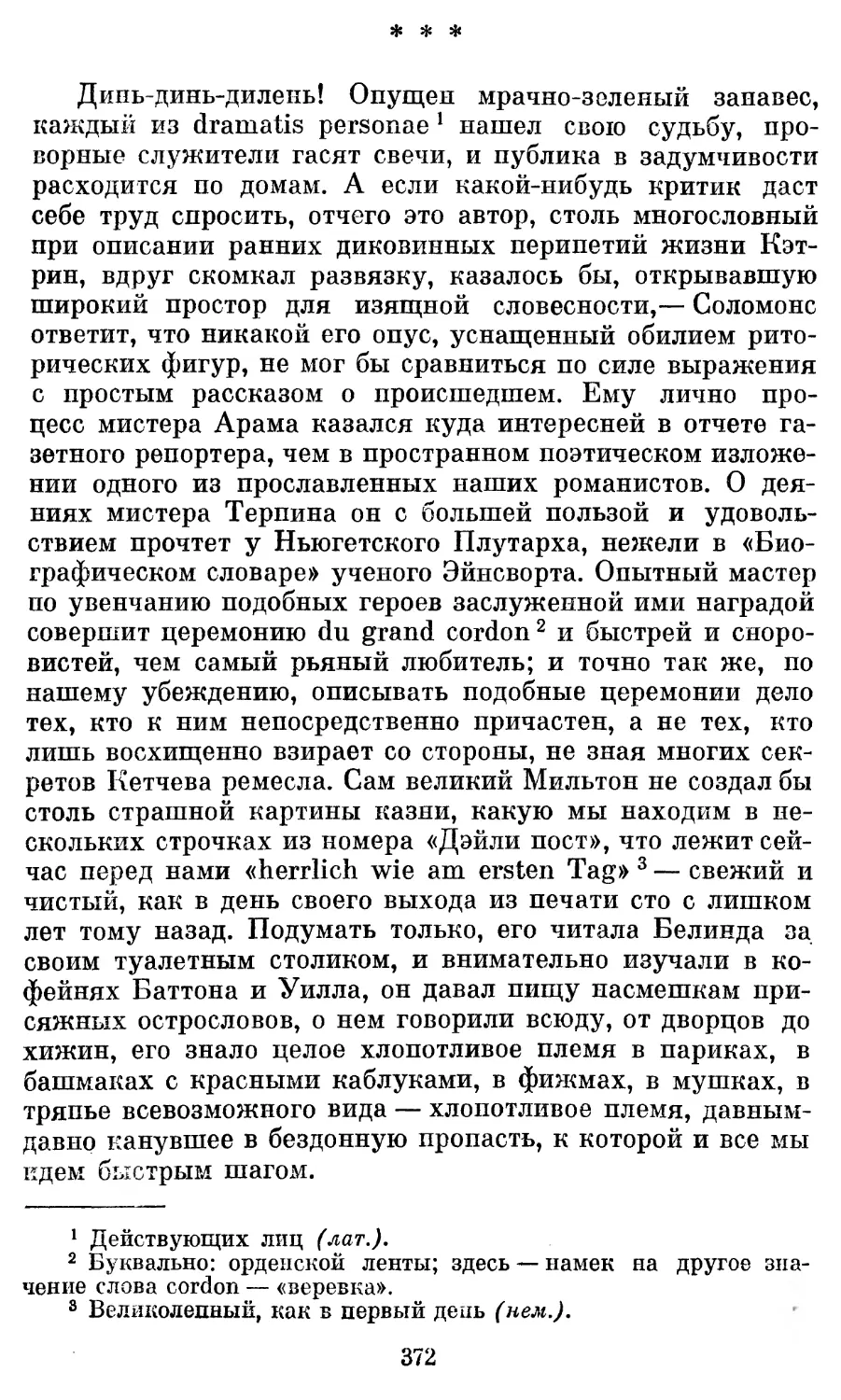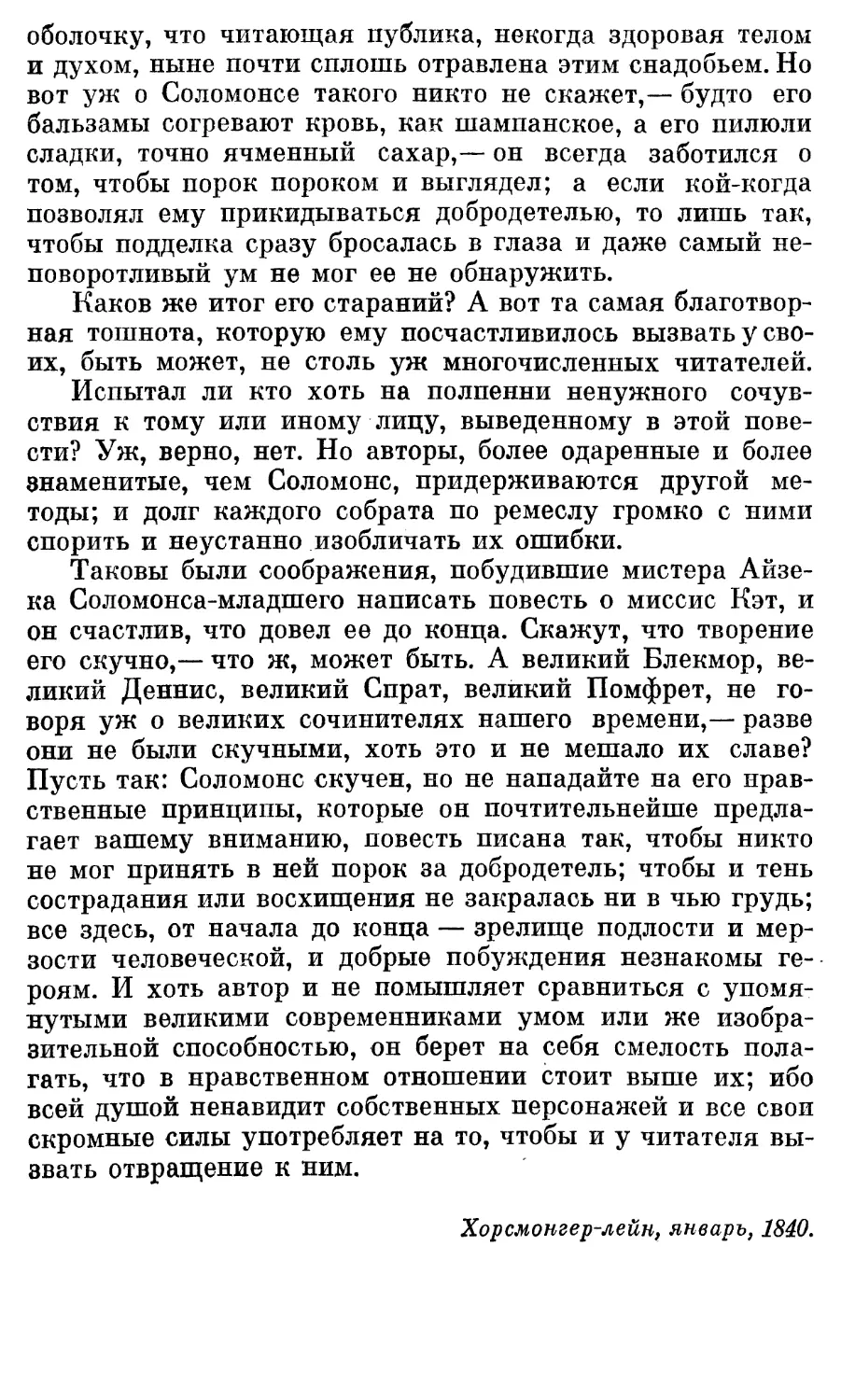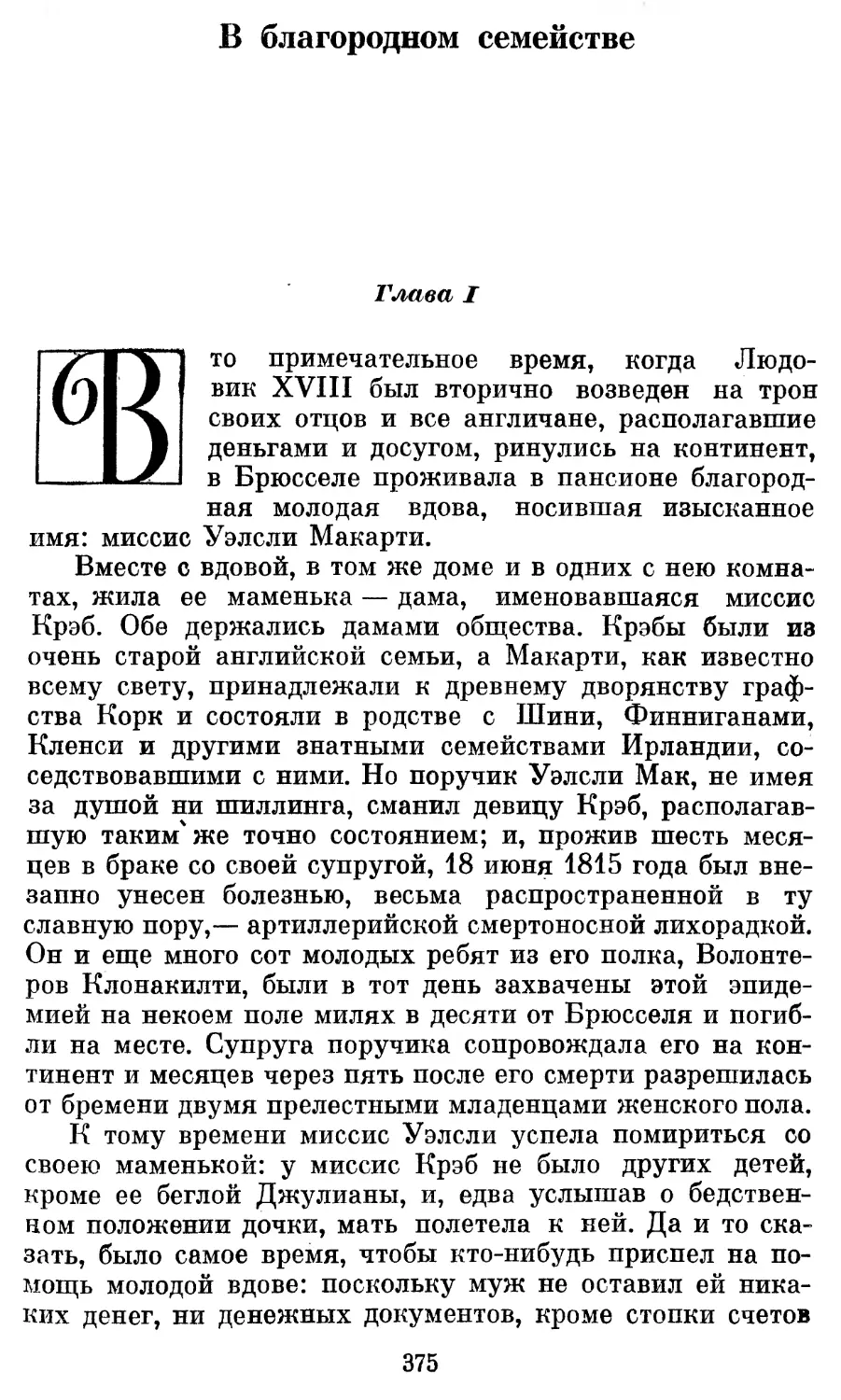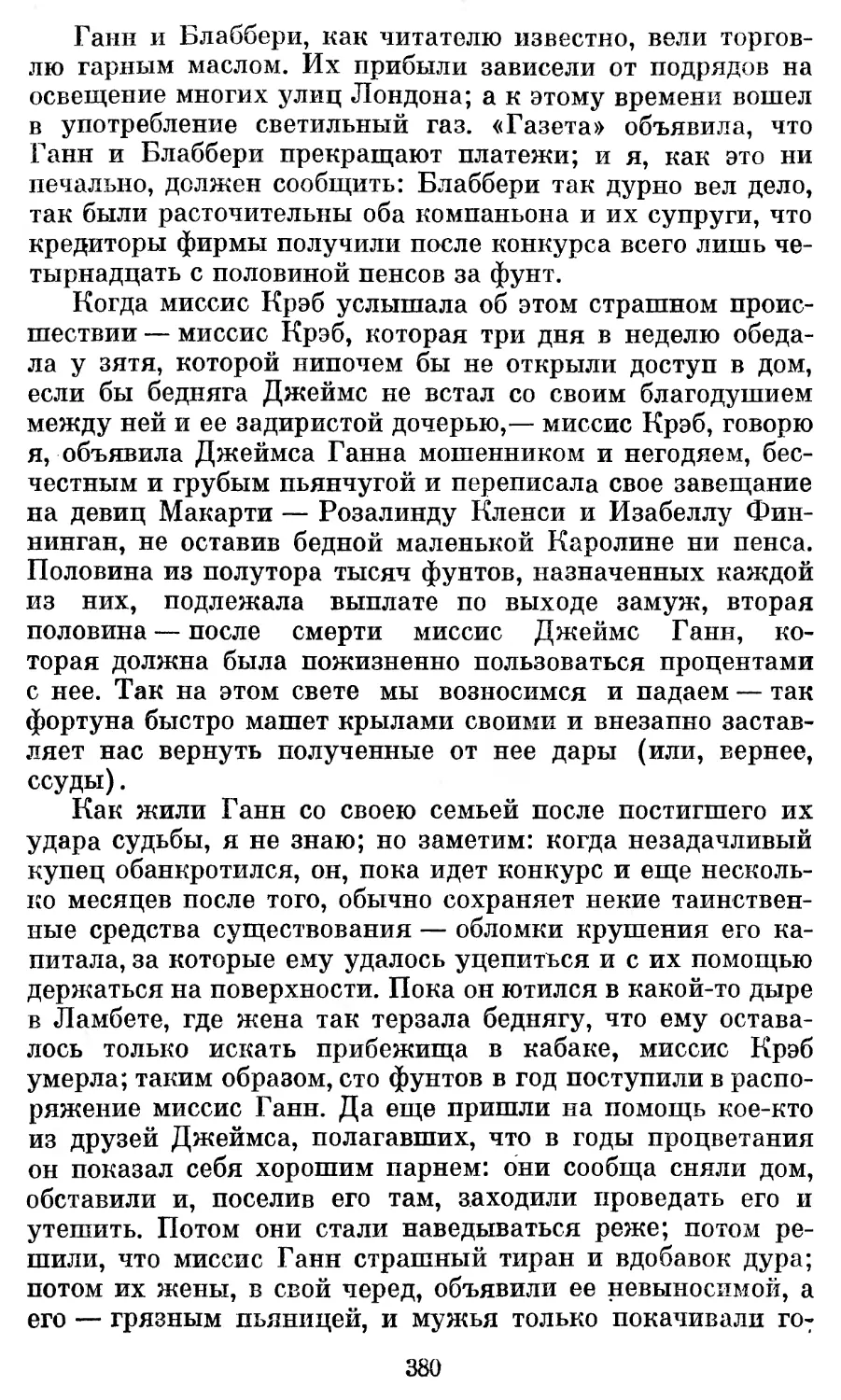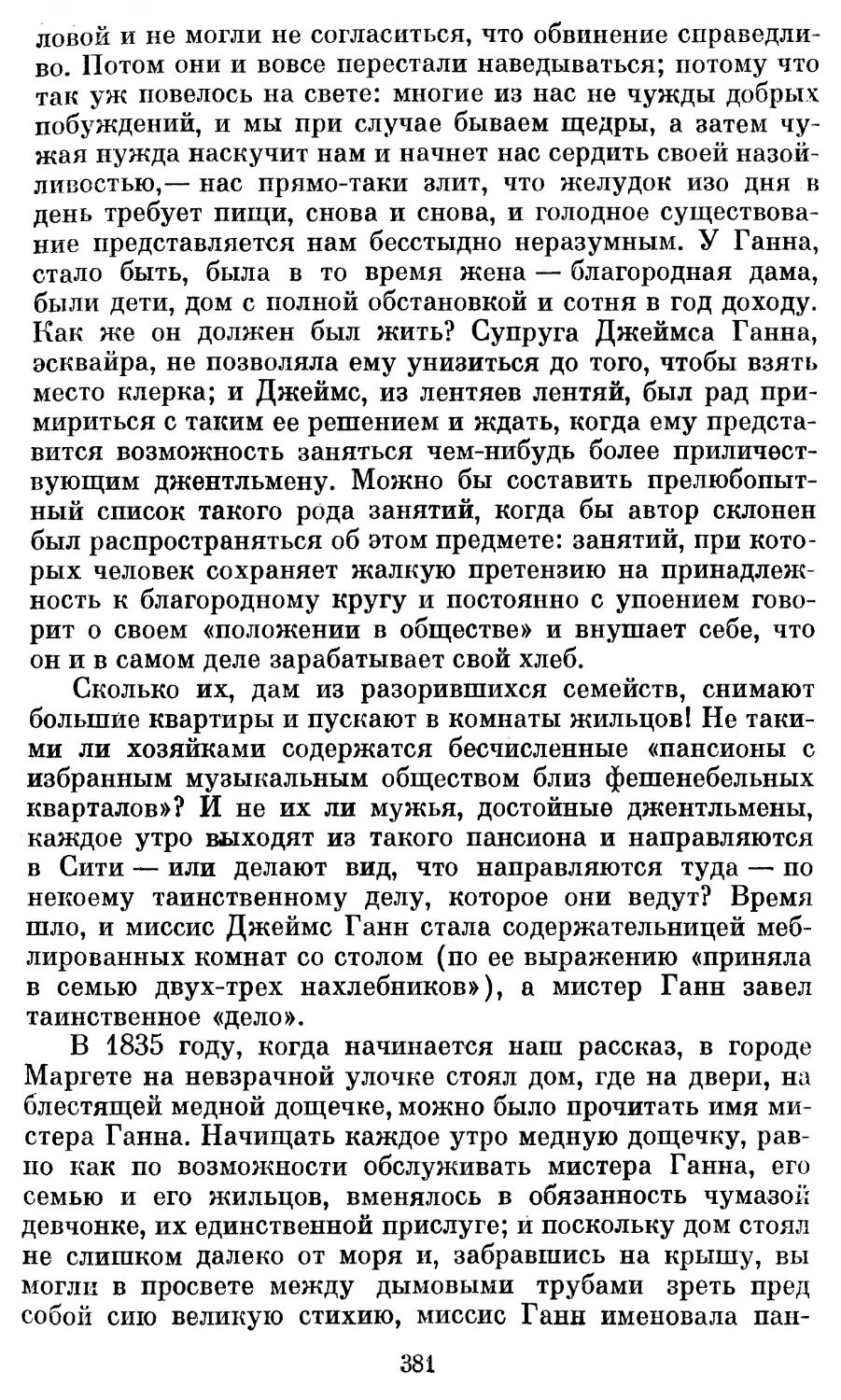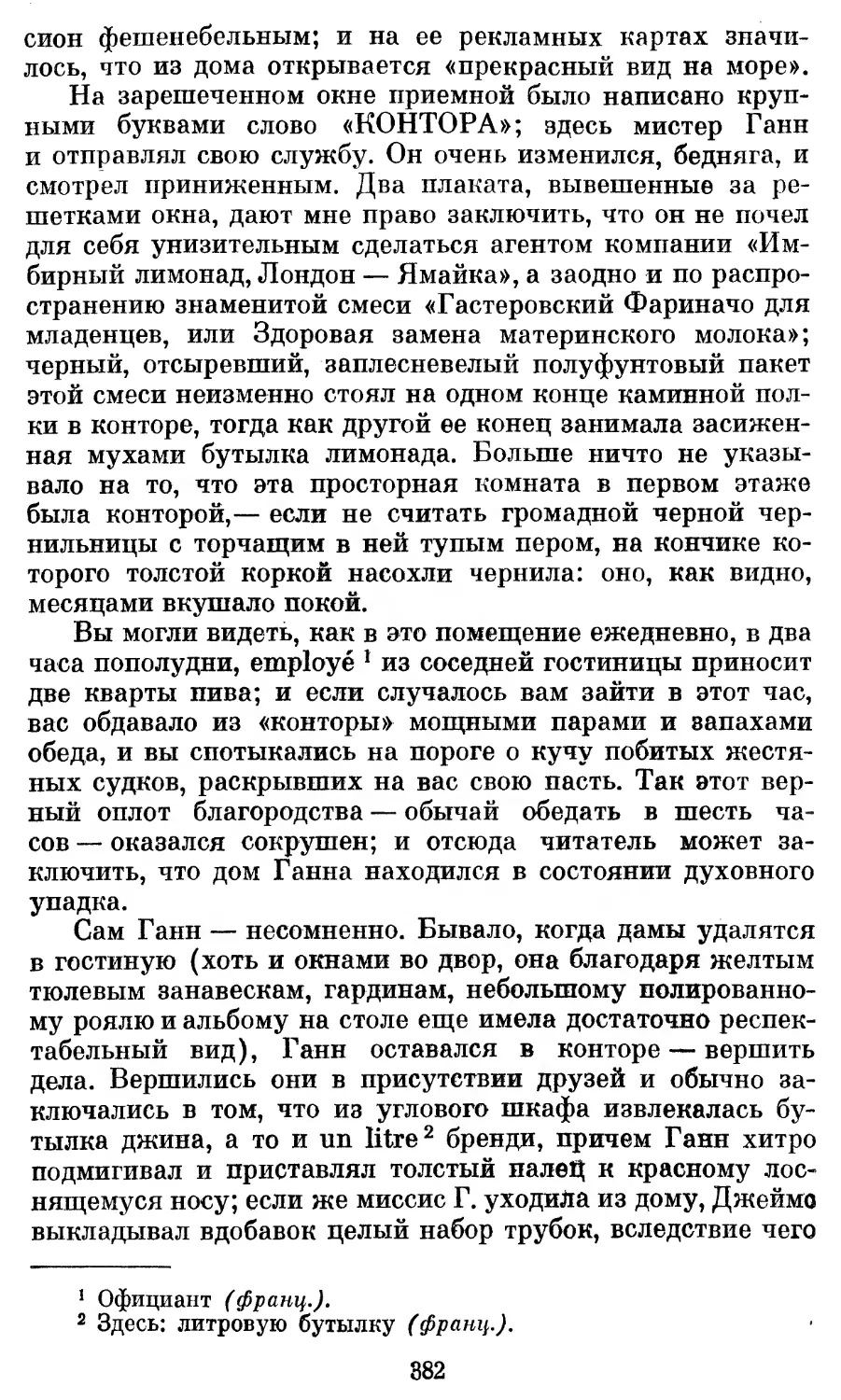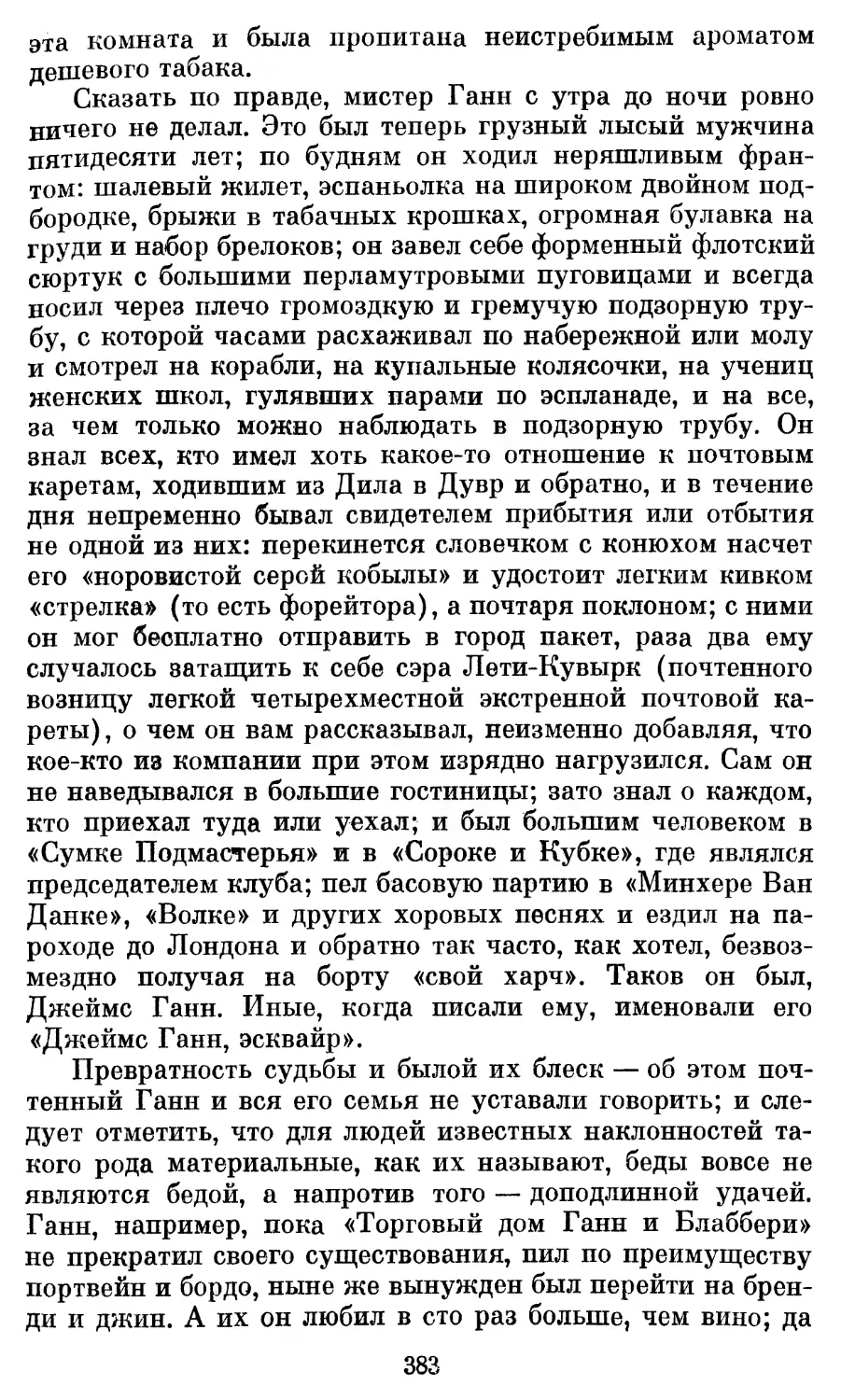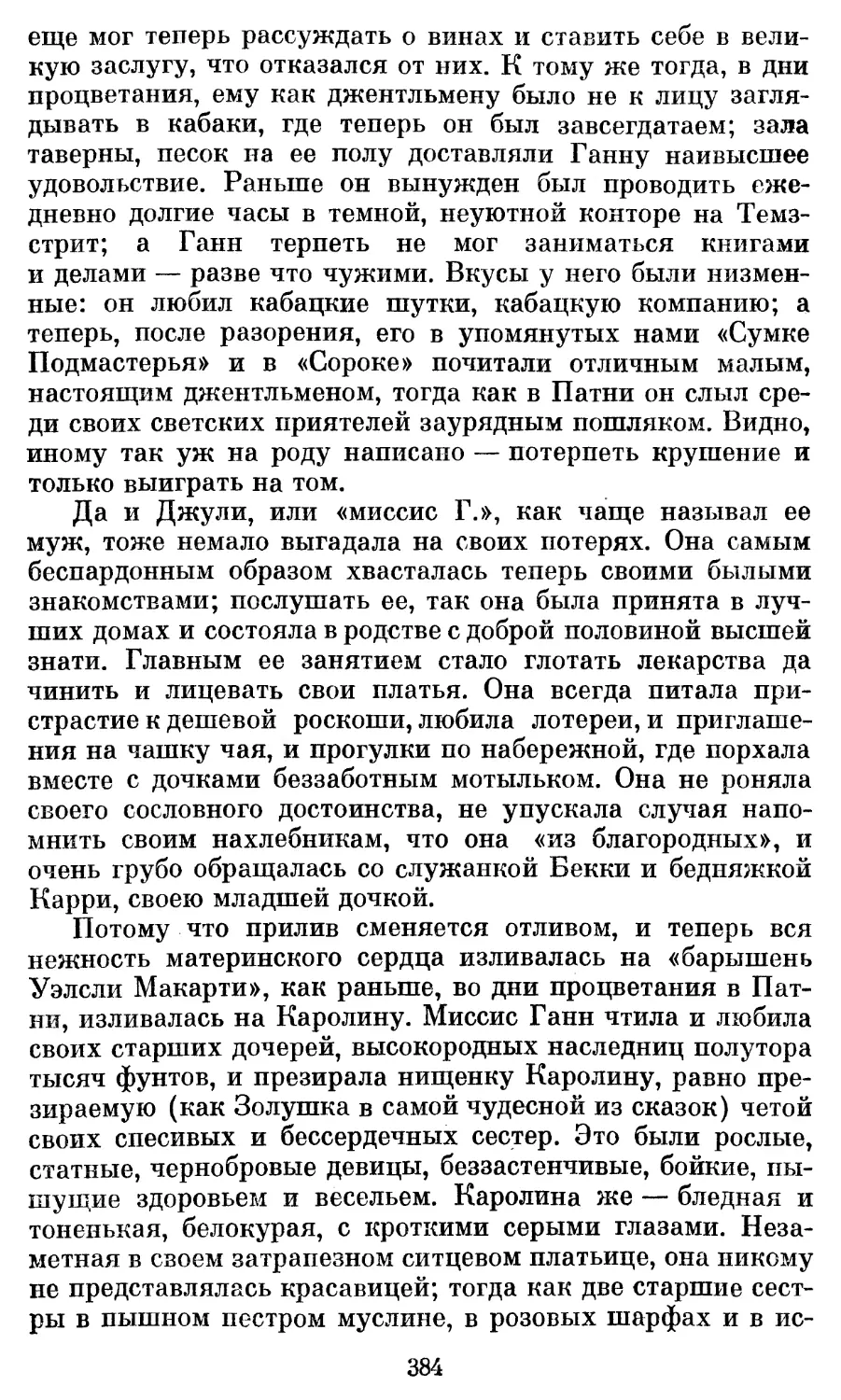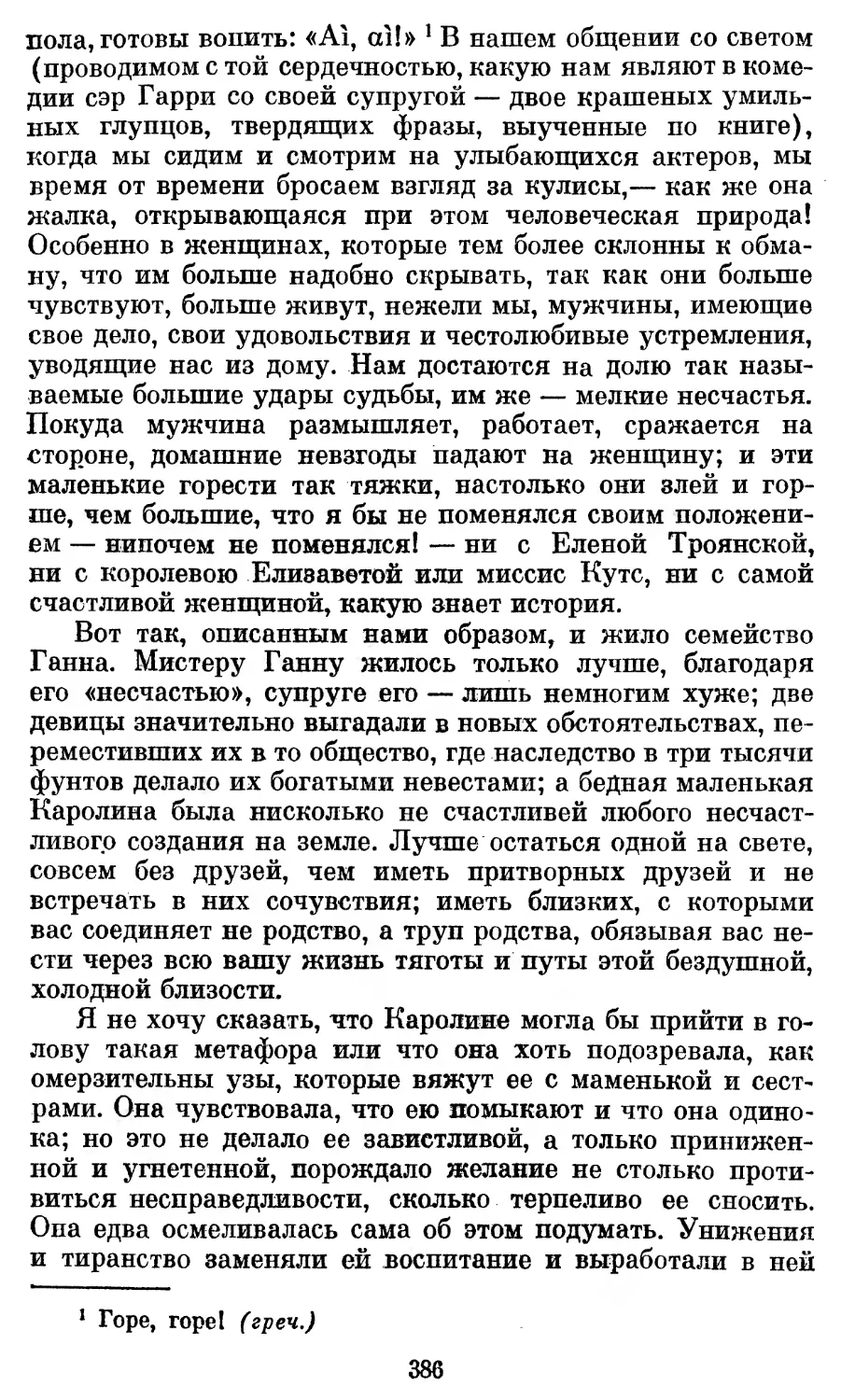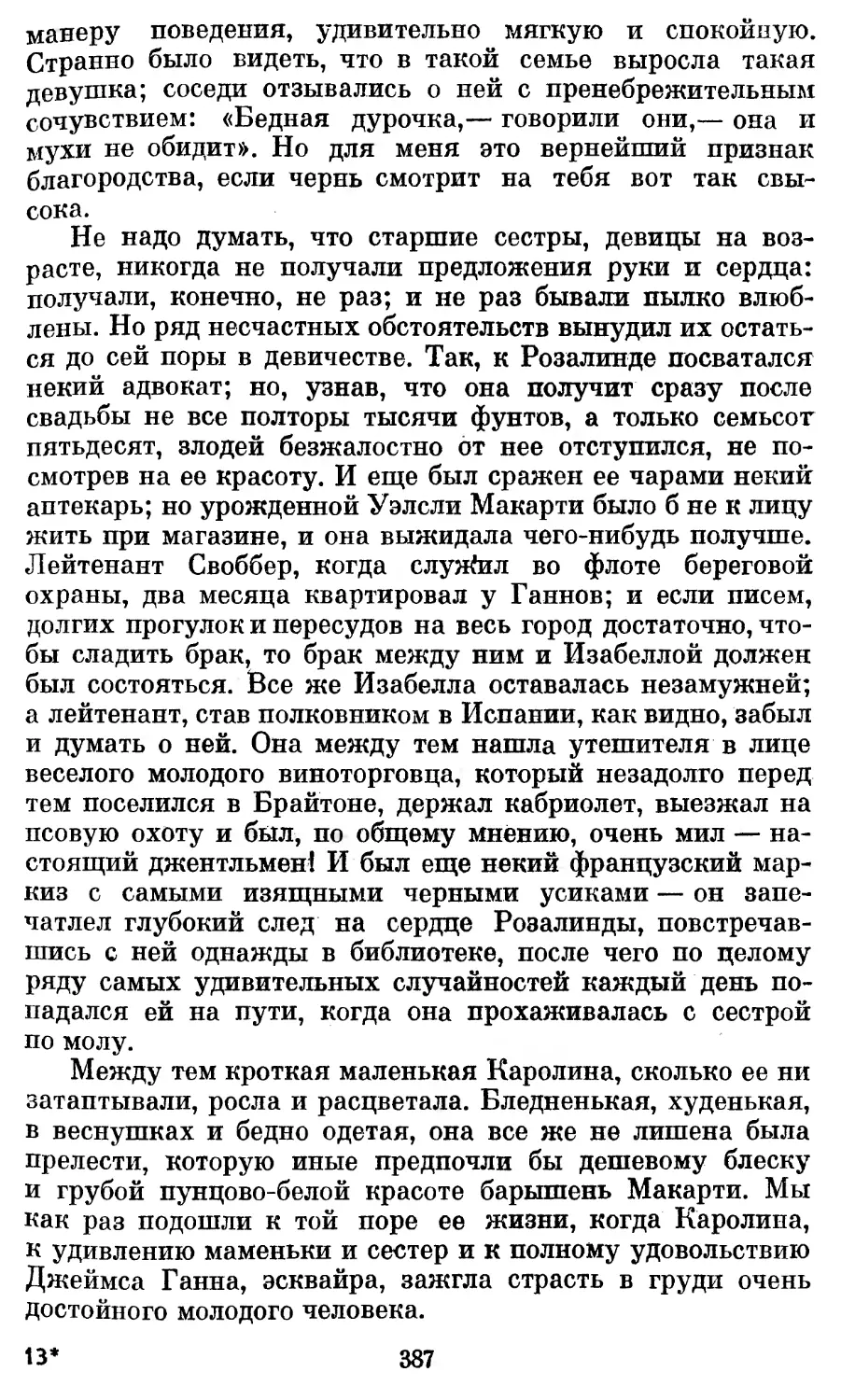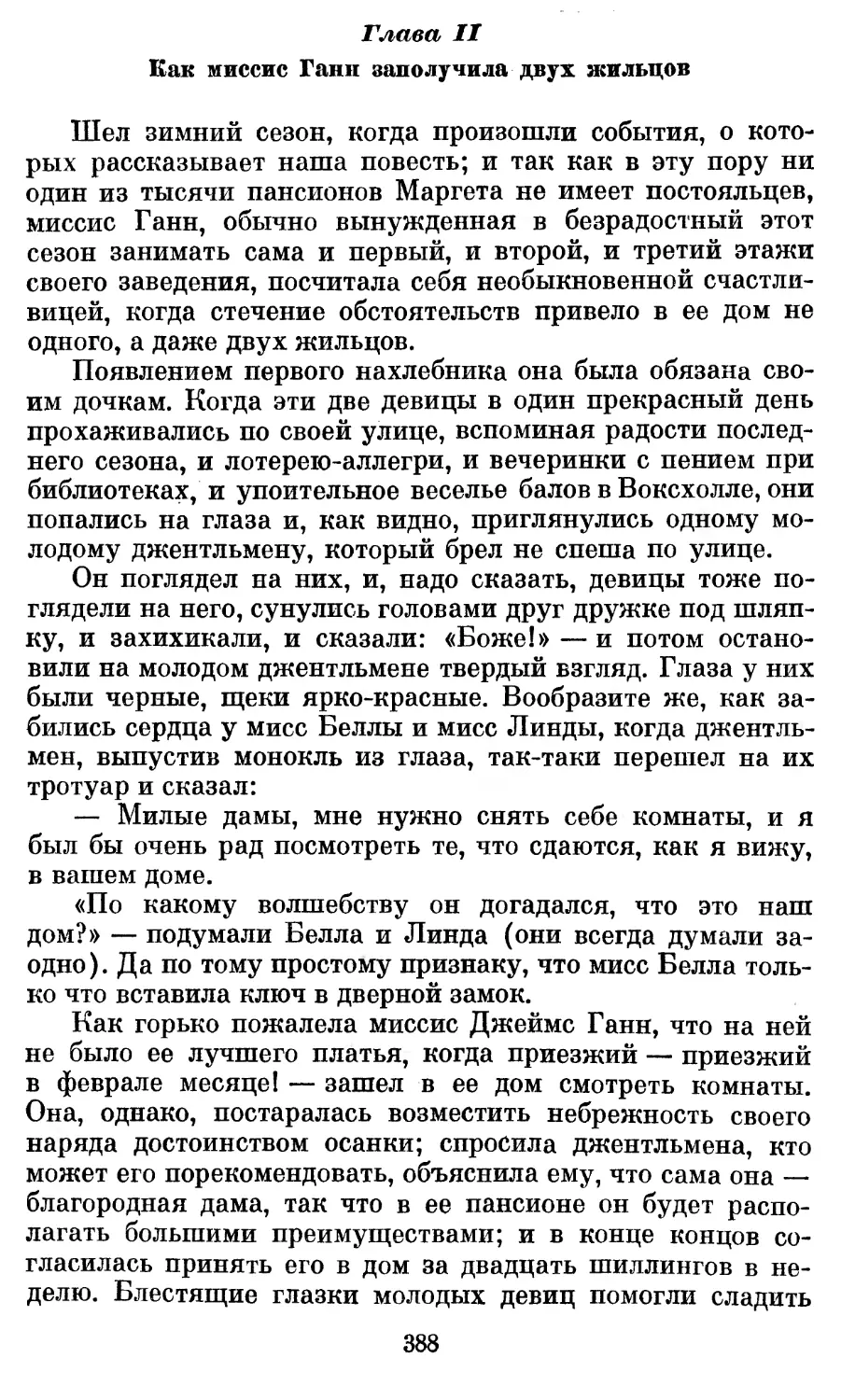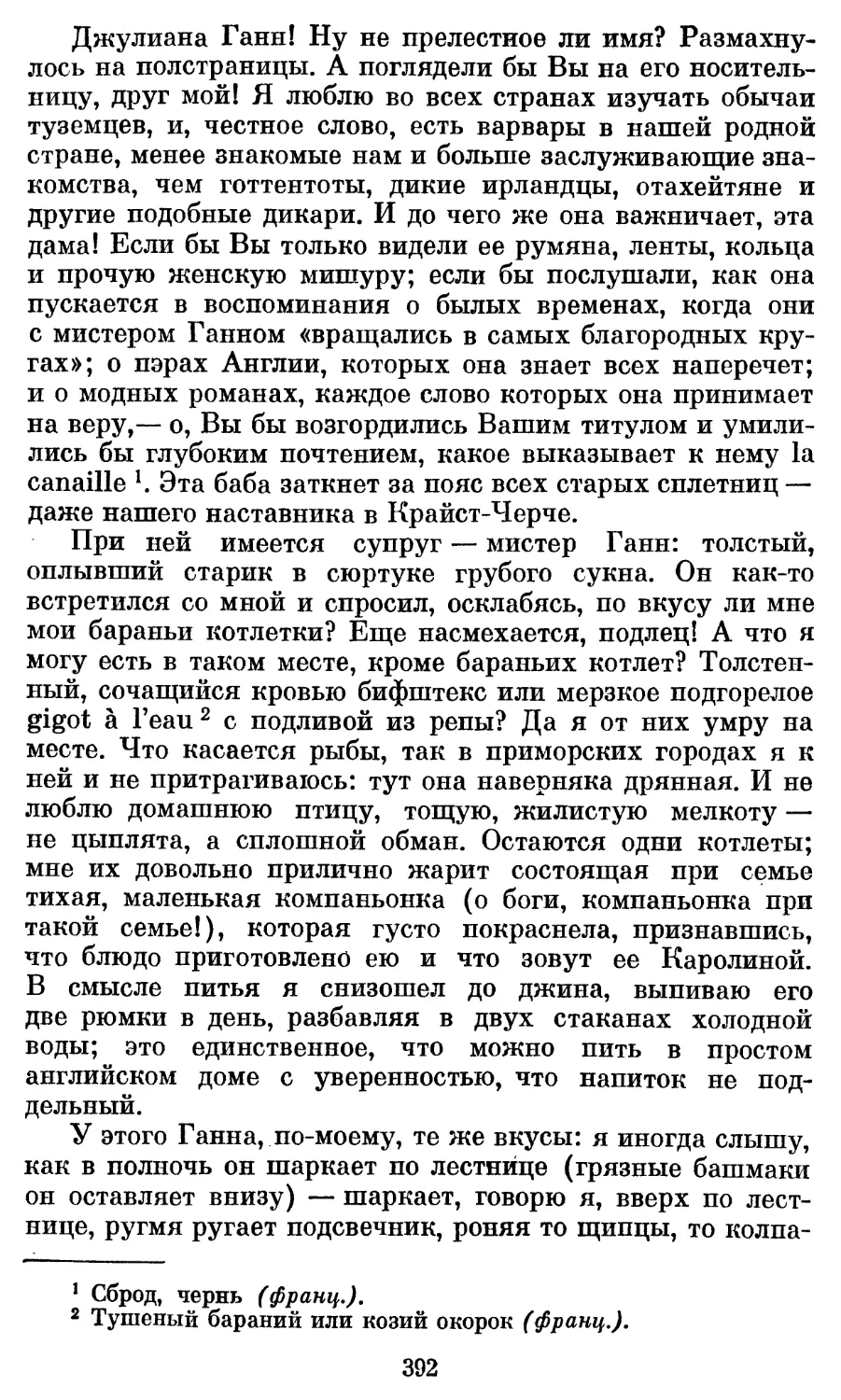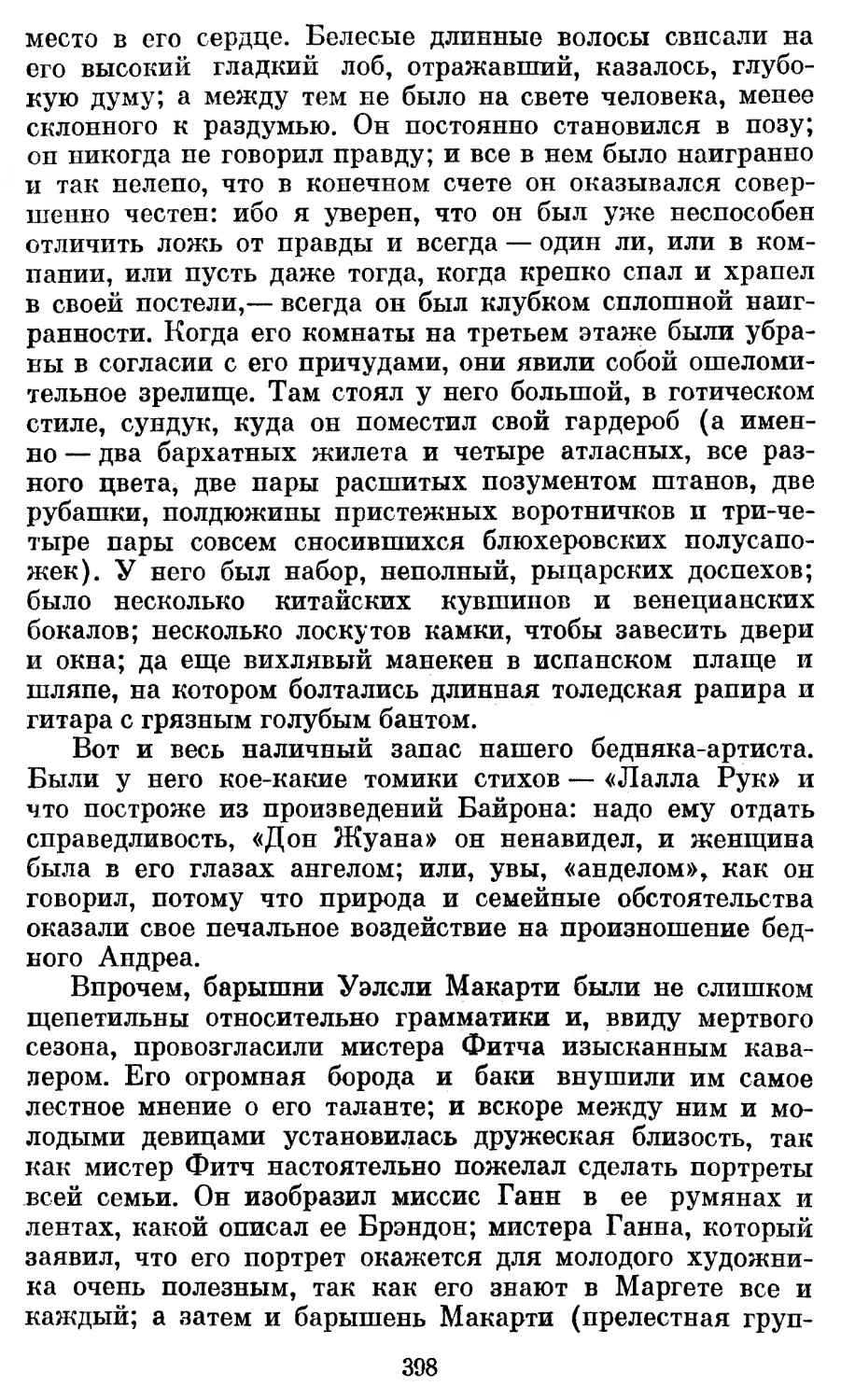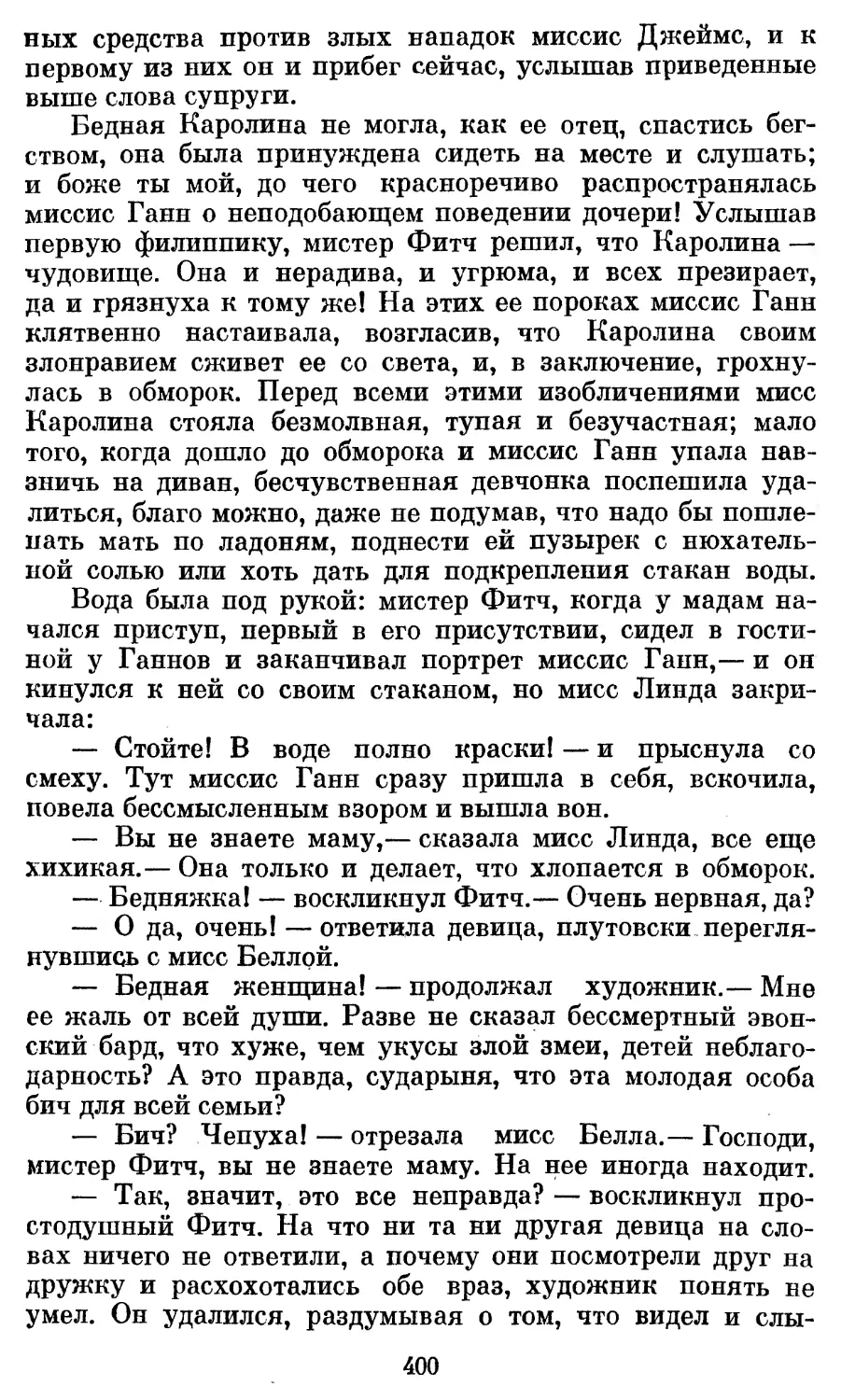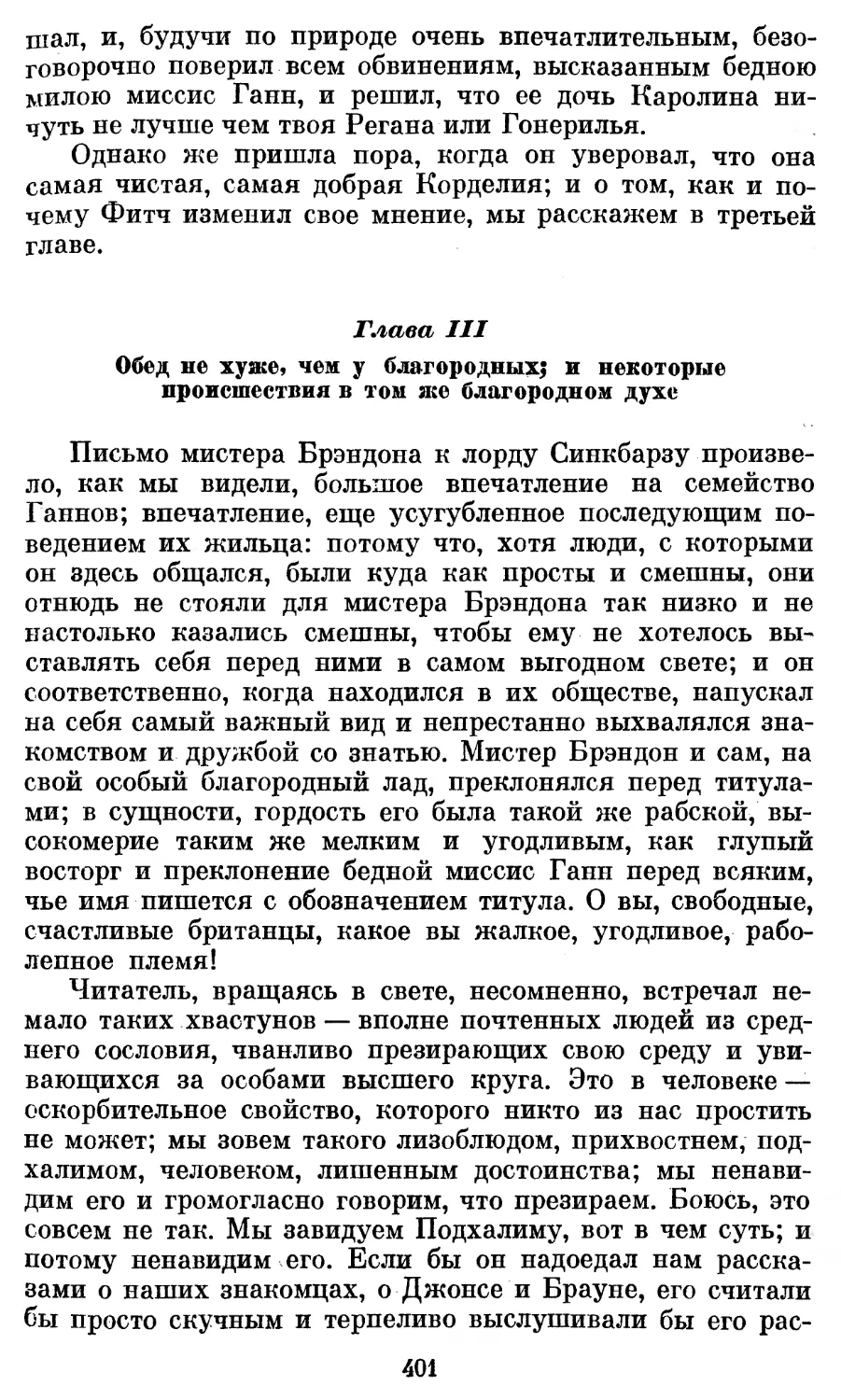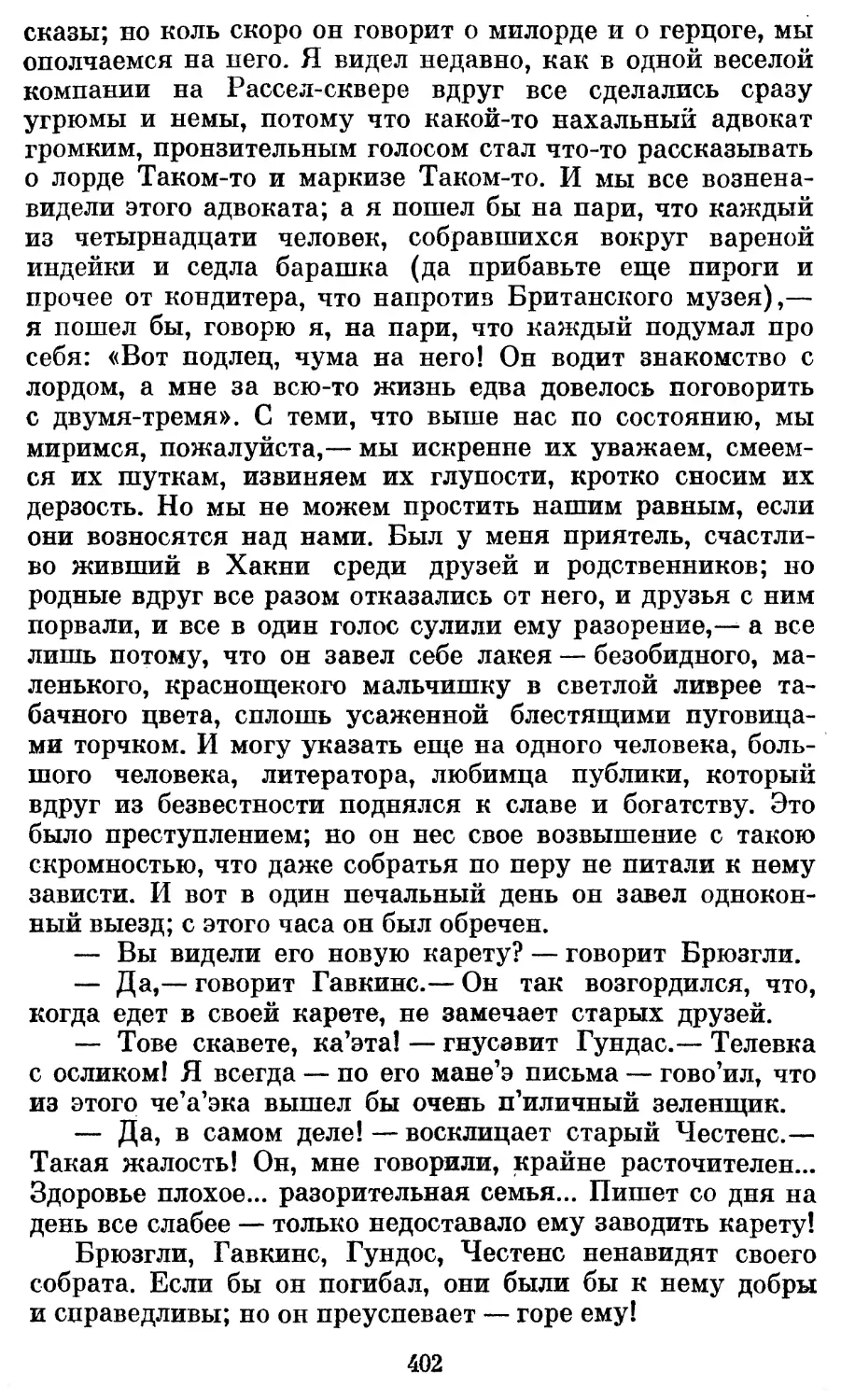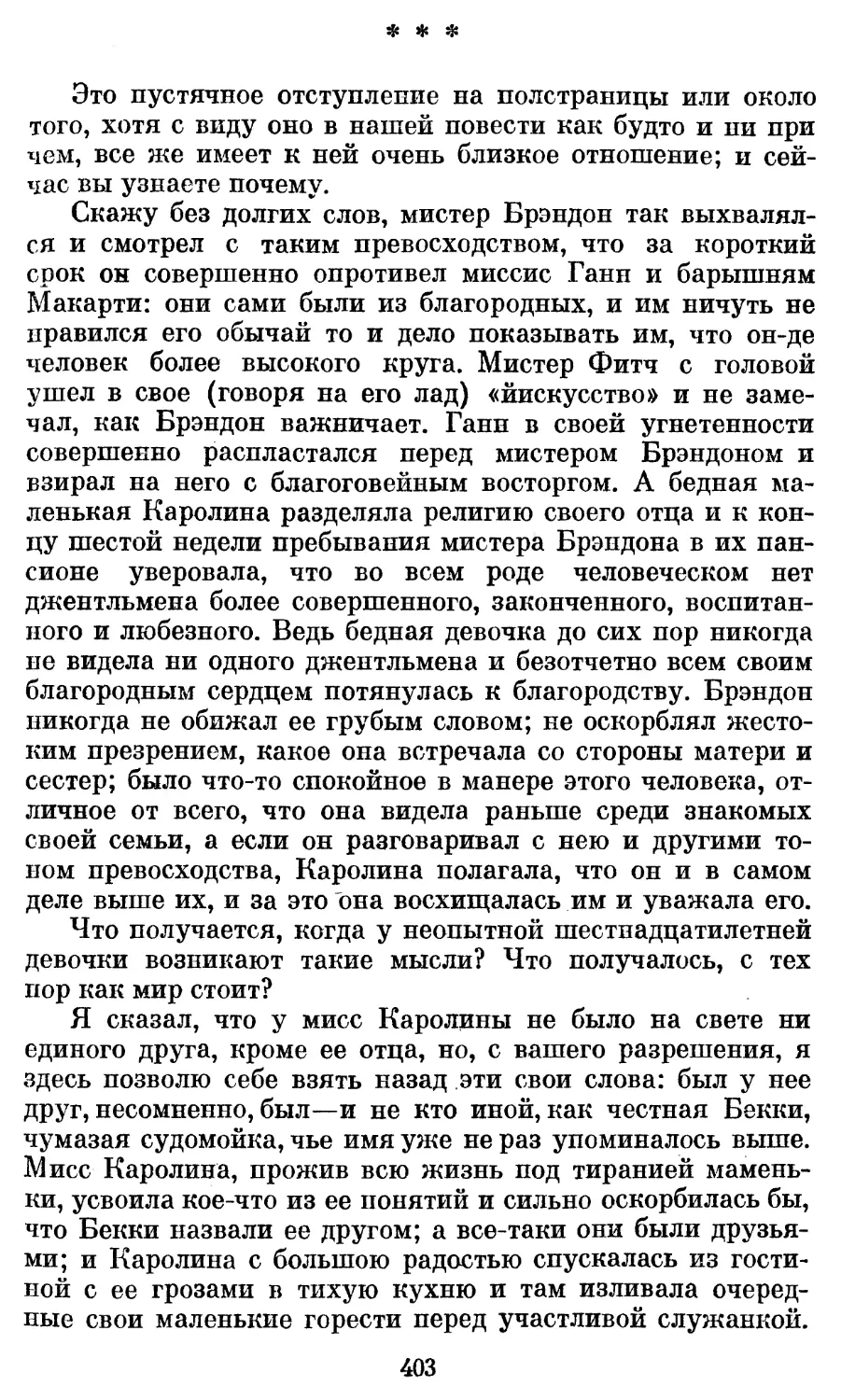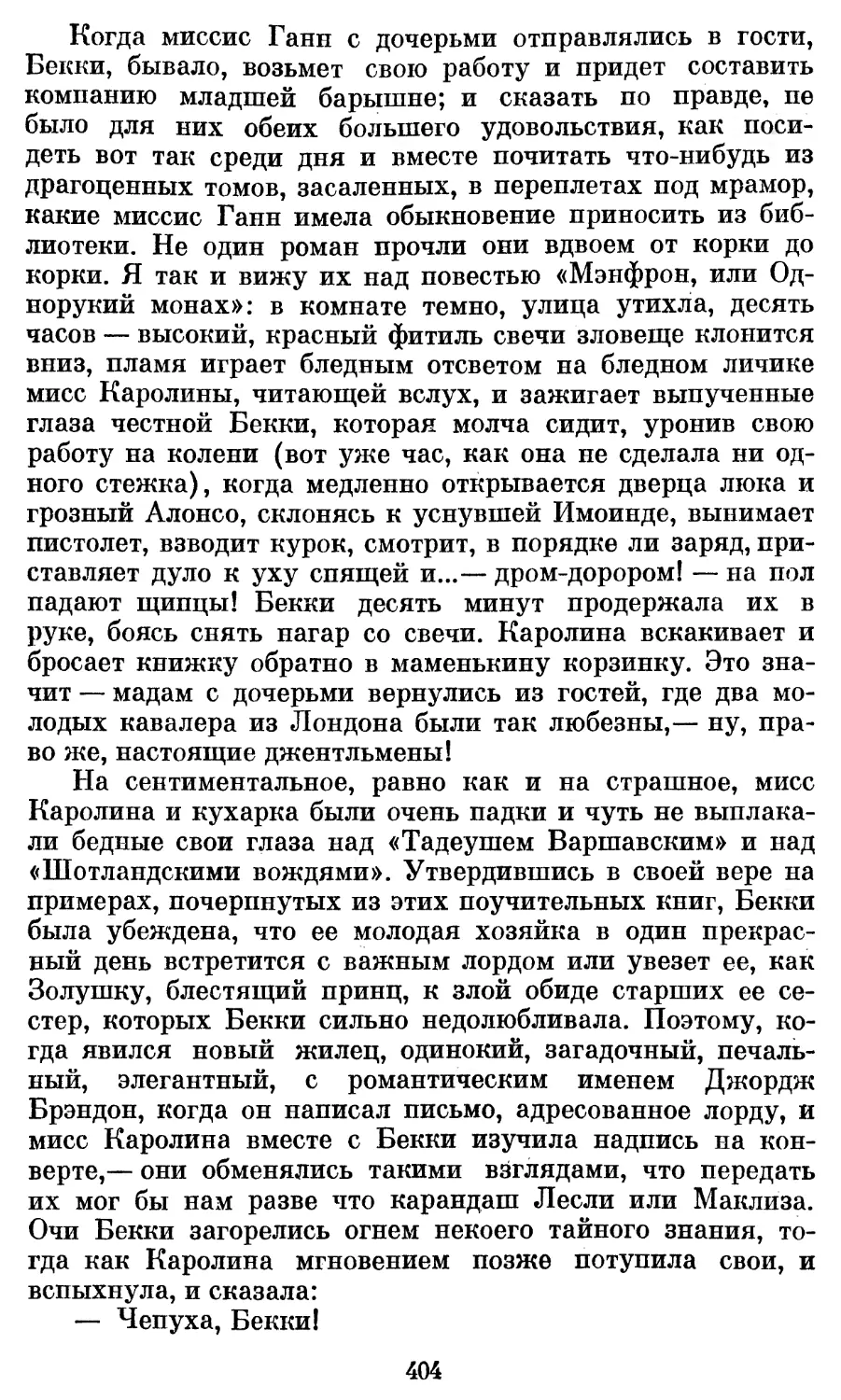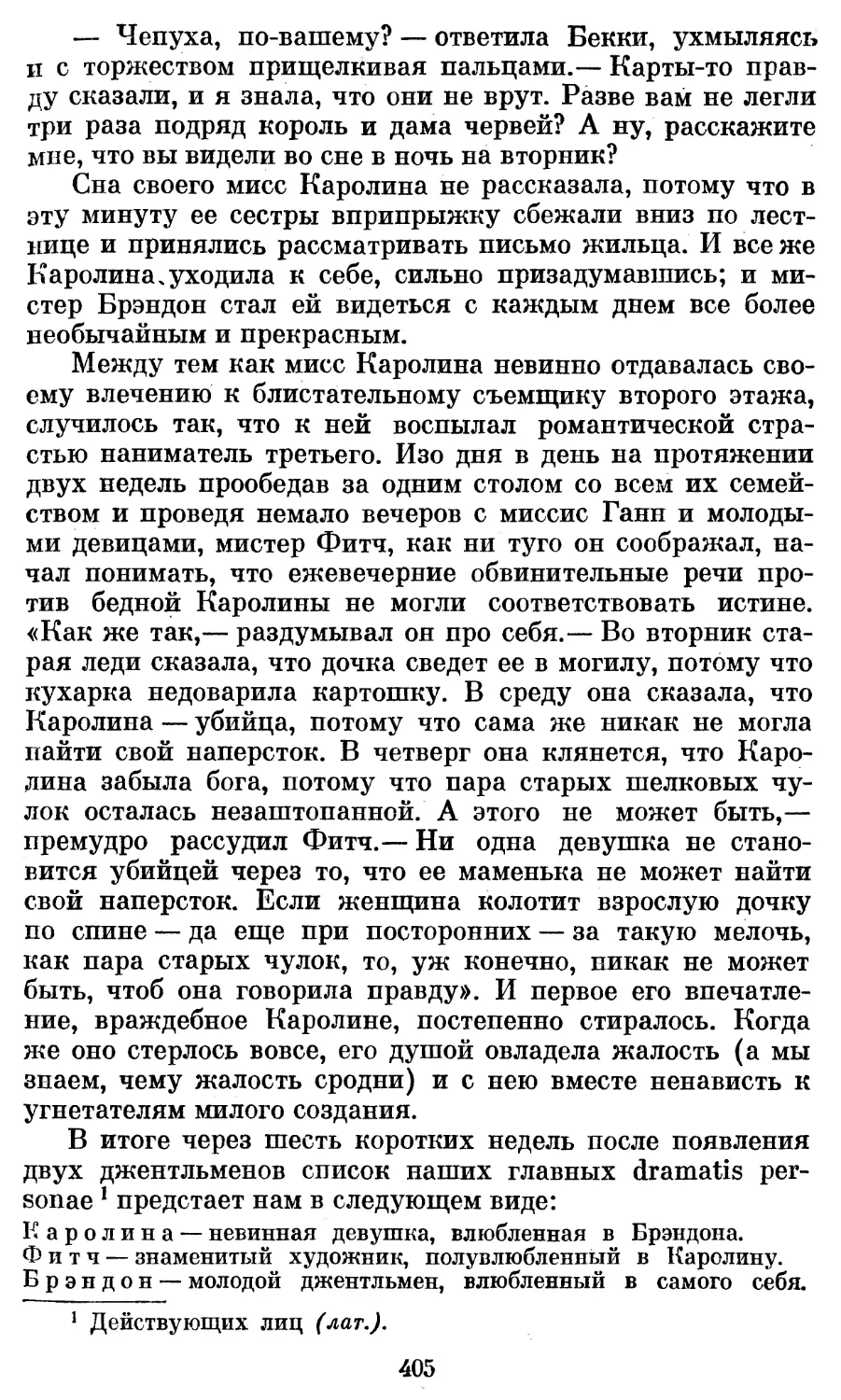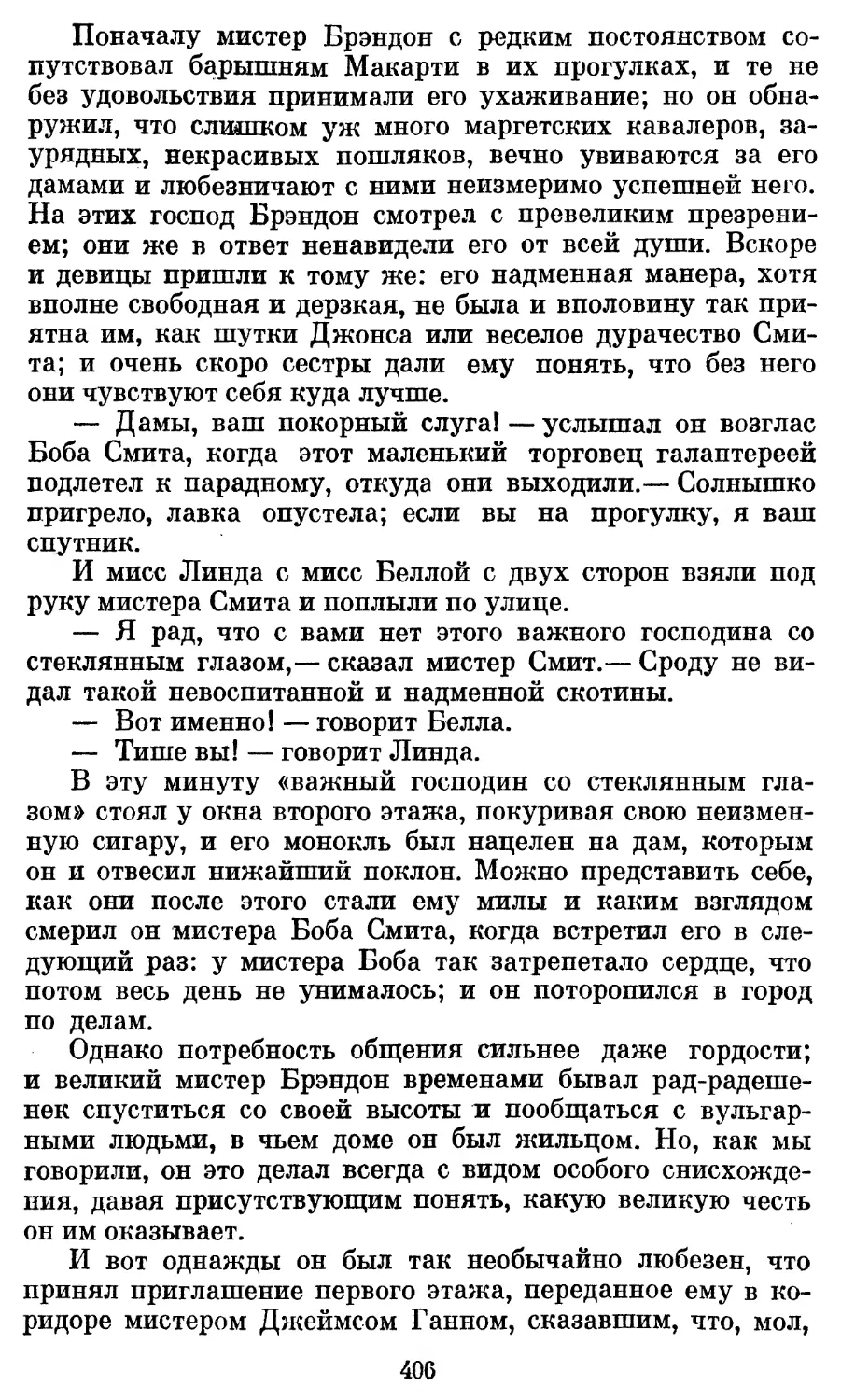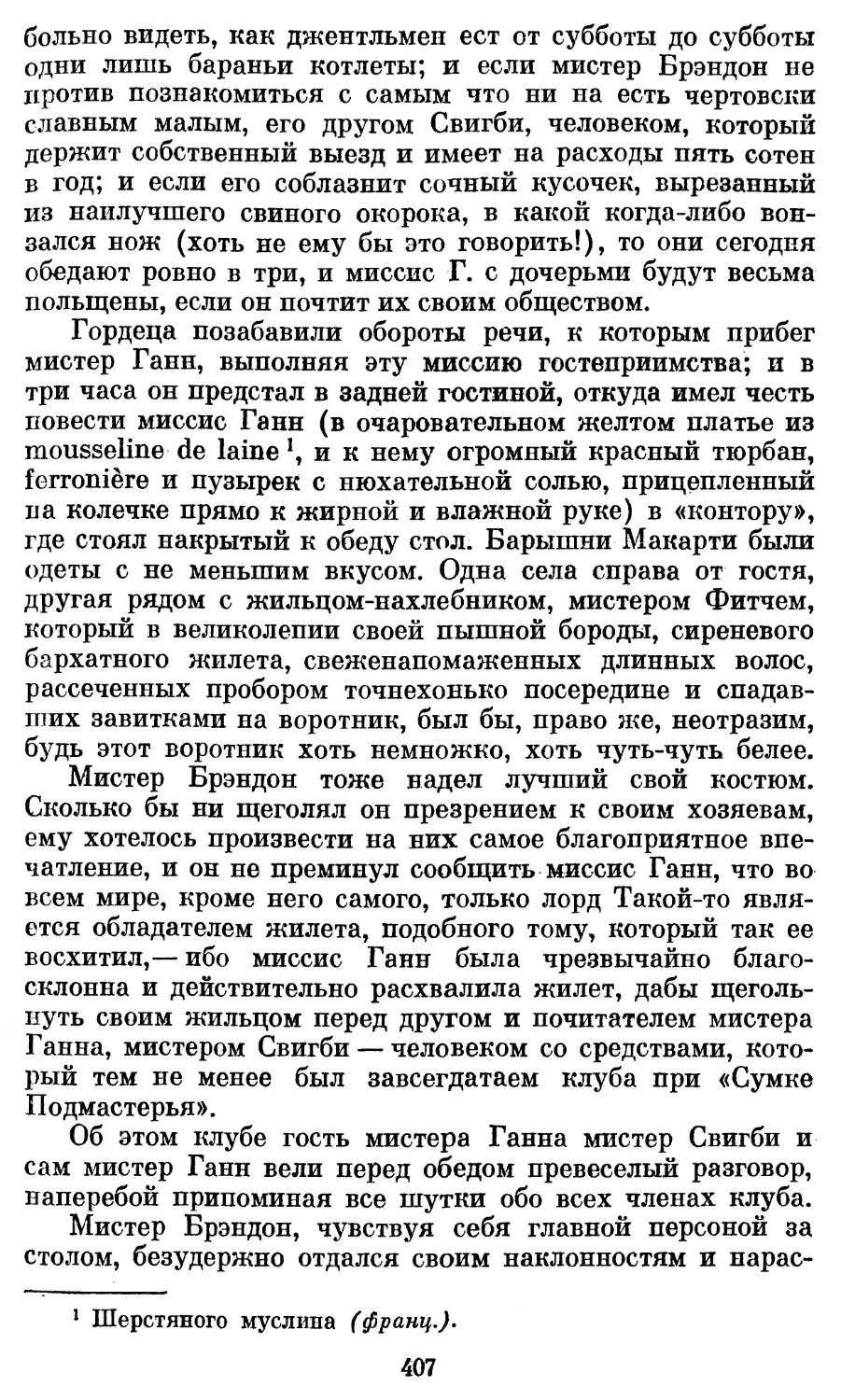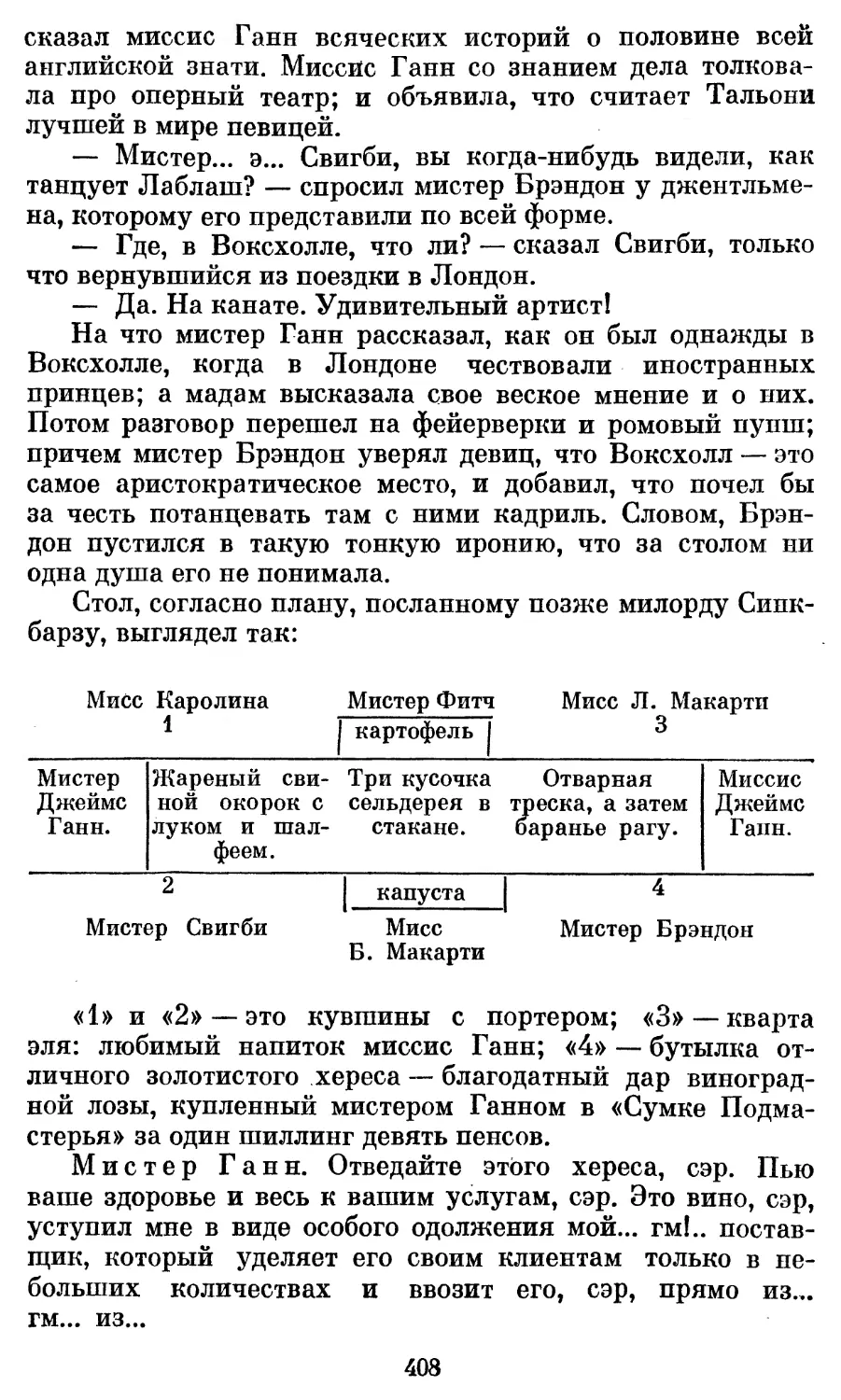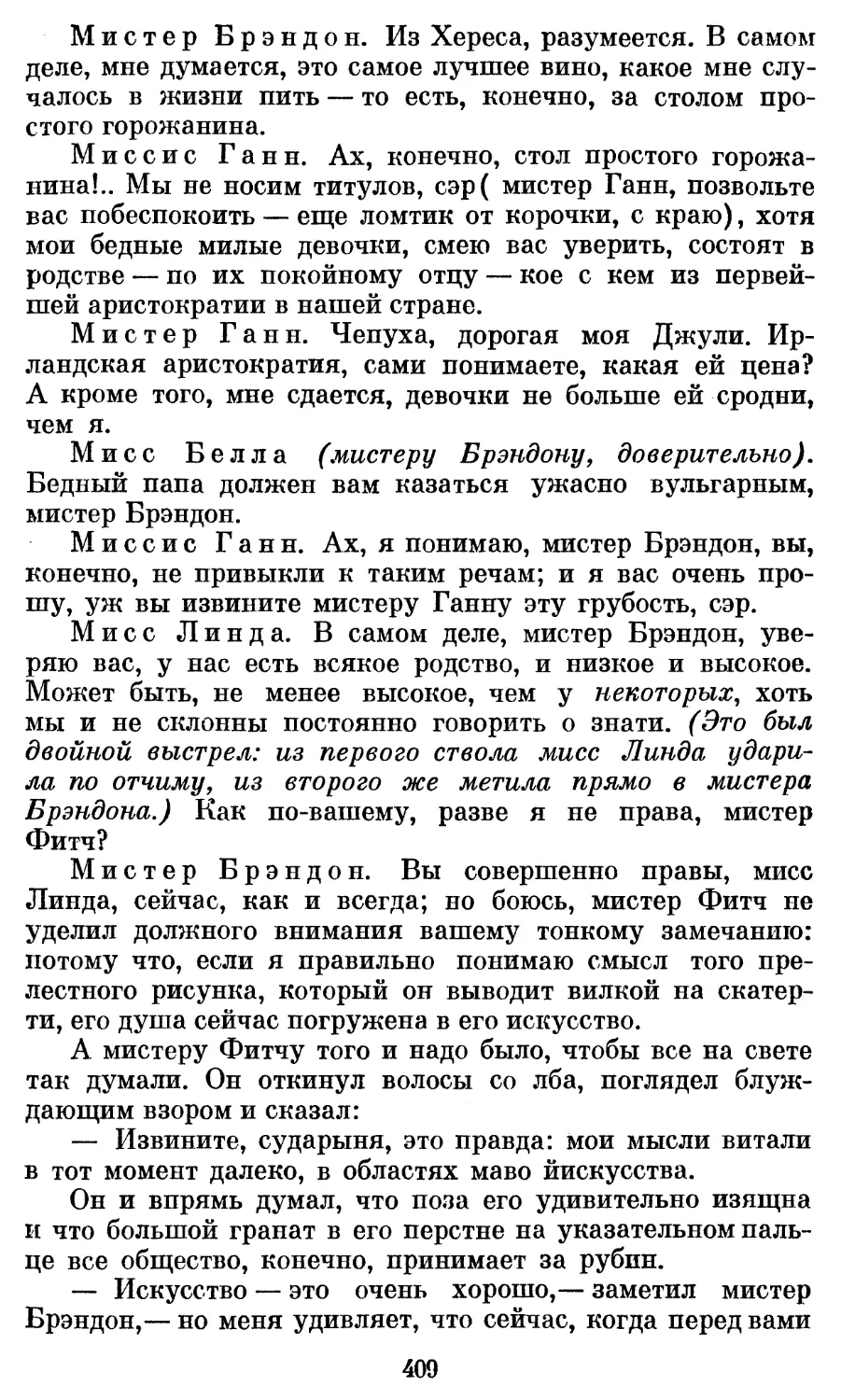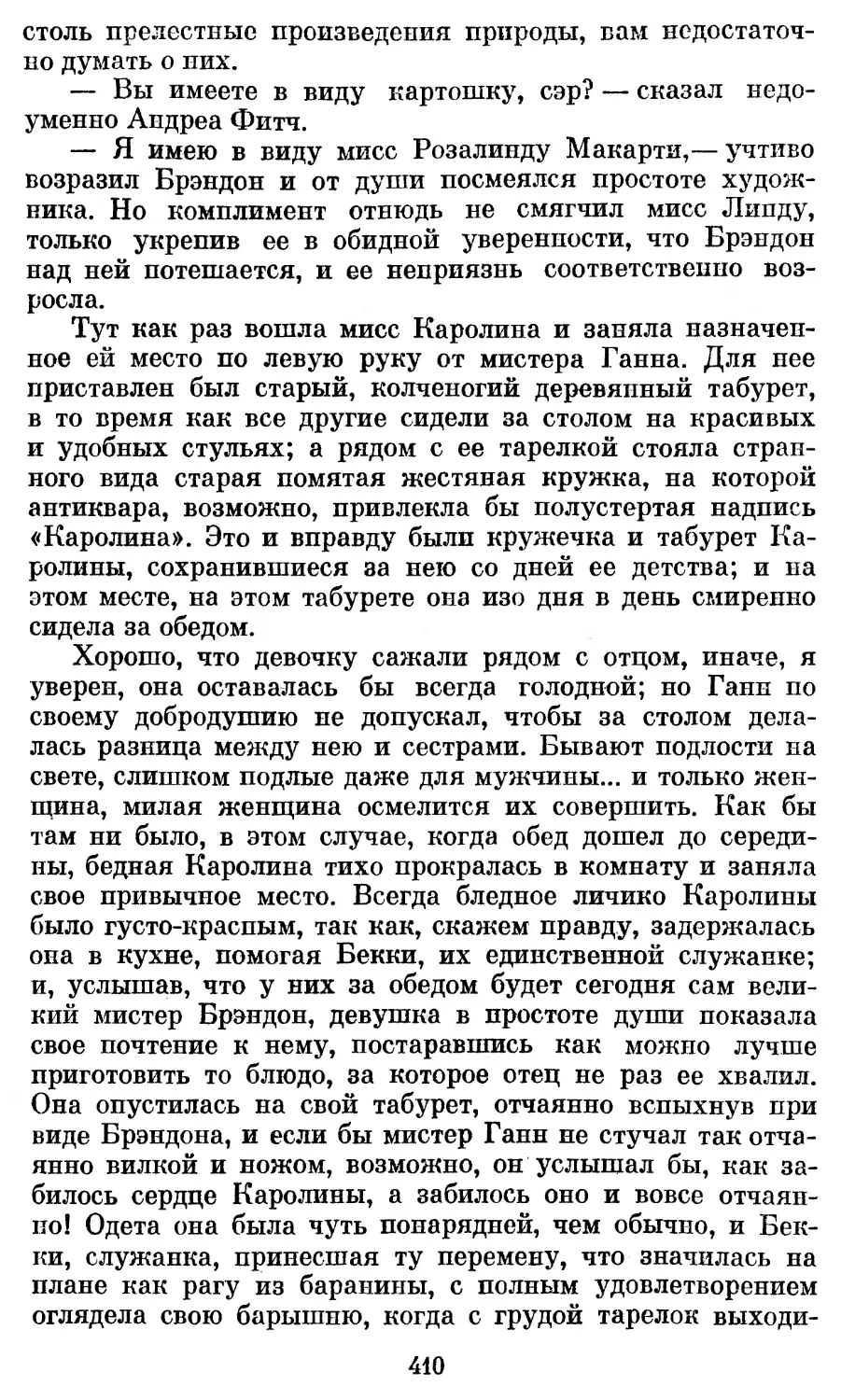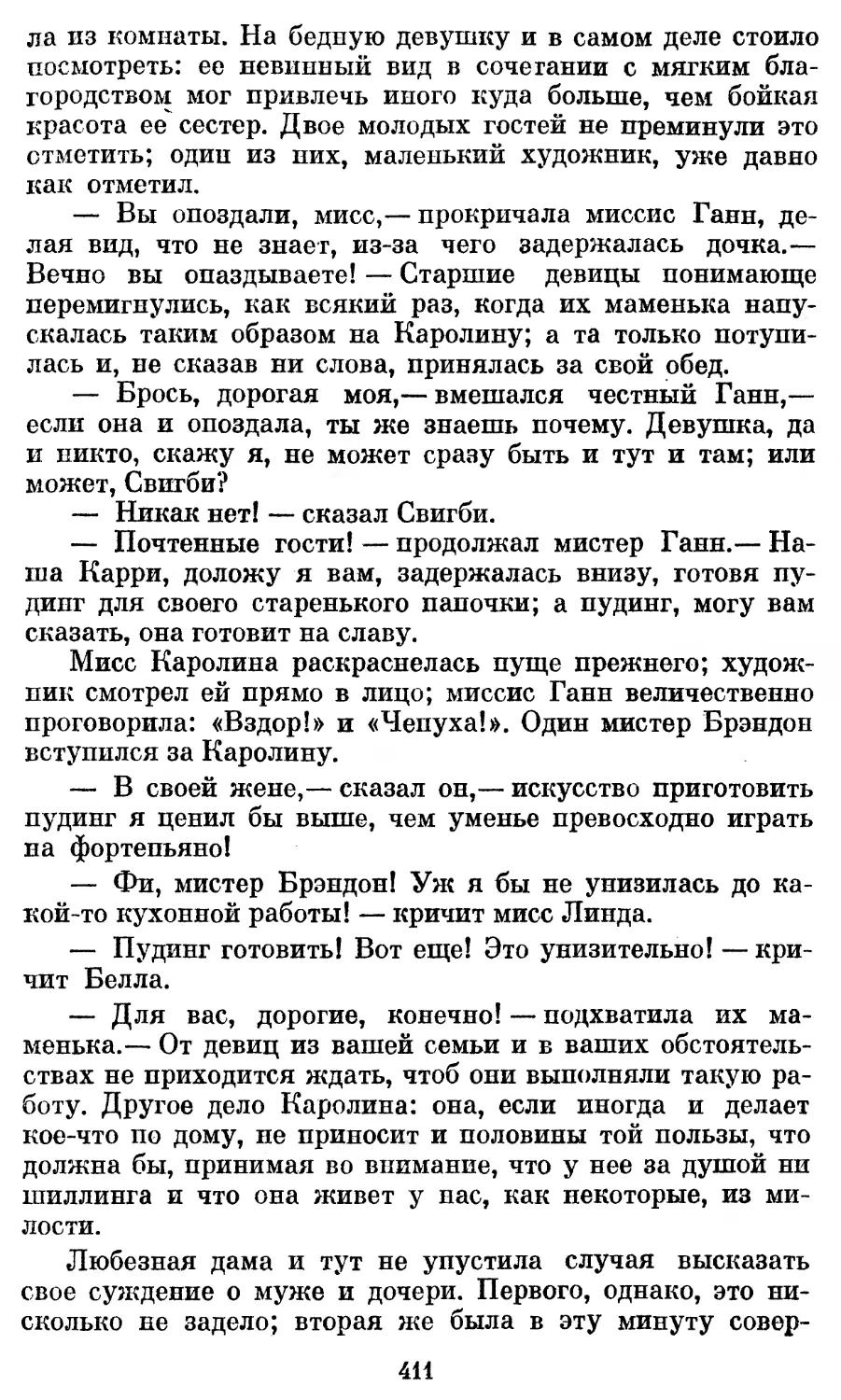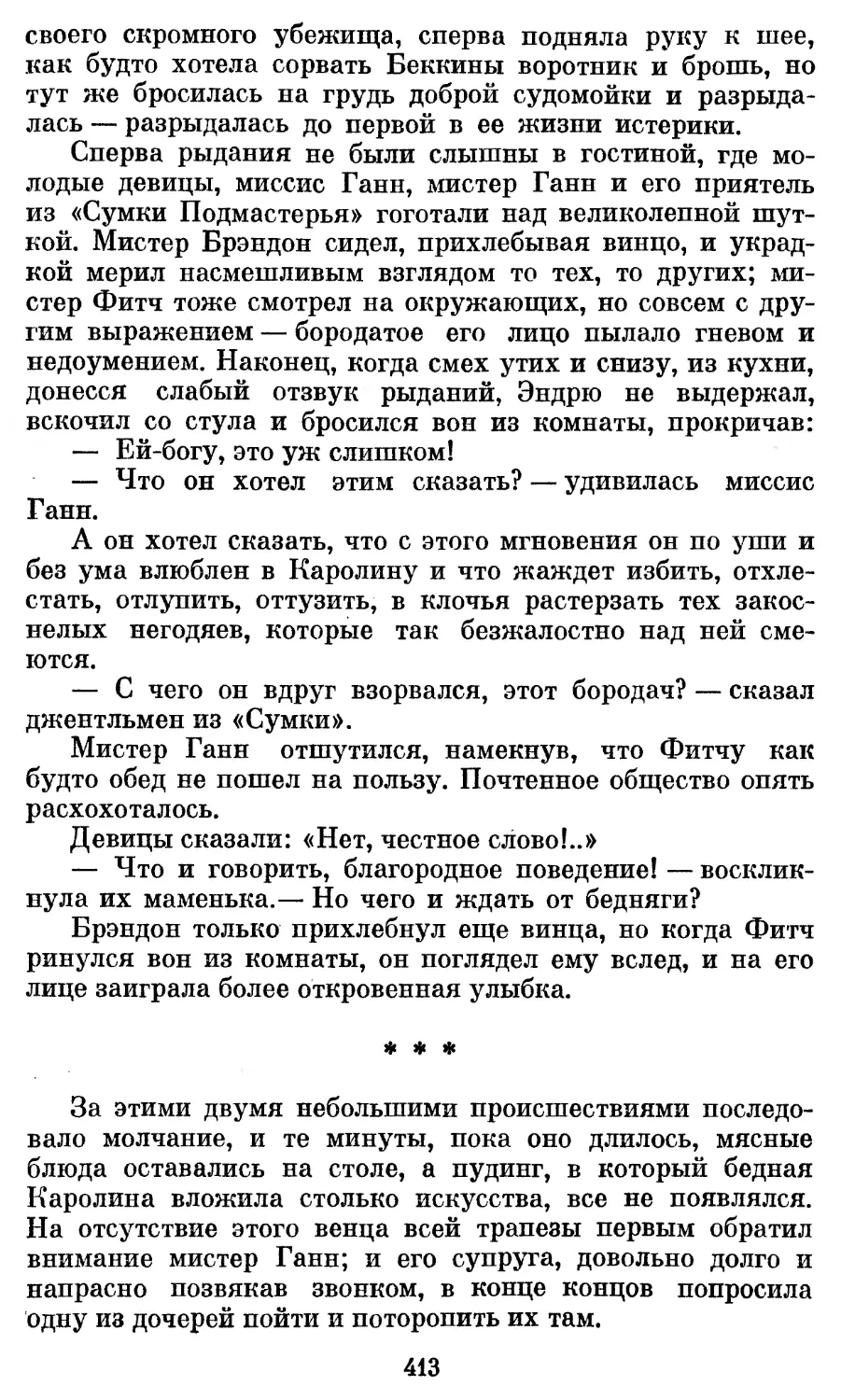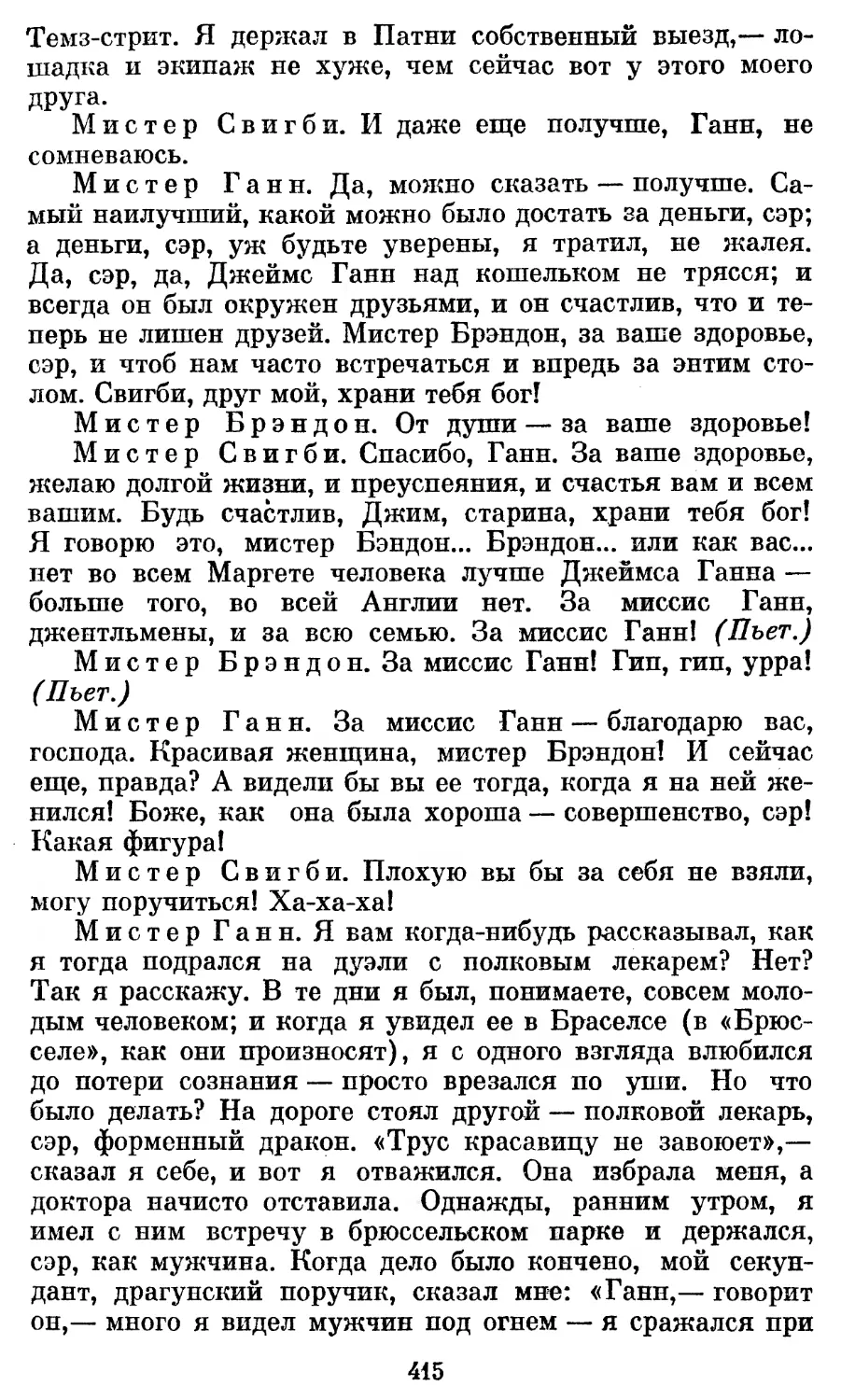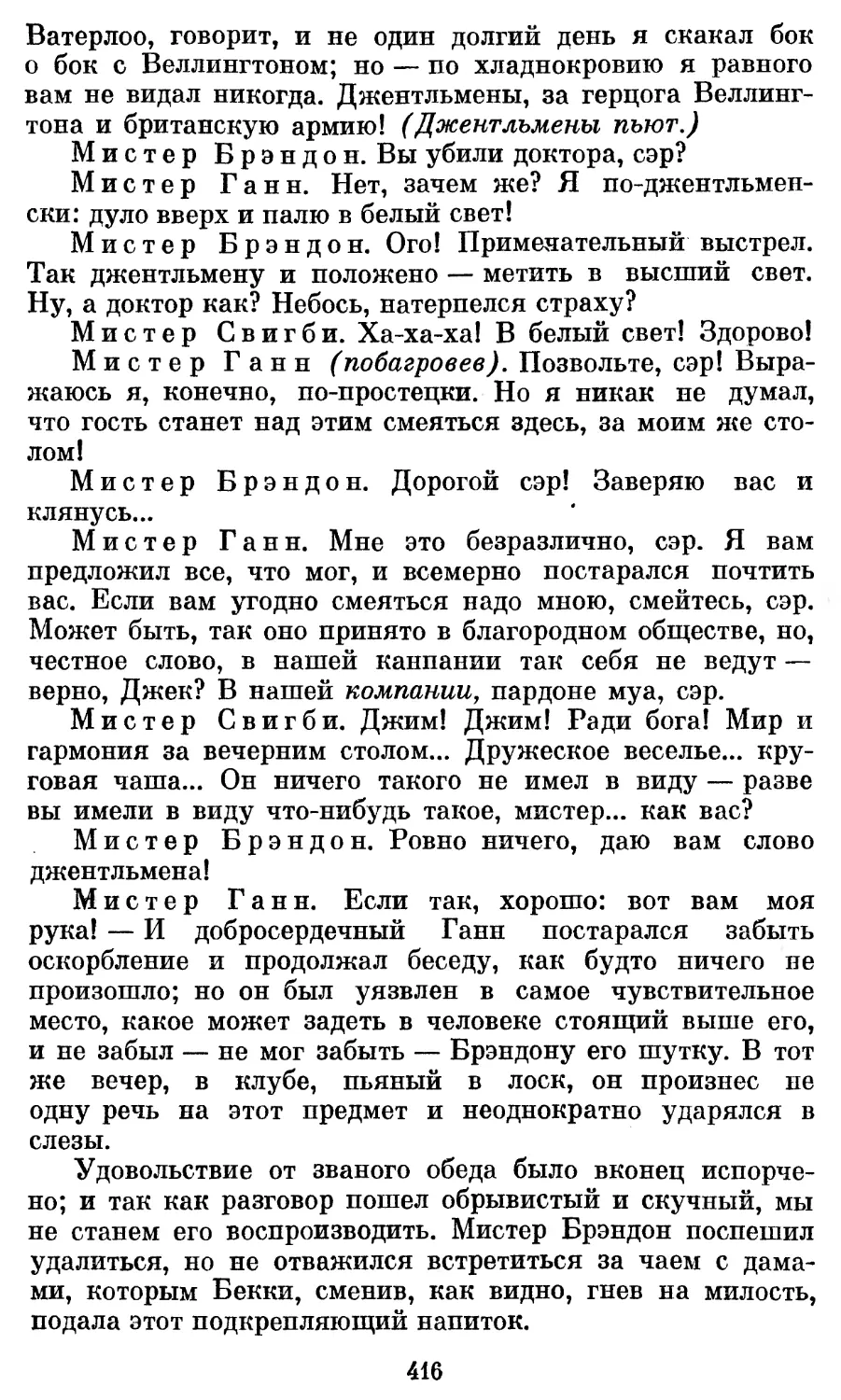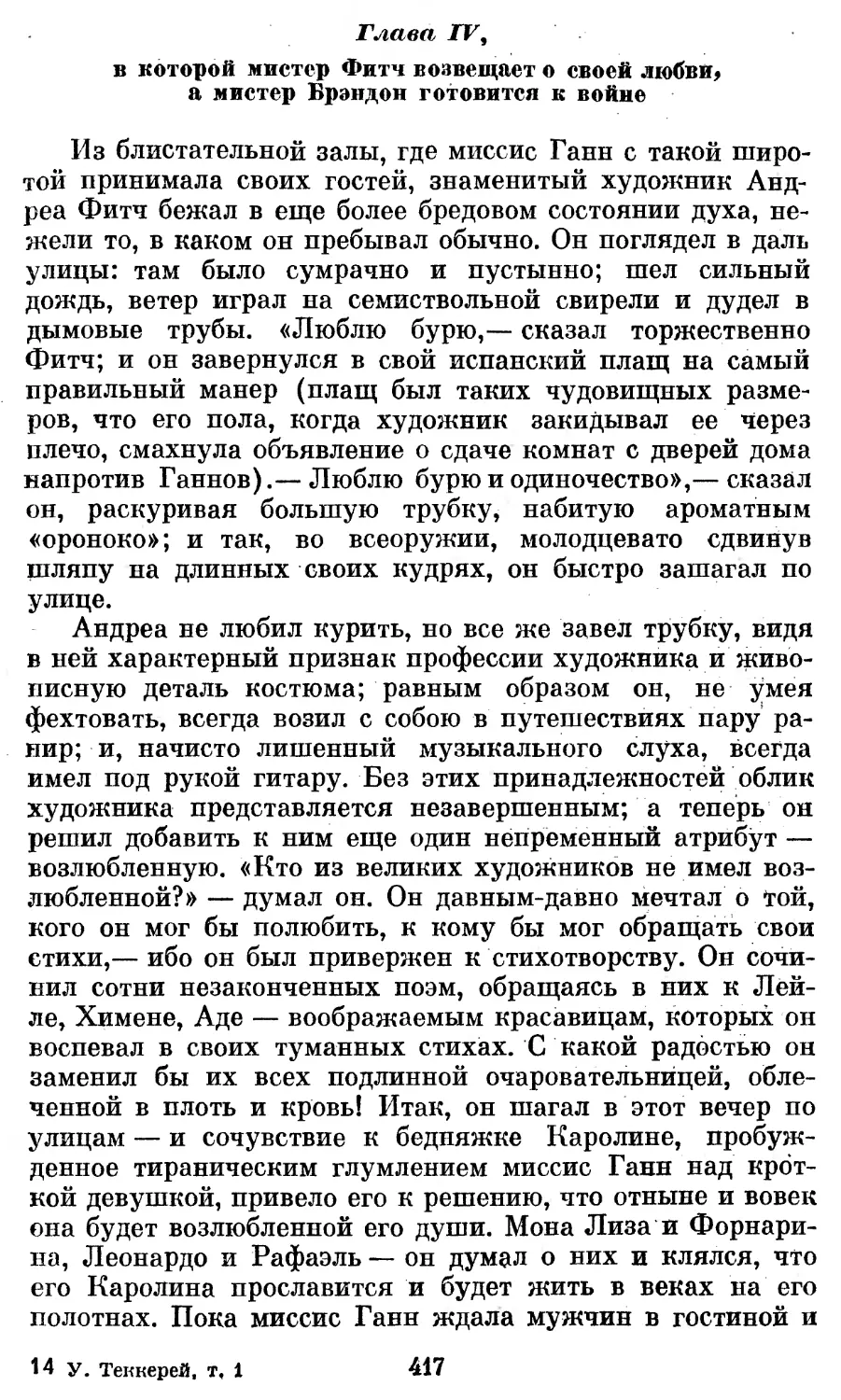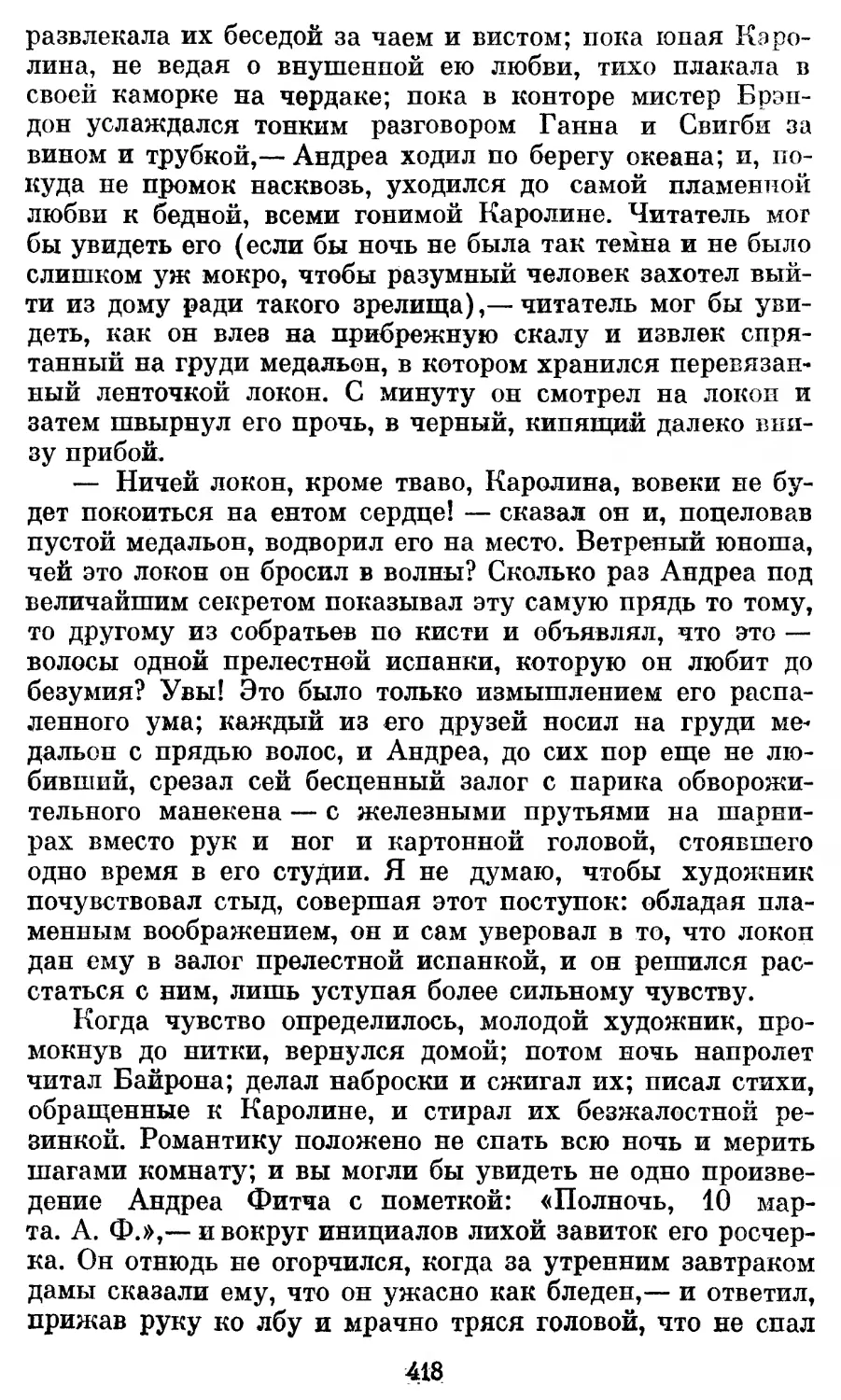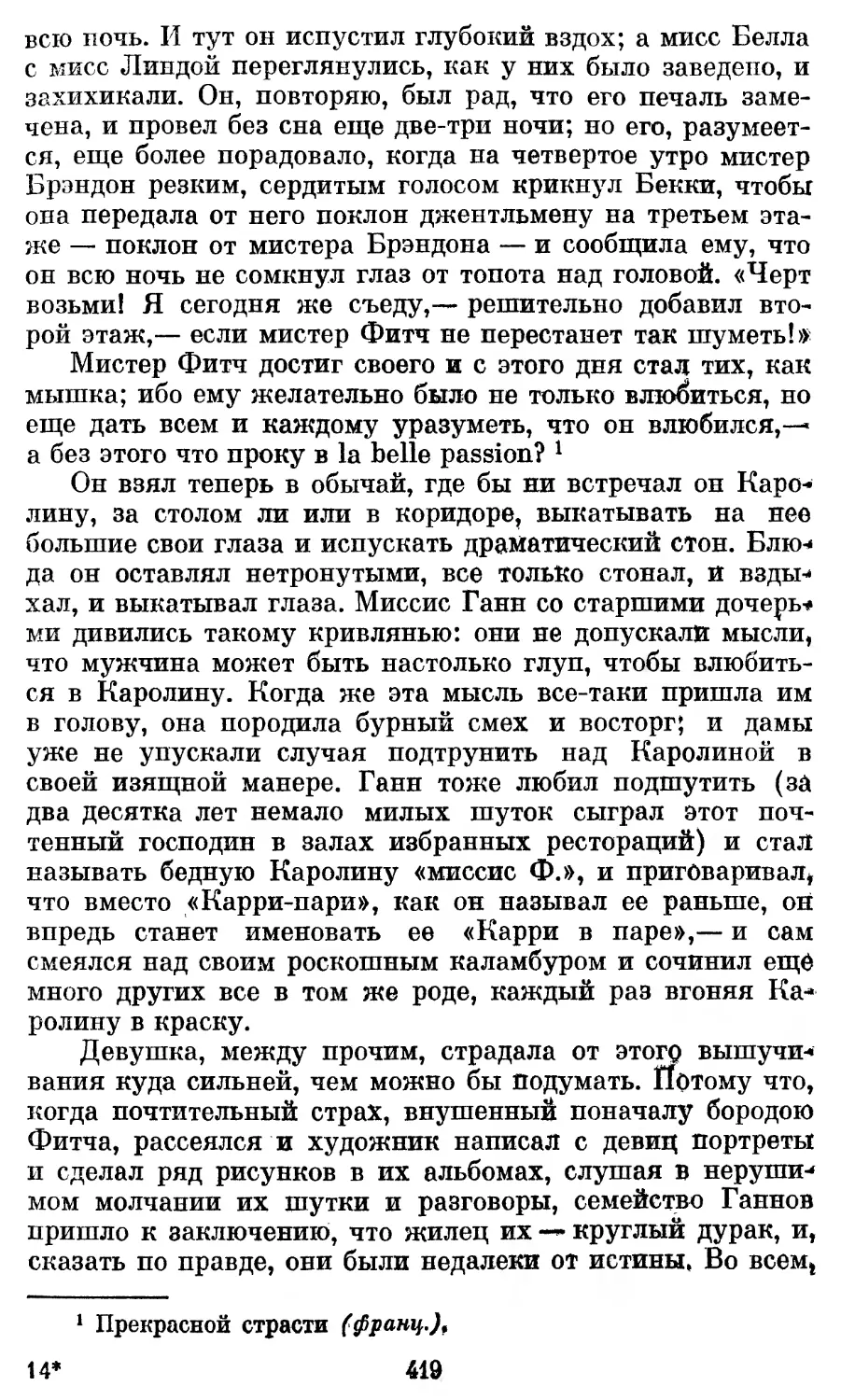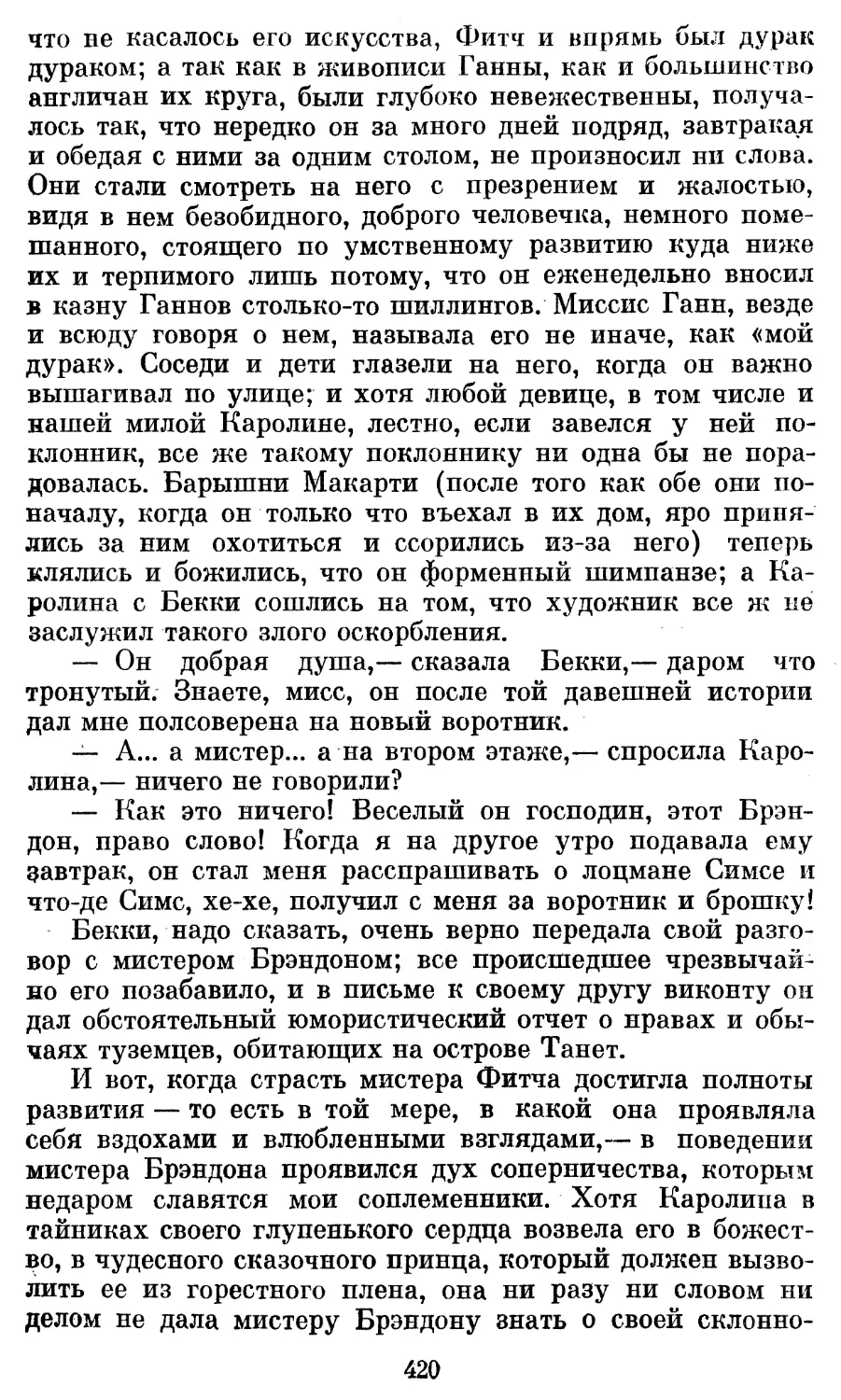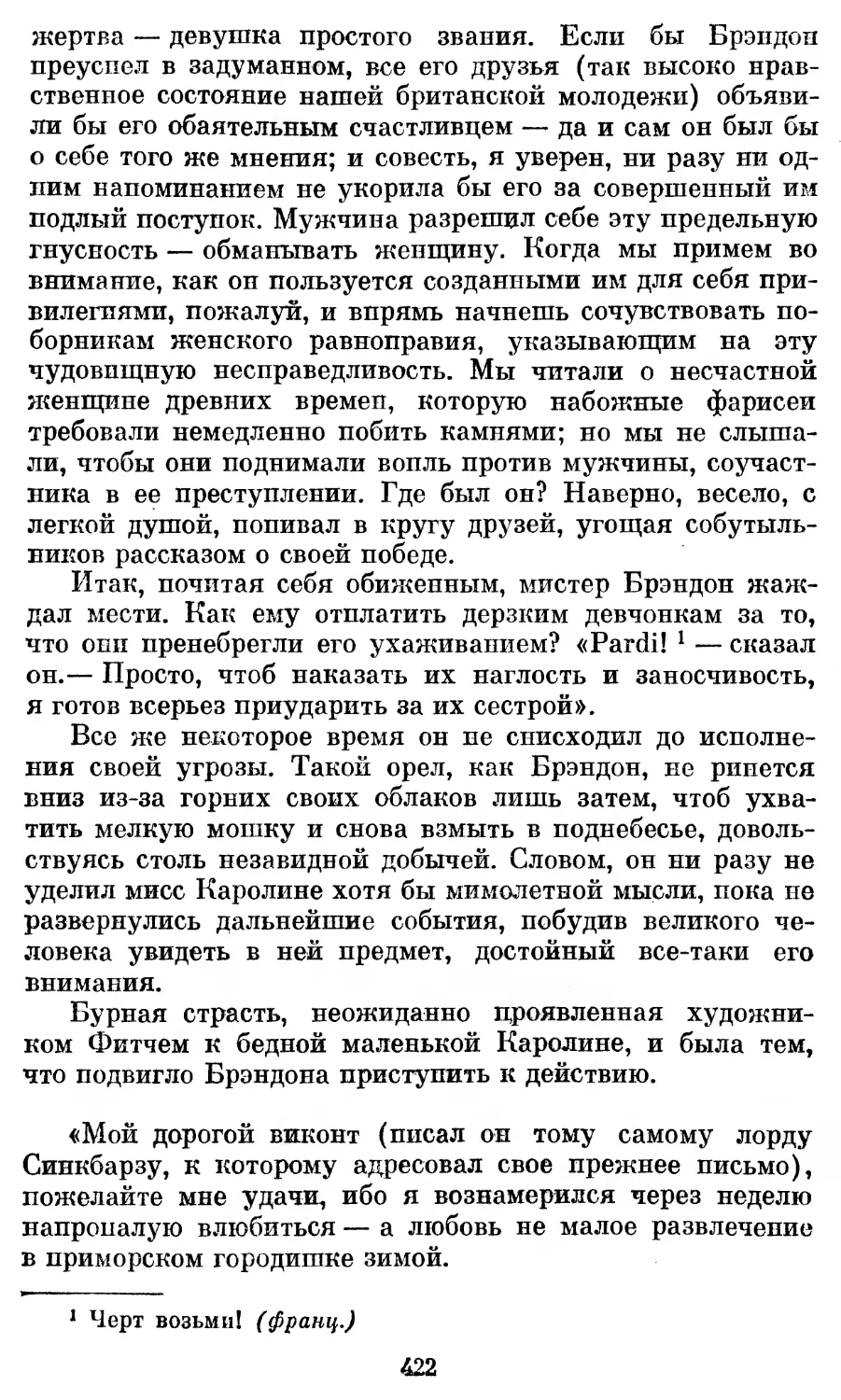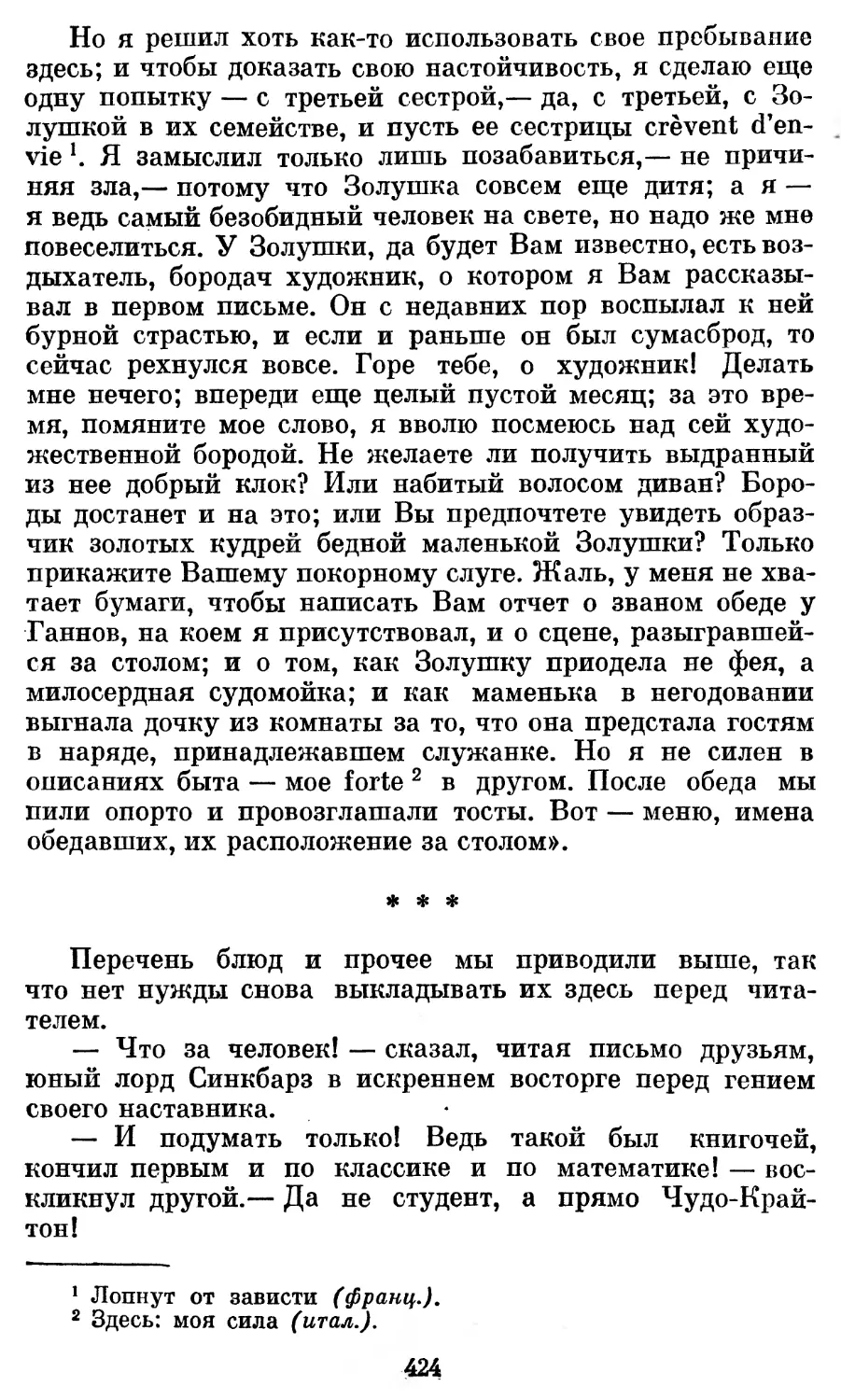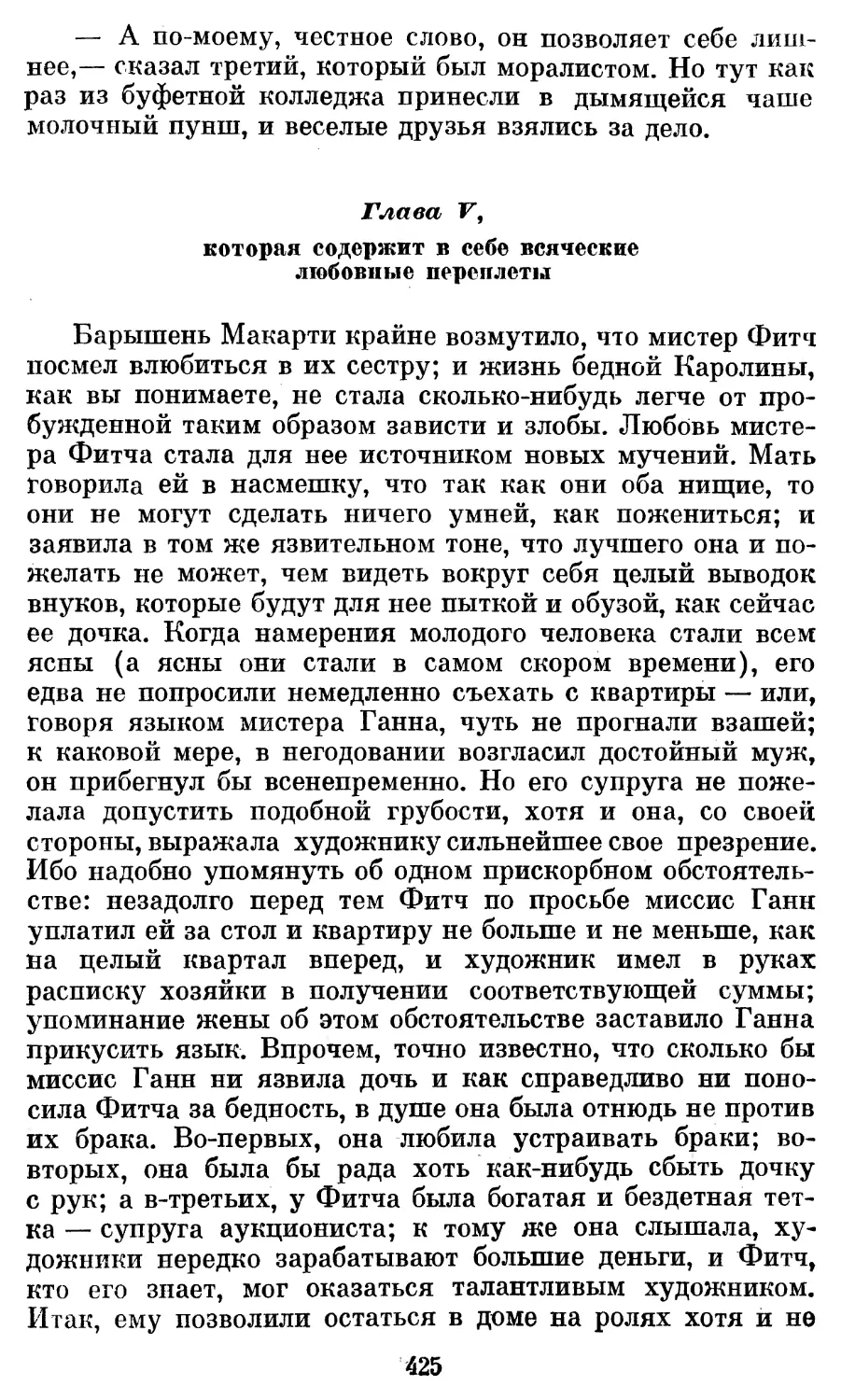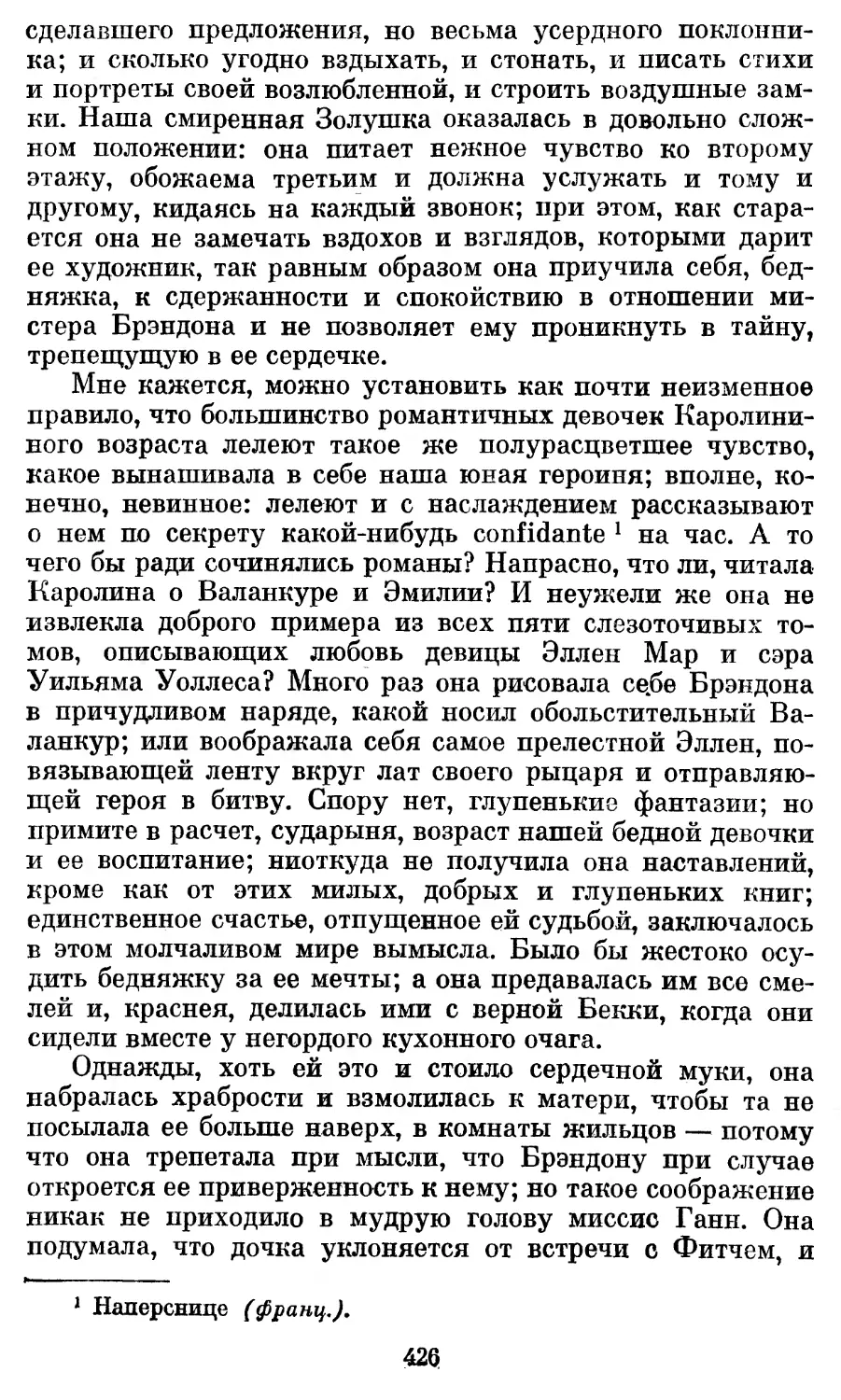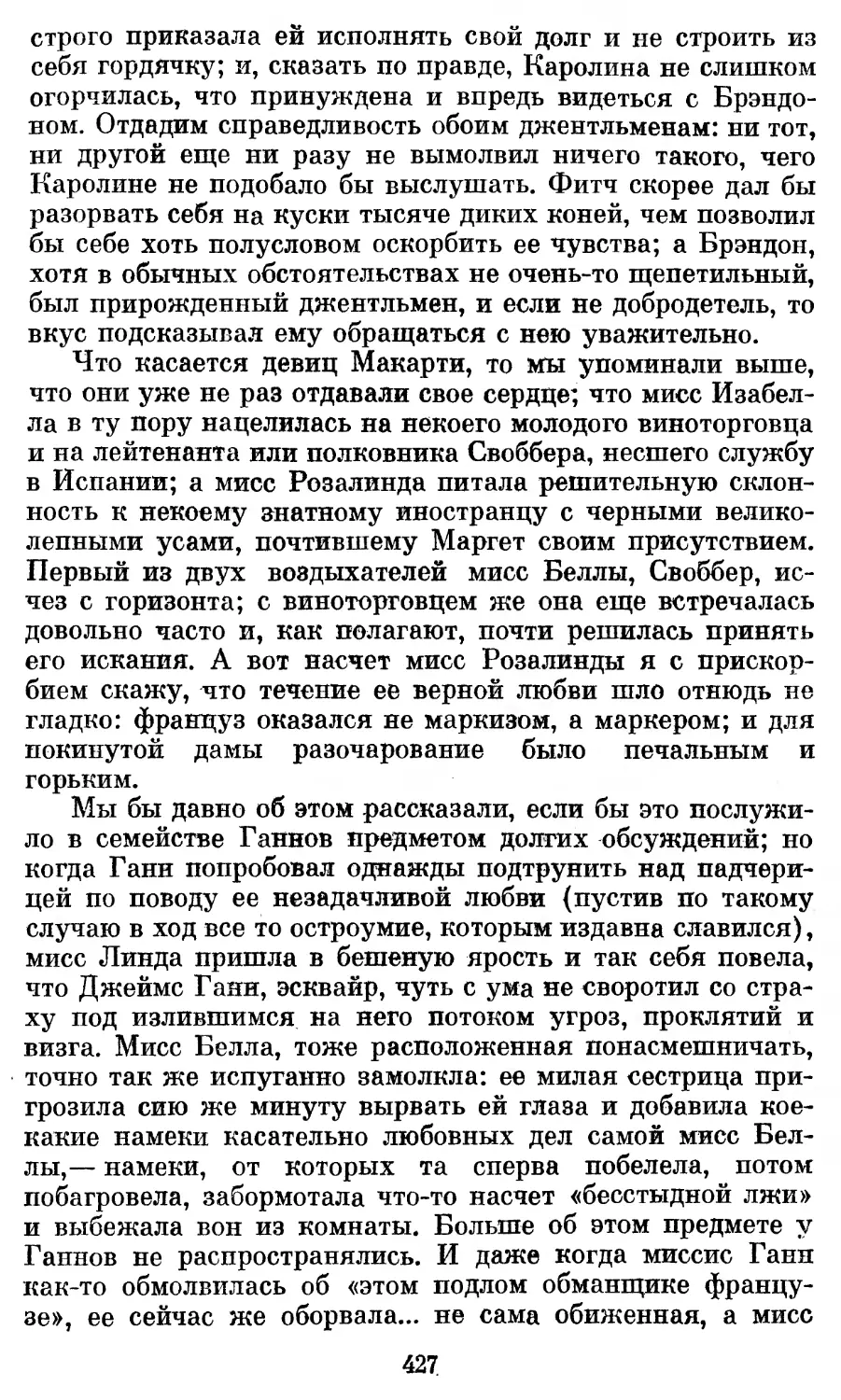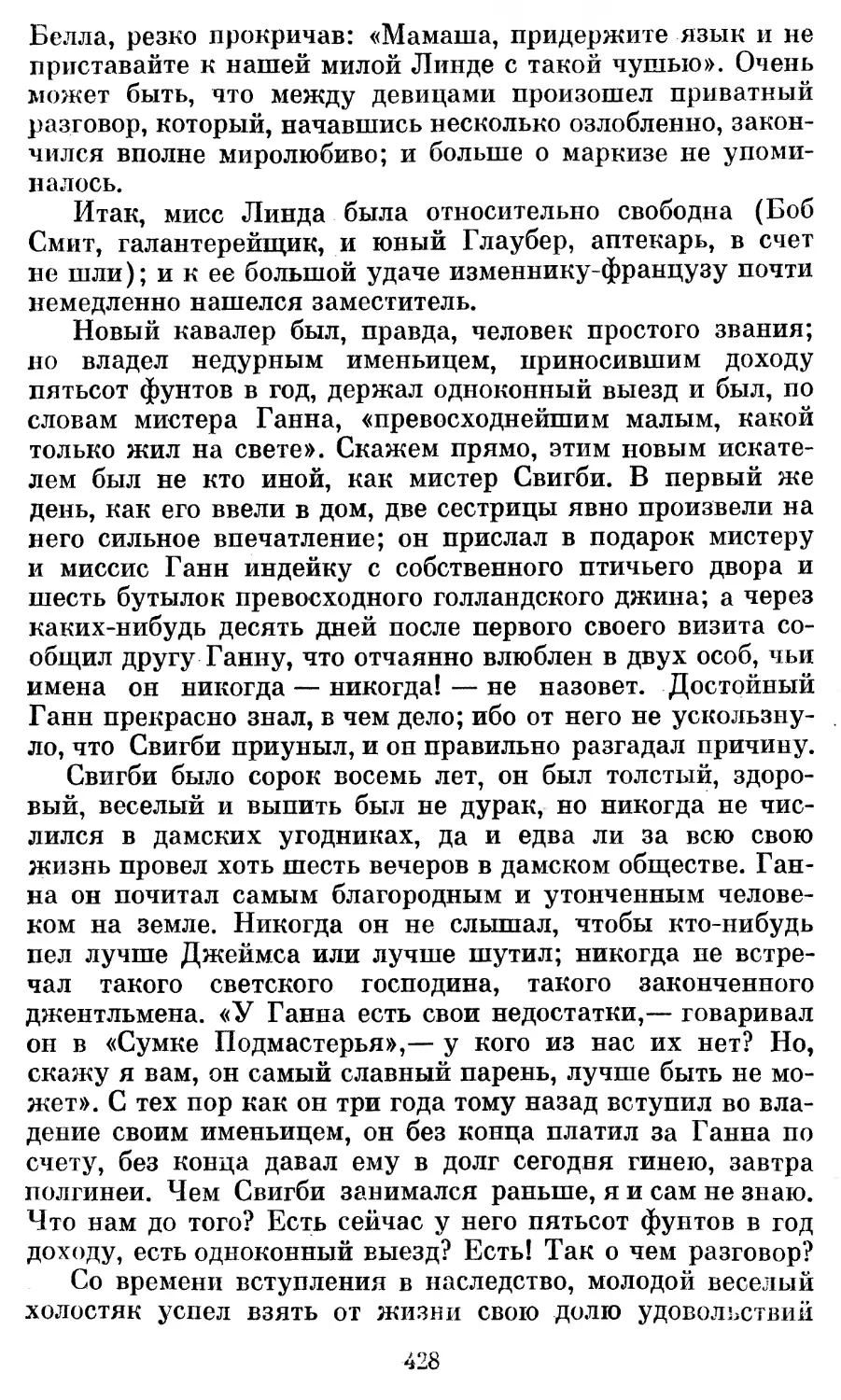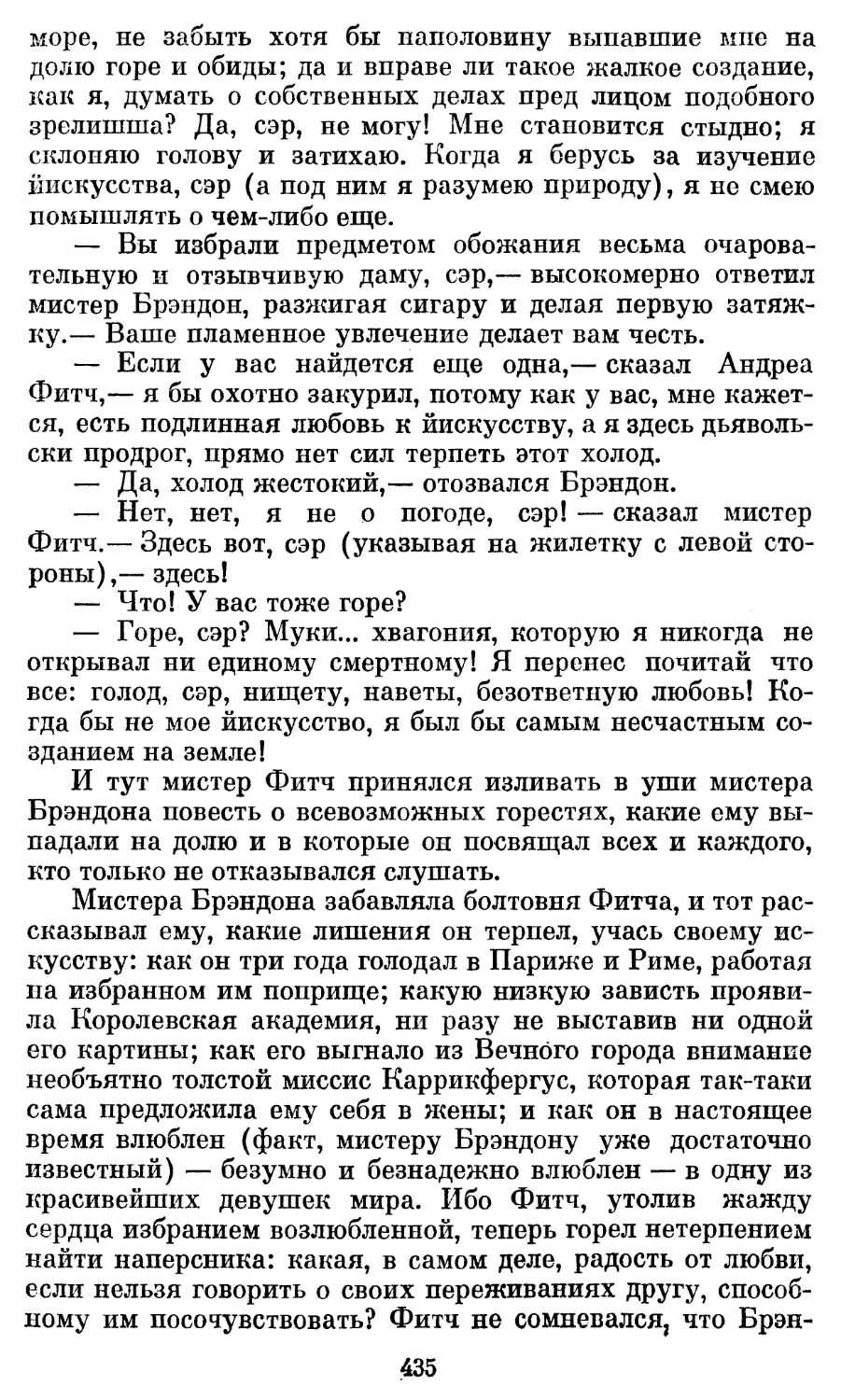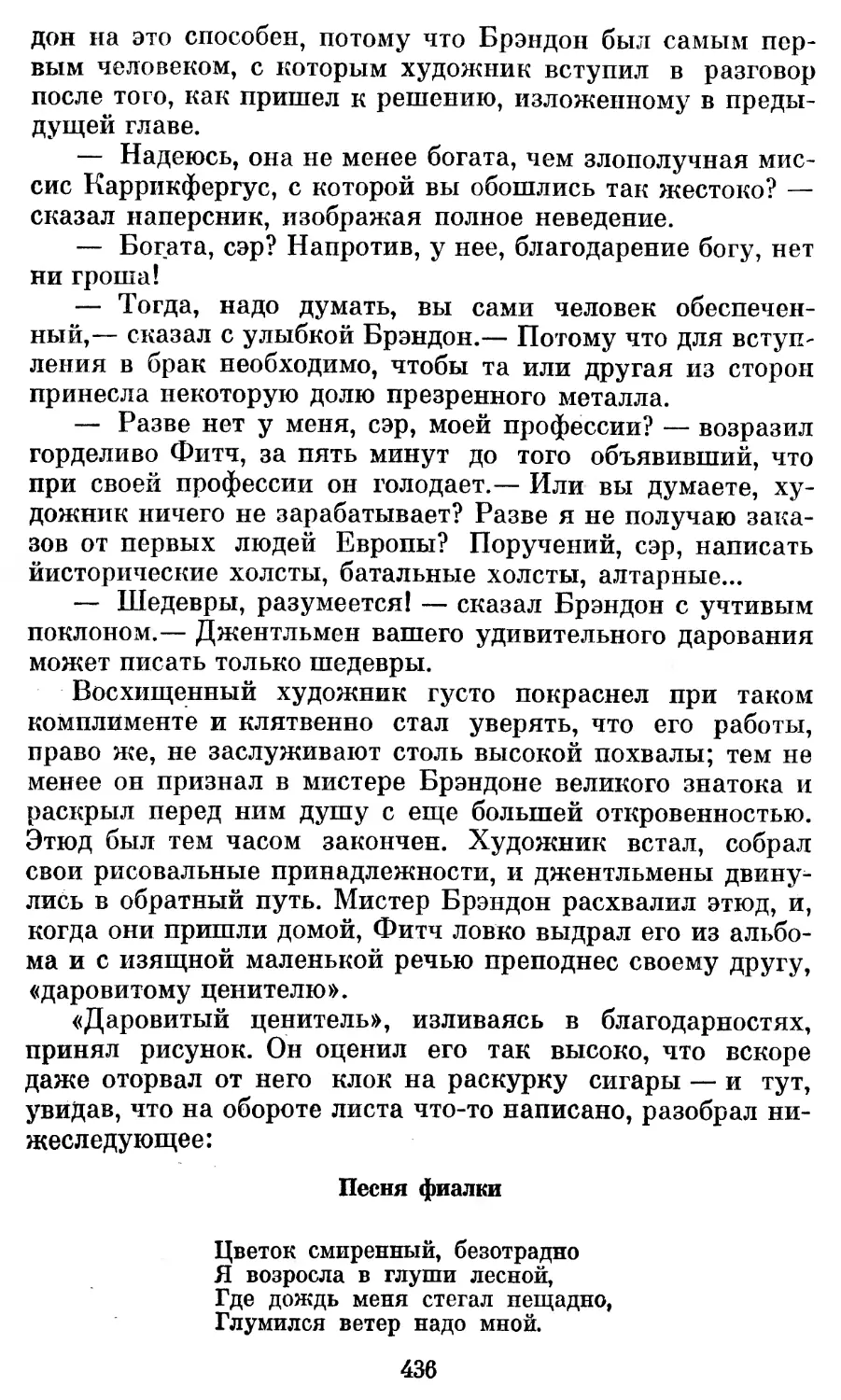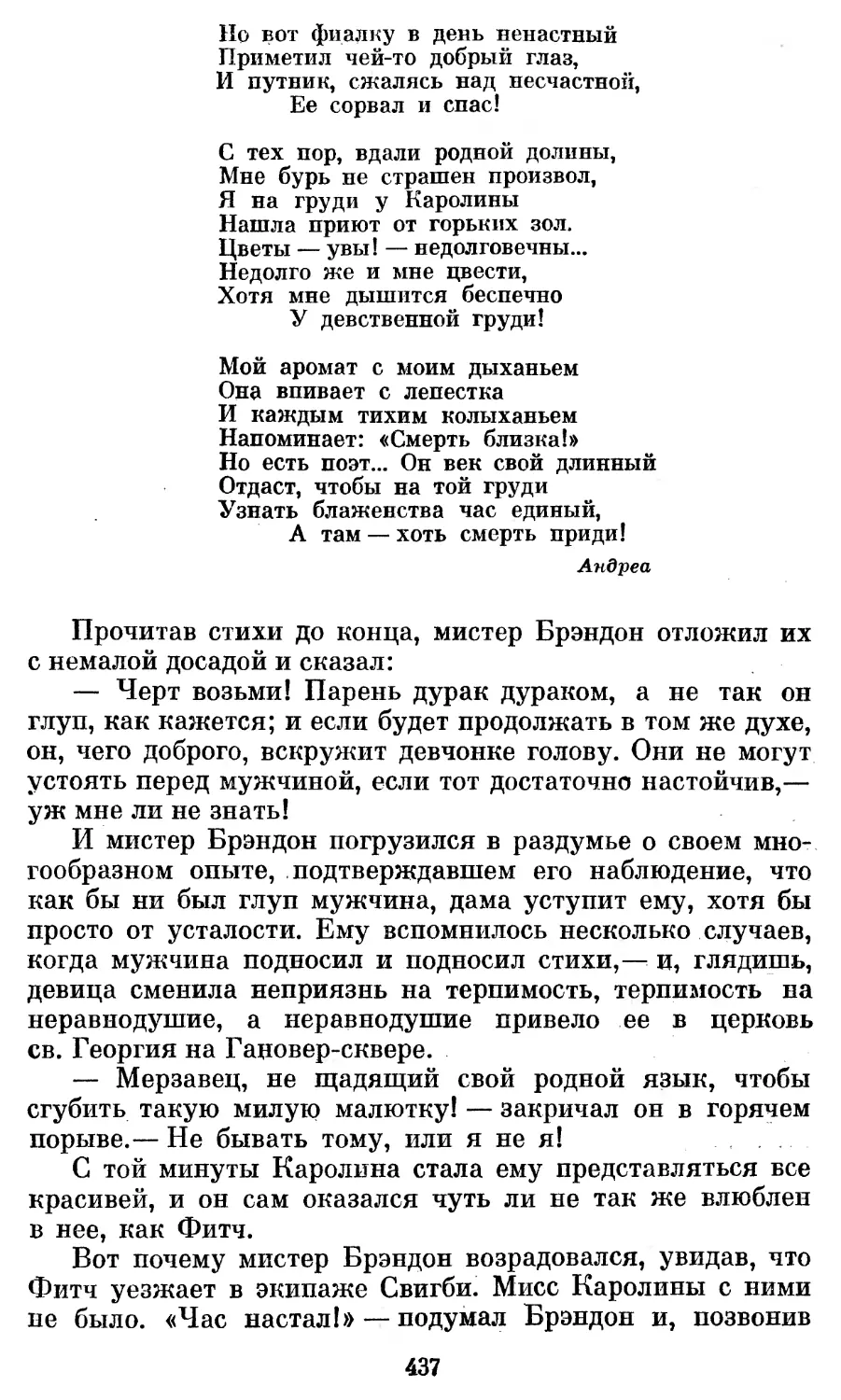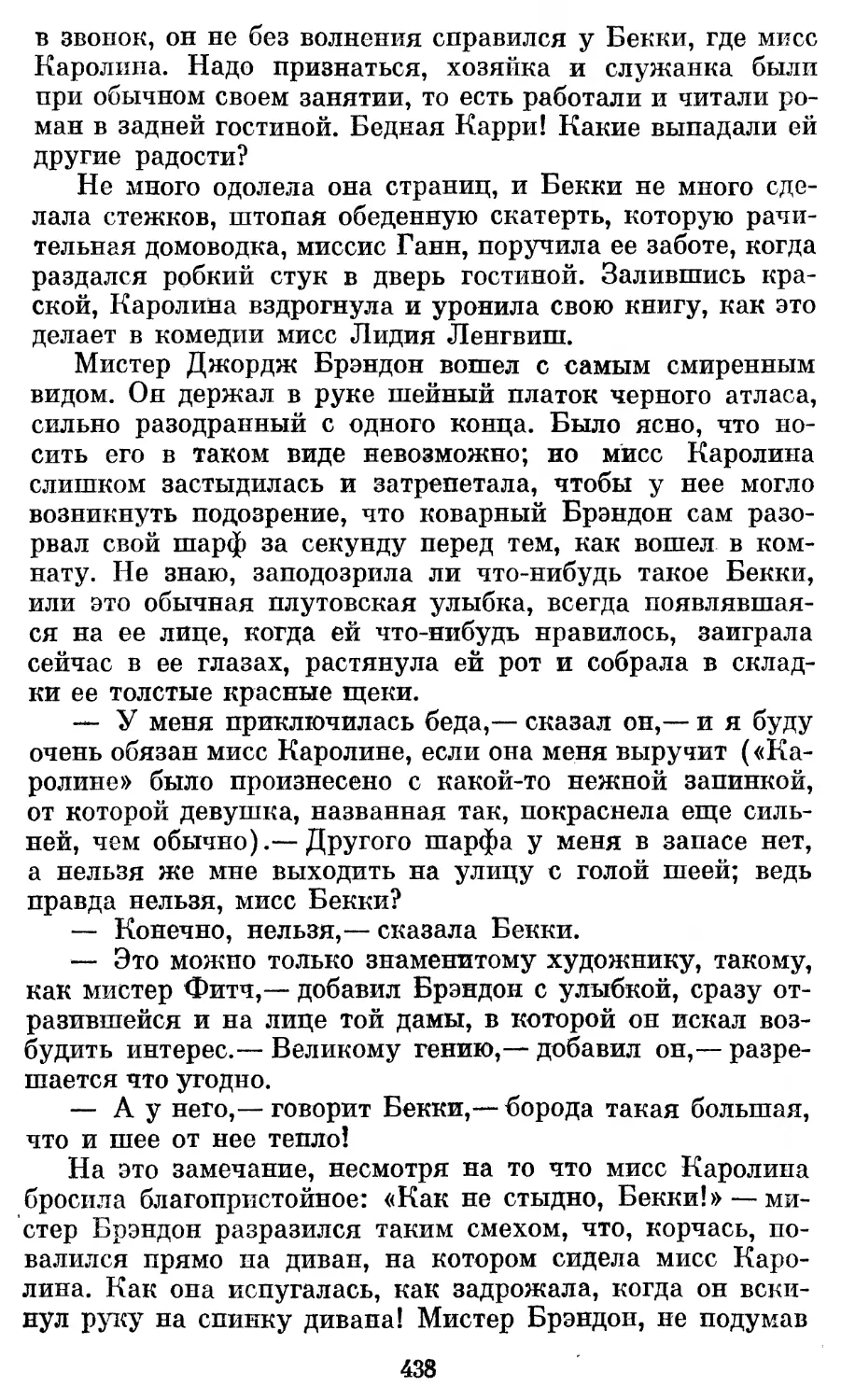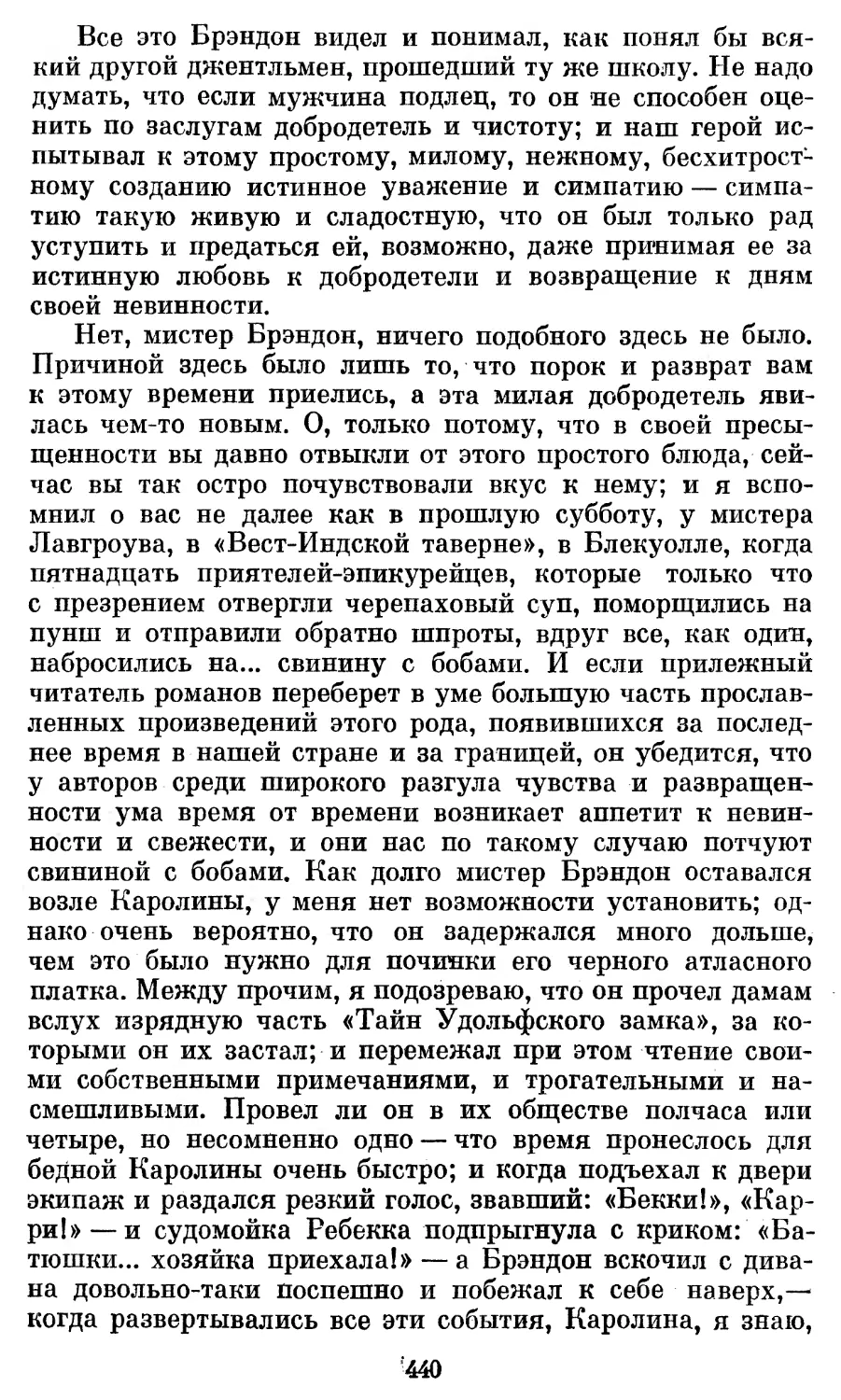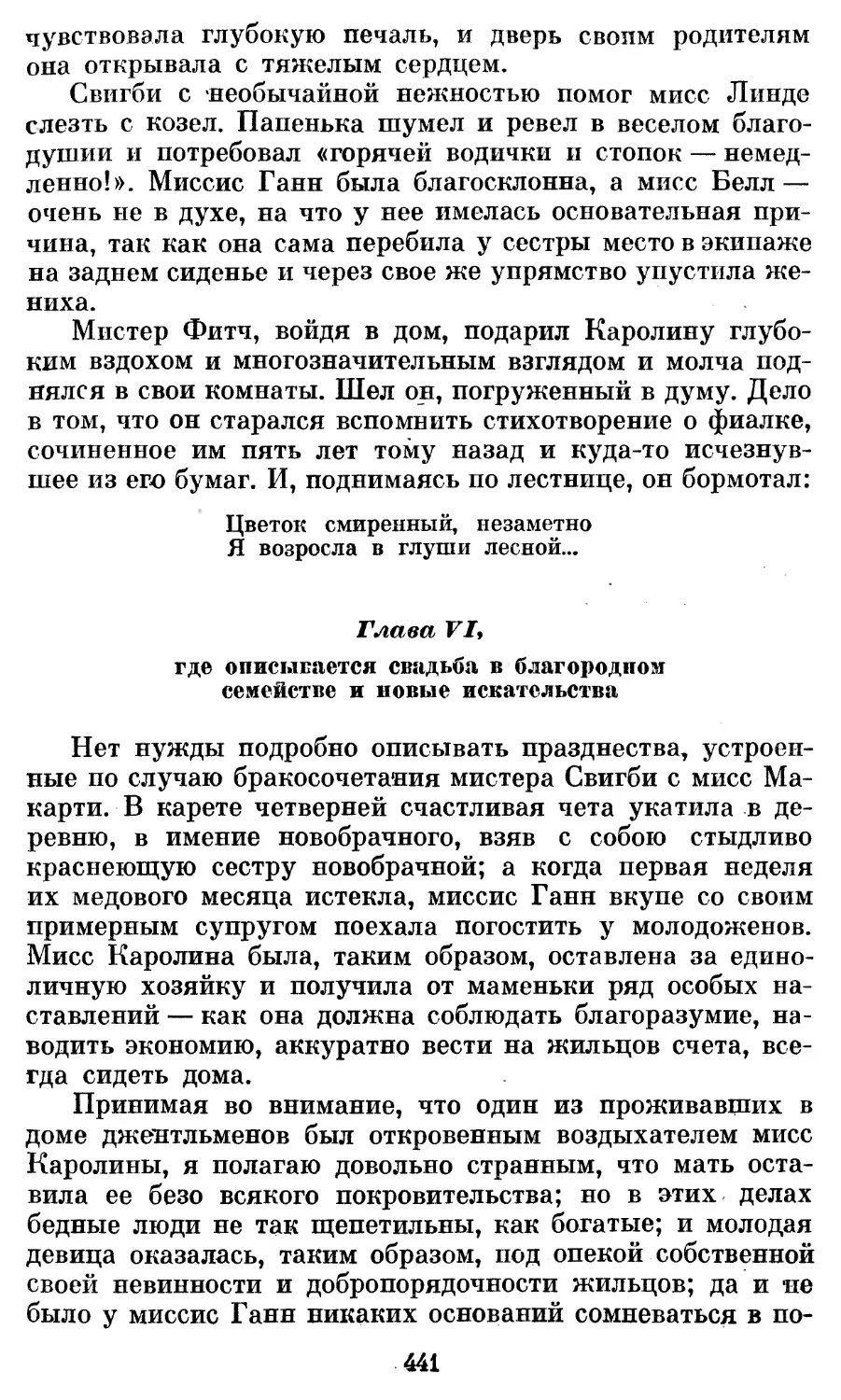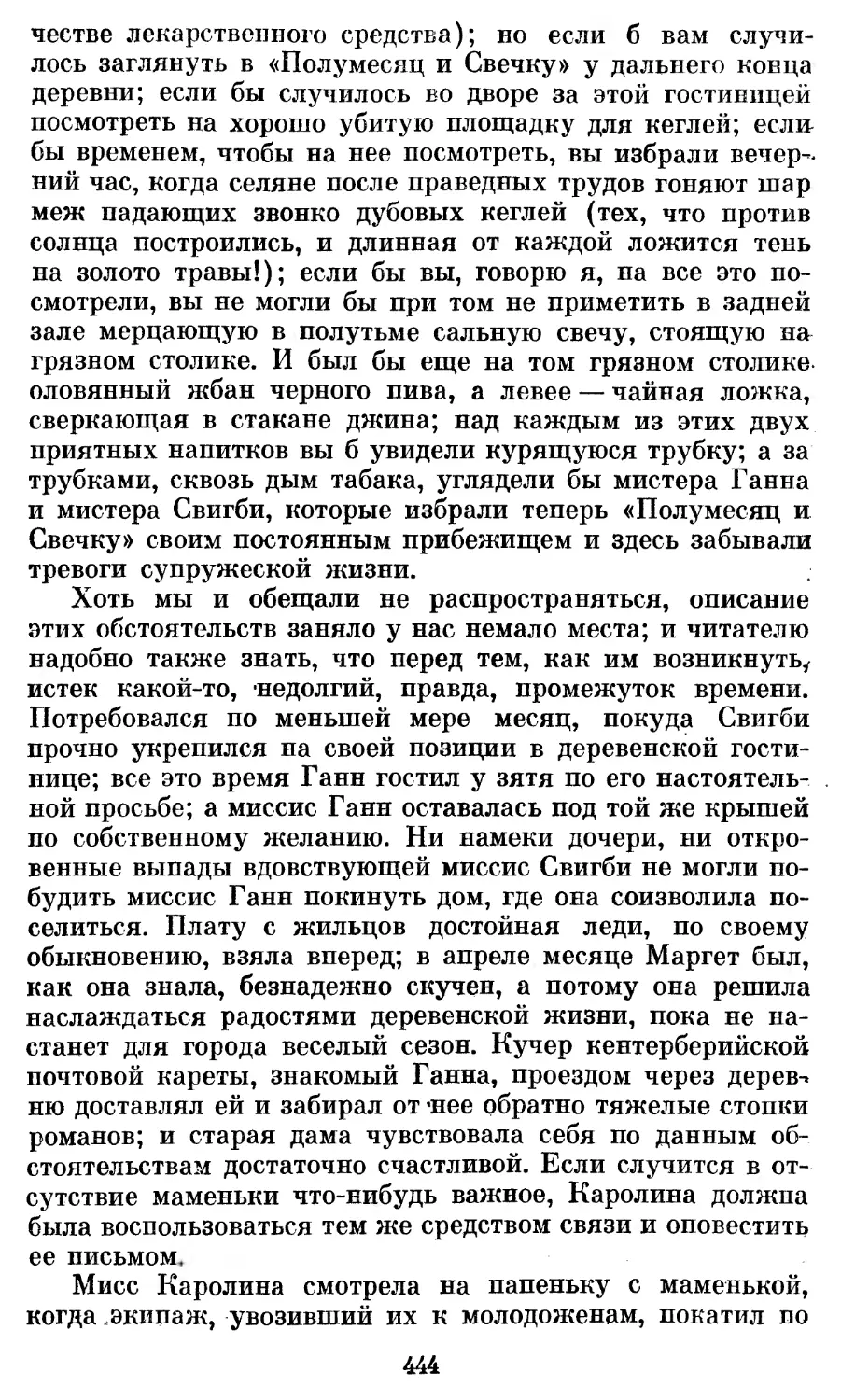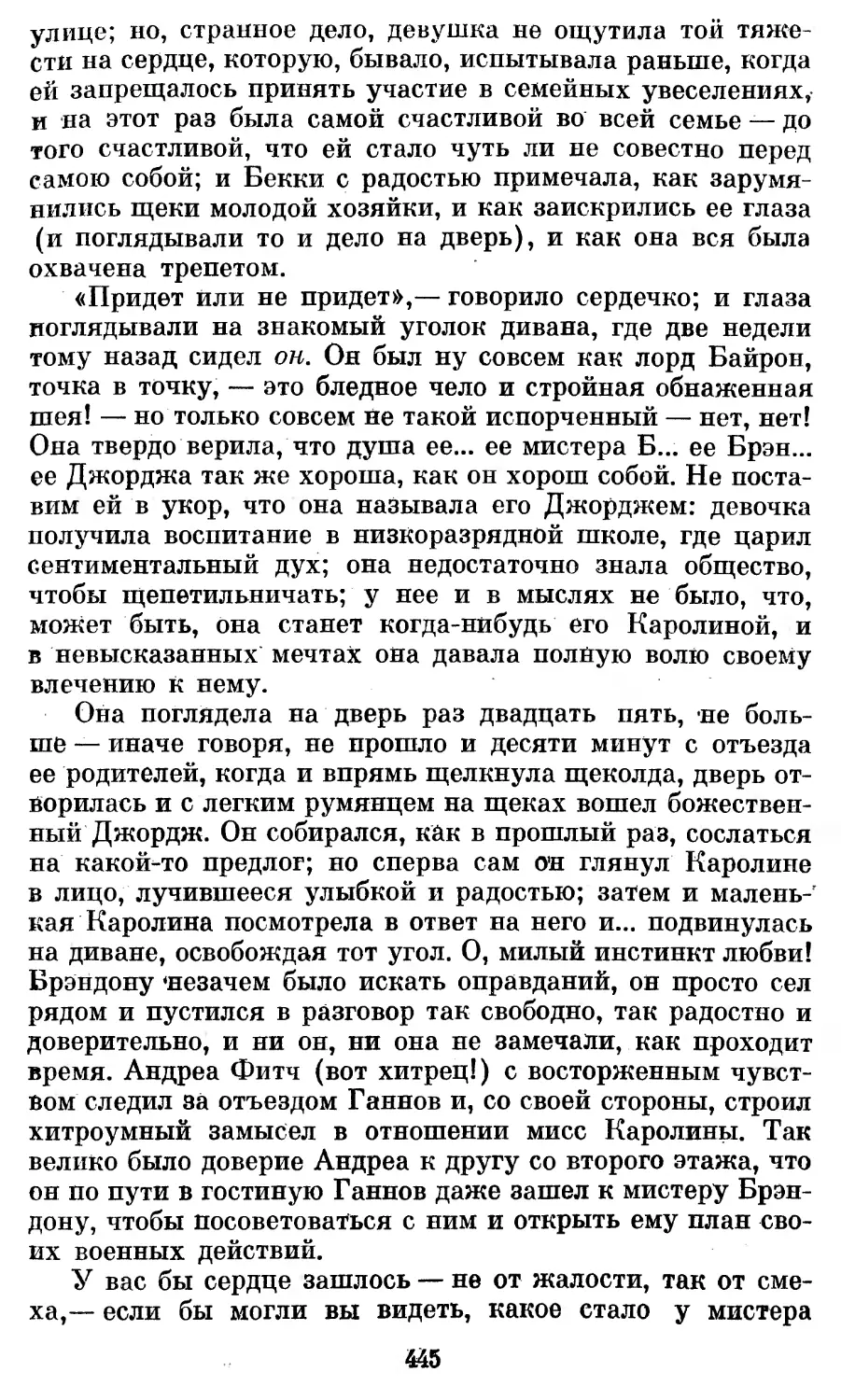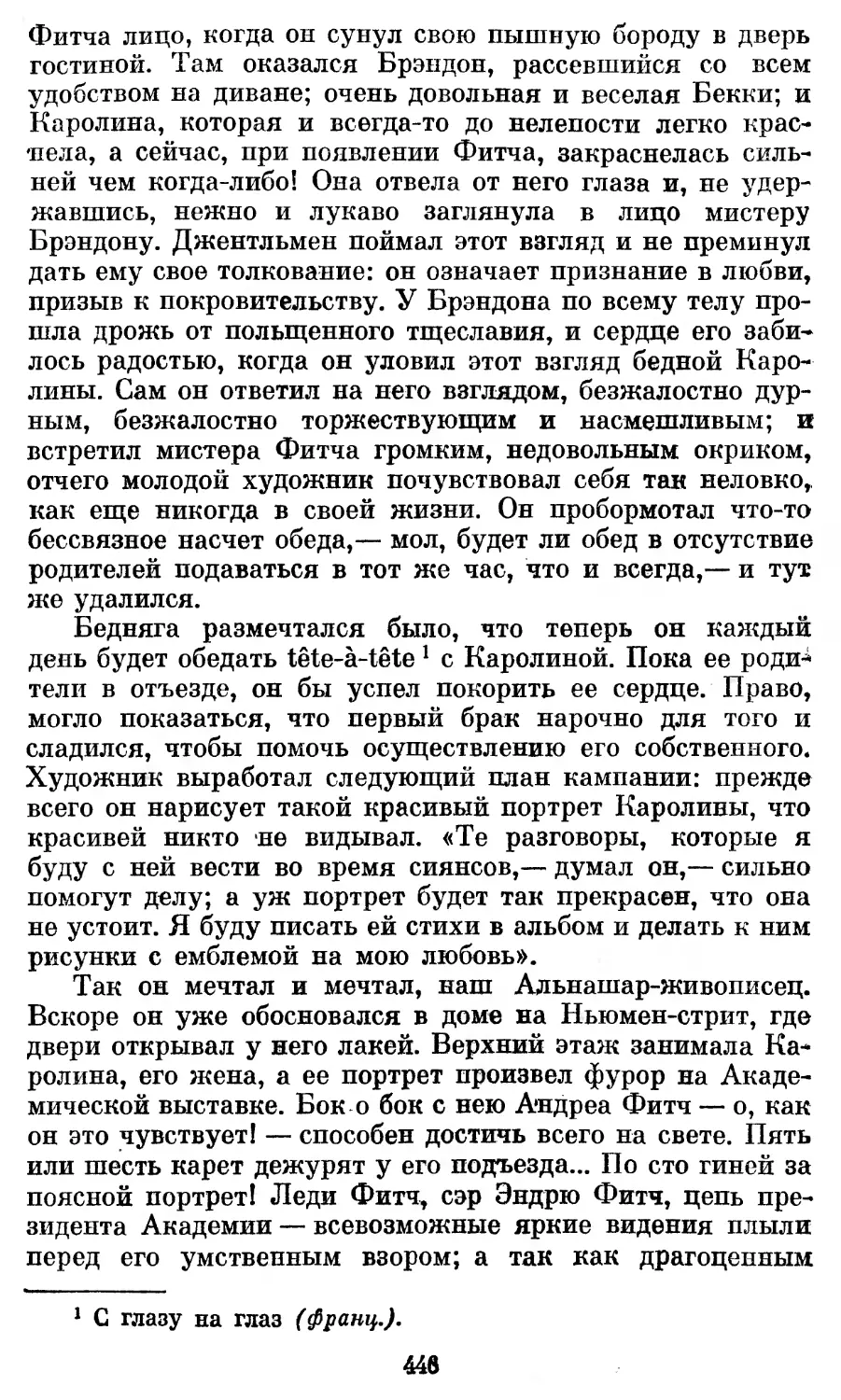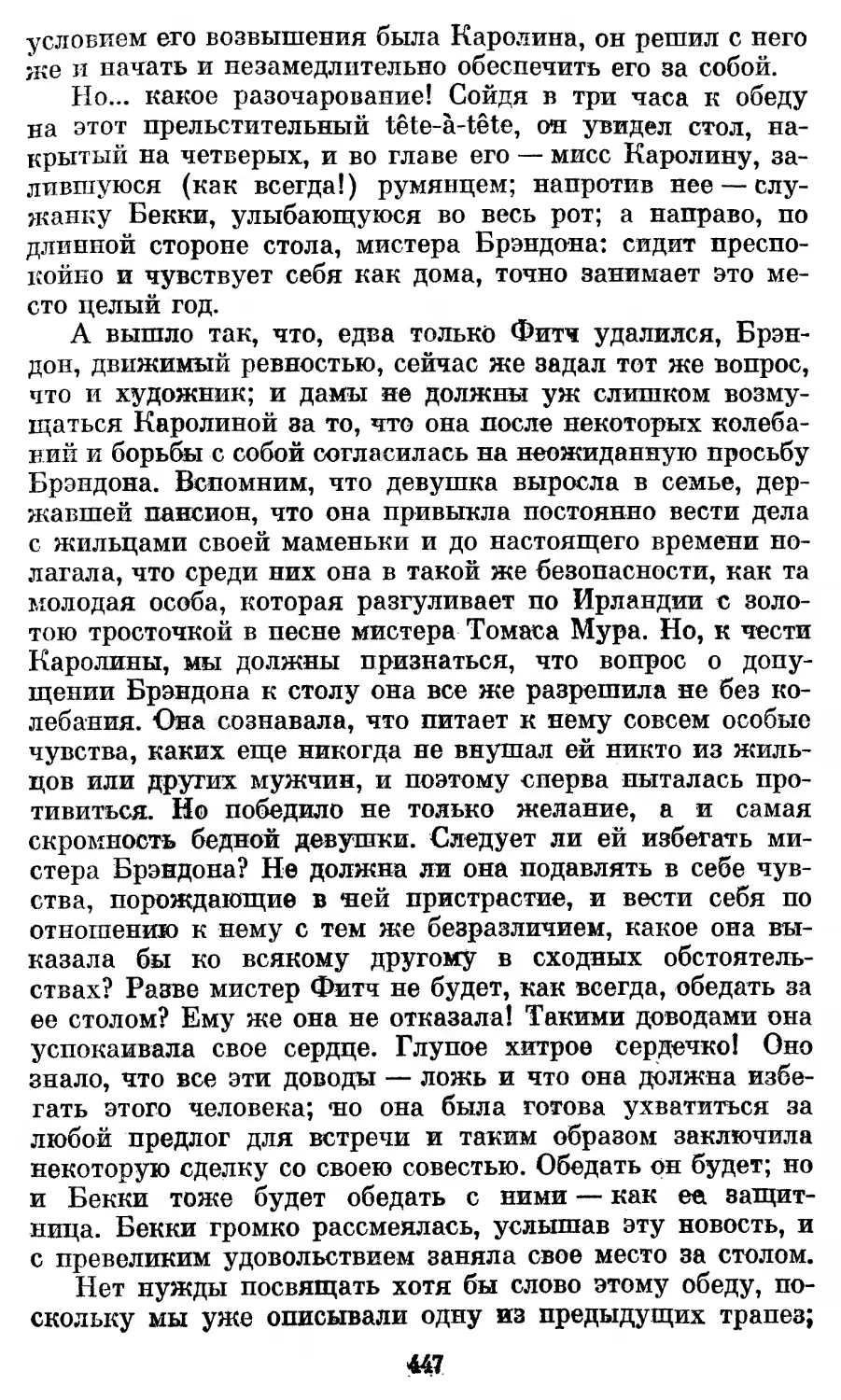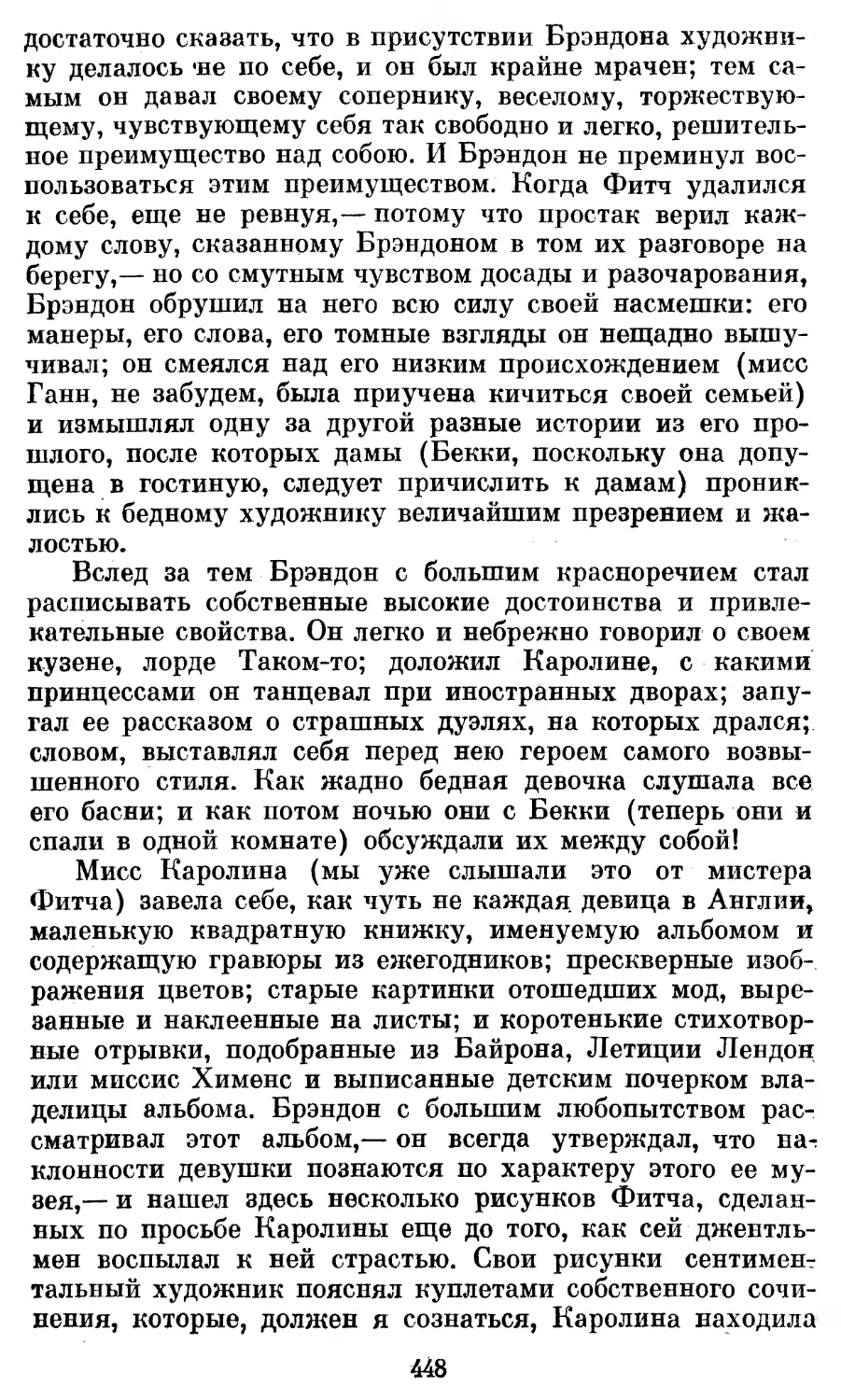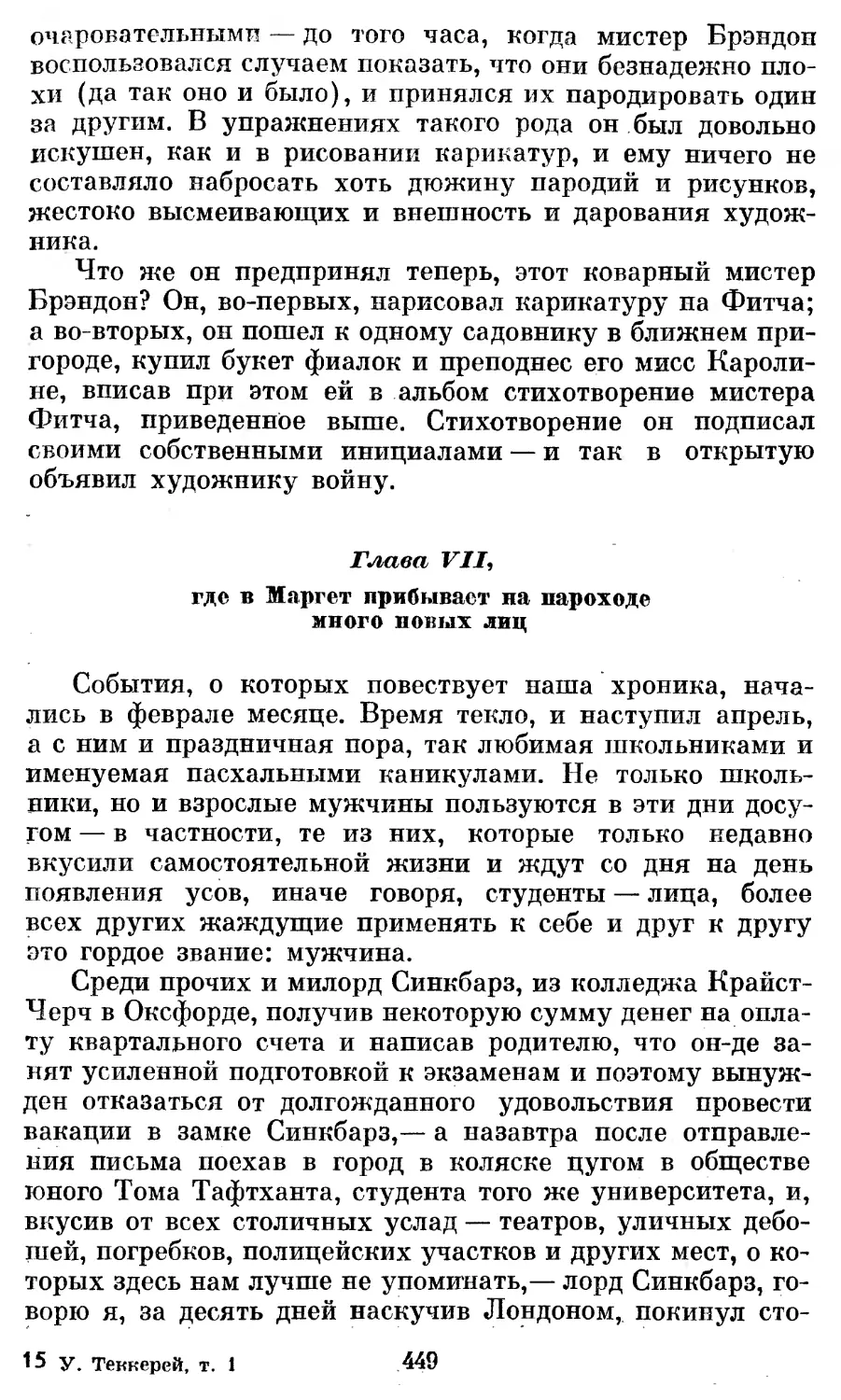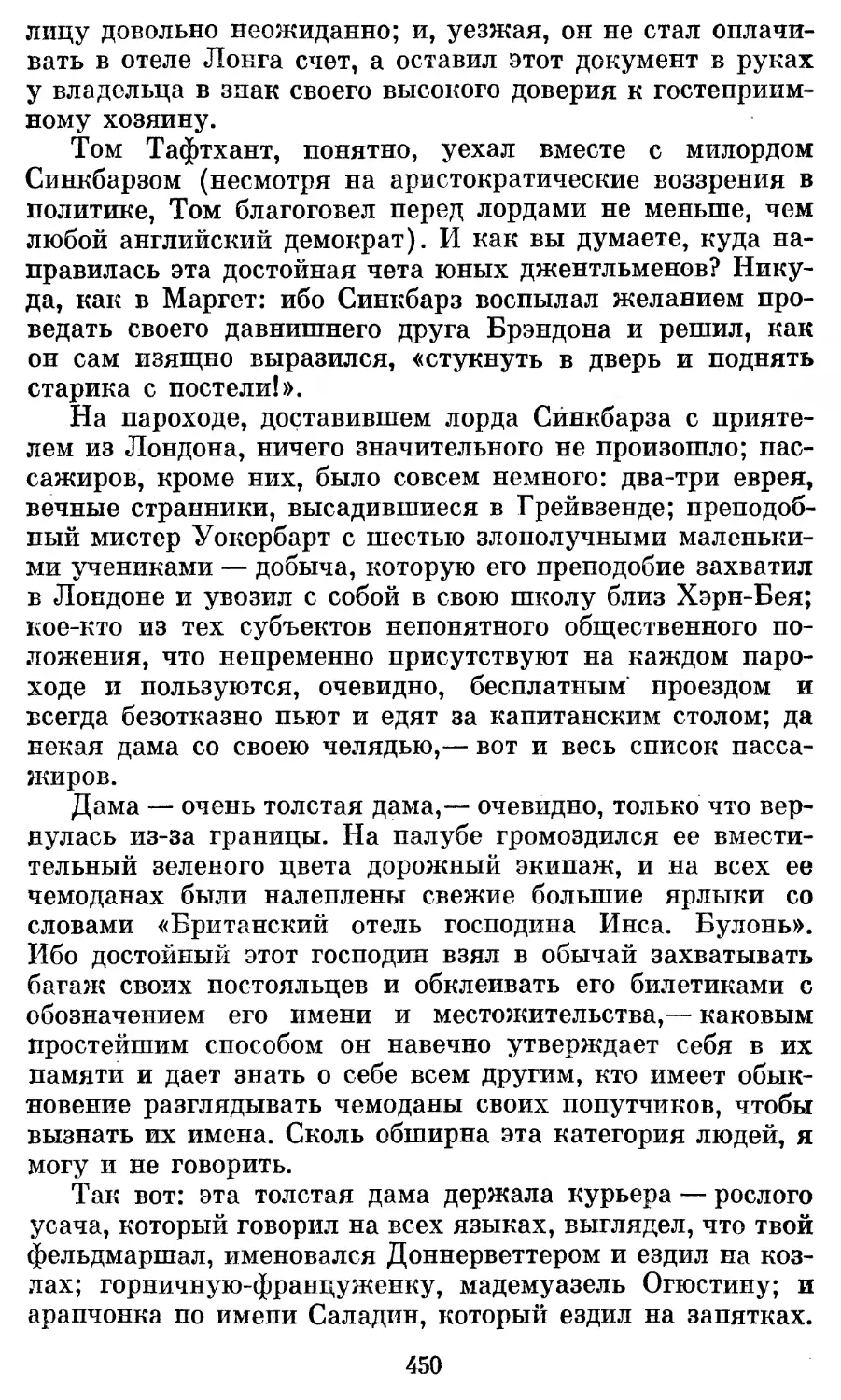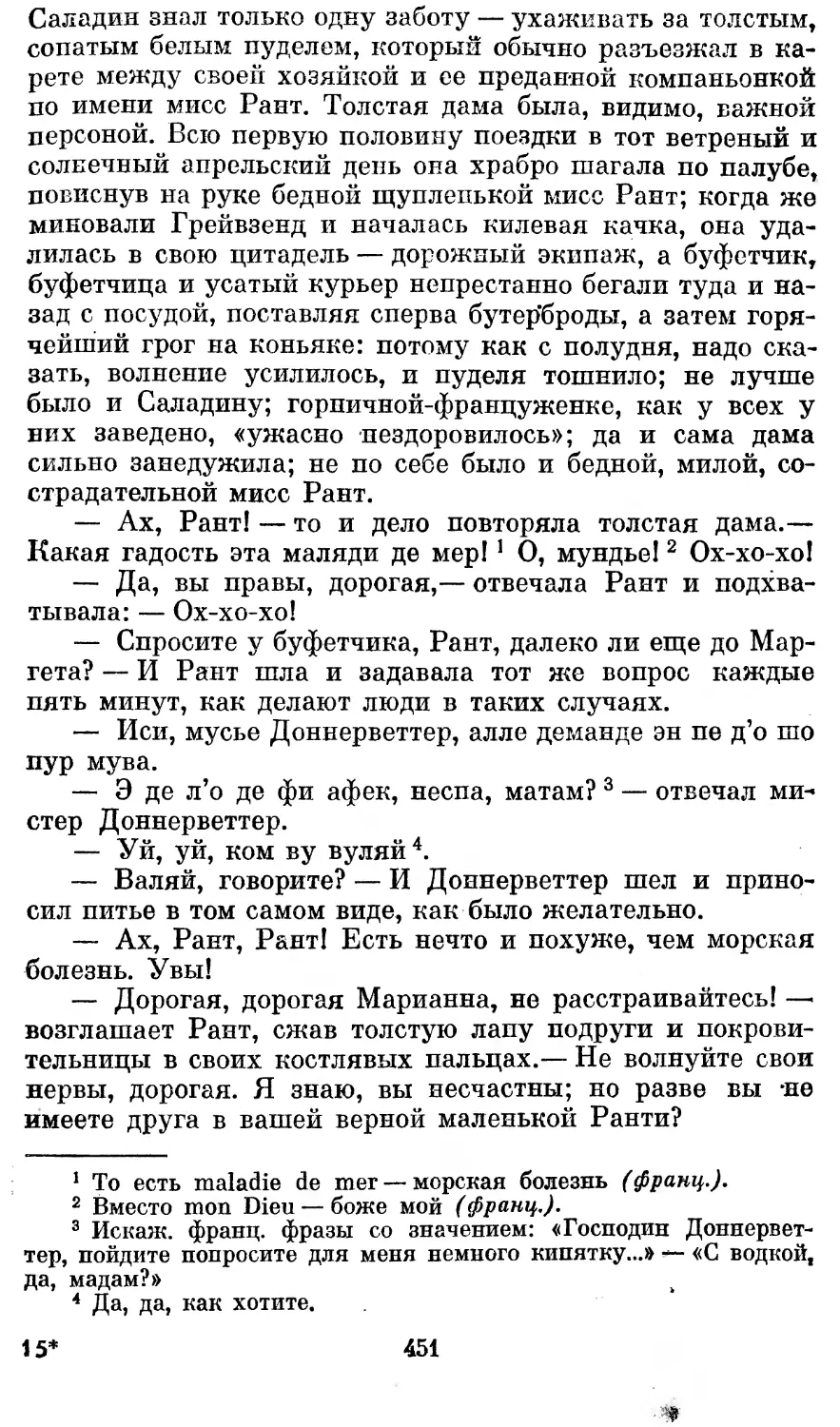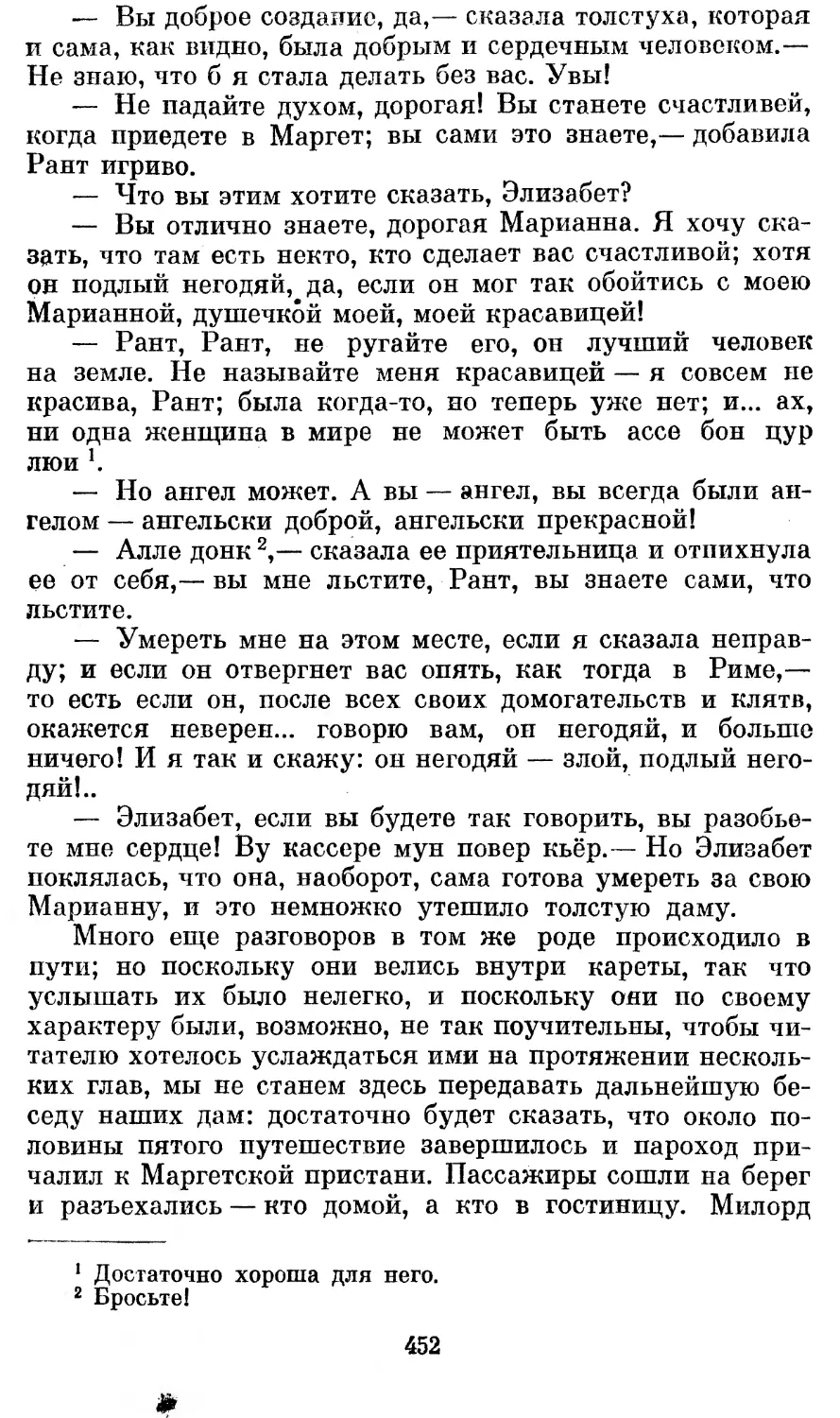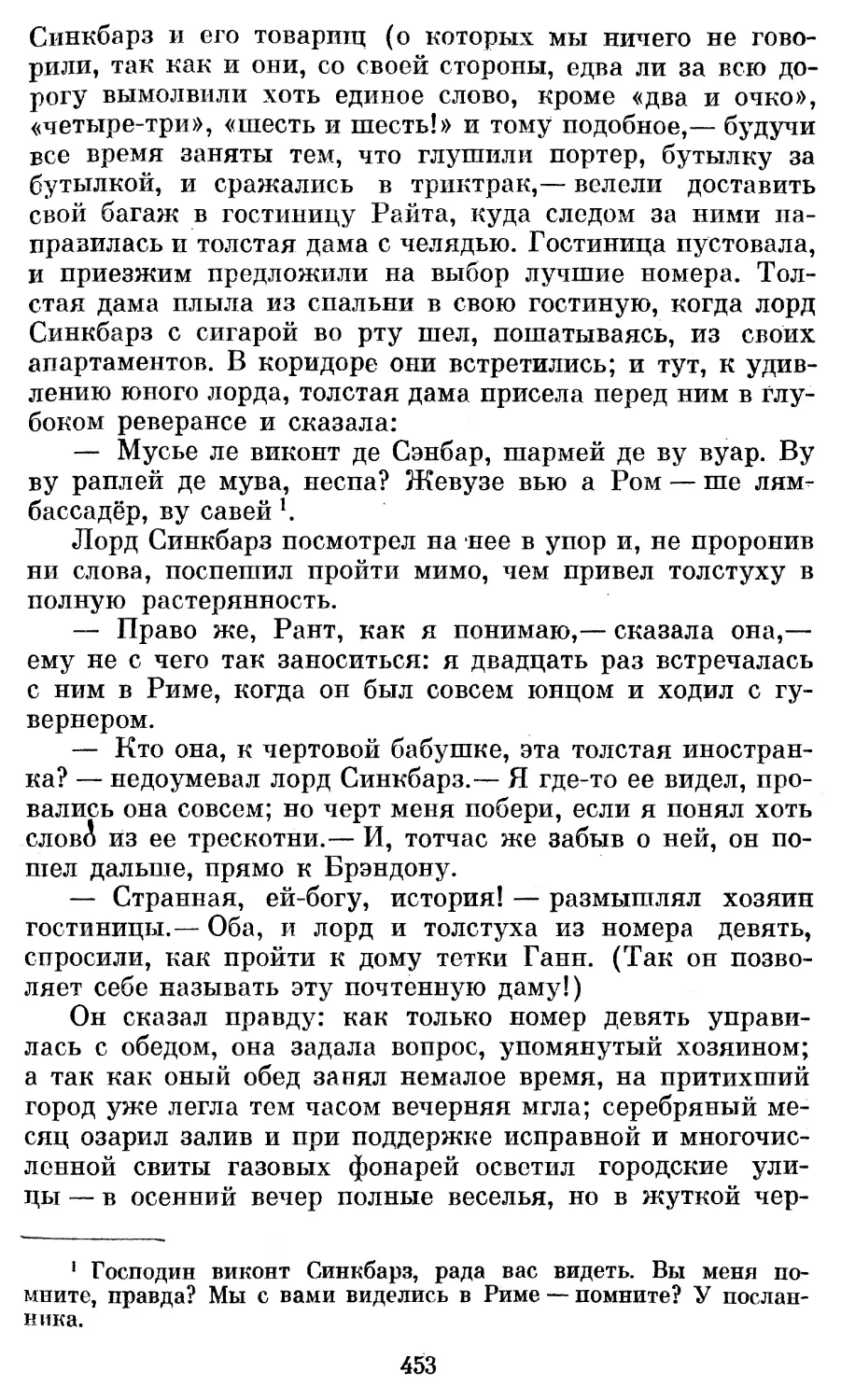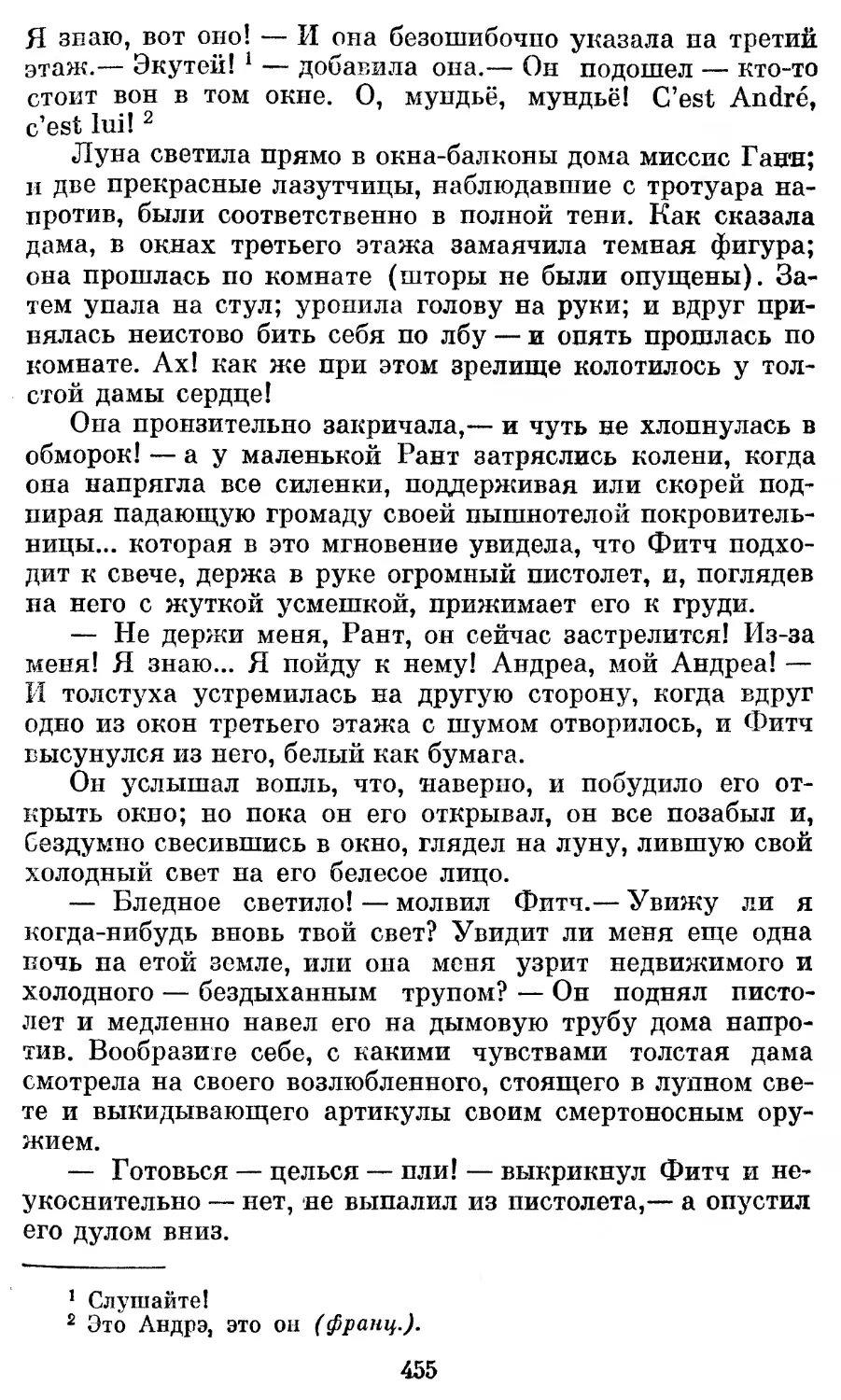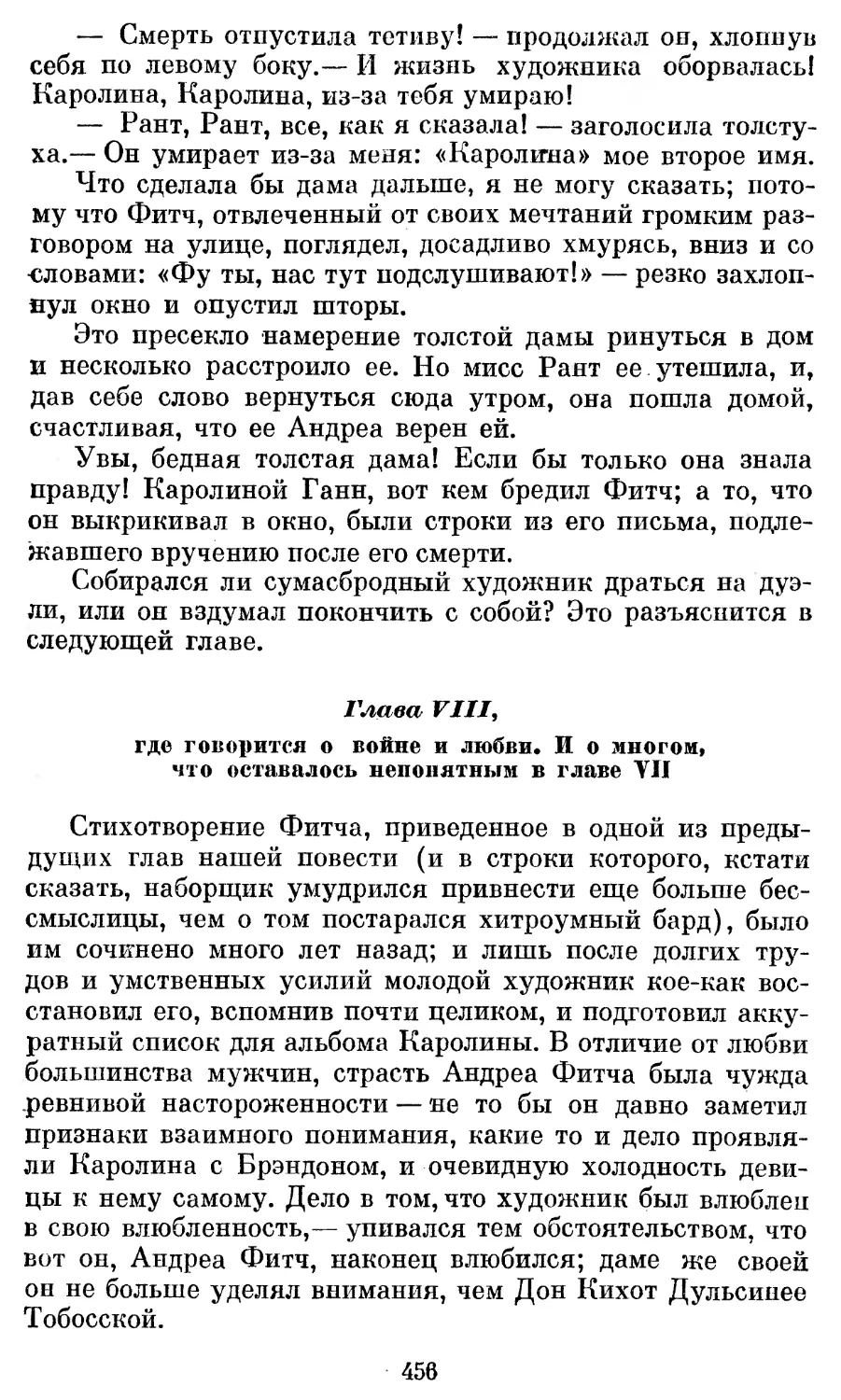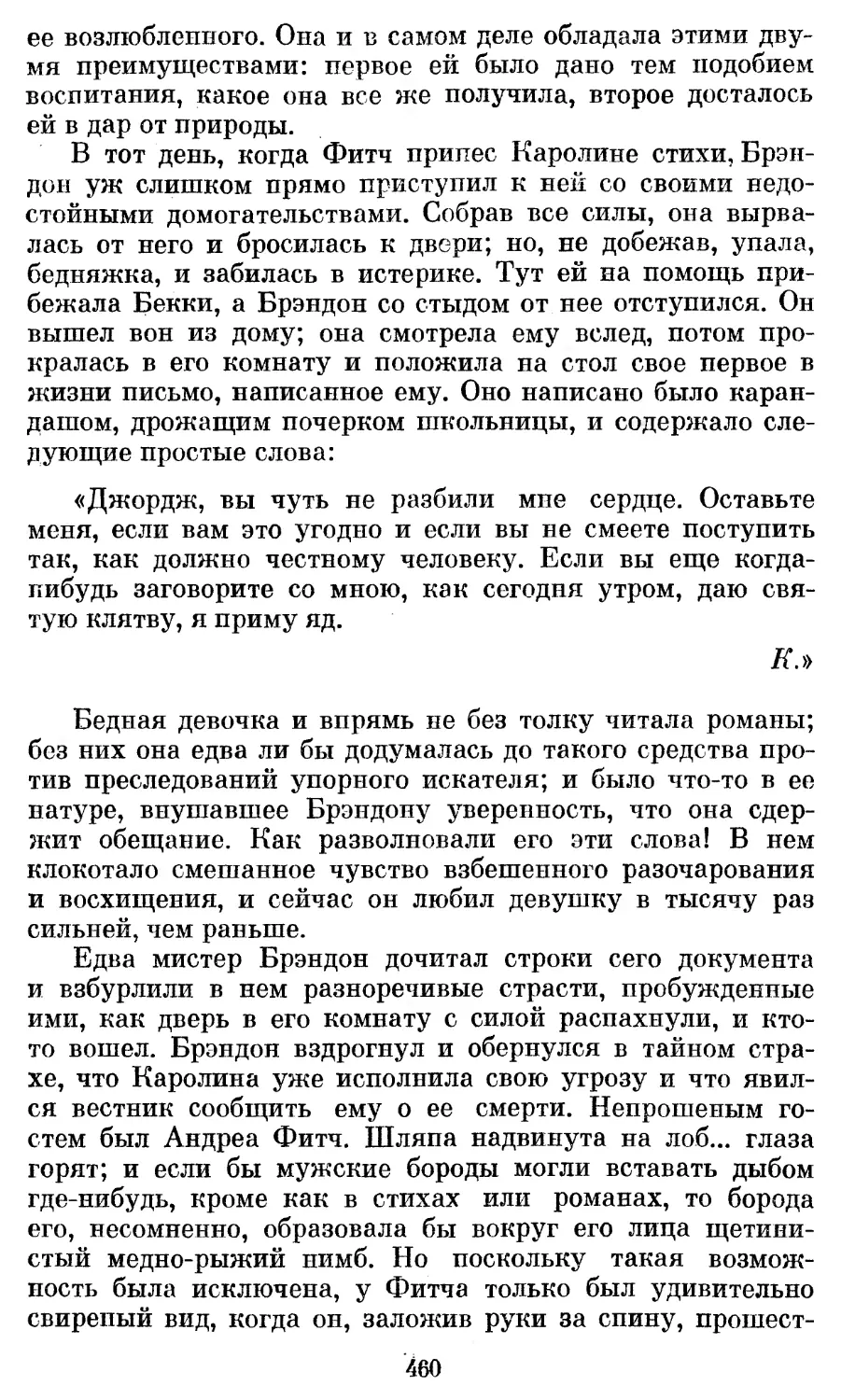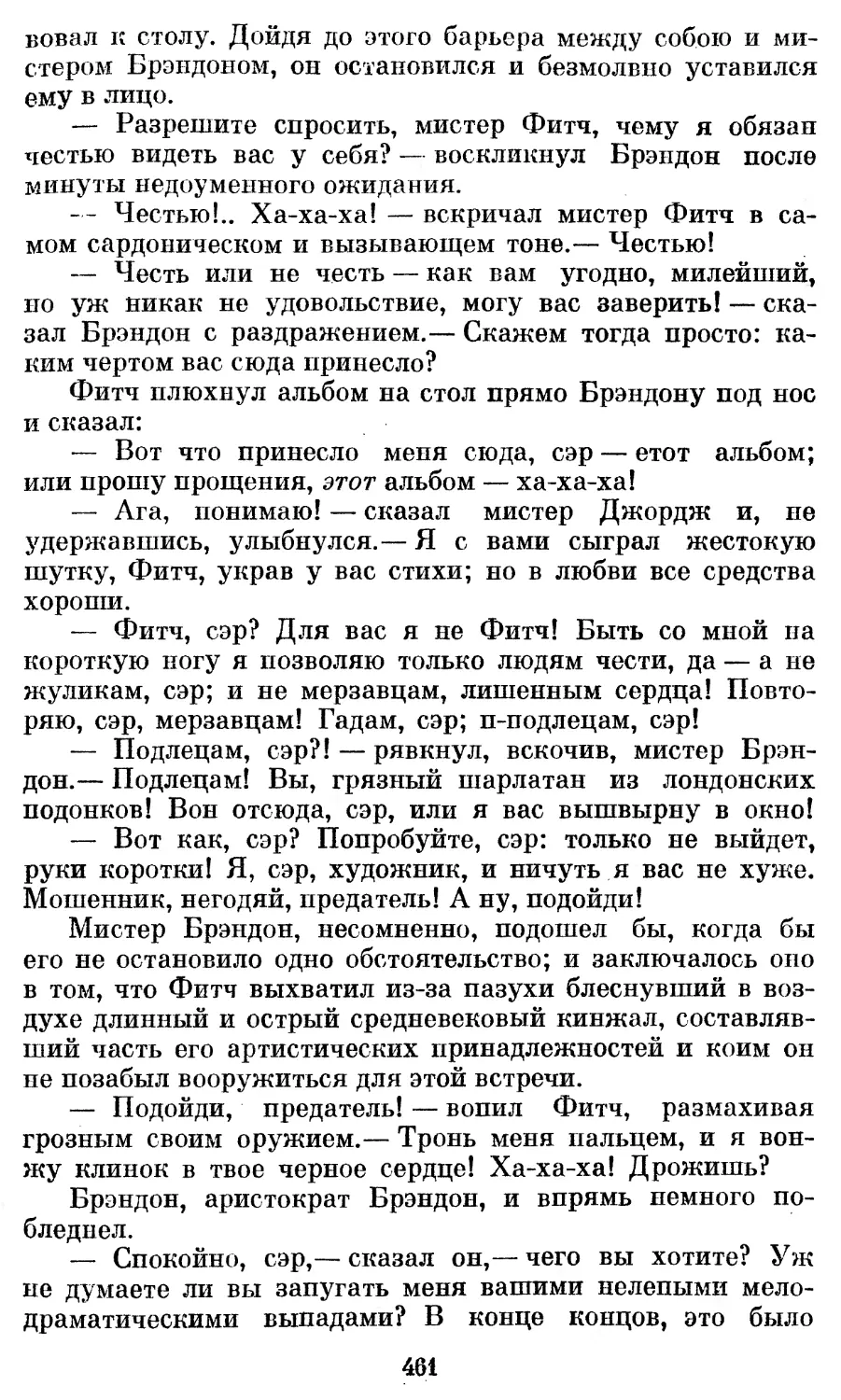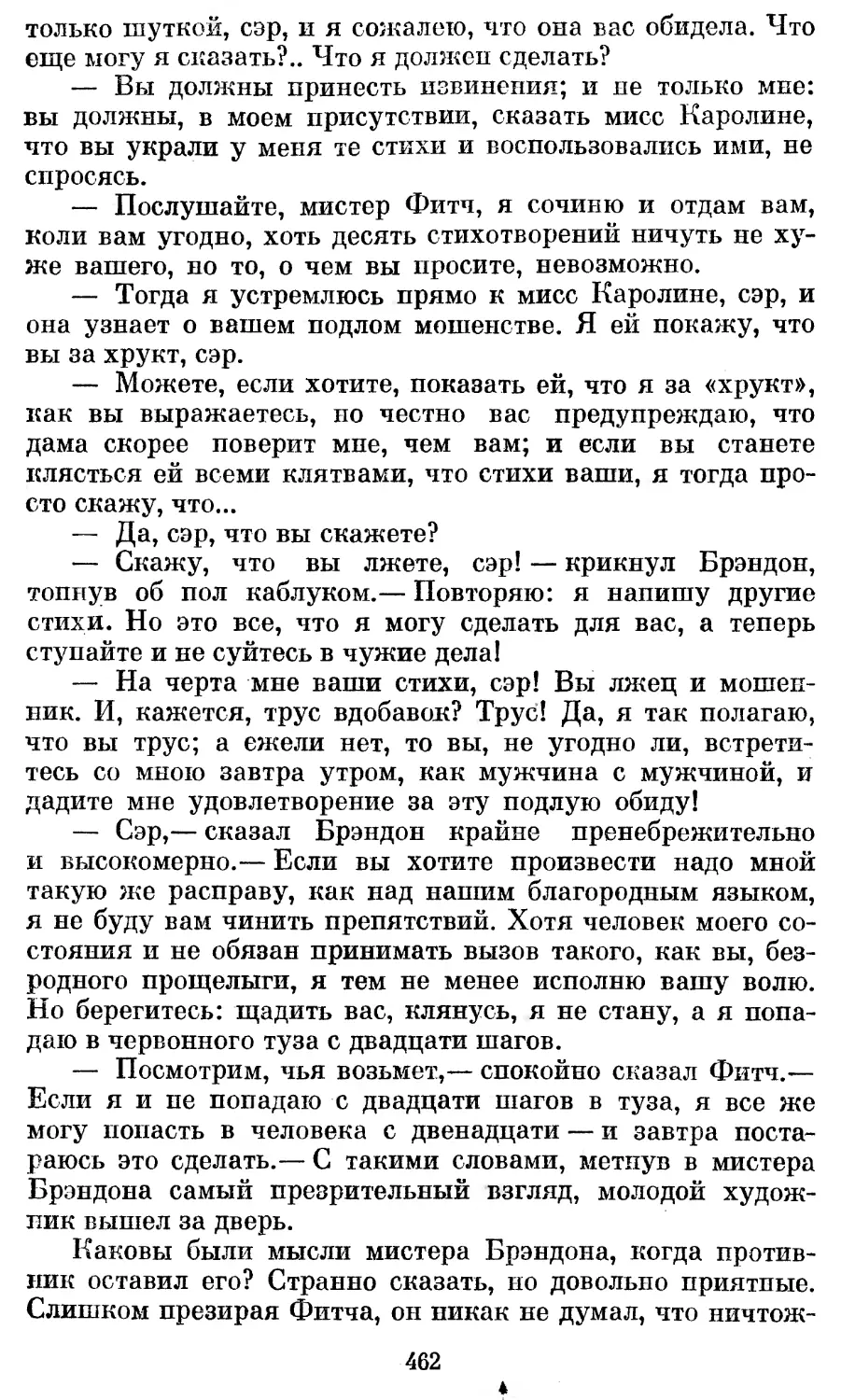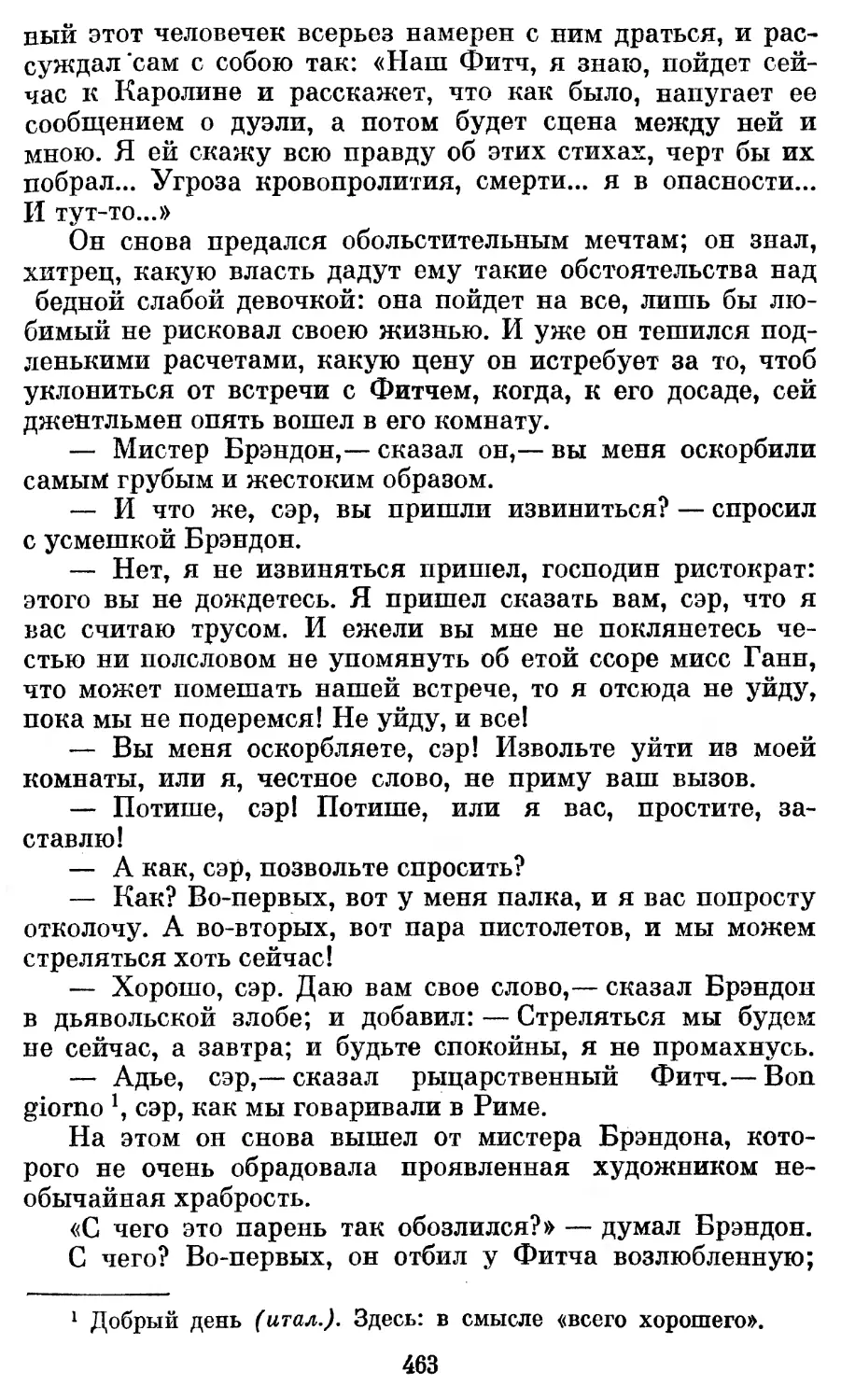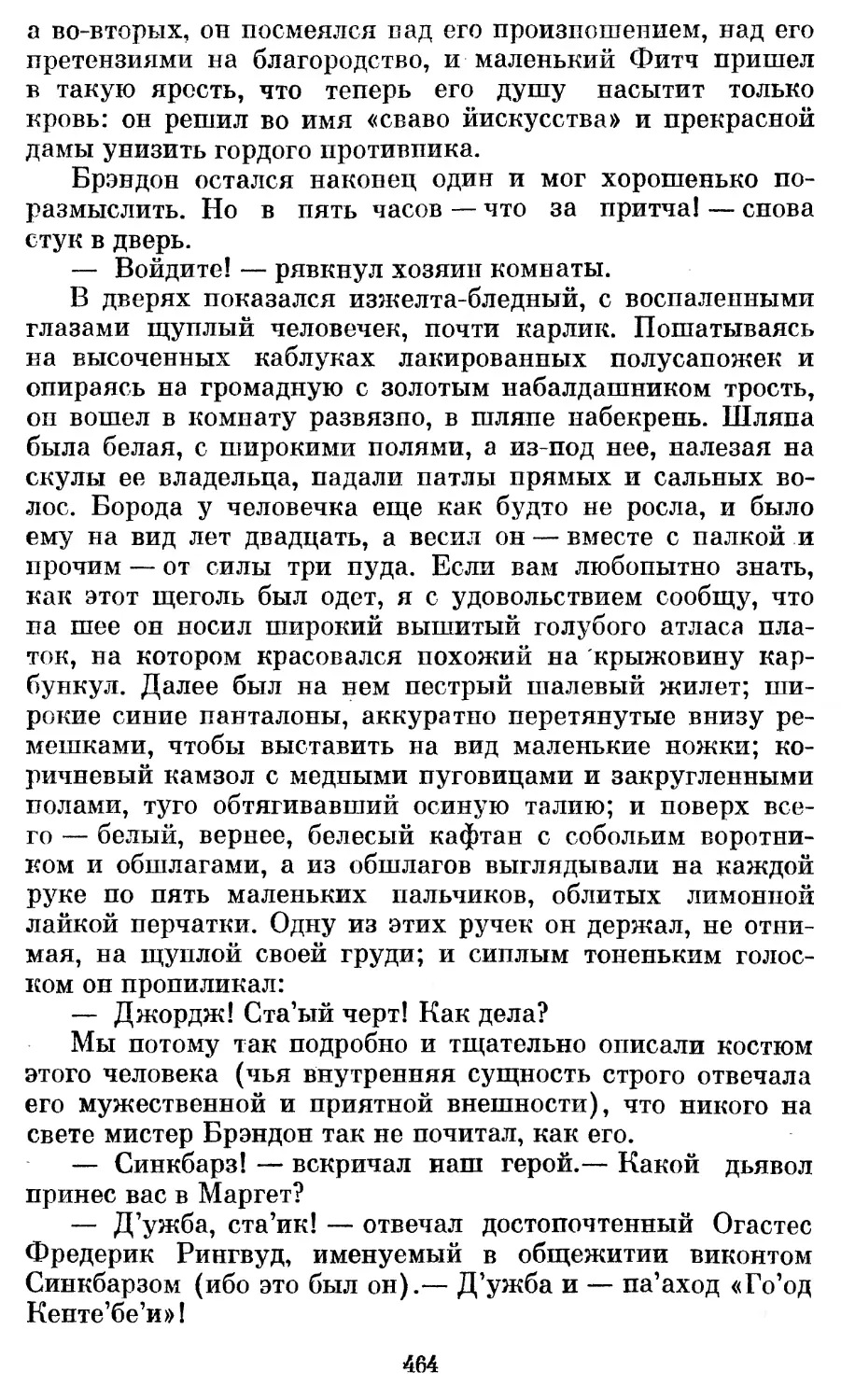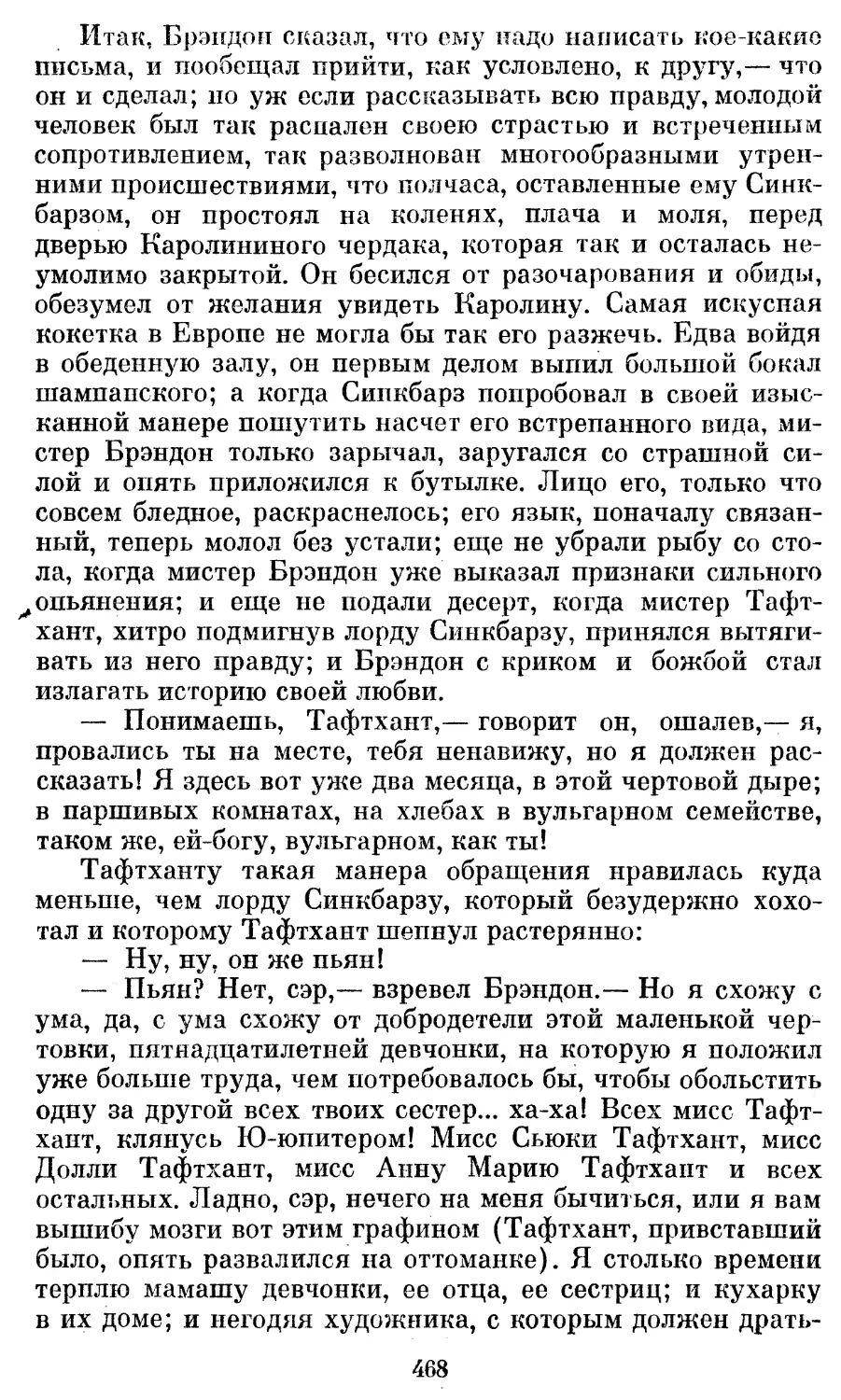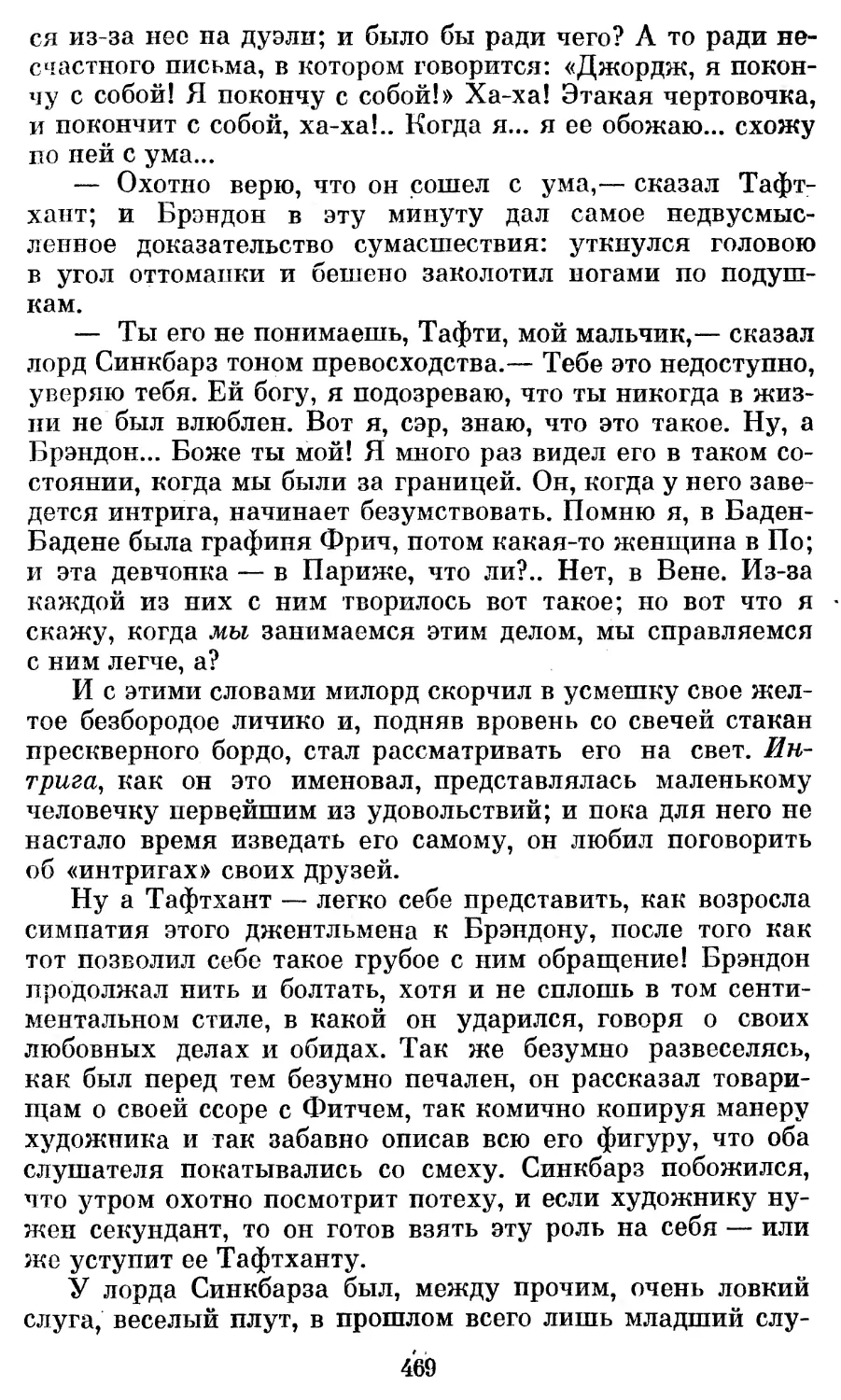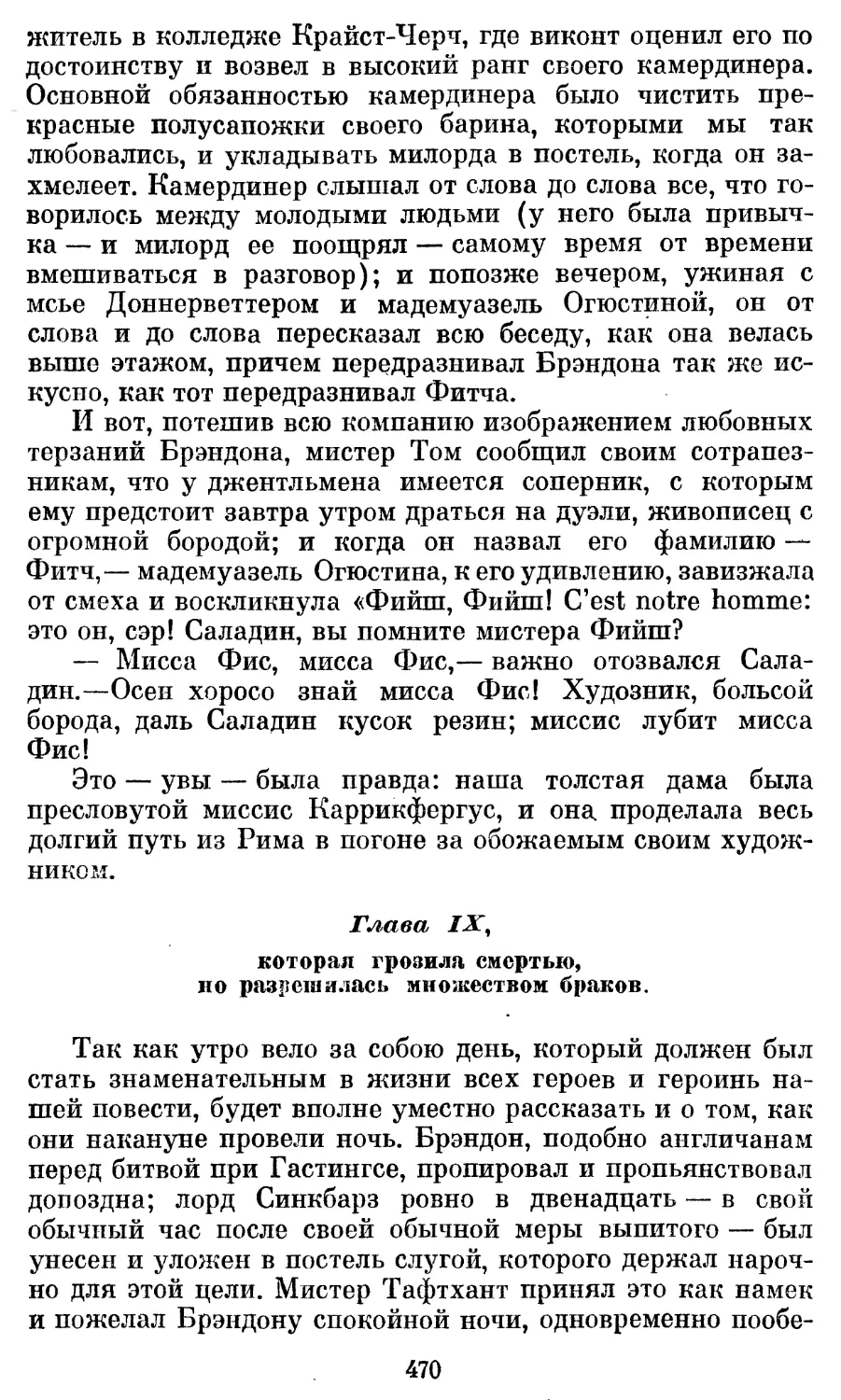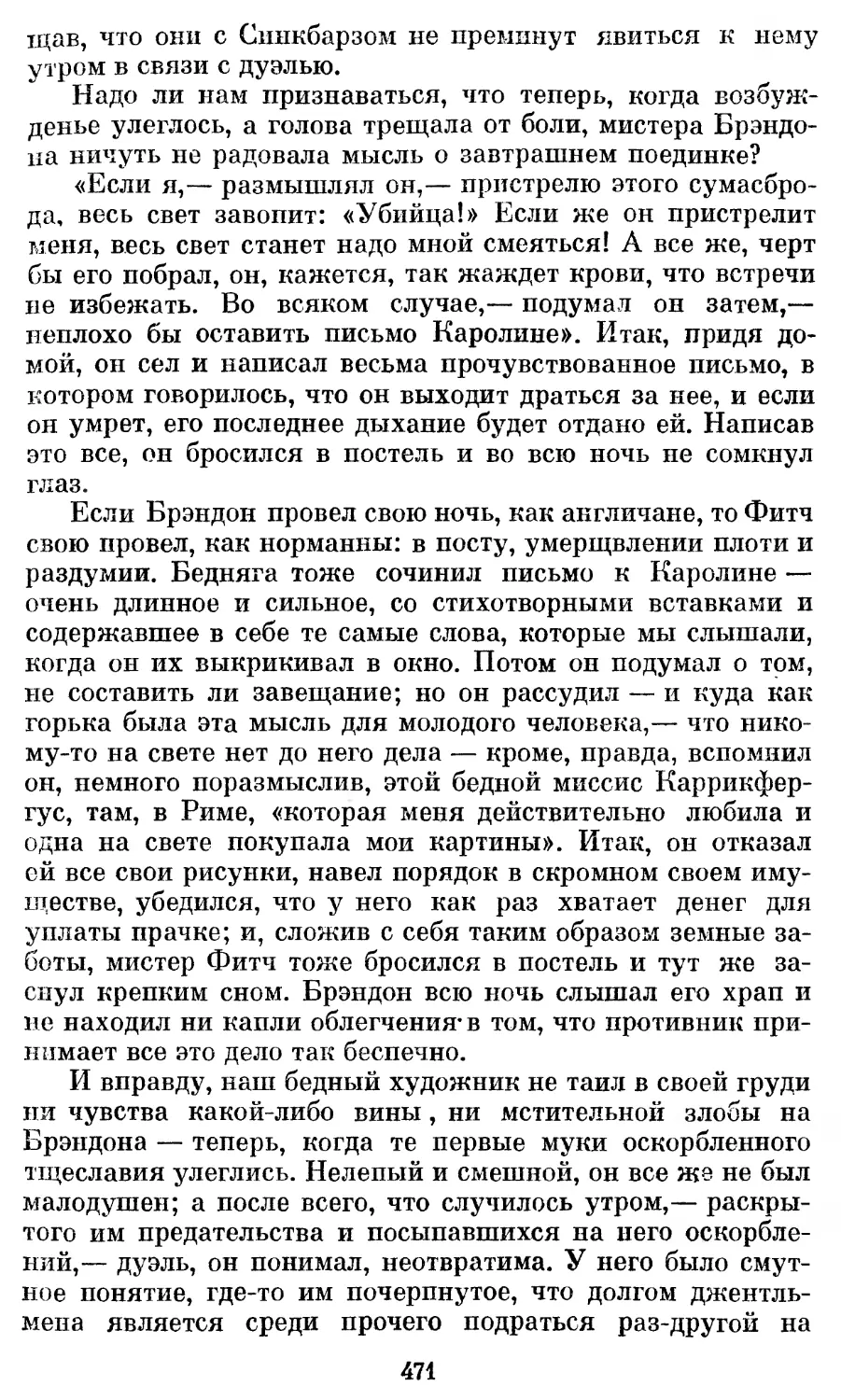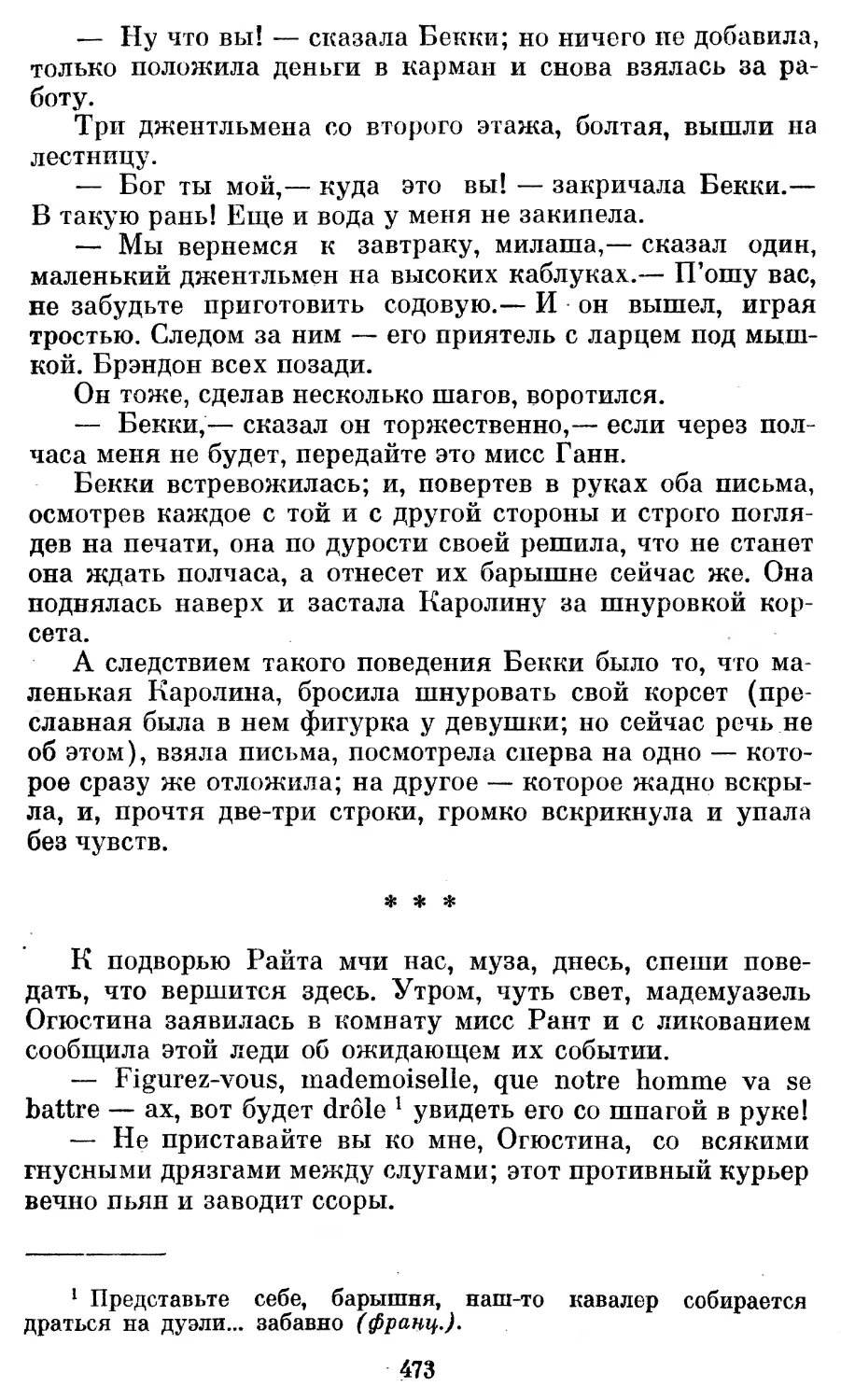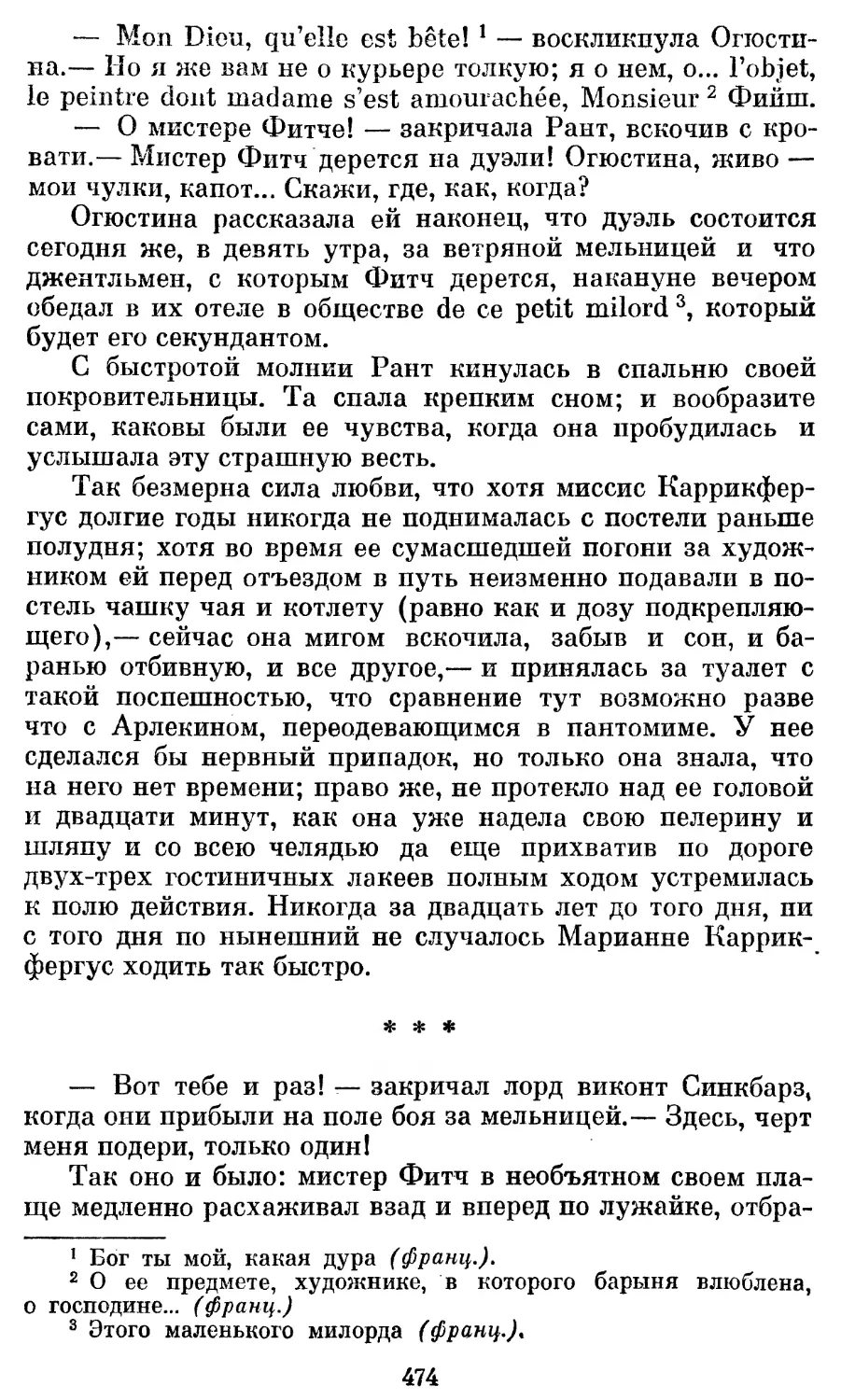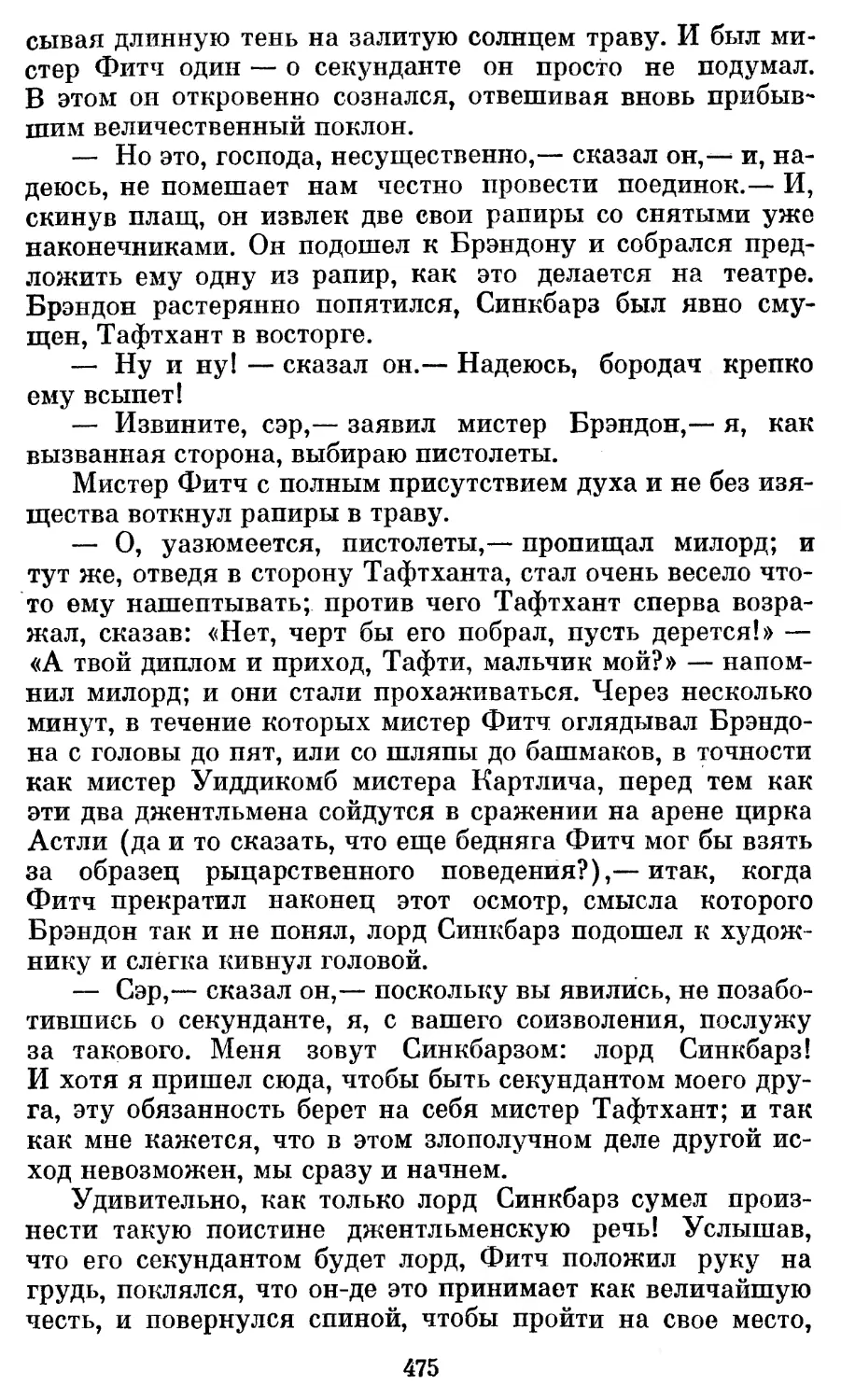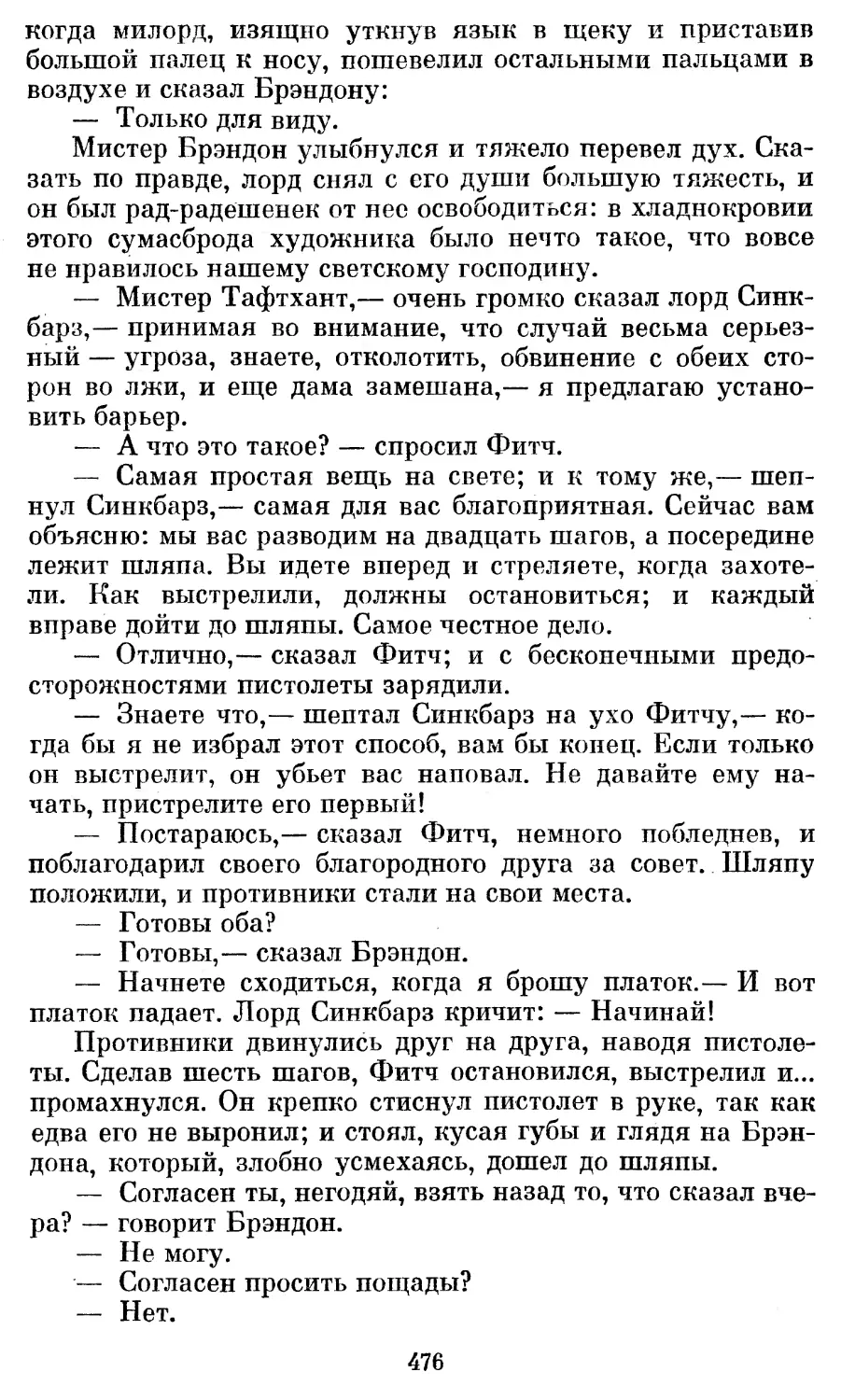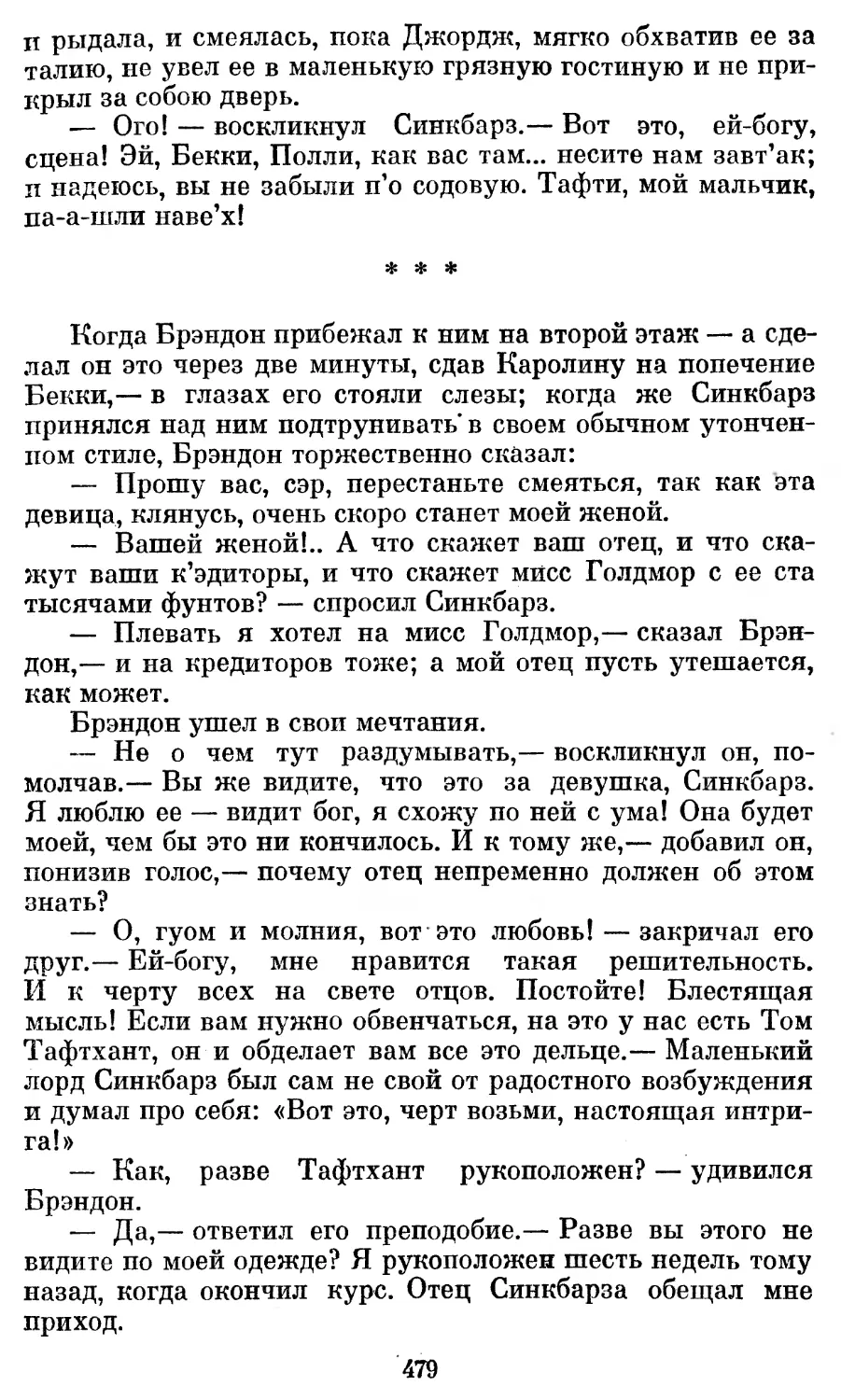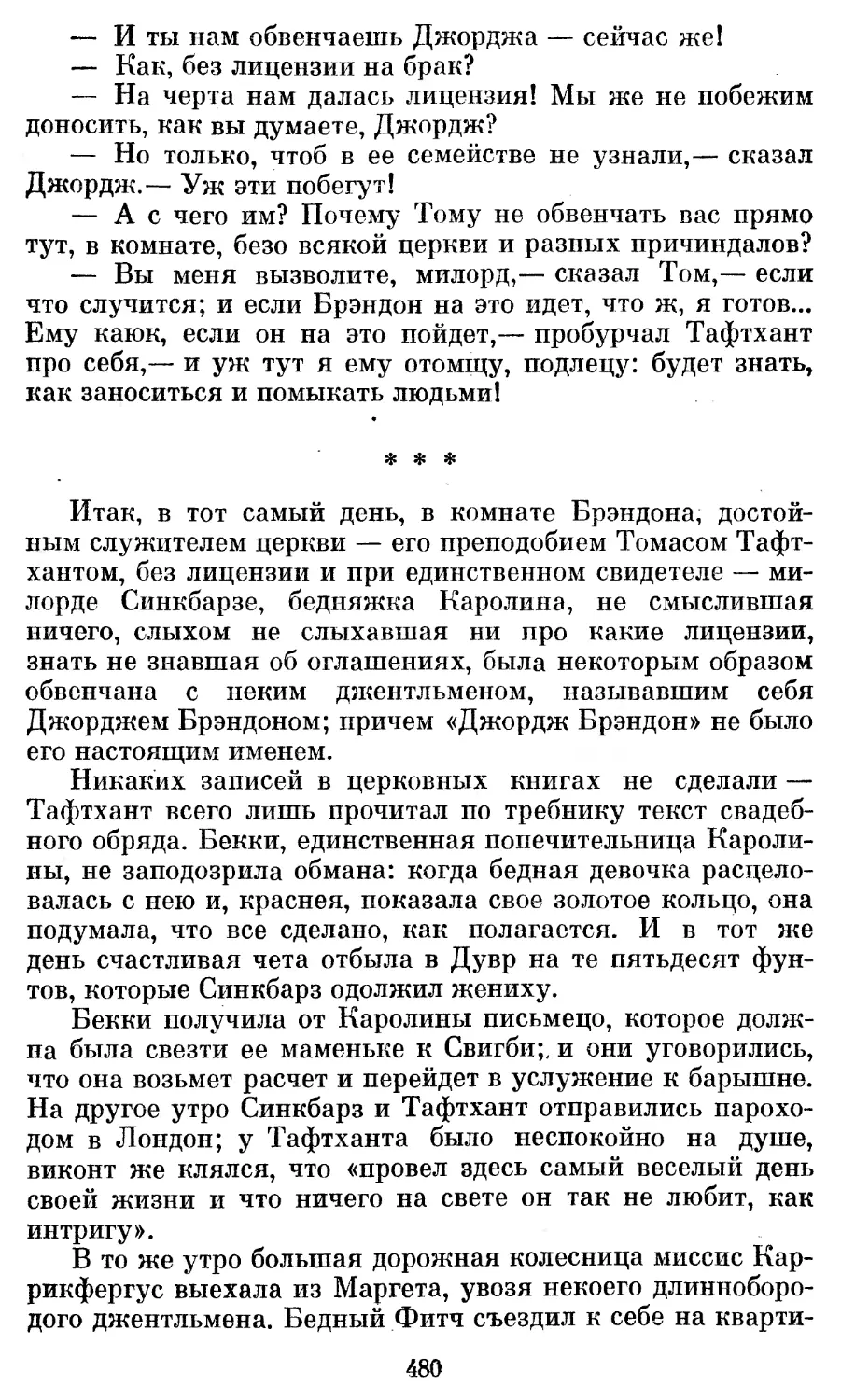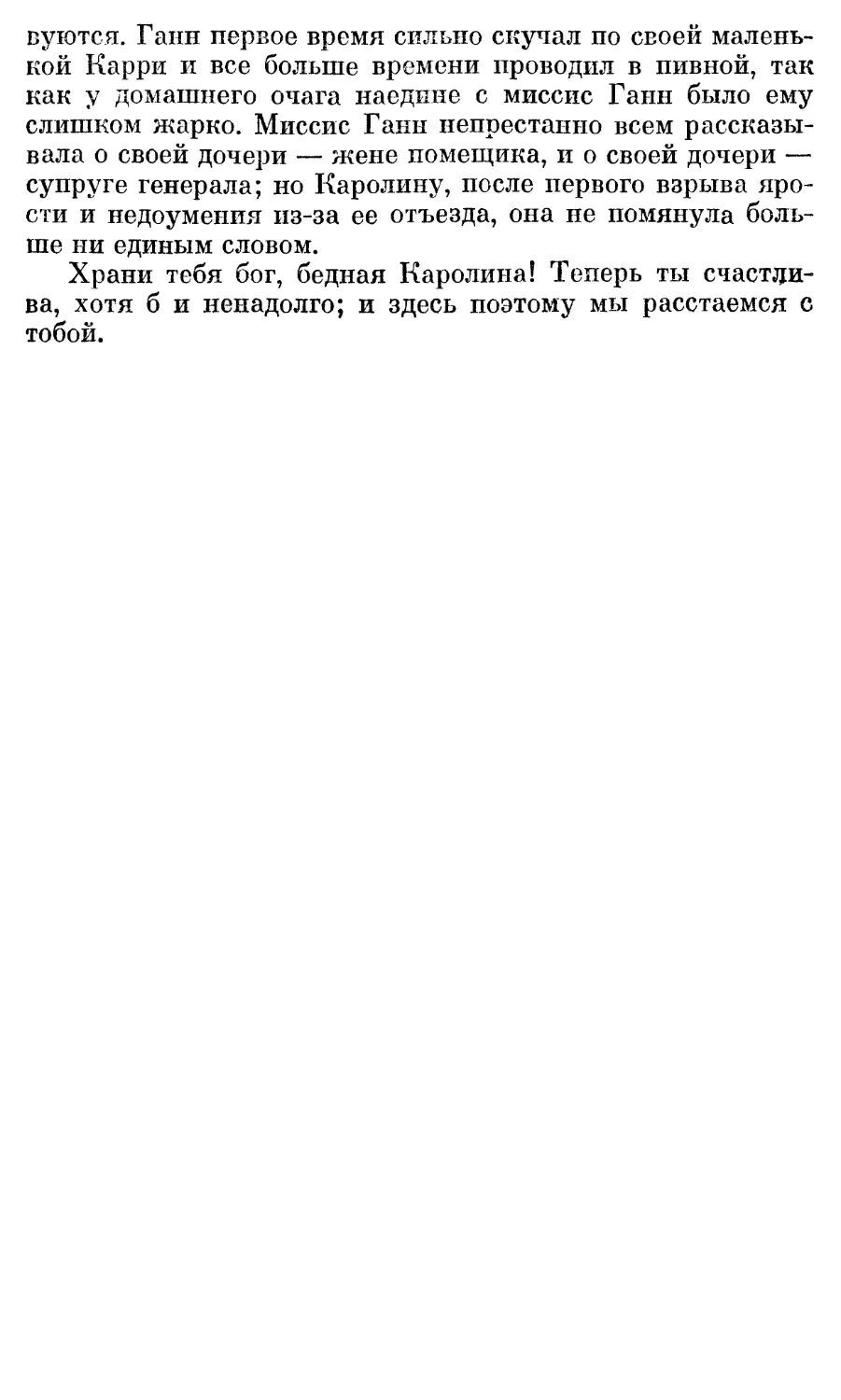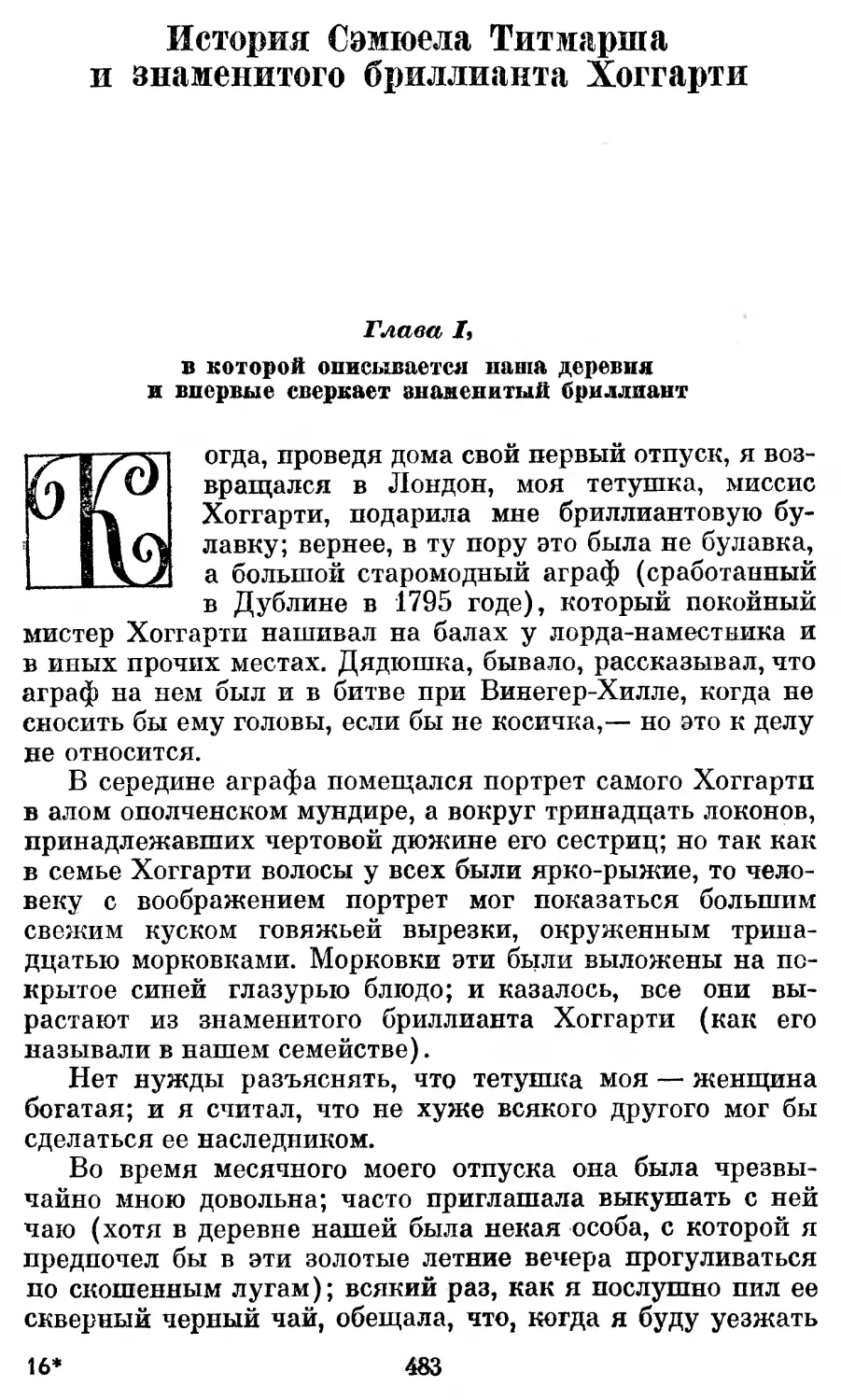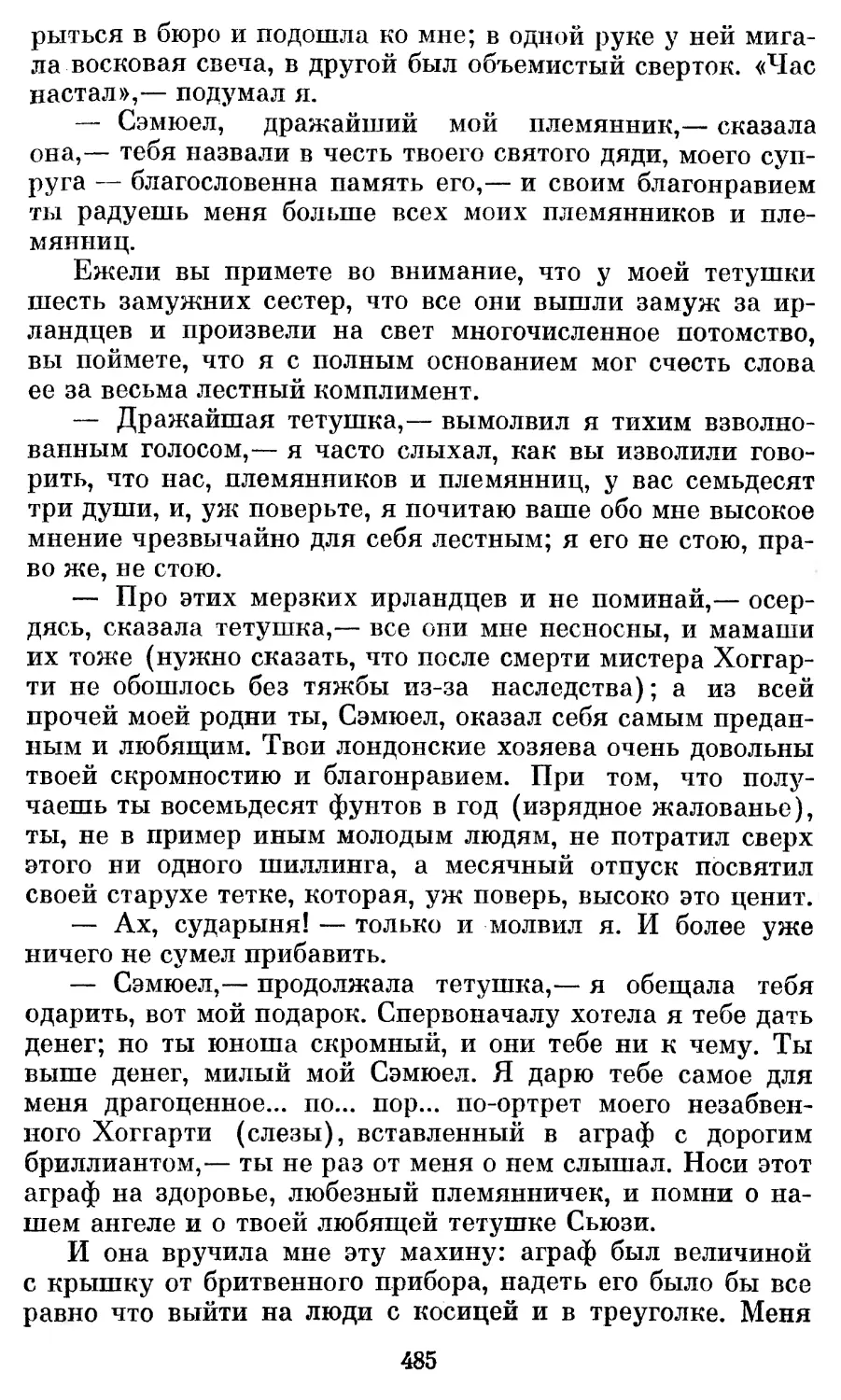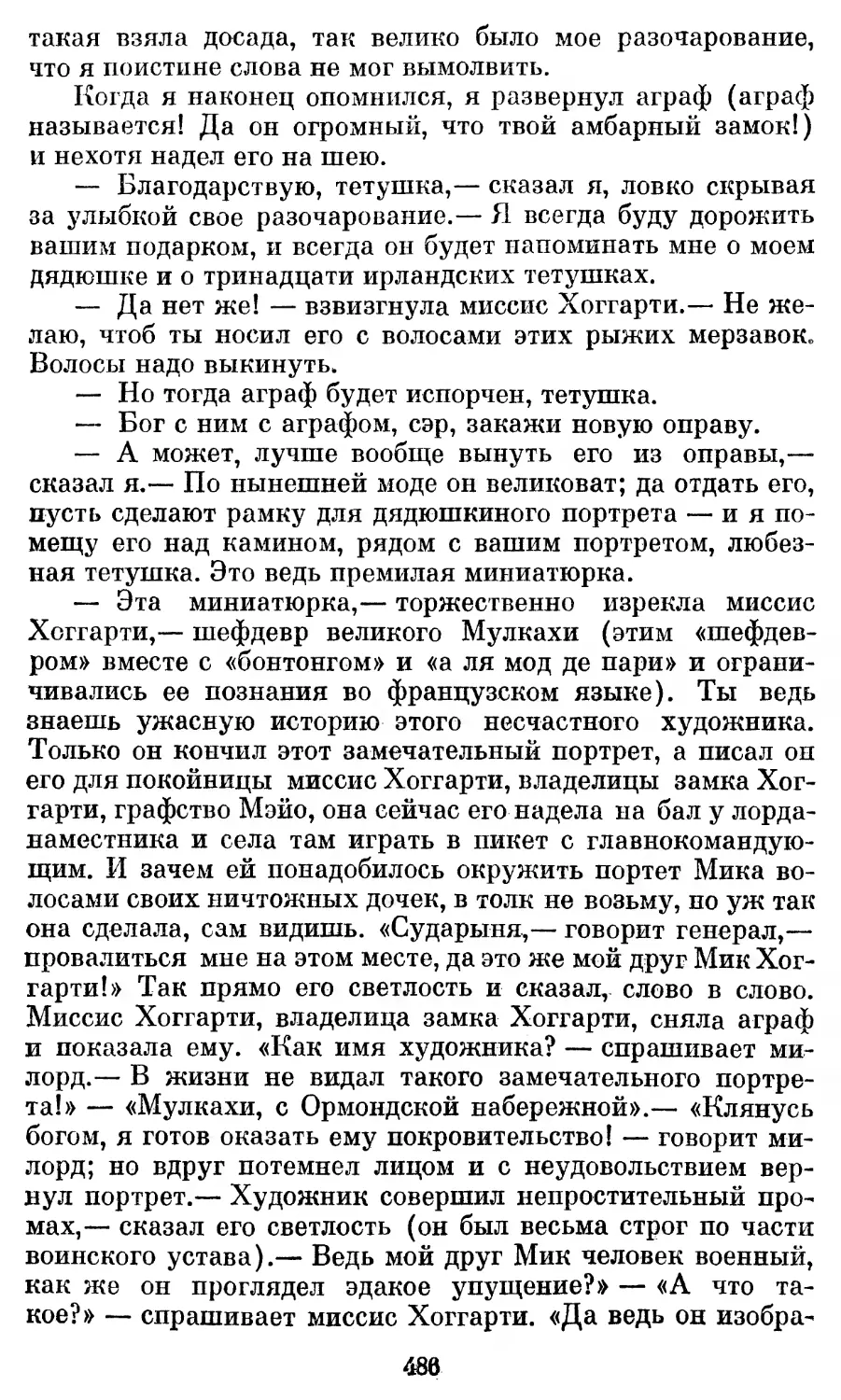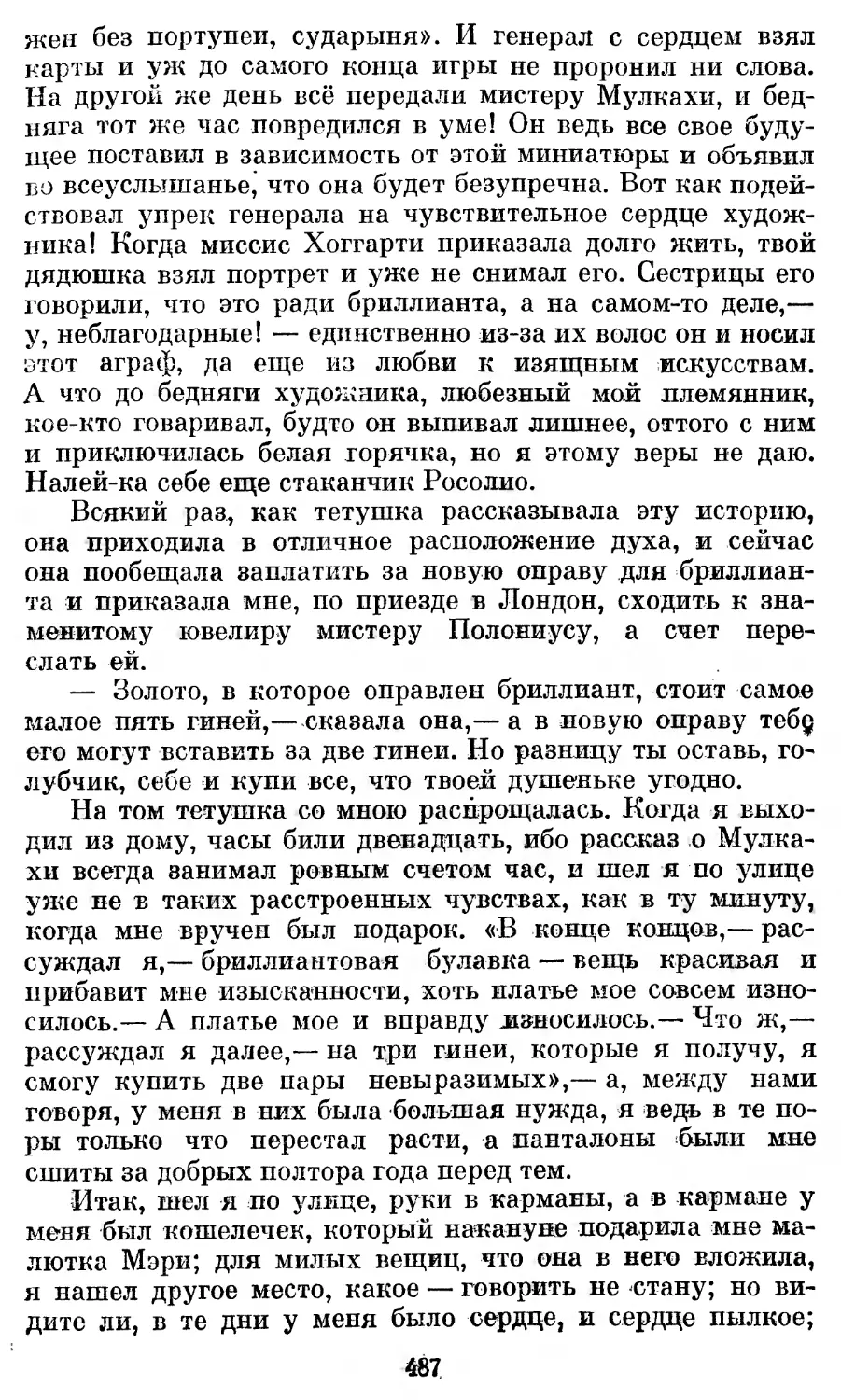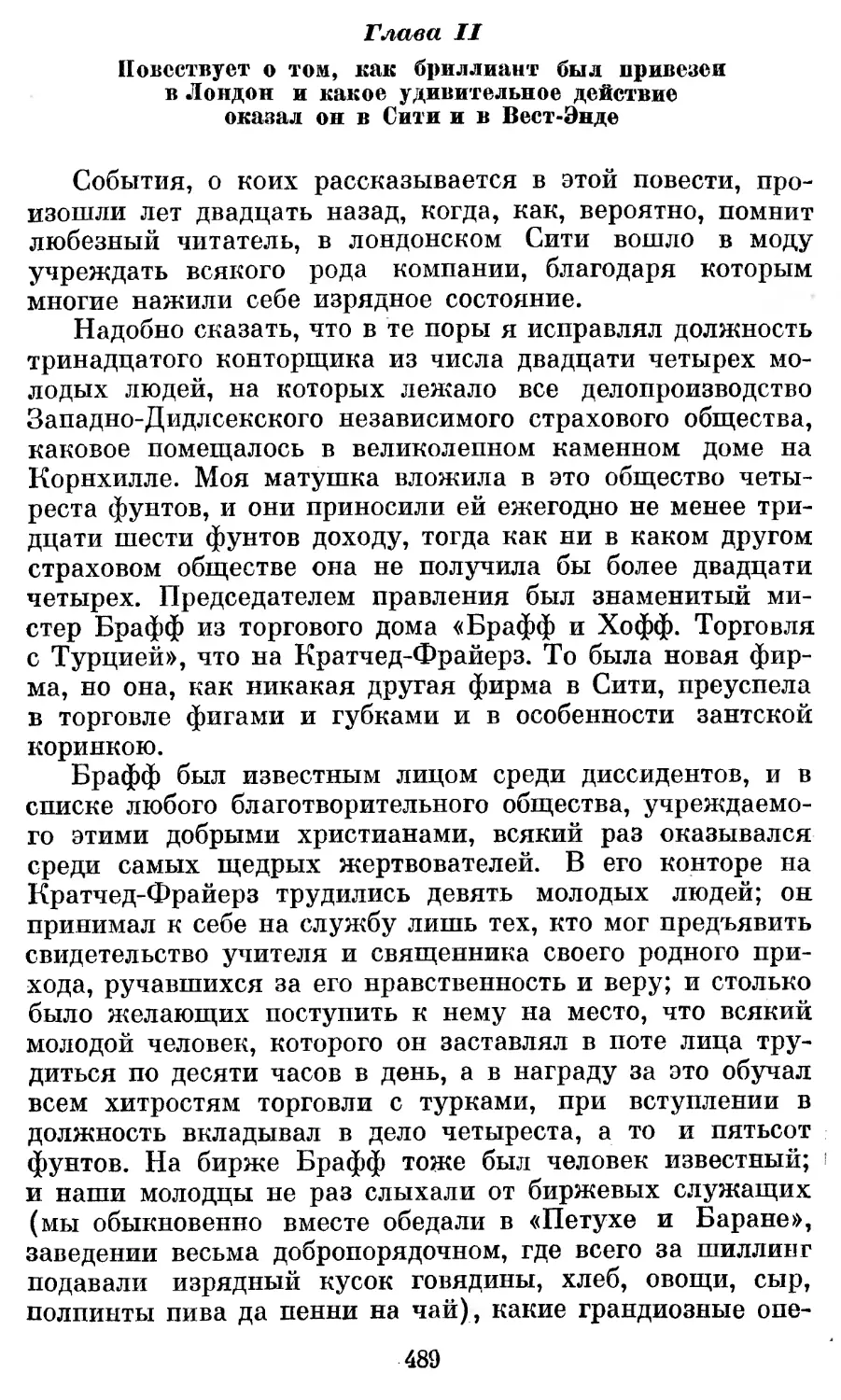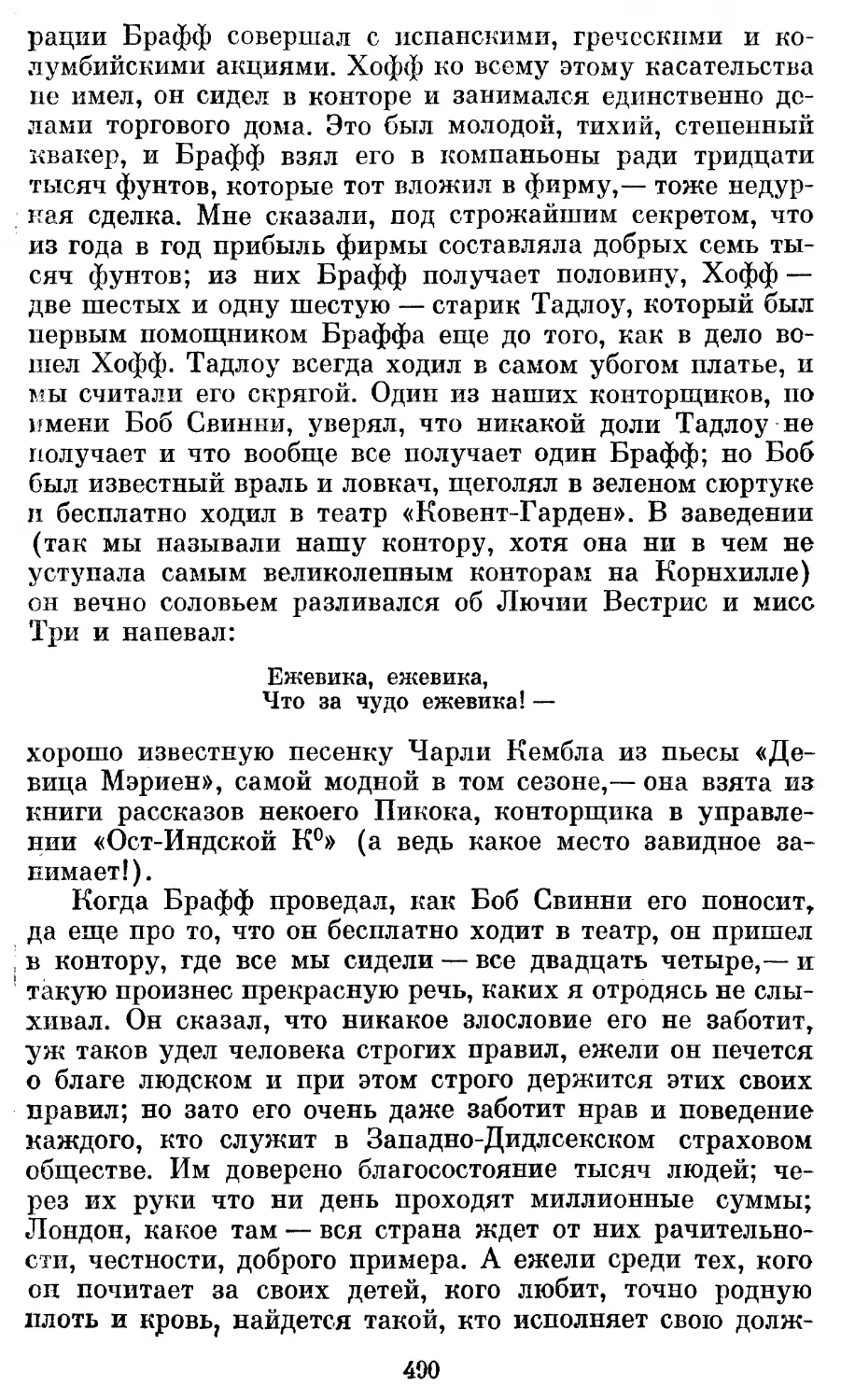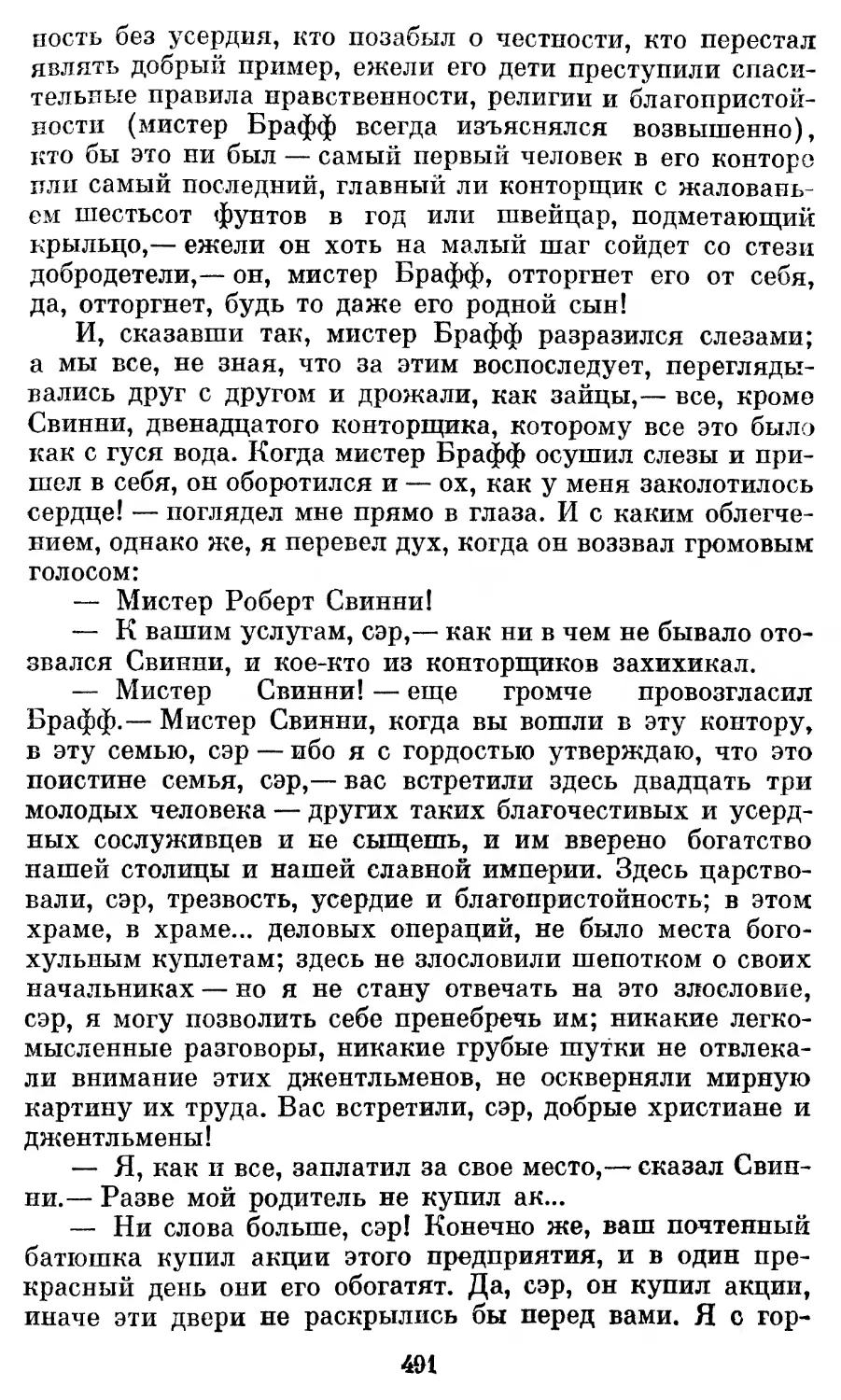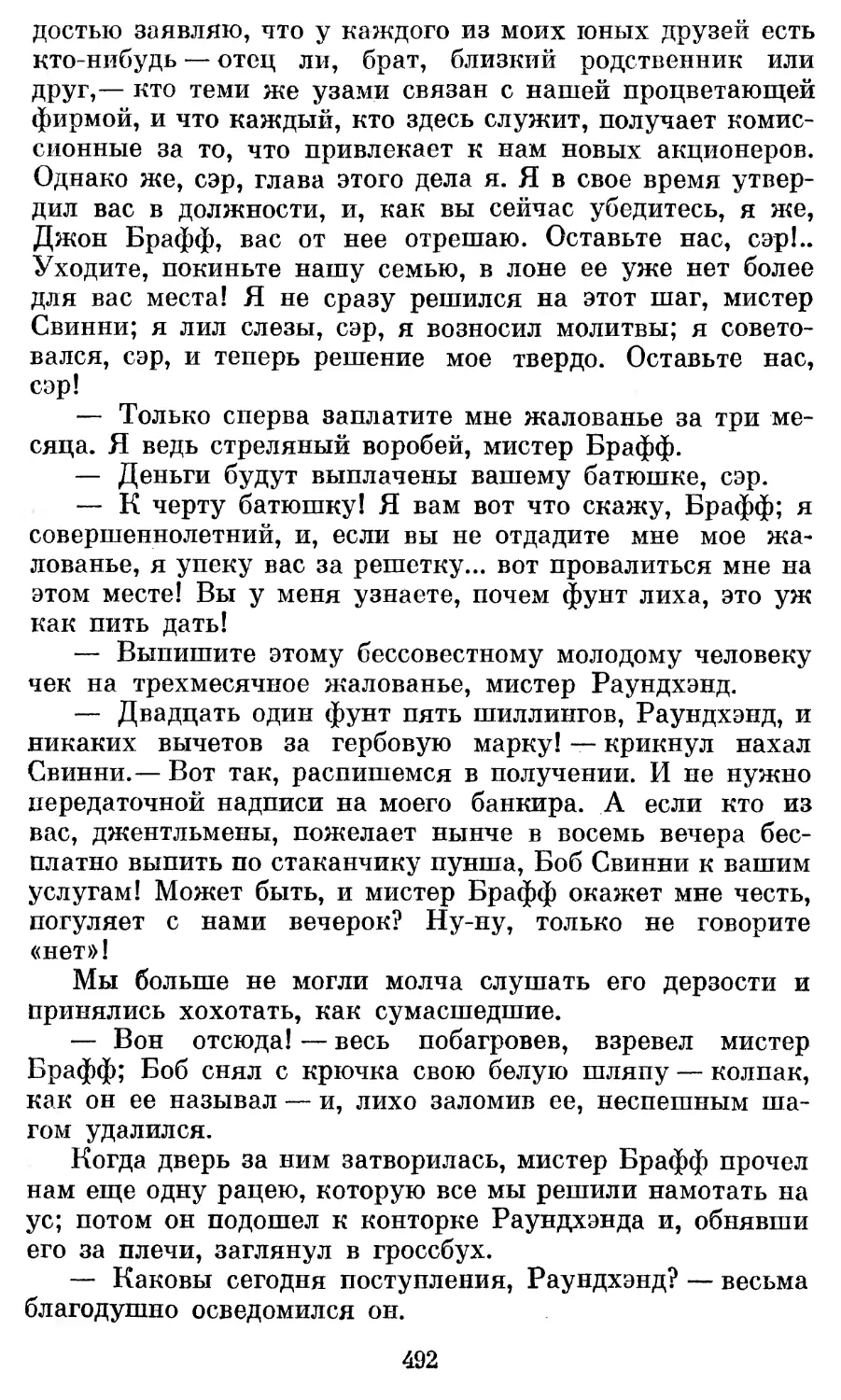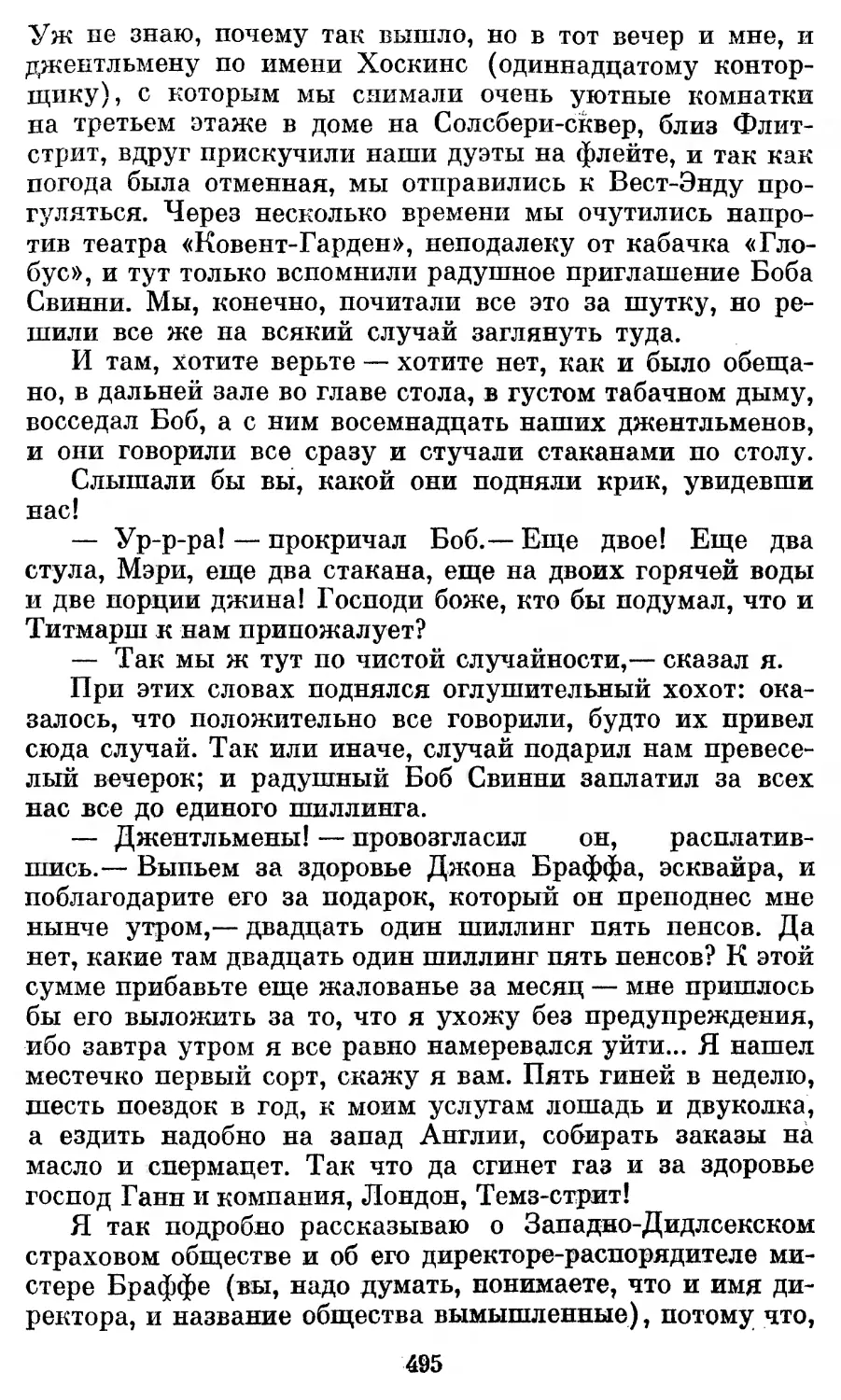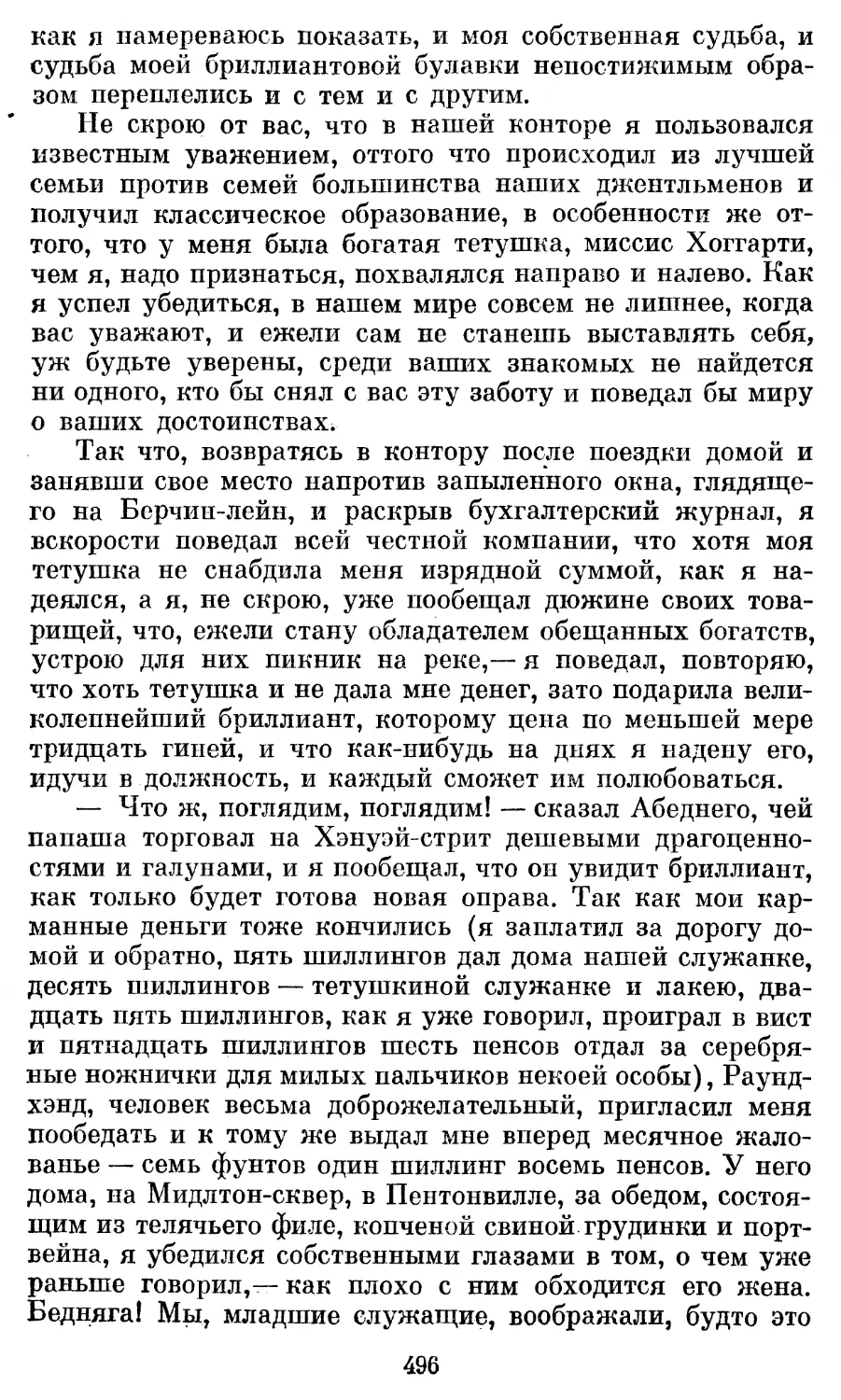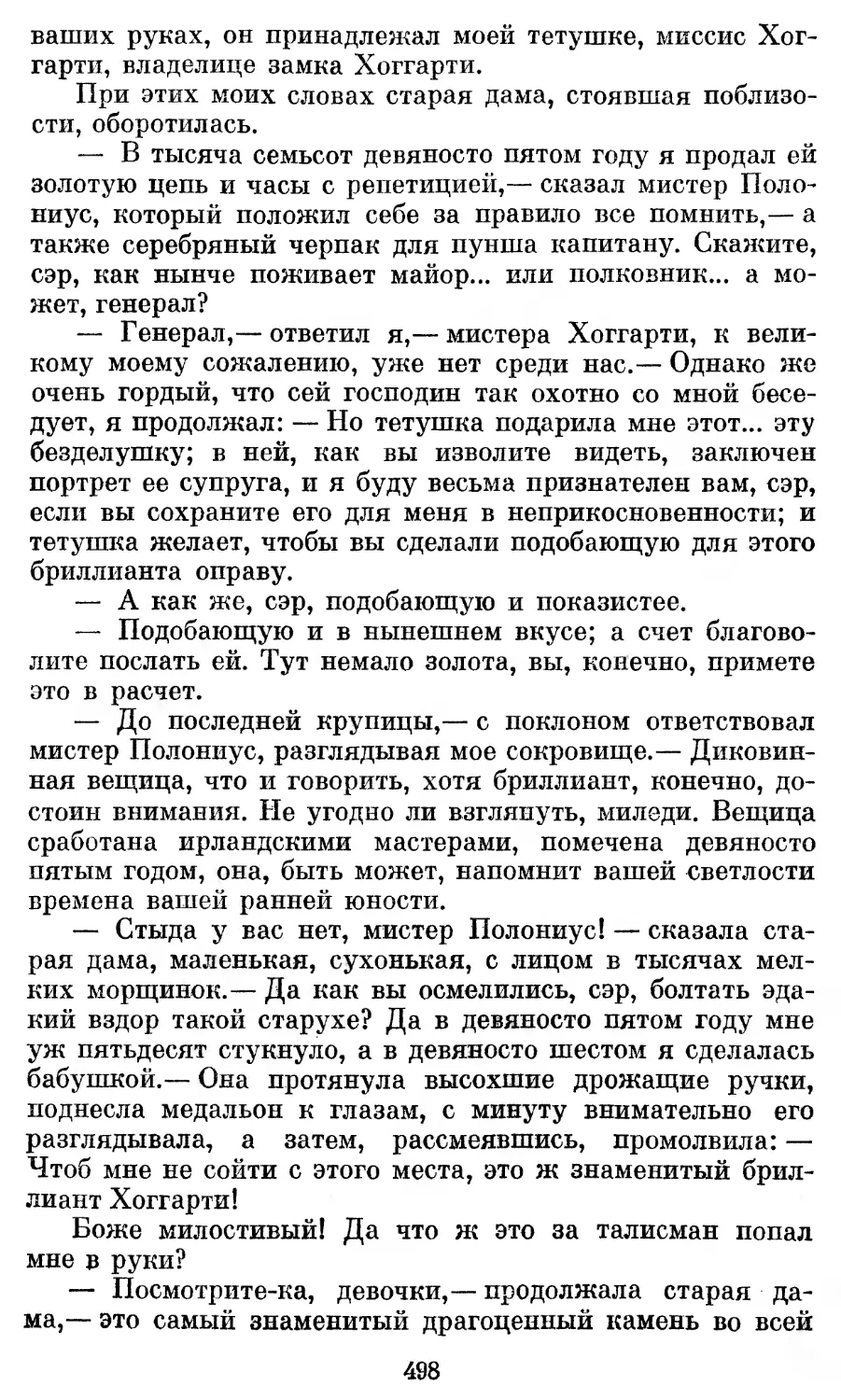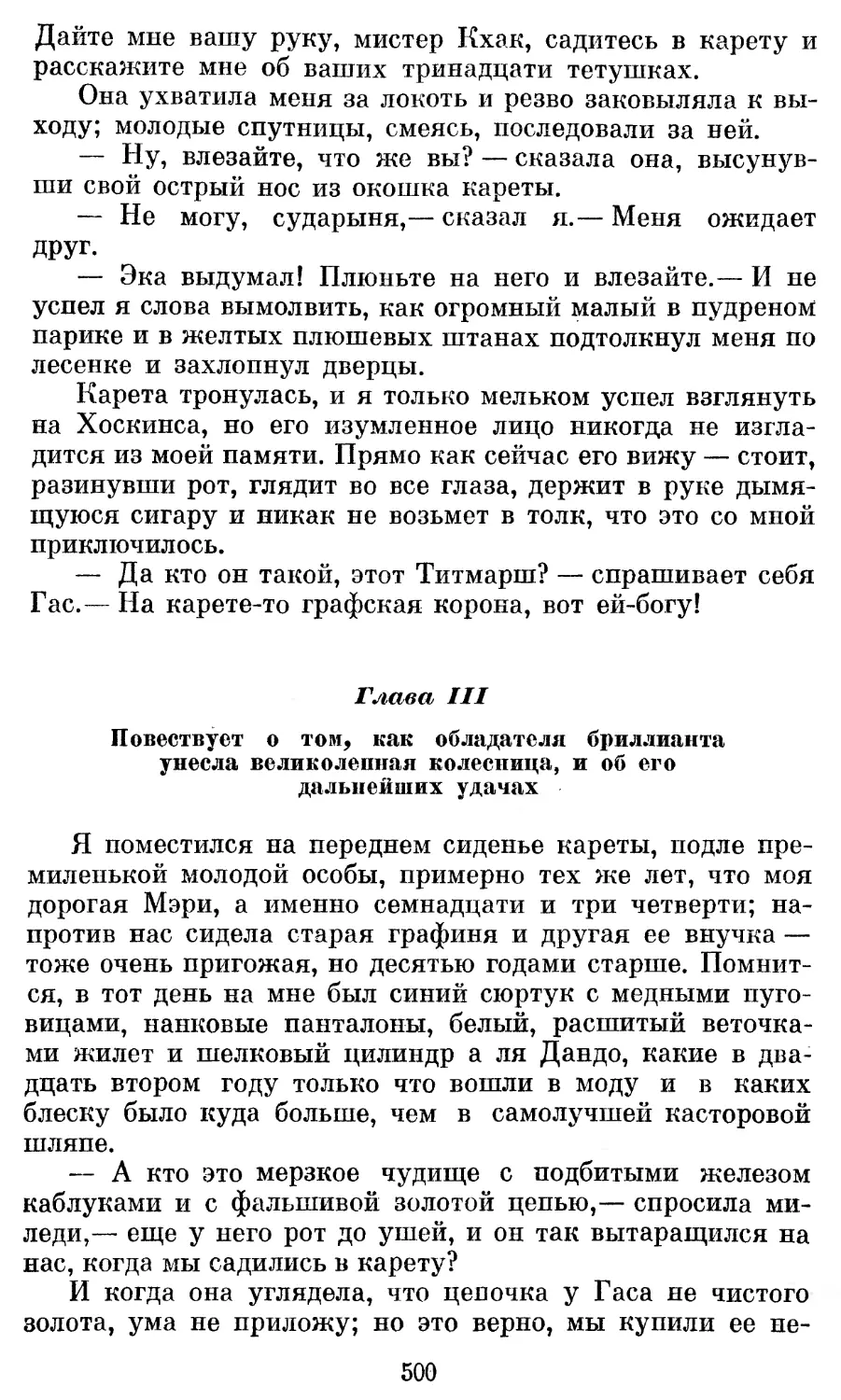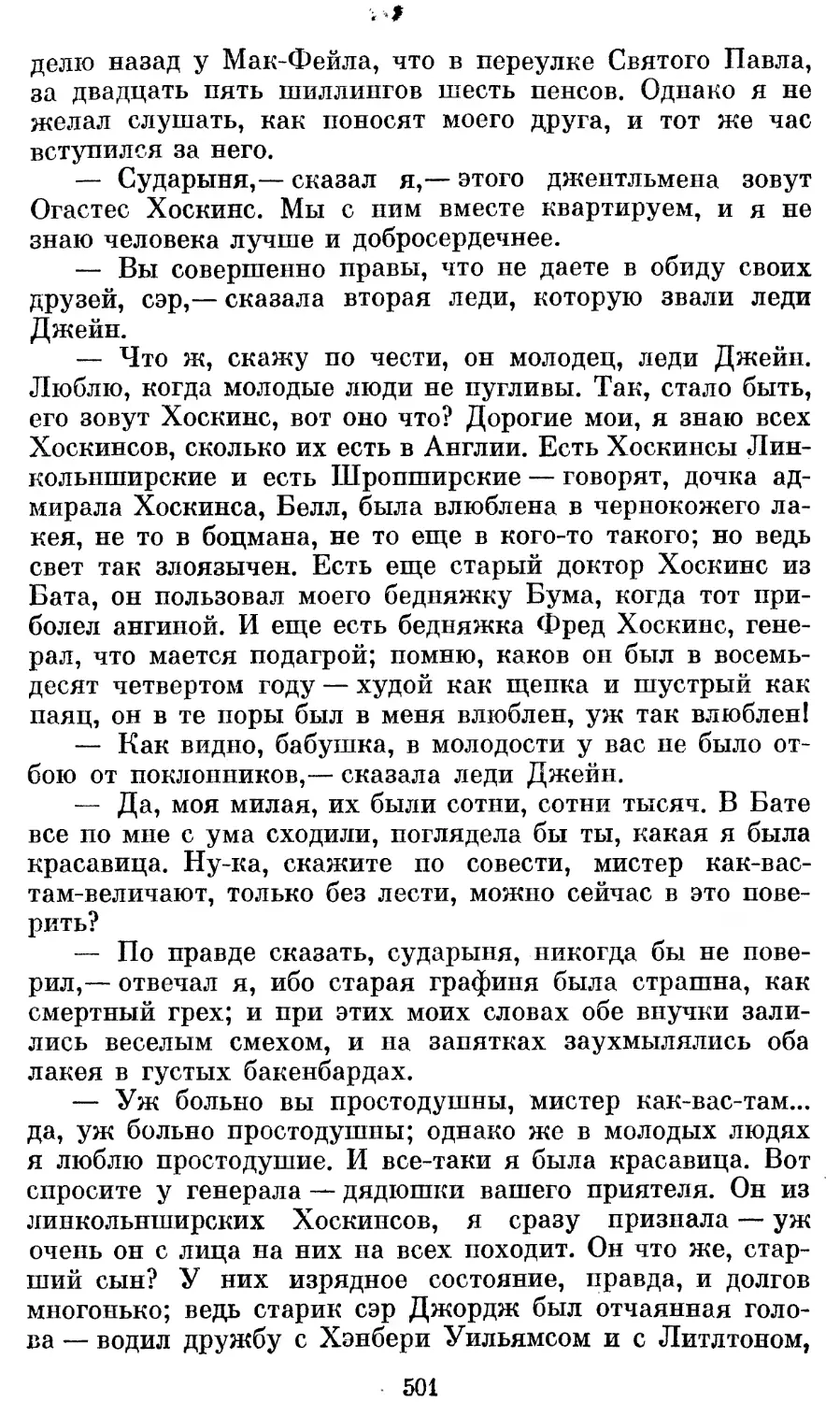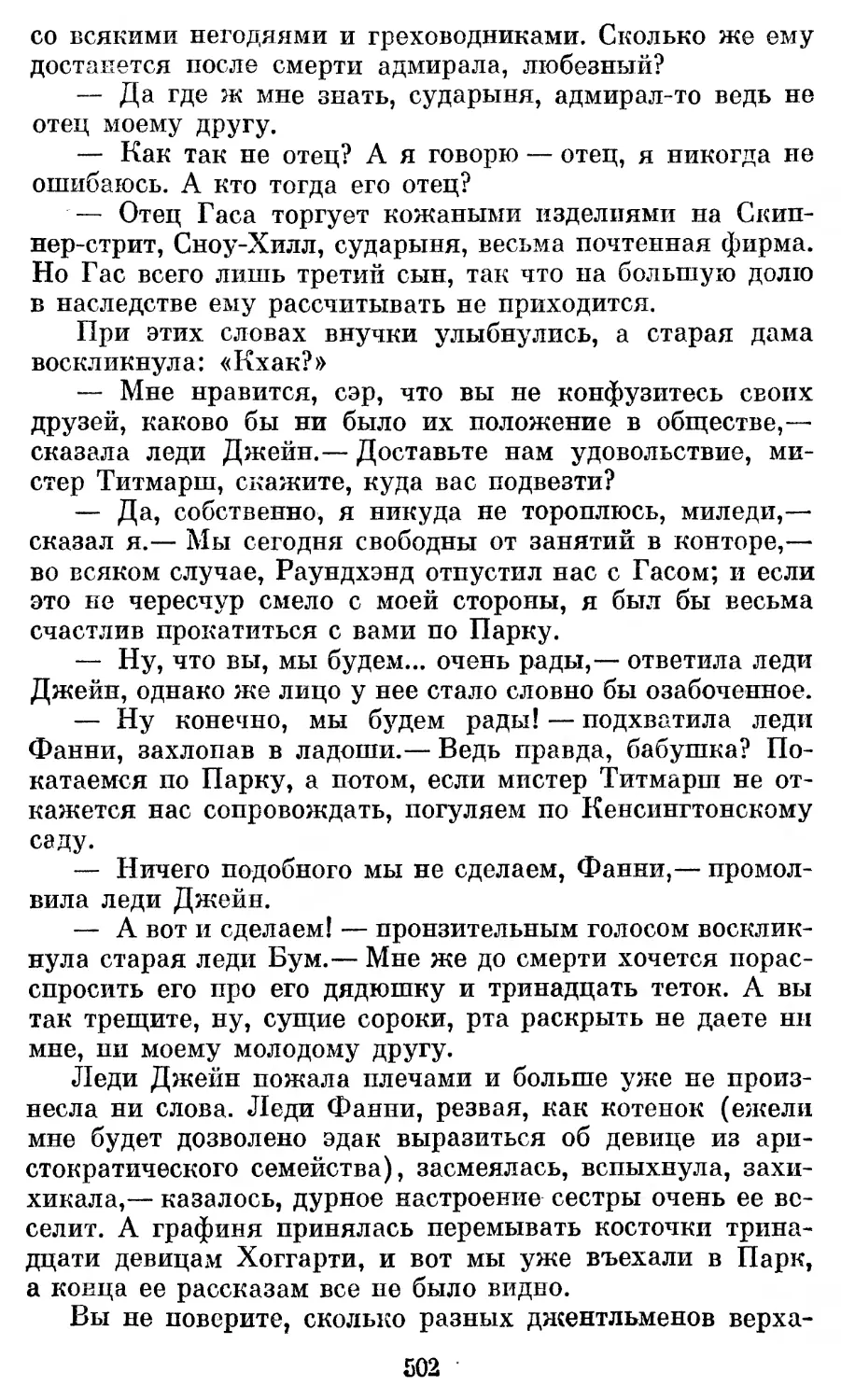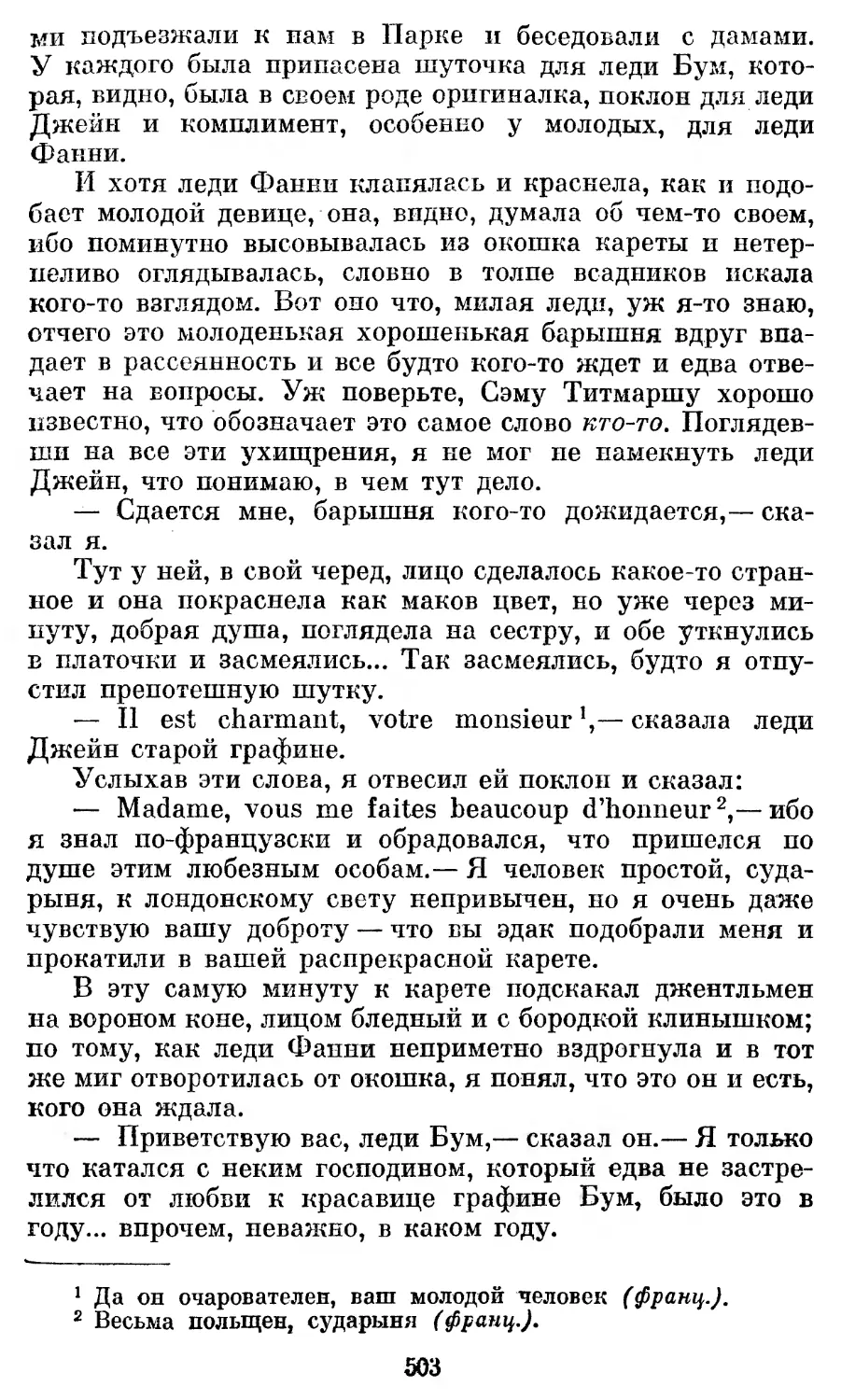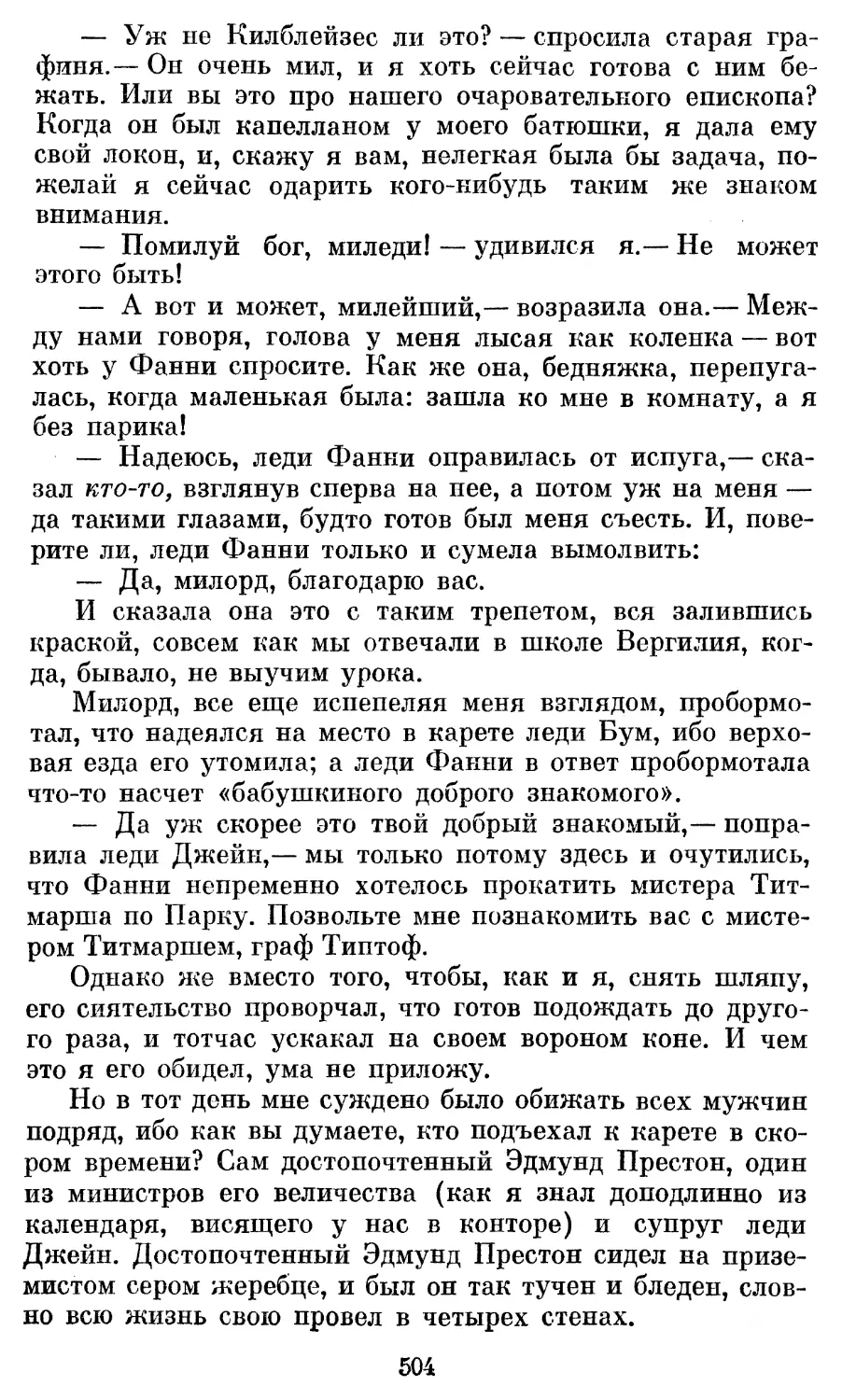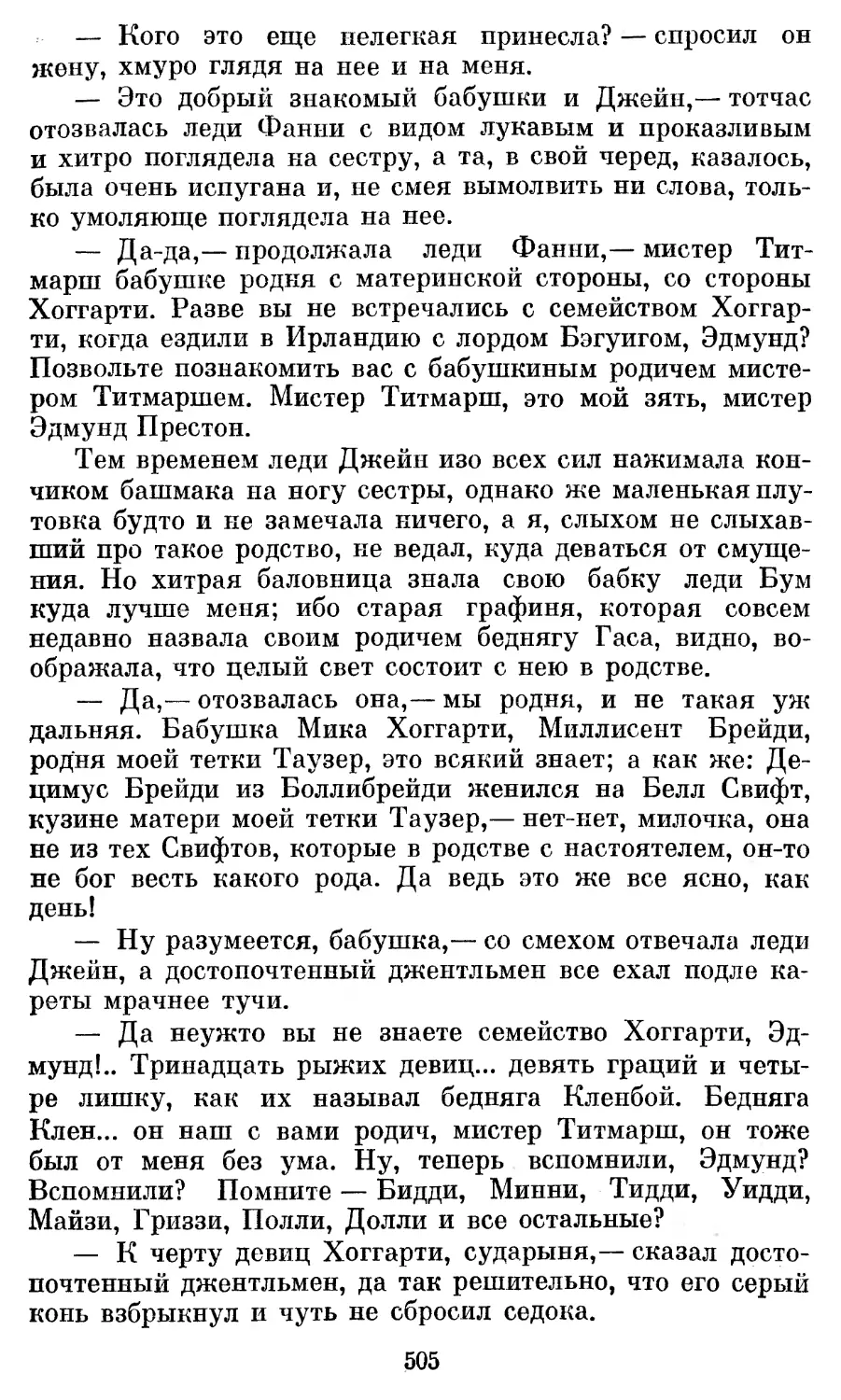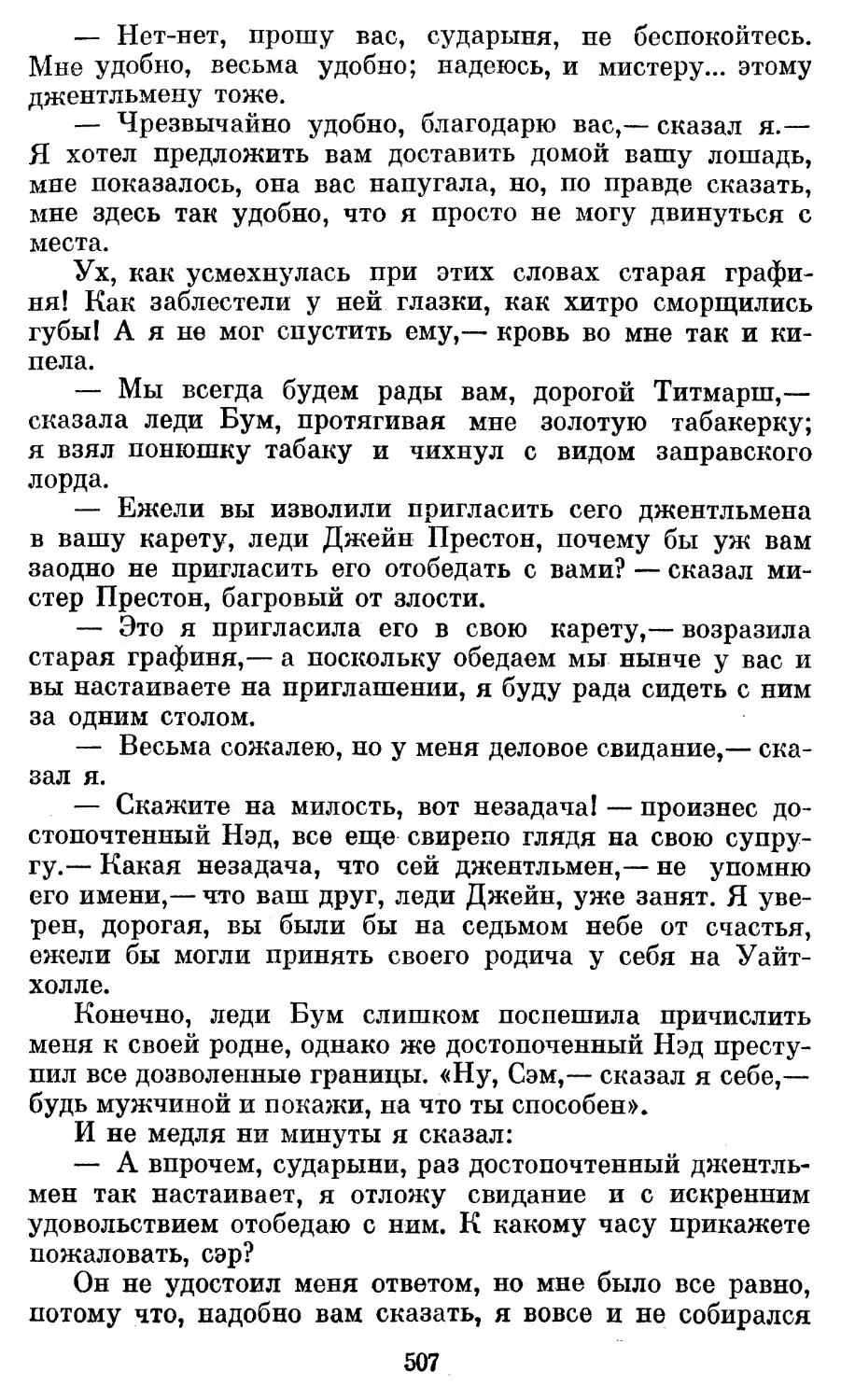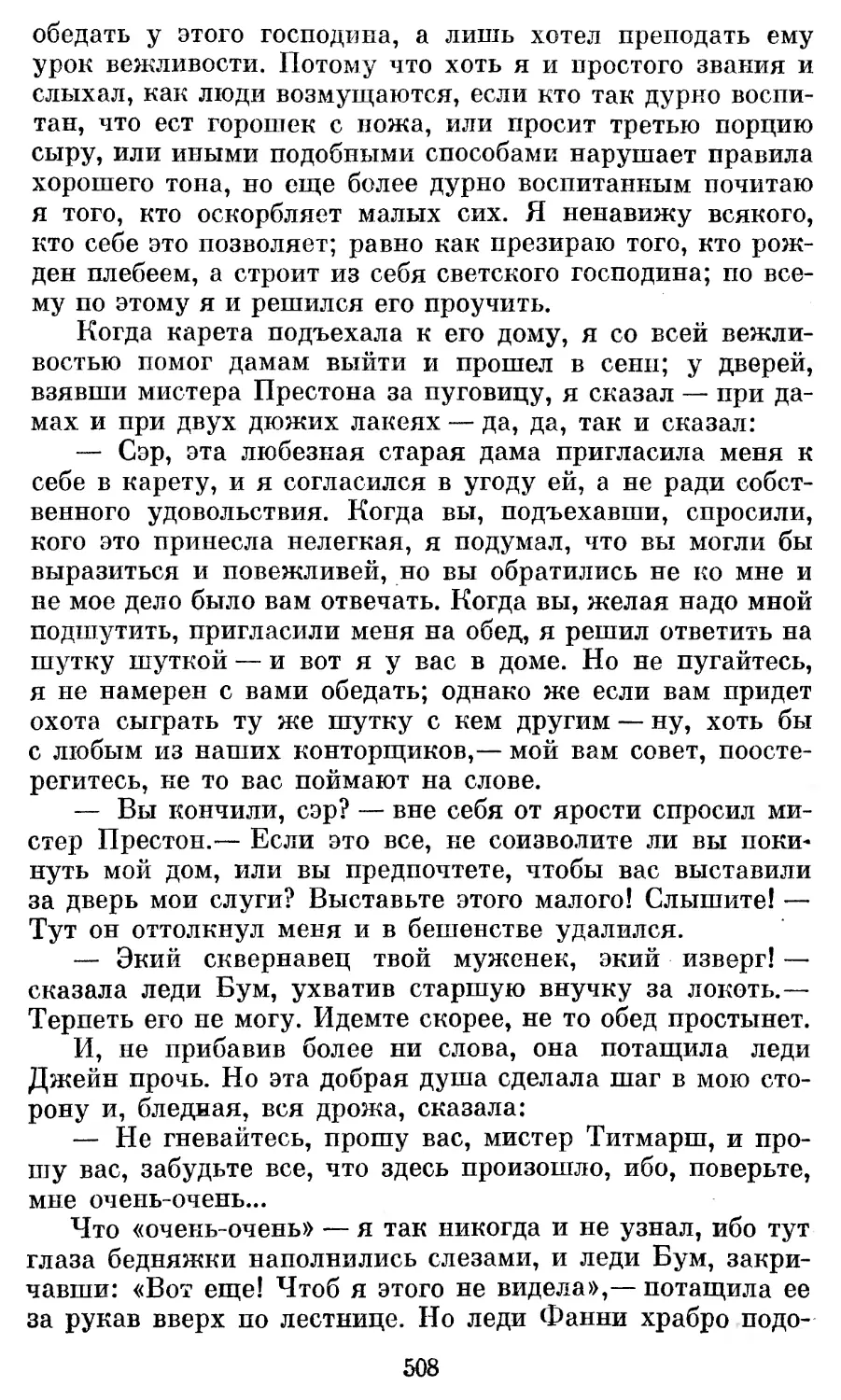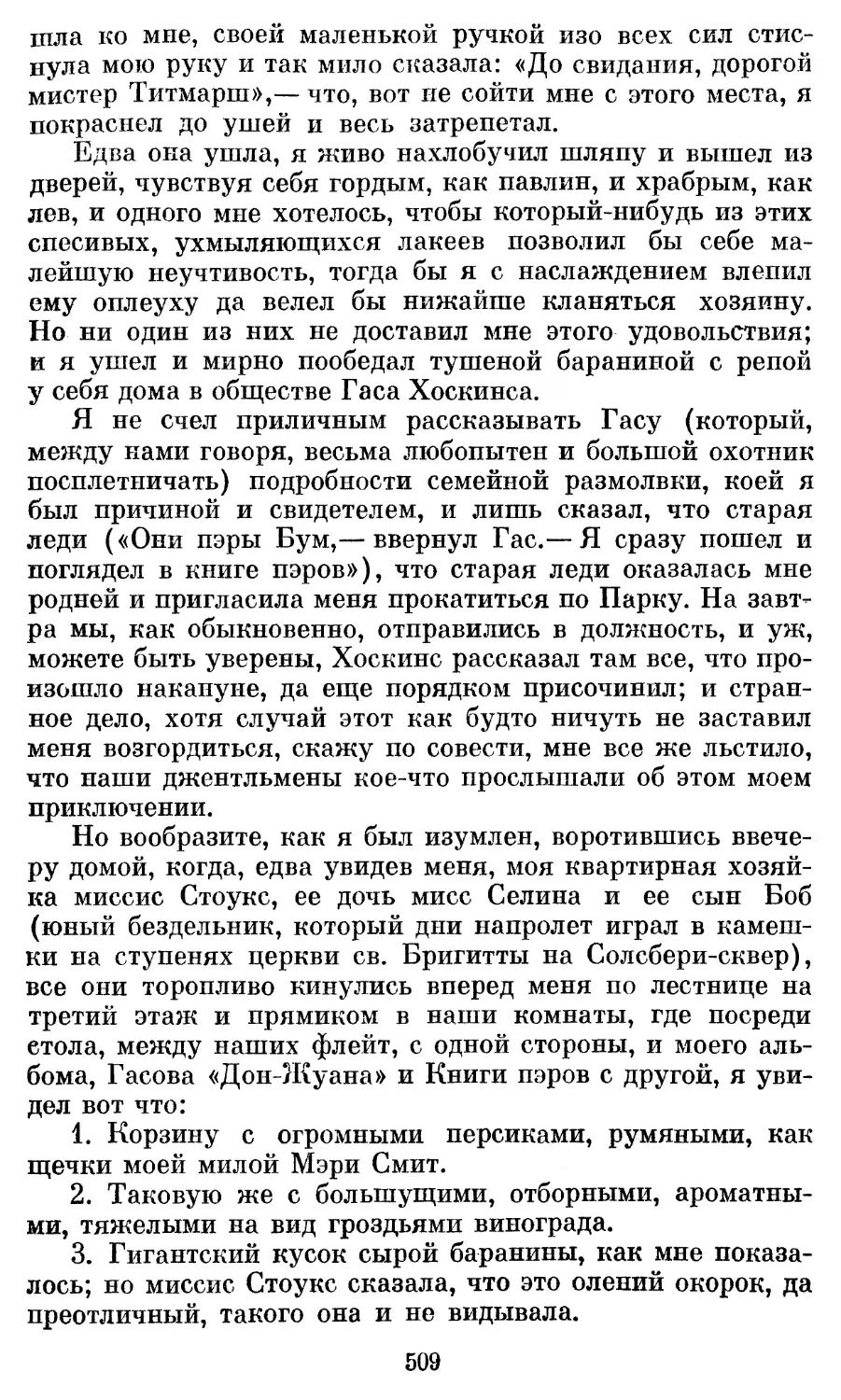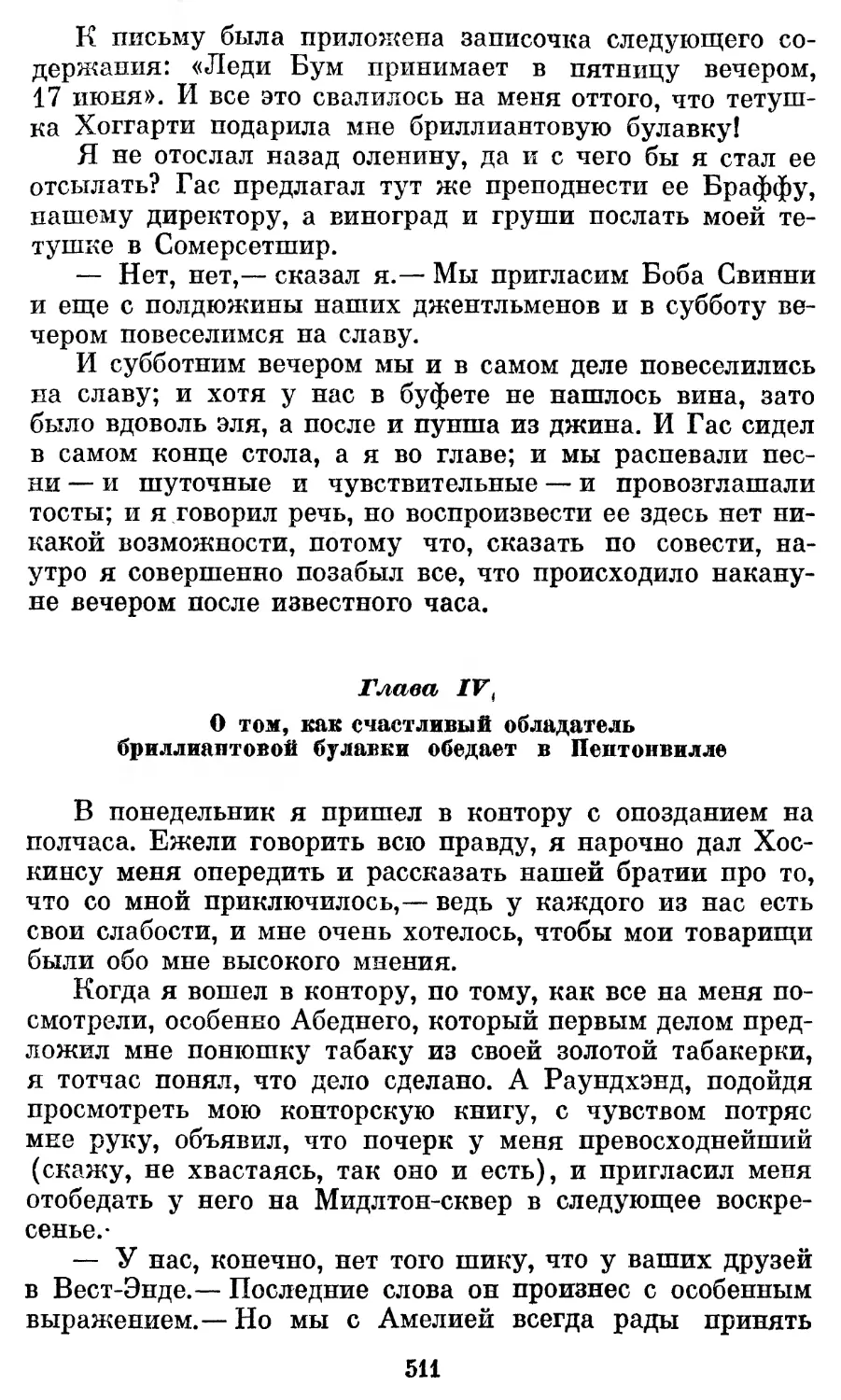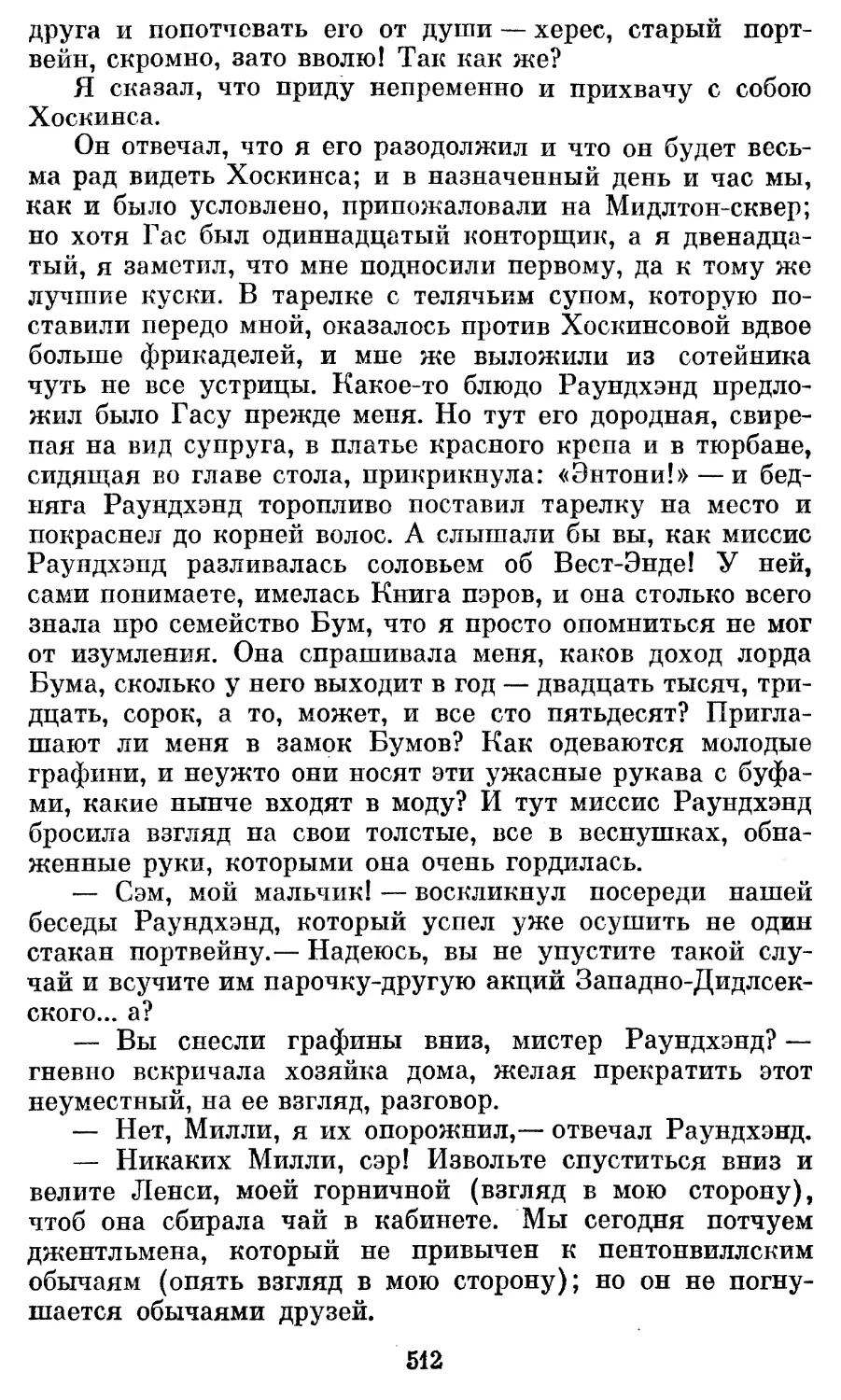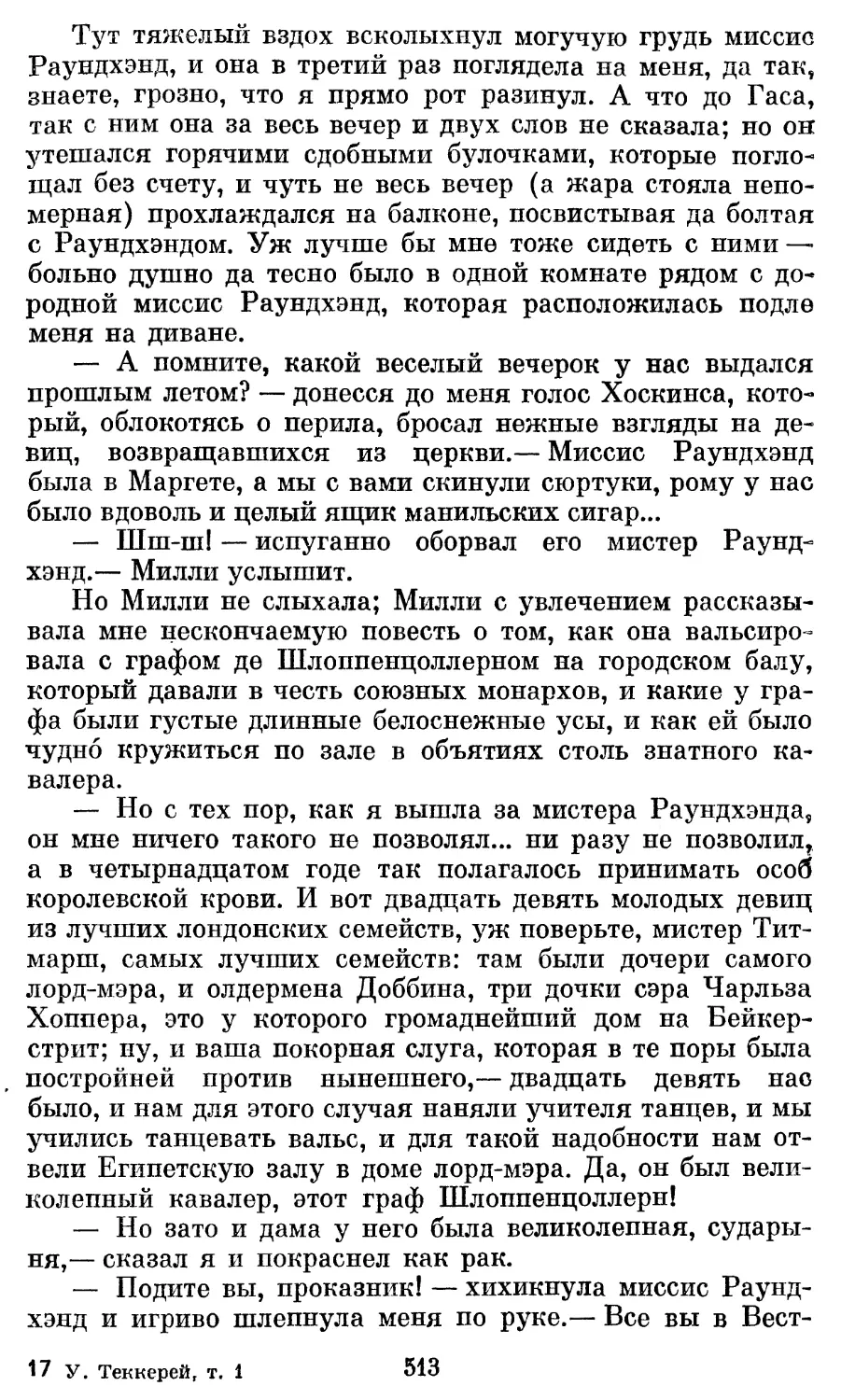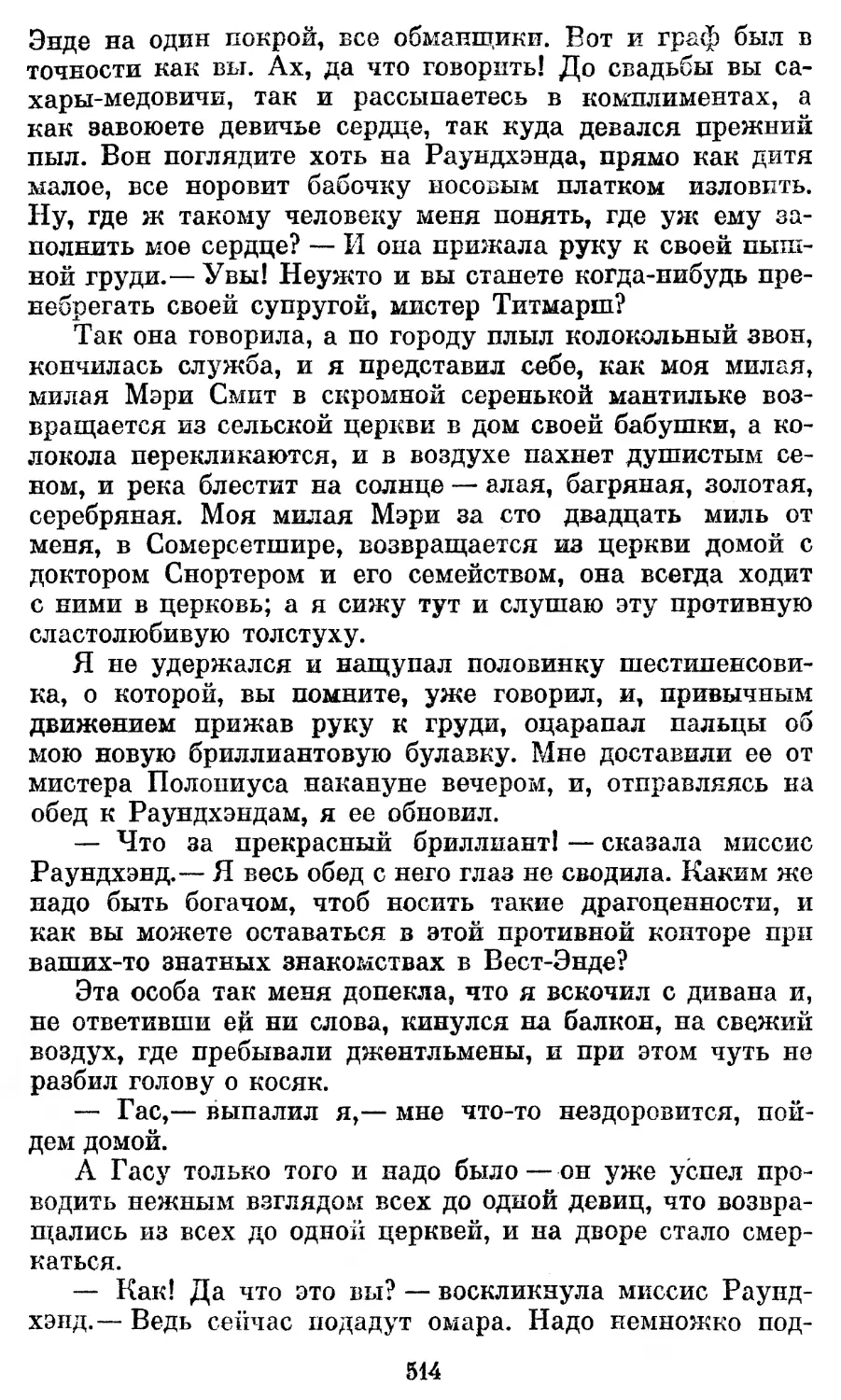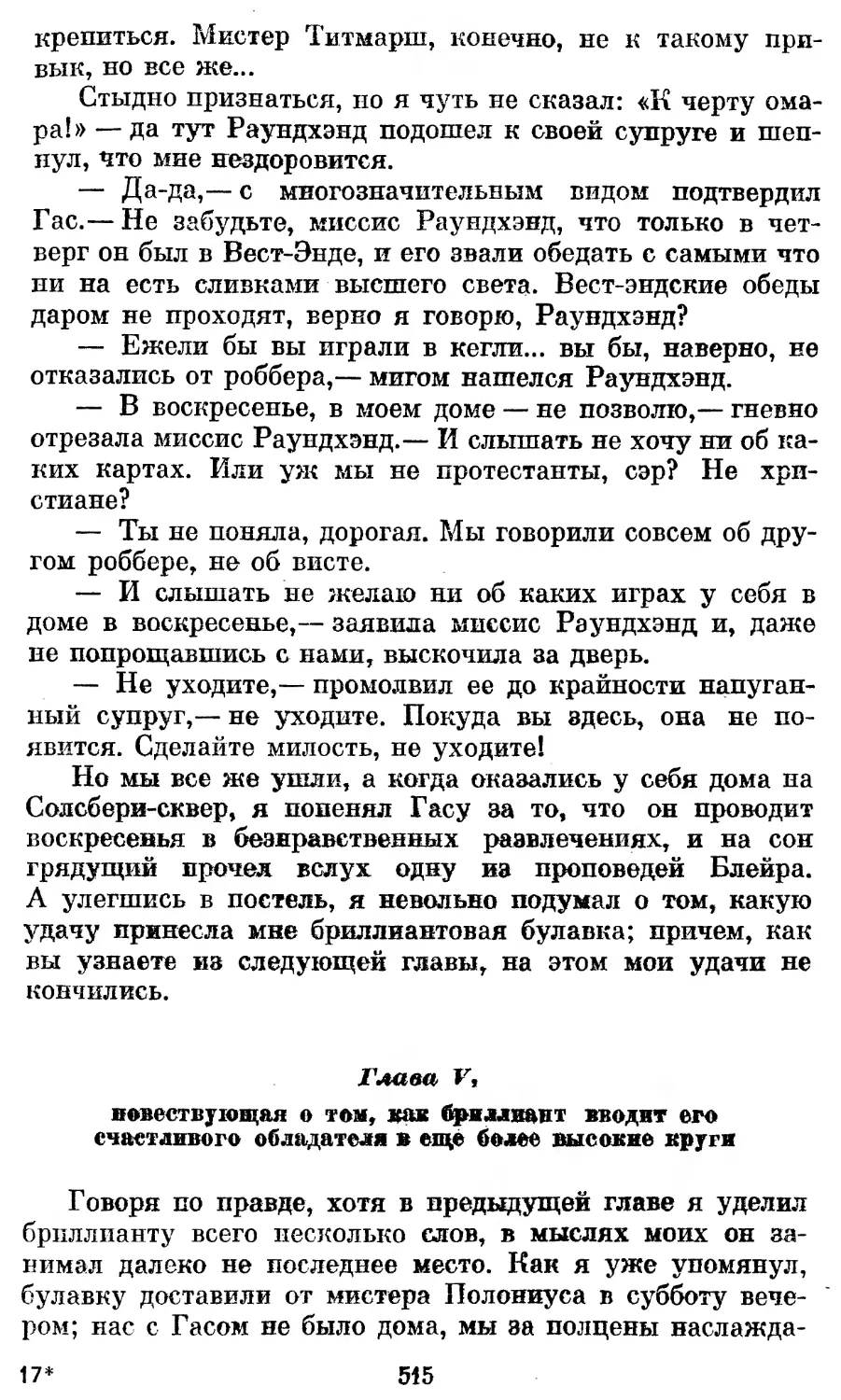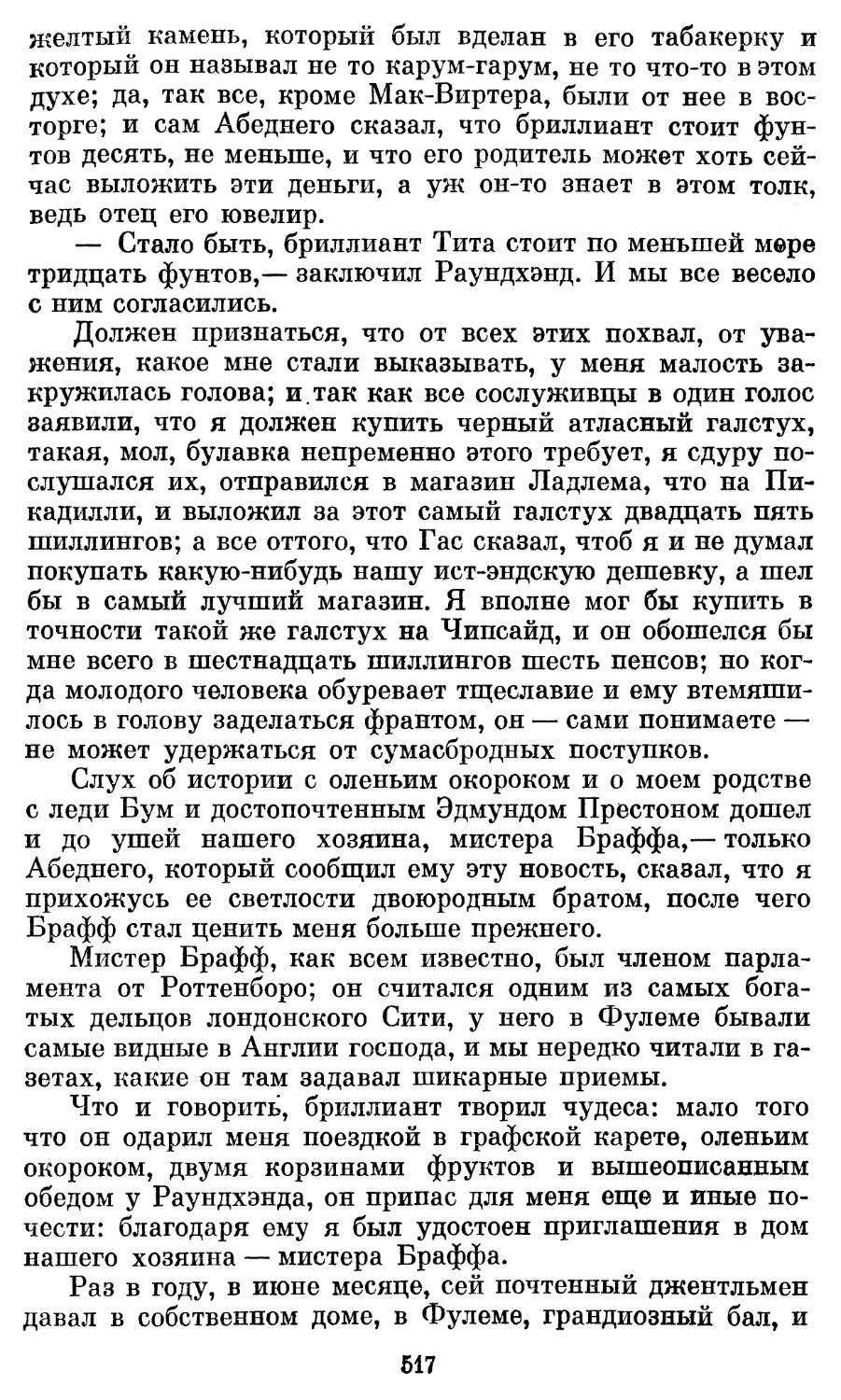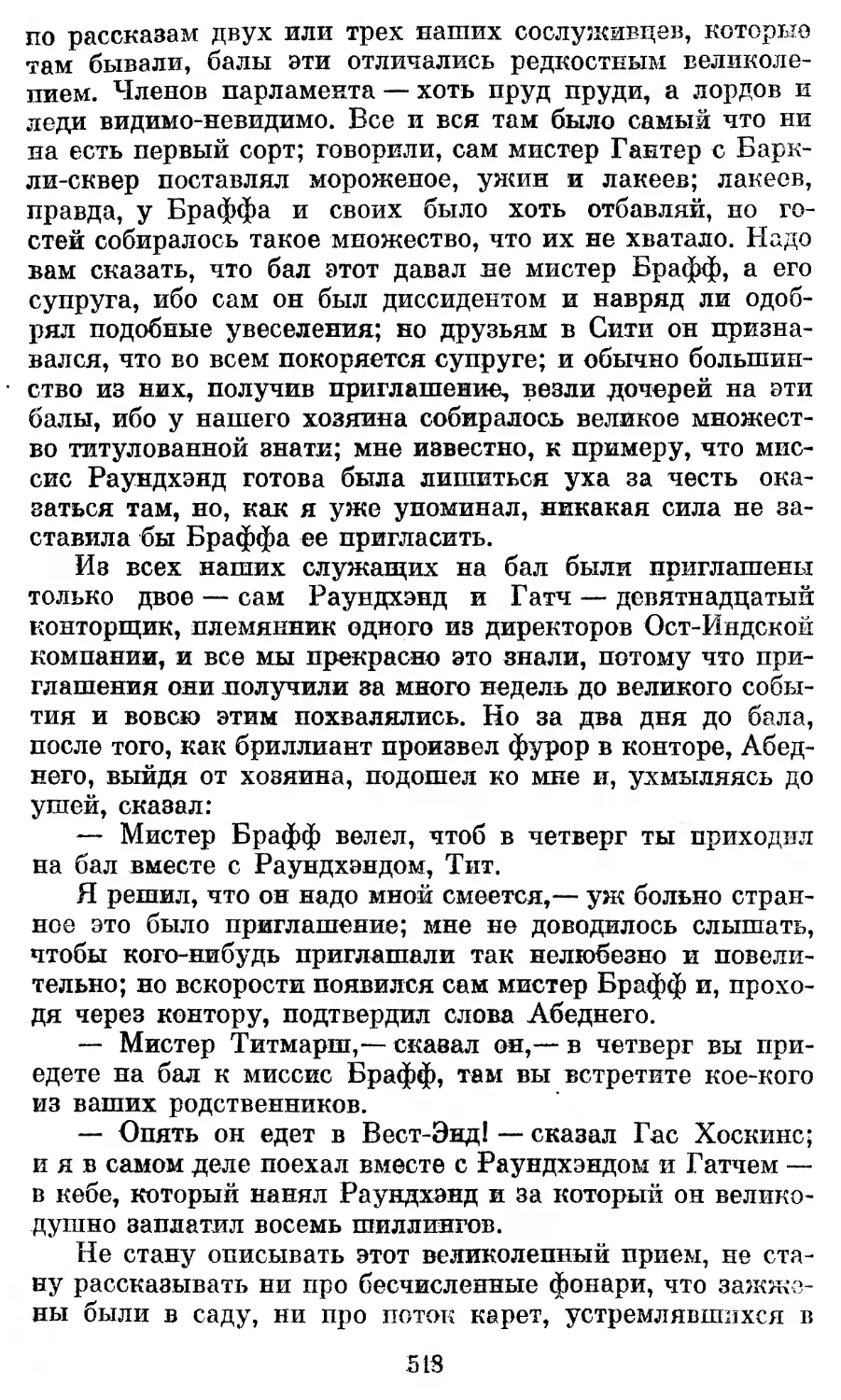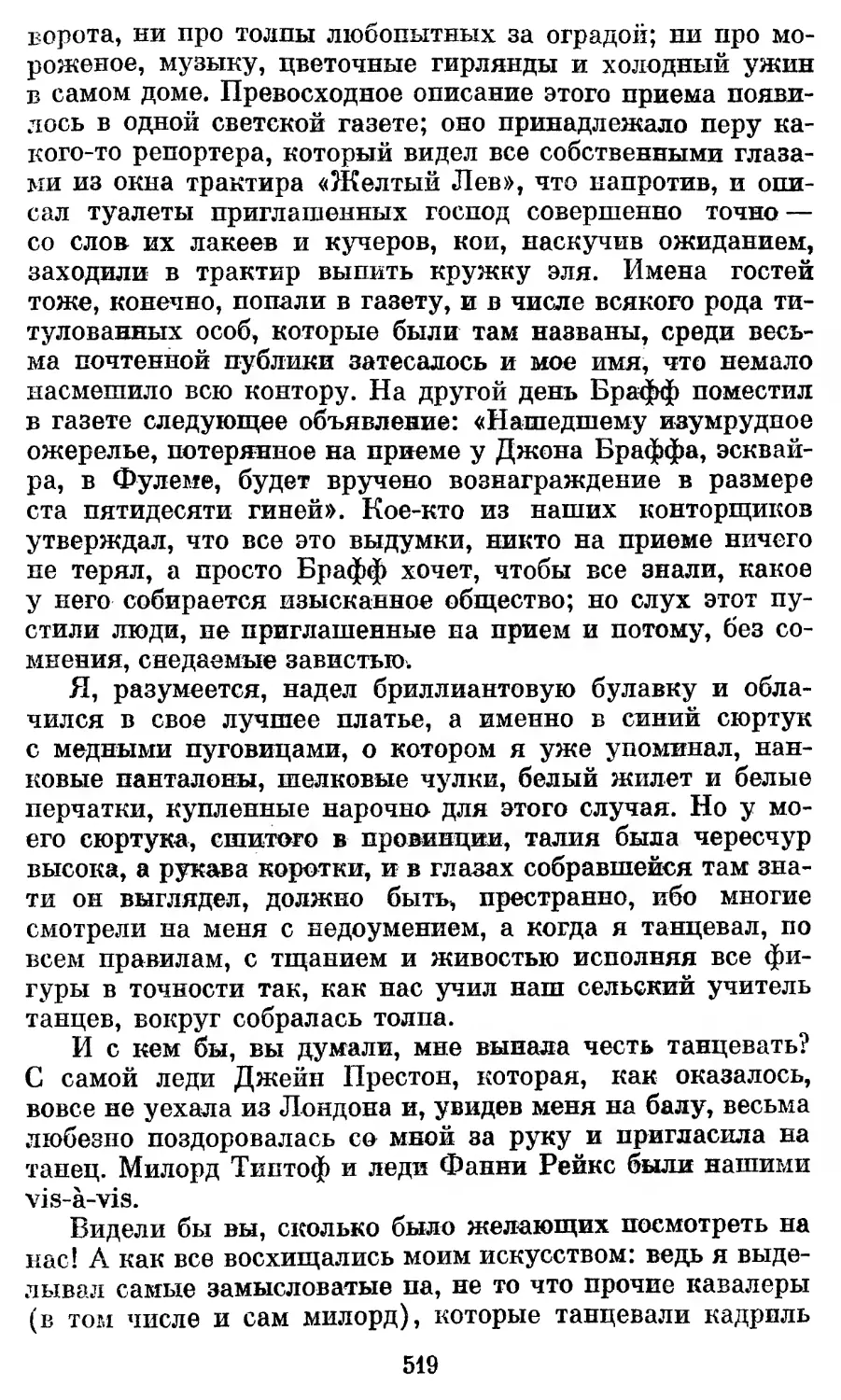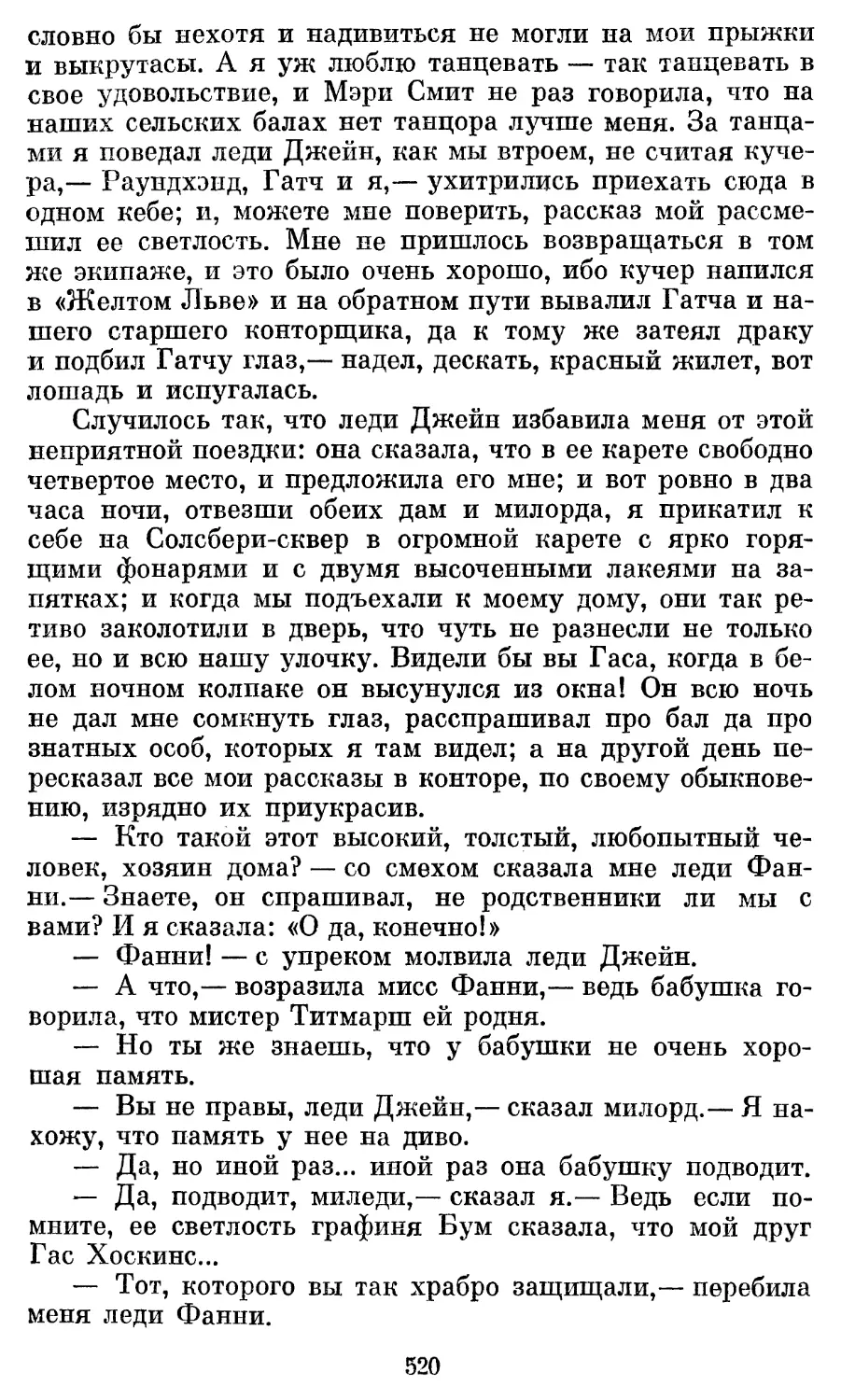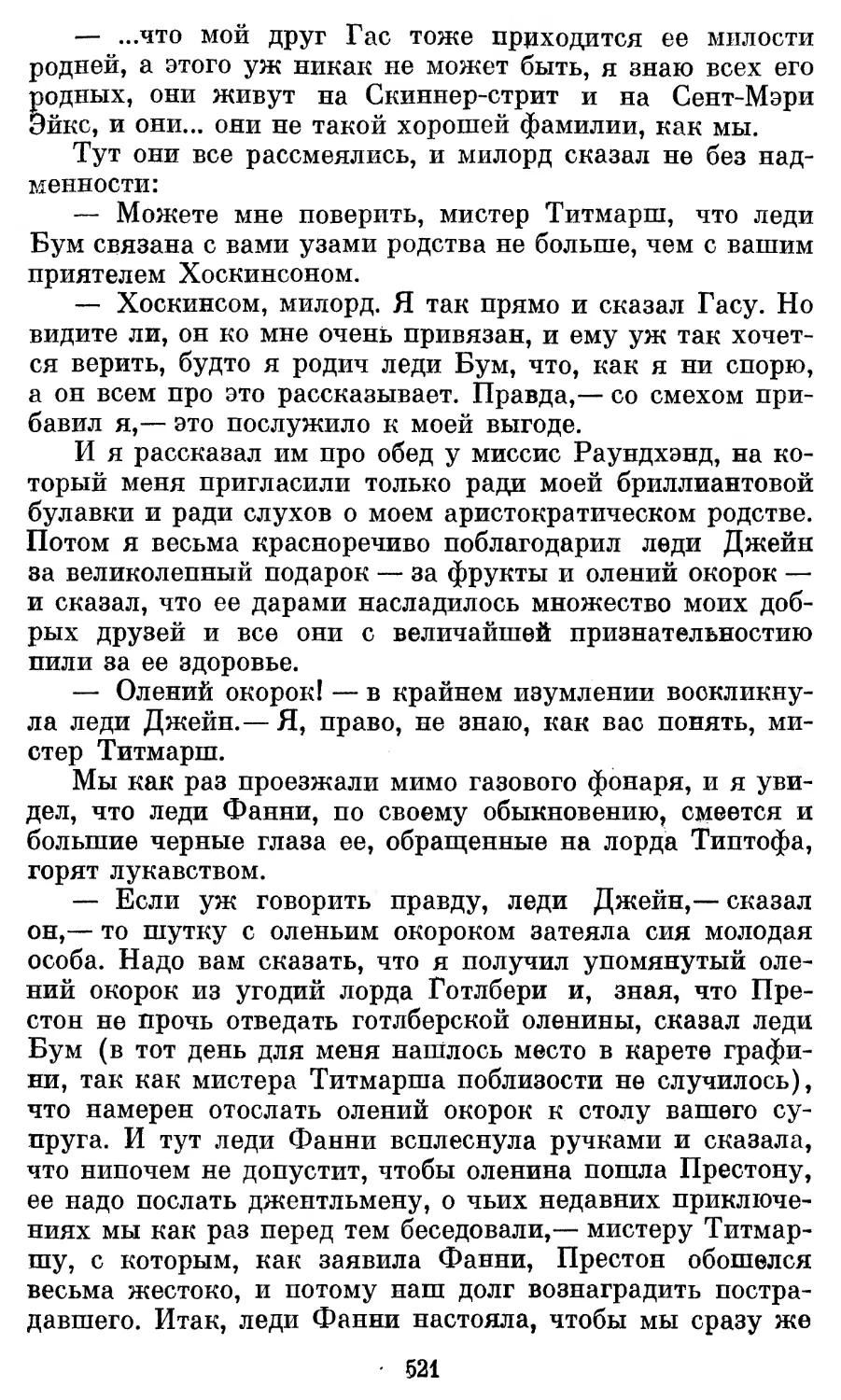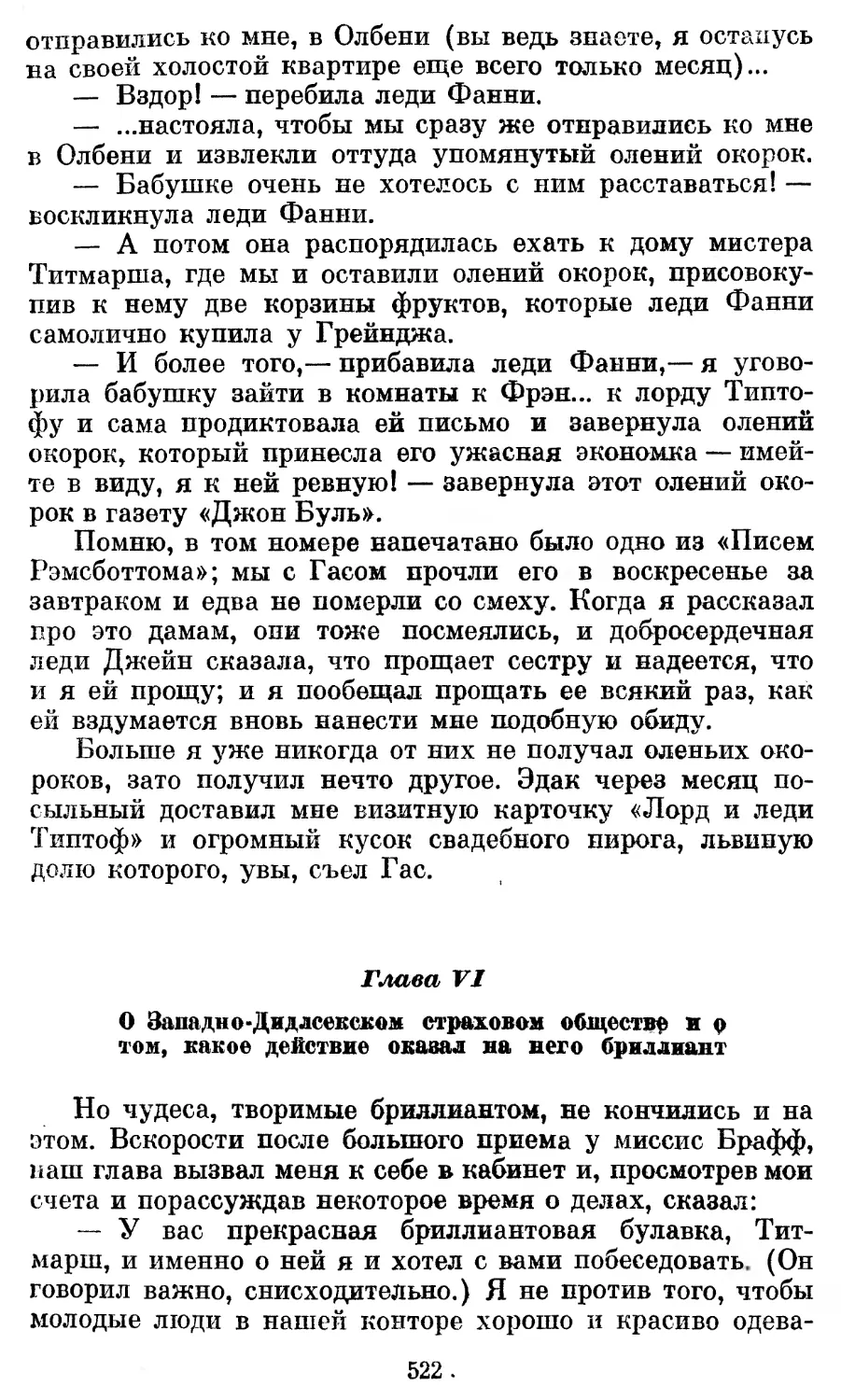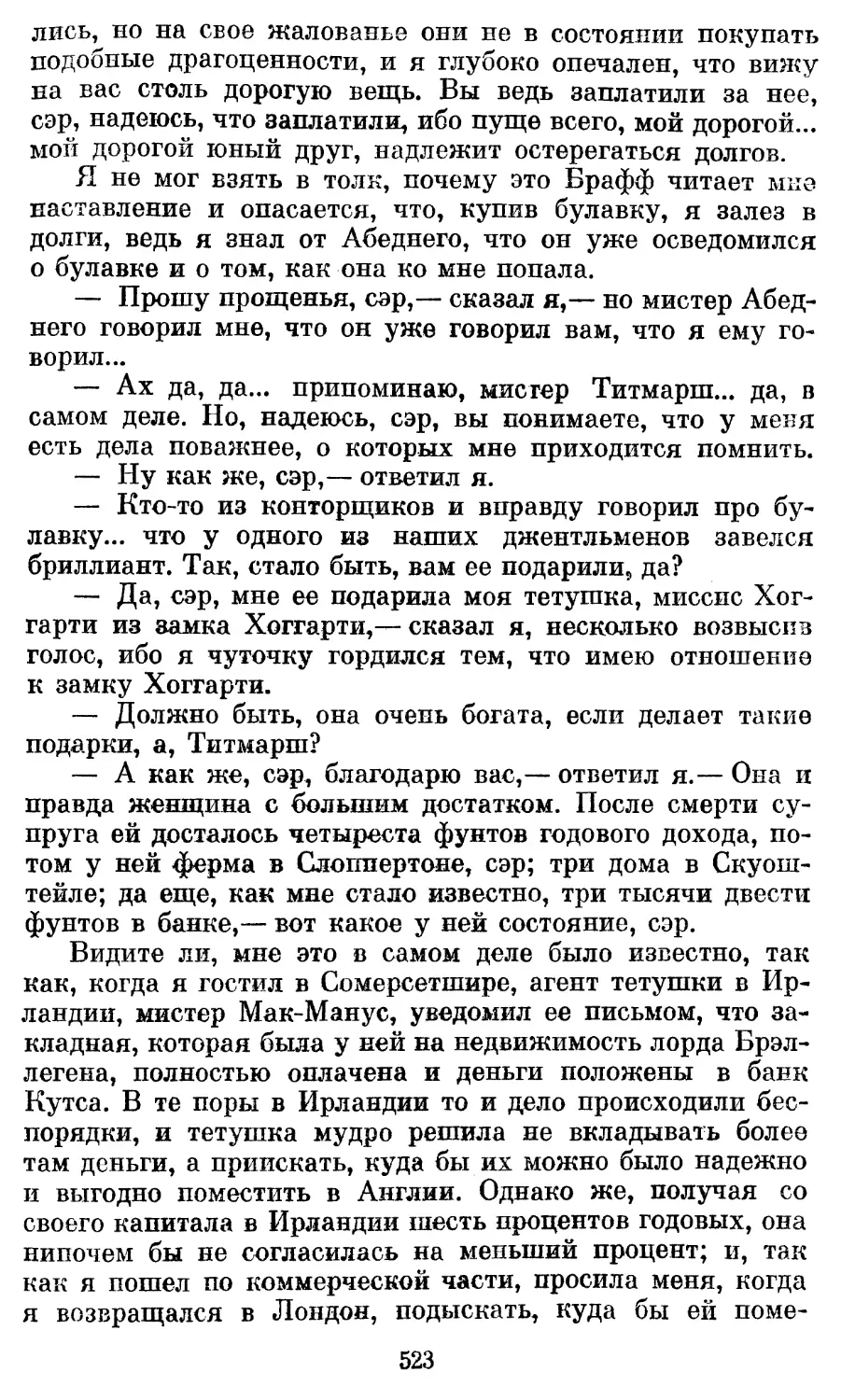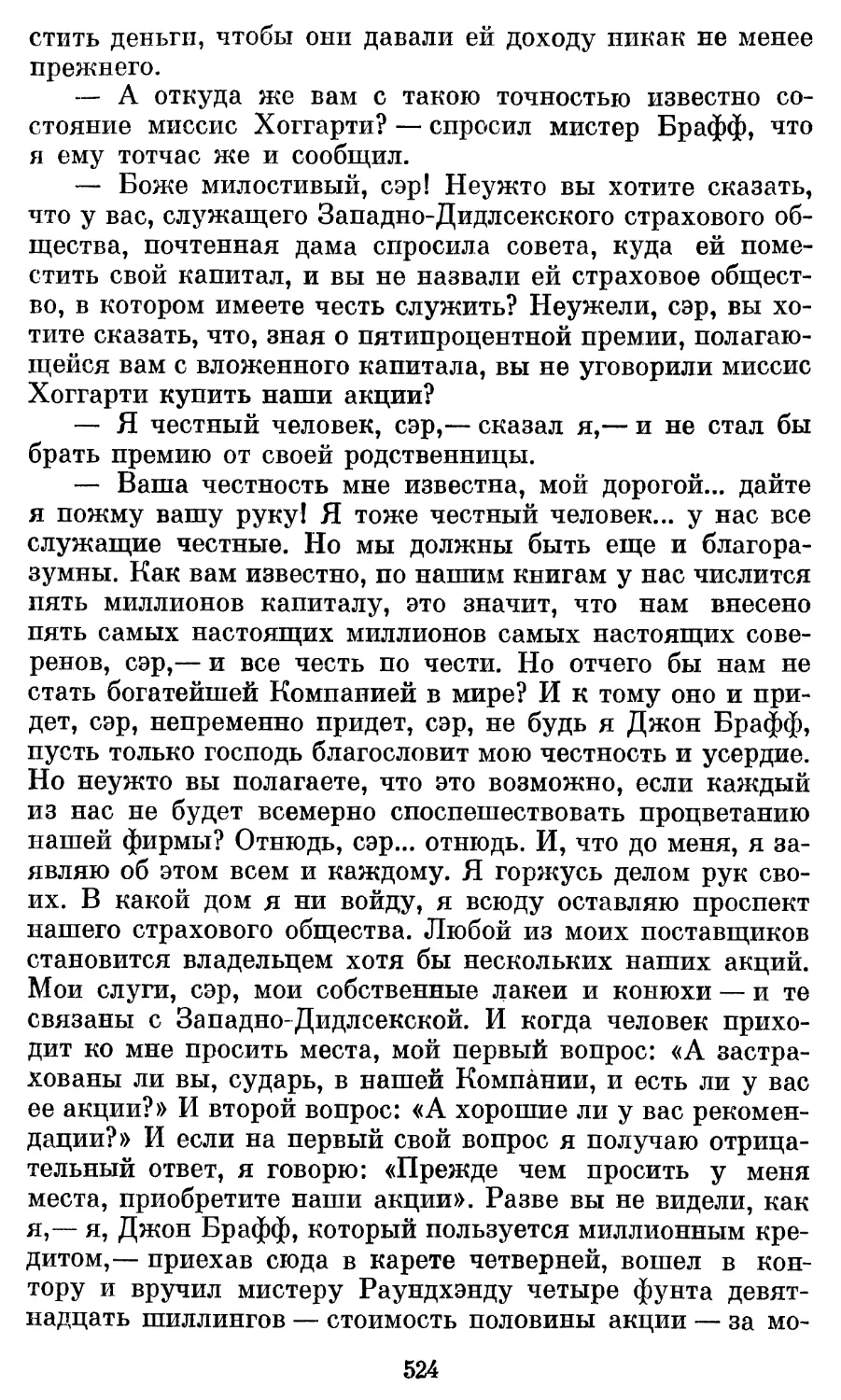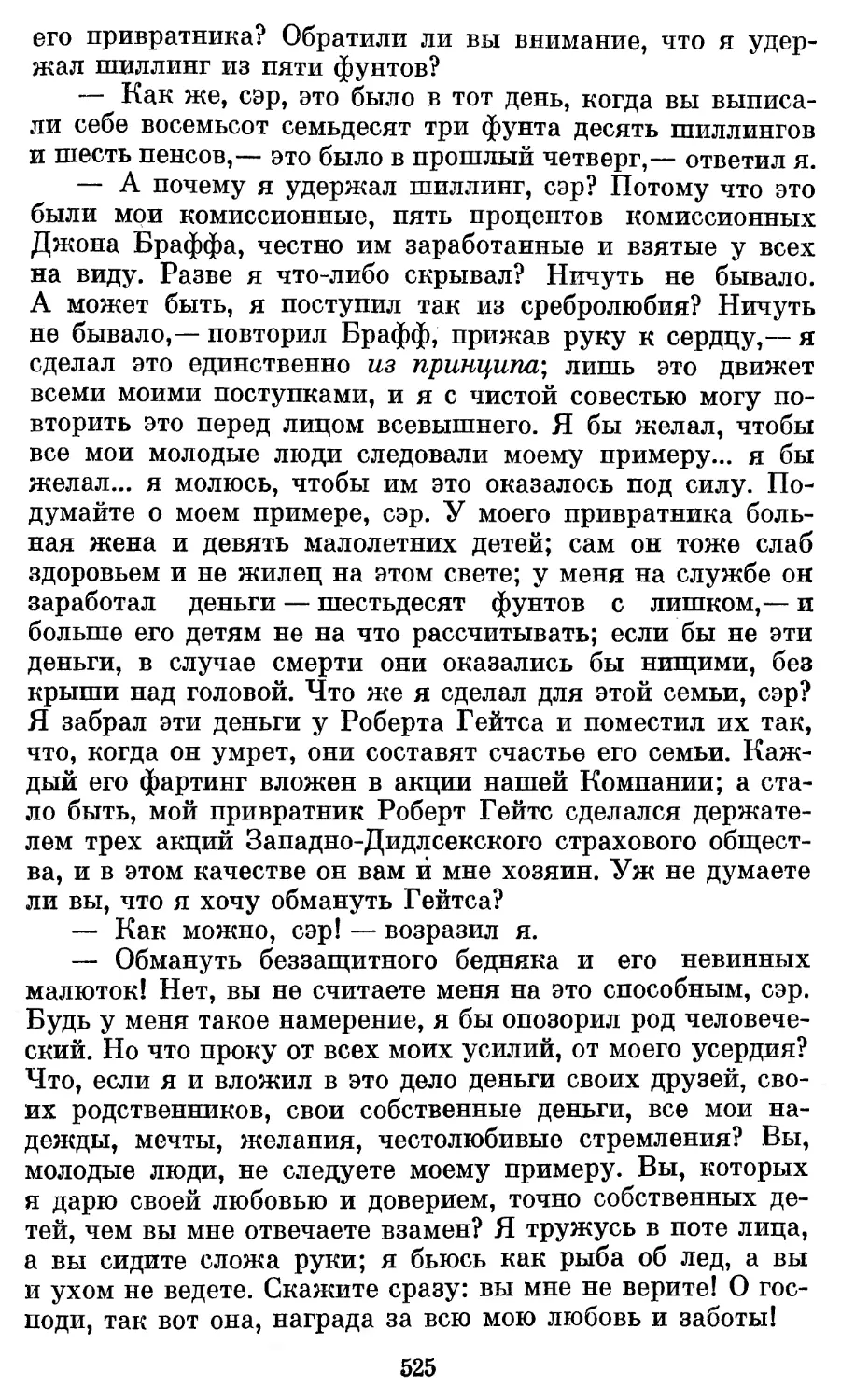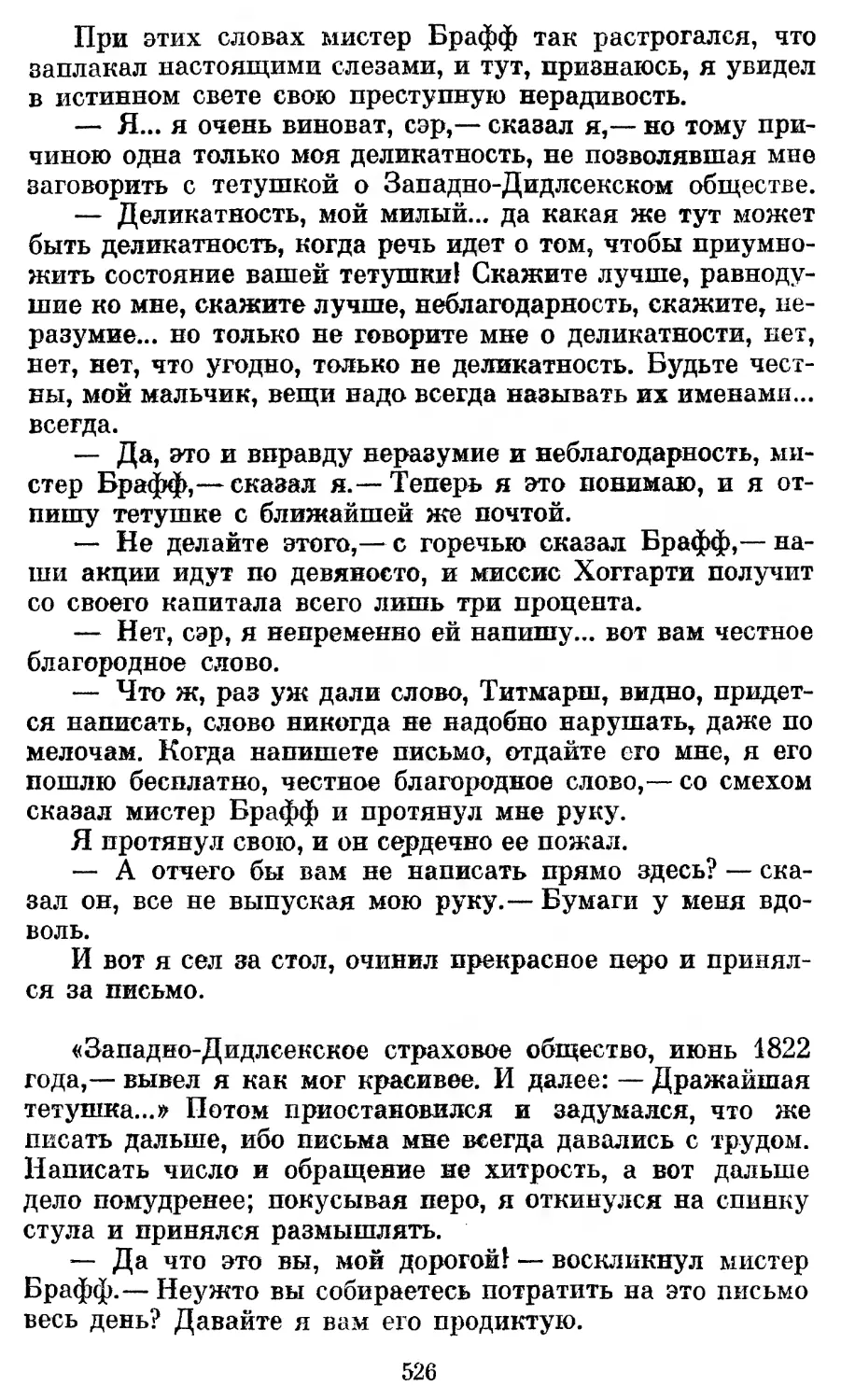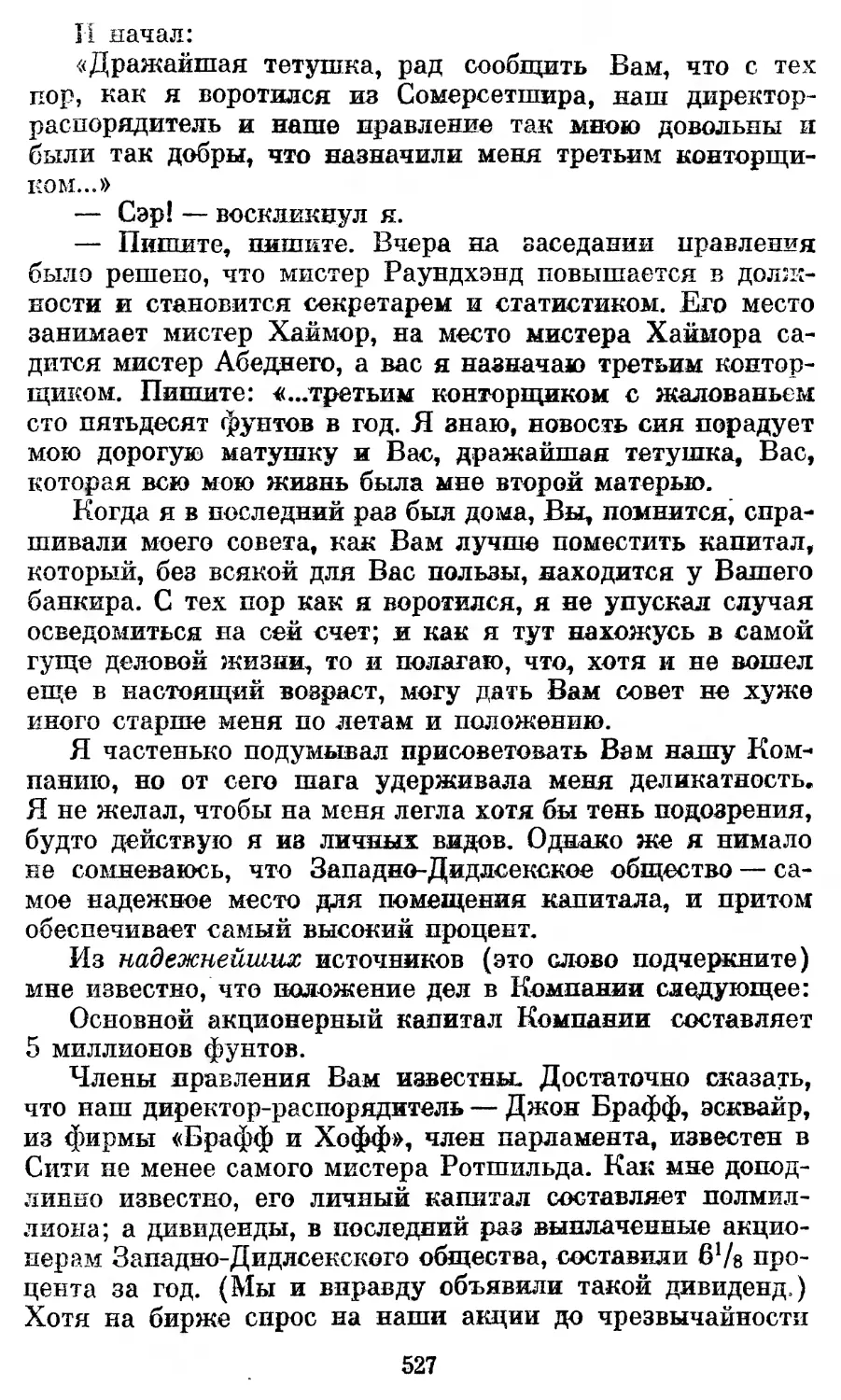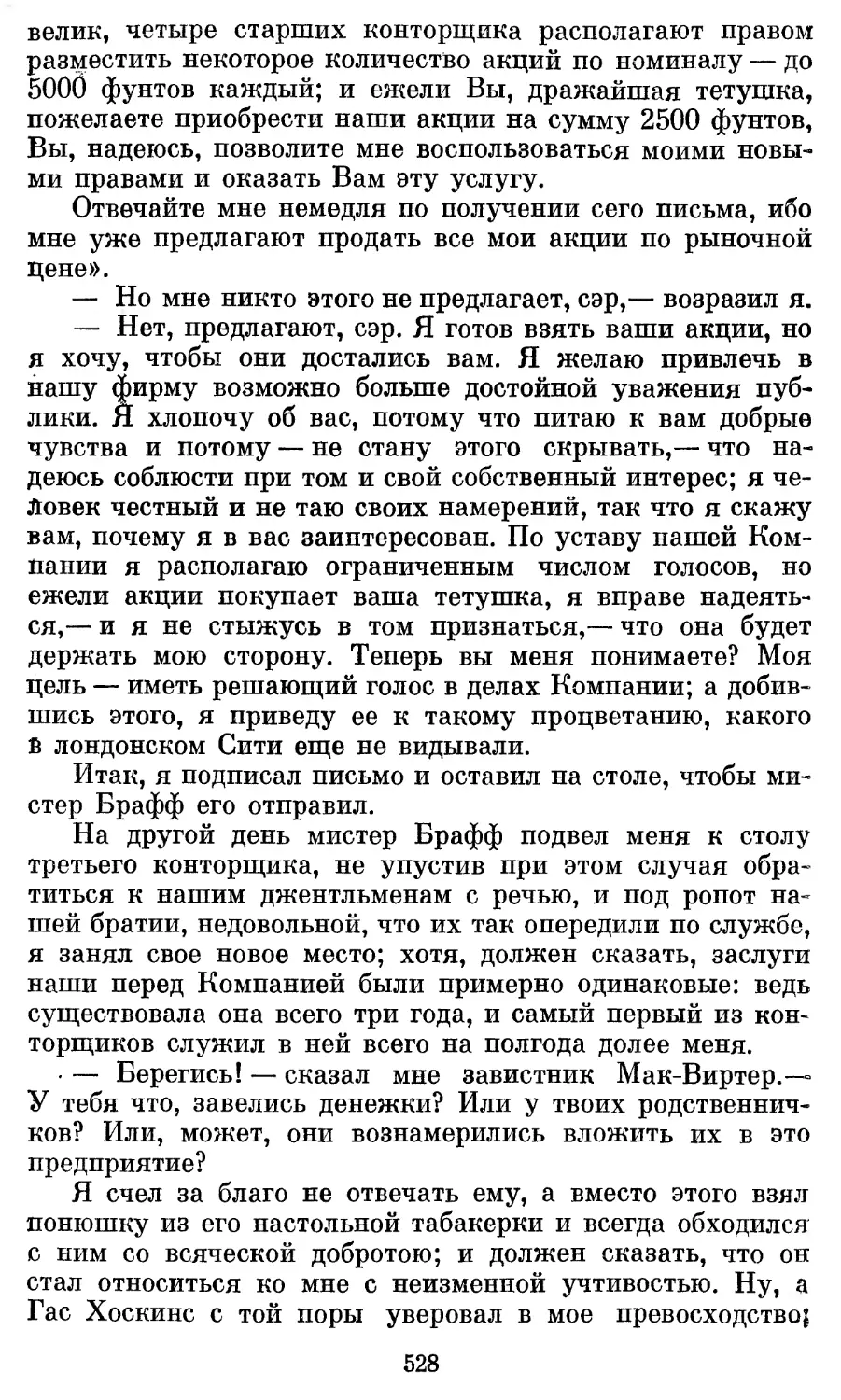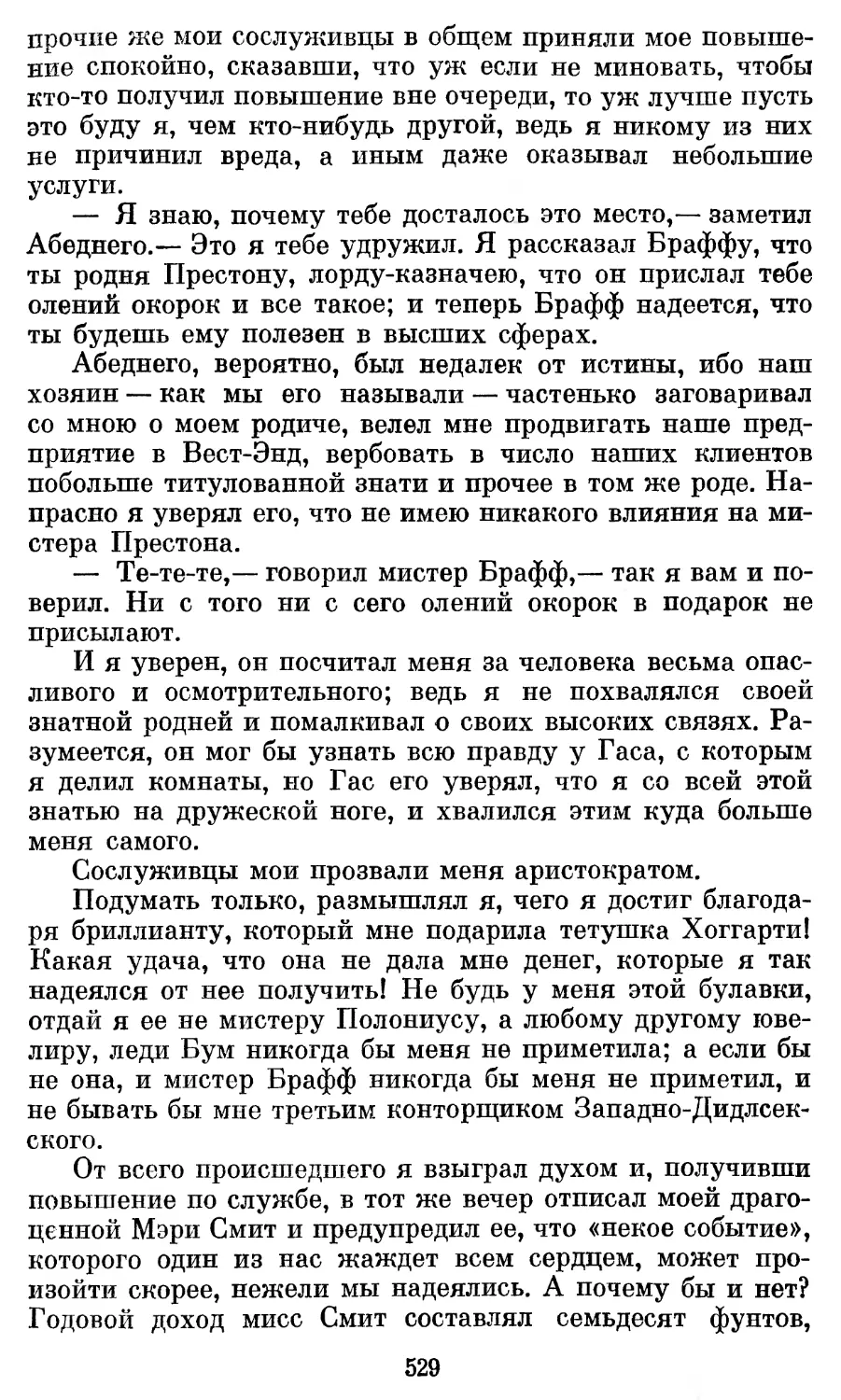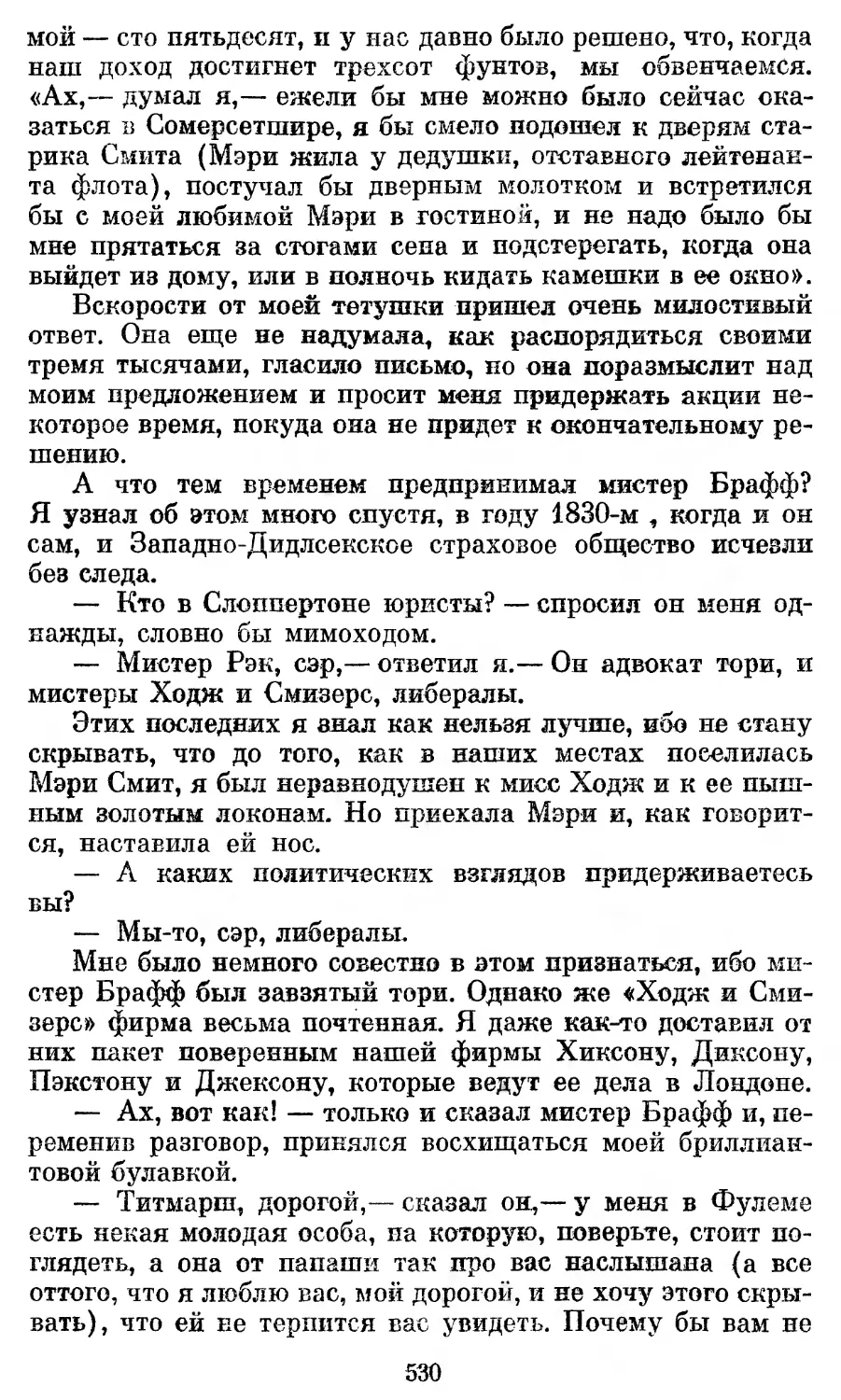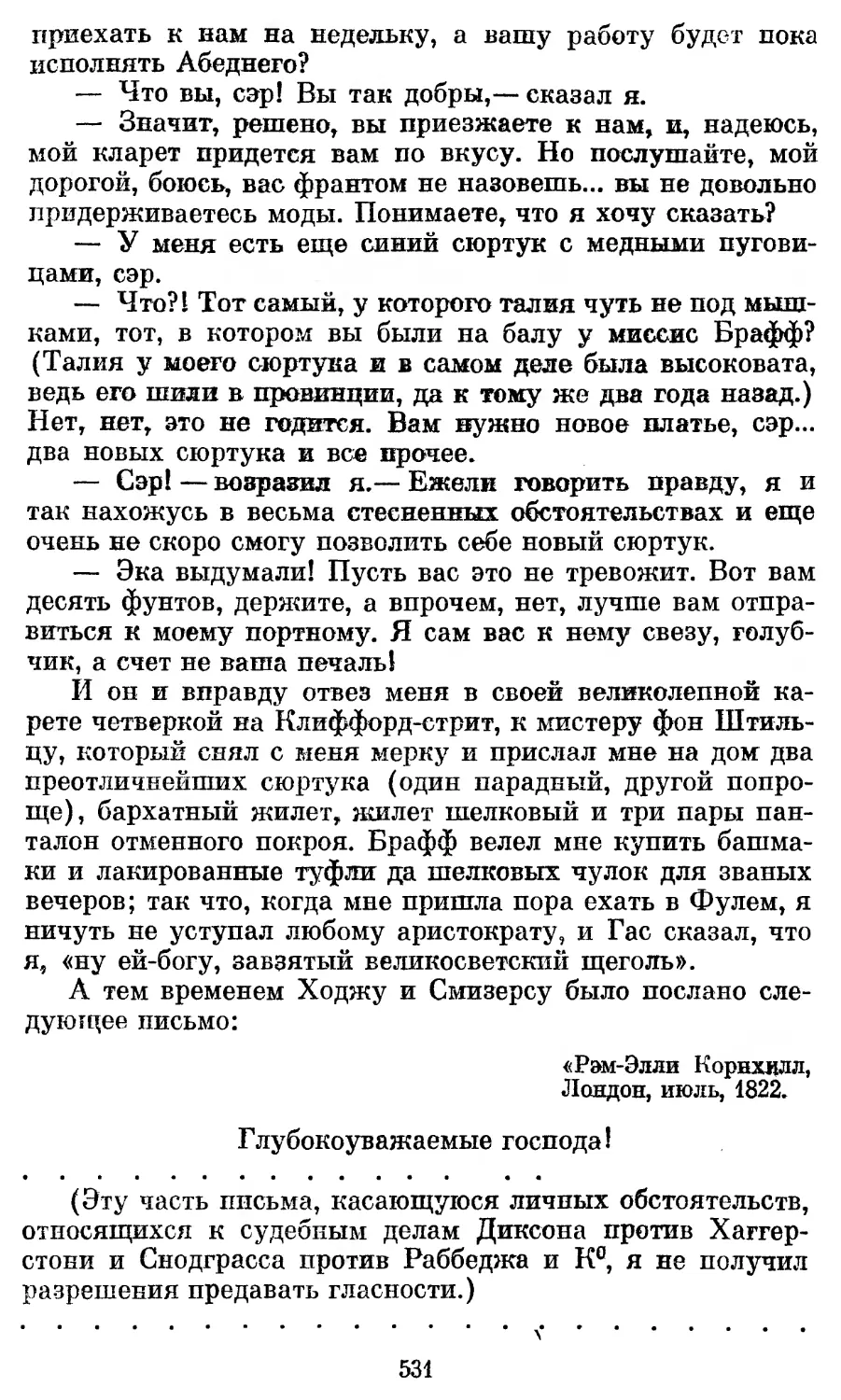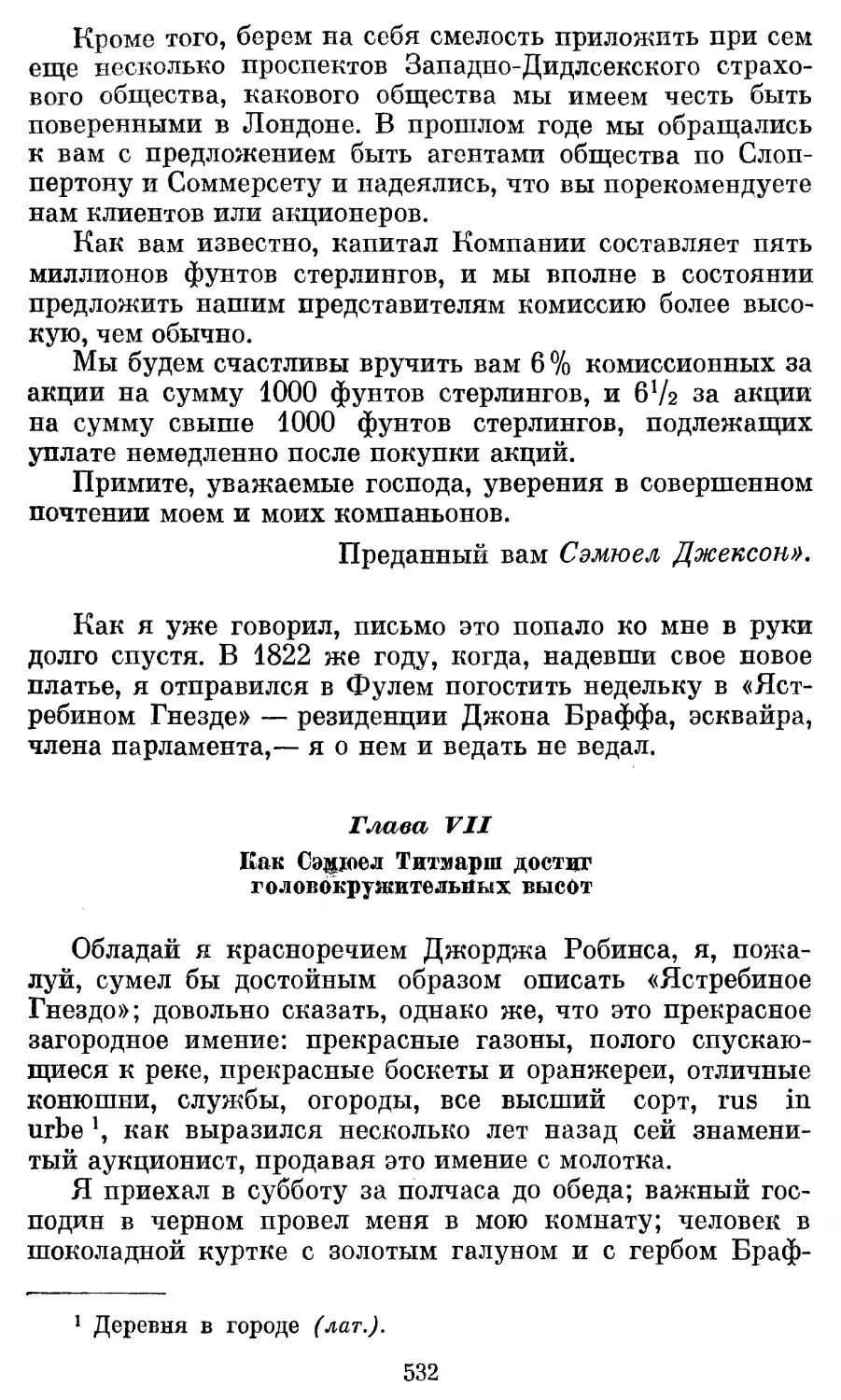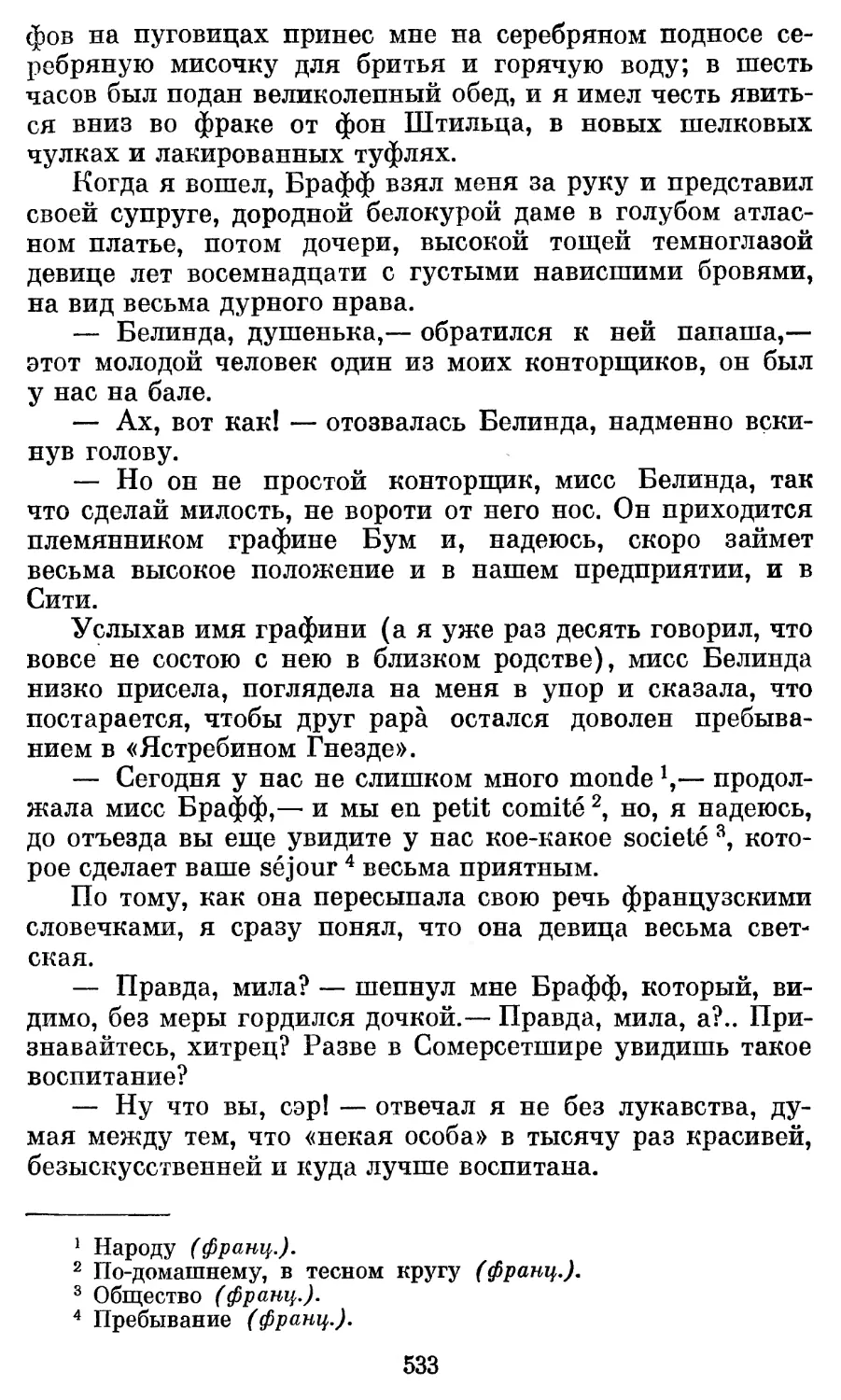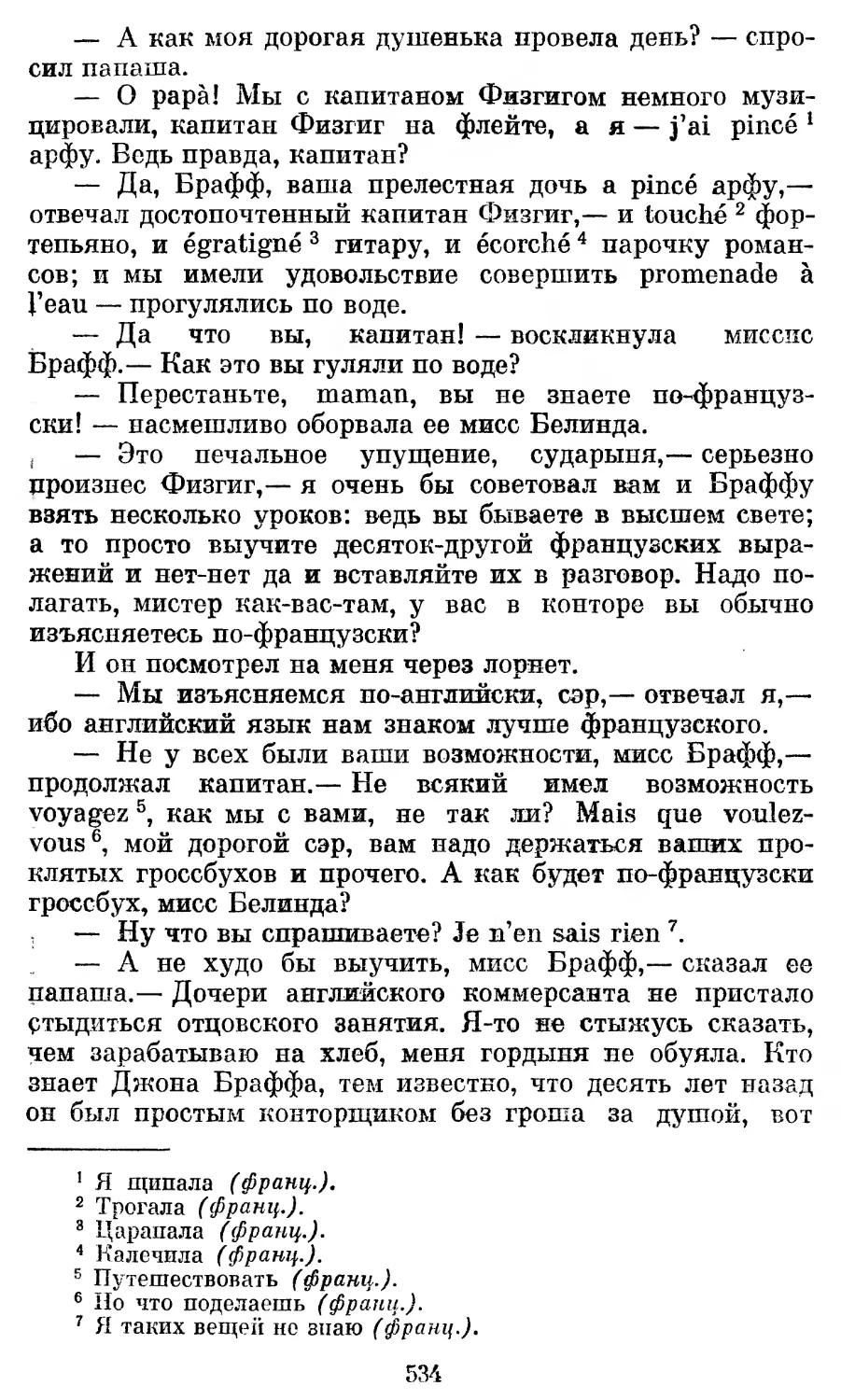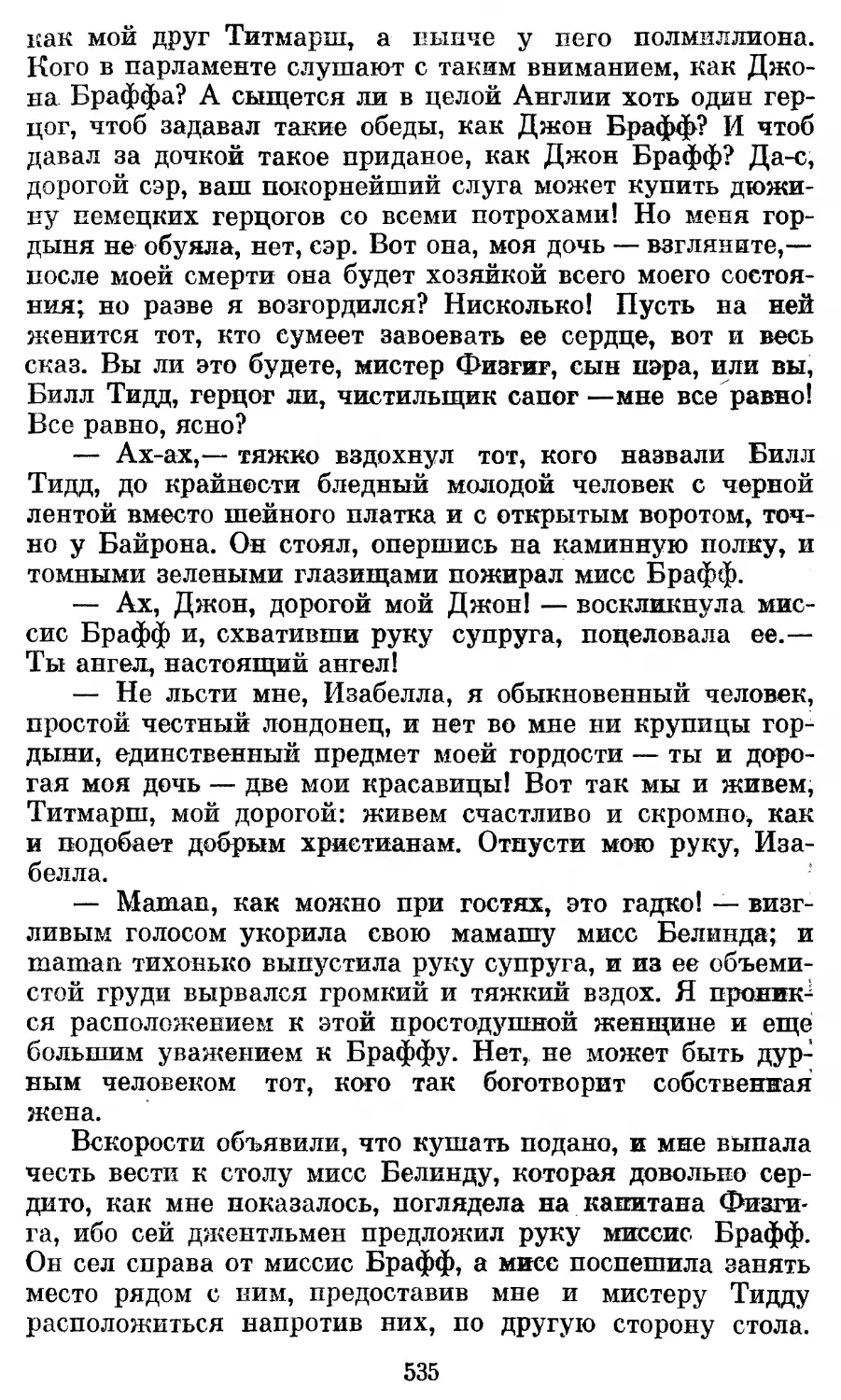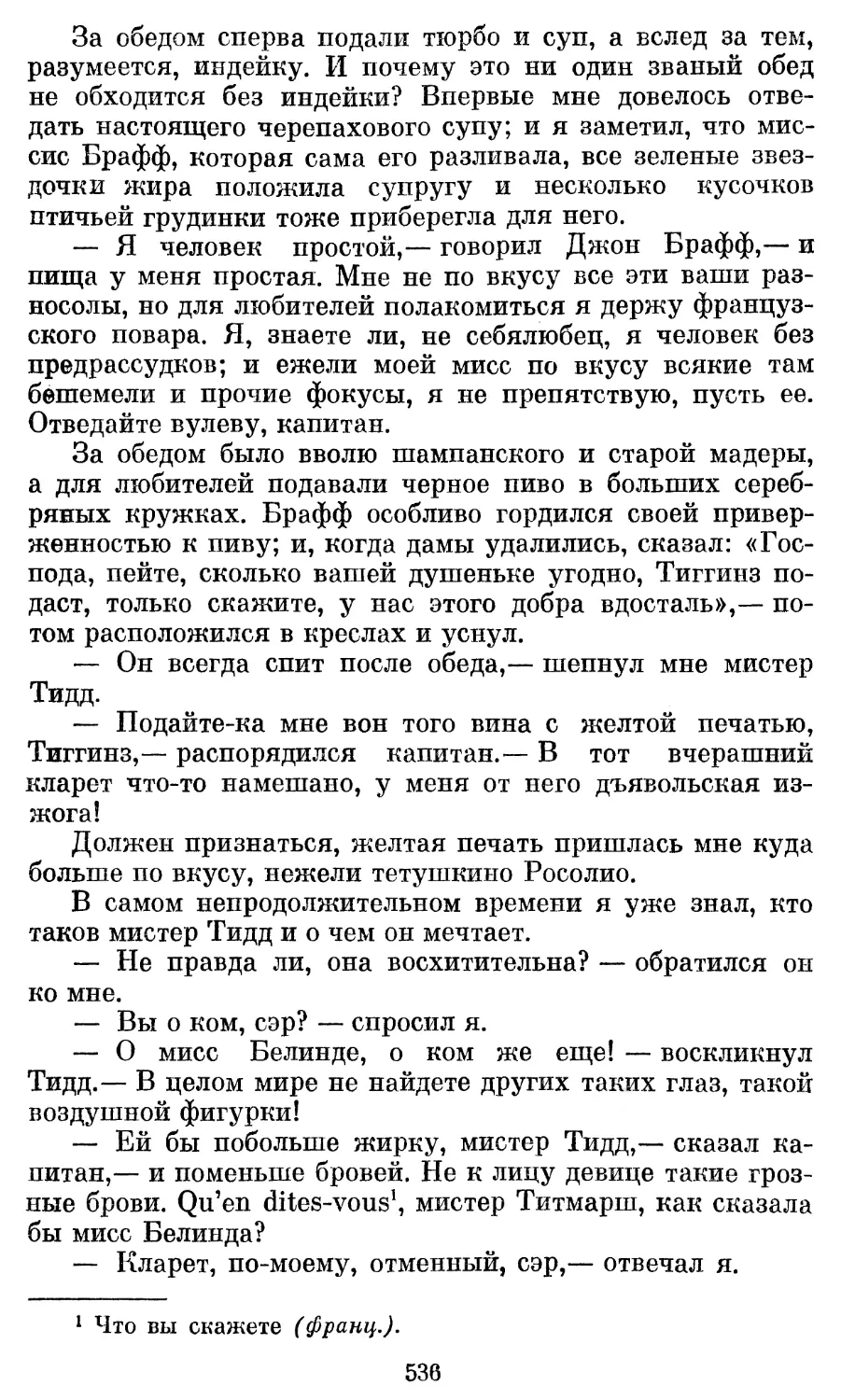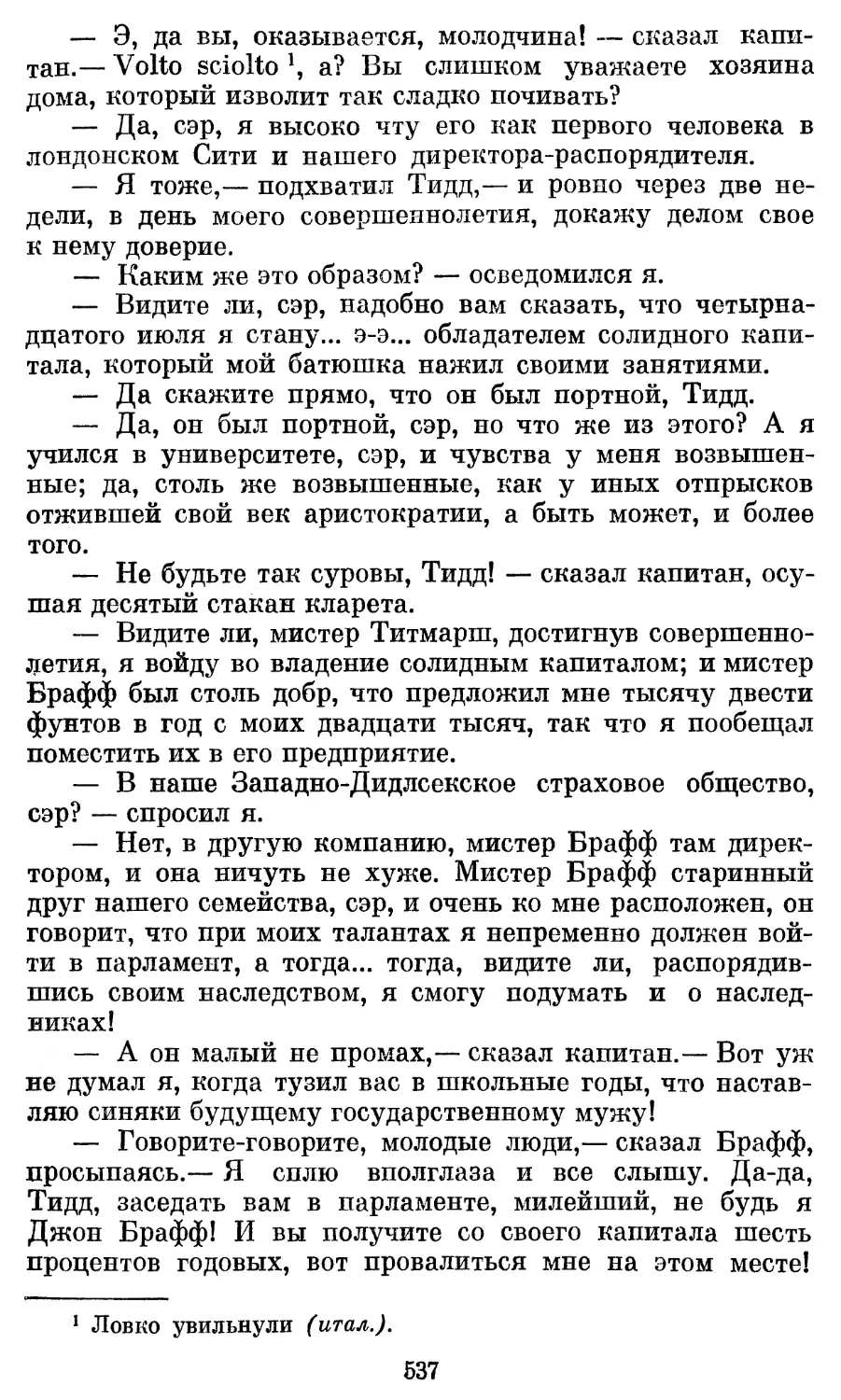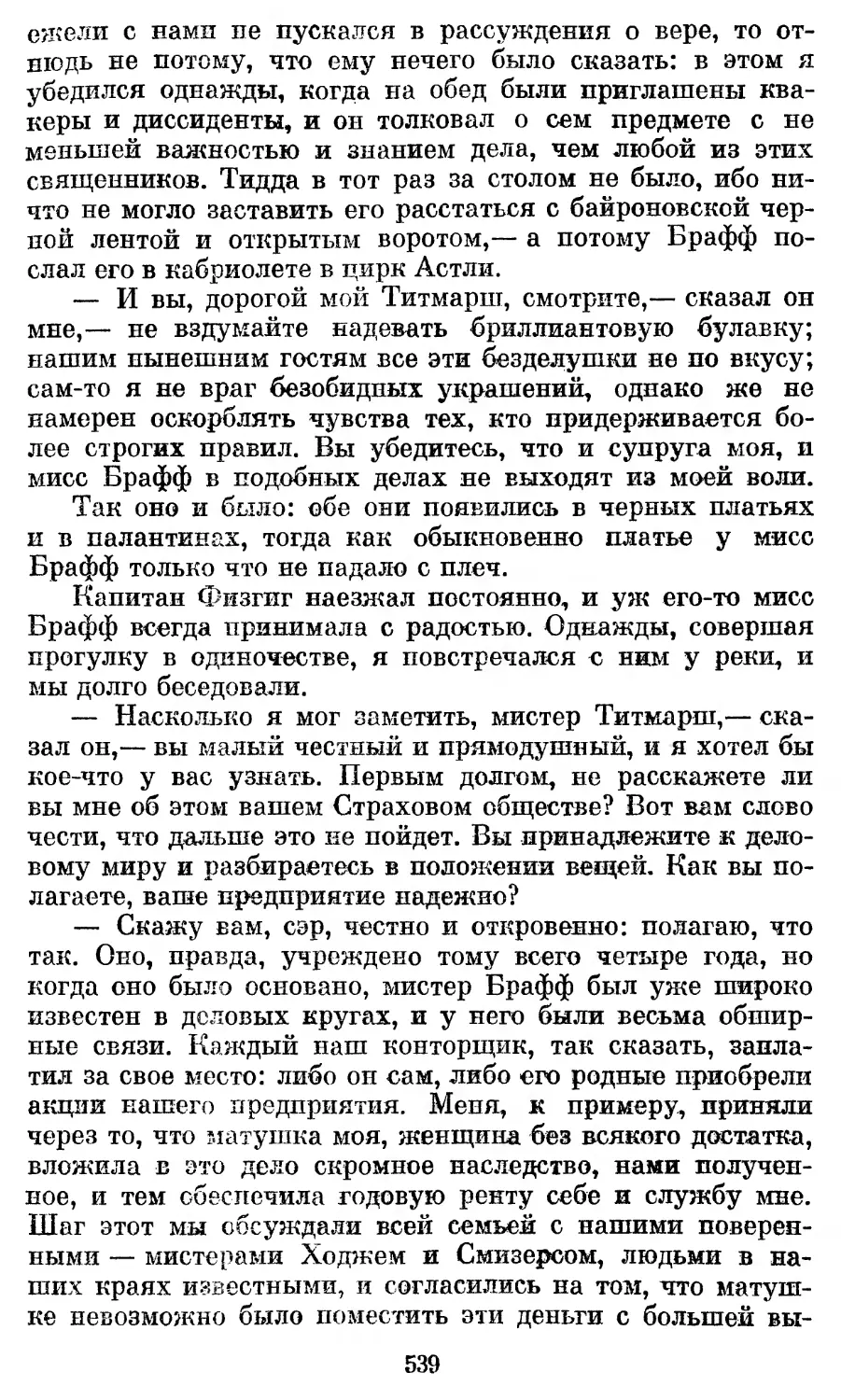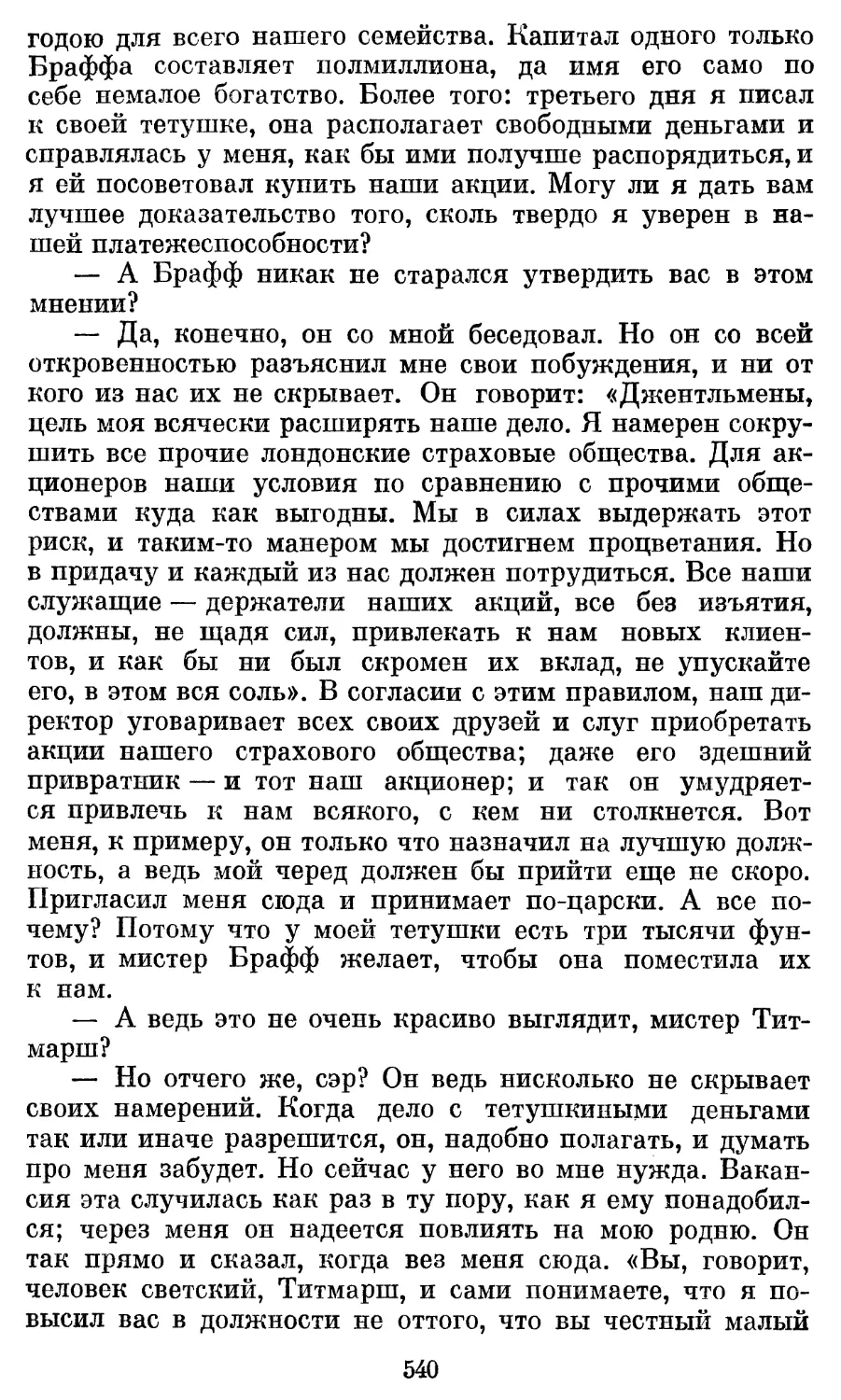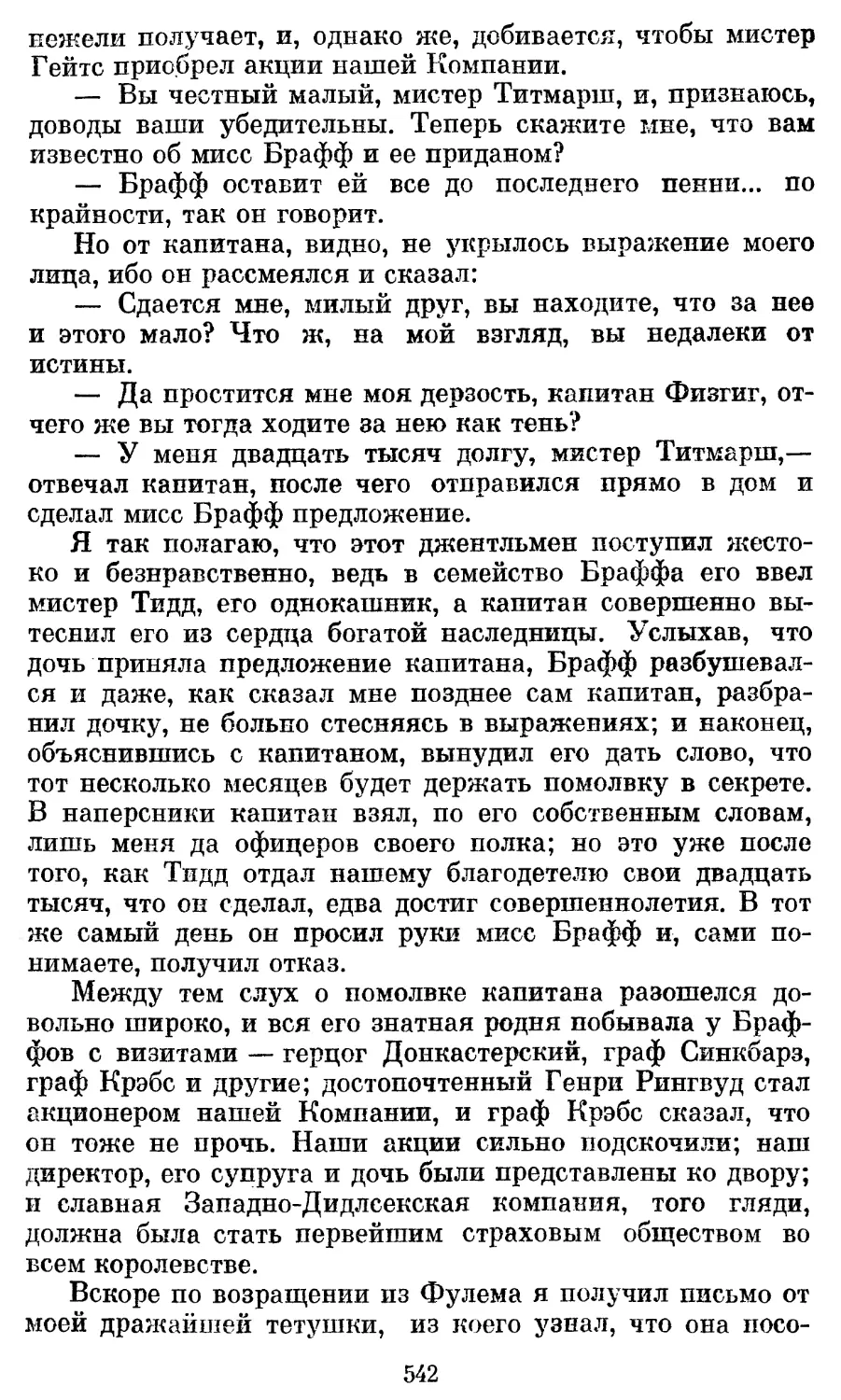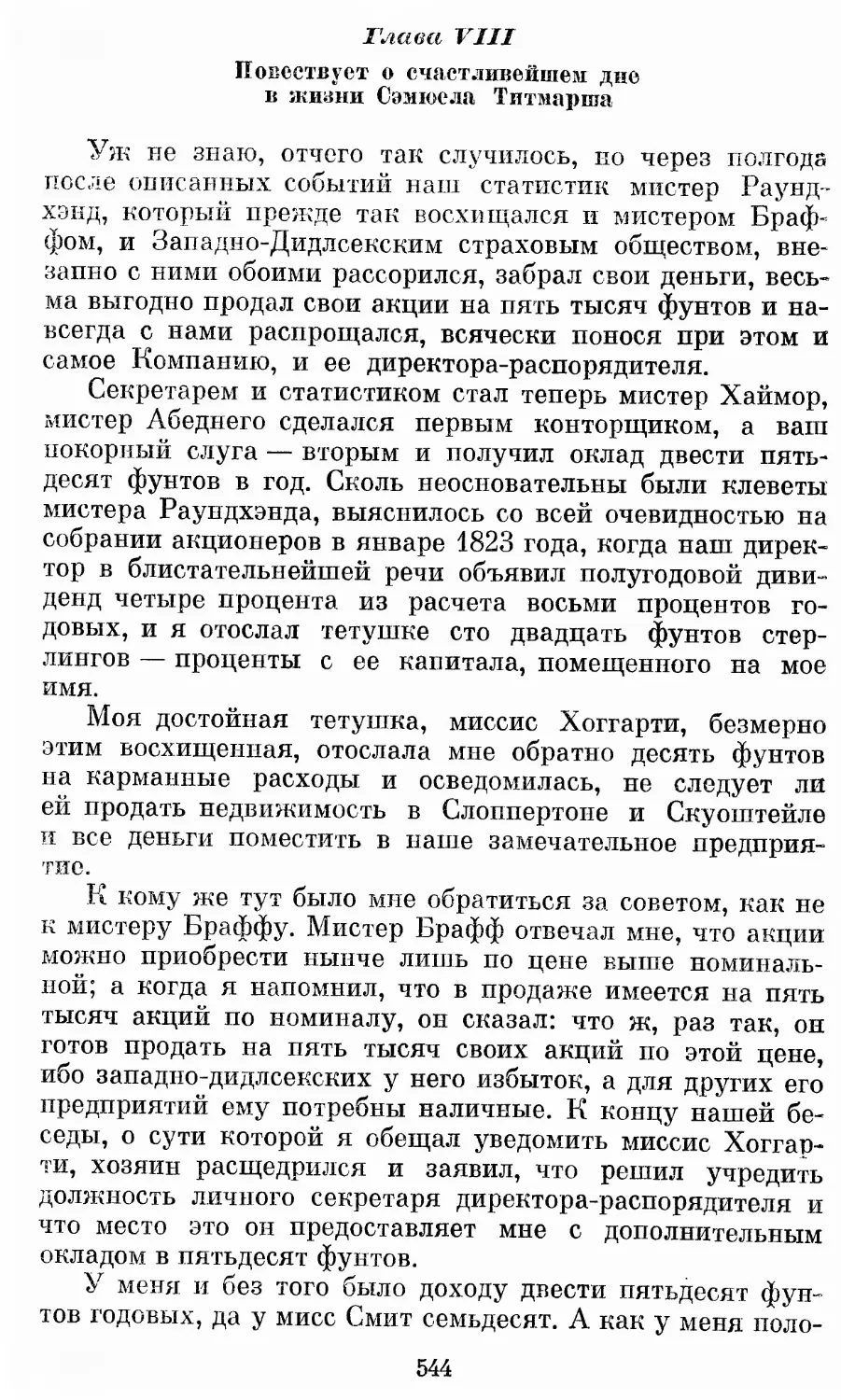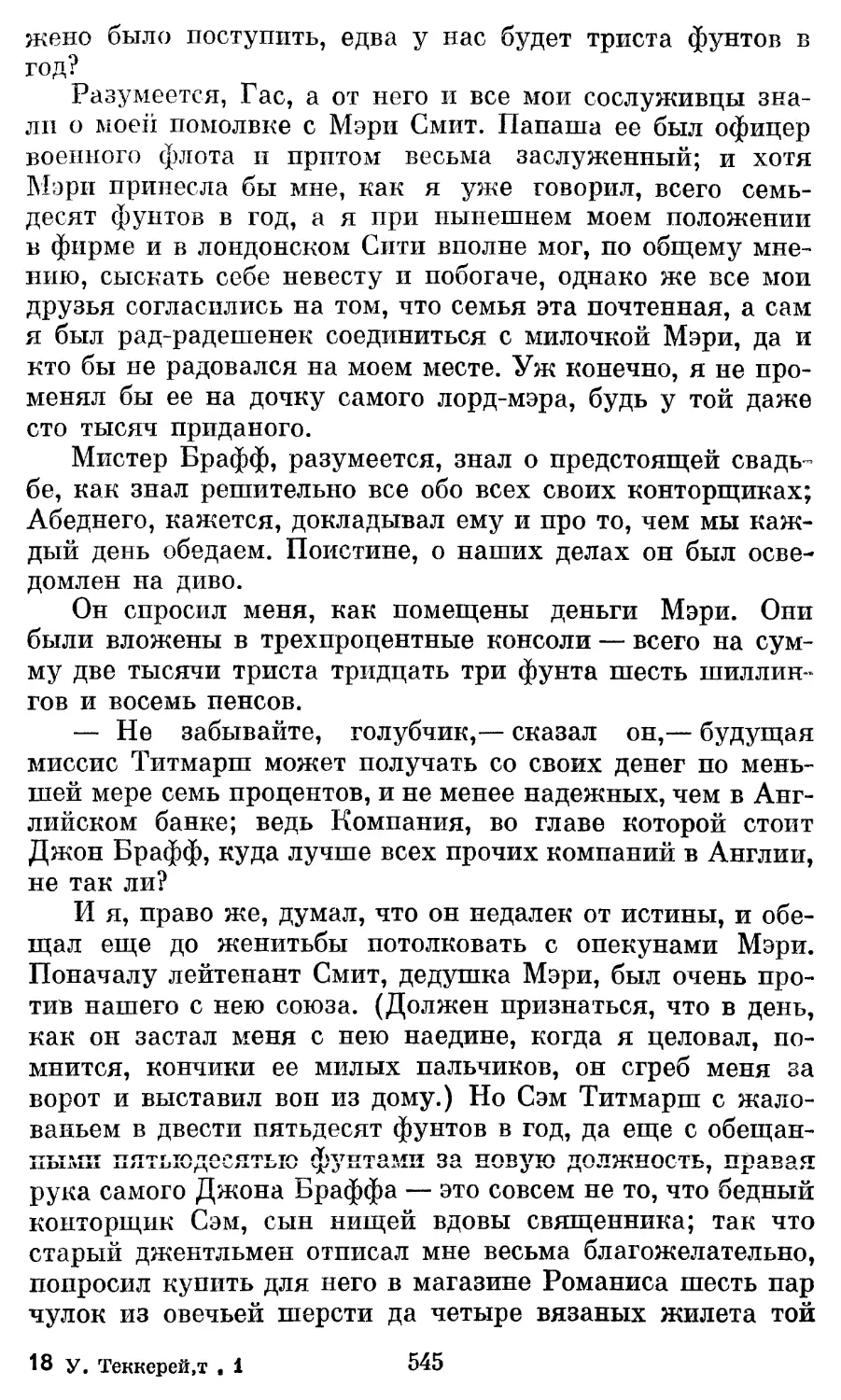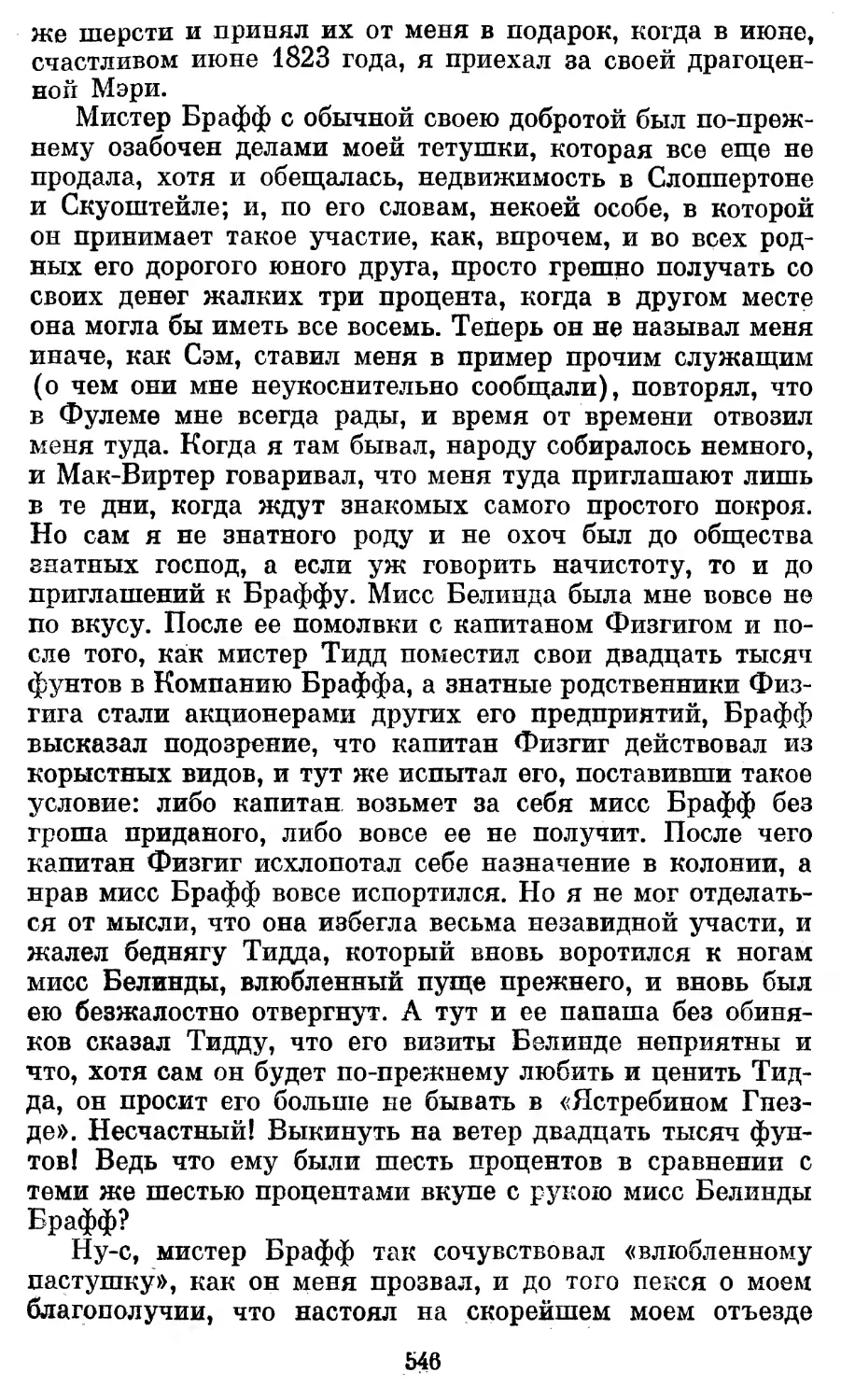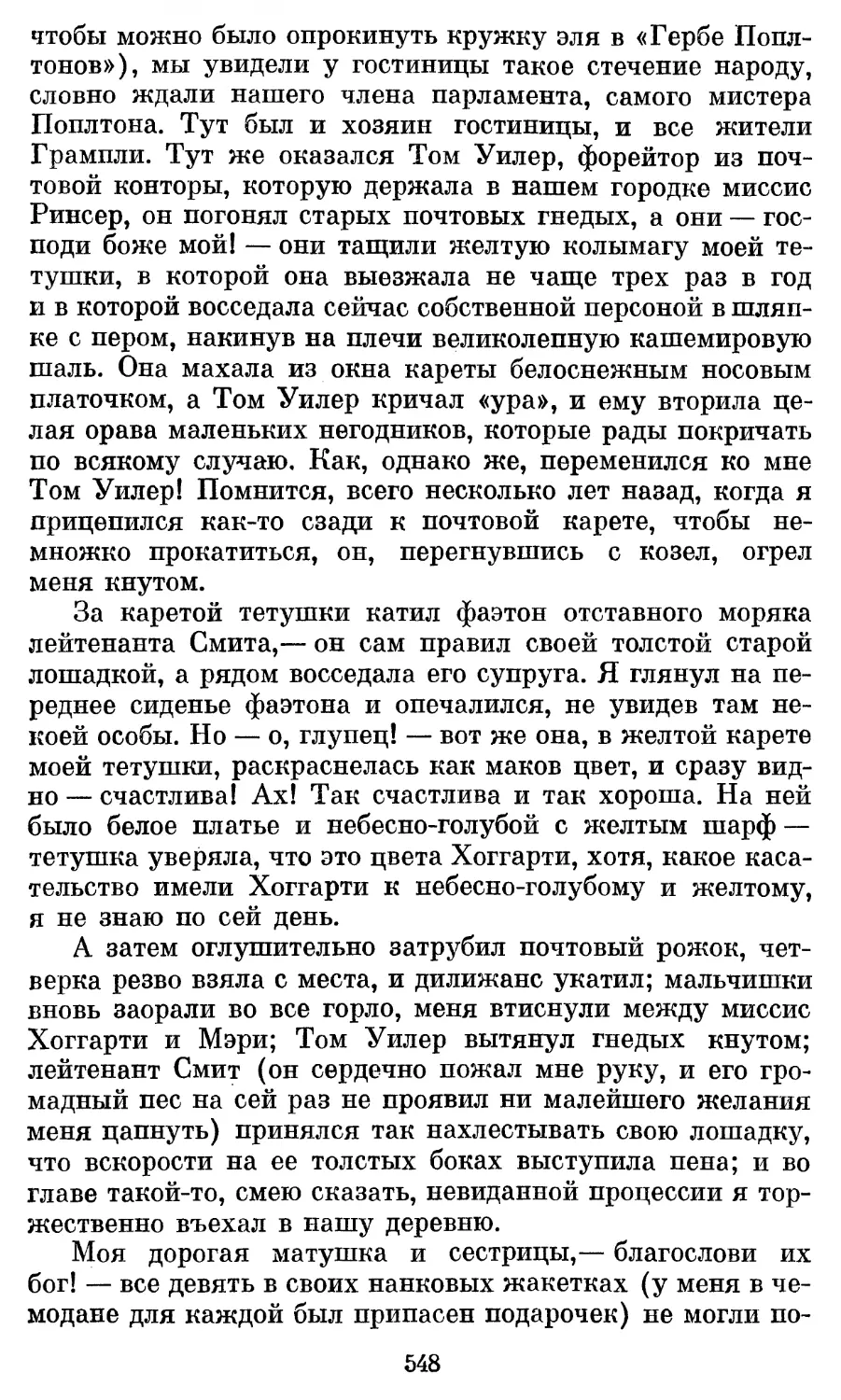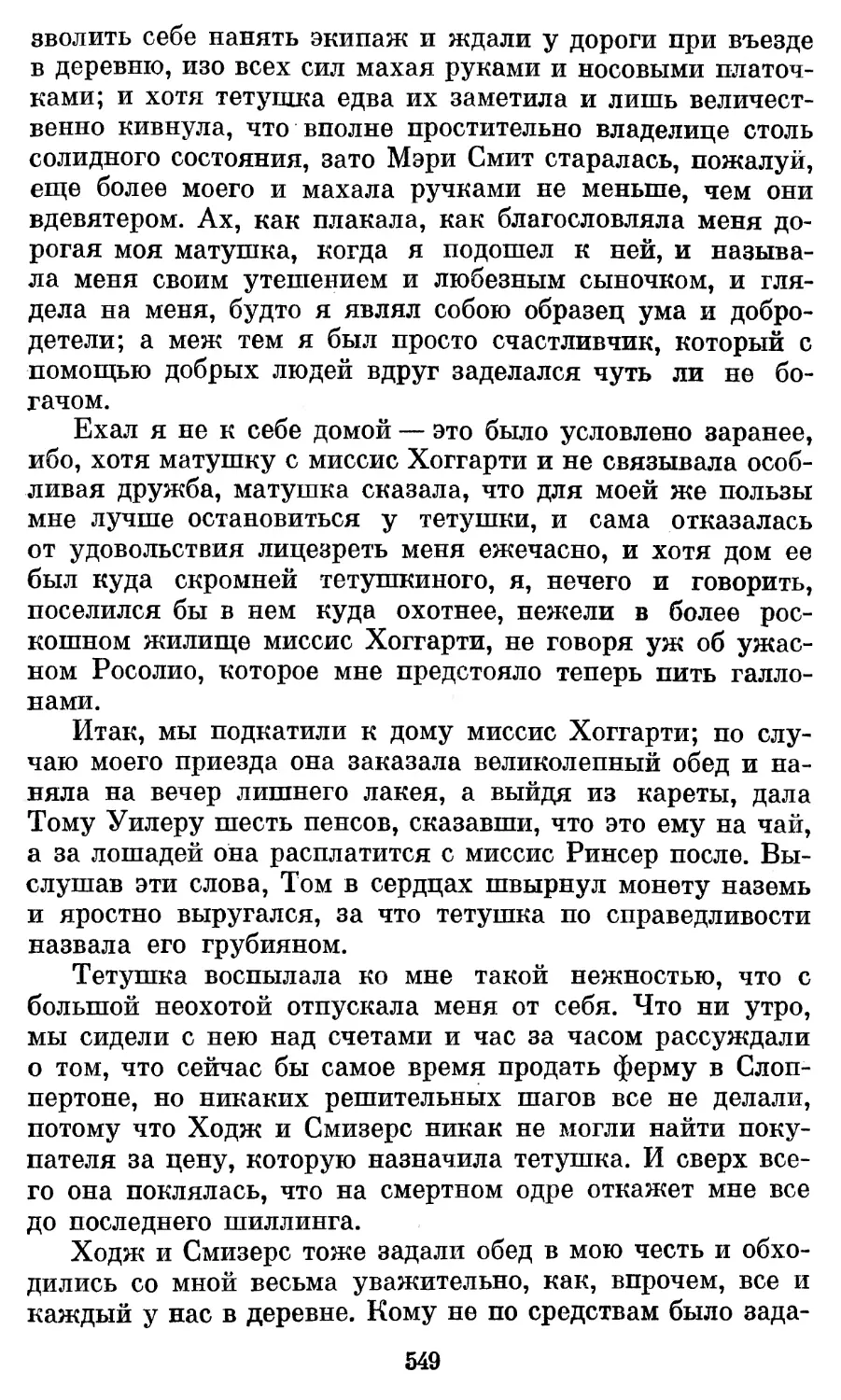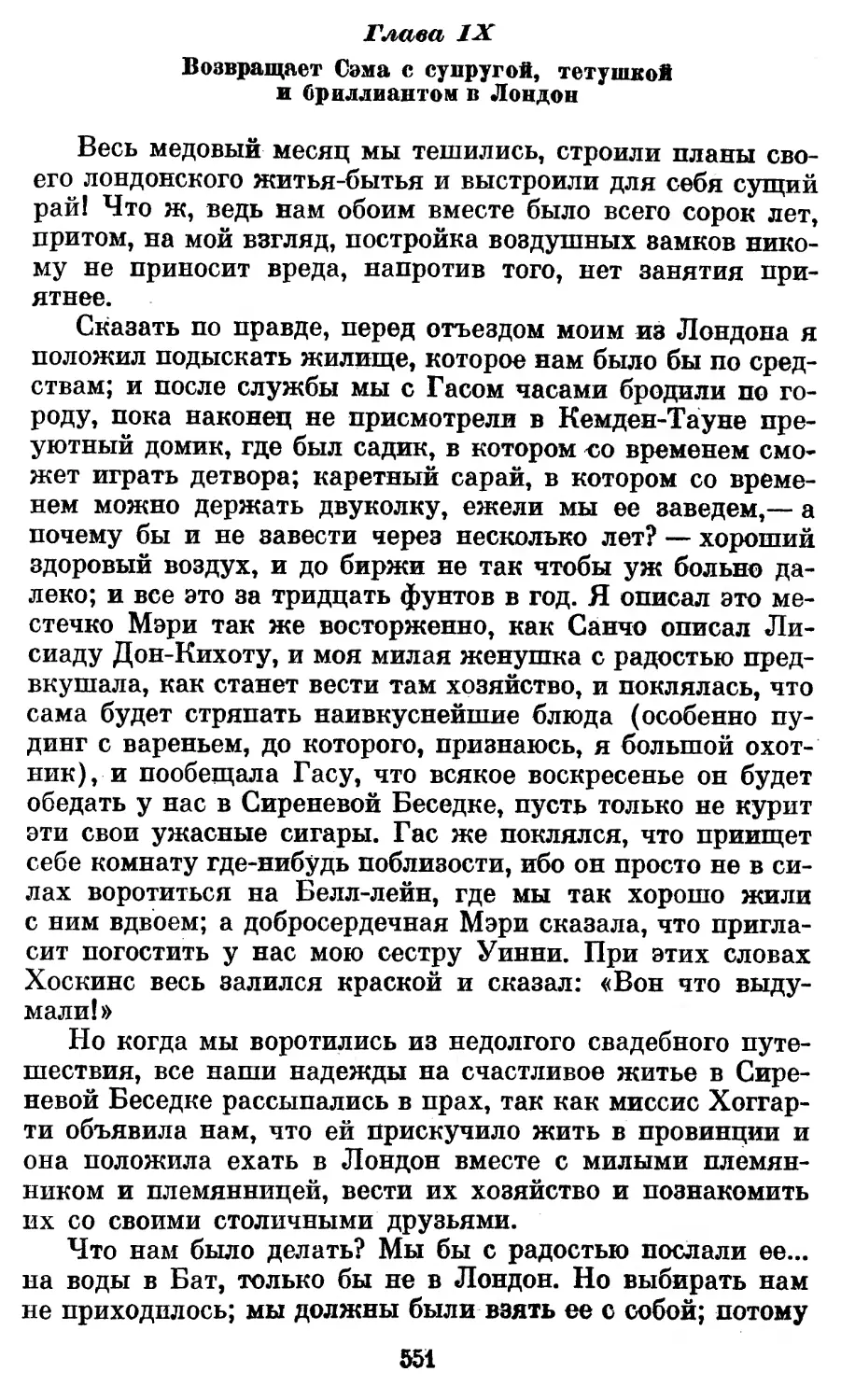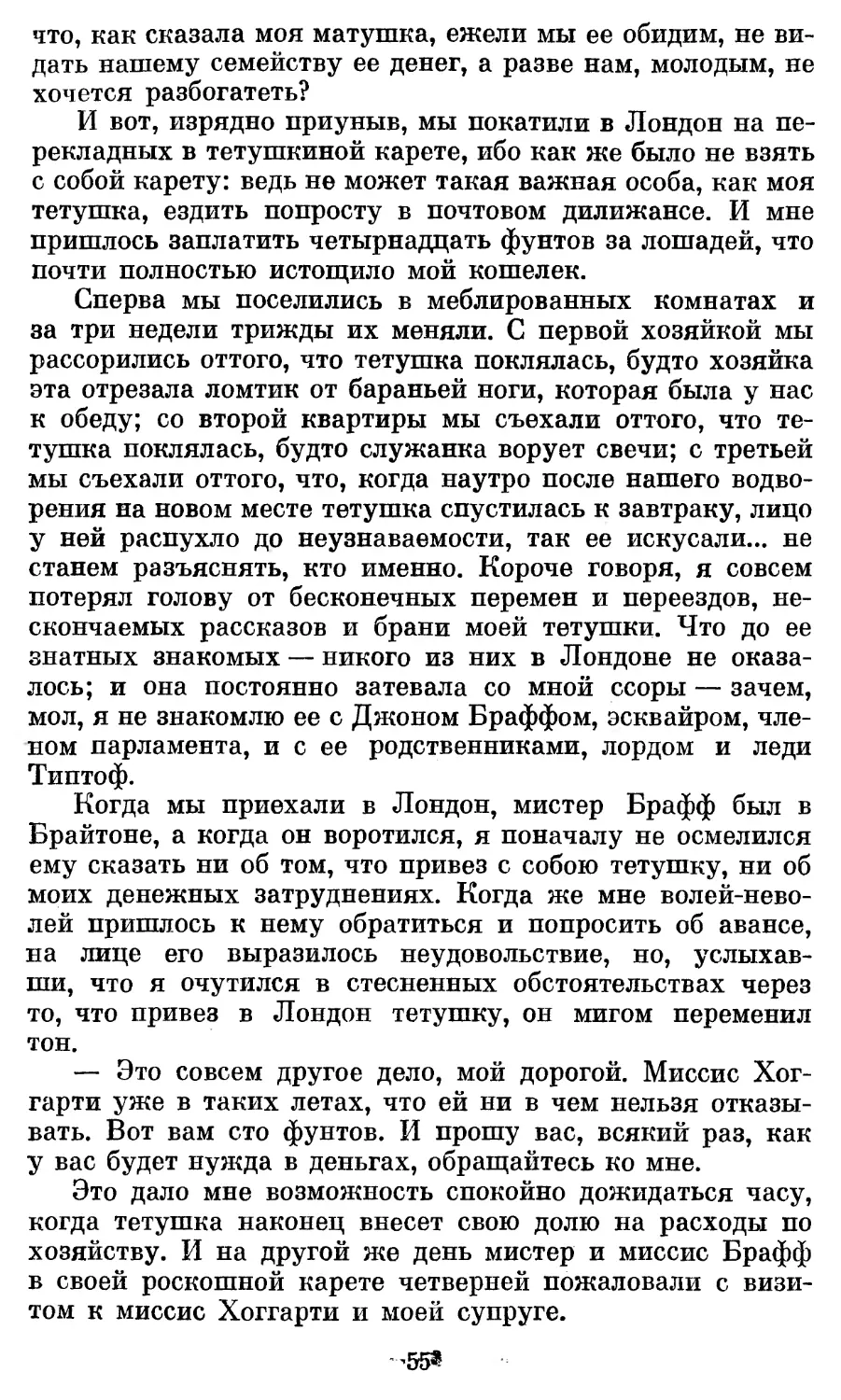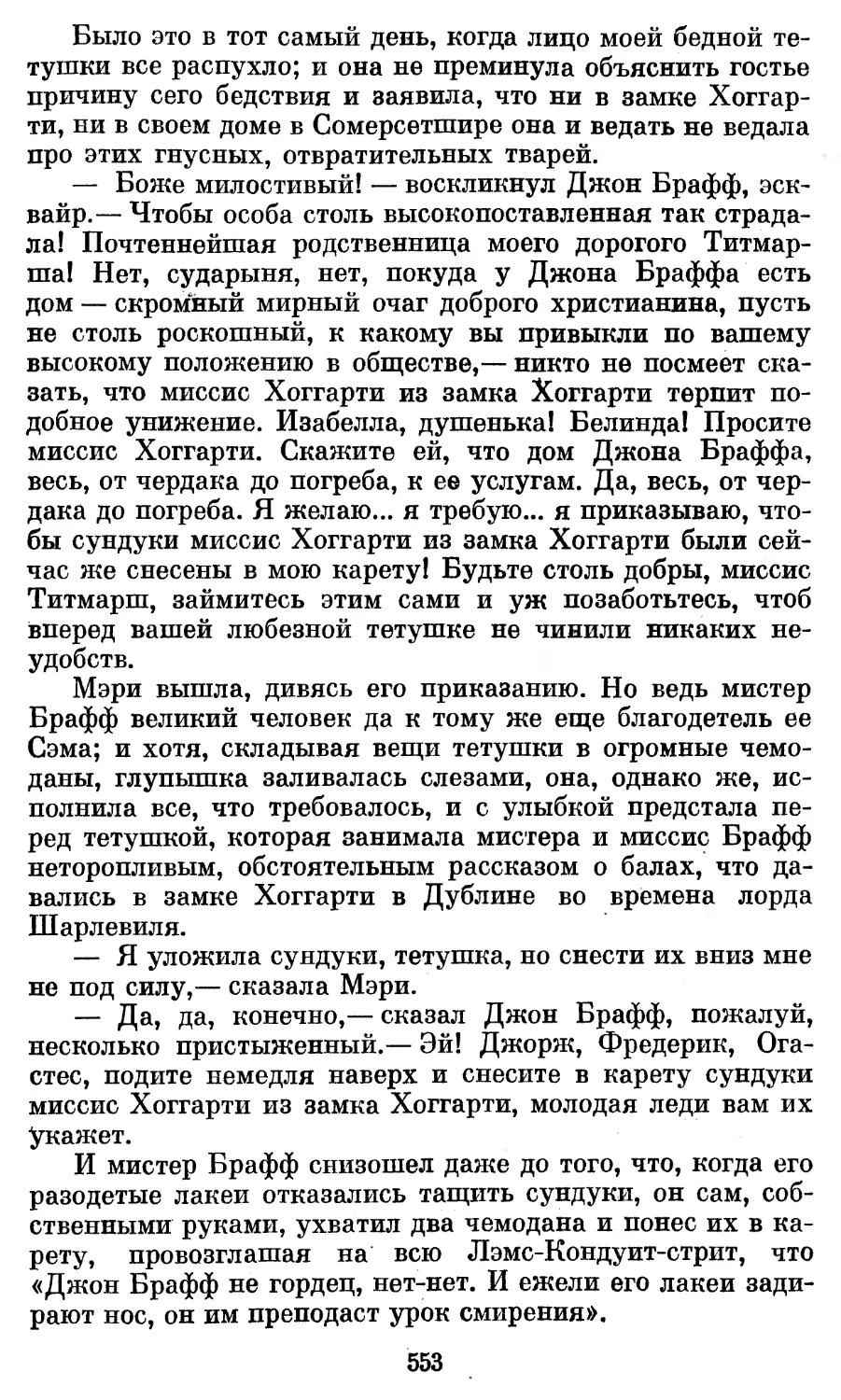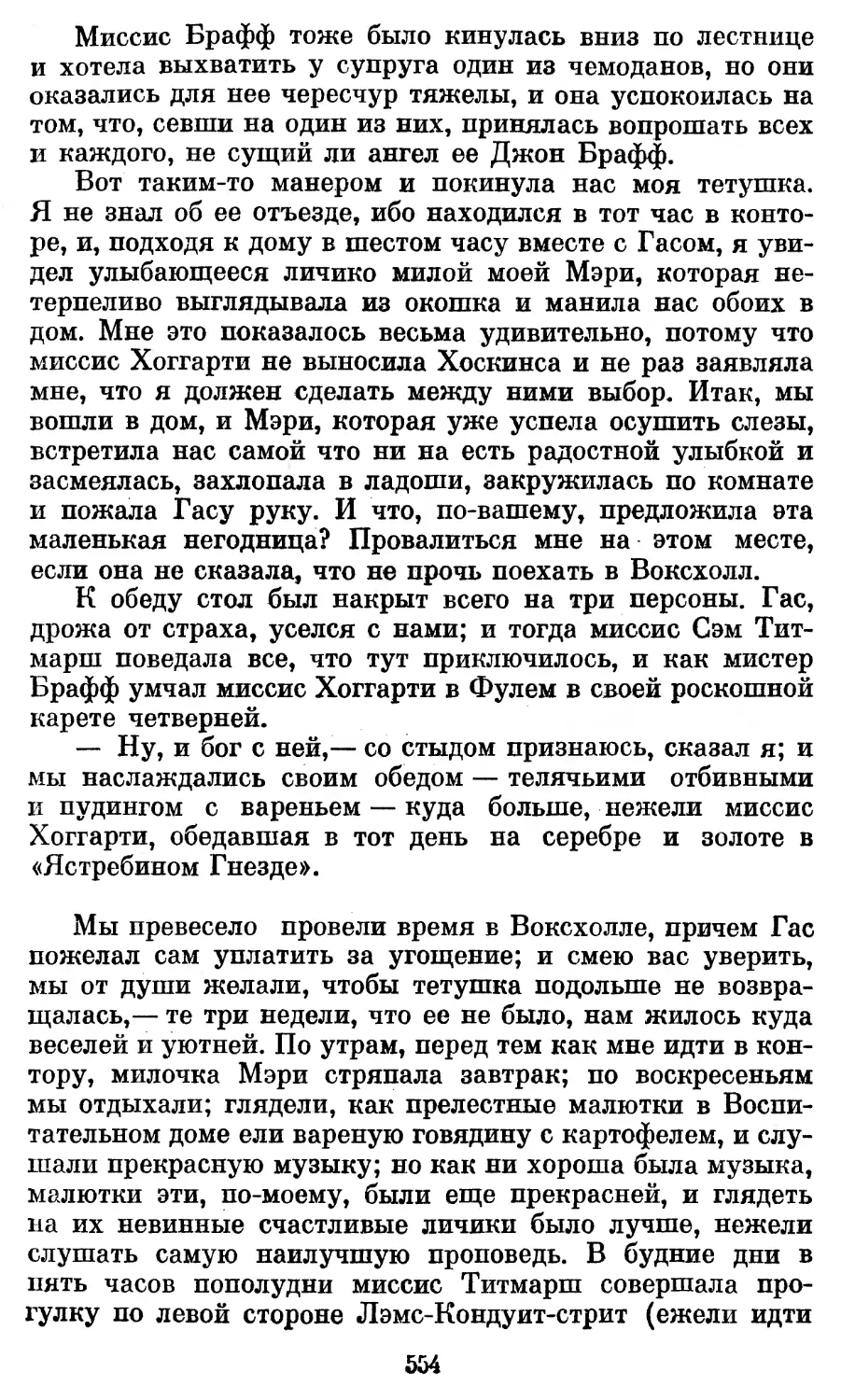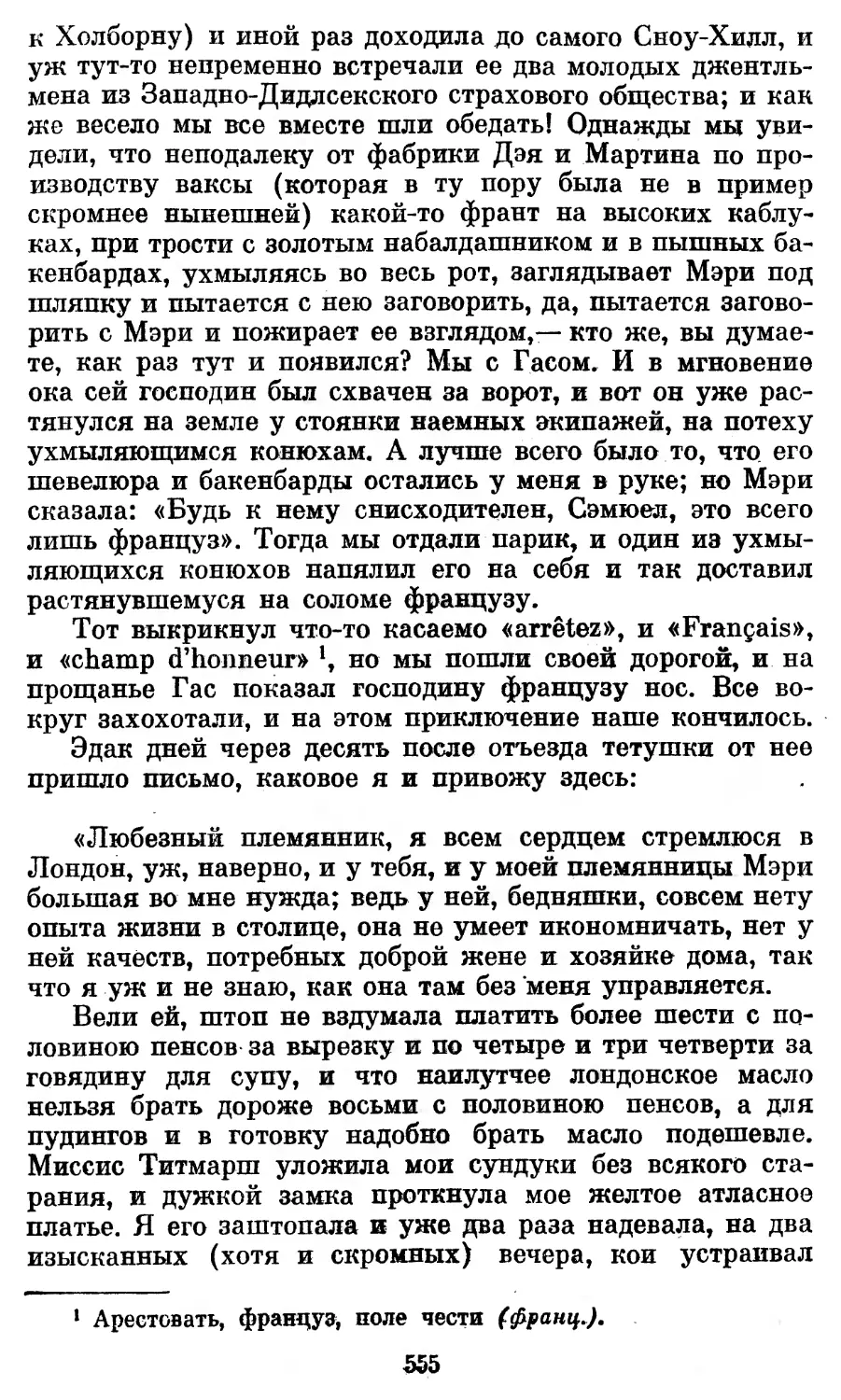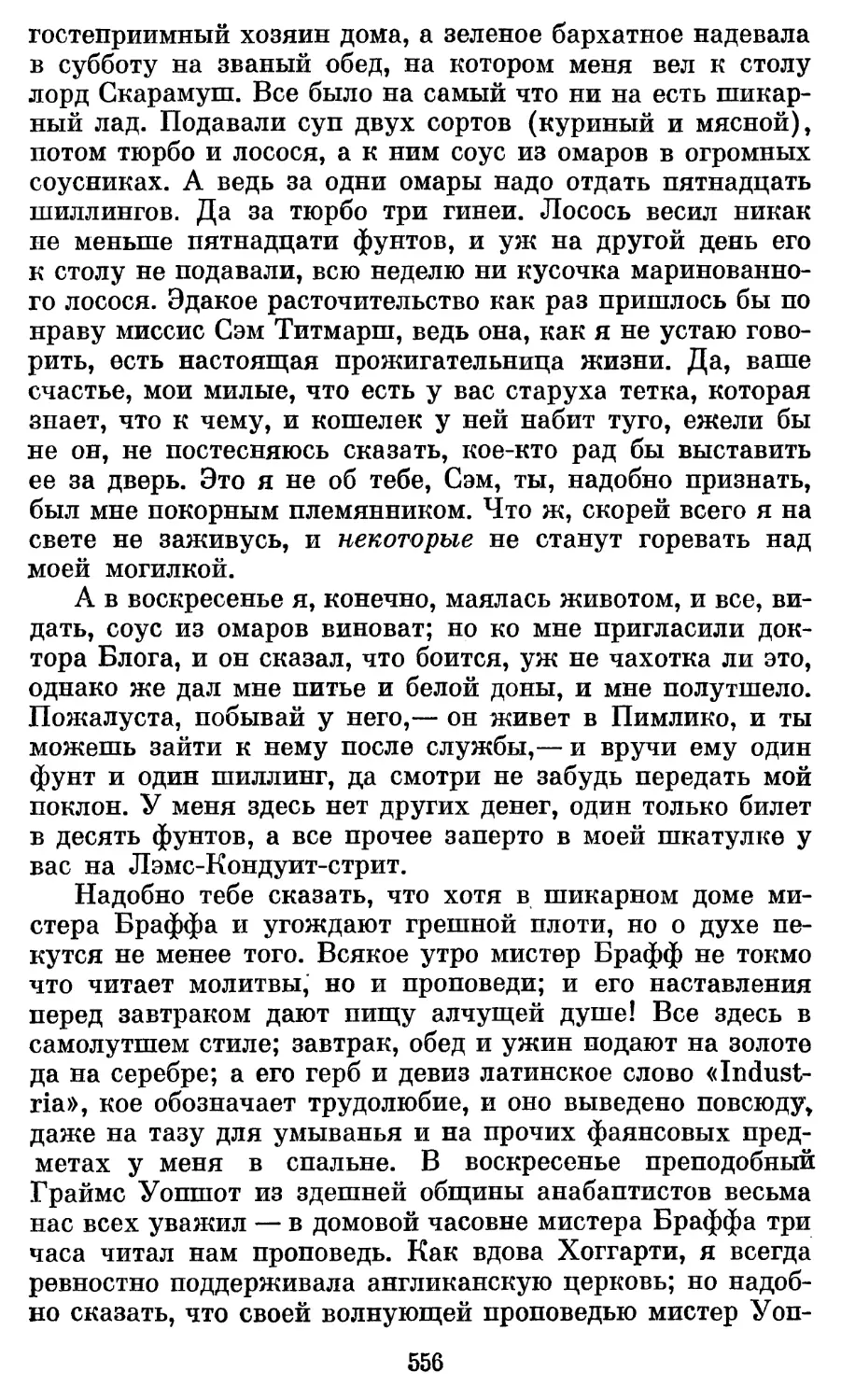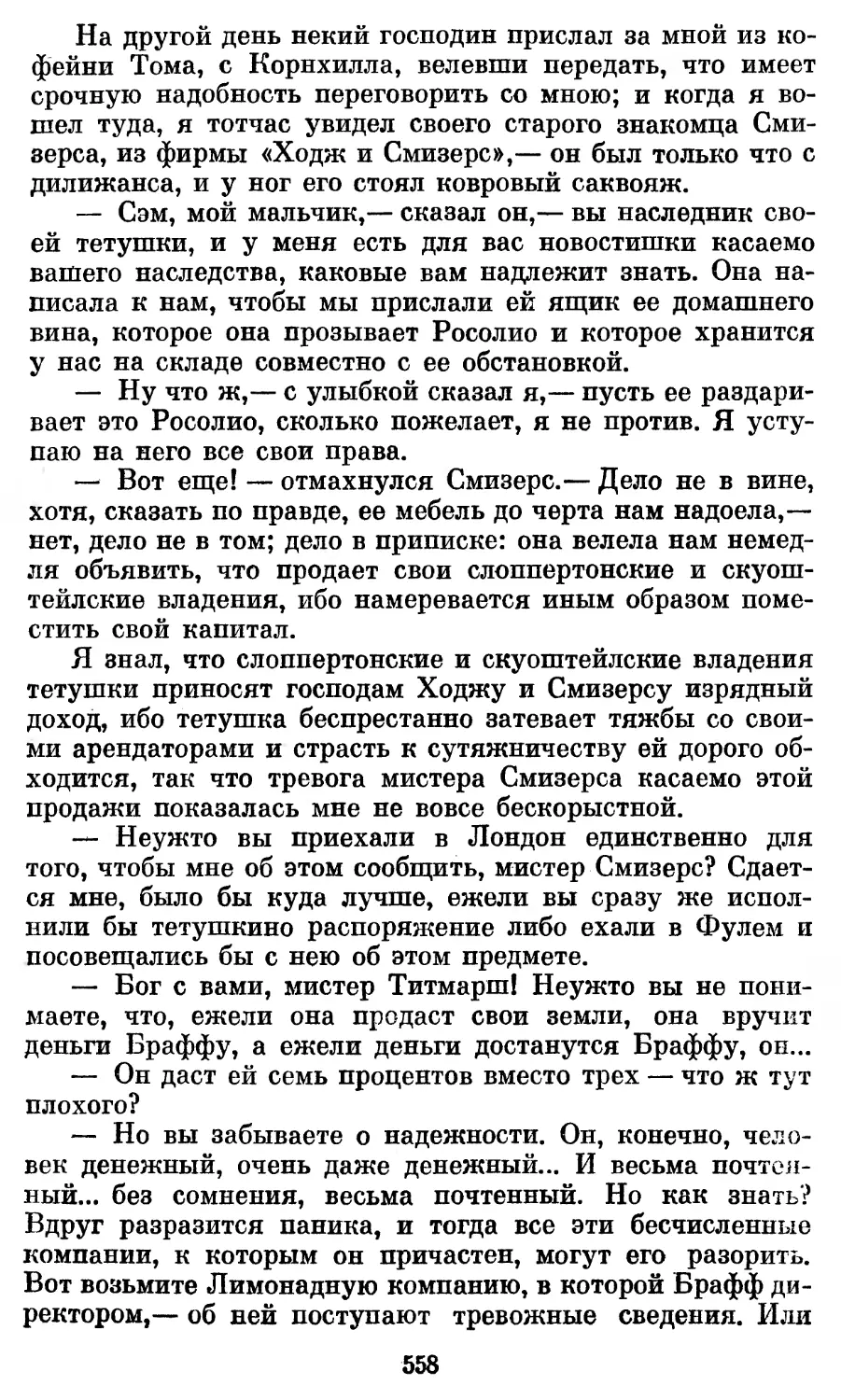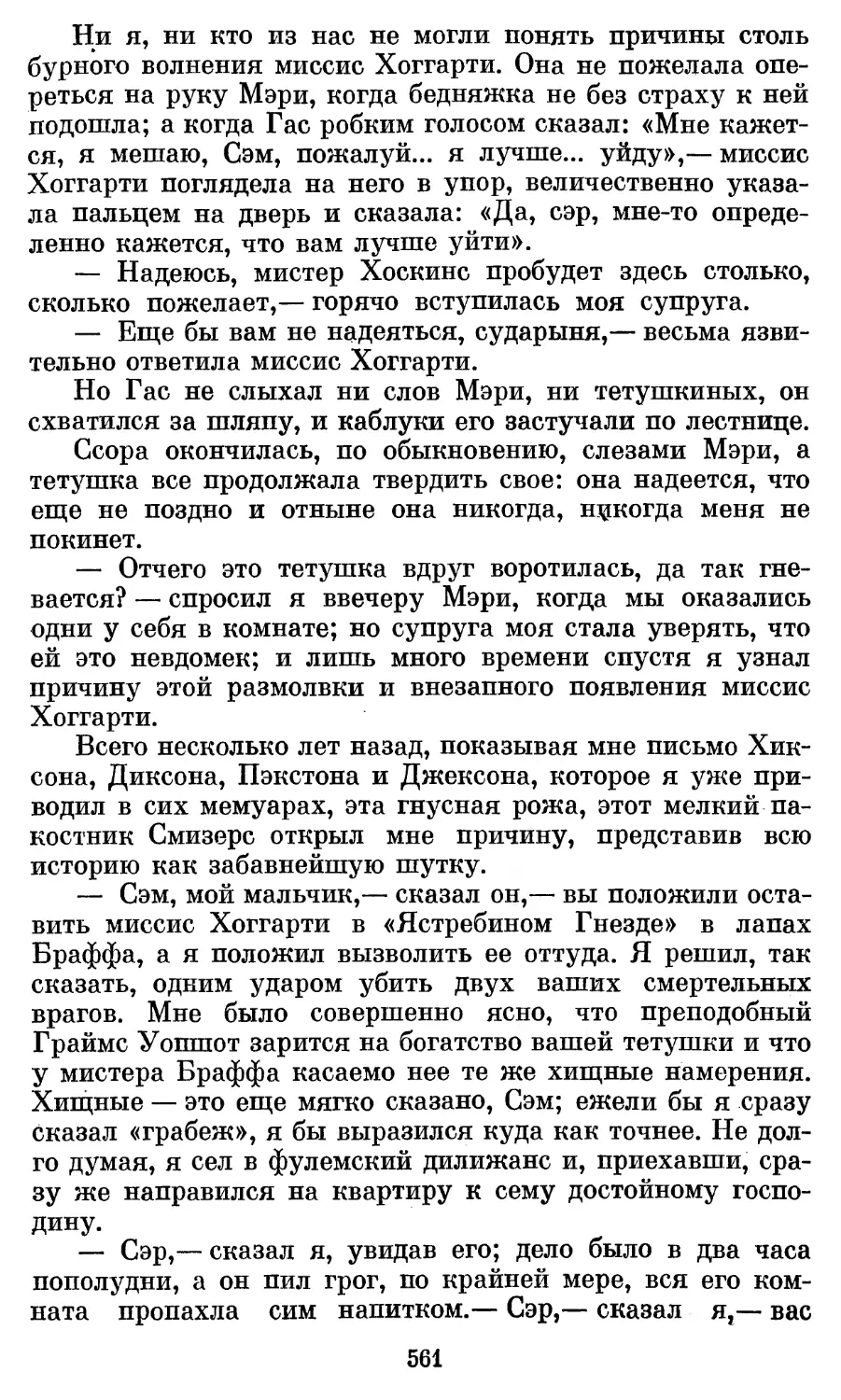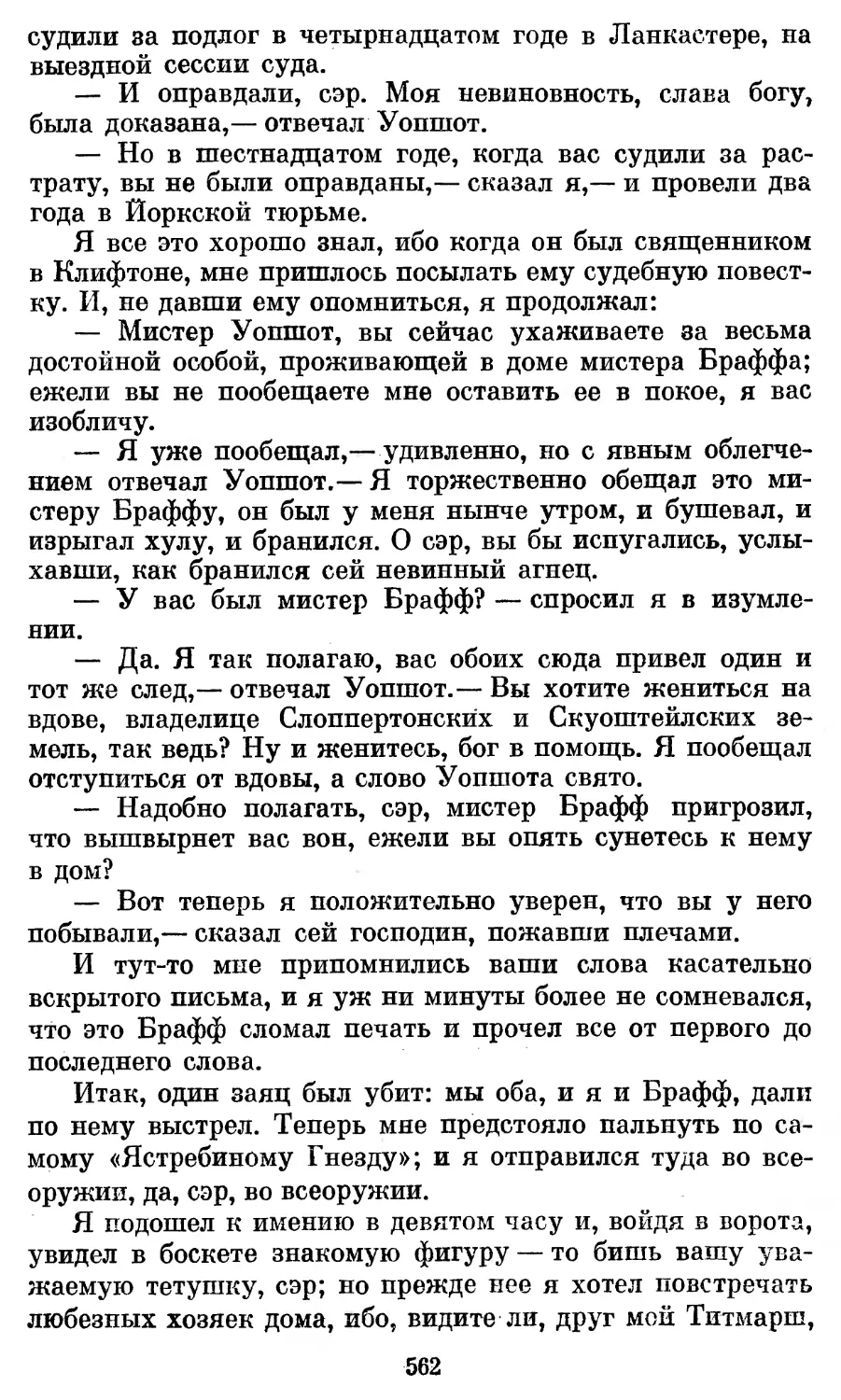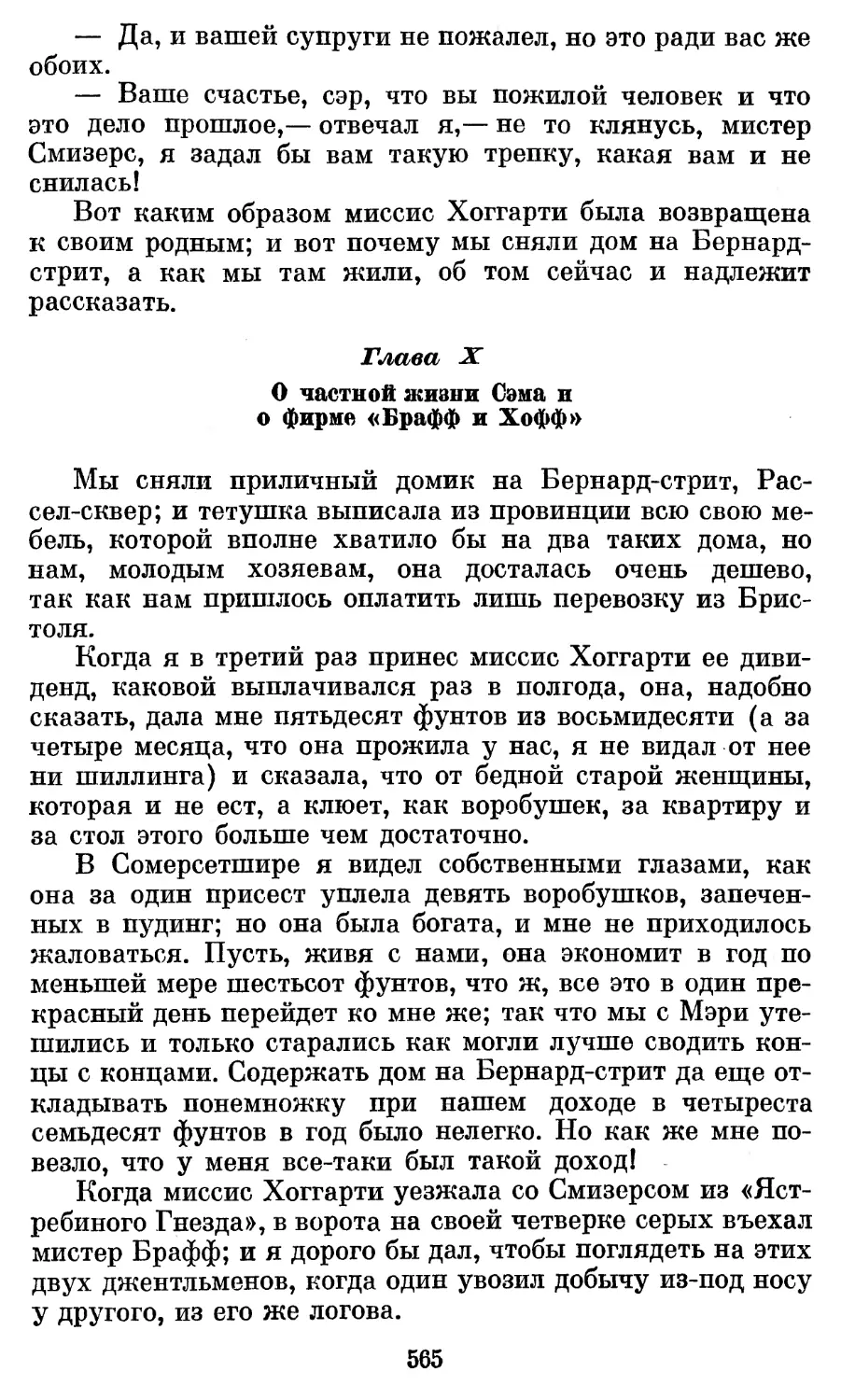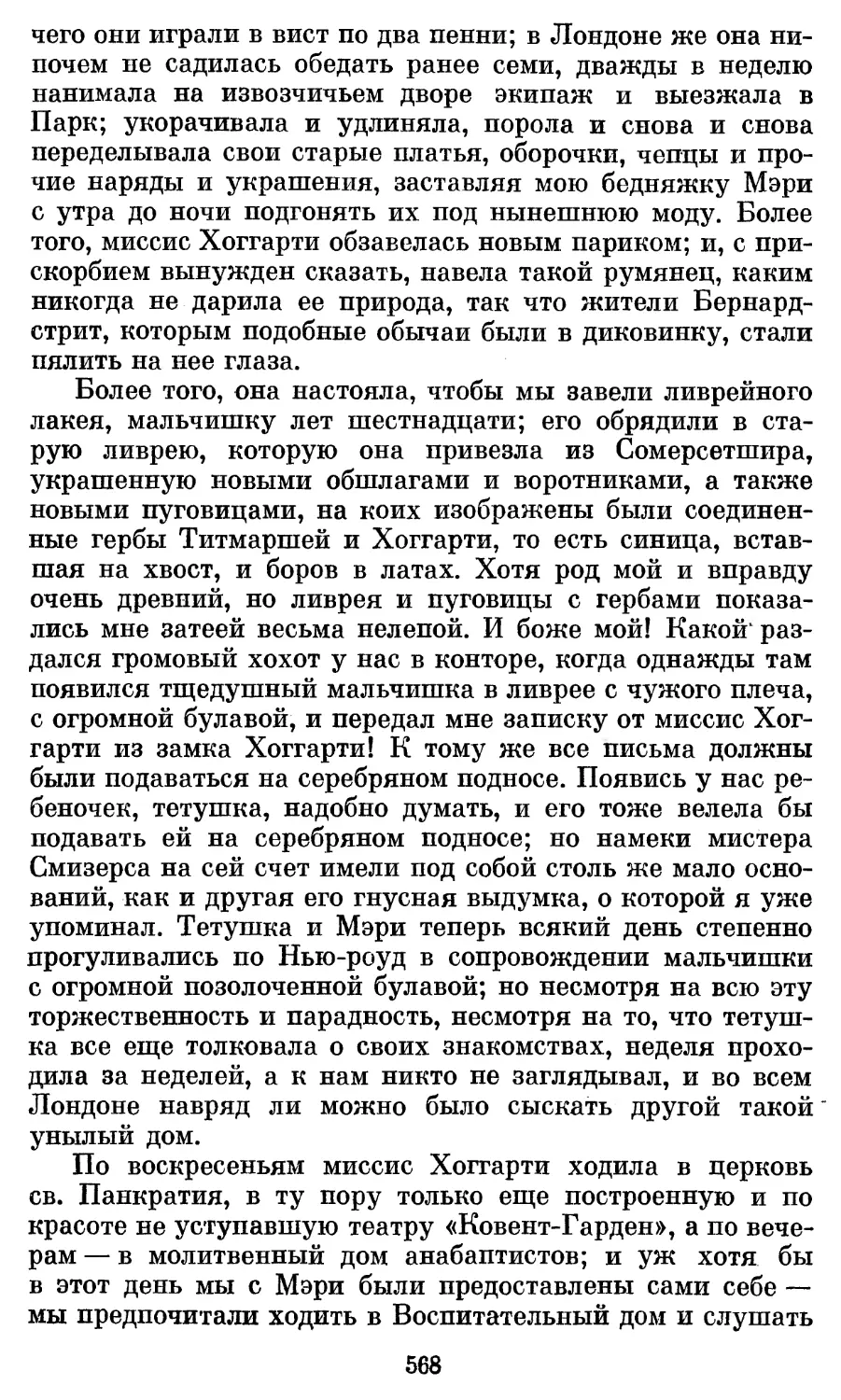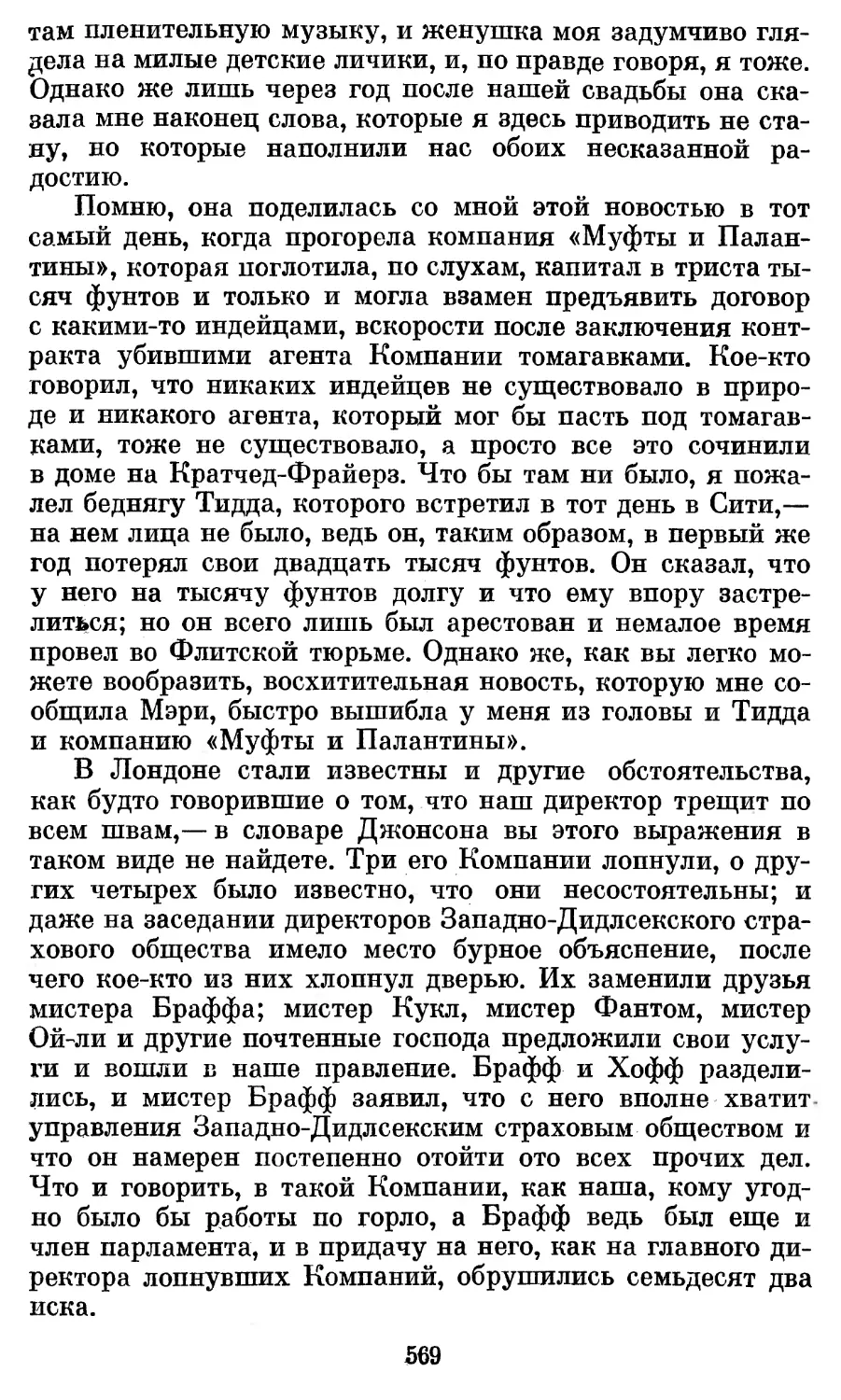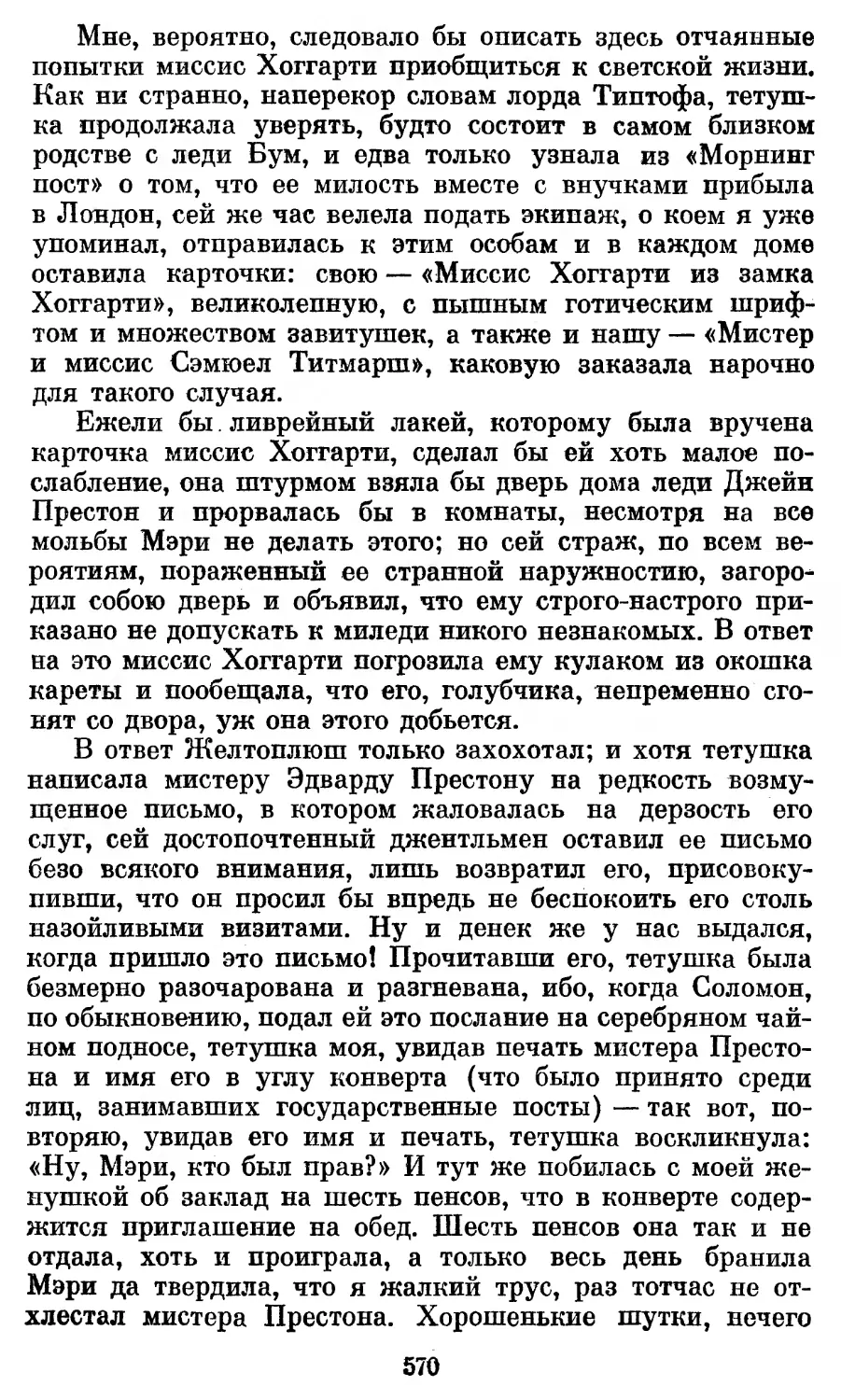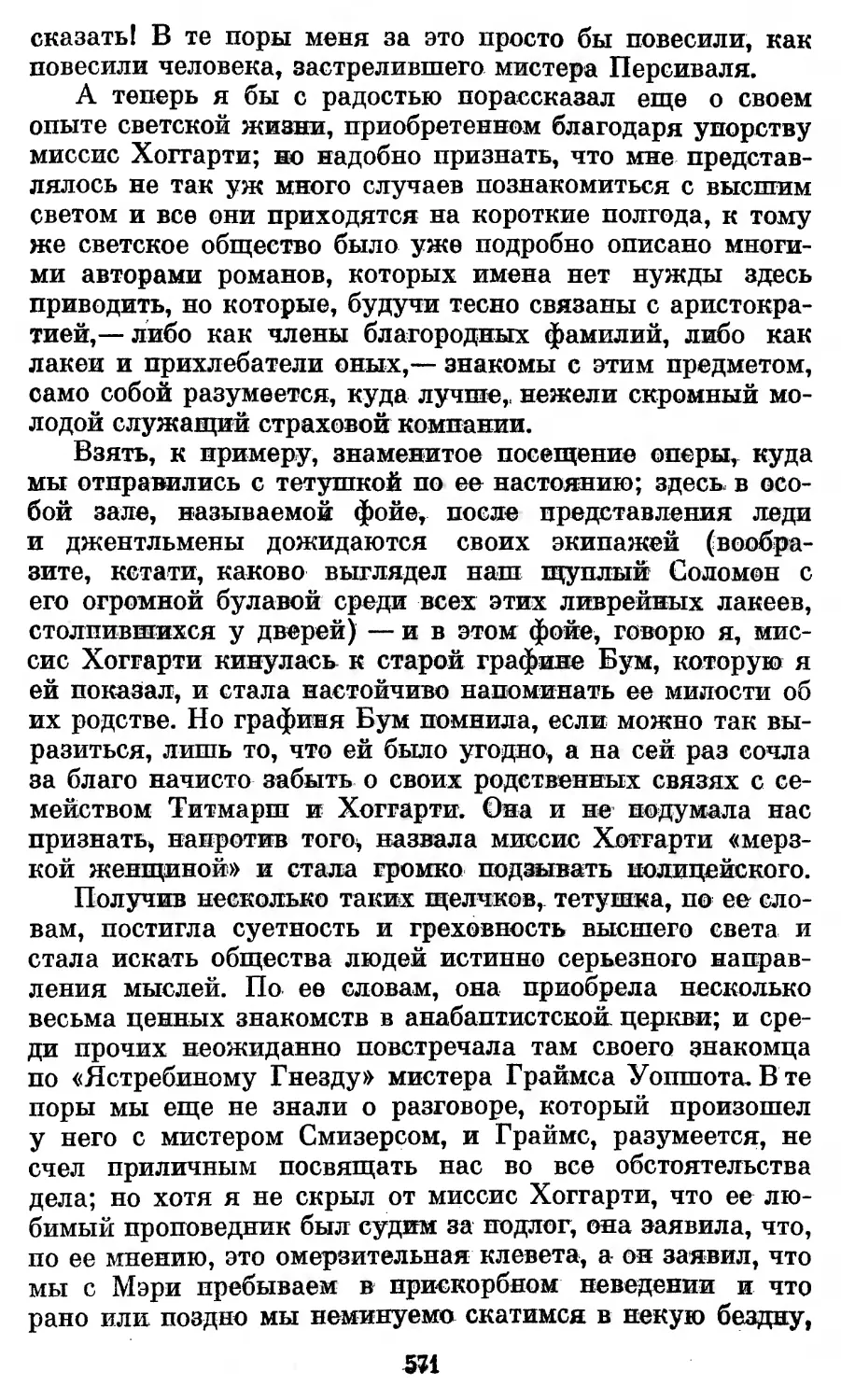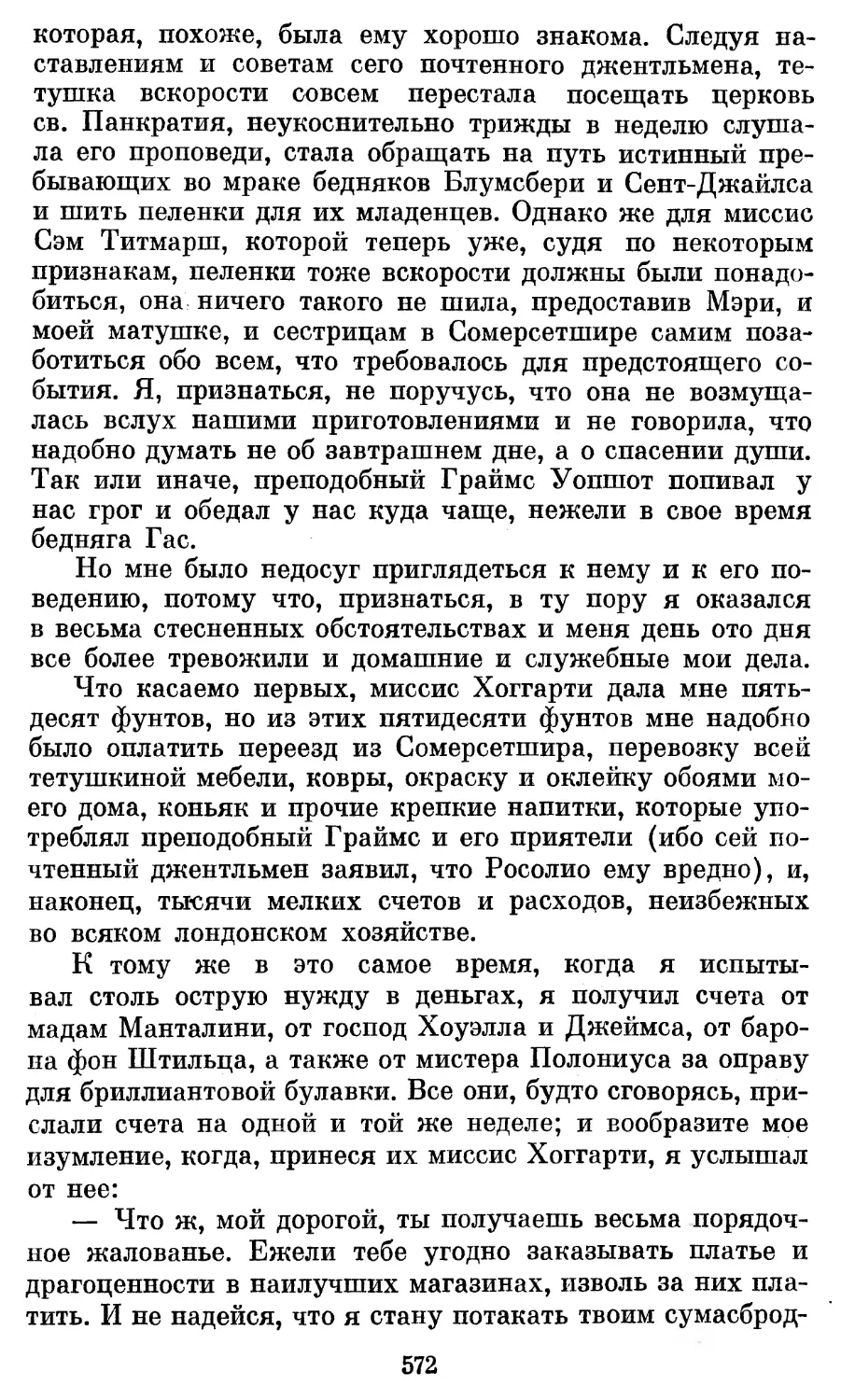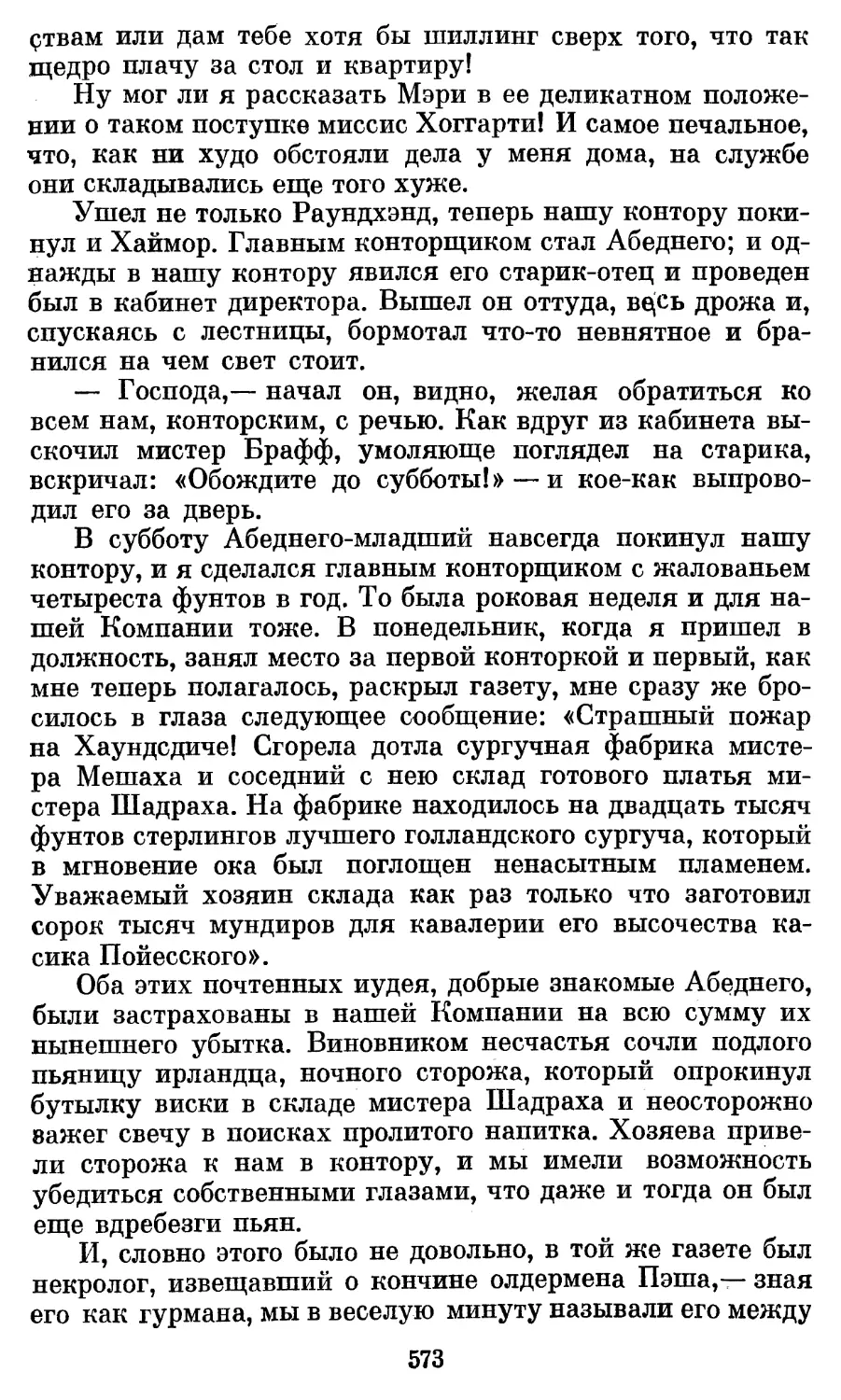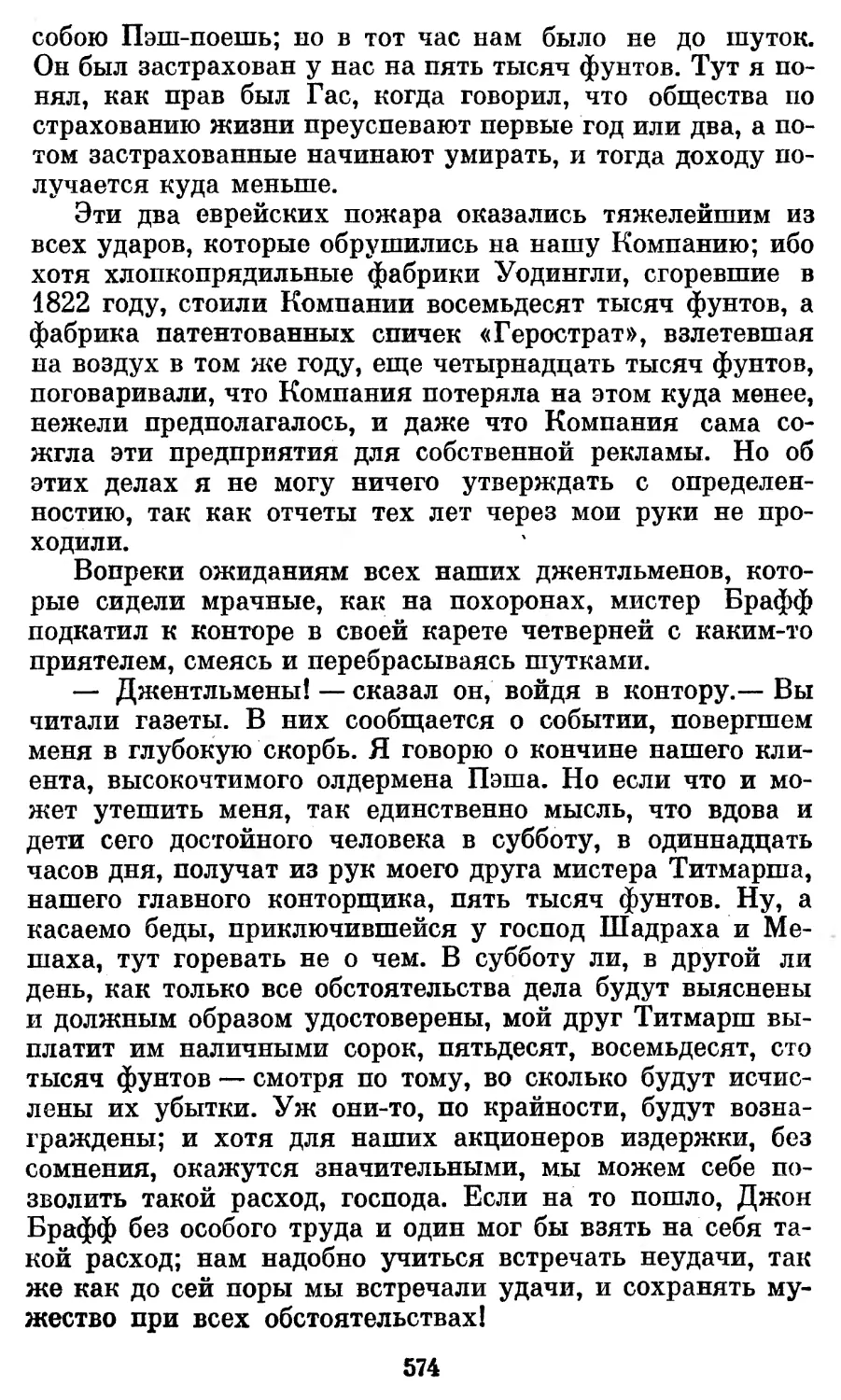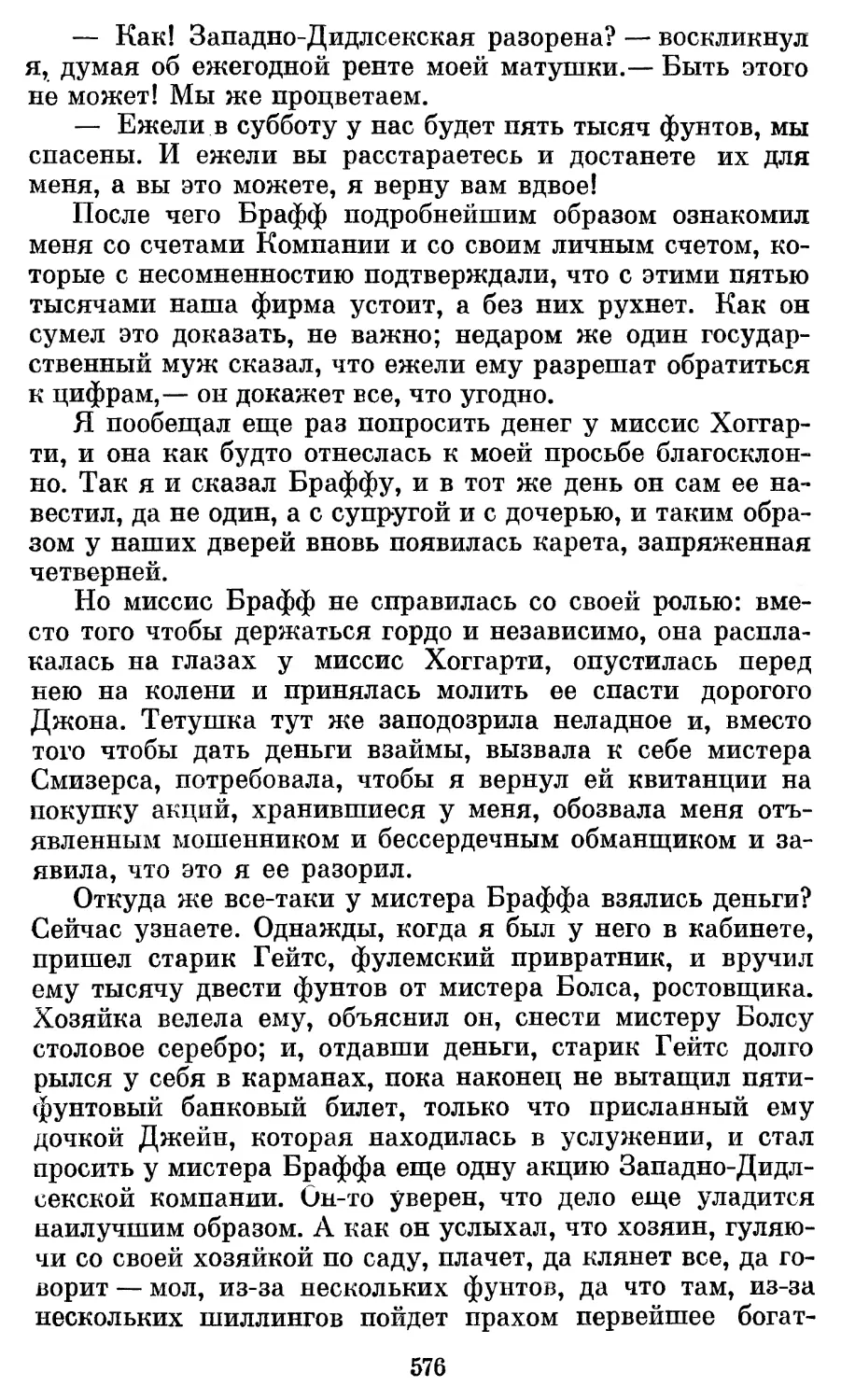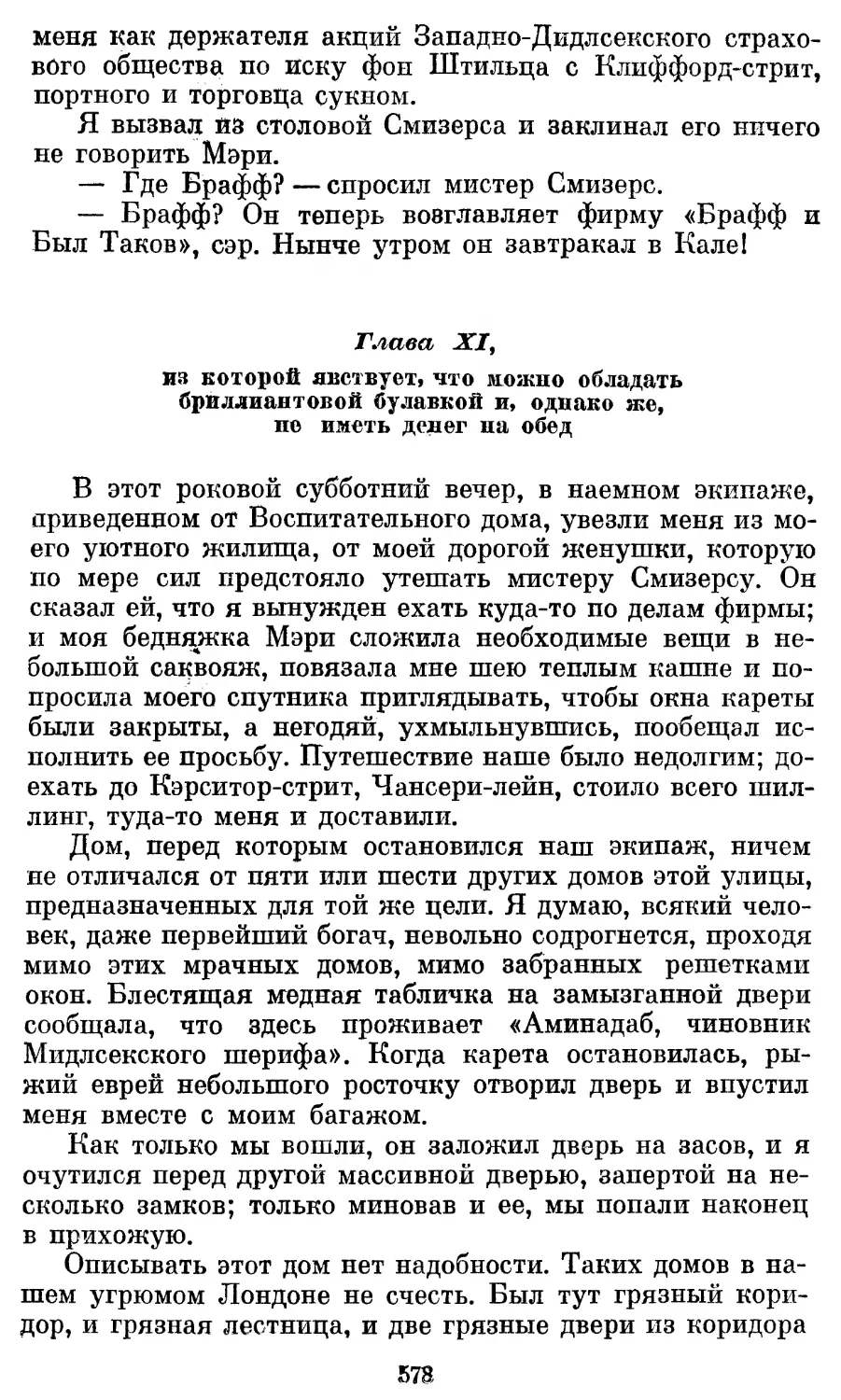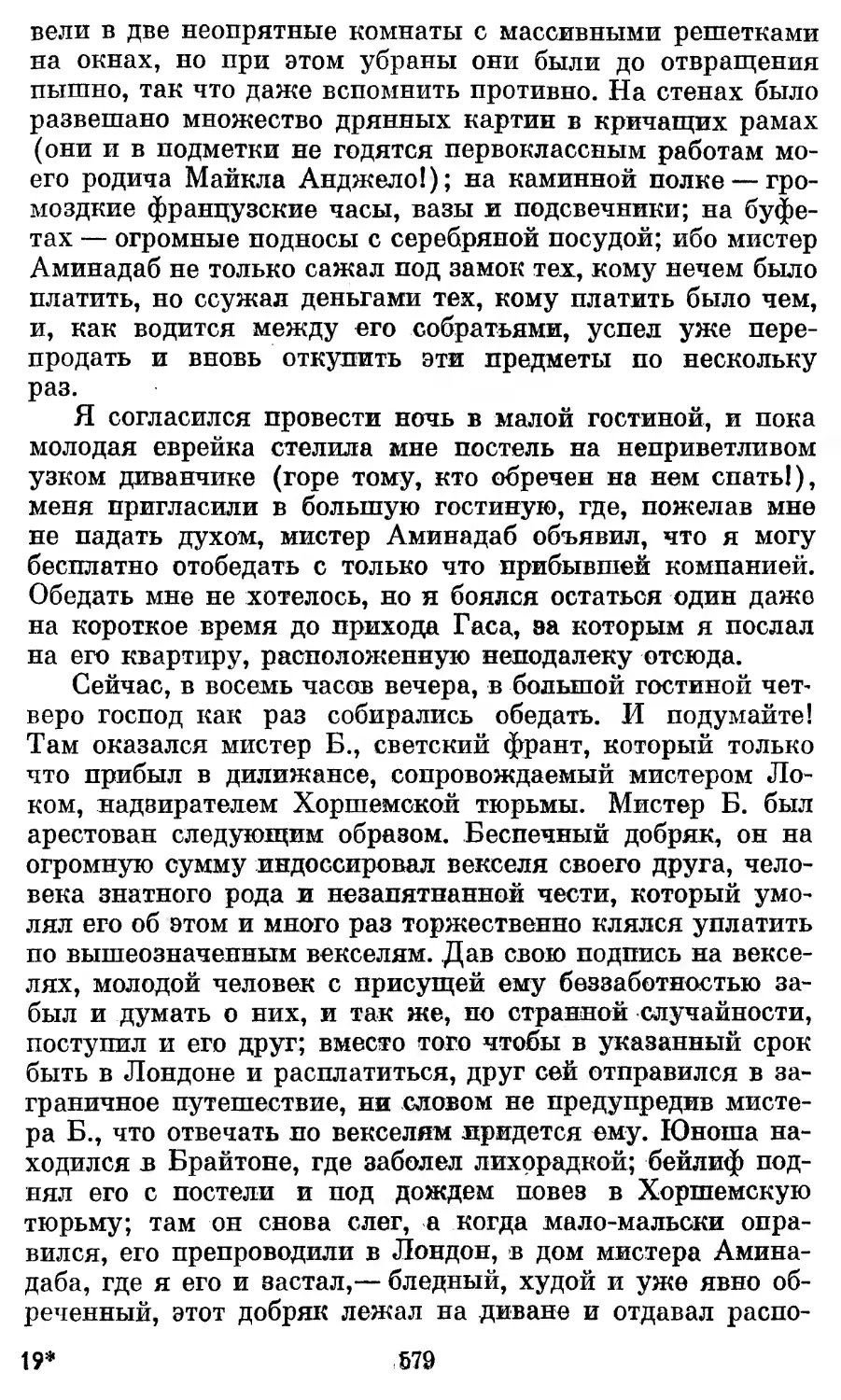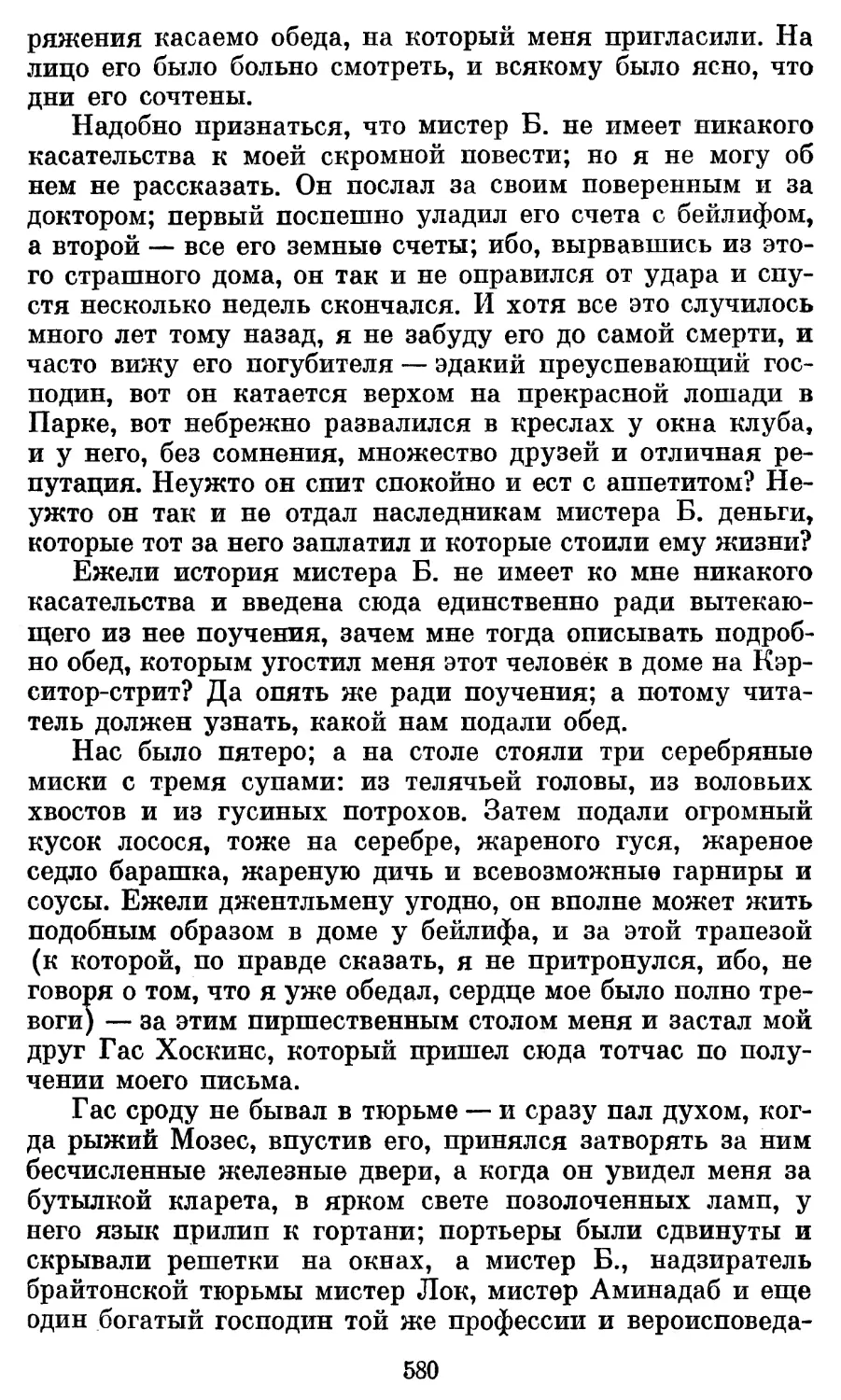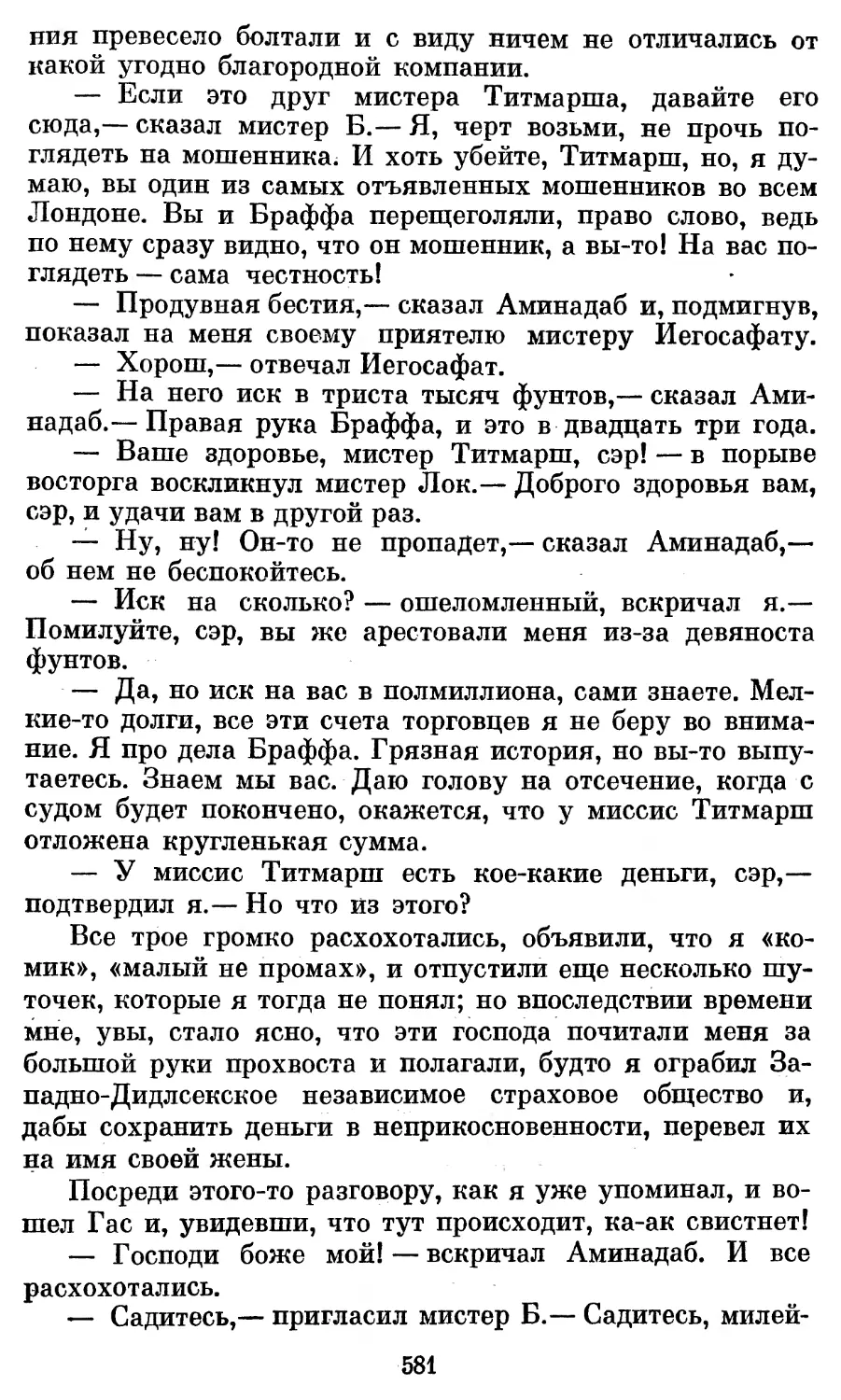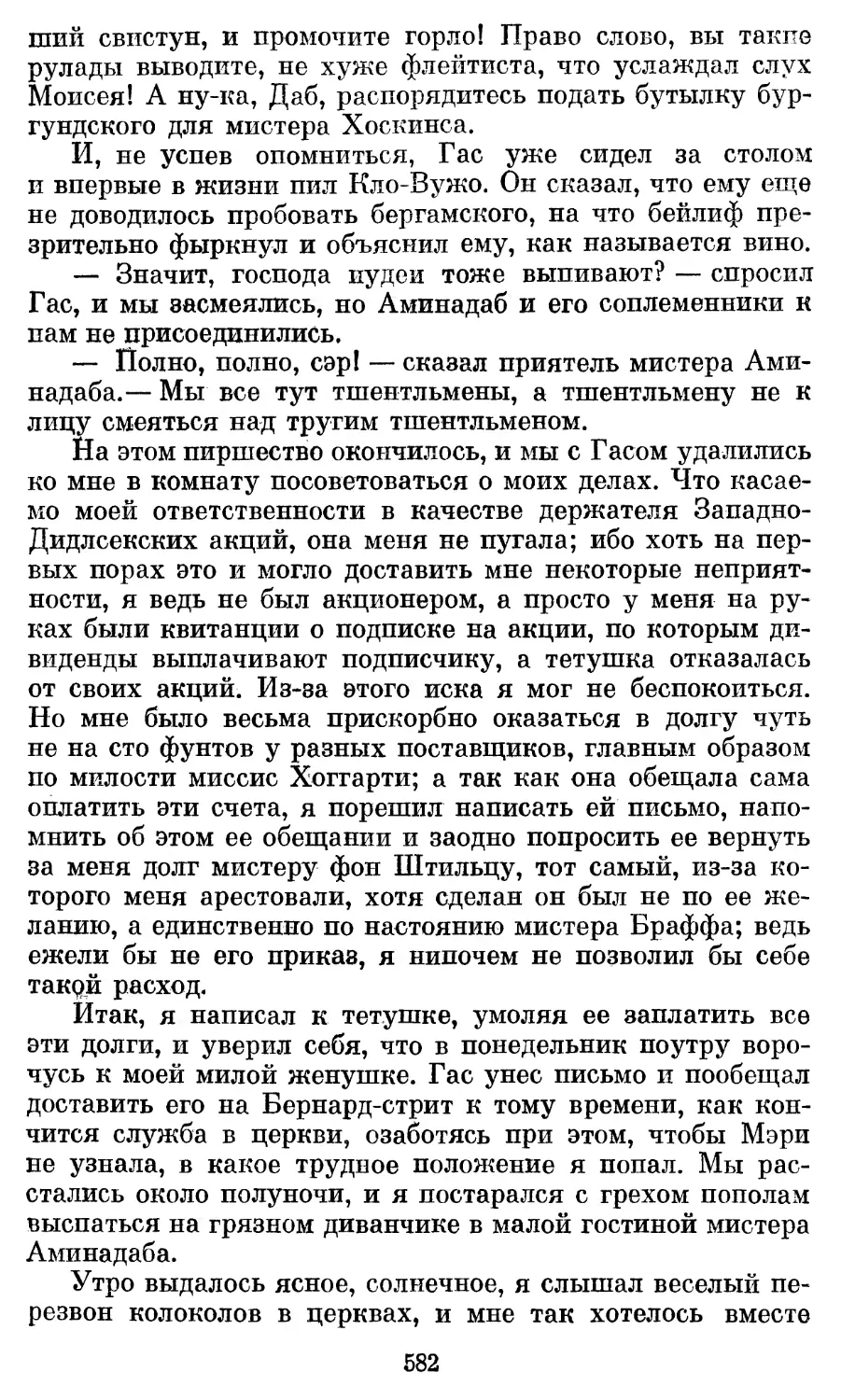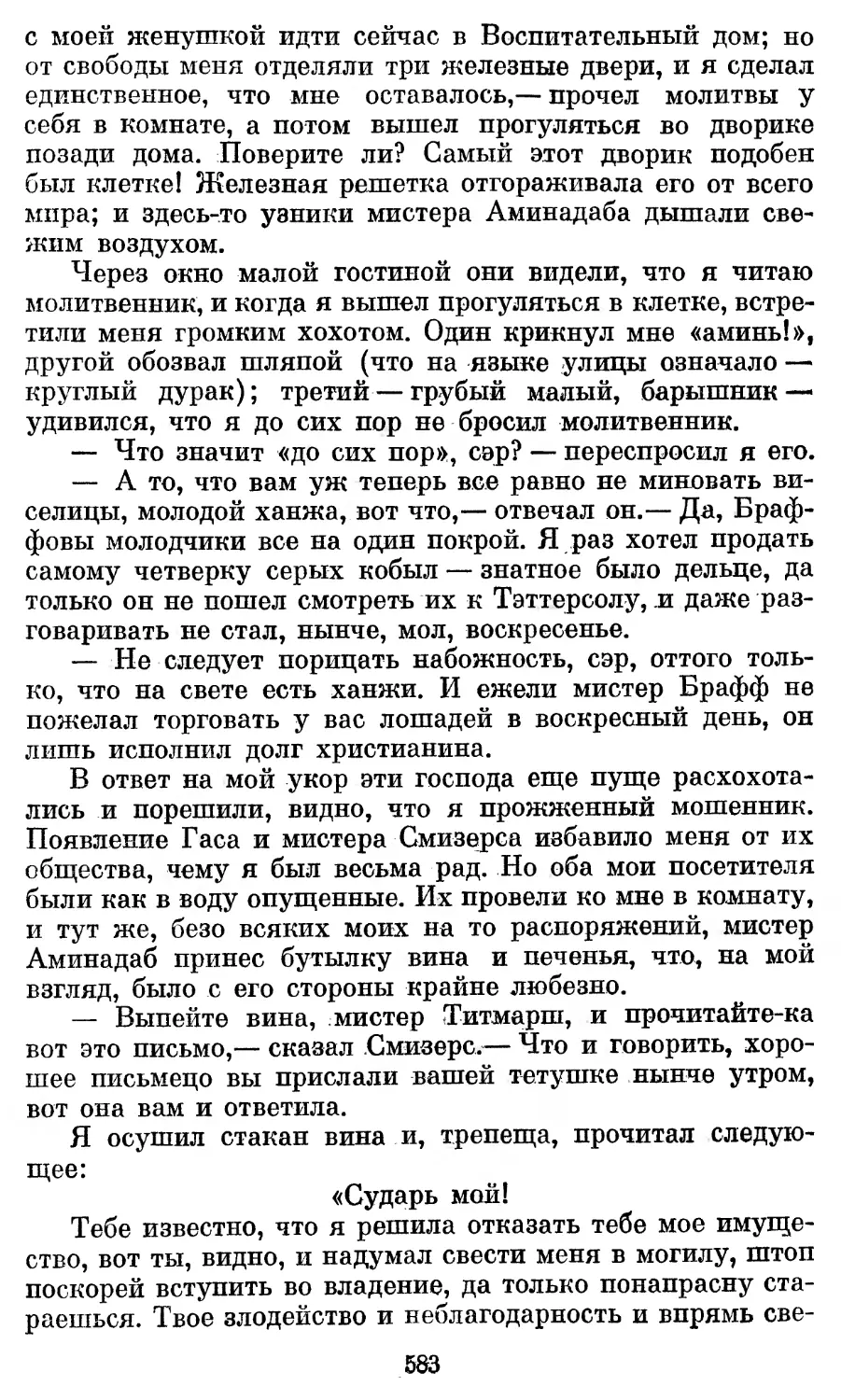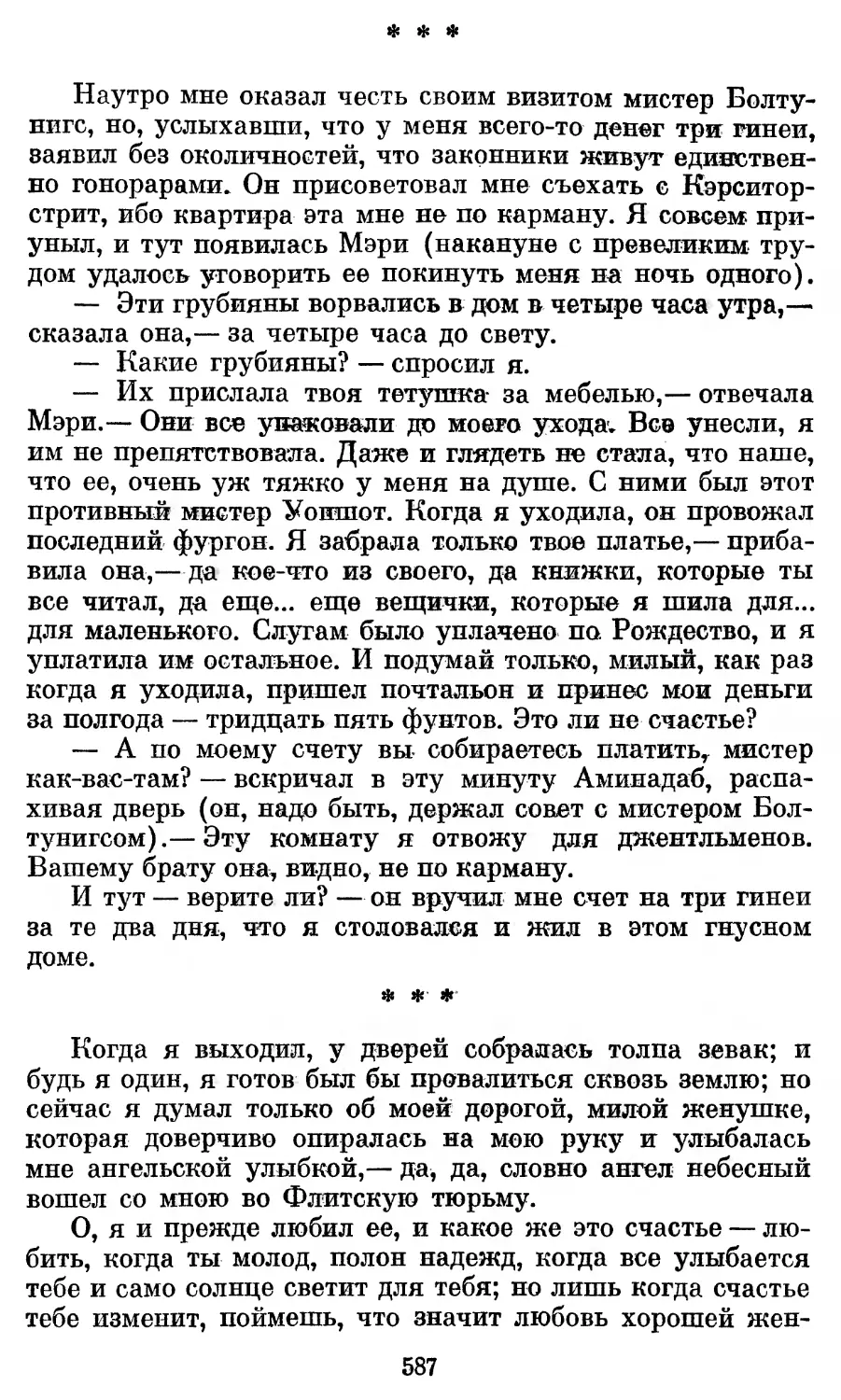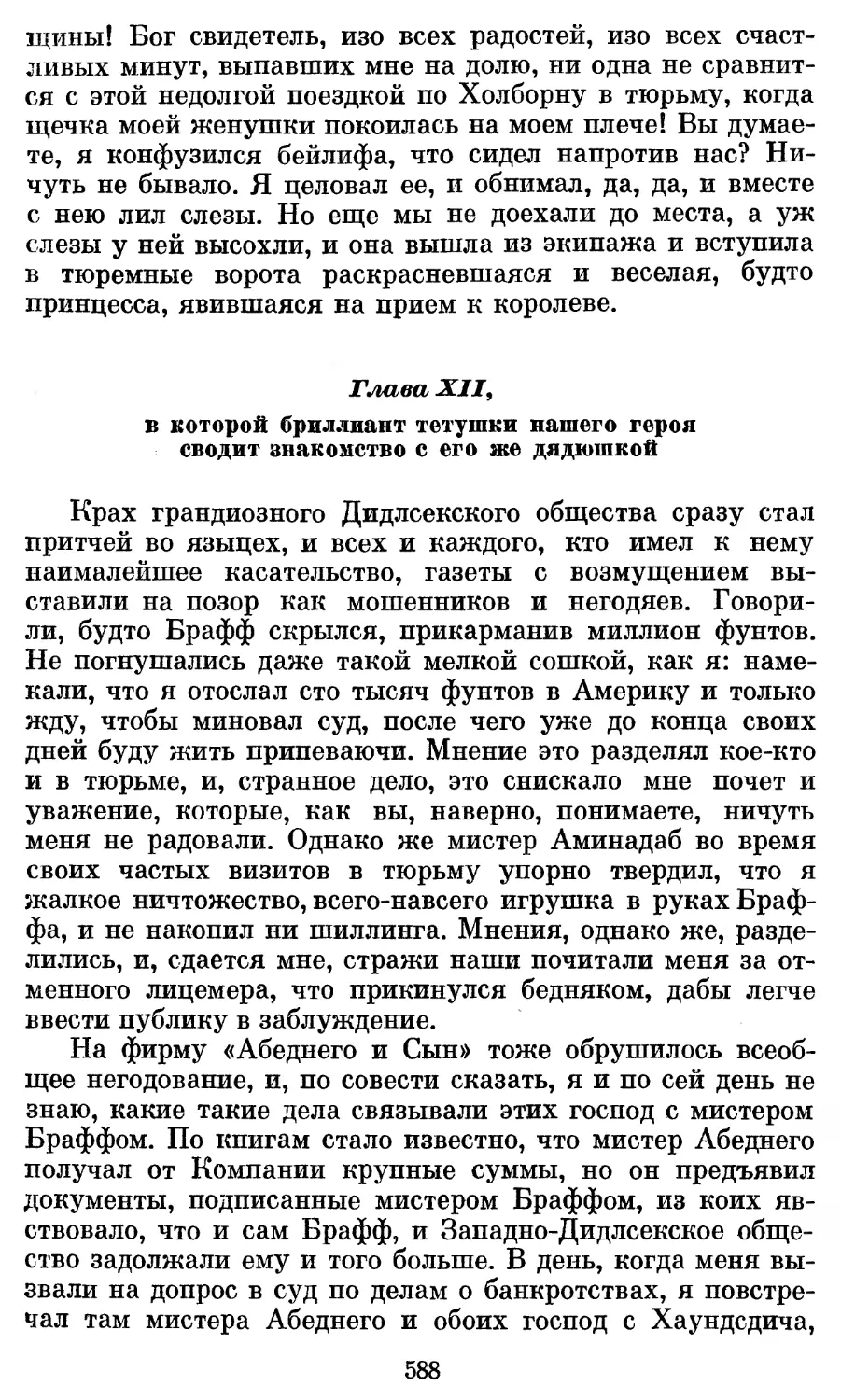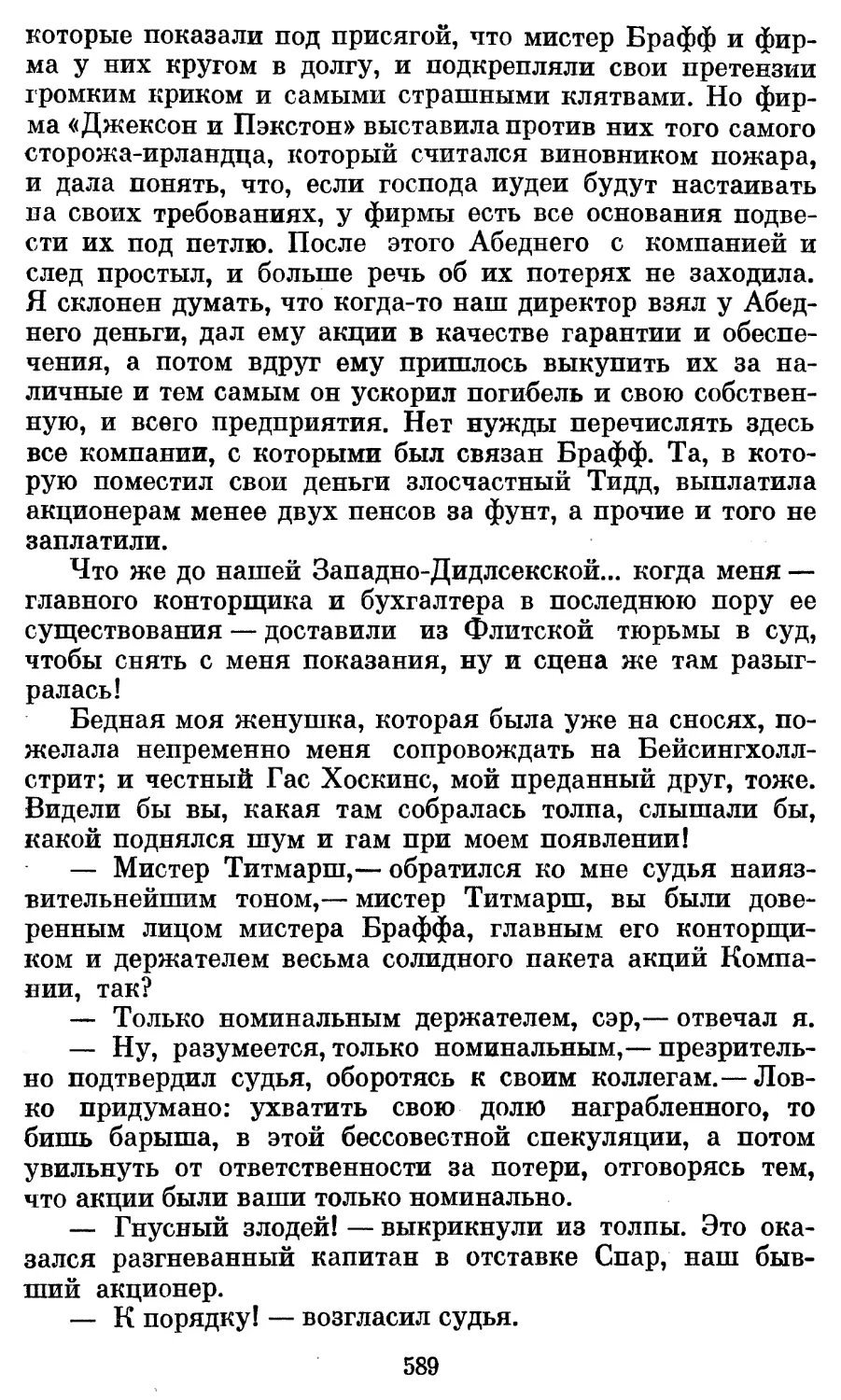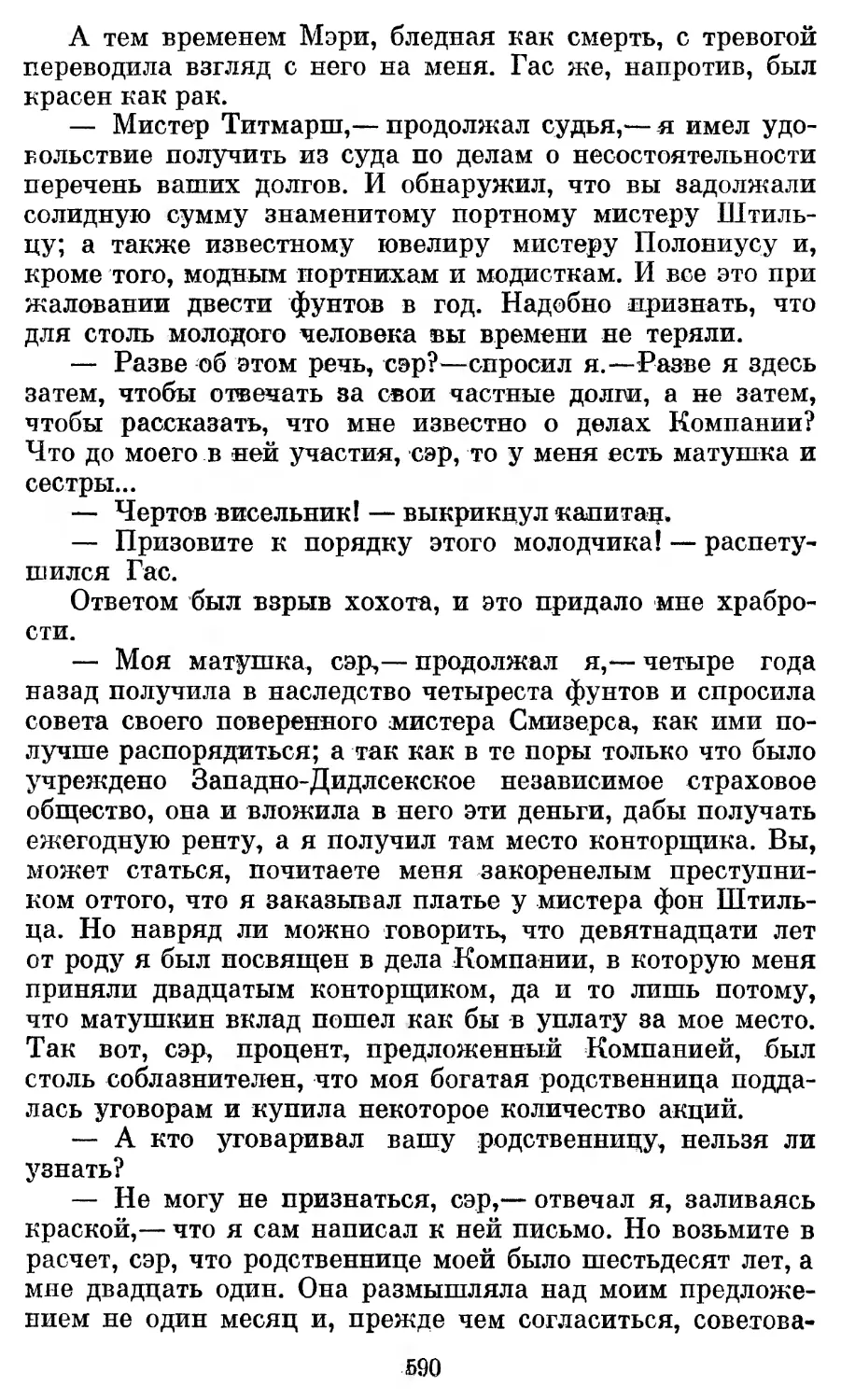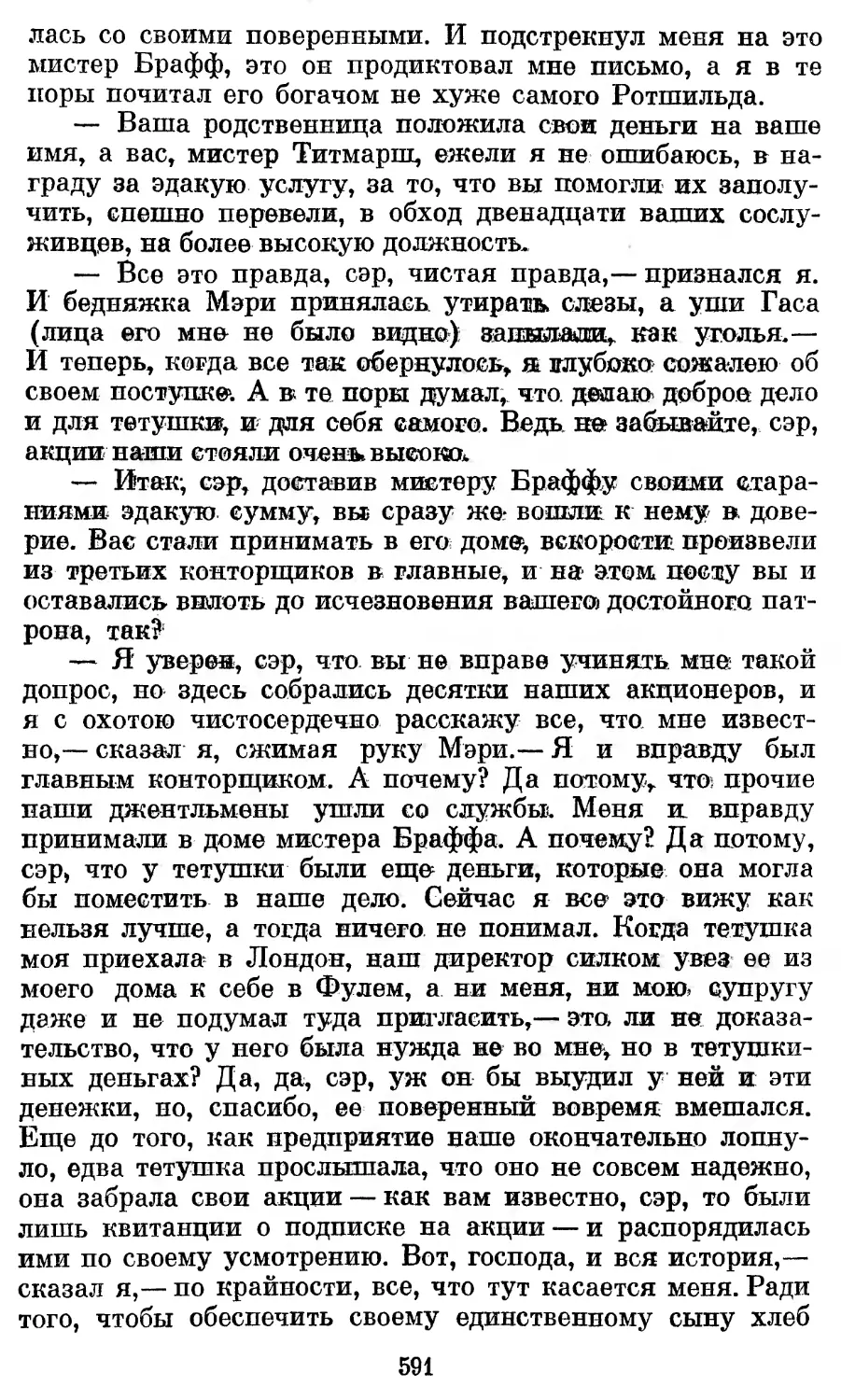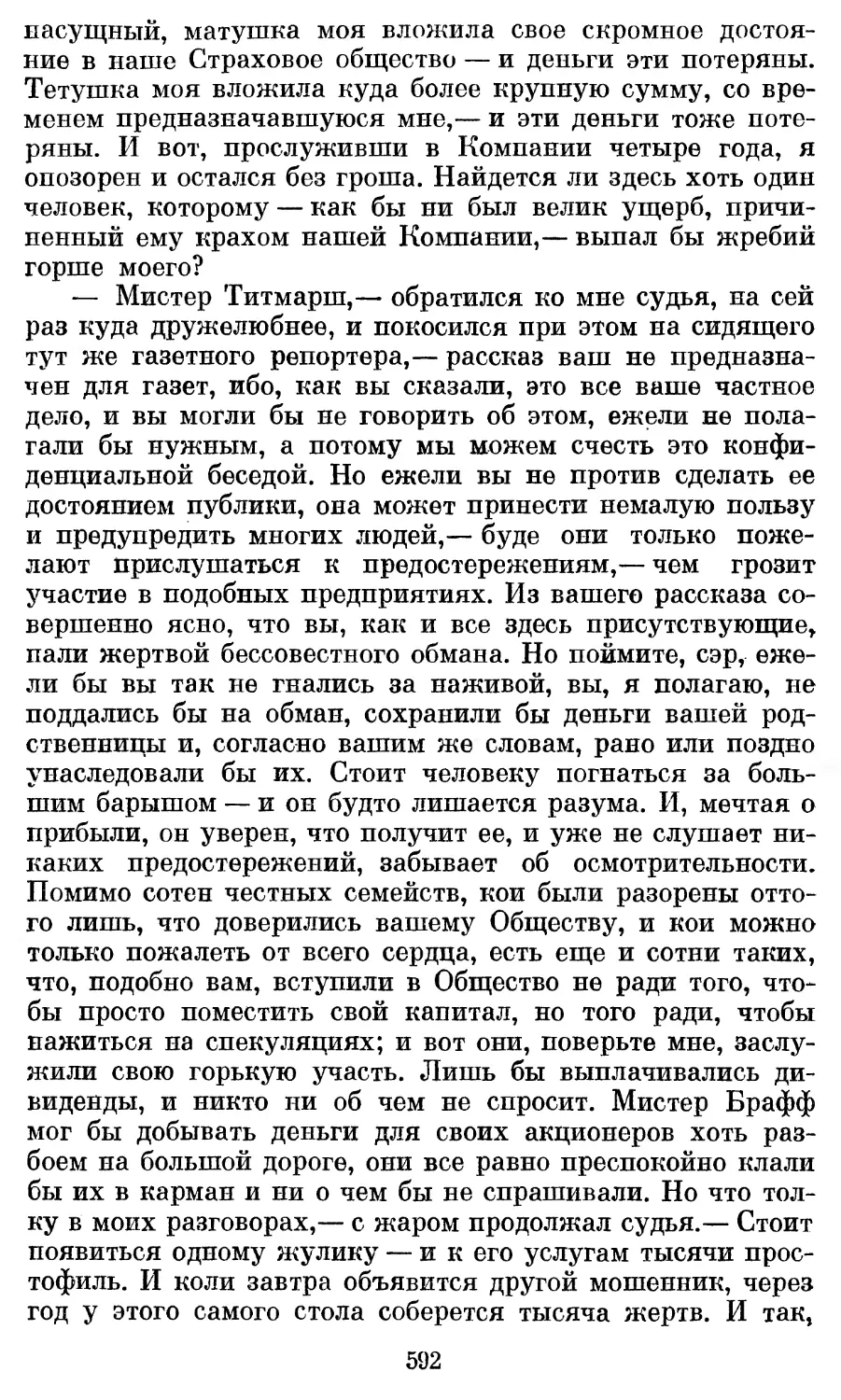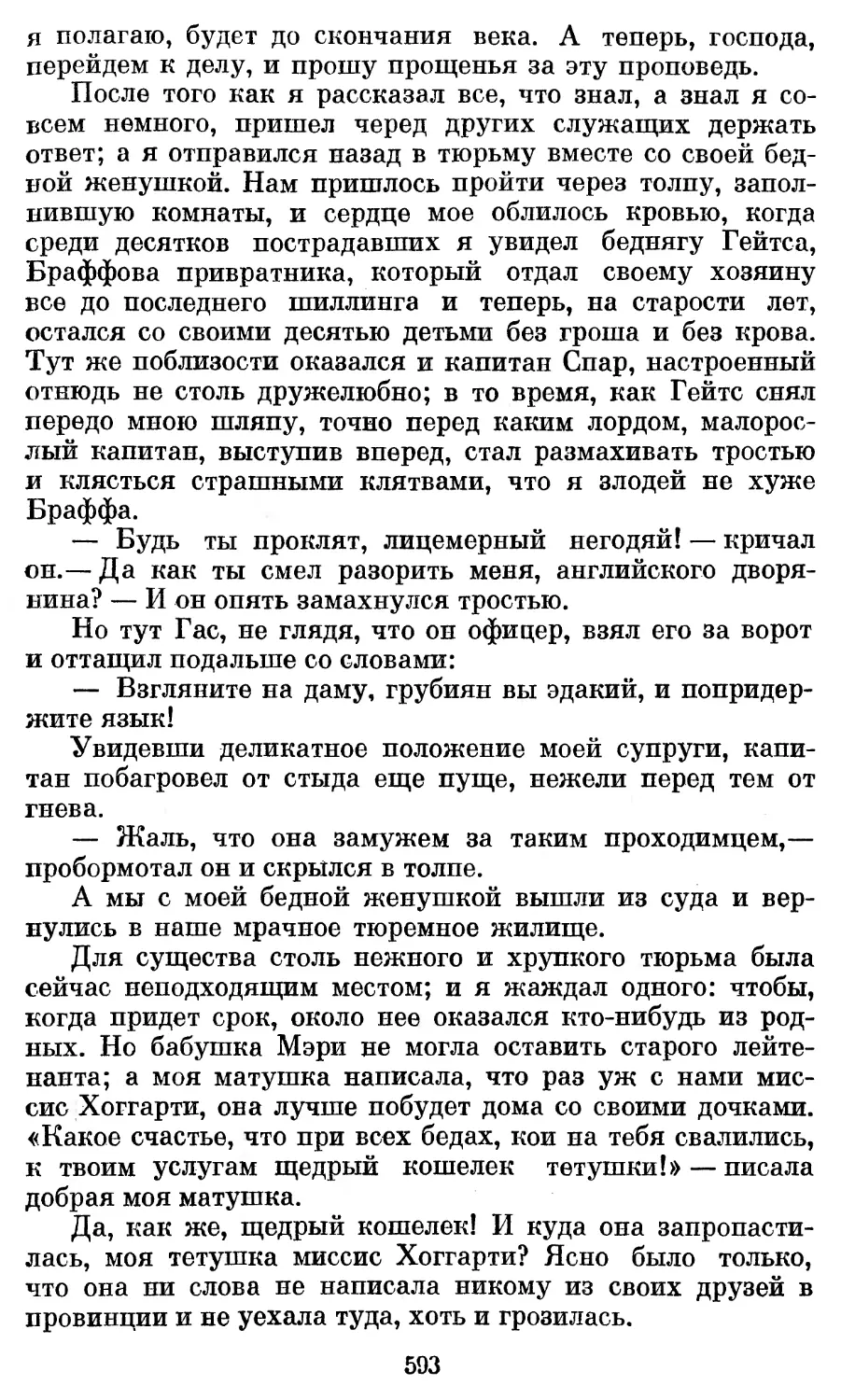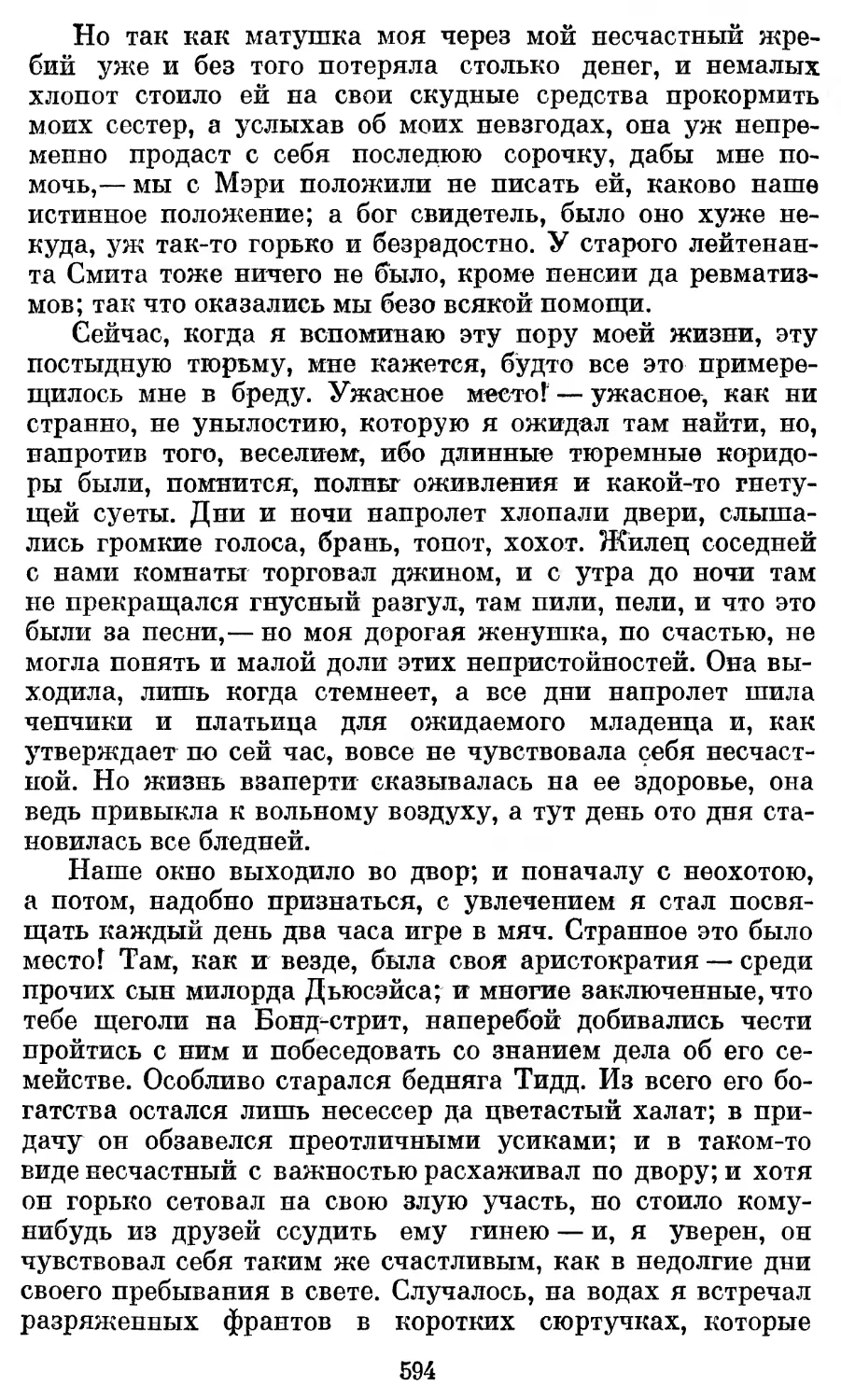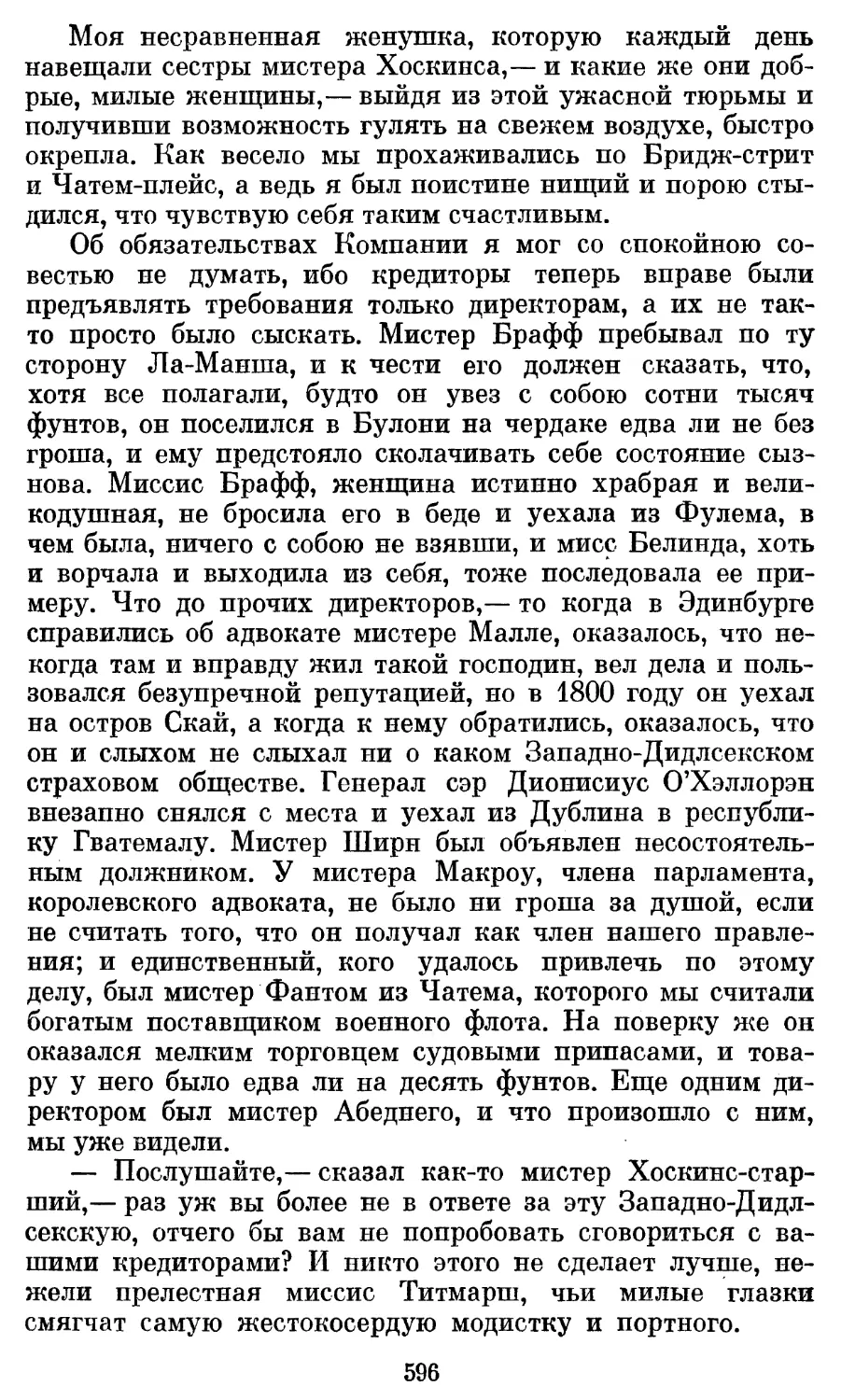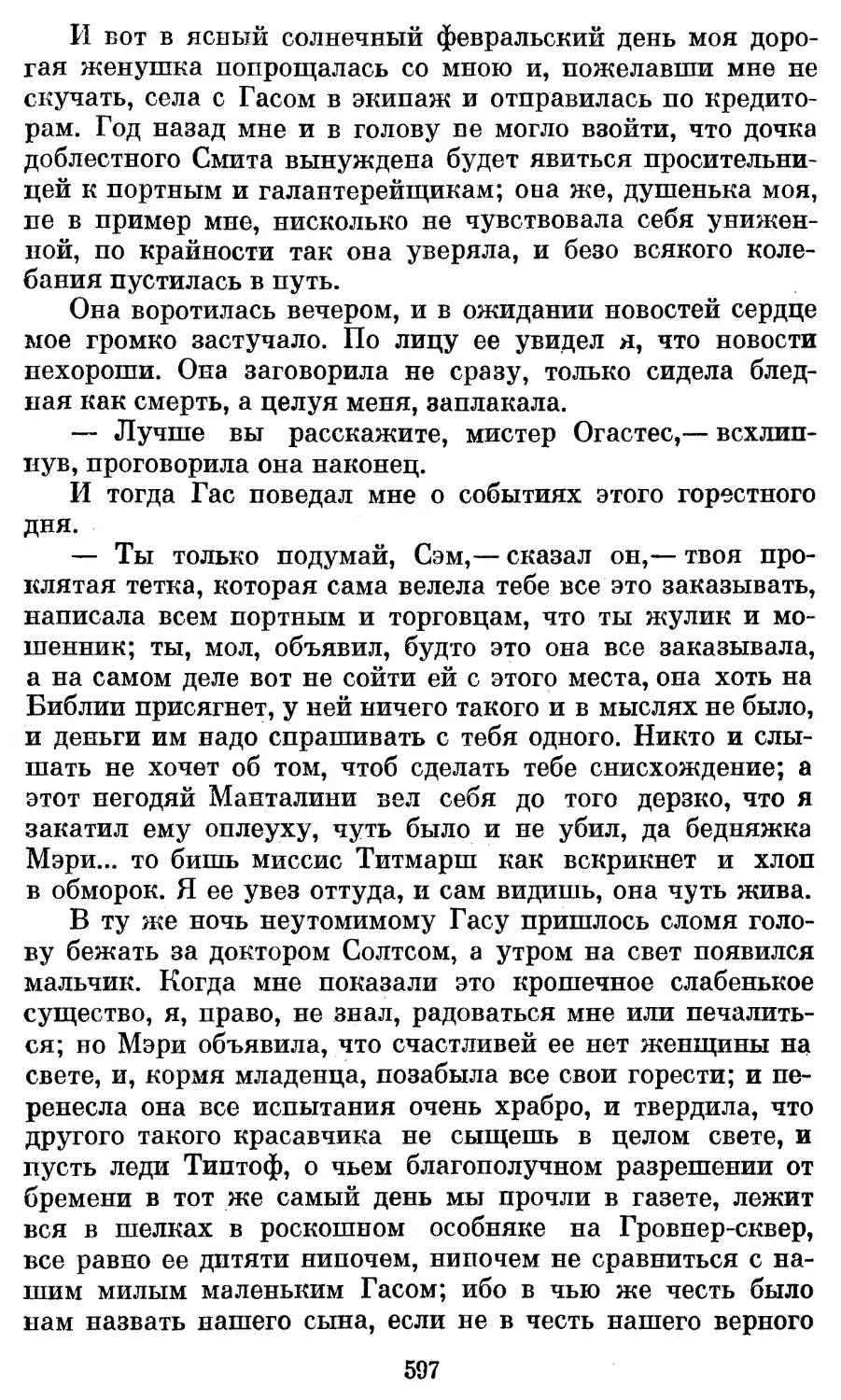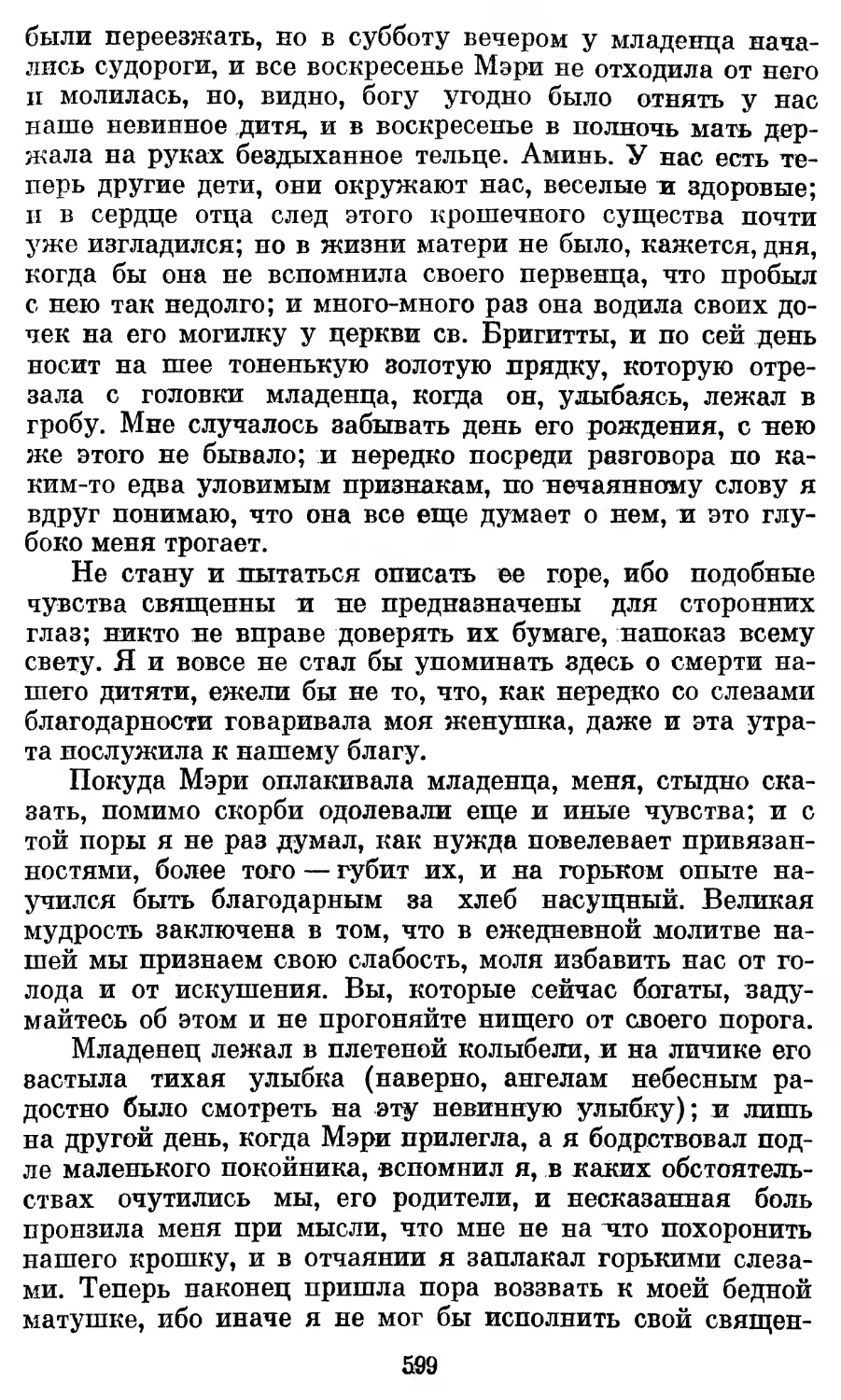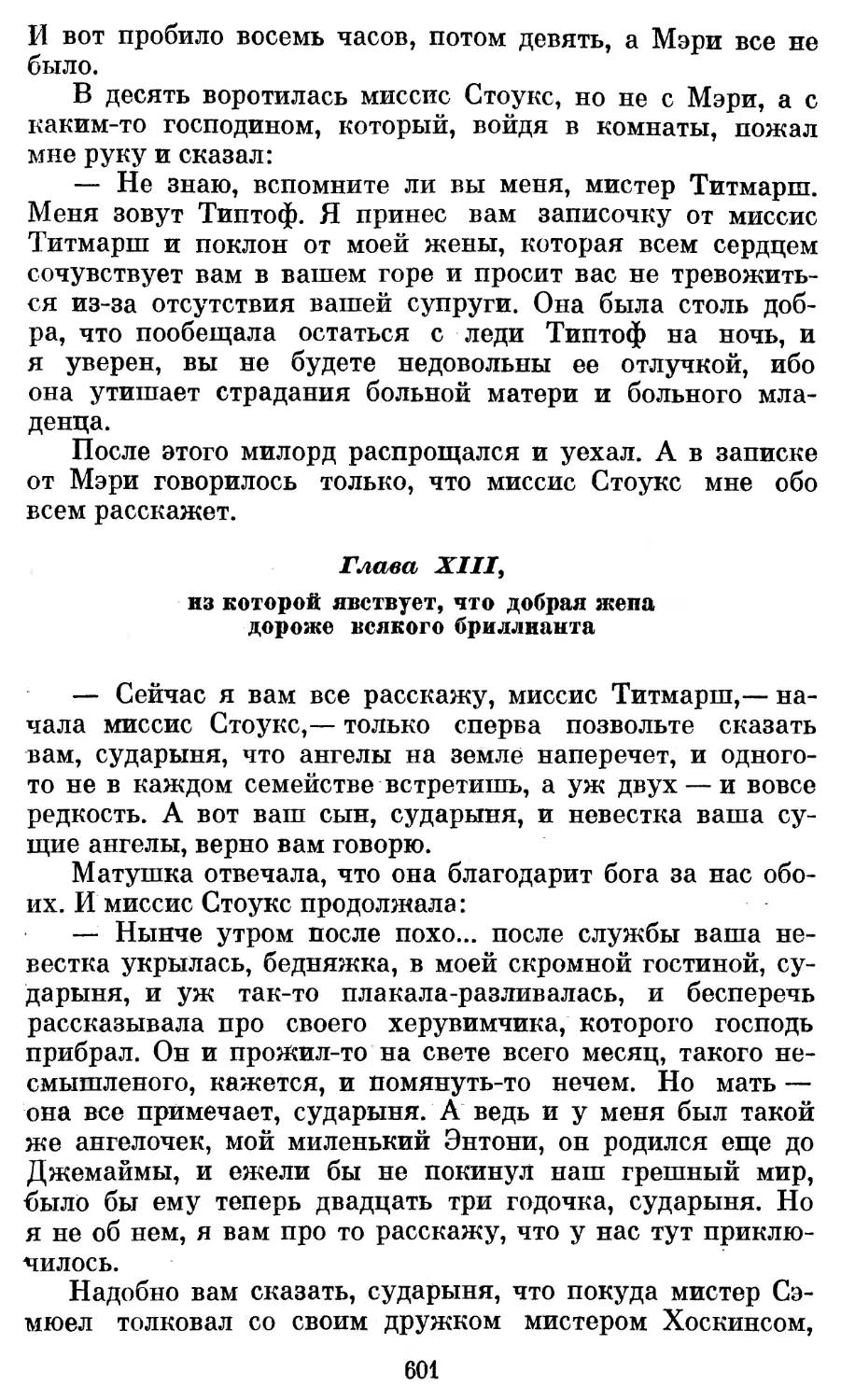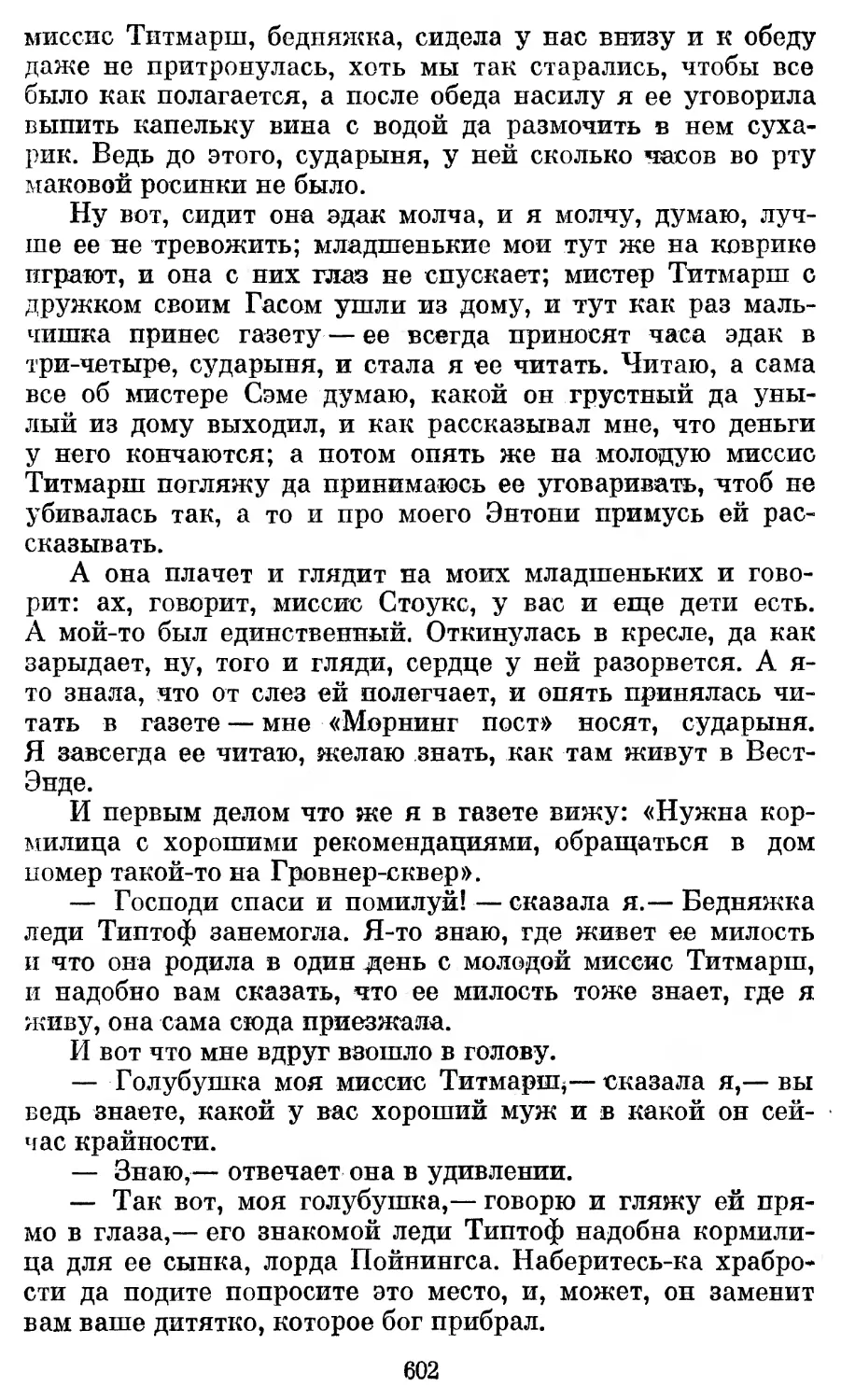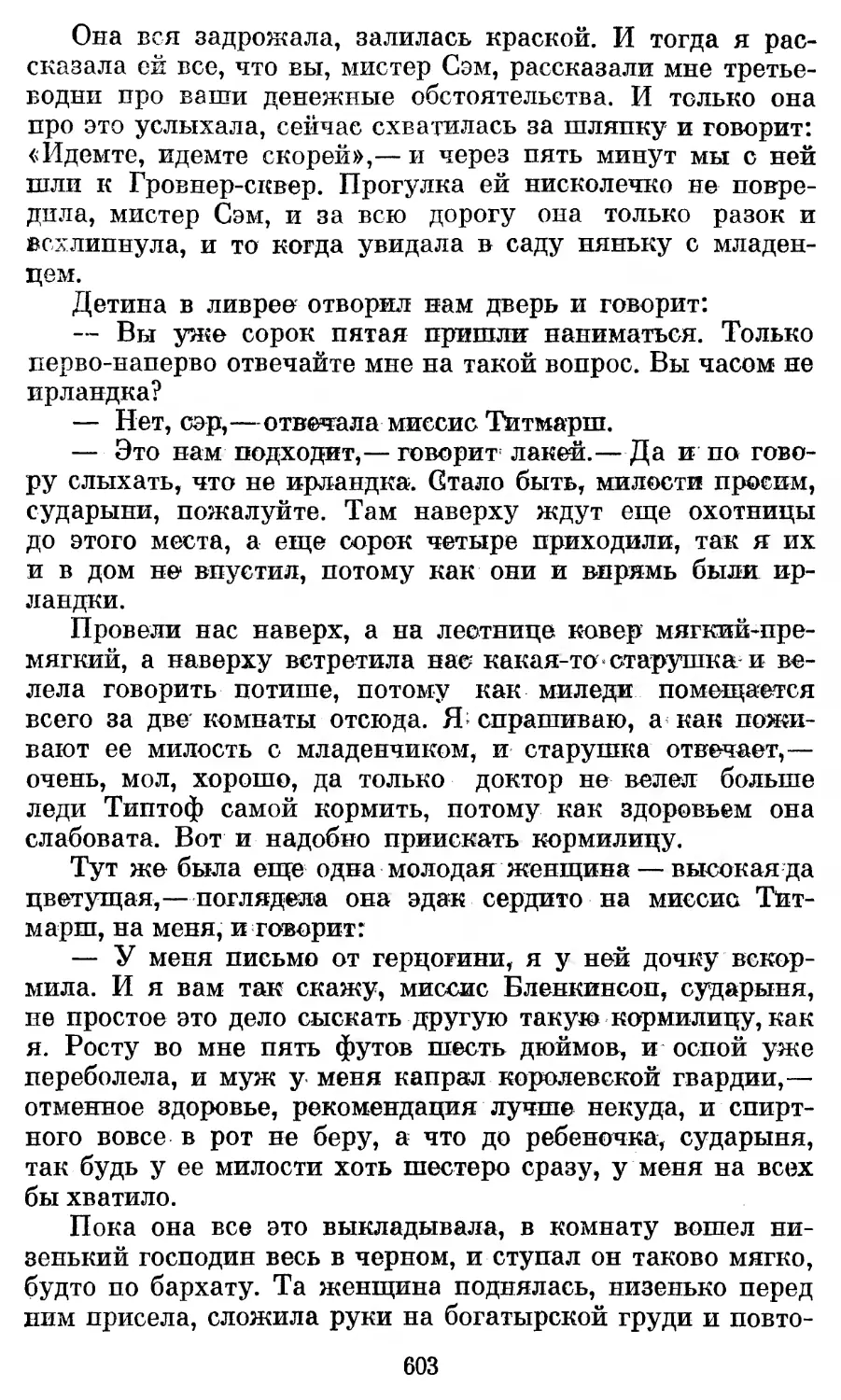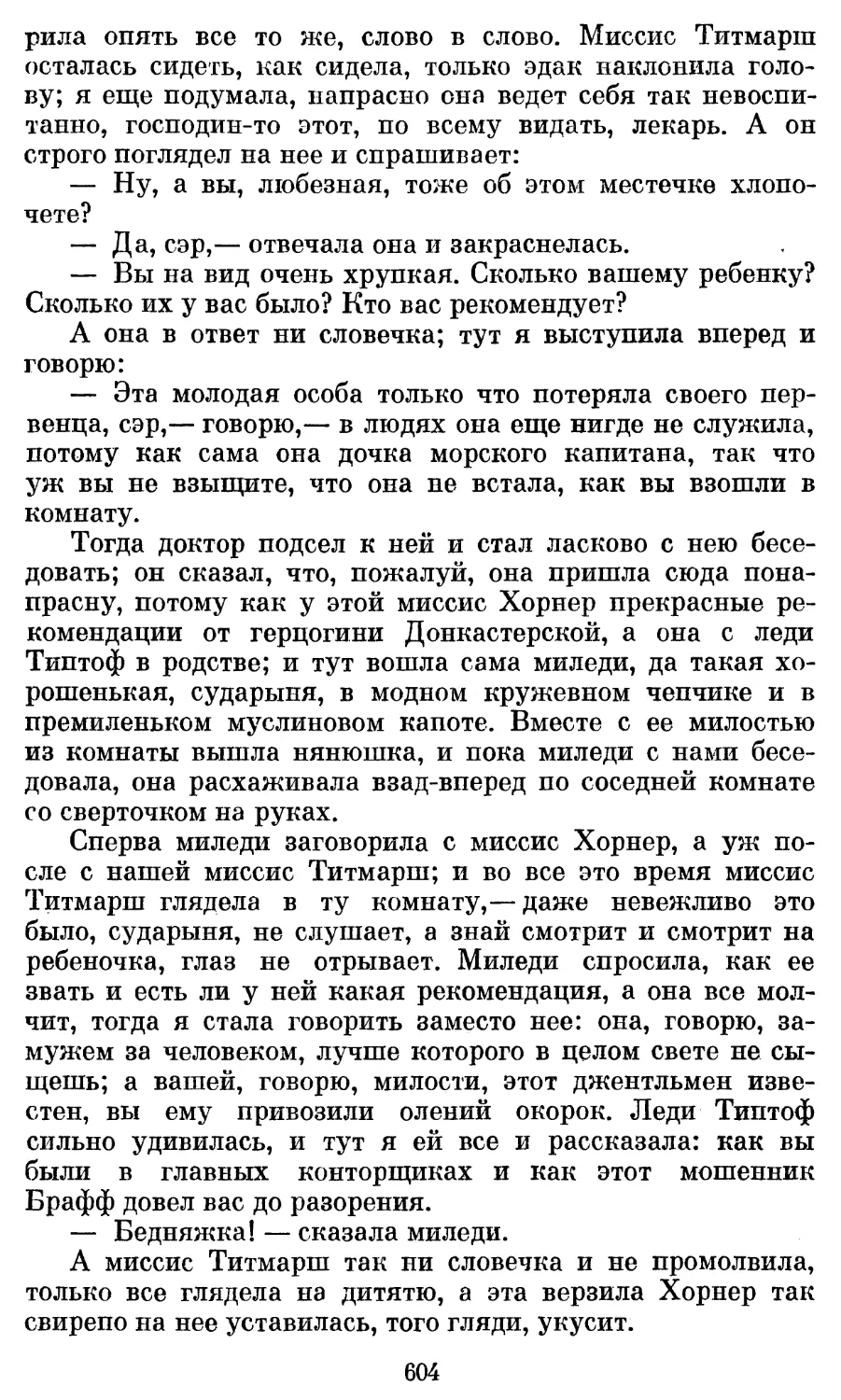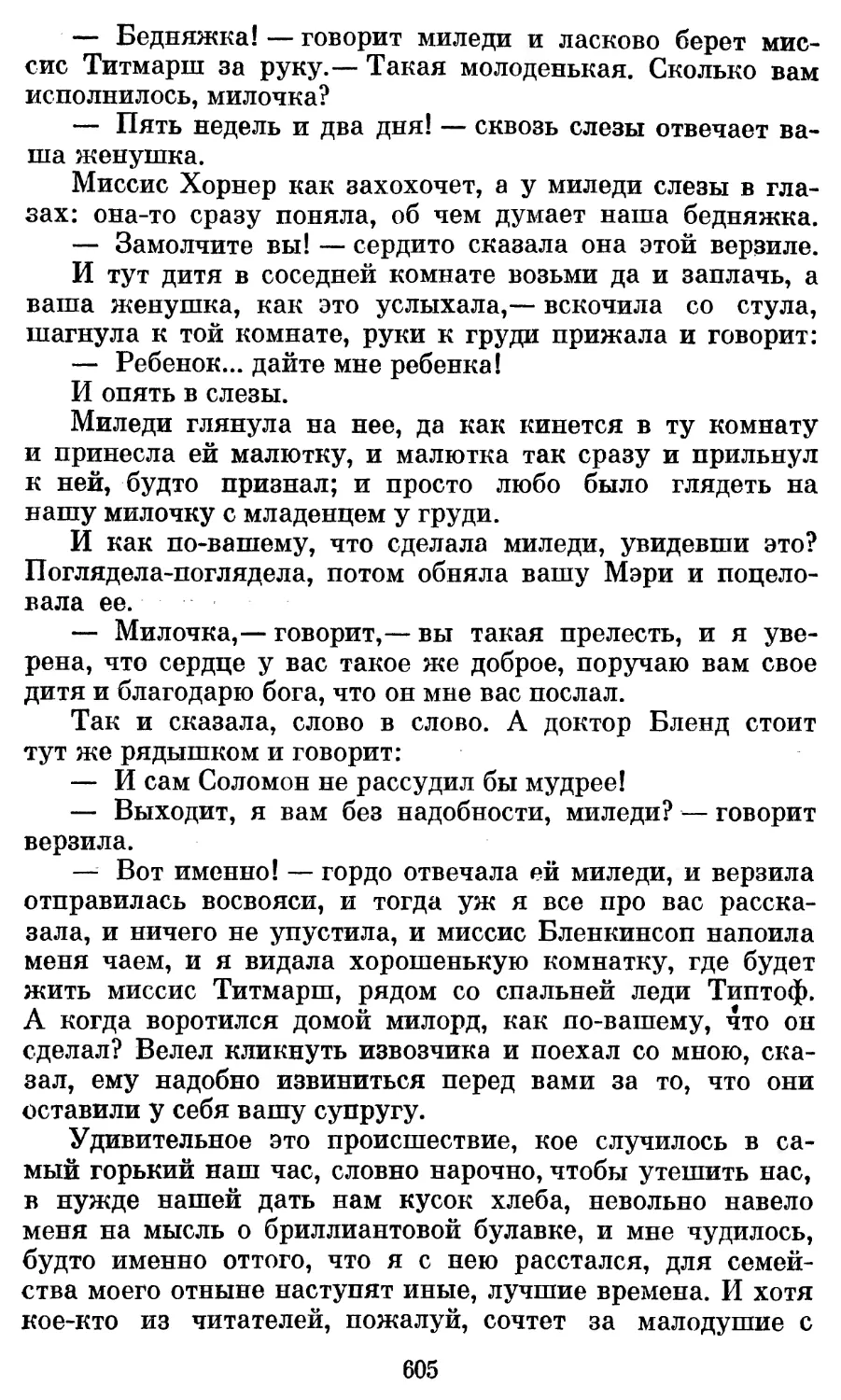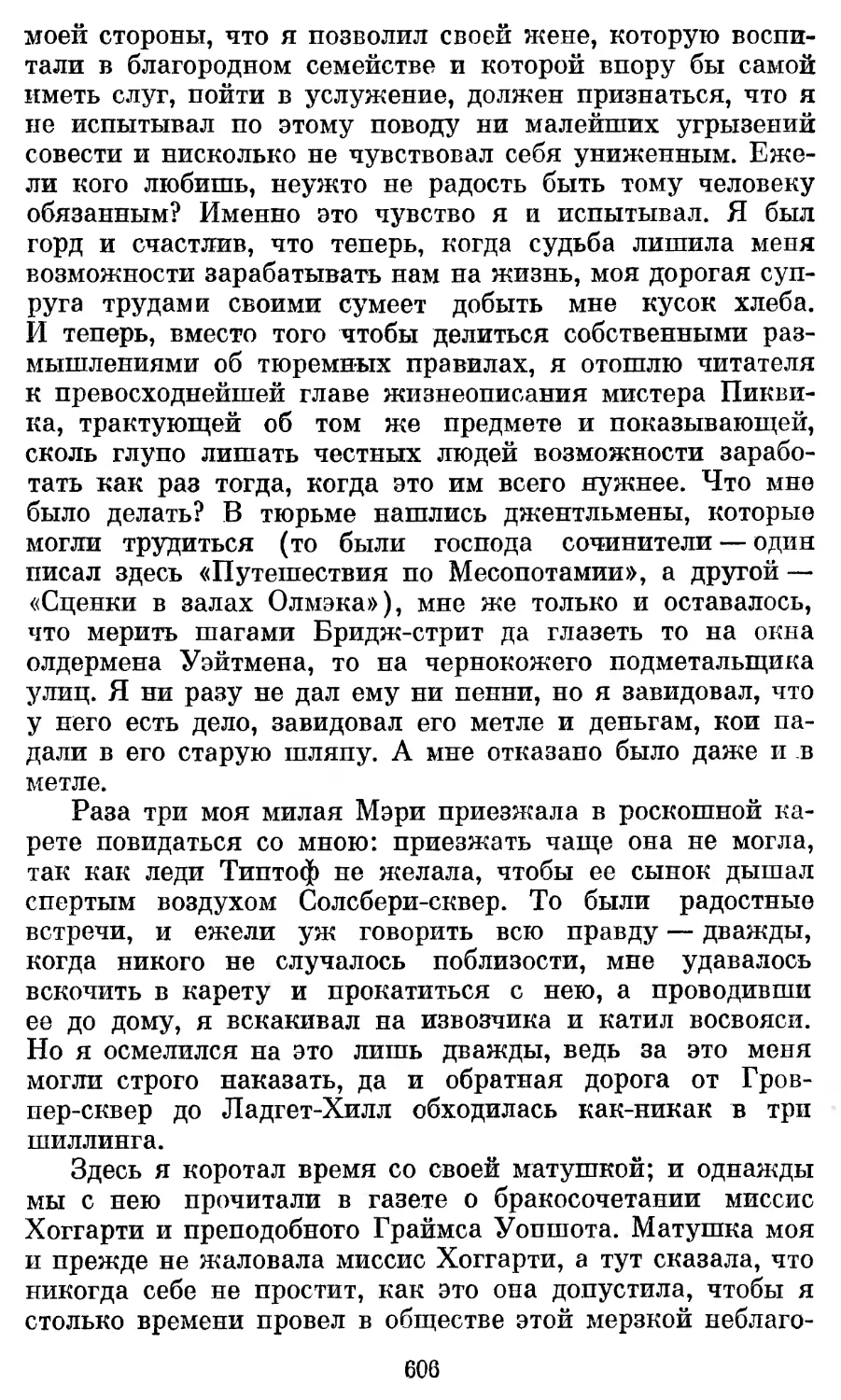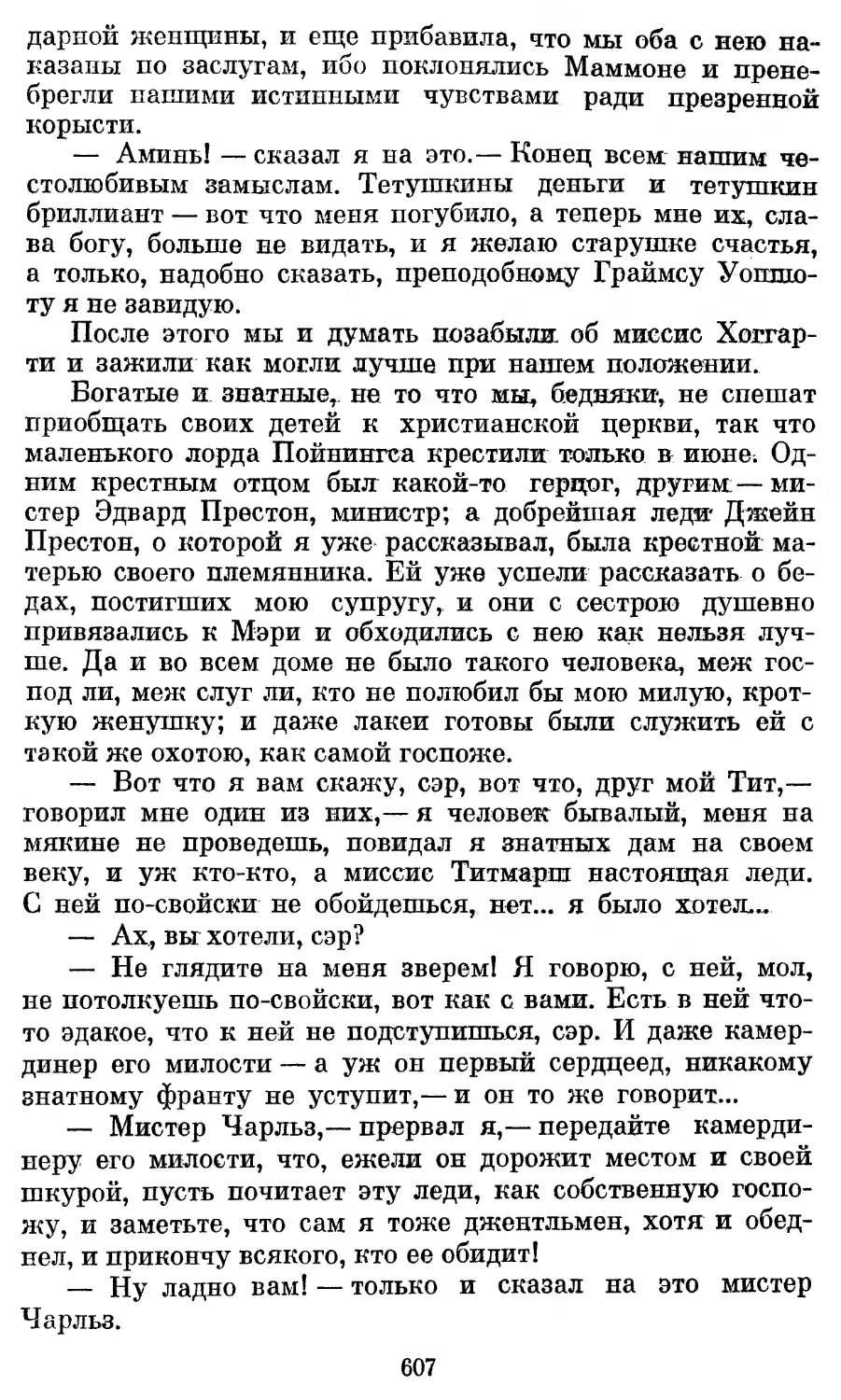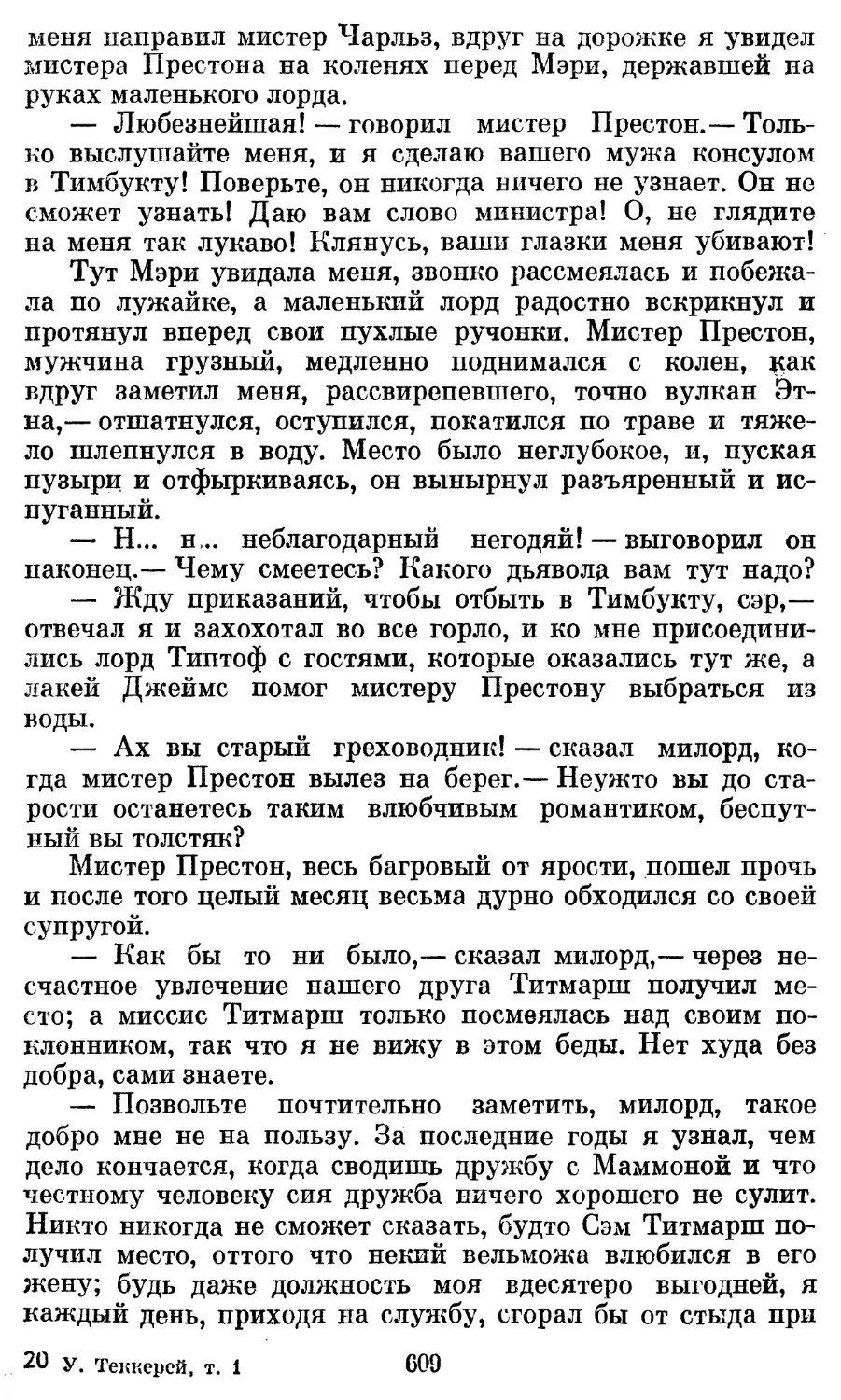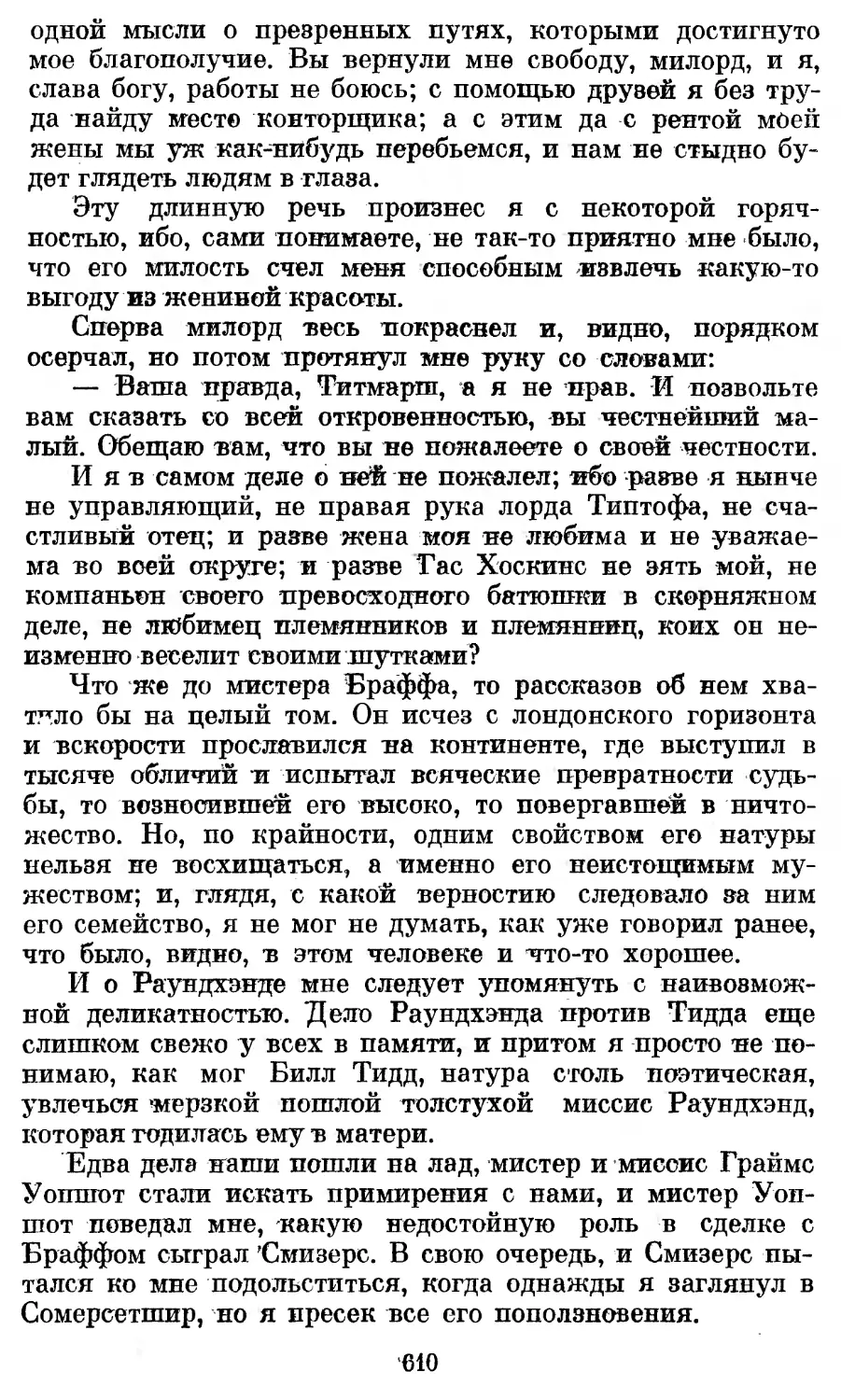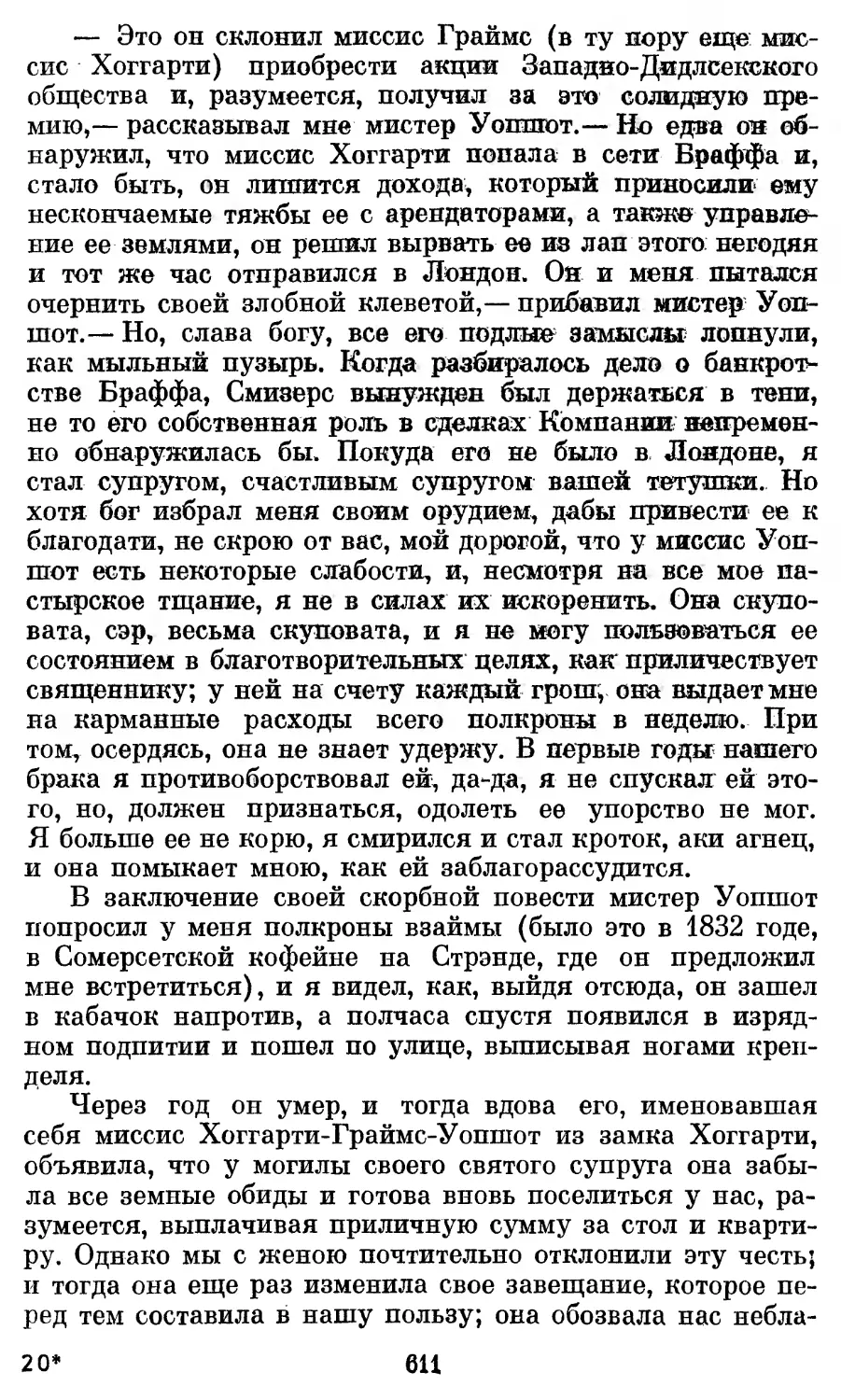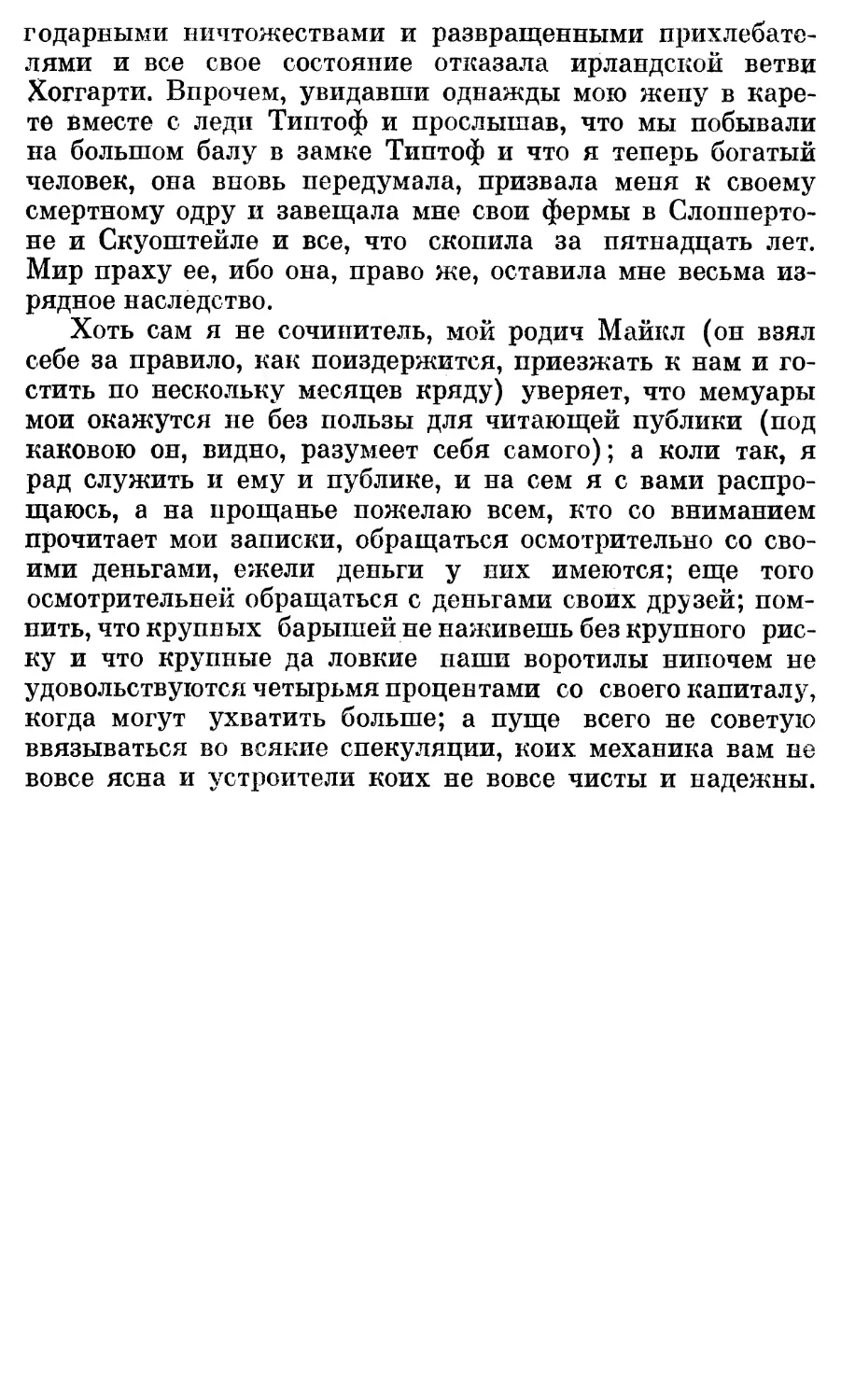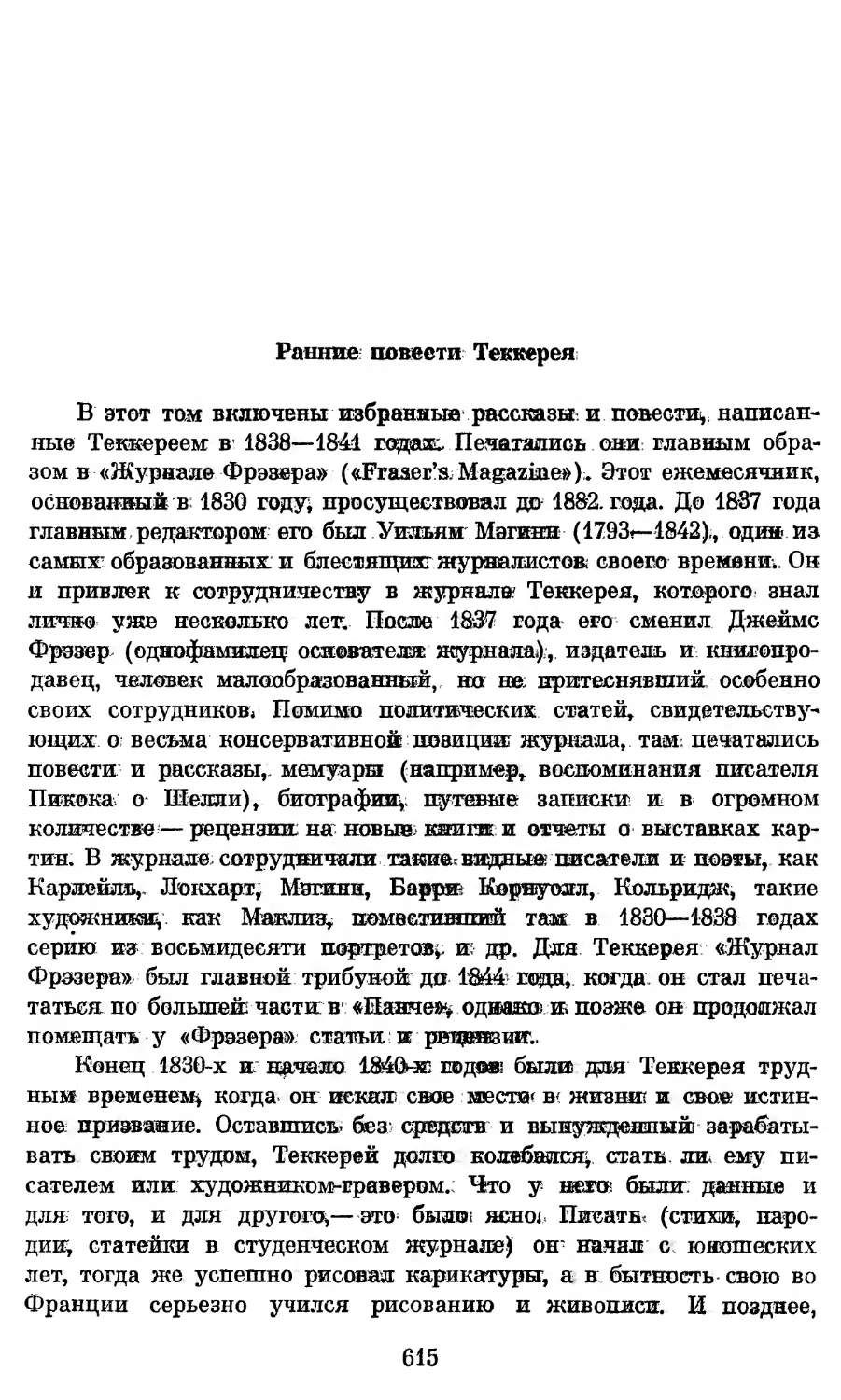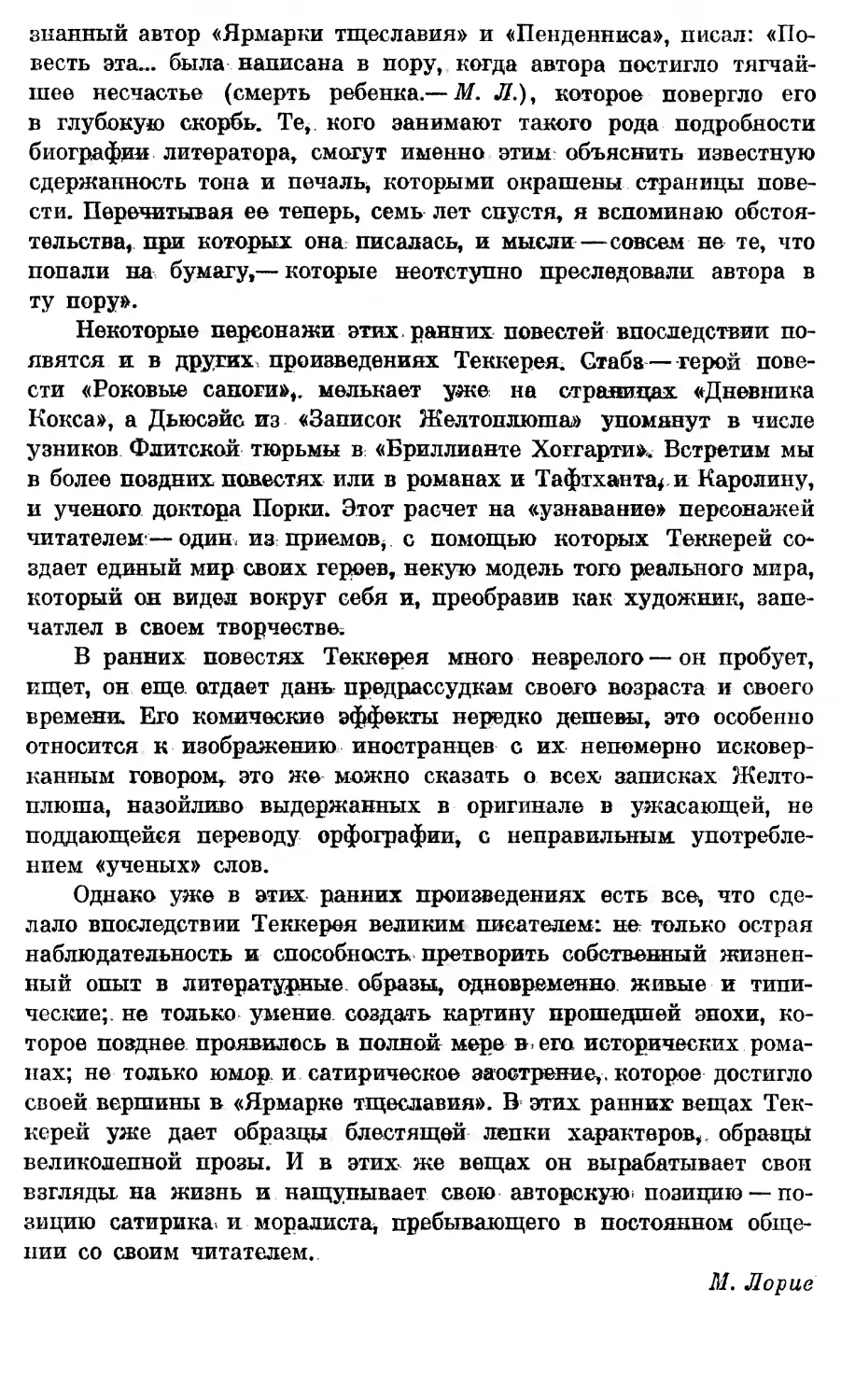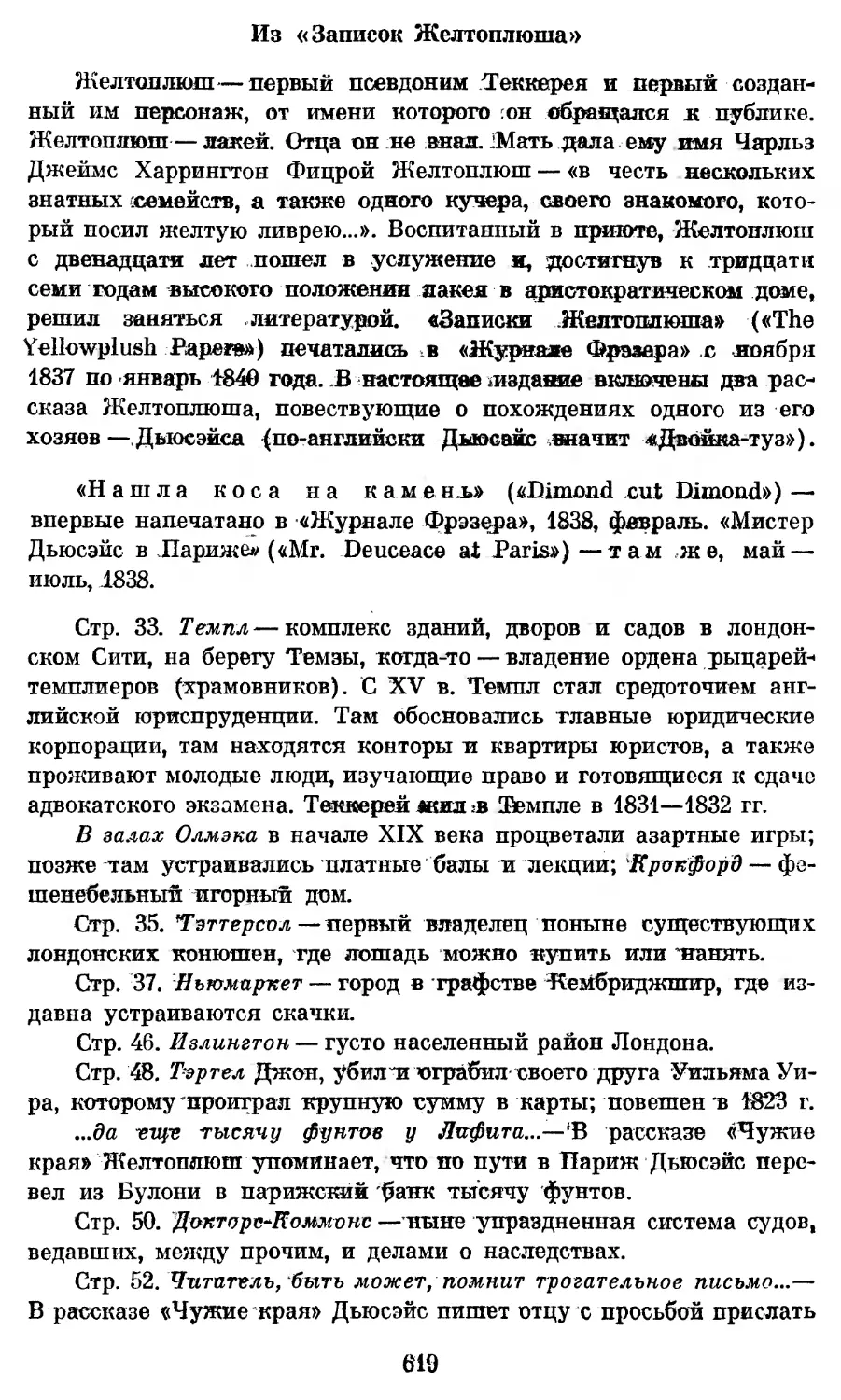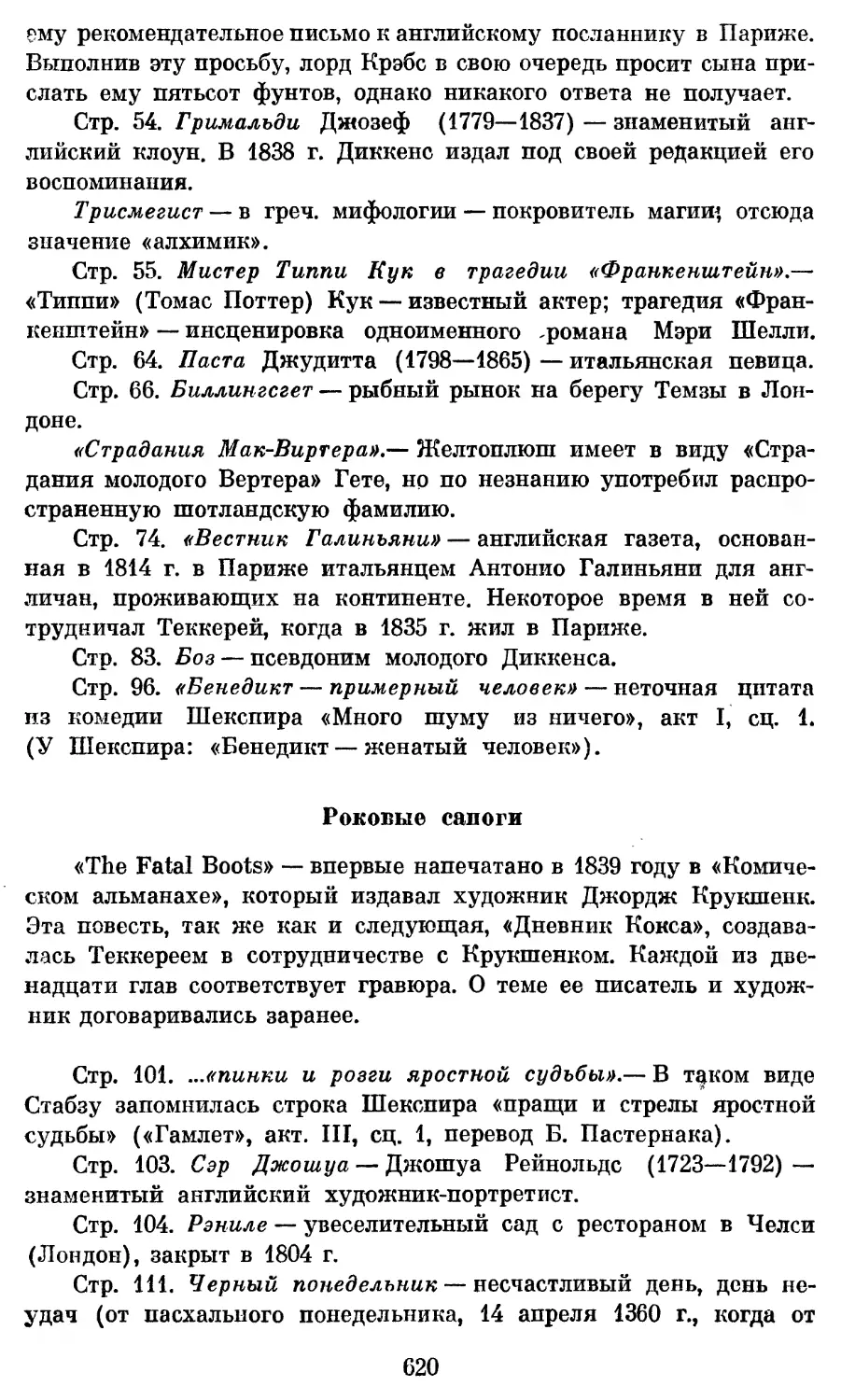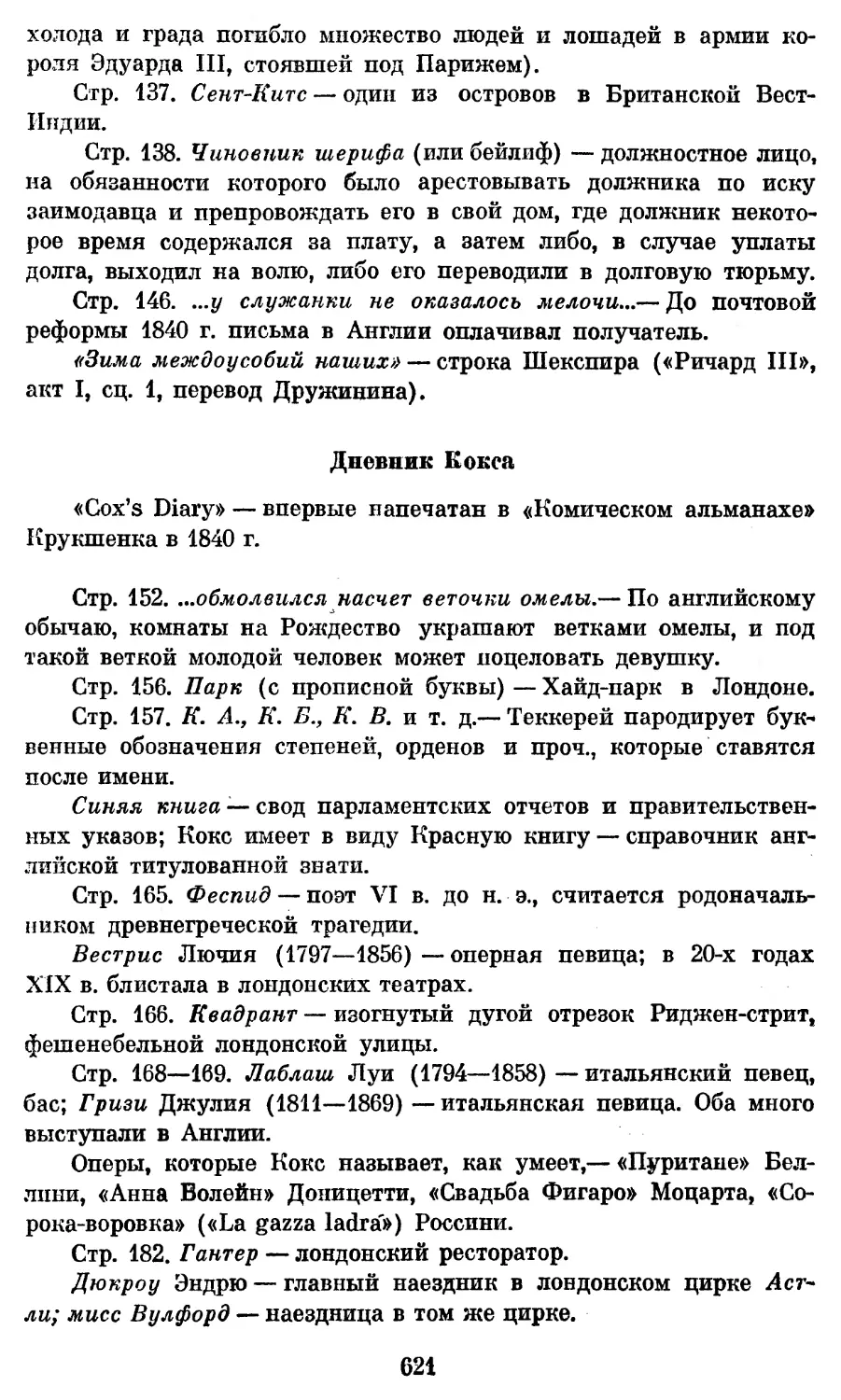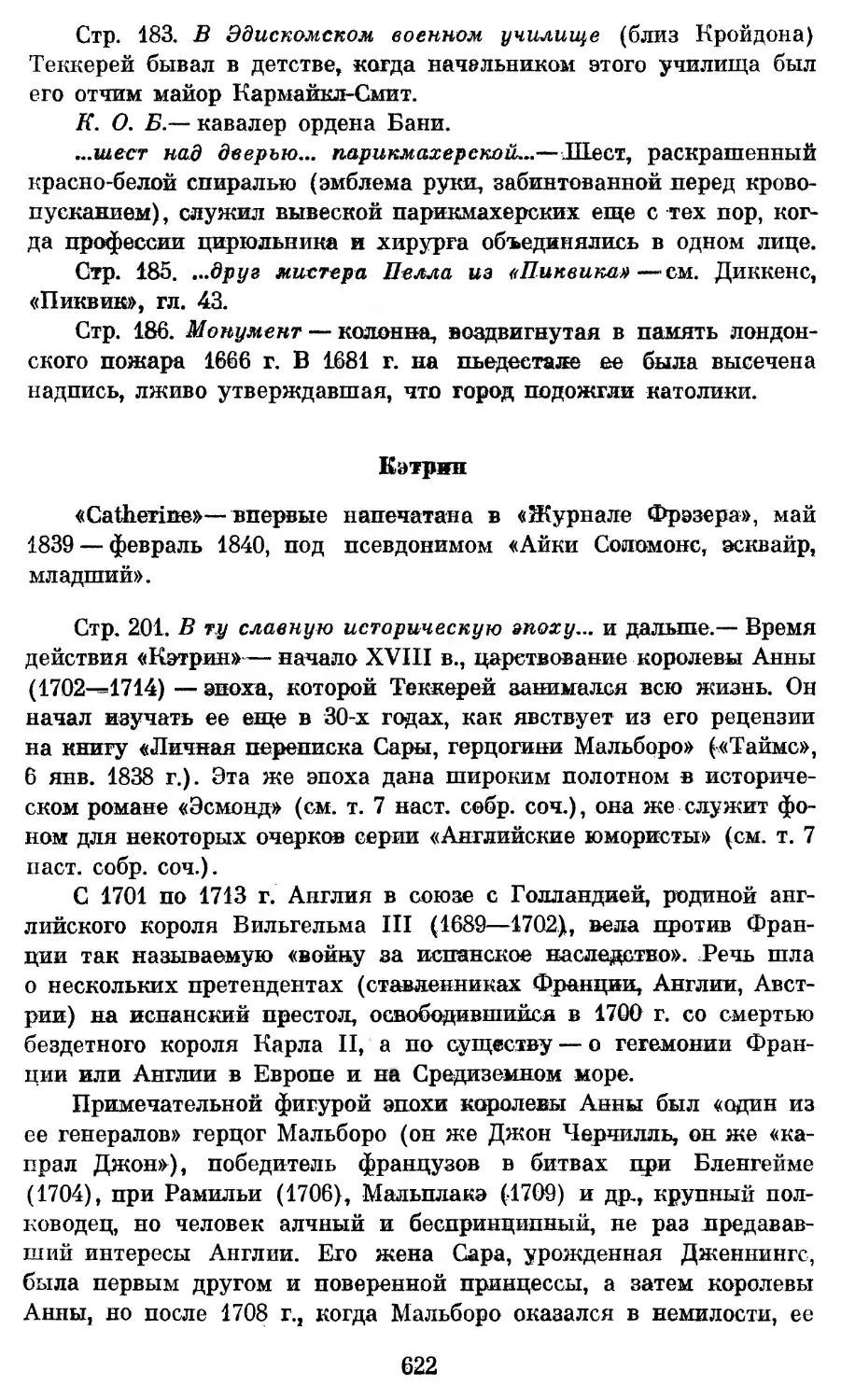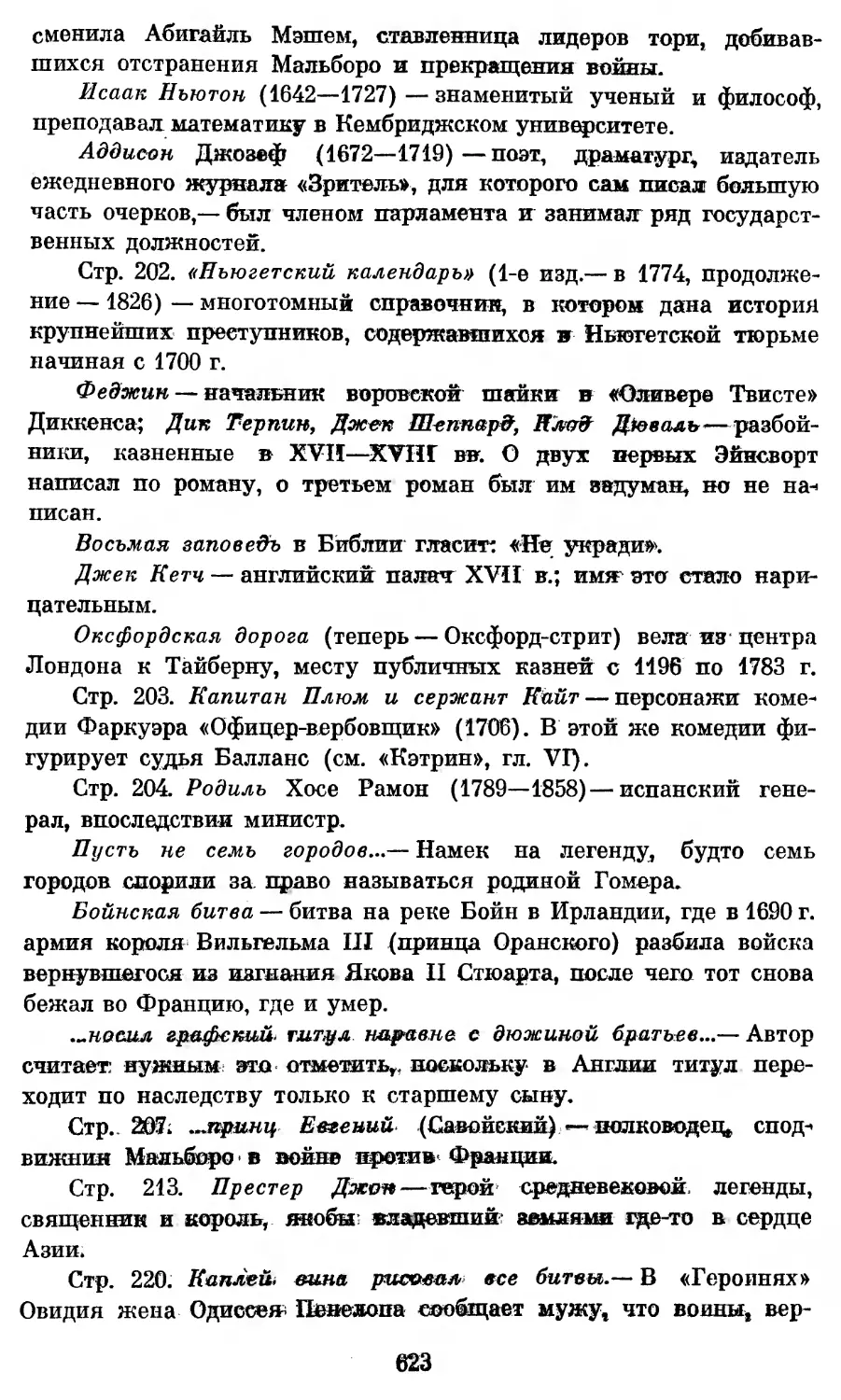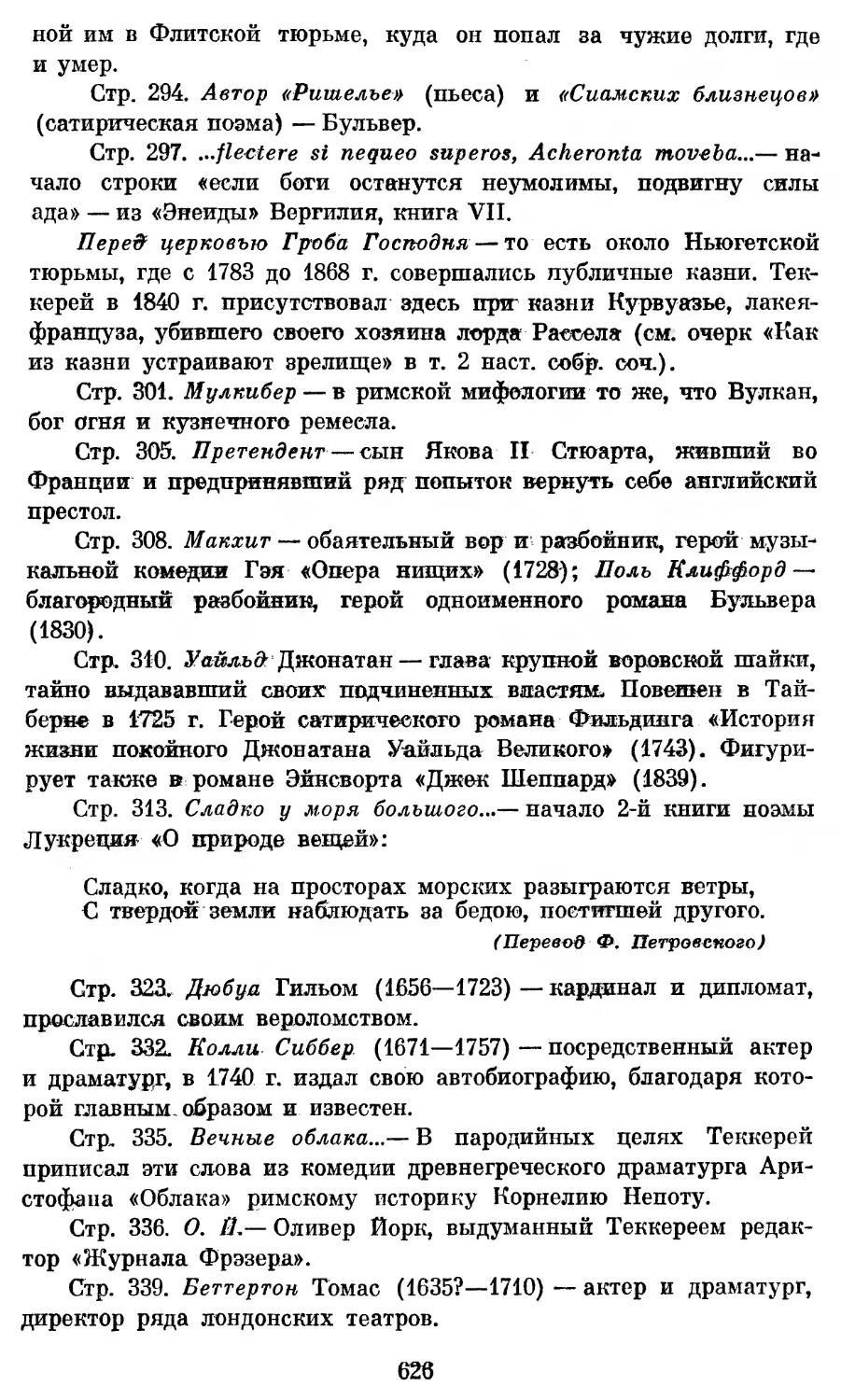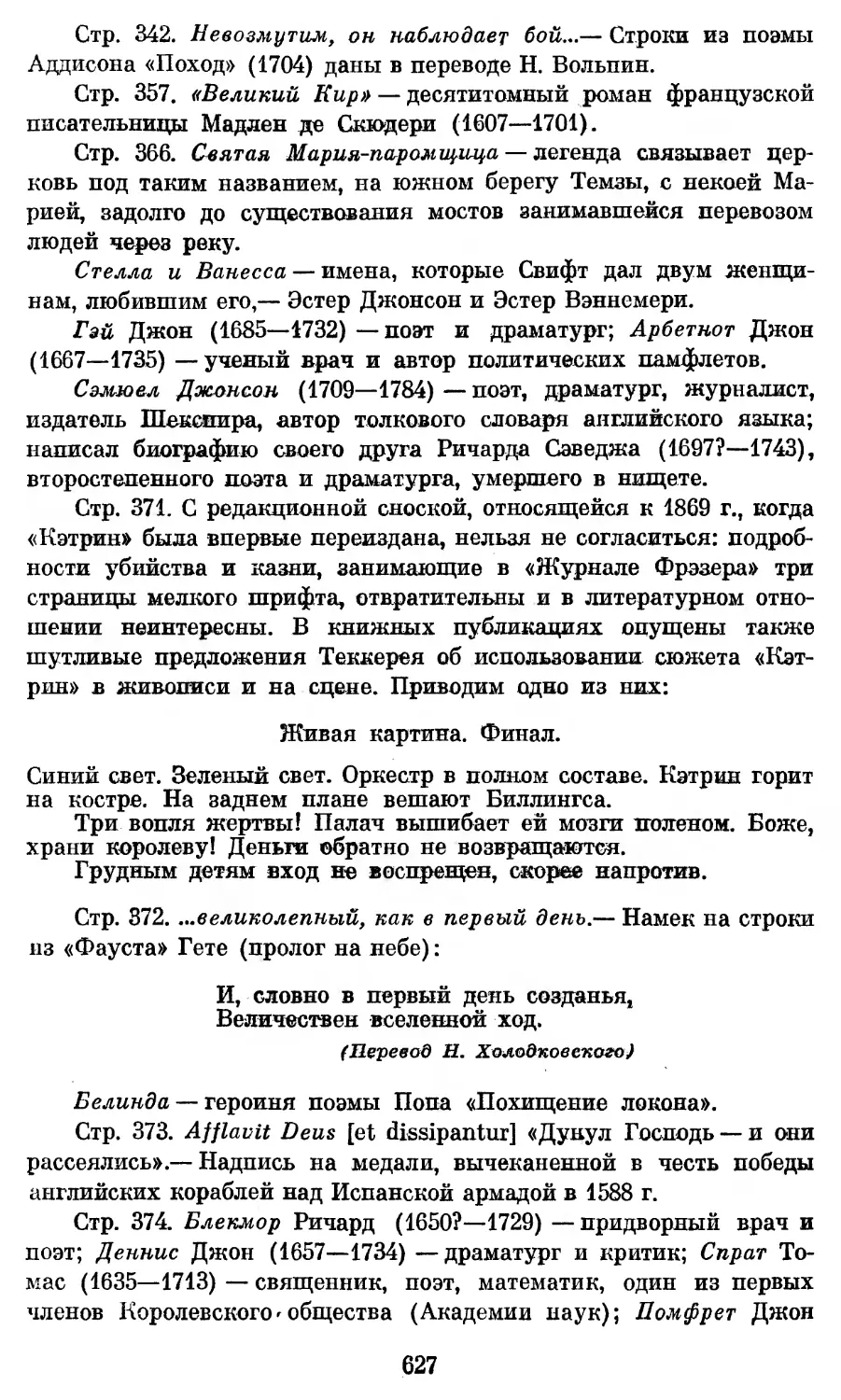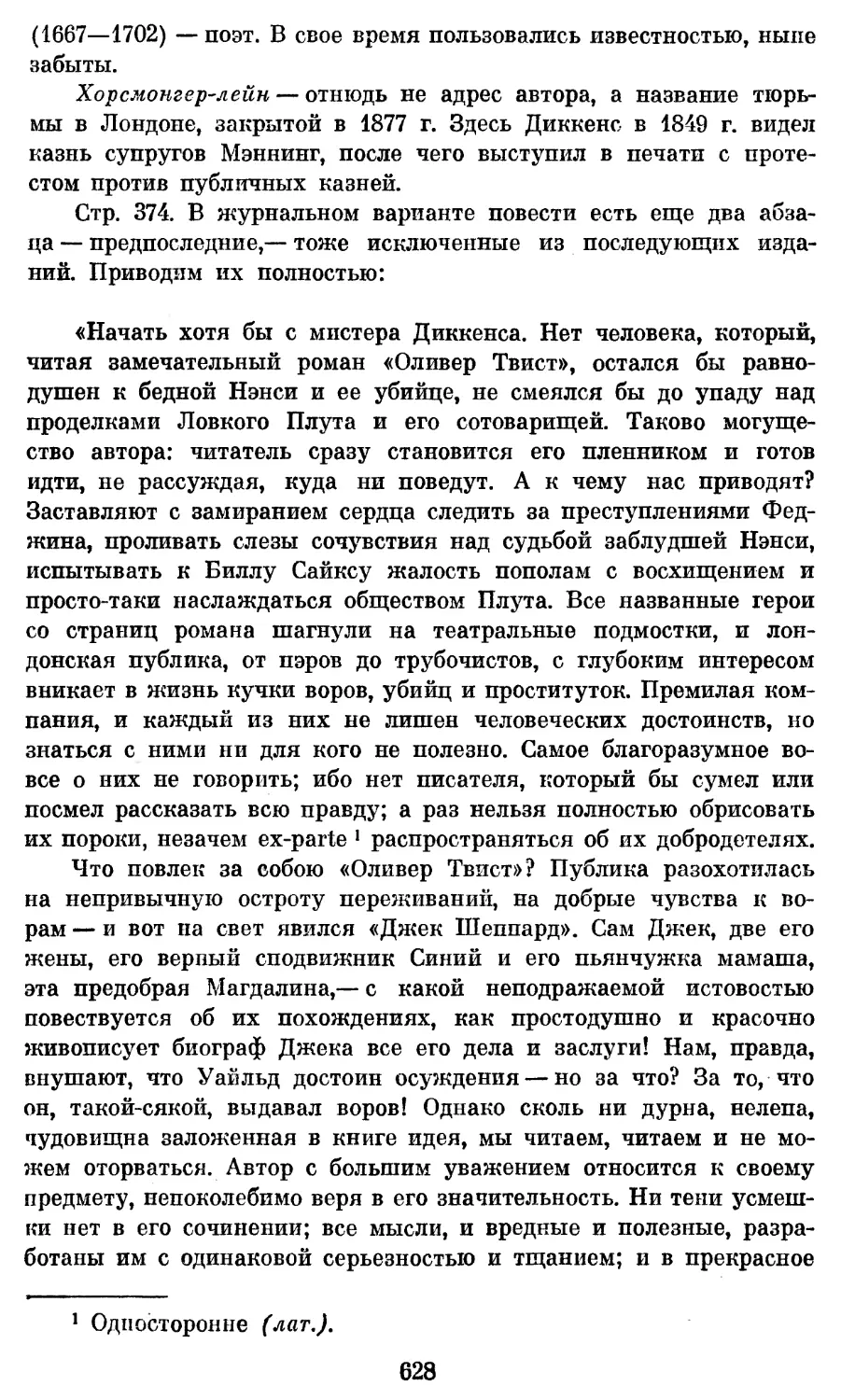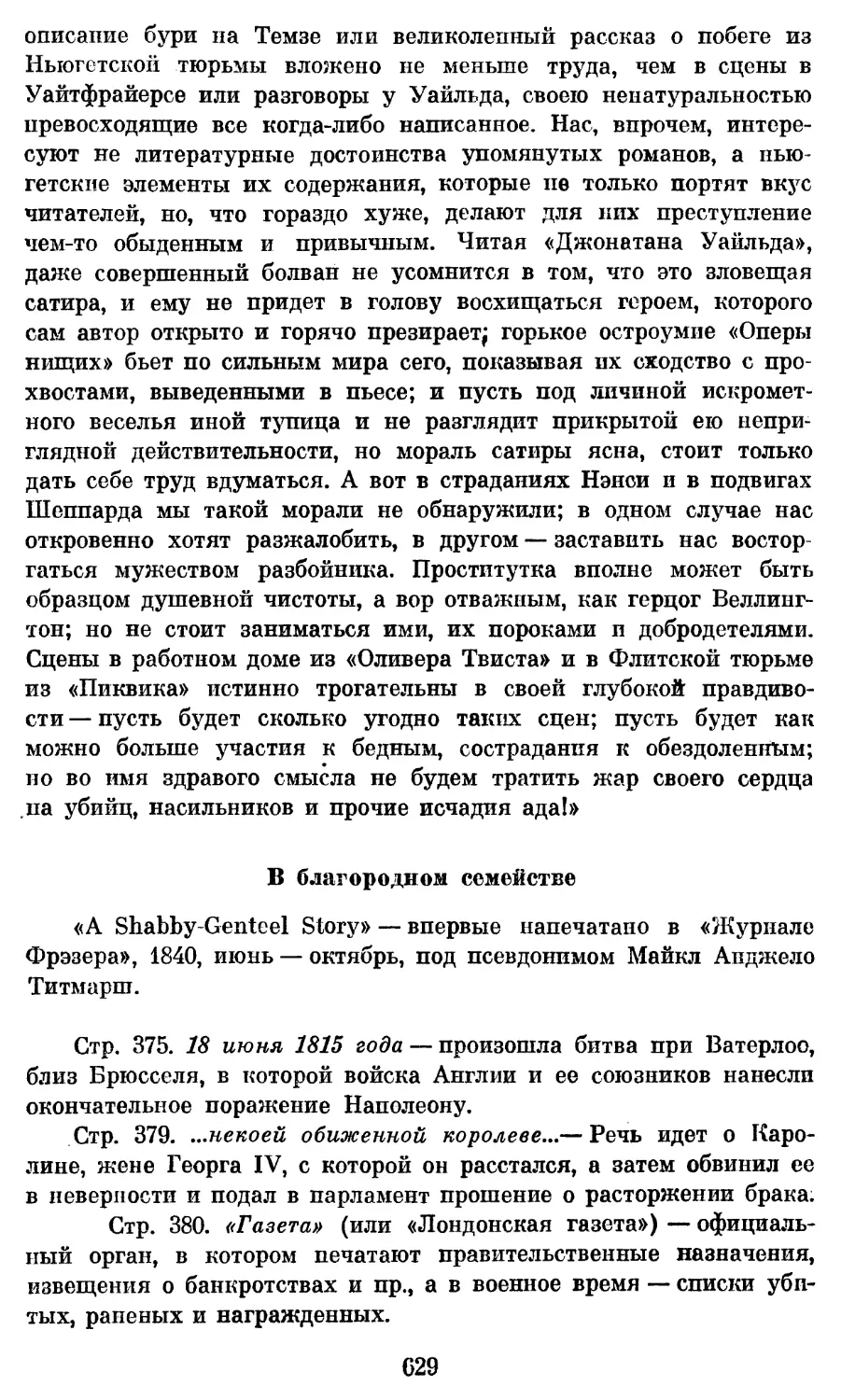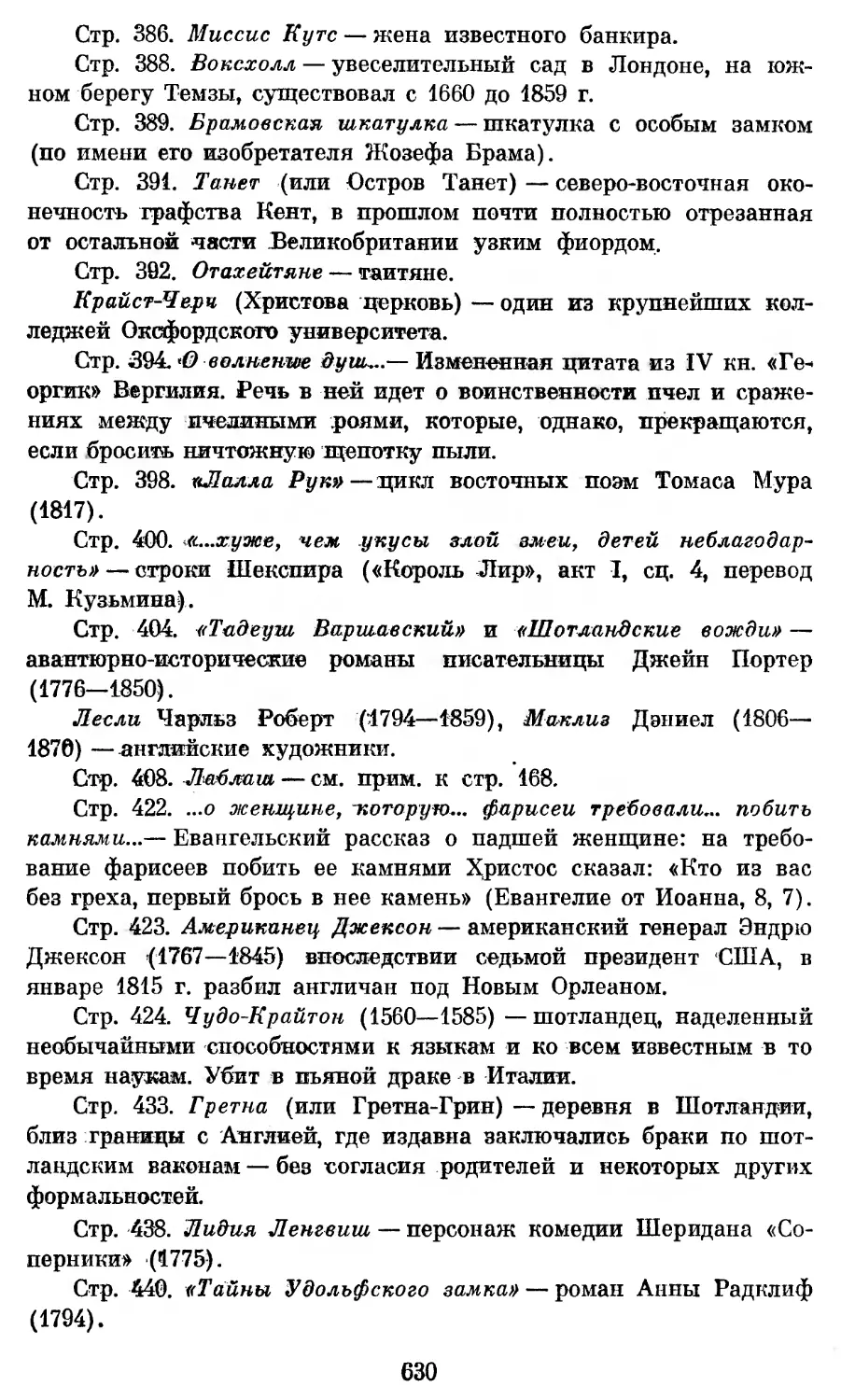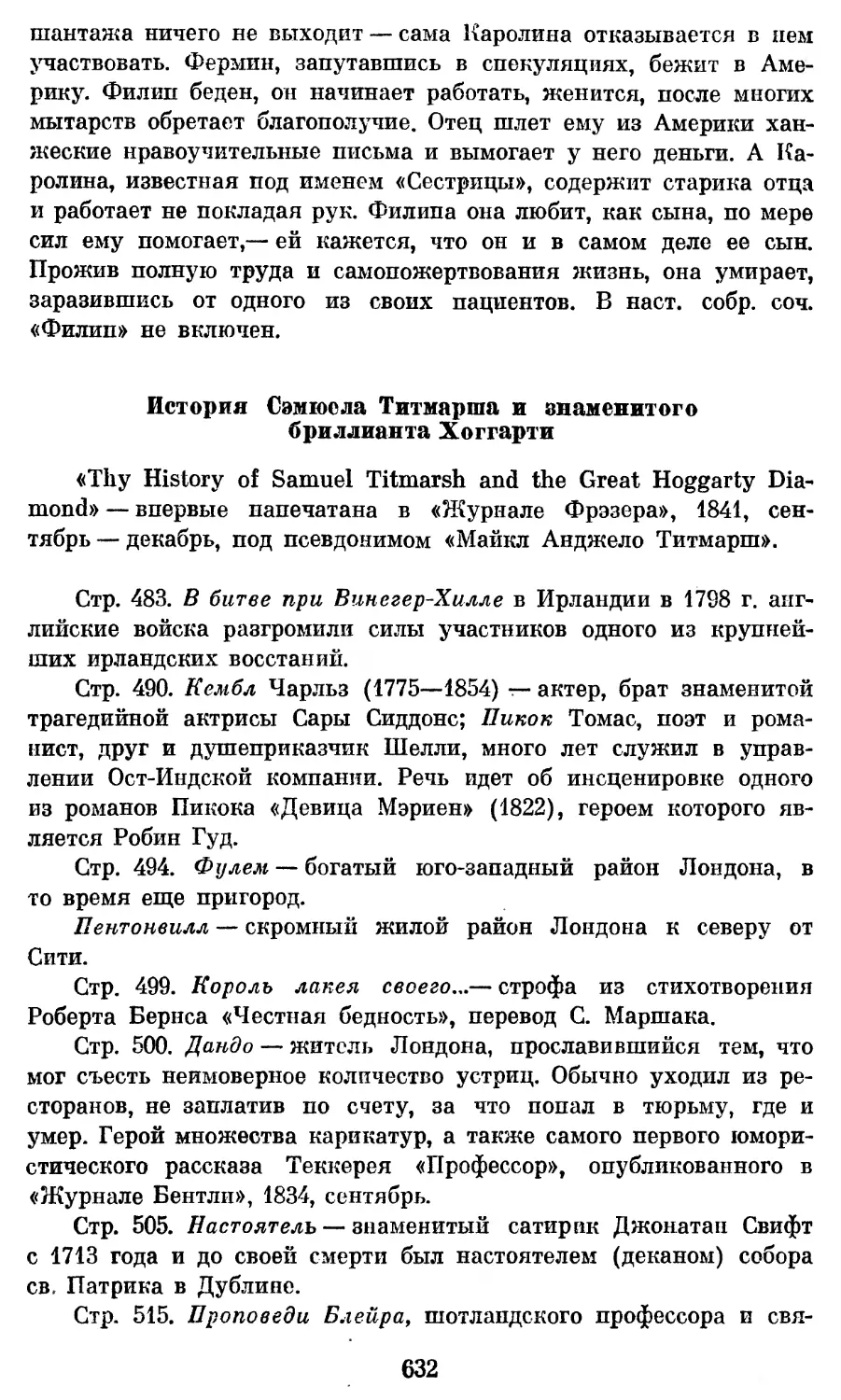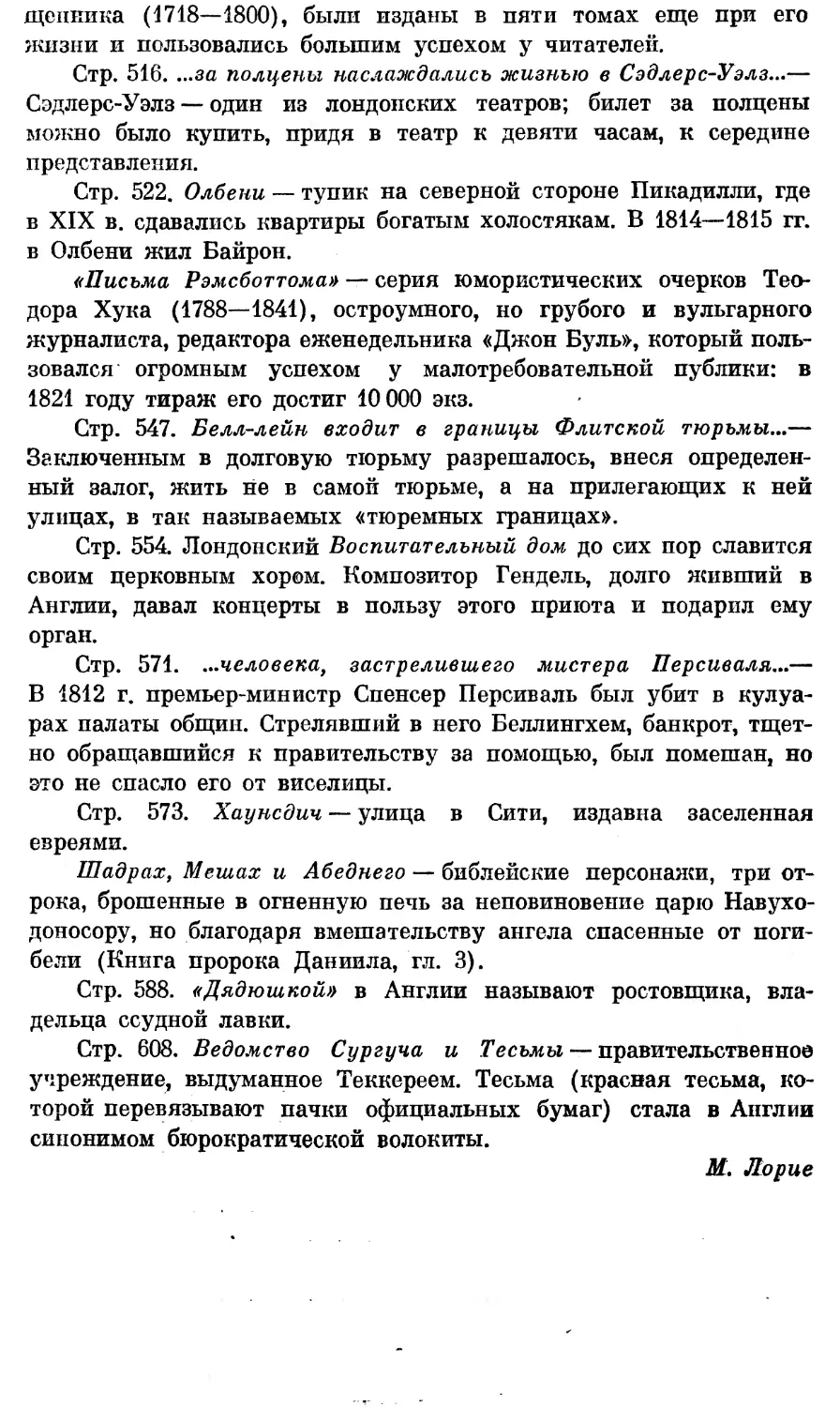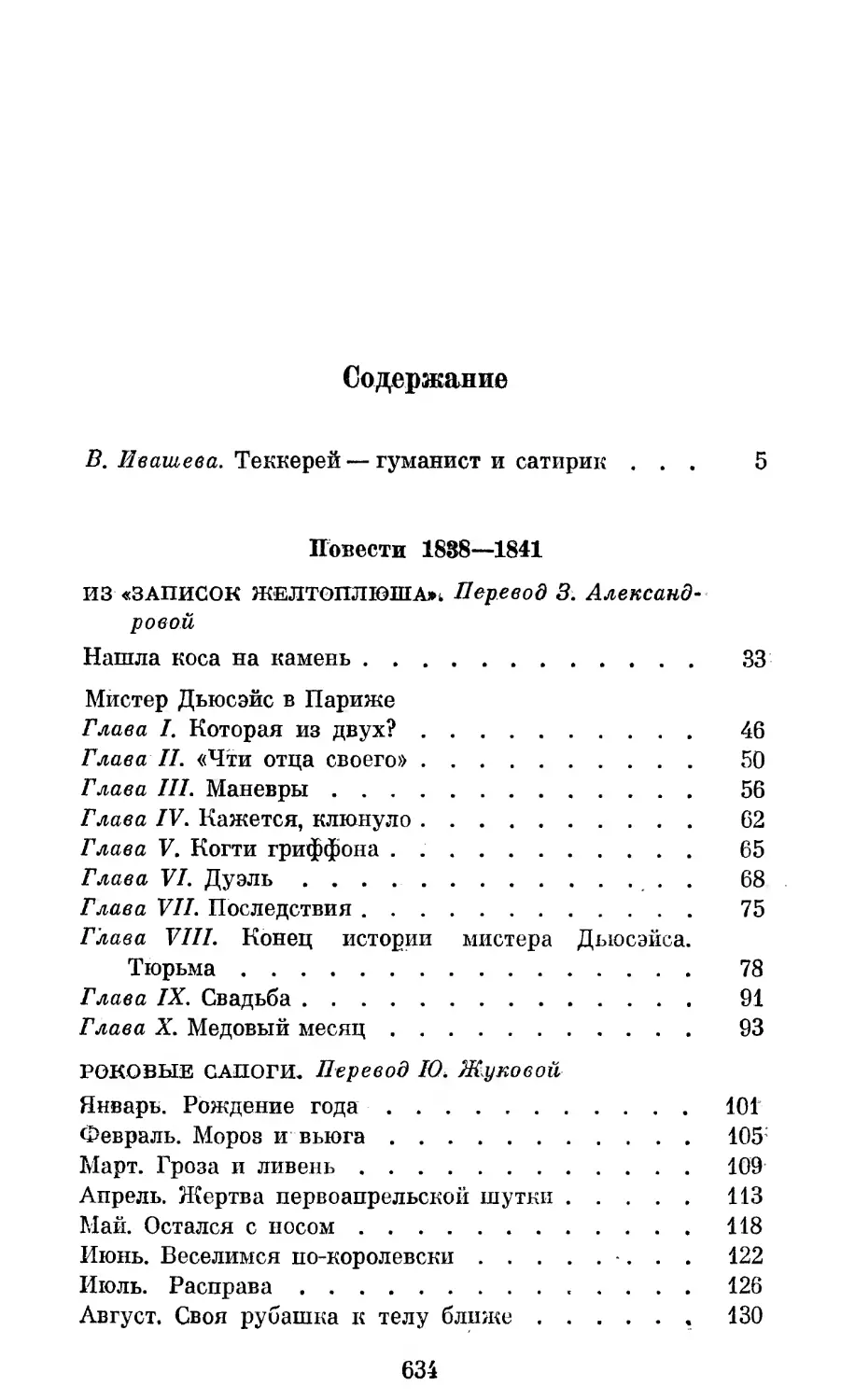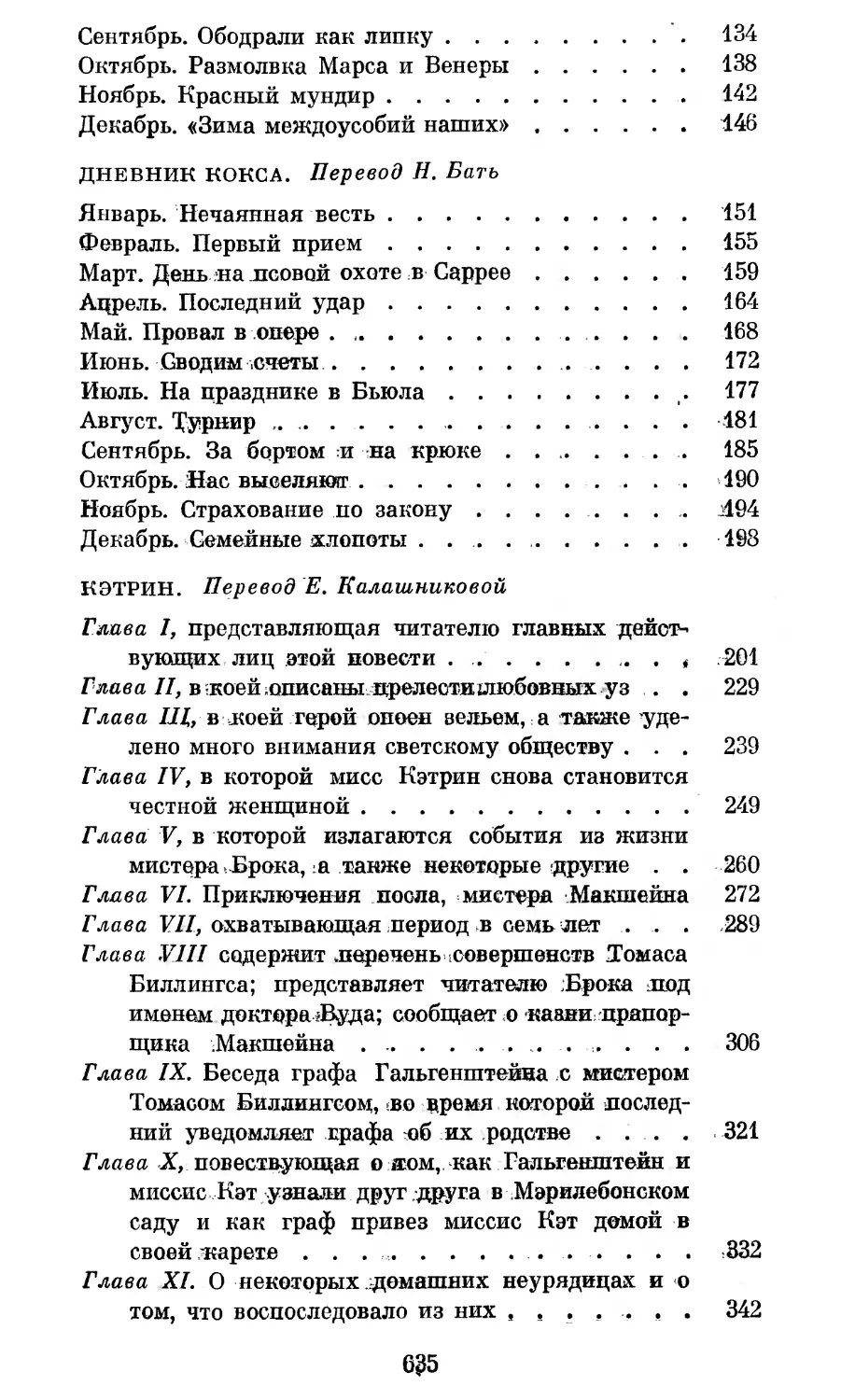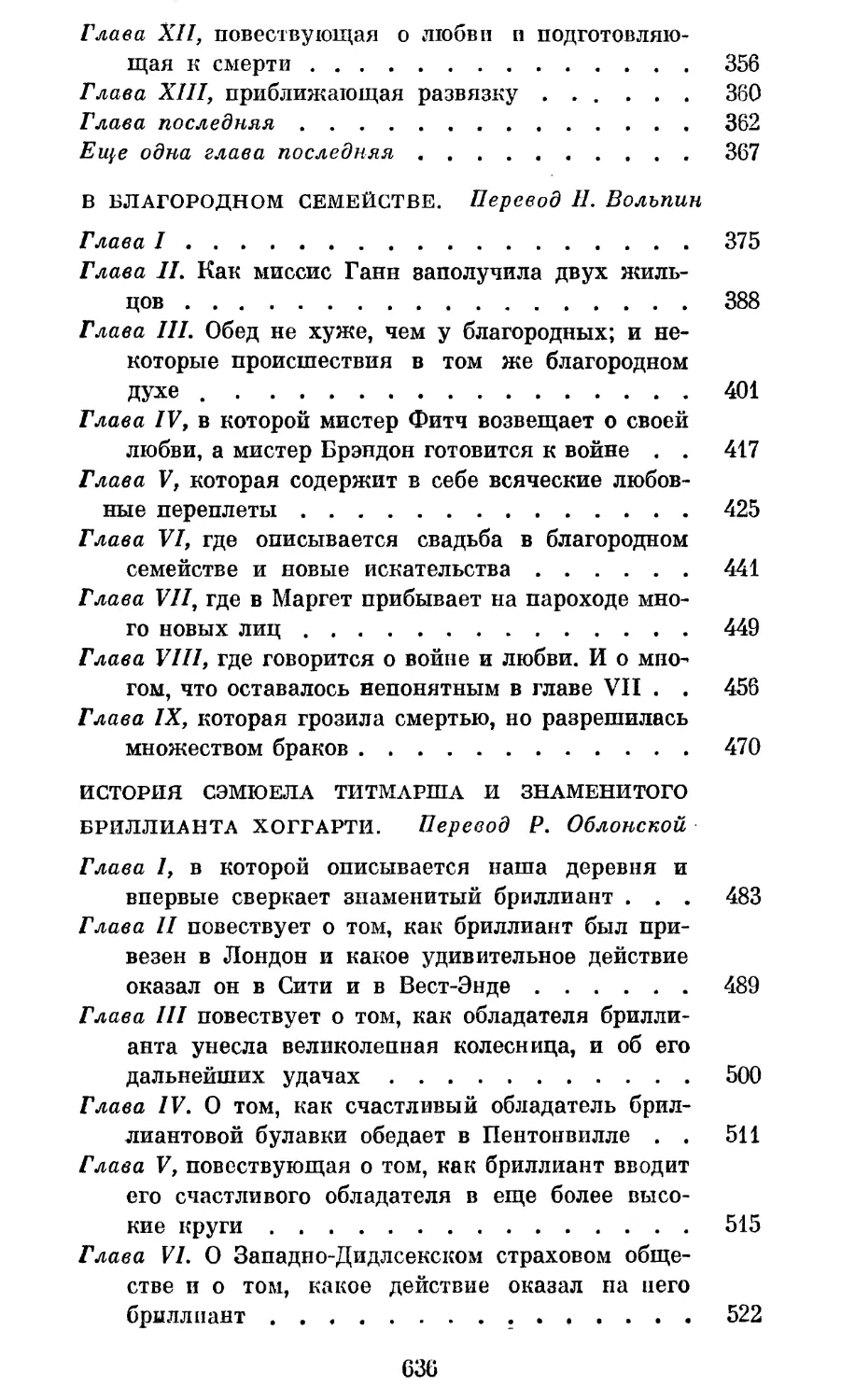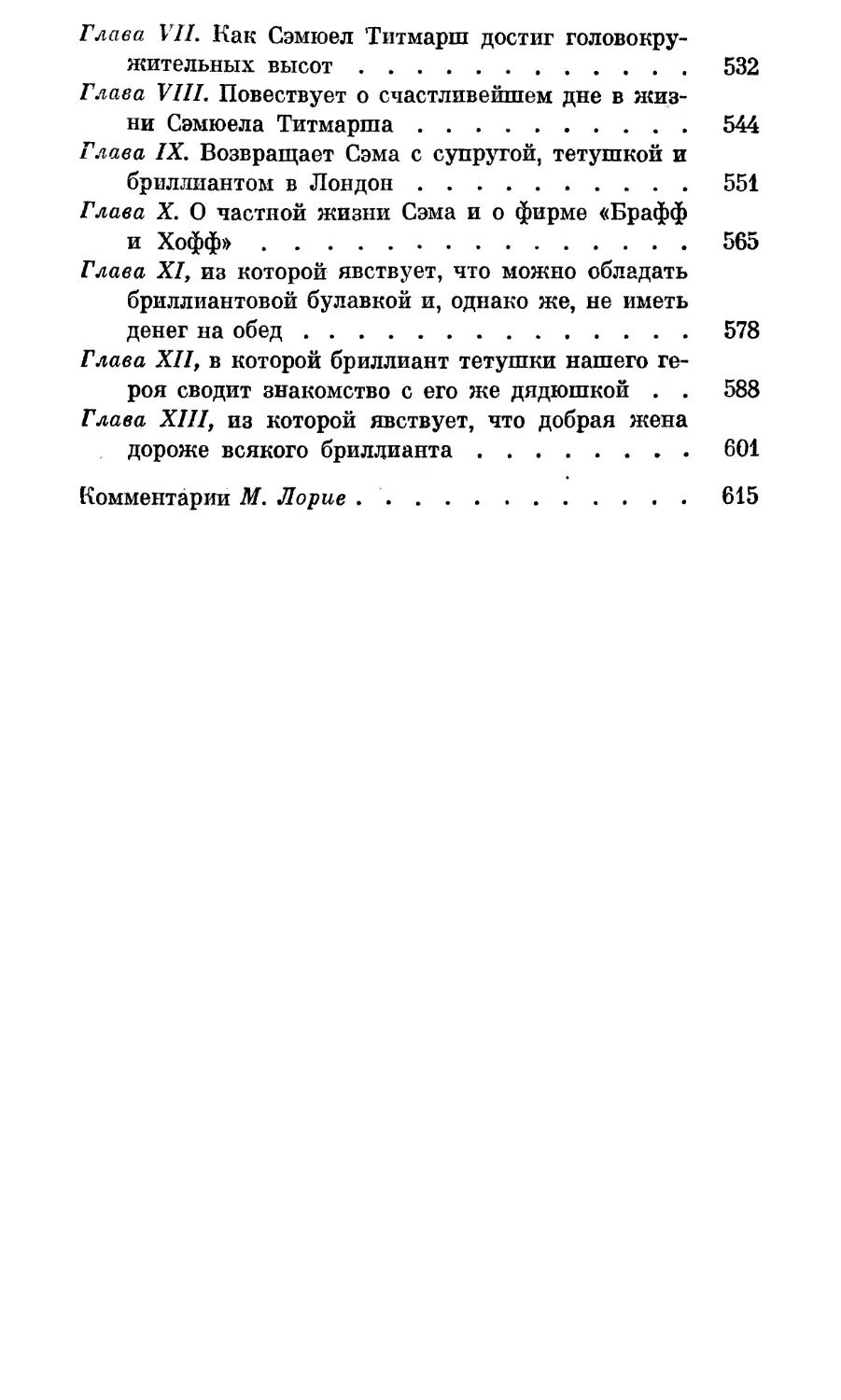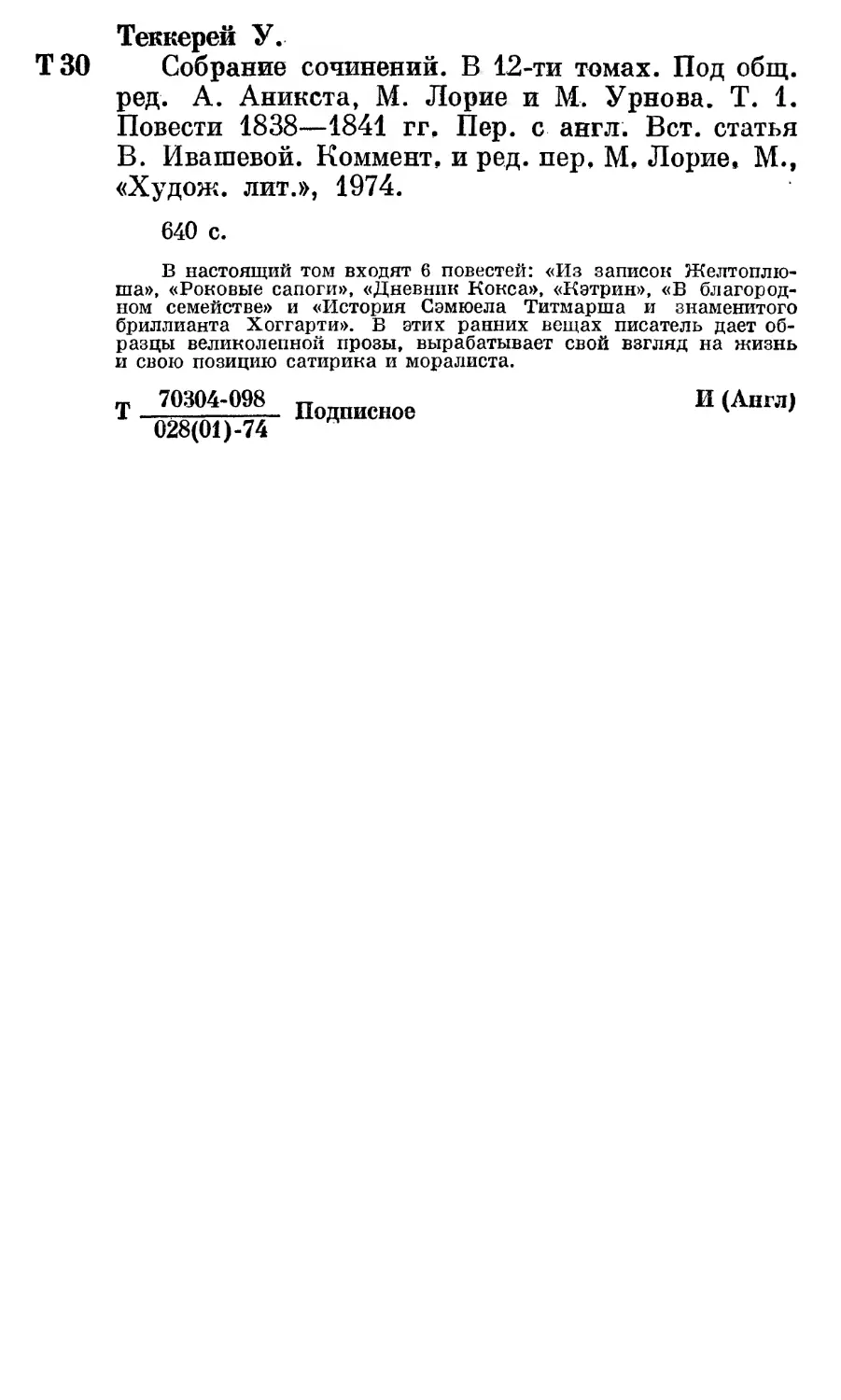Автор: Теккерей У.М.
Теги: художественная литература собрание сочинений классическая литература переводная литература
Год: 1974
Текст
•«I 4< .///"\Vi г""'
ИЛЬЯМ
еккерей
Уильям Мейкпис
Тешрей
Собрание сочинений
в двенадцати тома!
том
1
ПОВЕСТИ
1838—1841
Перевод
о английского
МОСКВА
сХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРАэ
1974
И (Аш.'у
Т 30
Под общей редакцией
Л. Аникста, М. Лорие,
М. Урнова
Вступительная статья
В. Ивашевой
Комментарии и редакция перевода
М, Лорие
Оформление художника
Ю. Боярского
Издательство «Художественная литература», 1974 г.
70304-098
Т028@1)-74ПОАШ1СНОв
Теккерей—гуманист и сатирик
Меня едва ли можно назвать
его ученицей, но я, как, по всей
вероятности, все сколько-нибудь
мыслящие люди, считаю его, по-
К9 О
жалуй, крупнейшим среди
живущих ныне романистов.
Джордж Элиот
Теккерей сегодня — ведущая
культурная сила в нашей стране.
Мэтью Арнолд
1
Уильям Мейкпис Теккерей A811—1863) давно занял свое
заслуженное место среди классиков мировой литературы, и сегодня
уже никто не сомневается в силе его дарования и значении его
наследия. Но слава пришла к Теккерею поздно, и признание
далось ему не легко. О Теккерее как крупнейшей литературной силе,
единственном сопернике Диккенса в Англии, заговорили только
тогда, когда вышла его знаменитая «Ярмарка тщеславия». А
вышла она на половине творческого пути большого мастера, когда
тяжелая болезнь уже подтачивала его силы и жить ему оставалось
не так много.
Шел 1848 год, а за плечами лежали годы упорного труда и
десятки произведений прозаика, публициста, литературного
критика...
Отечественная критика долго «не замечала» Теккерея.
Приписывать это обстоятельство тому, что он выступал вплоть до
«Ярмарки тщеславия» под самыми различными псевдонимами
_ л
(Желтоплюш, Фиц-Будл, Титмарш, Полисмен Икс, Де ля Плюш
и др.) и в различных журналах (сначала преимущественно в
«Журнале Фрэзера», потом, уже в 40-х годах, в знаменитом сати-
5
рическом «Панч» и в десятке других), едва ли основательно.
Причину равнодушия и холодности английских критиков к одному из
величайших мастеров их времени скорее надо искать в характере
его творчества.
Беспощадный обличитель общественных пороков, считавшихся
добродетелью, и лицемерия, прятавшегося под маской
прямодушия, внимательный наблюдатель, умевший увидеть и показать
безобразную изнанку того, что блистало на поверхности,— Тек-
керей не мог стать кумиром охранительной викторианской
критики. Не спасал положение и юмор, смягчавший обличительный
рисунок: Теккерей,— в особенности, Теккерей ранний,— не
склонен был что-либо смягчать и сглаживать и не мог рассчитывать
на легкое, а тем более всеобщее признание. Даже «Ярмарка
тщеславия» — роман, нашумевший как в самой Англии, так и далеко
за ее пределами, вызвал немало толков и недовольства
современных рецензентов: он ломал все принятые шаблоны и устоявшиеся
эстетические мерки. А Теккерей ломал шаблоны с самых первых
дней своей работы в литературе.
Отношение автора «Ярмарки тщеславия» к тому миру и тем
людям, которые его окружали, сатирическая тенденция его
творчества с первых строк, написанных им как публицистом и
прозаиком, объясняется многими причинами.
По рождению Теккерей принадлежал к привилегированным
слоям английского общества, но в его семье царило критическое
отношение к господствовавшей в Англии политической и
общественной системе. Уильям родился в Калькутте, где отец его в то
время был чиновником на британской административной службе.
Отец Теккерея вскоре умер, и заботы по воспитанию мальчика
взял на себя майор Кармайкл-Смит, ставший его отчимом. Как
отчим Теккерея, так и его мать, которую писатель боготворил на
протяжении всей своей жизни, были людьми передовых, если
даже не радикальных для их среды, взглядов и настроений.
Когда Уильяму исполнилось шесть лет, его послали на родину
для получения образования, «какое приличествовало
джентльмену». Но учебные заведения, выбранные для мальчика по
семейной традиции, оставили лишь грустный след в его памяти. И
подготовительную школу, и Чартерхаус — старинную школу для
мальчиков из служилого дворянства — Уильям увековечил лишь
комичными, а порой злыми карикатурами на воспитателей и
наставников и их методы воспитания. Надежды возлагались на Кем-
бридж, но из Кембриджа Теккерей почти убежал, проучившись
в университете всего один год. Его тяготила рутина, царившая в
консервативной цитадели науки. Позднее он откровенно писал
о том, как мало его удовлетворяли методы обучения в Кембридже.
6
Летом 1832 года Теккерей уехал в Германию, которая в то время
славилась постановкой филологической науки.
Получил ли Теккерей то, что он искал в университетах
Веймара и других немецких городов, сомнительно. Однако он
познакомился там с Гете и другими писателями, а на пути в Германию,
лежавшем через Францию, получил первые впечатления от поло^
жения в стране после Июльской революции. Шел 1832 год. В
Англии он ознаменовался биллем о реформе, во Франции уже были
очевидны перемены, вызванные приходом к власти «короля
буржуа». Это было время, описанное Стендалем в «Люсьене Левене»:
французская армия, некогда овеянная славой Наполеона,
превращалась в карательные отряды по усмирению бастующих рабочих...
Теккерей не оставался равнодушным к тому, что происходило
вокруг него. Но в этот первый год после ухода из университета
он строил различные планы деятельности и будущее еще
представало перед ним в розовом свете. В год совершеннолетия его
ждало получение наследства, оставленного отцом, его влекло
искусство. Талант к рисунку, проявившийся у Теккерея очень рано,
заставил его мечтать о парижских школах живописи. Но
обстоятельства сложились совсем по-другому: «судьба» не
благоприятствовала Теккерею с самого начала его жизненного пути.
Разоряется банк, распоряжавшийся средствами, оставшимися после
отца. Необходимость срочного выбора профессии определяет
возвращение на родину и решение заняться правом, которое его
отнюдь не привлекает. Приходится немедленно думать о заработке.
С планами учиться рисунку и поселиться в Париже приходится
расстаться.
Занятия правом, впрочем, оказались кратковременными.
Выручает отчим, открывший в эту пору радикальную газету «Знамя
нации». Молодой Теккерей, став в ней иностранным
корреспондентом, горячо берется за работу, которая его живо интересует.
Так начинается первый этап самостоятельной деятельности
будущего великого писателя.
«Знамя нации» просуществовало недолго, но Теккерей
продолжал выступать иностранным корреспондентом в новой газете
отчима «Конституционалист» A836—1837). Это дало ему возможность
часто бывать в Париже, притом в тот период, когда там кипела
общественная и политическая борьба. Молодой публицист
наблюдает и делает сравнения. Радикальные взгляды, которые он
разделяет с матерью и отчимом, крепнут. Он выступает убежденным
критиком монархических и аристократических режимов, мечтает
о республике.
К тому времени, когда и вторая газета Кармайкла-Смита
должна была закрыться, Теккерей уже переступил порог лите-
7
ратуры: в 1837 году он начал печататься в «Журнале Фрэзера»,
ввязавшись в кипевшую там борьбу. Он возглавляет поход
журналистов «Фрэзера» против создателей популярной беллетристики,
прославлявшей «благородных» разбойников и прекраснодушных
головорезов, с одной стороны, и «светского романа», пронизанного
фальшивыми чувствами и мелодраматизмом, с другой.
Конец 30-х —начало 40-х годов — время бурной деятельности
Теккерея уже не только публициста, но и прозаика. В те же годы
он часто и много выступает как литературный и художественный
критик. Окончательно складываются в то время и его
эстетические взгляды.
Свои взгляды на искусство Теккерей впервые начал
формулировать в письмах к матери, посланных из Германии. От этих
взглядов он не отступил до конца жизни. Руководящий принцип
писателя — реализм. В письме к литературоведу Д. Мэссону
Теккерей в 1851 году подчеркнул: «Искусство романа заключается
в том, чтобы изображать Природу — передавать с наибольшей
полнотой чувство реальности». Развивая свою мысль, Теккерей
пояснял: «С моей точки зрения, сюртук должен быть сюртуком,
а кочерга кочергой и ничем иным. Мне не ясно, почему сюртук
следует именовать расшитой туникой, а кочергу раскаленным
орудием из пантомимы».
В требованиях, которые Теккерей с первых шагов предъявляет
к искусству, порой ощутим даже некоторый ригоризм. От
художника, творчество которого он готов был признать совершенным,
он требовал строгой правдивости и понимания общественной роли
искусства. Любое проявление аффектации, риторики и пафоса,
любое отклонение от естественности и простоты изображения
вызывали его, порой весьма язвительную, насмешку и
решительное осуждение.
Он не терпел эмоциональной приподнятости и
мелодраматизма в искусстве и, хотя не отличался никогда прямолинейностью
мысли, проявлял в своих суждениях о произведениях искусства
полную нетерпимость. Даже В. Скотта (воздействие которого
ощутимо в исторических романах Теккерея) писатель осуждал за
приукрашение жизни. Он не мог принять поэзию Байрона и
Шелли, в которой находил слишком возвышенные, а следовательно,
преувеличенные, по его мнению, чувства. Знаменитая пародия
Теккерея на «Айвенго» Скотта — «Ревекка и Ровена» — яркая
художественная иллюстрация отношения писателя к «романтизации»
жизни в искусстве. Признавая большой талант Скотта, он строго
судил его за эту романтизацию. Даже в середине столетия, когда
реализм уже стал господствующим направлением в английской
литературе, Теккерей не забывал подчеркнуть свое отрицатель-
8
ное отношение к романтизму, сложившееся у него еоиз в
студенческие годы.
Свою задачу Теккерей видел в том, чтобы «показать человека
таким, какой он есть», без прикрас и идеализации. Именно
поэтому он не раз довольно строго судил Диккенса: метод автора
«Рожденственских рассказов» казался ему недостаточно
последовательным, а образы, созданные им, не всегда верными жизни.
Теккерей не мог принять того сочетания романтических и
реалистических тенденций, которое он ощущал в произведениях
своего великого современника. Своим учителем он смолоду объявил
Фильдинга. Воздействие манеры автора «Джонатана Уайльда»
очевидно в большинстве его книг и в особенности в «Барри Лин-
доне» A844). Правда, долгое время казалось, что Теккерей к
середине своего пути пересмотрел свое отношение к Фильдингу:
основанием к этому служили его высказывания о герое романа
«Том Джонс» в очерках «Английские юмористы XVIII века». Но
очерки эти первоначально были лекциями, прочитанными Текко-
реем в аристократической аудитории, и вполне вероятно, что
критические суждения, высказанные здесь о «повесе» Томе Джонсе,
были всего лишь злой издевкой над великосветскими
слушателями, помешанными на приличиях.
Десятилетие 1837—1847 было в жизни Теккерея периодом
большой творческой активности и в то же время периодом
больших испытаний. Количество написанного в эти годы Теккереем,
притом в разных жанрах и формах, было вызвано многими
печальными обстоятельствами его биографии.
В 1836 году Теккерей женился на Изабелле Шоу, которую
встретил в Париже. Через четыре года, когда он с женой и двумя
малолетними дочерьми плыл на пароходе в Ирландию, Изабелла
внезапно попыталась покончить жизнь самоубийством. Вся
дальнейшая жизнь впавшей в безумие молодой женщины прошла в
лечебницах для душевнобольных. Хотя Изабелла умерла только в
1892 году, пережив, таким образом, писателя на тридцать лет, для
Теккерея брак с нею был лишь тяжелой фикцией, на которую его
обрекло законодательство того времени. Потеряв жену и друга,
встав перед задачей воспитать двух дочерей, далеко материально
не обеспеченный, Теккерей остро ощущал свое одиночество. Он
часто писал матери — миссис Кармайкл-Смит,— как тяжело ему
было в огромной столице, где каждый спешит за наживой,
беззастенчиво и жестоко расталкивая всех на своем пути.
Дарование его еще не было признано, место в литературе еще предстояло
завоевать. Вокруг себя он не видел ни настоящего понимания, им
сочувствия. Мужественно замкнувшись в себе, Теккерей скрывал
9
даже от друзей душевные терзания, охватившие его в годы
нелегких личных испытаний.
Но каковы бы ни были настроения Теккерея в эти
критические годы его существования, жизнь предъявляла к нему свои
требования. Он трудился не покладая рук, печатаясь, где мог, ища
заработка, дававшегося и не легко и не всегда.
Сегодня имя Теккерея ставится рядом с именами Свифта и
Мильтона, Байрона и Диккенса, но до самого конца 40-х годов
он был вынужден сам предлагать свои услуги издателям и
печататься практически на любых условиях. Матери Теккерей писал:
«Не надо слишком тревожиться обо мне и моей бесконечной
борьбе, о моих бесконечных тяготах и затруднениях... Наш ум
становился бы вялым, если бы о нас всегда заботились другие,
нянчились бы с нами, доставляя нам пищу и питье... Смотри, как все
проталкиваются вперед, с каким трудом пробиваются... Почему бы
нам плестись в хвосте?» Через месяц он, снова обращаясь к г-же
Кармайкл-Смит, восклицал: «О, этот Лондон! Хорошее место для
всяких планов и замыслов. Но здесь хорошо только человеку с
широкими плечами, который может пробиваться через
враждебную толпу».
В эти трудные десять лет своей жизни Теккерей как писатель
выступал преимущественно в малых жанрах, но все, что он писал,
было проникнуто обличительной, сатирической тенденцией. Он
пишет статьи, в которых высмеивает «ньюгетский роман» Буль-
вера и Эйнсворта, приукрашающий подвиги обаятельных
разбойников, а позднее пародии на эти романы («Кэтрин», 1840, и «Барри
Линдона», 1844). Заметим при этом, что роман «Барри Линдой»
вышел далеко за пределы первоначального замысла. Позднее
непревзойденное искусство пародии, достигнутое Теккереем, было
с блеском продемонстрировано им в серии очерков «Романы
прославленных сочинителей» A846).
Крупнейшим из ранних произведений Теккерея, родившихся
в пылу полемики с создателями «ньюгетского» романа, был
знаменитый «Барри Линд он». Этот роман, построенный на исторической
основе, вышел далеко за пределы полемики с Бульвером и его
школой. Приключения Барри — наглого авантюриста и
мошенника, наемника в войсках Фридриха II Прусского,— так же
неприглядны, как непригляден сам Барри —лжец, обманщик и шулер,
человек, лишенный каких-либо принципов и преследующий только
достижение наибольшей выгоды и наибольших наслаждений,
какой бы ценой они ни давались. По замыслу автора, его образ (как
и образ Кэтрин из одноименного произведения) должен был
вызвать отвращение к подобным личностям и учить видеть фальшь
романтической трактовки их в «ньюгетской» беллетристике. Тек-
10
керей ставил перед собой цель нарисовать закоренелого и
циничного негодяя, сорвав с него налет привлекательной
романтичности «благородного» разбойника. Перед читателем встает образ
человека, порожденного новыми буржуазными отношениями и
верного буржуазной эгоистической морали. В центре внимания
не столько Барри, сколько жизнь того общества, которое
определило подобный характер. Все в романе, события которого
развертываются в середине XVIII века, соответствует исторической
действительности и все реалистически мотивировано. В то же время
«Барри Линдон» был остро актуален: сохраняя историзм в
изображении кровопролитных войн Фридриха II, неприглядной
картины жизни аристократии на континенте Европы, продажности и
цинизма ее представителей, автор создал образы, не потерявшие
своей обличительной силы и в его время, и проводил параллели,
без труда поддававшиеся расшифровке.
Но литературно-критические статьи и литературные пародии
не были единственным видом деятельности писателя в ранние
годы. С конца 30-х годов начинают выходить его первые зарисовки
нравов английского буржуазного общества. Это «Записки Желто-
плюша», «Дневник Кокса», «В благородном семействе»,
«Знаменитый бриллиант Хоггарти», наконец, «Английские снобы». В центре
внимания молодого Теккерея характерный для английских нравов
порок снобизма.
Говоря в своих статьях 40-х годов об Англии и характерных
явлениях английской общественной жизни того же периода,
Энгельс подчеркивал царившую в Англии «лордоманию». Титуло-
и дворянопочитание были вскормлены особенностями английских
общественных отношений, сложившихся еще в результате так
называемой «Славной революции» A688) и компромисса между
управляющей фактически всем буржуазией и номинально
правящей аристократией. Английские «средние классы» стремились во
что бы то ни стало приобрести «респектабельность», что на языке
английского мещанина означало подражать манерам, поведению,
образу жизни и обычаям аристократов. Промышленники и
коммерсанты, финансисты и дельцы различного калибра,
выходившие в то время очень часто из низов мещанства благодаря
колониальным авантюрам и легко дававшимся спекуляциям, не
довольствовались приобретенным богатством и даже политическим
влиянием: они стремились войти в дворянскую среду и с этой целью
приобретали земли, покупали титулы, прикладывая огромные
усилия к тому, чтобы проникнуть в так называемое высшее общество,
жить, во всем подражая аристократам. Преклонение перед всем
«аристократическим», о котором писал Энгельс, и было тем
пороком, который Теккерей назвал снобизмом. Он был прав, считая
11
его одним из самых омерзительных явлений английских
общественных нравов того времени.
По определению Теккерея, сноб — это тот, кто, «пресмыкаясь
перед вышестоящими, с пренебрежением взирает на
нижестоящих». «Но может ли быть иначе в стране,— с горечью рассуждал
писатель,— где лордопоклонство вошло в символ веры, а наших
детей смолоду учат почитать книгу пэров, как вторую Библию
англичанина». «И мне кажется,— утверждал он,— что все
английское общество заражено проклятым предрассудком сребролюбия,
что мы низкопоклонничаем, льстим и заискиваем у одних, а
других презираем и дерем нос перед ними — все мы, снизу доверху,
от низших до высших».
Во вступительном очерке к «Книге снобов» писатель заявил,
что тема снобизма преследовала его, не давая ему покоя, что он
всегда был «одержим» ею. И действительно, начиная от своих
первых рассказов из серии «Записки Желтоплюша» и до
знаменитых очерков «Английские снобы» (вышедших впоследствии под
названием «Книги снобов»), основная тема всех его повестей и
зссе — тема этого порока, который он считал недостойным
человека.
В ранних повестях Теккерея перед читателем выстраивается
целая галерея социально типичных портретов. Это люди из
различных слоев общества, но снобизм присущ всем. Теккерей
считал его чем-то вроде национальной болезни. Все те люди, которые
смотрят на нас со страниц «Записок Желтоплюша», «Дневника
Кокса», «В благородном семействе», «Истории Сэмюела Титмарша
и знаменитого бриллианта Хоггарти», показаны, как было
справедливо замечено Марксом, «полными самонадеянности,
лицемерия, деспотизма и невежества». Не может быть сомнения в том,
что слова, которыми заканчиваются известные замечания Маркса
об английском романе середины века, не только относятся к Тек-
керею, но являются перифразой его определения снобизма: «Они
раболепствуют перед теми, кто выше их, и ведут себя как тираны
по отношению к тем, кто ниже их» *.
Художественным принципом сатирического изображения
раннего Теккерея было преувеличение. Все его повести конца 30-х —
начала 40-х годов построены на намеренной гиперболизации и
шаржировании типических черт тех характеров, которые он
подвергал осмеянию. Порой (как, например, в «Дневнике Кокса») это
преувеличение переходило даже в гротеск. Писатель не стремился
в своих ранних повестях к внешнему правдоподобию: его главной
1 К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч., т. 10, М., 1958, с. 643.
Статья в «Нью-йоркской трибуне», 1854, 1 августа.
12
задачей было раскрыть существо изображаемых фактов, добиться
глубокой правды обобщения. Примером может служить небольшой
рассказ из серии записок лакея Желтоплюша «Муж миссис Шам»,
где многие ситуации могут казаться «неправдоподобными».
Выдавать себя за важную особу (а он ею не является) Альтамонта
вынуждает чувство к девушке, в глазах которой единственное до-
стоинство человека — знатность и богатство. Но его лакей Желто-
плюш — сноб из снобов,— узнав, что господин, у которого он
служит, всего-навсего скромный труженик, а не важный джентльмен,
за которого он его принимал, немедленно от него уходит,
«оскорбленный в своих лучших чувствах». Служить человеку скромного
достатка он считает для себя унизительным!
В «Дневнике Кокса» каждый образ — сильное преувеличение.
Внезапно разбогатевший парикмахер, как мольеровский Журден,
изо всех сил стремится попасть «во дворянство». Он во всем без
разбора подражает людям из «высшего общества», хочет стать
его частью. Кокс смешон, но куда менее отвратителен, чем те
представители «света», которые готовы служить статистами на
обеде разбогатевшего выскочки, его же при этом третируя и
унижая. Герцогиня Зеро (то есть «Ноль»), леди Норт-Поул (то есть
«Северный полюс») и другие им подобные — без сомнения, шарж,
но через этот шарж, через это преувеличение ярче проступают
типичные явления современной жизни, которые писатель
стремится выставить на всеобщее обозрение и осмеяние.
Знаменитые очерки Теккерея «Английские снобы»,
печатавшиеся им в журнале «Панч» с февраля 1846 года по февраль
1847-го, объективно стали завершением его кампании против
снобов. Они написаны по образцу просветительских эссе XVIII века
и остро тенденциозны. Социально-типический портрет сочетается
в них с рассуждениями автора об изображаемом. Нигде ирония
Теккерея еще не была так язвительна, насмешка так очевидна,
как в «Английских снобах». Основной прием изображения всех
типов и видов снобов — обнажение противоречия между тем, чем
люди хотят казаться, и тем, чем они являются на самом деле.
Теккерей начал свой путь публициста и писателя накануне
тех лет, которые вошли в историю Англии под названием
«голодные сороковые». После билля о реформе 1832 года буржуазия
торжествовала свою окончательную победу. Но в то время, как
она богатела и набирала силу, миллионы тружеников были
ввергнуты в неслыханную нужду и тяжелейшие бедствия. Начинался
и быстро набирал силу чартизм. Готовилась «первая великая
битва» между двумя классами.
13
По мере того как развивался и ширился чартизм, взгляды Тек-
керея, мечтавшего еще недавно об уничтожении монархий во всех
европейских странах и победе республиканского строя, начали
осложняться глубокими противоречиями.
В отличие от многих своих современников, Теккерей хорошо
понимал силу и значение чартизма, относился к нему серьезно
и с уважением. В то же время чартизм внушал ему и большую
тревогу. Теккерей не мирился с законами общества, построенного
на корысти и эгоизме, и ненавидел все проявления этих
отвратительных пороков, но никак не мог отказаться от идеи «права
на собственность». В конечном счете это противоречие определило
всю философию писателя, окончательно сложившуюся в 40-х
годах. На основе этого противоречия выросли пессимизм и скепсис,
окрасившие все крупнейшие произведения Теккерея зрелой поры
его творчества. Все уродливые явления английского общества
XIX века писатель возвел в общий закон бытия; жизнь общества,
построенного на безраздельной власти денег, превратилась в его
восприятии в «жизнь вообще», а социальные отношения
определенного времени стали рассматриваться им как отношения людей
во все времена и эпохи. Но, рассматривая зло современного мира
как неустранимое и вечное, писатель должен был прийти к
выводу, что все виды зла, царящего во всем мире, неустранимы и
вечны. Тем самым любые формы борьбы с законами,
управлявшими современным (то есть буржуазным) обществом, становились
в его понимании тщетными, а потому бессмысленными. Вся
человеческая история превращалась в пустую карусель.
«Есть ли новые басни? — скажет Теккерей в первой главе
романа 1854 года «Ньюкомы».— Образы и характеры кочуют из
одной басни в другую — трусы и хвастуны, обидчики и их жертвы,
плуты и простофили... Солнце светит сегодня так же, как в
первый день его сотворения, а птицы в ветвях дерева, под которым
я пишу, наверно, выводят те же трели, какие звенят в поднебесье
с того самого дня, как они обрели голос».
Пессимизм, окрашивающий все произведения Теккерея, но в
особенности его большие романы 1848—1856 годов, определялся
убеждением в неистребимости пороков, которые он ненавидел и
обличал.
2
Все творчество Теккерея до опубликования им в 1847—1848
годах романа «Ярмарка тщеславия» многие исследователи
рассматривают как подготовку его знаменитого шедевра. И в самом деле,
«Ярмарка тщеславия» лишь впитала в себя все то, о чем
14
думал и что выражал, что наблюдал и обобщал великий
художник.
Роман этот заканчивает один этап в развитии мысли и
искусства Теккерея и начинает второй — и последний. Нельзя пройти
мимо того, что, обобщая многие темы, положенные им в основу
его ранних сатирических повестей и эссе, решая характеры,
эскизы к которым мы находим в этих ранних его творениях, Текке-
рей выработал новую манеру письма, новые формы отражения
жизни.
Теккерея перестает удовлетворять гиперболизированный ри-»
сунок, шарж и обобщение, не оставляющие места для индиви*
дуализации портретов. Он ищет новые, более выразительные, как
ему представляется теперь, средства реалистического письма. Он
ощущает потребность глубже заглянуть во внутренний мир
изображаемых им людей, показать их уже не с одной стороны и не
как воплощение определяющего их порока, а с противоречиями,
живущими в их сознании, чувствах и поведении. В «Ярмарке
тщеславия» окончательно складывается мастерство
индивидуализированных портретов, которое впервые наметилось у Теккерея в
одной из его лучших ранних повестей — «Истории Сэмюела Тит-
марша и знаменитого бриллианта Хоггартн».
Новая тенденция к более полному и совершенному
изображению типического, к индивидуализации его проявлений у
разных людей и при различных обстоятельствах в сочетании с
большей полнотой видения окружающего мира определили характер
творчества писателя в 1847—1852 годах, в пору создания им
«Ярмарки тщеславия» A847—1848), «Пенденниса» A849—1850) и
«Генри Эсмонда» A852). В этих произведениях, созданных в зрелую
пору его творчества, Теккерей достиг вершины своего мастерства.
Общепризнанно, что в первом крупном романе Теккерея
«Ярмарка тщеславия» сила сатирического обличения особенно
значительна. Хотя здесь изображено не все английское общество
середины века, а лишь его привилегированные слои — различные
представители землевладельческой аристократии и «средние классы» —
коммерсанты, биржевики, предприниматели,— но они изображены
в свете законов, которые управляют всем строем общественной
жизни.
Главная мысль Теккерея, положенная в основу всех образов
книги, как и ее композиции,— власть денег в обществе, где
победила буржуазия, глухая ко всему, кроме наживы, заразив при
этом эгоизмом и своекорыстием и тех аристократов, которым
стремилась подражать в манерах, поведении, образе жизни. В
изображаемом мире царят законы «базара житейской суеты», на
котором все продается и все покупаетсяж включая совесть людей,
15
их лучшие побуждения и чувства. Заглавие книги и тот
символический образ, к которому Теккерей неоднократно обращается
в тексте романа, заимствован из широко популярного в Англии
произведения Бэньяна «Путь паломника» A678). На «ярмарке
(или базаре) житейской суеты», которую рисовал Бэньян,
продается решительно все: «любые товары... жены, мужья, дети... все,
что угодно». В русских переводах 1853 и 1873 годов роман
выходил под названьем «Базар житейской суеты».
Теккерей назвал «Ярмарку тщеславия» романом без героя,
рассуждая, что в современном мире есть только один герой —
деньги/Той же мысли подчинена в конечном счете и структура
романа: в нем нет сюжета в общепринятом смысле слова, и
действие развертывается в соответствии с ходом самой жизни — как
будничная хроника, намеренно несколько отодвинутая в прошлое.
Точнее даже говорить о двух хрониках, положенных в основу
повествования: параллельно в нем развертывается два действия,
в одном персонажи — помещики-землевладельцы (как Кроули)
и столичные аристократы (как Стайн), в другом — банкиры
и коммерсанты, биржевики и дельцы Сити (как Осборн и
Седли). Развертывая параллельно две хроники, Теккерей не
противопоставлял, а скорее сопоставлял, добиваясь у читающего
ощущения внутренней связи — единства сил, движущих всеми
людьми вне зависимости от их принадлежности к той или другой
общественной среде. Он хочет подчеркнуть: формы поведения
могут быть разными, но суть всюду одна. Счастье Эмилии Седли
зависит от положения дел ее отца на бирже, а Род он Кроули
возлагает надежды на наследство богатой старой тетки. Старый Осборн
в своих поступках руководствуется теми же принципами, что и
маркиз Стайн, и в основе отношения к вещам того и другого, как
бы различны они ни были, всегда в конечном итоге — расчет и
денежный интерес.
Теккерей не делит своих персонажей на злых и добрых (как
это, в особенности в ранних вещах, делал Диккенс). На том
«базаре житейской суеты», который стремился показать писатель,
большинство людей злы, некоторые смешны, а добрые, если они
порой и встречаются, одурачены или растоптаны злыми. Теккерей
любил делить всех людей на мошенников и одураченных (rogues
and dupes), иными словами, на тех, что «живут по законам
ярмарки», и тех, кого они вводят в заблуждение или так или иначе
одурачивают (как доброго идеалиста Доббина). Сатира на всех
участников этой грустной комедии (как одураченных, так и
дурачащих) пропитана скептицизмом, поскольку Теккерей
внушает читателю свой основной философский принцип —• «такова
жизнь».
16
Острота обличения в «Ярмарке тщеславия» определяется тем,
что наиболее омерзительные автору персонажи романа (и их
прототипы в жизни) — это те, кто, живя по законам буржуазного
общества, пользуется его полным одобрением. Так, маркиз Стайн —
знатная особа и крупный политический деятель — по своему
моральному облику одна из наиболее отталкивающих фигур в
романе. Уважаемый всеми делец Осборн проявляет полнейшее
бездушие к разорившемуся Седли, которому обязан в прошлом своим
богатством и благополучием...
Порядочным человеком в понимании Теккерея мог остаться
только тот, чьи интересы лежали за пределами власти денег. Но
таких людей было мало, и если он их и встречал, то чаще всего
оби оказывались одураченными, как Доббин, много лет гнавшийся
за ложным идеалом.
Эмилия Седли, долго воспринимавшаяся Доббином как
совершенство, рисуется Теккереем с тонкой и скрытой иронией. Ее
образ — пародия на положительных героинь Диккенса и других
авторов английского романа XIX века, воплощавших добродетель.
Верность памяти Джорджа Осборна, ветреника и обманщика,
показывает не только неумение Эмилии разбираться в людях, но
и большую ограниченность.
Особое место в художественной системе романа занимает
образ Бекки Шарп, недаром принимаемой порой за героиню книги.
Характер Бекки решен в старой манере писателя — манере
преувеличения и шаржа, причем рисует его Теккерей, подчеркивая
эту гиперболизацию. Бекки — обобщение всего того, что показано
в романе во многих повторяющихся аспектах,— власти денег,
циничной откровенности в охоте за различными формами удачи и
обогащения. В этом смысле она воспринимается как
реалистический символ всего показанного.
На протяжении романа Бекки плачет один только раз, и слезы
ее пролиты по поводу того, что она просчиталась, выйдя замуж за
молодого Родона Кроули, тогда как, подождав немного, могла бы
стать женой овдовевшего старого баронета — жадного, скупого и
мелочного сэра Питера Кроули. Образ Бекки — дочери бедных
родителей, ставшей, по словам автора, взрослой уже с
восьмилетнего возраста,— гипербола с начала и до конца. Гиперболически
показана ее беззастенчивая погоня за теми жизненными благами,
которые она намерена отвоевать, сражаясь с неблагоприятными
для нее обстоятельствами.
При этом следует отметить, что Теккерей не судит недобрую
и совершенно беззастенчивую молодую авантюристку. «Пожалуй,
и я была бы хорошей женщиной, имей я пять тысяч фунтов'
годового дохода»,— рассуждает Ребекка. Поведение Бекки Шарп в доме
М
Седли, а потом Кроули он объясняет отсутствием маменьки:
о Бекки некому позаботиться так, как заботятся о других девушках,
устраивая их благополучие путем выгодного брака. Свое счастье
Бекки пытается строить сама, причем ее представления о счастье
ничем не отличаются от тех, что царят вокруг нее. В рисунке
образа Бекки Теккерей перекликается с другим великим
реалистом XIX века Бальзаком, сказавшим устами Вотрена: «Нет
добродетелей, есть только обстоятельства».
«Ярмарка тщеславия» написана в своеобразной манере.
Показывая нравы современной Англии и всем характером своего
изображения подчеркивая свое отношение к ним, Теккерей не
довольствовался одним повествованием и его драматизацией в
диалоге. Роман пронизан авторским комментарием и авторскими
рассуждениями о жизни и людях. Эти отступления чаще всего
непосредственно связаны с текстом романа, но зачастую уводят
читателя в мир авторской философии. Как правило, они лиричны по
своей интонации.
Приемы изображения в «Ярмарке тщеславия» намного богаче
и разнообразнее тех, что характеризовали ранние повести Текке-
рея. Определяется это разнообразие новой установкой писателя,
изобрая«ением того, что по прошествии столетия наша критика
назвала диалектикой характера.
Персонажи «Ярмарки» не однозначны, как персонажи
«Записок Желтоплюша» или «В благородном семействе». Так, Родон
Кроули постепенно меняется под влиянием любви к жене и сыну,
и в нем рождается протест и человеческое достоинство, когда он
узнает о поведении Бекки, обманывающей его с маркизом
Стайном. В сухом и черством Осборне-старшем, как будто всецело
преданном заботам о личном интересе, просыпаются — правда, не
надолго — человеческие чувства, когда он колеблется, прежде
чем заставить себя принять решение лишить своего
единственного сына Джорджа наследства. Блестяще решен портрет старой
тетушки Кроули, «нечестивицы и республиканки». Из тысяч
мелких деталей, собранных и показанных с большим
художественным тактом, читатель узнает о подлинном облике «страшной
радикал ки». Вольнолюбивая на словах, старая аристократка на деле
находится во власти самых консервативных дворянских
предрассудков. «Она побывала во Франции (где, говорят, Сен-Жюст
внушил ей несчастную страсть) и с той поры навсегда полюбила
французские романы, французскую кухню и французские вина,—
сообщает Теккерей.— Она читала Вольтера и знала наизусть Руссо,
высказывалась вольно о разводе и весьма энергически о женских
правах». Но та же мисс Кроули заболела, узнав о женитьбе
любимого племянника на Бекки — всего-навсего гувернантке и дочери
18
нищего художника, хотя перед тем убеждала Бекки в том, что
все люди равны, а она — Бекки — даже лучше знатной родии мисс
Кроули!
Что бы Теккерей ни рисовал, что бы ни показывал, его письмо
пропитано невеселой иронией. Местами он гневно судит и обвиняет,
местами грустно размышляет и сопоставляет, по интонация всегда
печальна, соответствуя взгляду писателя на мир. «Vanitas vani-
tatum!» («Суета сует!»)—восклицает он, и этот мотив тщеты
всего сущего остается в романе ведущим с первых строк и до
последних. Действующие лица книги — марионетки, а кукольник,
который приводит их в движение (сам Теккерей), ничуть не лучше
тех, кого он рисует. В прологе к роману, написанном после
окончания хроники и названном «Перед занавесом», Теккерей говорит
о кукольной комедии, предложенной им снисходительному
вниманию читателя. Весь этот пролог выражает его точку зрения —
точку зрения человека, научившегося не слишком строго судить
окружающих. Глубочайшее противоречие замечательной книги
заключается в том, что при очень злой местами сатире автор с
горечью тут же признает ее бесполезной и вовсе не надеется что-
либо изменить.
«Ярмарка тщеславия» показала, насколько чужд был Текке-
рею какой-либо мелодраматизм, какая-либо сентиментальность,
характерные для большинства произведений его английских
современников. Его стиль лаконичен, причем в особенности тогда,
когда рисуются трагические моменты в жизни персонажей
хроники. По словам самого писателя, он «опускал занавес» всякий
раз, когда касался трагического или интимного или сталкивался
с человечностью, которую так редко видел вокруг себя.
Едкая, а порой беспощадная насмешка, ирония различных
оттенков уживается в нем с необыкновенно тонким лиризмом и
сдержанностью в отборе средств художественного отражения.
Интонации пишущего весьма разнообразны, подчиняясь тому, что
в том или другом случае ими передается. Нельзя забыть
сдержанность, с которой Теккерей сообщает о конце Джорджа Осборна на
поле боя: автор точно боится сказать лишнее слово, нарушив этим
трагизм изображаемого. «В Брюсселе уже не слышно было
пальбы, преследование продолжалось на много миль дальше. Мрак
опустился на поле сражения и на город; Эмилия молилась за
Джорджа, а он лежал ничком — мертвый, с простреленным сердцем».
«Ярмарка тщеславия» прославила имя Теккерея во всех
цивилизованных странах мира, но английская критика долго не
могла примириться с этим необычным произведением
литературного искусства. Все в нем было «не по правилам»: не было
счастливого конца, не было героя, не было пылких чувств и неиссяка-
19
емых слез,.. А когда начинала плакать Эмилия, даже преданный
ей Доббин вспоминал об открывшемся кране водопровода.
И все же гениальное произведение сломало предрассудки
консервативной критики, смертельно испугавшейся нарушенного
стереотипа.
Утверждение, что в «Ярмарке тщеславия» Теккерей достиг
вершины сатирического обличения, не означает, что после выхода
в свет этого романа, принесшего ему наконец давно заслуженное
всеобщее признание, писатель не создал других значительных
произведений. Соперничает с «Ярмаркой тщеславия» по силе
реализма роман «Пенденнис», .вышедший в 1850 году. Исторический
роман «Генри Эсмонд», опубликованный двумя годами позже, был
объявлен многими современниками писателя его лучшим
творением и, безусловно, принадлежит к шедеврам Теккерея.
Некоторые симптомы кризиса, наметившегося в творчестве
Теккерея за пять — восемь лет до его смерти, можно найти уже в
«Пенденяисе», но это были лишь симптомы. Спад начался
позднее, когда писатель обнародовал роман-хронику «Ныокомы» A855),
а затем исторический роман «Виргинцы» A857—1859).
Как и «Ярмарка тщеславия», «Пенденнис» —
нравоописательный роман. Но главная тема здесь — судьба молодого человека в
обществе, где властвуют деньги и расчет. Общие контуры
композиции «Пендеиниса» напоминают романы Бальзака на ту же тему,
но тема решается Теккереем по-своему и в соответствии с его
общественной философией.
В какой-то мере «Пенденнис» — роман об утраченных
иллюзиях. Теккерей отнюдь не идеализирует ни общество, ни молодого
человека, но от решения темы об утраченных иллюзиях
отклоняется, акцентируя (в отличие от Бальзака) скорее
психологические, чем социальные мотивы. Хотя с первых глав книги как
будто и намечается конфликт между Артуром Пенденнисом и
обществом, но конфликт постепенно размывается и ни в какую
борьбу с враждебным миром Пенденнис не вступает и не
пытается вступить.
Молодой человек из небогатой семьи мелкопоместного
дворянина, воспитанный в усадьбе отца и избалованный матерью,
Артур Пенденнис пытается войти в более широкий мир и отвоевать
в нем достойное место. Он сталкивается с различными аспектами
современной жизни и терпит немало горьких разочарований, но
постепенно приспосабливается к тому, что его окружает, и
принимает вещи «такими, какие они есть».
20
Первое разочарование Артура — женщина, которую он
считал верхом совершенства и воплощением любви, оказывается
пошлой и продажной. Второе его разочарование — университет. Здесь,
как он убеждается, царят, как и всюду, деньги и снобизм. Но
Артура ожидают все новые и новые открытия. Пресса, где он
пробует свои силы, столь же продажна, как парламент. Даже
люди, которых он долго считает образцами неподкупности и
добродетели, подвержены коррупции и не знают ничего святого...
Хотя Артура Пенденниса можно назвать героем романа, но
лишь относительно. Недаром автор подчеркивает: «Мой Пенден-
нис и не ангел и не прохвост... Я не могу изображать ни
ангелов, ни прохвостов, потому что я их не вижу». Он вовсе не
идеализирует Пена, даже подчеркивает его недостатки. Артур и не
очень умен, и не свободен от снобизма, но отношение писателя
к нему мягче и снисходительней, чем к Ребекке Шарп и даже к
Эмилии: «И, зная, как несовершенны даже лучшие из нас,—
замечает он в последней главе романа,-— будем милосердны к
Артуру Пенденнису со всеми его недостатками и слабостями: ведь
он и сам не мнит себя героем, он просто человек, как вы и я».
В своих разочарованиях и несчастьях Артур виновен сам.
В книге постоянно звучит мотив: Пен зачастую сам себе враг...
Пессимизм и скепсис философии Теккерея в «Пенденнисе»
даже глубже, чем в «Ярмарке тщеславия». Это очевидно хотя бы
из того, что, постепенно постигая неписаные законы, по которым
живет окружающее его общество, Пенденнис начинает их
принимать как якобы неизбежные. Правда, автор поясняет, что
принять— это еще далеко не значит согласиться с тем, что
существует, но от лица главного действующего лица романа
предоставляет вещам идти своим чередом... Пониманию его позиции служит
спор, постоянно идущий во второй части романа между Пенден-
нисом и его другом (и alter ego) Уорингтоном, в котором голос
автора слышен то в речах одного, то другого из собеседников.
Уорингтоы упрекает друга в том, что тот плывет по течению,
принимая вещи такими, как они есть, но Артур находит себе
оправдание. «Правда, друг? А где она, правда? — восклицает
Пенденнис.—- Покажи ее мне! В этом-то и суть нашего спора. Я вижу
ее повсюду».
Комментируя спор двух друзей, Теккерей ставит вопрос,
оставляя его без ответа: «Слишком ли суетным стал Пенденнис, или он
только наблюдает житейскую суету, или и то и другое? И
виноват ли человек в том, что он всего лишь человек? Кто лучше
выполняет свое назначение, тот ли, кто отстраняется от жизненной
борьбы и бесстрастно ее созерцает, или тот, кто, спустившись с
облаков на землю, ввязывается в схватку?»
21
Всегда ли так думал Теккерей и думал ли так, когда писал
свой роман? Наличие двух точек зрения в романе красноречиво
опровергает прямолинейность такого предположения.
«Нет, Артур, если ты, видя и сознавая всю ложь этого мира,—
а видишь ты ее ох как отчетливо,-— если ты приемлешь ее,
отделываясь смешком, если, предаваясь легкой чувственности, ты без
волнения смотришь, как мимо тебя, стеная, проходит несчастное
человечество,— говорит автор от лица Уорингтона,— если кипит
бой за правду и все честные люди с оружием в руках примыкают
к той или другой стороне, а ты один, в тиши и безопасности,
лежишь на своем балконе и куришь трубку,— значит, ты
себялюбец и трус, и лучше бы тебе умереть или вовсе не родиться!»
Строки эти передают мысли автора в той же мере, в какой их
выдают и скептические реплики Пенденниса.
И все же, хотя негативные мотивы философии Теккерея в
«Пенденнисе» очевидны, роман содержит страницы огромной
познавательной ценности и сатирической силы. Он весь построен на
контрастах, выявляющих и подчеркивающих пороки современного
общества. Великолепно показаны нравы консервативного
университета. Индивидуализированные реалистические портреты решены
с неподражаемым мастерством. Более того, автор идет не только
вширь, но и вглубь, показывая более разнообразные, чем в
«Ярмарке тщеславия», пласты современного общества, и в то же время
изучая и раскрывая психологию своих персонажей. Наивный, как
вольтеровский Кандид, в начале книги, Пенденнис постепенно
приобретает опыт, но автор показывает, как этот опыт приносит
с собой глубокую печаль и горечь. Превосходно решен портрет
дядюшки Пена — майора Пенденниса, светского человека и
циника, которому лоск столичных салонов не мешает «знать жизнь»
и ее неприглядную изнанку. Мастерски нарисованы очень разные
женские характеры: миссис Пенденнис (матери Артура) и Лоры
(его будущей нареченной), с одной стороны, и актрисы Костиган
и светской красавицы Бланш Амори, с другой. «Пенденнис»
реалистическое полотно большой познавательной и художественной
силы.
В 1851 году Теккерей впервые выступил перед узкой
аудиторией, состоявшей преимущественно из цвета столичной
интеллигенции и «сливок» высшего общества. Он предложил вниманию
собравшихся лекции о классиках английской литературы
XVIII века. Они имели большой успех и в 1853 году были
опубликованы отдельной книгой под названием «Английские юмористы
XVIII века».
Очерки об английских юмористах интересны не только как
тонкие наблюдения большого знатока XVIII века, каким всегда
22
был Теккереи. Читая его суждения о писателях начала и
середины предыдущего века, можно заметить некоторые сдвиги в его
литературных воззрениях. Обращает на себя внимание
прежде всего определение, которое Теккереи здесь дает юмору, не
обозначая водораздела между юмором и сатирой. «Писатель
юморист,— пишет он,— стремится будить и направлять в вас
любовь, сострадание, доброту, презрение к лжи, лицемерию,
лукавству, сочувствие к слабым, бедным, угнетенным и
несчастным».
Подобное определение едва ли могло быть дано за десять
лет до того, когда все, что писал Теккереи, было пропитано
боевым духом обличения и беспощадной критики.
Здесь звучит горькое примирение с вещами как они есть,
затухает наступательный пафос, отличавший в свое время
молодого сатирика. В трактовке различных авторов, о которых идет
речь в очерках, так же обращает на себя внимание некоторая
переоценка ценностей. Так, признавая гениальность Свифта,
Теккереи не скрывает почти враждебное отношение к нему, ссылаясь
на некоторые черты его характера и поведения. Вместе с тем
гораздо менее строг автор «Юмористов» к Аддисону и Стилю —
умеренным моралистам начала XVIII столетия. Сложнее его
высказывания о Фильдинге, которого Теккереи с юношеских лет считал
своим литературным учителем. В очерке «Хогарт, Смоллет и
Фильдинг» Теккереи, отдавая должное таланту и мастерству
Фильдинга, высказывается далеко не однозначно о крупнейшем романе
Фильдинга «Том Джонс», но, главное, о герое этого романа: «Он
не ограбит церковь, но и только»,— говорит Теккереи о Томе
Джонсе, подчеркивая вольность его нравов и отсутствие
утонченности в обхождении. Но не издевался ли втайне великий сатирик
над теми герцогинями и маркизами, которые слушали его, утопая
в мягких креслах лекционного зала «Уиллис румс» и заплатив
невиданную сумму за билеты? Не издевался ли он заодно и над
всей викторианской благопристойностью и целомудрием? В одном
из писем к матери Теккереи жаловался: «Пиши я так, как мне
бы хотелось, я выступал бы в духе Фильдинга и Смоллета, но
общество не потерпело бы этого». Трудно поверить, что все
сказанное Теккереем о Фильдинге в очерке «Хогарт, Смоллет и
Фильдинг» выражает его подлинные мысли и сказано им всерьез.
В наши дни отношение к «Английским юмористам»,
написанным более ста лет назад, не может не быть двойственным.
Оставляя в стороне блеск и тонкость стиля, простоту и совершенство
формы, задумываешься над тем, не было ли во всем написанном
глубоко скрытого подтекста.
23
Взгляды, высказанные Пенденнисом, косвенно, но превосходно
объясняют многое в тех сдвигах, которые произошли в
художественной манере письма и литературно-критических взглядах Тек-
керея-сатирика. Сатира, в сущности, была уже несовместима с
тем взглядом на мир, который Теккерей декларировал от имени
Артура в этом последнем из своих сатирических произведений.
Последнее десятилетие в жизни Теккерея было отмечено
углублением личной драмы. Эта драма получила отражение в его
творчестве тех лет и, в частности, в «Генри Эсмонде» (недаром
иные исследователи говорят о романе как об автобиографическом).
Отношения Теккерея с Джейн Брукфильд — женой его друга —-
заполнили всю личную жизнь писателя, но принесли ему лишь
непрерывные мучения. Чувство, которое Теккерей питал к
красивой и обаятельной Джейн, не укрылось от окружающих и начало
постепенно раздражать Брукфильда.
Теккерей тем тяжелее переживал обстоятельства своей
личной жизни, что его глубоко угнетала и общественная обстановка,
сложившаяся в Англии после европейских революций и затухания
чартизма. Буржуазное процветание, наступившее в эту пору в
Англии, торжество и самодовольство денежной знати не
снимало, а лишь подчеркивало явления общественной жизни,
претившие писателю. Свое отношение к откровенной коррупции,
которую он видел в самодовольных буднях победившего буржуа,
Теккерей выразил в картине английского общества начала XVIII века,
нарисованной им в его новом романе. Маска скептика все больше
прирастала к лицу писателя, прикрывая отчаяние. Убежденный
в бесполезности какой либо борьбы, он развернул печальную
историю английского джентльмена прошлого века —
прекраснодушного и гуманного.
Новый роман Теккерея уже не претендовал на сатиру, хотя
в нем и можно найти некоторые сатирические страницы и образы.
«История Генри Эсмонда» — второй исторический роман великого
мастера. Следует тут же подчеркнуть, что если в «Барри Лин-
доне» историческая тема тесно переплелась с пародийной, а
заглавная фигура авантюриста и шулера была скорее обобщением
вполне определенных пороков прошлого и настоящего, то в
«Генри Эсмонде» развертывалась картина конкретной эпохи
(царствования королевы Анны) с ее конкретными общественными
нравами и даже известными деятелями (Мальборо, Болинброком).
Герой же романа, Эсмонд, был вымышленным персонажем, причем
ему были приданы многие автобиографические черты.
Замысел романа родился осенью 1850 года и окончательно
созрел годом позднее, когда на Теккерея обрушилось новое
испытание. Это испытание определило весь эмоциональный настрой
24
романа и трактовку судеб его главных героев. Наступил
окончательный разрыв с семьей Брукфильд. На этом разрыве настоял
муж Джейн, и супруги уехали на Мадейру. Как никогда остро
ощутил Теккерей свое одиночество, утрату друга, неустроенность
своей жизни. Работа над романом, в которую в конце 1851 года
Теккерей ушел с головой, скрасила горечь его личных
переживаний, тяжесть одиночества. «Я настолько занят работой над
ним,— писал он,— что перестаю ощущать, что живу в XIX веке*.
Теккерей работал лихорадочно, и книга была написана на одном
дыхании. В другом письме он сказал: «Иногда я себя
спрашиваю, к какому веку я принадлежу,— к XVIII или XIX? Я провожу
день в одном, а вечер в другом столетии».
«История Генри Эсмонда», характеризуемая многими
английскими литературоведами как лучшая из книг Теккерея, писалась
автором с большей, чем обычно, тщательностью и заботой о стиле
и исторической достоверности. Сам Теккерей не раз говорил о
ней как о своем любимом творении.
Конец XVII — начало XVIII века всегда привлекали внимание
Теккерея. Обращаясь к прошлому, Теккерей не бежал от
современности, а напротив, через прошлое произносил суд над
настоящим, не касаясь при этом неразрешимых, как ему казалось,
противоречий своего времени. Впрочем, Теккерей не показал в
своем историческом романе широкую картину английской жизни
начала XVIII века. Главные конфликты этой эпохи остались за
пределами романа, хотя картина нравов все той же верхушки
общества дана с прежним блеском. На протяжении романа Теккерей
несколько раз подчеркнул, что задача его как историка
ограничена. Он пишет лишь историю полковника Эсмонда, от имени
которого ведет повествование.
«Генри Эсмонд» — история одпого человека, человека,
которому редко улыбалась удача, охваченного сложными личными
огорчениями и измученного неразрешимыми задачами. Хотя в
книге много сказано о нравах прошлого, но она так и остается не
историей века, а историей Эсмонда. «Хороший конец», к которому
приучила викторианцев современная беллетристика, в «Генри
Эсмонде» более чем проблематичен, а «мораль» книги более чем
сомнительна. Впрочем, хотя картина общественной жизни бурной
эпохи действительно ограничена, все же значение «Истории Генри
Эсмонда» объективно выходит далеко за пределы семейной
хроники.
Эсмонд — участник многих исторических событий в дни
царствования королевы Анны. Он показан как человек, наделенный
прекрасными душевными качествами. Все его поступки
продиктованы высоким представлением о чести, и свою жизнь он стре-
25
мится построить так, чтобы обойтись без наследственных
привилегий. Он надеется на свои способности, благородство и
честность, но судьба его складывается печально, если не трагично.
Он жертвует титулом и состоянием ради Фрэнка Каслвуда, хотя
тот сам признает себя недостойным занимать положение главы
рода... Он долгие годы самоотверженно любит тщеславную и
бессердечную красавицу Беатрису Каслвуд — сестру Фрэнка,—пока
не приходит к убеждению, что она не заслуживает ни любви, ни
даже уважения... Он поступает на военную службу с тем, чтобы,
отличившись, добиться внимания Беатрисы, но постепенно
убеждается, что войны, в которых он участвует, несправедливы и
преступны... Следуя традиции Каслвудов, он поддерживает изгнанную
династию Стюартов, но очень скоро разочаровывается в деле,
которому служит...
Финал Эсмонда — капитуляция. Соединив свою жизнь с давно
любившей его леди Каслвуд —- матерью Фрэнка, он отказывается
от борьбы, какая бы она ни была, и покидает Англию.
Рассказывая историю Эсмонда от лица ее героя, Теккерей
местами намеренно сливал его образ со своим и его размышления
со своими. Бой, начатый между Пенденнисом и Уорингтоном в
предыдущем романе (бой двух «я» Теккерея в эту эпоху),
продолжался в известной мере и в «Генри Эсмонде». Может быть, именно
потому Эсмонд в конце романа высказывает суждения
неожиданные в устах сторонника Стюартов и автор приписывает ему свои
собственные убеждения: «Боюсь, полковник, что вы самый
настоящий республиканец в душе»,— говорит Эсмонду интриган и
иезуит Холт. «Я англичанин,— отвечает Эсмонд,— и принимаю свою
родину такою, какой ее вижу».
Таков один — психологический — аспект романа. Но Теккерей
не ограничился ргсповедыо под исторической маской. Если «Генри
Эсмонд» и не содержит пафоса обличения, свойственного ранним
произведениям (впрочем, портрет Мальборо выдерживает
сравнение с лучшими образами Теккерея-сатирика), то чрезвычайно
интересно в романе все то, что относится к полемике с
традиционным пониманием исторического романа в те годы.
Уже в первой главе «Генри Эсмонда» сформулированы задачи,
стоящие, по мнению автора, перед тем, кто намерен писать
исторический роман. Эсмонд осуждает «музу истории», которая
«занимается делами одних только королей, прислуживая им
раболепно и напыщенно, как если бы она была придворной церемонпй-
мейстершей и летопись дел простого народа вовсе ее не касалась».
Интересен и спор Эсмонда с поэтами, склонными приукрашать
историю, идеализируя или пряча позорные ее страницы.
Объявленная программа была глубоко демократической. Удалось ли
26
Теккерею ее выполнить — другое дело. Эсмонд осуждает поэтов,
создающих фальшивые апологетические образы и воспевающих
победы полководцев, забывая о народе, на плечи которого
ложилась вся тяжесть кровопролитных войн (гл. II, кн. 1). Но сам
Теккерей, говорящий устами своего героя, лишь назвал эти
страдания, не изобразив реальной картины сражений, в которых
участвовал Эсмонд.
Роман «Генри Эсмонд» был завершением лучшей поры в
творчестве Теккерея. Начиналась самая тяжелая полоса в его всегда
нелегкой жизни, и это не могло не отразиться на всей его
литературной продукции 1856—1863 годов.
Писатель был болен. Болен тяжело и, в сущности, при
тогдашнем состоянии медицины, безнадежно. Болезнь все больше
подтачивала его силы, и, хотя он пытался скрыть от окружающих
степень своих страданий, он часами, а порой и неделями не мог
писать. На общем душевном его состоянии сказывалось и
глубочайшее одиночество среди толпы приятелей и знакомцев. Теккерей
мучительно переживал разрыв с любимой женщиной. Мать его — всю
жизнь его верный друг — старела и проникалась религиозными
настроениями, прежде ей не свойственными. Трезво смотря в
будущее, Теккерей нередко уже задумывался о близком конце, и
его две поездки в США A852 и 1856 гг.), где он выступал с
чтением лекций, были продиктованы в большой степени намерением
обеспечить дочерей: он уже видел их сиротами.
В 1854 году Теккерей задумал новый роман — семейную
хронику «Ньюкомы». В подзаголовке романа со свойственной ему
иронией он посташжл: «Жизнеописание весьма достойной семьи,
изданное Артуром Пенденнисом». Книга писалась в Италии, куда
писатель бежал от самого себя, узнав о возвращении на родину
четы Брукфнльд и о счастье Джейн, недавно ставшей матерью.
Н. Г. Чернышевский в свое время справедливо увидел черты
упадка реалистического искусства Теккерея в этой семейной
хронике, хотя и отметил ее большие достоинства,— он даже назвал
героя хроники полковника Ньюкома «лицом, достойным
Шекспира», и «истинным подвигом искусства». «Ньюкомы», вне сомнения,
свидетельство некоторого снижения реалистического мастерства
их автора.
Теккерей здесь потерял прежнюю широту социальной
перспективы, оторвал своих героев от окружающего их мира, а тем
самым обеднил и свой психологический рисунок. Но в эти годы
он уже не мог писать иначе. В те месяцы, когда создавались
«Ньюкомы», он был глубоко растерян, как бы терял себя. Роман
буквально пропитан его личной трагедией и воспринимается как
зашифрованная исповедь перед самим собой и Джейн. Раскрыть
27
эту трагедию помогают новые публикации английских
литературоведов, относящиеся к 50-м годам нашего века. Следует учесть,
что Теккерей завещал дочерям не печатать какие-либо материалы
о его жизни. Только во второй половине XX века биография его
начала изучаться досконально, и Гордон Рэй — крупнейший
знаток наследия Теккерея — опубликовал в 1946 году полный свод
его писем, а позже A955—1958) две фундаментальные работы
о нем.
Но Теккерей середины 50-х годов вовсе не был тем
примирившимся со всем окружающим джентльменом, каким его рисуют
некоторые английские литературоведы. О том, каковы были
взгляды и политические настроения мнимого «конформиста», говорит
его антимонархический памфлет «Четыре Георга», изданный в
1860 году, после прочтения Теккереем (в 1856 г.) лекций о
четырех представителях Ганноверской династии. Хотя
мировоззренческая позиция Теккерея и заставляла его (еще в «Пенденнисе»)
говорить: «Я принимаю вещи такими, какими их вижу»,—
«Четыре Георга» красноречиво показывают, что никакого
«примирения с действительностью» па самом деле не произошло.
В «Четырех Георгах» Теккерей рассказал о жестокости,
деспотизме и тупости королей Ганноверской династии и об
угодничестве, снобизме и ханжестве близкой к ним аристократии.
Общественный быт Англии в пору царствования Георгов I, II, III и IV
A714—1830) представал перед слушателями лекций Теккерея, а
потом читателями его очерков в самом неприглядном свете. А
параллели напрашивались сами собой...
В аристократических кругах, в которые Теккерей был
допущен, став знаменитым, «Четыре Георга» вызвали бурю
возмущения. Писателю открыто высказывали и показывали недовольство.
Лекции не имели успеха в верхах английского общества.
Публикация очерков вызвала откровенное негодование «света».
Но если нет оснований говорить о конформизме Теккерея в
конце 50-х годов, душевная усталость его была очевидной. Она
наложила свой отпечаток и на тот новый исторический роман,
который он начал писать в 1857 году. Это были «Виргинцы» — по
своему содержанию продолжение «Генри Эсмонда».
Теккерей рассказывает в «Виргинцах» о внуках Генри
Эсмонда, женившегося на леди Каслвуд и уехавшего с нею в Америку.
Джордж и Генри Уорингтоны показаны то в Америке, где
проходит их юность и где они сражаются в Войне за независимость,
то в Лондоне. Перед читателем снова проходят картины
общественных нравов. Автор рисует помещиков «Новой Англии» и
различные круги английской аристократии. Он подчеркивает
провинциальную ограниченность американских помещиков, стяжатель-
28
ство, ханжество, снобизм английских. Но критицизм его теряет
прежнюю остроту, а насмешка — свою обличительную силу.
Типичность характеров и обстоятельств поверхностей и слабее
подчеркнута.
Историзм «Виргинцев» ограничен, сатира, если она порой и
звучит, строится по образцу, декларированному в «Юмористах»:
это скорее своеобразный вариант юмора, содержащий наряду с
насмешкой мотивы снисхождения и примирения со слабостями
«человека и брата нашего», как любил говорить писатель.
Характерно отношение Теккерея к изображению Войны за
независимость американских колоний, в которой принимают
участие — притом на разных сторонах — оба брата Уорингтоны.
О крупных исторических событиях, когда решалась судьба всей
страны и всего народа Америки, говорится вскользь, лишь
постольку, поскольку в них участвуют герои романа. При этом даже
такая богатая возможностями ситуация, как сражение братьев
в а разных сторонах в историческом конфликте, до конца не
разработана. Показателен для всей интонации романа символический
образ двух скрещенных шпаг, висящих на стене в доме Уорииг-
тонов: одна из них принадлежала Джорджу, другая Гарри. Смысл
образа в том, что время якобы стерло остроту конфликта,
примирило стороны.
Упадок в искусстве автора заметен не только в сужении
диапазона изображения и критицизма. Теккерей вводит в роман
черты развлекательной беллетристики. В «Виргинцах» наличествует
и добродетельный герой (Джордж), и легкомысленный повеса
(Гарри), сентиментальная героиня и счастливый конец — все то,
что ранее Теккерей высмеивал. Форма романа — мемуары с
большим числом ссылок на документы — подчеркивает как будто
стремление к реализму, но на деле автор от него отходит.
Обычные во всех его больших романах отступления в «Виргинцах*
затягиваются, причем в них утомительно звучат перепевы одних
и тех же, порой почти банальных, мотивов.
Правда, заметно смягчая и сглаживая в «Виргинцах» все
острые углы, скептик Теккерей позволяет читателю понять, из
каких побуждений он действует: «Будем благодарны не только за
лица, но и за маски,-— пишет он.— Не только за честный привет,
но и за лицемерие, ибо оно прячет тяжелые истины». В последние
годы жизни Теккерей с трудом заставлял себя работать.
Напряжение, ощутимое в «Виргинцах», заметно и в его последних
вещах — «Ловель вдовец» A859) и «Приключения Филипа» A862).
Но фрагмент неоконченного романа «Дени Дюваль», где иногда
проявляется блеск несравненного теккереевского мастерства, пока-
29
зывает, что происходил не распад таланта, а истощение душевных
и физических сил великого мастера, сломанного обстоятельствами.
Теккереи умер в сочельник 1863 года. Смерть он встретил с
глазу на глаз, один, скончавшись ночью в своей спальне.
Сегодня, когда прошло свыше ста лет со дня кончины одного
из величайших писателей мира, пора подвести итоги и объективно
оценить тот вклад, который он внес в сокровищницу мировой
литературы. Все те, кто не вдумывается глубоко в значение его
наследия, считают, что он не только прежде всего, но исключительно
реалист-обличитель. Но наряду с обличением темных и
неприглядных сторон и явлений современной ему жизни Теккереи
всегда оставался гуманистом: его сатира рождалась из любви к
людям, определялась его желанием видеть людей свободными от
недостойных их пороков. В отличие от многих других писателей
его времени, он не создал образы положительных героев. Этому
мешал и его скепсис, и его исторический пессимизм. Но он
никогда не был глух к человеческим качествам людей — как к их
слабостям, так и к их величию. Если он не изобразил душевное
величие так, как изобразил порок, то лишь потому, что,
подавленный силой окружающего его зла, не смог отыскать вокруг себя
носителей добра, героизма и великодушия.
Теккереи был подлинным новатором, смело ломавшим
застывшие каноны и «принятые» образцы. Уважая все ценное в
литературе прошлого и настоящего, он умел видеть лучшее в том,
что было создано до него, но смело и решительно отказывался от
невыразительных литературных клише. Глубоко начитанный и
образованный, Теккереи бережно относился к слову и во всех своих
произведениях выступал великолепным стилистом.
На родине писателя, где сегодня происходит заметное
оживление интереса к лучшим страницам литературы прошлого
столетия, исследователи пристальней начали вглядываться в
сравнительно мало изученное наследие Теккерея. В нашей стране, где
сто лет назад Теккереи был одним из наиболее читаемых
романистов Англии и высоко чтился всей прогрессивной критикой,
наступила пора переоценить многие установившиеся
представления и прочесть Теккерея новыми глазами. Книги его не
устарели. Лучшие из них несут в себе огромный заряд уважения к
людям наряду с огромным гневом против тех, кто недостоин
называться Человеком,
В. Ивашева
V_^ 1овеш
1838
1841
Из «Записок Желтоплюша»
т
Нашла коса на камень
торого моего хозяина звали еще
благозвучней, чем первого. Я поступил лакеем к
достопочтенному Элджернону Перси Дьюсэйсу,
младшему — пятому по счету — сыну лорда
Крэбса.
Элджернон был адвокатом, вернее
сказать — жил на Колодезном дворе в Темпле. Квартал не
ахти какой, так что мои читатели могут его и не знать.
Находится он на окраине Лондона и является любимым
приютом столичной юриспруденции.
Мистер Дьюсэйс был адвокат, однако это вовсе не
значит, что он выступал на суде или объезжал судебные
округа; просто он снимал комнату на Колодезном дворе и
дожидался должности судьи, ревизора или какая еще там
могла ему выйти от правительства вигов. И отец у него
(так мне рассказала уборщица) был лорд из вигов, хотя
раньше ходил в ториях. Такой был неимущий лорд, что
стал бы кем угодно или вовсе ничем, лишь бы пристроить
сыновей и самому разжиться.
Элджернону от него полагалось двести фунтов в год;
оно бы неплохо, да только он их не выплачивал.
А молодой джентльмен был хоть куда. Свои доходы в
0-0 фунтов в год он тратил, как подобает настоящему
светскому человеку. Держал кеб, ездил к Олмэку и к Крокфор-
ду, вращался в самых высших аферах, а в судебные книги,
по правде сказать, заглядывал очень редко. Знатные
господа умеют добывать деньги на всякий манер, иной раз
так, что простым людям и не приснится.
Жил он всего-навсего на каком-то там Колодезном
дворе, на четвертом этаже, а широко, точно Кресс.
Десятифунтовыми бумажками швырялся, как полупенсами; кларет
и шампанское мы хлестали, точно простой джин; ну а мне,
понятно, лестно было служить у такого знатного барина.
В гостиной у Дыосэйса висела картина, а на ней был
представлен весь его род в виде дерева; дерево росло из
* У. Теккерей, т. i 33
живота у рыцаря, и на каждой ветке — кружочек с
именем. Выходило, что Дьюсэйсы прибыли в Англию в
1066 году с самим Вильгельмом Завоевателем. Называется
такое дерево негералическим. Вот это-то дерево — да еще
звание достопочтенного — и позволяло хозяину так жить.
Будь то простой человек, он выходил бы мошенник. А
знатному не то еще прощается. Что там скрывать —
достопочтенный Элджернон был ШУЛЕР. Для человека низкого
звания нет хуже, чем это ремесло; человек честный за него
нипочем не возьмется; ну, а для знатного джентльмена
оно самое выгодное и легкое.
Кое-кто удивится, зачем такой барин проживал в Тем-
пле; а я скажу, что в этом самом Темпле живут далеко не
одни юристы. Там квартирует много холостяков, таких, что
даже совсем не по судейской части; много и липовых
адвокатов, которые за всю свою жизнь и двух раз не
надевали мантии и парика; им бы жить где пошикарнее, на
Бонд-стрит или на Пикадилли, а они живут в Темпле.
Взять хотя бы нашу лестницу — там на восемь квартир
было всего три адвокатских. Внизу — адвокаты Скрьюсон,
Хыосон и Дьюсон; на втором этаже — адвокат высшего
ранга Флеббер, напротив него — стряпчий Браффи. На
третьем адвокат-ирландец мистер Хаггерстон; этот имел
клиентов в тюрьме Олд-Бейли и вдобавок должность лепорте-
ра в газете «Морнинг пост». На той же площадке висела
дощечка:
«Мистер Ричард Блюит»,
а на четвертом этаже, кроме моего хозяина, проживал
некий мистер Докинс.
Этот переехал в Темпл недавно — на свою беду; лучше
бы ему на свет не родиться; ведь Темпл его разорил, ну,
не сам, а с помощью моего хозяина и мистера Дика Блюи-
та, как вы сейчас услышите.
Мистер Докинс — так объяснил мне его слуга — только
что вышел из Оксфорда и был при деньгах: что-то около
шести тысяч фунтов в ценных бумагах. Недавно справил
совершеннолетие, был круглый сирота, а в Оксфорде
окончил с отличием и приехал в столицу, чтобы выйти в люди
и научиться адвокатскому делу.
Сам-то он был не из знатных — отец, говорят, был у
него сыровар — и очень рад был встретить приятеля по
Оксфорду, мистера Блюита, младшего сына богатого
сквайра из Лестершира; даже и квартиру нарочно снял рядом.
34
Мы с лакеем мистера Блюита сошлись накоротке, а
хозяева наши почти не знались; мой был слишком
аристократ, чтобы водиться с Блюитом. Тот играл на скачках,
бывал постоянно у Тэттерсола, держал верховую лошадь,
носил белую шляпу, фрак и синий шейный платок с
узором «птичий глаз». Все повадки были у него иные, чем у
моего хозяина. Хозяин был стройный, алигантный, руки
имел белые, лицо бледное, глаза черные и пронзительные;
бачки тоже черные, как вакса, и аккуратно
подстриженные. Говорил тихо и деликатно, всегда при этом следил за
собеседником и всем говорил одно только приятное. А Блю-
ит —- тот был совсем другой. Тот хлопал всех по плечу,
всегда или пел, или чертыхался во все горло. Такой
хороший и развеселый парень, что кажется, жизнь и душу
доверишь. Докинс так и подумал. Этот был тихоня; вечно
возился с книгами, с поэмами Байрона или с флейтой и
прочими научными занятиями, но скоро подружился с
Диком Блюитом, а потом и с моим хозяином, достопочтенным
Элджерноном. Бедняга! Он-то думал, что завел себе
друзей и хорошие связи, а попался в лапы самых что ни на
есть отъявленных мошенников.
Пока мистер Докинс не переехал к нам в дом, мой
Дыосэйс еле кланялся Блюиту, а через какой-нибудь
месяц подружился. Оно и понятно — Блюит стал ему нужен.
С Докинсом мой хозяин не пробыл и часу, как уж понял,
что это кусочек лакомый.
Знал это и Блюит и не собирался эдаким кусочком
делиться. Любо было видеть, как достопочтенный
Элджернон выудил бедную птичку из когтей Блюита, когда тот
совсем уже разлакомился. Ведь он-то и поселил у нас До-
кинса, чтобы иметь его под рукой и ощипать без помехи.
Мой хозяин скоро догадался, что задумал Блюит.
Рыбак рыбака чует издалека; хотя мистер Блюит вращался
в более низких аферах, они друг о друге все знали и друг
дружку насквозь видели.
— Эй ты, негодяй,— говорит мне однажды Дьюсэйс (он
со мной всегда так ласково разговаривал),— кто это там
снял квартиру напротив и все упражняется на флейте?
— Это мистер Докинс, сэр,— говорю я,— богатый
молодой джентльмен из Оксфорда и большой друг мистера
Блюита. Они друг у дружки днюют и ночуют.
Хозяин на это ничего не сказал, только усмехнулся —
но как! Эдакой сатанинской усмешки и самому дьяволу не
изобразить.
2*
35
Я сразу смекнул, в чем дело.
Первое: если кто играет на флейте, тот наверняка
простак.
Второе: мистер Блюит — наверняка мошенник.
Третье: если мошенник спознался с простаком, а тот
богат, ясно, чем кончится дело.
Я был тогда еще зеленым юнцом, но кое в чем
разбирался не хуже хозяина. Неужели же одни только
джентльмены знают, что к чему? Да господи! Нас на нашей
лестнице было четверо, все молодцы один к одному: слуга
мистера Браффи, мистера Докинса, мистера Блюита и я;
так мы знали дела наших господ лучше, чем они сами.
Скажу хоть про себя: не было у Дьюсэйса в ящиках такой
бумажки, счета или там миморанда, чтобы я не прочел.
Так же точно у Блюита: мы с его слугой читали у него
все подряд. Из каждой бутылки вина нам доставался
стакан, из каждого фунта сахара — сколько-то кусков. От
всех ящиков у нас были ключи, все письма мы
прочитывали, все счета проверяли, и от обеда имели лучший
кусок: от дичи — печенку, из бульона — фрикадельки, из
салата — яйца. Уголь и свечи мы, так уж и быть,
оставляли уборщицам. Скажете, воровство? Ничуть не бывало; мы
были в полном своем праве — что слугам положено, то
свято; это уж как английский закон.
Коротко говоря, дела у Ричарда Блюита обстояли так:
от отца он получал 300 ф. в год; а из них надо было
платить 190 ф. по университетским долгам, 70 за квартиру,
еще 70 за лошадь, 80 слуге на своих харчах, да еще 350 за
квартиру в Риджент-парке; ну, там, карманные деньги,
скажем, 100, на стол и вино еще около двухсот. Как
видите, к концу года набегала кругленькая сумма.
У моего хозяина дело шло иначе; как он был человек
более светский, то и долгов имел поболее.
Вот, к примеру:
У Крокфорда за ним числилось 3711 ф. 0 ш. 0 п.
Векселей и долговых расписок на (хоть он
по ним обычно не платил) 4963 ф. 0 ш. 0 п.
Портному (по 22-м счетам) 1306 ф. 11 ш. 9 п.
За лошадей 402 ф. 0 ш. 0 п.
Каретнику 506 ф. 0 ш. 0 п.
Долги еще с кембриджских времен 2193 ф. 6 ш. 8 п.
Разное S87 ф. 10 ш. 0 п.
Итого: 14 069 ф. 8 ш. 5 п.
3C
Это я привожу для интересу: не всем ведь известны
тайны светской жизни; даже про долги настоящего
джентльмена знать и поучительно и приятно.
Вернусь, однако, к моему рассказу. В тот самый день,
когда мой барин справлялся у меня о мистере Докинсе, он
повстречал на лестнице мистера Блюита; и любо было
поглядеть, как он его приветствовал; а ведь прежде, бывало,
едва замечал. Улыбнулся ему так сладко, как редко кому
улыбался. Подал руку в белой лайковой перчатке и
говорит как нельзя любезней:
— Ах, это вы, мистер Блюит! Сколько лет, сколько
зим! Ну не грех ли, что живем по соседству, а между тем
так редко видимся?
Мистер Блюит стоял в дверях в халате горохового
цвета, курил сигару и напевал охотничью песню. Сперва он
удивился и вроде бы обрадовался, но потом что-то
заподозрил.
— Действительно,— говорит,— давно мы с вами не
виделись.
— С тех пор, помнится, как вместе обедали у сэра
Джорджа Хуки. Что за вечер мы там провели, а, мистер
Блюит? Что за вино! Что за песни! Помню, как вы
спели нам «Майское утро»,— клянусь, не слыхал ничего
лучше в комическом роде. Еще вчера я об этом
рассказывал герцогу Донкастеру. Вы ведь, кажется, знаете
герцога?
— Нет,—говорит угрюмо мистер Блюит.—Не знаю.
— Неужели не знаете? — восклицает мой хозяин.—
Зато он вас знает; да кто же из английских
спортсменов вас не знает? Весь Ньюмаркет повторяет ваши
остроты.
Так вот он и морочил мистера Блюита. Тот сперва
только бурчал в ответ, а потом, наслушавшись лести, размяк
и всему этому вранью поверил. А там оба прошли к
мистеру Блюиту и затворили за собой дверь.
Что уж они там делали — не знаю; через час хозяин
вернулся желтый, как горчица, и весь пропахший табаком.
Ну и тошнило же его! Оказывается, курил с Блюитом
сигары. Я, конечно, молчу, а сколько раз слыхал, что он
табаку не выносит, что табак ему хуже отравы. Но не
таковский он был, чтобы делать что-нибудь зря; раз курил,
значит, так надо.
Я их разговора не слышал, зато слыхал слуга мистера
Блюита.
37
— Ах, мистер Блюит, какие сигары! Не найдется ли
хоть одна для друга? (Ох, хитрый лис! Не к сигарам он
подбирался!)
— Войдите,— говорит ему мистер Блюит; и заходит у
них беседа о том, о сем; а хозяин все больше о молодом
человеке, что к ним переехал, о Докинсе,— надо, мол,
соседям жить в дружбе; вот он, например, очень рад, что
сошелся с мистером Блюитом, и рад бы дружить со всеми
его друзьями, и так далее. Мистер Дик, однако ж, почуял
ловушку.
— Я,— говорит, — этого Докинса, собственно, и не
знаю; так, сын какого-то сыровара. Визит я ему отдал, а
продолжать знакомство не имею намерения; это вовсе ни
к чему, когда тебе кто не ровня.
И сколько хозяин ни закидывал удочку, мистер Блюит
на крючок не шел.
— Черт бы побрал ворюгу,— бормотал потом мой
хозяин, лежа на софе и мучась тошнотой.— Травись тут его
распроклятым табаком, а дело ни с места. Чертов
мошенник! Думает обобрать бедного сыровара? Как бы не так!
Я его предостерегу.
А я слушаю и со смеху прямо лопаюсь. Мне-то отлично
известно, как он его «предостережет». По пословице:
конюшню запрет, а коня прежде сам выведет.
На другой день он подстроил одну штуку, чтобы
познакомиться с Докинсом, и очень ловко это у него вышло.
Мистер Докинс, кроме стихов и флейты, любил еще
хорошо покушать и выпить. Весь день он сидел за книгами
и за флейтой, а вечером шел в трактир обедать и пить вино
со своим дружком Блюитом. Сперва-то он был тихоня, и
приучил его все тот же мистер Б. (конечно, ради своих
целей). А кто хорошо пообедал и выпил лишнее, тому
наутро нужна содовая, а может, и жаркое. Так и мистеру
Докинсу; ровно в двенадцать по нашей лестнице всегда
подымался официант из ресторации Дика с горячим
завтраком для мистера Докинса. Никто бы такого пустяка и
не приметил, а хозяин мало что приметил — так и
накинулся на него, как петух на зерно.
И вот посылает он меня на Пикадилли к Морелю, за
Страсбургским паштетом — по-французски «патэ де фуа-
гра». Потом берет карточку и прикалывает в коробке
(паштеты эти продаются обыкновенно в деревянных
круглых коробках наподобие барабанов — и что вы думаете
он пишет на ней? «Достопочтенному Элджернону Пер-
33
си Дыосэйсу и т. д. и т. п. С приветом от князя Талей-
рана».
С приветом от князя Талейрана! До сих пор смеюсь,
как вспомню. Ох и змей лукавый был этот Дьюсэйс!
И надо ж такой беде случиться: мистеру Докинсу
несут завтрак, а тут как раз спускается по лестнице мистер
Элджернон Перси Дьюсэйс. Идет себе веселый, как
пташка, напевает мотивчик из оперы и помахивает тростью с
золотым набалдашником. Идет он очень быстро и
случайно задевает тростью поднос. Так и полетело жаркое,
перец, кетчуп и содовая! И как это хозяин подгадал время
с такой точностью? Правда, его окно глядело во двор, и
ему был виден всякий, кто к нам входил.
Эта несчастная случайность страх как рассердила
моего хозяина. Он осыпал официанта бранью, пригрозил ему
тростью и тогда только угомонился, когда увидел, что
официант будет его потяжелее и ростом повыше. Потом
хозяин вернулся к себе, а официант Джон — в ресторацию
Дика за новой порцией жаркого.
— Экое досадное происшествие, Чарльз,— говорит мне
хозяин немного спустя — он тем временем написал какое-
то письмо, вложил его в конверт и запечатал фамильной
печатью,— но я вот что придумал: отнеси мистеру Докинсу
это письмо и паштет, что вчера купил; да смотри,
мерзавец, не проболтайся, откуда ты его принес, не то я тебе все
кости переломаю.
Такие обещания он, не в пример прочим, всегда
выполнял; а мне мои кости были дороже; я отнес письмо и,
конечно, ни слова. Прождал сколько-то времени у мистера
Докинса и вернулся с ответом. Могу привести здесь и
письмо и ответ, потому что снял копии:
«Достопочтенный Э.-П. Дьюсэйс
Т.-С. Докинсу, эсквайру,
Темпл, вторник.
М-р Дьюсэйс шлет м-ру Докинсу наилучшие
пожелания и одновременно самые искренние сожаления по
поводу случившегося.
На правах соседа м-р Дьюсэйс просит разрешения
возместить, насколько возможно, причиненный ущерб. Если
бы м-р Докинс согласился отведать содержимое
прилагаемой коробки (полученной прямо из Страсбурга, от друга,
на чей гастрономический вкус м-р Докинс может всецело
39
положиться), оно, быть может, заменит блюдо,
погубленное из-за неловкости м-ра Дьюсэйса.
М-р Дьюсэйс убежден, что и отправитель паштета рад
будет узнать, что он попал к столь известному ценителю,
каков м-р Докинс».
«Темпл, вторник,
Т.-С. Докинс, эскв.
Достопочтенному Э.-П. Дьюсэйсу.
М-р Томас Смит Докинс благодарит дост. м-ра
Дьюсэйса и с величайшим удовольствием принимает его
великодушный дар. М-р Докинс почел бы за особое счастье,
если бы м-р Дьюсэйс простер свою любезность далее и
согласился разделить с ним роскошную трапезу, которую
он столь щедро предложил».
Я не раз смеялся над этими письмами, а переписал их
для меня писец, служивший у мистера Браффи. Штука с
князем Талейраном удалась на славу. Докинс
раскраснелся от удовольствия, читая записку. Прежде чем сочинить
приведенный ответ, он изорвал несколько листов бумаги,
и рука у него дрожала от радости. А каким торжеством
сверкнули злые черные глаза Дьюсэйса, когда он его
получил! Мне еще не доводилось видеть черта, но думаю, что
оя так же вот улыбается, когда поддевает на вилы
грешную душу. Дьюсэйс вырядился во все самое лучшее и
пошел, а прежде послал меня сказать, что принимает
приглашение с удовольствием.
Паштет разложили по тарелкам, и джентльмены за
едой дружески разговорились. Дьюсэйс так и расстилался,
так и мел хвостом — во всем соглашался с Докинсом,
хвалил его вкус, мебель, сюртук, образованность и игру на
флейте; послушать его, так на свете не было другого
такого фкломеиа как Докинс; а такого скромного,
искреннего и честного малого, как Дьюсэйс, тоже не сыщешь, кроме
как на нашей лестнице. Бедный До всему поверил. Хозяин
обещался представить его герцогу Донкастеру и не знаю
еще скольким вельможам, так что Докинс прямо захмелел
от радости. Знаю достоверно (и это очень на него похоже),
что он в тот же день заказал два новых костюма на случай
знакомства со знатью.
Но самое смешное еще впереди. Как раз в это время
по лестнице, с песней, руганью и бахвальством, подымает-
40
ся мистер Дик Блюит. Распахивает дверь к Докинсу и
орет: «Эй, До, старина, как живешь?» И вдруг видит Дью-
сэйса; тут он разевает рот, бледнеет как известка,
краснеет как рак и готов упасть.
— Дорогой мистер Блюит,— говорит мой хозяин,
улыбаясь и подавая руку,— рад вас видеть. Мы только что
говорили о вашей лошадке. Прошу садиться.
Блюит так и сделал; и стали они друг друга
пересиживать. Но куда Блюиту до моего хозяина! Он хмурится и
молчит, а хозяин, напротив, любезен. Никогда не слыхал,
чтобы он так разливался, такие отпускал шуточки.
Наконец мистер Блюит сдается и начинает прощаться;
хозяин — за ним, берет его под руку, ведет к себе и все с
любезностями.
Но Дик так был зол, что не слушал, а когда хозяин
начал что-то рассказывать про герцога Донкастера, Блюита
прорвало:
— К черту герцога! Нечего из меня дурака строить!
Меня не заморочишь россказнями про герцогов да
герцогинь. Думаешь, я тебя не знаю? Тебя всякий знает, и чем
ты живешь. Ты метишь на Докинса, думаешь его обобрать;
так нет же... (Тут приходится опустить некоторые его
выражения.) А когда он их выпустил целый залп, мистер
Дьюсэйс сказал этак спокойно:
— Слушай-ка, Блюит. Я тебя тоже знаю за
величайшего мошенника и вора, по каком плачет виселица. Будешь
меня стращать —прибью тростью. Не уймешься — при-
. стрелю. Станешь между мной и Докинсом — сделаю и то
и другое. Я про тебя, каналья, все знаю. Знаю, что ты уже
обставил мальчишку на двести фунтов и подбираешься к
остальному. Давай пополам, иначе ни гроша не получишь.
И верно, что хозяин много чего знал, только откуда?
Я не видел лица мистера Блюита при этом разговоре,
потому как через закрытую дверь мало что увидишь; после
этих взаимных любезностей они долго молчали — один
ходил по комнате, другой сидел ошарашенный и только
ногой притопывал.
— Вот что, Блюит,— говорит наконец мой хозяин.—
Если не будешь шуметь, так и быть, поделюсь; но
попробуй выиграть у него хоть шиллинг без меня или без моего
разрешения, тогда уж пеняй на себя,
— Как же так, Дьюсэйс,— говорит Дик,— не по
справедливости это. Дичь-то ведь я поднял. Зачем же
мешать?
41
— Дурак же ты, Блюит! Вчера еще уверял, что ты его
знать не знаешь; вот мне и пришлось самому
знакомиться. По какому такому закону чести я его должен тебе
уступать?
Любо-дорого было слушать, как эти мошенники
рассуждали о чести. Сердце мне говорило, что надо бы,
пожалуй, остеречь молодого Докинса, как с ним собираются
поступить эти молодчики. Но если им не известно, что
такое честь, мне-то это известно; никогда я не выношу сор
из избы, пока служу хозяевам; а ушел — тогда, конечно,
дело иное.
На другой день был у нас званый обед. Бульон, тюрбо,
соус из омаров, седло барашка по-шотландски, куропатки
и миндальное пирожное. Из вин: шампанское, белое
рейнское, мадера, бутылка опорто и разливанное море кларета.
Обедали трое: достопочтенный Э.-П. Дыосэйе, Р. Блюит и
мистер Докинс, эсквайры. Мы в кухне тоже
попользовались, да как! Слуга мистера Блюита столько съел
куропатки (когда ее убрали со стола), что я думал — полезет
назад; слуга мистера Докинса (ему было всего лет
тринадцать) так налег на пирожное и плумпудинг, что
пришлось ему скормить несколько хозяйских пилюль, а после
них он едва не'отдал богу душу. Это, впрочем, к делу не
идет; я ведь не про слуг взялся рассказывать, а про
господ.
Поверите ли? Пообедав и выпив втроем бутылок
восемь, джентльмены сели за экарте. В эту игру играют
вдвоем, а когда есть третий, он только смотрит.
Сперва играли по кроне за очко, а ставка была фунт.
Тут силы оказались на удивление равные; к ужину
(поджаренная ветчина, поджаренные бисквиты и шампанское)
дела обстояли так: у мистера Докинса выигрыш два
фунта, у мистера Блюита — тридцать шиллингов, у мистера
Дьюсэйса проигрыш три фунта десять шиллингов. После
ветчины и шампанского пошла игра покрупнее. Теперь
очко стоило фунт, ставка — пять. Послушав, как честили
друг друга утром Блюит и хозяин, я знал, что теперь уж
Докинсу несдобровать.
Ан нет; Докинс продолжал выигрывать, а мистер Б. на
него ставил и помогал добрым советом. К концу вечера (то
есть часов в пять утра) игру прервали. Хозяин подсчитал
на карточке.
— Не повезло мне, Блюит,— говорит ок.— Я вам
должен — погодите-ка,— да, сорок пять фунтов.
42
— Именно,— говорит Блюит.— Ровно сорок пять.
— Я вам выпишу чек,— говорит достопочтенный
джентльмен.
— Ну зачем это, дорогой сэр!..
Но хозяин берет лист бумаги и пишет чек на своих
банкиров «Памп, Олдгет и К0».
— А теперь давайте сочтемся с вами, милый Докинс,—
говорит хозяин.— Если бы вам везло, как вначале, я был
бы сейчас немало вам должен. Voyons, тринадцать очков
по фунту, это легко счесть.
Достает кошелек, бросает на стол тринадцать золотых
соверенов; и так они засверкали, что я только глазами
заморгал.
Бедный Докинс — тоже. Протягивает за деньгами руку,
а рука дрожит.
— И должен сказать,— добавляет хозяин,— а у меня
есть кое-какой опыт, что вы — лучший игрок в экарте, с
каким мне доводилось садиться за стол.
Докинс так и сияет. Прячет деньги и говорит:
— Вы мне льстите, Дьюсэйс.
Еще бы не льстил! Хозяин только это и делал.
— Но знаете ли, Докинс,— продолжает он,— я
требую реванша; ведь вы меня прямо-таки разорили.
— Что ж,— говорит Томас Смит Докинс, довольный,
точно выиграл целый миллион.— Хоть завтра. А ты что
скажешь, Блюит?
Мистер Блюит, ясное дело, согласен. Хозяин, немного
поломавшись, тоже соглашается.
— Встретимся у вас,— говорит он,— только прошу,
мой милый, поменьше вина. Я и вообще-то не пью, а тем
более перед тем, как сесть за экарте, да еще с вами.
Бедный Докинс ушел от нас счастливый, как король.
«А это тебе, Чарльз»,— и бросил мне целый соверен.
Бедняга! Я-то знал, что его ждет.
Самая потеха, что эти тринадцать соверенов, выигрыш
Докинса, хозяин занял у мистера Блюита. Я их принес еще
утром, а с ними еще семь. После разговора с моим
хозяином Блюит ни в чем не мог ему отказать.
Надо ли продолжать мой рассказ? Будь Докинс хоть
немного поумнее, понадобилось бы полгода, чтобы
выманить у него деньги; но он был такой простак, что
расстался с ними очень быстро.
43
На следующий день (в четверг, а знакомство хозяина
с Докиисом состоялось всего лишь во вторник) мистер До-
кинс дал обед — в семь часов. Обедал Блюит и оба
мистера Д. В одиннадцать сели играть. На сей раз — всерьез,
потому что слуг уже в два часа услали спать. Прихожу в
пятницу утром к нам — хозярша еще нет. Около полудня
является на минуту, умывается, велит подать ветчины и
содовой — и опять к Докинсу.
В семь часов они обедают, но, как видно, без
аппетиту — все достается нам; зато вина требуют еще, и за
тридцать шесть часов выпивают не меньше двух дюжин
бутылок.
В пятницу вечером хозяин наконец возвращается.
Таким я его до тех пор еще не видел — пьян в доску.
Качается, пляшет, икает, ругается, швыряет мне горсть
серебра и валится на кровать; я стаскиваю с него сапоги и
одежу и укладываю поудобней.
А снявши с него платье, делаю то, что и всякий слуга
должен сделать,— выворачиваю карманы, заглядываю в
бумажник и в письма; немало несчастий удалось через это
отвратить.
И нахожу среди прочего следующий документик:
«Долговое обязательство
на 4700 ф. Подписано:
Томас Смит Докинс.
Пятница, 16 января».
Была и другая подобная же бумажка: долговое
обязательство на четыреста фунтов. Подписано: «Ричард
Блюит». Но это, конечно, только так, для видимости.
Наутро, в девять, хозяин уж был на ногах и трезвый
как стеклышко. Оделся — и к Докинсу. В десять послал за
кебом, и оба собрались ехать.
— Куда прикажете кебмену везти, сэр? —
спрашиваю я.
— Вели ехать в БАНК.
У бедняга Докинса глаза были красны от раскаяния,
вина и бессонницы. Он задрожал, заплакал и откинулся на
сиденье. Так и поехали.
В тот день он потерял все свое состояние, кроме
пятисот фунтов.
44
К двенадцати хозяин вернулся, и тут к нему
торжественно поднялся мистер Дик Блюит.
— Дома барин? — спрашивает.
— Да, сэр,— говорю; ну, он и входит. А я, понятное
дело,— к замочной скважине и слушаю.
— Ну-с,— говорит Блюит.— Сработано чисто, а, Дыо-
сэйс? Что наш Докинс? Уже расплатился?
— А? Да, да,— говорит хозяин.
— Четыре тысячи семьсот?
— Да, около того.
— На мою долю, стало быть, приходится две тысячи
триста пятьдесят. Будьте так любезны.
— Честное слово, мистер Блюит,— говорит мой
хозяин,— я вас что-то не понимаю.
— Не понимаете? — говорит Блюит страшным
голосом.— Не понимаете? Ведь вы же обещали поделиться.
Еще я вам на первый вечер одолжил двадцать соверенов —
уплатить Докинсу проигрыш. А вы дали слово чести, как
джентльмен, что поделите поровну все, что удастся
выиграть.
— Правильно, сэр,— говорит Дьюсэйс,— все правильно.
— А как же теперь?
— А так, что я не намерен сдержать слово. Эх ты,
болван! Ради тебя я старался, что ли? Ради твоей, что
ли, выгоды истратился на обед для того идиота? Пошел
отсюда! Нет, постой. Вот тебе четыреста фунтов — а
вернее, собственную твою расписку на эту сумму, и
забудь все, что было, и что ты когда-нибудь знал
Элджернона Дьюсэйса.
Видел я разъяренных людей, но таких, как Блюит,—
никогда. Уж он бранился, уж он орал! А потом заплакал;
то ругается и зубахми скрежещет, то просит у Дьюсэйса
пощады.
Наконец хозяин распахнул дверь. (Батюшки мои!
Я при этом чуть было не влетел в комнату взерх
тормашками.) Распахнул и говорит:
— Эй, Чарльз! Проводи-ка джентльмена вниз.
А сам смотрит на него и не сморгнет. Блюит весь
съежился и поплелся прочь как побитый. Ну, а Докинс — бог
его знает, что с ним сталось.
45
* * *
— Чарльз,— говорит мне хозяин, этак через час—
Я еду в Париж. Если хочешь, могу и тебя взять с собой.
МИСТЕР ДЬЮСЭЙС В ПАРИЖЕ
Глава I
Которая из двух?
Генерал-лейтенант сэр Джордж Гриффон, кавалер
ордена Бани, семидесяти пяти лет от роду покинул земную
долю и ост-индскую армию, где служил с честью. Службу
в Индии сэр Джордж начал с юнги, дослужился до
конторщика у судохозяев в Калькутте, а там до капитана в
войсках Ост-Индской компании, а там, глядишь, и до
генерал-лейтенанта. А дальше уж не поднялся: пришло
время отдать богу душу; тут уж ничего не поделаешь: что
барабанщик, что генерал, что мусорщик, что император —
все там будем.
Сэр Джордж не оставил после себя наследников
мужского пола, так сказать, продолжателей рода. Осталась
только вдова двадцати семи лет и дочка двадцати трех — а
больше некому было по нем плакать и делить его
денежки. После смерти генерала вдова и сиротка уехали из
Индии и пожили сперва в Лондоне; а когда там не
понравилось, решили податься в Париж; потому как в Париже
и мелкая лондонская пташка высоко летает — были бы
деньги, а их у Гриффонов было вдоволь. Просвещенный
читатель уж верно догадался, что мисс Гриффон не
приходилась вдове родной дочерью. Хотя в Индии и рано
выдают замуж, но все ж таки не с пеленок. Леди Гриффон
была у генерала вторая жена, ну а дочь, мисс Матильда
Гриффон, была у него, сами понимаете, от первой.
Мисс Леонору Кикси, девицу бойкую и красивую,
привез из Излингтона в Калькутту дядюшка — капитан
Кикси и очень выгодно ее сбыл, не хуже других своих
товаров. Было ей в день свадьбы двадцать один, а сэру
Джорджу -— семьдесят; остальные тринадцать девиц Кикси (из
них девять содержали в Излингтоне школу, а четыре уже
были пристроены) немало завидовали удаче миледи и
46
очень гордились таким родством, Мисс Джемайма — изо
всех самая старшая и пожалуй что самая безобразная — та
с ней и жила; от нее-то я и слышал многие детальности.
Прочие сестры так и остались в низком звании, а с такими
мне, слава богу, не приходится знаться.
Так вот, мисс Джемайма поселилась у своей удачливой
младшей сестры за приживалку. Бедная! Я бы, кажется,
скорее пошел в каторгу, чем на ее место. Всякий в доме
ею помыкал; хозяйка ее обижала; судомойки — и те ей
грубили. Она и счета вела, и письма писала, и чай
заваривала, и шоколад сбивала, и канарейкам клетки чистила, и
грязное белье собирала. А еще была у хозяйки вместо
ридикюля: то нюхательную соль поднесет, то платочек —
вроде как дрессированная собачка. На вечерах у миледи
играла кадрили (и хоть бы кто-нибудь ее-то догадался
пригласить!); когда мисс Гриффон пела, играла компа-
нент, и она же бывала виновата, если певица
сфальшивит; собак не терпела, а на прогулку приходилось ездить
с хозяйкиным пуделем на коленях; в экипаже ее
укачивало, а ее вечно сажали спиной к лошадям. Бедная
Джемайма! Как сейчас ее помню: донашивала хозяйкины
платья (какие похуже; что получше, то шло горничным) —
какое-нибудь лиловое атласное платье, засаленное и в
пятнах; туфли белого атласа, цветом серо-бурые; и желтая
бархатная шляпка с цветами и райской птичкой колибри —
только цветы в семена пошли, а у птички всего два пера
в хвосте осталось.
Кроме этого украшения гостиной, леди и мисс Гриффон
держали еще кухонную прислугу, да двух горничных, да
двух лакеев ростом по шести футов, в красных ливреях с
золотым галуном и в панталонах белого кашемиру, да
кучера на такой же образец, да мальчика для услуг, да еще
егеря; этих держат только в заграничных странах; с виду
полный генерал: треуголка, мундир с пузументом, сам в
усах, в эполетах и при шпаге. И все это для двух
женщин — не считая женской прислуги: кухарок там,
судомоек, экономки и прочих.
За квартиру платили сорок фунтов в неделю; большие
снимали ассортименты на площади Пляс-Вандом. А теперь,
описавши дом и прислугу, надо рассказать о хозяйках.
Первое дело, конечно,— они друг дружку ненавидели.
Хозяйке было двадцать семь, два года как овдовела,
румяная, белая, пухлая. С виду тихая, спокойная,
холодная — блондинки, они и все почти таковы; и ничем ее, ка-
47
жется, не расшевелишь, ни на любовь, ни на ненависть;
на первое особенно. В целом свете она любила одну только
себя. А ненавидела — спокойно да тихо — почти что всех
вокруг — от соседа-герцога, за то, что на обеде не оказал
уважения, до лакея Джона — зачем в шлейфе дыру
протоптал. Должно быть, сердце у ней было наподобие
литографского камня; там если что вырезано, то уж навечно;
так и у ней на камне — на сердце то есть — всякая обида
хранилась, хоть бы и выдуманная. Никакой репутации —
а по-нашему, сплетни — про нее не ходило: и слыла она
примерной женой. Да так оно и было; но только за два
года вогнала своего старика в гроб, и это так же верно,
как то, что мистер Тэртел убил мистера Уильяма Уира.
Никогда, бывало, и голоса не повысит, грубого слова не
скажет, а умела — правда, что этого уменья многим
женщинам не занимать — такое устроить в доме пекло, так
всех донять, что ума можно было решиться.
Мисс Матильда из себя была куда хуже мачехи, а
нравом не лучше. Эта была и косая и кривобокая; миледи —
та хоть стан имела стройный и глазами глядела в одну
сторону. Дочка была брунетка, хозяйка — блондинка;
дочка уж очень чувствительная, хозяйка — как есть ледяшка.
Хозяйка никогда из себя не выходила, мисс Матильда
только то и делала. Ох, и ссорились же они, и злые
говорили слова!
Зачем же, спросите вы, было им жить вместе? Вот,
поди, угадай. И не родные, и ненавидели друг дружку
люто. Не лучше ли было разъехаться и ненавистничать
издалека?
А наследство от сэра Джорджа осталось немалое; как я
слыхал, триста тысяч фунтов, если не больше. Не знали
только, кому он их завещал. Одни говорили, что все
досталось вдове, другие — что пополам с падчерицей, а
третьи— что будто бы вдове только пожизненный пенсион, а
после нее все пойдет мисс Матильде (кому же еще?). Все
это, пожалуй, неинтересно английскому читателю — зато
было очень даже интересно для моего хозяина,
достопочтенного Элджернона Перси Дьюсэйса.
Я ведь и забыл сказать, что хозяин был у них своим
человеком, а проживали мы с ним в отеле «Марабу» (по-
французски «Мирабо») на улице Рю-де-ля-Пей. Держали
экипаж и двух верховых лошадей; ну и, конечно, счет в
банке, да еще тысячу фунтов у Лафита, для ровного
счета; состояли в клубе, что на углу Рю-Грамон; имели ложу
48
в опере, шикарную квартиру; бывали при дворе; бывали на
обедах у его превосходительства посланника лорда Бобтэй-
ла и у других прочих. Словом, на денежки бедняги Докин-
са мы в полные джентльмены вышли.
Хозяин мой был не дурак. Получивши деньги на руки,
убежавши от долгов, он решил до поры держаться
подальше от зеленого стола,— во всяком случае, крупно не
играл; проиграть или выиграть пару наполеонов в вист или
там в экарте — это пожалуйста; видно, что у тебя водятся
деньги и ты человек порядочный. Но играть всерьез —
боже упаси! Да, бывало, и он играл, как многие молодые
люди из высшего общества; случалось и выигрывать и
проигрывать (не говорил только — мошенник! — случалось ли
платить); но теперь с этим кончено; теперь он от этой
забавы отстал и живет себе помаленьку на свои доходы.
Словом сказать, мой хозяин вовсю старался представиться
порядочным. Это, конечно, игра верная; только большое
надобно мошенство, чтобы в нее играть.
Каждое воскресенье он ходил в церковь, а я носил за
ним молитвенник и Библию в богатых переплетах черной
кожи, с красными закладочками, где надо, и этак
почтительно перед ним клал; еще, бывало, служба не началась,
а уж он уткнулся лицом в свою начищенную шляпу — то-
то благолепие! Утешаться можно было, на него глядя.
У лорда Бобтэйла все старухи иначе о нем не говорили,
как закатив глаза; и все клялись, что другого такого
примерного и нравственного юноши не сыщешь. Вот уж,
наверное, хороший сын, говорили они, и какой же будет
хороший зять! Мы не прожили в Париже и трех месяцев, а
уж он мог выбирать любую невесту из тамошних
англичанок. На беду, они почти все были бедны, а моему
хозяину любовь в шалаше была ни к чему.
Тут-то и появились в Париже леди Гриффон и мисс
Гриффон; хозяин не зевал и очень скоро к ним
присоседился. С ними рядом садился в церкви и пел с миледи
гимны; с ними танцовал на посольских балах; с ними
катался в Буа-де-Баллон и на Шан-Зализе (вроде нашего
Хайд-парка); для мисс писал стихи в альбом и распевал
с ней и с миледи дуэты; пуделю носил конфетки, лакеям
раздавал чаевые: горничным — поцелуи и перчатки; даже
с бедной мисс Кикси и то был учтив; ну, конечно, весь дом
души не чаял в таком любезном молодом человеке.
А дамы еще пуще друг дружку возненавидели. Они и
раньше завидовали: мисс — мачехиной красоте, а та — ее
49
образованности; мисс попрекала миледи Излингтонским
пансионом, а миледи насмехалась над ее косым глазом и
кривым плечом. А теперь и впрямь было из чего
ненавистничать. Потому что обе они влюбились в мистера Дью-
сэйса — даже миледи, на что уж была холодна. Ей
нравилось, что он всегда умел ее позабавить и рассмешить.
Нравились его повадки, и как сидит на лошади, и что красив;
сама вышла из простых, так ей особенно нравилось, что
он — настоящий барин. А мисс — та прямо полыхала. Она
этим делом — то есть любовью — начала заниматься еще в
пансионе; чуть было не сбежала с французом-учителем,
потом с лакеем (это, скажу вам по секрету, вовсе не диво
и не редкость; я и сам мог бы немало порассказать) — и
этак с пятнадцати лет. Дьюсэйсу она прямо вешалась на
шею — и вздыхает, и ахает, и глазки строит. Хохочу про
себя, бывало, когда ношу хозяину розовые цидулки от
влюбленной девицы, сложенные на манер треуголки и
надушенные, как парикмахерская. Хозяин, хоть и
негодяй, был все-таки джентльмен, и, на его вкус, девица
хватала через край. А в придачу была кривобока и косоглаза;
так что если бы денег у них оказалось поровну, Дьюсэйс
наверняка выбрал бы мачеху.
Вот это-то он и хотел вызнать — у кого сколько денег.
В Англии это просто: стоит заглянуть в завещание, а они
все хранятся в Докторс-Коммонс. Но у индийского набоба
завещание хранилось в Калькутте или ином дальнем
краю — где же тут достать копию! Надо отдать
справедливость мистеру Дьюсэйсу: леди Гриффон он любил не из
интересу; он охотно женился бы, будь у ней на целых
десять тысяч меньше, чем у мисс Матильды. Но он хотел до
поры до времени попридержать их обеих — а там и подсечь
ту рыбку, что пожирней,— трудно ли умеючи? К тому же
мисс уже и так заглотнула крючок.
Глава II
«Чти отца своего»
Я сказал, что в доме у Гриффонов все обожали моего
хозяина. А вернее сказать: все, кроме одного,— молодого
француза, который до нас был очень хорош с миледи и
занимал при ней как раз ту должность, которая досталась
достопочтенному мистеру Дьюсэйсу. Стоило поглядеть, как
мой молодой джентльмен вытеснил шевалье Делоржа и
50
преспокойно занял его место. Мсье Делорж был очень
расторопный молодой джентльмен, по годам ровесник моему
хозяину и из себя не хуже, а вот нахальства ему не
хватало. Не то чтобы этого товару во Франции не водилось;
но мало, очень мало кто имел его столько, сколько мой
хозяин. Притом же Делорж был в самом деле влюблен в
леди Гриффон, а хозяин только притворялся, и это,
конечно, давало ему преимущество перед бедным французом. Он
всегда бывал любезен и весел, а Делорж — уныл и
неловок. Хозяин, бывало, успеет отпустить леди Гриффон
дюжину комплиментов, а шевалье все только вертит в руках
шляпу, пялит глаза да вздыхает так, что жилет ходуном
ходит. Эх, любовь, любовь! Разве так побеждают
женщину? Нет, не так, не будь я Фицрой Желтоплюш! Я и сам,
когда начинал по части женского пола, тоже все вздыхал
да молчал вроде бедняги француза. И что же? Четыре
первые обожаемые женщины жестоко надо мной
надсмеялись и выбрали кого поживее. Конечно, после этого я
взялся за дело иначе, и все пошло на лад, смею вас уверить.
Впрочем, что же я все про себя? Это уж называется
экзотизм, а я этого не терплю.
Короче говоря, мистер Элджернон Перси Дьюсэйс
выжил мсье Фердинанда Ипполита Ксавье Станислава
шевалье Делоржа. Бедный Фердинанд не ушел совсем — не
хватило духу, да и миледи не желала давать ему полную
отставку. Он годился для разных услуг — ложу ли достать
или приглашение на бал, купить ли перчатки, одеколон или
написать письмо по-французски. Хорошо бы каждой
английской семье в Париже обзавестись таким молодым
человеком. Пусть хозяйка стара — он все равно станет ей
изъясняться в любви; какие поручения ему ни дай —
побежит выполнять. И всегда деликатный, одет чисто и за
обедом не пьет больше пинты вина, а это тоже кое-что
значит. Вот и Делорж был для нас очень удобен — развлекал
миледи, хотя бы плохим английским выговором; смешнее
всего бывало, когда их сводили с мисс Кикси, и та
говорила по-французски, а он по-нашему.
Хозяин, надо сказать, всегда бывал учтив с бедным
французом; влез на его место, но обходился с
побежденным противником уважительно. А бедный тихоня
Фердинанд обожал миледи, точно какую-нибудь богиню, потому и
с хозяином был тоже вежлив; не смел к нему ревновать и
не смел усумниться, что леди Гриффон вправе менять
поклонников, как ей вздумается.
51
Так у нас дело и шло: хозяин гнался за двумя зайцами
и мог взять любого. Хочешь — вдову, а хочешь — сиротку.
Одно надо было: узнать, кому завещаны деньги; но ясно,
что либо одной, либо другой, либо обеим. А с одной у него
уж и так было дело верное, если, конечно, есть что-либо
верное в мире, где все — одна лишь неверность!
* * *
Но тут одно неожиданное происшествие спутало
хозяину карты.
Как-то вечером, побывав с дамами в опере и поужинав
у них на Пляс-Вандом бульоном, куропатками и
шампанским глясе (по-нашему, замороженным^шмы с хозяином
вернулись в кебе домой, очень веселые.
— Ну, Чарльз, мерзавец ты этакий,— говорит он мне
(как видно, был в духе),— вот погоди, женюсь, удвою тебе
жалованье.
Удвоить было нетрудно — ведь до тех пор он мне не
платил ни пенса. Ну и что из того? Плохо было бы наше
дело, если б мы, слуги, жили на жалованье. Побочные
доходы—вот с чего мы сыты.
Я, конечно, поблагодарил как умел; поклялся, что
служу не за жалованье, что рад и даром, pi в жизнь свою не
расстанусь по доброй воле с таким отличным хозяином.
А пока мы эти речи говорили — я и он,— как раз и
доехали до отеля «Марабу» который, как известно, не так уж
далеко от Пляс-Вандом. Подымаемся к себе, я несу свечу
и плащи, хозяин напевает что-то из оперы, да так весело,
точно жаворонок.
Открываем дверь в гостиную. Глядим, а там свет, на
полу пустая бутылка от шампанского, на столе — другая,
к столу придвинута софа, а на ней развалился толстый
старый джентльмен и курит сигары, точно он в трактире.
Дыосэйс (который сигар не выносит, это я уж говорил)
еще не разглядел его из-за дыма, а уже взъярился и
спрашивает, какого черта он тут делает, и так далее, чего и
повторить нельзя.
Тут курилка встает, кладет сигару и хохочет:
— Вот те раз! Неужели ж ты меня не узнал, Элджи?
Читатель, быть может, помнит трогательное письмо,
приведенное в предыдущей главе моих мемуаров;
писавший просил мистера Элджернона Дыосэйса ссудить ему
52
пятьсот фунтов и подписался: лорд Крэбс, собственный
Дыосэйсов папаша. Вот этот-то знатный господин и курил
сейчас у нас в гостиной.
Милорду Крэбсу было лет шестьдесят. Был он толстый,
краснорожий, лысый; нос имел красный от частых
возлияний; руки у него немного тряслись и ноги не так крепко
его держали, как в молодости. Но в общем старичок
почтенный и авантажный; хотя он и был вполпьяна, когда мы
вошли, но не больше, чем положено настоящему лорду.
— Вот те раз! Элджи! — восклицает его светлость,
хватая хозяина за руку.— Не узнаешь родного отца?
Хозяин, по всему видно, не очень-то рад гостю.
— Милорд,— говорит, а сам побледнел.-— Признаюсь —
не ожидал удовольствия увидеть вас в Париже. Дело в
том,— продолжает он, немного опомнясь,— что в комнате
уж очень накурено. Я и не разглядел, кто это явился ко
мне столь неожиданно.
— Да, это у меня дурацкая привычка, Элджернон,
мерзкая привычка,— говорит милорд, закуривая новую си-
rapyf— и ты, дитя мое, правильно делаешь, что не куришь.
Это, милый Элджернон, в лучшем случае пустая трата
времени; к тому же делает человека неприятным в
приличном обществе и непригодным для умственных занятий;
словом, пагуба и для духа и для тела. Кстати, чертовски
скверное курево у тебя в гостинице. Сделай одолжение,
пошли своего человека за сигарами в «Кафе де Пари». Дай
ему пять франков, и пусть сходит сейчас же*
Тут милорд икнул и осушил еще бокал. Хозяин весьма
неохотно вынул монету и услал меня за сигарами.
Я знал, что «Кафе де Пари» об эту пору закрыто, и, не
говоря ни слова, уселся в передней, а там, по странной
случайности, услышал весь разговор милых
родственников.
— Что ж, угощайся. И мне достань еще бутылочку,—
говорит милорд после некоторого молчания. Мой бедный
хозяин всегда бывал душой общества, но на этот раз он
притих и пошел к буфету, откуда папаша успел уже
выудить две бутылки нашего лучшего Силлери.
Он ставит перед отцом еще бутылку, кашляет,
открывает окна, мешает в камине, зевает, прикладывает руку ко
лбу и всем своим видом показывает, что ему не по себе.
Однако все без толку: старик не уходит.
— Налей же себе,— говорит он опять,— и передай мне
бутылку.
53
— Благодарствую,— отвечает хозяин,— но только я не
курю и не пью.
— И хорошо делаешь, мой мальчик. Говорят, будто
самое важное — чистая совесть. Ерунда! Самое важное —
здоровый желудок. Тогда и спишь лучше, и голова не
болит. Ты по утрам небось свеж как огурчик — и прямо за
свою юриспруденцию, а? — Тут старый лорд скорчил
такую рожу, что ему позавидовал бы сам мистер Гримальди.
Хозяин сидел бледный и морщился, как тот несчастный
солдат, которого однажды на моих глазах пороли
«кошкой». Он ничего не ответил, а папаша продолжал и после
каждой точки подкреплялся из бутылки.
— При твоих талантах и принципах ты далеко
пойдешь! О твоем прилежании говорит весь Лондон. Ты У
меня не просто философ; ты, как видно, открыл
философский камень. Этакая квартира, лошади, шампанское — и
все это на двести фунтов в год!
— Не на те ли двести, сэр,— говорит хозяин,—
которые вы мне выдаете?
— Вот именно, мой мальчик, на те самые,— говорит
милорд, покатываясь со смеху.— Это-то и удивительно: я
их не выплачиваю, а ты живешь на широкую ногу.
Поделись же своим секретом, юный Трисмегист! Научи
старика отца, как творить подобные чудеса, и — клянусь
честью! — я буду выдавать тебе твои двести фунтов.
— Enfin, милорд,— говорит мистер Дьюсэйс, теряя
терпение,— потрудитесь объяснить мне цель вашего визита.
Вы предоставляете мне голодать, а теперь вам смешно, что
я зарабатываю свой хлеб. Вы видите у меня достаток и...
— Вот именно, мой мальчик. Да ты не горячись.
Передай-ка бутылку. Да, вижу у тебя достаток, и такой умница,
как ты, еще спрашивает, зачем я явился! Элджернон, где
же твоя мудрость? Зачем я явился? Да именно потому, что
ты живешь в достатке. А иначе за каким чертом я бы
вспомнил о тебе? Разве мы видели от тебя что-нибудь
хорошее — я, твоя мать или братья? Разве за тобой водится
хоть один хороший поступок? Разве мы когда-нибудь
притворялись, что мы тебя любим, а ты — нас? Будто ты без
меня не знаешь, что ты — мот и мошенник! Я за тебя и за
твоих братьев переплатил долгов на тысячи фунтов. Ты
никому долгов не платишь, но мне ты эти деньги вернешь.
Не захотел добром в ответ на мое письмо? Я так и знал.
Если бы я известил тебя о приезде, ты бы улизнул; вот я
54
и явился незваный, чтобы тебя принудить. Вот почему я
здесь, Элджернон; наливай же себе и передай бутылку.
После этой речи старый джентльмен откинулся на софу
и выпустил изо рта больше дыма, чем хорошая дымовая
труба. Признаюсь, эта сцена мне понравилась,— приятно
было видеть, как почтенный и добродетельный старец
загоняет своего сынка в угол; совсем как тот — Ричарда
Блюита. Хозяин сперва покраснел — потом побелел —
потом посинел; ни дать ни взять — мистер Типпи Кук в
трагедии «Франкенштейн». Наконец он вымолвил:
— Милорд,— говорит,— я так и подумал, когда вас
увидел, что надо ждать какой-нибудь пакости. Да, я мот
и мошенник — так ведь это у нас в крови. Своими
добродетелями я обязан драгоценному отцовскому примеру.
Вижу, что к другим доблестям ваша светлость добавили
пьянство; потому вы и явились сюда с вашими нелепыми
требованиями. Когда протрезвитесь, вы, надеюсь, поймете,
что не такой уж я дурак, каким вы меня считаете; если
у меня есть деньги, они при мне и останутся — все до
последнего фартинга, сколько бы вы ни пили и ни грозились.
— Ну что ж,— говорит лорд Крэбс, который, казалось,
задремал во время сыновней ретирады и выслушал ее с
полным спокойствием.— Не дашь — tant pis pour toil. Я не
намерен тебя разорить и ничуть не сержусь. Но мне
нужна тысяча фунтов. Лучше дай ее сейчас, иначе это встанет
тебе дороже.
— Сэр,— говорит мистер Дьюеэйс,— буду с вами столь
же откровенен. Я не дам вам ни фартинга, хотя бы вы...
Тут я решил, что пора отворить дверь; дотронувшись
до шляпы, я доложил:
— Я ходил в «Кафе де Пари», милорд, но оно закрыто.
— Bon!2 Молодец, оставь эти пять франков себе. А
теперь посвети мне и проводи к выходу.
Но мой хозяин уже сам взял свечу.
— Простите, милорд,— говорит,— зачем слуга, когда
здесь ваш сын? Неужели, милый отец, вежливость совсем
уж у нас вывелась? — И пошел его провожать.
— Спокойной ночи, мой мальчик,— сказал лорд Крэбс.
— Храни вас бог, сэр,— отвечает тот.— Тепло ли вы
одеты? Осторожно, тут ступенька.
Так простились любящие родичи.
1 Тем хуже для тебя (франц.).
2 Хорошо (франц.).
55
Глава III
Маневры
Наутро хозяин встал угрюмый,— видно, понял, что
папашин визит не предвещал ему ничего доброго. За
завтраком он ворчал, потом перебирал стофунтовые ассигнации;
даже отложил было пачку (я понял зачем — чтобы
послать отцу).
— Нет,— сказал он наконец, сгреб все и запихнул
назад, в секлетер.— Что он может мне сделать? Он
мошенник, но и я не простак. Попробую бить его собственным же
его оружием.
Тут Мистер Дыосэйс выфрантился и — на Пляс-Ван-
дом, приударить за красоткой вдовой и за прелестной
сироткой.
Было около десяти, и он предложил дамам множество
развлечений на весь день. Покататься в Буа-де-Баллон;
или в Тюльри — поглядеть на короля Луи-Дизуита
(который в то время правил Францией), а не то — в церковь; а
там, к пяти часам, обедать в «Кафе де Пари» и оттуда в
театр смотреть новую пьесу под названием «Сусанна и
старцы».
Дамы согласились на все, кроме обеда и театра.
— Мы приглашены, милый мистер Элджернон,—
сказала миледи.— Взгляните, какое любезное письмо
прислала леди Бобтэйл.—И она протянула надушенную записку
от самой посланницы.
«Фобур Сент-Онорэ, четверг, февраля 15, 1817.
Дорогая леди Гриффон!
Не видела Вас сто лет. Скучные светские обязанности
почти не оставляют мне и лорду Бобтэйлу времени для встреч
с близкими друзьями, в числе которых Вы разрешите мне
считать и Вас. Прошу извинить меня за то, что приглашаю
Вас вот так, без церемоний, отобедать сегодня в
посольстве. Мы будем en petit comite ! и надеемся иметь
удовольствие послушать пение Вашей прелестной дочери. Мне
следовало бы послать мисс Гриффон особое приглашение,
но она, надеюсь, простит бедную «дипломатшу», которой
приходится писать такую уйму писем.
В маленькой компании (франц.).
56
До свиданья, до семи часов. Хочу видеть вас обеих
непременно. Неизменно любящая Вас
Элиза Бобтэйл».
Такое письмо от жены посланника, присланное с его
курьером, запечатанное его гербовой печатью, могло
вскружить голову любой даме среднего сословия. Леди Гриффон
была в полном восторге и еще задолго до прихода моего
хозяина послала своих лакеев, Мортимера и Фицкларенса,
с учтивым ответом в утвердительном смысле.
Хозяину письмо понравилось меньше. Он почуял что-
то неладное, какую-то опасность. Не иначе как старый лис
папаша начал свои махинации!
Отдав письмо, он пофыркал и дал понять, что такое
приглашение обидно и послано только потому, что у леди
Бобтэйл оказались за столом два пустых места. Но леди и
мисс Гриффон ничего не захотели слушать; не так у них
было много знакомых лордов, чтобы отказываться от их
приглашений. Они решили быть там непременно, так что
бедному Дьюсэйсу придется пообедать в одиночестве.
Покатавшись и позабавившись, они вернулись вместе с
хозяином; с миледи он высмеивал весь свет; с мисс был
нежен и чувствителен; и обе они, в отличном расположении
духа, пошли наряжаться к обеду.
Входя в гостиную, чтобы объявить, что кеб подан (я
тоже стал в доме своим человеком), я заметил, как хозяин
потихоньку сунул свой бумажник под диванную подушку.
Это еще что за штуки, думаю я.
А штуки были вот какие. Часа через два, зная, что
дамы уехали, он сделал вид, будто хватился бумажника, и
вернулся за ним.
— Доложите мисс Кикси,— говорит он лакею,— что я
прошу ее выйти ко мне.
И мисс Кикси выходит, очень довольная.
— Ах, мистер Дыосэйс,— говорит она и старается
покраснеть, как подобает девице,— ах, какая
неожиданность! Но я, право, не знаю, подобает ли мне принимать
джентльмена,— ведь я одна в доме.
— Не говорите так, милая мисс Кикси; ведь я пришел
с двойной целью — поискать бумажник, который я,
кажется, здесь забыл, и просить вас пожалеть одинокого
холостяка и угостить его вашим несравненным чаем.
Несравненный чай! Я готов был лопнуть со смеху. Ведь
он и пообедать не успел!
57
Сели пить чай.
— Вам со сливками или с сахаром, дорогой сэр? —
спрашивает бедная Кикси нежно, как голубка.
— С тем и другим, милая мисс Кикси,— отвечает
хозяин и столько уплетает оладий и яблочных пирожков, что
впору хорошей прачке.
Не стану приводить разговор между хозяином и
девицей. Читатель, я полагаю, догадался, зачем Дьюсэйс целый
час старался занимать ее беседой и пил ее чай. Он хотел
вызнать про денежные дела семьи и решить наконец, на
которой из дам ему жениться.
Где же было бедняжке устоять против него? Через
четверть часа он ее (извините за выражение) вывернул
наизнанку и уже знал столько же, сколько она, да только
знала-то она немного. Доход составляет девять тысяч в
год, как она слыхала; а капитал и в деньгах, и в
недвижимости, и в индийских банках. Бумаги на куплю и продажу
подписывают обе дамы, так что деньги, как видно,
поделены поровну.
Девять тысяч в год! У Дьюсэйса забилось сердце и
разгорелись щеки. Не было ни гроша, а завтра, стоит ему
захотеть, будет пять тысяч годовых!
Да, но как это сделать? У кого же все-таки деньги,— у
мачехи или у падчерицы? Сколько он ни пил чаю, а точно
ничего не узнал; и пожалел, зачем нельзя жениться на
обеих сразу.
* * *
Дамы вернулись очень довольные приемом у
посланника; выйдя из кареты, они велели кучеру ехать дальше и
доставить домой толстого старого джентльмена, который
их провожал; а он на прощанье нежно жал им ручки и
обещал часто бывать. Из учтивости он даже хотел
проводить миледи по лестнице, но она не позволила.
— Эдвард,— сказала она кучеру, очень довольная, что
ее слышит вся гостиница,— доставьте его светлость домой.
Кто же был его светлость? Ну конечно, лорд Крэбс, тот
самый старый джентльмен, который накануне показал себя
таким нежным отцом. Узнав об этом, хозяин понял, что
зря отказался дать папаше тысячу фунтов.
О чем говорили за обедом у посланника — это стало
мне известно уже позже, но я приведу весь разговор
сейчас, со слов молодого человека, стоявшего за стулом лорда
Крэбса.
58
Как писала леди Бобтэйл, обедали «ан пти комите»;
лорда Крэбса посадили между дамами Гриффон, и он с
обеими был как нельзя любезней.
— Позвольте, дорогая леди,— сказал он (между супом
и рыбным),— горячо поблагодарить вас за вашу доброту к
моему бедному мальчику. Вы слишком еще молоды,
миледи, чтобы испытать родительские чувства, но с вашим
нежным сердцем вам легко понять признательность любящего
отца ко всем, кто добр к его сыну. Поверьте,— продолжал
он, нежно на нее глядя,— что добро, сделанное ему,
сделано также и мне и вызывает в моем сердце ту же
признательность, какую чувствует к вам мой сын Элджернон.
Леди Гриффон покраснела и так потупилась, что
окунула локоны в тарелку; она глотала лесть лорда Крэбса,
точно устриц. А милорд (язык у него был подвешен на
редкость ловко) обратился к мисс Гриффон. Он сказал, что
ему известны некоторые обстоятельства. Мисс покраснела.
Экий счастливчик! — тут она покраснела еще пуще, а он
глубоко вздохнул и принялся за тюрбо и соус из омаров.
Хозяин и сам был силен по части лести, но до старика
ему было очень далеко. Тот за один вечер успел столько,
сколько иному не суметь и за год. Вы не замечали ни
красного носа, ни толстого брюха, ни нахальных глазок:
так сладко он умел говорить, так занятно рассказывать, а
главное — такие выражал благочестивые и благородные
чувства. Вы скажете, что при таком своем богатстве дамы
были очень уж легковерны; но не забудьте — они только
что приехали из Индии, лордов еще почти не видали, а на
титулах были помешаны, как и положено в Англии
каждой порядочной женщине, которая начиталась
великосветских романов. Словом, они еще только делали свои первые
шаги в свете.
После обеда, пока мисс Матильда пела «Die tanti», или
«Фанти-манти», или еще какие-то итальянские арии (как,
бывало, начнет этот визг — не остановишь), милорд опять
подсел к леди Гриффон и заговорил уже по-другому.
— Экое,— говорит,— счастье, что Элджернон нашел
такого друга как вы, миледи.
— Уж будто? Полагаю, милорд, что я не единственный
его друг из порядочного общества.
— Нет, конечно; были и другие. Его рождение и,
позволю себе сказать, родство со мной доставили ему
множество друзей, но...
— Что «но»? — переспрашивает миледи, смеясь его
59
мрачному виду.— Неужели мистер Дыосэйс потерял их или
оказался их недостоин?
— Хочу верить, что это не так, миледи, но он
легкомыслен и расточителен и попал в стесненные
обстоятельства, а в таких случаях человек не слишком разборчив в
знакомствах.
— Стесненные обстоятельства? Боже мой! Но ведь он
говорит, что его крестная оставила ему две тысячи в год — и
он их даже не тратит целиком; да это и действительно
немалые деньги для холостого человека.
Милорд печально покачал головой.
— Пусть только это останется между нами, миледи;
мой сын имеет всего лишь тысячу в год, которую даю я, и
к тому же — огромные долги. Боюсь, что он играл; вот
почему я так рад, что он попал в порядочный семейный
дом, где более чистые и высокие радости, быть может,
заставят его забыть кости и недостойных собутыльников.
Леди Гриффон сразу сделалась очень серьезной;
неужели правда? Как знать? Неужели Дьюсэйс не влюблен, а
просто метит на ее деньги? Как не поверить собеседнику?
Ведь это его родной отец и вдобавок настоящий лорд и
пэр Англии. Она решила проверить. Она и не подозревала,
насколько Дьюсэйс ей нравится, пока не почувствовала,
как способна возненавидеть его, если он окажется
обманщиком.
Вечер окончился, и они вернулись, как мы уже видели:
милорд поехал домой в карете миледи, а миледи и мисс
поднялись к себе.
Там ждала их мисс Кикси, довольная и сияющая; с ней,
как видно, произошло что-то очень приятное, и ей не
терпелось поделиться. Она и не утерпела. Приготовляя
дамам чай (они всегда выпивали на ночь по чашке), она
сказала:
— Ну-ка, угадайте, кто сегодня пил со мной чай? —
Бедняжка! Каждое приветливое слово было для нее
диковинкой, а чай с гостем — большим праздником.
— Должно быть, моя горничная Ленуар,— сказала
миледи строго.— Я просила бы вас, мисс Кикси, не водить
дружбу с прислугой. Надо все-таки помнить, что вы
сестра леди Гриффон.
— Нет, миледи, не Ленуар, а джентльмен, да еще
какой красавец!
— Ну, значит, мсье Делорж,— сказала мисс,— он мне
обещал принести струны к гитаре.
СО
— Нет, не он. Он тоже приходил, но у него не хватило
любезности доложить о себе. Нет, это был ваш поклонник,
достопочтенный мистер Элджернон Дьюсэйс— И бедная
Кикси захлопала в ладоши, точно получила наследство.
— Мистер Дьюсэйс? А зачем он приходил? —
спрашивает миледи, сразу вспомнив все, что говорил папаша.
— Во-первых, он забыл здесь бумажник, а во-вторых,
хотел отведать моего вкусного чая и пробыл со мной
больше часа.
— Позвольте спросить, мисс Кикси,— надменно
говорит мисс Матильда,— о чем вы могли беседовать с
мистером Элджерноном? О политике, о музыке, об искусстве или
о философии?
Мисс Матильда была синим чулком (как большинство
кривобоких девиц в высшем обществе) и всегда старалась
свести разговор на подобные высокие предметы.
— Нет, ни о чем таком серьезном он не говорил. Я бы
тогда не поняла его, вы же знаете, Матильда. Сперва мы
поговорили о погоде, потом об оладьях и пышках. Он,
оказывается, больше любит пышки. А потом (тут мисс Кикси
понизила голос)—о бедном покойном сэре Джордже,
какой он был хороший муж и...
— И сколько он оставил денег, не так ли, мисс
Кикси?— спрашивает миледи жестким голосом и со злой
усмешкой.
— Да, милая Леонора, он с таким уважением
отзывался о вашем незабвенном супруге, так тревожился о
вашей и Матильдиной судьбе, что приятно было слушать. Ах,
как он мил!
— И что же вы ему сообщили, мисс Кикси?
— Я сказала, что у вас с Леонорой девять тысяч
фунтов годового дохода и...
— Ну, а он?
— Он — ничего. Я ведь и сама ничего больше не знаю.
Мне бы хоть девяносто иметь,— сказала бедная Кикси,
возведя глаза к небу.
— Еще чего захотела! А не спрашивал ли мистер
Дьюсэйс, на каких условиях завещаны деньги и кому из нас?
— Спрашивал, но этого я не сумела сказать.
— Так я и знала! — воскликнула миледи, стукнув
о стол чайной чашкой.— Так я и знала!
— Что ж тут такого, леди Гриффон? — сказала мисс
Матильда.— Незачем бить чашки — вопрос был вполне
невинный. Элджернон — не какой-нибудь интересант. Он —
61
воплощенная искренность и великодушие! У него и у
самого достаточно земных благ; и он не раз говорил мне, что
хотел бы, чтобы его избранница не имела ни гроша,—
тогда он мог бы доказать ей чистоту своих чувств,
— Не сомневаюсь,— сказала миледи.— А кто же
избранница? Неужто мисс Матильда Гриффон? — И она
вышла, хлопнув дверью, а мисс Матильда, по своему
обыкновению, разрыдалась и принялась изливать свою тоску и
любовь на груди у мисс Кикси.
Глава IV
Кажется, клюнуло
На другое утро мы с хозяином явились к Гриффонам;
я занялся горничными, а он пошел строить куры дамам.
Мисс играла на гитаре, а миледи сидела за кучей бумаг —
тут и счета, и чековые книжки, и письма от поверенных.
Эх, мне бы ее заботы, особенно при девяти тысячах
дохода! Все дела в доме вела миледи. Мисс была для этого
чересчур чувствительна.
При появлении хозяина мисс Матильда просияла и
грациозно указала ему на место подле себя; он сел. Миледи
только подняла глаза, приветливо улыбнулась и опять за
бумаги.
— Леди Гриффон получила письма из Лондона,—
говорит мисс.— От всяких там скучных поверенных и прочее.
А вы посидите со мной, гадкий вы человек.
Он садится.
— Охотно, дорогая мисс Гриффон, посижу с вами тет-
а-тет.
— А вчера у посланника,— говорит мисс (после
вступительных любезностей),— мы познакомились с одним
вашим другом, мистер Дьюсэйс.
— Это, очевидно, был мой отец; он очень хорош с
посланником. Третьего дня он навестил и меня.
— Милейший старый джентльмен! И как же он вас
любит, мистер Дыосэйс.
— О да! — говорит хозяин, возводя глаза к небу.
— Он только о вас и говорил и так вас хвалил!
Хозяин вздохнул свободнее.
— Отец очень добр, но он слеп, как все отцы, и
чересчур ко мне снисходителен.
62
— Он говорил, что вы его любимый сын, и сожалел,
зачем вы не старший. Я могу оставить ему только скромную
долю младшего сына, сказал он, но у него есть талант,
знатное имя и собственные средства.
— Средства? О да, да, в этом я не завишу от отца.
— Две тысячи в год, наследство вашей крестной, как
вы нам говорили?
— Вот именно,— кивает мой хозяин,— а этого вполне
достаточно, милая мисс Гриффон, при моих скромных
привычках.
— Кстати,— прерывает его леди Гриффон,— раз уж
речь у вас зашла о денежных делах, пособили бы мне,
бедной! Подойдите сюда, скверный мальчик, и помогите мне
подсчитать.
Он, конечно, со всех ног! Садится около миледи, а у
самого глаза так и горят.
— Вот, взгляните,— говорит она.— Мои агенты
сообщают, что получен перевод на семь тысяч двести рупий,
а в рупии два шиллинга девять пенсов. Сколько это будет
в фунтах и шиллингах? — Хозяин ей старательно
высчитывает.— Девятьсот девяносто фунтов. Допустим. Не
стану проверять — чересчур утомительно. А теперь другое.
Чьи это деньги — мои или Матильды? Понимаете, это —
проценты с некоего капитала в Индии, которого мы еще не
трогали, а из завещания сэра Джорджа я никак не пойму,
что делать с этими деньгами, кроме как тратить. Что же
нам делать, Матильда?
— Ах, мама, вы уж сами решайте.
— А вы что скажете, Элджернон? — Тут она кладет
ему руку на плечо и заглядывает в лицо, этак
завлекательно.
— Но я не знаю, как сэр Джордж распорядился
деньгами,— говорит он.— Для этого вам нужно показать мне
его завещание.
— О, с удовольствием!
Хозяин точно на пружинах подпрыгнул — даже
схватился за стул.
— Вот смотрите: у меня здесь только копия, я ее
сняла с бумаги, которую собственноручно написал сэр
Джордж. Военные ведь редко обращаются к адвокатам; это
он написал в ночь перед сражением.— И она прочла:
«Я, Джордж Гриффон и т. д. и т. п.—ну, обычное
начало — будучи в здравом уме — м-м-м-м — назначаю своими
душеприказчиками Томаса Абрахама Хикса, полковника
63
иа службе Ост-Индской компании, и Джона Монро Мак-
Киркинкрофта (торговый дом «Халф, Мак-Киркинкрофт и
Добс», в Калькутте), а все мое имущество завещаю моей
жене Леоноре Эмилии Гриффон (урожденной Кикси) и
моей единственной законной дочери Матильде Гриффон.
Проценты с капитала завещаю им поровну. Самый
капитал хранить неприкосновенным вплоть до смерти моей
жены Леоноры Эмилии Гриффон, после чего он переходит
к моей дочери Матильде Гриффон, ее наследникам,
душеприказчикам или правопреемникам».
— Ну вот,— говорит миледи.— Дальше мы читать не
будем — дальше пустяки. Теперь, когда вы все знаете,
скажите нам, как поступить с этими деньгами.
— Они должны быть поделены между вами.
— Tant mieux *. А я думала, что они все Матильдины.
* * *
После чтения завещания наступила пауза. Хозяин
встал из-за секлетера, где сидел с миледи, прошелся по
комнате, потом подошел к мисс Матильде. Наконец он
произнес тихим, дрожащим голосом:
— Я готов пожалеть, миледи Гриффон, зачем вы
прочли мне завещание; теперь меня можно заподозрить в
корысти, раз предмет моей любви столь щедро наделен
земными благами. Мисс Гриффон!.. Матильда! Я знаю, что
могу объясниться. Я читаю дозволение в ваших милых
глазах. Незачем говорить вам — или вам, милая мама,— как
давно и пылко я люблю. Моя прекрасная, нежная
Матильда! Не стану притворяться — я читал в вашем сердце и
видел, что вы отдаете мне предпочтение перед
другими. Скажите же «да», дорогая; из ваших милых уст,
в присутствии любящей матери, я хочу слышать
решение, которое осчастливит меня на всю жизнь. Матильда,
милая Матильда, скажите, о, скажите, что вы меня
любите!
Мисс М. задрожала, побледнела, закатила глаза, упала
на грудь моему хозяину и очень явственно прошептала:
«Да, люблю».
Миледи смотрела на них, скрипя зубами, сверкая
глазами, тяжело дыша и побелев как мел,— ну прямо мадам
Паста в опере «Медея» (помните, когда она убивает своих
1 Тем лучше (франц.).
64
детей), а потом молча вышла из комнаты, по дороге
опрокинула меня — я случайно оказался у самых дверей — и
оставила моего хозяина наедине с кривобокой
возлюбленной.
Его речь я привел в точности. Дело в том, что у меня
побывал в руках черновик; сейчас всякий, кто пожелает,
может видеть его у мистера Фрэзера. Но только в
черновике вместо «Мисс Гриффон! Матильда!» написано «Леди
Гриффон! Леонора!».
Хозяин считал, что рыбка наконец-то поймана, но на
этом его злоключения не кончились.
Глава V
Когти Гриффона
Итак, хозяину удалось поймать рыбку, правда, малость
кривобокую, да зато золотую, а для Дьюсэйса это было
самым главным; он знал толк в драгоценных металлах; ему
подавай новенький золотой; где уж тут побывавшей в
руках медяшке вроде леди Гриффон!
И вот наперекор отцу (теперь Дьюсэйс мог плевать на
старика), несмотря на долги (на них, по правде сказать,
он плевал и раньше), несмотря на безденежье, безделье,
Мотовство, распутство и мошеннические проделки
(которые обычно не помогают молодому человеку выйти в
люди), он подцепил большое состояние и дуреху-жену.
Что еще надо человеку? Теперь он небось воспарил в
мечтах очень высоко. Замок в Шотландии, ложи в опере,
деньги в банке, охота в Мелтоне, место в палате общин.
Что еще — одному богу известно. Откуда знать бедному
лакею? Он описывает только то, что видит, а в душу ведь
не влезешь.
Треугольные записочки пошли к нам от Гриффонов
целыми косяками. Мисс и прежде на них не скупилась, а
сейчас слала их утром, днем и вечером, к завтраку, к
обеду и к ужину, так что наша буфетная (хозяин их не
читал и приказывал мне выносить) насквозь пропахла
мускусом, амброй, бергамотом и другими духами, которыми
она их поливала. Вот три образца,— я их двадцать лет
храню у себя как скурьезы. Фу, и сейчас еще в нос
шибает, пока списываю.
3 У. Теккерей, т. 1
65
Билье Ду № 1
«Понедельник, два часа ночи.
Волшебная ночь! Селена заглядывает ко мне в окно,
освещая мое бессонное ложе. При ее свете я пишу тебе
эти строки, мой Элджернон. Мой прекрасный, мой
отважный, властитель моей души! Когда же придет время и нас
не разлучит ни долгая ночь, ни ясный день? Двенадцать!
Час! Два! Я слушаю, как бьют часы, и не перестаю думать
о своем супруге. Мой обожаемый Перси, поверю тебе
девичью тайну: вот здесь я поцеловала письмо. Прикоснись
губами к этому месту, которого касались губы твоей
Матильды».
Таково было первое; бедняга Фицкларенс принес нам
его часов в шесть утра. Я подумал, что дело касается
жизни и смерти, и решился разбудить хозяина в этот
неурочный час. Никогда не забуду, как он скомкал письмо и
осыпал и ту, что писала, и того, кто принес, и меня, который
вручил письмо, такими эпитафиями, какие услышишь
только на Биллингсгете. Надо сказать, что для первого письма
мисс немного пересолила по части чувств. Но такая уж она
была; вечно читала чувствительные романы: «Тадеуша
Варшавского», «Страдания Мак-Виртера» и тому подобные.
После шести таких писем хозяин больше их не читал,
а отдавал мне посмотреть, не требуется ли ответ, чтобы
все-таки соблюсти приличия. Вот следующее письмо:
№ 2
«Любимый! На какие только безумства не толкает
людей страсть! После твоего вчерашнего объяснения леди
Гриффон перестала разговаривать с твоей бедной
Матильдой, объявила, что никого не принимает (даже тебя, мой
Элджернон), и заперлась у себя в туалетной. Кажется, она
ревнует и вообразила, что ты был влюблен в нее! Ха-ха!
Я давно могла бы ее разубедить, n'est се pas? Adieu, adieu,
adieu!l
Тысяча, тысяча и миллион поцелуев.
М. Г.
Понедельник, 2 часа дня».
Не правда ли? Прощай, прощай, прощай! (франц.)
66
К ночи еще одно; мы с хозяином побывали у Гриффо-
нов с "визитом, но нас не приняли. Мортимер и Фицкла-
1 ренс подмигнули мне: мол, как, породнимся? А хозяин,
; кажется, не слишком огорчился, что не повидается с пред*
метом своей любви.
: Во вторник и в среду то же самое. Но тут — кто бы вы
думали нам повстречался, когда мы явились? Папаша,
лорд Крэбс. Он сделал ручкой мисс Кикси и обещал
вернуться к семи обедать. А нас не приняли.
— Ну ничего, ничего,— сказал милорд, ласково взявши
сына под руку.— Признайся-ка, ведь ты их обеих
обхаживал, а, Элджернон? Вдова ревнует, мисс тоскует. Но
ничего, все обойдется. Миледи посердится и перестанет.
Обещаю тебе, что завтра ты увидишься со своей милой.
Говоря это, милорд спускался по лестнице и уж так-то
ласково глядел на сына, так ласково говорил. Хозяин не
знал, что и думать. Он никогда не знал, чтб у отца на
уме; но чуял что-то неладное, хотя в воскресенье одержал
такую победу. Зато я сразу догадался, стоило мне увидеть
взгляд старика и его усмешку — то ли ангельскую, то ли
дьявольскую.
Однако на следующий день опасения хозяина
развеялись; и все как будто обошлось. К завтраку пришло пись->
мо с вложением. Привожу и то и другое:
№ 9
«Четверг, утро*
Победа! Победа! Маменька наконец-то согласилась-—
не на наш брак, а на то, чтобы ты у нас бывал, как преж*
де, и обещала забыть прошлое. Глупая женщина! Как
могла она видеть в тебе что-либо иное, кроме возлюбленного
твоей Матильды? А я полна радости и нетерпения. Всю
долгую ночь я не спала, думая о тебе,, мой Элджернон, и
призывая блаженный час свидания.
Приходи!
М. Г.»
Сюда же была вложена записка от миледи!
«Не стану отрицать, что в воскресенье я почувствовала
себя глубоко оскорбленной. Я имела глупость лелеять
иные планы и не думала, что Ваше сердце (если оно у Вас
з*
67
есть) будет отдано той, которую Вы часто высмеивали
вместе со мною и которая не может Вам нравиться, во всяком
случае внешностью.
Полагаю, что моя падчерица хотя бы для формы будет
просить моего согласия на брак; сейчас я еще не могу его
дать. Я имею основания сомневаться, чтоб она нашла
счастье, доверившись Вам. Но она — особа совершеннолетняя
и может принимать у себя кого захочет, а тем более Вас,
раз Вы помышляете о союзе с ней. Если я смогу
убедиться, что Вы питаете к мисс Гриффон искреннюю любовь и
через несколько месяцев не измените своего решения
жениться на ней, я, конечно, не стану дольше этому
препятствовать.
Итак, Вы можете снова посещать нас. Не обещаю
принимать Вас, как прежде,— Вы сами стали бы презирать
меня за это. Обещаю только забыть обо всем, что было
между нами, и пожертвовать своим счастьем ради счастья
дочери моего дорогого мужа.
Л.-Э.Г.»
Ничего не скажешь: письмо прямое и честное, а ведь
мы поступили с этой женщиной довольно-таки подло. Так
подумал и хозяин; он поговорил с леди Гриффон весьма
нежно и почтительно (что стоит немножко польстить).
С печальным видом приложившись к ее ручке, он тихим
и взволнованным голосом призвал небо в свидетели, как
горько он сожалеет, что дал повод к недоразумению.
И предлагает ей уважение и горячую преданность,
надеясь, что она таковые не отвергнет — ну и так далее,
причем кидал на нее томные взгляды и поминутно пускал в
ход носовой платок.
Он считал, что все уладил. Дурак! Он попался в сети,
как не попадался еще ни один мошенник.
Глава VI
Дуэль
Шевалье Делорж, тот самый молодой француз, о
котором я писал, редко показывался, пока мой хозяин был в
силе, а теперь занял свое прежнее место подле леди
Гриффон; только теперь он был с хозяином на ножах, хотя и
68
получил обратно свою даму, а Дьюсэйс занялся своей
кривобокой Венерой.
Шевалье был маленький, бледный, скромный и
неприметный; с виду-— мухи не обидит, не то что такого тигра
и бретера, каков был мой хозяин. Но уже через
несколько дней стало ясно,— из того, как он разговаривал с
хозяином, как на него глядел, как поджимал губы и сверкал
глазами,— что он ненавидит достопочтенного Элджернона.
А почему? Да потому, что его ненавидела леди Гриф-
фон — а она его ненавидела хуже чумы, хуже черта и
даже больше, чем свою падчерицу. Вы, может быть,
подумали, что ее письмо было написано от души? Или что с
завещанием вышло случайно? Все это было подстроено; и
этакий умник, как мой хозяин, угодил в ловушку, все
равно что браконьер в охотничьем заказе.
Леди Гриффон настроила и Делоржа. Когда Дьюсэйс
отступился, Делорж возвратился к ней с прежними
пылкими чувствами. Бедняга! Он-то в самом деле любил эту
женщину, а это было все равно что влюбиться в
боа-конструктора! Он до того был ослеплен, что считал бы черное
за белое, если бы так она велела; прикажи она убить
человека, он и на это был готов; а она именно нечто
подобное и задумала.
Я уже рассказывал, что хозяин любил высмеивать
английский язык Делоржа и его смешные повадки. А у этого
человечка их было множество. Будучи мал ростом, да еще
француз, он вызывал у хозяина добродушное презрение,
как у всякого истого англичанина. Он его считал скорее
за умную обезьянку, чем за человека, и помыкал им, как
лакеем.
Прежде, до ссоры хозяина с леди Гриффон, мусью
принимал все очень кротко; но тут миледи заставила их
поменяться ролями. В отсутствие хозяина и мисс Матильды
(так рассказывали мне слуги) она подзадоривала
шевалье — зачем столько терпит от Дьюсэйса. Удивлялась,
почему дворянин позволяет обращаться с собой точно со
слугой; и как это мужчина может сносить пренебрежение от
другого мужчины; говорила, что Дьюсэйс постоянно строит
насмешки за его спиною, что он бы должен его ненавидеть
и что пора бы этому положить конец.
Бедняга всему верил; он бывал сердит или доволен,
кроток или задирист — как того хотела миледи. Между
ним и хозяином начались стычки; то они перекоряются за
столом, то не поделят, кому вперед другого выйти из комг
69
наты, кому подать дамам нюхательную соль или подсадить
в карету,— словом, из-за всякого пустяка.
— Ради бога,— говорила в таких случаях миледи со
слезами на глазах,— ради бога, успокойтесь, мистер Дыо-
сэйс. А вы, мсье Делорж, простите его, умоляю вас. Мы все
так любим, так уважаем вас обоих, что ради покоя в доме
и вашего собственного вы не должны ссориться.
В тот день ссора началась, когда шли обедать, а
разыгралась уже за столом. Как сейчас, помню глаза бедняги
Делоржа, когда миледи сказала: «Вас обоих». Он
уставился на нее, покраснел, побледнел, обвел всех безумным
взглядом и, подойдя к хозяину, так пожал ему руку, точно
хотел ее оторвать. Мистер Дьюсэйс поклонился,
усмехнулся и с важностью отошел; мисс простонала: «О-о!» — и
\ посмотрела на него — так бы, кажется, и задушила его в
объятиях; а французик сел за стол счастливый и чуть не
плакал! Он решил, что вдова объяснилась ему в любви и
готова за него идти; так подумал и Дьюсэйс; он взглянул
на нее с горечью и презрением, а потом заговорил с мисс
Матильдой.
Вот поди ж ты: сам не захотел жениться на леди Гриф-
фон, а взбесился — зачем думает идти за другого! Прямо в
ярость пришел, когда она вроде как бы призналась в своей
склонности к французу.
А мой опыт жизни вот чему меня научил: если
мошенника хорошенько разозлить, он уж не мошенник. Потому
что тут он сразу себя обнаружит, чкаков он есть. Наступи
ему на ногу — и увидишь чертово копыто. Так, по крайней
мере, бывает с молодым мошенником — потому что много
надо хладнокровия и большую практику, чтобы отучиться
показывать свою злость и скалить зубы. Старый Крэбс —
тот сумел бы. Тот как в анекдоте про одного вельможу, что
рассказывал герцог Веллингтон (я тогда как раз стоял за
стулом его светлости); дай ему пинка сзади — спереди
никто не заметит, он все будет улыбаться. Ну, а молодой
хозяин этой науки еще не превзошел, и когда злился, то
скрыть этого не умел. И еще надо заметить (замечание
весьма глубокомысленное для лакея, но ведь и у нас есть
глаза, хоть мы и носим плюшевые панталоны) — еще надо
заметить, что мошенника куда легче разозлить, чем иного:
честный человек уступает другим, мошенник же
—никогда; честный человек любит других, а мошенник — одного
себя; чуть что не по нем, он уж и бесится. Игрок, шулер,
распутник — откуда тут взяться добродушию и терпению?
70
Итак, хозяин мой разозлился; а разозлившись, он бывал
таким лютым зверем, что не приведи бог.
Миледи только того и надо было: ведь до тех пор,
сколько она ни старалась поссорить его с французом, она
сумела добиться только, что они друг друга возненавидели,
но до драки дело не доходило.
Дьюсэйс, как видео, не разгадал ее игру; так умно она
ее вела, что в их постоянных стычках оказывалась вроде
как бы ни при чем; напротив, она их вечно мирила,— так
и на этот раз, в столовой. А они, хоть и рычали друг на
друга, но драться им было неохота. И вот почему. Оба они,
как принято в светском обществе, проводили утро за
бильярдом, фехтованием, верховой ездой, пистолетной
стрельбой и другой подобной полезной работой. На бильярде
хозяин всегда брал верх (и немало денег выиграл у
француза, но это к делу не относится или, по-французски, «антр
ну»); в стрельбе хозяин выбивал из десяти очков восемь,
а Делорж — семь; зато когда фехтовали, француз мог
проткнуть достопочтенному Элджернону хоть все пуговицы на
жилете. Обоим случалось драться на дуэлях; у французов
так уж положено, а хозяину приходилось по роду занятий,
так что, зная один другого за людей храбрых и способных
за тридцать ярдов всадить стю пуль в шляпу, они не имели
большой охоты подставлять для этого собственные шляпы,
да еще на собственной'голове. Вот они и не давали себе
воли, а только .скалились друг на друга.
Ко в тот день Дьюсэйс был мрачнее тучи; а когда на
него находило, он не боялся самого черта. Он отвернулся
от француза, когда тот на радостях жал ему руку и,
кажется, полез бы обниматься с медведицей, до того был
доволен. А хозяин бледнел и хмурился; усевшись за стол, он
только фыркал в ответ на все угождения мисс Матильды,
клял то суп, то вино, то нас, лакеев, и ругался, как солдат;
а разве это к лицу благородному отпрыску британского
пэра?
— Позвольте, миледи,— говорит он и отрезает
крылышко цыпленка под бешамелью,— позвольте вашу тарелку.
— Благодарю вас, я попрошу об этом мсье Делоржа.—
И поворачивается к тому с самой обольстительной
улыбкой.
— Как это вам вдруг полюбились его услуги! А
прежде вы предпочитали мои.
— О, вы, конечно, весьма искусны, но сейчас, с
вашего позволения, мне хочется чего-нибудь попроще.
71
А француз рад стараться; так рад, что разбрызгал
подливку. Попало и хозяину на щеку, а потом потекло по
воротничку и по белоснежной жилетке.
— Черт вас возьми, Делорж! — говорит он.-— Это вы
нарочно.— Швыряет нож и вилку, опрокидывает бокал
прямо на колени мисс Гриффон, и та с испугу едва не
плачет.
А миледи громко и весело смеется, словно все это очень
забавно. И Делорж туда же — хихикает.
— Pardong,— говорит,— meal pardong, mong share
munseerl.
Извиняется, а видно, что готов повторить все сначала.
Французик прямо себя не помнил от радости: наконец-
то и он вышел в герои; в кои-то веки посмеялись не над
ним, а над его соперником. И он до того разошелся, что
на английском языке предложил миледи вина.
— Неугодно ли,— лопочет,— не угодно ли, миледи,
выпийт зэ мной бокал мадера? — И оглядывается этак
гордо — вот, мол, как мы умеем.
— С большим удовольствием,— отвечает леди Гриффон,
приветливо ему кивает, пьет и при этом на него смотрит.
А перед тем отказалась выпить с хозяином. Он и это
приметил и помрачнел еще пуще.
Что дальше, то он больше рычит и злится и, надо
сказать, ведет себя как настоящий грубиян; а миледи все
старается его разозлить, а французу польстить. Подали
десерт. Мисс Матильда сидит ни жива ни мертва со страху;
француз прямо ошалел от радости; миледи так и сияет
улыбками, а хозяин зеленеет от злости.
— Мистер Дыосэйс,— говорит миледи игриво (после
того как еще чем-то его поддразнила),— передайте мне
немного винограда. Он выглядит очень аппетитно.
Тут хозяин берет блюдо с виноградом и толкает через
стол к Делоржу, а по пути опрокидывает стаканы, бокалы,
графины и все что попало.
— Мсье Делорж,— говорит он громко,— угостите леди
Гриффон. Было время, когда она хотела моего винограда,
да только он оказался зелен!
* * *
Тут наступает мертвая тишина.
Извините, тысяча извинений, дорогой мсье (искам, франц.).
72
* * *
— Ah! —говорит наконец миледи.— Vous osez m'insul-
ter devant mes gens, dans ma propre maison — c'est par trop
fort, monsieur! v— Встает и выходит. Мисс — за ней.
— Мама,—кричит,—мама, ради бога! Леди Гриф-
фон! — И дверь за ними захлопывается.
Хорошо, что миледи сказала это по-французски. Иначе
Делорж не понял бы; но теперь он понял. Когда дверь
закрылась, он встал и при мне, и при обоих лакеях миледи,
Мортимере и Фицкларенсе, подошел к хозяину и ударил
его по лицу.
— Получай,— говорит,— Prends да, menteur et lache! —
то есть «лжецитрус». А это для разговора между
джентльменами очень сильные выражения.
Хозяин отпрянул и поглядел удивленно, а потом как
вскрикнет, как кинется на француза! Мы с Мортимером
бросились его удерживать, а Фицкларенс держит француза.
— A demain!2 — говорит тот, сжимая кулачки, и
уходит: видно, рад унести ноги.
Когда он сошел с лестницы, мы отпустили хозяина; тот
выпил воды, достал кошелек и дал Мортимеру и Фицкла-
ренсу по луидору.
— Завтра получите еще пять,— говорит,— если
сохраните все в тайне.
Потом он идет к дамам.
— Если б вы знали,— говорит он, подойдя к леди
Гриффон (тут мы, конечно, прилипли к замочной
скважине),— если б вы знали, как я ужаснулся, когда слишком
поздно понял свою дерзость, вы сочли бы мое раскаяние
достаточной карой и простили меня.
Миледи, слегка поклонившись, отвечает, что
объяснения не нужны. Мистер Дьюсэйс — не ее гость, а дочери, а
сама она никогда больше не сядет с ним за стол. И с
этими словами опять уходит из комнаты.
— Ах, Элджернон,— плачет мисс,— что за страшные
тайны? Из-за чего эта ссора? И где шевалье Делорж?
Хозяин улыбается.
— Не тревожьтесь, прелестная Матильда. Делорж
ничего не понял в наших пререканиях, он для этого слишком
1 Ах, вы смеете меня оскорблять в присутствии прислуги и в
моем доме — это уж слишком! (франц.)
2 До завтра! (франц.)
73
влюблен. Он просто отлучился на полчаса и вернется пить
кофе.
Я, конечно, понял, чего хотел хозяин; если бы мисс
дозналась о ссоре между ним и французом, она завопила бы
на весь отель, и тут бог знает что началось бы. Он пробыл
еще несколько минут, успокоил ее, и тут же отправился к
своему приятелю, капитану стрелкового полка по фамилии
Курок; должно быть, переговорить об этом неприятном
деле. А дома мы нашли записку от Делоржа, сообщавшую,
где можно встретиться с его секундантом.
Через два дня в «Вестнике Галиньяни» появилась
заметка, которую я здесь привожу.
«КРОВАВАЯ ДУЭЛЬ. Вчера в шесть часов утра в Бу-
лонском лесу состоялся поединок между дост. О.-П. Д-сом,
младшим сыном дерда К., и шевалье Д-жем. Секундантом
шевалье был майор Королевской гвардии де М.,
секундантом м-ра Д-са — капитан Британского Стрелкового полка
К. Насколько удалось узнать подробности этой
прискорбной истории, ссора началась в доме некоей
очаровательной дамы (одного из украшений британской колонии в
Париже), а дуэль произошла на следующее утро.
Шевалье (являющийся оскорбленной стороной и одним
из лучших фехтовальщиков Парижа) отказался от права
выбрать род оружия, и противники стрелялись на
пистолетах.
С расстояния в сорок шагов они сошлись у барьера, где
их разделяло всего восемь шагов. У каждого было по два
пистолета. Мсье Д-ж выстрелил первым и попал
противнику в кисть левой руки, заставив его выронить пистолет.
Тот выстрелил правой и нанес шевалье, по-видимому,
смертельную рану. Пуля вошла в бедро около паха.
Надежды на выздоровление очень мало.
Причиной поединка якобы явилась пощечина,
нанесенная м-ру Д-су. В таком случае нам понятно ожесточение
противников.
М-р Д-с возвратился к себе в отель. Узнав о
прискорбном происшествии, туда поспешил его отец, лорд К. Весть
о дуэли дошла до его светлости только в полдень и застала
его за завтраком у его превосходительства посланника,
лорда Бобтэйла. Благородный лорд тут же лишился чувств,
но, невзирая на потрясение, непременно пожелал провести
ночь у постели сына».
74
Так оно и было.
— Скверное дело, Чарльз,— сказал мне милорд,
повидавшись с сыном и располагаясь у нас в гостиной.— А что,
сигары в доме найдутся? Да смотри закажи мне бутылку
вина и чего-нибудь закусить. Не хочу покидать любимого
сына.
Глава VII
Последствия
Шевалье все же выздоровел. Пуля причинила жестокое
воспаление и жар, но вышла сама собой. Он пролежал
шесть* недель и потом еще долго прихварывал.
Хозяину, к сожалению, пришлось хуже, чем его
противнику. Его рана тоже воспалилась; да что тут долго
рассказывать — кисть руки пришлось отнять.
Он все перенес как герой, через месяц был здоров, и
рана зажила, но, когда он смотрел на свою культю, он
бывал похож на дьявола!
Конечно, мисс Гриффон после этого влюбилась в него
еще пуще. Она посылала ему по двадцать записок на дню,
называла любимым, страдальцем, героем и не знаю уж,
как еще. Некоторые ее записки я, как уже было сказано,
сберег; сколько в них чувства! Куда там «Страдания
Мак-Виртера».
Старый Крэбс частенько к нам наведывался и немало
выпил у нас вина и выкурил сигар. Думаю, что он жил в
Париже потому, что дом и поместье у него описали; а
болезнь сына была хорошим предлогом; не мог же тот
выставить отца за дверь. Вечера милорд проводил у леди
Гриффон; я там не бывал, пока хозяин болел; и шевалье
тоже не было — мешать было некому.
— Видишь, как эта женщина тебя
ненавидит,—говорит однажды милорд в порыве откровенности,— попомни
мои слова, она тебе еще покажет.
— Будь она проклята,— говорит хозяин, глядя на свою
изувеченную руку.— Будь она проклята, я с ней тоже
когда-нибудь поквитаюсь. Хорошо, что я хоть Матильду
прибрал к рукам. Ей теперь придется идти за меня ради своей
чести.
— Ради своей чести! Ого! Отлично! — говорит важно
милорд.— Отличный ход, мой мальчик.
75
— А раз так,—говорит хозяин, усмехаясь и
подмигивая отцу,— раз девица — моя, чего мне опасаться этой
змеи-мачехи?
Милорд в ответ только присвистнул, взял шляпу и
ушел. Я видел, как он направился в сторону Пляс-Вандом
и вошел к Гриффонам. Ну и старик! Не скоро найдешь
другого такого добродушного и веселого старого
негодяя.
И правильно он сказал моему хозяину, что леди Гриф-
фон «ему еще покажет». Так оно и вышло. Только
следующий свой фокус она сама бы не придумала — кто-то ее
надоумил. Вы спросите: кто? Если вы читаете
внимательно и видели, как почтенный старый джентльмен взял
шляпу и пошел себе на Пляс-Вандом (по дороге заглядываясь
на французских служанок), вы, может быть, догадаетесь,
кто это был. Потому что женщина вовек бы до такого не
додумалась.
В первой части моей повести о мистере Дьюсэйсе и о
том, как благородно он обошелся с Докинсом и Блюитом, я
имел честь представить читателям список его долгов, где,
между прочим, значится следующее:
«Векселя и долговые обязательства: четыре тысячи
девятьсот шестьдесят три фунта стерлингов».
Обязательств было немного, примерно на тысячу
фунтов, а векселей — на четыре тысячи.
По французским законам векселя, хоть бы и выданные
в Англии, но перекупленные французом, могут быть
предъявлены им к уплате, даже если должник находится во
Франции. Этого хозяин не знал — он думал, как и все
думают, что раз удрал из Англии, то и от долгов убежал и
может на них поплевывать.
А леди Гриффон велела своим лондонским поверенным
скупить у владельцев всю коллекцию автографов на
гербовой бумаге, какую там оставил мой хозяин; владельцы
были, конечно, рады хоть что-нибудь за них выручить.
И вот однажды, когда я вышел во двор побеседовать со
служанками — а это я взял себе за правило, ради практики
во французском языке,—одна из них мне говорит:
— Мсье Шарль, там внизу пристав с жандармами;
спрашивает вашего хозяина — a-t-il des dettes, par hazard? l
Я так и опешил — но тут же все понял.
— Туанетта,—говорю я (так ее звали),—- Туанетта,—
Нет ли у него случайно долгов? (франц.)
76
говорю и целую ее.—Ради любви моей, задержи их хоть
на минуту.
Еще раз ее целую и бегу наверх. Хозяин к тому
времени уже вполне оправился от раны, и ему разрешили
выходить,-— счастье его, что он уже окреп.
— Сэр,—говорю ему,—вас ищет пристав, спасайтесь.
А он:
— Какая,— говорит,— чепуха! Я, слава богу, никому
здесь не должен.
— Ничего не чепуха,— говорю я ему,— тут уж не до
почтительности! — А в Англии, скажете, тоже не должны?
Говорю вам, пристав! Сейчас сюда войдет!
Тут как раз — динь-динь-динь! — зазвонил дверной
колокольчик. Ясное дело — они!
Как быть? С быстротой молнии сбрасываю ливрею,
надеваю ее на хозяина, а на голову ему — свою шляпу с пу-
зументом. Сам закутываюсь в его халат и, развалясь на
софе, приказываю ему отворить.
Входит пристав с двумя жандармами, а с ними
Туанетта и старичок официант. Увидя хозяина, Туанетта
улыбается ему и говорит:
— Dis done, Charles! Ou est ton maitre? Chez lui, n'est
ce pas? C'est le jeune homme a Monsieur l.— И приседает
перед приставом.
Официант чуть было не брякнул: «Mais ce n'est
pas...» 2,— а Туанетта ему:
— Laissez done passer ces messieurs, vieux bete!3
Они входят в гостиную, а жандармы становятся у
дверей.
Хозяин распахивает двери гостиной и, притронувшись
к моей шляпе, спрашивает:
— Прикажете идти за кебом, сэр?
— Нет, Чарльз,— отвечаю я,— сегодня я никуда не
поеду.
Тут пристав улыбается (он понимал по-английски,
недаром часто имел дело с английскими клиентами) и
говорит:
— Придется вам все же послать вашего слугу за
экипажем, сэр. Я вынужден задержать вас, au nom de la loi4,
1 Скажи-ка, Шарль, где твой хозяин? Он у себя, не так ли?
Это слуга мсье (франц.).
2 Да ведь это не ... (франц.)
3 Дай же пройти господам, старый дурак! (франц.)
4 Именем закона (франц.).
77
по иску на сумму девяносто восемь тысяч семьсот
франков, поданному парижским жителем Жаком-Франсуа Леб-
реном.— И вытаскивает векселя.
— Прошу садиться,— говорю я.
Он садится, а я завожу разговор о погоде, о своей
ране, о том, что, вот, мол, лишился руки (а сам держу ее
за пазухой) и так далее.
Через несколько минут я не выдержал да как
загогочу!
Пристав бледнеет, видно, чует неладное.
— Эй,— кричит,— жандармы, ко мне! Je suis floue,
vole!
А это по-нашему значит: «Надули!»
Вбегают жандармы, с ними Туанетта и официант. А я,
вставши с кресла, вынимаю руку из-за пазухи, распахиваю
халат и ставлю на кресло свою стройную ногу. И
торжественно указываю — на что бы вы думали? — на
плюшевые ливрейные штаны — те знаменитые невыразимые,
которые прославили меня по всей Европе.
Жандармы и слуги так и покатились со смеху; не
отстал от них и Чарльз Желтоплюш. А старый пристав Грип-
пар едва не лишился чувств.
Тут за воротами отеля послышался грохот экипажа, и
я понял, что хозяин спасен.
Глава VIII
Конец истории мистера Дьюсэйса. Тюрьма
Повесть моя быстро близится к концу; после
предыдущей главы, в которой я описал свою необычную
находчивость и редкую преданность, я недолго оставался в
услужении у мистера Дьюсэйса. А ведь мало кто из слуг сумел
бы придумать такой выход, а тем более так все выполнить.
Правда, толку от .этого вышло немного — если не
считать того, что я выручил от продажи хозяйского халата,
который, как помнит читатель, я надел на себя; да еще
пятифунтового билета, оказавшегося в кармане. А бедный
хозяин очень мало выиграл. Ему удалось бежать из
гостиницы — хорошо. Но Франция — это, вам но Англия:
человека в ливрее, да еще однорукого, здесь нетрудно опознать
и изловить.
Так и случилось. Да ему и нельзя было уезжать из Па*
рижа, если бы он даже сумел. Как же тогда с невестой?
78
С кривобокой богатой наследницей? Он слишком хорошо
знал ее темпераман (как говорят парижане), чтобы
надолго ее покинуть. У нее было девять тысяч годовых. Она
была уже влюблена раз десять и могла влюбиться снова.
Достопочтенный Элджернон Дьюсэйс был не так глуп,
чтобы понадеяться на постоянство столь пылкой особы.
Можно только дивиться, как она оказалась еще не замужем!
Судя по некоторым признакам, она пошла бы и за меня,
©ели бы не соблазнилась знатным и речистым
джентльменом, у которого я служил.
А за ним охотился кредитор. Что ему было делать?
Надо было бежать от долгов, и нельзя было покинуть
предмет любви. Пришлось затаиться, выходить по ночам, как
филину, а к рассвету опять забираться в дупло. Во
Франции (хорошо бы устроить то же и в Англии), как только
стемнеет, тебя уж никто не может арестовать за долги. А в
королевских парках — хочешь в Тюльри, хочешь в Пале-
Рояле или в Люксембурге — можно гулять себе с утра до
вечера, не опасаясь проклятых приставов: их туда не
пускают, все равно как собак; так и сторожам приказано.
И вот мой хозяин маялся; ни уехать нельзя, ни
оставаться! По. ночам пробирался на свидание со своей
девицей, и надо было отвиливать от ее непрестанных вопросов
насчет причин такой тайности; и хвастаться своими двумя
тысячами дохода, точно он и вправду их имел и ни
шиллинга долгов.
Тут уш он сам стал ее торопить со свадьбой.
Он то и дел® слал ей записочки, как, бывало, она —
ему; проклинал оттяжки и промедления; расписывал
прелести супружеской жизни; печалился о терзаниях
влюбленных сердец, обреченных на разлуку, роптал на
необходимость зачем-то ждать согласия леди Гриффон. Ведь она
всего-навсего мачеха, да притом еще злая. Мисс как-никак
совершеннолетняя и может идти, за кого хочет; она уж и
так оказала леди Гриффон все должное почтение, когда
вообще спросила ее согласия.
Так у них и шло. И удивительное дело: хозяин на
вопрос, отчего он не выходит из дому, кроме как по ночам,
запинался и мялся; а девица, когда он спрашивал, отчего
она медлит со свадьбой, тоже мялась. Не обидно ли? По
усам у них текло, а в рот отчего-то не попадало.
Но однажды утром, в ответ на свое отчаянное
послание, Дьюсэйс с восторгом прочел следующее письмо от
своей любезной:
79
«Милый!
Ты пишешь, что со мной готов жить и в шалаше. К
счастью, тебе это не придется. Ты говоришь, что промедление
приводит тебя в отчаяние. Любимый, неужели ты думаешь,
что я способна радоваться в разлуке с тобой? Ты просишь
не дожидаться согласия леди Гриффон и уверяешь, что у
меня нет перед ней обязательств.
Обожаемый Элджернон! Я не в силах более тебе
отказывать. Я хотела сделать все от меня зависящее для
примирения с бессердечной мачехой. Уважение к памяти отца
заставило меня всячески стараться получить ее согласие
на наш брак; этого требовало и благоразумие, ибо кому же
ей оставить долю, завещанную ей отцом, как не мне, его
дочери?
Но всякому терпению есть границы; мы, слава богу, не
должны смотреть из рук леди Гриффон; презренного
металла у нас и без нее достаточно, не правда ли, милый?
Пусть все будет, как ты хочешь, мой любимый, самый
смелый и лучший из людей. Твоя бедная Матильда уже
давно отдала тебе сердце, зачем же отказывать в руке?
Назови день, и я не стану дольше медлить. В твоих объятиях
я укроюсь от обид и оскорблений, которыми меня здесь
осыпают.
Матильда,
P. S. Ты и не знаешь, Элджернон, какую благородную
роль играл твой отец, как он помогал нам и старался
смягчить сердце леди Гриффон. Не его вина, если она остается
непреклонной. Пересылаю тебе ее записку к лорду Крэб-
су. Скоро мы славно над ней посмеемся, n'est ce pas?» x
«Милорд!
В ответ на Вашу просьбу о руке мисс Гриффон для
Вашего сына Элджернона Дьюсэйса я могу лишь повторить
то, что уже была вынуждена ответить прежде: я не верю,
чтобы брак с подобным человеком сулил моей падчерице
счастье, и поэтому не даю на него согласия. Прошу
сообщить об этом мистеру Дьюсэйсу и не касаться более
предмета, для меня очень тягостного.
Покорная слуга Вашей светлости
Л.-Э. Гриффон»*
1 Не правда ли? (франц.)
80
— Ну и к черту миледи! — сказал хозяин.—
Обойдемся без нее.
А усердие старика хозяин объяснил тем, что милорду
было известно о десятитысячном приданом и он надеялся,
что кое-что перепадет и ему. И вот, кроме пылкого письма
к мисс, хозяин написал следующее письмо отцу:
«Благодарю Вас, дорогой отец, за Вашу помощь в моем
трудном деле. Вам известно мое нынешнее положение, и
Вы догадываетесь об обеих причинах моей тревоги. Брак
с моей Матильдой сделает меня счастливейшим из людей.
Моя милая девочка согласна и смеется над глупыми
претензиями своей мачехи. По правде сказать, я удивляюсь,
что она так долго их терпела. Прошу Вас, довершите Ваши
благодеяния и добудьте нам пастора и лицензию, чтобы
мы могли сочетаться браком. Как Вам известно, мы оба
совершеннолетние, так что согласие опекунов не требуется.
Любящий вас сын
Элджернон.
P. S. Как я сожалею о наших недавних размолвках!
Теперь все будет иначе, а после свадьбы тем более».
Я понял, на что намекал хозяин: он обещал старику
денег после женитьбы; письмо могла увидеть и мисс; вот
почему он так туманно писал о своих нынешних
затруднениях.
Я доставил это письмо вместе с нежным посланием к
мисс и оба, конечно, прочел по дороге. Получив свое, мисс
целует его, прижимает к груди и закатывает глаза. Лорд
Крэбс читает свое спокойно, и они начинают совещаться, а
мне велят подождать ответа.
Посовещавшись, милорд берет карточку и пишет на
ней: «Завтра в двенадцать, в посольстве».
— Отнеси это своему хозяину, Чарльз,— говорит он,—-
и скажи, чтобы явился непременно.
Я, разумеется, поспешил домой. Хозяин был доволен;
но особенно счастлив не был. Никто не радуется накануне
женитьбы, да еще на горбунье, пускай она и богата.
Готовясь проститься с холостой жизнью, хозяин сделал
то, что и всякий бы на его месте,— составил завещание,
то есть распорядился имуществом и написал кредиторам,
сообщая о своей удаче и обещая после женитьбы уплатить
81
все до последнего пенни. Раньше этого об уплате не может
быть речи — ведь им известно, что у него ничего нет.
Надо отдать ему должное: он хотел все сделать
по-хорошему — теперь это ему ничего не стоило.
— Чарльз,— сказал он мне, протягивая
десятифунтовый билет,— вот твое жалованье, и спасибо, что выручил в
тот раз, с приставом. Когда женюсь, будешь у меня
камердинером, и жалованье тебе утрою.
Камердинером! А там, глядишь, и дворецким. Оно бы
неплохо — камердинером у десяти тысяч годовых. Всего и
дела, что брить барина, читать его письма да отращивать
себе бакенбарды; черный костюм, каждый день — чистая
рубашка, каждый вечер — оладьи у экономки, каждая
горничная—твоя, на выбор; и сапоги тебе почистят, и
еженедельно можно в оперу по хозяйскому бонементу. Я-то
знаю, как живется камердинеру: это, скажу я вам, более
барская жизнь, чем у самого барина. Даже и денег
больше — потому что господа вечно оставляют в карманах
серебро; и успеха у женщин больше; а обед тот же, и вино
то же — надо только дружить с дворецким; а как не
дружить, если выгодно?
Однако ж все это оказались одни мечтания. Не судьба
мне было стать камердинером у мистера Дьюсэйса.
Всякому дню бывает конец, даже кануну свадьбы, а
это в жизни мужчины самый долгий и неприятный день,
кроме разве только дня перед повешением; и вот Аврора
оаарила своими лучами достопамятное утро, которое
должно было сочетать уздой Гименея достопочтенного
Элджернона Перси Дьюсэйса и мисс Матильду Гриффон.
Гардероб у хозяина был невелик, не то что бывало. Все
добро — разные там несессеры и шлафроки, всю коллекцию
лаковых башмаков, весь набор сюртуков от Штульца и
Штауба,—все пришлось бросить при поспешном бегстве
из отеля «Марабу». Теперь он скромненько проживал в
доме некоего приятеля и заказал всего пару костюмов
у обыкновенного портного да сколько-то там белья.
Он надел который получше — синий; а я спрашиваю,
понадобится ли ему еще старый сюртук.
— Бери,— товорит он атак добродушно,— бери, черт с
тобой.
В половине двенадцатого он велит мне выглянуть, не
опасно ли показаться (а я, надо вам сказать, очень
приметлив на приставов и прямо-таки чую их издалека), и
вот подъезжает скромная зеленая каретка, и хозяин садит-
82
ся. Я на козлы не сажусь, потому что меня кругом знают,
и я могу хозяина выдать. Вместо того я иду короткой
дорогой на улицу Фобур-Сент-Онорэ, к дому английского
посланника, где всегда совершаются браки всех англичан,
проживающих в Париже.
Рядом с этим домом был погребок. Когда подъехал
хозяин в зеленой карете, там уже стояла другая, и вышли
две дамы, хорошо мне известные. Одна — кривобокая; кто
она такая — читатель и сам догадается; вторая была
бедная Кикси; приехала проводить невесту.
Только что карета хозяина успела остановиться,
только что кучер отворил дверцы, а я собрался подойти помочь
хозяину выйти, как вдруг из погребка выскакивают четыре
молодчика и становятся между каретой и дверями
посольства; еще двое отворяют дверцы кареты с другой стороны
и говорят:
— Rendez-vous, M. Deuceace! Je vous arrete au nom de
la loi! (To есть: «Вылезайте, мистер Дьюсэйс, и пожалуйте
в кутузку».) Хозяин бледнеет как смерть и подскакивает,
точно змеею ужаленный. Он хочет бежать через другую
дверь, но тут видит четверых, преградивших ему путь к
свободе. Тогда он рывком опускает окошко и кричит:
— Fouettez, cocher! (To есть: «Пошел, пошел!») А
кучер не едет и даже на козлах уже не сидит.
Тут как раз и я подошел, а те двое влезли в карету.
Вижу такое дело и приступаю к своим обязанностям: с
печальным лицом становлюсь на запятки.
— Tiens,— говорит один из молодчиков,— c'est le drole
qui nous a floue l'autre jour l.
Я их: тоже узнал, но не улыбнулся — не до того было.
— Ой irons-nous done? 2 — спрашивает кучер у
сидящих в карете.
А те в ответ басом: «A SAINTE PELAGIE!»
Тут мне надо бы описать тюрьму Сент-Пелажи,
которая во Франции то же, что у нас Флит или тюрьма
Королевской Скамьи. Но об этом предмете я умолчу. Во-лер*
вых, тюрьма так отлично описана несравненным Бозом в
истории мистера Пиквика, что против него мои писания
1 Смотри, вон негодяй, который нас тогда одурачил (франц.).
2 Куда поедем? (франц.)
83
не покажутся интересны; во-вторых, я слишком мало там
пробыл, не желая губить свои молодые годы в таком
скучном месте.
Конечно, мне первым делом пришлось доставить
записку от хозяина к его нареченной. И как же бедняжка
отчаивалась, когда, прождавши два часа в посольстве, так
и не дождалась жениха. Видя, что он все нейдет, она
поплелась безутешно домой, где я уже ждал ее с письмом.
Теперь он не мог скрыть от нее свой арест; но что-то
наплел о предательстве друга, который будто бы подделал
вексель, и бог знает что еще. Впрочем, не важно, что он
там плел; скажи он ей, что векселя подделал папа
Римский, она и тут бы поверила.
Леди Гриффон я теперь не видел. У нее была своя
гостиная, у мисс — своя, и там же она обедала; они так
ссорились, что, пожалуй, и лучше было им не встречаться, и
только лорд Крэбс навещал их обеих и обеих умел
утешить,— такое уж он имел обхождение, что не устоишь. Он
вошел как раз, когда мисс, вся в слезах, слушала мой
рассказ об аресте. Ах, ведь тюрьма — это ужас, ведь там
казематы, там эти ужасные тюремщики, там сажают на
хлеб и на воду! Бог ты мой! Все это она вычитала в
романах.
— Ах, милорд,— говорит она,— слышите, какой ужас?
— В чем дело, милая Матильда? Ради бога, не пугайте
меня! Что такое? Нет... не может быть! Да говори же! —
восклицает милорд, хватая меня за ворот.— Что с моим
мальчиком?
— С вашего позволения, милорд,— говорю я,— ничего
особенного,—попал в тюрьму. Уж два часа, как в
заключении.
— Элджернон в тюрьме? Быть этого не может! За
какие долги? Скажи, и я все уплачу.
— Ваша светлость очень добры,— говорю я (а сам
вспоминаю, как он хотел стрельнуть у хозяина тысячу
фунтов).—Рад доложить, что долг пустяковый. Что-то
около пяти тысяч фунтов.
— Пять тысяч! О, боже! — говорит милорд и возводит
глаза к небу,—А у меня нет и пяти сотен. Как же помочь
ему, милая Матильда?
— Увы, милорд! У меня всего три гинеи, а ведь леди
Гриффон все...
— Знаю, знаю, милое дитя. Но не печальтесь. У
Элджернона достаточно своих денег.
84
Полагая, что милорд имеет в виду деньги Докинса, от
которых оставалось еще немало, я прикусил язык и
только подивился на отцовскую любовь лорда Крэбса, а заодно
и на мисс,— при десяти тысячах годового дохода всего три
гинеи в кармане.
Я отнес хозяину на его новую квартиру (господи, ну
уж и квартира!) длинное и пылкое письмо от мисс: она
описывала свое горе, клялась, что в несчастье любит его
еще больше, писала, что все пустяки, что не стоит
отчаиваться из-за каких-то пяти тысяч, когда имеешь средства,
клялась, что никогда, никогда его не покинет, и т. д. и т. п.
Я рассказал хозяину о разговоре с милордом, о его
великодушном предложении, и как он был огорчен известием
об аресте сына, и как мне показалось странно, что у мисс,
при ее-то богатстве, всего три гинеи в наличности, а я
думал, что она постоянно имеет при себе не меньше ста
тысяч.
На это хозяин сказал только: ерунда. Но то, что я
рассказал про отца, его, как видно, встревожило, и он
заставил меня повторить.
А потом прошелся по комнате в волнении, словно о
чем-то начинал догадываться.
— Чарльз,— спрашивает он меня,— не заметил ли ты,
чтобы мой папаша особенно интимничал с мисс Гриффон?
— То есть как, сэр? — спрашиваю я.
— Ну, очень он с ней нежничает?
— Он очень с ней любезен.
— Ты говори прямо. А она как относится к его
светлости?
— По правде сказать, сэр, она души в нем не чает.
— А как он ее зовет?
— Он ее зовет «милое дитя».
— А за руку берет?
—- Да, и даже....
— Что «даже»?
— Целует и просит не горевать.
— Вот оно что! — говорит он, сжимая кулаки и
бледнея.— Проклятый старый мошенник! Чудовище, а не отец!
Он хочет ее отбить у меня! — И разражается
проклятиями, которые невозможно здесь привести.
Я и сам давно это думал. Когда милорд стал
похаживать к леди Гриффон, я так и решил: что-то он затевает.
И от слуг я слыхал, что милорд очень уж нежничает с
дамами.
85
Как человек развитой, хозяин понял: либо надо
жениться немедля, либо упустишь невесту. Нельзя было
дольше пребывать в нетях, иначе папаша, того и гляди,
займет его место. Теперь ему стало ясно, что все было
подстроено: и первый визит пристава, и что свадьбу нарочно
назначили на двенадцать часов, а пристава с молодцами
подослали его перехватить. А может быть, и дуэль с Де-
лоржем? Но нет, то подстроила женщина— мужчина
такой подлости не сделает, да еще отец с родным сыном; ну,
а бедняжки женщины по-другому мстить не могут, вот и
сражаются недозволенными способами.
Как бы то ни было, Дьюсэйсу стало ясно, что отец его
обошел: подстроил одну ловушку — она не удалась
благодаря моей находчивости, потом вторую, и на сей раз
вышло. А милорд, хоть и негодяй, слишком был добродушен,
чтобы идти на злое дело без толку. Он до того дошел, что
все ему было нипочем: сегодня на коне, завтра под конем,
но зла не помнил. И уж если пошел против сына, значит,
чует выгоду. А какую выгоду? Ясное дело — богатую
наследницу. Достопочтенный мистер Д. молчал, но я его
видел насквозь: он жалел, зачем не дал старику денег, когда
тот просил.
Бедняга! Он думал, что все разгадал, а ведь опять
попал впросак.
И что ж он решил сделать? Жениться во что бы то ни
стало — «кут ке кут», как говорят французы, то есть — «за
расходами не постоим».
Для этого надо было выйти из тюрьмы, а чтобы
выйти — заплатить долги, а чтобы заплатить — отдать все до
последнего шиллинга. Ну что ж, для настоящего
игрока четыре тысячи — ставка небольшая, особенно в его
положении: не рискнешь — так и сгниешь в тюрьме,
а сыграешь удачно — выиграешь десять тысяч годового
дохода.
Видя, что никуда не денешься, он решился и сочинил
следующее письмо:
«Обожаемая Матильда!
Твое письмо утешило несчастного, который надеялся, что
прошедшая ночь будет счастливейшей в его жизни, а
провел ее в темнице! Тебе известно о гнусном сговоре,
приведшем меня сюда, о моей легковерной дружбе, за которую я
заплатил так дорого. Но что из того? У нас останется
достаточно средств, как ты говоришь, если даже я уплачу
86
долг. И что значат пять тысяч по сравнению с каждой
ночью нашей разлуки? Но не горюй! Я принесу эту
жертву ради тебя. Бессердечно было бы думать о моих потерях
там, где речь идет о твоем счастье. Не так ли, любимая?
Ведь твое счастье — в соединении со мной. Я горжусь этим
и горжусь, что могу дать скромное доказательство
глубины и бескорыстности моих чувств.
Скажи же, что ты по-прежнему согласна быть моей!
Что ты будешь моею завтра! И я завтра же сброшу
гнусные цепи и буду вновь свободен — а если связан, то
только с тобой. О Матильда! Моя нареченная! Напиши мне
сегодня же. Я не сомкну глаз на тюремном ложе, если
прежде не получу от тебя хоть несколько слов. Напиши же,
любовь моя! Я жду ответа, от которого зависит моя
судьба!
Твой любящий
Э.-П. Д.»
Потрудившись над этим посланием, он вручает его мне
и велит отдать мисс Гриффон в собственные руки. Я
застаю мисс одну, как и было желательно, и вручаю
надушенную записку.
Она читает, испускает вздохи и льет слезы ручьями.
Потом хватает меня за руку и спрашивает:
— О Чарльз! Он очень страдает?
— Да, мэм, очень,— говорю я,— уж так страдает, так
страдает, что никакой возможности.
Услышав это, она решается. Садится за секлетер и
немедленно пишет ответ. Вот он:
«Пусть птичка не томится больше в клетке, пусть
летит в мои объятия! Обожаемый Элджернон, жди меня
завтра в тот же час, на том же месте. И тогда ничто, кроме
смерти, нас не разлучит.
М. Г.»
Вот какому слогу учатся читательницы романов и
начинающие писатели. Насколько лучше ничего не знать об
искусстве сочинительства, а писать, как подскажет сердце.
Именно так нишу я; мне ненавистны ухищрения, мне
подай натуру, как она есть. Однако revnong a no mootong *,
1 «Вернемся к нашим баранам» (искам, франц.), то есть
«вернемся к делу»,— французская поговорка.
87
как говорят наши друзья-французы — к белому барашку
Элджернону Перси Дыосэйсу, эсквайру; к почтенному
старому барану папаше Крэбсу и к нежной овечке, мисс
Матильде Гриффон.
Она уже сложила треугольником приведенную выше
записку, а я приготовился сказать, как мне было велено:
«Достопочтенный мистер Дъюсэйс почтительно просит
хранить завтрашнюю встречу в глубокой...» Но тут входит
отец хозяина, и я отступаю к дверям. Мисс кидается ему
в объятия, опять льет слезы (вот уж у кого глаза были на
мокром месте!), показывает письмо и восклицает:
«Взгляните, милорд, как благородно пишет ко мне ваш
Элджернон, наш Элджернон. После этого можно ли сомневаться
в чистоте его чувств?»
Милорд берет письмо, читает, чему-то усмехается,
возвращает его и говорит, к большому моему удивлению:
— Да, мисс Гриффон, он, видимо, искренен, и если вы
решили вступить с ним в брак без согласия вашей мачехи,
зная все последствия,— вы, разумеется, сами себе хозяйка.
— Последствия? Полноте, милорд! Немного больше
денег или немного меньше — что это значит для любящих
сердец?
— Сердца — это очень мило, дорогая барышня; но
трехпроцентные бумаги еще лучше.
— Но ведь у нас и без леди Гриффон есть средства,
не правда ли?
Милорд пожимает плечами.
— Пусть так, моя милочка. У меня нет иных причин
противиться браку, когда он основан на столь
бескорыстной любви.
На этом разговор окончился. Мисс вышла, закатив
глаза и прижавши ручки к сердцу. Милорд зашагал по
комнате, руки в брюки, сияет от радости и напевает, к
великому моему удивлению:
Вот идет герой с победой,
Тили-тили дум, тили дум-дум-дум.
Поет и шагает, да все быстрей и быстрей. А я стою в
изумлении — но уже начинаю понимать. Так он, выходит,
не целится на мисс Гриффон! Пусть себе хозяин на ней
женится! Но ведь у ней сост...?
Стою этак истуканом, руки по швам, глаза вытаращил,
рот разинул и дивлюсь про себя. И только милорд допел
свою песенку, а я додумал до слога «сост...», как вдруг —
88
стоп! Расхаживая и напевая, он наскочил на меня, так что
я отлетел в один угол, а он — в другой, и мы лишь с
немалым трудом опять утвердились на ногах.
— Так ты, оказывается, все время здесь, каналья? —
говорит милорд.
— Раз уж ваша светлость изволили меня заметить, я
здесь,—говорю я. И этак на него смотрю. Он видит, что
мне все понятно.
Тут он немного посвистал, как обычно, когда бывал в
задумчивости (это самое он, наверное, делал бы, если б его
вели на виселицу). Посвистал и говорит:
— Слушай-ка, Чарльз, надо их завтра же поженить.
— Надо ли, сэр? —говорю я.—Мне кажется...
— Постой, милейший, если они не поженятся, что ты
выигрываешь?
Я задумался. Если они не поженятся, я потеряю место,
потому что у хозяина едва хватит денег на уплату долгов,
а какой мне интерес служить ему в тюрьме или в нужде?
— Вот видишь,— говорит милорд.— А теперь смотря.—
И достает хрустящую, новенькую, белую как снег
СТОФУНТОВУЮ бумажку! — Если мой сын завтра женится
на мисс Гриффон, ты получишь вот это; а кроме того,
пойдешь служить ко мне и будешь получать вдвое больше
теперешнего.
Ну как тут устоять человеку?
— Милорд,— говорю я, прижавши руку к груди,— мне
бы только залог, и я ваш навеки.
Старый лорд улыбается и треплет меня по плечу.
— Правильно, юноша, правильно. Ты далеко пойдешь.
Вот тебе и залог.— Вынимает бумажник, прячет
стофунтовый билет и достает другой, в пятьдесят фунтов.— Это
сейчас, а остальное получишь завтра.
Беру дрожащей рукой бумажку,— никогда прежде не
держал в руках и пятой доли этих денег,— бросаю на нее
взгляд: все правильно — пятьдесят. Банковский чек,
выписанный Леонорой Эмилией Гриффон и ее рукою
подписанный. Вот оно что! Думаю, что теперь и читатель
догадался, в чем дело.
— Итак, помни, с нынешнего дня ты служишь мне.
— Премного благодарен вашей светлости.
— К черту,— говорит он,— делай свое дело и
помалкивай.
Вот так я и перешел от достопочтенного Элджернона
Дьюсэйса к его светлости лорду Крэбсу.
89
* * *
Вернувшись в тюрьму, куда Дыосэйс по заслугам
угодил за свое беспутство, я, по правде сказать, почувствовал
к нему одно лишь презрение. Обобрал бедного Докинса,
обманул своего же брата шулера Блюита, а теперь хочет
ради денег жениться на уродине мисс Гриффон — что же
его жалеть, этакого мошенника и мерзавца? И я решил
утаить от него конфинциальную беседу с его светлостью,
моим новым хозяином.
Я только отдал ему записочку мисс Гриффон, которую
он прочел с довольным видом. Потом, оборотясь ко мне,
он спросил:
— Ты отдал письмо самой мисс Гриффон?
— Да, сэр.
— И все сказал, как я велел?
— Да, сэр.
— А лорда Крэбса при этом не было?
— Не было, ьщ)г кйй^Усь честью.
— К черту твою честь! Почисть мне сюртук и шляпу
да ступай за каретой, слышишь!
* * *
Я делаю, как приказано, а вернувшись, застаю хозяина
уже в тюремной конторе, которая называется greffe.
Чиновник достал огромную приходную книгу и разговаривал
с хозяином на французском языке. Кое-кто из горемык-за-
ключе'цных были тут же и с завистью на них поглядывали.
— Итак, милорд,— говорит чиновник,— ваш долг
составляет девяносто восемь тысяч" семьсот франков, плюс
издержки заключения, плюс проценты, итого сто тысяч
без тринадцати франков.
Дьюсэйс торжественно достает из бумажника четыре
тысячи фунтов.
— Это не французские деньги, но, надеюсь, они вам
знакомы, господин greifier.
Greffier обращается к старому меняле Соломону,
который, по счастью, оказался тут же — навещал своих
клиентов в тюрьме.
— Les billets sont bons,— говорит тот,— je les prendrai
pour cent mille douze cent francs; et j'espere, mylor, de
vous re voir l.
1 Банкноты правильные; я готов дать за них сто одну тысячу
двести франков и надеюсь еще свидеться с вами, милорд (франц.).
90
— Отлично; я так и знал, что правильные,— говорит
greffier.— Сейчас отдам милорду сдачу и выправлю
пропуск.
Так и сделали. Бедные узники прокричали «ура»,
двойные железные ворота раскрылись и снова захлопнулись, и
мы с Дьюсэйсом вышли на свободу.
Он пробыл в тюрьме всего шесть часов — и вот опять
свободен — и завтра женится на десяти тысячах годового
дохода. И все-таки на нем лица не было. Он только что
поставил на карту свои последние деньги и теперь, выходя
из Сент-Пелажи, имел за душой каких-нибудь пятьдесят
фунтов.
Ну что ж, поставил — так уж махни рукой. Он и
махнул. Поехал в отель «Марабу» и снял там номера куда
роскошнее прежних; а я рассказал Тунетте и всем слугам,
что вот, мол, мы какие: для нас четыре тысячи фунтов все
равно что тьфу! И так расхвастался, так нас обоих
превознес, что хозяйка на радостях содрала вдвое дороже, чем
взяла бы без моих россказней.
Итак, хозяин снял роскошные ассортименты, на завтра
заказал экипаж до Фонтенебло, ровно к двенадцати, а
потом пошел обедать в «Роше де Канкаль» — да и пора было:
было уж восемь часов. Я в тот вечер тоже не жалел
шампанского; когда я относил к мисс Гриффон его записку,
уведомлявшую ее об освобождении, молодая леди заметила,
что я не в себе, и сказала:
— Славный Чарльз! Как он взволнован событиями
этого дня. Вот тебе луидор, Чарльз; выпей за свою
хозяйку.
Я взял, но безо всякой охоты; как-то против совести
брал я эти деньги.
Глава IX
Свадьба
На другой день в двенадцать у посольских дверей
ждала карета четверней; мисс Гриффон и верная Кикси тоже
явились вовремя.
Не стану описывать брачную церемонию: как
посольский священник соединил руки влюбленных и как в
свидетели позвали одного из посольских лакеев, как мисс, по
своему обыкновению, заплакала и лишилась чувств, а Дыо-
сэйс отнес ее, бесчувственную, в экипаж и увез в Фонте-
91
небло, где они положили провести первую неделю
медового месяца. Слуг с собой не взяли — хотели уединения. Так
что я, подняв у кареты подножку и махнувши кучеру,
распрощался с достопочтенным Элджерноном и тут же
отправился к его достойному папаше.
— Ну что, Чарльз, дело сделано? — спрашивает он.
— Сам видел,— говорю,— как их обвенчали, сэр; ровно
в четверть первого.
— А ты перед венчанием дал мисс Гриффон ту
бумагу, что я велел?
— А то как же, милорд! В присутствии мистера
Брауна, лакея лорда Бобтэйла; он может присягнуть, что она
ее получила.
Надо вам сказать, что милорд дал мне бумагу,
составленную леди Гриффон, и велел ее вручить тем
манером, какой я только что описал. А в бумаге было вот
что:
«Согласно полномочиям, которыми облекает меня
завещание покойного мужа, я запрещаю брак мисс Гриффон
с достопочтенным Элджерноном Перси Дьюсэйсом. Если
мисс Гриффон на нем настаивает, последствия сего ей
известны.
Леонора Эмилия Гриффон.
Рю-де-Риволи, 8 мая 1818».
Вот это самое я и вручил мисс, как раз перед тем, как
явился жених. Она прочла, сказала с презрением:
— Я смеюсь над угрозами леди Гриффон,— разорвала
бумагу пополам и прошла дальше, опираясь на руку
верной Кикси.
Бумагу я подобрал для сохранности и вернул милорду.
Впрочем, это было не нужно, потому что он оставил себе
копию, и обе заранее показал мне и еще одному
свидетелю (поверенному леди Гриффон).
— Отлично! — говорит он и достает из бумажника
близнеца вчерашнего пятидесятифунтового чека.—
Видишься держу свое слово. Теперь ты состоишь на службе
у леди Гриффон вместо Фицкларенса, который взял
расчет. Ступай к Фроже, закажи себе ливрею.
— Но, милорд,— говорю я,— мы договорились, что я
поступлю не к леди Гриффон, а...
— Это одно и то же,— говорит он и уходит.
92
; Я иду к Фроже заказать себе новую ливрею и узнаю,
что там побывал и наш кучер, ц мистер Мортимер. Миледи
меняла ливреи всем слугам; теперь они должны были быть
того же цвета, что и моя старая; а на пуговицах, вместо
прежнего грифона — графская корона огромных
размеров.
Я, однако, ни о чем не спросил, только дал снять с себя
мерку и с того дня ночевал уже на Пляс-Вандом. Первые
два дня я не выезжал с экипажем; миледи брала с собой
только одного лакея, пока не будет готова новая карета.
Думаю, что вы уже обо всем догадались!
А я купил себе несессер, ящик одеколона, несколько
дюжин батистовых сорочек и шейных платков, ну и все
прочее, без чего нельзя человеку в моем положении.
Шелковые чулки полагались от господ. После этого я написал
бывшему хозяину следующее:
«Сэр!
Со времени, как я имел честь Вас проважать,
произошли абстоятельства, по каторым мне никак не льзя доле
Вам служить и прашу оставить за мной мои вещи в субо-
ту, когда принесут белье от прачки.
Ваш пакорный слуга
Чарльз Желтоплюш.
Пляс-Вандом».
Орфография тут, конечно, хромала, но что прикажете?
Мне было тогда всего восемнадцать, и я не имел того
опыта в литературном деле, который приобрел с тех пор.
Выполнив таким образом свой долг, я в следующей
главе расскажу, что довелось увидеть у новых хозяев.
Глава X
Медовый месяц
Неделя в Фонтенебло промчалась быстро, и вот наш
сынок и невестка — милые голубки! — вернулись в свое
гнездышко, в отель «Марабу». Полагаю, что голубку все
это воркование успело изрядно надоесть.
По приезде они нашли у себя на столе большой
сверток в тонкой бумаге, газету и пару визитных карточек,
93
перевязанных белой лентой. В свертке был большой кусок
сливового пирога с глазурью.
На одной из карточек напечатано было жирным
шрифтом:
Лорд Крэбс,
а на другой, мелким курсивом:
Леди Крэбс.
В газете была следующая заметка!
«Свадьба в высшем обществе. Вчера в британском
посольстве состоялось бракосочетание Джона Августа Алта-
монта Плантагенета, графа Крэбса, с Леонорой Эмилией,
вдовой генерал-лейтенанта сэра Джорджа Гриффона,
кавалера ордена Бани. Его превосходительство лорд Бобтэйл,
бывший посаженным отцом, дал в честь новобрачных
изысканный завтрак. На свадьбе и завтраке присутствовал
цвет иностранной дипломатии во главе с князем Талейра-
ном и герцогом Далматским, представлявшим особу
Е. К. В. короля Франции. Лорд и леди Крэбс намерены
провести несколько недель в Сен-Клу».
Вот что нашли у себя мистер и миссис Дьюсэйс, не
считая моей записки, которую я уже приводил выше.
Сам я при этом не был и потому не знаю, что сказал
Дьюсэйс, но могу себе представить, какой у него был вид
и какой вид был у бедной миссис Дьюсэйс. Им что-то не
захотелось отдыхать после дороги; уже через полчаса они
велели снова заложить экипаж и примчались к нам в Сен-
Клу, где мы вкушали радости, какие положены в законном
браке.
Милорд сидел на софе у окна, в халате пунцового
атласа, и, по своему обыкновению, курил сигару; миледи,
которая, надо ей отдать справедливость, ничего не имела
против дыма, сидела в другом конце комнаты и вышивала
шерстью туфли, или чехол для зонтика, или совок для
угля, или еще какую-то ерунду. Можно было подумать,
что они женаты уже лет сто. Я прерываю супружеский
тет-а-тет и докладываю в тревоге:
— Милорд, к вам сын и невестка.
— Ну и что? — говорит милорд спокойно.
— Как? Мистер Дьюсэйс? — спрашивает миледи и
вскакивает с видом испуга.
94
— Да, душенька, мой сын, но ты не тревожься. Чарльз,
скажи, что мы с леди Крэбс рады принять мистера и
миссия Дьюсэйс; и пусть извинят, что мы их примем en fa-
mille К Сиди, сиди, мое сокровище, и не волнуйся.
Шкатулка с документами при тебе?
Миледи указала на большую зеленую шкатулку —ту
самую, откуда она доставала когда-то бумаги, чтобы
показать Дьюсэйсу,— и передала милорду золотой ключик.
Я вышел, встретил Дьюсэйса с женой на лестнице, сказал,
что было велено, и с поклоном провел их в комнаты.
Милорд не встал, а курил себе как ни в чем не бывало
(разве что побыстрей); миледи тоже сидела с гордым
видом. Входит Дьюсэйс — левая рука на перевязи, на правой
повисла жена, и в ней же он держит шляпу. Он очень
бледен и словно бы испуган, а бедняжка жена прячет лицо
в платок и горько рыдает.
Мисс Кикси, которая тоже была тут (я о ней не
упомянул, потому что она у нас в доме как бы не считалась),
тотчас подходит к миссис Дьюсэйс и протягивает руки,—
у старой Кикси было доброе сердце, честь ей за это и
хвала! Бедная горбунья с воплем бросается в ее объятия,
истерически рыдая. Я вижу, что сцены не миновать, и,
конечно, оставляю в двери щелку.
— Добро пожаловать в Сен-Клу, мой мальчик,—
говорит милорд громко и приветливо.— Ты думал, что
обвенчался тишком, плут ты этакий? Но мы все знали, мой
милый, мы все знали, не правда ли, душенька? А наш
секрет мы сумели сохранить лучше, чем вы хранили ваш.
— Должен признаться, сэр,— отвечает с поклоном
Дьюсэйс,— я действительно не подозревал, что удостоюсь
счастья обрести мачеху.
— Вот именно, не подозревал, проказник ты этакий! —
говорит милорд, хихикая.—Как видишь, старого воробья
на мякине не проведешь, не то что молодого. Но вот мы
наконец все женаты и счастливы. Садись, Элджернон,
давай покурим и потолкуем обо всех превратностях
минувшего месяца. А ты, душенька,—говорит милорд,
обращаясь к миледи,— ты, надеюсь, не сердишься на беднягу
Элджернона? Пожми ему руку (усмешка).
Но миледи встает и говорит:
— Я уже сообщала мистеру Дьюсэйсу, что не желаю
его больше видеть. Не имею причины менять свое реше-
По-домашнему (франц.).
95
ние.— И с этим выплывает из комнаты, в ту самую дверь,
куда Кикси увела бедную миссис Дьюсэйс.
— Что поделаешь? — говорит милорд.— Я надеялся,
что она тебе простила, но мне все известно, и надо
признать, ты поступил с ней жестоко. Гонялся за двумя
зайцами, а, проказник?
— Как, милорд? Вам известно, что произошло
между мной и леди Гриф... то есть леди Крэбс — до нашей
ссоры?
— Отлично известно. Ты за ней ухаживал и почти
влюбил в себя, потом дал ей отставку, польстясь на
деньги, а она в отместку подстроила так, что тебе отстрелили
руку. Кончено теперь с игрой в кости, а, Дьюсэйс? Не
можешь больше sauter la coupe? l На что же ты думаешь
жить?
— Ваша светлость весьма участливы, но я бросил игру
навсегда,— говорит Дьюсэйс и темнеет в лице.
— Да неужели? Так, значит, «Бенедикт — примерный
человек»? Час от часу не легче. Уж не собираешься ли
ты в пасторы, Дьюсэйс?
— Милорд, нельзя ли быть немного серьезней?
— Серьезней? A quoi bon? 2 Впрочем, я совершенно
серьезно удивлен, что ты мог выбирать любую из них и
предпочел это страшилище, твою жену.
— Позвольте, в свою очередь, спросить вас, отчего вы
не побрезговали взять в жены женщину, у которой только
что был роман с вашим сыном? — говорит Дьюсэйс,
свирепея.
— И ты еще спрашиваешь? Я задолжал сорок тысяч
фунтов, в Сайз-Холле описано все имущество, кредиторы
захватили все мои земли до последнего акра,— вот почему
я на ней женился. А ты думал, по любви? Леди Крэбс —
женщина хоть куда, но она не дура — она вышла за мой
титул, а я женился на ее деньгах.
— В таком случае, милорд, незачем спрашивать меня,
почему я женился на ее падчерице.
— Вот так незачем! Я спрашиваю, на что вы будете
жить? Пяти тысяч фунтов Докинса навек не хватит, а что
потом?
— Как же так?.. Да нет, не может быть! — Тут
Дьюсэйс теряет терпение и вскакивает.— Не станете же вы
1 Встряхивать стаканчик (франц.).
2 К чему? (франц.)
96
утверждать, что у мисс Гриффон нет состояния, нет
десяти тысяч фунтов годового дохода!
Милорд вложил в рот новую сигару. Закурив ее, он
спокойно сказал:
— Да, конечно, у мисс Гриффон было десять тысяч
годовых.
— Было, значит, есть. Не истратила же она их за
неделю!
— Сейчас у нее нет ни пенса: она вышла замуж без
согласия мачехи.
Дыосэйс опустился на стул. Никогда я не видел такого
отчаяния, какое выразилось на лице несчастного. Он
корчился, скрипел зубами, рвал ворот у сюртука и бешено
размахивал обрубком руки, а потом закрыл им бледное
как мел лицо и заплакал в голос.
Страшно, когда мужчина плачет! Ведь прежде, чем
прорвутся наружу слезы, надо рвануть его прямо за
сердце. Милорд между тем курил сигару и продолжал:]
— Милый мой, у нее нет ни шиллинга. Я думал
оставить тебе твои четыре тысячи. На них ты мог бы
как-нибудь прожить, скажем, в Германии — там дают из пяти
процентов, и кредиторы тебя не нашли бы. Там тебе с
женой хватило бы и двухсот фунтов в год. Но леди Крэбс
и слышать об этом не хотела. Ты ее оскорбил, она
попыталась тебя убить, но не сумела; тогда она решила пустить
тебя по миру — и это ей удалось. Должен признаться, что
арест устроил я; я же подал ей мысль купить твои
опротестованные векселя. Она их скупила за бесценок, а когда
ты по ним заплатил, нажила на этом две тысячи фунтов.
Конечно, отцу больно, когда арестовывают сына, но que
voulez-vous? l Я оставался в стороне, это она хотела тебя
разорить. А так как надо было непременно женить тебя
прежде, чем мог жениться я, то я хлопотал за тебя перед
мисс Гриффон и, видишь,— устроил твое счастье. Ах,
пострел! Думал провести старика отца? Но ничего. Сейчас
подадут завтрак. А пока кури и вот выпей сотерна.
Дьюсэйс, выслушав все это, вскочил как ужаленный.
— Не верю! — закричал он,— Это дьявольская ложь!
Все это твои лживые выдумки, старый мерзавец, и
кровожадной шлюхи, на которой ты женился. Не верю!
Покажите мне завещание. Матильда, Матильда! — хрипло
закричал он, распахивая дверь, в которую она вышла.
1 Что вы хотите? (франц.)
4 у. Теккерёй, т. 1
97
— Спокойней, мой мальчик. Ты раздражен, и я тебе
сочувствую. Только не ругайся; поверь мне, это
бесполезно.
— Матильда! — снова крикнул Дьюсэйс, и бедная
горбунья появилась, дрожа, а за ней — мисс Кикси.
— Скажи, это правда? — спросил он, схватив ее за
РУку.
— О чем ты, милый?
— О чем? — вскричал Дьюсэйс.— О чем? Да о том, что
ты — нищая, из-за того, что обошлась без согласия
мачехи, о том, что ты подло обманула меня, лишь бы только
выйти замуж! О том, что ты мошенница, под стать этому
старому дьяволу и его дьяволице!
— Это правда,— сказала бедняжка, рыдая,— что у
меня ничего нет, но ведь...
— Что «но ведь»? Да говори же, идиотка!
— У меня ничего нет. Но у тебя, милый, есть две
тысячи в год. Разве нам этого не хватит? Ведь ты же меня
любишь не ради денег, правда, Элджернон? Ты мне
столько раз говорил это! Скажи же теперь, любимый, и не
сердись, о, не сердись!
Она упала на колени, прижимаясь к нему, и ловила
его руку, чтобы поцеловать.
— Сколько у него, вы сказали? —- спрашивает милорд.
—- Две тысячи в год, сэр. Он нам это много раз
говорил.
— Две тысячи? Две... хо, хо, хо! Ха, ха, ха! — залился
милорд,— В жизни не слыхал ничего лучше! Милая моя,
да у него нет ни шиллинга, ни единого мараведи, клянусь
всеми богами! — И старый джентльмен захохотал еще
пуще; добросердечный был джентльмен, что и говорить.
Наступило молчание; но миссис Дьюсэйс не стала
клясть мужа, как только что делал он. Она лишь сказала:
— Ах, Элджернон, неужели правда? — Отошла, села
в кресло и тихо заплакала.
Милорд открыл зеленую шкатулку.
— Если ты или твои поверенные пожелают
ознакомиться с завещанием сэра Джорджа, оно к вашим
услугам. Вот условие, о котором я говорил; в этом случае все
состояние переходит к леди Гриффон, то бишь леди Крэбс.
Видишь, милый мальчик, сколь опасны поспешные
заключения. Миледи показала тебе только первую страницу
завещания — она хотела тебя испытать. Ты тут же попросил
руки мисс Гриффон и думал, что всех обошел,— не плачь-
98
те, милочка, сейчас он вас искренне любит! -*- а лучше
было бы дочитать до конца. И вот ты побит — положен на
обе лопатки,—да, да, побит твоим стариком отцом,
проказник ты этакий! Ведь я предупреждал тебя, помнишь,
когда ты не захотел поделиться деньгами Докинса. А у
меня что сказано, то сделано. Пусть это будет тебе
уроком, Перси. Не тягайся с опытными людьми. Семь раз
отмерь, один раз отрежь. Audi alteram partem *, то есть:
читай обе стороны завещаний. Ну, кажется, завтрак
подан. И ты что-то не куришь. Пойдем в столовую?
— Подождите, милорд,— говорит смиренно
Дьюсэйс— Я не хочу злоупотреблять вашим гостеприимством,
но... но войдите в мое положение — у меня нет денег,—
а вы знаете, что жена моя привыкла...
— Миссис Дьюсэйс всегда найдет здесь приют, так,
словно ничто не нарушало добрых отношений между ней
и ее мачехой.
—- Ну, а я, сэр,— тихо произносит Дьюсэйс,— я
надеюсь... я верю... что ваша светлость не забудете и обо мне?
— Забыть? Нет, как можно!
— И как-то обеспечите?..
— Элджернон Дьюсэйс! — говорит милорд, подымаясь
с софы и глядя на сына со злорадством, какого я отродясь
не видал.— Заявляю перед богом, что не дам тебе ни одного
пенни!
А миссис Дьюсэйс он протягивает руку и говорит:
— Что ж, пойдемте со мной к вашей маме, милочка?
Я уже сказал, что наш дом всегда для вас открыт.
— Милорд,— отвечает бедняжка с низким
реверансом,— мой дом — там, где он.
* * *
Месяца три спустя, когда стали падать листья, а в
Париже начался сезон, милорд, миледи и мы с Мортимером
гуляли в Буа-де-Баллон. Экипаж медленно ехал позади,
а мы любовались лесом и золотым закатом.
Милорд распространялся насчет красот окружающей
природы, высказывая при этом самые возвышенные
мысли. Слушать его было одно удовольствие.
— Ах,— сказал он,— жестокое надо иметь сердце,—
не правда ли, душенька? — чтобы не проникнуться таким
1 Выслушай и другую сторону (лат.).
4* 99
зрелищем. Сияющая высь словно изливает на нас
неземное золото; и мы приобщаемся небесам с каждым глотком
этого чистого, сладостного воздуха.
Леди Крэбс молчала и только пожимала ему руку,
возводя при этом глаза кверху. Даже мы с Мортимером что-
то почувствовали и стояли молча, опершись о наши
золоченые трости. Подъехал экипаж; милорд и миледи
медленно направились к нему.
Поблизости стояла скамейка. На ней сидела бедно
одетая женщина, а подле нее, прислонясь к дереву, стоял
мужчина, который показался мне знакомым. На нем был
потрепанный и побелевший на швах синий сюртук с
медными пуговицами. На голове была рваная шляпа; волосы
и бакенбарды свалялись так, что страшно было смотреть.
Он был небрит и бледен как мертвец.
Милорд и миледи не обратили на него никакого
внимания и пошли к экипажу. Мы с Мортимером также
заняли свои места. Мужчина стиснул плечо женщины, а она
опустила голову, горько плача.
Усевшись в экипаж, милорд и миледи, с редкой
добротою и деликатностью, разразились громким смехом — ну
прямо так и залились, пугая вечернюю тишину.
Дьюсэйс обернулся. Как сейчас, вижу его лицо —
сущий дьявол в аду! Он взглянул на экипаж и указал на
него своей искалеченной рукой, а другой рукой
замахнулся и ударил женщину. Та вскрикнула и упала.
Ах, бедная, бедная!
Роковые сапоги
Январь, Рождение года
акой-то поэт сказал, что, если любой из
смертных опишет свою жизнь с рожденья и до
кончины, получится интересная книга, пусть
даже герой ее не пережил ничего из ряда вон
выходящего. Насколько же более
поучительным и занимательным окажется то, что
собираюсь представить на суд публики я, человек, на долю
которого выпали приключения, поистине удивительные,
потрясающие и, можно сказать, невероятные.
Нет, нет,— я не убивал львов, не дивился чудесам
Востока, путешествуя по пустыням Персии и Аравии, не
блистал в обществе, не вращался среди герцогов и пэров и не
собираюсь, как это сейчас у нас модно, писать о них
мемуары. Я никогда не выезжал из Англии, ни разу в
жизни не беседовал с лордом (не считая того захудалого
ирландского лорда, что снимал у нас как-то комнаты и уехал,
забыв заплатить за три недели, не говоря уж о чаевых);
однако меня так жестоко терзали, по выражению нашего
бессмертного барда, «пинки и розги яростной судьбы», так
упорно преследовал злой рок, что, читая о моих
злоключениях, станет лить слезы и камень,— если, конечно,
сердце у него не каменное.
Я выбрал для этой книги двенадцать моих
приключений, которые смогут занять досуг читателей и дать им
пищу для размышлений на все двенадцать месяцев года.
Приключения эти повествуют о жизни человека высокого
ума и — могу сказать с уверенностью — доброго сердца.
Я не швырял деньги, не то что иные. Я никого не
обманул ни на шиллинг, хотя вряд ли вы сыщете во всей
Европе другого такого ловкача. Я никогда не причинял
зла ближнему своему,— напротив, я не раз проявлял
редкую снисходительность к обидчикам. У меня вполне сноо
ь
га
101
ная родословная, и хотя я был рожден для богатства (и
к тому же обладал незлобивым характером, берег деньги,
когда они у меня бывали, и всячески старался их
приумножить), однако во всех моих жизненных странствиях
мне упорно сопутствовала неудача, и ни одному
смертному не пришлось выдержать таких тяжких испытаний,
какие обрушились на злосчастного Боба Стабза.
Боб Стабз — это мое имя; у меня нет ни шиллинга;
когда-то я был офицером его величества короля Георга, а
сейчас... Но не стоит забегать вперед,— что я являю собой
сейчас, читатель узнает через несколько страниц. Отец
мой, один из зажиточных мелкопоместных дворян Бангэя,
вел свой род от Саффолкских Стабзов. Мой дед, почтенпый
бангэйский стряпчий, оставил батюшке порядочное
состояние. Мне предстояло, таким образом, получить в
наследство кругленькую сумму, и сейчас я жил бы, как
подобает джентльмену.
Несчастья мои начались, можно сказать, за год до
моего рождения, когда батюшка, в то время молодой
человек, делавший вид, что изучает в Лондоне право, без
памяти влюбился в некую мисс Смит, дочь лавочника,
который не дал ей в приданое ни пенса, а позже и сам
обанкротился. Отец женился на этой самой мисс Смит и увез
ее к себе в деревню, где я ш появился на свет в недобрый
для меня час.
Если бы я стал описывать годы своего детства, вы
посмеялись бы надо мной и назвали лжецом; но
нижеследующее письмо, которое моя матушка написала своей
подруге, когда мне было несколько месяцев от роду, даст вам
некоторое представление о том, как глупа была бедняжка
и как легкомыслен и расточителен был мой родитель.
«Мисс Элизе Кикс,
Грейсчерт-стрит, Лондон.
Ах, милая Элиза! Во всем мире нет женщины
счастливей, чем твоя Сьюзен! Мой Томас —просто ангел!
Помнишь, я клялась, что выйду замуж только за высокого и
стройного гвардейца? Так вот, моего Тома скорее можно
назвать коренастым, и я нисколько не боюсь признаться,
что глаза у него немножко косят. Ну и что же, пусть
косят! Когда один его глаз смотрит на меня, а другой на
нашего малютку Боба, в них светится такая нежность, что
перо мое не в силах описать ее, потому что, конечно же,
К>2
ни одну женщину в мире не любили так преданно, как
твою счастливую Сьюзен Стабз.
Когда мой милый Томас возвращается домой с охоты
или с фермы, если бы только ты видела нас с ним и с
нашим крошкой Бобом! Я сижу у него на одном колене, а
малютка на другом, и он нас тетешкает. Я часто жалею,
что нас не видит сэр Джошуа или какой-нибудь другой
великий художник, он обязательно написал бы нас,—
можно ли представить себе картину чудесней, чем веселье
трех любящих душ!
Малютка наш прелестнейший в мире ребенок,—
вылитый папочка; у него режутся зубки, и все мы души в нем
не чаем. Няня говорит, что когда он подрастет, то совсем
перестанет косить и волосики у него будут не такие рыжие.
Доктор Бейтс такой добрый, такой искусный, такой
внимательный! Какое счастье, что мы всегда можем его по-
эвать! Наше бедное дитя с самого своего рождения все
время болеет, и доктору приходится навещать нас
три-четыре раза в неделю. Как мы должны быть благодарны ему
за нашего дорогого крошку! Боб чудесно перенес корь,
потом у него появилась легкая сыпь; потом он схватил
ужасный коклюш; потом заболел лихорадкой, и все время у
него болит животик, так что бедняжка кричит с утра до
ночи.
Но милый Том такая замечательная нянька,— сколько
ночей он не спал из-за нашего дорогого малютки. Ты
только представь: он часами ходит с ним по комнате в халате
и ночном колпаке и что-то напевает (хотя ему, бедняжке,
как говорится, слон на ухо наступил), а сам клюет носом,
и я хохочу до слез, глядя на него. Ох, Элиза, это такая
умора!
У нас необыкновенная няня, лучше ее не найти в
целом свете, она ирландка и обожает нашего крошку почтя
так же нежно, как его мама (хотя это, конечно,
невозможно). Она часами гуляет с ним в саду, и я, право же,
никак не могу понять, почему Томас ее не любит. Он почему-
то считает, что она пьяница и неряха. Но вообще она
ужасная грязнуля, и от нее иногда сильно пахнет
джином, это правда.
Ну и что же? От этих маленьких неурядиц семейная
жизнь только приятней. Как подумаешь, у скольких детей
вообще нет ни нянек, ни докторов, как тут не
возблагодарить судьбу за Мэри Мэлони и за доктора Бейтса,
которому мы заплатили сорок семь фунтов! Представляешь, как
103
серьезно был болен наш крошка, если ему понадобилось
столько лекарств!
Но все-таки, милая Элиза, дети требуют огромных
расходов. Вот сколько стоит нам одна наша Мэри Мэлони: во-
первых, мы платим ей десять шиллингов в неделю, потом
стакан бренди или джина за обедом, три бутылки лучшего
портера от мистера Трейла в день,— значит, в неделю
двадцать одна бутылка, а за те одиннадцать месяцев, что она
прожила у нас, получается девятьсот девяносто. Потом
сорок гиней доктору Бейтсу за лечение нашего малютки,
две гинеи за крещение, двадцать гиней ужин в честь
крещения и бал (богатый дядя Джон ужасно рассердился, что
его пригласили быть крестным отцом и ему пришлось
подарить крошке серебряный стаканчик; он даже
вычеркнул Томаса из завещания, ты только подумай! А старый
мистер Фиркин насмерть разобиделся, что его не
попросили быть крестным отцом, и теперь не разговаривает ни
с Томасом, ни со мной); двадцать гиней фланелевые
пеленки, кружева, распашонки, чепчики, подгузнички,—
детям так много всего нужно, а ведь у нас с Томасом всего
триста фунтов в год! Но Томас возлагает огромные
надежды на свою ферму.
Если бы ты только видела, в каком прелестном доме мы
живем! Он весь скрыт деревьями, и место здесь такое
тихое, что, хотя до Лондона всего тридцать миль, почта
приходит к нам всего раз в неделю. Нужно признаться, что
дороги здесь просто отвратительные; сейчас зима, и мы по
колено в снегу и грязи. И все-таки как мы счастливы,
милая Элиза! Крошка Бобби, Томас (у него, бедняжки,
ужасно разыгрался ревматизм), наш добрый друг доктор,
который приходит к нам в такую даль,— нам так хорошо и
зесело вместе, что мы не променяем нашей деревенской
тишины на все развлечения Рэниле. Прощай, милая Элиза,
малютка кричит и зовет свою маму. Тысячу раз целую
тебя!
Твоя любящая
Сьюзен Стабз».
Вот вам, пожалуйста! Дворянин балуется
фермерством, сорок пять гиней изводят на доктора, покупают
двадцать одну пинту портера в неделю. Так мои
бессердечные родители обирали меня, когда я еще лежал в
колыбели.
104
Февраль. Мороз и вьюга
Я назвал эту главу «Мороз и вьюга» отчасти потому,
что февраль и в самом деле месяц мороза и вьюг, отчасти
же из-за моих злоключений, о которых я вам сейчас
поведаю. Я часто думаю, что первые четыре или пять лет
жизни ребенка подобны январю с веселыми святками и
каникулами, но после беззаботных праздников нашего
младенчества, после елки с играми и подарками, наступает
февраль, когда мальчику нужно начинать трудиться и
самому заботиться о себе. Как хорошо я помню тот черный
день первого февраля, когда я вступил в самостоятельную
жизнь и появился в школе доктора Порки!
В школе я взял себе за правило быть осмотрительным
и бережливым и, нужно сказать, ни разу в жизни этого
правила не нарушил. Прощаясь со мной, матушка дала
мне восемнадцать пенсов (у бедняжки просто разрывалось
сердце, когда она целовала и благословляла меня); и,
кроме того, у меня еще был собственный капиталец,
накопленный за предыдущий год. Послушайте, как мне это
удалось. Если я видел, что на столе лежат, например,
щесть монет по полпенса, я брал одну монетку себе. Если
ее недосчитывались, я говорил, что это я взял, и отдавал
деньги; если же никто ничего не замечал, то я тоже
помалкивал: раз не хватился, значит, не* потерял, правда?
Так и получилось, что, кроме матушкиных восемнадцати
пенсов, у меня скопилось небольшое состояние в три
шиллинга. В школе меня звали «Мешок с медяшками» — так
много у меня было медных монеток.
Знаете, человек сообразительный сумеет приумножить
свой капитал, даже если он учится в первом классе, и мне
это удалось неплохо. Ни в каких ссорах я участия не
прижимал, не был ни первым учеником, ни последним, но
никого так не уважали, как меня. И знаете почему? У меня
всегда водились денежки. Возвращаясь в школу после
каникул, мальчишки тратили все деньги, что привезли из
дому, в первые же несколько дней, и, должен сказать, в
это время они наперебой угощали меня и пирожными, и
ячменным сахаром, так что своих денег мне не
приходилось трогать. Но вот примерно через неделю от их денег
ровным счетом ничего не оставалось, и, значит, до самого
конца полугодия нужно было перебиваться на три пенса
в неделю. Я с гордостью сообщаю вам, что почти все
ученики школы доктора Порки отдавали мне из этих трех
105
пенсов полтора,—каково, а? Если, например, Тому Хиксу
хотелось имбирного пряника, к кому, по-вашему, оп шел
просить в'долг? К Бобу Стабзу, конечно!
— Хикс,— говорил я,— я куплю тебе пряников на
полтора пенса, если в субботу ты отдашь мне три.
Он соглашался, а когда наступала суббота, частенько
мог отдать мне всего полтора пенса. Значит, оставалось
три пенса на следующую субботу. Вот что я делал
однажды целое полугодие. Я дал в долг одному мальчику (его
звали Дик Бантинг) полтора пенса, чтобы в следующую
субботу он отдал мне три. Когда настала суббота, он
вернул мне только половину долга, и не сойти мне с этого
места, если я не заставил его отдавать мне полтора пенса
каждую субботу ни много ни мало шесть месяцев подряд,
так что всего ему пришлось заплатить мне два шиллинга
и десять с половиной пенсов. Но этот Дик Бантинг
оказался отъявленным мошенником. Вот послушайте: когда
наступили каникулы, он все еще был должен мне три
пенса, хотя я проявил великодушие, соглашаясь ждать их
уплаты целых двадцать три недели. По всем правилам, он
после каникул должен был привезти мне ровно
шестнадцать шиллингов за шесть недель. Расчет тут очень прост:
дав взаймы три пенса, я через неделю получал шесть,
через две недели —- шиллинг, через три недели — два
шиллинга, через % четыре недели — четыре, через пять
недель — восемь, через шесть недель шестнадцать, и
это только справедливо, не так ли? Но когда этот подлый,
бесчестный негодяй Бантинг вернулся из дому, он
отдал мне — нет, вы только подумайте! — всего полтора
пенса.
Однако я с ним сквитался, можете не сомневаться.
Через две недели он истратил все, что дали ему родители,
и тут-то я взял его в оборот. Я заставил его не только
заплатить мне весь долг сполна, но и отдавать мне четверть
бутерброда с маслом за завтраком и четверть бутерброда
с сыром за ужином, и задолго до конца полугодия ко мне
перешли его серебряный ножичек для фруктов, компас и
щегольской жилет с серебряным шитьем, в котором я
приехал домой ужасно гордый и важный. Но это еще не все:]
в кармане жилета, кроме пятнадцати шиллингов, того
самого ножичка и медного штопора, который достался мне
от другого мальчишки, лежали три золотых гинеи.
Неплохой процент с двенадцати шиллингов, что были у меня
вначале, правда? Если бы мне еще хоть раз повезло вот
106
так же в жизни! Увы, сейчас люди стали куда скупее, чем
в те добрые старые времена.
Да, так вот, приехал я домой в своем великолепном
новом жилете; и когда я подарил штопор батюшке в знак
сыновней любви и уважения, моя дорогая матушка
разразилась потоком слез, осыпала меня поцелуями и едва
не задушила в объятиях.
— Благослови тебя бог! — всхлипывала она.—
Благослови тебя бог за то, что не забыл своего старика отца!
А где ты купил его, Боб?
— Я купил его на свои сбережения, маменька,—
отвечал я, и это была святая правда. Услышав эти слова,
матушка обернулась к отцу, сияя улыбкой, хотя по лицу ее
текли слезы, взяла его за руку, а другой рукой привлекла
меня к себе.
— Какой благородный ребенок! — сказала она.—
И ведь ему всего девять лет!
— Клянусь богом,— сказал батюшка,— он славный
парень, Сьюзен. Спасибо, сынок. Вот тебе полкроны, а
штопором твоим мы сейчас откроем бутылку самого
лучшего вина.
И он сдержал слово. Я всегда любил хорошее вино
(хотя и не держу его в своем погребе, самоотверженно
ограничивая себя во всем), а в тот вечер я впервые по-
настоящему почувствовал его вкус,— благо мои родителя,
счастливые подарком, позволили мне пить сколько душе
угодно. Однако самое приятное заключалось в том, что
мне-то штопор стоил всего три пенса,— те самые три
пенса, что один из мальчиков не сумел заплатить мне в срок.
Убедившись, что игра эта весьма выгодна, я стал
изливать на родителей свою щедрость,— нужно сказать, это
отличнейший способ воспитать у ребенка широту души и
благородство. Матушке я сначала подарил хорошенький
медный наперсток, и она дала мне полгинеи. Потом я
презентовал ей премиленький игольник,— я сделал его сам
из пикового туза от нашей колоды карт, а горничная
Салли обшила его кусочком розового шелка, который дала ей j
барыня; страницы я выкроил из куска фланели,— им мне
завязывали шею, когда у меня болело горло,— и очень
изящно обшил их кружевами. От игольника попахивало
нюхательной солью, но все равно он получился такой
красивый и привел матушку в такой восторг, что она
немедленно отправилась в город и купила мне шляпу с
золотыми галунами. Потом я купил батюшке прехорошенькую
107
фарфоровую палочку — набивать табак в трубку, но, увы,
мой дорогой родитель оказался далеко не так щедр, как
мы с матушкой. Получив подарок, он только захохотал,
а я-то рассчитывал, что он даст мне уж никак не меньше,
чем полкроны.
— На сей раз, Боб,— сказал отец,— денег ты не
получишь. И вообще, мой мальчик, не нужно больше
подарков,— право же, они обходятся слишком дорого.
Дорого, скажите на милость! Ненавижу скупость, даже
если ее проявляет родной отец.
Однако я должен рассказать вам о жилете с
серебряным шитьем, что достался мне от Бантинга. Когда я
приехал в нем домой, матушка спросила, откуда у меня такой
жилет, ия рассказал ей, ничего не утаив, что мне подарил
его один из учеников за мою к нему доброту. И что, вы
думаете, сделала матушка? Когда я возвращался после
каникул в школу, она написала доктору Порки письмо, где
благодарила его за внимание к ее ненаглядному сыночку
и просила передать от нее шиллинг славному,
благородному мальчику, который подарил мне жилет!
— Что это за жилет,— спросил доктор Порки,— и кто
его тебе подарил?
— Бантинг, сэр,— отвечал я.
— Позвать сюда Бантинга!
Привели этого неблагодарного щенка. Поверите ли, он
расплакался, сказал, что жилет ему подарила мать, но он
вынужден был отдать его в уплату долга «Мешку с
медяшками»,— этот мерзавец так и назвал меня, только
подумайте! Затем он рассказал, как за полтора пенса, взятые
у меня взаймы, принужден был выплатить мне три
шиллинга (ябеда несчастная, как будто кто-то заставлял его
занимать у меня эти полтора пенса!), как я точно так же
обирал (да, да, обирал!) других мальчиков и как, имея
всего двенадцать шиллингов, я нажил четыре гинеи...
Мне приходится призвать на помощь все свое
мужество, чтобы описать позорную сцену, которая за этим
последовала. Созвали всех учеников, извлекли из моего
шкафчика тетрадь, в которой я записывал, кто сколько мне
должен, и заставили меня вернуть им все до фартинга!
Тиран отобрал у меня и те тридцать шиллингов, что я
получил от своих дорогих родителей, и сказал, что положит
их в кружку для бедных; после чего он произнес перед
учениками пространную речь о пагубе скряжничества и
лихоимства и в заключение сказал:
108
— Снимите куртку, мистер Стабз, и верните Бантингу
жилет.
Я послушался и оказался без жилета и без куртки, а
эти мерзавцы пялили на меня глаза и ухмылялись. Хотел
надеть куртку, а он:
— Погоди! Снять с него панталоны!
О, негодяй, о, зверь! Сэм Хопкинс — он был у нас в
школе самый высокий — стащил с меня панталоны,
взвалил меня к себе на закорки, и... меня высекли! Да, сэр,
высекли! О, мщение! Меня, Роберта Стабза,
справедливейшего из смертных, зверски выпороли, когда мне было
всего десять лет от роду! Хоть февраль и самый короткий
месяц, я долго не мог его забыть.
Март. Гроза и ливень
Когда матушка узнала, как поступили с ее
ненаглядным крошкой, она решила подать в суд на директора
школы, выцарапать ему глаза (добрая душа, она не
смогла бы обидеть и мухи, если бы зло причинили ей
самой) или, по крайней мере, забрать ребенка из школы,
где его так бесстыдно опозорили. Но батюшка на сей раз
проявил твердость: поклявшись всеми святыми, что я
получил по заслугам, он заявил, что я останусь в школе, и
послал старому Порки пару фазанов за его доброту —
именно так он и написал: «доброту» ко мне. Старик
пригласил меня отведать этих фазанов, и за обедом, разрезая
дичь, произнес нелепую речь о высоких душевных
качествах моих родителей и о своем намерении впредь
проявлять по отношению ко мне еще большую доброту, если я
посмею еще раз выкинуть что-либо подобное. Итак, мне
пришлось оставить свое прежнее ремесло, ибо директор
заявил, что, если хоть один из нас попросит у кого-нибудь
из товарищей взаймы, его выпорют, а если ему придет в
голову возвращать долг, он получит розог вдвое больше.
Против такой угрозы бороться было бессмысленно, и мое
маленькое предприятие прогорело.
Нельзя сказать, чтобы я блистал в школе,—в латыни,
например, я так и не пошел дальше ненавистного
«Propria quae maribus» l, в котором никогда не мог понять ни
Что свойственно морям (лат.).
109
единого слова, хоть и по сей день помшо его наизусть;
однако благодаря моему росту, возрасту и матушкиным
хлопотам, я пользовался преимуществами, которые
предоставлялись старшим ученикам, и по праздникам мне тоже
разрешали ходить в город на прогулку. Посмотрели бы
вы, какими щеголями мы выступали! Я очень хорошо
помню свой тогдашний костюм: сюртучок цвета грома и
молнии, изящный белый жилет с вышивкой на карманах,
кружевное жабо, панталоны до колен и нарядные белые
чулки, бумажные или шелковые. Костюм был просто
картинка, однако в нем не хватало пары сапог. У трех
учеников в школе были сапоги,— как страстно мне хотелось,
чтобы у меня они были тоже!
Но когда я написал об этом батюшке, тот ответил, что
и слышать не желает ни о каких сапогах; для матушки же
три фунта (столько стоили сапоги) были слишком
большой суммой, она не могла выкроить ее из денег, которые
батюшка давал ей на хозяйственные расходы; мне их тоже
неоткуда было взять,— ведь казна моя в те времена
оскудела. Однако желание иметь сапоги было так сильно, что
я решил приобрести их любой ценой.
В те дни в нашем городке жил немец-сапожник,—
потом он переехал в Лондон и нажил там состояние. Я
поставил себе целью достать сапоги у него, не теряя
надежды разделаться через год-другой со школой,— и тогда
плакали бы его денежки,— или все-таки вытянуть деньги
у матушки и заплатить ему.
И вот в один прекрасный день отправился я к
сапожнику (звали его Штиффелькинд), и тот снял с меня
мерку.
— Вы слишком молодой человек, чтобы носить
сапоги,—- заметил немец.
— Молод я или стар, это уж не твое дело,— отрезал
я.— Не хочешь шить сапоги — не шей, но с людьми моего
звания изволь разговаривать почтительно! — И я добавил
несколько отборных ругательств, чтобы внушить ему,
какая я почтенная личность. Они возымели должное
действие.
— Бодождите, сэр,— сказал он,— у меня есть
превосходная пара, они вам будут как раз,— И моему взору
предстали самые красивые из всех сапог, которые мне
когда-либо доводилось видеть.— Они были сшиты для
достопочтенного мистера Стифни из гвардейского полка, но
оказались ему малы.
НО
— В самом деле? — воскликну^ я.— Стифни — мой
троюродный брат. А теперь скажи мне, мошенник, сколько
ты хочешь содрать с меня за эти сапоги?
— Три фунта,— отвечал он.
— Ого! Цена, конечно, бешеная, но я с тобой
сквитаюсь, потому что денежек своих ты скоро от меня не
получишь.
Башмачник заволновался и начал было:
— Сэр, я не могу отдавать вам сапоги без...
Но тут меня осенила блестящая жысль, ж я прервал
его:
— Это еще что такое? Не смей называть меня «сэр».
Давай сюда мои сапоги, и чтобы я больше не слышал, как
ты называешь аристократа «сэр», понял?
— Сто тысяч извинений, милорд,— заговорил он,—
если бы я зналь, что ваша светлость — лорд, я бы никогда
не назваль вас «сэр». Как я буду записать ваше имя
в книгу?
— Имя? Э-э... Лорд Корнуоллис, как же еще! —
сказал щ, направляясь к двери в его сапогах.
— А что делать с башмаками милорда?
— Пусть пока лежат у тебя, я за нжми пришлю.
Ш я вышел шз лавки, небрежно кивнув немцу, который
в это время завертывал мои башмаки.
* * #
Я не стал бы рассказывать вам об этом эпизоде, если
бы эти проклятые сапоги яе сыграли в моей жизни столь
роковой роли. В школу я вернулся распираемый
гордостью и без труда удовлетворил любопытство мальчишек
относительно способа приобретения моей замечательной
обновки.
Но вот как-то утром в роковой понедельник,— вот уж
поистине был черный понедельник, иначе не скажешь,—
когда мы с мальчиками играли во время перемены во
дворе, я вдруг увидел окруженного толпой учеников
человека, который, казалось, искал кого-то среди нас. Я весь
похолодел: то был Штиффелькинд. Зачем он здесь? Он
что-то громко говорил, и вид у него был сердитый. Я
бросился в класс, сжал голову руками и принялся читать,
читать изо всех сил.
— Мне нужен лорд Горнуоллис,— донесся до меня
голос этого отвратительного человека.—Я знаю, его овет-
Ш
лость ушится в этой превосходной школе, ботому что
видел его вчера вместе с малыпиками в церкви.
— Какой, какой лорд, вы сказали?
— Ну как же, лорд Горнуоллис, такой толстый
молодой дворянин, он рыжий, немножко косит и ужасно
ругается.
— У нас нет никакого лорда Корнуоллиса,— сказал
кто-то, и наступило молчание.
— Стойте, я знаю! — закричал этот негодяй Бантинг.—
Да ведь это же Стабз!
— Эй, Стабз, Стабз! — хором закричали мальчишки, но
я так усердно читал, что не слышал ни слова.
Наконец двое из старших учеников ворвались в класс,
схватили меня за руки и поволокли во двор, к
башмачнику.
— Та, это он. Я прошу у вашей светлости
прощения,—начал он,—я принес башмаки вашей светлости,
которые вы оставили у меня в лавке. Они так и лежали
завернутые с тех пор, как вы ушли в моих сапогах.
— Какие башмаки? Что ты мелешь? Я тебя первый
раз в жизни вижу,— сказал я, зная, что остается только
одно — отрицать все до конца.— Клянусь честью
дворянина! — воскликнул я, поворачиваясь к мальчишкам. Они
заколебались. Если бы мне удалось заставить их поверить
мне, все пятьдесят человек набросились бы на Штиффель-
кинда и проучили его на славу.
— Подождите!.-— вмешался Бантинг (будь он
проклят!).—Давайте взглянем, что за башмаки он принес.
Если они Стабзу впору, значит, сапожник прав.
Мало того, что башмаки оказались мне впору, на
подкладке была полностью написана моя фамилия —
Стабз!
— Как? — удивился Штиффелькинд.— Значит, он не
лорд? А мне и в голову не пришло развернуть башмаки,
так они и лежаль с тех пор.
И, все больше распаляясь в своем гневе, он обрушил на
мою голову столько полунемецких-полуанглийских
проклятий, что мальчишки чуть не лопнули со смеху. В
самый разгар веселья во двор вышел Порки и вопросил, что
означает весь этот шум.
— О, ничего особенного, сэр,— сказал один из
мальчишек,— это просто лорд Корнуоллис торгуется со своим
сапожником из-за пары сапог.
.112
— Поверьте, сэр,— залепетал я,— я просто пошутил,
назвав себя лордом Корнуоллисом.
— Ах, пошутил? Где сапоги? А вы, сэр, будьте
любезны дать мне ваш счет.
Принесли мои великолепные сапоги, и Штиффелькинд
протянул Порки счет, где значилось: «Лорд Корнуоллис
должен Сэмюелу Штиффелькинду четыре гинеи за пару
сапог».
—- У вас хватило глупости, сэр,—сказал директор,
сурово глядя на него,— поверить, что этот мальчишка —
лорд, и у. вас хватило нахальства запросить с него двойную
цену. Возьмите их обратно, сэр! Вы не получите от меня
по этому счету ни пенса. А что касается вас, сэр, жалкий
вы лгунишка и мошенник, я больше не стану сечь вас,—
я отправлю вас домой, ибо вы не достойны оставаться в
обществе честных молодых людей.
— А не макнуть ли нам его напоследок? — предложил
кто-то тоненьким голоском. Директор многозначительно
усмехнулся и ушел: мальчишки поняли, что им
разрешается исполнить то, что они замыслили. Меня схватили,
подтащили к колодцу и принялись качать на меня воду,
так что под конец я чуть не захлебнулся. А это чудовище
Штиффелькинд стоял возле колонки и глазел на меня
целые полчаса, пока экзекуция не кончилась!
Наконец доктор решил, по-видимому, что с меня
довольно, и дал звонок: мальчишкам волей-неволей
пришлось оставить меня. Когда я вылез из-под крана, рядом
не было никого, кроме Штиффелькинда.
— Ну что же, милорд,— захихикал он,— кое-что за
сапоги ви уже заплатили, но не думайте, что это все.
Клянусь небом, ви до конца жизни будете проклинать день и
час, когда пришли ко мне.
Увы, его предсказание сбылось.
Апрель. Жертва первоапрельской шутки
Вы, конечно, понимаете, что после описанного в
предыдущей главе события я оставил отвратительное
заведение доктора Порки и некоторое время жил дома.
Образование мое было завершено, по крайней мере, мы с
матушкой так считали, и годы, в которые совершается
переход от детства к отрочеству,— что, по моему мнению,
происходит на шестнадцатом году, который можно назвать
ИЗ
апрелем человеческой жизни, когда расцветает юная
весна,-— то есть с четырнадцати до семнадцати лет, я провел
в родительском доме, в полном безделье — каковое
времяпрепровождение и полюбил на всю жизнь,— боготворимый
матушкой, которая не только всегда принимала мою
сторону во всех моих разногласиях с батюшкой, но снабжала
меня карманными деньгами, самым жестоким образом
урезывая наши домашние расходы. Добрая душа! Немало
гиней перепало мне от нее в те дни, и только благодаря ей
мне удавалось всегда выглядеть щеголем.
Батюшка хотел, чтобы я поступил в обучение к какому-
нибудь купцу или начал изучать право, медицину или
богословие, но мы с матушкой считали, что я рожден
дворянином, а не лавочником и что единственное место,
достойное меня, это армия. В то время в армию шли все, потому
что началась война с Францией, и буквально в каждом
городишке формировались полки территориальных войск.
— Мы Определим его в регулярные части,— сказал
батюшка,— денег у нас покупать ему чины нет, пусть
добывает их себе в бою.— И он поглядел на меня не без
презрения, явно сомневаясь, что мне придется по душе столь
опасный путь к славе.
Слышали бы вы, какой душераздирающий вопль
вырвался из груди матушки, когда он так спокойно
заговорил о предстоящих мне битвах!
— Как, его ушлют из Англии, повезут по страшному,
глубокому морю! А вдруг корабль пойдет ко дну и он
утонет! А потом его заставят сражаться с этими ужасными
французами, и они его ранят или, может быть, даже у...
у... убьют! Ах, Томас, Томас, неужто ты хочешь погубить
свою жену и своего родного сына?
Последовала ужасная сцена, которая кончилась тем,
что матушка,— как, впрочем, и всегда,— поставила на
своем, и было решено, что я вступлю в ряды
территориальных войск. А что, в самом деле, какая разница? Мундир
у них почти такой же красивый, а опасности вдвое
меньше. За все годы пребывания в армии мне, насколько я
помню, ни разу не пришлась драться, разве что с той
наглой старухой, которая крикнула нам как-то: «Эй,
петушки, выше хвост!»
Итак, я вступил в полк Северных Бангэйцев, и
началась моя самостоятельная жизнь.
Красавцем я никогда не был, мне это прекрасно
известно, но что-то во мне, несомненно, было, потому что
114
женщины всегда смеялись, разговаривая со мной, а
мужчины, хоть и любили называть меня косоглазым
недоноском, рыжим недоумком и т. п., явно завидовали моему
успеху,— иначе зачем бы им меня так люто ненавидеть?
Даже и сейчас многие терпеть меня не могут, хотя я давно
уже перестал волочиться за прекрасным полом. Но в дни
моего апреля, году этак в 1791-м от рождества Христова,
не будучи обременен никакими обязанностями и всячески
стремясь устроить свое благополучие, я пережил немало
приключений, о которых стоит порассказать. Я, однако же,
никогда не поступал необдуманно и опрометчиво, как это
свойственно молодым людям. Не думайте, что я гнался за
красотой,— э, нет, не такой я был дурак! Не искал я и
кротости характера,— злость и строптивость меня не пугали:
я знал, что в какие-нибудь два года смогу укротить самую
сварливую ведьму. Дело в том, что мне хотелось как
можно выгоднее устроить свою судьбу. Естественно, я вовсе
не питал особой склонности ни к уродинам, ни к злобным
мегерам: если б было из чего выбирать, я, конечно,
предпочел бы, как и всякий порядочный человек, девушку
красивую и добрую и к тому же богатую.
В наших краях жили две сравнительно богатые
невесты: мисс Магдален Кратти, у которой было двенадцать
тысяч фунтов приданого (другой такой дурнушки я в
жизни своей не видывал, нужно отдать ей
справедливость), и мисс Мэри Уотерс, высокая, статная, нежная,
улыбка с ямочками, кожа как персик, волосы — настоящее
золото, но за ней давали всего десять тысяч. Мэри Уотерс
жила со своим дядей, тем самым доктором, который
помогал моему появлению на свет. Вскоре после моего
рождения ему пришлось взять на себя заботы о маленькой
сиротке-племяннице. Матушка моя, как вам уже известно,
только что не молилась на доктора Бейтса, а доктор Бейтс
готов был молиться на крошку Мэри, так что оба они в то
время буквально дневали и ночевали в нашем доме. И я,
как только научился говорить, стал называть Мэри своей
маленькой женушкой, хотя она еще и ходить-то не
умела. По словам соседей, глядеть на нас было одно
удовольствие.
И вот когда брат ее, лейтенант, плавающий на
торговом судне Ост-Индской компании, был произведен в
капитаны и по этому случаю подарил десятилетней Мэри
пять тысяч фунтов, пообещав еще ровно столько же,
доктор и мои родители принялись перешептываться с самыми
115
таинственными улыбками, и нас с Мэри стали еще чаще
оставлять вместе, причем ей было велено звать меня своим
муженьком. Она не противилась, и дело считали вполне
решенным. Просто удивительно, до чего Мэри была ко
мне привязана.
Неужто кто-нибудь посмеет после этого назвать меня
корыстолюбивым? Хотя у мисс Кратти было двенадцать
тысяч фунтов, а у Мэри всего десять,— пять тысяч в руках
и пять в небе,— я верно и преданно любил Мэри. Стоит ли
говорить, что мисс Кратти всей душой ненавидела мисс
Уотерс. Все до одного молодые люди в округе увивались
за Мэри, а у Магдален не было ни одного поклонника,
несмотря на все ее двенадцать тысяч фунтов. Однако я
неизменно оказывал ей внимание,— это никогда не вредит,—
и Мэри частенько поддразнивала меня за то, что я
любезничаю с Магдален, а иногда и плакала. Но я считал
нужным немедленно пресекать и первое и второе.
— Мэри,— говорил я,— ты ведь знаешь, моя любовь к
тебе бескорыстна: я верен тебе, хотя мисс Кратти
богаче! Зачем же ты сердишься, когда я бываю с ней любезен,
ведь мое слово и мое сердце отданы тебе!
«Не плюй в колодец» — это очень мудрая истина,
скажу я вам по секрету. «Кто знает,—думал я,—вдруг Мэри
умрет, и плакали тогда мои десять тысяч фунтов».
Поэтому я всегда был очень мил с мисс Кратти, и
труды мои не пропали даром, ибо, когда мне исполнилось
двадцать лет, а Мэри восемнадцать, пришла ужасная весть,
что капитан Уотерс, возвращавшийся в Англию со всем
своим капиталом, захвачен французскими пиратами
вместе с кораблем, деньгами и прочим имуществом, так что
вместо десяти тысяч фунтов у Мэри оказалось всего пять,
и, значит, разница между ней и мисс Кратти достигла
теперь трехсот пятидесяти фунтов годового дохода.
Известие это дошло до меня вскоре после того, как я
вступил в знаменитый ополченский полк Северных Бан-
гэйцев, которым командовал полковник Кукарекс, и
можете вообразить, каково было слышать все это офицеру
такого дорогого полка, офицеру, который к тому же должен
был блистать в свете!
«Мой любимый Роберт,— писала мне мисс Уотерс,—
ты, я знаю, будешь скорбеть о гибели моего брата, а вовсе
не о потере денег, которые этот добрый и благородный
человек обещал мне... У меня осталось пять тысяч фунтов,—
их и твоего небольшого состояния (у меня была тысяча
116
фунтов в пятипроцентных государственных бумагах) нам
довольно, чтобы стать самыми счастливыми людьми на
свете...»
Ничего себе счастье! Разве я не знал, какое жалкое
существование влачит на свои триста фунтов в год мой отец,
не имея возможности добавить к ничтожному жалованью
своего сына более ста фунтов! Не колеблясь ни минуты, я
сел в почтовую карету и поехал к нам в деревню — к мисс
Кратти, конечно. Дом ее стоял рядом с домом доктора
Бейтса, но у того мне было делать нечего.
Я нашел Магдален в саду.
— Ах, боже мой! — воскликнула она, когда я предстал
пред ней в своем новом мундире.— Вот уж никак не
ожидала... такой красивый офицер...
Она сделала вид, что краснеет, и вся задрожала. Я
подвел ее к садовой скамейке, я схватил ее за руку,— руки не
отняли. Я сжал руку и словно бы почувствовал ответное
пожатие. Я бросился на колени и произнес речь, которую
готовил все время, пока трясся на империале кареты.
— Божественная мисс Кратти! — сказал я.— Царица
души моей! Я ступил под сень этих дерев, чтобы на один
лишь миг увидеть ваш дивный облик. Я не хотел говорить
вам (не хотел, как же!) о тайной страсти, истерзавшей
мое сердце. Вы знаете о моей прежней несчастной
помолвке, но теперь все кончено, кончено навсегда! Я свободен,
но порвал я цепи лишь для того, чтобы стать вашим
рабом, верным, покорным, преданным рабом!..
И так далее, и тому подобное...
— Ах, мистер Стабз! — пролепетала она смущенно,
когда я запечатлел на ее щеке поцелуй.— Я не могу
отказать вам, но, право, я боюсь,— вы такой повеса!..
Погрузившись в сладостные мечты, мы не могли
произнести ни слова, и наше молчание продолжалось бы,
наверное, много часов подряд — так мы были счастливы,—
как вдруг у нас за спиной раздался чей-то голос:
— Не плачь, Мэри! Подлый, жалкий негодяй! Какое
счастье, что ты не связала с ним свою судьбу!
Я обернулся. Великий боже! Мэри рыдала на груди
доктора Бейтса, а этот ничтожный лекарь с величайшим
презрением глядел на нас с Магдален. Открывший мне
калитку садовник сказал им о моем приезде; сейчас он стоял
позади них и гнусно ухмылялся.
— Какая наглость! — только и крикнула, убегая, моя
гордая, сдержанная Магдален. Я пошел за ней, смерив
117
шпионов испепеляющим взглядом. Мы уединились в
маленькой гостиной, где Магдален повторила мне уверения
в своей нежнейшей любви.
Я решил, что судьба моя устроена. Увы, я был всего
лишь жертвой первоапрельской шутки!
Май. Остался с носом
Так как месяц май, по мнению поэтов и прочих
философов, предназначен природой для любовных утех, я
воспользуюсь этим случаем, чтобы познакомить вас с моими
любовными похождениями.
Молодой, веселый и обольстительный прапорщик, я
совершенно покорил сердце моей Магдален; что же касается
мисс Уотерс и ее злобного дядюшки-доктора, вы, конечно,
понимаете, что между нами все было кончено, и мисс
Уотерс даже притворялась, что радуется разрыву со мной,
хотя эта кокетка согласилась бы ослепнуть на оба глаза,
лишь бы меня вернуть. Но я и думать о ней не хотел. Отец
мой, человек весьма странных понятий, утверждал, что
я поступил как негодяй; матушка же, разумеется, была
целиком на моей стороне и доказывала, что я, как всегда,
прав. Мне дали в полку отпуск, и я стал уговаривать мою
возлюбленную Магдален сыграть свадьбу как можно
скорее,— я ведь знал и из книг, и из собственного опыта, как
переменчиво людское счастье.
К тому же моя дорогая невеста была на семнадцать лет
старше меня и здоровьем могла похвалиться не больше,
чем кротким нравом,— так мог ли я быть уверен, что
вечная тьма не раскроет ей свои объятья до того, как она
станет моей? Я убеждал ее со всем трепетом нежности, со
всем пылом страсти. И вот счастливый день назначен —
незабвенное десятое мая 1792 года,— заказано подвенечное
платье, и я, чтобы оградить свое счастье от всяких
случайностей, посылаю в нашу местную газету коротенькую
заметку:
«Свадьба в высшем обществе. Нам стало известно, что
Роберт Стабз, прапорщик полка Северных Бангэйцев, сын
Томаса Стабза, эсквайра, из Слоффемсквигла, на днях
поведет к брачному алтарю прелестную и
высокообразованную дочь Соломона Кратти, проживающего там же.
Приданое невесты, по слухам, составляет двадцать тысяч
фунтов стерлингов. «Лишь отважный достоин прекрасной».
118
* * *
— А ты известила своих родных, любовь моя? —
спросил я Магдален, отослав заметку.-— Будет ли кто-нибудь
из них на твоей свадьбе?
— Я надеюсь, приедет дядя Сэм,— отвечала мне мисс
Кратти,— это брат моей маменьки.
— А кто была твоя маменька? — поинтересовался я,
ибо почтенная родительница моей невесты давным-давно
скончалась, и я никогда не слышал, чтобы ее имя
упоминалось в доме.
Магдален покраснела и потупилась.
— Маменька была иностранка,— наконец вымолвила
она.
— Откуда родом?
— Из Германии. Она была очень молода, когда
папенька женился на ней. Маменька не из очень хорошей
семьи,— добавила мисс Кратти неуверенно.
— Какое мне дело до ее семьи, сокровище мое! —
пылко воскликнул я, покрывая нежными поцелуями
пальчики, которые как раз в это время сжимал.— Раз она
родила тебя, значит, это был ангел!
— Она была дочь сапожника.
«Немец, да еще сапожник! — подумал я.— Черт их всех
раздери, сыт я ими по горло».
На этом наш разговор закончился, но у меня от него
почему-то остался неприятный осадок.
Счастливый день приближался, приданое было почти
готово, священник прочел оглашение. Матушка испекла
пирог величиной с лохань. Всего неделя отделяла Роберта
Стабза от часа, когда он должен был стать обладателем
двенадцати тысяч фунтов в пятипроцентных бумагах, в
восхитительных, несравненных пятипроцентных бумагах
тех дней! Если бы я знал, какая буря налетит на меня,
какое разочарование уготовано человеку, который, право же,
сделал все возможное для того, чтобы приобрести
состояние!
* * *
— Ах, Роберт! — сказала Магдален, когда до
заключения нашего союза осталось два дня.— Я получила такое
доброе письмо от дяди Сэма. По твоей просьбе я написала
ему в Лондон; он пишет, что приедет завтра и что он много
о тебе слышал и хорошо знает, что ты собой представля-
119
ешь; и что везет нам необыкновенный подарок. Интересно,
что бы это могло быть?
— Он богат, обожаемый цветок моего сердца? —
спросил я.
— Семьи у него нет, а дела идут очень хорошо, и
завещать свое состояние ему некому.
— Он подарит нам не меньше тысячи фунтов, как ты
думаешь?
— А может быть, серебряный чайный сервиз?
Но это нам было гораздо менее по душе,— слишком уж
дешевый подарок для такого богача,— и в конце концов
мы утвердились в мысли, что получим от дядюшки тысячу
фунтов.
— Милый, добрый дядюшка! Он приедет
дилижансом,— сказала Магдален.— Давай пригласим в его честь
гостей.
Так мы и сделали. Собрались мои родители и
священник, который должен был обвенчать нас завтра, а старый
Кратти даже надел ради такого случая свой лучший
парик. Почтовая карета прибывала в шесть часов вечера.
Стол был накрыт, посредине возвышалась чаша с пуншем,
все сияли улыбками, ожидая прибытия нашего дорогого
лондонского дядюшки.
Пробило шесть, и против гостиницы «Зеленый Дракон»
остановился дилижанс. Слуга вытащил из него картонку,
потом вылез старый толстый джентльмен, которого я не
успел как следует разглядеть,— очень почтенный
джентльмен; мне показалось, я встречал его где-то раньше.
* * #
У двери позвонили, в коридоре затопали шаги, старик
Кратти ринулся вон из гостиной, послышался громкий
смех и восклицания: «Здравствуйте, здравствуйте!»
—потом дверь в гостиную отворилась, и Кратти провозгласил:
— Дорогие друзья, позвольте представить вам моего
шурина, мистера Штиффелькинда!
Мистера Штиффелькинда! Я задрожал с головы до ног.
Мисс Кратти поцеловала его, матушка присела,
батюшка поклонился, доктор Снортер — наш священник —
схватил его руку и самым сердечным образом пожал.
Наступил мой черед!
— Как! — воскликнул он.— Да ведь это мой юный
друг из школы токтора Порки! А это его почтенная ма-
120
тушка,— матушка с улыбкой присела,— и его почтенный
батюшка? Сэр, мадам, ви дольжен гордиться таким сыном.
А ты, племянница, если ты будешь выходить за него
замуж, ты будешь самой счастливой женщиной в мире. Вам
известно, братец Г^атти и мадам Штабе, что я шиль для
вашего сына сапоги? Ха-ха-ха!
Матушка засмеялась и сказала:
— В самом деле, сударь? Наверное, шить ему сапоги
было одно удовольствие,— ведь других таких стройных
ног не сыскать во всем графстве.
Старый Штиффелькинд оглушительно захохотал.
— О да, сударыня, на редкость стройные ноги и на
редкость дешевые сапоги! Значит, ви не зналь, что это я
шиль ему сапоги? Может, ви не зналь еще одна вещь? —
Изверг стукнул ладонью по столу, и черпак для пунша
чуть не выскочил на скатерть.— Может, ви и в самом деле
не зналь, что этот молодой человек, этот Штапс, этот
жалкий косой негодяй — не только урод, но и мошенник! Он
купиль у меня пару сапог и не заплатиль за них,— это
бы еще ничего, кто сейчас платит? — но он купиль пару
сапог и назваль себя лорд Горнуоллис. А я, турак, ему по-
вериль, и вот тебе мое слово, племянница: у меня есть
дять тысяч фунтов, но если ты выйдешь за него замуж,
то не получишь от меня ни пенса. А вот и обещанный
подарок, я сдержаль слово.
И старый негодяй извлек из картонки те самые сапоги,
которые вернул ему Порки!
* * *
Я не женился на мисс Кратти. Впрочем, я ничуть не
жалею об этом,— старая злобная уродина, я всегда это
потом говорил.
И ведь все началось из-за этих сапог, будь они трижды
прокляты, и из-за той несчастной заметки в нашей газете.
Сейчас я расскажу вам все по порядку.
Во-первых, один из органов злопыхательской,
растленной и беспринципной лондонской прессы воспринял ее как
забавную шутку и принялся изощряться по поводу
«свадьбы в высшем обществе», осыпая насмешками и
меня, и мою возлюбленную мисс Кратти.
Во-вторых, этот самый лондонский листок попался на
глаза моему смертельному врагу Бантингу, который
познакомился со старым Штиффелькиндом во время того
121
злосчастного происшествия и с тех пор постоянно шил себе
башмаки у этого выскочки-немца.
В третьих, ему понадобилось заказать себе пару
башмаков именно в это самое время, и пока гнусный старый
немчура снимал с него мерку, он ycnejf сообщить ему, что
его давний друг Стабз женится.
— На ком же? — спросил Штиффелькинд.— Готов
клясться чем угодно, бесприданницу он не возьмет.
— Еще бы,— отвечал Бантинг,— он женится на
какой-то помещичьей дочке из Слоффемсквигла, не то мисс
Кротти, не то Каротти.
— Из Шлоффемшкфигель! — завопил старый
негодяй.— Mein Gott, mein Gott! Das geht nicht! l Даю вам
слово, сэр, этому не бывать! Мисс Гратти — моя
племянница. Я сам туда поеду и не позволю ей выходить замуж
за этого негодного мошенника и вора!
Вот какими словами посмел меня назвать этот
мерзкий старикашка!
Л кии.. Веселимся по-королекскп
Где это видано, чтобы человеку так дьявольски не
повезло? И ведь так мне не везло всю жизнь: хотя никто,
наверное, не приложил столько усилий, чтобы приобрести
состояние,— все мои попытки неизменно оказывались
тщетными. И в любви, и на войне я действовал не как
другие. Невест я себе выбирал с толком, обстоятельно,
стараясь ни в чем не прогадать, но каждый раз удар
судьбы сметал все, чего мне удавалось добиться. И на службе
я был столь же осмотрителен и столь же неудачлив.
Я очень осторожно заключал пари, выгодно обменивал
лошадей и играл на бильярде, соблюдал строжайшую
экономию и — представьте себе! — не тратил из своего
жалованья ни пенса, а многим ли из тех, кто получает от
родителей всего сто фунтов в год, это удается?
Сейчас я посвящу вас в маленькую тайну. Я брал под
свое покровительство новичков: выбирал им вина и
лошадей, по утрам, когда делать больше нечего, учил их играть
на бильярде и в экарте. Я не передергивал,— упаси боже,
я скорее умру, чем стану мошенничать! — но если кому-то
хочется играть, неужто я стану отказываться?
1 Боже мойг боже мойа это не годится! (нем.)
122
В нашем полку был один молодой человек, от которого
мне перепадало не меньше трехсот фунтов в год. Звали
его Добл. Был он сын портного, но желал, чтобы все
думали, будто он — дворянин. Как легко было этого
молокососа споить, обвести вокруг пальца, запугать! Он
должен вечно благодарить судьбу, что она свела его со мной,
потому что, попадись он кому другому, быть бы ему
обобранным до последнего шиллинга.
Мы с прапорщиком Доблом были закадычные друзья.
Я объезжал для него лошадей, выбирал шампанское и
вообще делал все, что существо высшего порядка может
сделать для ничтожества,— когда у ничтожества есть
деньги. Мы были неразлучны, всюду нас видели вместе.
Даже влюбились мы в двух сестер, как и положено
молодым офицерам,— ведь эти повесы влюбляются в каждом
местечке, куда переводят их полк.
Так вот, однажды, в 1793 году (как раз когда
французы отрубили голову своему несчастному Людовику),
нам с Доблом приглянулись девицы по фамилии Брискет,
дочери мясника из того самого города, где квартировал в
то время наш полк. Они, естественно, не устояли перед
обаянием блестящих и веселых молодых людей со
шпагами на боку. Сколько приятных загородных прогулок мы
совершили с этими прелестными юными особами! Сколько
веселых часов провели с ними в ^уютном ресторанчике с
садом, сколько изящных брошей и лент подарили им
(отец посылал Доблу шестьсот фунтов в год, и деньги у
нас с ним были общие). Вообразите себе, как мы
обрадовались, получив однажды записку такого содержания:
«Дарагие капетан Стабз и Добл, девицы Брискет шлют
Вам превет и так как наш папинька наверно будит до
двенадцати ночи в Ратуши мы имеем удавольствее пре-
гласить их к чаю».
Мы, конечно, рады стараться. Ровно в шесть мы
вошли в маленькую гостиную, что окнами во двор. Мы
выпили больше чашек чая и получили больше удовольствия
от общества прелестных дам, чем это удалось бы десятку
людей заурядных. В девять часов на столе вместо
чайника появилась чаша с пуншем, а на очаге — о, милые,
чудесные девушки! — зашипели сочные, жирные
отбивные к ужину. Мясники в те времена были не то что
сейчас, и гостиная в их доме служила одновременно и кух-
123
ней,— во всяком случае, так было у Брискета, потому что
одна дверь из этой гостиной вела в лавку, а другая — во
двор, как раз против сарая, где били скот.
И вот представьте себе наш ужас, когда в эту
торжественную минуту мы вдруг слышим, как отворяется
парадная дверь, в лавке раздаются тяжелые неверные шаги
и сердитый голос хрипло кричит: «Эй, Сьюзен, Бетси!
Дайте огня!» Добл побледнел как полотно, девицы стали
краснее рака, один только я сохранил присутствие духа.
— Дверь во двор! — говорю я, а они:
— Там собака!
— Ничего, лучше собака, чем отец! — отвечаю я.
Сьюзен распахнула дверь во двор, но вдруг крикнула:
«Стойте!» — и метнулась к очагу.
— Возьмите, авось это поможет!
И что, вы думаете, она сунула нам в руки? Наши
отбивные, разрази меня гром!
Она вытолкнула нас во двор, потрепала и успокоила
пса и снова побежала в дом. Луна освещала двор и бойню,
где зловеще белели две бараньи туши; посреди двора шла
довольно глубокая канава, чтобы было куда стекать крови!
Пес молча пожирал отбивные,— наши отбивные! — в
окошечко нам было видно, как девицы мечутся по кухне,
пряча остатки ужина, как распахнулась дверь из лавки
и в комнату, шатаясь, вошел пьяный и сердитый Брискет.
И еще нам было видно, как с высокого табурета его
приветствовало, любезно кивая, перо на треуголке Добла!
Добл побелел, затрясся всем телом и без сил опустился
на колоду для разделывания туш.
Старый Брискет со всем вниманием, на которое был в
ту минуту способен, принялся изучать наглое, кокетливо
колыхающееся перо,— будь оно трижды неладно! — и
постепенно до его сознания дошло, что раз есть шляпа,
должна быть где-то поблизости и голова. Он медленно
поднялся со стула — ростом он был шести футов, а весил
добрых семь пудов,— так вот, повторяю, он медленно
поднялся на ноги, надел фартук и рукавицы и снял со стены
топор!
— Бетси,— приказал он,— открой заднюю дверь.
Бедняжки с воплем бросились на колени и стали
умолять его, обливаясь слезами, но все было тщетно.
— Откройте дверь во двор! — рявкнул он, и, услышав
его голос, громадный бульдог вскочил на ноги и зарычал
так, что я отлетел на другой конец двора. Добл не мог
124
двинуться с места, он сидел на колоде и всхлипывал, как
младенец.
Дверь отворилась, мистер Брискет вышел во двор.
— Хватай его, Зубастый! — крикнул он.— Держи
его! — И этот ужасный пес бросился прямо на меня, но я
отскочил в угол и обнажил шпагу, готовясь дорого
продать свою жизнь.
— Молодец, собачка,-— сказал Брискет,— не выпускай
его оттуда. А вы, сэр,— обратился он к Доблу,—
отвечайте, это ваша шляпа?
— Моя.— От ужаса у Добла язык едва ворочался.
— Тогда, сэр,— продолжал Брискет, икая,— я с
прискорбием... ик... должен сообщить... ик... вам, что уж раз...
ик... у меня оказалась ваша... ик... шляпа, мне нужна к
ней... ик... и голова. Печально, но ничего не поделаешь.
Так что советую вам... ик... поудобнее устроиться на этой...
ик... колоде, потому что сейчас я отрублю вашу... ик...
голову: чик и готово!
Добл бросился на колени и закричал:
— Я единственный сын, мистер Брискет! Я женюсь
на ней, сэр! Честное слово, женюсь! Подумайте о моей
матери, сэр, подумайте о моей матери!
— Ну, ну, голубчик, не надо расстраиваться,— отвечал
Брискет,—все будет хорошо. Положите голову на эту
колоду и не волнуйтесь, я ее сейчас — чик! Да, да, чик! —
совсем как у Людовика Шиш... Шош... Шашнадцатого, а
потом уж примусь за второго.
Услышав о его намерениях, я отпрыгнул назад и
издал душераздирающий вопль. Решив, что я вознамерился
бежать, Зубастый бросился на меня, норовя вцепиться
прямо в горло. Я заорал, в отчаянии взмахнул руками...
и, к моему величайшему изумлению, пес грохнулся на
землю... мертвый, пронзенный моей шпагой насквозь.
В эту минуту на Брискета набросилась целая толпа,—
одна из девушек догадалась позвать соседей,—и жизнь
Добла была спасена. Когда же все увидели убитого пса
У моих ног, мое страшное лицо и окровавленную шпагу,
то преисполнились величайшего восхищения перед моим
мужеством. «Какой отчаянный малый этот Стабз»,—
заахали они. И назавтра эти слова повторялись всеми в
нашем собрании.
Я не стал разглашать, что пес совершил
самоубийство,— кому какое дело? Не стал я распространяться и о том,
125
каким трусом оказался Добл. Наоборот, я сказал, что этот
отважный юноша дрался, как лев, так что теперь и ему
ничего не оставалось, как молчать. Из шкуры бульдога я
заказал кобуру для пистолета; ходил я с таким
независимым видом и слава храбреца так прочно утвердилась за
мной в нашем полку, что поддерживать его честь во всех
наших стычках с армейцами приходилось теперь Бобу
Стабзу. Что касается женщин, вы их знаете: они обожают
храбрость, и я, с моей блестящей репутацией, мог в то
время выбирать любую — от любви ко мне и к моему
красному мундиру умирало не меньше десятка невест с
приданым в три, четыре, а то и пять тысяч фунтов стерлинг
гов. Но я был не так глуп. Дважды я чуть было не
женился, дважды меня постигало разочарование, но я поклялся
всеми святыми, что у меня будет жена, и жена богатая.
«Жениться на богатой ничуть не труднее, чем на
бедной»^— руководствуясь в жизни этой истиной, вы никогда
не ошибетесь: ведь на одну и ту же наживку можно
поймать и форель и семгу.
Ишль. Раеправа
Даже после приключения с бульдогом мясника Доблу
не удалось прослыть храбрецом, за мной же эта слава
утвердилась прочно: Роберт Стабз считался самым
удалым забиякой среди удалых Северных Бангэйцев. И хотя
я честно признаюсь,— обстоятельства моей дальнейшей
жизни подтверждают это,— что судьба не очень-то щедро
одарила меня отвагой, человеку свойственно
заблуждаться на свой счет, так что очень скоро я и сам уверовал, что
убийство пса было величайшим подвигом и что я — герой,
с которым не сравниться ни одному солдату из
стотысячной армии его величества. Что вы хотите: у меня всегда
была душа военного, вот только жестокая сторона военной
профессии, все эти отвратительные битвы и кровь мне не
по душе.
Полк наш, в общем, храбростью не блистал,— чего
требовать от территориальных войск? — и, уж конечно, Стабз
считался отчаянным бретером. Я так грозно ругался и
вид у меня был такой свирепый, точно мне довелось
участвовать в десятках кампаний. Я был секундантом в
нескольких дуэлях, судьей во всех спорах и таким метким
стрелком, что задевать меня остерегались. Что же касает-
126
си Добла, я взял его под свое покровительство, и он так
ко мне привязался, что мы вместе ели и пили и каждый
деяь ездили верхом. Отец его не жалел денег,— пусть сын
тратит, раз попал в хорошее общество, а уж кто
сравнится в этом смысле со знаменитым Стабзом! Да, в те дни
знакомство со мной считалось честью, я слыл отважным
храбрецом, и все так продолжалось бы и по сей день, если
бы... если бы не то обстоятельство, о котором вы сейчас
узнаете.
Случилось это в роковой 1796 год, когда полк
Северных. Бангэйцев квартировал в Портсмуте,—это такой
приморский город, описывать я его не стану, да и вообще не
слышать бы мне его названия. Я, может быть, был бы
сейчас генералом или уж по меньшей мере богачом.
В те времена военных всюду встречали с
распростертыми объятиями, ж уж тем более я со своей блестящей
репутацией был всюду желанным гостем. Какие
устраивались в нашу честь обеды, какие завтраки, с какими
прелестными девушками танцевал я кадрили и контрдансы!
И хотя меня дважды постигало разочарование в любви,
как я вам уже рассказывал, сердце мое оставалось юным
и доверчивым; и, зная, что единственным выходом для
меня была женитьба на богатой, я и здесь ухаживал
напропалую. Не стану рассказывать вам о тех
очаровательных созданиях, которые привлекли мое внимание, пока я
жил в Портсмуте. Я пытал счастья не раз и не два, но,—
странное дело, я никогда не мог этого понять,— хотя дамы
зрелого возраста относились ко мне более чем
благосклонно, юные девицы неизменно меня отвергали.
Однако недаром говорится: «трус красавицу не
завоюет», поэтому я упорно шел к своей цели, и когда
познакомился с некоей мисс Клоппер, дочерью достаточно
богатого купца, поставщика военного флота, то повел с
ней дело так, что уж она-то не смогла бы мне отказать.
Брат ее, капитан армейского пехотного полка, помогал мне
как только мог,— я был для него идеалом офицера.
Поскольку капитан Клоппер оказал мне множество
услуг, я решил угостить его обедом,— это я мог себе
позволить, не поступаясь своими убеждениями, ибо Добл
жил в гостинице, а так как все счета он посылал отцу, я
не стеснялся столоваться там за его счет. Добл пригласил
к обеду своего приятеля, так что у нас получилось за
столом «каре», как говорят французы. Соседний с нашим
столик заняла компания морских офицеров.
127
Я не из тех, кто пожалеет лишнюю бутылку для себя
или для друзей, поэтому языки у нас очень скоро
развязались, и мы час от часу проникались друг к другу все
большей симпатией. Как это принято у офицеров после обеда,
все наперебой рассказывали о своих подвигах на поле
битвы и об успехах у дам. Клоппер поведал
присутствующим, что мечтает видеть меня мужем своей сестры, и
поклялся, что во всем христианском мире не найти другого
такого отличного парня, как я.
Поручик Добл подтвердил это.
— Но только пусть мисс Клоппер знает,— сказал он,—
какой Стабз сердцеед. У него было невесть сколько
liaisons *, и помолвлен он был невесть сколько раз.
— В самом деле? — воскликнул Клоппер.— Расскажи-
ка нам о своих похождениях, Стабз!
— Ну что вы,— сказал я скромно,— право, о чем тут
рассказывать. Я был влюблен, дорогой друг,— да и кто
не был? — и меня обманули,— скажи, кого не
обманывали?
Клоппер поклялся, что оторвет сестре голову, если она
когда-нибудь посмеет поступить так со мной.
— Раскажи ему о мисс Кратти,— попросил Добл.—
Ха-ха-ха, уж если кто с кем и поступил, так это он с ней,
а не она с ним, провалиться мне на этом месте!
— Нет, нет, Добл, ты преувеличиваешь. И вообще не
нужно называть имен. Дело в том, что в меня безумно
влюбилась одна девушка, и не какая-нибудь
бесприданница,— за ней давали шестьдесят тысяч фунтов, клянусь
честью. Мы уже назначили день свадьбы, как вдруг
приезжает из Лондона один ее родственник.
— И этот-то родственник расстроил свадьбу?
— Расстроил? Да, друг мой, именно расстроил, только
дело было не совсем так, как ты думаешь. Он бы глаз
своих не пожалел, да еще добавил бы десять тысяч
фунтов в придачу, только бы я женился на ней. Но я не
захотел.
— Господи, да почему же?
— Друг мой, ее дядя был сапожник. Я не мог
опозорить своего имени такой женитьбой.
— Ну еще бы,— возмутился Добл,— конечно, не мог.
А теперь расскажи им про другую, про Мэри Уотерс.
— Ах, Добл, тише, пожалуйста! Видишь, один из мо-
1 Связей (франц.).
128
рйков обернулся и слушает. Милый Клоппер, то была
всего лишь детская шутка.
— Все равно расскажи,— настаивал Клоппер,—
сестра ничего не узнает.-— И он с дьявольски хитрым видом
подмигнул мне.
— Нет, нет, Клоппер, ты ошибаешься, клянусь честью?
Боб Стабз не какой-нибудь совратитель, и вообще это
совсем не интересно. Видишь ли, у моего отца есть
небольшое поместье,— о, всего несколько сот акров,— в Слоф-
фемсквигле. Смешное название, правда? О, черт, опять
этот моряк уставился на нас! — Я в ответ тоже поглядел
на него с самым дерзким видом и продолжал громко и
небрежно: — Так вот, в этом самом Слоффемсквигле жила
одна девушка, мисс Уотерс, племянница тамошнего
лекаря, ужасного, нужно сказать, шарлатана; но мать моя
очень к ней привязалась, постоянно приглашала ее к нам
и очень баловала. Оба мы были молоды, и... и... ну, словом,
Девушка влюбилась в меня. Я вынужден был отвергнуть
ее весьма и весьма нежные порывы, и даю вам слово
дворянина, вот и вся история, о которой так шумит этот
чудак Добл.
Не успел я произнести эти слова, как почувствовал,
что кто-то схватил меня за нос, и чей-то голос загремел:
— Мистер Стабз, вы — лжец и негодяй! Вот вам, сэр,
за то, что посмели чернить имя благородной девушки!
Я кое-как повернул голову, потому что этот грубиян
стащил меня со стула, и увидел верзилу шести футов
ростом, который избивал меня, как последний мужлан,
нанося удары кулаками и сапогами и по лицу, и по ребрам,
и по тому месту, что скрыто фалдами мундира.
— Этот человек — лжец, лжец и негодяй! Сапожник
его разоблачил, и его племянница от него отказалась.
А мисс Уотерс была помолвлена с ним с детства, но он
бросил ее ради племянницы сапожника, потому что та
была богаче!
И этот гнусный мерзавец сунул мне за шиворот
визитную карточку и, ударив меня напоследок ногой пониже
спины, покинул ресторан в сопровождении своих друзей.
Добл поднял меня на ноги, вытащил из-за воротника
карточку и прочел: «Капитан Уотерс». Клоппер подал мне
стакан воды и сказал прямо в ухо:
^— Если это правда, значит, вы — презренный
негодяй, Стабз, и после дуэли с капитаном вам придется
драться со мной.— Сказал и бросился вон из залы.
У. Теккерей, т, i 129
Мне оставалось только одно. Капитана Уотерса я
известил оскорбительной запиской, что он не достоин моего
гнева. Что касается Клоппера, я не снизошел до того,
чтобь1 обратить на его угрозу внимание. Но, желая изба-
витьсй от утомительного общества этих ничтожеств, я
решил осуществить свое давнее желание совершить
небольшое путешествие. Я взял в полку отпуск и в тот же самый
нечер Отправился в путь. Представляю разочарование
этого отвратительного Уотерса, когда наутро он пришел
Ко mhG в казармы и узнал, что я уехал! Ха-ха-ха!
После этого случая я почувствовал, что военная
служба мне порядком надоела,— по крайней мере, служба в
нащем полку, где офицеры, неизвестно по каким
причинам: преисполнившиеся ко мне неприязни, аашшли, что
мне нет места в их собрании. По этому поводу полковник
Кукарекс прислал мне письмо* с которым я поступил так,
кай оно того заслуживало. Я сделал вид, что никакого
пибьма не получал, и с тех пор не разговаривал ни с од-
ний офицером полка Северных Бангэйцев.
Август» Сбоя рубашка к телу ближе
Боже, как несправедлива судьба! С тех самых пор у
меня не было ни дня удачи. Я падал все ниже и ниже,
Я мог бы сейчас гарцевать на коне и попивать вино, как
подобает дворянину, а мне пинту эля бывает не на что
купить,— хорошо, когда кто-нибудь угостит. За что, за
что обрушились на меня эти невзгоды?!
Должен сказать вам, что очень скоро после моего
приключения с мисс Клоппер и этим трусливым негодяем
Уотерсом (через день после того, как он нанес мне
оскорбление, его корабль ушел в плавание, иначе не сносить бы
ему тогда головы; в настоящее время он живет в Англии
и даже стал моим родственником, но я, конечно, с ним не
знаюсь),— так вот, вскорости после этих злоключений
произошло еще одно печальное событие, принесшее мне
еще одно тяжкое разочарование. Скончался мой горячо
любимый батюшка, не оставив нам ничего, кроме
поместья, которое стоило всего две тысячи фунтов,— а я-то
рассчитывал получить от него по меньшей мере пять
тысяч. Дом и землю он завещал мне, а матушке и сестрам
оставил, правда, две тысячи, лежавшие в известном
банкирском доме «Памп, Олдгет и К0», но через полгода по-
130
еле его кончины они разорились и в течение пяти лет
выплачивали моей дорогой матушке и сестрам по одному
шиллингу девяти пенсам за фунт, и это было все, на что
им приходилось жить.
Бедняжки были совсем неопытны в денежных делах,
и, когда пришло известие о банкротстве «Пампа, Олдгета
и К0», матушка — поверите ли? — только улыбнулась,
возвела глаза к небу и сказала, обнимая сестер:
— Слава богу, что у нас есть хоть на что жить,
дорогие мои дети! Сколько в мире людей, которым наша
нищета показалась бы богатством!
Девицы, конечно, расхныкались, бросились обнимать
ее, обнимать меня, так что я чуть не задохнулся в их
объятиях и чуть не захлебнулся в их слезах.
— Дражайшая маменька,— сказал я,— приятно
видеть, с какой твердостью вы несете свою утрату, но еще
приятнее узнать, что у вас есть средства, которые
помогут вам примириться с ней.
Понимаете, я был убежден, что у старушки
припрятаны где-нибудь в чулке сбережения, фунтов эдак с
тысячу, старушки ведь любят копить про черный день.
Она свободно могла откладывать по тридцати фунтов в
год, значит, за тридцать лет жизни с батюшкой у нее
наверняка собралось уж никак не меньше девятисот
фунтов. Но тем не менее это презренное утаивание наполнило
меня гневом,— ведь утаивались и мои деньги тоже!
Поэтому и продолжал довольно резко:
— Вы говорите, маменька, что вы богаты и что
банкротство Пампа и Олдгета вас ничуть не огорчает. Я
счастлив слышать это, сударыня, счастлив слышать, что вы
ёвжты, но я хотел бы знать, где вы прячете эти свои
деньги, вернее — деньги моего отца, сударыня, ведь своих-то
у вас никогда не было. И еще позвольте мне сказать, что,
когда я согласился содержать вас и ваших дочерей за
восемьдесят фунтов в год, я не знал, что у вас имеются иные
доходы помимо тех, о которых говорится в завещании
покойного батюшки.
Я сказал ей это потому, что мне отвратительно
низкое утаивание, а вовсе не потому, что мне было невыгодно
содержать их,— ели они все, как воробьи, и я потом
подсчитал, что из их денег у меня еще оставалось двадцать
Фунтов чистой прибыли.
Матушка и сестры глядели на меня с неописуемым
изумлением,
JL5* 131
— О чем он говорит? — спросила Люси Элизу.
— Любимый мой Роберт, о каком утаивании ты
говоришь? — повторила матушка.
— Я говорю об утаивании денег, сударыня,— сказал я
сурово.
— Ты... ты... ты в самом деле думаешь, что я утаивала
деньги этого свято-о-о-го, необыкновенного челове-е-е-
ка? — воскликнула матушка.— Роберт, Боб, любимый мой
мальчик, мое обожаемое дитя, дороже которого у меня
нет ничего на свете, особенно теперь (потоки слез), когда
нет его (то есть моего покойного родителя), нет, нет, ты не
можешь, не можешь думать, что твоя мать, которая
выносила тебя под сердцем и выкормила тебя, которая
пролила из-за тебя столько слез и готова отдать все на свет?,
только бы оградить тебя от малейший заботы,— ты не
можешь думать, что я тебя обману-у-у-ла!
И она с душераздирающим воплем упала на кушетку,
сестры бросились к ней, стали обнимать и целовать ее, и
опять полились слезы, поцелуи, нежности, только теперь
уж меня, слава богу, оставили в покое: ненавижу
сентиментальные сцены.
— Обманула, обманула! — передразнил я ее.— Зачем
те вы тогда болтали о богатстве? Отвечайте, есть у вас
деньги или нет? — Тут я добавил несколько крепких
выражений (я их здесь не привожу), потому что не помнил
бобя от ярости.
— Клянусь спасением души! — воскликнула матушка,
становясь на колени и прижимая руки к груди.— Во всем
этом жестоком мире у меня нет ни гроша!
— Так зачем же вы, сударыня, рассказываете мне
дурацкие басни о своем богатстве, когда вам прекрасно
известно, что вы и ваши дочери — нищие? Да, сударыня,
нищие!
— Мой дорогой мальчик, но разве нет у нас дома и
обстановки и ста фунтов в год? И разве нет у тебя талантов,
которые помогут нам всем пережить беду? — прошептала
миссис Стабз.
Она поднялась с колен и, силясь улыбнуться, схватила
мою руку и покрыла ее поцелуями.
— Это у вас-то есть сто фунтов в год? — воскликнул
я, пораженный столь неслыханной наглостью.— Это у
вас-то есть дом? Клянусь честью, я лично впервые слышу
об этом. Но раз это так,— продолжал я, и мои слова
пришлись ей не очень-то по вкусу,— раз у вас есть дом, так
132
вы в нем и живите. А мой собственный дом и мой
собственный доход нужны мне самому, я уж как-нибудь найду,
что с ними делать.
На это матушка ничего не ответила, но закричала так,
что ее наверняка было слышно в Йорке, упала на пол й
забилась в ужасном припадке.
После этого я не видел миссис Стабз несколько дней,
сестры же выходили к столу, но не произносили ни слова,
а потом тотчас поднимались к матери. Однажды они
вошли ко мне в кабинет с самым торжественным видом, и
старшая, Элиза, сказала:
— Роберт, мама заплатила тебе за квартиру и стол по
Михайлов день.
— Правильно,— отвечал я. Нужно сказать, я
неукоснительно требовал деньги вперед.
— Она просила сказать, Роберт, что в Михайлов день
мы... мы уедем, Роберт.
— Ага, значит, она решила переехать в свой дом,
Лиззи? Ну, что ж, отлично. Ей, наверное, нужна будет
мебель,— пускай возьмет, потому что этот дом я
собираюсь продать.
И вот так этот вопрос был разрешен*
* *. *
Утром в Михайлов день,— за эти два месяца я видел
матушку, по-моему, всего один раз: однажды я проснулся
часа в два ночи и увидел, что она рыдает у моей постели,—
так вот, приходит ко мне утром Элиза и говорит:
— Роберт, в шесть часов за нами приедут.
Раз так, я напоследок велел зажарить самого лучшего
гуся (ни до, ни после этого случая я не едал такого
славного жаркого, да еще с таким аппетитом), подать пудинг
и сварить пунш.
— За ваше здоровье, дорогие сестрицы,— сказал я,—
и за ваше, маменька, желаю всем вам счастья. И хотя вы
за весь обед не взяли в рот ни крошки, от стаканчика
пунша вы, надеюсь, не откажетесь. Ведь он из того самого
вина, что Уотерс прислал папеньке пятнадцать лет назад!
Пробило шесть часов, и к крыльцу подкатило
щегольское ладно, и правил им — не сойти мне с этого места! —
капитан Уотерс! Из ландо выпрыгнул этот старый
мошенник Бейтс, взбежал на крыльцо, и не успел я прийти в
себя от изумления, как он уже подводил матушку к
коляске. За ней выбежали сестры, наскоро пожали мне руку,
матушка влезла в коляску, и на шею ей бросилась Мэри
Уотерс, которая там, оказывается, сидела! Потом Мэри
принялась обнимать сестер, доктор, бывший у них за
выездного лакея, вскочил на козлы, и коляска покатила, а
на меня никто даже и не взглянул, как будто я пустое
место.
Представьте себе картину: матушка прижимает к
груди мисс Уотерс, сестрицы мои расселись на заднем
сиденье, капитан Уотерс правит (в жизни не видал такого
скверного кучера), я стою у ворот и насвистываю, а у
калитки плачет эта старая дура Мэри Мэлони. На
следующий день она уехала вместе с мебелью, а я — я попал
в ужасную историю, о которой расскажу вам в
следующей главе.
Сентябрь* Ободрали как липку
Денег мне батюшка не оставил, но так как я оказался
после его кончины владельцем клочка земли, я поручил
землю и усадьбу заботам аукционистов и решил немного
развеять свое одиночество где-нибудь на водах. Дом мой
стал для меня пустыней,— нужно ли говорить, как я
тосковал после отъезда дорогой моей родительницы и
милых сестер.
Итак, у меня было немного денег наличными, и за
усадьбу я надеялся выручить не меньше двух тысяч
фунтов. Внешность у меня была очень представительная —
эдакий бравый молодец-военный, потому что хоть я и
совершенно порвал с офицерами Северных Бангэйцев
(после той истории с Уотерсом полковник Кукарекс самым
дружеским образом намекнул, что в моих же интересах
подать в отставку), я тем не менее продолжал называть
себя капитаном, памятуя о преимуществах, которые дает
этот чин в городках, куда публика съезжается пить воды.
Капитан Стабз стал одним из самых модных кавалеров
Челтнема, Харроугета, Бата и Лемингтона. Я хорошо
играл в вист и на бильярде — так хорошо, что в конце
концов все стали отказываться играть со мной, видя,
насколько я превосхожу их в умении и ловкости. И вот представь-
134
те себе мое изумление, когда, прогуливаясь как-то по Хай-
стрит в Лемингтоне (случилось это лет через пять поело
той портсмутской истории), я вдруг увидел человека,
который живо напомнил мне двор некоего мясника и многое
другое,— одним словом, навстречу мне шел Добл. Он тоже
был одет en militaire l — в мундире со снурками и
сапогах со шпорами; а рядом с ним выступала нарядная, вся
унизанная кольцами и опутанная цепочками черноволосая
дама семитского вида, в зеленой шляпке с павлиньими
перьями, лиловой шали, желтом платье, розовых
шелковых чулках и голубых башмачках. За ней тянулись трое
детишек и красавец лакей. Не заметив меня, они все ео-
шли в гостиницу «Ройал».
В гостинице меня знали, и один из тамошних
официантов сообщил мне, кто они такие: спутника дамы зовут
капитан Добл, он сын богатого поставщика сукна армии
его величества («Добл, Хобл и К0», Пэл-Мэл); а сама
дама — некая миссис Манассе, вдова американского еврея
и владелица несметного состояния, скромно живущая
сейчас со своими детьми в Лемингтоне. Я, разумеется, всюду
вел себя как человек со средствами, получивший в
наследство от отца огромные деньги и тысячи акров земли,—
никогда не следует признаваться, что у тебя за душой ни
гроша. Увы, в те дни я был джентльмен с головы до пят,
и все почитали за честь пригласить меня к обеду.
На следующий день я забросил Доблу свою визитную
карточку, черкнув на ней несколько строк. Он не только
не нанес мне ответного визита, но даже не ответил на мою
записку. Однако через день я снова встретил их с вдовой
на улице. Я быстро подошел к ним, схватил его за руку
и горячо заверил, что счастлив видеть его,— так оно,
кстати, и было. К моему изумлению, Добл замялся, и
только трусость помешала ему заявить, что он не знает меня.
Но я бросил на него грозный взгляд и воскликнул:
— Как, Добл, дружище, ты забыл своего старого
Стабза и наши приключения с дочками мясника?
Добл кисло улыбнулся и промямлил:
— А, да, в самом деле — вы, кажется, капитан Стабз.
— Да, сударыня, перед вами бывший однополчанин
капитана Добла, который так много наслышан о вашей
светлости и так вами восхищен, что берет на себя смелость
просить своего друга представить его вам.
1 Как военный (франц.).
Доблу пришлось подчиниться, и капитан Стабз был по
всем правилам представлен миссис Манассе. Вдова была
сама любезность, и, когда мы стали прощаться, сказала,
что надеется видеть меня сегодня вечером у себя в
гостиной, пусть капитан Добл приведет меня,-— у нее
собирается несколько друзей.
Видите ли, в Лемингтоне все знают друг друга, я же
был известен там как офицер в отставке с семью
тысячами фунтов годового дохода, которые достались мне
после смерти отца. Добл приехал в Лемингтон после меня,
но так как он поселился в гостинице «Ройал» и стал
обедать за табльдотом, то и познакомился с вдовой раньше.
Я понимал, однако, что если позволю ему сплетничать
обо мне,— а ему было что порассказать,— прощай тогда все
удовольствия Лемингтона и все мои надежды. Поэтому я
решил пресечь его намерения в корне. Вдова вошла в
гостиницу, и мой приятель Добл вознамерился отделаться
от меня, но я остановил его и сказал:
— Мистер Добл, я прекрасно вас понял. Вы хотели
сделать вид, что не знакомы со мной, потому что я, видите
ли, не пожелал драться на дуэли в Портсмуте. Слушайте,
Добл, я не герой, но и не такой трус, как вы, и вам это
известно. Вы не Уотерс, и с вами я буду драться, имейте
это в виду.
Драться я, пожалуй, и не стал бы, но после нашей
истории с мясником я понял, что другого такого труса,
как Добл, нужно поискать, а если пригрозить человеку
хорошенько, от этого никогда еще не было никому вреда,
ведь вовсе не обязательно приводить угрозу в исполнение,
правда? Слова мои произвели на Добла должное действие,
он что-то пробормотал, покраснел и тут же поклялся, что
у него и в мыслях не было отказываться от знакомства
со мной. Так что я не только с ним подружился, но и
заставил его молчать.
Вдова очень к нему благоволила, однако сердце у нее
было вместительное: вокруг нее увивалось еще несколько
джентльменов, на которых она произвела столь же
сильное впечатление, как и на Добла.
— Поглядите на эту миссис Манассе,— обратился ко
мне за столом незнакомый джентльмен (забавно, что он
тоже был еврей).—Стара, страшна, как смертный грех, а
мужчины так и вьются вокруг нее, и все из-за денег.
— У нее есть деньги?
— Восемьдесят тысяч фунтов, сэр, да у каждого из
136
детей по двадцать тысяч, это мне доподлинно известно.
Я стряпчий, а люди моей профессии всегда точно знают,
сколько стоят наши именитые сограждане.
— А кто был мистер Манассе? — спросил я.
— Мистер Манассе был торговец табаком из Вест-
Индии, сказочно богатый, но — увы! — не знатного
происхождения, да еще и женился бог знает на ком, это между
нами. Дорогой сэр,— зашептал джентльмен,— она
постоянно влюблена. Сейчас ее предмет капитан Добл, на прошлой
неделе был кто-то другой, а через неделю им, может быть,
станете вы, если только — ха-ха-ха! — пожелаете
присоединиться к толпе ее поклонников. Что до меня, то —
слуга покорный, будь у нее хоть вдвое больше денег!
Что мне было за дело до душевных качеств женщины,
если она богата? Я знал, как нужно действовать. Я
рассказал Доблу все, о чем сообщил мне за обедом
джентльмен, и, поскольку хитрости мне было не занимать, я
представил ему вдову в таком черном свете, что бедняжка
совсем струхнул, и поле битвы осталось за мной. Ха-ха-ха,
не сойти мне с этого места, Добл поверил, что миссис
Манассе собственными руками задушила своего мужа!
Благодаря сведениям, которые я получил от моего
приятеля стряпчего, я повел игру так ловко, что не прошло
и месяца, как вдова стала оказывать мне явное
предпочтение. Я сидел рядом с ней за обедом, пил вместе с ней
воду у источника, ездил с ней верхом, танцевал с ней; и
однажды на пикнике в Кенилворте, когда было выпито
достаточно Шампанского, я попросил ее руки и сердца и
получил согйасие. Еще через месяц Роберт Стабз, эсквайр,
повел к алтарю Лию, вдову покойного 3. Манассе,
эсквайра, с острова Сент-Китс!
* * *
Мы отправились в Лондон в ее роскошном экипаже;
дети и слуги ехали следом в почтовой карете. Все расходы
Оплачивал, разумеется, я, и, пока отделывали наш особняк
fta Баркли-сквер, мы поселились в гостинице «Стивене».
* * *
Поместье мое было продано, и деньги помещены в
одном из банков Сити.
Дня через три после нашего приезда, когда мы
завтракали у себя в номере, собираясь нанести визит банкиру
137
миссис Стабз для выполнения некоторых формальностей,
необходимых при передаче состояния, нас пожелал видеть
какой-то джентльмен, в котором я с первого взгляда
определил единоверца своей супруги.
Он взглянул на миссис Стабз и поклонился.
— Не шоблаговолите ли, шударыня, заплатить по
этому маленькому счету што пятьдесят два фунта?
— Любовь моя,— сказала она,— ты ведь заплатишь?
Я совсем забыла об этом пустяке.
— Душа моя,— отвечал я,— у меня, право же, нет
сейчас при себе денег.
— Ну что ж, капитан Штапш,— произнес он,— тогда
я должен выполнить мой долг и арештовать ваш, вот
ордер. Том, вштань у двери и никого не выпушкай!
Супруга моя упала в обморок, дети ударились в рев,
я в сопровождении чиновника шерифа отправился к
ему на квартиру!
Октябрь. Размолвка Марса и Венеры
Не буду описывать чувства, обуревавшие меня, когда
я оказался в доме бейлифа на Кэрситор-стрит, вместо того
чтобы переехать в роскошный особняк на Баркли-сквер,
который должен был стать моим, ибо я стал мужем
миссис Манассе! Какая жалкая дыра, какой грязный,
мрачный переулок в нескольких шагах от Чансери-лейн! Когда
я, шатаясь от слабости, вошел с мистером Цаппом в дом,
какой-то безобразный еврейский мальчишка отворил
вторую из трех дверей и запер ее; потом он открыл третью
дверь, и я оказался в отвратительной комнате, которую
почему-то называли столовой, после чего меня провели в
убогую каморку окнами во двор и, к немалому моему
облегчению, оставили на некоторое время одного
размышлять о превратностях судьбы. Боже правый, Баркли-
сквер — и эта трущоба! Неужели я все-таки оказался в
дураках, несмотря на все мои старания, всю хитрость и
все упорство? Неужели эта миссис Манассе опутала меня
ложью, а тот жалкий негодяй, с которым я обедал за
табльдотом в Лемингтоне, помог ей заманить меня в ловушку?
Я решил послать за женой и узнать всю правду, ибо сразу
понял, что оказался жертвой дьявольского заговора и что
экипаж, особняк в Лондоне, плантации в Вест-Индии ¦—*
138
были всего лишь приманкой, на которую я так
безрассудно попался. Правда, долг был всего двести пятьдесят
фунтов, а у меня в банке лежало две тысячи. Но разве
потеря ее восьмидесяти тысяч фунтов ничего не значила?
Разве ничего не значили мои разбитые надежды? А то, что
к моей семье прибавилась жена-иудейка и трое ее
иудейских же отпрысков, будь они все прокляты? И их-то я
должен содержать на свои две тысячи фунтов! Зачем я не
остался дома с матушкой и сестрами, которых я так
искренне любил и которые давали мне восемьдесят фунтов
в год!
Я имел бурное объяснение с миссис Стабз, но, когда я
обвинил эту жалкую лгунью, эту коварную змею в
бесстыдном обмане, она закричала, что если кто кого и надул,
так это я ее. Зачем я женился на ней, когда она могла
выйти замуж за двадцать других своих поклонников?,
Она-де выбрала меня только потому, что у меня было
двадцать тысяч фунтов! Я и в самом деле говорил, что у меня
есть двадцать тысяч фунтов, но ведь знаете — на войне
и в любви все средства хороши.
Расстались мы так же злобно, как и встретились, и я
поклялся, что, как только уплачу долг, который она так
бессовестно мне навязала, я тут же заберу свои две
тысячи и уеду на какой-нибудь необитаемый остров или
хотя бы в Америку, чтобы в жизни своей не видеть больше
ни ее, ни ее еврейского выводка. Оставаться заложником
у бейлифа не имело никакого смысла (ибо я знал, что
такое приказ о дальнейшем задержании и что раз
миссис Стабз задолжала сто фунтов, она могла задолжать
и тысячу); поэтому я послал за мистером Цаппом,
вручил ему чек на сто пятьдесят фунтов плюс
причитающуюся ему плату и попросил освободить меня
немедленно.
— Вот, любезный,— сказал я,— получите эту свою
ничтожную сумму у Чайлда.
— У Чайлда или не у Чайлда,— сказал мне мистер
Цапп,— только не такой уж я младенец, чтобы выпуштить
ваш под такую бумагу.
— Ха,— возразил я,— банк Чайлда всего в минуте
ходьбы от вас, идите и получите деньги да дайте мне
расписку.
Цапп написал расписку с величайшей аккуратностью
и ушел в банк, а я приготовился навсегда оставить эту
омерзительную тюрьму.
139
Вернулся он, сияя улыбкой.
— Ну,—сказал я,—деньги вы свои получили, и
теперь я должен заявить вам, что другого такого мошенника
и вымогателя, как вы, я в жизни не встречал.
— Ну что вы, миштер Штапш,— захихикал он,— ещть
на свете куда больший мошенник, мне ш ним не тягаться.
— Как вы смеете стоять тут и нагло ухмыляться в
присутствии джентльмена! Дайте мне мою шляпу и пя&щ
и выпустите меня из этой грязной дыры!
— Ну вот что, Штапш,— Он даже мистером меня не
назвал.— Прочитайте-ка лучше это письмо.
Я разорвал конверт, и что-то выпало из него на пол —
это оказался мой чек. В письме значилось:
«Господа Чайлд и К0 имеют честь сообщить капитану
Стабзу, что вынуждены отказать в оплате подателю сего ,
чека, ибо утром сего дня ими было получено требование j
от Соломонсона и К0 о наложении ареста на имущеётвб I
капитана Стабза, вследствие чего находящийся у нас
вклад в сумме 2000 фунтов 11 шиллингов и 6 пенсов дод*}
жен быть задержан до разрешения дела, возбужденщ>го .
господами Соломонсон и К0 против капитана Стабза.
Примите и пр.
Флит-стрит».
— Понимаете, Штапш,— сказал мистер Цапп, когда я
прочел это ужасное письмо,— было два долга —
маленький и большой. Ваш арештовали жа маленький, а ваш
вклад в банке жа большой.
Не смейтесь надо мной. Если бы вы видели, какие
слезы льются на строки, что я пишу, если бы вы знали,
как близок я был к помешательству те несколько недель,
что меня держали в Флитской тюрьме, куда я попал вме^
сто необитаемого острова! Чем я заслужил такую кару?
Уж я ли не помнил прежде всего о выгоде, не то что иные
молодые люди, я ли не экономил, я ли не берег каждый
шиллинг, каждый пенс! Могу не кривя душой поклясться,
что никогда, благодарение всевышнему, этим не
пренебрегал. Так за что же, за что я так наказан?
Но позвольте мне досказать вам эту злосчастную
историю. Семь месяцев я провел в этом роковом месте.
Супруга моя навестила меня раза два, а потом и думать
забыла обо мне. Я писал дорогой моей матушке, умоляя
продать обстановку, но ответа не получил. Все мои старые
140
друзья от меня отвернулись. Я проиграл процесс, ибо мне
не на что было даже нанять адвоката. Соломонсон
потребовал уплаты долга моей жены и удержал две тысячи
фунтов, которые у меня были. Чтобы отделаться от
остальной части долга, мне пришлось пройти через суд по делам
о несостоятельности. Меня признали несостоятельным
должником, и из суда я вышел нищим. Но вы только
вообразите: этот злобный, коварный негодяй Штиффелькинд
явился в суд в качестве моего кредитора и потребовал
уплаты трех фунтов плюс накопившийся за пятнадцать
лет интерес из пяти процентов за пару сапог! Старый
мошенник предъявил суду эти самые сапоги и рассказал всю
историю, не позабыв ни лорда Корнуоллиса, ни сцены
разоблачения, ни моего купания под водокачкой.
Судья Дьюбобвиг стал изощряться в остроумии по
этому поводу.
— Так вы говорите, доктор Порки не пожелал
заплатить вам за сапоги, а, мистер Штиффелькинд?
— Та, сэр, когда я обратился к нему, он сказаль, что
сапоги были заказаны маленьким малыником и что мне
нушно было говорить с его директором.
— Как, значит, сапожник остался без сапог?
Смех.
— Как без сапог, что ви, сэр, я принес их сюда. Разве
я иначе мог бы показать их вам?
Снова смех.
— И вы так их и не продали, мистер Пиффелькинд?
— Как я мог продать сапоги! Я поклялся, что никогда
не продам их и отомщу этому Штапсу!
—¦ Значит, время так и не залечило ваши раны,
нанесенные сапогами, да?
—- Что-то мне не понятен ваш разговор о сапожнике
без сапог, продаже и ранах. Я исполняль все, в чем
поклялся, слышите, я разоблачиль его в школе, я расстроил его
свадьбу и лишиль его двадцать тысяч фунтов, а сейчас
я показаль против него. Все это сделаль я, и скажите кто-
нибудь, что я не отомстиль ему.
И старый негодяй пошел на свое место под смешки
безжалостно разглядывающей меня публики,— как будто
на меня и без того не свалилось довольно несчастий.
— Бьюсь об заклад, это самая дорогая пара сапог
в вашей жизни,— хитро заметил судья Дьюбобвиг и
стал расспрашивать меня о моих дальнейших
злоключениях.
141
Доведенный до отчаяния, я поведал ему обо всем: и
как стряпчий мистер Соломонсон представил меня богатой
вдове миссис Манассе, у которой было пятьдесят тысяч
фунтов и плантация в Вест-Индии, и как я женился, и как
меня арестовали через два дня по приезде в Лондон, и как
этот же самый Соломонсон подал на меня в суд за долги
моей жены, требуя уплаты двух тысяч фунтов.
— Стойте! — прервал меня один из судейских.— Эта
миссис Манассе —¦ крикливо одетая брюнетка без одного
глаза? У нее трое детей, и она частенько бывает под
хмельком, да? А Соломонсон такой маленький, рыжий?
— Да, да,— отвечал я со слезами на глазах.
— За последние два года эта женщина вышла замуж
три раза, один раз в Ирландии, один в Бате. Ее законный
муж — некий Соломонсон, и десять дней назад они
отплыли в Америку.
; — Но зачем вы отдали им свои две тысячи фунтов? —
спросил меня тот же судейский.
—- Сэр, но ведь на них наложили арест!
— Ну что ж, мы освобождаем вас. Вам не повезло,
мистер Стабз, но только, похоже, охотник попался в
собственные силки.
— Нет,— возразил мистер Дьюбобвиг,— просто
птичка-то оказалась удавом.
Ноябрь. Красный мундир
Из суда я вышел свободным человеком, но нищим. Да,
сэр, я, капитан Стабз из доблестного полка Северных Бан-
гэйцев, оказался на улице, без куска хлеба, без крова над
головой.
Я уныло брел по Португал-стрит, как вдруг чья-то
рука легла мне на плечо и знакомый голос произнес:
— Ну что, мистер Штапс, сдержаль я слово? Я ведь
сказал, что сапоги вас погубят.
Я был так подавлен, что промолчал и только поднял
глаза к крыше дома напротив, ничего не видя от слез.
— Как? Вы плачете, как грудной младенец? Й вы
хотели жениться — ха-ха-ха! — обязательно на богатой
невесте! Но вы попались к этой невесте, как канарейка к
вороне. Ощипаль она вас, а? Ха-ха-ха!
— Ах, мистер Штиффелькинд,— наконец вымолви^
я,— не смейтесь над моей бедой. Эта женщина не оста*
142
©ила мне ни пенса, и теперь меня ждет голодная смерть.
Да, да, голодная смерть!
И я разразился душераздирающим плачем.
— Вас ждет голодная смерть? Чепуха! Вы умрете не
от голода, вас будут повесить, ха-ха-ха! Это куда легче,
вот увидите!
Ничего не отвечая, я рыдал так, что на нас стали
оглядываться прохожие.
— Ну, ну,— сказал Штиффелькинд,— не плачьте,
капитан Штапс, не к лицу для офицера плакать, ха-ха-ха!
Идите со мной, я буду кормить вас и обедом и завтраком
и не возьму с вас ни пенса, пока ви сам не начнете
зарабатывать деньги.
И этот старый чудак, который так жестоко
преследовал меня в дни удачи, пожалел меня в моем горе и отвел
к себе домой, как и обещал.
— Я прочел ваше имя в списке банкротов и поклялся,
чзт ви будете жалеть о сапогах. Теперь уж дело сделано,
не будем вспоминать прошлого. Эй, Бетти, Бетхен,
постели еще одну постель и положи еще одну вилку и нож,
со мной будет обедать лорд Горнуоллис!
Я прожил у этого нелепого старика полтора месяца,
вел его книги и вообще делал, что умел,— например,
разносил сапоги и башмаки заказчикам, как будто никогда и
не был офицером полка его величества. Денег мне Штиф-
<|@д&1Щ]ЗД не платил, но кров и еду предоставил. Мастера
и подмастерья дразнили меня генералом и лордом
Корнуоллисом, а старый Штиффелькинд не уставал
придумывать все новые прозвища.
В один прекрасный — вернее, в один злосчастный —•
день, когда я наводил блеск на изделие мистера Штиф-
фелькинда, в лавку вошел он сам под руку с какой-то
дамой.
— Где капитан Штапс? — вопросил он.— Где цвет и
гордость армии его величества?
Я как чистил башмак, так и вышел с ним в руках из-за
перегородки.
— Гляди, тушенька,— сказал он, обращаясь к даме,-—
вот твой старый приятель, его светлость лорд Горнуоллис!
Кто бы мог подумать, что его высокородная светлость
станет чистильщиком сапог? Капитан Штапс, вот ваш
бывший предмет, моя дорогая племянница мисс Гратти. И как
ты только могла, Магдален, оставить такого блестящего
143
кавалера? Подайте ей руку, капитан. Она испачкана в
ваксе? Ничего!
Но мисс отскочила от меня как ужаленная.
— Я никогда в жизни не подам руки чистильщику
сапог! — фыркнула она.
— Не бойся, туша моя, его руки не испачкают тебя,
Ведь его только что «обелили» в суде, разве ты не слы*
шала?
— Ах, дядюшка,— сказала она,— зачем вы принуж*
даете меня оставаться в обществе таких низких людей?
— Низких? Потому что чистит башмаки? Бьюсь,
капитан предпочитает сапоги, а не башмаки, ха-ха-ха!
— Хорош капитан, нечего сказать! — Мисс Кратти
вздернула голову и пошла прочь.— Капитан, которого
можно безнаказанно хватать за нос!
Скажите, ну при чем тут я? Разве я хотел, чтобы этот
мерзавец Уотерс так обошелся со мной? Я ли не доказал
ему, как отвратительны мне всякие ссоры, отказавшись
принять его вызов? Но такова жизнь. И подмастерья
Штиффелькинда продолжали дразнить и мучить меня,
доводя чуть не до сумасшествия.
Однажды вечером Штиффелькинд пришел домой
веселый и ехидный как никогда.
— Капитан,— объявил он,— у меня есть для вас
хорошая новость: хорошее место. Вашей светлости не можно
будет иметь свой выезд, но ви будете устроены и будете
служить его величеству.
— Служить его величеству? — переспросил я.—
Дражайший мистер Штиффелькинд, неужели вы нашли мне
место чиновника на государственной службе?
— Что там чиновник, ви будете не только служить, ви
будете носить мундир, капитан Штапс, та, та: красный
мундир.
— Красный мундир! Уж не думаете ли вы, что я
унижусь до рядового солдата? Я — дворянин, мистер
Штиффелькинд, и я ни за что в жизни...
— Та, та, ви ни за что в жизни... я знаю: ви слишком
трус, чтобы быть зольдат. Нет, ви будете носить красный
мундир, и перед вами будут раскрывать все двери,
понимаете? Ха-ха-ха!
— Все двери, мистер Штиффелькинд?
— Та, надо только стучать, ха-ха-ха! Я бил у вашего
старого приятеля Бантинга, его дядя работает в почтовом
ведомстве, и он устроил вам место, мошенник ви эдакий,—
144
восемнадцать шиллингов в неделю и красный мундир.
Только письма читать никак не можно, запомните это.
И вот я, Роберт Стабз, эсквайр, унизился до того, что
стал служить обыкновенным почтальоном!
* * *
Мерзкие шутки Штиффелькинда сделались мне до
того отвратительны,— он в последнее время окончательно
распоясался,— что, как только я получил место, я съехал
от него и больше к нему не заглядывал, потому что хотя
он и оказал мне услугу, спасши от голодной смерти, но
вел себя при этом крайне низменно и нагло и уж
окончательно выявил всю мелкую злобность своей натуры,
заставив меня принять должность почтальона. Однако что мне
было делать? Я покорился судьбе, и целых три года Роберт
Стабз, капитан Северных Бангэйцев, служил на почте...
Странно, что никто не узнавал меня. Первый год я
жил в неослабном страхе, но постепенно свыкся со своим
положением, как это свойственно великим людям, и стал
носить свой красный мундир так просто и естественно, как
будто родился на свет единственно для того, чтобы
доставлять людям письма.
Около трех лет я работал в районе Уайтчепел, потом
меня перевели на Джермин-стрит и Дьюк-стрит; там
много домов, где сдают внаймы комнаты. В один дом на
Дьюк-стрит я принес, наверное, не меньше сотни писем,
а там жили люди, которые сразу узнали бы меня, стоило
им взглянуть на меня хоть раз.
Видите ли, когда я покинул Слоффемсквигл и
предался удовольствиям светской жизни, матушка прислала мне
штук десять писем, но я ей не отвечал, прекрасно зная,
что она просит денег,— тем более что я вообще терпеть
не могу писать письма. Убедившись, что из меня ничего
не вытянешь, она оставила меня в покое, однако, попав
во Флитскую тюрьму, я, как уже упоминалось, писал
дорогой своей матушке много раз и был немало уязвлен ее
черствостью, ибо, ведь именно попав в беду, мы более
всего нуждаемся в участии ближних.
Стабз — не такая уж редкая фамилия, так что,
прочитав «Миссис Стабз» на ярко начищенной медной
дощечке у двери одного из домов на Дьюк-стрит, куда я часто
носил письма, я и не подумал разузнать, кто такая эта
миссис Стабз и не доводится ли она мне родственницей.
145
Однажды у молоденькой служанки, которая вышла
взять почту, не оказалось мелочи, и она позвала хозяйку.
Из гостиной вышла старушка в чепце с лентами, надела
очки, прочла адрес на конверте, поискала в кармане
монетку и извинилась перед почтальоном за то, что
задерживает его.
— Ничего, сударыня,— сказал я,— не извольте
беспокоиться.
Старушка вздрогнула, сорвала с носа очки и
зашаталась, забормотала что-то, потом громко вскрикнула и
бросилась мне на шею, рыдая:
— Мой мальчик, дорогой мой мальчик!
— Как, матушка,— говорю я,— так это вы?
Я сел на диванчик в передней и предоставил ей
возможность целовать меня, сколько ей нравится. Услыхав
крики и рыданья, на лестницу выбежала женщина — моя
сестра Элиза, собрались жильцы. Горничная приносила
то стакан воды, то еще что-то, а я был предметом
всеобщего внимания. Но задерживаться у них мне было нельзя:
нужно было разносить письма. Однако вечером, после
работы я вернулся к матери и сестре, и тут-то, за бутылкой
доброго старого вина и блюдом чудесной тушеной
баранины с репой, я наконец расположился со всеми
удобствами.
Декабрь. «Зима междоусобий наших»
Матушка, оказывается, держала пансион в доме на
Дыок-стрит вот уже больше двух лет. Я узнал
кое-какие столы и стулья из дорогого моему сердцу Слоффемск-
вигла, а также чашу, в которой велел сварить тот
знаменитый пунш в день отъезда матушки и сестер,— правда,
они его и не пригубили, так что допивать пришлось
мне самому уже после их отъезда, но это к делу не
относится.
Вы только подумайте, до чего повезло моей сестре
Люси! Этот Уотерс влюбился в нее, и она вышла за него
замуж, у нее теперь дом полная чаша недалеко от Слоф-
фемсквигла и собственный выезд. Я предложил Уотерсу
забыть прошлое, но он оказался ужасно злопамятным и
до сих пор не желает со мной знаться. К тому же он имел
наглость объявить, что прочитал все до одного письма,
которые я послал матушке, и так как все они содержали
146
просьбы о деньгах, то он их одно за другим сжег и не
сказал матушке ни слова. Уотерс давал матушке пятьдесят
фунтов в год, и не будь она такой разиней, то могла бы
получать от него в три раза больше; но старуха была,
видите ли, слишком щепетильна и не желала брать больше,
чем ей нужно, даже от родной дочери. Она и от этих-то
пятидесяти фунтов намеревалась отказаться; но когда я
переехал к ним, мне, естественно, понадобились не только
стол и квартира, но и карманные деньги, так что я забрал
эти пятьдесят фунтов себе,— мало, конечно, но все-таки
хоть какие-то деньги.
Старик Бейтс и капитан Уотерс дали матушке сто
фунтов, когда она от меня уехала,— везет же человеку, черт
подери, не то что мне! — и так как она сказала, что
хочет сама зарабатывать себе на жизнь, то было решено
снять дом и пускать жильцов, что она и сделала. Второй и
третий этажи давали нам в среднем четыре гинеи в
неделю, а первый этаж и мансарда еще сорок фунтов в год.
"Раньше матушка с Элизой жили в верхней комнатке, что
окнами на улицу, но потом ее занял я, а они переселились
в клетушку для прислуги. Лиззи была рукодельница и
зарабатывала шитьем еще около гинеи в неделю, и после
уплаты за дом у нас оставалось на хозяйство почти двести
фунтов в год, так что дела наши, как видите, шли неплохо.
Женщины к тому же ничего не едят: мои так могли по
неделям жить без мяса,— бифштекс или отбивную
подавали только мне.
Матушка и слышать не хотела, чтобы я продолжал
работать почтальоном. Она заявила, что ее ненаглядный
Роберт, сын ее любимого Томаса, ее храбрый солдат, и так
далее, и так далее, не должен трудиться: он должен быть
джентльменом,— я, разумеется, им и был, хотя на
пятьдесят фунтов в год не очень-то развернешься, ведь нужно
еще и одеваться, как подобает джентльмену. Рубашки и
прочее белье мне, конечно, дарила матушка, на них мне
не приходилось тратиться из своих пятидесяти фунтов.
Сначала она было заупрямилась немножко, хотела, чтобы
я платил за стирку, но потом, конечно, все уладилось,—
ведь я же был ее обожаемый Боб, понимаете, ради меня
Она пожертвовала бы всем на свете. Представьте, она
однажды изрезала роскошную черную атласную шаль,
которую ей подарила моя сестрица миссис Уотерс, и сшила
мне из нее жилет и два галстука. Старушенция была сама
доброта!
147
Я прожил так лет пять, довольствуясь пятьюдесятью
фунтами в год (может, я и сделал в то время некоторые
сбережения, но не об этом сейчас разговор). Все эти годы
я вел себя как самый любящий и преданный сын и уезжал
из дому только раз в год летом, проводя месяц в Грейв-
зенде или в Маргете,— поездка туда всей семьей стоила
бы слишком дорого, а мне одному, холостяку, была вполне
по карману. Я считал себя холостяком, потому что сам не
знал, женат я или нет: об этой хитрой змее миссис Стабз
я так больше и не слышал.
Я никогда не заходил в трактир днем, потому что
обедать не дома мне было не по карману,— попробуйте-ка
пожить на нищенские пятьдесят фунтов в год! Однако
посидеть там вечерок я любил и частенько являлся домой в
весьма веселом настроении. Спал я до одиннадцати утра,
потом завтракал, читал газету, потом шел прогуляться в
Хайд-парк или в Сент-Джеймс-парк, в половине
четвертого приходил домой к обеду, и тут-то я заряжался
приятным настроением на весь остаток дня. Матушка была
совершенно счастлива, и я жил у них с сестрой без всяких
угрызений совести.
* * *
Если бы вы только знали, как матушка любила меня!
Будучи человеком общительным и гостеприимным, я
нередко приглашал к себе своих добрых друзей, и мы
веселились с ними всю ночь напролет.
— Ничего, друзья,— говорил я,— не жалейте вина,
матушка заплатит!
И она, разумеется, платила, а мы, разумеется,
отдавали должное ее запасам. Добрая старушка прислуживала
нам за столом, как будто была моей служанкой, а не
матерью и не благородной дамой. Никогда она не роптала,
хотя я, признаюсь, давал ей множество поводов (она,
например, не ложилась до четырех утра, потому что не могла
заснуть, пока не уложит в постель своего дорогого Боба),
и жизнь она вела полную треволнений. Старушка была
так мягкосердечна, что за все пять лет рассердилась всего
два раза, да и то не на меня, а на сестру Элизу, когда та
сказала, что я их разоряю и выживаю жильцов одного за
другим. Но матушка и слушать не захотела эту злобную
завистницу. Ее дорогой Боб, сказала она, всегда прав.
Наконец Лиззи сдалась и переселилась к Уотерсам. Я был
148
очень этим доволен, потому что характер у нее стал
совершенно несносный, и мы с ней с утра до ночи бранились.
Вот когда наступило веселое времечко! Но в конце
концов матушке пришлось отказаться от пансиона, потому
что после отъезда сестры дела почему-то стали идти все
хуже и хуже,— злые языки болтали, будто все это из-за
меня, я-де выжил из дому всех жильцов своим куреньем,
пьянством и скандалами, а матушка-де давала мне
слишком много денег,— ну, давала, ну и что с того? Не
отказываться же мне, раз предлагают! И зачем только я все их
истратил?
Но что теперь говорить! Я думал, фирма наша так и
будет существовать до скончания века, но через два года —
хлоп! —все рухнуло, лавочка закрылась, все пошло с
молотка. Матушка переселилась к Уотерсам, и — вы только
подумайте! — эти неблагодарные твари не пускают меня
к себе на порог. А все эта Мэри,— так я ее, видите ли,
разобидел, когда не пожелал на ней жениться! Двадцать
фунтов в год они мне дают, это правда, но что значат эти
гроши для джентльмена? Двадцать лет я, как и подобает
мужчине, честным путем добывал себе средства к
существованию и за это время повидал немало. Я продавал на
улице сигары и носовые платки; был бильярдным
маркером; в год паники состоял в правлении фирмы
«Имперской британской компании» по сушке и катке белья,
работал в театре — два года актером и около месяца, когда
пришлось совсем туго, таскал декорации; поставлял
королевской полиции чрезвычайно ценные сведения о
трактирщиках, торгующих спиртными напитками, о
ростовщиках и ссудных лавках. Я даже снова служил его
величеству — в должности подручного у чиновника мидл-
секского шерифа, только уж это было мое последнее
место.
В последний день 1837 года и этой работе пришел
конец. Редко случается, чтобы джентльмена выгнали из дома
бейлифа, но мне пришлось пережить и это унижение.
Цапп-младший, продолжавший дело своего папаши, с
позором выставил меня за дверь, потому что я взял с какого-
то господина семь шиллингов и шесть пенсов за стакан
эля и кусок хлеба с сыром, а полагалось за них шерть
шиллингов. Этот подлый скряга вычел восемнадцать
пенсов из моего жалованья и, когда я стал справедливо
возмущаться, вытолкал меня в шею,— меня, дворянина, да
еще несчастного сироту!
149
Как я бушевал и неистовствовал, оказавшись на улице!
А этот мерзкий иудей стоял у двойной двери и корчился
под градом моих проклятий. Уж и отомстил я ему! Из всех
окон его дома из-за решеток высунулись головы, все
смеялись над ним. Вокруг меня собралась толпа зевак. Я
костерил подлеца, а они явно наслаждались его позором.
Я думаю, они избили бы его камнями до смерти
(представляете, несколько пущенных ими снарядов задели меня),
но тут появился полисмен. Какой-то господин спросил его,
что означает весь этот шум, и тот сказал:
Да ничего особенного, сэр, это лорд Корнуоллис!
а мне крикнул: —- Проваливай отсюда, Сапог! — ибо мои
злоключения, равно как и события моей юности, хорошо
известны в округе.
Толпа начала расходиться.
Почему полисмен назвал вас лордом
Корнуоллисом, и Сапогом? — обратился ко мне тот с^мый
джентльмен: он, видно, заинтересовался и пошел з| мной.
Увы, сэр,— отвечал я,— перед вами несчастный
офицер полка Северных Бангэйцев. За пинту эля я охотно
расскажу вам о всех моих невзгодах.
Джентльмен велел мне следовать за ним,— он жил в
Темпле, снимал в одном из домов квартирку на пятом
этаже,— и в самом деле угостил меня элем. Я рассказал
ему историю, которую вы сейчас читаете. Он, оказывается,
был сочинитель, и мои приключения продал издателям.
Чудак! Он говорит, из них можно извлечь мораль.
* * *
Только разрази меня гром, если я понимаю, какую
из них можно извлечь мораль. Я, при моих достоинствах,
заслуживал куда более счастливой доли. И что же?
Лишенный крова, без единого друга во всем мире, я
прозябаю на нищенскую подачку в двадцать фунтов в год,— да,
двадцать фунтов и ни пенса больше, клянусь честью.
Дневник
Январь* Нечаянная весть
ервого января 1838 года мне принадлежали:
уютная парикмахерская по соседству с
Оксфордским рынком; супруга, миссис Кокс;
дело — по части бритья-стрижки, основанное
тридцать три года тому назад; дочь
восемнадцати и сын тринадцати лет; дом с фасадом
о
и три окна во втором и третьем этаже; молодой ученик,
нынешний мой компаньон, мистер Орландо Крамп и,
наконец, прославленное снадобье для волос, кое изготовил
• *
мой покойный дядюшка, под названием «Коксов
Богемский Бальзам из Токая» — горшочки по два шиллинга и
три пенса и по три шиллинга и девять пенсов. Бальзам,
дом и многолетнее парикмахерское дело приносили мне
недурной доход. Дочку свою Джемайму Энн я обучал в
Хэкни, мой дорогой сынок Таггеридж наловчился
преотлично плести косы, супруга моя за прилавком (позади
s • -:*-¦¦'
подноса с патентованным мылом и прочим) выглядела
просто загляденье, а сам я лелеял мечту, что Орландо и
Ною девочку, которые уж очень друг по другу вздыхали,
Когда-нибудь свяжут в узел Генимея и совместно с моим
€ыном Тагом все они поведут вперед дело стрижки-бритья,
Когда родитель их либо помрет, либо заделается
джентльменом. А что я должен стать джентльменом, это мы с
миссис Кокс порешили неколебимо.
К вашему сведению, моя Джемайма — урожденная
леди и имеет связь с самыми что ни на есть высшими
сферами, хотя лично ее семейство постигли житейские
невзгоды и оно захирело. Ее папаша, мистер Таггеридж,
держал всем известную лавку, в которой торговал требухой,
неподалеку от харчевни «Табак и Воробей», что на Уайт-
чепел-роуд. Оттуда-то я и взял Джемми в жены. Уж очень
мне нравились кушанья из требухи, особливо когда милая
крошка сама мне их подавала.
151
У отца Джемаймы дела шли худо, и я взял ее, могу
с гордостью заверить, без единого шиллинга приданого.
Мои руки, мой дом, мой «Богемский бальзам» — вот, что
должно было дать ей обеспечение. Кроме того, мы
уповали на ее дядюшку, баснословного богача, который,
покинув родину юнгой шестьдесят лет тому назад, стал
главой могущественного торгового дома в Индии и, по слухам,
нажил миллионы.
Спустя три года после рождения Джемаймы Энн
(и два года после кончины моего дорогого тестя), Тагге-
ридж, глава могущественного торгового дома «Бадгуроу
и К0», удалился от дел, передал свои акции сыну,
мистеру Джону Таггериджу, и вернулся на родину, где и
зажил припеваючи в особняке на Портленд-Плейс и в
загородном имении Таггериджвшш, что в графстве Саррей.
Вскорости моя супруга взяла за руку дочку и, как бы по
родственному долгу, отправилась навестить дядюшку. Но
. ' В Ш
то ли он оказался надменным брюзгой, то ли племянница
не придержала язык (моя душенька, к вашему сведению,
ни перед кем не отступит), а только они напрочь
рассорились. И с того дня до самой смерти он ни разу не
пожелал ее видеть. Единственное, чем он соблаговолил
подсобить нам, было разрешение поставлять ему в течение
года несколько дюжин бутылей с лавандовой водой, а
также стричь и брить его слуг. Все соседи потешались над
этаким плачевным крушением наших надежд, ибо Джем-
ми частенько перед ними хвасталась, но мы пропускали
издевки мимо ушей,— клиенты были выгодные, и мы с
радостью обслуживали камердинера, мистера Хока, кучера,
мистера Бара, и экономку миссис Бредбаскет. К тому же
по праздникам я пудрил парик выездного лакея, а что до
самого старика Таггериджа, то я, можно сказать, так его
и не видел, если не считать того раза, когда он фыркнул
на меня: «А, брадобрей!» — сморщил нос и прошествовал
мимо.
В один прекрасный день, памятный январский день
прошлого года, вся наша улица была до крайности взбу-
*> _ U
доражена появлением не менее трех экипажей у дверей
моей парикмахерской.
Как раз когда я, Джемми, моя дочь. Таг и Орландо
сидели за столом в гостиной, что позади лавки (по случаю
Рождества мистер Крамп угощал обеих дам портвейном
и обмолвился насчет веточки омелы, после чего моя
малютка Джемайма Энн стала пунцовой, как рюмка глинт-
152
вейна,) — так вот, значится, только мы распили бутылку
портвейна, вдруг Таг кричит:
— Смотри-ка, па, экономка дядюшки Таггериджа
прикатила в кебе!
И правда, она самая, миссис Бредбаскет, в глубоком
трауре, сильно опечаленная, раскланиваясь, проследовала
через лавку к нам в гостиную. Моя супруга, почитавшая
миссис Бредбаскет больше всех на свете, подставила ей
стул, предложила рюмочку вина и поблагодарила за
любезный визит.
— Полноте, сударыня,—отвечала миссис
Бредбаскет,— Да я вашему семейству чем угодно услужу ради
милого несчастного Та-та-та-га-га-гериджа, упокой
господь его душу.
— Что?! — воскликнула моя жена.
— Как? Он скончался? — вскричала Джемайма Энн и
залилась слезами, как водится у маленьких девчушек по
любому поводу и без оного. Орландо тотчас пригорюнился,
будто вот-вот тоже пустит слезу.
— Увы, скон...
И только экономка застряла на этом «скон», как Таг
опять орет:
— Смотри-ка, па, вон мистер Бар, кучер дядюшки
Тага!
Так и есть. Мистер Бар, собственной персоной. При
виде его миссис Бредбаскет поспешно отступила в
комнату вместе с обеими дамами.
— Чего изволите, мистер Бар? — говорю я, и в
мгновение ока он у меня сидит в кресле: под подбородком
салфетка, на лице пышная мыльная пена.
Мистер Бар пробовал сопротивляться.
— Не утруждайтесь, мистер Кокс,— говорит он,— Не
стоит беспокоиться, сэр!
Но я знай размахиваю помазком.
— Очень даже прискорбное событие поселило печаль
в сердцах вашего семейства,— говорю я.— Сочувствую
вашему горю, сэр. Сочувствую вашему горю.
Я сказал это из вежливости, ибо услужал семейству,
а не потому, что Таггеридж приходился мне дядей. За
родственника я его не признаю.
Мистер Бар хотел было что-то сказать.
— Сэр,— промолвил он,— мой хозяин скон...— Но тут
на этом самом «скон...» появляется мистер Хок, камерди-
153
нер, самый элегантный джентльмен, какого мне
доводилось видеть.
— Как, вы здесь, мистер Бар? — удивился мистер
Хок.
— Здесь, сэр. Неужто ж я не имею на это права, сэр?
— Страх, до чего сырой день,— говорю я мистеру Хоку,
шагнув к нему навстречу и отвесив поклон.— И столь
печальные обстоятельства... Желаете подправить завивку,
сэр? Э-эй! Мистер Крамп!
— Мистер Крамп куда ни шло, сэр,— кланяясь,
ответил мистер Хок,— но допустить, чтобы вы, сэр,— никогда!
Хоть режьте меня на куски! И не могу уразуметь, как
это у иных хватает нахальства приходить бриться к своим
же господам!
С этими словами мистер Хок бухнулся в кресло и
подставил голову для завивки.
Мистер Бар открыл рот, намереваясь отбрить мистера
Хока, но я, смекнув, что между джентльменами нелады, и
желая предотвратить ссору, сунул в руки мистеру Хоку
номер «Эдвертайзера», а в рот мистеру Бару мыльный
помазок — отменное успокоительное средство.
Не прошло и секунды, как к дверям парикмахерской
подкатила наемная карета, из нее выпрыгнул джентльмен
в черном сюртуке и с сумкой в руках.
— Как, вы здесь? —произнес джентльмен, и я не мог
скрыть улыбки, ибо первые слова каждого, кто входил
сегодня в парикмахерскую, были: «Как, вы здесь?»
— Вы Кокс? — продолжал джентльмен, улыбаясь в
точности так же, как я.—Моя фамилия Шарпу с, сэр.
«Блант, Хоун и Шарпус» с Мидл-Темпл-лейн. И я почитаю
за честь приветствовать вас, сэр. Я с радостью, то бишь...
с прискорбием, должен уведомить вас о том, что мистер
Таггеридж с Портленд-Плейс скончался и что,
следственно, ваша супруга, сэр, наследница одного из
богатейших состояний Англии.
Тут я вздрогнул и наверняка рухнул бы на пол, если б
не держался за нос мистера Бара. А Орландо так и
застыл со щипцами в шевелюре мистера Хока. Оба клиента
разом завопили,— миссис Кокс, Джемайма Энн и Таг
выскочили из задней комнаты, и мы все вкупе явили собой
распрекрасную картину, достойную руки великого Крук-
шенка.
— А как же мистер Джон Таггеридж, сэр? —
осведомился я.
154
¦". — Он... хи-хи-хи-хи! —ответил мистер Шарпус—
Разве вам не известно, что он всего лишь хи-хи-хи...
незаконнорожденный?
Теперь вы, разумеется, поняли, почему слуги из
особняка на Портленд-Плейс заторопились к нам.
Оказывается, одна из горничных слышала, как мистер Шарпус
говорил, что завещание не найдено и что моя
супруга, а не мистер Джон Таггеридж,— законная наследница
всего состояния. Горничная сообщила новость в
комната экономки, и каждый из присутствующих там
немедля помчался ко мне, дабы первым принести это
известие.
Всех слуг мы оставили на прежних местах, хотя моя
судруга охотно бы их разогнала, если бы милочка
Джемайма Энн не намекнула ей:
— Они ведь привыкли к великосветским домам, а мы
нет* Не лучше ли их ненадолго оставить?
И мы их оставили, чтобы они обучили нас, как быть
великосветскими господами.
Парикмахерскую я передал мистеру Крампу, не взяв
с него ни единого фартинга, хотя Джемми настаивала,
чтобы я запросил четыреста фунтов. Но я был выше этого.
Крамп служил мне верой и правдой, и парикмахерская
досталась ему даром.
Февраль. Первый прием
Мы немедля переселились в наш новый роскошный
дом. Но какой же это дом без друзей? Джемми заставила
меня порвать со всеми моими приятелями на Оксфордском
рынке, и я остался один-одинешенек. Но тут, к счастью,
наш старый знакомец, капитан Хламсброд, любезно
обещал ввести нас в круг благородного общества. Капитан
Хламсброд, сын баронета, оказал нам честь, прожив у
нас целых два года, после чего внезапно исчез, кстати
сказать, вместе со скромным счетом за квартиру. Однако
через две недели, прослышав о наследстве, он снова
появился у нас, к немалой радости Джемми: ведь она знала,
что он сын баронета и вроде весьма неравнодушен к нашей
Джемайме Энн. Между прочим, Орландо, храбрый как
лев, однажды крепко поколотил Хламсброда за то, что тот
якобы грубо обошелся с моей крошкой. Как позднее
уверял сам Хламсброд, такое поведение служило лишь нео-
155
споримым доказательством его, Хламсброда, любви к
нашей дочери.
Мистер Крамп, бедняга, не слишком радовался
нашему богатству, хотя поначалу изо всех сил делал веселый
вид. Я, сказал ему, чтобы он с нами обедал по-прежнему,
как будто ничего не изменилось. Но вскорости Джемайма
положила этому конец, потому как, по всей
справедливости, уразумела свое высокое положение и стала глядеть на
Крампа сверху вниз и дочери наказала поступать так же.
После бурной сцены, во время которой рассвирепевши^
Орландо отчаянно ей нагрубил, ему было отказано от
дома — навсегда.
Вот оно как обстояло с беднягой Орландо Крамшщ.
Зато капитан Хламсброд стал у нас в доме главной
персоной.
— Знаете ли, сэр,— частенько говорила Джемми,—
нашим детям достанется и особняк, и загородное имение,
ц сто тридцать тысяч фунтов капитала в ценных бумагах.
При этаких видах на будущее кому как не им вращаться
в самом знатном обществе!
Хламсброд с ней соглашался, и пообещал ввести нас
в самый высший свет и, что куда более важно, выполнил
свое обещание.
Перво-наперво он заставил мою супругу взять ложу
в опере и устраивать званые ужины по вторникам и
субботам. А мне велел кататься в Парке, вместе с
Джемаймой Энн, в сопровождении двух грумов, которых я в свое
время собственноручно брил и которые всю дорогу
гоготали. А сыночка моего Тага в два счета отправили в
Ричмонд, в самую новомодную школу Англии, к его
преподобию доктору Пигни.
И вот, стало быть, эти лошади, ужины, ложа в опере
да строки в светской хронике о мистере Коуксе-Коуксе
(куда как просто: напишите ваше имя дважды, измените
одну буковку и пожалуйте — вы заправский
джентльмен!) возымели действие с удивительной быстротой, и
вокруг нас собралось очень приятное общество.
Некоторые друзья покойного Тага клялись, что готовы на все
ради нашей семьи, и привозили своих жен и дочерей к
дорогой миссис Коукс и ее очаровательной дочке. И когда
в начале месяца мы объявили, что 28 февраля даем
пышный званый обед, а после него бал, смею заверить,
недостатка в гостях не было. К тому же и в титулованных.
А у меня, грешным делом, сердце всегда так сладко зами-
156
рает даже при упоминании о какой-нибудь титулованной
ОСобе.
Дайте-ка припомнить. Во-первых, к нам приехали
милорд Дампузл, ирландский пэр, и семеро его сыновей,
достопочтенные господа Самтуз (из них к обеду — только
два); приехали граф Мазило, известный французский
аристократ, и его превосходительство барон фон Понтер
из Бадена; приехала леди Бланш Б л юное, выдающаяся
поэтесса, автор «Развенчанных», «Раскромсанных»,
«Разочарованных», «Распущенного» и других поэм; приехала
вдовствующая леди Макс с дочерью, достопочтенной мисс
Аделаидой Блюруин; сэр Чарльз Килькибок из Сити и
фельдмаршал сэр Гормон ОТалахер, К. А., К. Б., К. В.,
К. Ц., К. X. на службе в республике Гватемала. Перечень
приглашенных завершали мой друг Хламсброд и его
приятель, известный в свете маленький Том Тафтхант.
А когда распахнулись двери и мистер Хок в черном,
с белой салфеткой на согнутой руке, три лакея, кучер и
малец, которого миссис Коукс обрядила в пуговицы вроде
сахарных голов и назвала пажом, выстроились вокруг
парадного стола, все в белых перчатках, верите ли, меня
прямо-таки дрожь пробрала от восхищения и я про себя
подумал: «Сэм Кокс, Сэм Кокс! Мог ли кто-нибудь
представить тебя на этом месте?»
После обеда, как я уже говорил, мы устраивали бал,
В на этот бал мистеры Хламсброд и Тафтхант
наприглашали виднейших особ из столичной знати. Если я
упомяну в числе приехавших к чаю ее светлость герцогиню
Зеро, ее сына, маркиза Фитзурса, и ее дочерей, обеих леди
Норт-Поул; если я добавлю, что у нас были и другие гости,
чьи имена занесены в Синюю книгу, и только из
скромности я не перечисляю их здесь, то, на мой взгляд, этого
будет достаточно для доказательства, что в наши времена
особняк на Портленд-Пдейс, 96, был местом увеселения
господ высшего сорта.
Это был наш первый званый обед, приготовленный
новым поваром мусье Кордонгблю. Я не сплоховал.
Отведал просто филю де соль аламатерьдо теля, котлеты
шаляй-валяй, ля пуль при косе и другие французские блюда.
А уж искристого сладкого винца в бутылях с жестяными
йробками, по названию шампунь, мы с миссис Коукс, надо
указать, испили вволю (кларет и джоннисбергское
оказались чересчур кислы и не пришлись нам по вкусу). Обед,
как я говорил, был на славу; леди Бланш Блюнос сидела
157
рядом со мной и была так мила, что записала меня на
полдюжины штук каждой из ее поэм; граф и барон фон
Понтер пригласили Джемайму Энн на несколько вальсов,
а фельдмаршал знай подливал моей Джемми шампунь,
покуда носик моей супруги не сделался красным, как ее
атласное платье, в котором она, да еще с голубым
тюрбаном на голове, украшенным перьями райской птицы,
выглядела, могу поклясться, как королева.
После обеда миссис Коукс и дамы удалились.
Бам-ба-бам-бам! — застучали у дверей; тили-пили,
тили-пили,— настраивали скрипки скрипачи мистера
Уипперта; около половины двенадцатого я и
джентльмены сочли, что давно бы пора выйти к гостям. И вдруг мне
даже худо стало при мысли, что я сейчас, вот так, скопом,
увижу сотни две именитых особ. Но граф Мазилб и сэр
Гормон ОТалахер подхватили меня под руки, и так мы
наконец добрались до залы.
Молодые люди танцевали, а герцогиня и другие
знатные дамы восседали, беседуя между собой, и преважно
уписывали мороженое да марципуны. Я поискал глазами
мою малышку Джемайму Энн — вижу, она сигает по залу
с бароном фон Понтером, отплясывая танец по названию
«галопард». Потом я глянул на кружок герцогини,
ожидая, что найду там миссис Коукс. Но моей супруги среди
них не оказалось! Она сидела в дальнем конце залы, в
уголку, с очень надутым видом. Я направился за ней,
взял ее под руку и повел к герцогине.
— О, только не туда! — воскликнула Джемми,
стараясь высвободить руку.
— Глупости, дорогая моя,— возразил я.— Ты
хозяйка, и твое место здесь.— И, подойдя к ее светлости
герцогине, сказал: — Мы с моей хозяйкой, оба-два, очень Даже
гордимся честью завести с вами знакомство.
Герцогиня — дюжий рыжий гренадер, а не особа
женского пола — не соизволила мне ответить.
Я продолжал:
— Молодые, они, видите, как наяривают, сударыня,
вот мы и придумали подсесть к старичкам. У нас С вами,
сударыня, видать, уже и кости не гнутся для танцев.
— Сэр?! ^-вымолвила ее светлость.
— Сударыня,— говорю я.— Неужто вы меня не
признали? Я же Коукс. Никто меня вам так и не представил.
Но, черт побери, это же мой дом, стало быть, я и сам могу
представиться. Вашу руку, сударыня.
158
И я пожал ей руку самым сердечным манером. Ног
поверите ли, старая кошка вдруг завизжала, будто у меня
не рука, а раскаленные ншпцы.
— Фитзурс! Фитзурс! На помощь!
Тут все вдовствующие повскакали с мест, а танцоры
подбежали к нам.
— Мама! Мама! — верещала мисс Джулия Норт-Поул.
— Ведите меня к моей матери! — взвыла леди Аврора,
и обе кинулись на шею ее светлости.
— Что тут стряслось? — спросил лорд Фитзурс, важна
вышагивая к нам.
— Защитите меня от оскорблений этого олуха! —
говорит ее светлость— Где Тафтхант? Он обещал, что ни
одна душа в этом доме не заговорит со мной.
— Дорогая герцогиня...— очень кротко начал Том
Тафтхант.
— Дож)льно, сэр. Вы же обещали, что со мной тут не
будут разговаривать? А этот мерзкий пьянчужка собрался
Меня обнимать! А его страшилище жена опротивела мне
своей навязчивостью! Зовите слуг, Тафтхант. Дети мои,
за мной!
— И мою карету!
— И мою!
— И мою! — кричали десятка два голосов.
Й все гости кинулись в прихожую,— леди Бланш
Блгонос и леди Макс самыми первыми. Остались только
фельдмаршал да двое джентльменов, которые так
покатывались со смеху, что чуть не лопнули.
— О Сэм! — рыдала моя женушка.— Зачем ты повел
меня к ним? Они же меня прогнали. Я только спросила,
не сдается ли ей, что фруктовый сок с ромом куда лучше
всех этих курасосов да максаринов. И, представь себе, все
они как захохочут. А герцогиня сказала, чтобы я убралась
Подальше и не смела загрваривать, пока не спросят.
Эдакая наглость! Да я бы ей гдаза выцарапала!
И будьте уверены, моя драгоценная Джемми так бы и
сделала!
Март. День на псовой охоте в Саррее
С балом мы так оскандалились, что моя Джемми, все
еще в погоне за знатным обществом, с радостью
подхватила предложение капитана Хламсброда поехать в наше
159
поместье Таггериджвиль. Если в городе нам было нелегко
найти друзей, то здесь это стало куда как просто. Все
графство съезжалось к нам, гости у нас обедали,
ужинали, танцевали на балах, да еще и разговаривали с нами.
Мы взаправду превратились в важных господ. Я
заделался настоящим помещиком, а уж коли так, то Джемми
требовала, чтобы я занимался спортом и принимал
участие в охоте графства.
Но, душенька,— говорил я,— я же не умею ездить
верхом.
Чепуха, мистер Коукс,— возражала она.-— Вечно
вы ставите палки в колеса. Вы уверяли, что не научитесь
танцевать кадриль, что не привыкнете обедать в семь
часов вечера. Вы уверяли, что не улежите в постели позднее
шести часов. Но разве вы всему этому не научились? Вы
должны ездить верхом и будете ездить.
А когда моя Джемми говорит: «Должны и будете»,
спасения нет. Поэтому я послал пятьдесят гиней в
охотничье общество и, как видно из уважения ко мне, на
следующей же неделе получил уведомление, что место
сбора с гончими — Скуоштейлская поляна, у самых моих
ворот.
Мне было невдомек, что это все означает, и мы с
миссис Коукс сошлись на том, что скорее всего в этом
месте собак кормят. Но Хламсброд все нам растолковал и
великодушно пообещал уступить мне своего коня,
писаного красавца. Крайне стесненный в деньгах, он отдавал
о
мне лошадь всего лишь за сто гинеи, хотя сам уплатил
полторы сотни.
И вот, стало быть, наступил четверг. Свору гончих
собрали на Скуоштейлской поляне. Миссис Коукс подъ-
о
ехала в своей четырехместной коляске посмотреть, как мы
отправимся в путь. И когда Хламсброд вместе со старшим
конюхом взгромоздили меня на моего гнедого Трубача, я
тотчас подался за ними.
Хламсброд сел на свою лошадь. Только мы шагом
поехали по аллее, как он обратился ко мне:
Вы же говорили, что ездили на лошади и что
однажды отмахали чуть ли не пятьдесят миль?
Так оно и было,— отвечал я.— В Кембридж ездил,
на козлах.
На козлах! А в седло вы когда-нибудь садились?
Ни разу. Но это вроде бы не так и трудно.
160
Однако ж,— заметил он,— для цирюльника вы
смельчак. Мне по нраву ваша отвага, Коукс.
И мы выехали за ворота.
Что до описания самой охоты, то честно признаюсь
сделать этого не смогу. Хоть и побывал я на охоте, но что
оно такое, охота, почему лошади норовят скакать прямо
в свору собак и давить их, почему все вопят: «Улюлю!
Ату!»—почему собаки бегают тройками да четверками
и что-то вынюхивают, а егерь их похваливает: «Молодец,
Таулер, молодчина, Бетси»? А мы ему вторим: «Молодчик
на, Бетси, молодец Таулер»? Потом под улюлюканье с од*
ного края и окрики с другого вдруг из нескольких
собачьих пастей вырывается оглушительное: «Гав-ав,
ав-ав!» — и парень в бархатной шапочке орет вперемешку
с проклятьями, кои не стану здесь повторять: «За мной!
В Рингвуд!» А потом кто-то горланит: «Вот она! Вот
она!» —и вдруг все скопом, сломя голову, опрометью, во
всю прыть, с улюлюканьем, воплями, криками ура,—
синие фраки, красные фраки, гнедые лошади, серые лошади,
собаки, ослы, мясники, баронеты, мусорщики и всякие
сорвиголовы рвутся вперед через поляну за двумя-тремя
псами, которые лают оглушительнее остальных. Зачем и
почему — ума не приложу, но только именно так оно все
О
и происходило во второй четверг марта прошлого года на
моих глазах.
До этого я держался в седле не хуже других, потому
как мы тихо-спокойно трусили по полю, покуда собаки не
напали на след. И сперва все шло хорошо, но, как только
начался переполох и улюлюканье, мой Трубач
припустился стрелой, и я в мгновение ока врезался в свору собак и
давай плясать среди них, будто осел среди цыплят. .
Осадите назад, мистер Коукс! — взревел егерь.
Я изо всех сил тянул поводья, кричал: «Тпрууу!»
но скакун мой и ухом не повел, а нес меня галопом, во
весь опор. Как я не свалился наземь — просто чудо. Изо
всех сил я стиснул коленями бока Трубача, поглубже за-
о о
сунул ноги в стремена и мертвой хваткой вцепился в хол-
*Д
ку, глядя вперед промеж его ушей и уповая на счастье.
Ведь я был ни жив, ни мертв от страха, как был бы на
** о
моем месте всякий даже опытный наездник, что уж тут
говорить о бедном парикмахере.
Ну, а насчет гончих могу чистосердечно признаться,
что, хотя Трубач понес меня в их сторону, я не то что
собак — дончика собачьего хвоста не углядел. Ничего я
6 У, Теккерей, т( i .161
вокруг не видел, кроме серо-бурой гривы Трубача, и
держался за нее так крепко, что по воле счастливого случая
рыдержал и шаг, и рысь, и галоп — ни разу не
скатившись на землю.
В Кройдоне жил один мусорщик, которого величали в
ркруге Заноза. Когда он не мог раздобыть лошадь, чтобы
угнаться за гончими, то неизменно появлялся верхом на
осле; и на этот раз он также был тут как тут. Он
умудрялся не Отставать от гончих оттого, что знал местность как
свою Лятерню и преспокойно трусил себе напрямик,
сокращая путь. Он на удивление чуял, где собака нанюхает
след й куда направится хитрый Рейнольде (так охотники
называли лису). Заноза направил осла по проселку, что
ведет из Скуоштейла на Катшинский выгон. Туда-то и
поскакали все охотники. С одной стороны вдоль выгона
тянулась низкая изгородь и преглубокая канава. Иные
охотники на лошадях лихо перемахнули через оба
препятствия, другие въезжали через ворота, что собирался
сделать ft #, но мне это не удалось, ибо моему Трубачу, хоть
ты тресни, взбрендило перескочить через изгородь, и он
помчался прямо на нее.
Гоп! Вот бы вам этак сигануть. Ноги в стороны, руки
вразлет, шляпа с головы — долой! А в следующее
мгновенье бы чувствуете, то есть это я почувствовал,
страшнейший удар в грудь, ноги мои выскочили из стремян, а
сам я повис на суку. Трубач, вырвавшись из-под меня,
катался и бился в канаве. Он зацепился ремешками
стремени за кол и никак не мог отцепиться. И вдруг откуда ни
возьмись Заноза.
— Эй, любезный! — кричу я.— Ну-ка поживее сними
меня.
— Боже праведный! — восклицает он.— А я было
посчитал вас за малиновку!
— Снимите же меня! — повторил я.
Но он сперва стал высвобождать Трубача и вывел-таки
его из канавы, дрожащего и смирного, как овца.
— А ну спускай меня,— приказываю я.
— В свой черед,— отвечает он, а сам скидывает
куртку да, посвистывая, обтирает бока Трубача. А когда упра-
вилс!, знаете, что вытворил этот прохвост? Преспокойно
у се лей на коня и заорал:
*г Сам слезай, тухлая помада! Падай — и дело с
концом! Пусть твой крняжка пробежится за гончими. А ты
на моей рысаке добирайся до своего Тугорежвиля.
162
И верите ли, с этими словами он ускакал прочь, а я
остался висеть на дереве в смертельном страхе, что сук
вот-вот обломится. Он и обломился, а я плюхнулся в
грязную канаву, и когда вылез из нее, то, честное слово, не
походил на какую-нибудь там Венеру или Упалона Буль-
ведерского, чью голову, бывало, причесывал и выставлял
в витрине, когда занимался парикмахерством. И
благоухал я вовсе не так приятно, как наше розовое масло. Да,
скажу я вам, вид у меня был хуже некуда.
Ничего иного мне не оставалось, кроме как взобраться
на осла, который смирнехонько общипывал листочки с
живой изгороди, и направиться домой. После долгого
утомительного пути я наконец добрался до ворот моего
поместья.
Все уже были в сборе: и Хламсброд, успевши^:
вернуться, и их сиятельства Мазило с Понтером,
приехавшие погостить; и целый табун лошадей прогуливался
перед охотниками, которые тоже воротились сюда, после
того как лиса от них улизнула.
— Вот и сквайр Коукс! —- закричали конюхи.
Из ворот выскакивали слуги, высыпали охотники и
гости, а навстречу им трусил я, пришпоривая осла, и все
сборище, глядя на меня, помирало со смеху.
Не успел я доехать до крыльца, как меня галопом
обогнал какой-то всадник. Он соскочил с лошади и, сняв
широкополую шляпу, преспокойно подошел к крыльцу,
чтобы помочь мне спешиться.
— Сквайр, где вы присвоили эту скотину? А ну
слазьте и возверните ее законному хозяину.
— Прохвост! — негодовал я.— Ты же ускакал на моей
лошади!
— Видали черную неблагодарность? — отвечал
Заноза.— Я нашел его лошадь в канаве, спас от гибели, привел
к хозяину, а он меня обзывает прохвостом.
Конюхи, джентльмены, все дамы на балконе,
собственные мои слуги так и взревели от хохота, и я сам охотно
бы к ним присоединился, но от мучительного стыди мне
было не до смеха.
Так закончился день моей первой охоты. Хламсброд и
все остальные уверяли, что я проявил недюжинную отва-*
йу, и побуждали меня поохотиться еще разок.
— Нет уж?— отвечал я.— С меня довольно!
ж*
Апрель, Последний удар
Я всегда увлекался бильярдом. Бывало, на Грик-стрит,
у Грогрэма, где несколько весельчаков собирались раза
два в неделю поиграть в бильярд и уютно посидеть с
трубочкой за кружкой пива, меня единодушно признавали
первым игроком клуба. Я выигрывал по пять партий
подряд у самого маркера Джона. Просто у меня талант на
эту игру. И нынче, достигнув столь высокого положения
в жизни, я стал развивать свои природные дарования и
преуспел в этом на удивление. Уверяю вас, что я не
уступлю лучшим игрокам Англии.
Можете себе представить, как были поражены моим
мастерством граф и его превосходительство барон фон
Понтер. Первые две или три партии, правда, барон у меня
выиграл, но когда я разгадал его приемы, то стал его бить
в пух; или уж непременно выигрывал шесть партий
против четырех. На такой счет обычно на нас бились об
заклад, и его превосходительство проигрывал крупные
суммы графу, который знал толк в игре и всегда ставил на
меня. Я же крупнее чем на шиллинги не играл, и, стало
быть, от моего искусства мне было мало проку.
Однажды, войдя в бильярдную, я застал моих гостей
в жарком споре.
— Ничего подобного! — возмущался капитан Хлам-
сброд.— Я этого не допущу!
— Хочешь всю птичку цапайт сам?
— Ви не полюшить ни один перо, клянусь! —заявил
граф.— Ми вас потрошиль, месье де Ламсбро parole d'hon-
neur l.
— О чем это вы, джентльмены? — спросил я.— Про
каких-то птиц и перья?
— А,— протянул Хламсброд.—Это мы толковали
про... про... стрельбу по голубям. Граф спорит, что
хлопнет птицу с двадцати ярдов, а я ответил, что такого не
допущу, это настоящее убийство.
— Та, та, мы про голупей,— подхватил барон.—
Самый люший спорт. Ви стреляйт голупей, дорогой сквайр?
Веселий разфлечений!
— Веселое для стрелков,— отвечал я.— Но не для
голубей!
От этой шутки они чуть не лопнули со смеху, а я в ту
пору не понял, чем она им так понравилась. Зато в тот
1 Честное слово (франц.).
164
день я задал барону знатную трепку и удалился с
пятнадцатью шиллингами его денег в кармане.
Будучи спортсменом и человеком светским, я, конечно
же, выписывал «Вспышку» и даже побаловался двумя
статейками для этого знаменитого издания. (В первой
статье, которую Хламсброд подписал за меня Фило-Пести-
тиеамикус, я рассказывал о соусе, с которым надлежит
есть чирка и свистуху, а в другой — за подписью Икс Пе-
рементус — о лучшем способе выращивания некоторые
сортов картофеля. Мои корреспонденции наделали немало
шуму в свое время, и редактор даже удостоил меня
похвалы через свою газету.) Я постоянно прочитывал раздел
«Ответы читателям», и поелику начальное мое
образование было порядком запущено (в нежном возрасте, девяти
лет от роду, меня, как водится в нашем деле, подняли со
школьной скамьи и засадили обучаться на овечьей голове,
прежде чем допустить до человечьей),— так вот, стало
быть, раз уж мое образование по части классических наук
малость пострадало, я, признаюсь, почерпнул уйму всяких
мудреных сведений из этого кладезя знаний,— уж, во
всяком случае, достаточно, чтобы не спасовать по части
учености ни перед одним из знатных господ, вхожих к нам
в дом. Так вот, однажды в апреле я вычитал в разделе
«Ответы читателям» следующее:
Аутомодону.— Нам неизвестен точный возраст
мистера Бейкера из театра Ковент-Гарден. Мы не знаем также,
связан ли сей сын Феспида узами брака.
Утке с зеленым горошком.— Поясняем: когда А.
ставит ладью на поле офицера Б., а Б. при этом уходит на
два поля своей королевской пешкой и делает шах
королеве, ничто не препятствует королеве Б. взять пешку А.,
если Б. сочтет это целесообразным.
Ф. Л. С.— Мы неоднократно отвечали на вопрос о
мадам Вестрис: ее девичья фамилия Берталоцци, а замужем
она за сыном Чарльза Мэтьюса, знаменитого комического
актера.
Честная игра.— Лучшим игроком-любителем в
бильярд и экарте является Коукс-Таггеридж-Коукс, эск*
(Портленд-Плейс и Таггериджвиль). Знаток бильярда
Джонатан может из ста партий выиграть у Коукса только две.
В карточной игреКоуксу вообще нет равных. Verbum sat1.
«Сципион американский» — болван.
Сказанного довольно (лат.).
165
Я прочитал вслух касающиеся меня строки графу и
Хламсброду, и оба они диву давались, каким образом до
редактора столь влиятельной газеты дошли эти сведения;
и тут же решили, что барон, все еще так глупо
кичившийся своей игрой, будет донельзя раздосадован моим
успехом. Когда барону прочитали корреспонденцию, он и
впрямь рассвирепел.
— Это есть столы,— вскричал он.— Столы (или, как
рн выговаривал, «здолы»).— Поезжайт Лондон, пробовайт
аспидный стол, и я вас буду обыграйт.
Мы оглушительно расхохотались, а потом в конце
концов порешили,— отчего ж не потрафить его
сиятельству? — что я сыграю с ним на аспидном столе или на
любых других по его выбору.
— Ошень гут, хорошо,— сказал он.— Я живет у Абед-
него, на Квадранте. Его здолы хороши. Будем играйт там,
если вы согласен.
Я ответил, что согласен, и мы условились как-нибудь
в субботний вечерок, когда Джемми бывает в опере,
поехать к барону,— пусть попытает счастья.
Так мы и сделали. Маленький барон закатил нам
отличный ужин, шампуни — море разливанное, и я пил, не
отказывался; за ужином мы много шутили и веселились,
а потом спустились в бильярдную.
— Неужели это шам миштер Кокш, жнаменитейший
игрок? — прошамкал мистер Абеднего. В комнате, кроме
него, находились два его единоверца и несколько знатных
иностранцев, грязных, усыпанных табаком, заросших
щетиной, как оно иностранцам и положено.— Неужели это
миштер Кокш? Видеть ваш — большая чешть, я нашлы-
шан о вашей игре.
— Полно, полно,— говорю я (голова-то у меня
осталась ясная, все смекаю).—Знаем эти штучки. Меня вам
на крючок не подцепить.
— Да, шорт побраль, эта рибка не для тебя,—
подхватил граф Мазило.
— Отлишно! Ха-ха-ха! — фыркнул барон.— Поймайт
на крюшок! Lieber Himmel \ может, и меня в придачу?
Хо-хо!
Игра началась.
Боже милостивый! (нем.)
166
u Ставлю пять против четырех на Коукса! — завопил
граф.
Идет! — ответил другой джентльмен.
— По двадцать пять фунтов? — предложил граф.
— Идет! — согласился джентльмен.
— Беру ваших шесть против четырех,— сказал барон.
— Валяйте! — ответил я.
Он и глазом моргнуть не успел, как я выиграл. Сделал
тринадцать карамболей без передышки.
Потом мы выпили еще. Видели бы вы длиннющие
лица высокородных иностранцев, когда им пришлось
вытаскивать карандаши и подписывать долговые расписки в
пользу графа!
— Va toujours, mon cher *,— сказал мне граф.— Вы
для меня выиграль триста фунтов.
— Теперь я играйт на гинеи,— говорит барон.— Да-
вайт семь против четыре.
Я согласился, и через десять минут я выиграл партию
и барон выложил денежки.
— Еще двести шестьдесят, дражайший Коукс! —
говорит граф.— Ви мой ange gardien 2.
Тут я услышал, как Абеднего шепнул одному из
знатных иностранцев:
— Ну и проштак этот Коукш, пропушкает швое
шчаштье.
— Беру ваших семь против четырех, до десяти,—
предложил я барону.
— Дайте мне три,— сказал он,— тогда согласен.
Я дал ему три и... проиграл, не добрав одного очка.
— Удвоим или дофольно? — спрашивает он.
— Валяйте,— отвечаю я, задетый за живое.— Сэм
Коукс не отступает.
И мы стали играть. Я сделал восемнадцать
карамболей, а он пять.
— Швятой Моишей! — воскликнул Абеднего.— Этот
малютка Коукш — волшебник! Кто будет вешти шчет?
— Ставлю двадцать против одной,— объявляю я.—
В гинеях.
— В фунтах! По двадцать пять, о да! — закричал
граф.
1 Продолжайте, дорогой (франц.)*
2 Ангел-хранитель (франц.).
I
1G7
— Фунты! Идет! — взревел барон, и не успел я
раскрыть рот, как он схватил кий — и... представьте себе,
каким-то чудом в две минуты выиграл.
Посмотрели бы вы, на кого я был похож, когда Джем-
ми узнала о моем проигрыше! Напрасно я клялся, что
ставил на гинеи. Граф и барон клялись: на фунты, по
двадцать пять! А когда я отказался платить, они сказали,
что дело идет об их чести, и — одно из двух: либо моя
жизнь, либо деньги. Но после того, как граф яснее ясного
растолковал мне, что, несмотря на пари (чересчур
заманчивое, чтобы от него отказаться), которое он выиграл
благодаря мне, он потом тоже очень много проиграл, и еще
вдобавок заверил меня честным словом Абеднего, его
иудейского друга, а также знатных иностранцев, что
пари держали не на гинеи, а действительно на фунты, по
двадцать пять,— мне пришлось выложить кругленькую
тысячу фунтов чистоганом. Но с тех пор я на деньги
не играю. Нет уж, спасибо. На этом меня больше не
поймаете.
Май. Провал в опере
Ни одна леди не может считаться настоящей леди, если
у нее нет ложи в опере. Поэтому моя Джемми, а она,
храни ее господь, смыслит в музыке не более, чем я во всяком
там санскрипе да алгебре или еще каком иностранном
языке,— сняла в опере роскошную ложу второго яруса. Это
была так называемая двойная ложа,— где двое-то и
впрямь могли поместиться даже с удобством, и сняли мы
ее по дешевке, всего за пятьсот фунтов в год! По
вторникам и субботам мы исправно занимали свои места:
Джемми и Джемайма Энн спереди, я позади. Но поелику моя
дражайшая супруга надевала огромадную тюлевую
шляпу, на полях которой в большом количестве красовались
перья страуса, райские птицы, искусственные цветы, а
также фестоны из муслина и шелка, то она, честное
слово, загромождала весь первый ряд ложи; а я только с
подскока или пригнувшись ухитрялся разочка три-четыре за
вечер одним глазком глянуть на актеров. Ежели я вставал
на колени и выглядывал из-под рукава моей душеньки
Джемми, то иной раз мне удавалось углядеть сапоги
сеньора Лаблаша в «Пуританни», а однажды я даже рас-
168
смотрел макушку и прическу мадам Гризи в «Анни в бал-
Лоне».
Да, опера — вот это заведение, скажу я вам! И какая
забава для нас, аристократов! Только одолеешь обед из
трех блюд — не обеды, а беды, называл я их, потому как
после них, случалось, не оберешься беды: то изжога, то
головная боль, да еще докторские счета, да пилюли, да
бессонница и все такое прочее! Так вот, стало быть,
только управишься с обедом из трех блюд, от которого, готов
поспорить, можно получить истинное удовольствие, лишь
когда потом часика два спокойно посидишь за
напитками,— а тут вдруг подкатывает экипаж, влетает моя Джем-
ми, разодетая, как герцогиня, и благоухающая, как наша
парикмахерская: «Поехали, дорогой мой, сегодня «Норми»
(или «Анни в баллоне», или «Нос ди Фигаро», либо «Газ
и Ладра»). Мистер Костер поднимает палочку
ровнехонько в восемь, ты же знаешь, самая мода уже сидеть на
местах при первых звуках ввертуры».
И вот изволь нырять в ложу и маяться пять часов
кряду, а после двенадцать часов охать от головной боли.
И все из-за моды.
Как только кончается эта самая ввертура, так сразу
начинается опера, что, как я понял, по-итальянски
означает пение. Но почему надо петь по-итальянски — в толк
не возьму. И почему на сцене только и делают, что поют?
Господи боже! Как я дожидался, чтобы деревянная сорока
с серебряными ложками в клюве поскорее взлетела на
верхушку колокольни и чтобы явились парни с вилами и
уволокли этого паскудного Донжевана. Не оттого, что я
не восхищаюсь Лаблашем и Рубини и его братом Томру-
бини, тем, что поет таким густым басом и выходит
капралом в первой опере и Донжеваном во второй. Но все это
по три часа кряду, право, чересчур, потому как на этих
хлипких стульчиках в ложе разве уснешь?
Высидеть оперу — труд тяжкий, но в сравнении с
балетом — сущий пустяк. Видели бы вы мою Джемми, когда
она в первый раз смотрела этот самый балет. Стоило
мамзель Фанни и Терезе Хастлер выйти вперед с каким-то
господином и начать танцевать, видели бы вы, как
Джемми таращила глаза, а дочь моя вся зарделась, когда
мамзель Фанни встала всего лишь на пять пальчиков, а
другие пять и всю ножку вслед за ними задрала чуть ли не
до плеча, а потом давай крутиться, крутиться, крутиться,
что твоя юла, минуты этак две с лишним! А когда нако-
169
нец обосновалась на обеих ногах и приняла пристойную
позу, послушали бы вы, как громыхал весь зал, а в ложах
хлопали изо всех сил и махали платками! Партер вопил:
«Браво!» Ну а те, кого, верно, возмутило этакое
бесстыдство, швыряли в мамзель Фанни пучки цветов. Думаете,
она испугалась? Ничуть не бывало! Вышла преспокой-
ненько вперед, будто так и положено, подобрала то, что
в нее нашвыряли, улыбнулась, прижала это все к груди,
а потом опять'давай крутиться, еще быстрее прежнего.
Ну, это, скажу я вам, выдержка! Отродясь такой не
видывал.
— Паскудница! — воскликнула Джемми,
передернувшись от ярости.— Коли женщина на этакое способна,
поделом с ней этак и обращаться.
— О да! Она играет прекрасно,— заметил наш друг
его сиятельство, который, так же как и барон фон
Понтер и Хламсброд, не упускал случая прийти к нам
в ложу.
— Может, мусье, она играет и распрекрасно, зато уж
одевается — хуже некуда, и я очень рада, что в нее
швыряли апельсиновой кожурой и всем прочим и что все
махали, чтобы она убралась.
Тут его сиятельство барон и Хламсброд оглушительно
захохотали.
— Дорогая миссис Коукс,— сказал Хламсброд моей
жене,— это же знаменитые на весь мир артисты, мы
кидаем им мирту, герань, лилии и розы в знак величайшего
восхищения.
— Подумайте только! — промолвила моя супруга,
а бедняжка Джемайма Энн все старалась укрыться за
пунцовой портьерой и сама стала почти такого же
цвета.
Танец сменялся танцем, но когда на сцену вдруг
выскочила какая-то особа и ну прыгать, как резиновый мяч,
подскакивая на шесть футов над сценой и отчаянно
дрыгая ногами, мы и вовсе разинули рты.
— Это Анатоль,— заметил один из наших гостей.
— Анна... кто? — переспросила моя жена. Для такой
ршибки у нее был резон, потому как у этого создания
была шляпа с перьями, голая шея и руки, длиннющие
черные локоны и коленкоровое платьишко дай бог по
колено.
— Анатоль! Разве скажешь, что ему уже шестьдесят
три года? Он гибок, как двадцатилетний юноша.
170
Он? — взвизгнула моя супруга.— Так это
мужчина? Стыдитесь, мусье! Джемайма Энн, возьми накидку, мы
уходим. А ты, дорогой мой, будь любезен, вызови наших
слуг. Мы едем домой.
Кто мог представить себе, что моя Джемми, после
того как этот самый, как его называют, балет, привел ее в
такой ужас, когда-либо к нему притерпится? Однако ж ей
нравилось слышать, как выкликают ее имя в фойе, и она
высиживала представление до самого конца. И даю вам
слово, через три недели с того самого дня она приучилась
смотреть на балетное представление, все равно как на
ученых собак на улице, и преспокойно подносить к глазам
двойной лорнет, прямо как настоящая герцогиня. Что до
меня, то я поступал по пословице: с волками жить — по
волчьи выть... И, надо сказать, частенько превесело
проводил время.
Однажды мой друг барон уговорил меня пойти за
кулисы, сказав, что я как съемщик ложи имею туда антре.
Я и пошел туда, Знали бы вы, что это за неслыханное,
невиданное место! Представьте себе светских джентльменов,
старых и молодых, которые толпятся там и глазеют на
танцовщиц, а те упражняются в разных выкрутасах.
Представьте бледных, обсыпанных табаком иностранцев,
от которых разит куревом и которые без умолку лопочут.
Представьте скопище горбоносых иудеев, чернявых, с
кольцами, цепочками, фальшивыми брильянтами, в золо-
•шстшх жилетках. Представьте стариков в старых ночных
рубахах и грязных нитяных чулках телесного цвета, с
пятнами толченого кирпича на морщинистых физиях, в
кудельных париках (вот так парики!) на лысинах, с
длинными жестяными копьями, а то и с пастушьими посохами,
с гирляндами искусственных цветов из красного и
зеленого сукна. Представьте целое полчище девиц, которые
хихикают, трещат, снуют взад-вперед среди старых
почерневших полотнищ, готических залов, тронов, картона,
купидонов, драконов и прочего в этаком роде. А грязь,
темень, толкотня, суета и гомон на всевозможных языках —
и вовсе несусветные.
Если б вы могли хоть одним глазком поглядеть на
доусье Анатоля. Куда там двадцать, ему можно было дать
Добрую тысячу лет! Старик был без парика, цирюльник
дашцами подправлял его кудри, а сам мусье Анатоль тем
временем нюхал табак. Подле него мальчик-посыльный
Держал кувшин пива из пивной, что на углу Чарльз-стрит.
171
За те три четверти часа, что отведены для развлечения
нас, светских господ, на сцене до поднятия занавеса и
начала балета, покамест дамы в ложах глазеют по сторонам,
а в партере топочут ногами и стучат палками об пол
самым нахальным манером, будто уж нельзя малость
и обождать,— со мной произошла маленькая
неприятность.
В ту самую минуту, когда должен звонить
колокольчик и подняться занавес, а мы — шарахнуться за кулисы
(потому как всегда остаемся там до крайнего срока), я
стоял посреди сцены, разлюбезно беседуя с премиленьки-
ми фигаранточками, которые крутились и всяко
выламывались вокруг меня, спрашивал, не озябли ли они, и
выказывал прочие галантности как нельзя более
снисходительным тоном, и вдруг что-то дернулось, и я бухнулся прямо
в разверстый люк. По счастью, меня спасло какое-то
сооружение — целая груда одеял и молодая особа,
поднимавшаяся из волн морских в виде Венеры. Не упади я так
мягко, уж и не знаю, что бы со мной сталось при этаком
подвохе. От миссис Коукс я это происшествие утаил, ибо
она и слышать не может даже о малейшем с моей стороны
признаке внимания к прекрасному полу.
Июнь. Сводим счеты
Бок о бок с нами, на Портленд-Плейс, жил
достопочтенный граф Килблейз, владелец замка Килмакрейзи в
графстве Килдэр, вместе со своей матушкой,
вдовствующей графиней. У леди Килблейз была дочь, леди
Джулиана Матильда Мак-Турк, одногодка с нашей милочкой
Джемаймой-Энн, а также сынок, достопочтенный Артур
Веллингтон Англси Блюхер Бюлов Мак-Турк, всего на
десять месяцев постарше нашего Тага.
Моя душенька Джемми — женщина с характером —
всеми силами старалась, как и подобает по ее рангу,
завести знакомство с вдовствующей графиней Килблейз.
Каковые попытки графиня (будучи в придачу дочерью
министра, графа Пуншихереса, близкого друга принца
Уэльского) сочла необходимым пресекать. Само собою
понятно, что супруга моя люто разгневалась и с тех пор
задалась целью во всем превзойти ее светлость. Имение
графа Килблейз а не так велико, как наш Таггериджвиль,
годовой доход от него самое малое тысячи на две уступает
172
нашему. А посему моя Джемми с полным правом держала
трех лакеев, раз у соседей было только два. Она также
взяла за правило, стоило показаться поблизости коляске
семейства Килблейз, запряженной парой, немедля
выезжать в ландо четверкой.
В опере мы тоже соседствовали, только наша ложа была
в два раза просторнее. Все учителя, которые ходили к
леди Джулиане, обучали и нашу Джемайму Энн. И знаете
ли, что еще отмочила моя Джемми? Переманила от них
знаменитую гувернантку мадам де Фликфлак, пообещав
ей двойное жалованье. Все говорили, что эта самая мадам
Фликфлак просто клад. Ведь в прошлом она
(зарабатывая на пропитание своего отца, графа, в годы эмиграции)
была французской танцовщицей в итальянской опере.
Стало быть, мы убивали разом двух зайцев: французские
танцы и итальянский язык, и все высшего сорта. Мы только
диву давались, как это она так быстро и ловко лопотала,
особливо по-французски.
Юный Артур Мак-Турк учился в знаменитой школе
преподобного Клемента Кодлера, вкупе со ста десятью
сыновьями из благородных семейств в возрасте от трех до
пятнадцати лет. В это заведение Джемми отдала и нашего
Тага, прибавив сорок гиней к ста двадцати гинеям
ежегодной платы за пансион. Кажется, я догадался, по какой
причине она это сделала. Как-то в беседе с общим знакомым,
бывавшим у нас, а также у Килблейзов, она шепотком
обмолвилась, что никогда бы не отпустила своего сыночка
в школу за такие гроши, которые наскребли для своего
сына ее ближайшие соседи. Она уверена, что их
мальчуган голодает. Впрочем, при таких доходах бедняги делают
все, что могут.
Из всех школ вблизи Лондона школа Кодлера была
самой лучшей. Ее директор был воспитателем герцога Бак-
минстера, который и поставил его во главе этой школы, и,
как я уже упоминал, вся знать, а также наиболее
уважаемые люди среднего сословия отдавали туда своих детей.
В афишке (Кодлер называл ее как-то вроде «праспек»)
указывалось после перечня цен за учение и питание, за
чрезвычайные расходы и так далее:
«Каждый юный аристократ (или джентльмен) должен
привезти с собой нож, вилку, ложку и стакан,
серебряный (дабы не разбивался) — каковые вещи
возвращению не подлежат; халат, домашние туфли; коробку
туалетных принадлежностей, помаду, щипцы для завивки etc...
173
etc... Ученику ни в коем случае не разрешается иметь
более десяти гиней карманных денег, если только родители
не настаивают на большей сумме или если воспитанник
не старше пятнадцати лет. За вино взимается
дополнительная плата, так же как за горячие или паровые ванны и
душ. Прогулки в экипаже предоставляются за пятнадцать
гиней поквартально. Настоятельная просьба к родителям
не дозволять юному аристократу (или джентльмену)
курить. В заведении, где пестуют изящную словесность,
столь низменное занятие явилось бы кощунством.
Клемент Кодлер М.-И.
Капеллан и бывший наставник его светлости
Герцога Бакминстера.
Парнас, Ричмонд, Саррей».
Вот в какое заведение был отдан наш Таг.
— Помни, дорогой мой,— наставляла его маменька,—
ты урожденный Таггеридж, и я верю, ты сумеешь заткнуть
за пояс всех мальчишек в школе. Особливо этого Веллинг- .
тона Мак-Турка, хоть он и сын лорда, но все равно в
сравнении с тобой, наследником Таггериджвиля,— пустое
место.
Наш Таг —мальчуган смекалистый, он научился стричь
и завивать не хуже других подручных его возраста; и о
париком управлялся, и брил преотлично, но все это — в
прежние времена, когда мы еще не были знатными
господами. Превратившись в джентльмена, он должен был
засесть за латынь и греческий и в школе наверстывать
упущенное время.
Однако мы за него были спокойны, ибо преподобный
мистер Кодлер ежемесячно уведомлял нас письменно об
успехах своего воспитанника, и если уж нашего Тага не
назвать чудом природы, то не знаю кого и назвать.
Поведение *— отлично.
Английский язык — очень хорошо.
Французский язык—-tres bien.
Латынь — optime.
И все в этаком роде. Он отличался всяческими
добродетелями и ежемесячно писал нам, чтоб прислали денег. После
первой четверти мы с Джемми решили его навестить.
Когда мы туда приехали, мистер Кодлер, самый кроткий и
174
улыбчивый человечек, каких мне когда-либо доводилось
встречать, провел нас по столовым и спальням (он их
называл «дыртуары»), которые показались нам
благоустроенными — лучше нельзя.
— Сегодня у нас день отдыха,— сообщил мистер Код-
лер.
И впрямь на то было похоже. В столовой с полдюжины
юных джентльменов играли в карты. («Все —
первостатейная знать»,— заметил мистер Кодлер.) В спальне был
только один молодой джентльмен, он валялся на постели,
читая роман и покуривая сигару.
— Необычайный талант! — шепнул мистер Кодлер.—
Достопочтенный Том Фиц-Уортер, кузен лорда Байрона!
Дни напролет курит. Пишет очаровательнейшие стихи.
Таланту, сударыня, таланту нужно давать волю.
— Ну, знаете,— ответствовала моя Джемми,— ежели
это талант, то, по мне,— пускай лучше мистер Таггеридж
Коукс Таггеридж останется бездарью.
— Сударыня, это невозможно. Мистер Таггеридж
Коукс Таггеридж не может быть бездарным, даже при всем
старании.
В эту минуту в спальне появился лорд Лоллипоп,
третий сын маркиза Аликомпейна. Нас тотчас представили
друг другу — лорд Клод Лоллипоп — мистер и миссис
Коукс. Маленький лорд удостоил нас кивком, моя супруга
отвесила глубокий поклон, так же как и мистер Кодлер;
последний, видя, что милорд спешит на площадку для игр,
попросил его отвести нас туда.
— Пошли! — говорит милорд.
Покамест он шагал впереди, да посвистывал, мы вволю
налюбовались роскошными дырками на его локтях, а
также на прочих местах.
Около двух десятков юных аристократов (и
джентльменов) собрались у будки пирожницы на краю
лужайки.
— Тут продают жратву,— сообщил милорд,— и мъц
•молодые джентльмены, кто при деньгах, покупаем тут ела*
сти, а у кого пустой карман — те в долг.
Потом мы прошли мимо младшего учителя — рыжего
и жалкого, который одиноко сидел на скамье.
— Это мистер Хикс, наш младший учитель,
сударыня,— пояснил милорд.— Он нам бывает полезен: в него
сподручно камешками кидать, а еще он парням куртки
держит, когда дерутся или когда играем в крикет. Ну,
175
Хикс, как твоя мамаша? Не знаешь, чего они шум
подняли?
— Кажется, милорд,— весьма смиренно отвечал
младший учитель,— где-то неподалеку происходит встреча
боксеров, достопочтенный мистер Мак...
— А ну, ходу! — крикнул нам лорд
Лоллипоп.—Пошли! Сюда, мэм. Да пошевеливайтесь, вы, калечные!
И юный лорд самым дружеским и панибратским
образом потянул мою дорогую Джемми за подол, и она трусцой
побежала за ним, весьма довольная таким вниманием, а
уж я поспешал следом. Мимо нас по зеленой лужайке
пробегал какой-то мальчуган.
— Кто там стыкнулся, Петитоуз? — завопил милорд.
— Турок и Парикмахер,— пропищал в ответ Петитоуз
и во всю прыть помчался к будке пирожницы.
— Турок и Парикма... — захлебываясь от смеха, с
трудом выговорил милорд, глянув на нас— Ура! Сюда,
мэм!
И, свернув за угол дома, он отворил калитку в какой-
то двор, где толпилась целая орава мальчиков и
раздавались резкие, пронзительные возгласы.
— Дай ему, Турок! — кричал один.
— Двинь ему, Парикмахер! — кричал другой.
— Вытряхни из него душу! — пуская петуха,
надсаживался третий мальчуган в костюме, из которого он вырос
на добрые пол-ярда.
Представьте ужас, который охватил нас, когда толпа
юнцов расступилась и мы увидели, как наш Таг дубасит
достопочтенного Турка! Моя дорогая Джемми, ничего не
смыслящая в такого рода делах, тотчас ринулась на обоих.
Одной рукой оторвав сына от противника и толкнув его
так, что он завертелся волчком и плюхнулся на руки
секундантов, другой она вцепилась в рыжие вихры молодого
Мак-Турка и освободившейся рукой тотчас принялась
угощать его увесистыми оплеухами.
— Ах ты драчун... ах ты пакостник... ах ты аристокра-
тишка паршивый... ах ты... (каждое слово — оплеуха).
Ох-о-оо! — Тут ее фонтан иссяк, ибо волнение,
материнское горе и мощный пинок под колено,— последним,
стыжусь признаться, наградил ее молодой Мак-Турк,—
одолели бедняжку, и моя дорогая Джемми без чувств рухнула
в мои объятия.
176
Июль. На празднике в Быола
Хотя между нашим и соседским семейством
продолжался полный разрыв, Таг и высокородный юный Мак-
Турк поддерживали знакомство через садовую ограду
позади дома или в конюшне, где они во время каникул с утра
до вечера дрались, мирились и устраивали всевозможные
проделки. От Мака-то мы и услышали про мадам де Флик-
флак, которую моя Джемми, как я уже упоминал, сманила
у леди Килблейз.
Когда наш друг барон впервые встретился с мадам,
они с великой нежностью приветствовали друг друга,
потому что, оказывается, за границей их связывала старая
дружба.
— Sapristi! ! — вскричал барон на своем языке.— Que
fais-tu ici, Amenaide?
— Et toi, mon pauvre Chicot,— отвечала она,— est-ce
qu'on t'a mis a la retraite? II parait que tu n'es plus general
chez Franco...
— Тс! — Барон приложил палец к губам.
— Что они говорят, милочка? — спросила моя жена у
Джемаймы Энн, которая уже изрядно выучилась
по-французски.
— Я не знаю, что такое «sapristi», мама; сперва барон
спросил у мадам, что она здесь делает. А мадам спросила:
а вы, Шико, вы больше не генерал у Франко... Правильно
я перевела, мадам?
— Oui, mon chou, mon ange! О да, мой ангел, мой
маленький капуста, совсем правильно. Подумайте только, я
знаю Шико почти двадцать лет.
— Шико... так меня назвали при крещении,—пояснил
барон.— Барон Шико де Понтер.
— А генерал у Франко? — продолжала
любопытствовать Джемми.— Это, как видно, означает французский
генерал?
— Да, да,— ответил барон.— Генерал барон де
Понтер,— n'est-ce pas, Amenaide? 2
— О да,— сказала мадам де Фликфлак и засмеялась,
и мы с Джемми тоже засмеялись, из вежливости; для
смеха оно и вправду был резон, как вы узнаете
впоследствии.
1 Черт возьми! (франц.)
2 Не правда ли? (франц.)
ill
К этому времени моя Джемми стала одной из
попечительниц достославного заведения «Приют для сирот
прачек». Основала его леди де Садли, а директором его и
капелланом был преподобный Сидни Слоппер. На оплату этой
его должности, а также на жалованье доктора, приютского
врача Лейтша (оба они были родней леди де Садли)
утекало пятьсот из шестисот фунтов благотворительного фонда;
и леди де Садли замыслила благотворительное
празднество в Бьюла, дабы с помощью иностранных принцев,
которые в прошлом году приезжали в Лондон, несколько
пополнить казну приюта. По сему случаю было, как
водится, составлено прочувствованное воззвание, которое
опубликовали во всех газетах.
ВОЗЗВАНИЕ
Приюта для сирот Британских прачек
Со дня открытия «Приюта для сирот Британских
прачек» прошло уже семь лет. И принесенная им польза —
можно сказать с полной достоверностью — поистине
неоценима. В его стенах нашли пристанище девяносто восемь
сирот наших прачек. Ста двум британским прачкам была
протянута рука помощи в тот час, когда они оказались на
краю гибели. Сто девяносто восемь тысяч штук мужской и
женской одежды здесь были выстираны, починены,
снабжены пуговицами, выглажены и выкатаны. Помимо сего,
по соглашению с советом Воспитательного дома, мы
надеемся, что детское белье этого заведения будет поручено
заботам «Приюта для сирот Британских прачек»!
При столь блистательных видах на будущее ужели не
печально, ужели не прискорбно, что попечительницы
благотворительного общества были вынуждены отклонить
прошения не менее трех тысяч восьмисот одной британской
прачки из-за отсутствия средств для оказания им помощи.
Женщины Англии! Матери Англии! Мы взываем к вам.
Ужели хоть одна из вас останется глуха к этому зову и
откажется поддержать сих достойных представительниц
нашего пола?
Дамы-патронессы приняли решение устроить праздниц
на водах Бьюла, йбторый имеет состояться в четвери
25 июля; которому окажут честь своим посещением
отечественные и иностранные таланты, отечественные и
иностранные знатные гости и на который дамы-патронессы
приглашают всех ДРУЗЕЙ ПРАЧКИ.
178
Удостоить праздник своим посещением обещали ее
высочество принцесса Шлоппенцоллерншвигмарингская,
герцог Сакс-Туббингенский, его превосходительство барон
Штрумпф, его превосходительство Луутф-Али-Кули-Бие-
милла-Мохамед-Рашид-Алла, персидский посол; принц
Футти-Джо, посланник короля Ауда; его
превосходительство дон Алонсо ди Качачеро-и-Фанданго-и-Кастаньете,
испанский посол; граф Равиоли из Милана, посланник
республики Топинамбо и еще целое скопище знатных особ.
Их имена в афишах произвели необычайный фурор.
Кроме них, мы пригласили прославленный оркестр
Московской музыки, семьдесят семь Трансильванских
трубачей и знаменитых Богемских миннезингеров, а также
самых известных артистов Лондона, Парижа, континента и
всей Европы.
Вам остается теперь только представить, какой эт,о был
блистательный триумф для «Приюта сирот прачек». В
парке раскинули великолепный шатер, в котором надлежало
собраться дамам-патронессам. Шатер был обвешан
образцами мастерства питомцев приюта; для девяноста шести
из них предполагалось устроить пиршество в саду, и
прислуживать им должны были сами дамы-патронессы.
Джемми с дочерью, мадам де Фликфлак, я, граф,
барон Понтер, Таг и Хламсброд покатили туда в кабриолете
и в ландо четверкой, напрочь затмив бедняжку леди Килб-
лейз с ее парным выездом.
Было устроено отличное угощение из холодных блюд,
на которое пригласили друзей дам-патронесс, после чего
мои дамы с кавалерами отправились гулять по аллеям.
Хламсброд и Таг вели под руки Джемми, а барон
предложил одну руку мадам де Фликфлак, другую — Джемайме
Энн. Во время прогулки им встретился не кто иной; как
бедняга Крамп, мой преемник по парикмахерскому rf
парфюмерному делу.
— Орландо! — вымолвила Джемайма Энн, красная как
мак, и протянула ему руку.
— Джемайма! — воскликнул бн, протягивая свою,
белый, как помада для волос.
— Сэр?! — молвила Джемми тоном герцогини.
— Сударыня, неужели ж вы забыли своего работника?
— Маменька, разве вы не помните Орландо? — чуть не
плача спросила Джемайма Энн, чью ручку Орландо успел
схватить и не отпускал.
179
— Мисс Таггеридж Коукс, вы меня удивляете. А вы,
сэр, запомните: наше положение в обществе изменилось,
и впредь я попрошу не докучать нам вашей
фамильярностью.
— Наглец! — сказал барон.— Кто есть этот канайль?
— Канайте-ка сами отсюда, мусье,
подобру-поздорову! — в ярости вскричал Орландо. Обезумев от гнева, он
кинулся прочь и тут же смешался с толпой. После его
ухода Джемайма Энн побледнела и, казалось, занемогла...
Поэтому Джемми отвела ее в шатер и оставила там под
надзором мадам де Фликфлак и барона, а сама удалилась
с остальными джентльменами, чтобы присоединиться к
нам.
Как мы узнали позднее, вскоре после того, как они
уселись в шатре, мадам де Фликфлак, радостно вскрикнув,
вдруг сорвалась с места и кинулась догонять знакомую,
которая якобы только что прошла мимо.
Барон же остался наедине с Джемаймой Энн. То ли
шампанское ударило ему в голову, то ли красота моей
милочки, которая в тот день казалась еще привлекательнее,
чем обычно,— но только не прошло и минуты после ухода
мадам Фликфлак, как он бухнулся перед моей дочерью на
колени и безо всяких признался ей в любви.
Тем временем несчастный Орландо Крамп разыскал
меня и, стоя рядом, с самым унылым видом слушал
знаменитых Богемских миннезингеров, исполнявших
прославленное сочинение Гете:
Ich bin ya hupp lily lee, du bist ya hupp lily lee,
Wir sind doch hupp lily lee, hupp la lily lee.
Припев:
Йодл-одл-одл-одл-одл-одл-хуп!
Йодл-одл-одл-о-ооо!
Они стояли, как обычно, заложив пальцы за проймы
жилеток, и только хор затянул «о-оооо!» в конце сорок
седьмого куплета, как Орландо вдруг встрепенулся.
— Кто-то кричит! — сказал он.
— Так и есть,— подтвердил я,— и уж больно надсадно,
хоть нынче и мода на охи да ахи.
Но тут опять раздался пронзительный крик, и Орландо
стрелой метнулся вперед, успев воскликнуть:
— Клянусь, это ее голос!
— Чей голос? — спросил я.
— Пойдемте посмотрим, что там за скандал,—
предложил Таг.
180
И мы пошли в сопровождении целой оравы
любопытных которые заметили, куда побежал Орландо.
Мы застали бедняжку Джемайму Энн почти в
обмороке; Джемми держала в руке флакон с нюхательной солью;
барон сидел на земле, прижимая к носу платок, а Орландо
наскакивал на него и вызывал драться, если у того
достанет храбрости.
Джемми гневно взирала на моего бывшего подручного.
— Уведите этого малого,— приказала она.— Ой
оскорбил французского дворянина, на каторгу его!
Несчастного Орландо увели.
— Просто сладу нет с этой негодницей! — воскликнула
Джемми, наградив свою дочь щипком.— Ей бы стать
баронессой, а она крик поднимает из-за того, видите ли, что
его сиятельство слегка пожал ей руку.
— О мама, мама,— рыдала Джемайма Энн,— он же
пья-а-а-а-ный!
— Пья-а-а-ный! Тем паче, бесстыдница, нельзя
обижаться на дворянина, когда он сам не знает, что
делает!
Август. Турнир
— Послушай, Таг,— сказал однажды юный Мак-Турк
вскоре после скандала на празднике в Бьюла.— Килблейз
в октябре празднует совершеннолетие, увидишь тогда,
какой мы вам натянем нос. Старуха парикмахерша, поди,
лопнет от злости, как только узнает про нашу затею.
Знаешь какую? Мы устраиваем турнир.
— А что это такое? — спросил Таг, в точности как его
маменька, когда прослышала об этой новости; но когда ей
объяснили, что это значит, она и впрямь рассвирепела
именно так, как предсказывал юный Мак-Турк, и дни
напролет донимала нас.
— Как! — возмущалась она.— Нацепить доспехи,
будто комедианты, и кидаться друг на дружку с копьями?
Эти Килблейзы просто с ума спятили!
Я был того же мнения, но никак не думал, что Тагге-
риджи тоже спятят с ума. Как только Джемми узнала, что
празднество у Килблейзов покамест хранится в глубокой
тайне, она отправила в газету «Морнинг пост»
сногсшибательное объявление:
181
«ТУРНИР В ТАГГЕРИДЖВИЛЕ
Дни рыцарства еще не канули в прошлое.
Очаровательная хозяйка замка Т-гг-джвиль, прославившегося
роскошными празднествами, неоднократно описанными в нашей
газете, намерена устроить увеселение, превосходящее
своим великолепием даже празднества средневековья. Мы
не вправе сообщать публике никакие подробности, однако
известно, что в программу сюрпризов, приготовленных
леди Т-гг-виль для ее великосветских гостей, входят:
турнир, в котором примут участие его сиятельство б-р-н де
П-нт-р и Томас Хл-мсбр-д, эсквайр, старший сын сэра
Т-са Хл-мстр-да, в роли рыцарей-зачинщиков против всех
желающих с ними сразиться; Королева Красоты, чьи чары
испытал на себе каждый завсегдатай светских
развлечений; банкет, в устройстве коего Гантер намерен превзойти
сам себя, а также бал, на котором краски средневековой
Старины будут сочетаться с мягкими тонами Вейпперта и
Коллинета».
Душой всей затеи был барон. Он прямо-таки рвался в
седло, и на поле в Таггериджвиле, где он, Хламсброд и
остальные наши друзья готовились к турниру, барон лучше
всех управлялся с копьем, вольтажировал и выделывал
такие штуки, какие увидишь разве что у Дюкроу.
Эх, будь в моем распоряжении двадцать страниц, а не
такая коротенькая главка, как бы я живописал все чудеса
этого праздника! От Астли прибыли двадцать четыре
рыцаря, по две гинеи за штуку. Мы надеялись заполучить
мисс Вулфорд, для роли Жанны д'Арк, но она не
приехала. Мы воздвигли шатер для рыцарей-зачинщиков, с обеих
сторон его нацепили щиты вроде мрамориальных досок с
гербами, что вывешивают, когда умирает какая-нибудь
знатная особа. Под щитами сидели пажи, держа шлемы
рыцарей до начала боя. Хламсброд облачился в медные
доспехи (благодаря связям в Сити я сумел достать для
него этот замечательный костюм), а на его
превосходительстве бароне были блестящие, стальные. Голову моей
супруги украшала маленькая корона, точь-в-точь как у
королевы Екатерины в «Генрихе Пятом», стан ее
великолепно обрисовывался шитым золотом жакетом, и вдобавок у
нее был шлейф самое малое в сорок футов длиной. Моя
^дилочка Джемайма Энн была во всем белом, с
жемчужными украшениями в волосах. Мадам Фликфлак изобра-
182
жала королеву Елизавету, а леди Бланш Блюнос —
турецкую принцессу.
Лондонский олдермен с супругой; двое судей графства
и самый цвет Кройдона; несколько польских дворян; два
итальянских графа (кроме нашего собственного); сто
десять молодых офицеров из Эдискомского училища в
парадной форме под командой генерал-майора сэра Майлза
Маллигатони К.О.Б. и его супруги; обе мисс Пиммини и
четырнадцать молодых воспитанниц их пансиона, сплошь
в белом; преподобный доктор Уопшот и под его надзором
сорок девять молодых джентльменов из лучших семейств,—
это только часть приглашенных. А посему вы можете себе
представить, что если уж моя Джемми домогалась
светского общества, то на сей раз его было вдоволь. Все
хотели, чтобы я снова забрался в.седло, но верховой езды
на охоте с меня было предостаточно, да и ростом не вышел
я для рыцаря. Но раз уж миссис Коукс настаивала, чтобы
я открыл турнир, а перечить ей, как я знал, было
бесполезно, то барон и Хламсброд взялись устроить все так,
чтобы я вынес испытание с честью, если только меня
самого не вынесут с поля. Они достали из театра на Стрэнде
целый табун знаменитых деревянных лошадок,
изготовленных для самого лорда Бейтмена. Я смутно представлял
себе, что это за лошади, покуда их не привезли, но решил,
что коли они предназначались для лорда, то, стало быть,
хороши, и согласился. Оно и в самом деле оказалось, что
это, пожалуй, лучший способ верховой езды: с виду вроде
сидишь верхом, а в то же время преспокойно ходишь по
земле на своих двоих. И свалиться с такого коня не
свалишься, покамест ноги держат, и вдобавок можешь его
стегать, пришпоривать и за поводья дергать, сколько душе
угодно,— он все равно не лягнет и не укусит. Как
распорядителю турнира мне вручили жезл, расписанный сине-
золотой спиралью. И тут же мне вспомнился шест над
дверьми моей парикмахерской, и меня даже потянуло туда,
пока я лихо скакал к полю битвы в шлеме и латах под
звуки фанфар и бой барабанов. Противником моим был
капитан Хламсброд, и мы славно потыкали друг дружку
копьями, пока я не зацепился ногой за юбку моей лошади;
а падая наземь, я получил вдобавок удар копьем, который
чуть было не перебил мне лопатку.
— По рыцарскому уставу,— сказали мне,— этого
довольно.— И я был радешенек, что счастливо отделался*
183
Вслед за этим не менее семи всадников из числа
приглашенных джентльменов, все в боевых доспехах, а также
нанятые циркачи выехали на арену, и барон всех их
превосходил в ловкости.
— Как прелестно скачет наш милый барон! — сказала
моя жена, которая не сводила с него нежного взора,
умильно ему улыбалась и махала платочком.
— Послушай, Сэм,— сказал один из наемных своему то
варищу, после того как они, исполнив номер, встали подле
беседки Джемми (как она величала навес).—Лопни мои
глаза, если вон тот субчик в доспехах не из наших.
От такого замечания Джемми и вовсе растаяла. Что и
говорить, барон выбрал самый верный путь к руке
Джемаймы Энн, начав ухаживать за ее матушкой.
В первом круге барон был объявлен победителем, и
Джемми вручила ему приз,— надев на его копье венок из
белых роз. Он принял его, склоняясь в изящном поклоне,
все ниже и ниже, покуда перья шлема не запутались в
гриве коня, помаленьку пятившегося к противоположному
краю арены, но тогда барон пустил его галопом к тому
месту, где сидела Джемайма Энн, и попросил мою дочь
надеть венок ему на шлем. Бедняжка, вся зардевшись,
выполнила его просьбу. Раздались громовые рукоплескания
публики, но тут к барону подскакал Хламсброд, положил
ему руку на плечо и что-то шепнул на ухо, после чего
барон ужасно рассердился, потому что сразу отпихнул Хлам-
сброда. «Chacun pour soi,— ответил он,— мсье де Ламс-
бро»,— что, как мне пояснили, означает: «Каждый за
себя»,— и с этим помчался прочь, на скаку подбрасывая и
ловя копье и заставляя своего коня выделывать прыжки
да разные фортели, к всеобщему восторгу зрителей.
А потом начался самый турнир. Барон и Хламсброд
выходили на бой с другими рыцарями, и каждый сшиб
наземь по паре, после чего трое оставшихся отказались
сражаться, ну и мы все, понятно же, всласть над ними
посмеялись.
— А уж теперь наш черед, мистер Шико! — сказал
Хламсброд и погрозил барону кулаком.— Берегись,
гнусный фигляр, клянусь Юпитером, я тебе покажу!
Мы так и ахнули, и не успела Джемми или кто-либо
из нас вымолвить хоть слово, как оба приятеля ринулись
в бой с копьями наперевес, готовые прикончить друг
друга. Напрасны были вопли Джемми. Напрасно я кинул
назему свой жезл. Не успел я и рта раскрыть, а противники
184
уже сломали свои палки и кинулись друг на друга с
новыми. В первом бою барону крепко досталось, Хламсброд
едва не выбил его из седла.
— Смотри, Шико! — гремел Хламсброд.— Теперь
береги башку!
В следующем бою оба и впрямь все время норовили
угодить друг другу по голове. Копье Хламсброда попало
в цель — сшибло баронов шлем вместе с перьями и
венком из роз. Однако бросок его сиятельства пришелся еще
точнее — копье стукнуло Хламсброда по шее, и тот камнем
свалился наземь.
— Он победил! Он победил! — вскричала Джемми,
махая платочком; Джемайма Энн упала в обморок, леди
Бланш завопила, а мне стало так худо, что я едва устоял
на ногах. Все зрители волновались, кричали, только сам
барон сохранял полное спокойствие, отвесил изящный
поклон и, глядя на Джемми, поднес к губам свою руку. И тут
вдруг откуда ни возьмись какой-то иудейского вида
незнакомец перепрыгивает через барьер и в сопровождении
еще троих бросается к барону.
— Стань у ворот, Боб! — кричит он.— Барон, я
арестую вас по иску Сэмюела Левисона за...
Но он так и не успел сказать за что. Выкрикнув: «А!»
и «Saprrrristi!» — и еще что-то непонятное, его
сиятельство обнажил меч, пришпорил коня, перемахнул через
бейлифа и был таков. Мистер Стабз, помощник бейлифа,
убрался с дороги, потому что барон пригрозил, что проткнет
его копьем. А когда мы подхватили бейлифа и привели
в чувство с помощью глотка бренди, он нам все
рассказал.
— У меня бумага на его арешт, миштер Кокш, но я не
хотел портить вам удоволынтвие, да и ужнал я его, только
когда с него шбили шлем!
Вот так история!
Сентябрь* За бортом и на крюке
Хвалиться нашим турниром в Таггериджвиле нам было
не резон, а все ж он удался куда лучше, чем празДйик у
Килблейзов, на котором бедняга лорд Гейдуйдерри
расхаживал в черном бархатном халате, а император Наплевон
Бонапарт появился в рыцарских доспехах и в шелковых
чулках, вроде как у друга мистера Пелла из Пиквика.
185
Мы-то хоть, нанявши актеров из Антитеатра Астли,
поразвлеклись за свои денежки.
От барона мы не получали ни весточки, после того как
он показал себя столь прекрасным наездником, а потом
сшиб бейлифа мистера Цаппа (поделом ему!) и его
помощника мистера Стабза, которые хотели его арестовать. Моя
душенька Джемми после исчезновения барона пребывала
в скверном расположении духа, а это, скажу вам, весьма
печальное зрелище. В такие дни ей ничего не стоит
закатить пощечину Джемайме Энн или швырнуть блюдо с
тартинками в мою горемычную особу.
Как я уже сказал, моя Джемми все время хандрила,
но однажды (помнится, после визита капитана Хиггинса,
который обмолвился, что видел барона в Булони) она
объявила, что единственное для нее спасение — это перемена
климата и что она помрет, если не поедет на побережье
Франции. Я понимал, к чему она клонит и что возражать
ей все равно, что возражать ее королевскому величеству
во время тронной речи. А потому я велел слугам
укладывать вещи и заказал четыре билета на пакетбот «Турецкий
султан», отправлявшийся в Булонь.
Дорожный экипаж с тридцатью семью чемоданами
Джемми и моим ковровым саквояжем был доверху
нагружен и отправлен на пароход накануне вечером. А мы,
позавтракав в нашем городском доме на Портленд-Плейс
(ох, не думал я тогда, что... впрочем, не стоит об этом...),
поехали во втором экипаже к Таможне, а следом в
наемной карете и кебе катили слуги, а также четырнадцать
картонок и чемоданов, которые могли понадобиться моей
душеньке во время путешествия.
Дорогу по Чипсайд и Темз-стрит описывать не стоит.
Мы видели Монумент, который поставили в память
устроенной католиками страшной Варфоломеевской ночи,
только почему его тут поставили — в толк не возьму, раз
церковь св. Варфоломея находится в Смитфильде. Мельком
глянули мы и на Биллингсгет, и на дом лорд-мэра с два-
дцатидвухшиллинговым угольным дымом из труб и>
наконец, благополучно добрались до Таможни.
Мне стало грустно при мысли, что теперь нам
придется я^Шаться с жуликами, каковыми слывут все французы*
и что, не зная ихнего языка, мы покидаем родину и чест-*
ных своих соотечественников.
Навстречу нам вышли четырнадцать носильщиков, и
каждый с отменной готовностью подхватил какую-нибудь
186
поклажу, то и дело называя Джемми «миледи», а меня
«ваша честь», и этак миледили они и честили даже моего
лакея и горничную в кебе. Тут мне и вовсе взгрустнулось,
как я подумал, что уезжаю на чужбину.
— Возьми, любезный,— сказал я кучеру наемной
кареты, который с самым почтительным видом стоял передо
мной, держа в одной руке шляпу, а в другой Джеммину
шкатулку с драгоценностями.— Вот тебе, милый мой,
шесть шиллингов,— говорю ему, потому как я не
мелочный.
— Шесть чего? — спрашивает он.
— Шесть шиллингов! — заверещала Джемми.— Вдвое
больше, чем тебе причитается.
— Причитается, мэм?! — повторяет грубиян.— Вот и
причитайте на здоровье! Выходит, я должен коней
гробить, шею ломать, коляску корежить, тащить вас, и ваших
ребятишек, и ваши пожитки, и за все про все — шесть
монет?
С этими словами громила швырнул шляпу вместе с
моими шиллингами наземь и подсунул мне кулачище под
самый нос, так что я было решил, что он пустит из него
кровь.
— Восемнадцать шиллингов — вот сколько мне
положено! — объявил он.— Поняли? Спросите любого из вон
тех джентльменов.
— Ну по правде-то — семнадцать шиллингов шесть
ценсов,— молвил один из четырнадцати носильщиков,—
но коли джентльмен и впрямь джентльмен, само собой —
отвалит не меньше соверена.
Я собрался было возражать, а Джемми завизжала, как
турок, но тут один из них гаркнул: «Э-эй!», другой
подхватил: «Что за шум, а драки нет?», третий зыкнул: «А ну
всыпь им!» — и я, по совести признаться, до того
струхнул, что вынул целый соверен и отдал кучеру. Тем
временем мой лакей и горничная куда-то скрылись: они
всегда исчезают, как только начинается грабеж или
скандал.
Я пошел было их искать.
— Постойте-ка, мистер Фергюсон! — подал голос юный
джентльмен лет тринадцати от роду, в красном ливрейном
жилете до самых пят и с целым набором булавок, щговиц
р тесемок, скреплявших его борта.— Постойте, мистер
Фе,— говорит он, вынув изо рта трубку.— Не забывайте
хозяина кеба.
187
—¦ А тебе сколько следует, милейший? —
спрашиваю я.
— Мне?.. Гм... Сейчас прикинем... Ага! Аккурат
тридцать семь шиллингов да еще восемь пенсов.
Четырнадцать джентльменов с багажом в руках
прыснули и давай гоготать очень наглым манером. Одна
только физиономия кучера выражала досаду.
— Ах ты поганец! — вскричала Джемми, ухватив
мальчишку.— Заломил дороже, чем за карету!
— Вы меня не поганьте, мэм! — взвился малый.— Что
мне до кареты? Езжали бы омнибусом за шесть пенсов!
Что ж не поехали! Чего наняли мой кеб? На что я
отмахал сорок миль от Скарлот-стрит на Портленд-стрит да на
Портленд-Плейс — и все задарма? Ну-ка, выкладывайте
полтора соверена, нечего моего коня томить целый
день!
Всю эту речь, на запись которой ушло немало времени,
он выпалил за пятую долю секунды, а под самый конец
ее отшвырнул трубку и, сжав кулаки, стал наступать на
Джемми, будто вызывал ее на драку.
Моя душенька из пунцовой стала белой, как
виндзорское мыло, и рухнула в мои объятия. Что мне было
делать? Я закричал: «Полиция!» — но ни один полисмен не
заглянет на Темз-стрит, там грабеж среди бела дня
узаконен. Что же мне было делать? О, с какой отцовской
благодарностью бьется мое сердце, когда я вспоминаю, как
поступил наш Таг!
Только юнец принял стойку, младший Таггеридж Ко-
укс, который все время заливался смехом, на мой взгляд
очень даже непочтительным, вдруг метнул куртку прямо
в лицо своей матушки (от соприкосновения с медными
пуговицами она вздрогнула и более или менее пришла в
себя), и не успели мы рта раскрыть, как он уже очутился
в центре круга, который образовали носильщики, девять
продавцов и продавщиц апельсинов, несчетное множество
мальчишек-газетчиков, зевак и старьевщиков, присунул
два маленьких белых кулака к лицу джентльмена в
красном жилете, выставившего на врага два черных больших,
и тут же начал бой.
Будьте покойны! Наш Таг не зря обучался в Ричмонд-
ской школе! Мой маленький герой молотил кулаками
вовсю —раз! раз! правой! левой!—не уступая в лихости
своей дорогой матушке. Сперва что-то треснуло, и
высоченная грязно-белая шляпа с черной креповой тряпкой вокруг
188
тульи, походившая на сырой глубокий колодец,— сперва,
стало быть, что-то треснуло, эта белая шляпа перемахнула
через кеб, и на толпу посыпалось множество различных
вещей, которые в ней хранились, а именно: клубок
бечевки, свечка, гребешок, ремень от кнута, свистулька,
кусок грудинки и прочее и прочее...
Юнец был явно сконфужен выставкой его сокровищ,
но Таг не дал ему опомниться. Следующий удар пришелся
парню по скуле, а третий угодил по носу, и наглец
упал.
— Браво, милорд! — заорали зрители.
— Будет с меня, и на том спасибочко! — буркнул
юнец, кое-как подымаясь на ноги.— Платите за проезд, и
я поехал.
— Сколько теперь запросишь, трусливый воришка? —
спросил Таг.
— Два и восемь пенсов, будто сами не знаете.
И он получил свои два и восемь пенсов. Зрители
рукоплескали Тагу, юнца освистали, а Тага просили дать им
йа выпивку. Но тут мы услышали колокол и заторопились
сойти по лестнице вниз к пароходу.
Теперь уж я надеялся, что нашим бедам придет конец.
Что до моих бед, то они и в самом деле чуть было не
кончились, по крайней мере, в одном смысле. После того как
миссис Коукс вместе с Джемаймой Энн и Тагом, а также
горничной, лакеем и ценностями были доставлены на борт,
подошел мой черед. Мне часто приходилось слышать, что
пассажиров поднимают на борт по сходням, но очень
редко, чтобы их сбрасывали при помощи таковых. Как только
я на них ступил, судно чуть-чуть отошло, доска
скользнула, и я плюхнулся в воду. Вопль миссис Коукс, наверно,
можно было услышать в Грейвзенде. Он звенел у меня в
ушах, когда я шел ко дну, скорбя о том, что покидаю ее
безутешной вдовой. Я тут же вынырнул и ухватился за
поля своего цилиндра, хотя, как я слышал, утопающим
надлежит хвататься за соломинку. Я бултыхался, не теряя
надежды на спасение, и, к счастью, вскоре почувствовал,
как меня подцепило за пояс панталон и вознесло в воздух
на крюке багра под возгласы: «Ии-эх! Ии-эх! Ии-эзф> — и
таким образом я был поднят на борт. Меня уложили в
постель, и оттого, что я наглотался воды, мне пришлось
выпить добрую порцию бренди, дабы в нутре моем
получилась правильная смесь. Что и говорить, несколько часов я
пребывал в довольно плачевном состоянии.
189
Октябрь. Нас выселяют
И вот мы прибыли в Булонь, и Джемми, везде и
повсюду расспрашивая о бароне, вскоре убедилась, что никто
там о нем не слыхал; однако, вознамерившись, как я
понял, непременно выдать нашу дочь за высокородного
дворянина, она решила отправиться в Париж, где барону, по
его словам, принадлежал роскошный отель, из-за чего,
помнится, Джемми ужасно возмущалась, хотя вскорости мы
узнали, что отель — по-французски всего-навсего дом, и
она успокоилась. Надо ли описывать дорогу из Булони в
Париж или самое столицу? Достаточно сказать, что мы
появились там в отеле «Мюрисс», как подобало семейству
Коукс-Таггеридж, и за неделю повидали все, что стоило
повидать в Париже. Правда, я чуть было не протянул там
ноги; но раз уж вы отправились в увеселительное
путешествие в чужие края, нечего сетовать на некоторые неудоб*
ства.
Близ города Парижа есть замечательная дорога и ряды
деревьев, и все это почему-то называется Шансы-Лиззи,
что по-французски означает Елисейские поля; некоторые,
слышал я, говорят: Шансы-Лери, но уж мой-то выговор
наверняка правильный. Так вот посреди этих
Шансы-Лиззи находится большой пустырь, и на нем балаган, где в
летнее время мистер Франкони — это французский Аст-
ли — показывает дрессированных лошадей и прочие
номера, Раз уж все туда ездят и нам сказали, что ничего в этом
нет зазорного, Джемми изъявила согласие, чтобы и мы
туда отправились. Так мы и сделали.
Оказалось, что там все точь-в-точь как у нашего Аст-
ли: мужчина в костюме гусара, в точности как мистер
Пиддикомб, так же ходил по арене, щелкая бичом. И
дюжина всяких мисс Вулфорд, что выезжают польскими
принцессами, Диванами, Султанами, Качучами и бог его
знает кем еще. Есть там и толстяк в двадцати трех
одежках, который потом оказывается живым скелетом; есть
клоуны, и опилки, и белая лошадь, танцующая матросский
танец, и свечи в обручах, словом, все, как на нашей милой
родине.
Моя дорогая супруга, в самом шикарном туалете,
приковывая взоры публики, от души наслаждалась
представлением (ведь знания языка при этом не надобно, благо
бессловесная тварь им не пользуется), а тут еще начался
долгожданный знаменитый польский аттракцион; «Сармат-
190
ский наездник на восьми диких скакунах!» Он вылетел
под музыку, наяривавшую двадцать миль в час, верхом на
четверке лошадей, а другую четверку погонял впереди и
таким манером промчался вокруг арены. Туча
взметнувшихся опилок скрывала его лицо, но зрители, как
обезумевшие, восторженно хлопали в ладоши. Вдруг первая
четверка лошадей превратилась в тройку, потому что
наездник запустил под себя еще одну лошадь, а за ней и
другую, и все поняли что, запусти он еще одну — дело добром
не кончится. Публика била в ладоши пуще прежнего, а
уж когда он стал загонять седьмую и восьмую — понятно,
не целиком, а заставляя их ловко подныривать и
выныривать туда-сюда, вперемешку, так что уже вовсе нельзя
было разобрать какая где,— цирк едва не обрушился от
аплодисментов, а Сарматский наездник все кланялся,
склоняя до земли свои длинные перья. Наконец музыка
поугомонилась, и он стал не спеша объезжать арену, то
сгибаясь, то ухмыляясь, то раскачиваясь взад-вперед или
размахивая бичом и прикладывая руку к сердцу, в точности,
как циркачи у Астли. Но представьте, каково было наше
удивление, когда этот самый Сарматский наездник,
проезжая со своей восьмеркой мимо нашей ложи, вдруг
дернулся и... все его скакуны мигом застыли как вкопанные.
— Альберт! — завопила моя дорогая Джемми.—-
Альберт! Ба-б-ба-б-барон!
Сарматский наездник с минуту разглядывал ее, потом
трижды перекувыркнулся, соскочил с лошадей и пустился
наутек.
Это был его сиятельство барон де Понтер!
У Джемми, как водится, сделался припадок, барона же
мы больше не видели. Впоследствии нам стало известно,
что Понтер служил у Франкони, потом сбежал в Англию,
надеясь на легкую жизнь, и вступил в армию мистера
Ричардсона, но ни мистер Ричардсон, ни Лондон не пришлись
ему по вкусу; и мы распрощались с ним, когда он
перемахнул через барьер на турнире в Таггериджвиле.
— Ну что ж, Джемайма Энн,— объявила разъяренная
Джемми,— ты выйдешь за Хламсброда. Раз уж моя дочь
не может стать баронессой, пусть будет хотя бы супругой
баронета.
Бедняжка Джемайма Энн только вздохнула, зй&я,что
перечить матери бесполезно.
Париж как-то сразу наэд наскучил, и мы более чем ко-
)ГДа-либо заторопились обратно в Лондон. До нас дошли
191
слухи, будто это чудовище Таггеридж, этот черномазый
отпрыск старого Тага — будь он неладен,— вздумал
опротестовать права Джемми на наследство и подал на нас
целую кипу исков в Канцлерский суд. Прослышав об этом,
мы немедля отправились в путь, приехали в Булонь и сели
на того же «Турецкого султана», который доставил нас во
Францию.
Если вы взглянете на расписание, то увидите, что суда
отправляются из Лондона в субботу утром, а из Булони в
субботу вечером; таким образом, от прибытия до отправки
в обратный путь проходит зачастую менее часа. Боже, как
мне жаль беднягу капитана, который по двадцать четыре
часа мается в своей рубке и дерет глотку: «Одерживай!
Стоп!» И жаль слуг, что подают завтрак, второй завтрак,
обед, ужин, и снова завтраки, обеды, ужины, для целого
полчища пассажиров. А более всех мне жаль беднягу
буфетчика, из-за этих злополучных жестяных мисочек, за
которыми он должен все время приглядывать.
О, как мало знали мы о буре, разразившейся в
наше отсутствие! И как мало мы были подготовлены к
жестокой беде, нависшей над нашим Таггериджвильским
имением!
Нашим поверенным был Бигс из прославленной
конторы «Бигс, Хигс и Болтунигс». По прибытии в Лондон
мне сообщили, что он только что отправился за мной
в Париж, и мы, не заезжая на Портленд-Плейс,
покатили в Таггериджвиль. Подкатив к воротам, мы увидели во
дворе целую толпу и мерзкого Таггериджа верхом на
лошади, а подле него какого-то обшарпанного человека по
имени Скэпгоут, а также его поверенного и многих
других.
— Мистер Скэпгоут,— с ухмылкой сказал Таггеридж,
вручая ему запечатанный конверт.—- Вот вам бумага
на аренду. Оставляю вас хозяином и желаю всего
хорошего.
— Хозяином чего? — спросила законная владелица
Таггериджвиля, высунувшись из окна кареты.
Джемми не переваривала «черномазого Таггериджа»,
как она его называла, он был для нее хуже всякой
отравы. В первую же неделю после нашего переезда на
Портленд-Плейс он явился за каким-то серебряным сервизом,
якобы его личной собственностью, но Джемми обозвала его
«арапом безродным» и выгнала вон. С тех пор у нас с ним
192
велись бесконечные тяжбы, переписка, встречи и
объяснения через посредников.
— Хозяином моего имения Таггериджвиль,
сударыня отписанного мне отцом в завещании, о чем вас
уведомили три недели тому назад и что вам известно так же
хорошо, как и мне.
— Старый Таг не оставлял никакого завещания! —
завопила Джемми.— Он умер не для того, чтобы
оставлять свое добро всяким арапам, неграм, низкородным
вралям-полукровкам! И если он это сделал, так разрази
меня...
— Маменька, успокойтесь же! — взмолилась
Джемайма Энн.
— Шпарь дальше! — подначивал Таг, который в
подобных случаях только и знает что скалить зубы.
— Что это значит, мистер Таггеридж? — воскликнул
Хламсброд, единственный из всех нас, кто сохранил
присутствие духа.— О каком завещании идет речь?
— О, право, все это чистая формальность,— сказал,
подъехав к нам, адвокат.— Ради бога, не беспокойтесь,
сударыня. Разрешите моим друзьям Хигсу, Бигсу и Болту-
нигсу снестись со мной. Удивлен, что никто из них здесь
сегодня не присутствует. Вам всего-навсего остается нас
выгнать, сударыня. Остальное пойдет заведенным
порядком.
— Кто завладел этим имением? — взревела Джемми.
— Мой друг, мистер Скэпгоут,— сказал адвокат.
Мистер Свдпгоут осклабился.
— Мистер Скэпгоут! — повторила моя супруга,
потрясая кулаком (ибо она у меня женщина с сильным
характером).—Если вы не уберетесь отсюда, я велю вас
прогнать вилами! Вас и того нищего черномазого
ублюдка!
И, подтверждая слово делом, она сунула в руки одному
садовнику вилы и подозвала на подмогу второго с
граблями. Тем временем юный Таг науськивал на пришельцев
собаку, а я кричал «ура» при виде столь справедливой
расправы со злодеями.
— Этого будет довольно, не так ли? — с самым
невозмутимым спокойствием осведомился мистер Скэпгоут.
— Вполне! — ответил адвокат.— Мистер Таггеридж,
между нами и обедом десять миль. Сударыня, ваш
покорный слуга! — И вся шайка поскакала прочь.
У. Теккерсй, т. 1 193
Ноябрь. Страхование не закону
Мы не имели понятия, что все это означает, пока не
получили от Хигса из Лондона очень странную бумагу,
которая гласила:
«Мидлсекс. Сэмюел Кокс, ранее проживавший на Порт-
ленд-Плейс в Вестминстере, в том же графстве,
привлекается ответчиком по иску Сэмюела Скэпгоута за то, что
оный Кокс ворвался в имение Джона Таггериджа,
эсквайра, кое тот сдал в аренду вышеупомянутому Сэмюелу
Скэпгоуту, при том, что срок аренды еще не истек, и
выгнал его оттуда».
Далее говорилось, что мы якобы «выгнали его
силой оружия, а именно шпагами, ножами и дрекольем».
Это ли не чудовищная ложь? Мы же только защищали
наше кровное! И разве не преступление выгонять нас
из наших же законных владений по столь разбойничьему
иску?
Не иначе как Хигс, Битс и Болтунигс были
подкуплены, ибо —- поверите ли — они посоветовали нам тотчас
уступить нашу собственность, потому что найдено
завещание и дело мы вга равно проиграем. Моя Джемми с
презрением отвергла их совет, а сообщение о завещании
подняла на смех: она утверждала, что это подделка, гнусная
арапская подделка, и по сей день уверена, что история с
завещанием, якобы написанным тридцать лет тому назад
в Калькутте, оставшимся среди бумаг старого Тага, а
впоследствии после розысков, по приказу молодого
Таггериджа, найденным и присланным в Англию,—
скандальнейшая ложь.
Так или иначе — суд состоялся. Стоит ли о нем
рассказывать? Что сказать о лорде Главном судье, кроме того,
что ему следовало бы стыдиться носить свой парик? Или о
мистере...., и мистере , кои не жалели красноречия для
попрания справедливости и бедняков? С нашей стороны
выступал не кто иной, как старший адвокат Б инке,— мне
совестно за честь британских юристов, но я вынужден
сказать, что и он, похоже, был подкуплен, ибо попросту
отказался меня защищать. Веди он себя так же, как мистер
Маллиган, его помощник, которому я столь скромным
образом желаю выразить признательность,— все могло бы
обернуться в нашу пользу.
194
Знали бы вы, какое впечатление произвела речь
мистера Маллигана, когда он, впервые выступая в суде,
сказал:
— Стоя здесь, у пустомента священной Фумиде, видя
вокруг эмблемы пруфессии, столь пучитаемой мною, перед
лицом пучтенного судьи и прусвищенных присяжных —
сдавы отечества, бескурысных заступников, надежного
утюшения бедняков,— о, как я трупещу, какой стыд обуг-
рил мне щуки. (Возглас в зале: «Какой стыд!») Зала
взревела от хохота, а когда был снова водворен порядок,
мистер Маллиган продолясал:
— Мулорд, я их не слышу. Я родом из струны,
привыкшей к угнетению, но поелику моя струна» да, му*
лорд, моя Ирландия (нечего смеяться, я ей горжусь) ву-
преки тиранам всегда зелена, хороша и прекрасна, так и
правда моего клюента вусторжествует над злобным
безрассудством,— я повторяю, злобным безрассудством
тех, кто хочет ее уничтожить и в лицо которым от
имени моего клюента, от имени моей струны, да, и от
своего имени я, скрестив руки, кидаю полный презрения
вызов!
— Бога ради, мистер Миллиган... («Маллиган,
мулорд!» — вскричал мой адвокат.) Хорошо, Маллиган,-—
прошу, успокойтесь и не отклоняйтесь от сути дела.
И мистер Маллиган больше не отклонялся целых три
часа кряду. В речи, битком набитой латинскими цитатами
и блиставшей непревзойденной красотой слога, он
рассказал обо мне и моем семействе; о том, каким романтическим
образом разбогател старый Таггеридж и как впоследствии
его богатства достались моей супруге; о положении в
Ирландии; о честной бедности Коксов в прошлом (после чего
он несколько минут, покуда его не остановил судья,
обозревал гневным взором нищету своей родины); о том,
какой я превосходный супруг, отец, хозяин, а моя жена —
супруга, хозяйка, мать. Но все напрасно! Дело было
проиграно. Вскоре меня привлекли за неуплату расходов,—
пятьсот фунтов на судебные издержки свои собственные
и столько же за Тагтериджа. Он сказал, что не даст и
фартинга, чтобы вызволить меня не то что из Флитской
тюрьмы, а из пекла. Само собою разумеется, вместе с поместьем
мы потеряли и городской особняк, и капитал в ценных
бумагах. Таггеридж, у которого и так были тысячи, забрал
все. А когда я попал в тюрьму, кто, думаете, навещал
меня? Ни бароны, ни графы, ни иностранные послы, ни
7* 195
сиятельства, что вечно толклись у нас в доме и пили-ели
за наш счет, не пришли ко мне. Не пришел и
неблагодарный Хламсброд.
Теперь уж я не мог не указать моей дорогой
женушке:
— Видишь, душенька, мы прожили господами ровно
год, но что это была за жизнь! Перво-наперво, дорогая, мы
давали званые обеды, а все над нами насмехались.
— О да, и вспомни, как тебе после них бывало худо! —
воскликнула моя дочь.
— Мы приглашали знатных господ, а они нас
оскорбляли.
— И портили маме характер! — добавила Джемайма
Энн.
— Потише, мисс! — цыкнула Джемми.—• Тебя не
спрашивают!
— А потом тебе понадобилось сделать из меня
помещика.
— И загнать отца в навозную кучу! — заорал Таг.
— И ездить в оперу и подбирать иностранных графов
да баронов.
— Слава богу, милый папа, что мы от них
избавились! — воскликнула моя крошка Джемайма Энн, почти
счастливая, и поцеловала своего старого отца.
— А Тага тебе понадобилось делать модным
джентльменом и послать его в модную школу.
—- Даю слово, я остался самым настоящим
невеждой! —- ввернул Таг.
— Ты дерзкий неслух! — сказала Джемми.—- Этому ты
выучился в своей благородной школе?
—- Я еще кое-чему там выучился, сударыня. Можете
справиться у мальчишек,— проворчал Таг.
— Ты готова была торговать родной дочерью и чуть
не выдала ее замуж за мошенника.
— И прогнала бедного Орландо,— всхлипнула
Джемайма Энн.
— Молчать, мисс! — рыкнула Джемми.
— Ты оскорбляла человека, от отца которого получила
йаследство, и довела меня до тюрьмы, и у меня нет теперь
надежды отсюда выбраться,— не станет же он меня
вызволять после всех твоих оскорблений!
Все это я выложил довольно-таки решительно, потому
что очень уж она меня допекла, и я вознамерился как
следует задать моей душеньке.
196
_ О Сэмми! — воскликнула она, заливаясь слезами
(ибо упрямство моей бедняжки было вконец сломлено).—
Все это правда. Я была ужасно-ужасно глупой и
тщеславной и из-за моих прихотей пострадали мой любимый муж
и дети, и теперь я так горько раскаиваюсь.
Тут Джемайма Энн тоже залилась слезами и кинулась
в объятия матери, и обе оли минут десять подряд
совместно рыдали и плакали. Даже Таг выглядел как-то чудно,
а что до меня, то... Просто диву даешься, но только
клянусь, что, видя их такими расстроенными, я радовался от.
всей души. Пожалуй, за все двенадцать месяцев
роскошной жизни я ни разу не был так счастлив, как в этой
жалкой каморке, в которой меня содержали.
Бедный Орландо Крамп навещал нас каждый день, и
мы, те самые, кто в дни жизни на Портленд-Плейс
совершенно пренебрегали им и на празднике в Бьюла так
жестоко с ним обошлись, ныне куда как радовались его
обществу. Он приносил моей дочери книжки, а мне бутылочку
хереса. Он брал домой Джеммины накладные волосы и
причесывал их, а когда часы свиданий заканчивались,
провожал обеих дам в их чердачную комнатенку в Холборне,
где они теперь жили вместе с Тагом.
— Забыть ли птице свое гнездо? — говаривал Орландо
(он был романтический юноша, уж это точно: играл на
флейте и читал лорда Байрона без передышки со дня
разлуки с Джемаймой Энн).—• Забыть ли птице свое гнездо,
на волю пущенной в краях восточных? Забудет ли роза
возлюбленного соловья? Ах, нет! Мистер Кокс! Вы сделали
меня тем, что я есть и кем надеюсь быть до гробовой
доски,— парикмахером. До вашей парикмахерской я и в
глаза не видывал щипцов для завивки и не мог отличить
простого мыла от туалетного. Разве вы мне не отдали ваш
дом, вашу мебель, ваш набор парфюмерии и двадцать
девять клиентов? Разве все это — пустяки? Разве Джемайма
Энн — пустяк? Если только она разрешит называть себя
по имени... О Джемайма Энн! Твой отец нашел меня в
работном доме и сделал меня тем, что я есть. Останься со
мной до конца моих дней, и я никогда-никогда не
изменюсь.
Высказав все это, Орландо в страшном волнении
схватил свою шляпу и кинулся прочь.
Тут и Джемайма Энн ударилась в слезы.
— О па! — воскликнула она*— Ведь правда же он...
он... славный молодой человек?
197
— Еще какой славный! —- объявил Таг.— Вчера он дал
мне восемнадцать пенсов и бутылочку лавандовой воды для
Маймы Энн,— что ты на это скажешь?
— Не мешало бы ему вернуть тебе парикмахерскую,—
вставила Джемми.
— Что?! Для уплаты судебных издержек Тагтерид-
жа? Дорогая моя! Да я лучше помру, чем этак ему
потрафлю.
Декабрь, Семейные хлопоты
Когда Таггеридж засадил меня в тюрьму, он поклялся,
что там я и окончу свои дни. Похоже, у нас были причины
стыдиться самих себя. И мы, благодарение господу,
устыдились! Я вскоре пожалел о своем дурном к нему
отношении, а от него получил письмо, в котором было сказано
следующее:
«Сэр, я полагаю. Вы достаточно пострадали за
поступки, в коих повинны не столько Вы, сколько Ваша супруга,
а посему я прекратил все иски, поданные на Вас, пока Вы
незаконно владели имуществом моего отца. Вы, конечно,
помните, что, когда после обследования его бумаг
завещания найдено не было, я с полной готовностью уступил его
собственность тем, кого полагал законными наследниками.
В ответ на это Ваша жена, вкупе с Вами (ибо Вы ей
потакали) , осыпала меня всевозможными оскорблениями; а
когда завещание, подтверждавшее мой справедливый иск,
нашли в Индии, Вы не можете не помнить, как это известие
было встречено Вашим семейством и к каким прискорбным
действиям Вы прибегли.
Счет Вашего адвоката оплачен, и так как я полагаю,
что Вам лучше заниматься тем ремеслом, каким Вы
занимались ранее, то я дам Вам пятьсот фунтов на покупку
товара и парикмахерской, как только Вы приглядите что-
нибудь подходящее.
При сем посылаю двадцать фунтов на Ваши насущные
расходы. Мне известно, что у Вас есть сын, как я
наслышан — бойкий юноша. Если он захочет попытать счастья
за границей и отправиться в плавание на одном из
кораблей Ост-Индской компании, я могу его устроить.
Ваш покорный слуга
Джон Таггеридж».
198
Не кто иной, как миссис Бредбаскет, экономка,
доставила это письмо и вручила его мне с самым что ни на есть
надменным видом.
Надеюсь, голубушка, ваш хозяин хоть отдаст мои
jHFiHbie »ещи! — вскричала Джемми.— Семнадцать
шелковых и атласных платьев да целую кучу побрякушек,
которые ему вовсе не нужны.
— Никакая я вам не голубушка, мэм! Мой хозяин
сказал, что при вашем положении вы в них будете как
ворона в павлиньих перьях. Голубушка! Еще чего! -— И она
выплыла за дверь.
Джемми смолчала. Она вообще совсем притихла с тех
пор, как мы попали в беду. Зато дочь моя сияла, как
королева, а сын, услышав о корабле,' так подпрыгнул, что чуть
не сшиб беднягу Орландо.
— Теперь вы меня забудете? — проговорил тот со
вздохом; он единственный из всей компании выглядел
огорченным.
— Вы сами понимаете, мистер Крамп,— с важностью
отвечала моя жена,— при наших связях, человек,
родившийся в работном...
— Женщина! — гаркнул я (ибо наконец решил
повернуть по-своему).— Придержи свой глупый язык! Твоя
никчемная гордыня довела нас до разорения. Впредь я этого
не потерплю. Ты слышишь, Орландо? Если ты хочешь
взять Джемайму Энн в жены, бери ее! И если ты
примешь пятьсот фунтов как мою половинную долю за
парикмахерскую — они твои. Так-то, миссис Кокс!
И вот мы снова дома. Я пишу эти строки в нашей
старой гостиной, где мы все собрались встречать Новый год.
Поодаль сидит Орландо, ладит парик для лорда Главного
судьи, довольный-предовольный. А Джемайма Энн и ее
матушка хлопотали без устали целый день и теперь
заканчивают последние стежки на подвенечном платье, ибо
послезавтра мы справляем свадьбу. Сегодня я уже успел,
как я выражаюсь, отстричь семнадцать голов; а что
касается Джемми, то я теперь принимаю ее в расчет не более,
чем китайского императора со всеми его мордаринами.
Вчера вечером в кругу старых друзей и соседей мы славно
отпраздновали наше возвращение и веселились
напропалую. У нас был отменный скрипач, так что бал затянулся
до поздней ночи. Мы начали с кадрили, но мне она
никогда не удавалась, а уж потом, ради мистера Крампа и его
199
суженой, попробовали галопард, который для меня тоже
оказался трудноват, ибо с тех пор как я вернулся к
мирной и спокойной жизни, просто диво, до чего я раздобрел.
И тогда мы принялись за наш с Джемми коронный танец —
сельскую польку, что само по себе удивительно, потому
как мы с ней выросли в городе. Ну а Таг отплясывал
матросский танец, что миссис Кокс сочла вполне уместным,
раз уж мальчик решил идти в море. Но пора кончать!
Вот несут пунш, и кому же радоваться, как не нам? Да,
видно, я как швейцарец: без родного воздуха, что рыба без
воды!
Кэтрин
Глава I,
представляющая читателю главных действующих
лиц этой повести
ту славную историческую эпоху, когда
канул наконец в небытие семнадцатый век (с его
распрями, цареубийствами, реставрациями,
перереставрациями, расцветом драм, комедий
и проповедей, реформатством,
республиканством, оливер-кромвелизмом, стюартизмом и
оранжизмом) и на смену ему пришел здоровяк-восемна-
дцатый; когда мистер Исаак Ньютон обучал студентов в
колледже Святой Троицы, а мистер Джозеф Аддисон
служил в апелляционном суде; когда гений-покровитель
Франции отыграл все свои лучшие карты и теперь уже
начали ходить с козырей его противники; когда в Испании
было два короля, поочередно друг от друга улепетывавшие;
когда у английской королевы состояли в министрах такие
плуты, каких не видывал мир — даже в наше время
подобных не сыщешь,— а об одном из ее генералов и поныне не
решен спор, кто он был, гнуснейший ли скряга или
величайший герой; когда миссис Мэшем еще не утерла нос
герцогине Мальборо; когда за самый невинный политический
памфлет сочинителю отрезали уши; когда в моду только
что начинали входить пудреные парики со множеством
буклей, а Людовик Великий, надевавший такой парик еще
в постели, до того, как явиться придворным, с каждым
днем казался им все более постаревшим, осунувшимся и
хмурым...
В год, иначе говоря, одна тысяча семьсот пятый, в
славное царствование королевы Анны, жили некоторые
личности и произошли некоторые события, коим, поскольку они
вполне в духе господствующих ныне вкусов и пристрастий;
т
201
поскольку отчасти они уже описаны в «Ньюгетском
календаре» и поскольку (как будет видно из дальнейшего)
они неотразимо вульгарны, обольстительно пакостны и в
то же время увлекательны и трогательны,— ничто не
мешает стать предметом нашего повествования.
И хотя нам могут возразить,— и не без оснований,—
что неотразимо вульгарные и обольстительно пакостные
личности уже не раз находили себе место в сочинениях
выдающихся писателей нашего времени (чья слава,
бесспорно, переживет их самих); хотя, чтобы пойти по стопам
бессмертного Феджина, нужно обладать шагом гения, а
заимствовать что-либо от покойного, но вечно живого Тер-
пина, знаменитого Джека Шеппарди, или нерожденного
Дюваля — дело почти невозможное, и притом это б>ыло бы
не только дерзостью, но и явным признаком неуважения
к восьмой заповеди; хотя могут сказать, что, с одной
стороны, лишь самоуверенный выскочка взялся бы писать на
тему, уже разработанную авторами, пользующимися
прочной и заслуженной известностью; что, с другой стороны,
эта тема разработана ими с такой полнотой, что больше
тут и сказать нечего; что, с третьей стороны (если для
вящей убедительности взглянуть на дело больше, чем с двух
сторон), публика уже довольно наслышана о ворах,
убийцах, мошенниках и о Ньюгете как таковом — настолько,
что сыта по горло,— мы все же, с риском услышать все
эти возражения, неопровержимые по своей сути, намерены
извлечь еще несколько страничек из судебной хроники,
дать читателю испить еще один освежающий глоток из
«Каменного Кувшина»;* мы еще послушаем тихие речи
Джека Кетча, подпрыгивая в седле на ухабах
Оксфордской дороги, и вместе с ним обовьемся вокруг шеи его
пациента в конце нашей — и его —• истории. Честно
предупреждаем читателя, что готовимся пощекотать его нервы
сценами злодейств, насилий и страданий, подобных
которым не найти даже в...; впрочем, не нужно сравнений, они
ни к чему.
Итак, в году 1705 то ли королева Англии и впрямь
опасалась, как бы на испанский престол не сел французский
принц; то ли она питала нежные чувства к германскому
императору; то ли почитала своим долгом довести до
конца борьбу, начатую Вильгельмом Оранским, который
* Таково, как вам, сударыня, должно быть известно, деликат
ное название Ньюгетской королевской тюрьмы.
202
заставил нас расплачиваться и драться за его голландские
владения; то ли на нее в самом доле нагнал страху
бедняга Людовик XIV; то ли просто Сара Дженнингс и ее
муженек непременно хотели воевать, зная, что это сулит
им недурную поживу,— но так или иначе было уже ясно,
что война будет продолжаться, и по всей стране шли
рекрутские наборы, парады, ученья, развевались флаги, били
барабаны, гремели пушки, и боевой пыл не знал удержу —
ну в точности, как в памятном всем нам 1801 году, когда
корсиканский выскочка стал угрожать нашим берегам.
В Уорикшир прибыл вербовочный отряд полка доблестного
Каттса (того самого, что за год до того был наголову
разбит при Бленгейме); устроив свою штаб-квартиру в
Уорике, капитан отряда и его помощник капрал разъезжали по
всей округе в поисках героев для пополнения сильно
поредевших рядов воинства Каттса — а заодно и
приключений, которые скрасили бы им деревенскую скуку.
Наши капитан Плюм и сержант Кайт (кстати сказать,
поименованные храбрые офицеры проделывали свои
художества в Шрусбери об эту самую пору) действовали
примерно так же, как герои Фаркуэра. Они скитались от
Уорика до Стрэтфорда и от Стрэтфорда до Бирмингема,
уговаривая уорикпжрских землепашцев сменить плуг на
копье, ш время от времени отправлять кучки
завербованных рекрутов в качестве подкрепления для армии
Мальборо и мяса для изголодавшихся пушек Рамильи и Маль-
плакэ.
Из этих двух персонажей, коим предстоит играть
весьма важную роль в нашем рассказе, лишь один был, по всей
вероятности, англичанином. Мы говорим «по всей
вероятности», ибо джентльмен, о котором идет речь, был лишь
смутно осведомлен о своем происхождении и, надо
сказать, не проявлял к этому вопросу ни малейшего
любопытства; но, поскольку разговаривал он по-английски и почти
всю свою жизнь провел в рядах английской армии, у него
были достаточно веские основания претендовать на
высокое звание британца. Звался он Питер Брок, иначе — капрал
Брок драгунского полка лорда Каттса; лет имел от роду
пятьдесят семь (впрочем, даже это не вполне достоверно);
рост пять футов семь дюймов; вес около ста восьмидесяти
английских фунтов; грудную клетку, которой мог
позавидовать знаменитый Лейч; руку у плеча толщиной с ляжку
танцовщицы пз оперного театра; желудок, способный
растягиваться для приема любого количества пищи, получен-
203
ной или уворованной; незаурядную склонность к
спиртным напиткам; а также большой навык в исполнении
застольных песен не самого изысканного свойства; умел
ценить шутку, любил и сам пошутить, не всегда удачно; в
хорошем расположении духа был весел, шумен и грубоват;
в дурном становился настоящим исчадием ада: орал,
ругался, бушевал, лез в драку, как это нередко бывает с
джентльменами его сословия и воспитания.
Мистер Брок был в буквальном смысле то, чем себя
назвал маркиз Родиль в обращении к своим солдатам,
после того как он оставил их и бежал: hijo de la guerra —
дитя войны. Пусть не семь городов, но два или три полка
могли спорить за честь считаться виновниками его
рождения; ибо его мать, чье имя он носил, была маркитанткой
в роялистском полку, следовала потом за отрядом
парламентариев, а умерла в Шотландии, когда войсками там
командовал Монк; и впервые мистер Брок вступил на
житейское поприще в качестве флейтиста в полку Колдстри-
меров, совершавшем тогда под личным водительством
названного генерала переход из Шотландии в Лондон и из
республики прямым путем в монархию. С тех пор Брок
никогда не покидал армию и даже время от времени
получал повышения: из его рассказов явствовало, например,
что в Воинской битве он занимал некий командный пост,
правда, скорей всего на проигравшей стороне (поскольку
тут он предпочитал не вдаваться в подробности). За год
до событий, открывающих настоящее повествование, он
был среди тех, кто служил последней опорой Мордаунта
при Шелленберге, каковые заслуги наверняка были бы
отмечены наградой, не учини он сразу же по окончании боя
пьяный дебош, после которого его чуть было не
расстреляли за нарушение дисциплины; но судьба не пожелала,
чтобы его жизненный путь окончился подобным образом,
и после того как он несколько загладил свою провинность,
отличившись в битве при Бленгейме, решено было
отправить его в Англию для вербовки рекрутов — долой с глаз
однополчан, для которых его буйное поведение являло
собой пример тем более опасный, чем больше храбрости он
выказывал в бою.
Командир мистера Брока был стройный молодой
человек лет двадцати шести, о котором тоже, если угодно,
можно было бы рассказать целую историю. Баварец по отцу
(мать его была англичанка хорошего рода), он носил
графский титул наравне с дюжиной братьев; одиннадцать из
204
них, разумеется, были полунищими; двое или трое
приняли духовный сан, один пошел в монахи, шестеро или
семеро надели разные военные мундиры, а самый старший
оставался дома, разводил лошадей, охотился на кабанов,
обирал арендаторов, держал большой дом при малых
средствах, словом, жил так, как живут многие дворяне,
вынужденные год прозябать в глуши, чтобы месяц блистать при
дворе. Наш молодой герой, граф Густав Адольф
Максимилиан фон Гальгенштейн, побывал пажом при особе одного
французского вельможи, состоял в gardes du corpsl его
величества, дослужился до капитана баварской армии, а
когда после Бленгеймской битвы два немецких полка
перешли на сторону победителей, Густав Адольф Максимилиан
оказался в числе перешедших; и ко времени начала этого
повествования уже год или более того получал жалованье
от английской королевы. Нет нужды объяснять, как он
попал в свой нынешний полк, как обнаружилось, что
красавчик Джон Черчилль знавал матушку молодого графа
еще до ее замужества, когда оба они, не имея ни гроша за
душой, околачивались при дворе Карла Второго; нет,
повторяем, никакой надобности пересказывать все сплетни,
которые нам досконально известны, и шаг за шагом
прослеживать весь путь Густава Адольфа. Достаточно сказать,
что осенью 1705 года он очутился в маленькой уорикшир-
ской деревушке, и в тот вечер, с которого, собственно, и
пойдет наш рассказ, он и капрал Брок, его друг и
помощник, сидели в деревенской харчевне, за круглым столом
у кухонного очага, а мальчишка-конюх прогуливал в это
время перед дверью харчевни двух крутобоких,
горбоносых, длиннохвостых вороных фландрских жеребцов с
лоснящейся шкурой и выгнутыми шеями, каковые жеребцы
составляли личную собственность джентльменов,
расположившихся на отдых в «Охотничьем Роге». Упомянутые
джентльмены, расположась с удобством за круглым
столом, попивали шотландское виски; и никогда еще закатные
лучи осеннего солнца ни в городе, ни в деревне, ни за
конторкой, ни за плугом, ни в зале суда, ни в тюремной
камере, ни трезвыми, ни пьяными не озаряли двух больших
негодяев, нежели граф Густав Гальгенштейн и капрал
Питер Брок; а если читатель, ослепленный своей верой в
способность человека к совершенствованию, сделал из
сообщенного здесь иной вывод, он жестоко ошибается и его
Лейб-гвардии (франц.).
205
знание человеческой природы не стоит и ломаного гроша.
Не будь эти двое отъявленными прохвостами, с какой бы
стати мы занялись подробным их жизнеописанием? Что за
дело было бы до них публике? Кому охота расписывать
какие-то там чувства, скучную добродетель, дурацкую
невинность, когда известно, что лишь порок, пленительный
порок привлекает внимание читателей романов?
Юный конюх, прогуливавший вороных фландрских
жеребцов на площади перед харчевней, мог бы преспокойно
поставить их в стойло, так как кони не очень нуждались
в этом приятном моционе по вечернему холодку: им не
пришлось в этот день скакать ни очень далеко, ни очень долго,
и ни один волосок не топорщился на гладких глянцевитых
шкурах. Но пареньку приказано было водить их по
площади, пока не последуют дальнейшие распоряжения от
джентльменов, отдыхающих у очага в кухне «Охотничьего
Рога»; а толпа деревенских зевак так наслаждалась
созерцанием четвероногих красавцев, их щегольских седел и
сверкающих уздечек, что грешно было бы лишить ее этого
невинного удовольствия. На лошади графа была попона
алого сукна, украшенная богатой желтой вышивкой: в
середине большущая графская корона, а по всем четырем
углам затейливые вензеля; из-под попоны виднелись
великолепные серебряные стремена, а к седлу приторочена
была пара выложенных серебром пистолетов в кобурах из
медвежьего меха; мундштук был тоже из серебра, а на
голове развевался пук разноцветных лент. Что до лошади
капрала, скажем только, что ее убранство было хоть ценой
подешевле, но видом не хуже; начищенная медь сияла
не меньше серебра. Первыми зрителями оказались
мальчишки, игравшие на площади; они прервали игру и
вступили в беседу с конюхом; за ними последовали
деревенские матроны; потом, словно бы невзначай, стали
сходиться девицы, для кощрых военные, что патока для мух;
потом один аа другим пожаловали мужчины; и,
наконец,—подумать только!—сам приходский священник,
доктор Добс, вышедший на вечернюю прогулку с миссис
Добс и четырьмя отпрысками, присоединился к своей
пастве.
Всем им маленький конюх рассказал, что владельцы
лошадей — два джентльмена, прибывшие недавно в
«Охотничий Рог»; один молодой и златокудрый, другой старый и
седой; оба в красных мундирах; оба в ботфортах; на стол
они требуют всего самого что ни на есть лучшего, так что
206
в харчевне теперь дым коромыслом. Затем он со своими
сверстниками пустился в обсуждение сравнительных до*
етоинств обоих коней; а священник, человек ученый,
объяснил собравшимся, что один из всадников, должно быть,
граф, во всяком случае, на его лошади графская попона; он
также подтвердил, что стремена у нее из настоящего
серебра; но тут ему пришлось прервать объяснения, чтобы
унять своего сына, Вильгельма Нассауского Добса,
который непременно желал взобраться на лошадь и хоть раз
пальнуть из серебряного пистолета.
Во время этого семейного столкновения на пороге
харчевни появились те самые джентльмены, чье прибытие
наделало столько шума. Старший и более тучный улыбнулся
своему спутнику и неторопливо зашагал по площади,
благосклонно оглядывая ряды любопытных, которые
продолжали таращить глаза на него и на лошадей.
Заметив в толпе черное платье и пасторский
воротник, мистер Брок почтительно снял свой кивер и
поклонился.
— Не будьте слишком строги к мальчугану, ваше
преподобие,— сказал он.— Я слышу, ему хочется
покататься —- ну что ж, и мой конь, и конь милорда к его услугам,
пусть берет любого, Можете не беспокоиться, сэр.
Животные не утомлены, мы сегодня проделали только семьдесят
миль, а на этой лошади, сэр, принц Евгений однажды
покрыл расстояние в полтораста с лишком миль за один день,
от зари до зари.
— Боже правый! На которой же из двух? — спросил
доктор Добс, сосредоточенно хмурясь.
— Вот на этой, сэр,— на моем, Каттсова полку
капрала Брока вороном мерине по кличке «Вильгельм Нассау-
ский». Принц подарил его мне после Бленгеймской битвы,
сэр, так как у меня пушечным ядром оторвало ноги, как
раз когда я вышиб из седла двух колбасников, взявших
было принца в плен.
— У вас оторвало ноги, сэр? — воскликнул
священник.— Боже милостивый! Вы меня удивляете все больше
и больше!
— Нет, нет, сэр, не у меня самого, а у моего коня; и
принц в тот же день подарил мне «Вильгельма
Нассауского».
Последовало молчание; но священник посмотрел на
миссис Добс, а миссис Добс и трое младших детей — на
первенца семьи; первенец же ухмыльнулся и сказал: «Вот
207
здорово!» Капрал, пропустив это мимо ушей, продолжал
Свои пояснения.
— А вон тот конь, сэр,— сказал он, указав на второго
жеребца,— вон тот, с серебряными стременами — он
ничуть не хуже моего! — принадлежит его сиятельству
графу Максимилиану Густаву Адольфу фон Гальгенштейну,
капитану кавалерийского полка и воину Священной
Римской империи (тут он весьма церемонно приподнял свой
кивер, и все присутствующие тоже приподняли шляпы, не
исключая и священника). Ему дана кличка «Георг
Датский», сэр, в честь супруга ее величества; тоже участник
Бленгеймской битвы, сэр; он был в этот день под
маршалом Талларом; а о том, как маршал был взят в плен
графом, вы знаете сами.
— Георг Датский, маршал Таллар, Вильгельм Нассау-
ский! Поистине примечательное совпадение! Да будет вам
известно, сэр, что здесь сейчас перед вами еще два живых
существа, носящих эти прославленные имена. Ко мне,
Мальчики! Вот, сэр, взгляните: эти дети были наречены
один в честь нашего покойного государя, а другой в честь
супруга ныне царствующей королевы.
— Что ж, имена отличные, сэр, и те, кому они даны,
я вижу, молодцы хоть куда; а теперь, если ваше
преподобие и супруга вашего преподобия дозволят, я бы
предложил: пусть Вильгельм Нассауский покатается на «Георге
Датском», а Георг Датский на «Вильгельме Нассауском».
Речь капрала была встречена дружным одобрением
всей толпы; обоих мальчуганов торжественно посадили на
лошадей, капрал взял под уздцы одну, а другую велел
взять юному конюху, и они с большой важностью стали
выщагивать по площади.
Этот ловкий маневр завоевал мистеру Броку всеобщее
расположение; но поскольку речь зашла о диковинном
совпадении имен сыновей священника с лошадиными
кличками, не мешает заметить, что жеребцы были окрещены
не более как минуты за две до выхода драгуна из
харчевни. Ибо перед тем, если уж говорить всю правду, он сидел
у окна, зорко наблюдая за всем, что происходило снаружи;
и лошади, прогуливаемые на глазах у восхищенных
жителей деревни, должны были лишь служить рекламой для
всадников.
Была в «Охотничьем Роге», кроме хозяина, хозяйки и
мальца, присматривавшего за лошадьми, еще одна особа,,
относившаяся к числу домочадцев,—служанка лет шест-
208
надцати, хорошенькая, бойкая, веселая и очень себе на
уме. Все в доме звали ее уменьшительным именем Кэт;
ее обязанностью было прислуживать господам, покуда
хозяйка стряпала на кухне. Воспитание эта молодая особа
получила в деревенском приюте; а так как доктор Добс
и школьный учитель издавна в один голос твердили, что
такой своенравной и дерзкой девчонки, да притом еще
лентяйки и неряхи, им в жизни не приходилось встречать, ее
девяти лет от роду, после недолгой науки (девица, нужно
признаться, не одолела даже грамоты), отдали в ученье к
миссис Скоур, хозяйке «Охотничьего Рога», доводившейся
ей дальнею родней.
Если мисс Кэт — иначе Кэтрин Холл — была дерзка и
неряшлива, то миссис Скоур была сущая карга; а все семь
лет своего ученичества девочка находилась в
безраздельной ее власти. Но, несмотря на то, что хозяйка была
отменно скупа, завистлива, сварлива, а служанка нерадива
и не склонна беречь чужие деньги, миссис Скоур спускала
ей все — лень, нахальство, причуды, даже благосклонность
мистера Скоура, и никогда и речи не заводила о том, чтобы
прогнать ее из «Охотничьего Рога». Дело в том, что бог
наделил мисс Кэтрин редкой красотой, и с тех пор, как
слава о ней вышла за пределы округи, в харчевне отбою
не было от посетителей. Случалось, фермеры, завернувшие
по дороге с рынка, поспорят насчет лишней кружки эля,—
но стоит Кэтрин появиться с кружками на подносе, и
глядишь, эль выпит до капли и денежки уплачены сполна;
или проезжий путешественник после ужина соберется в
путь, чтобы к ночи добраться до Ковентри или
Бирмингема, а тут мисс Кэтрин спросит, не развести ли огонь в
комнате наверху,— и он тотчас решит заночевать в
«Охотничьем Роге», хотя только что уверял миссис Скоур, что
и за тысячу гиней не согласился бы отложить до утра свое
возвращение домой. Да и в родной деревне у девушки было
с полдюжины поклонников, которых просто честь
обязывала пропивать свои гроши в заведении, где она жила. Ах,
женщины, прелестные женщины! Какие твердые решения
способны вы сокрушить одним пальчиком! Какие
пороховые бочки страстей воспламенить одной искрой взгляда!
Каким небылицам и несусветицам заставляете нас
внимать, словно это святые истины или откровения великого
ума! А самое главное — какое дрянное пойло умеете нам
всучить, сдобрив его обещанием поцелуя; и мы сами, не
моргнув глазом, называем эту отраву вином!
209
Шотландское виски в «Охотничьем Роге» было просто
черт знает что такое, но благодаря улыбкам мисс Кэт оба
бравых воина без отвращения и даже с удовольствием
распили и вторую бутылку. Чудо свершилось почти
мгновенно: только что капитан принялся ругать на чем свет стоит
поданный ему напиток, хозяйку заведения, винодела и всю
вообще английскую нацию, как в комнату вбежала Кэтрин
и воскликнула (будто ослышавшись):
— Иду, иду, ваша честь; вы словно бы звали, ваша
честь?
Густав Адольф присвистнул, уставился на девушку во
все глаза и, совершенно ошеломленный ее красотой,
вместо ответа лишь проглотил целый стакан виски.
Не так легко, однако, было сразить мистера Брока; он
был тридцатью годами старше своего командира и за
пятьдесят лет солдатской жизни научился с дерзким вызовом
и уверенностью в победе глядеть в лицо любой опасности,
будь то грозный враг или красивая женщина.
— Мэри, голубушка,— сказал сей джентльмен,— да
будет тебе известно, что его честь — лорд; верней сказать,
вроде как бы лорд, хоть он и дозволяет простому солдату, вроде
меня, составить ему компанию за бутылкой спиртного.
Кэтрин, низко присев, отвечала:
— Не знаю, еэр^ может, вам угодно шутить с бедной
девушкой, военные это любят, но его честь и с виду похож
на лорда, хоть, правду сказать, я ни одного живого лорда
не видала.
— В таком случае,— осмелев, спросил капитан,—
почему же тебе кажется, что я похож на лорда, красотка Мэри?
— Красотка Кэтрин, сэр... то есть просто Кэтрин, с
вашего позволения.
Тут мистер Броне разразился громовым хохотом, стал
уверять, вперемежку с божбой, что зря она поторопилась
поправиться, и в заключение потребовал от нее поцелуя.
В ответ на это требование красотка Кэтрин попятилась
от него в сторону капитана, как бы под его защиту,
приговаривая вполголоса: «Ишь чего захотел, мужлан!
Поцелуй, как бы не так! Уж если я бедная девушка...» — и так
далее и тому подобное. На лице капитана отразилось
негодование, вызванное то ли зрелищем оскорбленной
невинности, то ли дерзостью капрала, вознамерившегося
опередить его.
— Эй вы, мистер Брок! — гневно прикрикнул он.—
Я не потерплю подобных вольностей в моем присутствии.
210
Вы, кажется, забываете, что только по моей доброте
сидите за одним столом со мной; как бы вам вместо вина
не пришлось отведать моей трости! — Говоря это, он одной
рукой покровительственно обнял стан мисс Кэтрин, а
другую сжал в кулак и поднес к самому носу капрала.
Мисс Кэтрин, не желая остаться безучастной, снова
низко присела со словами:
— Благодарю вас, милорд!
Но угроза Гальгенштейна не произвела, видимо, на
Брока ни малейшего впечатления, да оно и понятно: ведь
если б дело дошло до рукопашной, от графа в два счета
осталось бы мокрое место; поэтому капрал лишь сказал
миролюбивым тоном:
— Не гневайтесь, благородный капитан: Питер Брок
знает, что для него, старого дурня, большая честь сидеть
за одним столом с вами, а если я что сказал липшего,
сожалею.
— Не сомневаюсь, что сожалеешь, Питер,— и
правильно делаешь. Но не бойся, дружище, если б я и ударил тебя,
то не причинил бы особенной боли.
— Охотно верю, сэр,— сказал Брок, торжественно
прижимая руку к сердцу; таким образом, мир был заключен
и тут же скреплен соответствующими тостами. Мисс
Кэтрин удостоила пригубить виски из стакана графа, чем, но
уверению последнего, превратила его в нектар; и хотя
девушка и слыхом же слыхивала о таком напитке, она сумела
отпить комплимент и поблагодарила за него жеманной
улыбкой.
Бедняжка впервые ж жизни видела такого красивого
и нарядного молодого человека, как граф, и в своем
бесхитростном кокетстве не умела скрыть восхищения,
которое он ей внушал. Тяжеловесные его комплименты
оказывали на нее такое действие, какого, быть может, не
достигли бы более утонченные любезности; и хоть она всякий раз
отвечала: «Да полно вам, милорд!», или: «Но-но, капитан,
нельзя так льстить бедной девушке!», или: «Да вы надо
мной смеетесь, ваша честь!» — и вообще произносила все,
что принято произносить в подобных случаях, ее
оживление, и румянец, и довольная улыбка, озарявшая круглое
лицо деревенской красавицы, не оставляли сомнений в том,
что первая вылазка графа прошла весьма успешно. А когда
он, продолжая наступление, снял с шеи небольшой
медальон (подарок одной прекрасной голландки из Брпля) и
попросил мисс Кэтрин принять его на память, при этом взяв
211
ее за подбородок и назвав своим розовым бутончиком,
дальнейший ход событий можно уже было считать
предрешенным; всякий, кто имел бы возможность наблюдать в
эту минуту выражение лица мистера Брока, 'без труда
предсказал бы победу неотразимому баварскому
завоевателю.
Легкомысленная и словоохотливая от природы, наша
прелестная героиня тут же стала выкладывать
собеседникам все подробности не только о себе, но и о каждом из
жителей деревни, которого видела в окно.
— Да, ваша честь — то бишь, милорд,— говорила она,—
мне сравнялось шестнадцать в марте, но у нас в деревне
вы найдете немало шестнадцатилетних, которые совсем
еще дети малые. Вон взгляните на ту рыжую, это Полли
Рэндолл, а с нею Томас Кертис; ей уже полных
семнадцать, но до него у нее ни одного дружка не было. Да, так
вот я, стало быть, здешняя родом, отец и мать померли
совсем еще молодыми, и я осталась круглой сиротой... Ай да
Томас! Сумел-таки поцеловать ее, молодец!., на попечении
миссис Скоур, моей тетки, которая стала мне матерью,—
а лучше сказать, мачехой; а в Уорике я была много раз и
в Стрэтфорде, на ярмарке, тоже; и ко мне уже двое
сватались,— да что двое! — нашлось бы и побольше
охотников, но я себе сказала, что выйду только за джентльмена,
и на том стою; не нужен мне деревенский пентюх, вроде
Тома — вон того, видите, в красной жилетке (это он
сватался ко мне первым), или пьянчуга, вроде Сэма-кузнеца,
вон там стоит, еще у его жены фонарь под глазом; я хочу,
чтобы у меня муж был настоящий джентльмен, такой,
как...
— Как кто, моя прелесть? — спросил капитан с
надеждой.
— Но-но, не смущайте меня, милорд! Вот как сэр
Джон, наш помещик, что разъезжает в позолоченной
карете; или, по крайности, как его преподобие доктор Добс,—
вон он, весь в черном, а под руку с ним миссис Добс в
красном платье.
— А это все их дети?
— Да, две девочки и два мальчика — подумать только:
одного он назвал Вильгельмом Нассауским, а другого
Георгом Датским, ведь это надо же! — И, покончив со
священником, мисс Кэтрин занялась другими, менее
заметными личностями, которые к нашему рассказу не имеют
отношения, а потому мы не станем пересказывать ее сло-
212
ва. Вот тут-то капрал Брок, услышав из окна спор между
почтенным служителем церкви и его сыном по поводу
желания последнего прокатиться верхом, счел своевременным
явиться на площадь и, как нам уже известно, наделить
обеих лошадей громкими историческими именами.
Демарш мистера Брока увенчался, повторяем, полным
успехом; тем более, что когда пасторские сынки,
накатавшись, были уведены родителями домой, настала очередь
других юных счастливцев, рангом пониже; каждому
довелось проехаться на «Георге Датском» или «Вильгельме
Нассауском», покуда капрал весело балагурил со
взрослыми жителями деревни. Ни возраст мистера Брока, ни
его красный нос и некоторая косина глаз не помешали
женщинам признать его завидным кавалером; да и
мужчины прониклись к нему расположением.
— А скажи-ка, любезный Томас Пентюх,— обратился
мистер Брок к парню, который громче других смеялся его
шуткам (это был тот, которого мисс Кэтрин
отрекомендовала своим первым поклонником),— скажи-ка, сколько ты
зарабатываешь в неделю?
Мистер Пентюх, чья настоящая фамилия была Буллок,
сообщил, что получаемая им плата составляет «три
шиллинга и пудинг».
— Три шиллинга и пудинг! Чудовищно! И за это ты
трудишься, как те галерные рабы, которых я видел в
Америке и в Турции,— да, джентльмены, и в краю Престера
Джона тоже! Встаешь зимой ни свет ни заря, дрожа от
холода, и бежишь колоть лед, чтобы напоить лошадей.
— Да, сэр,— подтвердил парень, потрясенный
осведомленностью капрала.
— И чистишь хлев, и таскаешь навоз на поле; или
стережешь стадо, заменяя собой овчарку; или машешь косой
на лугу, которому конца-краю не видать; а когда у тебя от
жары глаза на лоб вылезут, и спина изойдет потом, и
только что дух в теле не запечется — тогда ты бредешь домой,
где тебя ждет — что? — три шиллинга и пудинг! Хоть
каждый день ты его получаешь-то, твой пудинг?
— Нет, только по воскресеньям.
— А денег тебе хватает?
— Нет, где там.
— А пива ты пьешь вдосталь?
— Вот уж нет; никогда! — твердо отвечал мистер
Буллок.
— В таком случае — руку, любезный Пентюх! И не
213
будь я капрал Брок, если ты сегодня не напьешься пива,
сколько твоей душе угодно. Вот они, денежки, друг!
Двадцать монет бренчит в этом кошельке; а как ты думаешь,
откуда они взялись, и откуда, как ты думаешь, возьмутся
другие, когда эти все выйдут? Из казны ее величества, у
которой я состою на службе, и да здравствует она долгие
годы на погибель французскому королю!
Буллок и еще несколько юношей и взрослых мужчин
жидковатым «ура» выразили свое одобрение этой речи; но
большинство в толпе попятилось назад, и женщины стали
боязливо шептать что-то, оглядываясь на капрала.
— Понимаю ваше смущение, сударыни,— сказал, видя
это, Брок.— Вы испугались, приняв меня за вербовщика,
который хитростью хочет сманить ваших милых. Но никто
не смеет обвинить Питера Брока в нечестных намерениях!
Знайте, ребята, сам Джек Черчилль пожимал эту руку за
бутылкой вина; что ж, по-вашему, оя стал бы пожимать
руку обманщику? Вон Томми Пентюх ни разу в жизни не
пил пива вдосталь, а я сегодня угощу его и любого из его
приятелей угощу тоже. Уж не гнушаетесь ли вы моим
угощением? У меня есть деньги, и я люблю их тратить — вот
и все. Чего бы ради мне пускаться на нечистые
проделки — а, Томми?
Толковоюо ответа на этот вопрос капрал, разумеется, не
получил, да и не рассчитывал получить; и спор закончился
тем, что человек пять-шесть, уверовав окончательно в
добрые намерения своего нового знакомого, последовали за
ним в «Охотничий Рог» в предвкушении обещанного пива.
Был в этой компании один молодой парень, который, судя
по его платью, несколько больше преуспел в жизни,
нежели Пентюх и прочие загорелые оборванцы, шествовавшие
к харчевне. Парень этот, быть может, единственный из
всех, отнесся с некоторым недоверием к россказням Брока;
однако стоило Буллоку принять приглашение последнего,
как Джон Хэйс, плотник (ибо такого было его имя и
ремесло), тотчас же сказал:
— Что ж, Томас, если ты идешь, пойду и я,
-— Еще бы ты не лошел,—сказал Томас—Ты куда
угодно пойдешь, чтобы повидать Кэти Холл,— только бы
на даровщинку.
— Отчего же, найдется и у меня, что выложить на
стойку, не только у господина капрала.
— Лучше скажи — что поглубже запрятать в карман;
при всей своей любви к девчонке истратил ли ты хоть
214
когда-нибудь шиллинг в «Охотничьем Роге»? Ты и сейчас
не решился бы пойти, если бы не то, что я иду, и если бы
не расчет на бесплатное угощенье.
— Ну, ну, джентльмены, не нужно
ссориться,—вступился мистер Брок.~ Если этот славный малый хочет идти
с нами, пусть идет на здоровье; пива всем хватит, и за
деньгами, чтобы оплатить счет, тоже дело не станет. Дай
я обопрусь на твое плечо, друг Томми. Мистер Хэйс, вы,
по всему видать, парень не промах, а таким я всегда рад.
Вперед, друзья землепашцы, мистер Брок за честь сочтет
поднести каждому из вас.— И, сказав это, капрал Брок
проследовал в харчевню, а за ним Х^йс, Буллок, кузнец
Блексмит, мясник Бутчер, подручный пекаря Бейкер и еще
двое или трое; лошадей же тем временем увели на
конюшню.
Итак, читателю представлен мистер Хэйс; и хотя
сделано это тихо и скромно, без фанфар и цветистых
предисловий, хотя, кааалось бы, робкий плотничий подмастерье
едва ли достоин внимания просвещенной публики, которой
подавай разбойников да убийц или, на худой конец,
карманных воришек,— читателю следует хорошенько
запомнить его слова и поступки, ибо нам предстоит еще
встретиться с ним на страницах этого повествования при весьма
щекотливых и любопытных обстоятельствах. Из намеков
мистера Пентюха, этого сельского Ювенала, можно было
заключить, что Хэйс скуповат и что он питает нежные
чувства к мисс Кэтрин из «Охотничьего Рога»; что ж, и то
и другое было правдой. Отец Хэйса слыл человеком
зажиточным, и юный Джон, обучавшийся в деревне ремеслу, не
прочь был прихвастнуть, рассказывая о своих видах на
будущее,— о том, что отец возьмет его в долю, как только
он окончит ученье, а также о доме и ферме, где со
временем полноправной хозяйкой станет миссис Джон Хэйс, кто
б она ни была. Короче говоря, мистер Хэйс занимал в
деревне положение чуть ниже цирюльника и мясника, но
выше плотника, его учителя и хозяина; и нет нужды
скрывать, что его виды на будущее не оставили равнодушной
мисс Холл, давно уже ставшую предметом его восхищения.
Будь он немного получше собой, не такой тщедушный и
бледный заморыш; или будь он даже урод, но лихого
нрава,— девица наша наверняка смотрела бы на него
благосклонней. Но ростом он не вышел, едва доставал до плеча
Томасу Буллоку, да притом имел славу парня трусоватого,
себялюбивого и прижимистого; словом, такой поклонник
215
никому бы не сделал чести, а потому, если мисс Кэтрин
и поощряла его ухаживанья, то лишь втихомолку.
Но на всякого мудреца довольно простоты; и Хэйс,
равнодушный прежде ко всем, кроме собственной особы, спал и
видел добиться расположения Кэтрин, воспылав к ней той
отчаянной, безрассудной и неутолимой страстью, что часто
заставляет терять голову самых холодных себялюбцев.
Напрасно родители (от которых он унаследовал свое
скопидомство), в чаянье искоренить эту страсть, пытались
сводить его с женщинами, имевшими деньги и желавшими
приобрести мужа; все попытки ни к чему не привели; Хэйс,
как ни странно, оставался нечувствительным к любым
соблазнам, и хоть сам готов был признать неразумность
своей любви к нищей трактирной служанке, тем не менее
продолжал упорствовать. «Я знаю, что я болван,— говорил
он,— и более того, девчонка и смотреть на меня не хочет;
но я должен на ней жениться и женюсь; иначе я умру».
Ибо надо отдать справедливость мисс Кэтрин, она издавна
сочла брак условием sine qua поп 1 для себя, и любые
предложения иного свойства отвергались ею с величайшим
негодованием.
Бедняга Том Буллок, тоже ее верный поклонник,
сватался к ней, как уже было сказано; но три шиллинга в
неделю и пудинг не пленили воображения нашей
красотки, и Том получил презрительный отказ. Делал ей уже
предложение и Хэйс. Кэтрин предусмотрительно не сказала
«нет»; просто она еще очень молода и не хочет торопиться,
она пока не испытывает достаточно глубоких чувств к
мистеру Хэйсу, чтобы стать его женой (кстати, эта молодая
девица едва ли была способна испытывать глубокие
чувства к кому бы то ни было),— словом, обожателю внушена
была лестная надежда, что, если в ближайшие годы никого
лучше не найдется, она, так и быть, соблаговолит стать
миссис Хэйс. И бедняга покорился своей печальной
участи — жить в ожидании того дня, когда мисс Кэтрин
найдет возможным принять его в качестве pis aller2.
А пока что она почитала себя свободной, как ветер, и
не отказывала себе ни в одном из невинных удовольствий,
доступных «присяжной беспутнице» — кокетке. Она
строила глазки холостякам, вдовцам и женатым мужчинам с
незаурядным для ее лет искусством; впрочем, пусть не
1 Непременным (лат.).
2 За неимением лучшего (франц.).
216
кажется читателю, что она рано начала. Женщины —
благослови их бог — кокетничают уже в пеленках.
Трехгодовалые прелестницы жеманятся перед кавалерами пяти
лет; девятилетние простушки ведут атаку на юных
джентльменов, едва достигших двенадцати; а уж
шестнадцать лет для девушки — золотая пора кокетства;
особенно, если обстоятельства ей благоприятствуют: ну, скажем,
она — красотка при целом выводке безобразных сестриц,
или единственная дочь и наследница большого состояния,
или же служанка в деревенской харчевне, как наша
Кэтрин; такая в шестнадцать лет водит за нос мужчин
с непосредственностью и невинным лукавством юности,
которых не превзойти в более зрелые годы.
Итак, мисс Кэтрин была то, что называется franche
coquette1, и мистер Хэйс был несчастен. Жизнь его
протекала в бурях низменных страстей; но никакой ураган
чувств не мог сокрушить стену равнодушия,
преграждавшую ему путь. О, жестокая боль неразделенной любви!
И жалкий плут, и прославленный герой равно от нее
страдают. Есть ли в Европе человек, которому не доводилось
много раз испытывать эту боль,— взывать и упрашивать, и
на коленях молить, и плакать, и клясть, и неистовствовать,
все понапрасну; и долгие ночи проводить без сна, наедине
с призраками умерших надежд, с тенями погребенных
воспоминаний, что по ночам выходят из могил и шепчут:
«Мы мертвы теперь, но когда-то мы жили; и ты был
счастлив с нами, а теперь мы пришли подразнить тебя: ждать
нечего больше, влюбленный, ждать нечего, кроме смерти».
О, жестокая боль! О, тягостные ночи! Коварный демон,
забравшись под ночной колпак, льет в ухо тихие, нежные,
благословенные слова, звучавшие некогда, в один
незабываемый вечер; в ящике туалетного стола (вместе с бритвой
и помадой для волос) хранится увядший цветок, что был
приколот на груди леди Амелии Вильгельмины во время
того бала,— труп радужной мечты, которая тогда казалась
бессмертной, так прекрасна она была, так исполнена сил
и света; а в одном из ящиков стола лежит среди груды
неоплаченных счетов измятое письмо, запечатанное
наперстком; оно было получено вместе с парой напульсников,
связанных ею собственноручно (дочка мясника, она свои
чувства выражала, как умела, бедняжка!), и заключало в
себе просьбу «насить в колидже на память о той, каторая»...
1 Откровенная кокетка (франц.).
217
три недели спустя вышла за трактирщика и давным-давно
думать о вас забыла. Но стоит ли множить нримеры — сто- j
ит ли дальше описывать муки бедного недалекого Джона
Хэйса? Заблуждается тот, кто думает, будто любовные
страсти ведомы лишь людям, выдающимся по своим
достоинствам или по занимаемому положению; поверьте,
Любовь, как и Смерть, сеет разрушения среди panperum
tabernas 1 и без разбора играет богачами и бедняками,
злодеями и праведниками. Мне не раз приходило на ум, когда
на нашей улице появлялся тощий, бледный молодой
старьевщик, оглашая воздух своим гнусавым «старье бере-емЬ>—
мне не раз, повторяю, приходило на ум, что узел с
допотопными панталонами и куртками, придавивший ему
спину,—не единственное его бремя; и кто знает,
какой горестный вопль рвется из его души, покуда он,
оттопырив к самому носу небритую губу, выводит свое
пронзительное, смешное «старье бере-емЬ. Вон он
торгуется за старый халат с лакеем из номера седьмого и словно
бы только и думает, как побольше выгадать на этих
обносках. Так ли? А может быть, все его мысли сейчас на Холи-
велл-стрвт, где живет одна вероломная красотка, и целый
ад клокочет в груди этого бедного еврея! Или возьмем
продавца из мясной лавки в Сент-Мартине-Корт. Вон он стоит,
невозмутимо спокойный на вид, перед говяжьей тушей,
с утра до захода солнца, и, кажется, от века до века. Да
и поздним вечером, когда уже заперты ставни и все кругом
притомилось и затихло, он, верно, все стоит тут,
безмолвный и неутомимый, и рубит, и рубит, и рубит. Вы вошли
в лавку, выбрали кусок мяса на свой вкус и ушли с
покупкой; а он все так же невозмутимо продолжает свою
Великую Жатву Говядины. И вам кажется, если где-нибудь
Страсть должна была отступить, так именно перед этим
человеком, таким веишотебшш спокойным. А я в этом
сомневаюсь и дорого бы дал, чтобы узнать его историю. Кто
знает, не бушует ли огненный вулкан внутри этой мясной
горы, такой безмятежной на видг— кто поручится, что сама
эта безмятежность не есть спокойствие отчаяния?
* * *
Если читателю непонятно, что заставило мистера Хэйса
принять угощение, предложенное капралом* пусть еще раз
перечитает высказанное выше соображение, а если он и
Лачуг бедняков (лат.).
218
тогда не поймет, значит, у него котелок плохо варит. Хэйс
не мог вынести мысли, что мистеру Буллоку удастся без
него повидать мисс Кэтрин, а может быть, ш поухаживать
за ней; и хотя его присутствие никогда не мешало молодой
девушке кокетничать с другими, скорей даже напротив,—
самые мученья, которые он при этом испытывал,
доставляли ему некую мрачную радость.
На сей раз неутешный влюбленный мог вволю
наслаждаться своим несчастьем, ибо Кэтрин ни разу не
поговорила с ним, даже не взглянула в его сторону; в тот вечер
все ее улыбки предназначались красивому молодому
незнакомцу, приехавшему на вороном коне. Что до бедного
Томми Буллюка, его страсти чужды были бурные вспышки;
вот и сейчас он удовольствовался тем, что вздыхал и
пил пиво. Вздыхал и пил, вздыхал и пил и снова пил,
пока не размяк от щедрого угощенья капрала настолько,
что не смог отказаться и от гинеи из его кошелька; и,
протрезвившись за ночь, проснулся солдатом армии ее
величества.
Но каковы были страдания мистера Хэйса, когда из
угла, где собрался кружок новых капраловых приятелей,
он смотрел на капитана, расположившегося на почетном
месте, и перехватывал улыбки, расточаемые ему
прекрасной Кэтрин; когда та, пробегая мимо с ужином для
капитана, указала Хэжу жа медальон, некогда украшавший
грудь гожааадской iqaacaBHHbi из Бриля, и с лукавым
взглядом ешшша: «Посмотри, Джон, что мне подарил его
милость!» И в то время, как у Джона лицо пошло зелеными
и лиловыми пятнами от ревности и злобы, мисс Кэтрин
засмеялась еще громче ш воскликнула: «Иду, милорд!» —
торжествующе звонким голоском, который вонзился
мистеру Джону Хэйсу в самое сердце, так что у него даже
дыхание сперло.
На другого поклонника Кэтрин, мистера Томаса, ее
проделки не оказывали действия: он и еще двое его друзей
к этому времени уже полностью подпали под чары
капрала, и слава, доблесть, кружка пива, принц Евгений, боевые
награды, еще кружка пива, ее королевское величество, еще
кружка пива — все эти образы, навеваемые то Марсом, то
Вакхом, проносились в их помутненных мозгах с
быстротой поезда железной дороги*
Случись тут в «Охотничьем Роге» опытный газетный
репортер, он бы мог записать в свою книжку любопытный
разговор о любви и о войне — предметы эти обсуждались
219
каждый особо в разных углах харчевни, но происходило
это на манер дуэта, в котором обе партии исполняются
одновременно, сливаясь в гармонии, подчас весьма
причудливой. Так, покуда капитан нашептывал разные галантные
пустячки, капрал во весь голос прославлял военные
подвиги и, подобно гостю Пенелопы, на столе exiguo pinxit
praelia tota mero l. Например:
Капитан. Любите ли вы платья с серебряной
вышивкой, прелестная Кэтрин? Пожалуй, вам бы очень пошел
алый костюм для верховой езды, богато отделанный
кружевом,— не правда ли? — и серая шляпа с голубым пером.
Вообразите только: вы едете в таком наряде на
хорошенькой гнедой кобылке, а солдаты отдают вам честь и говорят
ДРУГ другу: «Это любезная нашего капитана выехала на
прогулку». Или вы танцуете на балу менуэт с милордом
маркизом, или приезжаете в театр «Линкольн-Инн» и
входите в боковую...
Капрал. Ложу его ружья, сэр, оторвало напрочь, а
пуля прошла по руке вверх, и на следующее утро наш
полковой лекарь, мистер Сплинтер, извлек ее,— откуда бы
вы думали, сэр? — слово джентльмена, она оказалась
у него...
Капитан. На шее ожерелье, в ушах бриллиантовые
серьги, щеки осыпаны мушками, которые так украшают
женское лицо, и чуть-чуть подрумянены. Впрочем, что
я! К чему румяна таким щечкам, подобным спелому
персику,— ах, мисс Кэтрин, признайтесь, верно, птички иной
раз клюют их, приняв за плоды...
Капрал. На дереве; сижу и вижу, как еще двадцать
три человека наших один за другим перепрыгивают через
ограду. Ну и жаркое же было дело, скажу тебе, друг
Томас! Посмотрел бы ты на этих мусью, когда двадцать
четыре осатанелых молодца с ревом и с гиком, рубя и коля,
ворвались в их редут! Трех минут не прошло, как у пушек
валялось не меньше голов, чем ядер, заготовленных для
пальбы. Только и слышно было: «Ah sacre!» — «Получай,
скотина!» — «О mon Dieu!» — «Проткни его насквозь!» —
«Ventrebleu!» И не зря он кричал: «Ventrebleu!»,—потому
что «bleu» по-французски значит «насквозь», a «ventre» —
«ventre», к вашему сведению, это...
Капитан. Талия очень низкая, как нынче в моде; уж
что до кринолинов, вы даже и вообразить не можете,—
Каплей вина рисовал все битвы (лат.).
220
клянусь своей шпагой, милочка,— на ассамблее в Уорике
я видел одну даму (она прибыла в дорожной карете
милорда), чей кринолин был величиной с походную палатку;
под ним свободно можно было пообедать — ха-ха, черт
возьми! И там...
Капрал. Мы нашли герцога Мальборо в обществе
маршала Таллара, заливавшего свою печаль старым иоган-
нисбергером; неплохое, должен вам сказать, винцо, хотя
куда ему до уорикского пива. «Кто из вас совершил этот
подвиг?»—спросил наш благородный полководец. Я
выступил вперед. «Скольких же ты всего обезглавил?» —
спрашивает он. «Девятнадцать, говорю, да еще ранил
нескольких». Как он это услышал (вы совсем ничего не
пьете, мистер Хэйс), так даже прослезился, не сойти мне с
этого места. «Ты, говорит, истинный герой. Не взыщите,
маркиз, что я хвалю человека, перебившего столько ваших
соотечественников. Истинный герой! Вот тебе сто гиней
в награду»,— и вручает мне кошелек. «Что ж,— говорит
маршал,— он солдат и исполнял свой долг». С этими
словами он достает роскошную табакерку из чистого золота
с бриллиантами и предлагает мне взять...
Мистер Буллок. Как, золотую табакерку! Ну, и
счастливчик же ты, капрал!
Капрал. Да нет, не табакерку, а понюшку табаку —
хо-хо, разрази меня гром, если вру! Посмотрели бы вы,
как расцвел наш неулыба Джек Черчилль при виде столь
великодушного поступка! Он тотчас же подозвал
полковника Кэдогана, притянул его за ухо к себе и шепнул...
Капитан. «Не окажете ли мне честь протанцевать со
мной менуэт, миледи?» Тут все в зале так и прыснули со
смеху. Ведь у леди Сьюзен, как вам, разумеется, известно,
одна нога деревянная,— а бедняга Джек этого не знал. Ха-
ха-ха! Менуэт с деревянной ногой — можете себе
представить, милочка?..
Мисс Кэтрин. Хи-хи-хи! Ох, уморили! Ну и
озорник же вы, капитан...
Второй стол. Хо-хо-хо! Да, сержант, вы малый не
промах, сразу видно.
* * *
Этот небольшой образчик происходившей беседы
достаточно ясно показывает, сколь успешно действовали оба
доблестных офицера. Из отряда в пять человек, атакованного
221
капралом, трое сдались. То были: мистер Буллок,
прекративший сопротивление еще в начале вечера,— десятка
пивных залпов оказалось довольно, чтобы он с позором
сложил оружие и оказался под столом, затем подручный
кузнеца Блексмита и еще один поселянин, имени
которого нам так и не удалось узнать. Сам мистер Бутчер,
мясник, уже было дрогнул под натиском противника, но тут
ему на выручку подоспело мощное подкрепление в лице
его супруги, которая под истошный визг двух
державшихся за ее юбку детишек ворвалась в «Рог», надавала
мистеру Бутчеру пощечин и обрушила на капрала такой
ураганный огонь воплей и проклятий, что тот вынужден был
отступить. После чего она вцепилась мистеру Бутчеру в
волосы и потащила его прочь из харчевни, завершив этим
поражение, нанесенное мистеру Броку. В случае с Джоном
Хэйеом он потерпел неудачу еще более досадную, ибо сей
молодой джентльмен, столь беззащитный против любви,
оказался несокрушим для хмеля и вышел из пивного сра^
жения даже не разгоряченным, чего нельзя было сказать
о самом капрале. Учтиво пожелав последнему доброй ночи,
он спокойно взял свою шляпу и пошел к двери; но по
дороге оглянулся на Кэтрин, и тут спокойствие изменило ему.
Кэтрин даже не ответила на его прощальный поклон; она
сидела за столом напротив капитана и играла с ним в кри-
бедж; и хотя граф Густав Максимилиан все время
оставался в проигрыше, он приобретал больше, чем терял,
хитрец,— где было Кэтрин тягаться с ним!
Должно быть, Хэйс успел шепнуть словечко миссис
Скоур, хозяйке «Рога»,— кое-кто видел, что при выходе он
замешкался у стойки, и не прошло пяти минут, как мисс
Кэтрин была вызвана на кухню; а когда граф спросил
сухого вина с гренками, ему подала то и другое сама
хозяйка. Не менее получаса понадобилось monsieur де
Гальгенштейну, чтобы выпить вино и съесть гренки; при
этом он то и дело с нетерпением и беспокойством
поглядывал на дверь, но Кэтрин так и не появилась. Наконец он,
насупясь, потребовал, чтобы его проводили в комнату для
ночлега, и направился к двери, стараясь шагать как можно
решительней (признаться, благородный граф уже не совсем
твердо держался на ногах). Провожала его миссис Скоур;
войдя в комнату, она заботливо задернула занавески и с
гордостью обратила внимание гостя на белизну простынь.
— Милорду будет удобно здесь,— сказала она,— хоть
это и не лучшая комната в доме. Вашей милости по праву
222
следовало занять лучшую, но в ней у нас две постели, и
туда уже забрался капрал со своими пьянчугами-рекрута-
иш и заперся на все замки и засовы. Но ваше
сиятельство останетесь довольны, постель эта очень удобная, и
здесь не душно; я сама сплю на ней вот уже восемнадцать
лет.
— Как, любездайшая, вам, стало быть, придется не
спать всю ночь? Не слишком ли это тяжело для столь
почтенной матроны?
— Не спать ночь, милорд? Что вы, господь с вами!
Я лягу с Кэт, как делаю всегда, когда у нас много гостей.—
И, низко присев на прощанье, миссис Скоур удалилась.
* ¦ *
Рано утром хлопотливая хозяйка со своей проворной
помощницей подали блюдо жареной грудинки и кувшин
эля на завтрак капралу и его трем новобранцам и накрыли
чистой белой скатертью стол для капитана. Молодой кузнец
ел без всякого аппетита; но мистер Буллок с приятелем
если и были малость не в себе, то не более, чем это
обыкновенно бывает с перепоя. Они с готовностью сходили к
доктору Добсу, чтобы он внес их имена в книгу,— доктор
Добс был не только священником, но и мировым судьей;
а затем, собрав свои скудные пожитки, распрощались с
друзьями; прощанье, впрочем, было недолгим, ибо оба
джентльмена, выросши в приюте для бедных, не обладали
широким кругом знакомств.
Уже недалеко было до полудня, а благородный граф все
не шел завтракать. Его спутники в ожидании успели
спустить изрядную долю тех денег, что получили накануне,
запродав себя королеве. Должно быть, и мисс Кэтрин было
невтерпеж: она уже несколько раз вызывалась сбегать
наверх — снести милорду его сапоги — подать горячую
воду -— проводить мистера Брока, порой снисходившего до
обязанности брадобрея. Но миссис Скоур неизменно
удерживала ее и шла сама — хоть и без попреков, а напротив,
с ласковой улыбкой. Наконец она спустилась сверху,
улыбаясь особенно ласково, и сказала:
— Кэтрин, дитя мое, его сиятельство граф очень
проголодался за ночь и не прочь бы съесть куриное крылышко.
Сбегай, душенька, к фермеру Бригсу за курочкой — да
смотри, не забудь ощипать ее на месте, и мы приготовим
милорду вкусный завтрак.
223
Кэтрин схватила корзинку и была такова. Но для со-
кращенья пути она побежала задами, мимо конюшни — и
услышала, как юный конюх возится с лошадьми,
насвистывая и напевая, как все юные конюхи; и узнала, что
миссис Скоур ловко обманула ее, дабы услать из дому*
Парнишка сказал, что сейчас должен подавать коней к,
крыльцу харчевни; только что приходил капрал и велел
ему поторопиться, так как они сию минуту отправляются
в Стрэтфорд.
Вот что произошло на самом деле: граф Густав Адольф,
проснувшись, не только не выражал желания закусить
куриным крылышком, но почувствовал, что ему противно
думать о какой бы то ни было еде и о каких бы то ни было
напитках, кроме разве самого слабенького пивца, каковое
и было ему подано. Проглотив кружку, он объявил о своем
намерении сразу же ехать в Стрэтфорд и, распорядившись
насчет лошадей, любезно спросил миссис Скоур, «какого
черта она сама суетится тут, почему не пришлет девчонку».
В ответ он услышал, что «наша милая Кэтрин»
отправилась на прогулку со своим нареченным и до вечера не
вернется. Услышав это, капитан потребовал, чтобы лошади
были поданы немедленно, и принялся честить на чем свет
стоит вино, постель, дом, хозяйку и все сколько-нибудь
связанное с «Охотничьим Рогом».
И вот лошади уже у крыльца; сбежались со всей
деревни ротозеи-мальчишки; прибыли рекруты с кокардами из
лент на шляпах; капрал Брок с важным видом хлопнул
по спине польщенного кузнеца и велел ему сесть на свою
лошадь, вызвав этим шумный восторг мальчишек. И
наконец, величественный и мрачный, появился в дверях
капитан. Мистер Брок отдал ему честь, рекруты, ухмыляясь и
хихикая, неуклюже попытались сделать то же.
— Я пойду пешком вместе с этими молодцами, ваша
честь,— сказал капрал,— мы встретимся в Стрэтфорде.
— Хорошо,— ответил капитан, вскочив в седло.
Хозяйка низко присела, мальчишки зашумели еще
громче, юный конюх, державший повод одной рукой, а
стремя другой и рассчитывавший по меньшей мере на кро-^
ну от столь знатного всадника, получил лишь пинок ногой и
крепкое словцо, после чего фон Гальгенштейн крикнул:
«Прочь с дороги, ко всем чертям!» — дал лошади шпоры и
ускакал; и Джон Хэйс, все утро беспокойно бродивший
вокруг харчевни, с облегчением перевел дух, видя, что граф
уехал один.
224
О, неразумная миссис Скоур! О, простофиля Джон
Хэйс! Не вмешайся хозяйка, дай она капитану и Кэтрин
свидеться перед разлукой на глазах у капрала, рекрутов и
всех прочих, ничего бы не случилось дурного, и эта повесть
скорей всего не была бы написана.
Когда граф Гальгенштейн, подавленный и угрюмый,
как Наполеон на пути от романтического селения
Ватерлоо, проехал с полмили по Стрэтфордской дороге, впереди
у поворота он увидел нечто, заставившее его круто осадить
лошадь и почувствовать, как кровь бросилась ему в лицо, а
сердце глухо заколотилось: тук-тук-тук. По тропинке
неторопливо шла девушка; на руке у нее висела корзинка,
в руке был букет полевых цветов. Время от времени она
останавливалась сорвать цветок-другой, и капитану
казалось, вот-вот она его заметит; но нет, она не смотрела в ту
сторону и брела себе дальше. Святая невинность! Она
громко распевала песенку, словно зная, что кругом никого
нет; ее голос уносился к безоблачным небесам, и капитан
свернул с дороги, чтобы не нарушать гармонии этих звуков
топотом лошадиных копыт.
Уж коров доить не надо,
Овцы заперты в загон.
Подышать ночной прохладой
Вышли в поле Молль и Джон.
И порой, сэр, над рекой, сэр,
Где синеет лунный свет,
Джон у Молли ласки молит,
Но в ответ лишь: нет, нет, нет.
Капитан свернул с дороги, чтобы не нарушать
гармонии топотом копыт, и опустил поводья, а лошадь тотчас же
принялась щипать травку. Потом он тихонечко
соскользнул с седла, подтянул свои ботфорты, с лукавой усмешкой
на цыпочках подкрался к певице и, когда она выводила
последнее «э-э-э» в последнем «нет» вышеприведенного
творения Тома д'Эрфи, легонько обнял ее за талию и
воскликнул:
— А во г и я, моя прелесть, к вашим услугам!
Мисс Кэтрин (вы ведь уже давно догадались, что это
была она) вздрогнула, вскрикнула и, наверно, побледнела
бы, если б могла. Но так как это ей не удалось, она только
вымолвила еле слышно, вся дрожа:
У. Тенкерей, т, 1
225
— Ах, сэр, как вы меня напугали!
— Напугал, мой розовый бутончик? Разрази меня гром,
если я помышлял об этом! Ну скажите-ка, моя крошка,
неужели я в самом деле так страшен?
— О нет, ваша честь, я совсем но то хотела сказать;
просто я никак не ожидала встретить вас здесь, да и
вообще не думала, что вы так рано соберетесь в путь. Я ведь
как раз иду за курочкой для вашей милости: хозяйка
сказала, что вам угодно курочку на завтрак; только она меня
послала к фермеру Бригсу — это по Бирмингемской
дороге — а я решила сходить к фермеру Пригсу, у него куры
лучше откормлены, сэр... то есть, милорд.
— Она сказала, что мне угодно курицу на завтрак? Ах,
старая карга — да я вовсе отказался от завтрака, потому
что мне кусок не шел в горло после вчерашней иопо... то
есть я хотел сказать — после вчерашнего сытного ужина.
Я япросил только кружку слабого пива и велел прислать
его с вами; но эта ведьма сказала, что вы ушли гулять со
своим женихом...
— Что? С этим ублюдком Джоном Хэйсом? Ах,
негодная старая лгунья!
— ...что вы ушли гулять со двоим женихом и что мне
вас не видать больше; услышав это, я пришел в такое
отчаяние, что хотел тут же застрелиться,— да, да, моя
прелесть.
— О, что вы, сэр! Не надо, не надо!
— Вы меня об этом просите, мой нежный ангел?
— Да, прошу, умоляю, если мольбы бедной девушки
могут что-либо значить для такого знатного господина.
— Хорошо, в таком случае я останусь жить — ради
вас; хотя, впрочем, к чему? Гром и молния, без вас мне все
равно нет счастья — и вы это знаете^ моя
обворожительная, прекрасная, жестокая, злая Кэтрин!
Но Кэтрин вместо ответа воскликнула:
— Ах ты беда! Никак, ваша лошадь вздумала убежать!
И в самом деле: плотно закусив свежей травкой,
«Георг Датский» оглянулся на хозяина, помедлил немного,
словно бы в нерешительности, и вдруг, взмахнув хвостом
и взбрыкнув задними ногами, понесся вскачь по дороге в
сторону деревни.
Мисс Холл во всю прыть бросилась ему вдогонку, а
капитан бросился за мисс Холл; лошадь неслась все быстрей
и быстрей, и ее преследователям, верно, пришлось бы
туго — но тут из-за поворота дороги показался пехотно-ка-
226
валерийский отряд во главе с мистером Броком.
Последний, едва только деревня скрылась позади, приказал
кузнецу спешиться и сам вскочил в седло; для поддержания
же субординации в своем войске вытащил пистолет и
пригрозил разнести череп всякому, кто вздумает пуститься
наутек. Поравнявшись с отрядом, «Георг Датский» перешел
с галопа на шаг, и Томми Буллок без труда поймал его за
повод и повел навстречу капитану и Кэтрин.
При виде этой пары у мистера Буллока потешно
вытянулось лицо; капрал же как ни в чем не бывало
приветствовал мисс Кэтрин, любезно заметив, что в такой денек
приятно гулять.
— Ваша правда, сэр, но не так приятно бегать,—
возразила девица, мило и беспомощно отдуваясь.— Я просто,—
уф! — просто ног иод собой не чую, до того загоняла меня
эта несносная лошадь.
-— Эх, Кэти, Кэти,— сказал Томас— А я вот, видишь,
ухожу в солдаты, оттого что ты за меня не пошла.— И ми^
стер Буллок широко осклабилея в подкрепление своих
слов. Но мисс Кэтрин оставила их без внимания и
продолжала жаловаться на усталость. По правде говоря, ее
весьма раздосадовало появление капрала с его отрядом как раз
в ту минуту, когда она совсем было решила упасть от
усталости.
Тут капитана осенила неожиданная мысль, и глаза его
радостно заблестели. Он вскочил на своего жеребца,
которого Томми держал: за повод.
— 3>го вы по моей вине устали, мисс Кэтрин,— сказал
он,— и клянусь, вы больше ни шагу не сделаете пешком.
Да, да, вы вернетесь домой на лошади, и с почетным
эскортом. Назад, в деревню, джентльмены? Налево кругом!
Капрал, покажите им, как сделать налево кругом. А вы, моя
прелесть, сядете на Снежка позади меня; да не бойтесь,
вам будет покойно, как в портшезе. Ставьте свою
прелестную ножку на носок моего сапога. А теперь — хон! — вот
и чудесно!
— Это что же такое, капитан! — завопил Томас, все
еще держась за повод, хотя лошадь уже пошла.— Не езди
с ним, Кэти, не езди, слышишь!
Но мисс Кэтрин молча отвернулась и лишь крепче
обхватила талию капитана, а тот, крепко выругавшись,
размахнулся хлыстом и дважды, крест-накрест, стегнул
Томаса по лицу и плечам. При первом ударе бедняга еще
цеплялся за повод и только при втором выпустил его из
8*
227
рук, сел на обочину дороги и горько заплакал, глядя вслед
удаляющейся парочке.
— Марш вперед, собака! — заорал на него мистер
Брок. И Томас зашагал вперед; а когда ему привелось
увидеть мисс Кэтрин следующий раз, она уже и впрямь была
любезной капитана, и на ней было красное платье для
верховой езды, отделанное серебряным кружевом, и серая
шляпа с голубым пером. Но Томас в это время сидел
верхом на расседланной лошади, которую капрал Брок гонял
по кругу, и сосредоточенно глядел в одну точку между ее
ушами, так что плакать ему было некогда; и тут он
исцелился наконец от своей несчастной любви.
На этом уместно будет закончить первую главу, но
прежде нам, пожалуй, следует принести читателю извинения
за навязанное ему знакомство со столь дрянными людьми,
как все, кто здесь выведен (за исключением разве
мистера Буллока). Мы больше старались соблюдать верность
природе и истории, нежели господствующим вкусам и
манере большинства сочинителей. Возьмем для примера
такой занимательный роман, как «Эрнест Мальтраверс»; он
начинается с того, что герой соблазняет героиню, но при
этом оба они — истинные образцы добродетели;
соблазнитель исполнен столь возвышенных мыслей о религии и
философии, а соблазненная столь трогательна в своей
невинности, что — как тут не умилиться! — самые их грешки
выглядят привлекательными, и порок окружен ореолом
святости, настолько он бесподобно описан. А ведь, казалось
бы, если уж нам интересоваться мерзкими поступками, так
незачем приукрашивать их, и пусть их совершают
мерзавцы, а не добродетельные философы. Другая категория
романистов пользуется обратным приемом, и для
привлечения интереса читателей заставляет мерзавцев совершать
добродетельные поступки. Мы здесь решительно
протестуем против обоих этих столь популярных в наше время
методов. На наш взгляд, пусть негодяи в романах будут
негодяями, а честные люди — честными людьми, и нечего
нам жонглировать добродетелью и пороком так, что
сбитый с толку читатель к концу третьего тома уже не
разбирает, где порок, а где добродетель; нечего восторгаться
великодушием мошенников и сочувствовать подлым
движениям благородных душ. В то же время мы знаем, что
нужно публике; поэтому мы избрали своими героями него-
228
дяев а сюжет заимствовали из «Ньюгетского календаря»
и надеемся разработать его в назидательном духе. Но, по
крайней мере, в наших негодяях не будет ничего такого,
что могло бы показаться добродетелью. А если английские
читатели (после трех или четырех изданий, выпущенных
по настоянию публики) утратят вкус не только к нашим
мерзавцам, но и к литературным мерзавцам вообще, мы
сочтем себя удовлетворенными и, схлопотав себе у
правительства пенсию, удалимся на покой с сознанием
исполненного долга.
Глава II,
в коей описаны прелести любовных уз
Для целей нашего рассказа нет надобности излагать
подробно все приключения мисс Кэтрин, начиная с того дня,
когда она покинула «Охотничий Рог», чтобы стать
любезной капитана; нам, право, не стоило бы труда изобразить,
как наша героиня, последовав за избранником своего
сердца, лишь поддалась невинному порыву, а не желая в
дальнейшем расстаться с ним, доказала тем глубину и силу
своего чувства; и мы вполне сумели бы подыскать
трогательные и красноречивые слова в оправдание роковой
ошибки, совершенной обеими сторонами; но мы побоялись,
не покоробило бы читателя от подобных описаний и
рассуждений; к тому же, при желании, он может найти их в
изобилии на страницах уже упоминавшегося «Эрнеста Маль-
траверса».
Все поведение Густава Адольфа с Кэтрин, равно как и
его мгновенный и блистательный успех, без сомнения,
убедили читателя в том, что, во-первых, названный
джентльмен едва ли воспылал к мисс Кэт истинной любовью; во-
вторых, что покорение женских сердец было для него
привычным занятием и рано или поздно он должен был к
этому занятию возвратиться; и, наконец, в-третьих, что
подобный союз в силу природы вещей не мог не распасться
в самом непродолжительном времени.
Справедливость требует признать, что так бы оно и
случилось, если б граф мог следовать своим непосредственным
побуждениям; ибо, как многие молодые люди в его
положении (не к чести их будь сказано), через неделю он
остыл, через месяц стал тяготиться этой связью, через два
потерял терпенье, через три дело дошло до побоев и брани;
229
г
и он уже проклинал тот час, когда его дернуло предложить
мисс Кэтрин свою ногу в качестве опоры, чтобы помочь
ей взобраться на лошадь.
-— Дьявольщина! — сказал он однажды капралу,
поверяя ему свои огорчения.— Жаль, что мне не отрубили ногу
прежде, чем она послужила ступенькой для этой ведьмы.
—- А что, если той же ногой дать ей пинка и спустить
с лестницы, ваша честь? — деликатно подсказал мистер
Брок.
— Это ее-то? Да она бы так вцепилась в перила, что
мне бы ее и с места не сдвинуть! Скажу тебе по секрету,
Брок, я уже пробовал — ну, не то чтобы спустить с
лестницы, это было бы не по-джентльменски,— но добиться,
чтобы она убралась восвояси в тот дрянной кабак, где мы
ее повстречали. Уж я ей намекал, намекал...
— Как же, ваша честь, не далее чем вчера вы при мне
намекнули ей — кружкой пива. Клянусь преисподней,
когда пиво потекло по ее лицу и она бросилась на вас с
кухонным ножом, я так и подумал: сущая чертовка! Вы с ней
лучше не связывайтесь, ваша честь, такая и убить может.
— Убить — меня? Ну нет, Брок, это ты напрасно! Она
волоску не даст упасть с моей головы, она меня
боготворит! Да, черт возьми, капрал, боготворит; и скорей всадит
нож в собственную грудь, нежели хоть оцарапает мне
мизинец.
— Что ж, пожалуй, вы правы,— сказал мистер Брок.
— Можешь не сомневаться,— отвечал капитан.—
Женщины — они как собаки: любят, чтобы с ними дурно
обращались; да, да, сэр, любят,— мне ли не знать. Я немало
перевидал женщин йа своем веку, и всегда чем хуже я с
ними обращался, тем больше они меня любили.
— В таком случае мисс Холл должна вас любить без
памяти, сэр,— заметил капрал.
— Без памяти,— ха-ха, шутник ты, капрал! — именно
так она меня и любит. Вчера, например, после этой
истории с пивом и с ножом... кстати, не мудрено, что я
выплеснул кружку ей в лицо,— никакой джентльмен не стал
бы глотать это безвкусное пойло; я ей сто раз толковал,
чтобы не нацеживала пива из бочки, пока я не сяду
обедать...
— Так и ангела недолго привести в ярость! —
поддакнул Брок.
— ...И вот после этой истории, после того, как ты
вырвал у нее из рук нож, она кинулась в свою комнату, не
230
стала обедать и часа два просидела взаперти. Но в третьем
часу пополудни (я в это время сидел за бутылкой вина)
гляжу — явилась, чертовка; лицо бледное, глаза распухли,
кончик носа весь красный от сморканья и слез. Ловит мою
руку. «Макс, говорит, простишь ли ты меня?» — «Как? —
воскликнул я.— Простить убийцу? Нет, говорю, будь я
проклят, если прощу!» — «Ты,— говорит она тогда,— убьешь
меня своей жестокостью»,— и в слезы. «Ах, так я же еще
и жесток? — говорю.—А кто нацедил мне пива за час до
обеда?» На это ей нечего было ответить, а я еще
пригрозил, что всякий раз, как она подаст мне такое пиво, я
снова выплесну ей всю кружку в лицо. Тут она опять убежала
в свою комнату, где ревела и бесновалась до самой ночи.
— А ночью вы все-таки простили ее?
— Верно, простил. Я, видишь ли, ужинал в «Розе» в
обществе Тома Триппета и еще нескольких славных
малых; и случился там один толстый чурбан из уорикшир-
ских ланд-юнкеров,—сквайров, так это, кажется, здесь
называется? — у которого я выиграл сорок золотых. А я,
когда выигрываю, всегда сразу же добрею, вот мы с Кэт и
помирились. Но все-таки я ее отучил подавать мне
выдохшееся пиво — ха-ха-ха!
Из этой беседы читатель уяснит себе лучше, чем из
самых красноречивых авторских описаний, как
складывалась жизнь у графа Максимилиана и мисс Кэтрин и
каковы были их взаимные чувства. Спору нет, она его любила.
В предшествукщей главе мы пытались показать, что Джон
Хэйс, человек ничтожный и жалкий, истинный пигмей во
всех страстях человеческих, вырастал в исполина, когда
дело касалось любовной страсти, и преследовал мисс
Кэтрин с неистовством, казалось бы, вовсе чуждым его натуре;
вот так же и мисс Холл, на свою беду* влюбилась в
капитана, и — тут он был прав — чем больше он ее оскорблял и
мучил, тем больше нравился ей. Ибо любовь, на мой взгляд,
сударыня, есть не что иное, как телесный недуг, против
которого человечество так же бессильно, как против оспы,
и который поражает нас всех, от знатнейшего из пэров
королевства до Джека Кетча включительно; ей нет дела до
звания человека и до его добродетелей или пороков,
каждый должен переболеть в свой черед; она вспыхивает вдруг,
невесть почему и с чего, и бушует положенный срок,
заставляя существо одного пола томиться слепым и
яростным влечением к существу другого пола (чистому,
прекрасному, синеокому, кроткому и нежному — а может быть,
231
злому, сварливому, горбатому, косоглазому и
противному,— это уж как повезет); и, отбушевав свое, угаснет тихо
и мирно, если не нарушать ее естественный ход, но,
встретив противодействие, лишь разбушуется еще сильнее. Не
полна ли история, и до и после Троянской войны,
примеров подобной необъяснимой страсти? Ведь Елене по самым
скромным подсчетам было лет девяносто, когда она
сбежала с его королевским высочеством принцем Парисом! А
мадам Лавальер была худа, кривобока, с дурным цветом
лица, глаза у нее слезились, а волосы походили на паклю.
А безобразный Уилкс не знал себе равных по успеху у
женщин! Примеров можно еще привести столько, что
хватило бы на увесистый том,— но cui bono? 1 Любовью
управляет рок, а не воля человека; ее возникновение не
объяснишь, а ее рост не остановишь. Хотите доказательств?
Ступайте хоть нынче на Боу-стрит и спросите тамошних
приставов, где чаще всего удается изловить преступника,—
вам скажут: в доме у женщины. Он спешит к своей милой,
хоть знает, что может поплатиться за это жизнью; он не
откажется от любви, хоть на шее у него уже захлестнута
петля. А что касается сказанного выше, что дурное
обращение мужчины не ослабляет привязанности женщин,— не
полны ли полицейские протоколы рассказов о случаях,
когда прохожий, вступившийся за жену, избиваемую мужем,
сам был избит мужем и женой, дружно ополчившимися
на непрошеного защитника?
Итак, после всестороннего разбора этого вопроса,
читатель едва ли станет спорить против утверждения, что
мисс Холл в самом деле любила доблестного графа и что
прав был мистер Брок, уподобляя ее бифштексу, который
чем больше бьют, тем он мягче. Ах, бедняжка, бедняжка!
Красивое лицо и показная любезность покорили ее за один
час; впрочем, больше и не нужно, чтобы потерять свое
сердце; больше и не нужно, чтобы полюбить в первый
раз,— а первая любовь женщины длится всю жизнь
(у мужчины прочней всего двадцать четвертая или
двадцать пятая); ее не истребишь ничем; она пускает корни,
укрепляется и даже растет, какая бы ни случилась почва,
какая бы не трепала непогода,— растет подчас, как
желтофиоль: прямо из камня.
Первое время граф был хотя бы щедр к Кэтрин:
подарил ей лошадь, накупил дорогих нарядов и на людях ока-
1 К чему? (лат.)
232
зывал то лестное внимание, которое она так высоко
ценила. Но вскоре ему не повезло в игре, или пришлось
уплатить кое-какие долги, или его кошелек отощал по другой
причине,— и жизнь на широкую ногу кончилась очень
быстро. Мисс Кэтрин, рассудил он, сызмальства привыкла
прислуживать другим и потому отлично может
прислуживать ему, а уж о себе самой и подавно сумеет
позаботиться; и ко времени происшествия с пивной кружкой она уже
давно несла все обязанности домоправительницы графа,
включая попечение об его белье, об его погребе и обо всех
тех удобствах, заботу о которых холостяк всегда рад
переложить на женские плечи. И надо ей, горемычной, отдать
справедливость,— она держала графское хозяйство в
отменном порядке, не допускала никаких излишеств — разве
только в украшении своей особы, когда Густав Адольф
удостаивал ее чести вместе с ней показаться в люди (что
бывало очень редко), или в выражении своих чувств во время
очередной ссоры (что бывало гораздо чаще). Но при тех
отношениях, какие связывали эту милую парочку,
подобные слабости не диво в женщине. Она наверняка глупа и
тщеславна, а отсюда страсть к нарядам, и к тому же втайне
несчастна и горько сожалеет о своем падении, а это делает
ее запальчивой и сварливой.
Так, по крайней мере, обстояло дело с мисс Холл; и
бедняжка очень рано начала пожинать, что посеяла.
Мужчине в подобных случаях редко приходится
раскаиваться. Его не клеймят за вероломство; он не знает мук
раненого честолюбия; ближние не глядят на него с
оскорбительным превосходством; общество не выносит ему
уничтожающий приговор; это все — доля той, что поддалась
искушению, а искуситель выходит сухим из воды. Если
мужчина сумел ловко обмануть женщину, это прежде
всего учит его презирать жертву своего обмана. И успех и
слава (пусть даже сомнительная) достаются ему, а она
только несет кару. Задумайтесь об этом, сударыня, когда
молодые красавцы станут нашептывать вам сладкие речи.
Вас не ждет ничего, кроме горя, обиды и одиночества.
Задумайтесь об этом и будьте благодарны вашему другу
Соломонсу за предостережение.
Итак, дошло до того, что граф стал совершенно
равнодушен к Кэтрин и даже почувствовал к ней презрение,—
да и можно ли было ждать от него иных чувств по
отношению к молодой особе, так легко ему уступившей? — а
потому был бы весьма рад случаю от нее избавиться. Нока-
233
кие-то слабые остатки совести мешали ему прямо и
недвусмысленно сказать: «Убирайся вон!» А бедняжка упорно
не желала понимать намеков, роняемых им в разговорах
и перебранках. Так у них и шло: он продолжал ее
оскорблять, а она отчаянно цеплялась за любую самую
тоненькую веточку, только бы не оторваться от скалы, за
которой, казалось ей, ждет небытие или смерть.
Но вот, после вечера в «Розе» с Томом Триппетом и
другими славными малыми, упомянутыми графом в
приведенной выше беседе, фортуна словно бы заулыбалась ему:
уорикширский сквайр, которому этот вечер обошелся в
сорок золотых, назавтра пожелал отыграться; и дело, как ни
странно, кончилось тем, что в кошелек его сиятельства
перекочевало еще полтораста монет. Столь изрядная
сумма поправила дела молодого аристократа и вернула ему
душевное равновесие, сильно поколебленное денежными
затруднениями последних месяцев. Эту удачу на известное
время и до известной степени разделила и бедная Кэт;
правда, в доме не прибавилось жрщслуги, и она по-прежнему
сама занималась стряпней, не имея других помощников,
кроме девчонки на побегушках, исполнявшей также
обязанности поваренка и судомойки; но граф теперь
обходился со своей любовницей помягче, точней сказать — не
грубее, чем можно было ожидать от человека его склада в
обращении с женщиной ее положения. К тому же ожидалось
некое событие, вполне естественное при подобных
обстоятельствах, и срок его был не за горами.
Капитан, имея все основания не слишком полагаться
на глубину своих родительских чувств, великодушно
занялся приисканием отца для будущего дитяти и для этой
цели вступил в переговоры с мистером Буллоком,
напомнив ему о его былом увлечении и уведомив, что мисс Кэт
получит в приданое двадцать гинеи; но Томми отклонил
предложенную честь, божась, что вполне доволен своим
холостяцким положением. На сцену выступил было мистер
Брок, выразивший готовность стать обладателем мисс Холл
и ее двадцати гиней; и, быть может, дело бы на том и
уладилось, если бы его не расстрела сама Кэтрин, которая,
услыхав об этом, тут же в гневе ш ярости — о, какой
ярости! — бросилась к мировому судье ж иод присягой
сообщила, кто отец ее будущего ребенка.
К ее великому удивлению, ее господин и повелитель,
вместо того чтобы возмутиться этим поступком, принял
весть о нем с неожиданным добродушием; он только чер-
234
тыхнулся по поводу шутки, которую с ним сыграла
негодница, а последовавшая за ее возвращением буря страстных,
неистовых упреков и горькие, горькие слезы отчаяния
оскорбленной души явно позабавили его. Мистер Брок был
отвергнут с гадливым презрением; что же до мистера Бул-
лока, то мысль о возможном союзе с ним вызвала у мисс
Кэт негодование, еще более яростное. Чем не муженек, в
самом деле! Нищий из приюта, да еще в солдатском
мундире! Лучше она умрет или пойдет грабить на большую
дорогу! И можно поверить, что она в самом деле
предпочла бы такую участь, ибо в целом свете трудно было найти
существо более тщеславное, а тщеславие (как всякий, я
полагаю, знает) некоторым женщинам заменяет все,—
оно — те очки, сквозь которые они смотрят на мир, оно их
совесть, их хлеб насущный, их единственное мерило добра
и зла.
Мистер Томми, как мы уже видели, отнесся к
брачному предложению не менее враждебно, чем сама Кэт; что
же до капрала, то он с притворным унынием объявил, что,
раз его заветная мечта неосуществима, ему остается лишь
напиться с горя, что он и сделал.
— Пойдем, друг Томас,— сказал он мистеру Буллоку.—
Наша желанная нам не досталась, так давай хоть выпьем,
черт возьми, за ее здоровье! — Каковое предложение было
Булдоком одобрено.
Столь тяжким явилось для честного капрала Брока
испытанное разочарование, что, даже когда выпитое без
счету пиво почти лишило его дара речи, он, проливая слезы,
клял заплетающимся языком злую судьбу, которая отняла
у него не только жену, но и ребенка,— ему так хотелось
иметь сыночка, утешенье на старости лет.
Меж тем подоспел назначенный природой срок, и
Кэтрин благополучно разрешилась от бремени, произведя на
свет здорового младенца мужского пола, наделенного
правом на герб Гальгенштейнов, только с поперечной полосой
в левом поле. Новые заботы и обязанности оставляли ей
сравнительно мало времени для ссор с графом; впрочем,
этот последний, то ли из уважения к ее -материнству, то ли
справедливо полагая, что она нуждается в покое, не бывал
теперь дома ни утром, ни днем, ни вечером.
Следует признать, что все это время капитан не терял
понапрасну, а проводил в игре; и так как после первой
победы над уорикширским сквайром фортуна продолжала
ему благоприятствовать, он мало-помалу накопил почти
235
тысячу фунтов. Выигранные деньги он приносил домой и
запирал в железный ящик, для верности привинченный к
полу под его кроватью. Разумеется, мисс Кэтрин, стлавшая
ему постель, очень скоро проникла в тайну этого
сокровища. Но ключ благородный граф всегда носил при себе, а
кроме того, он самыми страшными заклятьями (пополам
с проклятьями) обязал ее никому не рассказывать о
железном ящике и его содержимом.
Но не в натуре женщины хранить подобную тайну; а
капитан, целыми днями пропадая на стороне, не подумал
о том, что она станет искать, с кем отвести душу в его
отсутствие. За неимением женского общества, ей пришлось
осчастливить своей дружбой капрала Брока, который в
качестве приближенного к графу лица постоянно бывал в
доме и который уже оправился от удара, нанесенного ему
отказом мисс Кэтрин выйти за него замуж.
Когда ребенку было два месяца, капитан, устав от
детского писка, отдал его на воспитание в деревню и отпустил
ходившую за ним няньку. Мисс Кэтрин вернулась к своим
обязанностям, вновь совместив в своей особе служанку и
хозяйку дома. В ее распоряжении находились ключи от
погреба, где хранилось пиво, и это обстоятельство служило
надежным залогом преданности капрала, сделавшегося,
как уже было сказано, ее другом и наперсником. Верная
женской природе, она вскоре поверила ему все домашние
секреты и открыла причины недавних своих огорчений,
рассказав о том, как дурно обращался с ней граф; какой
бранью он ее осыпал; каких денег стоили ее наряды; как
он даже бил ее; какую крупную игру он вел; как ей
однажды пришлось снести в заклад его кафтан; как недавно он
приобрел четыре новых, расшитых золотом, и уплатил за
них сполна; как лучше всего чистить и сохранять золотое
шитье, готовить вишневую наливку, соли-ть рыбу и проч.
и проч. Все эти confidences 1 следовали подряд одна за
другой, и скоро мистер Брок знал историю жизни графа за
последний год едва ли не лучше его самого,— граф был
небрежен и многое забывал, а женщины не забывают ничего.
Они хранят в памяти все слова и ничтожнейшие поступки
того, кого любят, вплоть до самых пустяков, помнят,
когда у него болела голова, какое и когда он носил платье,
что и когда заказывал на обед,— подробности, которые сра-
Откровенности (франц.).
236
зу же вылетают из памяти мужчины, но навсегда
остаются в памяти женщины.
Тому же Броку, и лишь ему одному (поскольку больше
некому было) Кэтрин под строжайшим секретом поведала
о выигранных графом деньгах и о том, что он прячет их в
железный ящик, привинченный к полу в спальне; и Брок
подивился удаче своего командира, сделавшей его
обладателем столь крупной суммы. Они с Кэт даже осмотрели
ящик; он был невелик, но на редкость прочен и надежно
защищен от кражи или взлома. Ну что ж, кто-кто, а
капитан заслуживает богатства («однако ж не купил мне хоть
несколько ярдов кружев, которые я так люблю»,—
перебила Кэт) — капитан заслуживает богатства, потому что
умеет тратить деньги с княжеской широтой и всегда готов их
тратить.
Пришло время сказать, что, пока Кэт сидела в
одиночестве, внимание monsieur де Гальгенштейна привлекла к
себе некая молодая особа, наследница изрядного состояния,
часто посещавшая бирмингемские ассамблеи, и что он, в
свою очередь, произвел на нее немалое впечатление своим
титулом и своей изящной наружностью. «Четыре новых
кафтана, расшитых золотом», о которых упоминала мисс
Кэт, без сомнения, были приобретены для того, чтобы
окончательно пленить наследницу; и в короткий срок графу и
его кафтанам удалось добиться признания в нежных
чувствах и готовности вступить в брак, если папенька даст
согласие. Последнее удалось получить без труда, ибо
папенька был купец, а читателю, я думаю, и самому
известно, сколь магическое действие оказывает титул на людей
низшего сословия. Да, видит бог, ни одна деспотия Европы
не знает такого духа угодничества, такого раболепного
благоговения перед аристократией, какое присуще свободным
сынам Британии. Только здесь да еще в Америке можно
встретить что-либо подобное.
Обо всем этом Кэт не имела ни малейшего
представления; и поскольку капитан твердо решил не поздней, чем
через два месяца выбросить молодую женщину sur le
pave *, он пока что сделался с ней необыкновенно ласков;
так часто поступают, когда обманывают человека или
замышляют против него подлость.
Бедная женщина была чересчур высокого мнения о
своих чарах, чтобы допустить мысль о возможной неверности
1 На улицу (франц.).
237
графа, и совершенно не догадывалась, какая против нее
плетется интрига. Но мистер Брок оказался более
догадлив; тем более что ему не раз уже случалось встречать в
окрестностях города раззолоченную карету, запряженную
парой сытых белых лошадей, а рядом с ней капитана, лихо
гарцующего на своем вороном жеребце; видал он также,
как по лестнице Собрания, опираясь на руку капитана,
спускалась вперевалочку пухлая, белобрысая молодая
особа. Все эти обстоятельства наводили мистера Брока на
некоторые размышления. А однажды граф, будучи в
отменном расположении духа, хлопнул его по плечу и сказал,
что намерен в скором времени купить себе полк, и тогда ¦—
черт побери! — найдется и для капрала более подходящая
должность. Быть может, именно памятуя это обещание,
мистер Брок ничего не говорил Кэтрин; быть может, он
так бы ей ничего и не сказал; и тогда эта повесть, быть
может, вовсе не была бы написана, не случись тут одно
маленькое происшествие.
— На что вам этот старый пьянчуга капрал, что вечно
околачивается тут? — спросил как-то мистер Триппет у
графа во время приятной беседы за бутылкой вина,
происходившей в доме последнего.
— Кто? Старичина Брок? — переспросил капитан.— Да
от этого старого плута куда больше проку, чем от многих
порядочных людей. В драке он отважен, как лев, в кознях
хитер, как лисица, за десять миль учует нетерпеливого
кредитора и сквозь семь каменных стен разглядит
хорошенькую женщину. Готов рекомендовать его любому
джентльмену, нуждающемуся в услугах прохвоста. Я, видите
ли, собираюсь остепениться, и мне он больше не нужен.
— А красотка мисс Кат?
— К дьяволу красотку мисс Kail Пусть убирается на
все четыре стороны.
— А малец?
— Разве мало у вас, в Англии, приютов? Если
дворянину заботиться самому обо всех прижитых им детях, как
же тогда существовать? Нет, сдуга покорный! Э^го и Крезу
не по карману.
— Ваша правда,— сказал мистер Триплет.— Тут
ничего не возразишь; а женатому человеку уже не иодобает
водиться с людьми простого звания, от которых может быть
прок для холостого.
— Разумеется; я и перестану с ними водиться, как
только очаровательная мисс Дриппинг станет моей. Что до
238
Кэт, так, если она вам нравится, Том Триппет, можете
взять ее себе; а капрал пусть остается в наследство тому,
кто займет мое место в полку Каттса,— у меня ведь
теперь будет собственный полк, это точно, и мне там вовсе
ни к чему такой старый сводник, вор и пропойца, как этот
краснорожий Брок. Черт побери! Он просто срамит
воинский мундир. Я часто думаю: не пора ли вовсе уволить из
армии эту старую развалину.
Хоть подобная аттестация вполне соответствовала
природным и благоприобретенным свойствам мистера Брока,
она едва ли была уместна в устах графа Густава Адольфа
Максимилиана, которому эти свойства не раз оказывали
услугу и который, верно, не стал бы отзываться о них столь
пренебрежительно, знай он, что дверь столовой была в это
время отворена и что доблестный капрал, проходивший по
коридору, слышал каждое слово своего командира. Мы не
станем, подобно другжм сочижжтелям, раснжсыватъ, как при
этом у мистера Брока сверкали глаза и раздувались
ноздри, как бурно вздымалась его грудь, а рука, сама собой
потянувшаяся к шпаге, нервно теребила ее медный эфес.
Мистер Кин, доведись ему играть роль злодея, обманутого
и взбешенного, подобно капралу Броку, не преминул бы
произвести все эти эволюции; но сам капрал ничего такого
делать не стал, а попросту на цыпочках удалился от
двери. «Ах так, ты решил меня вышвырнуть из
армии,—прошептал он pianissimo1,— и тут же добавил con
espressione: 2 — Ну погоди же, ты мне поплатишься за это».
А опыт показывает, что в обстоятельствах, сходных с
описанными, люда обычно держат свое слово.
Главы III,
в коей герой оиоен зельем, а также
уделено много внимания светскому обществу
Когда капрал, спешно ретировавшийся после
подслушанного им разговора, вновь явился в дом капитана,
чтобы засвидетельствовать свое почтение мисс Кэтрин, он
застал последнюю в наилучшем расположении духа. Она
рассказала, что граф лишь недавно ушел от нее вместе со
своим приятелем мистером Триппетом; что он пообещал
1 Очень тихо (итал.).
2 С большим выражением (итал.).
239
купить ей двенадцать ярдов тех кружев, которые так ей
нравились, да еще прибавить столько же на накидку для
ребенка; что он провел с нею час, а то и больше, за
пуншем собственного приготовления. Мистер Триппет также
разделял их компанию.
— Очень любезный джентльмен,— сказала она,—
только не слишком умен, и, как видно, был под хмельком.
— Нечего сказать, под хмельком! — воскликнул
капрал.— Да он до того пьян, что едва на ногах стоит. Я
сейчас видел его вместе с капитаном на рыночной площади;
они разговаривали с Нэн Фантейл, и Триппет все лез к ней
целоваться, а она в наказанье стащила у него с головы
парик.
— И поделом негоднику! — сказала мисс Кэт.—Пусть
не унижается до разговоров с какой-то там Нэн Фантейл.
Поверите ли, капрал, всего лишь час назад мистер Триппет
клялся, что сроду не видывал глаз, подобных моим, и что
готов перерезать капитану глотку из-за меня. Нэн
Фантейл — тоже еще!
— Нэн честная девушка, мисс Кэтрин, и
пользовалась большим расположением капитана, пока кое-кто не
перешел ей дорогу. Никто не вправе сказать дурное слово
о Нэн — никто.
— Никто, кажется, и не говорит,— обиженно
возразила мисс Кэт.— Нахалка, дрянь и уродина! Не понимаю,
что могут находить в ней мужчины.
— Девица она разбитная, это точно; мужчинам с ней
весело, вот и...
— Вот и — что? Уж не хотите ли вы сказать, что мой
Макс и сейчас к ней неравнодушен? — спросила Кэт,
гневно сдвинув брови.
— О нет, что вы! К ней -— нет... то есть...
— К ней — нет? — взвизгнула мисс Холл.—А к кому
же в таком случае?
— Что за вздор! К вам, разумеется, голубушка, к кому
ж еще. А впрочем, мне-то какое дело? — И капрал
принялся насвистывать, словно в знак своего нежелания
продолжать разговор. Но не так-то просто было отделаться от
мисс Кэт — она пристала к нему с расспросами, и капрал,
сперва упорно уклонявшийся от объяснений, наконец
сказал:
— Ладно, Кэтрин, раз уж я, старый дурак,
проболтался —- так тому и быть. Я молчал, потому что капитан
всегда был моим лучшим другом, но больше молчать не
240
М0Гу вот разрази меня бог, не могу! Уж очень
бессовестно он с вами поступает; он вас обманывает, Кэтрин; он
подлец, мисс Холл, вот, если хотите знать.
Кэтрин стала упрашивать его, чтобы он открыл ей все,
что знает, и он продолжал:
— Он хочет от вас избавиться; вы ему надоели, вот он
и привел сюда этого болвана Триппета, которому вы
приглянулись. У него недостает духу выгнать вас вон
по-человечески, хоть он и не стесняется обходиться с вами по-
скотски. Но я вам расскажу, что он задумал. Через месяц
он отправится в Ковентри по вербовочным делам, верней,
так он вам скажет. А на самом деле, мисс Холл, он поедет
по брачным делам; а вас оставит без единого фартинга,
чтобы вы не могли прокормиться. Верьте мне, таков его
план. Через месяц нужда и голод заставят вас стать
любовницей Тома Триппета; а его честь в это время женится на
мисс Дриппинг из Лондона и на ее двадцати тысячах
фунтов, и купит себе полк, и добьется, чтобы старого Брока
вовсе уволили из армии,— добавил капрал себе под нос.
Впрочем, он мог бы произнести это и в полный голос, ибо
несчастная рухнула наземь в самом настоящем,
непритворном обмороке.
— Но ведь надо же было ей сказать,— пробурчал
мистер Брок, уложив ее на диван и сбрызнув водой, за
которой успел сбегать.— Фу ты, черт! До чего ж она
хороша.
Когда мисс Кэтрин пришла в себя, Брок заговорил с
нею ласково, даже почти сочувственно. А что касается
самой бедняжки, то дело обошлось без истерик и
нервических содроганий, каковые обыкновенно следуют за
обмороком у особ более высокого звания. Она потребовала от
капрала подробностей и выслушала их с полным
спокойствием, не плакала, не вздыхала, не испускала ни
горестных стонов, ни воплей ярости, но когда он, прощаясь,
спросил ее без обиняков: «Так что же вы намерены делать,
мисс Кэтрин? — она промолчала, но так взглянула на него,
что он, затворив за собой дверь, воскликнул: — Клянусь
небом, у красотки недоброе на уме! Не желал бы я быть тем
Олоферном, что ляжет рядом с такой Юдифью,— нет,
слуга покорный!» — и удалился, погруженный в глубокое
раздумье.
241
Вечером, когда капитан воротился домой, она не
промолвила ни слова, а когда он стал бранить ее за надутый
вид, сослалась на нездоровье, сказав, что у нее невыносимо
болит голова; и Густав Адольф, удовлетворившись этим
объяснением, оставил ее в покое.
Утром он почти не взглянул на нее: торопился на охоту.
В отличие от героинь трагедий и романов, Кэтрин не
зналась ни с какой таинственной ведуньей, которая могла
бы снабдить ее ядом; поэтому она просто обошла
нескольких аптекарей, жалуясь на невыносимую зубную боль, и
в конце концов набрала такое количество настойки опия,
которое показалось ей достаточным для задуманного ею
дела.
Домой она пришла почти веселая. Мистер Брок
похвалил ее за столь благоприятную перемену в расположении
духа; а капитана, вернувшегося с охоты, она встретила так
приветливо, что он ей дозволил отужинать вместе с ним и
его друзьями — раз уж она перестала дуться,— только
пусть не вздумает начинать сначала. Ужин не заставил
себя ждать; а потом, когда со стола была убрана посуда,
джентльмены уселись за пунш, который мисс Кэтрин сама
приготовляла им своими нежными ручками.
Не стоит пересказывать, какие при этом велись беседы,
или подсчитывать, сколько раз на стол ставилась новая
чаша пунша взамен опустевшей, или же распространяться
о поведении мистера Триппета, который, когда на столе
появились карты, отказался принять участие в игре,
предпочтя сидеть возле мисс Кэтрин и любезничать с нею
напропалую. Обо всем этом можно было бы рассказать
подробно, но рассказ, хоть и вполне достоверный, едва ли
вышел бы приятным. Куда там! Хоть еще только начата
третья глава нашей повести, нам уже довольно опротивели
и действующие лица, ж те иршшючения, которые им суж-
дены. Но что поделаешь! Публику интересуют одни лишь
висельники, а бедному сочинителю нужно как-то
существовать; и если он не хочет погрешить ни перед публикой,
ни перед самим собой, для этого есть одан только способ:
изображать негодяев такими, каковы они на самом деле.
Пусть это будут не романтические, изящные, велеречивые
хищники, а откровенные мерзавцы; пусть mm пьянствуют,
распутничают, воруют, лгут, словом, живут жизнью
настоящих мерзавцев, которые не цитаруют Платона, как
Юджин Арам; не поют поэтичнейшие в мире баллады, как
веселый Дик Терпин; не разглагольствуют с утра до ночи
242
о %& kcxXov \ как лицемер и ханжа Мальтраверс, о ком все
мы читали с умиленьем и сочувствием; и не умирают в
ореоле новообретенной святости, как бедняжка мисс
Нэнси в «Оливере Твисте». Да, милостивая государыня,
нельзя, чтоб вы и ваши дочери восхищались подобными
личностями и сострадали им, будь то в жизни или в литературе;
глубочайшее отвращение, гнев, презрение — вот те
чувства, которые должна вызывать в вас эта порода людей.
Талантливым сочинителям, вроде тех, кого мы только что
приводили в пример, не должно наделять персонажей,
принадлежащих к этой породе, чертами привлекательными и
симпатичными, тем потворствуя прихотям своего
воображения и давая пищу — чудовищную пищу! — нездоровым
наклонностям вашего. Что же лично до нас, то мы просим
наших молодых читательниц: сдерживайте себя, чтобы ни
одна слезинка не пролилась над героями или героинями
этой повести, ибо все они низкие люди, все до единого, и
поступки их низки. Сберегите свое сострадание для тех,
кто его достоин, и не тратьте его в Олд-Бейли,
расчувствовавшись при виде кишащего там сброда.
Благоволите, следственно, поверить нам на слово, что
беседы, которые велись за чашей пунша, приготовленного
мисс Кэтрин, были именно таковы, каких можно ожидать
в доме, где хозяин — лихой драгунский капитан,
сорвиголова и распутник, гости большею частью ему под стать, а
хозяйка была служанкой в деревенском трактире, пока не
удостоилась чести стать капитанской любовницей. Все
пили, все пьянели, у всех развязывались языки, и, право
же, за целый вечер нельзя было услыхать там ни одного
путного слова. Мистер Брок тоже присутствовал,
наполовину как слуга^ наполовину как участник пирушки.
Мистер Томас Триппет напропалую любезничал с Кэтрин, а
ее господин ж повелитель в это время сражался с другими
джентльменами в кости. Но странное дело — фортуна
словно бы отвернулась от капитана. Зато уорикширскому
сквайру, тому самому, у которого он так много выиграл в
последнее время, на этот раз необычайно везло. Капитан
все больше пил пуншу, все чаще увеличивал ставки —и
неизменно оказывался в проигрыше. Триста фунтов,
четыреста фунтов, пятьсот — за несколько чаеов он спустил
до нитки то, что нажил за несколько месяцев. Капрал
следил за игрой и, будем к нему справедливы, все мрачнел и
1 Прекрасном (греч.)*
24а
мрачнел по мере того, как росли столбики цифр на листке
бумаги, где сквайр записывал проигрыши своего
противника.
Один за другим гости брали свои шляпы и неверной
походкой шли к двери. В конце концов осталось только
двое: сквайр и мистер Триппет, который по-прежнему
торчал около мисс Кэтрин, а поскольку она, как уже было
сказано, весь вечер была занята приготовлением пунша для
игроков, он в некотором роде пребывал в самой гуще
любовных чар и винных паров и досыта надышался тем и
другим, так что едва-едва языком ворочал.
Снова и снова стучали кости; тускло мерцали свечи,
обросшие нагаром. Мистер Триппет, почти не видя
капитана, рассудил в своем коснеющем уме, что и капитан его
не видит; а посему он кой-как встал с кресла и повалился
на диван, где сидела мисс Кэтрин. Взгляд его посоловел,
лицо было бледно, челюсть отвисла, растопырив руки, он
томно замурлыкал: «Прекра-а-асная Кхэтрин, один п-по-
целу-у-уй!»
— Скотина! — сказала мисс Кэт и оттолкнула его.
Пьяный мужлан скатился с дивана на пол, промычал еще что-
то нечленораздельное и заснул.
Снова и снова стучали кости; тускло мерцали свечи,
обросшие нагаром.
— Играю семь! — выкрикнул граф.— Четыре. Три на
два в вашу пользу.
— По двадцать пять,— отозвался уорикширский
сквайр.
Стук-стук-стук-стук-трах,— девять. Хлоп-хлоп-хлоп-
хлоп — одиннадцать. Трах-трах-трах-трах.
— Семь бито,—сказал уорикширский сквайр.—За
вами уже восемьсот, граф.
— Ставлю двести для розыгрыша,— сказал граф.— Но
погодите! Кэт, еще пуншу!
Мисс Кэт подошла к столу; она казалась бледней
обычного, и рука у нее слегка дрожала.
— Вот тебе пунш, Макс,— сказала она. От горячего
питья шел пар.— Не выпивай все,— сказала она,— оставь
мне немножко.
— А что это он такой темный? — спросил граф,
оглядывая стакан.
— От рому,— сказала Кэт.
— Что ж, время не ждет! Сквайр, будьте вы
прокляты! Пью за ваше здоровье и за ваш проигрыш! — И он зал-
244
пом проглотил больше половины. Но тут же отставил
стакан и воскликнул: — Что это за адская отрава, Кэт?
— Отрава? — повторила она.— Это не отрава. Дай мне.
Твое здоровье, Макс.— Она пригубила стакан.—Славный
пунш, Макс, я уж для тебя постаралась, едва ли тебе
когда-нибудь придется отведать лучшего.— И она вернулась
на прежнее место, и села, и устремила свой взгляд на
игроков.
Мистер Брок наблюдал за ней не без мрачного
любопытства; от него не укрылись ее бледность, ее
неподвижный взгляд. Граф все еще отплевывался, кляня
отвратительный вкус пунша; но вот наконец он взял стаканчик с
костями и бросил.
Выиграл и на этот раз сквайр. Подведя в своих записях
окончательный итог, он с трудом встал из-за стола и
попросил капрала Брока проводить его вниз; капрал
согласился, и они вышли вместе.
Капитану, видно, ударил в голову выпитый пунш: он
сидел, сжав руками виски, и бессвязно бормотал что-то,
поминая свое невезенье, розыгрыш, дрянной пунш и тому
подобное. Хлопнула внизу входная дверь; донеслись с
улицы шаги Брока и сквайра и затихли в отдалении.
— Макс! — позвала Кэтрин, но ответа не было.—
Макс,— окликнула она снова и положила руку ему на
плечо.
— Прочь, шлюха! — огрызнулся благородный граф.—
Как ты смеешь трогать меня своими лапами? Убирайся
спать, пока я не отправил тебя куда-нибудь подальше, да
сперва подай мне еще пуншу — еще галлон пуншу,
слышишь?
— Ах, Макс,— захныкала мисс Кэт.— Ты... тебе... не
надо тебе больше пить.
— Как! Выходит, мне уж и напиться нельзя в моем
собственном доме? Ах ты, проклятая шлюха! Вон
отсюда! — И капитан отвесил ей звонкую пощечину.
Но мисс Кэтрин, вопреки своему обыкновению, даже не
попыталась ответить тем же, и дело на сей раз не
кончилось потасовкой, как бывало прежде в случаях несогласия
между нею и графом. Вместо того она бросилась перед ним
на колени и, сжав руки на груди, жалостно воскликнула:
— О Макс! Прости меня, прости!
— Простить тебя? За что? Уж не за пощечину ли,
которую ты от меня получила? Ха-ха! Эдак я охотно прощу
тебя еще раз.
245
— Ах, нет, нет! — вскричала она, ломая руки.—Я не
о том. Макс, милый Макс, сможешь ли ты простить
меня? Я не о пощечине — бог с ней. Я прошу у тебя
прощенья за...
— За что же? Не скули, а говори толком.
— За пунш!
Граф, которому уже море было по колено, напустил на
себя пьяную строгость.
— За пунш? Ну, нет, тот последний стакан пунша я
тебе никогда не прощу. В жизни не брал в рот более
гнусного, омерзительного пойла. Этого пунша я тебе никогда
не прощу.
— Ах, нет, не то, не то! — твердила она.
— Как не то, будь ты неладна! Да этот... этот пунш,
это же настоящая отра-а-а-ва.— Тут голова графа
откинулась назад и он захрапел.
— Это и была отрава! — сказала Кэтрин.
*- Что-о? — взвизгнул граф, мгновенно проснувшись, и
с силой отшнырнул ее от себя.— Ты меня отравила,
ведьма?
— О Макс! Не убивай меня, Макс! Это была настойка
опия — вот что это было. Я узнала, что ты хочешь
жениться, и я была вне себя, вот я и...
— Молчи, змея! — зарычал граф и, выказав больше
присутствия духа, нежели галантности, запустил
недопитым пуншем (разумеется, со стаканохМ вместе) в голову
мисс Кэтрин. Но отравленный кубок пролетел мимо цели
и угодил прямо в нос мистеру Тому Триппету, который,
будучи позабыт всеми, мирно спал под столом.
С проклятием вскочил мистер Триппет на ноги и
схватился за шпагу; окровавленный, шатающийся, он
представлял собой поистине жуткое зрелище.
— Кто? Где? — вопил он, наобум размахивая шпагой
во все стороны.—Выходи, сколько вас там есть! Смелым
бог владеет!
— Проклятая тварь, так умри же и ты! — вскричал
граф и, обнажив свой толедский клинок, ринулся на мисс
Кэтрин.
— Караул! Убивают! На помощь! — завизжала та.—
Спасите меня, мистер Триппет, спасите! *— И, толкнув
названного джентльмена навстречу графу, она в два прыжка
очутилась у двери спальни, юркнула туда и заперлась на
замок.
— Прочь с дороги, Триппет,— ревел граф.— Прочь с
246
дороги, пьяная образина! Я убью эту ведьму — она мне
поплатится жизнью! — И он с такой силой вышиб оружие
из рук мистера Триппета, что оно, описав кривую,
вылетело в окно.
— В таком случае возьмите мою жизнь,— сказал
мистер Триппет.— Пусть я пьян, но я, черт возьми,
мужчина! Смелым бог владеет.
— На кой черт мне ваша жизнь, остолоп? Послушайте,
Триппет, да заставьте вы себя протрезвиться. Эта чертова
баба узнала о моей женитьбе на мисс Дриппинг...
— Двадцать тысяч фунтов! — заметил мистер Триппет.
— Она приревновала — понятно? — и отравила нас.
Она подлила яду в пунш.
— Как, в мой пунш? — воскликнул мистер Триппет;
хмель сразу соскочил с него, а заодно улетучилась и
отвага.— Боже мой! Боже мой!
— Нечего причитать, бегите лучше за врачом, только
он может нас спасти.
И мистер Триппет понесся со всех ног.
Сознание личной опасности заставило графа позабыть
о задуманной кровавой расправе с любовницей или, по
крайней мере, на время отложить ее. И нельзя не воздать
должное воину, сражавшемуся за, а также против
Мальборо и Таллара: перед лицом столь тяжкого и
непривычного испытания он ни на миг не дрогнул душой, но
немедля стал действовать столь же решительно, сколь и
находчиво. Он бросился к поставцу с остатками вечерней
стряпни, схватил горчицу, соль, склянку масла, опрокинул
все это в большой кувшин и туда же налил до краев
горячей воды. Затем, не колеблясь ни минуты, он поднес к
губам эту аппетитную смесь и глотал ее до тех пор, пока
терпела природа. Впрочем, он не успел выпить и кварты,
как наступил желанный эффект, и с помощью этого
импровизированного рвотного ему удалось освободиться от
большей части яда, которым угостила его мисс Кэтрин.
За таким занятием его застал врач, которого вместе с
капралом Броком привел мистер Триппет. Узнав, что на
его долю отравленный пунш едва ли достался, мистер
Триппет возликовал и, не вняв совету на всякий случай
выпить немного графского снадобья, отбыл восвояси,
предоставив графа заботам верного Брока и лекаря.
Нет надобности перечислять все дополнительные
средства, употребленные последним для восстановления
здоровья капитана; так или иначе, немного спустя он объ-
247
явил, что непосредственная опасность, по его мнению,
миновала и теперь пациент нуждается только в отдыхе и в
сиделке, которая не отходила бы от его постели.
Обязанности сиделки взял на себя мистер Брок.
— Да, да, иначе эта ведьма убьет меня,— подхватил
бедный граф.— Выгони ее вон из спальни, Брок; а если
она не отопрет, взломай дверь.
Эта мера в самом деле оказалась необходимой; не
получив ответа на многочисленные оклики, мистер Брок
разыскал железный ломик (точней сказать, достал его из
собственного кармана) и взломал замок.
Комната была пуста, окошко распахнуто настежь;
хорошенькая служанка из «Охотничьего Рога» бежала.
— Ящик! — прохрипел граф.— Цел ли ящик?
Капрал бросился в спальню, заглянул под кровать, где
был привинчен ящик, и сказал:
— Славу богу, цел!
Окно тотчас же было закрыто; капитан, не
державшийся на ногах от слабости, был раздет и уложен в постель,
капрал уселся рядом. Скоро веки больного смежил сон, и
бдительный взор сиделки удовлетворенно следил за
благотворным воздействием этого великого целителя.
* * *
Проснувшись спустя некоторое время, капитан, к
удивлению своему, обнаружил, что во рту у него торчит кляп
и что капрал Брок тащит его кровать куда-то в сторону.
Он зашевелился, хотел сказать что-то, но сквозь шелковый
платок проникли только глухие, нечленораздельные звуки.
— Не двигайтесь, ваша честь, и не вздумайте
кричать,— заметил ему капрал,— не то я перережу вашей
чести горло.
И, взяв железный ломик (теперь читателю ясно, для
чего было припасено означенное орудие: мистер Брок уже
несколько дней, как задумал совершить этот coup 1), он
сперва попытался вскрыть железный ящичек, в котором
граф хранил свое сокровище, а когда это не удалось,
попросту стал отвинчивать его от полу — в чем и преуспел
без особого труда.
— Вот видите, граф,— заметил он назидательно,— не
рой другому яму, сам в нее попадешь. Вы, кажется,
Подвиг (франц.).
248
хотели устроить, чтобы меня выгнали из полка. К вашему
сведению, я теперь сам, своей волей его покину и остаток
своих дней проживу джентльменом. Schlafen Sie wohll,
благородный капитан; bon repos 2. Завтра спозаранку
явится к вам сквайр получить давешний должок.
* * *
С этим язвительным замечанием мистер Брок
удалился; но не через окно, как мисс Кэтрин, а чин чином через
дверь и, спустившись вниз, вышел на улицу. А наутро
врач, придя навестить пациента, принес с собою
известие, что мистер Брок глубокой ночью явился в конюшню,
где стояли графские лошади, и, разбудив конюха, сообщил
ему, что мисс Кэтрин дала графу яд, а сама бежала,
прихватив тысячу фунтов, и что теперь он, Брок, вместе с
другими, кому дорога справедливость, намерены обыскать
всю округу, чтобы изловить преступницу. Для этой цели
он велел оседлать лучшую лошадь капитана — того самого
жеребца, на котором некогда была увезена мисс Кэтрин.
Так граф Максимилиан за одну ночь лишился
любовницы, денег, коня, капрала и едва не лишился жизни.
Глава IV,
в которой мисс Кэтрин снова становится
честной женщиной
В таком плачевном положении — без денег, без
сожительницы, без лошади, без капрала, с кляпом во рту и с
веревкой вокруг туловища ¦— мы принуждены покинуть
доблестного графа Гальгенштейна до той поры, пока его
не выручат друзья и дальнейшее течение нашей повести.
Равным образом должен быть прерван и рассказ о
приключениях мистера Брока, выехавшего из города на
графском коне, ибо долг нам велит последовать за мисс Кэтрин
в окно, через которое она бежала, и сопровождать ее
навстречу всем превратностям ее судьбы.
Одно могло служить ей утешением — что у нее хотя бы
нет ребенка на руках; мальчик, мы знаем, спокойно рос
У кормилицы, получавшей от капитана деньги на его со-
Спокойной ночи (нем.)
Приятного отдыха (франц.).
249
держание. Но во всем остальном обстоятельства
складывались для мисс Кэт самым мрачным образом: ни дома, ни
пристанища, в кармане лишь несколько шиллингов, а в
душе целый водоворот обид и неуемная жажда мщения.
Горько было ей оглядываться назад, но и вперед смотреть
не слаще. Куда податься? Как жить? Откуда ждать
помощи и спасения? А между тем был у нее
ангел-хранитель — как я подозреваю, не из небесного воинства, а из
той вслух не называемой рати, что имеет немало
подопечных на нашей грешной земле и подчас охотно вызволяет
их из самой худшей беды.
Мисс Кэт хоть и не совершила убийства, но все равно,
что совершила; да еще не испытывала при этом и тени
раскаяния; а в прошлом чего только не водилось за ней,
особенно с тех пор, как она связала свою жизнь с
капитаном,— и неумеренное кокетство, и праздность, и
тщеславие, и ложь, и брань, и клевета, и приступы бешеной
злобы; словом, темный ангел, о котором мы косвенно
упоминали, мог с полным правом считать ее своим детищем, и,
как своему детищу, он пришел ей на помощь.
Я не хочу сказать, что в этот трудный час он явился
ей в образе джентльмена в черном и потребовал, чтоб она
кровью подписала обязательство продать ему свою душу
в обмен на некоторые услуги с его стороны. Мне всегда
казалось, что тот, кого считают неизменным участником
подобного рода дьявольских сделок, на самом деле
слишком умен, чтобы в них ввязываться: с какой стати платить
немалую цену за то, что через несколько лет получишь
даром? А потому не следует думать, что князь тьмы
предстал перед мисс Кэт и увлек ее на огненную колесницу,
запряженную драконами и несущуюся по воздуху со
скоростью тысячи миль в минуту. Ничуть не бывало,—
экипаж, посланный ей во спасение, жмел куда более
будничный вид.
Примерно через час после того^ как мисс Кэтрин
покинула Бирмингем, из городских ворот выехал
«Ливерпульский Дилли-Джонс», в 1706 году покрывавший за
десять дней расстояние между Лондоном и Ливерпулем.
Неуклюжая эта колымага, со звоном и грохотом взбираясь
по склону холма, поравнялась с тем местом, где сидела
наша героиня и, пригорюнившись, размышляла о своей
печальной судьбе. Кучер дилижанса шел рядом с
лошадьми, понукая их, дабы они продолжали делать свои
две мили в час; часть пассажиров предпочла идти в гору
250
пешком, и карета, достигнув вершины, остановилась
перед тем, как бойкой рысью пуститься вниз. Дожидаясь
отставших пассажиров, возница обратил внимание на
хорошенькую девушку, сидевшую у дороги, и ласково
спросил ее, откуда она идет и не желает ли, чтобы ее подвезли
в дилижансе. На второй вопрос мисс Кэтрин поспешила
ответить утвердительно; что же до первого, то она
сказала, что идет из Стрэтфорда; хотя на самом деле, как
нам очень хорошо известно, пе так давно вышла из
Бирмингема.
— А не обогнала ли тебя дорогой женщина на воро-
пом коне с притороченным к седлу мешком золота? —
спросил возница, уже приготовившись забраться на козлы.
-- Словно бы нет,— сказала мисс Кэтрин.
— А следом за нею всадник на таком же коне — нет,
не видела? В Бирмингеме сейчас дым коромыслом из-за
этой женщины. Говорят, она отравила за ужином девять
человек и задушила немецкого князя в его постели. А
потом выкрала у него двадцать тысяч гиней золотом и
ускакала на вороном коне.
• — Стало быть, это не я,—простодушно сказала мисс
Кэт.— У меня всего только три шиллинга и четыре пенса.
— Да, едва ли это ты,— что-то я у тебя мешка с
золотом не приметил. И потом, такого хорошенького личика
не может быть у злодейки, способной отравить девять
человек и десятого задушить в постели.
— Уж будто,— сказала мисс Кэт, краснея от
удовольствия,— Уж будто вы и вправду так думаете.—
Красотка наша сумела бы оценить комплимент даже по дороге
на виселицу; и переговоры закончились тем, что мисс
Кэтрин вошла в дилижанс, где хватило бы места на
восьмерых, а пассажиров пока было всего трое или
четверо.
Нужно было прежде всего придумать что-то для
удовлетворения любопытства последних; и мисс Кэт
справилась с этой задачей на удивленье легко, принимая во
внимание ее молодость и ее скудное образование. Будучи
спрошена, куда она держит путь и почему очутилась в
столь ранний час одна у проезжей дороги, она
рассказала целую историю, весьма складную и убедительную,
которая вызвала у слушателей большой интерес; а один
из них, молодой человек, успевший разглядеть под
капюшоном лицо мисс Кэтрин, тут же принялся весьма
галантно за ней ухаживать.
251
Однако сказалось ли утомление после минувшего дня
и сменившей его бессонной ночи или несколько глотков
опия, выпитых накануне, оказали вдруг свое запоздалое
действие, но только мисс Кэт внезапно почувствовала
жар, дурноту и необыкновенную сонливость; и долгие
часы путешествия провела в полузабытьи, к немалому
сожалению своих спутников. Но вот «Дилли-Джонс»
добрался наконец до трактира, где заведено было делать
остановку на несколько часов, чтобы лошади и люди могли
отдохнуть и поесть. Возня путешественников и голос
трактирного слуги, радушно приглашающего их к обеду,
разбудили мисс Кэтрин. Молодой человек, плененный ее
красотой, любезно предложил проводить ее в дом; и она,
опираясь на его руку, вышла из кареты.
Дорогой он нашептывал ей нежные речи, и, должно
быть, ее внимание было отвлечено ими; а возможно, она
слишком ушла в свои мысли или не вполне очнулась от
сна, лихорадки и действия опия,— во всяком случае, она
не разглядела, куда идет; не то предпочла бы, верно,
остаться в карете, невзирая на голод и нездоровье. Ибо
трактир, порог которого она готовилась переступить, был
тот самый «Охотничий Рог», откуда она бежала в начале
нашей повести; и хозяйкой там теперь, как и тогда, была
ее родственница, бережливая миссис Скоур. Последняя,
увидев даму в нарядном плаще с капюшоном,
опирающуюся, словно бы от слабости, на руку джентльмена приятной
наружности, решила, что это муж и жена, и притом не
простого звания; и, всячески выказывая свою особую о них
заботу, повела их через общую комнату в отдельное
помещение, где усадила даму в кресло и спросила, что ей
подать выпить. Меж тем Кэтрин, уже понемногу
оправившись, при первом же звуке хорошо знакомого голоса
поняла, что произошло; и потому для нее не было
неожиданностью, когда услужливая трактирщица, настояв после
ухода ее спутника на том, чтобы снять с нее плащ, тут же
от изумления уронила его на пол, воскликнув:
— Силы небесные, да это же наша Кэтрин!
— Я совсем больна, тетушка, и очень устала,—
сказала молодая женщина.— Мне ничего не нужно, только
бы поспать часок-другой.
— Спи сколько хочешь, душенька, дай только напою
тебя горячим молоком с вином и пряностями. Видно по
тебе, что ты больна, вон даже с лица спала. Ах, Кэт, Кэт,
ну что за жизнь у вас, у знатных дам. Ведь вот, хоть ты
252
и разъезжаешь в каретах по балам и носишь дорогие
наряды, а спорю, что ты была и здоровей и счастливей, когда
жила здесь, со своей старой теткой, которая в тебе души
не чаяла.—И, подкрепив эту прочувствованную речь двумя
или тремя поцелуями, принятыми мисс Кэтрин с
некоторым недоумением, миссис Скоур отвела дорогую гостью
к тому самому ложу, на котором год назад провел ночь
граф Гальгенштейн, собственноручно раздела ее,
уложила, заботливо подоткнула одеяло, неустанно восхищаясь
каждой снятой с нее вещью, а заметив, что в кармане у
нее ничего нет, кроме трех шиллингов и четырех пенсов,
лукаво подмигнула со словами: — Нужды нет, капитан
обо всем позаботится.
Мисс Кэт не стала рассеивать ее заблуждения — ибо,
конечно же, миссис Скоур заблуждалась, вообразив, что
хорошо одетый джентльмен, вышедший вместе с Кэт из
дилижанса, и есть граф Гальгенштейн; а надо сказать, до
нее время от времени доходили сильно преувеличенные
слухи о богатстве и роскоши его домашнего обихода, что
побуждало ее относиться к племяннице с почтительным
уважением, как к знатной госпоже. «Она и есть знатная
госпожа»,— объявила миссис Скоур несколько месяцев
назад, впервые услышав эти соблазнительные
россказни,— ее ярость по поводу бегства мисс Кэтрин уже
поостыла к той поре. «Девочка жестоко поступила, покинув
меня; но ведь она теперь все равно что графиня, а потому
заслуживает прощения».
Соображения эти были изложены доктору Добсу,
имевшему обыкновение вечерком выкуривать трубочку и
выпивать кружку пива в «Охотничьем Роге»,— и вызвали
решительное его осуждение. Почтенный
священнослужитель строго заметил, что корыстный расчет,— если
таковой имел место,— лишь усугубляет вину мисс Кэтрин и
что, будь она даже княгиней, он, доктор Добс, больше
никогда не скажет с нею ни слова. Миссис Скоур сочла
доктора чересчур уж нетерпимым и даже высказала свое
мнение вслух; она принадлежала к той породе людей, что
питает величайшее уважение к преуспевшим и глубоко
презирает неудачников. Оттого-то и сейчас, воротясь в общую
комнату, она с любезной улыбкой подошла к джентльмену,
в сопровождении которого Кэтрин появилась в харчевне,
и, низко присев перед ним, поблагодарила за честь,
оказанную «Охотничьему Рогу», после чего доложила, что
миледи просит милорда извинить ее, но, будучи утомлена
253
путешествием, к обеду не выйдет, а предпочитает
отдохнуть час-другой в постели.
Эта речь крайне удивила милорда, который был вовсе
не лорд, а ливерпульский портной, ехавший в Лондон
поглядеть новые моды; однако он только усмехнулся и не
стал разуверять трактирщицу, и та, весьма довольная,
отправилась хлопотать по хозяйству.
Но вот истекли два или три часа, отпущенные на обед
со щедростью, свойственной тем временам, и кучер стал
торопить пассажиров, напоминая, что впереди еще
двенадцать миль пути; лошади, добавил он, отдохнули и уже
запряжены в карету. Тем временем миссис Скоур, к
большому своему удовольствию, убедилась, что племянница не
на шутку больна и горит в лихорадке, а стало быть, есть
надежда, что прибыльные постояльцы задержатся
надолго; и, выйдя вперед, она с почтительно-скорбной миной
обратилась к ливерпульскому портному:
—- Милорд (я ведь сразу узнала вашу милость),
прибывшей с вами даме так неможется, что просто грех
поднимать ее с постели; не прикажете ли распорядиться,
чтобы кучер отвязал ваши и ее сундуки, и постлать вам на
ночь в соседней комнате?
К большому удивлению трактирщицы, ее речь была
встречена дружным взрывом хохота.
— Сударыня,— сказал тот, к кому она относилась,—
я не лорд, а портной и суконщик, что же до молодой особы,
о которой вы говорите, то я ее до сего дня и в глаза не
видал.
— Что-о? — завопила миссис Скоур.— Так вы не тот
самый граф? Так Кэт вам не...? Так вы не заказывали для
нее комнату с постелью и не станете платить по этому
счету?— И она протянула документик, согласно которому со
спутницы графа причиталась в ее пользу сумма в
полгинеи.
Ее волнение вызвало новый взрыв веселости.
— Платите-ка, милорд,—сказал кучер дилижанса,—
да поторапливайтесь, а то нам пора ехать.
— Кланяйтесь от нас миледи!—сказал один из
пассажиров.
— Передайте, что милорду недосуг ее дожидаться! —
подхватил другой; и они веселой гурьбой поспешили к
карете, расселись по местам и укатили.
Миссис Скоур побежала было за ними, но на полдороге
остановилась, словно окаменев,—лицо, бледное от ужаса
254
и гнева, счет по-прежнему в протянутой руке, и только
когда дилижанс уже исчез из виду, сознание вернулось к
ней. Она опрометью бросилась назад, в харчевню, сбив с
ног подвернувшегося мальчишку-конюха, не удостоила
ответом доктора Добса, который из-под легкой пелены
табачного дыма кротко полюбопытствовал, что случилось,
взлетела по лестнице наверх и, точно разъяренная фурия,
ворвалась в комнату, где лежала Кэтрин.
— Вот оно что, сударыня! — закричала она на самых
пронзительных нотах своего голоса.— Провести меня
задумали! Являетесь сюда, задрав нос, выдаете себя чуть ли
не за графиню, занимаете лучшую постель в доме, когда
на самом деле вы —- обыкновенная побродяжка. Так вот,
сударыня, не угодно ли вам сию же минуту убраться вон!
«Охотничий Рог» не прибежище для больных нищенок,
сударыня! Дорога в работный дом вам хорошо известна,
сударыня, вот и отправляйтесь туда.—И миссис Скоур,
стащив с больной одеяло, ухватилась за простыни, но тут
бедная Кэт привстала, вся дрожа от страха и озноба.
Не было у нее духу ответить так, как она ответила бы
еще вчера,— когда на одно сказанное ей бранное слово
последовало бы с полдюжины более крепких, да еще
полетела бы в обидчика тарелка, нож, бараний окорок — ©се,
что попало бы под руку. Не стало у нее духу для
подобной отповеди; и в ответ на приведенные слова миссис
Скоур, а также на все прочие,— которые приводить нет на-
добности, но жоторые лились из уст этой почтенной особы
неудержимым визгливым потоком,— бедняжка лишь
горько плакала, тщетно пытаясь вновь натянуть на себя
сорванное одеяло.
— Ах, тетушка, не будьте столь жестокосерды со
мной! Вы видите, я совсем больна.
— Больна, потаскуха? Больна, дрянь этакая? Поделом
вору и мука; это бог тебе послал болезнь в наказание.
Живо одевайся — и чтоб я тебя больше не видела!
Ступай в работный дом, там твое настоящее место. Одевайся
же — ты что, не слышишь? Ишь ты, шелковые нижние
юбки,— скажи на милость! — да еще и рубашка с
кружевами!
Дрожа, всхлипывая, стуча зубами в лихорадке,
Кэтрин кое-как надела белье и платье; при этом она словно
бы не видела и не сознавала хорошенько, что делает, и ни
единым словом не отзывалась на пространные речи
трактирщицы. Наконец она, шатаясь, спустилась с узкой
255
лестницы, миновала кухню, подошла к двери и, ухватив
шись за косяк, оглянулась на миссис Скоур, как будто
еще надеялась на что-то. Но трактирщица, подбоченясь,
сурово прикрикнула:
— Вон отсюда, бесстыжая тварь! — И несчастная о
жалобным стоном отпустила косяк и побрела прочь,
обливаясь слезами.
* * *
— Погодите, да ведь это... нет... да, конечно, это
бедняжка Кэтрин Холл! — воскликнул кто-то за спиной
миссис Скоур и, довольно бесцеремонно оттолкнув ее,
выбежал на дорогу, без парика, с трубкой в руке. То был но
кто иной, как славный доктор Добс; и последовавший
короткий разговор его с мисс Кэт привел к тому, что она
несколько недель пролежала у него дома в горячке и что
он никогда больше не приходил в «Охотничий Рог»
выкурить вечернюю трубку.
* * *
Мы не станем задерживаться на этой части
жизнеописания мисс Кэт; приходится признать, что за время ее
пребывания в доме славного доктора Добса не произошло
ничего безнравственного; не станем же мы, в самом деле,
оскорблять читателя дурацкими картинками скромной,
благочестивой жизни, исполненной здравого смысла и
безобидного веселья; все эти добродетели — одна преснота,
разбавленное молоко; то ли дело порок, остротой и
пряностью щекочущий наши чувства. Скажем вкратце:
доктор Добс, при всей своей богословской учености, был
младенчески простодушен; не прошло и месяца после
водворения мисс Кэт у него в доме, как все ее грехи были
искуплены в его глазах раскаянием и страданиями; и они
с миссис Добс уже судили и рядили, как бы получше
устроить судьбу этой юной Магдалины.
— Вспомни, душа моя, ведь ей в ту пору едва
сравнялось шестнадцать лет,—говорил он жене,—да и увезли
ее, в сущности, помимо ее воли. Граф клятвенно обещал
жениться на ней; правда, она ушла от него лишь после
того, как этот изверг пытался ее отравить — но подумай,
какое истинно христианское величие духа явила эта
бедная девушка! Она прощает ему от всего сердца, в то вре-
256
мя как я, например, лишь с трудом мог простить миссис
Скоур, столь жестоко отказавшую ей в приюте.
От читателя не ускользнет некоторое расхождение
между версией доктора Добса и той, которая дана была
нами и которая — пусть он в том не сомневается — более
достоверна; все дело в том, что доктору рассказывала о
случившемся мисс Кэт, а доктор, добрая душа, принял бы
ее рассказ за чистую монету, даже будь он во сто крат
удивительнее.
Советуясь между собой относительно будущего мисс
Кэт, почтенный священнослужитель и его супруга
вспомнили о нежных чувствах, которые некогда питал к ней
Джон Хэйс, и пришли к заключению, что, если эти
чувства не изменились, они сейчас придутся как нельзя
более кстати. Решено было со всей осторожностью выяснить
расположение Кэтрин на этот счет (осторожность
выразилась в том, что нашу героиню спросили, вышла ли бы
она замуж за Джона Хэйса). Ответ последовал самый
решительный: нет. Когда-то она любила Джона Хэйса —
он был ее первой, ее единственной любовью; но теперь
она — падшая и уже недостойна его. После чего супруги
Добс прониклись еще большим к ней уважением и стали
искать способов, как бы устроить этот брак.
Хэйс был в отлучке, когда мисс Кэт вновь появилась
в родных краях; но, воротившись, не замедлил узнать о
происшедшем — как она заболела и как тетка от нее
отступилась, а добрый пастор приютил ее у себя. Спустя
несколько дней преподобный мистер Добс повстречал
мистера Хэйса и, сославшись на какую-то надобность по
плотничьей части, попросил зайти. Хэйс сперва отказался
наотрез; потом отказался в деликатной форме, потом
заворчал, потом зафыркал и, наконец, дрожа с головы до
ног, переступил порог дома. Там, на кухне, сидела мисс
Кэтрин и тоже с головы до ног дрожала.
Какой промеж них вышел разговор? Если вам, миледи,
так уж хочется знать, вспомните тот день, когда сэр
Джон сделал вам предложение руки и сердца. Можно ли
вообразить что-либо бессмысленнее тех слов, что были при
этом сказаны? Подобные речи не стоит воспроизводить,
даже когда их ведут лица, принадлежащие к самому
избранному обществу; а уж если дело касается до любовных
объяснений плотника и бывшей трактирной служанки, то
и подавно. Скажем только, что мистер Хэйс, у которого
был целый год на то, чтобы излечиться от своей страсти и
9 У. Теккерей, т. 1 257
который словно бы преуспел в этом, едва лишь увидел
Кэтрин, так снова по уши в нее влюбился, и все его
усилия пошли прахом.
Знал ли священник, как у них обстоят дела, про то
мне неизвестно; но так или иначе, мистер Хэйс теперь, что
ни вечер, если не торчал на кухне пасторского дома, то
прогуливался в обществе мисс Кэтрин; и не прошло трех
месяцев (срок немалый, хоть и приходится сжать его тут
до одной короткой фразы), как в деревне узнали о новом
тайном побеге; а кто с кем сбежал, он ли с нею, она ли
с ним, не мое дело допытываться. «Я бы этого никогда
не допустил,— говорил потом доктор Добс — а жена его
улыбалась втихомолку,—да они все держали от меня в
секрете». И, наверно, он бы вмешался, если бы знал о
нем; но как только миссис Добс заговаривала с ним о
том, когда и как именно намерены совершить побег
влюбленные, он тотчас приказывал ей Замолчать. По правде
говоря, супруга священника не раз принималась
обсуждать этот вопрос. «У молодого Хэйса и деньги водятся, и
ремесло в руках,— говорила она,— он единственный сын
у родителей и волен выбрать себе жену по нраву; верно,
красавцем его не назовешь, и ни щедростью, ни
любезностью он не блещет; но зато он, бесспорно, любит Кэт
(а ей, сам знаешь, выбирать не приходится), и чем скорей
она за него выйдет, тем лучше. Разумеется, в нашей
церкви им венчаться нельзя, но...» — «Ну что ж,—
отвечал доктор Добс,— если их обвенчают где-нибудь в другом
месте, я тут ни при чем, да к тому же мне ведь ничего
и не известно». Намек был понят, и в одно прекрасное
воскресное утро, месяц спустя, мистер Хэйс потихоньку
увез свою возлюбленную из пасторского дома, усадив ее
на лошадь позади себя; а из-за спущенных оконных
занавесок смотрели им вслед пасторские ребятишки и
весело смеялись.
За этот месяц мистер Хэйс успел съездить в город
Вустер и позаботиться о том, чтобы оглашение состоялось
в тамошней церкви, справедливо рассудив, что в большом
rofO$e это событие вызовет меньше толков, нежели в
глухой деревеньке. В Вустер он и повез теперь свою
нареченную. О, злосчастный Джон Хэйс! Куда влечет тебя
рок? О, неразумный доктор Добс, забывший о сыновнем
долге почитания родителей и поддавшийся уговорам
своей супруги, одержимой пагубным пристрастием к
сватовству!
258
* * *
В «Лондонской газете» от 1 апреля 1706 года
напечатан указ ее величества о вступлении в силу
парламентского акта, имеющего целью поощрение и развитие
морской службы, а также лучшее и быстрейшее
укомплектование личного состава королевского флота, согласно
каковому указу всякий судья полномочен выдавать
констеблям, помощникам констеблей и помощникам
помощников разрешение на право входить, а ежели надобно, то
и вламываться в любой дом, где, по их подозрению,
укрывается моряк-дезертир; а за недостатком дезертиров
хватать и зачислять в моряки любых жителей, годных к
несению морской службы. Нет нужды приводить здесь все
содержание этого Акта, занимающего четыре газетных
столбца,— равно как и другой, подобный же, где речь идет о
сухопутной армии; скажем лишь, что введение его в
действие наделало переполоху во всем королевстве.
Все мы знаем, если не из опыта, то понаслышке, что
во время больших военных походов за главными силами
следует арьергард, в рядах которого скопляется немало
всякого сброда; и точно так же в тени важных
государственных мероприятий творятся подчас мелкие
жульнические делишки. Так великая избирательная реформа
дала простор множеству сомнительных ухищрений и
махинаций — что нетрудно было бы показать, если бы не
твердое наше намерение соблюдать деликатность по
отношению к вигам; а вышеупомянутый «Акт о вербовке»,
который во имя славы англичан во Фландрии столь
жестоко обошелся с англичанами в Англии (не первый,
кстати, пример необходимости терпеть нужду дома ради того,
чтобы можно было покрасоваться на людях), породил
целую армию прохвостов и доносчиков, которые на нем
наживались, помимо прочего еще и занимаясь
вымогательством у лиц, подпадавших под действие этого Акта — или
с перепугу поверивших, что подпадают под него.
После окончания брачной церемонии в Вустере мистер
Хэйс озаботился подысканием харчевни подешевле, где
бы можно было сэкономить на ночлеге и еде.
На кухне избранного им заведения расположилась
компания выпивох. Миссис Хэйс с подобающим ей
достоинством отказалась есть в столь низменном общес^М; й
тогда хозяйка провела новобрачных в другое помещение,
куда им подали еду отдельно.
9*
259
Пировавшие на кухне гости и в самом деле не
подходили для дамского общества. Один был долговязый
вершила с алебардой, что заставляло предположить в нем
солдата; другой — моряк, судя по платью,— пленял взоры
черной повязкой на глазу; третий был, как видно,
предводителем всей банды; флотский мундир, облекавший его
тучную фигуру, дополняли сапоги со шпорами,— сочетание,
доказывавшее, что если и был он моряком, так разве, что
называется, сухопутным.
Что-то в облике и в голосе одного из этих почтенных
господ показалось миссис Хэйс знакомым; и догадка ее
перешла в уверенность, когда короткое время спустя три
героя без спросу ворвались в комнату, где она сидела со
своим супругом. Впереди был не кто иной, как ее старый
знакомец мистер Питер Брок с саблей наголо; он взглянул
на миссис Кэтрин и приложил палец к губам, как бы
призывая ее к молчанию. Его одноглазый товарищ грубо
схватил мистера Хэйса за плечо; верзила с алебардой
встал у двери, пропустив в комнату еще двоих или троих
на подмогу одноглазому, который меж тем закричал во
весь голос:
— Ни с места! Именем королевы — вы арестованы!
На этой драматической сцене мы и остановимся до
следующей главы, где, по всей вероятности, разъяснится, кто
были эти люди.
Глава V,
в которой излагаются события и» жизни
мистера Брока, а тайнее некоторые другие
— Ты только не вздумай им верить, Джон! — сказала
миссис Хэйс, когда улегся первый испуг, вызванный
вторжением мистера Брока и его сотоварищей.— Вовсе они
не посланные судьи; все это подстроено, чтобы выманить
у тебя твои деньги.
— Не дам ни фартинга! — завопил Хэйс.
— Вон того, с саблей, что так свирепо хмурит
брови, я знаю,— продолжала миссис Кэтрин,— его
фамилия...
— Вуд, сударыня, к вашим услугам,— перебил мистер
Брок.— Я состою при здешнем судье мистере Гобле, ведь
правда, Тим? — обратился мистер Брок к верзиле с
алебардой, сторожившему дверь.
260
— Чистая правда,— лукаво подтвердил Тим,— мы все
состоим при его чести судье Гобле.
— Именно так! — отозвался одноглазый.
— И не иначе! — воскликнул стоявший рядом детина
в ночном колпаке.
— Теперь вы, надеюсь, убедились, сударыня? —
продолжал мистер Брок, он же Вуд.— Не станете же вы
подвергать сомнению свидетельство столь почтенных
джентльменов. Наша обязанность — задерживать всех годных к
несению службы лиц мужского пола, которым нечем
отговориться, и зачислять их в войска ее величества.
Взгляните-ка на этого мистера Хэйса (тот весь трясся, слушая
эти речи). Смельчак, красавец, одна осанка чего стоит!
Он у нас оглянуться не успеет, как попадет в гренадеры.
— Они хотят запугать тебя, Джон, а ты не
поддавайся,— вскричала миссис Хэйс.— Все вздор! Я же тебе
говорю, что знаю этого человека. Он за твоими деньгами
охотится, вот и все.
— А в самом деле, мне вроде бы знакома эта дама. Где
же бы я мог ее видеть? Не в Бирмингеме ли?.. Точно,
точно, в Бирмингеме — как раз в ту пору, когда там чуть
было не отправили на тот свет графа Галь...
— О сэр! — поспешно воскликнула миссис Хэйс, и
вместо презрения, только что звучавшего в ее голосе, в
нем послышалась смиреннейшая мольба.— Что нужно
вам от моего мужа? Пожалуй, мне это показалось, будто
я вас знавала прежде. За что вы его схватили? Сколько вы
хотите, чтобы отступиться от него и отпустить нас с
миром? Скажите только,— он богат и...
— Богат, Кэтрин? — вскричал Хэйс— Я богат?.. Боже
праведный! Сэр, я живу только тем, что заработаю, я
бедный плотник, сэр, подручный в отцовской мастерской.
— Он может уплатить двадцать гиней за свое
освобождение; поверьте мне, может,— сказала миссис Кэт.
— У меня есть всего одна гинея на обратный путь,—
простонал Хэйс.
— Да, но дома у тебя есть еще двадцать, Джон,—
возразила новобрачная.— Дай этим бравым джентльменам
письмо к твоей матери; она им уплатит, и тогда они
отпустят нас,— не так ли, джентльмены?
— Сразу же, как получим деньги,— подтвердил
предводитель мистер Брок.
— Само собой,— поддакнул верзила с алебардой.—
А что придется покуда посидеть взаперти, так велика ли
261
беда, приятель,— продолжал он, обратясь к самому мистеру
Хэйсу.— Мы тебе поможем скоротать время, выпьем за
здоровье твоей хорошенькой женушки.
И надо отдать алебардщику справедливость, свое
обещание он исполнил. Тут же было приказано хозяйке подать
вина; а когда мистер Хэйс бросился к ее ногам, умоляя
о помощи, взывая к защите закона...
— В «Трех Грачах» один закон: вот он!..— возразил
ему мистер Брок, поднеся к его носу пистолет. На что
хозяйка только одобрительно ухмыльнулась и пошла прочь.
После недолгих препирательств Джон Хэйс составил
требуемое письмо к своему отцу, в котором сообщал, что
попал в руки вербовщиков и, чтобы откупиться, ему
необходимо двадцать гиней; а также предостерегал против
попыток задержать подателя письма, ибо упомянутые
джентльмены пригрозили ему смертью в случае, если их
товарищ не вернется. В доказательство подлинности
письма к нему был приложен перстень, подарок матери,
который Хэйс всегда носил на пальце.
Оставалось решить, кто повезет послание; выбор пал
на долговязого алебардщика, который, видимо, был вторым
по чину в отряде, предводительствуемом капралом Броком.
Товарищи называли его то прапорщиком, то даже
капитаном или просто мистером Макшейном; а иногда в шутку
именовали «Носачом», намекая на выдающееся
положение, которое занимала в его лице эта черта,— или же
«Дылдой», по тем самым причинам, которые заслужили
подобное прозвище первому Эдуарду. Итак, мистер Мак-
шейн вскочил на Хэйсову лошадь и отбыл из Вустера,
предоставив всем постояльцам «Трех Грачей» нетерпеливо
дожидаться его возвращения.
Ожидать его можно было не ранее следующего утра;
томительной оказалась для мистера Хэйса его nuit de
noces l. Подали обед; мистер Брок и двое его сотоварищей,
согласно уговору, сели за стол вместе с новобрачными. За
обедом последовал пунш, который тоже пили всей
компанией, а там дошло дело и до ужина. Впрочем, ужинать стал
лишь один мистер Брок — два других джентльмена
предпочли дым своих трубок и общество хозяйки на кухне.
— Не такое уж это веселье, согласен,— заметил экс-
капрал,— и не так бы следовало джентльмену проводить
свою брачную ночь; но ничего не поделаешь, голубчики
1 Брачная ночь (франц.).
262
мои,— кто-нибудь должен с вами оставаться, а то ну как
вам вздумается высунуться в окошко и закричать, и уж
тогда беды не оберешься. Один из нас должен здесь быть,
но мои друзья любят на ночь выкурить трубочку, так что
придется уж вам потерпеть мое общество, пока кто-нибудь
из них меня не сменит.
Читатель вряд ли полагает, что если троим людям
случилось, хоть и поневоле, вместе коротать ночь в
трактирном помещении, то они, надувшись, рассядутся по углам,
не обмениваясь ни словом, ни взглядом. Напротив того:
мистер Брок с галантностью старого вояки не щадил усилий,
чтобы развлечь своих пленников, и с помощью выпивки
и беседы старался скрасить их временную неволю. Правда,
с новобрачным его попытки большей частью пропадали
даром; пить мистер Хэйс пил, и даже усердно, но что до
беседы, то из него словечка нельзя было вытянуть;
пережитый испуг, мысль об участи, ожидающей его в случае,
если родители откажутся внести выкуп, и о деньгах, с
которыми придется расстаться, если они согласятся на
уплату,— все это камнем ложилось ему на сердце, отнимая
всякое мужество.
Зато что касается миссис Кэт, то я не ошибусь, если
скажу, что в глубине души ей даже приятно было вновь
повстречать мистера Брока: ведь это был друг давних
дней — счастливых дней ее жизни; она немало видела от
него добра и сама платила ему тем же; и, право же, эту
пару негодяев связывала чистейшая нежная дружба, в
свое время придававшая прелесть их вечерним беседам.
Щедро угостив своих пленников пуншем, капрал затем
предложил сыграть в карты. Но не прошло и часу, как
мистера Хэйса стало изрядно клонить ко сну; вняв уговорам,
он бросился на постель как был, не раздеваясь, и
прохрапел до самого утра.
Миссис Кэтрин спать не хотелось; капрал бодрствовал
вместе с нею и, беспрестанно прикладываясь к бутылке,
вел нескончаемую беседу. Джон Хэйс спал так крепко, что
можно было разговаривать, не стесняясь, как если бы его
и вовсе не было в комнате. Кэтрин рассказала мистеру
Броку обстоятельства своего замужества, уже известные
читателю; оба подивились судьбе, что свела их в «Трех
Грачах», причем Брок откровенно сознался, что действовал
отнюдь не во исполнение закона, а просто с целью
вымогательства. Достойный капрал нимало не был смущен,
рассказывая о своих делах, и превесело шутил, обсуждая
263
дела миссис Кэт: ее неудавшуюся попытку извести графа,
ее виды на семейную жизнь.
Поскольку мистер Брок снова выведен нами на сцену,
не мешает, пожалуй, вкратце изложить основные события,
которые произошли с ним после внезапного отъезда из
Бирмингема и о которых он без всяких прикрас
рассказывал теперь миссис Кэтрин.
Он доехал на лошади капитана до Оксфорда (сменив
в пути свой мундир на партикулярное платье) и там с
немалой выгодой продал «Георга Датского» главе одного
из колледжей. После некоторого ознакомления с
университетскими достопримечательностями мистер Брок под
именем и в роли капитана Вуда немедля направился в
столицу — единственное место, соответствовавшее его званию и
состоянию.
Заходя в кофейни Баттона и Уилла, он листал
«Наблюдателя», «Курьера», «Ежедневный вестник» и «Лондонскую
газету» и с философским спокойствием прочитывал там
подробнейшее описание своей наружности, платья, коня,
на котором он ехал, а также извещение о награде в
пятьдесят фунтов всякому, кто сообщит о нем (на предмет
поимки) капитану графу Гальгенштейну в Бирмингеме, или
мистеру Мерфи в «Золотом Шаре» на Савой-стрит, или же
мистеру Бейтсу в «Якорной Стоянке» на Пикадилли. Но
кому пришло бы на ум отождествить капитана Вуда в его
огромном алонжевом парике, стоившем шестьдесят
фунтов *, в башмаках с высокими красными каблуками, при
серебряной шпаге, с золотой табакеркой и с черной повязкой
на глазу, прикрывающей след от страшной раны,
полученной, по его словам, при осаде Барселоны и обезобразившей
его лицо,— кому, повторяю, пришло бы в голову
отожествить эту особу с капралом Броком, дезертиром из Каттсова
полка? И, чувствуя себя в полной безопасности, мистер
Брок прогуливался по Мэллу с важным видом, словно
аристократ из аристократов. Он пользовался славой отличного
собеседника, сыпал деньги пригоршнями («Расплавив
несколько церковных подсвечников,— шутил он,— можно
начеканить кучу дублонов»), и к его услугам было всегда
самое избранное общество. По городу вскоре пошла молва,
что капитан Вуд, служивший в Испании при его
величестве Карле III, увез бриллиантовые ризы Богоматери
* В хитроумном повествовании о Молль Флендерс,
относящемся к описываемому времени, упоминается парик ценою в эту
сумму.
264
Компостельскои и до сих пор живет на доход с них. Дух
протестантства был в ту пору силен в Англии, и не один
ревнитель истинной веры охотно стал бы соучастником
столь богоугодного грабежа.
Капитан Вуд почитал благоразумным поощрять любые
слухи о происхождении его богатства. Он не только не
опровергал никаких догадок, но готов был подтвердить
любую; если же одновременно высказывались две догадки,
полностью противоречащие одна другой, он только смеялся
и говорил: «Друзья мои, не я придумываю эти
увлекательные истории, но и не мне отрицать их; предупреждаю вас
по совести, что я буду согласен со всеми, так что верьте
или не верьте — дело ваше». Так приобрел он славу не
только богача, но и человека, умеющего держать язык за
зубами. В сущности, я почти готов пожалеть о том, что
почтенный Брок не родился аристократом; не сомневаюсь,
что он и жил и умер бы подобающим образом,— в самом
деле, он тратил деньги, как аристократ, волочился за
женщинами, как аристократ, умел вести себя в бою, как
аристократ, играл и напивался, как аристократ. Чего же
недоставало ему, чтобы быть равным Сент-Джону или Харли?
Шести-семи поколений предков, небольшого состояния да
родовой усадьбы — и только. «Ах, доброе то было время»,—
говаривал впоследствии мистер Брок,— достигнув
преклонного возраста, он любил предаваться воспоминаниям
о светской карьере, которую чуть было не сделал. «Как
подумаю, что я легко мог стать важной особой и, быть может,
даже умереть в генеральском чине,— нет, решительно я
родился под несчастливой звездой».
— Расскажу вам, голубушка, про свое лондонское
житье-бытье. Жил я на Пикадилли, как самый настоящий
вельможа; имел два пышных парика и три пары платья
с золотым шитьем; держал арапчонка, наряженного
турком; каждый день прогуливался по Мэллу; обедал в самой
модной таверне Ковент-Гардена; посещал лучшие
кофейни, знался с известнейшими людьми; не одну бутылку
распил с мистером Аддисоном и не один золотой ссудил Дику
Стилю (пребеспутный был шалопай и пьяница) — а самое
главное вы сейчас услышите, голубушка, и должны будете
согласиться, что не всякий на моем месте сумел бы удрать
такую штуку.
Однажды, придя в кофейню Уилла, я застал там
большое общество и услышал, как один джентльмен говорил
Другому: «Капитан Вуд? Был, помнится, капитан Вуд в
265
полку у Саутвелла, хоть мне и не довелось знать его
лично». Гляжу — э, да это сам лорд Питерборо обо мне
рассуждает. Снял я шляпу, отвесил милорду изящнейший
поклон и говорю, что я-то его хорошо помню — ведь я ехал
следом за ним, когда мы занимали Барселону.
— Не сомневаюсь, что вы там были, капитан Вуд,—
отвечал милорд, пожимая мне руку,— и не сомневаюсь,
что вы меня помните; как говорится, Дурень Том не
может всех знать, но Дурня Тома знают все.
Шутка была встречена дружным смехом, а милорд
приказал подать еще бутылку, которую мы тут же и
распили вдвоем.
Как вам известно, он тогда был в опале, но тем не
менее, возымев ко мне дружескую склонность, во что бы то
ни стало пожелал — вообразите только! — представить
меня ко двору! Да, я был представлен ее священнейшему
величеству королеве и леди Мальборо, которую нашел в
самом лучшем расположении духа. Поверите ли,
дворцовый караул приветствовал меня так, словно я был сам
Капрал Джон! Путь к счастью открылся передо мной.
Чарли Мордаунт звал меня Джеком и не раз заходил ко
мне выпить бутылку Канарского; я бывал на приемах у
лорда-казначея; мне даже удалось убедить военного
министра мистера Уолпола принять от меня сто гиней в
качестве знака внимания, и он уже пообещал мне чин
майора; но тут судьба изменила мне, и все мои радужные
надежды пошли прахом в один миг.
Надо бы вам знать, голубушка, что после того, как мы
бежали, оставив этого болвана Гальгенштейна — ха-ха-
ха — с кляпом во рту и с пустым карманом, сиятельный
граф оказался в самом отчаянном положении: кругом в
долгу, не говоря уже о той тысяче, которую он проиград
уорикширскому сквайру,— а всего доходу восемьдесят
фунтов в год! Пользуясь тем, что поставщики-кредиторы
еще медлили взять его за горло, доблестный граф все
кругом перевернул в надежде напасть на след своего милого
капрала и своих милых мешков с деньгами; от Лондона до
Ливерпуля не осталось ни одного города, где бы не были
расклеены описания моей симпатичной особы. Однако
птица улетела из клетки — деньги исчезли начисто, и, видя,
что на их возвращение надеяться нечего, кредиторы без
дальнейших церемоний упекли нашего молодчика в Шрус-
берийскую тюрьму; могу только пожалеть, что он не
сгнил там.
266
Увы, это счастье не суждено было честному Питеру
Броку или капитану Буду, как он в те дни звался. В один
прекрасный понедельник я отправился навестить
господина министра, и, пожимая мне руку, он шепнул, что я буду
назначен командиром полка в Виргинии — что меня
устраивало как нельзя более; мне, видите ли, вовсе не хотелось
отправляться во Фландрию, к милорду герцогу: чересчур
многим я там был известен. Министр крепко пожал мою
руку (в коей находился билет в пятьдесят фунтов),
пожелал мне успехов, величая майором, и любезно проводил
меня из своего кабинета в приемную, откуда я в самом
развеселом состоянии духа отправился в кофейню
«Ристалище» на Уайтхолле, излюбленную нашим братом военным,
и там, не утерпев, стал похваляться выпавшей мне удачей.
Среди общества, собравшегося в кофейне, я заметил
немало знакомых и в том числе одного, встрече с которым
я вовсе не обрадовался, можете мне поверить! Мне сразу
бросился в глаза мундир с красно-желтой выпушкой —
цвета Каттсова полка,— и одет в этот мундир был не кто
иной, как его сиятельство Густав Адольф Максимилиан,
известный вам, голубушка, так же хорошо, как и мне.
Он глянул мне в лицо, в мой единственный глаз
(другой, как вы помните, был скрыт под черной повязкой), и
на миг остолбенел, разинув рот; потом отступил на шаг,
потом шагнул вперед и вдруг завопил: «Да это же
Брок!» — «Виноват, сэр,— сказал я,— вы ко мне
обращаетесь?» — «Клянусь, это Брок!» — вопит он еще
пронзительней, услышав мой голос, и хвать меня за манжету (лучшие
мехельнские кружева, замечу мимоходом). «Эй, сударь! —
говорю я, выдернув манжету, и даю его сиятельству
тумака под вздох (самое место, голубушка, если хочешь
помешать человеку сказать лишнее,— он у меня так и отлетел
к противоположной стене).—Негодяй,— говорю.— Пес,—
говорю.— Наглый щенок и лоботряс! Как смеешь ты
давать волю рукам?» — «Черт побери, майор, вы ему выдали
сполна!» — загоготал длинный прапорщик-ирландец,
которого я не раз угощал в этой самой таверне. И в самом деле,
граф несколько минут не мог выговорить ни слова, и все
офицеры, столпившиеся кругом, со смехом глядели, как
его корчит и корежит. «Господа, это неслыханный
скандал,— сказал один из них.— Благородные джентльмены
Дерутся на кулаках, точно извозчики!» — «Благородные
джентльмены?» — воскликнул граф, которому наконец
Удалось отдышаться. Я было шагнул к дверям, но Мак-
267
шейн схватил меня за руку со словами: «Майор, но вы же
не откажетесь драться по правилам?» В ответ на что я
с жаром поклялся, что убью негодяя. «Благородные
джентльмены! — продолжал меж тем граф.— Знайте, что
этот человек — мошенник, вор и дезертир! Он был моим
капралом и сбежал, похитив тыся...» — «Лжешь,
собака!»— взревел я и замахнулся на него тростью; но
несколько офицеров бросились между нами. «Гром и
молния! — вмешался тут славный Макшейн.— Как можно
столь нагло лгать! Господа, клянусь своей честью, что
капитан был ранен под Барселоной; я сам тому свидетель;
более того, мы вместе с ним бежали после сражения при
Альмансе и едва остались живы».
Надо вам сказать, голубушка, ирландцы —
неслыханные фантазеры. Мне не стоило труда внушить Маку, что
мы с ним подружились еще в Испанском походе. Мак
слыл оригиналом, однако же ему верили. «Ударить
джентльмена! — не унимался я.— Да вы мне заплатите за
это кровью!» — «Хоть сейчас,— вскричал граф, кипевший
от ярости.— Назначайте место».— «Монтегью-Хаус»,—
сказал я. «Отлично»,— был ответ. И мы бросились к
двери — весьма своевременно, кстати сказать, ибо полиция,
услышав о ссоре, уже спешила, чтобы взять нас обоих под
арест.
Но присутствующие офицеры не намерены были это
допустить. Мак обнажил шпагу, его примеру последовали
другие, и констеблям было предложено на выбор: или
исполнять свой долг, если угодно, или получить по кроне и
убраться восвояси. Они предпочли последнее; и мы,
рассевшись по каретам — граф со своими друзьями, я со
своими,— отправились на луг, что позади Монтегью-Хауса.
О, проклятая кофейня! Зачем только я переступил ее
порог!
Прибыли мы на место. Славный Макшейн вызвался
быть моим секундантом, и его очень огорчило, что
секундант противника не пожелал раз-другой скрестить с ним
шпаги; то был майор, уже в летах, бесстрашный старый
рубака, закаленный, как сталь, й не охотник до шуток.
14так, сравнили длину клинков, Гальгенштейн сбросил
свой камзол,— я — свое изящное бархатное полукафтанье.
Гальгенштейн швырнул на землю шляпу, я осторожно
положил свою — один лишь позумент на ней встал мне в
двадцать фунтов. Мне не терпелось начать бой, ненависть
к противнику — будь он проклят! — переполняла меня, а
268
я хорошо знал, что ему не сравняться со мной в искусстве
владения шпагой.
«А парик? Не думаете же вы в нем драться?»
—спросил Макшейн. «Нет, разумеется»,— ответил я и сдернул
парик с головы.
Чтоб всем цирюльникам жариться на медленном огне!
Чтоб всем парикам, буклям, накладкам и шиньонам
кипеть в адских котлах отныне и до скончания века! В этом
парике таилась моя погибель; кто знает, каких бы высот
я достиг, кабы не он!
Я отдал парик прапорщику Макшейну и не заметил,
что вместе с ним снялась и черная повязка, явив всем мой
второй глаз, здоровый, целехонький и мечущий грозные
взгляды.
«Защищайтесь!» — крикнул я графу, делая выпад; но
он отскочил назад с проворством зайца (знал,
бездельник, что в бою на шпагах ему против меня не устоять); и
его секундант, несколько озадаченный, отбил мой удар.
«Я не стану драться с этим человеком,— сказал Гальген-
штейн, изрядно побледнев.— Клянусь честью дворянина,
что его имя — Питер Брок; два года он был моим
капралом и дезертировал, ограбив меня на тысячу фунтов.
Взгляните на него! Зачем было ему прятать под повязкой
здоровый глаз? Впрочем, если угодно, вот вам еще дока-
ч зательство. Подайте мне мой бумажник!» — И, раскрыв
бумажник, он достал оттуда — что бы вы думали? — ту
самую распроклятую афишку с перечислением моих примет!
«Удостоверьтесь сами, есть ли у него рубец за левым ухом
(точно, голубушка, вот он тут; это меня один окаянный
немец хватил на Бойне), взгляните, наколоты ли на его
правой руке инициалы «К. Р.» (и от этого тоже мне
никуда не деться). А этот хвастливый ирландец, я полагаю,
его сообщник; словом, я не намерен иметь дело с мистером
Броком, иначе как при констебле в качестве
секунданта».— «Как это все понимать, капитан Вуд?» — спросил
пожилой майор, секундант графа. «Гнусная клевета,
оскорбляющая меня и моего друга! — закричал Макшейн.— И
граф нам ответит за нее!» — «Постойте, не торопитесь,—
сказал майор.— Капитан Вуд, как джентльмен и офицер,
без сомнения, охотно докажет графу его ошибку и даст
нам всем убедиться, что на его руке нет тех знаков,
которыми любят украшать себя простые солдаты».— «Капитан
Эуд ничего подобного не сделает, майор,— возразил я.—
Я готов драться с этим негодяем Гальгенштейном, с вами,
269
с кем угодно по законам чести; но я не дам себя
обыскивать, точно вора!» — «Само собой!»—вскричал Макшейн.
«В таком случае моя обязанность отменить поединок»,—
сказал майор. «Как вам угодно, сэр,— в бешенстве
крикнул я.— Позвольте только мне сказать вашему другу, что
он лжец и трус; и что, если когда-либо он все же
расхрабрится настолько, что пожелает встретиться со мной, он
легко найдет меня в моем доме на Пикадилли!» — «Позор!
Я плюю на вас всех!» —воскликнул мой бравый союзник
Макшейн. И тут же подкрепил слова делом — или, во
всяком случае, изъявил полную к этому готовность.
После чего мы подобрали свою одежду, сели по каретам
и разъехались, так и не пролив ни капли крови.
«Неужели это правда? — спросил мистер Макшейн,
когда мы с ним остались вдвоем.— Неужели это правда, то,
что они говорили?» — «Прапорщик,— сказал я,— вы —
человек бывалый, не так ли?» — «Можете не сомневаться,
ведь я уже двадцать два года в этом чине».— «Вам, я
думаю, пригодятся несколько золотых?» — «Еще как
пригодятся! Сказать по совести, я уже четыре дня не брал в рот
мясного!» — «Так вот, прапорщик, все это
правда,—сказал я.— А что до мясного, то оно ждет вас в ближайшем
же трактире».
Я приказал кучеру остановить лошадей, и бравый
Макшейн запасся изрядной порцией мяса, которую и умял по
пути, потому что у меня уже каждая минута была на
счету. Я рассказал ему все, как было, ничего не утаивая, и он
долго смеялся, утверждая, что никогда не слыхал о более
ловком маневре. Когда он наконец набил свою утробу, я
вынул из кошелька несколько гиней и вручил ему. Мистер
Макшейн даже прослезился от умиления, облобызал меня
и поклялся, что никогда со мной не расстанется; и
думается мне, голубушка, он сдержит свою клятву; во всяком
случае, мы с ним с тех самых пор неразлучны, и, пожалуй,
это единственный друг, на которого я могу положиться.
Не знаю, по какой причине, но я словно бы почуял в
воздухе беду; а потому остановил карету, несколько не
доехав до дому, и просил Макшейна сходить удостовериться,
все ли спокойно, а сам остался ждать его в соседней
таверне. Он тут же отправился исполнять мое поручение и
вскорости вернулся, бледный как смерть, с известием, что
дом полон констеблей. Должно быть, злосчастная ссора в
«Ристалище» заставила их нагрянуть ко мне в гости, и,
надо сказать, они потрудились не зря! Воже ты мой! Пять-
270
сот фунтов звонкой монетой, пять пар платья, шитого
золотом, три парика, не говоря уже о сорочках с кружевами,
шпагах, тростях, табакерках,— и все это снова досталось
негодяю графу!
Я понял, что все пропало,— моя карьера аристократа
окончена; а если я попадусь полиции в руки, меня ждет
либо расстрел,-либо виселица. При таких обстоятельствах,
душа моя, все средства хороши и долго раздумывать не
приходится. Неподалеку помещалась конюшня, где я не
раз нанимал карету, чтобы ехать ко двору,— ха-ха-ха! — и
был известен как человек достаточный. Туда я немедля и
отправился. «Мистер Уормэш,— сказал я хозяину,—
мне с моим доблестным другом пришла охота проехаться
в Туикнэм и там поужинать, а для этого вы должны
дать нам ваших самых лучших лошадей». Через минуту
нам уже подвели двух отличных коней и мы вскочили в
седло.
Мы не поехали в Парк, а сразу же свернули и пустили
лошадей легким галопом по направлению к Килберну; а
очутившись за городом, поскакали во весь опор, словно за
нами черти гнались. Да, душа моя, много времени для
этого не потребовалось; и часу не прошло, как мы с
прапорщиком превратились в самых настоящих рыцарей
большой дороги. И надо же было так случиться, чтобы в
«Трех Грачах» мы натолкнулись на вас и вашего супруга!
Здешняя хозяйка — во всей округе первейшая разбойница.
Она нам указала на вашего мужа, она же и свела нас с
теми двумя — мы их даже но имени не знаем.
— А что сталось с лошадьми? — спросила миссис
Кэтрин, когда мистер Брок окончил свой рассказ.
— Клячи это были, а не лошади,— ответит тот.—
Просто клячи. Мы их продали на ярмарке в Стурбридже и
едва выручили тринадцать гиней за обеих.
— А... а граф... Макс? Где он теперь, Брок? — тихо
вымолвила она.
— Фью! — присвистнул мистер Брок.— Все еще
вздыхаете о нем, голубушка? Он теперь во Фландрии, со своим
полком; и можно не сомневаться, что после вас было уже
десятка два таких же графинь фон Гальгенштейн.
— Я этому не верю! — гневно вздернув голову, сказала
миссис Кэтрин.
271
— И слава богу; а то, верно, постарались бы еще раз
угостить его опием, а?
— Вон отсюда, наглец! — прикрикнула почтенная дама;
но тут же опомнилась, заломила руки, глянула с тоской на
Брока, на потолок, на пол, на мужа (от которого сразу же
резко отвернулась) и заплакала самым жалостным
образом; слезы, одна за другой, скатывались у нее по носу в
такт песенки, которую стал насвистывать капрал.
Едва ли то были слезы раскаяния; скорей сожаления
о тех днях, когда у нее был возлюбленный — первый в
жизни — и пышные наряды, и белая шляпа с голубым
пером. Пожалуй, свист капрала был куда безобиднее, чем
рыдания этой женщины: ведь он, хоть и плут, был, в
сущности, добрый малый, когда не препятствовали его нраву.
Право же, сочинители наши совершают ошибку, лишая
выводимых ими мошенников каких бы то ни было
привлекательных человеческих черт; а между тем подобные
черты свойственны им; и если взглянуть с точки зрения
житейских забот, чувств как таковых, отношений с
друзьями — даже страшно становится от того, как сходны между
собою мошенник и честный человек. Убийца итальянского
мальчика дал ему прежде поиграть со своими детьми, с
которыми ему было весело и которые, без сомнения,
оплакивали потом его смерть.
Глава VI
Приключения посла, мистера Макшейиа
Если бы не обязательство во всем следовать истории,
можно бы, пожалуй, и вовсе опустить рассказ о том, что
произошло с миссис Кэтрин и ее супругом в вустерской
харчевне; ибо никаких последствий это происшествие не
имело и ничего в нем ни диковинного, ни увлекательного
не было. Но мы положили себе держаться как можно
ближе к ИСТИНЕ — хоть о ней, быть может, не всегда
приятно и рассказывать и читать. А в «Ньюгетском календаре»
ясно сказано, что мистер и миссис Хэйс стали на ночлег
в одной вустерской харчевне и угодили в руки
мошенников, якобы явившихся завербовать новобрачного на
военную службу. Что же нам остается? Сочиняй мы роман,
вместо того чтобы описывать действительные события, в
нашей власти было бы распорядиться судьбой героев по
своему усмотрению; и мы бы охотно изобразили Хэйса эда-
272
ким Девре, беседующим о философских предметах с Во-
линброком, а миссис Кэтрин произвели бы в maitresse en
titre l мистера Александра Попа, доктора Сэчеврела,
знаменитого окулиста сэра Джона Рида, декана Свифта или
маршала Таллара,—как непременно поступил быв
подобном случае даже самый плохонький романист. Но увы,
увы! Истина прежде всего, что бы там ни подсказывало
воображение; а в драгоценном «Ныогетском календаре»,
где имеется полное жизне- и смертеописание Хэйса и его
супруги, нет ни намека на знакомство их с кем-либо из
выдающихся литераторов или полководцев эпохи ее
величества королевы Анны. Там лишь говорится коротко и
недвусмысленно, что Хэйс был вынужден отправить
посланного в Уорикшир к отцу за деньгами и что старик
выручил сына из беды. Такова истина; и никакие соблазны
литературной красоты — ни даже обещание лишних
двадцати гиней за лист не заставили бы нас от нее
отклониться.
Из рассказа о лондонской эпопее мистера Брока
читатель уже получил некоторое представление об его
приятеле мистере Макшейне. Достойный прапорщик не
отличался особой твердостью ума, равно как и нравственных
принципов; на первом пагубно отразились бедность,
пристрастие к вину и удар по черепу, полученный в сражении при
Стинкерке; что же до последних, то они у мистера Мак-
шейна не водились и в лучшие времена. Когда-то он и
в самом деле был прапорщиком в армии; но давным-давно
пропил и проиграл свой чин вместе с надеждой на
пенсию; и как он с тех пор ухитрялся существовать, никому
не было известно, в том числе и ему самому,— то было
одно из ста тысяч чудес нашего города. Кто из нас не
насчитывает среди своих знакомцев десятка подобных
людей? Не понять, откуда берется у них время от времени
чистая сорочка, как им удается никогда не быть трезвыми,
кто отводит от них постоянную угрозу голодной смерти.
Жизнь их — непрерывная цепь чудес; каждый завтрак —
загадка, каждый обед — непостижимая тайна; каждая
ночь под крышей — дар Провидения. Если у вас или у
меня, сэр, завтра не будет шиллинга, кто нам даст его?
Разве нам мясник отпустит баранью котлету бесплатно?
Разве прачка станет даром стирать и крахмалить наши
сорочки? Как бы не так! Косточки, старой ветоши —- и то
1 Штатная любовница (франц.).
273
не дождешься. Даже те, кто, как мы, покуда не
испытывает нужды* (дай бог, чтобы так было и впредь!), даже и
они дрожат при мысли, что когда-нибудь придется
бороться с ней, зная, как велика опасность пасть в этой борьбе.
И оказывается — напрасно, сэр. Вовсе не так это
просто, умереть с голоду. Голод — это совершенные пустяки,
когда к нему привыкнешь. Я знавал людей, для которых
он был основным занятием, и даже прибыльным. Наш друг
Макшейн долгие годы только и делал что голодал; и что
же? При этом он жил совсем не плохо, может быть, даже
лучше, чем того заслуживал. Обедал он определенное илиг
точнее, неопределенное число дней в неделю, спал где
приведется и напивался не менее трехсот раз в год. Было
у него два-три знатных знакомца, которые его иногда
выручали деньгами и которых он, случалось, тоже
выручал,— как, о том мы не будем говорить. Были и другие,
которых он донимал беспрестанно; и, чтобы отвязаться,
его сегодня угощали обедом, завтра давали ему крону, а
иной раз ненароком дарили трость с золотым
набалдашником, которая прямой дорогой отправлялась в заклад.
Оказавшись при деньгах, он шел в кофейню; когда же
снова оставался без гроша, один бог знает, в каких тайных
трущобах находил он себе ночлег и пропитание. Чуть что,
он хватался за шпагу, и, будучи трезвым, а еще лучше
слегка под хмельком, отлично управлялся с нею; в
похвальбе и вранье не знал себе равных; росту в нем было
шесть футов пять дюймов без каблуков; вот и все его
главные приметы. Он и в самом деле побывал в Испании в
качестве волонтера, сумел даже отличиться в бою, но
заболел горячкой и был отправлен на родину голодать, как
голодал допреж того.
Но мистер Макшейн, подобно корсару Конраду, на
тысячу пороков имел одну добродетель — уменье хранить
верность тому, кто был его нанимателем в данное время;
рассказывают — к чести его или не к чести, судите сами,—
что некий лорд послал его однажды избить одного rotu-
rier *, ставшего его милости поперек дороги в любовных
делах; и когда последний пытался уйти от расправы,
предлагая ему денег больше, нежели было предложено
лордом, Макшейн отказался наотрез и исполнил
поручение со всей тщательностью, как того требовал долг чести
* Напомним, что автор состоит на казенном коште.
1 Простолюдин (франц.).
274
и дружбы. Прапорщик сам любил повествовать об этом
случае с немалой долей самодовольства; а когда, после
поспешного бегства из Лондона, они с Броком занялись
своим мошенническим промыслом, он с готовностью
признал Брока старшим и начальником, звал его не иначе
как майором, и во всем ему подчинялся, ошибаясь только
спьяну или по глупости. Откуда-то взялось у него
представление,— быть может, не вовсе безосновательное,— что
нынешнее его занятие есть та же военная служба и
находится в полном соответствии с законами чести. Грабеж
называл он захватом трофеев, а виселица была в его
глазах жестоким и подлым злоупотреблением со стороны
противника, за которое тому следовало не давать спуску.
Остальные двое участников предприятия были для
мистера Брока совершенно чужими людьми, и он никак не
решился бы доверить кому-либо из них столь деликатное
поручение, а тем паче ту изрядную сумму денег, которую
предстояло привезти. Они было, в свою очередь, как ни
странно, выказали некоторое недоверие к мистеру Броку;
но Брок вытащил из кошелька пять гиней и вручил
хозяйке харчевни в качестве залога за Макшейна; после
чего сей последний оседлал лошадь бедняги Хэйса и на
ней отправился к родителям злополучного молодого
человека. Внушительное зрелище являл собою полномочный
посол воровской шайки в своем линялом голубом мундире
с оранжевой выпушкой, в высоченных ботфортах,
незнакомых с ваксою, при шпаге с чашкой и в потертой шляпе,
лихо заломленной поверх всклокоченного парика, когда
выезжал из харчевни «Три Грача», держа путь в родную
деревню Хэйса.
От Вустера до упомянутой деревни было восемнадцать
миль; но мистер Макшейн преодолел это расстояние, не
сбившись с пути и, что еще важней, не напившись (на сей
счет ему было сделано строжайшее внушение). Разыскать
дом Хэйсов не представляло для него труда, ибо лошадь
Джона прямехонько туда и затрусила. Появление
знакомого серого меринка, на котором сидел кто-то чужой,
немало удивило миссис Хэйс, сидевшую у дверей с вязаньем.
Макшейн проворно спешился и, как только его ноги
коснулись земли, щелкнул каблуками и отвесил миссис
Хэйс церемонный поклон; после чего, прижав к сердцу
свою засаленную шляпу и едва не смазав старушку по
носу париком, осведомился, не имеет ли он честь
«лицезреть почтеннейшую миссис Хэйс?».
275
Ответ был дан утвердительный, и тогда он спросил,
нет ли в доме мальчишки на побегушках, который «отвел
бы лошадь в стойло», не найдется ли «стакана лимонаду
или кислого молока промочить горло с дороги» и, наконец,
не уделит ли ему «миссис Хэйс и ее супруг несколько
минут для беседы об одном деликатном и важном предмете».
Что это за предмет, мистер Макшейн не стал говорить в
ожидании, когда его просьбы будут исполнены. Но вот
наконец и о лошади и о всаднике позаботились должным
образом, мистер Хэйс явился из своей мастерской, а
миссис Хэйс тем временем не на шутку растревожилась за
судьбу обожаемого сына.
— Где он? Что с ним? Жив ли он? — спрашивала
старушка.— О, горе, наверно, его нет в живых!
— Да нет же, сударыня, вы напрасно беспокоитесь;
сын ваш жив и здоров.
— Ах, слава тебе господи!
— Но весьма удручен духом. Грех да беда на кого не
живет, сударыня; вот и с вашим сыном приключилась
небольшая неприятность.
И мистер Макшейн извлек на свет собственноручное
письмо Джона Хэйса, копией которого нам
посчастливилось запастись. Вот что было написано в этом письме:
«Почтеннейшие батюшка и матушка! Податель сего —
добрый человек, и он знает, в какую я попал беду. Вчера
в сем городе встретился я с некими господами,
состоящими на службе ее величества, и, выпивши в их компании,
согласился завербоватца и взял от них деньги. После я
пожалел об этом и хотел убежать, но меня не пустили, и
тут я имел нещастье ударить офицера, своего начальника,
за что по военным законам полагаитца смертная Казнь.
Но если я заплачу двадцать гиней, то все обойдетца.
Каковые деньги вручите подателю, а иначе меня растреляют
не пожже как во Вторник утром. С чем и остаюсь
любящий вас сын
Джон Хэйс,
Писано в тюрьме в Бристоле
в злощастный для меня понедельник».
На миссис Хэйс это горестное послание произвело
именно то действие, на которое и было рассчитано; она тут
же готова была броситься к сундуку за деньгами, потреб-
276
ными для выкупа любимого сыночка. Но старый плотник
оказался более подозрительным.
— Я ведь вас не знаю, сэр,— сказал он послу.
— Вы не доверряете моей чести, сэр? — грозно
вскричал прапорщик.
— Видите ли, сэр,— отвечал мистер Хэйс,— может,
оно все так, а может, и иначе; а чтоб уж у меня не было
никаких сомнений, вы мне объясните все поподробнее.
— Я не имею прривычки давать объяснения,— сказал
мистер Макшейн,— так как это не приличествует моему
ррангу. Но вам, так и быть, объясню, что непонятно.
— Не можете ли вы сказать, в какой именно полк
зачислен мой сын?
— Извольте. В пехотный, под командой полковника
By да; и знайте, любезнейший, это один из самых
доблестных полков в нашей аррмии.
— И давно вы расстались с Джоном?
— Не более трех часов назад. Черт побери, я мчался,
как жокей на скачках; да и можно ли иначе, когда речь
идет о жизни и смерти.
От Бристоля до дома Хэйсов было семьдесят миль —
проделать такой путь за три часа можно было разве что
во сне; старик это сразу же отметил и не стал продолжать
разговор.
— Сказанного вами, сэр,— возразил он,— достаточно,
чтобы я мог заключить, что дело нечисто и что вся эта
история — ложь от начала до конца.
Столь крутой поворот несколько озадачил прапорщика,
но он тут же оправился и заговорил с удвоенной
важностью.
— Вы не слишком выбираете выражения, мистер
Хэйс,— сказал он,— но из дружеских чувств к вашему
семейству я вам пррощаю. Выходит, вы не верите своему
сыну — ведь это же писано его рукой.
— Вы его заставили это написать,— сказал мистер
Хэйс.
— Угадал, старый черт,— пробормотал мистер
Макшейн в сторону.— Ладно, сэр, будем говорить начистоту:
да, его заставили написать. Да, история с вербовкой
чистый вымысел от начала до конца. Но что из того,
любезнейший? Думаете, вашему сыну от этого легче?
— Да где же он? — вскрикнула миссис Хэйс,
бухнувшись на колени.— Мы дадим, дадим деньги, ведь правда,
Джон?
277
— Уж верно дадите, сударыня, когда узнаете, где ваш
сын. Он в руках моих приятелей, джентльменов, которые
не в ладах с нынешним правительством и для которых
перерезать человеку горло — все равно что свернуть шею
цыпленку. Он наш пленник, сударыня. Если вы согласны
выкупить его, все будет хорошо; если же нет, да поможет
ему бог! Ибо вам его не видать больше.
— А почем я знаю, что завтра вы не явитесь требовать
еще денег? — спросил мистер Хэйс.
— Сэр, порукой вам моя честь; я скорей удавлюсь, чем
нарушу данное слово,— торжественно произнес мистер
Макшейн.— Двадцать гиней — и дело сделано. Даю вам
десять минут на размышление; а там как хотите, мне ведь
все равно, любезнейший.— И надо отдать должное нашему
другу прапорщику — он говорил от чистого сердца и в
поручении, с которым прибыл, не усматривал ничего
бесчестного и противозаконного.
— Ах, вот как! — в ярости вскричал мистер Хэйс.—
А что, если мы вас схватим и задержим как заложника?
— На парламентера руку не поднимают, жалкий вы
штафирка! — возразил мистер Макшейн,— А кроме того,—
продолжал он,— есть еще причины, по которым вам не
след пускаться на такие штуки: вот одна из них.— Он
указал на свою шпагу.— Вот еще две.— Он вынул
пистолеты.— А самая главная — это что вы хоть повесьте меня,
хоть колесуйте, хоть четвертуйте, но только не видать вам
тогда больше своего сына. Мы к риску привычные, сэр, наше
дело такое — это вам не шутки шутить. И слов мы на
ветер не бросаем, наш род занятий требует исправности.
Сказано вам, что, если я не вернусь целым и невредимым
к завтрашнему утру, вашему сыну конец,— значит, так
оно и будет, можете быть уверены. А иначе на что бы мне
и надеяться? Ведь стоит вам напустить на меня
констеблей, и я охнуть не успею, как уже буду болтаться в петле
на площади перед уорикширской тюрьмой. Ан нет,
любезнейший! Не станете же вы жертвовать таким славным
сыночком, как Джон Хэйс,— не говоря уже о его
супруге,— чтобы полюбоваться, как мои длинные ноги
дергаются в воздухе! Были у нас, правда, случаи, когда нашим
людям пришлось плохо оттого, что родители или опекуны
им не поверили.
— И что же тогда сталось с бедными детьми? — в
страхе спросила миссис Хэйс, перед которой понемногу
начала проясняться суть спора.
278
— Не спрашивайте, сударыня; кровь стынет при одной
мысли об этом! — И мистер Макшейн столь выразительно
провел пальцем поперек своего горла, что почтенных
родителей в дрожь бросило.— Военный обычай, прошу
заметить, сударыня. За ту службу, которую я имею честь
нести, ее величество королева не платит; значит, должны
платить пленные, так уж водится на войне.
Никакой адвокат не провел бы порученное ему дело
лучше, чем с этим справился мистер Макшейн; и ему
удалось вполне убедить старших Хэйсов в необходимости дать
деньги на выкуп сына. Пообещав, что не позже
завтрашнего утра молодой человек будет возвращен в
родительские объятия вместе со своей прекрасной супругой, он
отвесил старикам церемонный поклон и без промедлений
пустился в обратный путь. Мистер и миссис Хэйс были
приведены в некоторое недоумение упоминанием о
супруге, ибо они ничего не знали про побег молодой
парочки; но страх за жизнь ненаглядного сынка помешал
им взволноваться или разгневаться по этому поводу.
Итак, бравый Макшейн покинул деревню, увозя с собой
двадцать гиней — залог спасения упомянутой жизни;
и справедливости ради должно сказать, что ему ни
разу не пришло в голову присвоить эти деньги или
совершить иное вероломство по отношению к своим
товарищам.
Поездка его порядком затянулась. Из Вустера он
выехал около полудня, но засветло вернуться ему не удалось;
солнце зашло, и ландшафт, который днем, точно светский
щеголь, красовался в пурпуре и золоте, теперь оделся в
серый квакерский плащ; деревья у дороги стояли черные,
похожие на гробовщиков или лекарей, и зловеще
шептались, склоняясь друг к другу тяжелыми головами; туман
повис над выгоном; один за другим гасли огни в домах;
черной стала земля и таким же черным небо, только
редкие звезды безо всякого толку рябили его гладкий темный
лик; в воздухе потянуло холодом; часа в два пополуночи
вышел месяц, бледным, истомленным гулякой стал
одиноко пробираться по пустынному небосводу; а часа эдак в
четыре уже и рассвет (нерадивый подмастерье!)
распахнул на востоке ставни Дня; иными словами, прошло
более двенадцати часов. Капрала Брока сменил на посту
мистер Колпак, а того, в свою очередь,— мистер Циклоп,
джентльмен с черной повязкой на глазу; миссис Джон
Хэйс, преодолев горе и смущение, последовала примеру
279
своего супруга и уснула с ним рядом; а проснулась —
много часов спустя — все еще под охраной мистера Бро-
ка и его команды; и все — как стражи, так и пленники —
с удвоенным нетерпением стали ожидать возвращения
посла, мистера Макшейна.
Достойному прапорщику, столь успешно и ловко
справившемуся с первой половиной своей задачи, ночь,
застигшая его на обратном пути, показалась чересчур
темной и холодной, а так как сверх того он испытывал
жажду и голод и в кошельке у него были деньги, а особых
причин торопиться вроде бы не находилось, то он и
решил заночевать где-либо в трактире, с тем чтобы выехать
в Вустер, как только рассветет. Так он и сделал —
спешился у ближайшей харчевни, отправил лошадь на конюшню
и, войдя в кухню, приказал подать лучшего вина, какое
только есть в погребе.
В кухне уже сидело несколько человек, и мистер Мак-
шейн с важным видом расположился среди них. Изрядная
тяжесть его кошелька наполняла его сознанием своего
превосходства над окружающими, и он не замедлил дать
им это почувствовать. После третьей кружки эля он
нашел, что у напитка кислый вкус, стал кривиться и
отплевываться и, наконец, выплеснул остаток в огонь.
Случившемуся тут приходскому священнику (в то доброе старое
время духовные пастыри не видели греха в том, чтобы
коротать вечер в обществе своих прихожан) подобное
поведение показалось столь обидным, что он встал со своего
почетного места у огня в намерении строго выговорить
обидчику; чем тот и воспользовался, чтобы сразу же
занять это место. Любо было слышать побрякивание монет
у него в кармане, ругань, которой осыпал он
трактирщика, гостей, эль,— и при этом видеть, как он развалился
в кресле, заставляя соседей боязливо отодвигаться от его
широко расставленных ножищ в ботфортах, как бросает
на трактирщицу томные взгляды, пытаясь облапить ее,
когда она проходит мимо.
Меж тем трактирный конюх, управясь со своими
делами, вошел в кухню и шепнул хозяину, что новый гость
«приехал на лошади Джона Хэйса»; хозяин не преминул
самолично удостовериться в этом обстоятельстве, невольно
возбудившем в нем некоторые подозрения. И не рассуди
он, что время нынче смутное, лошади продаются и
покупаются, а деньги всё деньги, кто бы их ни платил,— он бы
непременно тут же передал прапорщика в руки констеб-
280
лей и лишился всякой надежды получить по счету,
который с каждой минутой все рос и рос.
Немного времени потребовалось прапорщику, чтобы с
легкостью, свойственной его доблестной нации, распугать
всех прочих гостей и обратить их в бегство. Ретировалась
и хозяйка, смущенная его любезностями; один хозяин
остался на посту — и то лишь потому, что думал о своей
выгоде,— и с досадой слушал пьяные речи постояльца.
Не прошло, однако, и часу, как весь дом был разбужен
оглушительным грохотом, криком, руганью и звоном
бьющейся посуды. Выскочила на шум хозяйка в ночном
наряде, прибежал конюх Джон с вилами, поспешили сверху
кухарка и два или три постояльца и увидели, что хозяин
с прапорщиком барахтаются на полу, причем парик
последнего тлеет в очаге, издавая весьма странный запах,
а большая часть собственных его волос зажата в руке
хозяина, который тянет их вместе с головою к себе, чтобы
удобнее было молотить по этой голове другой рукой.
Однако преимущество оказалось все же на стороне
прапорщика, опытного бойца: ему удалось подмять хозяина под
себя, и руки его ходили по лицу и туловищу противника,
как лопасти гребного колеса.
Дерущихся поторопились разнять; но как только остыл
жар схватки, прапорщик Макшейн сделался нем,
бесчувствен и неспособен к передвижению, и давешнему
противнику пришлось отнести его в постель. Шпагу и пистолеты,
отстегнутые им ранее, заботливо положили рядом, после
чего приступили к проверке карманов. Двадцать гиней
золотом, большой нож, употреблявшийся, должно быть,
для нарезки хлеба и сыра, крошки того и другого да
картуз с табаком в карманах панталон, а за пазухой
голубого мундира куриная ножка и половина сырой
луковицы — таково оказалось наличное имущество
прапорщика.
Само по себе это имущество не вызывало подозрения;
но тумаки, полученные трактирщиком, укрепили в нем и
в его жене недоверие к гостю; и они решили, дождавшись
утра, известить мистера Хэйса о том, что в трактире
остановился человек, приехавший на лошади его сына. Конюх
Джон чуть свет отправился исполнять поручение; по
дороге он разбудил судейского клерка и поделился с ним
возникшими тревожными догадками; клерк решил
посоветоваться с местным пекарем, который всегда вставал
рано; и дело кончилось тем, что клерк, пекарь, мясник и
281
двое мастеровых, собравшихся было на работу, все
поспешили в трактир.
Итак, покуда бравый Макшейн спал крепким,
безмятежным сном, который в этом мире доступен лишь невинг
ным младенцам и пьяницам, и нос его приветствовал
утреннюю зарю ровным и мелодичным посвистом, вокруг
него плелась сеть коварного заговора; и когда в семь часов
утра он наконец проснулся и сел в постели, то увидел
справа и слева от себя по три вооруженных фигуры, вид
которых не сулил ему ничего хорошего. Один из
незнакомцев держал в руке жезл констебля и, хотя ордера у
него не было, выразил намерение арестовать мистера Мак-
шейна и немедля препроводить его к судье.
— Эй, послушайте! — вскричал прапорщик, подскочив
на месте и прервав на середине долгий звучный зевок,
которым ознаменовался для него переход в бодрствующее
состояние.— Нельзя задерживать человека, когда дело
касается жизни и смерти. Клянусь, тут вопрос чести.
-— Откуда у вас эта лошадь? — спросил пекарь.
— Откуда у вас эти пятнадцать гиней? — спросил
трактирщик — пять золотых монет уже каким-то образом
растаяли в его руках.
— Что это у вас за идолопоклоннические четки? —
спросил судейский клерк.
Мистер Макшейн, сказать по правде, был католик, но
ему вовсе не хотелось в том признаваться; ибо в
описываемые времена католичество было не в почете.
— Четки? Мать пресвятая богородица, отдайте мне их
сейчас же! — воскликнул он, всплеснув руками.— Эти
четки благословил сам его святейшество па... мм, то есть я
хотел сказать, что эти четки — память о моей маленькой
дочурке, которую господь прибрал на небо; а что до денег
и лошади, то джентльмену, сами понимаете, без того и
другого никак нельзя пускаться в дорогу.
— Но иные джентльмены пускаются в дорогу, чтобы
раздобыть и то и другое,— рассудительно заметил
констебль.— Сдается нам, эта лошадь и эти деньги не были
приобретены честным путем. Если господин судья поверит
вашим словам — что ж, тогда, само собой, и мы поверим;
но только нам известно, что в округе пошаливают, так вот
не из тех ли вы, часом, шалунов.
Все дальнейшие возражения и угрозы мистера Мак-
шейна ни к чему не привели. Сколько он ни уверял, что
доводится двоюродным братом герцогу Лейнстеру, состоит
282
в офицерском чине на службе ее величества и связан
теснейшей дружбой с лордом Мальборо, дерзкие насильники
и слушать не хотели его объяснений (подкрепленных,
кстати сказать, самой лихой божбой); и к восьми часам
он был доставлен в дом к сквайру Баллансу,
исправлявшему в Уорикшире должность мирового судьи.
Когда сей почтенный муж спросил, что именно
вменяется в вину арестованному, насильники на миг
растерялись, ибо, собственно говоря, ни в чем его обвинить не
могли; и буде бы прапорщик разумно промолчал,
предоставив им изыскивать в его действиях состав
преступления, судья Балланс, верно, тут же отпустил бы его, а
клерка и трактирщика сурово разбранил бы за то, что они
задержали честного человека без должных поводов.
Но прапорщик по природе своей не был склонен к
разумной осторожности; и хотя никаких обвинений против
него так, в сущности, и не нашлось, он сам наговорил
предостаточно, чтобы заставить усомниться в своей личности.
Будучи спрошен об имени, он назвался капитаном Дже-
ралдайном и сказал, что едет через Бристоль в Ирландию
в гости к герцогу Лейнстеру, своему двоюродному брату.
Он тут же пригрозил сообщить герцогу Мальборо и лорду
Питерборо, своим ближайшим друзьям и бывшим боевым
командирам, о том, как с ним тут обошлись; а когда судья
Балланс — старичок с хитрецой и притом почитывавший
газеты — пожелал узнать, в каких сражениях он
участвовал, доблестный прапорщик наобум назвал две
знаменитые битвы, имевшие место на одной неделе, одна в
Испании, другая во Фландрии, и прибавил, что получил
тяжелейшие раны в обеих; и в конце концов в протоколе его
допроса, который велся клерком, записано было
следующее: «Капитан Джералдайн, рост шесть футов четыре
дюйма; худощав; нос имеет весьма длинный и красный,
волосы рыжие, глаза серые; говорит с сильным
ирландским акцентом; приходится двоюродным братом герцогу
Лейнстеру и состоит с ним в постоянном общении; не
знает, есть ли у его светлости дети; не знает, где его
лондонская резиденция; не может описать его наружность;
близко знаком с герцогом Мальборо и, служа в
драгунском полку, участвовал в сражении при Рамильи; около
того же времени был с лордом Питерборо под Барселоной.
Лошадь, на которой он прибыл, одолжена ему приятелем
в Лондоне три недели тому назад. Питер Хобс,
трактирный конюх, клянется, что видел означенную лошадь на
283
конюшне тому четыре дня и что она принадлежит Джону
Хэксу, плотнику. Не может объяснить происхождения
пятнадцати гиней, обнаруженных при нем трактирщиком;
говорит, что их было двадцать; говорит, что выиграл их
в карты в Эдинбурге две недели назад; говорит, что
путешествует для развлечения; в то же время говорит, что едет
в Бристоль по делу, которое есть вопрос жизни и смерти;
вчера, в присутствии нескольких свидетелей, говорил, что
направляется в Йорк; говорит, что обладает независимым
состоянием, что у него крупные поместья в Ирландии и
сто тысяч фунтов в Английском банке. Не имеет на себе
ни рубашки, ни чулок, одет в мундир с меткой «С. С».
Внутри его ботфортов написано «Томас Роджерс», а на
подкладке шляпы «Преподобный доктор Сноффлер».
Доктор Сноффлер был жителем города Вустера и
недавно поместил в листке «Держи вора!» объявление с
перечнем вещей, похищенных из его дома. На это мистер
Макшейн возразил, что шляпу ему подменили в трактире,
куда он прибыл в шляпе с золотым галуном, и готов
подтвердить это под присягой. Однако нашлись свидетели,
в свою очередь готовые подтвердить под присягой, что это
неправда. Словом, еще немного, и он угодил бы в тюрьму
за кражи, которых не совершал (ибо что касается шляпы,
то она была куплена им у какого-то посетителя «Трех
Грачей» за две пинты пива),— казалось, это уже
неминуемо, но тут появилась старшая миссис Хэйс, и ей-то
прапорщик был обязан тем, что сохранил свободу.
Когда трактирный конюх прибыл на серой лошади в
дом Хэйсов, старого плотника уже не было дома; жена же
его, выслушав привезенное известие, немедленно потре^
бовала, чтобы к седлу была пристроена для нее подушка,
и, взгромоздясь на эту подушку у конюха за спиной,
приказала ему скакать что есть мочи к дому судьи Балланса,
Задыхаясь от спешки и волнения, вбежала она в
комнату, где сидел судья.
— Ах, ваша честь, что вы хотите делать с этим
достойным джентльменом? — воскликнула она.— Ради всего
святого, отпустите его! Тут каждая минута дорога —у
него важное дело — речь идет о жизни и смерти.
— Я это говорил судье,— сказал прапорщик,— но он
отказался верить моему слову — честному слову капитана
Джерралдайна!
Макшейна легко было сбить, учинив ему целый допрос,
но с отдельной ложью он вполне мог справиться; и в дан-
284
ном случае даже явил иемалую изобретательность, желая
сообщить миссис Хэйс имя, которым назвался.
— Как! Вам знаком капитан Джералдайн? — спросил
мистер Балланс, отлично знавший жену плотника.
— Само собой, знаком! Мы с ней знакомы лет
десять! Мы даже родственники! Она мне и дала ту самую
лошадь, о которой я в шутку сказал, будто купил ее в
Лондоне.
—- Погодите, пусть она сама скажет. Миссис Хэйс, это
правда, что капитан Джералдайн вам родственник?
— Да, да... правда!
— Весьма лестное родство! И вы дали ему лошадь
сами, своею волей?
— Да, да, своею волей — я бы ему дала все, что
угодно! Умоляю, ваша честь, отпустите его поскорей! У него
дитя при смерти,— сказала старушка, залившись
слезами.— И может погибнуть, не дождавшись... не дождавшись
его возвращения!
Судью несколько удивило столь бурное сочувствие
чужому горю; тем более что сам отец был, видимо, куда
менее озабочен участью, грозившей его отпрыску, нежели
добрая миссис Хэйс. Более того, услышав ее страстную
мольбу, обращенную к судье, капитан Джералдайн
ухмыльнулся и заметил:
— Не хлопочите, голубушка. Если его чести угодно ни
за что ни про что арестовать порядочного человека, пусть
арестует — закон нас рассудит. А что до дитяти — господь
спаси и сохрани его, бедняжку.
Услышав эти слова, миссис Хэйс взмолилась еще
жарче: и поскольку никакого обвинения задержанному
предъявить не удалось, мистер Балланс махнул рукой и
отпустил его.
Трактирщик и его друзья, немало смущенные,
поплелись было прочь, но тут мистер Макшейн громовым
голосом окликнул трактирщика и потребовал немедленно
возвратить украденные пять гиней. Снова тот стал уверять
и божиться, что в кармане у гостя больше пятнадцати не
было. Но когда Макшейн на Библии поклялся, что было
двадцать, и призвал миссис Хэйс в свидетели, что вчера
вечером, за полчаса до того, как ему прибыть в трактир,
в руках у него было двадцать золотых монет, и почтенная
старушка выразила полную готовность подтвердить это
под присягой,—лицо у трактирщика вытянулось, и он
сказал, что не пересчитывал деньги, когда брал их, и хотя
285
убежден по-прежнему, что было всего пятнадцать гицей,
но, не желая, чтобы хоть тень подозрения коснулась его
доброго имени, готов добавить пять гиней из своего
кармана; что тут же и сделал, отсчитав прапорщику пять
монет его собственных денег,— или, вернее, денег миссис
Хэйс.
Выйдя из дома судьи, мистер Макшейн не удержался,
чтобы от полноты признательного сердца тут же не
расцеловать миссис Хэйс в обе щеки. А когда она стала
упрашивать взять ее с собой, чтобы ей поскорее обнять своего
ненаглядного сынка, он великодушно согласился, и,
усевшись на серую лошадь Джона Хэйса, парочка затрусила
по дороге к Вустеру.
* * *
— Кого это Носач привез с собой? — произнес три
часа спустя мистер Циклоп, одноглазый Броков
сподвижник, без дела слонявшийся во дворе «Трех Грачей». Вопрос
был вызван появлением прапорщика Макшейна в
обществе матери злополучного пленника. Они добрались до
Вустера без всяких приключений.
— Сейчас я буду иметь удовольствие,—
прочувствованно сказал наш прапорщик, помогая миссис Хэйс
слезть с лошади,— я буду иметь удовольствие
воссоединить два любящих сердца. Мы люди суровой профессии,
любезнейшая, но — ах! — подобные минуты
вознаграждают нас за годы тягот. Сюда, сюда, любезнейшая.
Направо, потом налево — здесь ступенька, не споткнитесь,— а
теперь по коридору третья дверь.
Дверь была благополучно достигнута, и в ответ на
условленный стук распахнулась, пропуская в комнату ми*
стера Макшейна, который в одной руке зажимал двадцать
золотых, а другою поддерживал почтенную даму.
Мы не станем подробно описывать встречу матери и
сына. Старушка проливала обильные слезы; молодой чело*
век искренне радовался, заключив, что родительница
принесла ему избавление от всех напастей; миссис Кэт ото-*
шла в сторонку и кусала губы в некоторой растерянности;
мистер Брок пересчитывал деньги; а мистер Макшейн уси-*
ленно подкреплялся спиртным, вознаграждая себя за
труды, тревоги и испытания.
Когда чувства миссис Хэйс несколько поуспокоились,
старушка ласково оглядела всю воровскую шайку, ее окру-
286
жавшую. Ей в самом деле казалось, что эти люди
облагодетельствовали ее тем, что выманили у нее двадцать
гиней, грозили смертью ее сыну, а теперь согласны
отпустить его на волю.
— Кто этот смешной старичок? — спросила она; и,
узнав, что это капитан Вуд, церемонно присела перед ним
и почтительно произнесла: — Ваша покорная слуга, сэр! —
на что мистер Брок соблаговолил ответить улыбкой и
поклоном.
— А кто эта красивая молодая дама? — продолжала
миссис Хэйс свои расспросы.
— Это... мм... кха-кха... это миссис Джон Хэйс,
матушка. Прошу любить и жаловать.— И мистер Хэйс подвел
свою молодую жену под материнское благословение.
Неожиданная новость отнюдь не обрадовала старушку,
ж она довольно кисло ответила на поцелуй миссис
Кэтрин. Однако делать было нечего; на радостях ей даже
трудно было по-настоящему осердиться на вновь
обретенного сына. Поэтому она лишь слегка пожурила его; а
затем, обратясь к младшей миссис Хэйс, сказала, что хоть
она никогда не одобряла увлечения Джона и считает этот
брак неравным, но, раз уж беда случилась, приходится
смириться; а потому она готова принять невестку в дом и
обласкать, как родную.
— А нет ли еще денег в этом самом доме? — шепнул
мистер Циклоп мистеру Колпаку: оба они вместе с
хозяйкой стояли в дверях и забавлялись чувствительной сценой,
разыгрывавшейся у них на глазах.
— И глуп же этот ирландский увалень, что не
попытался выжать из нее больше,— сказала хозяйка,—
впрочем, чего и ждать от безмозглого паписта. Уж будь жив
мой муженек (сей достойный джентльмен окончил свою
жизнь на виселице), он бы на таких грошах не
помирился.
— А почему бы нам не давнуть еще раз? —
предложил мистер Колпак.— Что нам мешает? Теперь ведь у
нас в руках не только жеребок, но и старая кобыла —
хо-хо! За двоих-то можно, пожалуй, и всю сотню
стребовать.
Разговор этот велся sotto voce;l возможно, мистер Брок
и не подозревал о коварном умысле трех друзей.
Кампанию открыла хозяйка.
Вполголоса (итал.).
2S?
— Прикажете подать вам пуншу или еще чего-нибудь,
сударыня? — спросила она.— Надо выпить, раз уж
очутились в трактире.
— Само собой,— откликнулся прапорщик.
— Непременно,— поддержали хором остальные трое*
Но миссис Хэйс сказала, что хочет поскорей вернуться
домой и, вынув крону, попросила хозяйку поднести
джентльменам после ее отъезда.
— Прощайте, капитан,— обратилась она к мистеру
Макшейну.
— Адью! — воскликнул тот.— Желаю долго
здравствовать, любезнейшая. Вы меня выручили из скверной
передряги там, у судьи; и не будь я прапорщик Макшейн, если
я это когда-нибудь забуду.
После чего Хэйс и обе дамы направились было к
двери, но хозяйка загородила им выход, а мистер Циклоп
сказал:
— Э, нет, мои красавицы, вы от нас так дешево не
отделаетесь; что двадцать гиней,— это пустяки; нам надобно
больше.
Мистер Хэйс попятился и, кляня свою судьбу, не мог
удержаться от слез; женщины завопили; мистер Брок
лукава усмехнулся, словно предвидел такой оборот дела и
одобрял его; но прапорщику Макшейну это не
понравилось.
— Майор! — сказал он, вцепившись Броку в рукав.
— Прапорщик! — отозвался мистер Брок,
улыбаясь.
— Мы, кажется, люди чести, майор, так или нет?
— Само собой,— смеясь, отвечал Брок любимым
выражением Макшейна.
— Так вот, люди чести должны быть верны своему
слову; и если ты, одноглазая скотина, сию же минуту не
дашь пройти этим дамам и этому слабодушному молодому
человеку, который так горько плачет,— ты будешь иметь
дело с майором и со мной.— Сказав это, он вытащил свою
длинную шпагу и сделал выпад в сторону мистера
Циклопа, но тот увернулся и вместе со своим товарищем отошел
от двери. Только хозяйка осталась на посту и, кляня на
чем свет стоит и прапорщика, и англичан, струсивших
перед ирландским увальнем, объявила, что не сдвинется с
места и будет стоять тут, пока жива.
— Так пусть же пеняет на себя! — вскричал
прапорщик и взмахнул шпагой так, что она прошла чуть не под
288
самым подбородком у разъяренной бабы. Та взвизгнула,
упала на колени и наконец отворила дверь.
Мистер Макшейн подал старушке руку и весьма
церемонно свел ее с лестницы, предшествуя новобрачной чете;
у ворот он дружески распрощался со всем семейством,
твердо пообещав навестить его в будущем.
— Восемнадцать миль не так далеко,— сказал он,—
успеете дойти засветло.
— Дойти? — вскричал мистер Хэйс— Зачем же нам
идти пешком, у нас ведь есть мой Серый, и мы можем
ехать на нем по очереди.
— Сударыня! — внушительно произнес Макшейн,
возвысив голос— Верность слову — прежде всего! Не вы ли
в присутствии судьи клятвенно подтвердили, что сами
дали мне эту лошадь,— так что ж, вы хотите теперь снова
отнять ее? Позвольте вам заметить, сударыня, что особе
ваших лет и вашего достоинства не к лицу столь
некрасивые поступки, и я, прапорщик Тимоти Макшейн, не
намерен их допускать.
Он отвесил поклон, взмахнул шляпой и удалился
горделивой поступью; а миссис Кэтрин Хэйс с мужем и
свекровью припустились к дому пешком.
Глава VII,
охватывающая период в семь лет
Вырвав, сверх всякого ожидания, значительную часть
своих денег из цепких лап Брока, граф Густав Адольф фон
Гальгенштейн, этот бесподобный молодой человек,
разумеется, не помнил себя от радости; и частенько потом
говаривал не без лукавства, что судьба едва ли могла
распорядиться более благоприятным для него образом, и он ей
за это горячо благодарен; в самом деле, ведь не укради
мистер Брок эти деньги, его сиятельству пришлось бы
выложить их в уплату своего карточного долга уорикшир-
скому сквайру. А так он мог сослаться на свое бедственное
положение, что и не преминул сделать, и уорикширский
победитель остался ни с чем, если не считать весьма
неразборчивого автографа Густава Адольфа, коим последний
признавал себя его должником.
Признание это было вполне чистосердечным; однако
признавать долги и платить их — не совсем одно и то же,
в чем читатель, без сомнения, не раз имел случай убедить-
W У. Теккерей.т. 1 289
ся; и мы можем заверить его, что до дня своей кончины
уорикширский сквайр так и не увидел ни одного
шиллинга, четвертака, луидора, дублона, мараведи, тумана или
рупии из той суммы, которая была ему проиграна
monsieur де Гальгенштейном.
Названный молодой дворянин, как о том упомянул
мистер Брок в рассказе о собственных приключениях,
приведенном нами в одной из предшествующих глав, некоторое
время находился в Шрусберийском узилище, куда был
заточен за некоторые другие долги; но сумел освободиться
с помощью справедливого и благодетельного закона,
изданного для спасения несостоятельных должников; а
неделю спустя ему посчастливилось встретить, уличить и
обратить в бегство капитана Вуда, он же Брок, и таким
образом вернуть остаток своих денег. После чего граф с
примерной скромностью предпочел временно покинуть
Англию; и мы не вправе утверждать, что долги поставщикам
были им уплачены в отличие от так называемых долгов
чести.
Разрешив таким образом вопрос о долгах, доблестный
граф обратился к влиятельным друзьям, которые помогли
ему получить пост за границей, и несколько лет
безвыездно прожил в Голландии. Здесь он познакомился с
очаровательной госпожой Сильверкооп, вдовой некоего лейден-
ца; и хотя дама эта уже вышла из возраста, когда
женщине свойственно зажигать сердца нежной страстью,— ей
было за шестьдесят,— и не обладала, подобно своей
современнице, француженке Нинон де Ланкло, прелестями,
перед которыми бессильно время (ибо миссис Сильверкооп
лицом была красна, как вареный рак, а осанкой
напоминала гиппопотама); и ее нравственные качества не
возмещали ее физических недостатков (ибо она была
вульгарна, ревнива, зла, да притом еще пьяница и скряга),—
тем не менее monsieur де Гальгенштейн сразу же
пленился ею; из чего читатель, верно, заключит (ах, пострел,
знает ведь людскую природу!), что почтенная вдова была
богата.
Так оно и было; и граф Густав, пренебрегши разницею
между своими двадцатью поколениями предков и ее
двадцатью тысячами фунтов, повел отчаянную атаку на
вдову ив конце концов заставил ее сдаться —как бывает
с любой женщиной, если только мужчина достаточно
настойчив; я в этом глубоко убежден по собственному опыту.
Дело завершилось свадьбой; и любопытно было видеть,
290
как этот изверг и домашний тиран, каким он себя
выказывал в жизни с миссис Кэт, мало-помалу оказался в
полном подчинении у своей необъятной графини, которая
помыкала им, точно слугой, начисто лишила его собственной
воли и требовала точнейшего отчета в каждом шиллинге,
который он от нее получал.
Что помогло ему, жалкому рабу госпожи Сильверкооп,
в свое время забрать такую власть над миссис Кэт?
Думается мне, в схватках этого рода решает дело первый
удар; а графиня нанесла его ровйо через неделю после
свадьбы и тем утвердила за собой главенство в семейной
жизни, которое граф уже никогда не пытался оспаривать.
Мы упомянули о браке его сиятельства, дабы сделать
понятным его возвращение на страницы нашей повести
в куда более блистательном виде, нежели он там до сих
пор являлся; в дальнейшем же, утешив читателя
сообщением, что союз этот, хоть и весьма выгодный в житейском
смысле, был на самом деле крайне несчастливым, мы более
не намерены говорить о дородной законной супруге графа
Гальгенштейна. Наши чувства отданы миссис Кэтрин,
занимавшей до нее это место, и отныне имя дородной
графини если и будет упоминаться здесь, то лишь в той мере,
в какой она оказывала влияние на участь нашей героини
или же тех мудрых и добродетельных людей, которые
сопровождали и будут сопровождать последнюю на ее
жизненном пути. Страшно делается, когда иной раз,
оглянувшись в прошлое, вдруг видишь маленькое, совсем
крошечное колесико, двигающее громоздкий механизм Судьбы, и
понимаешь, как весь ход нашей жизни меняется подчас
из-за минутной задержки или минутной поспешности,
из-за того, что мы повернули не на ту улицу, или кто-то
другой повернул не на ту улицу, или кто-то что-то сделал
не так на Даунинг-стрит или в Тимбукту, в наши дни или
тысячу лет тому назад. Так, если бы в 1695 году некая
мисс Поотс не украшала своим присутствием одно
амстердамское заведение, мистер Ван Сильверкооп ее бы не уви^
дел; если бы день был не столь изнурительно жарким,
почтенному негоцианту не вздумалось бы зайти туда; если
бы он не имел пристрастия к рейнвейну с сахаром, он бы
не спросил этого напитка; если бы он его не спросил, мисс
Оттилия Поотс не подала бы его на стол и не присела бы
разделить компанию; если бы Сильверкооп не был богат,
она, разумеется, отвергла бы все его авансы; если бы не
упомянутое пристрастие к рейнвейну с сахаром, он бы не
Ю*
291
умер и поныне и миссис Сильверкооп не сделалась бы ни
богатой вдовой, пи супругой графа фон Гальгенштейна.
И более того — не была бы написана настоящая повесть;
ибо если бы граф Гальгенштейн не женился на богатой
вдове, миссис Кэтрин никогда бы не...
Ах вы, моя душенька! Думаете, сейчас вам все и
расскажут? Э, нет, как бы не так! Вот прочитайте еще
страниц семьдесят с лишком — тогда, быть может, узнаете,
чего бы никогда не сделала миссис Кэтрин.
Как читатель, верно, помнит, еще во второй главе этих
записок говорилось о том, что наша героиня произвела на
свет дитя, которое при желании могло бы носить герб
Гальгенштейнов, но с особой отметиной. Дитя это,
незадолго до бегства его матери от его отца, было отдано в
деревню на воспитание; и граф, бывший в ту пору при
деньгах (благодаря удаче за карточным столом, о чем тоже
в свое время сообщалось читателю), раскошелился на
целых двадцать гиней, пообещав, что каждый год будет
платить кормилице столько же. Женщина привязалась к
мальчонке; и хоть с той поры не получала от его родителей ни
денег, ни вестей, решила до поры до времени воспитывать
ребенка на свой счет; а в ответ на насмешки соседей
твердила, что нет таких родителей, которые вовсе бросили бы
своего ребенка, и рано или поздно она непременно будет
вознаграждена за хлопоты.
Упорствуя в этом заблуждении, бедная тетушка
Биллингс, у которой было пятеро своих ребятишек, не говоря
уже о муже, семь лет кормила и поила маленького Тома;
и, будучи доброго и жалостливого нрава, окружила его
заботой и лаской, хотя (заметим попутно) сей юный
джентльмен отнюдь того не заслуживал. Ему, сироте
беззащитному, рассуждала она, ласка нужна больше, чем
другим детям, которые при отце с матерью растут. И если
она делала какую-нибудь разницу между своими
отпрысками и Томом, то лишь в пользу последнего: ему и хлеб
мазался патокой гуще, чем другим, и пудинга побольше
накладывалось в тарелку. Впрочем, справедливости ради
заметим, что не все относились к Тому так хорошо, были
у него и противники; к ним принадлежали не только муж
миссис Биллингс и пятеро ее детей, но и все в округе,
кому хоть раз довелось иметь с мистером Томом дело.
Кто-то из прославленных философов — мисс Эджуорт,
если не ошибаюсь,— порадовал нас утверждением, что все
люди равны по уму и душевным наклонностям, заложен-
292
ным в них природой, и что все прискорбные различия и
несогласия, обнаруживающиеся в них поздней, суть
следствия неодинаковых условий жизни и воспитания. Не
будем спорить с этим утверждением, которое ставит Джека
Хауорда и Джека Тэртела на одну доску; по которому
выходит, что лорд Мельбурн столь же мужествен,
благороден и проницателен, как герцог Веллингтон; а лорд
Линдхерст ни твердостью убеждений, ни даром
красноречия, ни политической честностью не превосходит мистера
О'Коннелла,— не будем, повторяю, спорить с этим
утверждением, а просто скажем, что мистер Томас Биллингс (за
неимением другого имени, он принял имя добрых людей,
заменивших ему родителей) едва не с пеленок был
злобен, криклив, непослушен и склонен ко всему дурному,
что только может быть дурного в этом возрасте. В два
года, когда он уже ковылял на своих ножонках,
излюбленными местами его игр были угольная яма и навозная
куча; как прежде, он, чуть что, поднимал отчаянный крик,
и к его добродетелям прибавились еще две — драчливость
и вороватость; оба эти приятные свойства он находил
случай проявлять по многу раз в день. Он колотил своих
братишек и сестренок, набрасывался с кулаками на приемных
отца и мать; бил кошку, мучил котят, затеял однажды
жестокий бой с наседкой на заднем дворе и потерпел
поражение; но в отместку едва не забил насмерть молочного
поросеночка, который, не чая бедствий, забрел в его приют
у навозной кучи. Он крал яйца, пробивал скорлупу и
высасывал содержимое; крал масло и поедал его с хлебом,
а то и без хлеба, как придется; крал сахар и прятал его
между страниц «Хроники Бейкера», которой никто в доме
не читал и читать не мог; так со страниц истории
впитывал он искусство лгать и грабить, являя успехи,
поразительные для его лет. Если какой-либо последователь мисс
Эджуорт и ее философских единомышленников не поверит
мне или усмотрит в моем рассказе преувеличение и
искажение истины, пусть знает: это картинка с натуры, и
притом самая достоверная и точная. У меня, у Айки Соломон-
са, был некогда прелестный братишка, который воровать
начал, еще не умея ходить (и не по чьему-либо
наущению,— если вы человек житейски опытный, то должны
знать, что у людей нашего вероисповедания честность —
первый закон,—но лишь по природной склонности); итак,
повторяю, воровать он начал, еще не умея ходить, лгать —
еще не умея говорить, а в четыре с половиной года, по-
293
вздорив с моей сестрой Ребеккой из-за горсти леденцов,
он хватил ее по руке кочергой и вместо извинения сказал
просто: «Так ей и надо, жаль, что не по голове!» Милый
мой Аминадаб! Вспоминаю тебя и с презреньем смеюсь
над всеми этими философами. Природа создала тебя для
той жизни, которую ты прожил: негодяем был ты от
рождения и до последнего вздоха, и ничем другим не мог
быть, как бы ни сложилась твоя судьба; и счастье еще,
что ты родился в такой семье; ибо, будь ты воспитан в
любой другой вере, кто знает, каких бы ты натворил
серьезных бед! Автор «Ришелье», «Сиамских близнецов» и пр.
любит повторять такую сентенцию: «Poeta nascitur non
fit» l, желая сказать, что, как он ни тщился стать поэтом,
ничего у него не вышло; а я скажу: «Canalius nascitur non
fit». В нас все — от природы, что бы там ни болтала мисс
Эджуорт.
Итак, в то время как отец его, женившись на деньгах,
влачил в пышных хоромах существование галерного раба,
а мать, как говорится^ покрыв грех венцом, жила
степенной мужнею женой в своей деревне, юный Том Биллингс
рос там же, в Уорикшире, забытый и отцом и матерью.
Но было ему предначертано от Рока однажды
воссоединиться с ними и оказать немалое влияние на судьбу обоих.
Порой путешественник в Йоркском или эксетерском
дилижансе задремлет уютно в своем уголке, а проснувшись,
видит, что он уже перенесся на шестьдесят или семьдесят
миль от того места, где Морфей смежил ему веки; вот и
в жизни подчас мы сидим неподвижно, а Время, бедняга-
труженик, бежит и бежит себе, днем и ночью, без
передышки, без остановки хотя бы на пять минут, чтобы
промочить горло, и будет бежать так до скончания века; так
пусть же читатель вообразит, что с тех пор, как он в
последней главе расстался с миссис Хэйс и с другими
почтенными персонажами этой повести, промчалось семь лет,
в течение которых все наши герои и героини шли
предначертанными им путями.
Не столь уж приятно описывать, как муж семь лет
плотничал или занимался иным каким ремеслом, а жена
семь лет беспрестанно точила его, бранилась и
проклинала свою долю; по этой причине мы и решили опустить
рассказ об этих первых супружеских годах мистера и
миссис Джон Хэйс. «Ньюгетский календарь» (бесценное по-
1 Поэтом рождаются, а не становятся (лат.)*
294
собие для всех популярных романистов нашего времени)
сообщает, что за эти семь лет Джон Хэйс трижды или
четырежды покидал свой дом и, побуждаемый вечным
недовольством жены, пробовал приискать себе новое занятие;
но всякий раз, прискучив этим новым занятием, очень
скоро возвращался к семейному очагу. Потом родители его
умерли, оставив ему в наследство малую толику денег и
плотницкую мастерскую, где он до поры до времени и
продолжал работать.
А что же сталось за эти семь лет с капитаном Вудом,
иначе говоря, с Броком и с прапорщиком Макшейном —
единственными, о ком мы еще ничего не сказали? При^
мерно еще с полгода после пленения и освобождения
мистера Хэйса эти достойные джентльмены с должной
осмотрительностью и с заслуженным успехом предавались заня-
тию, прославленному подвигами знаменитого Дюваля, хит*
роумного Шеппарда, бесстрашного Терпина и многих дру-*
гих героев известнейших наших романов. И настолько
прибыльным было это занятие для капитана Вуда, что
пошла молва, будто где-то у него припрятан целый клад; и,
верно, он бы еще и еще приумножал свои богатства, если
бы его воровская карьера вдруг не оборвалась по велению
Рока. Они с прапорщиком угодили на каторгу — стыд
сказать! — за кражу трех оловянных кружек; дело было в
Эксетере, куда они прибыли только в то утро и никто их
там не знал, поэтому никаких других обвинений им
предъявлено не было. Однако же правительство ее величества
со всей суровостью судило их за упомянутую кражу и
приговорило к семи годам ссылки за океан, на каковой
срок по существовавшему обычаю они были отданы в
полную собственность виргинским плантаторам. Вот так —-
увы! — сильные всегда поступают со слабейшими, и не
одному честному малому пришлось проклинать тот день,
когда он имел неосторожность вступить в столкновение
с законом.
Итак, все итоги подведены. Граф в Голландии со своей
супругой; миссис Кэт с муженьком в Уорикшире; мистер
Томас Биллингс с приемными родителями там же
неподалеку; а оба храбрых воина способствуют росту и
процветанию табачных и хлопковых плантаций в Новом
Свете. Все это произошло в антракте, а теперь динь-делень-
динь-делень-динь-динь, занавес поднимается и начинается
следующее действие. Кстати сказать, в конце
представления занавес падает, но это только так, между прочим.
295
* * *
Предполагается, что на этом месте, как бывает в
театре, оркестр начинает играть нечто мелодичное. Люди
встают, потягиваются, зевают и снова усаживаются на свои
места. ((Кому угодно портеру, элю, лимонаду, сидру!» —
выкликают в партере, протискиваясь между рядами сидящих
там дэюентльменов. Но, как обычно, никому ничего не
угодно; и вот уже занавес снова идет вверх: «Тсс, тсс,
тсс-сс-сс! Снимите шляпу!» — несется со всех сторон.
Уже шесть лет миссис Хэйс наслаждается
супружеской любовью мистера Хэйса, но небо не пожелало
благословить сей союз наследником и продолжателем рода. Она
сумела забрать неограниченную власть над своим
господином и повелителем, спешившим, в меру своих сил и
возможностей, исполнить любую ее прихоть по части
нарядов, увеселительных поездок в Ковентри и Бирмингем и
тому подобное,— ибо Джон Хэйс, при всей своей скупости,
научился не жалеть денег для ее и своего удовольствия;
а когда все прихоти исполняются, то вполне естественно
ожидать появления все новых и новых; так в конце
концов ей вдруг взбрело на ум вернуть себе сына. Заметим,
кстати, что она никогда не говорила мужу о
существовании такового, хотя ее былая связь с графом не составляла
для него тайны,— во время супружеских ссор миссис Хэйс
любила вспомнить о роскоши и счастье, которыми некогда
наслаждалась, и с издевкой попрекнуть его тем, что он
согласился подобрать графские объедки.
Итак, она твердо решила (не сообщив, однако, о своем
решении мужу), что возьмет мальчика к себе, хотя ни
разу за все семь лет, живя на расстоянии двадцати миль,
не подумала навестить его; а любезный читатель сам
знает, что если его дражайшая половина что-либо
решила — идет ли речь о новой шали, о ложе в Опере, о
выездной карете, о том, чтобы брать уроки пения у Тамбурини,
провести вечер в таверне «Орел» на Сити-роуд или
проехаться омнибусом в Ричмонд выпить чашку чаю и чего
покрепче в «Роз-коттедж-отель»,—- читатель любого
звания, высокого или низкого, знает сам, что если супруга
Читателя чего-либо пожелала, она своего добьется;
отвратить это не более возможно, чем отвратить подагру, долги
296
или седину; у меня, кстати, есть и то, и другое, и третье —
и жена у меня тоже есть.
Короче, если женщина себе что забрала в голову, так
оно и будет: муж откажет — вмешается Судьба (flectere
si nequeo и т. д.;1 впрочем, не люблю цитат). Так и в
случае миссис Хэйс; ей помогала некая тайная сила,
преследуя собственную зловредную цель.
Кому не известно действие этой силы — страшного,
всепобеждающего Духа Зла? Кто среди своих друзей и
знакомых не встречал людей, чей предначертанный удел —
горести и несчастья? Иные называют учение о роке
жестоким, что до меня, я скорей склонен видеть в нем благо
для человека. Куда легче, изнемогая под бременем грехов,
считать себя безвольной игрушкой судьбы, нежели
полагать, что мы сами — с нашими неистовыми страстями и
запоздалыми раскаяниями, с нашими пустозвонными
замыслами, столь смехотворно жалкими в своей постыдной
беспомощности, с нашими смутными, зыбкими,
самонадеянными потугами на добродетель и нашей
непреодолимой тягой к пороку,—что каждый из нас сам кузнец
своих радостей и печалей. Если мы зависим от
собственных усилий, многого ли стоят эти усилия перед
могуществом обстоятельств? Если мы должны надеяться на самих
себя, прочны ли такие надежды? Оглянитесь на прожитую
жизнь, и вы увидите, как и вами и ею распоряжалась
судьба. Вспомните все свои успехи и неудачи. Ваших ли
рук делом были те и другие? Желудочная колика
преграждает вам путь к наградам и почестям; яблоко,
шлепнувшееся вам на нос, возносит вас на вершину мировой
славы; внезапное разорение делает из вас негодяя, хотя вы
всегда были честным человеком и в душе им остались;
козырная масть на руках или шесть удачных бросков костей
на всю жизнь делают из вас честного человека, хотя вы
были, остались и всегда будете негодяем. Кто наслал
болезнь? Кто повинен в падении яблока? Кто ввергнул вас
в нищету? И кто, наконец, так перетасовал колоду, чтобы
вновь вернуть вам и козыри, и славу, и добродетель, и
благополучие? Случай, скажете вы,— пусть, но, стало
быть, когда в помосте перед церковью Гроба Господня
открывается люк и веревка затягивается на чьей-то
шее — в том, что жизни бедняги настает конец, тоже
виноват случай. Только мы, смертные, при всей нашей про-
1 Если неумолимо (лат.).
297
зорливости, не видим веревки, охватывающей нашу шею,
и не знаем, когда и при каких обстоятельствах упадет
занавес.
Но revenons к nos moutons: вернемся к кроткому
агнцу мистеру Томасу и к белоснежной овечке миссис Кэт.
Прошло семь лет, и ей стало казаться, что она горячо
желает вновь увидеть свое дитя. Этому желанию суждено
было сбыться; вы сейчас узнаете, как в скором времени,
без особых трудов с ее стороны, сын к ней вернулся.
В один июльский день тысяча семьсот пятнадцатого
года, на проезжей дороге, милях в десяти от Вустера
можно было увидеть двух путников, у которых была одна
лошадь на двоих — плохонькая гнедая кобыленка под
плохоньким седлом, к задней луке которого приторочен был
объемистый вьюк; не следует понимать это так, будто
они вдвоем сидели в седле на манер рыцарей-храмовников;
нет, просто они ехали верхом поочередно. Один из
спутников был непомерного роста детина, рыжий, носатый,
облаченный в линялый военный мундир; другой был в
цивильном платье, потрепанном и старом, как и сам он,
человек, судя по всему, видавший виды. Однако бедность,
сквозившая в их обличье, не мешала обоим находиться
в отменном расположении духа. Из каждых трех миль не
менее двух на лошади ехал старший. Вот и сейчас он
сидел в седле, а его долговязый спутник шагал рядом
такими шажищами, что казалось, пожелай он показать свою
прыть, ему ничего не стоило бы в короткое время оставить
лошадь далеко позади, и только дружеские чувства к
всаднику его удерживают.
С полчаса назад лошадь потеряла подкову; долговязый
подобрал ее и теперь нес в руке; решено было
остановиться у ближайшей кузни, чтобы кузнец вновь водворил ее
на место.
— Узнаете вы эти края, майор? —спросил долговязый
пешеход, весело глядевший по сторонам, покусывая тра-!
винку.— А право, куда приятней смотреть на зеленеющую
ниву, чем на трреклятый табачище, будь он неладен!..
— Как не узнать! Мы здесь преловкую штуку сыграли
тому семь лет, да и не одну! — отвечал тот, кого назвали
майором.— Помнишь дуралея с женой, которого мы
зацепили в «Трех Грачах»?
— А ведь хозяйку «Трех Грачей» повесили как раз в
Михайлов день,— заметил долговязый, как бы между
прочим.
298
— Черт с ней, с хозяйкой! Все, что можно было, мы
из нее выкачали. А вот, кстати, о том дуралее с женой.
Ты тогда раскис перед его мамашей и отпустил его на все
четыре стороны, осел эдакий. А его жена была та самая
Кэтрин, о которой ты немало от меня слышал. Я к ней
питаю слабость, к негоднице,— ведь она почитай что
обязана мне своим воспитанием; и к тому же она год или два
прожила в любовницах у того самого мерзавца Гальген-
штейна, который меня разорил и погубил.
— Подлец и разбойник, вот он кто! — откликнулся
долговязый, которого читатель уже, без сомнения, узнал, как
и его товарища.
— Так вот эта Кэтрин родила от Гальгенштейна
ребенка; и где-то здесь, в этих местах, жила кормилица,
к которой мы тогда свезли мальчишку. Муж у нее был
кузнец по фамилии Биллингс; если он жив и посейчас,
мы можем заехать к нему подковать кобылу, а заодно
разузнать, что сталось с пащенком. Его маменьку я бы
не прочь повидать.
— Помню ли я ее? — сказал прапорщик.— Помню ли
я выпитое виски? Еще бы! Всех помню — и этого
плаксивого слизняка, ее мужа, и толстую старуху свекровь, и
одноглазого негодяя, что продал мне пасторскую шляпу,
из-за которой я было попал тогда в беду. Да, недурно мы
поживились на этом деле, и хозяйку, которую вздернули,
нам тоже есть чем помянуть.
Тут прапорщик Макшейн и майор Брок, или Вуд, за-
ухмылялись с довольным видом.
Необходимо объяснить читателю, что так веселило их
и радовало. Мы уже дали понять, что хозяйка вустерской
таверны была известная хипесница, иначе говоря,
скупщица краденого и нечто вроде воровского банкира. Ей
мистер Брок и его компаньон доверили капитал в сумме
шестидесяти или семидесяти фунтов, каковые хранились у
нее в хитро устроенном тайнике в помещении «Трех
Грачей», известном лишь самой хозяйке и вкладчикам ее
банка; мистер Циклоп, одноглазый сподвижник наших
героев в приключении с Хэйсом, и еще один или двое из
главных мошенников округи имели свободный доступ к
этому тайнику. Мистер Циклоп был убит наповал в одной
ночной стычке под Батом; хозяйка угодила на виселицу,
попавшись в качестве сообщницы очередного воровства; и
когда мистер Брок и мистер Макшейн, воротясь из
Виргинии, первым делом отправились в Вустер — ибо все их
299
надежды были связаны с хранившимся там капиталом,—
их немало встревожила весть о горестной доле владелицы
«Трех Грачей» и многих славных завсегдатаев этого
заведения. Вся честная компания распалась; таверна вовсе
перестала существовать. Куда девались деньги? Следовало,
во всяком случае, наведаться в тайник — дело того стоило,
и наши герои решили им заняться.
Явив находчивость, какой трудно было ожидать от
человека его звания, мистер Брок прибыл к новому хозяину
дома с толстой папкой под мышкой и,
отрекомендовавшись живописцем, сказал, что желал бы нарисовать вид,
открывающийся из одного окна этого дома. Ему
сопутствовал прапорщик Макшейн, несший ящик с
принадлежностями для рисования (а точней, с отмычкой и ломом); и
нет нужды объяснять читателю, что как только оба они
вошли в хорошо известное им помещение, так тотчас же
устремились к тайнику, и, к несказанной своей радости,
обнаружили в нем не то чтобы собственные сбережения
(те были присвоены хозяйкой «Трех Грачей», как только
до нее дошла весть об их ссылке), но немало денег и
вещей — всего фунтов на триста; и мистер Макшейн тут же
рассудил, что на все это богатство они имеют точно такое
же право, как и всякий другой. И в самом деле, их право
тут было точно таким же, как у всякого другого —
исключая разве законных владельцев; но кто стал бы искать
таковых?
Не задерживаясь в Вустере, они сразу пустились в
путь со своей добычей; случаю было угодно, чтобы их
лошадь потеряла подкову в какой-нибудь полумиле от
домика мистера Биллингса, кузнеца. Приблизясь к кузнице,
они услыхали несшиеся оттуда отчаянные крики,
происхождение которых не замедлило разъясниться. Иа
наковальне лежал ничком маленький мальчик; двое или трое
других, кто побольше, а кто и поменьше, держали его за
ноги и за руки, а целая куча сверстников заглядывала в
окно, в то время как рослый мужчина, голый до пояса,
стегал мальчишку кнутом. Появление путников с лошадью
заставило мастера оглянуться, но лишь на миг, после чего
он снова вернулся к прерванному занятию и принялся
отделывать мальчишку с удвоенным усердием.
Лишь кончив свое занятие, он повернулся к вошедшим
и спросил, чем может им служить; на что мистер Вуд
(поскольку он сам выбрал для себя это имя, так мы и
будем звать его до самого конца) остроумно заметил, что
300
при всей своей готовности услужить им, он, видимо,
предпочитает послужить вон тому юному джентльмену.
— Шутить тут нечего,— возразил кузнец.— Если не
оказывать ему этой услуги теперь, ему худо придется,
когда он вырастет. Он кончит на виселице, это так же верно,
как то, что его зовут Билл... впрочем, не важно, как его
зовут.— И в заключение своих слов он стегнул мальчишку
еще один раз, чем, разумеется, вызвал еще один вопль.
— А, так его имя Билл? — спросил капитан Вуд.
— Его имя не Билл! — возразил кузнец угрюмо.—
У него вовсе нет имени; и сердца тоже нет. Семь лет назад
какой-то бродяга-иностранец привез этого пащенка моей
жене, чтобы она его выкормила; и она не только
выкормила его, но и оставила потом в семье, потому что была
святая душа (тут он заморгал глазами), а теперь... теперь ее
не стало (тут его голос стал прерываться
всхлипываниями). И, будь он неладен, из любви к ней я тоже не стал
его гнать, а он, подлец, вырос лгунишкой и вором. Вот
только сегодня, нарочно, чтобы позлить меня и моих
ребятишек, он стал говорить о ней дурное! Да я — из него —
за это — дух — вышибу! — Последние слова достойный
Мулкибер произнес, сопровождая каждое новым ударом
кнута, а юный Том Биллингс всякий раз подтверждал
получение такового пронзительным визгом и дискантовой
бранью.
— Полно, полно,— сказал мистер Вуд.— Отпустите
парнишку и вздуйте огонь в горне; нужно подковать мою
лошадь, а мальцу и так уже изрядно досталось, бедняге.
Кузнец повиновался и отшвырнул мистера Томаса в
сторону. Тот поплелся прочь от кузницы, но на пороге
обернулся и так посмотрел на своего истязателя, что
мистер Вуд, перехватив его взгляд, вцепился Макшейну в
плечо и воскликнул:
— Это он, это он! Точно такое же выражение лица
было у его матери, когда она поднесла Гальгенштейну яд!
— Да неужели? — отозвался прапорщик.— А скажите,
майор, кто она была, его мать?
— Миссис Кэтрин, болван,— сказал Вуд.
— Ах, вот оно что! Ну, так недаром же говорится:
яблочко от яблони недалеко падает — ха-ха!
— Иное яблочко и подобрать не грех,— лукаво
подмигнул мистер Вуд; и Макшейн, поняв намек, щелкнул
себя пальцами по носу в знак того, что полностью одобряет
соображения своего командира.
301
Покуда Биллингс подковывал гнедую кобылу, мистер
Вуд успел подробно расспросить его о мальчишке, только
что подвергнутом порке, и к концу разговора уже нимало
не сомневался, что этот мальчишка — тот самый, которого
семь лет тому назад произвела на свет Кэтрин Холл.
Кузнец обстоятельно перечислил ему все добродетели своей
покойной жены и все многообразные грехи приемного
сына: он и драчун, и воришка, и сквернослов, и лгун,
каких поискать; и хоть по годам самый младший в доме, а
уже портит своим примером других. А теперь с ним и
вовсе не стало сладу, и он, Биллингс, твердо решил отдать
его в приходский приют.
— За такого щенка в Виргинии можно бы получить
десять золотых,— вздохнул мистер Макшейн.
— В Бристоле и то отвалили бы не меньше пяти,—
задумчиво отозвался мистер Вуд.
— А что, может, стоит взять его? — сказал мистер
Макшейн.
— Может, и стоит,— отозвался мистер Вуд.—
Прокормить-то его недорого встанет — шести пенсов в день за
глаза довольно. Мистер Биллингс,— обратился он к
кузнецу.— Вы, верно, удивитесь, узнав, что мне хорошо
известна вся история этого мальчика. Мать его — ныне
покойная — была девица знатного рода, чья судьба
сложилась несчастливо; отец — немецкий вельможа, граф Галь-
генштейн.
— Он и есть! — вскричал Биллингс.— Такой
белокурый молодой человек, он сам привез сюда ребенка, и еще
с ним был драгунский сержант.
— Граф Гальгенштейн. Умирая, он завещал мне
позаботиться о его малолетнем сыне.
— А завещал ли он вам деньги на уплату за его
содержание в течение семи лет? — спросил мистер Биллингс,
заметно оживившийся от этой мысли.
— Увы, сэр, ни пенса! Более того, он мне остался
должен шестьсот фунтов; не так ли, прапорщик?
— Шестьсот фунтов, клянусь своим геррбом! Как
сейчас помню, когда он явился в дом вместе с поли...
— Да что толку вспоминать! — перебил мистер Вуд,
бросив на прапорщика свирепый взгляд.— Шестьсот
фунтов долгу мне; где уж ему было думать о плате вам. Но он
просил меня разыскать ребенка и взять его на свое
попечение. Вот теперь я его нашел и готов взять на свое
попечение, если вы отдадите его мне.
302
— Эй, пошлите-ка сюда нашего Тома! — крикнул
Биллингс. Не прошло и минуты, как малец вошел и
остановился у двери, насупясь и весь дрожа, как видно, в
ожидании новой порки; но, к его удивлению, приемный отец
спросил его, чего он хочет, уехать с этими двумя
джентльменами или же исправиться и остаться в родном доме.
Мистер Том не стал мешкать с ответом.
— Не желаю я исправляться,— крикнул он.— Хоть с
самим чертом уеду, только бы не оставаться тут с вами.
— И тебе не жаль разлучиться с братьями и
сестрами? — спросил кузнец, потемнев от обиды.
— К черту их всех — я их ненавижу. Да у меня и нет
ни братьев, ни сестер и никогда не было.
— Но ведь мать у тебя была, Том, добрая, хорошая
мать!
Том замялся, но ненадолго.
— Она умерла,— сказал он.— А ты меня бьешь, и я
лучше уеду с этими людьми.
— Ну и ступай себе, коли так,— в сердцах крикнул
Биллингс.— Ступай на все четыре стороны,
неблагодарная ты скотина; если эти джентльмены хотят тебя взять,
пусть берут на здоровье.
Переговоры длились недолго; и на следующее утро
отряд мистера Вуда продолжал путь уже в количестве
трех человек: кроме него самого и прапорщика Макшей-
на, на гнедой кобыле ехал теперь семилетний мальчуган;
так, втроем, и подвигались они по Бристольской дороге.
* * *
Мы уже говорили об остром приступе материнских
чувств, приключившемся вдруг с миссис Хэйс, и о том, что
она твердо решила вернуть себе сына. Судьба, неизменно
благосклонная к нашей удачливой героине, позаботилась
о ней и на этот раз и прямехонько привела мальчика в ее
объятия, избавив ее от расходов хотя бы на карету или
верховую лошадь. Деревня, где жили Хэйсы, находилась
невдалеке от дороги на Бристоль, куда теперь держали
путь мистер Вуд и мистер Макшейн, следуя благородному
побуждению, намек на которое был дан выше. Около
полудня они поравнялись с домом судьи Балланса, того
самого, что некогда едва не погубил прапорщика, и это
послужило достаточным поводом, чтобы доблестный воин
тотчас принялся в сотый раз подробно и со вкусом повеет-
303
вовать о своих злоключениях и о том, как миссис Хэйс-
старшая вмешалась и выручила его.
— А не заехать ли нам навестить старушку? —
предложил мистер Вуд.— Мы теперь ничем не рискуем.—
И так как прапорщик, по обыкновению, согласился с ним,
они тут же свернули на проселок и с наступлением
сумерек достигли знакомой деревни. В трактире, где они
расположились на отдых, Вуд навел нужные справки и узнал,
что стариков уже нет в живых, а дом и мастерская
принадлежат теперь Джону Хэйсу и его жене; попутно
выяснились также кое-какие подробности семейной
жизни последних. Над всеми этими сведениями мистер
Вуд сосредоточенно размышлял некоторое время, и
наконец выражение торжества и ликования осветило его
черты.
— Знаешь что, Тим,— сказал он своему
сподвижнику,— пожалуй, нам удастся выручить за мальчишку
побольше пяти золотых.
— Само собой! — подхватил Тимоти Макшейн, эсквайр,
всегда готовый вторить всему, что бы ни сказал его
«майорр».
— Само собой, дурак! А каким образом? Вот этого-то
ты и не знаешь. Слушай же: Хэйс человек зажиточный, и...
— И мы его опять арестуем — ха-ха! — загоготал
Макшейн.— Честь моя порукой, майорр, вы великий стрра-
тег и полководец!
. — Да не реви ты, как осел, разбудишь мальчишку.
Человек он зажиточный, под каблуком у жены, и детей
у них нет. А значит, либо она радехонька будет вновь
получить мальчонку и заплатит нам, если мы ей его
предоставим, либо же она вообще о нем умолчала — и тогда
заплатит, чтобы мы ее не выдавали; а может, сам Хэйс
смутится, узнав, что его жена родила за год до их свадьбы, и
заплатит нам, чтобы мы увезли пащенка подальше от этих
мест. Словом, дружище, не будь я Питер Брок, если мы
тут не сорвем порядочный куш.
Когда прапорщик уразумел суть этого хитроумного
рассуждения, он едва не упал на колени в благоговейном
восторге перед своим другом и наставником. Кампания
была открыта на следующее же утро атакой на миссис
Хэйс. Свидевшись с экс-капралом наедине и узнав от него,
что ее сын нашелся, она пришла в крайнее волнение,
оправдав сразу оба предположения мистера Вуда. Ей
страстно хотелось вернуть себе мальчика и не жаль было
304
бы любых денег за это; но в то же время она страшилась
разоблачения и готова была не менее щедро заплатить за
то, чтобы ее тайна так тайной и осталась. Но как было
исполнить первое желание, не нарушив второго?
Миссис Хэйс нашла выход, который, как я слышал,
в наши дни не редкость. Она вдруг припомнила, что у нее
был нежно любимый брат, поддерживавший в свое время
Претендента и поэтому впоследствии вынужденный
бежать во Францию, где он и скончался, оставив после себя
единственного сына. На смертном одре он вверил этого
сына заботам своей сестры, препоручив боевому другу,
принявшему его последний вздох, доставить к ней
мальчика; сейчас этот друг находится в Англии и скоро
прибудет вместе с ребенком. Для вящей убедительности
мистер Вуд тут же написал письмо от покойного брата, где
излагались все эти обстоятельства, и тщательно
подготовил прапорщика Макшейна к исполнению роли «боевого
друга». Чем были вознаграждены старания мистера Вуда,
мы в точности не знаем; можем лишь упомянуть, что
вскоре после этого угодил в тюрьму подмастерье мистера
Хэйса, будучи обвинен хозяином в том, что взломал ящик
шкафа, где хранились сорок гиней в золоте и серебре,
к каковому ящику никто, кроме самого мистера Хэйса и
его жены, не имел доступа.
Когда все было условлено, капрал со своим отрядом
снялся с лагеря и отошел на некоторое расстояние от
деревни, чтобы дать миссис Кэт время подготовить мужа к
ожидающему его прибавлению семейства в лице дорогого
цлемянничка. Джон Хэйс принял новость без особого
удовольствия. О том, что у Кэтрин есть брат, он до сих пор
и слыхом не слыхал; она выросла в приюте, и за нею
никакой родни не числилось. Но всякая женщина, если
только она не круглая дура, сумеет доказать недоказуемое; и,
пустив в ход слезы, ложь, уговоры, ласки, брань и многие
другие уловки, миссис Хэйс в конце концов заставила
мужа сдаться.
Два дня спустя мистер Хэйс работал у себя в
мастерской, а его дражайшая половина сидела рядом; как вдруг
на дворе послышался стук копыт, и всадник, спешившись,
вошел в мастерскую. Это был высокого роста мужчина,
укутанный темным плащом; как ни странно, в лице его
мистеру Хэйсу почудилось что-то знакомое.
— Полагаю,— начал гость,— что я вижу перед собой
мистера Хэйса, ради знакомства с коим я проделал столь
305
долгий путь, а это — его почтенная супруга? Сударыня, я
имел честь быть другом вашего брата, которым умер во
Франции, состоя на службе короля Людовика, и
предсмертное письмо которого вы должны были получить от
меня два дня назад. А сейчас я вам привез нечто еще
более ценное на память о моем дорогом друге, капитане
Холле. Вот око.
С этими словами рослый офицер откинул свой плащ
одной рукой и сунул под самый нос Хэйсу другую,
которою он держал за пояс маленького мальчика,
гримасничавшего и болтавшего в воздухе ногами и руками.
— Не правда ли, красавчик? — воскликнула миссис
Хэйс, вся подавшись к мистеру Хэйсу и нежно сжав его
РУКУ-
* * *
Не так уж важно, согласился ли честный плотник с
мнением своей супруги касательно наружности
мальчика; но важно, что с этого вечера и на много, много
вечеров и дней этот мальчик водворился в его доме.
Глава VIII
Содержит перечень совершенств Томаса Биллингса?
представляет читателю Брока под именем доктора
Вуда; сообщает о казни прапорщика Макшейна
Мы вынуждены вести настоящее повествование, точно
следуя «Календариум Ньюгетикум Плуторумкве Регистра-
риум» — авторитетнейшему источнику, ценность которого
для современного любителя литературы неоспорима; а
поскольку в сем примечательном труде не соблюдены
драматические единства и жизнь героев измеряется не
хронологическими периодами, а лишь поступками, которые
герои совершают, нам остается одно — плыть утлым
суденышком в кильватере этого мощного ковчега.
Останавливается он — останавливаемся и мы; идет он со скоростью
десяти узлов — наше дело не отставать от него; потому-то,
чтобы перейти от шестой главы к седьмой, нам пришлось
заставить читателя перепрыгнуть через семь опущенных
нами лет, и точно так же сейчас мы должны просить
у него позволения опустить еще десять лет, прежде чем
продолжим наш рассказ.
306
Все эти десять лет мистер Томас Биллингс был
предметом неусыпных попечений своей матери; благодаря
чему, как нетрудно себе представить, все те качества,
коими он отличался еще в доме приемных родителей, не
только не ослабели, но, напротив, расцвели пышным цветом.
И если в раннем детстве его добродетели могли быть
оценены по достоинству лишь узким кругом домашних да
теми немногими знакомцами, каких четырехлетний
мальчуган может приобрести у придорожной канавы или на
улице захолустного селения,— под материнским кровом
круг этот расширялся и рос вместе с ним, и то, что в более
нежном возрасте представляло собой лишь
многообещающие задатки, с годами превратилось в отчетливо
выраженные черты характера. Так, если мальчик по пятому годку
не знает азбуки и не обнаруживает ни малейшей охоты ее
выучить, в этом ничего удивительного нет; но когда
пятнадцатилетний парень не более грамотен и не менее
упорен в своем отвращении к ученью, это свидетельствует
о недюжинной твердости воли. А то обстоятельство, что он
не стеснялся дразнить и мучить самых маленьких
школьников, а при первом поводе к несогласию лез в драку с
помощником учителя, доказывало, что он не только храбр
и решителен, но также сообразителен и осторожен.
Подобно герцогу Веллингтону, о котором во время Пиренейской
кампании говорили, что он умеет подумать и позаботиться
о каждом из своих подчиненных — от лорда Хилла до
последнего войскового барабанщика,— Том Биллингс тоже
никого не обходил своим вниманием, выражавшимся в
побоях: со старшими пускал в дело кулаки, младших
награждал пинками, но так или иначе трудился без
передышки. В тринадцать лет, перед тем как его взяли из
школы домой, он был первым на школьном дворе и
последним в классе. Он молчал, когда младшие и новички со
смехом обгоняли его при входе в школьное здание; но зато
потом немилосердно избивал их, приговаривая: «Теперь
мой черед смеяться». При таком драчливом нраве Тому
Биллингсу следовало пойти в солдаты, и тогда, быть
может, он умер бы маршалом; но по прихоти судьбы он
пошел в портные, а умер... впрочем, не будем пока говорить,
кем он умер; скажем лишь, что в расцвете сил его
неожиданно скосил недуг, производивший в ту пору немалые
опустошения среди юношества Англии.
Нам известно из упомянутого уже источника, что
Хэйс не остался на всю жизнь только плотником и не по-
307
хоронил себя в сельской глуши; уступая, должно быть,
настояниям неугомонной миссис Кэтрин, он решил
попытать счастья в столице, где, преуспев в означенных
попытках, во благовременье и окончил свои дни. Лондонское
местожительство его не раз менялось: то это была Тоттен-
хем-Корт-роуд, то Сент-Джайлс, то Оксфорд-роуд. В
одном месте он держал зеленную лавку и торговал углем
вразнос, в другом плотничал, мастерил гробы и ссужал
под заклад деньги тем, кто в них нуждался; последнего
человеколюбивого промысла он не оставил и тогда, когда
купил дом на Оксфорд-роуд — то есть Оксфордовской,
иначе Тайбернской, дороге и стал пускать жильцов за
плату.
Как закладчик, привыкший вести дело на широкую
ногу, он, разумеется, никогда не вникал в родословную тех
предметов утвари, штук сукна, шпаг, часов, париков,
серебряных пряжек и тому подобного, что друзья отдавали
ему на сохранение; но, как видно, сумел заслужить у
друзей доверие и был весьма популярен среди людей того
типа, который отнюдь не отошел в прошлое, а живет и
вызывает восхищение даже в наши дни. Приятно думать,
что, быть может, сам храбрый Дик Терпин любезничал с
миссис Кэтрин в комнате за ссудной лавкой, а
благородный Джек Шеппард отпускал там порой свои шуточки
или единым духом выпивал пинту рома. И кто знает, не
случалось ли Макхиту и Полю Клиффорду сходиться за
обеденным столом мистера Хэйса? Но к чему тратить
время на раздумья о том, что лишь могло быть? К чему
отвлекаться от действительности ради игры воображения и
тревожить священный прах мертвецов в их почетных
могилах? Не знаю, право; и все же, когда мне случается
быть вблизи Камберленд-гейт, я не могу не вздохнуть при
мысли о доблестных мужах, некогда проходивших по этой
дороге. Служители божьи участвовали в их триумфальном
шествии; отряды копьеносцев в полном блеске шли по
сторонам. И подобно тому, как некогда раб, шагавший
перед колесницей римлян-завоевателей, возглашал:
«Memento mori!» l — так перед британским воином ехал
гробовщик со своим изделием, напоминая, что и он смертен!
Запомни это место, читатель! Лет сто назад Альбион-стрит
(там, где веселья дух царил, Милета порожденье) —
Альбион-стрит представлял собой пустыню; Эджуэр-роуд, или
Помни о смерти! (лат.)
308
Эджуэрская дорога, и впрямь была проезжей дорогой, и
дребезжащие повозки тянулись по ней между двумя
рядами благоухающих кустов боярышника. На Нэтфорд-Плейс
посвистывал, идя за плугом, пахарь; в зеленой глуши
Соверен-стрит паслись мычащие стада. А здесь, среди
зеленых просторов, овеянных чистым воздухом полей,— здесь,
во времена, когда еще и омнибусов не знали, был Тайберн;
и на дороге, ведущей к Тайберну, так сказать, с приятным
видом на будущее, стоял в 1725 году дом мистера Джона
Хэйса.
В одно прекрасное утро 1725 года, часу в
одиннадцатом, в столовой этого дома сошлись миссис Хэйс в
нарядной шляпке и плаще с капюшоном, мистер Хэйс,
сопровождавший ее на прогулку, что случалось не часто, и
миссис Спрингэтт, жилица, за известную плату
пользовавшаяся привилегией разделять с миссис Хэйс ее трапезы и
досуги; все они только что вернулись из Бэйсуотера, куда
ходили пешком, разрумянились и весело улыбались. А по
Оксфордской дороге все еще шли тысячные толпы
принарядившихся, оживленных людей, которые были куда
больше похожи на прихожан, расходящихся после
воскресной проповеди, чем на недавних зрителей той
церемонии, что происходила в это утро в Тайберне.
Дело в том, что они ходили смотреть, как вешают
осужденных,— дешевое развлечение, в котором никогда
не отказывало себе семейство Хэйс,— и теперь спешили
позавтракать, нагуляв хороший аппетит, чему еще
способствовало испытанное возбуждение. Помню, в
бытность мою служителем в Кембридже я не раз замечал,
как жадно набрасываются на еду молодые студенты после
такой же утренней прогулки.
Итак, миссис Кэтрин, нарядная, пухленькая, розовая,
хорошенькая,— ей в ту пору было года тридцать три или
тридцать четыре, а это, согласитесь, друзья, лучший
возраст для женщины,— воротясь с прогулки, впорхнула
весело в комнату за лавкой, окна которой выходили на
уютный двор или, точнее, садик, залитый утренним
солнцем; посреди комнаты стоял стол, накрытый белой
скатертью, на которой красиво выделялись серебряные
кубки и серебряные же ножи, все с разными вензелями и
узорами, а за столом сидел внушительного вида старый
джентльмен и читал внушительного вида старую книгу.
— Вот и мы, доктор,— сказала миссис Хэйс,— а вот и
его последнее слово.— И она протянула одну из тех гро-
309
шовых брошюрок, что и поныне продаются у подножья
эшафота после каждой публичной казни.— Должна
сказать, что он не первый, кого вздернули на моих глазах;
но никогда еще я не видывала, чтобы человек так
мужественно принял это.
— Голубушка,— сказал тот, кого назвали доктором,—
он всегда был холоден и непоколебим, как сталь, и
виселица его страшила не более, чем необходимость выдернуть
зуб.
— Вино — вот что его сгубило,— заметила миссис
Кэт.
— Да, вино и дурное общество. А ведь я
предостерегал его, голубушка, я его предостерегал еще несколько
лет тому назад; но когда он связался с шайкой Уайльда,
мне ясно стало, что он и года не протянет. Ах, душа
моя,— продолжал доктор со вздохом,— ну можно ли
рисковать всем, вплоть до собственной жизни, ради дрянных
часов или табакерок, да еще когда мистер Уайльд
забирает три четверти барыша себе! Но вот и завтрак —
весьма кстати: я проголодался, как двадцатилетний юнец.
И точно: в комнату вошла служанка миссис Хэйс с
дымящимся блюдом грудинки с овощами; а мистер Хэйс
поставил на стол довольно объемистый кувшин слабого
пива, за которым самолично спускался в погреб (ключи
от погреба он не доверял никому). После чего доктор,
миссис Спрингэтт и мистер и миссис Хэйс поспешили
усесться и приступить к трапезе. Стол был накрыт на
пятерых, однако пятое место осталось незанятым; замечено
было вскользь, что «Том, верно, повстречал в Тайберне
знакомых и решил провести с ними день».
Под «Томом» подразумевался мистер Томас Биллингс,
которому теперь шел уже семнадцатый год; он
выровнялся в стройного, высокого паренька — пяти футов и десяти
дюймов росту — с черными глазами и черными волосами,
щеголеватого и недурного собой, несмотря на несколько
болезненный цвет лица. Мистер Биллингс состоял в
ученье у портного, который по окончании срока
ученичества должен был принять его в долю. Имелись все
основания предполагать, что Том сумеет сделать предприятие
более прибыльным, нежели нынешний его хозяин, некто
Панталонгер, немец по происхождению. Панталонгер был
искусен в своем ремесле (как и все его соотечественники,
у которых по части штанов и метафизических понятий —
невыразимых и необъяснимых — всей Европе есть чему
310
поучиться), однако чересчур подвержен житейским
соблазнам. Случилось так, что кой-какие его долговые
расписки попали в руки мистера Хэйса, и это не только
послужило средством сэкономить затраты на обучение
мистера Биллингса ремеслу, а впоследствии — на
приобретение для него доли в предприятии, но и должно было
позволить в будущем, когда младший компаньон
попривыкнет к делу, вовсе вышвырнуть старшего вон. Таким
образом, вполне можно было ожидать, что к тому времени, как
мистеру Биллингсу исполнится двадцать один год, бедный
Панталонгер будет уже не хозяином его, а в лучшем
случае подручным.
Том был, что называется, из молодых, да ранний,
нежная маменька щедро ссужала его карманными деньгами,
которые он тратил в обществе развеселых дружков
обоего пола на театры, ярмарочные балаганы, травлю быков
собаками, увеселительные прогулки по реке и другие
невинные забавы подобного рода. Сражался он в кости с не
меньшим азартом, чем взрослые, проткнул однажды
своего противника во время ссоры у madame Кинг на Пьяц-
це; и его уже знали и уважали в кутузке.
Мистер Хэйс не питал особой привязанности к этому
подающему надежды молодому джентльмену; он даже
затаил против него неблагородную злобу после одного
случая, вышедшего два года тому назад, когда он, Хэйс,
пожелав высечь мистера Биллингса за какую-то
провинность, не смог с ним справиться и вместо того сам
оказался в полной власти мальчика, который хватил его
табуреткой по голове, повалил на пол и пригрозил
вышибить из него дух.
Доктор, уже тогда живший в доме, рознял дерущихся
и восстановил если не дружбу, то хотя бы мир. С тех пор
Хэйс уже не решался поднять на юношу руку, ненавидя
его яростно, но про себя. Мистер Биллингс платил ему
полной взаимностью; но, в отличие от Хэйса, не смевшего
выказывать неприязнь открыто, никогда не упускал случая
словом, взглядом, поступком, насмешкой, ругательством
подчеркнуть свое истинное отношение к отчиму. Почему
же, спрашивается, Хэйс не выгнал его вообще из дому?
Прежде всего из страха, что в этом случае его жизнь и в
самом деле окажется под угрозой, а еще потому, что
мистер Хэйс трепетал перед миссис Хэйс, как трепещет
листок на дереве перед осенней бурей. Ей принадлежал он
весь без остатка; даже деньги его были больше ее день-
311
гами, ибо при всей своей невероятной прижимистости и
скупости он умел беречь нажитое, но лишен был
способности наживать — способности, которою миссис Хэйс
одарена была в высшей степени. Она вела книги
(выучившись за это время читать и писать), она заключала
сделки, словом, она направляла всю деятельность трусоватого
маленького капиталиста. Зато когда наступал срок
платежа, а должник просил об отсрочке — вот тут она
приводила в действие личные качества самого Хэйса. Он был
глух и непрошибаем, точно камень; должники его должны
были платить всю сумму сполна и ни пенсом меньше;
бейлифы его являлись точно в срок и ни минутой позже.
В деле Панталонгера, например, дух каждого из супругов
сказался с ясностью. Хэйс хотел разделаться с ним сразу
же, но миссис Кэтрин сообразила, какие большие выгоды
можно из него извлечь; именно она предложила ему на
известных условиях взять мистера Биллингса сперва в
ученье, а потом ив долю, о чем уже упоминалось выше.
Жена от души презирала мужа, только что не плевала на
него, а муж готов был ходить перед женой на задних
лапках. Она любила веселье, общество, не чужда была даже
некоторого великодушия. Хэйс же ни к кому не
испытывал человеческих чувств, кроме жены, к которой
относился с робким, благоговейным обожанием; он, правда, любил
выпить и охотно принимал угощение от других, становясь
под хмельком общительнее и разговорчивее; но его
поводило от муки, если жена приносила или приказывала ему
принести из погреба бутылку вина.
Несколько слов о докторе. Ему было лет семьдесят. Он
много повидал на своем веку; наружность имел
благообразную, располагающую; носил широкополую шляпу и
пасторское платье добротного сукна; знакомства ни с кем
не водил, кроме разве двух-трех человек, с которыми
постоянно встречался в кофейне. Было у него около сотни
фунтов доходу, который он пообещал оставить юному
Биллингсу. Мальчик забавлял его; к тому же он питал
давнюю привязанность к его матери. Дело-то в том, что это
был не кто иной, как наш старый приятель, капрал
Брок — ныне преподобный доктор Вуд, как пятнадцать
лет тому назад он был майором Вудом.
Те, кто читал предшествующие главы этой повести, не
могли не заметить, что о мистере Броке мы неизменно
говорили в самом уважительном тоне; и что, в каких бы
он ни оказывался обстоятельствах, он всегда действовал
312
осмотрительно, а подчас и весьма умно. Успехам мистера
Брока на жизненном пути с ранних лет мешала самая
обыкновенная невоздержанность. Вино, женщины, карты
(как много сгубили они блестящих карьер!) столько же
раз служили причиной падения мистера Брока, сколько
раз личные достоинства способствовали его возвышению.
Если страсть к карточной игре сделала человека
мошенником, она больше уже не опасна для него в житейском
смысле; он плутует — и выигрывает. Что касается
женщин, то лишь те, кто живет в роскоши и безделье, до
преклонных лет сохраняют чувствительность к их чарам;
из Брока эту чувствительность в Виргинии очень быстро
выбили,— жестокое обращение, жестокие болезни,
тяжелый труд и скудная пища явились лучшим лекарством
против всех страстей. Дая^е пить он там разучился; от
рома или вина бедному старику теперь делалось так худо,
что возлияния потеряли для него всякую прелесть, и,
таким образом, он избавился от своих трех пороков. Будь
мистер Брок честолюбив, он, без сомнения, мог бы,
вернувшись с каторги, достигнуть высоких чинов и званий;
но он был уя\е стар и притом философ по натуре: чины не
привлекали его. Жизнь в те времена была дешевле,
процентов платили больше; накопив около шестисот фунтов,
он приобрел пожизненную ежегодную ренту в семьдесят
два фунта, однако знакомым давал понять (почему бы и
нет, в конце концов?), что владеет не только процентами,
но и капиталом. Расставшись с Хэйсами в провинции, он
вновь повстречал их в столице и вскоре переселился к ним
в дом; с тех пор прошло уже несколько лет, и он успел
искренне привязаться к матери и сыну. Негодяи, к
вашему сведению, тоже люди; у них есть и сердце,— да,
сударыня, сердце! — и способность дорожить семейными
узами. Чем дольше жил доктор в этом милейшем семействе,
тем чаще сожалел он о том, что все его деньги ушли на
покупку упомянутой ренты и не могут быть, вопреки его
неоднократным завереньям, оставлены тем, кто заменил
ему родных детей.
Он испытывал неописуемое наслаждение («suave
mari magno» \ и т. д.), становясь свидетелем бурь и
ураганов, сотрясавших семейный очаг Хэйсов. Он сам
подстрекал миссис Кэтрин к гневным вспышкам, если полоса
штиля в ее расположении духа случайно затягивалась,
Сладко у моря большого (лат,).
31Э
сам раздувал ссоры между женой и мужем, матерью и
сыном и радовался им свыше всякой меры,— ведь это
было его главным развлечением; и он смеялся до слез,
когда юный Том рассказывал ему о своих последних
трактирных подвигах или стычках со сторожами и
констеблями.
Вот почему, когда посреди разговора о грудинке с
капустой, завязавшегося за столом после чинной молитвы,
произнесенной преподобным доктором Вудом,
отворилась дверь и вошел мистер Том, хмурое дотоле лицо
доктора сразу повеселело, и он поспешил подвинуться,
освобождая Биллингсу место между собой и миссис Кэтрин.
— Как дела, старикан? — фамильярно осведомился
молодой человек.— Как дела, матушка? — С этими
словами он проворно схватил кувшин пива, нацеженного
мистером Хэйсом, и, предупредив намерение последнего
наполнить собственный стакан, влил себе в горло ровно
кварту.
— Уфф! — произнес мистер Биллингс, переводя дух
после глотка, точность которого объяснялась привычкой
пить пиво кружками, содержащими эту именно меру.—
Уфф! — сказал мистер Биллингс, переводя дух и рукавом
утирая губы.— Пивцо-то дрянь, старый хрен; но мне
требовалось прополоскать горло с похмелья.
— Не хочешь ли элю, дружок? — спросила любящая
и благоразумная родительница.
— А может быть, бренди, Том? — сказал доктор
Вуд.— Папенька твой мигом сбегает в погреб за бутылкой.
— Сдохнешь, не дождешься! — закричал,
испугавшись, мистер Хэйс.
— Стыдитесь, бессердечный вы отец! — заметил
доктор.
Слова «отец» всегда было достаточно, чтобы привести
мистера Хэйса в ярость.
— Я, слава богу, ему не отец! —- огрызнулся он.
— Да и никому другому тоже,— сказал Том.
Мистер Хэйс только пробурчал:
— Ублюдок безродный!
— Его отец джентльмен — каким ты и во сне не
бывал! — завопила миссис Хэйс.— Его отец храбрый воин, а
не какой-то там жалкий трус плотничишка! У Тома в
жилах течет благородная кровь, хоть с виду он всего
лишь портновский подмастерье; и если бы с его матерью
314
поступили по справедливости, она бы теперь разъезжала в
карете шестеркой.
— Хотел бы я, чтобы мой отец сыскался,— сказал
Том,— то-то мы с Полли Бриге были бы хороши в
карете шестеркой.— Том считал, что если его отец был графом
ко времени его рождения, то сейчас он уже по меньшей
мере принц; и, по правде сказать, в приятельском кругу
к имени Тома давно уже прибавляли сей громкий титул.
— Уж ты, верно, был бы хорош, Том! — воскликнула
миссис Хэйс, глядя на свое чадо влюбленными глазами.
— При шпаге и в шляпе с пером — да никакой лорд в
Сент-Джеймском дворце со мной бы не сравнился.
Еще некоторое время разговор шел в том же духе —
миссис Хэйс объясняла присутствующим, какого высокого
она мнения о своем сыне, а тот, по обыкновению,
изощрялся в презрительном зубоскальстве по адресу отчима,
который вскоре не выдержал и отправился по своим
надобностям; жилица миссис Спрингэтт, не сказавшая за все
время ни слова, удалилась к себе на второй этаж; а оба
джентльмена, старый и молодой, набили трубки и еще с
полчаса наслаждались мирной беседой в табачном дыму,
сидя насупротив миссис Хэйс, деловито углубившейся в
счетные книги.
— Так что же там написано? — спросил мистер
Биллингс доктора Вуда.— Кроме Мака, сегодня было еще
шестеро: двое за овец, четверо за кражу со взломом; ничего,
я думаю, интересного.
— А ты прочти сам, Том,— лукаво сказал Вуд.— Вот
тебе листок.
Лицо мистера Тома приняло злое и в то же время
растерянное выражение; ибо он умел пить, браниться и
драться не хуже любого своего сверстника в Англии, но
грамотность не входила в число его совершенств.
— Вот что, доктор,— сказал он, приправив обращение
крепким словцом.— Вы эти шутки оставьте, я не из тех,
кто позволяет шутить с собой! — Тут последовало еще
одно крепкое словцо и устрашающий взгляд на
собеседника.
— Томми, дружок, ты должен выучиться читать и
писать. Посмотри на свою матушку, как она отлично
управляется с книгами, не хуже настоящего писца,— а ведь в
двадцать лет не умела и черточки провести.
— Крестный тебе добра желает, сынок; а что до меня,
так ведь я давно уже обещала, что в день, когда ты мне
315
прочитаешь вслух столбец из «Летучей почты»,—
получишь парик и трость с золотым набалдашником.
— К чертям парик! — запальчиво ответил Том.—
Пусть крестный читает сам, если ему так нравится это
занятие.
В ответ на это почтенный доктор надел очки и
развернул перед собой лист серо-бурой бумаги, украшенный
вверху картинкой, изображающей виселицу, а дальше
содержавший жизнеописания семерых несчастных, над
которыми в это утро свершилось правосудие. Шестеро
первых не представляют для нас интереса; но мы
позаботились переписать повесть о № 7, которую доктор звучным
голосом прочитал вслух своим слушателям.
«КАПИТАН МАКШЕЙН.— Седьмым, кто понес нынче
кару за свои злодеяния, был знаменитый разбойник
капитан Макшейн, известный под прозвищем
Ирландца-Забияки.
Капитан прибыл на место казни в сорочке тонкого
белого батиста и ночном колпаке; и, поскольку он
исповедовал папистскую религию, в качестве духовного пастыря
при нем находился отец О'Флаэрти, папистский
священник, личный капеллан баварского посланника.
Капитан Макшейн родился в городе Клонакилти, в
Ирландии; он из хорошего рода, восходящего к
большинству ирландских королей. Капитан имел честь состоять на
службе их величеств короля Вильгельма и королевы
Марии, а также ее величества королевы Анны и за свою
доблесть не раз был отличаем милордами Мальборо и Питер-
боро.
Однако же после окончания войны, уйдя из армии,
прапорщик Макшейн вступил на путь порока и, став
завсегдатаем игорных притонов и веселых домов, быстро
впал в нищету.
Находясь, таким образом, в затруднительном
положении, он сблизился с небезызвестным капитаном Вудом, и
вдвоем они совершили немало дерзких грабежей в
центральных графствах Англии; когда же их там слишком
хорошо узнали, чтобы можно было и впредь рассчитывать
на безнаказанность, они перебрались в западный край,
где их не знал никто. Вышло, однако, так, что именно там
их настигло возмездие: они попались на краже трех
кружек в одном питейном заведении, предстали (под
вымышленными именами) перед судом в Эксетере и были приго-
316
ворены к семи годам каторжных работ в Новом Свете.
Вот пример того, что око закона никогда не дремлет; и
рано или поздно преступник несет заслуя^енную кару.
Вскоре после своего возвращения из Виргинии друзья
поспорили из-за дележа добычи, и дело дошло до драки, во
время которой Макшейн убил Вуда; случилось это на
проезжей дороге близ города Бристоля, и, заслышав
приближение какой-то повозки, Макшейн обратился в бегство,
не успев захватить нечистым путем приобретенные
деньги; из чего видно, что злые дела никогда не приносят
пользы.
Двумя днями позже Макшейн повстречал некую мисс
Макроу, богатую шотландку хорошего рода, ехавшую в
своей карете на воды в Бат для лечения подагры и
болей в пояснице. Сперва он вознамерился ограбить эту
даму; но потом пустил в дело хитрость и, назвавшись
полковником Джералдайном, сумел улестить ее так, что она
согласилась выйти за него замуж, и они семь лет прожили
в городе Эдденборо и Шотландии. После смерти жены
Макшейн в короткий срок промотал все ее богатство и,
дабы не умереть с голоду, вынужден был вернуться к
разбойничьему промыслу. Вскоре он похитил у одного
шотландского вельможи, лорда Уислбинки, табакерку из
бараньего рога в серебряной оправе и за то был приговорен
к публичному наказанию плетьми и к заключению в
тюрьму Толбут в Эдденборо.
Однако все эти заслуженные кары не изменили
повадок капитана Макшейна; сего года семнадцатого февраля
он. остановил на Блекхитской дороге карету баварского
посланника, ехавшего из Дувра, и ограбил как его
сиятельство, так и сопровождавшего его сиятельство
капеллана, похитив у первого деньги, часы, орденскую звезду,
меховую шубу и шпагу (с ценными украшениями на
эфесе), а у второго католический требник, из которого тот
как раз читал молитву, и дорожную флягу».
— Баварский посланник? — вставил свое слово Том.—
Мой хозяин, Панталонгер, был у него полковым портным
в Германии, а сейчас, между прочим, шьет для его
сиятельства придворное платье. Оно ему встанет фунтов во
сто, не меньше.
Доктор Вуд возобновил прерванное чтение:
— Кхм, кхм! «Католический требник, из которого тот
читал молитву, и дорожную флягу.
317
При посредстве знаменитого мистера Уайльда,
закоренелый преступник был предан суду, а дорожная фляга и
требник возвращены отцу О' Флаэрти.
За время пребывания в Ньюгетской тюрьме Макшей-
на не удалось склонить к раскаянию в совершенных им
преступлениях, кроме одного — убийства своего
командира; об этом Вуде он сокрушался неустанно и уверял, что
всему причиной ирландское виски,— к слову сказать, он и
в тюрьме сохранил пристрастие к этому напитку и еще в
канун своей казни выпил бутылку.
В тюрьме его навещали некоторые важные особы, как
светские, так и духовного звания, в том числе ранее им
ограбленный папистский священник О'Флаэрти, который
также совершил над ним последний священный обряд
(если можно этот идолопоклоннический обряд именовать
священным); посетил его и вельможа, при котором
состоит упомянутый отец О'Флаэрти,— баварский
посланник, его сиятельство граф Максимиллиан фон Гальген-
штейн».
* * *
Последние слова старый Вуд произнес с расстановкой
и после небольшой паузы.
— Как! Макс! — воскликнула миссис Хэйс и
опрокинула на книгу пузырек с чернилами.
— Черт побери, уж не мой ли это отец! — сказал Том.
— Он и есть, если только не объявился у него
однофамилец и если его самого давно уже не повесили,—
сказал доктор, слегка понизив, впрочем, голос к концу фразы.
Мистер Биллингс от радости сломал свою трубку.
— Ну, матушка, теперь-то уж карета у нас будет,—
сказал он,— и ручаюсь, черт побери, что Полли Бриге
будет выглядеть в ней не хуже любой герцогини.
— Полли Бриге — жалкая потаскушка, Том, и не
пара тебе, сыну его сиятельства. Фу, фу, стыдитесь,
молодой человек. Джентльмен должен жить, как подобает
джентльмену; пожалуй, я не пущу тебя больше и в твою
портновскую лавчонку.
Но этому мистер Биллингс решительно воспротивился;
помимо упомянутой уже мисс Бриге, его
благосклонностью пользовалась также дочка его хозяина, Маргарет,
или Гретель, или Гретхен Панталонгер.
— Нет, нет,— сказал он,— об этом мы еще успеем
подумать, сударыня. Если мой папенька ив самом деле по-
318
желает вывести меня в люди, тогда, понятно, черт с нею,
с лавкой; но надо подождать, пока мы не убедимся, что
дело тут верное, а то как бы нам из-за журавля в небе не
упустить хорошенькую синичку, что у нас в руках.
— Он рассуждает, как царь Соломон,— сказал доктор.
—- Вы свидетель, Брок, я всегда говорила, что такой
сын — гордость для матери,— воскликнула миссис Кэт,
нежно обнимая свое чадо.— Да, вот именно: гордость и
утешение! Не нужно ли тебе денег, Томми? Сыну лорда
негоже разгуливать с пустым кошельком. И вот что, Том,
ты должен, не откладывая, явиться к его сиятельству; для
этого случая я подарю тебе кусок парчи на камзол; да, и
еще ты получишь шпагу с серебряным эфесом, которую я
тебе давно обещала,— но только смотри, Томми! Будь
осторожен и не размахивай ею попусту, особенно если
приятели завлекут тебя куда-нибудь в игорное заведение или...
— Какие еще там шпаги, матушка! Я не могу
пожаловать к отцу просто так, без всякого повода, и если уж я
к нему отправлюсь, так не с оружием в руках, а с чем-то
совсем другим.
— Молодец, Томми! — воскликнул доктор Вуд.— Ты, я
вижу, малый не дурак, сколько мать ни портит тебя
баловством. Помилуйте, миссис Кэт, разве вы не слышали,
что Том сказал насчет графского платья, которое шьет его
хозяин. Вот он и понесет его сиятельству панталоны на
примерку. Много полезного можно узнать, примеряя
человеку панталоны.
На том и порешили. Миссис Кэт дала сыну обещанный
кусок парчи, который в тот же день превратился в
камзол щегольского покроя (благо до мастерской Панталон-
гера на Кэвендиш-сквер было рукой подать). Мисс Гре-
тель, заливаясь румянцем, повязала ему голубую ленту
на шею, и этот наряд, дополненный шелковыми чулками
и башмаками с золотыми пряжками, придал мистеру
Биллингсу поистине франтовской вид.
— Вот еще что, Томми,— краснея и запинаясь,
сказала ему на прощанье мать,— если вдруг Макс... если его
сиятельство спросит про... пожелает осведомиться, жива
ли твоя мать, скажи, что, мол, жива и здорова и часто
вспоминает былые времена. И вот еще что, Томми (снова
пауза): о мистере Хэйсе можешь вовсе не упоминать,
скажи только, что я жива и здорова.
Долго, долго смотрела миссис Хэйс ему вслед, пока он
не скрылся из виду за поворотом улицы. Том был так
аш
оживлен, так хорош в своем новом наряде, сразу стало
заметнее его сходство с отцом. Но что это? Оксфордская
дорога вдруг исчезла куда-то, и перед взором миссис Хэйс
возникла деревенская площадь, и домики, и маленькая
харчевня. Вот бравый солдат прогуливает на площади
двух рослых коней, а в харчевне сидит за столом офицер —
такой молодой, веселый, красивый! Ах, какие у него были
белые, холеные руки; как ласково он говорил, как нежно
смотрел своими голубыми глазами! Разве не честь для
простой деревенской девчонки, что такой благородный
кавалер удостоил ее хотя бы взгляда! Разве не колдовская
сила заставила ее повиноваться, когда он шепнул ей:
«Поедем со мной!» Ах, как запомнился ей каждый шаг,
пройденный ею в то утро, каждое местечко, что она тогда
видела в последний раз. Легкая дымка стлалась над
пастбищем, рыба, играя, плескала в мельничном ручье.
Церковные окна как жар горели на утреннем солнце, жнецы
подсекали серпами темно-желтую рожь. Она шла в гору и
пела,— что же это была за песенка? Забыла... Зато как
хорошо ей запомнился стук копыт — все ближе и ближе, все
быстрей и быстрей! Как он был прекрасен на своем
скакуне! Думал ли он о ней тогда, или все слова, что он
говорил накануне, были только словами, из тех, что говорятся,
чтобы коротать время и обманывать бедных девушек?
Вспомнит ли он теперь эти слова, вспомнит ли?
* * *
— Кэт, голубушка! — прервал ее мысли мистер Брок,
он же капитан, он же доктор Вуд.— Жаркое стынет, а я,
признаться, умираю с голоду.
Когда они вошли в дом, он внимательно посмотрел ей
в лицо.
— Неужто опять за старое, глупышка? Вот уже пять
минут, как я слежу за тобой, Кэт, и сдается мне, вздумай
Гальгенштейн только поманить тебя пальцем, и ты
полетишь к нему, как муха на горшок с патокой.
Они сели за стол; но хоть к завтраку было нынче
любимое блюдо миссис Кэтрин — баранья лопатка с луковым
соусом,— она не проглотила ни кусочка.
А тем временем мистер Томас Биллингс, в новом
камзоле, подаренном ему маменькой, в галстуке из голубой
ленты, повязанной ему на шею прелестной Гретхен,
перекинув через правую руку завернутые в шелковый платок
320
панталоны его сиятельства, шагал к Уайтхоллу, где
находилась резиденция баварского посланника. Но по дороге
мистер Биллингс, крайне довольный своим видом, решил
завернуть к мисс Бриге, жившей неподалеку от Суоллоу-
стрит; а та, вдоволь налюбовавшись своим Томми и осыпав
его всяческими похвалами, спросила, чего бы он хотел
выпить. Мистер Биллингс высказался в пользу малинового
джина, за которым тотчас же и было послано; поспешим
также обрадовать читателя сообщением, что, в силу
взаимного доверия и короткости отношений между обоими
молодыми людьми, мисс Полли не отказалась принять все
деньги, до последнего шиллинга, данные накануне Тому
его маменькой; и лишь с трудом ему удалось спасти от
нее бархатные панталоны, которые он нес заказчику. Но
в конце концов Биллингс простился все-таки с мисс Полли
и, уже никуда не сворачивая, зашагал к дому своего отца.
Глава IX
Беседа графа Гальгенштейна с мистером Томасом
Биллингсом, бо время которой последний уведомляет
графа об их родстве
Нет, на мой взгляд, в этом злосчастном мире зрелища
более плачевного, нежели молодой человек лет эдак
сорока пяти — сорока шести. Таких молодых людей в избытке
поставляет обществу английская армия, эта колыбель
доблести; с семнадцати до тридцати шести лет они
красуются в драгунских мундирах, успев за это время купить,
продать или выменять сотни две лошадей, сыграть тысячи
полторы партий на бильярде, выпить до шести тысяч
бутылок вина, сносить изрядное количество мундиров, стоптать
без счету сапог на высоком каблуке и прочесть
положенное число газет и армейских бюллетеней; а там
(перевалив на пятый десяток) выходят в отставку и начинают
слоняться по свету, из Челтнема в Лондон, из Булони в
Париж, из Парижа в Баден, всюду таская с собой свое
безделье, свои хвори и свою ennui1. «Вешнею порой
юности» и на фоне множества себе подобных цветы эти
кажутся яркими и нарядными; но до чего ж непригляден
каждый из них в одиночку, да еще осенью, когда облетели все
его лепестки! Таков сейчас мой приятель, капитан «Поп-
1 Скуку, хандру (франц.).
11 У. Теккерей, т. 1. 321
джой, которого все зовут «дядюшка Поппи». Трудно найти
человека добрей, простодушней и бездумней. Лет ему
сорок семь, а выглядит он шестидесятилетним молодым
красавцем. В свое время это был и в самом деле первый
красавец среди драгун Оккупационной армии. Теперь он
каждый день решает сложную стратегическую задачу: как бы
половчей зачесать с боков жиденькие седые кудерьки,
чтобы покрыть лысину на макушке. В утешение он зато завел
себе преогромные усищи, которые красит в иссиня-черный
цвет. Нос у него разросся до солидных размеров и
приобрел багровый оттенок; веки набрякли и отяжелели; а меж
ними ворочаются мутные, с красными прожилками
глазные яблоки; и кажется, будто огонь, горевший когда-то в
этих тусклых зеленоватых зрачках, теперь перелился в
белки. Ляжки Поппи утратили твердость и пружинистость
мышц, некогда туго обтянутых лосинами, зато стан его
сделался не в пример более округлым. Впрочем, он всегда
носит отличного покроя сюртук и жилет, который
потихоньку расстегивает после обеда. При дамах он молчалив,
как школьник, и часто краснеет. Он их называет «поря*
дочные женщины». Охотнее всего он проводит время в
обществе зеленых юнцов, принадлежащих к его прежней
профессии. Ему известно, в какой таверне или кофейне
какое следует спрашивать вино, и с ним в почтительно-
фамильярном тоне разговаривают официанты. Он знает их
всех по именам и, усевшись за столик, покрикивает:
«Пошлите-ка сюда Марквелла!», или: «Пусть Каттрис подаст
бутылку того вина, что с желтой печатью!», или: «Велье
бьен, монсью Борель, ну донне шанпань фраппе!» и т. п.
Салат и пунш он всегда готовит сам: триста дней в году
обедает в гостях, в остальные же дни околачивается в
дешевых обжорках Парижа или в тех заведениях близ Ру-
пер-стрит или Сент-Мартинс-корт, где за восемь пенсов
вам подадут изрядную порцию мясного. Он живет в
прилично обставленной квартире, носит всегда
безукоризненно чистое белье; его животные функции сохранились
почти в полной мере, духовные же давным-давно
улетучились; он крепко спит, не ведает мук совести, считает себя
респектабельной личностью и в те дни, когда приглашен
куда-нибудь на обед, вполне доволен жизнью.
Бедняга Поппи занимает не слишком высокое место в
ряду земных тварей; но не следует думать, что ниже его
никого нет; это было бы жестокое заблуждение. Помню,
на одном ярмарочном балагане висела афиша, приглашаю-
322
щая публику взглянуть на таинственное животное,
неизвестное ученым-натуралистам; называлось оно гсьже.
Любопытствующие входили в балаган, и там взору их
представал просто-напросто хилый, лядащий, мутноглазый
поросенок, весь в парше, с обвислыми, сморщенными боками.
Раздавались негодующие возгласы: «Безобразие!
Надувательство!» Но балаганщик, не смущаясь, говорил:
«Минутку терпения, джентльмены. Перед вами свинья, так? Но
не просто свинья, а в некотором роде феномалия природы.
Ручаюсь, такой отвратительной свиньи вы еще никогда не
видали!» Все соглашались, что не видали. «А теперь,
джентльмены, я докажу вам, что у нас все по-честному,
без обмана. Прошу взглянуть сюда (тут он выталкивал
вперед еще одного поросенка),— и вы убедитесь, что как
та ни гадка, а эта гаже». Так вот, я хочу сказать, что как
ни гадка порода Попджоев, но порода Гальгенштейнов
еще гаже.
Все эти пятнадцать лет Гальгенштейн прожил, что
называется, в полное свое удовольствие; настолько полное,
что к описываемому времени он вовсе утратил способность
получать удовольствие от чего бы то ни было: склонности
оставались, а удовлетворять их не было сил. К примеру,
он сделался необыкновенно разборчив и привередлив в
выборе блюд и вин; недоставало ему лишь вкуса к еде и
питью. При нем состоял повар-француз, который не мог
возбудить у него аппетит, врач, который не мог его
вылечить, любовница, которая надоела ему на третий день,
духовник — некогда фаворит бесподобного Дюбуа,—
который пытался взбодрить его то наложением епитимьи, то
чтением галантных сочинений Носэ и Ла-Фара. Все
чувства его иссякли и притупились; лишь какая-нибудь
уродливая крайность могла- гальванизировать их на короткое
время. Он достиг той степени нравственного упадка, что
была не в диковинку среди аристократов его времени,
когда одни становятся духовидцами, другие — искателями
философского камня, а третьи уходят в монастырь и
надевают власяницу, или пускаются в политические интриги,
или влюбляются в пятнадцатилетнюю судомойку, или
лебезят перед каким-нибудь принцем крови, вымаливая
улыбку и трепеща от хмурого взгляда, или же сходят с
ума от горя, получив отказ в камергерском ключе.
Последняя радость, которую мог припомнить граф Гальгенштейн,
была им испытана в день, когда он с непокрытой головой
три часа ехал на лошади под проливным дождем, сопрово-
11*
323
ждая карету любовницы курфюрста вместо графа Крёй-
винкеля, с которым он из-за этой чести дрался на дуэли и
проткнул его шпагой. Описанная прогулка принесла Галь-
генштейну жестокий ревматизм, мучивший его много
месяцев, а также пост баварского посланника в Англии. Он
был богат, не требовал жалованья и в роли посланника
имел вполне представительный вид. Что же до
обязанностей, то их исполнял отец О'Флаэрти, на которого также
была возложена задача шпионить за графом — чистейшая,
впрочем, синекура, ибо никаких решительно чувств,
желаний или собственных мнений тот не имел.
— Право же, святой отец, все мне безразлично,—
говорил почтенный дипломат в минуту, когда его застает
наше повествование.— Вот вы уже целый час рассуждаете
о смерти Регента, и о герцогине Фаларис, и о коварном
Флери, и бог знает о чем еще; а меня все это так же мало
трогает, как если б мне сказали, что один из моих галь-
генштейнских мужиков зарезал свинью или что мой
камердинер, вот этот самый Ла-Роз, соблазнил мою
любовницу.
— А он и в самом деле сделал это! — сказал отец
О'Флаэрти.
— Helas, monsieur ГАЬЬё!1 — отозвался Ла-Роз, в это
время приводивший в порядок огромный парадный парик
своего господина.— К несчастью, вы ошибаетесь. Надеюсь,
monsieur le Comte не рассердится, если я скажу, что рад
бы оказаться виновным в том, что вы мне приписываете.
Граф оставил без внимания остроумный ответ Ла-Роза
и продолжал свои жалобы.
— Да, да, аббат, все мне безразлично. Недавно я за
один вечер проиграл в карты тысячу гиней — и хоть бы
это меня самую малость расстроило! А ведь было время,
разрази меня бог, когда после проигрыша сотни я две
недели не мог успокоиться. На следующий день мне,
напротив, повезло, и я, играя в кости, тринадцать раз подряд
выиграл. Тут в игре случился перерыв — послали,
кажется, за новыми костями; и что же бы вы думали! Я
задремал со стаканчиком в руке!
— Поистине, тяжелый случай,— сказал аббат.
— Если бы не Крейвинкель, я бы погиб, уверяю вас.
Удар, которым я проткнул его насквозь, спас меня.
— Еще бы! — сказал аббат.— Ведь если бы ваше сия-
1 Увы, господин аббат (франц.).
324
тельство не проткнули его, он, без всякого сомнения,
проткнул бы вас.
— Пфа! Вы не так поняли мои слова, monsieur ГАЬ-
Ьё.— Он зевнул.— Я хотел сказать... экий дрянной
шоколад!., что едва не умер от скуки. А мне вовсе не хочется
вообще умирать. Будь я проклят, если это случится.
— Когда это случится, хотели вы сказать, ваше
сиятельство,— возразил аббат — седой толстяк-ирландец,
воспитанник College Irlandois в Париже.
Его сиятельство даже не улыбнулся; будучи
непроходимо глуп, он не понимал шуток и потому ответил:
— Сэр, я хотел сказать то, что сказал. Я не хочу жить;
но умирать я тоже не хочу; а изъясняться умею не хуже
других и просил бы вас не поправлять мою речь, ибо я не
мальчишка-школьник, а особа знатного рода и немалого
достатка.
И, проговорив эти четыре фразы о себе (ни о чем
другом он не был способен говорить), граф откинулся на по-
дущки, совершенно обессиленный таким порывом
красноречия. Аббат, сидевший за небольшим столиком у
изголовья его постели, вновь занялся делами, ради которых и
пришел сюда в это утро, время от времени передавая
посланнику ту или иную бумагу для прочтения и подписи.
Немного спустя на пороге появился monsieur Ла-Роз.
—- Ваше сиятельство, там пришел человек от портного
Панталонгера. Прикажете позвать его, или пусть просто
отдаст мне что принес?
Граф уже чувствовал себя весьма утомленным: он
подписал целых три бумагиу причем даже пробежал глазами
первые строчки двух из них.
— Зови его сюда, Ла-Роз; да погоди, сперва подай мой
парик; перед этими прощелыгами дворянин всегда должен
выглядеть дворянином.— И он водрузил себе на голову
огромное сооружение из надушенных конских волос гнедой
масти, долженствовавшее внушить посетителю
благоговейный трепет.
Вошел паренек лет семнадцати в щегольском камзоле,
с голубой лентой, повязанной вокруг шеи,— не кто иной,
как наш друг Том Биллингс. Под мышкой он нес
предназначенные для графа панталоны. Никакого благоговейного
трепета он, судя по всему, не испытывал; и, войдя,
устремил на его сиятельство любопытный и дерзкий взгляд.
Точно так же оглядел он затем и капеллана, после чего весело
кивнул ему, как старому знакомому.
325
— Где я мог видеть этого паренька? — сказал отец
О'Флаэрти.— А-а, вспомнил. Вы, кажется, вчера были в
Тайберне, мой юный друг?
Мистер Биллингс важно кивнул головой.
— Я ни одной казни не пропускаю,— сказал он.
— Истинно турецкий вкус! А скажите, сэр, вы это
делаете ради удовольствия или по надобности?
— По надобности? Какая же тут может быть
надобность?
— Ну, скажем, вы желаете обучиться ремеслу, или же
кто-то из ваших родичей подвергался этой процедуре.
— Мои родичи не из таких,— гордо возразил мистер
Биллингс, глянув прямо в глаза графу.— Пусть я теперь
всего лишь портной, но мой отец — дворянин и ничем не
хуже его милости; ведь его милость — это он, а вовсе не
вы; вы — папистский священник, вот кто; и мы вчера не
прочь были приласкать ваше преподобие горстью
протестантских камней.
Граф несколько повеселел; ему приятно было, что у
аббата сделался встревоженный и даже глуповатый вид.
— Что с вами аббат, вы побледнели как мел,—
сказал он.
— Не так уж приятно быть насмерть забитым камнями,
милорд,— возразил аббат,— тем более за доброе дело. Ведь
я хотел облегчить последние минуты бедняге-ирландцу,
спасшему меня, когда я находился в плену во Фландрии;
если бы не он, Мальборо повесил бы меня точно так же,
как вчера повесили самого беднягу Макшейна.
— Разрази меня бог! — воскликнул граф,
оживившись.— А я-то все думал, почему мне так знакома
показалась физиономия грабителя, отнявшего мой кошелек на
Блекхитской дороге. Теперь понятно: он был секундантом
у негодяя, с которым я здесь дрался на дуэли в году
тысяча семьсот шестом.
— На поле за Монтегю-Хаус, а противника звали
майор Вуд,— подхватил мистер Биллингс.— Мне это все
известно.— И он посмотрел на графа еще более
многозначительно.
— Вам? — в крайнем изумлении воскликнул граф.—
А вы кто такой, черт побери?
— Моя фамилия Биллингс.
— Биллингс? — переспросил граф.
— Я из Уорикшира,— продолжал Биллингс.
— Вот как!
326
— Родился в городе Бирмингеме.
— Скажите на милость!
— Фамилия моей матери была Холл,— продолжал
вещать мистер Биллингс.— Меня отдали на воспитание в
семью Джона Биллингса, деревенского кузнеца, а отец
мой сбежал. Теперь вам ясно, кто я такой?
— Весьма сожалею, мистер Биллингс,— отозвался
граф.— Весьма сожалею, но мне и теперь не ясно.
— Так знайте же, милорд, вы —- мой отец!
Произнеся эти слова, мистер Биллингс с театральной
торжественностью шагнул вперед и, отшвырнув
панталоны, доставить которые он был послан, раскрыл широко
объятия и замер, нимало не сомневаясь, что граф тотчас
же вскочит с постели и поспешит прижать его к сердцу.
Таково наивное заблуждение, знакомое, вероятно, многим
отцам семейств по собственным детям: ни в грош не ставя
родителей, они, однако же, непоколебимо убеждены в
обязанности последних любить их и пестовать. Граф и впрямь
сделал движение, но не к нему, а от него и, ухватясь за
сонетку, стал дергать ее с перепуганным видом.
— Назад, любезный! Назад! Пусть даже я ваш отец —
так что же, вы меня уморить хотите? Боже мой, как от
него разит табаком и джином. Нет, не отворачивайтесь,
дружок, сядьте, но только на приличном расстоянии. Эй,
Ла-Роз! Побрызгай его одеколоном и принеси чашку кофе.
Ну вот, теперь можете продолжать свой рассказ. Разрази
меня бог, дорогой аббат, я не удивлюсь, если мальчик
говорит правду.
— Коль скоро разговор пойдет о семейных делах, мне,
пожалуй, лучше удалиться,— сказал отец О'Флаэрти.
— Нет, нет, ради бога, не оставляйте меня с ним
одного! Я этого не перенесу. Ну, мистер... э-э... как бишь вас?
Прошу, рассказывайте дальше.
Мистер Биллингс испытывал горчайшее разочарование;
они с маменькой заранее сошлись на том, что, стоит ему
показаться графу на глаза, он тотчас же будет узнан,
признан и, быть может, даже объявлен наследником титула и
состояния; и, обманувшись в своих ожиданиях, он с
мрачным видом рассказал многое из того, что в подробностях
уже хорошо известно читателю.
Граф спросил, как зовут его мать, и названное имя
разом вернуло ему память.
—- А! Так ты, стало быть, сын маленькой Кэт! —
молвил его сиятельство.— Премилая была плутовочка, аббат,
327
клянусь небом, но нрав — тигрица, сущая тигрица. Я
теперь все припомнил. Она небольшого роста, эдакая бойкая
смуглянка, с вострым носиком и густыми черными
бровями, верно я говорю? Да, да, как же,— продолжал граф,—
помню, отлично помню. Я ее повстречал в Бирмингеме; она
была горничной у леди Триппет, верно?
— Ничуть не верно,— с запальчивостью возразил
мистер Биллингс.— Ее тетка содержала трактир «Охотничий
Рог» в Уолтэме; а вы, милорд, увидели ее там и
соблазнили.
— Соблазнил? Ну да. Разрази меня бог, так оно и было.
Будь я проклят, если не так. Я ее посадил на своего
вороного жеребца и увез, словно... словно Эней свою жену во
время осады Рима. Верно, аббат?
"— Очень, очень похоже,— сказал аббат.— У вашего
сиятельства удивительная память.
— Этим я всегда отличался,— подтвердил граф.— Да,
так на чем бишь я остановился — на вороном жеребце?
Вот, вот, на вороном жеребце. Итак, я посадил ее на
своего вороного жеребца и увез прямехонько в Бирмингем; и
там мы с нею день и ночь ворковали, будто два голубка.
— И доворковались, как я понимаю, до мистера
Биллингса? — сказал аббат.
— Как это до Биллингса? А, да, да, понимаю — это
шутка. Fi done, аббат! —И, по обыкновению очень глупых
людей, monsieur де Гальгенштейн принялся
растолковывать аббату его же шутку.— Но послушайте, что было
дальше,— воскликнул он.— Пожили мы эдак в
Бирмингеме, а спустя некоторое время я — разрази меня бог! —
собрался жениться на богатой наследнице. И что бы вы
думали сделала эта маленькая Кэт? Поднесла мне яду и —
разрази меня бог! — расстроила мою свадьбу. Чуть не
двадцать тысяч я должен был получить в приданое, а деньги
мне в ту пору нужны были как никогда. Ну, не чудовище
ли она, ваша мать, мистер... э-э... как бишь вас?..
— И поделом вам было! — вскричал мистер Биллингс
и, не помня себя, длинно и крепко выругался.
— Послушай, малый! — произнес граф, потрясенный
подобной дерзостью.— Да ты знаешь ли, с кем говоришь?
С потомком семидесяти восьми поколений аристократов —
с графом Священной Римской империи — с представителем
иностранной державы! Не забывайся, малый, если ты
ищешь моего покровительства.
— К дьяволу ваше покровительство! Будьте вы про-
328
кляты со своим покровительством вместе! — бешено
выкрикнул мистер Биллингс.— Я вольный британец, а не
какой-нибудь там... папист из французов! А если кто смеет
оскорблять мою мать и называть меня «малый», пусть
побережется, пока цел, вот мой ему совет! — С этими
словами мистер Биллингс встал в боевую позицию по всем
правилам и пригласил своего отца, аббата и камердинера Ла-
Роза сразиться с ним в кулачном бою. Двое последних
изрядно струсили, особенно его преподобие; зато граф теперь
смотрел на своего отпрыска с явным удовольствием; он
издал нечто вроде сдавленного кудахтанья, длившегося с
полминуты, после чего сказал:
— Лапы прочь, Помпеи! Ах ты, юный висельник —
ты, я вижу, себя в обиду не дашь, разрази меня бог! Да,
вот именно; клянусь честью, это у тебя отцовская
повадка! Как он выругался, я сразу признал родную кровь. Я сам
в шестнадцать лет ругался, как лодочник на Темзе,
разрази меня бог! И малый, видно, весь в меня. Подойди,
поцелуй меня, мой мальчик; впрочем, нет, достаточно будет,
если ты поцелуешь мне руку.— И он протянул вперед
костлявую желтую руку, высовывавшуюся из желтых
кружевных манжет. Рука тряслась, и от этого еще пуще
сверкали перстни, которыми были унизаны все пальцы.
— Что ж,— сказал мистер Биллингс,— коли вы ни
меня, ни матушку поносить не станете, вот вам моя рука.
Я не спесив.
Аббат расхохотался от души и в тот же вечер отправил
к баварскому двору донесение, в котором весьма пикантно
расписал всю сцену нежной встречи отца с сыном,
добавив, что юный Биллингс — eleve favori мистера Кетча,
эсквайра, le bourreau de Londres \ и которое так насмешило
любовницу курфюрста, что она тут же дала слово, что по
возвращении из Англии аббат получит епархию; да, сын
мой, такова была мудрость, что правила миром в те
далекие дни.
А тем временем граф и его отпрыск беседовали по
душам. Первый дал второму полный перечень всех своих
недугов, объяснил, чем он их лечит и каким пользуется
почетом в качестве камергера баварского курфюрста; поведал
тайну уменья носить придворный костюм и собственного
изобретения рецепт пудры для волос; рассказал, как в
семнадцать лет он бежал, разрази его бог, с молодой послуш-
1 Любимый ученик... лондонского палача (франц.).
329
ницей, которую после того заточили в монастырь, где она
скоро сделалась поперек себя толще; и как в дни его
молодости дамы не носили мушек; и как однажды, когда он
был еще вот эдаким, герцогиня Мальборо надавала ему
пощечин за то, что он пытался ее поцеловать.
Все эти содержательные рассказы заняли немало
времени, тем более что сопровождались множеством глубоких
и поучительных замечаний, вроде следующих:
— Я, черт побери, не переношу чеснок и уксус! И
терпеть не могу капусту, хоть его светлость ест ее по
полбушеля в день. Когда меня в первый раз угостили при дворе этим
блюдом, я съел; но когда мне его подали во второй раз — я
отказался; да, черт побери, отказался, хочешь верь, хочешь
не верь! На меня уставились со всех сторон; его светлость
свирепо насупился, что твой турок; а этот распроклятый
Крейвинкель (я его впоследствии проткнул шпагой, мой
свет) — этот, говорю, мерзкий Крейвинкель так и просиял,
и, слышу, шепчет графине фон Фритш: «Blitzchen, Frau
Grafin, теперь Гальгенштейну конец!» Что же я сделал, как
ты думаешь? Я упал на одно колено и говорю герцогу:
«Altesse, говорю, нынче я за обедом не ел капусты. Вы
заметили это; я видел, что вы это заметили».— «Да, вы
правы, monsieur le Comte»,— говорит мне его светлость строго.
У меня, понимаешь ли, чуть не слезы на глазах; но что
делать, отступать уже нельзя. «Ваше высочество, говорю,
тяжко мне произносить такие слова, обращаясь к моему
государю, который мне и благодетель, и друг, и отец; но
я решился и должен сказать вам о своем решении: отныне
я больше не ем кислой капусты: это пища не для меня.
Последний раз, отведав ее, я месяц пролежал в постели, что
меня убедило окончательно — это пища не для меня.
Расстраивая мое здоровье, она ослабляет мой ум и подрывает
силы; а мне нужно и то и другое, чтобы с пользой служить
вашему высочеству». «Тц-тц»,— сказал на это его
высочество. «Тц-тц-тц!» Так и сказал, этими самыми словами. А я
продолжал: «Моя шпага и мое перо, говорю, шпага и перо
Максимилиана де Гальгенштейна всегда к услугам вашего
высочества; так неужели — неужели великий государь не
снизойдет к слабости своего верноподданного, чей
желудок, увы, не переносит кислой капусты?» Его высочество
слушал меня, расхаживая взад и вперед; а я по-прежнему
стоял на одном колене, протягивал руку, чтобы схватить
его за полу. «Geht zum Teufel, сударь! — сказал он громко
(а это, мой свет, значит: «Ступайте к черту».),— geht zum
330
Teufel и ешьте что хотите!» С этими словами он
торопливо вышел из комнаты, оставив в моей руке пуговицу,
которую я храню и поныне. Видя, что вокруг никого нет, я
дал волю слезам — я рыдал, как дитя, потрясенный такой
добротой и снисходительностью. (Граф часто заморгал,
смахивая слезы, навернувшиеся при одном воспоминании
об этом.) А затем я воротился в гостиную, где стояли
карточные столы,— и прямо к Крейвинкелю. «Что, граф,
говорю, кто остался в дураках?» Эй, Ла-Роз, подай мою
бриллиантовую... Да, да, именно так я сказал, и все оценили
мое остроумие. «Кто остался в дураках, Крейвинкель?» —
сказал я, и с тех самых пор мне ни разу не предлагали
кислой капусты на придворных обедах — не предлагали и не
предлагают. Эй, Ла-Роз! Принеси-ка бриллиантовую
табакерку из моего секретера!
Табакерка тотчас же явилась.
— Вот взгляни, мой свет,—- сказал граф, открывая ее,—
а то ты словно бы не поверил. Вот пуговица — это та
самая, что оторвалась от кафтана его светлости.
Мистер Биллингс взял пуговицу и растерянно повертел
в руках. Рассказ графа поверг его в полное недоумение; он
еще не осмеливался счесть отца дураком — мешала
привычка благоговеть перед аристократией.
После рассказа о кислой капусте красноречие графа
иссякло, и на несколько минут воцарилось молчание. Мистер
Биллингс силился уразуметь происходящее; его
сиятельство переводил дух; что до капеллана, то он вышел из
комнаты при первом упоминании о кислой капусте — зная
наперед, что за этим последует. Его сиятельство поглядел
на сына; тот, разинув рот, в свою очередь, уставился на
него.
— Что же вы, сэр? — сказал граф.— Что же вы тут
сидите и молчите? Если вам нечего сказать, сэр, ступайте
себе. Вы здесь для моего развлечения, черт побери, а не
для того, чтобы пялить на меня глаза!
Мистер Биллингс в сердцах поднялся с кресла.
— Вот что, мой мальчик,— сказал граф.— Скажи Ла-
Розу, чтобы он дал тебе пять гиней, и... гм, гм... можешь
еще как-нибудь заглянуть ко мне.
«Славный мальчуган,— размышлял граф, глядя вслед
Томми, в полном недоумении шедшему к дверям
опочивальни.— Неглуп и собой недурен».
«Странная личность мой отец»,—думал мистер
Биллингс, выйдя из дома его сиятельства с пятью гинеями в
331
кармане. И он тут же поспешил к своей приятельнице
мисс Полли Бриге, с которой лишь недавно расстался.
Чем закончилось их свидание, мы рассказывать не
будем, ибо для нашей повести это не существенно. Скажем
только, что, осведомив мисс Полли обо всех подробностях
своего визита к отцу, он отправился домой, где еще
подробнее изложил все происшедшее матери.
Бедняжка! Для нее этот рассказ имел совсем иное
значение!
Глава X,
повествующая о том, как Гальгенштейн и миссис
Бэт узнали друг друга в Мэрилебонском саду и как
граф привез миссис Бэт домой в своей карете
С месяц спустя после трогательной беседы, описанной
выше, в Мэрилебонском саду дан был большой концерт-
дивертисмент с участием знаменитой Madame Аменаиды,
танцовщицы из Парижского театра, имевшей несколько
покровителей среди английской и чужеземной знати; в числе
последних состоял и его сиятельство баварский посланник.
Точней сказать, Madame Аменаида была maitresse en titre
графа Гальгенштейна, которому ее задешево уступил в
Париже герцог де Роган-Шабо.
Не наша задача пускаться в пространный ученый
отчет об этом празднике,— иначе только на описание нарядов
собравшейся публики ушло бы с десяток страниц
изысканной прозы, да еще можно бы привести в случае надобности
образцы исполнявшихся песен и арий. Разве нет в
Британском музее Бернеевского собрания песен, откуда можно
черпать и черпать на выбор? Разве мы не можем
перечитать мемуары Колли Сиббера или его дочери, миссис
Кларк? Разве не под рукой у нас сочинения Конгрива и
Фаркуэра — да, на худой конец, «Драматические
биографии» или даже «Зритель», откуда пытливый ум может
позаимствовать целые пассажи и, кое-что присочинив,
составить премиленькие вещицы в старинном вкусе. Но пусть
любители суеты занимаются подобными пустяками! Для
нас же важны не камзолы и парики, не кринолины и
мушки, но бессмертные души людей и страсти, которые их
волнуют. А потому скажем лишь, что в тот вечер, после
танцев, музыки, фейерверка, monsieur de Гальгенштейн
испытал вдруг желанные и давно забытые муки голода, и
332
вот, когда он пощипывал холодного цыпленка, сидя в
беседке с компанией друзей,-— когда он пощипывал
холодного цыпленка под музыку лившегося в бокалы
шампанского, его внимание привлекла хорошенькая толстушка
невысокого роста, в пышном камчатом наряде,
прохаживавшаяся по аллее мимо их беседки, всякий раз кидая взгляды
в сторону его сиятельства. Незнакомка была в маске,
какую часто надевали в те времена дамы любого звания,
являясь в публичных местах, и опиралась на руку своего
спутника — расфранченного в пух и прах юноши лет
семнадцати. То был не кто иной, как родной сын графа,
мистер Томас Биллингс, сделавшийся наконец обладателем
шпаги с серебряным эфесом и парика, давно обещанных
ему нежною родительницей.
За месяц, истекший после беседы, описанной в
предыдущей главе, мистеру Биллингсу представилось еще
несколько случаев побывать у своего родителя; но хотя он,
следуя полученному наставлению, частенько заводил речь
о своей матери, граф ни разу не выказал желания
возобновить знакомство с этой дамой, и последней лишь украдкой
иногда удавалось на него поглядеть.
Нужно сказать, что после подробного рассказа мистера
Биллингса о своей первой встрече с его сиятельством —
которая, как, впрочем, и все последующие, ни к чему не
привела,— у миссис Хэйс обнаружились неотложные дела,
чуть не каждый день призывавшие ее на Уайтхолл и
заставлявшие подолгу бродить там, близ резиденции
monsieur де Гальгенштейна. Не раз и не два его сиятельство,
садясь в карету, мог бы при желании заметить женщину
в черном плаще с капюшоном, пристально глядевшую ему
прямо в глаза; но эти глаза давно уже разучились замечать
что бы то ни было, и все усилия миссис Кэтрин
пропадали зря.
В этот вечер, однако, вино и царившее кругом веселье
воодушевили графа; оттого, должно быть, походка и
лукавые взгляды дамы в маске произвели на него неожиданно
сильное впечатление. Преподобный О'Флаэрти, в отличие
от Гальгенштейна, давно уже обратил внимание на
незнакомку в черном плаще, и сейчас ему показалось, что он
узнал ее.
— Это та самая женщина, что постоянно подстерегает
ваше сиятельство на улице,— сказал он вполголоса.—
А с нею портновский подмастерье, любитель поглазеть, как
вешают людей,— иначе говоря, сын вашего сиятельства.
333
И только что он вознамерился объяснить графу, что тут
целый заговор, что сын, несомненно, привел сюда мать с
коварным умыслом воздействовать на его чувства,— только
что он, повторяю, вознамерился втолковать его
сиятельству, что опрометчиво и даже опасно было бы возобновить
давнишнюю liaison l с такой женщиной, какой, по его же
рассказам, была миссис Кэт,— как граф, вскочив с места,
прервал своего духовного пастыря словами:
— Разрази меня бог, аббат, вы правы — это в самом
деле мой сын, и с ним прехорошенькая штучка. Эй, как
тебя — Том! Ты что же, бездельник, родного отца не
замечаешь? — И, лихо заломив шляпу набок, monsieur де Галь-
генштейн петушиным шагом пустился вслед мистеру
Биллингсу и его спутнице.
Впервые граф открыто признал своего сына.
«Бездельник» Том, услышав обращенные к нему слова,
остановился. Завидя подходившего издали графа, в
кафтане белого бархата, при звездах и орденах, в скромном
небольшом парике, шелковых чулках персикового цвета и
башмаках с серебряными пряжками, дама в маске
вздрогнула.
— Черт побери, матушка, что ты в меня вцепилась,—
ваворчал Том. Бедная женщина дрожала всем телом; но у
нее хватило соображения «вцепиться» еще сильнее, и Том
в конце концов, видно, смекнул, в чем дело, и прикусил
язык.
Граф приближался во всем своем великолепии. Боги,
как блестело при свете фонарей шитье его кафтана! Какой
истинно королевский аромат мускуса и бергамотовой
помады исходил от его парика, от его носового платочка, от
жабо и кружевных манжет! Широкая желтая перевязь-
шла через плечо и заканчивалась на боку сверкающим
бриллиантовым крестом — усыпанным бриллиантами
крестообразным эфесом шпаги! Вообразимо ли зрелище более
прекрасное? И как тут не задрожать бедной женщине,
когда столь ослепительный кавалер становится с нею рядом
и удостаивает ее благосклонного взгляда с высоты своего
величия! Подобно Зевсу, сошедшему к Семеле при полном
параде, в блеске всех орденов, украшавших его
царственную особу, явился великий Гальгенштейн перед миссис
Кэтрин. Жарко запылали ее щеки под прикрытием
бархатной маски, неистово заколотилось сердце за тюремной ре-
1 Связь (франц.).
334
шеткой корсета. Какая сладостная буря тщеславия
бушевала в ее груди! Какой поток долго сдерживаемых
воспоминаний хлынул при первом звуке знакомого чарующего
голоса!
Подобно тому как ценнейший хронометр заводится о
помощью грошового ключика — как достаточно повернуть
простой деревянный кран, чтобы забили, заиграли,
заплескали все фонтаны Версаля,— так самого ничтожного
повода оказалось довольно, чтобы миссис Кэтрин вновь
оказалась во власти своих неуемных страстей. Граф, как уже
было сказано, подошел к сыну, без долгих церемоний
разделался с ним небрежным: «Как поживаешь, Том?» — и
сразу же перенес все свое внимание на его даму.
— Прелестный вечер, сударыня,— сказал он ей,—
просто прелестный, разрази меня бог! — Она едва не
лишилась чувств, услышав этот голос. Семнадцать лет — и вот
он снова здесь, рядом с нею!
Я знаю все, что можно бы тут сделать. Ввернуть цитату
из Софокла (прибегнув к помощи алфавитного указателя)
я умею не хуже других; сумел бы и блеснуть изысканной
прозой с метафорами, пафосом и моралью в конце. Но
скажите, разве заключение предыдущего абзаца не есть
образец самой лучшей прозы? Допустим, я бы заставил
Максимилиана, став рядом с Кэтрин, поднять взор к небу и
воскликнуть словами сластолюбца Корнелия Непота:
Aevaoi ve(ps?tai
Apftcojiev (pavepat
Apoaepav (pboav gbayrytoi, и т. д.1
Или, обратясь к стилю еще более распространенному,
написал бы так: «Граф приблизился к потрясенной -деве. На
миг оба замерли в безмолвии; лишь стук ее сердца
нарушал напоенную страстью тишину. О, сколько радостей и
страхов, надежд и разочарований вновь вышло из могилы
забвения, поглотившей их много лет назад, и в этот
краткий миг промелькнуло перед воссоединенной четой! О, как
печально было это чудесное возвращение к прошлому —
и как сладостно! У обоих катились по щекам слезы —
пузырьки, всплывшие со дна затянутого ряской озера
молодости; из груди вырывались вздохи, несшие в себе чуть
заметный аромат — память благоуханного отрочества, зву-
1 Вечные облака! Явитесь, росистые, мглистые, легкие... (греч.)
335
ки умолкнувших песнопений юной любви! Таков закон
бытия — для дорогих воспоминаний всегда найдется уголок
в душе; скорбь забудется, от злодейства не останется и
следа, лишь прекрасное нетленно и вечно.
— О, златые письмена, начертанные на небесах! —
воскликнул мысленно де Гальгенштейн,— вы сияете так же,
как и встарь! Мы меняемся, но ваш язык остается
неизменным. Глядя в вашу бездонную глубь, понимаешь
бессилие сухих рассу...»
*******************
Вот вам шесть столбцов * отменнейшей прозы, какой не
найти больше ни в этой книге, ни в какой-либо другой.
Гальгенштейн трижды цитирует Еврипида, единожды
Платона, девять раз Ликофрона, не говоря уже о латинском
синтаксисе и второстепенных греческих поэтах. Страстные
излияния Кэтрин столь же изысканны по форме; пусть
скажет взыскательный критик из Н-ской газеты — разве
они не выдержаны в духе лучших классических
образцов — то, что называется в платоновском вкусе? Я никому
не хочу пускать пыль в глаза; просто иногда не мешает
показать публике, на что ты способен.
Но насколько же выразительней всей этой
высокопарной белиберды те слова, которые на самом деле произнес
граф! «Прелестный вечер, разрази меня бог!» Вот это
«разрази меня бог» и переполнило чашу: миссис Кэт
почувствовала, что влюблена пуще прежнего; собрав все силы, она
ответила:
— Только, пожалуй, уж очень жарко,— и низко
присела перед графом.
— Да, будь я неладен; просто дышать нечем! —
согласился его сиятельство.— Не угодно ли вам, сударыня,
отдохнуть в беседке и выпить чего-нибудь
прохладительного?
— Сэр! — произнесла дама в маске, слегка отступив
назад.
* Здесь и было шесть столбцов, как совершенно точно под- $
считал мистер Соломоне; но мы изъяли из рукописи две и три
четверти страницы, поступясь несколько чрезмерным, в
соответствии с модою, красноречием нашего корреспондента, дабы
поскорее вернуться к существу повести.
Неиспользованные страницы могут быть возвращены мистеру
Соломоису по первому требованию.— О. Й.
336
— О, выпить, выпить — отличная мысль! — воскликнул
мистер Биллингс, постоянно страдавший от жажды.—
Идемте, ма... то есть миссис Джонс; вы же не откажетесь
от стаканчика холодного пуншу; а ром здесь хоть куда, это
можете мне поверить.
После недолгих уговоров дама в маске согласилась и
проследовала в беседку, где ей было предложено место
между обоими джентльменами. Слуга зажег восковые свечи
на столике, затем явился и пунш.
Она с жадностью выпила два стакана; граф и Биллингс
последовали ее примеру, хотя их раскрасневшиеся
физиономии свидетельствовали, что ни тот, ни другой не
нуждался в возбуждающих средствах. Нужно сказать, граф
был весьма поражен и шокирован появлением такого юнца,
как Биллингс, в общественном месте да еще под руку с
дамой. Из чего читатель вправе заключить, что выпитое
шампанское привело его на ту ступень опьянения, для
которой характерна строгость по части морали; и за
Биллингсом он последовал не только из желания лучше
разглядеть его спутницу, но и с целью сделать ему надлежащее
внушение насчет предосудительности в его годы
подобных знакомств. Но, догнав интересную пару, его
сиятельство, разумеется, занялся сперва дамой; и только когда
они уже сидели в беседке, он вспомнил о своем
первоначальном намерении и обратился к сыну с назидательной
речью.
Мы уже дали здесь кое-какие примеры красноречия
monsieur де Гальгенштейна в трезвом виде; множить эти
примеры значило бы излишне обременять читателя.
Нравоучения его были нестерпимо скучны и глупы; в них было
столько же самолюбования, сколько и в его утренней
рацее, но еще во сто крат больше пустоты и напыщенности.
Будь Кэтрин в здравом уме, она бы через пять минут
поняла, что ее бывший возлюбленный просто дурак петый, и
с презрением отвернулась бы от него; но память о прошлом
словно околдовала ее, и все глупости, которые говорил
граф, звучали для нее дивной музыкой. Что же до мистера
Биллингса, то он не мешал его сиятельству болтать в свое
удовольствие; только морщился, зевал, время от времени
бранился исподтишка и при этом пил стакан за стаканом.
Итак, его сиятельство довольно долго распространялся
о том, сколь прискорбно несообразны любовные
приключения с нежным возрастом Биллингса; затем к случаю
рассказал о собственной своей интрижке с дочерью бургоми-
337
стра в Ратисбонне, куда он попал в году 1704-м, находясь
на службе у баварского курфюрста; затем о том, как жена
боннского лекаря травилась из-за него, когда он после
битвы при Бленхейме перешел на службу к герцогу
Мальборо, и так далее и тому подобное, под стать истории с
послушницей, рассказанной ранее. Все это была чистая
правда. Некрасивый, но умный мужчина может иной раз
понравиться женщине; красивый дурак неотразим всегда.
Миссис Кэт слушала, развесив уши. Боже правый! Она
знала наизусть все эти истории, помнила, где и когда была
рассказана каждая из них,— как она сидела у окна,
подрубая носовой платок для Макса, а он подошел и стал
целовать ее, божась, что жена лекаря не могла и сравниться
с нею, а в другой раз он только что вернулся с охоты и
усталый лежал на оттоманке. До чего хорош он был тогда!
А сейчас, пожалуй, стал еще лучше; только словно бы по-
притих и остепенился, голубчик!
В саду было полным-полно самой разношерстной
публики, мимо беседки, где сидело наше трио, то и дело
проходили гуляющие. Спустя полчаса после того, как граф
покинул свою компанию, отец О'Флаэрти решил втихомолку
проверить, чем занят его сиятельный патрон. Дама в маске
сидела и слушала, вся — воплощенное внимание; мистер
Биллингс пролитым пуншем выводил узоры на столе; а
monsieur де Гальгенштейн говорил, не закрывая рта. Его
преподобие с минуту постоял и послушал; а затем,
пробормотав нечто, весьма похожее на ругательство,
направился к воротам сада, где стояла раззолоченная графская
карета и три лакея дожидались вместе с кучером, когда
его сиятельству угодно будет воротиться в Лондон.
«Найди-ка мне портшез, Жозеф,— сказал почтенный патер,
который охотно предпочел бы даровое место в карете.— Этот
болван теперь и через час не сдвинется с места»,— добавил
он в сторону. Ему по опыту было известно, что, когда дело
доходило до лекарской жены, рассказы графа становились
положительно нескончаемыми; а потому он решил, не
дожидаясь, отправиться восвояси, и прочие собутыльники
графа, кто как мог, последовали его примеру.
Меж тем все новые и новые группы гуляющих, сменяя
друг друга, проходили мимо беседки, и в одной из таких
групп оказался не кто иной, как мисс Полли Бриге, с
которой мы уже имели честь познакомиться. Мисс Полли
шла в обществе двух или трех подруг, опираясь на руку
джентльмена с могучими плечами и икрами, в лихо залом-
338
ленной набекрень шляпе и с общей повадкой
прифрантившегося бедняка. Это был некий мистер Моффат,
занимавший пост швейцара в одном ковент-гарденском игорном
доме, где мимо него проплывали в день многие тысячи, а
сам он получал в неделю четыре шиллинга и шесть
пенсов — сумма явно недостаточная, чтобы жить
соответственно своему рангу.
За последний месяц, однако, мистер Моффат имел
некоторый дополнительный доход — и немалый, что-то около
двенадцати гиней,— что позволило ему галантно
пригласить мисс Бриге в концерт. Стоит, пожалуй, упомянуть, что
эти двенадцать гиней перекочевали к нему из кармана
самой же мисс Полли, которая, в свою очередь, получила их
от мистера Биллингса. И если читатель помнит, что когда
Томми, отправляясь на первое свое свидание с отцом,
зашел по дороге к мисс Бриге с парой бархатных панталон
под мышкой, сразу же ставшей предметом вожделения этой
прелестной особы,— то да будет ему известно, что она
покушалась на упомянутые панталоны не для того, чтобы
наделать из них подушечек для булавок, но чтобы подарить
их мистеру Моффату, который давно уже нуждался в
такой обновке.
Рассказав попутно историю мистера Моффата, заметим,
что, поравнявшись с беседкой графа, он, его дама и прочие
их спутники принялись дружно подтягивать песне,
которую пел один из их компании, актер Беттертоновской
труппы:
Когда я умру, не рыдайте над гробом,
«Hie jacet» l не режьте на камне,
Бутылкой вина окропите могилу,
Скажите: «Хороший был парень!»
Товарищи-братцы!
Скажите: «Хороший был парень!»
«Товарищи-братцы» хор выводил с большим чувством;
особенно выделялся рокочущий бас мистера Моффата и
высокий дискант мисс Бриге. Публика в саду по-разному
отнеслась к этим поднебесным руладам. «Заткните-ка
бездельникам глотки!»— крикнул цирюльник, сидевший за
кружкою пива со своей дражайшей половиной. «Что за
дьявольский визг, уши лопаются!» — раздалось из-за столика,
где несколько дам потягивали наливку в обществе двух
молодых красавчиков.
Здесь покоится (лат.).
339
— Прах побери, да это же Полли! —- воскликнул мистер
Том Биллингс и, пулей вылетев из беседки, устремился
вслед сладкогласной мисс Бриге. Мгновение спустя он
догнал ее, остановил легким прикосновением к ее стану и
в два прыжка очутился перед нею и ее спутником, так что
они даже попятились от неожиданности.
— Господи, мистер Биллингс! — довольно холодно
приветствовала его мисс Полли.— Вот уж не думала вас тут
встретить.
— Это что еще за фрукт? — спросил грозный мистер
Моффат своим рокочущим басом.
— Ах, братец, это мой знакомый, мистер Биллингс,—
заискивающе пояснила мисс Поллрь
— Если он ваш знакомый, сестрица, не мешало бы ему
вести себя поприличней. Учитель танцев вы, что ли,
молодой человек, что выделываете такие антраша у людей
перед носом? — заворчал мистер Моффат, который терпеть не
мог мистера Биллингса по той простой причине, что жил
на его счет.
— Какой там, к черту, учитель танцев? — не
смутившись, возразил мистер Биллингс.— Если вы еще раз
вздумаете назвать меня учителем танцев, я вас дерну за нос.
— Что-о? — заревел мистер Моффат.— Меня за нос?
Меня? Слышь, малый, посмей только ко мне притронуться,
я тебе глотку перережу.
— Ах, Моффи... то есть братец... не стыдно вам так
обращаться с бедным мальчиком! Ступайте, Томми,
ступайте скорей; мой двоюродный брат выпил лишнего,—
захныкала девица Бриге, не на шутку испугавшись, что
дюжий швейцар приведет свою угрозу в исполнение.
— Томми? — сказал мистер Моффат, устрашающе
сдвинув брови.— Это еще что за Томми? А ну, бр...—
«брысь!» хотел сказать мистер Моффат, но так и не
сказал; ибо, к немалому удивлению его самого и его спутников,
мистер Биллингс подпрыгнул и в самом деле ухватил
чудовище за нос, да так крепко, что лишил его возможности
договорить начатое.
Операция эта была произведена с непостижимым
проворством; завершив же ее, мистер Биллингс отскочил
назад и выхватил из ножен новехонькую шпагу с серебряным
эфесом, подарок нежной маменьки.
— А теперь, братец,— сказал он со свирепым
хладнокровием,— теперь становитесь, и посмотрим, кто кого
зарежет.
340
Одному богу известно, чем могла закончиться эта
ссора, доведись противникам и впрямь скрестить шпаги; но
мисс Полли с незаурядной находчивостью восстановила
мир, закричав: «Полиция, полиция!» Услышав это, вся
компания дружно бросилась к выходу из сада и вмиг исчезла
за воротами. Мисс Бриге хорошо знала своих друзей:
довольно было одного слова «полиция», чтобы у них
зачесались пятки...
Мистер Биллингс побежал было вместе со всеми, но
вскоре остановился. Великолепного Моффата нигде не
было видно; Полли Бриге тоже пропала без следа.
Подумав, Том решил вернуться туда, где осталась его мать; но
в воротах с него снова потребовали плату за вход, а денег
при нем не было ни шиллинга.
— Меня в беседке дожидаются друзья,— сказал Том,
напустив на себя важный вид.— Я здесь с его сиятельством
баварским посланником.
— Вот и не надо было уходить без него,— был
недовольный ответ.
— Говорят же вам, он меня дожидается в беседке, и с
ним дама; больше того, на боковой аллее, где темно, я
оставил свою шпагу с серебряным эфесом.
— Ах, милорд, не угодно ли присесть и подождать,—
воскликнул один из привратников.— Я сбегаю, доложу ему.
Мистер Биллингс согласился и присел на тумбу у
ворот в ожидании, когда вернется добровольный гонец.
Последний же отправился прямехонько в боковую аллею, где
сразу увидал лежавшую на земле шпагу. Но вместо того,
чтобы отнести ее владельцу, мошенник отломил эфес от
клинка и, швырнув прочь благородную сталь, спрятал
презренное серебро в карман, а затем через боковую калитку,
предназначенную для слуг и музыкантов, улизнул из сада.
Меж тем мистер Биллингс все ждал и ждал. А о чем
шла беседа у его почтенных родителей, остававшихся в
беседке? Мне это неизвестно; но один из слуг заведения
говорил впоследствии, что ему пришлось дважды подавать
пунш и печенье в беседку № 3, где сидел знатный
чужеземец, а с ним пышно разряженная дама в маске и молодой
человек, который потом ушел; что, оставшись наедине с
его милостью, дама отодвинулась подальше, и они долго и
оживленно беседовали о чем-то; и в конце концов, уступив
настояниям его светлости, она сняла маску со словами:
«Неужели ты не узнал меня, Макс?» — а он воскликнул:
«Бесценная моя Кэтрин, ты стала еще прекраснее, чем
341
была!» —и хотел было на коленях поклясться ей в вечной
любви; но она просила не делать этого на глазах у всей
публики в саду, и тогда его высочество потребовал счет,
а дама вновь надела маску, и они удалились.
Дойдя до ворот, граф крикнул слегка охрипшим
голосом: «Эй, Жозеф Ла-Роз, мою карету!» —и карета,
дожидавшаяся в стороне, тотчас же подъехала с лакеями на
запятках. Пламя факелов и суета лакеев разбудили молодого
человека, прикорнувшего на тумбе у входа. Граф подал
руку даме в маске, помогая ей сесть, а сам стал шептать что-то
на ухо Ла-Розу, но тут слезший со своей тумбы юнец хлоп- %
нул его сиятельство по плечу и сказал: «Эй, граф,
надеюсь, вы и меня подвезете»,— и вскочил на подножку.
Увидев сына, Кэтрин бросилась к нему на грудь и
стала целовать его, смеясь и рыдая, чем немало озадачила
мистера Биллингса, не знавшего, чему приписать столь бурное
изъявление чувств. Граф с довольно растерянной миной
сел рядом, и в непродолжительном времени карета
остановилась перед домом, где жили Хэйсы, и сам мистер Хэйс
в ночном колпаке вышел навстречу, пораженный
великолепием экипажа, доставившего его жену под супружеский
кров.
Глава XI
О некоторых домашних неурядицах и о том,
что воспоследовало из них
Один испытанный журнальный сочинитель, живший во
времена мистера Брока и герцога Мальборо, описывая
поведение последнего в сражении, когда —
Невозмутим, он наблюдает бой,
Пришлет подмогу, если дрогнул строй,
Отброшенных, взбодрив, вернет к атаке
И учит, где верней решиться драке,—
описывая, повторяю, поведение герцога Мальборо в бою,
мистер Аддисон уподобил его ангелу, который, будучи
послан божественным провидением покарать
провинившийся народ,
Всевышнему в угоду, лик нахмуря,
Вихрь поднял на дыбы и правит бурей.
Первые четыре из этих шести свежих строк как нельзя
лучше передают вкусы герцога и особенности его военного
342
тения. Ему был по сердцу жар боевой схватки; в такие ми-
- нуты дух его воспарял в небеса и витал над полем битвы
(оставим сравнение с ангелом на совести сочинителя, оно,
во всяком случае, весьма изящно), с царственным
хладнокровием управляя приливами и отливами мощной боевой
волны.
Но прославленное это сравнение с таким же правом
может быть отнесено к злому ангелу, как и к доброму; и
точно так же им можно воспользоваться, повествуя о мелких
ссорах, а не только о крупных столкновениях — о какой-
нибудь пустяковой семейной перебранке, задевающей двух-
трех людей, а не только о важном государственном споре,
подкрепляемом яростным ревом пятисот пушечных глоток
с каждой стороны. Поэт, в сущности, хотел сказать лишь
одно: что герцог Мальборо был истинным гением разлада.
Наш друг Брок, или Вуд (чьи поступки мы любим
живописать при помощи самых пышных сравнений), в этом
смысле имел немало общего с его светлостью; ничто не
могло быть для него приятнее и дать больший простор его
природным способностям, чем случай рассорить двух или
нескольких людей.
Обычно вялый и равнодушный, он тотчас оживлялся и
приходил в отменное расположение духа. Если пыл битвы
несколько остывал, он умел искусно подогревать его вновь.
Если, например, батальоны красноречия Тома обращались
в бегство под огнем батарей его маменьки, Вуд коротким
словечком насмешки или ободрения заставлял их
вернуться и принять бой; а если эскадроны ругательств мистера
Хэйса теряли мужество перед железной несокрушимостью
боевых каре Тома, для Вуда не было большего
удовольствия, чем поддержать дух слабеющей рати и вдохновить ее
на новый приступ. Да, в том, что эти скверные люди
становились еще хуже, была изрядная доля его заслуг. Их
злобные речи и темные страсти, мошеннические проделки
Тома, вспышки гнева, презрения, ревности Хэйса и
Кэтрин — все это в большой степени было делом рук
престарелого искусителя, с наслаждением изощрявшегося в
искусстве управлять домашними бурями и ураганами в семье,
членом которой он себя считал. И пусть не упрекнут нас в
ненужном пристрастии к громким словам за уподобление
трех дрянных людишек с Тайбернской дороги
действующим армиям, а мистера Вуда — великому полководцу.
Когда вы, дорогой сэр, получше узнаете свет, где непомерно
великим оборачивается самое ничтожное и безгранично ни-
343
чтожным самое великое,— бьюсь об заклад, в голове у вас
причудливейшим образом перемешается прекрасное и не-*
лепое, высокое и низкое, как, впрочем, оно и должно быть.
Что до меня,— я так долго присматриваюсь к этому свету,
что вовсе разучился отличать одно от другого.
Итак, в описанный уже вечер, покуда миссис Хэйс
развлекалась в Мэрилебонском саду, мистер Вуд развлекался
по-своему, накачивая ее супруга спиртным; а потому,
когда Кэтрин воротилась домой и мистер Хэйс встретил ее на
пороге, не трудно было распознать, что он не только зол,
но и пьян. Том вышел из кареты первым, и Хэйс, с при- %
бавлением крепкого словца, спросил его, где он был.
Словцо мистер Биллингс тут же вернул (приправив еще
другим таким же), а отвечать на вопрос отчима решительно
отказался.
—• Старик пьян, матушка,— сказал он, помогая выйти
миссис Хэйс (которой перед тем пришлось употребить
некоторое усилие, чтобы вырвать свою руку у графа,
прятавшегося в глубине кареты). Хэйс не замедлил подтвердить
это предположение, храбро захлопнув дверь перед самым
носом Тома, хотевшего войти вслед за матерью. А когда та
выразила свое возмущение, как всегда* в резком и
уничижительном тоне, мистер Хэйс не остался в долгу, и
закипела ссора.
Тогда было принято употреблять в разговоре куда более
простые и энергичные выражения, нежели то допускается
нынешними понятиями о приличиях; и я не рискну на
страницах повести, пишущейся в 1840 году, слово в слово
повторить те упреки, которыми Хэйс и его жена
обменивались в 1726-м. Мистер Вуд, слушая их, животики
надорвал от смеха. Мистер Хэйс кричал, что не позволит своей
жене шататься по увеселительным заведениям в погоне за
титулованными мерзавцами из папистов; в ответ на что
миссис Хэйс обозвала его собакой, лгуном и трусом и
сказала, что будет ходить, куда ей вздумается. Тогда мистер
Хэйс пригрозил, если она не уймется, поучить ее палкой.
Мистер Вуд вставил вполголоса: «И поделом». Миссис
Хэйс возразила, что хоть ей уже доводилось кой-когда
сносить подлые побои, но на этот раз, если он осмелится
поднять на нее руку, она его зарежет — вот как бог свят!
А мистер Вуд сказал: «Молодец, люблю таких нравных!»
Мистер Хэйс решил прибегнуть к другим доводам.
— Соседей бы постыдились, сударыня,— сказал он.—
Ведь начнут судачить.
344
— Уж это непременно,— сказал мистер Вуд.
— А пусть их! — сказала Кэтрин.— Что нам соседи?
Разве не судачили они, когда ты упек за решетку вдову
Уилкинс? Разве не судачили, когда ты напустил бейлифов
на беднягу Томсона? Тогда вас не смущали соседские
пересуды, мистер Хэйс.
— Дело есть дело, сударыня; к тому же если это по
моему настоянию Уилкинс посадили в тюрьму, а у
Томсона описали имущество, вам об этом было известно не хуже
меня.
— Поистине два сапога пара,—сказал мистер Вуд.
— А вы, сэр, держали бы язык за зубами. В вашем
мнении никто не нуждается и в вашем обществе, кстати,
тоже,— в сердцах крикнула миссис Кэтрин.
Но мистер Вуд в ответ только присвистнул.
— Я пригласил этого джентльмена скоротать со мною
вечер, сударыня. Мы с ним выпили вместе.
— Что верно, то верно,— подтвердил мистер Вуд,
улыбаясь миссис Кэт как ни в чем не бывало.
— Мы с ним выпили вместе — понятно вам, сударыня?
А с кем я вместе пью, тот мне друг и приятель. Стало
быть, доктор Вуд мне друг и приятель — его преподобие
доктор Вуд. Мы с ним коротали вечер вдвоем, сударыня,
беседуя о политике и о лери... герлигии. А не разгуливали
по увеселительным садам и не строили глазки мужчинам.
— Врешь ты все!—взвизгнула миссис Хэйс.— Я
туда пошла из-за Тома, и тебе это очень хорошо известно;
мальчуган мне покою не давал, пока я не пообещала ему
пойти.
— Видеть не могу этого лоботряса,— отозвался мистер
Хэйс.— Вечно он у меня под ногами путается.
— Он — единственный мой друг на свете, и
единственный, кто мне хоть сколько-нибудь дорог,— сказала Кэтрин.
— Он наглец, лентяй, прохвост и бездельник и
наверняка кончит на виселице, чему я буду очень рад,—
прорычал мистер Хэйс.— А кстати, позвольте
полюбопытствовать, сударыня, в чьей это вы карете прикатили? Должно
быть, кое-что пришлось заплатить за проезд — хо-хо-хо!
— Подлое вранье! — завопила Кэт и схватила большой
кухонный нож.— Попробуй только повторить это, Джон
Хэйс, и клянусь богом, я тебя зарежу.
— Вот как? Грозить вздумала? — рявкнул храбрый во
хмелю мистер Хэйс, в ответ вооружившись палкой.— Не
очень-то я испугался ублюдка и шл...
345
Но он не договорил — как безумная, она бросилась на
него с ножом. Он отскочил, отчаянно замахал руками и с
силой хватил ее палкой по лбу. Она рухнула на пол.
Великим счастьем был этот удар и для Хэйса и для Кэтрин: его
он, быть может, спас от смерти, ей не дал стать
убийцей.
Все это происшествие — весьма существенное для
нашей драмы — могло быть изложено куда более пространно;
но автор, признаться, по своей природе не склонен
живописать зрелища столь отвратительные; да и читатель едва
ли много приобретет от того, что будет посвящен во все>
мельчайшие подробности и обстоятельства. Скажем лишь,
что эта ссора, хоть и не более жестокая, нежели
происходившие между Хэйсом и его супругой допреж того, повела
к серьезным переменам в жизни злополучной четы.
Хэйс в первый миг изрядно перетрусил, одержав
победу: побоялся, уж не убил ли он жену. Вскочил с места и
Вуд, испуганный тою же мыслью. Но она вдруг
зашевелилась, понемногу приходя в себя. Принесли воды;
приподняли и перевязали голову потерпевшей; и тогда миссис
Кэтрин дала волю слезам, которые словно бы принесли ей
облегчение. Мистер Хэйс нимало не был тронут ее
рыданиями — напротив, он в них увидел приятное
доказательство того, что поле битвы осталось за ним; и хоть Кэт
мгновенно ощерилась при первой его слабой попытке к
примирению, он не обиделся и с самодовольной ухмылкой
подмигнул Буду. Трус чувствовал себя победителем и был горд
этим; последовав за Кэтрин в спальню и найдя ее спящей,
или притворившейся, что спит, он почти тотчас же сам
задремал и видел самые радужные сны.
Мистер Вуд тоже отправился наверх, довольно
посмеиваясь про себя. Ссора супругов явилась для него истинным
праздником; она взбодрила старика, привела его в
отличное расположение духа; и он уже предвкушал
продолжение потехи, когда Тому будет рассказано обо всех
обстоятельствах домашней битвы. Что же до его сиятельства
графа Гальгенштейна, то поездка в карете из Мэрилебонского
сада и нежное пожатие руки, которое Кэтрин дозволила на
прощание, так распалили в нем угасшие страсти, что,
проспав девять часов и выпив утреннюю чашку шоколада, он
даже отложил чтение газеты и заставил дожидаться особу
из модной лавки на Корнхилле (явившуюся с куском
отличных мехельнских кружев и по весьма сходной цене),—
346
ради того, чтобы побеседовать со своим духовным
наставником о прелестях миссис Хэйс.
А она, бедняжка, всю ночь не сомкнула горящих век,
кроме как для того, чтобы прикинуться спящей перед
мистером Хэйсом; так и пролежала подле него с широко
раскрытыми глазами, с колотящимся сердцем, с пульсом сто
десять, беспокойно ворочаясь с боку на бок под бой
башенных часов, размерявших глухое время ночи; и вот уже
бледный немощный день глянул сквозь оконные
занавески, а она все лежала без сна, измученная и несчастная.
Нам известно, что миссис Хэйс никогда не питала
особенно нежных чувств к своему господину и повелителю;
но ни разу еще за все годы супружеской жизни не внушал
он ей такого презрения и отвращения, как сейчас, когда
забрезживший день вырисовал перед ней лицо и фигуру
спящего. Мистер Хэйс громко храпел во сне; у его
изголовья на толстой конторской книге стоял закапанный
салом оловянный подсвечник, а в нем тоненькая сальная
свечка, надломившаяся посередине; тут же лежали его
ключи, кошелек и трубка; из-под одеяла торчали ноги в
грязном, поношенном исподнем белье; на голову был
натянут красный шерстяной колпак, закрывавший
наполовину изжелта-бледное лицо; трехдневная щетина
покрывала подбородок; рот был разинут, из носу вырывался
громкий храп; более отталкивающее зрелище трудно было себе
представить. И к этой-то жалкой твари Кэтрин была
привязана вечными узами. Что за неприглядные истории были
записаны на страницах засаленного гроссбуха, с которым
скряга никогда не расставался,— он не знал иного чтения.
Что за сокровище пряталось под охраной этих ключей и
этого кошелька! Каждый шиллинг, его составлявший, был
украден у нужды, заграблен у беспутного легкомыслия или
же безжалостно отнят у голода. «Дурак, скряга и трус!
Зачем я связала себя с этой тварью? — думала Кэтрин.— Я,
которая наделена и умом и красотой (разве он не говорил
мне так?). Я, которая родилась нищенкой, а сумела
достигнуть положения в обществе — и кто знает, до каких
бы еще добралась высот, если бы не моя злосчастная
судьба!»
Поскольку миссис Кэт не говорила всего этого вслух,
а лишь думала про себя, мы вправе облечь ее мысли в
самую изящную словесную форму — что и попытались
сделать в меру своих возможностей. Если читатель даст себе
труд проследить ход размышлений миссис Хэйс, от него,
347
без сомнения, не укроется то, как ловко она обвинила во
всех своих бедах мужа, сумев в то же время извлечь нечто
утешительное для своего тщеславия. Каждый из нас, я
утверждаю, когда-нибудь да прибегал к такому порочному
способу рассуждения. Как часто все мы — поэты,
политики, философы, семейные люди — находим соблазнительные
оправдания собственным грехам в чудовищной
испорченности окружающего мира; как громко браним дух времени
и всех своих ближних! Этой же дьявольской логике
следовала и миссис Кэтрин в своих ночных раздумьях после
празднества в Мэрилебонском саду и в ней черпала силу
для мрачного торжества.
Должно, однако же, признать, что миссис Хэйс как
нельзя более верно судила о своем муже, называя его
подлецом и ничтожеством; если нам не удалось доказать
справедливость такой оценки нашим рассказом, значит, нам
вовсе ничего не удалось. Миссис Хэйс была сметлива и
наблюдательна от природы; а чтобы найти прямые улики
против Хэйса, ей не нужно было далеко ходить. Широкая
кровать орехового дерева, служившая симпатичной чете
супружеским ложем, была вытащена из-под почтенной
старой и больной вдовы, которой пришлось ответить за
долги своего блудного сына; на стенах красовались
старинные гобелены на сюжеты из Священного писания
(Ревекка у источника, купающаяся Вирсавия, Юдифь и Олоферн
и другие), десятки раз служившие мистеру Хэйсу
разменной монетой в весьма выгодных сделках с молодыми
людьми, которые, выдав вексель на сто фунтов, получали
пятьдесят фунтов наличными и на пятьдесят фунтов
гобеленов — а потом рады были сбыть их ему же хотя бы за два
фунта. К одному из этих гобеленов, отхватив у Олоферна -
голову, прислонились огромные часы в зловеще-черном
футляре — трофей еще какой-то ростовщической
операции. Несколько стульев и старый черный шкаф мрачного
вида дополняли обстановку этой комнаты, где для
полноты картины недоставало лишь парочки привидений.
Миссис Хэйс села на постели, пристально всматриваясь
в мужа. Я твердо верю, что взгляд, устремленный на
спящего, обладает большой магнетической силой (разве вам
не случалось в детстве просыпаться летним солнечным
утром и встречать взгляд матери, склонившейся над вами?
И разве вы не помните, как тепло этого ласкового взгляда
проникало в вас еще задолго до пробуждения, навевая
волшебное чувство покоя, уюта, беспричинной радости?).
348
Была и во взгляде Кэтрин такая сила; недаром мистер
Хэйс, не просыпаясь, беспокойно заерзал под этим
взглядом, глубже зарылся головою в подушку и несколько раз
издал странный, короткий не то стон, не то вскрик,
подобный тем, что пугают сиделку, бодрствующую у постели
горячечного больного. Время меж тем подошло к шести, и в
часах вдруг раздался зловещий скрежет, какой обычно
предшествует бою и звучит, точно предсмертный хрип
уходящего часа. Потом шесть ударов возвестили его кончину.
С последним ударом мистер Хэйс проснулся, поднял
голову и увидел смотревшую на него Кэтрин.
Глаза их встретились; и тотчас же Кэтрин отвела свои,
густо покраснев, словно ее застигли на месте
преступления.
Какой-то безотчетный ужас пронзил беднягу Хэйса —
жуткий, леденящий дущу страх, предчувствие
надвигающейся беды,— а ведь жена всего только смотрела на него.
Вмиг вспомнились ему события минувшего вечера, ссора
и то, к чему она привела. Он и раньше, случалось, в
сердцах бивал жену и осыпал ее жестокой бранью, но она не
держала на него зла; наутро ссору обычно забывали или,
во всяком случае, обходили молчанием. Отчего же
вчерашняя стычка не кончилась тем же? Прикинув все это в уме,
Хэйс сделал попытку улыбнуться.
— Ты ведь не сердишься на меня, Кэт? — сказал он.—
Я, знаешь, вчера хватил лишнего и потом очень уж
расстроился из-за той полсотни фунтов, что так и пропала.
Разорят они меня, милушка, вот увидишь, разорят.
Миссис Хэйс ничего не ответила.
— А хорошо бы опять очутиться в деревне, а, Кэт? —
продолжал он самым вкрадчивым тоном.— Знаешь что, по-
требую-ка я назад все деньги, что у меня за людьми ходят.
Их ведь теперь наберется до двух тысяч фунтов, а все ты,
каждый фартинг — твоя заслуга. Вернемся в Уорикшир,
купим себе ферму и заживем по-барски. Хочешь вернуться
в родную округу барыней, Кэт? То-то все в Бирмингеме
глаза вытаращат, а, милушка?
С этими словами мистер Хэйс потянулся было к жене,
но она резким движением оттолкнула его руку.
— Трус! — сказала она.— Ты только спьяну и храбр,
да и вся твоя храбрость в том, чтобы бить женщину.
— Так я же только защищался, милушка,— возразил
Хэйс, от храбрости которого не осталось и следа,— Ты же
хотела меня... э-э...
349
— Хотела тебя зарезать и очень жалею, что не
зарезала! — сказала миссис Хэйс, скрипнув зубами и сверкнув
на него свирепым бесовским взглядом. Она вскочила с
постели, на подушке темнело большое кровавое пятно.— Вот,
смотри! — крикнула она.— Это твоих рук дело!
Тут Хэйс не выдержал и заплакал — до того он был
перепуган и уничтожен, несчастный. Слезы этого жалкого
создания лишь возбудили еще большую ярость и
отвращение в его жене; не боль в ране жгла ее, а лютая ненависть
к тому, кто эту рану нанес и к кому она была прикована
навек — навек! Это он преграждал ей путь к богатству,,
счастью, любви, быть может, даже к графскому титулу.
«Будь я свободна,— думала миссис Хэйс (всю ночь эта
мысль сидела у нее на подушке, журчала ей в ухо),— будь
я свободна, Макс бы на мне женился; непременно
женился бы — он это сам вчера сказал».
* * *
Старый Вуд словно бы каким-то особым чутьем
разгадал мысли Кэтрин: в тот же день он с коварной усмешкой
предложил побиться об заклад, что она думает о том,
насколько лучше быть супругой графа, нежели женой
жалкого ростовщика. «Да и то сказать,— добавил он,— одно
дело граф и карета шестеркой и совсем другое — старый
скряга с дубинкой в руке». Затем он спросил, прошла ли
у нее боль в голове, и заметил, что она, должно быть,
привычна к побоям; словом, всячески усердствовал в
шуточках, от которых душевные и телесные раны несчастной
женщины ныли в тысячу раз сильнее.
Тому Биллингсу также было незамедлительно доложе-'
но о происшедшем, и он, по обыкновению, на все корки
ругая отчима, поклялся, что это ему даром не пройдет. Вуд
хитро и умело подогревал все страсти, находя особое
удовольствие, вполне бескорыстное вначале, в том, чтобы
подстрекать Кэтрин и запугивать Хэйса; последнее, впрочем,
было совершенно излишне, ибо злополучный ростовщик и
так уже не знал, куда деваться от ужаса и тоски.
Чудовищные слова и выражение лица Кэтрин в то утро
после ссоры не выходили у него из головы; душу леденило
мрачное предчувствие. И чтобы отвратить то, что нависло
над ним, он поступал, как поступают все трусы,—
униженно пытался разжалобить судьбу, вымолить, выклянчить
себе милость и прощение. Он был заискивающе ласков с
350
Кэтрин, смиренно сносил все ее злые насмешки. Он
дрожал перед молодым Биллингсом, прочно водворившимся в
доме (для защиты матери от жестокости мужа — так
уверяла она сама), и даже не пытался давать отпор его
дерзким речам и выходкам.
Сынок и маменька забрали полную власть в доме; Хэйс
при них и рта не смел раскрыть; сходился с ними только
за столом, и то норовил поскорей улизнуть в свою комнату
(он теперь спал отдельно от жены) или же в харчевню,
где ему приходилось коротать вечера за кружкой пива —
тратить на пиво свои драгоценные, обожаемые
шестипенсовики!
И, конечно, среди соседей пошли разговоры: Джон
Хэйс, мол, дурной муж; он тиранит жену, бьет ее; он все
вечера пропадает в пивных, а она, добрая душа, должна
одна сидеть дома!
При всем том бедняга не испытывал ненависти к жене.
Он к ней привык — даже любил ее, насколько это убогое
существо способно было любить, вздыхал об утраченном
семейном благополучии, при каждом удобном случае
пробирался к Буду и слезно упрашивал помирить его с
женой. Но что толку было в примирении? Глядя на мужа,
Кэтрин только о том и думала, как могла бы сложиться ее
жизнь, если б не он, и чувство презрения и отвращения,
переполнявшее ее, граничило с безумием. Какие ночи она
проводила без сна, рыдая и проклиная себя и его! В своей
покорности и приниженности он был ей еще противней
и ненавистней.
Но если Хэйс не питал ненависти к матери, то сына он
ненавидел — ненавидел отчаянно и отчаянно боялся. Он
охотно бы отравил его, если б имел на то мужество; но
куда там — он не смел даже глаз на него поднять, когда тот
сидел развалясь в кресле с видом хозяина —
торжествующий наглец! Боже правый! Как звенел у Хэйса в ушах
грубый хохот мальчишки; как его преследовал дерзкий взгляд
черных блестящих глаз! Поистине, мистер Вуд,
бескорыстный любитель сеять зло ради самого зла, мог быть доволен.
Столько пламенной ненависти, и подлого злорадства, и
черной жажды мести, и преступных помышлений кипело в
душах этих несчастных, что даже сам великий властелин
мистера Вуда и то порадовался бы.
Хэйс, как мы уже говорили, был плотник по ремеслу,
но с тех пор, как он к этому занятию присоединил занятие
ростовщика, не в пример более прибыльное, он вовсе пере-
351
стал брать в руки плотничий инструмент. Миссис Хэйс
усердно помогала мужу в денежных делах, к немалой его
пользе. Она была женщина решительная, напористая, даль»,
новидная; деньги сами по себе не привлекали ее, но ей хо-1
телось быть богатой и преуспевать в жизни. Теперь же,
после ссоры, она отказалась от всякого участия в делах и ска-;;
зала мужу — пусть управляется сам, как хочет. Она боль-4!
ше не имеет с ним ничего общего и не намерена заботиться^
об его интересах, как если бы это были и ее интересы:
тоже. 1
Мелочные дрязги и хлопоты, связанные с пакостным де*|
лом ростовщичества, как нельзя более подходили к натуре
Хэйса; прижимать должников, советоваться со стряпчими,
трудиться над книгами, будучи сам себе и конторщик и
счетовод,— все это доставляло ему немалое удовольствие.
Когда они еще дружно работали вместе, его не раз пугали
задуманные женой спекуляции. Расставаться с деньгами
всегда было для него мучительно, и он шел на это лишь
потому, что не смел противиться ее суждению и воле.
Теперь он все реже и реже давал деньги в долг — не мог
заставить себя выпустить их из рук. Одна утеха ему
осталась: запершись у себя в комнате, считать и
пересчитывать свое богатство. После водворения Биллингса в доме
Хэйс переселился в комнату, смежную с той, которую
занимал Вуд. Здесь он чувствовал себя в большей
безопасности, зная, что Вуд не раз выговаривал юноше за его
дерзость; а Том, как и Кэтрин, относился к старику с
уважением.
И вот у Хэйса явилась новая мысль — это было, когда
большая часть его денег уже вернулась в хозяйский
сундук. «Зачем мне оставаться здесь,— рассуждал он сам с
собой.— Терпеть оскорбления этого мальчишки, а то и
дождаться, что он убьет меня? Ведь он способен на любое
преступление». И Хэйс решил бежать из дому. Кэтрин он
каждый год будет посылать деньги. Или нет — ведь ей
останется мебель; она может пускать жильцов и тем
кормиться. А он уедет и поселится где-нибудь подальше
отсюда, найдет себе недорогое жилье — подальше от этого
мальчишки и его гнусных угроз. Мысль об освобождении
пленила жалкого скрягу, и он принялся спешно
улаживать свои дела.
Хэйс теперь сам приготовлял себе постель и никому не
позволял входить к нему в комнату; Буду слышна была
суетливая возня за перегородкой, хлопанье крышек, звон
352
монет. При малейшем шорохе Хэйс настораживался, шел
к комнате Биллингса и прислушивался у двери. Вуд
слышал, как он осторожно крадется по коридору и потом так
же осторожно возвращается назад.
Однажды жена и пасынок изводили его своими
насмешками в присутствии гостя-соседа. Сосед вскоре
собрался домой; Хэйс вышел проводить его до дверей и,
возвращаясь, услышал в гостиной голос Вуда. Старик с обычным
своим зловещим смешком говорил: '«Смотри, миссис Кэт,
будь осторожна: случись Хэйсу умереть в одночасье,
соседи скажут, что ты его убила».
Хэйс вздрогнул, словно подстреленный. «И этот с ними
заодно,— подумал он.— Они все сговорились убить меня;
и убьют; они только ждут случая». Страх овладел им, он
решил бежать тотчас же, не откладывая, и, проскользнув
к себе в комнату, собрал все свои деньги в кучу. Но лишь
половина его капитала имелась в наличности; остальное
должно было поступить от должников в течение
ближайших недель. Уехать, не дожидаясь,— на это у него не
хватило духу. Но в тот вечер Вуд услышал, как Хэйс
подкрался к его двери, а потом пошел к двери Кэтрин.
«Что он задумал? — спросил себя Вуд.— Собирает все
свои деньги. Уж нет ли у него там какого-нибудь тайника,
о котором никто из нас не знает?»
Вуд решил проследить за ним. Между комнатами был
чулан; Вуд просверлил в стенке чулана дырочку и
заглянул в нее. На столе перед Хэйсом лежала пара
пистолетов и четыре или пять небольших мешочков. Один из них
он тут же развязал и монета за монетой опустил в него
двадцать пять гиней. Как раз сегодня истек срок одному
платежу на такую сумму — Кэтрин упоминала об этом
поутру, когда имя должника случайно всплыло в
разговоре. Хэйс никогда не держал дома больше пяти-шести
гиней. Зачем ему вдруг понадобилось столько денег? На
следующий день Вуд попросил его разменять
казначейский билет в двадцать фунтов. Хэйс ответил, что у него
есть всего три гинеи. А на вопрос Кэтрин, где те деньги,
что были уплачены накануне, сказал, что отнес их в банк.
«Все ясно,— подумал Вуд.— Голубчик решил дать тягу;
а если так — я его знаю: он оставит жену без единого
шиллинга».
Несколько дней он продолжал подсматривать за
Хэйсом,— к известным уже мешочкам прибавилось еще два
или три. «Что может быть лучше этих славных круглень-
12 у. Теккерей, т. 1,
353
ких монеток,— подумал Вуд.— Они не болтают лишнего,
не то что банковые билеты». И он размечтался о прошлых
днях, когда они с Макшейном совершали немало подвигов
в погоне за такими кругляшками.
Не знаю, какой замысел сложился в голове у мистера
Вуда; но только на следующий день мистер Биллингс,
побеседовав с ним и получив от него гинею в подарок,
сказал своей родительнице:
— А знаешь, матушка, если б ты была свободна и
вышла за графа замуж, я получил бы дворянство. Так оно по
немецким законам, мне мистер Вуд сказал, а уж он-то
знает — наездился с Мальборо по всем этим заграницам.
— Точно, в Германии было бы так,— подтвердил
мистер Вуд,— но Германия не Англия; стало быть, не стоит
и говорить об этом.
— Бог с тобой, мальчуган,— взволнованно сказала
миссис Хэйс— Как это я могу выйти за графа? Во-первых,
у меня есть муж, а во-вторых, я не пара такому знатному
вельможе.
— Вот еще! Ты, матушка, достойна любого вельможи.
Если б не Хэйс, я бы и сейчас был дворянином. Еще на
прошлой неделе граф подарил мне пять гиней — не то что
этот проклятый скряга, который за шиллинг удавится.
— Если бы только скряга — а то ведь твоя мать еще
и побои от него терпит. Прошлый раз, когда он ее чуть
не убил, я уже готов был броситься на него с тростью.—
Тут он в упор посмотрел на Кэтрин, слегка усмехаясь.
Она поспешно отвела глаза; ей стало ясно, что старик
знает тайну, в которой она самой себе не смеет
признаться. Глупая женщина! Конечно, он знал; даже Хэйс и тот
догадывался смутно; а уж что до нее самой, то с того
знаменательного вечера она ни на миг об этом не забывала,
ни во сне, ни наяву. Когда испуганный Хэйс предложил
ей, что будет спать отдельно, она едва не вскрикнула от
радости; ее мучил страх, как бы вдруг не заговорить во
сне и не выдать свои чудовищные мысли.
Старику Буду известно было все, что случилось с нею
после того вечера в Мэрилебонском саду. Он это
выпытывал у нее понемногу, день за днем; он ей давал советы
и наставления; учил не уступать, выговорить, по крайней
мере, кое-какое обеспечение для сына и выгодные
условия для себя — если уж она решила расстаться с мужем.
Старик отнесся к делу с философической трезвостью,
сказал ей без обиняков, что видит, к чему она клонит,— ей
354
хочется вернуть себе графа; но пусть она будет
осторожна, а то как бы ей снова не остаться ни с чем.
Кэтрин все отрицала, однако же ежедневно
встречалась с графом и следовала всем наставлениям,
полученным от Вуда. То были разумные наставления. Гальген-
штейн с каждым часом влюблялся все больше; никогда еще
не испытывал он столь пылкой страсти — даже в цвете
молодости, даже к самым прекрасным княгиням,
графиням и актрисам от Вены до Парижа.
И вот однажды — в тот самый вечер, когда он
подсмотрел, как Хэйс пересчитывает деньги в мешках,—
старый Вуд решил поговорить с миссис Хэйс начистоту.
— Послушай, Кэт,— сказал он,—- твой муженек
задумал недоброе, да и нас подозревает в том же. Он по
ночам ходит подслушивать у твоих дверей и у моих;
попомни мое слово, он хочет от тебя убежать; и если он это
сделает, то не иначе, как обобрав тебя до последнего
пенса.
— Я и без него могу жить в богатстве,— сказала
миссис Кэт.
— Где же это? Уж не с Максом ли?
— А хотя бы и с Максом. Что тут невозможного?
— Что невозможного? Ты, видно, забыла Бирмингем.
Гальгенштейн так и тает сейчас, пока он еще не
заполучил тебя, но неужели ты думаешь, что, заполучив, он
останется таким же? Дурочка, не знаешь ты мужчин. Не иди
к нему, пока ты не уверена. Будь ты вдовой, он бы па
тебе женился — сейчас; но не вздумай довериться его
благородству; если ты от живого мужа уйдешь к нему, он
тебя бросит через две недели!
Она бы могла стать графиней! Да, да, могла бы, если б
не эта окаянная преграда на ее пути к счастью! Вуд читал
ее мысли и злорадно улыбался.
— Да и о Томе надо подумать,— продолжал он.—
Стоит тебе уйти от Хэйса к Максу без всяких гарантий, и
мальчишка останется нищим; он, который мог бы быть
знатным дворянином, если б только его мать... Впрочем, не
беда! Из парня выйдет отличный разбойник с большой
дороги, не будь я Вуд. Сам Терпин бы на него не
нарадовался. Погляди на него, голубушка, такому не миновать Тай^
берна. Он уже и сейчас кое-что смыслит в этом деле, а если
придется туго,— слишком он падок до вина и до девушек^
чтобы устоять и не сбиться с пути.
— Ваша правда,— сказала миссис Хэйс— Нрав у;
12*
355
Тома горячий, и он так же охотно будет скакать по Хаун-
слоу-Хит, как сейчас прогуливается по Мэллу.
— Ты, стало быть, хочешь, голубушка, чтобы он
угодил на виселицу? — спросил Вуд.
— Ах, доктор!
— Да, досадно,— выколачивая трубку, заключил
мистер Вуд эту интересную беседу.— Куда как досадно, что
этот старый скопидом стоит у вас у обоих на пути — да
еще он же от тебя удрать хочет!
Миссис Кэтрин удалилась с задумчивым видом —
точно так же, как немного ранее мистер Биллингс; а доктор Вуд
вышел прогуляться по улицам; кроткая, радостная улыбка
озаряла его благообразные черты, и, кажется, не было во
всем Лондоне человека счастливее его.
Глава XII,
повествующая о любви и подготовляющая к смерти
Лучшим началом для этой главы будут следующие
строки из письма аббата О'Флаэрти к Madame la comtesse
de X *** в Париж:
«Сударыня! Маленький Аруэ де Вольтер, прибывший с
целью «совершить прогулку по Англии», как о том было
написано нынче в утренних газетах, передал мне
собственноручное Ваше любезное, послание, которое
осчастливило бы всякого разумного человека, меня же — увы! —
повергло в уныние. Я думаю о милом моему сердцу
Париже (и кой о чем, что еще милее Парижа, но что Ваш
раб, сударыня, не осмеливается даже назвать здесь) — я
думаю о милом Париже, сидя у окна, выходящего на
скучнейший Уайтхолл, откуда, если рассеивается туман,
можно увидеть кусочек мутной Темзы и злополучный дворец,
который английские короли вынуждены были сменить на
благородный замок Сен-Жермен, столь величаво
высящийся над серебристой Сеной. Право же, выгодная мена. Что
до меня, я бы охотно отдал пышные посольские чертоги с
их позолотой, драпировками, балами, лакеями, послами и
со всем прочим за скромный bicoque l с видом на Тюиль-
рийские башни или за мою келью в Irlandois.
Из прежних моих писем Вы, верно, составили себе
недурное представление о государственных трудах нашего
1 Домик (франц.).
356
посланника; на этот раз хочу немного посплетничать о
частной жизни сего великого мужа. Вообразите, сударыня,
его сиятельство влюблен; да, да, влюблен по уши, с утра
до вечера только и говорит о своей красотке, про которую
известно, что он подобрал ее чуть ли не под забором; что
ей уже под сорок; что она была его любовницей, когда он
служил в Англии, в драгунском полку — лет шестьдесят,
семьдесят или сто тому назад; что ко всему прочему у нее
есть от него сын, премилый юноша, состоящий в
подмастерьях у модного портного, который шьет на его
сиятельство панталоны.
С того рокового вечера, когда наш Кир повстречал свою
красавицу в одном публичном увеселительном заведении,
так называемом Мэрилебонском саду, его словно
подменили. Любовь царствует теперь в пустой голове нашего
посланника и побуждает его к чудачествам, забавляющим
меня несказанно. Вот и сейчас он сидит напротив меня за
сочинением письма к своей Кэтрин, заимствуя целые
куски — откуда бы Вы думали? — из «Великого Кира».
«Клянусь, сударыня, я был бы счастлив предложить Вам свою
руку в придачу к сердцу, которое давно уже Вам
принадлежит, и прошу Вас запомнить мои слова». Только что я
продиктовал ему эти нежные строки; нет нужды говорить
Вам, что наш посланник не мастер писать, да и соображать
тоже.
К Вашему сведению, у прекрасной Кэтрин есть муж,
зажиточный горожанин, плотник по ремеслу,
проживающий на Тайберн-роуд, или дороге Висельников. Но
после встречи со своим давнишним любовником,
происшедшей, как только мы сюда приехали, она спит и видит
сделаться графиней. Премиленькое создание эта Madame
Catherine. Влюбленные, что ни день, обмениваются
записочками, завтракают и гуляют вместе, он ей дарит шелковые
и атласные наряды; но что самое странное, дама
целомудренна, как Диана, и графу пока что не удалось ее
обольстить. Бедняга со слезами на глазах говорил мне, что надо
было взять ее приступом в первый же вечер, да сын
помешал; и всякий раз то сын, то еще кто-нибудь оказывается
помехой. Красавица никогда не бывает одна. Полагаю, что
столь необычной добродетелью дамы следует объяснить
столь необычное постоянство кавалера. Она добивается
каких-то гарантий, быть может, даже законного брака. Муж,
по ее словам, хвор, любовник достаточно прост, а она, готов
отдать ей должное, действует, как опытный дипломат».
357
* * *
На это*м кончается та часть письма его преподобия,
которая имеет отношение к нашему рассказу. Дальше шли
Кое-какие сплетни о придворных вельможах, весьма
нелестные замечания по адресу курфюрста Ганноверского и
увлекательный рассказ о состязании по боксу в
Амфитеатре мистера Фигга на Оксфордской дороге, где Джон Уэллс
из Эдмунд-Бери, мастер благородного искусства
самозащиты, встретился (как о том можно прочесть в газетах) с
Эдвардом Сэттоном из Грейвзенда, также мастером
упомянутого искусства, и об исходе этого поединка.
«Nota bene,— добавлял почтенный патер в
постскриптуме,— эту светскую новость любезно сообщил мне сын
монсеньера, мсье Биллингс, gargon-tailleur *, шевалье де
Гальгенштейн».
Мистер Биллингс и в самом деле сделался теперь
частым гостем в доме посланника, где слугам дан был
приказ допускать его, когда бы он ни явился. Что до
отношений между миссис Кэтрин и ее былым обожателем, то
аббат в своем письме обрисовал их весьма точно; и мы
должны подтвердить, что злосчастная женщина, чья
история ныне приобретает более мрачный оттенок, если и
нарушила супружескую верность, то лишь в душе, а не на деле.
Но она ненавидела мужа, жаждала от него избавиться и
любила другого: развязка надвигалась с угрожающей
быстротой, и все наши актеры и актрисы, сами того не зная,
обречены были принять в ней участие.
Как мы видим, миссис Кэт послушно следовала советам
мистера Вуда в своем поведении с графом; и тот,
неизменно встречая преграду на пути к заветной цели, лишь
распалялся еще сильнее. Аббат привел две фразы из его
письма, а вот и все послание, в значительной мере
заимствованное, как это и было замечено святым отцом, из романа
«Великий Кир»:
«ОТ НЕЩАСТНОГО МАКСИМИЛИАНА
К НЕСПРАВЕДЛИВОЙ НАТРИ НЕ
Сударыня! Не лучшее ли доказательство моей
неугасимой любви к Вам то, что невзирая на Ваши
несправедливые упреки в вераломстве я люблю Вас нечуть не меньше
1 Портновский подмастерье (франц.).
358
прежнево. Напротив, страсть моя столь пламена, а Ваша
несправедливость столь чувствительно меня уезвляет, что
если бы Вы могли видеть страдания моей души, Вы бы
согласились признать себя самой жестокой и несправедливой
женщиной в целом свете. Я готов, сударыня,
незамедлительно пасть к Вашим ногам; и быв моей первой любовью,
Вы будете и последней.
Я готов на коленях уверять Вас при первом удобном
случаи, что сила моей страсти может сравнитца лишь с
Вашей красотой; я доведен до такой крайности, что не могу
скрывать боль, причиненую Вами. Никто иной, как
враждебные боги на зло мне устроили роковой брак,
связавший Вас с человеком востократ более ниским. Если бы
вдруг оказались разбиты цепи злокозненного Гименея,
клянусь, сударыня, я был бы щастлив предложить Вам
свою руку в придачу к сердцу, которое давно уже Вам пре-
надлежит. И я прошу Вас запомнить мои слова, скрепле-
ные собственоручной моей подписью, и надеюсь дождатца
дня, когда смогу подтвердить их делом. Поверьте,
сударыня, никто в целом свете не ценит так высоко Вашу добра-
детель и не желает так пламенно Вашего щастя, как пре-
даный Вам
Максимилиан.
Дано в моей резиденции в Уайтхолле февраля сего
двадцать пятого дня.
Несравненной Катрине с приложением юбки алого
атласу».
Граф было стал возражать против фразы, содержащей
обещание жениться в случае смерти Хэйса; но добрый
аббат тут же пресек его сомнения, справедливо заметив, что,
если он так напишет, это еще не обязывает его так и
поступить; не нужно только подписываться полным именем
и указывать на письме точный адрес; и потом, не
опасается же его сиятельство, что красотка погонится за ним в
Германию, куда он отбудет по окончании своей
дипломатической миссии; а этого недолго осталось ждать.
Получение этого письма заставило столь бурно
возликовать несчастную счастливую миссис Кэтрин, что это не
укрылось от мистера Вуда, который не замедлил выведать
причину ее радости. Он тут же наказал ей хранить письмо
как можно бережнее, но совет этот был излишним; бед-
359
няжка и так не расставалась с ним ни на миг: ведь это
был залог ее возвышения — выданный ей вексель на
титул, богатство, счастье. Она стала свысока поглядывать на
соседей, еще больше пренебрежения выказывать мужу;
тщеславное, жалкое создание — как не терпелось ей
разгласить тайну, открыто перед всеми занять свое место.
Она — графиня! Том — графский сын! Пусть же все
увидят, что она достойна титула!
Около этого времени по округе разнеслась вдруг молва,
что Хэйс собирается покинуть Лондон. Все только о том и
говорили; перепуганный Хэйс бледнел, плакал, божился,
что на него взводят напраслину, но люди лишь
недоверчиво усмехались. Мало того, стали говорить, будто миссис
Хэйс вовсе и не жена ему, а любовница, которую он
жестоко тиранил, а теперь задумал бросить. Из уст в уста
передавался рассказ о том, как он ударил ее по голове и сшиб
с ног. Когда он объяснял, что она хотела зарезать его,
никто не верил, а женщины говорили: и поделом. Откуда
пошли все эти слухи? «Еще три дня, и я в самом деле
убегу,— думал Хэйс,— тогда пусть болтают, что хотят».
Беги, глупец, беги—да только побыстрей, чтоб не
настигла тебя Судьба; укройся понадежней, чтобы Смерть
не нашла твоего убежища!
Глава XIII,
приближающая развязку
Читатель, без сомнения, догадался уже хотя бы отчасти,
какие страшные сети плетутся вокруг мистера Хэйса; быть
может, он даже уяснил себе, что:
во-первых, если повсеместно укоренится слух, будто
миссис Кэтрин не жена Хэйсу, а любовница, она, при
желании, может выйти за другого; и это не только не
вызовет удивления и не повредит ее репутации, но, напротив,
возвысит ее в глазах окружающих.
Во-вторых, если все будут твердо убеждены, что Хэйс
задумал уехать, бросив жертву своей жестокости на
произвол судьбы, никто не станет спрашивать, куда именно он
отправился: в Хайгет, в Эдинбург, в Константинополь или
даже на тот свет,— это никакого значения иметь не будет.
Мистеру Хэйсу эти соображения не пришли в голову.
Что до второго, то, как мы уже знаем, он злился, когда с
ним про это заговаривали; о первом же миссис Хэйс сама
360
завела речь, сердито спросив в присутствии сына и
мистера Вуда (это был едва ли не единственный раз, что она
заговорила с ним после роковой ссоры): с чего бы это
соседи вдруг стали сторониться ее и смотреть косо? Уж не
он ли наплел про нее злостных небылиц?
Хэйс робко заспорил, уверяя, что ни в чем не виноват,
но мистер Биллингс сгреб его за воротник и, тыча в нос
кулаком, страшной клятвой поклялся вышибить из него
дух, если он еще посмеет порочить его, мистера Биллингса,
матушку. Миссис Хэйс, продолжая разговор, сослалась и
на толки о том, будто он собирается сбежать от жены; а
мистер Биллингс тут же пообещал, что настигнет его даже
в Иерусалиме и не выпустит из рук живым. Однако
угрозы и брань юного Биллингса скорее успокоили, нежели
взволновали мистера Хэйса; он жаждал поскорее
пуститься в путь, но почему-то ему вдруг показалось, что он не
встретит на этом пути препятствий. Впервые за много
дней он испытал чувство, отдаленно напоминающее
уверенность, и у него появилась надежда на благополучный
исход задуманного предательства.
И вот наконец после всего изложенного мы подошли,
о публика, к заветной цели, к которой автор стремился
с первых страниц настоящего повествования. Мы
достигли, о критик, той точки в рассказе, когда описываемые
события приобретают столь восхитительно зловещий
характер, что лишь каменные души могут не зажечься
интересом к ним. А ты, благородный и разборчивый читатель,
кому надоели безобразные сцены насилия и
кровопролития, вышедшие в последнее время из-под пера некоторых
наших прославленных сочинителей *, если тебе захочется
с отвращением отвернуться от книги, вспомни: это писано
не для тебя и не для таких, как ты, кто наделен
достаточным вкусом, чтобы с презрением осудить подобный стиль;
но для широкой публики, у которой такого вкуса нет,—
для тех, кто благосклонно встретил целых четыре
жизнеописания Джека Шеппарда; кто привык жадно поглощать
кровавую требуху ньюгетских отбросов, скармливаемых им
литературными поставщиками, и кому мы, грешные,
скромно следуя по пятам верховных жрецов и пророков
книжного мира, вознамерились принести и свой
посильный дар — мелочь, пустячок, но от чистого сердца. Итак,
сюда, прекрасная Кэтрин и доблестный граф; вперед,
* Автор писал это в J 840 г.
361
храбрый Брок и безупречный Биллингс; поспеши, честный
Джон Хэйс; предыдущие главы были только цветами,
предназначенными разубрать вас для жертвоприношения.
Всходите же на алтарь, о невинные агнцы, и
приготовьтесь к последнему таинству: нож уже наточен и
жертвенник готов! Подставляйте шеи, любезные — публика
изголодалась и жаждет крови!
Глава последняя
По всей вероятности, мистер Хэйс знал или
догадывался о нежных чувствах monsieur де Гальгенштейна к его
жене; уж очень бросались в глаза ее постоянные обновки
и более частые, нежели прежде, отлучки из дому; нельзя
было также не заметить того обстоятельства, что со дня
роковой ссоры Кэтрин ни разу не спросила у него денег на
домашние расходы. А у него недоставало духу завести об
этом речь; она же словно и забыла, что он должен давать
ей деньги.
Миссис Кэт и в самом деле получала немало денег от
влюбленного графа. Не забывал он и Тома; а кроме того,
без конца осыпал предмет своей страсти разнообразными
дарами.
Среди этих даров была корзина отборного
шотландского виски; она появилась в доме уже давно и не давала
покою мистеру Хэйсу, большому охотнику до спиртного. Вуд
с Биллингсом распивали бутылку за бутылкой,— и чем
дольше пили, тем больше хвалили; Хэйс всякий раз
завистливо косился на них, проходя к себе через маленькую
гостиную за мастерской; с какой бы радостью он примкнул
к их компании, если бы отважился!
К 1 марта 1726 года у мистера Хэйса уже собралась на
руках почти вся сумма, с которою он намерен был сняться
с места; как раз в этот день поступил платеж по одному
векселю, который он считал почти безнадежным, и потому
домой он вернулся несколько приободрившимся; сознание,
что час отъезда близок, придавало ему духу. Никто не
делал попыток задержать его силой; к тому же он был
вооружен, деньги были зашиты в надетый на нем пояс, и он
почти уговорил себя, что бояться ему нечего.
Он пришел домой в сумерки, okojjo пяти часов
пополудни. Ни миссис Хэйс, ни мистера Биллингса дома не
было; только старый мистер Вуд, по своему обыкновению,
362
сидел с трубкой в маленькой гостиной; завидя мистера
Хэйса, он заговорил с ним в самом дружеском тоне,
выразил удивление, отчего это он стал чуждаться своих
домашних, пригласил сесть и выпить стакан вина. В мастерской
горел свет, подручный еще не ушел; мистер Хэйс отдал
ему кое-какие распоряжения и, не видя причин
отказываться, подсел к мистеру Вуду.
Поначалу беседа у них не ладилась, но вскоре пошла
живо и непринужденно; и так мил и доброжелателен был
мистер — или доктор — Вуд, что совсем покорил
собеседника любезностью обращения; лед растаял, друзья были
снова друзьями, как во время оно.
— Мне без вас вечерами очень скучно, мистер Хэйс,-—
ворковал доктор Вуд.— Вы человек хоть и неученый, да
бывалый, с вами всегда есть о чем поговорить. А что мне
в обществе такого мальчишки, как Том? К тому же после
вашей размолвки с миссис Кэт негодник бог весть что
возомнил — разыгрывает тут по меньшей мере турецкого
султана! Вдвоем они окончательно забрали над вами верх.
Признайтесь, друг Хэйс, ведь это так и ведь вы терпеть не
можете мальчишку.
— Что правда, то правда,— сказал Хэйс.— Он у меня
как бельмо на глазу. Приятно, что ли, когда вам постоянно
тычут в нос грехи вашей жены и когда эдакий сопляк
помыкает вами у вас же в доме.
— Озорство, сэр, пустое озорство, не больше,—
возразил Вуд.— Ребячьи забавы, сэр, поверьте, с возрастом это
пройдет. При всей его несносности,— а он и вправду
брыклив и задирист, как жеребенок,— у мальчика в натуре
много хорошего. Сам он будет поносить всех и каждого,
вообразив, что ему дано такое право, но другому никогда этого
не позволит. Ведь вот сказал же он миссис Кэт на прошлой
неделе, что если вы и прибили ее, то поделом. И дело у
них дошло чуть не до ножей, совсем как тогда с вами.
Провалиться мне, коли не так. А когда в «Голове Браунда»
какой-то малый назвал вас эдаким-разэдаким «Синей
Бородой» и сказал, что вы хотели убить свою жену, верьте
слову, Том тут же вскочил и ударом кулака сбил обидчика
с ног.
Из сказанного одно вполне соответствовало истине;
другое же целиком было вымышлено мистером Вудом, должно
быть, с благим намерением ослабить вражду между
отчимом и пасынком. Отчасти он достиг цели; правда, Хэйс не
настолько растрогался, чтобы вдруг почувствовать влече-
363
ние к молодому человеку, которого с первой встречи всей
душой ненавидел, но он обрел некоторое внутреннее
спокойствие и даже повеселел. Словом, когда миссис Кэт
и ее сынок воротились домой, то, к немалому своему
удивлению, застали мистера Хэйса восседающим на старом
своем месте в маленькой гостиной и самым
дружеским образом беседующим с мистером Вудом. Последний
тотчас пригласил их в компанию пропустить по
стаканчику.
Мы уже упоминали о шотландском виски, присланном
графом в подарок миссис Кэтрин; по предложению мистера
Вуда виски было принесено из погреба; и Хэйс, уже много
дней поглядывавший на него с вожделением, возликовал по
случаю столь неожиданной удачи. Он стал похваляться
своим уменьем пить не пьянея и в доказательство
предложил один выпить восемь бутылок.
Мистер Вуд как-то странно усмехнулся и
многозначительно поглядел на Тома, который ответил такой же
усмешкой. Миссис Хэйс сидела, не поднимая глаз; но лицо
ее было мертвенно бледно.
Стали пить. Хэйс в оправдание своего хвастовства, не
моргнув глазом, осушил одну, другую и третью бутылку.
Язык у него развязался, он стал отпускать шуточки, петь
песни; Вуд, слушая его, покатывался с хохоту, Биллингс
тоже. Только миссис Кэт не смеялась и упорно хранила
молчание. Что тревожило ее? Быть может, мысли о графе?
Днем она разговаривала с Максом и пообещала увидеться
с ним завтра в десять часов вечера, неподалеку от его
резиденции на Уайтхолле. Впервые они должны были
встретиться без посторонних глаз. Местом встречи было
назначено кладбище св. Маргариты, что близ Вестминстерского
аббатства (не слишком-то веселое место для любовного
свидания). Об этом, верно, и думала Кэт; но отчего она
вдруг шепнула Буду: «Нет, нет! Ради бога, только не
сегодня!»
— Ей кажется, мы слишком много выпили,— сказал
мистер Вуд Хэйсу, который услышал слова жены и
испуганно оглянулся.
— Да, да, слишком много! — торопливо подхватила
Кэтрин.— Довольно на сегодня. Ступайте к себе, мистер
Хэйс, заприте дверь и ложитесь спать.
— Нет, мне не довольно! — заорал Хэйс.— Я ведь
сказал — восемь, стало быть, выпью еще пять — бьюсь об
заклад, выпью.
364
— Идет — ставлю гинею! — сказал Вуд.
— По рукам! — сказал Биллингс.
— А ты помолчи! — зарычал на него Хэйс.— Я для
своего удовольствия пью, тебя не спрашиваю.— И он
добавил несколько крепких ругательств, выражавших его
истинные чувства к пасынку; но тот, как ни странно,
промолчал, только усмехнулся презрительно да подмигнул
Буду.
Итак, еще пять бутылок было подано на стол и выпито
мистером Хэйсом — и сдобрено множеством песен из
сборника Томаса д'Эрфи и других; мистер Хэйс веселился
больше всех, и не удивительно: в то время как он бутылку за
бутылкой пил шотландское виски, два других
джентльмена, сославшись на нездоровье, ограничивались лишь
легким пивом.
Мы могли бы подробнейшим образом описать здесь все
стадии постепенного опьянения мистера Хэйса; как за
первыми тремя бутылками он предавался безобидному
веселью, а после четвертой понес всякую чушь, а после шестой
стал шуметь и буянить, а после седьмой только осовело
мычал,— но мы стремимся довести до конца наше
повествование, что мешает нам уделить больше времени столь
приятному, назидательному и любопытному предмету.
Скажем лишь, исторической истины ради, что мистер Хэйс
действительно выпил семь бутылок шотландского виски,
после чего мистер Томас Биллингс сходил на Бонд-стрит, в
«Голову Браунда» и купил еще одну, которую Хэйс
выпил тоже.
— Теперь довольно,— сказал мистер Вуд юному
Биллингсу; и вдвоем они повели мистера Хэйса в его комнату,
ибо сам он уже идти не мог.
* * ¦
Миссис Спрингэтт, жилица, спустилась вниз узнать
причину шума. «Да это Том Биллингс пирует с приятелями из
деревни»,— сказала ей миссис Хэйс; и Спрингэтт ушла к
себе, а в доме водворилась тишина.
* * *
За час до полуночи слышалась какая-то возня и топот
ног.
365
* * *
После того как мистер Хэйс был уложен в постель,
Биллингс вспомнил, что ему нужно кое-что отнести в один
дом неподалеку от Стрэнда; ночь была теплая, ясная, и
мистер Вуд вызвался ему сопутствовать.
[Следует описание полуночной Темзы в стиле лучших
исторических сочинений; упоминаются Ламбет, Вестминстер, Савой,
замок Бэйнард, Эрендл-Хаус, Темпл; Старый Лондонский мост с его
двадцатью арками, «на коем строены дома, вследствие чего он
более с длинною улицею сходства имеет, нежели с мостом»; театры
««Глобус» и «Фортуна»; речные паромы и разные пиратские
суденышки, которыми кишит река, плоскодонки, покачивающиеся на
причале у лестницы Савоя; ряды грациозных яликов, в лунном
сиянии дремлющих на берегу. Описано речное сражение между
командами пиратского баркаса и сторожевого катера. Издав свой
боевой клич: «Святая Мария-Паромщица, a la rescousse!»1 —
командир сторожевого катера схватил за горло капитана баркаса. Обе
команды, точно понимая, что исход боя будет решен поединком
главарей, прекратили военные действия и, сгрудившись каждая на
своем судне, ожидали решающего удара. Ждать пришлось недолго.
«Сдавайся, пес!» — вскричал командир сторожевого катера. Пират
не мог ответить: его горло было сдавлено железными пальцами
представителя власти; но он выхватил свой длинный нож и семь
раз вонзил его в грудь противника, и все же тот не упал.
Предсмертный хрип заклокотал в горле у пирата; руки его бессильно
повисли. Нога к ноге, упираясь каждый в борт собственного судна,
стояли два храбреца — оба были мертвы! «Именем святого
Клемента Датского, дорогу мне!» — воскликнул боцман и, протянув
свою алебарду (семи футов длиной, перевитую бархатом,
усаженную медными гвоздиками и украшенную городским гербом:
червленый крест на серебряном поле, в левой верхней четверти
кинжал, переходящий на правую), он оттолкнул судно пиратов от
своего; и тотчас оба мертвых капитана рухнули в воду и скрылись
в ее таинственной, бездонной, черной глубине.
За этим эпизодом следует еще один. Две дамы в масках спорят
у дверей таверны, выходящей на Темзу; оказывается, это Стелла
и Ванесса; обеих привели туда поиски Свифта, который в это время
сидит в обществе Гэя, Арбетнота, Болинброка и Попа и читает им
«Путешествия Гулливера». Двое продрогших бродяг укрылись под
навесом крыльца; одному из них Том Биллингс бросил монету в
шесть пенсов. Откуда ему было знать, что имена этих двух
молодых людей — Сэмюел Джонсон и Ричард Сэведж!]
1 На помощь! (устар. франц.)
366
1$щв одна глава последняя
На следующий день мистер Хэйс не появился за
семейным столом; и вчерашнее примирение, видно, оказалось
непрочным, ибо, когда миссис Спрингэтт спросила Вуда о
Хэйсе, тот ответил, что Хэйс с утра ушел из дому, не
сказав ни куда, ни на сколько. Только буркнул довольно не-
любезно, что скорей всего останется ночевать у
приятеля. «Хоть я что-то ни о каких его приятелях прежде
не слыхивал,—добавил мистер Вуд.—Дай бог, чтобы он
не вздумал сбежать от бедной своей жены, которая и так
немало от него натерпелась». Миссис Спрингэтт
подхватила эту молитву, и на том почтенные собеседники
расстались.
Какими делами был занят Биллингс, в точности
неизвестно; но если накануне ему понадобилось идти в сторону
Стрэнда и Вестминстера, то в этот вечер он собрался на
Мэрилебонское поле; и хоть погода, в отличие от вчерашней,
была ветреная и дождливая, Вуд, добрый старик,
вызвался его сопровождать и на этот раз; и они отправились
вдвоем.
У миссис Кэтрин, как мы знаем, в этот вечер были свои
дела, причем весьма деликатного свойства. На десять
часов было у нее назначено свидание с графом; и точно в это
время она уже поджидала monsieur де Гальгенштейна на
кладбище св. Маргариты близ Вестминстерского аббатства.
Место было выбрано удачно: весьма уединенное, оно в
то же время отстояло недалеко от графского дома на
Уайтхолле. Его сиятельство явился с некоторым опозданием;
сказать по правде, вольнодумец граф верил в чертей и в
привидения и побаивался в одиночку расхаживать по
кладбищу. Оттого-то он и почувствовал облегчение, увидев
у ворот закутанную в плащ женщину, которая
приблизилась к нему и шепнула: «Это вы?» Он взял протянутую
ему руку; она была холодная и влажная на ощупь. По
просьбе дамы он отпустил своего доверенного
камердинера, который факелом освещал ему дорогу.
Факелоносец удалился, и влюбленные остались в
темноте; осторожно, ощупью пробираясь между могилами, они
прошли в глубь кладбища и присели на одну из могил,
расположенную словно бы под деревом. Дул пронизывающий
ветер, лишь его жалобный вой и нарушал тишину. Кэтрин
стучала зубами, несмотря на теплый свой плащ; Макс
привлек ее ближе, обнял за талию, сжал руку — и она не от-
367
толкнула его, но сама прильнула к его плечу, и ее
холодные пальцы чуть слышно ответили на его пожатие.
Бедняжка совсем поникла, и слезы текли у нее по
щекам. Она поведала Максу причину своего горя. Она
осталась одна на свете — совсем одна и без единого пенни.
Муж бросил ее; не далее как сегодня она получила от него
письмо с подтверждением того, что давно уже
подозревала. Он уехал, увез все их достояние и больше не
вернется!
Читатель не удивится, если мы скажем, что при этом
известии monsieur де Гальгенштейн исполнился корыстного
восторга. Жестокосердый распутников душе он радовался
плачевной участи Кэтрин, ибо надеялся, что нужда
заставит ее сдаться. Он привлек бедняжку к себе на грудь и
пообещал, что заменит ей мужа, которого она лишилась, и
разделит с ней все свое богатство.
— Так ты готов заменить его? — переспросила она.
— О да, возлюбленная моя Кэтрин,— во всем,
исключая звания; но после его смерти, клянусь, ты стаиешь
графиней Гальгенштейн.
— Клянешься? — вскричала она в сильном волнении.
— Всем, что только есть для меня святого; будь ты
свободна, я (тут он поклялся страшной клятвой) — я
завтра бы назвал тебя своей женой.
Мы уже знаем, что monsieur де Гальгенштейну ничего
не стоило дать любую клятву. К тому же он был уверен,
что Хэйс проживет дольше Кэтрин,— во всяком случае,
дольше, чем продолжится связь графа с нею; но на этот
раз он попался в собственные сети.
Она схватила его руку; целовала ее, прижимала к своей
груди, обливала слезами. .
— Макс! — сказал она наконец.— Я уже свободна!
Будь моим мужем, и я всегда буду любить тебя, как
люблю сейчас, как любила все эти годы!
Макс отшатнулся.
— Как! Он умер? — воскликнул он.
— Нет, нет, он жив; но он не муж мне и никогда им
не был...
Он выпустил ее руку и, не дав ей договорить, сказал с
резкостью:
— Право же, сударыня, если этот плотник никогда не
был вашим мужем, не вижу, почему я должен стать
таковым. Если особа, двадцать лет бывшая любовницей
деревенского мужлана, не желает принять покровительство
368
аристократа, представителя иностранной державы,— тем
хуже для нее; а мужа пусть ищет себе в другом месте!
— Ничьей любовницей я не была, кроме как твоею,—
простонала Кэтрин, заломив руки и вся сотрясаясь от
рыданий,— и вот мое возмездие, о, боже! За то, что совсем
еще девчонкой я повстречала тебя и ты погубил меня, а
потом покинул; за то, что в горе моем и раскаянии,
стремясь искупить свой грех, я вышла за этого человека, чья
любовь тронула мое сердце; за то, что и он обманул меня
и покинул; за то, что, безумно любя тебя — как любила все
эти двадцать лет — и дорожа твоим уважением, я не хочу
уронить себя, уступив твоей воле,— за все за это и ты
теперь пренебрегаешь мной! О, боже — это уж слишком —
это слишком! — И несчастная почти в беспамятстве пала
на землю.
Макс, несколько испуганный столь бурным взрывом
отчаяния, хотел было ее поднять, но она отстранила его и,
достав из-за корсажа письмо, сказала:
— Будь здесь посветлее, Макс, ты мог бы увидеть сам,
как жестоко меня предал тот, кто двадцать лет называл
себя моим мужем. Он женился на мне, уже будучи
женатым. Та женщина, говорится в письме, жива и поныне, а
меня он решил навсегда покинуть.
Тут над Вестминстерским аббатством взошла луна,
доселе скрытая его черной громадой, и залила своим
серебристым сиянием маленькую церковь св. Маргариты и
место, где происходила описанная сцена. Макс в это время
уже отошел от Кэтрин и с мрачным видом расхаживал
среди могильных плит. Она же оставалась на прежнем месте
под деревом; впрочем, при лунном свете стало видно, что
это не дерево, а столб. Она прислонилась к нему спиной и,
протянув к Максу прекрасную, круглую белую руку,
подала ему полученное от мужа письмо.
— Прочти, Макс,— сказала она.— Господь сжалился
надо мною и пролил с неба свет, при котором можно
читать.
Но Макс словно застыл на месте. Внезапный ужас
исказил его лицо. Он не говорил ни слова, только глядел перед
собой дикими, выкатившимися из орбит глазами. Он
глядел не на Кэтрин, а куда-то выше, поверх ее головы.
Наконец он медленно поднял указательный палец и сказал:
— Смотри, Кэт — голова — голова! — Потом захохотал
чудовищным, страшным хохотом и, рухнув между
плитами, забился в корчах падучей.
3G9
Кэтрин отпрянула в сторону и оглянулась. Столб, в
темноте принятый ею за дерево, был теперь ярко освещен
луной; и на самой его верхушке, четко рисуясь на фоне
ночного неба, оскалив зубы в зловещей улыбке, торчала
мертвая человеческая голова.
Несчастная женщина бросилась бежать — оглянуться
еще раз она не посмела. А когда через несколько часов
графский камердинер, встревоженный долгим отсутствием
своего господина, отправился на поиски, он нашел его на
кладбище; граф сидел на могильной плите, не сводя глаз
с головы на столбе, кивал ей, смеялся и бессвязно
бормотал что-то, обращаясь к ней. Его увезли в дом для
умалишенных, но разум так и не вернулся к нему во все
долгие годы, которые ему еще суждено было прожить на
свете; греметь своей цепью и стонать под плетьми —
вот и все, на что он остался способен; да еще выть
ночи напролет, зарывшись головою в солому, когда
лунный свет проникал сквозь решетку окна в его одинокую
келью.
Итак — тайное стало явным! И, посвятив этому целую
главу изящнейшей словесности, автор просит английских
читателей не обойти вниманием его труд, скромно надеясь,
что он не лишен тех особых достоинств, что заслужили
столь громкий успех другим образцам изящной
словесности, принадлежащим перу других авторов.
Без всякой похвальбы я хотел бы отметить, чем
особенно хороша глава, о которой идет речь. Начать с того,
что все в ней достаточно напыщенно и ненатурально; и
чувства и речь героев искусно рассчитаны на то, чтобы
произвести впечатление как можно более сильное и
величественное. Милейшая наша Кэт — просто неграмотная
баба, которая только что перерезала глотку своему мужу;
а — вот поди ж ты! — изъясняется и ведет себя, как
принцесса из классической трагедии, возвышенно страждущая
белыми стихами. В том-то и состоит истинная цель
беллетристики, крупнейшая победа, какую может одержать
романист. Невелика штука вызвать у читателя сочувствие
к добродетели; а вот изобразить мерзавца, да при этом
заставить нас вздыхать и охать над ним, точно он святой
мученик,— это не каждый сумеет. Тут уж требуется
настоящее большое искусство; и приятно видеть, что за
последнее время многие преуспели в нем.
370
Сюжет нашей повести основан на историческом факте;
чтобы в этом убедиться, стоит лишь взять в руки номер
«Дэйли пост» от 3 марта 1726 года, где напечатано
нижеследующее:
«Вчера утром, на берегу Темзы, близ Миллбэнка,
Вестминстер, обнаружена человеческая голова с волосами, судя
по ее состоянию, отрубленная совсем недавно. Голова была
выставлена для всеобщего обозрения на кладбище св.
Маргариты, и ее видели тысячи людей, но ни один не опознал.
Таким образом, до сих пор неизвестно, кто жертва этого
чудовищного, зверского преступления, ни тем более, кто
его виновник. Есть несколько предположений
относительно личности убитого, но столь необоснованных, что мы
считаем излишним их приводить. При отделении от туловища
голова была сильно искромсана и изуродована».
Голова, произведшая столь сокрушительное
впечатление на monsieur де Гальгенштейна, сидела некогда на
плечах мистера Джона Хэйса и была им утрачена при
следующих обстоятельствах. Мы уже видели, как мистера
Хэйса усиленно потчевали шотландским виски. Выпив
большое количество названного напитка, мистер Хэйс
пришел в крайне веселое расположение духа, стал петь и
плясать; но его жена опасалась, что выпитого им недостаточно
для оказания желаемого действия, и потому послала еще
за одной бутылкой, которую он выпил тоже. Ожидания
миссис Хэйс оправдались: после этого мистер Хэйс
опьянел настолько, что уже ничего не сознавал.
Он, однако же, сумел как-то добраться до своей
комнаты, где бросился на постель и сразу уснул; тогда миссис
Хэйс напомнила своим сообщникам о задуманном ими деле,
высказав мнение, что сейчас самое время с этим делом
покончить *.
* В первоначальной редакции за этим следовало подробное
описание убийства, а также казни преступников, взятое из газет
того времени. В силу такого своего происхождения никакими
литературными достоинствами оно, естественно, не обладало.
Подробности преступления просто чудовищны, и в них нет и тени
даже той своеобразной романтики, что иногда хоть немного
облагораживает убийство. В свое время это вполне отвечало задаче,
которую ставил себе мистер Теккерей,— показать в истинном виде
нравы и обычаи Шеппардов и Терпинов, бывших тогда
излюбленными героями беллетристических произведений. Но в наши дни
такая задача не стоит,и потому мы сочли нужным опустить эти
излишние подробности.
371
* * *
Динь-динь-дилеиь! Опущен мрачно-зеленый занавес,
каждый из dramatis personael нашел свою судьбу,
проворные служители гасят свечи, и публика в задумчивости
расходится по домам. А если какой-нибудь критик даст
себе труд спросить, отчего это автор, столь многословный
при описании ранних диковинных перипетий жизни
Кэтрин, вдруг скомкал развязку, казалось бы, открывавшую
широкий простор для изящной словесности,— Соломоне
ответит, что никакой его опус, уснащенный обилием
риторических фигур, не мог бы сравниться по силе выражения
с простым рассказом о происшедшем. Ему лично
процесс мистера Арама казался куда интересней в отчете
газетного репортера, чем в пространном поэтическом
изложении одного из прославленных наших романистов. О
деяниях мистера Терпина он с большей пользой и
удовольствием прочтет у Ныогетского Плутарха, нежели в
«Биографическом словаре» ученого Эйнсворта. Опытный мастер
по увенчанию подобных героев заслуженной ими наградой
совершит церемонию du grand cordon2 и быстрей и
сноровистей, чем самый рьяный любитель; и точно так же, по
нашему убеждению, описывать подобные церемонии дело
тех, кто к ним непосредственно причастен, а не тех, кто
лишь восхищенно взирает со стороны, не зная многих
секретов Кетчева ремесла. Сам великий Мильтон не создал бы
столь страшной картины казни, какую мы находим в
нескольких строчках из номера «Дэйли пост», что лежит
сейчас перед нами «herrlich wie am ersten Tag» 3 — свежий и
чистый, как в день своего выхода из печати сто с лишком
лет тому назад. Подумать только, его читала Белинда за
своим туалетным столиком, и внимательно изучали в
кофейнях Баттона и Уилла, он давал пищу насмешкам
присяжных острословов, о нем говорили всюду, от дворцов до
хижин, его знало целое хлопотливое племя в париках, в
башмаках с красными каблуками, в фижмах, в мушках, в
тряпье всевозможного вида — хлопотливое племя, давным-
давно канувшее в бездонную пропасть, к которой и все мы
идем быстрым шагом.
1 Действующих лиц (лат.).
2 Буквально: орденской ленты; здесь — намек на другое
значение слова cordon — «веревка».
3 Великолепный, как в первый день (нем.).
372
Где они теперь? «Afflavit Deus» * — и их не стало! Чу!
То не вой ли ветра, который и нас сметет с лица земли?
И вот уже у кассы со шрифтом стоит наборщик, чтобы в
один прекрасный день известить человечество о том, что
<vвчера, в своем особняке на Гровнер-сквер» или же «в Бо-
тани-Бэй, ко всеобщему прискорбию» скончался Такой-то.
Бот в какие дебри глубокомыслия завел нас абзац о
сожжении миссис Кэтрин!
Впрочем, что ж — к этому мы и хотели прийти; по
завершении столь утонченной трапезы уместно произнести
несколько слов в виде послеобеденной молитвы и
порадоваться, что можно наконец выйти из-за стола. Автор
задался целью: не допускать в свою драму никаких других
персонажей, кроме отъявленнейших мерзавцев
(исключение было сделано в двух случаях,— но для самых
пустяковых, «проходных» ролей). Свидетельством, что в какой-то
мере он этой цели достиг, служат несколько газетных
отзывов, которые ему посчастливилось прочесть и в которых
повесть «Кэтрин» объявлена одним из самых скучных,
безнравственных и вульгарных сочинений, появившихся за
последнее время. Автору было весьма приятно узнать это
мнение; оно доказывает, что пристрастие к ньюгетской
литературе идет у нас на убыль и что, когда честный критик
сталкивается с явной и откровенной безнравственностью,
он возмущен и не стесняется довольно резко выражать
свое возмущение. Да, персонажи этой повести
безнравственны, тут нет спора; но автор скромно надеется, что не
таков ее замысел. Все дело в том, что читатель наш
отравлен медленным ядом популярной нынче литературы и
нуждался в таком лекарстве, которое вызвало бы целительную
тошноту, ведущую к выздоровлению.
И, слава богу, в очень многих случаях «Кэтрин»
оказала достаточно сильное действие и нужный эффект был
получен. Автор радуется негодованию, порожденному его
повестью, и с приятным чувством подстерегает гримасы на
лицах пациентов, проглотивших лекарство. Помнится, в
заведении на Берчин-лейн, где Соломоне имел честь
проходить курс наук, воспитанникам давали лекарство от
кашля, такое вкусное, что все наперебой старались
простудиться, чтобы попить его. Кое-кто из наших популярных
романистов изготовляет свои произведения по тому же
рецепту; содержащийся в них яд заключен в столь сладкую
Дунул господь (лат.).
373
оболочку, что читающая публика, некогда здоровая телом
и духом, ныне почти сплошь отравлена этим снадобьем. Но
вот уж о Соломонсе такого никто не скажет,— будто его
бальзамы согревают кровь, как шампанское, а его пилюли
сладки, точно ячменный сахар,— он всегда заботился о
том, чтобы порок пороком и выглядел; а если кой-когда
позволял ему прикидываться добродетелью, то лишь так,
чтобы подделка сразу бросалась в глаза и даже самый
неповоротливый ум не мог ее не обнаружить.
Каков же итог его стараний? А вот та самая
благотворная тошнота, которую ему посчастливилось вызвать у
своих, быть может, не столь уж многочисленных читателей.
Испытал ли кто хоть на полпенни ненужного
сочувствия к тому или иному лицу, выведенному в этой
повести? Уж, верно, нет. Но авторы, более одаренные и более
знаменитые, чем Соломоне, придерживаются другой
методы; и долг каждого собрата по ремеслу громко с ними
спорить и неустанно изобличать их ошибки.
Таковы были соображения, побудившие мистера
Айзека Соломонса-младшего написать повесть о миссис Кэт, и
он счастлив, что довел ее до конца. Скажут, что творение
его скучно,— что ж, может быть. А великий Блекмор,
великий Деннис, великий Спрат, великий Помфрет, не
говоря уж о великих сочинителях нашего времени,— разве
они не были скучными, хоть это и не мешало их славе?
Пусть так: Соломоне скучен, но не нападайте на его
нравственные принципы, которые он почтительнейше
предлагает вашему вниманию, повесть писана так, чтобы никто
не мог принять в ней порок за добродетель; чтобы и тень
сострадания или восхищения не закралась ни в чью грудь;
все здесь, от начала до конца — зрелище подлости и
мерзости человеческой, и добрые побуждения незнакомы
героям. И хоть автор и не помышляет сравниться с
упомянутыми великими современниками умом или же
изобразительной способностью, он берет на себя смелость
полагать, что в нравственном отношении стоит выше их; ибо
всей душой ненавидит собственных персонажей и все свои
скромные силы употребляет на то, чтобы и у читателя
вызвать отвращение к ним.
Хорсмонгер-лейн, январь, 1840.
В благородном семействе
Глава I
то примечательное время, когда
Людовик XVIII был вторично возведен на трон
своих отцов и все англичане, располагавшие
деньгами и досугом, ринулись на континент,
в Брюсселе проживала в пансионе
благородная молодая вдова, носившая изысканное
имя: миссис Уэлсли Макарти.
Вместе с вдовой, в том же доме и в одних с нею
комнатах, жила ее маменька — дама, именовавшаяся миссис
Крэб. Обе держались дамами общества. Крэбы были из
очень старой английской семьи, а Макарти, как известно
всему свету, принадлежали к древнему дворянству
графства Корк и состояли в родстве с Шини, Финниганами,
Кленси и другими знатными семействами Ирландии,
соседствовавшими с ними. Но поручик Уэлсли Мак, не имея
за душой ни шиллинга, сманил девицу Крэб,
располагавшую таким^е точно состоянием; и, прожив шесть
месяцев в браке со своей супругой, 18 июня 1815 года был
внезапно унесен болезнью, весьма распространенной в ту
славную пору,— артиллерийской смертоносной лихорадкой.
Он и еще много сот молодых ребят из его полка,
Волонтеров Клонакилти, были в тот день захвачены этой
эпидемией на некоем поле милях в десяти от Брюсселя и
погибли на месте. Супруга поручика сопровождала его на
континент и месяцев через пять после его смерти разрешилась
от бремени двумя прелестными младенцами женского пола.
К тому времени миссис Уэлсли успела помириться со
своею маменькой: у миссис Крэб не было других детей,
кроме ее беглой Джулианы, и, едва услышав о
бедственном положении дочки, мать полетела к ней. Да и то
сказать, было самое время, чтобы кто-нибудь приспел на
помощь молодой вдове: поскольку муж не оставил ей
никаких денег, ни денежных документов, кроме стопки счетов
щ
375
от портных и сапожников, аккуратно сложенных в его
письменном столе, бедной миссис Уэлсли впору было
умереть с голоду, если никто ей не окажет дружеской
поддержки.
Итак, миссис Крэб отправилась к дочери, которой
Шини, Финниганы и Кленси в согласном презрении
отказались чем-либо помочь. Дело в том, что мистер Крэб
служил когда-то дворецким у владетельного лорда, а его
супруга — горничной; и после смерти Крэба миссис Крэб
продала дилижансовую контору с харчевней под вывеской
«Баран», на которых ее покойный муж сколотил
капиталец, и с тремя тысячами фунтов за душой безбедно жила
в небольшом городке на благородный манер, когда поручик
Макарти пришел, увидел и сманил Джулиану. Для
великих Кленси или Финниганов было немыслимо признать
такое родство, и снова вдове Крэба пришлось делить с
дочерью свой скромный доход — сто двадцать фунтов
годовых.
В брюссельском пансионе они умудрялись вполне
прилично жить на это вдвоем и слыть почтенными дамами.
Близнецов, как это принято за границей, отдали
кормилице в ближнюю деревню, потому что миссис Макарти была
слишком слаба, чтобы кормить их грудью; а расщедриться
па такую роскошь, как домашняя кормилица, миссис Крэб
просто не могла.
Между матерью и дочерью в пору ее девичества шли
непрестанные ссоры и раздоры; и, сказать по правде,
миссис Крэб ничуть не огорчилась, когда ее Джули сбежала
с поручиком,— ибо старая дама умильно млела перед
любым джентльменом, и ей было очень лестно называться
матерью миссис Макарти, офицерской жены. Зачем
вообще понадобилось поручику сманивать свою невесту, когда
ему бы с радостью отдали ее и так,— не наша забота; и мы
не станем поднимать старые истории и деревенские
сплетни, уверявшие, что не поручик сманил девицу, а девица
сманила его,— поскольку ни автора, ни читателя это
отнюдь не касается.
Итак, помирившись, мать и дочь снова стали жить
вдвоем, теперь уже в Брюсселе. За год безутешное горе
миссис Макарти заметно смягчилось; и при своей
прирожденной великой любви к нарядам, довольно красивая и с
недурной фигурой, она без сожаленья отбросила траур и
стала появляться, одетая всегда к лицу и обновляя
туалеты так часто, как только позволяли ее средства и изобре-
376
тательность. В самом деле, принимая во внимание, как
были скромны средства, все со всех сторон твердили, что
миссис Крэб и ее дочь поразительно умеют соблюсти
достоинство — то есть умудряются иметь такой
респектабельный вид, как будто получают они, по крайней мере,
пятьсот фунтов в год; и в церкви, и в гостях на чашке чая, и
на улице выглядеть, что называется, благородными
дамами. Если дома они недоедали, этого никто не видел; если
крохоборничали, этого никто (хотелось бы надеяться) не
знал; если хвастались насчет своей родни и родовых
имений, кто мог уличить их во лжи? Так они жили, отчаянно
стараясь удержаться хотя бы на самом краю благородного
круга. Миссис Крэб, женщина с пониманием, относилась
вполне почтительно к более высокому рангу дочери; а
миссис Макарти не так часто, как прежде, ссорилась с
маменькой, от которой целиком зависела вместе с двумя
своими детьми.
Так обстояло дело, когда случилось одному молодому
англичанину, Джеймсу Ганыу, эсквайру,— из крупной
торговой компании по поставке гарного масла «Ганн, Блаббери
и Ганн» (как он спешил вас уведомить, едва вы провели
хотя бы час в его обществе),— случилось, говорю я, этому
самому Джеймсу Ганну, эсквайру, приехать на месяц в
Брюссель с целью усовершенствования во французском
языке; и на время пребывания в бельгийской столице он
поселился в том самом пансионе, где жили миссис Крэб
и ее дочь. Ганн был молод, слабоволен и легко
воспламенялся; он увидел миссис Макарти и пал к ее ногам; и она,
в те дни почти помолвленная с полковым
лекарем-шотландцем, старым толстяком на деревянной ноге,
безжалостно дала отставку доктору Мак-Линту и стала принимать
ухаживания мистера Ганна. Как молодой человек уладил
вопрос со старшим компаньоном, своим отцом, я не знаю;
но известно, что была ссора, а затем примирение; и еще
известно, что Джеймс Ганн дрался с лекарем на дуэли,
приняв на себя огонь эскулапа и послав свою пулю в
лазурь небес. В позднейшие годы мистер Ганн рассказывал
о сей исторической битве не менее, как девять тысяч раз;
это позволило ему пронести через всю свою жизнь славу
храбреца и снискать, как утверждал он с гордостью, руку
своей Джулианы, что, пожалуй, было довольно
сомнительным благом.
Но одну часть истории честный Джеймс если когда и
отваживался рассказать, то разве что чрезмерно распален-
377
ный гневом или хмелем. И вот в чем она заключалась: на
другой день после свадьбы — и в присутствии нескольких
друзей, пришедших с поздравлениями,— явилась мощная
кормилица с парой упитанных малюток на руках; и эти
розовые карапузы, при виде миссис Джеймс Ганн,
потянулись к ней, нежно щебеча: «Maman! Maman!» l — на что
новобрачная, залившись пунцовым румянцем, сказала:
«Джеймс, эти две крошки — твои»,— и бедный Джеймс
едва не упал в обморок под тяжестью вдруг взваленного
на него отцовства. «Дети! — простонал он в ужасе.— Чьи
дети?» — на что миссис Крэб, величественно его перебив,
объявила: «Эти малютки, дорогой мой Джеймс,— дочери
благородного и храброго поручика Макарти, чью вдову вы
вчера пред алтарем назвали своею женой. Будьте же
счастливы с нею, а этим милым деткам, благослови их господь
(слезы), я пожелаю найти в вас отца, который заменит им
того, кто пал на поле славы!»
Миссис Крэб, миссис Джеймс Ганн, миссис Лолли,
майорша, миссис Пифлер и прочие присутствующие
дамы — все тут же пустили слезы; и Джеймс Ганн, добрый
и мягкосердечный человек, совсем опешил. Наспех
поцеловав жену, он принес торжественную клятву, что будет
печься о малютках, и попробовал поцеловать их тоже, но
милые крошки отклонили ласку, громко заревев. С той
минуты участь Ганна была решена; и в дальнейшем он так
до конца и жил под башмаком у жены, да и у тещи, покуда
та не померла. Надо сказать, хитроумный план утаить
детей принадлежал миссис Крэб; и когда дочка невинно
предлагала забрать или навестить близнецов, старуха
строго указывала на неразумие таких затей: ведь это могло 6si
отпугнуть мистера Ганна от приманчивой ловушки брака,
в которую тот (везет же иному!) давал себя завлечь.
Вскоре после свадьбы счастливая чета вернулась в
Англию и обосновалась в Сити, в особняке на Темз-стрит, где
и прожила вплоть до смерти Ганна-старшего, когда его
сын, став главою «Торгового дома Ганн и Блаббери»,
покинул скучные окрестности Биллингсгетского рынка и,
поселившись в Патни, зажил здесь настоящим джентльменом:
приличная обстановка, две-три спальни для гостей,
отличный погреб и элегантный кабриолет — для поездок в город
и обратно. Миссис Ганн, понятное дело, обращалась с ним
пренебрежительно, называла пьяным болваном и ругатель-
Мама! Мама! (франц.)
378
ски ругала всех собутыльников, каких он привозил с собою
в Патни. Честный Джеймс покорно выслушивал ее,
соглашался, а назавтра притаскивал парочку новых
приятелей — похвастаться своим портвейном и распить с ними
привычное число бутылок. Об эту пору жена родила ему
дочь — Каролину Бранденбург Ганн, названную так по
большому замку под Хэммерсмитом и некоей обиженной
королеве, которая там проживала, когда девочка родилась
на свет, и которой участливо покровительствовали миссис
Джеймс Ганн и другие дамы общества. В те годы миссис
Джеймс была действительно дамой и устраивала приемы
по первейшему разряду.
К этому времени миссис Джеймс Ганн поместила двух
близнецов Уэлсли Макарти — Розалинду Кленси и
Изабеллу Финниган — в пансион для благородных девиц и сильно
ворчала по поводу слишком высокой платы за обучение,
которую раз в полгода приходилось вносить за них ее
мужу; и хотя Джеймс оплачивал счета со свойственным
ему благодушием, его супруга была теперь невысокого
мнения о своих малютках. Они не могут ожидать, говорила
она, никакого капитала от мистера Ганна, и ее удивляет,
с чего это ее супругу вздумалось помещать их в такой
дорогой пансион, когда у него есть своя родная прелестная
крошка, для которой он просто обязан копить все те
деньги, какие может отложить.
Бабушка тоже души не чаяла в маленькой Каролине
Бранденбург и обещала оставить милой крошке свои три
тысячи фунтов, ибо именно так заведено на свете
выказывать почтение к сему наиболее почитаемому предмету —
материальному процветанию. Кому в этой жизни достаются
улыбки, и дружеские услуги, и приятные наследства?
Богатым. И я, со своей стороны, очень хотел бы, чтобы кто-
нибудь отказал мне хоть самую малость — ну, скажем,
двадцать тысяч фунтов,— потому что я совершенно уверен,
что тогда кто-нибудь другой тоже что-нибудь мне завещает
и что я сойду в могилу обладателем капитала в круглую
сотенку тысяч.
У маленькой Каролины была своя служанка, своя
просторная и светлая детская, свой маленький экипаж для
выезда, виды на бабушкины процентные бумаги и
неоценимое сокровище — безраздельная любовь ее маменьки.
Ганн тоже искренне ее любил — на свой лад; однако же он
решил, что и дадчерицы получат после его смерти щедрое
наследство/но — о, если бы не это вечное НО!
379
Ганн и Блаббери, как читателю известно, вели
торговлю гарным маслом. Их прибыли зависели от подрядов на
освещение многих улиц Лондона; а к этому времени вошел
в употребление светильный газ. «Газета» объявила, что
Ганн и Блаббери прекращают платежи; и я, как это ни
печально, должен сообщить: Блаббери так дурно вел дело,
так были расточительны оба компаньона и их супруги, что
кредиторы фирмы получили после конкурса всего лишь
четырнадцать с половиной пенсов за фунт.
Когда миссис Крэб услышала об этом страшном
происшествии — миссис Крэб, которая три дня в неделю
обедала у зятя, которой нипочем бы не открыли доступ в дом,
если бы бедняга Джеймс не встал со своим благодушием
между ней и ее задиристой дочерью,— миссис Крэб, говорю
я, объявила Джеймса Ганна мошенником и негодяем,
бесчестным и грубым пьянчугой и переписала свое завещание
на девиц Макарти—Розалинду Кленси и Изабеллу Фин-
нинган, не оставив бедной маленькой Каролине ни пенса.
Половина из полутора тысяч фунтов, назначенных каждой
из них, подлежала выплате по выходе замуж, вторая
половина — после смерти миссис Джеймс Ганн,
которая должна была пожизненно пользоваться процентами
с нее. Так на этом свете мы возносимся и падаем — так
фортуна быстро машет крылами своими и внезапно
заставляет нас вернуть полученные от нее дары (или, вернее,
ссуды).
Как жили Ганн со своею семьей после постигшего их
удара судьбы, я не знаю; но заметим: когда незадачливый
купец обанкротился, он, пока идет конкурс и еще
несколько месяцев после того, обычно сохраняет некие
таинственные средства существования — обломки крушения его
капитала, за которые ему удалось уцепиться и с их помощью
держаться на поверхности. Пока он ютился в какой-то дыре
в Ламбете, где жена так терзала беднягу, что ему
оставалось только искать прибежища в кабаке, миссис Крэб
умерла; таким образом, сто фунтов в год поступили в
распоряжение миссис Ганн. Да еще пришли на помощь кое-кто
из друзей Джеймса, полагавших, что в годы процветания
он показал себя хорошим парнем: они сообща сняли дом,
обставили и, поселив его там, заходили проведать его и
утешить. Потом они стали наведываться реже; потом
решили, что миссис Ганн страшный тиран и вдобавок дура;
потом их жены, в свой черед, объявили ее невыносимой, а
его — грязным пьяницей, и мужья только покачивали гот
380
ловой и не могли не согласиться, что обвинение
справедливо. Потом они и вовсе перестали наведываться; потому что
так уж повелось на свете: многие из нас не чужды добрых
побуждений, и мы при случае бываем щедры, а затем
чужая нужда наскучит нам и начнет нас сердить своей
назойливостью,—нас прямо-таки злит, что желудок изо дня в
день требует пищи, снова и снова, и голодное
существование представляется нам бесстыдно неразумным. У Ганна,
стало быть, была в то время жена — благородная дама,
были дети, дом с полной обстановкой и сотня в год доходу.
Как же он должен был жить? Супруга Джеймса Ганна,
эсквайра, не позволяла ему унизиться до того, чтобы взять
место клерка; и Джеймс, из лентяев лентяй, был рад
примириться с таким ее решением и ждать, когда ему
представится возможность заняться чем-нибудь более
приличествующим джентльмену. Можно бы составить
прелюбопытный список такого рода занятий, когда бы автор склонен
был распространяться об этом предмете: занятий, при
которых человек сохраняет жалкую претензию на
принадлежность к благородному кругу и постоянно с упоением
говорит о своем «положении в обществе» и внушает себе, что
он и в самом деле зарабатывает свой хлеб.
Сколько их, дам из разорившихся семейств, снимают
большие квартиры и пускают в комнаты жильцов! Не
такими ли хозяйками содержатся бесчисленные «пансионы с
избранным музыкальным обществом близ фешенебельных
кварталов»? И не их ли мужья, достойные джентльмены,
каждое утро выходят из такого пансиона и направляются
в Сити — или делают вид, что направляются туда — по
некоему таинственному делу, которое они ведут? Время
шло, и миссис Джеймс Ганн стала содержательницей
меблированных комнат со столом (по ее выражению «приняла
в семью двух-трех нахлебников»), а мистер Ганн завел
таинственное «дело».
В 1835 году, когда начинается наш рассказ, в городе
Маргете на невзрачной улочке стоял дом, где на двери, на
блестящей медной дощечке, можно было прочитать имя
мистера Ганна. Начищать каждое утро медную дощечку,
равно как по возможности обслуживать мистера Ганна, его
семью и его жильцов, вменялось в обязанность чумазой
девчонке, их единственной прислуге; и поскольку дом стоял
не слишком далеко от моря и, забравшись на крышу, вы
могли в просвете между дымовыми трубами зреть пред
собой сию великую стихию, миссис Ганн именовала пан-
381
сион фешенебельным; и на ее рекламных картах
значилось, что из дома открывается «прекрасный вид на море».
На зарешеченном окне приемной было написано
крупными буквами слово «КОНТОРА»; здесь мистер Ганн
и отправлял свою службу. Он очень изменился, бедняга, и
смотрел приниженным. Два плаката, вывешенные за
решетками окна, дают мне право заключить, что он не почел
для себя унизительным сделаться агентом компании
«Имбирный лимонад, Лондон — Ямайка», а заодно и по
распространению знаменитой смеси «Гастеровский Фариначо для
младенцев, или Здоровая замена материнского молока»;
черный, отсыревший, заплесневелый полуфунтовый пакет
этой смеси неизменно стоял на одном конце каминной
полки в конторе, тогда как другой ее конец занимала
засиженная мухами бутылка лимонада. Больше ничто не
указывало на то, что эта просторная комната в первом этаже
была конторой,— если не считать громадной черной
чернильницы с торчащим в ней тупым пером, на кончике
которого толстой коркой насохли чернила: оно, как видно,
месяцами вкушало покой.
Вы могли видеть, как в это помещение ежедневно, в два
часа пополудни, employe ! из соседней гостиницы приносит
две кварты пива; и если случалось вам зайти в этот час,
вас обдавало из «конторы» мощными парами и запахами
обеда, и вы спотыкались на пороге о кучу побитых
жестяных судков, раскрывших на вас свою пасть. Так этот
верный оплот благородства — обычай обедать в шесть
часов — оказался сокрушен; и отсюда читатель может
заключить, что дом Ганна находился в состоянии духовного
упадка.
Сам Ганн — несомненно. Бывало, когда дамы удалятся
в гостиную (хоть и окнами во двор, она благодаря желтым
тюлевым занавескам, гардинам, небольшому
полированному роялю и альбому на столе еще имела достаточно
респектабельный вид), Ганн оставался в конторе — вершить
дела. Вершились они в присутствии друзей и обычно
заключались в том, что из углового шкафа извлекалась
бутылка джина, а то и un litre2 бренди, причем Ганн хитро
подмигивал и приставлял толстый палец к красному
лоснящемуся носу; если же миссис Г. уходила из дому, Джеймо
выкладывал вдобавок целый набор трубок, вследствие чего
1 Официант (франц.).
2 Здесь: литровую бутылку (франц.).
382
эта комната и была пропитана неистребимым ароматом
дешевого табака.
Сказать по правде, мистер Ганн с утра до ночи ровно
ничего не делал. Это был теперь грузный лысый мужчина
пятидесяти лет; по будням он ходил неряшливым
франтом: шалевый жилет, эспаньолка на широком двойном
подбородке, брыжи в табачных крошках, огромная булавка на
груди и набор брелоков; он завел себе форменный флотский
сюртук с большими перламутровыми пуговицами и всегда
носил через плечо громоздкую и гремучую подзорную
трубу, с которой часами расхаживал по набережной или молу
и смотрел на корабли, на купальные колясочки, на учениц
женских школ, гулявших парами по эспланаде, и на все,
за чем только можно наблюдать в подзорную трубу. Он
знал всех, кто имел хоть какое-то отношение к почтовым
каретам, ходившим из Дила в Дувр и обратно, и в течение
дня непременно бывал свидетелем прибытия или отбытия
не одной из них: перекинется словечком с конюхом насчет
его «норовистой серой кобылы» и удостоит легким кивком
«стрелка» (то есть форейтора), а почтаря поклоном; с ними
он мог бесплатно отправить в город пакет, раза два ему
случалось затащить к себе сэра Лети-Кувырк (почтенного
возницу легкой четырехместной экстренной почтовой
кареты) , о чем он вам рассказывал, неизменно добавляя, что
кое-кто из компании при этом изрядно нагрузился. Сам он
не наведывался в большие гостиницы; зато знал о каждом,
кто приехал туда или уехал; и был большим человеком в
«Сумке Подмастерья» и в «Сороке и Кубке», где являлся
председателем клуба; пел басовую партию в «Минхере Ван
Данке», «Волке» и других хоровых песнях и ездил на
пароходе до Лондона и обратно так часто, как хотел,
безвозмездно получая на борту «свой харч». Таков он был,
Джеймс Ганн. Иные, когда писали ему, именовали его
«Джеймс Ганн, эсквайр».
Превратность судьбы и былой их блеск — об этом
почтенный Ганн и вся его семья не уставали говорить; и
следует отметить, что для людей известных наклонностей
такого рода материальные, как их называют, беды вовсе не
являются бедой, а напротив того — доподлинной удачей.
Ганн, например, пока «Торговый дом Ганн и Блаббери»
не прекратил своего существования, пил по преимуществу
портвейн и бордо, ныне же вынужден был перейти на
бренди и джин. А их он любил в сто раз больше, чем вино; да
383
еще мог теперь рассуждать о винах и ставить себе в
великую заслугу, что отказался от них. К тому же тогда, в дни
процветания, ему как джентльмену было не к лицу
заглядывать в кабаки, где теперь он был завсегдатаем; зала
таверны, песок на ее полу доставляли Ганну наивысшее
удовольствие. Раньше он вынужден был проводить
ежедневно долгие часы в темной, неуютной конторе на Темз-
стрит; а Ганн терпеть не мог заниматься книгами
и делами — разве что чужими. Вкусы у него были
низменные: он любил кабацкие шутки, кабацкую компанию; а
теперь, после разорения, его в упомянутых нами «Сумке
Подмастерья» и в «Сороке» почитали отличным малым,
настоящим джентльменом, тогда как в Патни он слыл
среди своих светских приятелей заурядным пошляком. Видно,
иному так уж на роду написано — потерпеть крушение и
только выиграть на том.
Да и Джули, или «миссис Г.», как чаще называл ее
муж, тоже немало выгадала на своих потерях. Она самым
беспардонным образом хвасталась теперь своими былыми
знакомствами; послушать ее, так она была принята в
лучших домах и состояла в родстве с доброй половиной высшей
знати. Главным ее занятием стало глотать лекарства да
чинить и лицевать свои платья. Она всегда питала
пристрастие к дешевой роскоши, любила лотереи, и
приглашения на чашку чая, и прогулки по набережной, где порхала
вместе с дочками беззаботным мотыльком. Она не роняла
своего сословного достоинства, не упускала случая
напомнить своим нахлебникам, что она «из благородных», и
очень грубо обращалась со служанкой Бекки и бедняжкой
Карри, своею младшей дочкой.
Потому что прилив сменяется отливом, и теперь вся
нежность материнского сердца изливалась на «барышень
Уэлсли Макарти», как раньше, во дни процветания в
Патни, изливалась на Каролину. Миссис Ганн чтила и любила
своих старших дочерей, высокородных наследниц полутора
тысяч фунтов, и презирала нищенку Каролину, равно
презираемую (как Золушка в самой чудесной из сказок) четой
своих спесивых и бессердечных сестер. Это были рослые,
статные, чернобровые девицы, беззастенчивые, бойкие,
пышущие здоровьем и весельем. Каролина же — бледная и
тоненькая, белокурая, с кроткими серыми глазами.
Незаметная в своем затрапезном ситцевом платьице, она никому
не представлялась красавицей; тогда как две старшие
сестры в пышном пестром муслине, в розовых шарфах и в ис-
384
кусственных цветах, в золоченых ferronnieres l и прочих
побрякушках, в кругу Ганнов были провозглашены
настоящими леди, очень воспитанными и прелестными. У них
были пунцовые щеки, белые плечи; лоснящиеся локоны
громоздились в изобилии над их сияющими лбами, черные
и скользкие, точно пиявки. Такие чары, сударыня моя, не
могут не возыметь своего действия; и для Каролины было
счастьем, что она не обладала ими, так как иначе она
могла бы вырасти такою же тщеславной, легкомысленной
и вульгарной, как эти девицы.
Покуда те всячески развлекались или сидели за чайным
столом где-нибудь в гостях, обычным уделом Карри было
оставаться дома и помогать служанке в бесчисленных
работах, какие требовались в заведении миссис Ганн. Она
помогала одеваться маменьке и сестрицам, подавала
папеньке чай в постель, предъявляла счета нахлебникам,
принимала на себя их брань, если это были дамы, и
нередко подсобляла на кухне, когда нужно было что-нибудь
испечь или состряпать в добавление к обычному меню.
К двум часам ей полагалось приодеться к обеду, а в долгие
вечера, покуда старшие девицы бренчали на рояле, мамаша
возлежала на диване, а Ганн посапывал над стаканом в
своем кабаке, Карри занималась нескончаемой штопкой
и починкой на всю семью. И впрямь, тяжелый жребий
выпал тебе, бедняжка*Каролина! После светлых дней
твоего детства ни единого радостного часа — ни дружбы, ни
веселых игр в кругу подруг, ни материнской любви; потому
что, когда умерла материнская любовь, те родственные
чувства со стороны остальных, которые она за собой
влечет, тоже увяли и умерли. Во всей семье только Джеймс
Ганн смотрел на дочь добрыми глазами и обращался к ней
порой со словом грубоватой ласки. Каролина, однако, не
жаловалась, не проливала бесконечных слез, не призывала
смерть, как могло бы это быть, если бы она росла в более
изысканном кругу. Бедная девушка не отдавала себе
отчета, в каком положении она находится; она несла свое
горе молча и терпеливо; ведь это было то же горе, какое
несут в нашем обществе тысячи и тысячи женщин, и
чахнут от него, и умирают; оно слагается из нескончаемого
мелкого тиранства, долгого пренебрежения и злобной
надоедливой придирчивости, сносить его труднее, чем
любые муки, из-за каких мы, представители сильного
1 Диадемах (франц.).
^ У. Теккерей, т. 1
385
вола, готовы вопить: «Ai, ai!» l В нашем общении со светом
(проводимом с той сердечностью, какую нам являют в
комедии сэр Гарри со своей супругой — двое крашеных
умильных глупцов, твердящих фразы, выученные по книге),
когда мы сидим и смотрим на улыбающихся актеров, мы
время от времени бросаем взгляд за кулисы,— как же она
жалка, открывающаяся при этом человеческая природа!
Особенно в женщинах, которые тем более склонны к
обману, что им больше надобно скрывать, так как они больше
чувствуют, больше живут, нежели мы, мужчины, имеющие
свое дело, свои удовольствия и честолюбивые устремления,
уводящие нас из дому. Нам достаются на долю так
называемые большие удары судьбы, им же — мелкие несчастья.
Покуда мужчина размышляет, работает, сражается на
стороне, домашние невзгоды падают на женпщну; и эти
маленькие горести так тяжки, настолько они злей и
горше, чем большие, что я бы не поменялся своим
положением — нипочем не поменялся! — ни с Еленой Троянской,
ни с королевою Елизаветой или миссис Кутс, ни с самой
счастливой женщиной, какую знает история.
Вот так, описанным нами образом, и жило семейство
Ганна. Мистеру Ганну жилось только лучше, благодаря
его «несчастью», супруге его — лишь немногим хуже; две
девицы значительно выгадали в новых обстоятельствах,
переместивших их в то общество, где наследство в три тысячи
фунтов делало их богатыми невестами; а бедная маленькая
Каролина была нисколько не счастливей любого
несчастливого создания на земле. Лучше остаться одной на свете,
совсем без друзей, чем иметь притворных друзей и не
встречать в них сочувствия; иметь близких, с которыми
вас соединяет не родство, а труп родства, обязывая вас
нести через всю вашу жизнь тяготы и путы этой бездушной,
холодной близости,
Я не хочу сказать, что Каролине могла бы прийти в
голову такая метафора или что она хоть подозревала, как
омерзительны узы, которые вяжут ее с маменькой и
сестрами. Она чувствовала, что ею помыкают и что она
одинока; но это не делало ее завистливой, а только
приниженной и угнетенной, порождало желание не столько
противиться несправедливости, сколько терпеливо ее сносить.
Она едва осмеливалась сама об этом подумать. Унижения
и тиранство заменяли ей воспитание и выработали в ней
1 Горе, горе! (греч.)
386
манеру поведения, удивительно мягкую и спокойную.
Странно было видеть, что в такой семье выросла такая
девушка; соседи отзывались о ней с пренебрежительным
сочувствием: «Бедная дурочка,— говорили они,— она и
мухи не обидит». Но для меня это вернейший признак
благородства, если чернь смотрит на тебя вот так
свысока.
Не надо думать, что старшие сестры, девицы на
возрасте, никогда не получали предложения руки и сердца:
получали, конечно, не раз; и не раз бывали пылко
влюблены. Но ряд несчастных обстоятельств вынудил их
остаться до сей поры в девичестве. Так, к Розалинде посватался
некий адвокат; но, узнав, что она получит сразу после
свадьбы не все полторы тысячи фунтов, а только семьсот
пятьдесят, злодей безжалостно от нее отступился, не
посмотрев на ее красоту. И еще был сражен ее чарами некий
аптекарь; но урожденной Уэлсли Макарти было б не к лицу
жить при магазине, и она выжидала чего-нибудь получше.
Лейтенант Своббер, когда слуя&ш во флоте береговой
охраны, два месяца квартировал у Ганнов; и если писем,
долгих прогулок и пересудов на весь город достаточно,
чтобы сладить брак, то брак между ним и Изабеллой должен
был состояться. Все же Изабелла оставалась незамужней;
а лейтенант, став полковником в Испании, как видно, забыл
и думать о ней. Она между тем нашла утешителя в лице
веселого молодого виноторговца, который незадолго перед
тем поселился в Брайтоне, держал кабриолет, выезжал на
псовую охоту и был, по общему мнению, очень мил —
настоящий джентльмен! И был еще некий французский
маркиз с самыми изящными черными усиками — он
запечатлел глубокий след на сердце Розалинды,
повстречавшись с ней однажды в библиотеке, после чего по целому
ряду самых удивительных случайностей каждый день
попадался ей на пути, когда она прохаживалась с сестрой
по молу.
Между тем кроткая маленькая Каролина, сколько ее ни
затаптывали, росла и расцветала. Бледненькая, худенькая,
в веснушках и бедно одетая, она все же не лишена была
прелести, которую иные предпочли бы дешевому блеску
и грубой пунцово-белой красоте барышень Макарти. Мы
как раз подошли к той поре ее жизни, когда Каролина,
к удивлению маменьки и сестер и к полному удовольствию
Джеймса Ганна, эсквайра, зажгла страсть в груди очень
достойного молодого человека.
13*
387
Глава II
Как миссис Гани заполучила двух жильцов
Шел зимний сезон, когда произошли события, о
которых рассказывает наша повесть; и так как в эту пору ни
один из тысячи пансионов Маргета не имеет постояльцев,
миссис Ганн, обычно вынужденная в безрадостный этот
сезон занимать сама и первый, и второй, и третий этажи
своего заведения, посчитала себя необыкновенной
счастливицей, когда стечение обстоятельств привело в ее дом не
одного, а даже двух жильцов.
Появлением первого нахлебника она была обязана
своим дочкам. Когда эти две девицы в один прекрасный день
прохаживались по своей улице, вспоминая радости
последнего сезона, и лотерею-аллегри, и вечеринки с пением при
библиотеках, и упоительное веселье балов в Воксхолле, они
попались на глаза и, как видно, приглянулись одному
молодому джентльмену, который брел не спеша по улице.
Он поглядел на них, и, надо сказать, девицы тоже
поглядели на него, сунулись головами друг дружке под
шляпку, и захихикали, и сказали: «Боже!» — и потом
остановили на молодом джентльмене твердый взгляд. Глаза у них
были черные, щеки ярко-красные. Вообразите же, как
забились сердца у мисс Беллы и мисс Линды, когда
джентльмен, выпустив монокль из глаза, так-таки перешел на их
тротуар и сказал:
— Милые дамы, мне нужно снять себе комнаты, и я
был бы очень рад посмотреть те, что сдаются, как я вижу,
в вашем доме.
«По какому волшебству он догадался, что это наш
дом?» —- подумали Белла и Линда (они всегда думали
заодно). Да по тому простому признаку, что мисс Белла
только что вставила ключ в дверной замок.
Как горько пожалела миссис Джеймс Ганн, что на ней
не было ее лучшего платья, когда приезжий — приезжий
в феврале месяце! — зашел в ее дом смотреть комнаты.
Она, однако, постаралась возместить небрежность своего
наряда достоинством осанки; спросила джентльмена, кто
может его порекомендовать, объяснила ему, что сама она —
благородная дама, так что в ее пансионе он будет
располагать большими преимуществами; и в конце концов
согласилась принять его в дом за двадцать шиллингов в
неделю. Блестящие глазки молодых девиц помогли сладить
388
дело; но миссис Джеймс Ганн по сей день убеждена, что
только редкое достоинство ее манеры и бойкость
похвальбы своими семейными связями привлекали в ее дом сотни
жильцов, которые без нее никогда бы сюда не наведались.
— Джентльмены,— сказал в тот же вечер мистер
Джеймс Ганн в «Сумке Подмастерья»,—- у нас новый
жилец, и я ставлю всем по стакану — выпить за его здоровье.
Новый жилец, ничем не примечательный, кроме очень
черных глаз, изжелта-бледного лица да обыкновения до
полудня валяться в постели, покуривая сигару, назвался
Джорджем Брэндоном, эсквайром. Что касается его нрава
и привычек, так на покорнейшую просьбу миссис Ганн
заплатить вперед он рассмеялся и протянул ей банкнот; он
никогда не вступал в спор по поводу ее счетов, много гулял
и съедал по две бараньих отбивных per diem l.
Благородным девицам, всегда просматривавшим, как это в обычае
у благородных девиц, все ящики и письма жильцов, не
удалось обнаружить ни одного документа касательно их
нового нахлебника, кроме счета из харчевни «Альбион»,
означенного именем Джорджа Брэндона, эсквайра. Все
прочие бумаги, которые могли бы пролить свет на его
биографию, хранились под хитрым запором в брамовской
шкатулке, равным образом отмеченной инициалами Д. Б.
И хотя всего этого маловато, чтобы судить о человеке, было
в мистере Брэндоне нечто такое, что позволило дамам в
доме миссис Ганн дружно провозгласить его истинным
джентльменом.
Я счастлив сообщить вам, что при таких
обстоятельствах мисс Розалинда и мисс Изабелла имели обыкновение
очень часто наведываться в апартаменты жильца, то неся
забытую к завтраку салфетку, то со стыдливым румянцем
подавая недельный счет — потому что, говорили они,
извиняясь, мамы нет дома, и добавляли, что джентльмену,
они надеются, «все пришлось по вкусу».
Обе мисс Уэлсли Макарти пользовались каждым
случаем навестить таким порядком мистера Брэндона, и тот
принимал обеих с такой очаровательной свободой
обращения, поистине джентльменской, разглядывая их с головы
до пят по всем статьям и так серьезно останавливая на их
лицах свои большие черные глаза, что девицы, ярко
вспыхнув, отворачивались — в крайнем смущении и все же
польщенные, а после вели о нем долгие разговоры.
1 В день (лат.).
389
— Боже мой, Белл,— скажет мисс Розалинда,— что за
тип этот Брэндон! Мне он, право, ну совсем не нравится! —
А уж большего комплимента мужчине женщина сделать
не может.
— Мне тоже нисколечко,— ответит Белл.— Он смотрит
так в упор и такие вещи говорит! Только что, когда Бекки
принесла ему бумагу и сургучи — глупая девчонка
принесла и черный и красный, так я взяла их у нее, чтобы
спросить, какой ему нужен,— и как вы думаете, что он сказал?
— Да, дорогая, что же? — вмешалась миссис Ганн.
— «Мисс Белл,— говорит он, глядя мне в лицо,— и
какими глазами! — Я возьму оба: красный, потому что он,
как ваши губки; и черный, потому что он, как ваши
волосы; и еще атласную бумагу — потому что она, как ваша
кожа!» Как любезно — как по-джентльменски!
— Подумать только! — воскликнула миссис Ганн.
— Нет, честное слово, по-моему, это грубо! —
возмутилась мисс Линда,— Если бы он сказал это мне, я бы дала
ему пощечину за такую наглость! — И Линда десять минут
спустя пошла к нему в комнату — проверить, посмеет ли
он сказать и ей что-нибудь такое. Что сказал ей мистер
Брэндон, я так и не узнал; но муки зависти; побудившей
мисс Линду резко осадить сестру, уступили место
приятному расположению духа, и она предоставила Белле
говорить о новом нахлебнике, сколько ей будет угодно.
А теперь, если читателю не терпится узнать, что
представлял собою мистер Брэндон, то пусть он прочтет его
нижеследующее письмо. Оно адресовано было не более и
не менее, как некоему виконту; и с нарочитой
небрежностью было отдано в руки Бекки, служанки, чтобы та
снесла его на почту. Бекки же, перед тем как исполнять
такие поручения, всегда показывала письма своей хозяйке
или одной из барышень (не надо думать, что мисс
Каролина была на этот счет хоть чуточку менее любопытна, чем
ее сестры); и когда наши дамы увидели на конверте имя
его сиятельства виконта Синкбарза, их почтение к жильцу
еще возросло против прежнего.
«Маргет, февраль 1835 г.
Мой дорогой виконт!
По своей особой причине я, приехав в Маргет, со всей
торжественностью объявил господам из «Белого Оленя»,
что моя фамилия — Брэндон, и до конца своего пребыва-
390
ния здесь намерен носить это почтенное прозвание. По той
же причине (я не тщеславен и люблю творить добрые дела
втайне) я немедленно выехал из гостиницы и живу теперь
в домашнем пансионе, скромном и за скромную плату.
Здесь я, слава богу, в одиночестве. Общества в этом Танете
у меня не больше, чем было у Робинзона Крузо на его
острове. Зато я вволю сплю, ничего не делаю и много гуляю —
молча, по берегу шумного моря, как жрец Аполлона
Калхас.
Дело в том, что, покуда гнев моего папаши не улегся,
я должен жить тихо и смиренно, и денег в моем
распоряжении едва хватает даже на те небольшие расходы, какие
мне приходится нести в этом месте, где много приезжих
и в кредит ничего не получишь. Поэтому, если мои друзья
в Лондоне и Оксфорде, такие, как мистер Снипсон, %порт-
ной, мистер Джексон, сапожник, честный Соломонсон,
учетчик векселей и прочие в том же роде, станут
справляться обо мне, я попрошу Вас отвечать им, что я в
настоящее время нахожусь в городе Мюнхене в Баварии
и не вернусь оттуда, пока не обвенчаюсь с мисс Голд-
мор, богатой индийской наследницей, которая —
поверьте слову джентльмена — только и ждет моего
предложения.
Знаю, ни на чем другом мой почтенный отец не
примирится, ибо должен Вам признаться, я и так уже выкачал
немало денег из его кошелька, и старик дал великую и
нерушимую клятву не давать мне больше ни гроша, если
этот брак не состоится. И он состоится непременно. Я не
умею работать, не умею голодать и не умею жить меньше,
чем на тысячу фунтов в год.
Здесь, конечно, расходы не так уж велики: прилагаю
поданный мне недельный счет — читайте и
просвещайтесь:
Джорджу Брэндону, эсквайру,
от миссис Джеймс Ганн
фунт. шилл. пенс.
Комната за неделю 1 О О
Завтраки, сливки, яйца О 9 О
Обеды A4 бараньих отбивных) О 10 6
Отопление, чистка башмаков и пр. . . . 0 3 6
2 фунта 3 шилл. 0 п.
Уплачено: Джулиана Ганн.
391
Джулиана Ганн! Ну не прелестное ли имя?
Размахнулось на полстраницы. А поглядели бы Вы на его
носительницу, друг мой! Я люблю во всех странах изучать обычаи
туземцев, и, честное слово, есть варвары в нашей родной
стране, менее знакомые нам и больше заслуживающие
знакомства, чем готтентоты, дикие ирландцы, отахеитяне и
другие подобные дикари. И до чего же она важничает, эта
дама! Если бы Вы только видели ее румяна, ленты, кольца
и прочую женскую мишуру; если бы послушали, как она
пускается в воспоминания о былых временах, когда они
с мистером Ганном «вращались в самых благородных
кругах»; о пэрах Англии, которых она знает всех наперечет;
и о модных романах, каждое слово которых она принимает
на веру,— о, Вы бы возгордились Вашим титулом и
умилились бы глубоким почтением, какое выказывает к нему 1а
canaille l. Эта баба заткнет за пояс всех старых сплетниц —
даже нашего наставника в Крайст-Черче.
При ней имеется супруг — мистер Ганн: толстый,
оплывший старик в сюртуке грубого сукна. Он как-то
встретился со мной и спросил, осклабясь, по вкусу ли мне
мои бараньи котлетки? Еще насмехается, подлец! А что я
могу есть в таком месте, кроме бараньих котлет?
Толстенный, сочащийся кровью бифштекс или мерзкое подгорелое
gigot а Геаи2 с подливой из репы? Да я от них умру на
месте. Что касается рыбы, так в приморских городах я к
ней и не притрагиваюсь: тут она наверняка дрянная. И не
люблю домашнюю птицу, тощую, жилистую мелкоту —
не цыплята, а сплошной обман. Остаются одни котлеты;
мне их довольно прилично жарит состоящая при семье
тихая, маленькая компаньонка (о боги, компаньонка при
такой семье!), которая густо покраснела, признавшись,
что блюдо приготовлено ею и что зовут ее Каролиной.
В смысле питья я снизошел до джина, выпиваю его
две рюмки в день, разбавляя в двух стаканах холодной
воды; это единственное, что можно пить в простом
английском доме с уверенностью, что напиток не
поддельный.
У этого Ганна, по-моему, те же вкусы: я иногда слышу,
как в полночь он шаркает по лестнице (грязные башмаки
он оставляет внизу) — шаркает, говорю я, вверх по
лестнице, ругмя ругает подсвечник, роняя то щипцы, то колпа-
1 Сброд, чернь (франц.),
2 Тушеный бараний или козий окорок (франц.).
392
чок, и «дерзким шумом нарушает молчанье ночи». Не
реже, как три раза в неделю, Ганну подают завтрак в
постель,— верный знак, что накануне он напился пьян; и
три раза в неделю я слышу поутру хриплый голос, орущий:
«Где моя содовая!» Давно ли всякая мразь научилась пить
содовую?
В девять миссис Ганн с дочерьми обычно завтракают;
обе девицы, поистине красотки, пользуются здесь, как я
слышал, большим успехом. Эти милые создания то и дело
наносят мне визиты — визит с чайником, визит с газетой
(одна приносит, другая приходит забрать); но по пятам за
одной непременно появляется другая, так что нет
возможности показать себя тем славным, веселым
соблазнителем, каким Вы меня знали всегда, и дома и на
континенте. Помните cette chere marquise l в нашем милом По?
От той проклятой пули из супружеского пистолета у меня
до сих пор иногда зверски болит плечо. А помните Бетти
Банди, дочку мясника? Мы дураки из дураков, что
сходим с ума по таким женщинам и очертя голову пускаем
в ход все средства — клятвы, посулы, мольбы, долгое
скучное ухаживание,— а ради чего? Право же, ради тщеславия,
и только! Когда сражение выиграно, погляди, что ты
получил? Бетти Банди — грубая деревенская девчонка; а
cette belle marquise2 — старая, румянится и носит
фальшивые волосы. Vanitas vanitatum3. Ox, рано или поздно я
стану самым строгим моралистом!
Я тут встретил одного старого знакомого, который
поселился (чтоб ему провалиться!) в этом же доме.
Помните, в Риме был молодой художник по имени Фитч,
красивый бородатый олух, из-за которого эта сумасбродка,
миссис Каррикфергус, и вовсе свихнулась с ума? Так вот, на
третьем этаже у миссис Ганн живет сейчас этот юнец. Его
борода собирает вокруг него на улице толпу gamins; 4 его
великолепные в позументах сюртуки несколько
пообтрепались; и у бедного малого, как и у Вашего покорного
слуги (кстати, не найдется ли у Вас лишнего пятисот-
франкового билета?) — как и у Вашего покорного слуги,
говорю я, в карманах весьма не густо. Юный Андреа,
однако же, не унывает: бренчит на своей гитаре, пишет
прескверные картины и слагает сонеты в честь бровей своей
1 Эту милую маркизу (франц.).
2 Эта прекрасная маркиза (франц.).
3 Суета сует (лат.).
4 Мальчишек (франц.).
393
воображаемой дамы сердца. К счастью, плут не знал
моего имени, а то мне пришлось бы посвятить его в свои
дела; и когда я окликнул его и сам ему представился: «Вы
меня не помните? Мы встречались в Риме. Меня зовут
Брэндон»,-—художника это вполне удовлетворило, и он
величественно приветствовал меня.
Но как вам нравится этот Иосиф Прекрасный — он
форменным образом сбежал от миссис Каррикфергус!
«Сэр,— сказал он не без колебания и весь покраснев,
когда я спросил его о вдове,— я был вынужден покинуть
Рим через роковую любовь этой женщины. Я же красивый
мужчина, сэр,— я это знаю,— все ребята в Академии
просят меня позировать им; а даме, сэр, все шестьдесят.
Неужели вы думаете, что я мог бы с ней связаться, принести
в жертву все свое счастье для ради твари безобразной, как
харпия? Уж лучше голодная смерть, сэр! Я лучше
откажусь от сваво йискусства и от всякой надежды на славу,
чем пойти мне на такой позорный факт!»
Вот она, истинная доблесть! И в ком — в полуголодном
бедняке! В Риме он жил на те семь портретов, что
заказала ему написать с себя эта самая Каррикфергус, а
сейчас, как я понимаю, не зарабатывает и двадцати фунтов
в год. О, редкое целомудрие! О, дивные ребяческие
надежды! О motus animoram, atque о eertamina tanta! — pul
veris exigui jactu l... — в таком ничтожном маленьком
комочке грязи, как этот юнец! Какого черта болван не
женится на этой вдове? Многие из тех, кто повыше его,
охотно бы женились. Один драгунский капитан, и
итальянский князь, и четверо сыновей ирландских пэров — все
лежали у ее ног; но усы и борода лондонского
простолюдина одержали верх над всеми высокородными
поклонниками. На сем моя страница кончается; и я имею честь с
глубочайшим почтением распроститься с Вашим
сиятельством.
Дж. Б.»
Едва ли кто-либо, прочтя приведенное письмо, впадет
в заблуждение и составит себе особливо высокое понятие
о молодом джентльмене, принявшем имя «Брэндон».
Благородный виконт прочитал этот документ за дружеским
ужином в Крайст-Черче, в Оксфорде, и обронил его в
1 О волнение душ, о великие битвы [утихают прекращенные]
ничтожным броском пыли (лат.).
304
чашу из-под молочного пунша; откуда служитель извлек
его и передал нам. Милорду было двадцать лет, когда он
получил сие послание, и он, перед тем как поступить в
университет, два-три года провел за границей под
надзором того достойного мужа, который именовал себя ныне
Джорджем Брэндоном.
Мистер Брэндон был сыном отставного полковника на
половинном окладе, человека из хорошей семьи, который,
сам высоко почитая знать, полагал, что его сыну будет
полезно завязать высокие знакомства,—и он послал его в
Итон, как ни тяжко это ложилось на тощий его кошелек.
После Итона юноша попал в Оксфорд, где сдавал
экзамены с отличием, вращался в лучшем обществе, с какой-то
надменной услужливостью льнул ко всем титулованным
студентам и уехал, оставив долгов на круглых две тысячи
фунтов. Тут разыгралась домашняя буря; строгий старый
родитель взъерошился; и в конце концов уплатил долги.
Но пока дело улаживалось, сынок успел залезть в новые
долги милостью ростовщиков, бравших на учет его
векселя, и был рад сбежать на континент наставником юного
лорда Синкбарза, в чьем обществе он обучился всем до
единого порокам Европы; и, наделенный от природы и
острым умом, и добротой, он давал этим качествам такое
удивительное применение, что к двадцати семи годам,
обнищав материально и нравственно, он был конченый
человек— ленивец, мот и чревоугодник. Деньгам он счета не
вел: мог потратить последнюю гинею на плотские
удовольствия; мог призанять у самого нищего из своих друзей; и
давно потерял всякую совесть, а мнил себя чертовски
славным малым, добрым и беспечным; был остер на язык и,
бесспорно, обладал хорошими манерами и пленяющей
удалой откровенностью в мужском разговоре. Сколько таких
бездельников, спросил бы я, выпускают наши
университеты; и сколько загублено жизней той проклятой системой,
которая называется в Англии «образованием
джентльмена»? Ступай, сынок, на десять лет в закрытую школу,
этот «свет в миниатюре»; учись «постоять за себя»,
готовясь заранее к той поре, когда начнется для тебя
настоящая житейская борьба. Начинай быть эгоистом в
десятилетнем возрасте; обучайся еще десять лет; в достаточной
мере овладей искусством бокса, плаванья, гребли, игры
в крикет; да умей щегольнуть латинскими гекзаметрами и
вскользь упомянуть о греческой драме,— усвой это все, и
твой любящий отец умилится на тебя — и умилится на те
395
две тысячи фунтов, что он потратил, чтобы приобрести
для тебя все эти преимущества. А помимо того, чему только
еще ты не научился! Ты сотни раз побывал в церкви,
и научился видеть самый суетный в мире парад. Если
твой отец — бакалейщик, ты бывал там бит из-за него и
научился стыдиться своего отца. Ты научился забывать
(а как ты мог бы помнить, если три четверти своего
времени ты жил оторванный от дома?) — забывать любовь и
естественную привязанность к родным. Ты научился, если
у тебя открытая душа и широкая рука, тягаться с
приятелями много богаче тебя; и деньги не ставил ни в грош, а
честь — честь обедать в обществе людей, стоящих выше
тебя,— почитать превыше всего. Всему этому мальчик
научается в закрытой школе и в колледже; научается на
горе себе и другим! Увы, природную доброту, нежную
сыновнюю любовь его учат топтать и презирать! Мой
приятель Брэндон прошел через этот процесс
воспитания и был непоправимо им загублен — то есть
загублены были его сердце, его честность; а в замену им он
получил кое-какие познания по классике и математике —
недурное возмещение за все, что утратил ради их
приобретения!
Однако я непростительно отвлекся; хорошо ли, худо
ли, но таким природа и воспитание сделали мистера Брэн-
дона, одного из многих подобных ему в нашем обществе.
И вот этот молодой джентльмен устроился в доме миссис
Ганн; и нам пришлось дать все эти пояснения
относительно него, так как они необходимы для правильного
понимания нашей повести: Брэндон не был совсем уж дурным
человеком — или так уж хуже многих, кто всю свою жизнь
живет заурядным эгоистом и обманщиком, а умирает
набожным и кающимся, гордым собою и уважаемым всеми
вокруг; в этом-то и состоит высокое преимущество
жадного и скупого негодяя перед расточительным и
беспечным.
И вот однажды, когда он сидел и смотрел в окно, у
дверей пансиона остановилась телега, везшая бесчисленное
множество мольбертов, папок, деревянных ящиков с
картинами и среди этого всего — маленький саквояж,
содержавший разве что одну перемену платья. Рядом с телегой
шагал весьма примечательный молодой человек — в
сюртуке, сплошь расшитом галунами, в грязном отложном
воротничке, в голубом атласном галстуке и в шашш, причуд-
396
ливо сдвинутой на ухо,—который, по-видимому, снял
комнаты у мистера Ганна. Этот новый жилец был не кто
иной, как мистер Эндрю Фитч, или, как он писал на своих
визитных карточках, просто, без добавок
Андреа Фитч
У Ганнов было заранее все приготовлено к приему
мистера Фитча, чья тетка (супруга городского аукциониста)
договорилась, что он будет жить на всем готовом в семье
Ганнов и получит в свое личное пользование все комнаты
третьего этажа. Сюда юный Андреа и был водворен. Он
был юношей поэтического склада и любил одиночество —
а где его найдешь верней, чем на омываемой бурным
прибоем Маргетской набережной в зимнюю пору? Когда
содержательницы пансионов закрывают свои заведения и
уезжают в тоске и печали; когда в тавернах убраны ковры
и вы можете выбирать в любой из них любую из ста
двадцати кроватей; когда остается всего один унылый
официант надзирать за этой просторной, оглашаемой эхом
громадой одиночества, а хозяин тоскует по лету; когда
наемные коляски стоят чередою у мола и напрасно ждут
желающих поехать в Рэмсгет; и на трех главных улицах
города увидишь не более четырех матросов в их толстых
суконных куртках; а вообще-то — безмолвие, закрытые
ставни, оцепенелые дымовые трубы, наслаждающиеся
противоестественным зимним досугом,— даже деревянные
башмаки не простучат по гулким сухим и холодным плитам!
Это уединение мистер Брэндон избрал по своим
особым и веским причинам; Ганн с семейством сами бы
сбежали отсюда, будь у них другое какое-нибудь
пристанище; и миссис Хэммертон, супруга аукциониста, доставив
пансиону жильца на мертвый сезон, так умилилась
собственным добрым деянием, что почла вполне справедливым
истребовать у миссис Ганн две гинеи наградных, грозя в
случае отказа устроить своего дорогого племянника в
конкурирующем заведении тут же через улицу.
Итак, Андреа Фитч был здесь в любезном ему
одиночестве — молодой фантазер, живший только служением
своему искусству и мнивший мир чем-то вроде Кобургского
театра, где сам он в великолепном костюме вел главную
роль. Его искусство и его борода и баки занимали первое
397
место в его сердце. Белесые длинные волосы свисали на
его высокий гладкий лоб, отражавший, казалось,
глубокую думу; а между тем не было на свете человека, менее
склонного к раздумью. Он постоянно становился в позу;
он никогда не говорил правду; и все в нем было наигранно
и так нелепо, что в конечном счете он оказывался
совершенно честен: ибо я уверен, что он был уже неспособен
отличить ложь от правды и всегда — один ли, или в
компании, или пусть даже тогда, когда крепко спал и храпел
в своей постели,— всегда он был клубком сплошной наиг-
ранности. Когда его комнаты на третьем этаже были
убраны в согласии с его причудами, они явили собой
ошеломительное зрелище. Там стоял у него большой, в готическом
стиле, сундук, куда он поместил свой гардероб (а
именно — два бархатных жилета и четыре атласных, все
разного цвета, две пары расшитых позументом штанов, две
рубашки, полдюжины пристежных воротничков и
три-четыре пары совсем сносившихся блюхеровских
полусапожек). У него был набор, неполный, рыцарских доспехов;
было несколько китайских кувшинов и венецианских
бокалов; несколько лоскутов камки, чтобы завесить двери
и окна; да еще вихлявый манекен в испанском плаще и
шляпе, на котором болтались длинная толедская рапира и
гитара с грязным голубым бантом.
Вот и весь наличный запас нашего бедняка-артиста.
Были у него кое-какие томики стихов — «Лалла Рук» и
что построже из произведений Байрона: надо ему отдать
справедливость, «Дон Жуана» он ненавидел, и женщина
была в его глазах ангелом; или, увы, «анделом», как он
говорил, потому что природа и семейные обстоятельства
оказали свое печальное воздействие на произношение
бедного Андреа.
Впрочем, барышни Уэлсли Макарти были не слишком
щепетильны относительно грамматики и, ввиду мертвого
сезона, провозгласили мистера Фитча изысканным
кавалером. Его огромная борода и баки внушили им самое
лестное мнение о его таланте; и вскоре между ним и
молодыми девицами установилась дружеская близость, так
как мистер Фитч настоятельно пожелал сделать портреты
всей семьи. Он изобразил миссис Ганн в ее румянах и
лентах, какой описал ее Брэндон; мистера Ганна, который
заявил, что его портрет окажется для молодого
художника очень полезным, так как его знают в Маргете все и
каждый; а затем и барышень Макарти (прелестная груп-
398
па — мисс Белла обнимает мисс Линду, указующую
перстом на фортепьяно).
— Следующей, полагаю, вы напишете мою Карри? —
спросил мистер Ганн, с одобрением приняв последнюю
картину.
— Ну что вы, сэр,— возразила мисс Линда.-— Карри,
с ее рыжими волосами?.. Да это ж будет ужас что такое!
— Все равно как если б мистер Фитч сделал портрет
с нашей Бекки,— подхватила мисс Белла.
— О Карри не может быть и речи,— сказала миссис
Ганн.— У нее нет приличного платья, в котором можно
показаться на глаза. Она и в церкви не была уже
тринадцать воскресений по той же причине.
— К стыду для вас же, сударыня,—сказал мистер
Ганн, любивший свою дочь.—У Карри будет нарядное
платье, самое наилучшее.— И, позвякивая двадцатью
тремя шиллингами в кармане, мистер Ганн решил потратить
их все целиком на платье для Карри. Но, увы, она так его
и не дождалась: половину денег он в тот я*е вечер спустил
в «Сумке Подмастерья».
— Так эта... эта девица — ваша дочь? — удивился
мистер Фитч: до сих пор он думал, что Карри живет в семье
на положении бедной компаньонки.
— Да, она моя дочь, и очень хорошая дочь, сэр,—
ответил мистер Ганн.— Я ее зову—Карри-вари-пари. Она
такая молодчина — мигом все спроворит. Правда, Карри?
— Я очень рада, папа, когда могу быть полезной,—
сказала девушка, которая сидела, вся красная, пока в ее
присутствии велся этот разговор.
— Уж помолчали бы, мисс! — сказала ей мать.— Ты
нам дорого стоишь, очень даже дорого, так что нечего
хвастать, если ты и делаешь кое-что по дому. Ведь ты бы не
хотела жить из милости на чужой счет, как некоторые
(тут она скосила злобный взгляд на мистера Ганна).
И если я с твоими сестрами сами голодаем, чтобы
прокормить тебя и некоторых, то и ты, по-моему, обязана за то
делать что-то для нас.
Когда отпускались намеки на безделье мистера Ганна
и его расточительность или когда супруга выказывала
малейшую готовность разозлиться, честный Джеймс
держался обычая, не возразив ни слова, схватить свою шляпу и
уйти из дому прямо в кабак; а если случится ей
наброситься на него с руганью среди ночи, он, бывало,
повернется к ней спиной и захрапит. Это были два его защит-
399
ных средства против злых нападок миссис Джеймс, и к
первому из них он и прибег сейчас, услышав приведенные
выше слова супруги.
Бедная Каролина не могла, как ее отец, спастись
бегством, она была принуждена сидеть на месте и слушать;
и боже ты мой, до чего красноречиво распространялась
миссис Ганн о неподобающем поведении дочери! Услышав
первую филиппику, мистер Фитч решил, что Каролина —
чудовище. Она и нерадива, и угрюма, и всех презирает,
да и грязнуха к тому же! На этих ее пороках миссис Ганн
клятвенно настаивала, возгласив, что Каролина своим
злонравием сживет ее со света, и, в заключение,
грохнулась в обморок. Перед всеми этими изобличениями мисс
Каролина стояла безмолвная, тупая и безучастная; мало
того, когда дошло до обморока и миссис Ганн упала
навзничь на диван, бесчувственная девчонка поспешила
удалиться, благо можно, даже не подумав, что надо бы
пошлепать мать по ладоням, поднести ей пузырек с
нюхательной солью или хоть дать для подкрепления стакан воды.
Вода была под рукой: мистер Фитч, когда у мадам
начался приступ, первый в его присутствии, сидел в
гостиной у Ганнов и заканчивал портрет миссис Ганн,— и он
кинулся к ней со своим стаканом, но мисс Линда
закричала:
— Стойте! В воде полно краски! — и прыснула со
смеху. Тут миссис Ганн сразу пришла в себя, вскочила,
повела бессмысленным взором и вышла вон.
— Вы не знаете маму,— сказала мисс Линда, все еще
хихикая.— Она только и делает, что хлопается в обморок.
— Бедняжка! — воскликнул Фитч.— Очень нервная, да?
— О да, очень! — ответила девица, плутовски
переглянувшись с мисс Беллой.
— Бедная женщина! — продолжал художник.— Мне
ее жаль от всей души. Разве не сказал бессмертный эвон-
ский бард, что хуже, чем укусы злой змеи, детей
неблагодарность? А это правда, сударыня, что эта молодая особа
бич для всей семьи?
— Бич? Чепуха! — отрезала мисс Белла.—Господи,
мистер Фитч, вы не знаете маму. На нее иногда находит.
— Так, значит, это все неправда? — воскликнул
простодушный Фитч. На что ни та ни другая девица на
словах ничего не ответили, а почему они посмотрели друг на
дружку и расхохотались обе враз, художник понять не
умел. Он удалился, раздумывая о том, что видел и слы-
400
шал, и, будучи по природе очень впечатлительным,
безоговорочно поверил всем обвинениям, высказанным бедною
милою миссис Ганн, и решил, что ее дочь Каролина
ничуть не лучше чем твоя Регана или Гонерилья.
Однако же пришла пора, когда он уверовал, что она
самая чистая, самая добрая Корделия; и о том, как и
почему Фитч изменил свое мнение, мы расскажем в третьей
главе.
Глава III
Обед не хуже, чем у благородных; и некоторые
происшествия в том асе благородном духе
Письмо мистера Брэндона к лорду Синкбарзу
произвело, как мы видели, большое впечатление на семейство
Ганнов; впечатление, еще усугубленное последующим
поведением их жильца: потому что, хотя люди, с которыми
он здесь общался, были куда как просты и смешны, они
отнюдь не стояли для мистера Брэндона так низко и не
настолько казались смешны, чтобы ему не хотелось
выставлять себя перед ними в самом выгодном свете; и он
соответственно, когда находился в их обществе, напускал
на себя самый важный вид и непрестанно выхвалялся
знакомством и дружбой со знатью. Мистер Брэндон и сам, на
свой особый благородный лад, преклонялся перед
титулами; в сущности, гордость его была такой же рабской,
высокомерие таким же мелким и угодливым, как глупый
восторг и преклонение бедной миссис Ганн перед всяким,
чье имя пишется с обозначением титула. О вы, свободные,
счастливые британцы, какое вы жалкое, угодливое,
раболепное племя!
Читатель, вращаясь в свете, несомненно, встречал
немало таких хвастунов — вполне почтенных людей из
среднего сословия, чванливо презирающих свою среду и
увивающихся за особами высшего круга. Это в человеке —
оскорбительное свойство, которого никто из нас простить
не может; мы зовем такого лизоблюдом, прихвостнем,
подхалимом, человеком, лишенным достоинства; мы
ненавидим его и громогласно говорим, что презираем. Боюсь, это
совсем не так. Мы завидуем Подхалиму, вот в чем суть; и
потому ненавидим его. Если бы он надоедал нам
рассказами о наших знакомцах, о Джонсе и Брауне, его считали
бы просто скучным и терпеливо выслушивали бы его рас-
401
сказы; но коль скоро он говорит о милорде и о герцоге, мы
ополчаемся на него. Я видел недавно, как в одной веселой
компании на Рассел-сквере вдруг все сделались сразу
угрюмы и немы, потому что какой-то нахальный адвокат
громким, пронзительным голосом стал что-то рассказывать
о лорде Таком-то и маркизе Таком-то. И мы все
возненавидели этого адвоката; а я пошел бы на пари, что каждый
из четырнадцати человек, собравшихся вокруг вареной
индейки и седла барашка (да прибавьте еще пироги и
прочее от кондитера, что напротив Британского музея),—
я пошел бы, говорю я, на пари, что каждый подумал про
себя: «Вот подлец, чума на него! Он водит знакомство с
лордом, а мне за всю-то жизнь едва довелось поговорить
с двумя-тремя». С теми, что выше нас по состоянию, мы
миримся, пожалуйста,— мы искренне их уважаем,
смеемся их шуткам, извиняем их глупости, кротко сносим их
дерзость. Но мы не можем простить нашим равным, если
они возносятся над нами. Был у меня приятель,
счастливо живший в Хакни среди друзей и родственников; но
родные вдруг все разом отказались от него, и друзья с ним
порвали, и все в один голос сулили ему разорение,— а все
лишь потому, что он завел себе лакея — безобидного,
маленького, краснощекого мальчишку в светлой ливрее
табачного цвета, сплошь усаженной блестящими
пуговицами торчком. И могу указать еще на одного человека,
большого человека, литератора, любимца публики, который
вдруг из безвестности поднялся к славе и богатству. Это
было преступлением; но он нес свое возвышение с такою
скромностью, что даже собратья по перу не питали к нему
зависти. И вот в один печальный день он завел
одноконный выезд; с этого часа он был обречен.
— Вы видели его новую карету? — говорит Брюзгли.
— Да,— говорит Гавкинс.— Он так возгордился, что,
когда едет в своей карете, не замечает старых друзей.
— Тово скавете, ка'эта! — гнусавит Гундас.— Телевка
с осликом! Я всегда — по его мане'э письма — говорил, что
из этого че'а'эка вышел бы очень п'иличный зеленщик.
— Да, в самом деле! — восклицает старый Честенс.—
Такая жалость! Он, мне говорили, крайне расточителен...
Здоровье плохое... разорительная семья... Пишет со дня на
день все слабее — только недоставало ему заводить карету!
Брюзгли, Гавкинс, Гундос, Честенс ненавидят своего
собрата. Если бы он погибал, они были бы к нему добры
и справедливы; но он преуспевает — горе ему!
402
* * *
Это пустячное отступление на полстраницы или около
того, хотя с виду оно в нашей повести как будто и ни при
чем, все же имеет к ней очень близкое отношение; и
сейчас вы узнаете почему.
Скажу без долгих слов, мистер Брэндон так
выхвалялся и смотрел с таким превосходством, что за короткий
срок он совершенно опротивел миссис Ганн и барышням
Макарти: они сами были из благородных, и им ничуть не
нравился его обычай то и дело показывать им, что он-де
человек более высокого круга. Мистер Фитч с головой
ушел в свое (говоря на его лад) «йискусство» и не
замечал, как Брэндон важничает. Ганн в своей угнетенности
совершенно распластался перед мистером Брэндоном и
взирал на него с благоговейным восторгом. А бедная
маленькая Каролина разделяла религию своего отца и к
концу шестой недели пребывания мистера Брэндона в их
пансионе уверовала, что во всем роде человеческом нет
джентльмена более совершенного, законченного,
воспитанного и любезного. Ведь бедная девочка до сих пор никогда
не видела ни одного джентльмена и безотчетно всем своим
благородным сердцем потянулась к благородству. Брэндон
никогда не обижал ее грубым словом; не оскорблял
жестоким презрением, какое она встречала со стороны матери и
сестер; было что-то спокойное в манере этого человека,
отличное от всего, что она видела раньше среди знакомых
своей семьи, а если он разговаривал с нею и другими
тоном превосходства, Каролина полагала, что он и в самом
деле выше их, и за это она восхищалась им и уважала его.
Что получается, когда у неопытной шестнадцатилетней
девочки возникают такие мысли? Что получалось, с тех
пор как мир стоит?
Я сказал, что у мисс Каролины не было на свете ни
единого друга, кроме ее отца, но, с вашего разрешения, я
здесь позволю себе взять назад эти свои слова: был у нее
друг, несомненно, был—и не кто иной, как честная Бекки,
чумазая судомойка, чье имя уже не раз упоминалось выше.
Мисс Каролина, прожив всю жизнь под тиранией
маменьки, усвоила кое-что из ее понятий и сильно оскорбилась бы,
что Бекки назвали ее другом; а все-таки они были
друзьями; и Каролина с большою радостью спускалась из
гостиной с ее грозами в тихую кухню и там изливала
очередные свои маленькие горести перед участливой служанкой.
403
Когда миссис Ганн с дочерьми отправлялись в гости,
Бекки, бывало, возьмет свою работу и придет составить
компанию младшей барышне; и сказать по правде, не
было для них обеих большего удовольствия, как
посидеть вот так среди дня и вместе почитать что-нибудь из
драгоценных томов, засаленных, в переплетах под мрамор,
какие миссис Ганн имела обыкновение приносить из
библиотеки. Не один роман прочли они вдвоем от корки до
корки. Я так и вижу их над повестью «Мэнфрон, или
Однорукий монах»: в комнате темно, улица утихла, десять
часов — высокий, красный фитиль свечи зловеще клонится
вниз, пламя играет бледным отсветом на бледном личике
мисс Каролины, читающей вслух, и зажигает выпученные
глаза честной Бекки, которая молча сидит, уронив свою
работу на колени (вот уже час, как она не сделала ни
одного стежка), когда медленно открывается дверца люка и
грозный Алонсо, склонясь к уснувшей Имоинде, вынимает
пистолет, взводит курок, смотрит, в порядке ли заряд,
приставляет дуло к уху спящей и...— дром-дорором! — на пол
падают щипцы! Бекки десять минут продержала их в
руке, боясь снять нагар со свечи. Каролина вскакивает и
бросает книжку обратно в маменькину корзинку. Это
значит —- мадам с дочерьми вернулись из гостей, где два
молодых кавалера из Лондона были так любезны,— ну,
право же, настоящие джентльмены!
На сентиментальное, равно как и на страшное, мисс
Каролина и кухарка были очень падки и чуть не
выплакали бедные свои глаза над «Тадеушем Варшавским» и над
«Шотландскими вождями». Утвердившись в своей вере на
примерах, почерпнутых из этих поучительных книг, Бекки
была убеждена, что ее молодая хозяйка в один
прекрасный день встретится с важным лордом или увезет ее, как
Золушку, блестящий принц, к злой обиде старших ее
сестер, которых Бекки сильно недолюбливала. Поэтому,
когда явился новый жилец, одинокий, загадочный,
печальный, элегантный, с романтическим именем Джордж
Брэндон, когда он написал письмо, адресованное лорду, и
мисс Каролина вместе с Бекки изучила надпись на
конверте,— они обменялись такими взглядами, что передать
их мог бы нам разве что карандаш Лесли или Маклиза.
Очи Бекки загорелись огнем некоего тайного знания,
тогда как Каролина мгновением позже потупила свои, и
вспыхнула, и сказала:
— Чепуха, Бекки!
404
— Чепуха, по-вашему? —- ответила Бекки, ухмыляясь
и с торжеством прищелкивая пальцами.— Карты-то
правду сказали, и я знала, что они не врут. Разве вам не легли
три раза подряд король и дама червей? А ну, расскажите
мне, что вы видели во сне в ночь на вторник?
Сна своего мисс Каролина не рассказала, потому что в
эту минуту ее сестры вприпрыжку сбежали вниз по
лестнице и принялись рассматривать письмо жильца. И все же
Каролина .уходила к себе, сильно призадумавшись; и
мистер Брэндон стал ей видеться с каждым днем все более
необычайным и прекрасным.
Между тем как мисс Каролина невинно отдавалась
своему влечению к блистательному съемщику второго этажа,
случилось так, что к ней воспылал романтической
страстью наниматель третьего. Изо дня в день на протяжении
двух недель прообедав за одним столом со всем их
семейством и проведя немало вечеров с миссис Ганн и
молодыми девицами, мистер Фитч, как ни туго он соображал,
начал понимать, что ежевечерние обвинительные речи
против бедной Каролины не могли соответствовать истине.
«Как же так,— раздумывал он про себя.— Во вторник
старая леди сказала, что дочка сведет ее в могилу, потому что
кухарка недоварила картошку. В среду она сказала, что
Каролина — убийца, потому что сама же никак не могла
найти свой наперсток. В четверг она клянется, что
Каролина забыла бога, потому что пара старых шелковых
чулок осталась незаштопанной. А этого не может быть,—
премудро рассудил Фитч.— Ни одна девушка не
становится убийцей через то, что ее маменька не может найти
свой наперсток. Если женщина колотит взрослую дочку
по спине — да еще при посторонних — за такую мелочь,
как пара старых чулок, то, уж конечно, никак не может
быть, чтоб она говорила правду». И первое его
впечатление, враждебное Каролине, постепенно стиралось. Когда
же оно стерлось вовсе, его душой овладела жалость (а мы
знаем, чему жалость сродни) и с нею вместе ненависть к
угнетателям милого создания.
В итоге через шесть коротких недель после появления
двух джентльменов список наших главных dramatis per-
sonae l предстает нам в следующем виде:
Каролина — невинная девушка, влюбленная в Брэндона.
Фитч — знаменитый художник, полувлюбленный в Каролину.
Брэндон — молодой джентльмен, влюбленный в самого себя.
1 Действующих лиц (лат.).
405
Поначалу мистер Брэндон с редким постоянством
сопутствовал барышням Макарти в их прогулках, и те не
без удовольствия принимали его ухаживание; но он
обнаружил, что слишком уж много маргетских кавалеров,
заурядных, некрасивых пошляков, вечно увиваются за его
дамами и любезничают с ними неизмеримо успешней него.
На этих господ Брэндон смотрел с превеликим
презрением; они же в ответ ненавидели его от всей души. Вскоре
и девицы пришли к тому же: его надменная манера, хотя
вполне свободная и дерзкая, же была и вполовину так
приятна им, как шутки Джонса или веселое дурачество
Смита; и очень скоро сестры дали ему понять, что без него
они чувствуют себя куда лучше.
— Дамы, ваш покорный слуга! -— услышал он возглас
Боба Смита, когда этот маленький торговец галантереей
подлетел к парадному, откуда они выходили.— Солнышко
пригрело, лавка опустела; если вы на прогулку, я ваш
спутник.
И мисс Линда с мисс Беллой с двух сторон взяли под
руку мистера Смита и поплыли по улице.
— Я рад, что с вами нет этого важного господина со
стеклянным глазом,— сказал мистер Смит.— Сроду не
видал такой невоспитанной и надменной скотины.
— Вот именно! — говорит Белла.
— Тише вы! — говорит Линда.
В эту минуту «важный господин со стеклянным
глазом» стоял у окна второго этажа, покуривая свою
неизменную сигару, и его монокль был нацелен на дам, которым
он и отвесил нижайший поклон. Можно представить себе,
как они после этого стали ему милы и каким взглядом
смерил он мистера Боба Смита, когда встретил его в
следующий раз: у мистера Боба так затрепетало сердце, что
потом весь день не унималось; и он поторопился в город
по делам.
Однако потребность общения сильнее даже гордости;
и великий мистер Брэндон временами бывал
рад-радешенек спуститься со своей высоты и пообщаться с
вульгарными людьми, в чьем доме он был жильцом. Но, как мы
говорили, он это делал всегда с видом особого
снисхождения, давая присутствующим понять, какую великую честь
он им оказывает.
И вот однажды он был так необычайно любезен, что
принял приглашение первого этажа, переданное ему в
коридоре мистером Джеймсом Ганном, сказавшим, что, мол,
406
больно видеть, как джентльмен ест от субботы до субботы
одни лишь бараньи котлеты; и если мистер Брэндон не
против познакомиться с самым что ни на есть чертовски
славным малым, его другом Свигби, человеком, который
держит собственный выезд и имеет на расходы пять сотен
в год; и если его соблазнит сочный кусочек, вырезанный
из наилучшего свиного окорока, в какой когда-либо
вонзался нож (хоть не ему бы это говорить!), то они сегодня
обедают ровно в три, и миссис Г. с дочерьми будут весьма
польщены, если он почтит их своим обществом.
Гордеца позабавили обороты речи, к которым прибег
мистер Ганн, выполняя эту миссию гостеприимства; и в
три часа он предстал в задней гостиной, откуда имел честь
повести миссис Ганн (в очаровательном желтом платье из
mousseline de laine *, и к нему огромный красный тюрбан,
ferroniere и пузырек с нюхательной солью, прицепленный
на колечке прямо к жирной и влажной руке) в «контору»,
где стоял накрытый к обеду стол. Барышни Макарти были
одеты с не меньшим вкусом. Одна села справа от гостя,
другая рядом с жильцом-нахлебником, мистером Фитчем,
который в великолепии своей пышной бороды, сиреневого
бархатного жилета, свеженапомаженных длинных волос,
рассеченных пробором точнехонько посередине и
спадавших завитками на воротник, был бы, право же, неотразим,
будь этот воротник хоть немножко, хоть чуть-чуть белее.
Мистер Брэндон тоже надел лучший свой костюм.
Сколько бы ни щеголял он презрением к своим хозяевам,
ему хотелось произвести на них самое благоприятное
впечатление, и он не преминул сообщить миссис Ганн, что во
всем мире, кроме него самого, только лорд Такой-то
является обладателем жилета, подобного тому, который так ее
восхитил,— ибо миссис Ганн была чрезвычайно
благосклонна и действительно расхвалила жилет, дабы
щегольнуть своим жильцом перед другом и почитателем мистера
Ганна, мистером Свигби — человеком со средствами,
который тем не менее был завсегдатаем клуба при «Сумке
Подмастерья».
Об этом клубе гость мистера Ганна мистер Свигби и
сам мистер Ганн вели перед обедом превеселый разговор,
наперебой припоминая все шутки обо всех членах клуба.
Мистер Брэндон, чувствуя себя главной персоной за
столом, безудержно отдался своим наклонностям и нарас-
1 Шерстяного муслина (франц.).
407
сказал миссис Ганн всяческих историй о половине всей
английской знати. Миссис Ганн со знанием дела
толковала про оперный театр; и объявила, что считает Тальони
лучшей в мире певицей.
— Мистер... э... Свигби, вы когда-нибудь видели, как
танцует Лаблаш? — спросил мистер Брэндон у
джентльмена, которому его представили по всей форме.
— Где, в Воксхолле, что ли? — сказал Свигби, только
что вернувшийся из поездки в Лондон.
— Да. На канате. Удивительный артист!
На что мистер Ганн рассказал, как он был однажды в
Воксхолле, когда в Лондоне чествовали иностранных
принцев; а мадам высказала свое веское мнение и о них.
Потом разговор перешел на фейерверки и ромовый пунш;
причем мистер Брэндон уверял девиц, что Воксхолл — это
самое аристократическое место, и добавил, что почел бы
за честь потанцевать там с ними кадриль. Словом,
Брэндон пустился в такую тонкую иронию, что за столом ни
одна душа его не понимала.
Стол, согласно плану, посланному позже милорду Синк-
барзу, выглядел так:
Мисс Каролина Мистер Фитч Мисс Л. Макарти
Мистер
Джеймс
Ганн.
1
картофель 1
3
Жареный сви- Три кусочка Отварная
ной окорок с сельдерея в треска, а затем
луком и шал- стакане. баранье рагу,
феем.
2
капуста
1 4
Миссис
Джеймс
Гапн.
Мистер Свигби Мисс Мистер Брэндон
Б. Макарти
«1» и «2» — это кувшины с портером; «3» — кварта
эля: любимый напиток миссис Ганн; «4» — бутылка
отличного золотистого хереса — благодатный дар
виноградной лозы, купленный мистером Ганном в «Сумке
Подмастерья» за один шиллинг девять пенсов.
Мистер Ганн. Отведайте этого хереса, сэр. Пью
ваше здоровье и весь к вашим услугам, сэр. Это вино, сэр,
уступил мне в виде особого одолжения мой... гм!..
поставщик, который уделяет его своим клиентам только в
небольших количествах и ввозит его, сэр, прямо из...
гм... из...
408
Мистер Б р э н д о н. Из Хереса, разумеется. В самом
деле, мне думается, это самое лучшее вино, какое мне
случалось в жизни пить — то есть, конечно, за столом
простого горожанина.
Миссис Ганн. Ах, конечно, стол простого
горожанина!.. Мы не носим титулов, сэр( мистер Ганн, позвольте
вас побеспокоить — еще ломтик от корочки, с краю), хотя
мои бедные милые девочки, смею вас уверить, состоят в
родстве — по их покойному отцу — кое с кем из
первейшей аристократии в нашей стране.
Мистер Ганн. Чепуха, дорогая моя Джули.
Ирландская аристократия, сами понимаете, какая ей цена?
А кроме того, мне сдается, девочки не больше ей сродни,
чем я.
Мисс Белла (мистеру Брэндону, доверительно).
Бедный папа должен вам казаться ужасно вульгарным,
мистер Брэндон.
Миссис Ганн. Ах, я понимаю, мистер Брэндон, вы,
конечно, не привыкли к таким речам; и я вас очень
прошу, уж вы извините мистеру Ганну эту грубость, сэр.
Мисс Линда. В самом деле, мистер Брэндон,
уверяю вас, у нас есть всякое родство, и низкое и высокое.
Может быть, не менее высокое, чем у некоторых, хоть
мы и не склонны постоянно говорить о знати. (Это был
двойной выстрел: из первого ствола мисс Линда
ударила по отчиму, из второго же метила прямо в мистера
Брэндона.) Как по-вашему, разве я не права, мистер
Фитч?
Мистер Брэндон. Вы совершенно правы, мисс
Линда, сейчас, как и всегда; но боюсь, мистер Фитч не
уделил должного внимания вашему тонкому замечанию:
потому что, если я правильно понимаю смысл того
прелестного рисунка, который он выводит вилкой на
скатерти, его душа сейчас погружена в его искусство.
А мистеру Фитчу того и надо было, чтобы все на свете
так думали. Он откинул волосы со лба, поглядел
блуждающим взором и сказал:
— Извините, сударыня, это правда: мои мысли витали
в тот момент далеко, в областях маво йискусства.
Он и впрямь думал, что поза его удивительно изящна
и что большой гранат в его перстне на указательном
пальце все общество, конечно, принимает за рубин.
— Искусство — это очень хорошо,— заметил мистер
Брэндон,— но меня удивляет, что сейчас, когда перед вами
409
столь прелестные произведения природы, вам
недостаточно думать о них.
— Вы имеете в виду картошку, сэр? — сказал
недоуменно Андреа Фитч.
— Я имею в виду мисс Розалинду Макарти,—учтиво
возразил Брэндон и от души посмеялся простоте
художника. Но комплимент отнюдь не смягчил мисс Линду,
только укрепив ее в обидной уверенности, что Брэндон
над ней потешается, и ее неприязнь соответственно
возросла.
Тут как раз вошла мисс Каролина и заняла
назначенное ей место по левую руку от мистера Ганна. Для нее
приставлен был старый, колченогий деревянный табурет,
в то время как все другие сидели за столом на красивых
и удобных стульях; а рядом с ее тарелкой стояла
странного вида старая помятая жестяная кружка, на которой
антиквара, возможно, привлекла бы полустертая надпись
«Каролина». Это и вправду были кружечка и табурет
Каролины, сохранившиеся за нею со дней ее детства; и на
этом месте, на этом табурете она изо дня в день смиренно
сидела за обедом.
Хорошо, что девочку сажали рядом с отцом, иначе, я
уверен, она оставалась бы всегда голодной; но Ганн по
своему добродушию не допускал, чтобы за столом
делалась разница между нею и сестрами. Бывают подлости на
свете, слишком подлые даже для мужчины... и только
женщина, милая женщина осмелится их совершить. Как бы
там ни было, в этом случае, когда обед дошел до
середины, бедная Каролина тихо прокралась в комнату и заняла
свое привычное место. Всегда бледное личико Каролины
было густо-красным, так как, скажем правду, задержалась
она в кухне, помогая Бекки, их единственной служанке;
и, услышав, что у них за обедом будет сегодня сам
великий мистер Брэндон, девушка в простоте души показала
свое почтение к нему, постаравшись как можно лучше
приготовить то блюдо, за которое отец не раз ее хвалил.
Она опустилась на свой табурет, отчаянно вспыхнув при
виде Брэндона, и если бы мистер Ганн не стучал так
отчаянно вилкой и ножом, возможно, он услышал бы, как
забилось сердце Каролины, а забилось оно и вовсе
отчаянно! Одета она была чуть понарядней, чем обычно, и
Бекки, служанка, принесшая ту перемену, что значилась на
плане как рагу из баранины, с полным удовлетворением
оглядела свою барышню, когда с грудой тарелок выходи-
410
ла из комнаты. На бедную девушку и в самом деле стоило
посмотреть: ее невинный вид в сочетании с мягким
благородством мог привлечь иного куда больше, чем бойкая
красота ее сестер. Двое молодых гостей не преминули это
отметить; один из них, маленький художник, уже давно
как отметил.
— Вы опоздали, мисс,— прокричала миссис Ганн,
делая вид, что не знает, из-за чего задержалась дочка.—
Вечно вы опаздываете! — Старшие девицы понимающе
перемигнулись, как всякий раз, когда их маменька
напускалась таким образом на Каролину; а та только
потупилась и, не сказав ни слова, принялась за свой обед.
— Брось, дорогая моя,—вмешался честный Ганн,—
если она и опоздала, ты же знаешь почему. Девушка, да
и никто, скажу я, не может сразу быть и тут и там; или
может, Свитой?
— Никак нет! — сказал Свигби.
— Почтенные гости! — продолжал мистер Ганн.—
Наша Карри, доложу я вам, задержалась внизу, готовя
пудинг для своего старенького папочки; а пудинг, могу вам
сказать, она готовит на славу.
Мисс Каролина раскраснелась пуще прежнего;
художник смотрел ей прямо в лицо; миссис Ганн величественно
проговорила: «Вздор!» и «Чепуха!». Один мистер Брэндон
вступился за Каролину.
— В своей жене,— сказал он,— искусство приготовить
пудинг я ценил бы выше, чем уменье превосходно играть
на фортепьяно!
— Фи, мистер Брэндон! Уж я бы не унизилась до
какой-то кухонной работы! — кричит мисс Линда.
— Пудинг готовить! Вот еще! Это унизительно! —
кричит Белла.
— Для вас, дорогие, конечно! — подхватила их
маменька.— От девиц из вашей семьи и в ваших
обстоятельствах не приходится ждать, чтоб они выполняли такую
работу. Другое дело Каролина: она, если иногда и делает
кое-что по дому, не приносит и половины той пользы, что
должна бы, принимая во внимание, что у нее за душой ни
шиллинга и что она живет у нас, как некоторые, из
милости.
Любезная дама и тут не упустила случая высказать
свое суждение о муже и дочери. Первого, однако, это
нисколько не задело; вторая же была в эту минуту совер-
414
гаенно счастлива. Разве добрый мистер Брэндон не
похвалил ее работу? И разве могла она требовать большего?
«Сегодня мама может говорить что угодно,— думала
Каролина.— Я слишком счастлива, что мне на нее
сердиться?»
Бедная глупенькая Каролина! Вообразить, что ты
можешь выстоять одна против трех женщин! Обед не на
много продвинулся, когда мисс Изабелла, некоторое время с
любопытством приглядывавшаяся к младшей сестре,
протелеграфировала мисс Линде через стол, кивая и моргая,
и наконец показала пальцем на-свой глубокий вырез:
белый, как я и раньше имел честь отметить, и ровно ничем
не прикрытый, кроме элегантного ожерелья в двадцать
четыре нити голубых бус чистейшего стекла,
заканчивавшихся премилой кисточкой. На Линде было подобное же
украшение, только кроваво-красное, тогда как Каролина
надела ради такого случая красивый новый воротник под
самое горло и брошку, выглядевшие тем нарядней на ее
убогом повседневном платье. Едва бедняжка увидела
сигналы своих сестер, она, еле справившись с дрожью и
краской, снова вспыхнула и задрожала. Опять она потупила
глаза, а ее лицо и шея заалели в один тон с фальшивыми
кораллами мисс Линды.
— Чего это девочки пялят глаза и хихикают? —
невинно спросил мистер Ганн.
— В чем дело, мои дорогие? — величаво промолвила
миссис Ганн.
— Как, вы не видите, мама? — отозвалась Линда.—
Посмотрите на мисс Карри! Да ведь она, ей-же-богу,
надела на себя воротник и брошку, которые привез нашей
Бекки в подарок лоцман Симе.
Девицы, давясь от смеха, откинулись на своих стульях
и хохотали все время, пока их маменька произносила
громовую тираду, в которой объявила поведение дочери
несообразным с достоинством благородной девицы, и в
заключение предложила ей выйти из-за стола и снять с себя
постыдные украшения.
Говорить ей это не было нужды; бедняжка бросила
один только жалобный взгляд на отца, но тот лишь
посвистывал и, по-видимому, в самом деле думал, что это —
веселая шутка; и когда она нашла в себе силы открыть
дверь и выбежать в коридор, вы могли бы услышать, как
она плачет горькими слезами, какими еще от роду не
плакала. Она сбежала вниз, на кухню, и когда достигла
412
своего скромного убежища, сперва подняла руку к шее,
как будто хотела сорвать Беккины воротник и брошь, но
тут же бросилась на грудь доброй судомойки и
разрыдалась — разрыдалась до первой в ее жизни истерики.
Сперва рыдания не были слышны в гостиной, где
молодые девицы, миссис Ганн, мистер Ганн и его приятель
из «Сумки Подмастерья» гоготали над великолепной
шуткой. Мистер Брэндон сидел, прихлебывая винцо, и
украдкой мерил насмешливым взглядом то тех, то других;
мистер Фитч тоже смотрел на окружающих, но совсем с
другим выражением — бородатое его лицо пылало гневом и
недоумением. Наконец, когда смех утих и снизу, из кухни,
донесся слабый отзвук рыданий, Эндрю не выдержал,
вскочил со стула и бросился вон из комнаты, прокричав:
— Ей-богу, это уж слишком!
— Что он хотел этим сказать? — удивилась миссис
Ганн.
А он хотел сказать, что с этого мгновения он по уши и
без ума влюблен в Каролину и что жаждет избить,
отхлестать, отлупить, оттузить, в клочья растерзать тех
закоснелых негодяев, которые так безжалостно над ней
смеются.
— С чего он вдруг взорвался, этот бородач? — сказал
джентльмен из «Сумки».
Мистер Ганн отшутился, намекнув, что Фитчу как
будто обед не пошел на пользу. Почтенное общество опять
расхохоталось.
Девицы сказали: «Нет, честное слово!..»
— Что и говорить, благородное
поведение!—воскликнула их маменька.— Но чего и ждать от бедняги?
Брэндон только прихлебнул еще винца, но когда Фитч
ринулся вон из комнаты, он поглядел ему вслед, и на его
лице заиграла более откровенная улыбка.
# * #
За этими двумя небольшими происшествиями
последовало молчание, и те минуты, пока оно длилось, мясные
блюда оставались на столе, а пудинг, в который бедная
Каролина вложила столько искусства, все не появлялся.
На отсутствие этого венца всей трапезы первым обратил
внимание мистер Ганн; и его супруга, довольно долго и
напрасно позвякав звонком, в конце концов попросила
одну из дочерей пойти и поторопить их там.
413
— Бекки! — закричала мисс Линда из прихожей, но
Бекки не отозвалась.— Бекки, нам что — до ночи ждать?—
продолжала молодая леди тем же пронзительным
голосом: — Мама велит подавать пудинг!
— Так пусть сама за ним и приходит! — заорала
Бекки, на каковое замечание Ганн и его весельчак приятель
снова разразились безудержным хохотом.
— Нет, это и впрямь уже слишком! — сказала,
вскочив, миссис Ганн.— Она у меня вылетит сию же
минуту! — И Бекки, конечно, пришлось бы уволиться, если бы
хозяйка не задолжала ей жалованье за год и три месяца;
а мадам об эту пору не склонна была выплачивать долг.
Обед наконец-то пришел к концу; дамы удалились пить
чай, оставив джентльменов за выпивкой; причем Брэн-
дон с редкой снисходительностью помогал осушить
бутылку опорто, восхищенно слушая тосты и сентенции, какими
среди людей того круга, в котором вращался Ганн, и
сейчас еще в обычае предварять каждый стакан вина.
Например:
Стакан 1.— Джентльмены,—говорит вставая, мистер
Ганн,— за кого этот стакан — не требуется объяснять: он
за короля. Долгие лета ему и его семье!
Мистер Свигби — тук-тук-тук — проводит свой стакан
через весь стол; и, важно возгласив: «За короля!» — пьет
до дна, под конец причмокнув губами.
Мистер Брэндон, недопив, останавливается на
половине и говорит:
— Ясно, за короля!
Мистер Свигби. Добрый это был стакан вина,
Ганн, дружище!
Мистер Брэндон. Отличный; хотя, сказать правду,
по части опорто я плохой судья.
Мистер Ганн (причмокнув). Отличное вино, с
превосходным букетом, лучшего мне не доводилось пить.
Полагаю, мистер Брэндон, вы-то привыкли только к
бордо. Я тоже пивал его в свое время, сэр, вот и Свигби вам
подтвердит. Я путешествовал, сэр, сюр ля континент,
смею вас уверить, и выпивал свой стакан бордо с
лучшими людьми Франции, равно как и Англии. Я не всегда
был тем, что я ныне, сэр.
Мистер Брэндон. Это видно по вас.
Мистер Ганн. Да, сэр. Пока не появился этот...этот
газ, я был главою, сэр, одной из первых фирм в торговле
гарным маслом — «Ганн, Блаббери и Ганн», сэр — Сити,
414
Темз-стрит. Я держал в Патни собственный выезд,—
лошадка и экипаж не хуже, чем сейчас вот у этого моего
друга.
Мистер Свигби. И даже еще получше, Ганн, не
сомневаюсь.
Мистер Ганн. Да, можно сказать — получше.
Самый наилучший, какой можно было достать за деньги, сэр;
а деньги, сэр, уж будьте уверены, я тратил, не жалея.
Да, сэр, да, Джеймс Ганн над кошельком не трясся; и
всегда он был окружен друзьями, и он счастлив, что и
теперь не лишен друзей. Мистер Брэндон, за ваше здоровье,
сэр, и чтоб нам часто встречаться и впредь за энтим
столом. Свигби, друг мой, храни тебя бог!
Мистер Брэндон. От души-—за ваше здоровье!
Мистер Свигби. Спасибо, Ганн. За ваше здоровье,
желаю долгой жизни, и преуспеяния, и счастья вам и всем
вашим. Будь счастлив, Джим, старина, храни тебя бог!
Я говорю это, мистер Бэндон... Брэндон... или как вас...
нет во всем Маргете человека лучше Джеймса Ганна —
больше того, во всей Англии нет. За миссис Ганн,
джентльмены, и за всю семью. За миссис Ганн! (Пьет,)
Мистер Брэндон. За миссис Ганн! Гип, гип, урра!
(Пьет.)
Мистер Ганн. За миссис Ганн — благодарю вас,
господа. Красивая женщина, мистер Брэндон! И сейчас
еще, правда? А видели бы вы ее тогда, когда я на ней
женился! Боже, как она была хороша — совершенство, сэр!
Какая фигура!
Мистер Свигби. Плохую вы бы за себя не взяли,
могу поручиться! Ха-ха-ха!
Мистер Ганн. Я вам когда-нибудь рассказывал, как
я тогда подрался на дуэли с полковым лекарем? Нет?
Так я расскажу. В те дни я был, понимаете, совсем
молодым человеком; и когда я увидел ее в Браселсе (в
«Брюсселе», как они произносят), я с одного взгляда влюбился
до потери сознания — просто врезался по уши. Но что
было делать? На дороге стоял другой — полковой лекарь,
сэр, форменный дракон. «Трус красавицу не завоюет»,—
сказал я себе, и вот я отважился. Она избрала меня, а
доктора начисто отставила. Однажды, ранним утром, я
имел с ним встречу в брюссельском парке и держался,
сэр, как мужчина. Когда дело было кончено, мой
секундант, драгунский поручик, сказал мне: «Ганн,— говорит
он,— много я видел мужчин под огнем — я сражался при
415
Ватерлоо, говорит, и не один долгий день я скакал бок
о бок с Веллингтоном; но — по хладнокровию я равного
вам не видал никогда. Джентльмены, за герцога
Веллингтона и британскую армию! (Джентльмены пьют.)
Мистер Брэндон. Вы убили доктора, сэр?
Мистер Ганн. Нет, зачем же? Я
по-джентльменски: дуло вверх и палю в белый свет!
Мистер Брэндон. Ого! Примечательный выстрел.
Так джентльмену и положено — метить в высший свет.
Ну, а доктор как? Небось, натерпелся страху?
Мистер Свигби. Ха-ха-ха! В белый свет! Здорово!
Мистер Ганн (побагровев). Позвольте, сэр!
Выражаюсь я, конечно, по-простецки. Но я никак не думал,
что гость станет над этим смеяться здесь, за моим же
столом!
Мистер Брэндон. Дорогой сэр! Заверяю вас и
клянусь...
Мистер Ганн. Мне это безразлично, сэр. Я вам
предложил все, что мог, и всемерно постарался почтить
вас. Если вам угодно смеяться надо мною, смейтесь, сэр.
Может быть, так оно принято в благородном обществе, но,
честное слово, в нашей канпании так себя не ведут —
верно, Джек? В нашей компании, пардоне муа, сэр.
Мистер Свигби. Джим! Джим! Ради бога! Мир и
гармония за вечерним столом... Дружеское веселье...
круговая чаша... Он ничего такого не имел в виду — разве
вы имели в виду что-нибудь такое, мистер... как вас?
Мистер Брэндон. Ровно ничего, даю вам слово
джентльмена!
Мистер Ганн. Если так, хорошо: вот вам моя
рука! — И добросердечный Ганн постарался забыть
оскорбление и продолжал беседу, как будто ничего не
произошло; но он был уязвлен в самое чувствительное
место, какое может задеть в человеке стоящий выше его,
и не забыл — не мог забыть — Брэндону его шутку. В тот
же вечер, в клубе, пьяный в лоск, он произнес не
одну речь на этот предмет и неоднократно ударялся в
слезы.
Удовольствие от званого обеда было вконец
испорчено; и так как разговор пошел обрывистый и скучный, мы
не станем его воспроизводить. Мистер Брэндон поспешил
удалиться, но не отважился встретиться за чаем с
дамами, которым Бекки, сменив, как видно, гнев на милость,
подала этот подкрепляющий напиток.
416
Глава IV,
в которой мистер Фитч возвещает о своей л юбки,
а мистер Брэндон готовится к войне
Из блистательной залы, где миссис Ганн с такой
широтой принимала своих гостей, знаменитый художник Анд-
реа Фитч бежал в еще более бредовом состоянии духа,
нежели то, в каком он пребывал обычно. Он поглядел в даль
улицы: там было сумрачно и пустынно; шел сильный
дождь, ветер играл на семиствольной свирели и дудел в
дымовые трубы. «Люблю бурю,— сказал торжественно
Фитч; и он завернулся в свой испанский плащ на самый
правильный манер (плащ был таких чудовищных
размеров, что его пола, когда художник закидывал ее через
плечо, смахнула объявление о сдаче комнат с дверей дома
напротив Ганнов).— Люблю бурю и одиночество»,— сказал
он, раскуривая большую трубку, набитую ароматным
«ороноко»; и так, во всеоружии, молодцевато сдвинув
шляпу на длинных своих кудрях, он быстро зашагал по
улице.
Андреа не любил курить, но все же завел трубку, видя
в ней характерный признак профессии художника и
живописную деталь костюма; равным образом он, не умея
фехтовать, всегда возил с собою в путешествиях пару
рапир; и, начисто лишенный музыкального слуха, всегда
имел под рукой гитару. Без этих принадлежностей облик
художника представляется незавершенным; а теперь он
решил добавить к ним еще один непременный атрибут —
возлюбленную. «Кто из великих художников не имел
возлюбленной?» — думал он. Он давным-давно мечтал о той,
кого он мог бы полюбить, к кому бы мог обращать свои
стихи,— ибо он был привержен к стихотворству. Он
сочинил сотни незаконченных поэм, обращаясь в них к
Лейле, Химене, Аде — воображаемым красавицам, которых он
воспевал в своих туманных стихах. С какой радостью он
заменил бы их всех подлинной очаровательнйцей,
облеченной в плоть и кровь! Итак, он шагал в этот вечер по
улицам — и сочувствие к бедняжке Каролине,
пробужденное тираническим глумлением миссис Ганн над
кроткой девушкой, привело его к решению, что отныне и вовек
она будет возлюбленной его души. Мона Лиза и Форнари-
на, Леонардо и Рафаэль — он думал о них и клялся, что
его Каролина прославится и будет жить в веках на его
полотнах. Пока миссис Ганн ждала мужчин в гостиной и
14 у. Теккерей, т, 1
417
развлекала их беседой за чаем и вистом; пока юная
Каролина, не ведая о внушенной ею любви, тихо плакала в
своей каморке на чердаке; пока в конторе мистер Брэи-
дон услаждался тонким разговором Ганна и Свигби за
вином и трубкой,—- Андреа ходил по берегу океана; и,
покуда не промок насквозь, уходился до самой пламенной
любви к бедной, всеми гонимой Каролине. Читатель мог
бы увидеть его (если бы ночь не была так темна и не было
слишком уж мокро, чтобы разумный человек захотел
выйти из дому ради такого зрелища),— читатель мог бы
увидеть, как он влез на прибрежную скалу и извлек
спрятанный на груди медальон, в котором хранился
перевязанный ленточкой локон. С минуту он смотрел на локон и
затем швырнул его прочь, в черный, кипящий далеко
внизу прибой.
— Ничей локон, кроме тваво, Каролина, вовеки не
будет покоиться на ентом сердце! — сказал он и, поцеловав
пустой медальон, водворил его на место. Ветреный юноша,
чей это локон он бросил в волны? Сколько раз Андреа под
величайшим секретом показывал эту самую прядь то тому,
то другому из собратьев по кисти и объявлял, что это —
волосы одной прелестной испанки, которую он любит до
безумия? Увы! Это было только измышлением его
распаленного ума; каждый из его друзей носил на груди
медальон с прядью волос, и Андреа, до сих пор еще не
любивший, срезал сей бесценный залог с парика
обворожительного манекена — с железными прутьями на
шарнирах вместо рук и ног и картонной головой, стоявшего
одно время в его студии. Я не думаю, чтобы художник
почувствовал стыд, совершая этот поступок: обладая
пламенным воображением, он и сам уверовал в то, что локон
дан ему в залог прелестной испанкой, и он решился
расстаться с ним, лишь уступая более сильному чувству.
Когда чувство определилось, молодой художник,
промокнув до нитки, вернулся домой; потом ночь напролет
читал Байрона; делал наброски и сжигал их; писал стихи,
обращенные к Каролине, и стирал их безжалостной
резинкой. Романтику положено не спать всю ночь и мерить
шагами комнату; и вы могли бы увидеть не одно
произведение Андреа Фитча с пометкой: «Полночь, 10
марта. А. Ф.»,— и вокруг инициалов лихой завиток его
росчерка. Он отнюдь не огорчился, когда за утренним завтраком
дамы сказали ему, что он ужасно как бледен,— и ответил,
прижав руку ко лбу и мрачно тряся головой, что не спал
Ш
всю ночь. И тут он испустил глубокий вздох; а мисс Белла
с мисс Линдой переглянулись, как у них было заведено, и
захихикали. Он, повторяю, был рад, что его печаль
замечена, и провел без сна еще две-три ночи; но его,
разумеется, еще более порадовало, когда на четвертое утро мистер
Брэндон резким, сердитым голосом крикнул Бекки, чтобы
она передала от него поклон джентльмену на третьем
этаже — поклон от мистера Брэндона — и сообщила ему, что
он всю ночь не сомкнул глаз от топота над головой. «Черт
возьми! Я сегодня же съеду,— решительно добавил
второй этаж,— если мистер Фитч не перестанет так шуметь!»
Мистер Фитч достиг своего и с этого дня стад тих, как
мышка; ибо ему желательно было не только влюбиться, но
еще дать всем и каждому уразуметь, что он влюбился,-—
а без этого что проку в la belle passion? *
Он взял теперь в обычай, где бы ни встречал он
Каролину, за столом ли или в коридоре, выкатывать на нее
большие свои глаза и испускать драматический стон. Блю*
да он оставлял нетронутыми, все только стонал, й взды-
хал, и выкатывал глаза. Миссис Ганн со старшими дочерью
ми дивились такому кривлянью: они не допускали мысли,
что мужчина может быть настолько глуп, чтобы
влюбиться в Каролину. Когда же эта мысль все-таки пришла им
в голову, она породила бурный смех и восторг; и дамы
уже не упускали случая подтрунить над Каролиной в
своей изящной манере. Ганн тоже любил подшутить (за
два десятка лет немало милых шуток сыграл этот
почтенный господин в залах избранных рестораций) и стал
называть бедную Каролину «миссис Ф.», и приговаривал,
что вместо «Карри-пари», как он называл ее раньше, он
впредь станет именовать ее «Карри в паре»,— и сам
смеялся над своим роскошным каламбуром и сочинил ещё
много других все в том же роде, каждый раз вгоняя
Каролину в краску.
Девушка, между прочим, страдала от этого
вышучивания куда сильней, чем можно бы подумать. Потому что,
когда почтительный страх, внушенный поначалу бородою
Фитча, рассеялся и художник написал с девиц портреты
и сделал ряд рисунков в их альбомах, слушая в неруши-*
мом молчании их шутки и разговоры, семейство Ганнов
пришло к заключению, что жилец их — круглый дурак, и,
сказать по правде, они были недалеки от истины, Во BceMt
Прекрасной страсти (франц.).
14*
419
что не касалось его искусства, Фитч и впрямь был дурак
дураком; а так как в живописи Ганны, как и большинство
англичан их круга, были глубоко невежественны,
получалось так, что нередко он за много дней подряд, завтракая
и обедая с ними за одним столом, не произносил ни слова.
Они стали смотреть на него с презрением и жалостью,
видя в нем безобидного, доброго человечка, немного
помешанного, стоящего по умственному развитию куда ниже
их и терпимого лишь потому, что он еженедельно вносил
в казну Ганнов столько-то шиллингов. Миссис Ганн, везде
и всюду говоря о нем, называла его не иначе, как «мой
дурак». Соседи и дети глазели на него, когда он важно
вышагивал по улице; и хотя любой девице, в том числе и
нашей милой Каролине, лестно, если завелся у ней
поклонник, все же такому поклоннику ни одна бы не
порадовалась. Барышни Макарти (после того как обе они
поначалу, когда он только что въехал в их дом, яро
принялись за ним охотиться и ссорились из-за него) теперь
клялись и божились, что он форменный шимпанзе; а
Каролина с Бекки сошлись на том, что художник все ж не
заслужил такого злого оскорбления.
— Он добрая душа,— сказала Бекки,— даром что
тронутый. Знаете, мисс, он после той давешней истории
дал мне полсоверена на новый воротник.
— А... а мистер... а на втором этаже,— спросила
Каролина,— ничего не говорили?
— Как это ничего! Веселый он господин, этот Брэн-
дон, право слово! Когда я на другое утро подавала ему
завтрак, он стал меня расспрашивать о лоцмане Симсе и
что-де Симе, хе-хе, получил с меня за воротник и брошку!
Бекки, надо сказать, очень верно передала свой
разговор с мистером Брэндоном; все происшедшее
чрезвычайно его позабавило, ив письме к своему другу виконту он
дал обстоятельный юмористический отчет о нравах и
обычаях туземцев, обитающих на острове Танет.
И вот, когда страсть мистера Фитча достигла полноты
развития — то есть в той мере, в какой она проявляла
себя вздохами и влюбленными взглядами,— в поведении
мистера Брэндона проявился дух соперничества, которым
недаром славятся мои соплеменники. Хотя Каролина в
тайниках своего глупенького сердца возвела его в
божество, в чудесного сказочного принца, который должен
вызволить ее из горестного плена, она ни разу ни словом ни
делом не дала мистеру Брэндону знать о своей склонно-
420
сти к нему, но, напротив того, с врожденной скромностью
избегала его теперь более старательно, чем раньше. Он же
и вовсе о ней не помышлял. Как мог бы такой Юпитер,
как мистер Брэндон, с заоблачной вершины своего
великосветского Олимпа уронить взор на такое ничтожное и
робкое создание, как бедная маленькая Каролина Ганн?
Подумав в день приезда, что она не лишена приятности,
он затем, вплоть до того званого обеда, не удостоил ее
больше ни единого помысла; и только после, обозленный
поведением барышень Макарти, он стал подумывать, что
было бы неплохо пробудить в них ревность и досаду.
«Какие-то грубые твари с дурацкой ухмылкой на
рожах и противными своими кавалерами, со всякими Бобби
Смитами и Джекки Джонсами, смеют смотреть на меня
сверху вниз — на меня, на джентльмена и знаменитого
mangeur de coeurs l — на умного, светского человека из
благородной семьи! Вот бы отомстить им! Какую
придумать обиду, чтоб она их побольней задела?»
Удивительно, до чего может дойти человек в своей
злобе. Дело в том, что мистер Брэндон уже давно старался
нанести девицам злую обиду, потому что с самого начала,
еще на заре их знакомства, как мы с прискорбием
должны признать, у него сложилось твердое намерение
погубить одну из них — ту или другую. И когда
благосклонное это намерение разбилось о холодность и безразличие
девиц, он тут же вообразил, что они его жестоко
оскорбили, и стал прикидывать, каким бы способом им отомстить.
Касаться этого предмета следует, конечно, деликатно,
так как наш век, по крайней мере на словах, стал
удивительно нравственным и даже слышать не желает о таких
вещах. Но природа человеческая, насколько я мог ее
изучить, не слишком изменилась за одно столетие — со
времен, когда Ричардсон писал свои романы, а Хогарт свои
полотна. Развратные Ловласы встречаются, сударыни, и
ныне, как тогда, когда не почиталось зазорным разобла7
чать подлецов; а потому мы просим извинить нас за
упоминание, что они существуют. Наши светские повесы еще
нередко совершают roueries 2, подобные той, что задумал
мистер Брэндон, и не только что не видят греха в
amourettes3, но даже готовы ими похваляться, особенно если их
1 Сердцееда (франц.).
2 Подлость, обман (франц.).
3 Любовных интрижках (франц.).
421
жертва — девушка простого звания. Если бы Брэндон
преуспел в задуманном, все его друзья (так высоко
нравственное состояние нашей британской молодежи)
объявили бы его обаятельным счастливцем — да и сам он был бы
о себе того же мнения; и совесть, я уверен, ни разу ни
одним напоминанием не укорила бы его за совершенный им
подлый поступок. Мужчина разрешил себе эту предельную
гнусность — обманывать женщину. Когда мы примем во
внимание, как он пользуется созданными им для себя
привилегиями, пожалуй, и впрямь начнешь сочувствовать
поборникам женского равноправия, указывающим на эту
чудовищную несправедливость. Мы читали о несчастной
женщине древних времен, которую набожные фарисеи
требовали немедленно побить камнями; но мы не
слышали, чтобы они поднимали вопль против мужчины,
соучастника в ее преступлении. Где был он? Наверно, весело, с
легкой душой, попивал в кругу друзей, угощая
собутыльников рассказом о своей победе.
Итак, почитая себя обиженным, мистер Брэндон
жаждал мести. Как ему отплатить дерзким девчонкам за то,
что они пренебрегли его ухаживанием? «Pardi! 1 — сказал
он.— Просто, чтоб наказать их наглость и заносчивость,
я готов всерьез приударить за их сестрой».
Все же некоторое время он не снисходил до
исполнения своей угрозы. Такой орел, как Брэндон, не ринется
вниз из-за горних своих облаков лишь затем, чтоб
ухватить мелкую мошку и снова взмыть в поднебесье,
довольствуясь столь незавидной добычей. Словом, он ни разу не
уделил мисс Каролине хотя бы мимолетной мысли, пока не
развернулись дальнейшие события, побудив великого
человека увидеть в ней предмет, достойный все-таки его
внимания.
Бурная страсть, неожиданно дроявленная
художником Фитчем к бедной маленькой Каролине, и была тем,
что подвигло Брэндона приступить к действию.
«Мой дорогой вжконт (писал он тому самому лорду
Синкбарзу, к которому адресовал свое прежнее письмо),
пожелайте мне удачи, ибо я вознамерился через неделю
напропалую влюбиться — а любовь не малое развлечение
в приморском городишке зимой.
Черт возьми! (франц.)
422
Я Вам рассказывал о прекрасной Джулиане Ганн и ее
семействе. Не помню, упоминал ли я, что у Джулианы
имеются две прекрасные дочери, Розалин да с Изабеллой;
и еще третья, по имени Каролина, менее красивая, чем ее
сестры (те от другого мужа), но все же довольно
приятная молодая особа.
Так вот, когда я прибыл сюда, я от нечего делать
решил приударить за двумя более красивыми; и
приударил — гулял с ними, говорил им всякие глупости;
проводил долгие скучные вечера с ними и с их маменькой за
чашкой сквернейшего чая: словом, по всей форме вел
осаду этих маргетских красавиц, рассчитывая, что они, по
общему для подобных случаев правилу, долго не устоят.
Как же я обманулся! Жалкая слепота аристократа!
(Мистер Брэндон всегда исходил из предпосылки, что его
родовитость и высокое положение в обществе не подлежат
сомнению.) Можете ли Вы поверить, что я, который
привык всегда и всюду прийти, увидеть, победить,— что здесь
я потерпел позорное поражение? Подобно тому как
американец Джексон одержал победу над нашими ветеранами
Испанской кампании, так и я, бывалый покоритель
континента, был разбит недостойным противником. Эти
бабенки так прочно укрепились в своей пошлости, что много раз
мои атаки бывали постыдно отбиты, и я не мог произвести
впечатления. Мало того, мерзавки открывали бешеный
огонь из своих редутов; и вдобавок подняли против меня
весь край. Скажу без околичностей, все их знакомые
пошляки ополчились на меня. Есть тут Боб Смит, торговец
галантереей; Гарри Джонс, содержатель чайной для
боксеров; юный Глаубер, аптекарь; и еще несколько
субъектов, которые, как завидят меня, готовы съесть живьем; и
все они по первому зову выйдут в бой за победоносных
амазонок.
Как джентльмену вести успешную борьбу против cette
canaille l — против форменной жакерии? Я уже
подумывал об отступлении. Но отступить мне неудобно по ряду
моих особых причин. Уехать в Лондон я не могу; в
Дувре меня знают; в Кентербери на меня, кажется, подано к
взысканию; в Чатеме расквартировано несколько пол*
ков — могут узнать, а это для меня небезопасно. Я
вынужден оставаться на месте — на этом распроклятом месте! —
пока надо мной не взойдет более счастливая звезда.
1 Этого сброда (франц.).
423
Но я решил хоть как-то использовать свое пребывание
здесь; и чтобы доказать свою настойчивость, я сделаю еще
одну попытку — с третьей сестрой,— да, с третьей, с
Золушкой в их семействе, и пусть ее сестрицы crevent d'en-
vie l. Я замыслил только лишь позабавиться,— не
причиняя зла,— потому что Золушка совсем еще дитя; а я —
я ведь самый безобидный человек на свете, но надо же мне
повеселиться. У Золушки, да будет Вам известно, есть
воздыхатель, бородач художник, о котором я Вам
рассказывал в первом письме. Он с недавних пор воспылал к ней
бурной страстью, и если и раньше он был сумасброд, то
сейчас рехнулся вовсе. Горе тебе, о художник! Делать
мне нечего; впереди еще целый пустой месяц; за это
время, помяните мое слово, я вволю посмеюсь над сей
художественной бородой. Не желаете ли получить выдранный
из нее добрый клок? Или набитый волосом диван?
Бороды достанет и на это; или Вы предпочтете увидеть
образчик золотых кудрей бедной маленькой Золушки? Только
прикажите Вашему покорному слуге. Жаль, у меня не
хватает бумаги, чтобы написать Вам отчет о званом обеде у
Ганнов, на коем я присутствовал, и о сцене,
разыгравшейся за столом; и о том, как Золушку приодела не фея, а
милосердная судомойка; и как маменька в негодовании
выгнала дочку из комнаты за то, что она предстала гостям
в наряде, принадлежавшем служанке. Но я не силен в
описаниях быта — мое forte 2 в другом. После обеда мы
пили опорто и провозглашали тосты. Вот — меню, имена
обедавших, их расположение за столом».
* * *
Перечень блюд и прочее мы приводили выше, так
что нет нужды снова выкладывать их здесь перед
читателем.
— Что за человек! — сказал, читая письмо друзьям,
юный лорд Синкбарз в искреннем восторге перед гением
своего наставника.
— И подумать только! Ведь такой был книгочей,
кончил первым и по классике и по математике! —
воскликнул другой.— Да не студент, а прямо Чудо-Край-
тон!
1 Лопнут от зависти (франц.).
2 Здесь: моя сила (итал.).
424
— А по-моему, честное слово, он позволяет себе
лишнее,— сказал третий, который был моралистом. Но тут как
раз из буфетной колледжа принесли в дымящейся чаше
молочный пунш, и веселые друзья взялись за дело.
Глава V,
которая содержит в себе всяческие
любовные переплеты
Барышень Макарти крайне возмутило, что мистер Фитч
посмел влюбиться в их сестру; и жизнь бедной Каролины,
как вы понимаете, не стала сколько-нибудь легче от
пробужденной таким образом зависти и злобы. Любовь
мистера Фитча стала для нее источником новых мучений. Мать
говорила ей в насмешку, что так как они оба нищие, то
они не могут сделать ничего умней, как пожениться; и
заявила в том же язвительном тоне, что лучшего она и
пожелать не может, чем видеть вокруг себя целый выводок
внуков, которые будут для нее пыткой и обузой, как сейчас
ее дочка. Когда намерения молодого человека стали всем
ясны (а ясны они стали в самом скором времени), его
едва не попросили немедленно съехать с квартиры — или,
говоря языком мистера Ганна, чуть не прогнали взашей;
к каковой мере, в негодовании возгласил достойный муж,
он прибегнул бы всенепременно. Но его супруга не
пожелала допустить подобной грубости, хотя и она, со своей
стороны, выражала художнику сильнейшее свое презрение.
Ибо надобно упомянуть об одном прискорбном
обстоятельстве: незадолго перед тем Фитч по просьбе миссис Ганн
уплатил ей за стол и квартиру не больше и не меньше, как
на целый квартал вперед, и художник имел в руках
расписку хозяйки в получении соответствующей суммы;
упоминание жены об этом обстоятельстве заставило Ганна
прикусить язык. Впрочем, точно известно, что сколько бы
миссис Ганн ни язвила дочь и как справедливо ни
поносила Фитча за бедность, в душе она была отнюдь не против
их брака. Во-первых, она любила устраивать браки; во-
вторых, она была бы рада хоть как-нибудь сбыть дочку
с рук; а в-третьих, у Фитча была богатая и бездетная
тетка — супруга аукциониста; к тому же она слышала,
художники нередко зарабатывают большие деньги, и Фитч,
кто его знает, мог оказаться талантливым художником.
Итак, ему позволили остаться в доме на ролях хотя и не
425
сделавшего предложения, но весьма усердного
поклонника; и сколько угодно вздыхать, и стонать, и писать стихи
и портреты своей возлюбленной, и строить воздушные
замки. Наша смиренная Золушка оказалась в довольно
сложном положении: она питает нежное чувство ко второму
этажу, обожаема третьим и должна услужать и тому и
другому, кидаясь на каждый звонок; при этом, как
старается она не замечать вздохов и взглядов, которыми дарит
ее художник, так равным образом она приучила себя,
бедняжка, к сдержанности и спокойствию в отношении
мистера Брэндона и не позволяет ему проникнуть в тайну,
трепещущую в ее сердечке.
Мне кажется, можно установить как почти неизменное
правило, что большинство романтичных девочек Каролини-
ного возраста лелеют такое же полурасцветшее чувство,
какое вынашивала в себе наша юная героиня; вполне,
конечно, невинное: лелеют и с наслаждением рассказывают
о нем по секрету какой-нибудь confidante 1 на час. А то
чего бы ради сочинялись романы? Напрасно, что ли, читала
Каролина о Валанкуре и Эмилии? И неужели же она не
извлекла доброго примера из всех пяти слезоточивых
томов, описывающих любовь девицы Эллен Map и сэра
Уильяма Уоллеса? Много раз она рисовала се.бе Брэндона
в причудливом наряде, какой носил обольстительный Ва-
ланкур; или воображала себя самое прелестной Эллен,
повязывающей ленту вкруг лат своего рыцаря и
отправляющей героя в битву. Спору нет, глупенькие фантазии; но
примите в расчет, сударыня, возраст нашей бедной девочки
и ее воспитание; ниоткуда не получила она наставлений,
кроме как от этих милых, добрых и глупеньких книг;
единственное счастье, отпущенное ей судьбой, заключалось
в этом молчаливом мире вымысла. Было бы жестоко
осудить бедняжку за ее мечты; а она предавалась им все
смелей и, краснея, делилась ими с верной Бекки, когда они
сидели вместе у негордого кухонного очага.
Однажды, хоть ей это и стоило сердечной муки, она
набралась храбрости и взмолилась к матери, чтобы та не
посылала ее больше наверх, в комнаты жильцов — потому
что она трепетала при мысли, что Брэндону при случае
откроется ее приверженность к нему; но такое соображение
никак не приходило в мудрую голову миссис Ганн. Она
подумала, что дочка уклоняется от встречи с Фитчем, и
1 Наперснице (франц.).
426
строго приказала ей исполнять свой долг и не строить из
себя гордячку; и, сказать по правде, Каролина не слишком
огорчилась, что принуждена и впредь видеться с Брэндо-
ном. Отдадим справедливость обоим джентльменам: ни тот,
ни другой еще ни разу не вымолвил ничего такого, чего
Каролине не подобало бы выслушать. Фитч скорее дал бы
разорвать себя на куски тысяче диких коней, чем позволил
бы себе хоть полусловом оскорбить ее чувства; а Брэндон,
хотя в обычных обстоятельствах не очень-то щепетильный,
был прирожденный джентльмен, и если не добродетель, то
вкус подсказывал ему обращаться с нею уважительно.
Что касается девиц Макарти, то мы упоминали выше,
что они уже не раз отдавали свое сердце; что мисс
Изабелла в ту пору нацелилась на некоего молодого виноторговца
и на лейтенанта или полковника Своббера, несшего службу
в Испании; а мисс Розалинда питала решительную
склонность к некоему знатному иностранцу с черными
великолепными усами, почтившему Маргет своим присутствием.
Первый из двух воздыхателей мисс Беллы, Своббер,
исчез с горизонта; с виноторговцем же она еще встречалась
довольно часто и, как полагают, почти решилась принять
его искания. А вот насчет мисс Розалинды я с
прискорбием скажу, что течение ее верной любви шло отнюдь не
гладко: француз оказался не маркизом, а маркером; и для
покинутой дамы разочарование было печальным и
горьким.
Мы бы давно об этом рассказали, если бы это
послужило в семействе Ганнов предметом долгих обсуждений; но
когда Ганн попробовал однажды подтрунить над
падчерицей по поводу ее незадачливой любви (пустив по такому
случаю в ход все то остроумие, которым издавна славился),
мисс Линда пришла в бешеную ярость и так себя повела,
что Джеймс Ганн, эсквайр, чуть с ума не своротил со
страху под излившимся на него потоком угроз, проклятий и
визга. Мисс Белла, тоже расположенная понасмешничать,
точно так же испуганно замолкла: ее милая сестрица
пригрозила сию же минуту вырвать ей глаза и добавила кое-
какие намеки касательно любовных дел самой мисс
Беллы,— намеки, от которых та сперва побелела, потом
побагровела, забормотала что-то насчет «бесстыдной лжи»
и выбежала вон из комнаты. Больше об этом предмете у
Ганнов не распространялись. И даже когда миссис Ганн
как-то обмолвилась об «этом подлом обманщике
французе», ее сейчас же оборвала... не сама обиженная, а мисс
427
Белла, резко прокричав: «Мамаша, придержите язык и не
приставайте к нашей милой Линде с такой чушыо». Очень
может быть, что между девицами произошел приватный
разговор, который, начавшись несколько озлобленно,
закончился вполне миролюбиво; и больше о маркизе не
упоминалось.
Итак, мисс Линда была относительно свободна (Боб
Смит, галантерейщик, и юный Глаубер, аптекарь, в счет
не шли); и к ее большой удаче изменнику-французу почти
немедленно нашелся заместитель.
Новый кавалер был, правда, человек простого звания;
но владел недурным именьицем, приносившим доходу
пятьсот фунтов в год, держал одноконный выезд и был, по
словам мистера Ганна, «превосходнейшим малым, какой
только жил на свете». Скажем прямо, этим новым
искателем был не кто иной, как мистер Свигби. В первый же
день, как его ввели в дом, две сестрицы явно произвели на
него сильное впечатление; он прислал в подарок мистеру
и миссис Ганн индейку с собственного птичьего двора и
шесть бутылок превосходного голландского джина; а через
каких-нибудь десять дней после первого своего визита
сообщил другу Ганну, что отчаянно влюблен в двух особ, чьи
имена он никогда — никогда!—не назовет. Достойный
Ганн прекрасно знал, в чем дело; ибо от него не
ускользнуло, что Свигби приуныл, и он правильно разгадал причину.
Свигби было сорок восемь лет, он был толстый,
здоровый, веселый и выпить был не дурак, но никогда не
числился в дамских угодниках, да и едва ли за всю свою
жизнь провел хоть шесть вечеров в дамском обществе.
Ганна он почитал самым благородным и утонченным
человеком на земле. Никогда он не слышал, чтобы кто-нибудь
пел лучше Джеймса или лучше шутил; никогда не
встречал такого светского господина, такого законченного
джентльмена. «У Ганна есть свои недостатки,— говаривал
он в «Сумке Подмастерья»,— у кого из нас их нет? Но,
скажу я вам, он самый славный парень, лучше быть не
может». С тех пор как он три года тому назад вступил во
владение своим именьицем, он без конца платил за Ганна по
счету, без конца давал ему в долг сегодня гинею, завтра
полгинеи. Чем Свигби занимался раньше, я и сам не знаю.
Что нам до того? Есть сейчас у него пятьсот фунтов в год
доходу, есть одноконный выезд? Есть! Так о чем разговор?
Со времени вступления в наследство, молодой веселый
холостяк успел взять от жизни свою долю удовольствий
428
(как он выражался— «свой кус»); каждый вечер он
захаживал в кабак, а то и в два; и пьян бывал, будьте
уверены, не меньше, как тысячу раз за три года. Многие при
этом пробовали его обобрать; но не тут-то было! Он знал
что к чему и в денежных делах всегда был прост и умен.
В Ганне его покорило благородство манеры: его похвальба,
его тон, аристократизм его эспаньолки. Приглашение в дом
к такому господину польстило его гордости; а когда он шел
к себе со званого обеда, описанного в предпоследней главе,
он был в бурном упоении от любви и хмеля.
«Роскошная женщина эта миссис Ганн! — размышлял
он, повалившись в гостинице на свою кровать,— а
девчонкой была, наверно, куда как хороша! Сейчас в ней добрых
шесть пудов, без седла и сбруи, как пить дать. А уж
барышни Макарти... Боже ты мой! Какие свежие, красивые,
шикарные девицы — настоящий шик и в той и в другой!
Волосы какие! Как вороново крыло — да, право слово,
вороные, как моя кобылка; а щечки, а шеи, а плечи!»
Назавтра в полдень он высказал те же замечания самому
Ганну, прохаживаясь с ним взад и вперед по молу и
покуривая манильские сигары. Он был в полном восторге от
проведенного вечера. Ганн принимал его хвалы с
благодушным величием.
— Кровь, сэр! — сказал он.— Кровь это все! Девчонки
получили такое воспитание, как мало кто еще. Я о себе
не#говорю; но их мать — их мать настоящая леди, сэр.
Сыщите мне в Англии женщину, которая лучше воспитана
и лучше знает свет, чем моя Джулиана!
— Не сыщешь,— это невозможно, сэр,— сказал Свигби.
— А знали бы вы, какое общество окружало нас
раньше, сэр, до нашего несчастья,— первое в стране! Замок
Бранденбург, сэр... жестоко обиженная королева Англии.
Бог ты мой! Джулиана там бывала запросто.
— Верю вам, сэр, по ней это видно,— сказал
убежденно Свигби.
— А девочки наши, разве же они не состоят в родстве
с первейшими семьями Ирландии, сэр? Состоят! Как я
заметил раньше, кровь это все; а в жилах этих молодых
девиц она лучшая из лучших: они в родстве с самой что
ни на есть исконной знатью.
— Им дано, конечно, все самое лучшее,— сказал
Свигби,— и по заслугам! — Тут он пустился повторять свои
давешние замечания: — Какие красавицы, сколько в них
шика! Какие глаза! И какие волосы, сэр!.. Вороные, сэр,
429
говорю вам, сплошь вороные, без подпалин. А цвет лица,
сэр,— да! И какие стати! Я отроду не видывал подобной
шеи и плеч!
Ганн, засунувший руки в карманы (приятель
поддерживал его за локоть), тут вдруг вытащил правую руку из
места ее укрытия, стиснул в кулак, осклабился в гнуснень-
кую ухмылку и так поддал мистеру Свигби под ребра, что
едва не свалил его в воду.
— Ах, хитрая бестия! — сказал мистер Ганн с
неизъяснимой выразительностью.— Ты и это высмотрел.
Поостерегись, Джо, мой мальчик, поостерегись!
И тут Ганн и Джо разразились громовым хохотом,
раскаты которого гремели снова и снова через промежутки
в пять минут до конца их прогулки. Разошлись друзья
весьма довольные оба; и когда они вечером встретились в
«Сумке», Ганн с таинственным видом потащил Свигби
в буфет и сунул ему в руку треугольник розовой бумаги,
на котором тот прочитал:
«Миссис Ганн и девицы Макарти просят мистера
Свигби оказать им честь и удовольствие своим обществом (если
у Вас нет на этот час более приятного занятия) за чашкой
чая завтра вечером, в половине шестого.
Вилла Маргаретта по Саламанкской дороге,
Северная сторона. Четверг вечером».
Когда один из джентльменов передавал, а другой читал
это послание, лица обоих сияли откровенной радостью.
И, как я склонен думать, миссис Ганн, вопреки
обыкновению, была в тот день вполне довольна поведением своего
супруга: честный Джеймс имел в кармане не больше и не
меньше, как тринадцать с половиной шиллингов, и, по
обыкновению, настоял на том, чтобы всем вокруг поставили
по стопке. Джо Свигби, оставшись один в малой зале за
буфетом, потребовал лист бумаги, новое перо и облатку
и за полчаса времени сочинил вдохновенный и
удовлетворяющий приличиям ответ на письмо, каковой и был вручен
Ганну и своевременно передан по назначению. Ровно в
половине шестого мистер Джозеф Свигби постучал в дверь
«Виллы Маргаретта» — в новом сюртуке с блестящими
медными пуговицами, чисто побритый и с большими ярко-
красными ушами, радостно сиявшими над большим
воротником.
Что происходило на этом чае, рассказывать здесь ни
к чему; но только Свигби возвращался с него еще сильнее
430
очарованный, чем в первый раз, и объявил, что дуэты
(спетые дамами прескверно и вразброд) были сладчайшей
музыкой, какую он слышал в жизни. На другой день он
прислал индейку и джин; и, разумеется, был приглашец на обед.
После обеда он, со своей стороны, предложил повезти
всех девиц с их мамашей за город; и нанял для поездки
прямо-таки шикарную коляску с откидным верхом.
(Предложение не было отклонено; на радостях мистер Свигби
предложил и Фитчу поехать со всеми, и тот с восторгом
согласился.
—¦ Мы с Джо сядем на козлы,— сказал Ганн.— Вы,
четыре дамы и мистер Фитч устроитесь внутри. Карри
придется приткнуться на сиденье третьей, но она не
толстая.
— Карри проста останется дама,— распорядалась ее
маменька,— ей выезжать не пристало.
У бедного Фитча сразу вытянулось лицо; он только
ради того ж принял приглашение, чтобы побыть с нею
рядом, а идти ;на попятный он уже не мог, после того как
с хакшмеаром изъявил согласие.
— ^Ш, не нужно нам этого гордеца Брэндона,—
запротестовали девицы, когда мшетер Свигби в простоте
душевной предложил прихватить и «того джентльмена»; и Брэн-
дон поэтому не получил приглашения участвовать в
поездке; он, пожалуй, был рад остаться дома; и без сожаления
наблюдал, как коляска отшезжает со всем своим грузом.
И кое-кто еще смотрел на это в окно гостиной, смотрел
с тяжелым сердцем: бедняжка Каролина. День выдался
ясный и солнечный; шеена ш тот год была ранняя; так
приятно было бы хоть на часок тоже сделаться дамой и
прокатиться на резвых конях в нарядном экипаже.
Мистер Фитч, оглядываясь, устремлял на лее покорный
и очень печальный взгляд; и был так уныл и бестолков
всю первую половину поездки, что мисс Линда, сидевшая
рядом с ним, предложила отчиму поменяться с ней
местами; и в самом деле взобралась на козлы и села рядом со
Свигби, млевшим от счастья. Каким гордым он
почувствовал себя! Как лихо правил лошадьми и кидал шиллинги
у застав!
— Уж он, будьте уверены, о мелочи не тревожится! —
сказал Ганн, когда у одной заставы сторож, взимавший
дорожный сбор, дал было сдачи пару медяков; и Джо
почувствовал себя бесконечно обязанным другу, что тот таким
путем выставляет на вид его привлекательные черты.
431
О всесильная Судьба, ты, верховная правительница над
нами, жалкими смертными,— какими мелкими средствами
достигаются твои цели! — с какою презрительной
легкостью и посредством какого же ничтожного орудия угодно
тебе вершить свою власть над родом человеческим! Пусть
каждый поразмыслит, как слагались обстоятельства его
жизни и что определило ее направление. Встать ли
немного раньше или позже, на ту ли улицу свернуть или на
эту, то ли блюдо съесть или другое,— такой пустяк может
на все года определить вашу дальнейшую жизнь. Пошел
человек по левой стороне Риджент-стрит вместо правой,
встречает приятеля; тот приглашает его к себе на обед, он
идет, находит, что черепаховый суп на диво хорош, а пунш
со льдом так приятно прохлаждает; и, будучи в веселом,
легком расположении духа и не прочь развлечься, он не
отказывается сыграть в приятном обществе один роббер
в вист — и почему бы не пропустить еще стакан
прохладительного этого пунша! Самым беспечным, благодушным
образом он ставит несколько ремизов; а жажда все дает
себя знать, и он ставит еще несколько ремизов; и, как
человек горячий, он, понятно, удваивает ставки, и вот через
эту самую дрогулку по Риджент-стрит он на всю жизнь
разорен. Или пошел он вместо левой по правой стороне
Риджент-стрит, и —боже правый!-—кто эта
очаровательная девица, что выходит из лавки мистера Фрэзера и
садится в свою карету, а мистер Фрэзер отвешивает ей и ее
маменьке самый учтивый поклон? Это прелестная мисс
Мойдор со ста тысячами фунтов приданого, которая
изволила заметить вашу изящную фигуру и которая неизменно
по первым числам каждого месяца ездит в город покупать
свой обожаемый журнал. Вы едете за нею следом так
быстро, как только может вас везти наемная пролетка. Всю
дорогу девица читает журнал. Останавливается она в Хэм-
стеде у изящной виллы своего отца — с оранжереей,
двойным каретником, лужайкой — какое там, целым парком! —
для. прогуливания лошадей. Когда тяжелые ворота уже
готовы разлучить вас с этой милой девушкой, она
оглядывается — всего лишь раз — и краснеет. Erubuit, salva est
res! — покраснела, значит^ дело на мази. Через неделю вы
уже представлены семье и вас объявляют
обворожительным молодым человеком самых высоких правил. К концу
третьей недели вы оттанцевали с нею двадцать девять
кадрилей и промчали ее в вальсе много миль. Через месяц
миссис О'Флаэрти кинулась на шею своей матери, только
432
что вернувшись из деревни Гретна близ Карлайла, где она
гостила, и после этого вы до конца ваших дней имеете
открытый счет у своего банкира. А что причиной всему
этому благополучию? Прогулка по определенной стороне Рид-
жент-стрит. И это столь верный и бесспорный факт, что
один мой знакомый, молодой джентльмен из Шотландии,
изо дня в день по нескольку часов мерит шагами
названную улицу в твердой надежде, что такое же приключится
и с ним; и в этих видах он за углом, в переулке Виго-лейн,
держит наготове кеб.
Читатель, несомненно, ждет, что теперь после
обстоятельного рассуждения должна последовать мораль. Так
вот: рассматривая события нашей повести в свете данного
выше небольшого экскурса о судьбе, мы приходим к
следующим простым выводам: 1. Если бы мистер Фитч не
услышал, что мистер Свигби приглашает всех
присутствующих дам, он не принял бы приглашения Свигби и остался
бы дома. 2. Если бы его не было в коляске, мисс Розалин-
да Макарти не сидела бы с ним рядом на переднем сиденье.
3. Если бы он не был угрюм, она ни в коем случае не
попросила бы своего папашу уступить ей место на козлах.
4. Если бы она не поменялась местами со своим папашей,
не последовало бы ни одно из тех обстоятельств, какие
отсюда проистекли. Обстоятельства же эти были таковы:
1. Мисс Белла оставалась в экипаже.
2. Мистер Свигби, колебавшийся между двумя
девицами, как известное животное между двумя охапками сена,
в силу этого обстоятельства пришел к решению и сделал
предложение мисс Линде, шепнув девице: «Мисс, я не
ровня такой, как вы; но я крепок, здоров, имею доходу пять
сотен в год. Вы пойдете за меня?» Сказать вам правду,
этой речи его обучил хитрый Ганн, который ясно видел,
что Свигби готов объясниться не с одной, так с другой из
его падчериц. И на это девица — тоже шепотом —
взволнованно ответила: «Ах, что вы, мистер Свигби! Какой вы
странный! Как вы можете? — И, немного помолчав,
добавила: — Поговорите с маменькой».
3. (И главное для нашей повести.) Если бы маленькую
Каролину взяли на прогулку, она не осталась бы в Марге-
те одна, наедине с Брэндоном. Когда судьбе угодно, чтобы
что-то произошло, она высылает вперед миллионы мелких
обстоятельств расчистить и подготовить дорогу.
Читатель, верно, наблюдал, что в апреле месяце (как,
впрочем, и в добром десятке других месяцев в году) прёоб-
433
m
ладает холодный, северо-восточный ветер; и когда,
соблазненный проблеском солнца, он выйдет подышать свежим
воздухом, то получит он его в таком количестве, что ему
хватит озноба до конца злополучного этого месяца. В один
из таких дней, отмеченных прелестной английской погодой
(как раз накануне увеселительной поездки, описанной в
этой главе), мистер Брэндон, проклиная всей душой
родную страну и думая о том, насколько же больше
соответствуют его натуре ветры и нравы, господствующие у
других народов, разгуливал среди скал близ Маргета под
разбушевавшимся восточным ветром,, которого не перенес бы
ни один обыкновенный смертный, когда вдруг он набрел
на знаменитого Андреа Фитча: с синими от холода
пальцами художник сидел на уступе скалы и на серой бумаге
рисовал углем этюд — вид то ли на море, то ли на сушу.
— Чудесный день выбрали вы для этюдов,—
язвительно сказал Брэндон, высунув из мехового воротника пальто
лиловый кончик своего тонкого орлиного носа.
Мистер Фитч улыбнулся, поняв иронию.
— Художнику, сэр,— возразил он,-— холодная погода
нипочем. В Академии был парень, который писал в Йис-
ландии етюды при двадцати градусах ниже нуля — гору
Хеклу, сэр! Ето он первый подал йидею насчет горы Хеклы
для Зоологического сада в Сарри.
— Он был, наверно, редким энтузиастом,— сказал
мистер Брэндон.— Мне кажется, большинство предпочло бы
сидеть дома и не студить себе пальцы в такой мороз и
бурю.
— Что мне буря, сэр? — величественно провозгласил
Фитч,— в буре, сэр, я оживаю! Йистинный художник
только тогда и бывает по-настоящему счастлив, когда он может
вволю смотреть на бурную стихию окияна в час ш^гнева.
— А вот идет пароход,— ответил Брэндон.— Жне
думается, там жмутся на палубе десятка два несчастных,
которые, не будучи художниками, предпочли бы видеть ваш
океан спокойным.
— Они не поэты, сэр: величественный лик природы,
непрестанно меняющий свои черты, сокрыт для их глаз.
Я почитал бы себя недостойным свцро йискусства, если бы
не мог ради него терпеть пустячные лишения, такие, как
холод или зной. И, кроме того, сэр, как они ни тяжки,
подобное зрелишше полностью меня вознаграждает; ибо,
сколь бы ни были страшны мои личные беды,-- а они
чудовищны! — я не могу, взирая на зелень полей и грозное
434
море, не забыть хотя бы наполовину выпавшие мне на
долю горе и обиды; да и вправе ли такое жалкое создание,
как я, думать о собственных делах пред лицом подобного
зрелишша? Да, сэр, не могу! Мне становится стыдно; я
склоняю голову и затихаю. Когда я берусь за изучение
йискусства, сэр (а под ним я разумею природу), я не смею
помышлять о чем-либо еще.
— Вы избрали предметом обожания весьма
очаровательную и отзывчивую даму, сэр,— высокомерно ответил
мистер Брэндон, разжигая сигару и делая первую
затяжку.— Ваше пламенное увлечение делает вам честь.
— Если у вас найдется еще одна,— сказал Андреа
Фитч,— я бы охотно закурил, потому как у вас, мне
кажется, есть подлинная любовь к йискусству, а я здесь
дьявольски продрог, прямо нет сил терпеть этот холод.
— Да, холод жестокий,— отозвался Брэндон.
— Нет, нет, я не о погоде, сэр! — сказал мистер
Фитч.— Здесь вот, сэр (указывая на жилетку с левой
стороны),— здесь!
— Что! У вас тоже горе?
— Горе, сэр? Муки... хвагония, которую я никогда не
открывал ни единому смертному! Я перенес почитай что
все: голод, сэр, нищету, наветы, безответную любовь!
Когда бы не мое йискусство, я был бы самым несчастным
созданием на земле!
И тут мистер Фитч принялся изливать в уши мистера
Брэндона повесть о всевозможных горестях, какие ему
выпадали на долю и в которые он посвящал всех и каждого,
кто только не отказывался слушать.
Мистера Брэндона забавляла болтовня Фитча, и тот
рассказывал ему, какие лишения он терпел, учась своему
искусству: как он три года голодал в Париже и Риме, работая
на избранном им поприще; какую низкую зависть
проявила Королевская академия, ни разу не выставив ни одной
его картины; как его выгнало из Вечного города внимание
необъятно толстой миссис Каррикфергус, которая так-таки
сама предложила ему себя в жены; и как он в настоящее
время влюблен (факт, мистеру Брэндону уже достаточно
известный) — безумно и безнадежно влюблен — в одну из
красивейших девушек мира. Ибо Фитч, утолив жажду
сердца избранием возлюбленной, теперь горел нетерпением
найти наперсника: какая, в самом деле, радость от любви,
если нельзя говорить о своих переживаниях другу,
способному им посочувствовать? Фитч не сомневался, что Брэн-
435
дон на это способен, потому что Брэндон был самым
первым человеком, с которым художник вступил в разговор
после того, как пришел к решению, изложенному в
предыдущей главе.
— Надеюсь, она не менее богата, чем злополучная
миссис Каррикфергус, с которой вы обошлись так жестоко? —
сказал наперсник, изображая полное неведение.
— Богата, сэр? Напротив, у нее, благодарение богу, нет
ни гроша!
— Тогда, надо думать, вы сами человек
обеспеченный,— сказал с улыбкой Брэндон.— Потому что для вступ-
ления в брак необходимо, чтобы та или другая из сторон
принесла некоторую долю презренного металла.
— Разве нет у меня, сэр, моей профессии? — возразил
горделиво Фитч, за пять минут до того объявивший, что
при своей профессии он голодает.— Или вы думаете,
художник ничего не зарабатывает? Разве я не получаю
заказов от первых людей Европы? Поручений, сэр, написать
йисторические холсты, батальные холсты, алтарные...
— Шедевры, разумеется! — сказал Брэндон с учтивым
поклоном.— Джентльмен вашего удивительного дарования
может писать только шедевры.
Восхищенный художник густо покраснел при таком
комплименте и клятвенно стал уверять, что его работы,
право же, не заслуживают столь высокой похвалы; тем не
менее он признал в мистере Брэндоне великого знатока и
раскрыл перед ним душу с еще большей откровенностью.
Этюд был тем часом закончен. Художник встал, собрал
свои рисовальные принадлежности, и джентльмены
двинулись в обратный путь. Мистер Брэндон расхвалил этюд, и,
когда они пришли домой, Фитч ловко выдрал его из
альбома и с изящной маленькой речью преподнес своему другу,
«даровитому ценителю».
«Даровитый ценитель», изливаясь в благодарностях,
принял рисунок. Он оценил его так высоко, что вскоре
даже оторвал от него клок на раскурку сигары — и тут,
увидав, что на обороте листа что-то написано, разобрал
нижеследующее:
Песня фиалки
Цветок смиренный, безотрадно
Я возросла в глуши лесной,
Где дождь меня стегал нещадно,
Глумился ветер надо мной.
436
Но вот фиалку в день ненастный
Приметил чей-то добрый глаз,
И путник, сжалясь над несчастной,
Ее сорвал и спас!
С тех пор, вдали родной долины,
Мне бурь не страшен произвол,
Я на груди у Каролины
Нашла приют от горьких зол.
Цветы — увы! — недолговечны...
Недолго же и мне цвести,
Хотя мне дышится беспечно
У девственной груди!
Мой аромат с моим дыханьем
Она впивает с лепестка
И каждым тихим колыханьем
Напоминает: «Смерть близка!»
Но есть поэт... Он век свой длинный
Отдаст, чтобы на той груди
Узнать блаженства час единый,
А там — хоть смерть приди!
Андреа
Прочитав стихи до конца, мистер Брэндон отложил их
с немалой досадой и сказал:
— Черт возьми! Парень дурак дураком, а не так он
глуп, как кажется; и если будет продолжать в том же духе,
он, чего доброго, вскружит девчонке голову. Они не могут
устоять перед мужчиной, если тот достаточно настойчив,—
уж мне ли не знать!
И мистер Брэндон погрузился в раздумье о своем
многообразном опыте, подтверждавшем его наблюдение, что
как бы ни был глуп мужчина, дама уступит ему, хотя бы
просто от усталости. Ему вспомнилось несколько случаев,
когда мужчина подносил и подносил стихи,— и, глядишь,
девица сменила неприязнь на терпимость, терпимость на
неравнодушие, а неравнодушие привело ее в церковь
св. Георгия на Гановер-сквере.
— Мерзавец, не щадящий свой родной язык, чтобы
сгубить такую милую малютку! — закричал он в горячем
порыве.— Не бывать тому, или я не я!
С той минуты Каролина стала ему представляться все
красивей, и он сам оказался чуть ли не так же влюблен
в нее, как Фитч.
Вот почему мистер Брэндон возрадовался, увидав, что
Фитч уезжает в экипаже Свигби. Мисс Каролины с ними
не было. «Час настал!» — подумал Брэндон и, позвонив
437
в звонок, он не без волнения справился у Бекки, где мисс
Каролина. Надо признаться, хозяйка и служанка были
при обычном своем занятии, то есть работали и читали
роман в задней гостиной. Бедная Карри! Какие выпадали ей
другие радости?
Не много одолела она страниц, и Бекки не много
сделала стежков, штопая обеденную скатерть, которую
рачительная домоводка, миссис Ганн, поручила ее заботе, когда
раздался робкий стук в дверь гостиной. Залившись
краской, Каролина вздрогнула и уронила свою книгу, как это
делает в комедии мисс Лидия Ленгвиш.
Мистер Джордж Брэндон вошел с самым смиренным
видом. Он держал в руке шейный платок черного атласа,
сильно разодранный с одного конца. Было ясно, что
носить его в таком виде невозможно; но мисс Каролина
слишком застыдилась и затрепетала, чтобы у нее могло
возникнуть подозрение, что коварный Брэндон сам
разорвал свой шарф за секунду перед тем, как вошел в
комнату. Не знаю, заподозрила ли что-нибудь такое Бекки,
или это обычная плутовская улыбка, всегда
появлявшаяся на ее лице, когда ей что-нибудь нравилось, заиграла
сейчас в ее глазах, растянула ей рот и собрала в
складки ее толстые красные щеки.
— У меня приключилась беда,— сказал он,— и я буду
очень обязан мисс Каролине, если она меня выручит
(«Каролине» было произнесено с какой-то нежной запинкой,
от которой девушка, названная так, покраснела еще
сильней, чем обычно).— Другого шарфа у меня в запасе нет,
а нельзя же мне выходить на улицу с голой шеей; ведь
правда нельзя, мисс Бекки?
— Конечно, нельзя,— сказала Бекки.
— Это можно только знаменитому художнику, такому,
как мистер Фитч,— добавил Брэндон с улыбкой, сразу
отразившейся и на лице той дамы, в которой он искал
возбудить интерес.— Великому гению,— добавил он,—
разрешается что угодно.
— А у него,— говорит Бекки,— борода такая большая,
что и шее от нее тепло!
На это замечание, несмотря на то что мисс Каролина
бросила благопристойное: «Как не стыдно, Бекки!» —
мистер Брэндон разразился таким смехом, что, корчась,
повалился прямо на диван, на котором сидела мисс
Каролина. Как она испугалась, как задрожала, когда он
вскинул руку на спинку дивана! Мистер Брэндон, не подумав
438
извиниться за свой достаточно дерзкий поступок, стал и
дальше отпускать шутки по адресу бедного Фитча, так
хитро применяясь к пониманию служанки и барышни, что
одна каждый раз встречала их раскатом смеха, а другая
против воли улыбалась. Брэндон, надо сказать, совсем
покорил Бекки своими утренними разговорами, и она теперь
заранее была готова рассмеяться, едва он скажет слово.
Сколько его тонких замечаний честная судомойка донесла
со второго этажа до Каролины и как безжалостно
умудрялась она их estropier *, пока несла из его гостиной в
кухню!
Итак, пока мистер Брэндон, как выразилась Бекки,
«валял дурака», Каролина взяла его единственный шарф
и принялась своими маленькими пальчиками устранять
беду, которую он учинил. Было ли то по ее неловкости?
Но, так или иначе, на починку не могло не потребоваться
хоть несколько минут: mangeur de coeurs не преминул их
использовать. Он повел беседу легко, любезно, в
доверительном тоне, быстро успокоив этим нашу трепетную
героиню, так что она уже была способна на его
нескончаемые вопросы, которые он ставил очень ловко и с видом
братской заинтересованности, ронять те нескончаемые
«да» и «нет», такие милые и робкие, бросать украдкой те
нежные быстрые взгляды, какими юные и скромные
девушки обычно отвечают на вопросы обольстительного
молодого холостяка. Драгоценные «да» и «нет», как вы
прелестны, когда вас нежно шепчут розовые губки!..
Взгляды быстрых невинных глаз, как вы очаровательны... И как
очарователен легкий румянец, заливающий щечку, на
которую ложится темная тень ресниц под опущенными
веками в голубых прожилках! Здесь, однако, разрешите
аьтору торжественно вас заверить, что он не имеет в виду
ничего неподобающего или безнравственного. Лишь
посмотрите, прошу вас, на невинную", застенчивую
шестнадцатилетнюю девушку: была бы она только добра, а уж
миловидна она непременно. Она уже взрослая женщина,
но еще и девочка. Как прелестна вся ее повадка! Как
изысканна ее неосознанная грация! Ни одна Клеопатра со
всеми своими уловками так не пленительна, как она в
своей естественности. Кто устоит перед ее доверчивой
простотой или не будет растроган и побежден ее нежным
призывом к покровительству?
Исказить (франц,)%
4Э9
Все это Брэндон видел и понимал, как понял бы
всякий другой джентльмен, прошедший ту же школу. Не надо
думать, что если мужчина подлец, то он не способен
оценить по заслугам добродетель и чистоту; и наш герой
испытывал к этому простому, милому, нежному,
бесхитростному созданию истинное уважение и симпатию —
симпатию такую живую и сладостную, что он был только рад
уступить и предаться ей, возможно, даже принимая ее за
истинную любовь к добродетели и возвращение к дням
своей невинности.
Нет, мистер Брэндон, ничего подобного здесь не было.
Причиной здесь было лишь то, что порок и разврат вам
к этому времени приелись, а эта милая добродетель
явилась чем-то новым. О, только потому, что в своей
пресыщенности вы давно отвыкли от этого простого блюда,
сейчас вы так остро почувствовали вкус к нему; и я
вспомнил о вас не далее как в прошлую субботу, у мистера
Лавгроува, в «Вест-Индской таверне», в Блекуолле, когда
пятнадцать приятелей-эпикурейцев, которые только что
с презрением отвергли черепаховый суп, поморщились на
пунш и отправили обратно шпроты, вдруг все, как один,
набросились на... свинину с бобами. И если прилежный
читатель романов переберет в уме большую часть
прославленных произведений этого рода, появившихся за
последнее время в нашей стране и за границей, он убедится, что
у авторов среди широкого разгула чувства и
развращенности ума время от времени возникает аппетит к
невинности и свежести, и они нас по такому случаю потчуют
свининой с бобами. Как долго мистер Брэндон оставался
возле Каролины, у меня нет возможности установить;
однако очень вероятно, что он задержался много дольше,
чем это было нужно для починки его черного атласного
платка. Между прочим, я подозреваю, что он прочел дамам
вслух изрядную часть «Тайн Удольфского замка», за
которыми он их застал; и перемежал при этом чтение
своими собственными примечаниями, и трогательными и
насмешливыми. Провел ли он в их обществе полчаса или
четыре, но несомненно одно — что время пронеслось для
бедной Каролины очень быстро; и когда подъехал к двери
экипаж и раздался резкий голос, звавший: «Бекки!», «Кар-
ри!» —и судомойка Ребекка подпрыгнула с криком:
«Батюшки... хозяйка приехала!» — а Брэндон вскочил с
дивана довольно-таки поспешно и побежал к себе наверх,—
когда развертывались все эти события, Каролина, я знаю,
¦440
чувствовала глубокую печаль, и дверь своим родителям
она открывала с тяжелым сердцем.
Свигби с необычайной нежностью помог мисс Линде
слезть с козел. Папенька шумел и ревел в веселом
благодушии и потребовал «горячей водички и стопок —
немедленно!». Миссис Ганн была благосклонна, а мисс Белл—
очень не в духе, на что у нее имелась основательная
причина, так как она сама перебила у сестры место в экипаже
на заднем сиденье и через свое же упрямство упустила
жениха.
Мистер Фитч, войдя в дом, подарил Каролину
глубоким вздохом и многозначительным взглядом и молча
поднялся в свои комнаты. Шел он, погруженный в думу. Дело
в том, что он старался вспомнить стихотворение о фиалке,
сочиненное им пять лет тому назад и куда-то
исчезнувшее из ею бумаг. И, поднимаясь по лестнице, он бормотал:
Цветок смиренный, незаметно
Я возросла в глуши лесной...
Глава VI,
где описывается свадьба в благородном
семействе и новые искательства
Нет нужды подробно описывать празднества^
устроенные по случаю бракосочетания мистера Свигби с мисс Ма-
карти. В карете четверней счастливая чета укатила в
деревню, в имение новобрачного, взяв с собою стыдливо
краснеющую сестру новобрачной; а когда первая неделя
их медового месяца истекла, миссис Ганн вкупе со своим
примерным супругом поехала погостить у молодоженов.
Мисс Каролина была, таким образом, оставлена за
единоличную хозяйку и получила от маменьки ряд особых
наставлений — как она должна соблюдать благоразумие,
наводить экономию, аккуратно вести на жильцов счета,
всегда сидеть дома.
Принимая во внимание, что один из проживавших в
доме джентльменов был откровенным воздыхателем мисс
Каролины, я полагаю довольно странным, что мать
оставила ее безо всякого покровительства; но в этих делах
бедные люди не так щепетильны, как богатые; и молодая
девица оказалась, таким образом, под опекой собственной
своей невинности и добропорядочности жильцов; да и не
было у миссис Ганн никаких оснований сомневаться в по-
441
следней. Что касается мистера Фитча, так он скорее от-
бы разорвать себя
олил бы себе неуч
бы ей оскорбление
О
, чем
t^ о
Ганн
ложить, что ее второй жилец окажется чуть менее
добропорядочен? Что он питает хоть какой-то интерес к ее
третьей дочери
жал
девочке, которая и в счет-то не идет? Итак,
не чая ничего худого и посадив рядом с собою в
одноконную извозчичью повозку мистера Ганна, облаченного в но-
t-* *3
выи с иголочки зеленый сюртук с золочеными пуговицами,
Джулиана Ганн отправилась проведать свое любимое дитя
и приободрить ее в супружеском бытии.
Здесь, если бы дозволено мне было занимать читателя
сторонними делами, я мог бы дать прелюбопытную и очень
трогательную картину свигбиевского menage!. Миссис
Свигби, скажу вам с великим моим сожалением, поссори-
Я*
лась с мужем на третий день их супружества,— а из-за
iero, вы спросите? Да из-за того, что он курил, а
джентльмену курить не пристало. И Свигби покорно дал отставку
трубке, а с нею — одному из самых покойных, счастливых
и добрых товарищей холостой своей жизни. После этого
его как подменили: трубка была частью его тела.
Одержав во вторник победу над трубкой, миссис Свигби в
четверг дала сражение мужнину рому в кипятке, напитку с
отвратительным запахом, как она вполне справедливо
заметила; а теперь этот запах стал еще вдвое
отвратительней, оттого что табачный дым больше не насыщал собою
воздух гостиной и не перебивал ароматов сока, добытого
из вест-индского сахарного тростника. В четверг мистер
Свигби и ром держались стойко. Миссис Свигби вела
атаку сперва посредством одиночньгх метких выстрелов, а
затем мощными залпами обвинения в вульгарности; на что
Свигби отвечал артиллерийским огнем проклятий (правда,
направленным по преимуществу на собственные свои
глаза) и громогласными заявлениями, что никогда не
сдастся. Однако по прошествии еще трех дней ром в кипятке
исчез. Мистер Свигби, разбитый и обессиленный, сдал этот
бастион; его молодая жена с сестрою торжествовали
победу; а его бедная мать, жившая в доме сына и до сих пор
сохранявшая свое место во главе стола, увидела, что власть
ее потеряна навеки, и стала готовиться к капитуляции
1 Домашняя жизнь; брак (франц.),
442
перед властными притязаниями новой владетельницы
замка.
Обо всем этом, повторяю, я был бы рад подробно
рассказать на свободе, равно как описать приезд
величественной миссис Ганн: войну двух королев, которая вскоре
затем завязалась между достойными тещей и свекровью. Как
благородна ненависть двух дам, связанных этим видом
родства! Каждая видит, какую обиду чинит другая ее
дорогому дитяти; каждая питает недоверие и вражду и
втайне раскрывает своему отпрыску коварство и преступления
другой. В доме с женой часто бывает изрядно жарко;
в доме с женой и тещей, пожалуй, жарче, чем в любом
исследованном месте на нашей планете; в доме с тещей
и свекровью так непомерно жарко, что его нельзя
приравнять ни к какому месту на поверхности земли, а нужно в
поисках метафоры спуститься глубже. Представьте себе
жену, которая презирает мужа и учит его манерам;
взыскательную сестрицу, которая к ее насмешкам добавляет
свои (это было чуть ли не единственным, на чем теперь
сходились Белла с Линдой, потому что после замужества
сестры Белла всей душой ее возненавидела). Представьте
себе, говорю я, двух мамаш: одна — большая, важная и
допекающая всех своим благородством; другая — резкая,
визгливая и твердо решившая не допустить, чтобы сына ее
околпачили,— представьте, и вы поймете, каким
счастливцем оказался Джо Свигби и каких удовольствий ему
пришлось вкусить.
Что сталось бы с ним без его тестя? Просто в дрожь
кидает, как подумаешь. Однако приезд и вмешательство
этого джентльмена возымели такие последствия: часа в
четыре, когда убирали со стола и разгоралась обычно
послеобеденная перепалка, джентльмены брали свои шляпы
и вдвоем уходили из дому; и как мог бы заметить человек,
пораженный телесным недугом, что то или иное могучее
средство заставляет болезнь на какое-то время исчезнуть,
но лишь затем, чтобы с утроенною силой проявиться где-
нибудь еще, подобным же образом быстрая победа миссис
Свигби над трубкой и ромом в кипятке, хоть и привела
к временному прекращению зла, на которое жаловалась
молодая супруга, никак, однако, не могла совершенно его
искоренить: оно исчезло в одном месте, чтобы с еще
большей яростью свирепствовать в другом. В гостиной у Свигби
запах рома и табака больше не возникал (кроме, конечно,
тех минут, когда миссис Ганн прибегала к первому в ка-
443
честве лекарственного средства); но если б вам
случилось заглянуть в «Полумесяц и Свечку» у дальнего конца
деревни; если бы случилось во дворе за этой гостиницей
посмотреть на хорошо убитую площадку для кеглей; если
бы временем, чтобы на нее посмотреть, вы избрали
вечерний час, когда селяне после праведных трудов гоняют шар
меж падающих звонко дубовых кеглей (тех, что против
солнца построились, и длинная от каждой ложится тень
на золото травы!); если бы вы, говорю я, на все это
посмотрели, вы не могли бы при том не приметить в задней
зале мерцающую в полутьме сальную свечу, стоящую на
грязном столике. И был бы еще на том грязном столике
оловянный жбан черного пива, а левее — чайная ложка,
сверкающая в стакане джина; над каждым из этих двух
приятных напитков вы б увидели курящуюся трубку; а за
трубками, сквозь дым табака, углядели бы мистера Ганна
и мистера Свигби, которые избрали теперь «Полумесяц и
Свечку» своим постоянным прибежищем и здесь забывали
тревоги супружеской жизни.
Хоть мы и обещали не распространяться, описание
этих обстоятельств заняло у нас немало места; и читателю
надобно также знать, что перед тем, как им возникнуть,
истек какой-то, недолгий, правда, промежуток времени.
Потребовался по меньшей мере месяц, покуда Свигби
прочно укрепился на своей позиции в деревенской
гостинице; все это время Ганн гостил у зятя по его
настоятельной просьбе; а миссис Ганн оставалась под той же крышей
по собственному желанию. Ни намеки дочери, ни
откровенные выпады вдовствующей миссис Свигби не могли
побудить миссис Ганн покинуть дом, где она соизволила
поселиться. Плату с жильцов достойная леди, по своему
обыкновению, взяла вперед; в апреле месяце Маргет был,
как она знала, безнадежно скучен, а потому она решила
наслаждаться радостями деревенской жизни, пока не
настанет для города веселый сезон. Кучер кентерберийской
почтовой кареты, знакомый Ганна, проездом через дерева
ню доставлял ей и забирал от 'нее обратно тяжелые стопки
романов; и старая дама чувствовала себя по данным
обстоятельствам достаточно счастливой. Если случится в
отсутствие маменьки что-нибудь важное, Каролина должна
была воспользоваться тем же средством связи и оповестить
ее письмом.
Мисс Каролина смотрела на папеньку с маменькой,
когда экипаж, увозивший их к молодоженам, покатил по
444
улице; но, странное дело, девушка не ощутила той
тяжести на сердце, которую, бывало, испытывала раньше, когда
ей запрещалось принять участие в семейных увеселениях,
и на этот раз была самой счастливой во всей семье — до
того счастливой, что ей стало чуть ли не совестно перед
самою собой; и Бекки с радостью примечала, как
зарумянились щеки молодой хозяйки, и как заискрились ее глаза
(и поглядывали то и дело на дверь), и как она вся была
охвачена трепетом.
«Придет или не придет»,— говорило сердечко; и глаза
поглядывали на знакомый уголок дивана, где две недели
тому назад сидел он. Он был ну совсем как лорд Байрон,
точка в точку, — это бледное чело и стройная обнаженная
шея! — но только совсем не такой испорченный — нет, нет!
Она твердо верила, что душа ее... ее мистера Б... ее Брэн...
ее Джорджа так же хороша, как он хорош собой. Не
поставим ей в укор, что она называла его Джорджем: девочка
получила воспитание в низкоразрядной школе, где царил
сентиментальный дух; она недостаточно знала общество,
чтобы щепетильничать; у нее и в мыслях не было, что,
может быть, она станет когда-нибудь его Каролиной, и
в невысказанных мечтах она давала полную волю своему
влечению к нему.
Она поглядела на дверь раз двадцать пять, не
больше — иначе говоря, не прошло и десяти минут с отъезда
ее родителей, когда и впрямь щелкнула щеколда, дверь от-
борилась и с легким румянцем на щеках вошел
божественный Джордж. Он собирался, как в прошлый раз, сослаться
на какой-то предлог; но сперва сам он глянул Каролине
в лицо, лучившееся улыбкой и радостью; затем и
маленькая Каролина посмотрела в ответ на него и... подвинулась
на диване, освобождая тот угол. О, милый инстинкт любви!
Брэндону 'незачем было искать оправданий, он просто сел
рядом и пустился в разговор так свободно, так радостно и
доверительно, и ни он, ни она не замечали, как проходит
время. Андреа Фитч (вот хитрец!) с восторженным
чувством следил за отъездом Ганнов и, со своей стороны, строил
хитроумный замысел в отношении мисс Каролины. Так
велико было доверие Андреа к другу со второго этажа, что
он по пути в гостиную Ганнов даже зашел к мистеру
Брэндону, чтобы посоветоваться с ним и открыть ему план
своих военных действий.
У вас бы сердце зашлось — не от жалости, так от
смеха,—если бы могли вы видеть, какое стало у мистера
445
Фитча лицо, когда он сунул свою пышную бороду в дверь
гостиной. Там оказался Брэндон, рассевшийся со всем
удобством на диване; очень довольная и веселая Бекки; и
Каролина, которая и всегда-то до нелепости легко
краснела, а сейчас, при появлении Фитча, закраснелась
сильней чем когда-либо! Она отвела от него глаза и, не
удержавшись, нежно и лукаво заглянула в лицо мистеру
Брэндону. Джентльмен поймал этот взгляд и не преминул
дать ему свое толкование: он означает признание в любви,
призыв к покровительству. У Брэндона по всему телу
прошла дрожь от польщенного тщеславия, и сердце его
забилось радостью, когда он уловил этот взгляд бедной
Каролины. Сам он ответил на него взглядом, безжалостно
дурным, безжалостно торжествующим и насмешливым; и
встретил мистера Фитча громким, недовольным окриком,
отчего молодой художник почувствовал себя тан неловко,
как еще никогда в своей жизни. Он пробормотал что-то
бессвязное насчет обеда,— мол, будет ли обед в отсутствие
родителей подаваться в тот же час, что и всегда,— и тут
же удалился.
Бедняга размечтался было, что теперь он каждый
день будет обедать tete-a-tete l с Каролиной. Пока ее роди*
тели в отъезде, он бы успел покорить ее сердце. Право,
могло показаться, что первый брак нарочно для того и
сладился, чтобы помочь осуществлению его собственного*
Художник выработал следующий план кампании: прежде
всего он нарисует такой красивый портрет Каролины, что
красивей никто не видывал. «Те разговоры, которые я
буду с ней вести во время сиянсов,— думал он,— сильно
помогут делу; а уж портрет будет так прекрасен, что она
не устоит. Я буду писать ей стихи в альбом и делать к ним
рисунки с емблемой на мою любовь».
Так он мечтал и мечтал, наш Альнашар-живописец.
Вскоре он уже обосновался в доме на Ньюмен-стрит, где
двери открывал у него лакей. Верхний этаж занимала
Каролина, его жена, а ее портрет произвел фурор на
Академической выставке. Бок о бок с нею Андреа Фитч — о, как
он это чувствует! — способен достичь всего на свете. Пять
или шесть карет дежурят у его подъезда... По сто гиней за
поясной портрет! Леди Фитч, сэр Эндрю Фитч, цепь
президента Академии — всевозможные яркие видения плыли
перед его умственным взором; а так как драгоценным
С глазу на глаз (франц.).
446
условием его возвышения была Каролина, он решил с него
же и начать и незамедлительно обеспечить его за собой.
Но... какое разочарование! Сойдя в три часа к обеду
на этот прельстительный tete-a-tete, он увидел стол,
накрытый на четверых, и во главе его — мисс Каролину,
залившуюся (как всегда!) румянцем; напротив нее —
служанку Бекки, улыбающуюся во весь рот; а направо, по
длинной стороне стола, мистера Брэндона: сидит
преспокойно и чувствует себя как дома, точно занимает это
место целый год.
А вышло так, что, едва только Фитч удалился, Брэн-
дон, движимый ревностью, сейчас же задал тот же вопрос,
что и художник; и дамы не должны уж слишком
возмущаться Каролиной за то, что она после некоторых
колебаний и борьбы с собой согласилась на неожиданную просьбу
Брэндона. Вспомним, что девушка выросла в семье,
державшей пансион, что она привыкла постоянно вести дела
с жильцами своей маменьки и до настоящего времени
полагала, что среди них она в такой же безопасности, как та
молодая особа, которая разгуливает по Ирландии с
золотою тросточкой в песне мистера Томаса Мура. Но, к чести
Каролины, мы должны признаться, что вопрос о
допущении Брэндона к столу она все же разрешила не без
колебания. Она сознавала, что питает к нему совсем особые
чувства, каких еще никогда не внушал ей никто из
жильцов или других мужчин, и поэтому сперва пыталась
противиться. Но победило не только желание, а и самая
скромность бедной девушки. Следует ли ей избегать
мистера Брэндона? Не должна ли она подавлять в себе
чувства, порождающие в *ней пристрастие, и вести себя по
отношению к нему с тем же безразличием, какое она
выказала бы ко всякому другому в сходных
обстоятельствах? Разве мистер Фитч не будет, как всегда, обедать за
ее столом? Ему же она не отказала! Такими доводами она
успокаивала свое сердце. Глупое хитрое сердечко! Оно
знало, что все эти доводы — ложь и что она должна
избегать этого человека; «но она была готова ухватиться за
любой предлог для встречи и таким образом заключила
некоторую сделку со своею совестью. Обедать он будет; но
и Бекки тоже будет обедать с ними — как еа
защитница. Бекки громко рассмеялась, услышав эту новость, и
с превеликим удовольствием заняла свое место за столом.
Нет нужды посвящать хотя бы слово этому обеду,
поскольку мы уже описывали одну из предыдущих трапез;
447
достаточно сказать, что в присутствии Брэндона
художнику делалось «не по себе, и он был крайне мрачен; тем
самым он давал своему сопернику, веселому,
торжествующему, чувствующему себя так свободно и легко,
решительное преимущество над собою. И Брэндон не преминул
воспользоваться этим преимуществом. Когда Фитч удалился
к себе, еще не ревнуя,— потому что простак верил
каждому слову, сказанному Брэндоном в том их разговоре на
берегу,— но со смутным чувством досады и разочарования,
Брэндон обрушил на него всю силу своей насмешки: его
манеры, его слова, его томные взгляды он нещадно
вышучивал; он смеялся над его низким происхождением (мисс
Ганн, не забудем, была приучена кичиться своей семьей)
и измышлял одну за другой разные истории из его
прошлого, после которых дамы (Бекки, поскольку она
допущена в гостиную, следует причислить к дамам)
прониклись к бедному художнику величайшим презрением и
жалостью.
Вслед за тем Брэндон с большим красноречием стал
расписывать собственные высокие достоинства и
привлекательные свойства. Он легко и небрежно говорил о своем
кузене, лорде Таком-то; доложил Каролине, с какими
принцессами он танцевал при иностранных дворах;
запугал ее рассказом о страшных дуэлях, на которых дрался;
словом, выставлял себя перед нею героем самого
возвышенного стиля. Как жадно бедная девочка слушала все
его басни; и как потом ночью они с Бекки (теперь они и
спали в одной комнате) обсуждали их между собой!
Мисс Каролина (мы уже слышали это от мистера
Фитча) завела себе, как чуть не каждая девица в Англии,
маленькую квадратную книжку, именуемую альбомом и
содержащую гравюры из ежегодников; прескверные
изображения цветов; старые картинки отошедших мод,
вырезанные и наклеенные на листы; и коротенькие
стихотворные отрывки, подобранные из Байрона, Летиции Лендон
или миссис Хименс и выписанные детским почерком
владелицы альбома. Брэндон с большим любопытством
рассматривал этот альбом,— он всегда утверждал, что на-:
клонности девушки познаются по характеру этого ее
музея,— и нашел здесь несколько рисунков Фитча,
сделанных по просьбе Каролины еще до того, как сей
джентльмен воспылал к ней страстью. Свои рисунки сентимент
тальный художник пояснял куплетами собственного
сочинения, которые, должен я сознаться, Каролина находила
448
очаровательными — до того часа, когда мистер Брэндон
воспользовался случаем показать, что они безнадежно
плохи (да так оно и было), и принялся их пародировать один
за другим. В упражнениях такого рода он был довольно
искушен, как и в рисовании карикатур, и ему ничего не
составляло набросать хоть дюжину пародий и рисунков,
жестоко высмеивающих и внешность и дарования
художника.
Что же он предпринял теперь, этот коварный мистер
Брэндон? Он, во-первых, нарисовал карикатуру на Фитча;
а во-вторых, он пошел к одному садовнику в ближнем
пригороде, купил букет фиалок и преподнес его мисс
Каролине, вписав при этом ей в альбом стихотворение мистера
Фитча, приведенное выше. Стихотворение он подписал
своими собственными инициалами — и так в открытую
объявил художнику войну.
Глава VII,
где в Маргет прибывает на пароходе
много новых лиц
События, о которых повествует наша хроника,
начались в феврале месяце. Время текло, и наступил апрель,
а с ним и праздничная пора, так любимая школьниками и
именуемая пасхальными каникулами. Не только
школьники, но и взрослые мужчины пользуются в эти дни
досугом — в частности, те из них, которые только недавно
вкусили самостоятельной жизни и ждут со дня на день
появления усов, иначе говоря, студенты — лица, более
всех других жаждущие применять к себе и друг к другу
это гордое звание: мужчина.
Среди прочих и милорд Синкбарз, из колледжа Крайст-
Черч в Оксфорде, получив некоторую сумму денег на
оплату квартального счета и написав родителю, что он-де
занят усиленной подготовкой к экзаменам и поэтому
вынужден отказаться от долгожданного удовольствия провести
вакации в замке Синкбарз,—а назавтра после
отправления письма поехав в город в коляске цугом в обществе
юного Тома Тафтханта, студента того же университета, и,
вкусив от всех столичных услад — театров, уличных
дебошей, погребков, полицейских участков и других мест, о
которых здесь нам лучше не упоминать,— лорд Синкбарз,
говорю я, за десять дней наскучив Лондоном, покинул сто-
15 у. Теккерей, т. 1 449
лицу довольно неожиданно; и, уезжая, он не стал
оплачивать в отеле Лоыга счет, а оставил этот документ в руках
у владельца в знак своего высокого доверия к
гостеприимному хозяину.
Том Тафтхант, понятно, уехал вместе с милордом
Синкбарзом (несмотря на аристократические воззрения в
политике, Том благоговел перед лордами не меньше, чем
любой английский демократ). И как вы думаете, куда
направилась эта достойная чета юных джентльменов?
Никуда, как в Маргет: ибо Синкбарз воспылал желанием
проведать своего давнишнего друга Брэндона и решил, как
он сам изящно выразился, «стукнуть в дверь и поднять
старика с постели!».
На пароходе, доставившем лорда Синкбарза с
приятелем из Лондона, ничего значительного не произошло;
пассажиров, кроме них, было совсем немного: два-три еврея,
вечные странники, высадившиеся в Грейвзенде;
преподобный мистер Уокербарт с шестью злополучными
маленькими учениками — добыча, которую его преподобие захватил
в Лондоне и увозил с собой в свою школу близ Хэрн-Бея;
кое-кто из тех субъектов непонятного общественного
положения, что непременно присутствуют на каждом
пароходе и пользуются, очевидно, бесплатным проездом и
всегда безотказно пьют и едят за капитанским столом; да
некая дама со своею челядью,— вот и весь список
пассажиров.
Дама — очень толстая дама,— очевидно, только что
вернулась из-за границы. На палубе громоздился ее
вместительный зеленого цвета дорожный экипаж, и на всех ее
чемоданах были налеплены свежие большие ярлыки со
словами «Британский отель господина Инса. Булонь».
Ибо достойный этот господин взял в обычай захватывать
багаж своих постояльцев и обклеивать его билетиками с
обозначением его имени и местожительства,— каковым
простейшим способом он навечно утверждает себя в их
памяти и дает знать о себе всем другим, кто имеет
обыкновение разглядывать чемоданы своих попутчиков, чтобы
вызнать их имена. Сколь обширна эта категория людей, я
могу и не говорить.
Так вот: эта толстая дама держала курьера — рослого
усача, который говорил на всех языках, выглядел, что твой
фельдмаршал, именовался Доннерветтером и ездил на
козлах; горничную-француженку, мадемуазель Огюстину; и
арапчонка по имени Саладин, который ездил на запятках.
450
Саладин знал только одну заботу — ухаживать за толстым,
сопатым белым пуделем, который обычно разъезжал в
карете между своей хозяйкой и ее преданной компаньонкой
по имени мисс Рант. Толстая дама была, видимо, важной
персоной. Всю первую половину поездки в тот ветреный и
солнечный апрельский день она храбро шагала по палубе,
повиснув на руке бедной щупленькой мисс Рант; когда же
миновали Грейвзенд и началась килевая качка, она
удалилась в свою цитадель — дорожный экипаж, а буфетчик,
буфетчица и усатый курьер непрестанно бегали туда и
назад с посудой, поставляя сперва бутер'броды, а затем
горячейший грог на коньяке: потому как с полудня, надо
сказать, волнение усилилось, и пуделя тошнило; не лучше
было и Саладину; горничной-француженке, как у всех у
них заведено, «ужасно нездоровилось»; да и сама дама
сильно занедужила; не по себе было и бедной, милой,
сострадательной мисс Рант.
— Ах, Рант! — то и дело повторяла толстая дама.—
Какая гадость эта маляди де мер!1 О, мундье!2 Ох-хо-хо!
— Да, вы правы, дорогая,— отвечала Рант и
подхватывала: — Ох-хо-хо!
— Спросите у буфетчика, Рант, далеко ли еще до Мар-
гета? — И Рант шла и задавала тот же вопрос каждые
пять минут, как делают люди в таких случаях.
— Иси, мусье Доннерветтер, алле деманде эн пе д'о шо
пур мува.
— Э де л'о де фи афек, неспа, матам? 3 — отвечал
мистер Доннерветтер.
— Уй, уй, ком ву вуляй4.
— Валяй, говорите? — И Доннерветтер шел и
приносил питье в том самом виде, как было желательно.
— Ах, Рант, Рант! Есть нечто и похуже, чем морская
болезнь. Увы!
— Дорогая, дорогая Марианна, не расстраивайтесь! —
возглашает Рант, сжав толстую лапу подруги и
покровительницы в своих костлявых пальцах.— Не волнуйте свои
нервы, дорогая. Я знаю, вы несчастны; но разве вы -не
имеете друга в вашей верной маленькой Ранти?
1 То есть maladie de тег-— морская болезнь (франц.).
2 Вместо mon Dieu — боже мой (франц.).
3 Исказк. франц. фразы со значением: «Господин
Доннерветтер, пойдите попросите для меня немного кипятку...» — «С водкой,
да, мадам?»
4 Да, да, как хотите.
15*
451
— Вы доброе создание, да,— сказала толстуха, которая
и сама, как видно, была добрым и сердечным человеком.—
Не знаю, что б я стала делать без вас. Увы!
— Не падайте духом, дорогая! Вы станете счастливей,
когда приедете в Маргет; вы сами это знаете,— добавила
Рант игриво.
— Что вы этим хотите сказать, Элизабет?
— Вы отлично знаете, дорогая Марианна. Я хочу
сказать, что там есть некто, кто сделает вас счастливой; хотя
он подлый негодяй, да, если он мог так обойтись с моею
Марианной, душечкой моей, моей красавицей!
— Рант, Рант, не ругайте его, он лучший человек
на земле. Не называйте меня красавицей — я совсем не
красива, Рант; была когда-то, но теперь уже нет; и... ах,
ни одна женщина в мире не может быть ассе бон цур
люи *.
— Но ангел может. А вы — ангел, вы всегда были
ангелом — ангельски доброй, ангельски прекрасной!
— Алле донк 2,— сказала ее приятельница и отпихнула
ее от себя,—вы мне льстите, Рант, вы знаете сами, что
льстите.
—- Умереть мне на этом месте, если я сказала
неправду; и если он отвергнет вас опять, как тогда в Риме,—
то есть если он, после всех своих домогательств и клятв,
окажется неверен... говорю вам, он негодяй, и больше
ничего! И я так и скажу: он негодяй — злой, подлый
негодяй!..
— Элизабет, если вы будете так говорить, вы
разобьете мне сердце! By кассере мун повер кьёр.— Но Элизабет
поклялась, что она, наоборот, сама готова умереть за свою
Марианну, и это немножко утешило толстую даму.
Много еще разговоров в том же роде происходило в
пути; но поскольку они велись внутри кареты, так что
услышать их было нелегко, и поскольку они по своему
характеру были, возможно, не так поучительны, чтобы
читателю хотелось услаждаться ими на протяжении
нескольких глав, мы не станем здесь передавать дальнейшую
беседу наших дам: достаточно будет сказать, что около
половины пятого путешествие завершилось и пароход
причалил к Маргетской пристани. Пассажиры сошли на берег
и разъехались — кто домой, а кто в гостиницу. Милорд
1 Достаточно хороша для него.
2 Бросьте!
452
»
Синкбарз и его товарищ (о которых мы ничего не
говорили, так как и они, со своей стороны, едва ли за всю
дорогу вымолвили хоть единое слово, кроме «два и очко»,
«четыре-три», «шесть и шесть!» и тому подобное,— будучи
все время заняты тем, что глушили портер, бутылку за
бутылкой, и сражались в триктрак,— велели доставить
свой багаж в гостиницу Райта, куда следом за ними
направилась и толстая дама с челядью. Гостиница пустовала,
и приезжим предложили на выбор лучшие номера.
Толстая дама плыла из спальни в свою гостиную, когда лорд
Синкбарз с сигарой во рту шел, пошатываясь, из своих
апартаментов. В коридоре они встретились; и тут, к
удивлению юного лорда, толстая дама присела перед ним в
глубоком реверансе и сказала:
— Мусье ле виконт де Сэнбар, шармей де ву вуар. By
ву раплей де мува, неспа? Жевузе вью а Ром — ше лям-
бассадёр, ву савей 1.
Лорд Синкбарз посмотрел на нее в упор и, не проронив
ни слова, поспешил пройти мимо, чем привел толстуху в
полную растерянность.
— Право же, Рант, как я понимаю,— сказала она,—
ему не с чего так заноситься: я двадцать раз встречалась
с ним в Риме, когда он был совсем юнцом и ходил с
гувернером.
— Кто она, к чертовой бабушке, эта толстая
иностранка? — недоумевал лорд Синкбарз.— Я где-то ее видел,
провались она совсем; но черт меня побери, если я понял хоть
слово из ее трескотни.— И, тотчас же забыв о ней, он
пошел дальше, прямо к Брэндону.
— Странная, ей-богу, история! — размышлял хозяин
гостиницы.— Оба, и лорд и толстуха из номера девять,
спросили, как пройти к дому тетки Ганн. (Так он
позволяет себе называть эту почтенную даму!)
Он сказал правду: как только номер девять
управилась с обедом, она задала вопрос, упомянутый хозяршом;
а так как оный обед занял немалое время, на притихший
город уже легла тем часом вечерняя мгла; серебряный
месяц озарил залив и при поддержке исправной и
многочисленной свиты газовых фонарей осветил городские
улицы — в осенний вечер полные веселья, но в жуткой чер-
1 Господин виконт Синкбарз, рада вас видеть. Вы меня
помните, правда? Мы с вами виделись в Риме -— помните? У
посланника.
453
ноте апрельской ночи так сумрачно-пустынные. В тот час
(сказать точнее — в тридцать пять восьмого) две дамы
вышли из подворья Райта «в плащах ревнивых, в бархате
чепцов». Идут безлюдной Хай-стрит мимо ряда зевающих
пустых купален, мимо унылой распродажи «Весельчак»,
кондитерских, заплесневевших в скуке, читален праздных;
мимо рыбных лавок и щепетильных, где с каких уж пор
не продано ни рыбины ни ленты — зане сезон еще не
наступил, и ни еврей, ни лондонец исконный не выезжал из
города. Но вот, не доходя бульвара, на углу — дом Фин-
чема-аптекаря, который с целебным зельем наряду
снабдит вас сигарами — и хуже тех сигар не купит смертный
по три пенса штука!
До этого момента я с чистой совестью сопутствовал
толстой даме и мисс Рант. Но куда повернули они, дойдя
до аптеки, налево ли к «Королевскому отелю» или же
направо к берегу моря, мимо купальных колясок и вереницы
причудливых стареньких обветшалых домов, именуемых
Буэнос-Айрес,— этого никакая сила на земле не заставит
меня сообщить; достаточно вам знать, что они пришли к
пансиону миссис Ганн. Зачем это нужно, чтобы целая
толпа народу увязалась за ними, любопытствуя узнать, где
живет эта дама? Итак, часам к восьми они оказались перед
домом миссис Ганн. По улице на всех домах, кроме этого,
были объявления о сдаче комнат (чистое издевательство!
Точно кто-нибудь приезжает сюда на пасху!), а в доме
миссис Ганн горел по фасаду свет — на чердаке и в
третьем этаже. Кажется, я раньше не упоминал, что все 'окна
по фасаду выступали в виде закрытого балкона — так
называемые «окна фонарем»? Так вот сейчас читателю это
стало известно.
Две дамы, проделавшие пешком такой далекий путь,
долго и печально разглядывали дощечку на парадном,
постояли на крыльце, отошли и повели между собою такой
разговор.
— О Ранти!—говорит та из двух, что потолще.— Он
здесь... я знаю, что он здесь, мун кьер ле ди — сердце мне
говорит.— И она приложила широкую ладонь к тому
месту на левом своем боку, где была когда-то талия.
— Как вы думаете, он окнами на улицу или во
двор? — спросила Рант.— Может быть, его и дома нет.
— Вот... вот его круазей1,— говорит толстуха.—
1 Окно.
454
Я знаю, вот оно! — И она безошибочно указала на третий
этаж.— Экутей! 1 — добавила она.— Он подошел — кто-то
стоит вон в том окне. О, мундьё, мундьё! C'est Andre,
c'est lui! 2
Луна светила прямо в окна-балконы дома миссис Ган'н;
и две прекрасные лазутчицы, наблюдавшие с тротуара
напротив, были соответственно в полной тени. Как сказала
дама, в окнах третьего этажа замаячила темная фигура;
она прошлась по комнате (шторы не были опущены).
Затем упала на стул; уронила голову на руки; и вдруг
принялась неистово бить себя по лбу — и опять прошлась по
комнате. Ах! как же при этом зрелище колотилось у
толстой дамы сердце!
Она пронзительно закричала,— и чуть не хлопнулась в
обморок! — а у маленькой Рант затряслись колени, когда
она напрягла все силенки, поддерживая или скорей
подпирая падающую громаду своей пышнотелой
покровительницы... которая в это мгновение увидела, что Фитч
подходит к свече, держа в руке огромный пистолет, и, поглядев
на него с жуткой усмешкой, прижимает его к груди.
— Не держи меня, Рант, он сейчас застрелится! Из-за
меня! Я знаю... Я пойду к нему! Андреа, мой Андреа! —
И толстуха устремилась на другую сторону, когда вдруг
одно из окон третьего этажа с шумом отворилось, и Фитч
высунулся из него, белый как бумага.
Он услышал вопль, что, наверно, и побудило его
открыть окно; но пока он его открывал, он все позабыл и,
бездумно свесившись в окно, глядел на луну, лившую свой
холодный свет на его белесое лицо.
— Бледное светило! — молвил Фитч.— Увижу ли я
когда-нибудь вновь твой свет? Увидит ли меня еще одна
ночь на етой земле, или она меня узрит недвижимого и
холодного — бездыханным трупом? — Он поднял
пистолет и медленно навел его на дымовую трубу дома
напротив. Вообразите себе, с какими чувствами толстая дама
смотрела на своего возлюбленного, стоящего в лунном
свете и выкидывающего артикулы своим смертоносным
оружием.
— Готовься — целься — пли! — выкрикнул Фитч и
неукоснительно — нет, не выпалил из пистолета,— а опустил
его дулом вниз.
1 Слушайте!
2 Это Андрэ, это он (франц.).
455
— Смерть отпустила тетиву! —- продолжал он, хлопнув
себя по левому боку.— И жизнь художника оборвалась!
Каролина, Каролина, из-за тебя умираю!
— Рант, Рант, все, как я сказала! — заголосила
толстуха.— Он умирает из-за меня: «Каролина» мое второе имя.
Что сделала бы дама дальше, я не могу сказать;
потому что Фитч, отвлеченный от своих мечтаний громким
разговором на улице, поглядел, досадливо хмурясь, вниз и со
словами: «Фу ты, нас тут подслушивают!» — резко
захлопнул окно и опустил шторы.
Это пресекло намерение толстой дамы ринуться в дом
и несколько расстроило ее. Но мисс Рант ее утешила, и,
дав себе слово вернуться сюда утром, она пошла домой,
счастливая, что ее Андреа верен ей.
Увы, бедная толстая дама! Если бы только она знала
правду! Каролиной Ганн, вот кем бредил Фитч; а то, что
он выкрикивал в окно, были строки из его письма,
подлежавшего вручению после его смерти.
Собирался ли сумасбродный художник драться на
дуэли, или он вздумал покончить с собой? Это разъяснится в
следующей главе.
Глава VIII,
где говорится о войне и любви. И о многом,
что оставалось непонятным в главе YIJ
Стихотворение Фитча, приведенное в одной из
предыдущих глав нашей повести (и в строки которого, кстати
сказать, наборщик умудрился привнести еще больше
бессмыслицы, чем о том постарался хитроумный бард), было
им сочинено много лет назад; и лишь после долгих
трудов и умственных усилий молодой художник кое-как
восстановил его, вспомнив почти целиком, и подготовил
аккуратный список для альбома Каролины. В отличие от любви
большинства мужчин, страсть Андреа Фитча была чужда
ревнивой настороженности — не то бы он давно заметил
признаки взаимного понимания, какие то и дело
проявляли Каролина с Брэндоном, и очевидную холодность
девицы к нему самому. Дело в том, что художник был влюблен
в свою влюбленность,— упивался тем обстоятельством, что
вот он, Андреа Фитч, наконец влюбился; даме же своей
он не больше уделял внимания, чем Дон Кихот Дульсинее
Тобосской.
456
И вот однажды утром, освежив в памяти свои стихи и
набросав премиленький эмблематический рисунок, в
который он их заключит,— арабеску из фиалок, капель росы,
эльфов и других предметов,— он спустился вниз с
рисунком в руке; и, объявив Каролине,— а та сидела в гостиной
очень печальная, озабоченная, с бледненьким лицом и
красными глазами, и было ей никак не до рисунка, хотя
бы и самого распрекрасного в мире,— так вот, объяснив
ей, что намерен внести в ее альбом «скромный образец
сваво йискусства», бедняга Фитч только собрался вклеить
рисунок при помощи камеди (что художники делают
очень ловко), как вдруг ему попалась на глаза страничка
альбома, на которой пристроились несколько засушенных
фиалок и... его собственные стихи за подписью Джорджа
Брэндона.
— Мисс Каролина... мисс Ганн, сударыня! — закричал
Фитч таким голосом, что юная девица встрепенулась
среди глубокой своей задумчивости и сказала с
раздражением:
— Боже мой, да что такое?
— Эти стихи, сударыня... об увядшей фиялке... слово
в слово, милосердное небо! До единого слова! — взревел
Фитч и подошел ближе с альбомом.
Она поглядела на Фитча рассеянным взглядом,
увидела фиалки, протянула руку и взяла их.
— Вы знаете, мисс Ганн, кто автор «Увядшей фи-
ялки? »
— Автор кто? Знаю, конечно: Джордж! — Назвав имя,
она разразилась слезами; и, растерев в пыль засохшие
цветки, зарыдала и вышла из комнаты.
Милая, милая маленькая Каролина! Влюблена всего
лишь два месяца, а уже узнала любовные горести!
Не от недостатка опыта — мне не раз случалось
загораться благородной страстью любви за сорок лет,
истекшие со времени, когда я был двенадцатилетним
мальчиком (читатель может теперь довольно точно угадать мой
возраст) — не по недостатку, говорю я, соответственного
опыта я неспособен описывать шаг за шагом ход
любовной интриги; напротив, я вполне уверен, что мог бы, если
б захотел, сочинить самые удивительные и
душераздирающие libros amoris: l тем не менее какое-то смутное
чувство постоянно мешает мне развивать такого рода сюже-
Книги о любви (лат.).
457
ты, что я приписываю враждебной робости и стыдливости,
которые не позволяют мне распространяться о предмете,
заключающем в себе нечто священное — те тайны, какие
честный человек, хотя и посвященный в них, разглашать
не станет.
Если такая вот робкая застенчивость и стыдливая
щепетильность не дают человеку вторгаться в дом даже
честной любви и предлагать публике — по стольку-то гиней
или шиллингов за страницу — благочестивые чувства
какой-нибудь нежной четы, которая целомудренно и по
законному праву занимается вздохами, заглядыванием в
глаза, пожиманием рук, поцелуями (ведь именно такими
внешними проявлениями, сколько я знаю, выражает себя
любовная страсть),— если человек, говорю я, не склонен
пускаться в описание невинной любви, то ему вдвойне
претит описывать преступную; и меня всегда как-то
отталкивало искусство таких гениальных писателей, как
Руссо и Ричардсон, которые могли с таким обидным
тщанием живописать все горе и душевную борьбу Элоизы и
Клариссы, все злые ухищрения и победы негодяев,
подобных Ловласу.
В нашей повести мы имеем своего негодяя Ловласа в
лице человека, назвавшегося Джорджем Брэндоном, и
милое, нежное, невинное, податливое создание, на котором
он испытывает свое дьявольское искусство; и сочувствует
ли публика его героине или нет, автор, со своей стороны,
может только сказать, что он искренне любит и уважает
бедную маленькую Каролину и не имеет ни малейшего
желания вдаваться в скучные, томительные и
неблаговидные подробности сближения между нею и ее
возлюбленным.
Не так, чтобы она, бедная девочка, со своей стороны
вела себя неблаговидно или позволяла себе что-нибудь
еще, кроме как следовать естественным и прекрасным
порывам честного женского сердца, внушающего ей
доверять, и любить, и боготворить существо другого пола,
которому пылкая фантазия присвоила все атрибуты
превосходства. Не было такой нелепой, самохвальной выдумки,
рассказанной Каролине Брэндоном, которой она не
поверила бы, такой добродетели, какой она его не наделила
бы. Не одна прошла у них долгая беседа, не одно
сладостное свидание украдкой, пока ее родители весело
проводили время в доме зятя и пока она была оставлена под
опекой собственной добродетели и судомойки Бекки. И хо-
458
рошо, что Бекки была при пей в качестве второго
опекуна! Преувеличенно ценя достоинства юной своей госпожи
и полагая, что она вполне годится в жены любому
джентльмену Англии и что любой джентльмен может ею
плениться,— Бекки чутьем ли или по кое-какому опыту
знала, что такое страсти и ошибки молодости, и
соответственно остерегала Каролину.
— Если, барышни, он и впрямь влюблен, а я думаю
так, что влюблен, он женится на вас; если же он не
собирается жениться, так он подлец и вас не стоит, и вы не
должны иметь с ним никакого дела.
На что Каролина отвечала, что мистер Брэндон,
конечно же, истинный ангел и самый порядочный человек на
земле, и она не сомневается, что намерения у него только
самые честные.
Мы уже описывали раньше, каких обычаев держался
мистер Брэндон. Честных намерений этот джентльмен был
совершенно чужд. Зато он был такого пылкого,
ненасытного темперамента, что окажи ему какая-нибудь
наторелая кокетка должное сопротивление или нарвись он на
женщину строгих правил, он пожертвовал бы чем
угодно, только бы достичь своей цели,— женился бы даже,
только б достичь; и, принимая в соображение такие его
наклонности, можно удивляться, как это он до сих пор ни
разу не женился, хотя с семнадцати лет он. постоянно был
в кого-нибудь влюблен. Что дает читателю полную
возможность судить о добродетели и благоразумии тех дам,
с какими до сих пор имел дело наш так легко
воспламенявшийся молодой джентльмен.
Итак плодом всех этих тайных свиданий, всех его
молений, и клятв, и торжественных заверений было лишь
одно: что Каролина его любила; но любила она, как
должна любить честная девушка, и была готова пойти с ним
под венец, если он пожелает. Он толковал о своей семье,
о своих особенных обстоятельствах, о том, что гордый отец
проклянет его. Маленькая Каролина только вздохнет,
бывало, и скажет, что дорогой ее Джордж должен ждать,
пока не получит родительского согласия. Когда же он
настаивал откровенней, она ударялась в слезы и
недоумевала, как такой, как он, добрый и нежно влюбленный,
может предлагать ей что-либо недостойное их обоих. Было
ясно, что девушка начиталась романов и кое-что узнала,
о природе любви; и что она защищена добрыми правилами:
и душевной чистотой, сводившими на нет все ухищрения
459
ее возлюбленного. Она и в самом деле обладала этими
двумя преимуществами: первое ей было дано тем подобием
воспитания, какое она все же получила, второе досталось
ей в дар от природы.
В тот день, когда Фитч принес Каролине стихи,
Брэндон уж слишком прямо приступил к ней со своими
недостойными домогательствами. Собрав все силы, она
вырвалась от него и бросилась к двери; но, не добежав, упала,
бедняжка, и забилась в истерике. Тут ей на помощь
прибежала Бекки, а Брэндон со стыдом от нее отступился. Он
вышел вон из дому; она смотрела ему вслед, потом
прокралась в его комнату и положила на стол свое первое в
жизни письмо, написанное ему. Оно написано было
карандашом, дрожащим почерком школьницы, и содержало
следующие простые слова:
«Джордж, вы чуть не разбили мне сердце. Оставьте
меня, если вам это угодно и если вы не смеете поступить
так, как должно честному человеку. Если вы еще когда-
нибудь заговорите со мною, как сегодня утром, даю
святую клятву, я приму яд.
К.»
Бедная девочка и впрямь не без толку читала романы;
без них она едва ли бы додумалась до такого средства
против преследований упорного искателя; и было что-то в ее
натуре, внушавшее Брэндону уверенность, что она
сдержит обещание. Как разволновали его эти слова! В нем
клокотало смешанное чувство взбешенного разочарования
и восхищения, и сейчас он любил девушку в тысячу раз
сильней, чем раньше.
Едва мистер Брэндон дочитал строки сего документа
и взбурлили в нем разноречивые страсти, пробужденные
ими, как дверь в его комнату с силой распахнули, и кто-
то вошел. Брэндон вздрогнул и обернулся в тайном
страхе, что Каролина уже исполнила свою угрозу и что
явился вестник сообщить ему о ее смерти. Непрошеным
гостем был Андреа Фитч. Шляпа надвинута на лоб... глаза
горят; и если бы мужские бороды могли вставать дыбом
где-нибудь, кроме как в стихах или романах, то борода
его, несомненно, образовала бы вокруг его лица
щетинистый медно-рыжий нимб. Но поскольку такая
возможность была исключена, у Фитча только был удивительно
свирепый вид, когда он, заложив руки за спину, прошест-
460
вовал к столу. Дойдя до этого барьера между собою и
мистером Брэндоыом, он остановился и безмолвно уставился
ему в лицо.
— Разрешите спросить, мистер Фитч, чему я обязан
хгестью видеть вас у себя? — воскликнул Брэндон после
минуты недоуменного ожидания.
-- Честью!.. Ха-ха-ха! — вскричал мистер Фитч в
самом сардоническом и вызывающем тоне.— Честью!
— Честь или не честь — как вам угодно, милейший,
но уж никак не удовольствие, могу вас заверить! —
сказал Брэндон с раздражением.— Скажем тогда просто:
каким чертом вас сюда принесло?
Фитч плюхнул альбом на стол прямо Брэндону под нос
и сказал:
— Вот что принесло меня сюда, сэр — етот альбом;
или прошу прощения, этот альбом — ха-ха-ха!
— Ага, понимаю! — сказал мистер Джордж и, не
удержавшись, улыбнулся.— Я с вами сыграл жестокую
шутку, Фитч, украв у вас стихи; но в любви все средства
хороши.
— Фитч, сэр? Для вас я не Фитч! Быть со мной на
короткую ногу я позволяю только людям чести, да — а не
жуликам, сэр; и не мерзавцам, лишенным сердца!
Повторяю, сэр, мерзавцам! Гадам, сэр; п-подлецам, сэр!
— Подлецам, сэр?! — рявкнул, вскочив, мистер
Брэндон.— Подлецам! Вы, грязный шарлатан из лондонских
подонков! Вон отсюда, сэр, или я вас вышвырну в окно!
— Вот как, сэр? Попробуйте, сэр: только не выйдет,
руки коротки! Я, сэр, художник, и ничуть я вас не хуже.
Мошенник, негодяй, предатель! А ну, подойди!
Мистер Брэндон, несомненно, подошел бы, когда бы
его не остановило одно обстоятельство; и заключалось оно
в том, что Фитч выхватил из-за пазухи блеснувший в
воздухе длинный и острый средневековый кинжал,
составлявший часть его артистических принадлежностей и коим он
не позабыл вооружиться для этой встречи.
— Подойди, предатель! — вопил Фитч, размахивая
грозным своим оружием.— Тронь меня пальцем, и я
вонжу клинок в твое черное сердце! Ха-ха-ха! Дрожишь?
Брэндон, аристократ Брэндон, и впрямь немного
побледнел.
— Спокойно, сэр,— сказал он,— чего вы хотите? Уж
не думаете ли вы запугать меня вашими нелепыми
мелодраматическими выпадами? В конце концов, это было
Ш
только шуткой, сэр, и я сожалею, что она вас обидела. Что
еще могу я сказать?.. Что я должен сделать?
— Вы должны принесть извинения; и не только мне:
вы должны, в моем присутствии, сказать мисс Каролине,
что вы украли у меня те стихи и воспользовались ими, не
спросясь.
— Послушайте, мистер Фитч, я сочиню и отдам вам,
коли вам угодно, хоть десять стихотворений ничуть не
хуже вашего, но то, о чем вы просите, невозможно.
— Тогда я устремлюсь прямо к мисс Каролине, сэр, и
она узнает о вашем подлом мошенстве. Я ей покажу, что
вы за хрукт, сэр.
— Можете, если хотите, показать ей, что я за «хрукт»,
как вы выражаетесь, но честно вас предупреждаю, что
дама скорее поверит мне, чем вам; и если вы станете
клясться ей всеми клятвами, что стихи ваши, я тогда
просто скажу, что...
— Да, сэр, что вы скажете?
— Скажу, что вы лжете, сэр! — крикнул Брэндон,
топнув об пол каблуком.— Повторяю: я напишу другие
стихи. Но это все, что я могу сделать для вас, а теперь
ступайте и не суйтесь в чужие дела!
— На черта мне ваши стихи, сэр! Вы лжец и
мошенник. И, кажется, трус вдобавок? Трус! Да, я так полагаю,
что вы трус; а ежели нет, то вы, не угодно ли,
встретитесь со мною завтра утром, как мужчина с мужчиной, и
дадите мне удовлетворение за эту подлую обиду!
— Сэр,— сказал Брэндон крайне пренебрежительно
и высокомерно.— Если вы хотите произвести надо мной
такую же расправу, как над нашим благородным языком,
я не буду вам чинить препятствий. Хотя человек моего
состояния и не обязан принимать вызов такого, как вы,
безродного прощелыги, я тем не менее исполню вашу волю.
Но берегитесь: щадить вас, клянусь, я не стану, а я
попадаю в червонного туза с двадцати шагов.
— Посмотрим, чья возьмет,— спокойно сказал Фитч.—
Если я и не попадаю с двадцати шагов в туза, я все же
могу попасть в человека с двенадцати — и завтра
постараюсь это сделать.— С такими словами, метнув в мистера
Брэндона самый презрительный взгляд, молодой
художник вышел за дверь.
Каковы были мысли мистера Брэндона, когда
противник оставил его? Странно сказать, но довольно приятные.
Слишком презирая Фитча, он никак не думал, что ничтож-
462
4
ный этот человечек всерьез намерен с ним драться, и
рассуждал'сам с собою так: «Наш Фитч, я знаю, пойдет
сейчас к Каролине и расскажет, что как было, напугает ее
сообщением о дуэли, а потом будет сцена между ней и
мною. Я ей скажу всю правду об этих стихах, черт бы их
побрал... Угроза кровопролития, смерти... я в опасности...
И тут-то...»
Он снова предался обольстительным мечтам; он знал,
хитрец, какую власть дадут ему такие обстоятельства над
бедной слабой девочкой: она пойдет на все, лишь бы
любимый не рисковал своею жизнью. И уже он тешился
подленькими расчетами, какую цену он истребует за то, чтоб
уклониться от встречи с Фитчем, когда, к его досаде, сей
джентльмен опять вошел в его комнату.
— Мистер Брэндон,— сказал он,— вы меня оскорбили
самым грубым и жестоким образом.
— И что же, сэр, вы пришли извиниться? — спросил
с усмешкой Брэндон.
— Нет, я не извиняться пришел, господин ристократ:
этого вы не дождетесь. Я пришел сказать вам, сэр, что я
вас считаю трусом. И ежели вы мне не поклянетесь
честью ни полсловом не упомянуть об етой ссоре мисс Ганн,
что может помешать нашей встрече, то я отсюда не уйду,
пока мы не подеремся! Не уйду, и все!
— Вы меня оскорбляете, сэр! Извольте уйти из моей
комнаты, или я, честное слово, не приму ваш вызов.
— Потише, сэр! Потише, или я вас, простите,
заставлю!
— А как, сэр, позвольте спросить?
— Как? Во-первых, вот у меня палка, и я вас попросту
отколочу. А во-вторых, вот пара пистолетов, и мы можем
стреляться хоть сейчас!
— Хорошо, сэр. Даю вам свое слово,— сказал Брэндон
в дьявольской злобе; и добавил: — Стреляться мы будем
не сейчас, а завтра; и будьте спокойны, я не промахнусь.
— Адье, сэр,— сказал рыцарственный Фитч.—Bon
giorno *, сэр, как мы говаривали в Риме.
На этом он снова вышел от мистера Брэндона,
которого не очень обрадовала проявленная художником
необычайная храбрость.
«С чего это парень так обозлился?» — думал Брэндон.
С чего? Во-первых, он отбил у Фитча возлюбленную;
1 Добрый день (итал.). Здесь: в смысле «всего хорошего».
463
а во-вторых, он посмеялся над его произношением, над его
претензиями на благородство, и маленький Фитч пришел
в такую ярость, что теперь его душу насытит только
кровь: он решил во имя «сваво йискусства» и прекрасной
дамы унизить гордого противника.
Брэндон остался наконец один и мог хорошенько
поразмыслить. Но в пять часов — что за притча! — снова
стук в дверь.
— Войдите! — рявкнул хозяин комнаты.
В дверях показался изжелта-бледный, с воспаленными
глазами щуплый человечек, почти карлик. Пошатываясь
на высоченных каблуках лакированных полусапожек и
опираясь на громадную с золотым набалдашником трость,
он вошел в комнату развязно, в шляпе набекрень. Шляпа
была белая, с широкими полями, а из-под нее, налезая на
скулы ее владельца, падали патлы прямых и сальных
волос. Борода у человечка еще как будто не росла, и было
ему на вид лет двадцать, а весил он — вместе с палкой и
прочим — от силы три пуда. Если вам любопытно знать,
как этот щеголь был одет, я с удовольствием сообщу, что
на шее он носил широкий вышитый голубого атласа
платок, на котором красовался похожий на крыжовину
карбункул. Далее был на нем пестрый шалевый жилет;
широкие синие панталоны, аккуратно перетянутые внизу
ремешками, чтобы выставить на вид маленькие ножки;
коричневый камзол с медными пуговицами и закругленными
полами, туго обтягивавший осиную талию; и поверх
всего — белый, вернее, белесый кафтан с собольим
воротником и обшлагами, а из обшлагов выглядывали на каждой
руке по пять маленьких пальчиков, облитых лимонной
лайкой перчатки. Одну из этих ручек он держал, не
отнимая, на щуплой своей груди; и сиплым тоненьким
голоском он пропиликал:
— Джордж! Ста'ый черт! Как дела?
Мы потому так подробно и тщательно описали костюм
этого человека (чья внутренняя сущность строго отвечала
его мужественной и приятной внешности), что никого на
свете мистер Брэндон так не почитал, как его.
— Синкбарз! — вскричал наш герой.— Какой дьявол
принес вас в Маргет?
— Д'ужба, ста'ик! — отвечал достопочтенный Огастес
Фредерик Рингвуд, именуемый в общежитии виконтом
Синкбарзом (ибо это был он).— Д'ужба и — па'аход «Го'од
Кенте'бе'и»!
464
С этими словами гость протянул Брэндону
указательный палец правой руки, который тот умильно пожал в
обеих ладонях.
— Уазве не мило с моей ста-аны, что я приезжаю
утешить вас в этой п'аклятой дыре, а, Джордж? — сказал
милорд после первых приветствий.
Брэндон побожился, что рад ему чрезвычайно,— и это
была истинная правда, потому что, едва увидав виконта,
он тут же решил занять у него денег ровно столько,
сколько сможет выкачать из юного аристократа.
— Сейчас уаскажу вам, как это получилось, мой
мальчик: понимаете, я стоял у Лонга, когда, вд'уг — о небо! —
я узнаю, что мой почтенный уодитель прибыл в го'од!
Провалиться мне, если я не натолкнулся в Парке на нашу
п'аклятую семейную ка'эту — с мамашей, сестрицами и со
всеми прочими,— как раз, когда я катил в кебе с Полли
Томкинс! Я сейчас же вернулся домой и говорю: «Ну их
к че'ту! — говорю я Тафтханту.— К че'ту, мой мальчик,
говорю, я только что видел моего уодителя, мне по'а
смываться!» — «Как,— говорит Том,— назад в Оксфорд?» —
«Нет,— говорю,— этто не п'ойдет! Куда угодно, на к'ай
света, к че'ту на рога! Ага, знаю: я поеду в Ма'гет, навещу
моего ста'ого Джорджа — кто мне помешает?» Взял да и
поехал на д'угой же день; и вот я здесь, и нас с вами ждет
обед в гостинице, и шесть бутылок шампанского во льду,
и лососина: так что — никаких отказов!
Брэндон и не подумал отказываться: хорошее угощение
в веселом обществе его тем более соблазняло, что был он
в унынии и душевном расстройстве,— и он пообещал
приятелю отобедать с ним в ресторане.
Джентльмены еще немного побеседовали. Мистер
Брэндон был хитрая бестия и превосходно знал то, что
заподозрил, несомненно, и читатель, а именно, что лорд Синкбарз
был полный болван; но он был лордом, и Брэндон высоко
чтил его. Лорду мы прощаем глупость; человек может быть
каким угодно насмешником среди обычных людей, но если
перед ним высокая особа, то тут природа или же инстинкт
делают его благосклонно слепым; божественность
служит оградой не только королю, но и всей титулованной
знати*.
— Так это и есть та девица, как я понимаю? — сказал
милорд, хитро подмигнув Брэндону.— Я о той маленькой,
бледненькой, что открыла мне дверь. Приятная малютка,
честное слово, Джордж, старина!
465
— А,., да... Я, кажется, что-то о ней писал,— сказал
Брэндон, покраснев; потому что, по правде говоря, ему не
хотелось, чтобы его приятель пустился в обсуждение
молодой особы, в которую он был как-никак влюблен.
— Тут, полагаю, уже все? — продолжал милорд, сощу-
рясь еще более хитро.— Вы уже добились своего, а? Я это
увидел по ней. В ту же минуту.
— Вы, право же, оказываете мне слишком много чести.
Мисс... э... мисс Ганн очень порядочная молодая особа, и я
никак не хотел бы, чтобы вы подумали, будто я позволю
себе что-нибудь такое, что может бросить хоть малейшую
тень на ее доброе имя.
Выслушав эту речь, лорд Синкбарз был сперва сильно
озадачен; но, поразмыслив, пришел к выводу, что Брэндон
скрытничает больше, чем обычно,— и, видать, не зря! Горя
нетерпением узнать подробности деликатной интриги, наш
тонкий дипломат решил, что он постепенно выудит из
Брэндона всю историю; и так за полчаса их разговора
Синкбарз отпустил не меньше сорока намеков на
занимавший его предмет. Наконец Брэндон довольно высокомерно
обрезал его, попросив не касаться больше этого вопроса,
так как ему это крайне неприятно.
Да, ошибки быть не могло: Джордж Брэндон был
влюблен в Каролину. Он уяснил это сам себе, когда залился
краской, едва лишь заговорили о ней, когда так
возмутился при непристойных шутках юного аристократа на ее
счет!
Переведя разговор на другое, он стал расспрашивать
виконта про его поездку и осведомился, не прихватил ли
он с собою в Маргет кого-нибудь из приятелей; на что
милорд рассказал обо всех своих лондонских подвигах — как
он попал в участок, сколько распил бутылок шампанского,
как оттузил полисмена, и так далее и тому подобное; и в
заключение сообщил, что приехал сюда с Томом Тафтхан-
том, который в настоящую минуту сидит в гостинице и
курит сигару.
Брэндону от этих рассказов веселей не стало. Когда же
виконт назвал имя своего приятеля, Брэндон мысленно
послал того ко всем чертям. Два эти джентльмена исстари
друг друга не любили. Тафтхант учился в одном из «малых
колледжей» — безродный студент на стипендии; а так уж
повелось, что если студент «малого колледжа» склонен
поразвлечься, за ним установится слава буяна и забулдыги.
Тафтхант был груб, Брэндон — джентльмен: значит, они
466
друг друга не любили. Оба состояли в льстецах при одной
и той же титулованней особе: значит, они друг друга не
любили. В колледже у них однажды вышла ссора из-за
проспоренного пари, причем Брэндон знал, что остался
в долгу: значит, они друг друга не любили; и в той их
перебранке Брэндон пригрозил отхлестать Тафтханта
кнутом и обозвал его «типичным снобом из малого
колледжа — мошенником и подлипалой», и маленький Тафтхант,
не приняв этих слов в обиду, невзлюбил Брэндона куда
сильней, чем Брэндон не любил его. Брэндон только
презирал своего соперника и считал его непереносимо
скучным и вульгарным.
Итак, хотя мисаеру Тафтханту отнюдь не улыбалось
нанести Брэндону визит в его пансионе, все же его очень
беспокоило, как бы его друг, юный лорд, не попал опять в
лапы своего бывшего наставника, и он поехал с ним в Мар-
гет, чтобы противодействовать влиянию, какое ловкий
Брэндон мог приобрести.
«Ну его ко всем чертям! — думал Тафтхант (по части
проклятий между двумя джентльменами установилась тро-%
гательная взаимность).— Он в этом году уже выкачал из
Синкбарза пятьдесят фунтов и, если я не присмотрю,
прикарманит добрую половину его последнего пособия из
дому — вор он и мошенник!»
И до того он боялся, этот Тафтхант, как бы Брэндон не
вернулся к власти и не использовал ее бесчестным образом,
что тут же бы сел и отписал лорду Рингвуду про
похождения его сынка, да только он и сам чертовски нуждался в
деньгах. Из биографии Тафтханта и о его physique 1
надобно сообщить только то, что был он сыном деревенского
стряпчего, состоявшего при некоем лорде, что его
поместили в закрытое благотворительное училище, где десять лет
он отличался тем, что из пятисот мальчишек дрался
больше всех и чаще всех подвергался порке. Из училища он
попал стипендиатом в колледж, где был принят в члены
товарищества и должен был со временем получить приход. Что
до внешности, так ростом мистер Тафтхант был невелик, и
ноги были у него колесом; одежду он носил полусветскую,
полуцерковную: черный, прямого покроя сюртук и светло-
песочные панталоны с бессчетным множеством пуговиц по
лодыжкам — в дни молодости автора излюбленный костюм
университетского повесы.
Наружности (франц.).
467
Итак, Брэндон сказал, что ему надо написать кое-какие
письма, и пообещал прийти, как условлено, к другу,— что
он и сделал; но уж если рассказывать всю правду, молодой
человек был так распален своею страстью и встреченным
сопротивлением, так разволнован многообразными
утренними происшествиями, что полчаса, оставленные ему Синк-
барзом, он простоял на коленях, плача и моля, перед
дверью Каролининого чердака, которая так и осталась
неумолимо закрытой. Он бесился от разочарования и обиды,
обезумел от желания увидеть Каролину. Самая искусная
кокетка в Европе не могла бы так его разжечь. Едва войдя
в обеденную залу, он первым делом выпил большой бокал
шампанского; а когда Сиикбарз попробовал в своей
изысканной манере пошутить насчет его встрепанного вида,
мистер Брэндон только зарычал, заругался со страшной
силой и опять приложился к бутылке. Лицо его, только что
совсем бледное, раскраснелось; его язык, поначалу
связанный, теперь молол без устали; еще не убрали рыбу со
стола, когда мистер Брэндон уже выказал признаки сильного
^опьянения; и еще не подали десерт, когда мистер
Тафтхант, хитро подмигнув лорду Синкбарзу, принялся
вытягивать из него правду; и Брэндон с криком и божбой стал
излагать историю своей любви.
— Понимаешь, Тафтхант,— говорит он, ошалев,— я,
провались ты на месте, тебя ненавижу, но я должен
рассказать! Я здесь вот уже два месяца, в этой чертовой дыре;
в паршивых комнатах, на хлебах в вульгарном семействе,
таком же, ей-богу, вульгарном, как ты!
Тафтханту такая манера обращения нравилась куда
меньше, чем лорду Синкбарзу, который безудержно
хохотал и которому Тафтхант шепнул растерянно:
— Ну, ну, он же пьян!
— Пьян? Нет, сэр,— взревел Брэндон.— Но я схожу с
ума, да, с ума схожу от добродетели этой маленькой
чертовки, пятнадцатилетней девчонки, на которую я положил
уже больше труда, чем потребовалось бы, чтобы обольстить
одну за другой всех твоих сестер... ха-ха! Всех мисс
Тафтхант, клянусь Ю-юпитером! Мисс Сьюки Тафтхант, мисс
Долли Тафтхант, мисс Анну Марию Тафтхант и всех
остальных. Ладно, сэр, нечего на меня бычиться, или я вам
вышибу мозги вот этим графином (Тафтхант, привставший
было, опять развалился на оттоманке). Я столько времени
терплю мамашу девчонки, ее отца, ее сестриц; и кухарку
в их доме; и негодяя художника, с которым должен драть-
468
ся из-за нее на дуэли; и было бы ради чего? А то ради
несчастного письма, в котором говорится: «Джордж, я
покончу с собой! Я покончу с собой!» Ха-ха! Этакая чертовочка,
и покончит с собой, ха-ха!.. Когда я... я ее обожаю... схожу
по ней с ума...
— Охотно верю, что он сошел с ума,— сказал Тафт-
хант; и Брэндон в эту минуту дал самое
недвусмысленное доказательство сумасшествия: уткнулся голового
в угол оттоманки и бешено заколотил ногами по
подушкам.
— Ты его не понимаешь, Тафти, мой мальчик,— сказал
лорд Синкбарз тоном превосходства.— Тебе это недоступно,
уверяю тебя. Ей богу, я подозреваю, что ты никогда в
жизни не был влюблен. Вот я, сэр, знаю, что это такое. Ну, а
Брэндон... Боже ты мой! Я много раз видел его в таком
состоянии, когда мы были за границей. Он, когда у него
заведется интрига, начинает безумствовать. Помню я, в Баден-
Бадене была графиня Фрич, потом какая-то женщина в По;
и эта девчонка — в Париже, что ли?.. Нет, в Вене. Из-за
каждой из них с ним творилось вот такое; но вот что я
скажу, когда мы занимаемся этим делом, мы справляемся
с ним легче, а?
И с этими словами милорд скорчил в усмешку свое
желтое безбородое личико и, подняв вровень со свечей стакан
прескверного бордо, стал рассматривать его на свет.
Интрига, как он это именовал, представлялась маленькому
человечку первейшим из удовольствий; и пока для него не
настало время изведать его самому, он любил поговорить
об «интригах» своих друзей.
Ну а Тафтхант — легко себе представить, как возросла
симпатия этого джентльмена к Брэндону, после того как
тот позеолил себе такое грубое с ним обращение! Брэндон
продолжал пить и болтать, хотя и не сплошь в том
сентиментальном стиле, в какой он ударился, говоря о своих
любовных делах и обидах. Так же безумно развеселясь,
как был перед тем безумно печален, он рассказал
товарищам о своей ссоре с Фитчем, так комично копируя манеру
художника и так забавно описав всю его фигуру, что оба
слушателя покатывались со смеху. Синкбарз побожился,
что утром охотно посмотрит потеху, и если художнику
нужен секундант, то он готов взять эту роль на себя — или
же уступит ее Тафтханту.
У лорда Синкбарза был, между прочим, очень ловкий
слуга, веселый плут, в прошлом всего лишь младший слу-
469
житель в колледже Крайст-Черч, где виконт оценил его по
достоинству и возвел в высокий ранг своего камердинера.
Основной обязанностью камердинера было чистить
прекрасные полусапожки своего барина, которыми мы так
любовались, и укладывать милорда в постель, когда он
захмелеет. Камердинер слышал от слова до слова все, что
говорилось между молодыми людьми (у него была
привычка — и милорд ее поощрял — самому время от времени
вмешиваться в разговор); и попозже вечером, ужиная с
мсье Доннерветтером и мадемуазель Огюстиной, он от
слова и до слова пересказал всю беседу, как она велась
выше этажом, причем передразнивал Брэндона так же
искусно, как тот передразнивал Фитча.
И вот, потешив всю компанию изображением любовных
терзаний Брэндона, мистер Том сообщил своим
сотрапезникам, что у джентльмена имеется соперник, с которым
ему предстоит завтра утром драться на дуэли, живописец с
огромной бородой; и когда он назвал его фамилию —
Фитч,— мадемуазель Огюстина, к его удивлению, завизжала
от смеха и воскликнула «Фийш, Фийш! (Test notre homme:
это он, сэр! Саладин, вы помните мистера Фийш?
— Мисса Фис, мисса Фис,— важно отозвался
Саладин.—Осен хоросо знай мисса Фис! Худозник, больсой
борода, даль Саладин кусок резин; миссис лубит мисса
Фис!
Это — увы — была правда: наша толстая дама была
пресловутой миссис Каррикфергус, и она проделала весь
долгий путь из Рима в погоне за обожаемым своим
художником.
Глава /X,
которая грозила смертью,
но разрешилась множеством браков.
Так как утро вело за собою день, который должен был
стать знаменательным в жизни всех героев и героинь
нашей повести, будет вполне уместно рассказать и о том, как
они накануне провели ночь. Брэндон, подобно англичанам
перед битвой при Гастингсе, пропировал и пропьянствовал
допоздна; лорд Синкбарз ровно в двенадцать — в свой
обычный час после своей обычной меры выпитого — был
унесен и уложен в постель слугой, которого держал
нарочно для этой цели. Мистер Тафтхант принял это как намек
и пожелал Брэндону спокойной ночи, одновременно пообе-
470
щав, что они с Синкбарзом не преминут явиться к нему
утром в связи с дуэлью.
Надо ли нам признаваться, что теперь, когда возбуж-
денье улеглось, а голова трещала от боли, мистера Брэндо-
на ничуть не радовала мысль о завтрашнем поединке?
«Если я,— размышлял он,— пристрелю этого
сумасброда, весь свет завопит: «Убийца!» Если же он пристрелит
меня, весь свет станет надо мной смеяться! А все же, черт
бы его побрал, он, кажется, так жаждет крови, что встречи
не избежать. Во всяком случае,— подумал он затем,—
неплохо бы оставить письмо Каролине». Итак, придя
домой, он сел и написал весьма прочувствованное письмо, в
котором говорилось, что он выходит драться за нее, и если
он умрет, его последнее дыхание будет отдано ей. Написав
это все, он бросился в постель и во всю ночь не сомкнул
глаз.
Если Брэндон провел свою ночь, как англичане, то Фитч
свою провел, как норманны: в посту, умерщвлении плоти и
раздумий. Бедняга тоже сочинил письмо к Каролине —
очень длинное и сильное, со стихотворными вставками и
содержавшее в себе те самые слова, которые мы слышали,
когда он их выкрикивал в окно. Потом он подумал о том,
не составить ли завещание; но он рассудил — и куда как
горька была эта мысль для молодого человека,— что
никому-то на свете нет до него дела — кроме, правда, вспомнил
он, немного поразмыслив, этой бедной миссис Каррикфер-
гус, там, в Риме, «которая меня действительно любила и
одна на свете покупала мои картины». Итак, он отказал
ей все свои рисунки, навел порядок в скромном своем
имуществе, убедился, что у него как раз хватает денег для
уплаты прачке; и, сложив с себя таким образом земные
заботы, мистер Фитч тоже бросился в постель и тут же
заснул крепким сном. Брэндон всю ночь слышал его храп и
не находил ни капли облегчения* в том, что противник
принимает все это дело так беспечно.
И вправду, наш бедный художник не таил в своей груди
ни чувства какой-либо вины, ни мстительной злобы на
Брэндона — теперь, когда те первые муки оскорбленного
тщеславия улеглись. Нелепый и смешной, он все же не был
малодушен; а после всего, что случилось утром,—
раскрытого им предательства и посыпавшихся на него
оскорблений,— дуэль, он понимал, неотвратима. У него было
смутное понятие, где-то им почерпнутое, что долгом
джентльмена является среди прочего подраться раз-другой на
471
дуэли, и он давно искал к тому случая. «Предположим, я
буду убит,— рассуждал он,— какая разница? Каролина все
равно меня не любит. Мальчики доктора Уокербарта
останутся в эту среду без урока рисования; и больше никто ни
словом не помянет бедного Андреа».
А теперь заглянем на чердак. Каролина, бедненькая,
вся была поглощена своим горем и, выплакав его на груди
верной Бекки, наконец заснула. Но пробило два
пополуночи, и три, и после кончившегося отлива начался прилив;
и фонари мерцали тусклей и тусклей; и сторож возгласил
шесть часов; и солнце встало и позолотило минареты Мар-
гета; и Бекки поднялась и выскребла крыльцо и кухню,
приготовила завтрак жильцам; а в половине девятого
громко задубасили в дверь, и два господина — один с красного
дерева ларцом под мышкой, спросили мистера Брэндона, и
удивленная Бекки проводила их в его апартаменты, и
мистер Брэндон заказал Бекки завтрак на троих.
Тот громкий стук разбудил и мистера Фитча, который
встал и оделся в лучшую свою одежду, подвил щипцами
бороду и вообще во всем своем поведении выказал полное
хладнокровие. Пробило девять, он завернулся в плащ и
спрятал под плащом ту пару рапир, которые он, как было
сказано, имел в своем владении, ни в малой мере не умея
ими пользоваться. Однако он слышал в Париже и Риме от
своих camarades (Гatelier \ что в дуэли лучшее оружие —
рапира; и так он вышел из дому.
Бекки была в коридоре, когда он спускался по
лестнице; она вечно скребла там пол.
— Бекки,— сказал Фитч приглушенным голосом,— вот
письмо. Если через полчаса я не вернусь, вы его
передадите мисс Ганн. И дайте мне честное слово, что она не
получит его раньше.
Бекки пообещала. Она подумала, что художник
затевает очередное сумасбродство. Он вышел, отвесив ей в
дверях торжественный поклон.
Но, пройдя всего лишь несколько шагов, вернулся.
— Бекки,— сказал он,— вы... вы хорошая девушка и
всегда были добры ко мне, тут у меня кое-что для вас: мы,
может быть... может быть, мы долго не увидимся.— В
глазах его были слезы, когда он это говорил, и он ей сунул
в руку семь шиллингов и четыре с половиной пенса — все
до последнего фартинга, что имел на свете.
1 Товарищей по студии (франц.).
'472
— Ну что вы! — сказала Бекки; но ничего не добавила,
только положила деньги в карман и снова взялась за
работу.
Три джентльмена со второго этажа, болтая, вышли на
лестницу.
— Бог ты мой,— куда это вы! — закричала Бекки.—
В такую рань! Еще и вода у меня не закипела.
— Мы вернемся к завтраку, милаша,— сказал один,
маленький джентльмен на высоких каблуках.— П'ошу вас,
не забудьте приготовить содовую.— И он вышел, играя
тростью. Следом за ним — его приятель с ларцем под
мышкой. Брэндон всех позади.
Он тоже, сделав несколько шагов, воротился.
— Бекки,— сказал он торжественно,— если через
полчаса меня не будет, передайте это мисс Ганн.
Бекки встревожилась; и, повертев в руках оба письма,
осмотрев каждое с той и с другой стороны и строго
поглядев на печати, она по дурости своей решила, что не станет
она ждать полчаса, а отнесет их барышне сейчас же. Она
поднялась наверх и застала Каролину за шнуровкой
корсета.
А следствием такого поведения Бекки было то, что
маленькая Каролина, бросила шнуровать свой корсет (пре-
славная была в нем фигурка у девушки; но сейчас речь не
об этом), взяла письма, посмотрела сперва на одно —
которое сразу же отложила; на другое — которое жадно
вскрыла, и, прочтя две-три строки, громко вскрикнула и упала
без чувств.
* * *
К подворью Райта мчи нас, муза, днесь, спеши
поведать, что вершится здесь. Утром, чуть свет, мадемуазель
Огюстина заявилась в комнату мисс Рант и с ликованием
сообщила этой леди об ожидающем их событии.
— Figurez-vous, mademoiselle, que notre homme va se
battre — ax, вот будет drole l увидеть его со шпагой в руке!
— Не приставайте вы ко мне, Огюстина, со всякими
гнусными дрязгами между слугами; этот противный курьер
вечно пьян и заводит ссоры.
1 Представьте себе, барышня, наш-то кавалер собирается
драться на дуэли... забавно (франц.).
473
— Мои Dieu, qu'elle est bete! l — воскликнула Огюсти-
на,— Но я же вам не о курьере толкую; я о нем, о... Fobjet,
le peintre dont madame s'est amourachee, Monsieur 2 Фийш.
— О мистере Фитче! — закричала Рант, вскочив с
кровати.— Мистер Фитч дерется на дуэли! Огюстина, живо —
мои чулки, капот... Скажи, где, как, когда?
Огюстина рассказала ей наконец, что дуэль состоится
сегодня же, в девять утра, за ветряной мельницей и что
джентльмен, с которым Фитч дерется, накануне вечером
обедал в их отеле в обществе de ce petit milord 3, который
будет его секундантом.
С быстротой молнии Рант кинулась в спальню своей
покровительницы. Та спала крепким сном; и вообразите
сами, каковы были ее чувства, когда она пробудилась и
услышала эту страшную весть.
Так безмерна сила любви, что хотя миссис Каррикфер-
гус долгие годы никогда не поднималась с постели раньше
полудня; хотя во время ее сумасшедшей погони за
художником ей перед отъездом в путь неизменно подавали в
постель чашку чая и котлету (равно как и дозу
подкрепляющего),— сейчас она мигом вскочила, забыв и сон, и
баранью отбивную, и все другое,— и принялась за туалет с
такой поспешностью, что сравнение тут возможно разве
что с Арлекином, переодевающимся в пантомиме. У нее
сделался бы нервный припадок, но только она знала, что
на него нет времени; право же, не протекло над ее головой
и двадцати минут, как она уже надела свою пелерину и
шляпу и со всею челядью да еще прихватив по дороге
двух-трех гостиничных лакеев полным ходом устремилась
к полю действия. Никогда за двадцать лет до того дня, ни
с того дня по нынешний не случалось Марианне Каррик-
фергус ходить так быстро.
* * *
— Вот тебе и раз! — закричал лорд виконт Синкбарз»
когда они прибыли на поле боя за мельницей.— Здесь, черт
меня подери, только один!
Так оно и было: мистер Фитч в необъятном своем
плаще медленно расхаживал взад и вперед по лужайке, отбра-
1 Бог ты мой, какая дура (франц.).
2 О ее предмете, художнике, в которого барыня влюблена,
о господине... (франц.)
3 Этого маленького милорда (франц.).
474
сывая длинную тень на залитую солнцем траву. И был
мистер Фитч один — о секунданте он просто не подумал.
В этом он откровенно сознался, отвешивая вновь
прибывшим величественный поклон.
— Но это, господа, несущественно,— сказал он,— и,
надеюсь, не помешает нам честно провести поединок.— И,
скинув плащ, он извлек две свои рапиры со снятыми уже
наконечниками. Он подошел к Брэндону и собрался
предложить ему одну из рапир, как это делается на театре.
Брэндон растерянно попятился, Синкбарз был явно
смущен, Тафтхант в восторге.
— Ну и ну! — сказал он.— Надеюсь, бородач крепко
ему всыпет!
— Извините, сэр,— заявил мистер Брэндон,— я, как
вызванная сторона, выбираю пистолеты.
Мистер Фитч с полным присутствием духа и не без
изящества воткнул рапиры в траву.
— О, уазюмеется, пистолеты,— пропищал милорд; и
тут же, отведя в сторону Тафтханта, стал очень весело что-
то ему нашептывать; против чего Тафтхант сперва
возражал, сказав: «Нет, черт бы его побрал, пусть дерется!» —
«А твой диплом и приход, Тафти, мальчик мой?» —
напомнил милорд; и они стали прохаживаться. Через несколько
минут, в течение которых мистер Фитч оглядывал Брэндо-
на с головы до пят, или со шляпы до башмаков, в точности
как мистер Уиддикомб мистера Картлича, перед тем как
эти два джентльмена сойдутся в сражении на арене цирка
Астли (да и то сказать, что еще бедняга Фитч мог бы взять
за образец рыцарственного поведения?),— итак, когда
Фитч прекратил наконец этот осмотр, смысла которого
Брэндон так и не понял, лорд Синкбарз подошел к
художнику и слегка кивнул головой.
— Сэр,— сказал он,— поскольку вы явились, не
позаботившись о секунданте, я, с вашего соизволения, послужу
за такового. Меня зовут Синкбарзом: лорд Синкбарз!
И хотя я пришел сюда, чтобы быть секундантом моего
друга, эту обязанность берет на себя мистер Тафтхант; и так
как мне кажется, что в этом злополучном деле другой
исход невозможен, мы сразу и начнем.
Удивительно, как только лорд Синкбарз сумел
произнести такую поистине джентльменскую речь! Услышав,
что его секундантом будет лорд, Фитч положил руку на
грудь, поклялся, что он-де это принимает как величайшую
честь, и повернулся спиной, чтобы пройти на свое место,
475
когда милорд, изящно уткнув язык в щеку и приставив
большой палец к носу, пошевелил остальными пальцами в
воздухе и сказал Брэндону:
— Только для виду.
Мистер Брэндон улыбнулся и тяжело перевел дух.
Сказать по правде, лорд снял с его души большую тяжесть, и
он был рад-радешенек от нее освободиться: в хладнокровии
этого сумасброда художника было нечто такое, что вовсе
не нравилось нашему светскому господину.
— Мистер Тафтхант,— очень громко сказал лорд
Синкбарз,— принимая во внимание, что случай весьма
серьезный — угроза, знаете, отколотить, обвинение с обеих
сторон во лжи, и еще дама замешана,— я предлагаю
установить барьер.
— А что это такое? — спросил Фитч.
— Самая простая вещь на свете; и к тому же,—
шепнул Синкбарз,— самая для вас благоприятная. Сейчас вам
объясню: мы вас разводим на двадцать шагов, а посередине
лежит шляпа. Вы идете вперед и стреляете, когда
захотели. Как выстрелили, должны остановиться; и каждый
вправе дойти до шляпы. Самое честное дело.
— Отлично,— сказал Фитч; и с бесконечными
предосторожностями пистолеты зарядили.
— Знаете что,— шептал Синкбарз на ухо Фитчу,—
когда бы я не избрал этот способ, вам бы конец. Если только
он выстрелит, он убьет вас наповал. Не давайте ему
начать, пристрелите его первый!
— Постараюсь,— сказал Фитч, немного побледнев, и
поблагодарил своего благородного друга за совет. Шляпу
положили, и противники стали на свои места.
— Готовы оба?
— Готовы,— сказал Брэндон.
— Начнете сходиться, когда я брошу платок.— И вот
платок падает. Лорд Синкбарз кричит: — Начинай!
Противники двинулись друг на друга, наводя
пистолеты. Сделав шесть шагов, Фитч остановился, выстрелил и...
промахнулся. Он крепко стиснул пистолет в руке, так как
едва его не выронил; и стоял, кусая губы и глядя на Брэн-
дона, который, злобно усмехаясь, дошел до шляпы.
— Согласен ты, негодяй, взять назад то, что сказал
вчера? — говорит Брэндон.
— Не могу.
— Согласен просить пощады?
— Нет.
476
— Тогда я даю тебе одну минуту, и молись богу, потому
что сейчас ты умрешь.
Фитч выпустил из руки пистолет, на минуту закрыл
глаза, выкатил грудь, сжал кулаки и промолвил:
— Я готов.
Брэндон выстрелил — и, странное дело, Андреа Фитч,
глотая воздух и отшатнувшись назад, увидел — или это
ему померещилось? — что пистолет Брэндона взлетел на
воздух и на лету разрядился; и услышал, как сей
джентльмен длинно и громогласно выругался. Когда же он
опомнился, у ног Брэндона лежала толстая палка; сам мистер
Брэндон, всех кляня, скакал по лугу и махал зашибленной
в локте рукой, а к месту поединка спешил целый синклит.
Первым примчался величественный немец курьер и,
набросившись на Брэндона, закричал ему в ухо:
— Schelm! Spitzbube! Мерсавец, трус! Эсли б я не ки-
нуль палька и не ломаль его тшортов рука, он упиль бы
этот педни молодой тшеловек.
Слова немца заключали в себе два неверных
утверждения: во-первых, Брэндон не убил бы Фитча; а во-вторых,
его рука не была сломана — он только получил удар по
чувствительному месту, именуемому у анатомов мыщелком
локтевой кости: жестокий удар, от которого пистолет,
вылетев из руки, закрутился в воздухе, а джентльмен взвыл
от боли. Двое лакеев тоже вцепились в убийцу; какой-то
булочник, который свернул за толпой, прервав свой обход,
ночной сторож, несколько мальчишек визжали вокруг него
и вопили: «Поли-ици-ия!»
Вслед за этими, запыхавшись и тяжело отдуваясь,
подоспели несколько женщин. Фитч не поверил своим
глазам: эта толстуха в алом атласе... неужели это?.. Да нет
же... Да! Его заключает в объятия миссис Каррикфергус!
* $ *
Мы из деликатности не будем останавливаться на
подробностях этой встречи. Достаточно сказать, что
обстоятельства дела кое-как разъяснились, мистера Брэндона
отпустили с миром, и вот мы видим, подъехала наемная
коляска и мистер Фитч соизволил сесть в нее вместе со
своим вновь обретенным другом.
Брэндон был не чужд благородных порывов. Когда
Фитч уселся в коляску, он подошел и протянул ему левую
РУку.
477
— Я не могу предложить вам правую, мистер Фитч,
потому что этот чертов курьер мне ее покалечил; но,
надеюсь, вы мне разрешите извиниться перед вами за мое
постыдное поведение и сказать вам, что никогда в своей
жизни я не встречал более храброго джентльмена, чем вы.
— Да, черт возьми, это так! — сказал милорд Синкбарз.
Фитч покраснел как пион.
— И все же,— сказал он, весь дрожа,— вы только что,
мистер Брэндон, едва меня не убили. Я не могу пожать
вам руку, сэр.
— Эх, ты, п'а-астак! — сказал многоумный милорд.—
Он не мог п'ичинить тебе вреда, ни ты ему! Писта-алеты
за-аядили без пуль.
— Что?! — вскричал Фитч, отшатнувшись.— И это у
у вас, господа, называется шуткой? Ах, милорд, милорд! —
Тут бедный Фитч разразился доподлинными слезами на
алой атласной груди миссис Каррикфергус; а она и мисс
Рант обе и без того рыдали в голос. И так под громкие
крики и ликование коляска укатила.
— Какой слюнтяй и са-аве'шенный осел! — вынес свой
премудрый приговор Синкбарз.— П'авда, Тафтхант?
Тафтхант, разумеется, с ним согласился; но Брэндон
был настроен на великодушие.
— Ей-богу! По-моему, эти слезы делают ему честь.
Когда я сошелся с ним сегодня утром, я намеревался
провести игру честно. А мистер Тафтхант, когда он называет
человека трусом, потому что тот плачет... мистер Тафтхант
отлично знает, что такое пистолет, и знает, что иной
джентльмен, как ни смел, а не решится стать под дуло.
Мистер Тафтхант понял намек и пошел вперед, кусая
губы. А что касается нашего благородного моралиста,
мистера Брэндона, то я счастлив сообщить, что судьба
уготовила ему добрую награду в том же роде, какая только что
выпала на долю мистеру Фитчу, но еще более высокую.
Заключалась она в том, что, забыв приличия и девичий
стыд, в присутствии лорда виконта Синкбарза и его
приятеля, это маленькое глупое создание, Каролина Ганн,
выбежала из гостиной в коридор (она простояла у окна с той
минуты, как только очнулась от обморока, и — боже
мой! — какой страх, какую пытку вытерпело это бедное
трепещущее сердечко за полчаса отсутствия ее
любезного!) — Каролина Ганн, говорю я, выбежала в коридор и
кинулась на шею Брэндону, и целовала его, и называла
своим милым, милым, милым, дорогим своим Джорджем,
478
п рыдала, и смеялась, пока Джордж, мягко обхватив ее за
талию, не увел ее в маленькую грязную гостиную и не
прикрыл за собою дверь.
— Ого! — воскликнул Синкбарз.— Вот это, ей-богу,
сцена! Эй, Бекки, Полли, как вас там... несите нам завт'ак;
и надеюсь, вы не забыли п'о содовую. Тафти, мой мальчик,
па-а-шли наве'х!
Когда Брэндон прибежал к ним на второй этаж — а
сделал он это через две минуты, сдав Каролину на попечение
Бекки,— в глазах его стояли слезы; когда же Синкбарз
принялся над ним подтрунивать' в своем обычном
утонченном стиле, Брэндон торжественно сказал:
— Прошу вас, сэр, перестаньте смеяться, так как эта
девица, клянусь, очень скоро станет моей женой.
— Вашей женой!.. А что скажет ваш отец, и что
скажут ваши к'эдиторы, и что скажет мисс Голдмор с ее ста
тысячами фунтов? — спросил Синкбарз.
— Плевать я хотел на мисс Голдмор,—сказал
Брэндон,— и на кредиторов тоже; а мой отец пусть утешается,
как может.
Брэндон ушел в свои мечтания.
— Не о чем тут раздумывать,— воскликнул он,
помолчав.— Вы же видите, что это за девушка, Синкбарз.
Я люблю ее — видит бог, я схожу по ней с ума! Она будет
моей, чем бы это ни кончилось. И к тому же,— добавил он,
понизив голос,— почему отец непременно должен об этом
знать?
— О, гуом и молния, вот это любовь! — закричал его
друг.— Ей-богу, мне нравится такая решительность.
И к черту всех на свете отцов. Постойте! Блестящая
мысль! Если вам нужно обвенчаться, на это у нас есть Том
Тафтхант, они обделает вам все это дельце.— Маленький
лорд Синкбарз был сам не свой от радостного возбуждения
и думал про себя: «Вот это, черт возьми, настоящая
интрига!»
— Как, разве Тафтхант рукоположен? — удивился
Брэндон.
— Да,— ответил его преподобие.— Разве вы этого не
видите по моей одежде? Я рукоположен шесть недель тому
назад, когда окончил курс. Отец Синкбарза обещал мне
приход.
479
— И ты нам обвенчаешь Джорджа — сейчас же!
— Как, без лицензии на брак?
— На черта нам далась лицензия! Мы же не побежим
доносить, как вы думаете, Джордж?
— Но только, чтоб в ее семействе не узнали,— сказал
Джордж.— Уж эти побегут!
— Ас чего им? Почему Тому не обвенчать вас прямо
тут, в комнате, безо всякой церкви и разных причиндалов?
— Вы меня вызволите, милорд,— сказал Том,— если
что случится; и если Брэндон на это идет, что ж, я готов...
Ему каюк, если он на это пойдет,— пробурчал Тафтхант
про себя,— и уж тут я ему отомщу, подлецу: будет знать,
как заноситься и помыкать людьми!
* * *
Итак, в тот самый день, в комнате Брэндона,
достойным служителем церкви — его преподобием Томасом Тафт-
хантом, без лицензии и при единственном свидетеле —
милорде Синкбарзе, бедняжка Каролина, не смыслившая
ничего, слыхом не слыхавшая ни про какие лицензии,
знать не знавшая об оглашениях, была некоторым образом
обвенчана с неким джентльменом, называвшим себя
Джорджем Брэндоном; причем «Джордж Брэндон» не было
его настоящим именем.
Никаких записей в церковных книгах не сделали —
Тафтхант всего лишь прочитал по требнику текст
свадебного обряда. Бекки, единственная попечительница
Каролины, не заподозрила обмана: когда бедная девочка
расцеловалась с нею и, краснея, показала свое золотое кольцо, она
подумала, что все сделано, как полагается. И в тот же
день счастливая чета отбыла в Дувр на те пятьдесят
фунтов, которые Синкбарз одолжил жениху.
Бекки получила от Каролины письмецо, которое
должна была свезти ее маменьке к Свигби;, и они уговорились,
что она возьмет расчет и перейдет в услужение к барышне.
На другое утро Синкбарз и Тафтхант отправились
пароходом в Лондон; у Тафтханта было неспокойно на душе,
виконт же клялся, что «провел здесь самый веселый день
своей жизни и что ничего на свете он так не любит, как
интригу».
В то же утро большая дорожная колесница миссис Кар-
рикфергус выехала из Маргета, увозя некоего
длиннобородого джентльмена. Бедный Фитч съездил к себе на кварти-
480
ру, чтобы еще раз попытать счастья с Каролиной, и
прибыл как раз вовремя, чтобы увидеть... как они с Брэндоном
садятся вдвоем в почтовую карету.
Шесть недель спустя «Вестник Галиньяни» вышел со
следующим сообщением:
«В Британском посольстве епископ Ласкомб сочетал
браком Эндрю Фитча, эсквайра, с Марианной Каролиной
Матильдой, вдовою покойного Энтони Каррикфергуса
(Ломбард-стрит и Глостер-плейс), эсквайра. После
роскошного dejeune l счастливая чета отбыла на юг в собственной
великолепной карете четверней. Подругой невесты была
мисс Рант; и, как мы приметили, общество украшали своим
присутствием граф и графиня Крэбс, генерал сэр Райе
Карри, К. О. Б., полковник Уопшот, сэр Чарльз Суонг,
достопочтенный Элджернон Перси Дьюсэйс с супругой,
граф Понтер и другие представители светской элиты,
находящейся сейчас в Париже. Шафером жениха был его друг
Майкл Анджело Титмарш, эсквайр, а роль посаженого отца
взял на себя его сиятельство граф Крэбс. После отъезда
новобрачных пиршество возобновилось и за здравие
оригинальной четы был осушен не один бокал искрометного
шампанского из погребов мсье Мериса».
Заканчивая главу, сообщим еще об одном браке. К
этому времени вернулся из Испании Британский
вспомогательный легион; и генерал-лейтенант Своббер, кавалер
ордена Сан-Фернандо, ордена Изабеллы Католической и
ордена Меча и Башни, который простым капитаном Своббе-
ром полюбил мисс Изабеллу Макарти, ныне, став
генералом, так-таки женился на ней. Можете себе представить,
как была великолепна миссис Ганн и как упился Ганн в
«Сумке Подмастерья»; но так как обе дочери
неукоснительно забирали свои тридцать фунтов годовых и у миссис
Ганн оставалось только шестьдесят, ей приходилось по-
прежнему держать в Маргете пансион — тот самый, где
происходили наиболее интересные сцены нашей повести
о благородном семействе.
Бекки так и не перешла к своей барышне, о которой
не слышно было ничего после ее письма к родителям,
сообщавшего, что она вышла замуж за мистера Брэндона; но
что ее дорогой супруг по особым причинам предпочитает
держать женитьбу в тайне, а пока что пусть ее любезные
родители знают, что их дочка счастлива, и этим довольст-
1 Завтрака (франц.).
16 у. Теккерей, т. 1
481
вуются. Ганн первое время сильно скучал по своей
маленькой Карри и все больше времени проводил в пивной, так
как у домашнего очага наедине с миссис Ганн было ему
слишком жарко. Миссис Ганн непрестанно всем
рассказывала о своей дочери — жене помещика, и о своей дочери —
супруге генерала; но Каролину, после первого взрыва
ярости и недоумения из-за ее отъезда, она не помянула
больше ни единым словом.
Храни тебя бог, бедная Каролина! Теперь ты
счастлива, хотя б и ненадолго; и здесь поэтому мы расстаемся с
тобой.
История Сэмюела Титмарша
и знаменитого бриллианта Хоггарти
Глава /5
в которой описывается паша деревня
и впервые сверкает знаменитый бриллиант
огда, проведя дома свой первый отпуск, я
возвращался в Лондон, моя тетушка, миссис
Хоггарти, подарила мне бриллиантовую
булавку; вернее, в ту пору это была не булавка,
а большой старомодный аграф (сработанный
в Дублине в 1795 годе), который покойный
мистер Хоггарти нашивал на балах у лорда-наместника и
в иных прочих местах. Дядюшка, бывало, рассказывал, что
аграф на нем был и в битве при Винегер-Хилле, когда не
сносить бы ему головы, если бы не косичка,— но это к делу
не относится.
В середине аграфа помещался портрет самого Хоггарти
в алом ополченском мундире, а вокруг тринадцать локонов,
принадлежавших чертовой дюжине его сестриц; но так как
в семье Хоггарти волосы у всех были ярко-рыжие, то
человеку с воображением портрет мог показаться большим
свежим куском говяжьей вырезки, окруженным
тринадцатью морковками. Морковки эти были выложены на
покрытое синей глазурью блюдо; и казалось, все они
вырастают из знаменитого бриллианта Хоггарти (как его
называли в нашем семействе).
Нет нужды разъяснять, что тетушка моя — женщина
богатая; и я считал, что не хуже всякого другого мог бы
сделаться ее наследником.
Во время месячного моего отпуска она была
чрезвычайно мною довольна; часто приглашала выкушать с ней
чаю (хотя в деревне нашей была некая особа, с которой я
предпочел бы в эти золотые летние вечера прогуливаться
по скошенным лугам); всякий раз, как я послушно пил ее
скверный черный чай, обещала, что, когда я буду уезжать
ъ
Ъ
16*
483
в город, не оставит меня своими милостями; мало того,
три, а то и четыре раза приглашала на обед, а обедала она
в три часа пополудни, а потом на вист или крибедж.
Карты — это бы еще ничего, потому что, хоть мы и играли по
семи часов кряду и я всегда оставался в проигрыше,
потери мои составляли не более девятнадцати пенсов за вечер;
но в обед и в десять часов к ужину у тетушки подавали
кислющее черносмородинное вино; отказаться от него я не
смел, но, поверьте, испив его, всякий раз терпел адские
муки.
Таково угождая тетушке да наслушавшись ее
обещаний, я решил, что она пожалует мне по меньшей мере
двадцать гиней (у ней их было в ящике комода несчетно); и
так я был уверен в этом подарке, что молодая особа по
имени Мэри Смит, с которой я об этом беседовал, даже
связала кошелечек зеленого шелка и подарила его мне (за
скирдой Хикса — это если за кладбищем свернуть по
тропинке направо),— да, и подарила его мне, обернутым в
папиросную бумажку. Если уж говорить всю правду,
кошелечек был не пустой. Перво-наперво, там лежал крутой
локон, такой черный и блестящий, каких вы в жизни не
видывали, а еще три пенса, вернее, половинка серебряного
шестипенсовика на голубой ленточке, чтобы можно было
носить на шее. А вторая половинка... ах, я знал, где
находится вторая половинка, и как же я завидовал этому
талисману!
Последний день отпуска я, разумеется, должен был
посвятить миссис Хоггарти. Тетушка пребывала в самом
милостивом расположении духа и в качестве угощения
поставила две бутылки черносмородинного вина, каковые и
пришлись главным образом на мою долю.
Вечером, когда все ее гостьи, надев деревянные
галоши, удалились в сопровождении своих горничных, миссис
Хоггарти, которая еще раньше сделала мне знак остаться,
первым долгом задула в гостиной три восковые свечи, а
затем, взяв четвертую, подошла к секретеру и отперла его.
Поверьте, сердце мое отчаянно колотилось, но я
прикинулся, будто и не смотрю в ту сторону.
— Сэм, голубчик,— сказала она, отыскивая нужный
ключ,— выпей еще стаканчик Росолио (так она окрестила
это окаянное питье), оно тебя подкрепит.
Я покорно стал наливать вино, и рука моя так
дрожала, что горлышко позвякивало о край стакана. К тому
времени, как я наконец осушил стакан, тетушка перестала
484
рыться в бюро и подошла ко мне; в одной руке у ней
мигала восковая свеча, в другой был объемистый сверток. «Час
настал»,— подумал я.
— Сэмюел, дражайший мой племянник,— сказала
она,— тебя назвали в честь твоего святого дяди, моего
супруга — благословенна память его,— и своим благонравием
ты радуешь меня больше всех моих племянников и
племянниц.
Ежели вы примете во внимание, что у моей тетушки
шесть замужних сестер, что все они вышли замуж за
ирландцев и произвели на свет многочисленное потомство,
вы поймете, что я с полным основанием мог счесть слова
ее за весьма лестный комплимент.
— Дражайшая тетушка,— вымолвил я тихим
взволнованным голосом,— я часто слыхал, как вы изволили
говорить, что нас, племянников и племянниц, у вас семьдесят
три души, и, уж поверьте, я почитаю ваше обо мне высокое
мнение чрезвычайно для себя лестным; я его не стою,
право же, не стою.
— Про этих мерзких ирландцев и не поминай,—
осердясь, сказала тетушка,— все они мне несносны, и мамаши
их тоже (нужно сказать, что после смерти мистера
Хоггарти не обошлось без тяжбы из-за наследства); а из всей
прочей моей родни ты, Сэмюел, оказал себя самым
преданным и любящим. Твои лондонские хозяева очень довольны
твоей скромностию и благонравием. При том, что
получаешь ты восемьдесят фунтов в год (изрядное жалованье),
ты, не в пример иным молодым людям, не потратил сверх
этого ни одного шиллинга, а месячный отпуск посвятил
своей старухе тетке, которая, уж поверь, высоко это ценит.
— Ах, сударыня! — только и молвил я. И более уже
ничего не сумел прибавить.
— Сэмюел,— продолжала тетушка,— я обещала тебя
одарить, вот мой подарок. Спервоначалу хотела я тебе дать
денег; но ты юноша скромный, и они тебе ни к чему. Ты
выше денег, милый мой Сэмюел. Я дарю тебе самое для
меня драгоценное... по... пор... по-ортрет моего
незабвенного Хоггарти (слезы), вставленный в аграф с дорогим
бриллиантом,— ты не раз от меня о нем слышал. Носи этот
аграф на здоровье, любезный племянничек, и помни о
нашем ангеле и о твоей любящей тетушке Сьюзи.
И она вручила мне эту махину: аграф был величиной
с крышку от бритвенного прибора, надеть его было бы все
равно что выйти на люди с косицей и в треуголке. Меня
485
такая взяла досада, так велико было мое разочарование,
что я поистине слова не мог вымолвить.
Когда я наконец опомнился, я развернул аграф (аграф
называется! Да он огромный, что твой амбарный замок!)
и нехотя надел его на шею.
— Благодарствую, тетушка,— сказал я, ловко скрывая
за улыбкой свое разочарование.— Я всегда буду дорожить
вашим подарком, и всегда он будет напоминать мне о моем
дядюшке и о тринадцати ирландских тетушках.
— Да нет же! — взвизгнула миссис Хоггарти.— Не
желаю, чтоб ты носил его с волосами этих рыжих мерзавок.
Волосы надо выкинуть.
— Но тогда аграф будет испорчен, тетушка.
— Бог с ним с аграфом, сэр, закажи новую оправу.
— А может, лучше вообще вынуть его из оправы,—
сказал я.— По нынешней моде он великоват; да отдать его,
пусть сделают рамку для дядюшкиного портрета — и я
помещу его над камином, рядом с вашим портретом,
любезная тетушка. Это ведь премилая миниатюрка.
— Эта миниатюрка,— торжественно изрекла миссис
Хоггарти,— шефдевр великого Мулкахи (этим «шефдев-
ром» вместе с «бонтонгом» и «а ля мод де пари» и
ограничивались ее познания во французском языке). Ты ведь
знаешь ужасную историю этого несчастного художника.
Только он кончил этот замечательный портрет, а писал он
его для покойницы миссис Хоггарти, владелицы замка
Хоггарти, графство Мэйо, она сейчас его надела на бал у лорда-
наместника и села там играть в пикет с
главнокомандующим. И зачем ей понадобилось окружить портет Мика
волосами своих ничтожных дочек, в толк не возьму, но уж так
она сделала, сам видишь. «Сударыня,— говорит генерал,—
провалиться мне на этом месте, да это же мой друг Мик
Хоггарти!» Так прямо его светлость и сказал, слово в слово.
Миссис Хоггарти, владелица замка Хоггарти, сняла аграф
и показала ему. «Как имя художника? — спрашивает
милорд.— В жизни не видал такого замечательного
портрета!» — «Мулкахи, с Ормондской набережной».— «Клянусь
богом, я готов оказать ему покровительство! — говорит
милорд; но вдруг потемнел лицом и с неудовольствием
вернул портрет.-— Художник совершил непростительный
промах,— сказал его светлость (он был весьма строг по части
воинского устава).— Ведь мой друг Мик человек военный,
как же он проглядел эдакое упущение?»— «А что
такое?» — спрашивает миссис Хоггарти. «Да ведь он изобра-
486
жен без портупеи, сударыня». И генерал с сердцем взял
карты и уж до самого конца игры не проронил ни слова.
На другой же день всё передали мистеру Мулкахи, и
бедняга тот же час повредился в уме! Он ведь все свое
будущее поставил в зависимость от этой миниатюры и объявил
во всеуслышанье, что она будет безупречна. Вот как
подействовал упрек генерала на чувствительное сердце
художника! Когда миссис Хоггарти приказала долго жить, твой
дядюшка взял портрет и уже не снимал его. Сестрицы его
говорили, что это ради бриллианта, а на самом-то деле,—
у, неблагодарные! — единственно из-за их волос он и носил
этот аграф, да еще из любви к изящным искусствам.
А что до бедняги художника, любезный мой племянник,
кое-кто говаривал, будто он выпивал лишнее, оттого с ним
и приключилась белая горячка, но я этому веры не даю.
Налей-ка себе еще стаканчик Росолио.
Всякий раз, как тетушка рассказывала эту историю,
она приходила в отличное расположение духа, и сейчас
она пообещала заплатить за новую оправу для
бриллианта и приказала мне, по приезде в Лондон, сходить к
знаменитому ювелиру мистеру Полониусу, а счет
переслать ей.
— Золото, в которое оправлен бриллиант, стоит самое
малое пять гиней,— сказала она,— а в новую оправу теб§
его могут вставить за две гинеи. Но разницу ты оставь,
голубчик, себе и купи все, что твоей душеньке угодно.
На том тетушка со мною распрощалась. Когда я
выходил из дому, часы били двенадцать, ибо рассказ о
Мулкахи всегда занимал ровным счетом час, и шел я по улице
уже не в таких расстроенных чувствах, как в ту минуту,
когда мне вручен был подарок. «В конце концов,—
рассуждал я,— бриллиантовая булавка — вещь красивая и
прибавит мне изысканности, хоть илатье мое совсем
износилось.— А платье мое и вправду взносилось.— Что ж,—
рассуждал я далее,— на три гинеи, которые я получу, я
смогу купить две пары невыразимых»,— а, между нами
говоря, у меня в них была большая нужда, я ведь в те
поры только что перестал расти, а панталоны были мне
сшиты за добрых полтора года перед тем.
Итак, шел я по улице, руки в карманы, а в кармане у
меня был кошелечек, который накануне подарила мне
малютка Мэри; для милых вещиц, что она в него вложила,
я нашел другое место, какое — говорить не стану; но
видите ли, в те дни у меня было сердце, и сердце пылкое;
т
в кошелек же я собирался положить тетушкин дар,
которого так и не дождался, вместе с моими скромными
сбережениями, которые после пикета и крибеджа
уменьшились на двадцать пять шиллингов, так что по моим
подсчетам, после того как я оплачу проезд до Лондона, у меня
еще останется две монетки по семь шиллингов.
Я только что не бежал по улице: я так спешил, что,
будь это возможно, я бы догнал десять часов, которые
прошли мимо меня два часа назад, когда я сидел за мерзким
Росолио и слушал нескончаемые тетушкины рассказы.
Ведь в десять мне следовало быть под окошком некоей
особы, которая должна была в тот час любоваться луною,
высунув из окна свою прелестную головку в папильотках
и в премиленьком плоеном чепчике.
Но окно было уже закрыто, и даже свеча не горела; и
чего только я не делал, стоя у садовой ограды: и
покашливал, и посвистывал, и напевал песенку, которая так
нравилась некоей особе, и даже кинул в заветное окно
камешком, который угодил как раз в оконный переплет,—
все одно никто не проснулся, только громаднейший
дворовый пес принялся рычать, лаять, да кидаться на ограду
против того места, где я стоял, так что чуть было не
ухватил меня за нос.
И пришлось мне поскорее убраться восвояси; а на
другое утро в четыре часа моя матушка и сестры уже
собрали завтрак, а в пять под окнами загромыхал лондонский
дилижанс «Верный Тори», и я взобрался на империал, так
и не повидавшись с Мэри Смит.
Когда мы проезжали мимо ее дома, мне показалось, что
занавеска на ее окне чуть отодвинута. Зато окошко уж
вне всякого сомнения стояло настежь, а ночью оно было
затворено; но вот уже ее домик остался позади, а
вскорости и деревня наша, и церковь с кладбищем, и скирда
Хикса скрылись из виду.
— Ух ты, какая штуковина! — вытаращив на меня
глаза и попыхивая сигарой, сказал конюх кучеру, и
беззастенчиво ухмыльнулся.
Дело в том, что, воротясь от тетушки, я так и не
раздевался; на душе у меня было неспокойно, да еще
следовало уложить все мое платье, и мысли были заняты
другим, вот я и позабыл про аграф миссис Хоггарти, который
с вечера прицепил к рубашке.
488
Глава II
Повествует о том, как бриллиант был привезен
в Лондон и какое удивительное действие
оказал он в Сити и в Вест-Энде
События, о коих рассказывается в этой повести,
произошли лет двадцать назад, когда, как, вероятно, помнит
любезный читатель, в лондонском Сити вошло в моду
учреждать всякого рода компании, благодаря которым
многие нажили себе изрядное состояние.
Надобно сказать, что в те поры я исправлял должность
тринадцатого конторщика из числа двадцати четырех
молодых людей, на которых лежало все делопроизводство
Западно-Дидлсекского независимого страхового общества,
каковое помещалось в великолепном каменном доме на
Корнхилле. Моя матушка вложила в это общество
четыреста фунтов, и они приносили ей ежегодно не менее
тридцати шести фунтов доходу, тогда как ни в каком другом
страховом обществе она не получила бы более двадцати
четырех. Председателем правления был знаменитый
мистер Брафф из торгового дома «Брафф и Хофф. Торговля
с Турцией», что на Кратчед-Фрайерз. То была новая
фирма, но она, как никакая другая фирма в Сити, преуспела
в торговле фигами и губками и в особенности зантской
коринкою.
Брафф был известным лицом среди диссидентов, и в
списке любого благотворительного общества,
учреждаемого этими добрыми христианами, всякий раз оказывался
среди самых щедрых жертвователей. В его конторе на
Кратчед-Фрайерз трудились девять молодых людей; он
принимал к себе на службу лишь тех, кто мог предъявить
свидетельство учителя и священника своего родного
прихода, ручавшихся за его нравственность и веру; и столько
было желающих поступить к нему на место, что всякий
молодой человек, которого он заставлял в поте лица
трудиться по десяти часов в день, а в награду за это обучал
всем хитростям торговли с турками, при вступлении в
должность вкладывал в дело четыреста, а то и пятьсот
фунтов. На бирже Брафф тоже был человек известный;
и наши молодцы не раз слыхали от биржевых служащих
(мы обыкновенно вместе обедали в «Петухе и Баране»,
заведении весьма добропорядочном, где всего за шиллинг
подавали изрядный кусок говядины, хлеб, овощи, сыр,
полпинты пива да пенни на чай), какие грандиозные опе-
489
рации Брафф совершал с испанскими, греческими и
колумбийскими акциями. Хофф ко всему этому касательства
не имел, он сидел в конторе и занимался единственно
делами торгового дома. Это был молодой, тихий, степенный
квакер, и Брафф взял его в компаньоны ради тридцати
тысяч фунтов, которые тот вложил в фирму,— тоже
недурная сделка. Мне сказали, под строжайшим секретом, что
из года в год прибыль фирмы составляла добрых семь
тысяч фунтов; из них Брафф получает половину, Хофф —
две шестых и одну шестую — старик Тадлоу, который был
первым помощником Браффа еще до того, как в дело
вошел Хофф. Тадлоу всегда ходил в самом убогом платье, и
мы считали его скрягой. Один из наших конторщиков, по
имени Боб Свинни, уверял, что никакой доли Тадлоу не
получает и что вообще все получает один Брафф; но Боб
был известный враль и ловкач, щеголял в зеленом сюртуке
и бесплатно ходил в театр «Ковент-Гарден». В заведении
(так мы называли нашу контору, хотя она ни в чем не
уступала самым великолепным конторам на Корнхилле)
он вечно соловьем разливался об Лючии Вестрис и мисс
Три и напевал:
Ежевика, ежевика,
Что за чудо ежевика! —
хорошо известную песенку Чарли Кембла из пьесы
«Девица Мэрией», самой модной в том сезоне,— она взята из
книги рассказов некоего Пикока, конторщика в
управлении «Ост-Индской К0» (а ведь какое место завидное
занимает!).
Когда Брафф проведал, как Боб Свинни его поносит,
да еще про то, что он бесплатно ходит в театр, он пришел
в контору, где все мы сидели — все двадцать четыре,— и
такую произнес прекрасную речь, каких я отродясь не
слыхивал. Он сказал, что никакое злословие его не заботит,
уж таков удел человека строгих правил, ежели он печется
о благе людском и при этом строго держится этих своих
правил; но зато его очень даже заботит нрав и поведение
каждого, кто служит в Западно-Дидлсекском страховом
обществе. Им доверено благосостояние тысяч людей;
через их руки что ни день проходят миллионные суммы;
Лондон, какое там — вся страна ждет от них
рачительности, честности, доброго примера, А ежели среди тех, кого
он почитает за своих детей, кого любит, точно родную
плоть и кровь? найдется такой, кто исполняет свою долж-
490
ность без усердия, кто позабыл о честности, кто перестал
являть добрый пример, ежели его дети преступили
спасительные правила нравственности, религии и
благопристойности (мистер Брафф всегда изъяснялся возвышенно),
кто бы это ни был — самый первый человек в его конторо
или самый последний, главный ли конторщик с
жалованьем шестьсот фунтов в год или швейцар, подметающий
крыльцо,— ежели он хоть на малый шаг сойдет со стези
добродетели,— он, мистер Брафф, отторгнет его от себя,
да, отторгнет, будь то даже его родной сын!
И, сказавши так, мистер Брафф разразился слезами;
а мы все, не зная, что за этим воспоследует,
переглядывались друг с другом и дрожали, как зайцы,— все, кроме
Свинни, двенадцатого конторщика, которому все это было
как с гуся вода. Когда мистер Брафф осушил слезы и
пришел в себя, он оборотился и — ох, как у меня заколотилось
сердце! — поглядел мне прямо в глаза. И с каким
облегчением, однако же, я перевел дух, когда он воззвал громовым
голосом:
— Мистер Роберт Свинни!
— К вашим услугам, сэр,— как ни в чем не бывало
отозвался Свинни, и кое-кто из конторщиков захихикал.
— Мистер Свинни! — еще громче провозгласил
Брафф.— Мистер Свинни, когда вы вошли в эту контору,
в эту семью, сэр — ибо я с гордостью утверждаю, что это
поистине семья, сэр,— вас встретили здесь двадцать три
молодых человека — других таких благочестивых и
усердных сослуживцев и не сыщешь, и им вверено богатство
нашей столицы и нашей славной империи. Здесь
царствовали, сэр, трезвость, усердие и благопристойность; в этом
храме, в храме... деловых операций, не было места
богохульным куплетам; здесь не злословили шепотком о своих
начальниках — но я не стану отвечать на это злословие,
сэр, я могу позволить себе пренебречь им; никакие
легкомысленные разговоры, никакие грубые шутки не
отвлекали внимание этих джентльменов, не оскверняли мирную
картину их труда. Вас встретили, сэр, добрые христиане и
джентльмены!
— Я, как и все, заплатил за свое место,— сказал
Свинни.— Разве мой родитель не купил ак...
— Ни слова больше, сэр! Конечно же, ваш почтенный
батюшка купил акции этого предприятия, и в один
прекрасный день они его обогатят. Да, сэр, он купил акции,
иначе эти двери не раскрылись бы перед вами. Я о гор-
491
достыо заявляю, что у каждого из моих юных друзей есть
кто-нибудь — отец ли, брат, близкий родственник или
друг,— кто теми же узами связан с нашей процветающей
фирмой, и что каждый, кто здесь служит, получает
комиссионные за то, что привлекает к нам новых акционеров.
Однако же, сэр, глава этого дела я. Я в свое время
утвердил вас в должности, и, как вы сейчас убедитесь, я же,
Джон Брафф, вас от нее отрешаю. Оставьте нас, сэр!..
Уходите, покиньте нашу семью, в лоне ее уже нет более
для вас места! Я не сразу решился на этот шаг, мистер
Свинни; я лил слезы, сэр, я возносил молитвы; я
советовался, сэр, и теперь решение мое твердо. Оставьте нас,
сэр!
— Только сперва заплатите мне жалованье за три
месяца. Я ведь стреляный воробей, мистер Брафф.
— Деньги будут выплачены вашему батюшке, сэр.
— К черту батюшку! Я вам вот что скажу, Брафф; я
совершеннолетний, и, если вы не отдадите мне мое
жалованье, я упеку вас за решетку... вот провалиться мне на
этом месте! Вы у меня узнаете, почем фунт лиха, это уж
как пить дать!
— Выпишите этому бессовестному молодому человеку
чек на трехмесячное жалованье, мистер Раундхэнд.
— Двадцать один фунт пять шиллингов, Раундхэнд, и
никаких вычетов за гербовую марку! — крикнул нахал
Свинни.—Вот так, распишемся в получении. И не нужно
передаточной надписи на моего банкира. А если кто из
вас, джентльмены, пожелает нынче в восемь вечера
бесплатно выпить по стаканчику пунша, Боб Свинни к вашим
услугам! Может быть, и мистер Брафф окажет мне честь,
погуляет с нами вечерок? Ну-ну, только не говорите
«нет»!
Мы больше не могли молча слушать его дерзости и
принялись хохотать, как сумасшедшие.
— Вон отсюда! — весь побагровев, взревел мистер
Брафф; Боб снял с крючка свою белую шляпу — колпак,
как он ее называл — и, лихо заломив ее, неспешным
шагом удалился.
Когда дверь за ним затворилась, мистер Брафф прочел
нам еще одну рацею, которую все мы решили намотать на
ус; потом он подошел к конторке Раундхэнда и, обнявши
его за плечи, заглянул в гроссбух.
— Каковы сегодня поступления, Раундхэнд? — весьма
благодушно осведомился он.
492
— Та вдова, сэр, принесла деньги — девятьсот четыре
фунта десять шиллингов шесть пенсов. Капитан Спар
полностью оплатил свои акции, сэр; поворчал, правда,
говорит, совсем обезденежел; пятьдесят акций, два взноса —
итого сто пятьдесят фунтов, сэр.
— Он всегда ворчит.
— Говорит, у него ни гроша за душой не осталось, вся
надежда, мол, на дивиденды.
— Еще что-нибудь есть?
Мистер Раундхэнд углубился в гроссбух и через
несколько времени объявил, что всего поступила одна
тысяча девятьсот фунтов. Дело росло, как на дрожжах, и
последнее время мы трудились в поте лица; а ведь когда
я вступил в должность, мы целыми днями били
баклуши — пересмеивались, перешучивались, читали газеты,
и только ежели забредал случайный клиент, разбегались
к своим конторкам. В те поры Брафф спускал нам и смех
и песенки, и казалось, с Бобом Свинни их водой не
разольешь; но то все было на самой заре, пока еще нас не
запрягли как следует.
— Тысяча девятьсот фунтов, и еще тысяча фунтов в
акциях. Браво, Раундхэнд, браво, джентльмены! Помните:
каждая акция, приобретенная благодаря вашему усердию,
приносит вам пять процентов наличными. Берите пример
друг с друга, будьте прилежны, добропорядочны. Надеюсь,
все вы исправно посещаете церковь. Кто займет место
мистера Свинни?
— Мистер Сэмюел Титмарш, сэр.
— Поздравляю вас, мистер Титмарш. Жму вашу руку,
сэр; отныне вы двенадцатый конторщик нашего общества,
и ваше жалованье соответственно повышается на пять
фунтов в год. Как поживает ваша почтенная матушка, сэр,
ваша дорогая, бесценная родительница? Надеюсь, она в
добром здравии? Я горячо молюсь, чтобы еще долгие,
долгие годы наша фирма могла выплачивать ей ежегодную
ренту! Если у нее есть свободные деньги, ей теперь еще
больше смысла вложить их в наше дело,— ведь она стала
на год старше; а вы, мой дорогой, получите пять
процентов, помните об этом. Чем вы хуже других? Молодой
человек — он молодой человек и есть, и десять фунтов ему
никак не помешают. А то, может, помешают, а, мистер
Абеднего?
— Как можно, сэр! — воскликнул Абеднего, третий
конторщик, тот самый, что донес на Свинни, и захихикал,
493
как хихикали все мы всякий раз, как мистер Брафф
изволил шутить; не то чтобы это были смешные шутки, но
по лицу его мы всегда понимали: это он шутит.
— Да, кстати,— вдруг говорит он,— у меня к вам дело,
Раундхэнд. Миссис Брафф желает знать, что это вы
никогда не заглянете к нам в Фулем.
— Да неужто, как любезно с ее стороны! —
воскликнул польщенный Раундхэнд.
— Назначьте день, дорогой! Ну, скажем, субботу, и
прихватите с собой ночной колпак.
— Вы очень любезны, сэр, очень. Я бы с восторгом,
но...
— Но?.. Никаких «но», дорогой! Слушайте! Мой обед
почтит своим присутствием сам министр финансов, и я
хочу с ним вас познакомить; ибо, по правде говоря, я
похвастался вами перед его светлостью, сказал, что другого
такого страхового статистика не сыщешь в целом
королевстве.
Ну, как мог Раундхэнд отказаться от такого
приглашения! А ведь он рассказывал нам, что субботу и
воскресенье собирается провести с женой в Патни; и мы,
которые знали, что за жизнь у бедняги, не сомневались, что,
услыхавши про это приглашение, супруга нашего
старшего конторщика разбранит его на чем свет стоит. Она
сильно не жаловала миссис Брафф: разъезжает в
собственной карете, а говорит, что ведать не ведает, где это
Пентонвилл, и даже не соблаговолила нанести ей визит.
А ведь уж как-нибудь ихний кучер нашел бы дорогу.
— Ах да, Раундхэнд! — продолжал наш хозяин.—
Выпишите-ка мне чек на семьсот фунтов. Ну-ну, нечего
пялить на меня глаза, любезный, я не собираюсь удрать! Вот
именно, еемьсот, ну, скажем, семьсот девяносто, раз уж
вам все равно выписывать. В субботу заседает правление,
так что не бойтесь, я отчитаюсь перед ними за эти деньги
еще до того, как повезу вас в Фулем. За министром мы
заедем в Уайтхолл»
И с этими словами мистер Брафф сложил чек и, очень
сердечно пожав руку мистеру Раундхэнду, сел в свою
карету, запряженную четверкой лошадей, которая
поджидала его у дверей конторы (он всегда ездил четверкой, даже
в Сити, где это было нелегко).
Боб Свинни говаривал, что двух его лошадей
оплачивала компания; но Боб такой был пустобрех да насмеш-
1шк2 что его россказням и вполовину нельзя было верить.
494
Уж не знаю, почему так вышло, но в тот вечер и мне, и
джентльмену по имени Хоскинс (одиннадцатому
конторщику), с которым мы снимали очень уютные комнатки
на третьем этаже в доме на Солсбери-сквер, близ Флит-
стрит, вдруг прискучили наши дуэты на флейте, и так как
погода была отменная, мы отправились к Вест-Энду
прогуляться. Через несколько времени мы очутились
напротив театра «Ковент-Гарден», неподалеку от кабачка
«Глобус», и тут только вспомнили радушное приглашение Боба
Свинни. Мы, конечно, почитали все это за шутку, но
решили все же на всякий случай заглянуть туда.
И там, хотите верьте — хотите нет, как и было
обещано, в дальней зале во главе стола, в густом табачном дыму,
восседал Боб, а с ним восемнадцать наших джентльменов,
и они говорили все сразу и стучали стаканами по столу.
Слышали бы вы, какой они подняли крик, увидевши
нас!
— Ур-р-ра! —- прокричал Боб.— Еще двое! Еще два
стула, Мэри, еще два стакана, еще на двоих горячей воды
и две порции джина! Господи боже, кто бы подумал, что и
Титмарш к нам припожалует?
— Так мы ж тут по чистой случайности,— сказал я.
При этих словах поднялся оглушительный хохот:
оказалось, что положительно все говорили, будто их привел
сюда случай. Так или иначе, случай подарил нам превесе-
лый вечерок; и радушный Боб Свинни заплатил за всех
нас все до единого шиллинга.
— Джентльмены! — провозгласил он,
расплатившись.— Выпьем за здоровье Джона Браффа, эсквайра, и
поблагодарите его за подарок, который он преподнес мне
нынче утром,— двадцать один шиллинг пять пенсов. Да
нет, какие там двадцать один шиллинг пять пенсов? К этой
сумме прибавьте еще жалованье за месяц — мне пришлось
бы его выложить за то, что я ухожу без предупреждения,
ибо завтра утром я все равно намеревался уйти... Я нашел
местечко первый сорт, скажу я вам. Пять гиней в неделю,
шесть поездок в год, к моим услугам лошадь и двуколка,
а ездить надобно на запад Англии, собирать заказы на
масло и спермацет. Так что да сгинет газ и за здоровье
господ Ганн и компания, Лондон, Темз-стржт!
Я так подробно рассказываю о Западжо-Дидлсекском
страховом обществе и об его директоре-распорядителе
мистере Браффе (вы, надо думать, понимаете, что и имя
директора, и название общества вымышленные), потому что,
495
как я намереваюсь показать, и моя собственная судьба, и
судьба моей бриллиантовой булавки непостижимым
образом переплелись и с тем и с другим.
Не скрою от вас, что в нашей конторе я пользовался
известным уважением, оттого что происходил из лучшей
семьи против семей большинства наших джентльменов и
получил классическое образование, в особенности же
оттого, что у меня была богатая тетушка, миссис Хоггарти,
чем я, надо признаться, похвалялся направо и налево. Как
я успел убедиться, в нашем мире совсем не лишнее, когда
вас уважают, и ежели сам не станешь выставлять себя,
уж будьте уверены, среди ваших знакомых не найдется
ни одного, кто бы снял с вас эту заботу и поведал бы миру
о ваших достоинствах.
Так что, возвратись в контору после поездки домой и
занявши свое место напротив запыленного окна,
глядящего на Берчин-лейн, и раскрыв бухгалтерский журнал, я
вскорости поведал всей честной компании, что хотя моя
тетушка не снабдила меня изрядной суммой, как я
надеялся, а я, не скрою, уже пообещал дюжине своих
товарищей, что, ежели стану обладателем обещанных богатств,
устрою для них пикник на реке,— я поведал, повторяю,
что хоть тетушка и не дала мне денег, зато подарила
великолепнейший бриллиант, которому цена по меньшей мере
тридцать гиней, и что как-нибудь на днях я надену его,
идучи в должность, и каждый сможет им полюбоваться.
— Что ж, поглядим, поглядим! — сказал Абеднего, чей
папаша торговал на Хэнуэй-стрит дешевыми
драгоценностями и галунами, и я пообещал, что он увидит бриллиант,
как только будет готова новая оправа. Так как мои
карманные деньги тоже кончились (я заплатил за дорогу
домой и обратно, пять шиллингов дал дома нашей служанке,
десять шиллингов — тетушкиной служанке и лакею,
двадцать пять шиллингов, как я уже говорил, проиграл в вист
и пятнадцать шиллингов шесть пенсов отдал за
серебряные ножнички для милых пальчиков некоей особы), Раунд-
хэнд, человек весьма доброжелательный, пригласил меня
пообедать и к тому же выдал мне вперед месячное
жалованье — семь фунтов один шиллинг восемь пенсов. У него
дома, па Мидлтон-сквер, в Пентонвилле, за обедом,
состоящим из телячьего филе, копченой свиной грудинки и
портвейна, я убедился собственными глазами в том, о чем уже
раньше говорил,— как плохо с ним обходится его жена.
Бедняга! Мы, младшие служащие, воображали, будто это
496
бог весть какое счастье — занимать одному целую
конторку и каждый месяц получать пятьдесят фунтов, но теперь
мне сдается, что мы с Хоскинсом, разыгрывая дуэты на
флейте у себя в комнатке на третьем этаже на Солсбери-
сквер, чувствовали себя куда непринужденнее нашего
старшего конторщика, и согласия и ладу у нас тоже было
побольше, хотя музыканты мы были никудышные.
Однажды мы с Гасом Хоскршсом испросили у Раунд-
хэнда разрешение уйти из конторы в три часа пополудни,
сославшись на весьма важное дело в Вест-Энде. Он знал,
что речь идет о знаменитом бриллианте Хоггарти, и
отпустил нас; и вот мы отправились. Когда мы подошли к
Сент-Мартинс-лейн, Гас купил сигару, чтобы придать
себе, как говорится, благородный вид, и попыхивал ею всю
дорогу, пока мы шли по узким улочкам, ведущим на
Ковентри-стрит, где, как всем известно, помещается лавка
мистера Полониуса.
Двери стояли настежь, к ним то и дело подъезжали
кареты, в которых восседали нарядные дамы. Гас держал
руки в карманах — панталоны в те времена носили очень
широкие, в глубоких складках, с небольшими прорезами
для сапог или башмаков (франты носили башмаки, а мы,
служащие в Сити, живущие на восемьдесят фунтов в год,
довольствовались старомодными сапогами); держа руки
в карманах панталон, Гас оттягивал их как мог шире на
бедрах, попыхивал сигарой, постукивал подбитыми
железом каблуками, и при том, что бакенбарды у него были не
по возрасту густые и пышные, выглядел он весьма
внушительно и всякий принимал его за личность
незаурядную.
Однако же в лавку он не зашел, а стоял на улице и
разглядывал выставленные в витрине золотые кубки и
чайники. Я вошел в лавку; несколько времени я переминался
с ноги на ногу, покашливал,— ведь я никогда еще не
бывал в таком модном месте,— и наконец отважился
спросить одного из приказчиков, нельзя ли мне поговорить
с мистером Полониусом.
— Чем могу служить, сэр? — спросил мистер Поло-
ниус, который, как оказалось, стоял тут же и занимался
с тремя дамами, одной совсем старой и двумя молодыми,
с большим вниманием рассматривавшими жемчужные
ожерелья.
— Сэр,— начал я, доставая из кармана свое
сокровище,—сколько мне известно, этот камень уже добывал в
497
ваших руках, он принадлежал моей тетушке, миссис Хог-
гарти, владелице замка Хоггарти.
При этих моих словах старая дама, стоявшая
поблизости, оборотилась.
— В тысяча семьсот девяносто пятом году я продал ей
золотую цепь и часы с репетицией,— сказал мистер Поло-
ниус, который положил себе за правило все помнить,— а
также серебряный черпак для пунша капитану. Скажите,
сэр, как нынче поживает майор... или полковник... а
может, генерал?
— Генерал,— ответил я,— мистера Хоггарти, к
великому моему сожалению, уже нет среди нас.— Однако же
очень гордый, что сей господин так охотно со мной
беседует, я продолжал: — Но тетушка подарила мне этот... эту
безделушку; в ней, как вы изволите видеть, заключен
портрет ее супруга, и я буду весьма признателен вам, сэр,
если вы сохраните его для меня в неприкосновенности; и
тетушка желает, чтобы вы сделали подобающую для этого
бриллианта оправу.
— А как же, сэр, подобающую и показистее.
— Подобающую и в нынешнем вкусе; а счет
благоволите послать ей. Тут немало золота, вы, конечно, примете
это в расчет.
— До последней крупицы,— с поклоном ответствовал
мистер Полониус, разглядывая мое сокровище.—
Диковинная вещица, что и говорить, хотя бриллиант, конечно,
достоин внимания. Не угодно ли взглянуть, миледи. Вещица
сработана ирландскими мастерами, помечена девяносто
пятым годом, она, быть может, напомнит вашей светлости
времена вашей ранней юности.
— Стыда у вас нет, мистер Полониус! — сказала
старая дама, маленькая, сухонькая, с лицом в тысячах
мелких морщинок.— Да как вы осмелились, сэр, болтать
эдакий вздор такой старухе? Да в девяносто пятом году мне
уж пятьдесят стукнуло, а в девяносто шестом я сделалась
бабушкой.— Она протянула высохшие дрожащие ручки,
поднесла медальон к глазам, с минуту внимательно его
разглядывала, а затем, рассмеявшись, промолвила: —
Чтоб мне не сойти с этого места, это ж знаменитый
бриллиант Хоггарти!
Боже милостивый! Да что ж это за талисман попал
мне в руки?
— Посмотрите-ка, девочки,— продолжала старая
дама,— это самый знаменитый драгоценный камень во всей
498
Ирландии. Вот этот краснолицый господин посредине —
несчастный Мик Хоггарти, мой родич, он был влюблен в
меня в восемьдесят четвертом году, когда я только что
схоронила вашего дорогого дедушку. А вот эти тринадцать
рыжих прядей — это волосы его тринадцати
прославленных сестриц — Бидди, Минни, Тедди, Уидди
(сокращенное от Уильямина), Фредди, Иззи, Тиззи, Майзи, Гриззи,
Полли, Долли, Нелл и Белл — все замужем, все уродины
и все рыжие. Так чей же вы сын, молодой человек? Хотя,
надо отдать вам справедливость, фамильного сходства в
вас не заметно.
Дес хорошенькие молоденькие девицы оборотились,
подняли на меня две пары хорошеньких черных глазок и
ждали ответа, каковой бы они непременно получили, да
тут старая дама принялась громким голосом рассказывать
одну историю за другой про вышеназванных дам, про их
обожателей, про все их обманутые надежды и про дуэли
Мика Хоггарти. Она помнила наперечет все скандальные
сплетни за полвека. Наконец поток ее красноречия был
прерван отчаянным кашлем; а когда она откашлялась,
мистер Полониус почтительно осведомился, куда следует
прислать булавку и угодно ли мне сохранить эти волосы.
— Нет,— отвечал я,— бог с ними с волосами.
— А куда прикажете доставить булавку, сэр?
Мне совестно показалось назвать свой адрес. Но тот
же час я подумал: «Да пропади оно пропадом, чего мне
совеститься?
Король лакея своего
Назначит генералом,
Но он не может никого
Назначить честным малым.
Что это я стесняюсь сказать, где живу?»
— Когда все будет готово, сэр, будьте так добры
отошлите пакет мистеру Титмаршу, в дом номер три, на
Белл-лейн, Солсбери-сквер, подле церкви святой
Бригитты, что на Флит-стрит,— сказал я.— Звонить в звонок
третьего этажа, сэр.
— Как, сэр, как вы изволили сказать? — переспросил
мистер Полониус.
— Кхак! — взвизгнула старая дама.— Мистер Кхак?
Mais, ma chere, c'est impayable \ Едемте? карета ждет!
1 Нет, какая прелесть (франц.).
499
Дайте мне вашу руку, мистер Кхак, садитесь в карету и
расскажите мне об ваших тринадцати тетушках.
Она ухватила меня за локоть и резво заковыляла к
выходу; молодые спутницы, смеясь, последовали за ней.
— Ну, влезайте, что же вы? — сказала она,
высунувши свой острый нос из окошка кареты.
— Не могу, сударыня,— сказал я.— Меня ожидает
ДРУГ.
— Эка выдумал! Плюньте на него и влезайте.— И не
успел я слова вымолвить, как огромный малый в пудреном
парике и в желтых плюшевых штанах подтолкнул меня по
лесенке и захлопнул дверцы.
Карета тронулась, и я только мельком успел взглянуть
на Хоскинса, но его изумленное лицо никогда не
изгладится из моей памяти. Прямо как сейчас его вижу — стоит,
разинувши рот, глядит во все глаза, держит в руке
дымящуюся сигару и никак не возьмет в толк, что это со мной
приключилось.
— Да кто он такой, этот Титмарш? — спрашивает себя
Гас— На карете-то графская корона, вот ей-богу!
Глава III
Повествует о том, как обладателя бриллианта
унесла великолепная колесница, и об его
дальнейших удачах
Я поместился на переднем сиденье кареты, подле пре-
миленькой молодой особы, примерно тех же лет, что моя
дорогая Мэри, а именно семнадцати и три четверти;
напротив нас сидела старая графиня и другая ее внучка —
тоже очень пригожая, но десятью годами старше.
Помнится, в тот день на мне был синий сюртук с медными
пуговицами, нанковые панталоны, белый, расшитый
веточками жилет и шелковый цилиндр а ля Дандо, какие в
двадцать втором году только что вошли в моду и в каких
блеску было куда больше, чем в самолучшей касторовой
шляпе.
— А кто это мерзкое чудище с подбитыми железом
каблуками и с фальшивой золотой цепью,— спросила
миледи,— еще у него рот до ушей, и он так вытаращился на
нас, когда мы садились в карету?
И когда она углядела, что цепочка у Гаса не чистого
золота, ума не приложу; но это верно, мы купили ее не-
500
'ь*9
делю назад у Мак-Фейла, что в переулке Святого Павла,
за двадцать пять шиллингов шесть пенсов. Однако я не
желал слушать, как поносят моего друга, и тот же час
вступился за него.
— Сударыня,— сказал я,— этого джентльмена зовут
Огастес Хоскинс. Мы с ним вместе квартируем, и я не
знаю человека лучше и добросердечнее.
— Вы совершенно правы, что не даете в обиду своих
друзей, сэр,— сказала вторая леди, которую звали леди
Джейн.
— Что ж, скажу по чести, он молодец, леди Джейн.
Люблю, когда молодые люди не пугливы. Так, стало быть,
его зовут Хоскинс, вот оно что? Дорогие мои, я знаю всех
Хоскинсов, сколько их есть в Англии. Есть Хоскинсы Лин-
кольиширские и есть Шропширские — говорят, дочка
адмирала Хоскинса, Белл, была влюблена в чернокожего
лакея, не то в боцмана, не то еще в кого-то такого; но ведь
свет так злоязычен. Есть еще старый доктор Хоскинс из
Бата, он пользовал моего бедняжку Бума, когда тот
приболел ангиной. И еще есть бедняжка Фред Хоскинс,
генерал, что мается подагрой; помню, каков он был в
восемьдесят четвертом году — худой как щепка и шустрый как
паяц, он в те поры был в меня влюблен, уж так влюблен!
— Как видно, бабушка, в молодости у вас не было
отбою от поклонников,— сказала леди Джейн.
— Да, моя милая, их были сотни, сотни тысяч. В Бате
все по мне с ума сходили, поглядела бы ты, какая я была
красавица. Ну-ка, скажите по совести, мистер как-вас-
там-величают, только без лести, можно сейчас в это
поверить?
— По правде сказать, сударыня, никогда бы не
поверил,— отвечал я, ибо старая графиня была страшна, как
смертный грех; и при этих моих словах обе внучки
залились веселым смехом, и на запятках заухмылялись оба
лакея в густых бакенбардах.
— Уж больно вы простодушны, мистер как-вас-там...
да, уж больно простодушны; однако же в молодых людях
я люблю простодушие. И все-таки я была красавица. Вот
спросите у генерала — дядюшки вашего приятеля. Он из
линкольнширских Хоскинсов, я сразу признала — уж
очень он с лица на них на всех походит. Он что же,
старший сын? У них изрядное состояние, правда, и долгов
многонько; ведь старик сэр Джордж был отчаянная
голова — водил дружбу с Хэнбери Уильямсом и с Литлтоном,
501
со всякими негодяями и греховодниками. Сколько же ему
достанется после смерти адмирала, любезный?
— Да где ж мне знать, сударыня, адмирал-то ведь не
отец моему другу.
— Как так не отец? А я говорю — отец, я никогда не
ошибаюсь. А кто тогда его отец?
— Отец Гаса торгует кожаными изделиями на Скип-
нер-стрит, Сноу-Хилл, сударыня, весьма почтенная фирма.
Но Гас всего лишь третий сын, так что на большую долю
в наследстве ему рассчитывать не приходится.
При этих словах внучки улыбнулись, а старая дама
воскликнула: «Кхак?»
— Мне нравится, сэр, что вы не конфузитесь своих
друзей, каково бы ни было их положение в обществе,—
сказала леди Джейн.— Доставьте нам удовольствие,
мистер Титмарш, скажите, куда вас подвезти?
— Да, собственно, я никуда не тороплюсь, миледи,—
сказал я.— Мы сегодня свободны от занятий в конторе,—
во всяком случае, Раундхэнд отпустил нас с Гасом; и если
это не чересчур смело с моей стороны, я был бы весьма
счастлив прокатиться с вами по Парку.
— Ну, что вы, мы будем... очень рады,— ответила леди
Джейн, однако же лицо у нее стало словно бы озабоченное.
— Ну конечно, мы будем рады! — подхватила леди
Фанни, захлопав в ладоши.— Ведь правда, бабушка?
Покатаемся по Парку, а потом, если мистер Титмарш не
откажется нас сопровождать, погуляем по Кенсингтонскому
саду.
— Ничего подобного мы не сделаем, Фанни,—
промолвила леди Джейн.
— А вот и сделаем! — пронзительным голосом
воскликнула старая леди Бум.— Мне же до смерти хочется
порасспросить его про его дядюшку и тринадцать теток. А вы
так трещите, ну, сущие сороки, рта раскрыть не даете ни
мне, ни моему молодому другу.
Леди Джейн пожала плечами и больше уже не
произнесла ни слова. Леди Фанни, резвая, как котенок (ежели
мне будет дозволено эдак выразиться об девице из
аристократического семейства), засмеялась, вспыхнула,
захихикала,— казалось, дурное настроение сестры очень ее
веселит. А графиня принялась перемывать косточки
тринадцати девицам Хоггарти, и вот мы уже въехали в Парк,
а конца ее рассказам все не было видно.
Вы не поверите, сколько разных джентльменов верха-
502
ми подъезжали к нам в Парке и беседовали с дамами.
У каждого была припасена шуточка для леди Бум,
которая, видно, была в своем роде оригиналка, поклон для леди
Джейн и комплимент, особенно у молодых, для леди
Фанни.
И хотя леди Фанни кланялась и краснела, как и
подобает молодой девице, она, видно, думала об чем-то своем,
ибо поминутно высовывалась из окошка кареты и
нетерпеливо оглядывалась, словно в толпе всадников искала
кого-то взглядом. Вот оно что, милая леди, уж я-то знаю,
отчего это молоденькая хорошенькая барышня вдруг
впадает в рассеянность и все будто кого-то ждет и едва
отвечает на Еопросы. Уж поверьте, Сэму Титмаршу хорошо
известно, что обозначает это самое слово кто-то.
Поглядевши на все эти ухищрения, я не мог не намекнуть леди
Джейн, что понимаю, в чем тут дело.
— Сдается мне, барышня кого-то дожидается,—
сказал я.
Тут у ней, в свой черед, лицо сделалось какое-то
странное и она покраснела как маков цвет, но уже через
минуту, добрая душа, поглядела на сестру, и обе уткнулись
в платочки и засмеялись... Так засмеялись, будто я
отпустил препотешную шутку.
— II est charmant, votre monsieur l,— сказала леди
Джейн старой графине.
Услыхав эти слова, я отвесил ей поклон и сказал:
— Madame, vous me faites beaucoup d'hormeur2,— ибо
я знал по-французски и обрадовался, что пришелся по
душе этим любезным особам.— Я человек простой,
сударыня, к лондонскому свету непривычен, но я очень даже
чувствую вашу доброту — что вы эдак подобрали меня и
прокатили в вашей распрекрасной карете.
В эту самую минуту к карете подскакал джентльмен
на вороном коне, лицом бледный и с бородкой клинышком;
по тому, как леди Фанни неприметно вздрогнула и в тот
же миг отворотилась от окошка, я понял, что это он и есть,
кого она ждала.
— Приветствую вас, леди Бум,— сказал он.— Я только
что катался с неким господином, который едва не
застрелился от любви к красавице графине Бум, было это в
году... впрочем, неважно, в каком году.
1 Да он очарователен, ваш молодой человек (франц.).
2 Весьма польщен, сударыня (франц.).
503
— Уж не Килблейзес ли это? — спросила старая
графиня.— Он очень мил, и я хоть сейчас готова с ним
бежать. Или вы это про нашего очаровательного епископа?
Когда он был капелланом у моего батюшки, я дала ему
свой локон, и, скажу я вам, нелегкая была бы задача,
пожелай я сейчас одарить кого-нибудь таким же знаком
внимания.
— Помилуй бог, миледи! — удивился я.— Не может
этого быть!
— А вот и может, милейший,— возразила она.—
Между нами говоря, голова у меня лысая как коленка — вот
хоть у Фанни спросите. Как же она, бедняжка,
перепугалась, когда маленькая была: зашла ко мне в комнату, а я
без парика!
— Надеюсь, леди Фанни оправилась от испуга,—
сказал кто-то, взглянув сперва на нее, а потом уж на меня —
да такими глазами, будто готов был меня съесть. И,
поверите ли, леди Фанни только и сумела вымолвить:
— Да, милорд, благодарю вас.
И сказала она это с таким трепетом, вся залившись
краской, совсем как мы отвечали в школе Вергилия,
когда, бывало, не выучим урока.
Милорд, все еще испепеляя меня взглядом,
пробормотал, что надеялся на место в карете леди Бум, ибо
верховая езда его утомила; а леди Фанни в ответ пробормотала
что-то насчет «бабушкиного доброго знакомого».
— Да уж скорее это твой добрый знакомый,—
поправила леди Джейн,— мы только потому здесь и очутились,
что Фанни непременно хотелось прокатить мистера Тит-
марша по Парку. Позвольте мне познакомить вас с
мистером Титмаршем, граф Типтоф.
Однако же вместо того, чтобы, как и я, снять шляпу,
его сиятельство проворчал, что готов подождать до
другого раза, и тотчас ускакал на своем вороном коне. И чем
это я его обидел, ума не приложу.
Но в тот день мне суждено было обижать всех мужчин
подряд, ибо как вы думаете, кто подъехал к карете в
скором времени? Сам достопочтенный Эдмунд Престон, одрш
из министров его величества (как я знал доподлинно из
календаря, висящего у нас в конторе) и супруг леди
Джейн. Достопочтенный Эдмунд Престон сидел на
приземистом сером жеребце, и был он так тучен и бледен,
словно всю жизнь свою провел в четырех стенах.
504
— Кого это еще нелегкая принесла? — спросил он
жену, хмуро глядя на нее и на меня.
— Это добрый знакомый бабушки и Джейн,— тотчас
отозвалась леди Фанни с видом лукавым и проказливым
и хитро поглядела на сестру, а та, в свой черед, казалось,
была очень испугана и, не смея вымолвить ни слова,
только умоляюще поглядела на нее.
— Да-да,— продолжала леди Фанни,— мистер
Титмарш бабушке родня с материнской стороны, со стороны
Хоггарти. Разве вы не встречались с семейством Хоггар-
ти, когда ездили в Ирландию с лордом Бэгуигом, Эдмунд?
Позвольте познакомить вас с бабушкиным родичем
мистером Титмаршем. Мистер Титмарш, это мой зять, мистер
Эдмунд Престон.
Тем временем леди Джейн изо всех сил нажимала
кончиком башмака на ногу сестры, однако же маленькая
плутовка будто и не замечала ничего, а я, слыхом не
слыхавший про такое родство, не ведал, куда деваться от
смущения. Но хитрая баловница знала свою бабку леди Бум
куда лучше меня; ибо старая графиня, которая совсем
недавно назвала своим родичем беднягу Гаса, видно,
воображала, что целый свет состоит с нею в родстве.
— Да,— отозвалась она,— мы родня, и не такая уж
дальняя. Бабушка Мика Хоггарти, Миллисент Брейди,
родня моей тетки Таузер, это всякий знает; а как же: Де-
цимус Брейди из Боллибрейди женился на Белл Свифт,
кузине матери моей тетки Таузер,— нет-нет, милочка, она
не из тех Свифтов, которые в родстве с настоятелем, он-то
не бог весть какого рода. Да ведь это же все ясно, как
день!
— Ну разумеется, бабушка,— со смехом отвечала леди
Джейн, а достопочтенный джентльмен все ехал подле
кареты мрачнее тучи.
— Да неужто вы не знаете семейство Хоггарти,
Эдмунд!.. Тринадцать рыжих девиц... девять граций и
четыре лишку, как их называл бедняга Кленбой. Бедняга
Клен... он наш с вами родич, мистер Титмарш, он тоже
был от меня без ума. Ну, теперь вспомнили, Эдмунд?
Вспомнили? Помните — Бидди, Минни, Тидди, Уидди,
Майзи, Гриззи, Полли, Долли и все остальные?
— К черту девиц Хоггарти, сударыня,— сказал
достопочтенный джентльмен, да так решительно, что его серый
конь взбрыкнул и чуть не сбросил седока.
505
Леди Джейн взвизгнула, леди Фанни рассмеялась, а
старая леди Бум и ухом не повела.
— Поделом вам, сквернавец, будете в другой раз знать,
как браниться!
—- Может быть, вы сядете в карету, Эдмунд... мистер
Престон,— с тревогой воскликнула его супруга.
— Ну разумеется, я сию минуту выйду, сударыня,—
сказал я.
— Эка выдумал,— возразила леди Бум,— никуда вы
не выйдете, это моя карета, а ежели мистеру Престону
угодно браниться при даме в моих летах, эдак грубо и
мерзко браниться, да, да, грубо и мерзко, так с какой стати
моим добрым знакомым из-за него беспокоиться. Пусть
его едет на запятках, ежели хочет, а то пусть залезает
сюда и втискивается между нами.
Я понял, что милейшая леди Бум терпеть не может
своего внучатного зятя; и должен сказать, мне случалось
замечать подобную ненависть и в других семействах.
По правде говоря, мистер Престон, один из министров
его величества, сильно опасался своей лошади и был бы
рад скорей слезть с этого брыкливого, норовистого
животного. Когда он спешился и передал поводья лакею, он был
еще бледнее прежнего и руки и ноги у него дрожали.
Я невзлюбил этого молодчика — я имею в виду хозяина, а
не лакея — с первой же минуты, как он к нам подъехал
и эдак грубо заговорил со своей милой, кроткой женой; и
счел его трусом, каковым он себя и показал в
приключении с лошадью. Боже мой милостливый, да с эдакой
лошадкой ребенок справился бы, а у него, стоило ей
взбрыкнуть, душа ушла в пятки.
— Да скорей же, залезайте, Эдмунд,— смеясь,
говорила леди Фанни. Спустили подножку, и, поглядевши на
меня зверем, он вошел в карету и хотел было потеснить
леди Фанни (уж поверьте, я и не думал уступить ему
место).
— Нет-нет, ни за что, мистер Престон,— вскинулась
эта проказница.— Закройте дверцу, Томас. Ох, как будет
весело прокатиться и чтобы все видели, что министр
оказался у нас в карете зажат между дамами!
Ну и мрачен же был наш министр, можете мне
поверить!
— Садитесь на мое место, Эдмунд, и не сердитесь на
Фанни за ее ребячество,— робко сказала леди Джейн.
50G
— Нет-нет, прошу вас, сударыня, не беспокойтесь.
Мне удобно, весьма удобно; надеюсь, и мистеру... этому
джентльмену тоже.
— Чрезвычайно удобно, благодарю вас,— сказал я.—
Я хотел предложить вам доставить домой вашу лошадь,
мне показалось, она вас напугала, но, по правде сказать,
мне здесь так удобно, что я просто не могу двинуться с
места.
Ух, как усмехнулась при этих словах старая
графиня! Как заблестели у ней глазки, как хитро сморщились
губы! А я не мог спустить ему,— кровь во мне так и
кипела.
— Мы всегда будем рады вам, дорогой Титмарш,—
сказала леди Бум, протягивая мне золотую табакерку;
я взял понюшку табаку и чихнул с видом заправского
лорда.
— Ежели вы изволили пригласить сего джентльмена
в вашу карету, леди Джейн Престон, почему бы уж вам
заодно не пригласить его отобедать с вами? — сказал
мистер Престон, багровый от злости.
— Это я пригласила его в свою карету,— возразила
старая графиня,— а поскольку обедаем мы нынче у вас и
вы настаиваете на приглашении, я буду рада сидеть с ним
за одним столом.
— Весьма сожалею, но у меня деловое свидание,—
сказал я.
— Скажите на милость, вот незадача! — произнес
достопочтенный Над, все еще свирепо глядя на свою
супругу.— Какая незадача, что сей джентльмен,— не упомню
его имени,— что ваш друг, леди Джейн, уже занят. Я
уверен, дорогая, вы были бы на седьмом небе от счастья,
ежели бы могли принять своего родича у себя на
Уайтхолле.
Конечно, леди Бум слишком поспешила причислить
меня к своей родне, однако же достопоченный Нэд
преступил все дозволенные границы. «Ну, Сэм,— сказал я себе,—
будь мужчиной и покажи, на что ты способен».
И не медля ни минуты я сказал:
— А впрочем, сударыни, раз достопочтенный
джентльмен так настаивает, я отложу свидание и с искренним
удовольствием отобедаю с ним. К какому часу прикажете
пожаловать, сэр?
Он не удостоил меня ответом, но мне было все равно,
потому что, надобно вам сказать, я вовсе и не собирался
507
обедать у этого господина, а лишь хотел преподать ему
урок вежливости. Потому что хоть я и простого звания и
слыхал, как люди возмущаются, если кто так дурно
воспитан, что ест горошек с ножа, или просит третью порцию
сыру, или иными подобными способами нарушает правила
хорошего тона, но еще более дурно воспитанным почитаю
я того, кто оскорбляет малых сих. Я ненавижу всякого,
кто себе это позволяет; равно как презираю того, кто
рожден плебеем, а строит из себя светского господина; по
всему по этому я и решился его проучить.
Когда карета подъехала к его дому, я со всей
вежливостью помог дамам выйти и прошел в сени; у дверей,
взявши мистера Престона за пуговицу, я сказал — при
дамах и при двух дюжих лакеях — да, да, так и сказал:
— Сэр, эта любезная старая дама пригласила меня к
себе в карету, и я согласился в угоду ей, а не ради
собственного удовольствия. Когда вы, подъехавши, спросили,
кого это принесла нелегкая, я подумал, что вы могли бы
выразиться и повежливей, но вы обратились не ко мне и
не мое дело было вам отвечать. Когда вы, желая надо мной
подшутить, пригласили меня на обед, я решил ответить на
шутку шуткой — и вот я у вас в доме. Но не пугайтесь,
я не намерен с вами обедать; однако же если вам придет
охота сыграть ту же шутку с кем другим — ну, хоть бы
с любым из наших конторщиков,— мой вам совет,
поостерегитесь, не то вас поймают на слове.
— Вы кончили, сэр? — вне себя от ярости спросил
мистер Престон.— Если это все, не соизволите ли вы
покинуть мой дом, или вы предпочтете, чтобы вас выставили
за дверь мои слуги? Выставьте этого малого! Слышите! —
Тут он оттолкнул меня и в бешенстве удалился.
— Экий сквернавец твой муя^енек, экий изверг! —
сказала леди Бум, ухватив старшую внучку за локоть.—
Терпеть его не могу. Идемте скорее, не то обед простынет.
И, не прибавив более ни слова, она потащила леди
Джейн прочь. Но эта добрая душа сделала шаг в мою
сторону и, бледная, вся дрожа, сказала:
— Не гневайтесь, прошу вас, мистер Титмарш, и
прошу вас, забудьте все, что здесь произошло, ибо, поверьте,
мне очень-очень...
Что «очень-очень» — я так никогда и не узнал, ибо тут
глаза бедняжки наполнились слезами, и леди Бум,
закричавши: «Вот еще! Чтоб я этого не видела»,— потащила ее
за рукав вверх по лестнице. Но леди Фанни храбро подо-
508
шла ко мне, своей маленькой ручкой изо всех сил
стиснула мою руку и так мило сказала: «До свидания, дорогой
мистер Титмарш»,— что, вот не сойти мне с этого места, я
покраснел до ушей и весь затрепетал.
Едва она ушла, я живо нахлобучил шляпу и вышел из
дверей, чувствуя себя гордым, как павлин, и храбрым, как
лев, и одного мне хотелось, чтобы который-нибудь из этих
спесивых, ухмыляющихся лакеев позволил бы себе
малейшую неучтивость, тогда бы я с наслаждением влепил
ему оплеуху да велел бы нижайше кланяться хозяину.
Но ни один из них не доставил мне этого удовольствия;
и я ушел и мирно пообедал тушеной бараниной с репой
у себя дома в обществе Гаса Хоскинса.
Я не счел приличным рассказывать Гасу (который,
между нами говоря, весьма любопытен и большой охотник
посплетничать) подробности семейной размолвки, коей я
был причиной и свидетелем, и лишь сказал, что старая
леди («Они пэры Бум,— ввернул Гас.— Я сразу пошел и
поглядел в книге пэров»), что старая леди оказалась мне
родней и пригласила меня прокатиться по Парку. На
завтра мы, как обыкновенно, отправились в должность, и уж,
можете быть уверены, Хоскинс рассказал там все, что
произошло накануне, да еще порядком присочинил; и
странное дело, хотя случай этот как будто ничуть не заставил
меня возгордиться, скажу по совести, мне все же льстило,
что наши джентльмены кое-что прослышали об этом моем
приключении.
Но вообразите, как я был изумлен, воротившись
ввечеру домой, когда, едва увидев меня, моя квартирная
хозяйка миссис Стоукс, ее дочь мисс Селина и ее сын Боб
(юный бездельник, который дни напролет играл в
камешки на ступенях церкви св. Бригитты на Солсбери-сквер),
все они торопливо кинулись вперед меня по лестнице на
третий этаж и прямиком в наши комнаты, где посреди
етола, между наших флейт, с одной стороны, и моего
альбома, Гасова «Дон-Жуана» и Книги пэров с другой, я
увидел вот что:
1. Корзину с огромными персиками, румяными, как
щечки моей милой Мэри Смит.
2. Таковую же с большущими, отборными,
ароматными, тяжелыми на вид гроздьями винограда.
3. Гигантский кусок сырой баранины, как мне
показалось; но миссис Стоукс сказала, что это олений окорок, да
преотличный, такого она и не видывала.
509
И три визитные карточки:
Вдовствующая графиня Бум
Леди Фанни Рейке
Мистер Престон
Леди Джейн Престон
Граф Типтоф.
— А карета-то какая! — воскликнула миссис Стоукс.—
Карета какая... вся как есть в коронах! А ливреи-то... и
два эдаких франта на запятках, бачки у них рыжие, а
штаны в обтяжку из желтого плюша; а в карете
старая-престарая леди в белом капоре, а с ней молоденькая в
большущей шляпке из итальянской соломки и с голубенькими
лентами, а еще эдакий рослый, статный джентльмен, сам
бледный и бородка клинышком. «Не откажите в
любезности, сударыня, сказать, здесь ли живет мистер
Титмарш?» — спрашивает молоденькая эдаким звонким
голоском. «Как же, как же, миледи,— говорю я,— да только
сейчас он в должности. Западно-Дидлсекское страховое
общество, на Корнхилле. «Чарльз,— эдак важно говорит
джентльмен,— выносите провизию».— «Слушаю,
милорд»,— говорит Чарльз и выносит мне эту самую оленью
ногу, обернутую в газету, на фарфоровом блюде, вон как
она и сейчас лежит, и две корзины с фруктами в придачу.
«Будьте добры, сударыня,— говорит милорд,— отнесите
все это в комнату мистера Титмарша и скажите ему, что
мы... что леди Джейн передает ему поклон и просит его
принять это». И протянул мне эти самые карточки, и
вот это письмо, запечатанное, и на печати корона его
светлости.
И тут миссис Стоукс протянула мне письмо, которое,
к слову сказать, моя жена хранит по сей день:
«Леди Джейн Престон поручила графу Типтофу
выразить ее искреннее сожаление и огорчение оттого, что
вчера она лишена была удовольствия отобедать в обществе
мистера Титмарша. Леди Джейн в самом скором времени
покидает Лондон и уже не сможет в этом сезоне принять
своих друзей у себя на Уайтхолле. Но лорд Типтоф льстит
себя надеждой, что мистер Титмарш соблаговолит принять
скромные плоды сада и угодий ее сиятельства и, быть
может, угостит ими своих друзей, чье достоинство он умеет
столь красноречиво защищать».
510
К письму была приложена записочка следующего
содержания: «Леди Бум принимает в пятницу вечером,
17 июня». И все это свалилось на меня оттого, что
тетушка Хоггарти подарила мне бриллиантовую булавку!
Я не отослал назад оленину, да и с чего бы я стал ее
отсылать? Гас предлагал тут же преподнести ее Браффу,
нашему директору, а виноград и груши послать моей
тетушке в Сомерсетшир.
— Нет, нет,— сказал я.— Мы пригласим Боба Свинни
и еще с полдюжины наших джентльменов и в субботу
вечером повеселимся на славу.
И субботним вечером мы и в самом деле повеселились
на славу; и хотя у нас в буфете не нашлось вина, зато
было вдоволь эля, а после и пунша из джина. И Гас сидел
в самом конце стола, а я во главе; и мы распевали
песни — и шуточные и чувствительные — и провозглашали
тосты; и я говорил речь, но воспроизвести ее здесь нет
никакой возможности, потому что, сказать по совести,
наутро я совершенно позабыл все, что происходило
накануне вечером после известного часа.
Глава IV\
О том, как счастливый обладатель
бриллиантовой булавки обедает в Пентонвилле
В понедельник я пришел в контору с опозданием на
полчаса. Ежели говорить всю правду, я нарочно дал Хос-
кинсу меня опередить и рассказать нашей братии про то,
что со мной приключилось,— ведь у каждого из нас есть
свои слабости, и мне очень хотелось, чтобы мои товарищи
были обо мне высокого мнения.
Когда я вошел в контору, по тому, как все на меня
посмотрели, особенно Абеднего, который первым делом
предложил мне понюшку табаку из своей золотой табакерки,
я тотчас понял, что дело сделано. А Раундхэнд, подойдя
просмотреть мою конторскую книгу, с чувством потряс
мне руку, объявил, что почерк у меня превосходнейший
(скажу, не хвастаясь, так оно и есть), и пригласил меня
отобедать у него на Мидлтон-сквер в следующее
воскресенье.-
— У нас, конечно, нет того шику, что у ваших друзей
в Вест-Энде.— Последние слова он произнес с особенным
выражением.— Но мы с Амелией всегда рады принять
511
друга и попотчевать его от души — херес, старый
портвейн, скромно, зато вволю! Так как же?
Я сказал, что приду непременно и прихвачу с собою
Хоскинса.
Он отвечал, что я его разодолжил и что он будет
весьма рад видеть Хоскинса; и в назначенный день и час мы,
как и было условлено, припожаловали на Мидлтон-сквер;
но хотя Гас был одиннадцатый конторщик, а я
двенадцатый, я заметил, что мне подносили первому, да к тому же
лучшие куски. В тарелке с телячьим супом, которую
поставили передо мной, оказалось против Хоскинсовой вдвое
больше фрикаделей, и мне же выложили из сотейника
чуть не все устрицы. Какое-то блюдо Раундхэнд
предложил было Гасу прежде меня. Но тут его дородная,
свирепая на вид супруга, в платье красного крепа и в тюрбане,
сидящая во главе стола, прикрикнула: «Энтони!» —и
бедняга Раундхэнд торопливо поставил тарелку на место и
покраснел до корней волос. А слышали бы вы, как миссис
Раундхэнд разливалась соловьем об Вест-Энде! У ней,
сами понимаете, имелась Книга пэров, и она столько всего
знала про семейство Бум, что я просто опомниться не мог
от изумления. Она спрашивала меня, каков доход лорда
Бума, сколько у него выходит в год — двадцать тысяч,
тридцать, сорок, а то, может, и все сто пятьдесят?
Приглашают ли меня в замок Бумов? Как одеваются молодые
графини, и неужто они носят эти ужасные рукава с
буфами, какие нынче входят в моду? И тут миссис Раундхэнд
бросила взгляд на свои толстые, все в веснушках,
обнаженные руки, которыми она очень гордилась.
— Сэм, мой мальчик! — воскликнул посереди нашей
беседы Раундхэнд, который успел уже осушить не один
стакан портвейну.— Надеюсь, вы не упустите такой
случай и всучите им парочку-другую акций Западно-Дидлсек-
ского... а?
— Вы снесли графины вниз, мистер Раундхэнд? —
гневно вскричала хозяйка дома, желая прекратить этот
неуместный, на ее взгляд, разговор.
— Нет, Милли, я их опорожнил,— отвечал Раундхэнд.
— Никаких Милли, сэр! Извольте спуститься вниз и
велите Ленси, моей горничной (взгляд в мою сторону),
чтоб она сбирала чай в кабинете. Мы сегодня потчуем
джентльмена, который не привычен к пентонвиллским
обычаям (опять взгляд в мою сторону); но он не
погнушается обычаями друзей.
512
Тут тяжелый вздох всколыхнул могучую грудь миссис
Раундхэнд, и она в третий раз поглядела на меня, да так,
знаете, грозно, что я прямо рот разинул. А что до Гаса,
так с ним она за весь вечер и двух слов не сказала; но он
утешался горячими сдобными булочками, которые
поглощал без счету, и чуть не весь вечер (а жара стояла
непомерная) прохлаждался на балконе, посвистывая да болтая
с Раундхэндом. Уж лучше бы мне тоже сидеть с ними —
больно душно да тесно было в одной комнате рядом с
дородной миссис Раундхэнд, которая расположилась подле
меня на диване.
— А помните, какой веселый вечерок у нас выдался
прошлым летом? — донесся до меня голос Хоскинса,
который, облокотясь о перила, бросал нежные взгляды на
девиц, возвращавшихся из церкви.— Миссис Раундхэнд
была в Маргете, а мы с вами скинули сюртуки, рому у нас
было вдоволь и целый ящик манильских сигар...
— Шш-ш! — испуганно оборвал его мистер
Раундхэнд.— Милли услышит.
Но Милли не слыхала; Милли с увлечением
рассказывала мне нескончаемую повесть о том, как она
вальсировала с графом де Шлоппенцоллерном на городском балу,
который давали в честь союзных монархов, и какие у
графа были густые длинные белоснежные усы, и как ей было
чудно кружиться по зале в объятиях столь знатного
кавалера.
— Но с тех пор, как я вышла за мистера Раундхэнда9
он мне ничего такого не позволял... ни разу не позволилf
а в четырнадцатом годе так полагалось принимать особ
королевской крови. И вот двадцать девять молодых девиц
из лучших лондонских семейств, уж поверьте, мистер Тит-
марш, самых лучших семейств: там были дочери самого
лорд-мэра, и олдермена Доббина, три дочки сэра Чарльза
Хоппера, это у которого громаднейший дом на Бейкер-
стрит; ну, и ваша покорная слуга, которая в те поры была
постройней против нынешнего,— двадцать девять нас
было, и нам для этого случая наняли учителя танцев, и мы
учились танцевать вальс, и для такой надобности нам
отвели Египетскую залу в доме лорд-мэра. Да, он был
великолепный кавалер, этот граф Шлоппенцоллерн!
— Но зато и дама у него была великолепная,
сударыня,— сказал я и покраснел как рак.
— Подите вы, проказник! — хихикнула миссис
Раундхэнд и игриво шлепнула меня по руке.— Все вы в Вест-
17 у. Теккерей, т. 1
513
Энде на один покрой, все обманщики. Вот и граф был в
точности как вы. Ах, да что говорить! До свадьбы вы са-
хары-медовичи, так и рассыпаетесь в комплиментах, а
как завоюете девичье сердце, так куда девался прежний
пыл. Вон поглядите хоть на Раундхэнда, прямо как дитя
малое, все норовит бабочку носовым платком изловить.
Ну, где ж такому человеку меня понять, где уж ему
заполнить мое сердце? — И она прижала руку к своей
пышной груди.— Увы! Неужто и вы станете когда-нибудь
пренебрегать своей супругой, мистер Титмарш?
Так она говорила, а по городу плыл колокольный звон,
кончилась служба, и я представил себе, как моя милая,
милая Мэри Смит в скромной серенькой мантильке
возвращается из сельской церкви в дом своей бабушки, а
колокола перекликаются, и в воздухе пахнет душистым
сеном, и река блестит на солнце — алая, багряная, золотая,
серебряная. Моя милая Мэри за сто двадцать миль от
меня, в Сомерсетшире, возвращается из церкви домой с
доктором Снортером и его семейством, она всегда ходит
с ними в церковь; а я сижу тут и слушаю эту противную
сластолюбивую толстуху.
Я не удержался и нащупал половинку
шестипенсовика, о которой, вы помните, уже говорил, и, привычным
движением прижав руку к груди, оцарапал пальцы об
мою новую бриллиантовую булавку. Мне доставили ее от
мистера Полоииуса накануне вечером, и, отправляясь на
обед к Раундхэндам, я ее обновил.
— Что за прекрасный бриллиант! — сказала миссис
Раундхэнд.— Я весь обед с него глаз не сводила. Каким же
надо быть богачом, чтоб носить такие драгоценности, и
как вы можете оставаться в этой противной конторе при
ваших-то знатных знакомствах в Вест-Энде?
Эта особа так меня допекла, что я вскочил с дивана и,
не ответивши ей ни слова, кинулся на балкон, на свежий
воздух, где пребывали джентльмены, и при этом чуть не
разбил голову о косяк.
— Гас,— выпалил я,— мне что-то нездоровится,
пойдем домой.
А Гасу только того и надо было — он уже успел
проводить нежным взглядом всех до одной девиц, что
возвращались из всех до одной церквей, и на дворе стало
смеркаться.
— Как! Да что это вы? — воскликнула миссис
Раундхэнд.—Ведь сейчас подадут омара. Надо немножко под-
514
крепиться. Мистер Титмарш, конечно, не к такому
привык, но все же...
Стыдно признаться, но я чуть не сказал: «К черту
омара!» — да тут Раундхэнд подошел к своей супруге и
шепнул, что мне нездоровится.
— Да-да,— с многозначительным видом подтвердил
Гас.— Не забудьте, миссис Раундхэнд, что только в
четверг он был в Вест-Энде, и его звали обедать с самыми что
ни на есть сливками высшего света. Вест-эндские обеды
даром не проходят, верно я говорю, Раундхэнд?
— Ежели бы вы играли в кегли... вы бы, наверно, не
отказались от роббера,— мигом нашелся Раундхэнд.
— В воскресенье, в моем доме — не позволю,— гневно
отрезала миссис Раундхэнд.— И слышать не хочу ни об
каких картах. Или уж мы не протестанты, сэр? Не
христиане?
— Ты не поняла, дорогая. Мы говорили совсем об
другом роббере, не об висте.
— И слышать не желаю ни об каких играх у себя в
доме в воскресенье,— заявила миссис Раундхэнд и, даже
не попрощавшись с нами, выскочила за дверь.
— Не уходите,— промолвил ее до крайности
напуганный супруг,— не уходите. Покуда вы здесь, она не
появится. Сделайте милость, не уходите!
Но мы все же ушли, а когда оказались у себя дома на
Солсбери-сквер, я попенял Гасу за то, что он проводит
воскресенья в безнравственных развлечениях, и на сон
грядущий прочел вслух одну из проповедей Блейра.
А улегшись в постель, я невольно подумал о том, какую
удачу принесла мне бриллиантовая булавка; причем, как
вы узнаете из следующей главы, на этом мои удачи не
кончились.
Глава V,
повествующая о том, как бриллиант вводит его
счастливого обладателя в еще более высокие круги
Говоря по правде, хотя в предыдущей главе я уделил
бриллианту всего несколько слов, в мыслях моих он
занимал далеко не последнее место. Как я уже упомянул,
булавку доставили от мистера Полониуса в субботу
вечером; нас с Гасом не было дома, мы за полцены наслажда-
17*
515
лись жизнью в Сэдлерс-Уэлз; а на обратном пути, долж-
но быть, еще и выпили подкрепляющего; впрочем, это к
делу не относится.
Так вот, на столе лежала коробочка от ювелира; я
вынул булавку, и — боже мой! — как засверкал, заиграл
бриллиант при свете нашей единственной свечи.
— Да при нем и без свечи будет светло! — сказал
Гас— Это бывает, я читал про это в истории...
Я не хуже него знал историю Хаджи-Гасана-Альгаба-
ла из «Тысячи и одной ночи». Но мы все равно решили
попробовать и задули свечу.
— Он освещает всю комнату, вот ей-богу! —
воскликнул Гас; на самом же деле напротив нашего окна стоял
газовый фонарь, и, я думаю, потому-то в комнате и было
светло. Во всяком случае, в моей спальне, куда мне
пришлось идти без свечи и окно которой смотрело на глухую
стену, стояла кромешная тьма, хотя бриллиант был при
мне, и пришлось ощупью отыскать подушечку для
булавок, которую мне подарила некая особа (я не прочь
признаться, что это была Мэри Смит), и в эту-то подушечку
я воткнул его на ночь. Но странное дело, я столько думал о
своем бриллианте, что почти не сомкнул глаз и проснулся
ни свет ни заря; и если уж говорить всю правду, сразу же,
как дурак, нацепил его на ночную рубашку и стал
любоваться на себя в зеркале.
Гас любовался бриллиантом не меньше моего; ведь с
тех пор как я воротился в Лондон, и особливо после обеда
из оленины и прогулки в карете леди Бум, он решил, что
лучше меня нет человека на свете, и к месту и не к месту
хвастал «своим приятелем из Вест-Энда».
В тот день мы были приглашены на обед к Раундхэн-
дам, и, так как у меня не было черного атласного галстуха,
пришлось воткнуть булавку в муслиновое жабо моей
лучшей рубашки, отчего в ней, как ни печально,
образовалась дыра. Однако же, как вы видели, булавка
произвела впечатление на хозяев дома, на одного из них даже,
пожалуй, чересчур сильное; а назавтра Гас уговорил меня
надеть ее, когда мы шли в контору; правда, рубашка моя,
которая после домашней стирки в Сомерсетшире прямо
слепила белизною, на второй день несколько помялась, так
что вид у меня был уже не тот.
В конторе все несказанно ею восхищались, все, кроме
ворчливого шотландца Мак-Виртера, четвертого
конторщика,— он не мог мне простить, что я не оценил крупный
516
желтый камень, который был вделан в его табакерку и
который он называл не то карум-гарум, не то что-то в этом
духе; да, так все, кроме Мак-Виртера, были от нее в
восторге; и сам Абеднего сказал, что бриллиант стоит
фунтов десять, не меньше, и что его родитель может хоть
сейчас выложить эти деньги, а уж он-то знает в этом толк,
ведь отец его ювелир.
— Стало быть, бриллиант Тита стоит по меньшей мере
тридцать фунтов,— заключил Раундхэнд. И мы все весело
с ним согласились.
Должен признаться, что от всех этих похвал, от
уважения, какое мне стали выказывать, у меня малость
закружилась голова; и.так как все сослуживцы в один голос
заявили, что я должен купить черный атласный галстух,
такая, мол, булавка непременно этого требует, я сдуру
послушался их, отправился в магазин Ладлема, что на Пи-
кадилли, и выложил за этот самый галстух двадцать пять
шиллингов; а все оттого, что Гас сказал, чтоб я и не думал
покупать какую-нибудь нашу ист-эндскую дешевку, а шел
бы в самый лучший магазин. Я вполне мог бы купить в
точности такой же галстух на Чипсайд, и он обошелся бы
мне всего в шестнадцать шиллингов шесть пенсов; но
когда молодого человека обуревает тщеславие и ему
втемяшилось в голову заделаться франтом, он — сами понимаете —
не может удержаться от сумасбродных поступков.
Слух об истории с оленьим окороком и о моем родстве
с леди Бум и достопочтенным Эдмундом Престоном дошел
и до ушей нашего хозяина, мистера Браффа,— только
Абеднего, который сообщил ему эту новость, сказал, что я
прихожусь ее светлости двоюродным братом, после чего
Брафф стал ценить меня больше прежнего.
Мистер Брафф, как всем известно, был членом
парламента от Роттенборо; он считался одним из самых
богатых дельцов лондонского Сити, у него в Фулеме бывали
самые видные в Англии господа, и мы нередко читали в
газетах, какие он там задавал шикарные приемы.
Что и говорить, бриллиант творил чудеса: мало того
что он одарил меня поездкой в графской карете, оленьим
окороком, двумя корзинами фруктов и вышеописанным
обедом у Раундхэнда, он припас для меня еще и иные
почести: благодаря ему я был удостоен приглашения в дом
нашего хозяина — мистера Браффа.
Раз в году, в июне месяце, сей почтенный джентльмен
давал в собственном доме, в Фулеме, грандиозный бал, и
617
по рассказам двух или трех наших сослуживцев, которые
там бывали, балы эти отличались редкостным
великолепием. Членов парламента — хоть пруд пруди, а лордов и
леди видимо-невидимо. Все и вся там было самый что ни
на есть первый сорт; говорили, сам мистер Гантер с Барк-
ли-сквер поставлял мороженое, ужин и лакеев; лакеев,
правда, у Браффа и своих было хоть отбавляй, но
гостей собиралось такое множество, что их не хватало. Надо
вам сказать, что бал этот давал не мистер Брафф, а его
супруга, ибо сам он был диссидентом и навряд ли
одобрял подобные увеселения; но друзьям в Сити он
признавался, что во всем покоряется супруге; и обычно
большинство из них, получив приглашение, везли дочерей на эти
балы, ибо у нашего хозяина собиралось великое
множество титулованной знати; мне известно, к примеру, что
миссис Раундхэнд готова была лишиться уха за честь
оказаться там, но, как я уже упоминал, никакая сила не
заставила бы Браффа ее пригласить.
Из всех наших служащих на бал были приглашены
только двое — сам Раундхэнд и Гатч — девятнадцатый
конторщик, племянник одного из директоров Ост-Индской
компании, и все мы прекрасно это знали, потому что
приглашения они лолучили за много недель до великого
события и вовсю этим похвалялись. Но за два дня до бала,
после того, как бриллиант произвел фурор в конторе, Абед-
него, выйдя от хозяина, подошел ко мне и, ухмыляясь до
ушей, сказал:
— Мистер Брафф велел, чтоб в четверг ты приходил
на бал вместе с Раундхэндом, Тит.
Я решил, что он надо мной смеется,— уж больно
странное это было приглашение; мне не доводилось слышать,
чтобы кого-нибудь приглашали так нелюбезно и
повелительно; но вскорости появился сам мистер Брафф и,
проходя через контору, подтвердил слова Абеднего.
— Мистер Титмарш,— сказал он,—- в четверг вы
приедете на бал к миссис Брафф, там вы встретите кое-кого
из ваших родственников.
— Опять он едет в Вест-Энд! — сказал Гас Хоскинс;
и я в самом деле поехал вместе с Раундхэндом и Гатчем —
в кебе, который нанял Раундхэнд и за который он
великодушно заплатил восемь шиллингов.
Не стану описывать этот великолепный прием, не
стану рассказывать ни про бесчисленные фонари, что
зажжены были в саду, ни про поток карет, устремлявшихся в
518
ворота, ни про толпы любопытных за оградой; ни про
мороженое, музыку, цветочные гирлянды и холодный ужин
в самом доме. Превосходное описание этого приема
появилось в одной светской газете; оно принадлежало перу
какого-то репортера, который видел все собственными
глазами из окна трактира «Желтый Лев», что напротив, и
описал туалеты приглашенных господ совершенно точно —
со слов их лакеев и кучеров, кои, наскучив ожиданием,
заходили в трактир выпить кружку эля. Имена гостей
тоже, конечно, попали в газету, и в числе всякого рода
титулованных особ, которые были там названы, среди
весьма почтенной публики затесалось и мое имя, что немало
насмешило всю контору. На другой день Брафф поместил
в газете следующее объявление: «Нашедшему изумрудное
ожерелье, потерянное на приеме у Джона Браффа,
эсквайра, в Фулеме, будет вручено вознаграждение в размере
ста пятидесяти гиней». Кое-кто из наших конторщиков
утверждал, что все это выдумки, никто на приеме ничего
не терял, а просто Брафф хочет, чтобы все знали, какое
у него собирается изысканное общество; но слух этот
пустили люди, не приглашенные на прием и потому, без
сомнения, снедаемые завистью.
Я, разумеется, надел бриллиантовую булавку и
облачился в свое лучшее платье, а именно в синий сюртук
с медными пуговицами, о котором я уже упоминал,
нанковые панталоны, шелковые чулки, белый жилет и белые
перчатки, купленные нарочно для этого случая. Но у
моего сюртука^ сшитого в провинции, талия была чересчур
высока, а рукава коротки, и в глазах собравшейся там
знати он выглядел, должно быть, престранно, ибо многие
смотрели на меня с недоумением, а когда я танцевал, по
всем правилам, с тщанием и живостью исполняя все
фигуры в точности так, как нас учил наш сельский учитель
танцев, вокруг собралась толпа.
И с кем бы, вы думали, мне выпала честь танцевать?
С самой леди Джейн Престон, которая, как оказалось,
вовсе не уехала из Лондона и, увидев меня на балу, весьма
любезно поздоровалась со мной за руку и пригласила на
танец. Милорд Типтоф и леди Фанни Рейке были нашими
vis-a-vis.
Видели бы вы, сколько было желающих посмотреть на
нас! А как все восхищались моим искусством: водь я
выделывал самые замысловатые па, не то что прочие кавалеры
(в том числе и сам милорд), которые танцевали кадриль
519
словно бы нехотя и надивиться не могли на мои прыжки
и выкрутасы. А я уж люблю танцевать — так танцевать в
свое удовольствие, и Мэри Смит не раз говорила, что на
наших сельских балах нет танцора лучше меня. За
танцами я поведал леди Джейн, как мы втроем, не считая
кучера,— Раундхэид, Гатч и я,— ухитрились приехать сюда в
одном кебе; и, можете мне поверить, рассказ мой
рассмешил ее светлость. Мне не пришлось возвращаться в том
же экипаже, и это было очень хорошо, ибо кучер напился
в «Желтом Льве» и на обратном пути вывалил Гатча и
нашего старшего конторщика, да к тому же затеял драку
и подбил Гатчу глаз,— надел, дескать, красный жилет, вот
лошадь и испугалась.
Случилось так, что леди Джейн избавила меня от этой
неприятной поездки: она сказала, что в ее карете свободно
четвертое место, и предложила его мне; и вот ровно в два
часа ночи, отвезши обеих дам и милорда, я прикатил к
себе на Солсбери-сквер в огромной карете с ярко
горящими фонарями и с двумя высоченными лакеями на
запятках; и когда мы подъехали к моему дому, они так
ретиво заколотили в дверь, что чуть не разнесли не только
ее, но и всю нашу улочку. Видели бы вы Гаса, когда в
белом ночном колпаке он высунулся из окна! Он всю ночь
не дал мне сомкнуть глаз, расспрашивал про бал да про
знатных особ, которых я там видел; а на другой день
пересказал все мои рассказы в конторе, по своему
обыкновению, изрядно их приукрасив.
— Кто такой этот высокий, толстый, любопытный
человек, хозяин дома? — со смехом сказала мне леди
Фанни.— Знаете, он спрашивал, не родственники ли мы с
вами? И я сказала: «О да, конечно!»
— Фанни! — с упреком молвила леди Джейн.
— А что,— возразила мисс Фанни,— ведь бабушка
говорила, что мистер Титмарш ей родня.
— Но ты же знаешь, что у бабушки не очень
хорошая память.
— Вы не правы, леди Джейн,— сказал милорд.— Я
нахожу, что память у нее на диво.
— Да, но иной раз... иной раз она бабушку подводит.
— Да, подводит, миледи,— сказал я.— Ведь если
помните, ее светлость графиня Бум сказала, что мой друг
Гас Хоскинс...
— Тот, которого вы так храбро защищали,— перебила
меня леди Фанни.
520
— ...что мой друг Гас тоже прдходится ее милости
родней, а этого уж никак не может быть, я знаю всех его
родных, они живут на Скиннер-стрит и на Сент-Мэри
Эйкс, и они... они не такой хорошей фамилии, как мы.
Тут они все рассмеялись, и милорд сказал не без
надменности:
— Можете мне поверить, мистер Титмарш, что леди
Бум связана с вами узами родства не больше, чем с вашим
приятелем Хоскинсоном.
— Хоскинсом, милорд. Я так прямо и сказал Гасу. Но
видите ли, он ко мне очень привязан, и ему уж так
хочется верить, будто я родич леди Бум, что, как я ни спорю,
а он всем про это рассказывает. Правда,— со смехом
прибавил я,— это послужило к моей выгоде.
И я рассказал им про обед у миссис Раундхэнд, на
который меня пригласили только ради моей бриллиантовой
булавки и ради слухов о моем аристократическом родстве.
Потом я весьма красноречиво поблагодарил леди Джейн
за великолепный подарок — за фрукты и олений окорок —
и сказал, что ее дарами насладилось множество моих
добрых друзей и все они с величайшей признательностию
пили за ее здоровье.
— Олений окорок! — в крайнем изумлении воокликну-
ла леди Джейн.— Я, право, не знаю, как вас понять,
мистер Титмарш.
Мы как раз проезжали мимо газового фонаря, и я
увидел, что леди Фанни, по своему обыкновению, смеется и
большие черные глаза ее, обращенные на лорда Типтофа,
горят лукавством.
— Если уж говорить правду, леди Джейн,— сказал
он,— то шутку с оленьим окороком затеяла сия молодая
особа. Надо вам сказать, что я получил упомянутый
олений окорок из угодий лорда Готлбери и, зная, что
Престон не прочь отведать готлберской оленины, сказал леди
Бум (в тот день для меня нашлось место в карете
графини, так как мистера Титмарша поблизости не случилось),
что намерен отослать олений окорок к столу вашего
супруга. И тут леди Фанни всплеснула ручками и сказала,
что нипочем не допустит, чтобы оленина пошла Престону,
ее надо послать джентльмену, о чьих недавних
приключениях мы как раз перед тем беседовали,— мистеру Титмар-
шу, с которым, как заявила Фанни, Престон обошелся
весьма жестоко, и потому наш долг вознаградить
пострадавшего. Итак, леди Фанни настояла, чтобы мы сразу же
521
отправились ко мне, в Олбени (вы ведь знаете, я останусь
на своей холостой квартире еще всего только месяц)...
— Вздор! — перебила леди Фанни.
— ...настояла, чтобы мы сразу же отправились ко мне
в Олбени и извлекли оттуда упомянутый олений окорок.
— Бабушке очень не хотелось с ним расставаться! —
Боскликнула леди Фанни.
— А потом она распорядилась ехать к дому мистера
Титмарша, где мы и оставили олений окорок,
присовокупив к нему две корзины фруктов, которые леди Фанни
самолично купила у Грейнджа.
— И более того,— прибавила леди Фанни,— я
уговорила бабушку зайти в комнаты к Фрэн... к лорду Типто-
фу и сама продиктовала ей письмо и завернула олений
окорок, который принесла его ужасная экономка —
имейте в виду, я к ней ревную! — завернула этот олений
окорок в газету «Джон Буль».
Помню, в том номере напечатано было одно из «Писем
Рэмсботтома»; мы с Гасом прочли его в воскресенье за
завтраком и едва не померли со смеху. Когда я рассказал
про это дамам, они тоже посмеялись, и добросердечная
леди Джейн сказала, что прощает сестру и надеется, что
и я ей прощу; и я пообещал прощать ее всякий раз, как
ей вздумается вновь нанести мне подобную обиду.
Больше я уже никогда от них не получал оленьих
окороков, зато получил нечто другое. Эдак через месяц
посыльный доставил мне визитную карточку «Лорд и леди
Типтоф» и огромный кусок свадебного пирога, львиную
долю которого, увы, съел Гас.
Глава VI
О Запади о-Дидлсекском страховом обществе и о
том, какое действие оказал на него бриллиант
Но чудеса, творимые бриллиантом, не кончились и на
этом. Вскорости после большого приема у миссис Брафф,
наш глава вызвал меня к себе в кабинет и, просмотрев мои
счета и порассуждав некоторое время о делах, сказал:
— У вас прекрасная бриллиантовая булавка, Тит-
марш, и именно о ней я и хотел с вами побеседовать. (Он
говорил важно, снисходительно.) Я не против того, чтобы
молодые люди в нашей конторе хорошо и красиво одева-
522.
лись, но на свое жалованье они не в состоянии покупать
подобные драгоценности, и я глубоко опечален, что вижу
на вас столь дорогую вещь. Вы ведь заплатили за нее,
сэр, надеюсь, что заплатили, ибо пуще всего, мой дорогой...
мой дорогой юный друг, надлежит остерегаться долгов.
Я не мог взять в толк, почему это Брафф читает мне
наставление и опасается, что, купив булавку, я залез в
долги, ведь я знал от Абеднего, что он уже осведомился
о булавке и о том, как она ко мне попала.
— Прошу прощенья, сэр,— сказал я,— но мистер
Абеднего говорил мне, что он уже говорил вам, что я ему
говорил...
— Ах да, да... припоминаю, мистер Титмарш... да, в
самом деле. Но, надеюсь, сэр, вы понимаете, что у меня
есть дела поважнее, о которых мне приходится помнить.
— Ну как же, сэр,— ответил я.
— Кто-то из конторщиков и вправду говорил про
булавку... что у одного из наших джентльменов завелся
бриллиант. Так, стало быть, вам ее подарили, да?
— Да, сэр, мне ее подарила моя тетушка, миссис
Хоггарти из замка Хоггарти,— сказал я, несколько возвысив
голос, ибо я чуточку гордился тем, что имею отношение
к замку Хоггарти.
— Должно быть, она очень богата, если делает такие
подарки, а, Титмарш?
— А как же, сэр, благодарю вас,— ответил я.— Она и
правда женщина с большим достатком. После смерти
супруга ей досталось четыреста фунтов годового дохода,
потом у ней ферма в Слоппертоне, сэр; три дома в Скуош-
тейле; да еще, как мне стало известно, три тысячи двести
фунтов в банке,— вот какое у ней состояние, сэр.
Видите ли, мне это в самом деле было известно, так
как, когда я гостил в Сомерсетшире, агент тетушки в
Ирландии, мистер Мак-Манус, уведомил ее письмом, что
закладная, которая была у ней на недвижимость лорда Брэл-
легена, полностью оплачена и деньги положены в банк
Кутса. В те поры в Ирландии то и дело происходили
беспорядки, и тетушка мудро решила не вкладывать более
там деньги, а приискать, куда бы их можно было надежно
и выгодно поместить в Англии. Однако же, получая со
своего капитала в Ирландии шесть процентов годовых, она
нипочем бы не согласилась на меньший процент; и, так
как я пошел по коммерческой части, просила меня, когда
я возвращался в Лондон, подыскать, куда бы ей поме-
523
стить деньги, чтобы они давали ей доходу никак не менее
прежнего.
— А откуда же вам с такою точностью известно
состояние миссис Хоггарти? — спросил мистер Брафф, что
я ему тотчас же и сообщил.
— Боже милостивый, сэр! Неужто вы хотите сказать,
что у вас, служащего Западно-Дидлсекского страхового
общества, почтенная дама спросила совета, куда ей
поместить свой капитал, и вы не назвали ей страховое
общество, в котором имеете честь служить? Неужели, сэр, вы
хотите сказать, что, зная о пятипроцентной премии,
полагающейся вам с вложенного капитала, вы не уговорили миссис
Хоггарти купить наши акции?
— Я честный человек, сэр,— сказал я,— и не стал бы
брать премию от своей родственницы.
— Ваша честность мне известна, мой дорогой... дайте
я пожму вашу руку! Я тоже честный человек... у нас все
служащие честные. Но мы должны быть еще и
благоразумны. Как вам известно, по нашим книгам у нас числится
пять миллионов капиталу, это значит, что нам внесено
пять самых настоящих миллионов самых настоящих
соверенов, сэр,— и все честь по чести. Но отчего бы нам не
стать богатейшей Компанией в мире? И к тому оно и
придет, сэр, непременно придет, сэр, не будь я Джон Брафф,
пусть только господь благословит мою честность и усердие.
Но неужто вы полагаете, что это возможно, если каждый
из нас не будет всемерно споспешествовать процветанию
нашей фирмы? Отнюдь, сэр... отнюдь. И, что до меня, я
заявляю об этом всем и каждому. Я горжусь делом рук
своих. В какой дом я ни войду, я всюду оставляю проспект
нашего страхового общества. Любой из моих поставщиков
становится владельцем хотя бы нескольких наших акций.
Мои слуги, сэр, мои собственные лакеи и конюхи — и те
связаны с Западно-Дидлсекской. И когда человек
приходит ко мне просить места, мой первый вопрос: «А
застрахованы ли вы, сударь, в нашей Компании, и есть ли у вас
ее акции?» И второй вопрос: «А хорошие ли у вас
рекомендации?» И если на первый свой вопрос я получаю
отрицательный ответ, я говорю: «Прежде чем просить у меня
места, приобретите наши акции». Разве вы не видели, как
я,— я, Джон Брафф, который пользуется миллионным
кредитом,— приехав сюда в карете четверней, вошел в
контору и вручил мистеру Раундхэнду четыре фунта
девятнадцать шиллингов — стоимость половины акции — за мо-
524
его привратника? Обратили ли вы внимание, что я
удержал шиллинг из пяти фунтов?
— Как же, сэр, это было в тот день, когда вы
выписали себе восемьсот семьдесят три фунта десять шиллингов
и шесть пенсов,— это было в прошлый четверг,— ответил я.
— А почему я удержал шиллинг, сэр? Потому что это
были мои комиссионные, пять процентов комиссионных
Джона Браффа, честно им заработанные и взятые у всех
на виду. Разве я что-либо скрывал? Ничуть не бывало.
А может быть, я поступил так из сребролюбия? Ничуть
не бывало,— повторил Брафф, прижав руку к сердцу,— я
сделал это единственно из принципа; лишь это движет
всеми моими поступками, и я с чистой совестью могу
повторить это перед лицом всевышнего. Я бы желал, чтобы
все мои молодые люди следовали моему примеру... я бы
желал... я молюсь, чтобы им это оказалось под силу.
Подумайте о моем примере, сэр. У моего привратника
больная жена и девять малолетних детей; сам он тоже слаб
здоровьем и не жилец на этом свете; у меня на службе он
заработал деньги — шестьдесят фунтов с лишком,— и
больше его детям не на что рассчитывать; если бы не эти
деньги, в случае смерти они оказались бы нищими, без
крыши над головой. Что же я сделал для этой семьи, сэр?
Я забрал эти деньги у Роберта Гейтса и поместил их так,
что, когда он умрет, они составят счастье его семьи.
Каждый его фартинг вложен в акции нашей Компании; а
стало быть, мой привратник Роберт Гейтс сделался
держателем трех акций Западно-Дидлсекского страхового
общества, и в этом качестве он вам и мне хозяин. Уж не думаете
ли вы, что я хочу обмануть Гейтса?
— Как можно, сэр! — возразил я.
— Обмануть беззащитного бедняка и его невинных
малюток! Нет, вы не считаете меня на это способным, сэр.
Будь у меня такое намерение, я бы опозорил род
человеческий. Но что проку от всех моих усилий, от моего усердия?
Что, если я и вложил в это дело деньги своих друзей,
своих родственников, свои собственные деньги, все мои
надежды, мечты, желания, честолюбивые стремления? Вы,
молодые люди, не следуете моему примеру. Вы, которых
я дарю своей любовью и доверием, точно собственных
детей, чем вы мне отвечаете взамен? Я тружусь в поте лица,
а вы сидите сложа руки; я бьюсь как рыба об лед, а вы
и ухом не ведете. Скажите сразу: вы мне не верите! О
господи, так вот она, награда за всю мою любовь и заботы!
525
При этих словах мистер Брафф так растрогался, что
заплакал настоящими слезами, и тут, признаюсь, я увидел
в истинном свете свою преступную нерадивость.
— Я... я очень виноват, сэр,— сказал я,— но тому
причиною одна только моя деликатность, не позволявшая мне
заговорить с тетушкой о Западно-Дидлсекском обществе.
— Деликатность, мой милый... да какая же тут может
быть деликатность, когда речь идет о том, чтобы
приумножить состояние вашей тетушки! Скажите лучше,
равнодушие ко мне, скажите лучше, неблагодарность, скажите,
неразумие... но только не говорите мне о деликатности, нет,
нет, нет, что угодно, только не деликатность. Будьте
честны, мой мальчик, вещи надо всегда называть их именами...
всегда.
— Да, это и вправду неразумие и неблагодарность,
мистер Брафф,— сказал я.—Теперь я это понимаю, и я
отпишу тетушке с ближайшей же почтой.
— Не делайте этого,— с горечью сказал Брафф,—
наши акции идут по девяносто, и миссис Хоггарти получит
со своего капитала всего лишь три процента.
— Нет, сэр, я непременно ей напишу... вот вам честное
благородное слово.
— Что ж, раз уж дали слово, Титмарш, видно,
придется написать, слово никогда не надобно нарушать, даже по
мелочам. Когда напишете письмо, отдайте его мне, я его
пошлю бесплатно, честное благородное слово,— со смехом
сказал мистер Брафф и протянул мне руку.
Я протянул свою, и он сердечно ее пожал.
— А отчего бы вам не написать прямо здесь? —
сказал он, все не выпуская мою руку.— Бумаги у меня
вдоволь.
И вот я сел за стол, очинил прекрасное перо и
принялся за письмо.
«Западно-Дидлеекское страховое общество, июнь 1822
года,— вывел я как мог красивее. И далее: — Дражайшая
тетушка...# Потом приостановился и задумался, что же
писать дальше, ибо письма мне всегда давались с трудом.
Написать число и обращение не хитрость, а вот дальше
дело помудренее; покусывая перо, я откинулся на спинку
стула и принялся размышлять.
— Да что это вы, мой дорогой} — воскликнул мистер
Брафф.— Неужто вы собираетесь потратить на это письмо
весь день? Давайте я вам его продиктую.
526
И начал:
«Дражайшая тетушка, рад сообщить Вам, что с тех
пор, как я воротился из Сомерсетшира, наш директор-
распорядитель и наше правление так мною довольны и
были так добры, что назначили меня третьим
конторщиком...»
— Сэр! — воскликнул я.
— Пишите, пишите. Вчера на заседании правления
было решено, что мистер Раундхэнд повышается в
должности и становится секретарем и статистиком. Его место
занимает мистер Хаймор, на место мистера Хаймора
садится мистер Абеднего, а вас я назначаю третьим
конторщиком. Пишите: «.„третьим кон2юрщиком с жалованьем
сто пятьдесят фунтов в год. Я знаю, новость сия порадует
мою дорогую матушку и Вас, дражайшая тетушка, Вас,
которая всю мою жизнь была мне второй матерью.
Когда я в последний раз был дома, Вы, помнится,
спрашивали моего совета, как Вам лучше поместить капитал,
который, без всякой для Вас пользы, находится у Вашего
банкира. С тех пор как я воротился, я не упускал случая
осведомиться на сей счет; ж как я тут нахожусь в самой
гуще деловой жизни, то и полагаю, что,, хотя и не вошел
еще в настоящий возраст, могу дать Вам совет не хуже
иного старше меня по летам и положению.
Я частенько подумывал присоветовать Вам нашу
Компанию, но от сего шага удерживала меня деликатность,
Я не желал, чтобы на меня легла хотя бы тень подозрения,
будто действую я из личных видов. Однако же я нимало
не сомневаюсь, что Западно-Дидлсекское общество —
самое надежное место для помещения капитала, и притом
обеспечивает самый высокий процент.
Из надежнейших источников (это олово подчеркните)
мне известно, что положение дел в Компании следующее:
Основной акционерный капитал Компании составляет
5 миллионов фунтов.
Члены правления Вам известны. Достаточно сказать,
что наш директор-распорядитель — Джон Брафф, эсжвайр,
из фирмы «Брафф и Хофф», член парламента, известен в
Сити не менее самого мистера Ротшильда. Как мне
доподлинно известно, его личный капитал составляет лолмил-
лиона; а дивиденды, в последний раз выплаченные
акционерам Западно-Дидлсекского общества, составили 6Ув
процента за год. (Мы и вправду объявили такой дивиденд,)
Хотя на бирже спрос на наши акции до чрезвычайности
527
велик, четыре старших конторщика располагают правом
разместить некоторое количество акций по номиналу — до
5000 фунтов каждый; и ежели Вы, дражайшая тетушка,
пожелаете приобрести наши акции на сумму 2500 фунтов,
Вы, надеюсь, позволите мне воспользоваться моими
новыми правами и оказать Вам эту услугу.
Отвечайте мне немедля по получении сего письма, ибо
мне уже предлагают продать все мои акции по рыночной
цене».
— Но мне никто этого не предлагает, сэр,— возразил я.
— Нет, предлагают, сэр. Я готов взять ваши акции, но
я хочу, чтобы они достались вам. Я желаю привлечь в
нашу фирму возможно больше достойной уважения
публики. Я хлопочу об вас, потому что питаю к вам добрые
чувства и потому — не стану этого скрывать,— что
надеюсь соблюсти при том и свой собственный интерес; я
человек честный и не таю своих намерений, так что я скажу
вам, почему я в вас заинтересован. По уставу нашей
Компании я располагаю ограниченным числом голосов, но
ежели акции покупает ваша тетушка, я вправе
надеяться,— и я не стыжусь в том признаться,— что она будет
держать мою сторону. Теперь вы меня понимаете? Моя
цель — иметь решающий голос в делах Компании; а
добившись этого, я приведу ее к такому процветанию, какого
в лондонском Сити еще не видывали.
Итак, я подписал письмо и оставил на столе, чтобы
мистер Брафф его отправил.
На другой день мистер Брафф подвел меня к столу
третьего конторщика, не упустив при этом случая
обратиться к нашим джентльменам с речью, и под ропот на»
шей братии, недовольной, что их так опередили по службе,
я занял свое новое место; хотя, должен сказать, заслуги
наши перед Компанией были примерно одинаковые: ведь
существовала она всего три года, и самый первый из
конторщиков служил в ней всего на полгода долее меня.
. — Берегись! — сказал мне завистник Мак-Виртер.—=
У тебя что, завелись денежки? Или у твоих
родственничков? Или, может, они вознамерились вложить их в это
предприятие?
Я счел за благо не отвечать ему, а вместо этого взял
понюшку из его настольной табакерки и всегда обходился
с ним со всяческой добротою; и должен сказать, что он
стал относиться ко мне с неизменной учтивостью. Ну, а
Гас Хоскинс с той поры уверовал в мое превосходство;
528
прочие же мои сослуживцы в общем приняли мое
повышение спокойно, сказавши, что уж если не миновать, чтобы
кто-то получил повышение вне очереди, то уж лучше пусть
это буду я, чем кто-нибудь другой, ведь я никому из них
не причинил вреда, а иным даже оказывал небольшие
услуги.
— Я знаю, почему тебе досталось это место,— заметил
Абеднего.— Это я тебе удружил. Я рассказал Браффу, что
ты родня Престону, лорду-казначею, что он прислал тебе
олений окорок и все такое; и теперь Брафф надеется, что
ты будешь ему полезен в высших сферах.
Абеднего, вероятно, был недалек от истины, ибо наш
хозяин — как мы его называли — частенько заговаривал
со мною о моем родиче, велел мне продвигать наше
предприятие в Вест-Энд, вербовать в число наших клиентов
побольше титулованной знати и прочее в том же роде.
Напрасно я уверял его, что не имею никакого влияния на
мистера Престона.
—- Те-те-те,— говорил мистер Брафф,— так я вам и
поверил. Ни с того ни с сего олений окорок в подарок не
присылают.
И я уверен, он посчитал меня за человека весьма
опасливого и осмотрительного; ведь я не похвалялся своей
знатной родней и помалкивал о своих высоких связях.
Разумеется, он мог бы узнать всю правду у Гаса, с которым
я делил комнаты, но Гас его уверял, что я со всей этой
знатью на дружеской ноге, и хвалился этим куда больше
меня самого.
Сослуживцы мои прозвали меня аристократом.
Подумать только, размышлял я, чего я достиг
благодаря бриллианту, который мне подарила тетушка Хоггарти!
Какая удача, что она не дала мне денег, которые я так
надеялся от нее получить! Не будь у меня этой булавки,
отдай я ее не мистеру Полониусу, а любому другому
ювелиру, леди Бум никогда бы меня не приметила; а если бы
не она, и мистер Брафф никогда бы меня не приметил, и
не бывать бы мне третьим конторщиком Западно-Дидлсек-
ского.
От всего происшедшего я взыграл духом и, получивши
повышение по службе, в тот же вечер отписал моей
драгоценной Мэри Смит и предупредил ее, что «некое событие»,
которого один из нас жаждет всем сердцем, может
произойти скорее, нежели мы надеялись. А почему бы и нет?
Годовой доход мисс Смит составлял семьдесят фунтов,
529
мой — сто пятьдесят, и у нас давно было решено, что, когда
наш доход достигнет трехсот фунтов, мы обвенчаемся.
«Ах,— думал я,— ежели бы мне можно было сейчас
оказаться в Сомерсетшире, я бы смело подошел к дверям
старика Смита (Мэри жила у дедушки, отставного
лейтенанта флота), постучал бы дверным молотком и встретился
бы с моей любимой Мэри в гостиной, и не надо было бы
мне прятаться за стогами сена и подстерегать, когда она
выйдет из дому, или в полночь кидать камешки в ее окно».
Вскорости от моей тетушки пришел очень милостивый
ответ. Она еще не надумала, как распорядиться своими
тремя тысячами, гласило письмо, но она поразмыслит над
моим предложением и просит меня придержать акции
некоторое время, покуда она не придет к окончательному
решению.
А что тем временем предпринимал мистер Брафф?
Я узнал об атом много спустя, в году 1830-м , когда и он
сам, и Западно-Дидлсекское страховое общество исчезли
без следа.
— Кто в Слоипертоне юристы? — спросил он меня
однажды, словно бы мимоходом.
— Мистер Рэк, сэр,— ответил я.— Он адвокат тори, и
мистеры Ходж и Смизерс, либералы.
Этих последних я знал как нельзя лучше, ибо не стану
скрывать, что до того, как в наших местах поселилась
Мэри Смит, я был неравнодушен к мисс Ходж и к ее
пышным золотым локонам. Но приехала Мэри и, как
говорится, наставила ей нос.
— А каких политических взглядов придерживаетесь
вы?
— Мы-то, сэр, либералы.
Мне было немного совестно в этом признаться, ибо
мистер Брафф был завзятый тори. Однако же «Ходж и
Смизерс» фирма весьма почтенная. Я даже как-то доставил от
них пакет поверенным нашей фирмы Хиксону, Диксону,
Пэкстону и Джексону, которые ведут ее дела в Лондоне.
— Ах, вот как! — только и сказал мистер Брафф и,
переменив разговор, принялся восхищаться моей
бриллиантовой булавкой.
— Титмарш, дорогой,— сказал он,— у меня в Фулеме
есть некая молодая особа, на которую, поверьте, стоит
поглядеть, а она от папаши так про вас наслышана (а все
оттого, что я люблю вас, мой дорогой, и не хочу этого
скрывать), что ей не терпится вас увидеть. Почему бы вам не
530
приехать к нам на недельку, а вашу работу будет пока
исполнять Абеднего?
— Что вы, сэр! Вы так добры,— сказал я.
— Значит, решено, вы приезжаете к нам, и, надеюсь,
мой кларет придется вам по вкусу. Но послушайте, мой
дорогой, боюсь, вас франтом не назовешь... вы не довольно
придерживаетесь моды. Понимаете, что я хочу сказать?
— У меня есть еще синий сюртук с медными
пуговицами, сэр.
— Что?! Тот самый, у которого талия чуть не под
мышками, тот, в котором вы были на балу у миссис Брафф?
(Талия у моего сюртука ж в самом деле была высоковата,
ведь его шили в провинции, да к тому же два года назад.)
Нет, нет, это не годится. Вам нужно новое платье, сэр...
два новых сюртука и все прочее.
— Сэр! — возразил я,— Ежели говорить правду, я и
так нахожусь в весьма стесненных обстоятельствах и еще
очень не скоро смогу позволить себе новый сюртук.
— Эка выдумали! Пусть вас это не тревожит. Вот вам
десять фунтов, держите, а впрочем, нет, лучше вам
отправиться к моему портному. Я сам вас к нему свезу,
голубчик, а счет не ваша печаль!
И он и вправду отвез меня в своей великолепной
карете четверкой на Клиффорд-стрит, к мистеру фон Штиль-
цу, который снял с меня мерку и прислал мне на дом два
преотличнейших сюртука (один парадный, другой
попроще), бархатный жилет, жилет шелковый и три пары
панталон отменного покроя. Брафф велел мне купить
башмаки и лакированные туфли: да шелковых чулок для званых
вечеров; так что, когда мне пришла пора ехать в Фулем, я
ничуть не уступал любому аристократу, и Гас сказал, что
я, «ну ей-богу, завзятый великосветский щеголь».
А тем временем Ходжу и Смизерсу было послано
следующее письмо:
«Рэм-Элли Корнхцлл,
Лондон, июль, 1822.
Глубокоуважаемые господа!
(Эту часть письма, касающуюся личных обстоятельств,
относящихся к судебным делам Диксона против Хаггер-
стони и Снодграсса против Раббеджа и К°, я не получил
разрешения предавать гласности.)
531
Кроме того, берем на себя смелость приложить при сем
еще несколько проспектов Западно-Дидлсекского
страхового общества, какового общества мы имеем честь быть
поверенными в Лондоне. В прошлом годе мы обращались
к вам с предложением быть агентами общества по Слоп-
пертону и Соммерсету и надеялись, что вы порекомендуете
нам клиентов или акционеров.
Как вам известно, капитал Компании составляет пять
миллионов фунтов стерлингов, и мы вполне в состоянии
предложить нашим представителям комиссию более
высокую, чем обычно.
Мы будем счастливы вручить вам 6 % комиссионных за
акции на сумму 1000 фунтов стерлингов, и б7г за акции
на сумму свыше 1000 фунтов стерлингов, подлежащих
уплате немедленно после покупки акций.
Примите, уважаемые господа, уверения в совершенном
почтении моем и моих компаньонов.
Преданный вам Сэмюел Джексон».
Как я уже говорил, письмо это попало ко мне в руки
долго спустя. В 1822 же году, когда, надевши свое новое
платье, я отправился в Фулем погостить недельку в
«Ястребином Гнезде» — резиденции Джона Браффа, эсквайра,
члена парламента,— я о нем и ведать не ведал.
Глава VII
Еак Сэцюел Титмарш достиг
головокружительных высот
Обладай я красноречием Джорджа Робинса, я,
пожалуй, сумел бы достойным образом описать «Ястребиное
Гнездо»; довольно сказать, однако же, что это прекрасное
загородное имение: прекрасные газоны, полого
спускающиеся к реке, прекрасные боскеты и оранжереи, отличные
конюшни, службы, огороды, все высший сорт, rus in
urbe *, как выразился несколько лет назад сей
знаменитый аукционист, продавая это имение с молотка.
Я приехал в субботу за полчаса до обеда; важный
господин в черном провел меня в мою комнату; человек в
шоколадной куртке с золотым галуном и с гербом Браф-
Деревня в городе (лат.).
532
фов на пуговицах принес мне на серебряном подносе
серебряную мисочку для бритья и горячую воду; в шесть
часов был подан великолепный обед, и я имел честь
явиться вниз во фраке от фон Штильца, в новых шелковых
чулках и лакированных туфлях.
Когда я вошел, Брафф взял меня за руку и представил
своей супруге, дородной белокурой даме в голубом
атласном платье, потом дочери, высокой тощей темноглазой
девице лет восемнадцати с густыми нависшими бровями,
на вид весьма дурного нрава.
— Белинда, душенька,— обратился к ней папаша,—
этот молодой человек один из моих конторщиков, он был
у нас на бале.
— Ах, вот как! — отозвалась Белинда, надменно
вскинув голову.
— Но он не простой конторщик, мисс Белинда, так
что сделай милость, не вороти от него нос. Он приходится
племянником графине Бум и, надеюсь, скоро займет
весьма высокое положение и в нашем предприятии, и в
Сити.
Услыхав имя графини (а я уже раз десять говорил, что
вовсе не состою с нею в близком родстве), мисс Белинда
низко присела, поглядела на меня в упор и сказала, что
постарается, чтобы друг papa остался доволен
пребыванием в «Ястребином Гнезде».
— Сегодня у нас не слишком много monde *,—
продолжала мисс Брафф,— и мы en petit comite 2, но, я надеюсь,
до отъезда вы еще увидите у нас кое-какое societe 3,
которое сделает ваше sejour 4 весьма приятным.
По тому, как она пересыпала свою речь французскими
словечками, я сразу понял, что она девица весьма
светская.
— Правда, мила? — шепнул мне Брафф, который,
видимо, без меры гордился дочкой.— Правда, мила, а?..
Признавайтесь, хитрец? Разве в Сомерсетшире увидишь такое
воспитание?
— Ну что вы, сэр! — отвечал я не без лукавства,
думая между тем, что «некая особа» в тысячу раз красивей,
безыскусственней и куда лучше воспитана.
1 Народу (франц.).
2 По-домашнему, в тесном кругу (франц.).
3 Общество (франц.).
4 Пребывание (франц.).
533
— А как моя дорогая душенька провела день? —
спросил папаша.
— О papa! Мы с капитаном Физгигом немного
музицировали, капитан Физгиг на флейте, а я — j'ai pince 1
арфу. Ведь правда, капитан?
— Да, Брафф, ваша прелестная дочь a pince арфу,—
отвечал достопочтенный капитан Физгиг,— и touche 2
фортепьяно, и egratigne 3 гитару, и ecorche 4 парочку
романсов; и мы имели удовольствие совершить promenade a
Геаи — прогулялись по воде.
— Да что вы, капитан! — воскликнула миссис
Брафф.— Как это вы гуляли по воде?
— Перестаньте, maman, вы не знаете
по-французски! — насмешливо оборвала ее мисс Белинда.
, — Это печальное упущение, сударыня,— серьезно
произнес Физгиг,— я очень бы советовал вам и Браффу
взять несколько уроков: ведь вы бываете в высшем свете;
а то просто выучите десяток-другой французских
выражений и нет-нет да и вставляйте их в разговор. Надо
полагать, мистер как-вас-там, у вас в конторе вы обычно
изъясняетесь по-французски?
И он посмотрел на меня через лорнет.
— Мы изъясняемся по-английски, сэр,— отвечал я,—
ибо английский язык нам знаком лучше французского.
— Не у всех были ваши возможности, мисс Брафф,—
продолжал капитан.— Не всякий имел возможность
voyagez5, как мы с вами, не так ли? Mais que voulez-
vous6, мой дорогой сэр, вам надо держаться ваших
проклятых гроссбухов и прочего. А как будет по-французски
гроссбух, мисс Белинда?
— Ну что вы спрашиваете? Je n'en sais rien 7.
— А не худо бы выучить, мисс Брафф,— сказал ее
папаша.— Дочери английского коммерсанта не пристало
стыдиться отцовского занятия. Я-то же стыжусь сказать,
чем зарабатываю на хлеб, меня гордыня не обуяла. Кто
знает Джона Браффа, тем известно, что десять лет назад
он был простым конторщиком без гроша за душой, вот
1 Я щипала (франц.).
2 Трогала (франц.).
3 Царапала (франц.).
4 Калечила (франц.).
5 Путешествовать (франц.).
6 Но что поделаешь (франц.).
7 Я таких вещей не знаю (франц.).
534
как мой друг Титмарпг, а нынче у пего полмиллиона.
Кого в парламенте слушают с таким вниманием, как
Джона Браффа? А сыщется ли в целой Англии хоть один
герцог, чтоб задавал такие обеды, как Джон Брафф? И чтоб
давал за дочкой такое приданое, как Джон Брафф? Да-с,
дорогой сэр, ваш покорнейший слуга может купить
дюжину немецких герцогов со всеми потрохами! Но меня
гордыня не обуяла, нет, сэр. Вот она, моя дочь — взгляните,—
после моей смерти она будет хозяйкой всего моего
состояния; но разве я возгордился? Нисколько! Пусть на ней
женится тот, кто сумеет завоевать ее сердце, вот и весь
сказ. Вы ли это будете, мистер Физгиг, сын нэра, или вы,
Билл Тидд, герцог ли, чистильщик сапог —мне все равно!
Все равно, ясно?
— Ах-ах,— тяжко вздохнул тот, кого назвали Билл
Тидд, до крайности бледный молодой человек с черной
лентой вместо шейного платка и с открытым воротом,
точно у Байрона. Он стоял, опершись на каминную полку, и
томными зелеными глазищами пожирал мисс Брафф.
— Ах, Джон, дорогой мой Джон! — воскликнула
миссис Брафф и, схвативши руку супруга, поцеловала ее.—
Ты ангел, настоящий ангел!
— Не льсти мне, Изабелла, я обыкновенный человек,
простой честный лондонец, и нет во мне ни крупицы
гордыни, единственный предмет моей гордости — ты и
дорогая моя дочь —- две мои красавицы! Вот так мы и живем,
Титмарш, мой дорогой: живем счастливо и скромно, как
и подобает добрым христианам. Отпусти мою руку,
Изабелла. -
— Матап, как можно при гостях, это гадко! —
визгливым голосом укорила свою мамашу мисс Белинда; и
mamae. тихонько выпустила руку супруга, и из ее
объемистой груди вырвался громкий и тяжкий вздох. Я проник^
ся расположением к этой простодушной женщине и ещё
большим уважением к Браффу. Нет, не может быть
дурным человеком тот, кого так боготворит собственная
жена.
Вскорости объявили, что кушать подано, и мне выпала
честь вести к столу мисс Белинду, которая довольно
сердито, как мне показалось, поглядела на капитана Физги-
га, ибо сей джентльмен предложил руку миссис Брафф.
Он сел справа от миссис Брафф, а мисс поспешила занять
место рядом с ним, предоставив мне и мистеру Тидду
расположиться напротив них, по другую сторону стола.
535
За обедом сперва подали тхорбо и суп, а вслед за тем,
разумеется, индейку. И почему это ни один званый обед
не обходится без индейки? Впервые мне довелось
отведать настоящего черепахового супу; и я заметил, что
миссис Брафф, которая сама его разливала, все зеленые
звездочки жира положила супругу и несколько кусочков
птичьей грудинки тоже приберегла для него.
— Я человек простой,— говорил Джон Брафф,— и
пища у меня простая. Мне не по вкусу все эти ваши
разносолы, но для любителей полакомиться я держу
французского повара. Я, знаете ли, не себялюбец, я человек без
предрассудков; и ежели моей мисс по вкусу всякие там
бешемели и прочие фокусы, я не препятствую, пусть ее.
Отведайте вулеву, капитан.
За обедом было вволю шампанского и старой мадеры,
а для любителей подавали черное пиво в больших
серебряных кружках. Брафф особливо гордился своей
приверженностью к пиву; и, когда дамы удалились, сказал:
«Господа, пейте, сколько вашей душеньке угодно, Тиггинз
подаст, только скажите, у нас этого добра вдосталь»,—
потом расположился в креслах и уснул.
— Он всегда спит после обеда,— шепнул мне мистер
Тидд.
— Подайте-ка мне вон того вина с желтой печатью,
Тиггинз,— распорядился капитан.— В тот вчерашний
кларет что-то намешано, у меня от него дъявольская
изжога!
Должен признаться, желтая печать пришлась мне куда
больше по вкусу, нежели тетушкино Росолио.
В самом непродолжительном времени я уже знал, кто
таков мистер Тидд и о чем он мечтает.
— Не правда ли, она восхитительна? — обратился он
ко мне.
— Вы о ком, сэр? — спросил я.
— О мисс Белинде, о ком же еще! — воскликнул
Тидд.— В целом мире не найдете других таких глаз, такой
воздушной фигурки!
— Ей бы побольше жирку, мистер Тидд,— сказал
капитан,— и поменьше бровей. Не к лицу девице такие
грозные брови. Qu'en dites-vous1, мистер Титмарш, как сказала
бы мисс Белинда?
— Кларет, по-моему, отменный, сэр,— отвечал я.
Что вы скажете (франц.).
536
— Э, да вы, оказывается, молодчина! — сказал
капитан.— Volto sciolto *, а? Вы слишком уважаете хозяина
дома, который изволит так сладко почивать?
— Да, сэр, я высоко чту его как первого человека в
лондонском Сити и нашего директора-распорядителя.
— Я тоже,— подхватил Тидд,— и ровно через две
недели, в день моего совершеннолетия, докажу делом свое
к нему доверие.
— Каким же это образом? — осведомился я.
— Видите ли, сэр, надобно вам сказать, что
четырнадцатого июля я стану... э-э... обладателем солидного
капитала, который мой батюшка нажил своими занятиями.
— Да скажите прямо, что он был портной, Тидд.
— Да, он был портной, сэр, но что же из этого? А я
учился в университете, сэр, и чувства у меня
возвышенные; да, столь же возвышенные, как у иных отпрысков
отжившей свой век аристократии, а быть может, и более
того.
— Не будьте так суровы, Тидд! — сказал капитан,
осушая десятый стакан кларета.
— Видите ли, мистер Титмарш, достигнув
совершеннолетия, я войду во владение солидным капиталом; и мистер
Брафф был столь добр, что предложил мне тысячу двести
фунтов в год с моих двадцати тысяч, так что я пообещал
поместить их в его предприятие.
— В наше Западно-Дидлсекское страховое общество,
сэр? — спросил я.
— Нет, в другую компанию, мистер Брафф там
директором, и она ничуть не хуже. Мистер Брафф старинный
друг нашего семейства, сэр, и очень ко мне расположен, он
говорит, что при моих талантах я непременно должен
войти в парламент, а тогда... тогда, видите ли,
распорядившись своим наследством, я смогу подумать и о
наследниках!
— А он малый не промах,—сказал капитан.— Вот уж
не думал я, когда тузил вас в школьные годы, что
наставляю синяки будущему государственному мужу!
— Говорите-говорите, молодые люди,— сказал Брафф,
просыпаясь.— Я сплю вполглаза и все слышу. Да-да,
Тидд, заседать вам в парламенте, милейший, не будь я
Джон Брафф! И вы получите со своего капитала шесть
процентов годовых, вот провалиться мне на этом месте!
1 Ловко увильнули (итал.).
537
Но вот насчет моей дочери — это уж вы у ней самой
справляйтесь, не у меня. Вы ли ее заполучите, капитан ли,
Титмарш ли — это уж кто как сумеет. Мне от зятя одно
надобно: был бы человек благородный, возвышенного
образа мыслей, а вы все таковы.
Тидд выслушал это с самым серьезным видом, но, едва
хозяин снова погрузился в сон, лукаво показал на свои
брови и, глядя на капитана, хитро покачал головой.
— Эко! — сказал капитан.— Я говорю, что думаю.
Если угодно, можете передать мои слова мисс Брафф.
На этом разговор оборвался, и нас пригласили пить
кофе, после чего капитан распевал с мисс Брафф
романсы, Тидд молча глядел на нее, я рассматривал гравюры, а
миссис Брафф вязала чулки для бедных. Капитан
откровенно насмехался над мисс Брафф, над ее жеманными
речами и ужимками. Но, несмотря на его грубое,
бесцеремонное обхождение, она, мне кажется, очень к нему
благоволила и на удивленье кротко сносила его дерзости.
В полночь капитан Фнзгиг отбыл в казармы в Найтс-
бридж, а мы с Тиддом разошлись по своим комнатам.
Назавтра было воскресенье, в восемь часов утра нас разбудил
настойчивый звон колокола, а в девять вш все сошлись в
столовой, и мистер Брафф прочитал вслух молитвы, главу
из Библии и еще произнес проповедь, обращенную ко
всем нам — гостям, чадам и домочадцам; не слушал ее
один только француз-повар, мсье Трепетон,— со своего
места за столом я видел, как он бродит по саду в белом
ночном колпаке и покуривает сигару.
По будням мистер Брафф тоже собирал своих
домашних на молитву, только происходило это в восемь часов
утра, минута в минуту; но хотя, как я убедился
впоследствии времени, был он отъявленный лицемер, я отнюдь
не намерен глумиться над этим домашним обрядом или
утверждать, будто мистер Брафф оттого был лицемерен,
что читал своему семейству молитвы и проповеди: на
свете немало есть людей и дурных и хороших, вовсе не
приверженных этому обычаю,— но я ничуть не сомневаюсь,
что хорошие люди, соблюдай они этот обряд, стали бы от
этого еще лучше, и не считаю себя вправе судить о том,
как это сказалось бы на людях дурных, а посему иные
выражения его христианских чувств обхожу молчанием;
довольно будет упомянуть, что в речах своих он всечасно
прибегал к Священному писанию, по воскресеньям, ежели
только не принимал гостей, трижды ходил в церковь; и
538
ежели с нами не пускался в рассуждения о вере, то
отнюдь не потому, что ему нечего было сказать: в этом я
убедился однажды, когда на обед были приглашены
квакеры и диссиденты, и он толковал о сем предмете с не
меньшей важностью и знанием дела, чем любой из этих
священников. Тидда в тот раз за столом не было, ибо
ничто не могло заставить его расстаться с байроновской
черной лентой и открытым воротом,— а потому Брафф
послал его в кабриолете в цирк Астли.
— И вы, дорогой мой Титмарш, смотрите,— сказал он
мне,— не вздумайте надевать бриллиантовую булавку;
нашим нынешним гостям все эти безделушки не по вкусу;
сам-то я не враг безобидных украшений, однако же не
намерен оскорблять чувства тех, кто придерживается
более строгих правил. Вы убедитесь, что и супруга моя, и
мисс Брафф в подобных делах не выходят из моей воли.
Так оно и было: обе они появились в черных платьях
и в палантинах, тогда как обыкновенно платье у мисс
Брафф только что не падало с плеч.
Капитан Физгиг наезжал постоянно, и уж его-то мисс
Брафф всегда принимала с радостью. Однажды, совершая
прогулку в одиночестве, я повстречался е ним у реки, и
мы долго беседовали.
— Насколько я мог заметить, мистер Титмарш,—
сказал он,— вы малый честный и прямодушный, и я хотел бы
кое-что у вас узнать. Первым долгом, не расскажете ли
вы мне об этом вашем Страховом обществе? Вот вам слово
чести, что дальше это не пойдет. Вы принадлежите к
деловому миру и разбираетесь в положении вещей. Как вы
полагаете, ваше предприятие надежно?
— Скажу вам, сэр, честно и откровенно: полагаю, что
так. Оно, правда, учреждено тому всего четыре года, но
когда оно было основано, мистер Брафф был уже широко
известен в деловых кругах, и у него были весьма
обширные связи. Каждый наш конторщик, так сказать,
заплатил за свое место: либо он сам, либо его родные приобрели
акции нашего предприятия. Меня, к примеру, приняли
через то, что матушка моя, женщина без всякого достатка,
вложила в это дело скромное наследство, нами
полученное, и тем обеспечила годовую ренту себе и службу мне.
Шаг этот мы обсуждали всей семьей с нашими
поверенными — мистерами Ходшем и Смизероом, людьми в
наших краях известными, и согласились на том, что
матушке невозможно было поместить эти деньги с большей вы-
539
годою для всего нашего семейства. Капитал одного только
Браффа составляет полмиллиона, да имя его само по
себе немалое богатство. Более того: третьего дня я писал
к своей тетушке, она располагает свободными деньгами и
справлялась у меня, как бы ими получше распорядиться, и
я ей посоветовал купить наши акции. Могу ли я дать вам
лучшее доказательство того, сколь твердо я уверен в
нашей платежеспособности?
— А Брафф никак не старался утвердить вас в этом
мнении?
— Да, конечно, он со мной беседовал. Но он со всей
откровенностью разъяснил мне свои побуждения, и ни от
кого из нас их не скрывает. Он говорит: «Джентльмены,
цель моя всячески расширять наше дело. Я намерен
сокрушить все прочие лондонские страховые общества. Для
акционеров наши условия по сравнению с прочими
обществами куда как выгодны. Мы в силах выдержать этот
риск, и таким-то манером мы достигнем процветания. Но
в придачу и каждый из нас должен потрудиться. Все наши
служащие — держатели наших акций, все без изъятия,
должны, не щадя сил, привлекать к нам новых
клиентов, и как бы ни был скромен их вклад, не упускайте
его, в этом вся соль». В согласии с этим правилом, наш
директор уговаривает всех своих друзей и слуг приобретать
акции нашего страхового общества; даже его здешний
привратник — и тот наш акционер; и так он
умудряется привлечь к нам всякого, с кем ни столкнется. Вот
меня, к примеру, он только что назначил на лучшую
должность, а ведь мой черед должен бы прийти еще не скоро.
Пригласил меня сюда и принимает по-царски. А все
почему? Потому что у моей тетушки есть три тысячи
фунтов, и мистер Брафф желает, чтобы она поместила их
к нам.
— А ведь это не очень красиво выглядит, мистер Тит-
марш?
— Но отчего же, сэр? Он ведь нисколько не скрывает
своих намерений. Когда дело с тетушкиными деньгами
так или иначе разрешится, он, надобно полагать, и думать
про меня забудет. Но сейчас у него во мне нужда.
Вакансия эта случилась как раз в ту пору, как я ему
понадобился; через меня он надеется повлиять на мою родню. Он
так прямо и сказал, когда вез меня сюда. «Вы, говорит,
человек светский, Титмарш, и сами понимаете, что я
повысил вас в должности не оттого, что вы честный малый
540
и почерк у вас хороший. Ежели бы я мог дать вам взятку
поменьше, я был бы только рад, да выбирать мне тогда
было не из чего, вот я и дал вам, что случилось под
рукой».
— Оно, конечно, так. Но отчего бы Браффу так
стараться ради такой малости, ради трех тысяч фунтов?
— Ежели бы у тетушки было десять тысяч, сэр, он
старался бы ничуть не больше. Вы не знаете, что такое
лондонское Сити, не знаете, как наши воротилы готовы в
лепешку расшибиться, только бы залучить побольше
клиентов. Ежели это фирме на пользу, сэр, мистер Брафф
не погнушается и трубочистом, будет его обхаживать да
улещивать. Взять хотя бы беднягу Тидда и его двадцать
тысяч фунтов. Наш директор и его завлек тем же
манером, он всякий грош рад прибрать к рукам.
— Ну, а вдруг да он сбежит со всем этим
капиталом?
—- Это мистер-то Брафф, сэр, из фирмы «Брафф и
Хофф», сэр? Ну, а вдруг да Английский банк сбежит?
А вот и сторожка привратника. Давайте-ка спросим
Гейтса, он ведь тоже жертва мистера Браффа.
И мы вошли в сторожку и поговорили со стариком
Гейтсом.
— Вот какое дело, мистер Гейтс,—- начал я с
подходцем,— стало быть, у нас в Западно-Дидлсекской
компании вы один из моих хозяев?
— И впрямь так,— ухмыляясь, отвечал старик Гейтс.
(Он уже отслужил свое в лакеях и на старости лет
обзавелся многочисленным семейством.)
— Дозвольте спросить, мистер Гейтс, какое же вы
получаете жалованье, что могли столько отложить и
приобрести акции нашей Компании?
Гейтс назвал сумму; а когда мы осведомились, всякий
ли раз ему платят вовремя, поклялся, что добрей его
хозяина нет человека на свете: пристроил в услужение двух
его дочек, двух сыновей определил в школу для
бедных, одного отдал учиться ремеслу; и старик еще долго
повествовал о благодеяниях, которыми осыпало его
хозяйское семейство. Леди Брафф одевает половину его детей,
хозяин пожаловал им зимой одеяла и теплое платье и
круглый год кормит их супом и мясом. С тех пор, как мир
стоит, не бывало таких щедрых господ, верьте слову.
— Ну как, сэр,— спросил я капитана,— вы
удовлетворены? Мистер Брафф дает этим людям во сто крат больше,
541
нежели получает, и, однако же, добивается, чтобы мистер
Гейтс приобрел акции нашей Компании.
— Вы честный малый, мистер Титмарш, и, признаюсь,
доводы ваши убедительны. Теперь скажите мне, что вам
известно об мисс Брафф и ее приданом?
— Брафф оставит ей все до последнего пенни... по
крайности, так он говорит.
Но от капитана, видно, не укрылось выражение моего
лица, ибо он рассмеялся и сказал:
— Сдается мне, милый друг, вы находите, что за нее
и этого мало? Что ж, на мой взгляд, вы недалеки от
истины.
— Да простится мне моя дерзость, капитан Физгиг,
отчего же вы тогда ходите за нею как тень?
— У меня двадцать тысяч долгу, мистер Титмарш,—
отвечал капитан, после чего отправился прямо в дом и
сделал мисс Брафф предложение.
Я так полагаю, что этот дясентльмен поступил
жестоко и безнравственно, ведь в семейство Браффа его ввел
мистер Тидд, его однокашник, а капитан совершенно
вытеснил его из сердца богатой наследницы. Услыхав, что
дочь приняла предложение капитана, Брафф
разбушевался и даже, как сказал мне позднее сам капитан,
разбранил дочку, не больно стесняясь в выражениях; и наконец,
объяснившись с капитаном, вынудил его дать слово, что
тот несколько месяцев будет держать помолвку в секрете.
В наперсники капитан взял, по его собственным словам,
лишь меня да офицеров своего полка; но это уже после
того, как Тидд отдал нашему благодетелю свои двадцать
тысяч, что он сделал, едва достиг совершеннолетия. В тот
же самый день он просил руки мисс Брафф и, сами
понимаете, получил отказ.
Между тем слух о помолвке капитана разошелся
довольно широко, и вся его знатная родня побывала у Браф-
фов с визитами — герцог Донкастерский, граф Синкбарз,
граф Крэбс и другие; достопочтенный Генри Рингвуд стал
акционером нашей Компании, и граф Крэбс сказал, что
он тоже не прочь. Наши акции сильно подскочили; наш
директор, его супруга и дочь были представлены ко двору;
и славная Западно-Дидлсекская компания, того гляди,
должна была стать первейшим страховым обществом во
всем королевстве.
Вскоре по возращении из Фулема я получил письмо от
моей дражайшей тетушки, из коего узнал, что она посо-
542
вещалась со своими поверенными Ходжем и Смизерсом, и
они настоятельно рекомендовали ей послушаться моего
совета. И она приобрела акции нашей Компании, да
притом на мое имя, и не поскупилась на похвалы моей
честности и талантам, о которых мистер Брафф отозвался ей
весьхма лестно. При сем тетушка сообщила, что после ее
смерти акции перейдут в полную мою собственность. Это,
как бы сами понимаете, придало мне немало весу в Запад-
но-Дидлсекском обществе. На следующем годовом
собрании пайщиков я присутствовал в качестве акционера и
имел удовольствие слушать превосходнейшую речь
мистера Браффа, объявившего дивиденд в шесть процентов,
каковой мы все тут же и получили.
— Ах вы, везучий мошенник! — сказал мне Брафф.—
Знаете, отчего я повысил вас в должности?
— А как же, сэр.— ответил я.— Ради тетушкиных
денег.
— Ничуть не бывало. Неужто, по-вашему, я нуждаюсь
в этих жалких трех тысячах? Мне сказали, что вы
племянник леди Бум, а леди Бум приходится бабушкой леди
Джейн Престон, а мистер Престон для нашей Компании
человек неоценимый. Я знал, что они послали вам дичь и
еще всякого добра; а на моем приеме я увидел, что леди
Джейн пожимает вам руку и беседует с вами весьма
любезно, ну я и решил, что все россказни Абеднего — чистая
правда. Вот почему вы получили это место, так и знайте,
а вовсе не ради этих несчастных трех тысяч. Так вот, сэр,
две недели спустя после вашего отъезда из Фулема я
встретил в парламенте мистера Престона и, думая сделать
ему приятное, сообщил, что повысил его родича в
должности. «Ах негодяй, ах мошенник! — отвечал мистер
Престон.— Это он-то мой родич! Вы, видно, приняли за
чистую монету россказни старухи Бум,— так ведь она на
этом помешана, приятель. Кого ей ни представишь, она
мигом сыщет не родство, так свойство, ну и с этим
невежей Титмаршем тоже, конечно, случая не упустила».
Что ж, посмеялся я в ответ, невежа Титмарш на этом
получил тепленькое местечко, и дела уже не поправить.
Так что, сами видите, вы обязаны своим местом не
тетушкиным деньгам, а...
— Тетушкиной бриллиантовой булавке!
— Везет негодяю! — сказал Брафф, ткнув меня в бок,
и пошел своей дорогой.
И, право же, я и сам полагал, что мне повезло.
543
Глава VIII
Повествует о счастливейшем дне
в жизни Сэмюела Титмарша
Уж не знаю, отчего так случилось, но через полгода
~&
после описанных событий наш статистик мистер Раунд
хэнд, который прежде так восхищался и мистером Браф
фом, и Западно-Дидлсекским страховым обществом,
внезапно с ними обоими рассорился, забрал свои деньги,
весьма выгодно продал свои акции на пять тысяч фунтов и
навсегда с нами распрощался, всячески понося при этом и
самое Компанию, и ее директора-распорядителя.
Секретарем и статистиком стал теперь мистер Хаймор,
тистер Абеднего сделался первым конторщиком, а ваш
IV. .
покорный слуга — вторым и получил оклад двести
пятьдесят фунтов в год. Сколь неосновательны были клеветы
мистера Раундхэнда, выяснилось со всей очевидностью на
собрании акционеров в январе 1823 года, когда наш
директор в блистательнейшей речи объявил полугодовой
дивиденд четыре процента из расчета восьми процентов
годовых, и я отослал тетушке сто двадцать фунтов
стерлингов — проценты с ее капитала, помещенного на мое
имя.
Моя достойная тетушка, миссис Хоггарти, безмерно
этим восхищенная, отослала мне обратно десять фунтов
на карманные расходы и осведомилась, не следует ли
ей продать недвижимость в Слоппертоне и Скуоштейле
и все деньги поместить в наше замечательное предприя-
К кому же тут было мне обратиться за советом, как не
к мистеру Браффу. Мистер Брафф отвечал мне, что акции
можно приобрести нынче лишь по цене выше номиналь-
С*
ной; а когда я напомнил, что в продаже имеется на пять
О
тысяч акции по номиналу, он сказал: что ж, раз так, он
о «_»
готов продать на пять тысяч своих акции по этой цене,
ибо западно-дидлсекских у него избыток, а для других его
предприятий ему потребны наличные. К концу нашей
беседы, о сути которой я обещал уведомить миссис
Хоггарти, хозяин расщедрился и заявил, что решил учредить
должность личного секретаря директора-распорядителя и
что место это он предоставляет мне с дополнительным
окладом в пятьдесят фунтов.
У меня и без того было доходу двести пятьдесят
фунтов годовых, да v мисс Смит семьдесят. А как v меня поло-
544
жено было поступить, едва у нас будет триста фунтов в
год?
Разумеется, Гас, а от него и все мои сослуживцы
знали о моей помолвке с Мэри Смит. Папаша ее был офицер
военного флота и притом весьма заслуженный; и хотя
Мэри принесла бы мне, как я уже говорил, всего
семьдесят фунтов в год, а я при нынешнем моем положении
в фирме и в лондонском Сити вполне мог, по общему
мнению, сыскать себе невесту и побогаче, однако же все мои
друзья согласились на том, что семья эта почтенная, а сам
я был рад-радешенек соединиться с милочкой Мэри, да и
кто бы не радовался на моем месте. Уж конечно, я не
променял бы ее на дочку самого лорд-мэра, будь у той даже
сто тысяч приданого.
Мистер Брафф, разумеется, знал о предстоящей
свадьбе, как знал решительно все обо всех своих конторщиках;
Абеднего, кажется, докладывал ему и про то, чем мы
каждый день обедаем. Поистине, о наших делах он был
осведомлен на диво.
Он спросил меня, как помещены деньги Мэри. Они
были вложены в трехпроцентные консоли — всего на
сумму две тысячи триста тридцать три фунта шесть
шиллингов и восемь пенсов.
— Не забывайте, голубчик,— сказал он,— будущая
миссис Титмарш может получать со своих денег по
меньшей мере семь процентов, и не менее надежных, чем в
Английском банке; ведь Компания, во главе которой стоит
Джон Брафф, куда лучше всех прочих компаний в Англии,
не так ли?
И я, право же, думал, что он недалек от истины, и
обещал еще до женитьбы потолковать с опекунами Мэри.
Поначалу лейтенант Смит, дедушка Мэри, был очень
против нашего с нею союза. (Должен признаться, что в день,
как он застал меня с нею наедине, когда я целовал,
помнится, кончики ее милых пальчиков, он сгреб меня за
ворот и выставил вон из дому.) Но Сэм Титмарш с
жалованьем в двести пятьдесят фунтов в год, да еще с
обещанными пятьюдесятью фунтами за новую должность, правая
рука самого Джона Браффа — это совсем не то, что бедный
конторщик Сэм, сын нищей вдовы священника; так что
старый джентльмен отписал мне весьма благожелательно,
попросил купить для него в магазине Романиса шесть пар
чулок из овечьей шерсти да четыре вязаных жилета той
18 У. Теккерей.т , 1
545
же шерсти и принял их от меня в подарок, когда в июне,
счастливом июне 1823 года, я приехал за своей
драгоценной Мэри.
Мистер Брафф с обычной своею добротой был
по-прежнему озабочен делами моей тетушки, которая все еще не
продала, хотя и обещалась, недвижимость в Слоппертоне
и Скуоштейле; и, по его словам, некоей особе, в которой
он принимает такое участие, как, впрочем, и во всех
родных его дорогого юного друга, просто грешно получать со
своих денег жалких три процента, когда в другом месте
она могла бы иметь все восемь. Теперь он не называл меня
иначе, как Сэм, ставил меня в пример прочим служащим
(о чем они мне неукоснительно сообщали), повторял, что
в Фулеме мне всегда рады, и время от времени отвозил
меня туда. Когда я там бывал, народу собиралось немного,
и Мак-Виртер говаривал, что меня туда приглашают лишь
в те дни, когда ждут знакомых самого простого покроя.
Но сам я не знатного роду и не охоч был до общества
знатных господ, а если уж говорить начистоту, то и до
приглашений к Браффу. Мисс Белинда была мне вовсе не
по вкусу. После ее помолвки с капитаном Физгигом и
после того, как мистер Тидд поместил свои двадцать тысяч
фунтов в Компанию Браффа, а знатные родственники Физ-
гига стали акционерами других его предприятий, Брафф
высказал подозрение, что капитан Физгиг действовал из
корыстных видов, и тут же испытал его, поставивши такое
условие: либо капитан возьмет за себя мисс Брафф без
гроша приданого, либо вовсе ее не получит. После чего
капитан Физгиг исхлопотал себе назначение в колонии, а
нрав мисс Брафф вовсе испортился. Но я не мог
отделаться от мысли, что она избегла весьма незавидной участи, и
жалел беднягу Тидда, который вновь воротился к ногам
мисс Белинды, влюбленный пуще прежнего, и вновь был
ею безжалостно отвергнут. А тут и ее папаша без
обиняков сказал Тидду, что его визиты Белииде неприятны и
что, хотя сам он будет по-прежнему любить и ценить
Тидда, он просит его больше не бывать в «Ястребином
Гнезде». Несчастный! Выкинуть на ветер двадцать тысяч
фунтов! Ведь что ему были шесть процентов в сравнении с
теми же шестью процентами вкупе с рукою мисс Белинды
Брафф?
Ну-с, мистер Брафф так сочувствовал «влюбленному
пастушку», как он меня прозвал, и до того пекся о моем
благополучии, что настоял на скорейшем моем отъезде
546
в Сомерсетшир и отпустил меня на два месяца со службы,
и я отправился с легким сердцем, прихватив две
новеньких с иголочки пары платья от фон Штильца (я заказал
их загодя в предвкушении некоего события), а еще у меня
в дорожном чемодане лежали шерстяные чулки и жилеты
для лейтенанта Смита, а также пачка проспектов нашего
Страхового общества и два письма от Джона Браффа,
эсквайра: одно — к моей матушке, нашей достойной
клиентке, другое — к миссис Хоггарти, нашей глубокочтимой
пайщице. По словам мистера Браффа* на такого сына, как я,
не нарадовался бы самый взыскательный отец, и он,
мистер Брафф, любит меня, как родного, а потому
настоятельно советует почтеннейшей миссис Хоггарти не
откладывать в долгий ящик продажу ее скромной земельной
собственности, ибо цены на землю нынче высоки, но
непременно упадут, тогда как акции Западно-Дидлсекского
стоят сравнительно низко, но в ближайшие год или два
всенепременно поднимутся вдвое, втрое, вчетверо против
их теперешней стоимости.
Таковы были мои приготовления, и так расстался я
с моим дорогим Гасом. Когда мы прощались во дворе
кофейни «Затычка в Бочке» на Флит-стрит, я чувствовал,
что никогда уже не ворочусь на Солсбери-сквер, а потому
поднес семейству нашей квартирной хозяйки небольшой
подарок. А она сказала, что из всех джентльменов,
находивших приют в ее доме, я самый добропорядочный; но ее
похвала недорого стоила,— ведь Белл-лейн входит в
границы Флитской тюрьмы, и квартиранты ее были по
большей части тамошними узниками. Что касаемо Гаса,
бедняга, расставаясь со мною, плакал й рыдал и даже не мог
проглотить ни кусочка сдобной булочки и жареной
ветчины, которыми я его угощал в кофейне, и, когда «Верный
Тори» тронулся, он изо всей силы махал мне платком и
шляпой, стоя под аркою напротив конторы; мне даже
показалось, что колеса нашей кареты проехались ему по
ногам, ибо, проезжая под аркой, я услыхал его отчаянный
вопль.
Да, теперь, когда я гордо восседал на козлах рядом
с кучером Джимом Уордом, меня обуревали совсем иные
чувства, нежели те, какие испытывал я, когда в прошлый
раз уезжал из дому, расставшись с душенькой Мэри ш
увозя в Лондон свой бриллиант!
Прибыв в Грампли (от нашей деревни это всего в трех
милях, и дилижанс обыкновенно останавливается здесь,
18*
547
чтобы можно было опрокинуть кружку эля в «Гербе Попл-
тонов»), мы увидели у гостиницы такое стечение народу,
словно ждали нашего члена парламента, самого мистера
Поплтона. Тут был и хозяин гостиницы, и все жители
Грампли. Тут же оказался Том Уилер, форейтор из
почтовой конторы, которую держала в нашем городке миссис
Ринсер, он погонял старых почтовых гнедых, а они —
господи боже мой! — они тащили желтую колымагу моей
тетушки, в которой она выезжала не чаще трех раз в год
и в которой восседала сейчас собственной персоной в
шляпке с пером, накинув на плечи великолепную кашемировую
шаль. Она махала из окна кареты белоснежным носовым
платочком, а Том Уилер кричал «ура», и ему вторила
целая орава маленьких негодников, которые рады покричать
по всякому случаю. Как, однако же, переменился ко мне
Том Уилер! Помнится, всего несколько лет назад, когда я
прицепился как-то сзади к почтовой карете, чтобы
немножко прокатиться, он, перегнувшись с козел, огрел
меня кнутом.
За каретой тетушки катил фаэтон отставного моряка
лейтенанта Смита,— он сам правил своей толстой старой
лошадкой, а рядом восседала его супруга. Я глянул на
переднее сиденье фаэтона и опечалился, не увидев там
некоей особы. Но — о, глупец! — вот же она, в желтой карете
моей тетушки, раскраснелась как маков цвет, и сразу
видно — счастлива! Ах! Так счастлива и так хороша. На ней
было белое платье и небесно-голубой с желтым шарф —
тетушка уверяла, что это цвета Хоггарти, хотя, какое
касательство имели Хоггарти к небесно-голубому и желтому,
я не знаю по сей день.
А затем оглушительно затрубил почтовый рожок,
четверка резво взяла с места, и дилижанс укатил; мальчишки
вновь заорали во все горло, меня втиснули между миссис
Хоггарти и Мэри; Том Уилер вытянул гнедых кнутом;
лейтенант Смит (он сердечно пожал мне руку, и его
громадный пес на сей раз не проявил ни малейшего желания
меня цапнуть) принялся так нахлестывать свою лошадку,
что вскорости на ее толстых боках выступила пена; и во
главе такой-то, смею сказать, невиданной процессии я
торжественно въехал в нашу деревню.
Моя дорогая матушка и сестрицы,— благослови их
бог! — все девять в своих нанковых жакетках (у меня в
чемодане для каждой был припасен подарочек) не могли по-
548
зволить себе нанять экипаж и ждали у дороги при въезде
в деревню, изо всех сил махая руками и носовыми
платочками; и хотя тетушка едва их заметила и лишь
величественно кивнула, что вполне простительно владелице столь
солидного состояния, зато Мэри Смит старалась, пожалуй,
еще более моего и махала ручками не меньше, чем они
вдевятером. Ах, как плакала, как благословляла меня
дорогая моя матушка, когда я подошел к ней, и
называла меня своим утешением и любезным сыночком, и
глядела на меня, будто я являл собою образец ума и
добродетели; а меж тем я был просто счастливчик, который с
помощью добрых людей вдруг заделался чуть ли не
богачом.
Ехал я не к себе домой — это было условлено заранее,
ибо, хотя матушку с миссис Хоггарти и не связывала
особливая дружба, матушка сказала, что для моей же пользы
мне лучше остановиться у тетушки, и сама отказалась
от удовольствия лицезреть меня ежечасно, и хотя дом ее
был куда скромней тетушкиного, я, нечего и говорить,
поселился бы в нем куда охотнее, нежели в более
роскошном жилище миссис Хоггарти, не говоря уж об
ужасном Росолио, которое мне предстояло теперь пить
галлонами.
Итак, мы подкатили к дому миссис Хоггарти; по
случаю моего приезда она заказала великолепный обед и
наняла на вечер лишнего лакея, а выйдя из кареты, дала
Тому Уилеру шесть пенсов, сказавши, что это ему на чай,
а за лошадей она расплатится с миссис Ринсер после.
Выслушав эти слова, Том в сердцах швырнул монету наземь
и яростно выругался, за что тетушка по справедливости
назвала его грубияном.
Тетушка воспылала ко мне такой нежностью, что с
большой неохотой отпускала меня от себя. Что ни утро,
мы сидели с нею над счетами и час за часом рассуждали
о том, что сейчас бы самое время продать ферму в Слоп-
пертоне, но никаких решительных шагов все не делали,
потому что Ходж и Смизерс никак не могли найти
покупателя за цену, которую назначила тетушка. И сверх
всего она поклялась, что на смертном одре откажет мне все
до последнего шиллинга.
Ходж и Смизерс тоже задали обед в мою честь и
обходились со мной весьма уважительно, как, впрочем, все и
каждый у нас в деревне. Кому не по средствам было зада-
549
вать обеды, те приглашали нас на чай, и все поднимали
бокалы за здоровье жениха и невесты; не раз в конце
обеда или ужина мою Мэри бросало в краску от намеков на
близкую перемену в ее жизни.
Счастливый день был наконец назначен, и двадцать
четвертого июля тысяча восемьсот двадцать третьего года
я стал счастливейшим супругом прелестнейшей девушки
Сомерсетшира. Мы отправились под венец из дому моей
матушки, которая уж в этом-то отказать себе не пожелала,
и мои девять сестриц были подружками невесты. Да! А из
Лондона приехал Гас Хоскинс, нарочно чтобы быть
шафером, и поселился в моей прежней комнате в доме
матушки, и гостил у нее неделю, и, как мне стало после известно,
бросал влюбленные взгляды на мисс Уинни Титмарш, мою
четвертую сестрицу.
По случаю свадьбы тетушка моя проявила
чрезвычайную щедрость. Еще за несколько недель до этого события
она велела мне заказать для Мэри в Лондоне у знаменитой
мадам Манталини три великолепных платья, а у Хоуэлла
и Джеймса кое-какие изящные безделушки и вышитые
платочки. Все это было прислано мне, и я от себя должен
был поднести это невесте; но миссис Хоггарти дала понять,
что мне нет нужды беспокоиться об оплате счета, и я
нашел это весьма великодушным с ее стороны. Сверх того
она одолжила нам для свадебного путешествия свою
колымагу и собственноручно сшила для своей любезной
племянницы, миссис Сэмюел Титмарш, ридикюль красного
атласа. В ридикюль вложен был мешочек с набором иголок
и прочего, что потребно для шитья, ибо тетушка
надеялась, что миссис Титмарш не станет пренебрегать
рукоделием; и кошелечек с несколькими серебряными пенни;
и еще старинная монетка на счастье. «Покуда ты будешь
хранить эти мои подарки, милочка, ты не узнаешь
нужды,— сказала миссис Хоггарти.— И я молюсь, я горячо
молюсь, чтобы ты навсегда их сохранила». В карете, в
кармашке на боковой стенке нас ожидал пакетик печений и
бутылка Росолио. Мы рассмеялись и передали бутылку
Тому Уилеру, но он, кажется, тоже не оценил ее по
достоинству.
Надобно ли упоминать, что под венцом я стоял во
фраке от мистера фон Штильца (это было уже четвертое его
изделие за год — господи помилуй!) и что на груди у меня
сверкал знаменитый бриллиант Хоггарти.
550
Глава IX
Возвращает Сэма с супругой, тетушкой
и бриллиантом в Лондон
Весь медовый месяц мы тешились, строили планы
своего лондонского житья-бытья и выстроили для себя сущий
рай! Что ж, ведь нам обоим вместе было всего сорок лет,
притом, на мой взгляд, постройка воздушных вамков
никому не приносит вреда, напротив того, нет занятия
приятнее.
Сказать по правде, перед отъездом моим из Лондона я
положил подыскать жилище, которое нам было бы по
средствам; и после службы мы с Гасом часами бродили по
городу, пока наконец не присмотрели в Кемден-Тауне пре-
уютный домик, где был садик, в котором оо временем
сможет играть детвора; каретный сарай, в котором со
временем можно держать двуколку, ежели мы ее заведем,— а
почему бы и не завести через несколько лет? — хороший
здоровый воздух, и до биржи не так чтобы уж больно
далеко; и все это за тридцать фунтов в год. Я описал это
местечко Мэри так же восторженно, как Санчо описал Ли-
сиаду Дон-Кихоту, и моя милая женушка с радостью
предвкушала, как станет вести там хозяйство, и поклялась, что
сама будет стряпать наивкуснейпше блюда (особенно
пудинг с вареньем, до которого, признаюсь, я большой
охотник), и пообещала Гасу, что всякое воскресенье он будет
обедать у нас в Сиреневой Беседке, пусть только не курит
эти свои ужасные сигары. Гас же поклялся, что приищет
себе комнату где-нибудь поблизости, ибо он просто не в
силах воротиться на Белл-лейн, где мы так хорошо жили
с ним вдвоем; а добросердечная Мэри сказала, что
пригласит погостить у нас мою сестру Уинни. При этих словах
Хоскинс весь залился краской и сказал: «Вон что
выдумали!»
Но когда мы воротились из недолгого свадебного
путешествия, все наши надежды на счастливое житье в
Сиреневой Беседке рассыпались в прах, так как миссис Хоггар-
ти объявила нам, что ей прискучило жить в провинции и
она положила ехать в Лондон вместе с милыми
племянником и племянницей, вести их хозяйство и познакомить
их со своими столичными друзьями.
Что нам было делать? Мы бы с радостью послали ее...
на воды в Бат, только бы не в Лондон. Но выбирать нам
не приходилось; мы должны были взять ее с собой; потому
551
что, как сказала моя матушка, ежели мы ее обидим, не
видать нашему семейству ее денег, а разве нам, молодым, не
хочется разбогатеть?
И вот, изрядно приуныв, мы покатили в Лондон на
перекладных в тетушкиной карете, ибо как же было не взять
с собой карету: ведь не может такая важная особа, как моя
тетушка, ездить попросту в почтовом дилижансе. И мне
пришлось заплатить четырнадцать фунтов за лошадей, что
почти полностью истощило мой кошелек.
Сперва мы поселились в меблированных комнатах и
за три недели трижды их меняли. С первой хозяйкой мы
рассорились оттого, что тетушка поклялась, будто хозяйка
эта отрезала ломтик от бараньей ноги, которая была у нас
к обеду; со второй квартиры мы съехали оттого, что
тетушка поклялась, будто служанка ворует свечи; с третьей
мы съехали оттого, что, когда наутро после нашего
водворения на новом месте тетушка спустилась к завтраку, лицо
у ней распухло до неузнаваемости, так ее искусали... не
станем разъяснять, кто именно. Короче говоря, я совсем
потерял голову от бесконечных перемен и переездов,
нескончаемых рассказов и брани моей тетушки. Что до ее
знатных знакомых — никого из них в Лондоне не
оказалось; и она постоянно затевала со мной ссоры — зачем,
мол, я не знакомлю ее с Джоном Браффом, эсквайром,
членом парламента, и с ее родственниками, лордом и леди
Типтоф.
Когда мы приехали в Лондон, мистер Брафф был в
Брайтоне, а когда он воротился, я поначалу не осмелился
ему сказать ни об том, что привез с собою тетушку, ни об
моих денежных затруднениях. Когда же мне
волей-неволей пришлось к нему обратиться и попросить об авансе,
на лице его выразилось неудовольствие, но,
услыхавши, что я очутился в стесненных обстоятельствах через
то, что привез в Лондон тетушку, он мигом переменил
тон.
— Это совсем другое дело, мой дорогой. Миссис Хог-
гарти уже в таких летах, что ей ни в чем нельзя
отказывать. Вот вам сто фунтов. И прошу вас, всякий раз, как
у вас будет нужда в деньгах, обращайтесь ко мне.
Это дало мне возможность спокойно дожидаться часу,
когда тетушка наконец внесет свою долю на расходы по
хозяйству. И на другой же день мистер и миссис Брафф
в своей роскошной карете четверней пожаловали с
визитом к миссис Хоггарти и моей супруге.
-55*
Было это в тот самый день, когда лицо моей бедной
тетушки все распухло; и она не преминула объяснить гостье
причину сего бедствия и заявила, что ни в замке Хоггар-
ти, ни в своем доме в Сомерсетшире она и ведать не ведала
про этих гнусных, отвратительных тварей.
— Боже милостивый! — воскликнул Джон Брафф,
эсквайр.— Чтобы особа столь высокопоставленная так
страдала! Почтеннейшая родственница моего дорогого Титмар-
ша! Нет, сударыня, нет, покуда у Джона Браффа есть
дом — скромный мирный очаг доброго христианина, пусть
не столь роскошный, к какому вы привыкли по вашему
высокому положению в обществе,— никто не посмеет
сказать, что миссис Хоггарти из замка Хоггарти терпит
подобное унижение. Изабелла, душенька! Белинда! Просите
миссис Хоггарти. Скажите ей, что дом Джона Браффа,
весь, от чердака до погреба, к ее услугам. Да, весь, от
чердака до погреба. Я желаю... я требую... я приказываю,
чтобы сундуки миссис Хоггарти из замка Хоггарти были
сейчас же снесены в мою карету! Будьте столь добры, миссис
Титмарш, займитесь этим сами и уж позаботьтесь, чтоб
вперед вашей любезной тетушке не чинили никаких
неудобств.
Мэри вышла, дивясь его приказанию. Но ведь мистер
Брафф великий человек да к тому же еще благодетель ее
Сэма; и хотя, складывая вещи тетушки в огромные
чемоданы, глупышка заливалась слезами, она, однако же,
исполнила все, что требовалось, и с улыбкой предстала
перед тетушкой, которая занимала мистера и миссис Брафф
неторопливым, обстоятельным рассказом о балах, что
давались в замке Хоггарти в Дублине во времена лорда
Шарлевиля.
— Я уложила сундуки, тетушка, но снести их вниз мне
не под силу,— сказала Мэри.
— Да, да, конечно,— сказал Джон Брафф, пожалуй,
несколько пристыженный.— Эй! Джорж, Фредерик,
Огастес, подите немедля наверх и снесите в карету сундуки
миссис Хоггарти из замка Хоггарти, молодая леди вам их
укажет.
И мистер Брафф снизошел даже до того, что, когда его
разодетые лакеи отказались тащить сундуки, он сам,
собственными руками, ухватил два чемодана и понес их в
карету, провозглашая на всю Лэмс-Кондуит-стрит, что
«Джон Брафф не гордец, нет-нет. И ежели его лакеи
задирают нос, он им преподаст урок смирения».
553
Миссис Брафф тоже было кинулась вниз по лестнице
и хотела выхватить у супруга один из чемоданов, но они
оказались для нее чересчур тяжелы, и она успокоилась на
том, что, севши на один из них, принялась вопрошать всех
и каждого, не сущий ли ангел ее Джон Брафф.
Вот таким-то манером и покинула нас моя тетушка.
Я не знал об ее отъезде, ибо находился в тот час в
конторе, и, подходя к дому в шестом часу вместе с Гасом, я
увидел улыбающееся личико милой моей Мэри, которая
нетерпеливо выглядывала из окошка и манила нас обоих в
дом. Мне это показалось весьма удивительно, потому что
миссис Хоггарти не выносила Хоскинса и не раз заявляла
мне, что я должен сделать между ними выбор. Итак, мы
вошли в дом, и Мэри, которая уже успела осушить слезы,
встретила нас самой что ни на есть радостной улыбкой и
засмеялась, захлопала в ладоши, закружилась по комнате
и пожала Гасу руку. И что, по-вашему, предложила эта
маленькая негодница? Провалиться мне на этом месте,
если она не сказала, что не прочь поехать в Воксхолл.
К обеду стол был накрыт всего на три персоны. Гас,
дрожа от страха, уселся с нами; и тогда миссис Сэм Тит-
марш поведала все, что тут приключилось, и как мистер
Брафф умчал миссис Хоггарти в Фулем в своей роскошной
карете четверней.
— Ну, и бог с ней,— со стыдом признаюсь, сказал я; и
мы наслаждались своим обедом — телячьими отбивными
и пудингом с вареньем — куда больше, нежели миссис
Хоггарти, обедавшая в тот день на серебре и золоте в
«Ястребином Гнезде».
Мы превесело провели время в Воксхолле, причем Гас
пожелал сам уплатить за угощение; и смею вас уверить,
мы от души желали, чтобы тетушка подольше не
возвращалась,— те три недели, что ее не было, нам жилось куда
веселей и уютней. По утрам, перед тем как мне идти в
контору, милочка Мэри стряпала завтрак; по воскресеньям
мы отдыхали; глядели, как прелестные малютки в
Воспитательном доме ели вареную говядину с картофелем, и
слушали прекрасную музыку; но как ни хороша была музыка,
малютки эти, по-моему, были еще прекрасней, и глядеть
на их невинные счастливые личики было лучше, нежели
слушать самую наилучшую проповедь. В будние дни в
пять часов пополудни миссис Титмарш совершала
прогулку по левой стороне Лэмс-Кондуит-стрит (ежели идти
554
к Холборну) и иной раз доходила до самого Сноу-Хидл, и
уж тут-то непременно встречали ее два молодых
джентльмена из Западно-Дидлсекского страхового общества; и как
же весело мы все вместе шли обедать! Однажды мы
увидели, что неподалеку от фабрики Дэя и Мартина по
производству ваксы (которая в ту пору была не в пример
скромнее нынешней) какой-то франт на высоких
каблуках, при трости с золотым набалдашником и в пышных
бакенбардах, ухмыляясь во весь рот, заглядывает Мэри под
шляпку и пытается с нею заговорить, да, пытается
заговорить с Мэри и пожирает ее взглядом,— кто же, вы
думаете, как раз тут и появился? Мы с Гасом. И в мгновение
ока сей господин был схвачен за ворот, и вот он уже
растянулся на земле у стоянки наемных экипажей, на потеху
ухмыляющимся конюхам, А лучше всего было то, что его
шевелюра и бакенбарды остались у меня в руке; но Мэри
сказала: «Будь к нему снисходителен, Сэмюел, это всего
лишь француз». Тогда мы отдали парик, и один из
ухмыляющихся конюхов напялил его на себя и так доставил
растянувшемуся на соломе французу.
Тот выкрикнул что-то касаемо «arretez», и «Frangais»,
и «champ cThoimeur» !, но мы пошли своей дорогой, и на
прощанье Гас показал господину французу нос. Все
вокруг захохотали, и на этом приключение наше кончилось.
Эдак дней через десять после отъезда тетушки от нее
пришло письмо, каковое я и привожу здесь:
«Любезный племянник, я всем сердцем стремлюся в
Лондон, уж, наверно, и у тебя, ш у моей племянницы Мэри
большая во мне нужда; ведь у ней, бедняшки, совсем нету
опыта жизни в столице, она не умеет икономничать, нет у
ней качеств, потребных доброй жене и хозяйке дома, так
что я уж и не знаю, как она там без меня управляется.
Вели ей, штоп не вздумала платить более шести с
половиною пенсов за вырезку ж по четыре и три четверти за
говядину для супу, и что наилутчее лондонское масло
нельзя брать дороже восьми с половиною пенсов, а для
пудингов и в готовку надобно брать масло подешевле.
Миссис Титмарш уложила мои сундуки без всякого
старания, и дужкой замка проткнула мое желтое атласное
платье. Я его заштопала ш уже два раза надевала, на два
изысканных (хотя и скромных) вечера, кои устраивал
1 Арестовать, француз, ноле чести (франц.).
555
гостеприимный хозяин дома, а зеленое бархатное надевала
в субботу на званый обед, на котором меня вел к столу
лорд Скарамуш. Все было на самый что ни на есть
шикарный лад. Подавали суп двух сортов (куриный и мясной),
потом тюрбо и лосося, а к ним соус из омаров в огромных
соусниках. А ведь за одни омары надо отдать пятнадцать
шиллингов. Да за тюрбо три гинеи. Лосось весил никак
не меньше пятнадцати фунтов, и уж на другой день его
к столу не подавали, всю неделю ни кусочка
маринованного лосося. Эдакое расточительство как раз пришлось бы по
нраву миссис Сэм Титмарш, ведь она, как я не устаю
говорить, есть настоящая прожигательница жизни. Да, ваше
счастье, мои милые, что есть у вас старуха тетка, которая
знает, что к чему, и кошелек у ней набит туго, ежели бы
не он, не постесняюсь сказать, кое-кто рад бы выставить
ее за дверь. Это я не об тебе, Сэм, ты, надобно признать,
был мне покорным племянником. Что ж, скорей всего я на
свете не заживусь, и некоторые не станут горевать над
моей могилкой.
А в воскресенье я, конечно, маялась животом, и все,
видать, соус из омаров виноват; но ко мне пригласили
доктора Блога, и он сказал, что боится, уж не чахотка ли это,
однако же дал мне питье и белой доны, и мне полутшело.
Пожалуста, побывай у него,-— он живет в Пимлико, и ты
можешь зайти к нему после службы,— и вручи ему один
фунт и один шиллинг, да смотри не забудь передать мой
поклон. У меня здесь нет других денег, один только билет
в десять фунтов, а все прочее заперто в моей шкатулке у
вас на Лэмс-Кондуит-стрит.
Надобно тебе сказать, что хотя в шикарном доме
мистера Браффа и угождают грешной плоти, но о духе
пекутся не менее того. Всякое утро мистер Брафф не токмо
что читает молитвы, но и проповеди; и его наставления
перед завтраком дают пищу алчущей душе! Все здесь в
самолутшем стиле; завтрак, обед и ужин подают на золоте
да на серебре; а его герб и девиз латинское слово «Indust-
ria», кое обозначает трудолюбие, и оно выведено повсюду,
даже на тазу для умыванья и на прочих фаянсовых
предметах у меня в спальне. В воскресенье преподобный
Граймс Уопшот из здешней общины анабаптистов весьма
нас всех уважил — в домовой часовне мистера Браффа три
часа читал нам проповедь. Как вдова Хоггарти, я всегда
ревностно поддерживала англиканскую церковь; но
надобно сказать, что своей волнующей проповедью мистер Уоп-
556
шот куда как превзошел преподобного Бленда Бленкинсо-
на от англиканской церкви, каковой после обеда
попотчевал нас кратким рассуждением на два часа.
Скажу тебе по секрету, миссис Брафф — полное
ничтожество, и ни об чем у ней нет собственного понятия.
А дочка ее, мисс Брафф, уж до того дерзка, что я
однажды пообещала нахлестать ее по щекам, и сей же час
отбыла бы из ихнего дому, да мистер Брафф принял мою
сторону, и мисс, как полагается, предо мною извинилась.
Уж и не знаю, когда я ворочусь в город, больно хорошо
меня здесь принимают. Доктор Блог говорит, фулемский
воздух очень моему здоровью пользителен; а как женская
половина семейства с собою на прогулки меня не
приглашает, преподобный Граймс Уопшот по доброте своей часто
меня сопровождает, и как же это приятно прогуливаться
в Патни и Уондсворт, опершись на его руку, да
любоваться на красоты природы. Я говорила ему об моем слоппер-
тонском владении, и он не согласен с мистером Браффом,
что его надобно продавать, но об этом предмете я сама
решу.
Пока суд да дело, надобно вам приискать комнаты по-
лутше; и не забывайте всякую ночь прогревать мою
постель грелкою, а в дождь зажигайте камин; да пускай
миссис Титмарш достанет мое голубое шелковое платье и
перелицует его к моему приезду; а мою фиолетовую
жакетку может взять себе; и, надеюсь, она не носит те три
великолепных наряда, какие ты ей подарил, а бережет про лут-
шие времена. Вскорости я введу ее в дома моего друга
мистера Браффа и прочих моих знакомых.
Остаюсь всегда тебя любящая тетушка,
Я приказала прислать из Сомерсетшира ящик Росолио.
Когда его доставят, пришли, пожалуйста, половину ко мне
сюда, только не забудь заплатить за карету. Это будет
достойный подарок моему любезному хозяину мистеру
Браффу».
Письмо это привез сам мистер Брафф и вручил мне в
конторе, извинившись, что по оплошности сломал печать:
письмо лежало среди его личной корреспонденции, и он
вскрыл конверт, не поглядевши на адрес. Он, разумеется,
его не читал, чем весьма меня обрадовал, ибо я не желал
бы, чтобы ему стало известно мнение моей тетушки об его
дочке и супруге.
557
На другой день некий господин прислал за мной из
кофейни Тома, с Корнхилла, велевши передать, что имеет
срочную надобность переговорить со мною; и когда я
вошел туда, я тотчас увидел своего старого знакомца Сми-
зерса, из фирмы «Ходж и Смизерс»,— он был только что с
дилижанса, и у ног его стоял ковровый саквояж.
— Сэм, мой мальчик,— сказал он,— вы наследник
своей тетушки, и у меня есть для вас новостишки касаемо
вашего наследства, каковые вам надлежит знать. Она
написала к нам, чтобы мы прислали ей ящик ее домашнего
вина, которое она прозывает Росолио и которое хранится
у нас на складе совместно с ее обстановкой.
— Ну что ж,— с улыбкой сказал я,— пусть ее
раздаривает это Росолио, сколько пожелает, я не против. Я
уступаю на него все свои права.
— Вот еще! — отмахнулся Смизерс.— Дело не в вине,
хотя, сказать по правде, ее мебель до черта нам надоела,—
нет, дело не в том; дело в приписке: она велела нам
немедля объявить, что продает свои слоппертонские и скуош-
тейлские владения, ибо намеревается иным образом
поместить свой капитал.
Я знал, что слоппертонские и скуоштейлские владения
тетушки приносят господам Ходжу и Смизерсу изрядный
доход, ибо тетушка беспрестанно затевает тяжбы со
своими арендаторами и страсть к сутяжничеству ей дорого
обходится, так что тревога мистера Смизерса касаемо этой
продажи показалась мне не вовсе бескорыстной.
— Неужто вы приехали в Лондон единственно для
того, чтобы мне об этом сообщить, мистер Смизерс?
Сдается мне, было бы куда лучше, ежели вы сразу же
исполнили бы тетушкино распоряжение либо ехали в Фулем и
посовещались бы с нею об этом предмете.
— Бог с вами, мистер Титмарш! Неужто вы не
понимаете, что, ежели она продаст свои земли, она вручит
деньги Браффу, а ежели деньги достанутся Браффу, он...
— Он даст ей семь процентов вместо трех — что ж тут
плохого?
— Но вы забываете о надежности. Он, конечно,
человек денежный, очень даже денежный... И весьма
почтенный... без сомнения, весьма почтенный. Но как знать?
Вдруг разразится паника, и тогда все эти бесчисленные
компании, к которым он причастен, могут его разорить.
Вот возьмите Лимонадную компанию, в которой Брафф
директором,— об ней поступают тревожные сведения. Или
558
Объединенная компания Баффинова залива «Муфты и
Палантины»,— акции ее очень упали, а Брафф в ней
директором. Или компания «Патентованный Насос» — акции
идут по шестьдесят пять, предложение огромное, а никто
не покупает.
— Чепуха это, мистер Смизерс! У мистера Браффа на
пятьсот тысяч фунтов акций Западно-Дидлсекского
страхового общества, а ведь они-то не упали в цене. Хотел бы
я знать, кто посоветовал моей тетушке вложить деньги в
это предприятие?
Тут-то я его и поймал.
— Ну, конечно же, это превосходное предприятие, и
вам, Сэм, мой мальчик, оно уже принесло триста фунтов
годовых. И вы должны быть нам благодарны за участие,
которое мы в вас приняли (мы ведь любили вас, как сына,
и мисс Ходж все еще не пришла в себя после женитьбы
некоего молодого человека). Надеюсь, вы не собираетесь
нас упрекать за нашу заботу об вашем богатстве, а?
— Нет, нет, провалиться мне на этом месте! — сказал
я, и пожал ему руку, и не отказался от хереса и печений,
которые он сразу приказал подать.
Впрочем, скоро он опять принялся за свое.
— Послушайтесь моего совета, Сэм, увезите вашу
тетушку из «Ястребиного Гнезда». Она написала миссис
Смизерс длинное письмо об некоем господине, с которым
она там совершает прогулки, о преподобном Граймсе Уоп-
шоте. У этого господина на нее виды. Его судили в
Ланкастере в четырнадцатом годе за подлог, и он едва
избежал петли. Берегитесь его... у него виды на деньги вашей
тетушки.
— Ну, нет,— сказал я, доставая письмо миссис Хог-
гарти,— прочитайте сами.
Он прочитал письмо с пристальным вниманием, и оно
его как будто даже позабавило.
— Что ж, Сэм,—сказал он, возвращая мне письмо.—
Я попрошу вас всего об двух одолжениях: одно — не
говорите ни одной живой душе о том, что яв Лондоне, и
другое — пригласите меня на Лэмс-Кондуит-стрит отобедать
с вашей милой женушкой.
— С радостью обещаю вам и то и другое,— смеясь,
отвечал я.—Да только, ежели вы будете у нас обедать, об
вашем приезде станет известно всем, ибо с нами обедает
еще и мой друг Гас Хоскинс; с тех пор как уехала
тетушка, он бывает у нас чуть не каждый день.
559
Смизерс тоже рассмеялся и сказал:
— За бутылкой вина мы возьмем с него слово, что он
не проговорится.
И мы разошлись до обеда.
После обеда неутомимый законник возобновил атаку и
был поддержан и Гасом, и моей супругой, которая
нисколько не была заинтересована в этом деле, даже более
того, она бы дорого дала за то, чтобы избавиться от
общества моей тетушки. И, однако же, она сказала, что доводы
мистера Смизерса справедливы, и я со вздохом с ними
согласился. Но все-таки я заупрямился и объявил, что
тетушка может распорядиться своими деньгами, как ей
угодно: не мне пытаться как-то повлиять на ее решение.
Отпив чаю, гости наши ушли вместе, и Гас говорил мне
после, что Смизерс засыпал его вопросами об нашей
фирме, об мистере Браффе, обо мне и моей супруге, обо всех
мелочах нашего житья-бытья.
— Вы счастливчик, мистер Хоскинс, и, сдается мне,
состоите в дружбе с сей очаровательной парой,— сказал
Смизерс. И Гас признался, что да, так оно и есть, и сказал, что
за полтора месяца обедал у нас пятнадцать раз и что нет
на свете человека лучше и гостеприимнее меня. Я
рассказываю это не ради того, чтобы трубить о своих
достоинствах, нет, нет; но затем, что Смизерсовы расспросы
весьма связаны с последующими событиями, о которых
ведется речь в этой небольшой повести.
На другой день, сидя за обедом, состоявшим из
холодной баранины, которой накануне так восхищался
Смизерс,— Гас, по обыкновению, обедал у нас,— мы услыхали,
что у наших дверей остановился экипаж, но не придали
этому значения; на лестнице послышались шаги, но мы
решили, что это идут к соседу,—и в комнату ворвалась —
кто бы вы думали? — миссис Хоггарти собственной
персоной! Гас, который сдувал пену с кружки пива, готовясь
насладиться сим напитком, и развлекал нас всякими
историями и забавными случаями, так что мы помирали со
смеху, отставил кружку, сник и побледнел. Да и всем нам
стало не по себе.
Тетушка высокомерно поглядела на Мэри, потом
яростно — на Гаса и, сказавши: «Так это правда... мой бедный
мальчик, так скоро!» — с рыданиями кинулась в мои
объятия и, едва не задохнувшись, объявила, что никогда,
никогда меня не покинет.
560
Ни я, ни кто из нас не могли понять причины столь
бурного волнения миссис Хоггарти. Она не пожелала
опереться на руку Мэри, когда бедняжка не без страху к ней
подошла; а когда Гас робким голосом сказал: «Мне
кажется, я мешаю, Сэм, пожалуй... я лучше... уйду»,— миссис
Хоггарти поглядела на него в упор, величественно
указала пальцем на дверь и сказала: «Да, сэр, мне-то
определенно кажется, что вам лучше уйти».
— Надеюсь, мистер Хоскинс пробудет здесь столько,
сколько пожелает,— горячо вступилась моя супруга.
— Еще бы вам не надеяться, сударыня,— весьма
язвительно ответила миссис Хоггарти.
Но Гас не слыхал ни слов Мэри, ни тетушкиных, он
схватился за шляпу, и каблуки его застучали по лестнице.
Ссора окончилась, по обыкновению, слезами Мэри, а
тетушка все продолжала твердить свое: она надеется, что
еще не поздно и отныне она никогда, никогда меня не
покинет.
— Отчего это тетушка вдруг воротилась, да так
гневается? — спросил я ввечеру Мэри, когда мы оказались
одни у себя в комнате; но супруга моя стала уверять, что
ей это невдомек; и лишь много времени спустя я узнал
причину этой размолвки и внезапного появления миссис
Хоггарти.
Всего несколько лет назад, показывая мне письмо Хик-
сона, Диксона, Пэкстона и Джексона, которое я уже
приводил в сих мемуарах, эта гнусная рожа, этот мелкий
пакостник Смизерс открыл мне причину, представив всю
историю как забавнейшую шутку.
— Сэм, мой мальчик,— сказал он,— вы положили
оставить миссис Хоггарти в «Ястребином Гнезде» в лапах
Браффа, а я положил вызволить ее оттуда. Я решил, так
сказать, одним ударом убить двух ваших смертельных
врагов. Мне было совершенно ясно, что преподобный
Граймс Уопшот зарится на богатство вашей тетушки и что
у мистера Браффа касаемо нее те же хищные намерения.
Хищные — это еще мягко сказано, Сэм; ежели бы я сразу
сказал «грабеж», я бы выразился куда как точнее. Не
долго думая, я сел в фулемский дилижанс и, приехавши,
сразу же направился на квартиру к сему достойному
господину.
— Сэр,— сказал я, увидав его; дело было в два часа
пополудни, а он пил грог, по крайней мере, вся его
комната пропахла сим напитком.—Сэр,—сказал я,—вас
561
судили за подлог в четырнадцатом годе в Ланкастере, на
выездной сессии суда.
— И оправдали, сэр. Моя невиновность, слава богу,
была доказана,— отвечал Уопшот.
— Но в шестнадцатом годе, когда вас судили за
растрату, вы не были оправданы,— сказал я,— и провели два
года в Йоркской тюрьме.
Я все это хорошо знал, ибо когда он был священником
в Клифтоне, мне пришлось посылать ему судебную
повестку. И, не давши ему опомниться, я продолжал:
— Мистер Уопшот, вы сейчас ухаживаете за весьма
достойной особой, проживающей в доме мистера Браффа;
ежели вы не пообещаете мне оставить ее в покое, я вас
изобличу.
— Я уже пообещал,— удивленно, но с явным
облегчением отвечал Уопшот.—Я торжественно обещал это
мистеру Браффу, он был у меня нынче утром, и бушевал, и
изрыгал хулу, и бранился. О сэр, вы бы испугались,
услыхавши, как бранился сей невинный агнец.
— У вас был мистер Брафф? — спросил я в
изумлении.
— Да. Я так полагаю, вас обоих сюда привел один и
тот же след,— отвечал Уопшот.— Вы хотите жениться на
вдове, владелице Слоппертонскйх и Скуоштейлских
земель, так ведь? Ну и женитесь, бог в помощь. Я пообещал
отступиться от вдовы, а слово Уопшота свято.
— Надобно полагать, сэр, мистер Брафф пригрозил,
что вышвырнет вас вон, ежели вы опять сунетесь к нему
в дом?
— Вот теперь я положительно уверен, что вы у него
побывали,— сказал сей господин, пожавши плечами.
И тут-то мне припомнились ваши слова касательно
вскрытого письма, и я уж ни минуты более не сомневался,
что это Брафф сломал печать и прочел все от первого до
последнего слова.
Итак, один заяц был убит: мы оба, и я и Брафф, дали
по нему выстрел. Теперь мне предстояло пальнуть по
самому «Ястребиному Гнезду»; и я отправился туда во
всеоружии, да, сэр, во всеоружии.
Я подошел к имению в девятом часу и, войдя в ворота,
увидел в боскете знакомую фигуру — то бишь вашу
уважаемую тетушку, сэр; но прежде нее я хотел повстречать
любезных хозяек дома, ибо, видите ли, друг мой Титмарш,
562
но письму миссис Хоггарти я понял, что она с ними на
ножах, и понадеялся, что открытая ссора с ними позволит
мне тотчас ее оттуда увезти.
Я рассмеялся и не мог не признать, что мистер Сми^-
зерс малый весьма ловкий.
— На мое счастье,— продолжал он,— мисс Брафф
была в гостиной и, пощипывая струны гитары, дурным
голосом тянула какую-то песню; однако же, войдя в
комнату, я как мог громче зашипел на лакея «тс!» и стал как
вкопанный, а затем осторожно, на цыпочках пошел к ней.
Мисс Брафф могла видеть в зеркало каждый мой шаг, но
она притворилась, будто ничего не замечает, и как ни в
чем не бывало закончила песню руладой.
— Ради бога не сердитесь на меня,
сударыня,—сказал я,— что я помешал вам, осмелился ворваться сюда
незваный, но можно ли было не послушать столь
восхитительное пение!
— Вы к маменьке, сэр? — спросила мисс Брафф со
всей любезностию, какую только могла выразить ее
неприветливая физиономия.— Я мисс Брафф, сэр.
— Сударыня,— отвечал я,— сделайте милость, не
спрашивайте меня об деле, дайте мне сперва еще насладиться
вашим чарующим пением.
Петь она больше не стала, но была явно польщена и
сказала:
— Ах, что вы, сэр. Так какое же у вас дело?
— У меня дело до той леди, что гостит в доме вашего
уважаемого батюшки.
— А, миссис Хоггарти! — И мисс Брафф схватила
сонетку и позвонила.—Джон, пошлите за миссис Хоггарти,
она в саду; этот господин желает с нею говорить.
— Я не хуже других знаю ее странности, сударыня,—
сказал я,— и понимаю, что и нрав ее и манеры не таковы,
чтобы она могла составить вам подходящую компанию.
Я знаю, она вам не по душе. Она писала к нам в
Сомерсетшир, что оказалась вам не по душе.
— Ах, вот как! Так она еще поносит нас перед своими
друзьями? — вскричала мисс Брафф (именно эту мысль я
и старался ей внушить).—Если мы ей не по душе, для
чего ж ей оставаться в нашем доме?
— Она и вправду загостилась,— поддакнул я.— И ее
племянник и племянница, уж конечно, ждут ее не
дождутся. Умоляю вас, сударыня, не уходите, я надеюсь на вашу
помощь в деле, ради которого приехал сюда.
563
Дело же, ради которого я приехал сюда, сэр, состояло
в том, чтобы вызвать сих двух дам на генеральное
сражение, а под конец воззвать к миссис Хоггарти, сказавши,
что ей, право же, не подобает оставаться далее в доме, с
хозяевами которого у нее возникают столь прискорбные
разногласия. И сражение разыгралось, сэр; огонь открыла
мисс Белинда, заявив, что, сколько она понимает, миссис
Хоггарти клевещет на нее своим друзьям. И хотя под
конец мисс в ярости выбежала вон, заявивши, что уйдет из
собственного дома, если эта мерзкая особа здесь
останется,— ваша дражайшая тетушка засмеялась и сказала:
«Знаю я, что замышляет эта скверная девчонка. Но,
благодарение богу, у меня доброе сердце, и как истинная
христианка я способна ей простить. Я не покину дом ее
превосходного папеньки, не стану огорчать своим отъездом
сего достойного человека».
Тогда я попытался воззвать к ее сочувствию. «По
словам Сэма, сударыня, ваша племянница миссис Титмарш
последнее время чувствует нездоровье... по утрам ее
поташнивает, сударыня... она бывает угнетена и не в духе...
у молодой супруги, сударыня, признаки сии говорят сами
за себя».
На это миссис Хоггарти отвечала, что у ней есть
отменные укрепляющие капли, она пошлет их миссис
Титмарш, и, уж конечно, они пойдут ей на пользу.
С великой неохотою я был вынужден ввести в бой свой
последний резерв, и теперь, когда все уже давно позади,
могу открыть вам, мой мальчик, что это было.
«Сударыня,— сказал я,— мне надобно с вами переговорить еще об
одном деле, да не знаю, как и начать. Вчерашний день я
обедал у вашего племянника и познакомился у него с
молодым человеком... с весьма вульгарным молодым
человеком, но он, видно, втерся в доверие к вашему племяннику
и, боюсь, сумел произвести впечатление на вашу
племянницу. Фамилия его Хоскинс, сударыня. И ежели я скажу
вам, что он, который при вас не переступал порога этого
дома, за три недели вашего отсутствия обедал у вашего
чрезмерно доверчивого племянника целых шестнадцать
раз, вы сами вообразите... то, что я и вообразить не смею».
Выстрел попал в цель. Ваша тетушка так и подскочила
и уже через десять минут сидела в моей карете, и мы
мчались в Лондон. Ну, как, сэр, это ли не хитрый маневр?
— Вы ловко все это разыграли, мистер Смизерс, и
моей супруги не пожалели,— сказал я.
564
— Да, и вашей супруги не пожалел, но это ради вас же
обоих.
— Ваше счастье, сэр, что вы пожилой человек и что
это дело прошлое,— отвечал я,— не то клянусь, мистер
Смизерс, я задал бы вам такую трепку, какая вам и не
снилась!
Вот каким образом миссис Хоггарти была возвращена
к своим родным; и вот почему мы сняли дом на Бернард-
стрит, а как мы там жили, об том сейчас и надлежит
рассказать.
Глава X
О частной жизни Сэма н
о фирме «Брафф и Хофф»
Мы сняли приличный домик на Бернард-стрит,
Рассел-сквер; и тетушка выписала из провинции всю свою
мебель, которой вполне хватило бы на два таких дома, но
нам, молодым хозяевам, она досталась очень дешево,
так как нам пришлось оплатить лишь перевозку из
Бристоля.
Когда я в третий раз принес миссис Хоггарти ее
дивиденд, каковой выплачивался раз в полгода, она, надобно
сказать, дала мне пятьдесят фунтов из восьмидесяти (а за
четыре месяца, что она прожила у нас, я не видал от нее
ни шиллинга) и сказала, что от бедной старой женщины,
которая и не ест, а клюет, как воробушек, за квартиру и
за стол этого больше чем достаточно.
В Сомерсетшире я видел собственными глазами, как
она за один присест уплела девять воробушков,
запеченных в пудинг; но она была богата, и мне не приходилось
жаловаться. Пусть, живя с нами, она экономит в год по
меньшей мере шестьсот фунтов, что ж, все это в один
прекрасный день перейдет ко мне же; так что мы с Мэри
утешились и только старались как могли лучше сводить
концы с концами. Содержать дом на Бернард-стрит да еще
откладывать понемножку при нашем доходе в четыреста
семьдесят фунтов в год было нелегко. Но как же мне
повезло, что у меня все-таки был такой доход!
Когда миссис Хоггарти уезжала со Смизерсом из
«Ястребиного Гнезда», в ворота на своей четверке серых въехал
мистер Брафф; и я дорого бы дал, чтобы поглядеть на этих
двух джентльменов, когда один увозил добычу из-под носу
у другого, из его же логова.
565
Мистер Брафф заявился к нам на другой день и
сказал, что уедет отсюда только вместе с тетушкой; ему
известно, как постыдно вела себя его дочь, но он застал ее
в слезах, «да, в слезах, сударыня, и она на коленях
молила бога простить ее»! Однако же ему пришлось уехать из
моего дома одному, ибо у тетушки была своя causa major l
оставаться с нами, не спускать глаз с Мэри, вскрывать все
до единого письма, приходившие на ее имя, и следить за
тем, кому она пишет. Долгие, долгие годы Мэри таила от
меня все эти обиды и, когда муженек возвращался из
должности, всегда встречала его улыбкой. Что до бедняги
Гаса, тетушка совсем его запугала, и все время, покуда мы
жили на Бернард-стрит, он к вам тлаэ не казал, а лишь
довольствовался моими рассказами про Мэри, к которой
питал ту же сердечную привязанность, что и ко мне.
Стоило тетушке уехать от мистера Браффа, и он сразу
перестал ко мне благоволить. По сто раз на дню
придирался ко мне, да во всеуслышание, на глазах у всей
конторы; но в один прекрасный день я в самых
недвусмысленных выражениях дал ему понять, что я не только его
подчиненный, но и держатель акций не из последних, и
пусть попробует указать, в чем я плохо исправляю
должность, а выслушивать оскорбления я не намерен ни от
него, ни от кого другого. Так он и знал, сказал Брафф;
всякий раз, как он какого-нибудь молодого человека
принимал в свое сердце, тот непременно платил ему черной
неблагодарностью; он привык терпеть несправедливости и
непокорство своих детей и будет молить бога, чтобы мне
простился сей грех. А ведь за минуту до того он бранил
и распекал меня и говорил со мною так, будто я какой-
нибудь чистильщик сапог. Но, скажу вам, я больше не
желал терпеть важничанье мистера Браффа и его супруги.
Со мной пусть их обращаются как хотят, но я не желал,
чтобы они пренебрегали моей Мэри, как пренебрегли ею,
не пригласивши в Фулем.
Под конец Брафф предостерег меня касаемо Ходжа и
Смизерса.
— Берегитесь их,— сказал он,— не то, клянусь честью,
эти обжоры принесут земли вашей тетушки в жертву
своим аппетитам. А когда я, ради ее же блага, чего вы,
упрямец, никак не возьмете в толк, хотел избавить ее от
земельной собственности, ее поверенные, эти наглецы, эти
Важная причина (лат.).
566
алчные безбожники, сказал бы я, запросили десять
процентов комиссионных.
В словах его есть доля истины, подумал я, во всяком
случае, когда жулики ссорятся, честным людям это на
руку; а я, как это ни печально, начал подозревать, что и
поверенному, и нашему директору свойственна некоторая
жуликоватость. Мистер Брафф, тот особенно явно выдал
себя, когда дело коснулось до состояния моей супруги; п&
своему обыкновению, он предложил мне купить на ее
деньги акции нашей Компании. Я же отвечал ему, что
супруга моя несовершеннолетняя, а посему я не имею права
распоряжаться ее скромным состоянием. Он в ярости
выбежал из комнаты, и по тому, как стал обходиться со мною
Абеднего, я вскорости понял, что хозяин наш махнул на
меня рукой. Кончились свободные денечки, кончились
авансы; более того, должность личного секретаря была
упразднена, я лишился пятидесяти фунтов и вновь ока-1
зался при своих двухстах пятидесяти в год. Ну и что ж?;
Все равно это было прекрасное жалованье, и я честно де-
дал свое дело и только посмеивался над директором.
Примерно в ту же пору, в начале тысяча восемьсот
двадцать четвертого года, Ямайская лимонадная компания
перестала существовать,— с треском лопнула, как
выразился Гас. Акции «Патентованного Насоса» упали до
пятнадцати фунтов, хотя приобретены были по шестьдесят
пять. Наши же все шли выше номинала, и Западно-Дидл-
секское независимое страховое общество по-прежнему
высоко держало свою гордую голову. Обвинения Раундхэнда,
намекнувшего на махинации с акциями, не прошли для
директора бесследно, однако же в нашей Компании по-
прежнему не чувствовалось никакого разброда, она стояла
нерушимая, как Гибралтарская скала.
Возвратимся же на Бернард-стрит, Рассел-сквер.
Тетушкина старая мебель заполнила наши комнатки; а ее
громоздкий расстроенный рояль на кривых ножках, в
котором половина струн полопалась, занял три четверти
тесной гостиной. Здесь-то миссис Хоггарти сиживала часами
и разыгрывала нам сонаты, которые были в моде во
времена лорда Шарлевиля, и распевала своим надтреснутым
голосом, а мы изо всех сил старались удержаться от смеху.
Надобно заметить, что в натуре миссис Хоггарти
произошли престранные перемены: живя в провинции, среди
сливок сельского общества, она бывала вполне довольна,
когда в шесть часов к ней собирались на чай гости, после
507
чего они играли в вист по два пенни; в Лондоне же она
нипочем не садилась обедать ранее семи, дважды в неделю
нанимала на извозчичьем дворе экипаж и выезжала в
Парк; укорачивала и удлиняла, порола и снова и снова
переделывала свои старые платья, оборочки, чепцы и
прочие наряды и украшения, заставляя мою бедняжку Мэри
с утра до ночи подгонять их под нынешнюю моду. Более
того, миссис Хоггарти обзавелась новым париком; и, с
прискорбием вынужден сказать, навела такой румянец, каким
никогда не дарила ее природа, так что жители Бернард-
стрит, которым подобные обычаи были в диковинку, стали
пялить на нее глаза.
Более того, она настояла, чтобы мы завели ливрейного
лакея, мальчишку лет шестнадцати; его обрядили в
старую ливрею, которую она привезла из Сомерсетшира,
украшенную новыми обшлагами и воротниками, а также
новыми пуговицами, на коих изображены были
соединенные гербы Титмаршей и Хоггарти, то есть синица,
вставшая на хвост, и боров в латах. Хотя род мой и вправду
очень древний, но ливрея и пуговицы с гербами
показались мне затеей весьма нелепой. И боже мой! Какой1
раздался громовый хохот у нас в конторе, когда однажды там
появился тщедушный мальчишка в ливрее с чужого плеча,
с огромной булавой, и передал мне записку от миссис
Хоггарти из замка Хоггарти! К тому же все письма должны
были подаваться на серебряном подносе. Появись у нас
ребеночек, тетушка, надобно думать, и его тоже велела бы
подавать ей на серебряном подносе; но намеки мистера
Смизерса на сей счет имели под собой столь же мало
оснований, как и другая его гнусная выдумка, о которой я уже
упоминал. Тетушка и Мэри теперь всякий день степенно
прогуливались по Нью-роуд в сопровождении мальчишки
с огромной позолоченной булавой; но несмотря на всю эту
торжественность и парадность, несмотря на то, что
тетушка все еще толковала о своих знакомствах, неделя
проходила за неделей, а к нам никто не заглядывал, и во всем
Лондоне навряд ли можно было сыскать другой такой
унылый дом.
По воскресеньям миссис Хоггарти ходила в церковь
св. Панкратия, в ту пору только еще построенную и по
красоте не уступавшую театру «Ковент-Гарден», а по
вечерам — в молитвенный дом анабаптистов; и уж хотя бы
в этот день мы с Мэри были предоставлены сами себе —
мы предпочитали ходить в Воспитательный дом и слушать
568
там пленительную музыку, и женушка моя задумчиво
глядела на милые детские личики, и, по правде говоря, я тоже.
Однако же лишь через год после нашей свадьбы она
сказала мне наконец слова, которые я здесь приводить не
стану, но которые наполнили нас обоих несказанной ра-
достию.
Помню, она поделилась со мной этой новостью в тот
самый день, когда прогорела компания «Муфты и
Палантины», которая поглотила, по слухам, капитал в триста
тысяч фунтов и только и могла взамен предъявить договор
с какими-то индейцами, вскорости после заключения
контракта убившими агента Компании томагавками. Кое-кто
говорил, что никаких индейцев не существовало в
природе и никакого агента, который мог бы пасть под
томагавками, тоже не существовало, а просто все это сочинили
в доме на Кратчед-Фрайерз. Что бы там ни было, я
пожалел беднягу Тидда, которого встретил в тот день в Сити,—
на нем лица не было, ведь он, таким образом, в первый же
год потерял свои двадцать тысяч фунтов. Он сказал, что
у него на тысячу фунтов долгу и что ему впору
застрелиться; но он всего лишь был арестован и немалое время
провел во Флитской тюрьме. Однако же, как вы легко
можете вообразить, восхитительная новость, которую мне
сообщила Мэри, быстро вышибла у меня из головы и Тидда
и компанию «Муфты и Палантины».
В Лондоне стали известны и другие обстоятельства,
как будто говорившие о том, что наш директор трещит по
всем швам,—в словаре Джонсона вы этого выражения в
таком виде не найдете. Три его Компании лопнули, о
других четырех было известно, что они несостоятельны; и
даже на заседании директоров Западно-Дидлсекского
страхового общества имело место бурное объяснение, после
чего кое-кто из них хлопнул дверью. Их заменили друзья
мистера Браффа; мистер Кукл, мистер Фантом, мистер
Ой-ли и другие почтенные господа предложили свои
услуги и вошли в наше правление. Брафф и Хофф
разделились, и мистер Брафф заявил, что с него вполне хватит
управления Западно-Дидлсекским страховым обществом и
что он намерен постепенно отойти ото всех прочих дел.
Что и говорить, в такой Компании, как наша, кому
угодно было бы работы по горло, а Брафф ведь был еще и
член парламента, и в придачу на него, как на главного
директора лопнувших Компаний, обрушились семьдесят два
иска.
569
Мне, вероятно, следовало бы описать здесь отчаянные
попытки миссис Хоггарти приобщиться к светской жизни.
Как ни странно, наперекор словам лорда Типтофа,
тетушка продолжала уверять, будто состоит в самом близком
родстве с леди Бум, и едва только узнала из «Морнинг
пост» о том, что ее милость вместе с внучками прибыла
в Лондон, сей же час велела подать экипаж, о коем я уже
упоминал, отправилась к этим особам и в каждом доме
оставила карточки: свою — «Миссис Хоггарти из замка
Хоггарти», великолепную, с пышным готическим
шрифтом и множеством завитушек, а также и нашу — «Мистер
и миссис Сэмюел Титмарш», каковую заказала нарочно
для такого случая.
Ежели бы ливрейный лакей, которому была вручена
карточка миссис Хоггарти, сделал бы ей хоть малое
послабление, она штурмом взяла бы дверь дома леди Джейн
Престон и прорвалась бы в комнаты, несмотря на все
мольбы Мэри не делать этого; но сей страж, по всем
вероятиям, пораженный ее странной наружностию,
загородил собою дверь и объявил, что ему строго-настрого
приказано не допускать к миледи никого незнакомых. В ответ
на это миссис Хоггарти погрозила ему кулаком из окошка
кареты и пообещала, что его, голубчика, непременно
сгонят со двора, уж она этого добьется.
В ответ Желтоплюш только захохотал; и хотя тетушка
написала мистеру Эдварду Престону на редкость
возмущенное письмо, в котором жаловалась на дерзость его
слуг, сей достопочтенный джентльмен оставил ее письмо
безо всякого внимания, лишь возвратил его,
присовокупивши, что он просил бы впредь не беспокоить его столь
назойливыми визитами. Ну и денек же у нас выдался,
когда пришло это письмо! Прочитавши его, тетушка была
безмерно разочарована и разгневана, ибо, когда Соломон,
по обыкновению, подал ей это послание на серебряном
чайном подносе, тетушка моя, увидав печать мистера
Престона и имя его в углу конверта (что было принято среди
лиц, занимавших государственные посты) — так вот,
повторяю, увидав его имя и печать, тетушка воскликнула:
«Ну, Мэри, кто был прав?» И тут же побилась с моей
женушкой об заклад на шесть пенсов, что в конверте
содержится приглашение на обед. Шесть пенсов она так и не
отдала, хоть и проиграла, а только весь день бранила
Мэри да твердила, что я жалкий трус, раз тотчас не
отхлестал мистера Престона. Хорошенькие шутки, нечего
570
сказать! В те поры меня за это просто бы повесили, как
повесили человека, застрелившего мистера Персиваля.
А теперь я бы с радостью порассказал еще о своем
опыте светской жизни, приобретенном благодаря упорству
миссис Хогтарти; жо надобно признать, что мже
представлялось не так уж много случаев познакомиться с высшим
светом и все они приходятся на короткие полгода, к тому
же светское общество было уже подробно описано
многими авторами романов, которых имена нет нужды здесь
приводить, но которые, будучи тесно связаны с
аристократией—либо как члены благородных фамилий, либо как
лакеи и прихлебатели оных,— знакомы с этим предметом,
само собой разумеется, куда лучше,, нежели скромный
молодой служащий страховой компании.
Взять, к примеру, знаменитое посещение оперы, куда
мы отправились с тетушкой по ее настоянию; здесь в
особой зале, называемой фойе, после представления леди
и джентльмены дожидаются своих экипажей
(вообразите, кстати, каково выглядел наш щуплый Соломон с
его огромной булавой среди всех этих ливрейных лакеев,
столпившихся у дверей) — ив этом фойе, говорю я,
миссис Хоггарти кинулась к старой графине Бум, которую я
ей показал, и стала настойчиво напоминать ее милости об
их родстве. Но графиня Бум помнила, если можно так
выразиться, лишь то, что ей было угодно, а на сей раз сочла
за благо начисто забыть о своих родственных связях с
семейством Титмарш и Хоггарти. Она и не подумала нас
признать* напротив того* назвала миссис Хоггарти
«мерзкой женщиной» и стала громко подзывать полицейского.
Получив несколько таких щелчков, тетушка, по ее
словам, постигла суетность и греховность высшего света и
стала искать общества людей истинно серьезного
направления мыслей. По ее словам, она приобрела несколько
весьма ценных знакомств в анабаптистской, церкви; и
среди прочих неожиданно повстречала там своего знакомца
по «Ястребиному Гнезду» мистера Граймса Уопшота. В те
поры мы еще не знали о разговоре, который произошел
у него с мистером Смизерсом, и Граймс, разумеется, не
счел приличным посвящать нас во все обстоятельства
дела; но хотя я не скрыл от миссис Хоггарти, что ее
любимый проповедник был судим за подлог, она заявила, что,
по ее мнению, это омерзительная клевета, а он заявил, что
мы с Мэри пребываем в прискорбном неведении и что
рано или поздно мы неминуема скатимся в некую бездну,
mi
которая, похоже, была ему хорошо знакома. Следуя
наставлениям и советам сего почтенного джентльмена,
тетушка вскорости совсем перестала посещать церковь
св. Панкратия, неукоснительно трижды в неделю
слушала его проповеди, стала обращать на путь истинный
пребывающих во мраке бедняков Блумсбери и Сент-Джайлса
и шить пеленки для их младенцев. Однако же для миссис
Сэм Титмарш, которой теперь уже, судя по некоторым
признакам, пеленки тоже вскорости должны были
понадобиться, она ничего такого не шила, предоставив Мэри, и
моей матушке, и сестрицам в Сомерсетшире самим
позаботиться обо всем, что требовалось для предстоящего
события. Я, признаться, не поручусь, что она не
возмущалась вслух нашими приготовлениями и не говорила, что
надобно думать не об завтрашнем дне, а о спасении души.
Так или иначе, преподобный Граймс Уопшот попивал у
нас грог и обедал у нас куда чаще, нежели в свое время
бедняга Гас.
Но мне было недосуг приглядеться к нему и к его
поведению, потому что, признаться, в ту пору я оказался
в весьма стесненных обстоятельствах и меня день ото дня
все более тревожили и домашние и служебные мои дела.
Что касаемо первых, миссис Хоггарти дала мне
пятьдесят фунтов, но из этих пятидесяти фунтов мне надобно
было оплатить переезд из Сомерсетшира, перевозку всей
тетушкиной мебели, ковры, окраску и оклейку обоями
моего дома, коньяк и прочие крепкие напитки, которые
употреблял преподобный Граймс и его приятели (ибо сей
почтенный джентльмен заявил, что Росолио ему вредно), и,
наконец, тысячи мелких счетов и расходов, неизбежных
во всяком лондонском хозяйстве.
К тому же в это самое время, когда я
испытывал столь острую нужду в деньгах, я получил счета от
мадам Манталини, от господ Хоуэлла и Джеймса, от
барона фон Штильца, а также от мистера Полониуса за оправу
для бриллиантовой булавки. Все они, будто сговорясь,
прислали счета на одной и той же неделе; и вообразите мое
изумление, когда, принеся их миссис Хоггарти, я услышал
от нее:
— Что ж, мой дорогой, ты получаешь весьма
порядочное жалованье. Ежели тебе угодно заказывать платье и
драгоценности в наилучших магазинах, изволь за них
платить. И не надейся, что я стану потакать твоим сумасброд-
572
ртвам или дам тебе хотя бы шиллинг сверх того, что так
щедро плачу за стол и квартиру!
Ну мог ли я рассказать Мэри в ее деликатном
положении о таком поступке миссис Хоггарти! И самое печальное,
что, как ни худо обстояли дела у меня дома, на службе
они складывались еще того хуже.
Ушел не только Раундхэнд, теперь нашу контору
покинул и Хаймор. Главным конторщиком стал Абеднего; и
однажды в нашу контору явился его старик-отец и проведен
был в кабинет директора. Вышел он оттуда, ве|сь дрожа и,
спускаясь с лестницы, бормотал что-то невнятное и
бранился на чем свет стоит.
— Господа,— начал он, видно, желая обратиться ко
всем нам, конторским, с речью. Как вдруг из кабинета
выскочил мистер Брафф, умоляюще поглядел на старика,
вскричал: «Обождите до субботы!» — и кое-как
выпроводил его за дверь.
В субботу Абеднего-младший навсегда покинул нашу
контору, и я сделался главным конторщиком с жалованьем
четыреста фунтов в год. То была роковая неделя и для
нашей Компании тоже. В понедельник, когда я пришел в
должность, занял место за первой конторкой и первый, как
мне теперь полагалось, раскрыл газету, мне сразу же
бросилось в глаза следующее сообщение: «Страшный пожар
на Хаундсдиче! Сгорела дотла сургучная фабрика
мистера Мешаха и соседний с нею склад готового платья
мистера Шадраха. На фабрике находилось на двадцать тысяч
фунтов стерлингов лучшего голландского сургуча, который
в мгновение ока был поглощен ненасытным пламенем.
Уважаемый хозяин склада как раз только что заготовил
сорок тысяч мундиров для кавалерии его высочества ка-
сика Пойесского».
Оба этих почтенных иудея, добрые знакомые Абеднего,
были застрахованы в нашей Компании на всю сумму их
нынешнего убытка. Виновником несчастья сочли подлого
пьяницу ирландца, ночного сторожа, который опрокинул
бутылку виски в складе мистера Шадраха и неосторожно
важег свечу в поисках пролитого напитка. Хозяева
привели сторожа к нам в контору, и мы имели возможность
убедиться собственными глазами, что даже и тогда он был
еще вдребезги пьян.
И, словно этого было не довольно, в той же газете был
некролог, извещавший о кончине олдермена Пэша,— зная
его как гурмана, мы в веселую минуту называли его между
573
собою Пэш-поешь; но в тот час нам было не до шуток.
Он был застрахован у нас на пять тысяч фунтов. Тут я
понял, как прав был Гас, когда говорил, что общества по
страхованию жизни преуспевают первые год или два, а
потом застрахованные начинают умирать, и тогда доходу
получается куда меньше.
Эти два еврейских пожара оказались тяжелейшим из
всех ударов, которые обрушились на нашу Компанию; ибо
хотя хлопкопрядильные фабрики Уодингли, сгоревшие в
1822 году, стоили Компании восемьдесят тысяч фунтов, а
фабрика патентованных спичек «Герострат», взлетевшая
на воздух в том же году, еще четырнадцать тысяч фунтов,
поговаривали, что Компания потеряла на этом куда менее,
нежели предполагалось, и даже что Компания сама
сожгла эти предприятия для собственной рекламы. Но об
этих делах я не могу ничего утверждать с определен-
ностию, так как отчеты тех лет через мои руки не
проходили.
Вопреки ожиданиям всех наших джентльменов,
которые сидели мрачные, как на похоронах, мистер Брафф
подкатил к конторе в своей карете четверней с каким-то
приятелем, смеясь и перебрасываясь шутками.
— Джентльмены! — сказал он, войдя в контору.— Вы
читали газеты. В них сообщается о событии, повергшем
меня в глубокую скорбь. Я говорю о кончине нашего
клиента, высокочтимого олдермена Пэша. Но если что и
может утешить меня, так единственно мысль, что вдова и
дети сего достойного человека в субботу, в одиннадцать
часов дня, получат из рук моего друга мистера Титмарша,
нашего главного конторщика, пять тысяч фунтов. Ну, а
касаемо беды, приключившейся у господ Шадраха и Ме-
шаха, тут горевать не о чем. В субботу ли, в другой ли
день, как только все обстоятельства дела будут выяснены
и должным образом удостоверены, мой друг Титмарш
выплатит им наличными сорок, пятьдесят, восемьдесят, сто
тысяч фунтов — смотря по тому, во сколько будут
исчислены их убытки. Уж они-то, по крайности, будут
вознаграждены; и хотя для наших акционеров издержки, без
сомнения, окажутся значительными, мы можем себе
позволить такой расход, господа. Если на то пошло, Джон
Брафф без особого труда и один мог бы взять на себя
такой расход; нам надобно учиться встречать неудачи, так
же как до сей поры мы встречали удачи, и сохранять
мужество при всех обстоятельствах!
574
Приводить здесь слова, которыми мистер Брафф
заключил свою речь, мне, признаться, не хочется, ибо я
всегда полагал непочтительным поминать небеса в связи с
обычными нашими мирскими делами, призывать же их
в свидетели, изрекая ложь, как поступает пустосвят, уж
такой страшный грех, что и говорить-то о нем следует с
осторожностию.
Речь мистера Браффа каким-то образом в тот же вечер
попала в газеты, и я просто ума не приложу, чьих это рук
дело: ведь до самого появления вечерних газет ни один из
наших джентльменов не выходил из конторы. Однако же
речь была напечатана. И, более того, хотя, по слухам,
Раундхэнд на Бирже ставил пять против одного, что деньги
олдермена Пэша выплачены не будут, в субботу я выдал
поверенному миссис Пэш наличными всю
причитающуюся ей сумму, и Раундхэнд, безусловно, проиграл пари.
Рассказать вам, откуда веялись эти деньги? Думаю, что
теперь, через двадцать лет, в этом нет беды; и, более того,
это послужит к прославлению двух людей, которых ныне
уже нет в живых.
В качестве главного конторщика я часто бывал в
кабинете Браффа, и теперь он как будто снова был склонен
отнестись ко мне с доверием.
— Титмарш, дорогой,— сказал он однажды, поглядев
на меня в упор,— вы когда-нибудь слышали об великом
мистере Зильбершмидте из Лондона?
Я, разумеется, о нем слышал. Мистер Зильбершмидт,
Ротшильд своего времени (говорят даже, что сей
прославленный банкир служил поначалу конторщиком в фирме
Зильбершмидта) —этот самый Зильбершмидт,
вообразивши, будто он оказался несостоятельным, покончил с
собою; а меж тем, обожди он до четырех часов того же
дня, он узнал бы, что располагает четырьмястами
тысячами фунтов.
— Сказать вам откровенно,— промолвил мистер
Брафф,—я нахожусь сейчас в положении
Зильбершмидта. Мой бывший компаньон Хофф от имени фирмы выдал
векселя на огромную сумму, и я вынужден был их
покрыть. Четырнадцать кредиторов этой окаянной
Лимонадной компании подали в суд; всем известно, что я человек
богатый, вот все долги и взвалили на меня. И теперь мне
нужна отсрочка, не то я не смогу платить; короче говоря,
ежели до субботы я не раздобуду пять тысяч фунтов, наша
Компания разорена!
575
— Как! Западно-Дидлсекская разорена? — воскликнул
я, думая об ежегодной ренте моей матушки.— Быть этого
не может! Мы же процветаем.
— Ежели в субботу у нас будет пять тысяч фунтов, мы
спасены. И ежели вы расстараетесь и достанете их для
меня, а вы это можете, я верну вам вдвое!
После чего Брафф подробнейшим образом ознакомил
меня со счетами Компании и со своим личным счетом,
которые с несомненностию подтверждали, что с этими пятью
тысячами наша фирма устоит, а без них рухнет. Как он
сумел это доказать, не важно; недаром же один
государственный муж сказал, что ежели ему разрешат обратиться
к цифрам,— он докажет все, что угодно.
Я пообещал еще раз попросить денег у миссис
Хоггарти, и она как будто отнеслась к моей просьбе
благосклонно. Так я и сказал Браффу, и в тот же день он сам ее
навестил, да не один, а с супругой и с дочерью, и таким
образом у наших дверей вновь появилась карета, запряженная
четверней.
Но миссис Брафф не справилась со своей ролью:
вместо того чтобы держаться гордо и независимо, она
расплакалась на глазах у миссис Хоггарти, опустилась перед
нею на колени и принялась молить ее спасти дорогого
Джона. Тетушка тут же заподозрила неладное и, вместо
того чтобы дать деньги взаймы, вызвала к себе мистера
Смизерса, потребовала, чтобы я вернул ей квитанции на
покупку акций, хранившиеся у меня, обозвала меня
отъявленным мошенником и бессердечным обманщиком и
заявила, что это я ее разорил.
Откуда же все-таки у мистера Браффа взялись деньги?
Сейчас узнаете. Однажды, когда я был у него в кабинете,
пришел старик Гейтс, фулемский привратник, и вручил
ему тысячу двести фунтов от мистера Болса, ростовщика.
Хозяйка велела ему, объяснил он, снести мистеру Болсу
столовое серебро; и, отдавши деньги, старик Гейтс долго
рылся у себя в карманах, пока наконец не вытащил
пятифунтовый банковый билет, только что присланный ему
дочкой Джейн, которая находилась в услужении, и стал
просить у мистера Браффа еще одну акцию Западно-Дидл-
секской компании. Он-то уверен, что дело еще уладится
наилучшим образом. А как он услыхал, что хозяин, гуляю-
чи со своей хозяйкой по саду, плачет, да клянет все, да
говорит — мол, из-за нескольких фунтов, да что там, из-за
нескольких шиллингов пойдет прахом первейшее богат-
576
ство на всю Европу,— тут уж они с женой порешили
отдать все, что у них есть, только бы выручить своих добрых
хозяев.
Таков был смысл Гейтсовой речи; и мистер Брафф
пожал ему руку и... взял у него пять фунтов.
— Гейтс,— сказал он,— вы еще ни разу в жизни не
помещали деньги с такою пользою!
И он не ошибся, да только проценты со своей скромной
лепты бедняге Гейтсу суждено было получить на небесах.
И это был не единственный случай. Сестра Браффовой
супруги мисс Доу, которая с тех самых пор, как наш
директор вышел в тузы, сильно его не жаловала, тут явилась
к нам в контору, выложила доверенность и объявила:
— Джон, сегодня утром у меня была Изабелла и
сказала, что ты нуждаешься в деньгах. Вот я и принесла свои
четыре тысячи фунтов; это все, что у меня есть, Джон, и
дай бог, чтобы эти деньги тебе помогли... тебе и моей
милой Изабелле, ведь она была лучшей в мире сестрой... до...
почти до самого последнего времени.
Она положила перед ним бумагу, а меня вызвали ее
засвидетельствовать, и Брафф, со слезами на глазах,
пересказал мне ее слова, ибо, как он говорил, он полностью
мне доверяет. Вот почему я оказался в кабинете Браффа,
когда всего лишь час спустя к нему пришел Гейтс.
Превосходнейшая миссис Брафф! Как она старалась
ради своего супруга! Хорошая вы женщина, добрая! Но
вы-то чистая душа и достойны были лучшей участи!
А впрочем, для чего я это говорю? Она ведь по сей день
почитает своего супруга ангелом и за все его злоключения
любит его во сто крат сильнее.
В субботу, как я уже говорил, я выдал поверенному
олдермена Пэша всю сумму полностью.
— Бог с ними, с деньгами вашей тетушки, мой милый
Титмарш,— сказал Брафф,— бог с ней, что она отказалась
от акций. Вы верный и честный малый. Вы никогда не
поносили меня, как вся эта свора там, внизу, и я еще вас
озолочу.
* * *
На следующей неделе, когда я преспокойно сидел за
чаем со своею супругою, мистером Смизерсом и миссис
Хоггарти, в дверь постучали и какой-то джентльмен
выразил желание побеседовать со мною с глазу на глаз. То был
мистер Аминадаб с Чансери-лейн, и он тут же арестовал
19 у. Теккерей, т. 1
577
меня как держателя акций Западно-Дидлсекского
страхового общества по иску фон Штильца с Клиффорд-стрит,
портного и торговца сукном.
Я вызвал из столовой Смизерса и заклинал его ничего
не говорить Мэри.
— Где Брафф? — спросил мистер Смизерс.
— Брафф? Он теперь возглавляет фирму «Брафф и
Был Таков», сэр. Нынче утром он завтракал в Кале!
Глава ХГ,
из которой явствует, что можно обладать
бриллиантовой булавкой и, однако же,
и© иметь денег на обед
В этот роковой субботний вечер, в наемном экипаже,
приведенном от Воспитательного дома, увезли меня из
моего уютного жилища, от моей дорогой женушки, которую
по мере сил предстояло утешать мистеру Смизерсу. Он
сказал ей, что я вынужден ехать куда-то по делам фирмы;
и моя бедняжка Мэри сложила необходимые вещи в
небольшой саквояж, повязала мне шею теплым кашне и
попросила моего спутника приглядывать, чтобы окна кареты
были закрыты, а негодяй, ухмыльнувшись, пообещал
исполнить ее просьбу. Путешествие наше было недолгим;
доехать до Кэрситор-стрит, Чансери-лейн, стоило всего
шиллинг, туда-то меня и доставили.
Дом, перед которым остановился наш экипаж, ничем
не отличался от пяти или шести других домов этой улицы,
предназначенных для той же цели. Я думаю, всякий
человек, даже первейший богач, невольно содрогнется, проходя
мимо этих мрачных домов, мимо забранных решетками
окон. Блестящая медная табличка на замызганной двери
сообщала, что здесь проживает «Аминадаб, чиновник
Мидлсекского шерифа». Когда карета остановилась,
рыжий еврей небольшого росточку отворил дверь и впустил
меня вместе с моим багажом.
Как только мы вошли, он заложил дверь на засов, и я
очутился перед другой массивной дверью, запертой на
несколько замков; только миновав и ее, мы попали наконец
в прихожую.
Описывать этот дом нет надобности. Таких домов в
нашем угрюмом Лондоне не счесть. Был тут грязный
коридор, и грязная лестница, и две грязные двери из коридора
57В
вели в две неопрятные комнаты с массивными решетками
на окнах, но при этом убраны они были до отвращения
пышно, так что даже вспомнить противно. На стенах было
развешано множество дрянных картин в кричащих рамах
(они и в подметки не годятся первоклассным работам
моего родича Майкла Анджело!); на каминной полке
—громоздкие французские часы, вазы и подсвечники; на
буфетах — огромные подносы с серебряной посудой; ибо мистер
Аминадаб не только сажал под замок тех, кому нечем было
платить, но ссужал деньгами тех, кому платить было чем,
и, как водится между его собратьями, успел уже
перепродать и вновь откупить эти предметы по нескольку
раз.
Я согласился провести ночь в малой гостиной, и пока
молодая еврейка стелила мне постель на неприветливом
узком диванчике (горе тому, кто обречен на нем спать!),
меня пригласили в большую гостиную, где, пожелав мне
не падать духом, мистер Аминадаб объявил, что я могу
бесплатно отобедать с только что прибывшей компанией.
Обедать мне не хотелось, но я боялся остаться один даже
на короткое время до прихода Гаса, аа которым я послал
на его квартиру, расположенную неподалеку отсюда.
Сейчас, в восемь часов вечера, в большой гостиной
четверо господ как раз собирались обедать. И подумайте!
Там оказался мистер Б., светский франт, который только
что прибыл в дилижансе, сопровождаемый мистером Ло-
ком, надзирателем Хоршемокой тюрьмы. Мистер Б. был
арестован следующим образом. Беспечный добряк, он на
огромную сумму индоссировал векселя своего друга,
человека знатного рода и незапятнанной чести, который
умолял его об этом и много раз торжественно клялся уплатить
по вышеозначенным векселям. Дав свою подпись на
векселях, молодой человек с присущей ему беззаботностью
забыл и думать о них, и так же, по странной случайности,
поступил и его друг; вместо того чтобы в указанный срок
быть в Лондоне и расплатиться, друг сей отправился в
заграничное путешествие, ни словом не предупредив
мистера Б., что отвечать по векселям придется ему. Юноша
находился б Брайтоне, где заболел лихорадкой; бейлиф
поднял его с постели и под дождем повез в Хоршемскую
тюрьму; там он снова слег, а когда мало-мальски
оправился, его препроводили в Лондон, в дом мистера Амина-
даба, где я его и застал,— бледный, худой и уже явно
обреченный, этот добряк лежал на диване и отдавал распо-
19*
679
ряжения касаемо обеда, на который меня пригласили. На
лицо его было больно смотреть, и всякому было ясно, что
дни его сочтены.
Надобно признаться, что мистер Б. не имеет никакого
касательства к моей скромной повести; но я не могу об
нем не рассказать. Он послал за своим поверенным и за
доктором; первый поспешно уладил его счета с бейлифом,
а второй — все его земные счеты; ибо, вырвавшись из
этого страшного дома, он так и не оправился от удара и
спустя несколько недель скончался. И хотя все это случилось
много лет тому назад, я не забуду его до самой смерти, и
часто вижу его погубителя — эдакий преуспевающий
господин, вот он катается верхом на прекрасной лошади в
Парке, вот небрежно развалился в креслах у окна клуба,
и у него, без сомнения, множество друзей и отличная
репутация. Неужто он спит спокойно и ест с аппетитом?
Неужто он так и не отдал наследникам мистера Б. деньги,
которые тот за него заплатил и которые стоили ему жизни?
Ежели история мистера Б. не имеет ко мне никакого
касательства и введена сюда единственно ради
вытекающего из нее поучения, зачем мне тогда описывать
подробно обед, которым угостил меня этот человек в доме на Кэр-
ситор-стрит? Да опять же ради поучения; а потому
читатель должен узнать, какой нам подали обед.
Нас было пятеро; а на столе стояли три серебряные
миски с тремя супами: из телячьей головы, из воловьих
хвостов и из гусиных потрохов. Затем подали огромный
кусок лосося, тоже на серебре, жареного гуся, жареное
седло барашка, жареную дичь и всевозможные гарниры и
соусы. Ежели джентльмену угодно, он вполне может жить
подобным образом в доме у бейлифа, и за этой трапезой
(к которой, по правде сказать, я не притронулся, ибо, не
говоря о том, что я уже обедал, сердце мое было полно
тревоги) — за этим пиршественным столом меня и застал мой
друг Гас Хоскинс, который пришел сюда тотчас по
получении моего письма.
Гас сроду не бывал в тюрьме — и сразу пал духом,
когда рыжий Мозес, впустив его, принялся затворять за ним
бесчисленные железные двери, а когда он увидел меня за
бутылкой кларета, в ярком свете позолоченных ламп, у
него язык прилип к гортани; портьеры были сдвинуты и
скрывали решетки на окнах, а мистер Б., надзиратель
брайтонской тюрьмы мистер Лок, мистер Аминадаб и еще
один богатый господин той же профессии и вероисповеда-
580
ния превесело болтали и с виду ничем не отличались от
какой угодно благородной компании.
— Если это друг мистера Титмарша, давайте его
сюда,— сказал мистер Б.— Я, черт возьми, не прочь
поглядеть на мошенника. И хоть убейте, Титмарш, но, я
думаю, вы один из самых отъявленных мошенников во всем
Лондоне. Вы и Браффа перещеголяли, право слово, ведь
по нему сразу видно, что он мошенник, а вы-то! На вас
поглядеть— сама честность!
— Продувная бестия,— сказал Аминадаб и, подмигнув,
показал на меня своему приятелю мистеру Иегосафату.
— Хорош,— отвечал Иегосафат.
— На него иск в триста тысяч фунтов,— сказал
Аминадаб.—Правая рука Браффа, и это в двадцать три года.
— Ваше здоровье, мистер Титмарш, сэр! — в порыве
восторга воскликнул мистер Л ок.— Доброго здоровья вам,
сэр, и удачи вам в другой раз.
— Ну, ну! Он-то не пропадет,— сказал Аминадаб,—
об нем не беспокойтесь.
— Иск на сколько? — ошеломленный, вскричал я.—
Помилуйте, сэр, вы же арестовали меня из-за девяноста
фунтов.
— Да, но иск на вас в полмиллиона, сами знаете.
Мелкие-то долги, все эти счета торговцев я не беру во
внимание. Я про дела Браффа. Грязная история, но вы-то
выпутаетесь. Знаем мы вас. Даю голову на отсечение, когда с
судом будет покончено, окажется, что у миссис Титмарш
отложена кругленькая сумма.
— У миссис Титмарш есть кое-какие деньги, сэр,—
подтвердил я.— Но что из этого?
Все трое громко расхохотались, объявили, что я
«комик», «малый не промах», и отпустили еще несколько
шуточек, которые я тогда не понял; но впоследствии времени
мне, увы, стало ясно, что эти господа почитали меня за
большой руки прохвоста и полагали, будто я ограбил За-
падно-Дидлсекское независимое страховое общество и,
дабы сохранить деньги в неприкосновенности, перевел их
на имя своей жены.
Посреди этого-то разговору, как я уже упоминал, и
вошел Гас и, увидевши, что тут происходит, ка-ак свистнет!
— Господи боже мой! — вскричал Аминадаб. И все
расхохотались.
— Садитесь,— пригласил мистер В.— Садитесь, милей-
581
ший свистун, и промочите горло! Право слово, вы такие
рулады выводите, не хуже флейтиста, что услаждал слух
Моисея! А ну-ка, Даб, распорядитесь подать бутылку
бургундского для мистера Хоскинса.
И, не успев опомниться, Гас уже сидел за столом
и впервые в жизни пил Кло-Вужо. Он сказал, что ему еще
не доводилось пробовать бергамского, на что бейлиф
презрительно фыркнул и объяснил ему, как называется вино.
— Значит, господа иудеи тоже выпивают? — спросил
Гас, и мы засмеялись, но Аминадаб и его соплеменники к
нам не присоединились,
— Полно, полно, сэр! — сказал приятель мистера Ами-
надаба.— Мы все тут тшентльмены, а тшентльмену не к
лицу смеяться над тругим тпгентльменом.
На этом пиршество окончилось, и мы с Гасом удалились
ко мне в комнату посоветоваться о моих делах. Что
касаемо моей ответственности в качестве держателя Западно-
Дидлсекских акций, она меня не пугала; ибо хоть на
первых порах это и могло доставить мне некоторые
неприятности, я ведь не был акционером, а просто у меня на
руках были квитанции о подписке на акции, по которым
дивиденды выплачивают подписчику, а тетушка отказалась
от своих акций. Из-за этого иска я мог не беспокоиться.
Но мне было весьма прискорбно оказаться в долгу чуть
не на сто фунтов у разных поставщиков, главным образом
по милости миссис Хоггарти; а так как она обещала сама
оплатить эти счета, я порешил написать ей письмо,
напомнить об этом ее обещании и заодно попросить ее вернуть
за меня долг мистеру фон Штильцу, тот самый, из-за
которого меня арестовали, хотя сделан он был не по ее
желанию, а единственно по настоянию мистера Браффа; ведь
ежели бы не его приказ, я нипочем не позволил бы себе
такдд расход.
Итак, я написал к тетушке, умоляя ее заплатить все
эти долги, и уверил себя, что в понедельник поутру
ворочусь к моей милой женушке. Гас унес письмо и пообещал
доставить его на Бернард-стрит к тому времени, как
кончится служба в церкви, озаботясь при этом, чтобы Мэри
не узнала, в какое трудное положение я попал. Мы
расстались около полуночи, и я постарался с грехом пополам
выспаться на грязном диванчике в малой гостиной мистера
Аминадаба.
Утро выдалось ясное, солнечное, я слышал веселый
перезвон колоколов в церквах, и мне так хотелось вместе
582
с моей женушкой идти сейчас в Воспитательный дом; но
от свободы меня отделяли три железные двери, и я сделал
единственное, что мне оставалось,— прочел молитвы у
себя в комнате, а потом вышел прогуляться во дворике
позади дома. Поверите ли? Самый этот дворик подобен
был клетке! Железная решетка отгораживала его от всего
мира; и здесь-то узники мистера Аминадаба дышали
свежим воздухом.
Через окно малой гостиной они видели, что я читаю
молитвенник, и когда я вышел прогуляться в клетке,
встретили меня громким хохотом. Один крикнул мне «аминь!»,
другой обозвал шляпой (что на языке улицы означало —
круглый дурак); третий—грубый малый, барышник —
удивился, что я до сих пор не бросил молитвенник.
— Что значит «до сих пор», сэр? — переспросил я его.
— А то, что вам уж теперь все равно не миновать
виселицы, молодой ханжа, вот что,— отвечал он.— Да, Браф-
фовы молодчики все на один покрой. Я раз хотел продать
самому четверку серых кобыл — знатное было дельце, да
только он не пошел смотреть их к Тэттерсолу, и даже
разговаривать не стал, нынче, мол, воскресенье.
-— Не следует порицать набожность, сэр, оттого
только, что на свете есть ханжи. И ежели мистер Брафф не
пожелал торговать у вас лошадей в воскресный день, он
лишь исполнил долг христианина.
В ответ на мой укор эти господа еще пуще
расхохотались и порешили, видно, что я прожженный мошенник.
Появление Г аса и мистера Смизерса избавило меня от их
общества, чему я был весьма рад. Но оба мои посетителя
были как в воду опущенные. Их провели ко мне в комнату,
и тут же, безо всяких моих на то распоряжений, мистер
Аминадаб принес бутылку вина и печенья, что, на мой
взгляд, было с его стороны крайне любезно.
— Выпейте вина, мистер Тит-марш, и прочитайте-ка
вот это письмо,— сказал Смизерс.— Что и говорить,
хорошее письмецо вы прислали вашей тетушке нынче утром,
вот она вам и ответила.
Я осушил стакан вина и, трепеща, прочитал
следующее:
«Сударь мой!
Тебе известно, что я решила отказать тебе мое
имущество, вот ты, видно, и надумал свести меня в могилу, штоп
поскорей вступить во владение, да только понапрасну
стараешься. Твое злодейство и неблагодарность и впрямь све-
683
ли бы меня в могилу, да только милостью божьей я нашла
себе иное утешение.
Чуть не цельный год я жила из-за тебя сущей мучини-
цей. Всем-то я пожертвовала, покинула свой мирный очаг,
тихий край, где все уважали имя Хоггарти; мои ценные
мебели и вина, столовое серебро, хрусталь, посуду, все
привезла с собой того ради, штоп твой очаг зделать
счастливым и почтенным. Супружница твоя, миссис Титмарш,
важничала да дерзила мне, а я все сносила, я осыпала вас
с ней подарками да милостями. Ничего-то я не пожалела,
распрощалась с наилутшим обществом, к коему привычна,
ради того единственно, штоп хранить тебя и наставлять и
оберечь, коли можно, от транжирства и мотовства; я уж
так и предсказывала, что они тебя погубят. Эдакого
транжирства да мотовства я сроду не видывала. Масла
нисколько не икономят, будто это грязь какая, угля не
напасешься, свечи жгут с обоих концов, а уж про чай и мясо
и говорить нечего. Мясник такие счета присылает, будто
тут не одна, а шесть семей кормятся.
А теперь вот засадили тебя в тюрьму, и поделом, ведь
ты обманом выудил у меня три тысячи фунтов, обобрал
родную мать, лишил ее, бедняжку, хоть и малого, но
единственного дохода (ей-то, конечно, потеря не так тяжела,
она весь век свой только что не побиралась); влез по уши
в долги, а знал же, знал, что возвращать не из чего и что
так роскошествовать не по средствам,— а теперь,
бесстыжие твои глаза, требуешь, штоп я уплатила твои долги!
Нет уж, голубчик, хватит и того, что твоя родная мать
будет кормиться милостью прихода, а супружница твоя
пойдет мести улицы, и все по твоей вине; уж я-то, хоть ты и
выудил у меня целое состояние и довел меня на старости
лет до разорения, я-то, по крайности, могу уехать и не
вовсе лишусь комфорту, который подобает мне при моем
благородном происхождении. Мебели в доме все мои; а как
ты сам пожелал, штоп супружницу твою выкинули на
улицу, упреждаю тебя, что завтра же все их вывезу.
Мистер Смизерс подтвердит тебе, что я собиралась
отказать тебе все, чем владею, а нынче утром я при нем
торжественно разорвала свое завещание; и тем отрекаюсь от
тебя и ото всего твоего нищего семейства.
Сьюзен Хоггарти,
P. S. Я пригрела змею на своей груди, и она меня
ужалила».
584
Признаюсь, прочитавши по первому разу это письмо, я
пришел в такую ярость, что чуть не позабыл про
бедственное положение, в которое оно меня ввергает, и про
грозящую мне погибель.
— Ну и дурень же вы были, Титмарш, что написали ей
такое письмо! — сказал мистер Смизерс.— Сами себя
зарезали, сэр... лишились завидного наследства... одним
росчерком пера отняли у себя пять сотен годовых. Моя
клиентка миссис Хоггарти, в точности как она вам отписала,
вышла со своим завещанием из спальни и у нас на глазах
швырнула его в огонь.
— Еще, слава богу, жены твоей не было дома,—
прибавил Гас— Она поутру пошла в церковь с семейством
доктора Солтса и приказала сказать, что весь день у них
пробудет. Ты ж знаешь, она всегда старалась держаться
подальше от миссис Хоггарти.
— Она никогда не умела соблюсти свой интерес,—
сказал мистер Смизерс.— Вам бы, сэр, всяко потакать
тетушке, а денег занять у кого другого. Мне ведь почти удалось
уговорить ее, чтоб не убивалась об том, что она потеряла
на тех треклятых акциях. Я ей рассказал, как уберег от
Браффа все ее прочее состояние, уж он бы, негодяй,
непременно пустил его по ветру! Предоставь вы это дело мне,
мистер Титмарш, уж конечно, я бы вас помирил с миссис
Хоггарти. Я бы все как есть уладил. Я бы сам ссудил вам
эти жалкие гроши.
— Да неужто? — воскликнул Гас.— Вот это добрая
душа! — И он схватил руку Смизерса и так ее сжал, что
у поверенного слезы выступили на глазах.
— Вы благородный человек,—сказал я.—Знаете мои
обстоятельства, знаете, что отдавать мне не из чего, и
все-таки ссужаете меня деньгами.
— Э, сэр, тут-то и загвоздка! — отвечал мистер
Смизерс— Я сказал: ссудил бы. И так оно и есть; законного
наследника миссис Хоггарти я ссудил бы деньгами хЪть
сейчас. Ведь Боб Смизерс такой человек: для него нет
большей радости, как сделать доброе дело. Я бы с
превеликим удовольствием вас выручил, и ничего бы мне не
надо, только расписочку моей уважаемой клиентки. А
теперь, сэр, дело другое. Как вы сами изволили справедливо
заметить, нет у вас никакого обеспечения.
— Да, ровным счетом никакого.
— А без обеспечения, сэр, какая может быть ссуда,
585
сами понимаете. Вы человек бывалый, мистер Титмарш, и,
я вижу, наши с вами понятия сходятся.
— А женин капитал? — напомнил Гас.
— Что там женин капитал!—отмахнулся Смизерс.—
Миссис Сэм Титмарш несовершеннолетняя, она из своих
денег и шиллингом распорядиться не может. Нет-нет, с
несовершеннолетними я связываться не желаю! Но
обождите! У вашей матушки есть в нашей деревне дом и лавочка.
Дайте мне на них закладную и...
— Ничего подобного я не сделаю, сэр,— отвечал я.—
Матушка и так уже довольно пострадала по моей вине, и
ей надо еще заботиться об сестрах. Буду вам очень
признателен, мистер Смизерс, ежели вы ни словом не
обмолвитесь ей об моем нынешнем положении.
— Вы благородный человек, сэр,— сказал мистер
Смизерс,— и я в точности исполню ваше пожелание. Более
того, сэр, я сведу вас с весьма почтенной лондонской
фирмой, с моими досточтимыми друзьями мистерами Хитсом,
Бигсом и Болтунигсом, они сделают для вас все, что
возможно. И на этом, сэр, позвольте пожелать вам всего
наилучшего.
С этими словами мистер Смизерс взял свою шляпу и
удалился; и, как мне стало после известно, посовещавшись
с моей тетушкой, в тот же вечер отбыл из Лондона
почтовым дилижансом.
А я отрядил моего верного Гаса к себе домой и велел
осторожненько рассказать обо всем происшедшем моей
Мэри, ибо опасался, что миссис Хоггарти в гневе обрушит
на нее эту новость безо всякой подготовки. Но через час
он воротился, еле перевода: дух, и сказал, что миссис
Хоггарти уже уложила и заперла сундуки и отбыла в
извозчичьей карете. Зная, что бедняжка Мэри вернется только
к вечеру, Хоскинс не захотел до тех пор оставлять меня
одного; и, проведя со мною весь етот мрачный день, он
в девять часов вновь оставил меня и понес ей эту мрачную
весть.
В десять раздался громкий нетерпеливый звонок и
стук в наружную дверь, и через минуту бедняжка
кинулась в мои объятия; я изо всех сил старался ее утешить,
а в уголку тем временем громко всхлипывал Гас
Хоскинс.
588
* * *
Наутро мне оказал честь своим визитом мистер Еолту-
нигс, но, услыхавши, что у меня всего-то денег три ринеи,
заявил без околичностей, что законники живут
единственно гонорарами. Он присоветовал мне съехать с Кэрситор-
стрит, ибо квартира эта мне не по карману. Я совсем
приуныл, и тут появилась Мэри (накануне с превеликим
трудом удалось уговорить ее покинуть меня на ночь одного).
— Эти грубияны ворвались в дом в четыре часа утра,—-
сказала она,-— за четыре часа до свету.
— Какие грубияны? — спросил я.
— Их прислала твоя тетушка за мебелью,— отвечала
Мэри.— Они все упаковали до моего ухода. Все унесли, я
им не препятствовала. Даже и глядеть не стала, что наше,
что ее, очень уж тяжко у меня на душе. С ними был этот
противный мистер Уоишот. Когда я уходила, он провожал
последний фургон. Я забрала только твое
платье,—прибавила она,—да кое-что из своего, да книжки, которые ты
все читал, да еще... еще вещички, которые я шила для...
для маленького. Слугам было уплачено по Рождество, и я
уплатила им остальное. И подумай только, милый, как раз
когда я уходила, пришел почтальон и принес мои деньги
за полгода — тридцать пять фунтов. Это ли не счастье?
— А по моему счету вы собираетесь платить,, мистер
как-вас-там? — вскричал в эту минуту Аминадаб,
распахивая дверь (он, надо быть, держал совет с мистером Бол-
тунигсом).—Эту комнату я отвожу для джентльменов.
Вашему брату она, видно, не по карману.
И тут — верите ли?—он вручил мне счет на три гинеи
за те два дня, что я столовался и жил в этом гнусном
доме.
Когда я выходил, у дверей собралась толпа зевак; и
будь я один, я готов был бы провалиться сквозь землю; но
сейчас я думал только об моей дорогой, милой женушке,
которая доверчиво опиралась на мою руку и улыбалась
мне ангельской улыбкой,— да, да, словно ангел небесный
вошел со много во Флитскую тюрьму.
О, я и прежде любил ее, и какое же это счастье —
любить, когда ты молод, полон надежд, когда все улыбается
тебе и само солнце светит для тебя; но лишь когда счастье
тебе изменит, поймешь, что значит любовь хорошей жен-
587
щины! Бог свидетель, изо всех радостей, изо всех
счастливых минут, выпавших мне на долю, ни одна не
сравнится с этой недолгой поездкой по Холборну в тюрьму, когда
щечка моей женушки покоилась на моем плече! Вы
думаете, я конфузился бейлифа, что сидел напротив нас?
Ничуть не бывало. Я целовал ее, и обнимал, да, да, и вместе
с нею лил слезы. Но еще мы не доехали до места, а уж
слезы у ней высохли, и она вышла из экипажа и вступила
в тюремные ворота раскрасневшаяся и веселая, будто
принцесса, явившаяся на прием к королеве.
Глава XII,
в которой бриллиант тетушки нашего героя
сводит знакомство с его же дядюшкой
Крах грандиозного Дидлсекского общества сразу стал
притчей во языцех, и всех и каждого, кто имел к нему
наималейшее касательство, газеты с возмущением
выставили на позор как мошенников и негодяев.
Говорили, будто Брафф скрылся, прикарманив миллион фунтов.
Не погнушались даже такой мелкой сошкой, как я:
намекали, что я отослал сто тысяч фунтов в Америку и только
жду, чтобы миновал суд, после чего уже до конца своих
дней буду жить припеваючи. Мнение это разделял кое-кто
и в тюрьме, и, странное дело, это снискало мне почет и
уважение, которые, как вы, наверно, понимаете, ничуть
меня не радовали. Однако же мистер Аминадаб во время
своих частых визитов в тюрьму упорно твердил, что я
жалкое ничтожество, всего-навсего игрушка в руках Браф-
фа, и не накопил ни шиллинга. Мнения, однако же,
разделились, и, сдается мне, стражи наши почитали меня за
отменного лицемера, что прикинулся бедняком, дабы легче
ввести публику в заблуждение.
На фирму «Абеднего и Сын» тоже обрушилось
всеобщее негодование, и, по совести сказать, я и по сей день не
знаю, какие такие дела связывали этих господ с мистером
Браффом. По книгам стало известно, что мистер Абеднего
получал от Компании крупные суммы, но он предъявил
документы, подписанные мистером Браффом, из коих
явствовало, что и сам Брафф, и Западно-Дидлсекское
общество задолжали ему и того больше. В день, когда меня
вызвали на допрос в суд по делам о банкротствах, я
повстречал там мистера Абеднего и обоих господ с Хаундсдича,
588
которые показали под присягой, что мистер Брафф и
фирма у них кругом в долгу, и подкрепляли свои претензии
громким криком и самыми страшными клятвами. Но
фирма «Джексон и Пэкстон» выставила против них того самого
сторожа-ирландца, который считался виновником пожара,
и дала понять, что, если господа иудеи будут настаивать
на своих требованиях, у фирмы есть все основания
подвести их под петлю. После этого Абеднего с компанией и
след простыл, и больше речь об их потерях не заходила.
Я склонен думать, что когда-то наш директор взял у
Абеднего деньги, дал ему акции в качестве гарантии и
обеспечения, а потом вдруг ему пришлось выкупить их за
наличные и тем самым он ускорил погибель и свою
собственную, и всего предприятия. Нет нужды перечислять здесь
все компании, с которыми был связан Брафф. Та, в
которую поместил свои деньги злосчастный Тидд, выплатила
акционерам менее двух пенсов за фунт, а прочие и того не
заплатили.
Что же до нашей Западно-Дидлсекской... когда меня —
главного конторщика и бухгалтера в последнюю пору ее
существования — доставили из Флитской тюрьмы в суд,
чтобы снять с меня показания, ну и сцена же там
разыгралась!
Бедная моя женушка, которая была уже на сносях,
пожелала непременно меня сопровождать на Бейсингхолл-
стрит; и честный Гас Хоскинс, мой преданный друг, тоже.
Видели бы вы, какая там собралась толпа, слышали бы,
какой поднялся шум и гам при моем появлении!
— Мистер Титмарш,— обратился ко мне судья
наиязвительнейшим тоном,— мистер Титмарш, вы были
доверенным лицом мистера Браффа, главным его
конторщиком и держателем весьма солидного пакета акций
Компании, так?
— Только номинальным держателем, сэр,— отвечал я.
— Ну, разумеется, только номинальным,—
презрительно подтвердил судья, оборотясь к своим коллегам.—
Ловко придумано: ухватить свою долю награбленного, то
бишь барыша, в этой бессовестной спекуляции, а потом
увильнуть от ответственности за потери, отговорясь тем,
что акции были ваши только номинально.
— Гнусный злодей! — выкрикнули из толпы. Это
оказался разгневанный капитан в отставке Gnap, наш
бывший акционер.
-— К порядку! — возгласил судья.
589
А тем временем Мэри, бледная как смерть, с тревогой
переводила взгляд с него на меня. Гас же, напротив, был
красен как рак.
— Мистер Титмарш,— продолжал судья,— я имел
удовольствие получить из суда по делам о несостоятельности
перечень ваших долгов. И обнаружил, что вы задолжали
солидную сумму знаменитому портному мистеру Штиль-
цу; а также известному ювелиру мистеру Полониусу и,
кроме того, модным портнихам и модисткам. И все это при
жаловании двести фунтов в год. Надобно жризнать, что
для столь молодого человека вы времени не теряли.
— Разве об этом речь, сэр?—спросил я.—Разве я здесь
затем, чтобы отвечать за сбои частные долги, а не затем,
чтобы рассказать, что мне известно о делах Компании?
Что до моего в ней участия, сэр, то у меня есть матушка и
сестры...
— Чертов висельник! — выкрикнул капитан,
— Призовите к порядку этого молодчика! —
распетушился Гас.
Ответом был взрыв хохота, и это придало мне
храбрости.
— Моя матушка, сэр,— продолжал я,— четыре года
назад получила в наследство четыреста фунтов и спросила
совета своего поверенного мистера Смизерса, как ими
получше распорядиться; а так как в те поры только что было
учреждено Западно-Дидлсекское независимое страховое
общество, она и вложила в него эти деньги, дабы получать
ежегодную ренту, а я получил там место конторщика. Вы,
может статься, почитаете меня закоренелым
преступником оттого, что я заказывал платье у мистера фон Штиль-
ца. Но навряд ли можно говорить, что девятнадцати лет
от роду я был посвящен в дела Компании, в которую меня
приняли двадцатым конторщиком, да и то лишь потому,
что матушкин вклад пошел как бы в уплату за мое место.
Так вот, сэр, процент, предложенный Компанией, был
столь соблазнителен, что моя богатая родственница
поддалась уговорам и купила некоторое количество акций.
— А кто уговаривал вашу родственницу, нельзя ли
узнать?
— Не могу не признаться, сэр,— отвечал я, заливаясь
краской,— что я сам написал к ней письмо. Но возьмите в
расчет, сэр, что родственнице моей было шестьдесят лет, а
мне двадцать один. Она размышляла над моим
предложением не один месяц и, прежде чем согласиться, советова-
590
лась со своими поверенными. И подстрекнул меня на это
мистер Брафф, это он продиктовал мне письмо, а я в те
норы почитал его богачом не хуже самого Ротшильда.
— Ваша родственница положила свои деньги на ваше
имя, а вас, мистер Титмарш, ежели я не ошибаюсь, в
награду за эдакую услугу, за то, что вы помогли их
заполучить, спешно перевели, в обход двенадцати ваших
сослуживцев, на более высокую должность.
— Все это правда, сэр, чистая правда,— признался я.
И бедняжка Мэри принялась утирать* слюзы, а уши Гаса
(лица ©го мне не было видно); вяшштш+ как уголья.—
И теперь, когда все так обернулось, ш ллубошх сожалею об
своем поступке*. А в те поры думал, что. дшан* доброе дело
и для тетупиш, и для себя самого. Ведь. ш& забьшайте, сэр,
акции наши стояли очень* высоко*
— Итак-, сэр, доставив мштеру Ераффу своими
стараниями эдакую сумму, вы сразу же- вошли к нему в
доверие. Вас стали принимать в его дом®, вскорости! произвели
из третьих конторщиков в главные, и на этом посту вы и
оставались вплоть до исчезновения вашеш достойного
патрона, так?
— Я уверея, сэр, что вы не вправе учинять мне такой
допрос, но здесь собрались десятки наших акционеров, и
я с охотою чистосердечно расскажу все, что мне
известно,— сказал: я, сжимая руку Мэри.— Я и вправду был
главным конторщиком. А почему? Да потому,, что. прочие
паши джентльмены ушли со службы. Меня и вправду
принимали в доме мистера Браффа. А почему? Да потому,
сэр, что у тетушки были еще деньги, которые она могла
бы поместить в наше дело. Сейчас я все это вижу как
нельзя лучше, а тогда ничего не понимал. Когда тетушка
моя приехала в Лондон, наш директор силком увез ее из
моего дома к себе в Фулем, а ни меня, ни мою. супругу
даже и не подумал туда пригласить,— эта ли не
доказательство, что у него была нужда не во мне, но в
тетушкиных деньгах? Да, да, сэр, уж он бы выудил у ней и эти
денежки, но, спасибо, ее поверенный вовремя вмешался.
Еще до того, как предприятие наше окончательно
лопнуло, едва тетушка прослышала, что оно не совсем надежно,
она забрала свои акции — как вам известно, сэр, то были
лишь квитанции о подписке на акции — и распорядилась
ими по своему усмотрению. Вот, господа, и вся история,—
сказал я,— по крайности, все, что тут касается меня. Ради
того, чтобы обеспечить своему единственному сыну хлеб
591
насущный, матушка моя вложила свое скромное
достояние в наше Страховое общество — и деньги эти потеряны.
Тетушка моя вложила куда более крупную сумму, со
временем предназначавшуюся мне,— и эти деньги тоже
потеряны. И вот, прослуживши в Компании четыре года, я
опозорен и остался без гроша. Найдется ли здесь хоть один
человек, которому — как бы ни был велик ущерб,
причиненный ему крахом нашей Компании,— выпал бы жребий
горше моего?
— Мистер Титмарш,— обратился ко мне судья, на сей
раз куда дружелюбнее, и покосился при этом на сидящего
тут же газетного репортера,— рассказ ваш не
предназначен для газет, ибо, как вы сказали, это все ваше частное
дело, и вы могли бы не говорить об этом, ежели не
полагали бы нужным, а потому мы можем счесть это
конфиденциальной беседой. Но ежели вы не против сделать ее
достоянием публики, она может принести немалую пользу
и предупредить многих людей,— буде они только
пожелают прислушаться к предостережениям,— чем грозит
участие в подобных предприятиях. Из вашего рассказа
совершенно ясно, что вы, как и все здесь присутствующие,
пали жертвой бессовестного обмана. Но поймите, сэр,
ежели бы вы так не гнались за наживой, вы, я полагаю, не
поддались бы на обман, сохранили бы деньги вашей
родственницы и, согласно вашим же словам, рано или поздно
унаследовали бы их. Стоит человеку погнаться за
большим барышом — и он будто лишается разума. И, мечтая о
прибыли, он уверен, что получит ее, и уже не слушает
никаких предостережений, забывает об осмотрительности.
Помимо сотен честных семейств, кои были разорены
оттого лишь, что доверились вашему Обществу, и кои можно
только пожалеть от всего сердца, есть еще и сотни таких,
что, подобно вам, вступили в Общество не ради того,
чтобы просто поместить свой капитал, но того ради, чтобы
нажиться на спекуляциях; и вот они, поверьте мне,
заслужили свою горькую участь. Лишь бы выплачивались
дивиденды, и никто ни об чем не спросит. Мистер Брафф
мог бы добывать деньги для своих акционеров хоть
разбоем на большой дороге, они все равно преспокойно клали
бы их в карман и ни о чем бы не спрашивали. Но что
толку в моих разговорах,—- с жаром продолжал судья.— Стоит
появиться одному жулику — и к его услугам тысячи
простофиль. И коли завтра объявится другой мошенник, через
год у этого самого стола соберется тысяча жертв. И так,
592
я полагаю, будет до скончания века. А теперь, господа,
перейдем к делу, и прошу прощенья за эту проповедь.
После того как я рассказал все, что знал, а знал я
совсем немного, пришел черед других служащих держать
ответ; а я отправился назад в тюрьму вместе со своей
бедной женушкой. Нам пришлось пройти через толпу,
заполнившую комнаты, и сердце мое облилось кровью, когда
среди десятков пострадавших я увидел беднягу Гейтса,
Браффова привратника, который отдал своему хозяину
все до последнего шиллинга и теперь, на старости лет,
остался со своими десятью детьми без гроша и без крова.
Тут же поблизости оказался и капитан Спар, настроенный
отнюдь не столь дружелюбно; в то время, как Гейтс снял
передо мною шляпу, точно перед каким лордом,
малорослый капитан, выступив вперед, стал размахивать тростью
и клясться страшными клятвами, что я злодей не хуже
Браффа.
— Будь ты проклят, лицемерный негодяй! — кричал
он.— Да как ты смел разорить меня, английского
дворянина? — И он опять замахнулся тростью.
Но тут Гас, не глядя, что он офицер, взял его за ворот
и оттащил подальше со словами:
— Взгляните на даму, грубиян вы эдакий, и
попридержите язык!
Увидевши деликатное положение моей супруги,
капитан побагровел от стыда еще пуще, нежели перед тем от
гнева.
— Жаль, что она замужем за таким проходимцем,—
пробормотал он и скрылся в толпе.
А мы с моей бедной женушкой вышли из суда и
вернулись в наше мрачное тюремное жилище.
Для существа столь нежного и хрупкого тюрьма была
сейчас неподходящим местом; и я жаждал одного: чтобы,
когда придет срок, около нее оказался кто-нибудь из
родных. Но бабушка Мэри не могла оставить старого
лейтенанта; а моя матушка написала, что раз уж с нами
миссис Хоггарти, она лучше побудет дома со своими дочками.
«Какое счастье, что при всех бедах, кои на тебя свалились,
к твоим услугам щедрый кошелек тетушки!» — писала
добрая моя матушка.
Да, как же, щедрый кошелек! И куда она
запропастилась, моя тетушка миссис Хоггарти? Ясно было только,
что она ни слова не написала никому из своих друзей в
провинции и не уехала туда, хоть и грозилась.
593
Но так как матушка моя через мой несчастный
жребий уже и без того потеряла столько денег, и немалых
хлопот стоило ей на свои скудные средства прокормить
моих сестер, а услыхав об моих невзгодах, она уж
непременно продаст с себя последюю сорочку, дабы мне
помочь,— мы с Мэри положили не писать ей, каково наше
истинное положение; а бог свидетель, было оно хуже
некуда, уж так-то горько и безрадостно. У старого
лейтенанта Смита тоже ничего не было, кроме пенсии да ревматиз-
мов; так что оказались мы безо всякой помощи.
Сейчас, когда я вспоминаю эту пору моей жизни, эту
постыдную тюрьму, мне кажется, будто все это
примерещилось мне в бреду. Ужасное место! — ужасноа, как ни
странно, не унылостию, которую я ожидал там найти, но,
напротив того, веселием, ибо длинные тюремные
коридоры были, помнится, полны оживления и какой-то
гнетущей суеты. Дни и ночи напролет хлопали двери,
слышались громкие голоса, брань, топот, хохот. Жилец соседней
с нами комнаты торговал джином, и с утра до ночи там
не прекращался гнусный разгул, там пили, пели, и что это
были за песни,— но моя дорогая женушка, по счастью, не
могла понять и малой доли этих непристойностей. Она
выходила, лишь когда стемнеет, а все дни напролет шила
чепчики и платьица для ожидаемого младенца и, как
утверждает по сей час, вовсе не чувствовала себя
несчастной. Но жизнь взаперти сказывалась на ее здоровье, она
ведь привыкла к вольному воздуху, а тут день ото дня
становилась все бледней.
Наше окно выходило во двор; и поначалу с неохотою,
а потом, надобно признаться, с увлечением я стал
посвящать каждый день два часа игре в мяч. Странное это было
место! Там, как и везде, была своя аристократия — среди
прочих сын милорда Дьюсэйса; и многие заключенные, что
тебе щеголи на Бонд-стрит, наперебой добивались чести
пройтись с ним и побеседовать со знанием дела об его
семействе. Особливо старался бедняга Тидд. Из всего его
богатства остался лишь несессер да цветастый халат; в
придачу он обзавелся преотличными усиками; и в таком-то
виде несчастный с важностью расхаживал по двору; и хотя
он горько сетовал на свою злую участь, но стоило кому-
нибудь из друзей ссудить ему гинею — и, я уверен, он
чувствовал себя таким же счастливым, как в недолгие дни
своего пребывания в свете. Случалось, на водах я встречал
разряженных франтов в коротких сюртучках, которые
594
прогуливались по аллеям, пожирая взглядами женщин, и
нетерпеливо, словно от этого зависела их жизнь,
дожидались пароходов и дилижансов. Так вот, в тюрьме тоже
находились такие господа, такие же фатоватые и
безмозглые, только малость поплоше — франты с грязными
бородами и продранными локтями.
Я не заглядывал в комнаты так называемой тюремной
бедноты,— если говорить по правде, просто не осмелился
туда заглянуть. Однако наши деньги были на исходе, и
сердце мое сжималось, когда я думал о том, что ждет мою
дорогую женушку и на каком ложе будет рождено наше
дитя. Но провидение избавило меня от этой муки,—
провидение и мой дорогой, верный друг Гас Хоскинс.
Адвокаты, которым меня порекомендовал мистер Сми-
зерс, объяснили мне, что я могу жить в границах Флит-
ской тюрьмы и меня могут выпустить на свободу, ежели
я найду себе поручителя на всю сумму предъявленного
мне иска; но как я ни вглядывался в лицо мистера Болту-
нигса, он не предложил внести за меня залог, и во всем
Лондоне я не знал ни единого домовладельца, который мог
бы за меня поручиться. Однако же такой нашелся, хотя
я его и не знал,— то был старый мистер Хоскинс,
торговец кожами со Скиннер-стрит, добродушный толстяк,
который вместе со своей толстухой женой пришел навестить
миссис Титмарш, и хотя дама эта сразу взяла весьма
покровительственный тон (ее супруг вышел из
гильдии кожевников и метил в члены Городского
управления, даже в лорд-мэры самого главного города на свете),
она, казалось, приняла в нас горячее участие; а ее
супруг бегал и суетился до тех пор, покуда не получил
требуемое разрешение, и мне дана была относительная
свобода.
Что до жилья, оно тоже скоро нашлось. Моя прежняя
квартирная хозяйка, миссис Стоукс, прислала Джемайму
сказать, что второй этаж ее дома ж дашим услугам; и
когда мы туда переехали и в жонце первой недели я захотел
уплатить ей по счету, эта добрая душа со слезами на
глазах отвечала мне, что деньги ей сейчас не надобны, а у
меня, как ей доподлинно известно, и без того расходов
хватает. Я воспользовался ее добротою,, ибо у меня и
точно оставалось всего пять гиней, и я не вправе был
селиться в такой дорогой квартире, но у супруги моей совсем
уже подходили сроки, и мне нестерпимо было думать, что
во время родов ей будет чего-то недоставать.
595
Моя несравненная женушка, которую каждый день
навещали сестры мистера Хоскинса,— и какие же они
добрые, милые женщины,— выйдя из этой ужасной тюрьмы и
получивши возможность гулять на свежем воздухе, быстро
окрепла. Как весело мы прохаживались по Бридж-стрит
и Чатем-плейс, а ведь я был поистине нищий и порою
стыдился, что чувствую себя таким счастливым.
Об обязательствах Компании я мог со спокойною
совестью не думать, ибо кредиторы теперь вправе были
предъявлять требования только директорам, а их не так-
то просто было сыскать. Мистер Брафф пребывал по ту
сторону Ла-Манша, и к чести его должен сказать, что,
хотя все полагали, будто он увез с собою сотни тысяч
фунтов, он поселился в Булони на чердаке едва ли не без
гроша, и ему предстояло сколачивать себе состояние
сызнова. Миссис Брафф, женщина истинно храбрая и
великодушная, не бросила его в беде и уехала из Фулема, в
чем была, ничего с собою не взявши, и мисс Белинда, хоть
и ворчала и выходила из себя, тоже последовала ее
примеру. Что до прочих директоров,— то когда в Эдинбурге
справились об адвокате мистере Малле, оказалось, что
некогда там и вправду жил такой господин, вел дела и
пользовался безупречной репутацией, но в 1800 году он уехал
на остров Скай, а когда к нему обратились, оказалось, что
он и слыхом не слыхал ни о каком Западно-Дидлсекском
страховом обществе. Генерал сэр Дионисиус О'Хэллорэн
внезапно снялся с места и уехал из Дублина в
республику Гватемалу. Мистер Ширн был объявлен
несостоятельным должником. У мистера Макроу, члена парламента,
королевского адвоката, не было ни гроша за душой, если
не считать того, что он получал как член нашего
правления; и единственный, кого удалось привлечь по этому
делу, был мистер Фантом из Чатема, которого мы считали
богатым поставщиком военного флота. На поверку же он
оказался мелким торговцем судовыми припасами, и
товару у него было едва ли на десять фунтов. Еще одним
директором был мистер Абеднего, и что произошло с ним,
мы уже видели.
— Послушайте,— сказал как-то мистер Хоскинс-стар-
ший,— раз уж вы более не в ответе за эту Западно-Дидл-
секскую, отчего бы вам не попробовать сговориться с
вашими кредиторами? И никто этого не сделает лучше,
нежели прелестная миссис Титмарш, чьи милые глазки
смягчат самую жестокосердую модистку и портного.
596
И вот в ясный солнечный февральский день моя
дорогая женушка попрощалась со мною и, пожелавши мне не
скучать, села с Гасом в экипаж и отправилась по
кредиторам. Год назад мне и в голову не могло взойти, что дочка
доблестного Смита вынуждена будет явиться
просительницей к портным и галантерейщикам; она же, душенька моя,
не в пример мне, нисколько не чувствовала себя
униженной, по крайности так она уверяла, и безо всякого
колебания пустилась в путь.
Она воротилась вечером, и в ожидании новостей сердце
мое громко застучало. По лицу ее увидел я, что новости
нехороши. Она заговорила не сразу, только сидела
бледная как смерть, а целуя меня, заплакала.
— Лучше вы расскажите, мистер Огастес,—
всхлипнув, проговорила она наконец.
И тогда Гас поведал мне о событиях этого горестного
дня.
— Ты только подумай, Сэм,— сказал он,— твоя
проклятая тетка, которая сама велела тебе все это заказывать,
написала всем портным и торговцам, что ты жулик и
мошенник; ты, мол, объявил, будто это она все заказывала,
а на самом деле вот не сойти ей с этого места, она хоть на
Библии присягнет, у ней ничего такого и в мыслях не было,
и деньги им надо спрашивать с тебя одного. Никто и
слышать не хочет об том, чтоб сделать тебе снисхождение; а
этот негодяй Манталини вел себя до того дерзко, что я
закатил ему оплеуху, чуть было и не убил, да бедняжка
Мэри... то бишь миссис Титмарш как вскрикнет и хлоп
в обморок. Я ее увез оттуда, и сам видишь, она чуть жива.
В ту же ночь неутомимому Гасу пришлось сломя
голову бежать за доктором Солтсом, а утром на свет появился
мальчик. Когда мне показали это крошечное слабенькое
существо, я, право, не знал, радоваться мне или
печалиться; но Мэри объявила, что счастливей ее нет женщины на
свете, и, кормя младенца, позабыла все свои горести; и
перенесла она все испытания очень храбро, и твердила, что
другого такого красавчика не сыщешь в целом свете, и
пусть леди Типтоф, о чьем благополучном разрешении от
бремени в тот же самый день мы прочли в газете, лежит
вся в шелках в роскошном особняке на Гровнер-сквер,
все равно ее дитяти нипочем, нипочем не сравниться с
нашим милым маленьким Гасом; ибо в чью же честь было
нам назвать нашего сына, если не в честь нашего верного
597
доброго друга. Мы скромно отпраздновали крестины, и,
уж поверьте, за чаем нам всем было превесело.
Молодая мать, слава богу, чувствовала себя хорошо, и
любо было смотреть на нее, когда она сидела с младенцем
на руках — в такую минуту, я полагаю, даже самая
невзрачная женщина выглядит красавицею. Младенец
оказался хилый, но она того не замечала; мы были нищие,
но сейчас это ее не заботило. Ей, не в пример мне,
недосуг было горевать; а у меня в кармане оставалась
последняя наша гинея; и когда и ее не станет... Ах! При мысли
об том, что нас ожидает, сердце мое сжималось, и я молил
господа, чтобы он ниспослал мше сил и вразумил меня, и,
однако же, несмотря на все мои затруднения, был:
благодарен уже за то, что супруга моя разрешилась от бремени
благополучно и, по крайности, тяжкую участь, нам
уготованную, встретит в добром здравии.
Я сказал миссис Стоукс, что хотел бы переехать в
более дешевое помещение — в мансарду, которая стоила бы
мне всего несколько шиллингов, и хотя эта добрая
женщина умоляла меня оставаться в наших теперешних
комнатах, однако же сейчас, когда жена моя окрепла, я
почитал за преступление лишать нашу великодушную хозяйку
ее главного дохода; она наконец пообещала отдать мне
мансарду и сделать ее по возможности удобной для нас, а
Джемайма объявила, что будет страх как рада ухаживать
и за миссис Титмарш, и за младенцем.
Вскорости помещение было убрано, и хотя я не вдруг
решился сказать Мэри об этих приготовлениях, оказалось,
что я напрасно таил от нее и колебался, ибо, когда я
наконец сказал ей, она спросила: «И только-то?» — и,
улыбнувшись своей милою улыбкою, взяла меня за руку и
пообещала, что у них с Джемаймой комнатка наша будет
всегда как игрушечка.
— И я сама буду стряпать тебе обед,— прибавила
она,—помнишь, ты говорил, что лучше моего пудинга с
вареньем сроду не едал.
Ах, ты, моя душенька! Мне кажется, есть женщины,
которым бедность даже мила; но я не сказал Мэри, до
какой степени я беден, ей и невдомек было, как изрядно
счета адвокатов, тюремщиков да лекарей поубавили ту
скромную сумму, что она вручила мне, когда мы отправлялись
в заточение.
И, однако же, ей с младенцем не суждено было
поселиться в этой мансарде. В понедельник утром мы должны
598
были переезжать, но в субботу вечером у младенца
начались судороги, и все воскресенье Мэри не отходила от него
и молилась, но, видно, богу угодно было отнять у нас
наше невинное дитя, и в воскресенье в полночь мать дар-
жала на руках бездыханное тельце. Аминь. У нас есть
теперь другие дети, они окружают нас, веселые ж здоровые;
и в сердце отца след этого крошечного существа почти
уже изгладился; но в жизни матери не было, кажется, дня,
когда бы она не вспомнила своего первенца, что пробыл
с нею так недолго; и много-много раз она водила своих
дочек на его могилку у церкви св. Бригитты, и по сей день
носит на шее тоненькую золотую прядку, которую
отрезала с головки младенца, когда он, улыбаясь, лежал в
гробу. Мне случалось забывать день его рождения, с нею
же этого не бывало; и нередко посреди разговора по
каким-то едва уловимым признакам, по нечаянному слову я
вдруг понимаю, что она все еще думает о нем, ж это
глубоко меня трогает.
Не стану и пытаться описать ее горе, ибо подобные
чувства священны ж же предназначены для сторонних
глаз; никто же вправе доверять их бумаге, жажоказ всему
свету. Я и вовсе не стал бы упоминать здесь о смерти
нашего дитяти, ежели бы не то, что, как нередко со слезами
благодарности говаривала моя женушка, даже и эта
утрата послужила к нашему благу.
Покуда Мэри оплакивала младенца, меня, стыдно
сказать, помимо скорби одолевали еще и иные чувства; и с
той поры я не раз думал, как нужда повелевает
привязанностями, более того — губит жх, и на горьком опыте
научился быть благодарным за хлеб насущный. Великая
мудрость заключена в том, что в ежедневной молитве
нашей мы признаем свою слабость, моля избавить нас от
голода и от искушения. Вы, которые сейчас богаты,
задумайтесь об этом и не прогоняйте нищего от своего порога.
Младенец лежал в плетеной колыбели, и на личике его
вастыла тихая улыбка (наверно, ангелам небесным
радостно было смотреть на эту невинную улыбку); ж лишь
на другой день, когда Мэри прилегла, а я бодрствовал
подле маленького покойника, вспомнил я, в яаких обстстятель-
ствах очутились мы, его родители, и несказанная боль
пронзила меня при мысли, что мне не на что похоронить
нашего крошку, и в отчаянии я заплакал горькими
слезами. Теперь наконец пришла пора воззвать к моей бедной
матушке, ибо иначе я не мог бы исполнить свой священ-
599
ный долг; и я взял перо и бумагу и тут же, подле мертво*
го младенца, написал ей о нашем бедственном положении.
Но письмо это, благодарение богу, я так и не отослал, ибо,
когда подошел к столу, чтобы достать сургуч и запечатать
это скорбное послание, взгляд мой упал на лежавшую в
ящике бриллиантовую булавку, об которой я начисто
позабыл.
Я заглянул в спальню — бедняжка Мэри спала; три
дня и три ночи она не смыкала глаз — и вот в
совершенном изнеможении уснула, и тут я бегом кинулся в
ссудную лавку, получил за бриллиант семь гиней, отдал их
нашей квартирной хозяйке и попросил ее сделать все, что
требуется. Когда я воротился, Мэри еще спала; когда же
она пробудилась, мы уговорили ее спуститься в
хозяйскую гостиную, а тем временем было совершено все
необходимое, и бедное наше дитя положили в гроб.
На другой день, когда все было кончено, миссис Стоукс
вернула мне три гинеи из этих семи; и тут я не удержался
и выплакал ей все мои сомнения и страхи, рассказал, что
это последние мои деньги, а когда они кончатся, я уж и
не знаю, что станется с моей Мэри, лучшей из жен.
Мэри осталась с миссис Стоукс. А бедняга Гас,
который неотлучно был при мне и скорбел не менее всех нас,
взял меня под руку и повел на улицу; и, позабыв тюрьму
и тюремные границы, мы долго-долго бродили по улицам,
перешли Темзу по Блекфрайерскому мосту, и добрый мой
друг старался, как мог, меня утешить.
Когда мы воротились, уже наступил вечер. И первая,
кого я встретил у нас в доме, была моя матушка, она со
слезами упала в мои объятия и стала нежно укорять меня
за то, что я не известил ее об моей нужде. Она бы так
ничего и не узнала, но с тех пор, как я отписал ей про
рождение сына, от меня не было никаких известий, и она
затревожилась и, встретивши на улице мистера Смизерса,
спросила его обо мне; на что сей господин с некоторою
неловкостью сообщил ей, что невестка ее находится как
будто в не слишком подходящем месте, что миссис Хоггарти
нас покинула и, наконец, что я заточен в тюрьму.
Услыхавши все это, матушка тут же отправилась в Лондон и
вот только сию минуту явилась сюда из тюрьмы, где ей
сообщили мой адрес.
Я спросил матушку, видела ли она Мэри и как она ей
показалась. Но, к великому моему изумлению, матушка
отвечала, что ни Мэри, ни хозяйки нашей она не застала.
600
И вот пробило восемь часов, потом девять, а Мэри все не
было.
В десять воротилась миссис Стоукс, но не с Мэри, а с
каким-то господином, который, войдя в комнаты, пожал
мне руку и сказал:
— Не знаю, вспомните ли вы меня, мистер Титмарш.
Меня зовут Типтоф. Я принес вам записочку от миссис
Титмарш и поклон от моей жены, которая всем сердцем
сочувствует вам в вашем горе и просит вас не
тревожиться из-за отсутствия вашей супруги. Она была столь
добра, что пообещала остаться с леди Типтоф на ночь, и
я уверен, вы не будете недовольны ее отлучкой, ибо
она утишает страдания больной матери и больного
младенца.
После этого милорд распрощался и уехал. А в записке
от Мэри говорилось только, что миссис Стоукс мне обо
всем расскажет.
Глава XIII,
из которой явствует, что добрая жепа
дороже всякого бриллианта
— Сейчас я вам все расскажу, миссис Титмарш,—
начала миссис Стоукс,— только сперва позвольте сказать
вам, сударыня, что ангелы на земле наперечет, и одного-
то не в каждом семействе встретишь, а уж двух — и вовсе
редкость. А вот ваш сын, сударыня, и невестка ваша
сущие ангелы, верно вам говорю.
Матушка отвечала, что она благодарит бога за нас
обоих. И миссис Стоукс продолжала:
— Нынче утром после похо... после службы ваша
невестка укрылась, бедняжка, в моей скромной гостиной,
сударыня, и уж так-то плакала-разливалась, и бесперечь
рассказывала про своего херувимчика, которого господь
прибрал. Он и прожил-то на свете всего месяц, такого
несмышленого, кажется, и помянуть-то нечем. Но мать —
она все примечает, сударыня. А ведь и у меня был такой
же ангелочек, мой миленький Энтони, он родился еще до
Джемаймы, и ежели бы не покинул наш грешный мир,
было бы ему теперь двадцать три годочка, сударыня. Но
я не об нем, я вам про то расскажу, что у нас тут
приключилось.
Надобно вам сказать, сударыня, что покуда мистер
Сэмюел толковал со своим дружком мистером Хоскинсом,
601
миссис Титмарш, бедняжка, сидела у нас внизу и к обеду
даже не притронулась, хоть мы так старались, чтобы все
было как полагается, а после обеда насилу я ее уговорила
выпить капельку вина с водой да размочить в нем
сухарик. Ведь до этого, сударыня, у ней сколько часов во рту
маковой росинки не было.
Ну вот, сидит она эдак молча, и я молчу, думаю,
лучше ее не тревожить; младшенькие мои тут же на коврике
играют, и она с них глаз не спускает; мистер Титмарш с
дружком своим Гасом ушли из дому, и тут как раз
мальчишка принес газету—ее всегда приносят часа эдак в
три-четыре, сударыня, и стала я ее читать. Читаю, а сама
все об мистере Сэме думаю, какой он грустный да
унылый из дому выходил, и как рассказывал мне, что деньги
у него кончаются; а потом опять же на молодую миссис
Титмарш погляжу да принимаюсь ее уговаривать, чтоб не
убивалась так, а то и про моего Энтони примусь ей
рассказывать.
А она плачет и глядит на моих младшеньких и
говорит: ах, говорит, миссис Стоукс, у вас и еще дети есть.
А мой-то был единственный. Откинулась в кресле, да как
зарыдает, ну, того и гляди, сердце у ней разорвется. А я-
то знала, что от слез ей полегчает, и опять принялась
читать в газете — мне «Морнинг пост» носят, сударыня.
Я завсегда ее читаю, желаю знать, как там живут в Вест-
Энде.
И первым делом что те я в газете вижу: «Нужна
кормилица с хорошими рекомендациями, обращаться в дом
помер такой-то на Гровнер-сквер».
— Господи спаси и помилуй! — сказала я.-—Бедняжка
леди Типтоф занемогла. Я-то знаю, где живет ее милость
и что она родила в один день с молодой миссис Титмарш,
и надобно вам сказать, что ее милость тоже знает, где я
живу, она сама сюда приезжала.
И вот что мне вдруг взошло в голову.
— Голубушка моя миссис Титмарш^—сказала я,— вы
ведь знаете, какой у вас хороший муж и в какой он
сейчас крайности.
— Знаю,— отвечает она в удивлении.
— Так вот, моя голубушка,— говорю и гляжу ей
прямо в глаза,— его знакомой леди Типтоф надобна
кормилица для ее сынка, лорда Пойнингса. Наберитесь-ка
храбрости да подите попросите это место, и, может, он заменит
вам ваше дитятко, которое бог прибрал.
602
Она вся задрожала, залилась краской. И тогда я
рассказала ей все, что вы, мистер Сэм, рассказали мне
третьеводни про ваши денежные обстоятельства. И только она
про это услыхала, сейчас схватилась за шляпку и говорит:
«Идемте, идемте скорей»,— и через пять минут мы с ней
шли к Гровнер-сквер. Прогулка ей нисколечко не
повредила, мистер Сэм, и за всю дорогу она только разок и
всхлипнула, и то когда увидала в саду няньку с
младенцем.
Детина в ливрее отворил нам дверь и говорит:
— Вы уже сорок пятая пришли наниматься. Только
перво-наперво отвечайте мне на такой вопрос. Вы часом не
ирландка?
— Нет, сэр,—отвечала миссис Тйтмарш.
— Это нам подходит,— говорит лакей.—Да и по
говору слыхать, что не ирландка. Стало быть, милости просим,
сударыни, пожалуйте. Там наверху ждут еще охотницы
до этого места, а еще сорок четыре приходили, так я их
и в дом не впустил, потому как они и впрямь былик
ирландки.
Провели нас наверх, а на лестнице ковер мяишй-пре-
мягкий, а наверху встретила нас какая-то старушка и
велела говорить потише, потому как миледи помещается
всего за две комнаты отсюда. Я спрашиваю, а как
поживают ее милость с младенчиком, и старушка отвечает,—
очень, мол, хорошо, да только доктор не велел: больше
леди Типтоф самой кормить, потому как здоровьем она
слабовата. Вот и надобно приискать кормилицу.
Тут же была еще одна молодая женщина — высокая да
цветущая,—поглядела она эдак сердито на миссис Тит-
марш, на меня, и говорит:
— У меня письмо от герцогини, я у ней дочку
вскормила. И я вам так скажу, миссис Бленкинсоп, сударыня,
не простое это дело сыскать другую такую кормилицу, как
я. Росту во мне пять футов шесть дюймов, и оспой уже
переболела, и муж у меня капрал королевской гвардии,—
отменное здоровье, рекомендация лучше некуда, и
спиртного вовсе в рот не беру, а что до ребеночка, сударыня,
так будь у ее милости хоть шестеро сразу, у меня на всех
бы хватило.
Пока она все это выкладывала, в комнату вошел
низенький господин весь в черном, и ступал он таково мягко,
будто по бархату. Та женщина поднялась, низенько перед
ним присела, сложила руки на богатырской груди и повто-
603
рила опять все то же, слово в слово. Миссис Титмарш
осталась сидеть, как сидела, только эдак наклонила
голову; я еще подумала, напрасно она ведет себя так
невоспитанно, господин-то этот, по всему видать, лекарь. А он
строго поглядел на нее и спрашивает:
— Ну, а вы, любезная, тоже об этом местечке
хлопочете?
— Да, сэр,— отвечала она и закраснелась.
— Вы на вид очень хрупкая. Сколько вашему ребенку?
Сколько их у вас было? Кто вас рекомендует?
А она в ответ ни словечка; тут я выступила вперед и
говорю:
— Эта молодая особа только что потеряла своего
первенца, сэр,— говорю,— в людях она еще нигде не служила,
потому как сама она дочка морского капитана, так что
уж вы не взыщите, что она не встала, как вы взошли в
комнату.
Тогда доктор подсел к ней и стал ласково с нею
беседовать; он сказал, что, пожалуй, она пришла сюда
понапрасну, потому как у этой миссис Хорнер прекрасные
рекомендации от герцогини Донкастерской, а она с леди
Типтоф в родстве; и тут вошла сама миледи, да такая
хорошенькая, сударыня, в модном кружевном чепчике и в
премиленьком муслиновом капоте. Вместе с ее милостью
из комнаты вышла нянюшка, и пока миледи с нами
беседовала, она расхаживала взад-вперед по соседней комнате
со сверточком на руках.
Сперва миледи заговорила с миссис Хорнер, а уж
после с нашей миссис Титмарш; и во все это время миссис
Титмарш глядела в ту комнату,— даже невежливо это
было, сударыня, не слушает, а знай смотрит и смотрит на
ребеночка, глаз не отрывает. Миледи спросила, как ее
звать и есть ли у ней какая рекомендация, а она все
молчит, тогда я стала говорить заместо нее: она, говорю,
замужем за человеком, лучше которого в целом свете не
сыщешь; а вашей, говорю, милости, этот джентльмен
известен, вы ему привозили олений окорок. Леди Типтоф
сильно удивилась, и тут я ей все и рассказала: как вы
были в главных конторщиках и как этот мошенник
Брафф довел вас до разорения.
— Бедняжка! — сказала миледи.
А миссис Титмарш так ни словечка и не промолвила,
только все глядела на дитятю, а эта верзила Хорнер так
свирепо на нее уставилась, того гляди, укусит.
604
— Бедняжка! — говорит миледи и ласково берет
миссис Титмарш за руку.-— Такая молоденькая. Сколько вам
исполнилось, милочка?
— Пять недель и два дня! — сквозь слезы отвечает
ваша женушка.
Миссис Хорнер как захохочет, а у миледи слезы в
глазах: она-то сразу поняла, об чем думает наша бедняжка.
— Замолчите вы! — сердито сказала она этой верзиле.
И тут дитя в соседней комнате возьми да и заплачь, а
ваша женушка, как это услыхала,— вскочила со стула,
шагнула к той комнате, руки к груди прижала и говорит:
— Ребенок... дайте мне ребенка!
И опять в слезы.
Миледи глянула на нее, да как кинется в ту комнату
и принесла ей малютку, и малютка так сразу и прильнул
к ней, будто признал; и просто любо было глядеть на
нашу милочку с младенцем у груди.
И как по-вашему, что сделала миледи, увидевши это?
Поглядела-поглядела, потом обняла вашу Мэри и
поцеловала ее.
— Милочка,— говорит,— вы такая прелесть, и я
уверена, что сердце у вас такое же доброе, поручаю вам свое
дитя и благодарю бога, что он мне вас послал.
Так и сказала, слово в слово. А доктор Бленд стоит
тут же рядышком и говорит:
— И сам Соломон не рассудил бы мудрее!
— Выходит, я вам без надобности, миледи? — говорит
верзила.
— Вот именно! — гордо отвечала ей миледи, и верзила
отправилась восвояси, и тогда уж я все про вас
рассказала, и ничего не упустила, и миссис Бленкинсоп напоила
меня чаем, и я видала хорошенькую комнатку, где будет
жить миссис Титмарш, рядом со спальней леди Типтоф.
А когда воротился домой милорд, как по-вашему, что он
сделал? Велел кликнуть извозчика и поехал со мною,
сказал, ему надобно извиниться перед вами за то, что они
оставили у себя вашу супругу.
Удивительное это происшествие, кое случилось в
самый горький наш час, словно нарочно, чтобы утешить нас,
в нужде нашей дать нам кусок хлеба, невольно навело
меня на мысль о бриллиантовой булавке, и мне чудилось,
будто именно оттого, что я с нею расстался, для
семейства моего отныне наступят иные, лучшие времена. И хотя
кое-кто из читателей, пожалуй, сочтет за малодушие с
605
моей стороны, что я позволил своей жене, которую
воспитали в благородном семействе и которой впору бы самой
иметь слуг, пойти в услужение, должен признаться, что я
не испытывал по этому поводу ни малейших угрызений
совести и нисколько не чувствовал себя униженным.
Ежели кого любишь, неужто не радость быть тому человеку
обязанным? Именно это чувство я и испытывал. Я был
горд и счастлив, что теперь, когда судьба лишила меня
возможности зарабатывать нам на жизнь, моя дорогая
супруга трудами своими сумеет добыть мне кусок хлеба.
И теперь, вместо того чтобы делиться собственными
размышлениями об тюремных правилах, я отошлю читателя
к превосходнейшей главе жизнеописания мистера
Пиквика, трактующей об том же предмете и показывающей,
сколь глупо лишать честных людей возможности
заработать как раз тогда, когда это им всего нужнее. Что мне
было делать? В тюрьме нашлись джентльмены, которые
могли трудиться (то были господа сочинители — один
писал здесь «Путешествия по Месопотамии», а другой —
«Сценки в залах Олмэка»), мне же только и оставалось,
что мерить шагами Бридж-стрит да глазеть то на окна
олдермена Уэйтмена, то на чернокожего подметальщика
улиц. Я ни разу не дал ему ни пенни, но я завидовал, что
у него есть дело, завидовал его метле и деньгам, кои
падали в его старую шляпу. А мне отказано было даже и в
метле.
Раза три моя милая Мэри приезжала в роскошной
карете повидаться со мною: приезжать чаще она не могла,
так как леди Типтоф не желала, чтобы ее сынок дышал
спертым воздухом Солсбери-сквер. То были радостные
встречи, и ежели уж говорить всю правду — дважды,
когда никого не случалось поблизости, мне удавалось
вскочить в карету и прокатиться с нею, а проводивши
ее до дому, я вскакивал на извозчика и катил восвояси.
Но я осмелился на это лишь дважды, ведь за это меня
могли строго наказать, да и обратная дорога от Гров-
нер-сквер до Ладгет-Хилл обходилась как-никак в три
шиллинга.
Здесь я коротал время со своей матушкой; и однажды
мы с нею прочитали в газете о бракосочетании миссис
Хоггарти и преподобного Граймса Уопшота. Матушка моя
и прежде не жаловала миссис Хоггарти, а тут сказала, что
никогда себе не простит, как это она допустила, чтобы я
столько времени провел в обществе этой мерзкой неблаго-
606
дарной женщины, и еще прибавила, что мы оба с нею
наказаны по заслугам, ибо поклонялись Маммоне и
пренебрегли нашими истинными чувствами ради презренной
корысти.
— Аминь! —сказал я на это.— Конец всем: нашим
честолюбивым замыслам. Тетушкины деньги и тетушкин
бриллиант — вот что меня погубило, а теперь мне их,
слава богу, больше не видать, и я желаю старушке счастья,
а только, надобно сказать, преподобному Граймсу Уопшо-
ту я не завидую.
После этого мы и думать позабыли, об миссис Хоггар-
ти и зажили как могли лучше при нашем положении.
Богатые и знатные*, не то что мы* бедняки, не спешат
приобщать своих детей к христианской церкви, так что
маленького лорда Пойнинтса крестили только к июне.
Одним крестным отцом был какой-то герцог,
другим:—мистер Эдвард Престон, министр; а добрейшая леди* Джейн
Престон, о которой я уже рассказывал, была крестной
матерью своего племянника. Ей уже успели рассказать о
бедах, постигших мою супругу, и они с сестрою душевно
привязались к Мэри и обходились с нею как нельзя
лучше. Да и во всем доме не было такого человека, меж
господ ли, меж слуг ли, кто не полюбил бы мою милую,
кроткую женушку; и даже лакеи готовы были служить ей с
такой же охотою, как самой госпоже.
— Вот что я вам скажу, сэр, вот что, друг мой Тит,—
говорил мне один из них,— я человек бывалый, меня на
мякине не проведешь, повидал я знатных дам на своем
веку, и уж кто-кто, а миссис Титмарш настоящая леди.
С ней по-свойски не обойдешься, нет... я было хотел...
— Ах, вы хотели, сэр?
— Не глядите на меня зверем! Я говорю, с ней, мол,
не потолкуешь по-свойски, вот как с вами. Есть в ней что-
то эдакое, что к ней не подступишься, сэр. И даже
камердинер его милости — а уж он первый сердцеед, никакому
знатному франту не уступит,— и он то же говорит...
— Мистер Чарльз,— прервал я,— передайте
камердинеру его милости, что, ежели он дорожит местом и своей
шкурой, пусть почитает эту леди, как собственную
госпожу, и заметьте, что сам я тоже джентльмен, хотя и
обеднел, и прикончу всякого, кто ее обидит!
— Ну ладно вам! — только и сказал на это мистер
Чарльз.
607
Но что это я,— похваляясь своей храбростью, я чуть не
позабыл рассказать, какое великое счастье принесла мне
моя милая женушка своим добрым нравом.
В день крестин мистер Престон предложил ей сперва
пять фунтов, а затем и двадцать, но она отказалась от
того и другого; зато не отказалась она от подарка,
который поднесли ей сообща обе госпожи, и подарок этот
был — освобождение меня из тюрьмы. Поверенный лорда
Типтофа оплатил все до единого мои долги, и в счастлив
вый день крестин я опять стал свободным человеком. Ах!
Какими словами описать этот праздник, и как весело нам
с Мэри было обедать в ее комнатке в доме лорда
Типтофа, куда миледи и милорд поднялись, чтобы пожать мне
руку!
— Я беседовал об вас с мистером Престоном,— сказал
милорд,— с тем самым, с которым у вас произошла
достопамятная ссора, и он вам простил, хотя неправ был он, и
обещал пристроить вас на место. Мы как раз собираемся
к нему в Ричмонд, и, будьте благонадежны, мистер Тит-
марш, я не дам ему забыть про вас.
— Сама миссис Титмарш не даст ему забыть,—
сказала миледи,— сдается мне, Эдмунд без памяти в нее
влюбился!
При этих словах Мэри залилась краской, я рассмеялся,
и всем нам было хорошо и весело, и вскорости из
Ричмонда пришло письмо, извещавшее меня, что мне
предоставляется должность четвертого конторщика ведомства Сур^
гуча и Тесьмы с жалованьем восемьдесят фунтов в год.
На этом мне, пожалуй, следовало бы и кончить мою
повесть, ибо я наконец-то обрел счастье, и с тех пор, слава
богу, уже не знал более нужды; но Гас желает, чтобы я
рассказал еще, как и почему я не стал служить в этом
ведомстве. Превосходной леди Джейн Престон уже давно
нет в живых, скончался и мистер Престон — от
апоплексического удара, и теперь никого не заденет, ежели я
расскажу эту историю.
Дело в том, что Мэри не просто приглянулась мистеру
Престону, как мы полагали, он влюбился в нее не на
шутку; и я думаю, он затем единственно пригласил лорда
Типтофа в Ричмонд, чтобы поухаживать за кормилицей
его сына. Однажды, когда я поспешил приехать в
Ричмонд, чтобы поблагодарить его за место, коим был ему
обязан, и шел по боскету, спускающемуся к реке, куда
608
меня направил мистер Чарльз, вдруг на дорожке я увидел
мистера Престона на коленях перед Мэри, державшей на
руках маленького лорда.
— Любезнейшая! — говорил мистер Престон.—
Только выслушайте меня, и я сделаю вашего мужа консулом
в Тимбукту! Поверьте, он никогда ничего не узнает. Он не
сможет узнать! Даю вам слово министра! О, не глядите
на меня так лукаво! Клянусь, ваши глазки меня убивают!
Тут Мэри увидала меня, звонко рассмеялась и
побежала по лужайке, а маленький лорд радостно вскрикнул и
протянул вперед свои пухлые ручонки. Мистер Престон,
мужчина грузный, медленно поднимался с колен, как
вдруг заметил меня, рассвирепевшего, точно вулкан
Этна,— отшатнулся, оступился, покатился по траве и
тяжело шлепнулся в воду. Место было неглубокое, и, пуская
пузыри и отфыркиваясь, он вынырнул разъяренный и
испуганный.
— Н... н... неблагодарный негодяй! — выговорил он
наконец.— Чему смеетесь? Какого дьявола вам тут надо?
— Жду приказаний, чтобы отбыть в Тимбукту, сэр,—
отвечал я и захохотал во все горло, и ко мне
присоединились лорд Типтоф с гостями, которые оказались тут же, а
лакей Джеймс помог мистеру Престону выбраться из
воды.
— Ах вы старый греховодник! — сказал милорд,
когда мистер Престон вылез на берег.— Неужто вы до
старости останетесь таким влюбчивым романтиком,
беспутный вы толстяк?
Мистер Престон, весь багровый от ярости, пошел прочь
и после того целый месяц весьма дурно обходился со своей
супругой.
— Как бы то ни было,— сказал милорд,— через
несчастное увлечение нашего друга Титмарш получил
место; а миссис Титмарш только посмеялась над своим
поклонником, так что я не вижу в этом беды. Нет худа без
добра, сами знаете.
— Позвольте почтительно заметить, милорд, такое
добро мне не на пользу. За последние годы я узнал, чем
дело кончается, когда сводишь дружбу с Маммоной и что
честному человеку сия дружба ничего хорошего не сулит.
Никто никогда не сможет сказать, будто Сэм Титмарш
получил место, оттого что некий вельможа влюбился в его
жену; будь даже должность моя вдесятеро выгодней, я
каждый день, приходя на службу, сгорал бы от стыда при
20 у. Теккерсй, т. 1
609
одной мысли о презренных путях, которыми достигнуто
мое благополучие. Вы вернули мне свободу, милорд, и я,
слава богу, работы не боюсь; с помощью друэей я без
труда найду мест© конторщика; а с этим да с рентой моей
жены мы уж как-нибудь перебьемся, и нам не стыдно
будет глядеть людям в глаза.
Эту длинную речь произнес я с некоторой
горячностью, ибо, сами понимаете, не так-то приятно мне было,
что его милость счел меня способным извлечь какую-то
выгоду из жениной красоты.
Сперва милорд весь покраснел и, видно, порядком
осерчал, но потом протянул мне руку со словами:
— Ваша правда, Титмарш, а я не прав. И позвольте
вам сказать со всей откровенностью, вы честнейший
малый. Обещаю вам, что вы не пожалеете о своей честности.
И я в самом деле о ней не пожалел; ибо разве я нынче
не управляющий, не правая рука лорда Типтофа, не
счастливый отец; и разве жена моя не любима и не
-уважаема во всей округе; и разве Гас Хоскинс не зять мой, не
компаньон своего превосходного батюшки в скорняжном
деле, не любимец племянников и племянниц, коих он
неизменно веселит своими шутками?
Что же до мистера Браффа, то рассказов об нем
хватало бы на целый том. Он исчез с лондонского горизонта
и вскорости прославился на континенте, где выступил в
тысяче обличий и испытал всяческие превратности
судьбы, то возносившей его высоко, то повергавшей в
ничтожество. Но, по крайности, одним свойством его натуры
нельзя не восхищаться, а именно его неистощимым
мужеством; и, глядя, с какой верностию следовало за ним
его семейство, я не мог не думать, как уже говорил ранее,
что было, видно, в этом человеке и что-то хорошее.
И о Раундхэнде мне следует упомянуть с
наивозможной деликатностью. Деж> Раундхэнда против Тидда еще
слишком свежо у всех в памяти, и притом я просто те
понимаю, как мог Билл Тидд, натура столь поэтическая,
увлечься ^мерзкой пошлой толстухой миссис Раундхэнд,
которая годилась ему в матери.
Едва дела наши пошли на лад, мистер и миссис Граймс
Уоппгот стали искать примирения с нами, и мистер Уоп-
шот поведал мне, какую недостойную роль в сделке с
Браффом сыграл 'Смизерс. В свою очередь, и Смизерс
пытался ко мне подольститься, когда однажды я заглянул в
Сомерсетшир, но я пресек все его поползновения.
610
— Это он склонил миссис Граймс (в ту нору еще
миссис Хоггарти) приобрести акции Западно-Дндлсекското
общества и, разумеется, получил за это солидную
премию,— рассказывал мне мистер Уопшот.— Но едва от
обнаружил, что миссис Хоггарти попала в сети Браффа и,
стало быть, он лишится дохода^ который приносили* ему
нескончаемые тяжбы ее с арендаторами, а также
управление ее землями, он решил вырвать ее из лап этого: негодяя
и тот же час отправился в Лондон. Ой и меня пытался
очернить своей злобной клеветой,— прибавил мистер
Уопшот.— Но, слава богу, все его подлые замыслы; лопнули,
как мыльный пузырь. Когда разбиралось дело о
банкротстве Браффа, Смизерс вынужден был держаться в тени,
не то его собственная роль в сделках Компании-
непременно обнаружилась бы. Покуда его не было в Лондоне, я
стал супругом, счастливым супругом вашей тетушки. Но
хотя бог избрал меня своим орудием, дабы привести ее к
благодати, не скрою от вас, мой дорогой, что у миссис
Уопшот есть некоторые слабости, и, несмотря на все мое
пастырское тщание, я не в силах их искоренить. Она снупо-
вата, сэр, весьма скуповата, и я не могу пользоваться ее
состоянием в благотворительных целях, как приличествует
священнику; у ней на счету каждый грош; она выдает мне
на карманные расходы всего полкроны в неделю. При
том, осердясь, она не знает удержу. В первые годы нашего
брака я противоборствовал ей, да-да, я не спускал ей
этого, но, должен признаться, одолеть ее упорство не мог.
Я больше ее не корю, я смирился и стал кроток, аки агнец,
и она помыкает мною, как ей заблагорассудится.
В заключение своей скорбной повести мистер Уопшот
попросил у меня полкроны взаймы (было это в 1832 годе,
в Сомерсетской кофейне на Стрэнде, где он предложил
мне встретиться), и я видел, как, выйдя отсюда, он зашел
в кабачок напротив, а полчаса спустя появился в
изрядном подпитии и пошел по улице, выписывая ногами
кренделя.
Через год он умер, и тогда вдова его, именовавшая
себя миссис Хоггарти-Граймс-Уопшот из замка Хоггарти,
объявила, что у могилы своего святого супруга она
забыла все земные обиды и готова вновь поселиться у нас,
разумеется, выплачивая приличную сумму за стол и
квартиру. Однако мы с женою почтительно отклонили эту честь;
и тогда она еще раз изменила свое завещание, которое
перед тем составила в нашу пользу; она обозвала нас небла-
20*
611
годарными ничтожествами и развращенными
прихлебателями и все свое состояние отказала ирландской ветви
Хоггарти. Впрочем, увидавши однажды мою жену в
карете вместе с леди Типтоф и прослышав, что мы побывали
на большом балу в замке Типтоф и что я теперь богатый
человек, она вновь передумала, призвала меня к своему
смертному одру и завещала мне свои фермы в Слопперто-
не и Скуоштейле и все, что скопила за пятнадцать лет.
Мир праху ее, ибо она, право же, оставила мне весьма
изрядное наследство.
Хоть сам я не сочинитель, мой родич Майкл (он взял
себе за правило, как поиздержится, приезжать к нам и
гостить по нескольку месяцев кряду) уверяет, что мемуары
мои окажутся не без пользы для читающей публики (под
каковою он, видно, разумеет себя самого); а коли так, я
рад служить и ему и публике, и на сем я с вами
распрощаюсь, а на прощанье пожелаю всем, кто со вниманием
прочитает мои записки, обращаться осмотрительно со
своими деньгами, ежели деньги у них имеются; еще того
осмотрительней обращаться с деньгами своих друзей;
помнить, что крупных барышей не наживешь без крупного
риску и что крупные да ловкие наши воротилы нипочем не
удовольствуются четырьмя процентами со своего капиталу,
когда могут ухватить больше; а пуще всего не советую
ввязываться во всякие спекуляции, коих механика вам не
вовсе ясна и устроители коих не вовсе чисты и надежны.
Комментарии
Ранние повести Теккерея
В этот том включены избранные рассказы: и повести^
написанные Теккереем в- 1838—1841 горазд Печатались они главным
образом в «Журнале Фрэзера» («Fraaer's. Magazme»). Этот ежемесячник,
основанжъш в 183Q году; просуществовал до 1882. года. До 1837 года
главным редактором его был Уильям Магини AX93?—1842);, од и» из
самых: образованных и блеешяпщяг жураалмстовг своего времени». Он
и привлек к сотрудничеству в журнале? Тенкерея, которого знал
лично уже несколько лет;. После 18$7 года его сменил Джеймс
(однофамилец осжователж журнала^;, издатель и
книгопродавец, человек малообразованный, но: не; притеснявший особенно
своих сотрудников* Помимо, политических статей,
свидетельствующих о? вееъма консервативной позиции? журнала, там; печатались
повести и рассказы, мемуары (например* воспоминания писателя
о Шелли), биографии^ путевые; записки, и в огромном
количестве — рецензии: нас новые; книгж и оичеты а выставках
картин» В журнале; сотрудничали та!йа^видаьш писатели и; поэшы> как
Карлешщ. Локхарт; Мэтжнн, Барри ЬЬэрязуолл, Кольридж, такие
«Ш1л**«1Н4
художника^,, как Мвжлиз* поместивший таж; в 1830
*
серию из восьмидесяти портретов^ ш др. Для Теккерея «Журнал
Фрэзера» был главной трибуной да 1&44;ища; когда; он стал
печататься по большей! части в' «Маиле»^ однакоз и позже он продолжал
помещать у «Фрэзера» статьи и
Конец 1830-х и начало: 1&4@нж хадж была тря Теккерея
трудным временем* когда оно исшлгсвш мести* ж жизнш и своет
истинно© иризвашие. Оставшись^ без; средств и вынуж^енеыйт
зарабатывать, своим трудом, Теккерей дояшколебался; стать ли ему пи-
сателем или художником-гравером.: Что у вжгоз были: данные и
для; того, и для другощ— это- былш ясно! Писатв- (стихи,
дииу статейки в студенческом журнале) он- начал с; юношеских
летт тогда же успешно рисовал; карикатуры, а; в: бытность свою во
Франции серьезно учился рисованию и живописи. И позднее,
615
определившись как писатель, Теккерей много лет сам
иллюстрировал свои произведения. Однако профессиональным художником
он не стал. Возможно, некоторую роль в этом решении сыграло
его знакомство с Диккенсом, которому он в 1836 году предложил
свои услуги как иллюстратор «Записок Пиквикского клуба», но
был отвергнут.
Наряду с беллетристикой Теккерей с начала '30-х годов писал
статьи и рецензии в различных газетах и журналах (включая тот
же «Журнал Фрэзера»). Все они, как было принято в то время,
печатались без подписи. Повести же свои Теккерей печатал под
разными псевдонимами — вплоть до 1847 года, когда начала
выходить месячными выпусками «Ярмарка тщеславия»,
подписанная его настоящим именем. Объяснялось это отчасти тем, что
Теккерей боялся открыто признать себя членом пишущей братии —
очень уж незавидно было положение писателя в обществе.
В 1840 году, в своем «Парижском альбоме», он с горечью отмечал,
что в Англии «сочинитель (что бы ни говорили в его оправдание)
стоит ниже того общественного круга, в который входят аптекарь,
стряпчий, виноторговец, а их положение, по крайней мере, в
провинции, достаточно двусмысленно». Итак, на страницах «Журнала
Фрэзера», а позднее — «Панча» Теккерей выступает то как лакей
Желтоплюш, то как майор Гагаган, этакий ирландский
Мюнхгаузен, то как мрачный мизантроп Фиц-Будл, то как скромный
писатель и художник Майкл Анджело Титмарш и т. д.
В жанровом отношении ранние повести Теккерея
представляют большое разнообразие, но все их роднит то более, то менее
острая сатирическая направленность. Записки лакея — удобная
форма для разоблачения как самой лакейской психологии, так и
представителей общества, пользующегося его услугами. Две
повести, написанные в сотрудничестве с художником Крукшенком,—
дань распространенному в то время жанру: серии рисунков, лишь
связанных между собою текстом. Однако под пером настоящих
писателей такой соединительный текст приобретает
самостоятельное литературное значение. Как известно, из таких вот текстов,
призванных сопровождать картинки, родился «Пиквикский клуб»
Диккенса. И у Теккерея две повести, сделанные таким способом,
не одинаковы ни по форме, ни по достоинству. «Дневник Кокса» —
не более чем анекдот на достаточно избитую тему о неожиданно
разбогатевших «маленьких людях»; «Роковые сапоги» интересны
позицией персонажа, от лица которого ведется
рассказ,—позицией негодяя и жулика, выставляющего себя несчастной жертвой.
Идет эта традиция из XVIII века, в частности от Фильдинга, и
блестяще выдержана самим Теккереем в позднейших «Записках
Барри Линдона».
616
Повесть «Кэтрин» уже гораздо серьезнее по замыслу. Текке-
рей написал ее как протест против определенной и вредной на
его взгляд тенденции в литературе тех лет — тенденции
идеализировать преступников и преступный мир, особенно ярко
проявившейся в романах двух чрезвычайно популярных в свое время
писателей —Бульвера и Эйнсворта. Мысль эта занимала
Теккерея давно, он высказал ее еще в 1834 году, в своей рецензии на
книгу Уайтхеда «Размышления по поводу истории разбойников»
(см. т. 2 наст. собр. соч.). И теперь, взяв в основу сюжета
подлинную историю некой Кэтрин Хэйс, сожженной на костре в
1726 году за убийство мужа, Теккерей идет к своей цели
одновременно разными путями: он пытается создать образы злодеев,
лишенные какой бы то ни было привлекательности и
романтического ореола; он пародирует стиль и приемы Бульвера и
Эйнсворта; наконец, он непосредственно обращается к читателю со своими
рассуждениями и, таким образом, уже откровенно выступает как
моралист и исправитель нравов. Написана повесть неровно.
Наряду с блестящими страницами в ней есть и срывы. Не удалось
автору и удержаться на своей позиции обличителя, но это скорее
пошло на пользу, а не во вред его произведению: увлекшись
созданием характеров, он поневоле наделил их какими-то
привлекательными чертами, то есть сделал их живыми, а живые характеры
обусловили и живое, динамичное развитие сюжета, особенно в
первой половине повести. В письме к матери от марта 1840 года
Теккерей пишет: «...она (повесть) недостаточно отвратительна, вот
в чем беда... и Вы сами видите, что автор в глубине души
сочувствует своей героине и ему не захотелось сделать ее совсем уж
дрянью». «Кэтрин» высоко оценил Карлейль и другие литераторы,
но публика приняла ее холодно.
Повесть «В благородном семействе» проникнута презрением
к потугам пошленьких, ограниченных людей быть «не хуже
других». В ней интересна характеристика «образования джентльмена»
в привилегированной закрытой школе — более резкая, чем все, что
Теккерей писал на эту тему впоследствии; интересен образ
негодяя «из благородных», намеченный уже в фигуре Дьюсэйса и
появляющийся на страницах Теккерея на протяжении всего его
творчества; интересно неприкрыто сочувственное отношение автора к
своей героине. Но и этой вещи недостает жанрового единства:
автор сбивается с сатиры на мелодраму, с мелодрамы на фарс.
Наконец, «История знаменитого бриллианта Хоггарти» —
наиболее законченное из ранних произведений Теккерея. Здесь
налицо и ровный, выдержанный с начала до конца тон, и четко
задуманный и стройно развитый сюжет. В предисловии к изданию
этой повести отдельной книжкой в 1849 году Теккерей, уже при-
617
зыанный автор «Ярмарки тщеславия» и «Пенденниса», писал:
«Повесть эта... была написана в пору,, когда автора постигло
тягчайшее несчастье (смерть ребенка.— М. Л.)у которое повергло его
в глубокую скорбь. Те, кого занимают такого рода подробности
биографий литератора, смогут именно этим объяснить известную
сдержанность тона и печаль, которыми окрашены страницы
повести. Перечитывая ее теперь, семь лет спустя, я вспоминаю
обстоятельства, при которых она: писалась, и мысли—совсем не те, что
попали на бумагу,— которые неотступно преследовали автора в
ту пору».
Некоторые персонажи этих ранних повестей впоследствии
появятся и в других произведениях Теккерея^ Стаба—герой
повести «Роковые сапоги»,, мелькает уже на страницах «Дневника
Кокса», а Дьюсэйс из «Записок Желтоплюша» упомянут в числе
узников Фдитской тюрьмы в «Бриллианте Хоггарти», Встретим мы
в более поздних повестях или в романах и Тафтханта* и Каролину,
и ученого доктора Порки. Этог расчет на «узнавание» персонажей
читателем —- один, из приемов* с помощью которых Теккерей
создает единый мир своих героев, некую модель того реального мира,
который он видел вокруг себя и, преобразив как художник,
запечатлел в своем творчестве.
В ранних повестях Теккерея много незрелого—он пробует,
ищет, он еще отдает дань предрассудкам своего возраста и своего
времени. Его комические эффекты нередко дешевы, это особенно
относится к изображению иностранцев с их непомерно
исковерканным говором, это же можно сказать о всех записках Желто-
плюша, назойливо выдержанных в оригинале в ужасающей, не
поддающейся переводу орфографии, с неправильным
употреблением «ученых» слов.
Однако уже в этих ранних произведениях есть все, что
сделало впоследствии Теккерея великим писателем: не только острая
наблюдательность и способность претворить собственный
жизненный опыт в литературные образы, одновременно живые и
типические;, не только умение создать картину прошедшей эпохи,
которое позднее проявилось в полной мере в, его исторических
романах; не только юмор и сатирическое заострение,. которое достигло
своей вершины в «Ярмарке тщеславия». В этих ранних вещах
Теккерей уже дает образцы блестящей лепки характеров,, образцы
великолепной прозы. И в этих же вещах он вырабатывает свои
взгляды на жизнь и нащупывает свою авторскую* позицию -—
позицию сатирика, и моралиста* пребывающего в постоянном
общении со своим читателем.
М. Лорие
Из «Записок Желтоплюша»
Желтоплюш—первый псевдоним Теккерея и первый
созданный им персонаж, от имени которого :он обращался к публике.
Желтоплюш— лажей. Отца он не знал. Мать дала ему имя Чарльз
Джеймс Харрингтон Фицрой Желтоплюш — «в честь нескольких
знатных ^семейств, а также одного кучера, своего знакомого,
который носил желтую ливрею...». Воспитанный в приюте, Желтоплюш
с двенадцати лет пошел в услужение я, достигнув к тридцати
семи годам высокого положения лакея в аристократическом доме,
решил заняться литературой. «Записки Жеятотшюша» («The
Yellowplush Papeisa) печатались ъ «Журиаже Фрэзера» с ноября
1837 по январь ШШ года. В настоящее шздаеие включены два
рассказа Желтоплюша, повествующие о похождениях одного из его
хозяев— Дмоеэйса (по-английски Диосайс вначит 4Дшшка-туз>>).
«Нашла коса на к а м е hj.» («Bimond cut Dimond») —
впервые напечатано в «Журнале Фрэзера», 1838, февраль. «Мистер
Дьюсэйс в Париже* («Mr. Deuceace at Paris»)—т ам же, май —
июль, 1838.
Стр. 33. Темпл — комплекс зданий, дворов и садов в
лондонском Сити, на берегу Темзы, ногда-то —владение ордена рыцарей-*
темплиеров (храмовников). С XV в. Темпл стал средоточием
английской юриспруденции. Там обосновались главные юридические
корпорации, там находятся конторы и квартиры юристов, а также
проживают молодые люди, изучающие право и готовящиеся к сдаче
адвокатского экзамена. Теяшепей жшя .в 1йемпле в 1831—1832 гг.
В залах Олмэка в начале XIX века процветали азартные игры;
позже там устраивались платные балы и лекции; "Еротфорд —-
фешенебельный игорный дом.
Стр. 35. Тэттерсол — первый владелец поныне существующих
лондонских конюшен, где лошадь можно нупить или ^нанять.
Стр. 37. Ньюмаркет — город в графстве Кембриджшир, где
издавна устраиваются скачки.
Стр. 46. Излингтон — густо населенный район Лондона.
Стр. 48. Търтел Джон, убил та. ограбил своето друга Уильяма Уи-
ра, которому проиграл -крупную ъумму в карты; повешен в 1823 г.
...да ъще тысячу фунтов у Лифита...—Ъ рассказе «Чужие
края» Желтоплюш упоминает, что по пути в Париж Дьюсэйс
перевел из Булони в парижший $анк тысячу фунтов.
Стр. 50. Щоктарс^Коммопс —ныне упраздненная система судов,
ведавших, между прочим, и делами о наследствах.
Стр. 52. Читатель, быть может, помнит трогательное письмо...—
В рассказе «Чужие края» Дьюсэйс пишет отцу с просьбой прислать
619
ему рекомендательное письмо к английскому посланнику в Париже.
Выполнив эту просьбу, лорд Крэбс в свою очередь просит сына
прислать ему пятьсот фунтов, однако никакого ответа не получает.
Стр. 54. Гримальди Джозеф A779—1837) — знаменитый
английский клоун. В 1838 г. Диккенс издал под своей редакцией его
воспоминания.
Трисмегист — ъ греч. мифологии — покровитель магии*, отсюда
значение «алхимик».
Стр. 55. Мистер Типпи Кук в трагедии «Франкенштейн».—
«Типпи» (Томас Поттер) Кук — известный актер; трагедия
«Франкенштейн» — инсценировка одноименного .романа Мэри Шелли.
Стр. 64. Паста Джудитта A798—1865) — итальянская певица.
Стр. 66. Биллингсгет— рыбный рынок на берегу Темзы в
Лондоне.
«Страдания Мак-Виртера».— Желтоплюш имеет в виду
«Страдания молодого Вертера» Гете, но по незнанию употребил
распространенную шотландскую фамилию.
Стр. 74. «Вестник Галиньяни» — английская газета,
основанная в 1814 г. в Париже итальянцем Антонио Галиньяни для
англичан, проживающих на континенте. Некоторое время в ней
сотрудничал Теккерей, когда в 1835 г. жил в Париже.
Стр. 83. Боз — псевдоним молодого Диккенса.
Стр. 96. «Бенедикт — примерный человек» — неточная цитата
из комедии Шекспира «Много шуму из ничего», акт I, сц. 1.
(У Шекспира: «Бенедикт — женатый человек»).
Роковые сапоги
«The Fatal Boots» — впервые напечатано в 1839 году в
«Комическом альманахе», который издавал художник Джордж Крукшенк.
Эта повесть, так же как и следующая, «Дневник Кокса»,
создавалась Теккереем в сотрудничестве с Крукшенком. Каждой из
двенадцати глав соответствует гравюра. О теме ее писатель и
художник договаривались заранее.
Стр. 101. ...«пинки и розги яростной судьбы».— В таком виде
Стабзу запомнилась строка Шекспира «пращи и стрелы яростной
судьбы» («Гамлет», акт. III, сц. 1, перевод Б. Пастернака).
Стр. 103. Сэр Джошуа — Джошуа Рейнольде A723—1792) —
знаменитый английский художник-портретист.
Стр. 104. Рэниле — увеселительный сад с рестораном в Челси
(Лондон), закрыт в 1804 г.
Стр. 111. Черный понедельник — несчастливый день, день
неудач (от пасхального понедельника, 14 апреля 1360 г., когда от
620
холода и града погибло множество людей и лошадей в армии
короля Эдуарда III, стоявшей под Парижем).
Стр. 137. Сент-Китс — один из островов в Британской Вест-
Индии.
Стр. 138. Чиновник шерифа (или бейлиф) — должностное лицо,
на обязанности которого было арестовывать должника по иску
заимодавца и препровождать его в свой дом, где должник
некоторое время содержался за плату, а затем либо, в случае уплаты
долга, выходил на волю, либо его переводили в долговую тюрьму.
Стр. 146. ...у служанки не оказалось мелочи...— До почтовой
реформы 1840 г. письма в Англии оплачивал получатель.
«Зима междоусобий наших» — строка Шекспира («Ричард III»,
акт I, сц. 1, перевод Дружинина).
Дневник Кокса
«Cox's Diary» — впервые напечатан в «Комическом альманахе»
Крукшенка в 1840 г.
Стр. 152. ...обмолвился насчет веточки омелы.— По английскому
обычаю, комнаты на Рождество украшают ветками омелы, и под
такой веткой молодой человек может поцеловать девушку.
Стр. 156. Парк (с прописной буквы) — Хайд-парк в Лондоне.
Стр. 157. К. Л., К. Б., К. В. л т. д.— Теккерей пародирует бук-*
венные обозначения степеней, орденов и проч., которые ставятся
после имени.
Синяя книга — свод парламентских отчетов и
правительственных указов; Кокс имеет в виду Красную книгу — справочник
английской титулованной знати.
Стр. 165. Феспид — поэт VI в. до н. э., считается
родоначальником древнегреческой трагедии.
Вестрис Лючия A797—1856) — оперная певица; в 20-х годах
XIX в. блистала в лондонских театрах.
Стр. 166. Квадрант — изогнутый дугой отрезок Риджен-стрит,
фешенебельной лондонской улицы.
Стр. 168—169. Лаблаш Луи A794—1858) — итальянский певец,
бас; Гризи Джулия A811—1869) —итальянская певица. Оба много
выступали в Англии.
Оперы, которые Кокс называет, как умеет,— «Пуритане»
Беллини, «Анна Волейн» Доницетти, «Свадьба Фигаро» Моцарта,
«Сорока-воровка» («La gazza ladra'») Россини.
Стр. 182. Гантер — лондонский ресторатор.
Дюкроу Эндрю — главный наездник в лондонском цирке
Легли; мисс Вулфорд — наездница в том же цирке.
621
Стр. 183. В Эдискомском военном училище (близ Кройдона)
Теккерей бывал в детстве, когда начальником этого училища был
его отчим майор Кармайкл-Смит.
К. О. Б.— кавалер ордена Бани.
„.шест над дверью... парикмахерской...— Жест, раскрашенный
красно-белой спиралью (эмблема руки, забинтованной перед
кровопусканием), служил вывеской парикмахерских еще с тех пор,
когда профессии цирюльника и хирурга объединялись в одном лице.
Стр. 185. ..Мруг мактери Пълла из «Пиквика»—см. Диккенс,
«Пиквик», гл. 43.
Стр. 186. Монумент — колонна, воздвигнутая в память
лондонского пожара 1666 г. В 1681 г. на пьедестале ее была высечена
надпись, лживо утверждавшая, что город подожгли католики.
Кэтрин
«Catherine»— впервые напечатана в «Журнале Фрэзера», май
1839 — февраль 1840, под псевдонимом «Айки Соломоне, эсквайр,
младший».
Стр. 201.-2? ту славную историческую жоху... и дальше.— Время
действия «Кэтрин»— начало XVIII в., царствование королевы Анны
A702-=1714) —эпоха, которой Теккерей занимался всю жизнь. Он
начал изучать ее еще в 30-х годах, как явствует из его рецензии
на книгу «Личная переписка Сары, герцогини Мальборо» («Тайме»,
6 янв. 1838 г.). Эта же эпоха дана широким полотном в
историческом романе «Эсмонд» (см. т. 7 наст. собр. соч.), она же служит
фоном для некоторых очерков серии «Английские юмористы» (см. т. 7
наст. собр. соч.).
С 1701 по 1713 г. Англия в союзе с Голландией, родиной
английского короля Вильгельма III A689—1702), вела против
Франции так называемую «войну за испанское наследатво». Речь шла
о нескольких претендентах (ставленниках Франции, Англии,
Австрии) на испанский престол, освободившийся в 17Q0 г. со смертью
бездетного короля Карла II, а но существу — о гегемонии
Франции или Англии в Европе и на Средиземном море.
Примечательной фигурой эпохи королевы Анны был «один из
ее генералов» герцог Мальборо (он же Джон Черчилль, он же
«капрал Джон»), победитель французов в битвах при Бленгейме
A704), при Рамильи A706), Мальплакэ D709) и др,, крупный
полководец, но человек алчный и беспринципный, не раз
предававший интересы Англии. Его жена Сара, урожденная Дженнингс,
была первым другом и поверенной принцессы, а затем королевы
Анны, но после 1708 г., когда Мальборо оказался в немилости, ее
622
сменила Абигайль Мэглем, ставленница лидеров тори,
добивавшихся отстранения Мальборо и прекращения войны.
Исаак Ньютон A642—1727) — знаменитый ученый и философ,
преподавал математику в Кембриджском университете.
Аддиеон Джозеф A672—1719) —поэт, драматург* издатель
ежедневного журнал» «Зритель», для которого сам писал большую
часть очерков,— был членом парламента и занималг ряд
государственных должностей.
Стр. 202. «Пъюгетский календарь» A-е изд.— в 1774,
продолжение — 1826) — многотомный справочник, в котором дана история
крупнейших преступников, содержавшихся w Ныотетской тюрьме
начиная с 1700 г.
Феджип — началвник воровской шайки в «Оливер© Твисте»
Диккенса; Дик Терпин, Джек Шъппар&, Ило&
Дюваль—разбойники, казненные в XVH—ХТИГ ввг. О двух первых Эйнсворт
написал по роману, о третьем роман был им задуман* но не на-*
писан.
Восьмая заповедь в Библии гласит: «Не укради^.
Джек Кетч — английский палат XVH в.; имя этот стало
нарицательным.
Оксфордская дорога (теперь — Оксфорд-стрит) вела из центра
Лондона к Тайберну, месту публичных казней с 1196 по 1783 г.
Стр. 203. Капитан Плюм и сержант Кййт — персонажи коме^
дии Фаркуэра «Офицер-вербовщик» A706). В этой же комедии
фигурирует судья Балланс (см. «Кэтрин», гл. VI).
Стр. 204. Родилъ Хосе Рамон A789—1858)—испанский
генерал, впоследствии министр.
Пусть не семь городов...— Намек на легенду, будто семь
городов спорили за право называться родиной Гомера.
Воинская битва — битва на реке Войн в Ирландии, где в 1690 г.
армия короля Вильгельма III (принца Оранского) разбила войска
вернувшегося из изгнания Якова II Стюарта, после чего тот снова
бежал во Францию, где и умер.
.„носил графский, титул наравне с дюжиной братьев...— Автор
считает: нужным этл отметить,, носкольку в Англии титул,
переходит по наследству только к старшему сыну.
Стр.. Wi. .-принц Етемий (Савойекий) *— полководец* спод*
вижнин Мальборо в войн» вротяв Франции.
Стр. 213. Престер Джоп—герой средневековой, легенды,
священник и король, яеобмт владевший землями где-то в сердце
Азии.
Стр. 220. Каплей* вина риш&ал все битвы.— В «Героинях»
Овидия жена Одиссея* Шаелона шо(ащает мужуг что воины* вер-
623
нувшиеся из-под Трои, для оживления своих рассказов рисовали
на столе карту местности, макая палец в вино:
Тот за обедом рисует им яростной встречи картину:
Несколько капель вина весь npeflCTaBimoT Пергам.
«Здесь протекал Симеонт, здесь берег Сигейский тянулся,
Здесь возвышался при нас старца Приама дворец;
Здесь Эакида белели, а здесь Одиссея палатки,
Здесь своим голосом гнал Гектор отважных коней...»
(Перевод Ф. Зелинского)
Стр. 222. Крибедж — карточная игра.
Стр. 225. Том д'дрфи A653—1723) — автор множества песен,
повестей, мелодрам и фарсов.
Стр. 228. «Эрнест Мальтраверс» — роман Бульвера A837).
Стр. 232. Герцогиня Луиза Лавалъер A644—1710) — фаворитка
Людовика XIV, окончила свои дни в монастыре.
Уилкс Джон A727—1797) —издатель еженедельника «Северный
британец», смело критиковавший короля и парламент, член
парламента, дважды исключенный из палаты общин, но многократно
переизбиравшийся, в 1774 г.— лорд-мэр Лондона.
На Боу-стрит до сих пор помещается главный полицейский
суд Лондона.
Стр. 235. ...герб... с поперечной полосой в левом поле — герб
побочного отпрыска знатного рода.
Стр. 241. Олоферн (библейск.) — военачальник царя
Навуходоносора, обезглавленный своей любовницей Юдифью.
Стр. 242. Юджин Арам — герой одноименного романа Бульвера
A832).
Стр. 243. Олд-Бейли — уголовный суд для Лондона и части
примыкающих к нему графств.
Стр. 262. Первый Эдуард — Эдуард I, английский король с 1239
по 1307 г.
Стр. 265. Сент-Джон (впоследствии лорд Болинброк) и Харли
(впоследствии граф Оксфорд) — лидеры партии тори, при
королеве Анне были министрами.
Дик (Ричард) Стиль A672—1720) — военный и писатель, автор
трактатов, стихов и комедий, вместе с Аддисоном издавал журналы
«Болтун», «Зритель» и др.
Стр. 268. «Монтвгъю-Хаус» — в то время загородный дом в
Блумсбери, на месте нынешнего Бритайского музея. Луг ва этим
домом — обычное место дуэлей в XVIII в.
Стр. 273. Девре — герой одоименного романа Бульвера A829).
Александр Поп A688—1744) — критик, поэт, переводчик
Гомера; Сэчеврел Генри A674—1724)—проповедник, выступавший
против войны с Францией, за что был отдан под суд.
624
Стр. 274. Корсар Конрад — герой поэмы Байрона «Корсар»
A814).
Стр. 283. Питер Хобс, трактирный конюх...— Перед этим тот же
конюх назван Джоном. Таких описок у Теккерея немало —по-
разному даны имена, числа, номера домов и т. д. Объясняется это
спешкой журнальной работы, а позднее — системой печатать
романы месячными выпусками. Сам Теккерей горько сожалеет об этих
описках в своем позднем очерке «De Finibus» (см. т. 12 наст. собр.
соч.).
Стр. 290. Нинон де Ланкло A620—1705) — хозяйка парижского
салона, посещавшегося знатью и виднейшими писателями,
славилась умом и красотой.
Стр. 292. Эджуорт Мария A767—1849) — автор романов из
жизни Ирландии и нравоучительных книг о детях и о воспитании.
Стр. 293. Джек (Джон) Хауорд A726—1790) — известный
филантроп, много сделал для улучшения ужасающих условий в
английских тюрьмах.
Джек Тзртел — см. прим. к стр. 48.
Мельбурн Уильям A779—1848) — государственный деятель,
премьер-министр в 1835—1841 гг.; поддерживал то оппозицию
вигов, то правительство тори; не отмечен никакими талантами.
Герцог Веллингтон A769—1852) — генерал; воевал в Индии, в
Испании против войск Наполеона, был главнокомандующим
силами союзников в победоносной битве при Ватерлоо A815 г.), после
которой пользовался в Англии необычайной популярностью. Позже
сделал политическую карьеру, в 1828—1832 гг. был премьер-
министром.
Линдхерст Джон A772—1863) — реакционер, блестящий
оратор. Трижды был лорд-канцлером.
О'Коннел Дэниел A775—1847) —лидер ирландского
национального движения, борец за права католиков и отделение Ирландии
от Англии, примыкал к правому крылу чартистов. Теккерей
дважды обращался к О'Коннелу со страниц «Панча» — 8 июня 1844 г.,
когда О'Коннел после суда отбывал тюремное заключение, и 15
ноября 1845 г., когда он снова был на свободе. Обвиняя О'Коннела в
заговорщицкой деятельности, в клевете на англичан и разжигании
ненависти к ним, Теккерей, однако же, признает бедственное
положение Ирландии и ответственность, которую несет за него
Англия. «Мы гневаемся на Николая (русского царя.— М. Л.) по поводу
Польши, но разве до самого последнего времени кто-то другой
обходился с Ирландией лучше?» («Панч», 8 июня 1844).
«Хроника Бейкера»,— Бейкер Ричард A568—1645) — автор
популярной в свое время «Хроники английских королей», написан-
625
ной им в Флитекой тюрьме, куда он попал за чужие долги, где
и умер.
Стр. 294. Автор «Ришелье» (пьеса) и «Сиамских близнецов»
(сатирическая поэма) — Булъвер.
Стр. 297. ...flectere si nequeo superos, Acheronta moveha...—
начало строки «если боги останутся неумолимы, подвигну силы
ада» — из «Энеиды» Вергилия, книга VII.
Перет? церковью Гроба Господня — то есть около Ньюгетской
тюрьмы, где с 1783 до 1868 г. совершались публичные казни. Тек-
керей в 1840 г. присутствовал здесь при казни Курвуазье, лакея-
француза, убившего своего хозяина лорда Рассела* (см. очерк «Как
из казни устраивают зрелище» в т. 2 наст. собр. соч.).
Стр. 301. Мулкибер— в римской мифологии то же, что Вулкан,
бог огня и кузнечного ремесла.
Стр. 305. Претендент — сын Якова II Стюарта, живший во
Франции и предпринявший ряд попыток вернуть себе английский
престол.
Стр. 308. Макхит — обаятельный вор и разбойник, герой
музыкальной комедии Гзя «Опера нищих» A728); Поль Клиффорд —
благородный разбойник, герой одноименного романа Бульвера
A830).
Стр. 310. Уайльд Джонатан—глава крупной воровской шайки,
тайно выдававший своих подчиненных властям* Повешен в Тай-
берве в 1725 г. Герой сатирического романа Фильдинга «История
жизни покойного Джонатана Уайльда Великого» A743).
Фигурирует также в романе Эйнсворта «Джек Шеппард» A839).
Стр. 313. Сладко у моря большого...— начало 2-й книги иозмы
Лукреция- «О природе вещей»:
Сладко, когда на просторах морских разыграются ветры,
С твердой земли наблюдать за бедою, постигшей другого.
(Перевод- Ф. Петровапого)
Стр. 323» Дюбуа Гильом A656—1723) — кардинал и дипломат,
прославился своим вероломством.
Стр. 332. Колли Сиббер A671—1757) — посредственный актер
и драматург, в 1740 г. издал свою автобиографию, благодаря
которой главным, образом и известен.
Стр. 335. Вечные облака...— В пародийных целях Теккерей
приписал эти слова из комедии древнегреческого драматурга
Аристофана «Облака» римскому историку Корнелию Непоту.
Стр. 336. О. 1L— Оливер Йорк, выдуманный Теккереем
редактор «Журнала Фрэзера».
Стр. 339. Беттертон Томас A635?—1710) — актер и драматург,
директор ряда лондонских театров.
62в
Стр. 342. Невозмутим, он наблюдает бой...— Строки из поэмы
Аддисона «Поход» A704) даны в переводе Н. Вольпин.
Стр. 357. «Великий Кир» — десятитомный роман французской
писательницы Мадлен де Скюдери A607—1701).
Стр. 366. Снятая М ария-пар омщица — легенда связывает
церковь под таким названием, на южном берегу Темзы, с некоей
Марией, задолго до существования мостов занимавшейся перевозом
людей через реку.
Стелла и Ванесса — имена, которые Свифт дал двум
женщинам, любившим его,— Эстер Джонсон и Эстер Вэннемери.
Гэй Джон A685—1732) —поэт и драматург; Арбетнот Джон
A667—1735) —ученый врач и автор политических памфлетов.
Сэмюел Джонсон A709—1784) — поэт, драматург, журналист,
издатель Шекспира, автор толкового словаря английского языка;
написал биографию своего друга Ричарда Сэведжа A697?—1743),
второстепенного поэта и драматурга, умершего в нищете.
Стр. 371. С редакционной сноской, относящейся к 1869 г., когда
«Кэтрин» была впервые переиздана, нельзя не согласиться:
подробности убийства и казни, занимающие в «Журнале Фрэзера» три
страницы мелкого шрифта, отвратительны ив литературном
отношении неинтересны. В книжных публикациях опущены также
шутливые предложения Теккерея об использовании сюжета
«Кэтрин» в живописи и на сцене. Приводим одно из них:
Живая картина. Финал.
Синий свет. Зеленый свет. Оркестр в полном составе. Кэтрин горит
на костре. На заднем плане вешают Биллингса.
Три вопля жертвы! Палач вышибает ей мозги поленом. Боже,
храни королеву! Деньги обратно не возвращаются.
Грудным детям вход не воспрещен, с&оре® напротив.
Стр. 372. ...великолепный, как в первый день.— Намек на строки
из «Фауста» Гете (пролог на небе):
И, словно в первый день созданья,
Величествен вселенной ход.
(Перевод Н. Холодков скоео)
Велинда — героиня поэмы Попа «Похищение локона».
Стр. 373. Afflavit Deus [et dissipantur] «Дунул Господь — и они
рассеялись».— Надпись на медали, вычеканенной в честь победы
английских кораблей над Испанской армадой в 1588 г.
Стр. 374. Блекмор Ричард A650?—1729) —придворный врач и
поэт; Деннис Джон A657—1734) —драматург и критик; Спрат
Томас A635—1713) — священник, поэт, математик, один из первых
членов Королевского * общества (Академии наук); Помфрет Джон
627
A667—1702) —поэт. В свое время пользовались известностью, ныне
забыты.
Хорсмонгер-лейн — отнюдь не адрес автора, а название
тюрьмы в Лондоне, закрытой в 1877 г. Здесь Диккенс в 1849 г. видел
казнь супругов Мэннинг, после чего выступил в печати с
протестом против публичных казней.
Стр. 374. В журнальном варианте повести есть еще два
абзаца — предпоследние,— тоже исключенные из последующих
изданий. Приводим их полностью:
«Начать хотя бы с мистера Диккенса. Нет человека, который,
читая замечательный роман «Оливер Твист», остался бы
равнодушен к бедной Нэнси и ее убийце, не смеялся бы до упаду над
проделками Ловкого Плута и его сотоварищей. Таково
могущество автора: читатель сразу становится его пленником и готов
идти, не рассуждая, куда ни поведут. А к чему нас приводят?
Заставляют с замиранием сердца следить за преступлениями Фед-
жина, проливать слезы сочувствия над судьбой заблудшей Нэнси,
испытывать к Биллу Сайксу жалость пополам с восхищением и
просто-таки наслаждаться обществом Плута. Все названные герои
со страниц романа шагнули на театральные подмостки, и
лондонская публика, от пэров до трубочистов, с глубоким интересом
вникает в жизнь кучки воров, убийц и проституток. Премилая
компания, и каждый из них не лишен человеческих достоинств, но
знаться с ними ни для кого не полезно. Самое благоразумное
вовсе о них не говорить; ибо нет писателя, который бы сумел или
посмел рассказать всю правду; а раз нельзя полностью обрисовать
их пороки, незачем ex-parte l распространяться об их добродетелях.
Что повлек за собою «Оливер Твист»? Публика разохотилась
на непривычную остроту переживаний, на добрые чувства к
ворам— и вот на свет явился «Джек Шеппард». Сам Джек, две его
жены, его верный сподвижник Синий и его пьянчужка мамаша,
эта предобрая Магдалина,— с какой неподражаемой истовостью
повествуется об их похождениях, как простодушно и красочно
живописует биограф Джека все его дела и заслуги! Нам, правда,
внушают, что Уайльд достоин осуждения — но за что? За то, что
он, такой-сякой, выдавал воров! Однако сколь ни дурна, нелепа,
чудовищна заложенная в книге идея, мы читаем, читаем и не
можем оторваться. Автор с большим уважением относится к своему
предмету, непоколебимо веря в его значительность. Ни тени
усмешки нет в его сочинении; все мысли, и вредные и полезные,
разработаны им с одинаковой серьезностью и тщанием; и в прекрасное
1 Односторонне (лат.).
628
описание бури на Темзе или великолепный рассказ о побеге из
Ныогетской тюрьмы вложено не меньше труда, чем в сцены в
Уайтфрайерсе или разговоры у Уайльда, своею ненатуральностью
превосходящие все когда-либо написанное. Нас, впрочем,
интересуют не литературные достоинства упомянутых романов, а ныо-
гетские элементы их содержания, которые ив только портят вкус
читателей, но, что гораздо хуже, делают для них преступление
чем-то обыденным и привычным. Читая «Джонатана Уайльда»,
даже совершенный болван не усомнится в том, что это зловещая
сатира, и ему не придет в голову восхищаться героем, которого
сам автор открыто и горячо презирает; горькое остроумие «Оперы
нищих» бьет по сильным мира сего, показывая их сходство с
прохвостами, выведенными в пьесе; и пусть под личиной
искрометного веселья иной тупица и не разглядит прикрытой ею
неприглядной действительности, но мораль сатиры ясна, стоит только
дать себе труд вдуматься. А вот в страданиях Нэнси и в подвигах
Шеппарда мы такой морали не обнаружили; в одном случае нас
откровенно хотят разжалобить, в другом — заставить нас
восторгаться мужеством разбойника. Проститутка вполне может быть
образцом душевной чистоты, а вор отважным, как герцог
Веллингтон; но не стоит заниматься ими, их пороками и добродетелями.
Сцены в работном доме из «Оливера Твиста» и в Флитской тюрьме
из «Пиквика» истинно трогательны в своей глубокой
правдивости — пусть будет сколько угодно таких сцен; пусть будет как
можно больше участия к бедным, сострадания к обездоленным;
но во имя здравого смысла не будем тратить жар своего сердца
на убийц, насильников и прочие исчадия ада!»
В благородном семействе
«A Shabby-Genteel Story» — впервые напечатано в «Журнале
Фрэзера», 1840, июнь — октябрь, под псевдонимом Майкл Анджело
Титмарш.
Стр. 375. 18 июня 1815 года — произошла битва при Ватерлоо,
близ Брюсселя, в которой войска Англии и ее союзников нанесли
окончательное поражение Наполеону.
Стр. 379. ...некоей обиженной королеве...— Речь идет о
Каролине, жене Георга IV, с которой он расстался, а затем обвинил ее
в неверности и подал в парламент прошение о расторжении брака.
Стр. 380. «Газета» (или «Лондонская газета») —
официальный орган, в котором печатают правительственные назначения,
извещения о банкротствах и пр., а в военное время — списки
убитых, раненых и награжденных.
G29
Стр. 386. Миссис Кутс — жена известного банкира.
Стр. 388. Воксхолл — увеселительный сад в Лондоне, на
южном берегу Темзы, существовал с 1660 до 1859 г.
Стр. 389. Брамовская шкатулка — шкатулка с особым замком
(по имени его изобретателя Жозефа Брама).
Стр. 391. Танет (или Остров Танет)—северо-восточная
оконечность графства Кент, в прошлом почти полностью отрезанная
от остальной части Великобритании узким фиордом.
Стр. 392. Отахейтяне— таитяне.
Крайст-Черч (Христова церковь) — один из крупнейших
колледжей Оксфордского университета.
Стр. 394 *0 ввятнше душ.,.— Измененная цитата из IV кн. «Те^
оргик» Вергилия. Речь в ней идет о воинственности пчел и
сражениях между пчелиными роями, которые, однако, прекращаются,
если бросить ничтожную щепотку пыли.
Стр. 398. «Лалла Рук»— цикл восточных поэм Томаса Мура
A817).
Стр. 400. «...хуже, чем укусы злой змеи, детей
неблагодарность»— строки Шекспира («Король Лир», акт I, сц. 4, перевод
М. Кузьмина).
Стр. 404. «Тадеуш Варшавский» и «Шотландские вожди» —
авантюрно-историчеожие романы писательницы Джейн Портер
A776—1850).
Лесли Чарльз Роберт 'A794—1859), Шаклиз Дэниел A806—
1876) — .английские художники.
Стр. 4€8. Л&блиш — см. прим. к стр. 168.
Стр. 422. ...о женщине, которую... фарисеи требовали... побить
камнями...— Евангельский рассказ о падшей женщине: на
требование фарисеев побить ее камнями Христос сказал: «Кто из вас
без греха, первый брось в нее камень» (Евангелие от Иоанна, 8, 7).
Стр. 423. Американец Джексон—американский генерал Эндрю
Джексон A767—1845) впоследствии седьмой президент США, в
январе 1815 г. разбил англичан под Новым Орлеаном.
Стр. 424. Чудо-Крайтон A560—1585) —шотландец, наделенный
необычайными способностями к языкам и ко всем известным в то
время наукам. Убит в пьяной драке в Италии.
Стр. 433. Гретна (или Гретна-Грин) —деревня в Шотландии,
близ границы с Англией, где издавна заключались браки по
шотландским ваконам—без согласия родителей и некоторых других
формальностей.
Стр. 438. Лидия Леневиш — персонаж комедии Шеридана
«Соперники» A775).
Стр. 440. «Тайны Удольфского замка» — роман Анны Радклиф
A794).
630
Стр. 446. Алънашар — персонаж «Сказок 1001 ночи», бедняк,
который несет на рынок посуду и, размечтавшись о том, что он
сделает на вырученные деньги, роняет корзину, так что и товар
его, и мечты разлетаются вдребезги. Один: из любимых образов
Теккерея, часто встречающийся в его произведениях и письмах.
Стр. 447. В песне мистера Томаса Мура,— Среди «ирландских
мелодий» Мура есть песня о девушке, которая так твердо верила
в честь ирландцев, что, увешав себя драгоценностями и надев на
палочку золотое кольцо, одна прошла из конца в конец Ирландии.
Стр. 448. Лепдон Легация Элизабет A802—1838)—поэтесса,
автор трагедии и нескольких романов; Хименс Фелиция Доротея
A793—1835)—поэтесса, друг Шелли, Вальтера Скотта, Ворд-
сворта.
Стр. 450. Хэрп-Бэй — городок в графстве Кент.
Стр. 454. ...«в плащах ревнивых, в бархате чепцов»...—
Искаженная цитата из стихотворения Каупера «На получение портрета
моей матери»*
Стр. 465. Божественность служит оградой.»— Намек на слова
короля из «Гамлета» Шекспира (акт IV, сц. 5).
Стр. 470. Битва при Гастингсе.— В 1066 г. нормандцы разбили
в этой битве саксов и утвердили свою власть над Англией.
Стр. 482. Посылая в журнал последние главы этой повести,
Теккерей писал Джеймсу Фрэзеру 3 октября 1840 г.: «Я нарочно
оставил «В благородном семействе» в таком виде, что повесть
можно продолжать или нет, по Вашему усмотрению... Пожалуйста,
дайте мне знать, должен ли я писать дальше...» Однако к
персонажам этой повести Теккерей вернулся только через двадцать лет:
с января 1861 по август 1862 г. в журнале «Корнхшш» печатался
последний из законченных им романов «Приключения Филипа».
Герой этого романа — сын Брэндона. Брэндов (настоящее его имя
Джордж Брэндон Фермин) бросил Каролину через несколько
месяцев после их фиктивного брака, бежал на континент, а позже
женился на богатой и знатной женщине, скоро умершей, и стал
преуспевающим врачом. Ребенок Каролины умер, семья от нее
отвернулась. Нищую и больную, ее случайно встречает Фитч,
женатый на богатой вдове. Они спасают Карелину, доктор
Бальзам вылечивает ее и, обучив профессии сестры милосердия!,
доставляет ей работу среди своих пациентов, Ощвшм: из вих
оказывается двенадцатилетний Филип. У его постели Каролина иг доктор
Фермин встречаются.
Тафтхант, обедневший и опустившийся* шантажирует Фер-
мйна, грозя предать гласности его брак с Каролиной: если этот
брак будет признан законным, Фермин окажется двоеженцем, а
Филип, как незаконный сын, лишится наследства. Однако из этого
~6ai
шантажа ничего не выходит — сама Каролина отказывается в нем
участвовать. Фермин, запутавшись в спекуляциях, бежит в
Америку. Филип беден, он начинает работать, женится, после многих
мытарств обретает благополучие. Отец шлет ему из Америки
ханжеские нравоучительные письма и вымогает у него деньги. А
Каролина, известная под именем «Сестрицы», содержит старика отца
и работает не покладая рук. Филипа она любит, как сына, по мере
сил ему помогает,— ей кажется, что он и в самом деле ее сын.
Прожив полную труда и самопожертвования жизнь, она умирает,
заразившись от одного из своих пациентов. В наст. собр. соч.
«Филип» не включен.
История Сэмюела Титмарша и знаменитого
бриллианта Хоггарти
«Thy History of Samuel Titmarsh and the Great Hoggarty
Diamond» — впервые напечатана в «Журнале Фрэзера», 1841,
сентябрь — декабрь, под псевдонимом «Майкл Анджело Титмарш».
Стр. 483. В битве при Винегер-Хилле в Ирландии в 1798 г.
английские войска разгромили силы участников одного из
крупнейших ирландских восстаний.
Стр. 490. Кембл Чарльз A775—1854) — актер, брат знаменитой
трагедийной актрисы Сары Сиддонс; Пикок Томас, поэт и
романист, друг и душеприказчик Шелли, много лет служил в
управлении Ост-Индской компании. Речь идет об инсценировке одного
из романов Пикока «Девица Мэрией» A822), героем которого
является Робин Гуд.
Стр. 494. Фулем — богатый юго-западный район Лондона, в
то время еще пригород.
Пентонвилл — скромный жилой район Лондона к северу от
Сити.
Стр. 499. Король лакея своего.,.— строфа из стихотворения
Роберта Бернса «Честная бедность», перевод С. Маршака.
Стр. 500. Дандо — житель Лондона, прославившийся тем, что
мог съесть неимоверное количество устриц. Обычно уходил из
ресторанов, не заплатив по счету, за что попал в тюрьму, где и
умер. Герой множества карикатур, а также самого первого
юмористического рассказа Теккерея «Профессор», опубликованного в
«Журнале Бентли», 1834, сентябрь.
Стр. 505. Настоятель — знаменитый сатирик Джонатан Свифт
с 1713 года и до своей смерти был настоятелем (деканом) собора
ев, Патрика в Дублине.
Стр. 515. Проповеди Блейра, шотландского профессора и свя-
632
щенника A718—1800), были изданы в пяти томах еще при его
жизни и пользовались большим успехом у читателей.
Стр. 516. ...за полцены наслаждались жизнью в Сэдлерс-Уэлз...—
Сэдлерс-Уэлз — один из лондонских театров; билет за полцены
можно было купить, придя в театр к девяти часам, к середине
представления.
Стр. 522. Олбени — тупик на северной стороне Пикадилли, где
в XIX в. сдавались квартиры богатым холостякам. В 1814—1815 гг.
в Олбени жил Байрон.
«Письма Рэмсботтома» — серия юмористических очерков
Теодора Хука A788—1841), остроумного, но грубого и вульгарного
журналиста, редактора еженедельника «Джон Буль», который
пользовался огромным успехом у малотребовательной публики: в
1821 году тираж его достиг 10 000 экз.
Стр. 547. Белл-лейн входит в границы Флитской тюрьмы...—
Заключенным в долговую тюрьму разрешалось, внеся
определенный залог, жить не в самой тюрьме, а на прилегающих к ней
улицах, в так называемых «тюремных границах».
Стр. 554. Лондонский Воспитательный дом до сих пор славится
своим церковным хором. Композитор Гендель, долго живший в
Англии, давал концерты в пользу этого приюта и подарил ему
орган.
Стр. 571. ...человека, застрелившего мистера Персиваля...—
В 1812 г. премьер-министр Спенсер Персиваль был убит в
кулуарах палаты общин. Стрелявший в него Беллингхем, банкрот,
тщетно обращавшийся к правительству за помощью, был помешан, но
это не спасло его от виселицы.
Стр. 573. Хаунсдич — улица в Сити, издавна заселенная
евреями.
Шадрах, Мешах и Абеднего — библейские персонажи, три
отрока, брошенные в огненную печь за неповиновение царю
Навуходоносору, но благодаря вмешательству ангела спасенные от
погибели (Книга пророка Даниила, гл. 3).
Стр. 588. «Дядюшкой» в Англии называют ростовщика,
владельца ссудной лавки.
Стр. 608. Ведомство Сургуча и Тесьмы — правительственное
учреждение, выдуманное Теккереем. Тесьма (красная тесьма,
которой перевязывают пачки официальных бумаг) стала в Англии
синонимом бюрократической волокиты.
М. Лорие
Содержание
В. Ивашева. Теккерей — гуманист и сатирик ... 5
Повести 1888—1841
ИЗ «ЗАПИСОК ЖЕЛТОГО! ШЛА»» Перевод 3. Александ
С/
ровои
Нашла коса на камень
Мистер Дьюсэйс в Париже
Глава Г. Которая из двух?
Глава II. «Чти отца своего»
Глава III. Маневры
Глава IV. Кажется, клюнуло
Глава V. Когти гриффона .
Глава VI. Дуэль ¦. .
Глава VII. Последствия
Глава VIII. Конец истории мистера Дыосэйса.
Тюрьма
Глава IX. Свадьба
Глава X. Медовый месяц
РОКОВЫЕ САПОГИ. Перевод IQ. Жуковой
Январь. Рождение года
Февраль. Мороз и вьюга
Март. Гроза и ливень
33
46
50
56
62
65
68
75
78
91
93
101
105:
109
Апрель. Жертва первоапрельской шутки 113
Май. Остался с носом
118
Июнь. Веселимся по-королевски 122
Июль. Расправа
126
Август. Своя рубашка к телу ближе , 130
634
Сентябрь. Ободрали как липку 134
Октябрь. Размолвка Марса и Венеры 138
Ноябрь. Красный мундир 142
Декабрь. «Зима междоусобий наших» 146
ДНЕВНИК КОКСА. Перевод Н. Батъ
Январь. Нечаянная весть 151
Февраль. Первый прием 155
Март. День ва псовой охоте в Саррее . . . ... 159
Агуэель. Последний удар ... 164
Май. Провал в опере . , ...... .... 168
Июнь. Сводим .счеты . . . . ........... . . . 172
Июль. На празднике в Бьюла 177
Август. Турнир ....... . . . . . . . .... 181
Сентябрь. За бортом и -на крюке . . 185
Октябрь. Нас вываляю. . ...... . . 190
Ноябрь. Страхование по закону . . . . .. ... il94
Декабрь. Семейные хлопоты . . . . .. ... . ... . . 198
КЭТРИН. Перевод Е. Калашниковой
Глава I, представляющая читателю главных дейот-*
вущщих лиц этой повести . . . . . . .. . ., 201
Глава II, вжоей^описаны^релеотитюбовных уз ..... . 229
Глава Щ, в окоей герой опоен зельем, а тазше
уделено много внимания светскому обществу . . .... 239
Глава IV, в которой мисс Кэтрин снова становится
честной женщиной 249
Глава V, в которой излагаются события из жизни
мистера Брока, ia также некоторые другие . . 260
Глава VI. Приключения посла, мистера Макшейна 272
Глава VII, охватывающая период в семь лея? ... . . 289
Глава VIII содержит леЕречень совершенств !Гомаса
Биллингса; представляет читателю ;Брока дюд
именем доктора *Вуда; сообщает о каани
прапорщика Макшейна . .. . ... ... . . . . . 306
Глава IX. Беседа графа Гальгенштейна с мастером
Томасом Биллингсом;, то время которой
последний уведомляет графа *>б их родстве .... 321
Глава X, повествующая о жом, как Гальгенштейн и
миссис Кэт узнали друг дауга в Марилебонском
саду и как граф привез миссис Кэт домой в
своей жарете . . . „. . . . .... . . . 332
Глава XI. О некоторых .домашних неурядицах и о
том, что воспоследовало из них , а ....... . 342
6^5
Глава XII, повествующая о любви и
подготовляющая к смерти 356
Глава XIII, приближающая развязку 360
Глава последняя 362
Еще одна глава последняя 367
В БЛАГОРОДНОМ СЕМЕЙСТВЕ. Перевод И. Вольпин
Глава I 375
Глава II. Как миссис Ганн заполучила двух
жильцов 388
Глава III. Обед не хуже, чем у благородных; и
некоторые происшествия в том же благородном
духе 401
Глава IV, в которой мистер Фитч возвещает о своей
любви, а мистер Брэндон готовится к войне . . 417
Глава V, которая содержит в себе всяческие
любовные переплеты 425
Глава VI, где описывается свадьба в благородном
семействе и новые искательства 441
Глава VII, где в Маргет прибывает на пароходе
много новых лиц 449
Глава VIII, где говорится о войне и любви. И о
многом, что оставалось непонятным в главе VII . . 456
Глава IX, которая грозила смертью, но разрешилась
множеством браков 470
ИСТОРИЯ СЭМЮЕЛА ТИТМАРША И ЗНАМЕНИТОГО
БРИЛЛИАНТА ХОГГАРТИ. Перевод Р. Облонской
Глава I, в которой описывается наша деревня и
впервые сверкает знаменитый бриллиант . . . 483
Глава II повествует о том, как бриллиант был
привезен в Лондон и какое удивительное действие
оказал он в Сити и в Вест-Энде 489
Глава III повествует о том, как обладателя
бриллианта унесла великолепная колесница, и об его
дальнейших удачах 500
Глава IV. О том, как счастливый обладатель
бриллиантовой булавки обедает в Пентонвилле . . 511
Глава V, повествующая о том, как бриллиант вводит
его счастливого обладателя в еще более
высокие круги 515
Глава VI. О Западно-Дидлсекском страховом
обществе и о том, какое действие оказал на него
бриллиант 522
636
Глава VII. Как Сэмюел Титмарш достиг
головокружительных высот 532
Глава VIII. Повествует о счастливейшем дне в
жизни Сэмюела Титмарша 544
Глава IX. Возвращает Сэма с супругой, тетушкой и
бриллиантом в Лондон 551
Глава X. О частной жизни Сэма и о фирме «Брафф
и Хофф» 565
Глава XI, из которой явствует, что можно обладать
бриллиантовой булавкой и, однако же, не иметь
денег на обед 578
Глава XII, в которой бриллиант тетушки нашего
героя сводит знакомство с его же дядюшкой . . 588
Глава XIII, из которой явствует, что добрая жена
дороже всякого бриллианта 601
Комментарии М. Лорие 615
Теккерей У.
ТЗО Собрание сочинений. В 12-ти томах. Под общ.
ред. А. Аникста, М. Лорие и М. Урнова. Т. 1.
Повести 1838—1841 гг. Пер. с англ. Вст. статья
В. Ивашевой. Коммент, и ред. пер. М, Лорие, М.,
«Худож. лит.», 1974.
640 с.
В настоящий том входят 6 повестей: «Из записок Желтоплю-
ша», «Роковые сапоги», «Дневник Кокса», «Кэтрин», «В
благородном семействе» и «История Сэмюела Титмарша и знаменитого
бриллианта Хоггарти». В этих ранних вещах писатель дает
образцы великолепной прозы, вырабатывает свой взгляд на жизнь
и свою позицию сатирика и моралиста.
т 703°i-09^ Подписное И <Англ>
028@1)-74
Уильям Мейкпис Теккерей
Собрание сочинений
том 1
Редактор А. Мурик
Художественный редактор
Л. Налитое спая
Технический редактор
С. Ефимова
Корректор Я. Шкарбанова
Сдано в набор 10/VIII 1973 г.
Подписано к печати 10/XII 1973 г. Бумага
типогр. № 1. Формат 84 х 1087з2«
20,0 печ. л. 33,6 усл. печ. л. 36,0 +
+ 1 вкл.== 36,032 уч.-изд. л.
Заказ № 603. Тираж 200 000 экз.
Цена 1 р. 20 к.
Издательство
«Художественная литература»,
Москва, Б-78, Ново-Басманная, 19
Ордена Трудового Красного Знамени
Первая Образцовая типография
имени А. А. Жданова Союзполиграф-
прома при Государственном комитете
Совета Министров СССР по делам
издательств, полиграфии и книжной
торговли. Москва, М-54, Валовая, 28