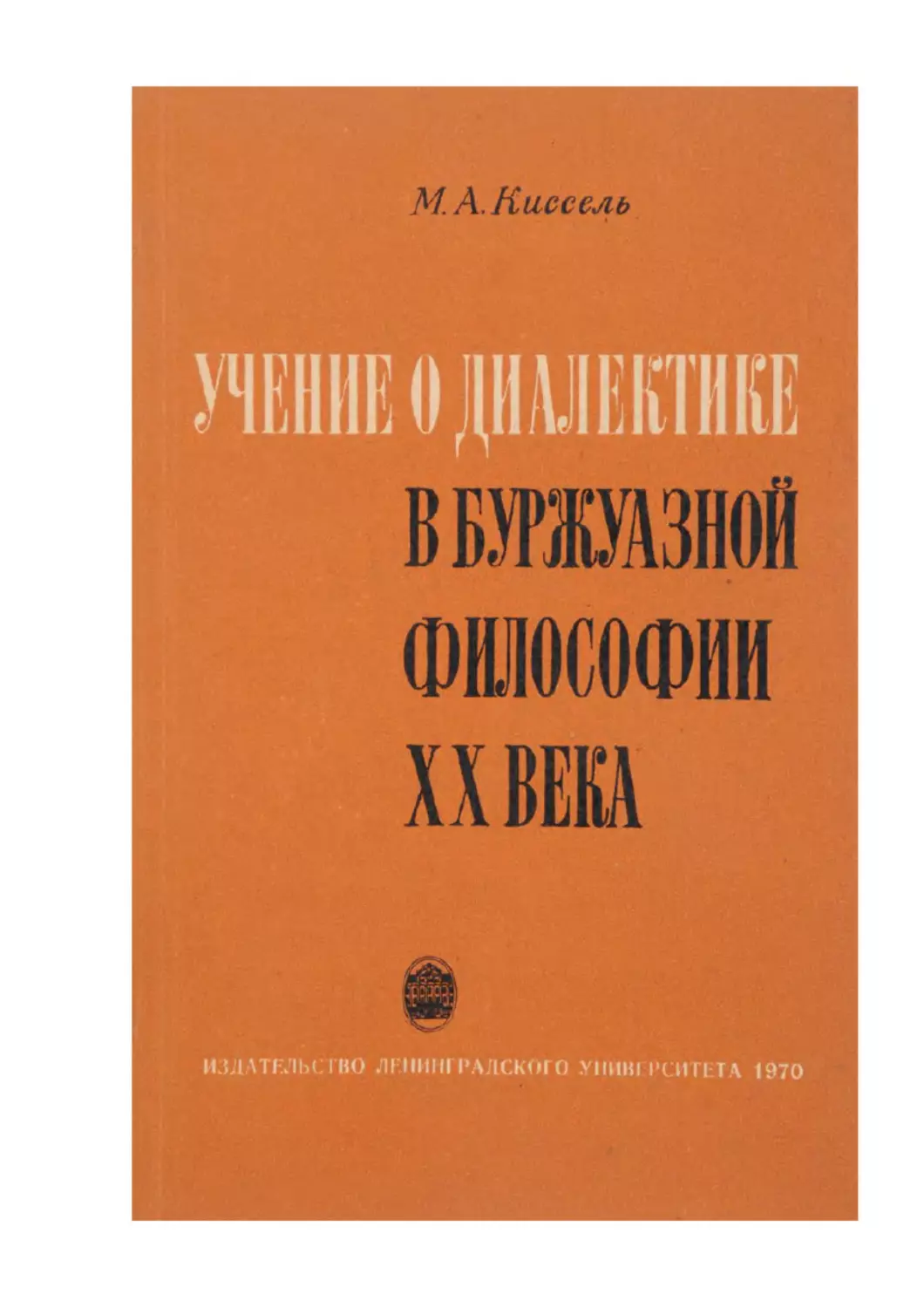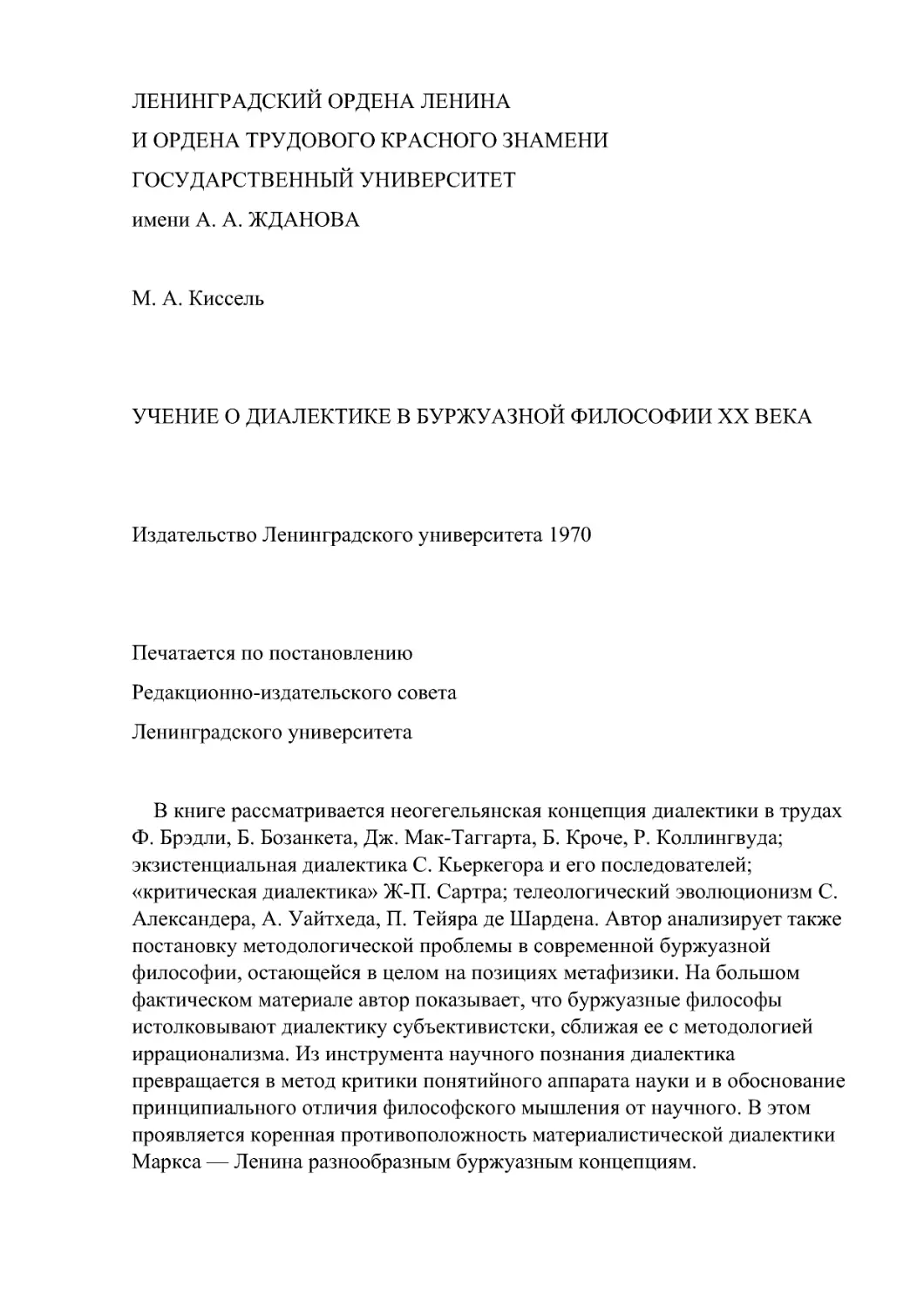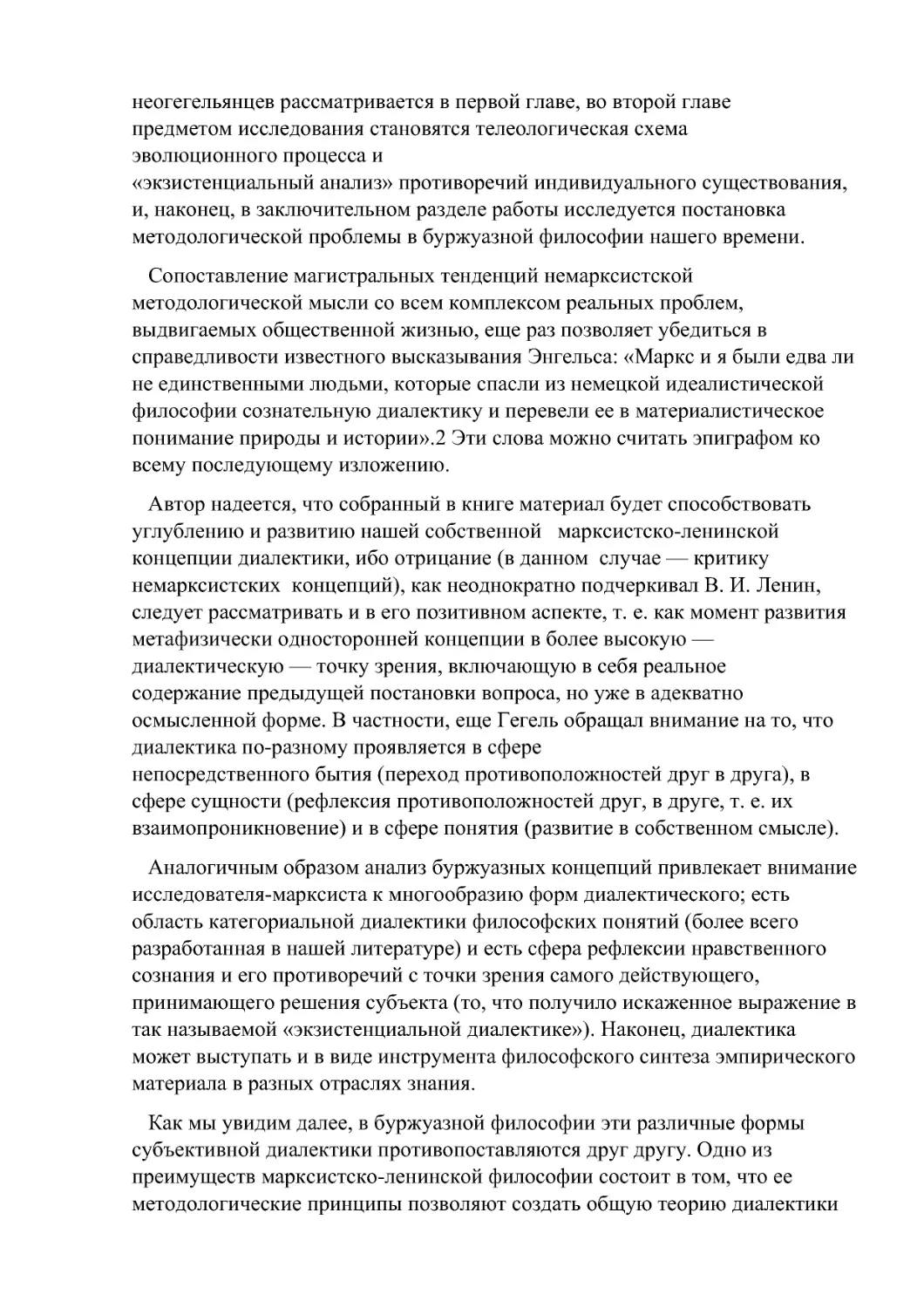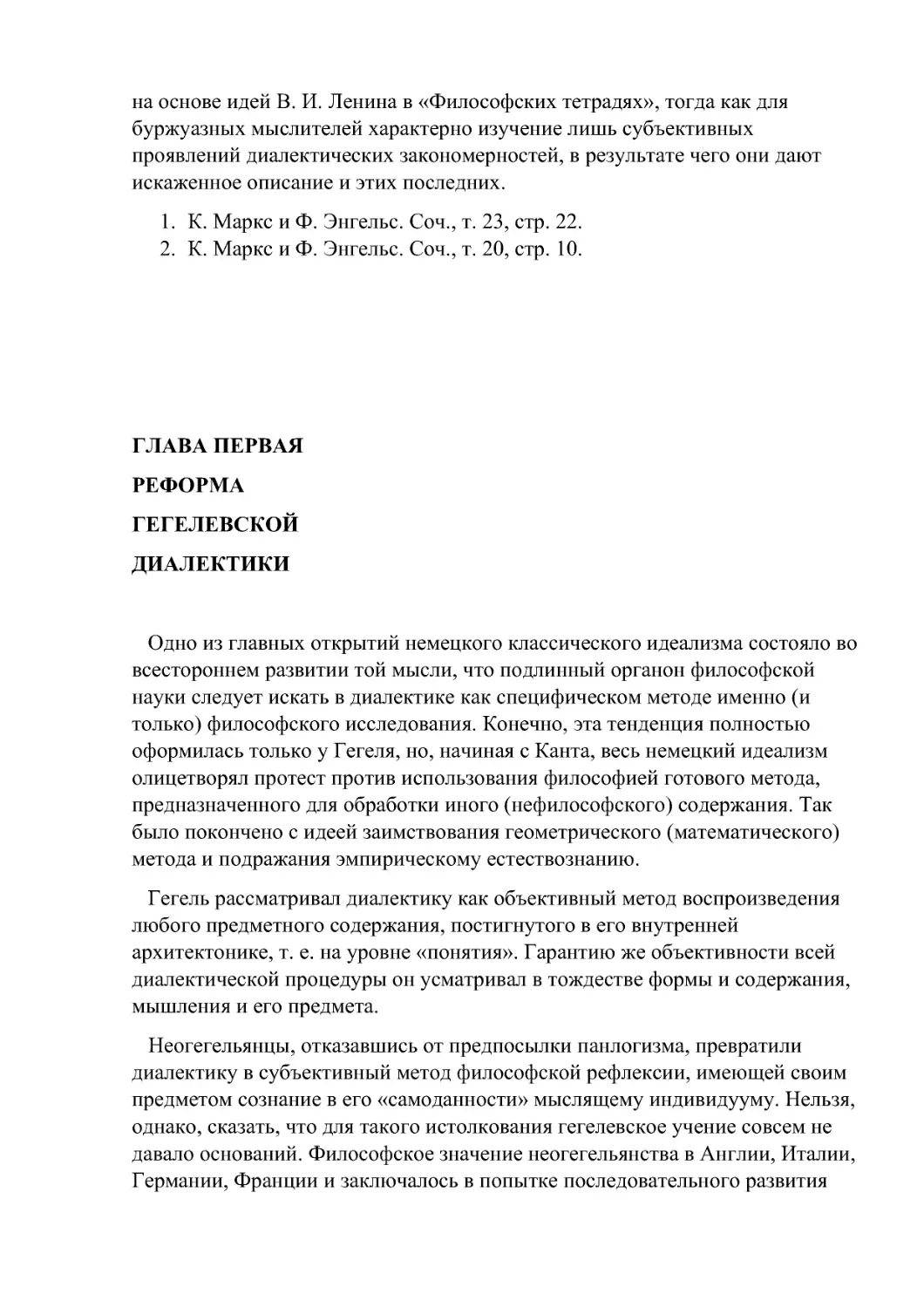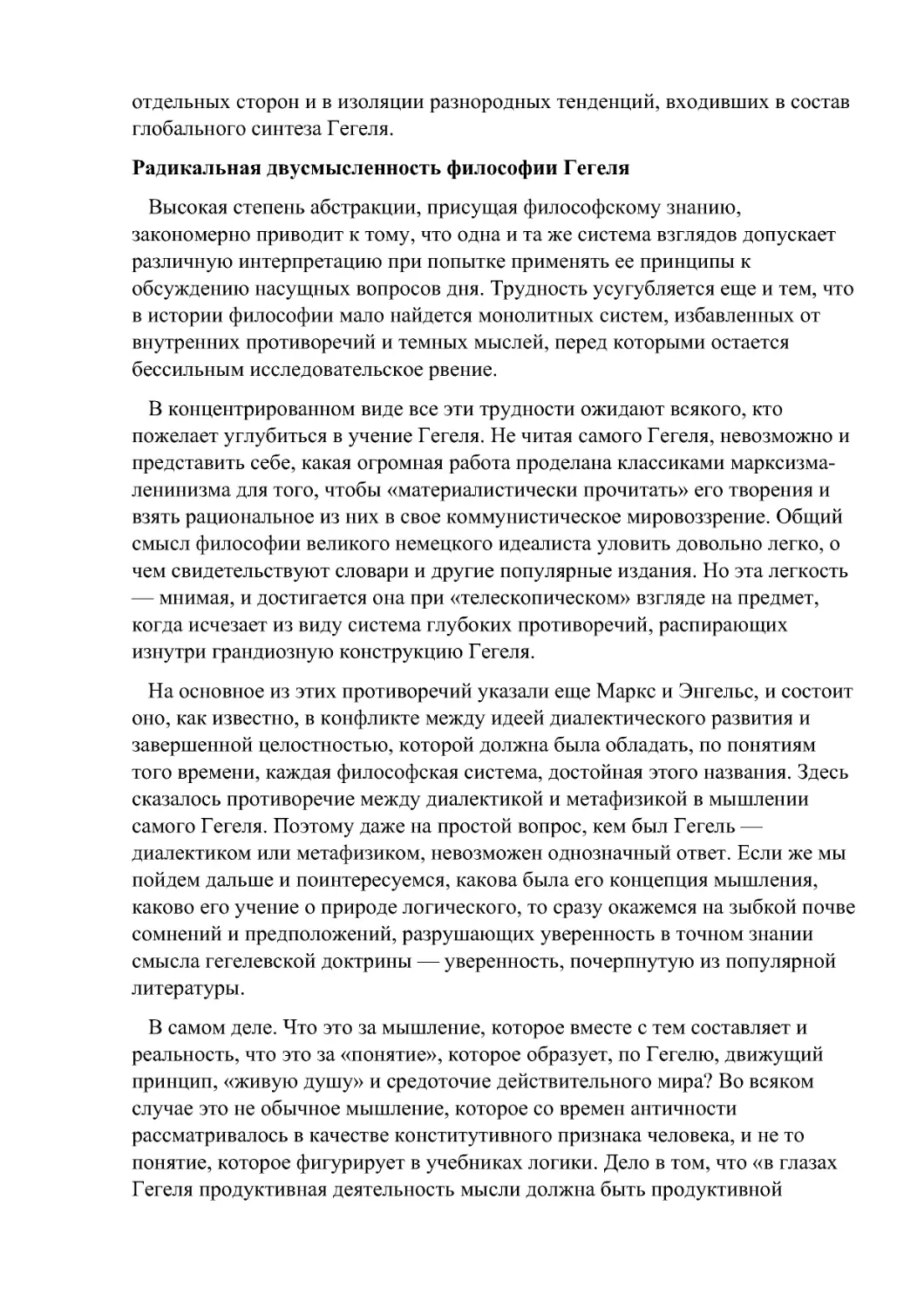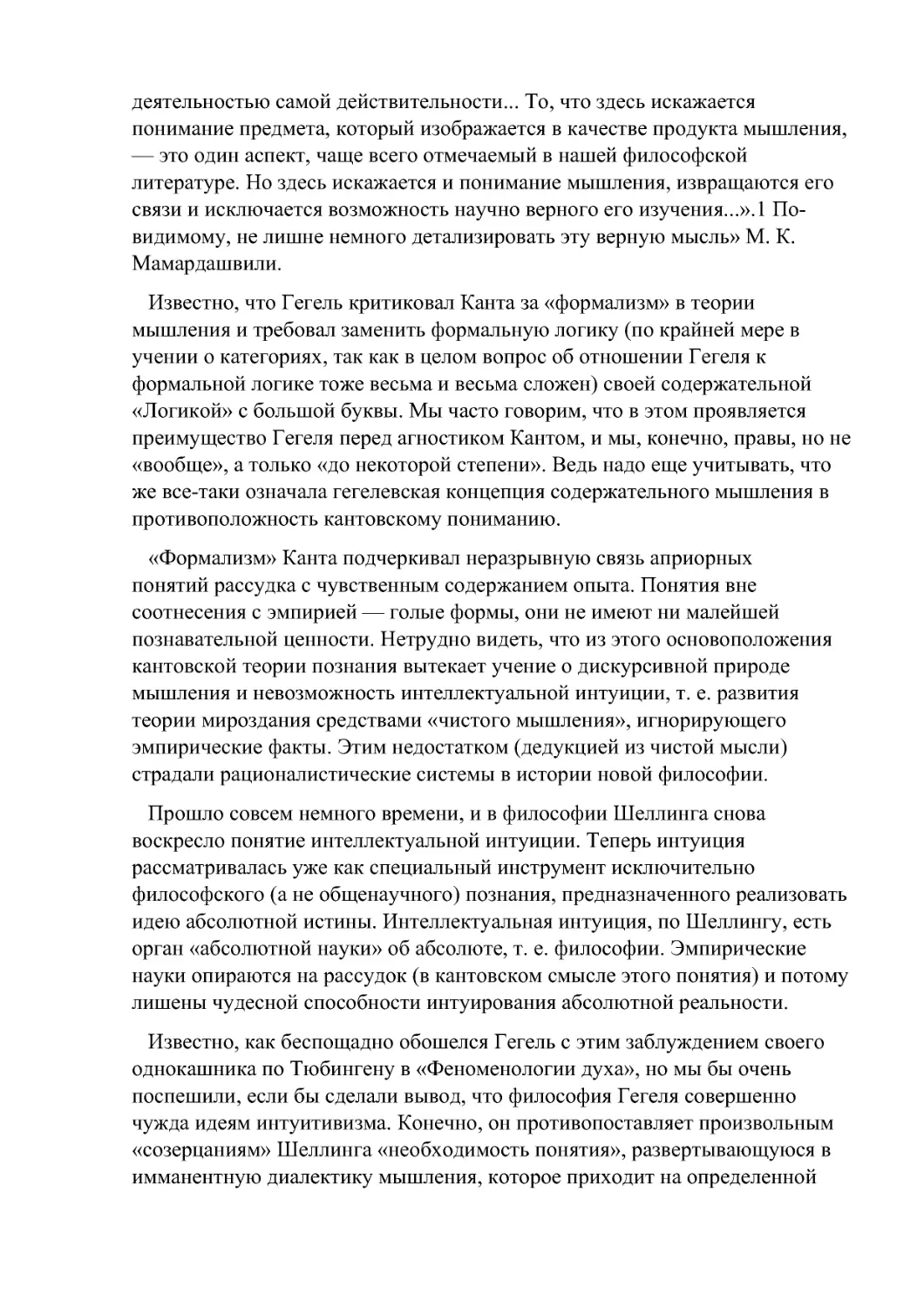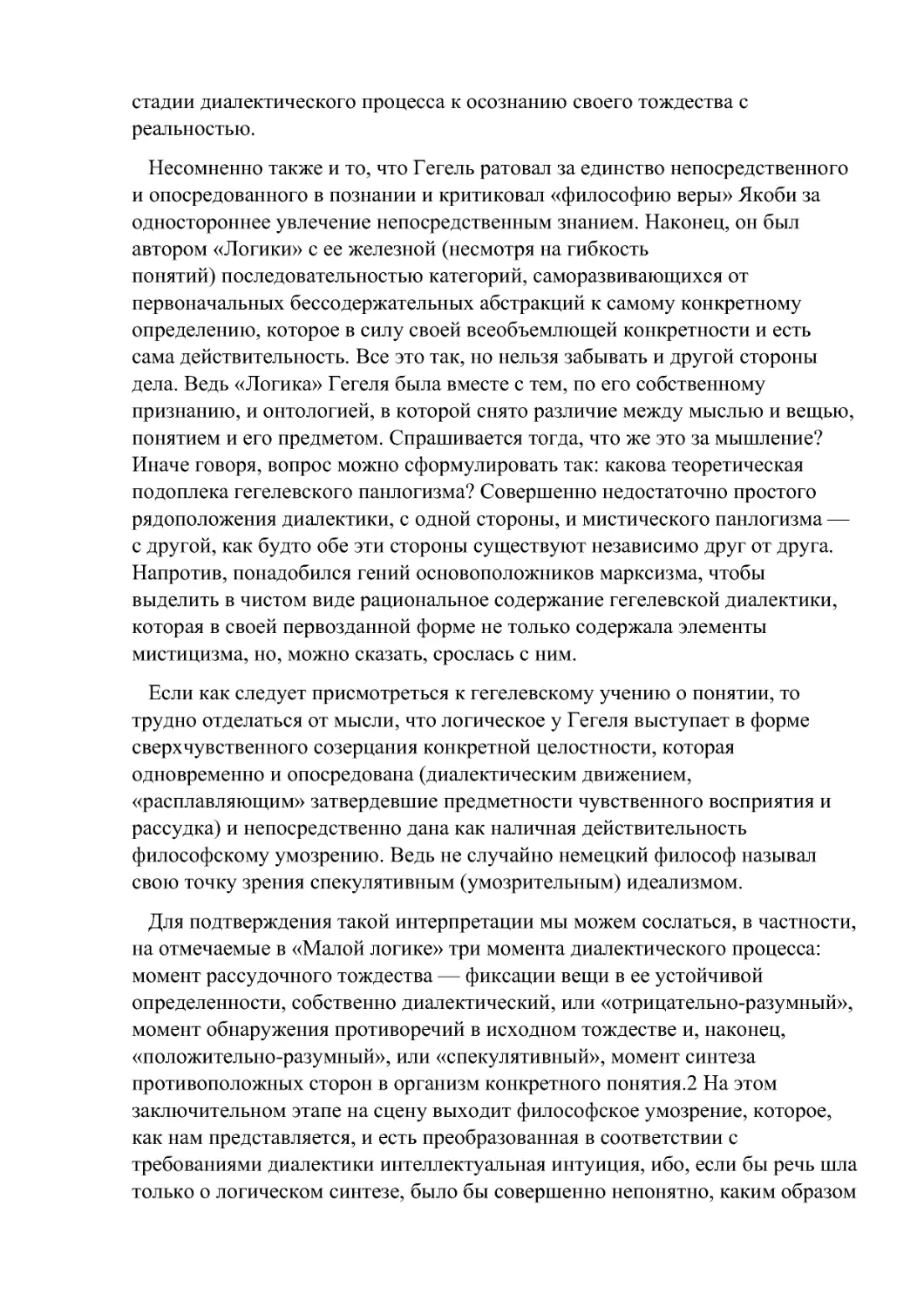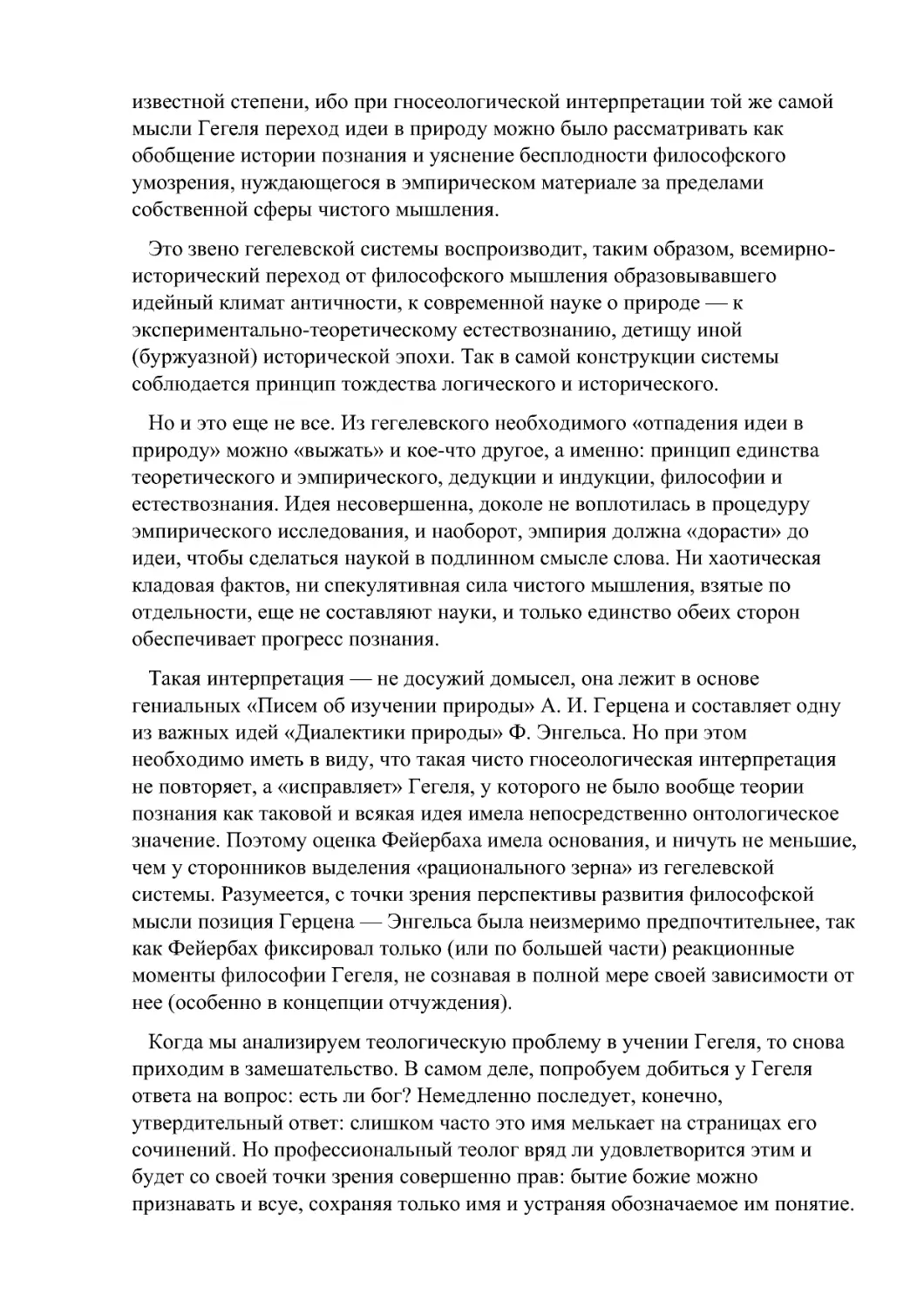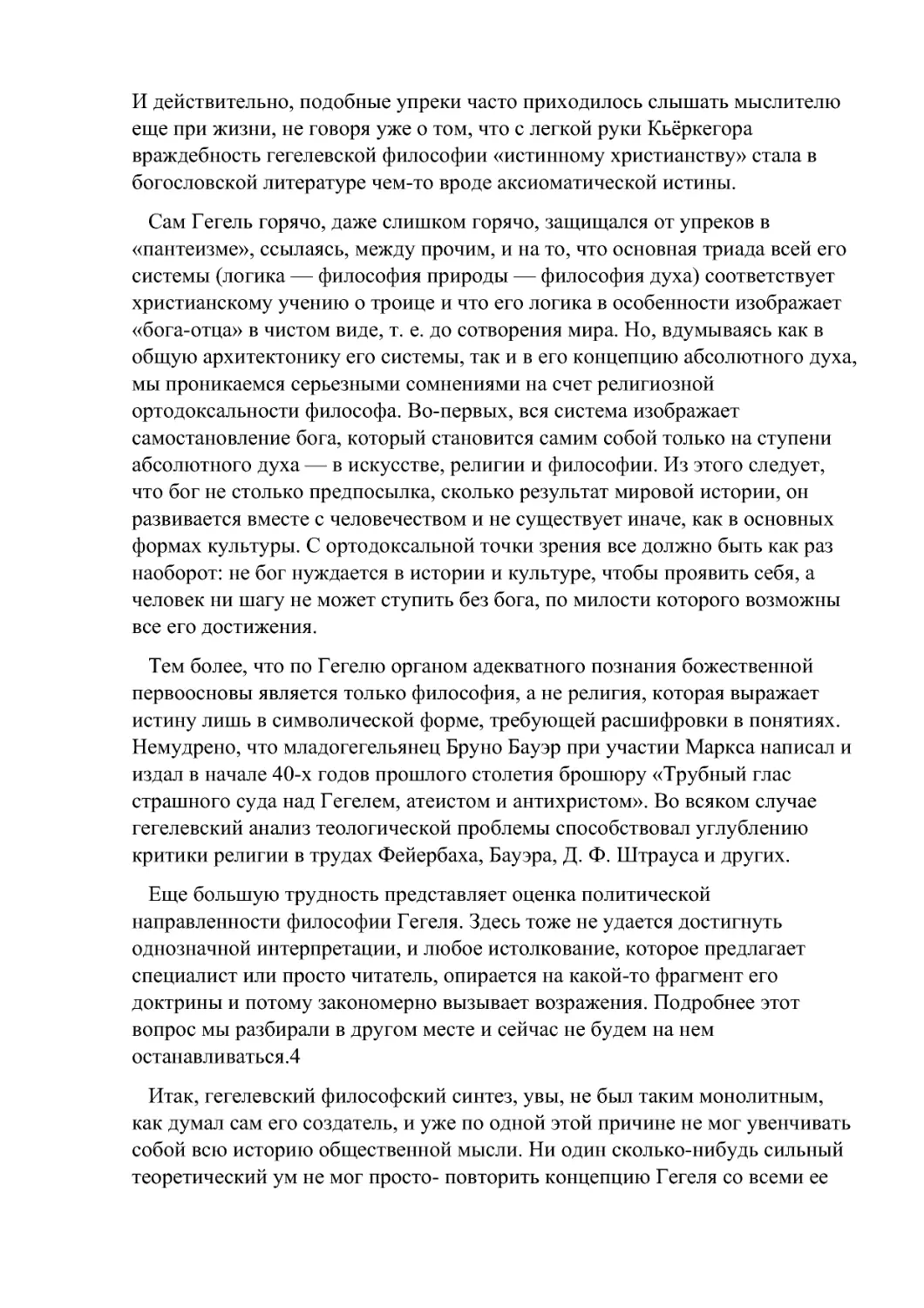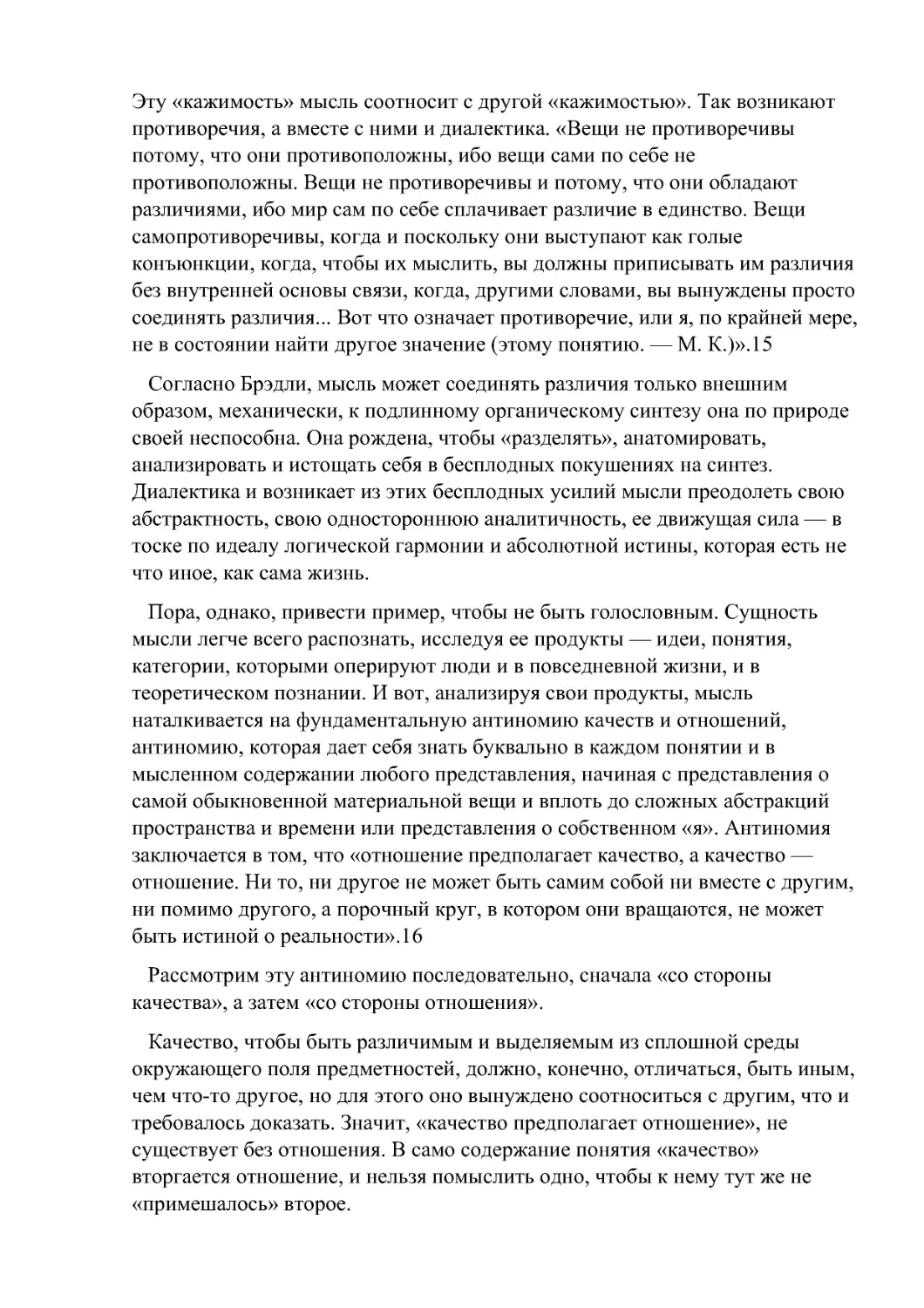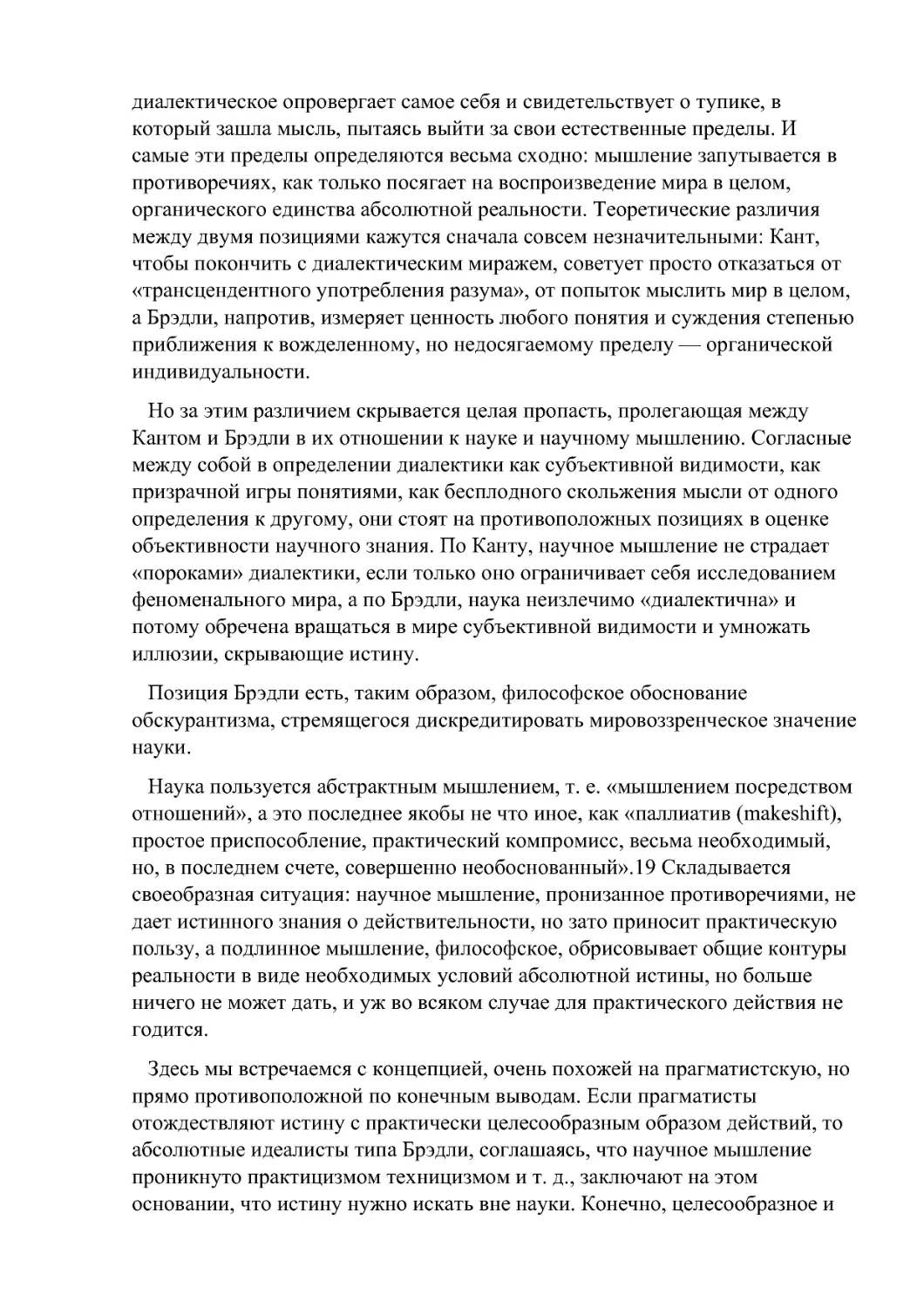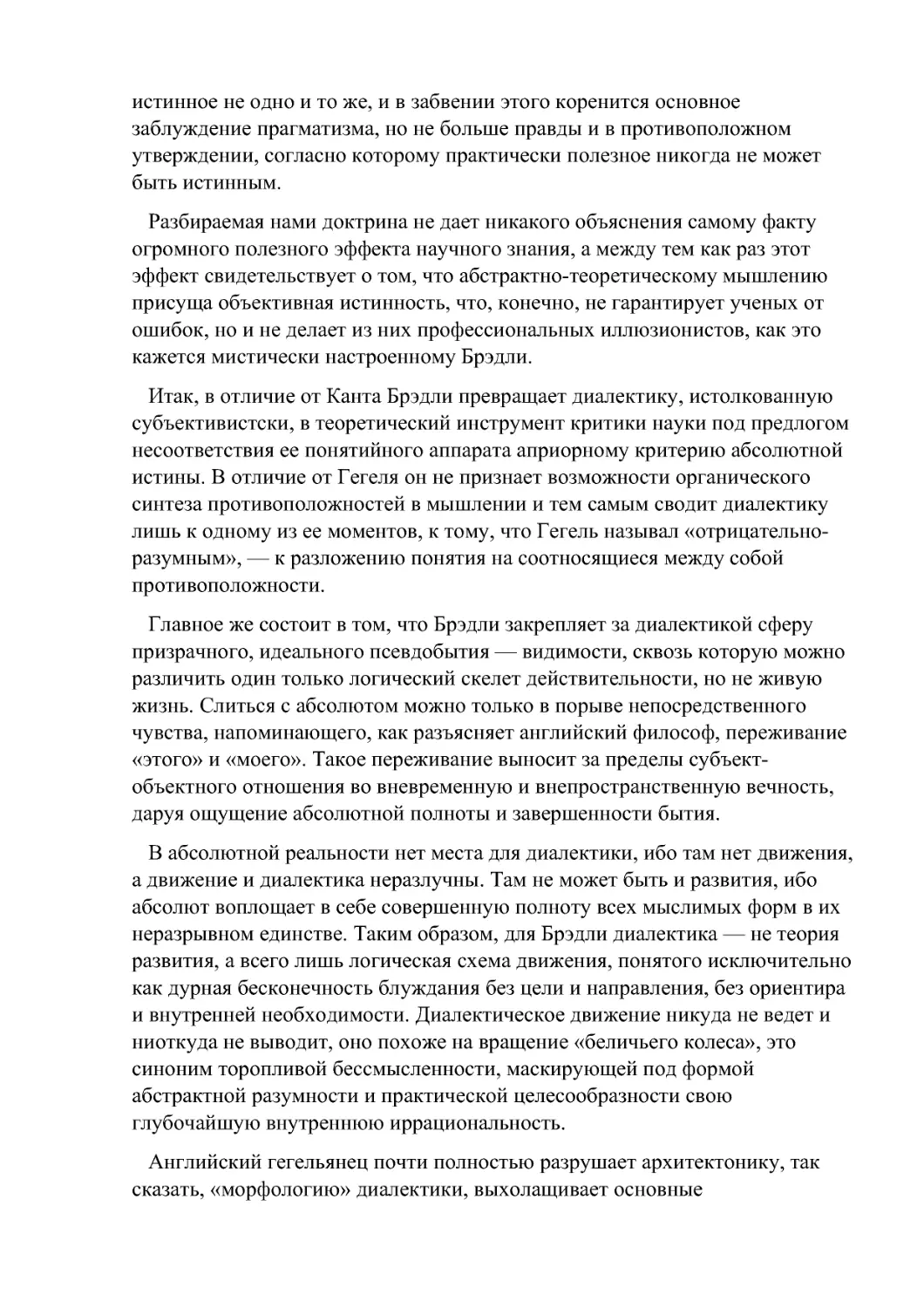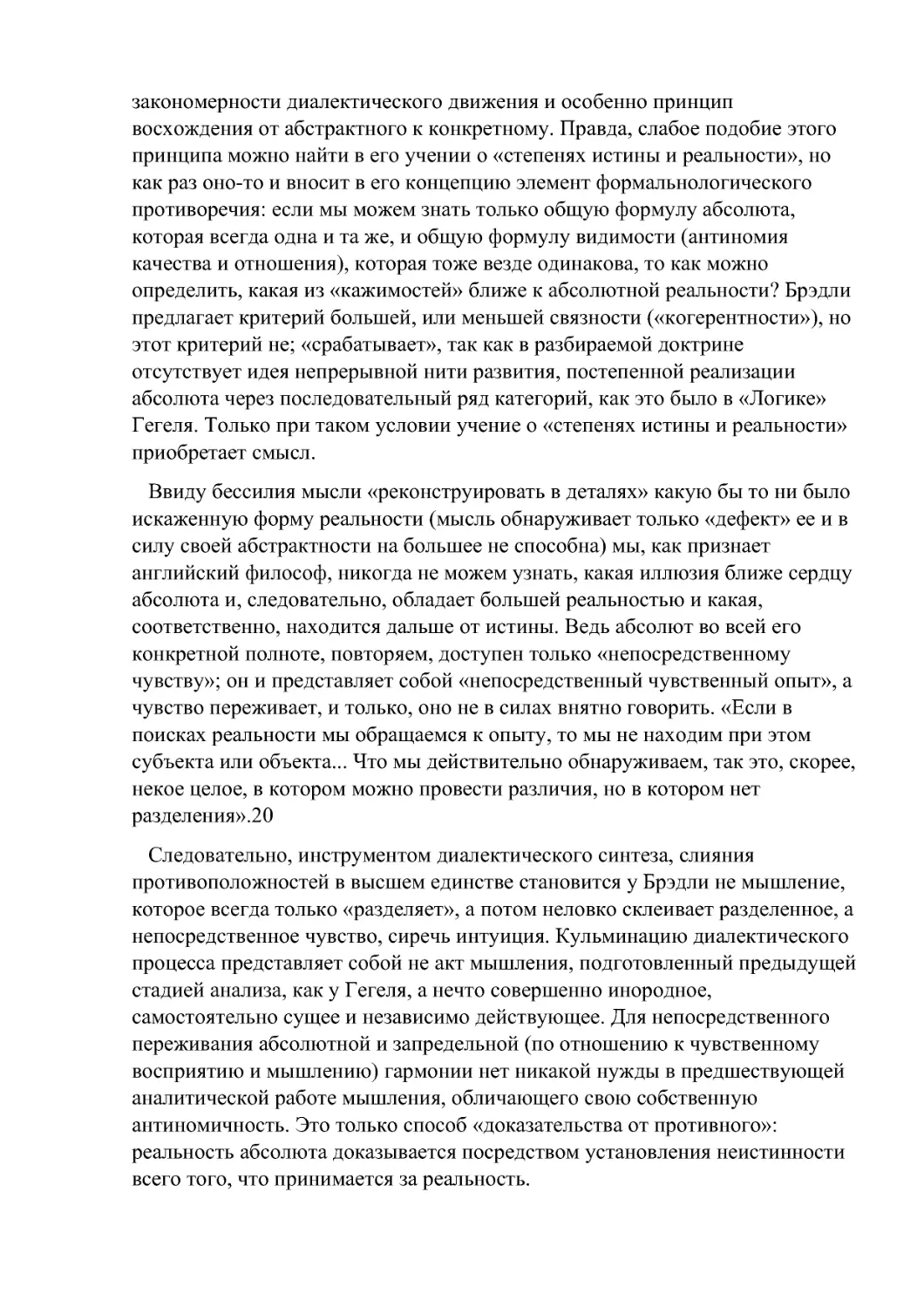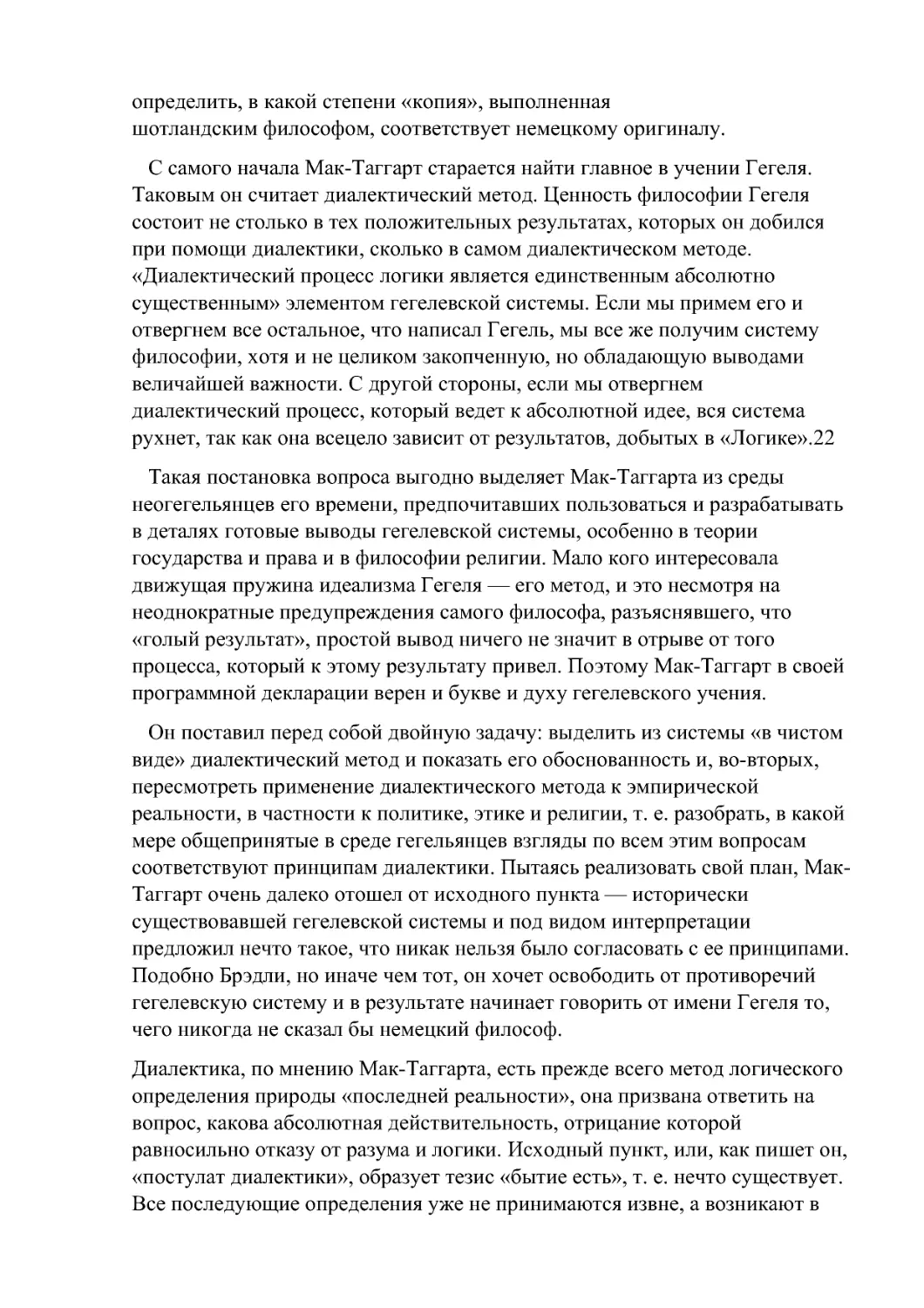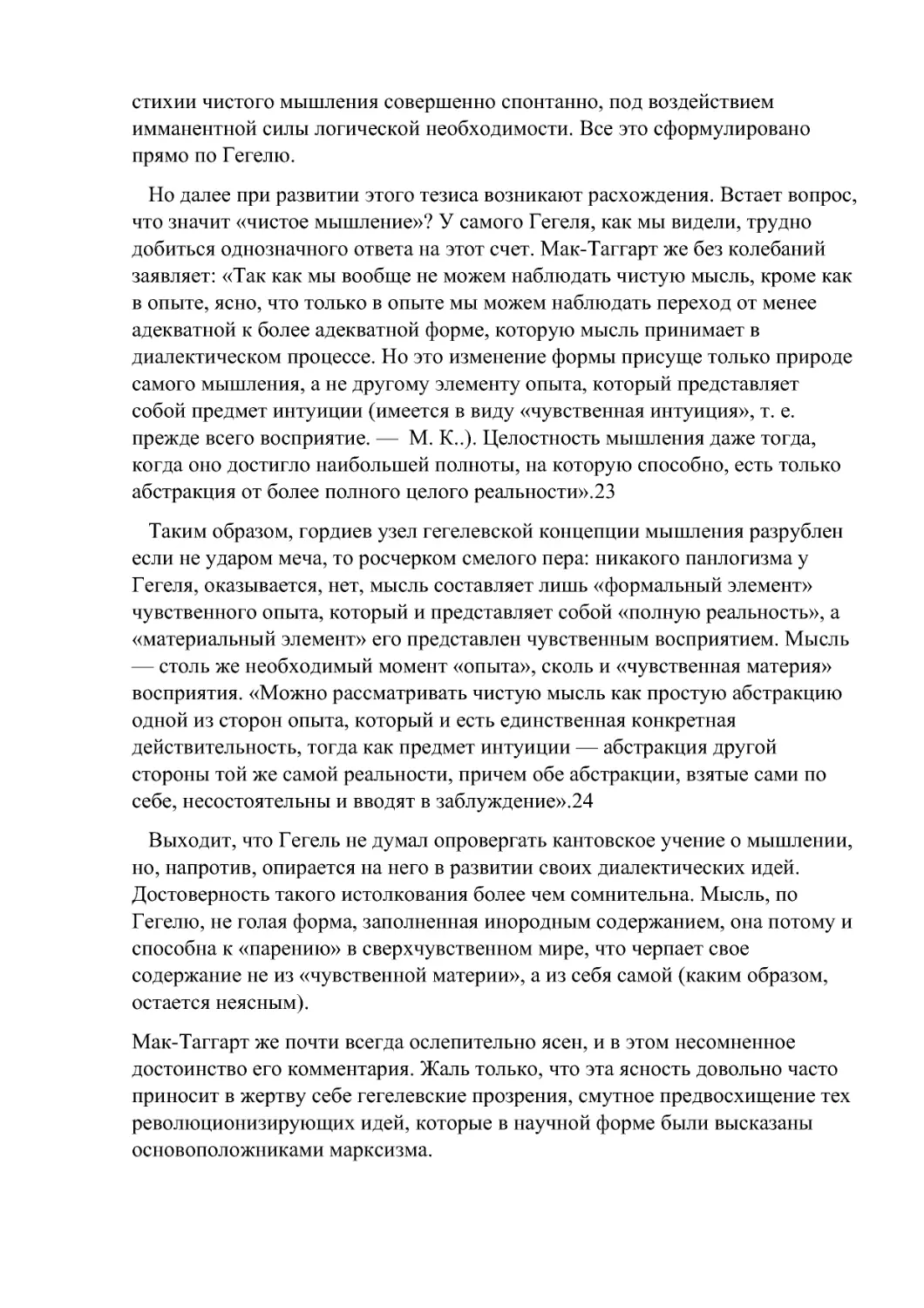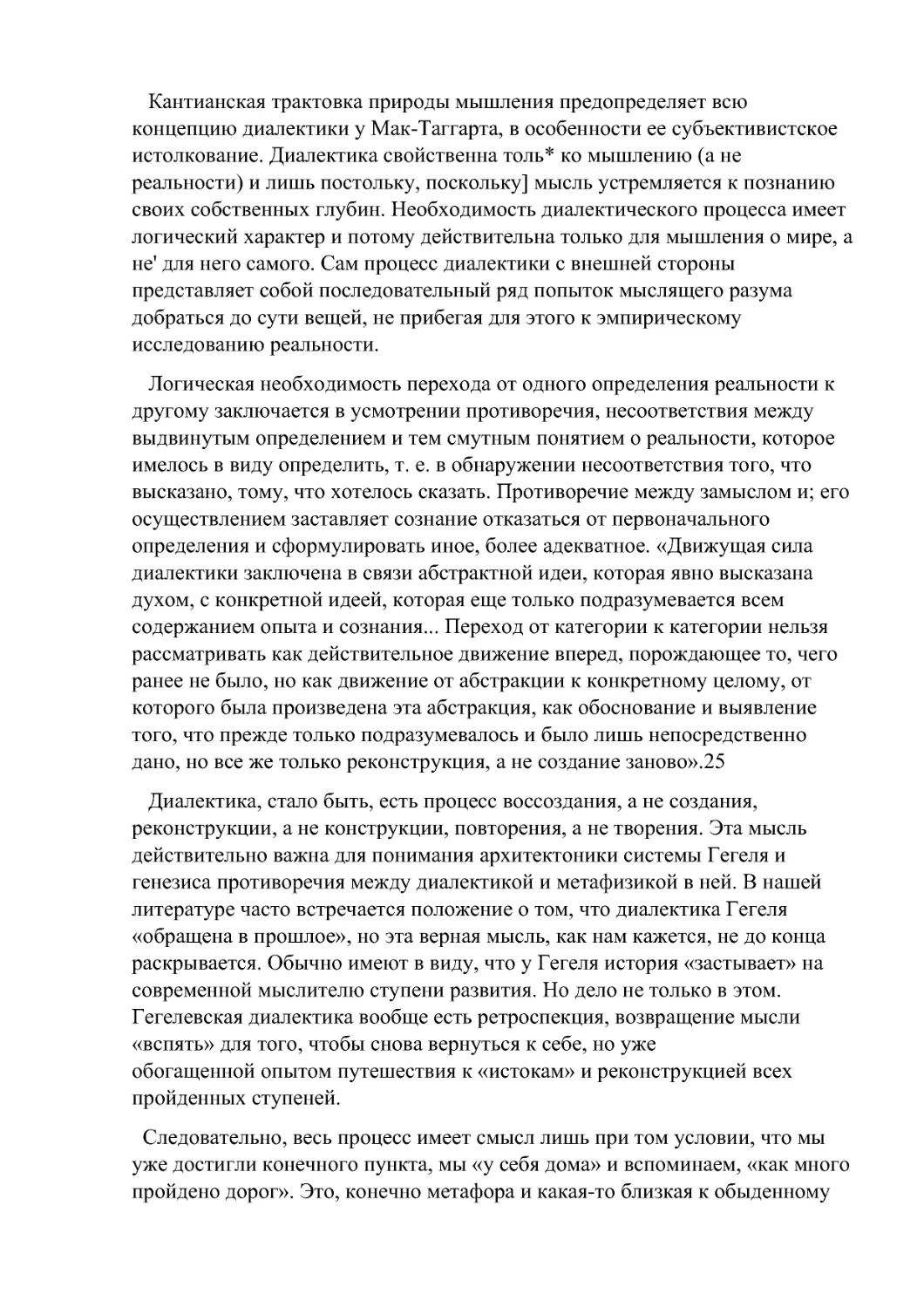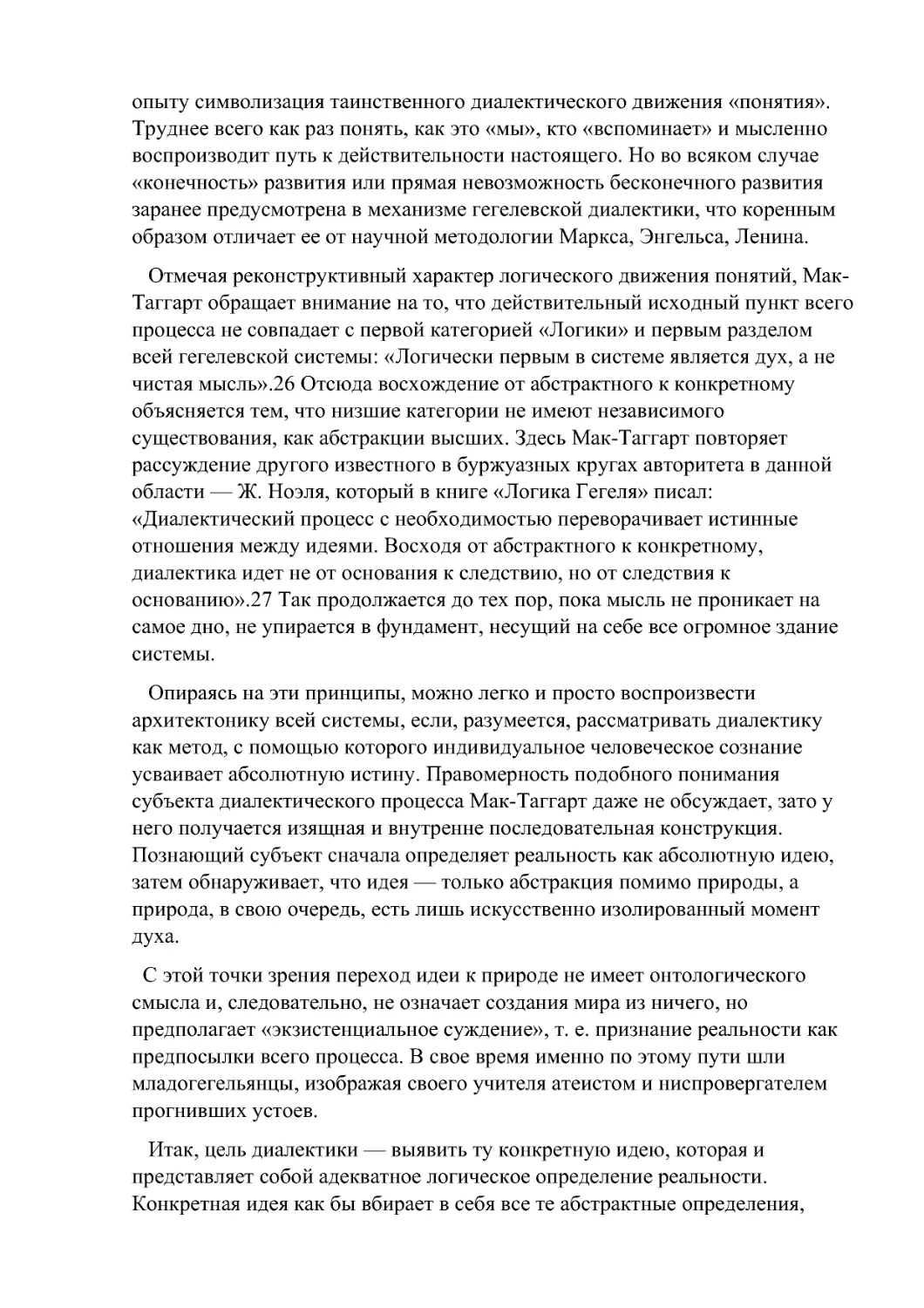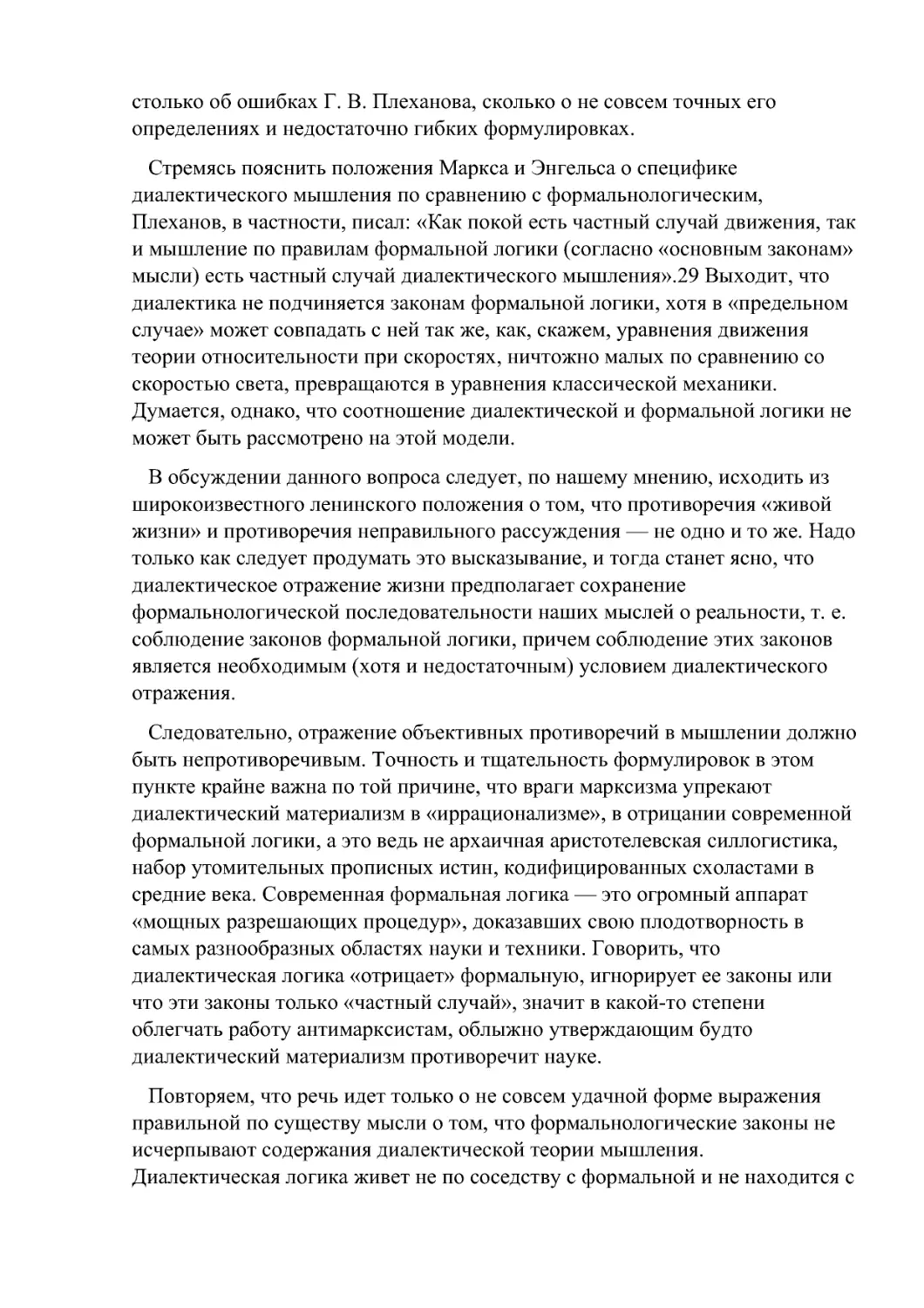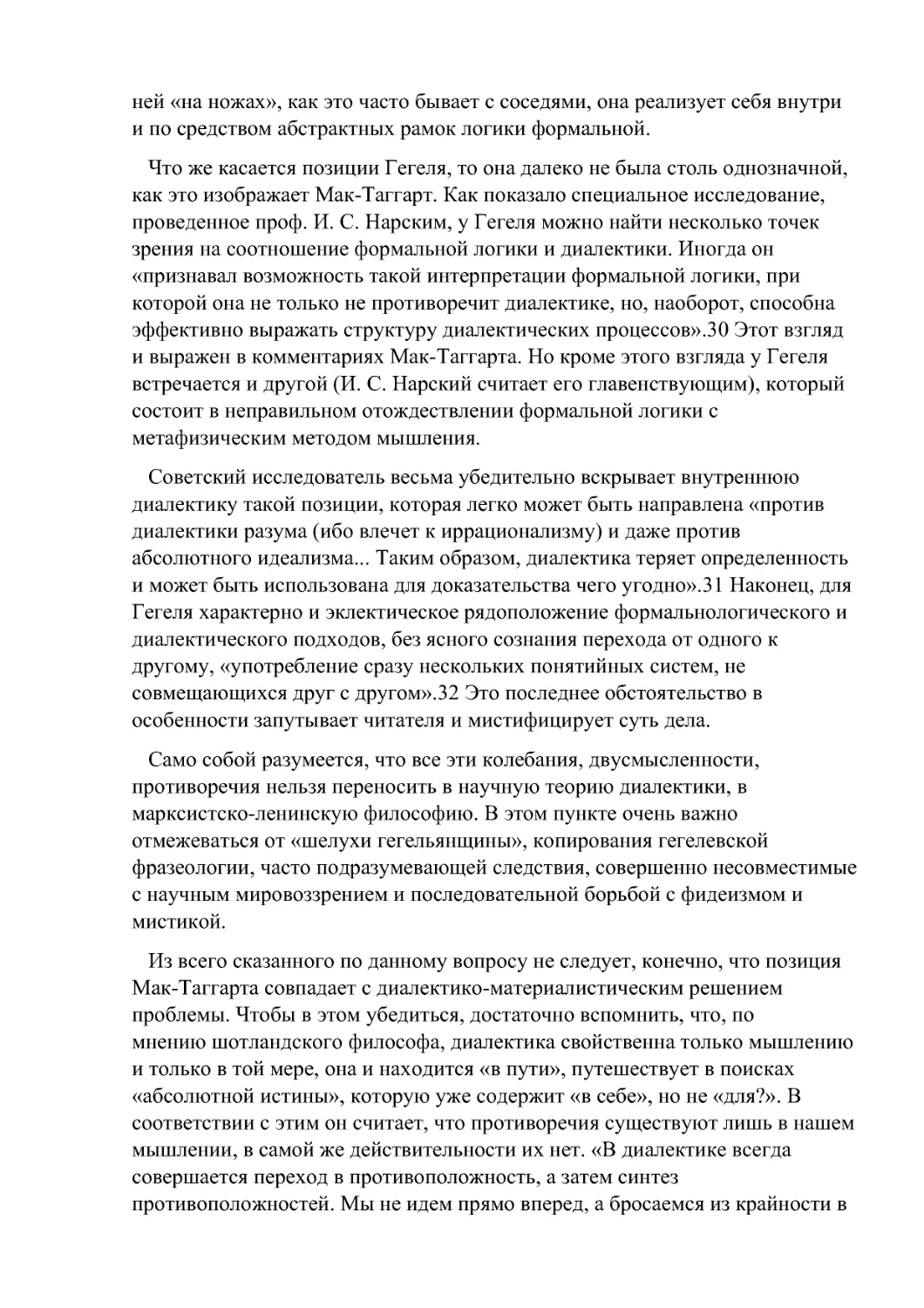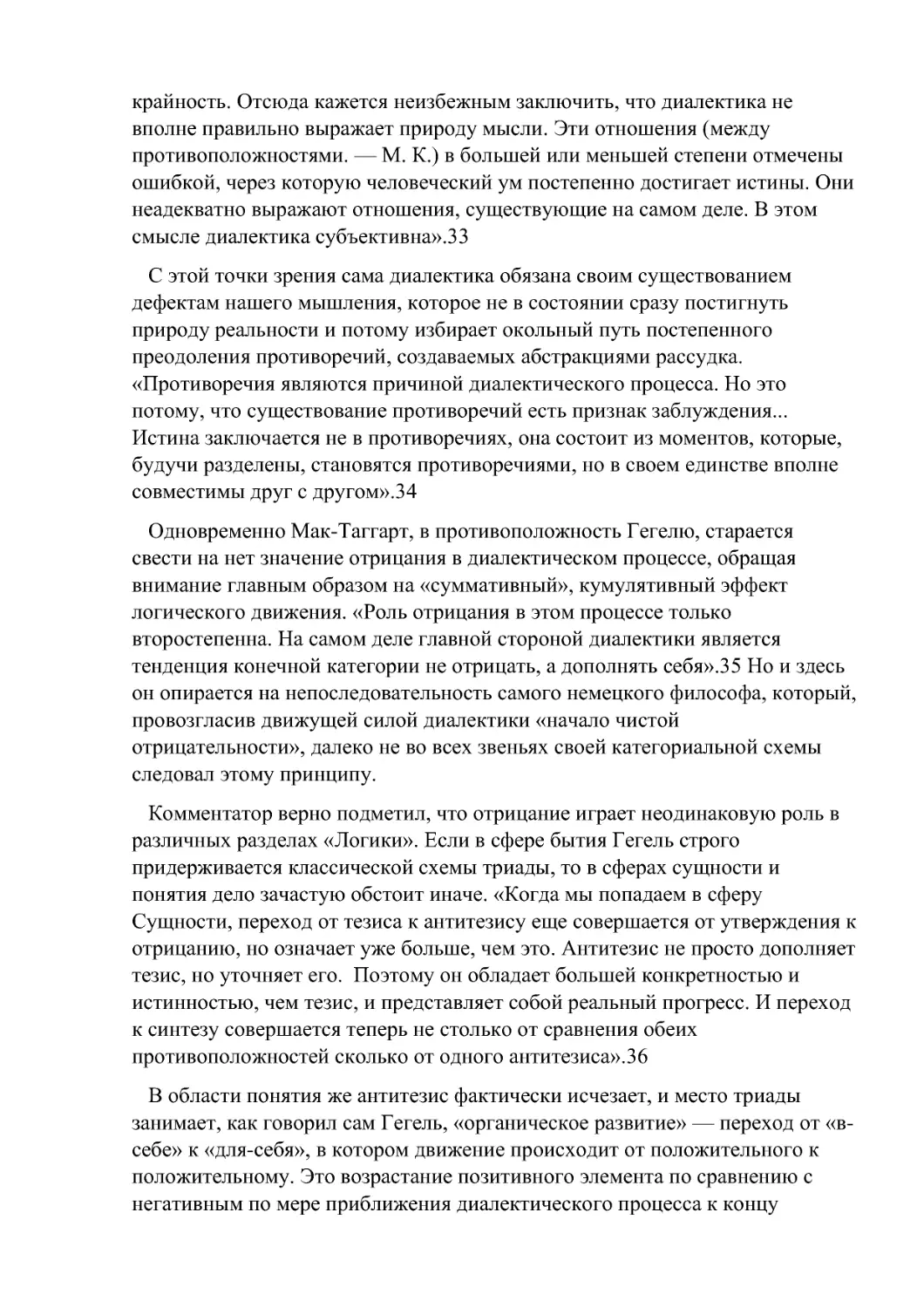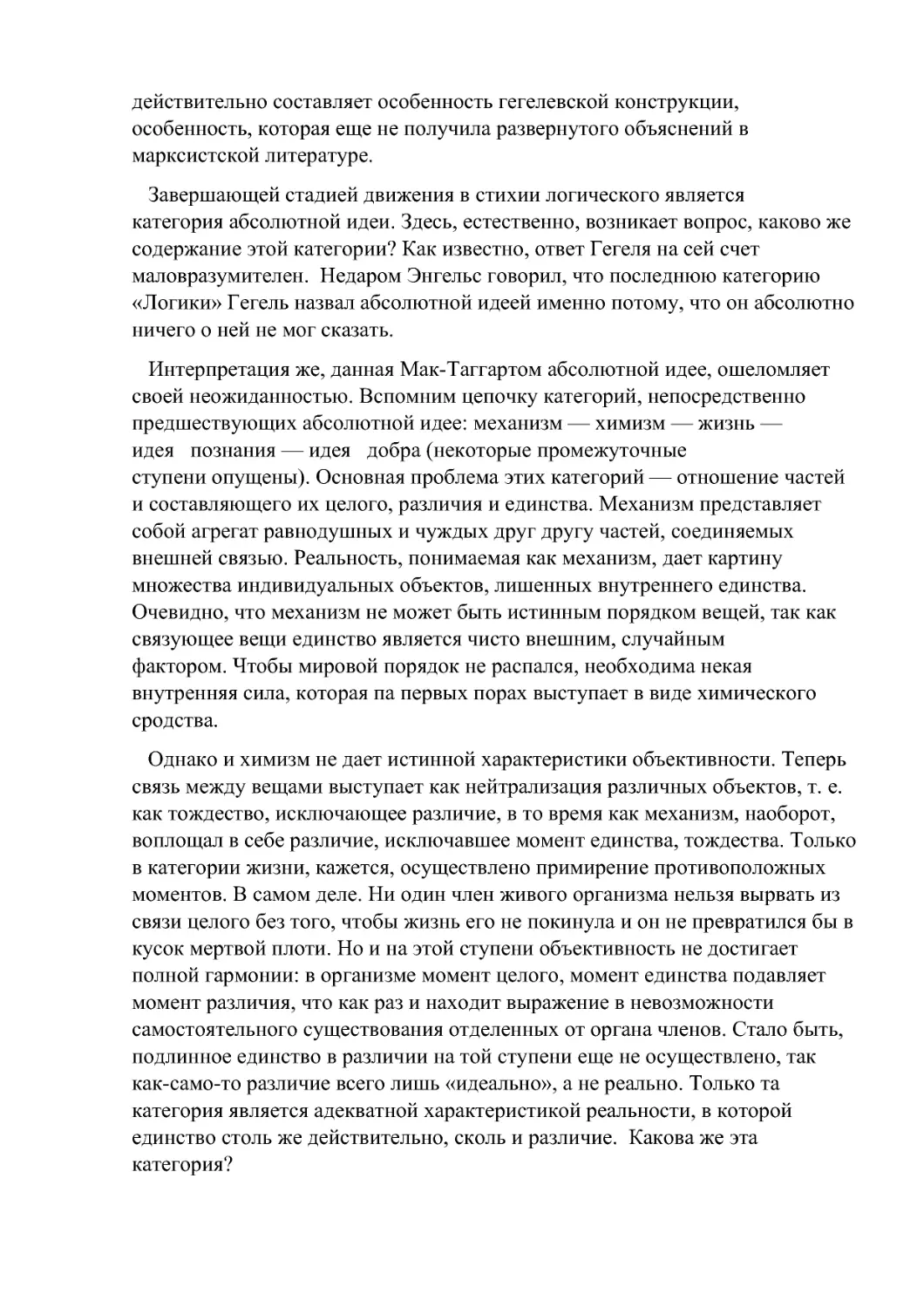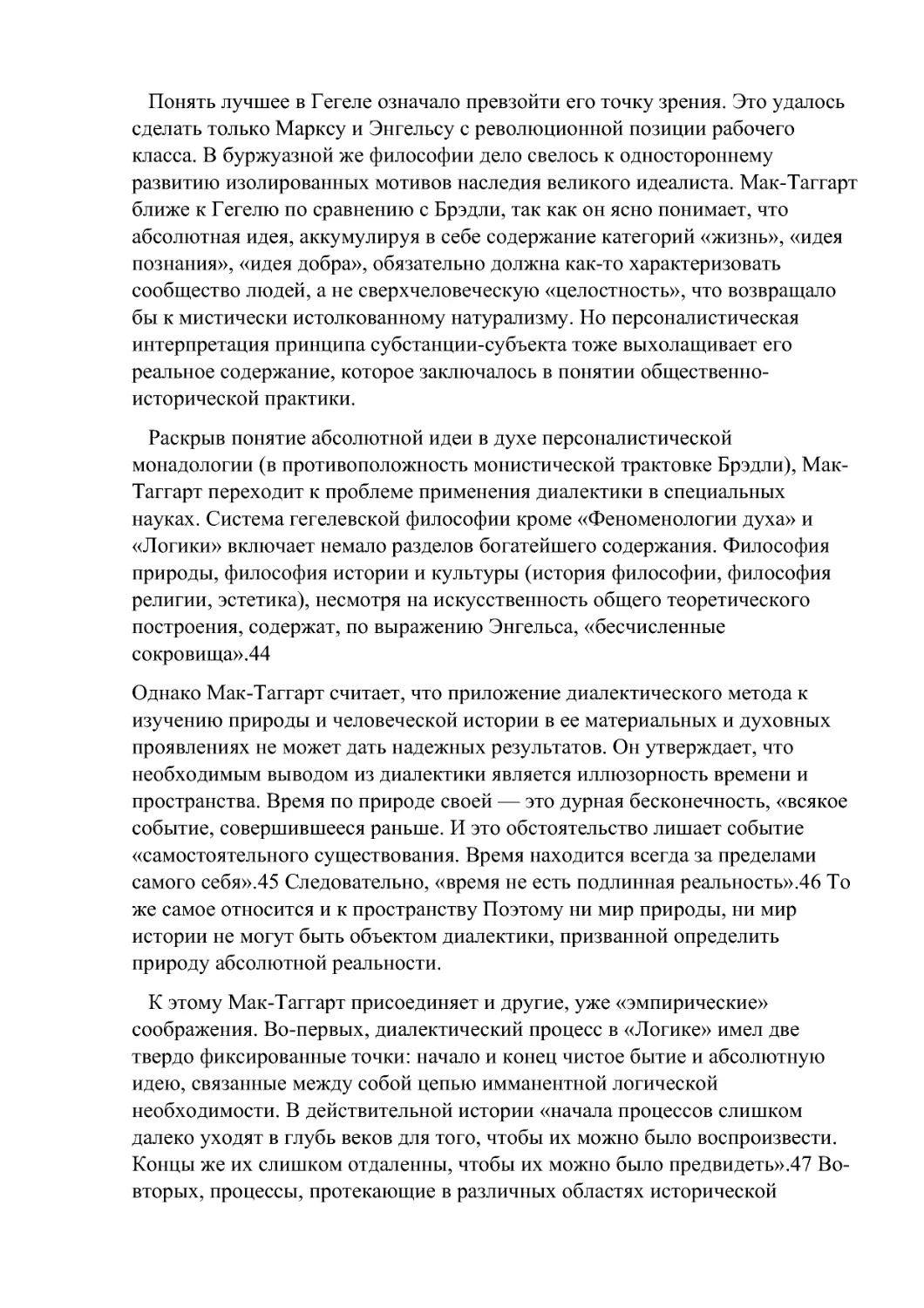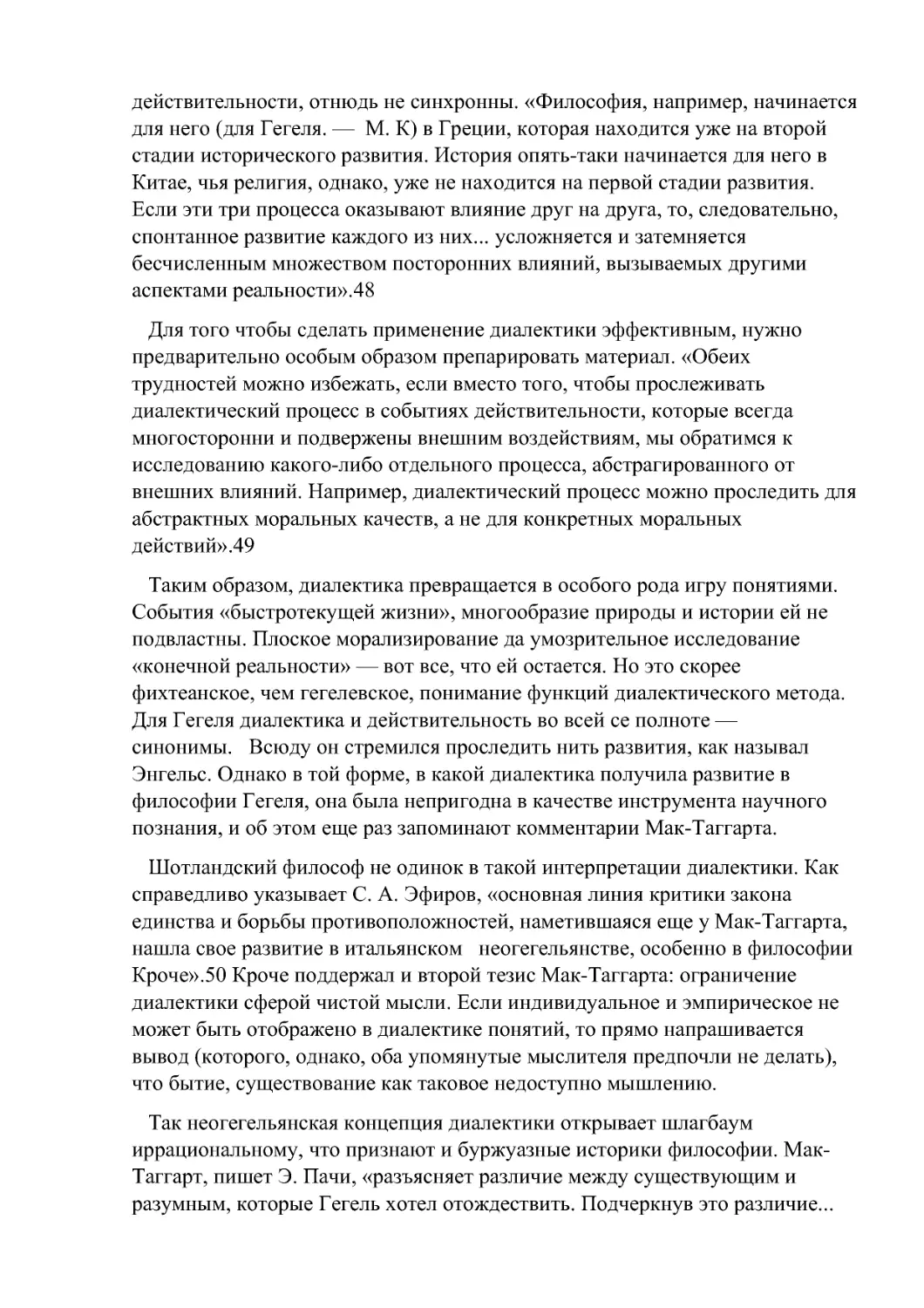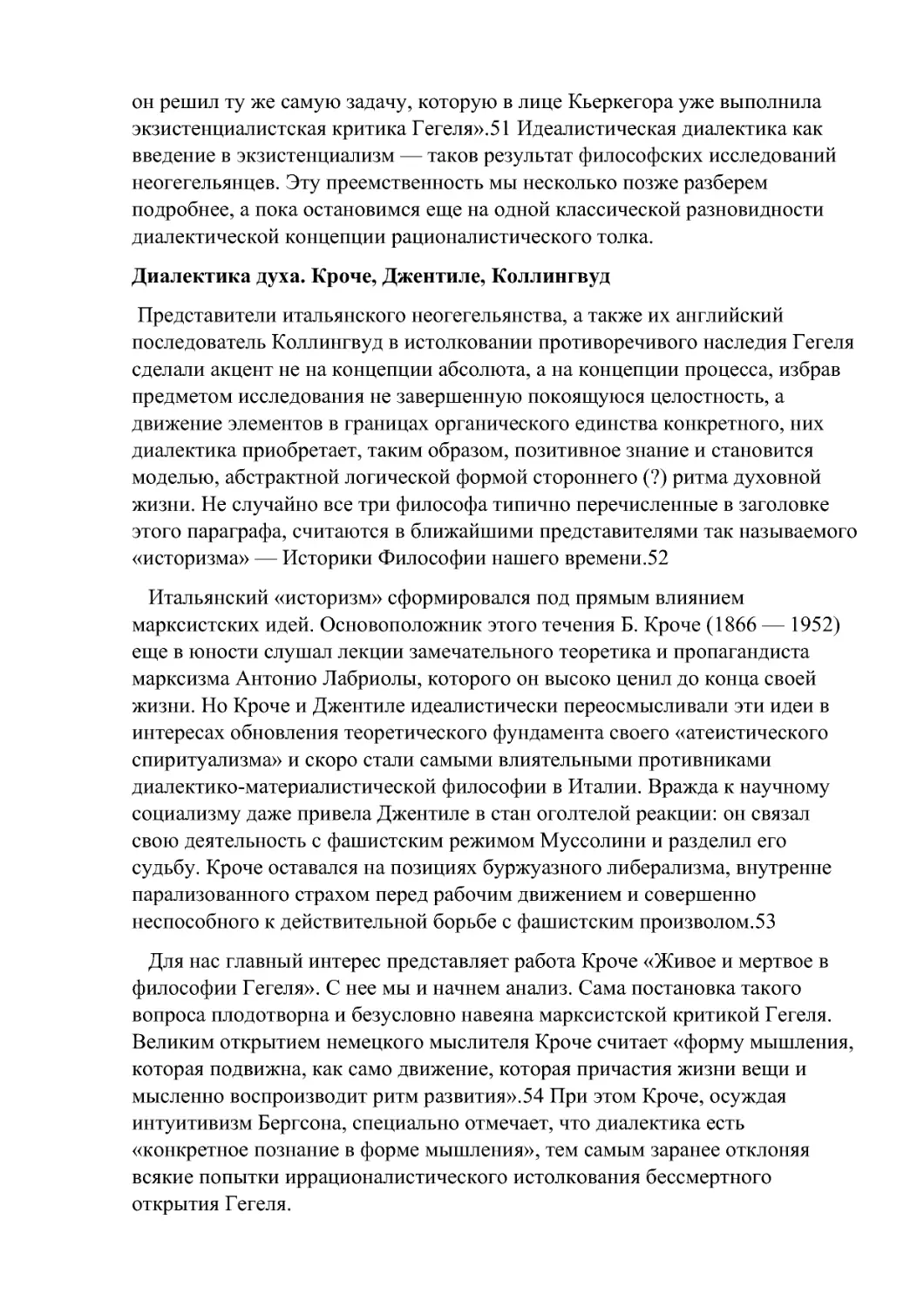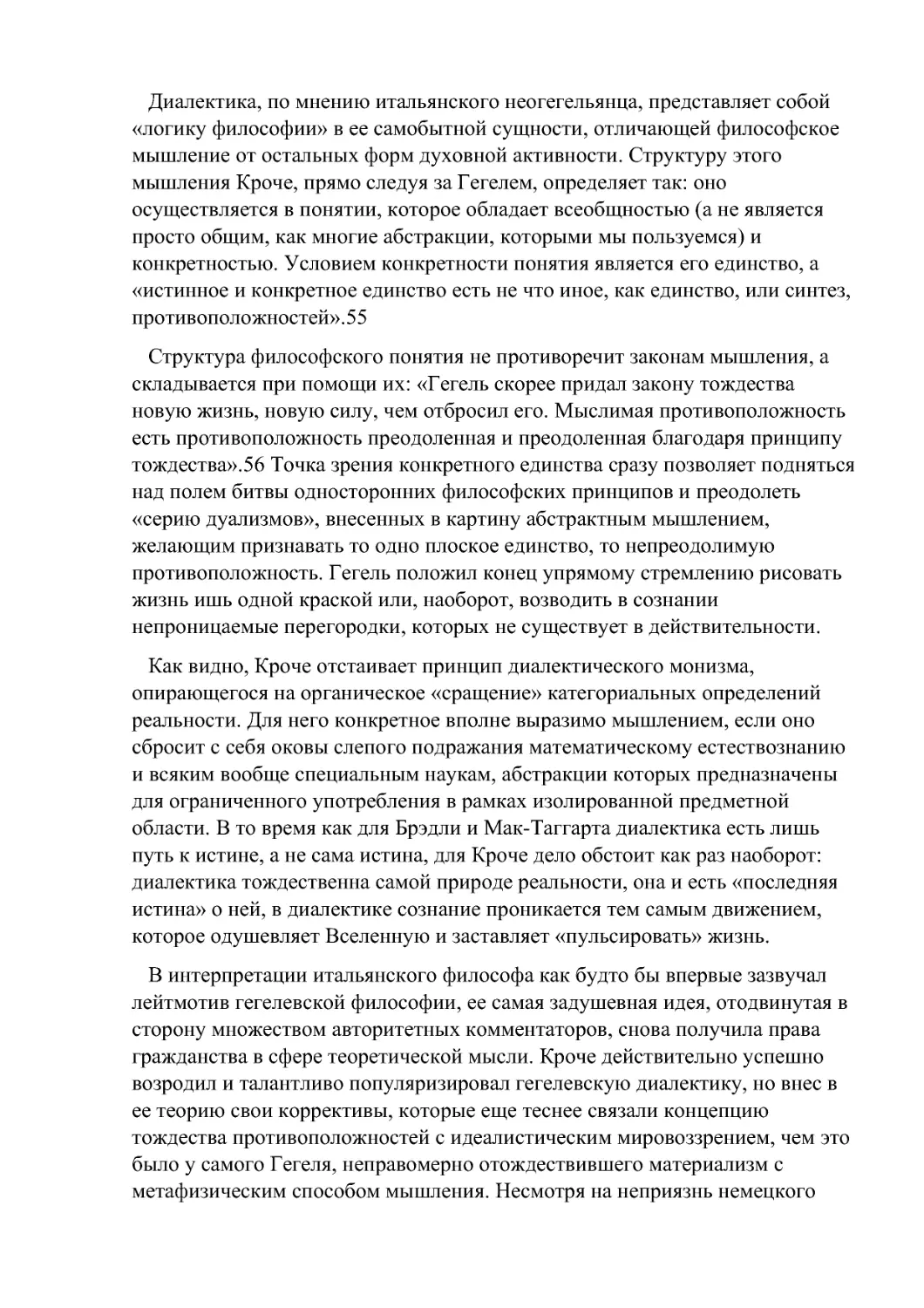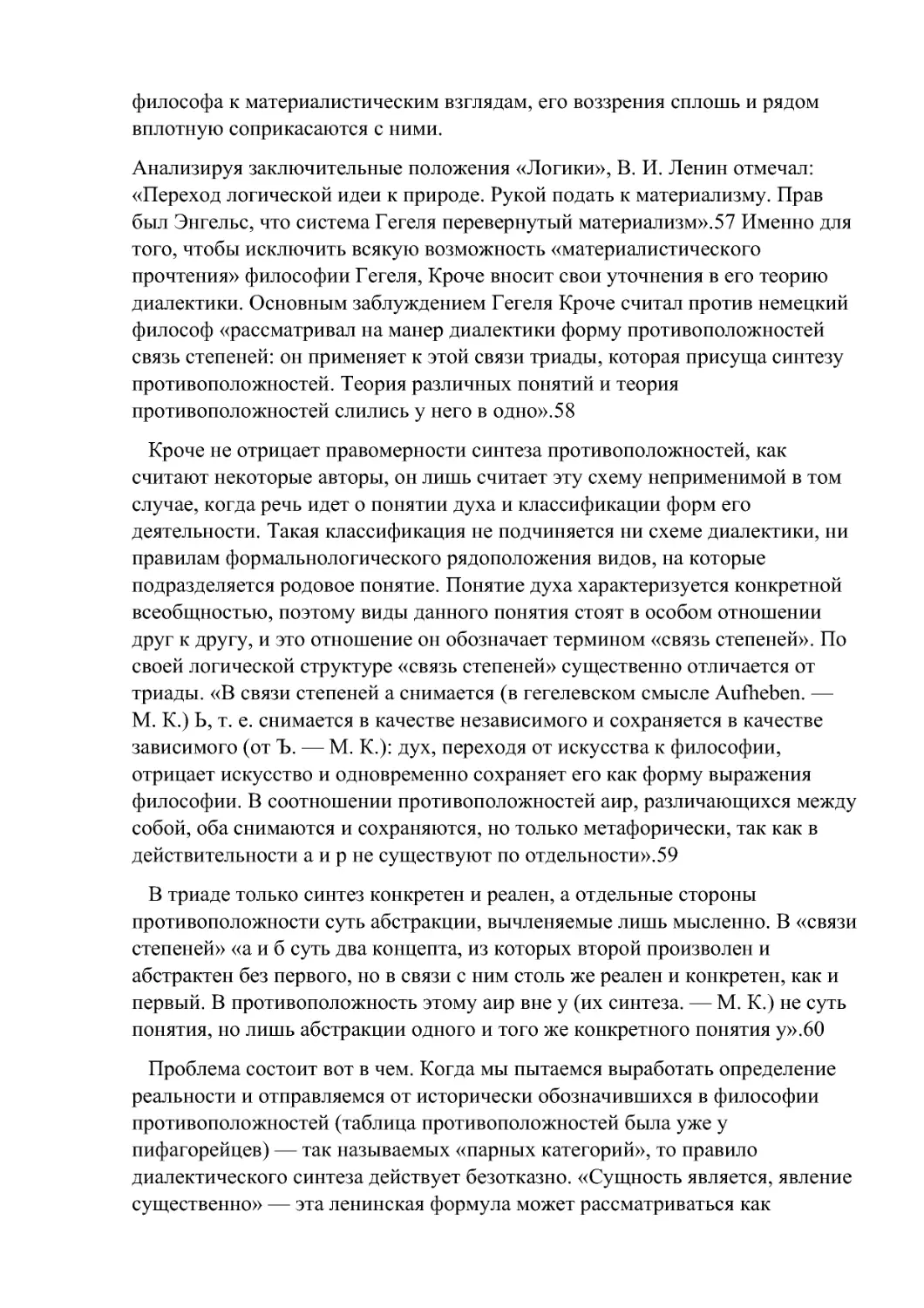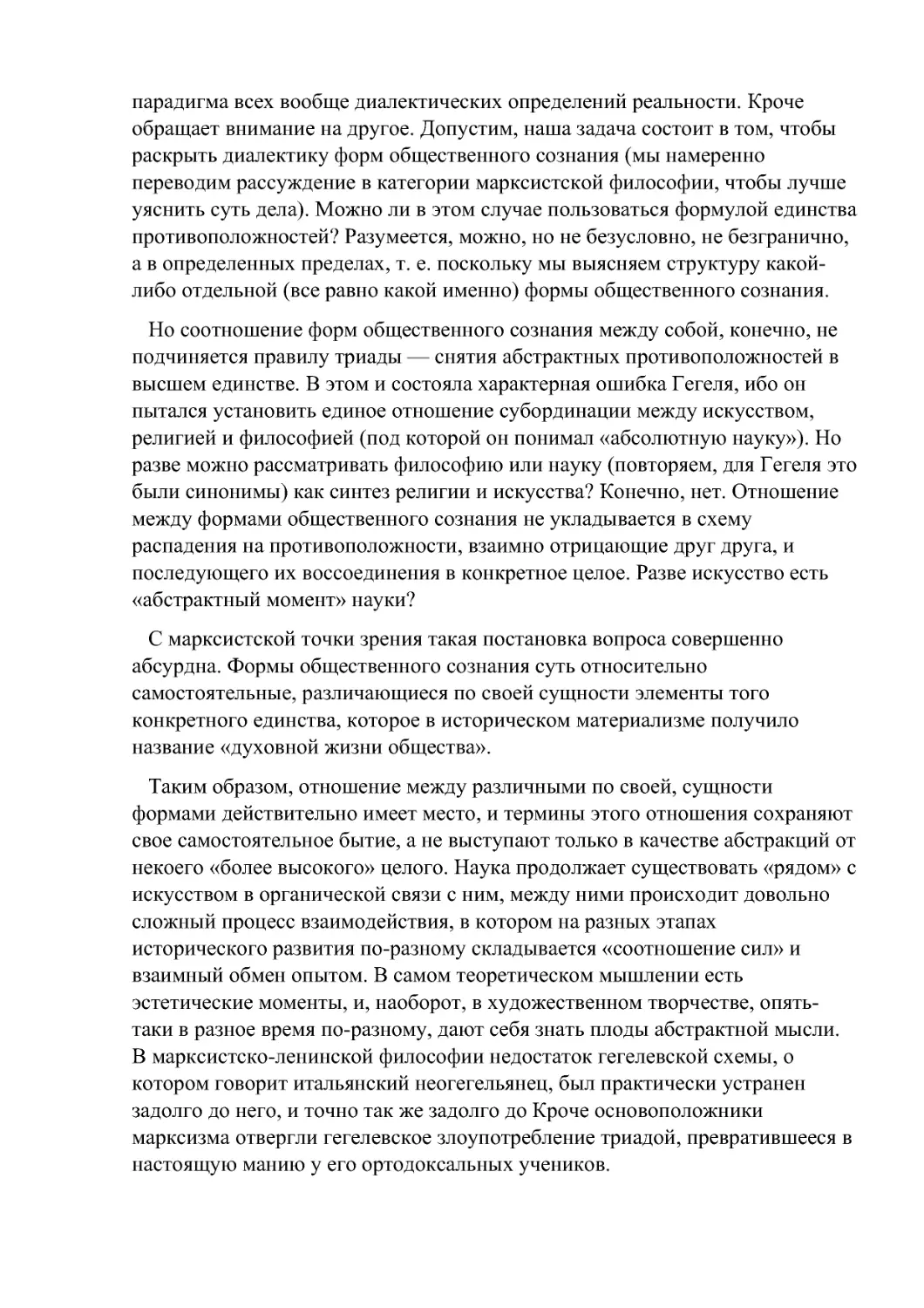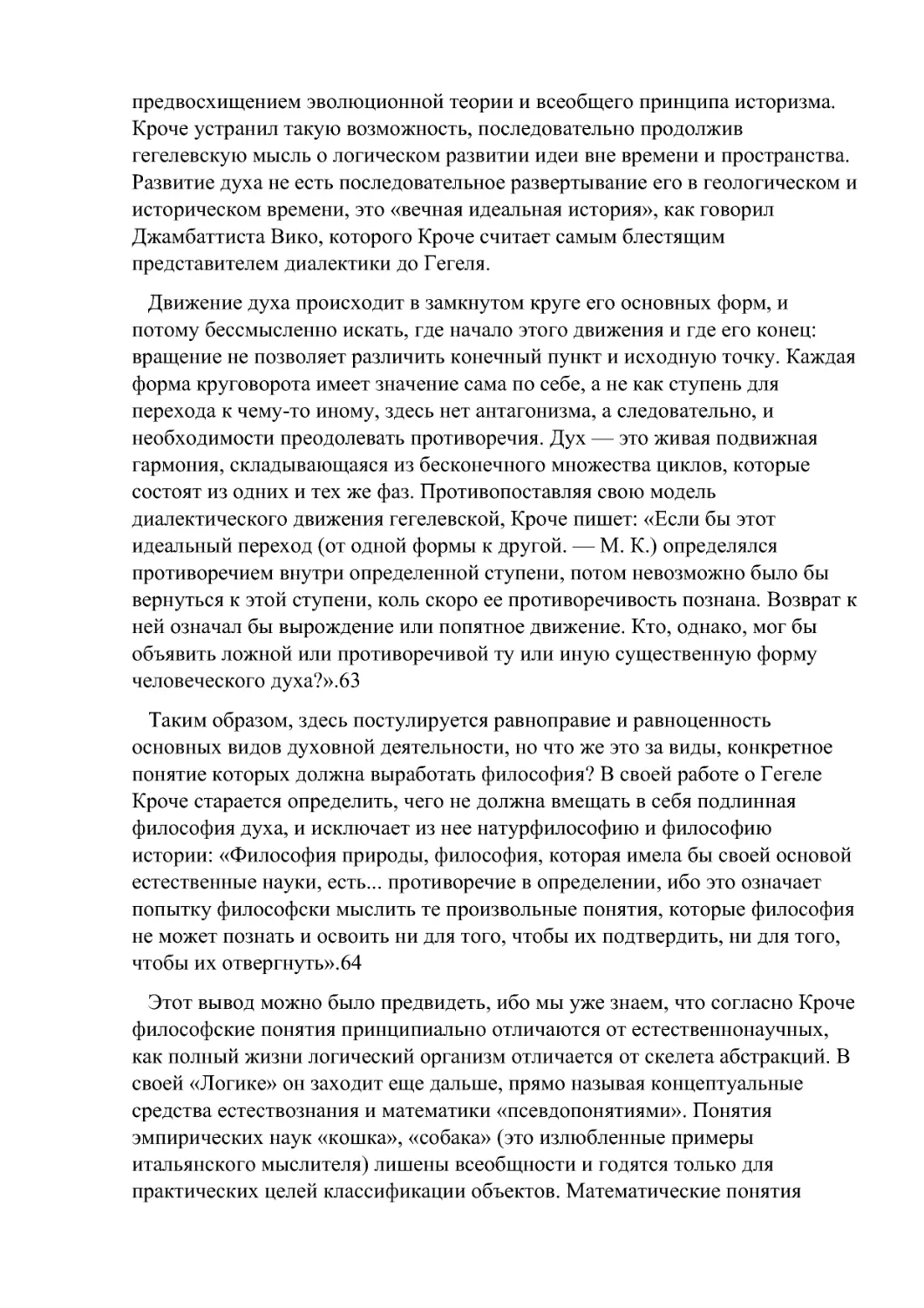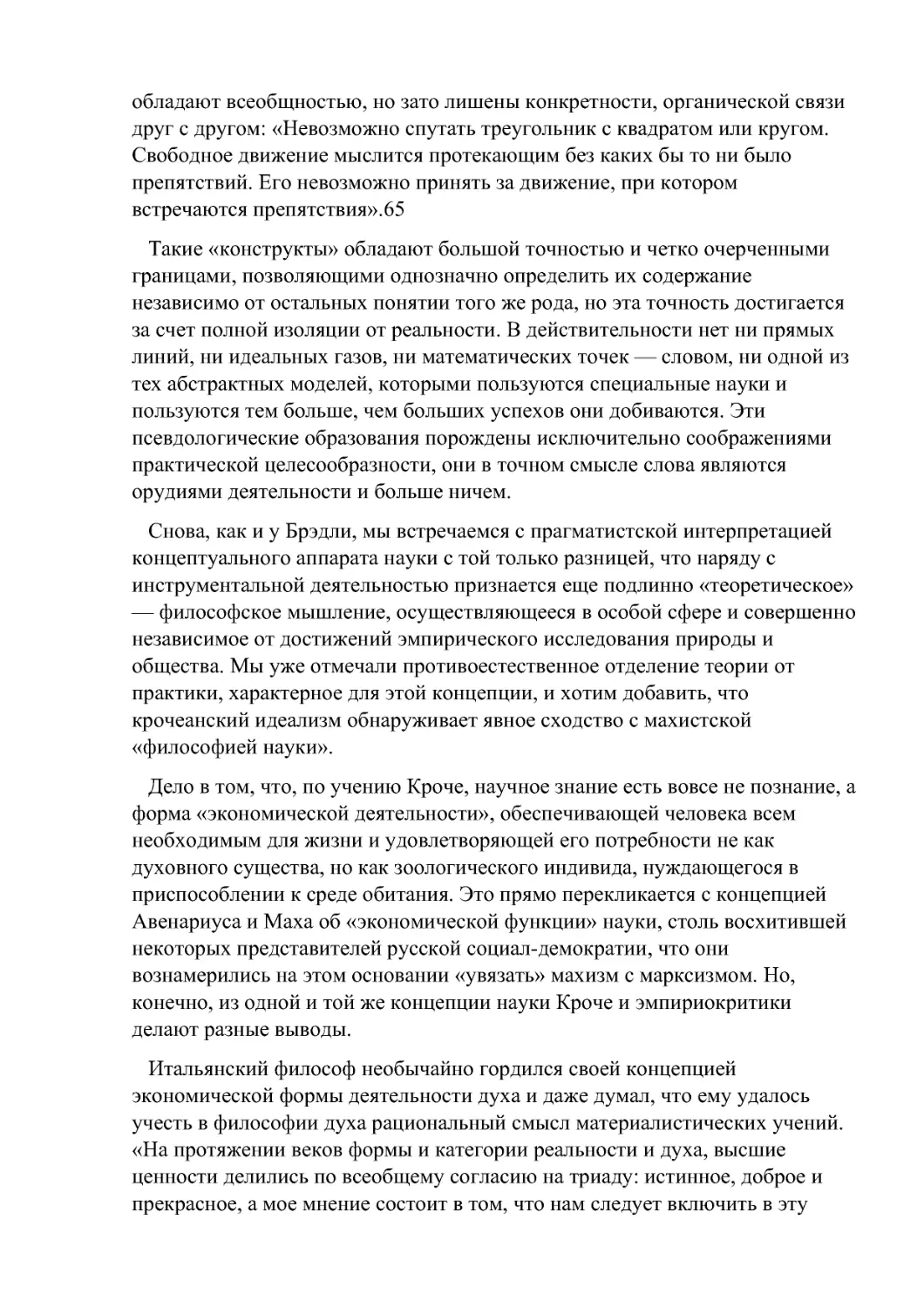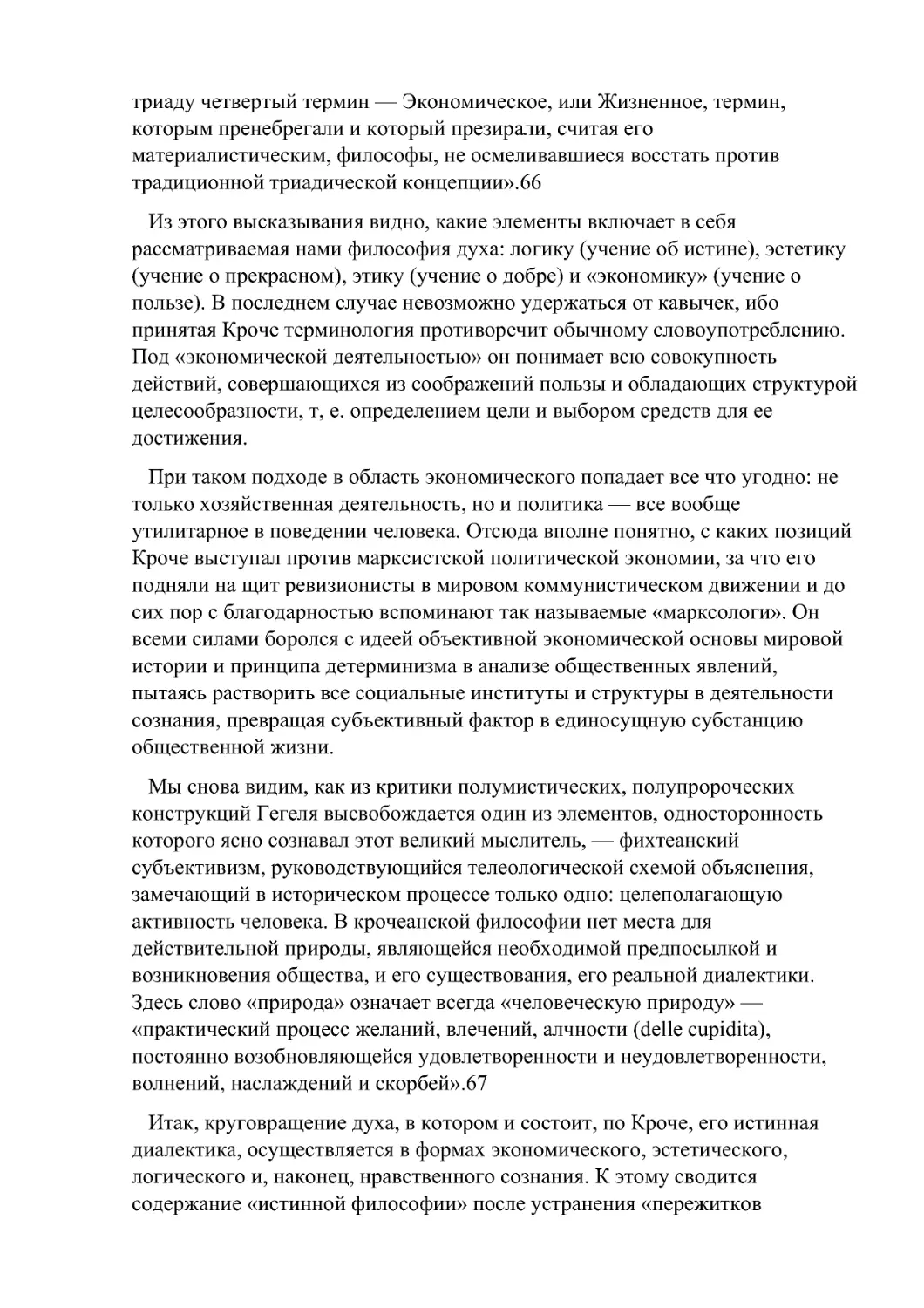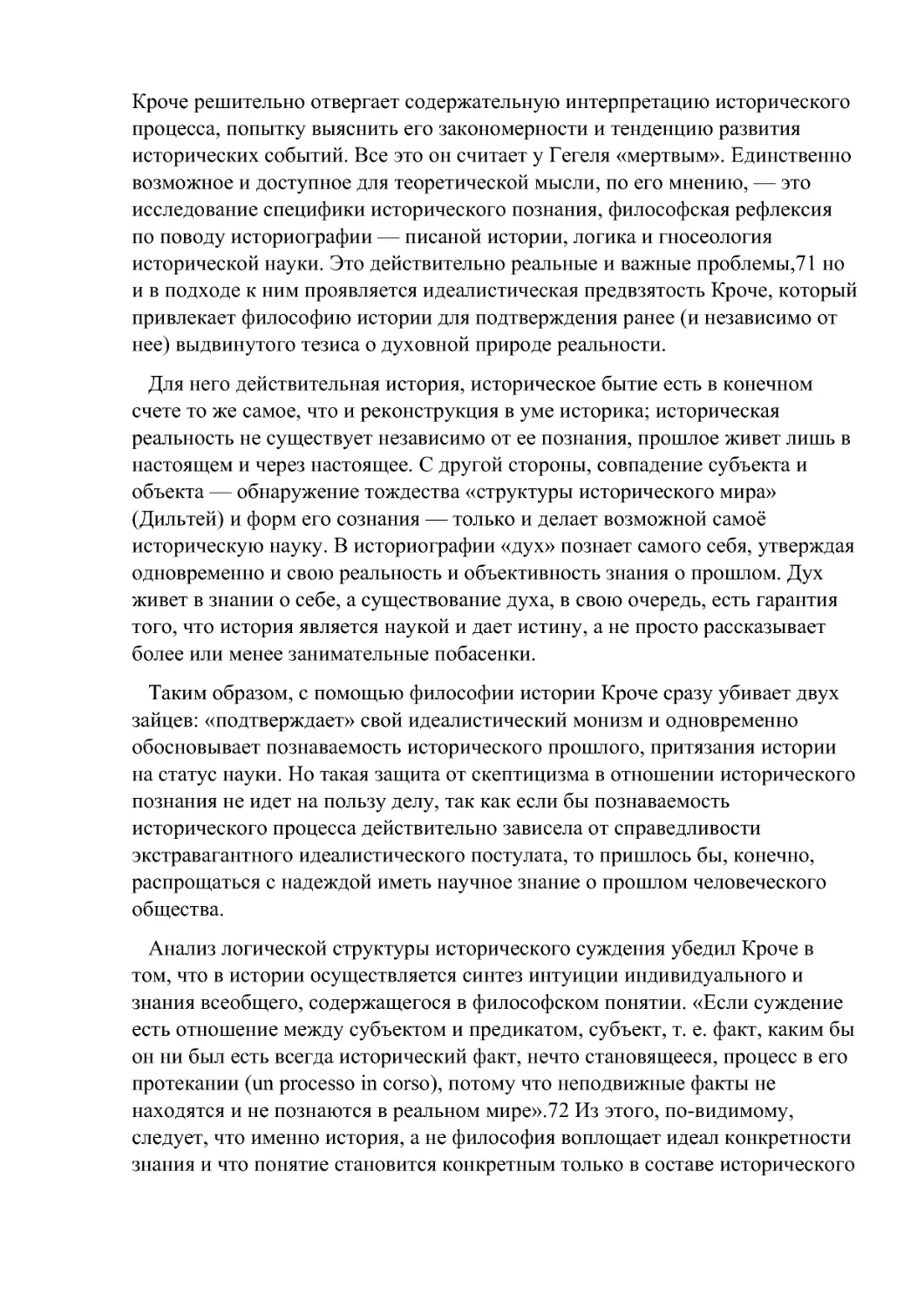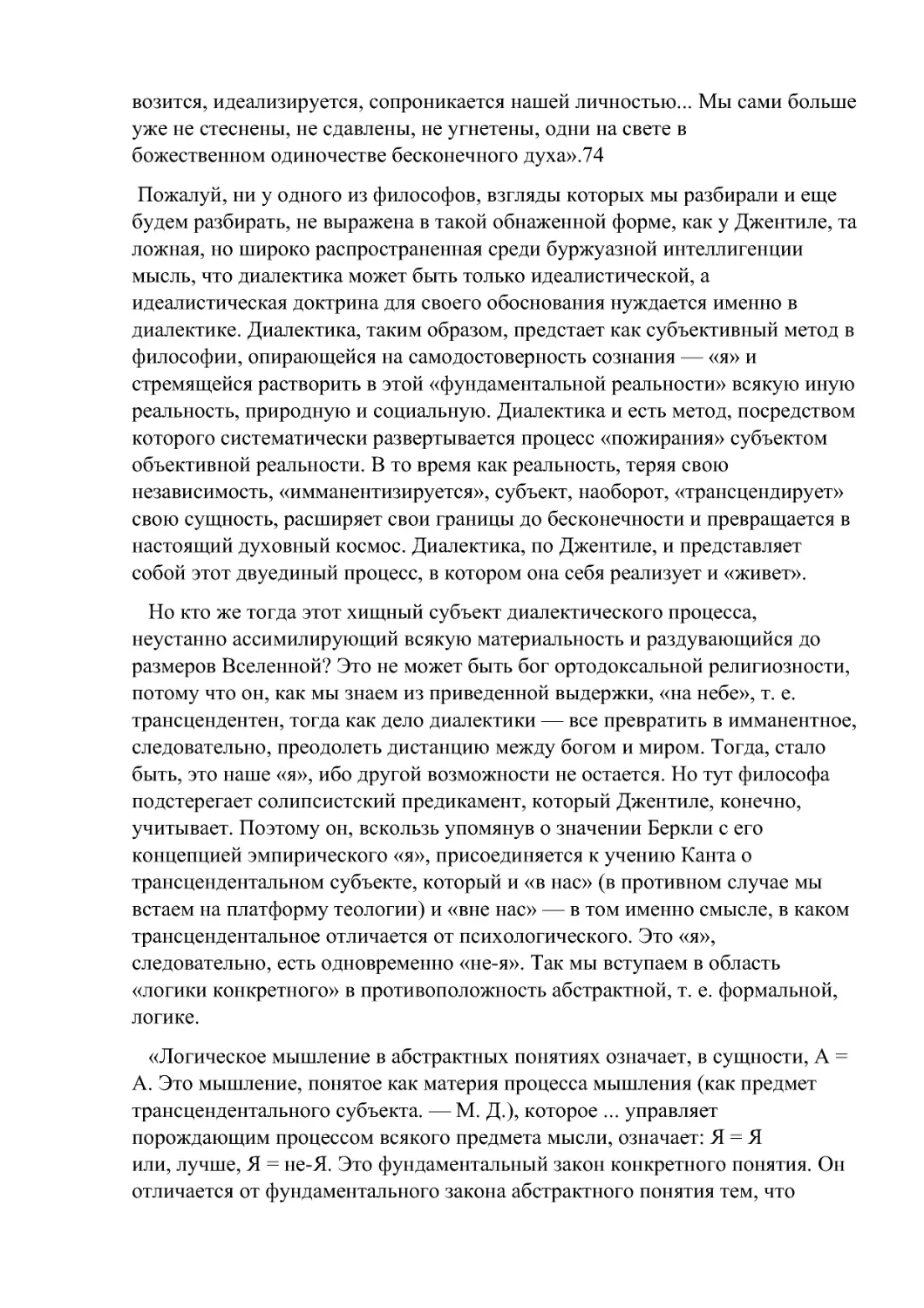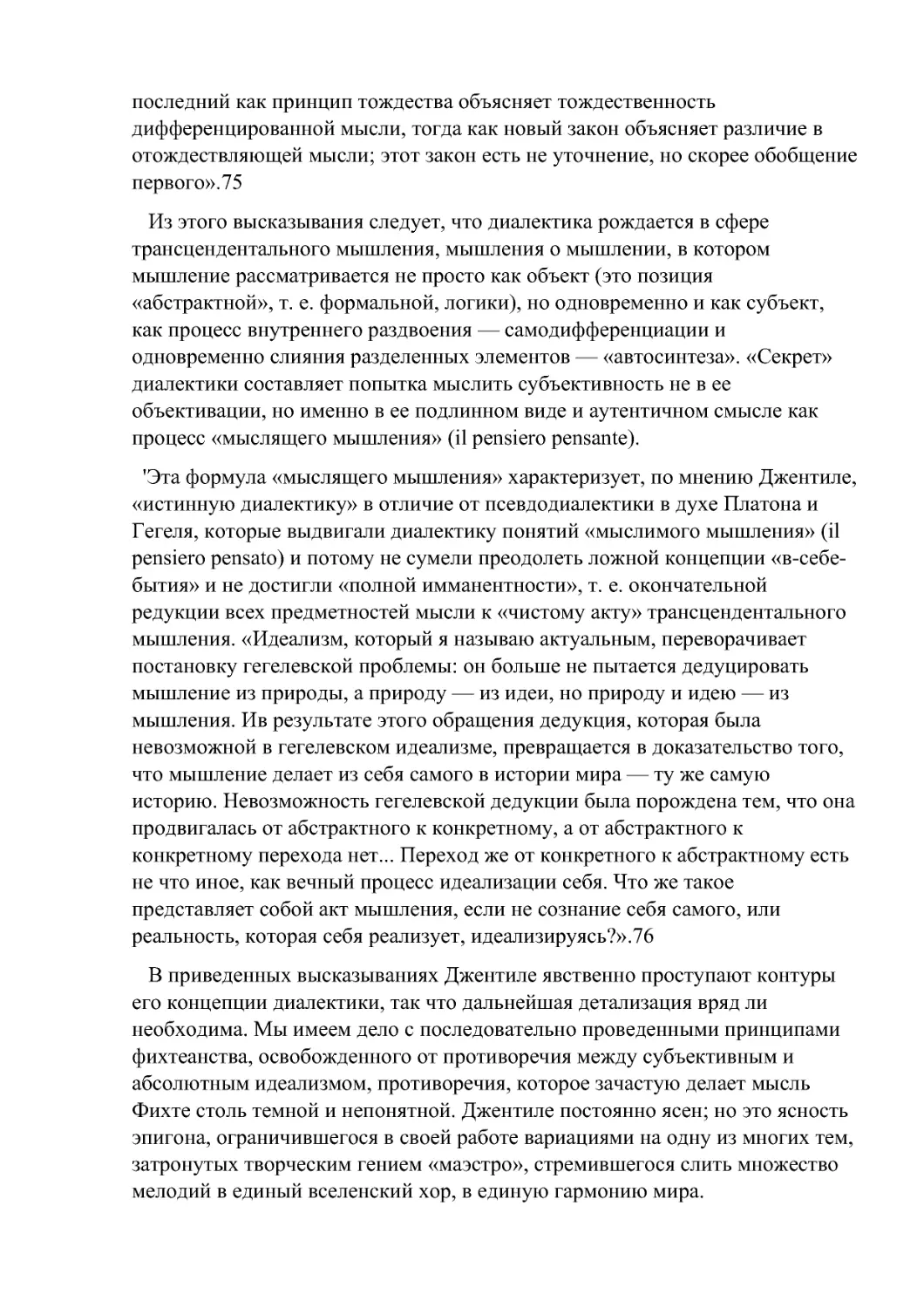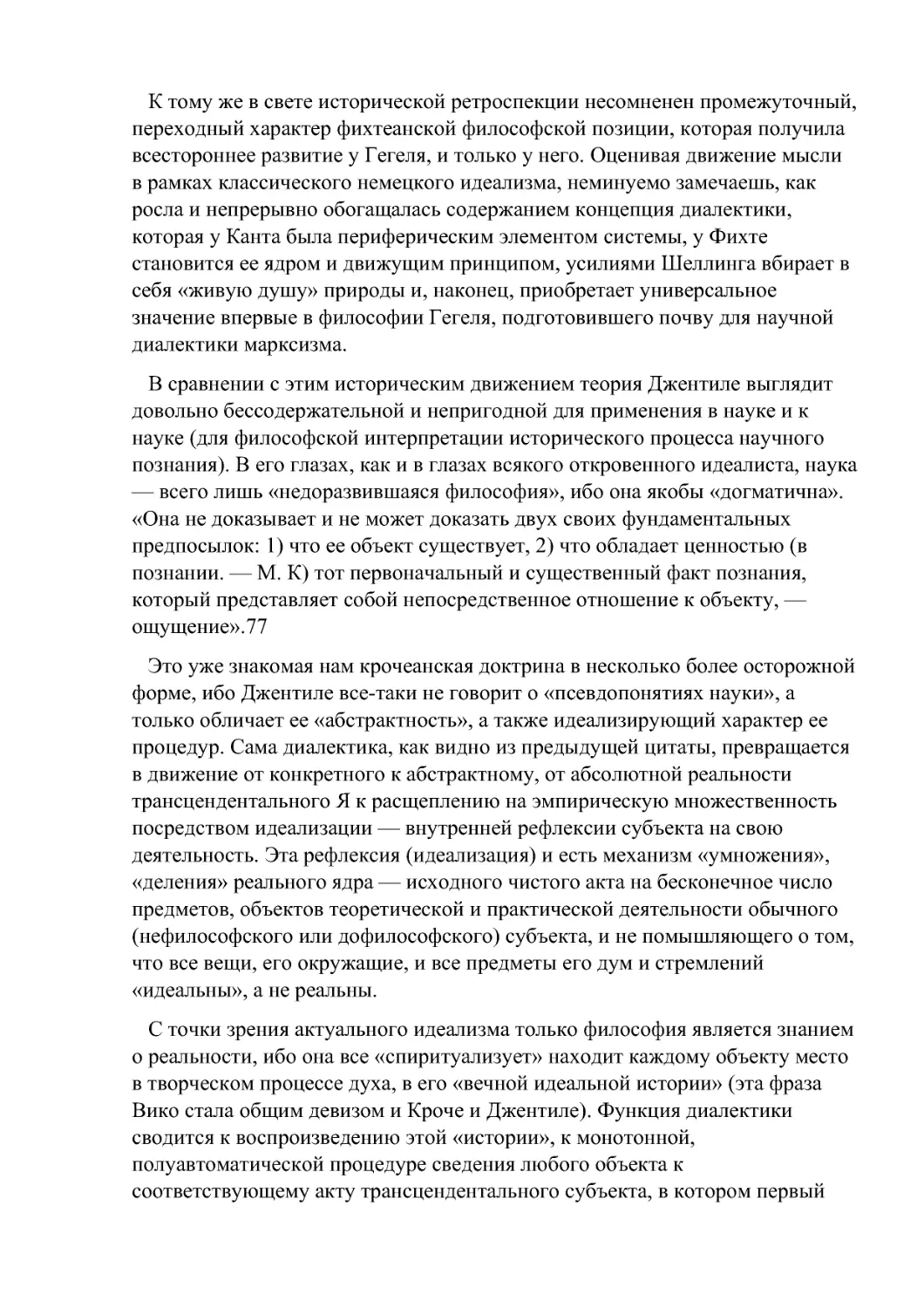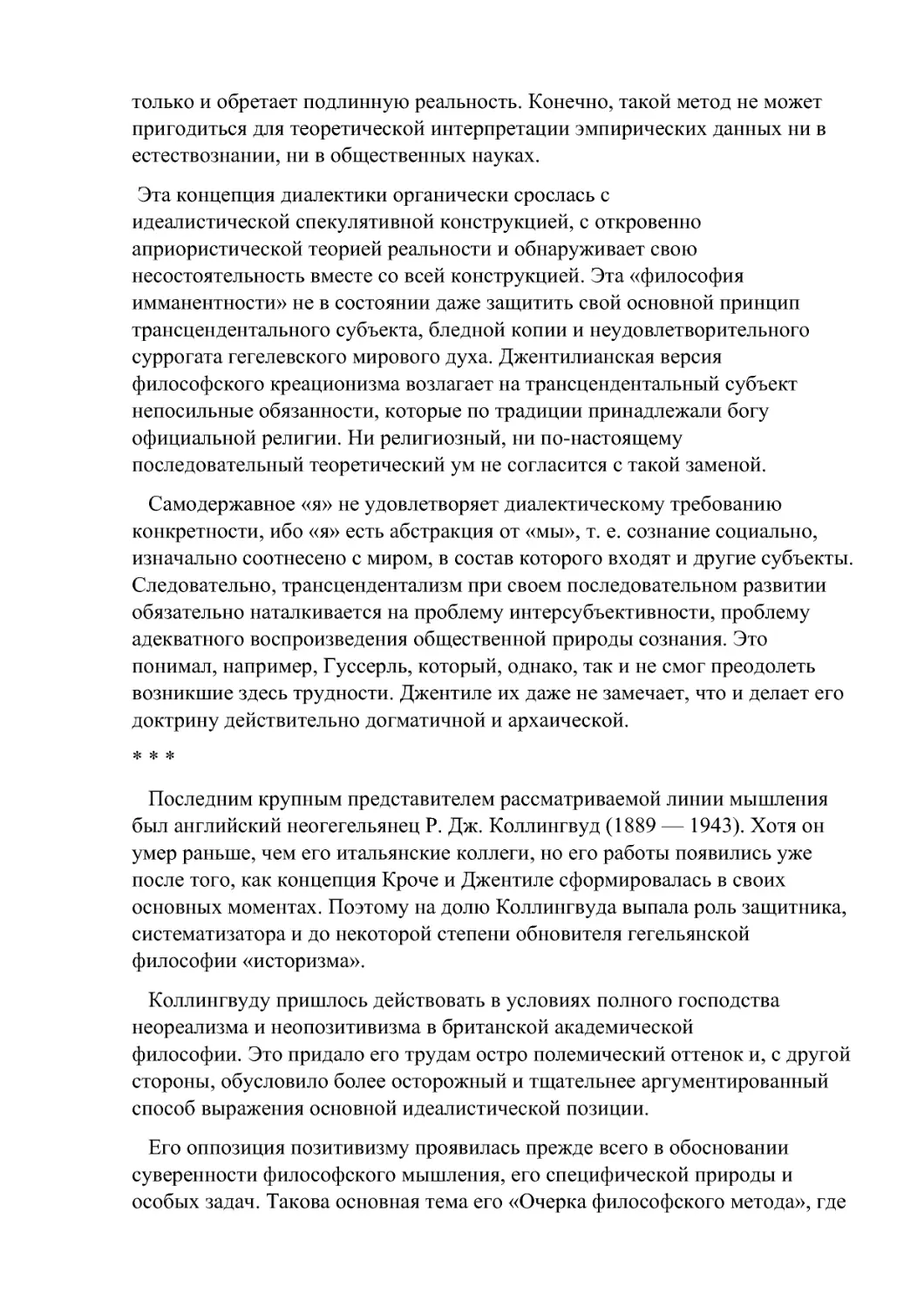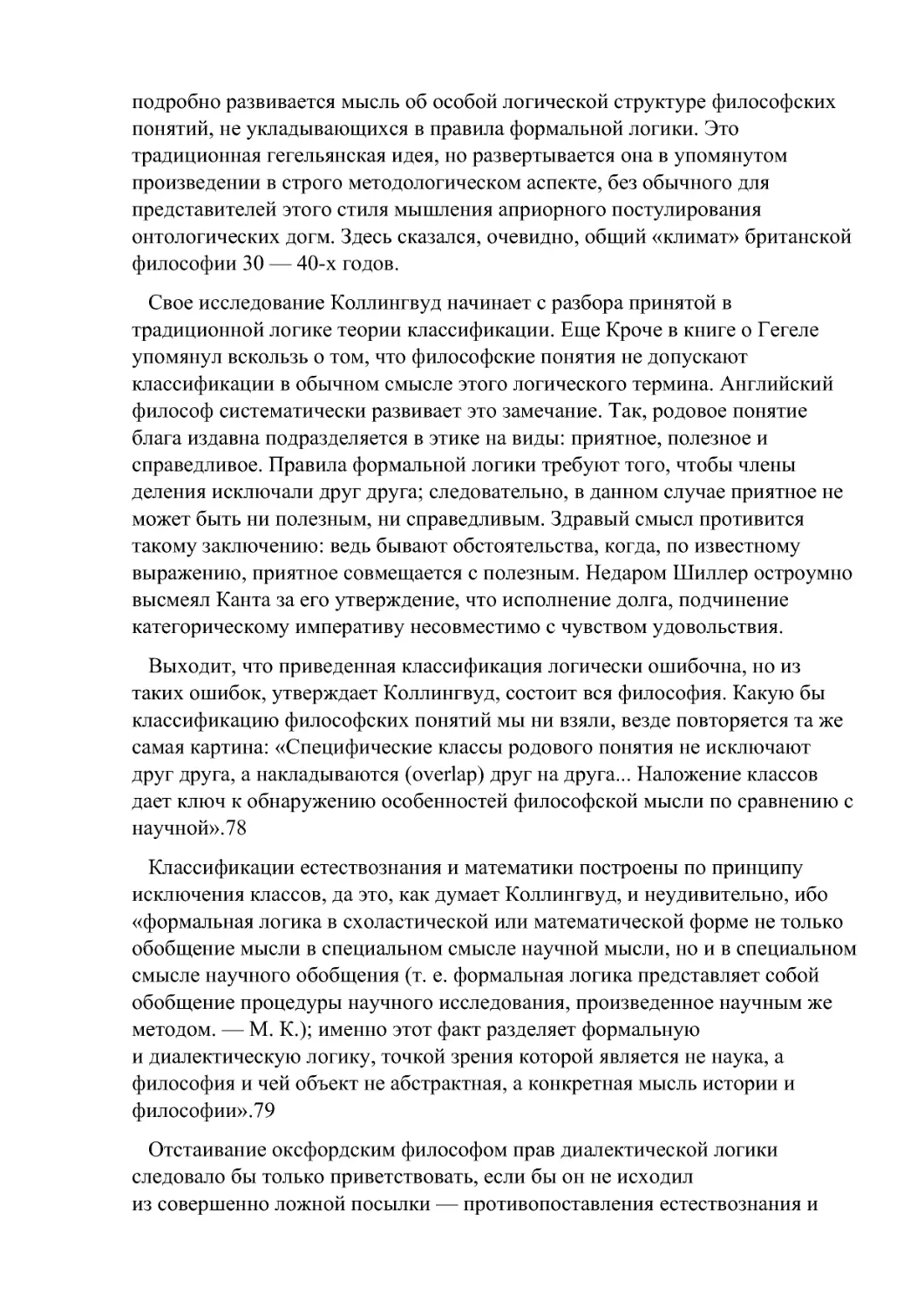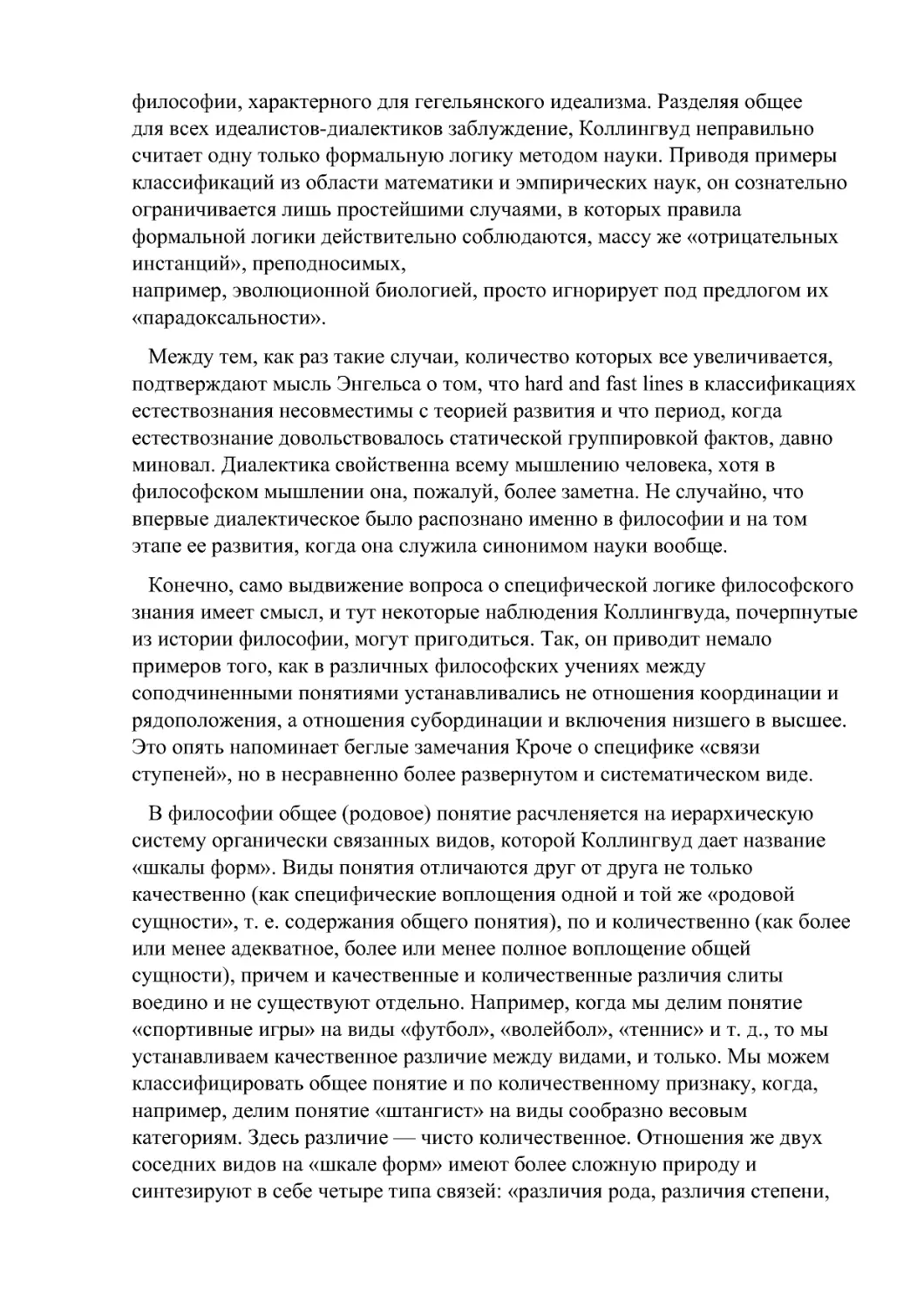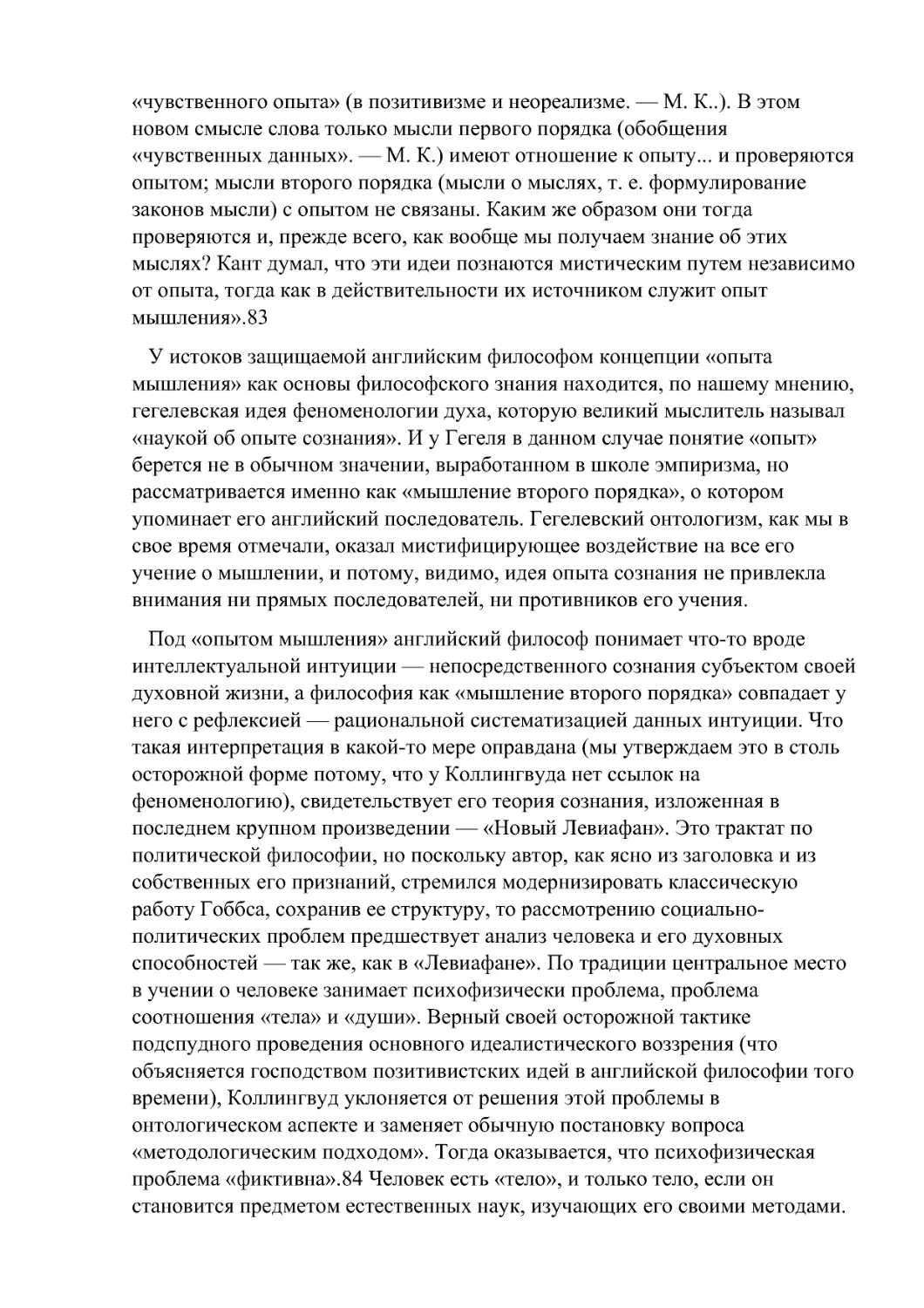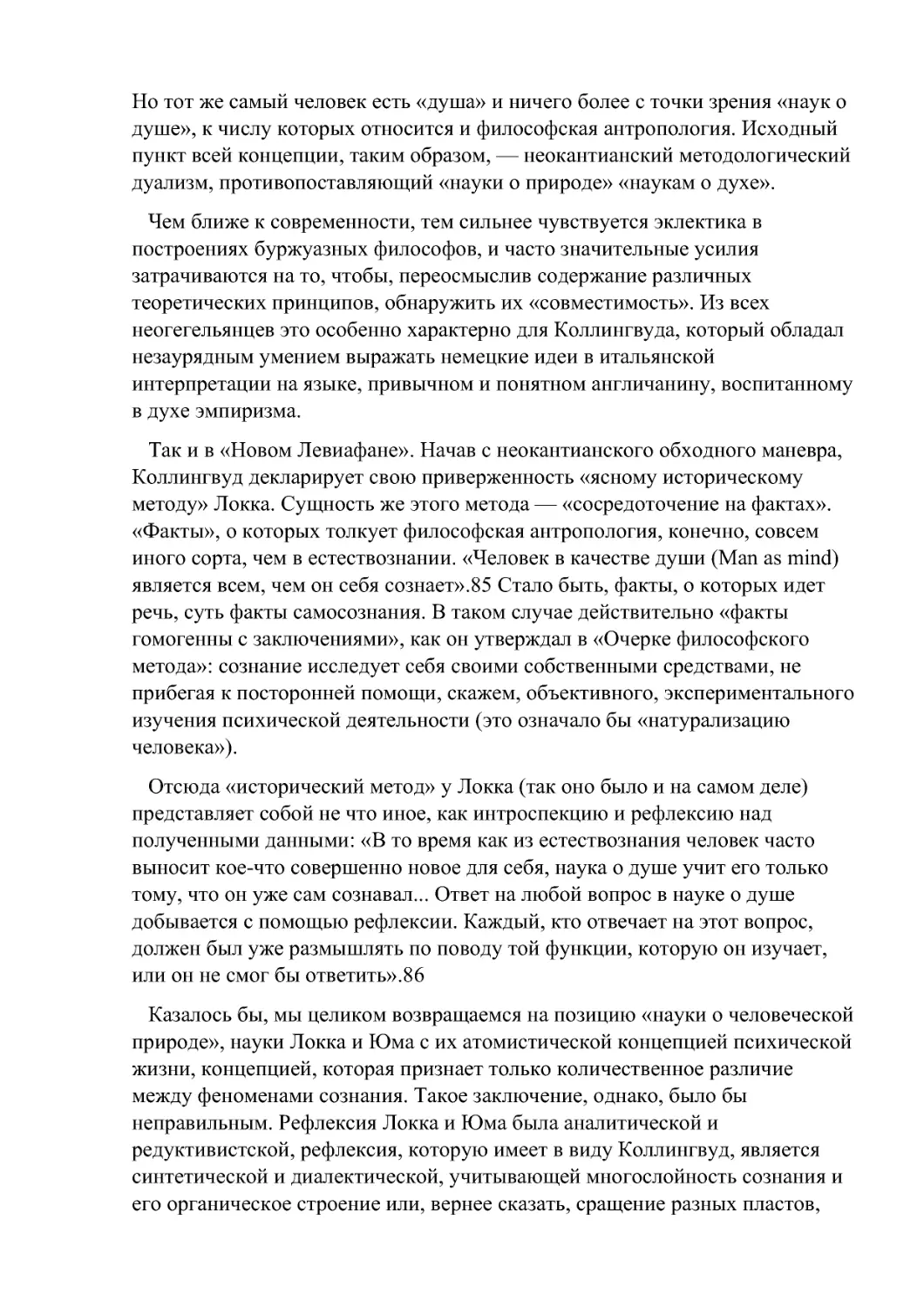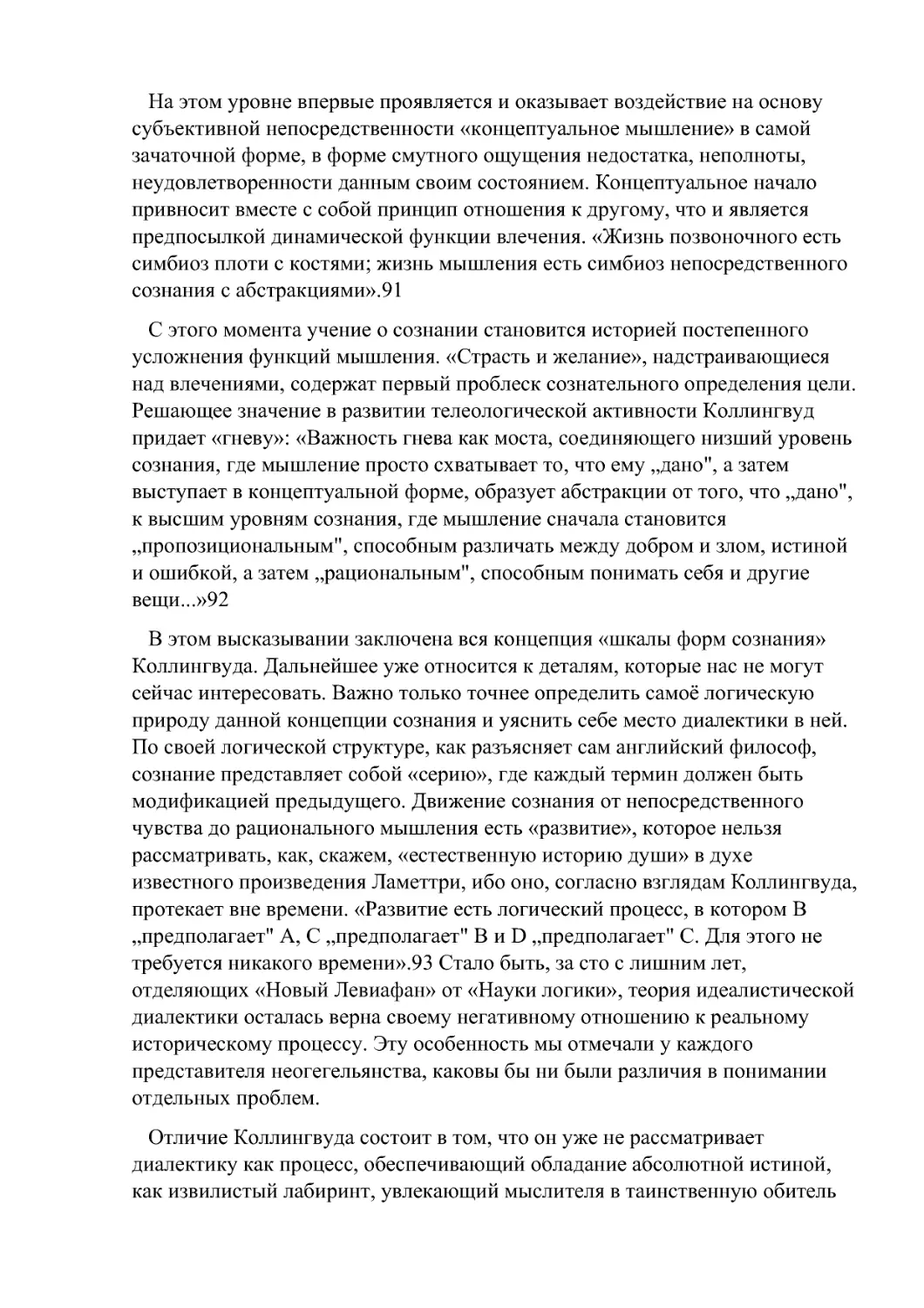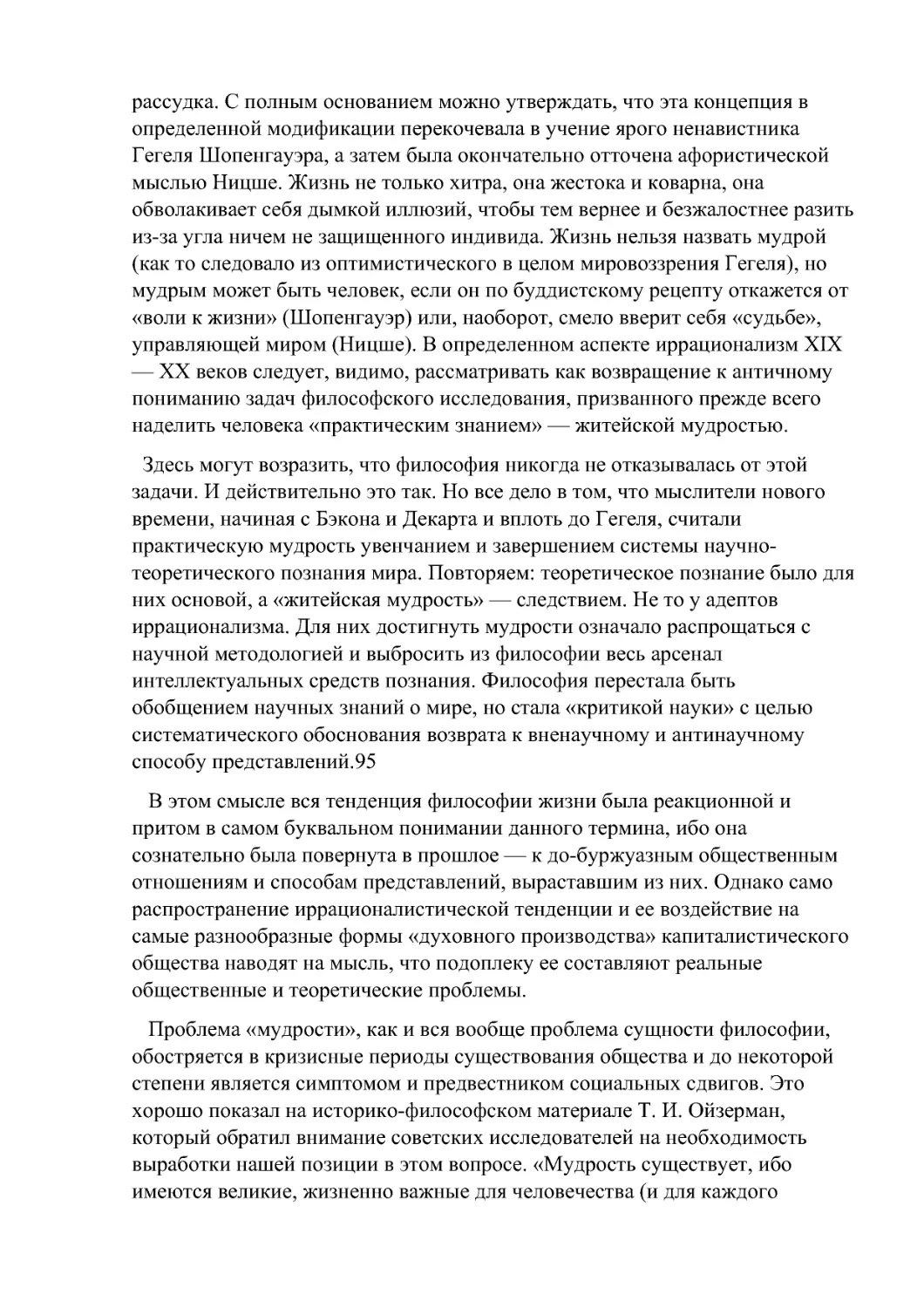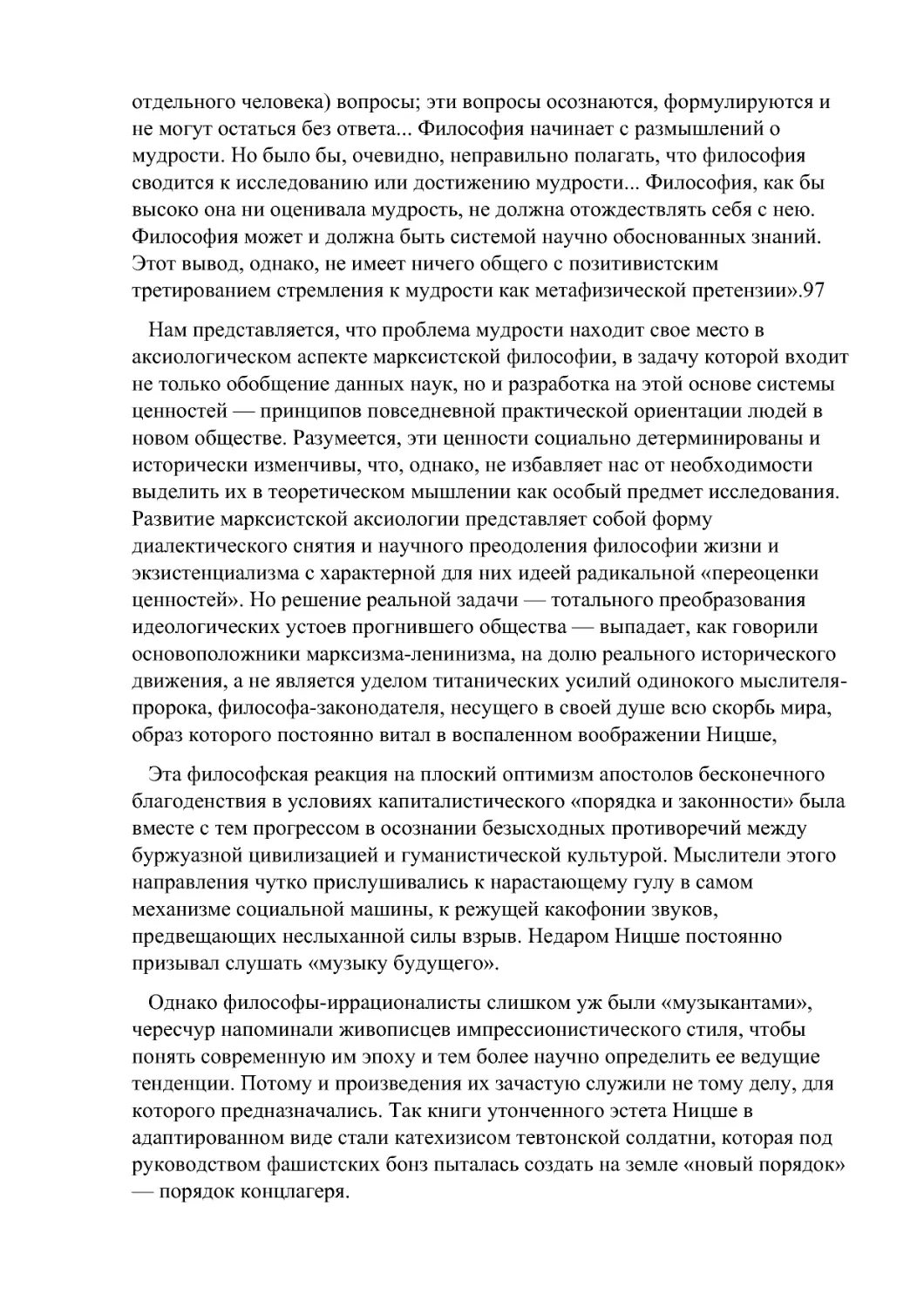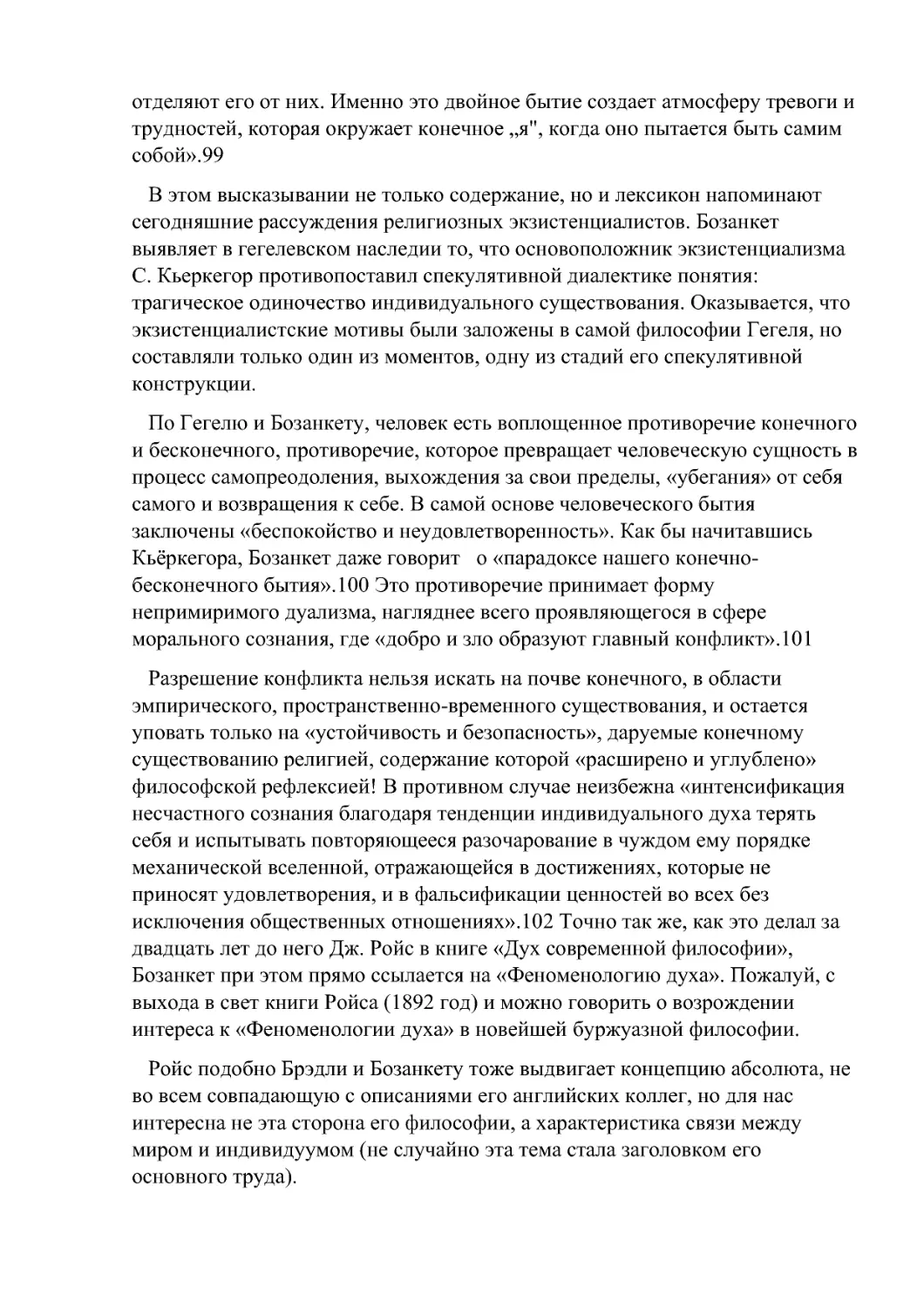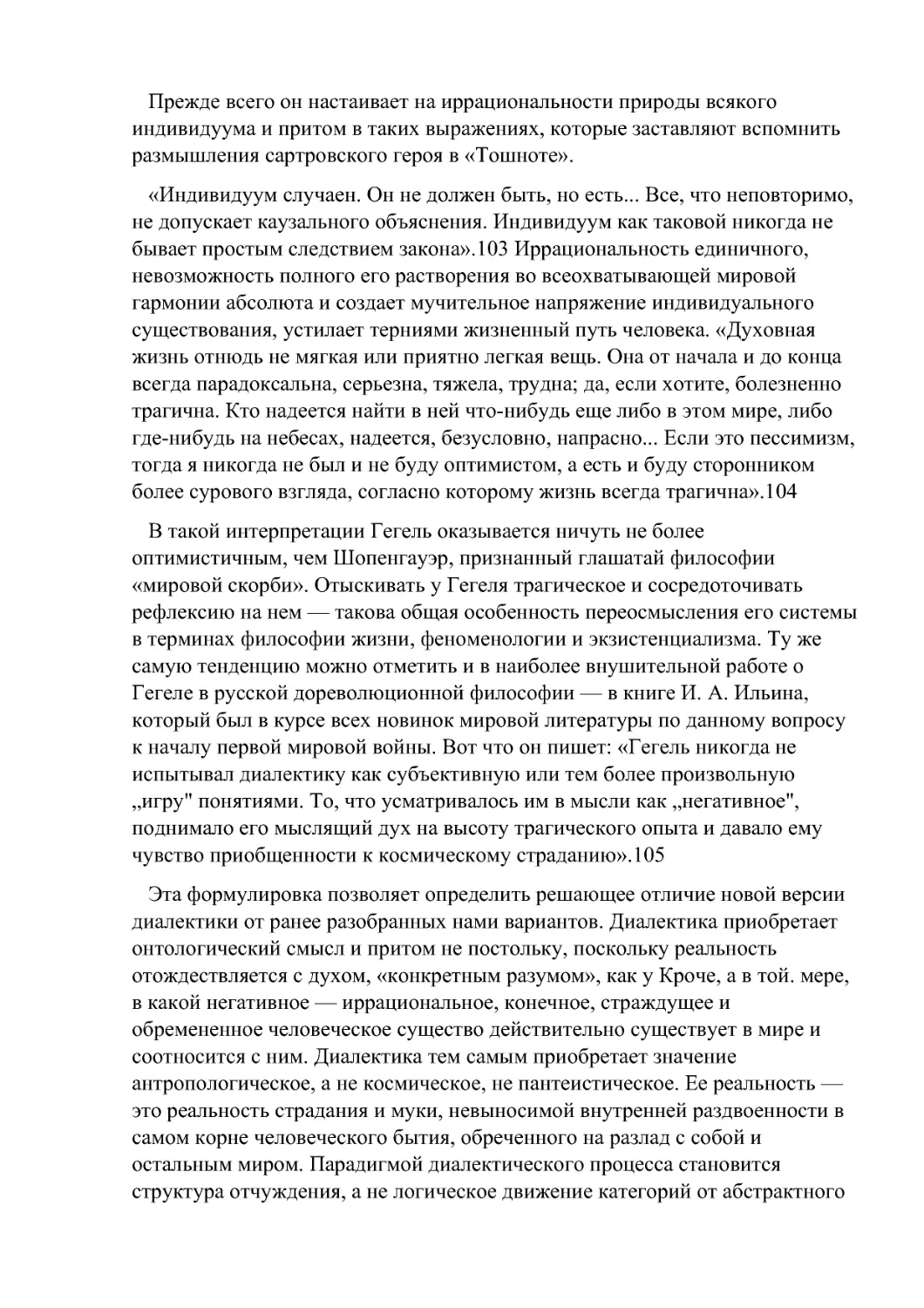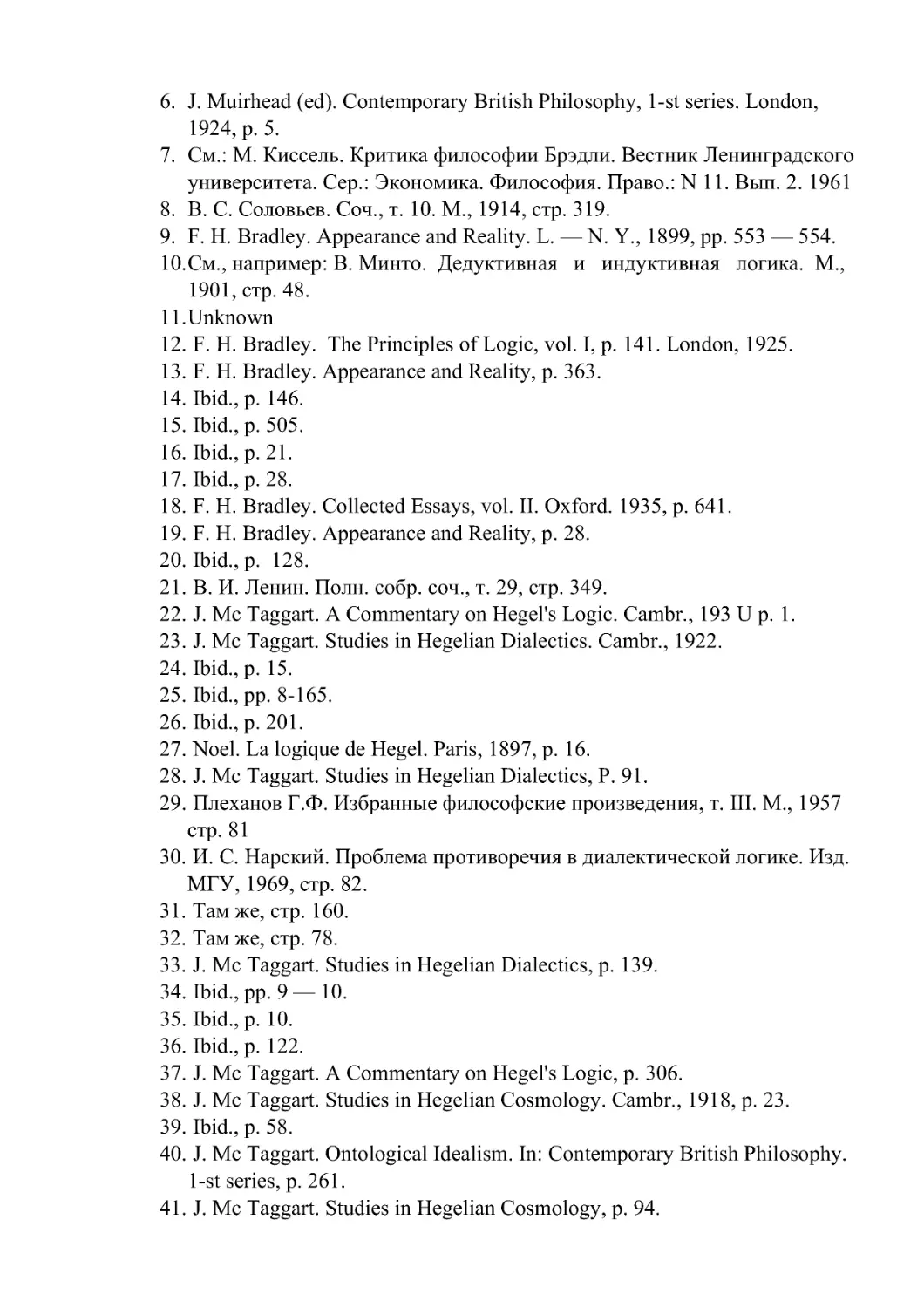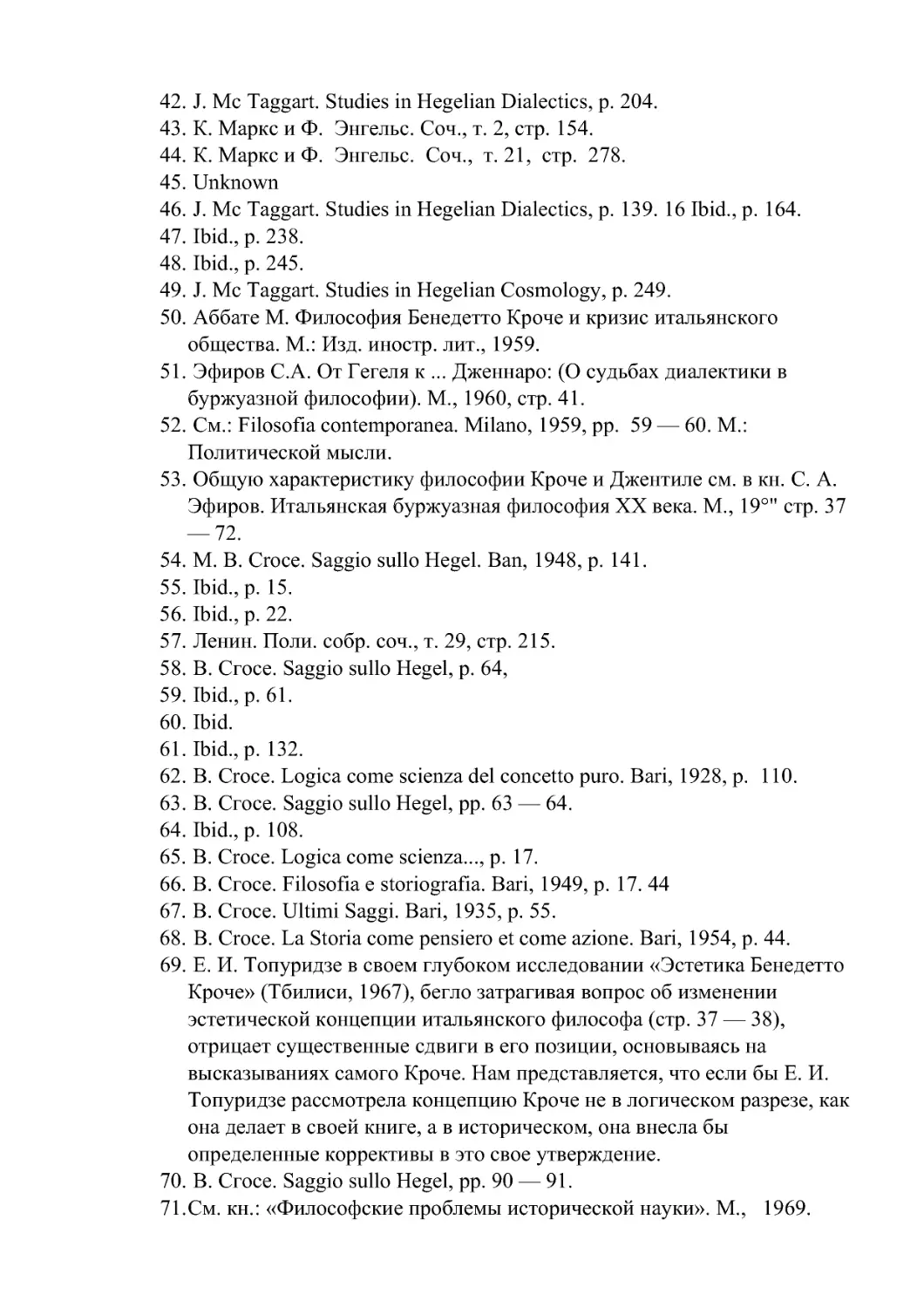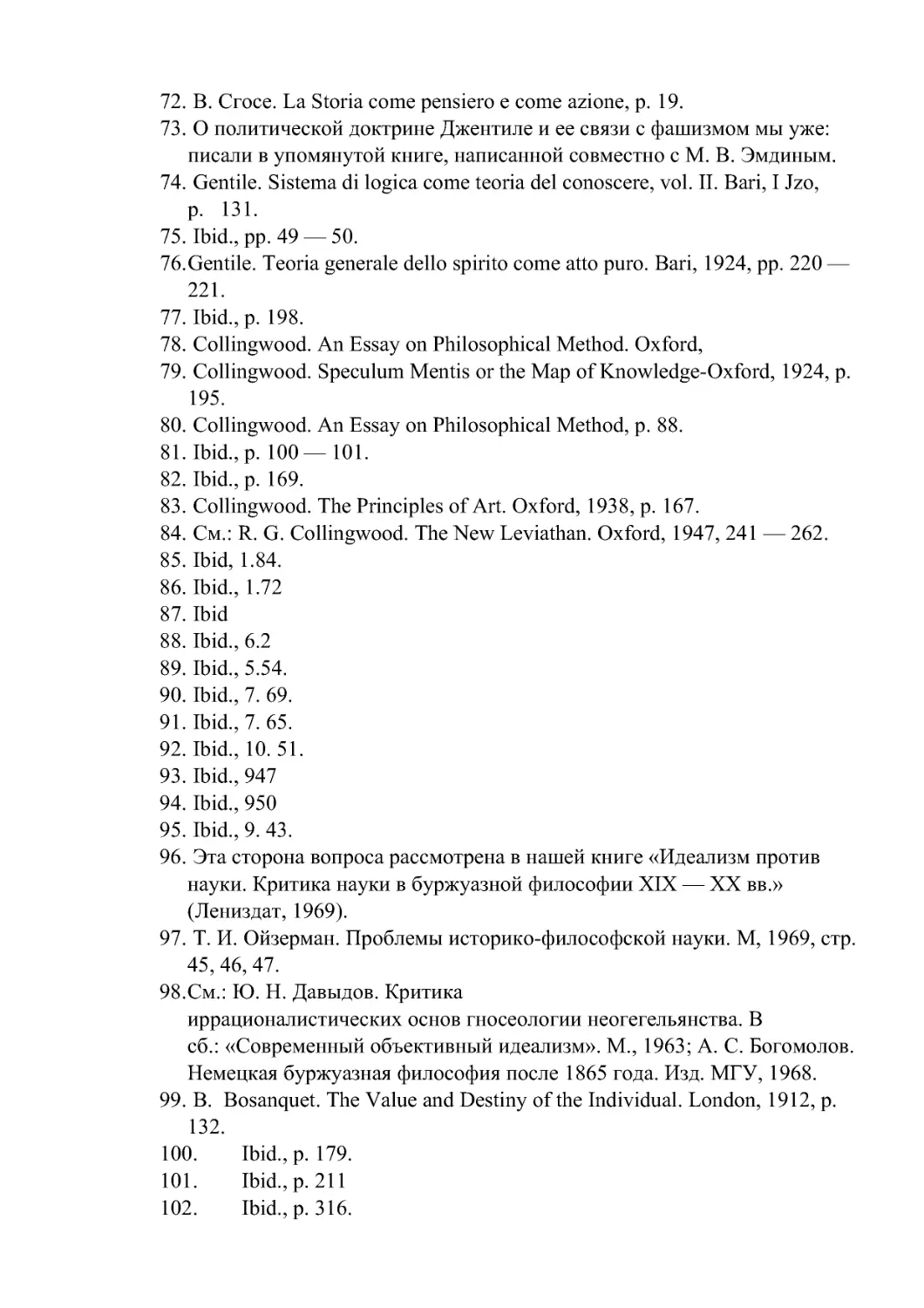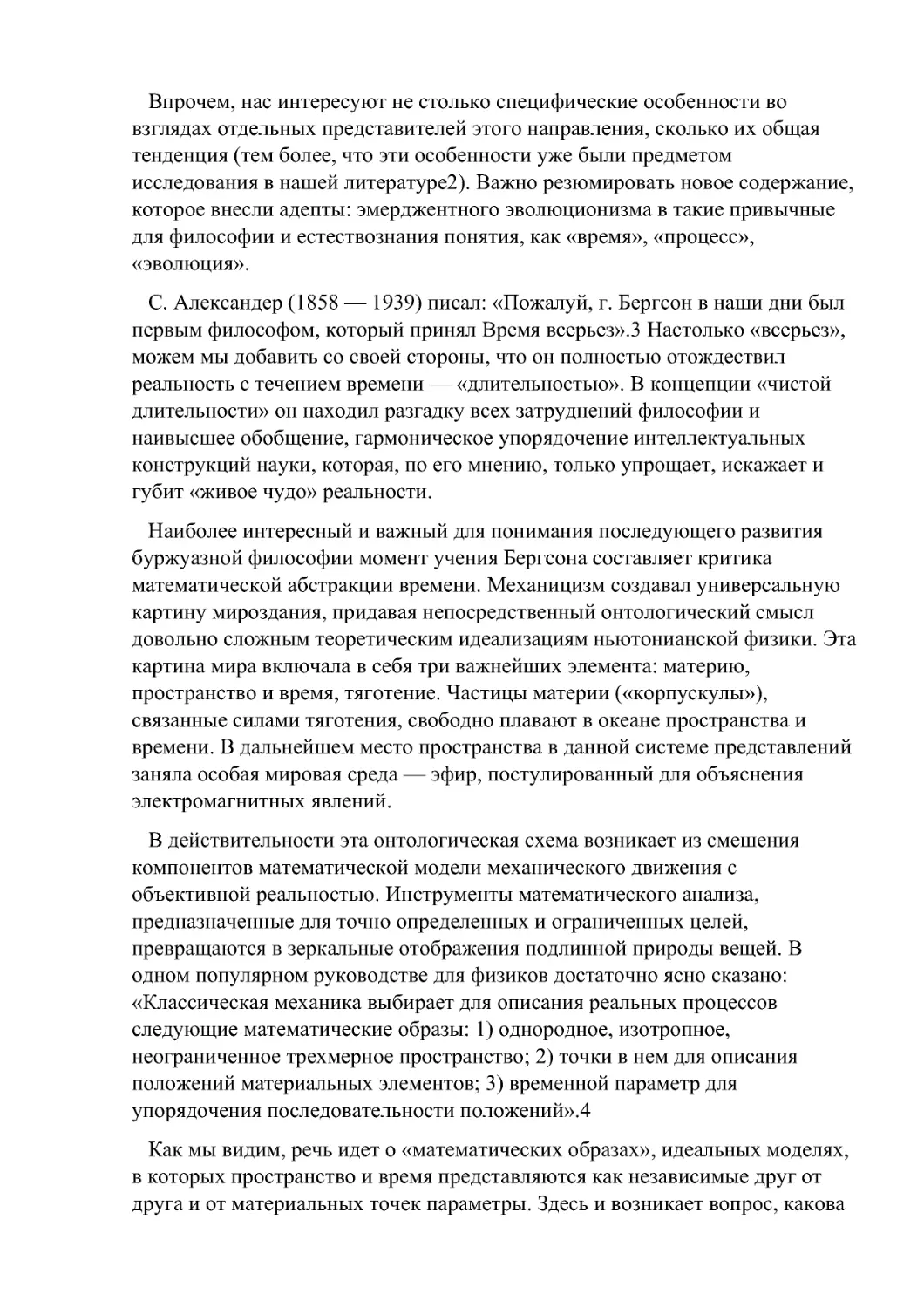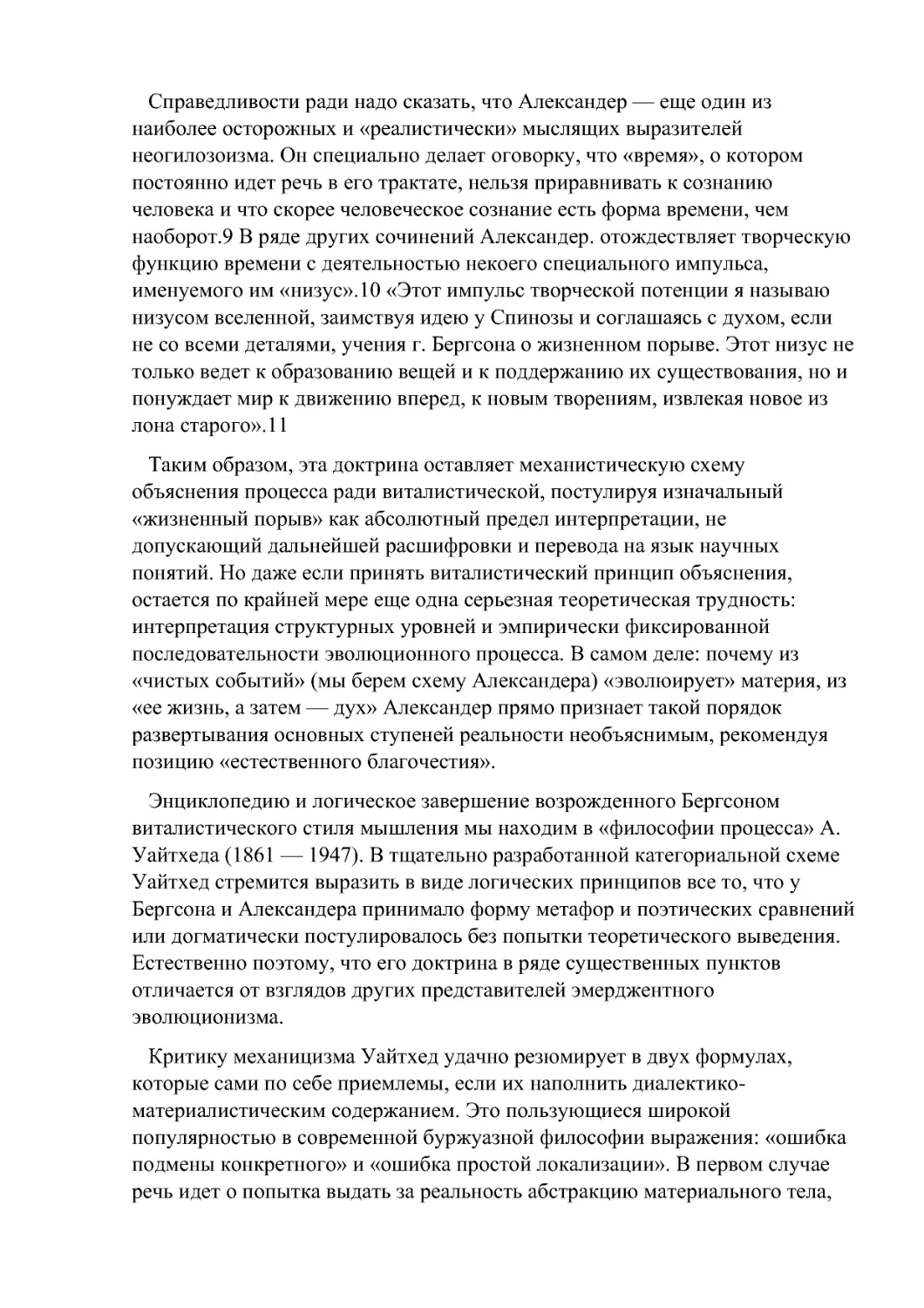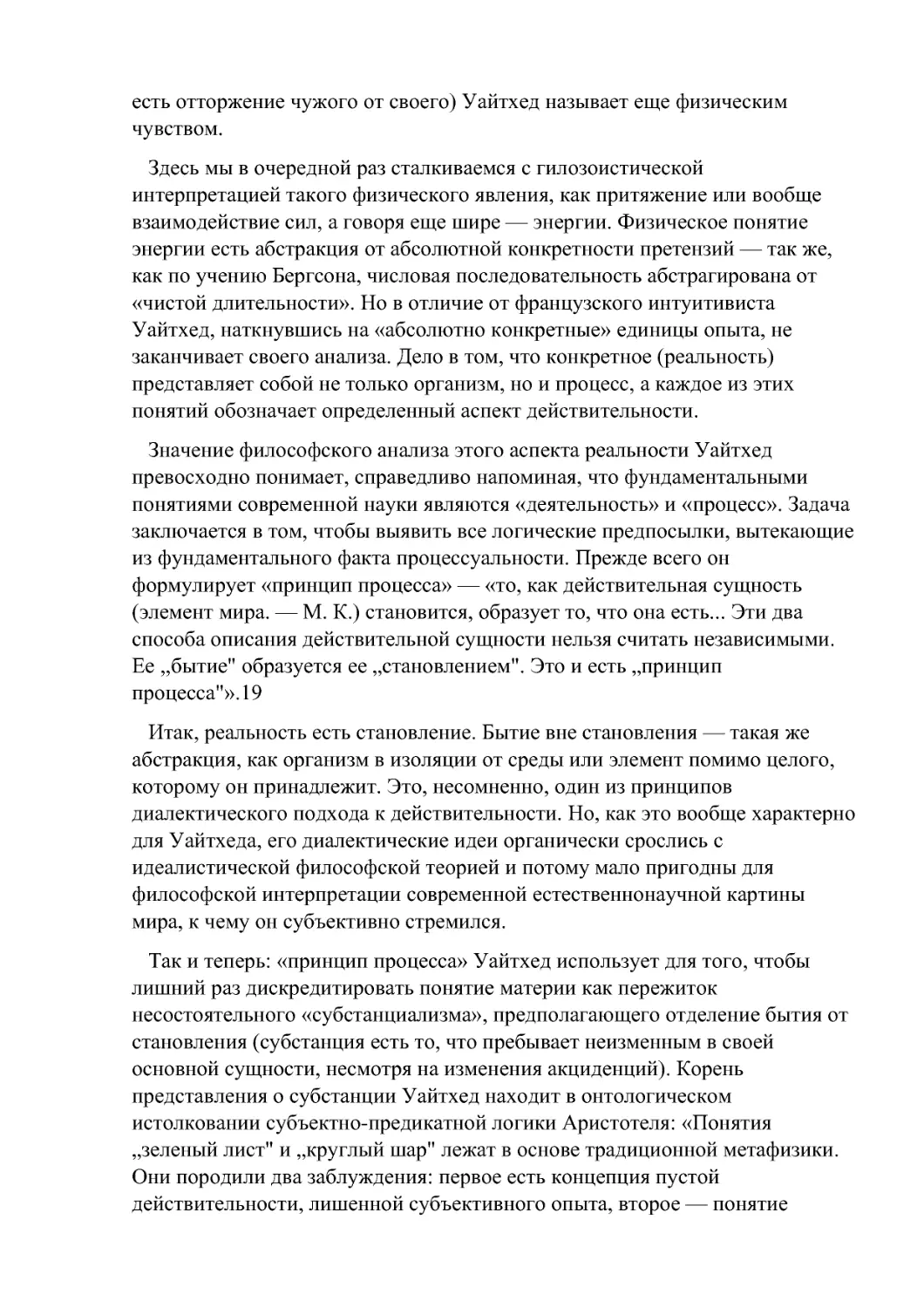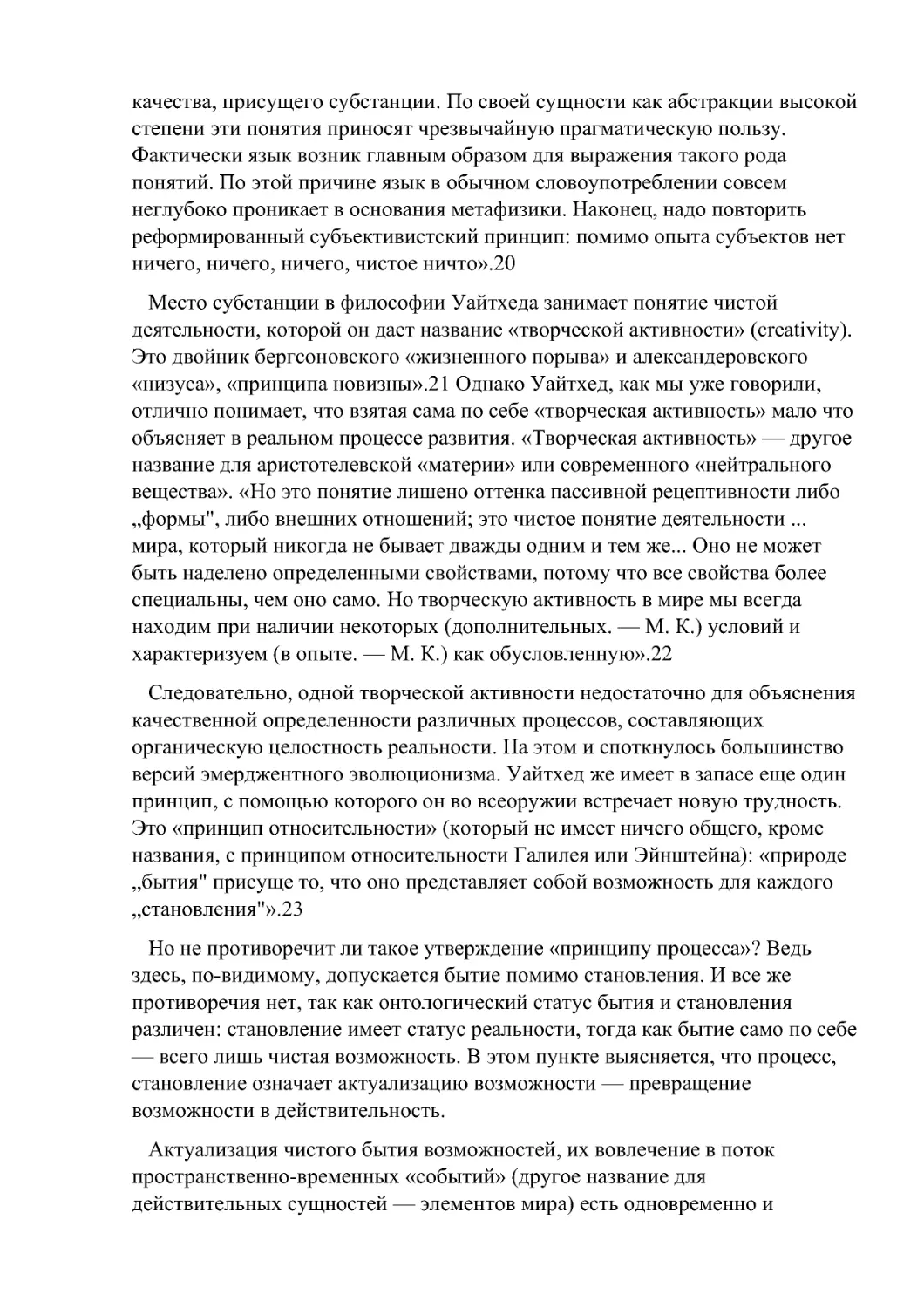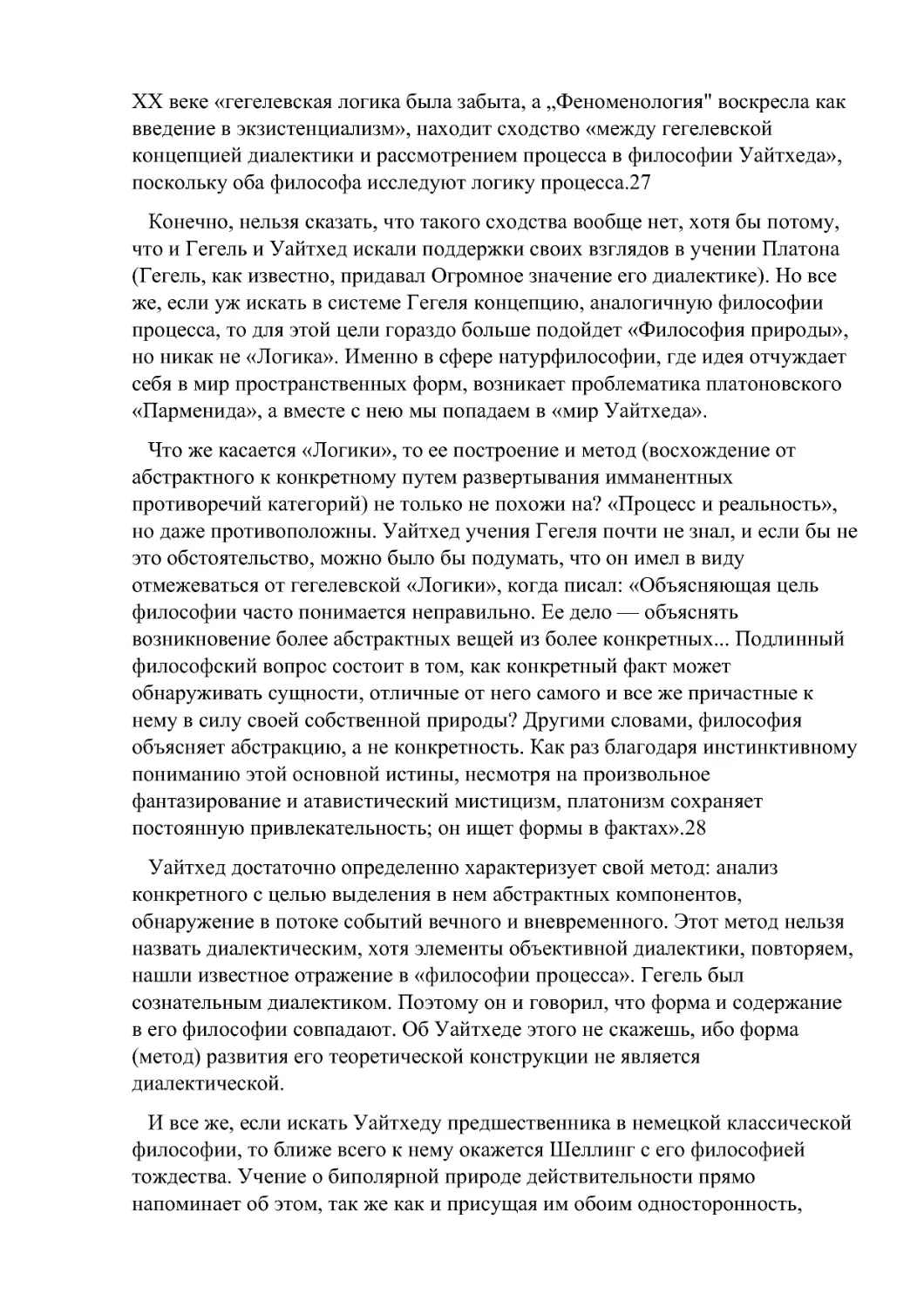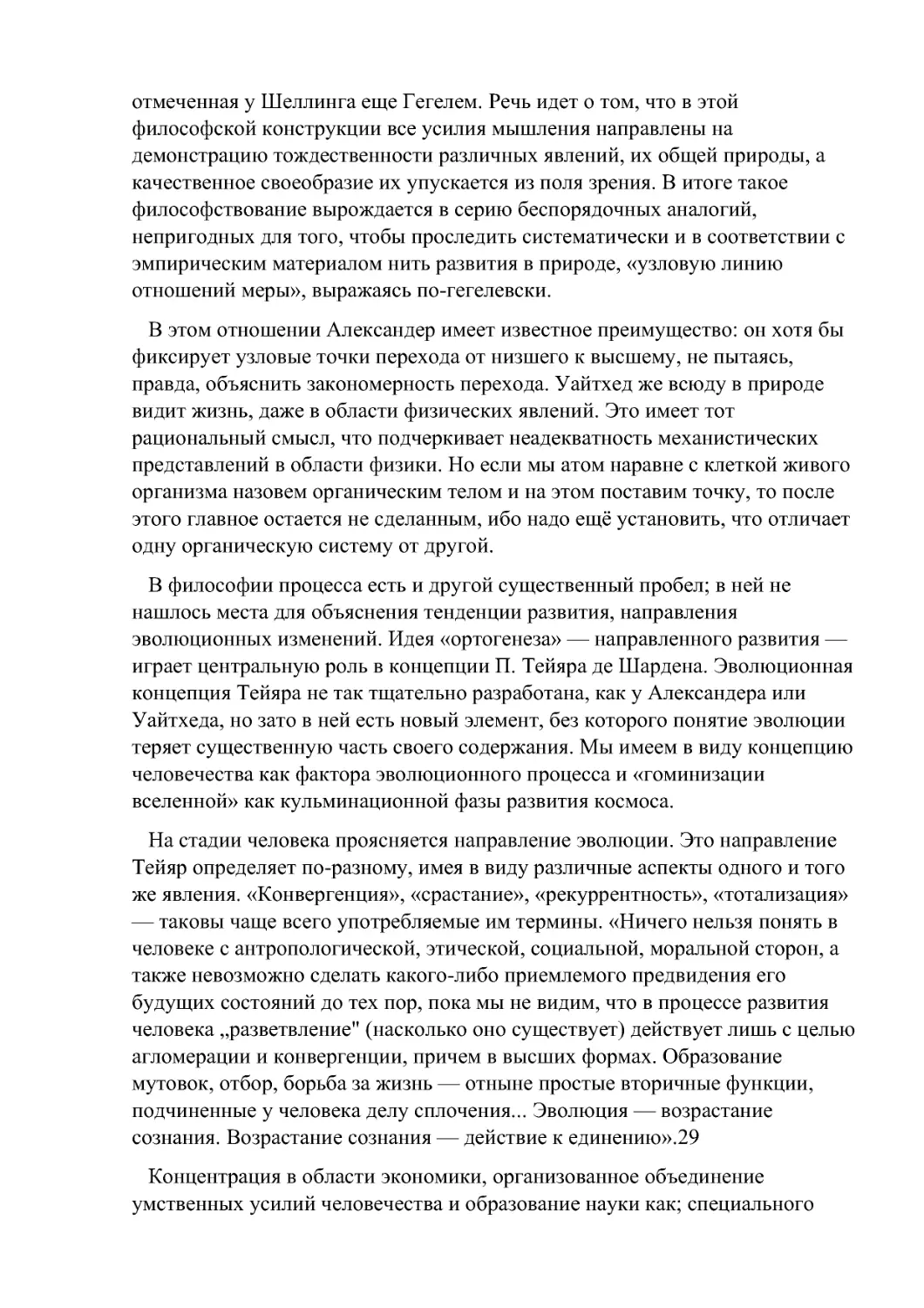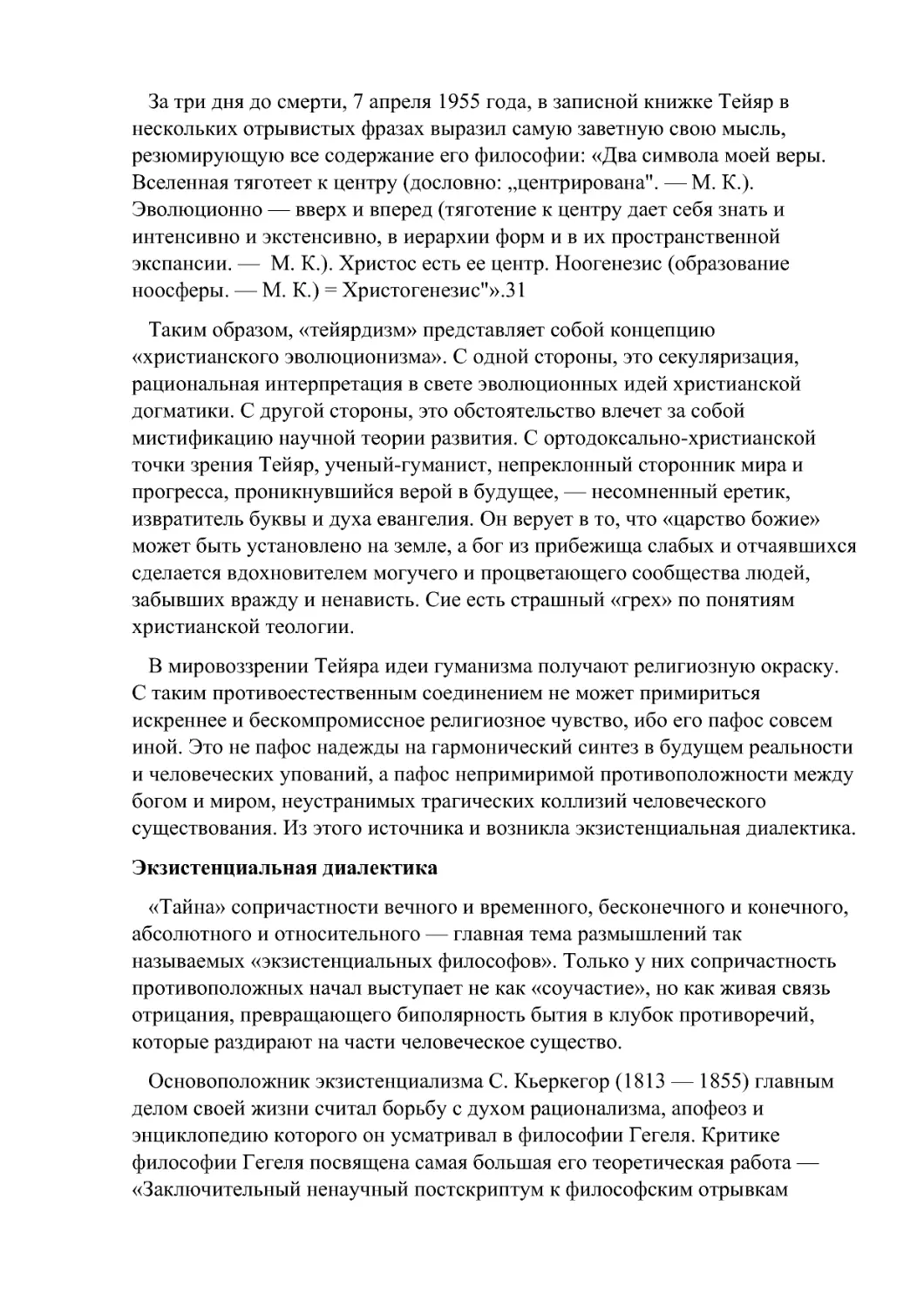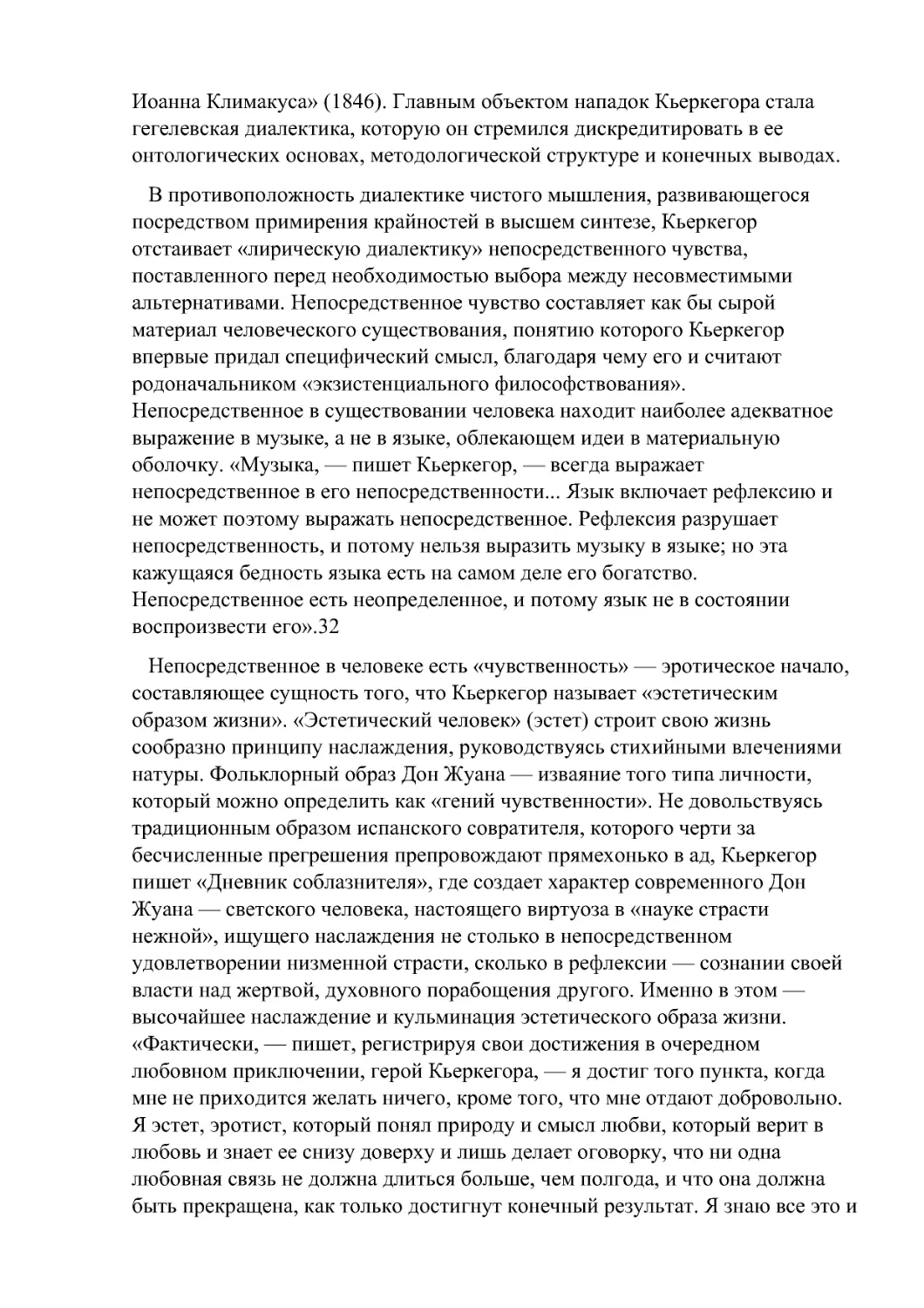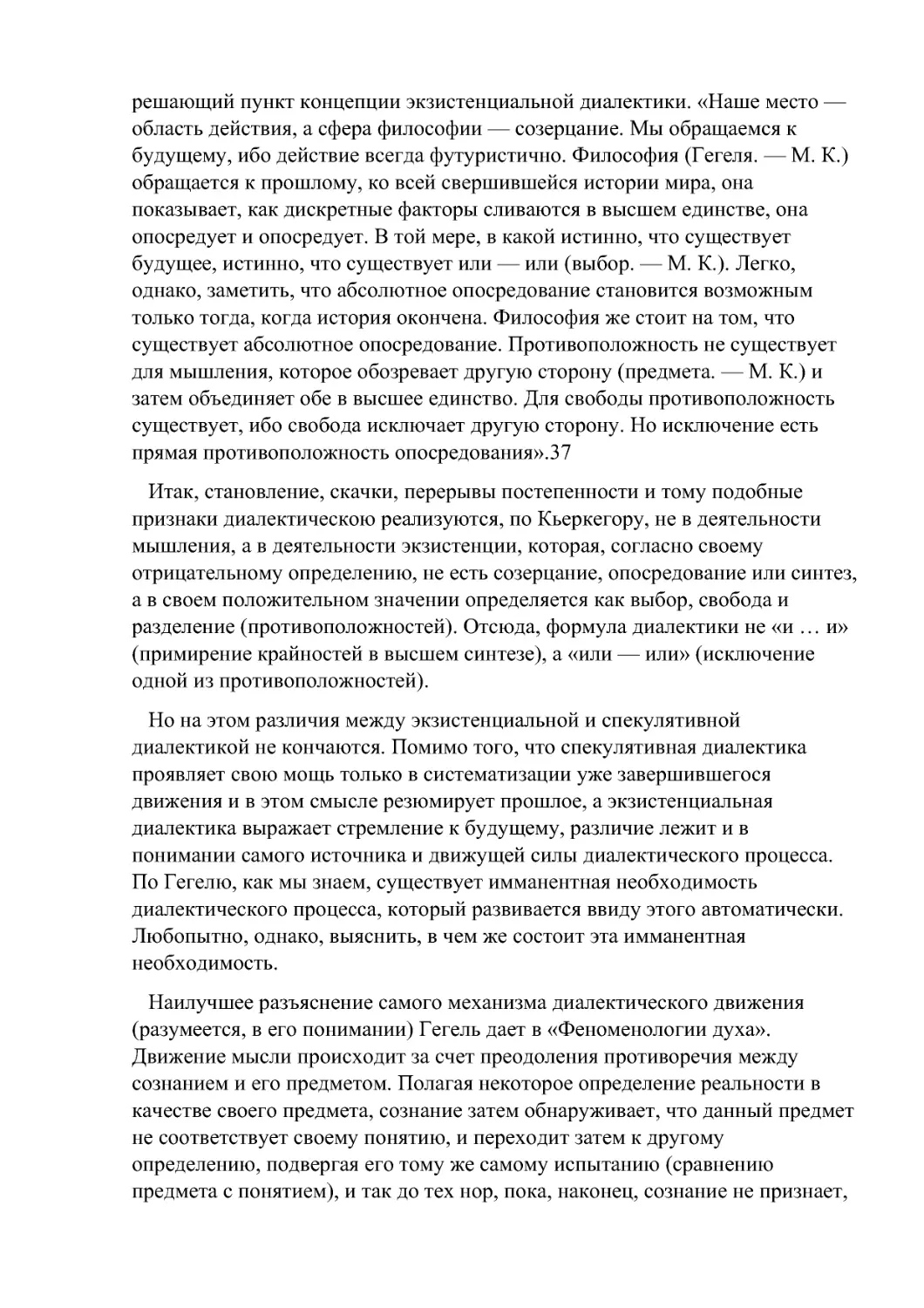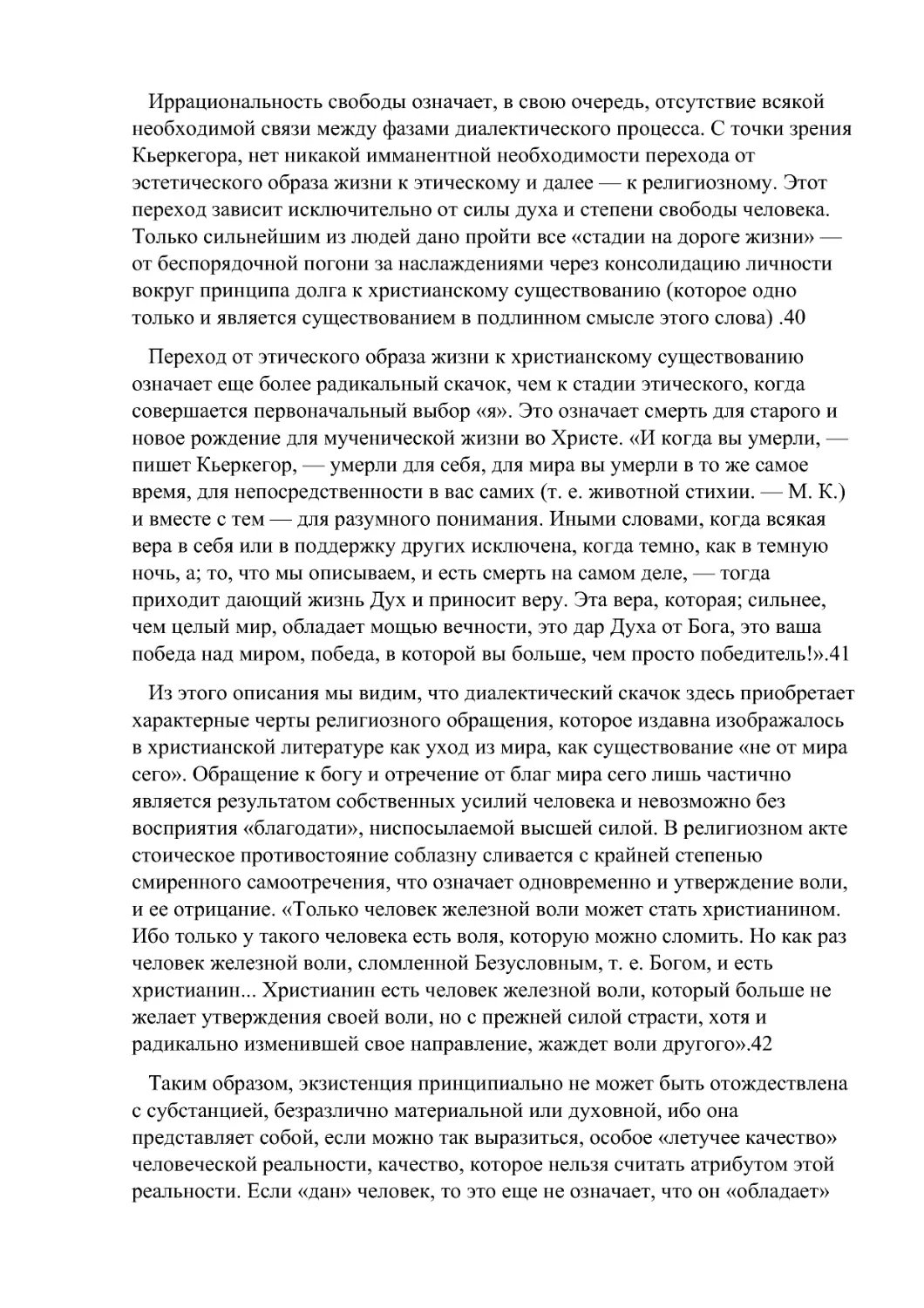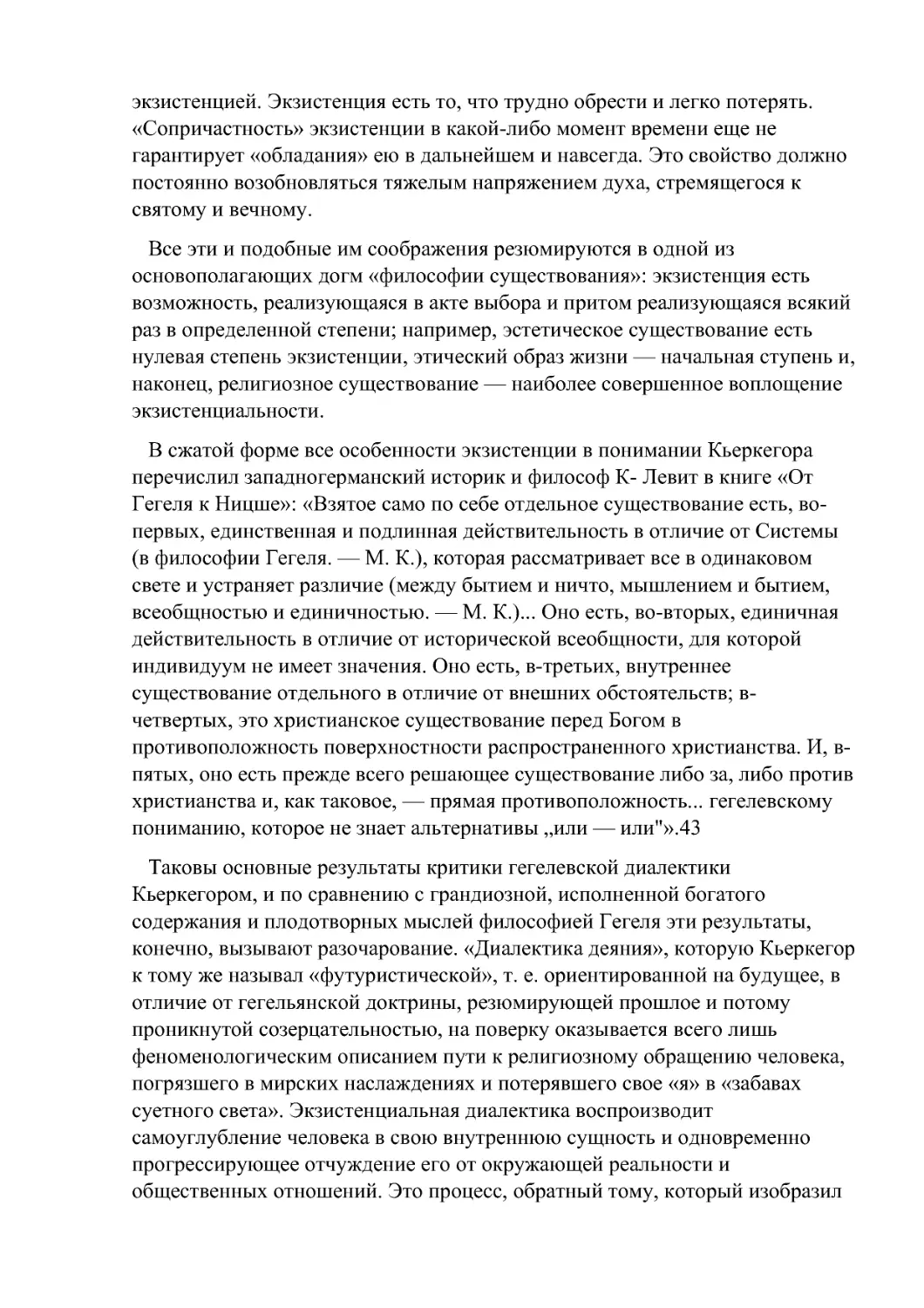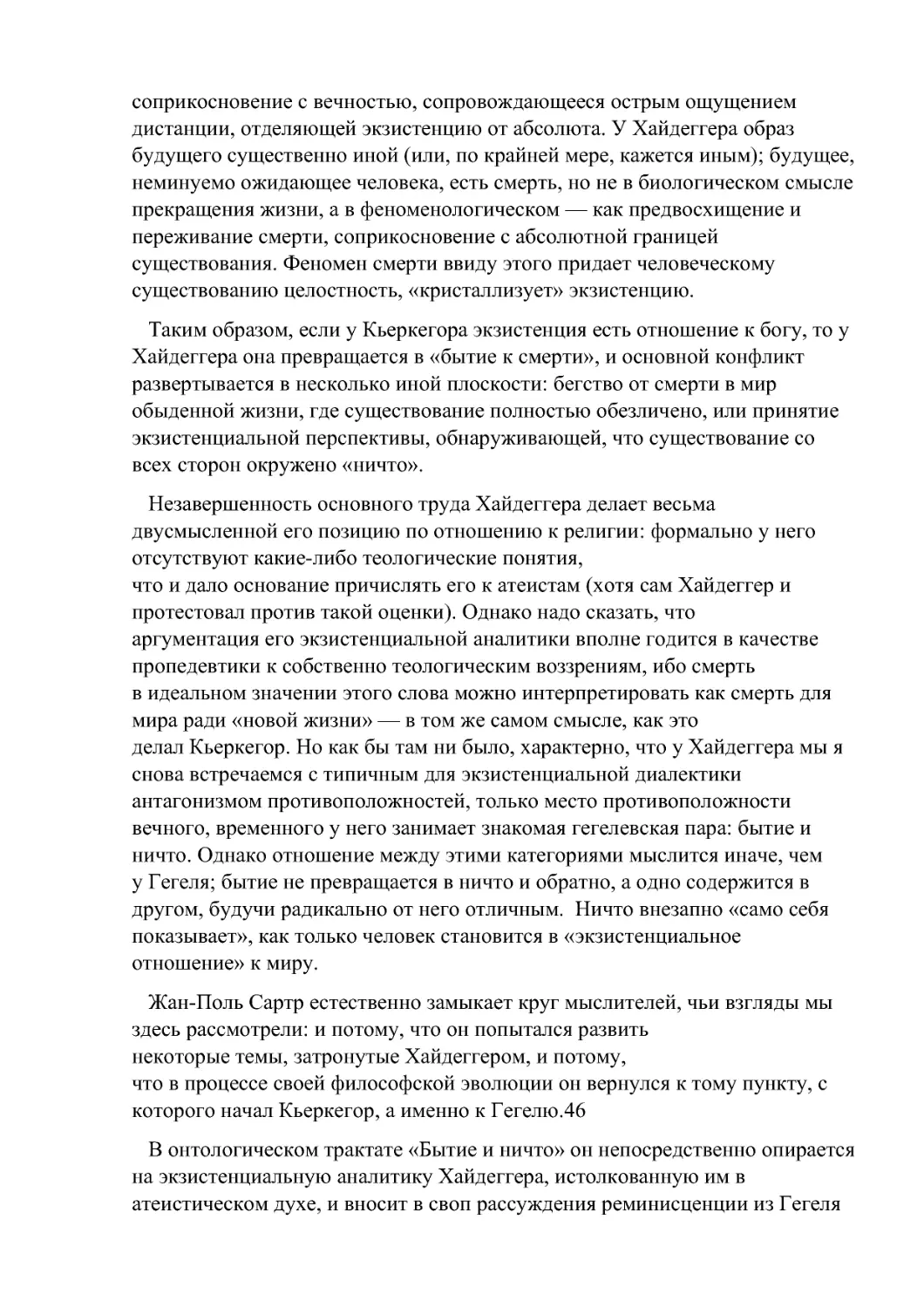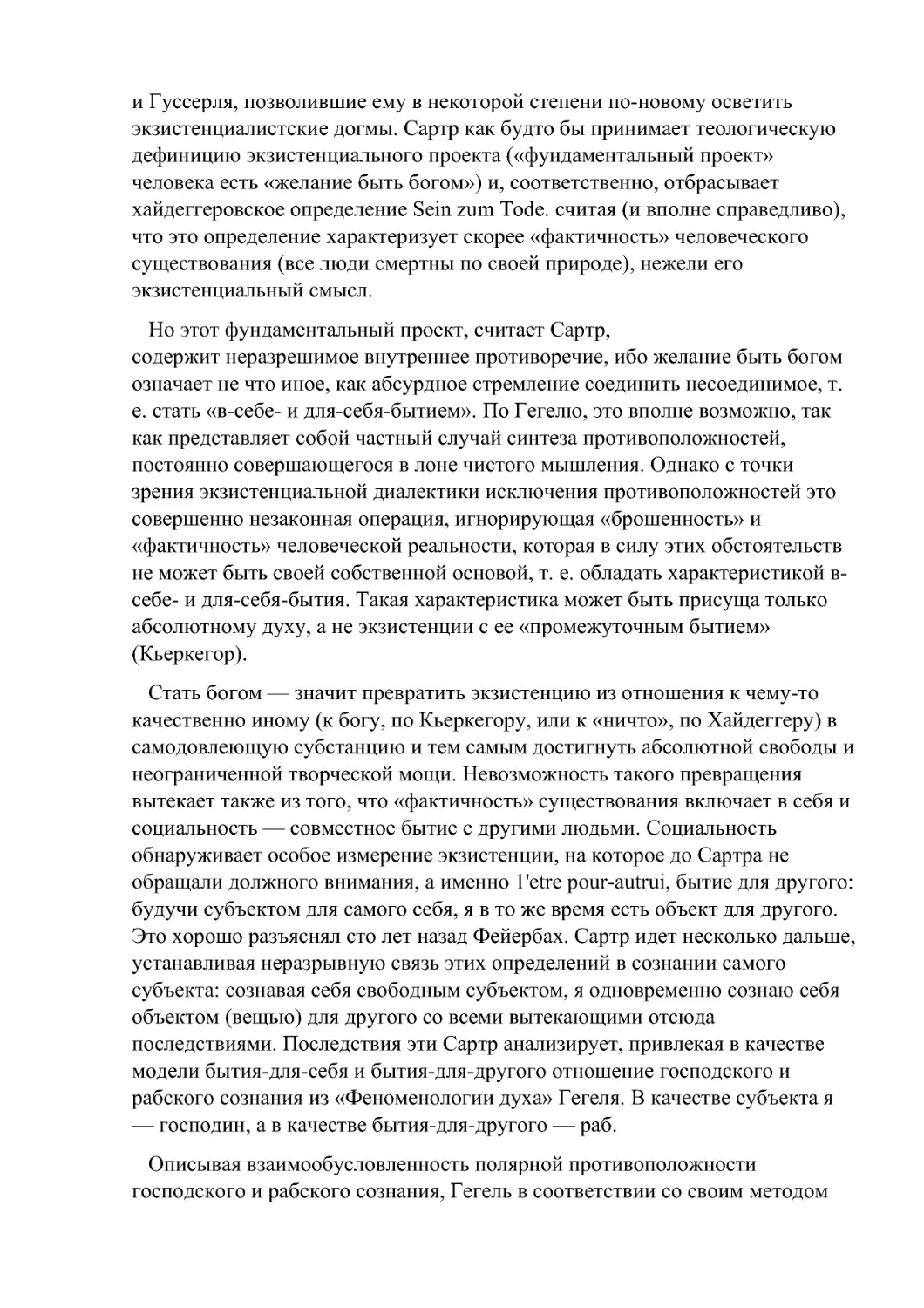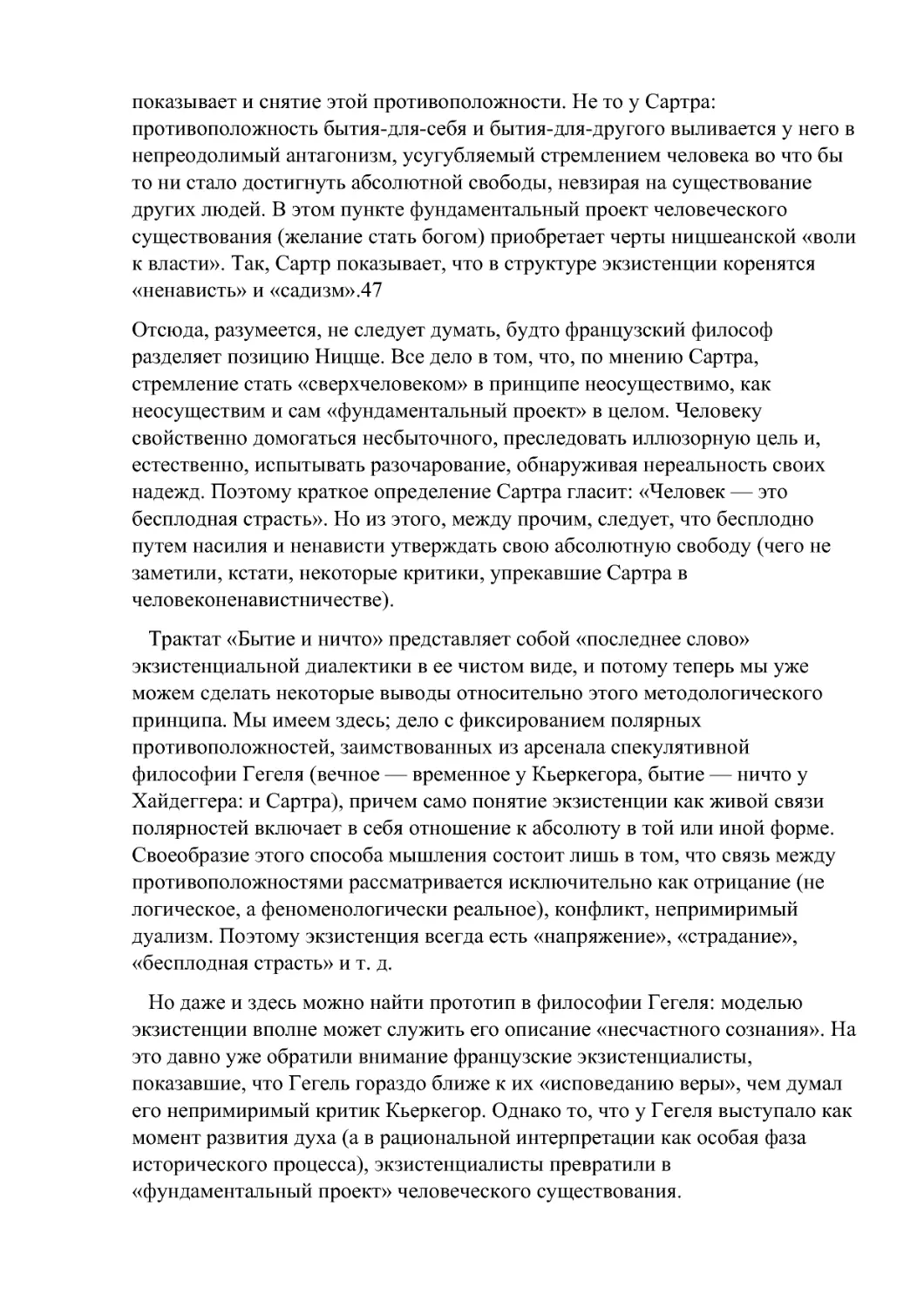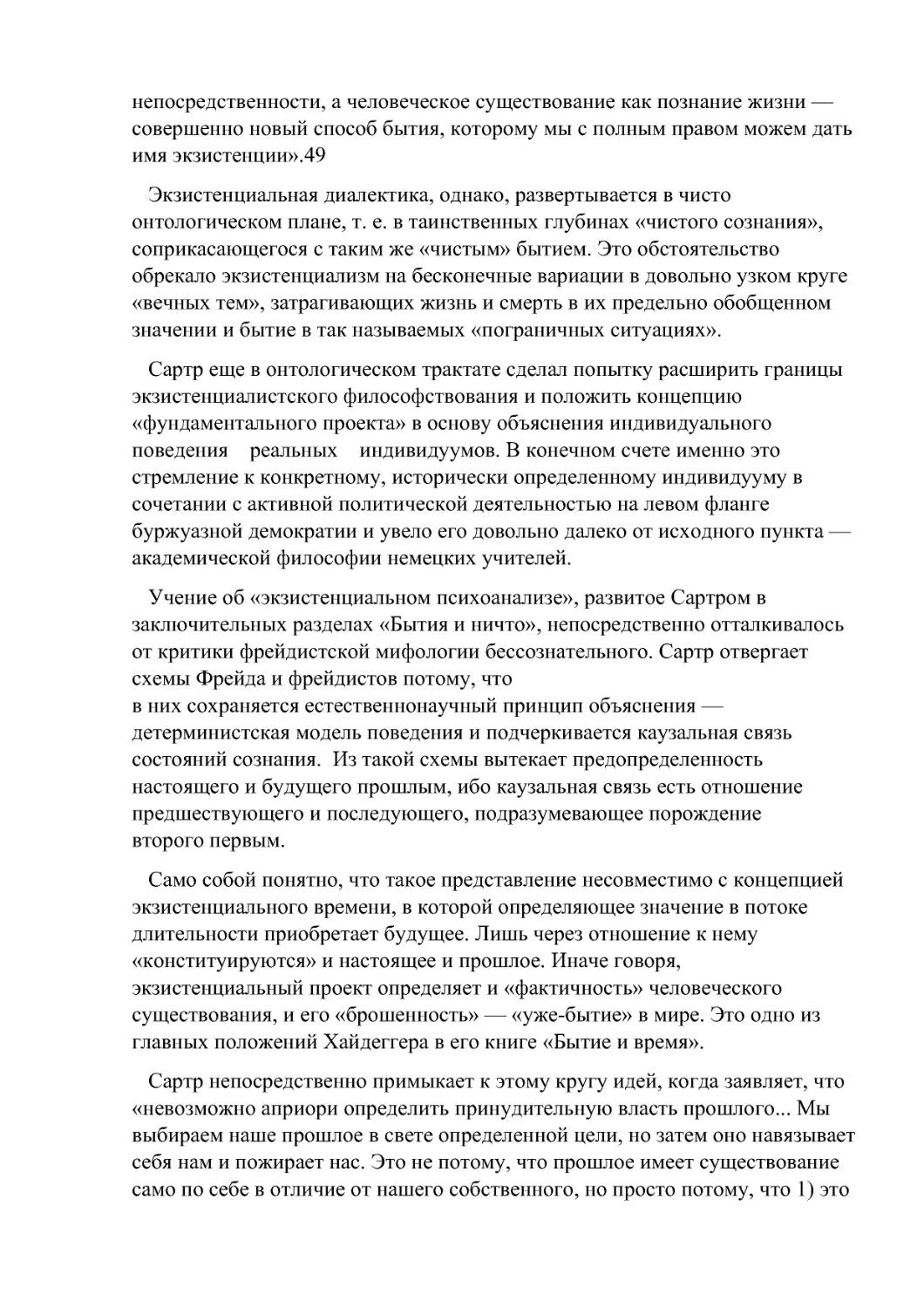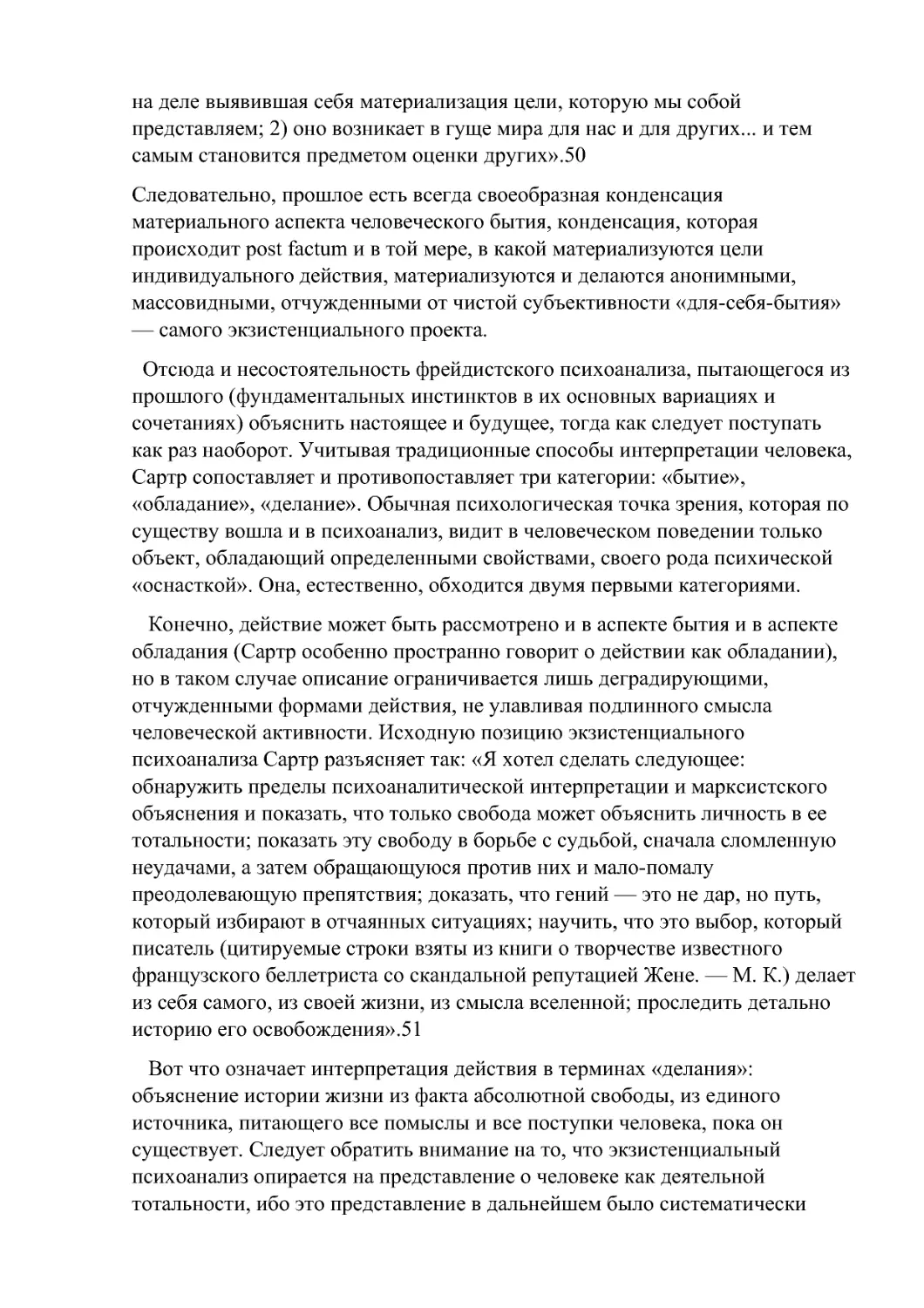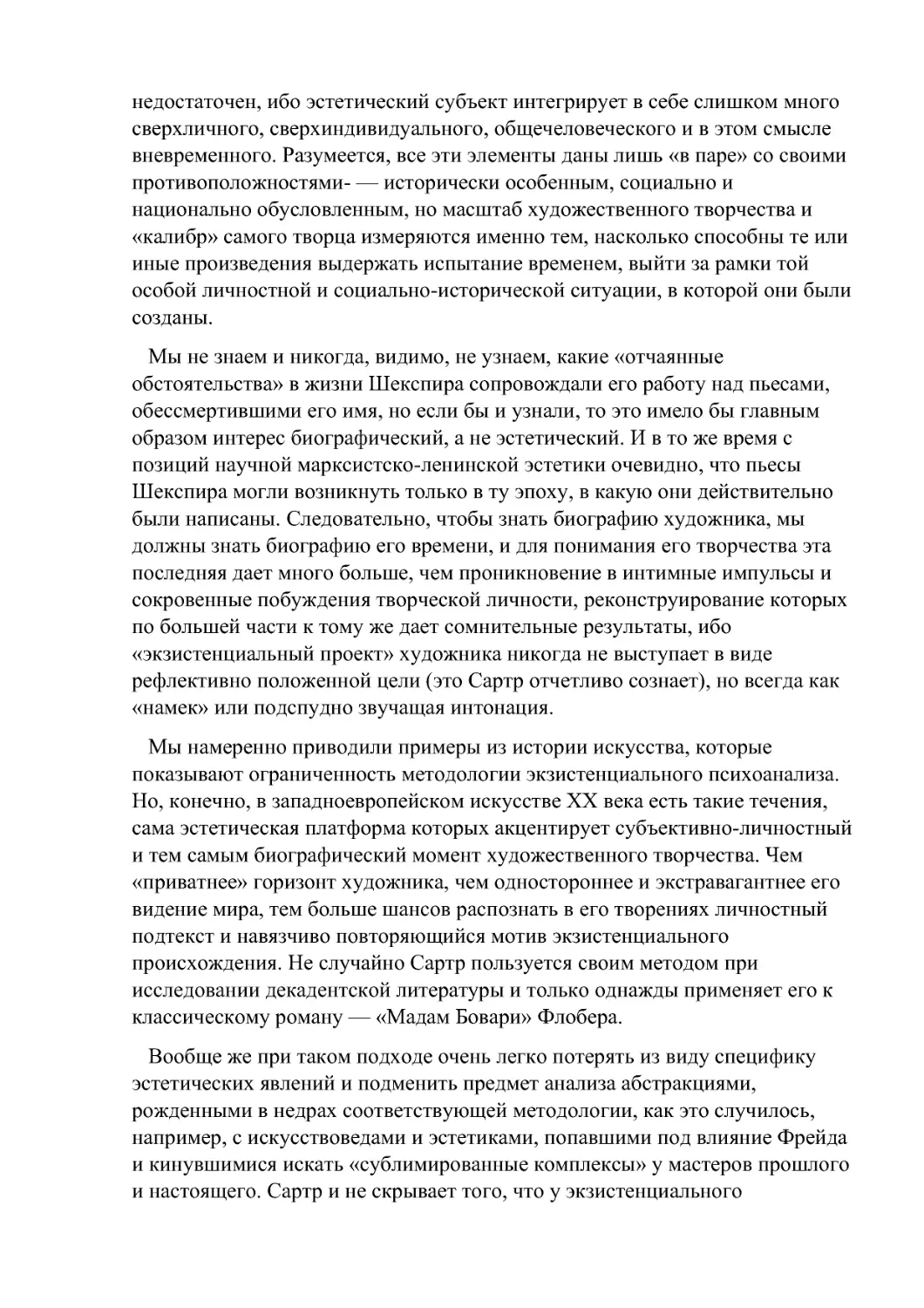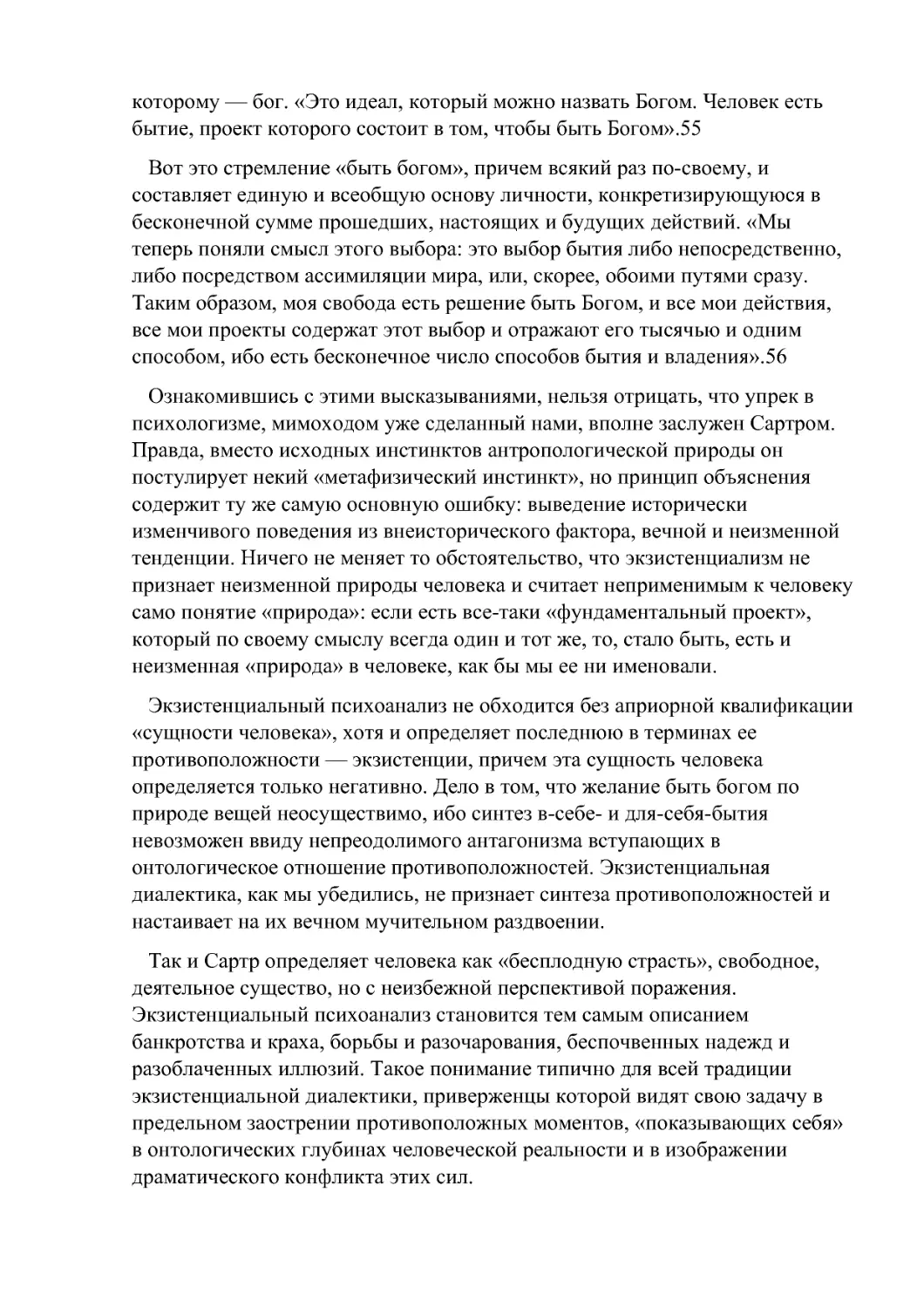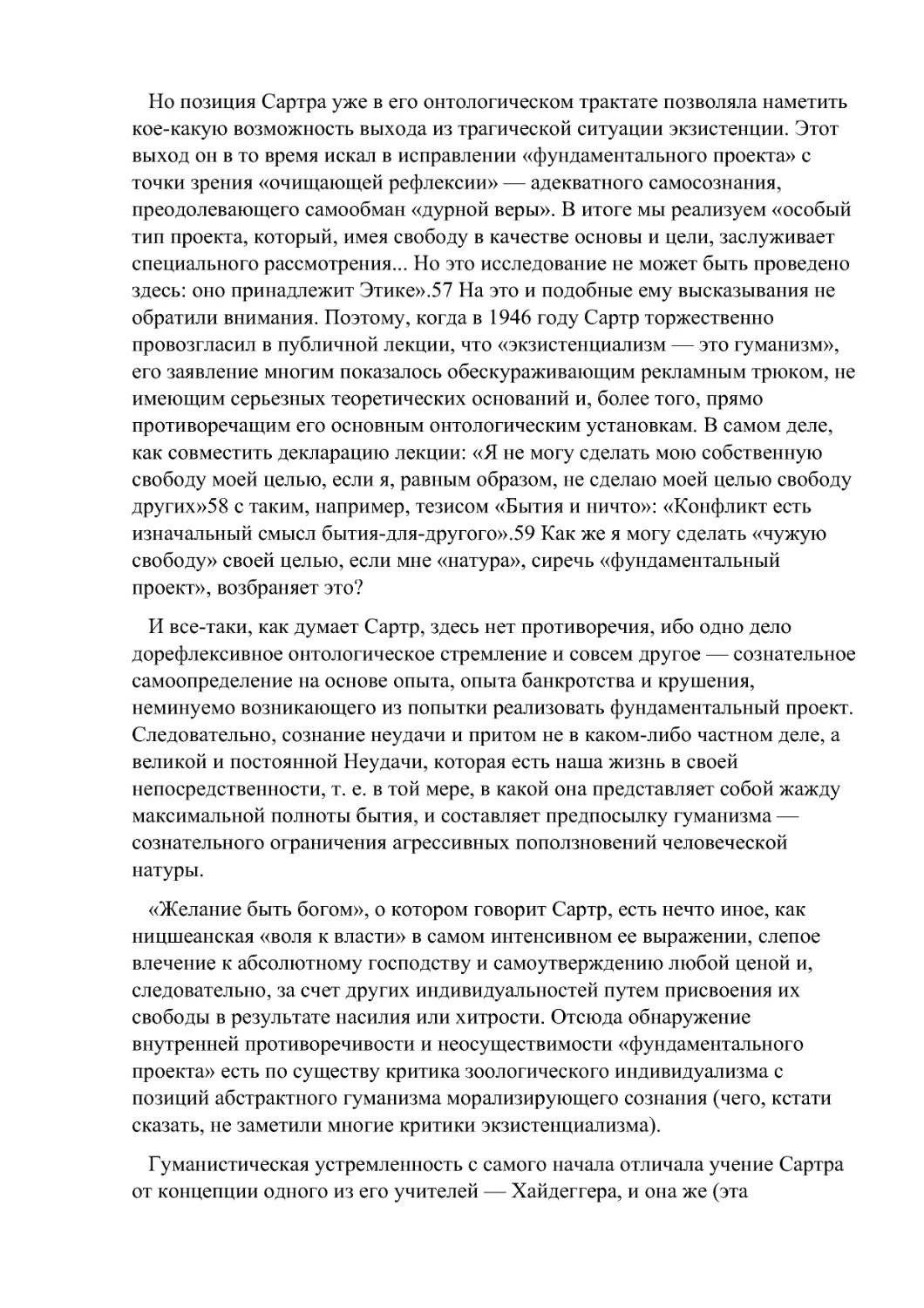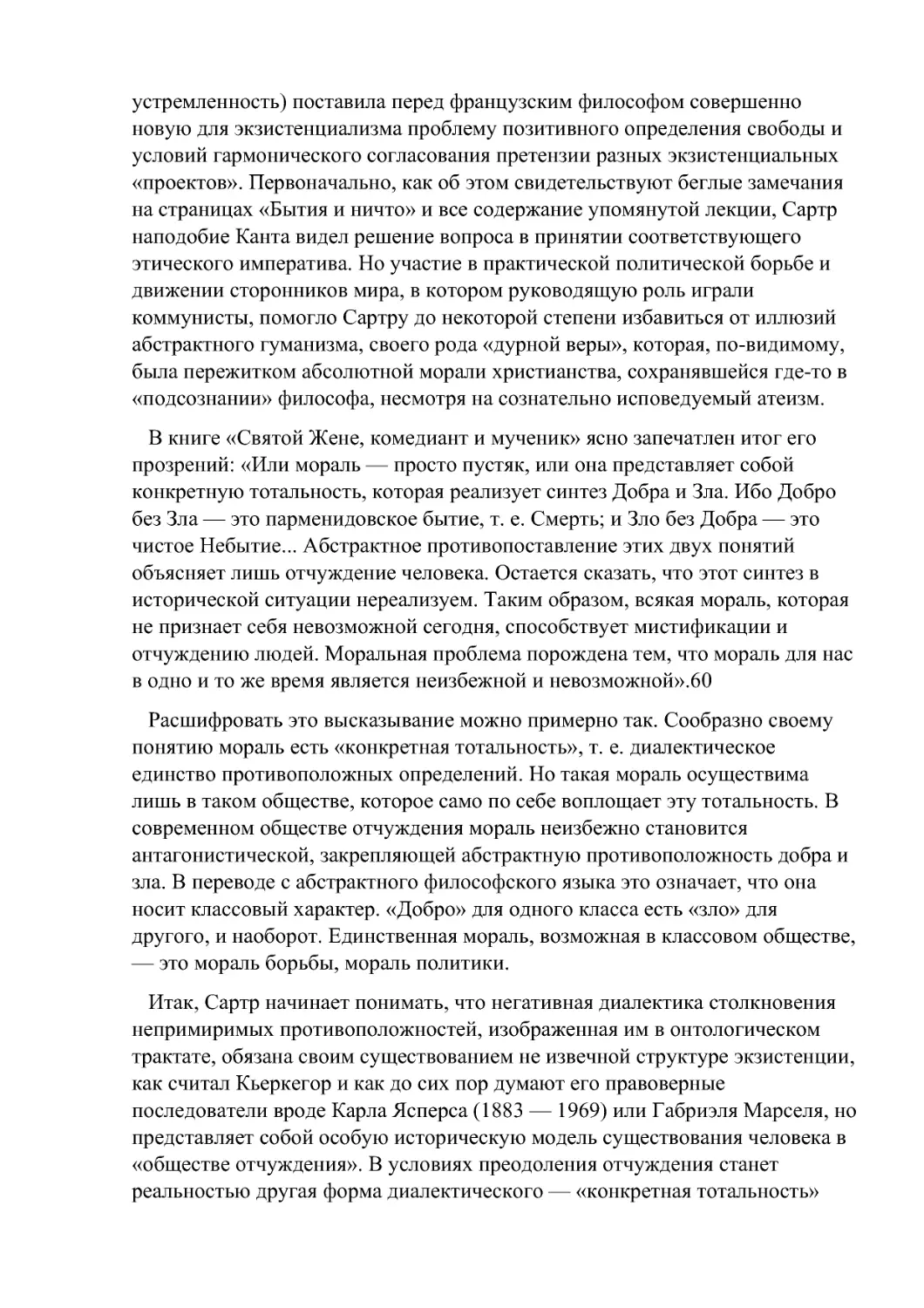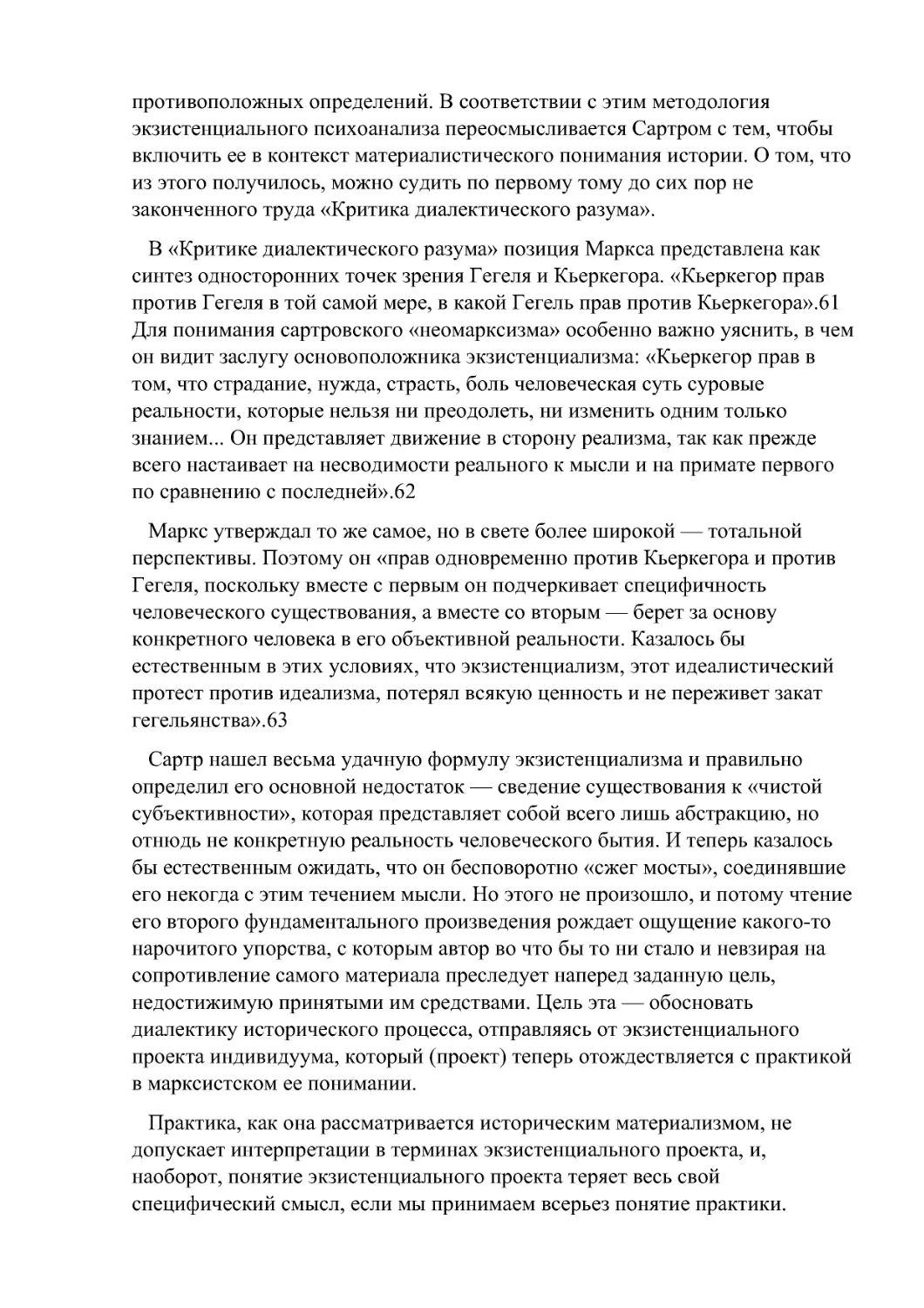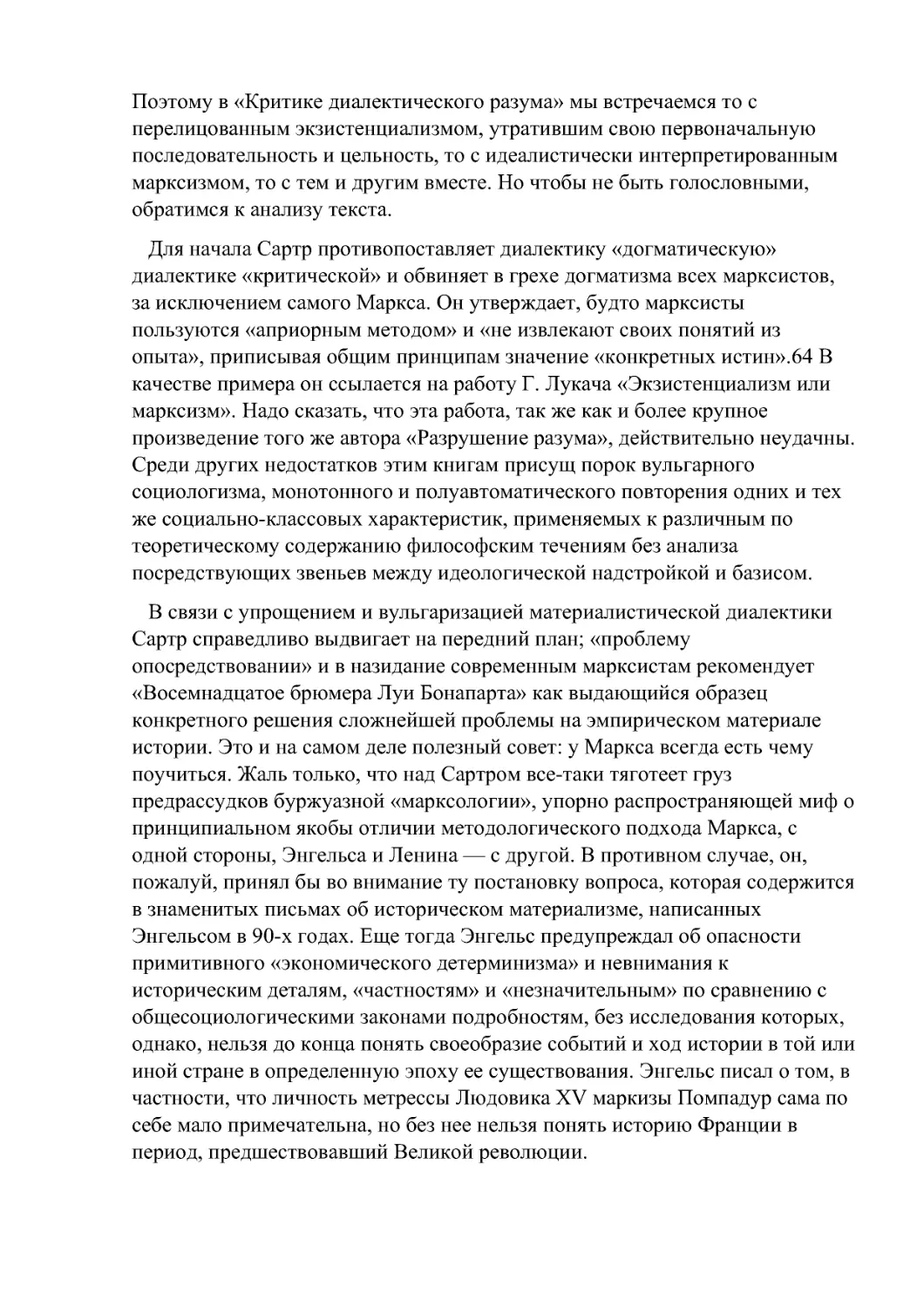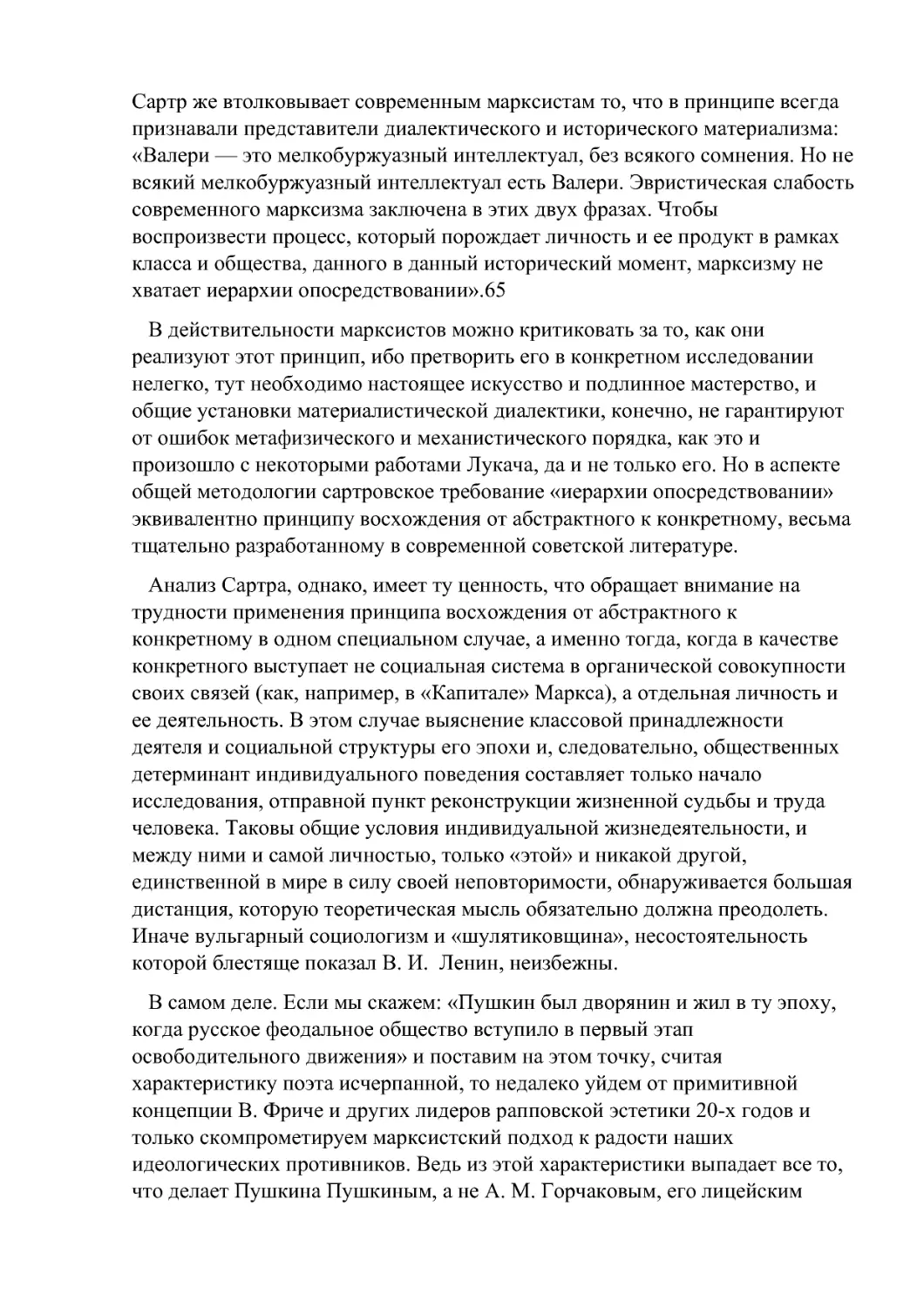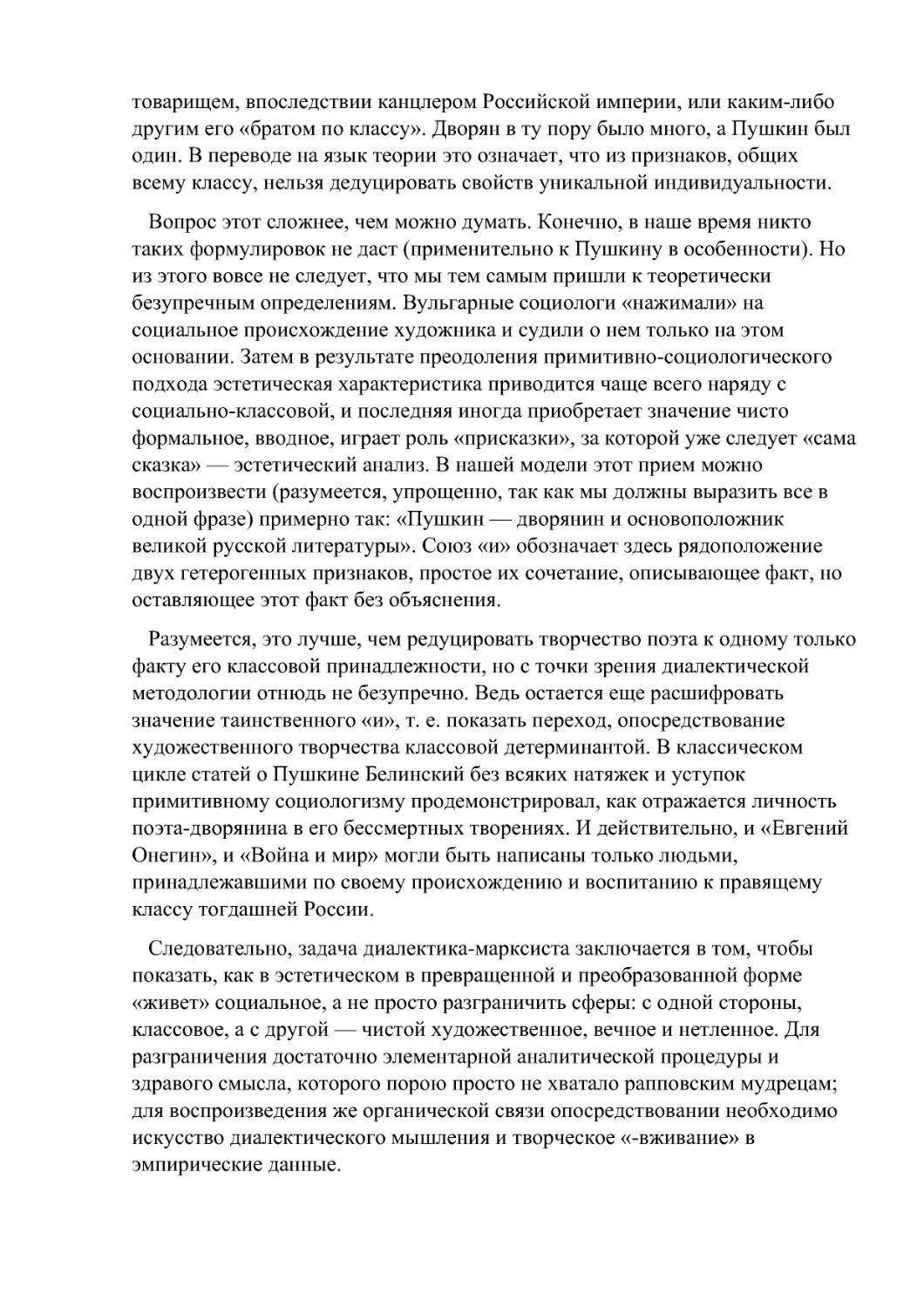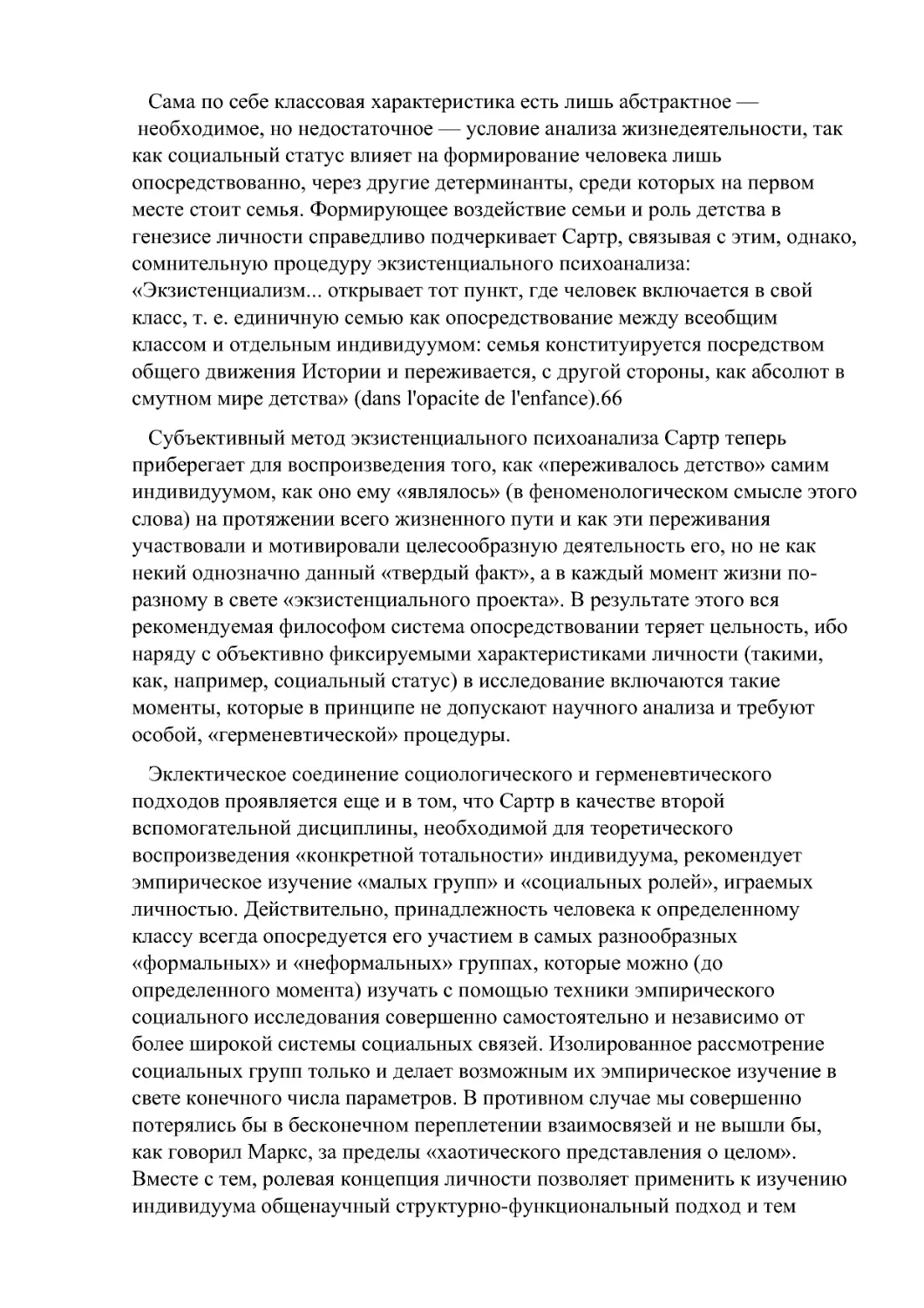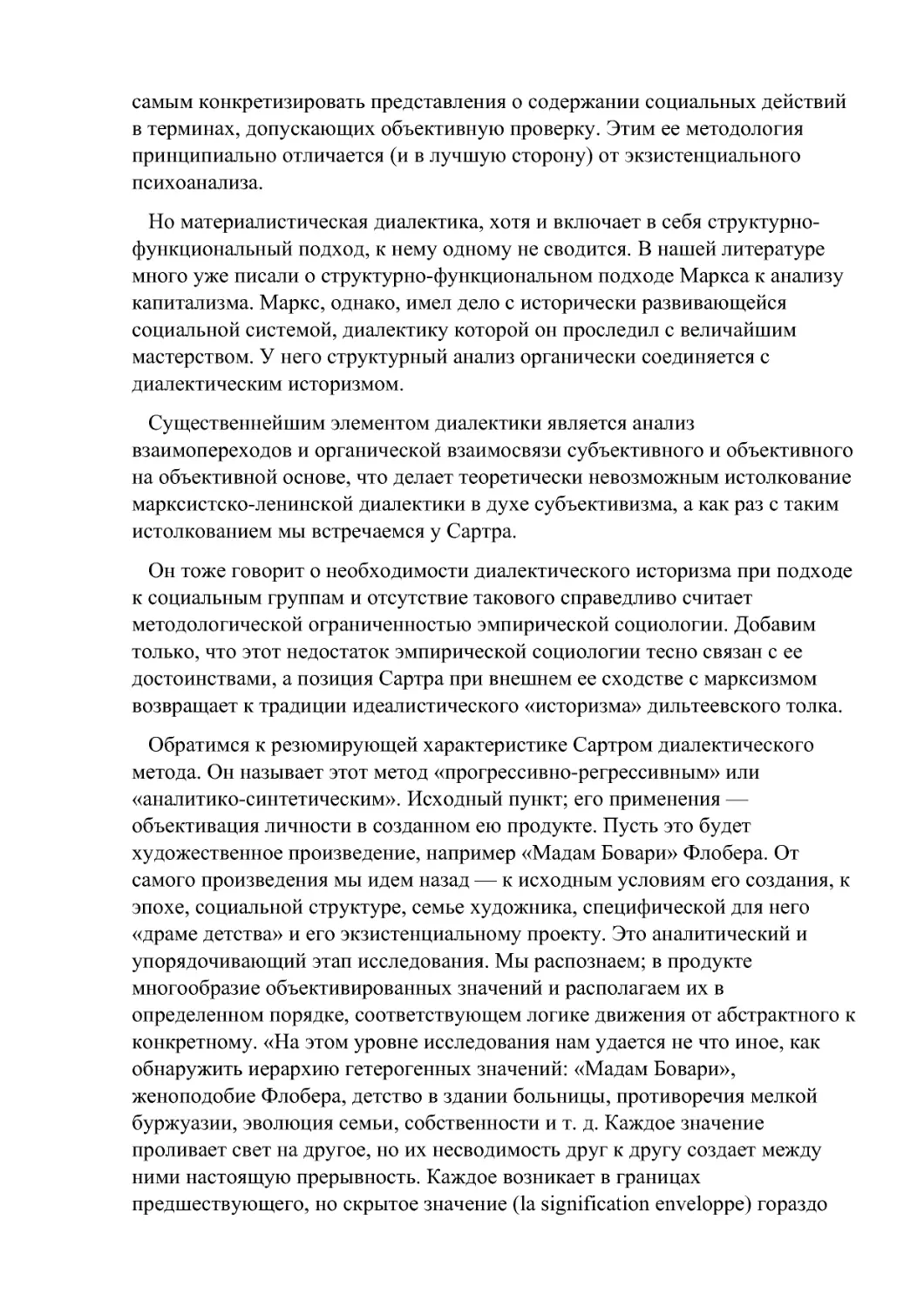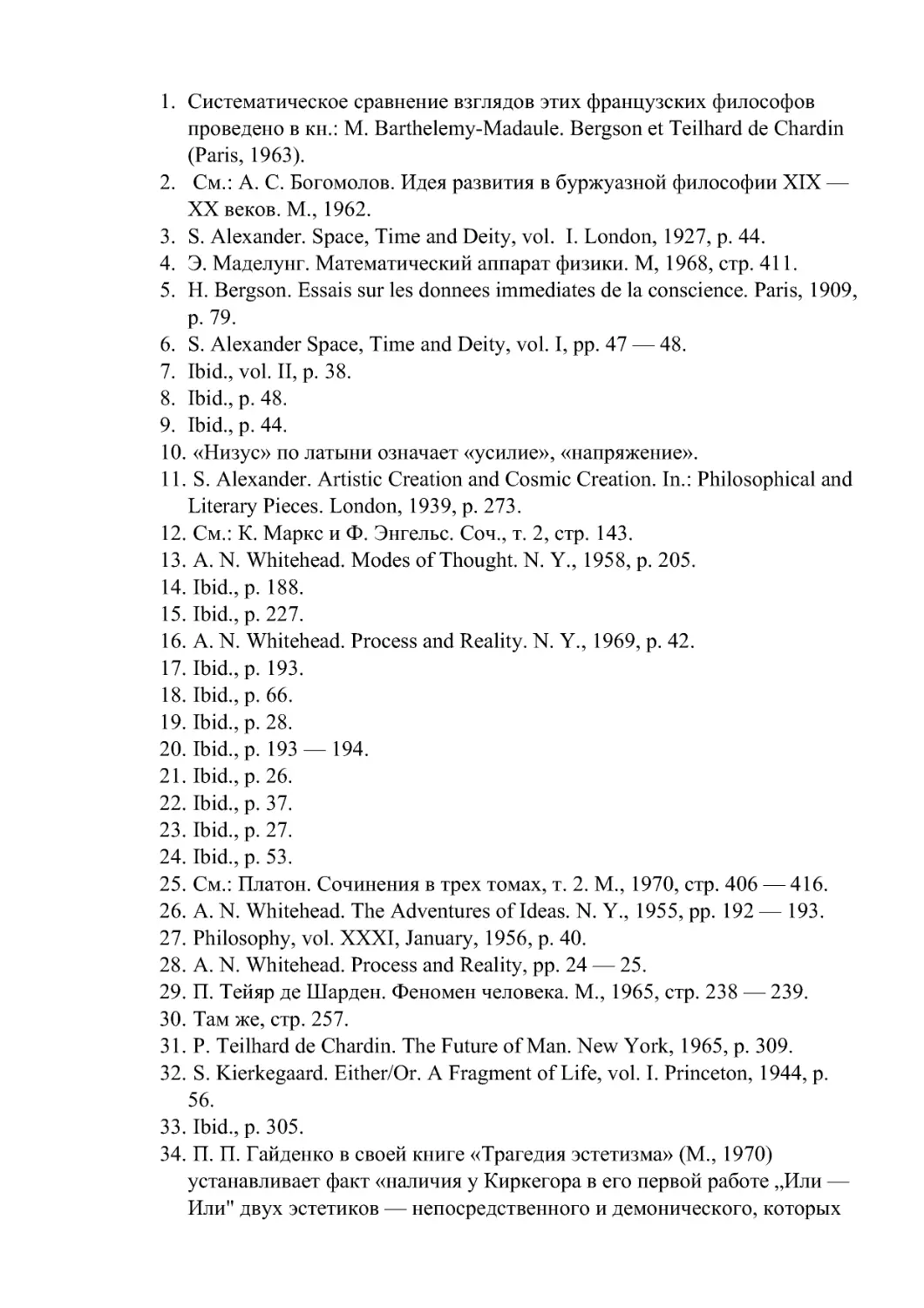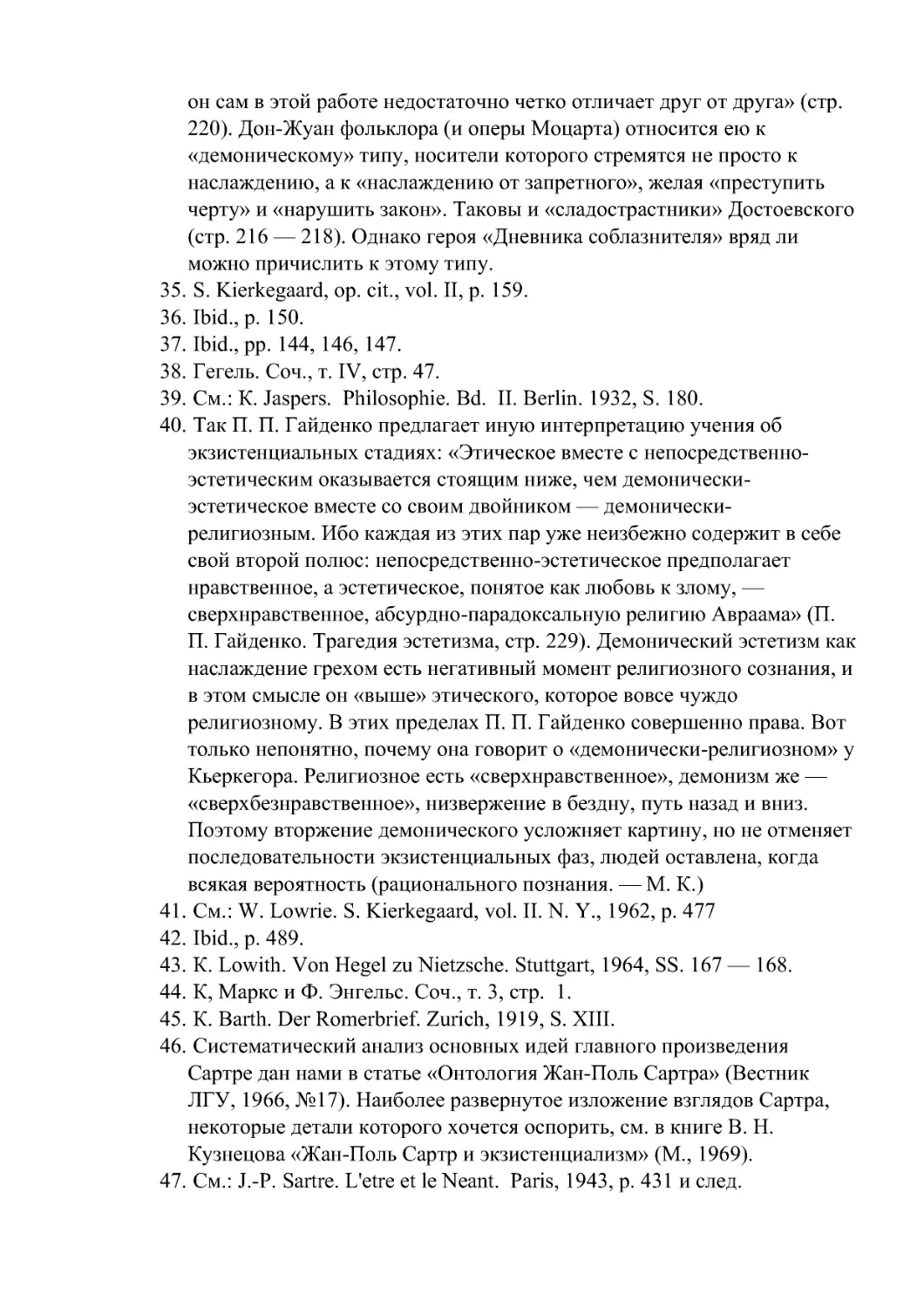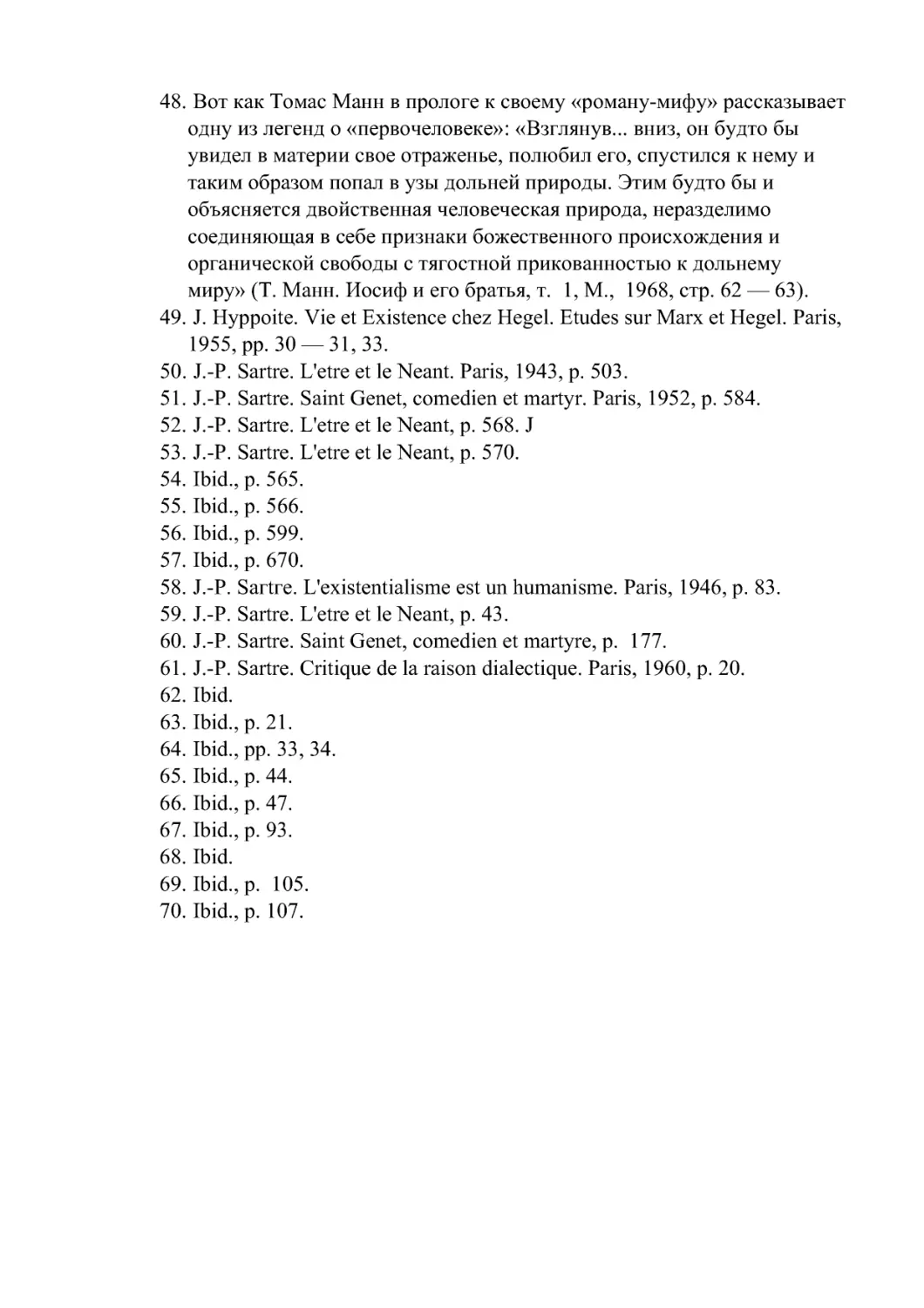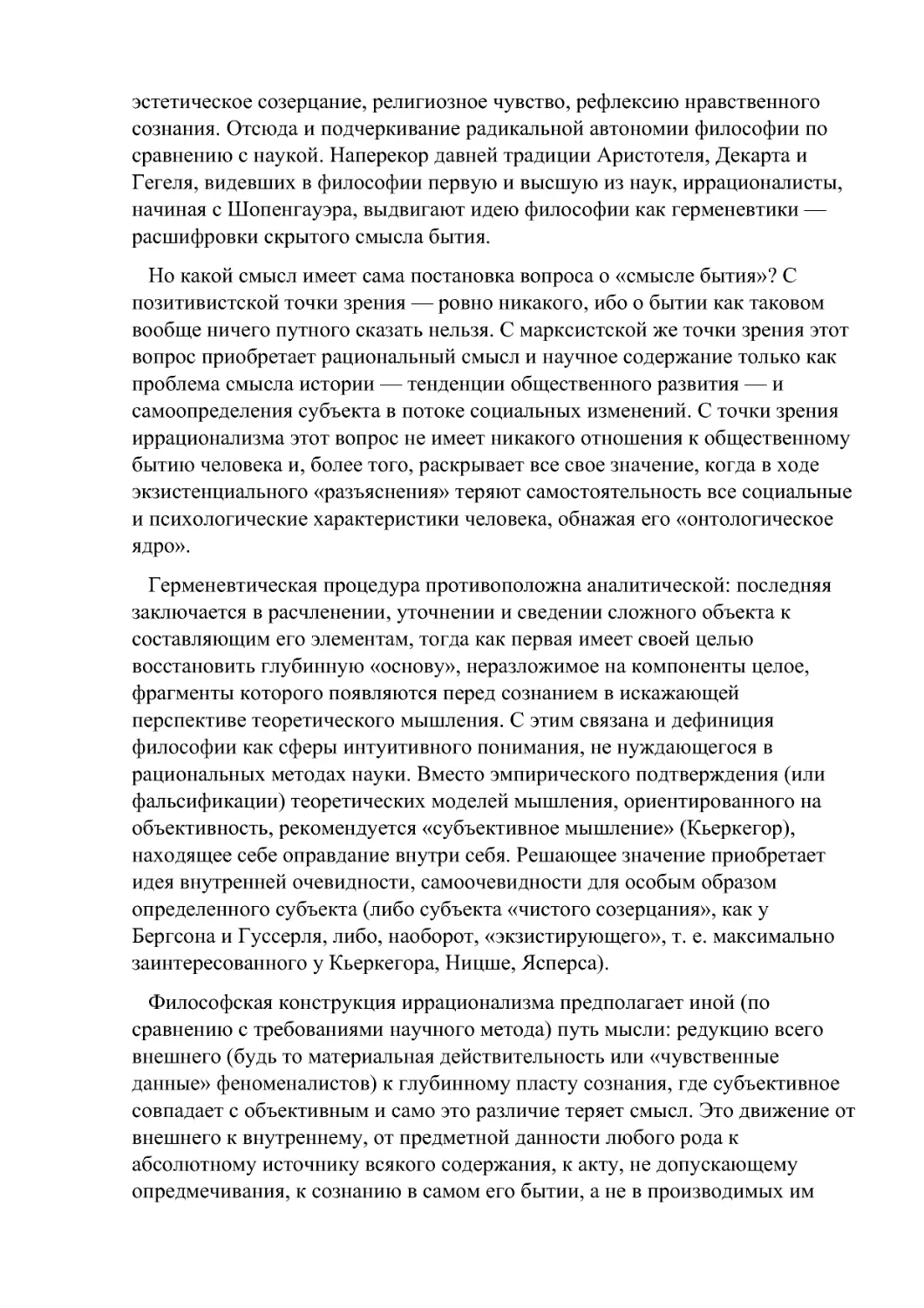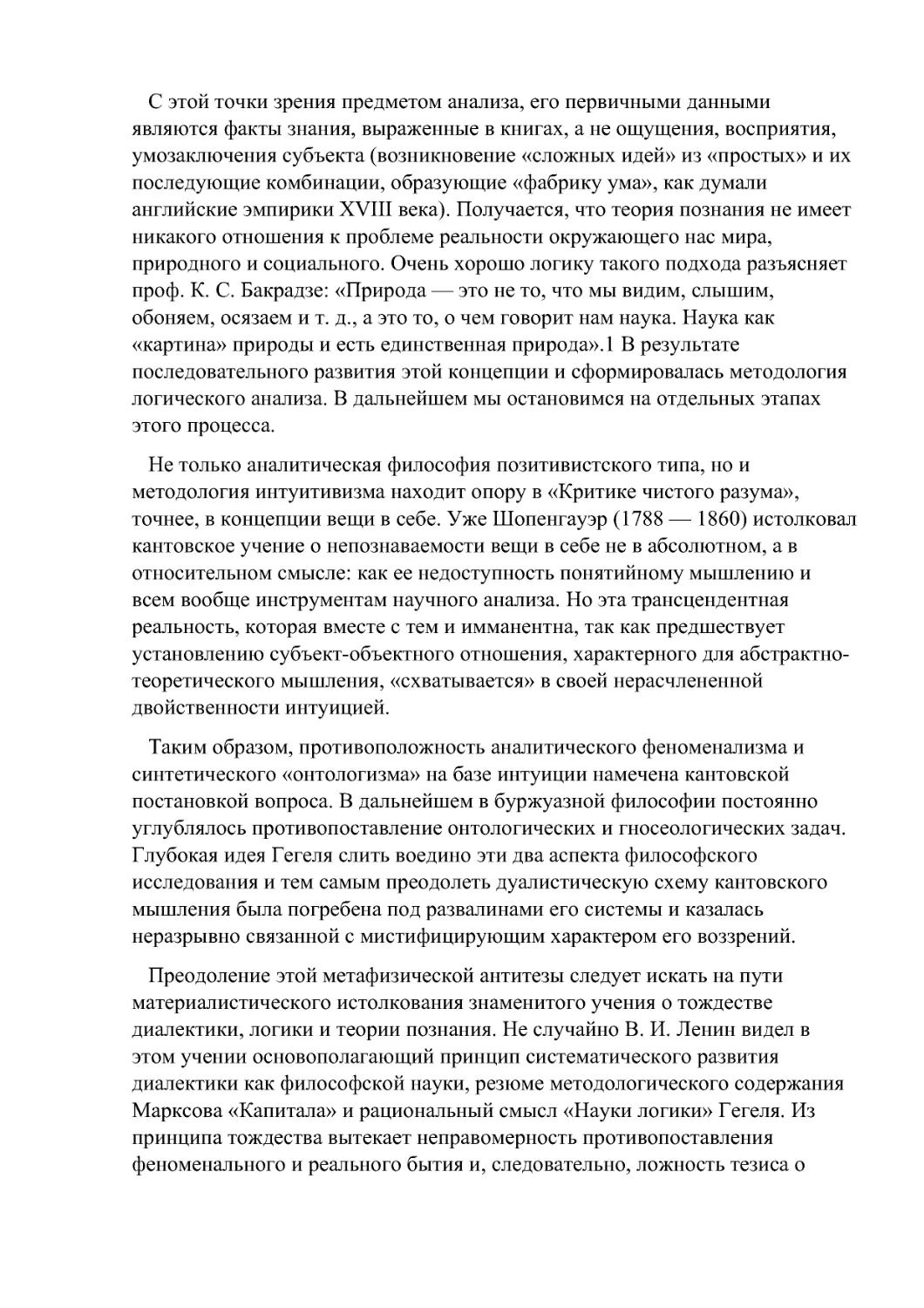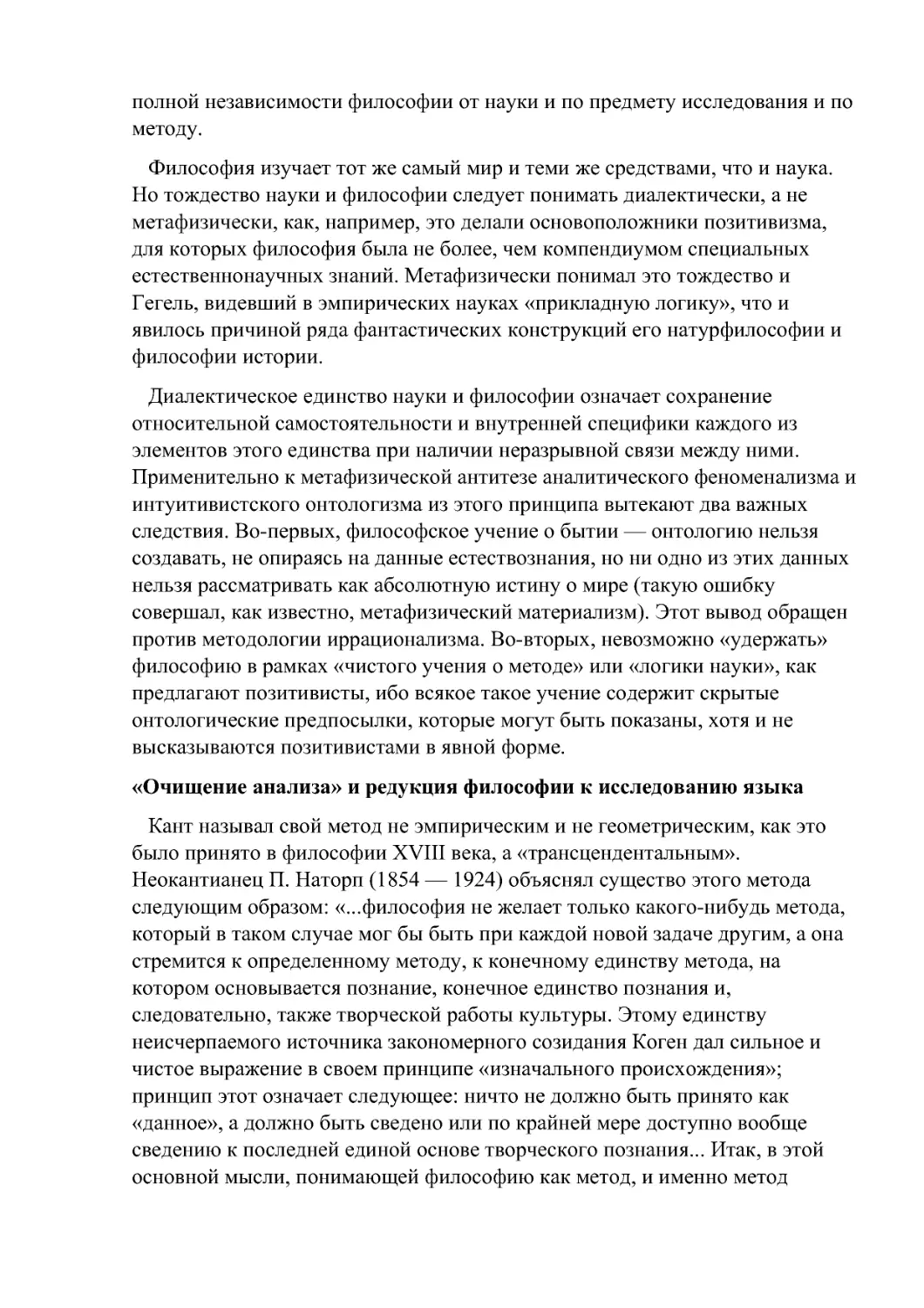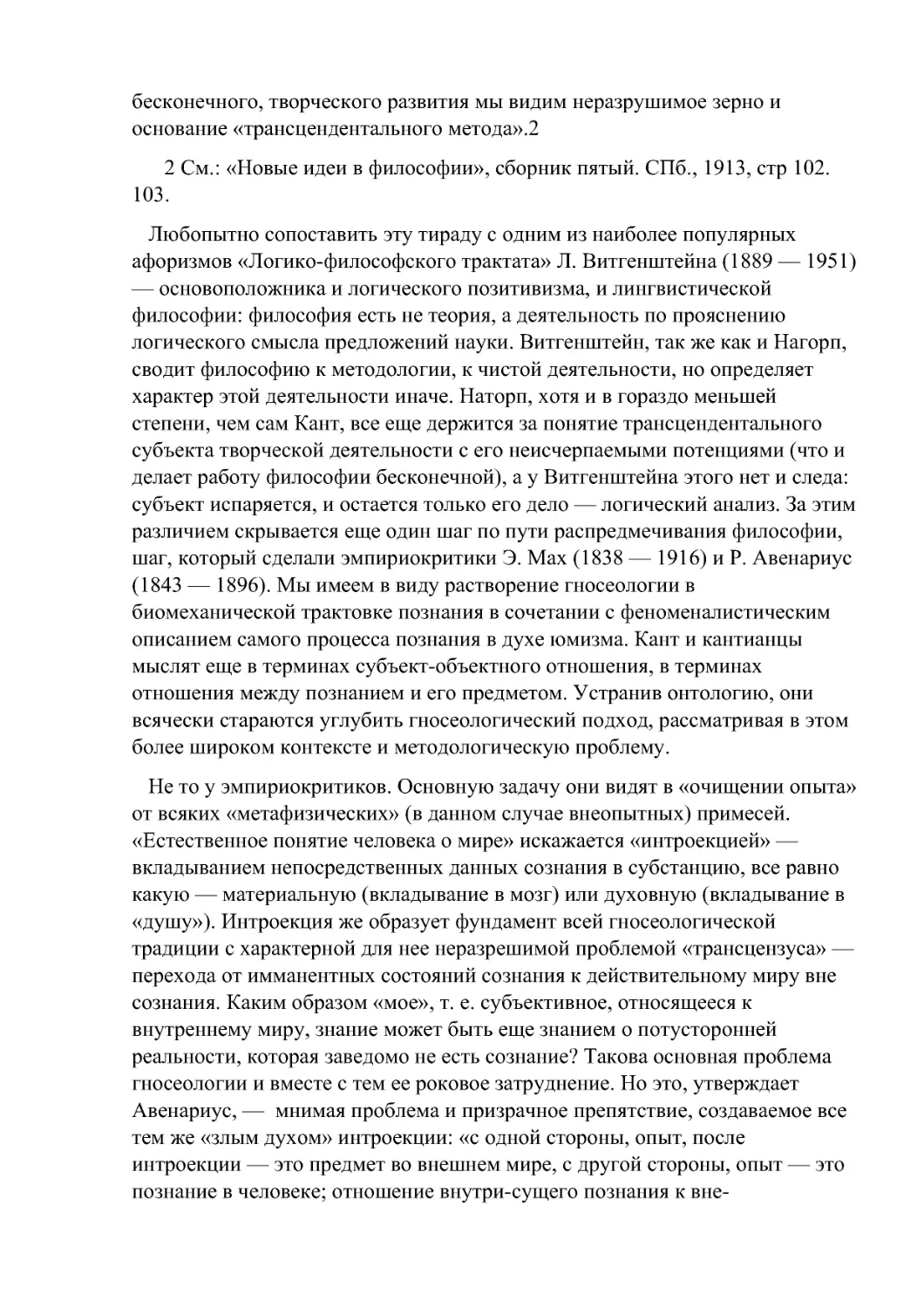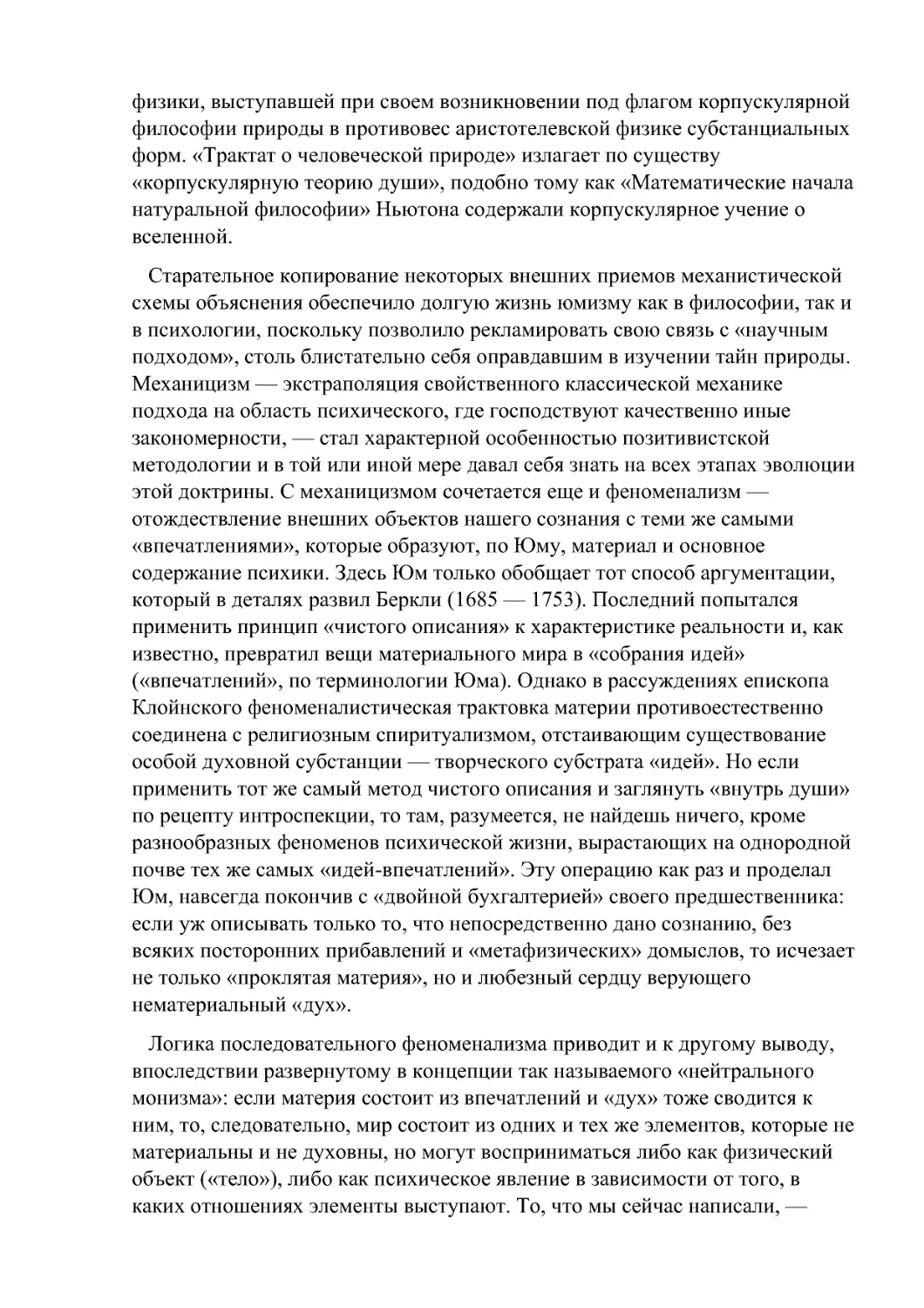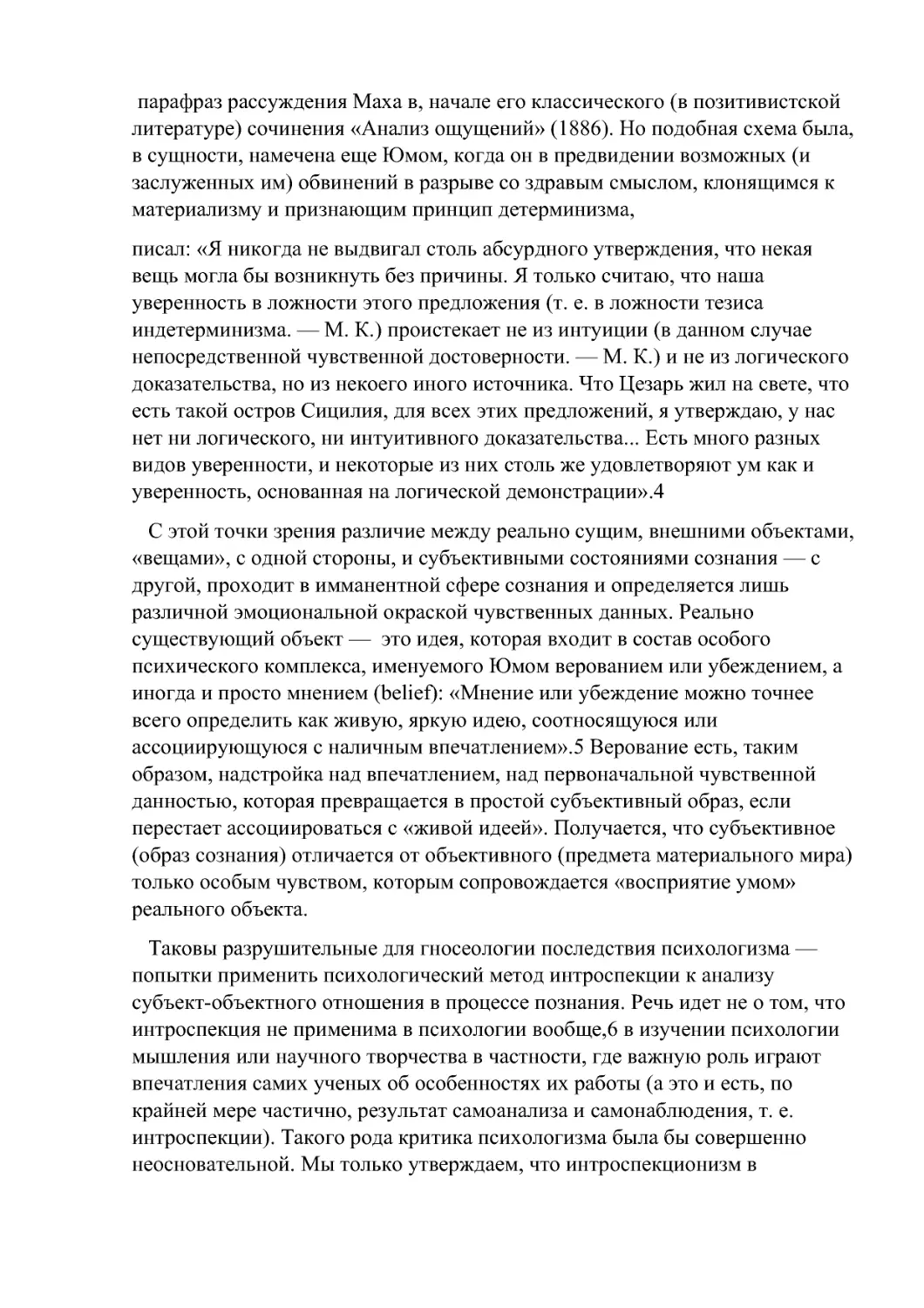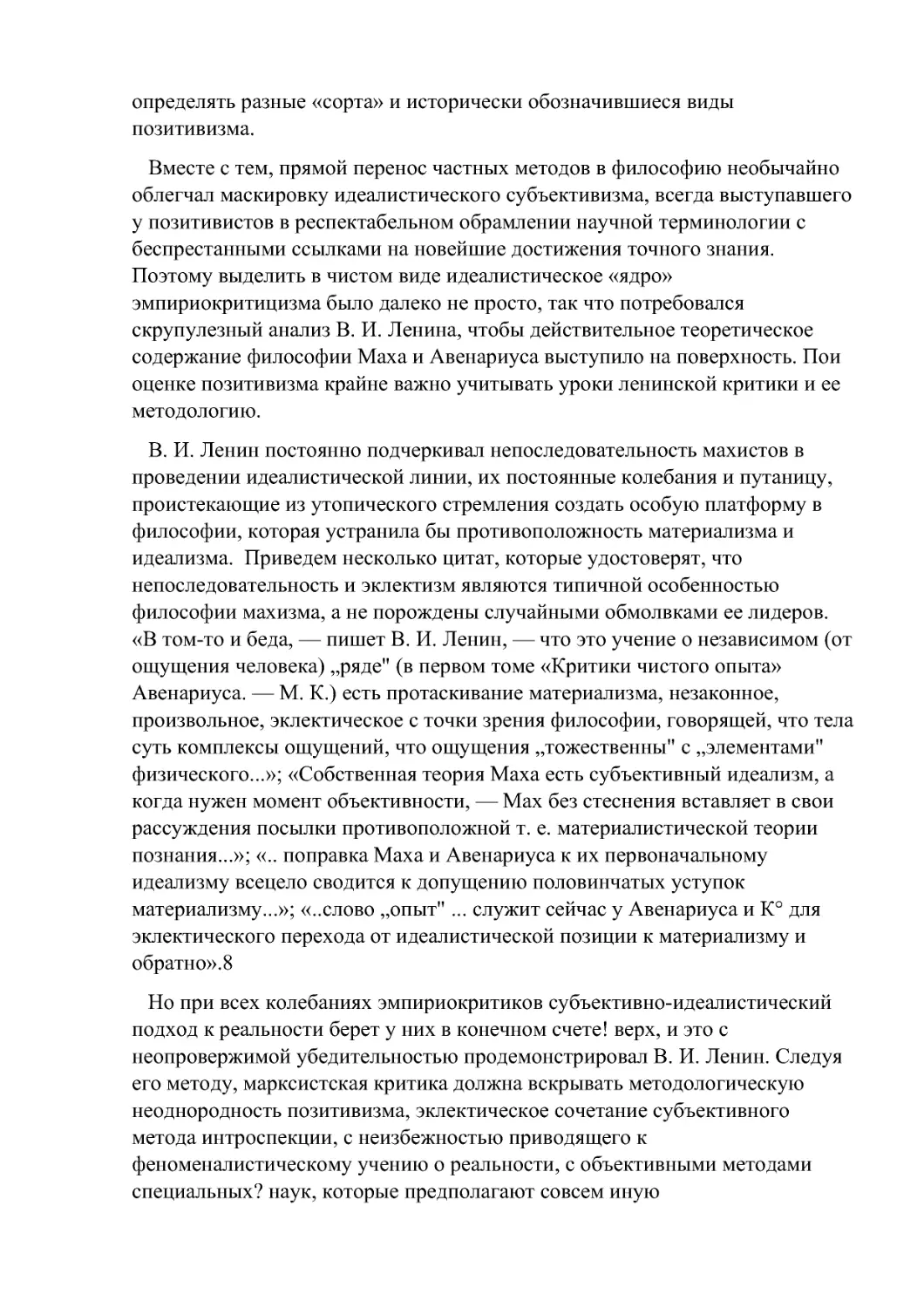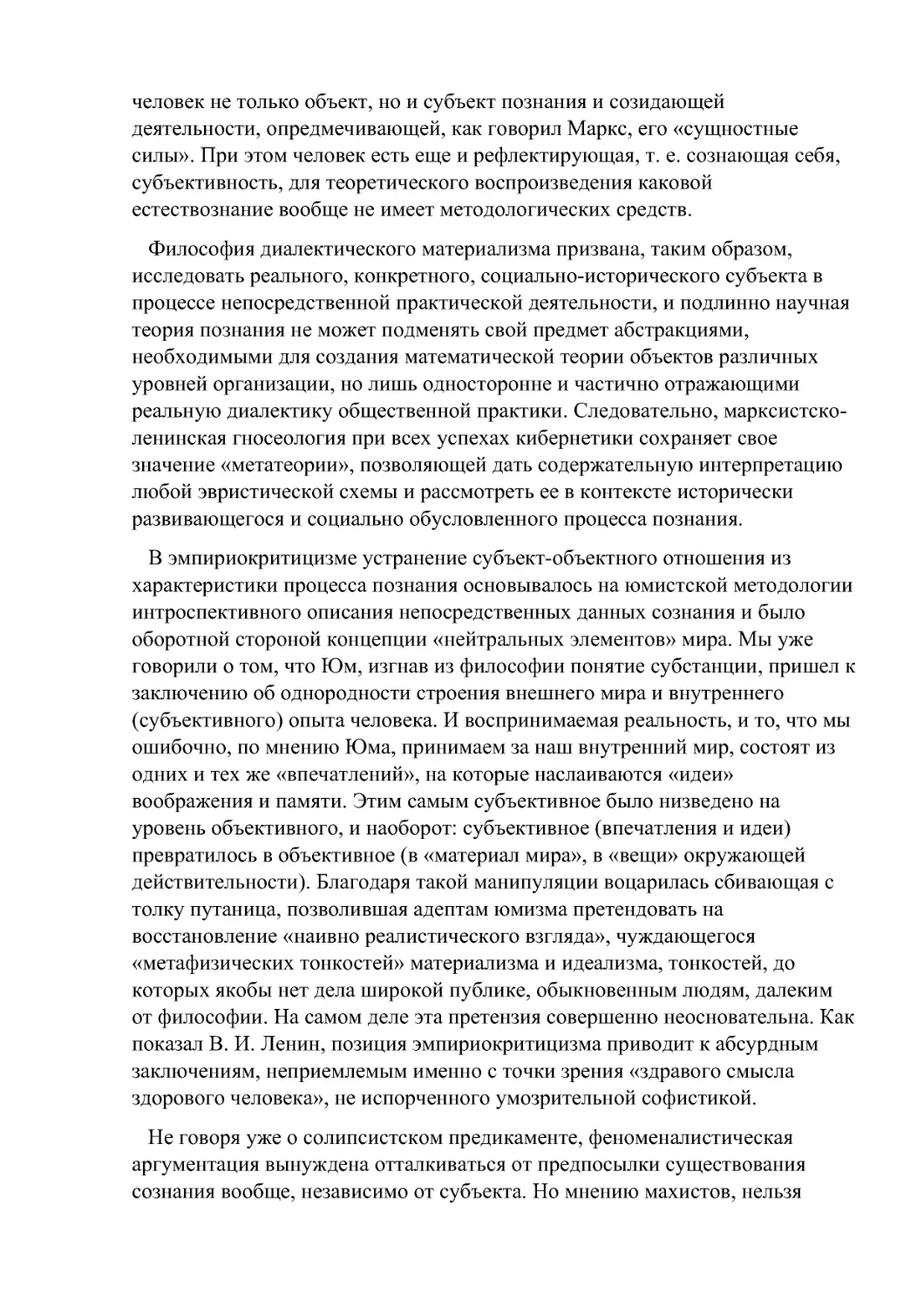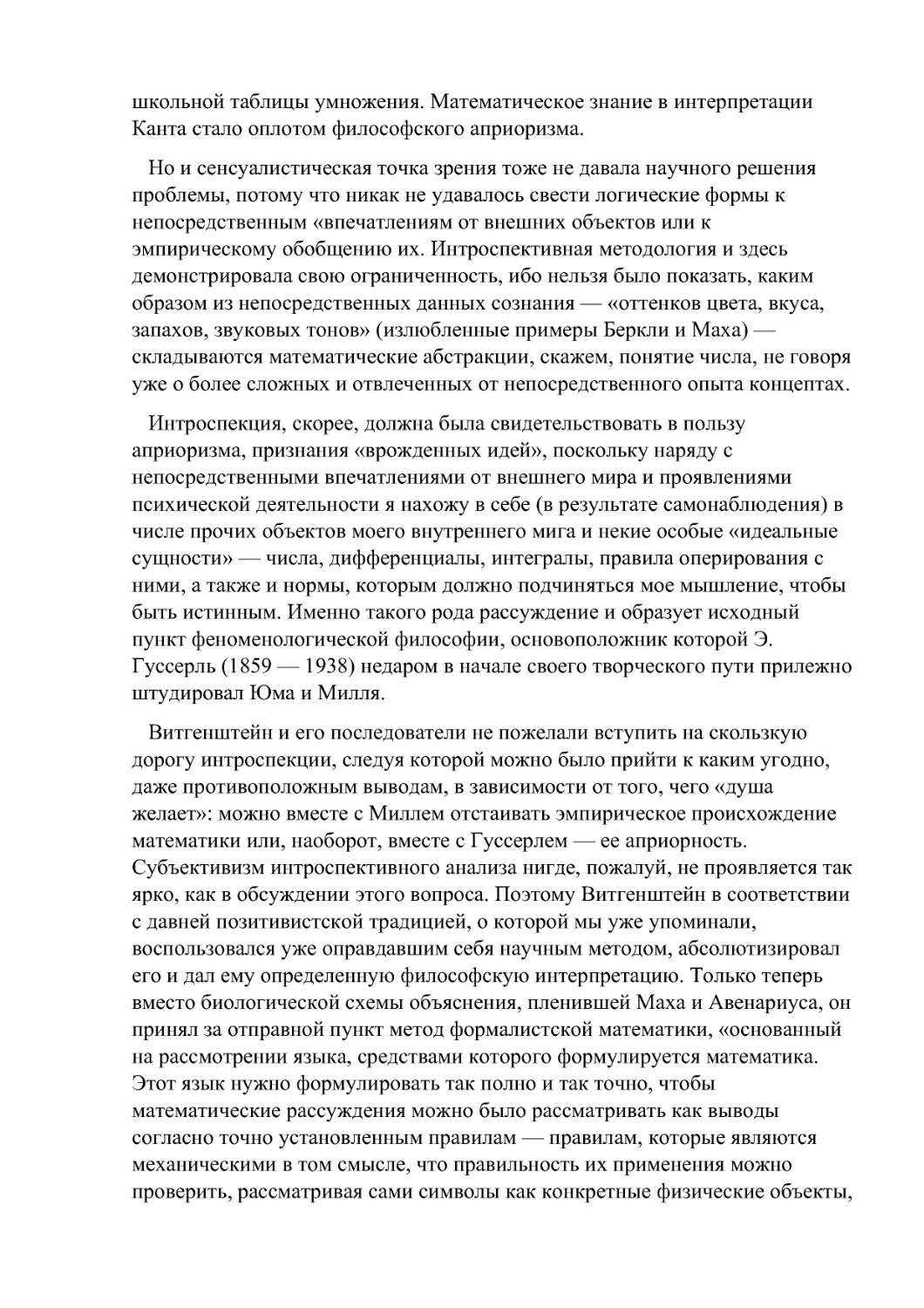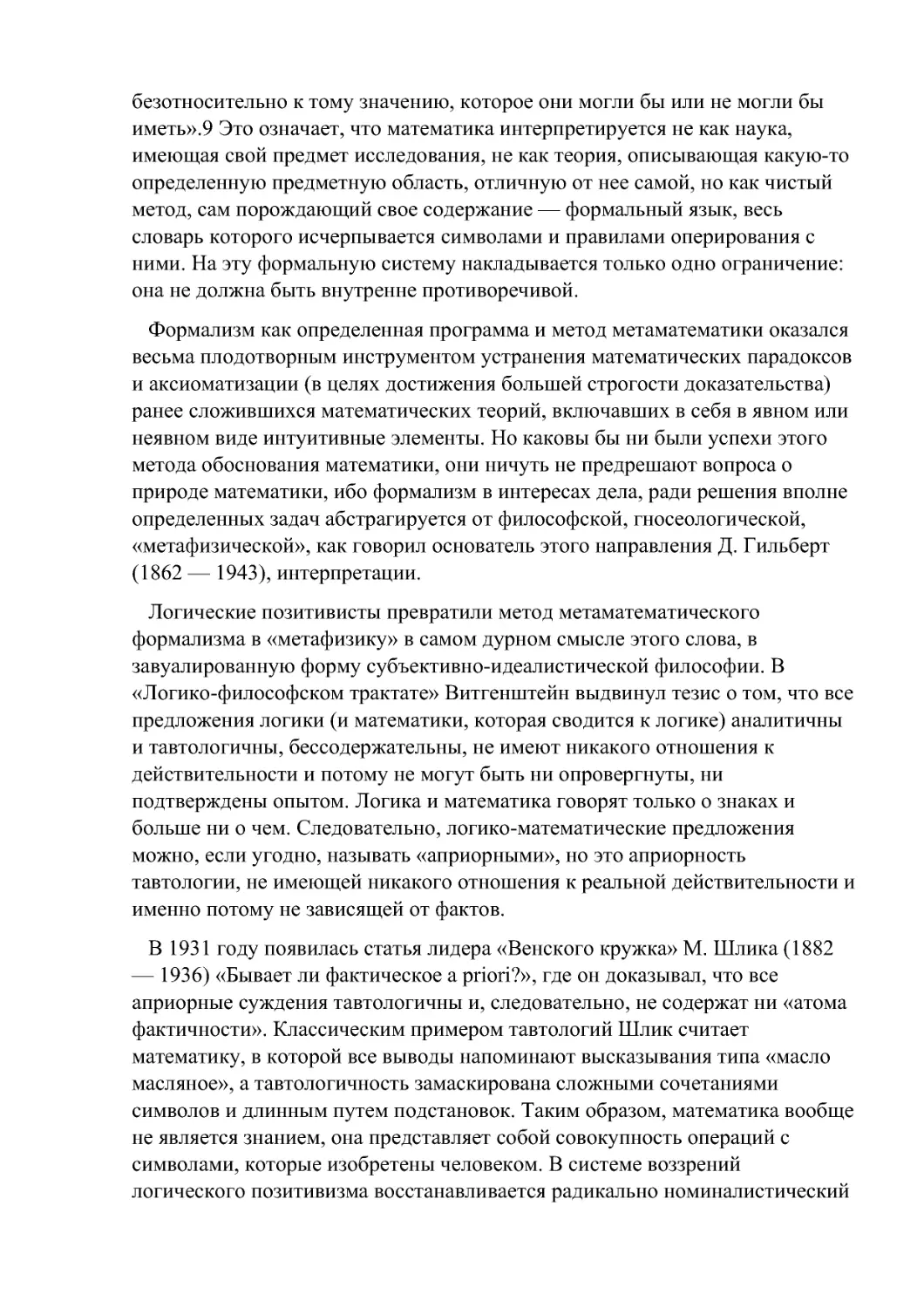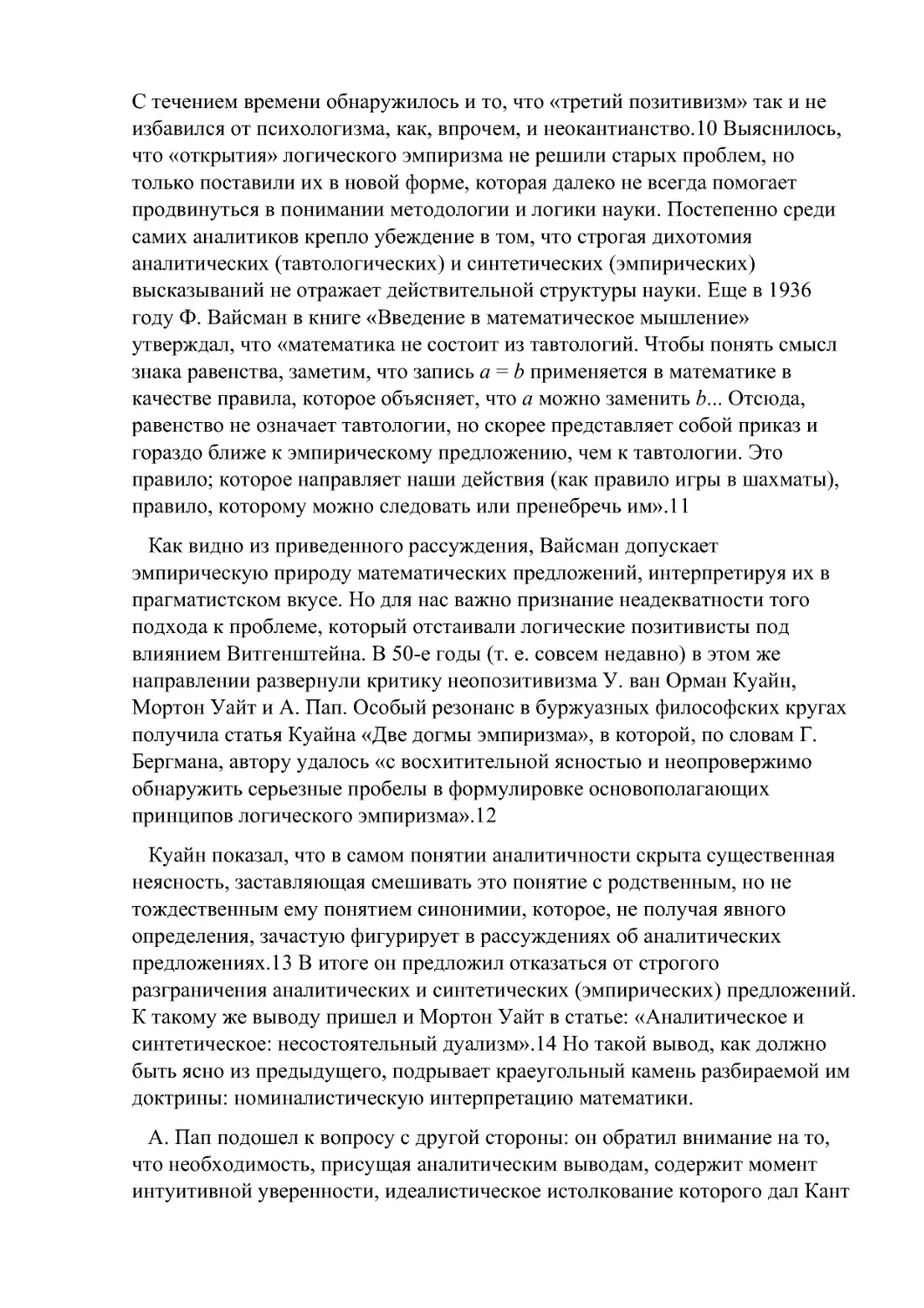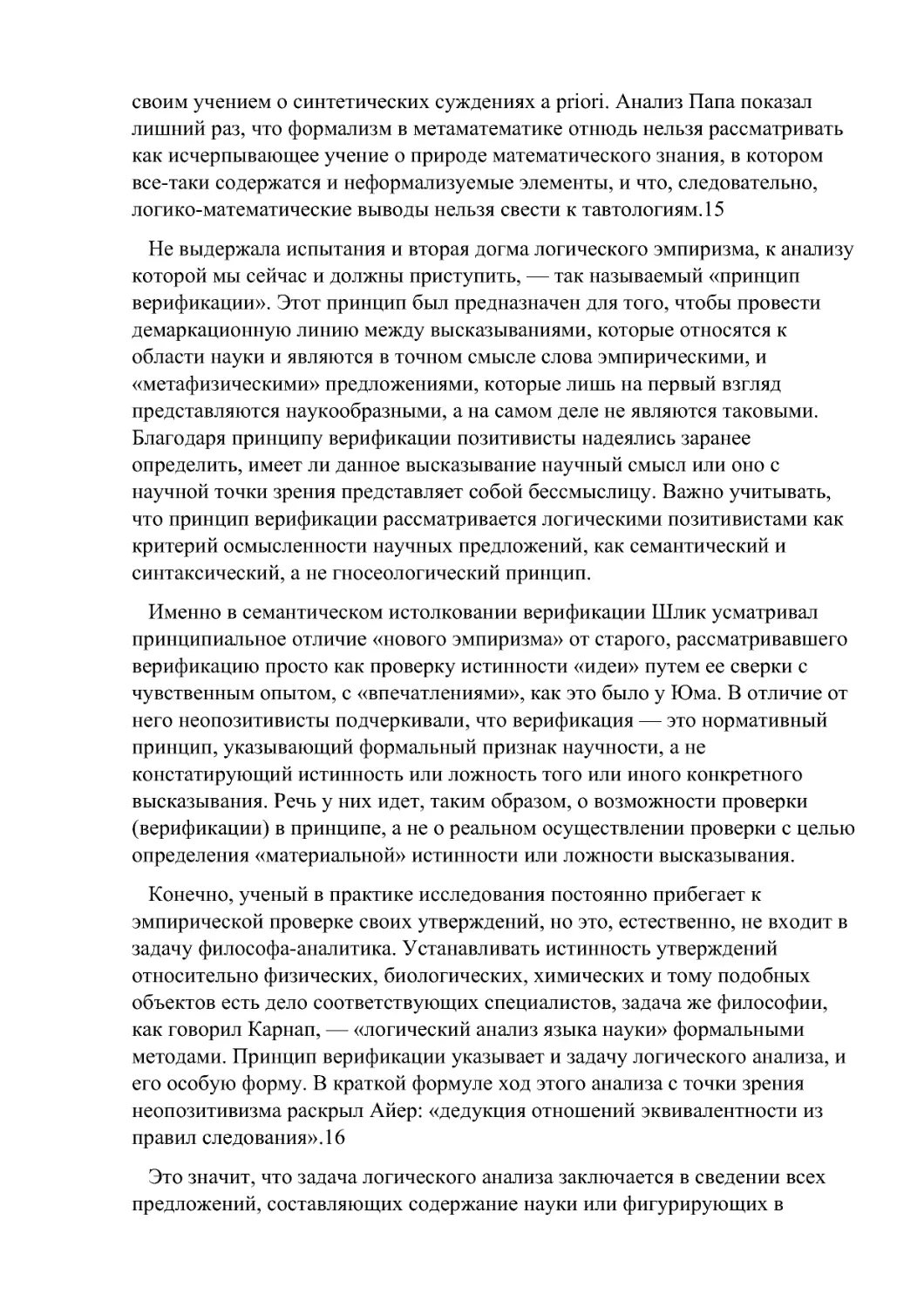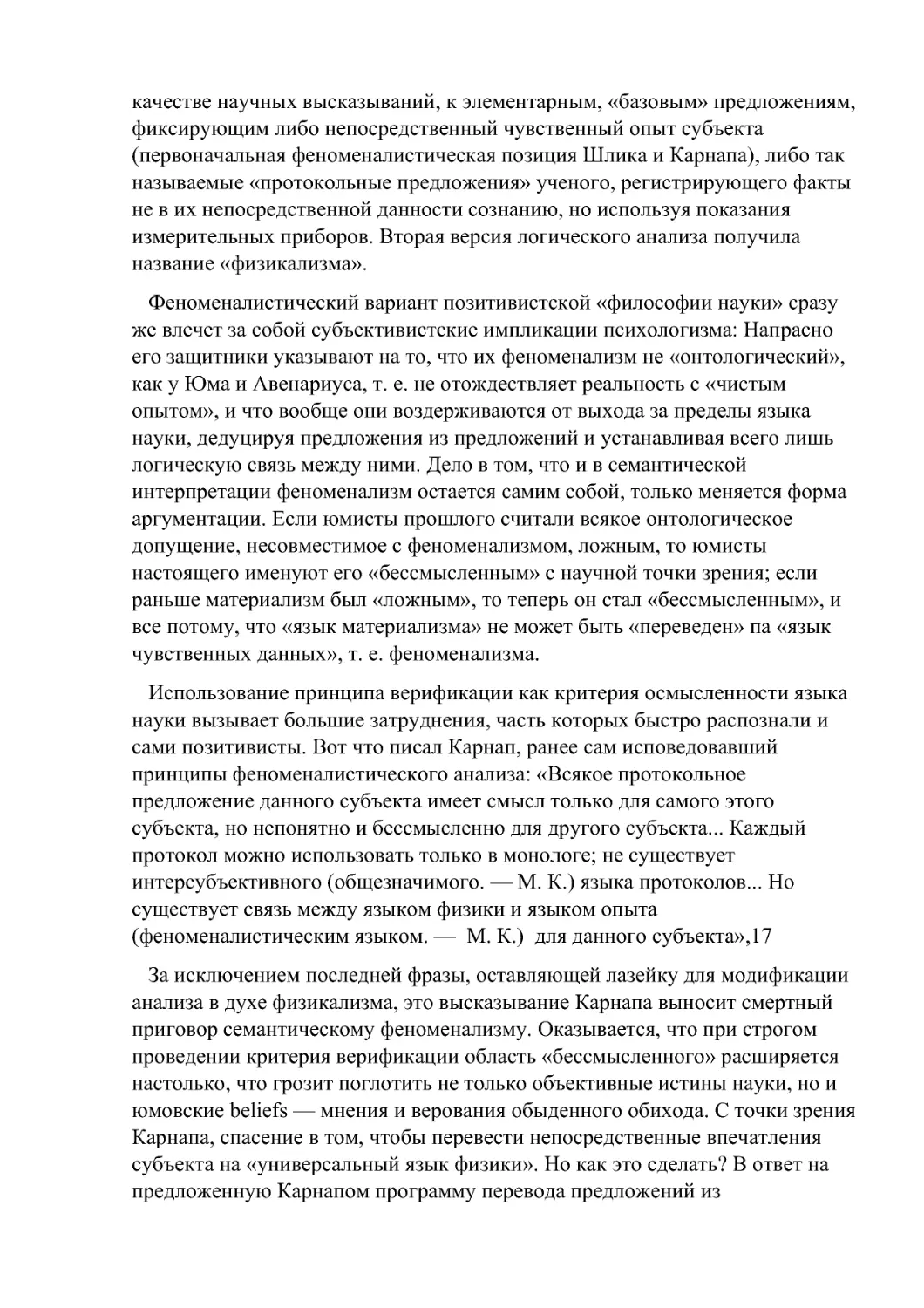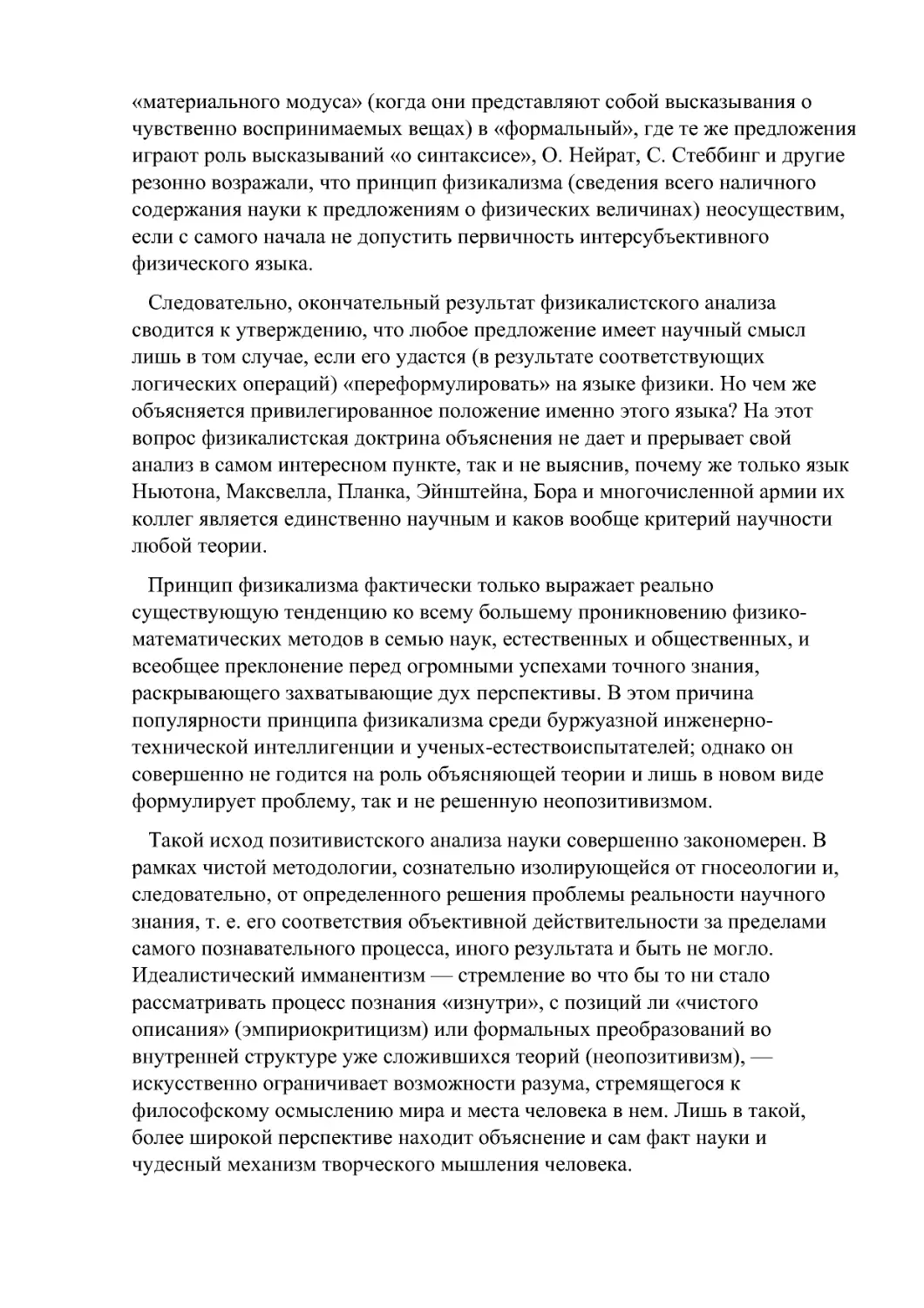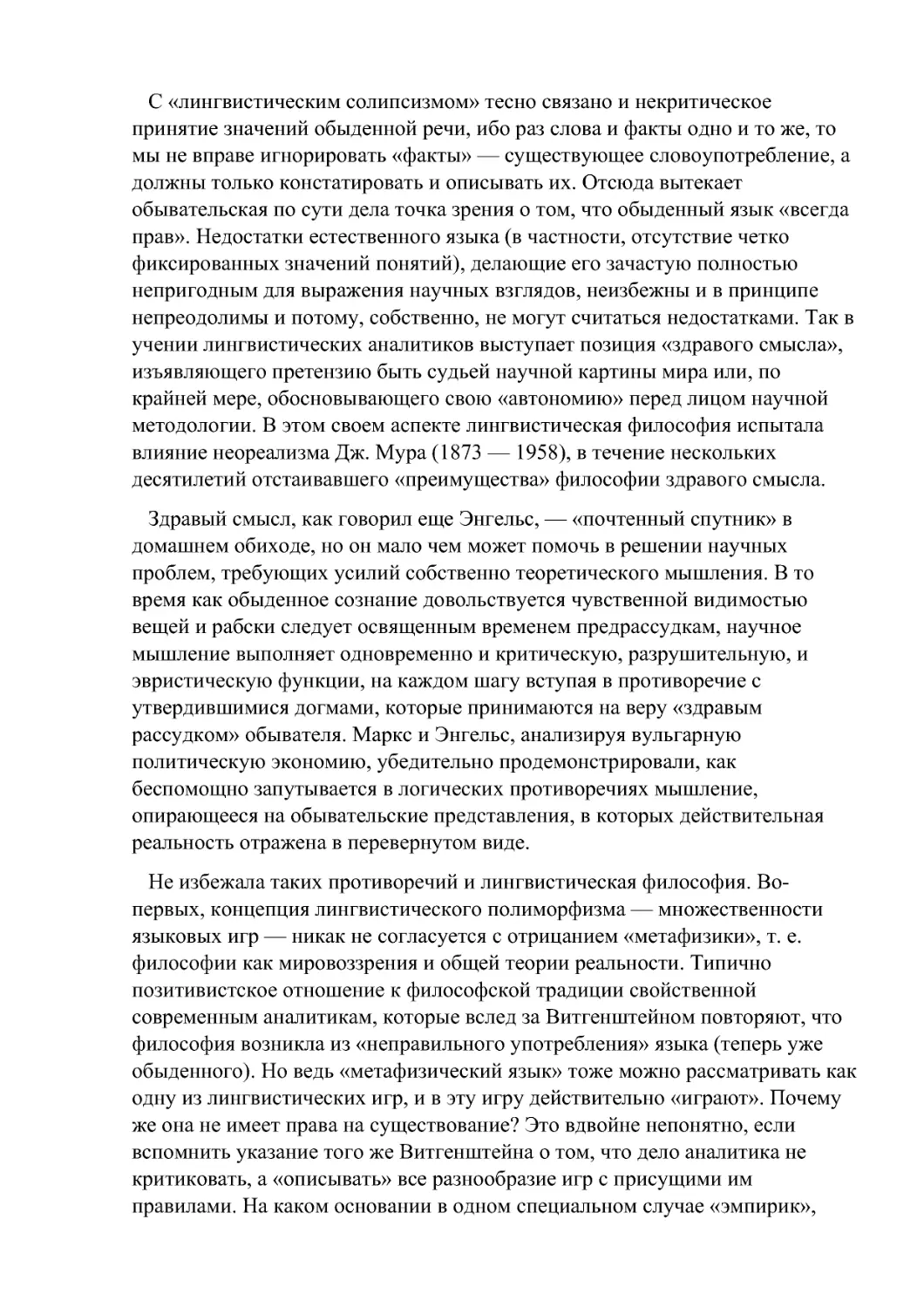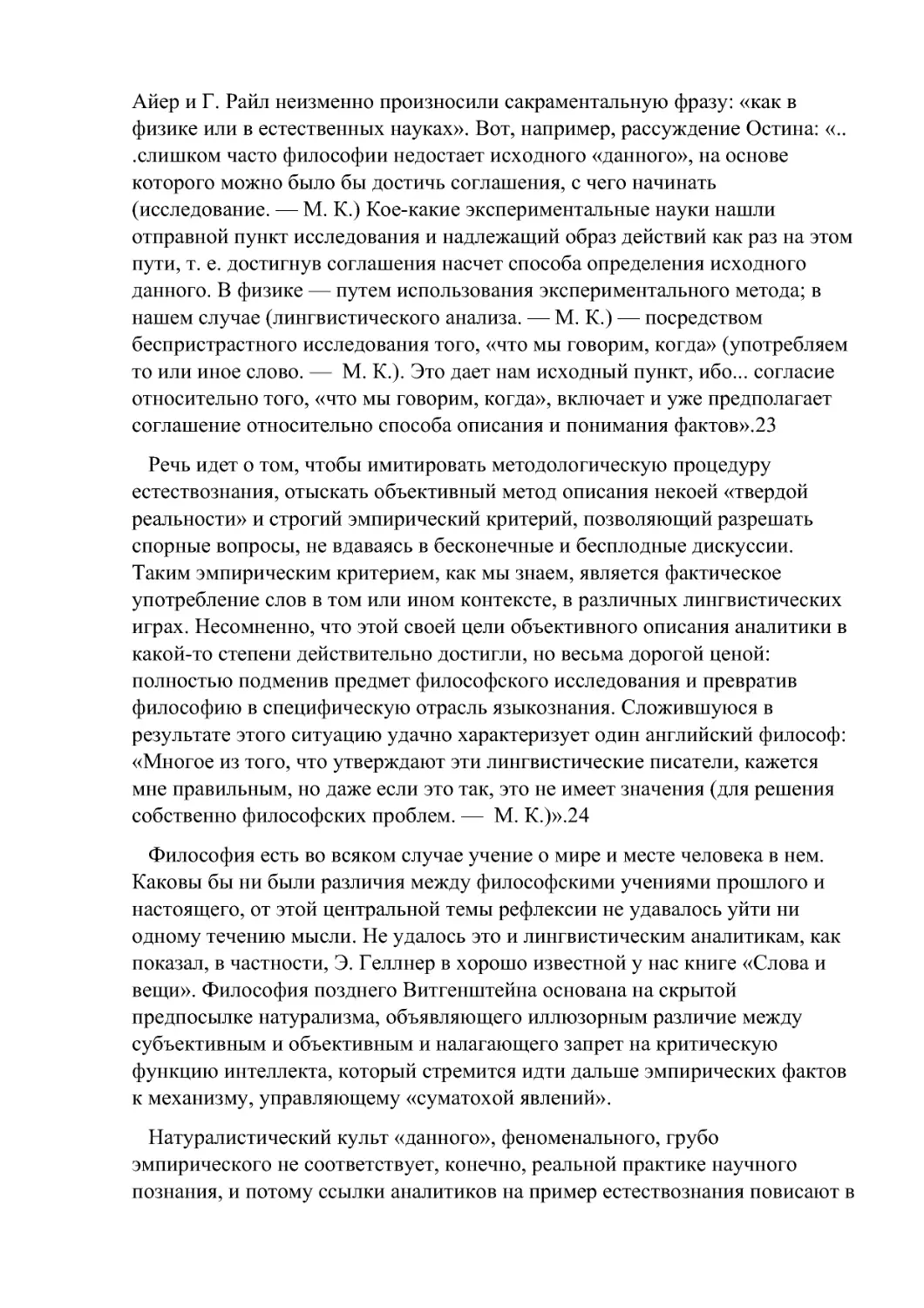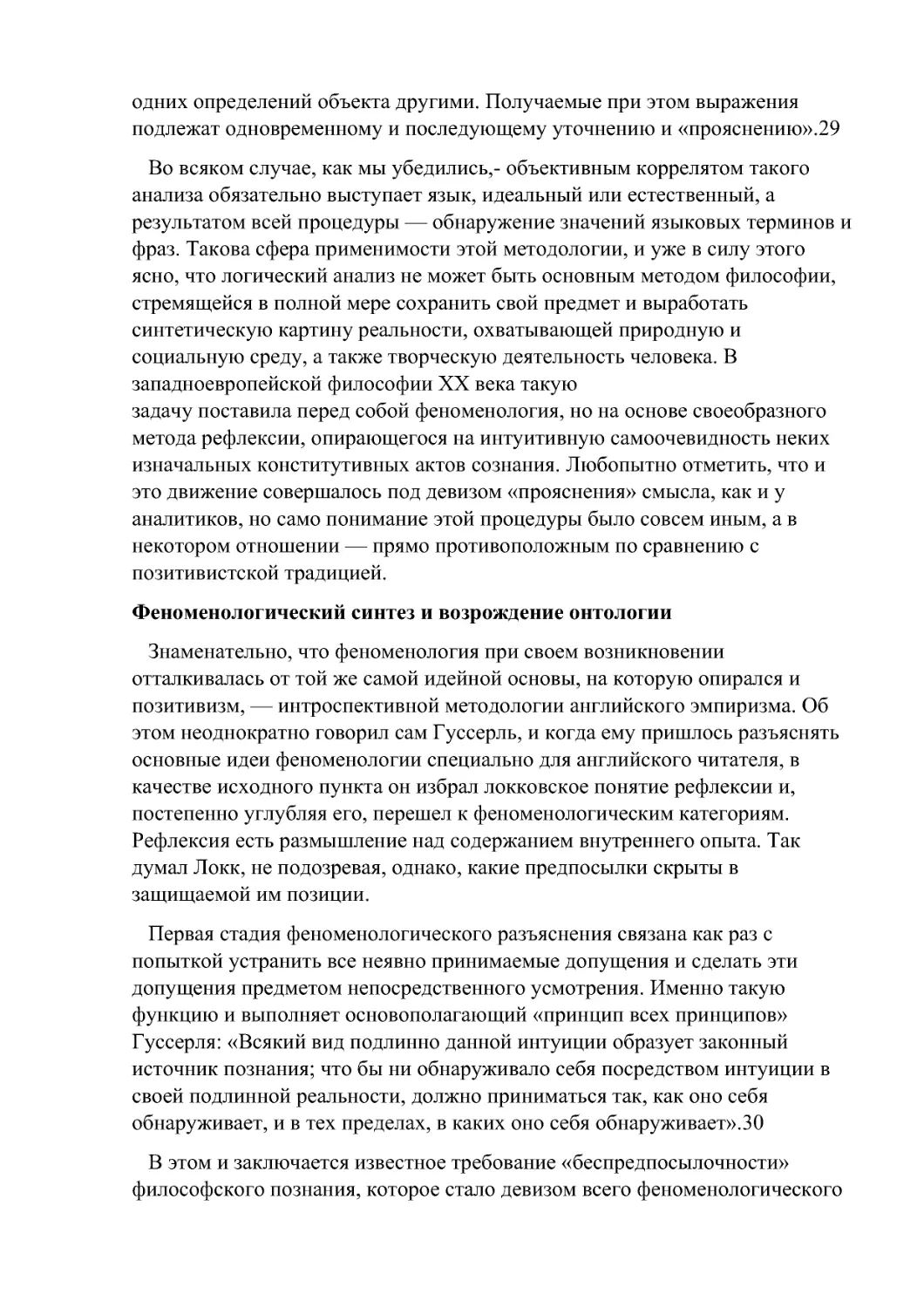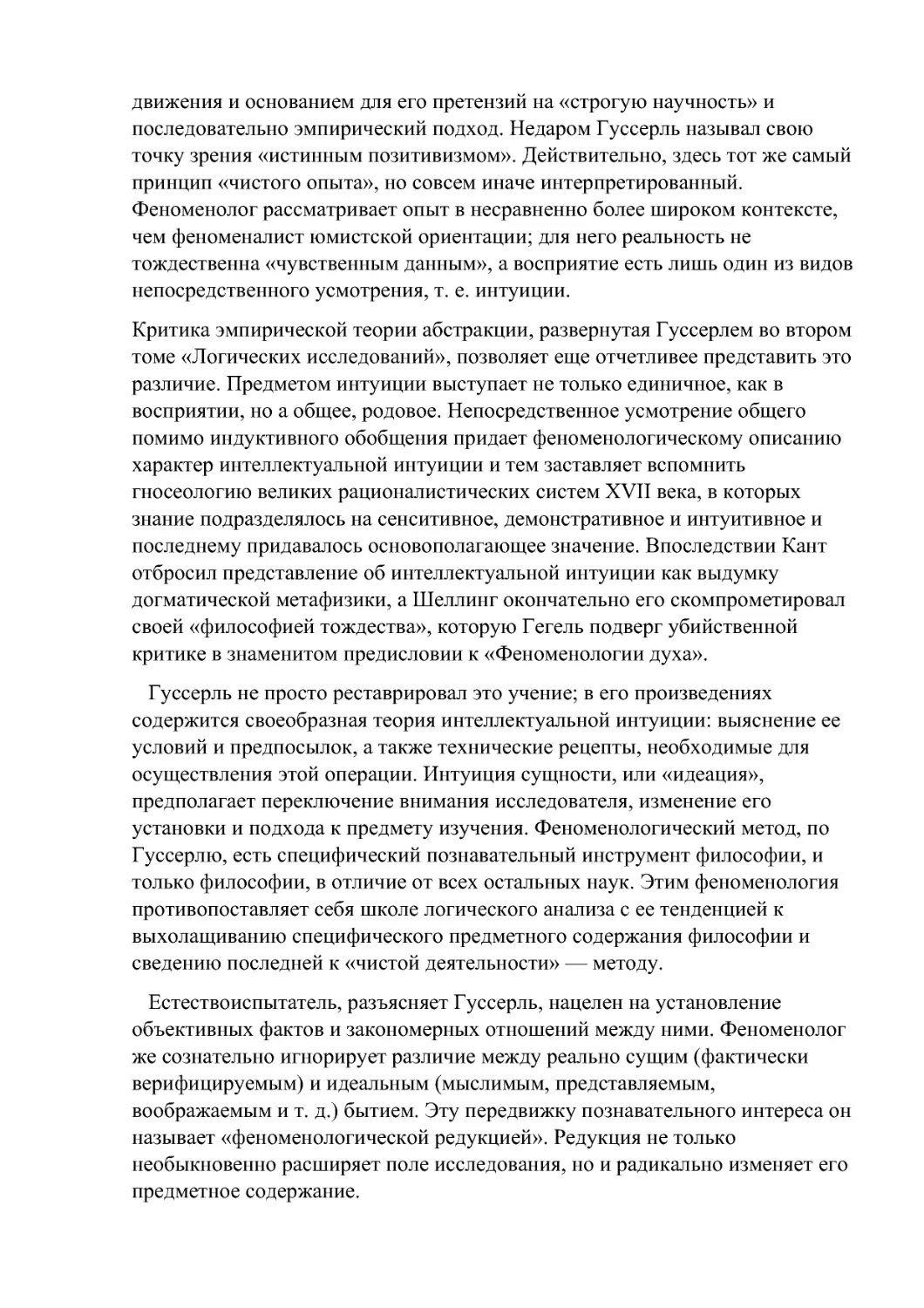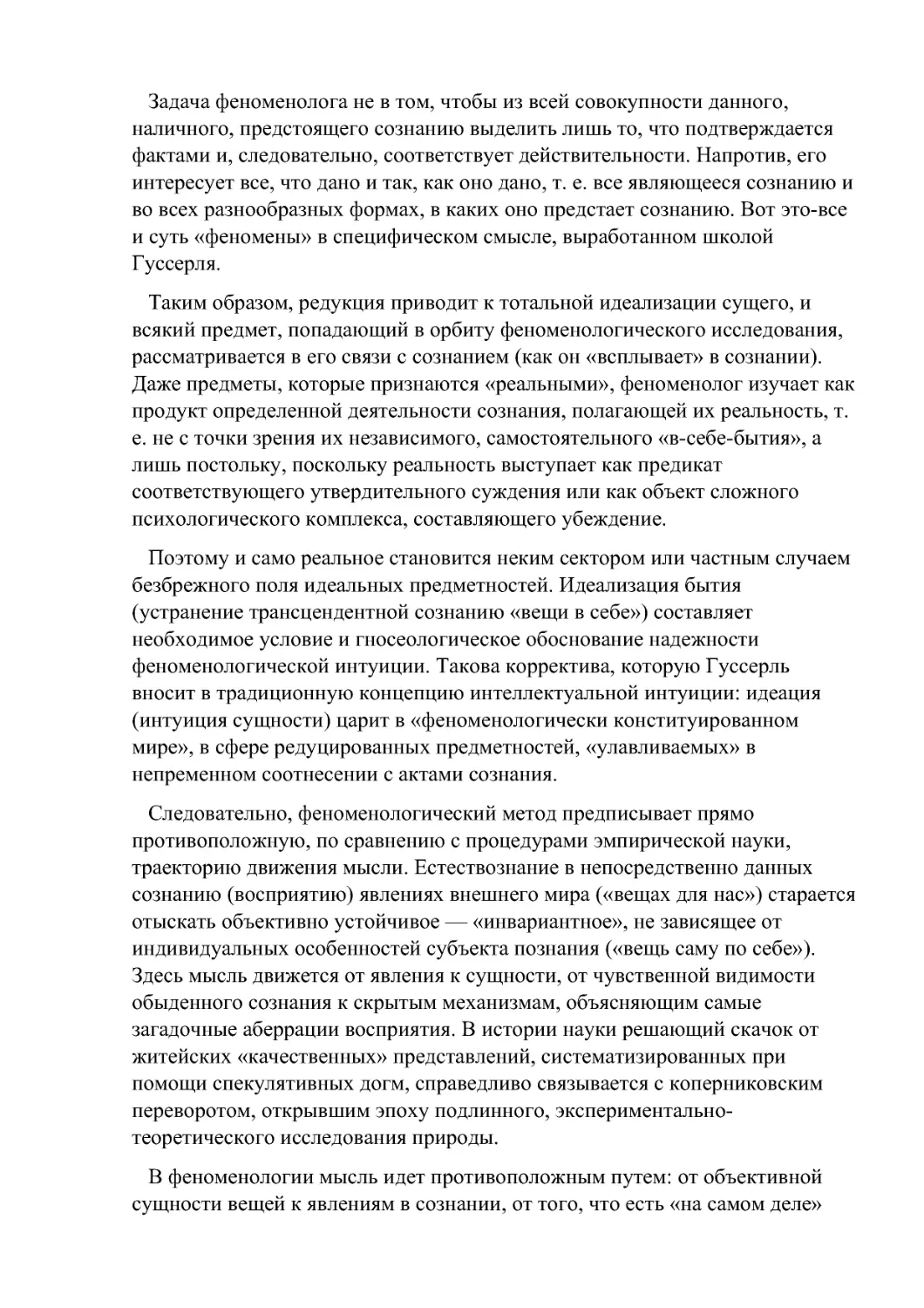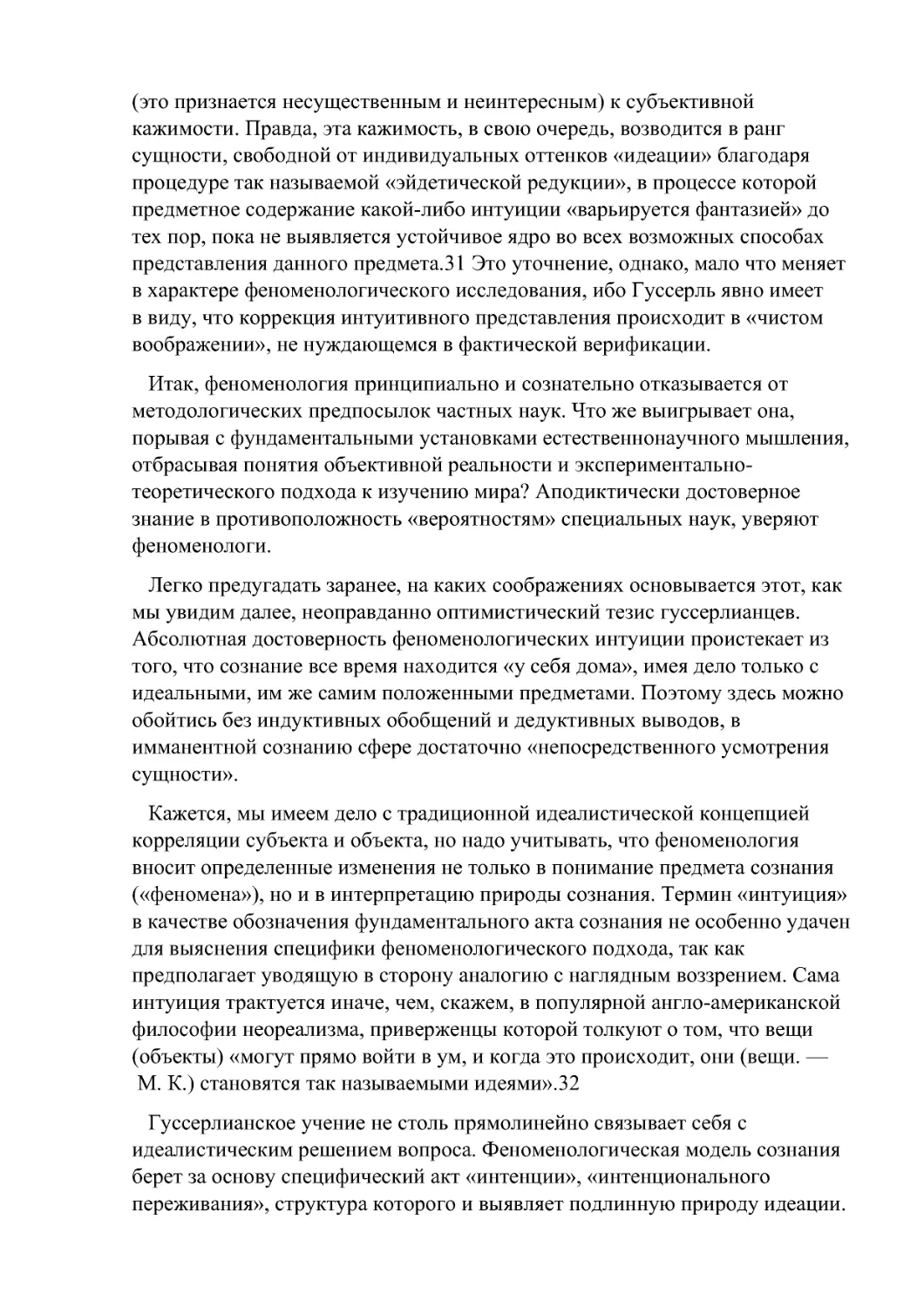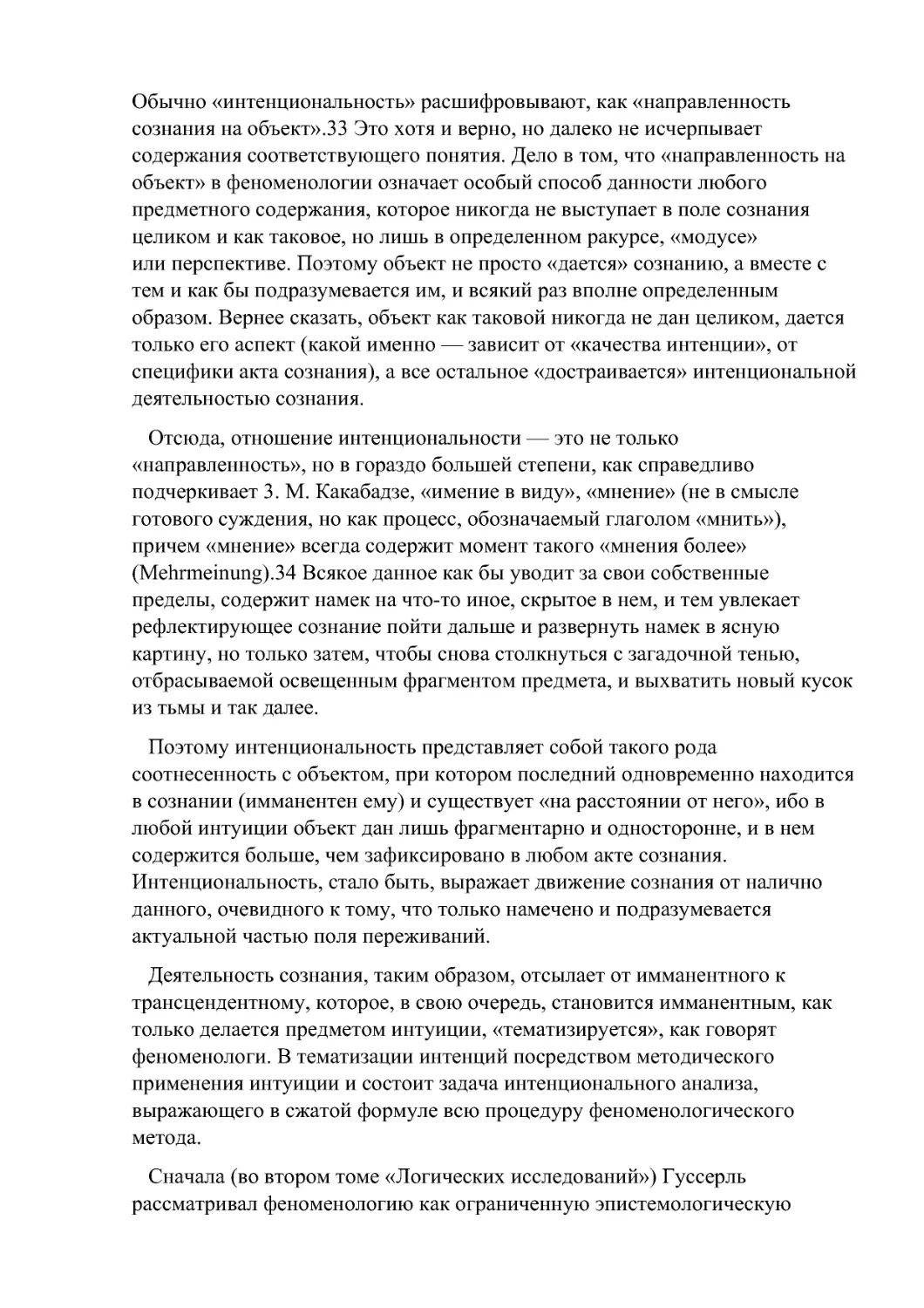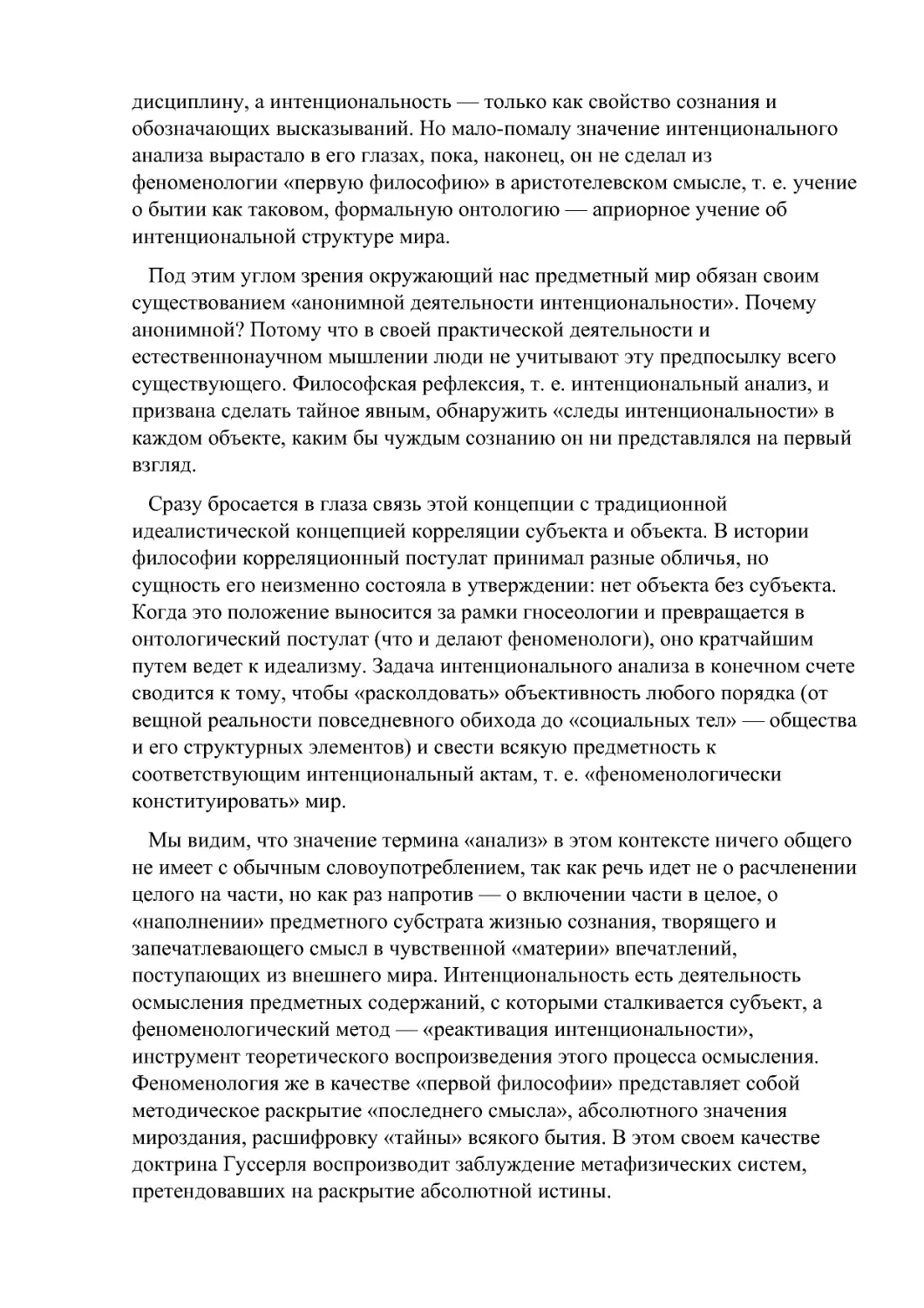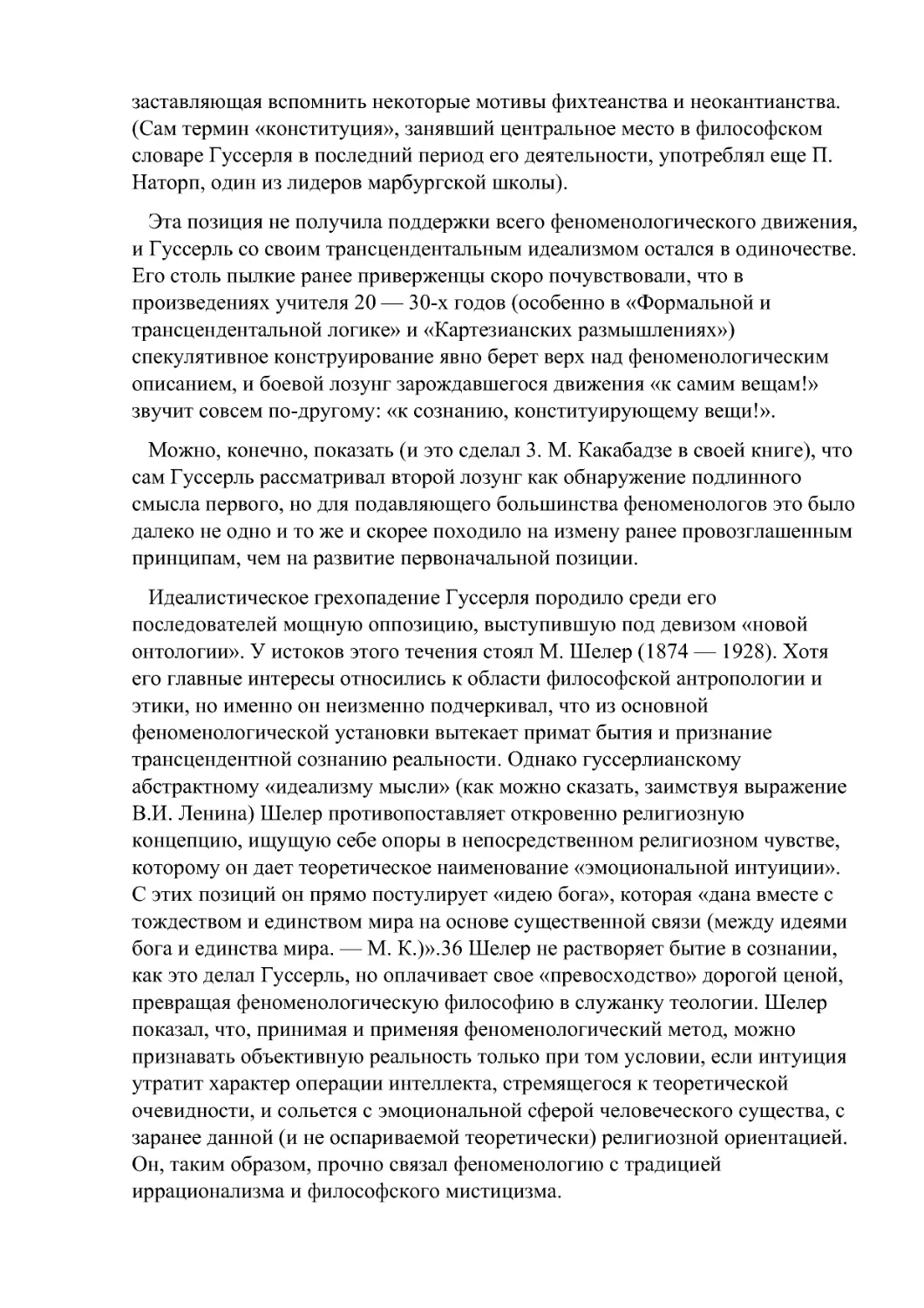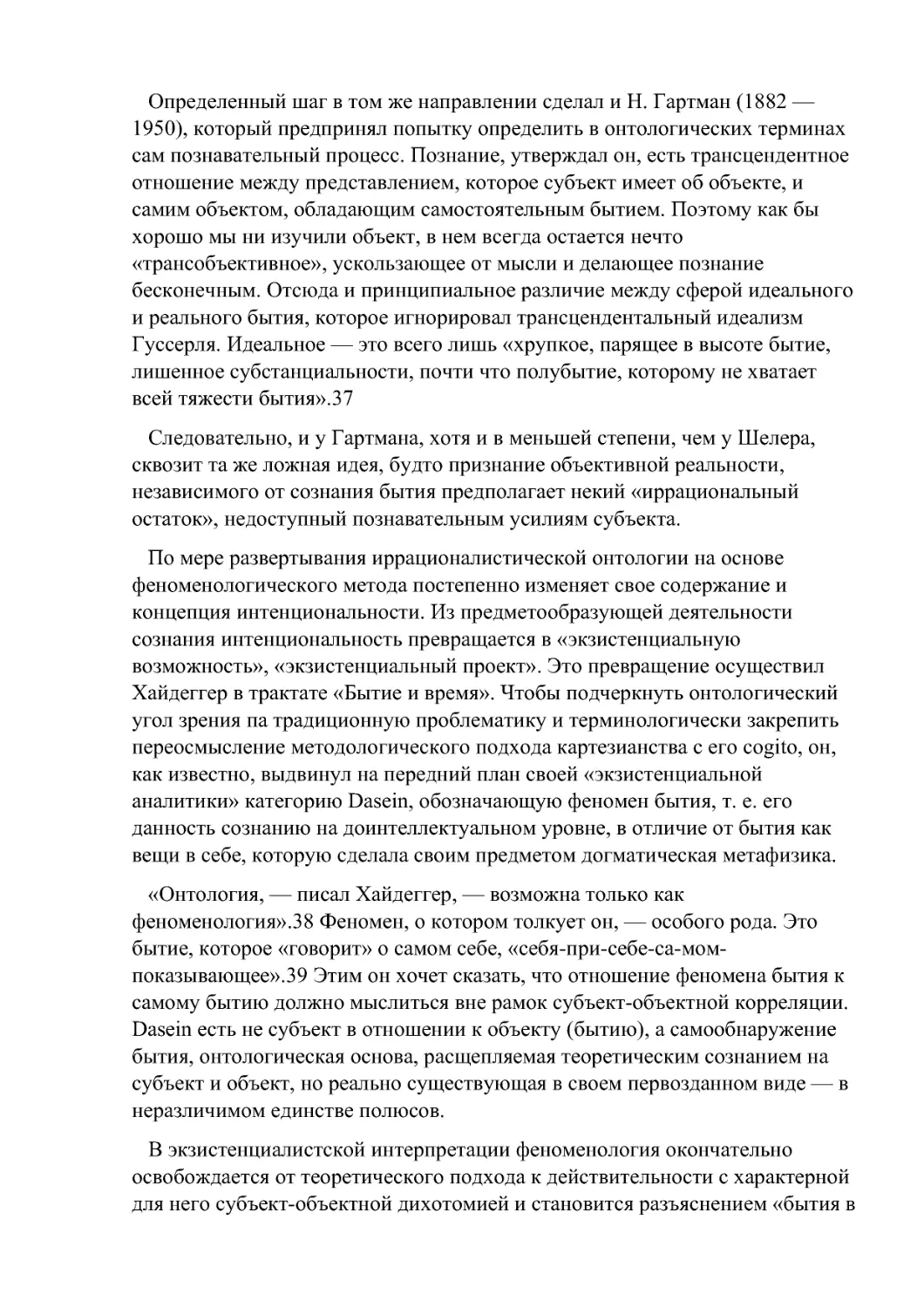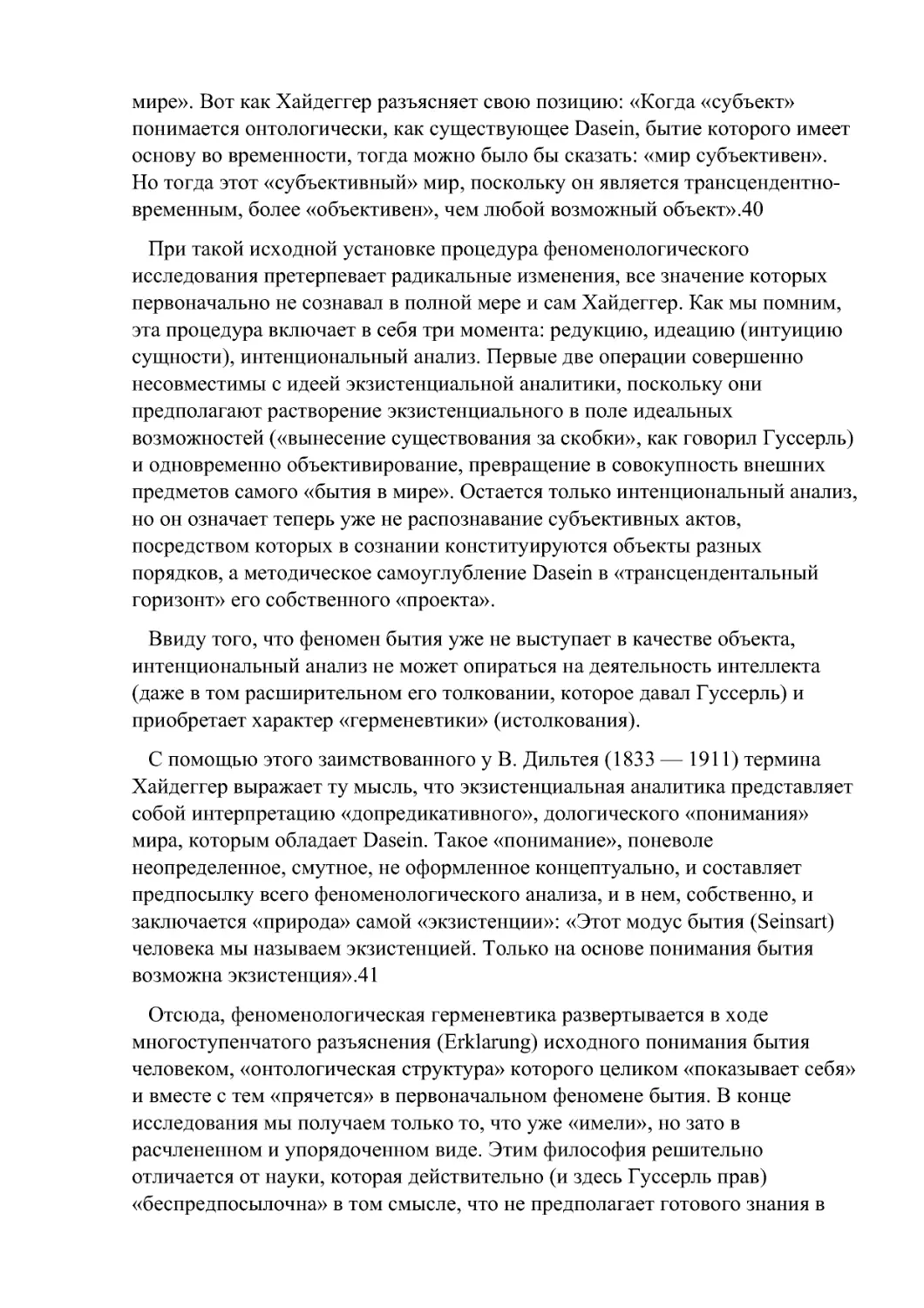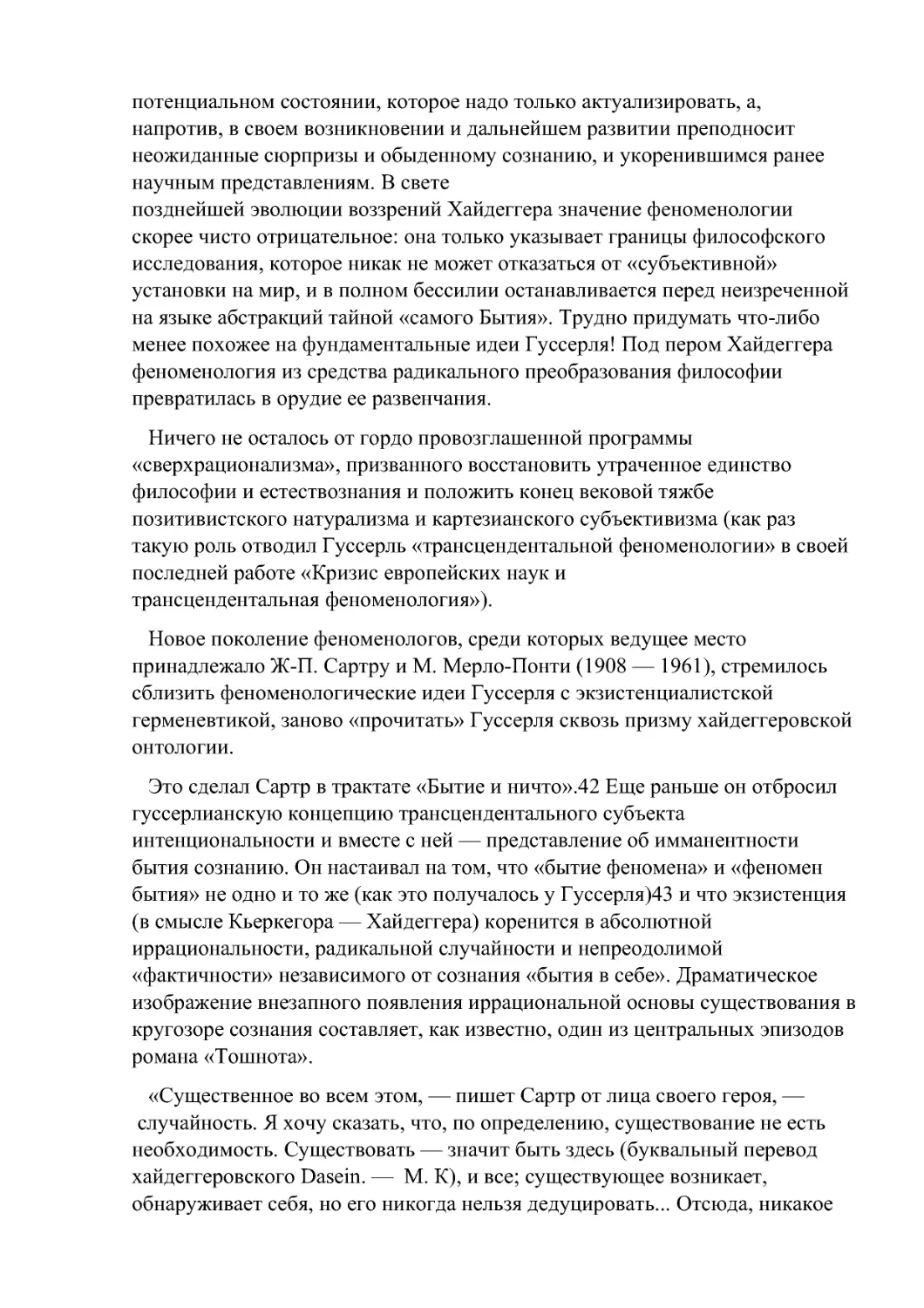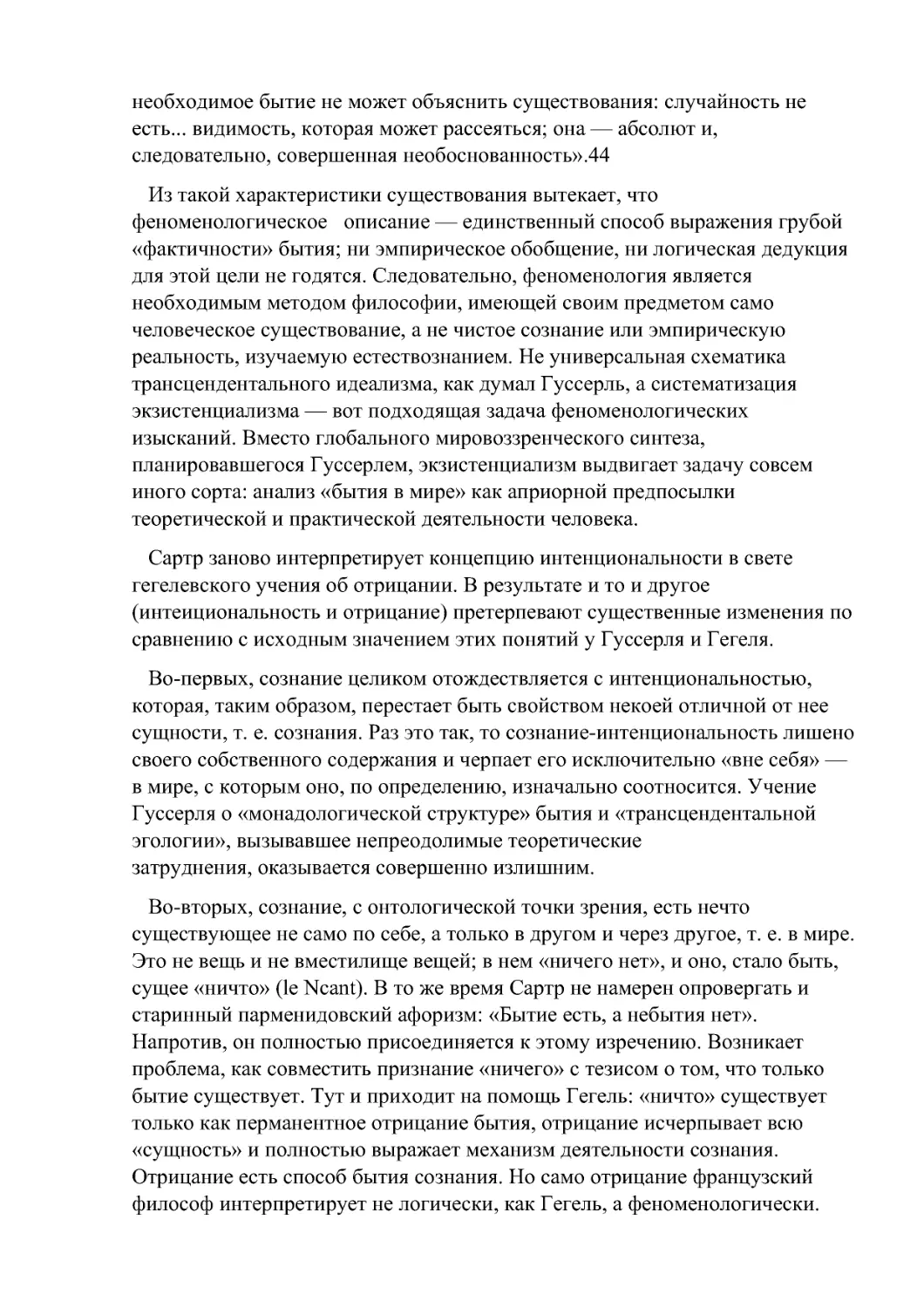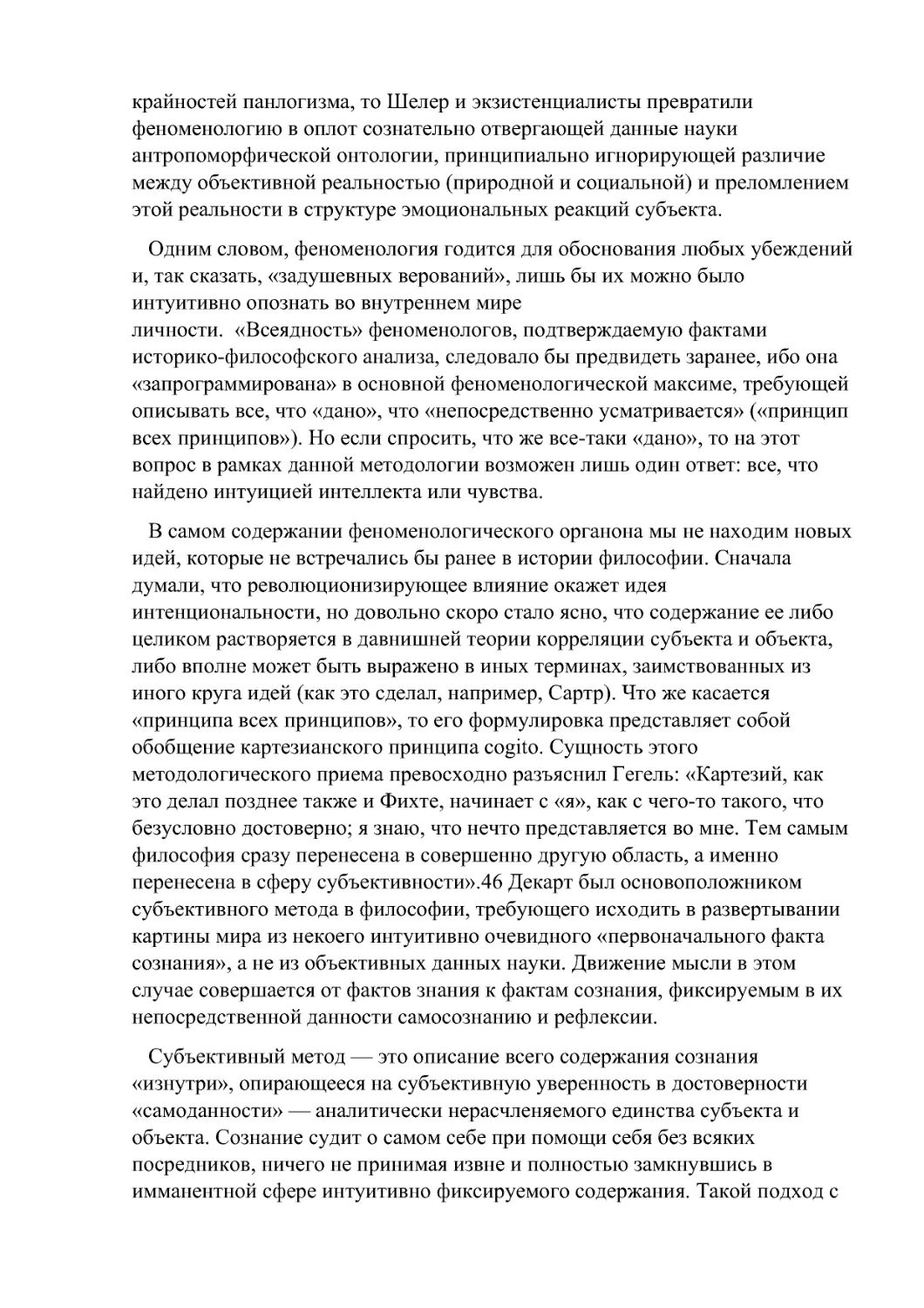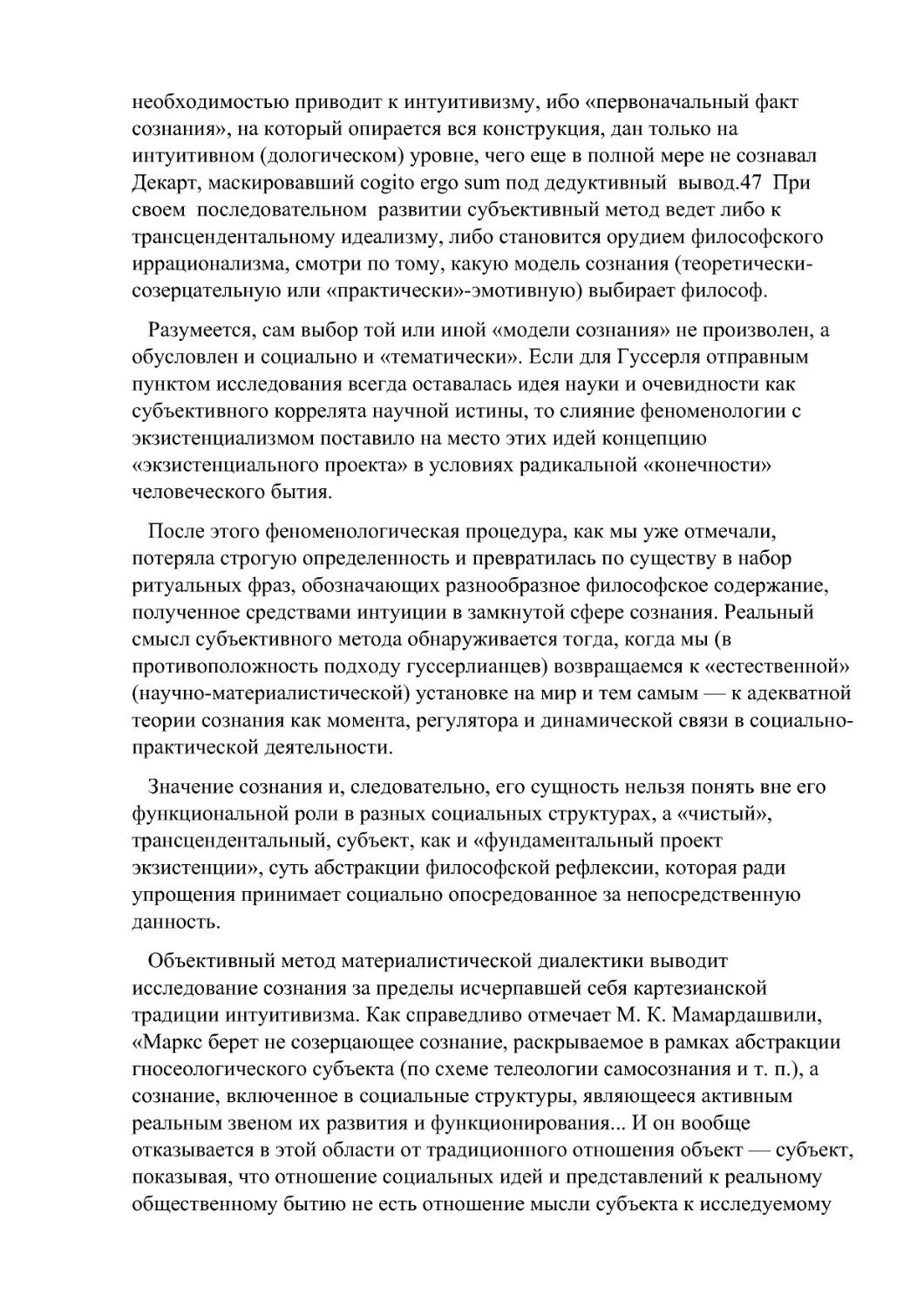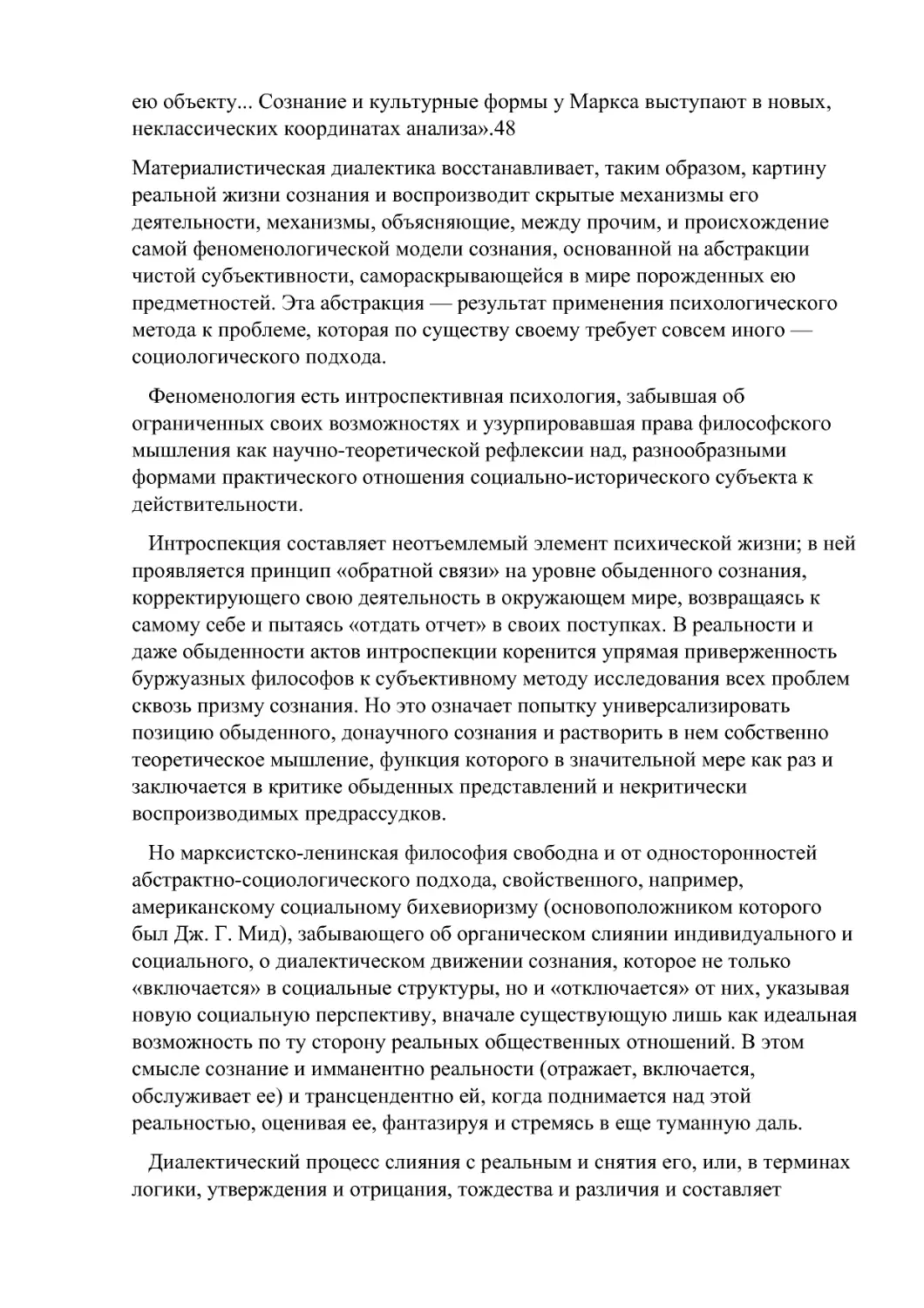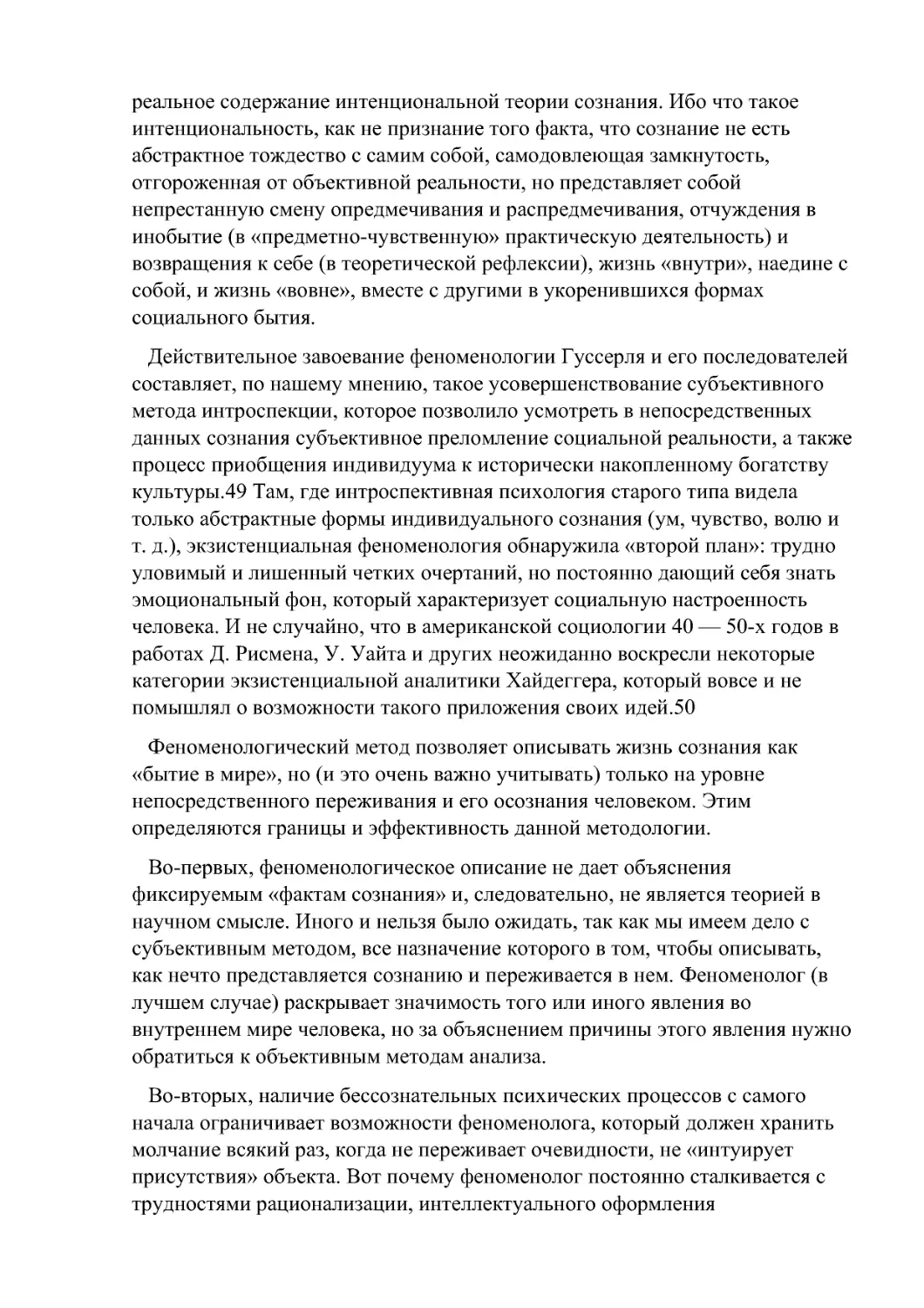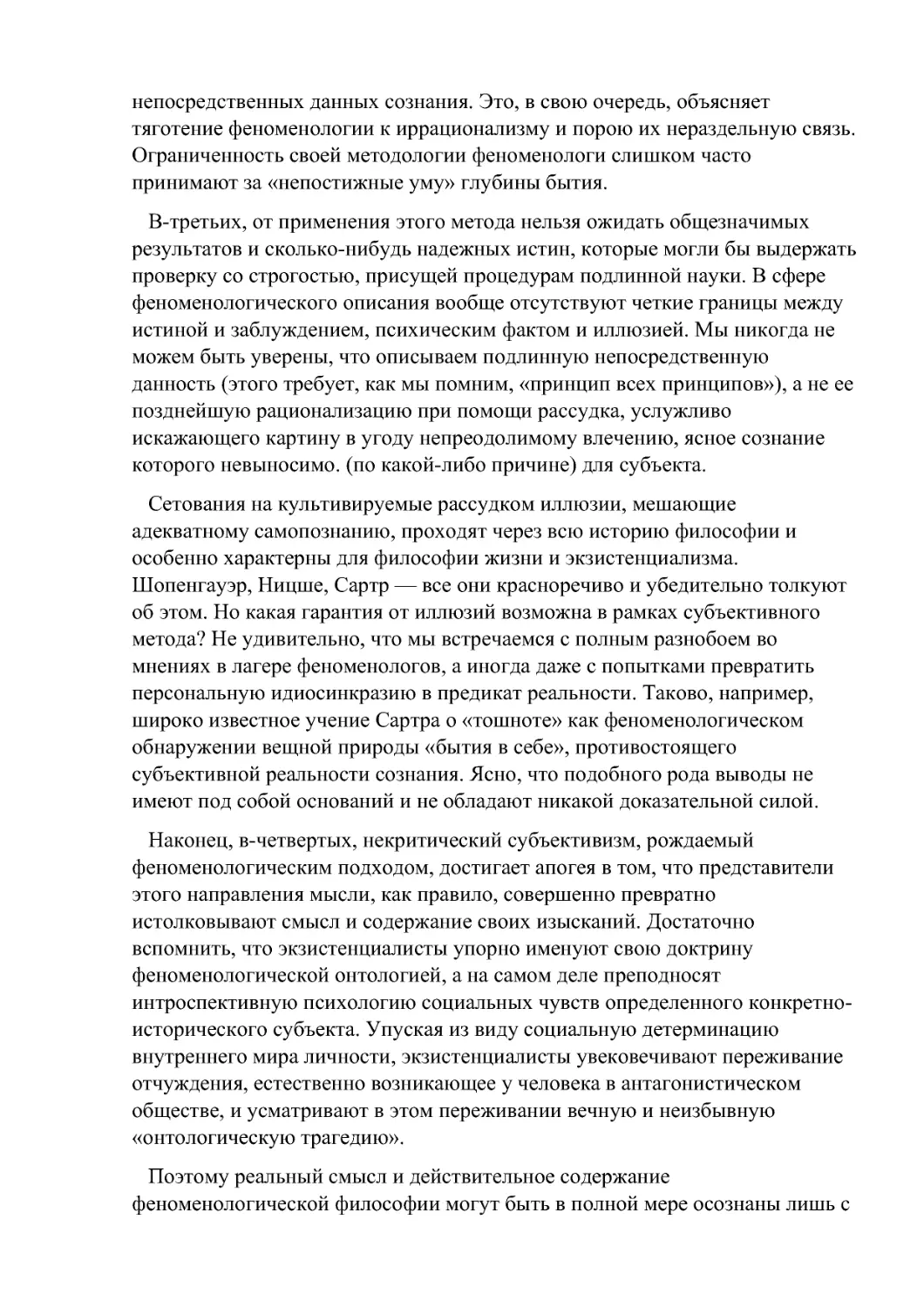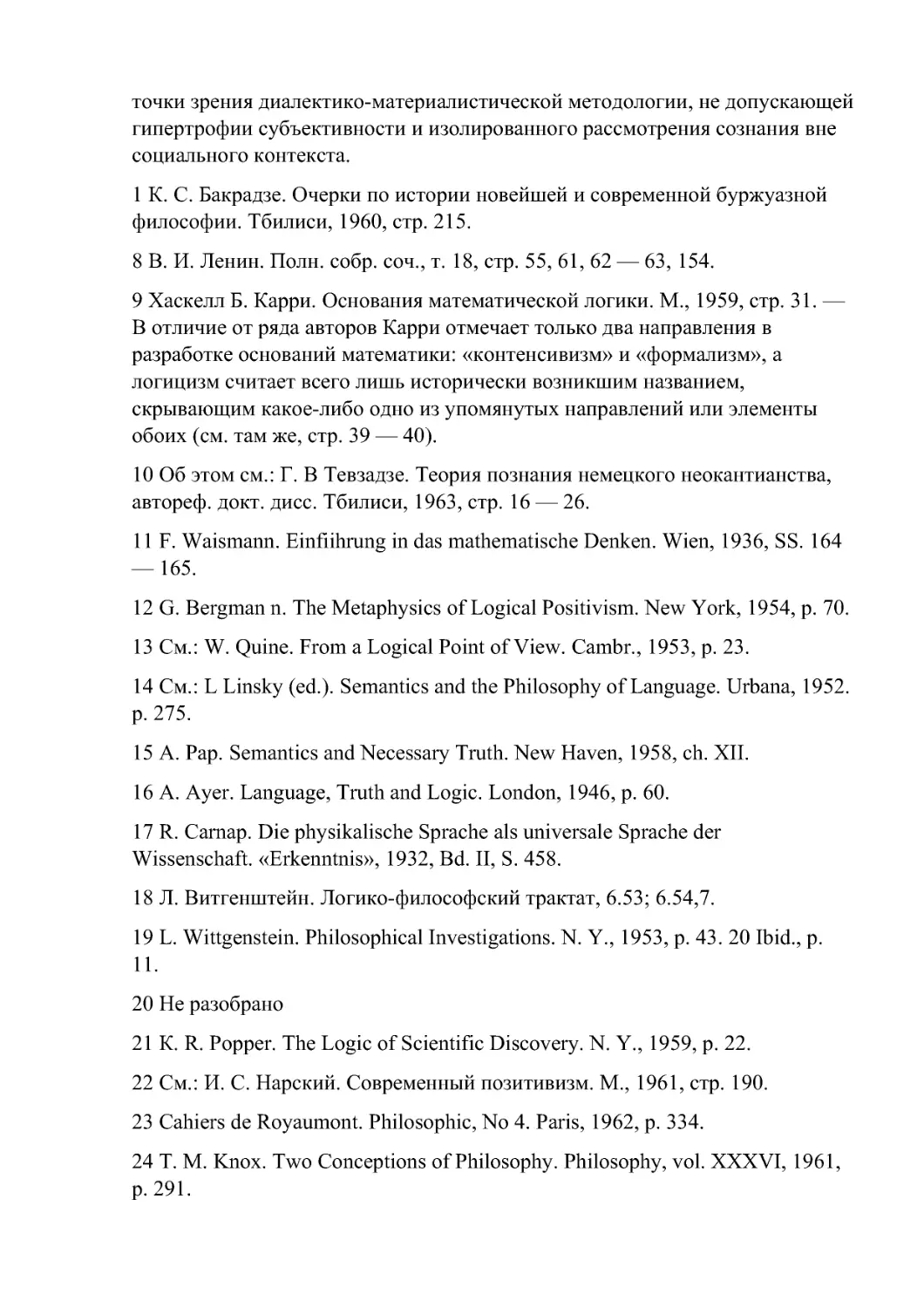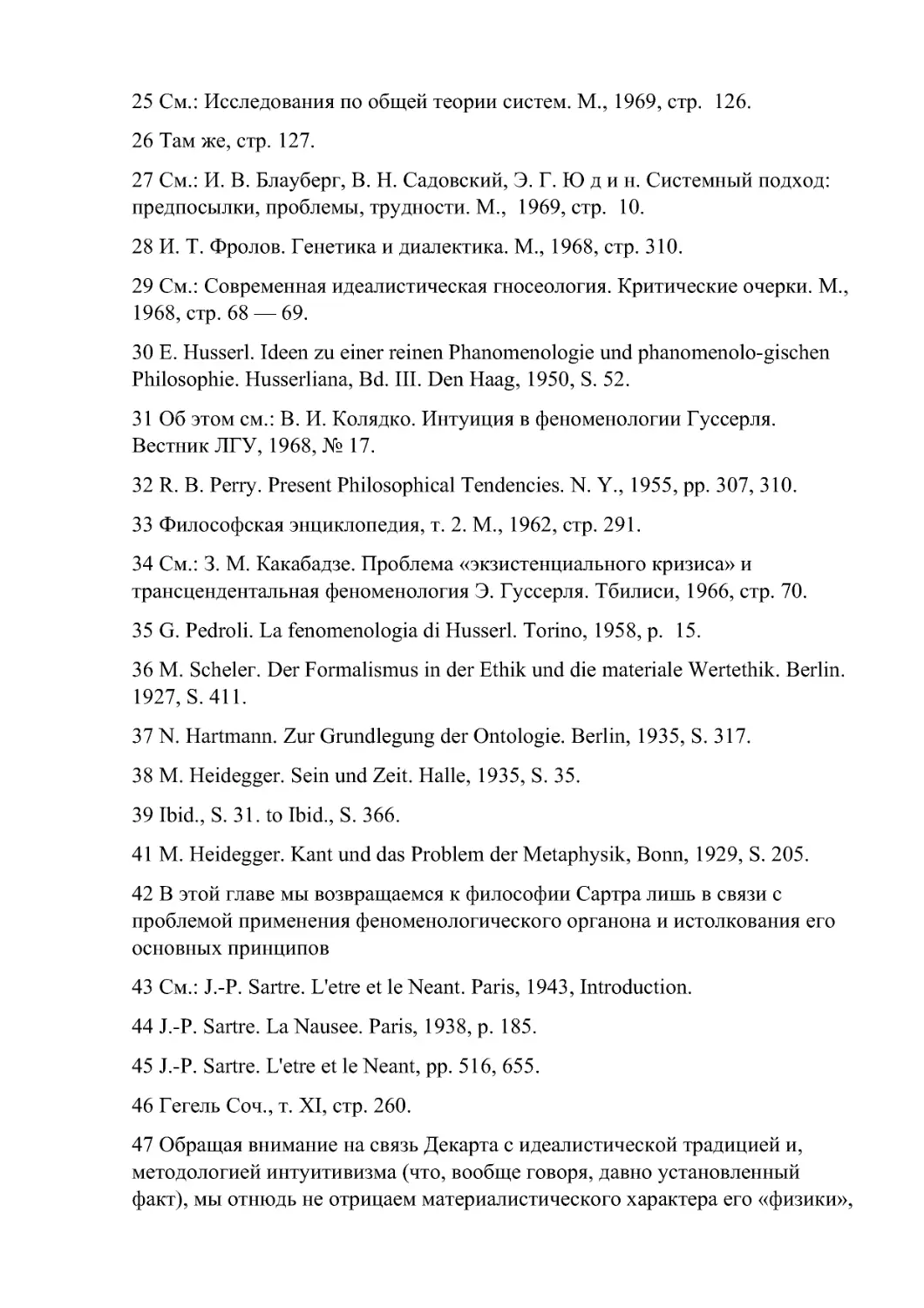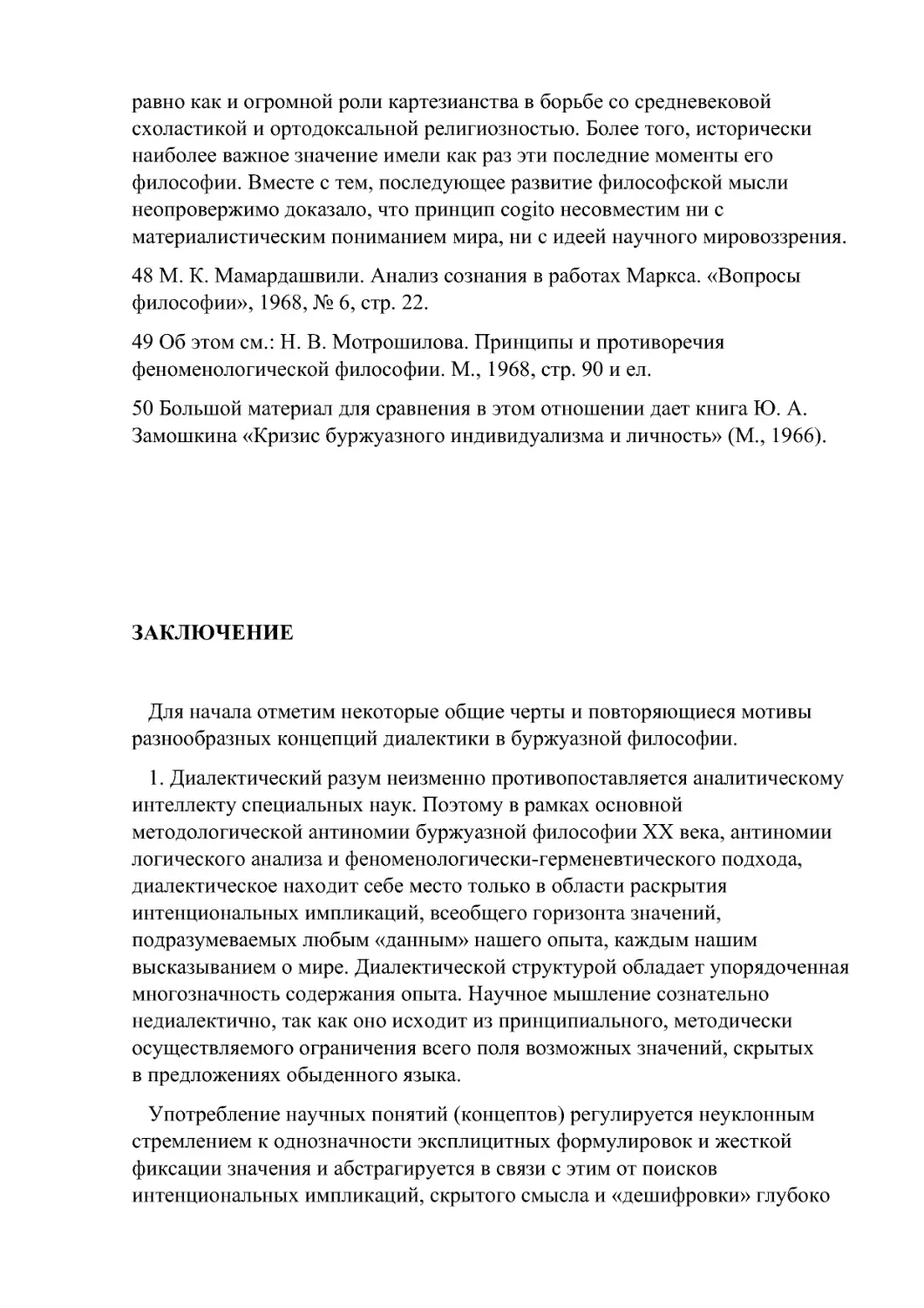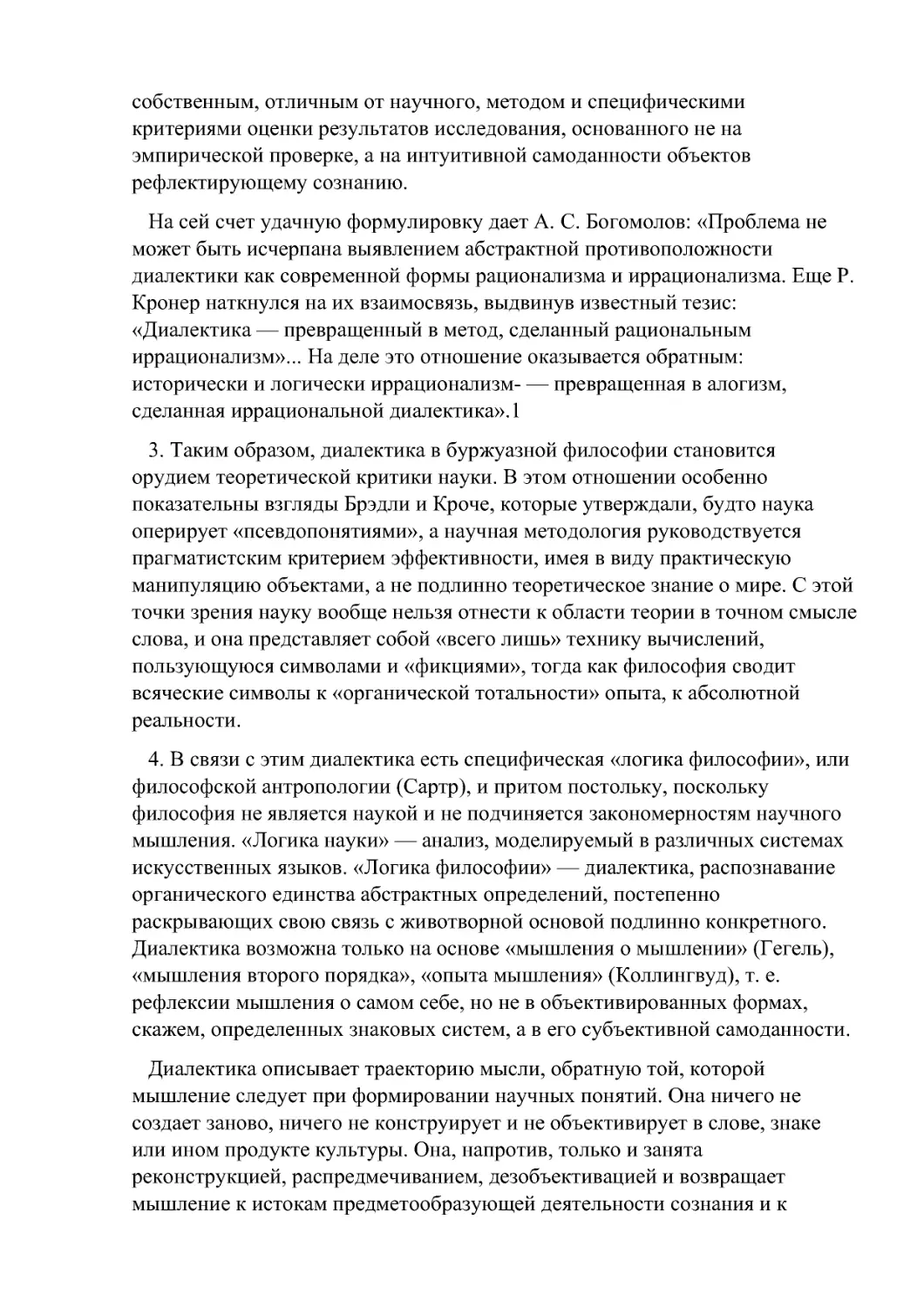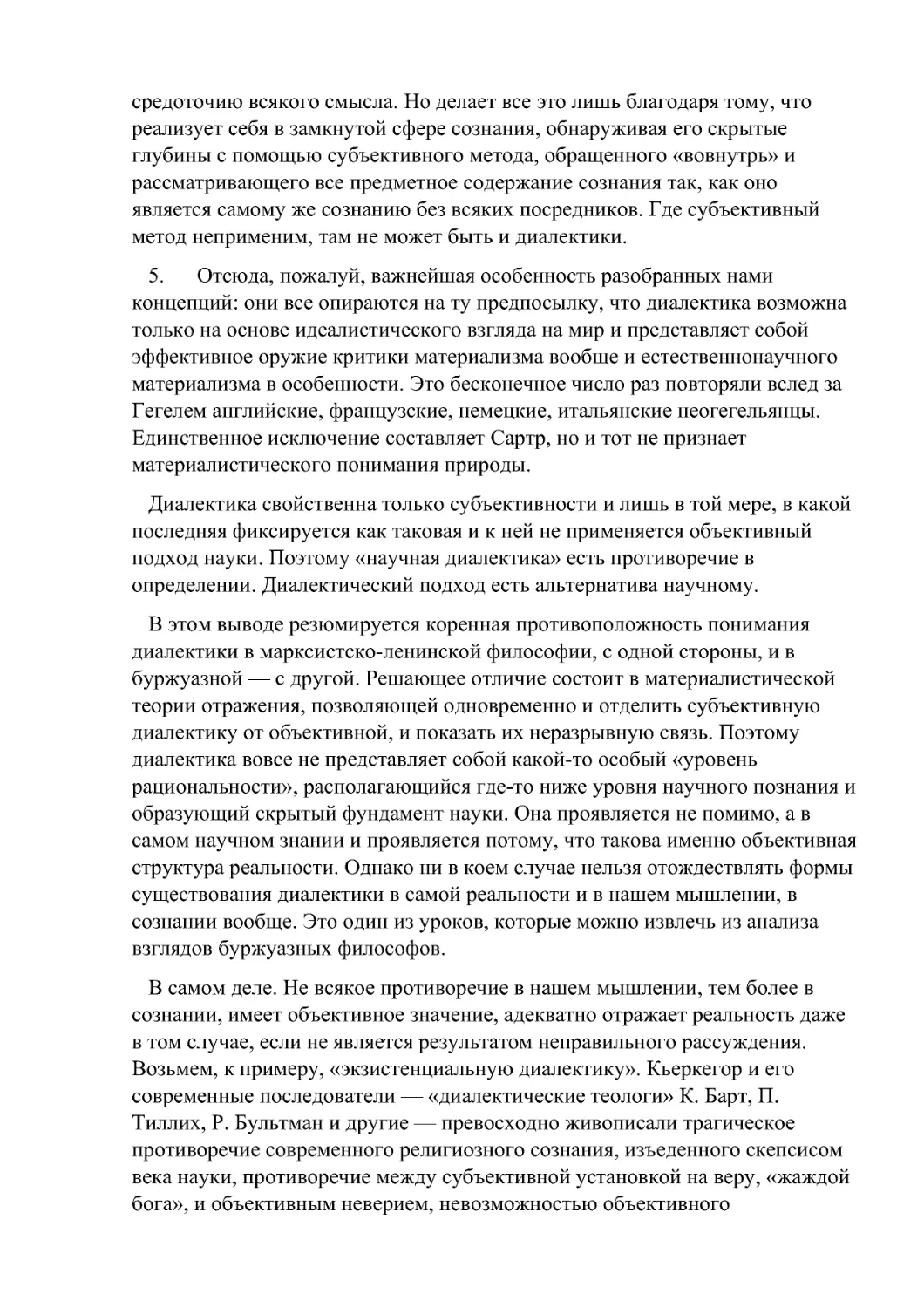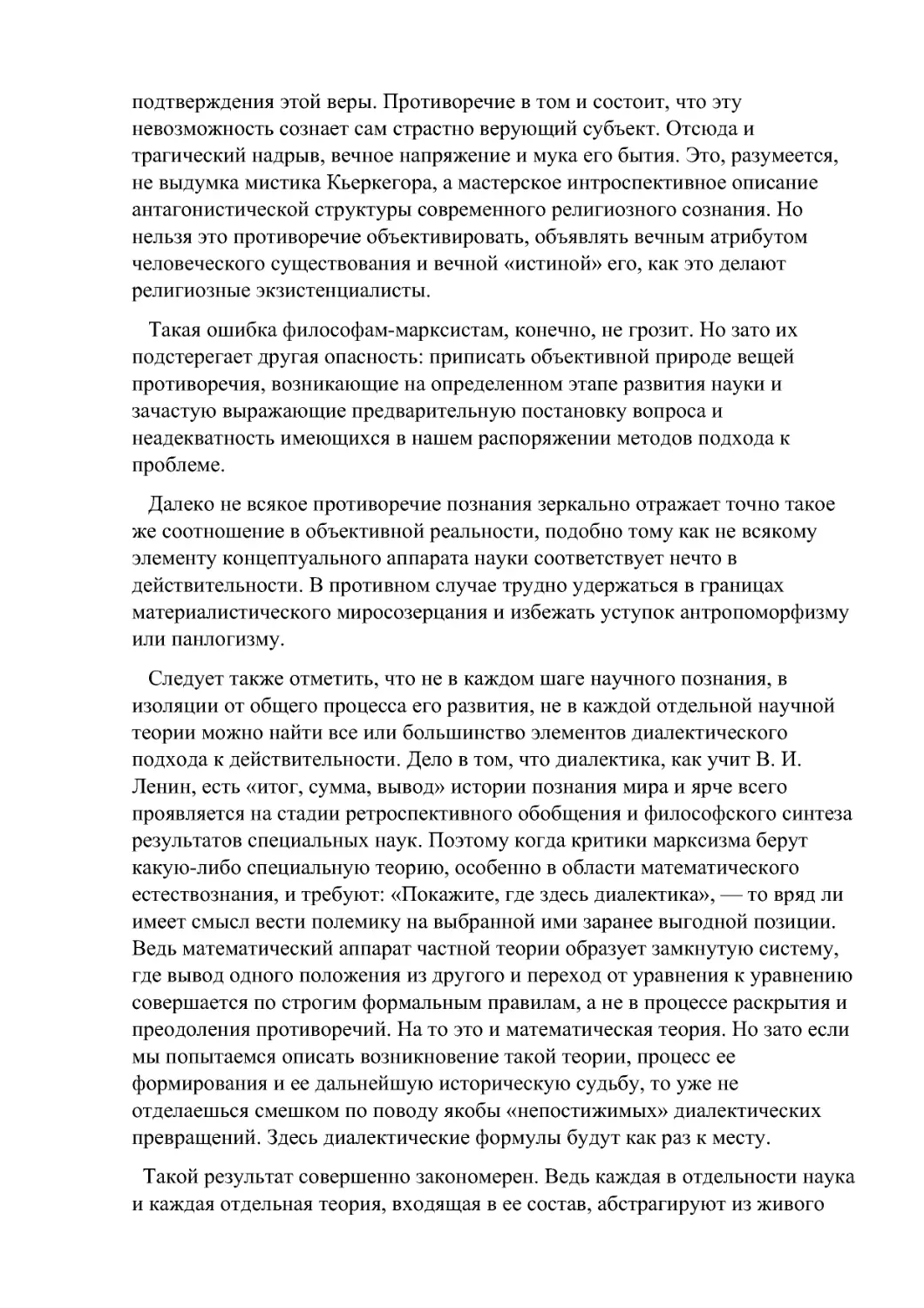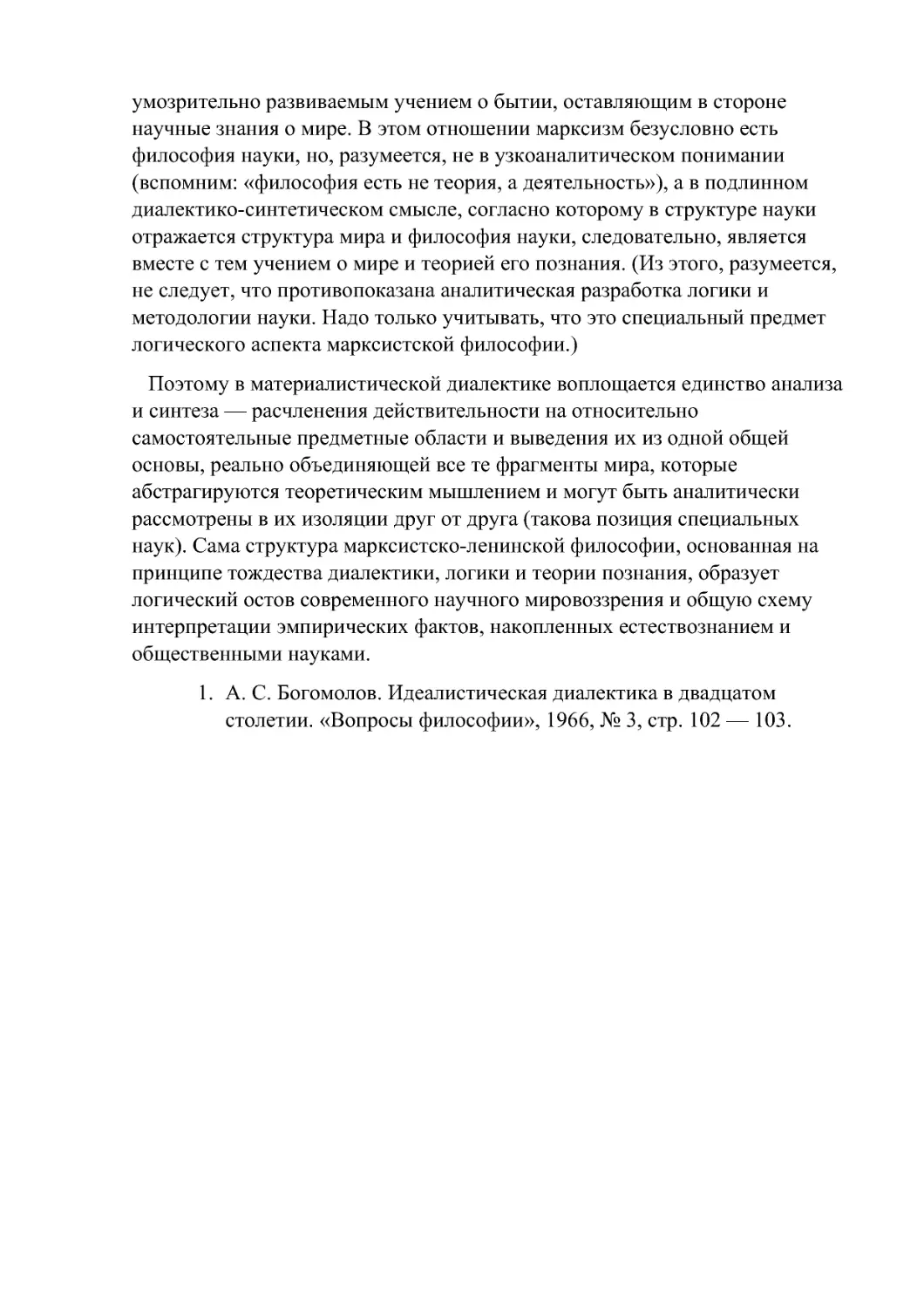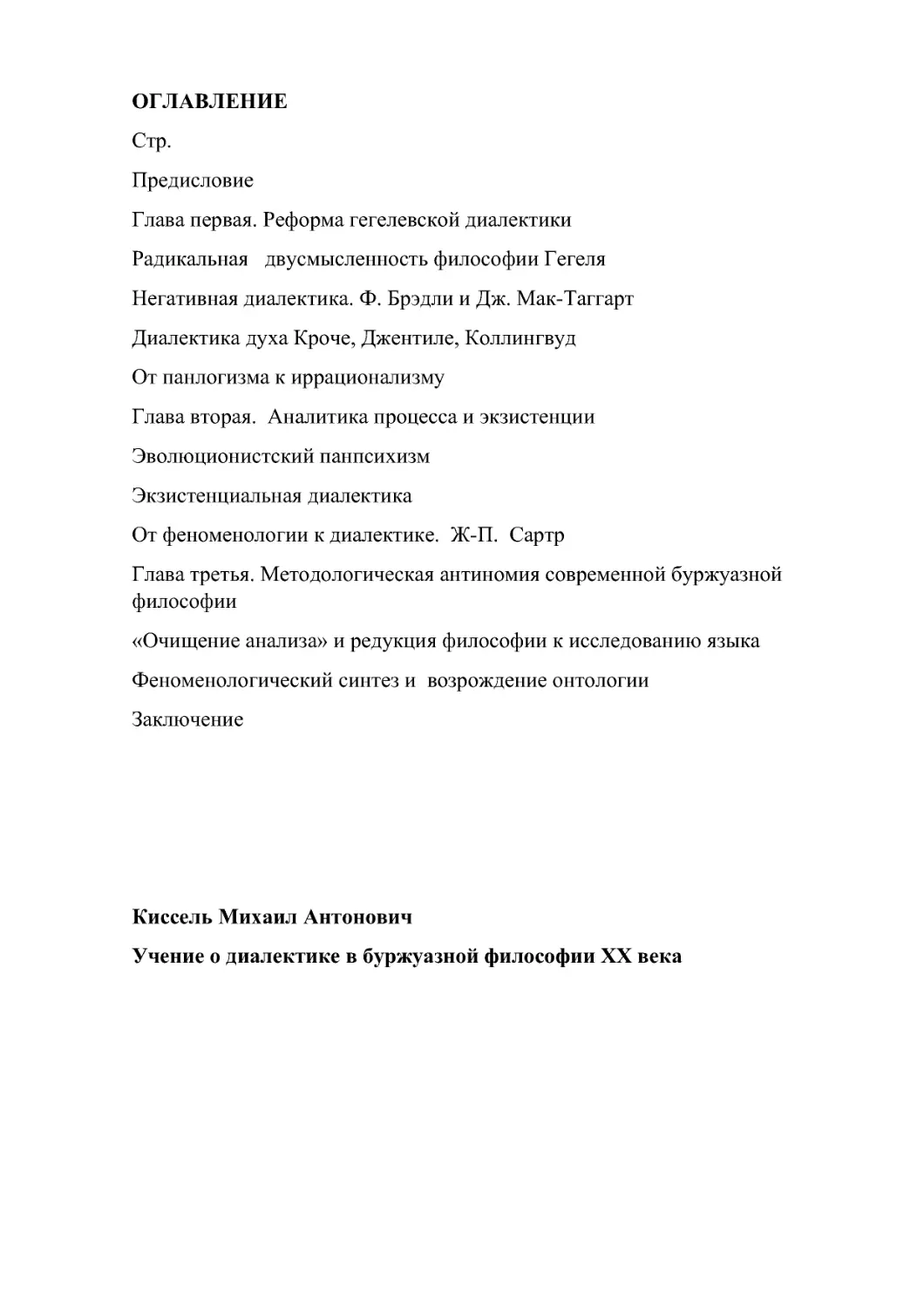Текст
ЛЕНИНГРАДСКИЙ ОРДЕНА ЛЕНИНА
И ОРДЕНА ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
имени А. А . ЖДАНОВА
М. А . Киссель
УЧЕНИЕ О ДИАЛЕКТИКЕ В БУРЖУАЗНОЙ ФИЛОСОФИИ XX ВЕКА
Издательство Ленинградского университета 1970
Печатается по постановлению
Редакционно-издательского совета
Ленинградского университета
В книге рассматривается неогегельянская концепция диалектики в трудах
Ф. Брэдли, Б. Бозанкета, Дж. Мак-Таггарта, Б. Кроче, Р. Коллингвуда;
экзистенциальная диалектика С. Кьеркегора и его последователей;
«критическая диалектика» Ж-П. Сартра; телеологический эволюционизм С.
Александера, А. Уайтхеда, П. Тейяра де Шардена. Автор анализирует также
постановку методологической проблемы в современной буржуазной
философии, остающейся в целом на позициях метафизики. На большом
фактическом материале автор показывает, что буржуазные философы
истолковывают диалектику субъективистски, сближая ее с методологией
иррационализма. Из инструмента научного познания диалектика
превращается в метод критики понятийного аппарата науки и в обоснование
принципиального отличия философского мышления от научного. В этом
проявляется коренная противоположность материалистической диалектики
Маркса — Ленина разнообразным буржуазным концепциям.
ПРЕДИСЛОВИЕ
Эта книга не о современных эпигонах Гегеля, хотя и о них тоже пойдет
речь. Автор прежде всего хотел показать, как диалектика в ее объективном и
субъективном аспектах пробивает себе дорогу и в современной буржуазной
философии вопреки сознательной антидиалектической установке
большинства буржуазных мыслителей. Эта установка коренится в классовых
интересах властвующего капитала, о чем в свое время писал Маркс: «В своем
рациональном виде диалектика внушает буржуазии и ее доктринерам-
идеологам лишь злобу и ужас, так как в позитивное понимание
существующего она включает в то же время понимание его отрицания, его
необходимой гибели, каждую осуществленную форму она рассматривает в
движении, следовательно также и с ее преходящей стороны, она ни перед чем
не преклоняется и по самому существу своему критична и революционна».1
Но диалектика, которая так страшит апологетов капиталистического строя,
—
не выдумка «злокозненных умов», а объективный закон Вселенной и тем
самым — необходимое условие ее адекватного познания. Период господства
метафизического мышления навсегда миновал, ибо остались в далеком
прошлом его социально-исторические и гносеологические предпосылки.
Современная эпоха грандиозных общественных преобразований и всемирно-
исторической борьбы за торжество коммунизма ничуть не похожа на время
медленного увядания феодальных отношений, скудных ресурсов
ремесленного производства и первых посевов еще совсем юной науки о
природе.
Здесь такое же различие, как между династическими войнами за Испанское
или Австрийское наследство и апокалипсическими столкновениями
империалистических хищников, вовлекающих в свою грязную войну почти
все человечество, когда в считанные годы погибают
десятки миллионов. «Вечная неуверенность и движение», которые Маркс и
Энгельс считали отличительной чертой
капиталистического способа производства, в эпоху империализма возросли
во много раз.
Отсюда явное противоречие между реальной диалектикой общественной
жизни и научного познания и теоретическими предпосылками
буржуазных идеологов. Однако противоречия «живой жизни» и
развивающегося знания так или иначе отражаются в философемах
ведущих буржуазных школ, но не в критически осознанной — научной —
форме. Некоторые из этих превращенных форм отражения объективной
диалектики мы и намерены подвергнуть анализу. Спекулятивная диалектика
неогегельянцев рассматривается в первой главе, во второй главе
предметом исследования становятся телеологическая схема
эволюционного процесса и
«экзистенциальный анализ» противоречий индивидуального существования,
и, наконец, в заключительном разделе работы исследуется постановка
методологической проблемы в буржуазной философии нашего времени.
Сопоставление магистральных тенденций немарксистской
методологической мысли со всем комплексом реальных проблем,
выдвигаемых общественной жизнью, еще раз позволяет убедиться в
справедливости известного высказывания Энгельса: «Маркс и я были едва ли
не единственными людьми, которые спасли из немецкой идеалистической
философии сознательную диалектику и перевели ее в материалистическое
понимание природы и истории».2 Эти слова можно считать эпиграфом ко
всему последующему изложению.
Автор надеется, что собранный в книге материал будет способствовать
углублению и развитию нашей собственной марксистско-ленинской
концепции диалектики, ибо отрицание (в данном случае — критику
немарксистских концепций), как неоднократно подчеркивал В. И. Ленин,
следует рассматривать и в его позитивном аспекте, т. е . как момент развития
метафизически односторонней концепции в более высокую —
диалектическую — точку зрения, включающую в себя реальное
содержание предыдущей постановки вопроса, но уже в адекватно
осмысленной форме. В частности, еще Гегель обращал внимание на то, что
диалектика по-разному проявляется в сфере
непосредственного бытия (переход противоположностей друг в друга), в
сфере сущности (рефлексия противоположностей друг, в друге, т. е . их
взаимопроникновение) и в сфере понятия (развитие в собственном смысле).
Аналогичным образом анализ буржуазных концепций привлекает внимание
исследователя-марксиста к многообразию форм диалектического; есть
область категориальной диалектики философских понятий (более всего
разработанная в нашей литературе) и есть сфера рефлексии нравственного
сознания и его противоречий с точки зрения самого действующего,
принимающего решения субъекта (то, что получило искаженное выражение в
так называемой «экзистенциальной диалектике»). Наконец, диалектика
может выступать и в виде инструмента философского синтеза эмпирического
материала в разных отраслях знания.
Как мы увидим далее, в буржуазной философии эти различные формы
субъективной диалектики противопоставляются друг другу. Одно из
преимуществ марксистско-ленинской философии состоит в том, что ее
методологические принципы позволяют создать общую теорию диалектики
на основе идей В. И . Ленина в «Философских тетрадях», тогда как для
буржуазных мыслителей характерно изучение лишь субъективных
проявлений диалектических закономерностей, в результате чего они дают
искаженное описание и этих последних.
1. К . Маркс и Ф. Энгельс. Соч., т. 23, стр. 22.
2. К . Маркс и Ф. Энгельс. Соч., т. 20, стр. 10.
ГЛАВА ПЕРВАЯ
РЕФОРМА
ГЕГЕЛЕВСКОЙ
ДИАЛЕКТИКИ
Одно из главных открытий немецкого классического идеализма состояло во
всестороннем развитии той мысли, что подлинный органон философской
науки следует искать в диалектике как специфическом методе именно (и
только) философского исследования. Конечно, эта тенденция полностью
оформилась только у Гегеля, но, начиная с Канта, весь немецкий идеализм
олицетворял протест против использования философией готового метода,
предназначенного для обработки иного (нефилософского) содержания. Так
было покончено с идеей заимствования геометрического (математического)
метода и подражания эмпирическому естествознанию.
Гегель рассматривал диалектику как объективный метод воспроизведения
любого предметного содержания, постигнутого в его внутренней
архитектонике, т. е . на уровне «понятия». Гарантию же объективности всей
диалектической процедуры он усматривал в тождестве формы и содержания,
мышления и его предмета.
Неогегельянцы, отказавшись от предпосылки панлогизма, превратили
диалектику в субъективный метод философской рефлексии, имеющей своим
предметом сознание в его «самоданности» мыслящему индивидууму. Нельзя,
однако, сказать, что для такого истолкования гегелевское учение совсем не
давало оснований. Философское значение неогегельянства в Англии, Италии,
Германии, Франции и заключалось в попытке последовательного развития
отдельных сторон и в изоляции разнородных тенденций, входивших в состав
глобального синтеза Гегеля.
Радикальная двусмысленность философии Гегеля
Высокая степень абстракции, присущая философскому знанию,
закономерно приводит к тому, что одна и та же система взглядов допускает
различную интерпретацию при попытке применять ее принципы к
обсуждению насущных вопросов дня. Трудность усугубляется еще и тем, что
в истории философии мало найдется монолитных систем, избавленных от
внутренних противоречий и темных мыслей, перед которыми остается
бессильным исследовательское рвение.
В концентрированном виде все эти трудности ожидают всякого, кто
пожелает углубиться в учение Гегеля. Не читая самого Гегеля, невозможно и
представить себе, какая огромная работа проделана классиками марксизма-
ленинизма для того, чтобы «материалистически прочитать» его творения и
взять рациональное из них в свое коммунистическое мировоззрение. Общий
смысл философии великого немецкого идеалиста уловить довольно легко, о
чем свидетельствуют словари и другие популярные издания. Но эта легкость
—
мнимая, и достигается она при «телескопическом» взгляде на предмет,
когда исчезает из виду система глубоких противоречий, распирающих
изнутри грандиозную конструкцию Гегеля.
На основное из этих противоречий указали еще Маркс и Энгельс, и состоит
оно, как известно, в конфликте между идеей диалектического развития и
завершенной целостностью, которой должна была обладать, по понятиям
того времени, каждая философская система, достойная этого названия. Здесь
сказалось противоречие между диалектикой и метафизикой в мышлении
самого Гегеля. Поэтому даже на простой вопрос, кем был Гегель —
диалектиком или метафизиком, невозможен однозначный ответ. Если же мы
пойдем дальше и поинтересуемся, какова была его концепция мышления,
каково его учение о природе логического, то сразу окажемся на зыбкой почве
сомнений и предположений, разрушающих уверенность в точном знании
смысла гегелевской доктрины — уверенность, почерпнутую из популярной
литературы.
В самом деле. Что это за мышление, которое вместе с тем составляет и
реальность, что это за «понятие», которое образует, по Гегелю, движущий
принцип, «живую душу» и средоточие действительного мира? Во всяком
случае это не обычное мышление, которое со времен античности
рассматривалось в качестве конститутивного признака человека, и не то
понятие, которое фигурирует в учебниках логики. Дело в том, что «в глазах
Гегеля продуктивная деятельность мысли должна быть продуктивной
деятельностью самой действительности... То, что здесь искажается
понимание предмета, который изображается в качестве продукта мышления,
—
это один аспект, чаще всего отмечаемый в нашей философской
литературе. Но здесь искажается и понимание мышления, извращаются его
связи и исключается возможность научно верного его изучения...».1 По-
видимому, не лишне немного детализировать эту верную мысль» М. К .
Мамардашвили.
Известно, что Гегель критиковал Канта за «формализм» в теории
мышления и требовал заменить формальную логику (по крайней мере в
учении о категориях, так как в целом вопрос об отношении Гегеля к
формальной логике тоже весьма и весьма сложен) своей содержательной
«Логикой» с большой буквы. Мы часто говорим, что в этом проявляется
преимущество Гегеля перед агностиком Кантом, и мы, конечно, правы, но не
«вообще», а только «до некоторой степени». Ведь надо еще учитывать, что
же все-таки означала гегелевская концепция содержательного мышления в
противоположность кантовскому пониманию.
«Формализм» Канта подчеркивал неразрывную связь априорных
понятий рассудка с чувственным содержанием опыта. Понятия вне
соотнесения с эмпирией — голые формы, они не имеют ни малейшей
познавательной ценности. Нетрудно видеть, что из этого основоположения
кантовской теории познания вытекает учение о дискурсивной природе
мышления и невозможность интеллектуальной интуиции, т. е . развития
теории мироздания средствами «чистого мышления», игнорирующего
эмпирические факты. Этим недостатком (дедукцией из чистой мысли)
страдали рационалистические системы в истории новой философии.
Прошло совсем немного времени, и в философии Шеллинга снова
воскресло понятие интеллектуальной интуиции. Теперь интуиция
рассматривалась уже как специальный инструмент исключительно
философского (а не общенаучного) познания, предназначенного реализовать
идею абсолютной истины. Интеллектуальная интуиция, по Шеллингу, есть
орган «абсолютной науки» об абсолюте, т. е . философии. Эмпирические
науки опираются на рассудок (в кантовском смысле этого понятия) и потому
лишены чудесной способности интуирования абсолютной реальности.
Известно, как беспощадно обошелся Гегель с этим заблуждением своего
однокашника по Тюбингену в «Феноменологии духа», но мы бы очень
поспешили, если бы сделали вывод, что философия Гегеля совершенно
чужда идеям интуитивизма. Конечно, он противопоставляет произвольным
«созерцаниям» Шеллинга «необходимость понятия», развертывающуюся в
имманентную диалектику мышления, которое приходит на определенной
стадии диалектического процесса к осознанию своего тождества с
реальностью.
Несомненно также и то, что Гегель ратовал за единство непосредственного
и опосредованного в познании и критиковал «философию веры» Якоби за
одностороннее увлечение непосредственным знанием. Наконец, он был
автором «Логики» с ее железной (несмотря на гибкость
понятий) последовательностью категорий, саморазвивающихся от
первоначальных бессодержательных абстракций к самому конкретному
определению, которое в силу своей всеобъемлющей конкретности и есть
сама действительность. Все это так, но нельзя забывать и другой стороны
дела. Ведь «Логика» Гегеля была вместе с тем, по его собственному
признанию, и онтологией, в которой снято различие между мыслью и вещью,
понятием и его предметом. Спрашивается тогда, что же это за мышление?
Иначе говоря, вопрос можно сформулировать так: какова теоретическая
подоплека гегелевского панлогизма? Совершенно недостаточно простого
рядоположения диалектики, с одной стороны, и мистического панлогизма —
с другой, как будто обе эти стороны существуют независимо друг от друга.
Напротив, понадобился гений основоположников марксизма, чтобы
выделить в чистом виде рациональное содержание гегелевской диалектики,
которая в своей первозданной форме не только содержала элементы
мистицизма, но, можно сказать, срослась с ним.
Если как следует присмотреться к гегелевскому учению о понятии, то
трудно отделаться от мысли, что логическое у Гегеля выступает в форме
сверхчувственного созерцания конкретной целостности, которая
одновременно и опосредована (диалектическим движением,
«расплавляющим» затвердевшие предметности чувственного восприятия и
рассудка) и непосредственно дана как наличная действительность
философскому умозрению. Ведь не случайно немецкий философ называл
свою точку зрения спекулятивным (умозрительным) идеализмом.
Для подтверждения такой интерпретации мы можем сослаться, в частности,
на отмечаемые в «Малой логике» три момента диалектического процесса:
момент рассудочного тождества — фиксации вещи в ее устойчивой
определенности, собственно диалектический, или «отрицательно-разумный»,
момент обнаружения противоречий в исходном тождестве и, наконец,
«положительно-разумный», или «спекулятивный», момент синтеза
противоположных сторон в организм конкретного понятия.2 На этом
заключительном этапе на сцену выходит философское умозрение, которое,
как нам представляется, и есть преобразованная в соответствии с
требованиями диалектики интеллектуальная интуиция, ибо, если бы речь шла
только о логическом синтезе, было бы совершенно непонятно, каким образом
идея становится непосредственной действительностью, а логика —
онтологией.
Недоумение и даже протест, который может вызвать у читателя такая
оценка логической концепции Гегеля, объясняются, по нашему мнению,
главным образом тем, что на восприятие гегелевской концепции
«накладывается» марксистско-ленинская рациональная интерпретация ее.
Действительно, если интерпретировать гегелевскую идею «содержательной
логики» в свете теории отражения, то мы получим диалектико-
материалистическое учение о мышлении, которое в самом деле преодолевает
агностицизм и формализм Канта. Но если взять логику Гегеля в ее
первозданном виде, то ее значение в высшей степени двусмысленно, ибо она
в одинаковой мере допускает развитие вперед (в духе материалистической
диалектики) и возвращение вспять, к религиозно-мистической концепции
мира.
Поэтому в определенном смысле гегелевская трактовка мышления
представляла собой шаг назад по сравнению с Кантом: у того абстрактное
мышление всегда опосредовано эмпирическим материалом, а у Гегеля
мышление, будучи «конкретным», вернее, становясь таковым, не нуждается в
опосредовании и порождает все необходимое содержание из себя самого, а
такая интерпретация дает возможность для самых разных теоретических
злоупотреблений, в том числе и в откровенно теологическом духе. И не
случайно Маркс говорил о том, что по Гегелю восхождение от абстрактного
к конкретному есть не только (и не столько) воспроизведение конкретного в
мышлении, а процесс создания самого конкретного; достигается же это,
добавим мы, за счет привнесения интуитивного элемента в стихию
логического.
Здесь мы по сути дела не утверждаем ничего нового, а только стараемся
детализировать высказывание Энгельса о том, что «взятое в целом, учение
Гегеля оставляло... широкий простор для самых различных практических
партийных воззрений»,3 которые, естественно, были связаны и с различным
теоретическим пониманием наследия великого философа.
Двусмысленность, заложенная в концепции логического понятия, которое в
то же время имеет явный признак интуиции, в крепко сколоченной системе
Гегеля «дала метастазы» по всем направлениям. Прежде всего она дала себя
знать в том пункте системы, где логика превращается в философию природы
или, что то же самое, где абсолютная идея «отпускает себя» в свое инобытие.
Еще Фейербах показал, что это как две капли воды похоже на представления
христианского катехизиса о сотворении мира богом «из ничего», о
божественном «логосе», который был «в начале», а затем породил все
остальное. Был ли Фейербах прав? Конечно, но опять-таки только до
известной степени, ибо при гносеологической интерпретации той же самой
мысли Гегеля переход идеи в природу можно было рассматривать как
обобщение истории познания и уяснение бесплодности философского
умозрения, нуждающегося в эмпирическом материале за пределами
собственной сферы чистого мышления.
Это звено гегелевской системы воспроизводит, таким образом, всемирно-
исторический переход от философского мышления образовывавшего
идейный климат античности, к современной науке о природе — к
экспериментально-теоретическому естествознанию, детищу иной
(буржуазной) исторической эпохи. Так в самой конструкции системы
соблюдается принцип тождества логического и исторического.
Но и это еще не все. Из гегелевского необходимого «отпадения идеи в
природу» можно «выжать» и кое-что другое, а именно: принцип единства
теоретического и эмпирического, дедукции и индукции, философии и
естествознания. Идея несовершенна, доколе не воплотилась в процедуру
эмпирического исследования, и наоборот, эмпирия должна «дорасти» до
идеи, чтобы сделаться наукой в подлинном смысле слова. Ни хаотическая
кладовая фактов, ни спекулятивная сила чистого мышления, взятые по
отдельности, еще не составляют науки, и только единство обеих сторон
обеспечивает прогресс познания.
Такая интерпретация — не досужий домысел, она лежит в основе
гениальных «Писем об изучении природы» А. И . Герцена и составляет одну
из важных идей «Диалектики природы» Ф. Энгельса. Но при этом
необходимо иметь в виду, что такая чисто гносеологическая интерпретация
не повторяет, а «исправляет» Гегеля, у которого не было вообще теории
познания как таковой и всякая идея имела непосредственно онтологическое
значение. Поэтому оценка Фейербаха имела основания, и ничуть не меньшие,
чем у сторонников выделения «рационального зерна» из гегелевской
системы. Разумеется, с точки зрения перспективы развития философской
мысли позиция Герцена — Энгельса была неизмеримо предпочтительнее, так
как Фейербах фиксировал только (или по большей части) реакционные
моменты философии Гегеля, не сознавая в полной мере своей зависимости от
нее (особенно в концепции отчуждения).
Когда мы анализируем теологическую проблему в учении Гегеля, то снова
приходим в замешательство. В самом деле, попробуем добиться у Гегеля
ответа на вопрос: есть ли бог? Немедленно последует, конечно,
утвердительный ответ: слишком часто это имя мелькает на страницах его
сочинений. Но профессиональный теолог вряд ли удовлетворится этим и
будет со своей точки зрения совершенно прав: бытие божие можно
признавать и всуе, сохраняя только имя и устраняя обозначаемое им понятие.
И действительно, подобные упреки часто приходилось слышать мыслителю
еще при жизни, не говоря уже о том, что с легкой руки Кьёркегора
враждебность гегелевской философии «истинному христианству» стала в
богословской литературе чем-то вроде аксиоматической истины.
Сам Гегель горячо, даже слишком горячо, защищался от упреков в
«пантеизме», ссылаясь, между прочим, и на то, что основная триада всей его
системы (логика — философия природы — философия духа) соответствует
христианскому учению о троице и что его логика в особенности изображает
«бога-отца» в чистом виде, т. е. до сотворения мира. Но, вдумываясь как в
общую архитектонику его системы, так и в его концепцию абсолютного духа,
мы проникаемся серьезными сомнениями на счет религиозной
ортодоксальности философа. Во-первых, вся система изображает
самостановление бога, который становится самим собой только на ступени
абсолютного духа — в искусстве, религии и философии. Из этого следует,
что бог не столько предпосылка, сколько результат мировой истории, он
развивается вместе с человечеством и не существует иначе, как в основных
формах культуры. С ортодоксальной точки зрения все должно быть как раз
наоборот: не бог нуждается в истории и культуре, чтобы проявить себя, а
человек ни шагу не может ступить без бога, по милости которого возможны
всe его достижения.
Тем более, что по Гегелю органом адекватного познания божественной
первоосновы является только философия, а не религия, которая выражает
истину лишь в символической форме, требующей расшифровки в понятиях.
Немудрено, что младогегельянец Бруно Бауэр при участии Маркса написал и
издал в начале 40-х годов прошлого столетия брошюру «Трубный глас
страшного суда над Гегелем, атеистом и антихристом». Во всяком случае
гегелевский анализ теологической проблемы способствовал углублению
критики религии в трудах Фейербаха, Бауэра, Д. Ф. Штрауса и других.
Еще большую трудность представляет оценка политической
направленности философии Гегеля. Здесь тоже не удается достигнуть
однозначной интерпретации, и любое истолкование, которое предлагает
специалист или просто читатель, опирается на какой-то фрагмент его
доктрины и потому закономерно вызывает возражения. Подробнее этот
вопрос мы разбирали в другом месте и сейчас не будем на нем
останавливаться.4
Итак, гегелевский философский синтез, увы, не был таким монолитным,
как думал сам его создатель, и уже по одной этой причине не мог увенчивать
собой всю историю общественной мысли. Ни один сколько-нибудь сильный
теоретический ум не мог просто- повторить концепцию Гегеля со всеми ее
противоречиями, двусмысленностью и недоговоренностью в самых
животрепещущих вопросах.
В многочисленных вариантах разгадки «гегелевского сфинкса» есть,
однако, определенная закономерность: выбор варианта всякий раз
определяется социально-классовой позицией мыслителя. К слову сказать,
история осмысления, теоретического использования и практического
применения гегелевского учения при надлежащей обработке могла бы
послужить поучительным введением в социологию познания. В
революционной философии марксизма диалектика освободилась от всякой
связи с мистицизмом и стала могучим инструментом познания и
преобразования мира. Иная роль выпала ей в буржуазной философии XX
века.
Негативная диалектика. Ф. Брэдли и Дж. Мак-Таггарт
Философия Брэдли (1846 — 1924) представляет собой, по мнению
современных идеалистов, наивысшее достижение британского
неогегельянства. «Брэдли, — писал видный деятель гегельянского движения
в Англии Бернар Бозанкет, — является пионером той английской
философии, к которой мы стремимся, философии национально самобытной
не по неведению иностранной мысли, но благодаря усвоению мирового
интеллектуального наследия».5 Ему вторит Д. Мюрхед в предисловии к
первому тому своего компендиума «Современная британская философия»
(1924): «М-р Ф . Г. Брэдли — главенствующая фигура британской
философии, а может быть, и всей философии нашего времени».6
Общую характеристику учения Брэдли мы дали в другом месте,7 а сейчас
сосредоточимся только на его концепции диалектики в связи с наследием
Гегеля. В этом отношении показательно прежде всего, что философия лидера
англогегельянцев доводит до логического конца, реализует скрытую
тенденцию гегелевского воззрения — тенденцию пожертвовать диалектикой
ради утверждения абсолютной реальности. Мы имеем в виду противоречие
между методом и системой, т. е . несовместимость принципа развития с
концепцией абсолютной идеи и абсолютного духа, вечно сущего бога. Это
противоречие остро чувствовалось не только радикальными мыслителями, но
и приверженцами религиозного мировоззрения. Вот как критиковал
немецкого философа кумир русских идеалистов начала нынешнего века Вл.
Соловьев: «Справедливо настаивая в принципе на совершенном соединении
бесконечного и конечного, Гегель на деле не уравновешивал этих двух
терминов истины, а решительно склонял чашу весов на сторону конечного;
верно усматривая в жизни природы и человека имманентную силу
абсолютной идеи, движущей мировым процессом и раскрывающей себя в
нем, Гегель неосновательно смешивал эту душу мира с самим абсолютным
как таким, которое, однако, будучи по понятию своему чистым актом или
вечно осуществленной энергией, непосредственно входить в мировой
процесс не может и в известном смысле всегда остается трансцендентным».8
Соловьев ясной указывает, что надо сделать, чтобы философия Гегеля стала
последовательно, недвусмысленно религиозной: необходимой «вытолкнуть»
абсолют за рамки процесса, в противном же случае процесс поглотит
абсолют и придется расстаться с «милыми сердцу» религиозными идеями.
Пафос основного произведения Брэдли
«Видимость и действительность» (1893) заключается в отстаивании
трансцендентности абсолюта и невозможности человеческой мысли
проникнуть в его глубины. Правда, его понятие абсолюта вряд ли устроило
бы русского мистика, вдохновлявшегося христианской идеей бога, но оно
было вполне достаточным, чтобы покончить с «рационалистическими
заблуждениями», которые порождало гегельянство к
неудовольствию ревнителей веры и благочестия.
Казалось бы, Брэдли отталкивается от того же принципа, что и Гегель:
«Действительный отправной пункт и основу работы составляет предпосылка
об отношении истины и реальности. Я принял положение, согласно которому
целью метафизики (в аристотелевском смысле «первой философии». — М .
К.) является нахождение общего взгляда, который удовлетворял бы
требованиям интеллекта, и я принял также: то, что удовлетворяет
требованиям интеллекта, реально и истинно, а то, что нет — нереально и
ложно».9 Таким образом, сначала выдвигается априорный логический
критерий, а затем на этом основании возводится теория реальности. Поэтому
реальность, как и у Гегеля, становится «прикладной логикой»,
но само понимание логического у Брэдли более последовательно, чем у его
великого 4 предшественника, и выдержано скорее в духе кантовских
принципов, хотя это становится очевидным далеко не сразу.
Присмотримся сначала к теории мышления Брэдли. На переднем плане
опять-таки зависимость от Гегеля: в своем исследовании по логике,
оказавшем большое влияние на логическую литературу того времени, вплоть
до учебников,10 он обрушивается на принципы тождества и непротиворечия.
«Принцип тождества часто выражается в форме тавтологии: А есть А. Если
бы это действительно означало, что нет различия между обеими сторонами
суждения, можно было бы сразу отбросить его (принцип тождества. —
М.
К.) . Это не суждение вообще. Как говорит Гегель, это высказывание
погрешает против самой формы суждения, так как, порываясь что-то
выразить, оно в действительности ничего не говорит. Оно даже не
утверждает тождества. Ибо тождество вне различия — вообще ничто... Мы
не могли бы даже сохранить видимость суждения в «А есть А», чтобы у этих
А не было различия хотя бы по занимаемому ими в суждении месту; у нас
вообще не может быть суждения, если какое-либо различие не войдет в
содержание того, что мы утверждаем».11
В противовес формальнологическому закону тождества Брэдли ратует за
диалектический принцип «тождества в различии» Этим, следовательно,
затрагивается и требование мыслить предмет без противоречий. Брэдли
подвергает пересмотру и формулу закона исключенного третьего.
«Противоречащая идея (контрадикторная), если мы берем ее в чисто
негативной форме должна быть устранена из логики. Если бы не-А было
только отрицанием А, оно стало бы утверждением без какой-либо
характеристики (without a quality) и отрицанием без чего-либо
положительного в качестве основы... Но тогда эта положительная основа
отрицания не контрадикторна (отрицаемой идее. —
М. К.). Она просто
различна, противоположна, несовместима. Она только контрарна»12
Таким образом, всякое отрицание предполагает утверждение, хотя
диапазон конкретных значений, которые может приобретать скрытая
позитивная основа отрицания, неопределенно велик, ибо под не-А может
подразумеваться все отличающееся от А, а в логическом смысле, как
настаивает английский философ, противоположное (контрарное) есть всегда
только различное. Жизнь мышления и заключается в утверждении тождества
посредством различий и, наоборот, — различий посредством тождества. Ни
одна идея не может существовать самостоятельно и независимо от другой,
противоположной ей.
На первый взгляд здесь полная реставрация гегельянства и всех
сопутствующих ему идей, достигающих кульминации в постулате
логического организма — самодифференцирующегося целого, изнутри
порождающего все различия и сохраняющего связь этих различий с общей
основой. Таково понятие конкретного у Гегеля. Но, по Брэдли, понятие
конкретности и конкретность понятия — далеко не одно и то же. Так могло
быть лишь в том случае, если бы мысль целиком исчерпывала собою
реальность и не имела бы ничего вне и кроме себя, если бы субъект
полностью совпадал с объектом, т. е . мыслил бы самого себя и был бы
единосущим и вечным богом. Божественная мысль действительно была бы
конкретной, мысль же «конечного духа» — человека никогда не может такой
стать и навсегда останется абстрактной.
Понятие конкретного есть высшее, героическое усилие абстрактной мысли,
формулирующей верховный критерий истинности, к которому стремится в
пределе каждое суждение, имеющее всегда своим предметом реальность, но
не в ее целом, а только фрагмент ее. «Совершенство истины и реальности
имеет в последнем счете один и тот же характер. Он состоит в
положительной индивидуальности, которая существует сама по себе...
Истина должна обнаружить черту внутренней гармонии и, с другой стороны,
черту расширения и всевключения. Эти две черты являются различными
аспектами единого принципа. То, что себе противоречит, во-первых,
дисгармонирует, поскольку целое, имманентное ему, приводит свои части в
столкновение. И средством обрести гармонию является перераспределение
этих частей в более широкую систему. Но, во-вторых, гармония
несовместима с ограничением и конечностью».13
Итак, конкретное, или абсолют, есть самодовлеющая индивидуальность,
всеобъемлющая и гармоничная. Такова «позитивная основа» — абсолютная
истина, подразумеваемая любым нашим утверждением или отрицанием,
каждой частичной истиной, которая вместе с тем по необходимости является
и заблуждением именно потому, что она всего лишь «частичная истина»; Но
почему абсолют не может не иметь именно такие характеристики? Из
приведенной формулировки видно, что структура абсолюта воспроизводит
логические условия непротиворечивости. Следовательно, истина, или
абсолют, там, где нет места для противоречий, а все, что обременено ими,
недействительно и представляет собой «видимость».
Но как такое утверждение совмещается с подчеркиванием диалектической
природы мышления? Мы очень поторопились бы, если бы обвинили Брэдли в
непоследовательности в этом пункте его учения (ибо кое-где он
действительно не сводит концы с концами). Дело в том, что постулат
онтологической гармонии вполне совмещается с нападками на законы
тождества и исключенного третьего при одном условии: если диалектика
мышления не имеет объективного значения и присуща только человеческому
сознанию в силу того, что Брэдли именует «идеальностью конечного».
«Существенная природа конечного состоит в том, что где бы оно ни
проявляло себя, его качество непременно выскальзывает за пределы его
существования. Ибо содержание определенной данности всегда соотнесено с
чем-то неданным, и природа его сущности должна поэтому выйти за пределы
(transcend) его существования. Это мы можем назвать идеальностью
конечного. Идеальность не порождена мыслью, но сама мысль есть ее
развитие и продукт».14
Мышление как «идеальность» постоянно «разъединяет» качество и бытие,
сущностное содержание от способа его существования. Вот почему его
предметом никогда не станет подлинная реальность, т. е . самодовлеющее
целое, внутренне расчлененное на гармоническую систему различий.
Мышление с самого начала имеет дело с
«конечным», изолированным элементом реальности, и в силу этого элемент
теряет свою действительность и превращается в обманчивую «кажимость».
Эту «кажимость» мысль соотносит с другой «кажимостью». Так возникают
противоречия, а вместе с ними и диалектика. «Вещи не противоречивы
потому, что они противоположны, ибо вещи сами по себе не
противоположны. Вещи не противоречивы и потому, что они обладают
различиями, ибо мир сам по себе сплачивает различие в единство. Вещи
самопротиворечивы, когда и поскольку они выступают как голые
конъюнкции, когда, чтобы их мыслить, вы должны приписывать им различия
без внутренней основы связи, когда, другими словами, вы вынуждены просто
соединять различия... Вот что означает противоречие, или я, по крайней мере,
не в состоянии найти другое значение (этому понятию. — М . К .)».15
Согласно Брэдли, мысль может соединять различия только внешним
образом, механически, к подлинному органическому синтезу она по природе
своей неспособна. Она рождена, чтобы «разделять», анатомировать,
анализировать и истощать себя в бесплодных покушениях на синтез.
Диалектика и возникает из этих бесплодных усилий мысли преодолеть свою
абстрактность, свою одностороннюю аналитичность, ее движущая сила — в
тоске по идеалу логической гармонии и абсолютной истины, которая есть не
что иное, как сама жизнь.
Пора, однако, привести пример, чтобы не быть голословным. Сущность
мысли легче всего распознать, исследуя ее продукты — идеи, понятия,
категории, которыми оперируют люди и в повседневной жизни, и в
теоретическом познании. И вот, анализируя свои продукты, мысль
наталкивается на фундаментальную антиномию качеств и отношений,
антиномию, которая дает себя знать буквально в каждом понятии и в
мысленном содержании любого представления, начиная с представления о
самой обыкновенной материальной вещи и вплоть до сложных абстракций
пространства и времени или представления о собственном «я». Антиномия
заключается в том, что «отношение предполагает качество, а качество —
отношение. Ни то, ни другое не может быть самим собой ни вместе с другим,
ни помимо другого, а порочный круг, в котором они вращаются, не может
быть истиной о реальности».16
Рассмотрим эту антиномию последовательно, сначала «со стороны
качества», а затем «со стороны отношения».
Качество, чтобы быть различимым и выделяемым из сплошной среды
окружающего поля предметностей, должно, конечно, отличаться, быть иным,
чем что-то другое, но для этого оно вынуждено соотноситься с другим, что и
требовалось доказать. Значит, «качество предполагает отношение», не
существует без отношения. В само содержание понятия «качество»
вторгается отношение, и нельзя помыслить одно, чтобы к нему тут же не
«примешалось» второе.
С другой стороны, отношение не существует без «терминов», которые оно
связывает, т. е . без качеств, и, следовательно, его тоже нельзя представить
себе без одновременного помышления о его необходимом корреляте —
качестве. Противоречивость и состоит в том, что нельзя никак
абстрагировать, изолировать одно понятие от другого. Мы принуждены
мыслить только на «смесь», хотя, конечно, можно заставить себя забыть об
этом и преспокойно, не вдаваясь в анализ понятий, считать, что есть
изолированные качества, соединяемые внешними отношениями. Из этого
источника и возникают учения вроде юмистского, которое Брэдли как
англичанин, воспитанный в традициях идеалистического эмпиризма, отлично
знал и постоянно учитывал в своих теоретических построениях, не считая
нужным делать явные ссылки. Поэтому именно последователям Юма
адресовано следующее его высказывание: постулат изолированного качества
«основан на отделении продукта (мышления. —
М. К) от процесса, и это
отделение представляется неоправданным. Качества как нечто отличное друг
от друга делаются таковыми в акте, который явно подразумевает
отношение».17 Если мы попытаемся изгнать эту антиномию из нашего
мышления, у нас ничего не выйдет, кроме того, что Гегель называл «дурной
бесконечностью опосредования».
Дурная бесконечность возникает, как только мы вознамеримся
насильственно (вопреки природе самого мышления) установить единство
противоположных определений качеств и отношений. Обозначим качество
через А, отношение — через В, а искомое единство — через С. Здесь
возможны три случая: либо С каким-то образом содержится в А, либо в В,
либо существует само по себе в качестве С наряду с А и Б. В первое случае,
когда «местоположение» единства положено в самом качестве, мы приходим
к абсурдному противоречию, ибо качество, как мы знаем, обязательно
предполагает различие. Во втором случае, когда единство положено в
отношении, результат тот же, ибо отношения возможны только между
различающимися друг от друга терминами. Следовательно, и качество и
отношение «выталкивают» единство. Остается последний путь: единство
существует наряду с качеством и отношением. Тогда мы имеем дело с
трехчленным рядом ABC и, значит, между АВ, с одной стороны, и С — с
другой, устанавливается некое отношение Д. Но в таком случае между ABC и
Д возникает новое отношение Е, и так далее до бесконечности. По мнению
Брэдли, беда в том, что «каждое отношение имеет со своими терминами
связь, которая должна быть не просто внутренней (первый случай в нашем
примере.
—
М. К .) или внешней (второй и третий случаи.
—
ЛГ. Л'.), но и
той и другой сразу».18
Стало быть, основная проблема, с которой мы здесь сталкиваемся,
затрагивает возможность воспроизведения в мышлении диалектического
единства в различии. Снова может возникнуть недоумение: ведь не кто иной,
как сам Брэдли, утверждал, что единство в различии заложено в структуре
суждения, которое только при этом условии имеет смысл, а не превращается
в пустую тавтологию. Но все дело в том, что это условие, по мнению
философа, именно лишь «заложено» в мышлении, но никогда не реализуется
в нем. Диалектическое единство есть недосягаемый абстрактный идеал
мышления, вечное долженствование мысли, никогда не превращающееся в
действительность.
Эту ситуацию можно описать и несколько иначе. Диалектика, по Брэдли,
возникает из несоответствия между целью мышления и его средствами. Цель
и предмет мышления — реальность, индивидуальное целое с органическим
единством различий. Движение же, процесс мышления всегда совершается
посредством различения и последующего соединения различенных
терминов, т. е . в стихии отношений. Но устанавливаемые мыслью различия
неизгладимы, и потому как следует сплотить их воедино мысль уже не в
состоянии. Она связывает качества в вещи «веревками» внешних отношений,
но стоит только дотронуться скальпелем философского анализа, как все
солидное сооружение рассыпается в прах и «твердая реальность» привычных
понятий и обыденных представлений превращается в обманчивый мираж. К
такому ошеломляющему выводу и приводит, по мнению Брэдли, диалектика.
Теперь время сравнить, как далеко ушел английский ученик от своего
немецкого учителя. Преимущество Брэдли несомненно заключается в том,
что он не онтологизирует процесс мышления с самого начала, что влечет за
собой вереницу двусмысленностей и мистификаций, а исходит из анализа
человеческого мышления и находит диалектику именно в нем. Это по
крайней мере хоть облегчает понимание и не требует от читателя пребывать
в непрестанном напряжении, отыскивая «скрытый смысл» печатных строк.
Иными словами, если у Гегеля, как неоднократно указывал В. И . Ленин, мы
находим «гениальные догадки» сплошь и рядом погребенные под толстым
слоем мистической шелухи, то у Брэдли теоретическая аргументация стоит
отдельно от мистических выводов, хотя, как мы увидим далее, теория
прокладывает путь мистическому созерцанию.
Что же касается самой концепции диалектики, то, выиграв в
последовательности и ясности изложения, она неизмеримо проиграла
в богатстве содержания и плодотворности идей.
Брэдли, в сущности, только продолжил в определенном отношении работу
Канта, наткнувшегося на «амфиболию рассудочных понятий» и
«трансцендентальную диалектику» разума. Английский философ лишь
методически проследил столкновение противоположностей в длинном ряде
понятий и категорий. Отношение же его к диалектике то же, что и у Канта:
диалектическое опровергает самое себя и свидетельствует о тупике, в
который зашла мысль, пытаясь выйти за свои естественные пределы. И
самые эти пределы определяются весьма сходно: мышление запутывается в
противоречиях, как только посягает на воспроизведение мира в целом,
органического единства абсолютной реальности. Теоретические различия
между двумя позициями кажутся сначала совсем незначительными: Кант,
чтобы покончить с диалектическим миражем, советует просто отказаться от
«трансцендентного употребления разума», от попыток мыслить мир в целом,
а Брэдли, напротив, измеряет ценность любого понятия и суждения степенью
приближения к вожделенному, но недосягаемому пределу — органической
индивидуальности.
Но за этим различием скрывается целая пропасть, пролегающая между
Кантом и Брэдли в их отношении к науке и научному мышлению. Согласные
между собой в определении диалектики как субъективной видимости, как
призрачной игры понятиями, как бесплодного скольжения мысли от одного
определения к другому, они стоят на противоположных позициях в оценке
объективности научного знания. По Канту, научное мышление не страдает
«пороками» диалектики, если только оно ограничивает себя исследованием
феноменального мира, а по Брэдли, наука неизлечимо «диалектична» и
потому обречена вращаться в мире субъективной видимости и умножать
иллюзии, скрывающие истину.
Позиция Брэдли есть, таким образом, философское обоснование
обскурантизма, стремящегося дискредитировать мировоззренческое значение
науки.
Наука пользуется абстрактным мышлением, т. е . «мышлением посредством
отношений», а это последнее якобы не что иное, как «паллиатив (makeshift),
простое приспособление, практический компромисс, весьма необходимый,
но, в последнем счете, совершенно необоснованный».19 Складывается
своеобразная ситуация: научное мышление, пронизанное противоречиями, не
дает истинного знания о действительности, но зато приносит практическую
пользу, а подлинное мышление, философское, обрисовывает общие контуры
реальности в виде необходимых условий абсолютной истины, но больше
ничего не может дать, и уж во всяком случае для практического действия не
годится.
Здесь мы встречаемся с концепцией, очень похожей на прагматистскую, но
прямо противоположной по конечным выводам. Если прагматисты
отождествляют истину с практически целесообразным образом действий, то
абсолютные идеалисты типа Брэдли, соглашаясь, что научное мышление
проникнуто практицизмом техницизмом и т. д ., заключают на этом
основании, что истину нужно искать вне науки. Конечно, целесообразное и
истинное не одно и то же, и в забвении этого коренится основное
заблуждение прагматизма, но не больше правды и в противоположном
утверждении, согласно которому практически полезное никогда не может
быть истинным.
Разбираемая нами доктрина не дает никакого объяснения самому факту
огромного полезного эффекта научного знания, а между тем как раз этот
эффект свидетельствует о том, что абстрактно-теоретическому мышлению
присуща объективная истинность, что, конечно, не гарантирует ученых от
ошибок, но и не делает из них профессиональных иллюзионистов, как это
кажется мистически настроенному Брэдли.
Итак, в отличие от Канта Брэдли превращает диалектику, истолкованную
субъективистски, в теоретический инструмент критики науки под предлогом
несоответствия ее понятийного аппарата априорному критерию абсолютной
истины. В отличие от Гегеля он не признает возможности органического
синтеза противоположностей в мышлении и тем самым сводит диалектику
лишь к одному из ее моментов, к тому, что Гегель называл «отрицательно-
разумным», — к разложению понятия на соотносящиеся между собой
противоположности.
Главное же состоит в том, что Брэдли закрепляет за диалектикой сферу
призрачного, идеального псевдобытия — видимости, сквозь которую можно
различить один только логический скелет действительности, но не живую
жизнь. Слиться с абсолютом можно только в порыве непосредственного
чувства, напоминающего, как разъясняет английский философ, переживание
«этого» и «моего». Такое переживание выносит за пределы субъект-
объектного отношения во вневременную и внепространственную вечность,
даруя ощущение абсолютной полноты и завершенности бытия.
В абсолютной реальности нет места для диалектики, ибо там нет движения,
а движение и диалектика неразлучны. Там не может быть и развития, ибо
абсолют воплощает в себе совершенную полноту всех мыслимых форм в их
неразрывном единстве. Таким образом, для Брэдли диалектика — не теория
развития, а всего лишь логическая схема движения, понятого исключительно
как дурная бесконечность блуждания без цели и направления, без ориентира
и внутренней необходимости. Диалектическое движение никуда не ведет и
ниоткуда не выводит, оно похоже на вращение «беличьего колеса», это
синоним торопливой бессмысленности, маскирующей под формой
абстрактной разумности и практической целесообразности свою
глубочайшую внутреннюю иррациональность.
Английский гегельянец почти полностью разрушает архитектонику, так
сказать, «морфологию» диалектики, выхолащивает основные
закономерности диалектического движения и особенно принцип
восхождения от абстрактного к конкретному. Правда, слабое подобие этого
принципа можно найти в его учении о «степенях истины и реальности», но
как раз оно-то и вносит в его концепцию элемент формальнологического
противоречия: если мы можем знать только общую формулу абсолюта,
которая всегда одна и та же, и общую формулу видимости (антиномия
качества и отношения), которая тоже везде одинакова, то как можно
определить, какая из «кажимостей» ближе к абсолютной реальности? Брэдли
предлагает критерий большей, или меньшей связности («когерентности»), но
этот критерий не; «срабатывает», так как в разбираемой доктрине
отсутствует идея непрерывной нити развития, постепенной реализации
абсолюта через последовательный ряд категорий, как это было в «Логике»
Гегеля. Только при таком условии учение о «степенях истины и реальности»
приобретает смысл.
Ввиду бессилия мысли «реконструировать в деталях» какую бы то ни было
искаженную форму реальности (мысль обнаруживает только «дефект» ее и в
силу своей абстрактности на большее не способна) мы, как признает
английский философ, никогда не можем узнать, какая иллюзия ближе сердцу
абсолюта и, следовательно, обладает большей реальностью и какая,
соответственно, находится дальше от истины. Ведь абсолют во всей его
конкретной полноте, повторяем, доступен только «непосредственному
чувству»; он и представляет собой «непосредственный чувственный опыт», а
чувство переживает, и только, оно не в силах внятно говорить. «Если в
поисках реальности мы обращаемся к опыту, то мы не находим при этом
субъекта или объекта... Что мы действительно обнаруживаем, так это, скорее,
некое целое, в котором можно провести различия, но в котором нет
разделения».20
Следовательно, инструментом диалектического синтеза, слияния
противоположностей в высшем единстве становится у Брэдли не мышление,
которое всегда только «разделяет», а потом неловко склеивает разделенное, а
непосредственное чувство, сиречь интуиция. Кульминацию диалектического
процесса представляет собой не акт мышления, подготовленный предыдущей
стадией анализа, как у Гегеля, а нечто совершенно инородное,
самостоятельно сущее и независимо действующее. Для непосредственного
переживания абсолютной и запредельной (по отношению к чувственному
восприятию и мышлению) гармонии нет никакой нужды в предшествующей
аналитической работе мышления, обличающего свою собственную
антиномичность. Это только способ «доказательства от противного»:
реальность абсолюта доказывается посредством установления неистинности
всего того, что принимается за реальность.
Таким образом, диалектика в философии Брэдли имеет чисто
отрицательное значение и притом в двояком смысле: в гегелевском смысле
превращения всего, что содержит внутри себя противоречие, в «ничто», в
заблуждение, которое надо отбросить и в старинном религиозно-
мистическом смысле отрицания «мира сего» ради интуитивно постигаемой
абсолютной реальности. При этом диалектика — это путь для
«интеллектуалов», привыкших ценить абстрактное мышление, им-то и нужно
указать его неустранимые пороки, тогда как «простые и бесхитростные
души» непосредственно обладают истиной в сверхчувственном созерцании
абсолюта.
Склонный к поэтическим сравнениям, Брэдли называет абсолют
«цветущим садом», где царит красота, а ложь и страдание, с которыми мы
слишком часто сталкиваемся в мире видимости, «гармонически
преобразованы» в истину и светлую радость. Удивительно приятное и
уютное место этот абсолют! По ту сторону действительной истории, в муках
рождающей каждую новую форму человеческого общежития, в стороне от
тягот и забот повседневной жизни раскинулся этот Эдем — викторианская
идиллия, облеченная в философские термины тонко мыслящим
джентльменом с эстетической жилкой. Но как мало похож этот
сверхчувственный «строй гармонии», этот идиллический пейзаж на картину
мироздания, открывающуюся с колокольни системы Гегеля — современника
Великой французской революции и очевидца колоссальных исторических
сдвигов, последовавших за ней.
В противоположность Брэдли с его тяготением к монизму буддистского
типа (в индусской философской литературе есть работы, проводящие такую
параллель) другой видный представитель английского абсолютного
идеализма Дж. Мак-Таггарт (1866 — 1925) сделал попытку интерпретировать
гегелевскую диалектику в духе персонализма.
В. И. Ленин, чрезвычайно внимательно следивший за новейшей
литературой о Гегеле, записал в одной из своих «тетрадей по философии»:
«Мс Taggart Ellis Mc Taggart... де знаток философии Гегеля, защищает-де ее
от Seth, Balfour, Lotze, Trendelenburg и др. (автор, Таггарт, видимо,
архиидеалист)».21
Действительно, и по сей день работы Мак-Таггарта, посвященные
изложению и разъяснению философии Гегеля: «Исследования гегелевской
диалектики» (1896), «Исследования гегелевской космологии» (1901),
«Комментарий к «Логике» Гегеля» (1910), — считаются в буржуазной
литературе чуть ли не классическими и используются в качестве одного из
основных источников при изучении немецкого классического идеализма.
Поэтому небесполезно будет разобраться в его трудах и попытаться
определить, в какой степени «копия», выполненная
шотландским философом, соответствует немецкому оригиналу.
С самого начала Мак-Таггарт старается найти главное в учении Гегеля.
Таковым он считает диалектический метод. Ценность философии Гегеля
состоит не столько в тех положительных результатах, которых он добился
при помощи диалектики, сколько в самом диалектическом методе.
«Диалектический процесс логики является единственным абсолютно
существенным» элементом гегелевской системы. Если мы примем его и
отвергнем все остальное, что написал Гегель, мы все же получим систему
философии, хотя и не целиком закопченную, но обладающую выводами
величайшей важности. С другой стороны, если мы отвергнем
диалектический процесс, который ведет к абсолютной идее, вся система
рухнет, так как она всецело зависит от результатов, добытых в «Логике».22
Такая постановка вопроса выгодно выделяет Мак-Таггарта из среды
неогегельянцев его времени, предпочитавших пользоваться и разрабатывать
в деталях готовые выводы гегелевской системы, особенно в теории
государства и права и в философии религии. Мало кого интересовала
движущая пружина идеализма Гегеля — его метод, и это несмотря на
неоднократные предупреждения самого философа, разъяснявшего, что
«голый результат», простой вывод ничего не значит в отрыве от того
процесса, который к этому результату привел. Поэтому Мак-Таггарт в своей
программной декларации верен и букве и духу гегелевского учения.
Он поставил перед собой двойную задачу: выделить из системы «в чистом
виде» диалектический метод и показать его обоснованность и, во-вторых,
пересмотреть применение диалектического метода к эмпирической
реальности, в частности к политике, этике и религии, т. е . разобрать, в какой
мере общепринятые в среде гегельянцев взгляды по всем этим вопросам
соответствуют принципам диалектики. Пытаясь реализовать свой план, Мак-
Таггарт очень далеко отошел от исходного пункта — исторически
существовавшей гегелевской системы и под видом интерпретации
предложил нечто такое, что никак нельзя было согласовать с ее принципами.
Подобно Брэдли, но иначе чем тот, он хочет освободить от противоречий
гегелевскую систему и в результате начинает говорить от имени Гегеля то,
чего никогда не сказал бы немецкий философ.
Диалектика, по мнению Мак-Таггарта, есть прежде всего метод логического
определения природы «последней реальности», она призвана ответить на
вопрос, какова абсолютная действительность, отрицание которой
равносильно отказу от разума и логики. Исходный пункт, или, как пишет он,
«постулат диалектики», образует тезис «бытие есть», т. е . нечто существует.
Все последующие определения уже не принимаются извне, а возникают в
стихии чистого мышления совершенно спонтанно, под воздействием
имманентной силы логической необходимости. Все это сформулировано
прямо по Гегелю.
Но далее при развитии этого тезиса возникают расхождения. Встает вопрос,
что значит «чистое мышление»? У самого Гегеля, как мы видели, трудно
добиться однозначного ответа на этот счет. Мак-Таггарт же без колебаний
заявляет: «Так как мы вообще не можем наблюдать чистую мысль, кроме как
в опыте, ясно, что только в опыте мы можем наблюдать переход от менее
адекватной к более адекватной форме, которую мысль принимает в
диалектическом процессе. Но это изменение формы присуще только природе
самого мышления, а не другому элементу опыта, который представляет
собой предмет интуиции (имеется в виду «чувственная интуиция», т. е.
прежде всего восприятие. —
М. К . .) . Целостность мышления даже тогда,
когда оно достигло наибольшей полноты, на которую способно, есть только
абстракция от более полного целого реальности».23
Таким образом, гордиев узел гегелевской концепции мышления разрублен
если не ударом меча, то росчерком смелого пера: никакого панлогизма у
Гегеля, оказывается, нет, мысль составляет лишь «формальный элемент»
чувственного опыта, который и представляет собой «полную реальность», а
«материальный элемент» его представлен чувственным восприятием. Мысль
—
столь же необходимый момент «опыта», сколь и «чувственная материя»
восприятия. «Можно рассматривать чистую мысль как простую абстракцию
одной из сторон опыта, который и есть единственная конкретная
действительность, тогда как предмет интуиции — абстракция другой
стороны той же самой реальности, причем обе абстракции, взятые сами по
себе, несостоятельны и вводят в заблуждение».24
Выходит, что Гегель не думал опровергать кантовское учение о мышлении,
но, напротив, опирается на него в развитии своих диалектических идей.
Достоверность такого истолкования более чем сомнительна. Мысль, по
Гегелю, не голая форма, заполненная инородным содержанием, она потому и
способна к «парению» в сверхчувственном мире, что черпает свое
содержание не из «чувственной материи», а из себя самой (каким образом,
остается неясным).
Мак-Таггарт же почти всегда ослепительно ясен, и в этом несомненное
достоинство его комментария. Жаль только, что эта ясность довольно часто
приносит в жертву себе гегелевские прозрения, смутное предвосхищение тех
революционизирующих идей, которые в научной форме были высказаны
основоположниками марксизма.
Кантианская трактовка природы мышления предопределяет всю
концепцию диалектики у Мак-Таггарта, в особенности ее субъективистское
истолкование. Диалектика свойственна толь* ко мышлению (а не
реальности) и лишь постольку, поскольку] мысль устремляется к познанию
своих собственных глубин. Необходимость диалектического процесса имеет
логический характер и потому действительна только для мышления о мире, а
не' для него самого. Сам процесс диалектики с внешней стороны
представляет собой последовательный ряд попыток мыслящего разума
добраться до сути вещей, не прибегая для этого к эмпирическому
исследованию реальности.
Логическая необходимость перехода от одного определения реальности к
другому заключается в усмотрении противоречия, несоответствия между
выдвинутым определением и тем смутным понятием о реальности, которое
имелось в виду определить, т. е . в обнаружении несоответствия того, что
высказано, тому, что хотелось сказать. Противоречие между замыслом и; его
осуществлением заставляет сознание отказаться от первоначального
определения и сформулировать иное, более адекватное. «Движущая сила
диалектики заключена в связи абстрактной идеи, которая явно высказана
духом, с конкретной идеей, которая еще только подразумевается всем
содержанием опыта и сознания... Переход от категории к категории нельзя
рассматривать как действительное движение вперед, порождающее то, чего
ранее не было, но как движение от абстракции к конкретному целому, от
которого была произведена эта абстракция, как обоснование и выявление
того, что прежде только подразумевалось и было лишь непосредственно
дано, но все же только реконструкция, а не создание заново».25
Диалектика, стало быть, есть процесс воссоздания, а не создания,
реконструкции, а не конструкции, повторения, а не творения. Эта мысль
действительно важна для понимания архитектоники системы Гегеля и
генезиса противоречия между диалектикой и метафизикой в ней. В нашей
литературе часто встречается положение о том, что диалектика Гегеля
«обращена в прошлое», но эта верная мысль, как нам кажется, не до конца
раскрывается. Обычно имеют в виду, что у Гегеля история «застывает» на
современной мыслителю ступени развития. Но дело не только в этом.
Гегелевская диалектика вообще есть ретроспекция, возвращение мысли
«вспять» для того, чтобы снова вернуться к себе, но уже
обогащенной опытом путешествия к «истокам» и реконструкцией всех
пройденных ступеней.
Следовательно, весь процесс имеет смысл лишь при том условии, что мы
уже достигли конечного пункта, мы «у себя дома» и вспоминаем, «как много
пройдено дорог». Это, конечно метафора и какая-то близкая к обыденному
опыту символизация таинственного диалектического движения «понятия».
Труднее всего как раз понять, как это «мы», кто «вспоминает» и мысленно
воспроизводит путь к действительности настоящего. Но во всяком случае
«конечность» развития или прямая невозможность бесконечного развития
заранее предусмотрена в механизме гегелевской диалектики, что коренным
образом отличает ее от научной методологии Маркса, Энгельса, Ленина.
Отмечая реконструктивный характер логического движения понятий, Мак-
Таггарт обращает внимание на то, что действительный исходный пункт всего
процесса не совпадает с первой категорией «Логики» и первым разделом
всей гегелевской системы: «Логически первым в системе является дух, а не
чистая мысль».26 Отсюда восхождение от абстрактного к конкретному
объясняется тем, что низшие категории не имеют независимого
существования, как абстракции высших. Здесь Мак-Таггарт повторяет
рассуждение другого известного в буржуазных кругах авторитета в данной
области — Ж. Ноэля, который в книге «Логика Гегеля» писал:
«Диалектический процесс с необходимостью переворачивает истинные
отношения между идеями. Восходя от абстрактного к конкретному,
диалектика идет не от основания к следствию, но от следствия к
основанию».27 Так продолжается до тех пор, пока мысль не проникает на
самое дно, не упирается в фундамент, несущий на себе все огромное здание
системы.
Опираясь на эти принципы, можно легко и просто воспроизвести
архитектонику всей системы, если, разумеется, рассматривать диалектику
как метод, с помощью которого индивидуальное человеческое сознание
усваивает абсолютную истину. Правомерность подобного понимания
субъекта диалектического процесса Мак-Таггарт даже не обсуждает, зато у
него получается изящная и внутренне последовательная конструкция.
Познающий субъект сначала определяет реальность как абсолютную идею,
затем обнаруживает, что идея — только абстракция помимо природы, а
природа, в свою очередь, есть лишь искусственно изолированный момент
духа.
С этой точки зрения переход идеи к природе не имеет онтологического
смысла и, следовательно, не означает создания мира из ничего, но
предполагает «экзистенциальное суждение», т. е . признание реальности как
предпосылки всего процесса. В свое время именно по этому пути шли
младогегельянцы, изображая своего учителя атеистом и ниспровергателем
прогнивших устоев.
Итак, цель диалектики — выявить ту конкретную идею, которая и
представляет собой адекватное логическое определение реальности.
Конкретная идея как бы вбирает в себя все те абстрактные определения,
которые последовательно принимаются) и отвергаются в ходе
диалектического исследования. Однако как узнать, выражает ли данное
определение природу реальности или нет, следует ли остановиться на нем
или идти дальше в своем исследовании? Иначе говоря: где критерий,
позволяющий отличить абстрактное определение от искомой «конкретной
идеи»?
Такой критерий Мак-Таггарт усматривает в наличии противоречия в
данном понятии или определении. Симптомом абстрактности определения
является его противоречивость, ибо противоречащее себе определение
переходит в свою противоположность, которая выступает как дополнение
первоначального понятия, обнаруживая тем самым его неполноту.
Абстрактность понятия есть не что иное, как его неполнота, ограниченность,
«конечность». Отсюда признаком «конкретной идеи» — истинного
определения реальности — служит непротиворечивость, условием которой
является синтез противоположностей. Если противоположности находятся в
единстве, то противоречие исчезает, так как оно существует только до тех
пор, пока противоположности исключают друг друга, рассматриваются как
чуждые и «внешние» по отношению друг к другу.
Таким образом, в отличие от Брэдли Мак-Таггарт идет вслед за Гегелем,
признавая синтез противоположностей делом мышления, а не интуиции.
Развивая этот тезис, Мак-Таггарт приходит к выводу, что «два
противоречащих предложения ... должны быть приведены в гармонию и
примириться в синтезе... Две стороны противоположности оказываются не
столько ложными, сколько одновременно истинными... Их надлежит поднять
в более высокую сферу, где сохраняется истина обеих».28 Поэтому цель
диалектики — преодоление противоречий, примирение противоположностей,
ибо противоречивость означает несовершенство, незаконченность, указывает
на необходимость перехода к «другому», выполняя тем самым чисто
негативную функцию.
Отсюда следует, что диалектическое мышление не отрицает законов
формальной логики, особенно закона противоречия, или, вернее,
непротиворечия, но, наоборот, основывается на них. Диалектика нужна для
того, чтобы преодолевать противоречия, а не культивировать их.
Проблема, которая скрывается за этими формулировками, очень сложна, и
потому при оценке данного тезиса Мак-Таггарта не следует торопиться. В
нашей литературе можно встретиться с тенденцией противопоставления
диалектической логике логике формальной, противопоставления основных
законов обеих этих наук. Эта тенденция имеет традицию, уходящую своими
корнями, как нам представляется, в некоторые положения Г В. Плеханова,
некритически воспринявшего кое-какие высказывания Гегеля. Речь идет не
столько об ошибках Г. В . Плеханова, сколько о не совсем точных его
определениях и недостаточно гибких формулировках.
Стремясь пояснить положения Маркса и Энгельса о специфике
диалектического мышления по сравнению с формальнологическим,
Плеханов, в частности, писал: «Как покой есть частный случай движения, так
и мышление по правилам формальной логики (согласно «основным законам»
мысли) есть частный случай диалектического мышления».29 Выходит, что
диалектика не подчиняется законам формальной логики, хотя в «предельном
случае» может совпадать с ней так же, как, скажем, уравнения движения
теории относительности при скоростях, ничтожно малых по сравнению со
скоростью света, превращаются в уравнения классической механики.
Думается, однако, что соотношение диалектической и формальной логики не
может быть рассмотрено на этой модели.
В обсуждении данного вопроса следует, по нашему мнению, исходить из
широкоизвестного ленинского положения о том, что противоречия «живой
жизни» и противоречия неправильного рассуждения — не одно и то же. Надо
только как следует продумать это высказывание, и тогда станет ясно, что
диалектическое отражение жизни предполагает сохранение
формальнологической последовательности наших мыслей о реальности, т. е .
соблюдение законов формальной логики, причем соблюдение этих законов
является необходимым (хотя и недостаточным) условием диалектического
отражения.
Следовательно, отражение объективных противоречий в мышлении должно
быть непротиворечивым. Точность и тщательность формулировок в этом
пункте крайне важна по той причине, что враги марксизма упрекают
диалектический материализм в «иррационализме», в отрицании современной
формальной логики, а это ведь не архаичная аристотелевская силлогистика,
набор утомительных прописных истин, кодифицированных схоластами в
средние века. Современная формальная логика — это огромный аппарат
«мощных разрешающих процедур», доказавших свою плодотворность в
самых разнообразных областях науки и техники. Говорить, что
диалектическая логика «отрицает» формальную, игнорирует ее законы или
что эти законы только «частный случай», значит в какой-то степени
облегчать работу антимарксистам, облыжно утверждающим будто
диалектический материализм противоречит науке.
Повторяем, что речь идет только о не совсем удачной форме выражения
правильной по существу мысли о том, что формальнологические законы не
исчерпывают содержания диалектической теории мышления.
Диалектическая логика живет не по соседству с формальной и не находится с
ней «на ножах», как это часто бывает с соседями, она реализует себя внутри
и по средством абстрактных рамок логики формальной.
Что же касается позиции Гегеля, то она далеко не была столь однозначной,
как это изображает Мак-Таггарт. Как показало специальное исследование,
проведенное проф. И . С . Нарским, у Гегеля можно найти несколько точек
зрения на соотношение формальной логики и диалектики. Иногда он
«признавал возможность такой интерпретации формальной логики, при
которой она не только не противоречит диалектике, но, наоборот, способна
эффективно выражать структуру диалектических процессов».30 Этот взгляд
и выражен в комментариях Мак-Таггарта. Но кроме этого взгляда у Гегеля
встречается и другой (И. С . Нарский считает его главенствующим), который
состоит в неправильном отождествлении формальной логики с
метафизическим методом мышления.
Советский исследователь весьма убедительно вскрывает внутреннюю
диалектику такой позиции, которая легко может быть направлена «против
диалектики разума (ибо влечет к иррационализму) и даже против
абсолютного идеализма... Таким образом, диалектика теряет определенность
и может быть использована для доказательства чего угодно».31 Наконец, для
Гегеля характерно и эклектическое рядоположение формальнологического и
диалектического подходов, без ясного сознания перехода от одного к
другому, «употребление сразу нескольких понятийных систем, не
совмещающихся друг с другом».32 Это последнее обстоятельство в
особенности запутывает читателя и мистифицирует суть дела.
Само собой разумеется, что все эти колебания, двусмысленности,
противоречия нельзя переносить в научную теорию диалектики, в
марксистско-ленинскую философию. В этом пункте очень важно
отмежеваться от «шелухи гегельянщины», копирования гегелевской
фразеологии, часто подразумевающей следствия, совершенно несовместимые
с научным мировоззрением и последовательной борьбой с фидеизмом и
мистикой.
Из всего сказанного по данному вопросу не следует, конечно, что позиция
Мак-Таггарта совпадает с диалектико-материалистическим решением
проблемы. Чтобы в этом убедиться, достаточно вспомнить, что, по
мнению шотландского философа, диалектика свойственна только мышлению
и только в той мере, она и находится «в пути», путешествует в поисках
«абсолютной истины», которую уже содержит «в себе», но не «для?». В
соответствии с этим он считает, что противоречия существуют лишь в нашем
мышлении, в самой же действительности их нет. «В диалектике всегда
совершается переход в противоположность, а затем синтез
противоположностей. Мы не идем прямо вперед, а бросаемся из крайности в
крайность. Отсюда кажется неизбежным заключить, что диалектика не
вполне правильно выражает природу мысли. Эти отношения (между
противоположностями. — М . К .) в большей или меньшей степени отмечены
ошибкой, через которую человеческий ум постепенно достигает истины. Они
неадекватно выражают отношения, существующие на самом деле. В этом
смысле диалектика субъективна».33
С этой точки зрения сама диалектика обязана своим существованием
дефектам нашего мышления, которое не в состоянии сразу постигнуть
природу реальности и потому избирает окольный путь постепенного
преодоления противоречий, создаваемых абстракциями рассудка.
«Противоречия являются причиной диалектического процесса. Но это
потому, что существование противоречий есть признак заблуждения...
Истина заключается не в противоречиях, она состоит из моментов, которые,
будучи разделены, становятся противоречиями, но в своем единстве вполне
совместимы друг с другом».34
Одновременно Мак-Таггарт, в противоположность Гегелю, старается
свести на нет значение отрицания в диалектическом процессе, обращая
внимание главным образом на «суммативный», кумулятивный эффект
логического движения. «Роль отрицания в этом процессе только
второстепенна. На самом деле главной стороной диалектики является
тенденция конечной категории не отрицать, а дополнять себя».35 Но и здесь
он опирается на непоследовательность самого немецкого философа, который,
провозгласив движущей силой диалектики «начало чистой
отрицательности», далеко не во всех звеньях своей категориальной схемы
следовал этому принципу.
Комментатор верно подметил, что отрицание играет неодинаковую роль в
различных разделах «Логики». Если в сфере бытия Гегель строго
придерживается классической схемы триады, то в сферах сущности и
понятия дело зачастую обстоит иначе. «Когда мы попадаем в сферу
Сущности, переход от тезиса к антитезису еще совершается от утверждения к
отрицанию, но означает уже больше, чем это. Антитезис не просто дополняет
тезис, но уточняет его. Поэтому он обладает большей конкретностью и
истинностью, чем тезис, и представляет собой реальный прогресс. И переход
к синтезу совершается теперь не столько от сравнения обеих
противоположностей сколько от одного антитезиса».36
В области понятия же антитезис фактически исчезает, и место триады
занимает, как говорил сам Гегель, «органическое развитие» — переход от «в-
себе» к «для-себя», в котором движение происходит от положительного к
положительному. Это возрастание позитивного элемента по сравнению с
негативным по мере приближения диалектического процесса к концу
действительно составляет особенность гегелевской конструкции,
особенность, которая еще не получила развернутого объяснений в
марксистской литературе.
Завершающей стадией движения в стихии логического является
категория абсолютной идеи. Здесь, естественно, возникает вопрос, каково же
содержание этой категории? Как известно, ответ Гегеля на сей счет
маловразумителен. Недаром Энгельс говорил, что последнюю категорию
«Логики» Гегель назвал абсолютной идеей именно потому, что он абсолютно
ничего о ней не мог сказать.
Интерпретация же, данная Мак-Таггартом абсолютной идее, ошеломляет
своей неожиданностью. Вспомним цепочку категорий, непосредственно
предшествующих абсолютной идее: механизм — химизм — жизнь —
идея познания — идея добра (некоторые промежуточные
ступени опущены). Основная проблема этих категорий — отношение частей
и составляющего их целого, различия и единства. Механизм представляет
собой агрегат равнодушных и чуждых друг другу частей, соединяемых
внешней связью. Реальность, понимаемая как механизм, дает картину
множества индивидуальных объектов, лишенных внутреннего единства.
Очевидно, что механизм не может быть истинным порядком вещей, так как
связующее вещи единство является чисто внешним, случайным
фактором. Чтобы мировой порядок не распался, необходима некая
внутренняя сила, которая па первых порах выступает в виде химического
сродства.
Однако и химизм не дает истинной характеристики объективности. Теперь
связь между вещами выступает как нейтрализация различных объектов, т. е.
как тождество, исключающее различие, в то время как механизм, наоборот,
воплощал в себе различие, исключавшее момент единства, тождества. Только
в категории жизни, кажется, осуществлено примирение противоположных
моментов. В самом деле. Ни один член живого организма нельзя вырвать из
связи целого без того, чтобы жизнь его не покинула и он не превратился бы в
кусок мертвой плоти. Но и на этой ступени объективность не достигает
полной гармонии: в организме момент целого, момент единства подавляет
момент различия, что как раз и находит выражение в невозможности
самостоятельного существования отделенных от органа членов. Стало быть,
подлинное единство в различии на той ступени еще не осуществлено, так
как-само-то различие всего лишь «идеально», а не реально. Только та
категория является адекватной характеристикой реальности, в которой
единство столь же действительно, сколь и различие. Какова же эта
категория?
Прежде чем ответить на этот вопрос, необходимо выяснить, где должно
находиться это единство — в самих индивидуальных вещах или вне их? Если
в самих индивидуальных объектах, то непонятно, чем же тогда эти вещи
различаются, и мы снова приходим к плоскому тождеству без различия. Но
единство не может находиться и вне индивидуальных вещей, ибо тогда мы
снова возвращаемся к неразрешимому противоречию механизма.
Следовательно, это единство должно каким-то образом быть и в самих вещах
и вне их. Как разрешить это противоречие? В категории «жизнь» это
оказалось невозможным. Значит, надо идти дальше, а дальше у Гегеля
категории «идея познания» и «идея добра»; абсолютная идея — их синтез,
уравновешивающий односторонность теоретической и практической
деятельности человека (ибо таково реальное содержание двух предыдущих
понятий). Каков же тогда смысл завершающей категории «Логики»?
По мнению Мак-Таггарта, это может означать только одно: «Все, что
существует, образует Вселенную, составленную из Индивидуумов, и эта
Вселенная вместе с каждым Индивидуумом образует органическую систему,
так что отношение, которое возникает между системой-Вселенная (the
Universe-system) и каждой из систем-Индивидуумов, представляет собой
совершенную гармонию».37 Вот теперь мы достигли «конечной станции» и
можно разрушить «леса», с помощью которых мы постепенно поднялись к
познанию абсолютной истины.
Гармония единства и различия воплощается в абсолютной идее благодаря
тому, что Мак-Таггарт называет «парадоксальной природой нашего «я». «Что
оно включает? Все, что составляет предмет сознания. «Что оно исключает?
Равным образом все, что становится предметом сознания. Что, можно
сказать, не находится внутри его? Ничего. А что не находится вне «я»?
Только абстракция. И всякая попытка устранить парадокс разрушает «я»
Локк избрал первую альтернативу (включил в субъект все содержание
сознания. — М. К .) и оставил факт поистине объясненным. (Грин -
родоначальник англогегельянства подошел очень близко ко второй
альтернативе. Рассматривать содержание сознания исключительно как
внешнее по отношению к субъекту. — М. К .) и пропорционально этому
приблизился к абсурдному постулату знания без познающего субъекта».38
«Парадоксальная природа» сознания, обнимающего собою весь мир и
одновременно конденсирующегося в индивидуальный атом субъективности,
и служит опорой органической связи Вселенной. Но эта органическая связь,
по мнению Мак-Таггарта ни в коем случае не допускает истолкования в духе
монизма ибо реализуется лишь в сознании индивидуумов. Поэтому абсолют
сам по себе не является отдельной индивидуальностью (как это было у
Брэдли): «Можно было бы сказать о колледже, как и об Абсолюте, что он
представляет собой единство, что это единство духа, осуществляющееся в
личностях. Все же колледж не личность. Это единство личностей, но не
личность».39
Таким образом, шотландский философ переосмысливает философию
Гегеля в традиции радикального персонализм; для которого «не существует
ничего, кроме личностей, групп личностей, элементов личностей».40 В связи
с этим он считает необходимым расстаться с понятием бога: «Было бы лучше
отойти от гегелевского словоупотребления и сказать, что Абсолют — это не
Бог и что, следовательно, Бога нет».41 Но в качестве компенсации он
предлагает обратить особенное внимание на бессмертие души, сетуя на то,
что Гегель придавал ему мало значения.)
Любопытно, что буржуазные историки философии именуют взгляды Мак-
Таггарта (высказываемые им от имени Гегеля) «атеистическим идеализмом».
Это совершенно несостоятельная точка зрения, ибо труды шотландского
философа, как комментаторские, так и оригинальные (в особенности
двухтомный трактат «Природа существования»), проникнуты глубоко
мистическим духом. Отрицая личного бога, Мак-Таггарт просто
отворачивается от христианского монотеизма, но не порывает с религией
вообще. Об этом свидетельствует, в частности, анализ христианского
понятия троицы в «Исследованиях гегелевской космологии». В то время как
Гегель, ревностно демонстрируя свою ортодоксальность, заботливо наряжает
этот догмат в одежду спекулятивной терминологии, Мак-Таггарт заявляет,
что «Отец и Сын — это просто абстракции, которые создает мыслитель на
основании конкретной реальности Духа Святого».42 Святой дух, или, иначе
говоря, церковь, понимаемая в «высшем смысле» совершенного духовного
братства людей, сплоченных единством «любви», — вот что представляет
собой абсолютная реальность по Гегелю в интерпретации Мак-Таггарта.
Называть эту концепцию «атеистической» по меньшей мере странно.
Насколько же оправдана персоналистическая интерпретация абсолютной
идеи? Ключ к пониманию гегелевской системы дает понятие «субстанции-
субъекта», которое, как показал Маркс, объединяя спинозовскую субстанцию
с фихтевским самосознанием, представляет собой «метафизически
переряженное единство обоих факторов»,43 т. е . единство человека и
природы. Гегель сумел преодолеть натурализм Спинозы, растворявший
историческое творчество человека в неизменном космическом механизме
природы, и субъективизм Фихте, отрывавший целеполагающую деятельность
людей от ее природно-вещественной основы. Однако по своему
обыкновению он мистифицировал это открытие, сформулировал свою
позицию в виде интуитивного предвосхищения, рациональный смысл
которого требовал расшифровки.
Понять лучшее в Гегеле означало превзойти его точку зрения. Это удалось
сделать только Марксу и Энгельсу с революционной позиции рабочего
класса. В буржуазной же философии дело свелось к одностороннему
развитию изолированных мотивов наследия великого идеалиста. Мак-Таггарт
ближе к Гегелю по сравнению с Брэдли, так как он ясно понимает, что
абсолютная идея, аккумулируя в себе содержание категорий «жизнь», «идея
познания», «идея добра», обязательно должна как-то характеризовать
сообщество людей, а не сверхчеловеческую «целостность», что возвращало
бы к мистически истолкованному натурализму. Но персоналистическая
интерпретация принципа субстанции-субъекта тоже выхолащивает его
реальное содержание, которое заключалось в понятии общественно-
исторической практики.
Раскрыв понятие абсолютной идеи в духе персоналистической
монадологии (в противоположность монистической трактовке Брэдли), Мак-
Таггарт переходит к проблеме применения диалектики в специальных
науках. Система гегелевской философии кроме «Феноменологии духа» и
«Логики» включает немало разделов богатейшего содержания. Философия
природы, философия истории и культуры (история философии, философия
религии, эстетика), несмотря на искусственность общего теоретического
построения, содержат, по выражению Энгельса, «бесчисленные
сокровища».44
Однако Мак-Таггарт считает, что приложение диалектического метода к
изучению природы и человеческой истории в ее материальных и духовных
проявлениях не может дать надежных результатов. Он утверждает, что
необходимым выводом из диалектики является иллюзорность времени и
пространства. Время по природе своей — это дурная бесконечность, «всякое
событие, совершившееся раньше. И это обстоятельство лишает событие
«самостоятельного существования. Время находится всегда за пределами
самого себя».45 Следовательно, «время не есть подлинная реальность».46 То
же самое относится и к пространству Поэтому ни мир природы, ни мир
истории не могут быть объектом диалектики, призванной определить
природу абсолютной реальности.
К этому Мак-Таггарт присоединяет и другие, уже «эмпирические»
соображения. Во-первых, диалектический процесс в «Логике» имел две
твердо фиксированные точки: начало и конец чистое бытие и абсолютную
идею, связанные между собой цепью имманентной логической
необходимости. В действительной истории «начала процессов слишком
далеко уходят в глубь веков для того, чтобы их можно было воспроизвести.
Концы же их слишком отдаленны, чтобы их можно было предвидеть».47 Во-
вторых, процессы, протекающие в различных областях исторической
действительности, отнюдь не синхронны. «Философия, например, начинается
для него (для Гегеля. —
М. К) в Греции, которая находится уже на второй
стадии исторического развития. История опять-таки начинается для него в
Китае, чья религия, однако, уже не находится на первой стадии развития.
Если эти три процесса оказывают влияние друг на друга, то, следовательно,
спонтанное развитие каждого из них... усложняется и затемняется
бесчисленным множеством посторонних влияний, вызываемых другими
аспектами реальности».48
Для того чтобы сделать применение диалектики эффективным, нужно
предварительно особым образом препарировать материал. «Обеих
трудностей можно избежать, если вместо того, чтобы прослеживать
диалектический процесс в событиях действительности, которые всегда
многосторонни и подвержены внешним воздействиям, мы обратимся к
исследованию какого-либо отдельного процесса, абстрагированного от
внешних влияний. Например, диалектический процесс можно проследить для
абстрактных моральных качеств, а не для конкретных моральных
действий».49
Таким образом, диалектика превращается в особого рода игру понятиями.
События «быстротекущей жизни», многообразие природы и истории ей не
подвластны. Плоское морализирование да умозрительное исследование
«конечной реальности» — вот все, что ей остается. Но это скорее
фихтеанское, чем гегелевское, понимание функций диалектического метода.
Для Гегеля диалектика и действительность во всей се полноте —
синонимы. Всюду он стремился проследить нить развития, как называл
Энгельс. Однако в той форме, в какой диалектика получила развитие в
философии Гегеля, она была непригодна в качестве инструмента научного
познания, и об этом еще раз запоминают комментарии Мак-Таггарта.
Шотландский философ не одинок в такой интерпретации диалектики. Как
справедливо указывает С. А . Эфиров, «основная линия критики закона
единства и борьбы противоположностей, наметившаяся еще у Мак-Таггарта,
нашла свое развитие в итальянском неогегельянстве, особенно в философии
Кроче».50 Кроче поддержал и второй тезис Мак-Таггарта: ограничение
диалектики сферой чистой мысли. Если индивидуальное и эмпирическое не
может быть отображено в диалектике понятий, то прямо напрашивается
вывод (которого, однако, оба упомянутые мыслителя предпочли не делать),
что бытие, существование как таковое недоступно мышлению.
Так неогегельянская концепция диалектики открывает шлагбаум
иррациональному, что признают и буржуазные историки философии. Мак-
Таггарт, пишет Э. Пачи, «разъясняет различие между существующим и
разумным, которые Гегель хотел отождествить. Подчеркнув это различие...
он решил ту же самую задачу, которую в лице Кьеркегора уже выполнила
экзистенциалистская критика Гегеля».51 Идеалистическая диалектика как
введение в экзистенциализм — таков результат философских исследований
неогегельянцев. Эту преемственность мы несколько позже разберем
подробнее, а пока остановимся еще на одной классической разновидности
диалектической концепции рационалистического толка.
Диалектика духа. Кроче, Джентиле, Коллингвуд
Представители итальянского неогегельянства, а также их английский
последователь Коллингвуд в истолковании противоречивого наследия Гегеля
сделали акцент не на концепции абсолюта, а на концепции процесса, избрав
предметом исследования не завершенную покоящуюся целостность, а
движение элементов в границах органического единства конкретного, них
диалектика приобретает, таким образом, позитивное знание и становится
моделью, абстрактной логической формой стороннего (?) ритма духовной
жизни. Не случайно все три философа типично перечисленные в заголовке
этого параграфа, считаются в ближайшими представителями так называемого
«историзма» — Историки Философии нашего времени.52
Итальянский «историзм» сформировался под прямым влиянием
марксистских идей. Основоположник этого течения Б. Кроче (1866 — 1952)
еще в юности слушал лекции замечательного теоретика и пропагандиста
марксизма Антонио Лабриолы, которого он высоко ценил до конца своей
жизни. Но Кроче и Джентиле идеалистически переосмысливали эти идеи в
интересах обновления теоретического фундамента своего «атеистического
спиритуализма» и скоро стали самыми влиятельными противниками
диалектико-материалистической философии в Италии. Вражда к научному
социализму даже привела Джентиле в стан оголтелой реакции: он связал
свою деятельность с фашистским режимом Муссолини и разделил его
судьбу. Кроче оставался на позициях буржуазного либерализма, внутренне
парализованного страхом перед рабочим движением и совершенно
неспособного к действительной борьбе с фашистским произволом.53
Для нас главный интерес представляет работа Кроче «Живое и мертвое в
философии Гегеля». С нее мы и начнем анализ. Сама постановка такого
вопроса плодотворна и безусловно навеяна марксистской критикой Гегеля.
Великим открытием немецкого мыслителя Кроче считает «форму мышления,
которая подвижна, как само движение, которая причастия жизни вещи и
мысленно воспроизводит ритм развития».54 При этом Кроче, осуждая
интуитивизм Бергсона, специально отмечает, что диалектика есть
«конкретное познание в форме мышления», тем самым заранее отклоняя
всякие попытки иррационалистического истолкования бессмертного
открытия Гегеля.
Диалектика, по мнению итальянского неогегельянца, представляет собой
«логику философии» в ее самобытной сущности, отличающей философское
мышление от остальных форм духовной активности. Структуру этого
мышления Кроче, прямо следуя за Гегелем, определяет так: оно
осуществляется в понятии, которое обладает всеобщностью (а не является
просто общим, как многие абстракции, которыми мы пользуемся) и
конкретностью. Условием конкретности понятия является его единство, а
«истинное и конкретное единство есть не что иное, как единство, или синтез,
противоположностей».55
Структура философского понятия не противоречит законам мышления, а
складывается при помощи их: «Гегель скорее придал закону тождества
новую жизнь, новую силу, чем отбросил его. Мыслимая противоположность
есть противоположность преодоленная и преодоленная благодаря принципу
тождества».56 Точка зрения конкретного единства сразу позволяет подняться
над полем битвы односторонних философских принципов и преодолеть
«серию дуализмов», внесенных в картину абстрактным мышлением,
желающим признавать то одно плоское единство, то непреодолимую
противоположность. Гегель положил конец упрямому стремлению рисовать
жизнь ишь одной краской или, наоборот, возводить в сознании
непроницаемые перегородки, которых не существует в действительности.
Как видно, Кроче отстаивает принцип диалектического монизма,
опирающегося на органическое «сращение» категориальных определений
реальности. Для него конкретное вполне выразимо мышлением, если оно
сбросит с себя оковы слепого подражания математическому естествознанию
и всяким вообще специальным наукам, абстракции которых предназначены
для ограниченного употребления в рамках изолированной предметной
области. В то время как для Брэдли и Мак-Таггарта диалектика есть лишь
путь к истине, а не сама истина, для Кроче дело обстоит как раз наоборот:
диалектика тождественна самой природе реальности, она и есть «последняя
истина» о ней, в диалектике сознание проникается тем самым движением,
которое одушевляет Вселенную и заставляет «пульсировать» жизнь.
В интерпретации итальянского философа как будто бы впервые зазвучал
лейтмотив гегелевской философии, ее самая задушевная идея, отодвинутая в
сторону множеством авторитетных комментаторов, снова получила права
гражданства в сфере теоретической мысли. Кроче действительно успешно
возродил и талантливо популяризировал гегелевскую диалектику, но внес в
ее теорию свои коррективы, которые еще теснее связали концепцию
тождества противоположностей с идеалистическим мировоззрением, чем это
было у самого Гегеля, неправомерно отождествившего материализм с
метафизическим способом мышления. Несмотря на неприязнь немецкого
философа к материалистическим взглядам, его воззрения сплошь и рядом
вплотную соприкасаются с ними.
Анализируя заключительные положения «Логики», В. И . Ленин отмечал:
«Переход логической идеи к природе. Рукой подать к материализму. Прав
был Энгельс, что система Гегеля перевернутый материализм».57 Именно для
того, чтобы исключить всякую возможность «материалистического
прочтения» философии Гегеля, Кроче вносит свои уточнения в его теорию
диалектики. Основным заблуждением Гегеля Кроче считал против немецкий
философ «рассматривал на манер диалектики форму противоположностей
связь степеней: он применяет к этой связи триады, которая присуща синтезу
противоположностей. Теория различных понятий и теория
противоположностей слились у него в одно».58
Кроче не отрицает правомерности синтеза противоположностей, как
считают некоторые авторы, он лишь считает эту схему неприменимой в том
случае, когда речь идет о понятии духа и классификации форм его
деятельности. Такая классификация не подчиняется ни схеме диалектики, ни
правилам формальнологического рядоположения видов, на которые
подразделяется родовое понятие. Понятие духа характеризуется конкретной
всеобщностью, поэтому виды данного понятия стоят в особом отношении
друг к другу, и это отношение он обозначает термином «связь степеней». По
своей логической структуре «связь степеней» существенно отличается от
триады. «В связи степеней а снимается (в гегелевском смысле Aufheben. —
М. К .) Ь, т. е . снимается в качестве независимого и сохраняется в качестве
зависимого (от Ъ. — М . К .): дух, переходя от искусства к философии,
отрицает искусство и одновременно сохраняет его как форму выражения
философии. В соотношении противоположностей аир, различающихся между
собой, оба снимаются и сохраняются, но только метафорически, так как в
действительности а и р не существуют по отдельности».59
В триаде только синтез конкретен и реален, а отдельные стороны
противоположности суть абстракции, вычленяемые лишь мысленно. В «связи
степеней» «а и б суть два концепта, из которых второй произволен и
абстрактен без первого, но в связи с ним столь же реален и конкретен, как и
первый. В противоположность этому аир вне у (их синтеза. — М . К .) не суть
понятия, но лишь абстракции одного и того же конкретного понятия у».60
Проблема состоит вот в чем. Когда мы пытаемся выработать определение
реальности и отправляемся от исторически обозначившихся в философии
противоположностей (таблица противоположностей была уже у
пифагорейцев) — так называемых «парных категорий», то правило
диалектического синтеза действует безотказно. «Сущность является, явление
существенно» — эта ленинская формула может рассматриваться как
парадигма всех вообще диалектических определений реальности. Кроче
обращает внимание на другое. Допустим, наша задача состоит в том, чтобы
раскрыть диалектику форм общественного сознания (мы намеренно
переводим рассуждение в категории марксистской философии, чтобы лучше
уяснить суть дела). Можно ли в этом случае пользоваться формулой единства
противоположностей? Разумеется, можно, но не безусловно, не безгранично,
а в определенных пределах, т. е . поскольку мы выясняем структуру какой-
либо отдельной (все равно какой именно) формы общественного сознания.
Но соотношение форм общественного сознания между собой, конечно, не
подчиняется правилу триады — снятия абстрактных противоположностей в
высшем единстве. В этом и состояла характерная ошибка Гегеля, ибо он
пытался установить единое отношение субординации между искусством,
религией и философией (под которой он понимал «абсолютную науку»). Но
разве можно рассматривать философию или науку (повторяем, для Гегеля это
были синонимы) как синтез религии и искусства? Конечно, нет. Отношение
между формами общественного сознания не укладывается в схему
распадения на противоположности, взаимно отрицающие друг друга, и
последующего их воссоединения в конкретное целое. Разве искусство есть
«абстрактный момент» науки?
С марксистской точки зрения такая постановка вопроса совершенно
абсурдна. Формы общественного сознания суть относительно
самостоятельные, различающиеся по своей сущности элементы того
конкретного единства, которое в историческом материализме получило
название «духовной жизни общества».
Таким образом, отношение между различными по своей, сущности
формами действительно имеет место, и термины этого отношения сохраняют
свое самостоятельное бытие, а не выступают только в качестве абстракций от
некоего «более высокого» целого. Наука продолжает существовать «рядом» с
искусством в органической связи с ним, между ними происходит довольно
сложный процесс взаимодействия, в котором на разных этапах
исторического развития по-разному складывается «соотношение сил» и
взаимный обмен опытом. В самом теоретическом мышлении есть
эстетические моменты, и, наоборот, в художественном творчестве, опять-
таки в разное время по-разному, дают себя знать плоды абстрактной мысли.
В марксистско-ленинской философии недостаток гегелевской схемы, о
котором говорит итальянский неогегельянец, был практически устранен
задолго до него, и точно так же задолго до Кроче основоположники
марксизма отвергли гегелевское злоупотребление триадой, превратившееся в
настоящую манию у его ортодоксальных учеников.
Но Кроче выступил не только и не столько против упомянутого недостатка
схемы Гегеля. Его заботит очищение гегелевского идеализма от инородных
примесей. Он хочет «на самом деле» сделать из доктрины Гегеля
«философию духа», не только по названию, но и по существу
последовательно провести спиритуалистический монизм. Слишком много
вобрала в себя эта самая грандиозная в истории домарксистской мысли
философская система, которая претендовала на то, чтобы подвести итог не
только всему человеческому познанию, но и самому историческому
развитию. И Кроче принимается за «переучет», «инвентаризацию»
ценностей, заслуживающих сохранения, и ликвидацию ненужного балласта.
Он обращает пристальное внимание на главную триаду системы: идея —
природа — дух. По Гегелю, единственно конкретным и в полной мере
реальным является последнее звено в ней — дух. То же самое думает и его
итальянский последователь, но он полагает, что триадическая форма
скрывает в себе «непреодоленный дуализм» бога и мира, природы и духа. Он
углубляется в смысл противоположности между идеей и природой и
открывает в ней (вслед за Фейербахом, на которого не считает нужным
сослаться) теологическую концепцию «логоса». «В итоге этот Логос...
обнаруживает себя как иррациональная основа старой метафизики — Бог».61
Кроче, как и Мак-Таггарт, «против бога» в его обычном понимании, считая,
что спиритуалистический «имманентизм» (бог в ортодоксальном смысле
всегда есть некто «трансцендентный» миру) представляет собой
«единственную радикально иррелигиозную философию», ибо она не
довольствуется противопоставлением себя религии и не ставит себя на ее
место, но преодолевает ее в себе самой. С этих позиций не может быть ни
природы, относительно самостоятельной по отношению к духу, как у Гегеля,
ни идеи, отделенной от духа диалектическим опосредованием. «Когда бытие
рассматривается как нечто внешнее для человеческого духа, а знание — как
отделимое от его объекта, так что объект мог бы существовать, не будучи
познанным, то очевидно, что существование становится простым данным,
чем-то помещенным перед духом... который никогда не смог бы сделать его
(данное. — М. К .) своим собственным содержанием, не прибегая... к
иррациональному акту веры. Но вся философия... показывает, что нет ничего
помимо духа и нет данных, сталкивающихся с ним. Сами понятия внешнего,
механического и природного мира не внешние данные, но данные того же
самого духа. Дух формирует так называемый „внешний" мир, потому что он
наслаждается этим формированием, и снова уничтожает его, когда перестает
испытывать радость от него».62
В результате этого преобразования диалектический процесс, изображенный
в «Логике», уже никоим образом нельзя считать гениальным
предвосхищением эволюционной теории и всеобщего принципа историзма.
Кроче устранил такую возможность, последовательно продолжив
гегелевскую мысль о логическом развитии идеи вне времени и пространства.
Развитие духа не есть последовательное развертывание его в геологическом и
историческом времени, это «вечная идеальная история», как говорил
Джамбаттиста Вико, которого Кроче считает самым блестящим
представителем диалектики до Гегеля.
Движение духа происходит в замкнутом круге его основных форм, и
потому бессмысленно искать, где начало этого движения и где его конец:
вращение не позволяет различить конечный пункт и исходную точку. Каждая
форма круговорота имеет значение сама по себе, а не как ступень для
перехода к чему-то иному, здесь нет антагонизма, а следовательно, и
необходимости преодолевать противоречия. Дух — это живая подвижная
гармония, складывающаяся из бесконечного множества циклов, которые
состоят из одних и тех же фаз. Противопоставляя свою модель
диалектического движения гегелевской, Кроче пишет: «Если бы этот
идеальный переход (от одной формы к другой. — М . К .) определялся
противоречием внутри определенной ступени, потом невозможно было бы
вернуться к этой ступени, коль скоро ее противоречивость познана. Возврат к
ней означал бы вырождение или попятное движение. Кто, однако, мог бы
объявить ложной или противоречивой ту или иную существенную форму
человеческого духа?».63
Таким образом, здесь постулируется равноправие и равноценность
основных видов духовной деятельности, но что же это за виды, конкретное
понятие которых должна выработать философия? В своей работе о Гегеле
Кроче старается определить, чего не должна вмещать в себя подлинная
философия духа, и исключает из нее натурфилософию и философию
истории: «Философия природы, философия, которая имела бы своей основой
естественные науки, есть... противоречие в определении, ибо это означает
попытку философски мыслить те произвольные понятия, которые философия
не может познать и освоить ни для того, чтобы их подтвердить, ни для того,
чтобы их отвергнуть».64
Этот вывод можно было предвидеть, ибо мы уже знаем, что согласно Кроче
философские понятия принципиально отличаются от естественнонаучных,
как полный жизни логический организм отличается от скелета абстракций. В
своей «Логике» он заходит еще дальше, прямо называя концептуальные
средства естествознания и математики «псевдопонятиями». Понятия
эмпирических наук «кошка», «собака» (это излюбленные примеры
итальянского мыслителя) лишены всеобщности и годятся только для
практических целей классификации объектов. Математические понятия
обладают всеобщностью, но зато лишены конкретности, органической связи
друг с другом: «Невозможно спутать треугольник с квадратом или кругом.
Свободное движение мыслится протекающим без каких бы то ни было
препятствий. Его невозможно принять за движение, при котором
встречаются препятствия».65
Такие «конструкты» обладают большой точностью и четко очерченными
границами, позволяющими однозначно определить их содержание
независимо от остальных понятии того же рода, но эта точность достигается
за счет полной изоляции от реальности. В действительности нет ни прямых
линий, ни идеальных газов, ни математических точек — словом, ни одной из
тех абстрактных моделей, которыми пользуются специальные науки и
пользуются тем больше, чем больших успехов они добиваются. Эти
псевдологические образования порождены исключительно соображениями
практической целесообразности, они в точном смысле слова являются
орудиями деятельности и больше ничем.
Снова, как и у Брэдли, мы встречаемся с прагматистской интерпретацией
концептуального аппарата науки с той только разницей, что наряду с
инструментальной деятельностью признается еще подлинно «теоретическое»
—
философское мышление, осуществляющееся в особой сфере и совершенно
независимое от достижений эмпирического исследования природы и
общества. Мы уже отмечали противоестественное отделение теории от
практики, характерное для этой концепции, и хотим добавить, что
крочеанский идеализм обнаруживает явное сходство с махистской
«философией науки».
Дело в том, что, по учению Кроче, научное знание есть вовсе не познание, а
форма «экономической деятельности», обеспечивающей человека всем
необходимым для жизни и удовлетворяющей его потребности не как
духовного существа, но как зоологического индивида, нуждающегося в
приспособлении к среде обитания. Это прямо перекликается с концепцией
Авенариуса и Маха об «экономической функции» науки, столь восхитившей
некоторых представителей русской социал-демократии, что они
вознамерились на этом основании «увязать» махизм с марксизмом. Но,
конечно, из одной и той же концепции науки Кроче и эмпириокритики
делают разные выводы.
Итальянский философ необычайно гордился своей концепцией
экономической формы деятельности духа и даже думал, что ему удалось
учесть в философии духа рациональный смысл материалистических учений.
«На протяжении веков формы и категории реальности и духа, высшие
ценности делились по всеобщему согласию на триаду: истинное, доброе и
прекрасное, а мое мнение состоит в том, что нам следует включить в эту
триаду четвертый термин — Экономическое, или Жизненное, термин,
которым пренебрегали и который презирали, считая его
материалистическим, философы, не осмеливавшиеся восстать против
традиционной триадической концепции».66
Из этого высказывания видно, какие элементы включает в себя
рассматриваемая нами философия духа: логику (учение об истине), эстетику
(учение о прекрасном), этику (учение о добре) и «экономику» (учение о
пользе). В последнем случае невозможно удержаться от кавычек, ибо
принятая Кроче терминология противоречит обычному словоупотреблению.
Под «экономической деятельностью» он понимает всю совокупность
действий, совершающихся из соображений пользы и обладающих структурой
целесообразности, т, е. определением цели и выбором средств для ее
достижения.
При таком подходе в область экономического попадает все что угодно: не
только хозяйственная деятельность, но и политика — все вообще
утилитарное в поведении человека. Отсюда вполне понятно, с каких позиций
Кроче выступал против марксистской политической экономии, за что его
подняли на щит ревизионисты в мировом коммунистическом движении и до
сих пор с благодарностью вспоминают так называемые «марксологи». Он
всеми силами боролся с идеей объективной экономической основы мировой
истории и принципа детерминизма в анализе общественных явлений,
пытаясь растворить все социальные институты и структуры в деятельности
сознания, превращая субъективный фактор в единосущную субстанцию
общественной жизни.
Мы снова видим, как из критики полумистических, полупророческих
конструкций Гегеля высвобождается один из элементов, односторонность
которого ясно сознавал этот великий мыслитель, — фихтеанский
субъективизм, руководствующийся телеологической схемой объяснения,
замечающий в историческом процессе только одно: целеполагающую
активность человека. В крочеанской философии нет места для
действительной природы, являющейся необходимой предпосылкой и
возникновения общества, и его существования, его реальной диалектики.
Здесь слово «природа» означает всегда «человеческую природу» —
«практический процесс желаний, влечений, алчности (delle cupidita),
постоянно возобновляющейся удовлетворенности и неудовлетворенности,
волнений, наслаждений и скорбей».67
Итак, круговращение духа, в котором и состоит, по Кроче, его истинная
диалектика, осуществляется в формах экономического, эстетического,
логического и, наконец, нравственного сознания. К этому сводится
содержание «истинной философии» после устранения «пережитков
гегельянщины». Но так как дух «конкретен», все эти формы, хотя и
существуют реально в своей отдельности, органически между собой связаны.
Высшее согласно принципу «связи ступеней» обязательно включает в себя
низшее, в то же время низшее продолжает существовать независимо от
высшего. Так, философия с необходимостью предполагает искусство,
которое дает ей средства выражения теоретической мысли, а вся сфера
практического обусловлена теоретическим сознанием —
эстетическим и философским. В сфере практики высшая форма — этическая
деятельность — зависит от низшей, утилитарной активности.
В результате складывается определенная иерархия форм, которые и
составляют конкретное понятие духа. «Все формы духовной деятельности
снабжают жизнь творениями истины, красоты и пользы. Благодаря этим
трудам реальность созерцается и понимается, земля покрывается пашнями и
заводами, возникают семьи, основываются государства, тот сражается, тот
проливает свою кровь, тот побеждает и идет вперед. Что прибавляет
нравственность ко всем этим прекрасным, истинным и разнообразно
полезным вещам? Могут сказать: добрые дела. Но на самом деле добрые дела
суть не что иное, как произведения красоты, истины, пользы. Для того чтобы
воплотить себя, нравственность становится страстью, волей и
целесообразностью: она мыслит вместе с философом, отливает в форму
вместе с художником, трудится вместе с крестьянином и рабочим,
производит на свет детей, ведет управление, затевает войны».68
Вот резюме всей философии духа, и нельзя сказать, что мы находим здесь
действительно глубокий и новый взгляд на вещи. Скорее мы имеем дело с
обычным для идеалистической философии возвеличением нравственного
сознания, одушевляющего собою все остальные виды человеческой
деятельности. Кроче, конечно, прав, когда не хочет обособлять нравственную
деятельность от других сторон «духа», но это ведь элементарный исходный
пункт, а не теория морали, тем более-
—
не философия культуры. Да и
можно ли раз и навсегда установить «субординацию» форм культуры? Вряд
ли имеет смысл спорить, что «выше» и что «ниже» — наука или искусство,
нравственность или экономика. Все это очень похоже на сравнение «аршин с
пудами» и мало помогает научному философско-социологическому анализу
духовной жизни общества (ведь именно об этом, в сущности, ведет речь
Кроче, если отбросить его) идеалистическую терминологию).
Основные категории философии духа оказались недостаточно гибкими и
содержательными, чтобы вместить в себя сложную природу обозначаемых
ими феноменов. Поэтому на протяжении своей долгой жизни Кроче
приходилось несколько раз; менять позиции по ряду вопросов, и зачастую
его формулировки, прозрачно ясные по форме, содержат недомолвки,
колебания и даже противоречия. Особенно наглядно это проявилось в его
эстетической концепции. Некоторые исследователи различают у него
«четыре эстетики». Вначале Кроче видел сущность искусства в деятельности
чистой интуиции, в простой функции выражения индивидуального,
единичного. В этом своем качестве интуиция противостоит понятию, как
познание индивидуального — познанию всеобщего. Изложенная им в
1902 году концепция казалась стройной, законченной и совершенной, ибо с
самого начала позволяла обосновать автономию искусства и его
специфическое место в организме духовной культуры.
Но Кроче был не только чистым теоретиком, но и художественным
критиком, искусствоведом и историком огромной эрудиции. Он неустанно
стремился опробовать выработанные теоретические принципы в конкретных
исследованиях, и тогда-то в его мышлении и возникали противоречия,
которые он порою вынужден был преодолевать, дополняя первоначальную
концепцию таким образом, что это подрывало ранее выставленный принцип.
Так случилось и с эстетикой. Когда он попробовал применить свою
концепцию в изучении творчества Гёте и Ариосто, оказалось, что их
поэтический мир образует «космос», имеет всеобъемлющее содержание,
схваченное в индивидуальной перспективе, что, скорее (согласно его
отвлеченной теории), составляло функцию философии, но уж никак не
искусства. Когда Кроче обратился к исследованию поэзии Торквато Тассо, он
вдруг обнаружил, что исключительным по силе эстетическим эффектом
обладает изображение моральных коллизий и этических идей. Но это
открытие подрывало «чистоту» эстетической интуиции. Наконец, разбор
гомеровского эпоса заставил итальянского мыслителя развернуть концепцию
«поэтического выражения», проникнутого мыслью и «пафосом» —
«страстной любовью», тогда как прежде эстетическое вообще
отождествлялось с выражением.69
Перипетии крочеанской эстетики независимо от намерений ее создателя
обнаруживают невозможность «привязать» эстетическое к какой-либо одной
специализированной функции «духа» и тем самым ставят под сомнение всю
тщательно разработанную архитектонику его доктрины.
Новое затруднение для уже сложившейся системы философии духа
принесла проблема истории. С течением времени интересы Кроче с
традиционных проблем этики, эстетики, логики все больше перемещались в
область философии истории, но не в гегелевском ее понимании, о котором он
писал: «Философия истории, понятая не как разработка этой абстрактной
философии (т. е . реформированной Кроче. — М . К .), но как история второго
порядка, как философия, в то же самое время остающаяся историей...
содержит противоречие в определении».70
Кроче решительно отвергает содержательную интерпретацию исторического
процесса, попытку выяснить его закономерности и тенденцию развития
исторических событий. Все это он считает у Гегеля «мертвым». Единственно
возможное и доступное для теоретической мысли, по его мнению, — это
исследование специфики исторического познания, философская рефлексия
по поводу историографии — писаной истории, логика и гносеология
исторической науки. Это действительно реальные и важные проблемы,71 но
и в подходе к ним проявляется идеалистическая предвзятость Кроче, который
привлекает философию истории для подтверждения ранее (и независимо от
нее) выдвинутого тезиса о духовной природе реальности.
Для него действительная история, историческое бытие есть в конечном
счете то же самое, что и реконструкция в уме историка; историческая
реальность не существует независимо от ее познания, прошлое живет лишь в
настоящем и через настоящее. С другой стороны, совпадение субъекта и
объекта — обнаружение тождества «структуры исторического мира»
(Дильтей) и форм его сознания — только и делает возможной самоё
историческую науку. В историографии «дух» познает самого себя, утверждая
одновременно и свою реальность и объективность знания о прошлом. Дух
живет в знании о себе, а существование духа, в свою очередь, есть гарантия
того, что история является наукой и дает истину, а не просто рассказывает
более или менее занимательные побасенки.
Таким образом, с помощью философии истории Кроче сразу убивает двух
зайцев: «подтверждает» свой идеалистический монизм и одновременно
обосновывает познаваемость исторического прошлого, притязания истории
на статус науки. Но такая защита от скептицизма в отношении исторического
познания не идет на пользу делу, так как если бы познаваемость
исторического процесса действительно зависела от справедливости
экстравагантного идеалистического постулата, то пришлось бы, конечно,
распрощаться с надеждой иметь научное знание о прошлом человеческого
общества.
Анализ логической структуры исторического суждения убедил Кроче в
том, что в истории осуществляется синтез интуиции индивидуального и
знания всеобщего, содержащегося в философском понятии. «Если суждение
есть отношение между субъектом и предикатом, субъект, т. е . факт, каким бы
он ни был есть всегда исторический факт, нечто становящееся, процесс в его
протекании (un processo in corso), потому что неподвижные факты не
находятся и не познаются в реальном мире».72 Из этого, по-видимому,
следует, что именно история, а не философия воплощает идеал конкретности
знания и что понятие становится конкретным только в составе исторического
суждения, где оно восполняет свою абстрактность живой интуицией
изменчивых событий.
Но тогда получается, что помимо истории и над ней не может быть никакой
философии духа, что эта последняя — такой же пережиток гегельянщины,
как натурфилософия и философия истории, пытавшаяся a priori
декретировать развитие событий, перенося в будущее господствующие
предрассудки настоящего. Вне истории «дух» не реален; следовательно,
философия имеет право на существование только в качестве философии
истории, т. е ., как разъяснил сам Кроче в книге «Теория и история
историографии», в качестве «методологического момента историографии».
Какой неожиданный поворот мысли! От «абсолютной науки», как ее
мыслил Гегель (хотя и со многими поправками), к полному отрицанию
самостоятельного предмета философии, к чистому «методологизму», весьма
похожему на концепцию неопозитивистов. Разница только в том, что
аналитики ограничивают свой горизонт логической структурой
математического естествознания, а Кроче прячет свой идеализм в
соответствующим образом истолкованную процедуру исторического
исследования. Но и в том и в другом случае учение о методе предполагает
явные или неявные теоретические допущения, не оставляющие сомнения в
философской направленности этих доктрин, а Кроче с бесстрашием старого
гегельянца вновь и вновь догматически постулирует тождество реальности и
духа, духа и истории.
Немудрено, что в свете такой предпосылки сам исторический процесс в
конце концов мистифицируется. Когда итальянский философ произносит
слово «история», оно для него означает совсем не то, что для ученого —
специалиста в этой области, а нечто гораздо большее. История фактически
становится у него суррогатом божественного Провидения, понятого,
конечно, не как трансцендентная сила, направляющая с Олимпа человеческие
судьбы, а как имманентный разум, воплощающийся в историческом
процессе.
«История» и «рациональность» в понимании Кроче — синонимы. Правда,
он оговаривается, что имеет в виду не «абстрактный разум» просветителей, а
конкретную реальность духа. Но мы уже знаем, что «конкретность» есть не
что иное, как гармония, живое единство различных моментов, единство,
исключающее остроту противоречий и творческую роль отрицания. Поэтому
нас не должно удивлять, что, согласно Кроче, вся история есть история
прогресса, свободы и разума. Если бы это было не так, то невозможно было
бы и познание прошлого. Так крочеанская философия истории превращается
в своего рода теодицею, разновидность панглосовского мировоззрения,
высмеянного еще Вольтером, который хотя и был «абстрактным
рационалистом», но зато обладал чувством реальности.
Таким образом, поскольку реальность духовна, а дух есть свобода и
прогресс, то человечеству автоматически уготовано блаженство. Дух сам
ставит перед собой проблемы и сам же их разрешает: ведь он всегда
находится «у себя» и не знает ничего чуждого ему по природе. В победном
шествии духа неудачи и поражения, триумфы угнетателей и оргии врагов
человечества, культуры и всей цивилизации оказываются всего лишь
«абстракциями», которые выглядят совсем иначе в «общей связи»
исторического процесса! Далеко от истины ушел Кроче, которому форма
гегелевской философии предоставила удобную возможность соединить
благодушие буржуазного либерала с реминисценциями религиозного взгляда
на мир.
Здесь мы встречаемся с тем довольно редким случаем, когда сама жизнь,
непосредственный исторический опыт вступил в противоречие с
отвлеченным теоретическим представлением. и продемонстрировал
ложность его. Люди двадцатого века, живущие проблемами современности,
даже если они не марксисты, отчетливо сознают, что история не
милосердный бог, а арена ожесточенной классовой борьбы, в которой силы
реакции столь же «конкретны», как и силы прогресса. И не случайно, что
Италия, пережившая трагедию фашистской диктатуры, равнодушно
отвернулась от философии, которая доминировала в духовной жизни страны
на протяжении первых двух десятилетий нашего века, но оказалась слепой и
даже дезориентирующей, неспособной осмыслить современную ей эпоху.
***
С философией духа Кроче тесно связан «актуальный идеализм» Джентиле
(1875 — 1944),73 у которого в интерпретации диалектики еще явственнее
проступает связь с фихтеанским субъективизмом. Об основном содержании
его концепции можно судить по следующей выдержке из книги «Система
логики как теории познания»: «Диалектизация (il dialettizzamento) есть
спиритуализация реальности, которая перестает быть бытием и становится
духом; перестает быть иным, противоположным субъекту и начинает
участвовать в жизни субъекта; перестает быть тайной и становится
мышлением; утрачивает оттенок враждебности и чуждости и принимает
облик друга, ближнего, души, которая есть та же самая душа, что и в нас.
Природа больше уже не понятие природы, но природа нашего понятия в его
действии, жизнь нашего духа. Бог сходит с неба, одушевляет и наполняет
трепетом наше сердце. Книги, которые у нас в руках, преобразуются в
светлый мир, весь пронизанный нашими чувствами, нашими идеями, нашим
„я" и состоящий из них. Масса (внешнего мира. — М . К .), которая давит нас,
возится, идеализируется, сопроникается нашей личностью... Мы сами больше
уже не стеснены, не сдавлены, не угнетены, одни на свете в
божественном одиночестве бесконечного духа».74
Пожалуй, ни у одного из философов, взгляды которых мы разбирали и еще
будем разбирать, не выражена в такой обнаженной форме, как у Джентиле, та
ложная, но широко распространенная среди буржуазной интеллигенции
мысль, что диалектика может быть только идеалистической, а
идеалистическая доктрина для своего обоснования нуждается именно в
диалектике. Диалектика, таким образом, предстает как субъективный метод в
философии, опирающейся на самодостоверность сознания — «я» и
стремящейся растворить в этой «фундаментальной реальности» всякую иную
реальность, природную и социальную. Диалектика и есть метод, посредством
которого систематически развертывается процесс «пожирания» субъектом
объективной реальности. В то время как реальность, теряя свою
независимость, «имманентизируется», субъект, наоборот, «трансцендирует»
свою сущность, расширяет свои границы до бесконечности и превращается в
настоящий духовный космос. Диалектика, по Джентиле, и представляет
собой этот двуединый процесс, в котором она себя реализует и «живет».
Но кто же тогда этот хищный субъект диалектического процесса,
неустанно ассимилирующий всякую материальность и раздувающийся до
размеров Вселенной? Это не может быть бог ортодоксальной религиозности,
потому что он, как мы знаем из приведенной выдержки, «на небе», т. е .
трансцендентен, тогда как дело диалектики — все превратить в имманентное,
следовательно, преодолеть дистанцию между богом и миром. Тогда, стало
быть, это наше «я», ибо другой возможности не остается. Но тут философа
подстерегает солипсистский предикамент, который Джентиле, конечно,
учитывает. Поэтому он, вскользь упомянув о значении Беркли с его
концепцией эмпирического «я», присоединяется к учению Канта о
трансцендентальном субъекте, который и «в нас» (в противном случае мы
встаем на платформу теологии) и «вне нас» — в том именно смысле, в каком
трансцендентальное отличается от психологического. Это «я»,
следовательно, есть одновременно «не-я». Так мы вступаем в область
«логики конкретного» в противоположность абстрактной, т. е . формальной,
логике.
«Логическое мышление в абстрактных понятиях означает, в сущности, А =
А. Это мышление, понятое как материя процесса мышления (как предмет
трансцендентального субъекта. — М . Д .), которое ... управляет
порождающим процессом всякого предмета мысли, означает: Я = Я
или, лучше, Я = не-Я. Это фундаментальный закон конкретного понятия. Он
отличается от фундаментального закона абстрактного понятия тем, что
последний как принцип тождества объясняет тождественность
дифференцированной мысли, тогда как новый закон объясняет различие в
отождествляющей мысли; этот закон есть не уточнение, но скорее обобщение
первого».75
Из этого высказывания следует, что диалектика рождается в сфере
трансцендентального мышления, мышления о мышлении, в котором
мышление рассматривается не просто как объект (это позиция
«абстрактной», т. е . формальной, логики), но одновременно и как субъект,
как процесс внутреннего раздвоения — самодифференциации и
одновременно слияния разделенных элементов — «автосинтеза». «Секрет»
диалектики составляет попытка мыслить субъективность не в ее
объективации, но именно в ее подлинном виде и аутентичном смысле как
процесс «мыслящего мышления» (il pensiero pensante).
'Эта формула «мыслящего мышления» характеризует, по мнению Джентиле,
«истинную диалектику» в отличие от псевдодиалектики в духе Платона и
Гегеля, которые выдвигали диалектику понятий «мыслимого мышления» (il
pensiero pensato) и потому не сумели преодолеть ложной концепции «в-себе-
бытия» и не достигли «полной имманентности», т. е. окончательной
редукции всех предметностей мысли к «чистому акту» трансцендентального
мышления. «Идеализм, который я называю актуальным, переворачивает
постановку гегелевской проблемы: он больше не пытается дедуцировать
мышление из природы, а природу — из идеи, но природу и идею — из
мышления. Ив результате этого обращения дедукция, которая была
невозможной в гегелевском идеализме, превращается в доказательство того,
что мышление делает из себя самого в истории мира — ту же самую
историю. Невозможность гегелевской дедукции была порождена тем, что она
продвигалась от абстрактного к конкретному, а от абстрактного к
конкретному перехода нет... Переход же от конкретного к абстрактному есть
не что иное, как вечный процесс идеализации себя. Что же такое
представляет собой акт мышления, если не сознание себя самого, или
реальность, которая себя реализует, идеализируясь?».76
В приведенных высказываниях Джентиле явственно проступают контуры
его концепции диалектики, так что дальнейшая детализация вряд ли
необходима. Мы имеем дело с последовательно проведенными принципами
фихтеанства, освобожденного от противоречия между субъективным и
абсолютным идеализмом, противоречия, которое зачастую делает мысль
Фихте столь темной и непонятной. Джентиле постоянно ясен; но это ясность
эпигона, ограничившегося в своей работе вариациями на одну из многих тем,
затронутых творческим гением «маэстро», стремившегося слить множество
мелодий в единый вселенский хор, в единую гармонию мира.
К тому же в свете исторической ретроспекции несомненен промежуточный,
переходный характер фихтеанской философской позиции, которая получила
всестороннее развитие у Гегеля, и только у него. Оценивая движение мысли
в рамках классического немецкого идеализма, неминуемо замечаешь, как
росла и непрерывно обогащалась содержанием концепция диалектики,
которая у Канта была периферическим элементом системы, у Фихте
становится ее ядром и движущим принципом, усилиями Шеллинга вбирает в
себя «живую душу» природы и, наконец, приобретает универсальное
значение впервые в философии Гегеля, подготовившего почву для научной
диалектики марксизма.
В сравнении с этим историческим движением теория Джентиле выглядит
довольно бессодержательной и непригодной для применения в науке и к
науке (для философской интерпретации исторического процесса научного
познания). В его глазах, как и в глазах всякого откровенного идеалиста, наука
—
всего лишь «недоразвившаяся философия», ибо она якобы «догматична».
«Она не доказывает и не может доказать двух своих фундаментальных
предпосылок: 1) что ее объект существует, 2) что обладает ценностью (в
познании. — М . К) тот первоначальный и существенный факт познания,
который представляет собой непосредственное отношение к объекту, —
ощущение».77
Это уже знакомая нам крочеанская доктрина в несколько более осторожной
форме, ибо Джентиле все-таки не говорит о «псевдопонятиях науки», а
только обличает ее «абстрактность», а также идеализирующий характер ее
процедур. Сама диалектика, как видно из предыдущей цитаты, превращается
в движение от конкретного к абстрактному, от абсолютной реальности
трансцендентального Я к расщеплению на эмпирическую множественность
посредством идеализации — внутренней рефлексии субъекта на свою
деятельность. Эта рефлексия (идеализация) и есть механизм «умножения»,
«деления» реального ядра — исходного чистого акта на бесконечное число
предметов, объектов теоретической и практической деятельности обычного
(нефилософского или дофилософского) субъекта, и не помышляющего о том,
что все вещи, его окружащие, и все предметы его дум и стремлений
«идеальны», а не реальны.
С точки зрения актуального идеализма только философия является знанием
о реальности, ибо она все «спиритуализует» находит каждому объекту место
в творческом процессе духа, в его «вечной идеальной истории» (эта фраза
Вико стала общим девизом и Кроче и Джентиле). Функция диалектики
сводится к воспроизведению этой «истории», к монотонной,
полуавтоматической процедуре сведения любого объекта к
соответствующему акту трансцендентального субъекта, в котором первый
только и обретает подлинную реальность. Конечно, такой метод не может
пригодиться для теоретической интерпретации эмпирических данных ни в
естествознании, ни в общественных науках.
Эта концепция диалектики органически срослась с
идеалистической спекулятивной конструкцией, с откровенно
априористической теорией реальности и обнаруживает свою
несостоятельность вместе со всей конструкцией. Эта «философия
имманентности» не в состоянии даже защитить свой основной принцип
трансцендентального субъекта, бледной копии и неудовлетворительного
суррогата гегелевского мирового духа. Джентилианская версия
философского креационизма возлагает на трансцендентальный субъект
непосильные обязанности, которые по традиции принадлежали богу
официальной религии. Ни религиозный, ни по-настоящему
последовательный теоретический ум не согласится с такой заменой.
Самодержавное «я» не удовлетворяет диалектическому требованию
конкретности, ибо «я» есть абстракция от «мы», т. е . сознание социально,
изначально соотнесено с миром, в состав которого входят и другие субъекты.
Следовательно, трансцендентализм при своем последовательном развитии
обязательно наталкивается на проблему интерсубъективности, проблему
адекватного воспроизведения общественной природы сознания. Это
понимал, например, Гуссерль, который, однако, так и не смог преодолеть
возникшие здесь трудности. Джентиле их даже не замечает, что и делает его
доктрину действительно догматичной и архаической.
***
Последним крупным представителем рассматриваемой линии мышления
был английский неогегельянец Р. Дж. Коллингвуд (1889 — 1943). Хотя он
умер раньше, чем его итальянские коллеги, но его работы появились уже
после того, как концепция Кроче и Джентиле сформировалась в своих
основных моментах. Поэтому на долю Коллингвуда выпала роль защитника,
систематизатора и до некоторой степени обновителя гегельянской
философии «историзма».
Коллингвуду пришлось действовать в условиях полного господства
неореализма и неопозитивизма в британской академической
философии. Это придало его трудам остро полемический оттенок и, с другой
стороны, обусловило более осторожный и тщательнее аргументированный
способ выражения основной идеалистической позиции.
Его оппозиция позитивизму проявилась прежде всего в обосновании
суверенности философского мышления, его специфической природы и
особых задач. Такова основная тема его «Очерка философского метода», где
подробно развивается мысль об особой логической структуре философских
понятий, не укладывающихся в правила формальной логики. Это
традиционная гегельянская идея, но развертывается она в упомянутом
произведении в строго методологическом аспекте, без обычного для
представителей этого стиля мышления априорного постулирования
онтологических догм. Здесь сказался, очевидно, общий «климат» британской
философии 30 — 40-х годов.
Свое исследование Коллингвуд начинает с разбора принятой в
традиционной логике теории классификации. Еще Кроче в книге о Гегеле
упомянул вскользь о том, что философские понятия не допускают
классификации в обычном смысле этого логического термина. Английский
философ систематически развивает это замечание. Так, родовое понятие
блага издавна подразделяется в этике на виды: приятное, полезное и
справедливое. Правила формальной логики требуют того, чтобы члены
деления исключали друг друга; следовательно, в данном случае приятное не
может быть ни полезным, ни справедливым. Здравый смысл противится
такому заключению: ведь бывают обстоятельства, когда, по известному
выражению, приятное совмещается с полезным. Недаром Шиллер остроумно
высмеял Канта за его утверждение, что исполнение долга, подчинение
категорическому императиву несовместимо с чувством удовольствия.
Выходит, что приведенная классификация логически ошибочна, но из
таких ошибок, утверждает Коллингвуд, состоит вся философия. Какую бы
классификацию философских понятий мы ни взяли, везде повторяется та же
самая картина: «Специфические классы родового понятия не исключают
друг друга, а накладываются (overlap) друг на друга... Наложение классов
дает ключ к обнаружению особенностей философской мысли по сравнению с
научной».78
Классификации естествознания и математики построены по принципу
исключения классов, да это, как думает Коллингвуд, и неудивительно, ибо
«формальная логика в схоластической или математической форме не только
обобщение мысли в специальном смысле научной мысли, но и в специальном
смысле научного обобщения (т. е . формальная логика представляет собой
обобщение процедуры научного исследования, произведенное научным же
методом. — М . К .); именно этот факт разделяет формальную
и диалектическую логику, точкой зрения которой является не наука, а
философия и чей объект не абстрактная, а конкретная мысль истории и
философии».79
Отстаивание оксфордским философом прав диалектической логики
следовало бы только приветствовать, если бы он не исходил
из совершенно ложной посылки — противопоставления естествознания и
философии, характерного для гегельянского идеализма. Разделяя общее
для всех идеалистов-диалектиков заблуждение, Коллингвуд неправильно
считает одну только формальную логику методом науки. Приводя примеры
классификаций из области математики и эмпирических наук, он сознательно
ограничивается лишь простейшими случаями, в которых правила
формальной логики действительно соблюдаются, массу же «отрицательных
инстанций», преподносимых,
например, эволюционной биологией, просто игнорирует под предлогом их
«парадоксальности».
Между тем, как раз такие случаи, количество которых все увеличивается,
подтверждают мысль Энгельса о том, что hard and fast lines в классификациях
естествознания несовместимы с теорией развития и что период, когда
естествознание довольствовалось статической группировкой фактов, давно
миновал. Диалектика свойственна всему мышлению человека, хотя в
философском мышлении она, пожалуй, более заметна. Не случайно, что
впервые диалектическое было распознано именно в философии и на том
этапе ее развития, когда она служила синонимом науки вообще.
Конечно, само выдвижение вопроса о специфической логике философского
знания имеет смысл, и тут некоторые наблюдения Коллингвуда, почерпнутые
из истории философии, могут пригодиться. Так, он приводит немало
примеров того, как в различных философских учениях между
соподчиненными понятиями устанавливались не отношения координации и
рядоположения, а отношения субординации и включения низшего в высшее.
Это опять напоминает беглые замечания Кроче о специфике «связи
ступеней», но в несравненно более развернутом и систематическом виде.
В философии общее (родовое) понятие расчленяется на иерархическую
систему органически связанных видов, которой Коллингвуд дает название
«шкалы форм». Виды понятия отличаются друг от друга не только
качественно (как специфические воплощения одной и той же «родовой
сущности», т. е . содержания общего понятия), по и количественно (как более
или менее адекватное, более или менее полное воплощение общей
сущности), причем и качественные и количественные различия слиты
воедино и не существуют отдельно. Например, когда мы делим понятие
«спортивные игры» на виды «футбол», «волейбол», «теннис» и т. д ., то мы
устанавливаем качественное различие между видами, и только. Мы можем
классифицировать общее понятие и по количественному признаку, когда,
например, делим понятие «штангист» на виды сообразно весовым
категориям. Здесь различие — чисто количественное. Отношения же двух
соседних видов на «шкале форм» имеют более сложную природу и
синтезируют в себе четыре типа связей: «различия рода, различия степени,
отношения дистинкции и отношения оппозиции (противоположности).
Высшая форма является видом того же самого рода, что и низшая, но она
отличается от последней по степени как более адекватное выражение
родовой сущности, по роду как специфически отличное воплощение; отсюда
следует, что высшая форма не только отлична от низшей как один вид от
другого, но и противоположна ей как высшая форма — низшей,
относительно адекватная — относительно неадекватной, как истинное
воплощение родовой сущности — ложному. Будучи истинной, высшая
форма включает в себя не только свою собственную природу, но и то, что
ошибочно выражала низшая. Таким образом, высшая форма отрицает
низшую и в то же время заново утверждает ее; отрицает ее как ложное
воплощение родовой сущности и заново утверждает ее как часть и момент
себя самой».80
Как видно, в этой формулировке Коллингвуд стремился сохранить
гегелевскую концепцию снятия — одновременного отрицания и сохранения
низшего в высшем, учитывая вместе с тем крочеанскую критику триады.
Надо сказать, что английскому философу удалось занять более гибкую и
близкую к истине позицию, чем Кроче. Последний, как мы помним, просто
«рядоположил» диалектике противоположностей «связь степеней», в которой
реализуется отношение различия между низшим, существующим
самостоятельно, и высшим, обязательно включающим в себя низшее.
Согласно Кроче, «связь степеней» исключает противоположность, без
которой не может обойтись гегелевская триада.
Понятие «шкалы форм» более содержательно, чем концепция «связи
степеней», ибо в нем отношение противоположности реализуется не помимо,
а через отношение различия, и наоборот. Тем самым устраняется и
гегелевская ошибка отождествления сторон противоположности с
«абстрактными моментами», не существующими реально вне высшего
единства (в этом состоял рациональный смысл критики Кроче), но
сохраняется идея диалектического отрицания, явно недооцененная
итальянским мыслителем.
Такова структура логического организма — конкретного понятия
философии, в которой общее и особенное, родовое и видовое
взаимопроникают и сущность представлена не in abstracto, но всегда в той
или иной индивидуальной форме. Отсюда определения понятий в философии
не похожи на математические дефиниции и не соответствуют формуле
традиционной логики: «определение через ближайший род и видовое
отличие». Такая формула деформирует логическую структуру конкретного, у
которого родовые и видовые характеристики органически срастаются, и
нельзя сначала указать род, а затем его differentia specifica.
Поэтому «чтобы определить философское понятие... необходимо сначала
мыслить его в форме настолько рудиментарной, что еще более примитивная
форма не смогла бы вообще реализовать это понятие. Такая форма
представляет собой минимальную реализацию понятия, нижний конец
шкалы, и первая фаза определения должна установить этот пункт.
Дальнейшие фазы модифицируют минимальное определение, добавляя
новые определения, которые хотя и подразумевались на ранней фазе, но
вместе с тем вводят качественные изменения и дополнения. Наконец, будет
достигнута фаза, на которой определение содержит в явной форме все, что
может быть обнаружено в понятии; дефиниция теперь адекватна
определяемой вещи, и процесс завершен, насколько это в наших силах».81
В этой концепции собраны воедино те характеристики диалектического
процесса, которые нам уже встречались по отдельности и не только у Кроче
и Джентиле, но и у Брэдли и Мак-Таггарта: логическое развитие как
постепенное достижение внутренней гармонии соотносящихся моментов
через раскрытие противоречий промежуточных ступеней (Брэдли), как
систематическое развертывание определений, скрытых в
недифференцированной целостности исходного понятия, которое сначала
мыслится смутно и абстрактно и только в процессе имманентной
философской рефлексии последовательно и шаг за шагом обнаруживает
свою сложную структуру (Мак-Таггарт).
Отличие Коллингвуда, как мы уже отмечали, состоит в том, что он не
связывает концепцию диалектики с догматикой абсолютного идеализма, по
крайней мере в явной форме, хотя некоторые намеки на этот счет в его
произведении имеются. Так, раскрывая подробнее специфическую структуру
философского знания, он пишет: «Данные в философии никогда не бывают
простыми фактами в смысле индивидуальных событий, индивидуальных
предметов, индивидуальных действий и т. д ., они всегда всеобщи, потому что
в философии первоначальное знание гомогенно с заключениями. Эти данные
устанавливаются не восприятием, но только мышлением. Для философии
слово „опыт" приобретает специальный смысл, обозначая не опыт
воспринимающего субъекта, а опыт мыслящего».82 Здесь речь идет о том,
что философия реализует свою сущность в имманентной сфере мысли, и
только внутри этой сферы существует различие между «фактом» и
обобщением, «эмпирическими данными» (берем эти слова в кавычки, так как
они употребляются не в обычном смысле) и умозаключениями из них.
В другой книге Коллингвуд развивает дальше эту мысль: «Как всякий
может видеть, любое знание проистекает из опыта, и все, что претендует
быть знанием, обязано апеллировать к опыту для своего подтверждения... Но
слово „опыт" на философском жаргоне приобрело дополнительное значение
«чувственного опыта» (в позитивизме и неореализме. — М . К ..). В этом
новом смысле слова только мысли первого порядка (обобщения
«чувственных данных». — М . К .) имеют отношение к опыту... и проверяются
опытом; мысли второго порядка (мысли о мыслях, т. е . формулирование
законов мысли) с опытом не связаны. Каким же образом они тогда
проверяются и, прежде всего, как вообще мы получаем знание об этих
мыслях? Кант думал, что эти идеи познаются мистическим путем независимо
от опыта, тогда как в действительности их источником служит опыт
мышления».83
У истоков защищаемой английским философом концепции «опыта
мышления» как основы философского знания находится, по нашему мнению,
гегелевская идея феноменологии духа, которую великий мыслитель называл
«наукой об опыте сознания». И у Гегеля в данном случае понятие «опыт»
берется не в обычном значении, выработанном в школе эмпиризма, но
рассматривается именно как «мышление второго порядка», о котором
упоминает его английский последователь. Гегелевский онтологизм, как мы в
свое время отмечали, оказал мистифицирующее воздействие на все его
учение о мышлении, и потому, видимо, идея опыта сознания не привлекла
внимания ни прямых последователей, ни противников его учения.
Под «опытом мышления» английский философ понимает что-то вроде
интеллектуальной интуиции — непосредственного сознания субъектом своей
духовной жизни, а философия как «мышление второго порядка» совпадает у
него с рефлексией — рациональной систематизацией данных интуиции. Что
такая интерпретация в какой-то мере оправдана (мы утверждаем это в столь
осторожной форме потому, что у Коллингвуда нет ссылок на
феноменологию), свидетельствует его теория сознания, изложенная в
последнем крупном произведении — «Новый Левиафан». Это трактат по
политической философии, но поскольку автор, как ясно из заголовка и из
собственных его признаний, стремился модернизировать классическую
работу Гоббса, сохранив ее структуру, то рассмотрению социально-
политических проблем предшествует анализ человека и его духовных
способностей — так же, как в «Левиафане». По традиции центральное место
в учении о человеке занимает психофизически проблема, проблема
соотношения «тела» и «души». Верный своей осторожной тактике
подспудного проведения основного идеалистического воззрения (что
объясняется господством позитивистских идей в английской философии того
времени), Коллингвуд уклоняется от решения этой проблемы в
онтологическом аспекте и заменяет обычную постановку вопроса
«методологическим подходом». Тогда оказывается, что психофизическая
проблема «фиктивна».84 Человек есть «тело», и только тело, если он
становится предметом естественных наук, изучающих его своими методами.
Но тот же самый человек есть «душа» и ничего более с точки зрения «наук о
душе», к числу которых относится и философская антропология. Исходный
пункт всей концепции, таким образом, — неокантианский методологический
дуализм, противопоставляющий «науки о природе» «наукам о духе».
Чем ближе к современности, тем сильнее чувствуется эклектика в
построениях буржуазных философов, и часто значительные усилия
затрачиваются на то, чтобы, переосмыслив содержание различных
теоретических принципов, обнаружить их «совместимость». Из всех
неогегельянцев это особенно характерно для Коллингвуда, который обладал
незаурядным умением выражать немецкие идеи в итальянской
интерпретации на языке, привычном и понятном англичанину, воспитанному
в духе эмпиризма.
Так и в «Новом Левиафане». Начав с неокантианского обходного маневра,
Коллингвуд декларирует свою приверженность «ясному историческому
методу» Локка. Сущность же этого метода — «сосредоточение на фактах».
«Факты», о которых толкует философская антропология, конечно, совсем
иного сорта, чем в естествознании. «Человек в качестве души (Man as mind)
является всем, чем он себя сознает».85 Стало быть, факты, о которых идет
речь, суть факты самосознания. В таком случае действительно «факты
гомогенны с заключениями», как он утверждал в «Очерке философского
метода»: сознание исследует себя своими собственными средствами, не
прибегая к посторонней помощи, скажем, объективного, экспериментального
изучения психической деятельности (это означало бы «натурализацию
человека»).
Отсюда «исторический метод» у Локка (так оно было и на самом деле)
представляет собой не что иное, как интроспекцию и рефлексию над
полученными данными: «В то время как из естествознания человек часто
выносит кое-что совершенно новое для себя, наука о душе учит его только
тому, что он уже сам сознавал... Ответ на любой вопрос в науке о душе
добывается с помощью рефлексии. Каждый, кто отвечает на этот вопрос,
должен был уже размышлять по поводу той функции, которую он изучает,
или он не смог бы ответить».86
Казалось бы, мы целиком возвращаемся на позицию «науки о человеческой
природе», науки Локка и Юма с их атомистической концепцией психической
жизни, концепцией, которая признает только количественное различие
между феноменами сознания. Такое заключение, однако, было бы
неправильным. Рефлексия Локка и Юма была аналитической и
редуктивистской, рефлексия, которую имеет в виду Коллингвуд, является
синтетической и диалектической, учитывающей многослойность сознания и
его органическое строение или, вернее сказать, сращение разных пластов,
отделяемых только в абстракции. Положение еще осложняется тем, что
объект (душа) в процессе познания испытывает на себе воздействие
познающего субъекта, и это проявляется, в частности, тогда, когда рефлексия
накладывается на соответствующую форму сознания и возникает опасность
отождествления рефлективной формы с исходной. «Любая форма сознания
может стать предметом рефлексии, т. е . может стать объектом другой формы
сознания».87 В этом источник всех заблуждений в «науках о душе»:
дорефлективное сознание смешивается с рефлективным, «сознание первого
порядка» — с «сознанием второго порядка», и в результате «шкала форм»
искажается: высшее оказывается на месте низшего, а исходная форма
получает неправильное определение. «Душа человека составлена из
мышления», — пишет Коллингвуд, заставляя вспомнить о картезианской
дефиниции «мыслящей субстанции».
Но философский метод требует найти рудиментарную форму мышления,
или сознания вообще (по Коллингвуду это синонимы). Нижнюю границу
сознания представляет абсолютная непосредственность чувств — ощущений
и эмоций, сопровождающих любой акт психической деятельности. Чувство
может быть только пережито, но не передано другому, сообщено в разговоре,
но не может быть принято или отвергнуто на основании каких бы то ни было
доводов. «Чувство... есть то, что сознание находит непосредственно данным
себе».88 Поэтому о чувствах (ощущениях, эмоциях) ничего нельзя
помыслить до тех пор, пока они не получат выражения в слове. Отсюда и
распространенная ошибка: «Чувства нельзя вспомнить. Те, кто думают, что
они вспоминают пережитое чувство, обманывают себя, не заботясь
проводить различие между самим чувством и предложением о чувстве,
которое (предложение) может быть воспроизведено в памяти. Нельзя
вспомнить ужасную жажду, которую вы однажды испытали, но можно
вспомнить, что вам ужасно хотелось пить».89 Но высказывание о пережитом
не есть повторение пережитого, которое представляет собой летучее и
неуловимое «здесь-и -теперь». Таким образом, природа чувств парадоксальна:
они лежат ниже уровня сознания и, как только осознаются, перестают быть
тем, что они есть: некоммуникабельной субъективной непосредственностью.
Потому они и образуют «минимальную реализацию» сущности сознания, с
которой и следует начинать учение о душе.
Второй слой сознания образует «влечение». «Влечение есть имя для
обозначения внутреннего беспокойства души. Слепота влечения означает,
что движет душу бессознательно от неопределенного здесь-и-теперь к
неопределенному там-и-тогда в поисках будущего, не столько темного,
сколько пустого: поиск без всякого выбора, не руководимый разумом, не
направляемый целью. Выбор, разум и цель находятся не среди источников
или условий влечения, они среди его продуктов».90
На этом уровне впервые проявляется и оказывает воздействие на основу
субъективной непосредственности «концептуальное мышление» в самой
зачаточной форме, в форме смутного ощущения недостатка, неполноты,
неудовлетворенности данным своим состоянием. Концептуальное начало
привносит вместе с собой принцип отношения к другому, что и является
предпосылкой динамической функции влечения. «Жизнь позвоночного есть
симбиоз плоти с костями; жизнь мышления есть симбиоз непосредственного
сознания с абстракциями».91
С этого момента учение о сознании становится историей постепенного
усложнения функций мышления. «Страсть и желание», надстраивающиеся
над влечениями, содержат первый проблеск сознательного определения цели.
Решающее значение в развитии телеологической активности Коллингвуд
придает «гневу»: «Важность гнева как моста, соединяющего низший уровень
сознания, где мышление просто схватывает то, что ему „дано", а затем
выступает в концептуальной форме, образует абстракции от того, что „дано",
к высшим уровням сознания, где мышление сначала становится
„пропозициональным", способным различать между добром и злом, истиной
и ошибкой, а затем „рациональным", способным понимать себя и другие
вещи...»92
В этом высказывании заключена вся концепция «шкалы форм сознания»
Коллингвуда. Дальнейшее уже относится к деталям, которые нас не могут
сейчас интересовать. Важно только точнее определить самоё логическую
природу данной концепции сознания и уяснить себе место диалектики в ней.
По своей логической структуре, как разъясняет сам английский философ,
сознание представляет собой «серию», где каждый термин должен быть
модификацией предыдущего. Движение сознания от непосредственного
чувства до рационального мышления есть «развитие», которое нельзя
рассматривать, как, скажем, «естественную историю души» в духе
известного произведения Ламеттри, ибо оно, согласно взглядам Коллингвуда,
протекает вне времени. «Развитие есть логический процесс, в котором В
„предполагает" А, С „предполагает" В и D „предполагает" С. Для этого не
требуется никакого времени».93 Стало быть, за сто с лишним лет,
отделяющих «Новый Левиафан» от «Науки логики», теория идеалистической
диалектики осталась верна своему негативному отношению к реальному
историческому процессу. Эту особенность мы отмечали у каждого
представителя неогегельянства, каковы бы ни были различия в понимании
отдельных проблем.
Отличие Коллингвуда состоит в том, что он уже не рассматривает
диалектику как процесс, обеспечивающий обладание абсолютной истиной,
как извилистый лабиринт, увлекающий мыслителя в таинственную обитель
Абсолюта. Он отводит ей неизмеримо более скромную роль: служить
способом упорядочивания данных рефлексии, распределяя эти данные в
«серии». При этом диалектический процесс в его интерпретации не обладает
свойством имманентной необходимости перехода от одного звена к другому,
от низшего к высшему и, следовательно, не подчиняется схеме
детерминизма. «Достигнув условий А — В
—
С, душа переходит к
состоянию D, если у нее есть энергия сделать это; если нет, развитие
останавливается в пункте С или даже, если это требует большей энергии, чем
имеется, уступает место регрессу. Это я называю Законом Случайности:
более ранние термины в серии душевных функций не обусловливают собой
более поздних».94
Отказ от замкнутой схемы логического развития, характерной для
ортодоксального гегельянства, связан, по нашему мнению, с воздействием
новой формы метафизической концепции развития в философии А. Бергсона,
С. Александера, А. Уайтхеда (мы упоминаем только виднейших
представителей этого течения). Если в XIX столетии преобладающим
влиянием в буржуазной философии пользовались идеи плоского
эволюционизма, глубокую оценку которого мы находим в работе В. И.
Ленина «К вопросу о диалектике», то для современной буржуазной
теоретической мысли типична абсолютизация качественных изменений,
сопровождающаяся мистификацией всего процесса развития.
Центральным понятием становится творчество, или, как говорил А.
Уайтхед, принцип новизны, согласно которому процесс (Уайтхед именовал
свои воззрения «философией процесса») обязательно предполагает
существование некоей спонтанной «творческой силы» (creativity),
вызывающей к жизни новые и новые формы, возникновение которых
невозможно предвидеть. Диалектический материализм тоже, разумеется,
признает возникновение качественно нового, решительно отвергая
методологию преформизма. (Кстати, на этом основании в буржуазной
литературе встречаются утверждения о «близости» марксистской философии
к подобного рода «эмерджентному эволюционизму» N.) Но философы-
марксисты обосновывают возникновение нового самодвижением материи,
внутренними импульсами к развитию, содержащимися в самом реальном
мире, тогда как бергсонисты и приверженцы организмических концепций
рассматривают принцип развития как особое нематериальное начало, как
имманентную формообразующую силу, напоминающую аристотелевскую
энтелехию.
Коллингвуд не разделял общей космологической доктрины «творческой
эволюции», но в его трудах встречаются неоднократные ссылки на Уайтхеда,
и отдельные его положения прямо перекликаются с высказываниями
последнего. Например, в «Новом Левиафане» мы читаем: «Развитие души
нельзя предвидеть».95 Это тот же самый «принцип новизны», но в
применении не к необъятной Вселенной, а к сложному микрокосму
человеческого сознания.
Так с течением времени учение неогегельянцев все более и более
утрачивало внутреннюю цельность и проникалось настроениями
синкретизма, который всегда стремился «собирать свой мед» везде, где
только можно. В философии Коллингвуда наряду с влиянием
идеалистического историзма Кроче — Джентиле чувствуются уступки
неопозитивизму (отказ от онтологического решения проблем), сближение с
феноменологией (учение об «опыте мышления» и центральное значение
рефлексии в философском исследовании) и, наконец, точки соприкосновения
с индетерминистской концепцией духовного творчества в рамках философии
жизни.
От панлогизма к иррационализму
До сих пор мы имели дело с рационалистическими концепциями
диалектики (даже у Брэдли с его мистико-монистическим взглядом на мир
диалектика коренится именно в природе самого мышления и нигде больше).
Между тем, независимо и параллельно процессу непосредственного
переосмысления гегелевского наследия возникло и развилось широкое
течение иррационализма. Лейтмотив его многочисленных разновидностей и
боевой девиз его главных защитников можно выразить словами: «назад, к
самой жизни!». Это не просто парафраз известного лозунга неокантианца
Либмана, а, как нам представляется, довольно точное обозначение и
философской и социально-политической ориентации всего движения.
В теоретическом отношении этот девиз означал требование вернуться от
«поверхностных» рационалистических абстракций просветительской
идеологии, от обманчивой ясности картезианского стиля мышления к
проникновению в сумеречные глубины «жизни» — всеобщей основы
существующего. Разум, интеллект «вырастает» из жизни и служит ей, а не
наоборот — жизнь покорно укладывается в формы рассудка, законодателя и
суверена Вселенной. В противоположность рационалистическому
убеждению в том, что «порядок и связь идей те же, что порядок и связь
вещей», поздний Шеллинг, а затем Шопенгауэр и особенно Ницше
развернули учение о принципиальной неадекватности интеллектуальных
средств познания перед лицом вечно меняющейся, зыбкой и лишенной
четких очертаний стихии жизни.
Широко известен гегелевский тезис о «хитрости разума», который всегда
оказывается мудрее, чем соображения слабого и недалекого человеческого
рассудка. С полным основанием можно утверждать, что эта концепция в
определенной модификации перекочевала в учение ярого ненавистника
Гегеля Шопенгауэра, а затем была окончательно отточена афористической
мыслью Ницше. Жизнь не только хитра, она жестока и коварна, она
обволакивает себя дымкой иллюзий, чтобы тем вернее и безжалостнее разить
из-за угла ничем не защищенного индивида. Жизнь нельзя назвать мудрой
(как то следовало из оптимистического в целом мировоззрения Гегеля), но
мудрым может быть человек, если он по буддистскому рецепту откажется от
«воли к жизни» (Шопенгауэр) или, наоборот, смело вверит себя «судьбе»,
управляющей миром (Ницше). В определенном аспекте иррационализм XIX
—
XX веков следует, видимо, рассматривать как возвращение к античному
пониманию задач философского исследования, призванного прежде всего
наделить человека «практическим знанием» — житейской мудростью.
Здесь могут возразить, что философия никогда не отказывалась от этой
задачи. И действительно это так. Но все дело в том, что мыслители нового
времени, начиная с Бэкона и Декарта и вплоть до Гегеля, считали
практическую мудрость увенчанием и завершением системы научно-
теоретического познания мира. Повторяем: теоретическое познание было для
них основой, а «житейская мудрость» — следствием. Не то у адептов
иррационализма. Для них достигнуть мудрости означало распрощаться с
научной методологией и выбросить из философии весь арсенал
интеллектуальных средств познания. Философия перестала быть
обобщением научных знаний о мире, но стала «критикой науки» с целью
систематического обоснования возврата к вненаучному и антинаучному
способу представлений.95
В этом смысле вся тенденция философии жизни была реакционной и
притом в самом буквальном понимании данного термина, ибо она
сознательно была повернута в прошлое — к до-буржуазным общественным
отношениям и способам представлений, выраставшим из них. Однако само
распространение иррационалистической тенденции и ее воздействие на
самые разнообразные формы «духовного производства» капиталистического
общества наводят на мысль, что подоплеку ее составляют реальные
общественные и теоретические проблемы.
Проблема «мудрости», как и вся вообще проблема сущности философии,
обостряется в кризисные периоды существования общества и до некоторой
степени является симптомом и предвестником социальных сдвигов. Это
хорошо показал на историко-философском материале Т. И . Ойзерман,
который обратил внимание советских исследователей на необходимость
выработки нашей позиции в этом вопросе. «Мудрость существует, ибо
имеются великие, жизненно важные для человечества (и для каждого
отдельного человека) вопросы; эти вопросы осознаются, формулируются и
не могут остаться без ответа... Философия начинает с размышлений о
мудрости. Но было бы, очевидно, неправильно полагать, что философия
сводится к исследованию или достижению мудрости... Философия, как бы
высоко она ни оценивала мудрость, не должна отождествлять себя с нею.
Философия может и должна быть системой научно обоснованных знаний.
Этот вывод, однако, не имеет ничего общего с позитивистским
третированием стремления к мудрости как метафизической претензии».97
Нам представляется, что проблема мудрости находит свое место в
аксиологическом аспекте марксистской философии, в задачу которой входит
не только обобщение данных наук, но и разработка на этой основе системы
ценностей — принципов повседневной практической ориентации людей в
новом обществе. Разумеется, эти ценности социально детерминированы и
исторически изменчивы, что, однако, не избавляет нас от необходимости
выделить их в теоретическом мышлении как особый предмет исследования.
Развитие марксистской аксиологии представляет собой форму
диалектического снятия и научного преодоления философии жизни и
экзистенциализма с характерной для них идеей радикальной «переоценки
ценностей». Но решение реальной задачи — тотального преобразования
идеологических устоев прогнившего общества — выпадает, как говорили
основоположники марксизма-ленинизма, на долю реального исторического
движения, а не является уделом титанических усилий одинокого мыслителя-
пророка, философа-законодателя, несущего в своей душе всю скорбь мира,
образ которого постоянно витал в воспаленном воображении Ницше,
Эта философская реакция на плоский оптимизм апостолов бесконечного
благоденствия в условиях капиталистического «порядка и законности» была
вместе с тем прогрессом в осознании безысходных противоречий между
буржуазной цивилизацией и гуманистической культурой. Мыслители этого
направления чутко прислушивались к нарастающему гулу в самом
механизме социальной машины, к режущей какофонии звуков,
предвещающих неслыханной силы взрыв. Недаром Ницше постоянно
призывал слушать «музыку будущего».
Однако философы-иррационалисты слишком уж были «музыкантами»,
чересчур напоминали живописцев импрессионистического стиля, чтобы
понять современную им эпоху и тем более научно определить ее ведущие
тенденции. Потому и произведения их зачастую служили не тому делу, для
которого предназначались. Так книги утонченного эстета Ницше в
адаптированном виде стали катехизисом тевтонской солдатни, которая под
руководством фашистских бонз пыталась создать на земле «новый порядок»
—
порядок концлагеря.
Вместе с тем, инстинктивное ощущение «жизненно важного» и острое
переживание реальных коллизий, скрывающихся за прозаической
повседневностью регулярного ритма социального бытия, давали философии
жизни значительное преимущество по сравнению с олимпийским
благодушием академического идеализма, уверовавшего в сверхчувственную
гармонию за пределами эмпирической реальности. Критика научных методов
познания сопровождалась у иррационалистов решительной дискредитацией
спекулятивной манеры философствования. И отрицание науки, и отрицание
спекулятивной «метафизики» оправдывалось необходимостью прийти в
соприкосновение с «действительной конкретностью» в ее непрерывном
движении, в ее позитивном и негативном аспектах.
Но разве не с аналогичными лозунгами выступил в свое время Гегель,
каковы бы ни были разнородные тенденции, которые можно распознать в его
философии? Не он ли называл понятие «организмом», а реальность
«жизнью»? Если же еще вспомнить, что критика интеллектуального знания у
Бергсона как две капли воды похожа на критику рассудка у Гегеля, то станет
ясно, что рано или поздно будет сделана попытка переосмыслить гегелевское
учение в духе философии жизни. Начало этому положил В. Дильтей своей
известной работой «История молодого Гегеля», а остальное сделали Р.
Кронер, Г. Глокнер, И. Кон и другие немецкие неогегельянцы.
Мы не чувствуем необходимости повторять здесь то, что подробно и
хорошо рассмотрено в статье Ю. Н . Давыдова и книге А. С . Богомолова 98 и
потому разовьем намеченную в заголовке этого параграфа тему на несколько
ином материале — на примере абсолютного идеализма Б. Бозанкета (1848 —
1923) и Дж. Ройса (1855 — 1916).
В курсе лекций Б. Бозанкета «Ценность и судьба индивидуума» особенно
заметно, как неогегельянство приходит в соприкосновение с иным кругом
идей и характерные для него мотивы приобретают не совсем обычное
звучание. Это изменение проистекает из онтологической интерпретации
противоречия, которое его соратник Брэдли усматривал прежде всего в
логических определениях абстрактного мышления. Сам предмет лекций
вынуждал Бозанкета определить, что такое человек. На сей счет в
гегелевском учении имелось, конечно, готовое определение, которое
английский философ своими словами формулирует так: «„Конечная
личность" (человек. — М . К .) есть по своей внутренней сущности
противоречие. Это конечное бытие, которое бесконечно, но не сознает этого
и потому, подобно всякому конечному опыту, находится за пределами себя
самого. В нем действует дух целого, и человек не может, хотя и не знает
почему, найти удовлетворение в своей ограниченной личности и в
отношениях, которые хотя и связывают его с другими существами, все же
отделяют его от них. Именно это двойное бытие создает атмосферу тревоги и
трудностей, которая окружает конечное „я", когда оно пытается быть самим
собой».99
В этом высказывании не только содержание, но и лексикон напоминают
сегодняшние рассуждения религиозных экзистенциалистов. Бозанкет
выявляет в гегелевском наследии то, что основоположник экзистенциализма
С. Кьеркегор противопоставил спекулятивной диалектике понятия:
трагическое одиночество индивидуального существования. Оказывается, что
экзистенциалистские мотивы были заложены в самой философии Гегеля, но
составляли только один из моментов, одну из стадий его спекулятивной
конструкции.
По Гегелю и Бозанкету, человек есть воплощенное противоречие конечного
и бесконечного, противоречие, которое превращает человеческую сущность в
процесс самопреодоления, выхождения за свои пределы, «убегания» от себя
самого и возвращения к себе. В самой основе человеческого бытия
заключены «беспокойство и неудовлетворенность». Как бы начитавшись
Кьёркегора, Бозанкет даже говорит о «парадоксе нашего конечно-
бесконечного бытия».100 Это противоречие принимает форму
непримиримого дуализма, нагляднее всего проявляющегося в сфере
морального сознания, где «добро и зло образуют главный конфликт».101
Разрешение конфликта нельзя искать на почве конечного, в области
эмпирического, пространственно-временного существования, и остается
уповать только на «устойчивость и безопасность», даруемые конечному
существованию религией, содержание которой «расширено и углублено»
философской рефлексией! В противном случае неизбежна «интенсификация
несчастного сознания благодаря тенденции индивидуального духа терять
себя и испытывать повторяющееся разочарование в чуждом ему порядке
механической вселенной, отражающейся в достижениях, которые не
приносят удовлетворения, и в фальсификации ценностей во всех без
исключения общественных отношениях».102 Точно так же, как это делал за
двадцать лет до него Дж. Ройс в книге «Дух современной философии»,
Бозанкет при этом прямо ссылается на «Феноменологию духа». Пожалуй, с
выхода в свет книги Ройса (1892 год) и можно говорить о возрождении
интереса к «Феноменологии духа» в новейшей буржуазной философии.
Ройс подобно Брэдли и Бозанкету тоже выдвигает концепцию абсолюта, не
во всем совпадающую с описаниями его английских коллег, но для нас
интересна не эта сторона его философии, а характеристика связи между
миром и индивидуумом (не случайно эта тема стала заголовком его
основного труда).
Прежде всего он настаивает на иррациональности природы всякого
индивидуума и притом в таких выражениях, которые заставляют вспомнить
размышления сартровского героя в «Тошноте».
«Индивидуум случаен. Он не должен быть, но есть... Все, что неповторимо,
не допускает каузального объяснения. Индивидуум как таковой никогда не
бывает простым следствием закона».103 Иррациональность единичного,
невозможность полного его растворения во всеохватывающей мировой
гармонии абсолюта и создает мучительное напряжение индивидуального
существования, устилает терниями жизненный путь человека. «Духовная
жизнь отнюдь не мягкая или приятно легкая вещь. Она от начала и до конца
всегда парадоксальна, серьезна, тяжела, трудна; да, если хотите, болезненно
трагична. Кто надеется найти в ней что-нибудь еще либо в этом мире, либо
где-нибудь на небесах, надеется, безусловно, напрасно... Если это пессимизм,
тогда я никогда не был и не буду оптимистом, а есть и буду сторонником
более сурового взгляда, согласно которому жизнь всегда трагична».104
В такой интерпретации Гегель оказывается ничуть не более
оптимистичным, чем Шопенгауэр, признанный глашатай философии
«мировой скорби». Отыскивать у Гегеля трагическое и сосредоточивать
рефлексию на нем — такова общая особенность переосмысления его системы
в терминах философии жизни, феноменологии и экзистенциализма. Ту же
самую тенденцию можно отметить и в наиболее внушительной работе о
Гегеле в русской дореволюционной философии — в книге И. А . Ильина,
который был в курсе всех новинок мировой литературы по данному вопросу
к началу первой мировой войны. Вот что он пишет: «Гегель никогда не
испытывал диалектику как субъективную или тем более произвольную
„игру" понятиями. То, что усматривалось им в мысли как „негативное",
поднимало его мыслящий дух на высоту трагического опыта и давало ему
чувство приобщенности к космическому страданию».105
Эта формулировка позволяет определить решающее отличие новой версии
диалектики от ранее разобранных нами вариантов. Диалектика приобретает
онтологический смысл и притом не постольку, поскольку реальность
отождествляется с духом, «конкретным разумом», как у Кроче, а в той. мере,
в какой негативное — иррациональное, конечное, страждущее и
обремененное человеческое существо действительно существует в мире и
соотносится с ним. Диалектика тем самым приобретает значение
антропологическое, а не космическое, не пантеистическое. Ее реальность —
это реальность страдания и муки, невыносимой внутренней раздвоенности в
самом корне человеческого бытия, обреченного на разлад с собой и
остальным миром. Парадигмой диалектического процесса становится
структура отчуждения, а не логическое движение категорий от абстрактного
к конкретному. Речь уже не идет о преодолении противоречий в мышлении
путем обогащения исходной абстракции теми моментами, которые в скрытом
виде уже содержались в ней, — такой исходной абстракцией становится
теперь сам человек как реально сущее противоречие конечного и
бесконечного. Поэтому и сама проблема преодоления противоречия
становится практически актуальной, ибо одно дело — примирение
противоположностей в мысли, синтез в мышлении и совсем другое, когда
перед нами действительные противоположности и реальный антагонизм
между ними. Неогегельянцы начала века, кажется, впервые осознали то, о
чем говорил еще Маркс,
осуждавший «некритический позитивизм» гегелевской философии права с ее
тенденцией к примирению действительных противоположностей.
Гегель считал возможным преодоление отчуждения в спекулятивном
синтезе «абсолютной науки»; Бозанкет, Ройс, Ильин тоже еще считают это
возможным, но не в чистом познании, а в чем-то вроде «философской веры»,
свободной от официальных догматов мистицизма. Такое решение, конечно,
иллюзорно, оно порождается «несчастным сознанием», боящимся прямо и
трезво смотреть в лицо реальности. Между тем, из критики гегелевской
конструкции, из научного диалектического «снятия» ее вытекал и другой
взгляд на проблему отчуждения — с позиций подлинного историзма: не
философское умозрение и не мистическое мироощущение освобождают
человека от его раздвоенности, а реальный процесс общественного развития
и революционной практики, превращающий общество «атомизированных
индивидуумов» в «обобществившееся человечество».
Сознание этого пробивает себе дорогу и в современной буржуазной
философии, и прежде всего в так называемом французском атеистическом
экзистенциализме. Но прежде чем это стало возможно, представители
данного направления прошли длительный искус экзистенциализма,
особенность которого заключалась в том, что все социальные,
«интерсубъективные» и объективированные в социальных институтах
противоречия и антагонизмы рассматривались лишь в их
«интернализованных» сознанием формах как моменты изначальной
онтологической структуры изолированного существования.
1. К . Мамардашвили. Формы и содержание мышления. М ., 1968.
2. См.: Гегель. Соч., т. I, стр. 79 — 81.
3. К . Маркс и Ф. Энгельс. Соч., т. 21. стр. 279.
4. См.: М. А . Киссель и М. В . Эмдин. Этика Гегеля и кризис современной
буржуазной этики. Изд. ЛГУ, 1966, стр. 70 — 78.
5. В . Bosanquet. Knowledge and Reality. London, 1885, p. VI.
6. J . Muirhead (ed). Contemporary British Philosophy, 1-st series. London,
1924, p. 5.
7. См.: М. Киссель. Критика философии Брэдли. Вестник Ленинградского
университета. Сер.: Экономика. Философия. Право.: N 11. Вып. 2 . 1961
8. В . С . Соловьев. Соч., т. 10. М ., 1914, стр. 319.
9. F. H. Bradley. Appearance and Reality. L. — N. Y ., 1899, pp. 553 — 554.
10.См., например: В. Минто. Дедуктивная и индуктивная логика. М .,
1901, стр. 48.
11.Unknown
12. F . Н. Bradley. The Principles of Logic, vol. I, p. 141 . London, 1925.
13. F . H. Bradley. Appearance and Reality, p. 363 .
14. Ibid., p. 146.
15. Ibid., p. 505 .
16. Ibid., p. 21.
17. Ibid., p. 28.
18. F. Н . Bradley. Collected Essays, vol. II. Oxford. 1935, p. 641.
19. F. Н . Bradley. Appearance and Reality, p. 28.
20. Ibid., p. 128.
21. В . И . Ленин. Полн. собр. соч., т. 29, стр. 349.
22. J . Мс Taggart. A Commentary on Hegel's Logic. Cambr., 193 U p. 1.
23. J. Мс Taggart. Studies in Hegelian Dialectics. Cambr., 1922.
24. Ibid., p. 15.
25. Ibid., pp. 8-165.
26. Ibid., р. 201.
27. Noel. La logique de Hegel. Paris, 1897, p. 16.
28. J. Мс Taggart. Studies in Hegelian Dialectics, P. 91.
29. Плеханов Г.Ф . Избранные философские произведения, т. III. M ., 1957
стр. 81
30. И . С. Нарский. Проблема противоречия в диалектической логике. Изд.
МГУ, 1969, стр. 82.
31. Там же, стр. 160.
32. Там же, стр. 78.
33. J . Мс Taggart. Studies in Hegelian Dialectics, p. 139.
34. Ibid., pp. 9 — 10.
35. Ibid., p. 10.
36. Ibid., p. 122.
37. J . Мс Таggart. A Commentary on Hegel's Logic, p. 306.
38. J . Мс Таggart. Studies in Hegelian Cosmology. Cambr., 1918, p. 23.
39. Ibid., p. 58 .
40. J . Мс Таggart. Ontological Idealism. In: Contemporary British Philosophy.
1-st series, p. 261.
41. J . Mс Таggart. Studies in Hegelian Cosmology, p. 94.
42. J . Mс Таggart. Studies in Hegelian Dialectics, p. 204.
43. К . Маркс и Ф. Энгельс. Соч., т. 2, стр. 154.
44. К . Маркс и Ф. Энгельс. Соч., т. 21, стр. 278.
45. Unknown
46. J . Мс Тaggart. Studies in Hegelian Dialectics, p. 139. 16 Ibid., p. 164.
47. Ibid., p. 238.
48. Ibid., p. 245.
49. J . Mс Тaggart. Studies in Hegelian Cosmology, p. 249.
50. Аббате М. Философия Бенедетто Кроче и кризис итальянского
общества. М .: Изд. иностр. лит ., 1959.
51. Эфиров С.А . От Гегеля к ... Дженнаро: (О судьбах диалектики в
буржуазной философии). М ., 1960, стр. 41.
52. См.: Filosofia contemporanea. Milano, 1959, pp. 59 — 60 . М .:
Политической мысли.
53. Общую характеристику философии Кроче и Джентиле см. в кн. С. А .
Эфиров. Итальянская буржуазная философия XX века. М ., 19°" стр. 37
—
72.
54. М . В . Croce. Saggio sullo Hegel. Ban, 1948, p. 141 .
55. Ibid., p. 15.
56. Ibid., p. 22.
57. Ленин. Поли. собр. соч., т. 29, стр. 215.
58. В . Сгосе. Saggio sullo Hegel, p. 64,
59. Ibid., p. 61.
60. Ibid.
61. Ibid., p. 132.
62. В. Croce. Logica come scienza del concetto puro. Bari, 1928, p. 110.
63. В. Сгосе. Saggio sullo Hegel, pp. 63 — 64.
64. Ibid., p. 108.
65. B . Croce. Logica come scienza..., p. 17.
66. В . Сгосе. Filosofia e storiografia. Bari, 1949, p. 17. 44
67. В . Сгосе. Ultimi Saggi. Bari, 1935, p. 55 .
68. В. Croce. La Storia come pensiero et come azione. Bari, 1954, p. 44.
69. Е . И . Топуридзе в своем глубоком исследовании «Эстетика Бенедетто
Кроче» (Тбилиси, 1967), бегло затрагивая вопрос об изменении
эстетической концепции итальянского философа (стр. 37 — 38),
отрицает существенные сдвиги в его позиции, основываясь на
высказываниях самого Кроче. Нам представляется, что если бы Е. И .
Топуридзе рассмотрела концепцию Кроче не в логическом разрезе, как
она делает в своей книге, а в историческом, она внесла бы
определенные коррективы в это свое утверждение.
70. В . Сгосе. Saggio sullo Hegel, pp. 90 — 91.
71.См. кн.: «Философские проблемы исторической науки». М., 1969.
72. В . Сгосе. La Storia come pensiero e come azione, p. 19.
73. О политической доктрине Джентиле и ее связи с фашизмом мы уже:
писали в упомянутой книге, написанной совместно с М. В . Эмдиным.
74. Gentile. Sistema di logica come teoria del conoscere, vol. II . Bari, I Jzo,
p. 131.
75. Ibid., pp. 49 — 50.
76.Gentile. Teoria generale dello spirito come atto puro. Bari, 1924, pp. 220 —
221.
77. Ibid., p. 198.
78. Collingwood. An Essay on Philosophical Method. Oxford,
79. Collingwооd. Speculum Mentis or the Map of Knowledge-Oxford, 1924, p.
195.
80. Collingwооd. An Essay on Philosophical Method, p. 88.
81. Ibid., p. 100 — 101.
82. Ibid., p. 169.
83. Collingwооd. The Principles of Art. Oxford, 1938, p. 167.
84. См.: R. G . Collingwood. The New Leviathan. Oxford, 1947, 241 — 262.
85. Ibid, 1.84.
86. Ibid., 1.72
87. Ibid
88. Ibid., 6.2
89. Ibid., 5.54.
90. Ibid., 7. 69.
91. Ibid., 7. 65.
92. Ibid., 10. 51.
93. Ibid., 947
94. Ibid., 950
95. Ibid., 9. 43.
96. Эта сторона вопроса рассмотрена в нашей книге «Идеализм против
науки. Критика науки в буржуазной философии XIX — XX вв.»
(Лениздат, 1969).
97. Т. И . Ойзерман. Проблемы историко-философской науки. М, 1969, стр.
45, 46, 47.
98.См.: Ю. Н . Давыдов. Критика
иррационалистических основ гносеологии неогегельянства. В
сб.: «Современный объективный идеализм». М ., 1963; А. С . Богомолов.
Немецкая буржуазная философия после 1865 года. Изд. МГУ, 1968.
99. В. Bosanquet. The Value and Destiny of the Individual. London, 1912, p.
132.
100. Ibid., p. 179.
101. Ibid., р. 211
102. Ibid., p. 316.
103. J . Royсе. World and the Individual, 1-st series. N . Y ., 1900, p. 467.
104. J . Royce. The Spirit of Modern Philosophy. N. Y., 1892, p. 230.
105. И . А . Ильин. Философия Гегеля как учение о конкретности Бога
и человека, т. I . M ., 1918, стр. 119.
ГЛАВА ВТОРАЯ
АНАЛИТИКА
ПРОЦЕССА
И ЭКЗИСТЕНЦИИ
Под этим заголовком объединены весьма различные течения мысли,
которые, однако, выдвигают на передний план одну и ту же тему — тему
времени в ее космическом (философия жизни, эмерджентный эволюционизм)
или антропологическом — экзистенциальном — значении. Абсолютные
идеалисты, уравнивая в правах время и пространство, считали и то и другое
иллюзорными формами видимости. Это было вполне в духе Гегеля, не
признававшего, как известно, никакого развития, кроме логического.
Рождение эволюционной биологии коренным образом изменило
теоретическую функцию гегельянства: из спекулятивного предвосхищения
идеи развития оно превращается в спекулятивную критику научного
эволюционизма. Дарвинизм предполагает признание исторической
изменчивости органических форм в качестве фундаментального факта
реальности и необходимого условия ее познания. Следовательно, фактор
времени и процессуальность реальности уже невозможно было редуцировать
в философском мышлении к чему-то более фундаментальному (вечному).
Это означало не только обличение панлогизма, но и полную
дискредитацию механического мировоззрения, возникшего на основе
экстраполяции принципов ньютонианской физики. Примечательно, что в
начале механицизм пытался ассимилировать идею эволюции и выразить ее в
своей редуктивистской схеме. Этим и занимался Г. Спенсер (1820 — 1903).
Популярность его «синтетической философии» в последней четверти
прошлого столетия объясняется в значительной мере тесной связью с
привычным стилем мышления, непригодность которого была осознана
далеко не сразу.
Иррационалистическая философия жизни (особенно в лице А. Бергсона),
разнообразные виды «организмических» доктрин (холизм, неовитализм и т.
д.), неореалистические космологии С. Александера и А. Уайтхеда — все эти
течения проникнуты единым стремлением выработать альтернативу
механической интерпретации мироздания в эпоху господства эволюционной
теории и квантово-релятивистской физики. В этих учениях в идеалистически
извращенной (а иногда и в мистической) форме отражены некоторые
моменты объективной диалектики природы.
Что же касается экзистенциалистов, то рациональный смысл их писаний
следует, по-видимому, искать в отражении реальных противоречий
обыденного сознания, типичного для антагонистического общества в эпоху
его кризиса. Разумеется, сами экзистенциалисты этим противоречиям
придают онтологический смысл, в чем и проявляется мистифицирующий
характер их воззрений.
С философией жизни и организмическими учениями экзистенциализм
сближает акцент на процессуальности, временности существования. «Бытие
и время» — так называется один из самых известных экзистенциалистских
трактатов, написанный М. Хайдеггером. Но точно так же можно было бы
обозначить центральную проблему философской рефлексии в творчестве
Бергсона, Александера, Уайтхеда. Только понятия времени у них не
идентичны: экзистенциалистская интерпретация времени антропоцентрична
и восходит к дильтеевскому представлению о «динамическом переживании»
как сущности «историчности», тогда как организмическая концепция
своеобразно преломляет традиционные мотивы витализма.
Эволюционистский панпсихизм
Этим термином мы предпочитаем называть разнообразные варианты так
называемого эмерджентного эволюционизма от Бергсона (1859 — 1941) до
П. Тейяра де Шардена (1881 — 1955) — последнего крупного представителя
этого стиля мышления. Оба упомянутых мыслителя воплощают в своем
творчестве две крайние разновидности концепции «творческой эволюции»:
бергсоновская система проникнута дуализмом косной материи и
оживляющего ее «жизненного порыва» и потому ближе всего стоит к
чистому спиритуализму, а Тейяр приписывает творческую силу самой
материи и тем самым (как это ни странно для правоверного католика)
вплотную подходит к диалектической идее самодвижения, саморазвития
действительности, но на основе гилозоизма.1
Впрочем, нас интересуют не столько специфические особенности во
взглядах отдельных представителей этого направления, сколько их общая
тенденция (тем более, что эти особенности уже были предметом
исследования в нашей литературе2). Важно резюмировать новое содержание,
которое внесли адепты: эмерджентного эволюционизма в такие привычные
для философии и естествознания понятия, как «время», «процесс»,
«эволюция».
С. Александер (1858 — 1939) писал: «Пожалуй, г. Бергсон в наши дни был
первым философом, который принял Время всерьез».3 Настолько «всерьез»,
можем мы добавить со своей стороны, что он полностью отождествил
реальность с течением времени — «длительностью». В концепции «чистой
длительности» он находил разгадку всех затруднений философии и
наивысшее обобщение, гармоническое упорядочение интеллектуальных
конструкций науки, которая, по его мнению, только упрощает, искажает и
губит «живое чудо» реальности.
Наиболее интересный и важный для понимания последующего развития
буржуазной философии момент учения Бергсона составляет критика
математической абстракции времени. Механицизм создавал универсальную
картину мироздания, придавая непосредственный онтологический смысл
довольно сложным теоретическим идеализациям ньютонианской физики. Эта
картина мира включала в себя три важнейших элемента: материю,
пространство и время, тяготение. Частицы материи («корпускулы»),
связанные силами тяготения, свободно плавают в океане пространства и
времени. В дальнейшем место пространства в данной системе представлений
заняла особая мировая среда — эфир, постулированный для объяснения
электромагнитных явлений.
В действительности эта онтологическая схема возникает из смешения
компонентов математической модели механического движения с
объективной реальностью. Инструменты математического анализа,
предназначенные для точно определенных и ограниченных целей,
превращаются в зеркальные отображения подлинной природы вещей. В
одном популярном руководстве для физиков достаточно ясно сказано:
«Классическая механика выбирает для описания реальных процессов
следующие математические образы: 1) однородное, изотропное,
неограниченное трехмерное пространство; 2) точки в нем для описания
положений материальных элементов; 3) временной параметр для
упорядочения последовательности положений».4
Как мы видим, речь идет о «математических образах», идеальных моделях,
в которых пространство и время представляются как независимые друг от
друга и от материальных точек параметры. Здесь и возникает вопрос, какова
же действительная реальность, от которой мы абстрагируемся, создавая
математическую теорию какого бы то ни было объекта. В постановке /но
отнюдь не в решении) этого вопроса и в постоянном напоминании о том, что
абстракции науки не могут быть исходными данными для философии,
которая как раз и должна объяснить их происхождение и соотношение с
реальностью, и состоит позитивное содержание иррационализма Бергсона.
Впрочем, тот же самый пафос возвращения к конкретному из призрачного
мира лишенных жизни абстракций пронизывает и философию Гегеля.
Однако Гегель скомпрометировал свою программу принципом тождества
мышления и бытия. Маркс показал, что мышление, даже если оно
диалектическое, не есть само конкретное, но лишь его идеальная
реконструкция, ибо реальность всегда остается за пределами мышления как
необходимая предпосылка. Тем самым диалектика стала
материалистической.
Иначе понимают конкретное Бергсон и его последователи. Для них
конкретное есть «непосредственные данные сознания», причем не перцепции
феноменалистов имеются уже в виду, а сам поток сознания в той мере, в
какой оно, увлекаемое порывом интуиции, раздвигает свои границы,
распространяя свою власть на внешнюю предметность, и тем самым
преодолевает свою субъективность, свою конечность, сливаясь с
животворным источником всего бытия — вечно сущим духом. Это движение
и представляет собой «чистую длительность». «Чистая длительность, —
пишет Бергсон, — есть не что иное, как последовательность качественных
изменений, которые зависят друг от друга, которые взаимопроникают, не
имея точных очертаний, не стремясь выделить себя в нечто внешнее по
отношению к другим моментам, не имея ничего общего с числом. Это чистая
гетерогенность».5
Стало быть, «чистая длительность», или реальное время, — антипод
математической серии, натурального ряда чисел. Числа однородны,
различаясь лишь количеством единиц, самостоятельны и рядоположены друг
другу. Рядоположенность и внешняя связь сосуществования образуют самую
сущность пространства. Отождествление реальности с потоком времени
означает, таким образом, исключение пространства из категориальных
определений действительности. Здесь, несомненно, один из самых слабых
пунктов бергсоновского учения. Если критика «абсолютного», т. е . пустого,
лишенного качественных различий, времени шла до некоторой степени в
унисон с развитием естественнонаучных представлений, то отрицание
реальности пространства означало полный разрыв с современной
(релятивистской) физикой.
Широко известно, что специальная теория относительности обосновала
неразрывную связь пространственных и временных» определений событий и
показала, что статус физической реальности принадлежит пространству-
времени, а не пространству и времени, как считали ранее. Время без
пространства — такая же абстракция, как и пространство вне времени.
Конкретно лишь их единство. Этот вывод теории Эйнштейна послужил
отправным пунктом концепции эмерджентной эволюции С. Александера.
«...Пространство и Время, — пишет Александер, — зависят друг от друга,
хотя и по разным причинам. Но в каждом случае последнее основание
присутствия одного в другом содержится в факте континуальности,
присущей им обоим. Без Пространства Время лишилось бы связи
(превратилось бы в совокупность исчезающих моментов. — М . К .). Без
Времени в Пространстве не было бы точек, которые нужно соединять
(пространство 1 стало бы гомогенной протяженностью, как это и есть по
Бергсону. — М . К .) . Нет таких вещей, как точки или мгновения,
существующие сами по себе. Есть только точки-мгновения, или 1 чистые
события».6
Но в этом союзе двух фундаментальных аспектов мироздания времени, по
Александеру, все же принадлежит ведущая роль. «Именно Время как целое и
в своих частях связано с Пространством и его соответствующими частями
отношением, аналогичным отношению сознания (mind) к его телесной или
нервно-физиологической основе. Или, говоря короче, Время есть сознание
Пространства, а Пространство — тело Времени».7
Здесь уже явственно обнаруживается основная черта эмерджентного
эволюционизма — мистификация понятия времени. В этой концепции время
предстает как самостоятельно действующая творческая сила, несущая в лоне
своем нескончаемую серию качественных изменений. Самодвижение,
присущее материи, отрывается от своего носителя и гипостазируется, а
материальность мира становится одним из качеств, возникающих на
определенном этапе космического процесса. Тем самым данная система
взглядов приобретает несомненные черты сходства с античным гилозоизмом.
Что это действительно так, мы можем судить по такому, например,
высказыванию С. Александера: «Время есть поистине постоянный принцип
непостоянства, каковой и является настоящим творцом. Или, спускаясь с
высоты этих фраз, это своего рода космический жандарм, который делает
застой невозможным и одновременно создает движения, образующие вещи, и
поддерживает их в состоянии движения. Проходите, господа. Если верно, что
Время есть сознание Пространства тогда для нас, как и для некоторых
греческих философов, душа становится источником движения».8
Справедливости ради надо сказать, что Александер — еще один из
наиболее осторожных и «реалистически» мыслящих выразителей
неогилозоизма. Он специально делает оговорку, что «время», о котором
постоянно идет речь в его трактате, нельзя приравнивать к сознанию
человека и что скорее человеческое сознание есть форма времени, чем
наоборот.9 В ряде других сочинений Александер. отождествляет творческую
функцию времени с деятельностью некоего специального импульса,
именуемого им «низус».10 «Этот импульс творческой потенции я называю
низусом вселенной, заимствуя идею у Спинозы и соглашаясь с духом, если
не со всеми деталями, учения г. Бергсона о жизненном порыве. Этот низус не
только ведет к образованию вещей и к поддержанию их существования, но и
понуждает мир к движению вперед, к новым творениям, извлекая новое из
лона старого».11
Таким образом, эта доктрина оставляет механистическую схему
объяснения процесса ради виталистической, постулируя изначальный
«жизненный порыв» как абсолютный предел интерпретации, не
допускающий дальнейшей расшифровки и перевода на язык научных
понятий. Но даже если принять виталистический принцип объяснения,
остается по крайней мере еще одна серьезная теоретическая трудность:
интерпретация структурных уровней и эмпирически фиксированной
последовательности эволюционного процесса. В самом деле: почему из
«чистых событий» (мы берем схему Александера) «эволюирует» материя, из
«ее жизнь, а затем — дух» Александер прямо признает такой порядок
развертывания основных ступеней реальности необъяснимым, рекомендуя
позицию «естественного благочестия».
Энциклопедию и логическое завершение возрожденного Бергсоном
виталистического стиля мышления мы находим в «философии процесса» А.
Уайтхеда (1861 — 1947). В тщательно разработанной категориальной схеме
Уайтхед стремится выразить в виде логических принципов все то, что у
Бергсона и Александера принимало форму метафор и поэтических сравнений
или догматически постулировалось без попытки теоретического выведения.
Естественно поэтому, что его доктрина в ряде существенных пунктов
отличается от взглядов других представителей эмерджентного
эволюционизма.
Критику механицизма Уайтхед удачно резюмирует в двух формулах,
которые сами по себе приемлемы, если их наполнить диалектико-
материалистическим содержанием. Это пользующиеся широкой
популярностью в современной буржуазной философии выражения: «ошибка
подмены конкретного» и «ошибка простой локализации». В первом случае
речь идет о попытка выдать за реальность абстракцию материального тела,
лишённого чувственных качеств и наделенного протяжением в качестве
основного атрибута. То же самое отмечал и Маркс, когда говорил, что
материализм после Бэкона, превращая материю «в абстрактную
чувственность геометра», становится односторонним.12
«Ошибка простой локализации» совершается тогда, когда сложная система
рассматривается как простой агрегат, состоящий из независимых друг от
друга элементов, и не учитываются взаимодействия между элементами
внутри системы. Благодаря таким взаимодействиям элемент вне системы
превращается опять-таки в абстракцию. Таковы с точки зрения современной
физики ньютонианские корпускулы, плавающие в абсолютном пространстве.
Из этого следует, что структура конкретного — реальности — есть структура
органической целостности, организма.: «Теория, которую я развиваю, —
пишет Уайтхед, — состоит в том, что ни физическую природу, ни жизнь
нельзя понять, если не слить их вместе, сделав существенными факторами в
составе „истинно реальных вещей».13
Единство мира, согласно Уайтхеду, не исключает его качественных
различий, но, наоборот, реализуется при посредстве различий. В терминах
античной философии (а обращение к ней, как мы увидим далее, оправдано
самим существом дела) это означает, что «единое» существует только во
«многом», а «многое» — только в «едином». Модель этого отношения
Уайтхед находит в связи организма со средой. «Среда входит в природу
каждой вещи».14 Различие между ними относительно. Такую точку зрения
Уайтхед называет «теорией взаимной имманентности». Примером «взаимной
имманентности» может служить непосредственное восприятие нами
внешнего мира, когда мы чувствуем, что «находимся в мире, а мир заключен
в нас».15
Уайтхед прибегает к тому же приему, что и Александер: проецирует
соотношение высшей ступени эволюционного процесса (в данном случае —
механизм связи сознания и его объекта) на общую природу реальности и тем
самым встает на позиции панпсихизма. Высшее избирается в качестве
модели для низшего, и в результате понятие реальности приобретает
антропоморфический характер. Получается своего рода «редуктивизм
наоборот»: не сведение высшего к низшему, чем грешил механицизм, а
нахождение высшего в низшем, сложного — в простом, органического — в
неорганическом, сознания — в том, что не обнаруживает признаков
сознания.
Однако эта операция проводится в «философии процесса» достаточно
тонко, без повторения ошибок примитивного идеализма, с самого начала
постулирующего тождество мышления и бытия. Уайтхед, напротив,
предупреждает, что его «космологическая схема подразумевает отказ от
предпосылки... будто основными элементами опыта являются сознание,
мышление, чувственное восприятие», так как «эти элементы принадлежат к
производным, „смешанным" фазам конкретности».16 Но все же в данном
высказывании недвусмысленно говорится о том, что конкретность
(реальность) следует понимать как «опыт», только в некоей более
примитивной форме, чем «чувственный опыт» феноменалистов.
Обоснование этого положения Уайтхед дает с помощью специально
выдвинутого «реформированного субъективистского принципа». Уайтхед
пишет: «Субъективистский принцип состоит в том, что вся вселенная
состоит из. элементов, обнаруживаемых при анализе опыта субъектов.
Процесс есть становление опыта. Из этого следует, что философия организма
всецело приемлет субъективистскую приверженность новой философии (это,
конечно, преувеличение, ибо наряду с субъективизмом в истории новой
философии была и материалистическая тенденция. — М . К .) . Философия
организма принимает также учение Юма о том, что нельзя допускать в
философскую схему ничего, что не могло бы быть обнаружено как элемент
субъективного опыта. Это онтологический принцип. Поэтому юмовское
требование, чтобы каузальность описывалась как элемент опыта, в свете этих
принципов совершенно обоснованно. Пункт, в котором юмовская процедура
должна быть подвергнута критике, заключается в том, что у нас есть прямая
интуиция прошлого опыта (inheritance) и памяти. Таким образом,
единственная проблема в том, чтобы дать такое описание общего характера
опыта, которое позволило бы включить эти интуиции. Именно здесь Юма и
постигла неудача».17
Ясно, что исходный онтологический принцип философии организма есть
принцип идеалистического эмпиризма — юмизма, но в «реформированном»
виде. «Реформа» заключается в расширении понятия чувственного опыта,
дабы объяснить интуицию причинности. В юмовских перцепциях можно
обнаружить всего лишь интуицию временной последовательности, но не
причинения, т. е . активной порождающей силы. Поэтому теорию перцепций
Уайтхед заменяет теорией претензий. Претензия есть «схватывание»,
включение в субъективное единство одного «атома опыта» — организма —
другого организма, который при этом уже теряет характер субъективной
непосредственности («для-себя-бытия») и превращается в простой объект
чужого опыта, становится одним из ингредиентов вновь возникшей
конкретности.18 Это Уайтхед именует «физической претензией». Кроме нее
есть еще «концептуальная претензия» — «схватывание» не всего организма,
а только лишь «чистого объекта», воплощенного в данном организме. Что
это за «чистый объект», мы узнаем несколько позже, а сейчас только
добавим, что позитивную физическую претензию (негативная претензию
есть отторжение чужого от своего) Уайтхед называет еще физическим
чувством.
Здесь мы в очередной раз сталкиваемся с гилозоистической
интерпретацией такого физического явления, как притяжение или вообще
взаимодействие сил, а говоря еще шире — энергии. Физическое понятие
энергии есть абстракция от абсолютной конкретности претензий — так же,
как по учению Бергсона, числовая последовательность абстрагирована от
«чистой длительности». Но в отличие от французского интуитивиста
Уайтхед, наткнувшись на «абсолютно конкретные» единицы опыта, не
заканчивает своего анализа. Дело в том, что конкретное (реальность)
представляет собой не только организм, но и процесс, а каждое из этих
понятий обозначает определенный аспект действительности.
Значение философского анализа этого аспекта реальности Уайтхед
превосходно понимает, справедливо напоминая, что фундаментальными
понятиями современной науки являются «деятельность» и «процесс». Задача
заключается в том, чтобы выявить все логические предпосылки, вытекающие
из фундаментального факта процессуальности. Прежде всего он
формулирует «принцип процесса» — «то, как действительная сущность
(элемент мира. — М . К .) становится, образует то, что она есть... Эти два
способа описания действительной сущности нельзя считать независимыми.
Ее ,,бытие" образуется ее „становлением". Это и есть „принцип
процесса"».19
Итак, реальность есть становление. Бытие вне становления — такая же
абстракция, как организм в изоляции от среды или элемент помимо целого,
которому он принадлежит. Это, несомненно, один из принципов
диалектического подхода к действительности. Но, как это вообще характерно
для Уайтхеда, его диалектические идеи органически срослись с
идеалистической философской теорией и потому мало пригодны для
философской интерпретации современной естественнонаучной картины
мира, к чему он субъективно стремился.
Так и теперь: «принцип процесса» Уайтхед использует для того, чтобы
лишний раз дискредитировать понятие материи как пережиток
несостоятельного «субстанциализма», предполагающего отделение бытия от
становления (субстанция есть то, что пребывает неизменным в своей
основной сущности, несмотря на изменения акциденций). Корень
представления о субстанции Уайтхед находит в онтологическом
истолковании субъектно-предикатной логики Аристотеля: «Понятия
„зеленый лист" и „круглый шар" лежат в основе традиционной метафизики.
Они породили два заблуждения: первое есть концепция пустой
действительности, лишенной субъективного опыта, второе — понятие
качества, присущего субстанции. По своей сущности как абстракции высокой
степени эти понятия приносят чрезвычайную прагматическую пользу.
Фактически язык возник главным образом для выражения такого рода
понятий. По этой причине язык в обычном словоупотреблении совсем
неглубоко проникает в основания метафизики. Наконец, надо повторить
реформированный субъективистский принцип: помимо опыта субъектов нет
ничего, ничего, ничего, чистое ничто».20
Место субстанции в философии Уайтхеда занимает понятие чистой
деятельности, которой он дает название «творческой активности» (creativity).
Это двойник бергсоновского «жизненного порыва» и александеровского
«низуса», «принципа новизны».21 Однако Уайтхед, как мы уже говорили,
отлично понимает, что взятая сама по себе «творческая активность» мало что
объясняет в реальном процессе развития. «Творческая активность» — другое
название для аристотелевской «материи» или современного «нейтрального
вещества». «Но это понятие лишено оттенка пассивной рецептивности либо
„формы", либо внешних отношений; это чистое понятие деятельности ...
мира, который никогда не бывает дважды одним и тем же... Оно не может
быть наделено определенными свойствами, потому что все свойства более
специальны, чем оно само. Но творческую активность в мире мы всегда
находим при наличии некоторых (дополнительных. — М . К .) условий и
характеризуем (в опыте. — М . К .) как обусловленную».22
Следовательно, одной творческой активности недостаточно для объяснения
качественной определенности различных процессов, составляющих
органическую целостность реальности. На этом и споткнулось большинство
версий эмерджентного эволюционизма. Уайтхед же имеет в запасе еще один
принцип, с помощью которого он во всеоружии встречает новую трудность.
Это «принцип относительности» (который не имеет ничего общего, кроме
названия, с принципом относительности Галилея или Эйнштейна): «природе
„бытия" присуще то, что оно представляет собой возможность для каждого
„становления"».23
Но не противоречит ли такое утверждение «принципу процесса»? Ведь
здесь, по-видимому, допускается бытие помимо становления. И все же
противоречия нет, так как онтологический статус бытия и становления
различен: становление имеет статус реальности, тогда как бытие само по себе
—
всего лишь чистая возможность. В этом пункте выясняется, что процесс,
становление означает актуализацию возможности — превращение
возможности в действительность.
Актуализация чистого бытия возможностей, их вовлечение в поток
пространственно-временных «событий» (другое название для
действительных сущностей — элементов мира) есть одновременно и
индивидуализация «творческой активности», которая; сама по себе, как мы
знаем, лишена качественной определенности. Возможности, превращаясь в
действительность, формируют, «структурируют» творческий процесс
эволюции, вносят в этот процесс начало качественной определенности.
Так как согласно «субъективистскому принципу» становление означает
становление опыта, то превращение возможности в действительность
характеризуется в терминах «схватывания объекта» — включения объекта в
субъективное единство какой-либо претензии. Поскольку же возможности не
обладают статусом процессуальности, вполне понятно, почему Уайтхед
называет их «вечными объектами». «Творческая активность» — это то
общее, что лежит в основе самых различных событий, специфическую
природу которых и выражают «вечные объекты» — тогда, разумеется, когда
«внедряются» в события.
Еще древнегреческая идеалистическая философия рассматривала
возникновение конкретных вещей как процесс соединения формы с
материей. В этом же духе рассуждает и Уайтхед, только у него место
материи занимает «творческая активность». Вполне естественно, что
Уайтхед часто подчеркивал связь своего учения с философией Платона.
«Наиболее правильная общая характеристика европейской философии
состоит в том, что вся она представляет собой серию примечаний к
Платону... Если бы мы встали на точку зрения Платона с небольшими
изменениями, которые внес двухтысячелетний опыт человечества в
социальной организации, эстетическом творчестве, в науке и религии, мы
пришли бы к созданию философии организма».24
Однако, постулируя мир «вечных объектов» наряду с процессом событий,
Уайтхед вводит в свою доктрину тот самый дуализм, то самое раздвоение
природы, против которого выступал сам, обличая несостоятельность
механистического материализма. Очевидно, что такое возражение не могло
не прийти в голову самому философу, тем более, что он имел перед собой
пример того же Платона. Одна из двух основных тем диалога «Парменид»
как раз и посвящена обсуждению вопроса об отношении вещей к идеям и
критике дуалистической интерпретации этого отношения. Парменид в
полемике с Сократом показывает несостоятельность обеих односторонних
точек зрения по этому вопросу: чистой трансцендентности формы по
отношению к вещам и чистой ее имманентности. Хотя собственная позиция
Парменида не очень-то ясно выражена, весьма вероятно, что она заключалась
в попытке синтеза этих противоположных подходов.25
Во всяком случае Уайтхед приложил немало стараний, чтобы преодолеть
этот дуализм. «Вечные объекты» имеют двойственную природу, что
фиксируется и в самой терминологии. В качестве «вечных» они предстают
как общая способность к определению, в качестве объектов они —
реализованные детерминанты (определенности), включенные в содержание
претензий. Отсюда имманентность и трансцендентность являются
характеристиками объекта: как реализованная определенность он
имманентен, как способность к определению он трансцендентен; в обоих
случаях он относится к чему-то другому. Это «другое» и есть процесс
«событий», «действительных сущностей», «претензий».
И все-таки синтез противоположных определений «вечного объекта» не
устраняет всех затруднений, порождаемых постулатом платоновских форм. В
соответствии с онтологическим принципом чистые возможности не могут
существовать сами по себе, но только в контексте какого-либо опыта
субъекта. Но что это за субъект, в опыте которого могут быть «вечные
объекты»? Для этого он сам должен быть вечным. Логика системы, таким
образом, требует постулировать «уникальную действительную сущность» —
бога.
Бог на самом деле — уникальная сущность, потому что представляет собой
исключение из правил естества. Например, остальные действительные
сущности возникают и исчезают, но не изменяются (изменениям подвержены
только «сращения» — соединения этих сущностей, образующие
макроскопические предметы), а бог, наоборот, изменяется, но вечно
пребывает. Ввиду этого бог есть «действительная сущность», но не
«событие» (в остальных случаях эти понятия тождественны). В событиях
концептуальные претензии возникают на основе претензии физических
(философ называет это «принципом Юма»), в боте же концептуальная
претензия составляет его изначальную природу, а физическая —
производную.
Двойственность природы бога означает, что он не только творец, но и поэт
мира. Сотворив мир, он развивается вместе е ним, выступая как источник
порядка и гармонии, столь необходимых вселенной, эволюционирующей под
воздействием стихийной «творческой активности». В результате он и
трансцендентен миру и имманентен ему. Двойственность бога отражает
биполярную природу действительности. «Вселенная двойственна, потому что
она одновременно преходяща и вечна. Вселенная двойственна, потому что
всякая деятельность одновременно телесна и духовна... Повсюду во
вселенной царствует союз противоположностей, образующий основу
дуализма».26 Таково последнее слово «философии процесса».
В буржуазной литературе распространено мнение, что доктрина Уайтхеда
сродни гегелевскому диалектическому идеализму. Так, Р. Виттмор в статье
«Гегелевская наука и современный! мир Уайтхеда» (парафраз названия
известной книги последнего! «Наука и современный мир»), отмечая, что в
XX веке «гегелевская логика была забыта, а „Феноменология" воскресла как
введение в экзистенциализм», находит сходство «между гегелевской
концепцией диалектики и рассмотрением процесса в философии Уайтхеда»,
поскольку оба философа исследуют логику процесса.27
Конечно, нельзя сказать, что такого сходства вообще нет, хотя бы потому,
что и Гегель и Уайтхед искали поддержки своих взглядов в учении Платона
(Гегель, как известно, придавал Огромное значение его диалектике). Но все
же, если уж искать в системе Гегеля концепцию, аналогичную философии
процесса, то для этой цели гораздо больше подойдет «Философия природы»,
но никак не «Логика». Именно в сфере натурфилософии, где идея отчуждает
себя в мир пространственных форм, возникает проблематика платоновского
«Парменида», а вместе с нею мы попадаем в «мир Уайтхеда».
Что же касается «Логики», то ее построение и метод (восхождение от
абстрактного к конкретному путем развертывания имманентных
противоречий категорий) не только не похожи на? «Процесс и реальность»,
но даже противоположны. Уайтхед учения Гегеля почти не знал, и если бы не
это обстоятельство, можно было бы подумать, что он имел в виду
отмежеваться от гегелевской «Логики», когда писал: «Объясняющая цель
философии часто понимается неправильно. Ее дело — объяснять
возникновение более абстрактных вещей из более конкретных... Подлинный
философский вопрос состоит в том, как конкретный факт может
обнаруживать сущности, отличные от него самого и все же причастные к
нему в силу своей собственной природы? Другими словами, философия
объясняет абстракцию, а не конкретность. Как раз благодаря инстинктивному
пониманию этой основной истины, несмотря на произвольное
фантазирование и атавистический мистицизм, платонизм сохраняет
постоянную привлекательность; он ищет формы в фактах».28
Уайтхед достаточно определенно характеризует свой метод: анализ
конкретного с целью выделения в нем абстрактных компонентов,
обнаружение в потоке событий вечного и вневременного. Этот метод нельзя
назвать диалектическим, хотя элементы объективной диалектики, повторяем,
нашли известное отражение в «философии процесса». Гегель был
сознательным диалектиком. Поэтому он и говорил, что форма и содержание
в его философии совпадают. Об Уайтхеде этого не скажешь, ибо форма
(метод) развития его теоретической конструкции не является
диалектической.
И все же, если искать Уайтхеду предшественника в немецкой классической
философии, то ближе всего к нему окажется Шеллинг с его философией
тождества. Учение о биполярной природе действительности прямо
напоминает об этом, так же как и присущая им обоим односторонность,
отмеченная у Шеллинга еще Гегелем. Речь идет о том, что в этой
философской конструкции все усилия мышления направлены на
демонстрацию тождественности различных явлений, их общей природы, а
качественное своеобразие их упускается из поля зрения. В итоге такое
философствование вырождается в серию беспорядочных аналогий,
непригодных для того, чтобы проследить систематически и в соответствии с
эмпирическим материалом нить развития в природе, «узловую линию
отношений меры», выражаясь по-гегелевски.
В этом отношении Александер имеет известное преимущество: он хотя бы
фиксирует узловые точки перехода от низшего к высшему, не пытаясь,
правда, объяснить закономерность перехода. Уайтхед же всюду в природе
видит жизнь, даже в области физических явлений. Это имеет тот
рациональный смысл, что подчеркивает неадекватность механистических
представлений в области физики. Но если мы атом наравне с клеткой живого
организма назовем органическим телом и на этом поставим точку, то после
этого главное остается не сделанным, ибо надо ещё установить, что отличает
одну органическую систему от другой.
В философии процесса есть и другой существенный пробел; в ней не
нашлось места для объяснения тенденции развития, направления
эволюционных изменений. Идея «ортогенеза» — направленного развития —
играет центральную роль в концепции П. Тейяра де Шардена. Эволюционная
концепция Тейяра не так тщательно разработана, как у Александера или
Уайтхеда, но зато в ней есть новый элемент, без которого понятие эволюции
теряет существенную часть своего содержания. Мы имеем в виду концепцию
человечества как фактора эволюционного процесса и «гоминизации
вселенной» как кульминационной фазы развития космоса.
На стадии человека проясняется направление эволюции. Это направление
Тейяр определяет по-разному, имея в виду различные аспекты одного и того
же явления. «Конвергенция», «срастание», «рекуррентность», «тотализация»
—
таковы чаще всего употребляемые им термины. «Ничего нельзя понять в
человеке с антропологической, этической, социальной, моральной сторон, а
также невозможно сделать какого-либо приемлемого предвидения его
будущих состояний до тех пор, пока мы не видим, что в процессе развития
человека „разветвление" (насколько оно существует) действует лишь с целью
агломерации и конвергенции, причем в высших формах. Образование
мутовок, отбор, борьба за жизнь — отныне простые вторичные функции,
подчиненные у человека делу сплочения... Эволюция — возрастание
сознания. Возрастание сознания — действие к единению».29
Концентрация в области экономики, организованное объединение
умственных усилий человечества и образование науки как; специального
социального института — важнейшие, но далеко не единственные феномены
этой тенденции. В противоположность; Бергсону Тейяр настаивает на
синтетической функции разума и научного мышления. Отсюда его идея
ноогенезиса — образования ноосферы — единого человечества, универсума,
сплоченного чувством космической любви и направляющего открытия
науки: ко благу целого и в то же время в интересах отдельной личности.
Любопытно, что этот универсум будущего Тейяр рассматривает как
дифференцированное единство, т. е . как сверхперсонализацию, которая
реализуется в личностях, ориентированных на общий для всех духовный
центр. Это напоминает гегелевскую идею субстанции-субъекта —
«абсолютного духа», в котором объективная основа бытия одухотворяется, а
субъективность преодолевает свою «эгоцентричность», самодовлеющую
ограниченность и становится бесконечной.
Согласно Гегелю, в этом и состоит полное, завершенное понятие бога, если
попытаться философски осмыслить христианскую символику. Сравнение с
гегелевским абсолютным духом приходит на память, когда вдумываешься в
оставленное Тейяром описание кульминационной фазы эволюции — «точки
Омеги». «. ..Не следует представлять себе Омегу как просто центр,
возникающий из слияний элементов, которые он собирает или аннулирует в
себе (это была бы безличная субстанция. — М. К .) . По структуре Омега, если
его рассматривать в своем конечном принципе, может быть лишь
отчетливым центром, сияющим в центре системы центров («система
центров» — совокупность личностей. — М . К .). Группировка, в которой
персонализация всецелого и персонализация элементов достигает своего
максимума, без смешивания и одновременно под влиянием верховного
автономного очага единения, — таков единственный образ, который
вырисовывается, если мы попытаемся логически, до конца применить к
совокупности крупинок мысли понятия общности».30
«Верховный автономный центр единения», о котором упоминается в
приведенной выдержке, есть не кто иной, как Христос, понимаемый как
средоточие ценностной ориентации каждой отдельной личности, и,
следовательно, содержание, смысл и конечную цель эволюции составляет,
согласно Тейяру, победа «дела Христова» и материализация
идей христианства в социально-культурной организации человечества.
Поэтому совершенно несостоятельны попытки сблизить философию Тейяра
с диалектическим материализмом. Нельзя вырывать из контекста отдельные
формулировки Тейяра, похожие на те или иные высказывания Энгельса
(например, у Тейяра есть формулировки закона перехода количества в
качество), надо, как и во всяком историко-философском исследовании,
учитывать общий смысл концепции и ее замысел.
За три дня до смерти, 7 апреля 1955 года, в записной книжке Тейяр в
нескольких отрывистых фразах выразил самую заветную свою мысль,
резюмирующую все содержание его философии: «Два символа моей веры.
Вселенная тяготеет к центру (дословно: „центрирована". — М . К .).
Эволюционно — вверх и вперед (тяготение к центру дает себя знать и
интенсивно и экстенсивно, в иерархии форм и в их пространственной
экспансии. —
М. К .) . Христос есть ее центр. Ноогенезис (образование
ноосферы. — М. К.) = Христогенезис"».31
Таким образом, «тейярдизм» представляет собой концепцию
«христианского эволюционизма». С одной стороны, это секуляризация,
рациональная интерпретация в свете эволюционных идей христианской
догматики. С другой стороны, это обстоятельство влечет за собой
мистификацию научной теории развития. С ортодоксально-христианской
точки зрения Тейяр, ученый-гуманист, непреклонный сторонник мира и
прогресса, проникнувшийся верой в будущее, — несомненный еретик,
извратитель буквы и духа евангелия. Он верует в то, что «царство божие»
может быть установлено на земле, а бог из прибежища слабых и отчаявшихся
сделается вдохновителем могучего и процветающего сообщества людей,
забывших вражду и ненависть. Сие есть страшный «грех» по понятиям
христианской теологии.
В мировоззрении Тейяра идеи гуманизма получают религиозную окраску.
С таким противоестественным соединением не может примириться
искреннее и бескомпромиссное религиозное чувство, ибо его пафос совсем
иной. Это не пафос надежды на гармонический синтез в будущем реальности
и человеческих упований, а пафос непримиримой противоположности между
богом и миром, неустранимых трагических коллизий человеческого
существования. Из этого источника и возникла экзистенциальная диалектика.
Экзистенциальная диалектика
«Тайна» сопричастности вечного и временного, бесконечного и конечного,
абсолютного и относительного — главная тема размышлений так
называемых «экзистенциальных философов». Только у них сопричастность
противоположных начал выступает не как «соучастие», но как живая связь
отрицания, превращающего биполярность бытия в клубок противоречий,
которые раздирают на части человеческое существо.
Основоположник экзистенциализма С. Кьеркегор (1813 — 1855) главным
делом своей жизни считал борьбу с духом рационализма, апофеоз и
энциклопедию которого он усматривал в философии Гегеля. Критике
философии Гегеля посвящена самая большая его теоретическая работа —
«Заключительный ненаучный постскриптум к философским отрывкам
Иоанна Климакуса» (1846). Главным объектом нападок Кьеркегора стала
гегелевская диалектика, которую он стремился дискредитировать в ее
онтологических основах, методологической структуре и конечных выводах.
В противоположность диалектике чистого мышления, развивающегося
посредством примирения крайностей в высшем синтезе, Кьеркегор
отстаивает «лирическую диалектику» непосредственного чувства,
поставленного перед необходимостью выбора между несовместимыми
альтернативами. Непосредственное чувство составляет как бы сырой
материал человеческого существования, понятию которого Кьеркегор
впервые придал специфический смысл, благодаря чему его и считают
родоначальником «экзистенциального философствования».
Непосредственное в существовании человека находит наиболее адекватное
выражение в музыке, а не в языке, облекающем идеи в материальную
оболочку. «Музыка, — пишет Кьеркегор, — всегда выражает
непосредственное в его непосредственности... Язык включает рефлексию и
не может поэтому выражать непосредственное. Рефлексия разрушает
непосредственность, и потому нельзя выразить музыку в языке; но эта
кажущаяся бедность языка есть на самом деле его богатство.
Непосредственное есть неопределенное, и потому язык не в состоянии
воспроизвести его».32
Непосредственное в человеке есть «чувственность» — эротическое начало,
составляющее сущность того, что Кьеркегор называет «эстетическим
образом жизни». «Эстетический человек» (эстет) строит свою жизнь
сообразно принципу наслаждения, руководствуясь стихийными влечениями
натуры. Фольклорный образ Дон Жуана — изваяние того типа личности,
который можно определить как «гений чувственности». Не довольствуясь
традиционным образом испанского совратителя, которого черти за
бесчисленные прегрешения препровождают прямехонько в ад, Кьеркегор
пишет «Дневник соблазнителя», где создает характер современного Дон
Жуана — светского человека, настоящего виртуоза в «науке страсти
нежной», ищущего наслаждения не столько в непосредственном
удовлетворении низменной страсти, сколько в рефлексии — сознании своей
власти над жертвой, духовного порабощения другого. Именно в этом —
высочайшее наслаждение и кульминация эстетического образа жизни.
«Фактически, — пишет, регистрируя свои достижения в очередном
любовном приключении, герой Кьеркегора, — я достиг того пункта, когда
мне не приходится желать ничего, кроме того, что мне отдают добровольно.
Я эстет, эротист, который понял природу и смысл любви, который верит в
любовь и знает ее снизу доверху и лишь делает оговорку, что ни одна
любовная связь не должна длиться больше, чем полгода, и что она должна
быть прекращена, как только достигнут конечный результат. Я знаю все это и
я знаю также, что наивысшее наслаждение состоит в том, чтобы быть
любимым; быть любимым — выше, чем что-либо иное в этом мире.
Поэтически воцариться в сердце молодой женщины — искусство, поэтически
возникнуть из ее собственного существа — это шедевр».33
Таково самочувствие законченного искателя наслаждений. Но это
самочувствие знает не только радости, но и печаль — естественное следствие
погони за удовольствиями. Бывает и так, что печаль, укоренившись и
распространившись в душе, сменяется мрачным отчаянием — черной
меланхолией, которая порой толкает пресытившегося человека на
извращения и даже преступления. Классический пример тому — поведение
римского цезаря Нерона, который мог себе позволить все, что пожелает, и
все же не находил себе места от скуки и приступов меланхолии, сменявшейся
вспышками садистской жестокости.34
Однако меланхолия — не только завершение эстетического, но и симптом
перехода к иному образу жизни. «Что такое, следовательно, меланхолия? Это
истерия духа. В человеческой жизни наступает момент, когда ее
непосредственность (характерная черта эстетического. — М . К), так сказать,
перезревает, и дух требует высшей формы, в которой он мог бы
воспринимать себя именно как дух. Человек, поскольку он представляет
собой дух в его непосредственности, сливается со всей земной жизнью, а
теперь дух должен восстановить свою целостность из раздробленности,
причем личность должна осознать себя самоё в своей вечной ценности. Если
этого не происходит, если это движение останавливается или насильственно
возвращается вспять, возникает меланхолия».35
Итак, эстетическая стадия существования должна своевременно уступить
место более высокому образу жизни, чтобы не возникали патологические
душевные явления, чтобы восстановить утраченную радость. Здесь
совершается диалектический скачок — внезапный переход к новому
состоянию духа и новому принципу жизни. Это переход к этическому образу
жизни, когда на передний план выдвигается выбор между альтернативами.
Выбор у Кьеркегора выступает как формирующее личность начало:
«Эстетическое в человеке есть то, посредством чего он непосредственно
является тем, что он есть; этическое же есть то, посредством чего он
становится тем, чем он становится».36
Следовательно, становление приравнивается здесь к акту выбора и
совпадает с действием вообще, поскольку вместе с выбором мы вступаем в
сферу деяния в собственном смысле (поведение эстета определяется
стихийным влечением и потому начисто лишено момента самоопределения,
присущего подлинному действию). Противопоставление деяния мышлению,
выбора — синтезирующей деятельности спекулятивного разума составляет
решающий пункт концепции экзистенциальной диалектики. «Наше место —
область действия, а сфера философии — созерцание. Мы обращаемся к
будущему, ибо действие всегда футуристично. Философия (Гегеля. — М . К .)
обращается к прошлому, ко всей свершившейся истории мира, она
показывает, как дискретные факторы сливаются в высшем единстве, она
опосредует и опосредует. В той мере, в какой истинно, что существует
будущее, истинно, что существует или — или (выбор. — М. К.). Легко,
однако, заметить, что абсолютное опосредование становится возможным
только тогда, когда история окончена. Философия же стоит на том, что
существует абсолютное опосредование. Противоположность не существует
для мышления, которое обозревает другую сторону (предмета. — М. К.) и
затем объединяет обе в высшее единство. Для свободы противоположность
существует, ибо свобода исключает другую сторону. Но исключение есть
прямая противоположность опосредования».37
Итак, становление, скачки, перерывы постепенности и тому подобные
признаки диалектическою реализуются, по Кьеркегору, не в деятельности
мышления, а в деятельности экзистенции, которая, согласно своему
отрицательному определению, не есть созерцание, опосредование или синтез,
а в своем положительном значении определяется как выбор, свобода и
разделение (противоположностей). Отсюда, формула диалектики не «и ... и»
(примирение крайностей в высшем синтезе), а «или — или» (исключение
одной из противоположностей).
Но на этом различия между экзистенциальной и спекулятивной
диалектикой не кончаются. Помимо того, что спекулятивная диалектика
проявляет свою мощь только в систематизации уже завершившегося
движения и в этом смысле резюмирует прошлое, а экзистенциальная
диалектика выражает стремление к будущему, различие лежит и в
понимании самого источника и движущей силы диалектического процесса.
По Гегелю, как мы знаем, существует имманентная необходимость
диалектического процесса, который развивается ввиду этого автоматически.
Любопытно, однако, выяснить, в чем же состоит эта имманентная
необходимость.
Наилучшее разъяснение самого механизма диалектического движения
(разумеется, в его понимании) Гегель дает в «Феноменологии духа».
Движение мысли происходит за счет преодоления противоречия между
сознанием и его предметом. Полагая некоторое определение реальности в
качестве своего предмета, сознание затем обнаруживает, что данный предмет
не соответствует своему понятию, и переходит затем к другому
определению, подвергая его тому же самому испытанию (сравнению
предмета с понятием), и так до тех нор, пока, наконец, сознание не признает,
что данное определение адекватно выражает сущность предмета. При этом
весь механизм движения зависит от следующего обстоятельства: «Сознание в
себе самом дает свой критерий (сравнения с предметом. — М . К .), и тем
самым исследование будет сравнением сознания с самим собой; ибо
различение, которое только что было сделано (различение между сознанием
и его предметом. — М, К.), исходит из него».38 Здесь-то и надо искать
источник имманентной необходимости диалектического процесса по Гегелю.
Все дело в том, что эта необходимость может быть присуща только
познанию, более того, — только самопознанию, ибо лишь в процессе
самопознания субъект может совпадать с объектом, поскольку он мыслит о
самом себе, или, как любил говорить Гегель, «в своем другом находится у
себя». Поэтому мыслящий субъект может поставить под свой контроль весь
диалектический процесс, заключив его в рамки мышления и полностью
абстрагируясь от эмпирической реальности за пределами сознания. Отсюда
становится вполне понятным и то, что гегелевская диалектика конечна, т. е. с
необходимостью предполагает прекращение развития. Самопознание имеет
наперед заданную конечную цель — тождество субъекта и объекта. Эта цель
и является критерием оценки всех возникающих в процессе познания
определений. Не было бы критерия — не было бы и самого диалектического
процесса, который и состоит как раз в том, что мы последовательно
принимаем ряд определений, т. е . переходим от одной категории к другой в
поисках такого определения, которое удовлетворяло бы наперед заданному
условию и, наконец, находим то, что искали. Именно это мы имеем в виду
(во всяком случае должны иметь в виду), когда говорим: «По Гегелю,
процесс развития есть самопознание абсолютной идеи».
Но тогда становится совершенно ясно, что бесконечное развитие для
Гегеля просто nonsense, ибо диалектический процесс требует фиксации двух
крайних точек: начала (сознания) и конца (условия самопознания), а
диалектическая необходимость и есть необходимость перехода от одной
точки к другой. Если устранить эти точки опоры, вся конструкция обрушится
и диалектика превратится в произвол интеллекта, а то и вовсе в бессмыслицу.
Поэтому гегелевская диалектика есть ретроспективная реконструкция
познания, т. е. систематизация и упорядочение процесса, который привел к
наличному, имеющемуся у нас в настоящее время знанию. Но это еще не все.
До сих пор мы в характеристике гегелевской диалектики исходили из модели
«Феноменологии духа», где речь идет о том, как субъект восходит к
абсолютному знанию. Это позволило нам дать чисто гносеологическую
интерпретацию философии Гегеля. Если же взять всю систему Гегеля, то
картина, конечно, значительно усложняется, и усложняется прежде всего
принципом тождества мышления и бытия, благодаря которому (принципу)
движение к абсолютному знанию (самопознание) совпадает с
развертыванием природы и истории.
Однако это усложнение относится только к содержанию диалектического
процесса, но ничего не меняет в его механизме, т. е . философия Гегеля
расширяет свое значение и превращается в ретроспективную реконструкцию
всемирно-исторического процесса. Это расширенная реконструкция
опирается на ту же самую предпосылку уже имеющегося у нас знания,
достигнутого, завоеванного самопознания. Отсюда современность (опять-
таки с необходимостью, а не по личному недосмотру или сознательному
искажению Гегеля) провозглашается вершиной, завершением мирового
исторического процесса, ибо только при такой предпосылке возможна
диалектическая реконструкция фаз и эпох в развитии общества и
обнаружение внутренней логики, имманентной необходимости
исторического процесса.
Итак, диалектика Гегеля обращена в прошлое и неразрывно связана с
понятием абсолютного знания — достигнутого самопознания. Но только
благодаря этому она и претендовала на аподиктическую достоверность своих
выводов. Кьеркегор был совершенно прав, когда подчеркивал
созерцательность такой философии, игнорирующей проблему исторического
действия и будущего, рождающегося из этого действия. Аналогичная
критика и примерно в то же самое время развивалась в русле
зарождающегося марксизма. При совпадении некоторых критических
замечаний (особенно это касалось примирения противоположностей у
Гегеля) Маркса отличала от Кьеркегора позитивная программа превращения
спекулятивной диалектики в научную.
Экзистенциальная же диалектика (и не только в нашей ретроспективной
оценке, но и по замыслу Кьеркегора) была антиподом научной. В то время
как Маркс стремился придать диалектике рациональную форму, Кьеркегор
отстаивал иррациональность деяния и, следовательно, экзистенциальной
диалектики.
Такая позиция основоположника экзистенциализма непосредственно
вытекала из его концепции выбора как последнего основания человеческих
действий. Выбор, как мы уже заметили из приведенной цитаты, тождествен
свободе, а это значит, что все поступки объясняются свободой, которая сама
по себе не допускает никакого объяснения именно потому, что она служит
принципом всякого объяснения. Эту особенность экзистенциальной
интерпретации действия Карл Ясперс чуть ли не столетием позже назвал
«парадоксом свободы».39
Иррациональность свободы означает, в свою очередь, отсутствие всякой
необходимой связи между фазами диалектического процесса. С точки зрения
Кьеркегора, нет никакой имманентной необходимости перехода от
эстетического образа жизни к этическому и далее — к религиозному. Этот
переход зависит исключительно от силы духа и степени свободы человека.
Только сильнейшим из людей дано пройти все «стадии на дороге жизни» —
от беспорядочной погони за наслаждениями через консолидацию личности
вокруг принципа долга к христианскому существованию (которое одно
только и является существованием в подлинном смысле этого слова) .40
Переход от этического образа жизни к христианскому существованию
означает еще более радикальный скачок, чем к стадии этического, когда
совершается первоначальный выбор «я». Это означает смерть для старого и
новое рождение для мученической жизни во Христе. «И когда вы умерли, —
пишет Кьеркегор, — умерли для себя, для мира вы умерли в то же самое
время, для непосредственности в вас самих (т. е . животной стихии. — М . К .)
и вместе с тем — для разумного понимания. Иными словами, когда всякая
вера в себя или в поддержку других исключена, когда темно, как в темную
ночь, а; то, что мы описываем, и есть смерть на самом деле, — тогда
приходит дающий жизнь Дух и приносит веру. Эта вера, которая; сильнее,
чем целый мир, обладает мощью вечности, это дар Духа от Бога, это ваша
победа над миром, победа, в которой вы больше, чем просто победитель!».41
Из этого описания мы видим, что диалектический скачок здесь приобретает
характерные черты религиозного обращения, которое издавна изображалось
в христианской литературе как уход из мира, как существование «не от мира
сего». Обращение к богу и отречение от благ мира сего лишь частично
является результатом собственных усилий человека и невозможно без
восприятия «благодати», ниспосылаемой высшей силой. В религиозном акте
стоическое противостояние соблазну сливается с крайней степенью
смиренного самоотречения, что означает одновременно и утверждение воли,
и ее отрицание. «Только человек железной воли может стать христианином.
Ибо только у такого человека есть воля, которую можно сломить. Но как раз
человек железной воли, сломленной Безусловным, т. е. Богом, и есть
христианин... Христианин есть человек железной воли, который больше не
желает утверждения своей воли, но с прежней силой страсти, хотя и
радикально изменившей свое направление, жаждет воли другого».42
Таким образом, экзистенция принципиально не может быть отождествлена
с субстанцией, безразлично материальной или духовной, ибо она
представляет собой, если можно так выразиться, особое «летучее качество»
человеческой реальности, качество, которое нельзя считать атрибутом этой
реальности. Если «дан» человек, то это еще не означает, что он «обладает»
экзистенцией. Экзистенция есть то, что трудно обрести и легко потерять.
«Сопричастность» экзистенции в какой-либо момент времени еще не
гарантирует «обладания» ею в дальнейшем и навсегда. Это свойство должно
постоянно возобновляться тяжелым напряжением духа, стремящегося к
святому и вечному.
Все эти и подобные им соображения резюмируются в одной из
основополагающих догм «философии существования»: экзистенция есть
возможность, реализующаяся в акте выбора и притом реализующаяся всякий
раз в определенной степени; например, эстетическое существование есть
нулевая степень экзистенции, этический образ жизни — начальная ступень и,
наконец, религиозное существование — наиболее совершенное воплощение
экзистенциальности.
В сжатой форме все особенности экзистенции в понимании Кьеркегора
перечислил западногерманский историк и философ К- Левит в книге «От
Гегеля к Ницше»: «Взятое само по себе отдельное существование есть, во-
первых, единственная и подлинная действительность в отличие от Системы
(в философии Гегеля. — М . К .), которая рассматривает все в одинаковом
свете и устраняет различие (между бытием и ничто, мышлением и бытием,
всеобщностью и единичностью. — М . К .) .. . Оно есть, во-вторых, единичная
действительность в отличие от исторической всеобщности, для которой
индивидуум не имеет значения. Оно есть, в-третьих, внутреннее
существование отдельного в отличие от внешних обстоятельств; в-
четвертых, это христианское существование перед Богом в
противоположность поверхностности распространенного христианства. И, в-
пятых, оно есть прежде всего решающее существование либо за, либо против
христианства и, как таковое, — прямая противоположность... гегелевскому
пониманию, которое не знает альтернативы „или — или"».43
Таковы основные результаты критики гегелевской диалектики
Кьеркегором, и по сравнению с грандиозной, исполненной богатого
содержания и плодотворных мыслей философией Гегеля эти результаты,
конечно, вызывают разочарование. «Диалектика деяния», которую Кьеркегор
к тому же называл «футуристической», т. е . ориентированной на будущее, в
отличие от гегельянской доктрины, резюмирующей прошлое и потому
проникнутой созерцательностью, на поверку оказывается всего лишь
феноменологическим описанием пути к религиозному обращению человека,
погрязшего в мирских наслаждениях и потерявшего свое «я» в «забавах
суетного света». Экзистенциальная диалектика воспроизводит
самоуглубление человека в свою внутреннюю сущность и одновременно
прогрессирующее отчуждение его от окружающей реальности и
общественных отношений. Это процесс, обратный тому, который изобразил
Гегель в «Феноменологии духа» и в котором Маркс увидел гениальное
предвосхищение концепции общественно-исторической практики. По
Гегелю, субъективная деятельность сознания охватывает предметную
реальность, овладевает ею и на этой основе преобразует самоё себя и,
поднявшись на новую ступень развития, снова обращается «вовне», заново
переплавляет в горниле духа объективность, придавая ей новую форму, а
потом уже опять возвращается к самому сознанию, преодолевая
«самоотчуждение». В этом спиралеобразном движении Гегель угадал
реальную диалектику исторического прогресса человечества и одновременно
мистифицировал ее, ибо весь этот процесс совершается у него в рамках
сознания, расщепляющегося на субъективный и объективный полюсы. Иначе
и не могло быть, ведь идеализм, как отмечал Маркс, «не знает
действительной чувственной деятельности как таковой».44
В экзистенциализме же с этой сложной диалектики опредмечивания и
распредмечивания не остается и следа. «Экзистенциальное озарение»
(выражение Ясперса) означает последовательное распредмечивание
человека, его, говоря языком современной социологии, «десоциализацию», т.
е. высвобождение из Я сети социальных связей: «экзистенциальное ядро»,
очищенное таким образом от «шелухи» всего «внешнего», остается, так
сказать, «голеньким», и человек оказывается в совершенном одиночестве,
как Робинзон на необитаемом острове.
Таким образом, экзистенция есть абсолютно «внутреннее» в
противоположность всему «внешнему» — предметному, объективному, есть
абсолютно единичное и единственное в противоположность общему. Но
экзистенция не есть и самодовлеющий атом — в таком случае она была бы
лишь возможностью. Раз
экзистенция не субстанциальна, ее реальность обязательно должна проявить
себя в отношении к другому. Но это другое должно быть чем-то внутренним,
«субъективным», ибо связь со всяким иным другим означала бы
грехопадение, опредмечивание. Отсюда, утверждал Кьеркегор, экзистенция
есть «промежуточное бытие» (inter-esse), колеблющееся между животной
непосредственностью и абсолютной субъективностью бога. Отталкивание от
одного полюса и влечение к другому и составляет «экзистенциальную
жизнь».
Дальнейшее развертывание философии экзистенциализма проходило в
направлении, намеченном Кьеркегором, и некоторые «новшества»,
внесенные Хайдеггером или Сартром, можно как следует понять только в
сопоставлении с фундаментальными мотивами творчества датского
мыслителя. Вот почему мы довольно подробно рассмотрели его воззрения.
Итак, по Кьеркегору, экзистенция конституируется отношением к богу.
Значение этого тезиса для «аутентичного» понимания христианства
попытался раскрыть Карл Барт в своей нашумевшей книге «Послание к
римлянам», где он писал: «Если оно (христианство. — М . К .) имеет систему,
она состоит в постоянном разъяснении позитивного и негативного смысла
того, что Кьеркегор называл „бесконечным качественным различием между
временем и вечностью". Бог на небе, а ты на земле».45
«Линия смерти» — вот что отделяет бога от человека, и преступить эту
линию никому не дано. Поэтому экзистенция воплощает трагическую
разорванность вечного и временного, земного и небесного, божественного и
человеческого, греха и святости. Стало быть, «христианское существование»
есть неразрешимая трагическая коллизия, обусловленная полной
невозможностью для человека жить без бога и перепрыгнуть пропасть,
отделяющую от вечности.
Препятствием служит радикальная конечность человеческого
существования. Таков основной вывод главной работы A. Хайдеггера «Бытие
и время». Конечность означает бренность. Но этому трюизму Хайдеггер
стремится придать глубочайший философский смысл с помощью
изощренной техники философского анализа — феноменологического метода
Гуссерля. Предмет его анализа — «феномен бытия», т. е . (если учесть
специфическое значение термина «феномен» Гуссерля) самообнаружение
бытия в человеческом существовании. Формы проявления бытия Хайдеггер
именует «экзистенциалами», важнейшие из которых суть «брошенность» (мы
находим себя уже существующими в мире, фигурально говоря, принимаем
участие в игре без нашего предварительного на то согласия), «фактичность»
(то, что Кьеркегор называл «непосредственностью») и «экзистенциальность»,
благодаря которой наше существование всегда есть «проект» — выхождение
за пределы наличного, данного.
Единство этих экзистенциалов образует «временность» (Zeitlichkeit), ибо
«брошенность» есть обнаружение прошлого, «фактичность» — настоящею, а
«экзистенциальность» раскрывается в будущем. Следовательно, структура
человеческого существования тождественна структуре времени, причем
экзистенциальное время, в отличие от объективного (физического),
«структурируется» вокруг будущего, по отношению к которому приобретают
значение и прошлое (как уже не будущее) и настоящее (бывшее будущее).
Таким образом, человек в своей онтологической основе есть устремленное в
будущее, «вперед смотрящее» существо. То же самое (иными словами)
говорил и Кьеркегор.
Но что значит «будущее», на которое изначально ориентировано
человеческое существование? Для Кьеркегора — это бытие перед Богом,
соприкосновение с вечностью, сопровождающееся острым ощущением
дистанции, отделяющей экзистенцию от абсолюта. У Хайдеггера образ
будущего существенно иной (или, по крайней мере, кажется иным); будущее,
неминуемо ожидающее человека, есть смерть, но не в биологическом смысле
прекращения жизни, а в феноменологическом — как предвосхищение и
переживание смерти, соприкосновение с абсолютной границей
существования. Феномен смерти ввиду этого придает человеческому
существованию целостность, «кристаллизует» экзистенцию.
Таким образом, если у Кьеркегора экзистенция есть отношение к богу, то у
Хайдеггера она превращается в «бытие к смерти», и основной конфликт
развертывается в несколько иной плоскости: бегство от смерти в мир
обыденной жизни, где существование полностью обезличено, или принятие
экзистенциальной перспективы, обнаруживающей, что существование со
всех сторон окружено «ничто».
Незавершенность основного труда Хайдеггера делает весьма
двусмысленной его позицию по отношению к религии: формально у него
отсутствуют какие-либо теологические понятия,
что и дало основание причислять его к атеистам (хотя сам Хайдеггер и
протестовал против такой оценки). Однако надо сказать, что
аргументация его экзистенциальной аналитики вполне годится в качестве
пропедевтики к собственно теологическим воззрениям, ибо смерть
в идеальном значении этого слова можно интерпретировать как смерть для
мира ради «новой жизни» — в том же самом смысле, как это
делал Кьеркегор. Но как бы там ни было, характерно, что у Хайдеггера мы я
снова встречаемся с типичным для экзистенциальной диалектики
антагонизмом противоположностей, только место противоположности
вечного, временного у него занимает знакомая гегелевская пара: бытие и
ничто. Однако отношение между этими категориями мыслится иначе, чем
у Гегеля; бытие не превращается в ничто и обратно, а одно содержится в
другом, будучи радикально от него отличным. Ничто внезапно «само себя
показывает», как только человек становится в «экзистенциальное
отношение» к миру.
Жан-Поль Сартр естественно замыкает круг мыслителей, чьи взгляды мы
здесь рассмотрели: и потому, что он попытался развить
некоторые темы, затронутые Хайдеггером, и потому,
что в процессе своей философской эволюции он вернулся к тому пункту, с
которого начал Кьеркегор, а именно к Гегелю.46
В онтологическом трактате «Бытие и ничто» он непосредственно опирается
на экзистенциальную аналитику Хайдеггера, истолкованную им в
атеистическом духе, и вносит в своп рассуждения реминисценции из Гегеля
и Гуссерля, позволившие ему в некоторой степени по-новому осветить
экзистенциалистские догмы. Сартр как будто бы принимает теологическую
дефиницию экзистенциального проекта («фундаментальный проект»
человека есть «желание быть богом») и, соответственно, отбрасывает
хайдеггеровское определение Sein zum Tode. считая (и вполне справедливо),
что это определение характеризует скорее «фактичность» человеческого
существования (все люди смертны по своей природе), нежели его
экзистенциальный смысл.
Но этот фундаментальный проект, считает Сартр,
содержит неразрешимое внутреннее противоречие, ибо желание быть богом
означает не что иное, как абсурдное стремление соединить несоединимое, т.
е. стать «в-себе- и для-себя-бытием». По Гегелю, это вполне возможно, так
как представляет собой частный случай синтеза противоположностей,
постоянно совершающегося в лоне чистого мышления. Однако с точки
зрения экзистенциальной диалектики исключения противоположностей это
совершенно незаконная операция, игнорирующая «брошенность» и
«фактичность» человеческой реальности, которая в силу этих обстоятельств
не может быть своей собственной основой, т. е. обладать характеристикой в-
себе- и для-себя-бытия. Такая характеристика может быть присуща только
абсолютному духу, а не экзистенции с ее «промежуточным бытием»
(Кьеркегор).
Стать богом — значит превратить экзистенцию из отношения к чему-то
качественно иному (к богу, по Кьеркегору, или к «ничто», по Хайдеггеру) в
самодовлеющую субстанцию и тем самым достигнуть абсолютной свободы и
неограниченной творческой мощи. Невозможность такого превращения
вытекает также из того, что «фактичность» существования включает в себя и
социальность — совместное бытие с другими людьми. Социальность
обнаруживает особое измерение экзистенции, на которое до Сартра не
обращали должного внимания, а именно 1'etre pour-autrui, бытие для другого:
будучи субъектом для самого себя, я в то же время есть объект для другого.
Это хорошо разъяснял сто лет назад Фейербах. Сартр идет несколько дальше,
устанавливая неразрывную связь этих определений в сознании самого
субъекта: сознавая себя свободным субъектом, я одновременно сознаю себя
объектом (вещью) для другого со всеми вытекающими отсюда
последствиями. Последствия эти Сартр анализирует, привлекая в качестве
модели бытия-для-себя и бытия-для-другого отношение господского и
рабского сознания из «Феноменологии духа» Гегеля. В качестве субъекта я
—
господин, а в качестве бытия-для-другого — раб.
Описывая взаимообусловленность полярной противоположности
господского и рабского сознания, Гегель в соответствии со своим методом
показывает и снятие этой противоположности. Не то у Сартра:
противоположность бытия-для-себя и бытия-для-другого выливается у него в
непреодолимый антагонизм, усугубляемый стремлением человека во что бы
то ни стало достигнуть абсолютной свободы, невзирая на существование
других людей. В этом пункте фундаментальный проект человеческого
существования (желание стать богом) приобретает черты ницшеанской «воли
к власти». Так, Сартр показывает, что в структуре экзистенции коренятся
«ненависть» и «садизм».47
Отсюда, разумеется, не следует думать, будто французский философ
разделяет позицию Ницще. Все дело в том, что, по мнению Сартра,
стремление стать «сверхчеловеком» в принципе неосуществимо, как
неосуществим и сам «фундаментальный проект» в целом. Человеку
свойственно домогаться несбыточного, преследовать иллюзорную цель и,
естественно, испытывать разочарование, обнаруживая нереальность своих
надежд. Поэтому краткое определение Сартра гласит: «Человек — это
бесплодная страсть». Но из этого, между прочим, следует, что бесплодно
путем насилия и ненависти утверждать свою абсолютную свободу (чего не
заметили, кстати, некоторые критики, упрекавшие Сартра в
человеконенавистничестве).
Трактат «Бытие и ничто» представляет собой «последнее слово»
экзистенциальной диалектики в ее чистом виде, и потому теперь мы уже
можем сделать некоторые выводы относительно этого методологического
принципа. Мы имеем здесь; дело с фиксированием полярных
противоположностей, заимствованных из арсенала спекулятивной
философии Гегеля (вечное — временное у Кьеркегора, бытие — ничто у
Хайдеггера: и Сартра), причем само понятие экзистенции как живой связи
полярностей включает в себя отношение к абсолюту в той или иной форме.
Своеобразие этого способа мышления состоит лишь в том, что связь между
противоположностями рассматривается исключительно как отрицание (не
логическое, а феноменологически реальное), конфликт, непримиримый
дуализм. Поэтому экзистенция всегда есть «напряжение», «страдание»,
«бесплодная страсть» и т. д.
Но даже и здесь можно найти прототип в философии Гегеля: моделью
экзистенции вполне может служить его описание «несчастного сознания». На
это давно уже обратили внимание французские экзистенциалисты,
показавшие, что Гегель гораздо ближе к их «исповеданию веры», чем думал
его непримиримый критик Кьеркегор. Однако то, что у Гегеля выступало как
момент развития духа (а в рациональной интерпретации как особая фаза
исторического процесса), экзистенциалисты превратили в
«фундаментальный проект» человеческого существования.
Таким образом, экзистенциальная аналитика противоречии фиксирует
внутреннюю раздвоенность существования, невидимую границу двух миров
—
нетленного и бренного, границу, пролегающую через сердце
человеческое, которое увлекается вечностью, оставаясь конечным. Иными
словами, основное противоречие возникает между «фактичностью» и
«трансценденцией», имманентно данным и потусторонним, «запредельным».
Это противоречие, стороны которого не могут существовать друг без друга, и
образует жизнь экзистенции.
Сложная философская терминология скрывает в буквальном смысле слова
первобытное религиозно-мифологическое содержание,48 которое, впрочем,
сбросило оболочку абстракции в послевоенном творчестве Хайдеггера,
вернувшегося в своей онтологии к мифологическим образам досократиков.
Сартр пытался дать экзистенциальной антиномии другое выражение, не
связанное с теологическими импликациями, отождествив
экзистенциальность с отрицанием фактичности — свободой. Так сложилась
концепция негативной диалектики, но уже в несколько ином смысле, чем тот,
который мы придавали этому понятию, имея в виду взгляды Брэдли и Мак-
Таггарта. Если у последних противоречие играло роль индикатора
иллюзорных форм бытия, то атеистические экзистенциалисты усмотрели в
нем установку мятежного сознания, бросающего вызов реальности фактов.
От феноменологии к диалектике. Ж-П. Сартр
Мы видели, как в процессе своей эволюции экзистенциализм нее более
проникался мотивами «Феноменологии духа» Гегеля. Чтобы окончательно в
этом убедиться, достаточно сравнить напало и конец упомянутого процесса:
«Постскриптум» Кьеркегора и «Бытие и ничто» Сартра. Почти сто лет
разделяют оба произведения, и как за это время изменились акценты в
экзистенциалистской аргументации! Произведение Кьеркегора по основному
своему смыслу антигегелевское, а трактат Сартра заставляет задуматься, кто
же все-таки был подлинным вдохновителем автора — Гуссерль с
Хайдеггером или Гегель? Во всяком случае, влияние последнего ощущается
ничуть не меньше, чем идейный толчок, полученный Сартром от пионеров
феноменологии.
В послевоенный период во Франции происходит полное слияние
экзистенциализма атеистического оттенка с гегельянством. Жан Ипполит,
написавший развернутый комментарий к «Феноменологии духа», находит в
этом произведении все основные категории «философии существования»:
«экзистенцию», конфликт «бытия-для-себя» и «бытия-для-другого», «бытие
к смерти». В итоге он делает вывод, что «в целом Кьеркегор не прав против
Гегеля» и что «осознание жизни (о котором идет речь у Гегеля. — М . К .) есть
нечто совсем иное по сравнению с жизнью и ее чистой
непосредственности, а человеческое существование как познание жизни —
совершенно новый способ бытия, которому мы с полным правом можем дать
имя экзистенции».49
Экзистенциальная диалектика, однако, развертывается в чисто
онтологическом плане, т. е . в таинственных глубинах «чистого сознания»,
соприкасающегося с таким же «чистым» бытием. Это обстоятельство
обрекало экзистенциализм на бесконечные вариации в довольно узком круге
«вечных тем», затрагивающих жизнь и смерть в их предельно обобщенном
значении и бытие в так называемых «пограничных ситуациях».
Сартр еще в онтологическом трактате сделал попытку расширить границы
экзистенциалистского философствования и положить концепцию
«фундаментального проекта» в основу объяснения индивидуального
поведения реальных индивидуумов. В конечном счете именно это
стремление к конкретному, исторически определенному индивидууму в
сочетании с активной политической деятельностью на левом фланге
буржуазной демократии и увело его довольно далеко от исходного пункта —
академической философии немецких учителей.
Учение об «экзистенциальном психоанализе», развитое Сартром в
заключительных разделах «Бытия и ничто», непосредственно отталкивалось
от критики фрейдистской мифологии бессознательного. Сартр отвергает
схемы Фрейда и фрейдистов потому, что
в них сохраняется естественнонаучный принцип объяснения —
детерминистская модель поведения и подчеркивается каузальная связь
состояний сознания. Из такой схемы вытекает предопределенность
настоящего и будущего прошлым, ибо каузальная связь есть отношение
предшествующего и последующего, подразумевающее порождение
второго первым.
Само собой понятно, что такое представление несовместимо с концепцией
экзистенциального времени, в которой определяющее значение в потоке
длительности приобретает будущее. Лишь через отношение к нему
«конституируются» и настоящее и прошлое. Иначе говоря,
экзистенциальный проект определяет и «фактичность» человеческого
существования, и его «брошенность» — «уже-бытие» в мире. Это одно из
главных положений Хайдеггера в его книге «Бытие и время».
Сартр непосредственно примыкает к этому кругу идей, когда заявляет, что
«невозможно априори определить принудительную власть прошлого... Мы
выбираем наше прошлое в свете определенной цели, но затем оно навязывает
себя нам и пожирает нас. Это не потому, что прошлое имеет существование
само по себе в отличие от нашего собственного, но просто потому, что 1) это
на деле выявившая себя материализация цели, которую мы собой
представляем; 2) оно возникает в гуще мира для нас и для других... и тем
самым становится предметом оценки других».50
Следовательно, прошлое есть всегда своеобразная конденсация
материального аспекта человеческого бытия, конденсация, которая
происходит post factum и в той мере, в какой материализуются цели
индивидуального действия, материализуются и делаются анонимными,
массовидными, отчужденными от чистой субъективности «для-себя-бытия»
—
самого экзистенциального проекта.
Отсюда и несостоятельность фрейдистского психоанализа, пытающегося из
прошлого (фундаментальных инстинктов в их основных вариациях и
сочетаниях) объяснить настоящее и будущее, тогда как следует поступать
как раз наоборот. Учитывая традиционные способы интерпретации человека,
Сартр сопоставляет и противопоставляет три категории: «бытие»,
«обладание», «делание». Обычная психологическая точка зрения, которая по
существу вошла и в психоанализ, видит в человеческом поведении только
объект, обладающий определенными свойствами, своего рода психической
«оснасткой». Она, естественно, обходится двумя первыми категориями.
Конечно, действие может быть рассмотрено и в аспекте бытия и в аспекте
обладания (Сартр особенно пространно говорит о действии как обладании),
но в таком случае описание ограничивается лишь деградирующими,
отчужденными формами действия, не улавливая подлинного смысла
человеческой активности. Исходную позицию экзистенциального
психоанализа Сартр разъясняет так: «Я хотел сделать следующее:
обнаружить пределы психоаналитической интерпретации и марксистского
объяснения и показать, что только свобода может объяснить личность в ее
тотальности; показать эту свободу в борьбе с судьбой, сначала сломленную
неудачами, а затем обращающуюся против них и мало-помалу
преодолевающую препятствия; доказать, что гений — это не дар, но путь,
который избирают в отчаянных ситуациях; научить, что это выбор, который
писатель (цитируемые строки взяты из книги о творчестве известного
французского беллетриста со скандальной репутацией Жене. — М. К.) делает
из себя самого, из своей жизни, из смысла вселенной; проследить детально
историю его освобождения».51
Вот что означает интерпретация действия в терминах «делания»:
объяснение истории жизни из факта абсолютной свободы, из единого
источника, питающего все помыслы и все поступки человека, пока он
существует. Следует обратить внимание на то, что экзистенциальный
психоанализ опирается на представление о человеке как деятельной
тотальности, ибо это представление в дальнейшем было систематически
разработано Сартром в «Критике диалектического разума». Еще в «Бытии и
ничто» мы читаем: «Принцип этого психоанализа состоит в том, что человек
—
тотальность, а не коллекция. Следовательно, он выражает себя как целое
даже в наименее значительных и наиболее экстравагантных поступках».52
Итак, экзистенциальный психоанализ рождается из потребности
адекватного понимания целесообразной и целеполагающей активности
человека. Искушение интерпретировать действие в категориях
экзистенциального проекта и «первоначального выбора» естественно
возникает, когда у исследователя нет другой альтернативы, кроме
механистической схемы рефлексологии, начало которой положил, как
известно, Декарт (не думавший, однако, применять ее к человеку) и которая
дожила до нашего времени в различных школах бихевиористского толка.
Несомненно, при анализе поведения человека как субъекта исторического
творчества в сфере материальной и духовной культуры концепция
механического детерминизма терпит полный и окончательный провал, более
наглядный и очевидный, чем в том случае, когда мы исследуем явления
микромира (хотя об этом мы пишем гораздо меньше). Сознательное
самоопределение и реализация целей — обычная и повседневная черта
человеческой деятельности, и с ней нельзя не считаться при теоретическом
анализе. Речь может идти только о том, с помощью каких методологических
средств мы воспроизводим телеологическую связь поступков и как
соотносим эту связь с другими факторами исторической ситуации. И не
только соотносим, но и включаем субъективный фактор в целостную картину
исторического события. Интеграция разнородных воздействий в общую
результирующую представляет наиболее трудную задачу философа,
историка или социолога, которые в одинаковой мере. хотя и в разных
формах, сталкиваются с ней? Сартр облегчает себе дело тем, что сводит все
факторы ситуации к одному, сознательному выбору субъекта,
определяющего свое исходное практическое отношение к миру (это и есть
«первоначальный выбор»). Актом своего выбора субъект проясняет для себя
смысл окружающей его ситуации, которая сама по себе (как нечто
совершенно объективное) ничего «не значит», т. е. остается совершенно
неопределенной. Если только «экзистенциальный проект» представляет
собой принцип, вносящий смысл и дифференцирующий объекты по их
значимости, то мы уже не вправе спрашивать, в силу каких причин был
сделан именно этот «первоначальный выбор», а не какой-либо другой.
Этим полагаются четкие границы экзистенциального анализа: объяснение
идет до того пункта, пока за цепочкой частных мотивов и меняющихся в
зависимости от обстоятельств целевых установок не обнаружится
абсолютная предпосылка, которая определяет собой весь мотивационный
ряд, но сама уже ни от чего не зависит, — первоначальный выбор. Нельзя
сказать, чтобы такая схема объяснения индивидуальной биографии вовсе не
имела значения. Из школьных учебников, например, мы узнаем, как еще
мальчиком Ганнибал поклялся быть непримиримым врагом Рима и посвятил
всю свою жизнь борьбе с ненавистной державой. Аналогичных примеров
можно привести немало. Стало быть, схема «первоначального выбора»
применима в какой-то степени к личностям цельным, в действиях которых
распознается «одна, но пламенная страсть», и чаще всего к людям
практическим, с неумолимой последовательностью стремящимся к
поставленной цели.
Сартр применяет эту идею в первую очередь при объяснении
художественного творчества упомянутого Жене, Ш. Бодлера и Г. Флобера
(Симона де Бовуар в том же ключе рассматривает литературно-
порнографическую деятельность маркиза де Сада). Но, как нам
представляется, именно здесь, в области эстетического экзистенциальный
психоанализ мало что дает. В самом деле, мы знаем, что, согласно Сартру,
«гений — это не дар, а путь, который выбирают в отчаянных
обстоятельствах». Попробуйте объяснить, руководствуясь этим правилом,
музыку Баха, поэзию Гете и Пушкина, живопись Леонардо или Рубенса.
Жизнь Пушкина известна нам до мельчайших деталей. Каков же был его
«первоначальный выбор» и, самое главное, нуждаемся ли мы в определении
«фундаментального проекта» великого поэта, чтобы понять его творчество?
Лучше ли мы поймем его стихи и прозу, когда отыщем единую «формулу
жизни» поэта?
Во-первых, вряд ли возможно эту формулу отыскать, ибо художественное
творчество представляет собой весьма специфическую форму деятельности,
не совпадающую полностью с практическим освоением мира, с технической
деятельностью в самом широком смысле этого слова, где структура
целесообразности проявляет себя в чистом виде. Недаром Кант говорил о
«целесообразности без цели» (при правильном понимании из этого
высказывания не вытекает ни защита «искусства для искусства», ни
признание иррациональности эстетического процесса; мысль здесь только та,
что подлинные произведения искусства никогда не создаются в соответствии
с готовыми техническими рецептами исполнения. Техника в настоящем
искусстве всегда играет подчиненную роль). Но дело не только в этом.
Экзистенциальный психоанализ (и здесь его второе упущение) пытается
истолковать творчество исключительно из особенностей личности творца.
Конечно, произведение искусства тем отличается от научного трактата, что в
нем всегда запечатлевается личность художника, его индивидуальность. Но и
в эстетике, как и в теории познания, психологический подход совершенно
недостаточен, ибо эстетический субъект интегрирует в себе слишком много
сверхличного, сверхиндивидуального, общечеловеческого и в этом смысле
вневременного. Разумеется, все эти элементы даны лишь «в паре» со своими
противоположностями-
—
исторически особенным, социально и
национально обусловленным, но масштаб художественного творчества и
«калибр» самого творца измеряются именно тем, насколько способны те или
иные произведения выдержать испытание временем, выйти за рамки той
особой личностной и социально-исторической ситуации, в которой они были
созданы.
Мы не знаем и никогда, видимо, не узнаем, какие «отчаянные
обстоятельства» в жизни Шекспира сопровождали его работу над пьесами,
обессмертившими его имя, но если бы и узнали, то это имело бы главным
образом интерес биографический, а не эстетический. И в то же время с
позиций научной марксистско-ленинской эстетики очевидно, что пьесы
Шекспира могли возникнуть только в ту эпоху, в какую они действительно
были написаны. Следовательно, чтобы знать биографию художника, мы
должны знать биографию его времени, и для понимания его творчества эта
последняя дает много больше, чем проникновение в интимные импульсы и
сокровенные побуждения творческой личности, реконструирование которых
по большей части к тому же дает сомнительные результаты, ибо
«экзистенциальный проект» художника никогда не выступает в виде
рефлективно положенной цели (это Сартр отчетливо сознает), но всегда как
«намек» или подспудно звучащая интонация.
Мы намеренно приводили примеры из истории искусства, которые
показывают ограниченность методологии экзистенциального психоанализа.
Но, конечно, в западноевропейском искусстве XX века есть такие течения,
сама эстетическая платформа которых акцентирует субъективно-личностный
и тем самым биографический момент художественного творчества. Чем
«приватнее» горизонт художника, чем одностороннее и экстравагантнее его
видение мира, тем больше шансов распознать в его творениях личностный
подтекст и навязчиво повторяющийся мотив экзистенциального
происхождения. Не случайно Сартр пользуется своим методом при
исследовании декадентской литературы и только однажды применяет его к
классическому роману — «Мадам Бовари» Флобера.
Вообще же при таком подходе очень легко потерять из виду специфику
эстетических явлений и подменить предмет анализа абстракциями,
рожденными в недрах соответствующей методологии, как это случилось,
например, с искусствоведами и эстетиками, попавшими под влияние Фрейда
и кинувшимися искать «сублимированные комплексы» у мастеров прошлого
и настоящего. Сартр и не скрывает того, что у экзистенциального
психоанализа много общего с фрейдистским: «Оба рассматривают человека в
мире, его бытие-в -ситуации... Эмпирический психоанализ стремится
определить комплекс экзистенциальный — первоначальный
выбор. Этот первоначальный выбор делается с учетом определенного мира и,
будучи выбором позиции в этом мире, образует тотальность подобно
комплексу; он предшествует логике, как и комплекс».53
Экзистенциальный психоанализ можно было бы рассматривать как
обнаружение социального измерения индивидуального действия, поскольку
выбор означает, как мы видели, не определение частной цели, а сечение
тотальности «бытия-в -мире» в плоскости моего «фундаментального
проекта». «Выбирая себя», я тем самым «выбираю» и мой мир со всеми
инструментальными комплексами вещей и интерсубъективными связями,
входящими в его состав. Это непосредственно вытекает из основного
принципа феноменологической онтологии, разработанного Гуссерлем и
Хайдеггером и подхваченного Сартром.
Однако ни у Гуссерля, ни тем более у Хайдеггера социальная реальность,
мир духовной и материальной культуры никогда не предстают в своей
подлинной сущности, а всегда сквозь призму либо «трансцендентальной
субъективности», либо «онтологического понимания», предшествующего,
согласно Хайдеггеру, и практической и теоретической деятельности
человека. То же самое характерно и для Сартра. В полном соответствии с
экзистенциалистской доктриной он исходит из того, что все конкретные
«проекты» и жизненные планы человека суть модификации (их может быть
бесчисленное множество) одного и того же «фундаментального проекта» —
основного онтологического отношения, связывающего сознание (для-себя-
бытие) с «бытием-в-себе».
По учению Хайдеггера «фундаментальный проект» есть «бытие к смерти».
Сартр не соглашается с таким выводом, считая, что «конечность»
человеческого бытия выражает его «фактичность», но не экзистенциальность
и предлагает свое решение проблемы: «Для-себя-бытие делает выбор, потому
оно есть недостаток; свобода на самом деле — синоним недостатка. Свобода
есть конкретный модус бытия недостатка бытия... Первоначальный проект,
который выражает себя в каждой из наших эмпирически наблюдаемых
склонностей, есть проект бытия».64 Человек стремится к абсолютной
полноте бытия, но не просто к иррациональному массиву в-себе-бытия,
вызывающему у субъекта непреодолимую «тошноту», но к такой полноте,
которая соединяла бы самостоятельную позитивность в-себе-бытия с
лишенным всякой субстанциальности светом сознания. Иными словами,
человек стремится к синтезу в-себе- и для-себя-бытия, к синтезу, имя
которому — бог. «Это идеал, который можно назвать Богом. Человек есть
бытие, проект которого состоит в том, чтобы быть Богом».55
Вот это стремление «быть богом», причем всякий раз по-своему, и
составляет единую и всеобщую основу личности, конкретизирующуюся в
бесконечной сумме прошедших, настоящих и будущих действий. «Мы
теперь поняли смысл этого выбора: это выбор бытия либо непосредственно,
либо посредством ассимиляции мира, или, скорее, обоими путями сразу.
Таким образом, моя свобода есть решение быть Богом, и все мои действия,
все мои проекты содержат этот выбор и отражают его тысячью и одним
способом, ибо есть бесконечное число способов бытия и владения».56
Ознакомившись с этими высказываниями, нельзя отрицать, что упрек в
психологизме, мимоходом уже сделанный нами, вполне заслужен Сартром.
Правда, вместо исходных инстинктов антропологической природы он
постулирует некий «метафизический инстинкт», но принцип объяснения
содержит ту же самую основную ошибку: выведение исторически
изменчивого поведения из внеисторического фактора, вечной и неизменной
тенденции. Ничего не меняет то обстоятельство, что экзистенциализм не
признает неизменной природы человека и считает неприменимым к человеку
само понятие «природа»: если есть все-таки «фундаментальный проект»,
который по своему смыслу всегда один и тот же, то, стало быть, есть и
неизменная «природа» в человеке, как бы мы ее ни именовали.
Экзистенциальный психоанализ не обходится без априорной квалификации
«сущности человека», хотя и определяет последнюю в терминах ее
противоположности — экзистенции, причем эта сущность человека
определяется только негативно. Дело в том, что желание быть богом по
природе вещей неосуществимо, ибо синтез в-себе- и для-себя-бытия
невозможен ввиду непреодолимого антагонизма вступающих в
онтологическое отношение противоположностей. Экзистенциальная
диалектика, как мы убедились, не признает синтеза противоположностей и
настаивает на их вечном мучительном раздвоении.
Так и Сартр определяет человека как «бесплодную страсть», свободное,
деятельное существо, но с неизбежной перспективой поражения.
Экзистенциальный психоанализ становится тем самым описанием
банкротства и краха, борьбы и разочарования, беспочвенных надежд и
разоблаченных иллюзий. Такое понимание типично для всей традиции
экзистенциальной диалектики, приверженцы которой видят свою задачу в
предельном заострении противоположных моментов, «показывающих себя»
в онтологических глубинах человеческой реальности и в изображении
драматического конфликта этих сил.
Но позиция Сартра уже в его онтологическом трактате позволяла наметить
кое-какую возможность выхода из трагической ситуации экзистенции. Этот
выход он в то время искал в исправлении «фундаментального проекта» с
точки зрения «очищающей рефлексии» — адекватного самосознания,
преодолевающего самообман «дурной веры». В итоге мы реализуем «особый
тип проекта, который, имея свободу в качестве основы и цели, заслуживает
специального рассмотрения... Но это исследование не может быть проведено
здесь: оно принадлежит Этике».57 На это и подобные ему высказывания не
обратили внимания. Поэтому, когда в 1946 году Сартр торжественно
провозгласил в публичной лекции, что «экзистенциализм — это гуманизм»,
его заявление многим показалось обескураживающим рекламным трюком, не
имеющим серьезных теоретических оснований и, более того, прямо
противоречащим его основным онтологическим установкам. В самом деле,
как совместить декларацию лекции: «Я не могу сделать мою собственную
свободу моей целью, если я, равным образом, не сделаю моей целью свободу
других»58 с таким, например, тезисом «Бытия и ничто»: «Конфликт есть
изначальный смысл бытия-для-другого».59 Как же я могу сделать «чужую
свободу» своей целью, если мне «натура», сиречь «фундаментальный
проект», возбраняет это?
И все-таки, как думает Сартр, здесь нет противоречия, ибо одно дело
дорефлексивное онтологическое стремление и совсем другое — сознательное
самоопределение на основе опыта, опыта банкротства и крушения,
неминуемо возникающего из попытки реализовать фундаментальный проект.
Следовательно, сознание неудачи и притом не в каком-либо частном деле, а
великой и постоянной Неудачи, которая есть наша жизнь в своей
непосредственности, т. е . в той мере, в какой она представляет собой жажду
максимальной полноты бытия, и составляет предпосылку гуманизма —
сознательного ограничения агрессивных поползновений человеческой
натуры.
«Желание быть богом», о котором говорит Сартр, есть нечто иное, как
ницшеанская «воля к власти» в самом интенсивном ее выражении, слепое
влечение к абсолютному господству и самоутверждению любой ценой и,
следовательно, за счет других индивидуальностей путем присвоения их
свободы в результате насилия или хитрости. Отсюда обнаружение
внутренней противоречивости и неосуществимости «фундаментального
проекта» есть по существу критика зоологического индивидуализма с
позиций абстрактного гуманизма морализирующего сознания (чего, кстати
сказать, не заметили многие критики экзистенциализма).
Гуманистическая устремленность с самого начала отличала учение Сартра
от концепции одного из его учителей — Хайдеггера, и она же (эта
устремленность) поставила перед французским философом совершенно
новую для экзистенциализма проблему позитивного определения свободы и
условий гармонического согласования претензии разных экзистенциальных
«проектов». Первоначально, как об этом свидетельствуют беглые замечания
на страницах «Бытия и ничто» и все содержание упомянутой лекции, Сартр
наподобие Канта видел решение вопроса в принятии соответствующего
этического императива. Но участие в практической политической борьбе и
движении сторонников мира, в котором руководящую роль играли
коммунисты, помогло Сартру до некоторой степени избавиться от иллюзий
абстрактного гуманизма, своего рода «дурной веры», которая, по-видимому,
была пережитком абсолютной морали христианства, сохранявшейся где-то в
«подсознании» философа, несмотря на сознательно исповедуемый атеизм.
В книге «Святой Жене, комедиант и мученик» ясно запечатлен итог его
прозрений: «Или мораль — просто пустяк, или она представляет собой
конкретную тотальность, которая реализует синтез Добра и Зла. Ибо Добро
без Зла — это парменидовское бытие, т. е . Смерть; и Зло без Добра — это
чистое Небытие... Абстрактное противопоставление этих двух понятий
объясняет лишь отчуждение человека. Остается сказать, что этот синтез в
исторической ситуации нереализуем. Таким образом, всякая мораль, которая
не признает себя невозможной сегодня, способствует мистификации и
отчуждению людей. Моральная проблема порождена тем, что мораль для нас
в одно и то же время является неизбежной и невозможной».60
Расшифровать это высказывание можно примерно так. Сообразно своему
понятию мораль есть «конкретная тотальность», т. е. диалектическое
единство противоположных определений. Но такая мораль осуществима
лишь в таком обществе, которое само по себе воплощает эту тотальность. В
современном обществе отчуждения мораль неизбежно становится
антагонистической, закрепляющей абстрактную противоположность добра и
зла. В переводе с абстрактного философского языка это означает, что она
носит классовый характер. «Добро» для одного класса есть «зло» для
другого, и наоборот. Единственная мораль, возможная в классовом обществе,
—
это мораль борьбы, мораль политики.
Итак, Сартр начинает понимать, что негативная диалектика столкновения
непримиримых противоположностей, изображенная им в онтологическом
трактате, обязана своим существованием не извечной структуре экзистенции,
как считал Кьеркегор и как до сих пор думают его правоверные
последователи вроде Карла Ясперса (1883 — 1969) или Габриэля Марселя, но
представляет собой особую историческую модель существования человека в
«обществе отчуждения». В условиях преодоления отчуждения станет
реальностью другая форма диалектического — «конкретная тотальность»
противоположных определений. В соответствии с этим методология
экзистенциального психоанализа переосмысливается Сартром с тем, чтобы
включить ее в контекст материалистического понимания истории. О том, что
из этого получилось, можно судить по первому тому до сих пор не
законченного труда «Критика диалектического разума».
В «Критике диалектического разума» позиция Маркса представлена как
синтез односторонних точек зрения Гегеля и Кьеркегора. «Кьеркегор прав
против Гегеля в той самой мере, в какой Гегель прав против Кьеркегора».61
Для понимания сартровского «неомарксизма» особенно важно уяснить, в чем
он видит заслугу основоположника экзистенциализма: «Кьеркегор прав в
том, что страдание, нужда, страсть, боль человеческая суть суровые
реальности, которые нельзя ни преодолеть, ни изменить одним только
знанием... Он представляет движение в сторону реализма, так как прежде
всего настаивает на несводимости реального к мысли и на примате первого
по сравнению с последней».62
Маркс утверждал то же самое, но в свете более широкой — тотальной
перспективы. Поэтому он «прав одновременно против Кьеркегора и против
Гегеля, поскольку вместе с первым он подчеркивает специфичность
человеческого существования, а вместе со вторым — берет за основу
конкретного человека в его объективной реальности. Казалось бы
естественным в этих условиях, что экзистенциализм, этот идеалистический
протест против идеализма, потерял всякую ценность и не переживет закат
гегельянства».63
Сартр нашел весьма удачную формулу экзистенциализма и правильно
определил его основной недостаток — сведение существования к «чистой
субъективности», которая представляет собой всего лишь абстракцию, но
отнюдь не конкретную реальность человеческого бытия. И теперь казалось
бы естественным ожидать, что он бесповоротно «сжег мосты», соединявшие
его некогда с этим течением мысли. Но этого не произошло, и потому чтение
его второго фундаментального произведения рождает ощущение какого-то
нарочитого упорства, с которым автор во что бы то ни стало и невзирая на
сопротивление самого материала преследует наперед заданную цель,
недостижимую принятыми им средствами. Цель эта — обосновать
диалектику исторического процесса, отправляясь от экзистенциального
проекта индивидуума, который (проект) теперь отождествляется с практикой
в марксистском ее понимании.
Практика, как она рассматривается историческим материализмом, не
допускает интерпретации в терминах экзистенциального проекта, и,
наоборот, понятие экзистенциального проекта теряет весь свой
специфический смысл, если мы принимаем всерьез понятие практики.
Поэтому в «Критике диалектического разума» мы встречаемся то с
перелицованным экзистенциализмом, утратившим свою первоначальную
последовательность и цельность, то с идеалистически интерпретированным
марксизмом, то с тем и другим вместе. Но чтобы не быть голословными,
обратимся к анализу текста.
Для начала Сартр противопоставляет диалектику «догматическую»
диалектике «критической» и обвиняет в грехе догматизма всех марксистов,
за исключением самого Маркса. Он утверждает, будто марксисты
пользуются «априорным методом» и «не извлекают своих понятий из
опыта», приписывая общим принципам значение «конкретных истин».64 В
качестве примера он ссылается на работу Г. Лукача «Экзистенциализм или
марксизм». Надо сказать, что эта работа, так же как и более крупное
произведение того же автора «Разрушение разума», действительно неудачны.
Среди других недостатков этим книгам присущ порок вульгарного
социологизма, монотонного и полуавтоматического повторения одних и тех
же социально-классовых характеристик, применяемых к различным по
теоретическому содержанию философским течениям без анализа
посредствующих звеньев между идеологической надстройкой и базисом.
В связи с упрощением и вульгаризацией материалистической диалектики
Сартр справедливо выдвигает на передний план; «проблему
опосредствовании» и в назидание современным марксистам рекомендует
«Восемнадцатое брюмера Луи Бонапарта» как выдающийся образец
конкретного решения сложнейшей проблемы на эмпирическом материале
истории. Это и на самом деле полезный совет: у Маркса всегда есть чему
поучиться. Жаль только, что над Сартром все-таки тяготеет груз
предрассудков буржуазной «марксологии», упорно распространяющей миф о
принципиальном якобы отличии методологического подхода Маркса, с
одной стороны, Энгельса и Ленина — с другой. В противном случае, он,
пожалуй, принял бы во внимание ту постановку вопроса, которая содержится
в знаменитых письмах об историческом материализме, написанных
Энгельсом в 90-х годах. Еще тогда Энгельс предупреждал об опасности
примитивного «экономического детерминизма» и невнимания к
историческим деталям, «частностям» и «незначительным» по сравнению с
общесоциологическими законами подробностям, без исследования которых,
однако, нельзя до конца понять своеобразие событий и ход истории в той или
иной стране в определенную эпоху ее существования. Энгельс писал о том, в
частности, что личность метрессы Людовика XV маркизы Помпадур сама по
себе мало примечательна, но без нее нельзя понять историю Франции в
период, предшествовавший Великой революции.
Сартр же втолковывает современным марксистам то, что в принципе всегда
признавали представители диалектического и исторического материализма:
«Валери — это мелкобуржуазный интеллектуал, без всякого сомнения. Но не
всякий мелкобуржуазный интеллектуал есть Валери. Эвристическая слабость
современного марксизма заключена в этих двух фразах. Чтобы
воспроизвести процесс, который порождает личность и ее продукт в рамках
класса и общества, данного в данный исторический момент, марксизму не
хватает иерархии опосредствовании».65
В действительности марксистов можно критиковать за то, как они
реализуют этот принцип, ибо претворить его в конкретном исследовании
нелегко, тут необходимо настоящее искусство и подлинное мастерство, и
общие установки материалистической диалектики, конечно, не гарантируют
от ошибок метафизического и механистического порядка, как это и
произошло с некоторыми работами Лукача, да и не только его. Но в аспекте
общей методологии сартровское требование «иерархии опосредствовании»
эквивалентно принципу восхождения от абстрактного к конкретному, весьма
тщательно разработанному в современной советской литературе.
Анализ Сартра, однако, имеет ту ценность, что обращает внимание на
трудности применения принципа восхождения от абстрактного к
конкретному в одном специальном случае, а именно тогда, когда в качестве
конкретного выступает не социальная система в органической совокупности
своих связей (как, например, в «Капитале» Маркса), а отдельная личность и
ее деятельность. В этом случае выяснение классовой принадлежности
деятеля и социальной структуры его эпохи и, следовательно, общественных
детерминант индивидуального поведения составляет только начало
исследования, отправной пункт реконструкции жизненной судьбы и труда
человека. Таковы общие условия индивидуальной жизнедеятельности, и
между ними и самой личностью, только «этой» и никакой другой,
единственной в мире в силу своей неповторимости, обнаруживается большая
дистанция, которую теоретическая мысль обязательно должна преодолеть.
Иначе вульгарный социологизм и «шулятиковщина», несостоятельность
которой блестяще показал В. И . Ленин, неизбежны.
В самом деле. Если мы скажем: «Пушкин был дворянин и жил в ту эпоху,
когда русское феодальное общество вступило в первый этап
освободительного движения» и поставим на этом точку, считая
характеристику поэта исчерпанной, то недалеко уйдем от примитивной
концепции В. Фриче и других лидеров рапповской эстетики 20-х годов и
только скомпрометируем марксистский подход к радости наших
идеологических противников. Ведь из этой характеристики выпадает все то,
что делает Пушкина Пушкиным, а не А. М . Горчаковым, его лицейским
товарищем, впоследствии канцлером Российской империи, или каким-либо
другим его «братом по классу». Дворян в ту пору было много, а Пушкин был
один. В переводе на язык теории это означает, что из признаков, общих
всему классу, нельзя дедуцировать свойств уникальной индивидуальности.
Вопрос этот сложнее, чем можно думать. Конечно, в наше время никто
таких формулировок не даст (применительно к Пушкину в особенности). Но
из этого вовсе не следует, что мы тем самым пришли к теоретически
безупречным определениям. Вульгарные социологи «нажимали» на
социальное происхождение художника и судили о нем только на этом
основании. Затем в результате преодоления примитивно-социологического
подхода эстетическая характеристика приводится чаще всего наряду с
социально-классовой, и последняя иногда приобретает значение чисто
формальное, вводное, играет роль «присказки», за которой уже следует «сама
сказка» — эстетический анализ. В нашей модели этот прием можно
воспроизвести (разумеется, упрощенно, так как мы должны выразить все в
одной фразе) примерно так: «Пушкин — дворянин и основоположник
великой русской литературы». Союз «и» обозначает здесь рядоположение
двух гетерогенных признаков, простое их сочетание, описывающее факт, но
оставляющее этот факт без объяснения.
Разумеется, это лучше, чем редуцировать творчество поэта к одному только
факту его классовой принадлежности, но с точки зрения диалектической
методологии отнюдь не безупречно. Ведь остается еще расшифровать
значение таинственного «и», т. е . показать переход, опосредствование
художественного творчества классовой детерминантой. В классическом
цикле статей о Пушкине Белинский без всяких натяжек и уступок
примитивному социологизму продемонстрировал, как отражается личность
поэта-дворянина в его бессмертных творениях. И действительно, и «Евгений
Онегин», и «Война и мир» могли быть написаны только людьми,
принадлежавшими по своему происхождению и воспитанию к правящему
классу тогдашней России.
Следовательно, задача диалектика-марксиста заключается в том, чтобы
показать, как в эстетическом в превращенной и преобразованной форме
«живет» социальное, а не просто разграничить сферы: с одной стороны,
классовое, а с другой — чистой художественное, вечное и нетленное. Для
разграничения достаточно элементарной аналитической процедуры и
здравого смысла, которого порою просто не хватало рапповским мудрецам;
для воспроизведения же органической связи опосредствовании необходимо
искусство диалектического мышления и творческое «-вживание» в
эмпирические данные.
Сама по себе классовая характеристика есть лишь абстрактное —
необходимое, но недостаточное — условие анализа жизнедеятельности, так
как социальный статус влияет на формирование человека лишь
опосредствованно, через другие детерминанты, среди которых на первом
месте стоит семья. Формирующее воздействие семьи и роль детства в
генезисе личности справедливо подчеркивает Сартр, связывая с этим, однако,
сомнительную процедуру экзистенциального психоанализа:
«Экзистенциализм... открывает тот пункт, где человек включается в свой
класс, т. е . единичную семью как опосредствование между всеобщим
классом и отдельным индивидуумом: семья конституируется посредством
общего движения Истории и переживается, с другой стороны, как абсолют в
смутном мире детства» (dans l'opacite de l'enfance).66
Субъективный метод экзистенциального психоанализа Сартр теперь
приберегает для воспроизведения того, как «переживалось детство» самим
индивидуумом, как оно ему «являлось» (в феноменологическом смысле этого
слова) на протяжении всего жизненного пути и как эти переживания
участвовали и мотивировали целесообразную деятельность его, но не как
некий однозначно данный «твердый факт», а в каждый момент жизни по-
разному в свете «экзистенциального проекта». В результате этого вся
рекомендуемая философом система опосредствовании теряет цельность, ибо
наряду с объективно фиксируемыми характеристиками личности (такими,
как, например, социальный статус) в исследование включаются такие
моменты, которые в принципе не допускают научного анализа и требуют
особой, «герменевтической» процедуры.
Эклектическое соединение социологического и герменевтического
подходов проявляется еще и в том, что Сартр в качестве второй
вспомогательной дисциплины, необходимой для теоретического
воспроизведения «конкретной тотальности» индивидуума, рекомендует
эмпирическое изучение «малых групп» и «социальных ролей», играемых
личностью. Действительно, принадлежность человека к определенному
классу всегда опосредуется его участием в самых разнообразных
«формальных» и «неформальных» группах, которые можно (до
определенного момента) изучать с помощью техники эмпирического
социального исследования совершенно самостоятельно и независимо от
более широкой системы социальных связей. Изолированное рассмотрение
социальных групп только и делает возможным их эмпирическое изучение в
свете конечного числа параметров. В противном случае мы совершенно
потерялись бы в бесконечном переплетении взаимосвязей и не вышли бы,
как говорил Маркс, за пределы «хаотического представления о целом».
Вместе с тем, ролевая концепция личности позволяет применить к изучению
индивидуума общенаучный структурно-функциональный подход и тем
самым конкретизировать представления о содержании социальных действий
в терминах, допускающих объективную проверку. Этим ее методология
принципиально отличается (и в лучшую сторону) от экзистенциального
психоанализа.
Но материалистическая диалектика, хотя и включает в себя структурно-
функциональный подход, к нему одному не сводится. В нашей литературе
много уже писали о структурно-функциональном подходе Маркса к анализу
капитализма. Маркс, однако, имел дело с исторически развивающейся
социальной системой, диалектику которой он проследил с величайшим
мастерством. У него структурный анализ органически соединяется с
диалектическим историзмом.
Существеннейшим элементом диалектики является анализ
взаимопереходов и органической взаимосвязи субъективного и объективного
на объективной основе, что делает теоретически невозможным истолкование
марксистско-ленинской диалектики в духе субъективизма, а как раз с таким
истолкованием мы встречаемся у Сартра.
Он тоже говорит о необходимости диалектического историзма при подходе
к социальным группам и отсутствие такового справедливо считает
методологической ограниченностью эмпирической социологии. Добавим
только, что этот недостаток эмпирической социологии тесно связан с ее
достоинствами, а позиция Сартра при внешнем ее сходстве с марксизмом
возвращает к традиции идеалистического «историзма» дильтеевского толка.
Обратимся к резюмирующей характеристике Сартром диалектического
метода. Он называет этот метод «прогрессивно-регрессивным» или
«аналитико-синтетическим». Исходный пункт; его применения —
объективация личности в созданном ею продукте. Пусть это будет
художественное произведение, например «Мадам Бовари» Флобера. От
самого произведения мы идем назад — к исходным условиям его создания, к
эпохе, социальной структуре, семье художника, специфической для него
«драме детства» и его экзистенциальному проекту. Это аналитический и
упорядочивающий этап исследования. Мы распознаем; в продукте
многообразие объективированных значений и располагаем их в
определенном порядке, соответствующем логике движения от абстрактного к
конкретному. «На этом уровне исследования нам удается не что иное, как
обнаружить иерархию гетерогенных значений: «Мадам Бовари»,
женоподобие Флобера, детство в здании больницы, противоречия мелкой
буржуазии, эволюция семьи, собственности и т. д. Каждое значение
проливает свет на другое, но их несводимость друг к другу создает между
ними настоящую прерывность. Каждое возникает в границах
предшествующего, но скрытое значение (la signification enveloppe) гораздо
богаче, чем раскрывающее. Одним словом, перед нами только следы
диалектического движения, но не само движение».67
После того как подготовительная работа проделана, можно приступать к
самому главному — воспроизведению «процесса тотализации», самой
объективирующейся деятельности. «Вот когда и только когда мы должны
воспользоваться прогрессивным методом. Предстоит раскрыть
тотализирующее движение обогащения, которое порождает каждый момент,
исходя из предыдущего, порыв, который действует от первоначальной
темноты переживания вплоть до конечной объективации, — одним словом,
проект, посредством которого Флобер, чтобы ускользнуть от мелкой
буржуазии, бросается через различные поля возможностей к отчужденной
объективации себя самого и конституирует себя безвозвратно и неделимо как
автор «Мадам Бовари» и как мелкий буржуа, которым он отказался быть».68
Таков механизм воспроизведения творческого процесса, и диалектика есть
метод его воссоздания — сотворчество. Это и отличает диалектическую
«рациональность» от аналитического интеллекта. Диалектический процесс
развертывается не в сфере чистой мысли, а в напряжении и конфликтах
объективирующейся деятельности, рассматриваемой субъективно и
перспективно, а не объективно и ретроспективно (задним числом). Вот
почему диалектическая рациональность, по Сартру, эквивалентна
«иррационализму» (если под разумом понимать интеллект и его
использование объективным методом науки) или, точнее,
«антиинтеллектуализму»: «Концепт (науки. — М . К .) видит своей объект... и
потому он представляет собой интеллектуальное Знание... Проект личности
имеет два фундаментальных признака: он ни в коем случае не может себя
определять концептуально; одновременно в качестве человеческого проекта
он всегда понимаем (в принципе, если не фактически). Это понимание,
которое не отличает себя от практики, есть сразу и непосредственное
существование (поскольку оно себя производит как движение действия), и
основа косвенного познания существования (поскольку существование
«понимает» себя только посредством «коммуникации» с «другим» в «мире».
—
М. К .)».69
Из этого высказывания с величайшей отчетливостью (случай довольно
редкий в этом трактате) видно, что Сартр понимает под «материалистической
диалектикой»: «тотализацию», осуществляемую экзистенциальным
«пониманием», причем это последнее берется в том исходном значении,
которое ему придал Дильтей, — как особый способ познания наряду с
методом науки. «Тотализация» — продукт непосредственного воздействия
идей Гегеля, а отождествление практики с экзистенцией и указание на
«косвенный» путь ее познания идут от Кьеркегора.
Экзистенциальное «понимание», «коммуникация», «практика» (эти
понятия для Сартра синонимичны) лежат в основе интеллектуального
знания, образуют его источник и скрытый горизонт значений. «Понимать
себя, понимать другого, существовать, действовать: одно и то же движение,
которое основывает прямое и концептуальное познание на познании
косвенном и понимающем, но не элиминирует конкретного, т. е . истории...
Это непрерывное растворение интеллектуального познания в понимании и,
наоборот, вечное движение вверх, которое вводит понимание в структуру
интеллекта как измерение рационального незнания в лоне знания, есть сама
двусмысленность, свойственная учению, в котором тот, кто вопрошает,
вопрос и вопрошаемый суть одно и то же».70
Учение, о котором упоминает здесь Сартр, — «философская
антропология», которая одновременно должна быть и «структурной» и
«исторической». Именно она, молчаливо предполагаемая всем содержанием
позитивных знаний об обществе, лежит в основе специальных наук о
человеке. Таким образом, антропология, по замыслу Сартра, представляет
собой область интенциональных импликаций и скрытых основных
предпосылок, образующих «горизонт» любого нашего высказывания об
обществе. В таком понимании философская антропология оказывается
скроенной по мерке генетической феноменологии Гуссерля, искавшего
источник смысла в «допредикативном опыте» индивидуума, «опыте»,
лежащем ниже уровня логического познания и совпадающем с
непосредственным «жизненным миром» человека.
Но само понятие «жизненного мира» возникло у Гуссерля под влиянием
концепции «онтологического понимания» в экзистенциальной аналитике
Хайдеггера. Поэтому «критическая диалектика» Сартра оказывается на деле
не чем иным, как специфическим преломлением экзистенциально-
феноменологической методологии, о которой речь пойдет дальше.
Философская эволюция этого мыслителя выразилась в сближении
диалектической традиции Гегеля и гегельянцев с движением иррационализма
и антиинтеллектуализма.
В этом сближении роль «опосредствования» сыграла марксистская
концепция практики. Перетолкованная в духе учения об экзистенции, она
позволила Сартру рассмотреть «конкретное» (о котором всегда шла речь у
иррационалистов и во имя которого они подняли бунт против интеллекта)
как «процесс тотализации», включающей личность в «кадр истории» и
аккумулирующей историю в отдельном индивидууме. Поэтому говорить о
«марксизме» Сартра нельзя иначе, как в кавычках. Скорее это то, что
поздний Гуссерль и Хайдеггер периода экзистенциальной аналитики смогли
бы усмотреть «рационального» у Маркса в свете их собственных воззрений.
1. Систематическое сравнение взглядов этих французских философов
проведено в кн.: М. Barthelemy-Madaule. Bergson et Teilhard de Chardin
(Paris, 1963).
2. См.: А. С . Богомолов. Идея развития в буржуазной философии XIX —
XX веков. М ., 1962.
3. S. Alexander. Space, Time and Deity, vol. I . London, 1927, p. 44 .
4. Э. Маделунг. Математический аппарат физики. М, 1968, стр. 411.
5. Н. Bergson. Essais sur les donnees immediates de la conscience. Paris, 1909,
p. 79.
6. S. Alexander Space, Time and Deity, vol. I, pp. 47 — 48.
7. Ibid., vol. II, p. 38.
8. Ibid., p. 48.
9. Ibid., p. 44.
10. «Низус» по латыни означает «усилие», «напряжение».
11. S . Alexander. Artistic Creation and Cosmic Creation. In.: Philosophical and
Literary Pieces. London, 1939, p. 273.
12. См.: К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч., т. 2, стр. 143.
13. А. N. Whitehead. Modes of Thought. N. Y., 1958, p. 205.
14. Ibid., p. 188.
15. Ibid., p. 227.
16. А. N . Whitehead. Process and Reality. N. Y., 1969, p. 42 .
17. Ibid., p. 193.
18. Ibid., p. 66 .
19. Ibid., p. 28.
20. Ibid., p. 193 — 194.
21. Ibid., p. 26.
22. Ibid., p. 37.
23. Ibid., p. 27.
24. Ibid., p. 53.
25. См.: Платон. Сочинения в трех томах, т. 2. М ., 1970, стр. 406 — 416.
26. А. N. Whitehead. The Adventures of Ideas. N. Y., 1955, pp. 192 — 193.
27. Philosophy, vol. XXXI, January, 1956, p. 40.
28. A. N. Whitehead. Process and Reality, pp. 24 — 25.
29. П . Тейяр де Шарден. Феномен человека. М ., 1965, стр. 238 — 239.
30. Там же, стр. 257.
31. P . Teilhard de Chardin. The Future of Man. New York, 1965, p. 309.
32. S . Kierkegaard. Either/Or. A Fragment of Life, vol. I . Princeton, 1944, p.
56.
33. Ibid., p. 305.
34. П . П . Гайденко в своей книге «Трагедия эстетизма» (М., 1970)
устанавливает факт «наличия у Киркегора в его первой работе „Или —
Или" двух эстетиков — непосредственного и демонического, которых
он сам в этой работе недостаточно четко отличает друг от друга» (стр.
220). Дон-Жуан фольклора (и оперы Моцарта) относится ею к
«демоническому» типу, носители которого стремятся не просто к
наслаждению, а к «наслаждению от запретного», желая «преступить
черту» и «нарушить закон». Таковы и «сладострастники» Достоевского
(стр. 216 — 218). Однако героя «Дневника соблазнителя» вряд ли
можно причислить к этому типу.
35. S . Kierkegaard, op. cit., vol. II, p. 159.
36. Ibid., p. 150.
37. Ibid., pp. 144, 146, 147.
38. Гегель. Соч., т. IV, стр. 47.
39. См.: К. Jaspers. Philosophie. Bd. II. Berlin. 1932, S. 180.
40. Так П. П . Гайденко предлагает иную интерпретацию учения об
экзистенциальных стадиях: «Этическое вместе с непосредственно-
эстетическим оказывается стоящим ниже, чем демонически-
эстетическое вместе со своим двойником — демонически-
религиозным. Ибо каждая из этих пар уже неизбежно содержит в себе
свой второй полюс: непосредственно-эстетическое предполагает
нравственное, а эстетическое, понятое как любовь к злому, —
сверхнравственное, абсурдно-парадоксальную религию Авраама» (П.
П. Гайденко. Трагедия эстетизма, стр. 229). Демонический эстетизм как
наслаждение грехом есть негативный момент религиозного сознания, и
в этом смысле он «выше» этического, которое вовсе чуждо
религиозному. В этих пределах П. П. Гайденко совершенно права. Вот
только непонятно, почему она говорит о «демонически-религиозном» у
Кьеркегора. Религиозное есть «сверхнравственное», демонизм же —
«сверхбезнравственное», низвержение в бездну, путь назад и вниз.
Поэтому вторжение демонического усложняет картину, но не отменяет
последовательности экзистенциальных фаз, людей оставлена, когда
всякая вероятность (рационального познания. — М . К .)
41. См.: W. Lowrie. S . Kierkegaard, vol. II. N . Y ., 1962, p. 477
42. Ibid., p. 489.
43. К . Lowith. Von Hegel zu Nietzsche. Stuttgart, 1964, SS. 167 — 168.
44. К, Маркс и Ф. Энгельс. Соч., т. 3, стр. 1.
45. К . Ваrth. Der Romerbrief. Zurich, 1919, S. XIII .
46. Систематический анализ основных идей главного произведения
Сартре дан нами в статье «Онтология Жан-Поль Сартра» (Вестник
ЛГУ, 1966, No17). Наиболее развернутое изложение взглядов Сартра,
некоторые детали которого хочется оспорить, см. в книге В. Н .
Кузнецова «Жан-Поль Сартр и экзистенциализм» (М., 1969).
47. См.: J.- P. Sartre. L'etre et le Neant. Paris, 1943, p. 431 и след.
48. Вот как Томас Манн в прологе к своему «роману-мифу» рассказывает
одну из легенд о «первочеловеке»: «Взглянув... вниз, он будто бы
увидел в материи свое отраженье, полюбил его, спустился к нему и
таким образом попал в узы дольней природы. Этим будто бы и
объясняется двойственная человеческая природа, неразделимо
соединяющая в себе признаки божественного происхождения и
органической свободы с тягостной прикованностью к дольнему
миру» (Т. Манн. Иосиф и его братья, т. 1, М., 1968, стр. 62 — 63).
49. J . Hурроite. Vie et Existence chez Hegel. Etudes sur Marx et Hegel. Paris,
1955, pp. 30 — 31, 33.
50. J. -P . Sartre. L'etre et le Neant. Paris, 1943, p. 503 .
51. J . -P . Sartre. Saint Genet, comedien et martyr. Paris, 1952, p. 584.
52. J . -P . Sartre. L'etre et le Neant, p. 568. J
53. J . -P . Sartre. L'etre et le Neant, p. 570.
54. Ibid., p. 565.
55. Ibid., p. 566.
56. Ibid., p. 599.
57. Ibid., p. 670.
58. J .- P. Sагtге. L'existentialisme est un humanisme. Paris, 1946, p. 83.
59. J .- P. Sartre. L'etre et le Neant, p. 43.
60. J .- P. Sartre. Saint Genet, comedien et martyre, p. 177.
61. J .- P. Sartre. Critique de la raison dialectique. Paris, 1960, p. 20.
62. Ibid.
63. Ibid., p. 21.
64. Ibid., pp. 33, 34.
65. Ibid., р. 44.
66. Ibid., р. 47.
67. Ibid., p. 93.
68. Ibid.
69. Ibid., p. 105.
70. Ibid., p. 107.
ГЛАВА ТРЕТЬЯ
МЕТОДОЛОГИЧЕСКАЯ
АНТИНОМИЯ
СОВРЕМЕННОЙ
БУРЖУАЗНОЙ
ФИЛОСОФИИ
Диалектика не стоит на переднем плане методологических дискуссий
буржуазных философов нашего времени. Неогегельянский идеализм уже
утратил популярность (хотя элементы этой концепции сплошь и рядом
воспроизводятся и довольно неожиданным образом другими философскими
школами), а в эмерджентном эволюционизме и экзистенциальной аналитике
диалектика отнюдь не рассматривается как метод систематического развития
теории. Методологический подход буржуазной философии в целом по-
прежнему остается метафизическим, что и приводит к ряду неразрешимых
противоречий и к столкновению абстрактных противоположностей. Одна из
особенностей эволюции философских идей в капиталистическом мире за
последние сто с лишним лет заключается в поляризации философского
мышления на две противостоящие друг другу тенденции позитивизма и
иррационализма. Первая тенденция состояла в том, чтобы, отказавшись от
попыток научного решения традиционных философских проблем, найти для
философии место в эзотерическом мире специальных наук и отвести ей в
пользование хотя и скромный, но зато вполне определенный надел, а из
философа сделать «настоящего труженика науки» — специалиста, знающего
«много о малом». Это путь превращения философии в специальную науку со
своим особым предметом.
В методологическом аспекте позитивистская программа с самого начала
отличалась приверженностью к анализу и в конце концов вылилась в
принципиальное отрицание каких бы то ни было синтетических построений в
философии (Конт и Спенсер еще считали таковые не только возможными, но
и необходимыми). Современные позитивисты утверждают, что анализ
исчерпывает процедуру научного исследования, и потому один только этот
метод и может быть пригоден для философии, стремящейся быть научной.
Аналитической установке позитивизма философия жизни, феноменология,
экзистенциализм противопоставляют синтетическую функцию интуитивного
«понимания», не связывающего себя канонами научного мышления и
ориентирующегося скорее на внетеоретические способы освоения мира:
эстетическое созерцание, религиозное чувство, рефлексию нравственного
сознания. Отсюда и подчеркивание радикальной автономии философии по
сравнению с наукой. Наперекор давней традиции Аристотеля, Декарта и
Гегеля, видевших в философии первую и высшую из наук, иррационалисты,
начиная с Шопенгауэра, выдвигают идею философии как герменевтики —
расшифровки скрытого смысла бытия.
Но какой смысл имеет сама постановка вопроса о «смысле бытия»? С
позитивистской точки зрения — ровно никакого, ибо о бытии как таковом
вообще ничего путного сказать нельзя. С марксистской же точки зрения этот
вопрос приобретает рациональный смысл и научное содержание только как
проблема смысла истории — тенденции общественного развития — и
самоопределения субъекта в потоке социальных изменений. С точки зрения
иррационализма этот вопрос не имеет никакого отношения к общественному
бытию человека и, более того, раскрывает все свое значение, когда в ходе
экзистенциального «разъяснения» теряют самостоятельность все социальные
и психологические характеристики человека, обнажая его «онтологическое
ядро».
Герменевтическая процедура противоположна аналитической: последняя
заключается в расчленении, уточнении и сведении сложного объекта к
составляющим его элементам, тогда как первая имеет своей целью
восстановить глубинную «основу», неразложимое на компоненты целое,
фрагменты которого появляются перед сознанием в искажающей
перспективе теоретического мышления. С этим связана и дефиниция
философии как сферы интуитивного понимания, не нуждающегося в
рациональных методах науки. Вместо эмпирического подтверждения (или
фальсификации) теоретических моделей мышления, ориентированного на
объективность, рекомендуется «субъективное мышление» (Кьеркегор),
находящее себе оправдание внутри себя. Решающее значение приобретает
идея внутренней очевидности, самоочевидности для особым образом
определенного субъекта (либо субъекта «чистого созерцания», как у
Бергсона и Гуссерля, либо, наоборот, «экзистирующего», т. е . максимально
заинтересованного у Кьеркегора, Ницше, Ясперса).
Философская конструкция иррационализма предполагает иной (по
сравнению с требованиями научного метода) путь мысли: редукцию всего
внешнего (будь то материальная действительность или «чувственные
данные» феноменалистов) к глубинному пласту сознания, где субъективное
совпадает с объективным и само это различие теряет смысл. Это движение от
внешнего к внутреннему, от предметной данности любого рода к
абсолютному источнику всякого содержания, к акту, не допускающему
опредмечивания, к сознанию в самом его бытии, а не в производимых им
продуктах, к спиритуалистически интерпретированной natura naturans и
образует структуру субъективного метода в противоположность
объективному методу науки.
Отсюда, антиномия логического анализа и интуитивного синтеза
принимает вид антиномии объективного и субъективного методов
исследования. Конечно, говорить об «объективном методе» применительно к
позитивизму справедливо лишь в том случае, если учитывать
феноменалистическую трактовку самой объективности, вошедшую в обиход
идеалистической философии после Канта. С этой точки зрения
объективность есть свойство, которое имеет смысл приписывать лишь
феноменальному бытию, коррелятивному познавательным способностям
субъекта. Поэтому вещь в себе как понятие подлинно трансцендентного, не
соотносящегося в своем бытии с категориальной структурой рассудка и
пространственно-временной интуицией субъекта, не содержит, по Канту,
признака объективности. Объективное, таким образом, отождествляется с
данными чувственного опыта, а «объективный метод» в позитивистской
интерпретации означает процедуру сведения любых содержаний сознания
(представляемых, мыслимых, воображаемых и т. д .) к исходным элементам
чувственного опыта.
Кантовский критицизм стал во многих отношениях поворотным пунктом в
истории буржуазной философии, но нас сейчас интересует только одно
последствие этой «птолемеевской реакции», а именно программа «чистой»
гносеологии, анализа познания «изнутри», т. е. вне отношения к реальности
за пределами самих познавательных актов. Это с самого начала было
абстракцией, так как познание всегда обращено к действительному миру, не
говоря уже о том, что оно порождается реальными потребностями действия,
импульсами, идущими от практики.
Конечно, первым такую абстракцию (для удобства «анализа») осуществил
Юм (1711 — 1776), но Кант (1724 — 1804) сформулировал
гносеологическую проблему несравненно более конкретно: он перестал
рассуждать о познании вообще как некоем свойстве human nature, что было
еще характерно для Юма, а задался вопросом: «как возможно чистое
(теоретическое. — М . К .) естествознание?» Из такой постановки вопроса
следовало, что задача заключается не в том, чтобы описывать
психологическим методом интроспекции, что происходит «во мне», когда
«я» познаю, а в том, чтобы объяснить уже имеющееся знание, запечатленное,
объективированное в научной теории. В то время, когда Кант писал
«Критику чистого разума», такой научной теорией была прежде всего
ньютонианская физика.
С этой точки зрения предметом анализа, его первичными данными
являются факты знания, выраженные в книгах, а не ощущения, восприятия,
умозаключения субъекта (возникновение «сложных идей» из «простых» и их
последующие комбинации, образующие «фабрику ума», как думали
английские эмпирики XVIII века). Получается, что теория познания не имеет
никакого отношения к проблеме реальности окружающего нас мира,
природного и социального. Очень хорошо логику такого подхода разъясняет
проф. К. С. Бакрадзе: «Природа — это не то, что мы видим, слышим,
обоняем, осязаем и т. д ., а это то, о чем говорит нам наука. Наука как
«картина» природы и есть единственная природа».1 В результате
последовательного развития этой концепции и сформировалась методология
логического анализа. В дальнейшем мы остановимся на отдельных этапах
этого процесса.
Не только аналитическая философия позитивистского типа, но и
методология интуитивизма находит опору в «Критике чистого разума»,
точнее, в концепции вещи в себе. Уже Шопенгауэр (1788 — 1860) истолковал
кантовское учение о непознаваемости вещи в себе не в абсолютном, а в
относительном смысле: как ее недоступность понятийному мышлению и
всем вообще инструментам научного анализа. Но эта трансцендентная
реальность, которая вместе с тем и имманентна, так как предшествует
установлению субъект-объектного отношения, характерного для абстрактно-
теоретического мышления, «схватывается» в своей нерасчлененной
двойственности интуицией.
Таким образом, противоположность аналитического феноменализма и
синтетического «онтологизма» на базе интуиции намечена кантовской
постановкой вопроса. В дальнейшем в буржуазной философии постоянно
углублялось противопоставление онтологических и гносеологических задач.
Глубокая идея Гегеля слить воедино эти два аспекта философского
исследования и тем самым преодолеть дуалистическую схему кантовского
мышления была погребена под развалинами его системы и казалась
неразрывно связанной с мистифицирующим характером его воззрений.
Преодоление этой метафизической антитезы следует искать на пути
материалистического истолкования знаменитого учения о тождестве
диалектики, логики и теории познания. Не случайно В. И . Ленин видел в
этом учении основополагающий принцип систематического развития
диалектики как философской науки, резюме методологического содержания
Марксова «Капитала» и рациональный смысл «Науки логики» Гегеля. Из
принципа тождества вытекает неправомерность противопоставления
феноменального и реального бытия и, следовательно, ложность тезиса о
полной независимости философии от науки и по предмету исследования и по
методу.
Философия изучает тот же самый мир и теми же средствами, что и наука.
Но тождество науки и философии следует понимать диалектически, а не
метафизически, как, например, это делали основоположники позитивизма,
для которых философия была не более, чем компендиумом специальных
естественнонаучных знаний. Метафизически понимал это тождество и
Гегель, видевший в эмпирических науках «прикладную логику», что и
явилось причиной ряда фантастических конструкций его натурфилософии и
философии истории.
Диалектическое единство науки и философии означает сохранение
относительной самостоятельности и внутренней специфики каждого из
элементов этого единства при наличии неразрывной связи между ними.
Применительно к метафизической антитезе аналитического феноменализма и
интуитивистского онтологизма из этого принципа вытекают два важных
следствия. Во-первых, философское учение о бытии — онтологию нельзя
создавать, не опираясь на данные естествознания, но ни одно из этих данных
нельзя рассматривать как абсолютную истину о мире (такую ошибку
совершал, как известно, метафизический материализм). Этот вывод обращен
против методологии иррационализма. Во-вторых, невозможно «удержать»
философию в рамках «чистого учения о методе» или «логики науки», как
предлагают позитивисты, ибо всякое такое учение содержит скрытые
онтологические предпосылки, которые могут быть показаны, хотя и не
высказываются позитивистами в явной форме.
«Очищение анализа» и редукция философии к исследованию языка
Кант называл свой метод не эмпирическим и не геометрическим, как это
было принято в философии XVIII века, а «трансцендентальным».
Неокантианец П. Наторп (1854 — 1924) объяснял существо этого метода
следующим образом: «...философия не желает только какого-нибудь метода,
который в таком случае мог бы быть при каждой новой задаче другим, а она
стремится к определенному методу, к конечному единству метода, на
котором основывается познание, конечное единство познания и,
следовательно, также творческой работы культуры. Этому единству
неисчерпаемого источника закономерного созидания Коген дал сильное и
чистое выражение в своем принципе «изначального происхождения»;
принцип этот означает следующее: ничто не должно быть принято как
«данное», а должно быть сведено или по крайней мере доступно вообще
сведению к последней единой основе творческого познания... Итак, в этой
основной мысли, понимающей философию как метод, и именно метод
бесконечного, творческого развития мы видим неразрушимое зерно и
основание «трансцендентального метода».2
2 См.: «Новые идеи в философии», сборник пятый. СПб., 1913, стр 102.
103.
Любопытно сопоставить эту тираду с одним из наиболее популярных
афоризмов «Логико-философского трактата» Л. Витгенштейна (1889 — 1951)
—
основоположника и логического позитивизма, и лингвистической
философии: философия есть не теория, а деятельность по прояснению
логического смысла предложений науки. Витгенштейн, так же как и Нагорп,
сводит философию к методологии, к чистой деятельности, но определяет
характер этой деятельности иначе. Наторп, хотя и в гораздо меньшей
степени, чем сам Кант, все еще держится за понятие трансцендентального
субъекта творческой деятельности с его неисчерпаемыми потенциями (что и
делает работу философии бесконечной), а у Витгенштейна этого нет и следа:
субъект испаряется, и остается только его дело — логический анализ. За этим
различием скрывается еще один шаг по пути распредмечивания философии,
шаг, который сделали эмпириокритики Э. Мах (1838 — 1916) и Р. Авенариус
(1843 — 1896). Мы имеем в виду растворение гносеологии в
биомеханической трактовке познания в сочетании с феноменалистическим
описанием самого процесса познания в духе юмизма. Кант и кантианцы
мыслят еще в терминах субъект-объектного отношения, в терминах
отношения между познанием и его предметом. Устранив онтологию, они
всячески стараются углубить гносеологический подход, рассматривая в этом
более широком контексте и методологическую проблему.
Не то у эмпириокритиков. Основную задачу они видят в «очищении опыта»
от всяких «метафизических» (в данном случае внеопытных) примесей.
«Естественное понятие человека о мире» искажается «интроекцией» —
вкладыванием непосредственных данных сознания в субстанцию, все равно
какую — материальную (вкладывание в мозг) или духовную (вкладывание в
«душу»). Интроекция же образует фундамент всей гносеологической
традиции с характерной для нее неразрешимой проблемой «трансцензуса» —
перехода от имманентных состояний сознания к действительному миру вне
сознания. Каким образом «мое», т. е . субъективное, относящееся к
внутреннему миру, знание может быть еще знанием о потусторонней
реальности, которая заведомо не есть сознание? Такова основная проблема
гносеологии и вместе с тем ее роковое затруднение. Но это, утверждает
Авенариус, — мнимая проблема и призрачное препятствие, создаваемое все
тем же «злым духом» интроекции: «с одной стороны, опыт, после
интроекции — это предмет во внешнем мире, с другой стороны, опыт — это
познание в человеке; отношение внутри-сущего познания к вне-
находящемуся предмету должно было оставаться связанным с дальнейшими
преобразованиями интроекции».3
3 Р. Авенариус. Человеческое понятие о мире. М ., 1909, стр. 47.
Покончив с лабиринтом заблуждений, который воздвигает вездесущая
интроекция, мы, согласно эмпириокритикам, восстанавливаем «естественное
понятие о мире». Каково же содержание этого понятия? В методологическом
отношении это наиболее интересный пункт разбираемого учения. Нетрудно
догадаться, что таким содержанием является «чистый опыт» как результат
«чистого описания», к которому не примешивается никакая теоретическая
конструкция. Для того чтобы понять, что означает «чистое описание», мы
должны возвратиться к учению Юма, подлинного вдохновителя и
теоретического наставника лидеров эмпириокритицизма.
В предисловии к «Трактату о человеческой природе» Юм заявляет о своем
желании строить учение о человеке на тех же принципах наблюдения и
эксперимента, которые утвердились в естествознании. Но наблюдение он
понимает как самонаблюдение — описание внутреннего мира субъекта им
же самим без вспомогательных инструментов, опираясь на переживание
очевидности, наличия или присутствия какого-либо психического
содержания. Здесь мы имеем дело с интроспекцией — субъективным
методом описания психической деятельности, тогда как наблюдение в
естественных науках всегда опосредовано все более усложняющейся
экспериментальной техникой, обеспечивающей максимально возможную
(при данных условиях) степень точности и объективности описания.
Стало быть, подражание естествознанию у Юма — чисто внешнее, не
затрагивающее существа применяемой методики, которую можно по ее
реальному содержанию обозначить термином «аналитический
интроспекционизм», учитывая то обстоятельство, что непосредственные
данные сознания он расчленяет на обособленные психические единицы —
своего рода атомы, связанные между собой внешними связями ассоциаций.
Так складывается широкоизвестное его учение о «перцепциях ума», которые
он делит на два класса: «впечатления» и «идеи». «Впечатления» в свою
очередь делятся на «первичные» (ощущения в собственном смысле) и
«вторичные» («страсти», а также этические и эстетические чувства).
В основе всей мозаики душевной жизни оказываются «впечатления»: какое
бы явление сознания мы ни взяли, мы обязательно найдем при анализе его
содержания неразложимый далее остаток — «впечатление». Таким образом,
и в сфере психологии мы сталкиваемся с «атомом» — неделимым элементом,
«кирпичиком» микрокосма человеческой субъективности. И в этом тоже
проявляется зависимость юмистской доктрины от модели ньютонианской
физики, выступавшей при своем возникновении под флагом корпускулярной
философии природы в противовес аристотелевской физике субстанциальных
форм. «Трактат о человеческой природе» излагает по существу
«корпускулярную теорию души», подобно тому как «Математические начала
натуральной философии» Ньютона содержали корпускулярное учение о
вселенной.
Старательное копирование некоторых внешних приемов механистической
схемы объяснения обеспечило долгую жизнь юмизму как в философии, так и
в психологии, поскольку позволило рекламировать свою связь с «научным
подходом», столь блистательно себя оправдавшим в изучении тайн природы.
Механицизм — экстраполяция свойственного классической механике
подхода на область психического, где господствуют качественно иные
закономерности, — стал характерной особенностью позитивистской
методологии и в той или иной мере давал себя знать на всех этапах эволюции
этой доктрины. С механицизмом сочетается еще и феноменализм —
отождествление внешних объектов нашего сознания с теми же самыми
«впечатлениями», которые образуют, по Юму, материал и основное
содержание психики. Здесь Юм только обобщает тот способ аргументации,
который в деталях развил Беркли (1685 — 1753). Последний попытался
применить принцип «чистого описания» к характеристике реальности и, как
известно, превратил вещи материального мира в «собрания идей»
(«впечатлений», по терминологии Юма). Однако в рассуждениях епископа
Клойнского феноменалистическая трактовка материи противоестественно
соединена с религиозным спиритуализмом, отстаивающим существование
особой духовной субстанции — творческого субстрата «идей». Но если
применить тот же самый метод чистого описания и заглянуть «внутрь души»
по рецепту интроспекции, то там, разумеется, не найдешь ничего, кроме
разнообразных феноменов психической жизни, вырастающих на однородной
почве тех же самых «идей-впечатлений». Эту операцию как раз и проделал
Юм, навсегда покончив с «двойной бухгалтерией» своего предшественника:
если уж описывать только то, что непосредственно дано сознанию, без
всяких посторонних прибавлений и «метафизических» домыслов, то исчезает
не только «проклятая материя», но и любезный сердцу верующего
нематериальный «дух».
Логика последовательного феноменализма приводит и к другому выводу,
впоследствии развернутому в концепции так называемого «нейтрального
монизма»: если материя состоит из впечатлений и «дух» тоже сводится к
ним, то, следовательно, мир состоит из одних и тех же элементов, которые не
материальны и не духовны, но могут восприниматься либо как физический
объект («тело»), либо как психическое явление в зависимости от того, в
каких отношениях элементы выступают. То, что мы сейчас написали, —
парафраз рассуждения Маха в, начале его классического (в позитивистской
литературе) сочинения «Анализ ощущений» (1886). Но подобная схема была,
в сущности, намечена еще Юмом, когда он в предвидении возможных (и
заслуженных им) обвинений в разрыве со здравым смыслом, клонящимся к
материализму и признающим принцип детерминизма,
писал: «Я никогда не выдвигал столь абсурдного утверждения, что некая
вещь могла бы возникнуть без причины. Я только считаю, что наша
уверенность в ложности этого предложения (т. е . в ложности тезиса
индетерминизма. — М . К .) проистекает не из интуиции (в данном случае
непосредственной чувственной достоверности. — М . К .) и не из логического
доказательства, но из некоего иного источника. Что Цезарь жил на свете, что
есть такой остров Сицилия, для всех этих предложений, я утверждаю, у нас
нет ни логического, ни интуитивного доказательства... Есть много разных
видов уверенности, и некоторые из них столь же удовлетворяют ум как и
уверенность, основанная на логической демонстрации».4
С этой точки зрения различие между реально сущим, внешними объектами,
«вещами», с одной стороны, и субъективными состояниями сознания — с
другой, проходит в имманентной сфере сознания и определяется лишь
различной эмоциональной окраской чувственных данных. Реально
существующий объект — это идея, которая входит в состав особого
психического комплекса, именуемого Юмом верованием или убеждением, а
иногда и просто мнением (belief): «Мнение или убеждение можно точнее
всего определить как живую, яркую идею, соотносящуюся или
ассоциирующуюся с наличным впечатлением».5 Верование есть, таким
образом, надстройка над впечатлением, над первоначальной чувственной
данностью, которая превращается в простой субъективный образ, если
перестает ассоциироваться с «живой идеей». Получается, что субъективное
(образ сознания) отличается от объективного (предмета материального мира)
только особым чувством, которым сопровождается «восприятие умом»
реального объекта.
Таковы разрушительные для гносеологии последствия психологизма —
попытки применить психологический метод интроспекции к анализу
субъект-объектного отношения в процессе познания. Речь идет не о том, что
интроспекция не применима в психологии вообще,6 в изучении психологии
мышления или научного творчества в частности, где важную роль играют
впечатления самих ученых об особенностях их работы (а это и есть, по
крайней мере частично, результат самоанализа и самонаблюдения, т. е .
интроспекции). Такого рода критика психологизма была бы совершенно
неосновательной. Мы только утверждаем, что интроспекционизм в
гносеологии неминуемо приводит к платформе субъективно-
идеалистического психологизма, подменяю-
4 J. Greig (ed.) . The Letters of David Hume, vol. I . Oxford, 1932, p. 185.
5 D. Hume. A Treatise on Human Nature. London — New York, 1898, p.
396.
6 Диалектико-материалистическую оценку интроспекции см. в книге на
шего выдающегося психолога С. Л Рубинштейна «Основы общей
психологии»
(М., 1946, стр. 28, 43 и сл.) .
щего проблему объективности знания, объективной истины и обоснования
познаваемости мира описанием чувства субъективной уверенности или
«мнения». Моя уверенность в справедливости выдвигаемого мною
положения остается моим личным делом, а не фактом знания до тех пор,
пока не обосновывается теоретически и тем самым не превращается из
психологического факта в истину.
Гносеологию не интересуют переживания субъекта, сопровождающие
познавательный процесс, молнии догадок и «озарений» и неотделимых от
прозрений иллюзий — миражей, обещающих великие открытия, но
испаряющихся под лучами критической мысли. Это область психологии
научного творчества, по-своему увлекательной и порой глубоко
поучительной, но лишь соприкасающейся с исследованием гносеологических
проблем. Заслуга Юма в истории философии, между прочим, и состояла в
том, что ему удалось, независимо от своих собственных намерений,
установить границы интроспективного анализа и непригодность этого метода
в теории познания, не говоря уже о теории реальности. Методология
«чистого описания» не только не объясняет процесса познания, но, напротив,
заставляет усомниться в возможностях науки и человеческого разума, ибо
оказывается, что в «механике ума» решающая роль принадлежит не
логическому выводу и не фактической очевидности, а иррациональным по
сути дела верованиям, инстинктам и обычаям.
В самом деле. Все здание науки основано на идее причинности. Это Юм
превосходно понимает и не собирается отрицать (мы уже приводили его
высказывание на этот счет). Но сама каузальность, по его мнению,
теоретического обоснования не имеет и коренится в «верованиях»,
изначально присущих человеческой природе, а «верования, — пишет он, —
в гораздо большей степени акт эмоциональной части нашего существа,
нежели познавательной».7
Выходит, что работа интеллекта основана на чувстве, и любая теория
опирается на «убеждения», ускользающие от проверки. Конечно,
агностицизм неизбежен в такой «системе координат».
Юмистская методология и логика теоретического построения с некоторыми
видоизменениями воспроизводится и эмпириокритиками. После устранения
«интроекции» и перехода к методу «чистого описания непосредственных
данностей» Авенариус и Мах развертывают пресловутое учение о
«принципиальной координации» и «элементах мира», подвергнутое В. И.
Лениным сокрушительной критике в труде «Материализм и
эмпириокритицизм». Сравнительно новым у эмпириокритиков является
сочетание психологизма с биологической интерпретацией познания.. Для
описания природы познания привлекается схема приспособ-
7 D. Hume. A Treatise on Human Nature, p. 475.
ления организма к изменениям внешней среды, что Авенариус напыщенно
именует «законом жизнеразности» и «принципом экономии мышления»,
который выводится из биологической целесообразности. При этом
эмпириокритики упускают из виду, что биологическая схема объяснения
приходит в противоречие с методологическим интроспекционизмом,
предписывающим включать в описание среды только те «элементы»,
которые непосредственно обнаруживаются в сознании.
Это противоречие особенно заметно, если обратиться к учению Авенариуса
о «независимом жизненном ряде» в первом томе «Критики чистого опыта».
Там разбирается поведение «системы С» (центральной нервной системы) и
вводится тривиальнейшее уравнение, математически формулирующее
условие сохранения равновесия живым организмом. Удивительно то, как
Авенариус не замечает, что в этом разделе своего основного сочинения он на
каждом шагу нарушает принцип непосредственного описания чувственных
данных! Уже простейшая рефлекторная (декартовская) схема, которой он
широко пользуется, есть теоретическая конструкция, далеко выходящая за
рамки непосредственных данных сознания. Здесь мы встречаемся с
типичным для позитивизма приемом: ограниченность феноменалистического
подхода восполняется эклектическим заимствованием какой-либо
специальной схемы объяснения, уже оправдавшей себя в особой отрасли
науки. Поэтому в структуре позитивистской аргументации на разных этапах
ее существования наряду с постоянным элементом — юмистским
феноменализмом можно обнаружить периодически заменяемое дополнение в
виде популярного в данный момент методологического инструмента
естествознания или даже чистой логической формы, свободной от
содержательной интерпретации. По такому переменному компоненту легко
определять разные «сорта» и исторически обозначившиеся виды
позитивизма.
Вместе с тем, прямой перенос частных методов в философию необычайно
облегчал маскировку идеалистического субъективизма, всегда выступавшего
у позитивистов в респектабельном обрамлении научной терминологии с
беспрестанными ссылками на новейшие достижения точного знания.
Поэтому выделить в чистом виде идеалистическое «ядро»
эмпириокритицизма было далеко не просто, так что потребовался
скрупулезный анализ В. И. Ленина, чтобы действительное теоретическое
содержание философии Маха и Авенариуса выступило на поверхность. Пои
оценке позитивизма крайне важно учитывать уроки ленинской критики и ее
методологию.
В. И . Ленин постоянно подчеркивал непоследовательность махистов в
проведении идеалистической линии, их постоянные колебания и путаницу,
проистекающие из утопического стремления создать особую платформу в
философии, которая устранила бы противоположность материализма и
идеализма. Приведем несколько цитат, которые удостоверят, что
непоследовательность и эклектизм являются типичной особенностью
философии махизма, а не порождены случайными обмолвками ее лидеров.
«В том-то и беда, — пишет В. И. Ленин, — что это учение о независимом (от
ощущения человека) „ряде" (в первом томе «Критики чистого опыта»
Авенариуса. — М . К .) есть протаскивание материализма, незаконное,
произвольное, эклектическое с точки зрения философии, говорящей, что тела
суть комплексы ощущений, что ощущения „тожественны" с „элементами"
физического...»; «Собственная теория Маха есть субъективный идеализм, а
когда нужен момент объективности, — Мах без стеснения вставляет в свои
рассуждения посылки противоположной т. е. материалистической теории
познания...»; «.. поправка Маха и Авенариуса к их первоначальному
идеализму всецело сводится к допущению половинчатых уступок
материализму...»; «..слово „опыт" ... служит сейчас у Авенариуса и К° для
эклектического перехода от идеалистической позиции к материализму и
обратно».8
Но при всех колебаниях эмпириокритиков субъективно-идеалистический
подход к реальности берет у них в конечном счете! верх, и это с
неопровержимой убедительностью продемонстрировал В. И . Ленин. Следуя
его методу, марксистская критика должна вскрывать методологическую
неоднородность позитивизма, эклектическое сочетание субъективного
метода интроспекции, с неизбежностью приводящего к
феноменалистическому учению о реальности, с объективными методами
специальных? наук, которые предполагают совсем иную
(материалистическую) интерпретацию действительности. Однако в
сочетании с юмистским лейтмотивом и материалистические «нотки»
начинают звучать на идеалистический лад в интересах феноменализма.
Рассмотрим это на примере «биомеханической» теории познания
Авенариуса. Конечно, утверждение о том, что познание! есть
«уравновешивание» организма со средой, само по себе выражает позицию
естественнонаучного материализма, и оно остается материалистическим
независимо от того, кто и где мы высказывает, пусть даже папа римский в
очередной энциклике! Человек с естественнонаучной точки зрения
представляет собой определенную биологическую систему,
взаимодействующую со средой обитания. Станислав Лем в «Сумме
технологии» рассматривает всю земную цивилизацию по аналогии с
биологической системой, у которой в процессе эволюции вырабатывается
механизм «гомеостаза» — уравновешивания, обеспечивающего
самосохранение, выживание системы в условиях постоянных внешних
изменений. И это не причуда писателя-фантаста, а естественная
экстраполяция биокибернетической точки зрения.
Анализ человеческой жизнедеятельности с точки зрения общей биологии и
кибернетики вполне законен, необходим и плодотворен. С этим сейчас никто
не станет спорить. Поэтому весьма существенно, чтобы, разбирая
позитивистские доктрины, мы не направили критический огонь против тех
«вкраплений» естественнонаучных знаний и установок, которые сплошь и
рядом встречаются в этих философских конструкциях, ибо каждый такой
случай используется антикоммунистами, привыкшими вопить о том, что
диалектический материализм, мол, враждебен естествознанию.
«Закон жизнеразности» Авенариуса приобретает позитивистский смысл не
сам по себе, но лишь в той мере, в какой посягает на права
гносеологического исследования, т. е . используется для устранения всей
проблематики соотношения познания и реальности, отражения
действительности в сознании субъекта. Познание вырастает из простейших
приспособительных реакций живого организма и является увенчанием
длительного эволюционного пути усовершенствования их. Большего о нем и
нельзя сказать с позиций биологии (мы имеем в виду, разумеется,
принципиальный подход, а не возможность постоянного увеличения
информации относительно самих приспособительных механизмов).
Биологическая или биокибернетическая схема объяснения не нуждается в
категориях субъекта и объекта и отвлекается от диалектики субъективного и
объективного в процессе познания. Человек в этой схеме выступает только
как объект среди других объектов. Мы здесь имеем дело с очевидной
абстракцией и теоретической идеализацией, поскольку в действительности
человек не только объект, но и субъект познания и созидающей
деятельности, опредмечивающей, как говорил Маркс, его «сущностные
силы». При этом человек есть еще и рефлектирующая, т. е . сознающая себя,
субъективность, для теоретического воспроизведения каковой
естествознание вообще не имеет методологических средств.
Философия диалектического материализма призвана, таким образом,
исследовать реального, конкретного, социально-исторического субъекта в
процессе непосредственной практической деятельности, и подлинно научная
теория познания не может подменять свой предмет абстракциями,
необходимыми для создания математической теории объектов различных
уровней организации, но лишь односторонне и частично отражающими
реальную диалектику общественной практики. Следовательно, марксистско-
ленинская гносеология при всех успехах кибернетики сохраняет свое
значение «метатеории», позволяющей дать содержательную интерпретацию
любой эвристической схемы и рассмотреть ее в контексте исторически
развивающегося и социально обусловленного процесса познания.
В эмпириокритицизме устранение субъект-объектного отношения из
характеристики процесса познания основывалось на юмистской методологии
интроспективного описания непосредственных данных сознания и было
оборотной стороной концепции «нейтральных элементов» мира. Мы уже
говорили о том, что Юм, изгнав из философии понятие субстанции, пришел к
заключению об однородности строения внешнего мира и внутреннего
(субъективного) опыта человека. И воспринимаемая реальность, и то, что мы
ошибочно, по мнению Юма, принимаем за наш внутренний мир, состоят из
одних и тех же «впечатлений», на которые наслаиваются «идеи»
воображения и памяти. Этим самым субъективное было низведено на
уровень объективного, и наоборот: субъективное (впечатления и идеи)
превратилось в объективное (в «материал мира», в «вещи» окружающей
действительности). Благодаря такой манипуляции воцарилась сбивающая с
толку путаница, позволившая адептам юмизма претендовать на
восстановление «наивно реалистического взгляда», чуждающегося
«метафизических тонкостей» материализма и идеализма, тонкостей, до
которых якобы нет дела широкой публике, обыкновенным людям, далеким
от философии. На самом деле эта претензия совершенно неосновательна. Как
показал В. И. Ленин, позиция эмпириокритицизма приводит к абсурдным
заключениям, неприемлемым именно с точки зрения «здравого смысла
здорового человека», не испорченного умозрительной софистикой.
Не говоря уже о солипсистском предикаменте, феноменалистическая
аргументация вынуждена отталкиваться от предпосылки существования
сознания вообще, независимо от субъекта. Но мнению махистов, нельзя
сказать: «мир состоит из моих ощущений», ибо в этом высказывании
содержится интроекция (выражение «мои ощущения» означает, что
ощущения вкладываются «в меня», в субъект). Правильно утверждение: «мир
состоит из ощущений» — и ни слова более. Говорить о принадлежности
ощущений субъекту мы не имеем права, ибо это означает выход за пределы
непосредственно данного; субъект как носитель ощущений «не дан» в
интроспекции. Получается, что существуют «ощущения вообще», «ничьи
ощущения», так же, как в Вороньей слободке, увековеченной талантом И.
Ильфа и Е. Петрова, обитала «ничья бабушка». Ситуация действительно
комическая, но только не для тех, кто в нее попал: эмпириокритикам не
остается ничего иного, как постулировать «ничьи ощущения», чтобы хоть
терминологически не выдать своего идеалистического субъективизма,
отрицания объективной реальности.
Итак, мы с необходимостью приходим к выводу о том, что
эмпириокритическое «обоснование науки» на основе «имманентной» теории
познания, лишенной всяких онтологических предпосылок, потерпело полный
крах. Феноменалистическая концепция «чистого опыта», аналитически
расчлененного на элементы-ощущения, вступила в противоречие с
фундаментальной предпосылкой самой идеи науки как истинного знания
подлинной реальности, существующей независимо от всякого познающего
субъекта и принципиально не сводимой к ощущениям, «моим» или
неизвестно чьим. Методологической основой, предопределившей; неудачу
эмпириокритической «философии науки», был психологизм, пребывание в
плену интроспекции, замкнувшей анализ в магическом круге данных
сознания.
Последующая эволюция позитивистской методологии совершалась под
влиянием одновременного действия ряда факторов как общенаучного, так и
философского порядка. Определяющую роль в этом процессе сыграли
мощное движение за формализацию традиционной логики, создание
логического исчисления, о котором мечтал еще Лейбниц (1646 — 1716), а
также пропаганда аналитического метода Дж. Муром (1873 — 1958) и его
последователями «неореалистами» в Англии и США и, наконец, критика
психологизма в трудах исследователей различной философской ориентации.
Борьба психологизма и антипсихологизма хорошо изучена в нашей
литературе. Поэтому мы только резюмируем аргументацию против
психологизма, развернутую неокантианцами (особенно марбургской школы),
неогегельянцами (здесь прежде всего надо иметь в виду труды по логике
британских неогегельянцев Ф. Г . Брэдли и Б. Бозанкета),
систематизированную основателем феноменологии Э. Гуссерлем в первом
томе «Логических исследований» и получившую поддержку со стороны
течений, возникших в недрах самой логики и математики, когда в ходе
параллельного развития этих наук вдруг оказалось, что между ними
существует неразрывная связь.
Критики психологизма (из чисто философской и из собственно научной
среды) энергично призывали сделать все необходимые выводы из того
несомненного факта, что объективность есть необходимое условие всякого
знания, претендующего быть научным. Между тем, психологическая
ориентация, исходившая из того, что законы мышления и абстракции
математики возникают в индивидуальном опыте, который к тому же
интерпретировался в юмистском вкусе, неизбежно влекла за собой
релятивизм, поскольку ставила содержание нашего познания в зависимость
от психофизиологической организации субъекта. Несостоятельность такой
позиции можно показать довольно просто: возьмем, к примеру, любой закон
науки, скажем, закон всемирного тяготения. Спрашивается, справедлив этот
закон только для определенных живых существ, называемых людьми, или он
имеет значение безотносительно к определенному субъекту познания?
Если принять первую альтернативу, то приходится признать, что закон
всемирного тяготения справедлив постольку, поскольку существуют люди.
Но очевидно, что мыслимое нами в этом законе содержание признается
справедливым без всяких ограничений, кроме тех, разумеется, которые
предполагаются самим содержанием. Закон этот действовал и тогда, когда на
земле не было ни людей, ни живых существ вообще. На этом примере видно,
что содержание наших знаний — совокупность познанных истин следует
отличать от тех реальных (психологических) процессов познания, в
результате которых были установлены те или; иные теоретические истины.
Поэтому содержание наших знаний идеально; в нем непосредственно не
запечатлеваются конкретные обстоятельства места и времени, а также
условия познания, к которым нужно отнести и конкретную анатомо-
физиологическую и психологическую организацию субъекта познания —
человека. Вопрос можно поставить и еще проще: если в иных неведомых нам
космических мирах и цивилизациях разумные существа, которым ведь не
обязательно быть точной копией «землян», создали «свою физику», то будет
ли эта физика совсем иной, чем наша (речь идет о принциальных основах
науки, а не о степени проникновения в тайны природы и не о «языке», на
котором передается информация), или та же самая? Эта ситуация, которая
раньше была монополией научно-фантастической беллетристики, ныне все
чаще становится предметом чисто научного рассмотрения.
Идеальность знания в этом смысле означает просто его всеобщность и
общезначимость, благодаря которой, например, школьники
социалистического общества понимают геометрию Эвклида, творившего в
эпоху рабовладельческой античности. т. е . в совершенно иных исторических
условиях. В этом, собственно, и проявляется свойственная научному знанию
объективность, которую отмечал В. И. Ленин в известном определении
истины как такого содержания наших знаний, которое не зависит ни от
человека, ни от человечества. Как мы видим, диалектико-материалистическая
гносеология, опирающаяся на принцип единства субъекта и объекта, избегает
ловушки субъективизма, в которую попадали не только юмисты, но даже и
метафизические материалисты.
В своей борьбе против психологизма буржуазные философы зашли гораздо
дальше, чем того требовали интересы истины, и очутились либо на позиции
трансцендентального идеализма: (Гуссерль и неокантианцы), либо вернулись
к платонизму подобно Г. Кантору (1845 — 1918), создателю теории
множеств. Казалось, что устранение психологизма раз и навсегда положит
конец позитивистским установкам, связавшим свою судьбу с
интроспективным описанием процесса познания. Однако нашлись теоретики,
которые попытались очистить позитивистскую методологию от наслоений
психологического релятивизма и включить феноменалистическую
концепцию юмизма в несколько иной идейный контекст. Это были
приверженцы логического позитивизма, или логического эмпиризма. Как нам
представляется, второе название даже предпочтительнее, так как в нем
непосредственно выражена важнейшая особенность «третьего позитивизма»,
отказавшегося от попытки вывести из ощущений логико-математический
элемент знания и предположившего этот элемент изначально данным в
структуре науки. Эту точку зрения не следует смешивать с априоризмом
кантианского типа вследствие того, что она опирается на учение Л.
Витгенштейна (1889 — 1951) об аналитической природе предложений
логики и математики, тогда как, согласно Канту, эти предложения имеют
синтетический характер.
Признаком аналитического суждения является то, что его предикат
содержится в субъекте. Поэтому оно представляет собой простое раскрытие
того содержания, которое уже мыслилось в понятии субъекта. Предикат
синтетического суждения, напротив, в субъекте не содержится и не может
быть из него дедуцирован, поскольку высказывает о субъекте нечто новое,
добавляющееся к первоначальному содержанию субъекта. Ясно, что все
эмпирические суждения, будучи высказываниями о фактах, а не дедукцией
из понятий, относятся к разряду синтетических. На этот счет в истории
философии сомнений не было. Кант, однако, поставил другой, отнюдь не
тривиальный вопрос: «Как возможны синтетические суждения a priori?» —
ответил на него своим учением о категориях рассудка, образующего
синтетические суждения, простейшие примеры которых можно взять из
школьной таблицы умножения. Математическое знание в интерпретации
Канта стало оплотом философского априоризма.
Но и сенсуалистическая точка зрения тоже не давала научного решения
проблемы, потому что никак не удавалось свести логические формы к
непосредственным «впечатлениям от внешних объектов или к
эмпирическому обобщению их. Интроспективная методология и здесь
демонстрировала свою ограниченность, ибо нельзя было показать, каким
образом из непосредственных данных сознания — «оттенков цвета, вкуса,
запахов, звуковых тонов» (излюбленные примеры Беркли и Маха) —
складываются математические абстракции, скажем, понятие числа, не говоря
уже о более сложных и отвлеченных от непосредственного опыта концептах.
Интроспекция, скорее, должна была свидетельствовать в пользу
априоризма, признания «врожденных идей», поскольку наряду с
непосредственными впечатлениями от внешнего мира и проявлениями
психической деятельности я нахожу в себе (в результате самонаблюдения) в
числе прочих объектов моего внутреннего мига и некие особые «идеальные
сущности» — числа, дифференциалы, интегралы, правила оперирования с
ними, а также и нормы, которым должно подчиняться мое мышление, чтобы
быть истинным. Именно такого рода рассуждение и образует исходный
пункт феноменологической философии, основоположник которой Э.
Гуссерль (1859 — 1938) недаром в начале своего творческого пути прилежно
штудировал Юма и Милля.
Витгенштейн и его последователи не пожелали вступить на скользкую
дорогу интроспекции, следуя которой можно было прийти к каким угодно,
даже противоположным выводам, в зависимости от того, чего «душа
желает»: можно вместе с Миллем отстаивать эмпирическое происхождение
математики или, наоборот, вместе с Гуссерлем — ее априорность.
Субъективизм интроспективного анализа нигде, пожалуй, не проявляется так
ярко, как в обсуждении этого вопроса. Поэтому Витгенштейн в соответствии
с давней позитивистской традицией, о которой мы уже упоминали,
воспользовался уже оправдавшим себя научным методом, абсолютизировал
его и дал ему определенную философскую интерпретацию. Только теперь
вместо биологической схемы объяснения, пленившей Маха и Авенариуса, он
принял за отправной пункт метод формалистской математики, «основанный
на рассмотрении языка, средствами которого формулируется математика.
Этот язык нужно формулировать так полно и так точно, чтобы
математические рассуждения можно было рассматривать как выводы
согласно точно установленным правилам — правилам, которые являются
механическими в том смысле, что правильность их применения можно
проверить, рассматривая сами символы как конкретные физические объекты,
безотносительно к тому значению, которое они могли бы или не могли бы
иметь».9 Это означает, что математика интерпретируется не как наука,
имеющая свой предмет исследования, не как теория, описывающая какую-то
определенную предметную область, отличную от нее самой, но как чистый
метод, сам порождающий свое содержание — формальный язык, весь
словарь которого исчерпывается символами и правилами оперирования с
ними. На эту формальную систему накладывается только одно ограничение:
она не должна быть внутренне противоречивой.
Формализм как определенная программа и метод метаматематики оказался
весьма плодотворным инструментом устранения математических парадоксов
и аксиоматизации (в целях достижения большей строгости доказательства)
ранее сложившихся математических теорий, включавших в себя в явном или
неявном виде интуитивные элементы. Но каковы бы ни были успехи этого
метода обоснования математики, они ничуть не предрешают вопроса о
природе математики, ибо формализм в интересах дела, ради решения вполне
определенных задач абстрагируется от философской, гносеологической,
«метафизической», как говорил основатель этого направления Д. Гильберт
(1862 — 1943), интерпретации.
Логические позитивисты превратили метод метаматематического
формализма в «метафизику» в самом дурном смысле этого слова, в
завуалированную форму субъективно-идеалистической философии. В
«Логико-философском трактате» Витгенштейн выдвинул тезис о том, что все
предложения логики (и математики, которая сводится к логике) аналитичны
и тавтологичны, бессодержательны, не имеют никакого отношения к
действительности и потому не могут быть ни опровергнуты, ни
подтверждены опытом. Логика и математика говорят только о знаках и
больше ни о чем. Следовательно, логико-математические предложения
можно, если угодно, называть «априорными», но это априорность
тавтологии, не имеющей никакого отношения к реальной действительности и
именно потому не зависящей от фактов.
В 1931 году появилась статья лидера «Венского кружка» М. Шлика (1882
—
1936) «Бывает ли фактическое a priori?», где он доказывал, что все
априорные суждения тавтологичны и, следовательно, не содержат ни «атома
фактичности». Классическим примером тавтологий Шлик считает
математику, в которой все выводы напоминают высказывания типа «масло
масляное», а тавтологичность замаскирована сложными сочетаниями
символов и длинным путем подстановок. Таким образом, математика вообще
не является знанием, она представляет собой совокупность операций с
символами, которые изобретены человеком. В системе воззрений
логического позитивизма восстанавливается радикально номиналистический
подход к проблеме обоснования математики. Но зато спасен принцип
идеалистического эмпиризма: всякое знание из опыта, из чувственных
данных, кроме которых ничего нет, а математика потому и не может быть
интерпретирована эмпирически, что не является знанием. Книга самого
известного в Англии «логического эмпириста» А. Айера «Язык, истина и
логика» вся наполнена ликованием по поводу того, что эмпиризм, наконец,
одержал окончательную победу и основал свое учение на несокрушимом
фундаменте.
Своеобразие методологии «логического эмпиризма» состоит в том, что его
приверженцы делают предметом анализа не «чистый опыт» в его
непосредственной данности сознанию, не «естественное понятие человека о
мире», а исходят из объективированных в языке результатов научного
познания — предложений науки и систем предложений, образующих
теорию. Исходный пункт здесь — нечто совершенно объективное, структура
науки, «отложившаяся» в виде уже созданных и закрепленных в книгах
систем понятий, облеченных в материальную оболочку языка.
Понятно, что эти объективные структурные образования доступны вполне
объективному изучению в такой же степени, как и физическая реальность,
исследуемая естествознанием. Кажется, что интроспекционизм и
психологизм в теории познания преодолены, ибо логический анализ
опирается уже не на факты сознания, фиксируемые самим сознанием, когда
единственным критерием является субъективная очевидность, а на
объективные факты знания, в отборе которых не остается места для
субъективистского произвола. Этим логический позитивизм напоминает
доктрину неокантианства марбургской школы, которая пыталась свести всю
философию к чистой деятельности — трансцендентальному методу,
непрерывно творящему предметы (задачи) познания из лона некоего
«первоначала» (вспомним высказывание Наторпа, приведенное в начале
главы).
Существенное различие заключается, однако, в том, что неопозитивисты,
заимствуя формальные методы анализа из математики, не соотносят
объективировавшуюся структуру науки с творческой деятельностью
«чистого» (трансцендентального) сознания, как это делали неокантианцы.
Конечно, формализация анализа давала определенные преимущества
неопозитивизму и позволяла сразу отмежеваться от компрометирующей
связи с идеалистической традицией. Но зато динамический аспект,
процессуальность познания, которая в идеалистически мистифицированной
форме находила отражение в неокантианстве, с самого начала осталась за
бортом логического анализа, и это превратилось в застарелый и
неискоренимый порок неопозитивизма.
С течением времени обнаружилось и то, что «третий позитивизм» так и не
избавился от психологизма, как, впрочем, и неокантианство.10 Выяснилось,
что «открытия» логического эмпиризма не решили старых проблем, но
только поставили их в новой форме, которая далеко не всегда помогает
продвинуться в понимании методологии и логики науки. Постепенно среди
самих аналитиков крепло убеждение в том, что строгая дихотомия
аналитических (тавтологических) и синтетических (эмпирических)
высказываний не отражает действительной структуры науки. Еще в 1936
году Ф. Вайсман в книге «Введение в математическое мышление»
утверждал, что «математика не состоит из тавтологий. Чтобы понять смысл
знака равенства, заметим, что запись а = b применяется в математике в
качестве правила, которое объясняет, что а можно заменить b... Отсюда,
равенство не означает тавтологии, но скорее представляет собой приказ и
гораздо ближе к эмпирическому предложению, чем к тавтологии. Это
правило; которое направляет наши действия (как правило игры в шахматы),
правило, которому можно следовать или пренебречь им».11
Как видно из приведенного рассуждения, Вайсман допускает
эмпирическую природу математических предложений, интерпретируя их в
прагматистском вкусе. Но для нас важно признание неадекватности того
подхода к проблеме, который отстаивали логические позитивисты под
влиянием Витгенштейна. В 50-е годы (т. е . совсем недавно) в этом же
направлении развернули критику неопозитивизма У. ван Орман Куайн,
Мортон Уайт и А. Пап. Особый резонанс в буржуазных философских кругах
получила статья Куайна «Две догмы эмпиризма», в которой, по словам Г.
Бергмана, автору удалось «с восхитительной ясностью и неопровержимо
обнаружить серьезные пробелы в формулировке основополагающих
принципов логического эмпиризма».12
Куайн показал, что в самом понятии аналитичности скрыта существенная
неясность, заставляющая смешивать это понятие с родственным, но не
тождественным ему понятием синонимии, которое, не получая явного
определения, зачастую фигурирует в рассуждениях об аналитических
предложениях.13 В итоге он предложил отказаться от строгого
разграничения аналитических и синтетических (эмпирических) предложений.
К такому же выводу пришел и Мортон Уайт в статье: «Аналитическое и
синтетическое: несостоятельный дуализм».14 Но такой вывод, как должно
быть ясно из предыдущего, подрывает краеугольный камень разбираемой им
доктрины: номиналистическую интерпретацию математики.
А. Пап подошел к вопросу с другой стороны: он обратил внимание на то,
что необходимость, присущая аналитическим выводам, содержит момент
интуитивной уверенности, идеалистическое истолкование которого дал Кант
своим учением о синтетических суждениях a priori. Анализ Папа показал
лишний раз, что формализм в метаматематике отнюдь нельзя рассматривать
как исчерпывающее учение о природе математического знания, в котором
все-таки содержатся и неформализуемые элементы, и что, следовательно,
логико-математические выводы нельзя свести к тавтологиям.15
Не выдержала испытания и вторая догма логического эмпиризма, к анализу
которой мы сейчас и должны приступить, — так называемый «принцип
верификации». Этот принцип был предназначен для того, чтобы провести
демаркационную линию между высказываниями, которые относятся к
области науки и являются в точном смысле слова эмпирическими, и
«метафизическими» предложениями, которые лишь на первый взгляд
представляются наукообразными, а на самом деле не являются таковыми.
Благодаря принципу верификации позитивисты надеялись заранее
определить, имеет ли данное высказывание научный смысл или оно с
научной точки зрения представляет собой бессмыслицу. Важно учитывать,
что принцип верификации рассматривается логическими позитивистами как
критерий осмысленности научных предложений, как семантический и
синтаксический, а не гносеологический принцип.
Именно в семантическом истолковании верификации Шлик усматривал
принципиальное отличие «нового эмпиризма» от старого, рассматривавшего
верификацию просто как проверку истинности «идеи» путем ее сверки с
чувственным опытом, с «впечатлениями», как это было у Юма. В отличие от
него неопозитивисты подчеркивали, что верификация — это нормативный
принцип, указывающий формальный признак научности, а не
констатирующий истинность или ложность того или иного конкретного
высказывания. Речь у них идет, таким образом, о возможности проверки
(верификации) в принципе, а не о реальном осуществлении проверки с целью
определения «материальной» истинности или ложности высказывания.
Конечно, ученый в практике исследования постоянно прибегает к
эмпирической проверке своих утверждений, но это, естественно, не входит в
задачу философа-аналитика. Устанавливать истинность утверждений
относительно физических, биологических, химических и тому подобных
объектов есть дело соответствующих специалистов, задача же философии,
как говорил Карнап, — «логический анализ языка науки» формальными
методами. Принцип верификации указывает и задачу логического анализа, и
его особую форму. В краткой формуле ход этого анализа с точки зрения
неопозитивизма раскрыл Айер: «дедукция отношений эквивалентности из
правил следования».16
Это значит, что задача логического анализа заключается в сведении всех
предложений, составляющих содержание науки или фигурирующих в
качестве научных высказываний, к элементарным, «базовым» предложениям,
фиксирующим либо непосредственный чувственный опыт субъекта
(первоначальная феноменалистическая позиция Шлика и Карнапа), либо так
называемые «протокольные предложения» ученого, регистрирующего факты
не в их непосредственной данности сознанию, но используя показания
измерительных приборов. Вторая версия логического анализа получила
название «физикализма».
Феноменалистический вариант позитивистской «философии науки» сразу
же влечет за собой субъективистские импликации психологизма: Напрасно
его защитники указывают на то, что их феноменализм не «онтологический»,
как у Юма и Авенариуса, т. е . не отождествляет реальность с «чистым
опытом», и что вообще они воздерживаются от выхода за пределы языка
науки, дедуцируя предложения из предложений и устанавливая всего лишь
логическую связь между ними. Дело в том, что и в семантической
интерпретации феноменализм остается самим собой, только меняется форма
аргументации. Если юмисты прошлого считали всякое онтологическое
допущение, несовместимое с феноменализмом, ложным, то юмисты
настоящего именуют его «бессмысленным» с научной точки зрения; если
раньше материализм был «ложным», то теперь он стал «бессмысленным», и
все потому, что «язык материализма» не может быть «переведен» па «язык
чувственных данных», т. е . феноменализма.
Использование принципа верификации как критерия осмысленности языка
науки вызывает большие затруднения, часть которых быстро распознали и
сами позитивисты. Вот что писал Карнап, ранее сам исповедовавший
принципы феноменалистического анализа: «Всякое протокольное
предложение данного субъекта имеет смысл только для самого этого
субъекта, но непонятно и бессмысленно для другого субъекта... Каждый
протокол можно использовать только в монологе; не существует
интерсубъективного (общезначимого. — М . К .) языка протоколов... Но
существует связь между языком физики и языком опыта
(феноменалистическим языком. —
М. К .) для данного субъекта»,17
За исключением последней фразы, оставляющей лазейку для модификации
анализа в духе физикализма, это высказывание Карнапа выносит смертный
приговор семантическому феноменализму. Оказывается, что при строгом
проведении критерия верификации область «бессмысленного» расширяется
настолько, что грозит поглотить не только объективные истины науки, но и
юмовские beliefs — мнения и верования обыденного обихода. С точки зрения
Карнапа, спасение в том, чтобы перевести непосредственные впечатления
субъекта на «универсальный язык физики». Но как это сделать? В ответ на
предложенную Карнапом программу перевода предложений из
«материального модуса» (когда они представляют собой высказывания о
чувственно воспринимаемых вещах) в «формальный», где те же предложения
играют роль высказываний «о синтаксисе», О. Нейрат, С. Стеббинг и другие
резонно возражали, что принцип физикализма (сведения всего наличного
содержания науки к предложениям о физических величинах) неосуществим,
если с самого начала не допустить первичность интерсубъективного
физического языка.
Следовательно, окончательный результат физикалистского анализа
сводится к утверждению, что любое предложение имеет научный смысл
лишь в том случае, если его удастся (в результате соответствующих
логических операций) «переформулировать» на языке физики. Но чем же
объясняется привилегированное положение именно этого языка? На этот
вопрос физикалистская доктрина объяснения не дает и прерывает свой
анализ в самом интересном пункте, так и не выяснив, почему же только язык
Ньютона, Максвелла, Планка, Эйнштейна, Бора и многочисленной армии их
коллег является единственно научным и каков вообще критерий научности
любой теории.
Принцип физикализма фактически только выражает реально
существующую тенденцию ко всему большему проникновению физико-
математических методов в семью наук, естественных и общественных, и
всеобщее преклонение перед огромными успехами точного знания,
раскрывающего захватывающие дух перспективы. В этом причина
популярности принципа физикализма среди буржуазной инженерно-
технической интеллигенции и ученых-естествоиспытателей; однако он
совершенно не годится на роль объясняющей теории и лишь в новом виде
формулирует проблему, так и не решенную неопозитивизмом.
Такой исход позитивистского анализа науки совершенно закономерен. В
рамках чистой методологии, сознательно изолирующейся от гносеологии и,
следовательно, от определенного решения проблемы реальности научного
знания, т. е . его соответствия объективной действительности за пределами
самого познавательного процесса, иного результата и быть не могло.
Идеалистический имманентизм — стремление во что бы то ни стало
рассматривать процесс познания «изнутри», с позиций ли «чистого
описания» (эмпириокритицизм) или формальных преобразований во
внутренней структуре уже сложившихся теорий (неопозитивизм), —
искусственно ограничивает возможности разума, стремящегося к
философскому осмыслению мира и места человека в нем. Лишь в такой,
более широкой перспективе находит объяснение и сам факт науки и
чудесный механизм творческого мышления человека.
Не только применение принципа верификации приводит к следствиям,
нежелательным для представителей этой доктрины, но и сама его
формулировка (в свете принятого семантического критерия) оказывается
невозможной. В самом деле: принцип верификации — и не тавтология,
присущая чистой логической форме или математическому выводу, и не
эмпирически верифицируемый тезис, а третьей возможности доктрина не
дает. Поэтому само предложение, в котором высказан принцип верификации,
надо признать лишенным научного смысла. Кстати,, это предвидел и сам
Витгенштейн, когда в конце трактата предупреждал: «Правильным методом
философии был бы следующий: не говорить ничего, кроме того, что может
быть сказано, — следовательно, кроме предложений естествознания, т. е .
того, что не имеет ничего общего с философией... Мои предложения
поясняются тем, что тот, кто понял меня, в конце концов уясняет их
бессмысленность, если он поднялся с их помощью на них — выше их (он
должен, так сказать, отбросить лестницу после того, как заберется по ней
наверх)... О чем невозможно говорить, о том следует молчать».18
Увы, первым, кто нарушил это в высшей степени полезное правило, был
сам Витгенштейн, который выдвинул в своем произведении куда более
«метафизически смелую» версию позитивизма («логический атомизм»), чем
учение сторонников «Венского кружка», избегавших делать явные
онтологические допущения, столь свойственные «Логико-философскому
трактату». Быстро последовавший за расцветом логического позитивизма его
упадок «образумил», видимо, Витгенштейна, и он решил, наконец,
реализовать ранее намеченную программу полной ликвидации философии.
Так появилась на свет методология лингвистического анализа.
Стержень второго учения Витгенштейна образует «новая теория значения»,
которая опирается на банальный и довольно бессодержательный с первого
взгляда постулат: «значение слова есть его употребление в языке».19 За этим
невинным положением скрывалось, однако, очень многое: отказ от
верификационной теории значения и признание множества равноправных
языков, исполненных смысла в той мере, в какой можно указать «правила
игры» в каждом из них. В «Логико-философском трактате» принималось, что
есть только один «правильный язык» — язык науки, который «отображает»
структуру самой реальности. Концепция «лингвистических игр» полностью
порывает с первоначальной и, вообще говоря, здравой позицией во имя
прагматистски-бихевиористской интерпретации языка как «формы жизни»:
«...Представьте инструменты в сумке рабочего: молоток, кусачки, пила,
отвертка, линейка, клей, гвозди и шурупы. Функции слов так же различны,
как функции этих объектов».20
Реальность, в которой живет человек, — лингвистическая. Нельзя сказать,
что слова относятся к вещам, слова и есть «вещи», высказывания — это
действия, «ходы в игре». Задавать вопросы об истинности или ложности игр
нелепо и неправомерно; всякая игра имеет смысл, если в нее играют. Исходя
из такой установки, лингвистический анализ оставляет недостижимый идеал
—
конструирование языка науки и избирает для себя задачу более скромную
—
описывать то, что есть, т. е . все способы употребления слов, свойственные
обыденному языку, или, лучше сказать, языкам, ибо лингвистических игр
много и они соответствуют разнообразию видов человеческой деятельности.
Таким образом, философия лингвистического анализа потеряла уже всякое
право именоваться «философией науки», хотя бы и формально, и довела до
предела изначально присущий позитивистскому учению релятивизм: все
игры между собой равны; «игра в науку» ничем не лучше (и не хуже), чем
«игра в религию». У каждой игры свои правила, и как нельзя играть в футбол
по правилам преферанса, так нельзя судить и религию, руководствуясь
критериями, выработанными наукой. «Прислужничество фидеизму»,
характерное, как отмечал В.И . Ленин, для эмпириокритицизма, еще
явственнее проявляется в деятельности лингвистических аналитиков.
Методология позднего Витгенштейна соединяет замаскированные
идеалистические постулаты, унаследованные от логического позитивизма, с
вульгарно-материалистическими установками в подходе к сознанию. От
логического позитивизма лингвистический анализ отличает (помимо отказа
от идеи совершенного языка науки) отсутствие феноменалистических
предпосылок. Лингвистические аналитики исходят не из «опыта», не из
«чувственных данных», а из «вещей», или, точнее сказать, «слов-действий».
Конечно, такая установка несколько отдаляет от субъективно-
идеалистической традиции, тем более, что аналитики подчеркивают и
социальную природу «лингвистических игр». Это отличие от традиционного
юмизма уже отмечалось марксистской критикой.
И все-таки поздний Витгенштейн полностью не избавился от
«лингвистического солипсизма», который был свойствен «Логико-
философскому трактату» и который в иной форме дает себя знать и в
«Философских исследованиях». Если раньше он писал, что «границы моего
языка суть границы моего мира», то этому взгляду он не изменил до конца,
разве что язык стал интерпретировать в духе социального бихевиоризма. Но
это означает, что и лингвистический анализ чужд подлинно
материалистическому пониманию объективной реальности, и если юмисты
отождествляют действительность с «чувственными данными», то
современные аналитики проделывают ту же операцию с языком, переодевая
реальность в слова.
С «лингвистическим солипсизмом» тесно связано и некритическое
принятие значений обыденной речи, ибо раз слова и факты одно и то же, то
мы не вправе игнорировать «факты» — существующее словоупотребление, а
должны только констатировать и описывать их. Отсюда вытекает
обывательская по сути дела точка зрения о том, что обыденный язык «всегда
прав». Недостатки естественного языка (в частности, отсутствие четко
фиксированных значений понятий), делающие его зачастую полностью
непригодным для выражения научных взглядов, неизбежны и в принципе
непреодолимы и потому, собственно, не могут считаться недостатками. Так в
учении лингвистических аналитиков выступает позиция «здравого смысла»,
изъявляющего претензию быть судьей научной картины мира или, по
крайней мере, обосновывающего свою «автономию» перед лицом научной
методологии. В этом своем аспекте лингвистическая философия испытала
влияние неореализма Дж. Мура (1873 — 1958), в течение нескольких
десятилетий отстаивавшего «преимущества» философии здравого смысла.
Здравый смысл, как говорил еще Энгельс, — «почтенный спутник» в
домашнем обиходе, но он мало чем может помочь в решении научных
проблем, требующих усилий собственно теоретического мышления. В то
время как обыденное сознание довольствуется чувственной видимостью
вещей и рабски следует освященным временем предрассудкам, научное
мышление выполняет одновременно и критическую, разрушительную, и
эвристическую функции, на каждом шагу вступая в противоречие с
утвердившимися догмами, которые принимаются на веру «здравым
рассудком» обывателя. Маркс и Энгельс, анализируя вульгарную
политическую экономию, убедительно продемонстрировали, как
беспомощно запутывается в логических противоречиях мышление,
опирающееся на обывательские представления, в которых действительная
реальность отражена в перевернутом виде.
Не избежала таких противоречий и лингвистическая философия. Во-
первых, концепция лингвистического полиморфизма — множественности
языковых игр — никак не согласуется с отрицанием «метафизики», т. е .
философии как мировоззрения и общей теории реальности. Типично
позитивистское отношение к философской традиции свойственной
современным аналитикам, которые вслед за Витгенштейном повторяют, что
философия возникла из «неправильного употребления» языка (теперь уже
обыденного). Но ведь «метафизический язык» тоже можно рассматривать как
одну из лингвистических игр, и в эту игру действительно «играют». Почему
же она не имеет права на существование? Это вдвойне непонятно, если
вспомнить указание того же Витгенштейна о том, что дело аналитика не
критиковать, а «описывать» все разнообразие игр с присущими им
правилами. На каком основании в одном специальном случае «эмпирик»,
фиксирующий только то, что есть, становится «критиком», отрицающим
«наличное» во имя некоей идеальной нормы, иметь которую ему строго
воспрещено?
Второе противоречие обнаруживается при сопоставлении игровой модели
языка с ее инструменталистской интерпретацией как «формы жизни». Все-
таки надо выбирать одно из двух: либо язык — «игра» и тогда слова нельзя
отождествлять с инструментами человеческой деятельности, либо язык —
это «форма жизни» и, следовательно, нечто гораздо большее, чем игра. Отказ
Витгенштейна от модели математического формализма не лучшим образом,
видимо, сказался на строгости его мышления. Не случайно, что такой ветеран
логического анализа, как Б. Рассел (1872 — 1970), в свое время не
одобрявший «крайностей» логического позитивизма, в довольно резкой
форме заявил о своем несогласии с методологией лингвистического анализа.
В академических философских кругах Англии лингвистический анализ по-
прежнему господствует, хотя оппозиция ему постепенно усиливается, ибо
недостатки этого способа рассмотрения (а лучше сказать — ухода от
рассмотрения) философских проблем становятся все заметнее, но чем
заменить его — буржуазные философы не знают; доктрина «логического
эмпиризма» в ее классической форме уже успела разочаровать своих
приверженцев, а нового вида аналитической философии пока что не
предвидится.
Правда, всегда остается путь эклектического объединения разнородных
установок в одной конструкции. На этот путь зовет К- Поппер в предисловии
к английскому изданию своей старой работы «Логика научного
исследования». Он отмечает, что попытки анализа научного знания с
помощью моделей искусственных языков (К. Гемпель, Дж. Кемени, Р.
Карнап) потерпели неудачу потому, что эти модели оказались слишком
«бедными» по сравнению с действительной структурой науки. Теперь он уже
понимает, насколько ошибочно было характерное для неопозитивизма
отождествление философских антиномий с логическими парадоксами и
насколько иллюзорна была программа избавиться от антиномий путем
усовершенствования «логического синтаксиса». Редукция гносеологических
проблем к особенностям обыденного языка тоже не вызывает у него
энтузиазма, и он в конце концов рекомендует вернуться к «главной традиции
Канта, Уэвелла, Милля, Пирса, Дюгема, Пуанкаре, Мейерсона, Рассела и
Уайтхеда», которые «заменили юмовскую проблему «разумного убеждения»
проблемой отыскивания оснований для принятия или отрицания научных
теорий».21
Этот вывод Поппера является косвенным признанием того, что школы
логического анализа в современной буржуазной философии не могут
похвастаться большими успехами й изучении логики и методологии и что
односторонне аналитический подход к проблеме познания себя не оправдал.
Из этого, разумеется, не следует, что десятилетия методологических
дискуссий, хотя бы и на ложной общефилософской основе, не дали никаких
положительных результатов, которые могли бы при их критическом
осмыслении способствовать развитию марксистско-ленинской философской
науки. Напротив, позитивистский структурный анализ позволил выявить
некоторые реальные элементы научной теории, обратив особенное внимание
на роль формальных систем, проникающих в структуру науки по мере
прогрессирующей математизации знания. Важное значение имеют также
расчленение «тела» (содержания) теории на эмпирический базис и схемы
теоретического объяснения, попытка изолированного рассмотрения каждого
компонента и многое другое. Эти и им подобные положения сами по себе не
являются позитивистскими, и только общефилософский контекст и скрытые
онтологические предпосылки феноменализма придают им субъективно-
идеалистическую окраску.
Исследуя методологию логического анализа, мы вынуждены были
постоянно обращаться и к теоретическому содержанию философских
конструкций аналитиков. Это объясняется органической связью
философского метода и соответствующей теории. В известной степени выбор
метода уже предопределяет то-содержание, которое с его помощью может
быть получено, хотя верно и обратное: по мере развития теории уточняются
и методологические предпосылки. Но роль метода остается все-таки
определяющей потому, что предпочтение какого-либо особенного метода как
бы пунктиром намечает ту предметную область, в которой возможно и
эффективно его применение. Метод, стало быть, определяет самый предмет
исследования. Еще Гегель, как известно, обратил внимание
на эту зависимость.
И в данном случае, как мы видели, исходная аналитическая установка
буржуазных философов автоматически отражалась (всякий раз по-своему) на
понимании предмета философии. В качестве такового обязательно выступало
некое сложное данное, подлежащее расчленению на простейшие элементы,
которые уже более не поддавались анализу. Анализ, таким образом, требует
данности системы объектов, а «данность» предполагает границы,
устанавливающиеся в зависимости от того, как мы определяем ту систему,
для которой существует данное. В эмпириокритицизме фигурирует данность
для психологического субъекта, в логическом позитивизме — «данность
логико-математических объектов сознанию логика»;22 у лингвистических
аналитиков понятие субъекта совсем отсутствует, и речь идет у них не о
«данности сознанию», но об инструментах, обнаруживающих себя в
процессе деятельности. Правда, в последнем случае никак нельзя взять в
толк, каким образом «инструмент» (сознание в бихевиористской
интерпретации) в состоянии «показывать» способы своего употребления,
ведь для этого необходимо перейти от действия к размышлению, от практики
—
к теории, возможность чего принципиально исключается аналитиками.
Школы логического анализа претендуют на то, что пользуются в своих
исследованиях объективным методом науки и имеют дело с реально
существующими объектами, а не с произвольными конструкциями
фантазирующего ума. Это верно только в той степени, в какой аналитики
используют в своей работе приемы и способы рассмотрения, характерные
для частных наук (биологическая схема гомеостазиса, метаматематический
формализм, игровая модель). Но, как мы уже отмечали, научные схемы
объяснения образуют лишь промежуточное звено в цепочке аргументов,
пронизанных субъективизмом, и «непосредственная данность», о которой
твердят аналитики, оказывается, во-первых, соотнесенной с субъектом и, во-
вторых, опосредованной довольно сложной теоретической интерпретацией в
идеалистическом духе. Ни «чистый опыт» эмпириокритиков, ни «язык
науки» неопозитивистов, ни «лингвистические игры» позднего
Витгенштейна не обладают, конечно, статусом непосредственной
действительности. Это все абстракции метафизического (теперь уже в
марксистском смысле) рассудка, искусственно изолирующего определенный
фрагмент реальности и забывающего о произведенной абстракции. Понятно,
что специалисты в области частных наук изучают свой предмет, как если бы
ничего прочего не существовало, и так они должны поступать, если хотят
добиться успеха в избранном роде деятельности. Это до сих пор остается
общим правилом научной работы в ее обыденных и «массовидных» формах,
хотя, как справедливо отмечают учебники, наиболее существенные открытия
делаются «на стыке» разных наук; но такие открытия исключительно редки,
а повседневной реальностью для ученого остается всепоглощающая
сосредоточенность на узкой теме исследования.
Однако из этого вовсе не следует, что философия должна освящать и
увековечивать «рабочую гипотезу» узкого специалиста; напротив, ее
назначение вернуться от части к целому, от абстракций — к конкретной
действительности, от анализа — к синтезу и от технического знания — к
мировоззренческой ориентации человека. Иначе говоря, научным методом
научной философии, как отмечал еще Маркс, является восхождение от
абстрактного к конкретному, которое (восхождение) вместе с тем
представляет собой динамическое единство анализа и синтеза.
Характерно, что философы-аналитики, обосновывая свою методологию,
постоянно ссылаются на естествознание. Так, выступая на конференции в
Руамоне в 1959 году, лидеры этого течения Дж. Остин (1911 — 1960), А.
Айер и Г. Райл неизменно произносили сакраментальную фразу: «как в
физике или в естественных науках». Вот, например, рассуждение Остина: «..
. слишком часто философии недостает исходного «данного», на основе
которого можно было бы достичь соглашения, с чего начинать
(исследование. — М . К .) Кое-какие экспериментальные науки нашли
отправной пункт исследования и надлежащий образ действий как раз на этом
пути, т. е . достигнув соглашения насчет способа определения исходного
данного. В физике — путем использования экспериментального метода; в
нашем случае (лингвистического анализа. — М . К .) — посредством
беспристрастного исследования того, «что мы говорим, когда» (употребляем
то или иное слово. —
М. К .) . Это дает нам исходный пункт, ибо... согласие
относительно того, «что мы говорим, когда», включает и уже предполагает
соглашение относительно способа описания и понимания фактов».23
Речь идет о том, чтобы имитировать методологическую процедуру
естествознания, отыскать объективный метод описания некоей «твердой
реальности» и строгий эмпирический критерий, позволяющий разрешать
спорные вопросы, не вдаваясь в бесконечные и бесплодные дискуссии.
Таким эмпирическим критерием, как мы знаем, является фактическое
употребление слов в том или ином контексте, в различных лингвистических
играх. Несомненно, что этой своей цели объективного описания аналитики в
какой-то степени действительно достигли, но весьма дорогой ценой:
полностью подменив предмет философского исследования и превратив
философию в специфическую отрасль языкознания. Сложившуюся в
результате этого ситуацию удачно характеризует один английский философ:
«Многое из того, что утверждают эти лингвистические писатели, кажется
мне правильным, но даже если это так, это не имеет значения (для решения
собственно философских проблем. —
М. К .)».24
Философия есть во всяком случае учение о мире и месте человека в нем.
Каковы бы ни были различия между философскими учениями прошлого и
настоящего, от этой центральной темы рефлексии не удавалось уйти ни
одному течению мысли. Не удалось это и лингвистическим аналитикам, как
показал, в частности, Э. Геллнер в хорошо известной у нас книге «Слова и
вещи». Философия позднего Витгенштейна основана на скрытой
предпосылке натурализма, объявляющего иллюзорным различие между
субъективным и объективным и налагающего запрет на критическую
функцию интеллекта, который стремится идти дальше эмпирических фактов
к механизму, управляющему «суматохой явлений».
Натуралистический культ «данного», феноменального, грубо
эмпирического не соответствует, конечно, реальной практике научного
познания, и потому ссылки аналитиков на пример естествознания повисают в
воздухе, тем более, что не выдерживает критики и сведение научной
методологии к анализу. Примат анализа характерен для определенной стадии
в развитии науки, и эта мысль, подробно развитая Энгельсом в «Диалектике
природы», находит сейчас немало сторонников среди самих
естествоиспытателей. Вот что пишет У. Росс Эшби: «До последнего времени
стратегию научного поиска составлял преимущественно анализ. Отыскивали
отдельные элементы, изучали их свойства, и лишь затем предпринимали
запоздалые попытки исследовать их совместные действия. Такого рода
синтетические исследования, как правило, не приводили к существенному
прогрессу и не занимали значительного места в научном познании».25 Этой
аналитической методологии Эшби противопоставляет синтетический подход
общей теории систем: «Сейчас появляется новая научная дисциплина,
которая исследует системы без их расчленения. Внутренние взаимодействия
при этом не нарушаются, и система изучается в полном смысле слова как
единое целое».26
Эта сознательная ориентация на синтез была подготовлена процессами, в
течение продолжительного времени протекавшими в целом ряде наук: в
биологии, где «в результате экологических исследований организованность
живой материи была признана не менее важным фактором, чем способность
к эволюции»,27 в психологии, в «физиологии активности» (Н. А . Бернштейн)
и в принципиальных установках кибернетики.
В целом же в органоне любой развитой науки, в системе специфических
методов, которыми она пользуется, мы сталкиваемся скорее с относительным
преобладанием либо аналитического, либо синтетического подхода, а не с
абсолютным господством какого-либо одного из них. Это справедливо
отмечает И. Т. Фролов на примере генетики: «Процессы анализа и синтеза
по-разному реализуются в отдельных методах генетики. Например, методы
генетического анализа, некоторые виды физико-химического эксперимента и
др. имеют в качестве доминирующей формы процессы анализа, тогда как
системный подход и моделирование больше связаны с синтезом. Это не
значит, что каждый из этих методов не может выполнять и не выполняет в
действительном познании функции, противоположные доминирующим».28
В действительности методология логического анализа отражает процедуру
одних лишь гипотетико-дедуктивных наук, да и в них только самый момент
формализации, уточнения терминов, построения замкнутой системы
логического следования. Как пишет И. С. Нарский, «свести содержание
формальнологического анализа к какой-то одной операции невозможно.
Можно, однако, указать на операцию, которая характерна для анализа в
наибольшей мере. Это операция определения в различных его видах.
Поэтому логический анализ можно интерпретировать как процесс замены
одних определений объекта другими. Получаемые при этом выражения
подлежат одновременному и последующему уточнению и «прояснению».29
Во всяком случае, как мы убедились,- объективным коррелятом такого
анализа обязательно выступает язык, идеальный или естественный, а
результатом всей процедуры — обнаружение значений языковых терминов и
фраз. Такова сфера применимости этой методологии, и уже в силу этого
ясно, что логический анализ не может быть основным методом философии,
стремящейся в полной мере сохранить свой предмет и выработать
синтетическую картину реальности, охватывающей природную и
социальную среду, а также творческую деятельность человека. В
западноевропейской философии XX века такую
задачу поставила перед собой феноменология, но на основе своеобразного
метода рефлексии, опирающегося на интуитивную самоочевидность неких
изначальных конститутивных актов сознания. Любопытно отметить, что и
это движение совершалось под девизом «прояснения» смысла, как и у
аналитиков, но само понимание этой процедуры было совсем иным, а в
некотором отношении — прямо противоположным по сравнению с
позитивистской традицией.
Феноменологический синтез и возрождение онтологии
Знаменательно, что феноменология при своем возникновении
отталкивалась от той же самой идейной основы, на которую опирался и
позитивизм, — интроспективной методологии английского эмпиризма. Об
этом неоднократно говорил сам Гуссерль, и когда ему пришлось разъяснять
основные идеи феноменологии специально для английского читателя, в
качестве исходного пункта он избрал локковское понятие рефлексии и,
постепенно углубляя его, перешел к феноменологическим категориям.
Рефлексия есть размышление над содержанием внутреннего опыта. Так
думал Локк, не подозревая, однако, какие предпосылки скрыты в
защищаемой им позиции.
Первая стадия феноменологического разъяснения связана как раз с
попыткой устранить все неявно принимаемые допущения и сделать эти
допущения предметом непосредственного усмотрения. Именно такую
функцию и выполняет основополагающий «принцип всех принципов»
Гуссерля: «Всякий вид подлинно данной интуиции образует законный
источник познания; что бы ни обнаруживало себя посредством интуиции в
своей подлинной реальности, должно приниматься так, как оно себя
обнаруживает, и в тех пределах, в каких оно себя обнаруживает».30
В этом и заключается известное требование «беспредпосылочности»
философского познания, которое стало девизом всего феноменологического
движения и основанием для его претензий на «строгую научность» и
последовательно эмпирический подход. Недаром Гуссерль называл свою
точку зрения «истинным позитивизмом». Действительно, здесь тот же самый
принцип «чистого опыта», но совсем иначе интерпретированный.
Феноменолог рассматривает опыт в несравненно более широком контексте,
чем феноменалист юмистской ориентации; для него реальность не
тождественна «чувственным данным», а восприятие есть лишь один из видов
непосредственного усмотрения, т. е . интуиции.
Критика эмпирической теории абстракции, развернутая Гуссерлем во втором
томе «Логических исследований», позволяет еще отчетливее представить это
различие. Предметом интуиции выступает не только единичное, как в
восприятии, но а общее, родовое. Непосредственное усмотрение общего
помимо индуктивного обобщения придает феноменологическому описанию
характер интеллектуальной интуиции и тем заставляет вспомнить
гносеологию великих рационалистических систем XVII века, в которых
знание подразделялось на сенситивное, демонстративное и интуитивное и
последнему придавалось основополагающее значение. Впоследствии Кант
отбросил представление об интеллектуальной интуиции как выдумку
догматической метафизики, а Шеллинг окончательно его скомпрометировал
своей «философией тождества», которую Гегель подверг убийственной
критике в знаменитом предисловии к «Феноменологии духа».
Гуссерль не просто реставрировал это учение; в его произведениях
содержится своеобразная теория интеллектуальной интуиции: выяснение ее
условий и предпосылок, а также технические рецепты, необходимые для
осуществления этой операции. Интуиция сущности, или «идеация»,
предполагает переключение внимания исследователя, изменение его
установки и подхода к предмету изучения. Феноменологический метод, по
Гуссерлю, есть специфический познавательный инструмент философии, и
только философии, в отличие от всех остальных наук. Этим феноменология
противопоставляет себя школе логического анализа с ее тенденцией к
выхолащиванию специфического предметного содержания философии и
сведению последней к «чистой деятельности» — методу.
Естествоиспытатель, разъясняет Гуссерль, нацелен на установление
объективных фактов и закономерных отношений между ними. Феноменолог
же сознательно игнорирует различие между реально сущим (фактически
верифицируемым) и идеальным (мыслимым, представляемым,
воображаемым и т. д .) бытием. Эту передвижку познавательного интереса он
называет «феноменологической редукцией». Редукция не только
необыкновенно расширяет поле исследования, но и радикально изменяет его
предметное содержание.
Задача феноменолога не в том, чтобы из всей совокупности данного,
наличного, предстоящего сознанию выделить лишь то, что подтверждается
фактами и, следовательно, соответствует действительности. Напротив, его
интересует все, что дано и так, как оно дано, т. е . все являющееся сознанию и
во всех разнообразных формах, в каких оно предстает сознанию. Вот это-все
и суть «феномены» в специфическом смысле, выработанном школой
Гуссерля.
Таким образом, редукция приводит к тотальной идеализации сущего, и
всякий предмет, попадающий в орбиту феноменологического исследования,
рассматривается в его связи с сознанием (как он «всплывает» в сознании).
Даже предметы, которые признаются «реальными», феноменолог изучает как
продукт определенной деятельности сознания, полагающей их реальность, т.
е. не с точки зрения их независимого, самостоятельного «в-себе-бытия», а
лишь постольку, поскольку реальность выступает как предикат
соответствующего утвердительного суждения или как объект сложного
психологического комплекса, составляющего убеждение.
Поэтому и само реальное становится неким сектором или частным случаем
безбрежного поля идеальных предметностей. Идеализация бытия
(устранение трансцендентной сознанию «вещи в себе») составляет
необходимое условие и гносеологическое обоснование надежности
феноменологической интуиции. Такова корректива, которую Гуссерль
вносит в традиционную концепцию интеллектуальной интуиции: идеация
(интуиция сущности) царит в «феноменологически конституированном
мире», в сфере редуцированных предметностей, «улавливаемых» в
непременном соотнесении с актами сознания.
Следовательно, феноменологический метод предписывает прямо
противоположную, по сравнению с процедурами эмпирической науки,
траекторию движения мысли. Естествознание в непосредственно данных
сознанию (восприятию) явлениях внешнего мира («вещах для нас») старается
отыскать объективно устойчивое — «инвариантное», не зависящее от
индивидуальных особенностей субъекта познания («вещь саму по себе»).
Здесь мысль движется от явления к сущности, от чувственной видимости
обыденного сознания к скрытым механизмам, объясняющим самые
загадочные аберрации восприятия. В истории науки решающий скачок от
житейских «качественных» представлений, систематизированных при
помощи спекулятивных догм, справедливо связывается с коперниковским
переворотом, открывшим эпоху подлинного, экспериментально-
теоретического исследования природы.
В феноменологии мысль идет противоположным путем: от объективной
сущности вещей к явлениям в сознании, от того, что есть «на самом деле»
(это признается несущественным и неинтересным) к субъективной
кажимости. Правда, эта кажимость, в свою очередь, возводится в ранг
сущности, свободной от индивидуальных оттенков «идеации» благодаря
процедуре так называемой «эйдетической редукции», в процессе которой
предметное содержание какой-либо интуиции «варьируется фантазией» до
тех пор, пока не выявляется устойчивое ядро во всех возможных способах
представления данного предмета.31 Это уточнение, однако, мало что меняет
в характере феноменологического исследования, ибо Гуссерль явно имеет
в виду, что коррекция интуитивного представления происходит в «чистом
воображении», не нуждающемся в фактической верификации.
Итак, феноменология принципиально и сознательно отказывается от
методологических предпосылок частных наук. Что же выигрывает она,
порывая с фундаментальными установками естественнонаучного мышления,
отбрасывая понятия объективной реальности и экспериментально-
теоретического подхода к изучению мира? Аподиктически достоверное
знание в противоположность «вероятностям» специальных наук, уверяют
феноменологи.
Легко предугадать заранее, на каких соображениях основывается этот, как
мы увидим далее, неоправданно оптимистический тезис гуссерлианцев.
Абсолютная достоверность феноменологических интуиции проистекает из
того, что сознание все время находится «у себя дома», имея дело только с
идеальными, им же самим положенными предметами. Поэтому здесь можно
обойтись без индуктивных обобщений и дедуктивных выводов, в
имманентной сознанию сфере достаточно «непосредственного усмотрения
сущности».
Кажется, мы имеем дело с традиционной идеалистической концепцией
корреляции субъекта и объекта, но надо учитывать, что феноменология
вносит определенные изменения не только в понимание предмета сознания
(«феномена»), но и в интерпретацию природы сознания. Термин «интуиция»
в качестве обозначения фундаментального акта сознания не особенно удачен
для выяснения специфики феноменологического подхода, так как
предполагает уводящую в сторону аналогию с наглядным воззрением. Сама
интуиция трактуется иначе, чем, скажем, в популярной англо-американской
философии неореализма, приверженцы которой толкуют о том, что вещи
(объекты) «могут прямо войти в ум, и когда это происходит, они (вещи. —
М. К.) становятся так называемыми идеями».32
Гуссерлианское учение не столь прямолинейно связывает себя с
идеалистическим решением вопроса. Феноменологическая модель сознания
берет за основу специфический акт «интенции», «интенционального
переживания», структура которого и выявляет подлинную природу идеации.
Обычно «интенциональность» расшифровывают, как «направленность
сознания на объект».33 Это хотя и верно, но далеко не исчерпывает
содержания соответствующего понятия. Дело в том, что «направленность на
объект» в феноменологии означает особый способ данности любого
предметного содержания, которое никогда не выступает в поле сознания
целиком и как таковое, но лишь в определенном ракурсе, «модусе»
или перспективе. Поэтому объект не просто «дается» сознанию, а вместе с
тем и как бы подразумевается им, и всякий раз вполне определенным
образом. Вернее сказать, объект как таковой никогда не дан целиком, дается
только его аспект (какой именно — зависит от «качества интенции», от
специфики акта сознания), а все остальное «достраивается» интенциональной
деятельностью сознания.
Отсюда, отношение интенциональности — это не только
«направленность», но в гораздо большей степени, как справедливо
подчеркивает 3. М . Какабадзе, «имение в виду», «мнение» (не в смысле
готового суждения, но как процесс, обозначаемый глаголом «мнить»),
причем «мнение» всегда содержит момент такого «мнения более»
(Mehrmeinung).34 Всякое данное как бы уводит за свои собственные
пределы, содержит намек на что-то иное, скрытое в нем, и тем увлекает
рефлектирующее сознание пойти дальше и развернуть намек в ясную
картину, но только затем, чтобы снова столкнуться с загадочной тенью,
отбрасываемой освещенным фрагментом предмета, и выхватить новый кусок
из тьмы и так далее.
Поэтому интенциональность представляет собой такого рода
соотнесенность с объектом, при котором последний одновременно находится
в сознании (имманентен ему) и существует «на расстоянии от него», ибо в
любой интуиции объект дан лишь фрагментарно и односторонне, и в нем
содержится больше, чем зафиксировано в любом акте сознания.
Интенциональность, стало быть, выражает движение сознания от налично
данного, очевидного к тому, что только намечено и подразумевается
актуальной частью поля переживаний.
Деятельность сознания, таким образом, отсылает от имманентного к
трансцендентному, которое, в свою очередь, становится имманентным, как
только делается предметом интуиции, «тематизируется», как говорят
феноменологи. В тематизации интенций посредством методического
применения интуиции и состоит задача интенционального анализа,
выражающего в сжатой формуле всю процедуру феноменологического
метода.
Сначала (во втором томе «Логических исследований») Гуссерль
рассматривал феноменологию как ограниченную эпистемологическую
дисциплину, а интенциональность — только как свойство сознания и
обозначающих высказываний. Но мало-помалу значение интенционального
анализа вырастало в его глазах, пока, наконец, он не сделал из
феноменологии «первую философию» в аристотелевском смысле, т. е. учение
о бытии как таковом, формальную онтологию — априорное учение об
интенциональной структуре мира.
Под этим углом зрения окружающий нас предметный мир обязан своим
существованием «анонимной деятельности интенциональности». Почему
анонимной? Потому что в своей практической деятельности и
естественнонаучном мышлении люди не учитывают эту предпосылку всего
существующего. Философская рефлексия, т. е. интенциональный анализ, и
призвана сделать тайное явным, обнаружить «следы интенциональности» в
каждом объекте, каким бы чуждым сознанию он ни представлялся на первый
взгляд.
Сразу бросается в глаза связь этой концепции с традиционной
идеалистической концепцией корреляции субъекта и объекта. В истории
философии корреляционный постулат принимал разные обличья, но
сущность его неизменно состояла в утверждении: нет объекта без субъекта.
Когда это положение выносится за рамки гносеологии и превращается в
онтологический постулат (что и делают феноменологи), оно кратчайшим
путем ведет к идеализму. Задача интенционального анализа в конечном счете
сводится к тому, чтобы «расколдовать» объективность любого порядка (от
вещной реальности повседневного обихода до «социальных тел» — общества
и его структурных элементов) и свести всякую предметность к
соответствующим интенциональный актам, т. е . «феноменологически
конституировать» мир.
Мы видим, что значение термина «анализ» в этом контексте ничего общего
не имеет с обычным словоупотреблением, так как речь идет не о расчленении
целого на части, но как раз напротив — о включении части в целое, о
«наполнении» предметного субстрата жизнью сознания, творящего и
запечатлевающего смысл в чувственной «материи» впечатлений,
поступающих из внешнего мира. Интенциональность есть деятельность
осмысления предметных содержаний, с которыми сталкивается субъект, а
феноменологический метод — «реактивация интенциональности»,
инструмент теоретического воспроизведения этого процесса осмысления.
Феноменология же в качестве «первой философии» представляет собой
методическое раскрытие «последнего смысла», абсолютного значения
мироздания, расшифровку «тайны» всякого бытия. В этом своем качестве
доктрина Гуссерля воспроизводит заблуждение метафизических систем,
претендовавших на раскрытие абсолютной истины.
До сих пор мы стремились дать характеристику феноменологического
метода in abstracto, независимо от конкретных приложений к различным
темам философского исследования. Это было сравнительно просто сделать,
опираясь на труды Гуссерля, ибо хотя феноменологов было и есть великое
множество, только он. как справедливо отмечает один итальянский
исследователь, постоянно «развивал и углублял свой метод»,35 тогда как
остальные его приверженцы занялись применением его. О сущности метода
нельзя судить только по программным декларациям и по его логическому
«органону», надо учитывать и теоретические результаты, добытые с его
помощью. К анализу этих результатов мы сейчас и переходим.
Знаменательно, что в процессе философских исследований феноменологи,
несмотря на приверженность обрисованному нами общему канону,
разбрелись «кто куда», и ни один из них не повторил пути учителя. Одна и та
же методология с одинаковым успехом используется для обоснования и
трансцендентального идеализма (сам Гуссерль), и христианского
спиритуализма (М. Шелер, Э. Штейн, Г. Марсель), и экзистенциализма
различных оттенков (от Хайдеггера до Сартра и Мерло-Понти), и
системосозидающих конструкций вроде «критической онтологии» Н.
Гартмана, осторожно возрождавшего аристотелевскую традицию
спекулятивной космологии.
Разнообразие форм феноменологической философии и не сводимые к
общему знаменателю различия в основных воззрениях ее главных
представителей сами по себе дают достаточный материал для критической
оценки и выяснения действительного содержания этой методологической
установки. Прежде всего, бросается в глаза различие между идеалистической
и «реалистической» интерпретациями феноменологии в зависимости от
истолкования природы интенциональной связи сознания с объектом.
Сам Гуссерль, развивая все дальше и дальше учение о «редукции», в конце
концов «редуцировал» все содержание мира к деятельности
«трансцендентального эго», конституирующего все формы объективности
внутреннего (психического) и внешнего (природного и социального)
«универсума». Только трансцендентальное «чистое я» (а не обычный
психологический субъект, который сам по себе — продукт
интенциональности) обладает абсолютным, самодовлеющим бытием, а
остальные предметные области зависят в способе своего бытия от
мирообразующей активности трансцендентальной субъективности.
Таким образом, по отношению к трансцендентальному эго нет ничего
трансцендентного, находящегося за его пределами, и все ему имманентно.
Это уже чистейшей воды идеализм, полное растворение бытия в сознании,
философская версия креационизма и притом не слишком оригинальная,
заставляющая вспомнить некоторые мотивы фихтеанства и неокантианства.
(Сам термин «конституция», занявший центральное место в философском
словаре Гуссерля в последний период его деятельности, употреблял еще П.
Наторп, один из лидеров марбургской школы).
Эта позиция не получила поддержки всего феноменологического движения,
и Гуссерль со своим трансцендентальным идеализмом остался в одиночестве.
Его столь пылкие ранее приверженцы скоро почувствовали, что в
произведениях учителя 20 — 30-х годов (особенно в «Формальной и
трансцендентальной логике» и «Картезианских размышлениях»)
спекулятивное конструирование явно берет верх над феноменологическим
описанием, и боевой лозунг зарождавшегося движения «к самим вещам!»
звучит совсем по-другому: «к сознанию, конституирующему вещи!».
Можно, конечно, показать (и это сделал 3. М. Какабадзе в своей книге), что
сам Гуссерль рассматривал второй лозунг как обнаружение подлинного
смысла первого, но для подавляющего большинства феноменологов это было
далеко не одно и то же и скорее походило на измену ранее провозглашенным
принципам, чем на развитие первоначальной позиции.
Идеалистическое грехопадение Гуссерля породило среди его
последователей мощную оппозицию, выступившую под девизом «новой
онтологии». У истоков этого течения стоял М. Шелер (1874 — 1928). Хотя
его главные интересы относились к области философской антропологии и
этики, но именно он неизменно подчеркивал, что из основной
феноменологической установки вытекает примат бытия и признание
трансцендентной сознанию реальности. Однако гуссерлианскому
абстрактному «идеализму мысли» (как можно сказать, заимствуя выражение
В.И . Ленина) Шелер противопоставляет откровенно религиозную
концепцию, ищущую себе опоры в непосредственном религиозном чувстве,
которому он дает теоретическое наименование «эмоциональной интуиции».
С этих позиций он прямо постулирует «идею бога», которая «дана вместе с
тождеством и единством мира на основе существенной связи (между идеями
бога и единства мира. — М . К .)».36 Шелер не растворяет бытие в сознании,
как это делал Гуссерль, но оплачивает свое «превосходство» дорогой ценой,
превращая феноменологическую философию в служанку теологии. Шелер
показал, что, принимая и применяя феноменологический метод, можно
признавать объективную реальность только при том условии, если интуиция
утратит характер операции интеллекта, стремящегося к теоретической
очевидности, и сольется с эмоциональной сферой человеческого существа, с
заранее данной (и не оспариваемой теоретически) религиозной ориентацией.
Он, таким образом, прочно связал феноменологию с традицией
иррационализма и философского мистицизма.
Определенный шаг в том же направлении сделал и Н. Гартман (1882 —
1950), который предпринял попытку определить в онтологических терминах
сам познавательный процесс. Познание, утверждал он, есть трансцендентное
отношение между представлением, которое субъект имеет об объекте, и
самим объектом, обладающим самостоятельным бытием. Поэтому как бы
хорошо мы ни изучили объект, в нем всегда остается нечто
«трансобъективное», ускользающее от мысли и делающее познание
бесконечным. Отсюда и принципиальное различие между сферой идеального
и реального бытия, которое игнорировал трансцендентальный идеализм
Гуссерля. Идеальное — это всего лишь «хрупкое, парящее в высоте бытие,
лишенное субстанциальности, почти что полубытие, которому не хватает
всей тяжести бытия».37
Следовательно, и у Гартмана, хотя и в меньшей степени, чем у Шелера,
сквозит та же ложная идея, будто признание объективной реальности,
независимого от сознания бытия предполагает некий «иррациональный
остаток», недоступный познавательным усилиям субъекта.
По мере развертывания иррационалистической онтологии на основе
феноменологического метода постепенно изменяет свое содержание и
концепция интенциональности. Из предметообразующей деятельности
сознания интенциональность превращается в «экзистенциальную
возможность», «экзистенциальный проект». Это превращение осуществил
Хайдеггер в трактате «Бытие и время». Чтобы подчеркнуть онтологический
угол зрения па традиционную проблематику и терминологически закрепить
переосмысление методологического подхода картезианства с его cogito, он,
как известно, выдвинул на передний план своей «экзистенциальной
аналитики» категорию Dasein, обозначающую феномен бытия, т. е . его
данность сознанию на доинтеллектуальном уровне, в отличие от бытия как
вещи в себе, которую сделала своим предметом догматическая метафизика.
«Онтология, — писал Хайдеггер, — возможна только как
феноменология».38 Феномен, о котором толкует он, — особого рода. Это
бытие, которое «говорит» о самом себе, «себя-при-себе-са-мом-
показывающее».39 Этим он хочет сказать, что отношение феномена бытия к
самому бытию должно мыслиться вне рамок субъект-объектной корреляции.
Dasein есть не субъект в отношении к объекту (бытию), а самообнаружение
бытия, онтологическая основа, расщепляемая теоретическим сознанием на
субъект и объект, но реально существующая в своем первозданном виде — в
неразличимом единстве полюсов.
В экзистенциалистской интерпретации феноменология окончательно
освобождается от теоретического подхода к действительности с характерной
для него субъект-объектной дихотомией и становится разъяснением «бытия в
мире». Вот как Хайдеггер разъясняет свою позицию: «Когда «субъект»
понимается онтологически, как существующее Dasein, бытие которого имеет
основу во временности, тогда можно было бы сказать: «мир субъективен».
Но тогда этот «субъективный» мир, поскольку он является трансцендентно-
временным, более «объективен», чем любой возможный объект».40
При такой исходной установке процедура феноменологического
исследования претерпевает радикальные изменения, все значение которых
первоначально не сознавал в полной мере и сам Хайдеггер. Как мы помним,
эта процедура включает в себя три момента: редукцию, идеацию (интуицию
сущности), интенциональный анализ. Первые две операции совершенно
несовместимы с идеей экзистенциальной аналитики, поскольку они
предполагают растворение экзистенциального в поле идеальных
возможностей («вынесение существования за скобки», как говорил Гуссерль)
и одновременно объективирование, превращение в совокупность внешних
предметов самого «бытия в мире». Остается только интенциональный анализ,
но он означает теперь уже не распознавание субъективных актов,
посредством которых в сознании конституируются объекты разных
порядков, а методическое самоуглубление Dasein в «трансцендентальный
горизонт» его собственного «проекта».
Ввиду того, что феномен бытия уже не выступает в качестве объекта,
интенциональный анализ не может опираться на деятельность интеллекта
(даже в том расширительном его толковании, которое давал Гуссерль) и
приобретает характер «герменевтики» (истолкования).
С помощью этого заимствованного у В. Дильтея (1833 — 1911) термина
Хайдеггер выражает ту мысль, что экзистенциальная аналитика представляет
собой интерпретацию «допредикативного», дологического «понимания»
мира, которым обладает Dasein. Такое «понимание», поневоле
неопределенное, смутное, не оформленное концептуально, и составляет
предпосылку всего феноменологического анализа, и в нем, собственно, и
заключается «природа» самой «экзистенции»: «Этот модус бытия (Seinsart)
человека мы называем экзистенцией. Только на основе понимания бытия
возможна экзистенция».41
Отсюда, феноменологическая герменевтика развертывается в ходе
многоступенчатого разъяснения (Erklarung) исходного понимания бытия
человеком, «онтологическая структура» которого целиком «показывает себя»
и вместе с тем «прячется» в первоначальном феномене бытия. В конце
исследования мы получаем только то, что уже «имели», но зато в
расчлененном и упорядоченном виде. Этим философия решительно
отличается от науки, которая действительно (и здесь Гуссерль прав)
«беспредпосылочна» в том смысле, что не предполагает готового знания в
потенциальном состоянии, которое надо только актуализировать, а,
напротив, в своем возникновении и дальнейшем развитии преподносит
неожиданные сюрпризы и обыденному сознанию, и укоренившимся ранее
научным представлениям. В свете
позднейшей эволюции воззрений Хайдеггера значение феноменологии
скорее чисто отрицательное: она только указывает границы философского
исследования, которое никак не может отказаться от «субъективной»
установки на мир, и в полном бессилии останавливается перед неизреченной
на языке абстракций тайной «самого Бытия». Трудно придумать что-либо
менее похожее на фундаментальные идеи Гуссерля! Под пером Хайдеггера
феноменология из средства радикального преобразования философии
превратилась в орудие ее развенчания.
Ничего не осталось от гордо провозглашенной программы
«сверхрационализма», призванного восстановить утраченное единство
философии и естествознания и положить конец вековой тяжбе
позитивистского натурализма и картезианского субъективизма (как раз
такую роль отводил Гуссерль «трансцендентальной феноменологии» в своей
последней работе «Кризис европейских наук и
трансцендентальная феноменология»).
Новое поколение феноменологов, среди которых ведущее место
принадлежало Ж-П . Сартру и М. Мерло-Понти (1908 — 1961), стремилось
сблизить феноменологические идеи Гуссерля с экзистенциалистской
герменевтикой, заново «прочитать» Гуссерля сквозь призму хайдеггеровской
онтологии.
Это сделал Сартр в трактате «Бытие и ничто».42 Еще раньше он отбросил
гуссерлианскую концепцию трансцендентального субъекта
интенциональности и вместе с ней — представление об имманентности
бытия сознанию. Он настаивал на том, что «бытие феномена» и «феномен
бытия» не одно и то же (как это получалось у Гуссерля)43 и что экзистенция
(в смысле Кьеркегора — Хайдеггера) коренится в абсолютной
иррациональности, радикальной случайности и непреодолимой
«фактичности» независимого от сознания «бытия в себе». Драматическое
изображение внезапного появления иррациональной основы существования в
кругозоре сознания составляет, как известно, один из центральных эпизодов
романа «Тошнота».
«Существенное во всем этом, — пишет Сартр от лица своего героя, —
случайность. Я хочу сказать, что, по определению, существование не есть
необходимость. Существовать — значит быть здесь (буквальный перевод
хайдеггеровского Dasein. —
М. К), и все; существующее возникает,
обнаруживает себя, но его никогда нельзя дедуцировать... Отсюда, никакое
необходимое бытие не может объяснить существования: случайность не
есть... видимость, которая может рассеяться; она — абсолют и,
следовательно, совершенная необоснованность».44
Из такой характеристики существования вытекает, что
феноменологическое описание — единственный способ выражения грубой
«фактичности» бытия; ни эмпирическое обобщение, ни логическая дедукция
для этой цели не годятся. Следовательно, феноменология является
необходимым методом философии, имеющей своим предметом само
человеческое существование, а не чистое сознание или эмпирическую
реальность, изучаемую естествознанием. Не универсальная схематика
трансцендентального идеализма, как думал Гуссерль, а систематизация
экзистенциализма — вот подходящая задача феноменологических
изысканий. Вместо глобального мировоззренческого синтеза,
планировавшегося Гуссерлем, экзистенциализм выдвигает задачу совсем
иного сорта: анализ «бытия в мире» как априорной предпосылки
теоретической и практической деятельности человека.
Сартр заново интерпретирует концепцию интенциональности в свете
гегелевского учения об отрицании. В результате и то и другое
(интеициональность и отрицание) претерпевают существенные изменения по
сравнению с исходным значением этих понятий у Гуссерля и Гегеля.
Во-первых, сознание целиком отождествляется с интенциональностью,
которая, таким образом, перестает быть свойством некоей отличной от нее
сущности, т. е. сознания. Раз это так, то сознание-интенциональность лишено
своего собственного содержания и черпает его исключительно «вне себя» —
в мире, с которым оно, по определению, изначально соотносится. Учение
Гуссерля о «монадологической структуре» бытия и «трансцендентальной
эгологии», вызывавшее непреодолимые теоретические
затруднения, оказывается совершенно излишним.
Во-вторых, сознание, с онтологической точки зрения, есть нечто
существующее не само по себе, а только в другом и через другое, т. е . в мире.
Это не вещь и не вместилище вещей; в нем «ничего нет», и оно, стало быть,
сущее «ничто» (le Ncant). В то же время Сартр не намерен опровергать и
старинный парменидовский афоризм: «Бытие есть, а небытия нет».
Напротив, он полностью присоединяется к этому изречению. Возникает
проблема, как совместить признание «ничего» с тезисом о том, что только
бытие существует. Тут и приходит на помощь Гегель: «ничто» существует
только как перманентное отрицание бытия, отрицание исчерпывает всю
«сущность» и полностью выражает механизм деятельности сознания.
Отрицание есть способ бытия сознания. Но само отрицание французский
философ интерпретирует не логически, как Гегель, а феноменологически.
Отрицание и есть интеициональность, о которой говорил Гуссерль, не
сумевший, однако, как отмечает Сартр, последовательно развить эту
плодотворную идею и возвратившийся на исхоженную дорогу
идеалистического имманентизма.
Отрицание-интенциональность, по Сартру, конституирует мир, именно
мир, а не «бытие в себе», которое остается за пределами сознания как
абсолютная иррациональность, непроницаемая гомогенная масса
студенистой слизи (в таком виде оно являет себя герою «Тошноты»). И в
этом плотном, безрадостном, сером массиве интенциональность (или, что то
же самое, сознание, отрицание) проделывает «дырки», расчленяет, оттеняет и
высвечивает фрагменты реальности, локализует и детализирует, создавая
многоцветную картину повседневной действительности, в которой живет и
действует человек.
Сознание, о котором идет речь, означает не теоретический акт и не
рационально обоснованное действие «практического разума». Это
допредикативное «понимание» Хайдеггера, но, что отнюдь не было
свойственно концепции последнего, отождествленное с актом абсолютной
свободы. «Свобода — это и есть ничто, которое имеется в сердце человека и
которое заставляет человеческую реальность делать себя, а не просто быть...
Свобода, строго говоря, тождественна процессу негации.45
Кульминацию онтологического трактата Сартра составляет феноменология
действия, принадлежащая к тому типу мировоззрения, который Дильтей
удачно окрестил «идеализмом свободы». Это позиция автономного
морального сознания, которое абсолютизирует присущую субъекту
способность выбора из ряда возможностей, предоставляемых ситуацией, и
абстрагируется от социально-исторических предпосылок, детерминирующих
этот выбор. Во всяком случае, активизм Сартра есть нечто совершенно
отличное и от трансцендентального идеализма Гуссерля, и от христианского
спиритуализма Шелера, и от мифологической онтологии Хайдеггера, хотя
все эти мыслители декларируют свою Приверженность
феноменологическому методу.
Итак, мы должны сделать вывод, что применение феноменологического
метода не связано однозначным образом с какой-либо определенной
системой философских идей. Под сенью феноменологии укрываются самые
разные и порой диаметрально противоположные взгляды. Нет единой
феноменологической философии. Более того, двусмысленна и роль
феноменологии в борьбе тенденций рационализма и иррационализма,
научного и мистического подходов к миру. Если Гуссерль и Гартман, в
общем, тяготели к рационалистическому системотворчеству в духе
классической философии, хотя и с оговорками насчет нежелательных
крайностей панлогизма, то Шелер и экзистенциалисты превратили
феноменологию в оплот сознательно отвергающей данные науки
антропоморфической онтологии, принципиально игнорирующей различие
между объективной реальностью (природной и социальной) и преломлением
этой реальности в структуре эмоциональных реакций субъекта.
Одним словом, феноменология годится для обоснования любых убеждений
и, так сказать, «задушевных верований», лишь бы их можно было
интуитивно опознать во внутреннем мире
личности. «Всеядность» феноменологов, подтверждаемую фактами
историко-философского анализа, следовало бы предвидеть заранее, ибо она
«запрограммирована» в основной феноменологической максиме, требующей
описывать все, что «дано», что «непосредственно усматривается» («принцип
всех принципов»). Но если спросить, что же все-таки «дано», то на этот
вопрос в рамках данной методологии возможен лишь один ответ: все, что
найдено интуицией интеллекта или чувства.
В самом содержании феноменологического органона мы не находим новых
идей, которые не встречались бы ранее в истории философии. Сначала
думали, что революционизирующее влияние окажет идея
интенциональности, но довольно скоро стало ясно, что содержание ее либо
целиком растворяется в давнишней теории корреляции субъекта и объекта,
либо вполне может быть выражено в иных терминах, заимствованных из
иного круга идей (как это сделал, например, Сартр). Что же касается
«принципа всех принципов», то его формулировка представляет собой
обобщение картезианского принципа cogito. Сущность этого
методологического приема превосходно разъяснил Гегель: «Картезий, как
это делал позднее также и Фихте, начинает с «я», как с чего-то такого, что
безусловно достоверно; я знаю, что нечто представляется во мне. Тем самым
философия сразу перенесена в совершенно другую область, а именно
перенесена в сферу субъективности».46 Декарт был основоположником
субъективного метода в философии, требующего исходить в развертывании
картины мира из некоего интуитивно очевидного «первоначального факта
сознания», а не из объективных данных науки. Движение мысли в этом
случае совершается от фактов знания к фактам сознания, фиксируемым в их
непосредственной данности самосознанию и рефлексии.
Субъективный метод — это описание всего содержания сознания
«изнутри», опирающееся на субъективную уверенность в достоверности
«самоданности» — аналитически нерасчленяемого единства субъекта и
объекта. Сознание судит о самом себе при помощи себя без всяких
посредников, ничего не принимая извне и полностью замкнувшись в
имманентной сфере интуитивно фиксируемого содержания. Такой подход с
необходимостью приводит к интуитивизму, ибо «первоначальный факт
сознания», на который опирается вся конструкция, дан только на
интуитивном (дологическом) уровне, чего еще в полной мере не сознавал
Декарт, маскировавший cogito ergo sum под дедуктивный вывод.47 При
своем последовательном развитии субъективный метод ведет либо к
трансцендентальному идеализму, либо становится орудием философского
иррационализма, смотри по тому, какую модель сознания (теоретически-
созерцательную или «практически»-эмотивную) выбирает философ.
Разумеется, сам выбор той или иной «модели сознания» не произволен, а
обусловлен и социально и «тематически». Если для Гуссерля отправным
пунктом исследования всегда оставалась идея науки и очевидности как
субъективного коррелята научной истины, то слияние феноменологии с
экзистенциализмом поставило на место этих идей концепцию
«экзистенциального проекта» в условиях радикальной «конечности»
человеческого бытия.
После этого феноменологическая процедура, как мы уже отмечали,
потеряла строгую определенность и превратилась по существу в набор
ритуальных фраз, обозначающих разнообразное философское содержание,
полученное средствами интуиции в замкнутой сфере сознания. Реальный
смысл субъективного метода обнаруживается тогда, когда мы (в
противоположность подходу гуссерлианцев) возвращаемся к «естественной»
(научно-материалистической) установке на мир и тем самым — к адекватной
теории сознания как момента, регулятора и динамической связи в социально-
практической деятельности.
Значение сознания и, следовательно, его сущность нельзя понять вне его
функциональной роли в разных социальных структурах, а «чистый»,
трансцендентальный, субъект, как и «фундаментальный проект
экзистенции», суть абстракции философской рефлексии, которая ради
упрощения принимает социально опосредованное за непосредственную
данность.
Объективный метод материалистической диалектики выводит
исследование сознания за пределы исчерпавшей себя картезианской
традиции интуитивизма. Как справедливо отмечает М. К . Мамардашвили,
«Маркс берет не созерцающее сознание, раскрываемое в рамках абстракции
гносеологического субъекта (по схеме телеологии самосознания и т. п.), а
сознание, включенное в социальные структуры, являющееся активным
реальным звеном их развития и функционирования... И он вообще
отказывается в этой области от традиционного отношения объект — субъект,
показывая, что отношение социальных идей и представлений к реальному
общественному бытию не есть отношение мысли субъекта к исследуемому
ею объекту... Сознание и культурные формы у Маркса выступают в новых,
неклассических координатах анализа».48
Материалистическая диалектика восстанавливает, таким образом, картину
реальной жизни сознания и воспроизводит скрытые механизмы его
деятельности, механизмы, объясняющие, между прочим, и происхождение
самой феноменологической модели сознания, основанной на абстракции
чистой субъективности, самораскрывающейся в мире порожденных ею
предметностей. Эта абстракция — результат применения психологического
метода к проблеме, которая по существу своему требует совсем иного —
социологического подхода.
Феноменология есть интроспективная психология, забывшая об
ограниченных своих возможностях и узурпировавшая права философского
мышления как научно-теоретической рефлексии над, разнообразными
формами практического отношения социально-исторического субъекта к
действительности.
Интроспекция составляет неотъемлемый элемент психической жизни; в ней
проявляется принцип «обратной связи» на уровне обыденного сознания,
корректирующего свою деятельность в окружающем мире, возвращаясь к
самому себе и пытаясь «отдать отчет» в своих поступках. В реальности и
даже обыденности актов интроспекции коренится упрямая приверженность
буржуазных философов к субъективному методу исследования всех проблем
сквозь призму сознания. Но это означает попытку универсализировать
позицию обыденного, донаучного сознания и растворить в нем собственно
теоретическое мышление, функция которого в значительной мере как раз и
заключается в критике обыденных представлений и некритически
воспроизводимых предрассудков.
Но марксистско-ленинская философия свободна и от односторонностей
абстрактно-социологического подхода, свойственного, например,
американскому социальному бихевиоризму (основоположником которого
был Дж. Г . Мид), забывающего об органическом слиянии индивидуального и
социального, о диалектическом движении сознания, которое не только
«включается» в социальные структуры, но и «отключается» от них, указывая
новую социальную перспективу, вначале существующую лишь как идеальная
возможность по ту сторону реальных общественных отношений. В этом
смысле сознание и имманентно реальности (отражает, включается,
обслуживает ее) и трансцендентно ей, когда поднимается над этой
реальностью, оценивая ее, фантазируя и стремясь в еще туманную даль.
Диалектический процесс слияния с реальным и снятия его, или, в терминах
логики, утверждения и отрицания, тождества и различия и составляет
реальное содержание интенциональной теории сознания. Ибо что такое
интенциональность, как не признание того факта, что сознание не есть
абстрактное тождество с самим собой, самодовлеющая замкнутость,
отгороженная от объективной реальности, но представляет собой
непрестанную смену опредмечивания и распредмечивания, отчуждения в
инобытие (в «предметно-чувственную» практическую деятельность) и
возвращения к себе (в теоретической рефлексии), жизнь «внутри», наедине с
собой, и жизнь «вовне», вместе с другими в укоренившихся формах
социального бытия.
Действительное завоевание феноменологии Гуссерля и его последователей
составляет, по нашему мнению, такое усовершенствование субъективного
метода интроспекции, которое позволило усмотреть в непосредственных
данных сознания субъективное преломление социальной реальности, а также
процесс приобщения индивидуума к исторически накопленному богатству
культуры.49 Там, где интроспективная психология старого типа видела
только абстрактные формы индивидуального сознания (ум, чувство, волю и
т. д .), экзистенциальная феноменология обнаружила «второй план»: трудно
уловимый и лишенный четких очертаний, но постоянно дающий себя знать
эмоциональный фон, который характеризует социальную настроенность
человека. И не случайно, что в американской социологии 40 — 50-х годов в
работах Д. Рисмена, У. Уайта и других неожиданно воскресли некоторые
категории экзистенциальной аналитики Хайдеггера, который вовсе и не
помышлял о возможности такого приложения своих идей.50
Феноменологический метод позволяет описывать жизнь сознания как
«бытие в мире», но (и это очень важно учитывать) только на уровне
непосредственного переживания и его осознания человеком. Этим
определяются границы и эффективность данной методологии.
Во-первых, феноменологическое описание не дает объяснения
фиксируемым «фактам сознания» и, следовательно, не является теорией в
научном смысле. Иного и нельзя было ожидать, так как мы имеем дело с
субъективным методом, все назначение которого в том, чтобы описывать,
как нечто представляется сознанию и переживается в нем. Феноменолог (в
лучшем случае) раскрывает значимость того или иного явления во
внутреннем мире человека, но за объяснением причины этого явления нужно
обратиться к объективным методам анализа.
Во-вторых, наличие бессознательных психических процессов с самого
начала ограничивает возможности феноменолога, который должен хранить
молчание всякий раз, когда не переживает очевидности, не «интуирует
присутствия» объекта. Вот почему феноменолог постоянно сталкивается с
трудностями рационализации, интеллектуального оформления
непосредственных данных сознания. Это, в свою очередь, объясняет
тяготение феноменологии к иррационализму и порою их нераздельную связь.
Ограниченность своей методологии феноменологи слишком часто
принимают за «непостижные уму» глубины бытия.
В-третьих, от применения этого метода нельзя ожидать общезначимых
результатов и сколько-нибудь надежных истин, которые могли бы выдержать
проверку со строгостью, присущей процедурам подлинной науки. В сфере
феноменологического описания вообще отсутствуют четкие границы между
истиной и заблуждением, психическим фактом и иллюзией. Мы никогда не
можем быть уверены, что описываем подлинную непосредственную
данность (этого требует, как мы помним, «принцип всех принципов»), а не ее
позднейшую рационализацию при помощи рассудка, услужливо
искажающего картину в угоду непреодолимому влечению, ясное сознание
которого невыносимо. (по какой-либо причине) для субъекта.
Сетования на культивируемые рассудком иллюзии, мешающие
адекватному самопознанию, проходят через всю историю философии и
особенно характерны для философии жизни и экзистенциализма.
Шопенгауэр, Ницше, Сартр — все они красноречиво и убедительно толкуют
об этом. Но какая гарантия от иллюзий возможна в рамках субъективного
метода? Не удивительно, что мы встречаемся с полным разнобоем во
мнениях в лагере феноменологов, а иногда даже с попытками превратить
персональную идиосинкразию в предикат реальности. Таково, например,
широко известное учение Сартра о «тошноте» как феноменологическом
обнаружении вещной природы «бытия в себе», противостоящего
субъективной реальности сознания. Ясно, что подобного рода выводы не
имеют под собой оснований и не обладают никакой доказательной силой.
Наконец, в-четвертых, некритический субъективизм, рождаемый
феноменологическим подходом, достигает апогея в том, что представители
этого направления мысли, как правило, совершенно превратно
истолковывают смысл и содержание своих изысканий. Достаточно
вспомнить, что экзистенциалисты упорно именуют свою доктрину
феноменологической онтологией, а на самом деле преподносят
интроспективную психологию социальных чувств определенного конкретно-
исторического субъекта. Упуская из виду социальную детерминацию
внутреннего мира личности, экзистенциалисты увековечивают переживание
отчуждения, естественно возникающее у человека в антагонистическом
обществе, и усматривают в этом переживании вечную и неизбывную
«онтологическую трагедию».
Поэтому реальный смысл и действительное содержание
феноменологической философии могут быть в полной мере осознаны лишь с
точки зрения диалектико-материалистической методологии, не допускающей
гипертрофии субъективности и изолированного рассмотрения сознания вне
социального контекста.
1 К. С . Бакрадзе. Очерки по истории новейшей и современной буржуазной
философии. Тбилиси, 1960, стр. 215.
8 В. И . Ленин. Полн. собр. соч., т. 18, стр. 55, 61, 62 — 63, 154.
9 Хаскелл Б. Карри. Основания математической логики. М ., 1959, стр. 31. —
В отличие от ряда авторов Карри отмечает только два направления в
разработке оснований математики: «контенсивизм» и «формализм», а
логицизм считает всего лишь исторически возникшим названием,
скрывающим какое-либо одно из упомянутых направлений или элементы
обоих (см. там же, стр. 39 — 40).
10 Об этом см.: Г. В Тевзадзе. Теория познания немецкого неокантианства,
автореф. докт. дисс. Тбилиси, 1963, стр. 16 — 26.
11 F. Waismann. Einfiihrung in das mathematische Denken. Wien, 1936, SS. 164
—
165.
12 G. Bergman n. The Metaphysics of Logical Positivism. New York, 1954, p. 70.
13 См.: W. Quine. From a Logical Point of View. Cambr., 1953, p. 23.
14 См.: L Linskу (ed.). Semantics and the Philosophy of Language. Urbana, 1952.
p. 275.
15 A. Pap. Semantics and Necessary Truth. New Haven, 1958, ch. XII.
16 A. Ayer. Language, Truth and Logic. London, 1946, p. 60.
17 R. Carnap. Die physikalische Sprache als universale Sprache der
Wissenschaft. «Erkenntnis», 1932, Bd. II, S. 458.
18 Л. Витгенштейн. Логико-философский трактат, 6.53; 6.54,7.
19 L. Wittgenstein. Philosophical Investigations. N. Y., 1953, p. 43. 20 Ibid., p.
11.
20 Не разобрано
21 К. R. Popper. The Logic of Scientific Discovery. N. Y., 1959, p. 22.
22 См.: И. С . Нарский. Современный позитивизм. М ., 1961, стр. 190.
23 Cahiers de Royaumont. Philosophic, No 4. Paris, 1962, p. 334.
24 Т. М . Knox. Two Conceptions of Philosophy. Philosophy, vol. XXXVI, 1961,
p. 291.
25 См.: Исследования по общей теории систем. М ., 1969, стр. 126.
26 Там же, стр. 127.
27 См.: И. В . Блауберг, В. Н . Садовский, Э. Г . Ю д и н. Системный подход:
предпосылки, проблемы, трудности. М ., 1969, стр. 10.
28 И. Т . Фролов. Генетика и диалектика. М ., 1968, стр. 310.
29 См.: Современная идеалистическая гносеология. Критические очерки. М.,
1968, стр. 68 — 69.
30 Е. Husserl. Ideen zu einer reinen Phanomenologie und phanomenolo-gischen
Philosophie. Husserliana, Bd. III . Den Haag, 1950, S. 52.
31 Об этом см.: В. И. Колядко. Интуиция в феноменологии Гуссерля.
Вестник ЛГУ, 1968, No 17.
32 R. В . Perry. Present Philosophical Tendencies. N . Y ., 1955, pp. 307, 310.
33 Философская энциклопедия, т. 2. M ., 1962, стр. 291.
34 См.: З. М. Какабадзе. Проблема «экзистенциального кризиса» и
трансцендентальная феноменология Э. Гуссерля. Тбилиси, 1966, стр. 70.
35 G. Pedroli. La fenomenologia di Husserl. Torino, 1958, p. 15.
36 М. Sсhеlег. Der Formalismus in der Ethik und die materiale Wertethik. Berlin.
1927, S. 411.
37 N. Hartmann. Zur Grundlegung der Ontologie. Berlin, 1935, S. 317.
38 M. Heidegger. Sein und Zeit. Halle, 1935, S. 35.
39 Ibid., S. 31. to Ibid., S. 366 .
41 М. Heidegger. Kant und das Problem der Metaphysik, Bonn, 1929, S. 205.
42 В этой главе мы возвращаемся к философии Сартра лишь в связи с
проблемой применения феноменологического органона и истолкования его
основных принципов
43 См.: J.- P. Sartre. L'etre et le Neant. Paris, 1943, Introduction.
44 J.- P. Sartre. La Nausee. Paris, 1938, p. 185.
45 J.- P. Sartre. L'etre et le Neant, pp. 516, 655.
46 Гегель Соч., т. XI, стр. 260.
47 Обращая внимание на связь Декарта с идеалистической традицией и,
методологией интуитивизма (что, вообще говоря, давно установленный
факт), мы отнюдь не отрицаем материалистического характера его «физики»,
равно как и огромной роли картезианства в борьбе со средневековой
схоластикой и ортодоксальной религиозностью. Более того, исторически
наиболее важное значение имели как раз эти последние моменты его
философии. Вместе с тем, последующее развитие философской мысли
неопровержимо доказало, что принцип cogito несовместим ни с
материалистическим пониманием мира, ни с идеей научного мировоззрения.
48 М. К . Мамардашвили. Анализ сознания в работах Маркса. «Вопросы
философии», 1968, No 6, стр. 22.
49 Об этом см.: Н. В . Мотрошилова. Принципы и противоречия
феноменологической философии. М., 1968, стр. 90 и ел.
50 Большой материал для сравнения в этом отношении дает книга Ю. А.
Замошкина «Кризис буржуазного индивидуализма и личность» (М., 1966).
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Для начала отметим некоторые общие черты и повторяющиеся мотивы
разнообразных концепций диалектики в буржуазной философии.
1. Диалектический разум неизменно противопоставляется аналитическому
интеллекту специальных наук. Поэтому в рамках основной
методологической антиномии буржуазной философии XX века, антиномии
логического анализа и феноменологически-герменевтического подхода,
диалектическое находит себе место только в области раскрытия
интенциональных импликаций, всеобщего горизонта значений,
подразумеваемых любым «данным» нашего опыта, каждым нашим
высказыванием о мире. Диалектической структурой обладает упорядоченная
многозначность содержания опыта. Научное мышление сознательно
недиалектично, так как оно исходит из принципиального, методически
осуществляемого ограничения всего поля возможных значений, скрытых
в предложениях обыденного языка.
Употребление научных понятий (концептов) регулируется неуклонным
стремлением к однозначности эксплицитных формулировок и жесткой
фиксации значения и абстрагируется в связи с этим от поисков
интенциональных импликаций, скрытого смысла и «дешифровки» глубоко
запрятанных значений. Напротив, правило научного метода требует, чтобы
все понятия, входящие в состав теории, получили явные определения и
ничего не осталось на долю «подразумеваемого», интуитивно
предвосхищаемого, смутно чувствуемого и нуждающегося в
герменевтическом «прояснении». Если и можно говорить о «дешифровке» в
научном смысле, то она означает установление соответствия между
концептом и эмпирическим материалом, который им обозначается.
Герменевтическая процедура означает нечто совершенно иное:
рационализацию последнего, или «абсолютного», смысла данного понятия
посредством соотнесения его исходного значения с конституирующими
актами «я», с фундаментальными формами субъективности.
Поясним это различие в подходе на примере. Физик определяет понятие
массы точно и строго, исходя из соответствующих законов механики,
имеющих эмпирическую базу. Для феноменолога же научный, физический
смысл этого понятия — . всего лишь частный сектор более широкого
ансамбля значений, отсылающих нас к общим принципам образования
понятий «сознанием вообще» («чистым», «трансцендентальным» и т. д .). Для
этого он пытается с помощью философской рефлексии определить, что
именно я мыслю, употребляя это понятие не как физик, а как
трансцендентальный субъект — «чистый» носитель смысла, он хочет найти
ту всеобщую основу (Коген недаром употреблял здесь термин
«первоначало»), которая затем дифференцируется в целый спектр значений
сообразно различным видам теоретической и практической деятельности
субъекта. И действительно, понятие «масса» может иметь много различных
значений, связанных между собой определенным образом.
Физик ставит вопрос иначе. Его не интересует, что я вообще могу мыслить,
рефлектируя над данным понятием, и какие его значения объективировались
в языке. Он фиксирует свое внимание на том, что он в этом случае «должен
мыслить», что ему «позволяют мыслить» факты и теоретические
предпосылки, доказавшие свою истинность. Для него это понятие имеет
одно, и только одно, значение, соотносящееся не с каким-либо глубинным
слоем сознания, а с эмпирически верифицируемой реальностью. Своего
идеала точности и объективной связи логического следования (из которого
принципиально исключаются всякие «я мыслю» и рефлексивная позиция
сознания) научное мышление достигает в создании формализованных
исчислений. В жестком каркасе исчисления диалектика испускает дух: она не
может существовать там, где все понятия заранее однозначно определены и
даны правила вывода.
2. Поэтому диалектика с точки зрения естественнонаучного мышления
выступает как иррационализм или антиинтеллектуализм, обладающий
собственным, отличным от научного, методом и специфическими
критериями оценки результатов исследования, основанного не на
эмпирической проверке, а на интуитивной самоданности объектов
рефлектирующему сознанию.
На сей счет удачную формулировку дает А. С . Богомолов: «Проблема не
может быть исчерпана выявлением абстрактной противоположности
диалектики как современной формы рационализма и иррационализма. Еще Р.
Кронер наткнулся на их взаимосвязь, выдвинув известный тезис:
«Диалектика — превращенный в метод, сделанный рациональным
иррационализм»... На деле это отношение оказывается обратным:
исторически и логически иррационализм-
—
превращенная в алогизм,
сделанная иррациональной диалектика».1
3. Таким образом, диалектика в буржуазной философии становится
орудием теоретической критики науки. В этом отношении особенно
показательны взгляды Брэдли и Кроче, которые утверждали, будто наука
оперирует «псевдопонятиями», а научная методология руководствуется
прагматистским критерием эффективности, имея в виду практическую
манипуляцию объектами, а не подлинно теоретическое знание о мире. С этой
точки зрения науку вообще нельзя отнести к области теории в точном смысле
слова, и она представляет собой «всего лишь» технику вычислений,
пользующуюся символами и «фикциями», тогда как философия сводит
всяческие символы к «органической тотальности» опыта, к абсолютной
реальности.
4. В связи с этим диалектика есть специфическая «логика философии», или
философской антропологии (Сартр), и притом постольку, поскольку
философия не является наукой и не подчиняется закономерностям научного
мышления. «Логика науки» — анализ, моделируемый в различных системах
искусственных языков. «Логика философии» — диалектика, распознавание
органического единства абстрактных определений, постепенно
раскрывающих свою связь с животворной основой подлинно конкретного.
Диалектика возможна только на основе «мышления о мышлении» (Гегель),
«мышления второго порядка», «опыта мышления» (Коллингвуд), т. е .
рефлексии мышления о самом себе, но не в объективированных формах,
скажем, определенных знаковых систем, а в его субъективной самоданности.
Диалектика описывает траекторию мысли, обратную той, которой
мышление следует при формировании научных понятий. Она ничего не
создает заново, ничего не конструирует и не объективирует в слове, знаке
или ином продукте культуры. Она, напротив, только и занята
реконструкцией, распредмечиванием, дезобъективацией и возвращает
мышление к истокам предметообразующей деятельности сознания и к
средоточию всякого смысла. Но делает все это лишь благодаря тому, что
реализует себя в замкнутой сфере сознания, обнаруживая его скрытые
глубины с помощью субъективного метода, обращенного «вовнутрь» и
рассматривающего все предметное содержание сознания так, как оно
является самому же сознанию без всяких посредников. Где субъективный
метод неприменим, там не может быть и диалектики.
5. Отсюда, пожалуй, важнейшая особенность разобранных нами
концепций: они все опираются на ту предпосылку, что диалектика возможна
только на основе идеалистического взгляда на мир и представляет собой
эффективное оружие критики материализма вообще и естественнонаучного
материализма в особенности. Это бесконечное число раз повторяли вслед за
Гегелем английские, французские, немецкие, итальянские неогегельянцы.
Единственное исключение составляет Сартр, но и тот не признает
материалистического понимания природы.
Диалектика свойственна только субъективности и лишь в той мере, в какой
последняя фиксируется как таковая и к ней не применяется объективный
подход науки. Поэтому «научная диалектика» есть противоречие в
определении. Диалектический подход есть альтернатива научному.
В этом выводе резюмируется коренная противоположность понимания
диалектики в марксистско-ленинской философии, с одной стороны, и в
буржуазной — с другой. Решающее отличие состоит в материалистической
теории отражения, позволяющей одновременно и отделить субъективную
диалектику от объективной, и показать их неразрывную связь. Поэтому
диалектика вовсе не представляет собой какой-то особый «уровень
рациональности», располагающийся где-то ниже уровня научного познания и
образующий скрытый фундамент науки. Она проявляется не помимо, а в
самом научном знании и проявляется потому, что такова именно объективная
структура реальности. Однако ни в коем случае нельзя отождествлять формы
существования диалектики в самой реальности и в нашем мышлении, в
сознании вообще. Это один из уроков, которые можно извлечь из анализа
взглядов буржуазных философов.
В самом деле. Не всякое противоречие в нашем мышлении, тем более в
сознании, имеет объективное значение, адекватно отражает реальность даже
в том случае, если не является результатом неправильного рассуждения.
Возьмем, к примеру, «экзистенциальную диалектику». Кьеркегор и его
современные последователи — «диалектические теологи» К. Барт, П .
Тиллих, Р. Бультман и другие — превосходно живописали трагическое
противоречие современного религиозного сознания, изъеденного скепсисом
века науки, противоречие между субъективной установкой на веру, «жаждой
бога», и объективным неверием, невозможностью объективного
подтверждения этой веры. Противоречие в том и состоит, что эту
невозможность сознает сам страстно верующий субъект. Отсюда и
трагический надрыв, вечное напряжение и мука его бытия. Это, разумеется,
не выдумка мистика Кьеркегора, а мастерское интроспективное описание
антагонистической структуры современного религиозного сознания. Но
нельзя это противоречие объективировать, объявлять вечным атрибутом
человеческого существования и вечной «истиной» его, как это делают
религиозные экзистенциалисты.
Такая ошибка философам-марксистам, конечно, не грозит. Но зато их
подстерегает другая опасность: приписать объективной природе вещей
противоречия, возникающие на определенном этапе развития науки и
зачастую выражающие предварительную постановку вопроса и
неадекватность имеющихся в нашем распоряжении методов подхода к
проблеме.
Далеко не всякое противоречие познания зеркально отражает точно такое
же соотношение в объективной реальности, подобно тому как не всякому
элементу концептуального аппарата науки соответствует нечто в
действительности. В противном случае трудно удержаться в границах
материалистического миросозерцания и избежать уступок антропоморфизму
или панлогизму.
Следует также отметить, что не в каждом шаге научного познания, в
изоляции от общего процесса его развития, не в каждой отдельной научной
теории можно найти все или большинство элементов диалектического
подхода к действительности. Дело в том, что диалектика, как учит В. И .
Ленин, есть «итог, сумма, вывод» истории познания мира и ярче всего
проявляется на стадии ретроспективного обобщения и философского синтеза
результатов специальных наук. Поэтому когда критики марксизма берут
какую-либо специальную теорию, особенно в области математического
естествознания, и требуют: «Покажите, где здесь диалектика», — то вряд ли
имеет смысл вести полемику на выбранной ими заранее выгодной позиции.
Ведь математический аппарат частной теории образует замкнутую систему,
где вывод одного положения из другого и переход от уравнения к уравнению
совершается по строгим формальным правилам, а не в процессе раскрытия и
преодоления противоречий. На то это и математическая теория. Но зато если
мы попытаемся описать возникновение такой теории, процесс ее
формирования и ее дальнейшую историческую судьбу, то уже не
отделаешься смешком по поводу якобы «непостижимых» диалектических
превращений. Здесь диалектические формулы будут как раз к месту.
Такой результат совершенно закономерен. Ведь каждая в отдельности наука
и каждая отдельная теория, входящая в ее состав, абстрагируют из живого
целого определенный аспект и подвергают его изолированному
исследованию, что составляет необходимое условие успешности научной
работы. Выражение истины на математическом языке означает
«овеществление» творческой мысли, относительное завершение
познавательного процесса. Стройные ряды символов скрывают от глаз
«драму идей», предшествовавшую окончательной регистрации выводов,
хотя, разумеется, плох тот историк науки, который не сможет ее
реконструировать.
Поэтому диалектическое в специальных науках прослеживается лучше
всего там, где намечаются связи между различными направлениями,
происходит своеобразная унификация методологических подходов и
складывается естественный «симбиоз» ранее далеко отстоявших друг от
друга точек зрения. В этом случае само движение науки преодолевает
односторонность своих первых шагов и воспроизводит в своей структуре
материальное единство мира и диалектический характер его законов.
Следующий вывод, который мы должны сделать, касается многообразия
самих диалектических структур. На этот счет мы находим в идеалистической
диалектике большой материал, который, разумеется, необходимо очистить от
априорной предвзятости буржуазных философов. Прежде всего мы
сталкиваемся с категориальной диалектикой, обнаружением имплицитной
зависимости общих определений реальности друг от друга. При этом
логические связи между категориями не всегда охватывают формулой
триады, а принимают вид «отношения степеней» (Кроче) или «шкалы форм»
(Коллингвуд). В этих логических структурах воплощается аккумуляция
содержания развивающихся понятий, между которыми складываются
отношения органического включения низшего в высшее, а не простого
рядоположения.
Совсем иную сферу составляет то, что еще Н. Г . Чернышевский называл
«диалектикой души», — описание жизни сознания «изнутри» с помощью
феноменологического метода, который представляет собой не что иное, как
попытку усовершенствования практикуемой в психологии интроспекции.
Феноменологический метод в своих исторически обозначившихся формах
связан с идеалистической онтологией, но интроспекция есть факт
психической жизни, легко находящий себе объяснение в контексте
диалектико-материалистической теории сознания как единства
субъективного и объективного. Ибо что означает «субъективность сознания»,
как не его непосредственное «бытие для нас», неразрывную связь сознания и
самосознания, переживания и переживания этого переживания, содержания
психического акта и ощущения его наличия, фиксации присутствия его в
сознании? Идеализм заключается не в признании субъективности сознания, а
в ее абсолютизации и отрыве от объективной основы, под которой марксизм
понимает не только материально-физиологический субстрат, но и всю
совокупность общественных отношений и деятельностей.
Стало быть, существует субъективная диалектика на интуитивном уровне
сознания, о которой мы узнаем при помощи самосознания — рефлексии над
данными интроспекции. Она имеет все признаки реальности для самого
переживающего субъекта («борения страстей», смена мотивов,
разнообразные сплетения влечений, переходы и переливы настроений,
динамика работы самой рефлексии: вытеснение в подсознательное и
обратный процесс появления в «кадре сознания» смутно чувствуемых или
забытых образов, наконец, беспрестанные колебания эмоционального фона).
Специфика философии как рациональной систематизации мировоззрения в
его исторически изменчивых и социально детерминированных формах
проявляется, между прочим, в особом отношении к обыденному сознанию.
Если специальные науки создают свой понятийный аппарат, все более
отдаляющийся от непосредственного опыта повседневной жизни по мере
прогрессирующей математизации знания, и тем самым набрасывают некую
эзотерическую картину мира, доступную лишь специалистам, то научная
философия призвана ликвидировать этот разрыв путем корректирования
обыденных представлений в свете основных научных достижений. В
противном случае она не могла бы выполнить свою мировоззренческую
функцию. Для этого философия нуждается в диалектике. (Разумеется, роль
диалектики не сводится к этому, но мы подчеркиваем одну из ее задач, на
которую не часто обращают внимание.)
Диалектическая методология позволяет развернуть иерархию
опосредствовании, которые связывают наивное, стихийное, донаучное
сознание с научным взглядом на мир, раскрывающим скрытые механизмы,
действующие в природе, обществе и самом мышлении. Она, таким образом,
дает возможность постепенно поднять донаучное сознание до уровня
научного.
Философия, следовательно, создает «леса», благодаря которым человек
поднимается к вершинам науки, а специалист, наоборот, спускается с высот
абстракций и окунается в реальную жизнь, полную совместного труда и
борьбы.
Философам-марксистам не страшен призрак докантовской догматической
онтологии, который в одинаковой степени приводил в ужас и Гуссерля и
Витгенштейна (берем эти имена как персонификацию основных
методологических направлений буржуазной философии XX века). Наша
философия не является онтологией в старом смысле этого слова, т. е .
умозрительно развиваемым учением о бытии, оставляющим в стороне
научные знания о мире. В этом отношении марксизм безусловно есть
философия науки, но, разумеется, не в узкоаналитическом понимании
(вспомним: «философия есть не теория, а деятельность»), а в подлинном
диалектико-синтетическом смысле, согласно которому в структуре науки
отражается структура мира и философия науки, следовательно, является
вместе с тем учением о мире и теорией его познания. (Из этого, разумеется,
не следует, что противопоказана аналитическая разработка логики и
методологии науки. Надо только учитывать, что это специальный предмет
логического аспекта марксистской философии.)
Поэтому в материалистической диалектике воплощается единство анализа
и синтеза — расчленения действительности на относительно
самостоятельные предметные области и выведения их из одной общей
основы, реально объединяющей все те фрагменты мира, которые
абстрагируются теоретическим мышлением и могут быть аналитически
рассмотрены в их изоляции друг от друга (такова позиция специальных
наук). Сама структура марксистско-ленинской философии, основанная на
принципе тождества диалектики, логики и теории познания, образует
логический остов современного научного мировоззрения и общую схему
интерпретации эмпирических фактов, накопленных естествознанием и
общественными науками.
1. А . С . Богомолов. Идеалистическая диалектика в двадцатом
столетии. «Вопросы философии», 1966, No 3, стр. 102 — 103.
ОГЛАВЛЕНИЕ
Стр.
Предисловие
Глава первая. Реформа гегелевской диалектики
Радикальная двусмысленность философии Гегеля
Негативная диалектика. Ф . Брэдли и Дж. Мак-Таггарт
Диалектика духа Кроче, Джентиле, Коллингвуд
От панлогизма к иррационализму
Глава вторая. Аналитика процесса и экзистенции
Эволюционистский панпсихизм
Экзистенциальная диалектика
От феноменологии к диалектике. Ж-П. Сартр
Глава третья. Методологическая антиномия современной буржуазной
философии
«Очищение анализа» и редукция философии к исследованию языка
Феноменологический синтез и возрождение онтологии
Заключение
Киссель Михаил Антонович
Учение о диалектике в буржуазной философии XX века