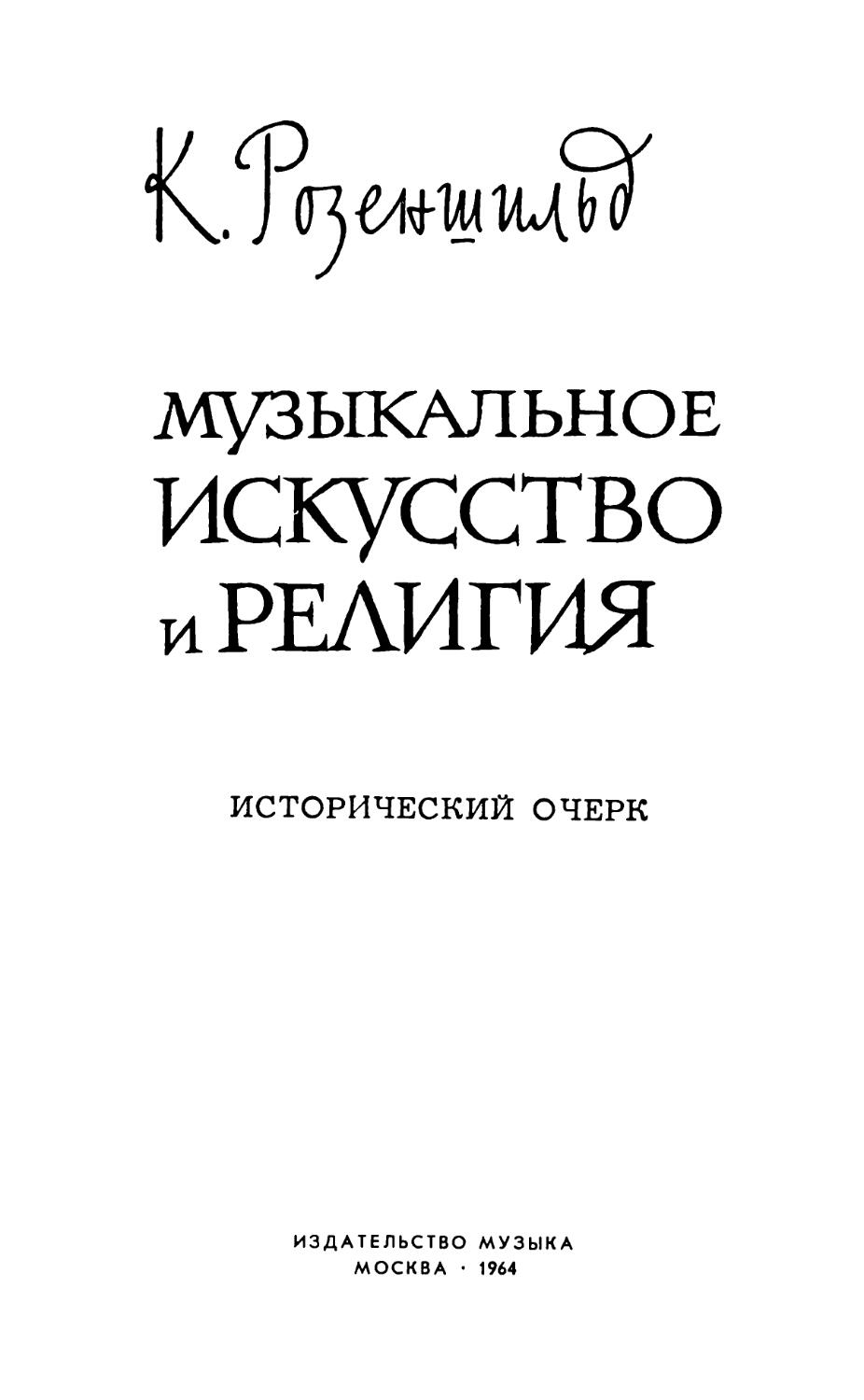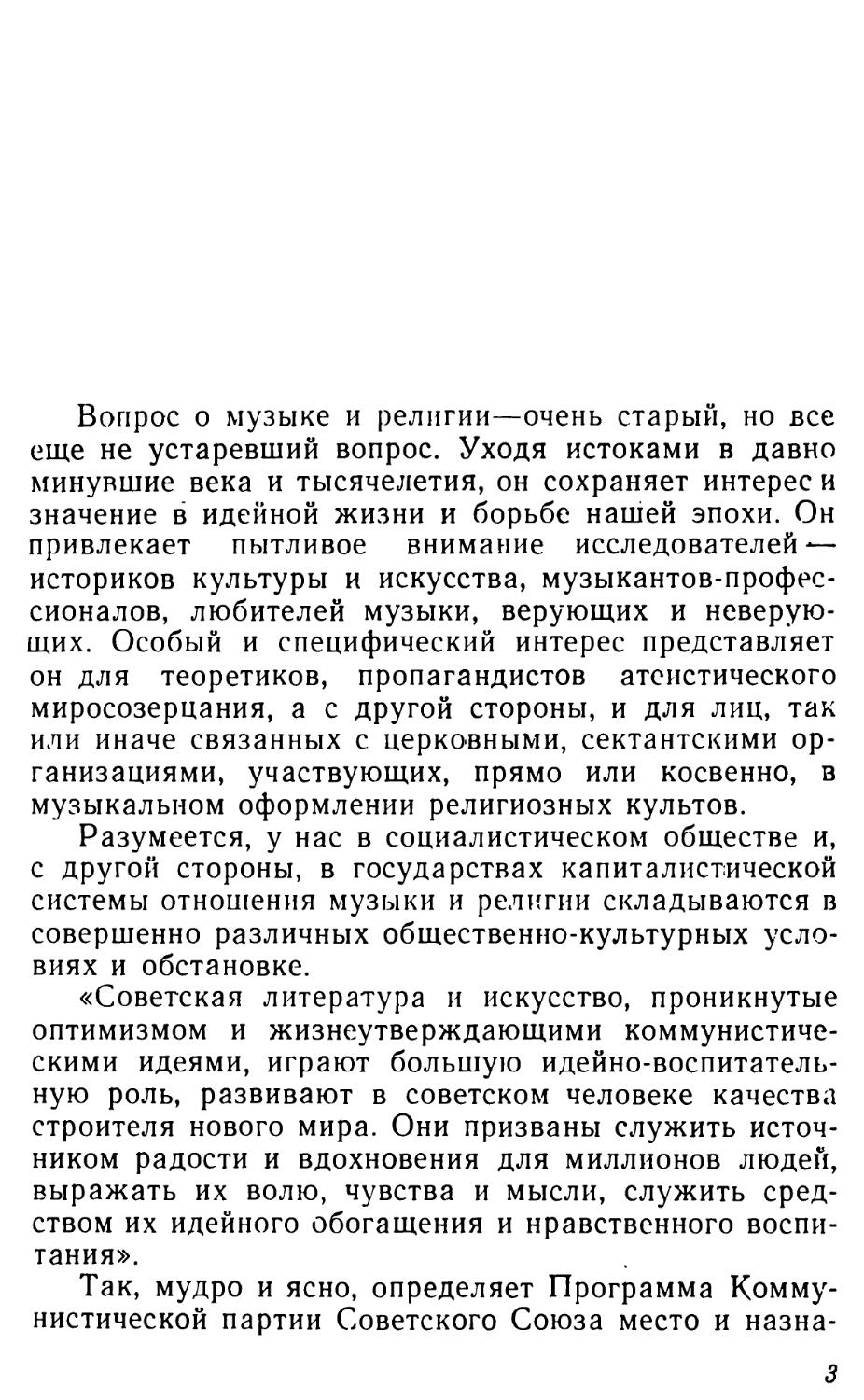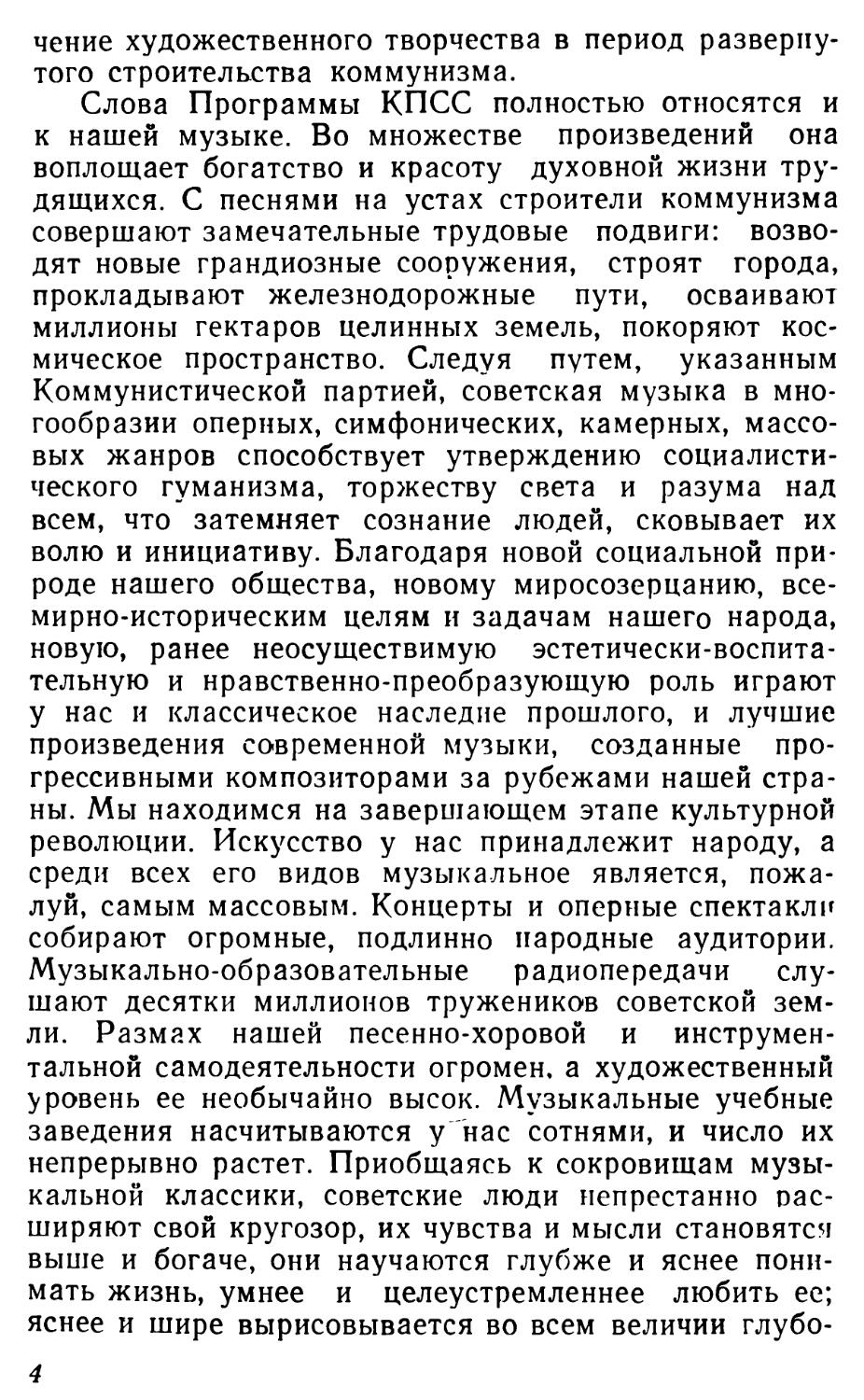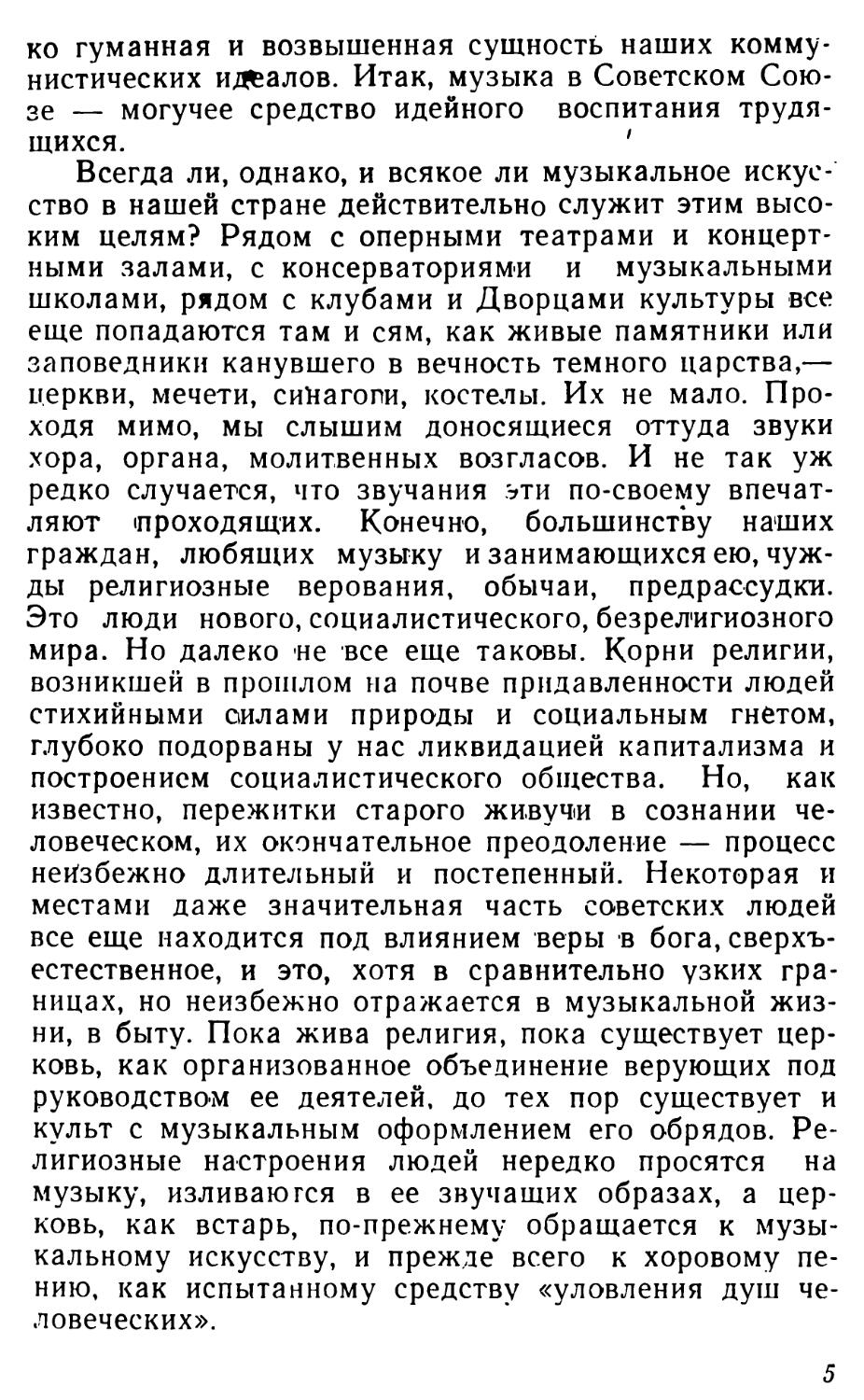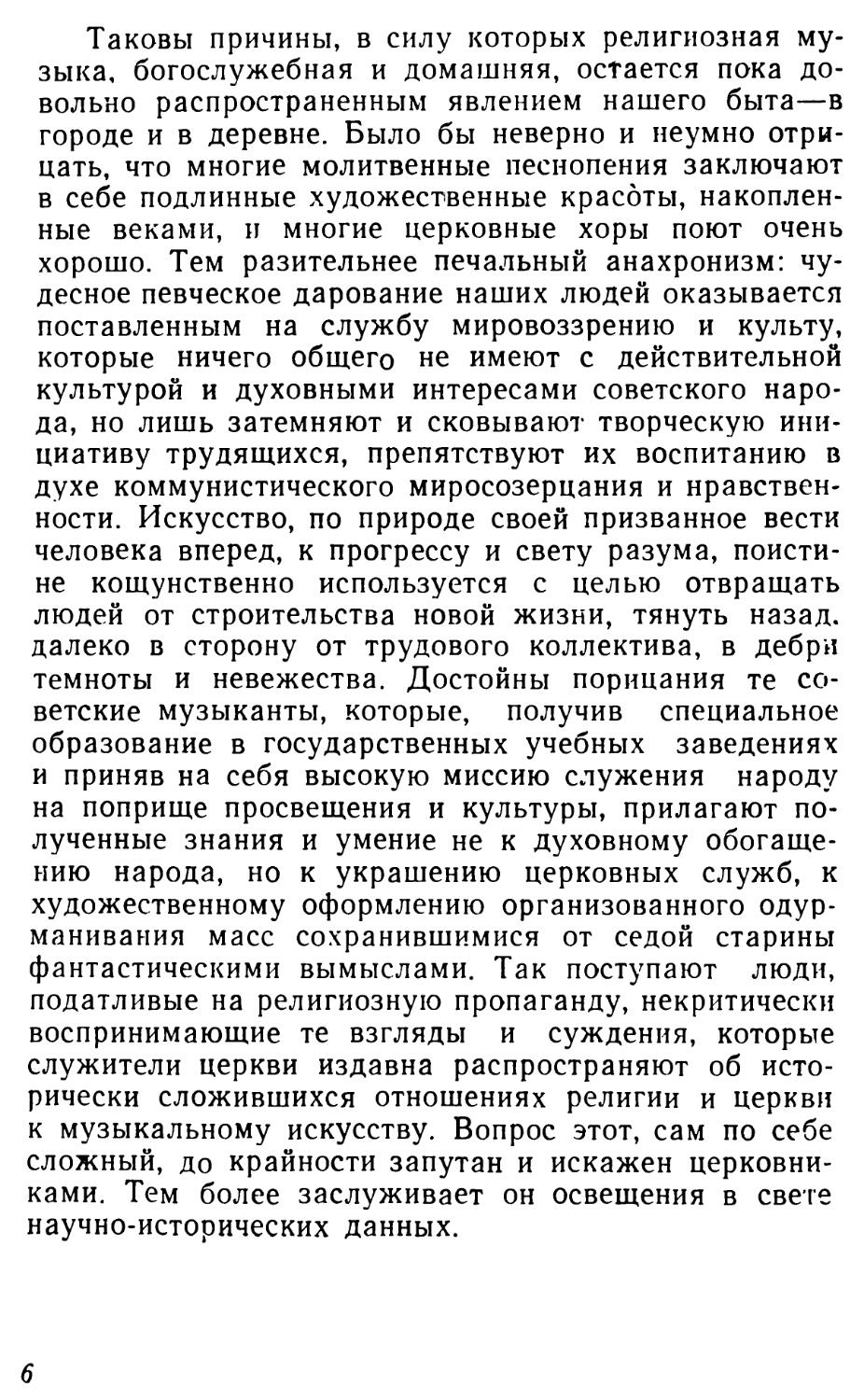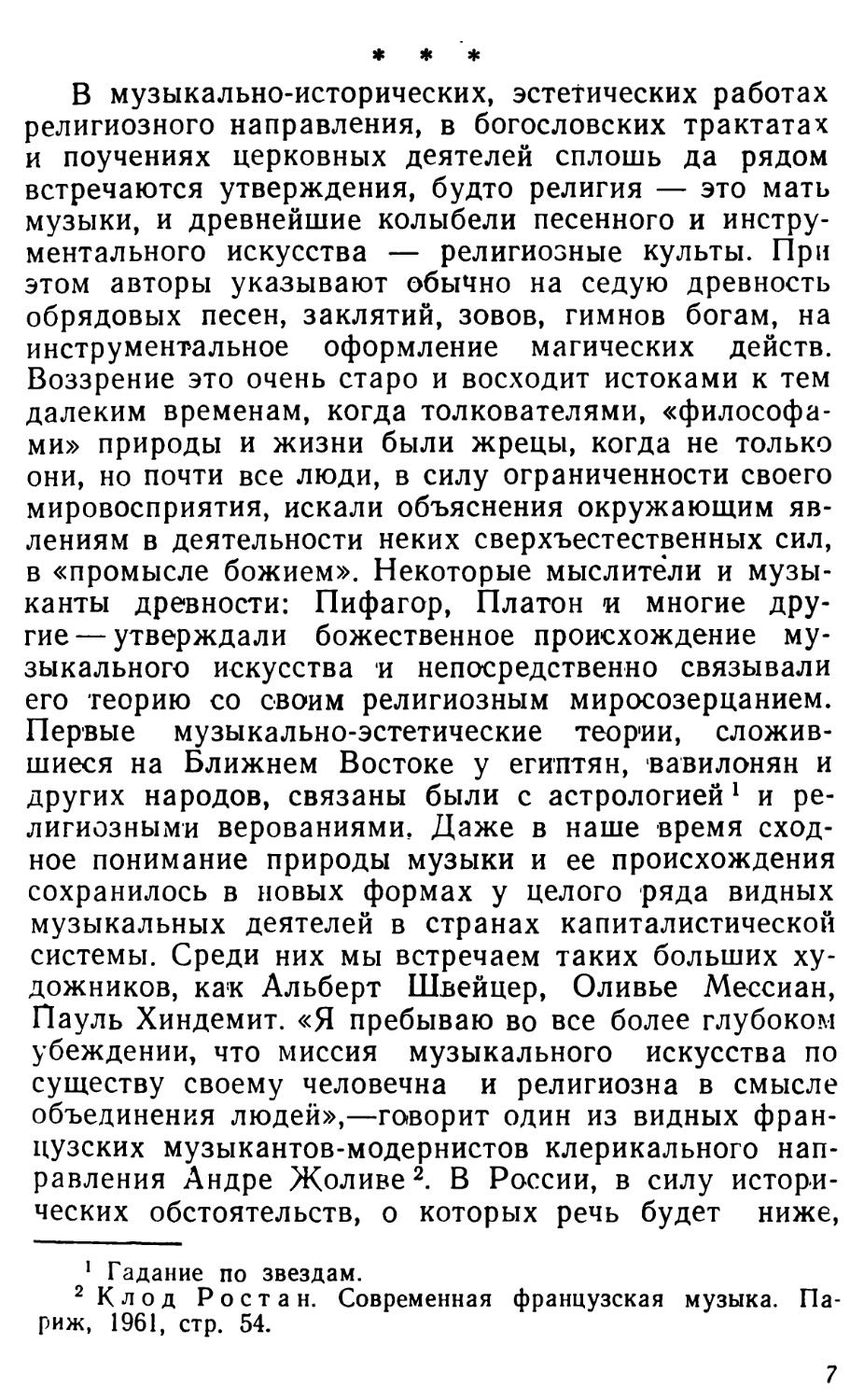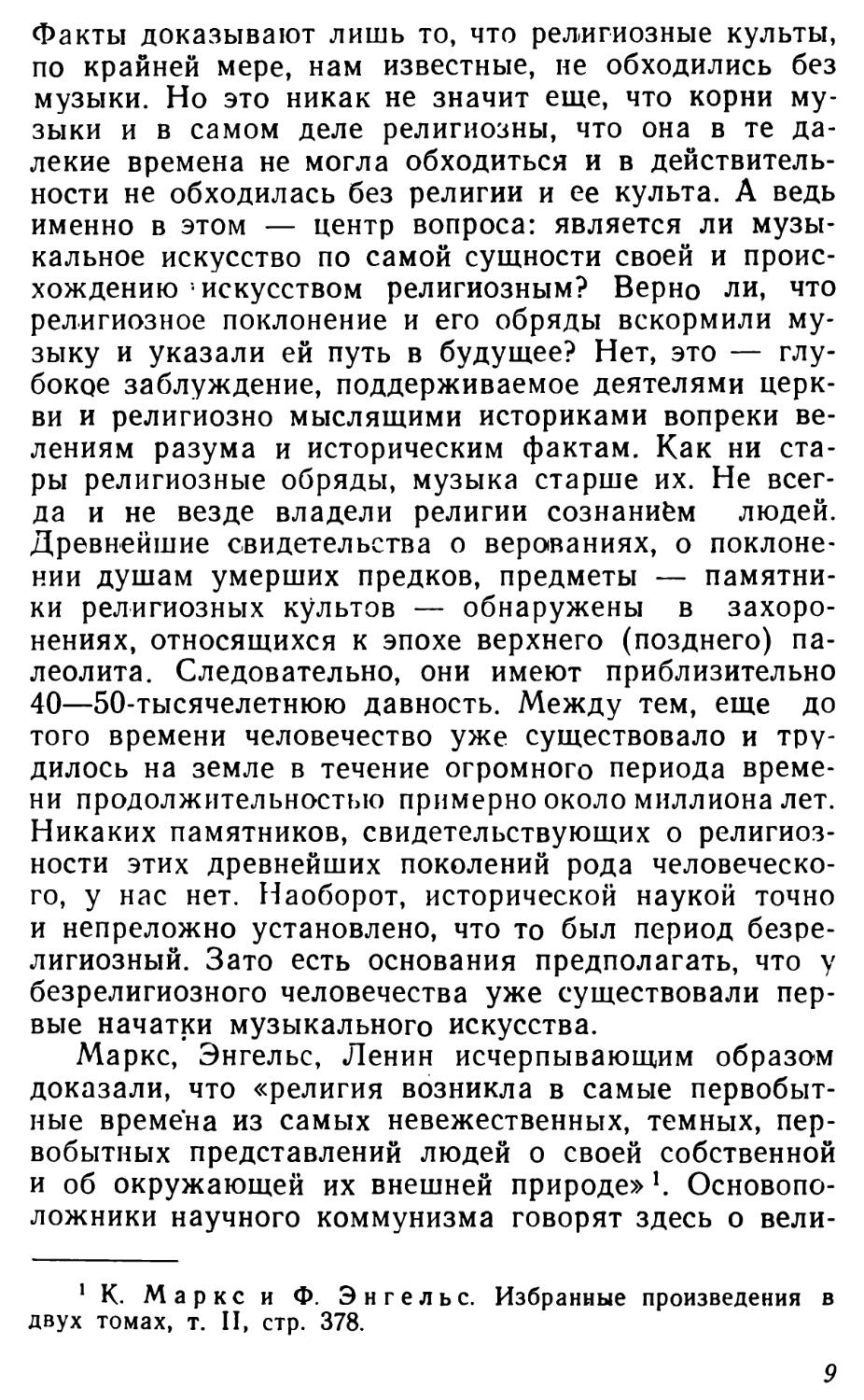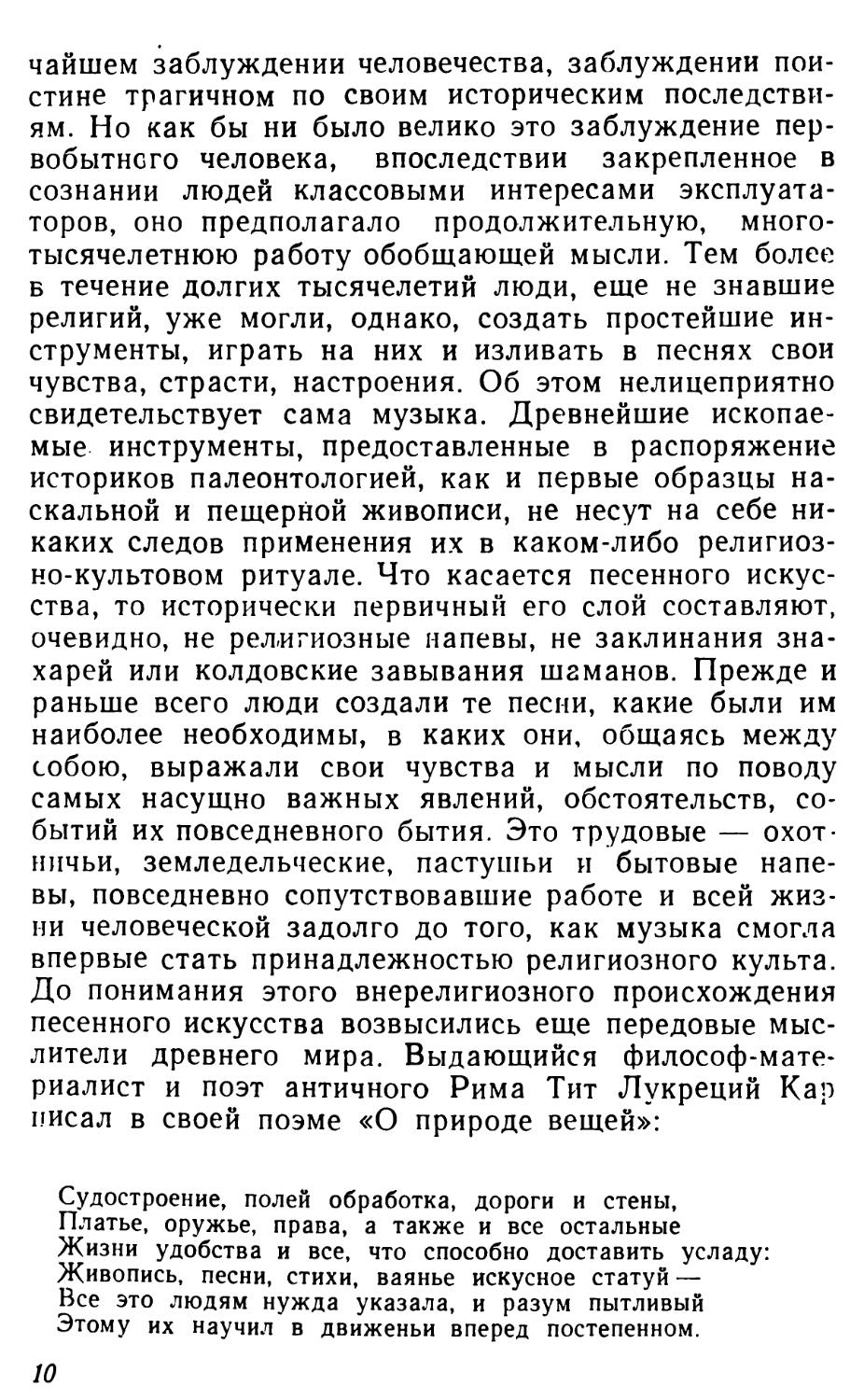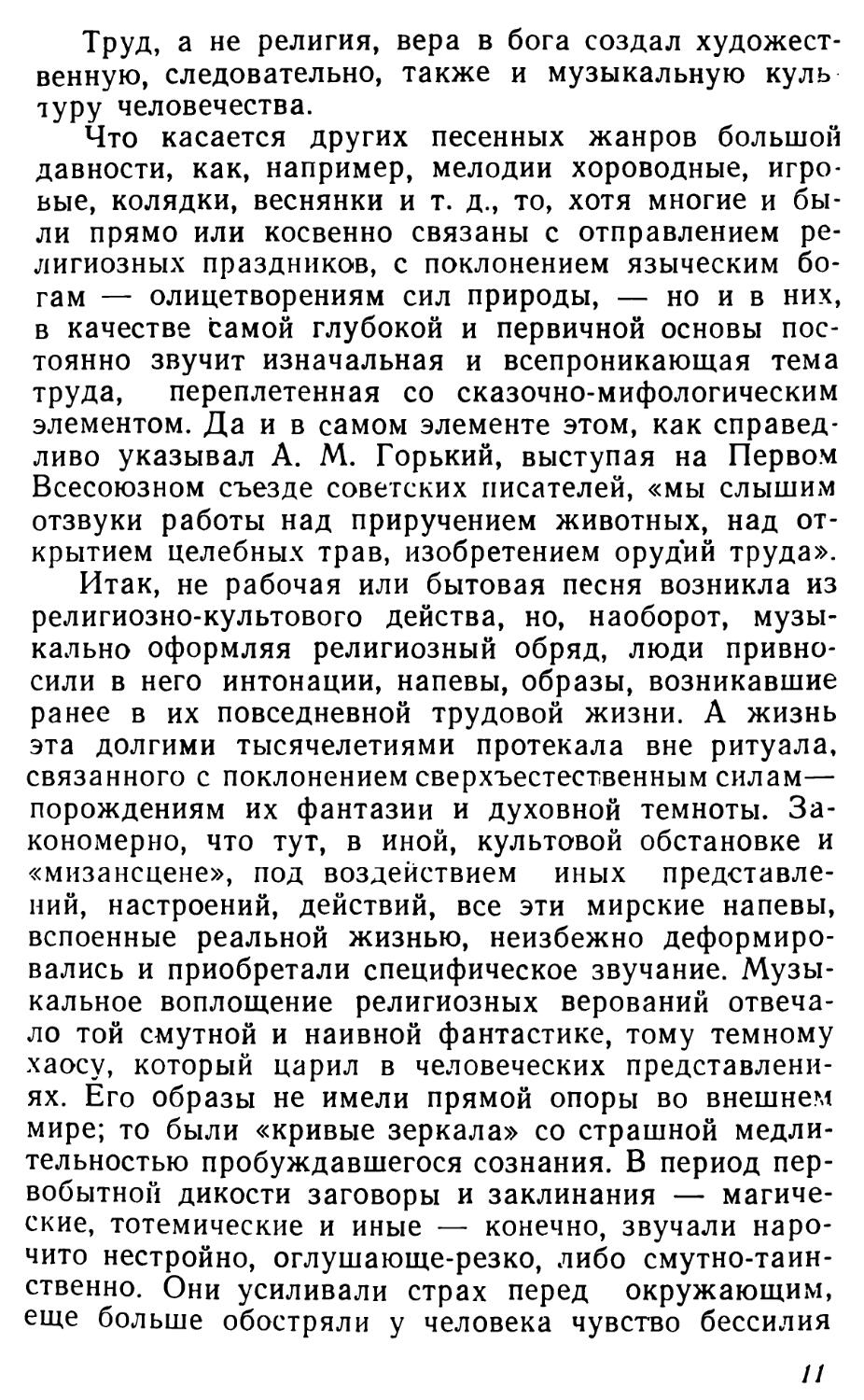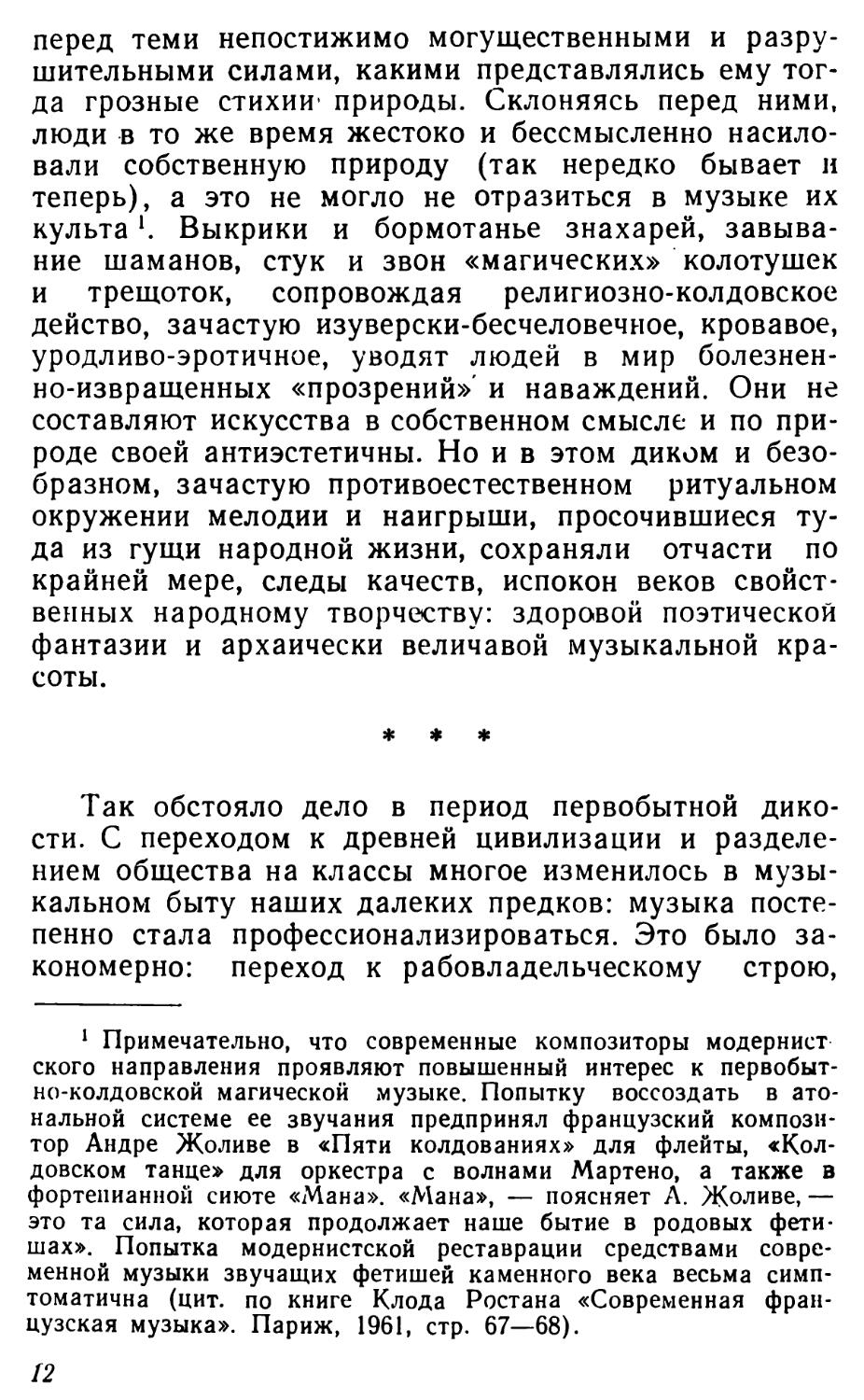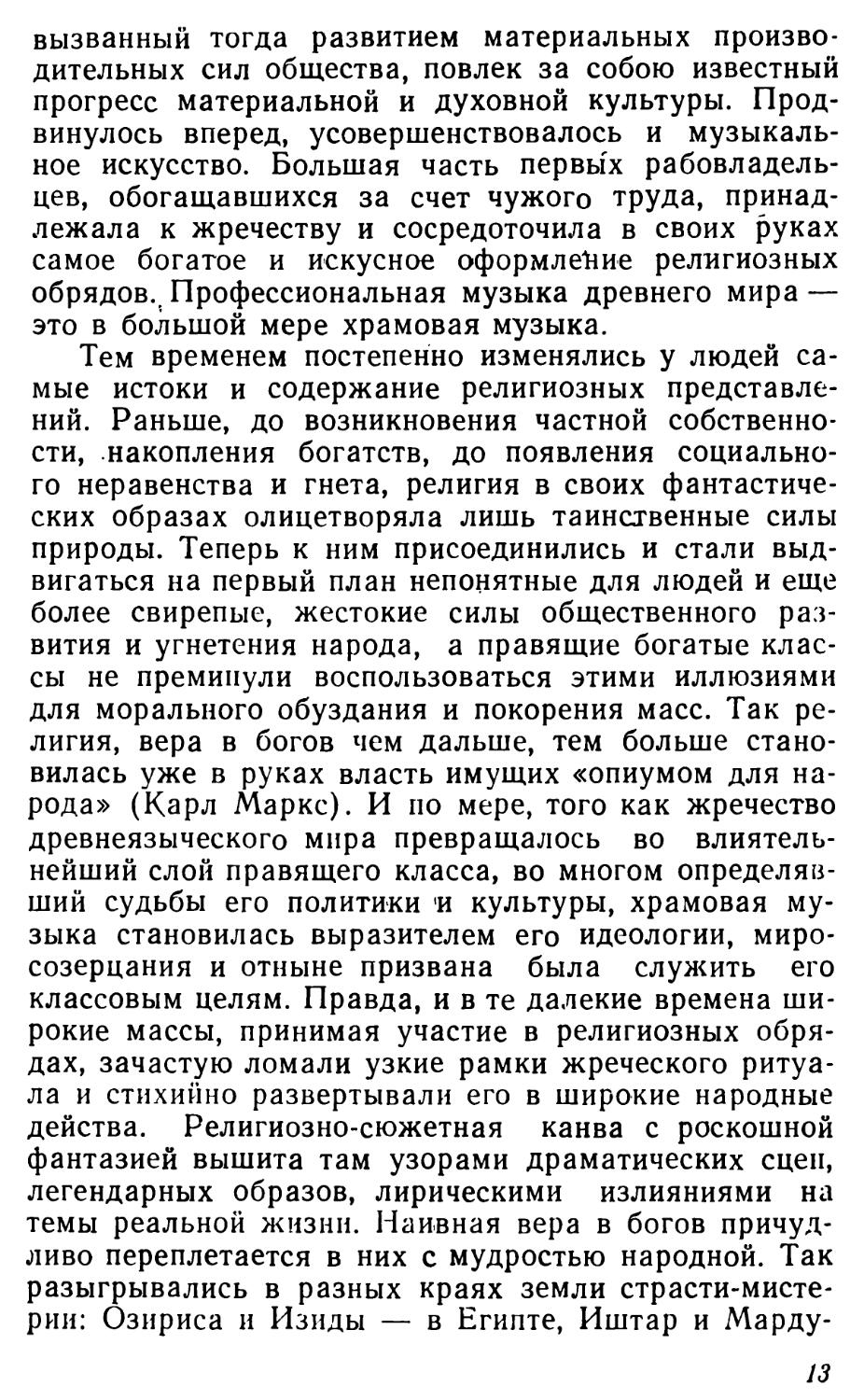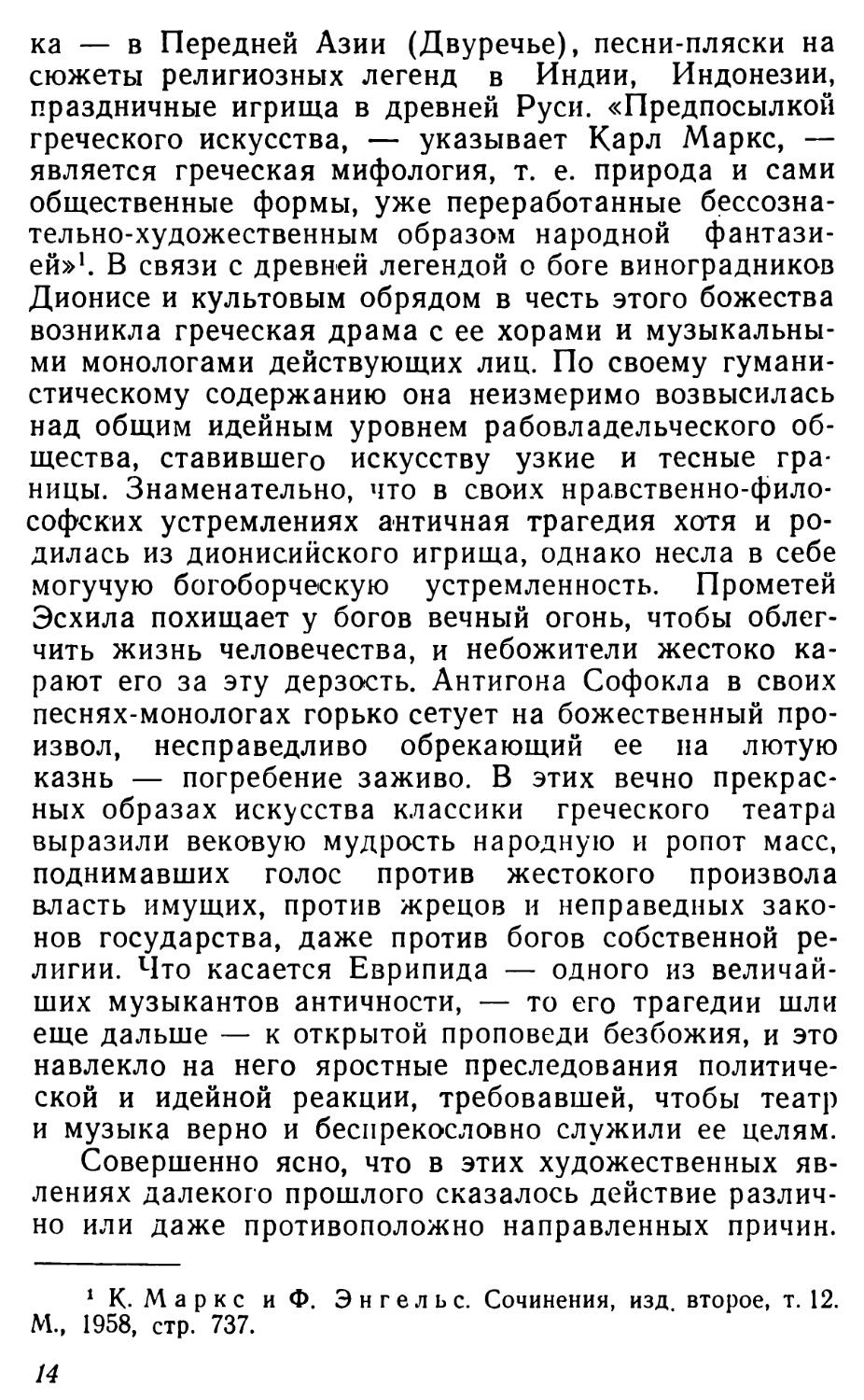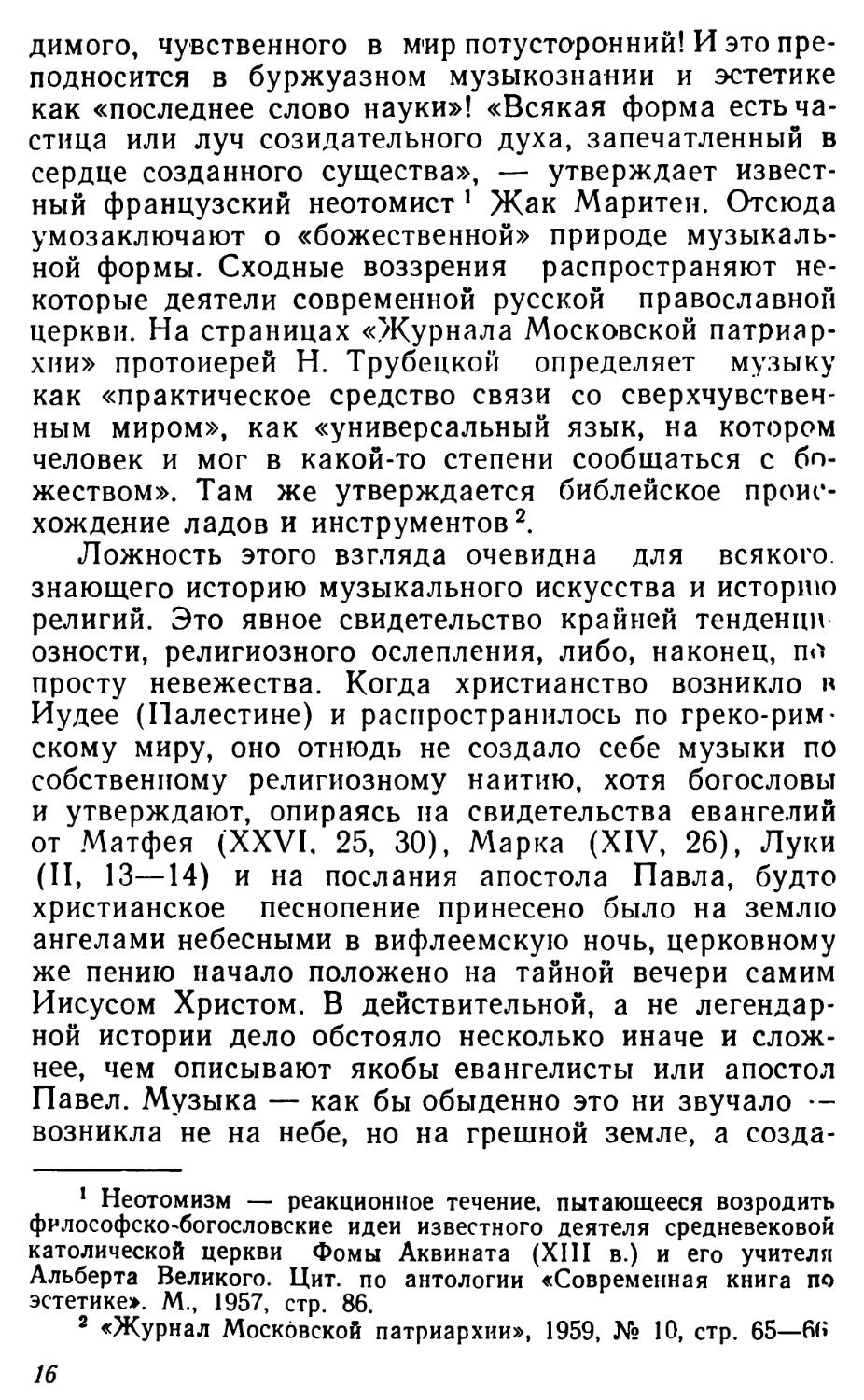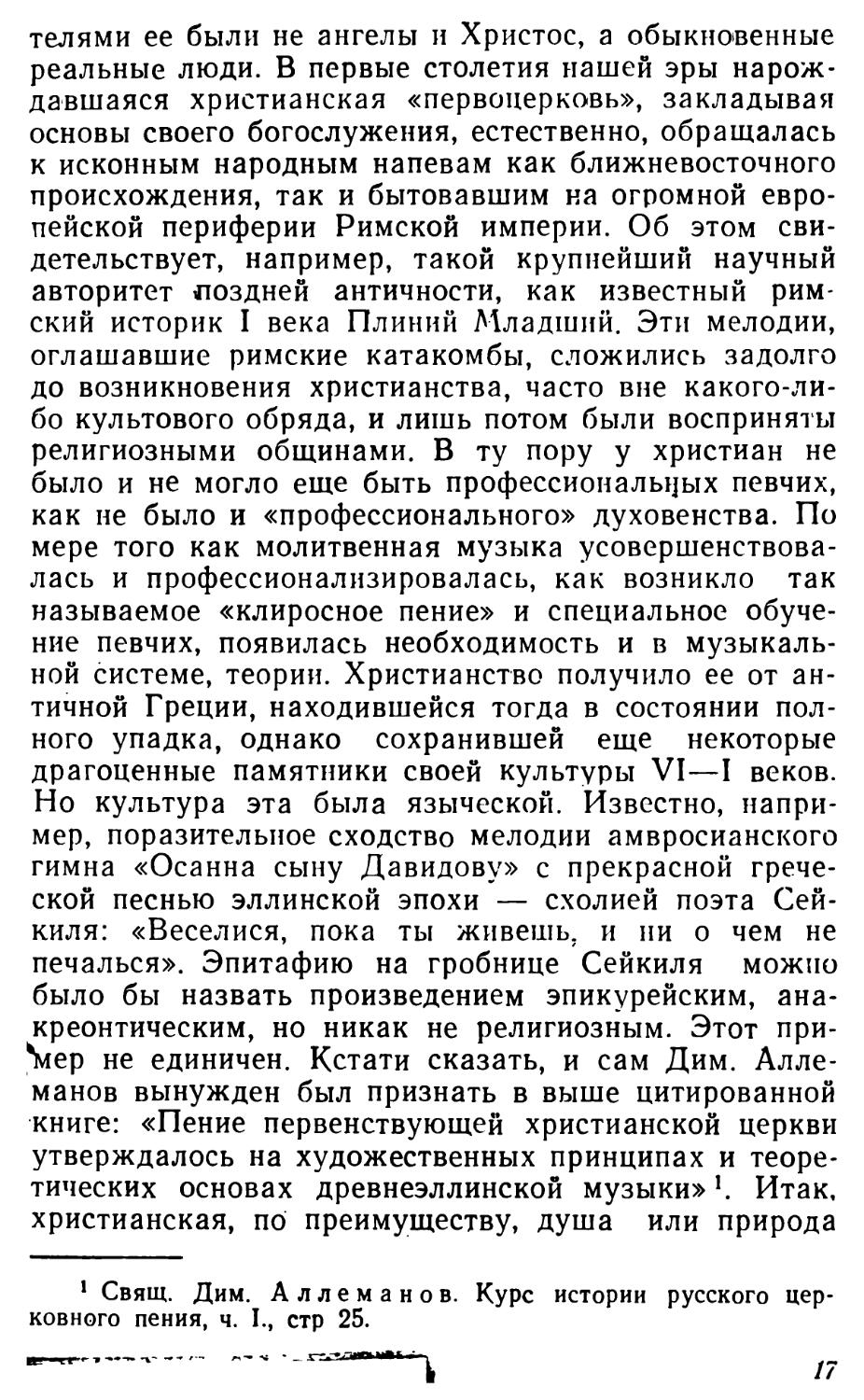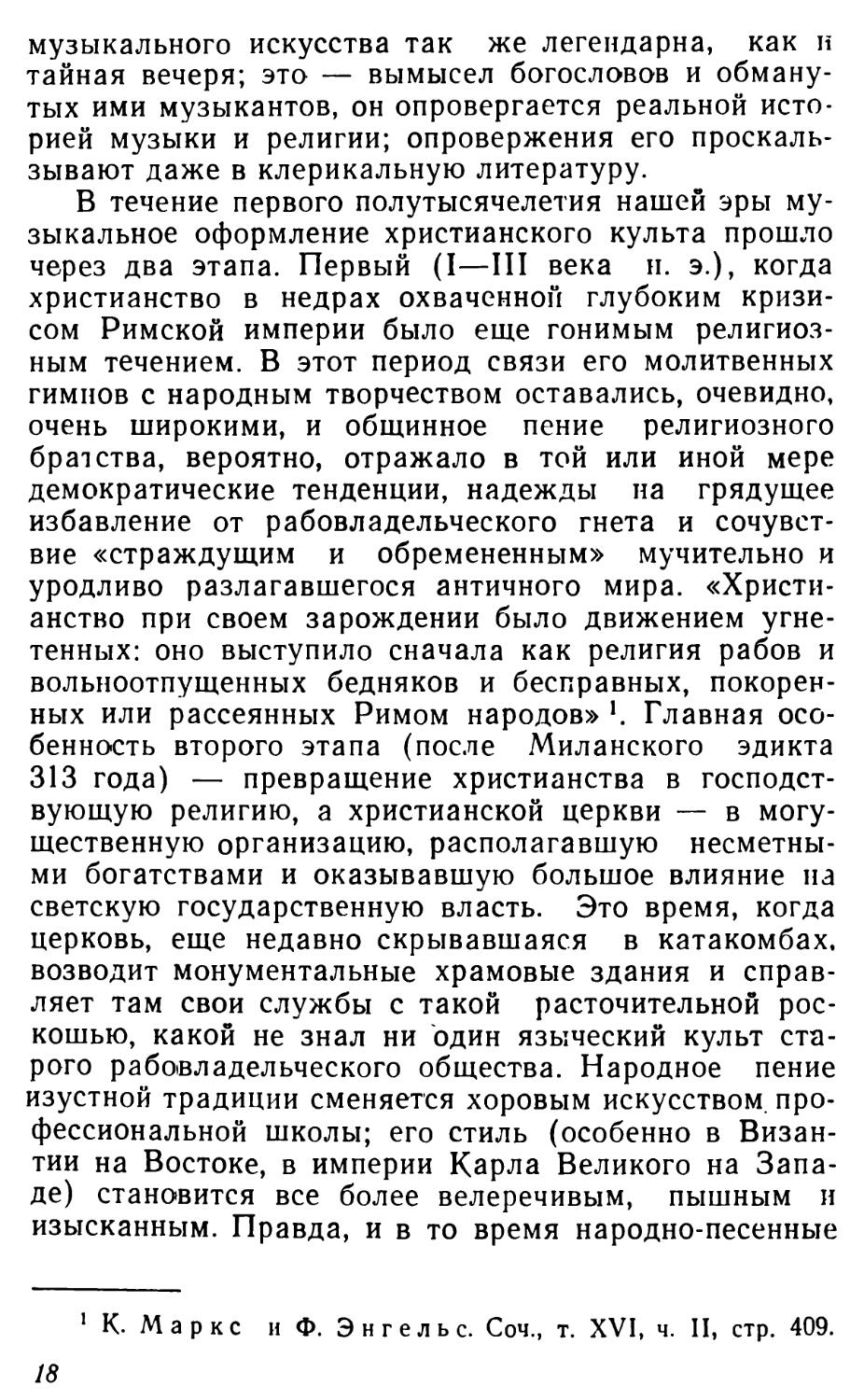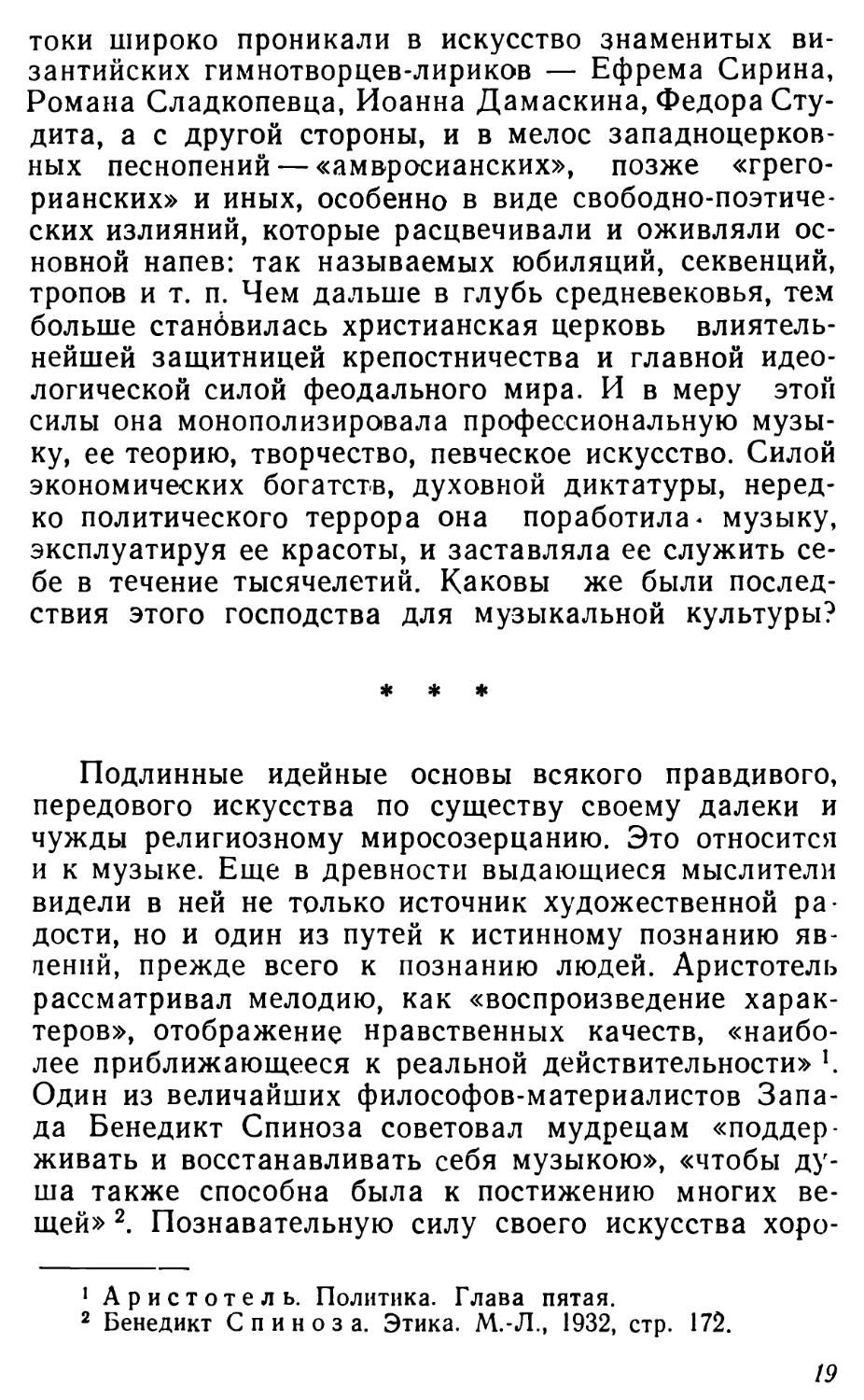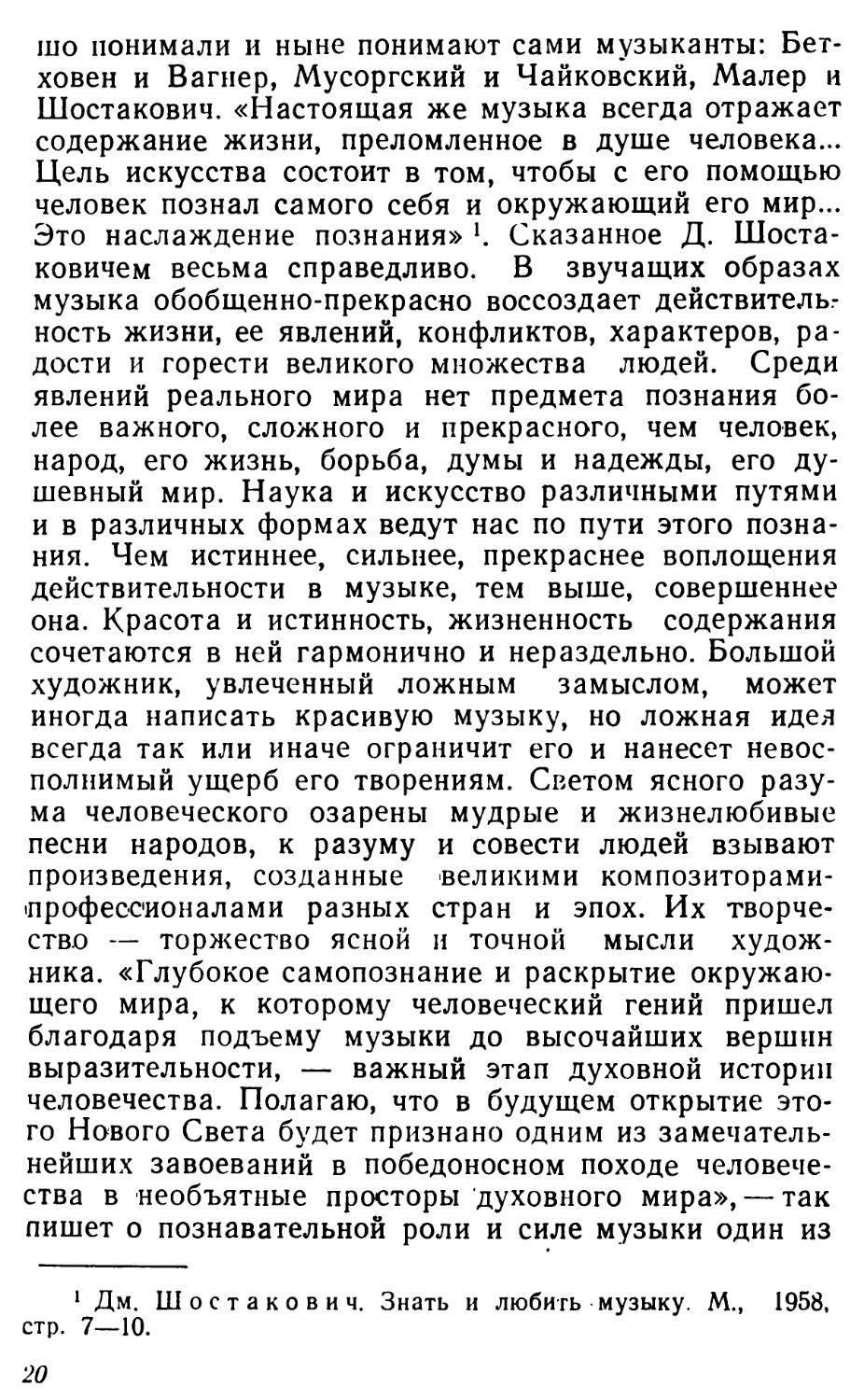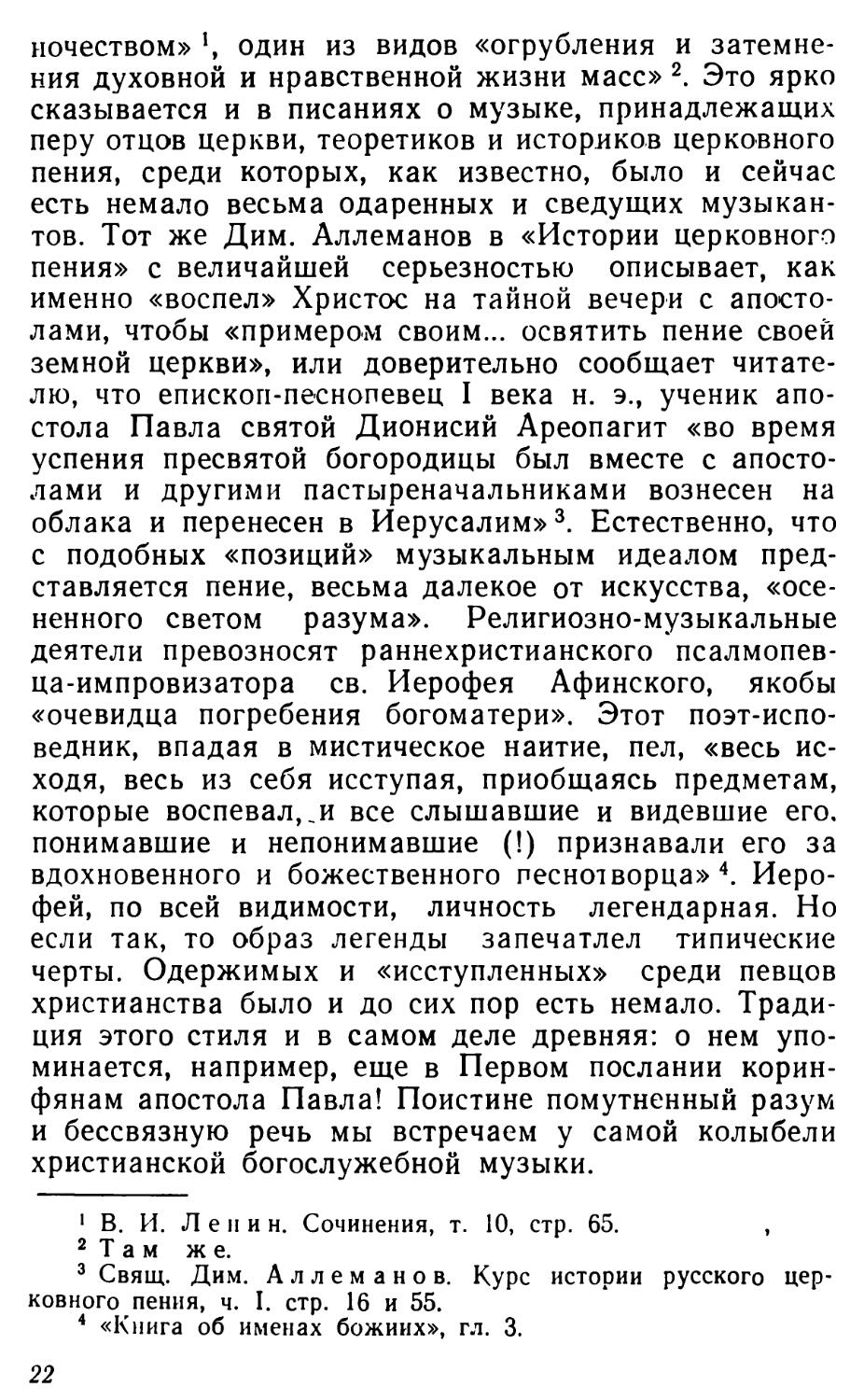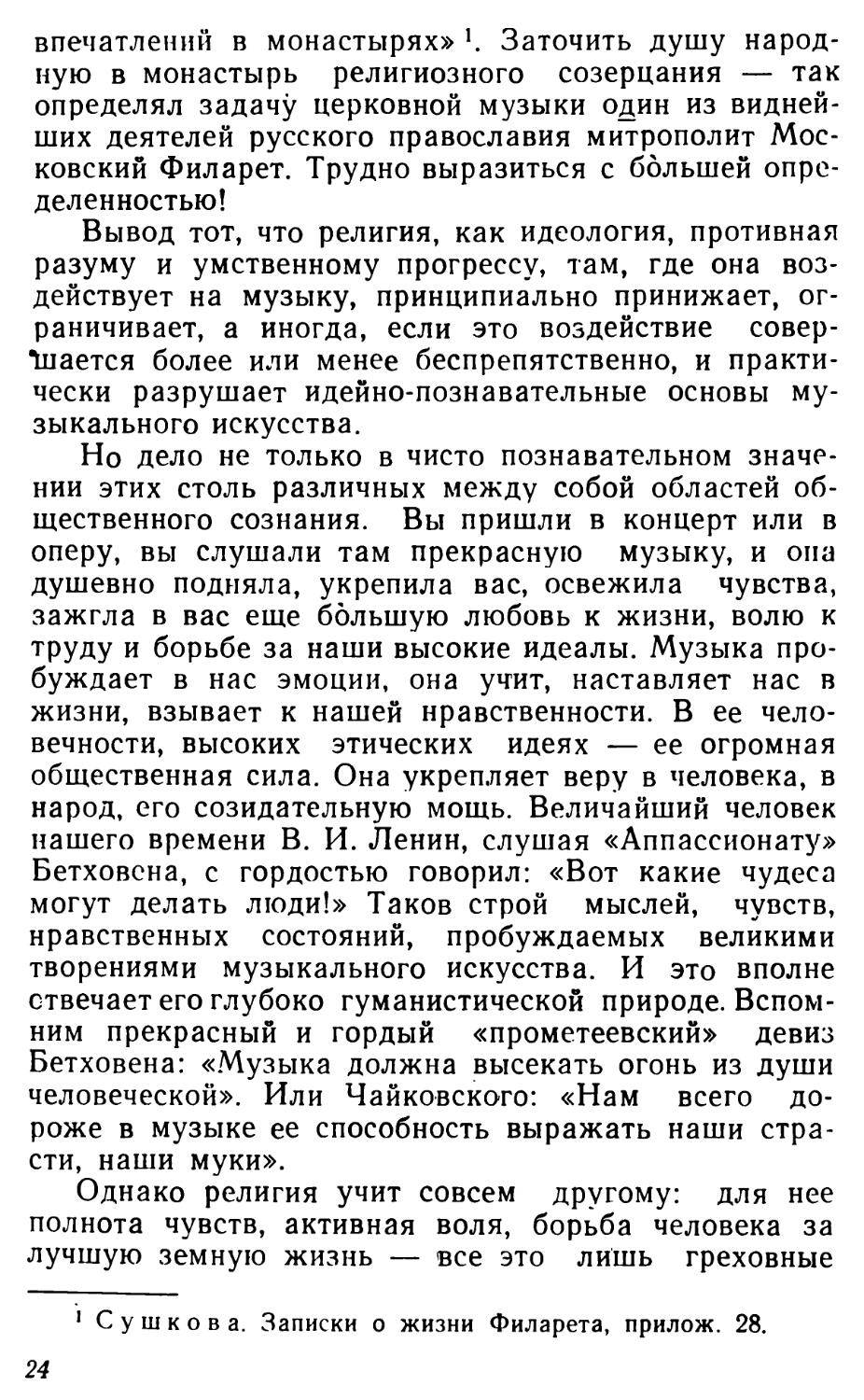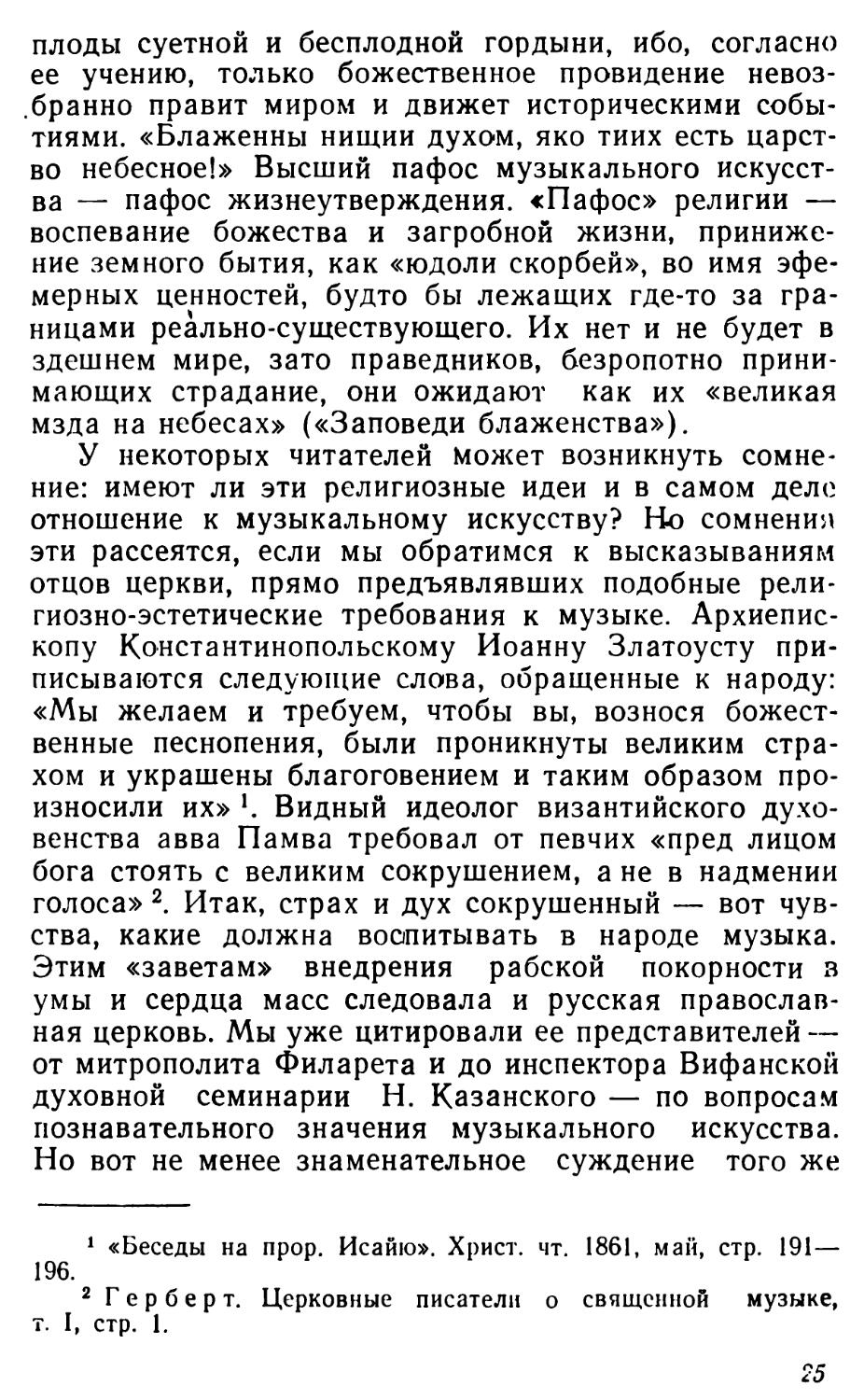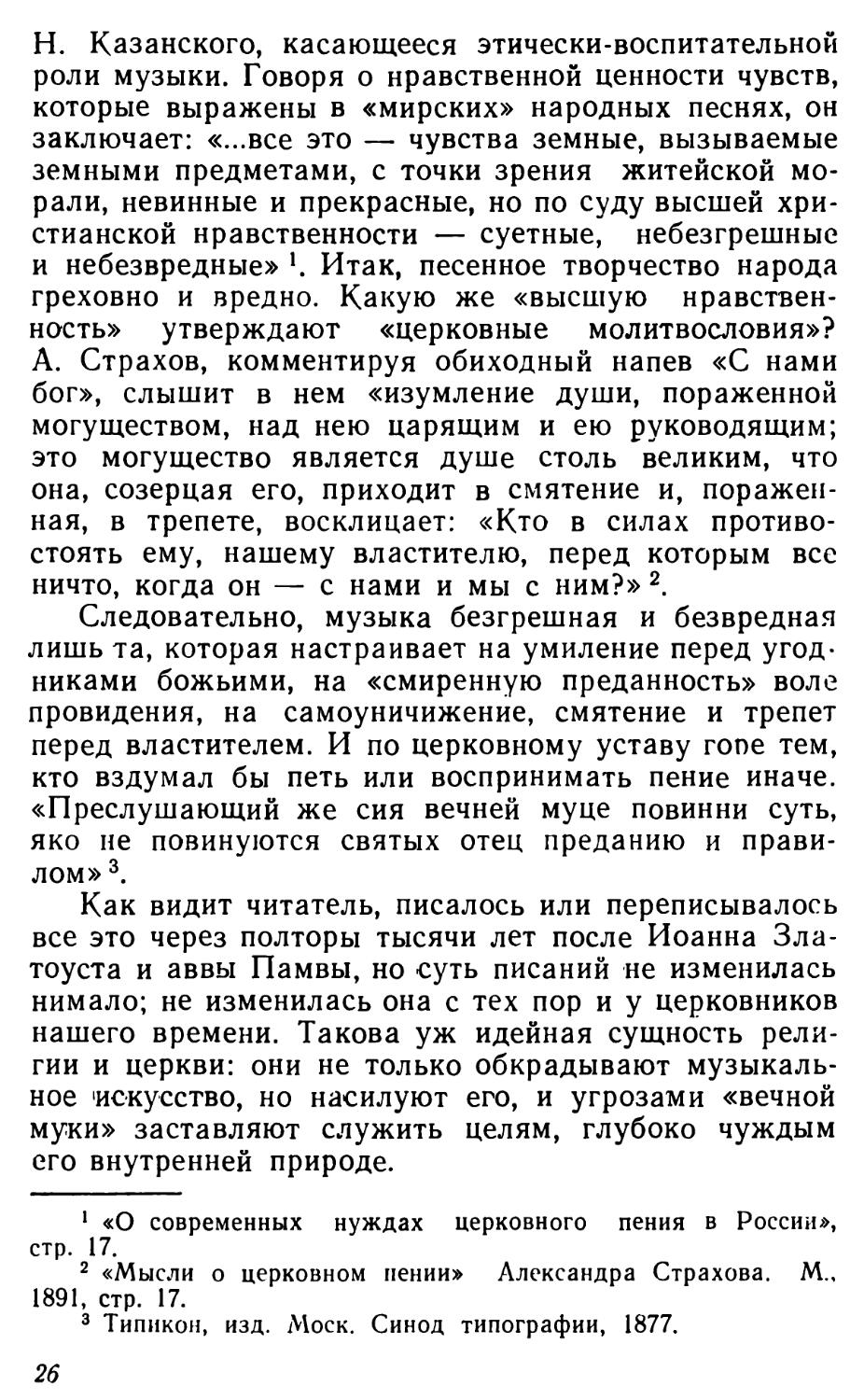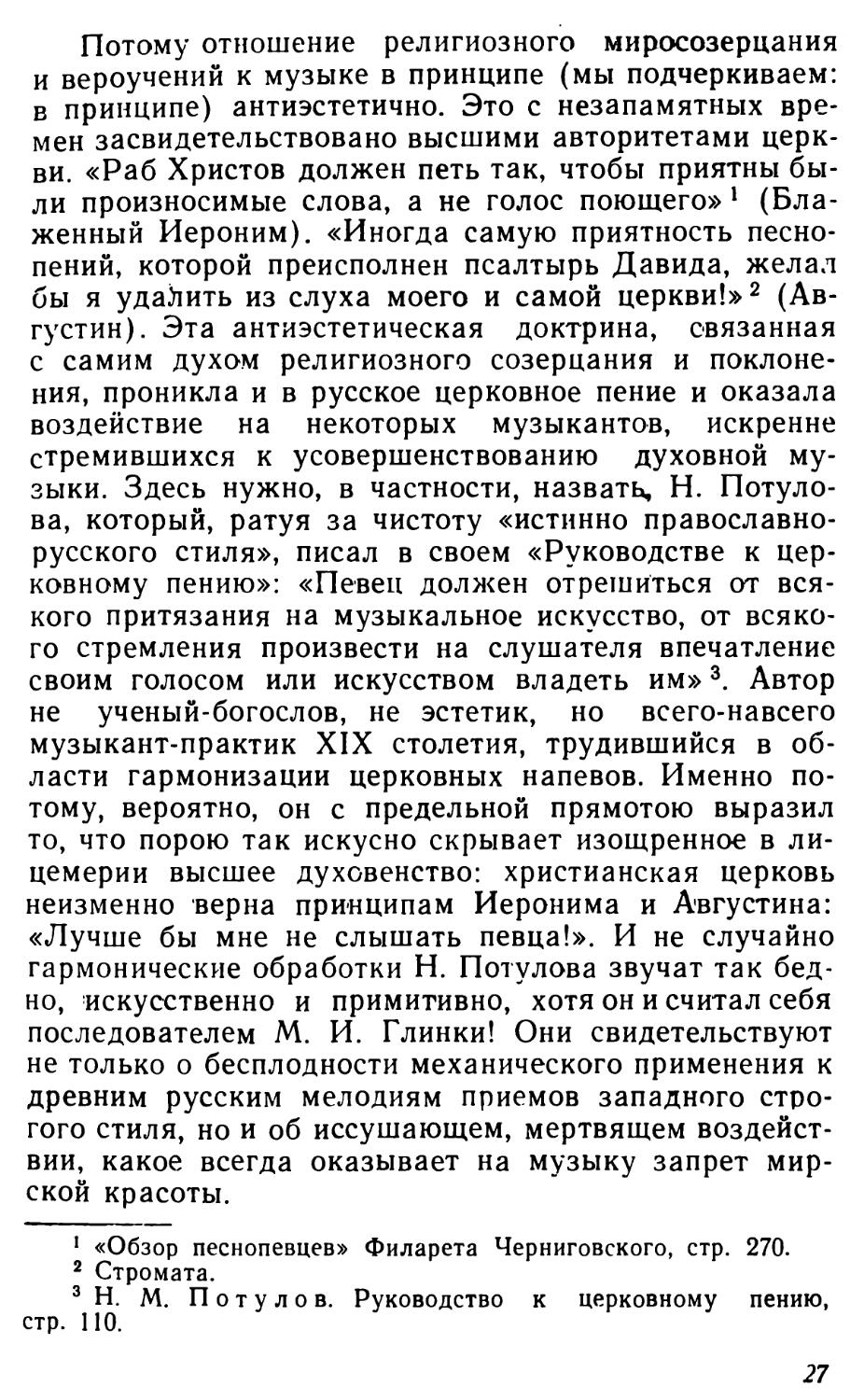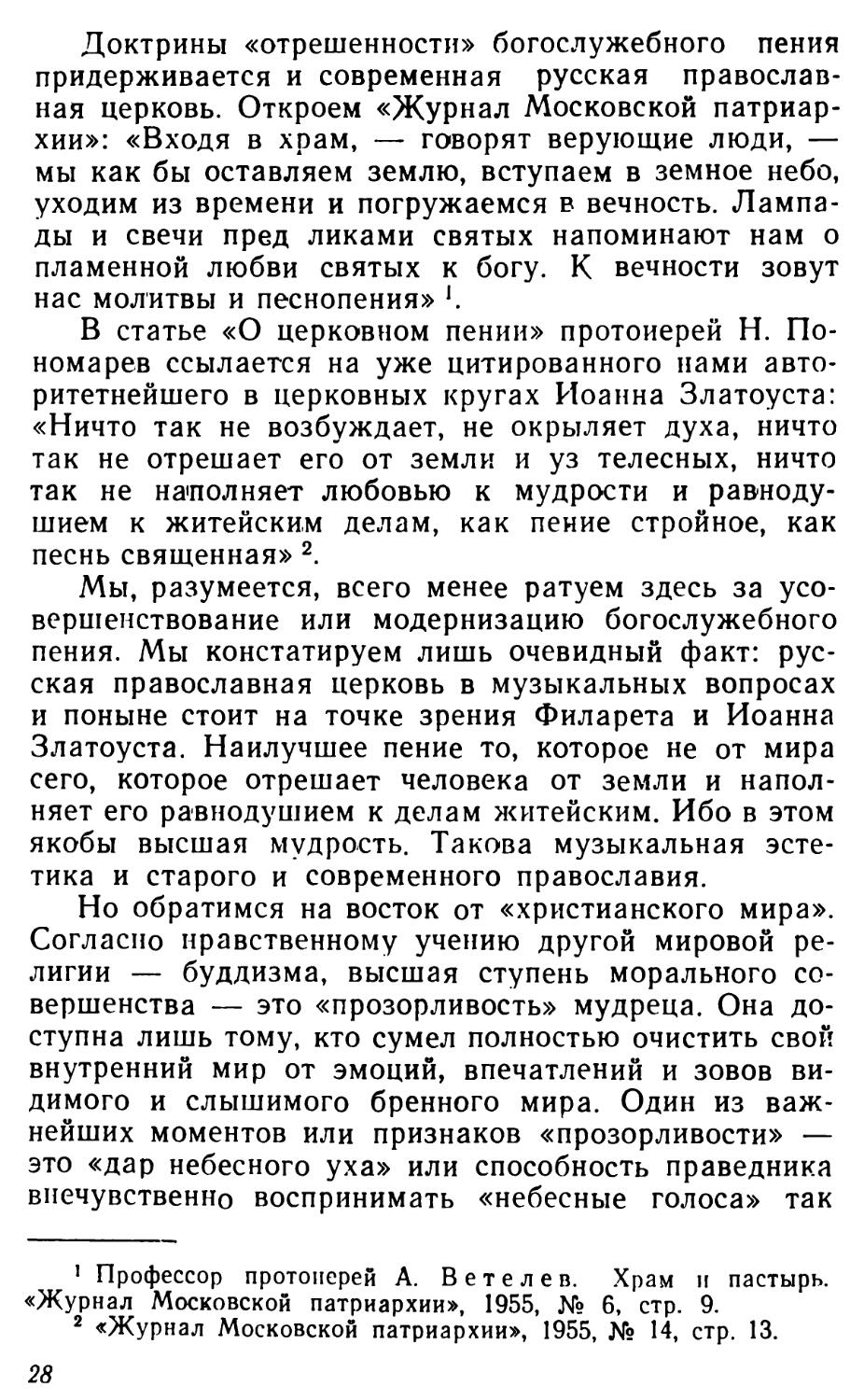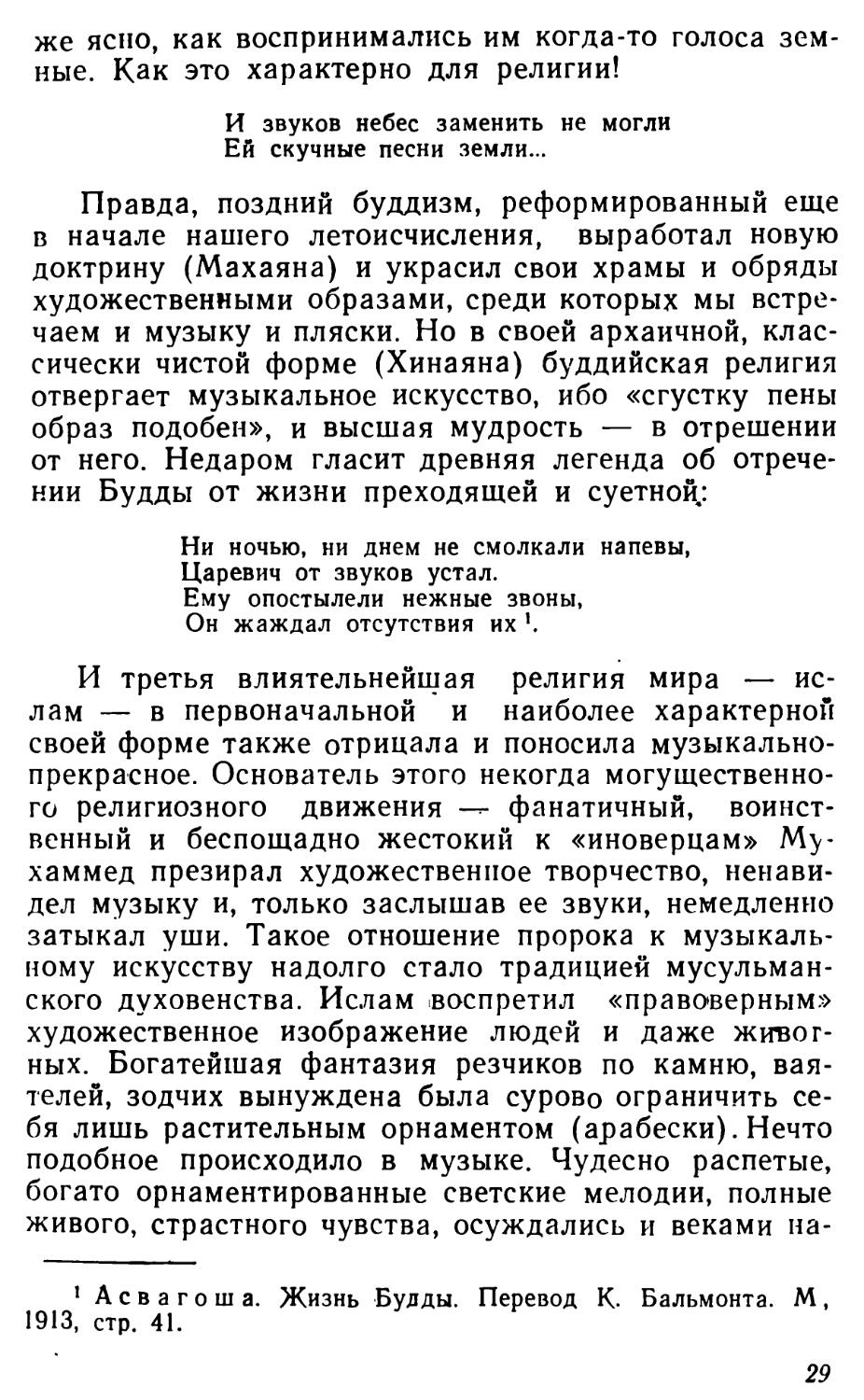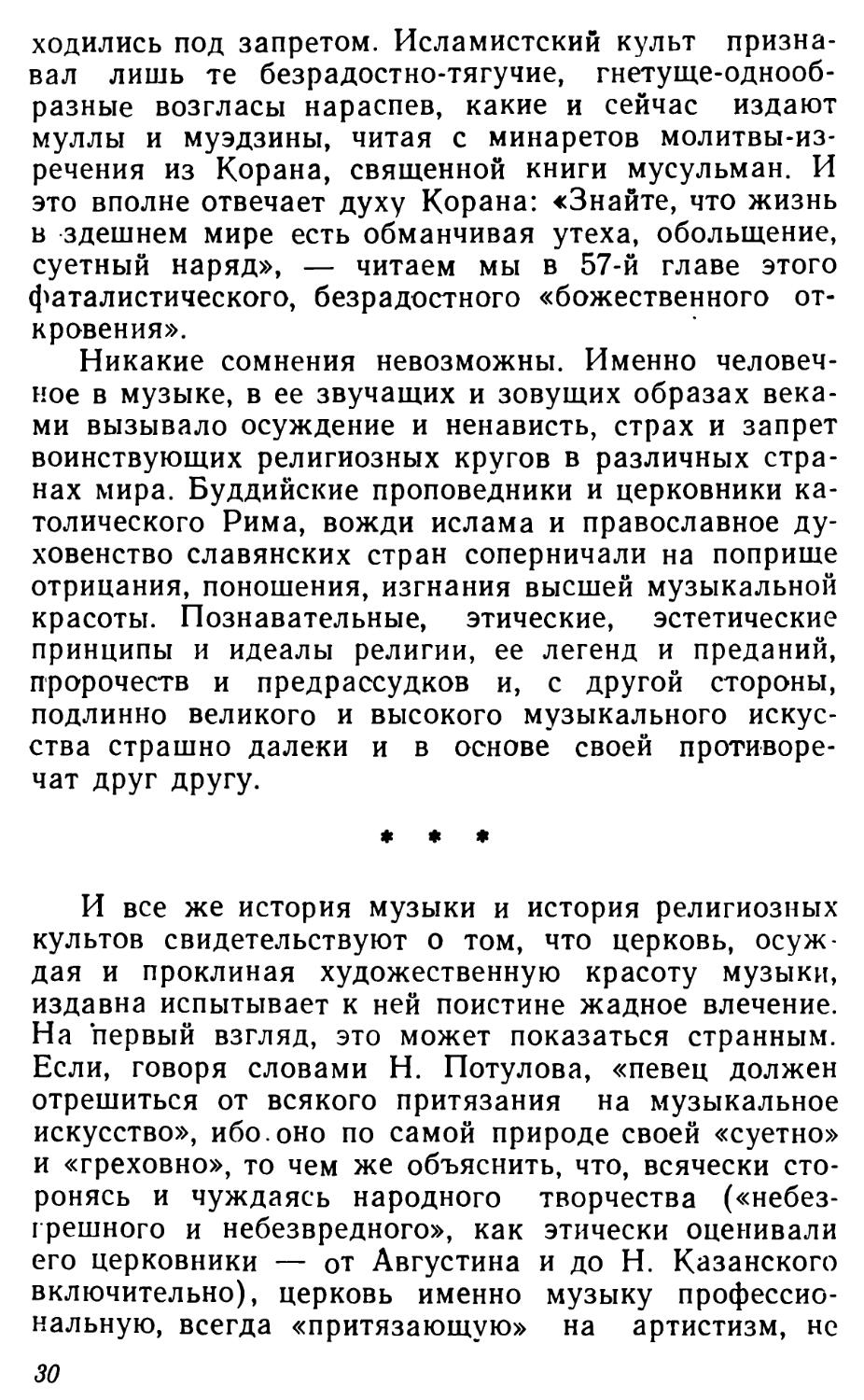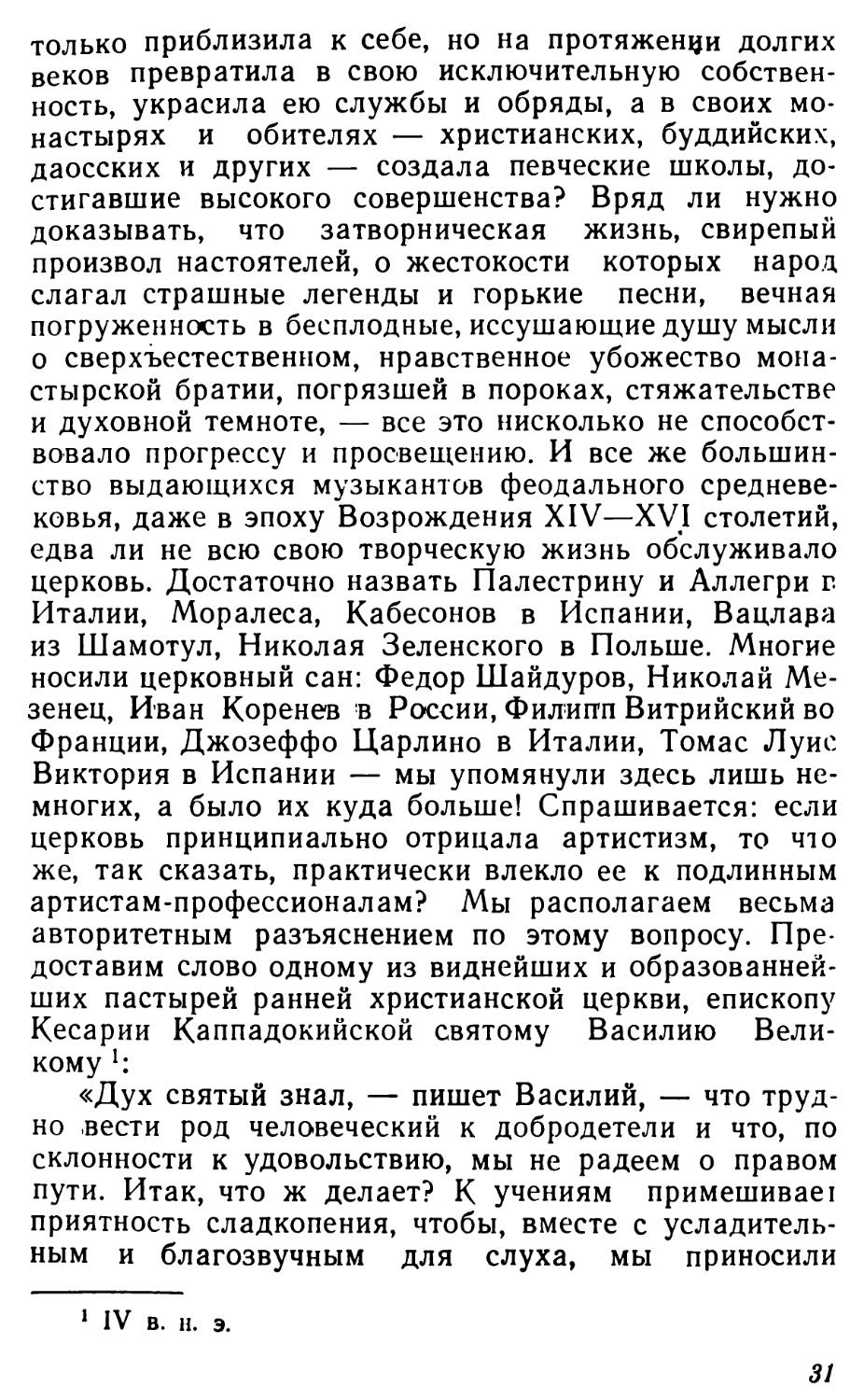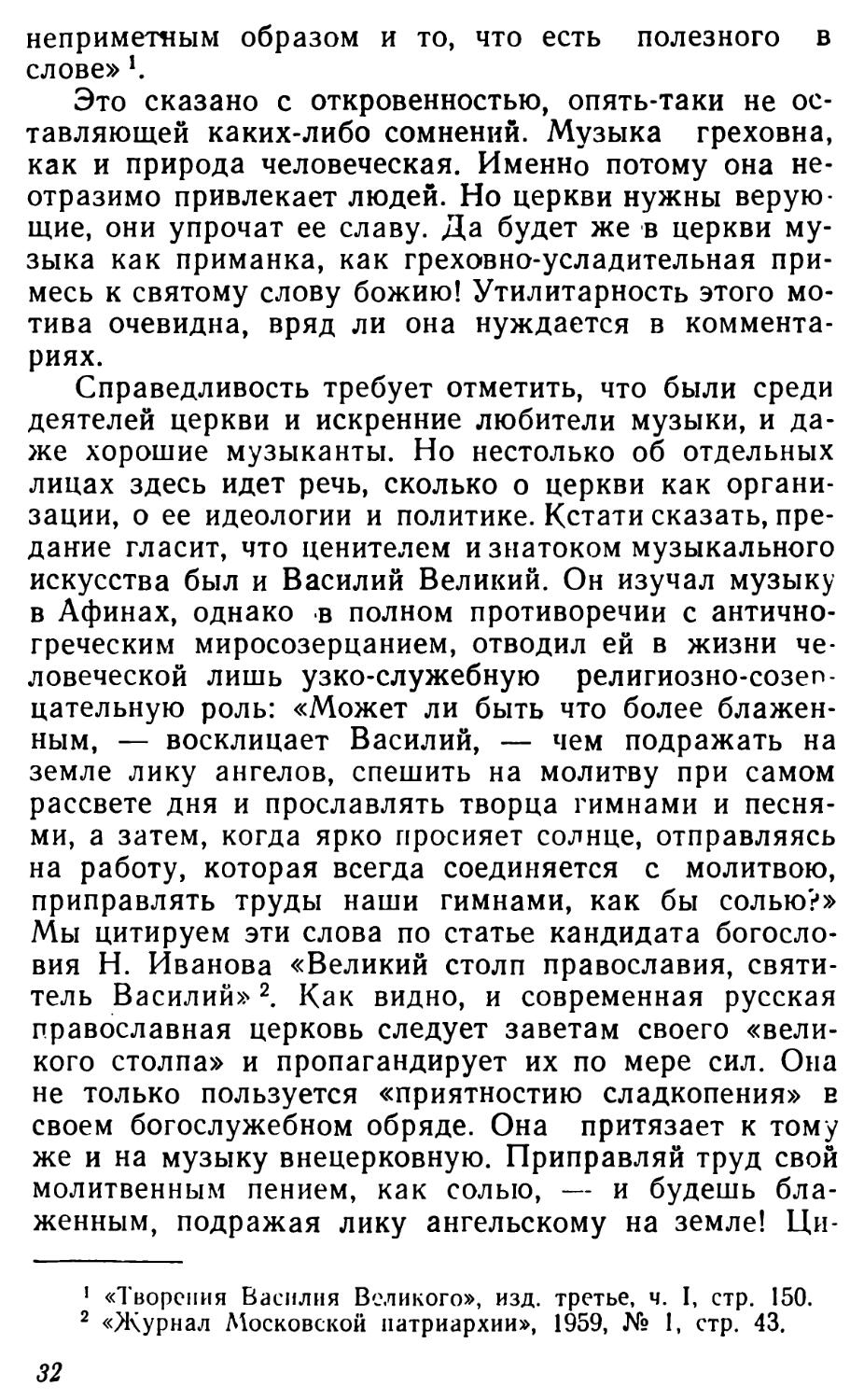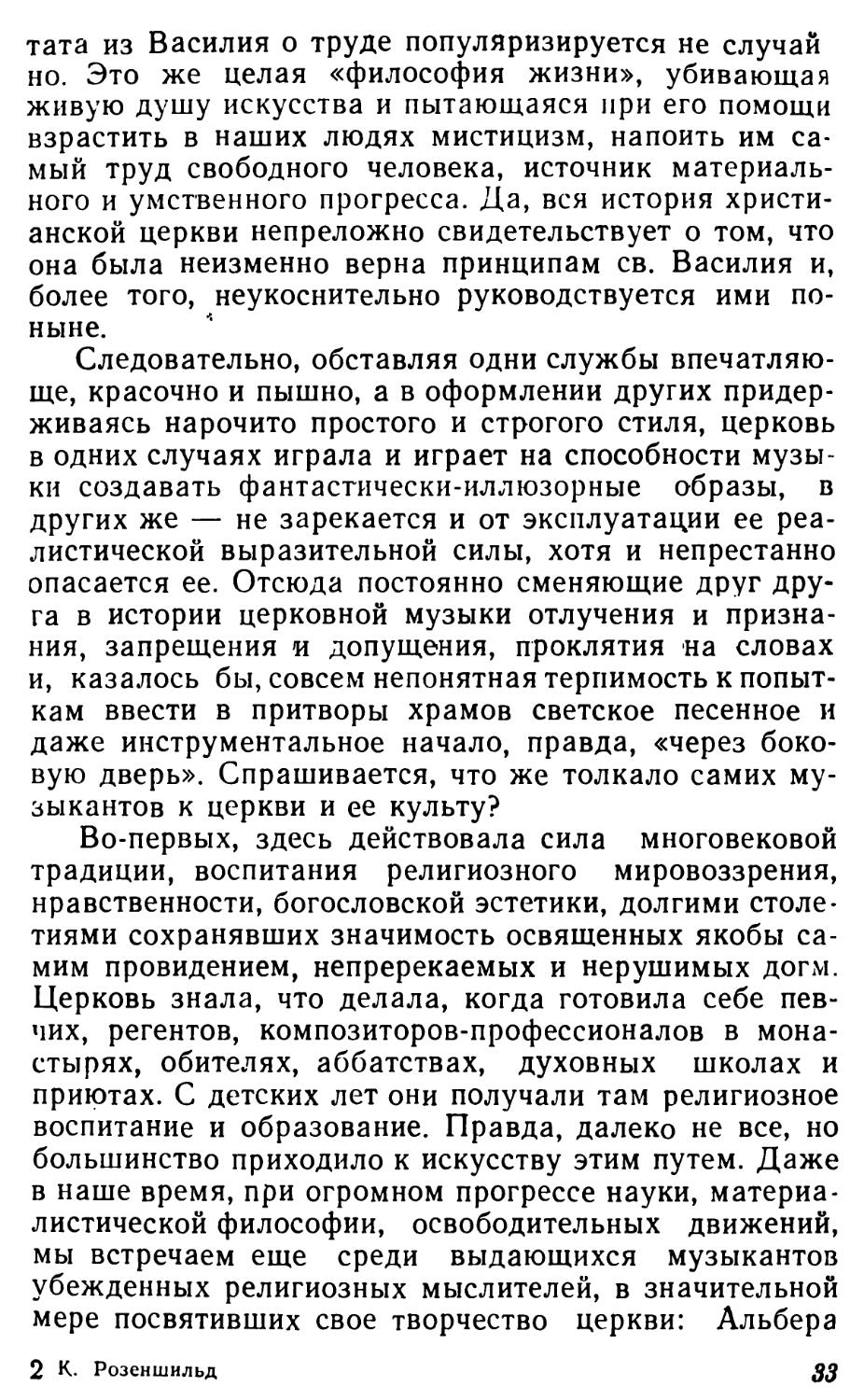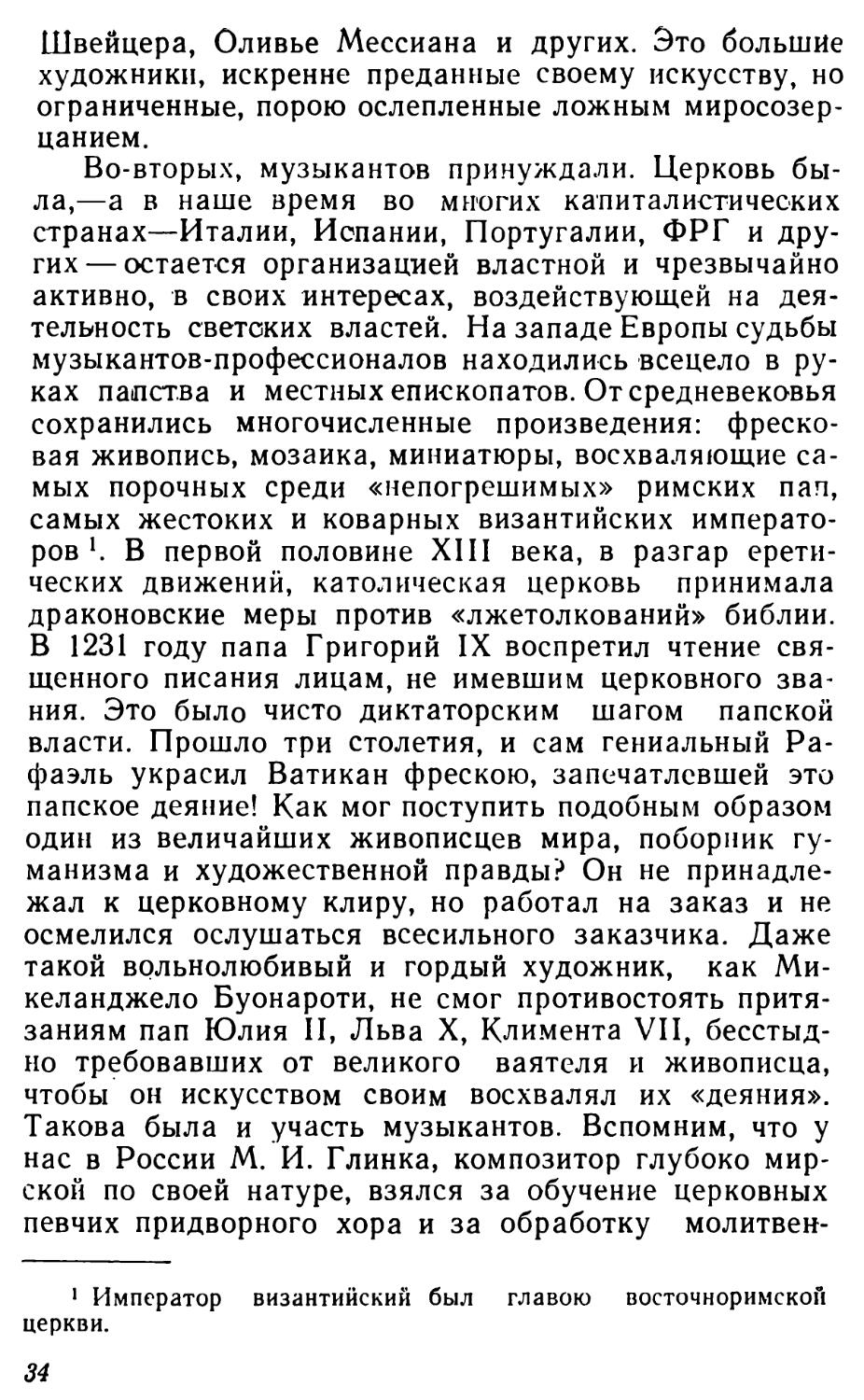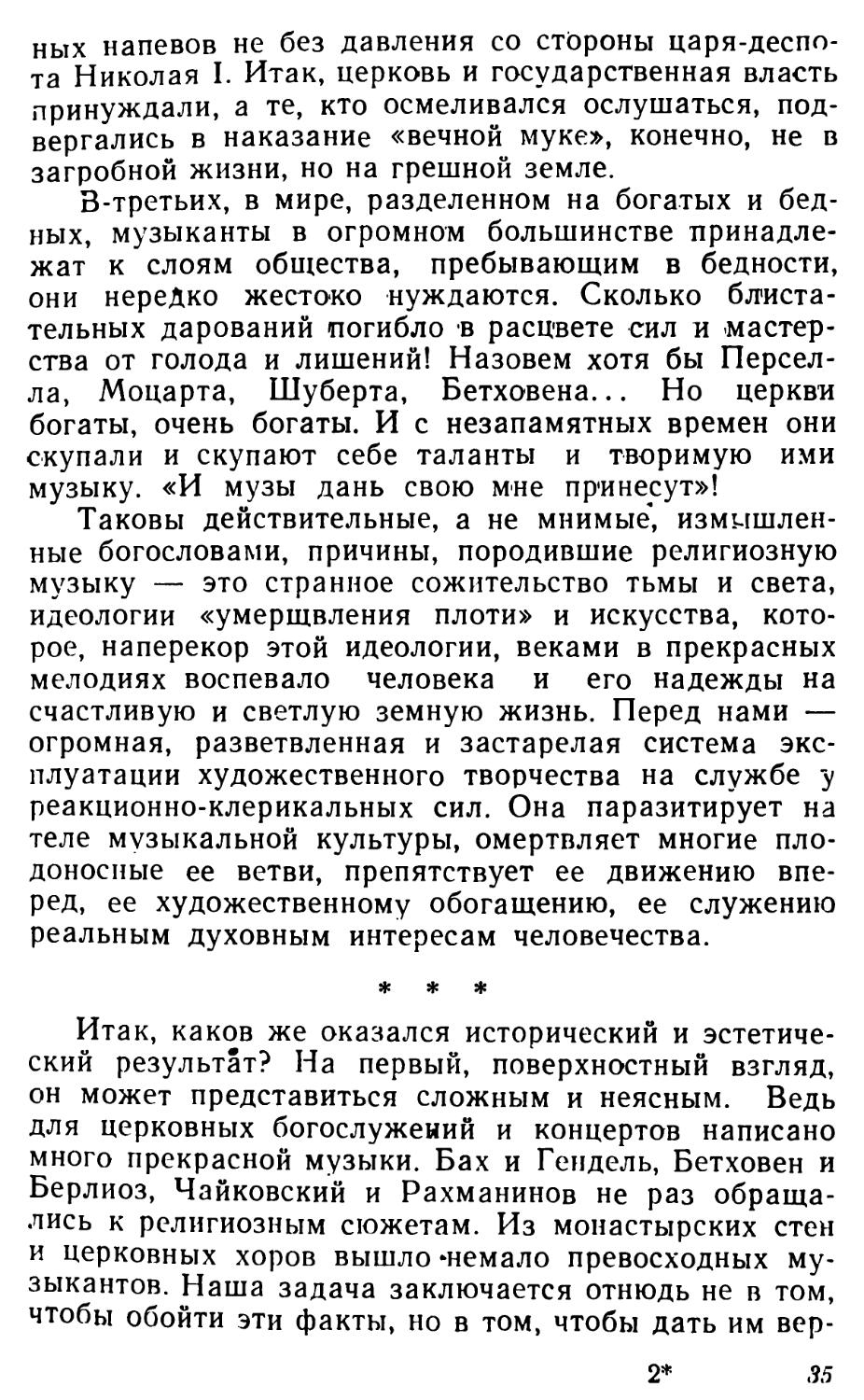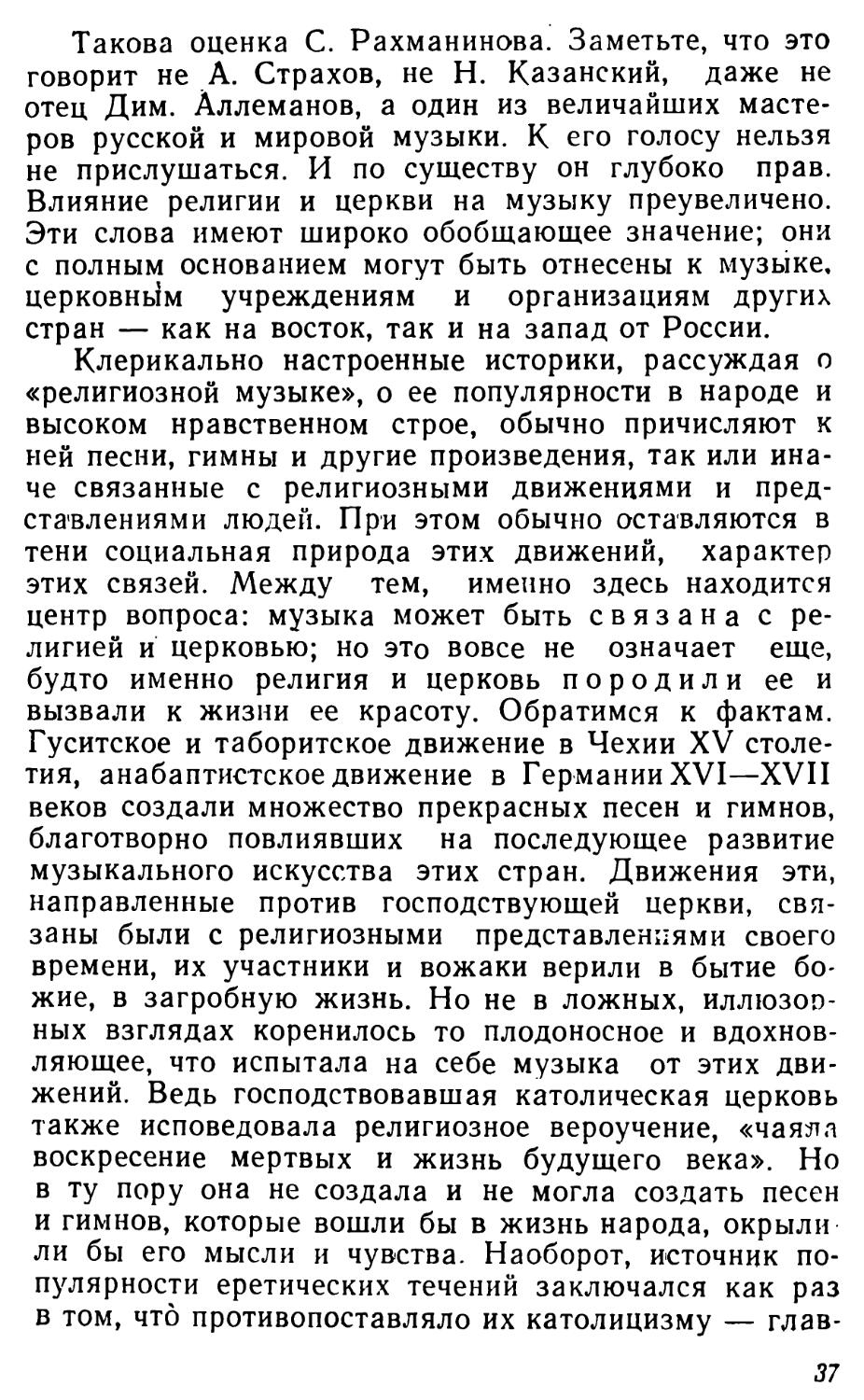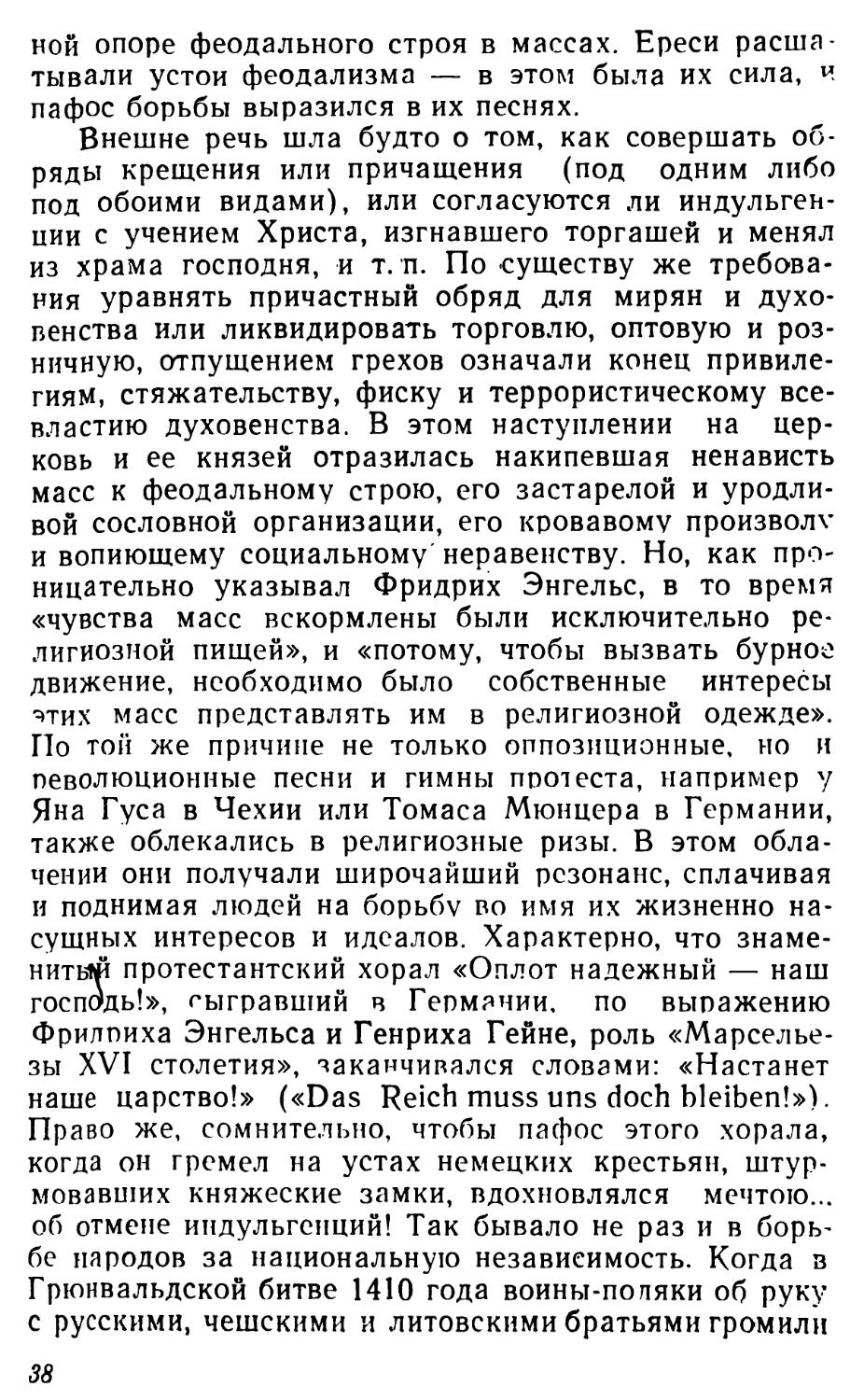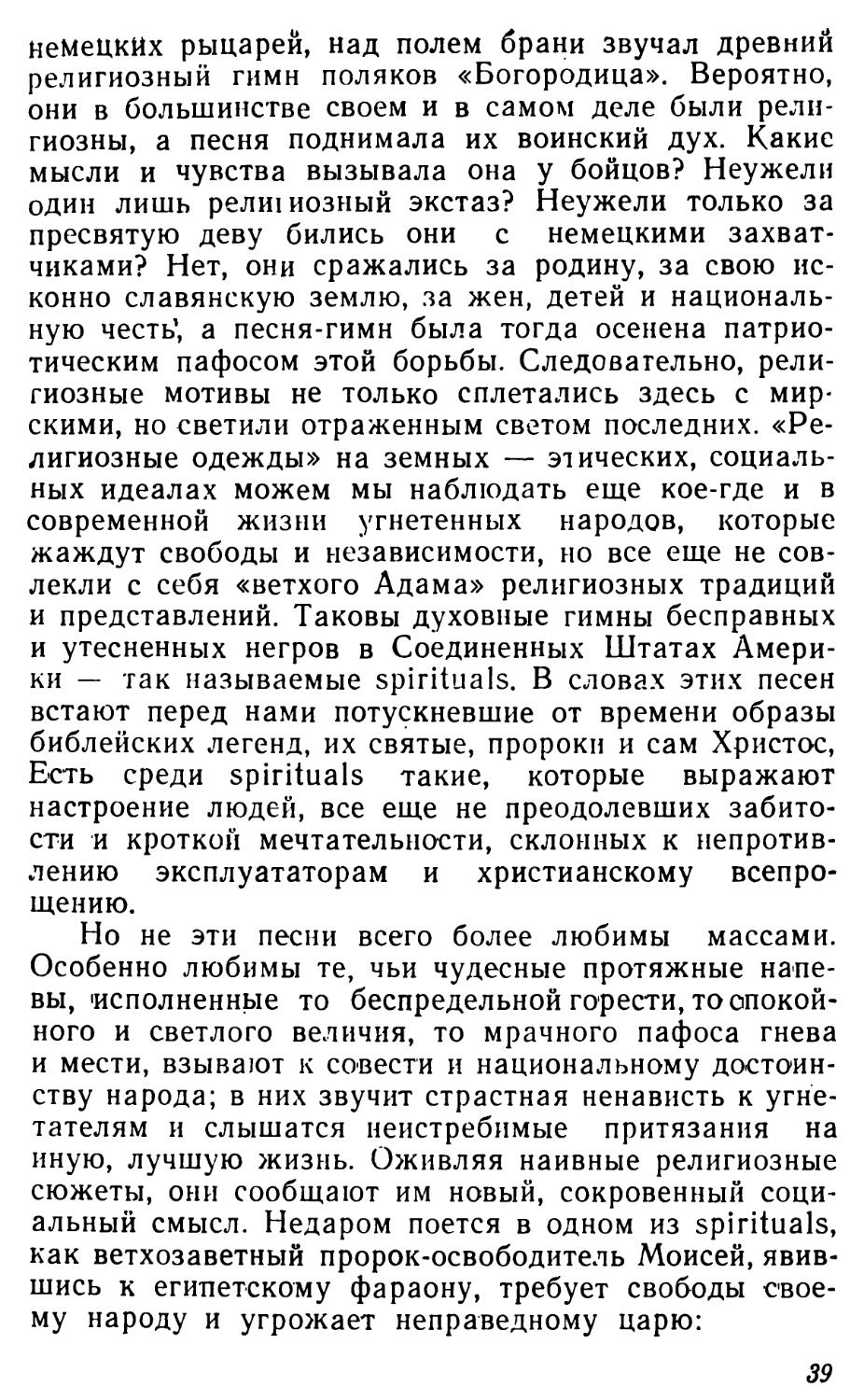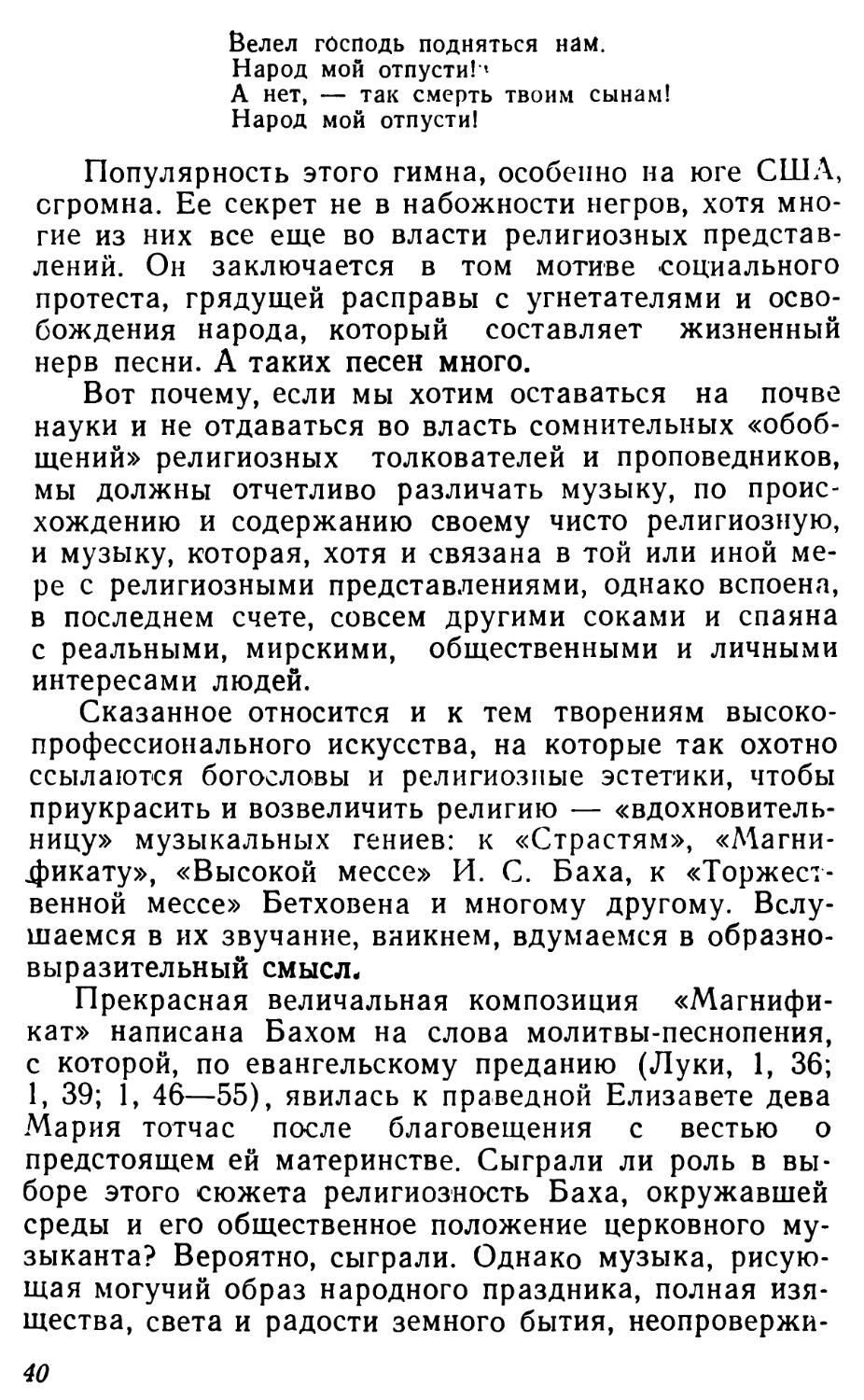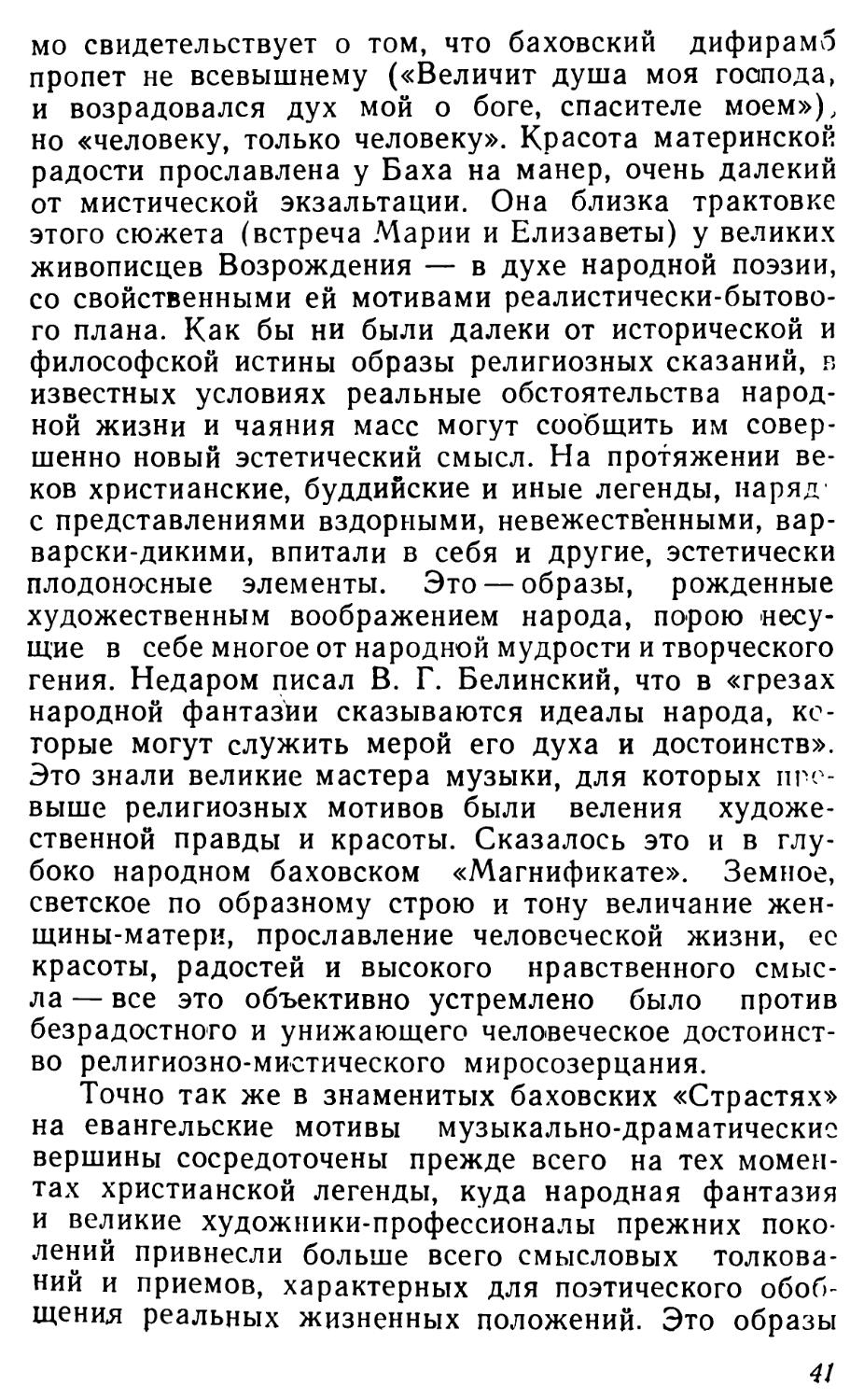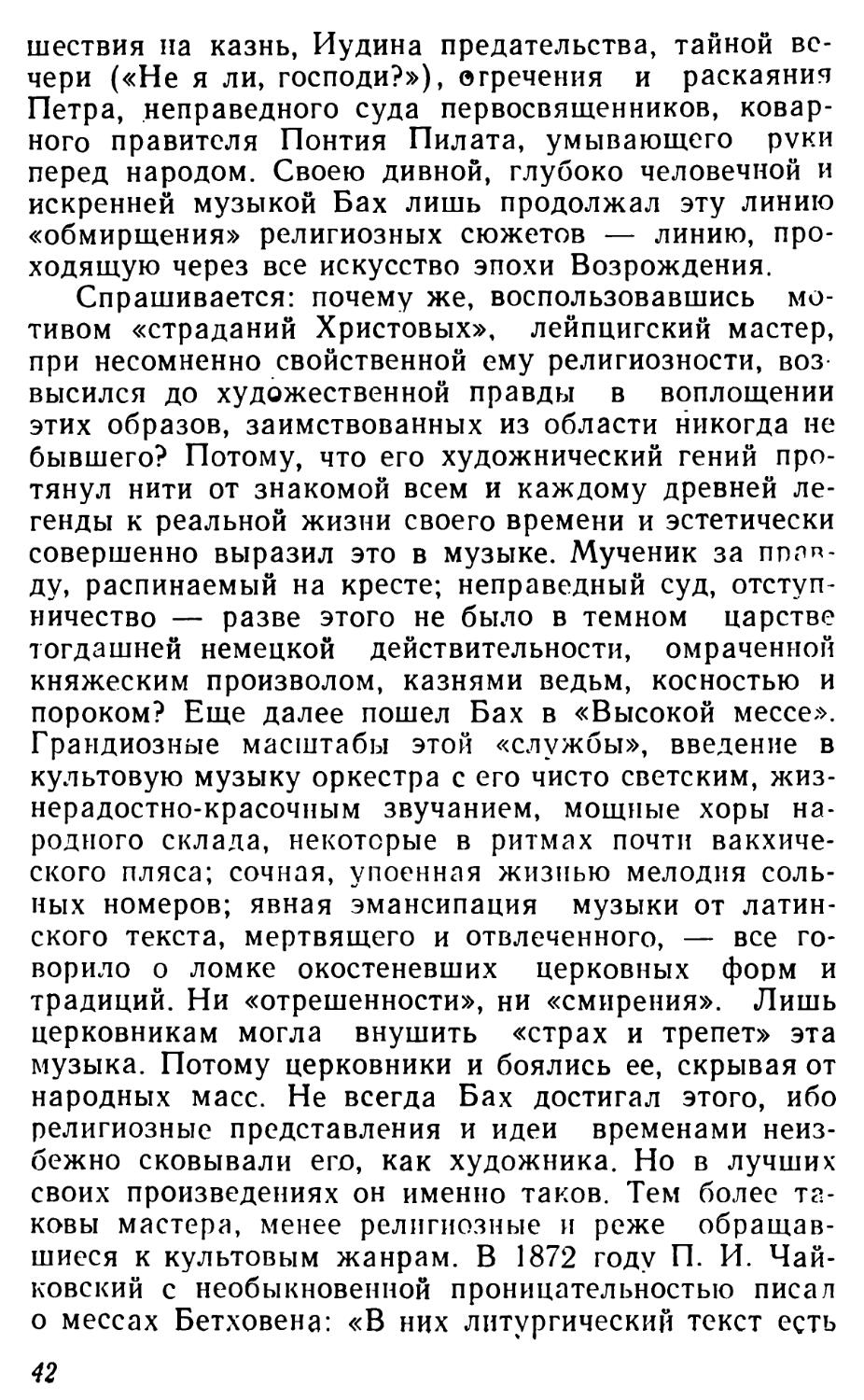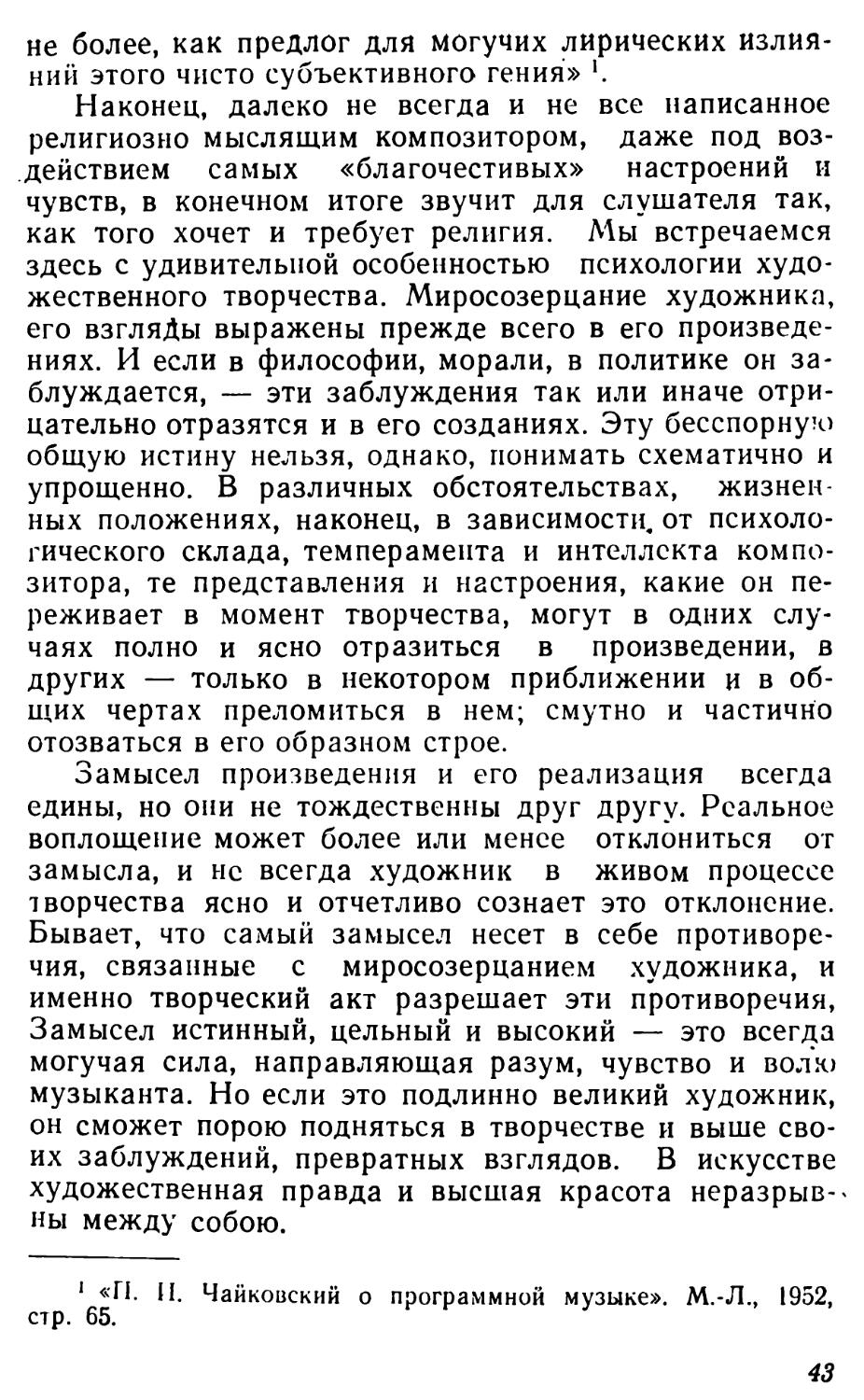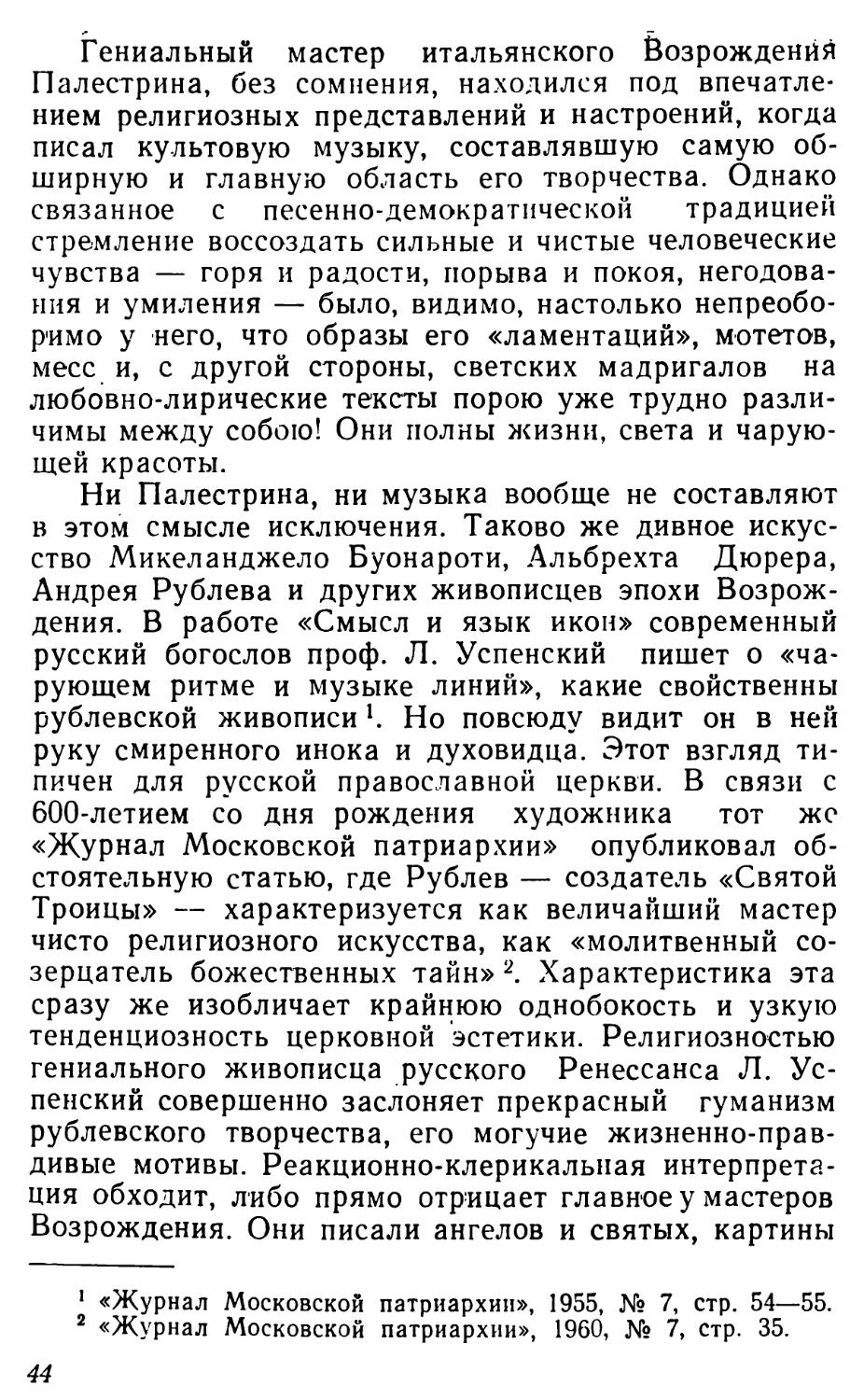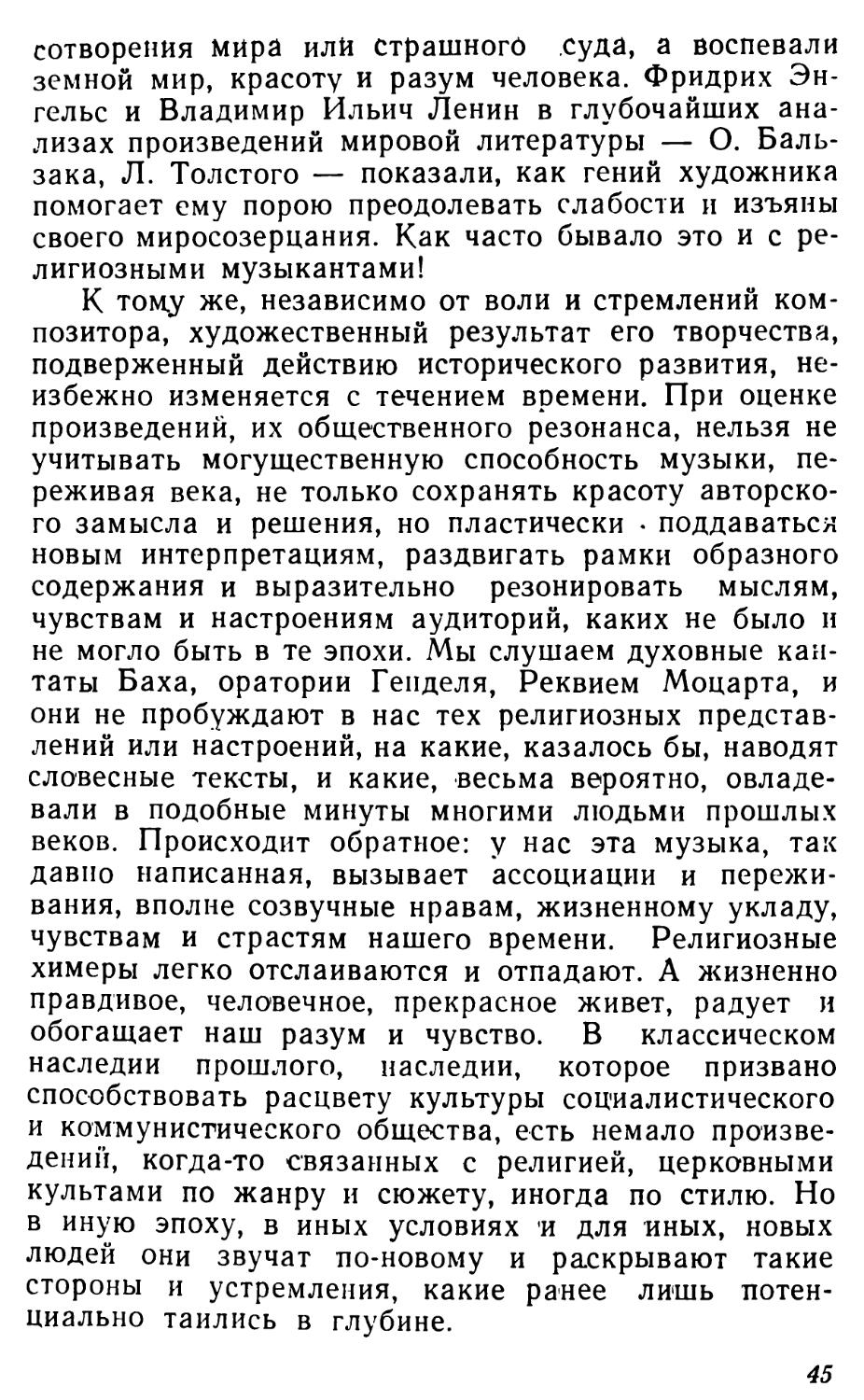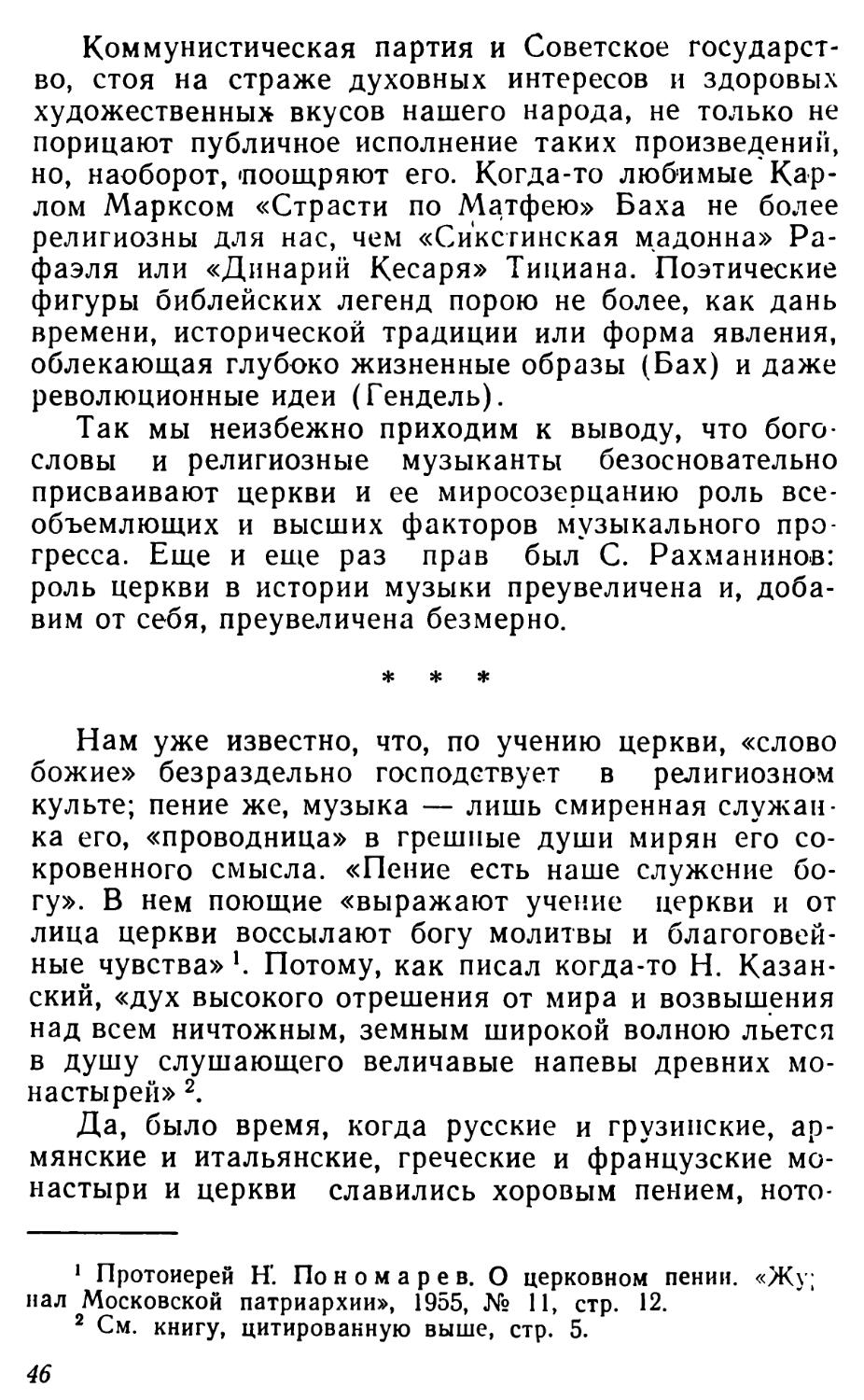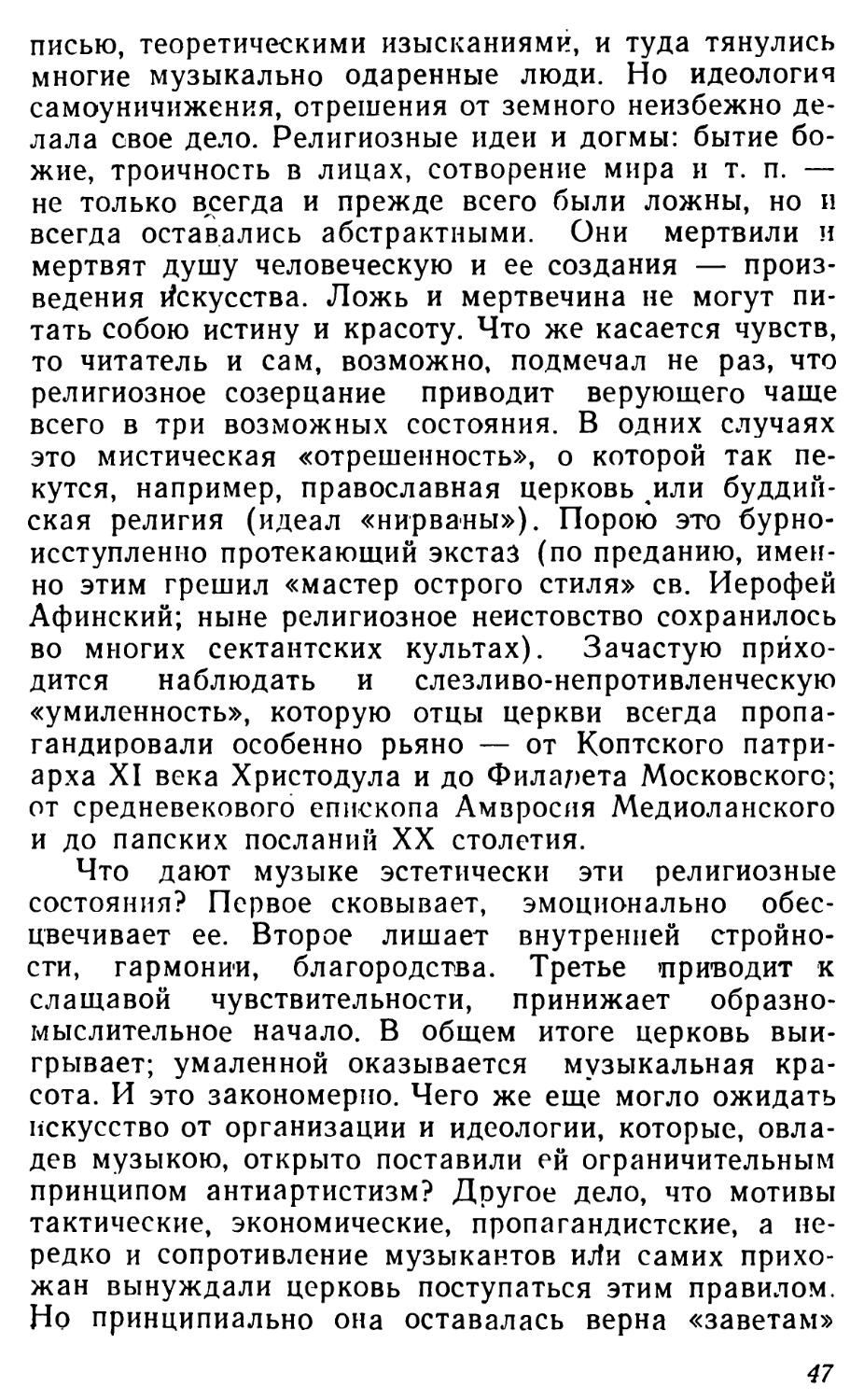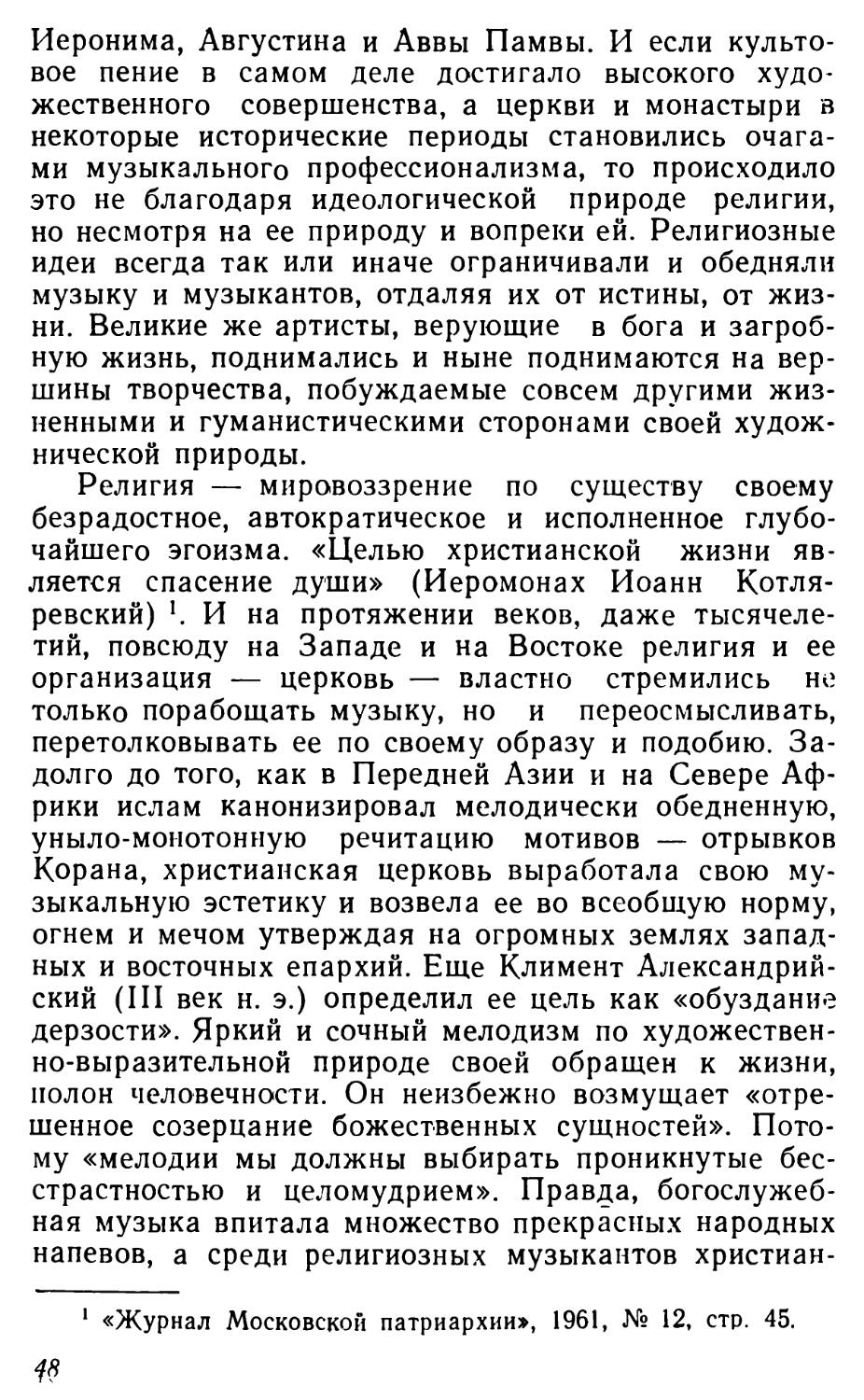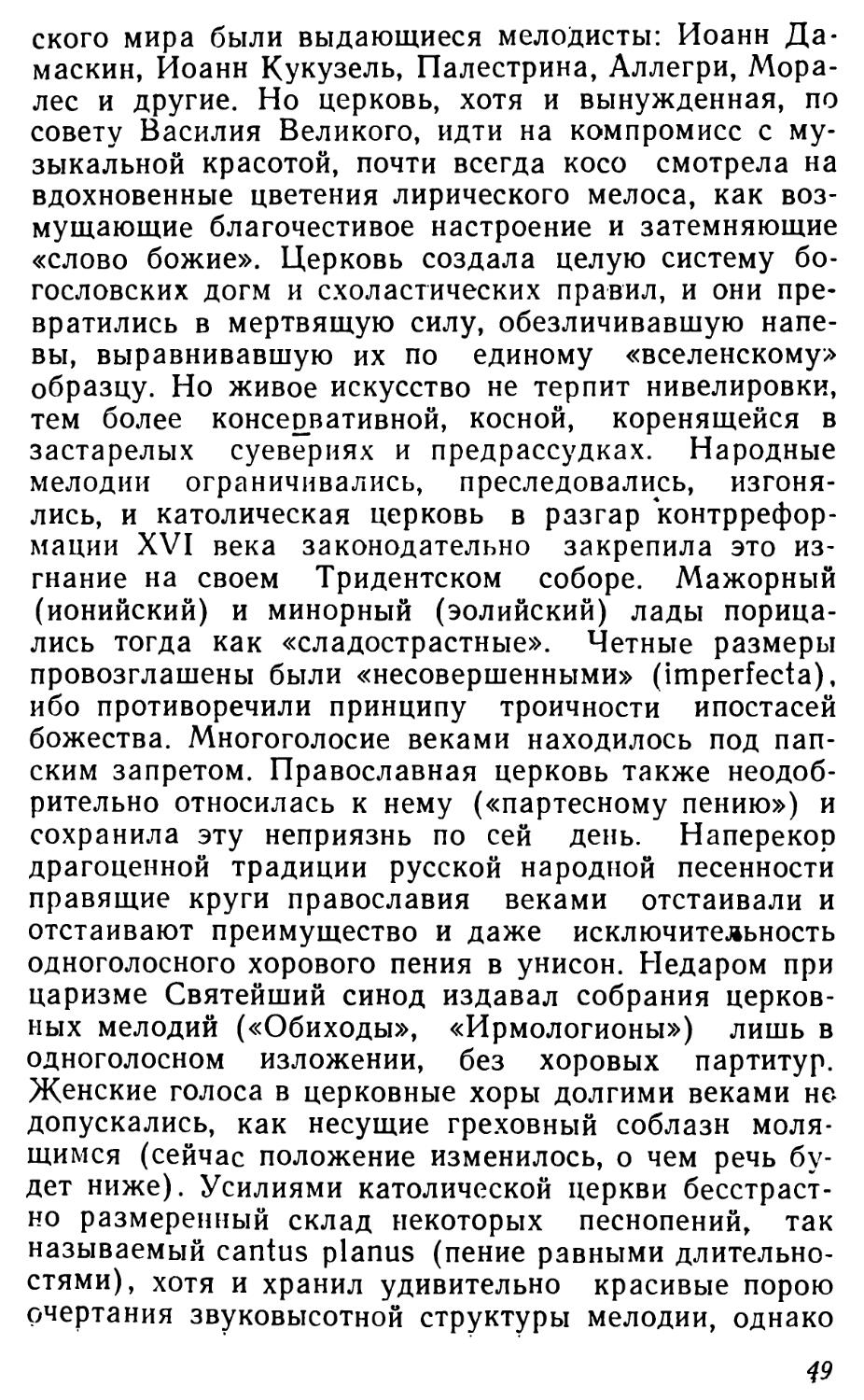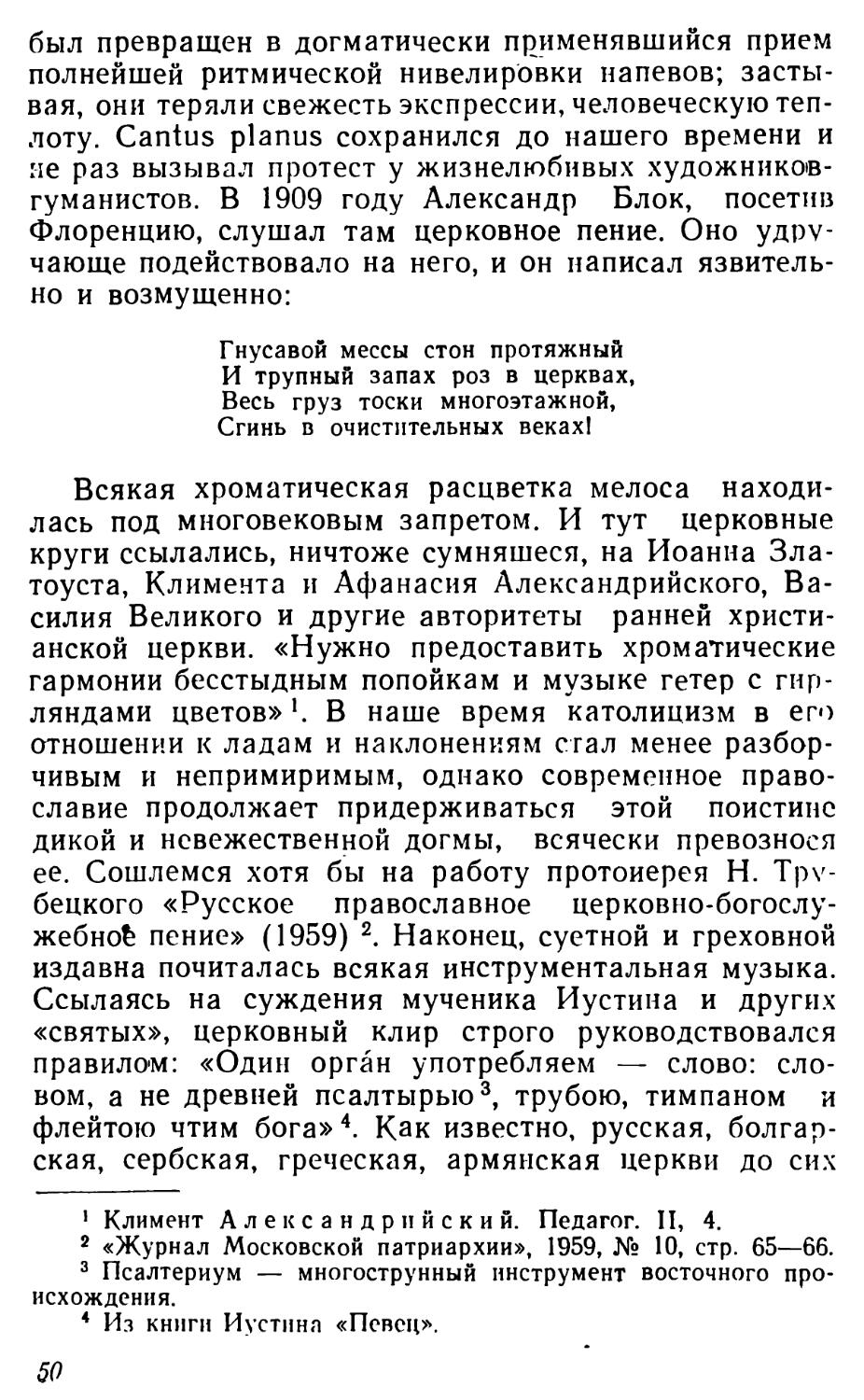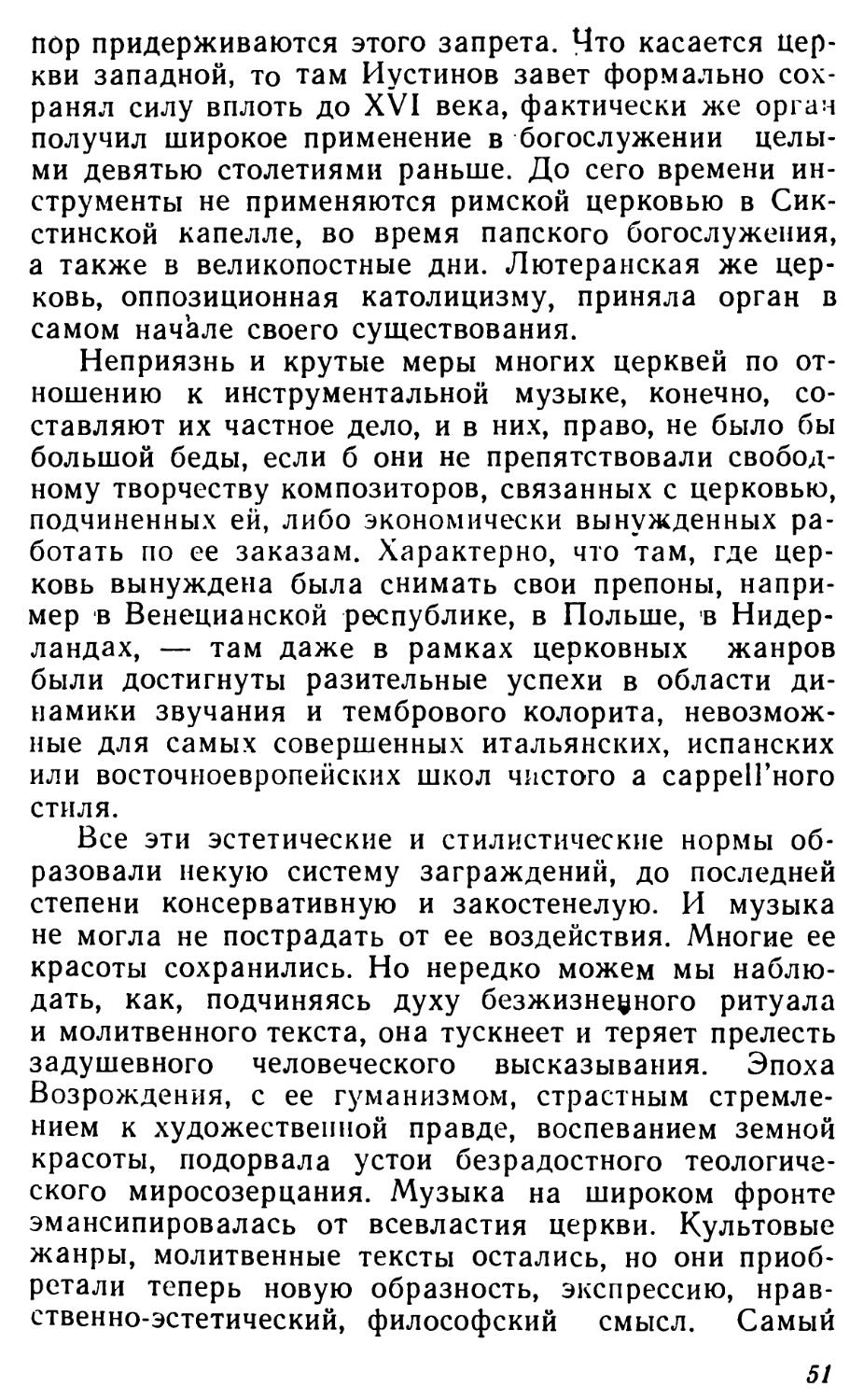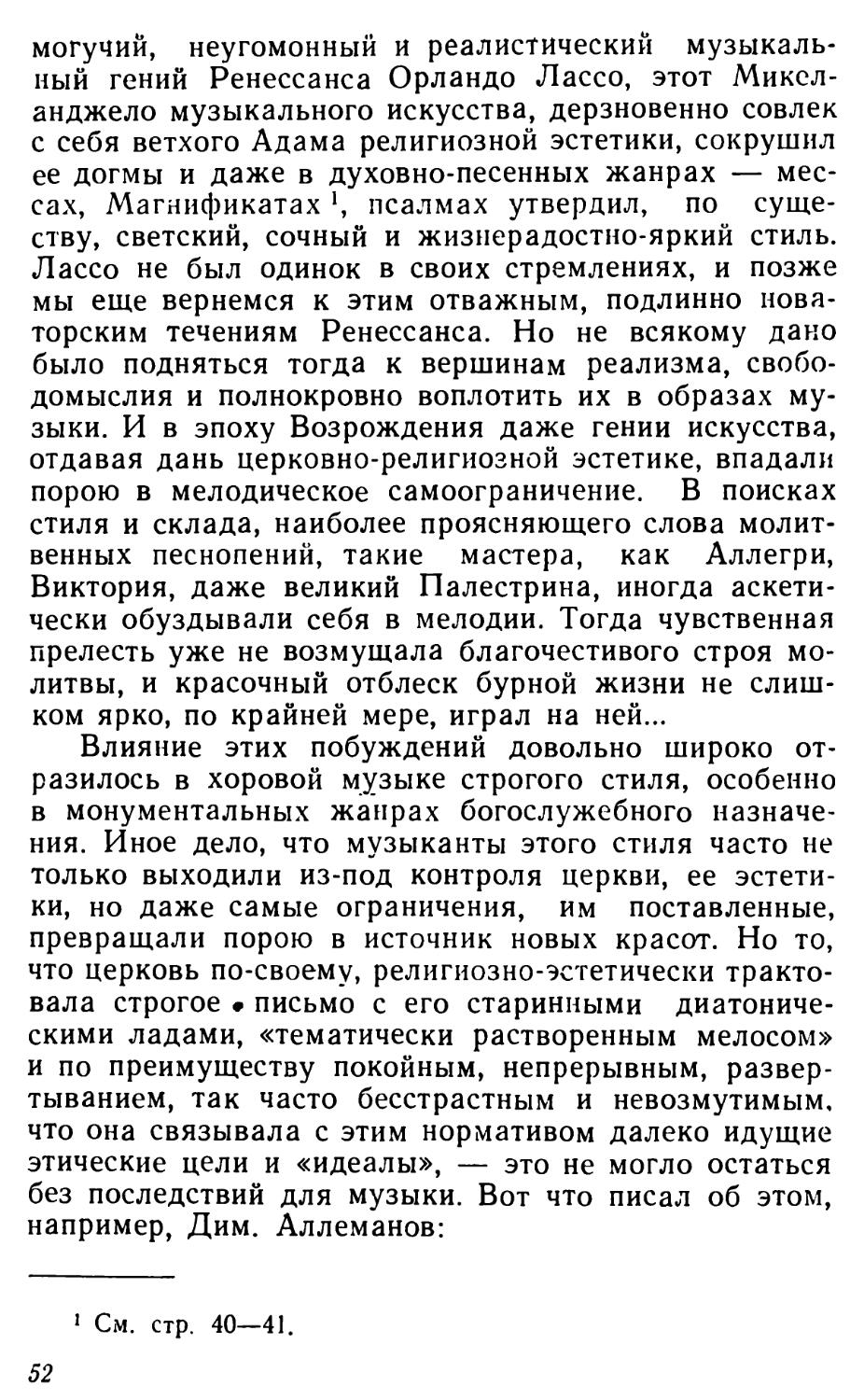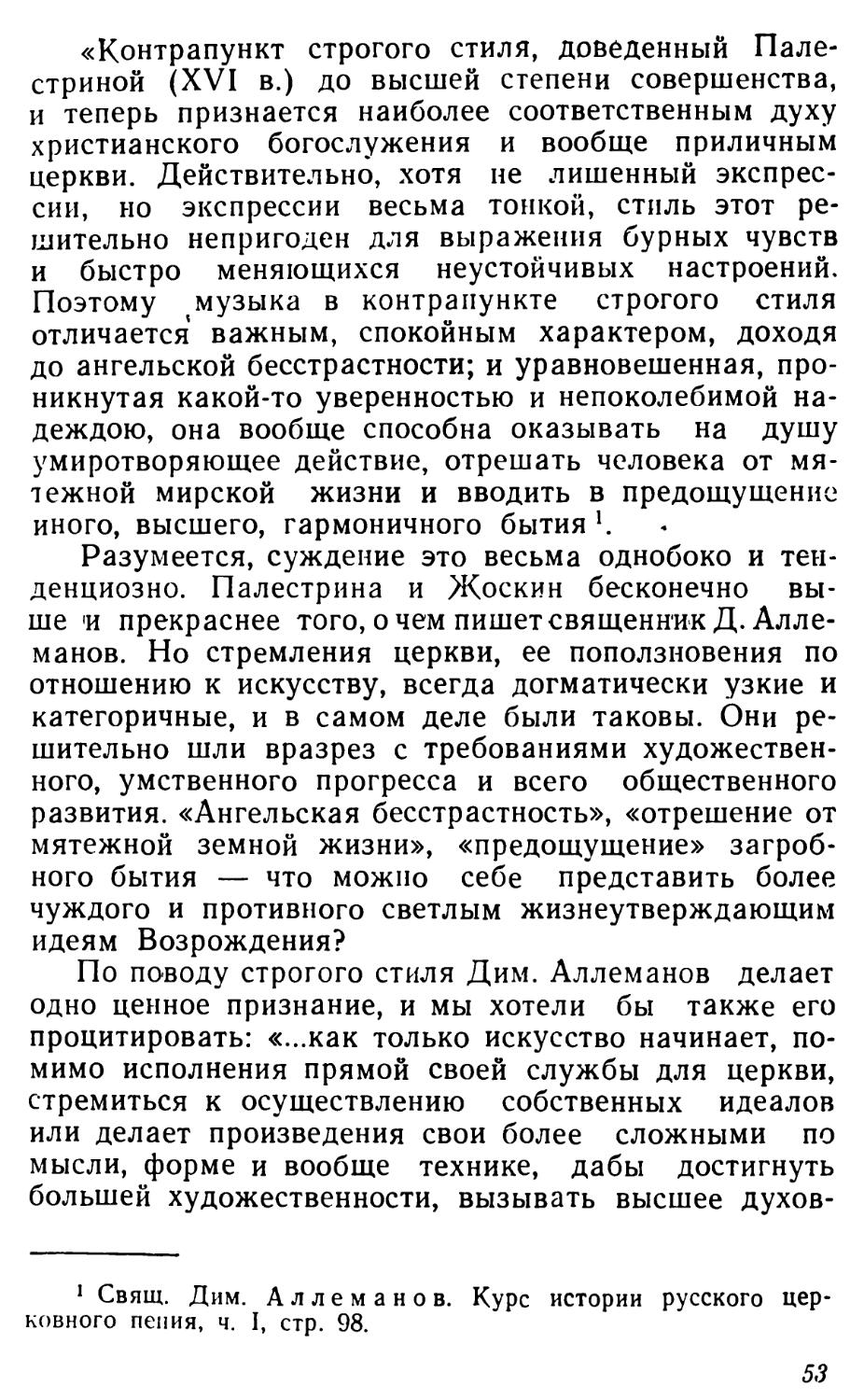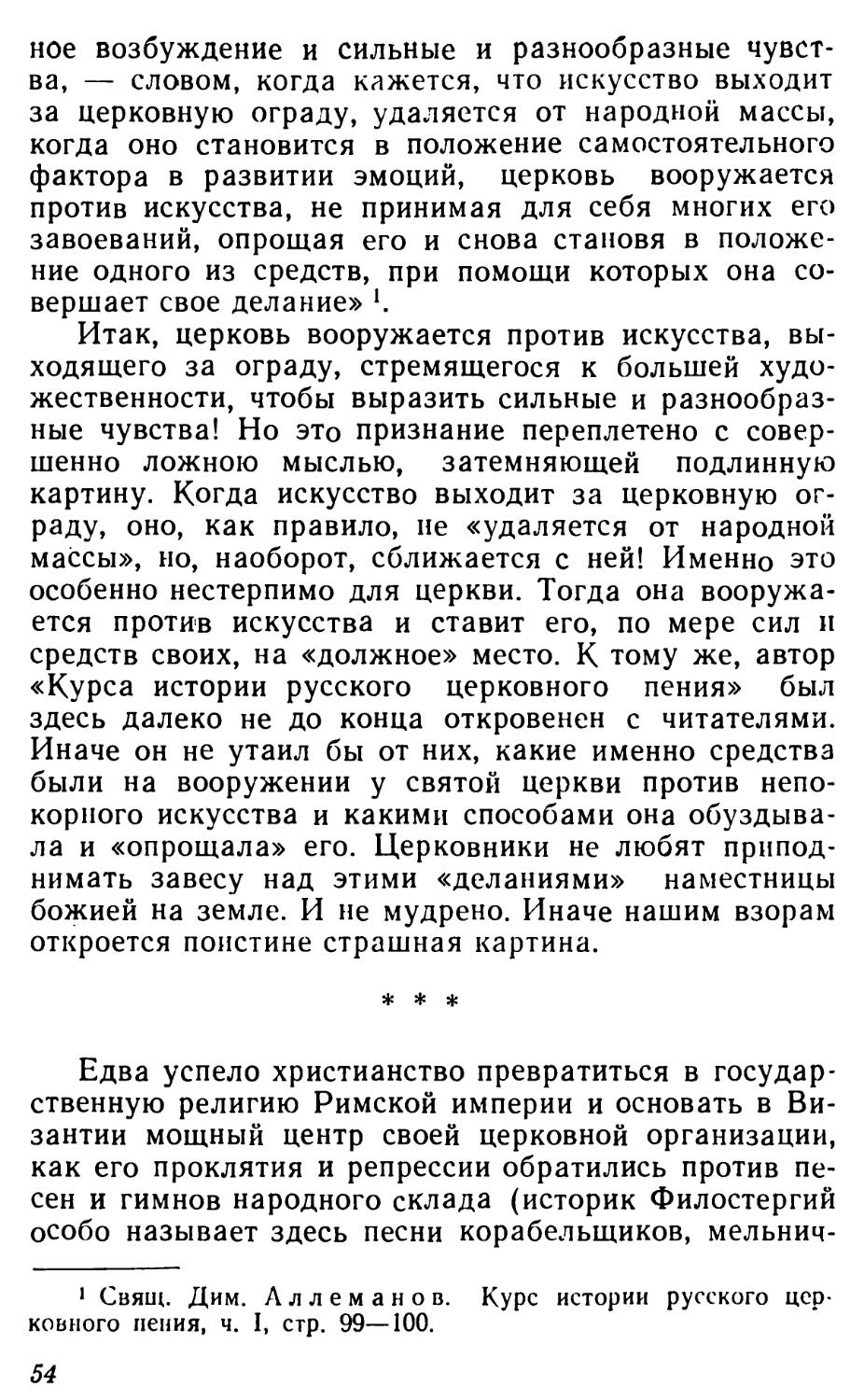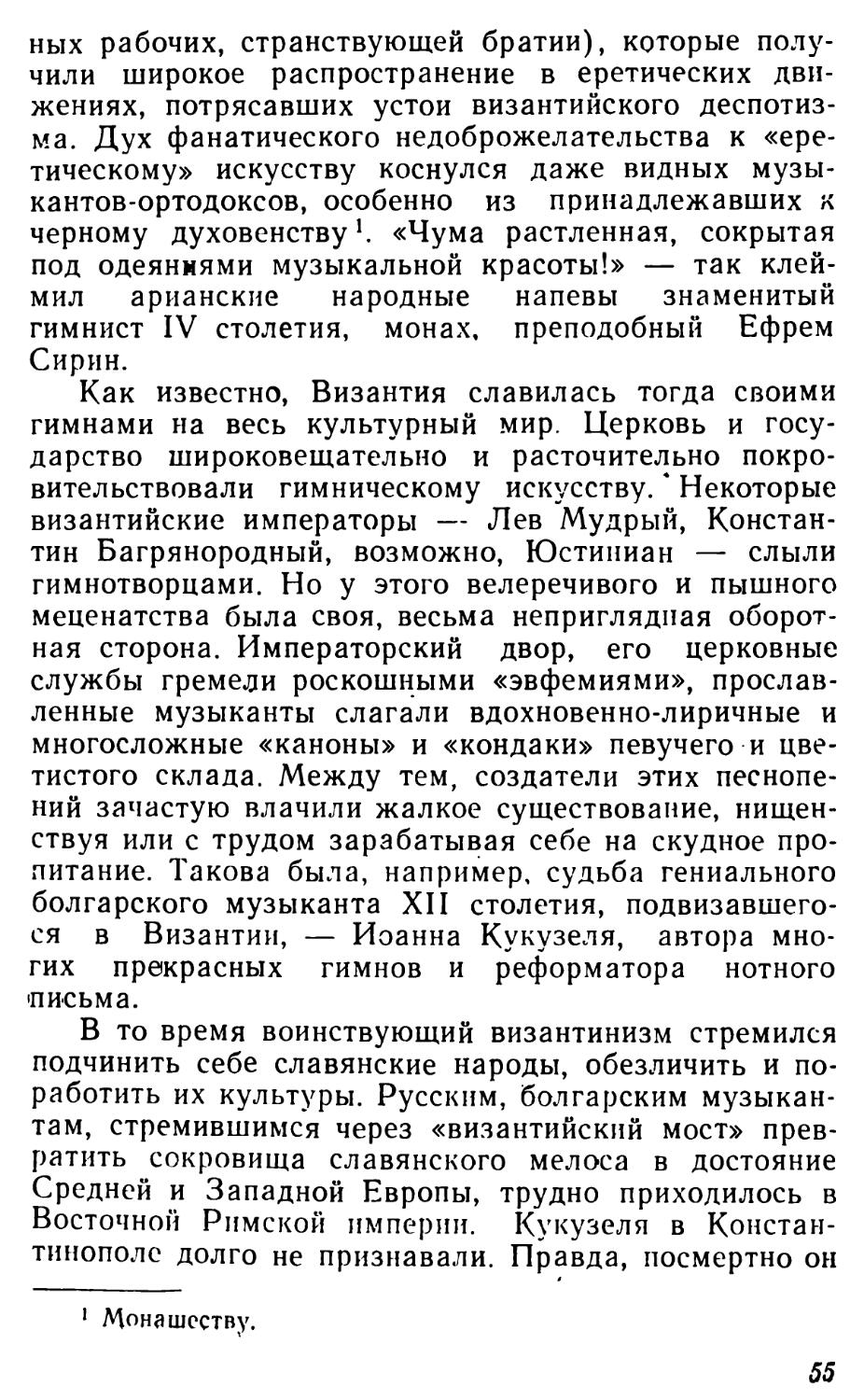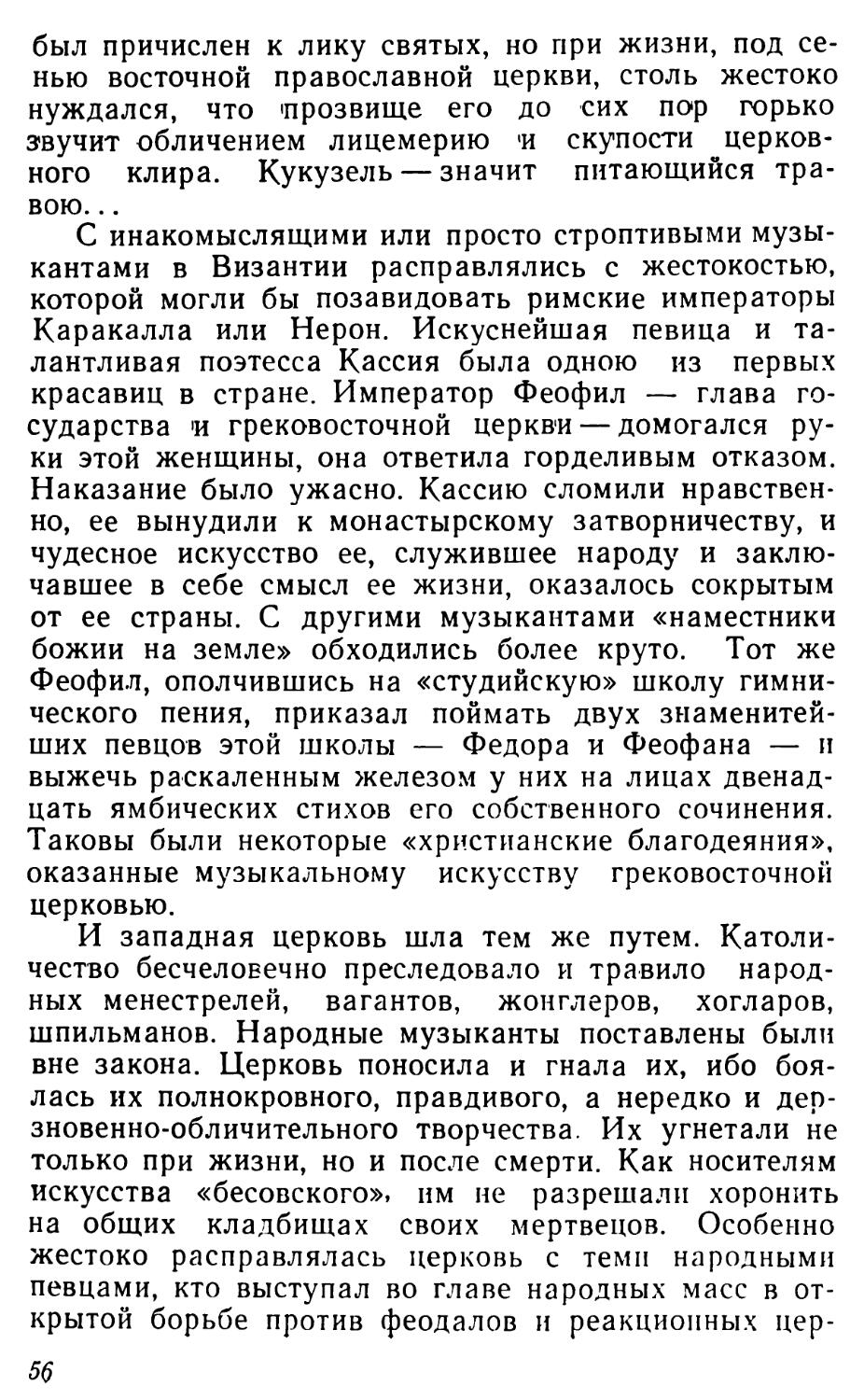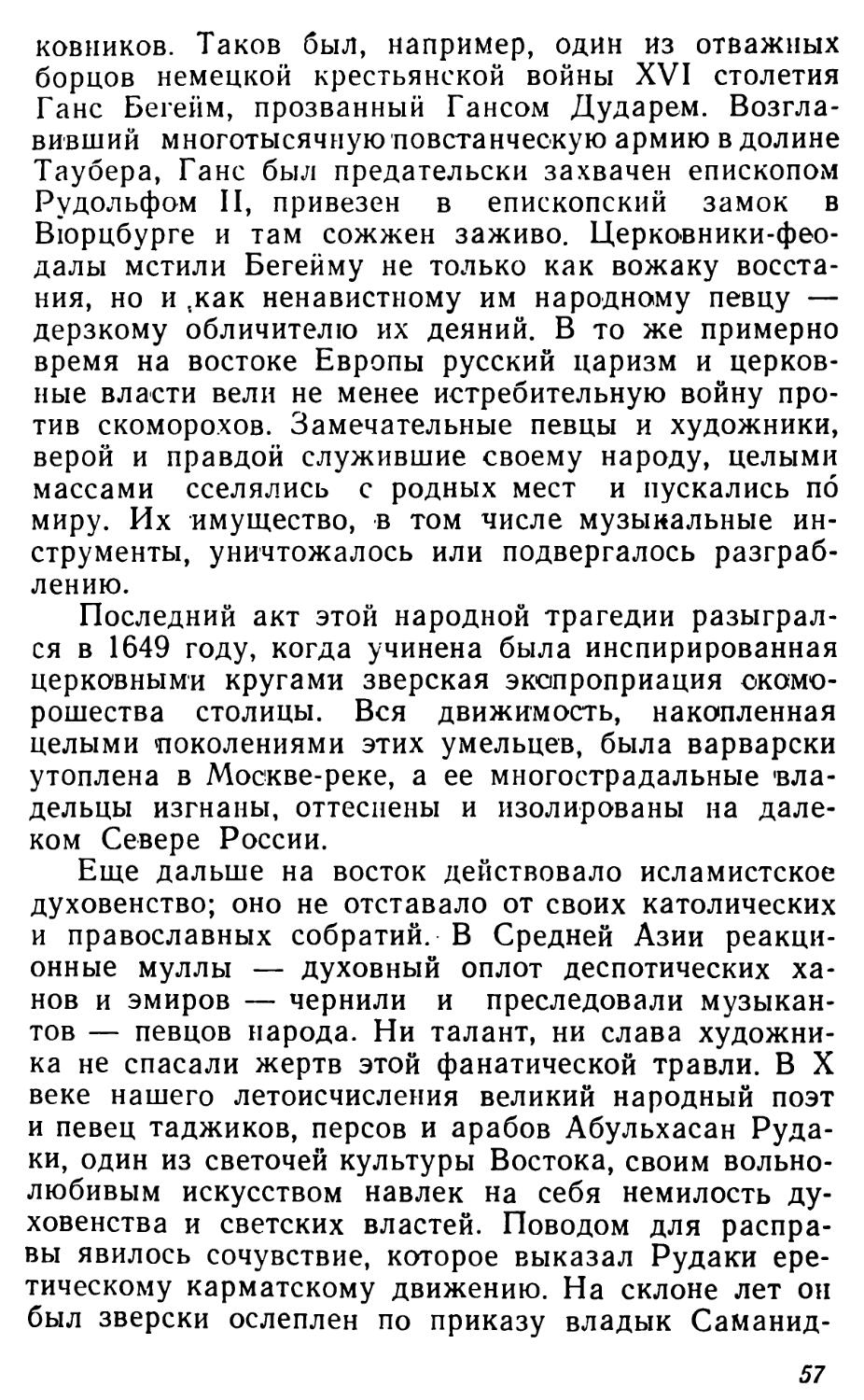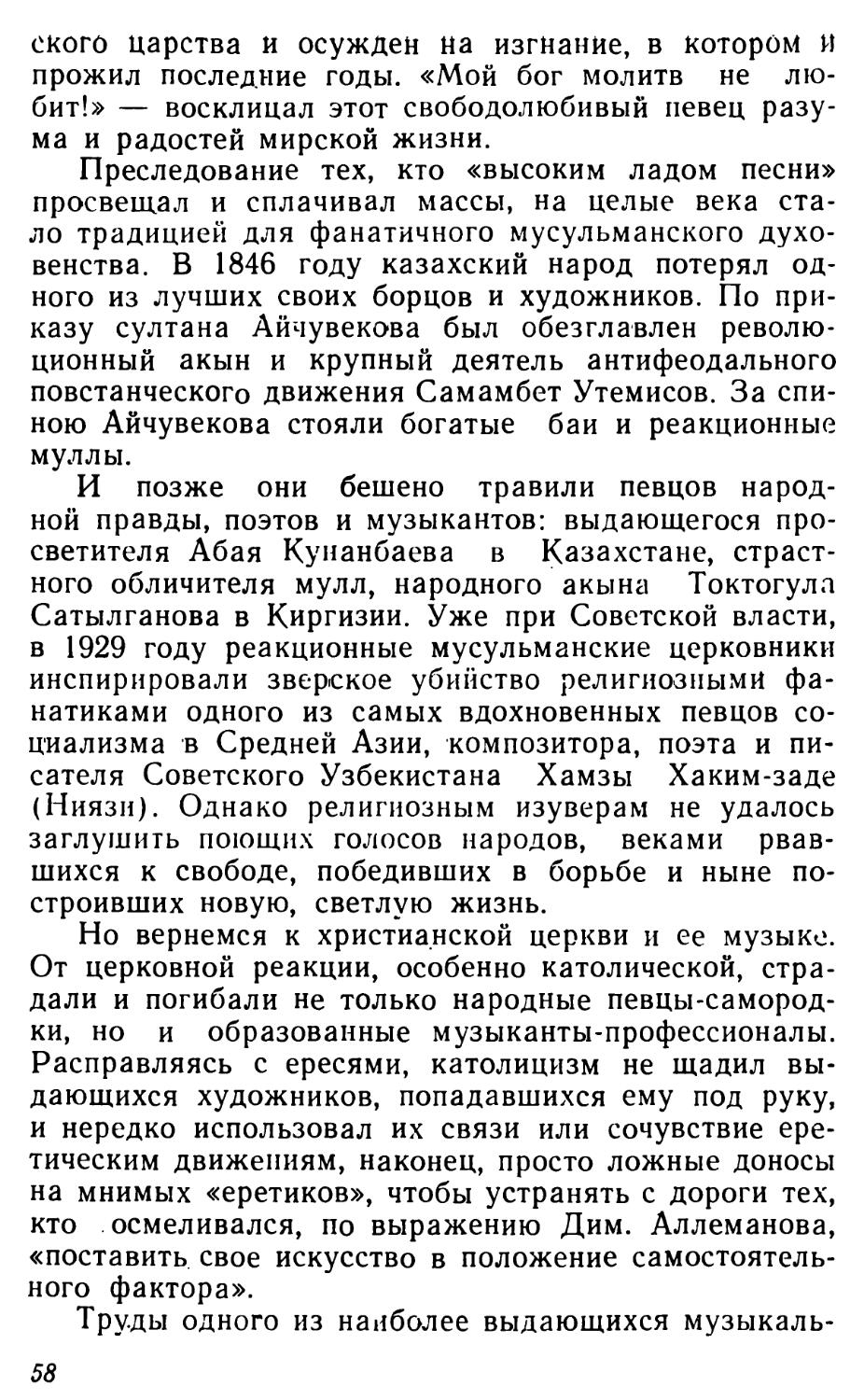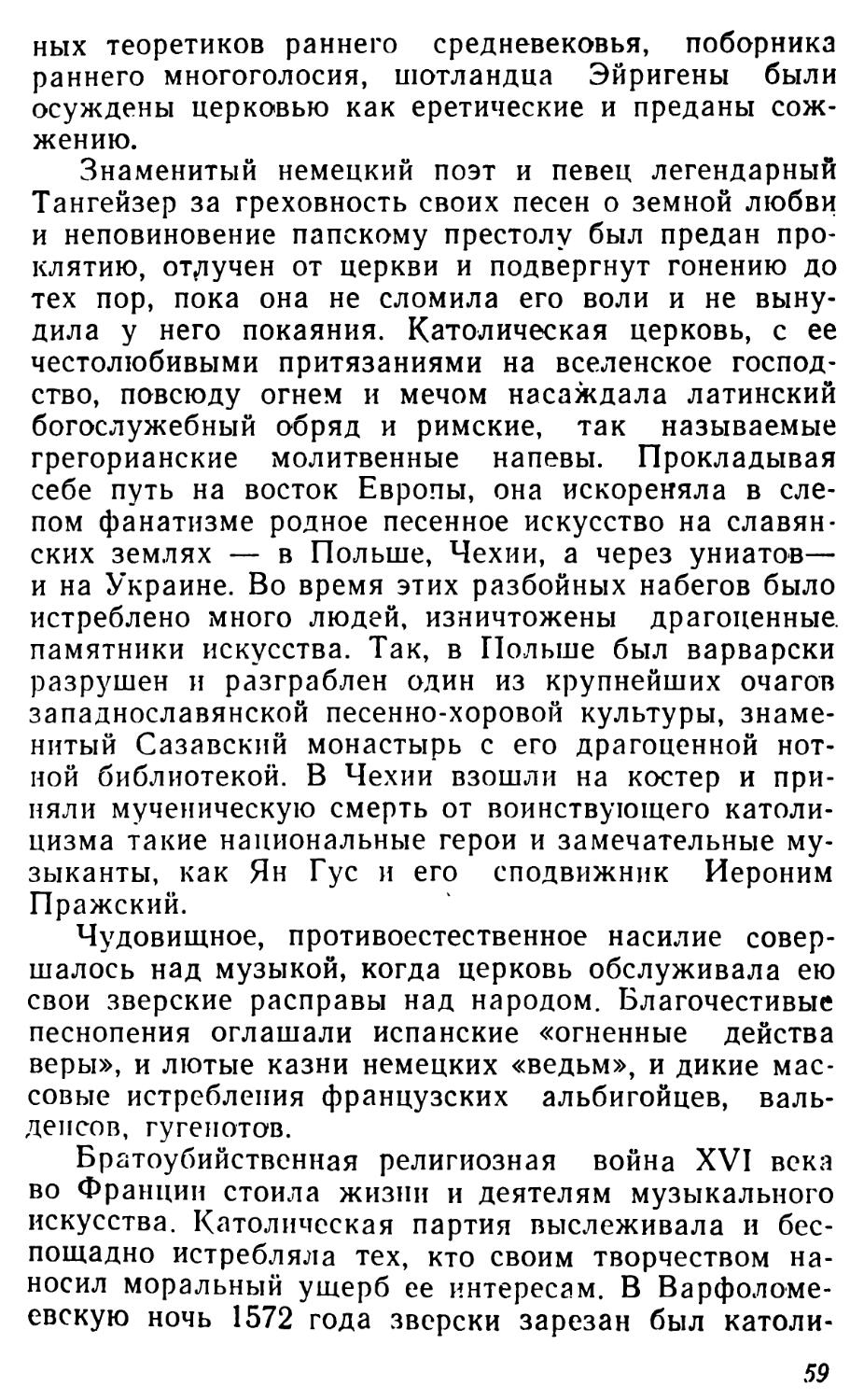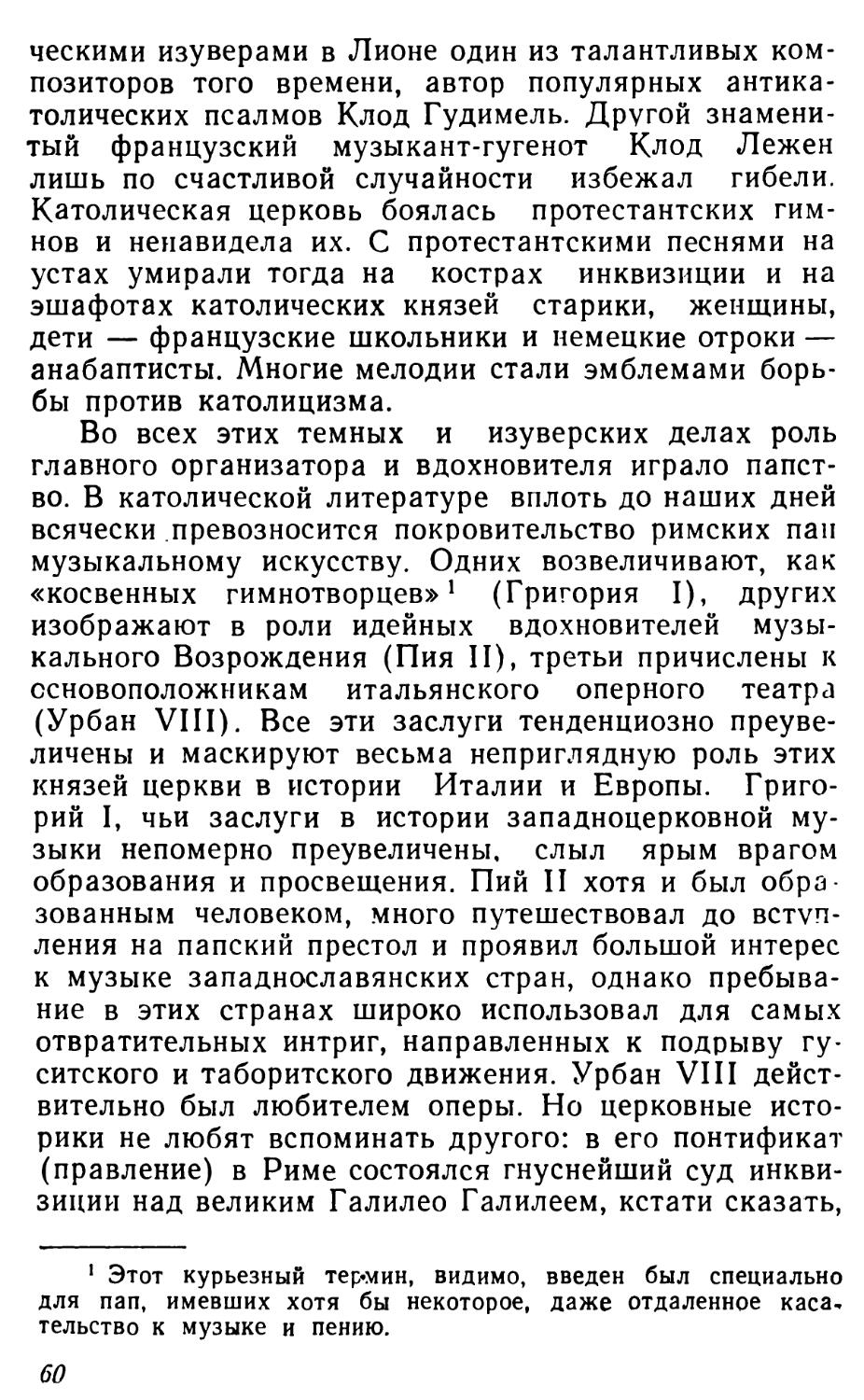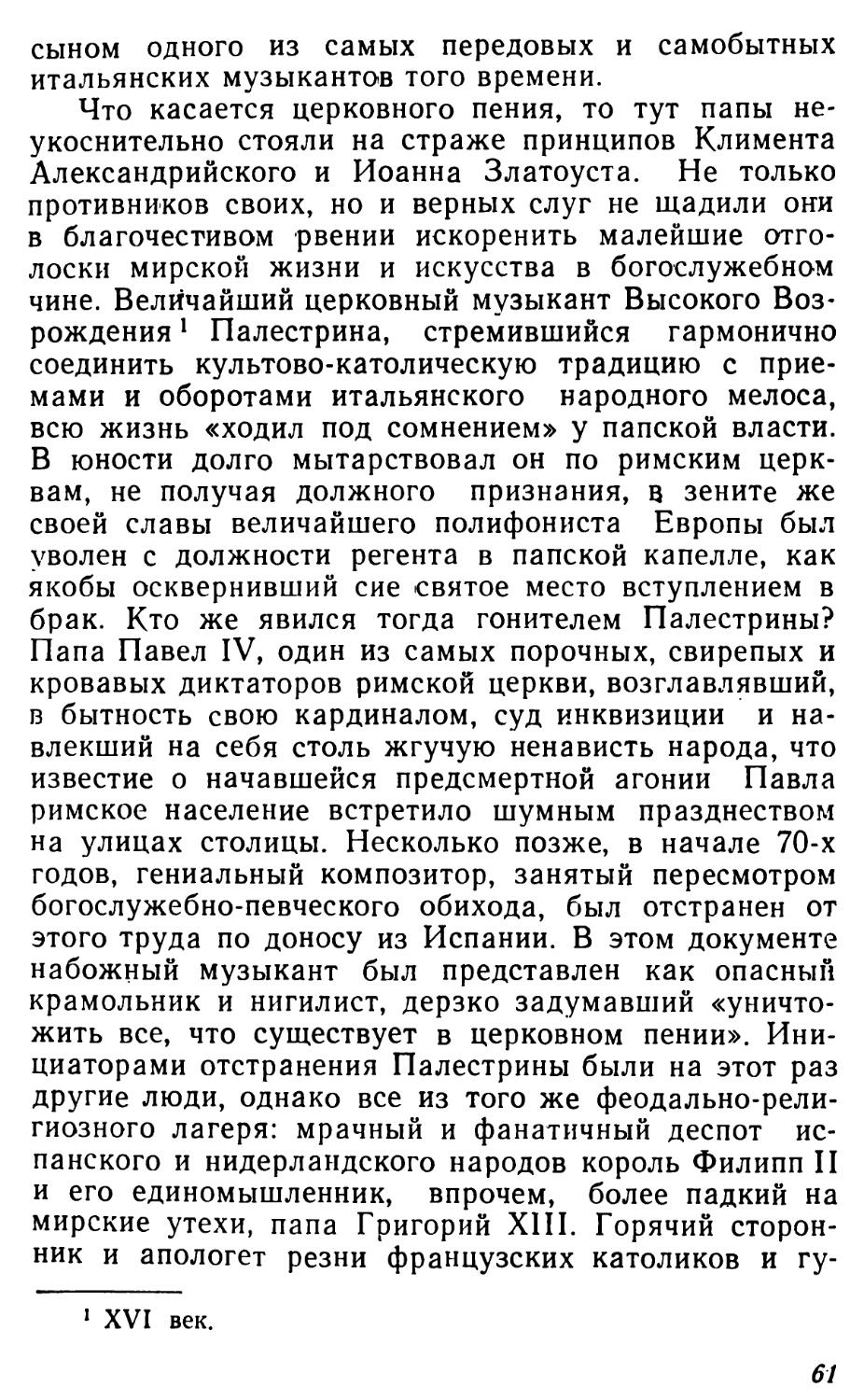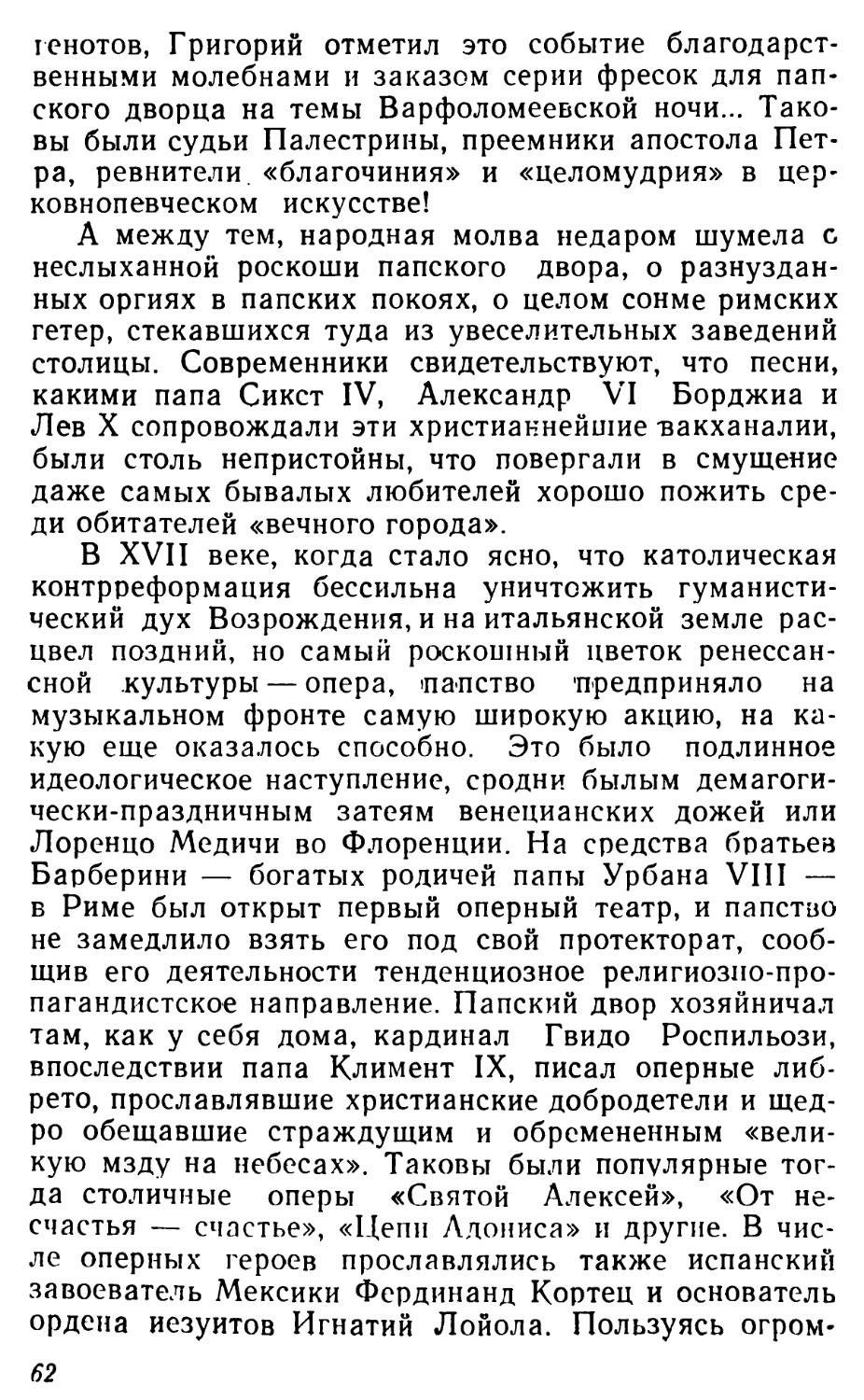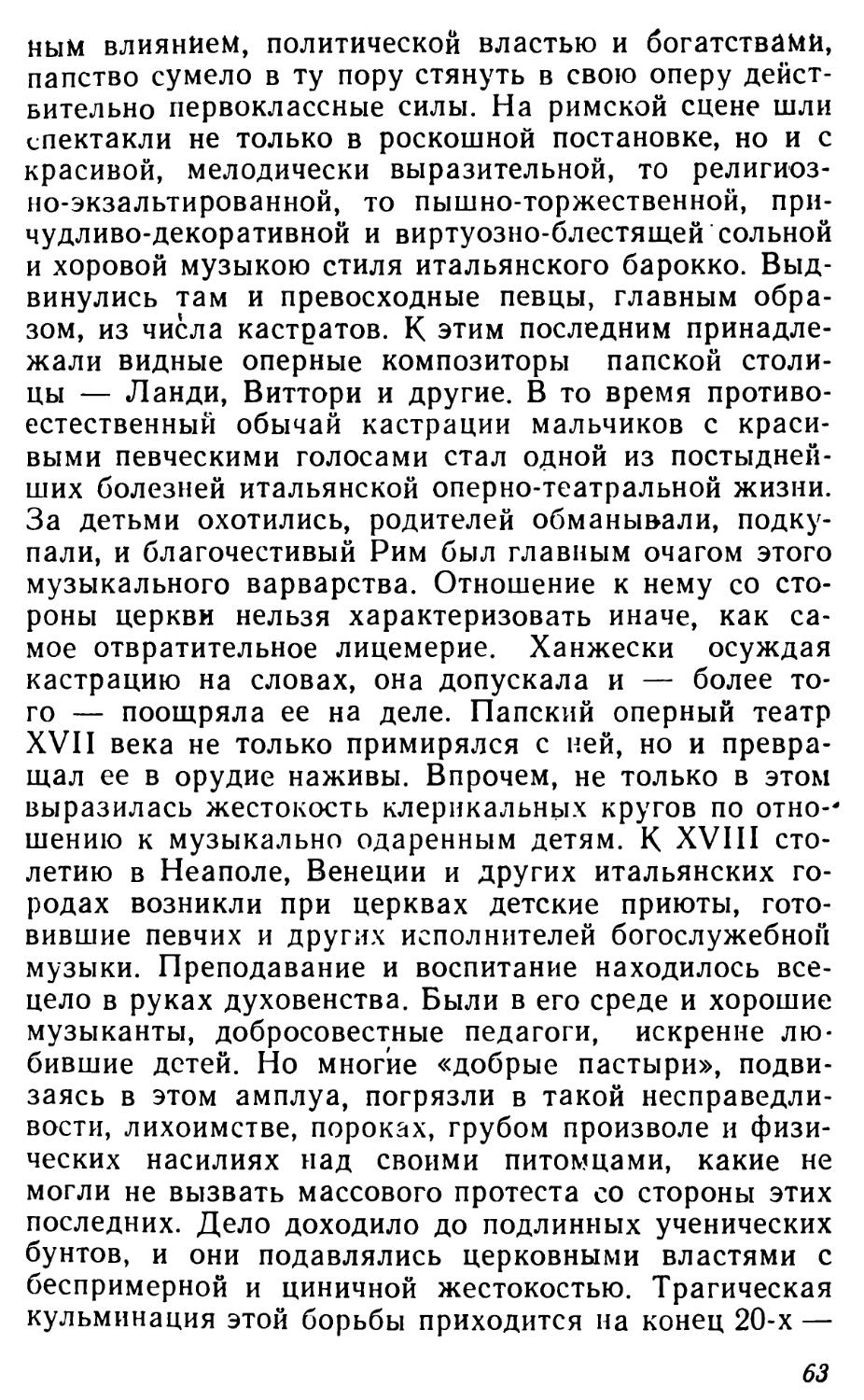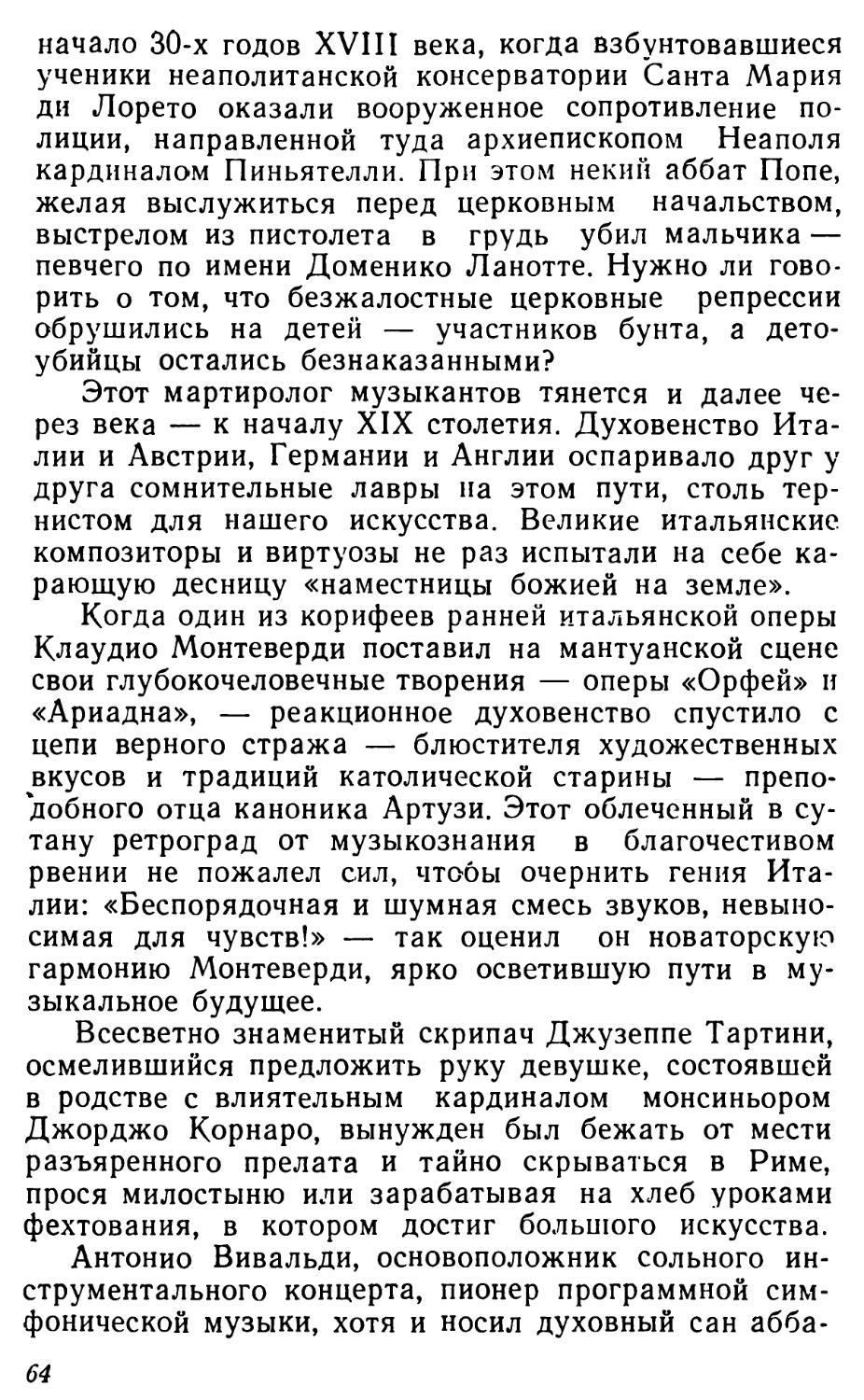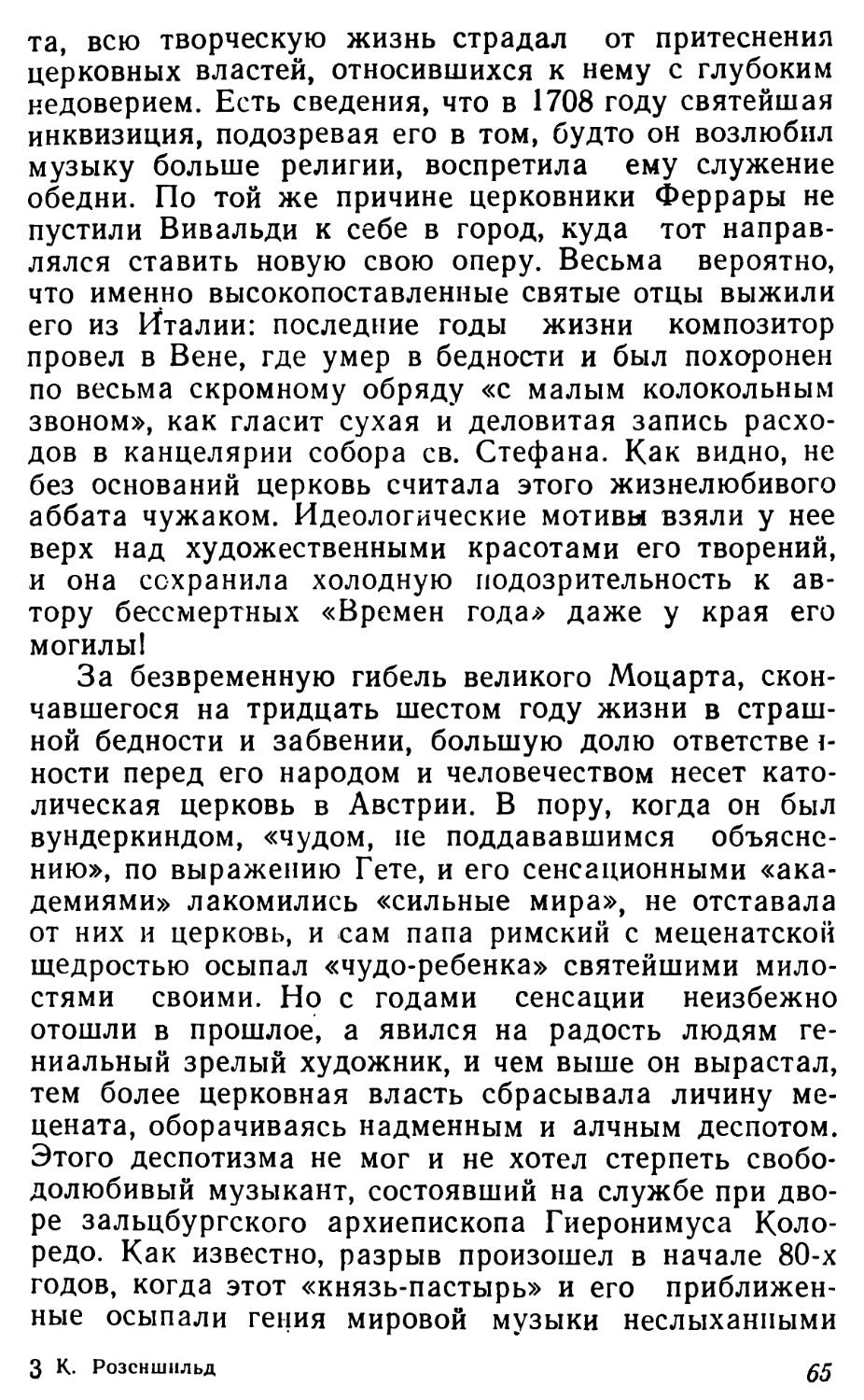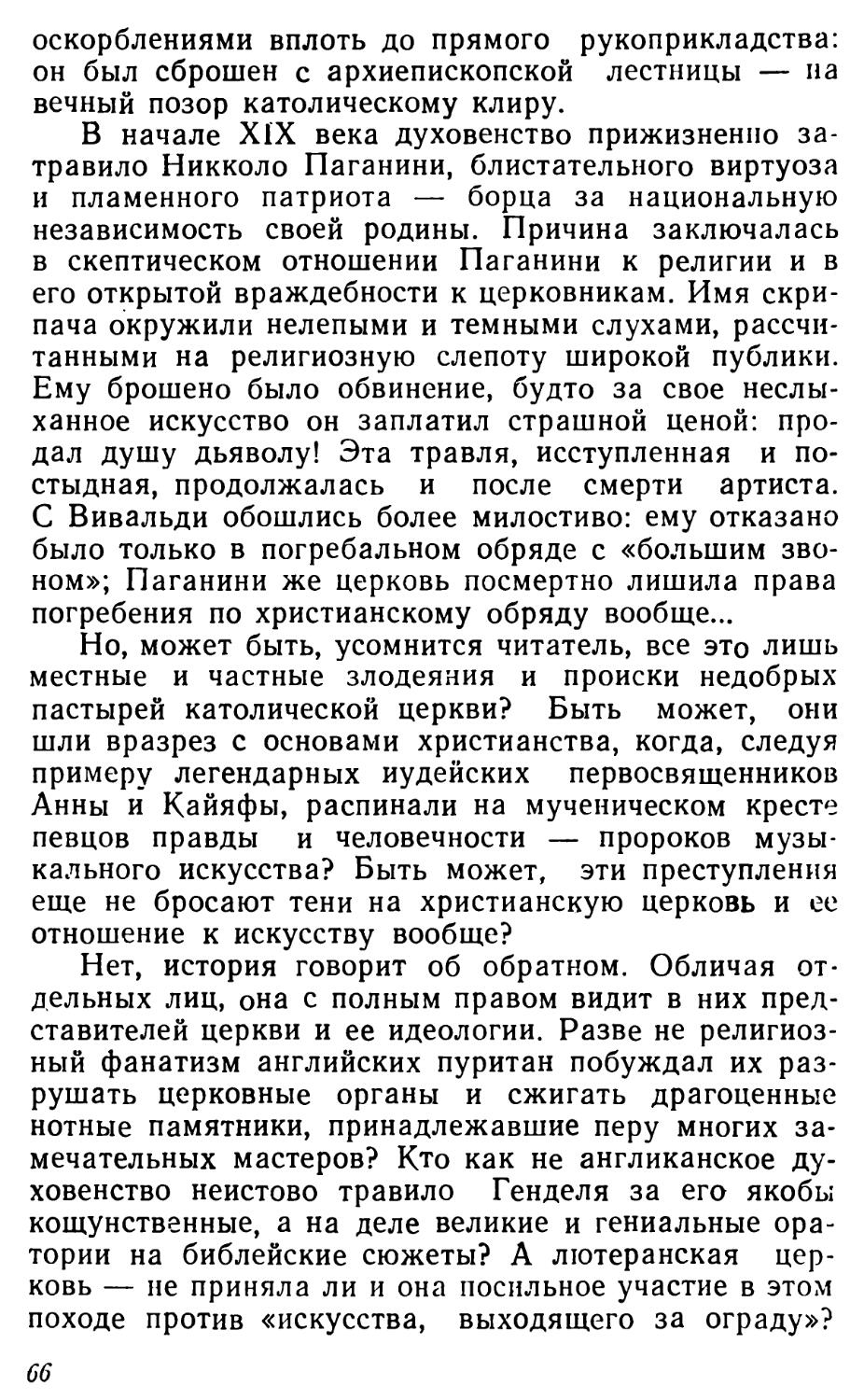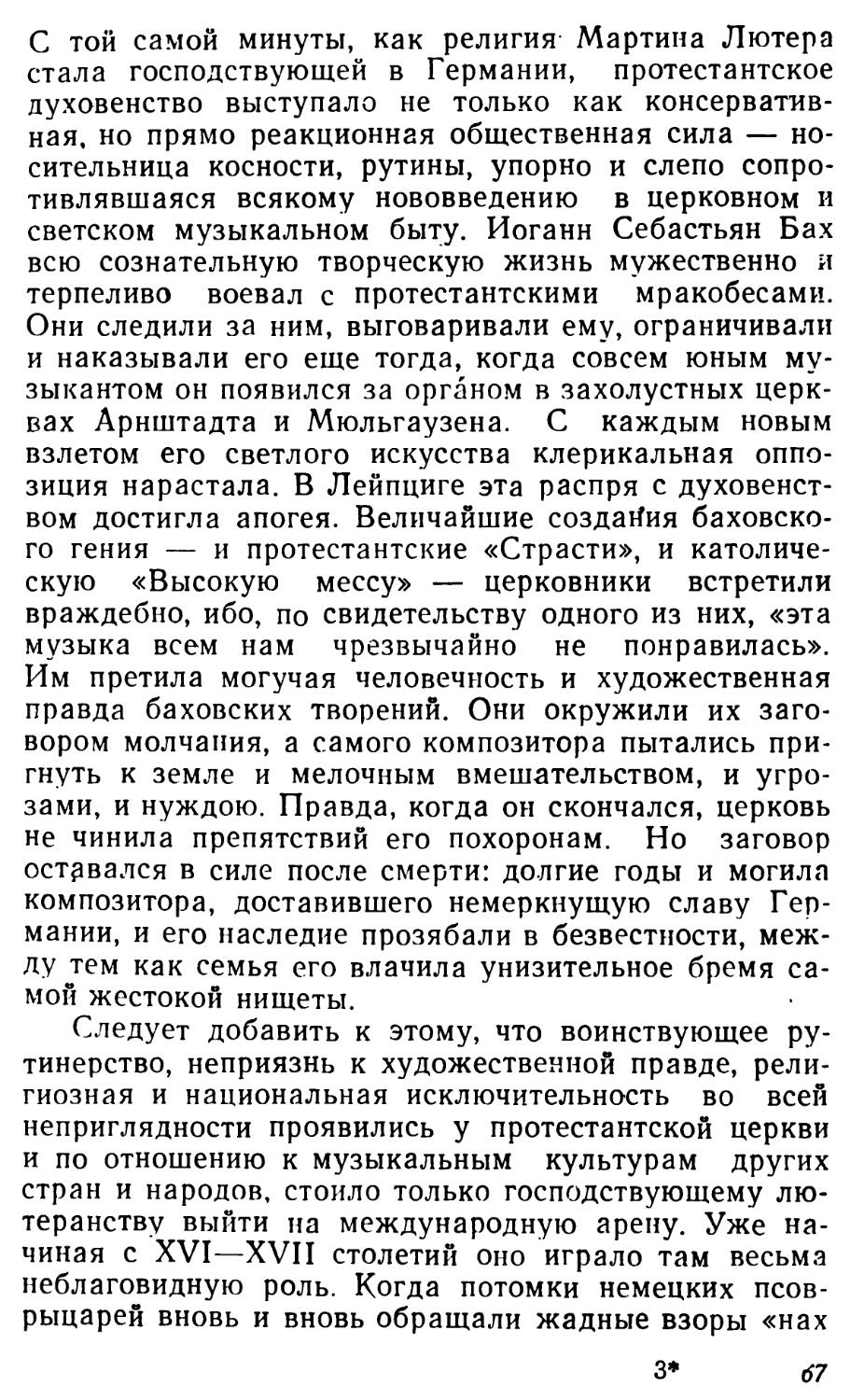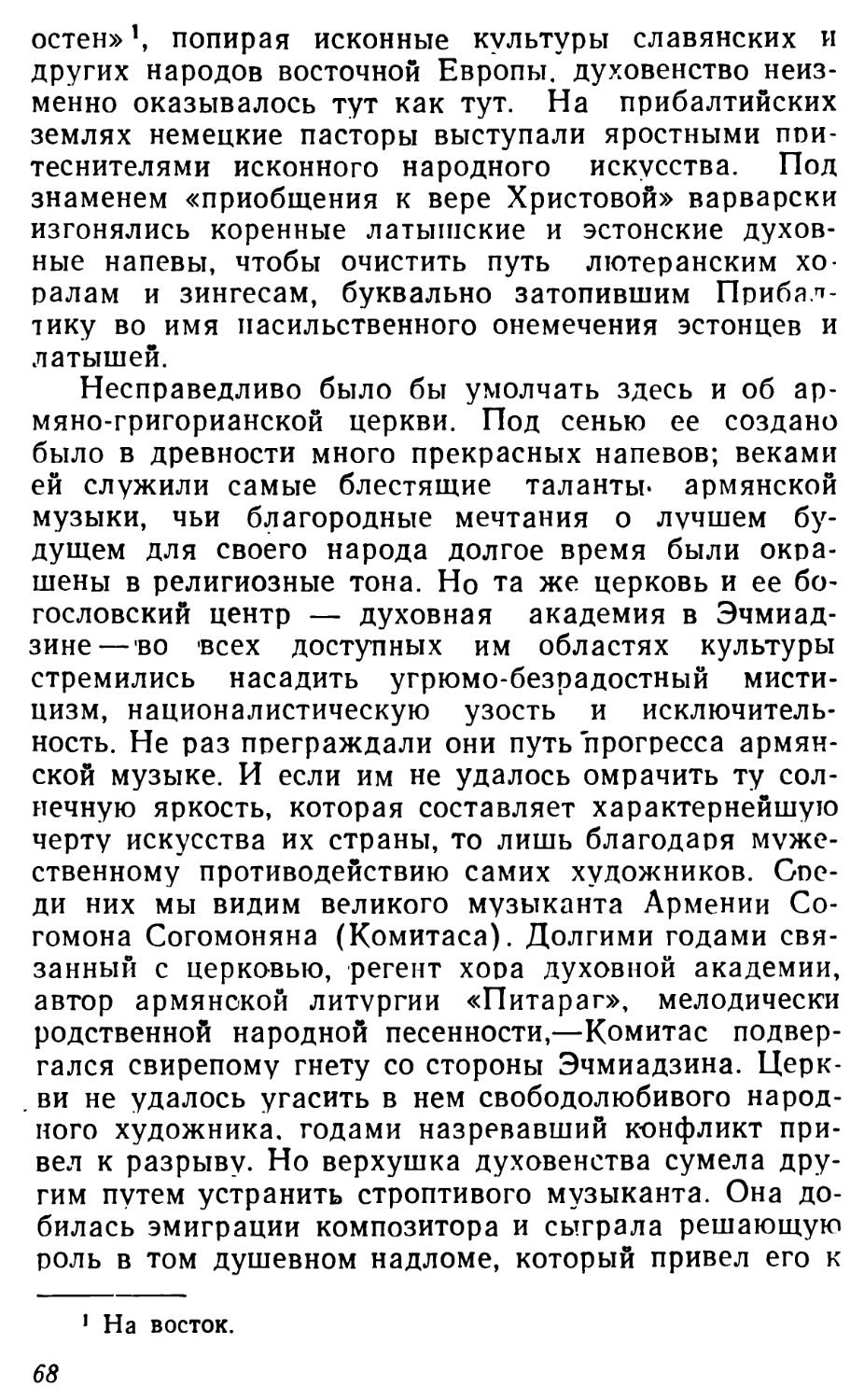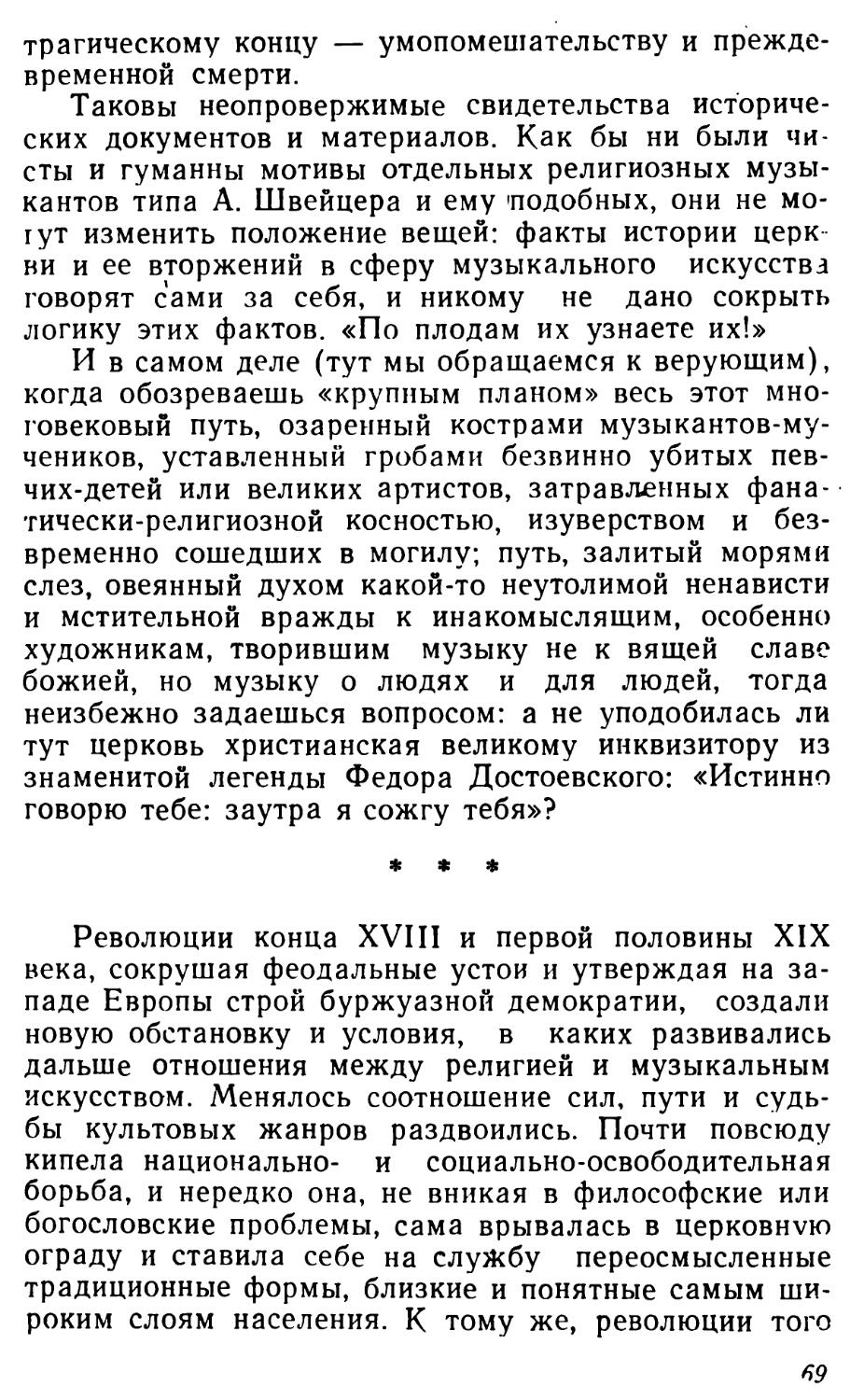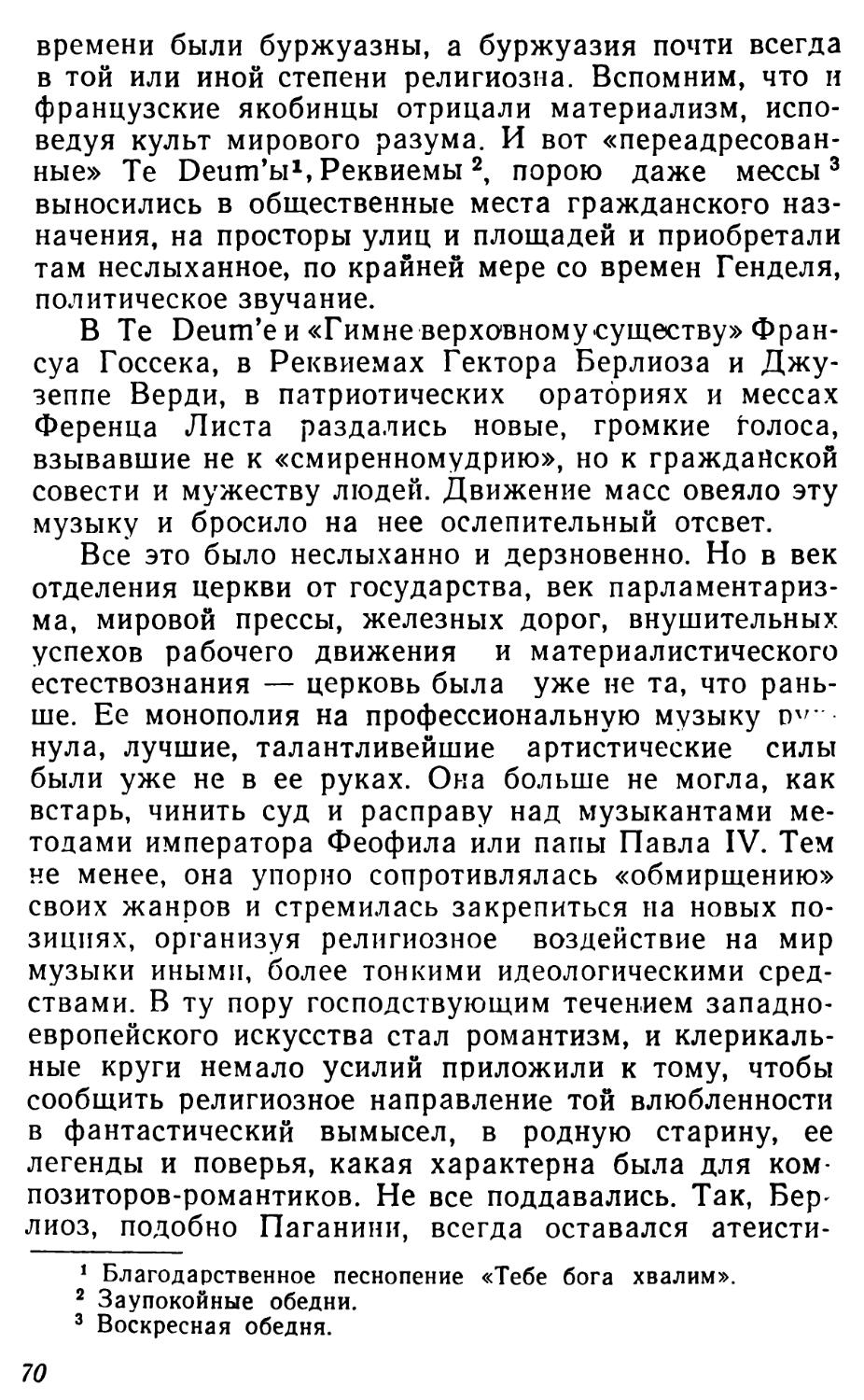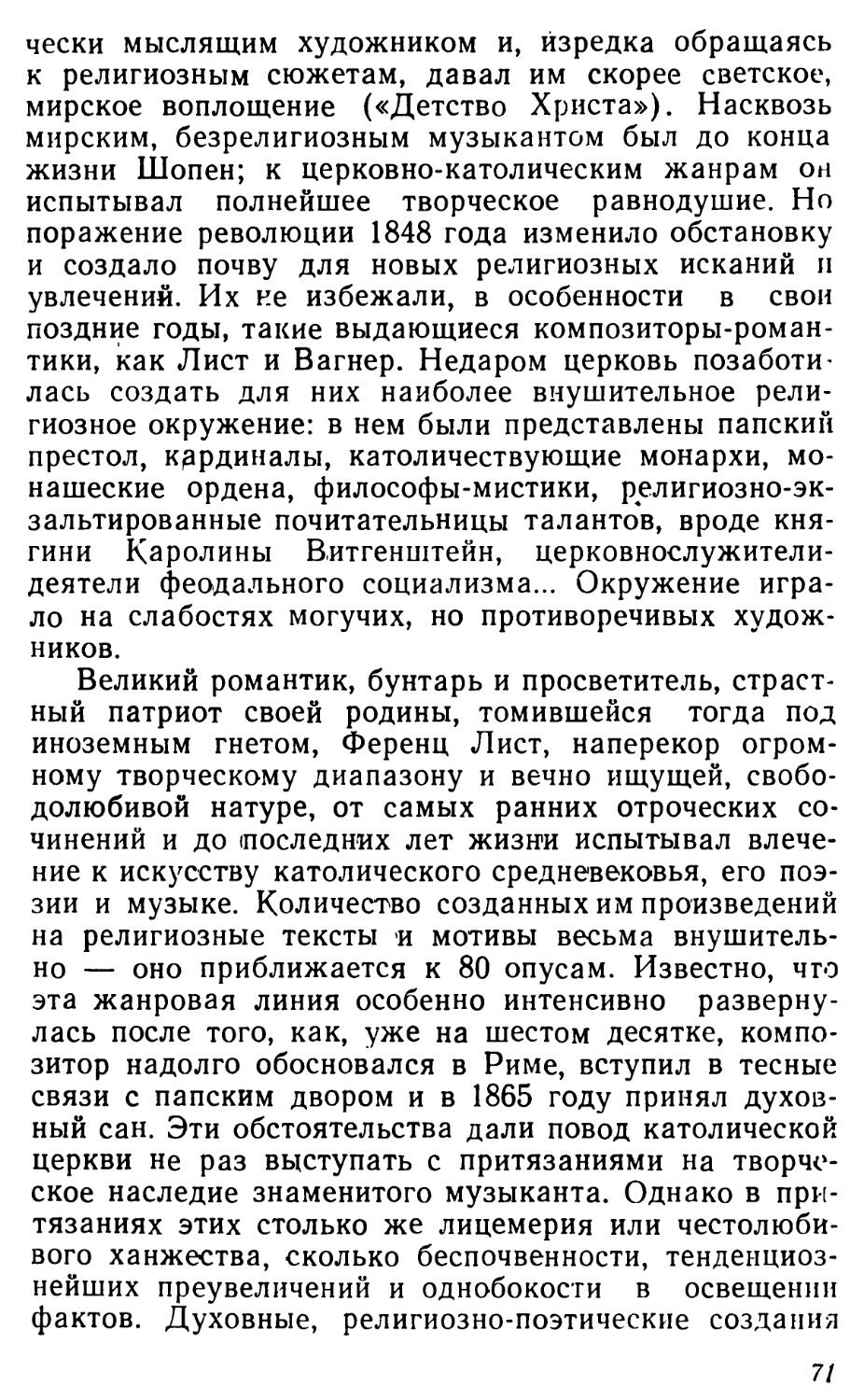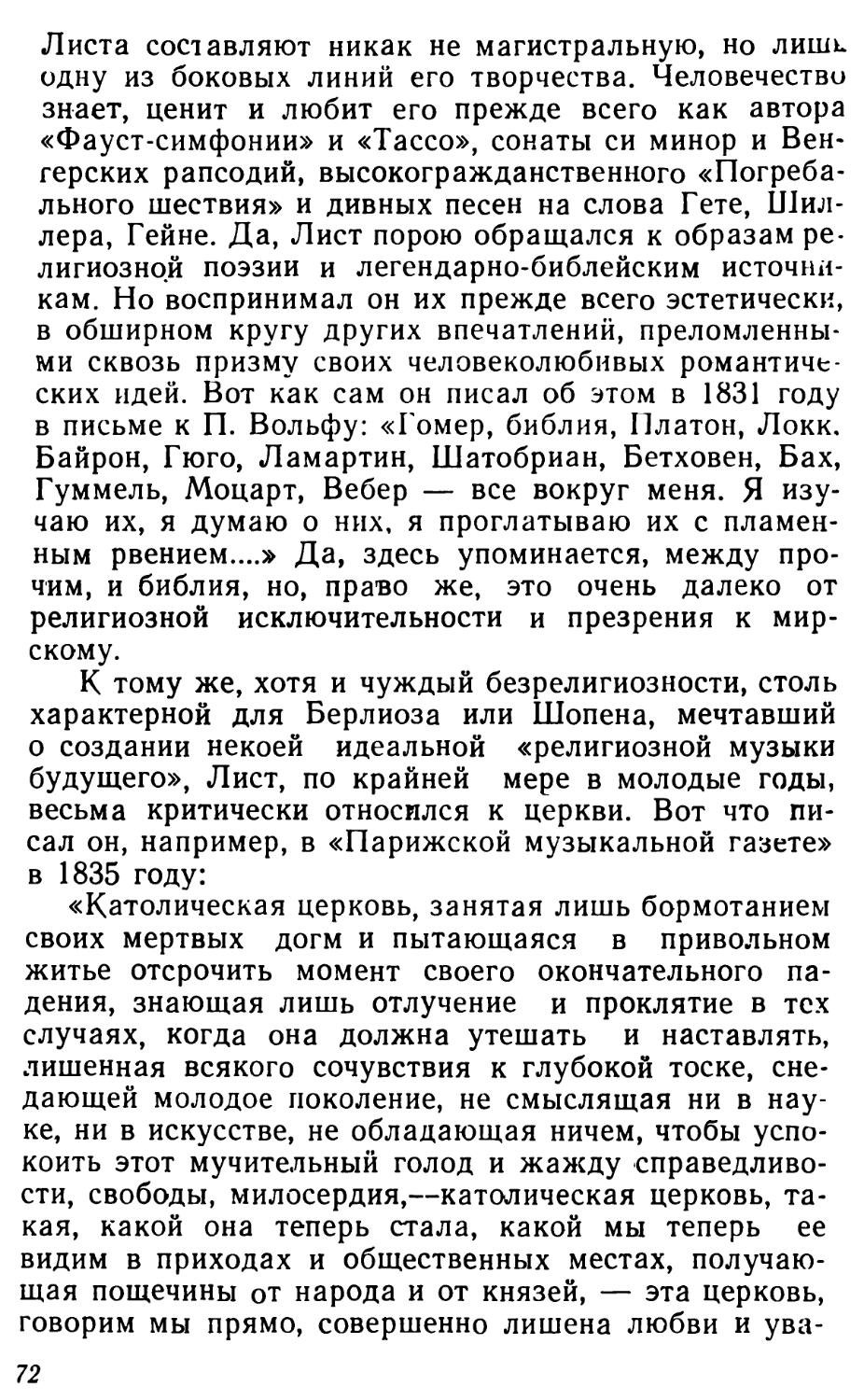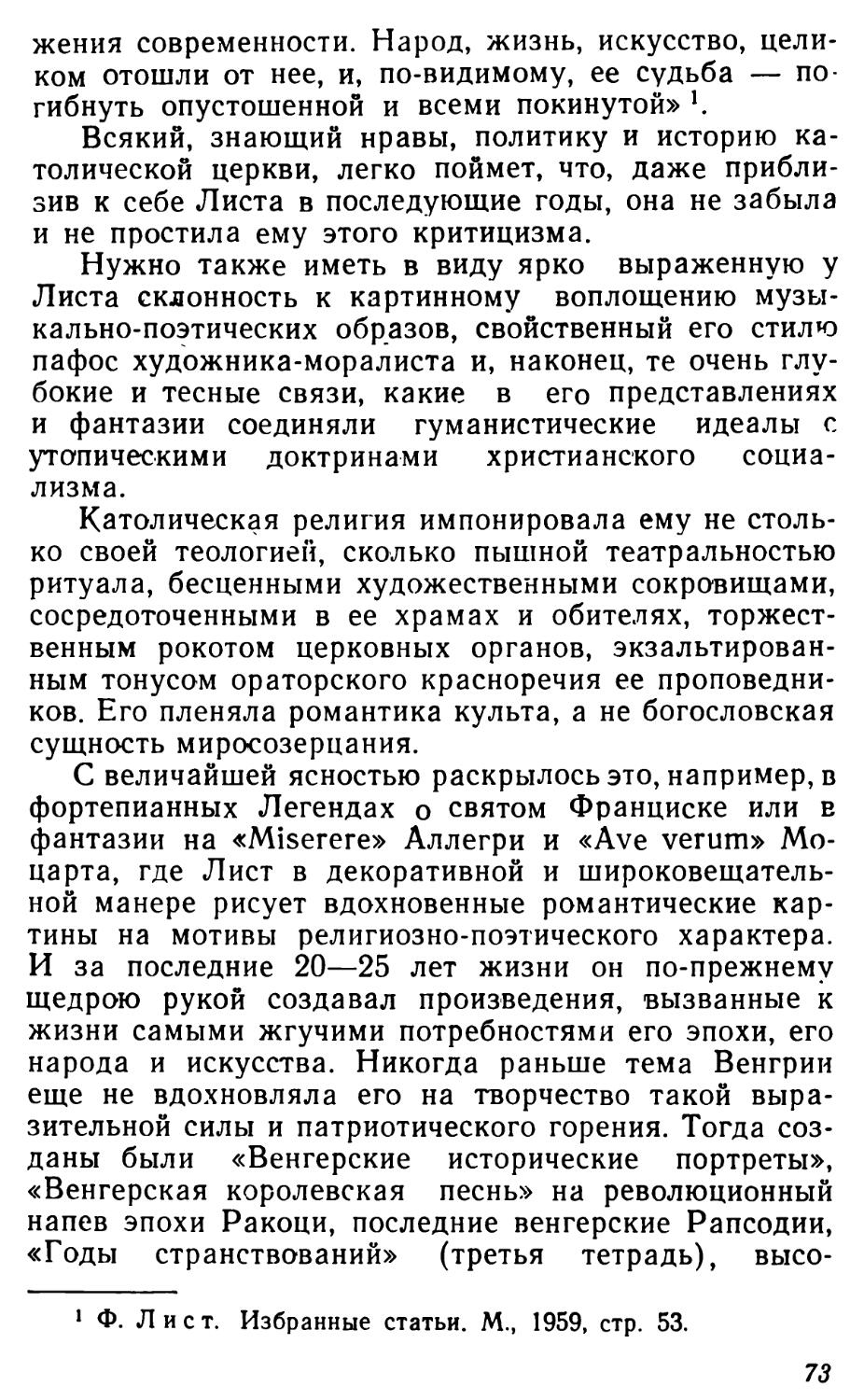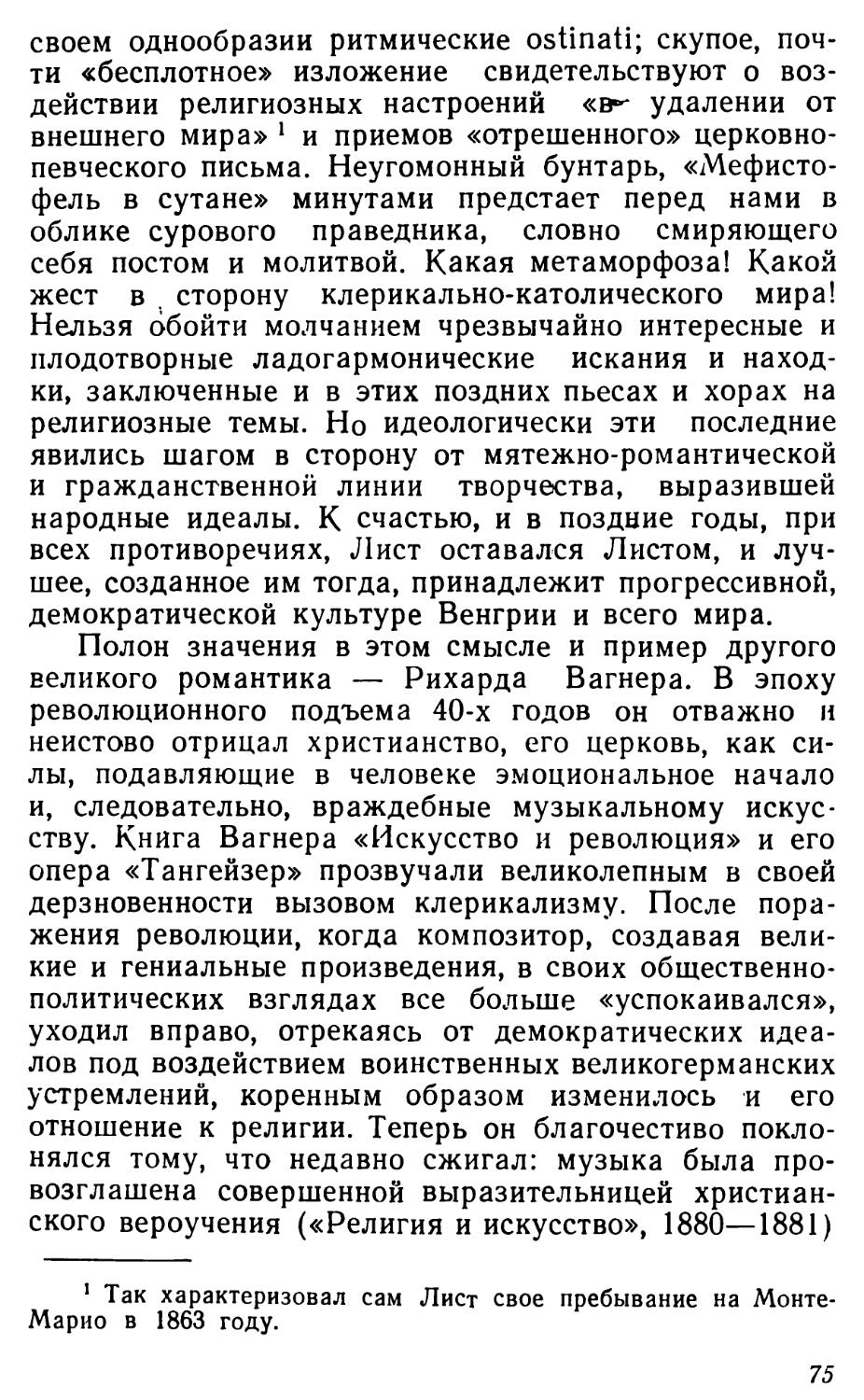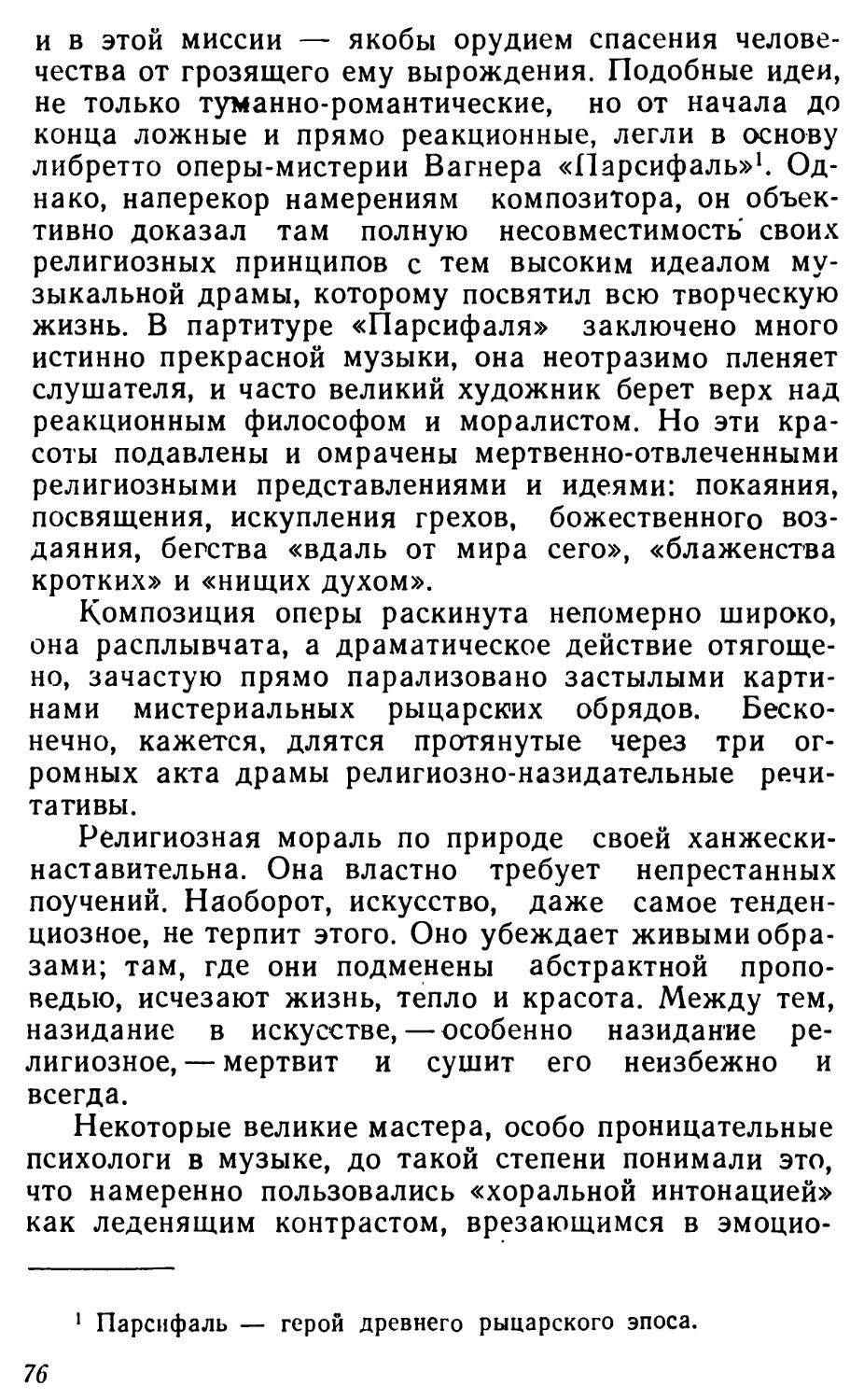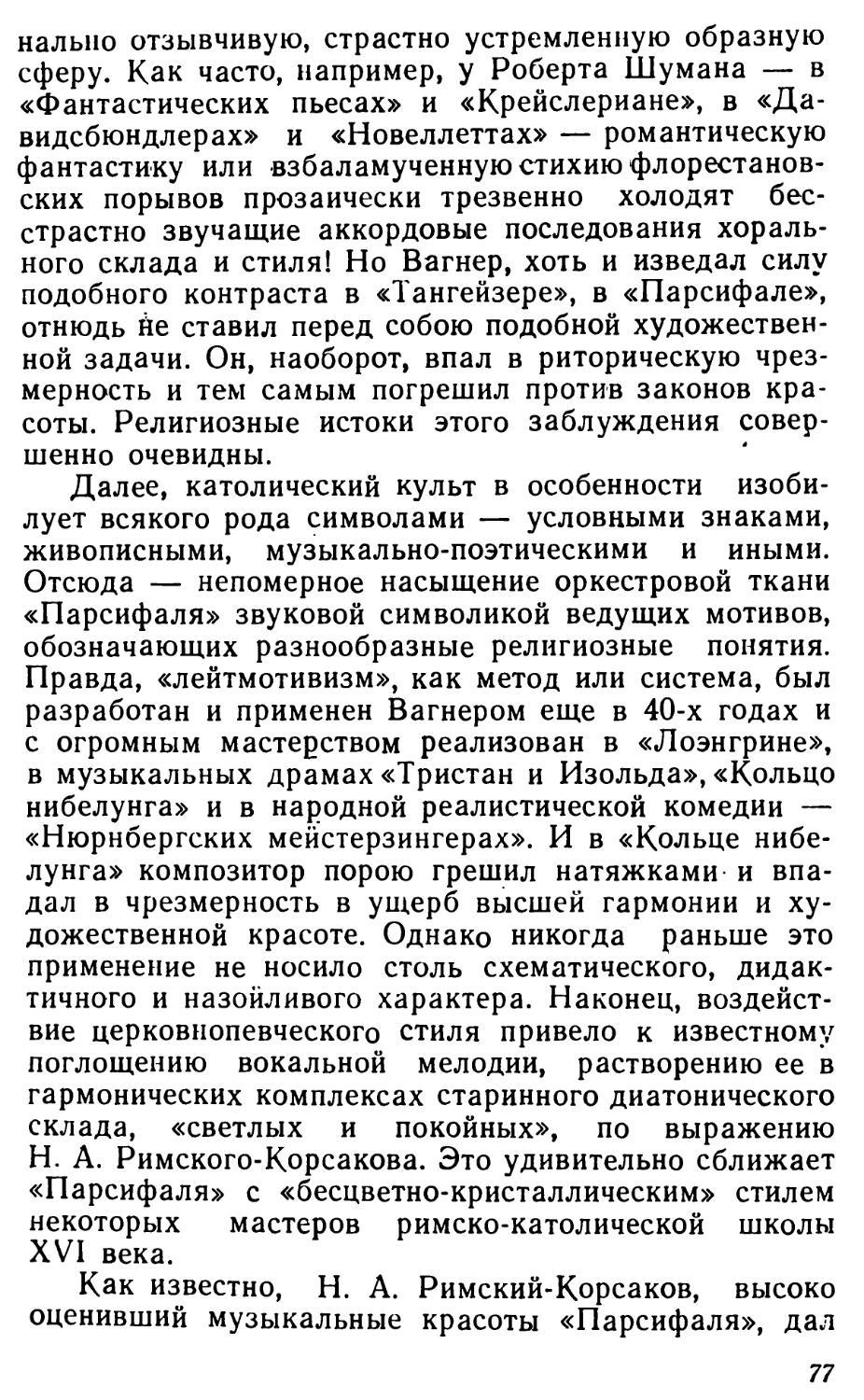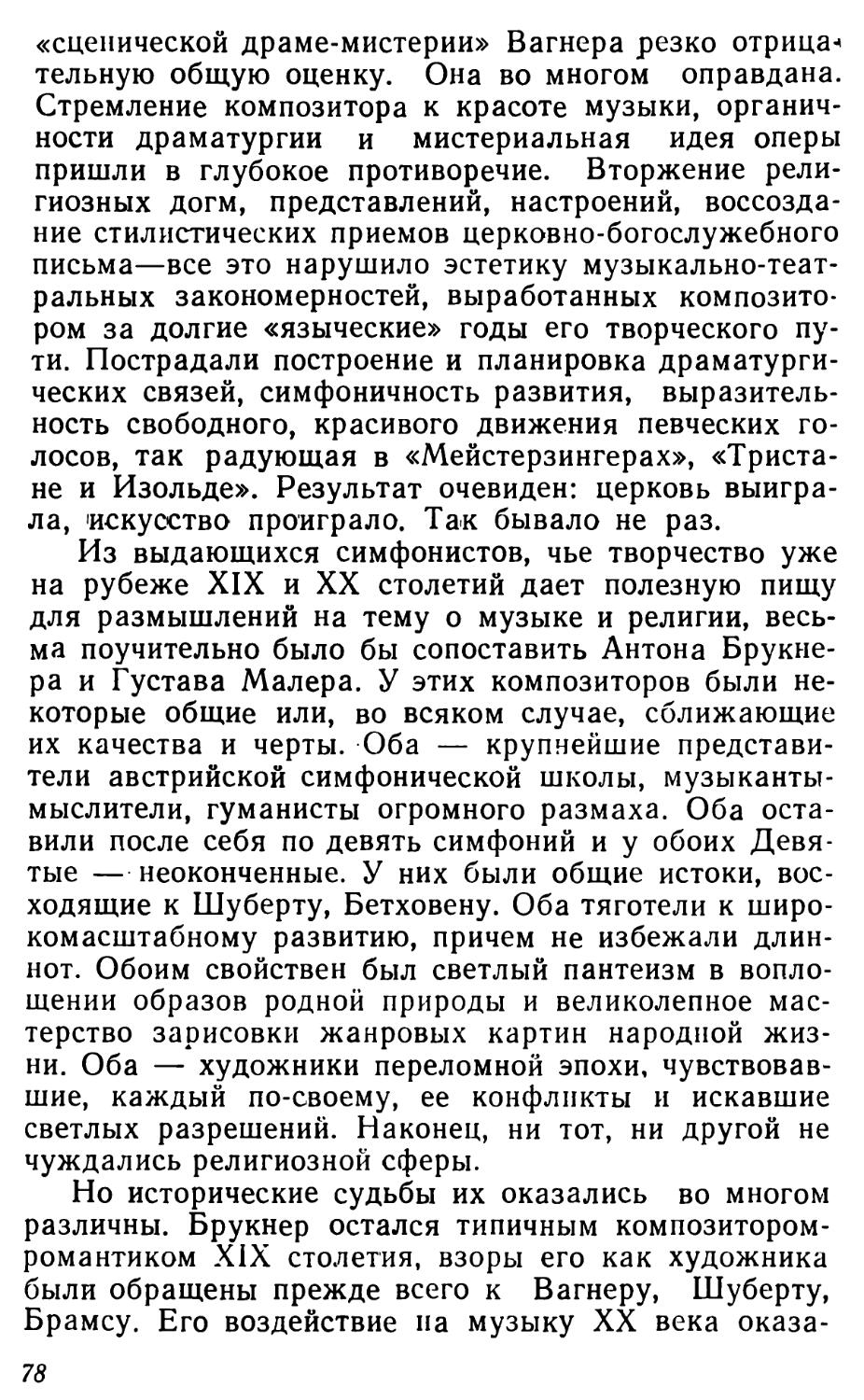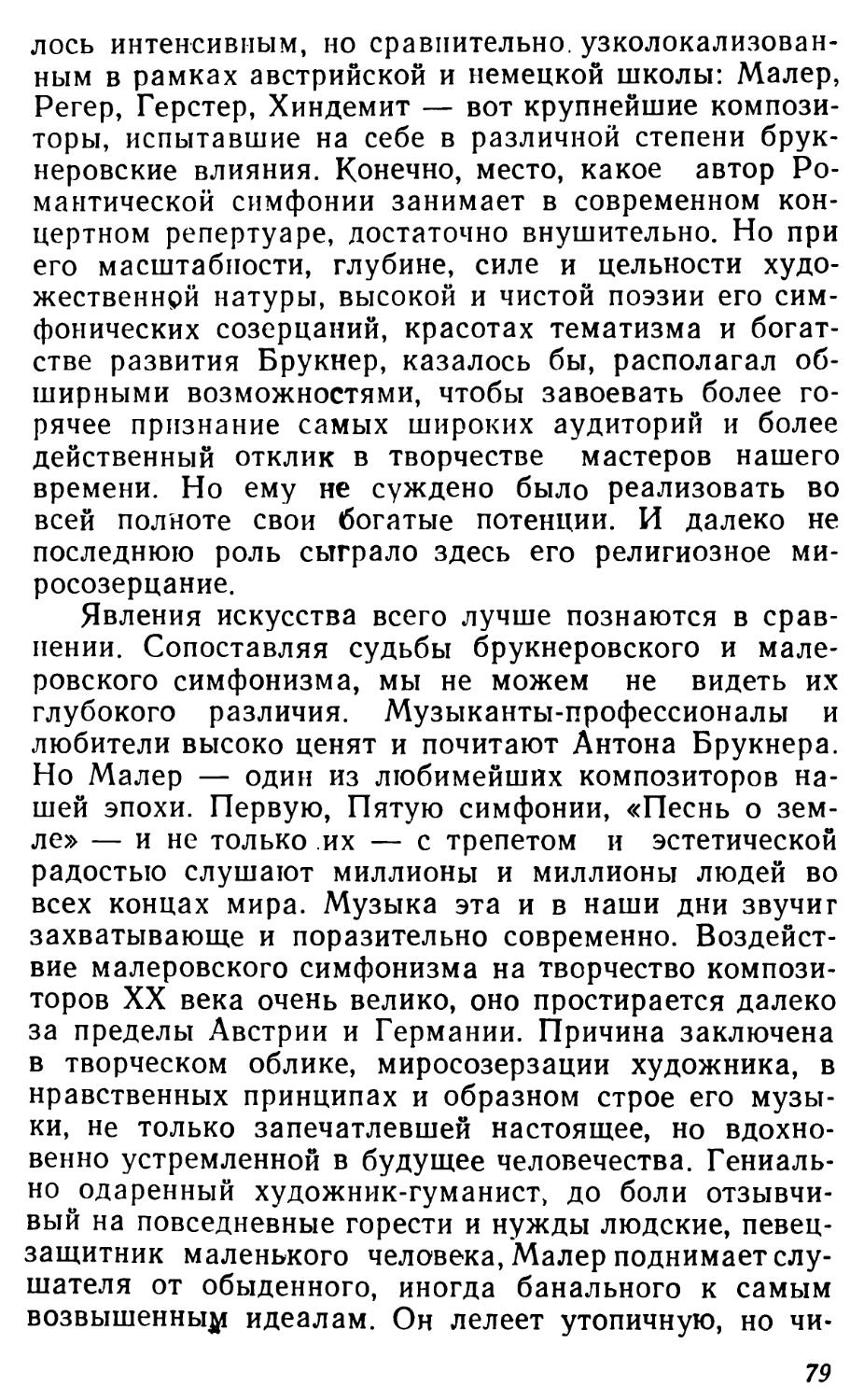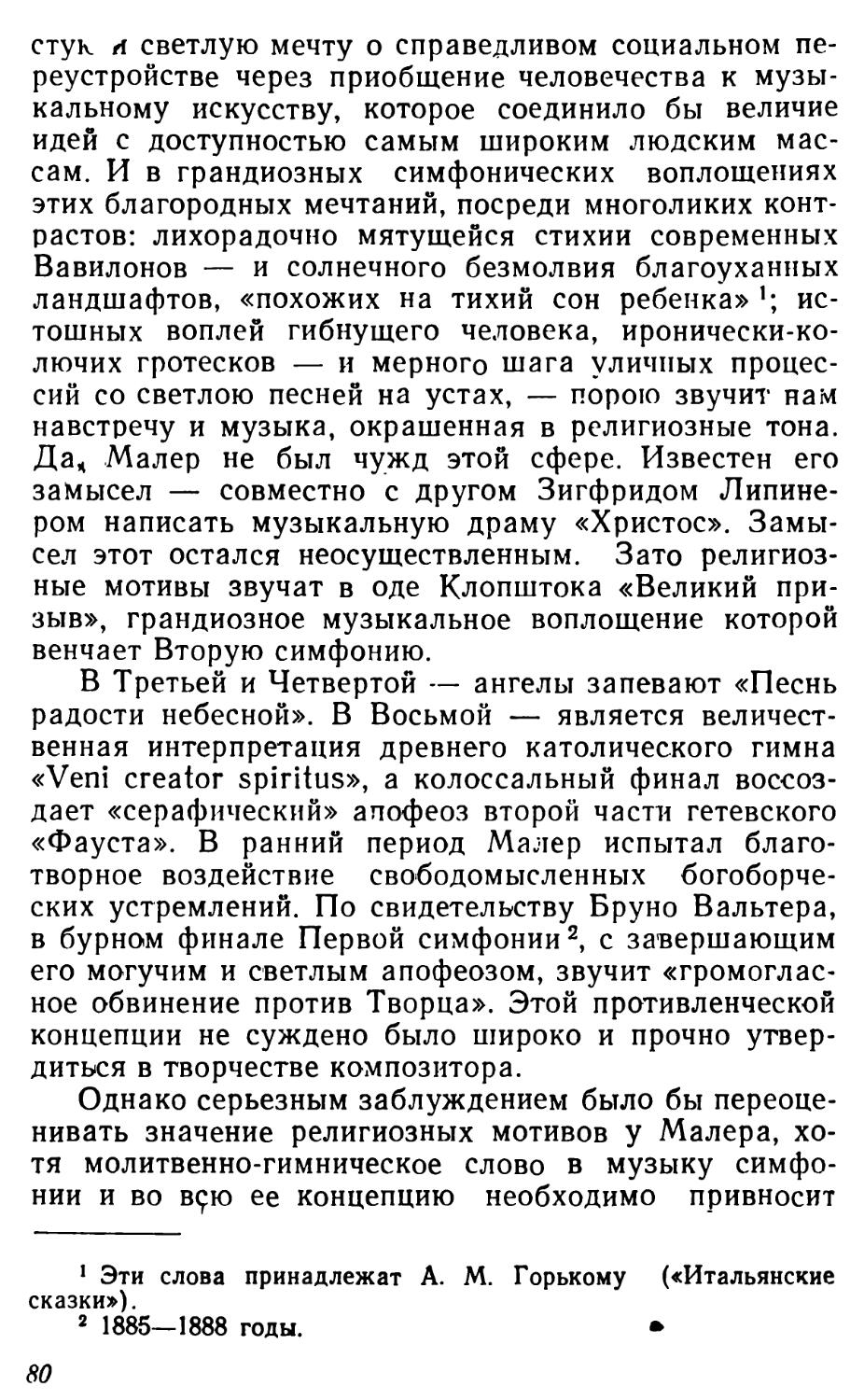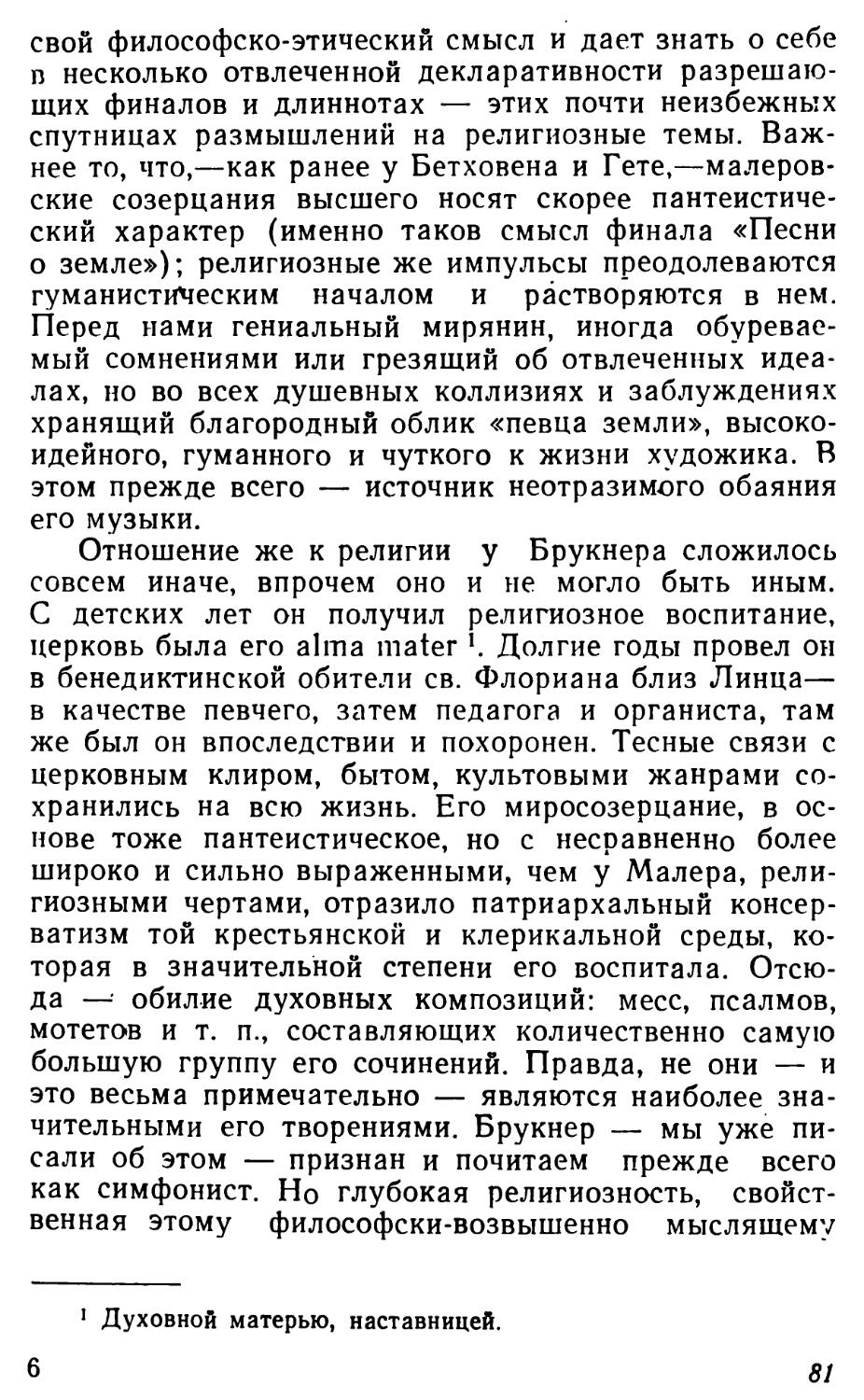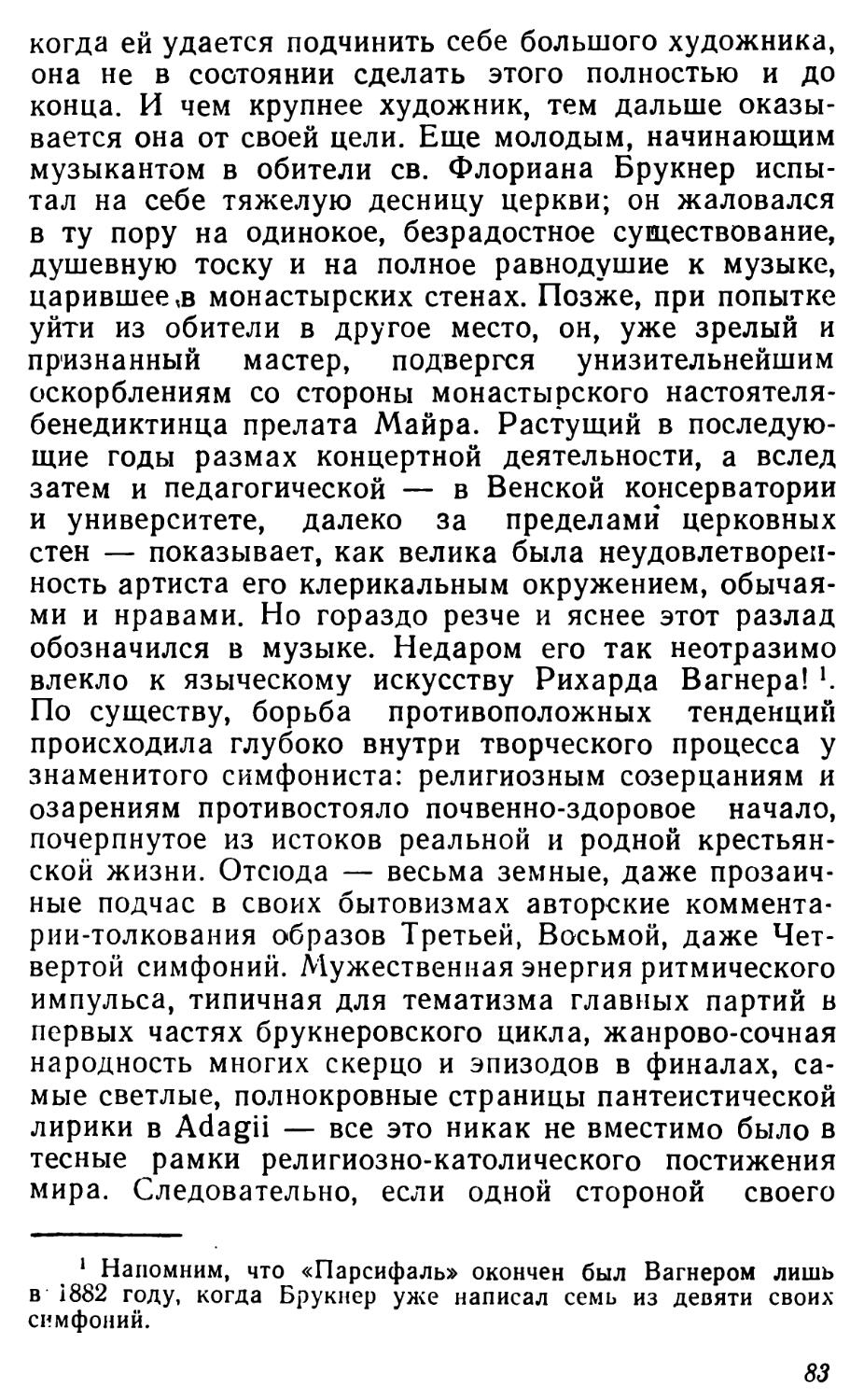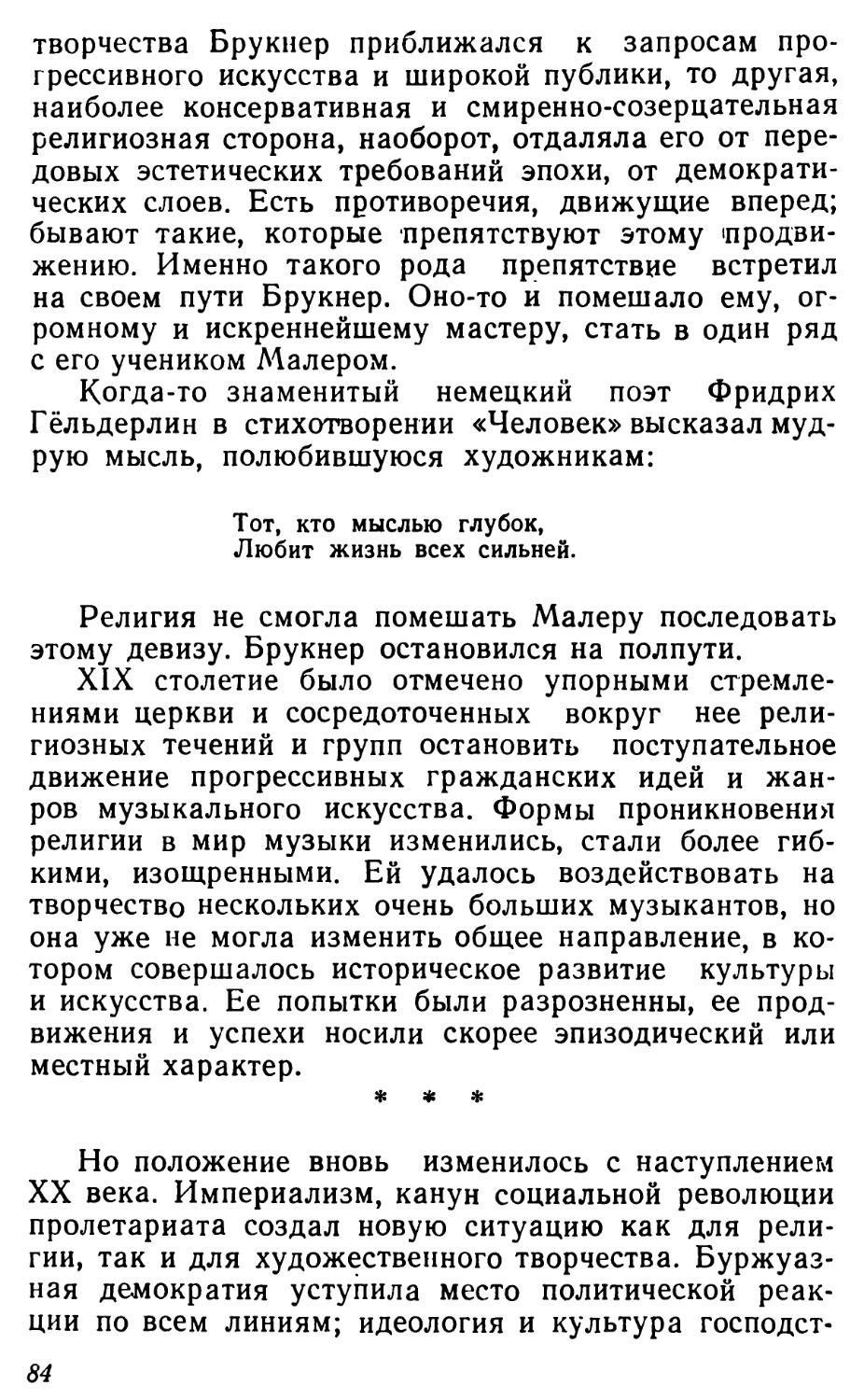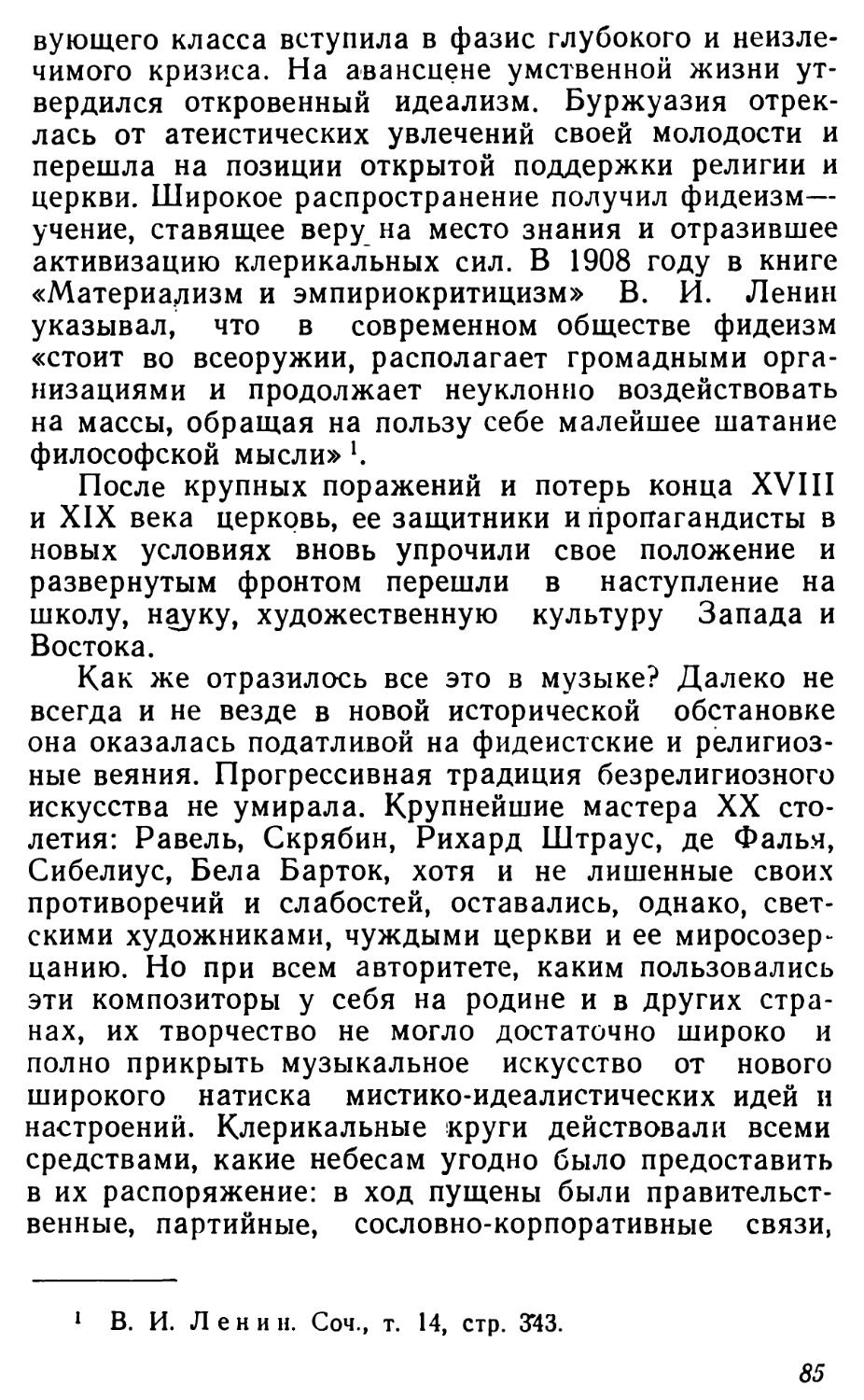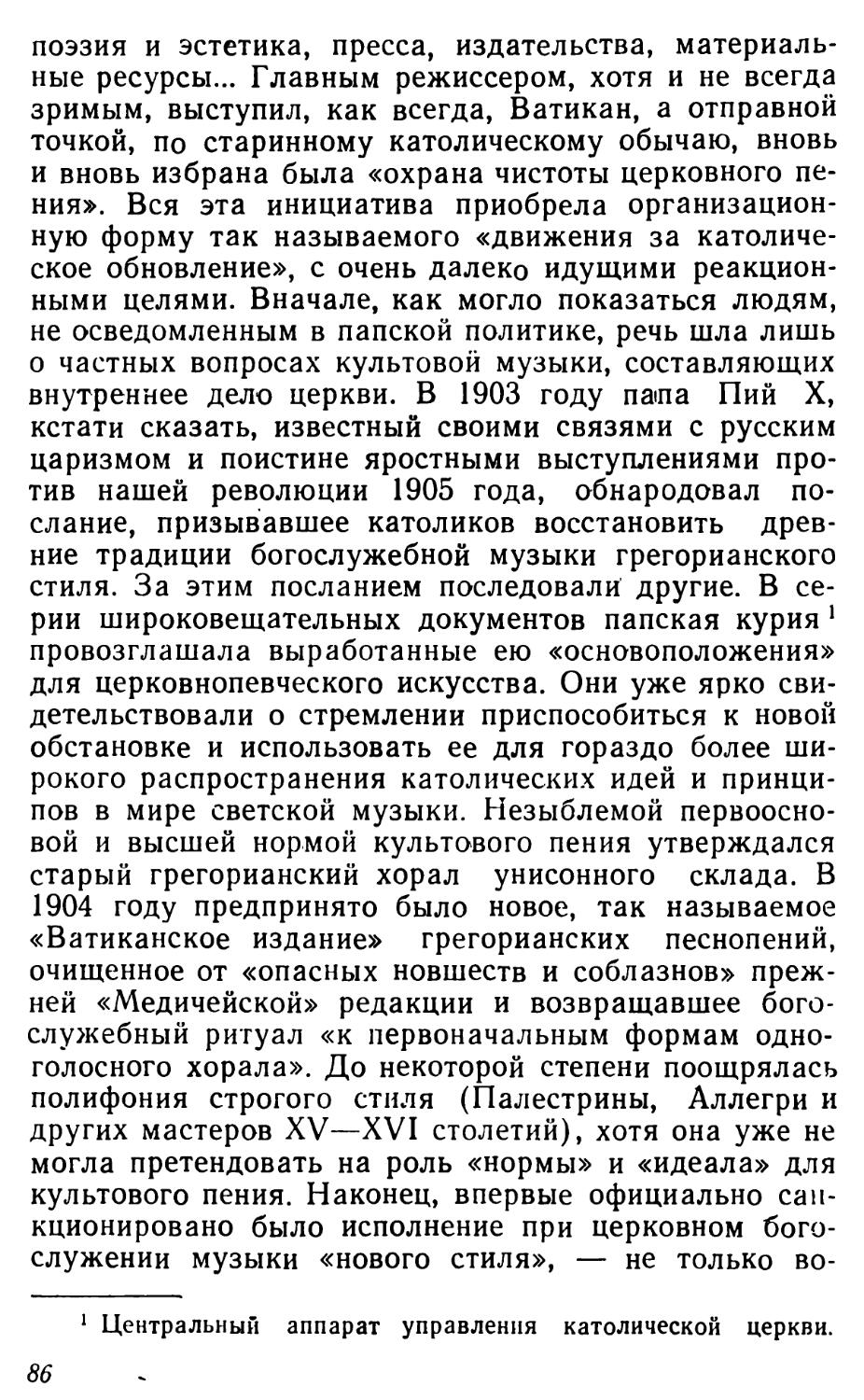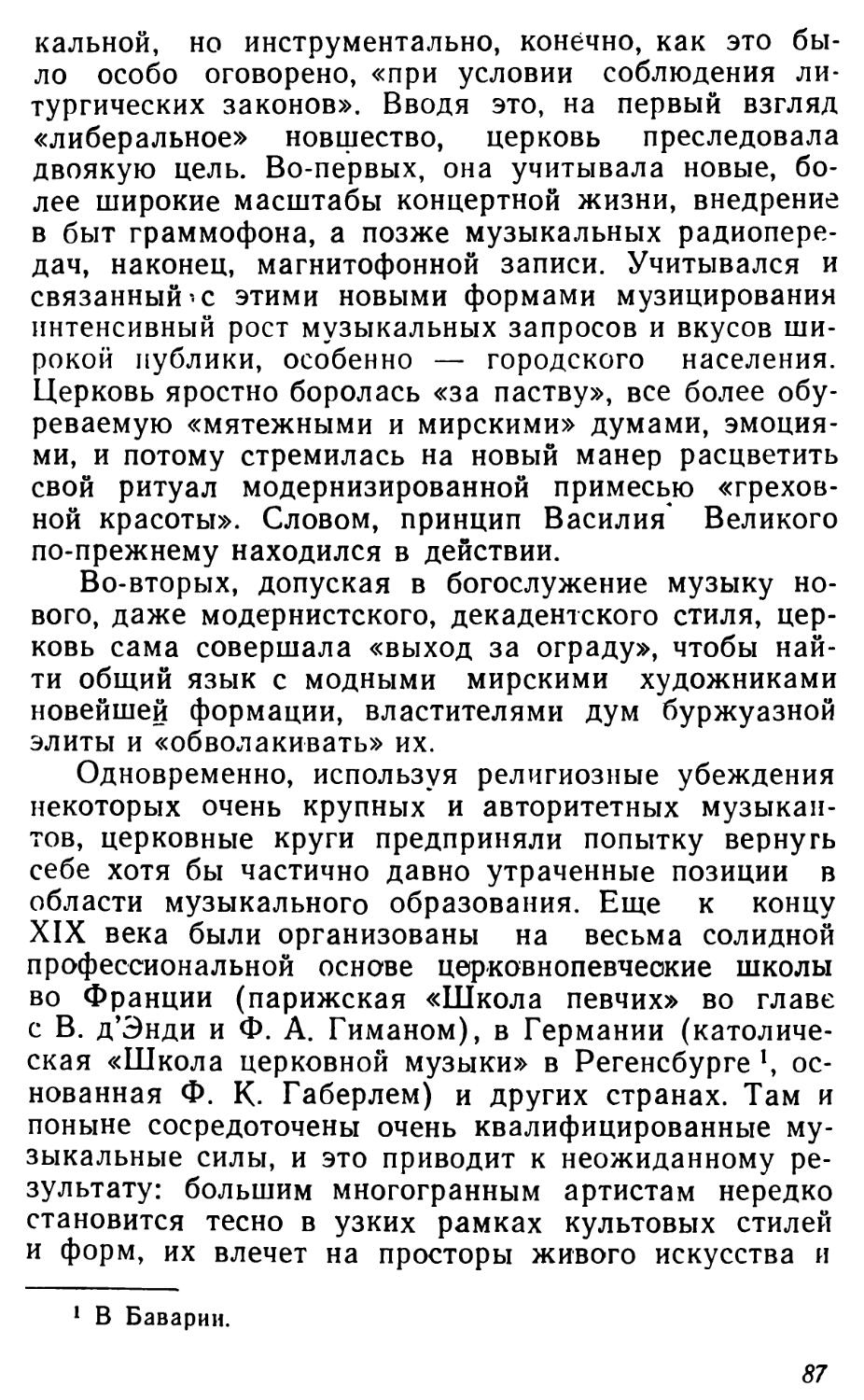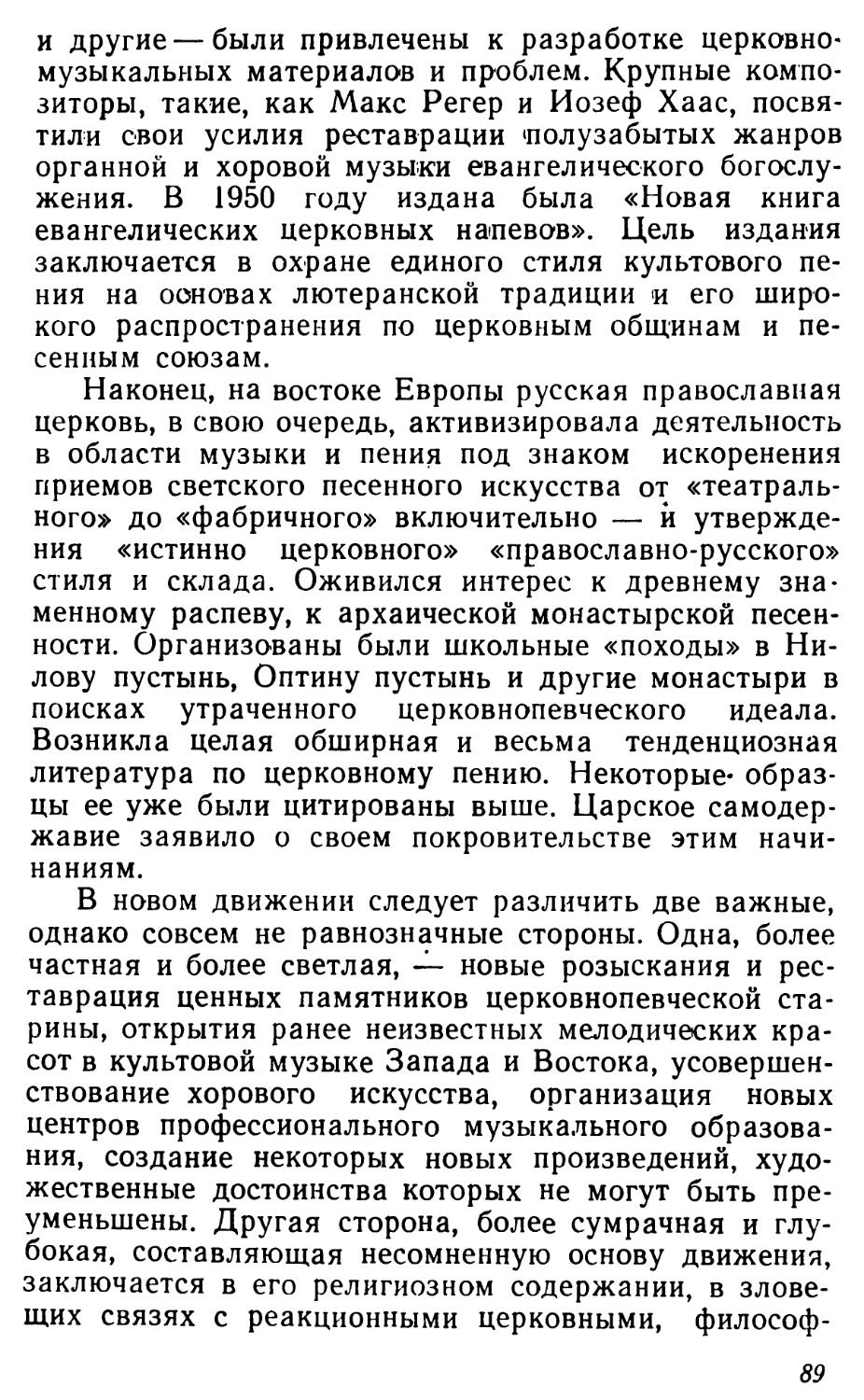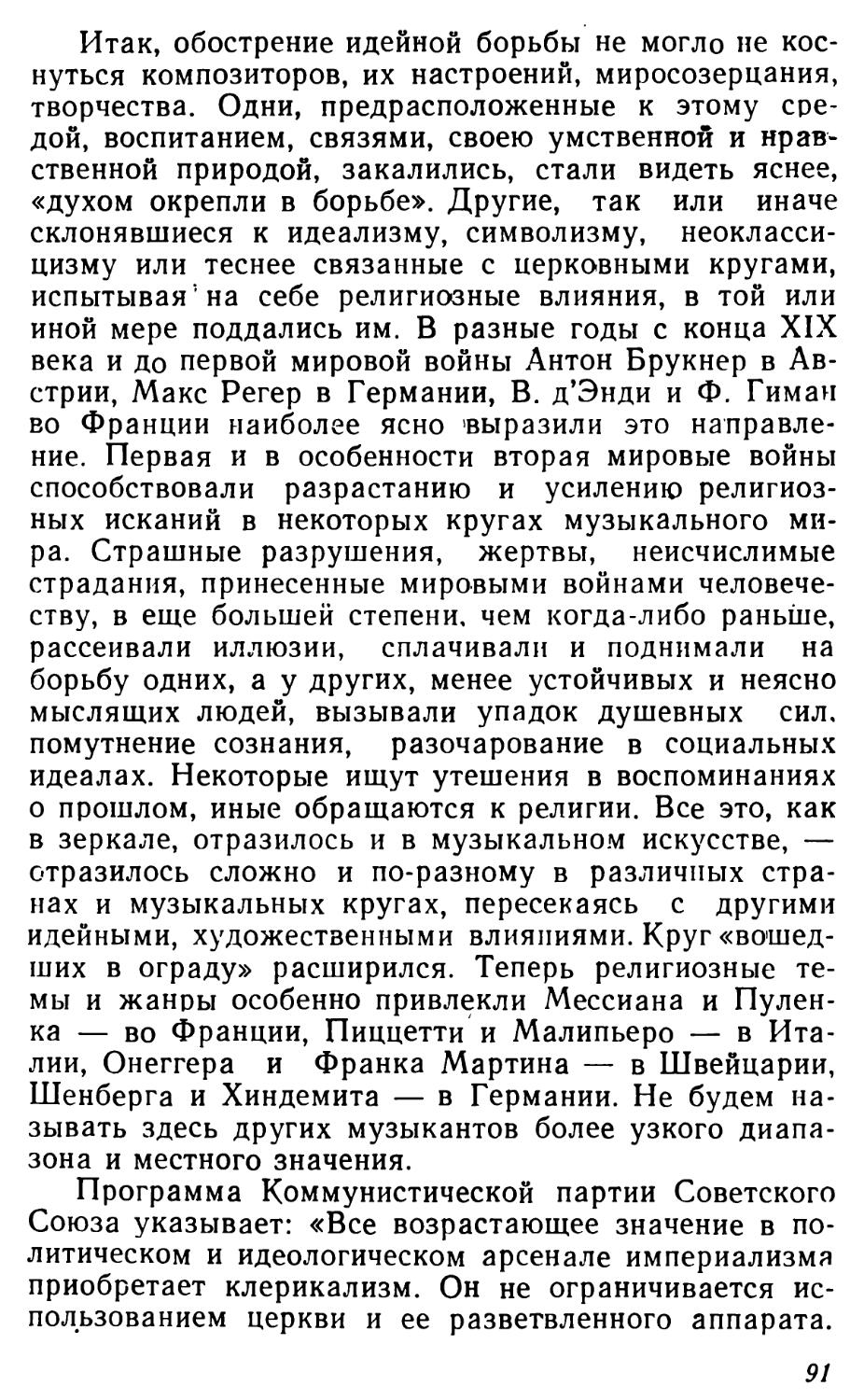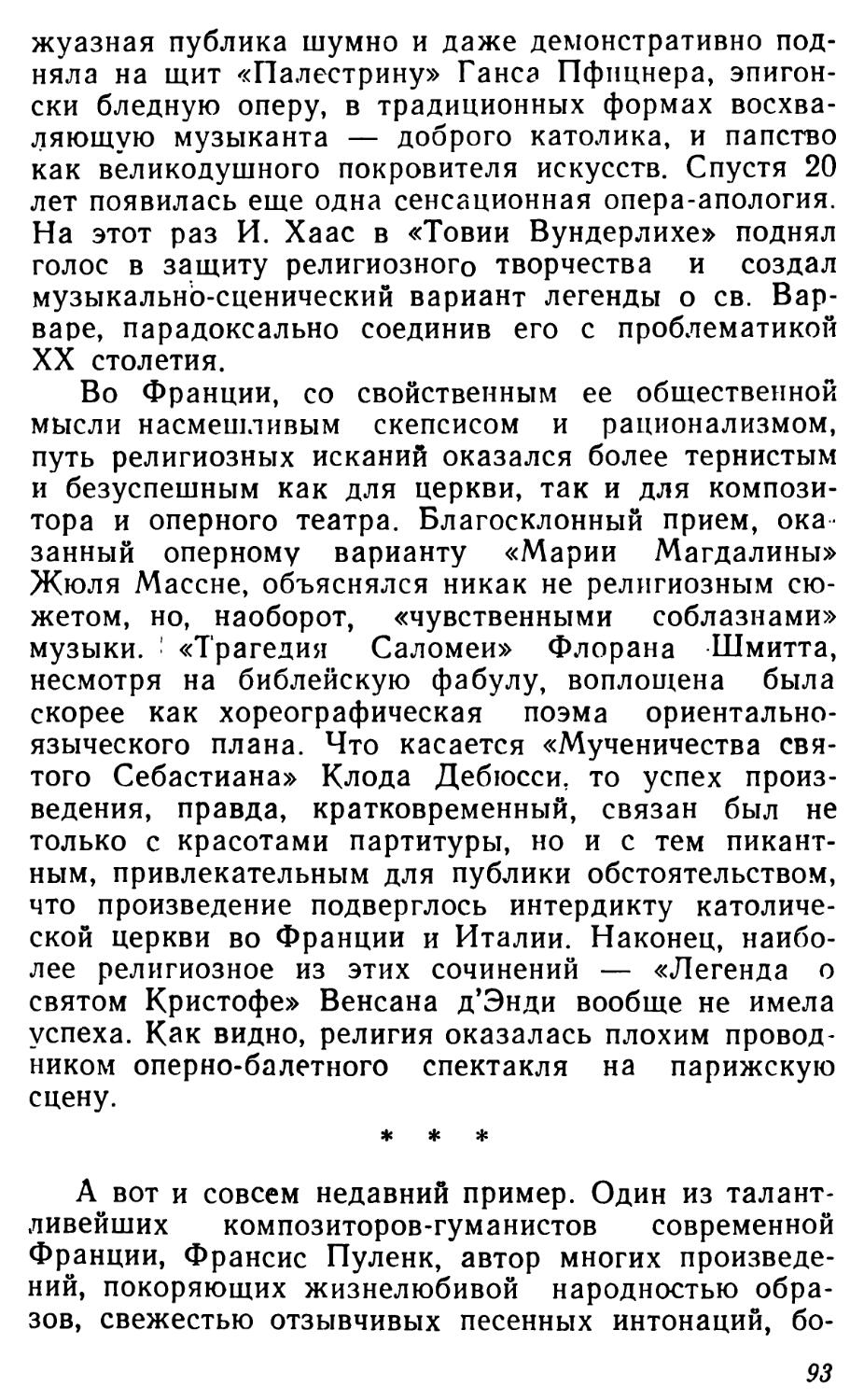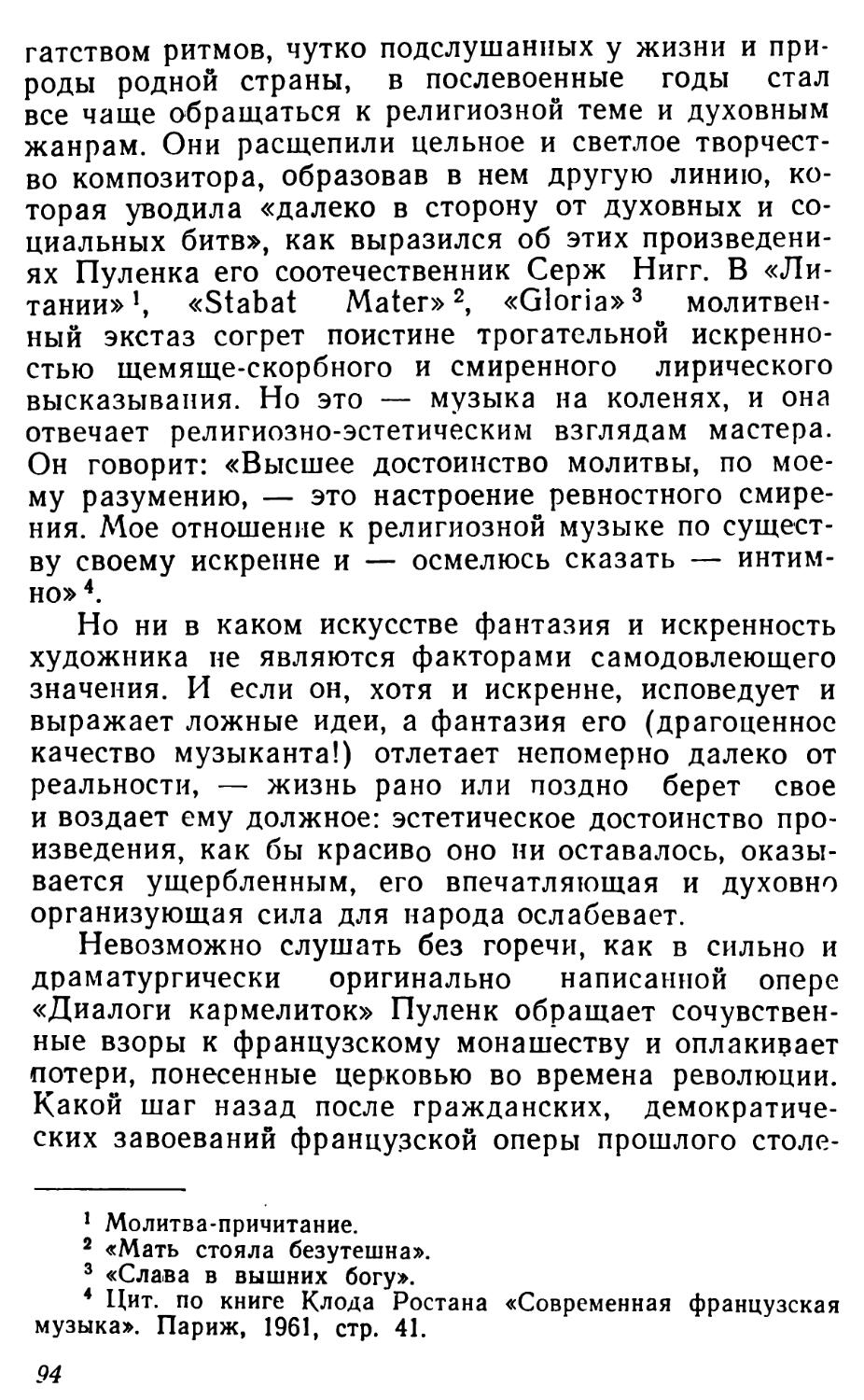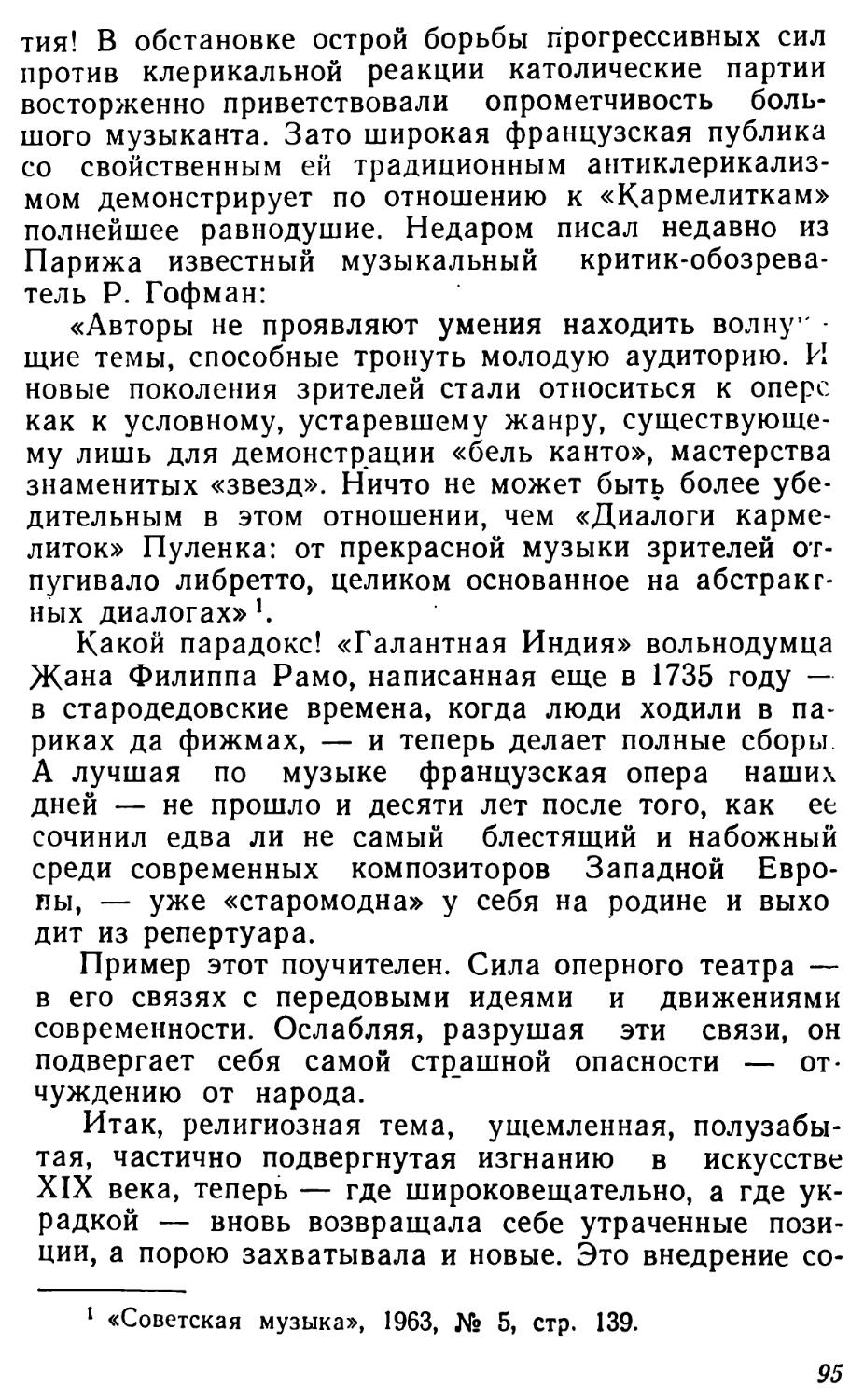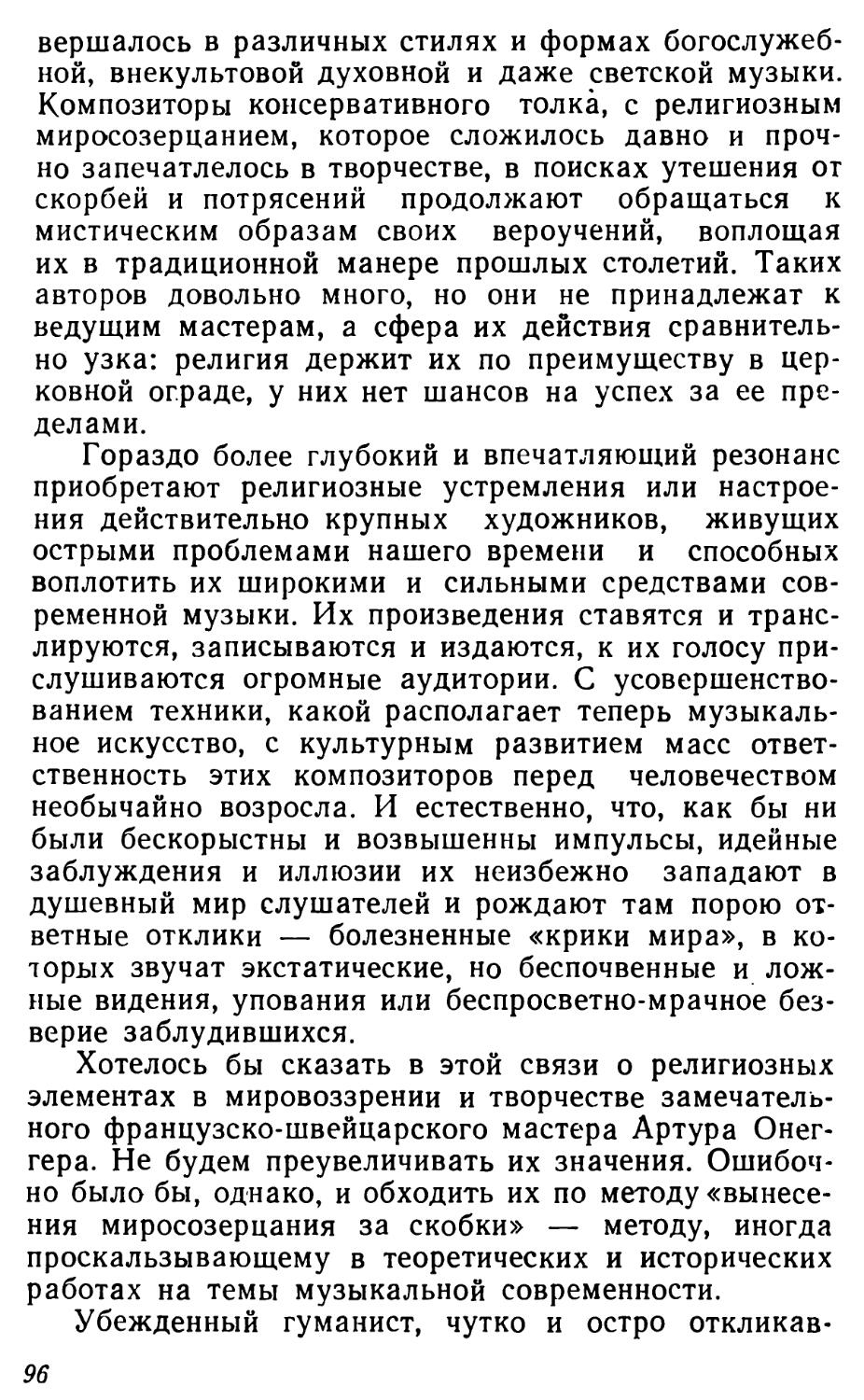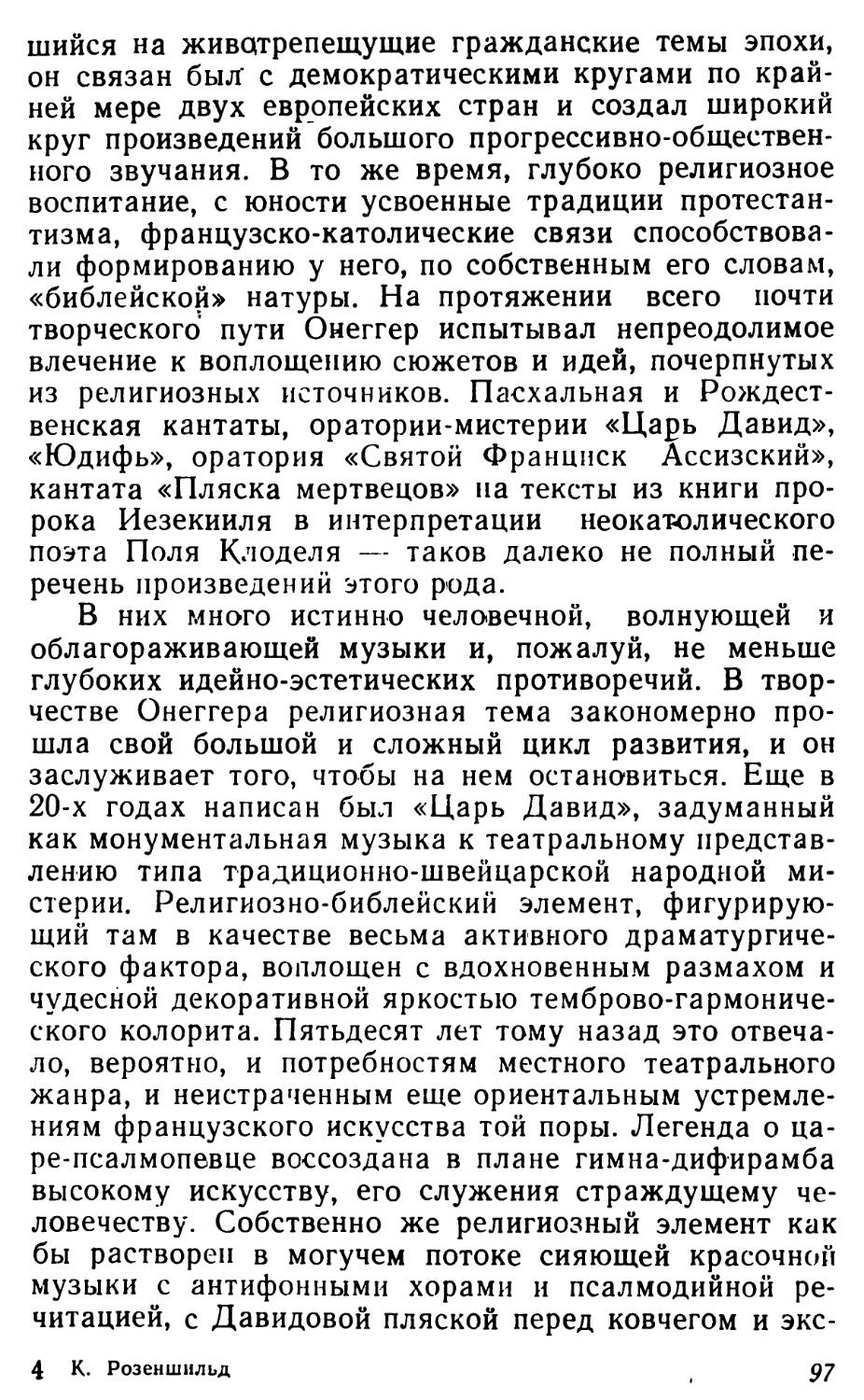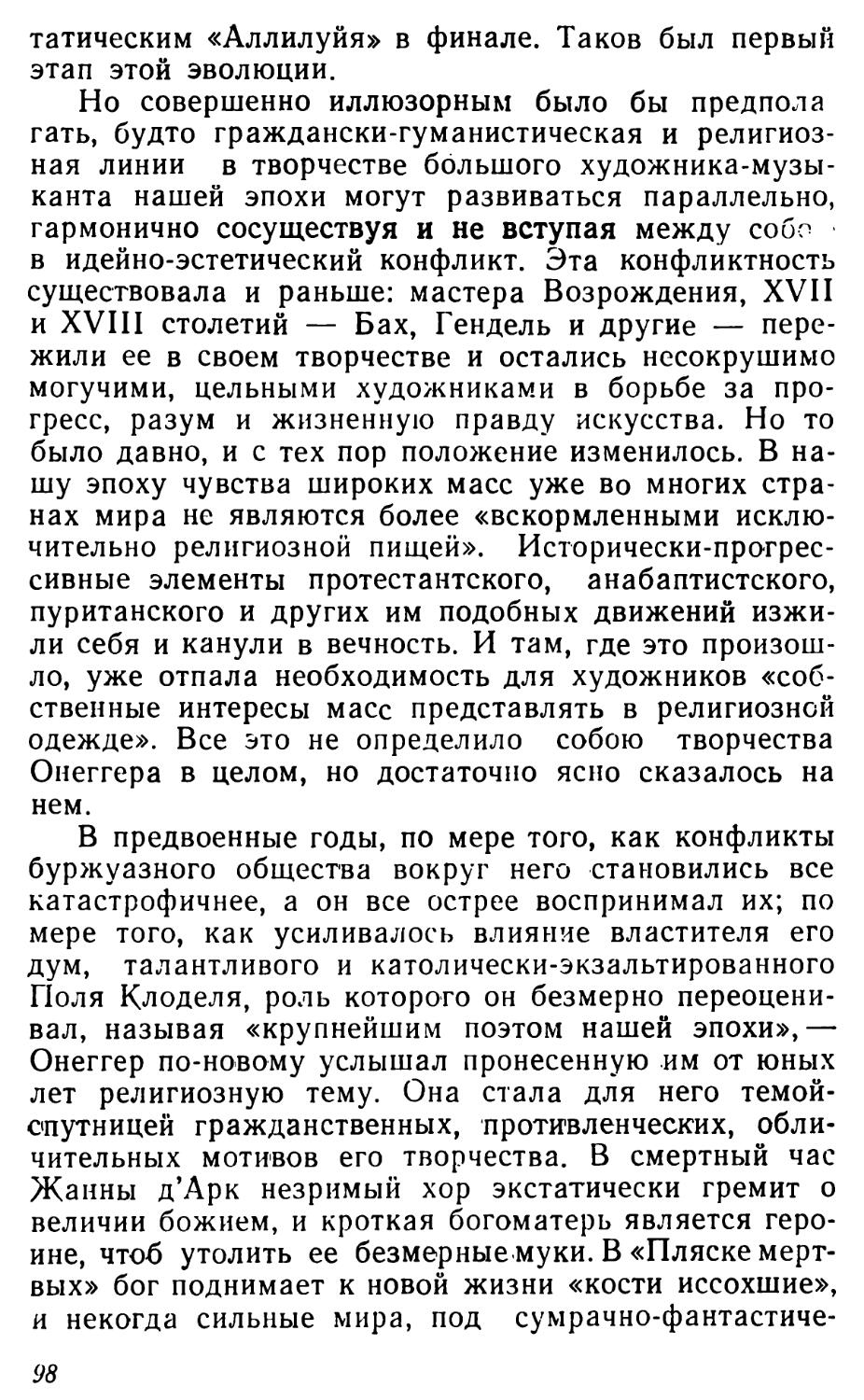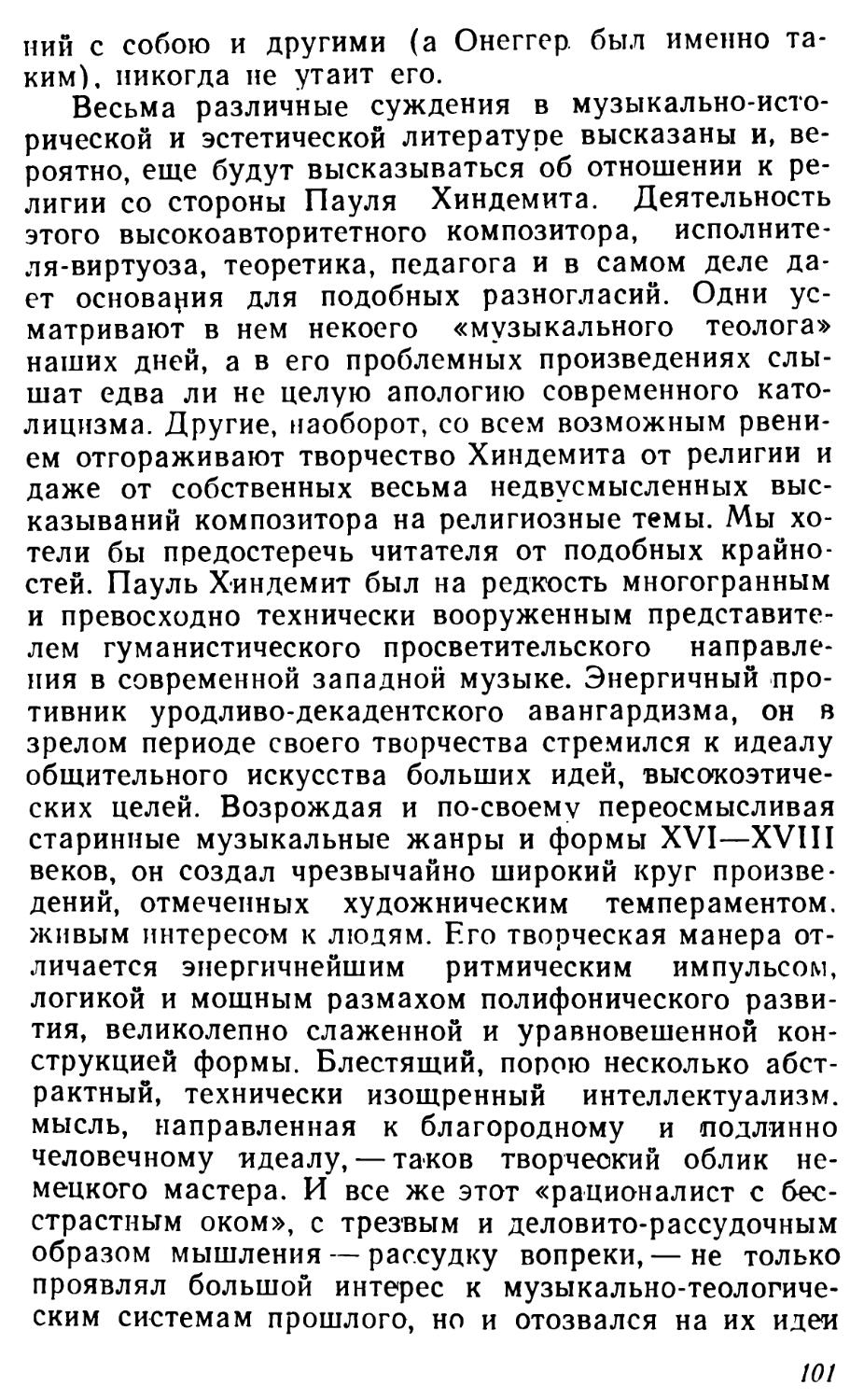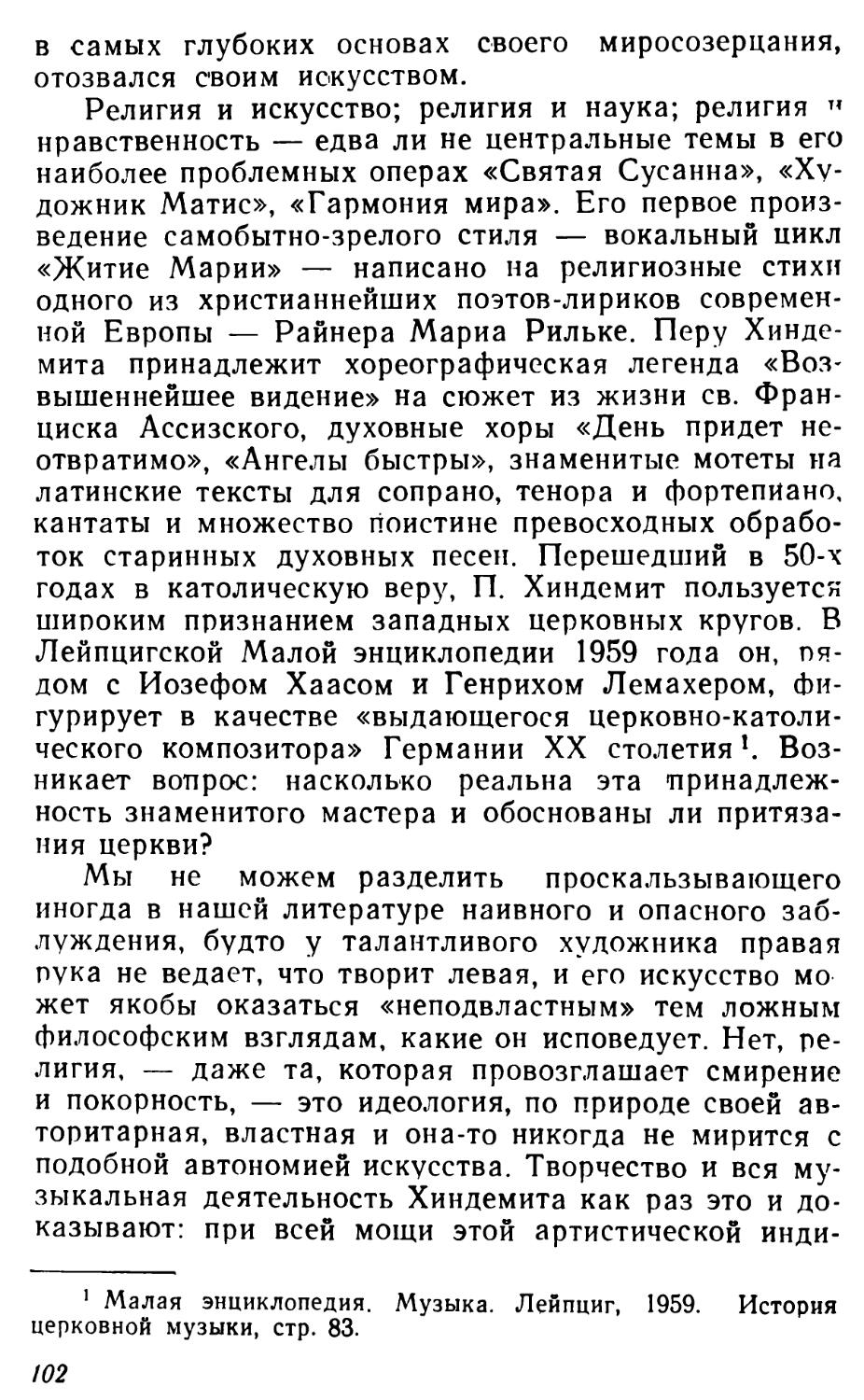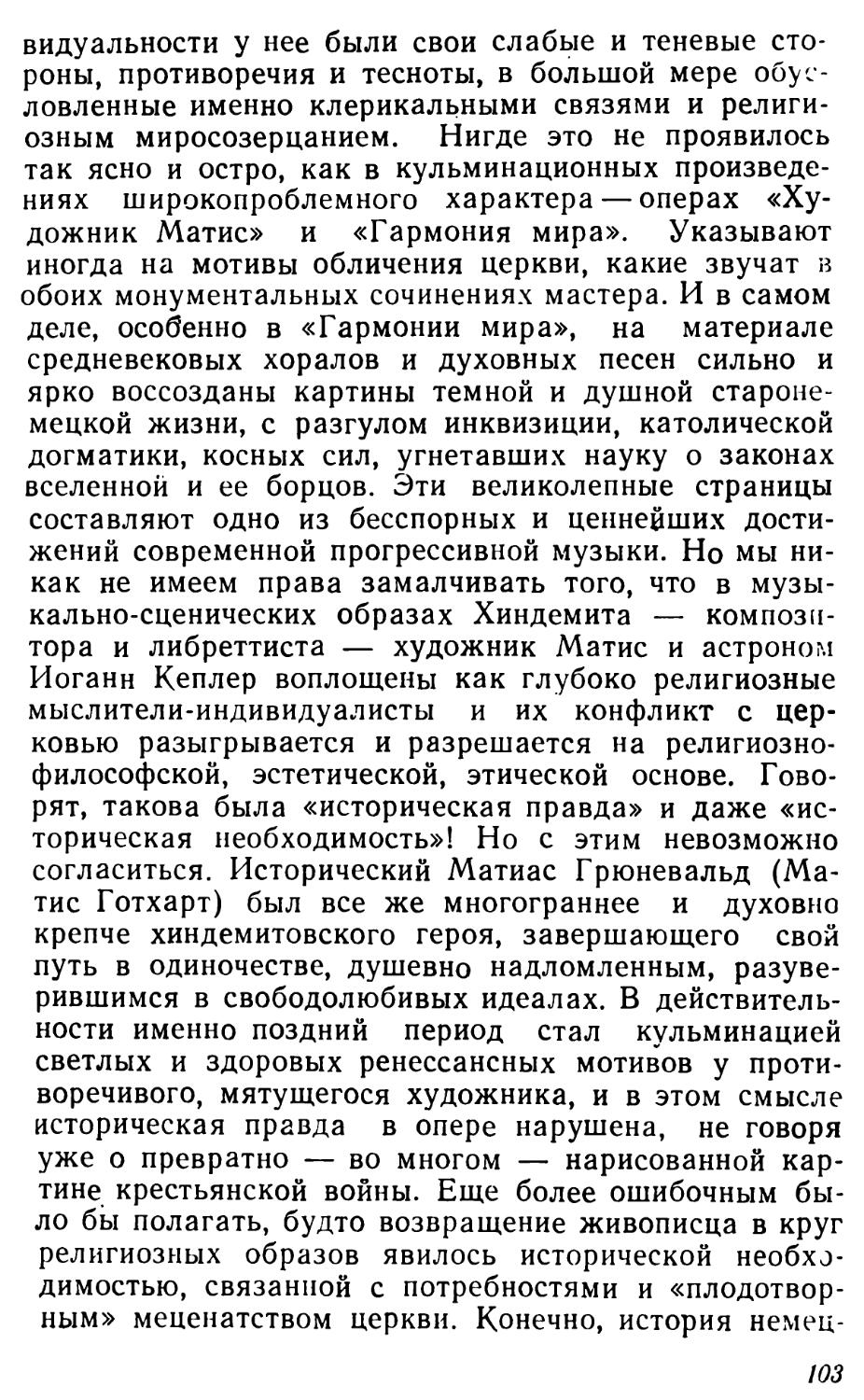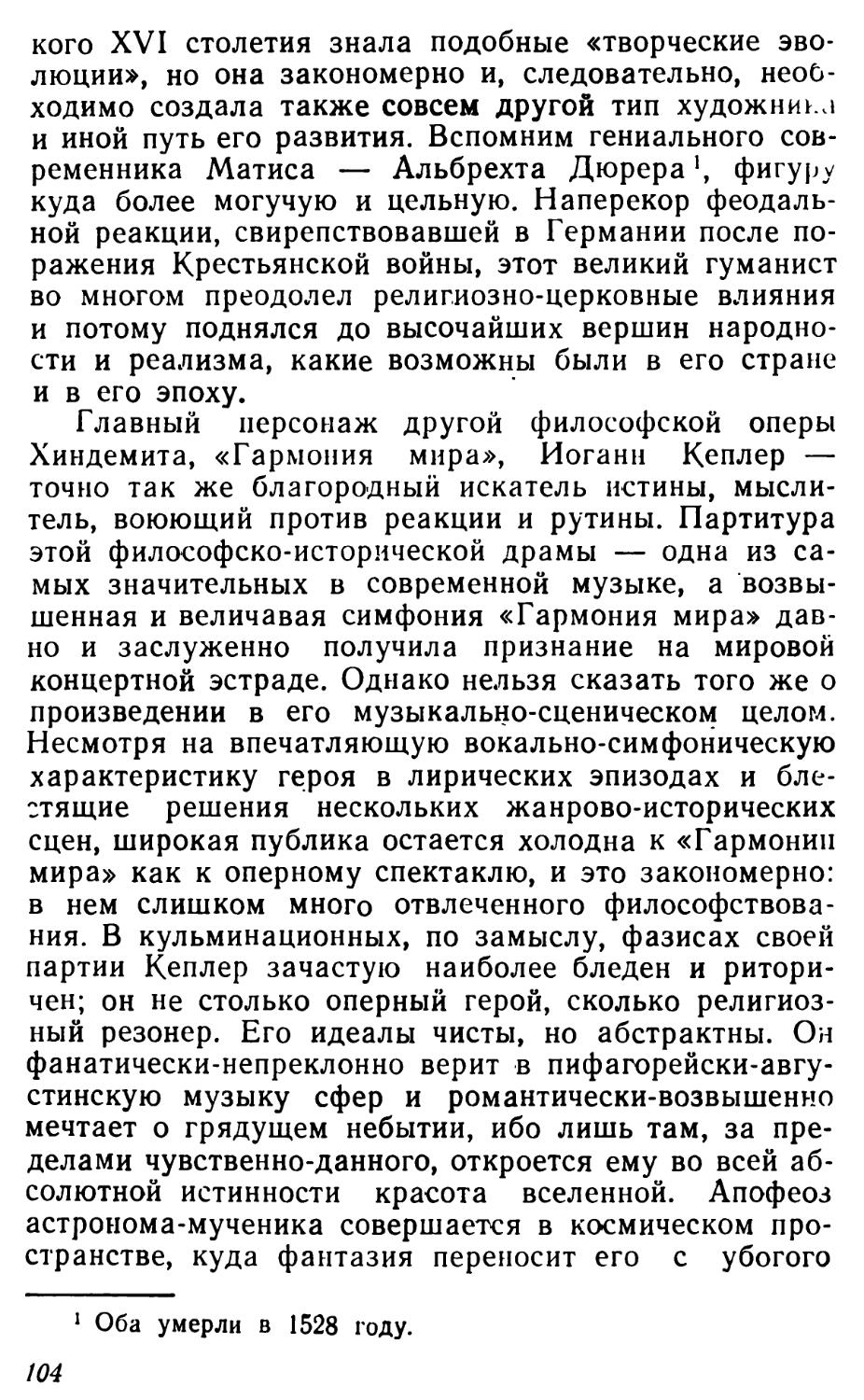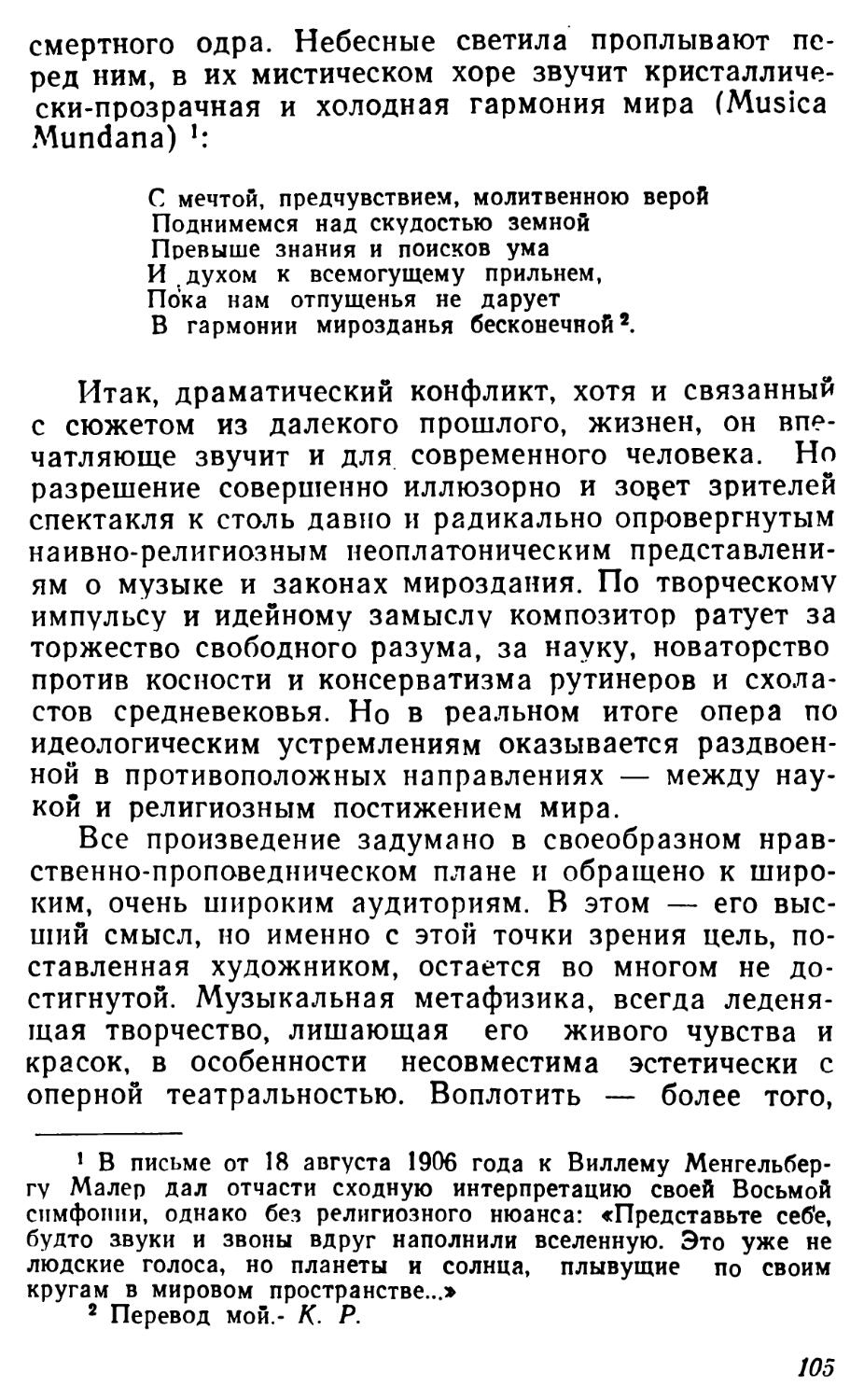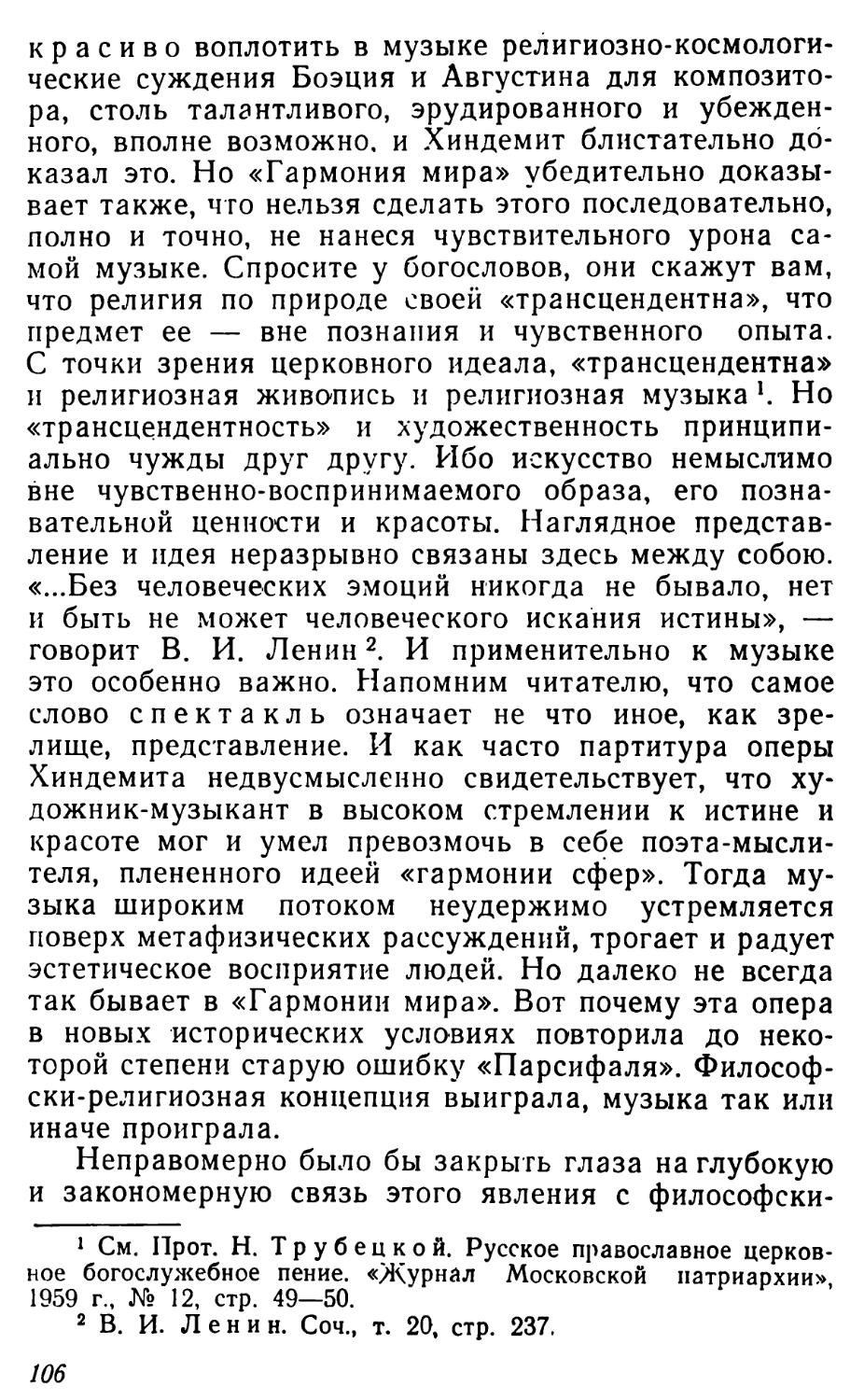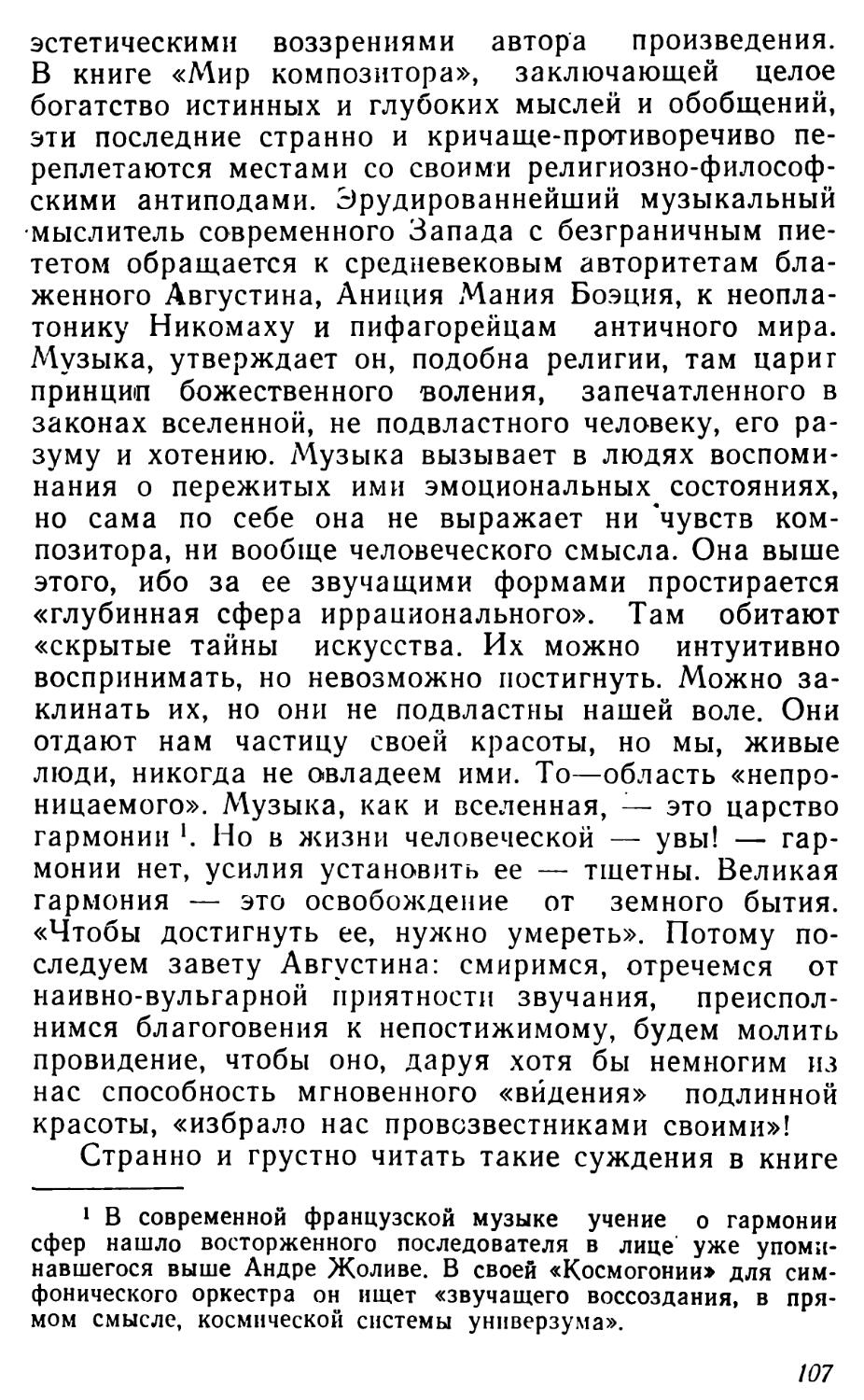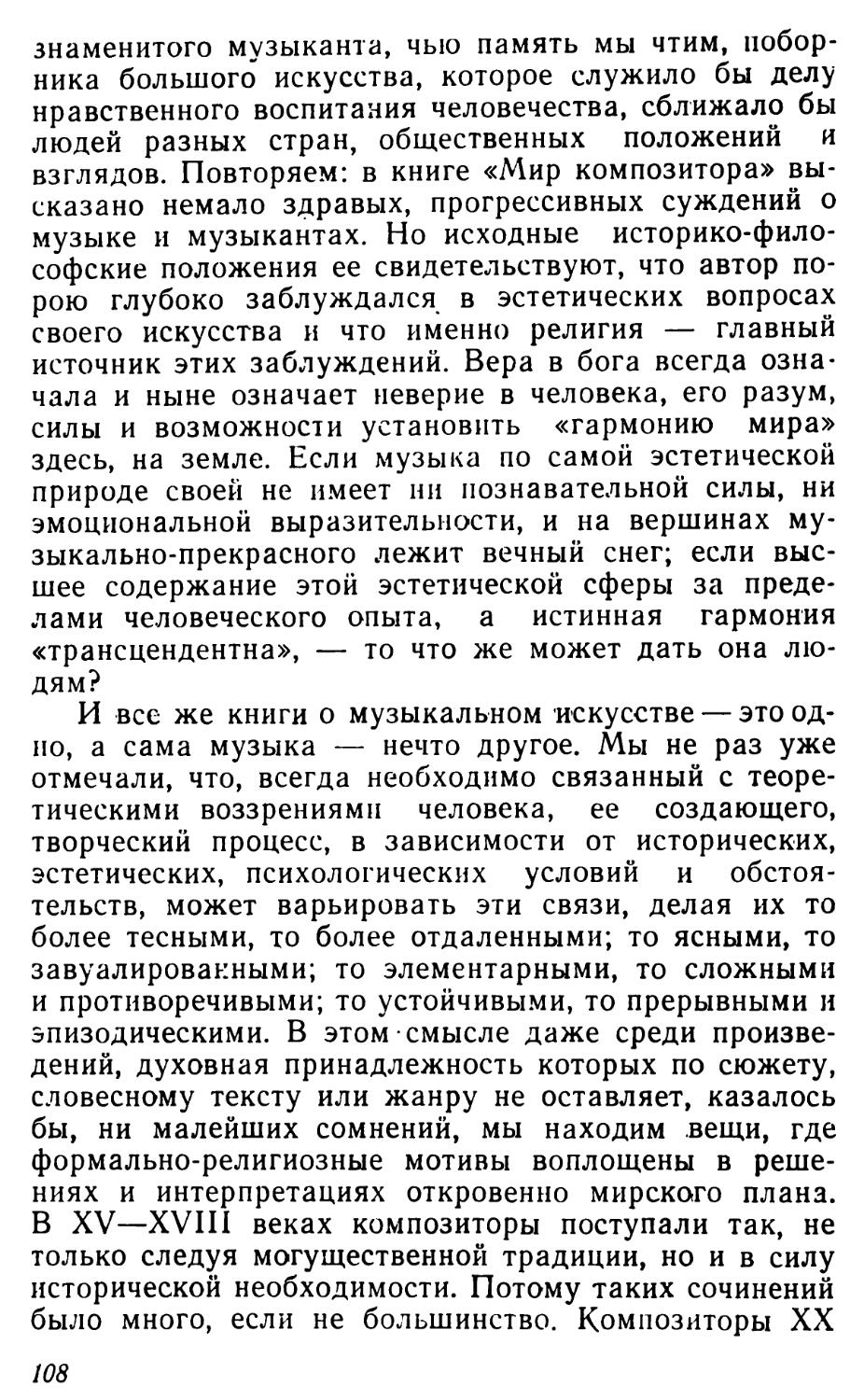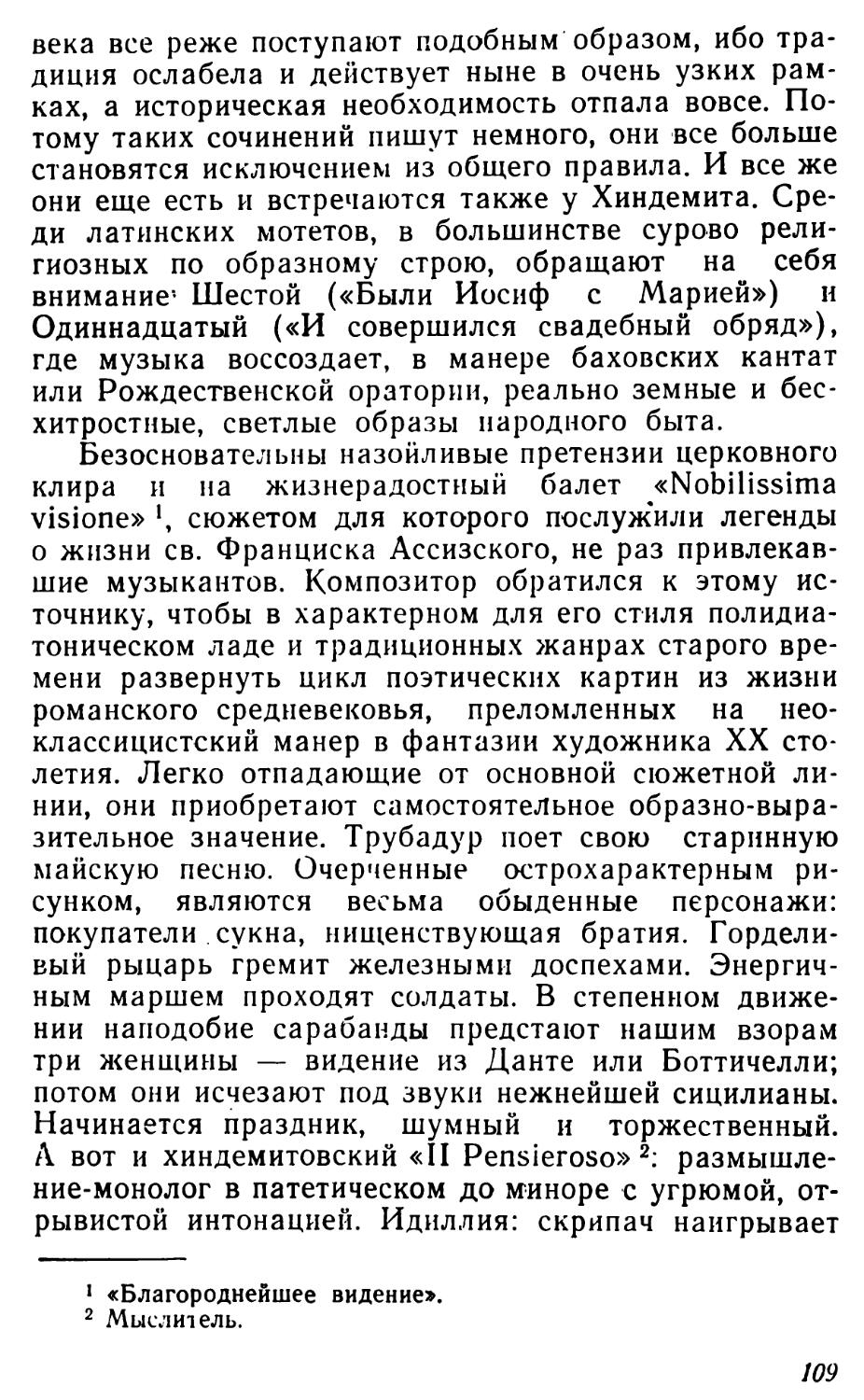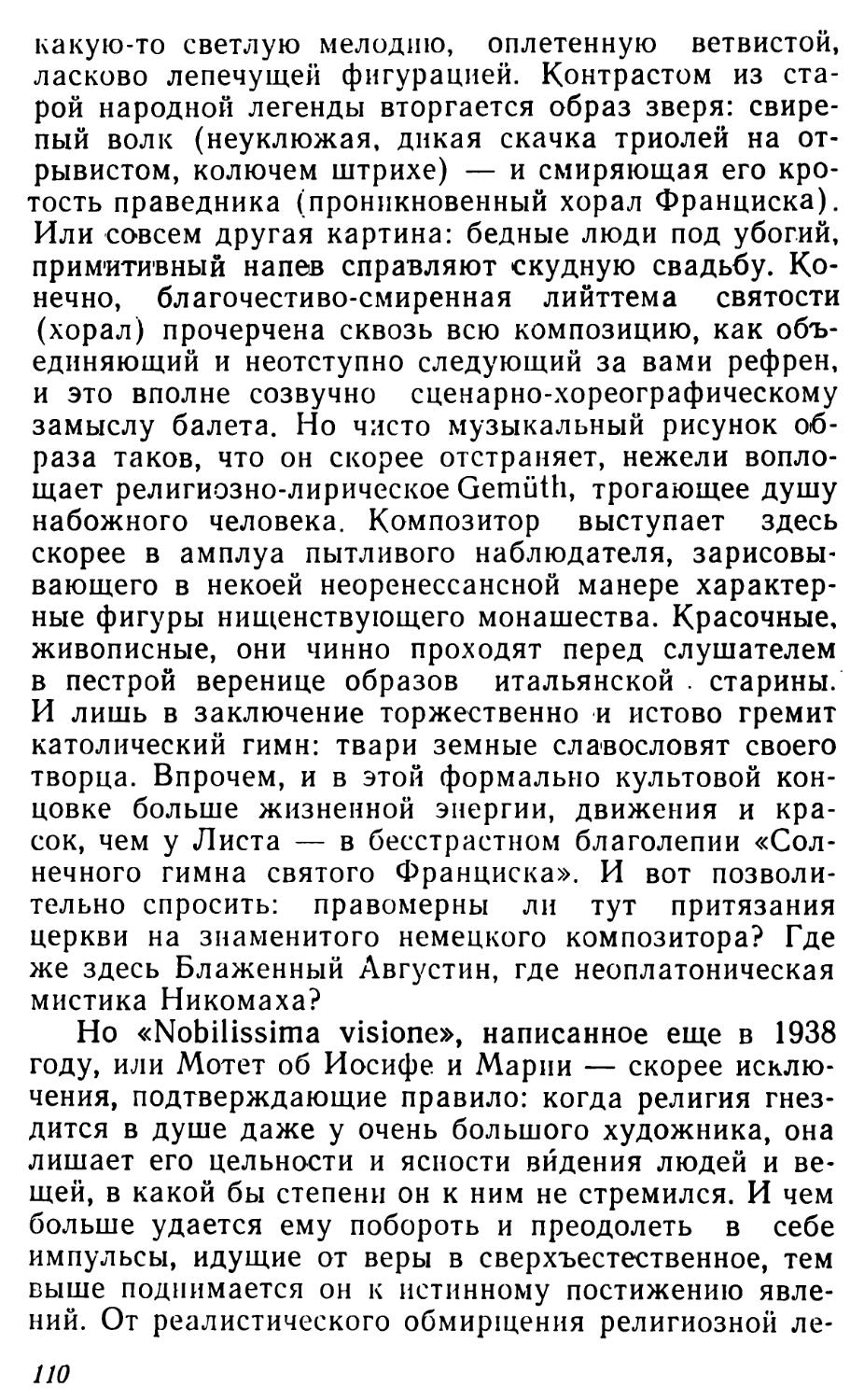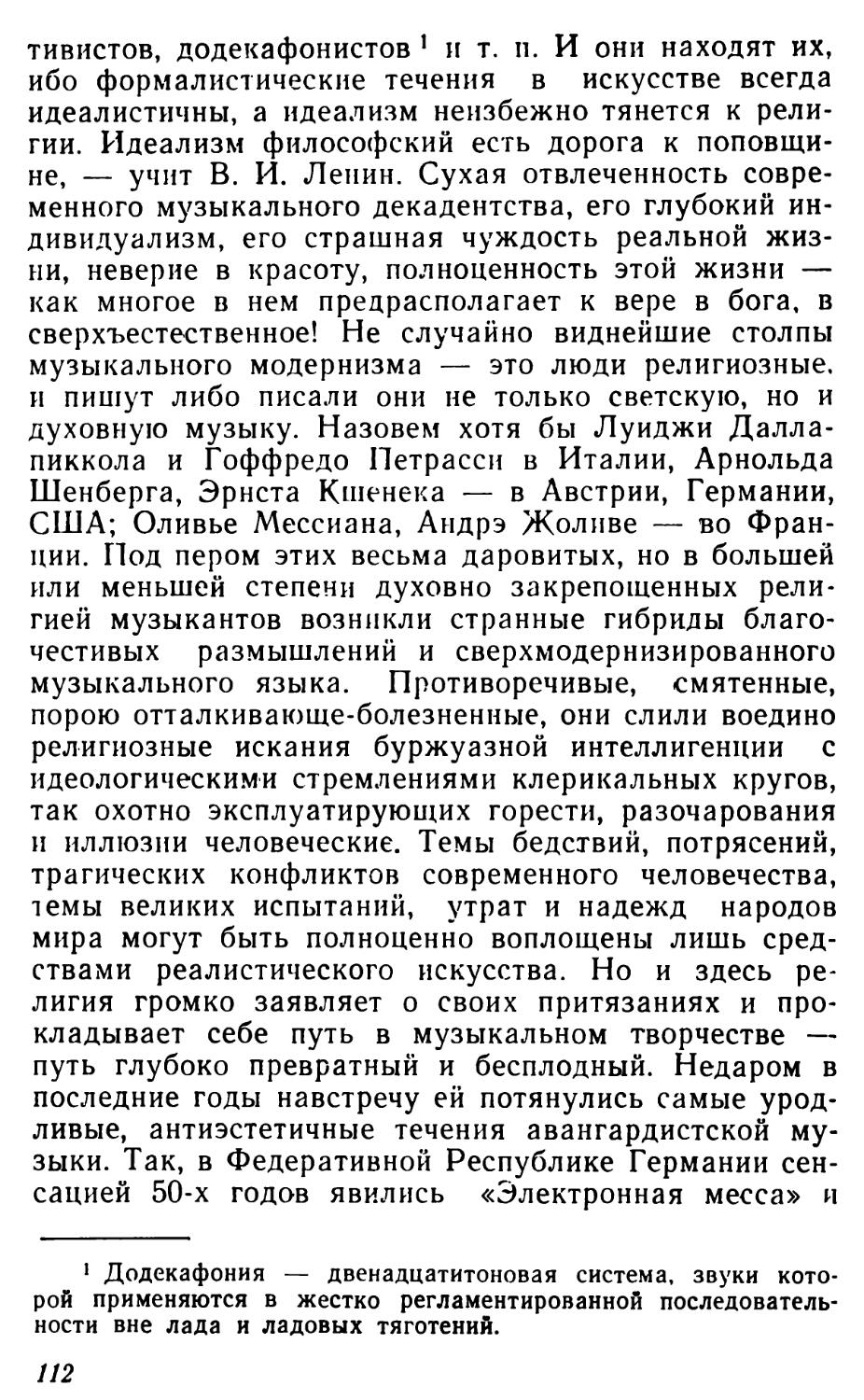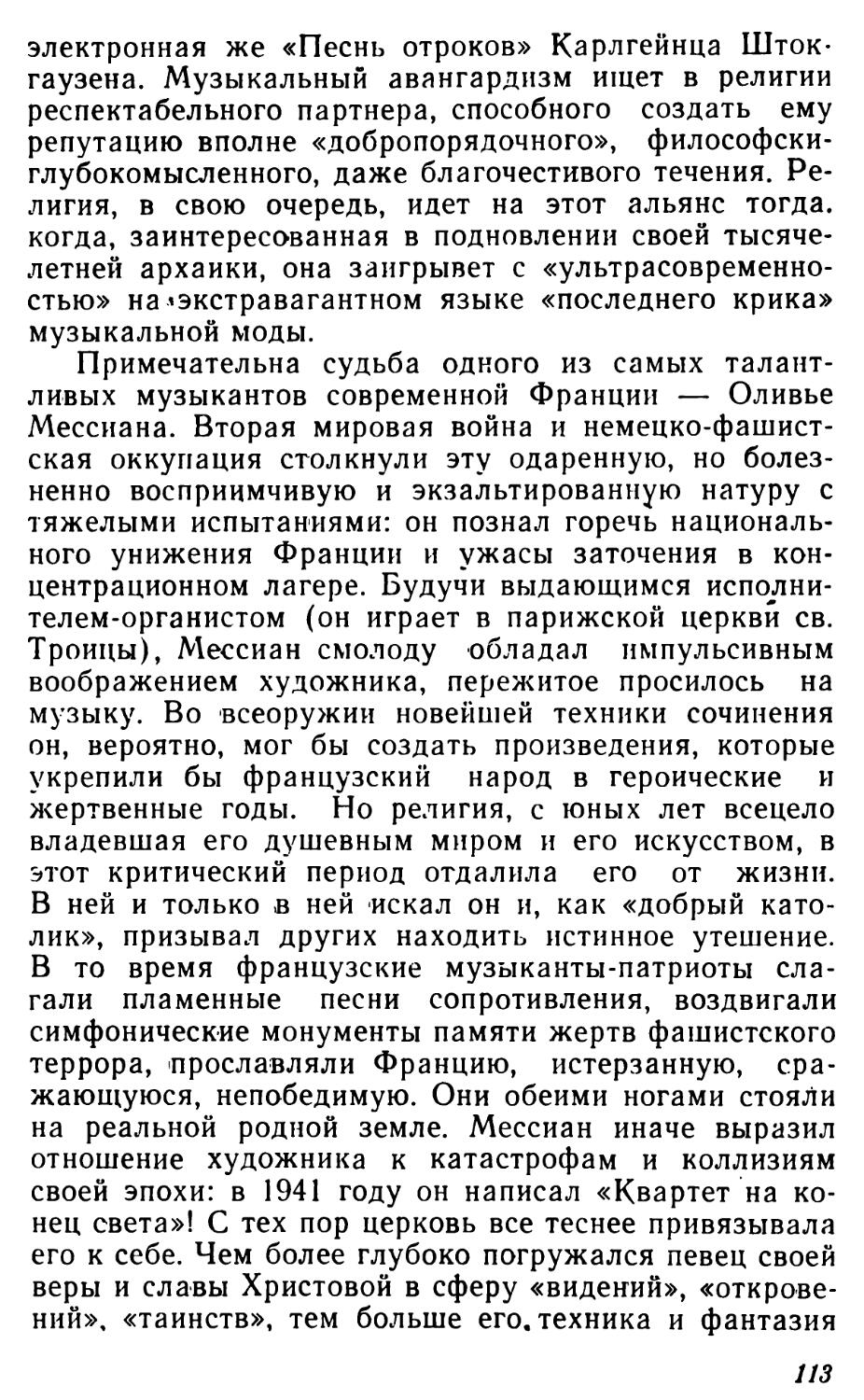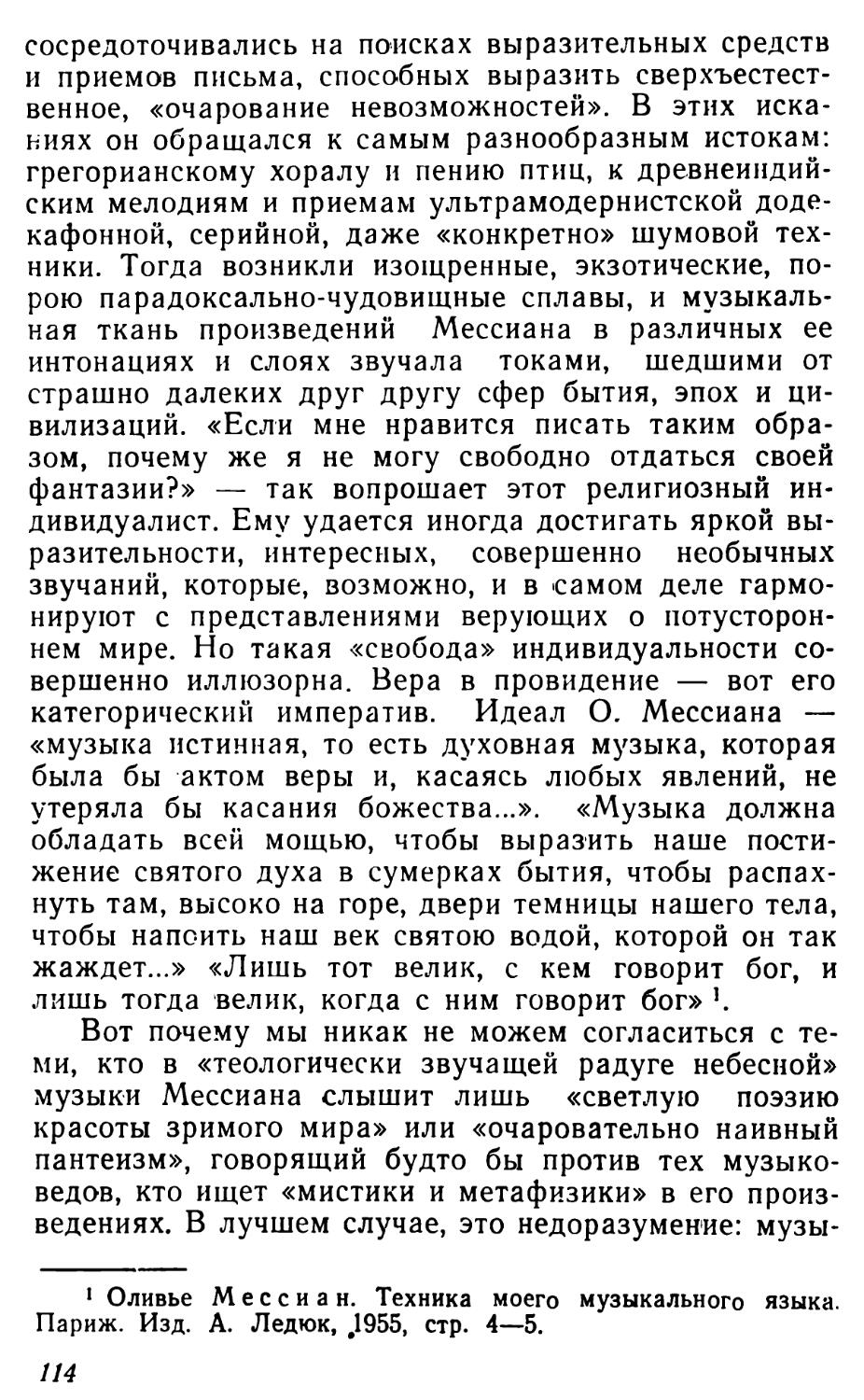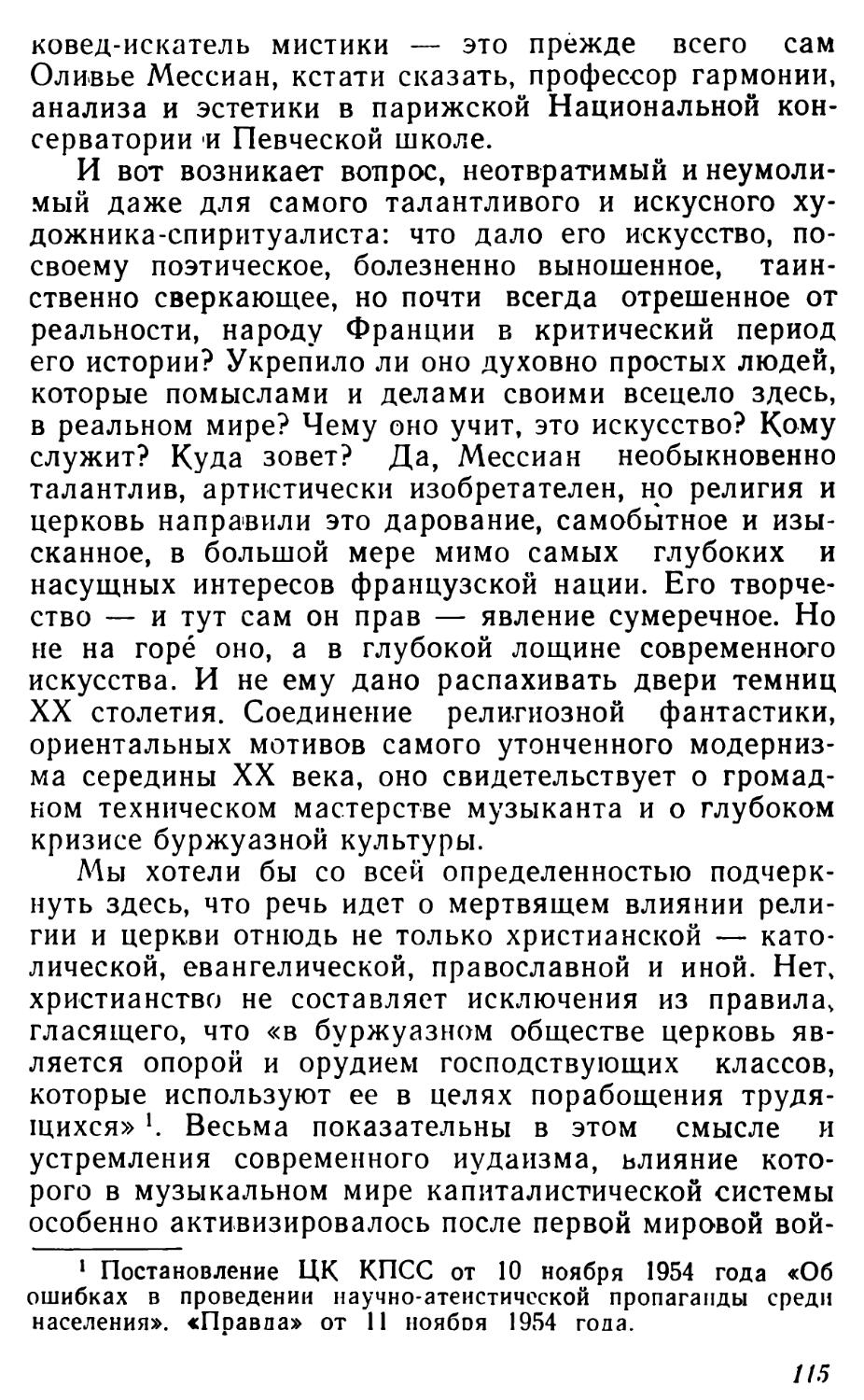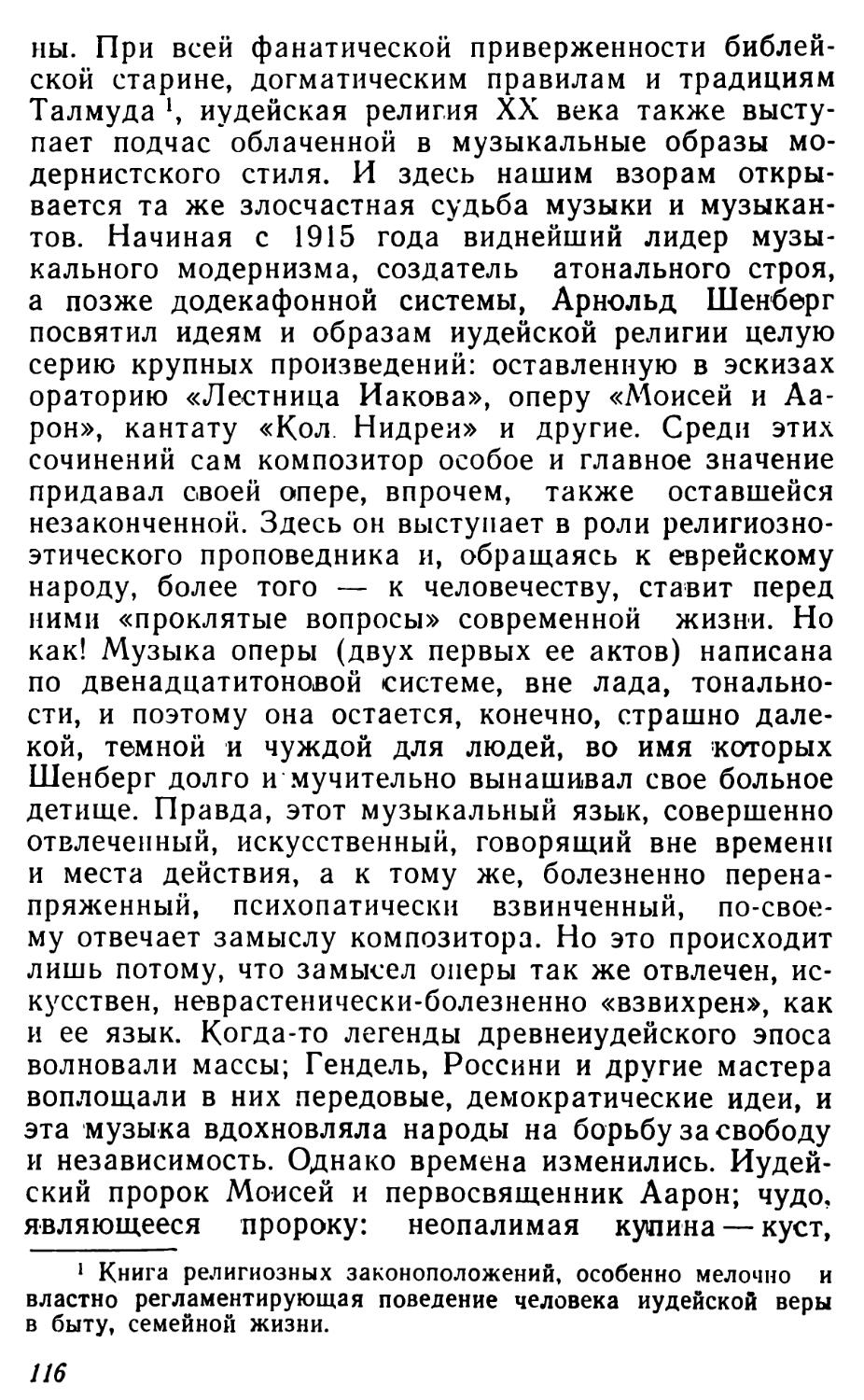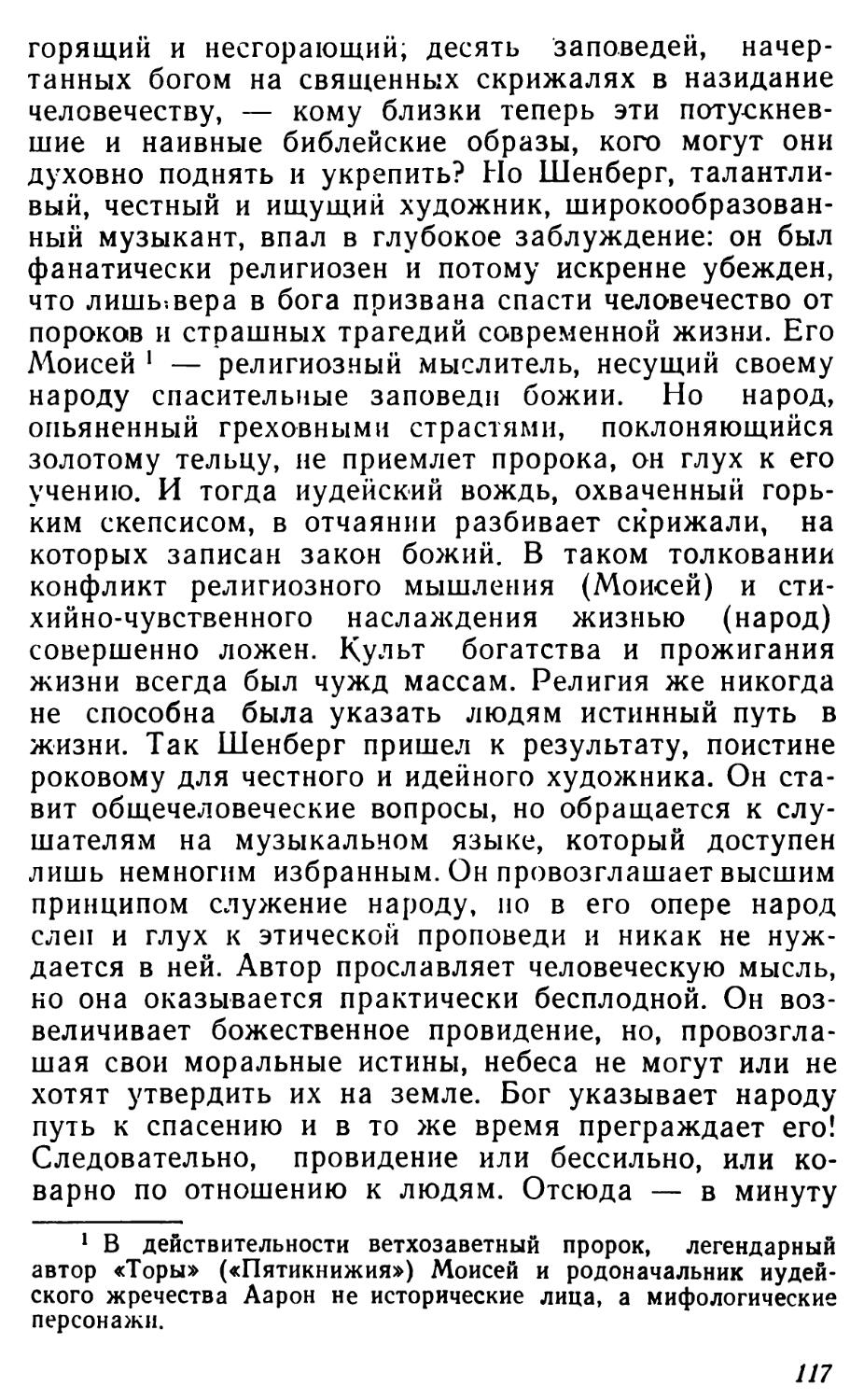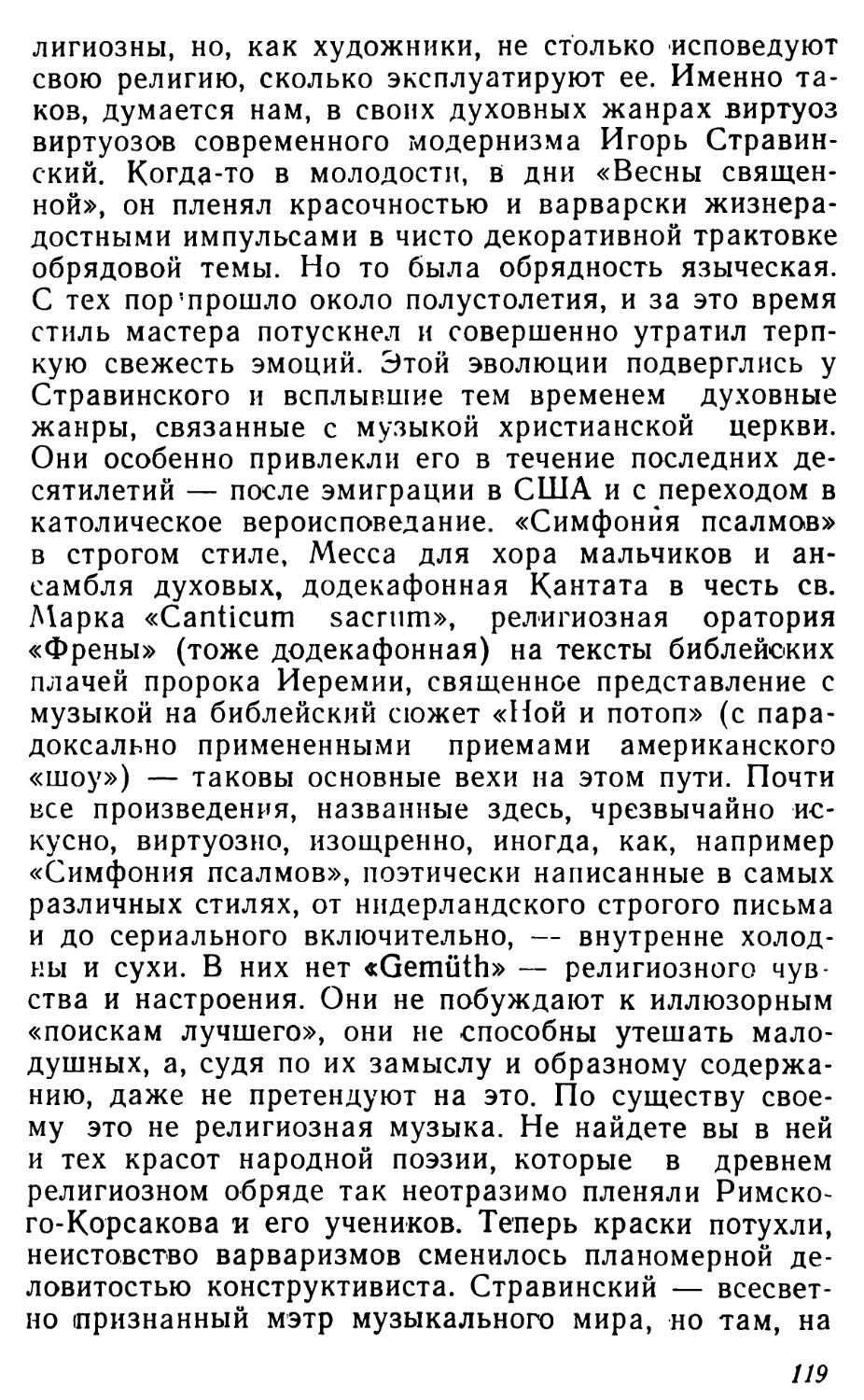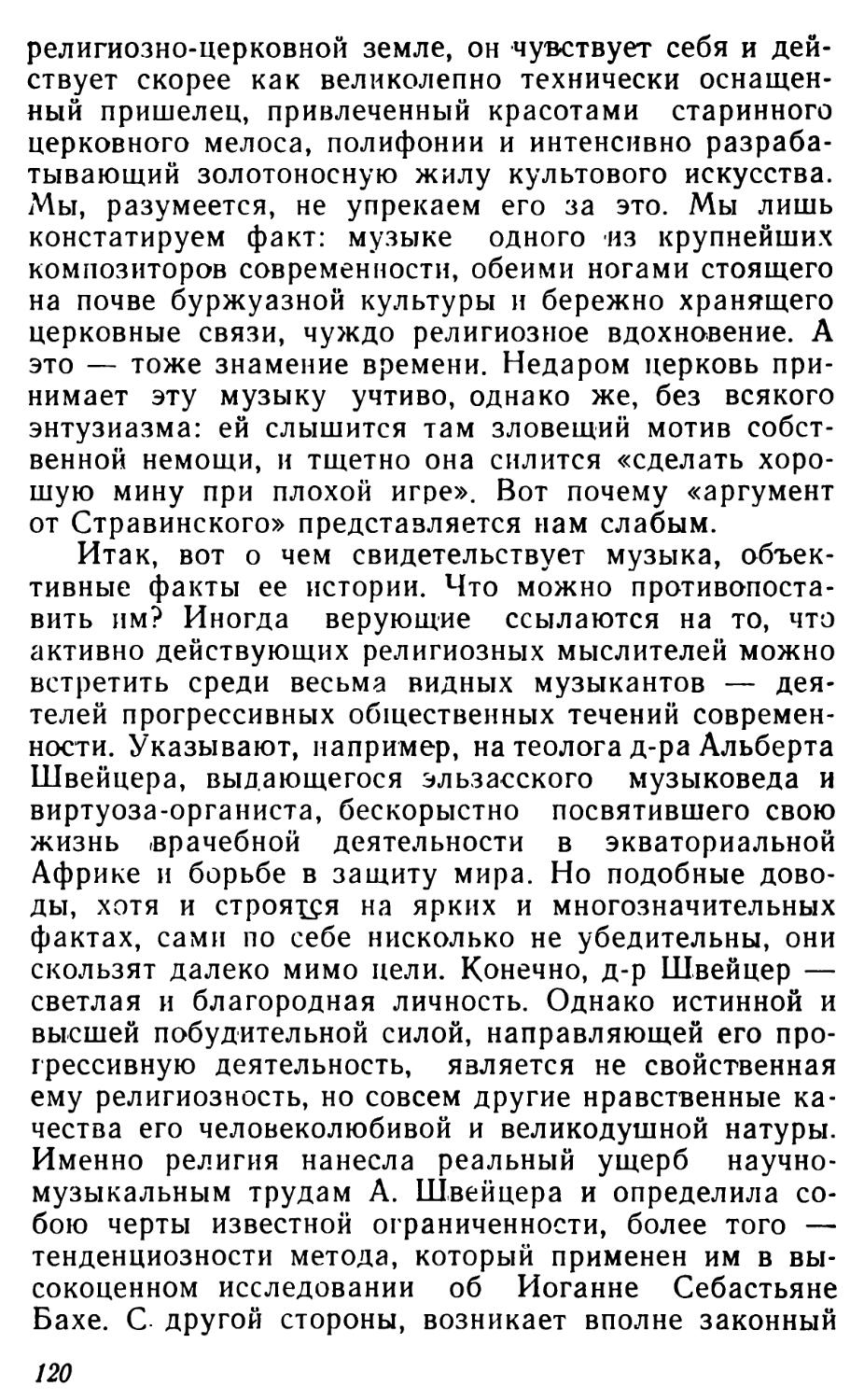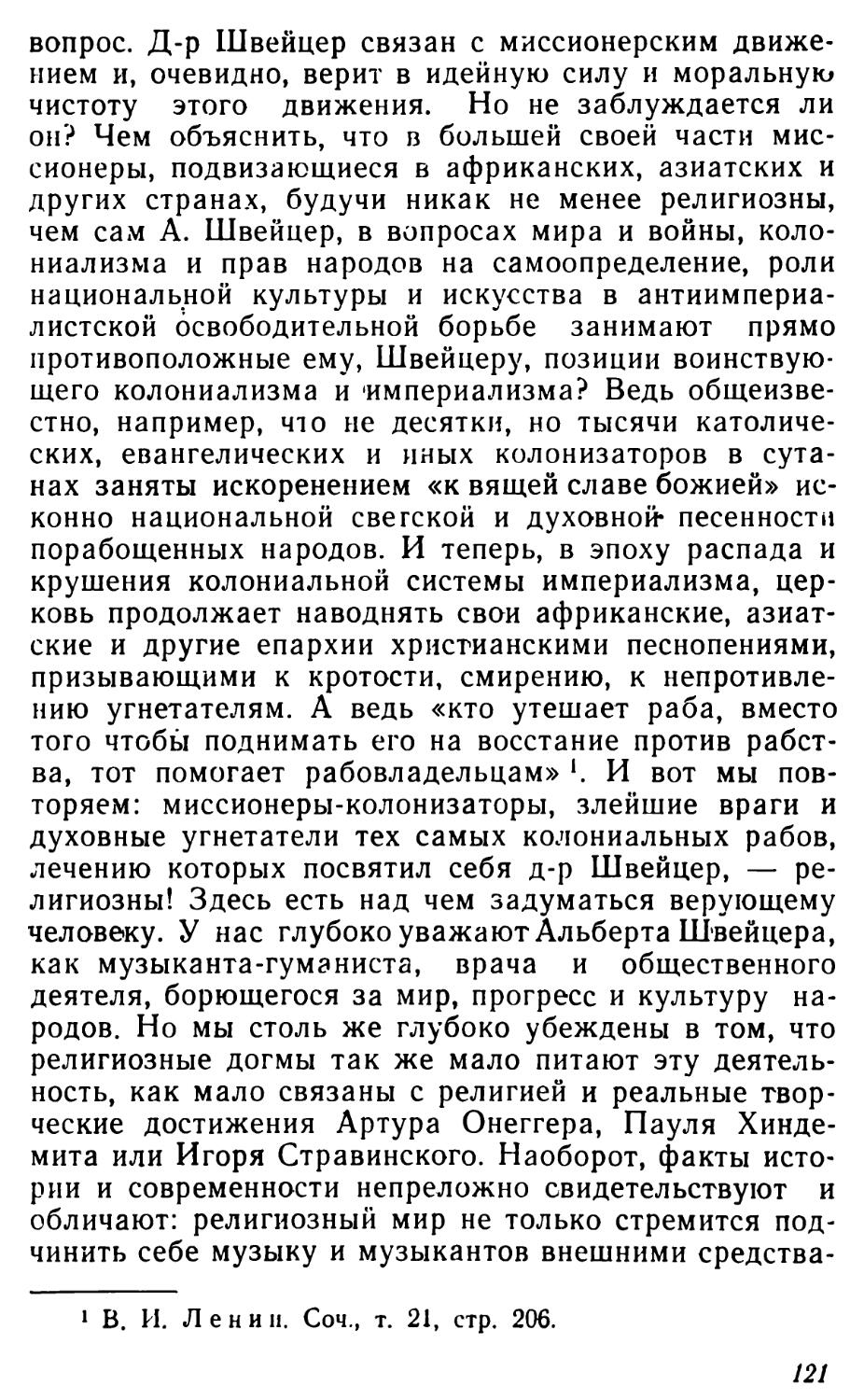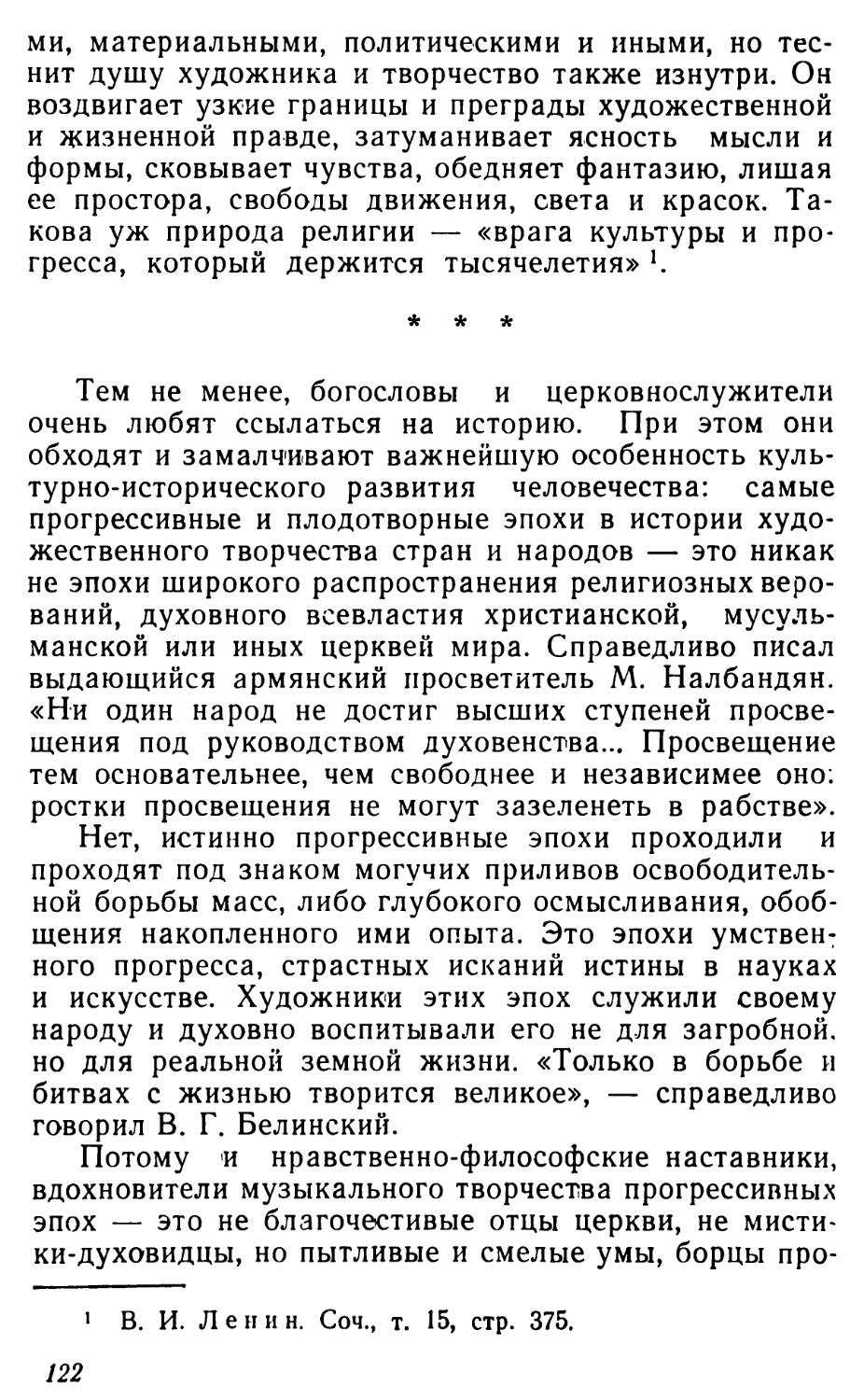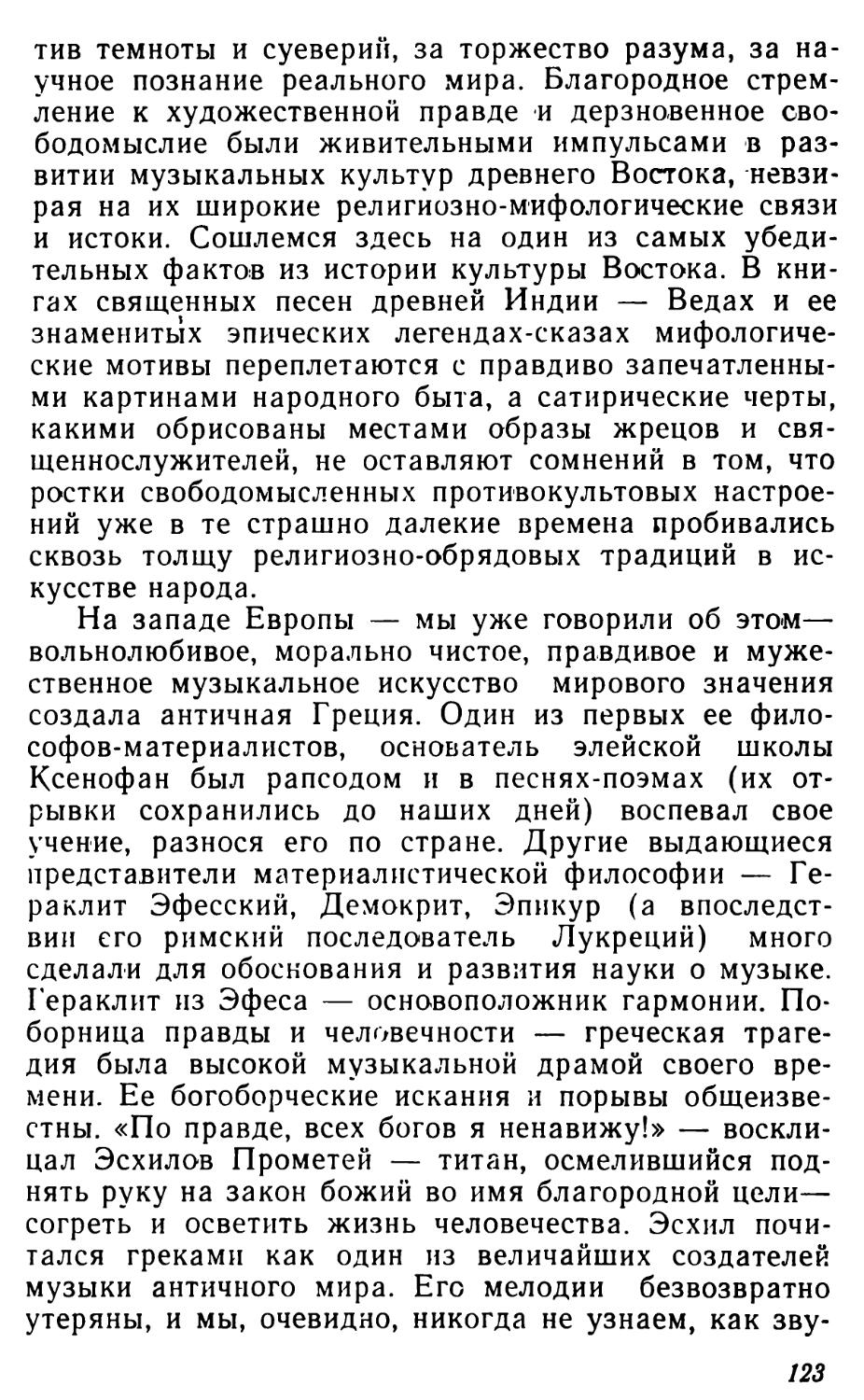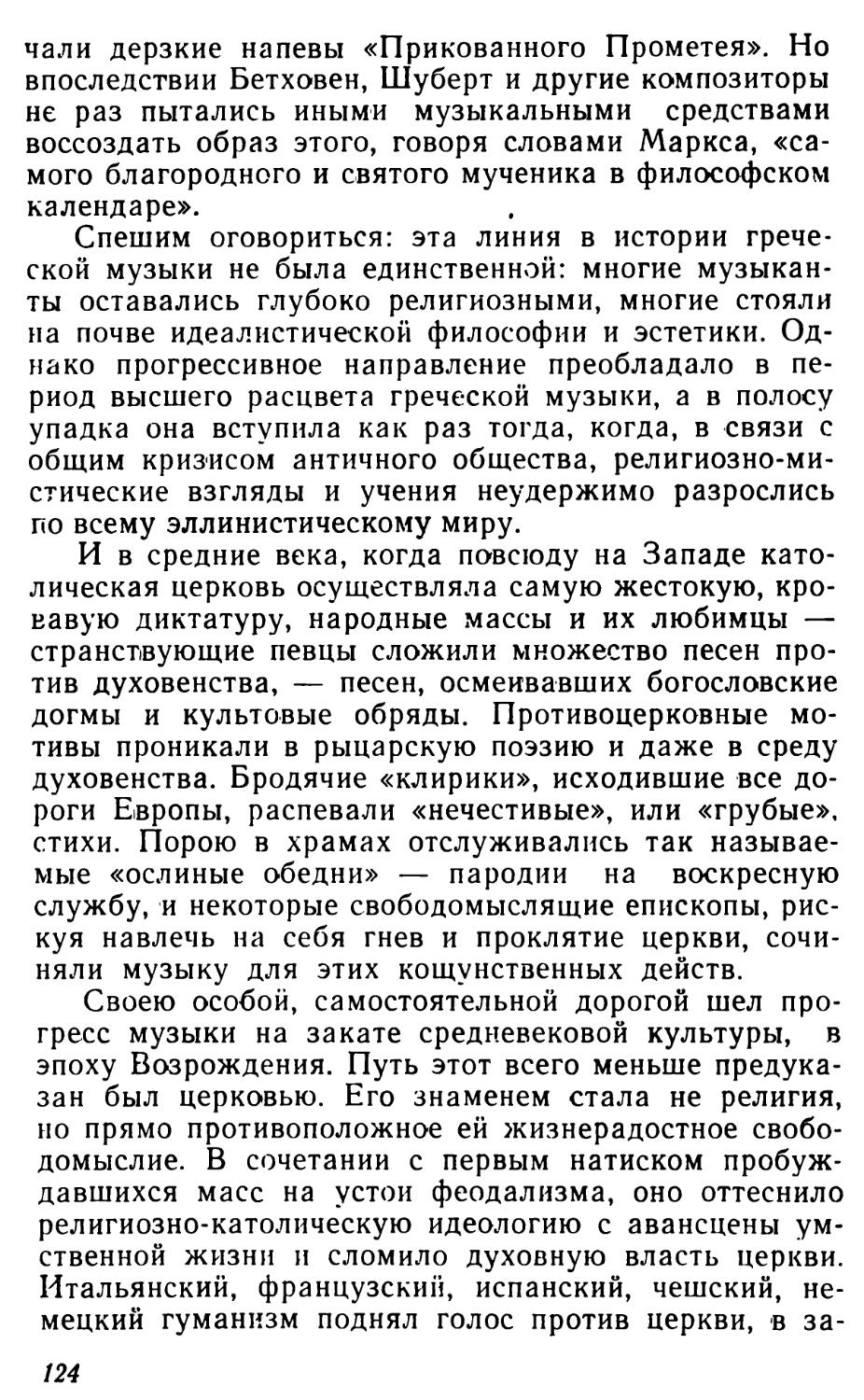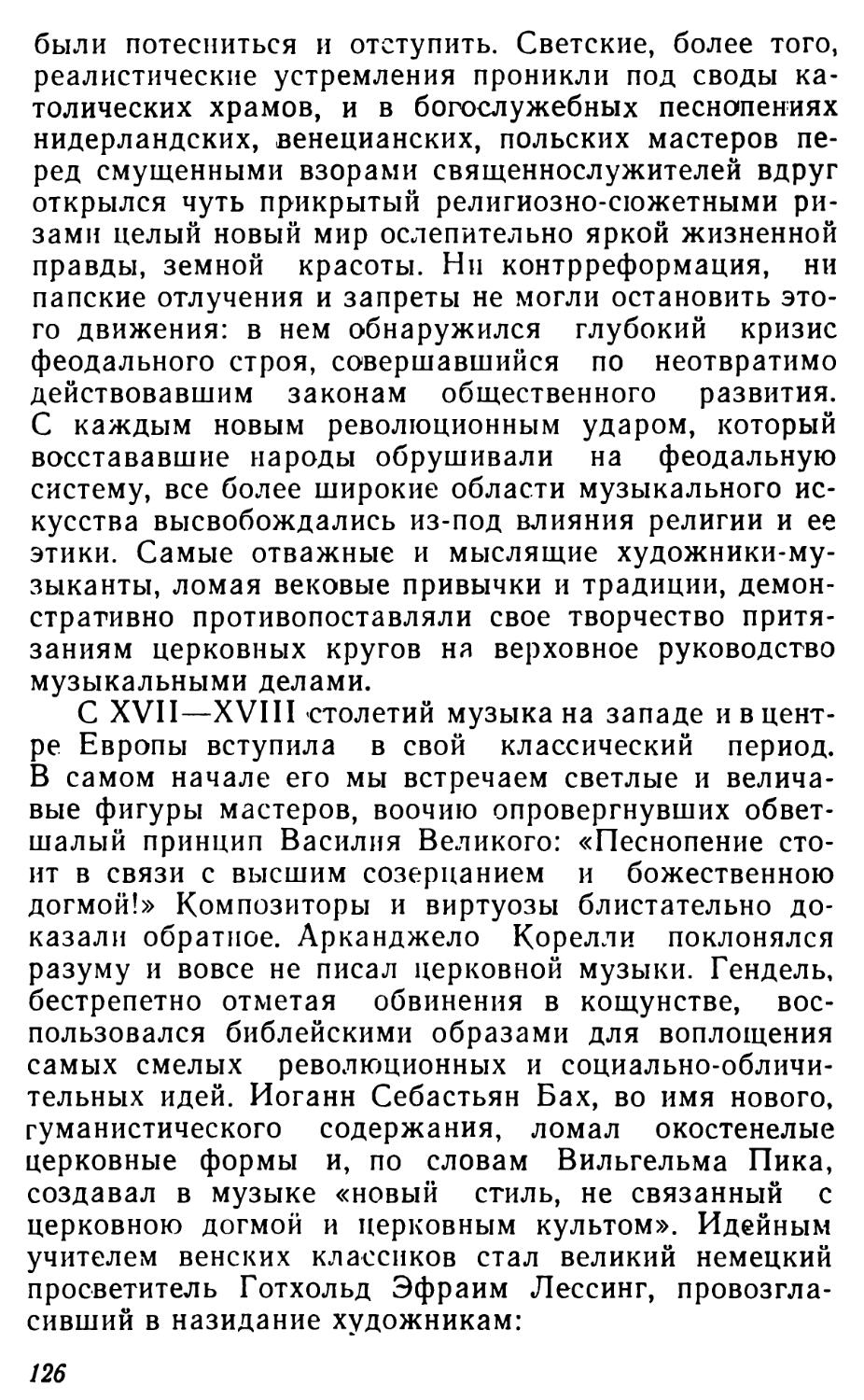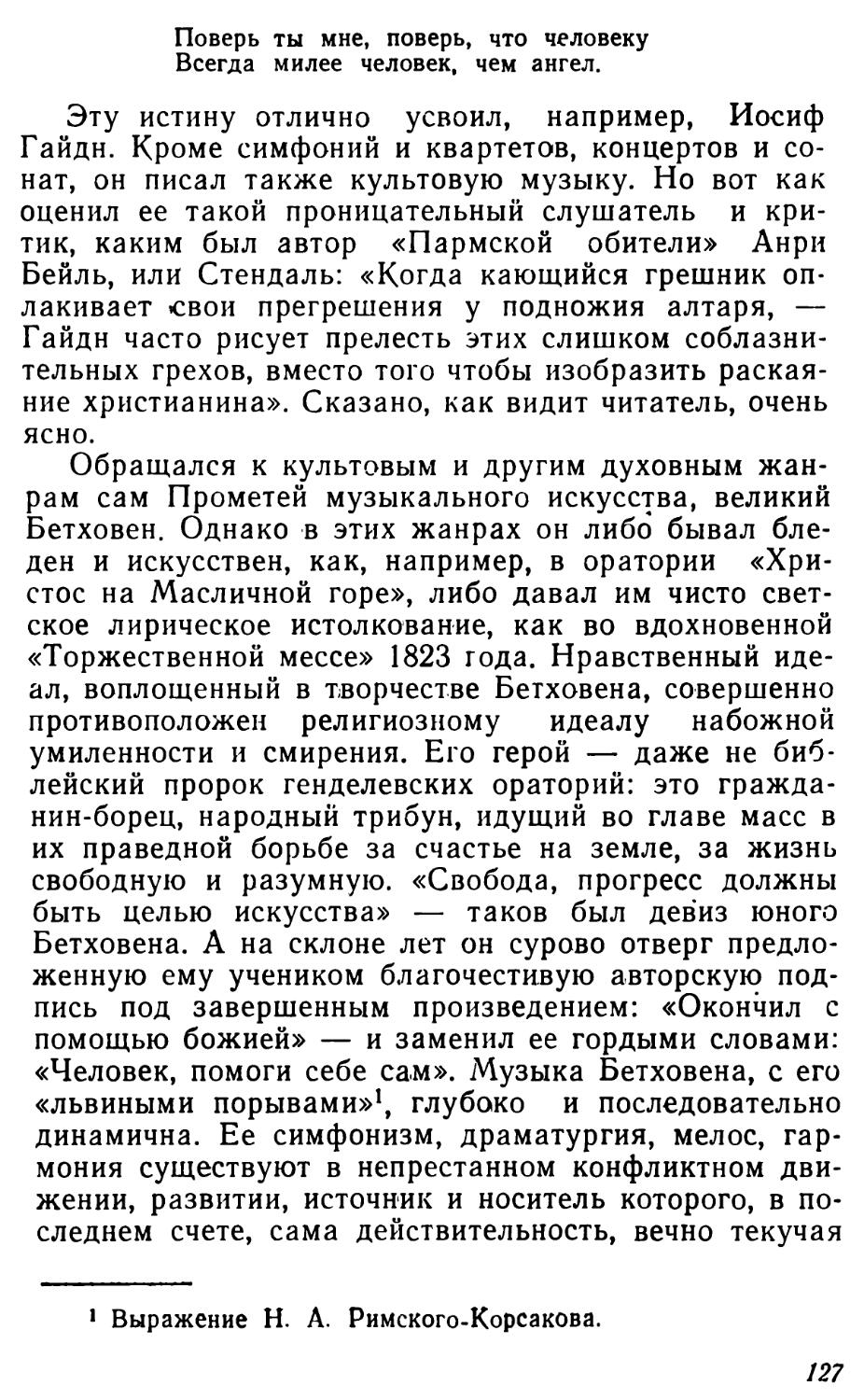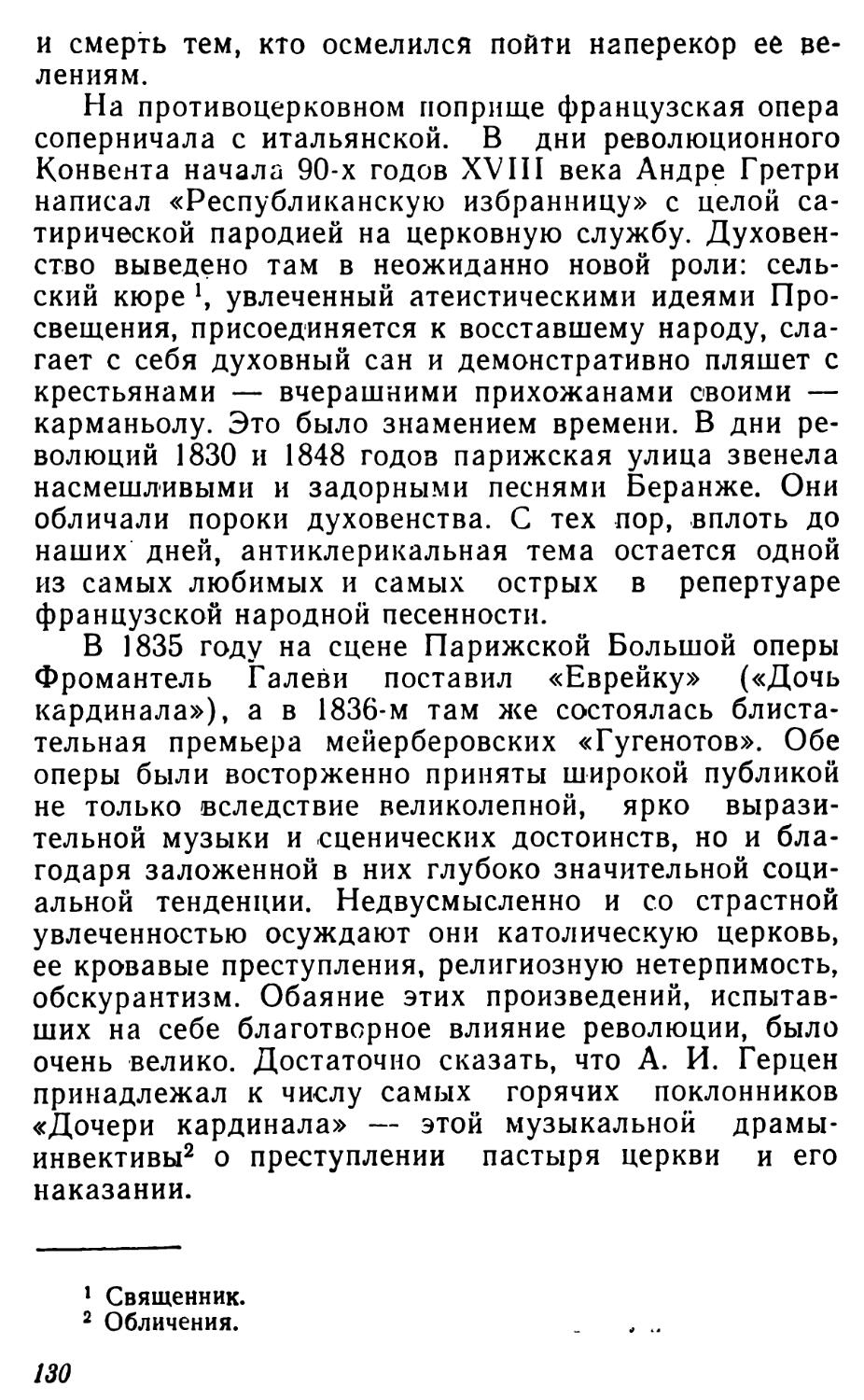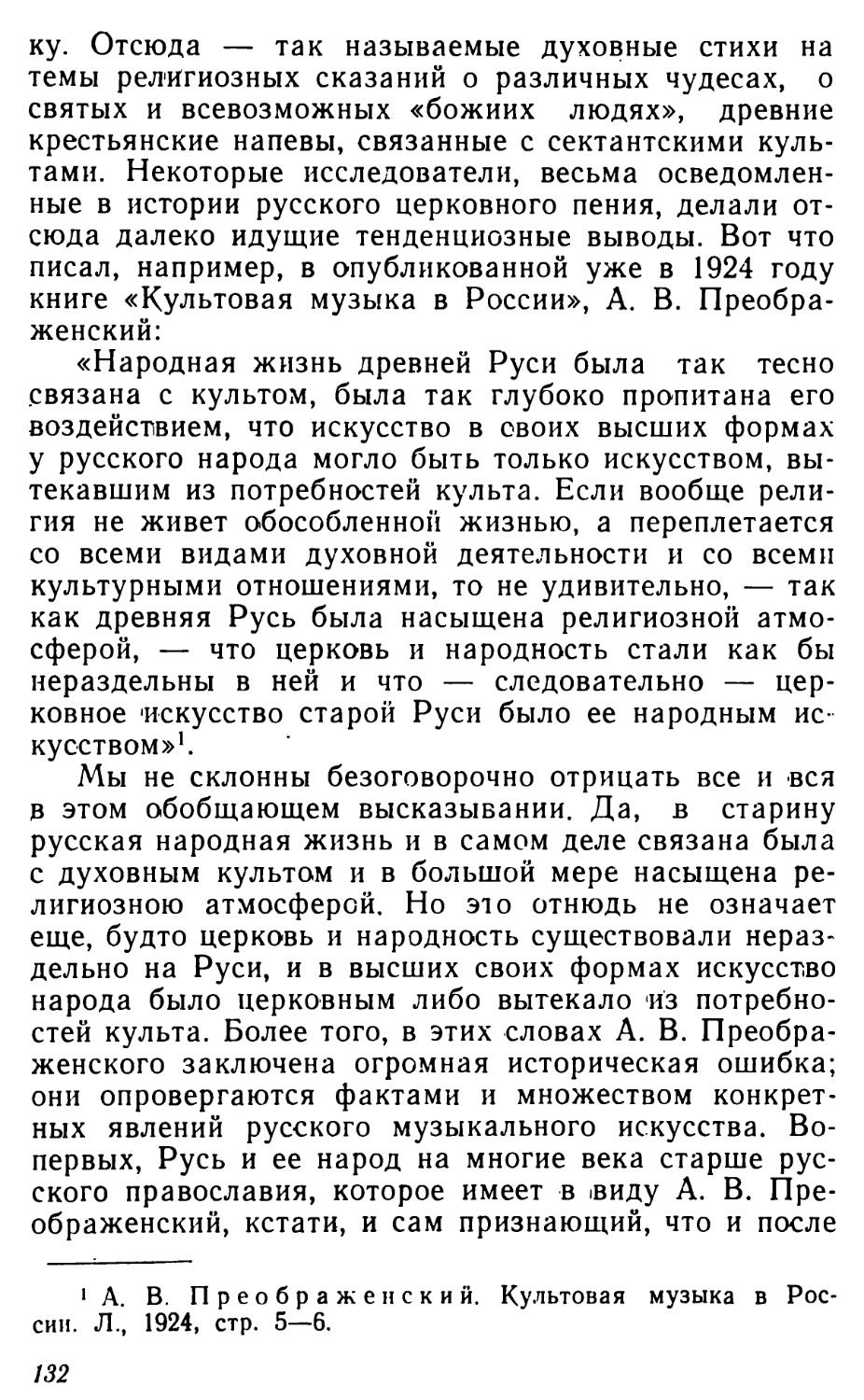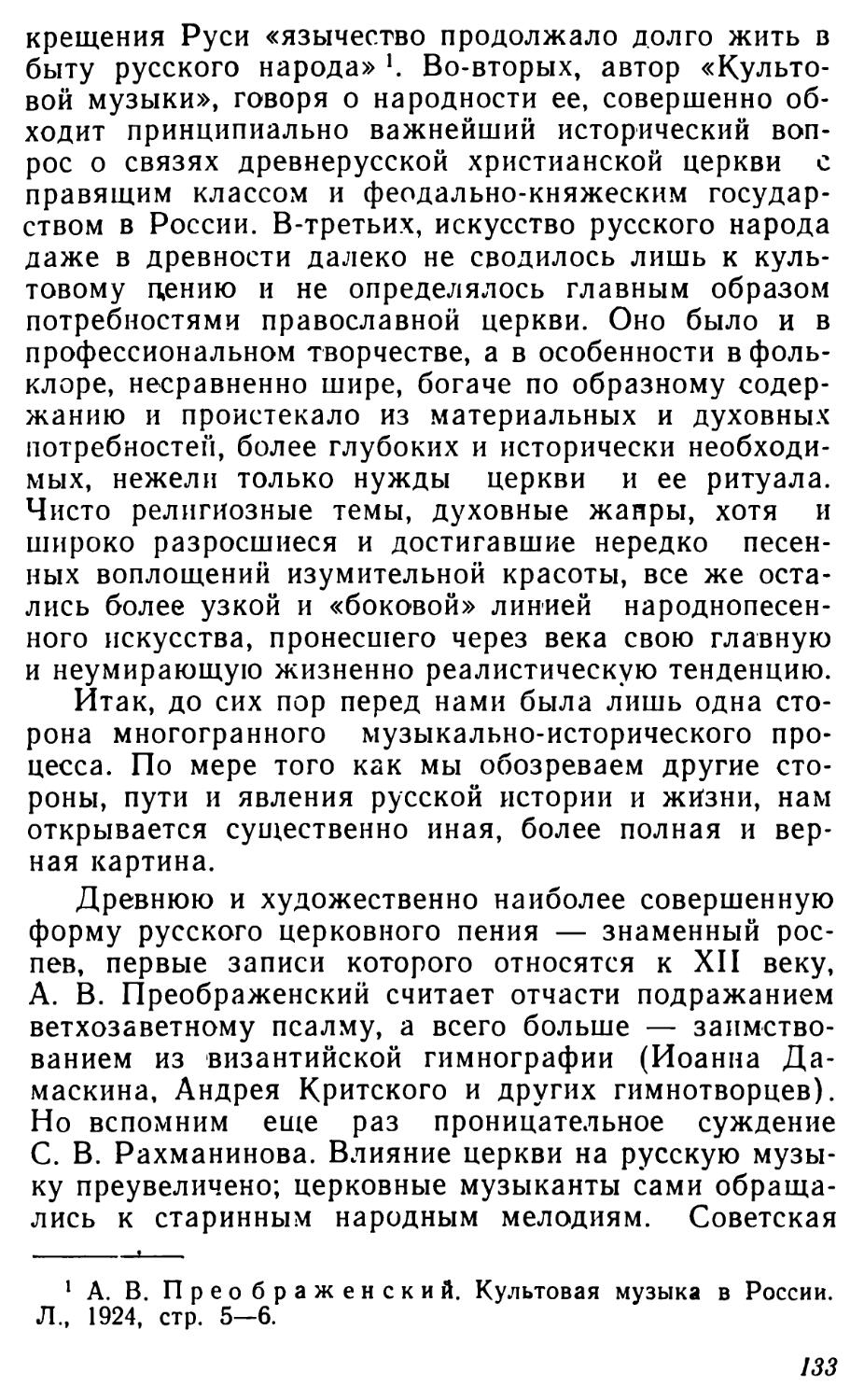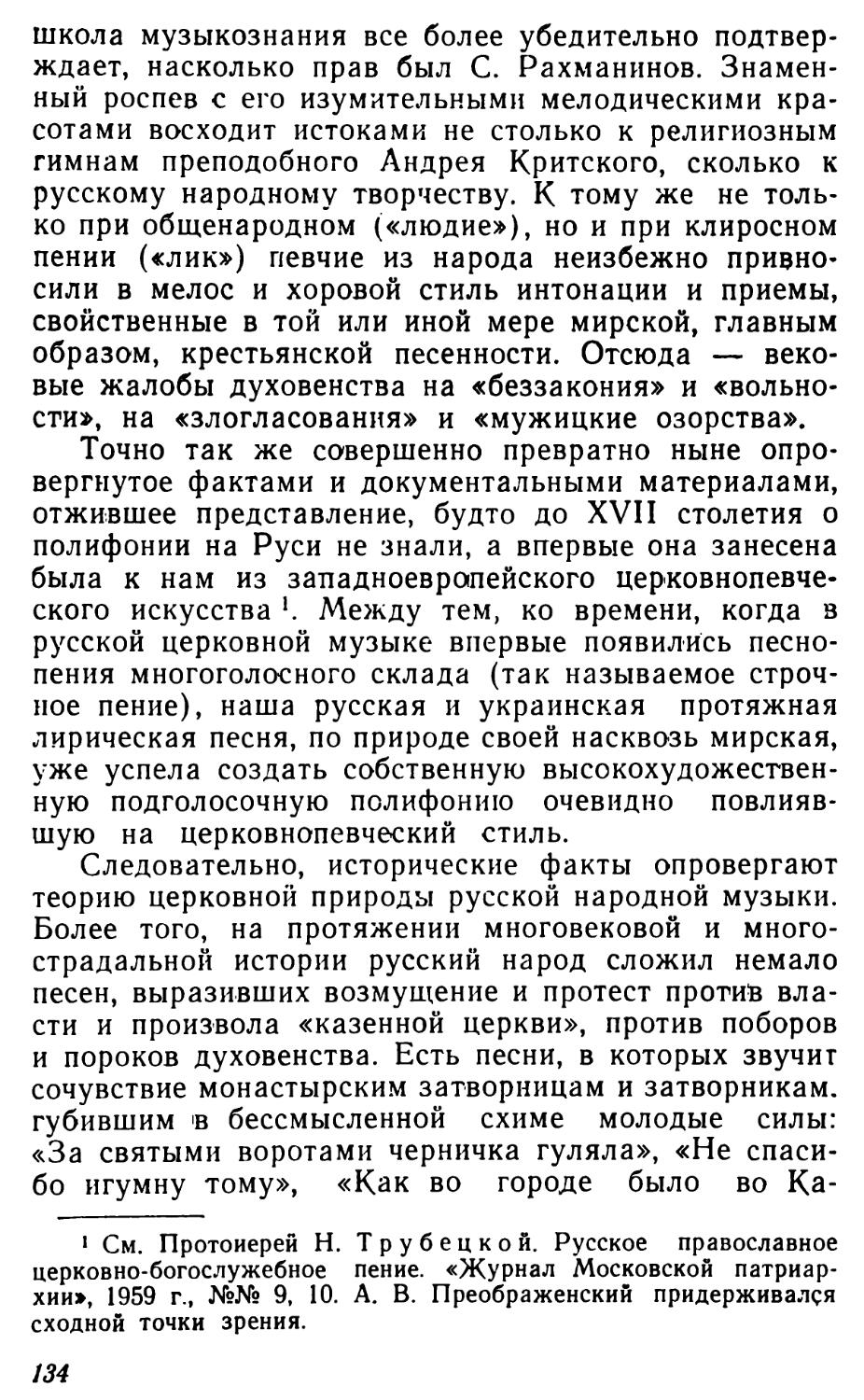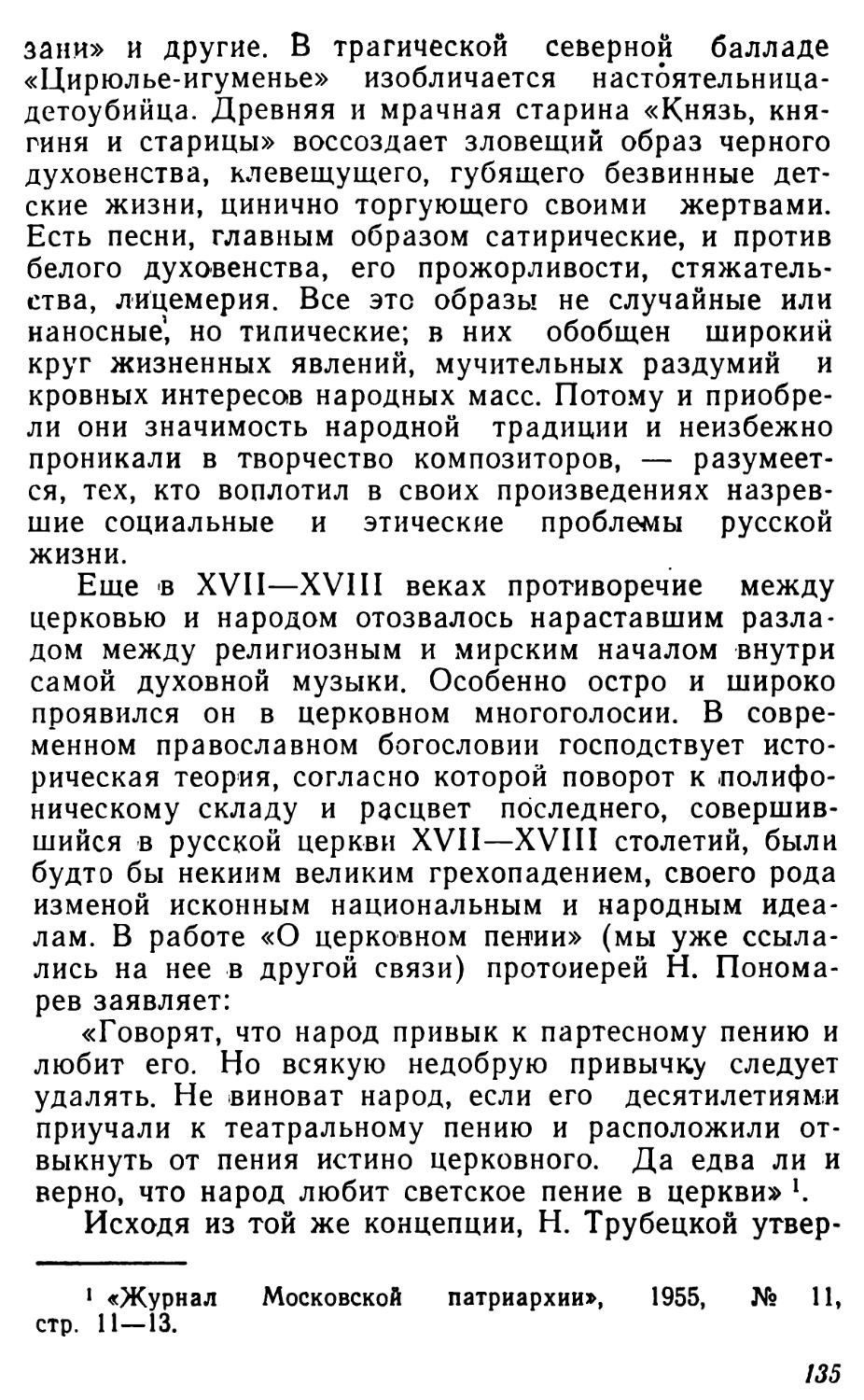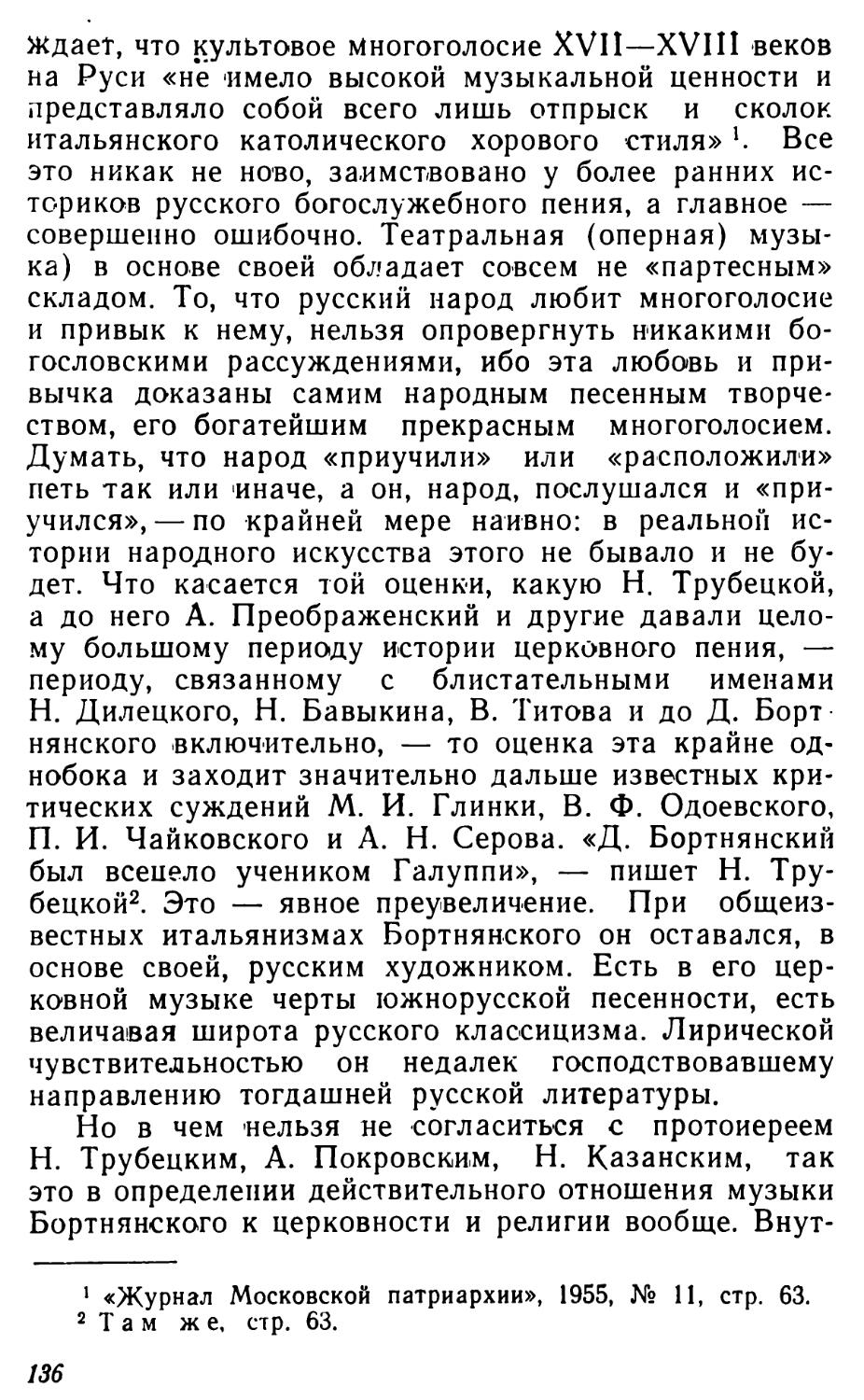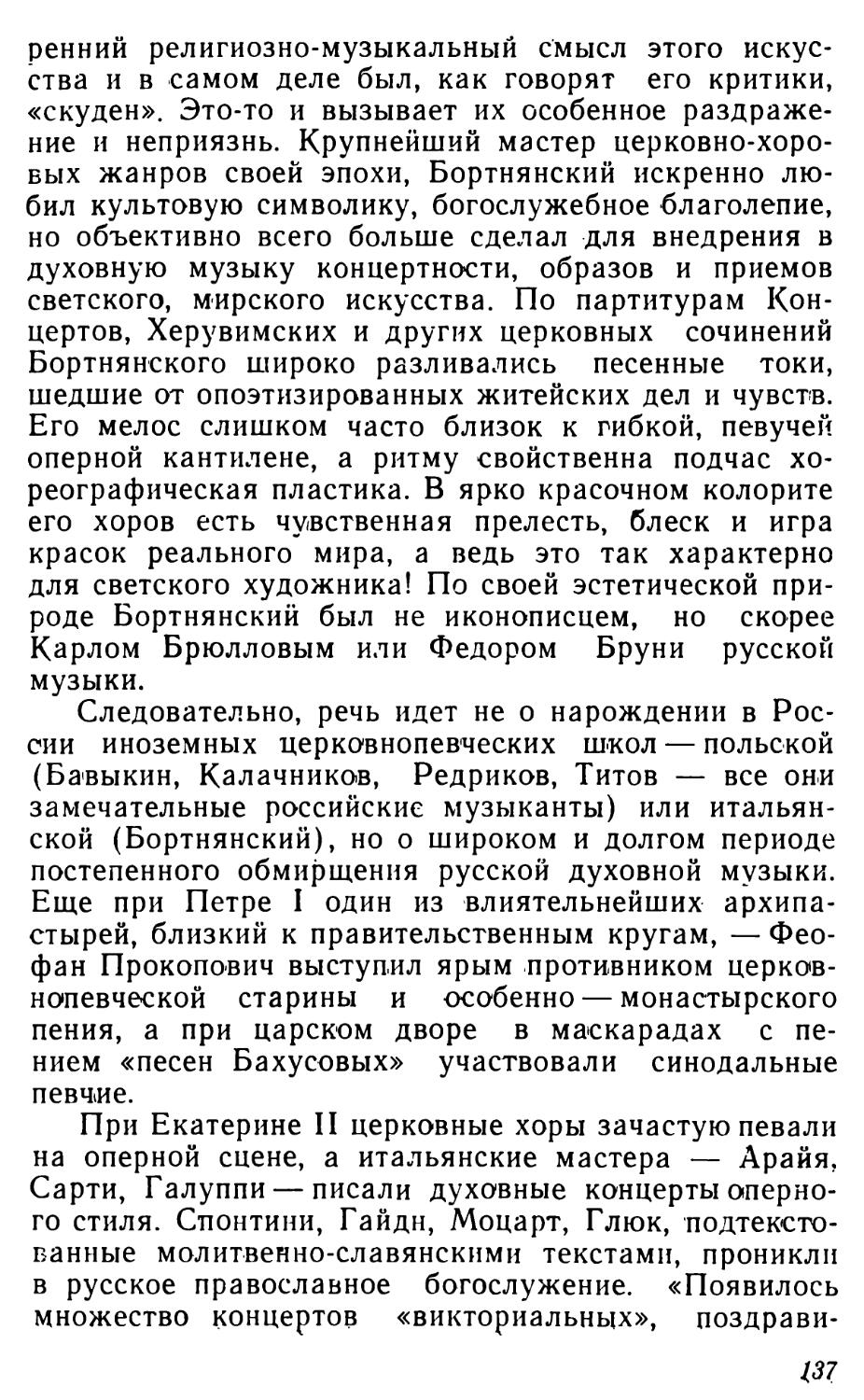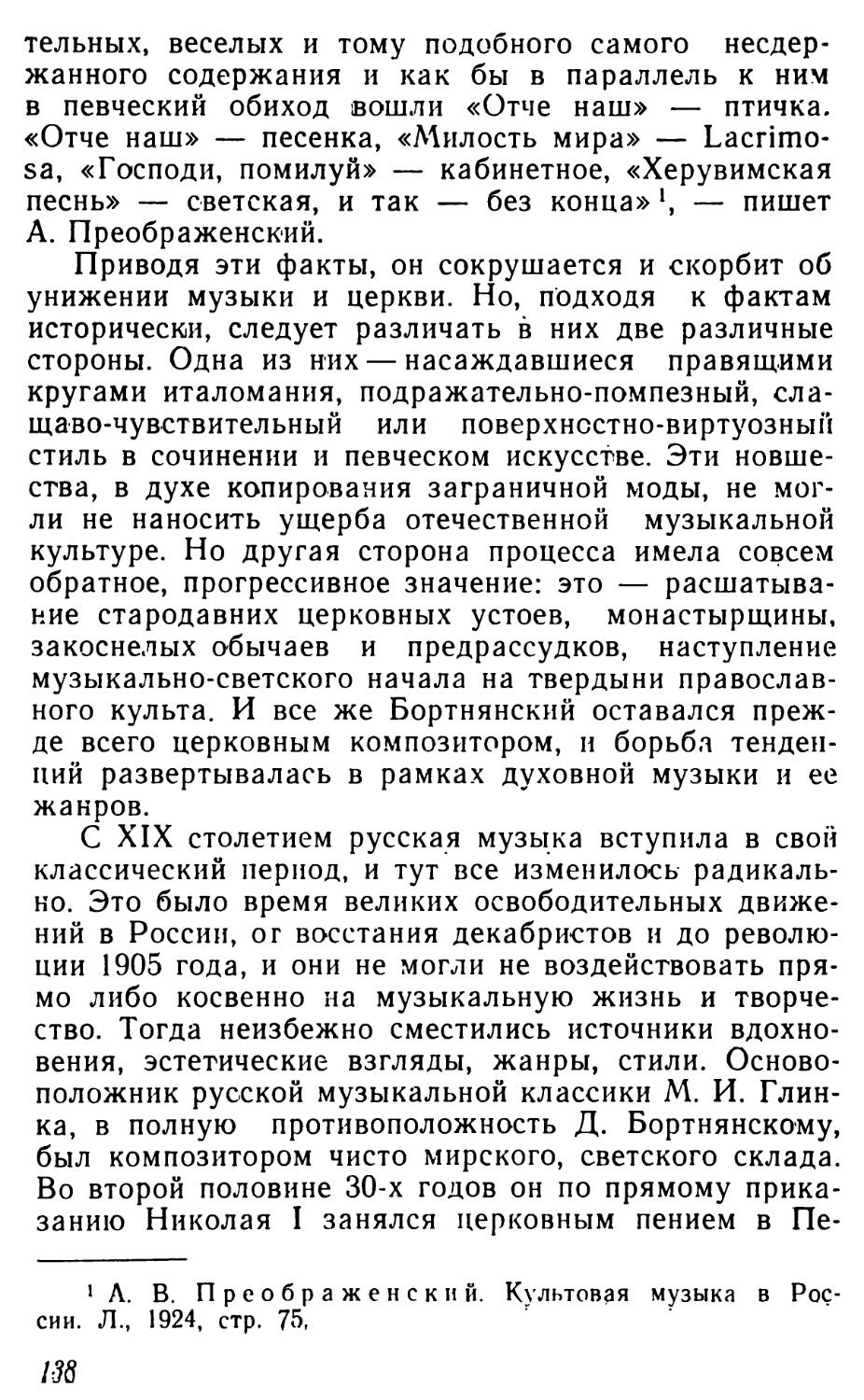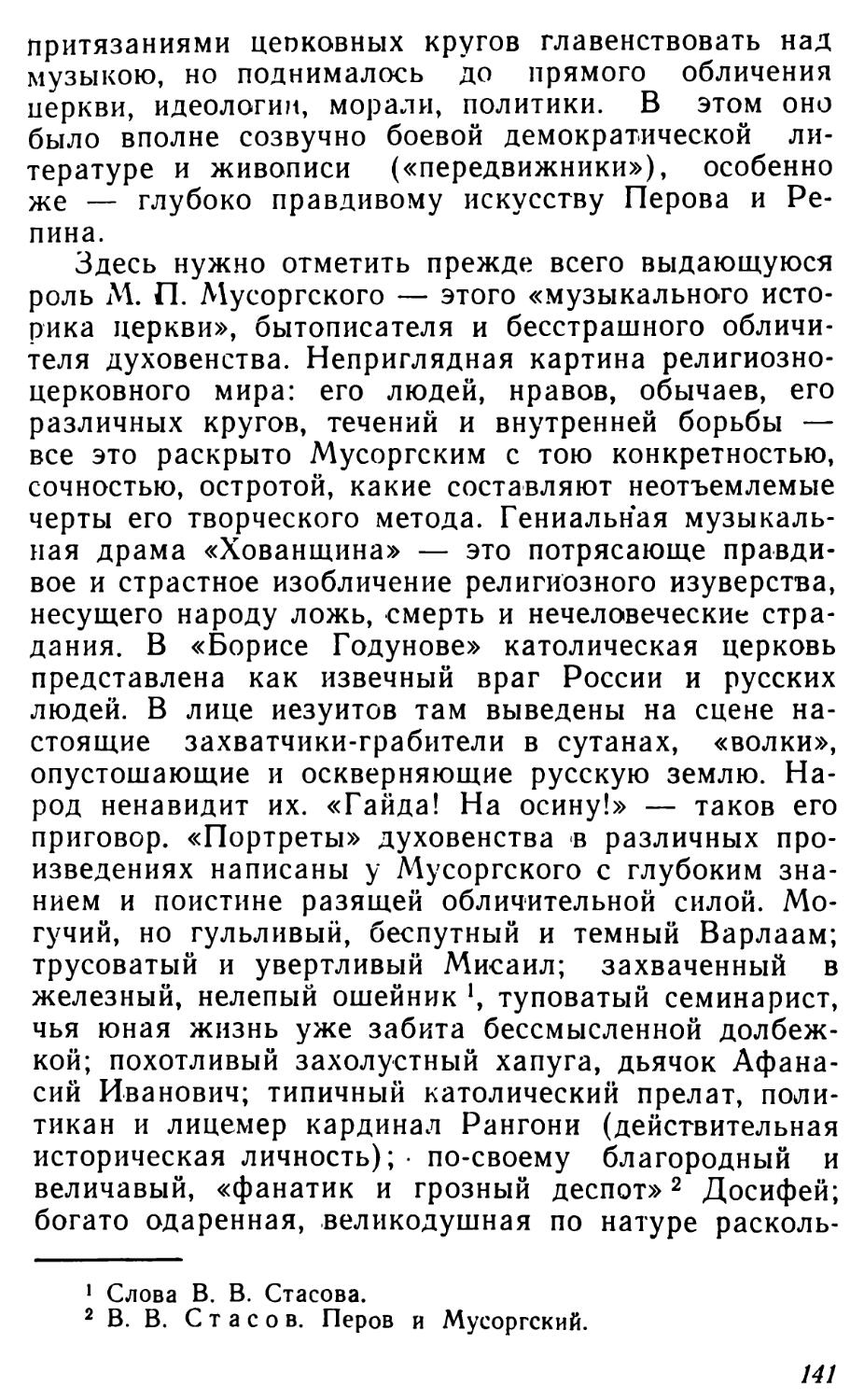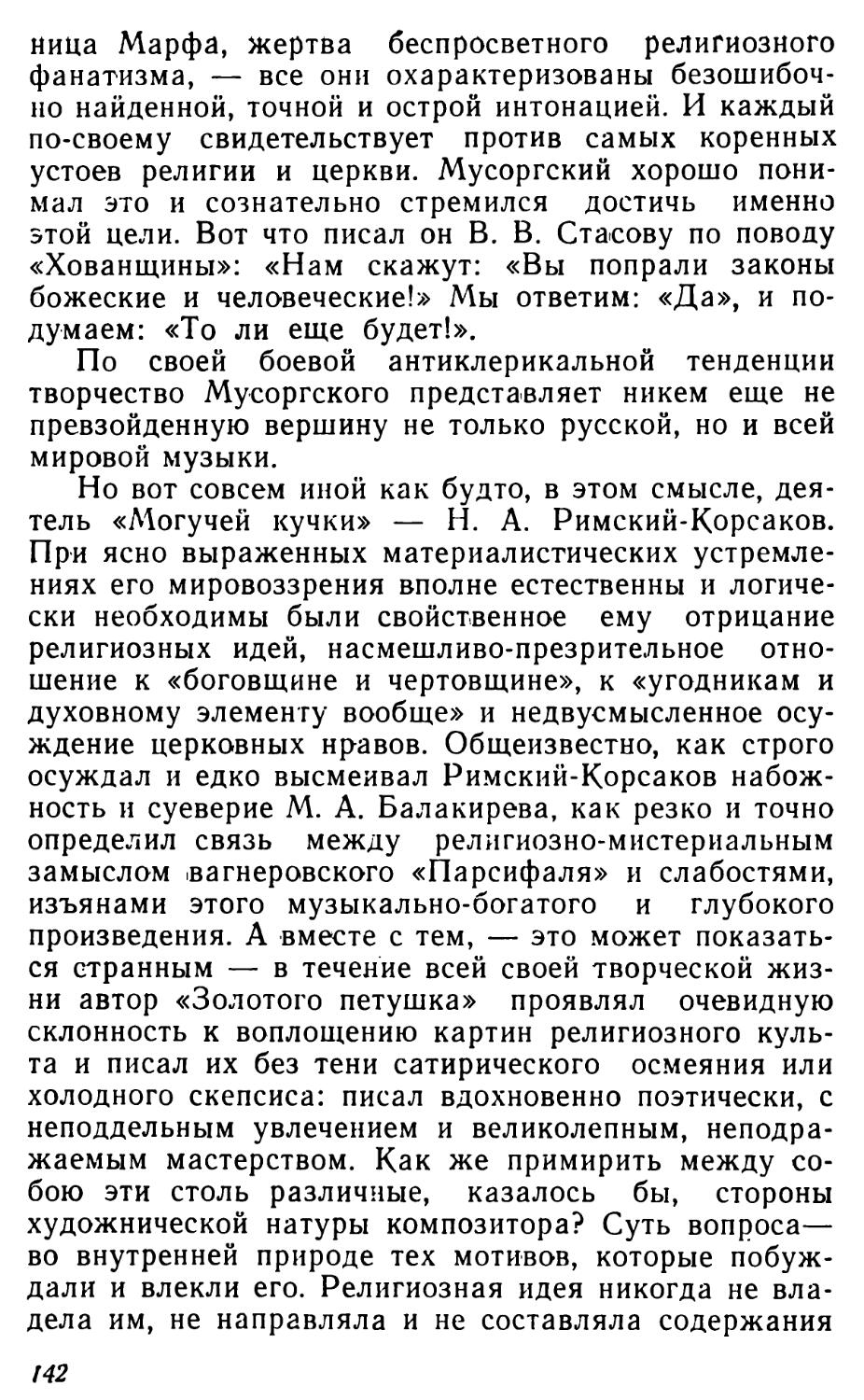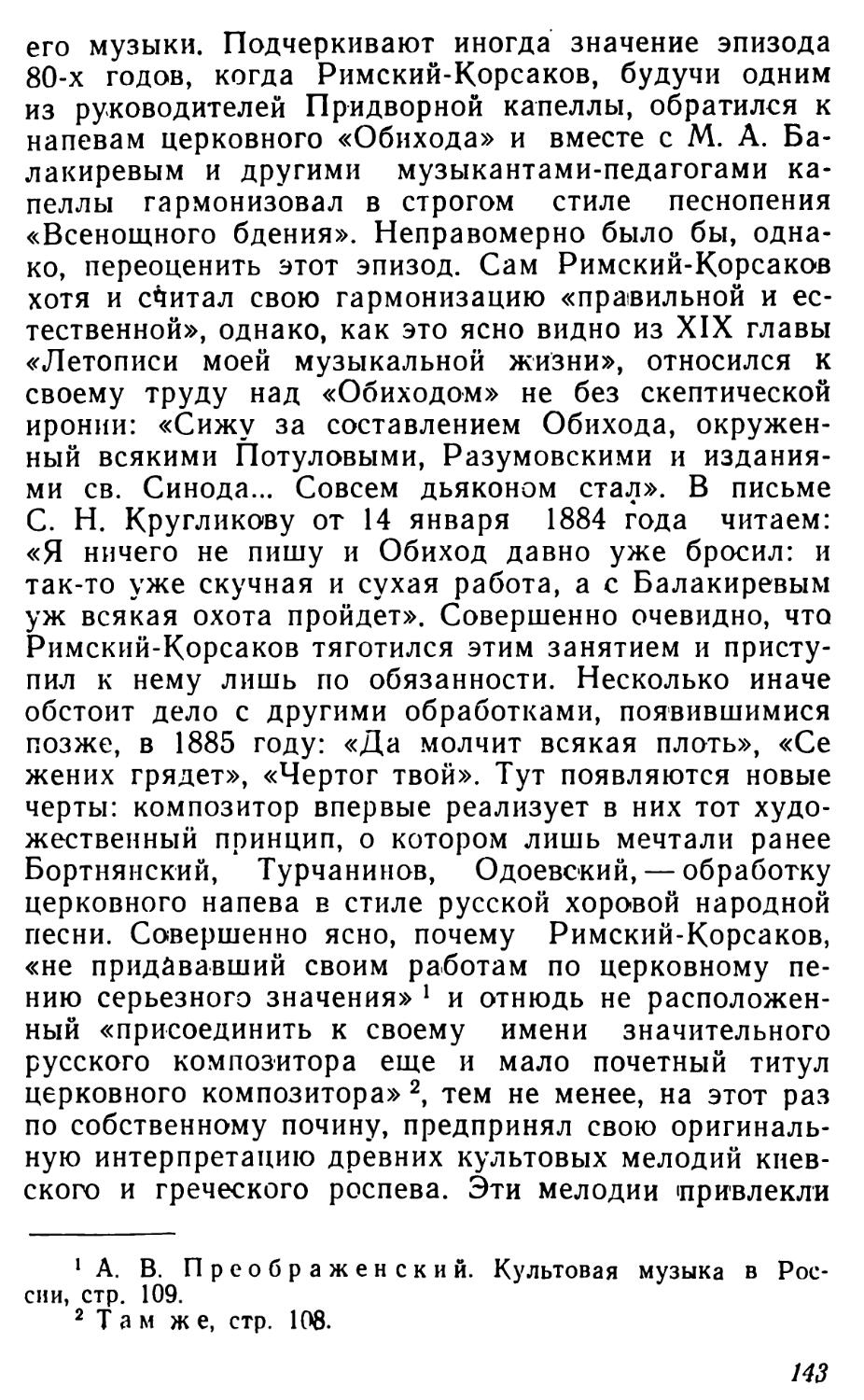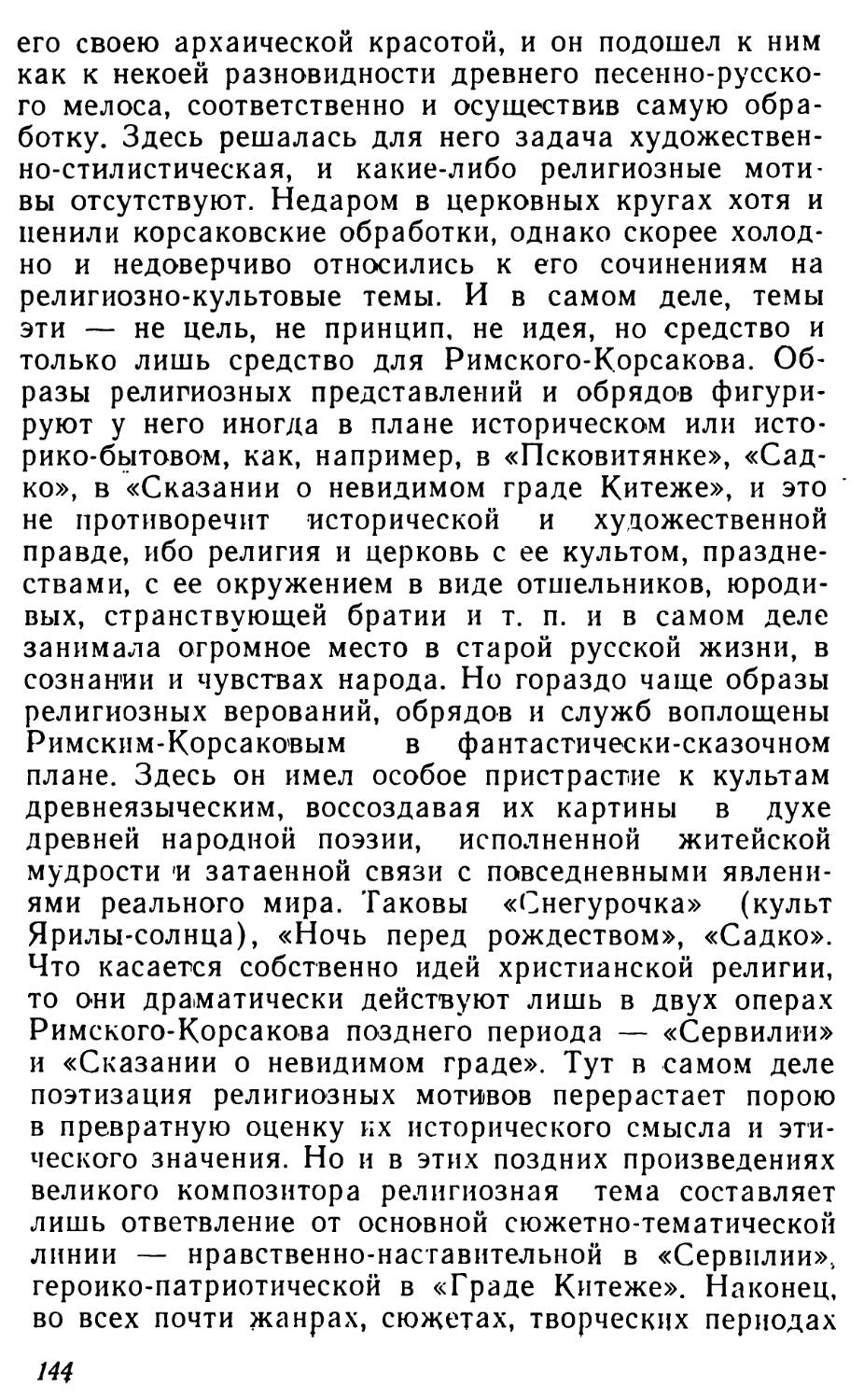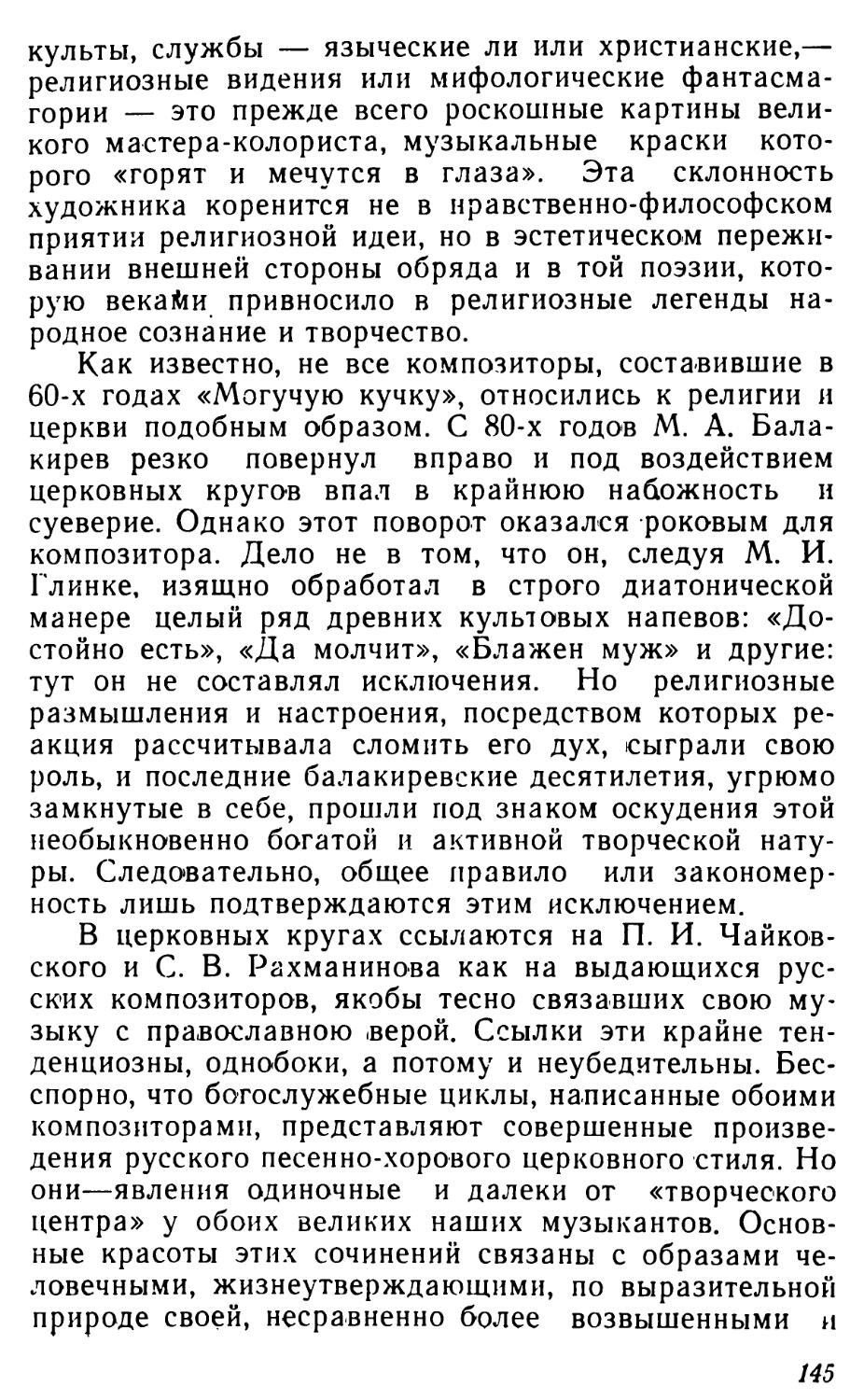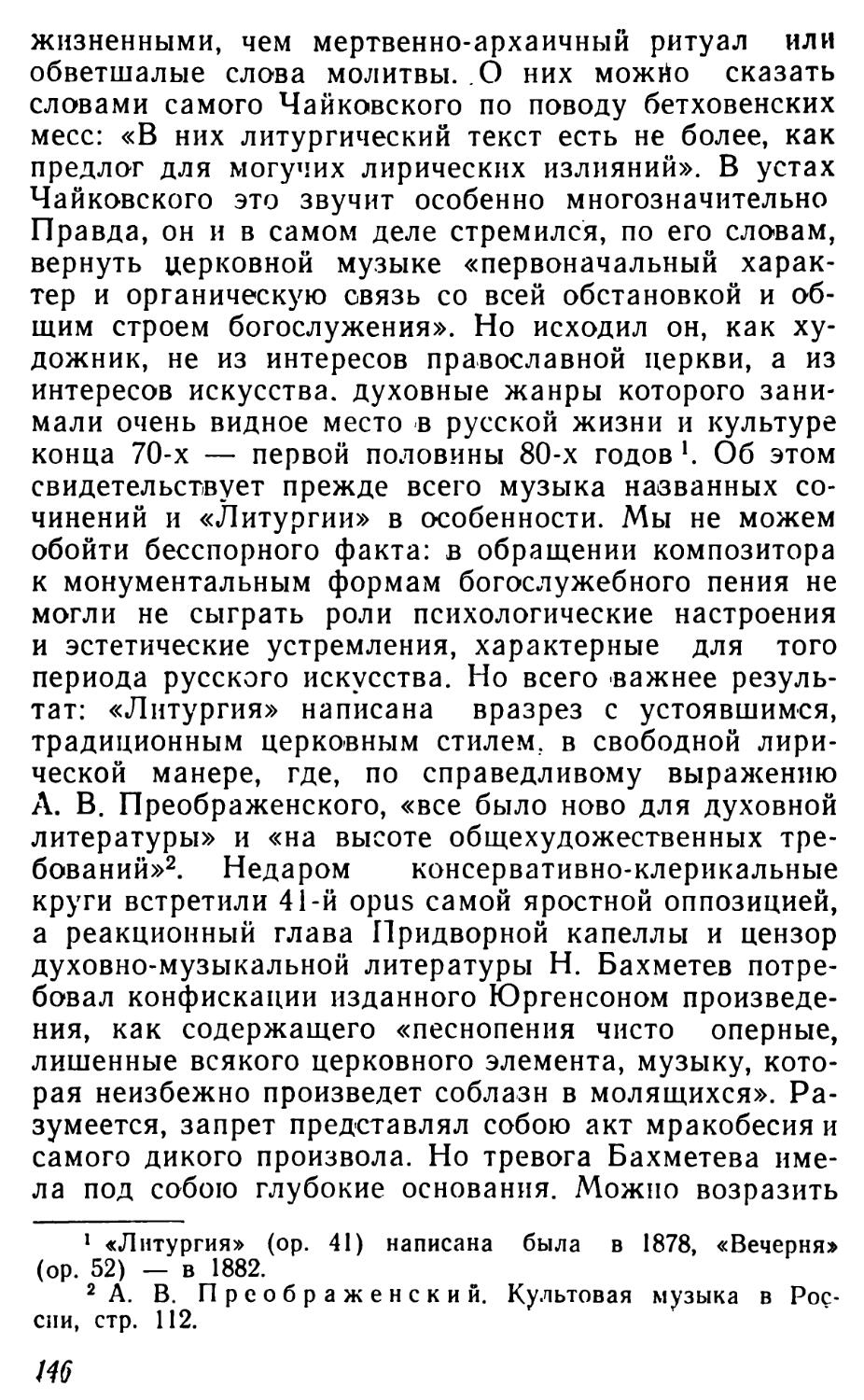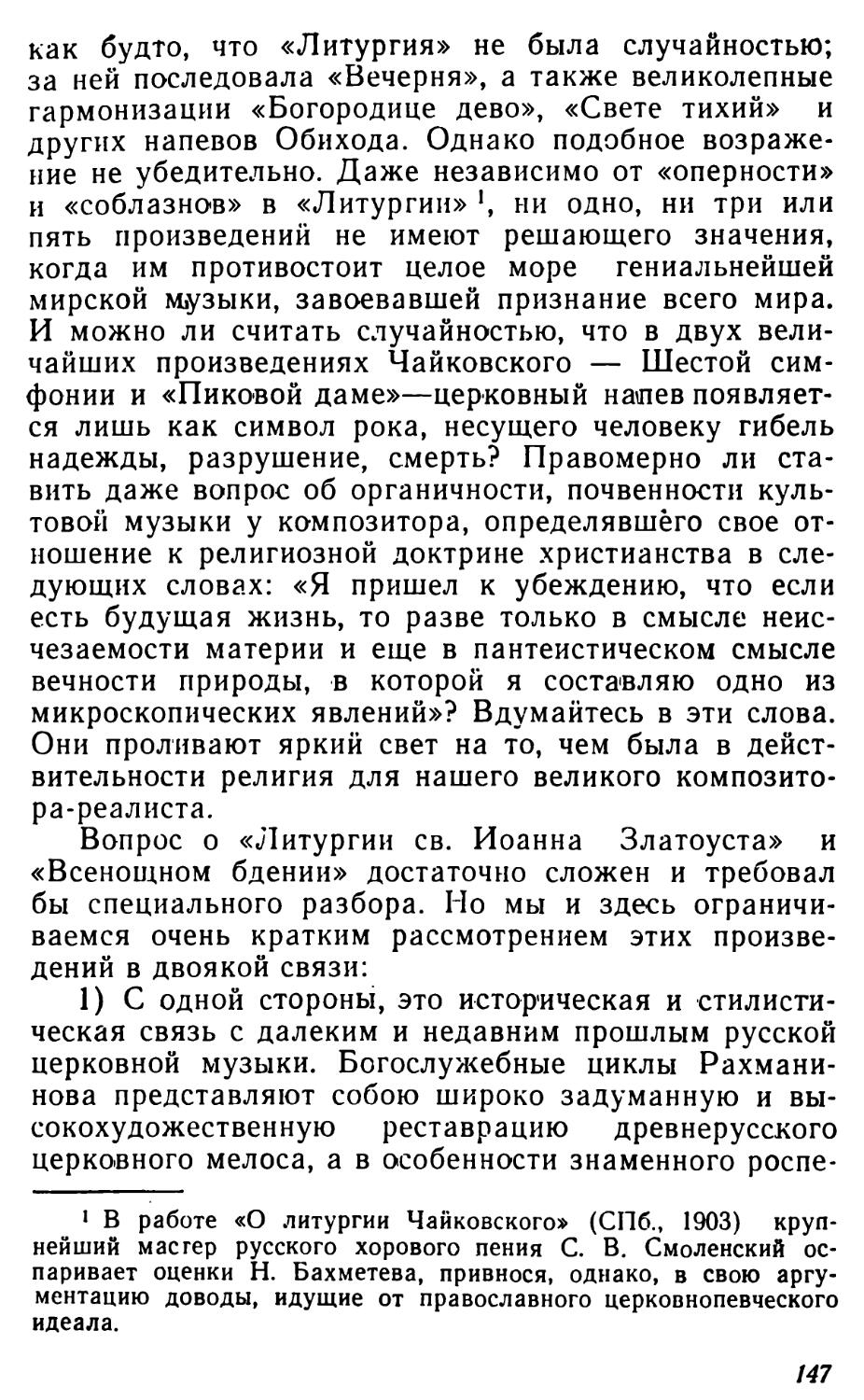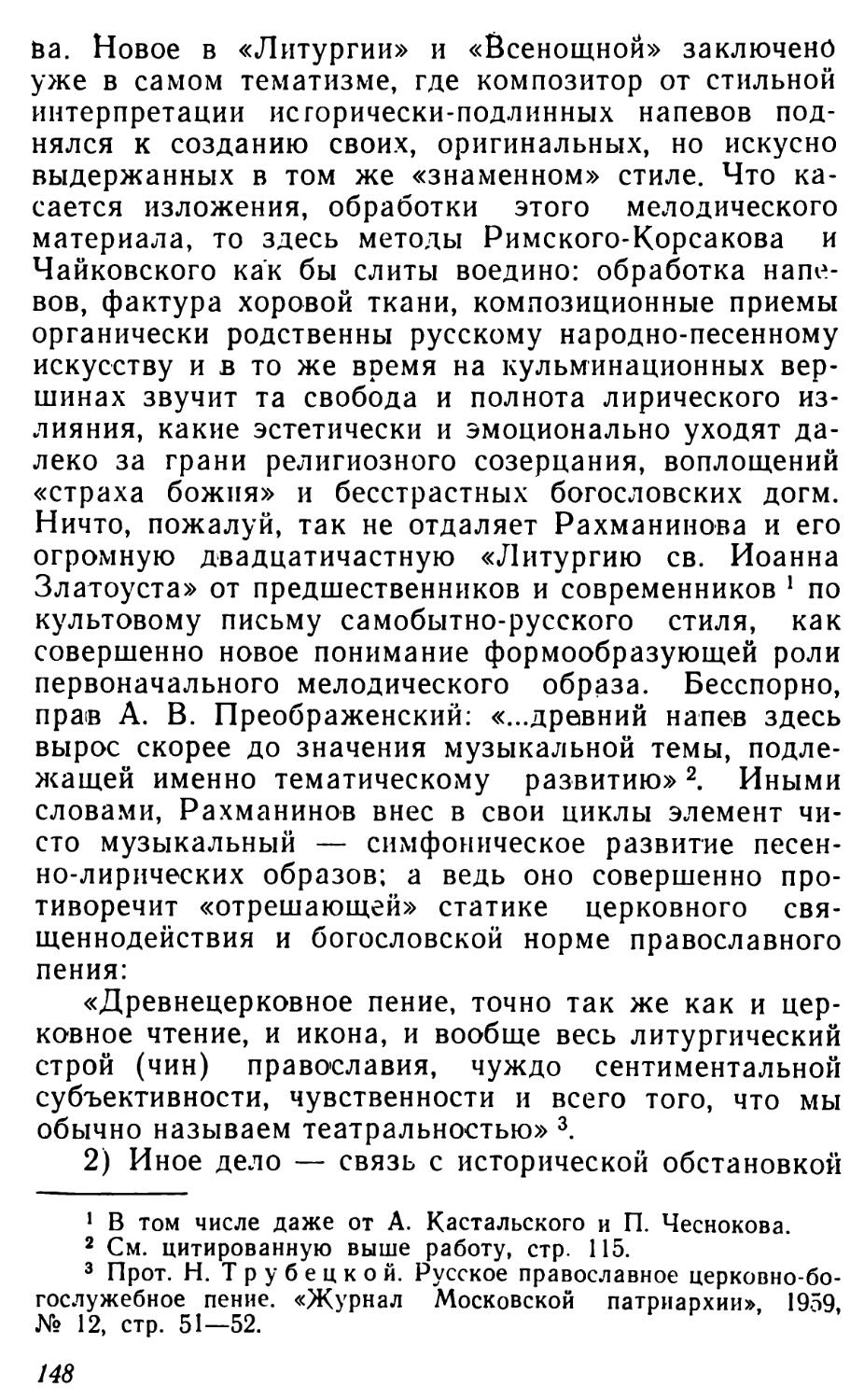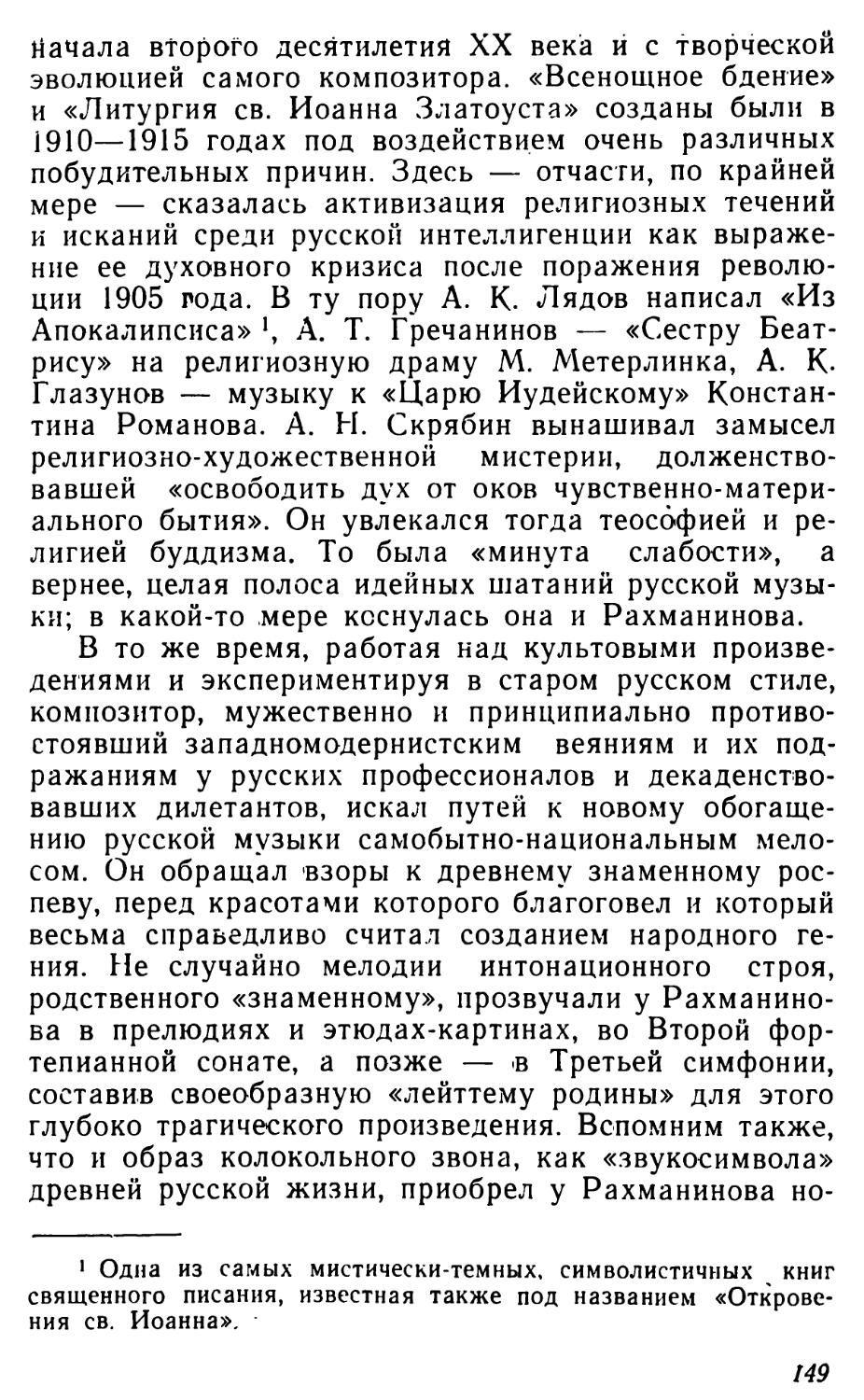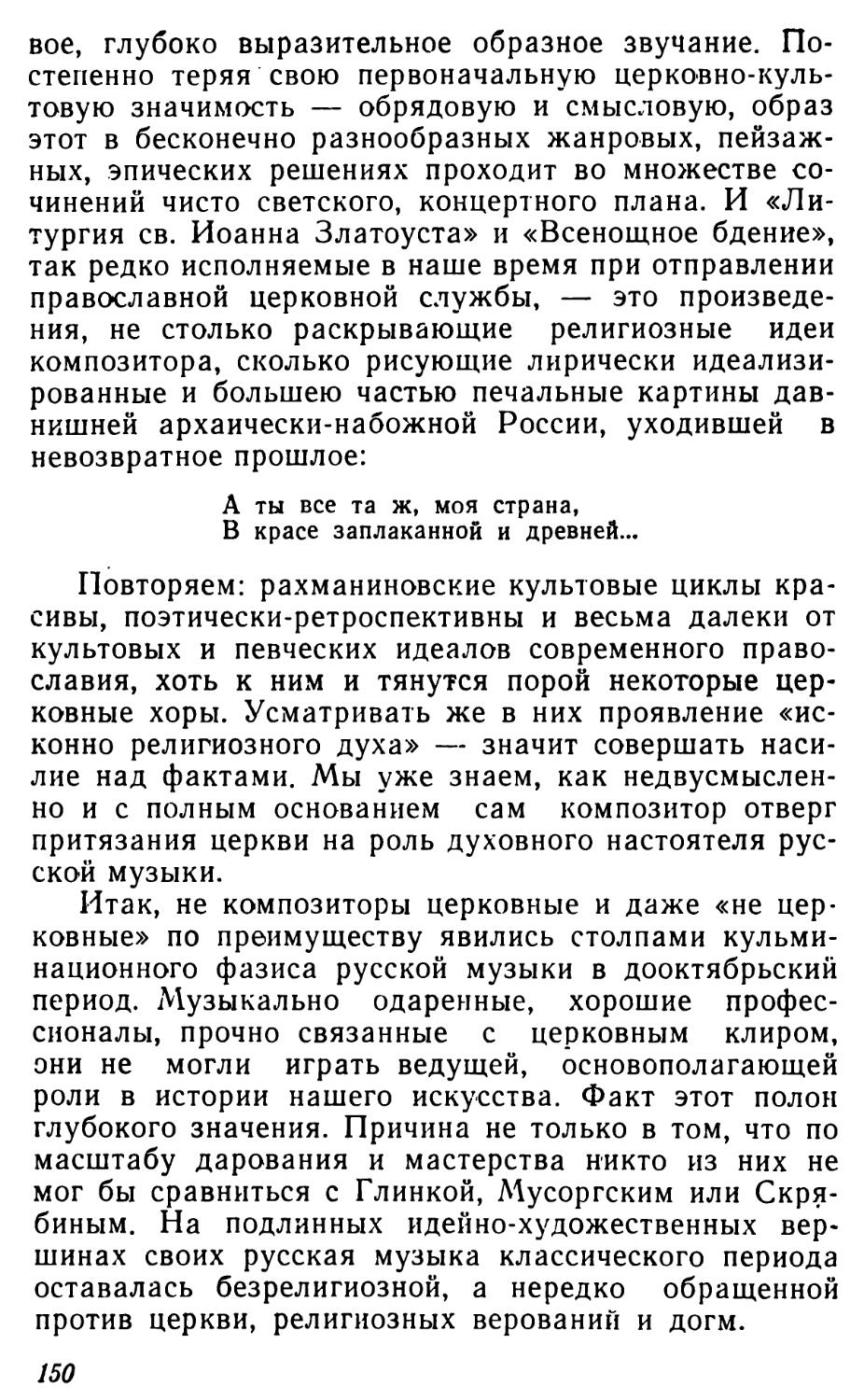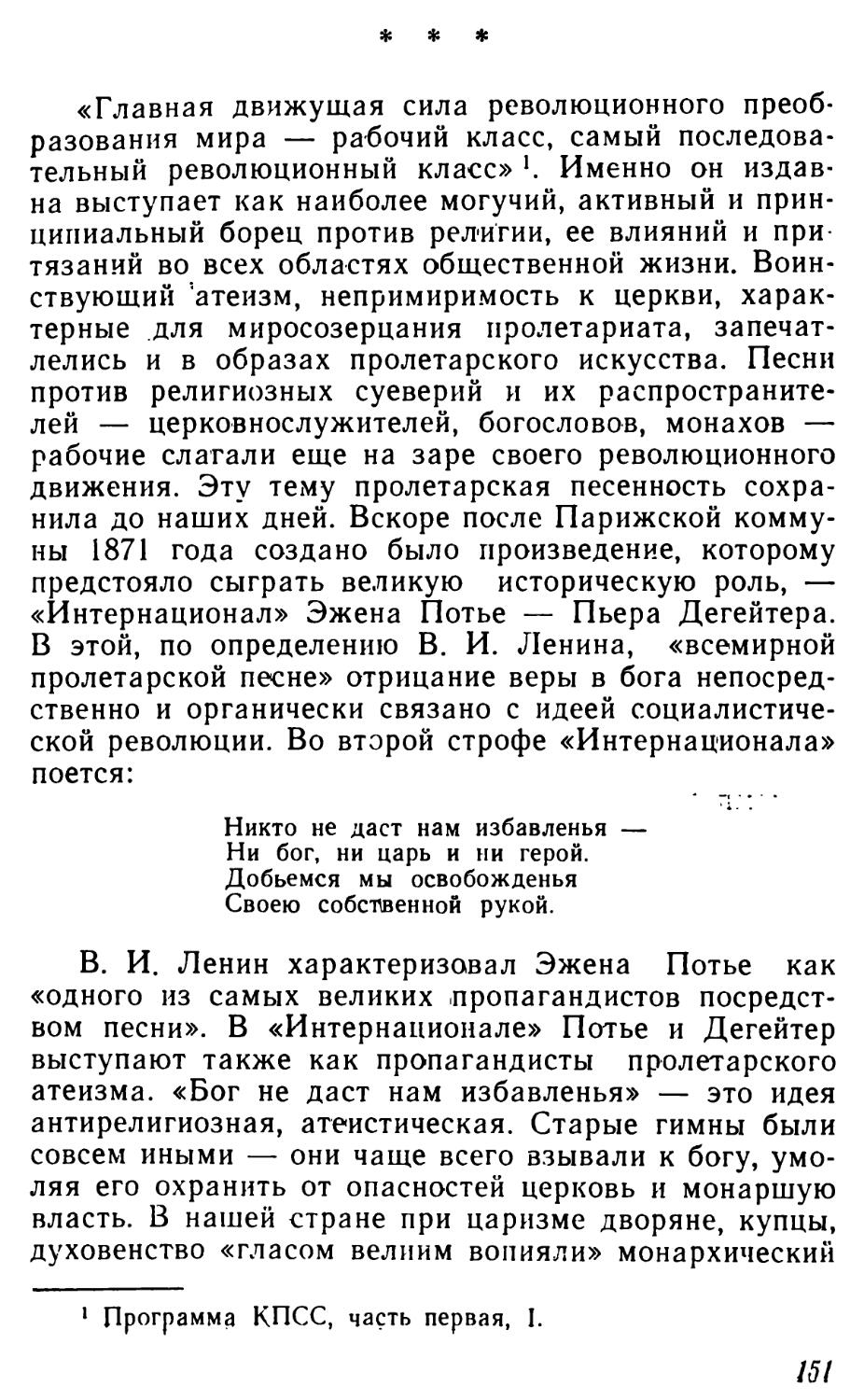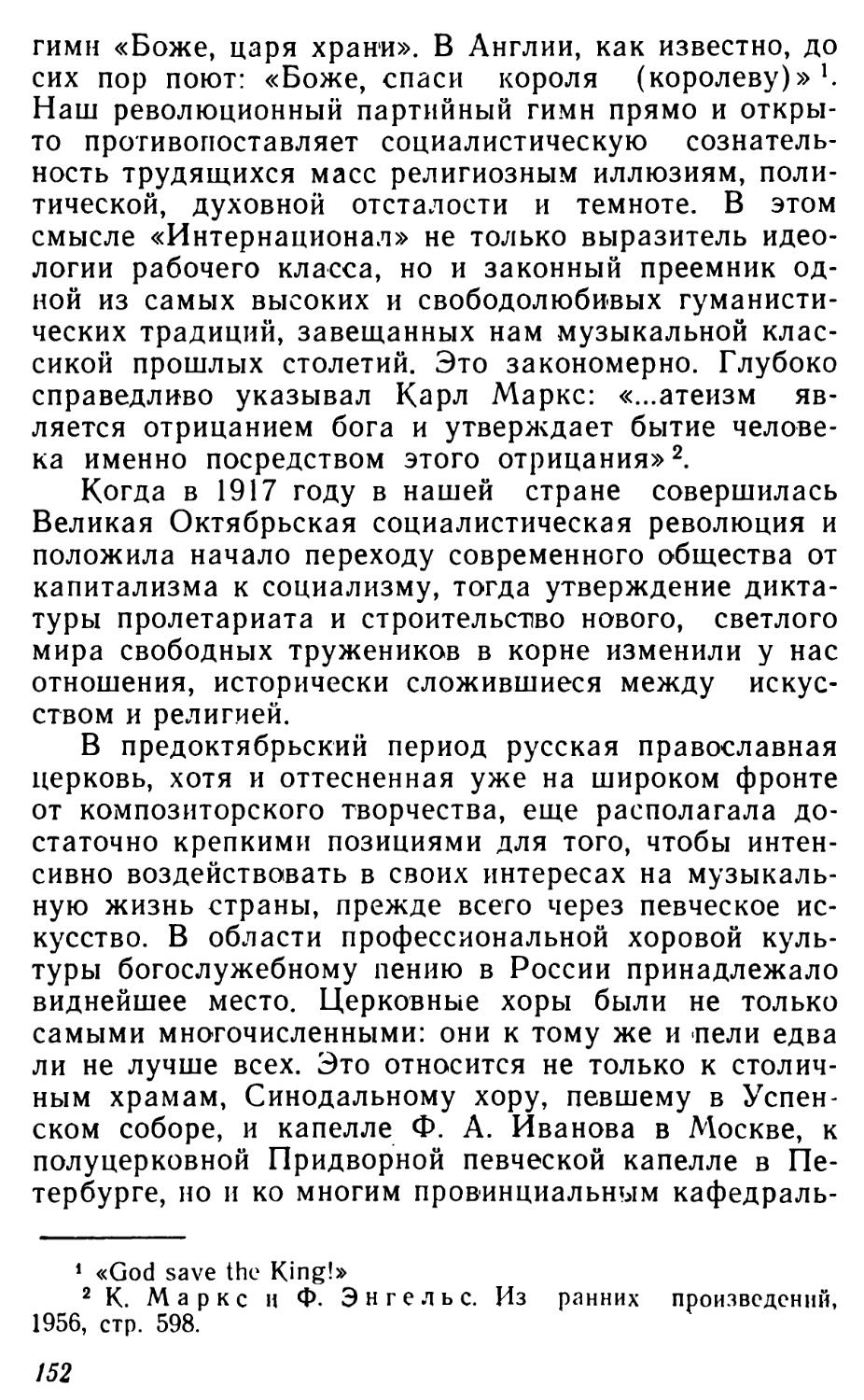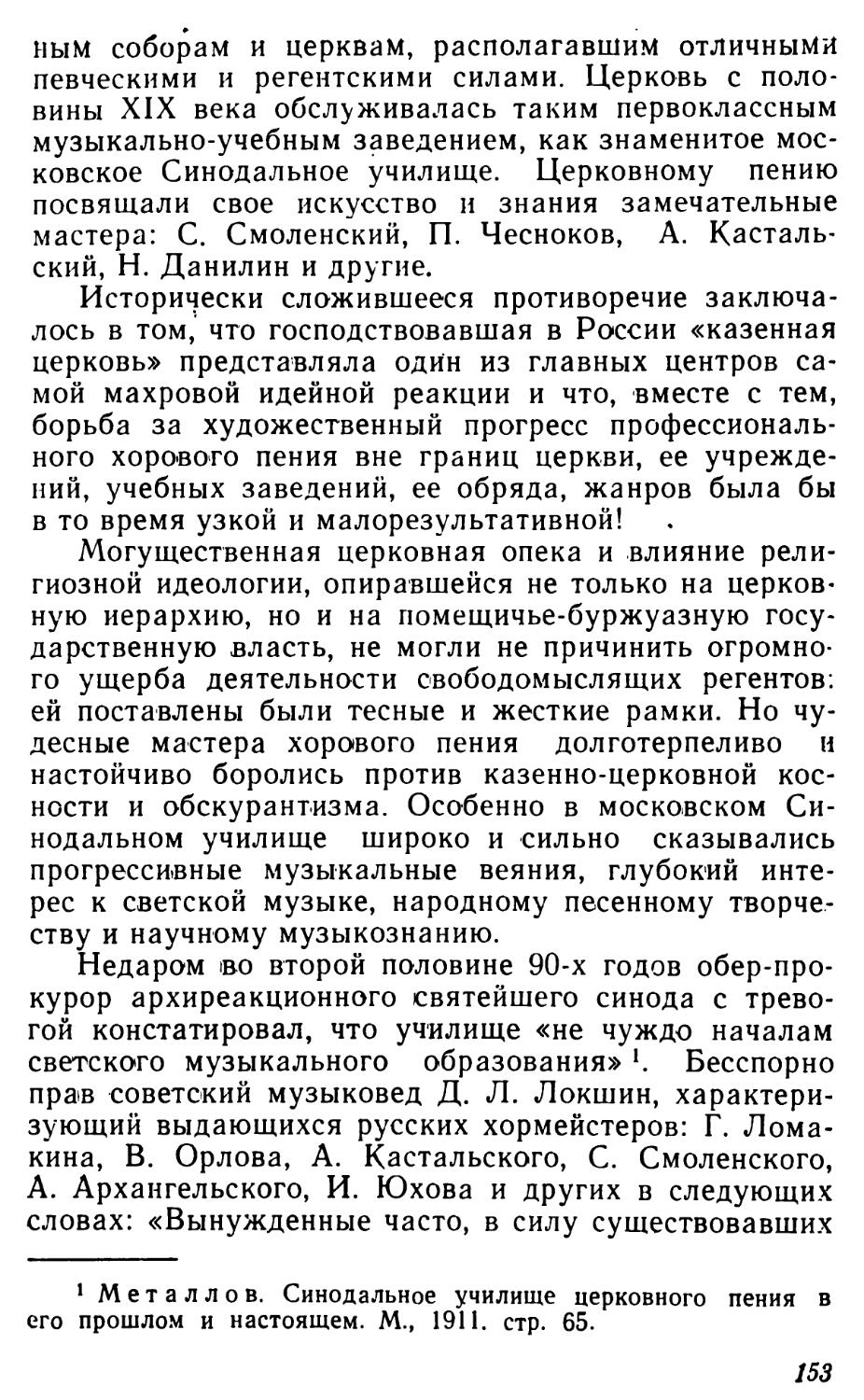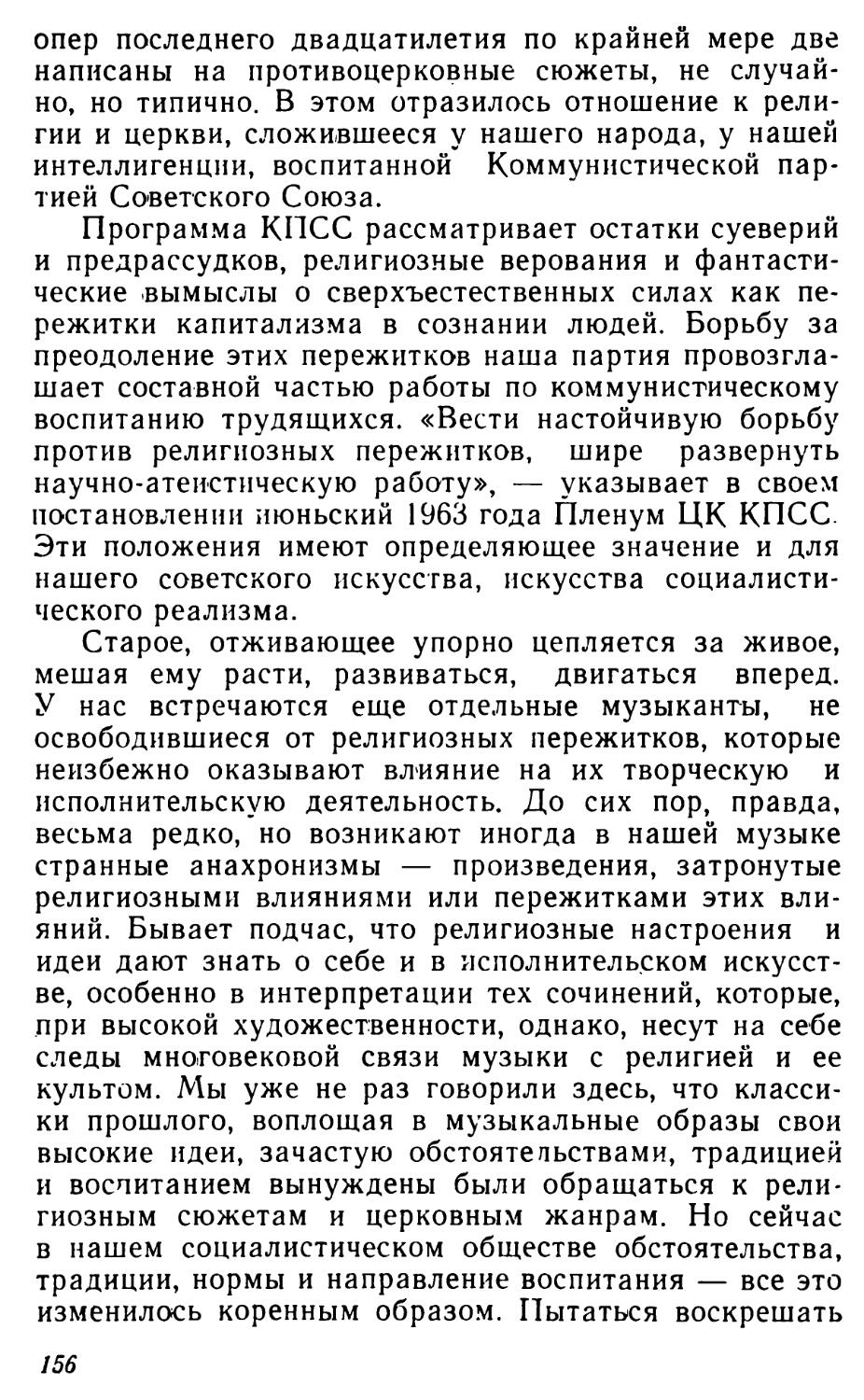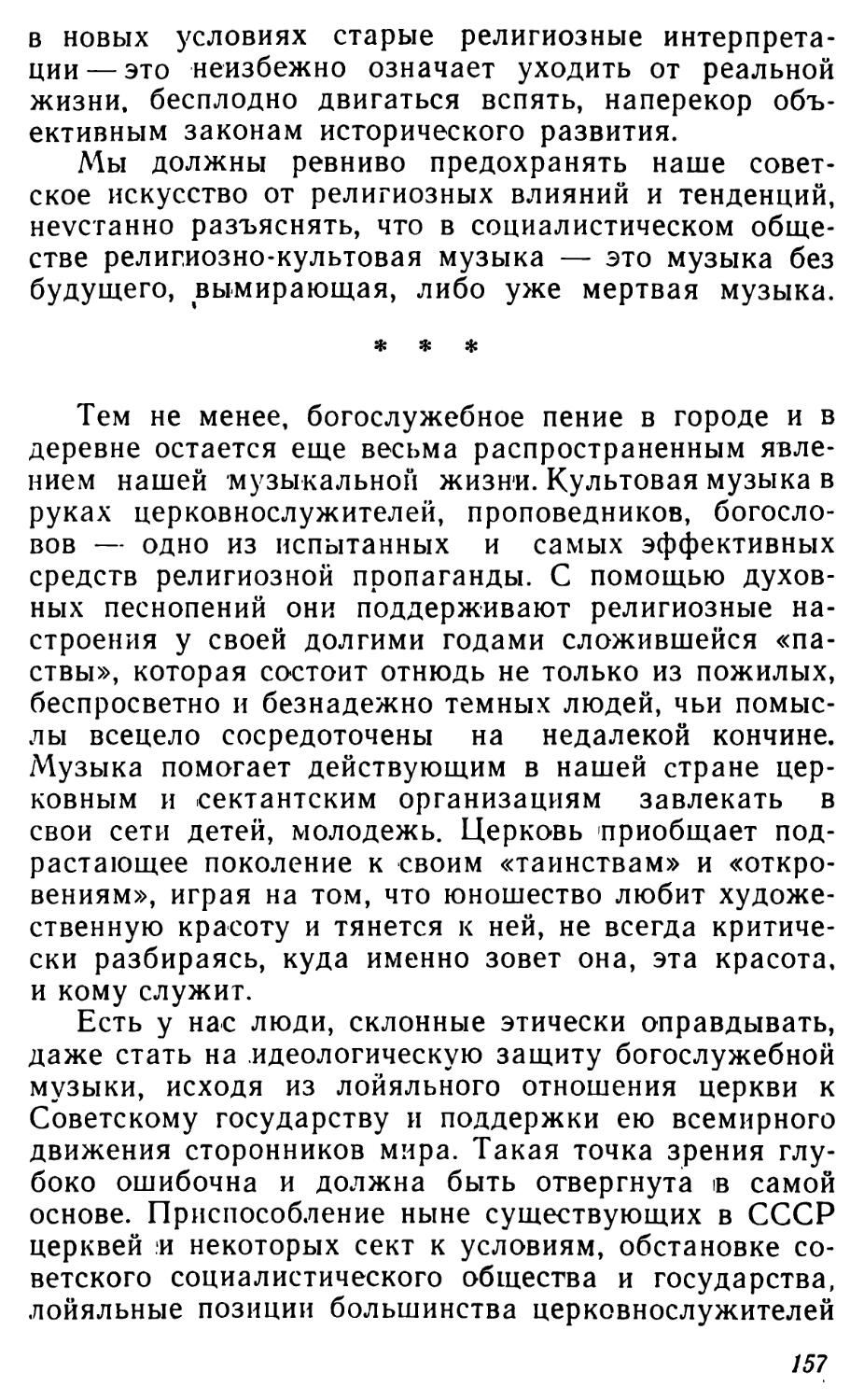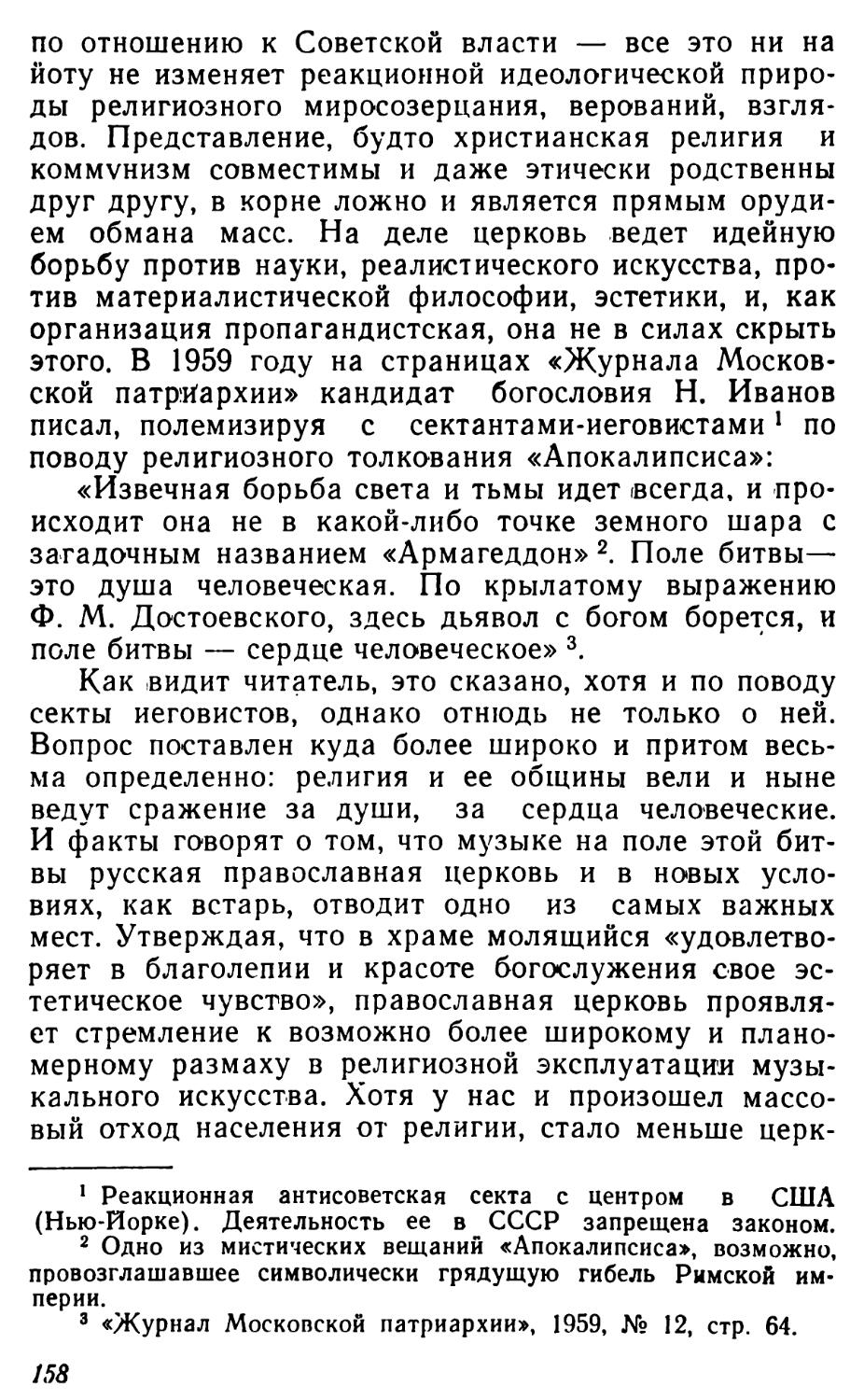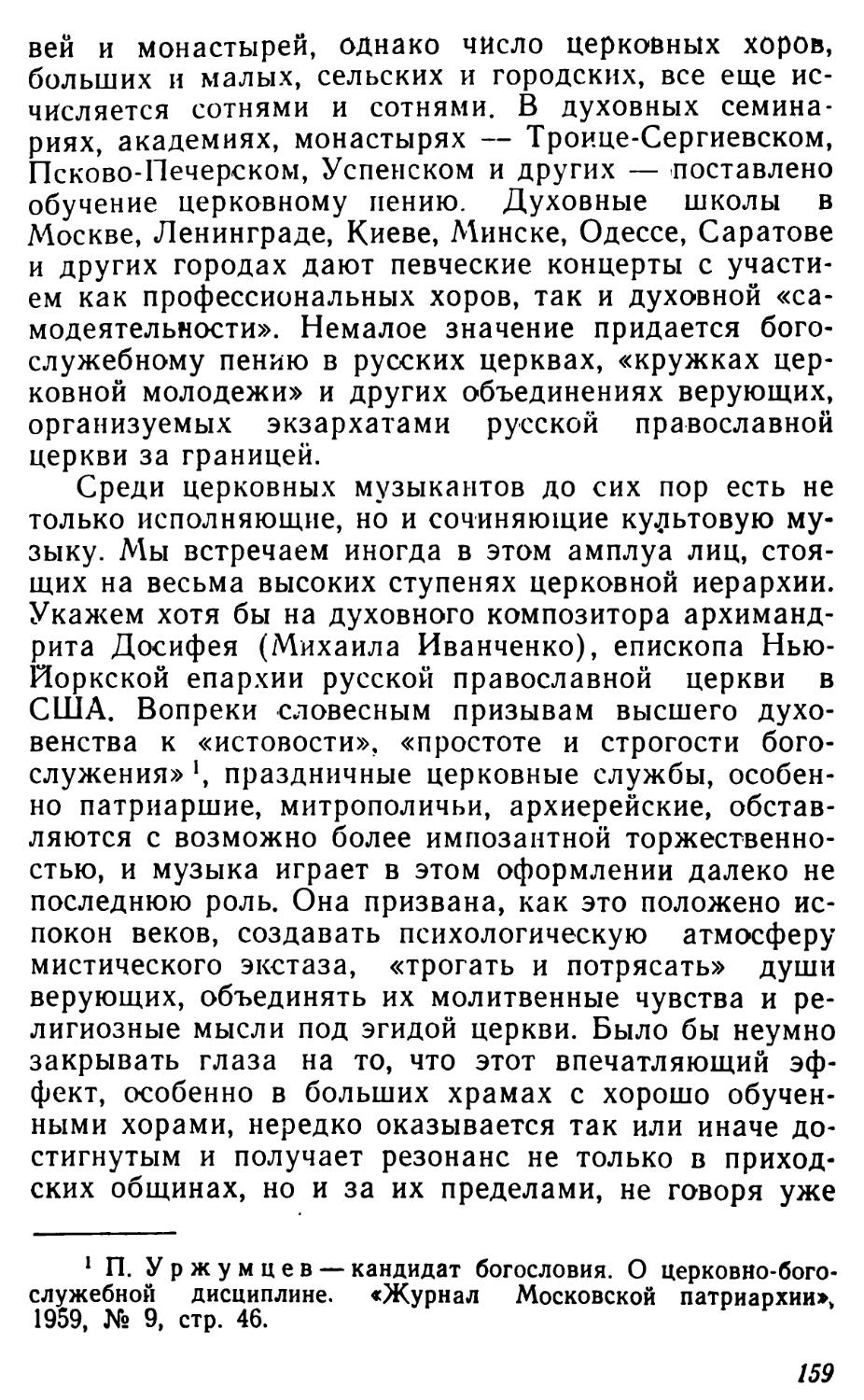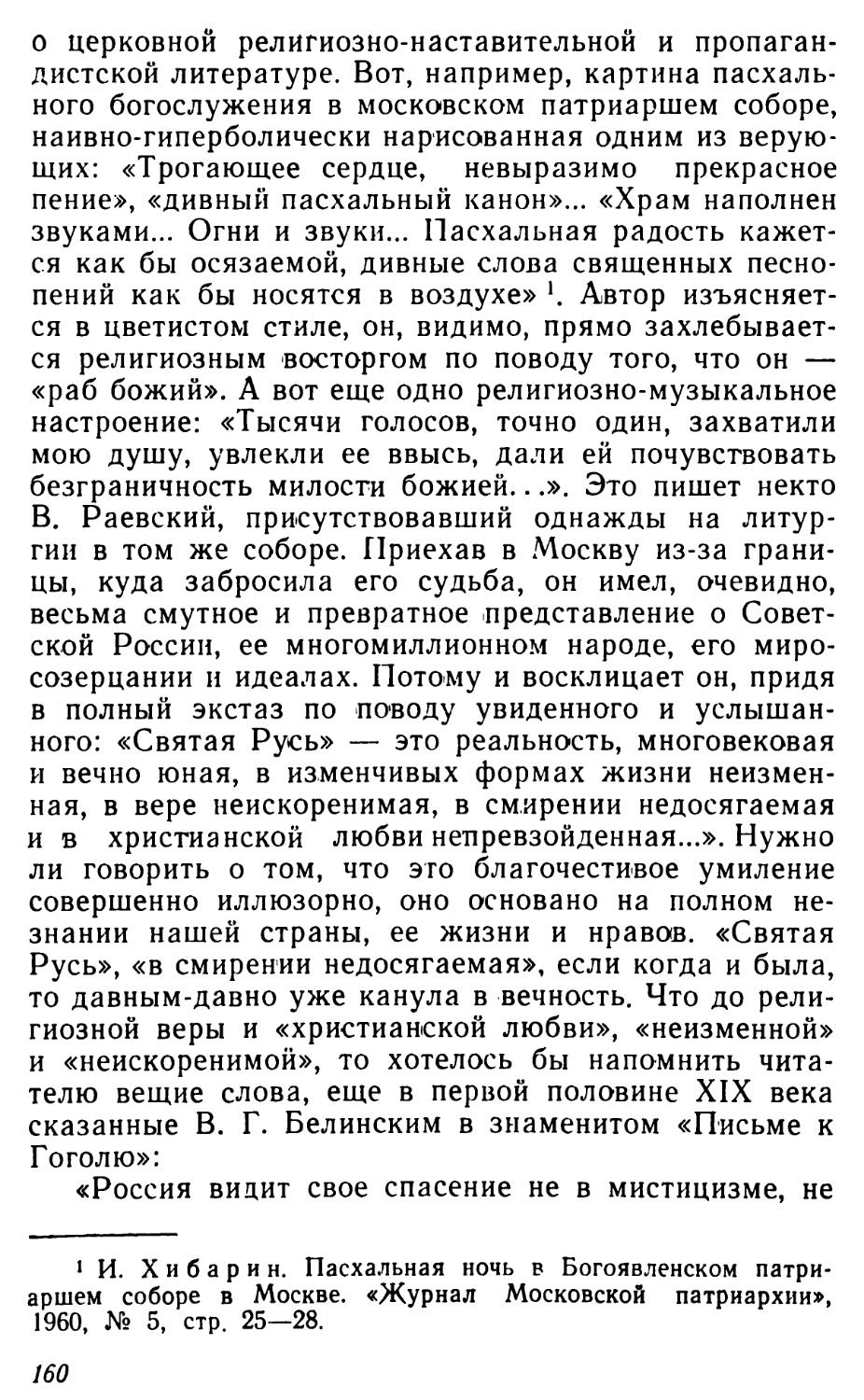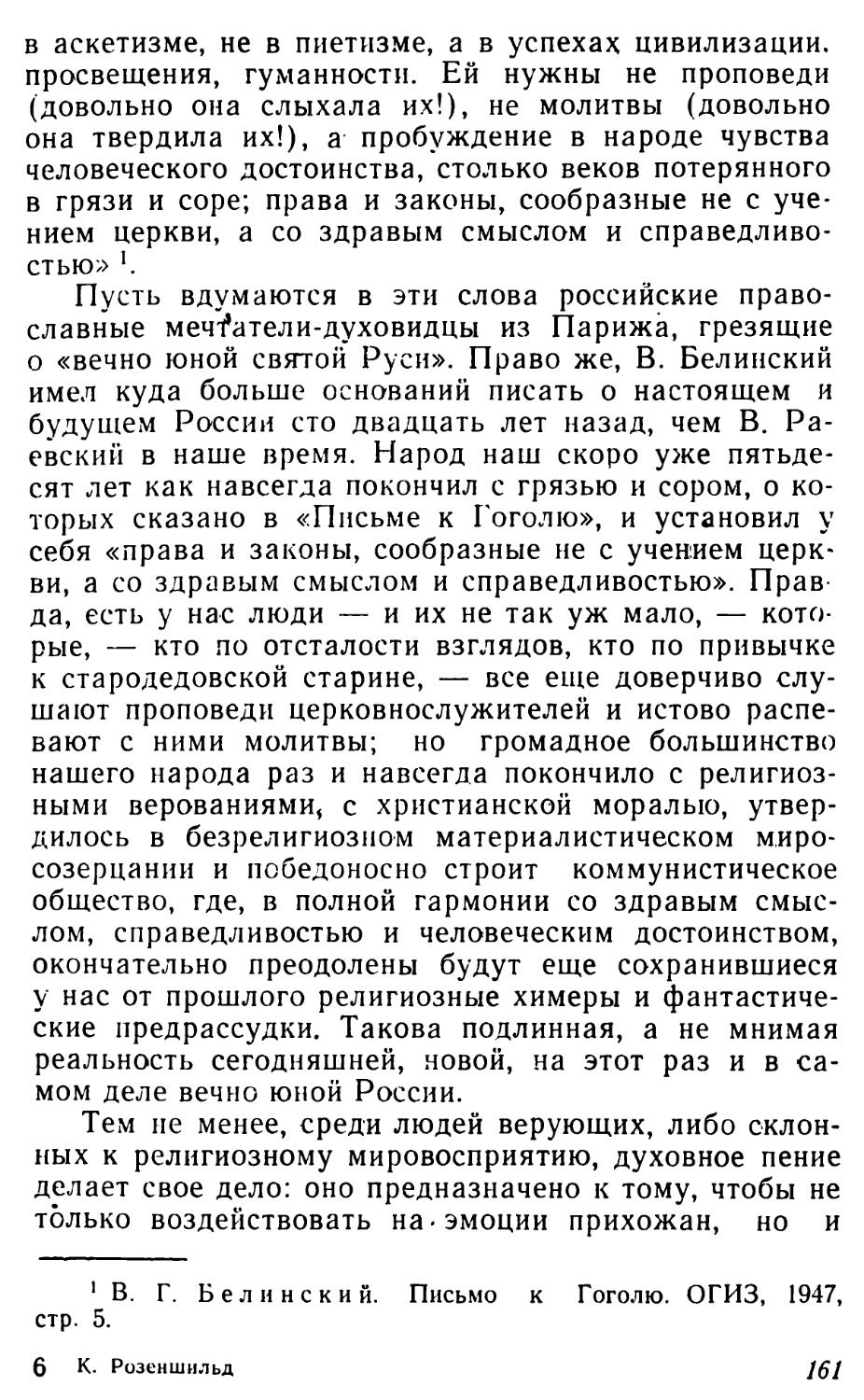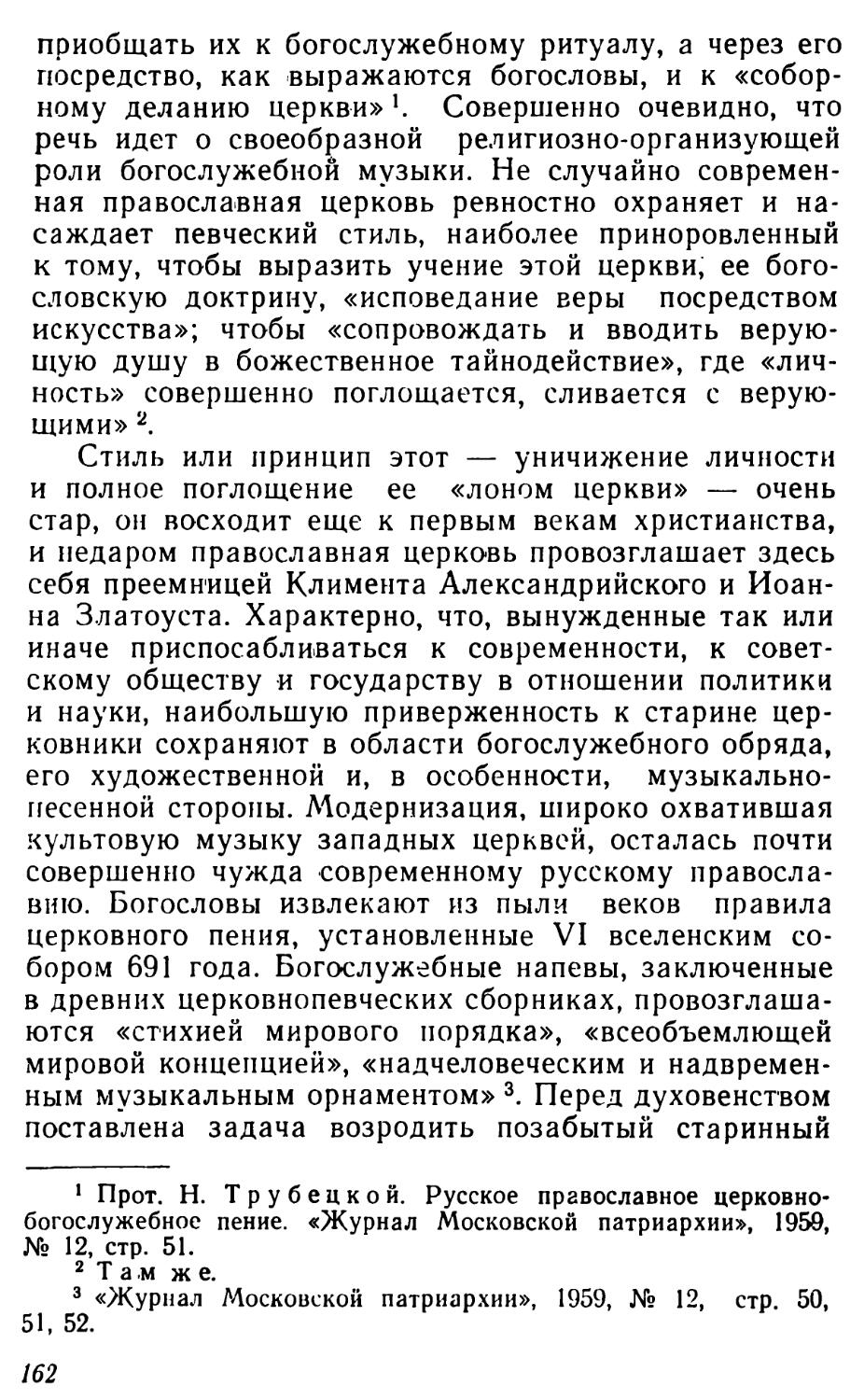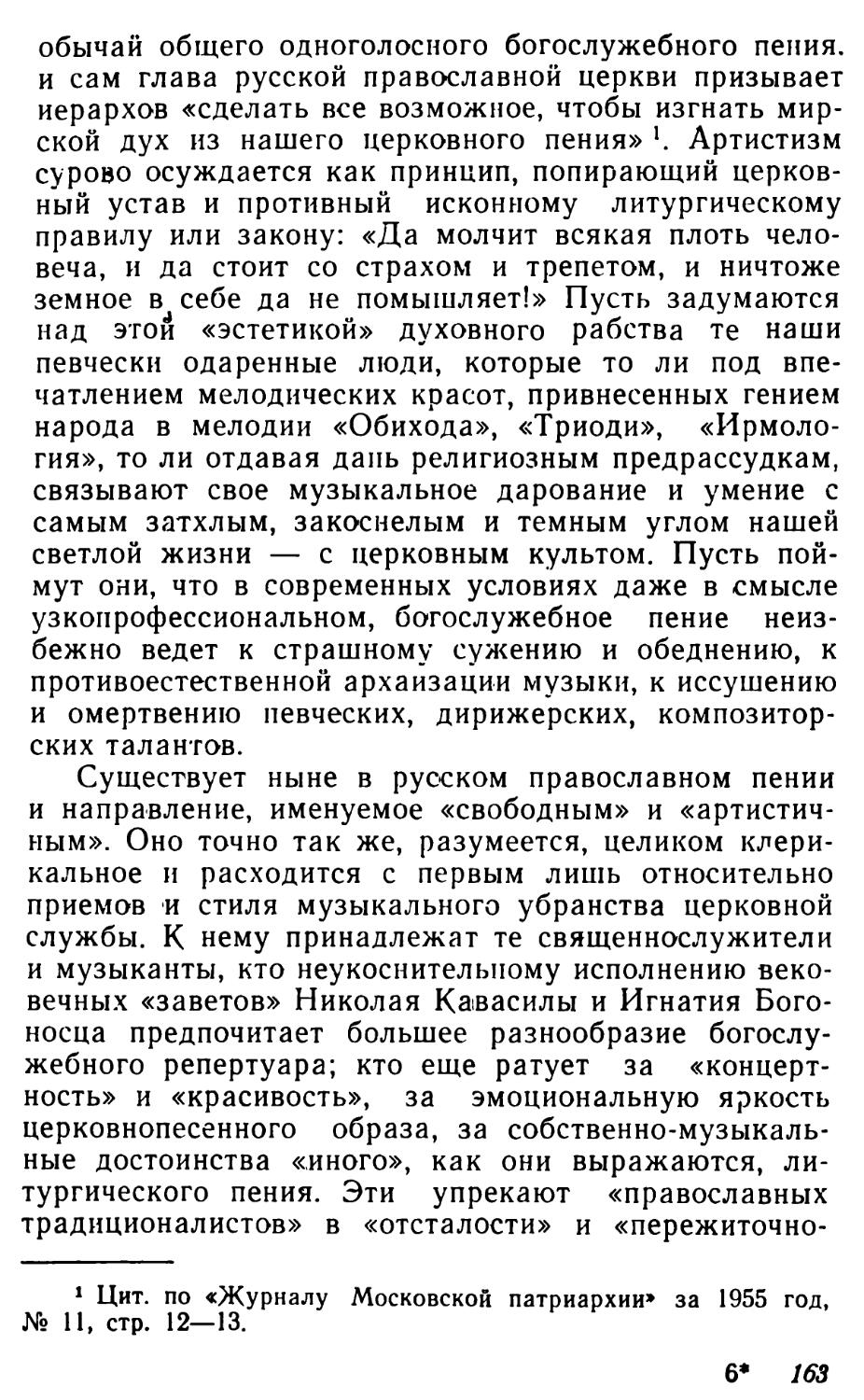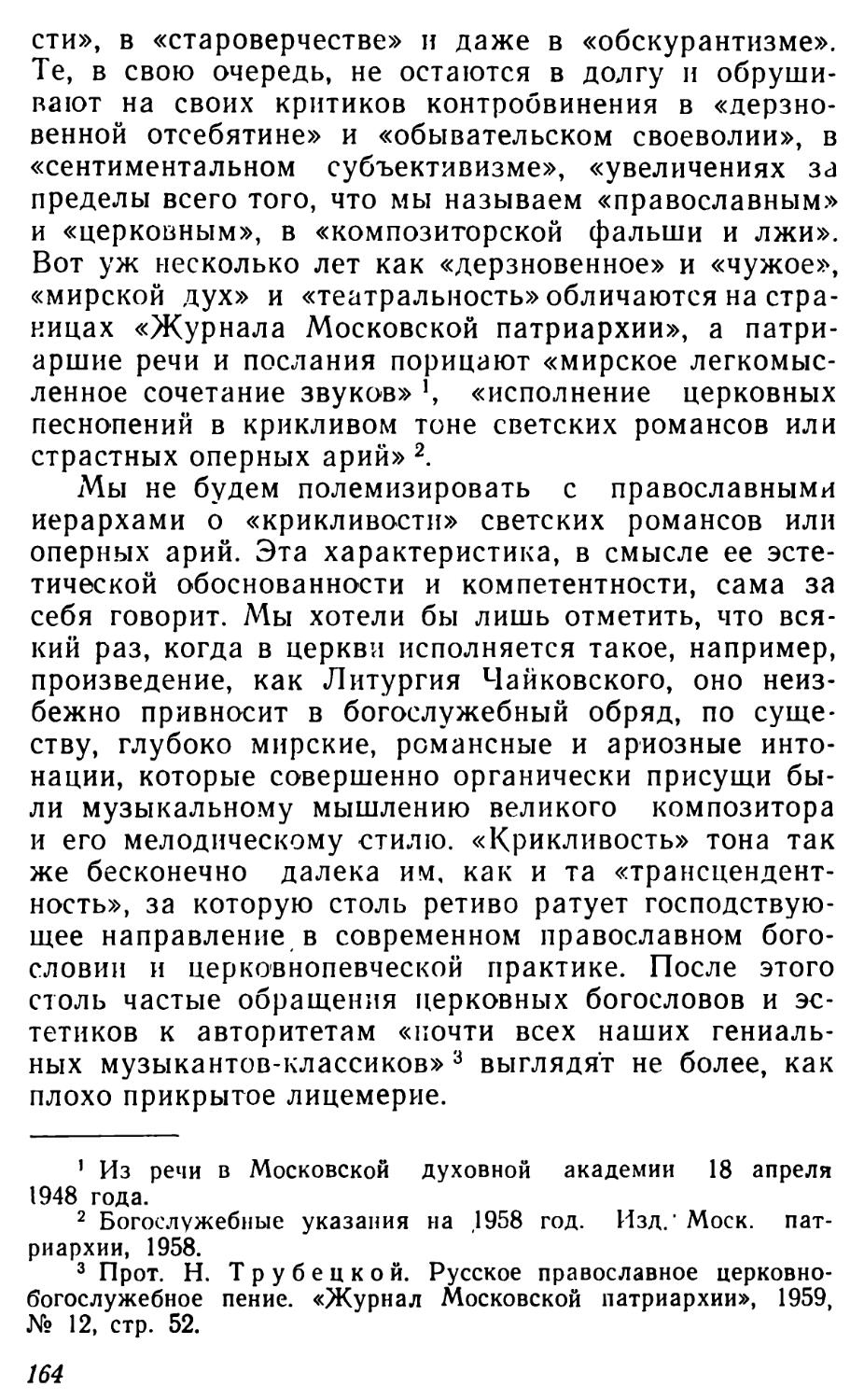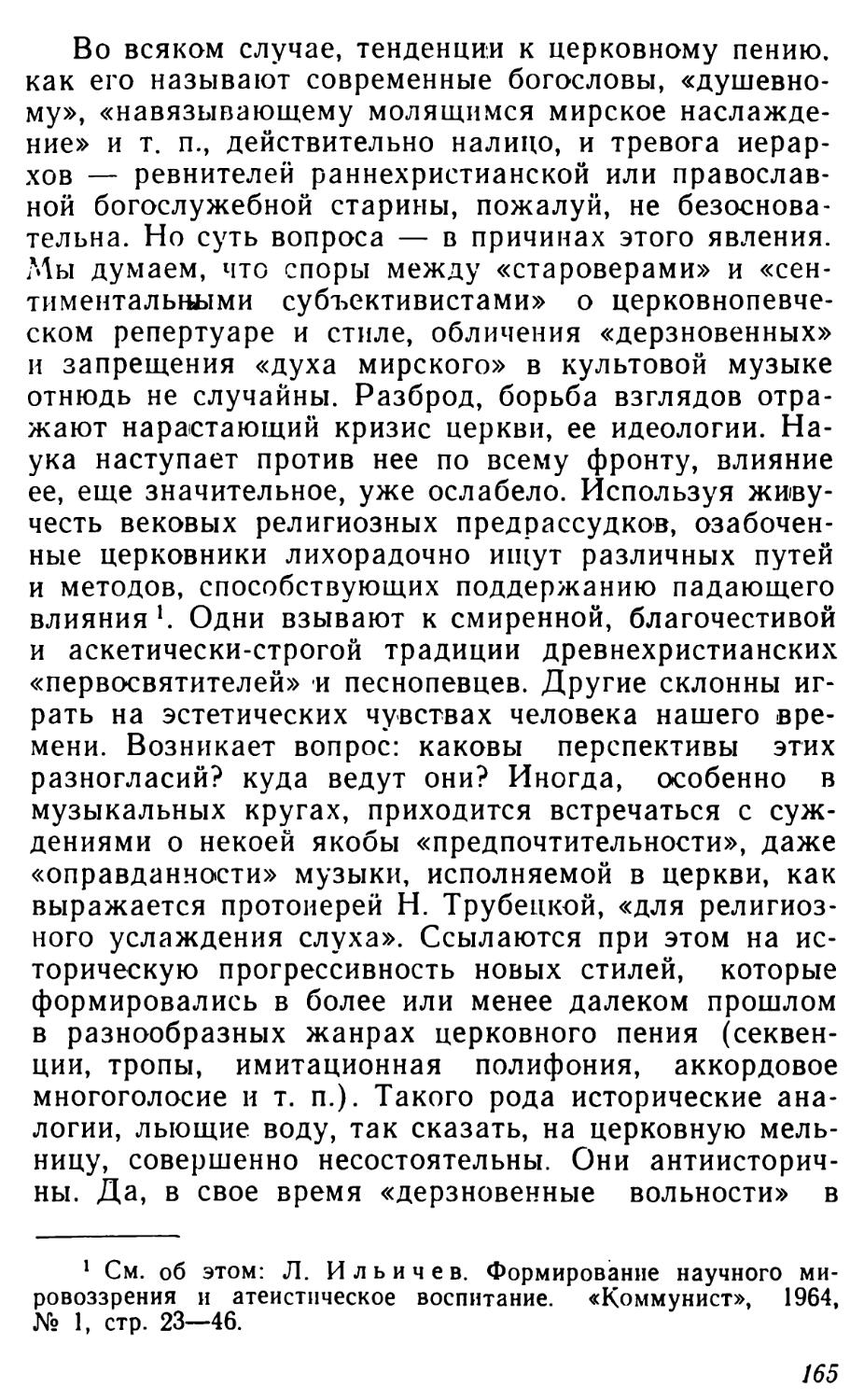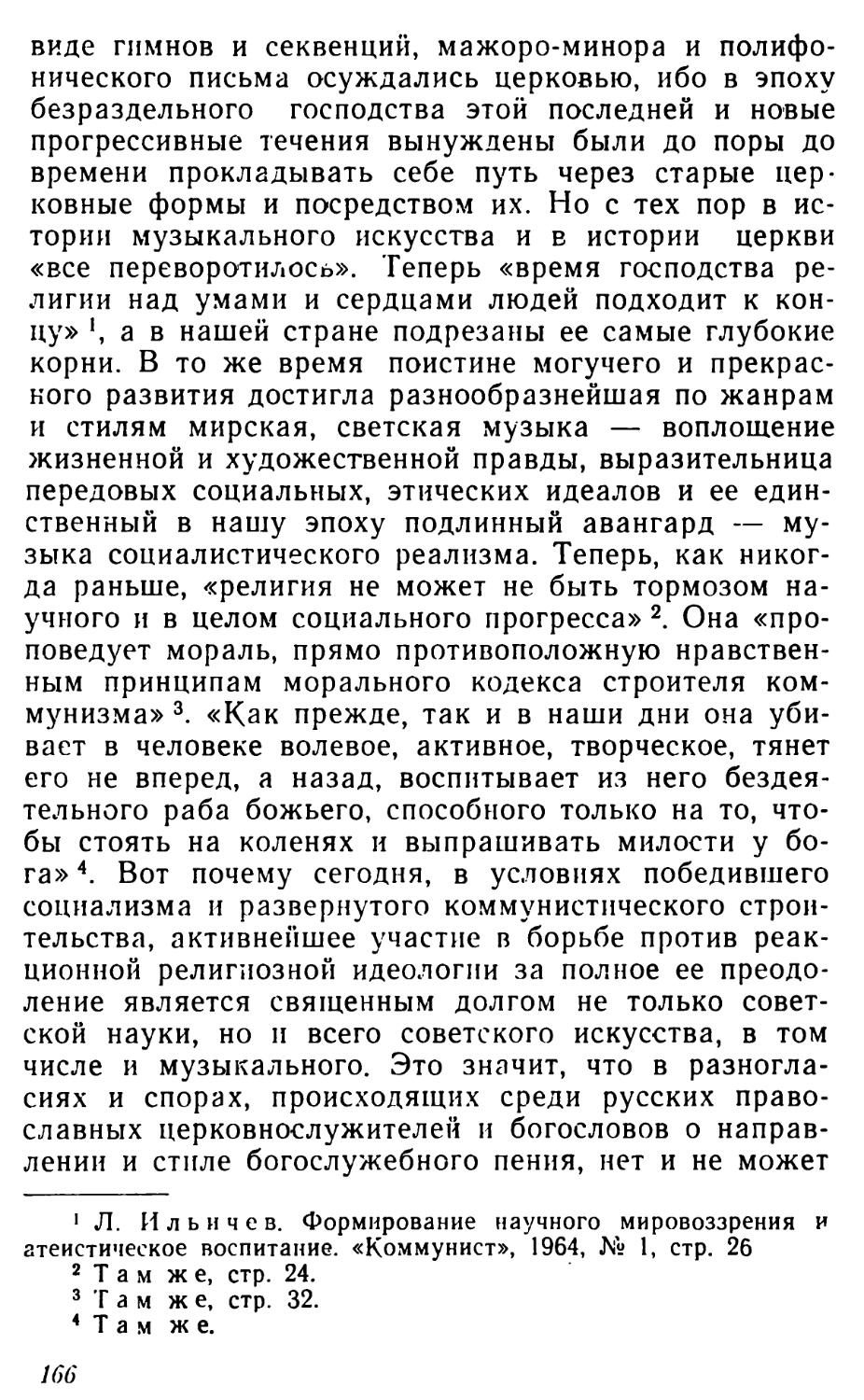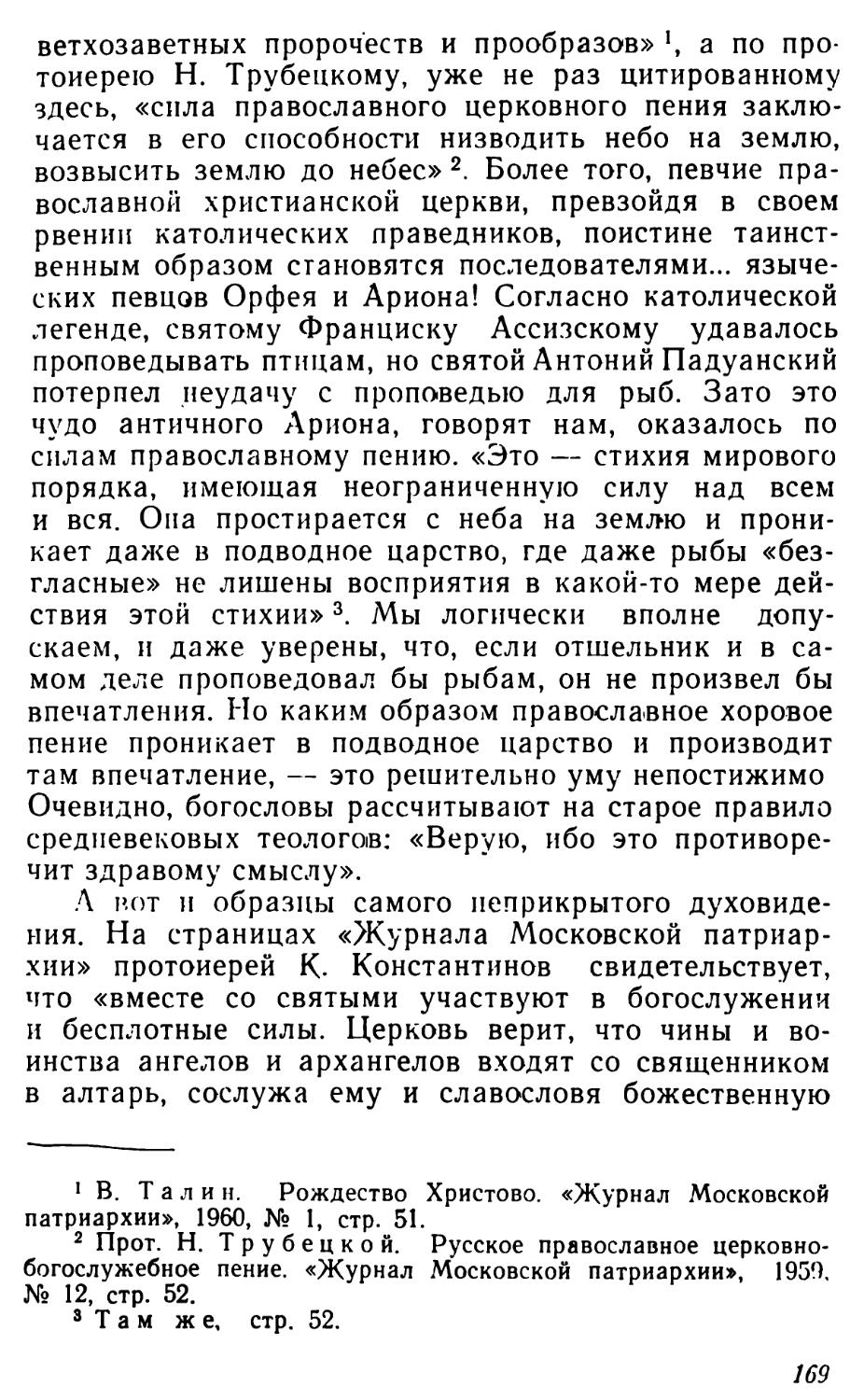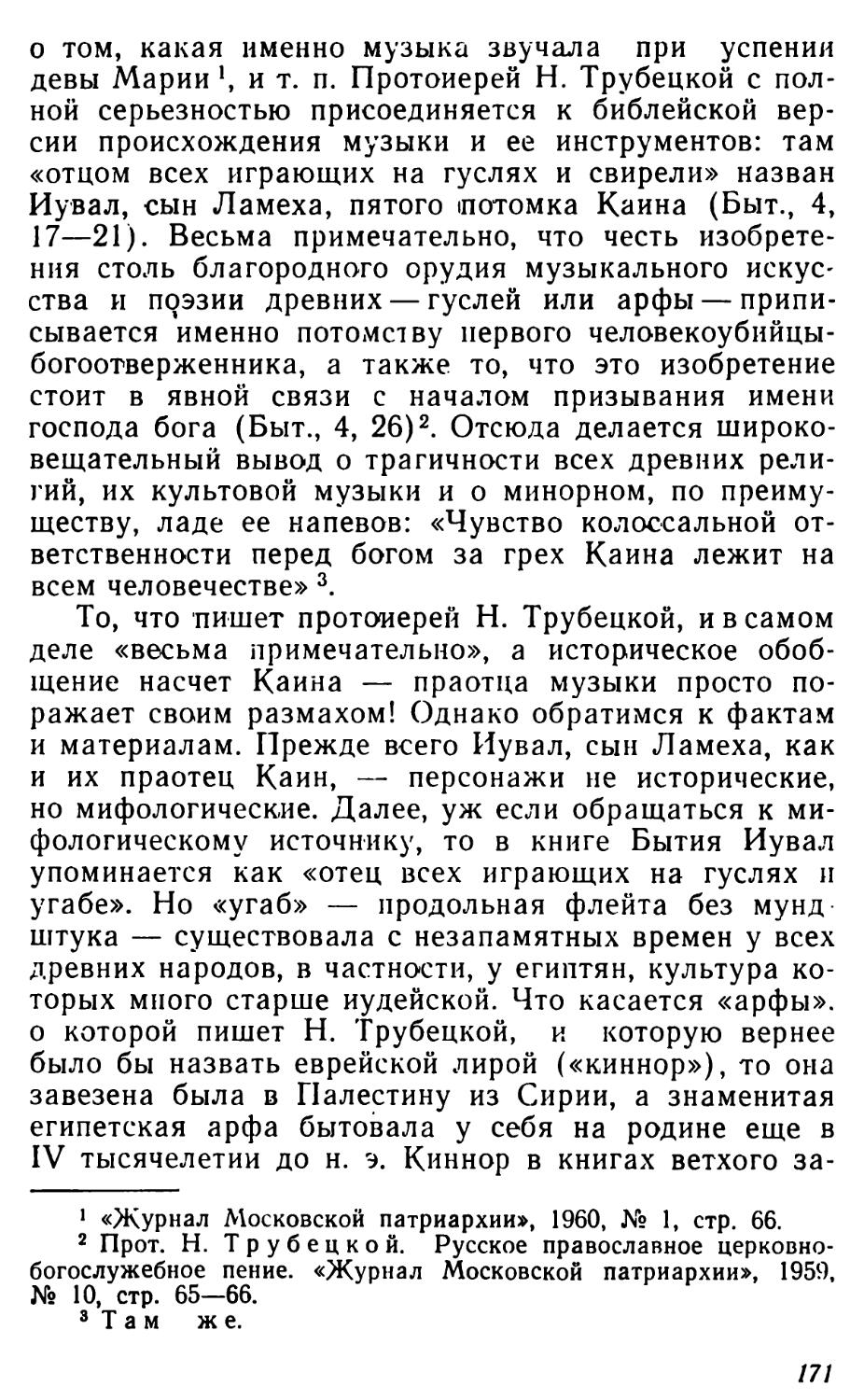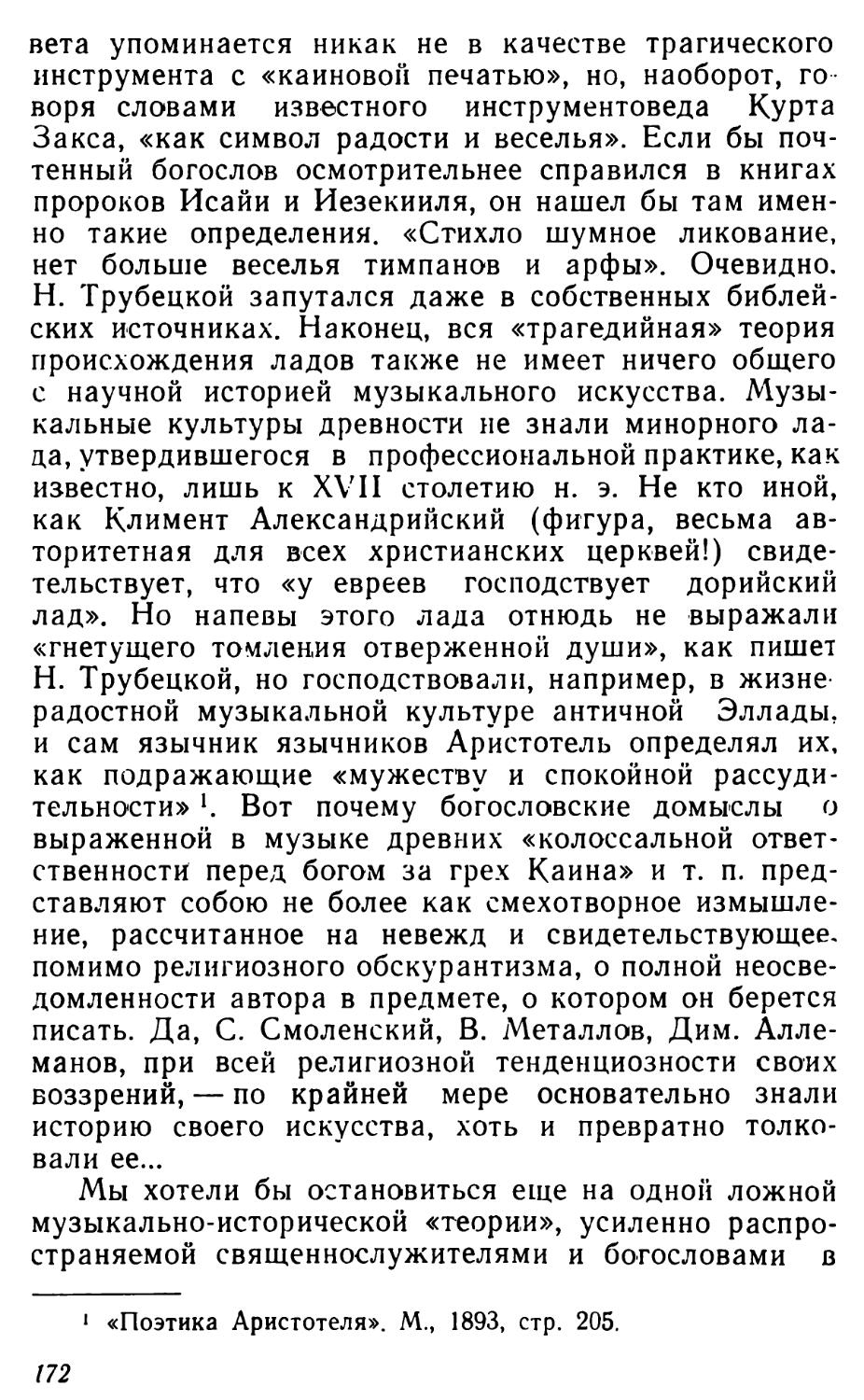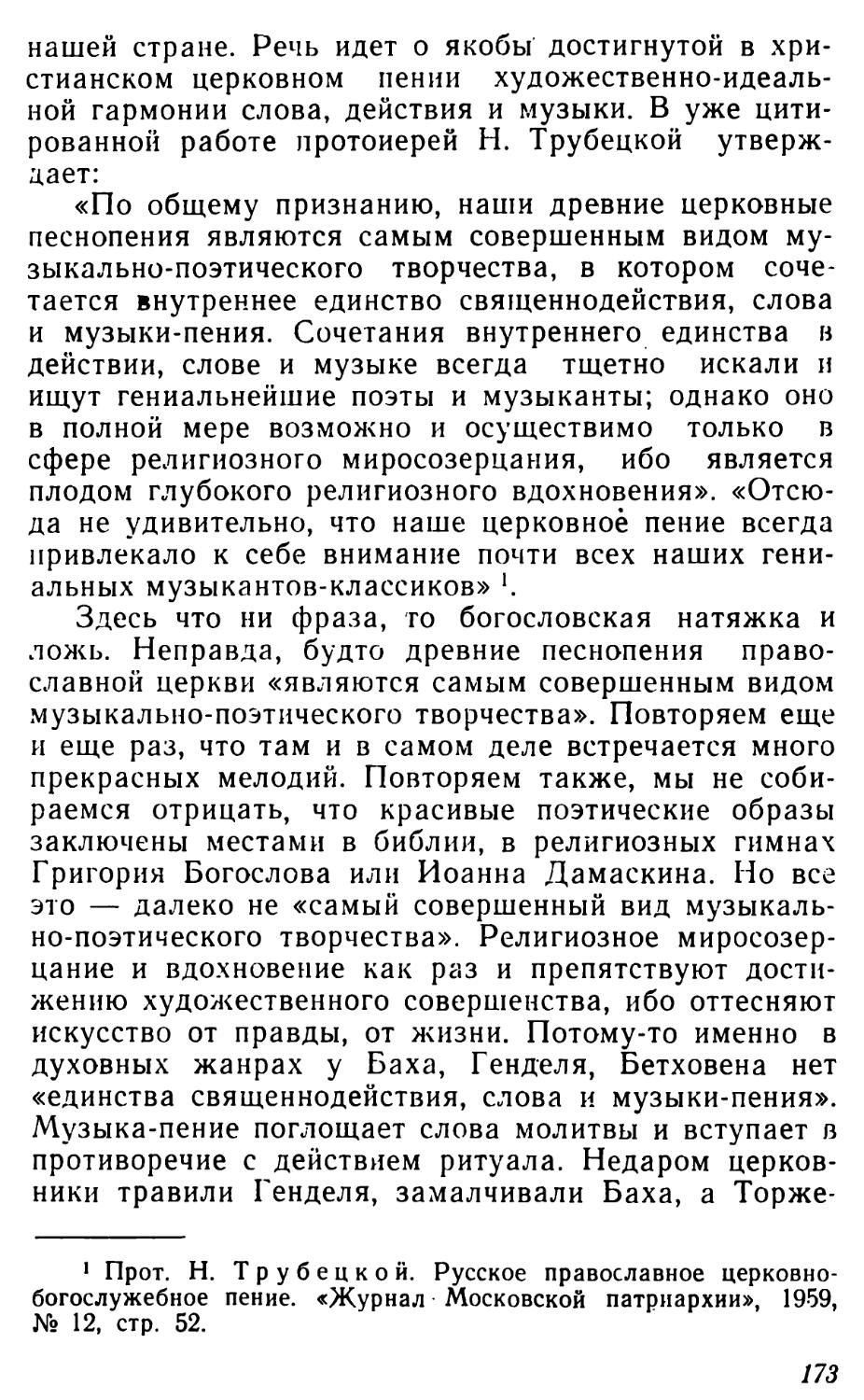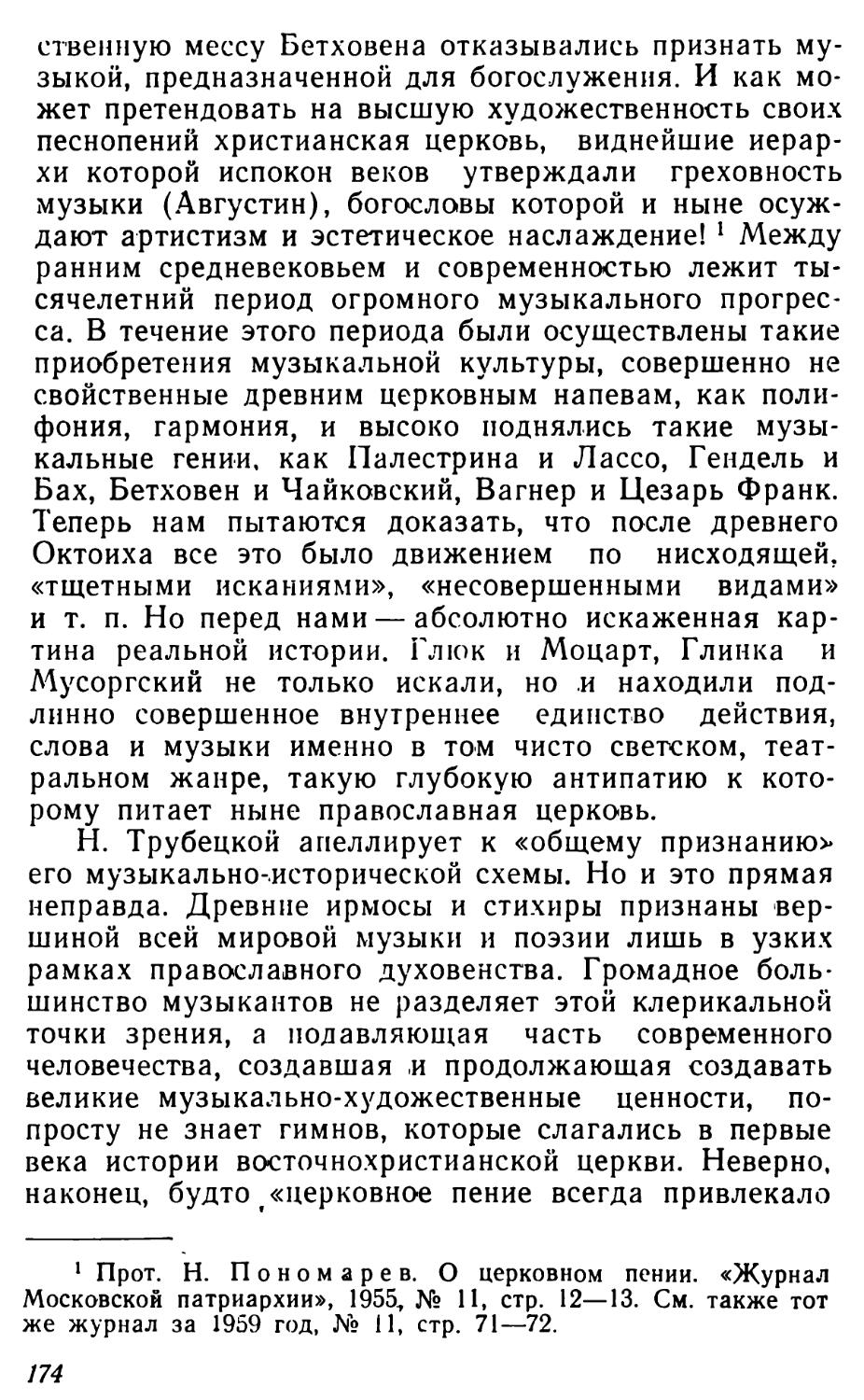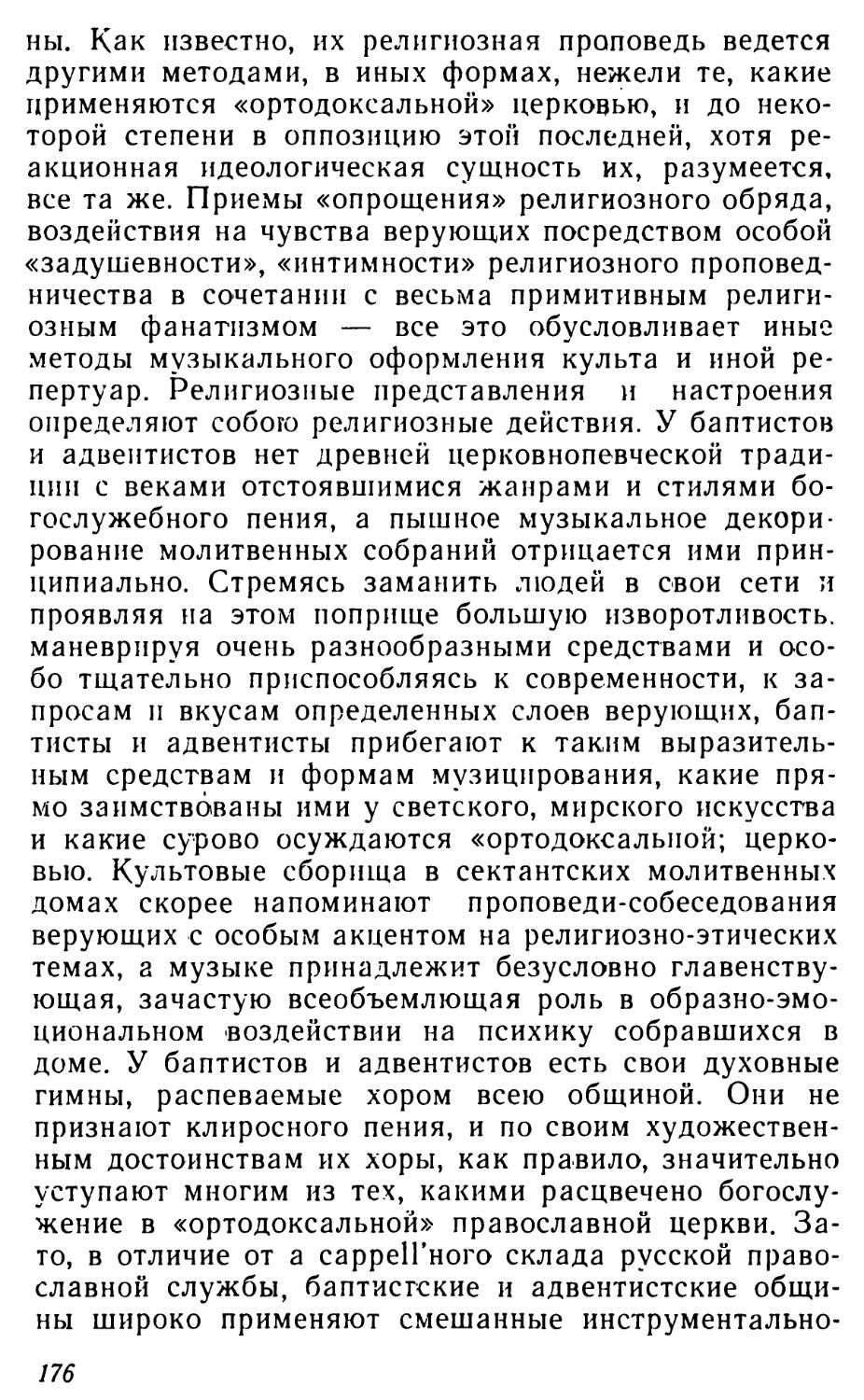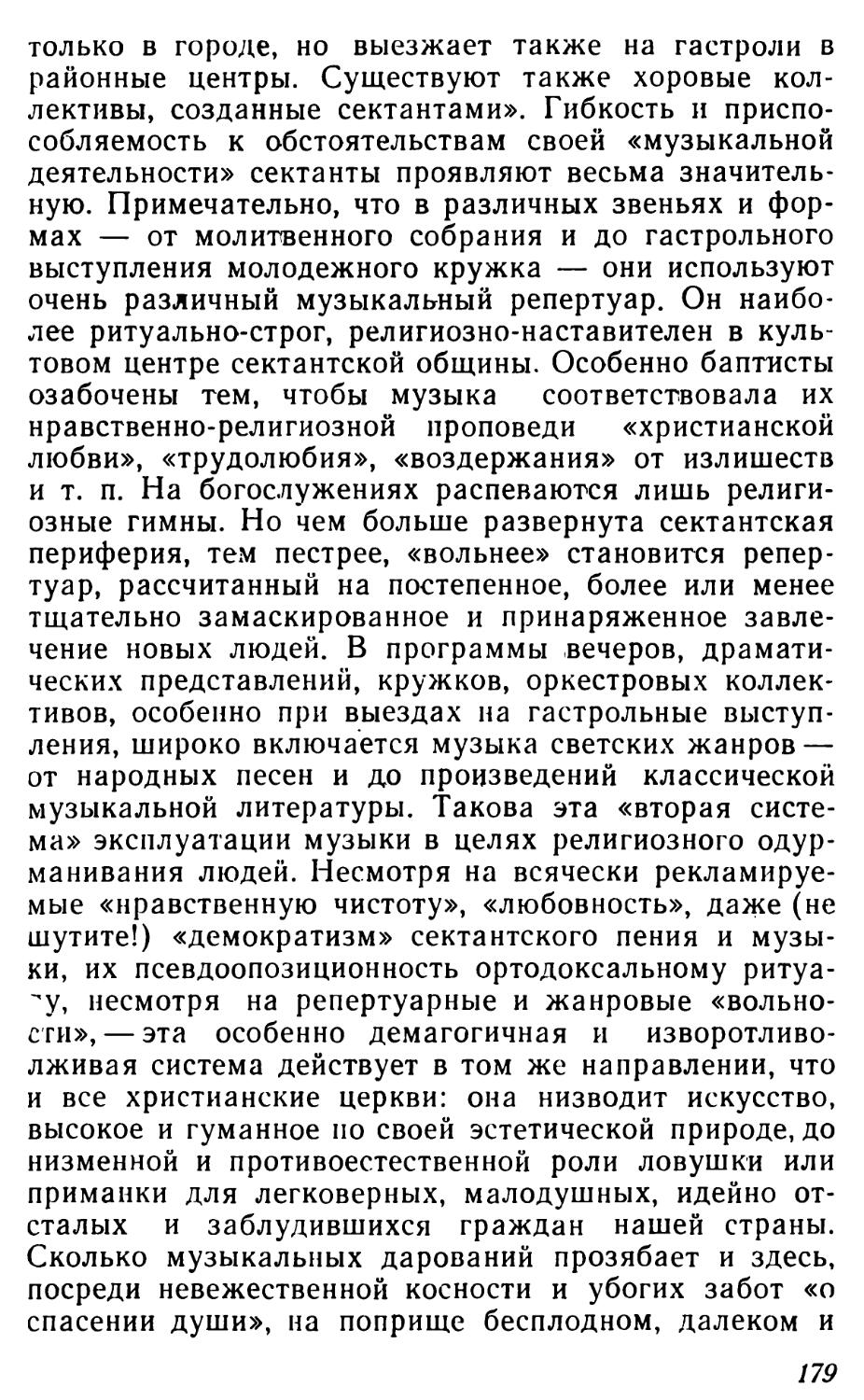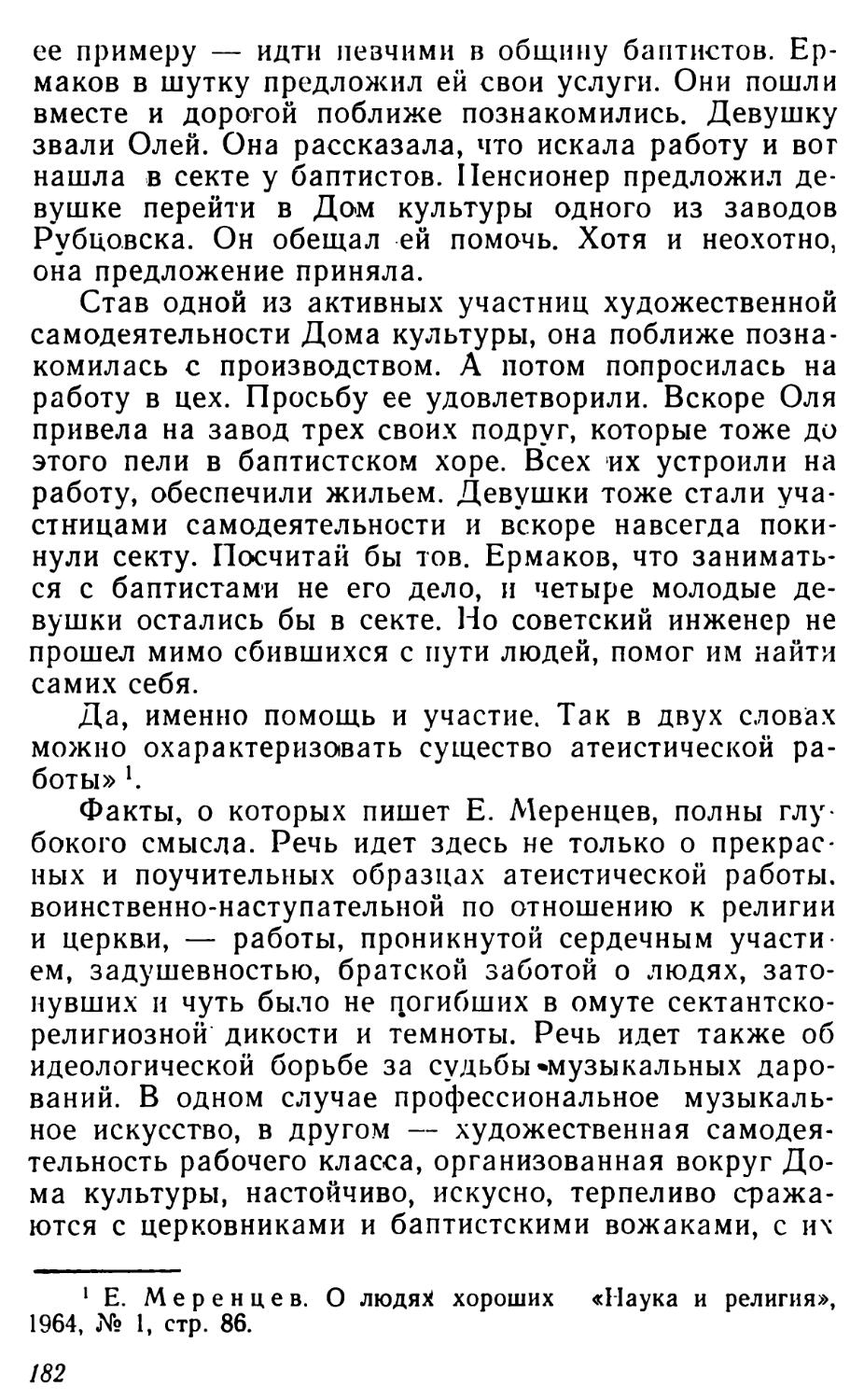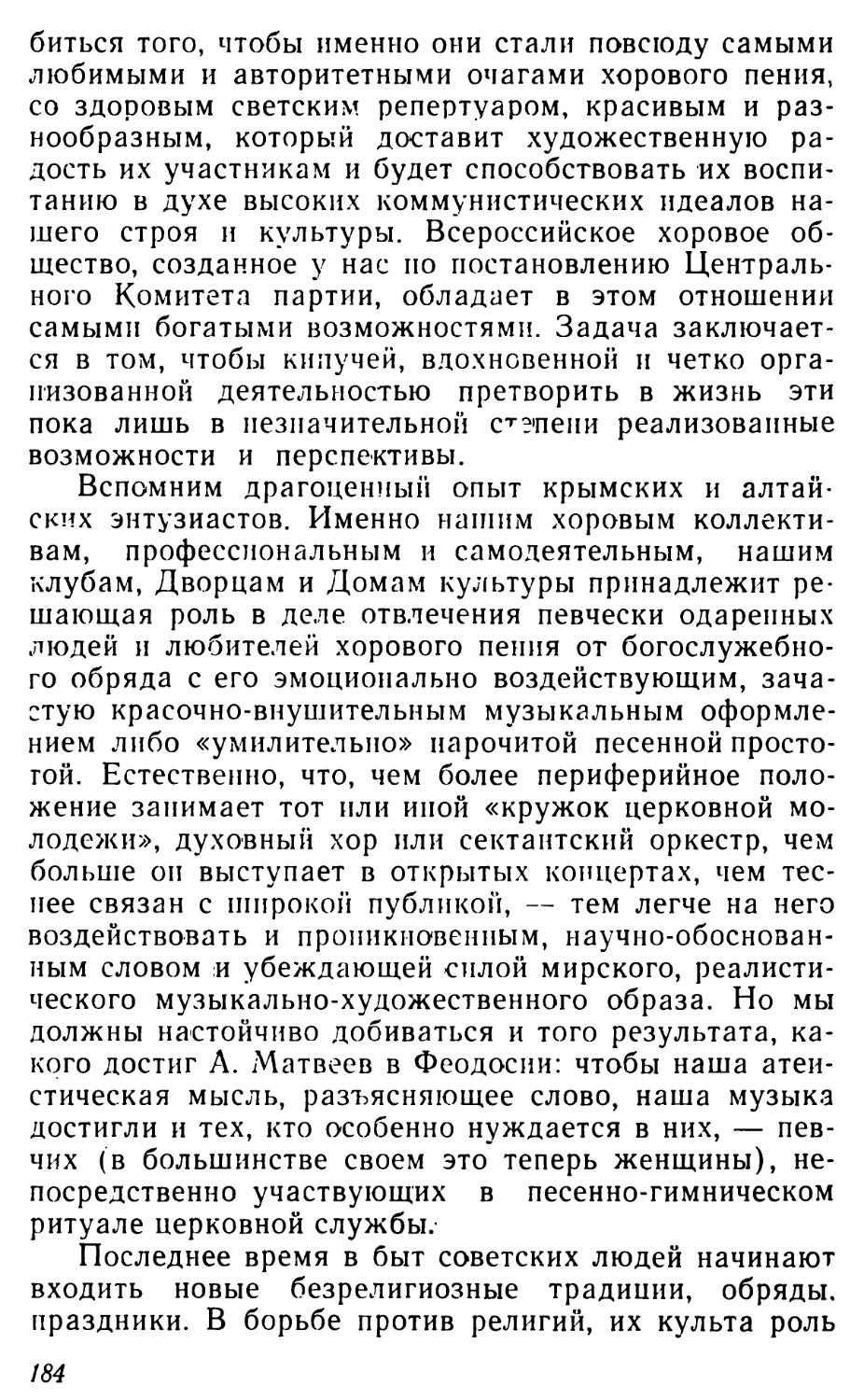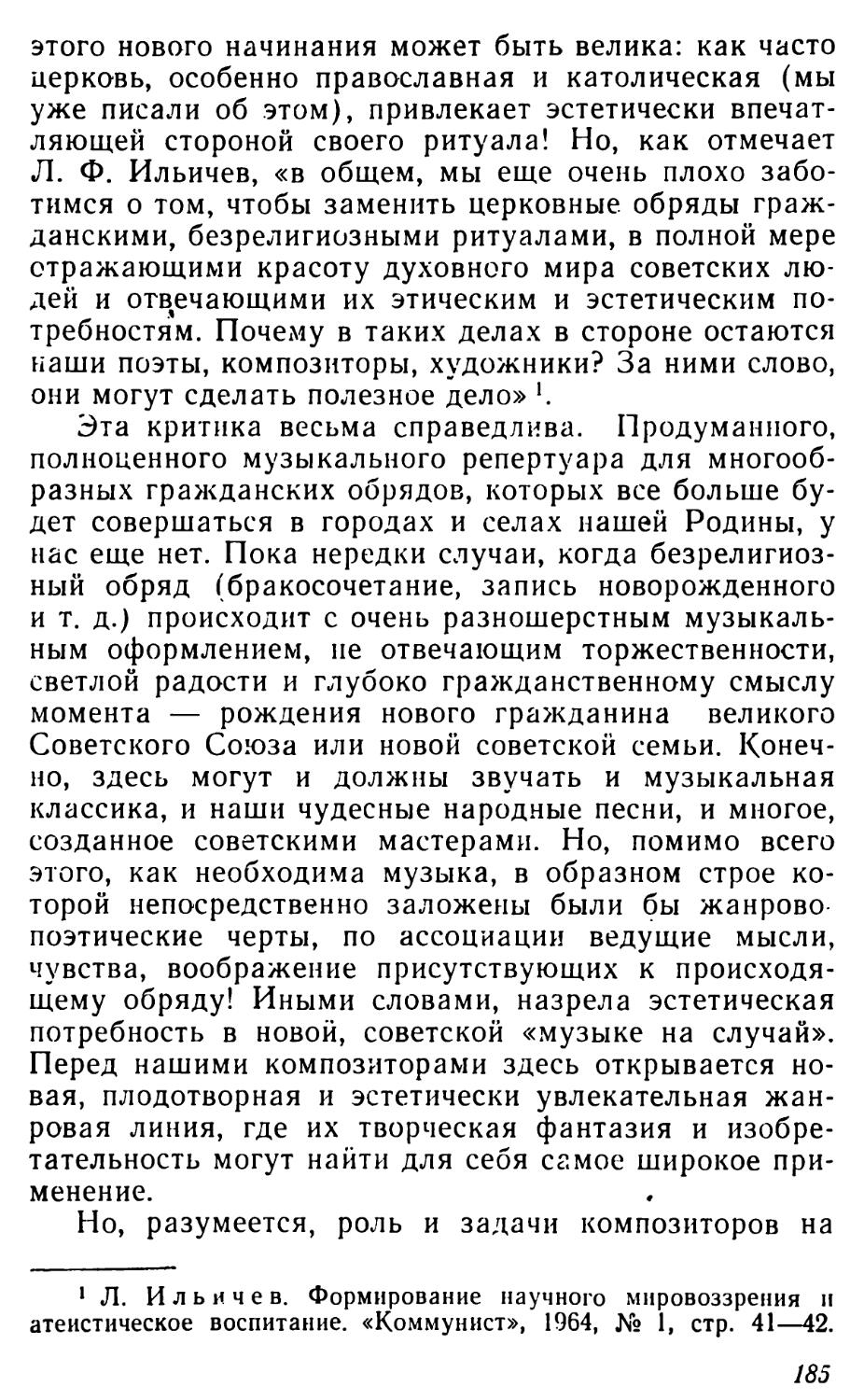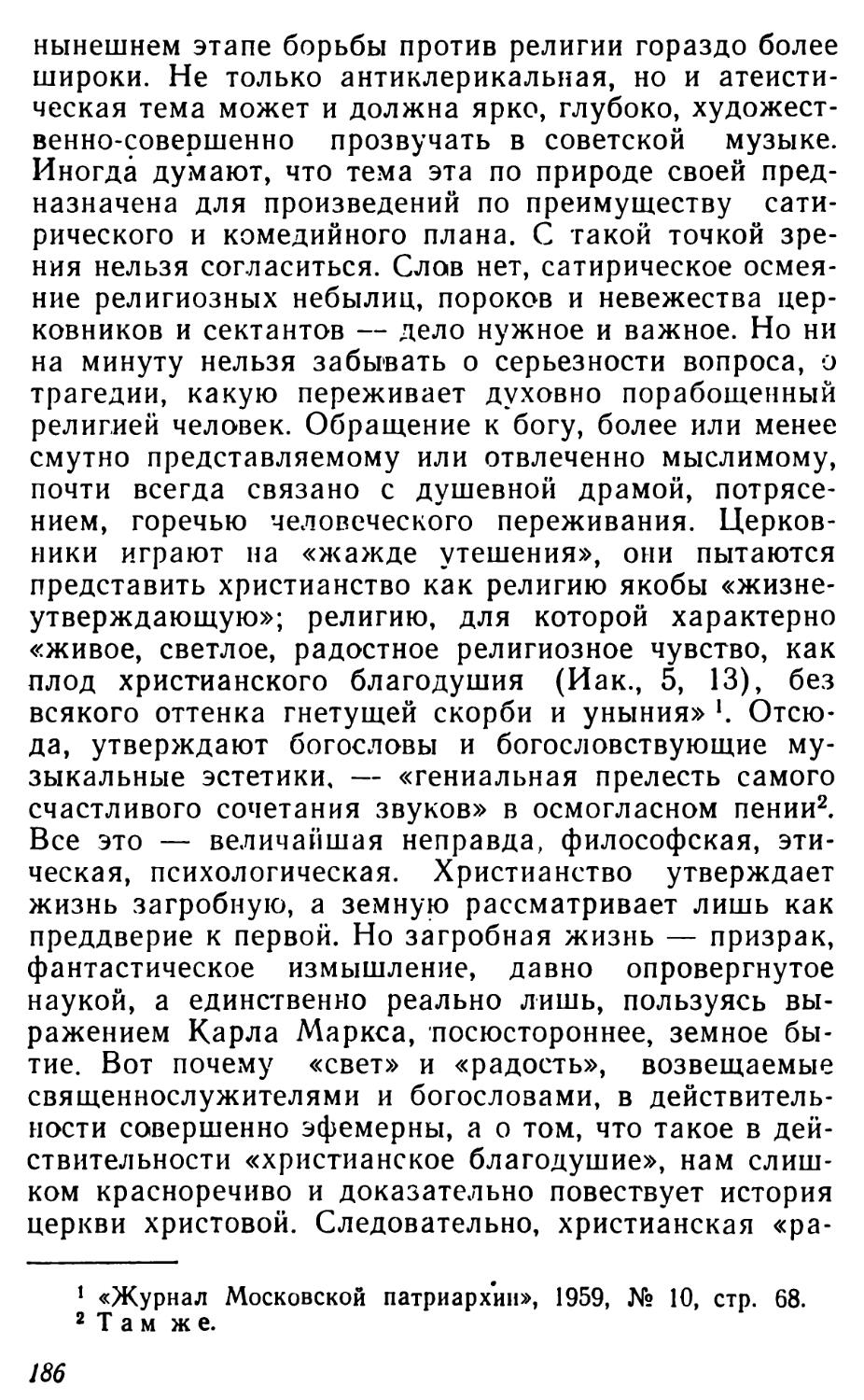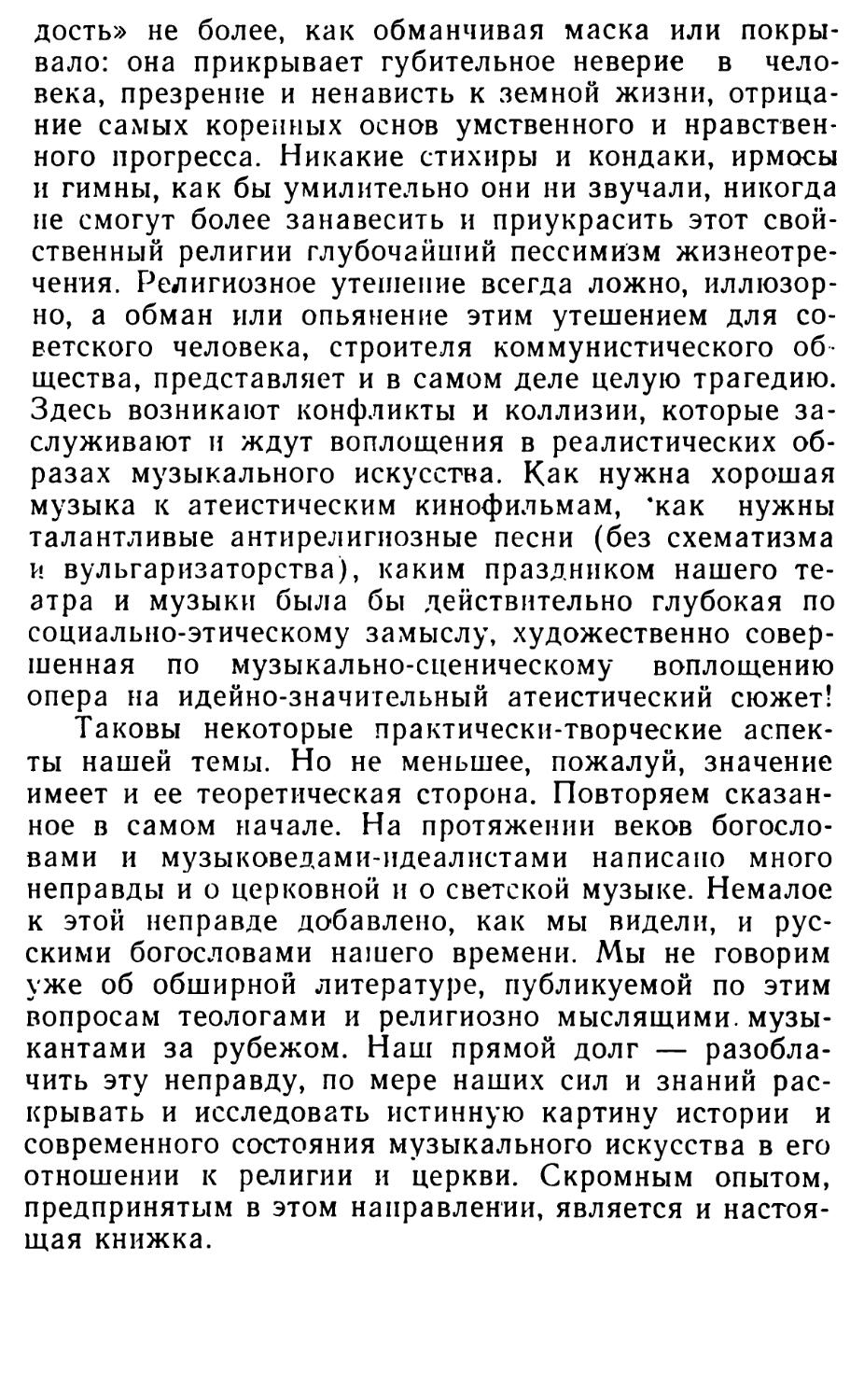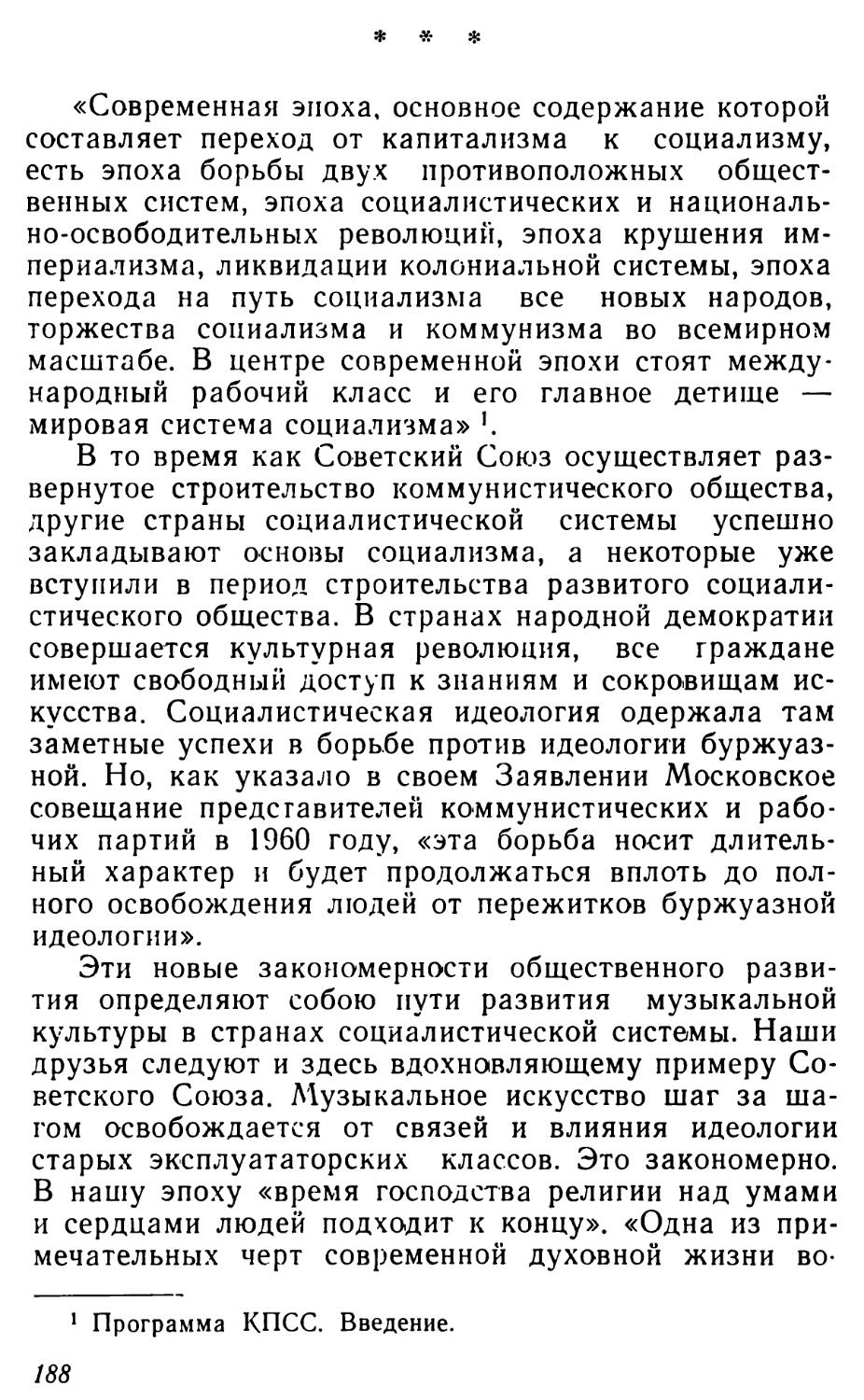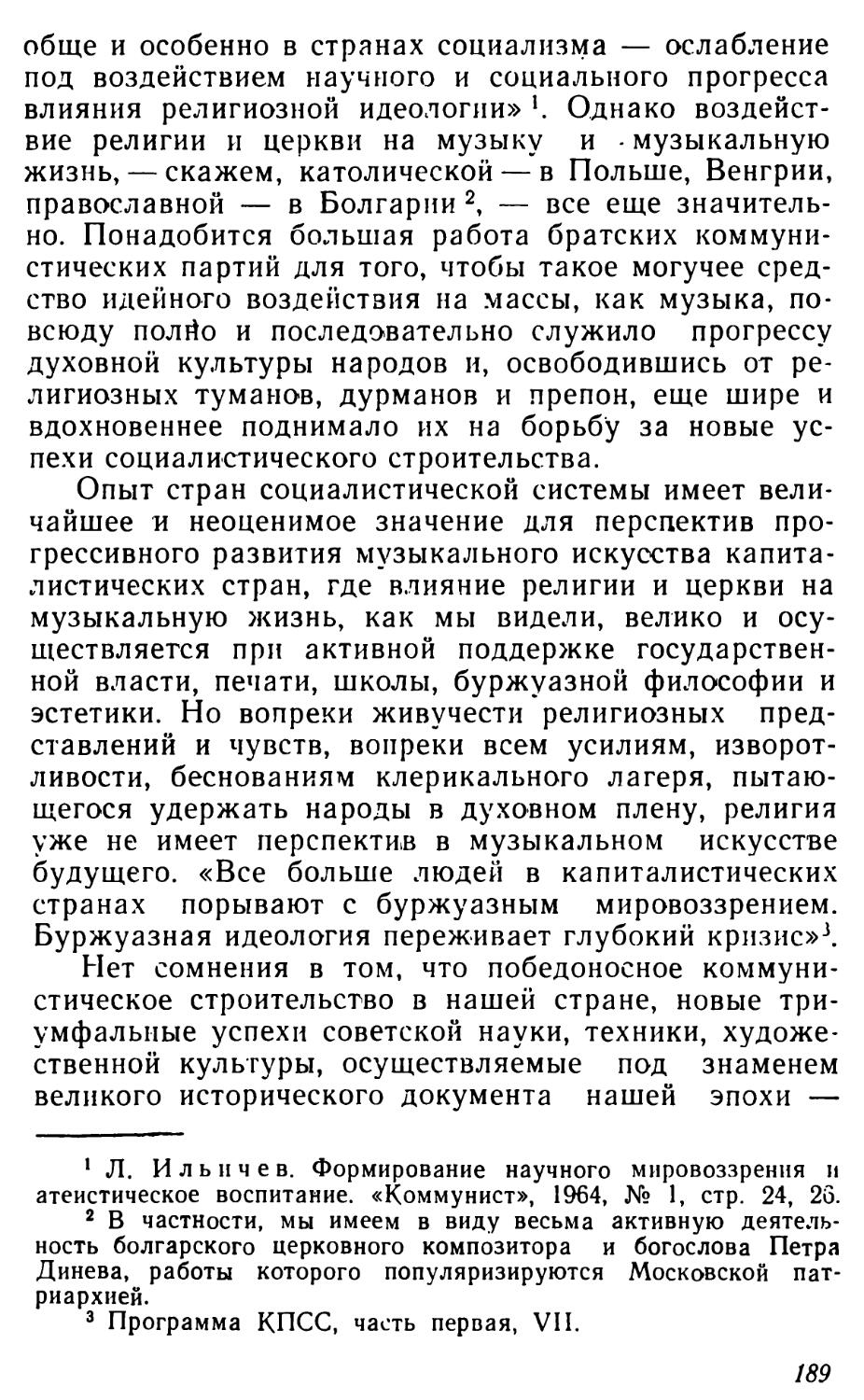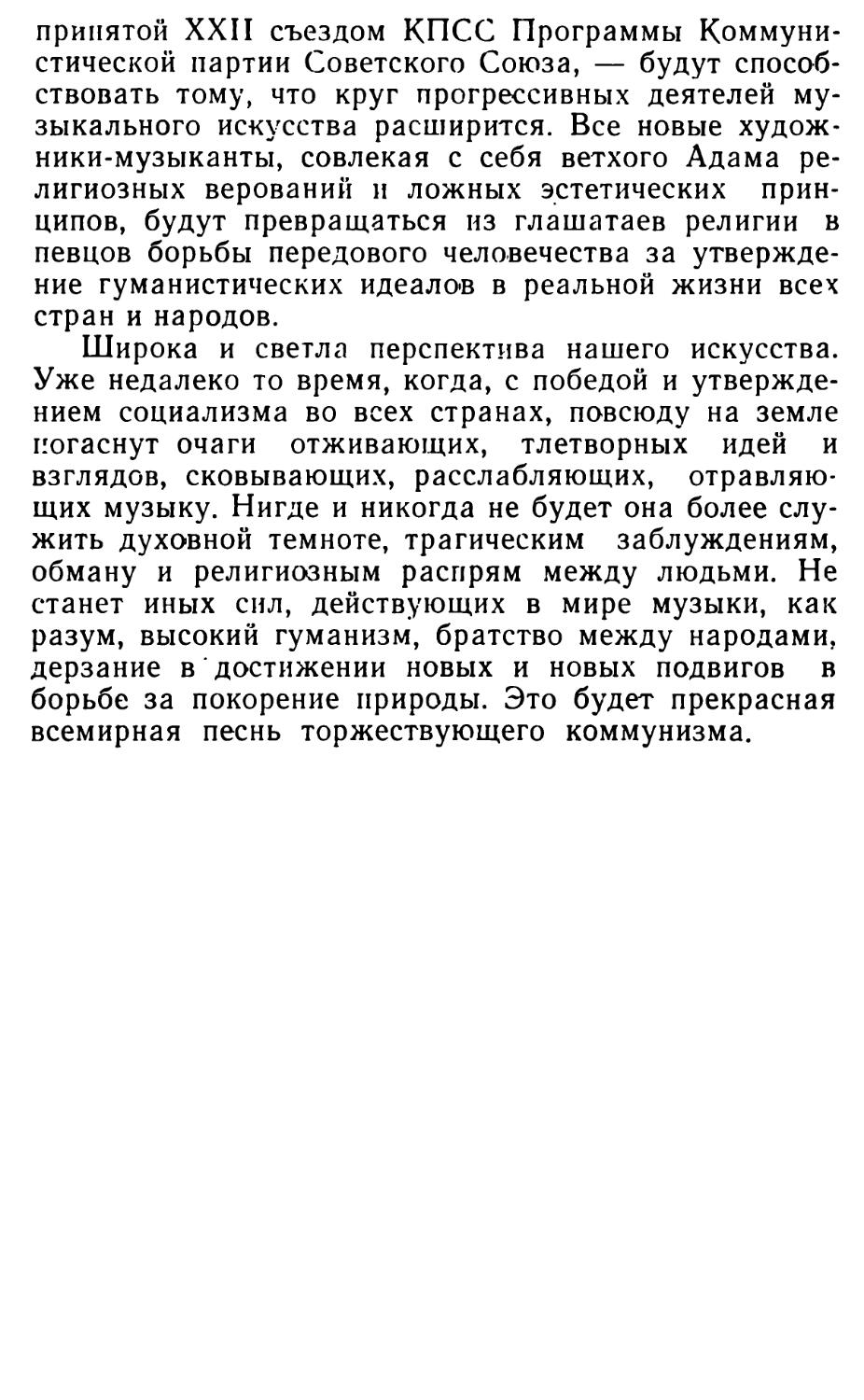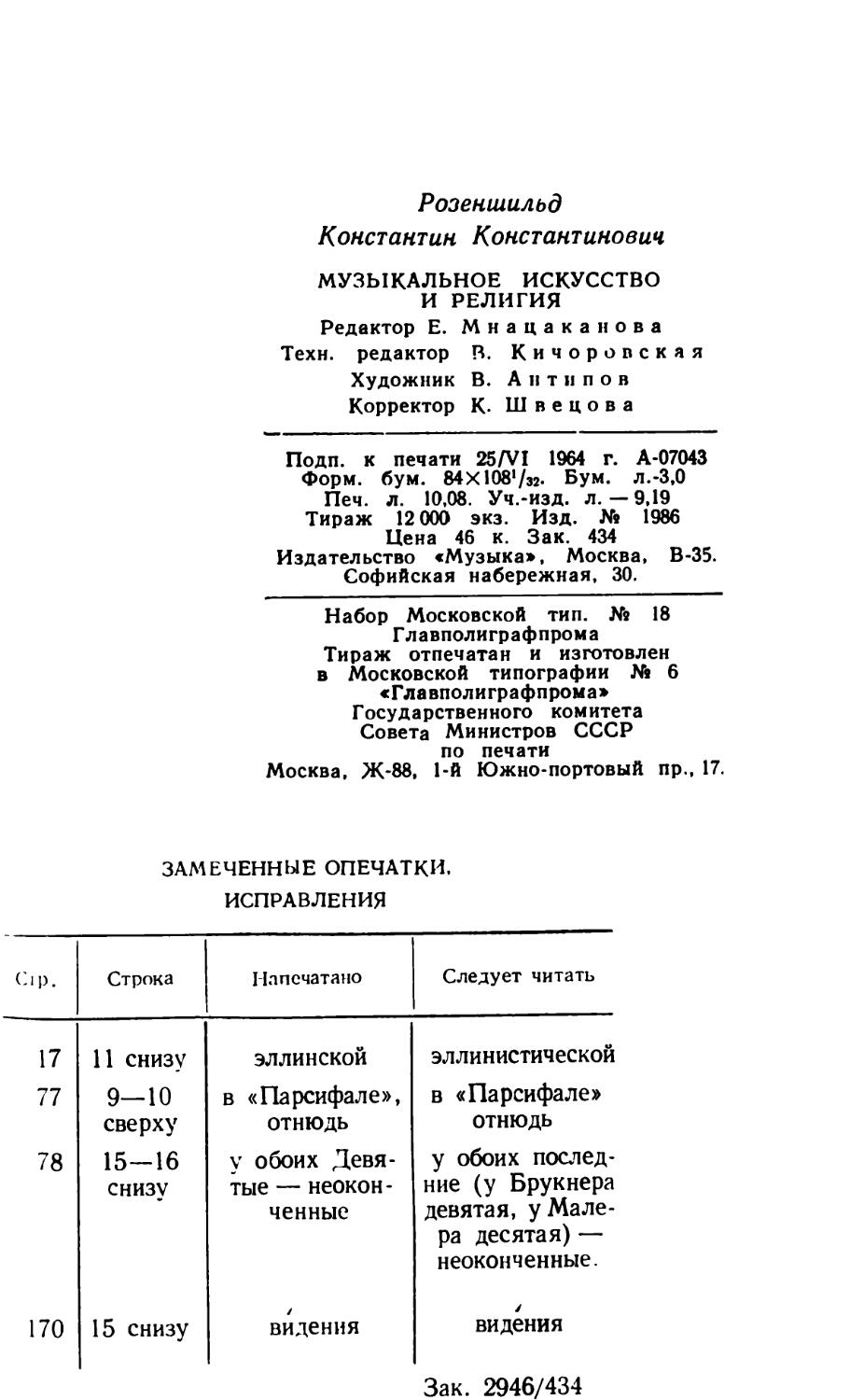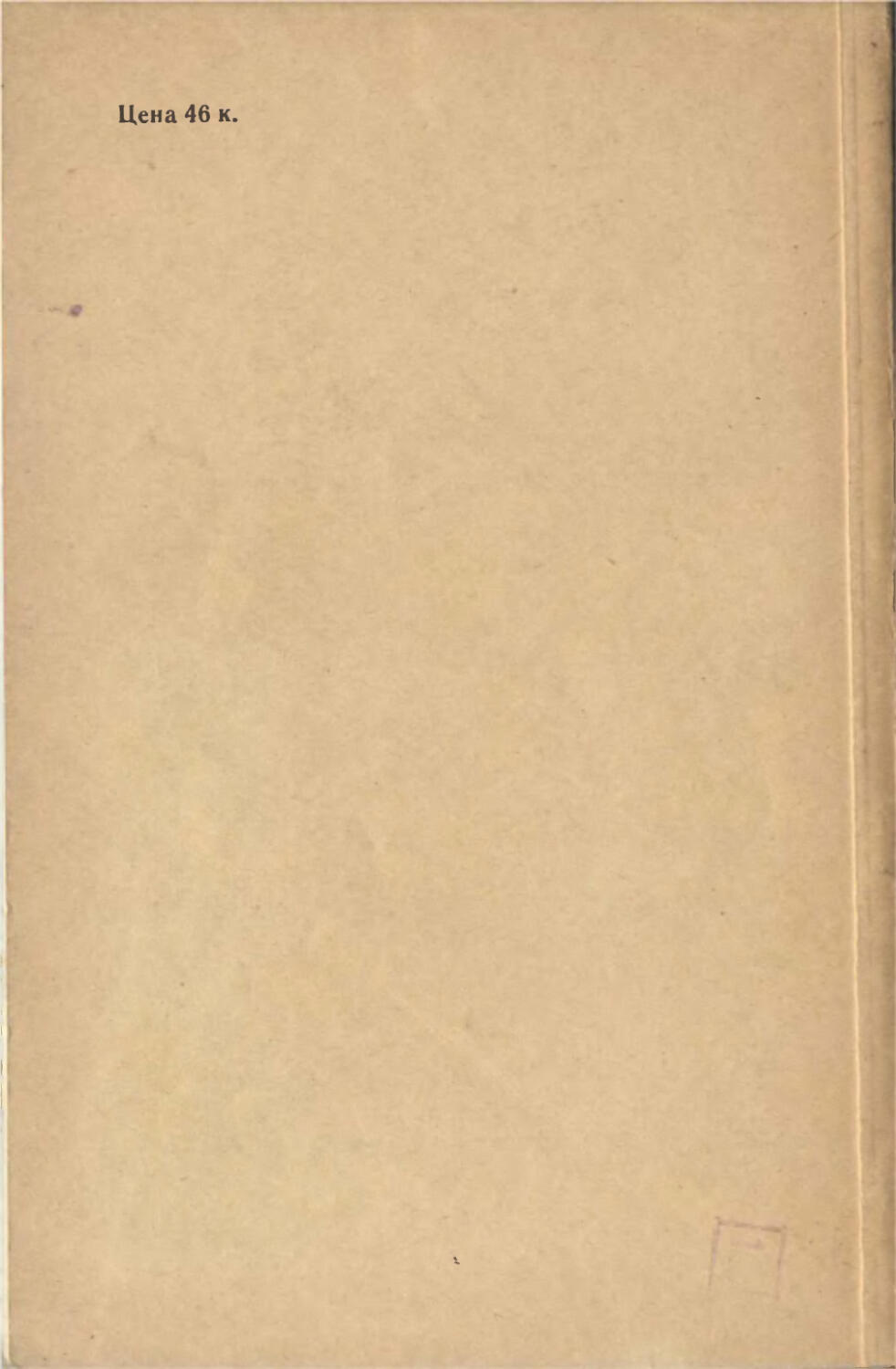Текст
МУЗЫКАЛЬНОЕ
искусство
и РЕЛИГИЯ
ИСТОРИЧЕСКИЙ ОЧЕРК
ИЗДАТЕЛЬСТВО МУЗЫКА
МОСКВА • 1964
Вопрос о музыке и религии—очень старый, но все
еще не устаревший вопрос. Уходя истоками в давно
минувшие века и тысячелетия, он сохраняет интерес и
значение в идейной жизни и борьбе нашей эпохи. Он
привлекает пытливое внимание исследователей —
историков культуры и искусства,
музыкантов-профессионалов, любителей музыки, верующих и
неверующих. Особый и специфический интерес представляет
он для теоретиков, пропагандистов атеистического
миросозерцания, а с другой стороны, и для лиц, так
или иначе связанных с церковными, сектантскими
организациями, участвующих, прямо или косвенно, в
музыкальном оформлении религиозных культов.
Разумеется, у нас в социалистическом обществе и,
с другой стороны, в государствах капиталистической
системы отношения музыки и религии складываются в
совершенно различных общественно-культурных
условиях и обстановке.
«Советская литература и искусство, проникнутые
оптимизмом и жизнеутверждающими
коммунистическими идеями, играют большую
идейно-воспитательную роль, развивают в советском человеке качества
строителя нового мира. Они призваны служить
источником радости и вдохновения для миллионов людей,
выражать их волю, чувства и мысли, служить
средством их идейного обогащения и нравственного
воспитания».
Так, мудро и ясно, определяет Программа
Коммунистической партии Советского Союза место и назна-
3
чение художественного творчества в период
развернутого строительства коммунизма.
Слова Программы КПСС полностью относятся и
к нашей музыке. Во множестве произведений она
воплощает богатство и красоту духовной жизни
трудящихся. С песнями на устах строители коммунизма
совершают замечательные трудовые подвиги:
возводят новые грандиозные сооружения, строят города,
прокладывают железнодорожные пути, осваивают
миллионы гектаров целинных земель, покоряют
космическое пространство. Следуя путем, указанным
Коммунистической партией, советская музыка в
многообразии оперных, симфонических, камерных,
массовых жанров способствует утверждению
социалистического гуманизма, торжеству света и разума над
всем, что затемняет сознание людей, сковывает их
волю и инициативу. Благодаря новой социальной
природе нашего общества, новому миросозерцанию,
всемирно-историческим целям и задачам нашего народа,
новую, ранее неосуществимую
эстетически-воспитательную и нравственно-преобразующую роль играют
у нас и классическое наследие прошлого, и лучшие
произведения современной музыки, созданные
прогрессивными композиторами за рубежами нашей
страны. Мы находимся на завершающем этапе культурной
революции. Искусство у нас принадлежит народу, а
среди всех его видов музыкальное является,
пожалуй, самым массовым. Концерты и оперные спектакли
собирают огромные, подлинно народные аудитории.
Музыкально-образовательные радиопередачи
слушают десятки миллионов тружеников советской
земли. Размах нашей песенно-хоровой и
инструментальной самодеятельности огромен, а художественный
уровень ее необычайно высок. Музыкальные учебные
заведения насчитываются у нас сотнями, и число их
непрерывно растет. Приобщаясь к сокровищам
музыкальной классики, советские люди непрестанно
расширяют свой кругозор, их чувства и мысли становятс51
выше и богаче, они научаются глубже и яснее
понимать жизнь, умнее и целеустремленнее любить ее;
яснее и шире вырисовывается во всем величии глубо-
4
ко гуманная и возвышенная сущность наших
коммунистических идеалов. Итак, музыка в Советском
Союзе — могучее средство идейного воспитания
трудящихся. '
Всегда ли, однако, и всякое ли музыкальное
искусство в нашей стране действительно служит этим
высоким целям? Рядом с оперными театрами и
концертными залами, с консерваториями и музыкальными
школами, рядом с клубами и Дворцами культуры все
еще попадаются там и сям, как живые памятники или
заповедники канувшего в вечность темного царства,—
церкви, мечети, синагога, костелы. Их не мало.
Проходя мимо, мы слышим доносящиеся оттуда звуки
хора, органа, молитвенных возгласов. И не так уж
редко случается, что звучания ?ти по-своему
впечатляют «проходящих. Конечно, большинству наших
граждан, любящих музыку и занимающихся ею,
чужды религиозные верования, обычаи, предрассудки.
Это люди нового, социалистического, безрелигиозного
мира. Но далеко не все еще таковы. Корни религии,
возникшей в прошлом на почве придавленности людей
стихийными силами природы и социальным гнетом,
глубоко подорваны у нас ликвидацией капитализма и
построением социалистического общества. Но, как
известно, пережитки старого живучи в сознании
человеческом, их окончательное преодоление — процесс
неизбежно длительный и постепенный. Некоторая и
местами даже значительная часть советских людей
все еще находится под влиянием веры в бога,
сверхъестественное, и это, хотя в сравнительно узких
границах, но неизбежно отражается в музыкальной
жизни, в быту. Пока жива религия, пока существует
церковь, как организованное объединение верующих под
руководством ее деятелей, до тех пор существует и
культ с музыкальным оформлением его обрядов.
Религиозные настроения людей нередко просятся на
музыку, изливаются в ее звучащих образах, а
церковь, как встарь, по-прежнему обращается к
музыкальному искусству, и прежде всего к хоровому
пению, как испытанному средству «уловления душ
человеческих».
5
Таковы причины, в силу которых религиозная
музыка, богослужебная и домашняя, остается пока
довольно распространенным явлением нашего быта—в
городе и в деревне. Было бы неверно и неумно
отрицать, что многие молитвенные песнопения заключают
в себе подлинные художественные красоты,
накопленные веками, и многие церковные хоры поют очень
хорошо. Тем разительнее печальный анахронизм:
чудесное певческое дарование наших людей оказывается
поставленным на службу мировоззрению и культу,
которые ничего общего не имеют с действительной
культурой и духовными интересами советского
народа, но лишь затемняют и сковывают творческую
инициативу трудящихся, препятствуют их воспитанию в
духе коммунистического миросозерцания и
нравственности. Искусство, по природе своей призванное вести
человека вперед, к прогрессу и свету разума,
поистине кощунственно используется с целью отвращать
людей от строительства новой жизни, тянуть назад,
далеко в сторону от трудового коллектива, в дебри
темноты и невежества. Достойны порицания те
советские музыканты, которые, получив специальное
образование в государственных учебных заведениях
и приняв на себя высокую миссию служения народу
на поприще просвещения и культуры, прилагают
полученные знания и умение не к духовному
обогащению народа, но к украшению церковных служб, к
художественному оформлению организованного
одурманивания масс сохранившимися от седой старины
фантастическими вымыслами. Так поступают люди,
податливые на религиозную пропаганду, некритически
воспринимающие те взгляды и суждения, которые
служители церкви издавна распространяют об
исторически сложившихся отношениях религии и церкви
к музыкальному искусству. Вопрос этот, сам по себе
сложный, до крайности запутан и искажен
церковниками. Тем более заслуживает он освещения в свете
научно-исторических данных.
6
* * *
В музыкально-исторических, эстетических работах
религиозного направления, в богословских трактатах
и поучениях церковных деятелей сплошь да рядом
встречаются утверждения, будто религия — это мать
музыки, и древнейшие колыбели песенного и
инструментального искусства — религиозные культы. При
этом авторы указывают обычно на седую древность
обрядовых песен, заклятий, зовов, гимнов богам, на
инструментальное оформление магических действ.
Воззрение это очень старо и восходит истоками к тем
далеким временам, когда толкователями,
«философами» природы и жизни были жрецы, когда не только
они, но почти все люди, в силу ограниченности своего
мировосприятия, искали объяснения окружающим
явлениям в деятельности неких сверхъестественных сил,
в «промысле божием». Некоторые мыслители и
музыканты древности: Пифагор, Платон и многие
другие— утверждали божественное происхождение
музыкального искусства и непосредственно связывали
его теорию со своим религиозным миросозерцанием.
Первые музыкально-эстетические теории,
сложившиеся на Ближнем Востоке у египтян, вавилонян и
других народов, связаны были с астрологией1 и
религиозными верованиями. Даже в наше время
сходное понимание природы музыки и ее происхождения
сохранилось в новых формах у целого ряда видных
музыкальных деятелей в странах капиталистической
системы. Среди них мы встречаем таких больших
художников, как Альберт Швейцер, Оливье Мессиан,
Пауль Хиндемит. «Я пребываю во все более глубоком
убеждении, что миссия музыкального искусства по
существу своему человечна и религиозна в смысле
объединения людей»,—говорит один из видных
французских музыкантов-модернистов клерикального
направления Андре Жоливе2. В России, в силу
исторических обстоятельств, о которых речь будет ниже,
1 Гадание по звездам.
2 Клод Роста н. Современная французская музыка.
Париж, 1961, стр. 54.
7
сторонниками теории религиозного происхождения
музыкального искусства выступали, главным образом,
если не исключительно, служители культа и
представители церковнопевческого искусства. Один из
основных исходных пунктов в работах И. Вознесенскрго,
Дим. Аллеманова, А. Покровского, Н. Казанского,
протоиерея Н. Трубецкого и других заключается в
том, что самые давние среди религиозных служб,
ритуал которых восстановлен и описан наукой, уже
сопровождались музыкою и пением. В известном труде
«Богослужебное пение русской церкви» видный
знаток этого искусства протоиерей В. М. Металлов
рассматривает пение, музыку, наряду с «жертвой»,
«молитвой», «таинством», как «формы универсального
характера», «коренящиеся в самой природе
религиозного поклонения». При этом профессор Металлов ссьь
лается на тот факт, что «музыка и пение во все
времена составляли самую существенную
принадлежность религиозного культа. Древние арийцы, индийцы,
бактрийцы, персы, мидяне, халдеи, финикийцы,
ассирийцы, египтяне, греки, римляне, галлы, германцы,
славяне — все в религиозных церемониях и культе
пользовались музыкой и пением, коим приписывалось
божественное происхождение. Священные книги
индийцев (Веды) и персов (Зендавеста), барельефы в
усыпальницах и храмах вавилонян, финикийцев,
ассирийцев, египтян, сказания историков о галлах,
германцах и славянах, наконец, свежие памятники
первых культурных народов Европы — греков и
римлян — вещественные и письменные, дают
неопровержимые свидетельства всегдашнего и
преимущественного употребления в религиозном культе народов
музыки и пения» U
Исторические факты, о которых пишет проф.
Металлов, сами по себе бесспорны. Однако они ни в
какой степени не доказывают, что музыка и пение
«коренятся в самой природе религиозного поклонения».
1 Протоиерей В. М. Металлов. Богослужебное пение в
русской церкви. Период домонгольский, ч. I и II. М., 1908.
стр. 5—6.
8
Факты доказывают лишь то, что религиозные культы,
по крайней мере, нам известные, не обходились без
музыки. Но это никак не значит еще, что корни
музыки и в самом деле религиозны, что она в те
далекие времена не могла обходиться и в
действительности не обходилась без религии и ее культа. А ведь
именно в этом — центр вопроса: является ли
музыкальное искусство по самой сущности своей и
происхождению искусством религиозным? Верно ли, что
религиозное поклонение и его обряды вскормили
музыку и указали ей путь в будущее? Нет, это —
глубокое заблуждение, поддерживаемое деятелями
церкви и религиозно мыслящими историками вопреки
велениям разума и историческим фактам. Как ни
стары религиозные обряды, музыка старше их. Не
всегда и не везде владели религии сознанием людей.
Древнейшие свидетельства о верованиях, о
поклонении душам умерших предков, предметы —
памятники религиозных культов — обнаружены в
захоронениях, относящихся к эпохе верхнего (позднего)
палеолита. Следовательно, они имеют приблизительно
40—50-тысячелетнюю давность. Между тем, еще до
того времени человечество уже существовало и
трудилось на земле в течение огромного периода
времени продолжительностью примерно около миллиона лет.
Никаких памятников, свидетельствующих о
религиозности этих древнейших поколений рода
человеческого, у нас нет. Наоборот, исторической наукой точно
и непреложно установлено, что то был период
безрелигиозный. Зато есть основания предполагать, что у
безрелигиозного человечества уже существовали
первые начатки музыкального искусства.
Маркс, Энгельс, Ленин исчерпывающим образом
доказали, что «религия возникла в самые
первобытные времена из самых невежественных, темных,
первобытных представлений людей о своей собственной
и об окружающей их внешней природе» !.
Основоположники научного коммунизма говорят здесь о вели-
1 К. Маркс и Ф. Энгельс. Избранные произведения в
двух томах, т. II, стр. 378.
9
чайшем заблуждении человечества, заблуждении
поистине трагичном по своим историческим
последствиям. Но как бы ни было велико это заблуждение
первобытного человека, впоследствии закрепленное в
сознании людей классовыми интересами
эксплуататоров, оно предполагало продолжительную,
многотысячелетнюю работу обобщающей мысли. Тем более
в течение долгих тысячелетий люди, еще не знавшие
религий, уже могли, однако, создать простейшие
инструменты, играть на них и изливать в песнях свои
чувства, страсти, настроения. Об этом нелицеприятно
свидетельствует сама музыка. Древнейшие
ископаемые инструменты, предоставленные в распоряжение
историков палеонтологией, как и первые образцы
наскальной и пещерной живописи, не несут на себе
никаких следов применения их в каком-либо
религиозно-культовом ритуале. Что касается песенного
искусства, то исторически первичный его слой составляют,
очевидно, не рел-игиозные напевы, не заклинания
знахарей или колдовские завывания шаманов. Прежде и
раньше всего люди создали те песий, какие были им
наиболее необходимы, в каких они, общаясь между
собою, выражали свои чувства и мысли по поводу
самых насущно важных явлений, обстоятельств,
событий их повседневного бытия. Это трудовые —
охотничьи, земледельческие, пастушьи и бытовые
напевы, повседневно сопутствовавшие работе и всей
жизни человеческой задолго до того, как музыка смогла
впервые стать принадлежностью религиозного культа.
До понимания этого внерелигиозного происхождения
песенного искусства возвысились еще передовые
мыслители древнего мира. Выдающийся
философ-материалист и поэт античного Рима Тит Лукреций Кар
писал в своей поэме «О природе вещей»:
Судостроение, полей обработка, дороги и стены,
Платье, оружье, права, а также и все остальные
Жизни удобства и все, что способно доставить усладу:
Живопись, песни, стихи, ваянье искусное статуй —
Все это людям нужда указала, и разум пытливый
Этому их научил в движеньи вперед постепенном.
10
Труд, а не религия, вера в бога создал
художественную, следовательно, также и музыкальную куль
туру человечества.
Что касается других песенных жанров большой
давности, как, например, мелодии хороводные,
игровые, колядки, веснянки и т. д., то, хотя многие и
были прямо или косвенно связаны с отправлением
религиозных праздников, с поклонением языческим
богам — олицетворениям сил природы, — но и в них,
в качестве самой глубокой и первичной основы
постоянно звучит изначальная и всепроникающая тема
труда, переплетенная со сказочно-мифологическим
элементом. Да и в самом элементе этом, как
справедливо указывал А. М. Горький, выступая на Первом
Всесоюзном съезде советских писателей, «мы слышим
отзвуки работы над приручением животных, над
открытием целебных трав, изобретением орудий труда».
Итак, не рабочая или бытовая песня возникла из
религиозно-культового действа, но, наоборот,
музыкально оформляя религиозный обряд, люди
привносили в него интонации, напевы, образы, возникавшие
ранее в их повседневной трудовой жизни. А жизнь
эта долгими тысячелетиями протекала вне ритуала,
связанного с поклонением сверхъестественным силам—
порождениям их фантазии и духовной темноты.
Закономерно, что тут, в иной, культовой обстановке и
«мизансцене», под воздействием иных
представлений, настроений, действий, все эти мирские напевы,
вспоенные реальной жизнью, неизбежно
деформировались и приобретали специфическое звучание.
Музыкальное воплощение религиозных верований
отвечало той смутной и наивной фантастике, тому темному
хаосу, который царил в человеческих
представлениях. Его образы не имели прямой опоры во внешнем
мире; то были «кривые зеркала» со страшной
медлительностью пробуждавшегося сознания. В период
первобытной дикости заговоры и заклинания —
магические, тотемические и иные — конечно, звучали
нарочито нестройно, оглушающе-резко, либо
смутно-таинственно. Они усиливали страх перед окружающим,
еще больше обостряли у человека чувство бессилия
//
перед теми непостижимо могущественными и
разрушительными силами, какими представлялись ему
тогда грозные стихии- природы. Склоняясь перед ними,
люди в то же время жестоко и бессмысленно
насиловали собственную природу (так нередко бывает и
теперь), а это не могло не отразиться в музыке их
культа1. Выкрики и бормотанье знахарей,
завывание шаманов, стук и звон «магических» колотушек
и трещоток, сопровождая религиозно-колдовское
действо, зачастую изуверски-бесчеловечное, кровавое,
уродливо-эротичное, уводят людей в мир
болезненно-извращенных «прозрений»' и наваждений. Они не
составляют искусства в собственном смысле и по
природе своей антиэстетичны. Но и в этом диком и
безобразном, зачастую противоестественном ритуальном
окружении мелодии и наигрыши, просочившиеся
туда из гущи народной жизни, сохраняли отчасти по
крайней мере, следы качеств, испокон веков
свойственных народному творчеству: здоровой поэтической
фантазии и архаически величавой музыкальной
красоты.
* * *
Так обстояло дело в период первобытной
дикости. С переходом к древней цивилизации и
разделением общества на классы многое изменилось в
музыкальном быту наших далеких предков: музыка
постепенно стала профессионализироваться. Это было
закономерно: переход к рабовладельческому строю,
1 Примечательно, что современные композиторы модернист
ского направления проявляют повышенный интерес к
первобытно-колдовской магической музыке. Попытку воссоздать в
атональной системе ее звучания предпринял французский
композитор Андре Жоливе в «Пяти колдованиях» для флейты,
«Колдовском танце» для оркестра с волнами Мартено, а также в
фортепианной сиюте «Мана». «Мана», — поясняет А. Жоливе, —
это та сила, которая продолжает наше бытие в родовых
фетишах». Попытка модернистской реставрации средствами
современной музыки звучащих фетишей каменного века весьма
симптоматична (цит. по книге Клода Ростана «Современная
французская музыка». Париж, 1961, стр. 67—68).
12
вызванный тогда развитием материальных
производительных сил общества, повлек за собою известный
прогресс материальной и духовной культуры.
Продвинулось вперед, усовершенствовалось и
музыкальное искусство. Большая часть первых
рабовладельцев, обогащавшихся за счет чужого труда,
принадлежала к жречеству и сосредоточила в своих руках
самое богатое и искусное оформление религиозных
обрядов.^ Профессиональная музыка древнего мира —
это в большой мере храмовая музыка.
Тем временем постепенно изменялись у людей
самые истоки и содержание религиозных
представлений. Раньше, до возникновения частной
собственности, накопления богатств, до появления
социального неравенства и гнета, религия в своих
фантастических образах олицетворяла лишь таинственные силы
природы. Теперь к ним присоединились и стали
выдвигаться на первый план непонятные для людей и еще
более свирепые, жестокие силы общественного
развития и угнетения народа, а правящие богатые
классы не преминули воспользоваться этими иллюзиями
для морального обуздания и покорения масс. Так
религия, вера в богов чем дальше, тем больше
становилась уже в руках власть имущих «опиумом для
народа» (Карл Маркс). И по мере, того как жречество
древнеязыческого мира превращалось во
влиятельнейший слой правящего класса, во многом
определявший судьбы его политики и культуры, храмовая
музыка становилась выразителем его идеологии,
миросозерцания и отныне призвана была служить его
классовым целям. Правда, и в те далекие времена
широкие массы, принимая участие в религиозных
обрядах, зачастую ломали узкие рамки жреческого
ритуала и стихийно развертывали его в широкие народные
действа. Религиозно-сюжетная канва с роскошной
фантазией вышита там узорами драматических сцен,
легендарных образов, лирическими излияниями на
темы реальной жизни. Наивная вера в богов
причудливо переплетается в них с мудростью народной. Так
разыгрывались в разных краях земли
страсти-мистерии: Озириса и Изиды — в Египте, Иштар и Марду-
13
ка — в Передней Азии (Двуречье), песни-пляски на
сюжеты религиозных легенд в Индии, Индонезии,
праздничные игрища в древней Руси. «Предпосылкой
греческого искусства, — указывает Карл Маркс, —
является греческая мифология, т. е. природа и сами
общественные формы, уже переработанные
бессознательно-художественным образом народной
фантазией»1. В связи с древней легендой о боге виноградников
Дионисе и культовым обрядом в честь этого божества
возникла греческая драма с ее хорами и
музыкальными монологами действующих лиц. По своему
гуманистическому содержанию она неизмеримо возвысилась
над общим идейным уровнем рабовладельческого
общества, ставившего искусству узкие и тесные
границы. Знаменательно, что в своих
нравственно-философских устремлениях античная трагедия хотя и
родилась из дионисийского игрища, однако несла в себе
могучую богоборческую устремленность. Прометей
Эсхила похищает у богов вечный огонь, чтобы
облегчить жизнь человечества, и небожители жестоко
карают его за эту дерзость. Антигона Софокла в своих
песнях-монологах горько сетует на божественный
произвол, несправедливо обрекающий ее на лютую
казнь — погребение заживо. В этих вечно
прекрасных образах искусства классики греческого театра
выразили вековую мудрость народную и ропот масс,
поднимавших голос против жестокого произвола
власть имущих, против жрецов и неправедных
законов государства, даже против богов собственной
религии. Что касается Еврипида — одного из
величайших музыкантов античности, — то его трагедии шли
еще дальше — к открытой проповеди безбожия, и это
навлекло на него яростные преследования
политической и идейной реакции, требовавшей, чтобы театр
и музыка верно и беспрекословно служили ее целям.
Совершенно ясно, что в этих художественных
явлениях далекого прошлого сказалось действие
различно или даже противоположно направленных причин.
1 К. Маркс иФ. Энгельс. Сочинения, изд второе, т. 12.
М., 1958, стр. 737.
14
Образы народного вымысла, всегда почти богатые
художественной правдой, несли с собою
жизненно-здоровое содержание; религия же, ее влиятельнейший
представитель и пропагандист — жречество
вторгались в художественное творчество, присваивая себе
его красоты, заставляя их служить своим целям.
У различных народов в различные эпохи
исторического развития их религий и их искусства та или другая
тенденция брала верх в зависимости от
сложившегося соотношения сил.
Когда на арене разлагавшегося
рабовладельческого общества появилось христианство, оно не внесло
ничего принципиально нового в отношения религии и
музыкального искусства. Его песни и гимны были так
же мало оригинальны, как и его мифологические
легенды, почерпнутые из греческих и еврейских,
египетских и вавилонских, индийских и других источников.
«Музыка — «христианское искусство» по
преимуществу», — писал в своей «Истории русского
церковного пения» известный русский деятель богослужебной
музыки священник Дим. Аллеманов К Некоторые
писатели религиозного направления шли еще дальше,
прямо отождествляя музыку и христианское
миросозерцание. В 1910 году в Москве издана была книжка
Н. Молленгауэра «Музыкальное искусство и
христианская религия». Вот что мы там читаем: «Под
музыкальным искусством я подразумеваю то же, что
подразумеваю под словом «религия»...». Обращаясь к
музыке, автор восклицает: «Ты помогаешь нам таким
образом осуществлять завет Христа, гласящий:
«Любите друг друга», ты приближаешь нас к самому
господу богу, музыка — звучащая душа — тебя
прославляем мы, люди земли, как путеводительницу
нашу в иную страну...»2
Итак, музыка, как религия или форма постижения
бога христианского, ведущая человечество из мира ви-
1 Свящ. Дим. Аллеманов. Курс истории русского
церковного пения, ч. 1, М., стр. 30.
2 «Музыкальное искусство и христианская религия». Н. Мол-
ленгауэр. М, 1910, стр. 5, 20.
15
димого, чувственного в м'ир потусторонний! И это
преподносится в буржуазном музыкознании и эстетике
как «последнее слово науки»! «Всякая форма есть
частица или луч созидательного духа, запечатленный в
сердце созданного существа», — утверждает
известный французский неотомист 1 Жак Маритен. Отсюда
умозаключают о «божественной» природе
музыкальной формы. Сходные воззрения распространяют
некоторые деятели современной русской православной
церкви. На страницах «Журнала Московской
патриархии» протоиерей Н. Трубецкой определяет музыку
как «практическое средство связи со
сверхчувственным миром», как «универсальный язык, на котором
человек и мог в какой-то степени сообщаться с
божеством». Там же утверждается библейское
происхождение ладов и инструментов2.
Ложность этого взгляда очевидна для всякого,
знающего историю музыкального искусства и историю
религий. Это явное свидетельство крайней тенденци
озности, религиозного ослепления, либо, наконец, по
просту невежества. Когда христианство возникло в
Иудее (Палестине) и распространилось по
греко-римскому миру, оно отнюдь не создало себе музыки по
собственному религиозному наитию, хотя богословы
и утверждают, опираясь на свидетельства евангелий
от Матфея (XXVI, 25, 30), Марка (XIV, 26), Луки
(II, 13—14) и на послания апостола Павла, будто
христианское песнопение принесено было на землю
ангелами небесными в вифлеемскую ночь, церковному
же пению начало положено на тайной вечери самим
Иисусом Христом. В действительной, а не
легендарной истории дело обстояло несколько иначе и
сложнее, чем описывают якобы евангелисты или апостол
Павел. Музыка — как бы обыденно это ни звучало —
возникла не на небе, но на грешной земле, а созда-
1 Неотомизм — реакционное течение, пытающееся возродить
фрлософско-богословские идеи известного деятеля средневековой
католической церкви Фомы Аквината (XIII в.) и его учителя
Альберта Великого. Цит. по антологии «Современная книга по
эстетике». М, 1957, стр. 86.
2 «Журнал Московской патриархии», 1959, № 10, стр. 65—6К
16
телями ее были не ангелы и Христос, а обыкновенные
реальные люди. В первые столетия нашей эры
нарождавшаяся христианская «первоцерковь», закладывая
основы своего богослужения, естественно, обращалась
к исконным народным напевам как ближневосточного
происхождения, так и бытовавшим на огромной
европейской периферии Римской империи. Об этом
свидетельствует, например, такой крупнейший научный
авторитет поздней античности, как известный
римский историк I века Плиний Младший. Эти мелодии,
оглашавшие римские катакомбы, сложились задолго
до возникновения христианства, часто вне
какого-либо культового обряда, и лишь потом были восприняты
религиозными общинами. В ту пору у христиан не
было и не могло еще быть профессиональных певчих,
как не было и «профессионального» духовенства. По
мере того как молитвенная музыка
усовершенствовалась и профессионализировалась, как возникло так
называемое «клиросное пение» и специальное
обучение певчих, появилась необходимость и в
музыкальной системе, теории. Христианство получило ее от
античной Греции, находившейся тогда в состоянии
полного упадка, однако сохранившей еще некоторые
драгоценные памятники своей культуры VI—I веков.
Но культура эта была языческой. Известно,
например, поразительное сходство мелодии амвросианского
гимна «Осанна сыну Давидову» с прекрасной
греческой песнью эллинской эпохи — схолией поэта Сей-
киля: «Веселися, пока ты живешь, и ни о чем не
печалься». Эпитафию на гробнице Сейкиля можно
было бы назвать произведением эпикурейским,
анакреонтическим, но никак не религиозным. Этот
призер не единичен. Кстати сказать, и сам Дим. Алле-
манов вынужден был признать в выше цитированной
книге: «Пение первенствующей христианской церкви
утверждалось на художественных принципах и
теоретических основах древнеэллинской музыки» К Итак,
христианская, по преимуществу, душа или природа
1 Свящ. Дим. Аллеманов. Курс истории русского
церковного пения, ч. I., стр 25.
музыкального искусства так же легендарна, как и
тайная вечеря; это — вымысел богословов и
обманутых ими музыкантов, он опровергается реальной
историей музыки и религии; опровержения его
проскальзывают даже в клерикальную литературу.
В течение первого полутысячелетия нашей эры
музыкальное оформление христианского культа прошло
через два этапа. Первый (I—III века и. э.), когда
христианство в недрах охваченной глубоким
кризисом Римской империи было еще гонимым
религиозным течением. В этот период связи его молитвенных
гимнов с народным творчеством оставались, очевидно,
очень широкими, и общинное пение религиозного
братства, вероятно, отражало в той или иной мере
демократические тенденции, надежды на грядущее
избавление от рабовладельческого гнета и
сочувствие «страждущим и обремененным» мучительно и
уродливо разлагавшегося античного мира.
«Христианство при своем зарождении было движением
угнетенных: оно выступило сначала как религия рабов и
вольноотпущенных бедняков и бесправных,
покоренных или рассеянных Римом народов» 1. Главная
особенность второго этапа (после Миланского эдикта
313 года) — превращение христианства в
господствующую религию, а христианской церкви — в
могущественную организацию, располагавшую
несметными богатствами и оказывавшую большое влияние на
светскую государственную власть. Это время, когда
церковь, еще недавно скрывавшаяся в катакомбах,
возводит монументальные храмовые здания и
справляет там свои службы с такой расточительной
роскошью, какой не знал ни один языческий культ
старого рабовладельческого общества. Народное пение
изустной традиции сменяется хоровым искусством,
профессиональной школы; его стиль (особенно в
Византии на Востоке, в империи Карла Великого на
Западе) становится все более велеречивым, пышным и
изысканным. Правда, и в то время народно-песенные
1 К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч., т. XVI, ч. II, стр. 409.
18
токи широко проникали в искусство знаменитых
византийских гимнотворцев-лириков — Ефрема Сирина,
Романа Сладкопевца, Иоанна Дамаскина, Федора Сту-
дита, а с другой стороны, и в мелос западноцерков-
ных песнопений — «амвросианских», позже «грего-
рианских» и иных, особенно в виде
свободно-поэтических излияний, которые расцвечивали и оживляли
основной напев: так называемых юбиляций, секвенций,
тропов и т. п. Чем дальше в глубь средневековья, тем
больше станбвилась христианская церковь
влиятельнейшей защитницей крепостничества и главной
идеологической силой феодального мира. И в меру этой
силы она монополизировала профессиональную
музыку, ее теорию, творчество, певческое искусство. Силой
экономических богатств, духовной диктатуры,
нередко политического террора она поработила* музыку,
эксплуатируя ее красоты, и заставляла ее служить
себе в течение тысячелетий. Каковы же были
последствия этого господства для музыкальной культуры?
* * *
Подлинные идейные основы всякого правдивого,
передового искусства по существу своему далеки и
чужды религиозному миросозерцанию. Это относится
и к музыке. Еще в древности выдающиеся мыслители
видели в ней не только источник художественной
радости, но и один из путей к истинному познанию
явлений, прежде всего к познанию людей. Аристотель
рассматривал мелодию, как «воспроизведение
характеров», отображение нравственных качеств,
«наиболее приближающееся к реальной действительности» К
Один из величайших философов-материалистов
Запада Бенедикт Спиноза советовал мудрецам
«поддерживать и восстанавливать себя музыкою», «чтобы
душа также способна была к постижению многих
вещей» 2. Познавательную силу своего искусства хоро-
1 Аристотель. Политика. Глава пятая.
2 Бенедикт Спиноза. Этика. М.-Л., 1932, стр. 172.
19
шо понимали и ныне понимают сами музыканты:
Бетховен и Вагнер, Мусоргский и Чайковский, Малер и
Шостакович. «Настоящая же музыка всегда отражает
содержание жизни, преломленное в душе человека...
Цель искусства состоит в том, чтобы с его помощью
человек познал самого себя и окружающий его мир...
Это наслаждение познания» К Сказанное Д.
Шостаковичем весьма справедливо. В звучащих образах
музыка обобщенно-прекрасно воссоздает
действительность жизни, ее явлений, конфликтов, характеров,
радости и горести великого множества людей. Среди
явлений реального мира нет предмета познания
более важного, сложного и прекрасного, чем человек,
народ, его жизнь, борьба, думы и надежды, его
душевный мир. Наука и искусство различными путями
и в различных формах ведут нас по пути этого
познания. Чем истиннее, сильнее, прекраснее воплощения
действительности в музыке, тем выше, совершеннее
она. Красота и истинность, жизненность содержания
сочетаются в ней гармонично и нераздельно. Большой
художник, увлеченный ложным замыслом, может
иногда написать красивую музыку, но ложная идея
всегда так или иначе ограничит его и нанесет
невосполнимый ущерб его творениям. Светом ясного
разума человеческого озарены мудрые и жизнелюбивые
песни народов, к разуму и совести людей взывают
произведения, созданные великими композиторами-
профессионалами разных стран и эпох. Их
творчество — торжество ясной и точной мысли
художника. «Глубокое самопознание и раскрытие
окружающего мира, к которому человеческий гений пришел
благодаря подъему музыки до высочайших вершин
выразительности, — важный этап духовной истории
человечества. Полагаю, что в будущем открытие
этого Нового Света будет признано одним из
замечательнейших завоеваний в победоносном походе
человечества в необъятные просторы духовного мира», — так
пишет о познавательной роли и силе музыки один из
1 Дм. Шостакович. Знать и любить музыку. М., 1958,
стр. 7—10.
20
выдающихся мастеров современного дирижерского
искусства Бруно Вальтер (Шлезингер) 1.
Но религия — от седой древности и до наших
дней — это всегда величайшая ложь, сознательная
или бессознательная. Правда, и религиозные
представления, идеи, тоже по-своему отражают явления
природы и общественной жизни. Но отражение это
искаженное, иллюзорно-обманчивое. Реальные силы
природы и человеческой истории выступают здесь в
фантастических вымыслах как божества и другие
сверхъестественные существа, якобы населяющие
невидимый, потусторонний мир, и оттуда, «с небесной
высоты», совсем на земной манер управляющие
судьбами мира. Глубоко верно называет религию Карл
Маркс «мистическим туманным покрывалом на строе
общественного процесса».
Религиозные представления и догмы: бытие божие
и сотворение мира, первородный грех и его
искупление, бессмертие души и воздаяние «на том свете» за
грехи (ад) и добродетели (рай), деяния
«чудотворцев» — вся эта наивная и грубая фантастика
вопиющим образом противоречит действительным законам
природы и истории, давно опровергнута данными
науки и совершенно несовместима с логикой и
требованиями разума. В наш век — век революционного
перехода от капитализма к коммунизму, век
величайших научных открытий и изобпетений: космонавтики,
атомной энергии, грандиозных электростанций,
синтетической химии, небывалых успехов физиологии,
медицины, астрономии, математики — антинаучная,
реакционная сущность религиозного миросозерцания,
вполне ясная и раньше, становится особенно
очевидной в своей архаически дикой и неприглядной наготе.
Но религия — одно из самых древних, самых
больших и трудно преодолимых заблуждений
человечества. «Религия есть один из видов духовного гнета,
лежащего везде и повсюду на народных массах,
задавленных вечной работой на других, нуждою и оди-
1 Бруно Вальтер. О музыке и музицировании. М., Музгиз,
1962, стр. 34.
21
ночеством» \ один из видов «огрубления и
затемнения духовной и нравственной жизни масс» 2. Это ярко
сказывается и в писаниях о музыке, принадлежащих
перу отцов церкви, теоретиков и историков церковного
пения, среди которых, как известно, было и сейчас
есть немало весьма одаренных и сведущих
музыкантов. Тот же Дим. Аллеманов в «Истории церковного
пения» с величайшей серьезностью описывает, как
именно «воспел» Христос на тайной вечери с
апостолами, чтобы «примером своим... освятить пение своей
земной церкви», или доверительно сообщает
читателю, что епископ-песнопевец I века н. э., ученик
апостола Павла святой Дионисий Ареопагит «во время
успения пресвятой богородицы был вместе с
апостолами и другими пастыреначальниками вознесен на
облака и перенесен в Иерусалим»3. Естественно, что
с подобных «позиций» музыкальным идеалом
представляется пение, весьма далекое от искусства,
«осененного светом разума». Религиозно-музыкальные
деятели превозносят раннехристианского
псалмопевца-импровизатора св. Иерофея Афинского, якобы
«очевидца погребения богоматери». Этот
поэт-исповедник, впадая в мистическое наитие, пел, «весь
исходя, весь из себя исступая, приобщаясь предметам,
которые воспевал, _и все слышавшие и видевшие его,
понимавшие и непонимавшие (!) признавали его за
вдохновенного и божественного песнотворца» 4. Иеро-
фей, по всей видимости, личность легендарная. Но
если так, то образ легенды запечатлел типические
черты. Одержимых и «исступленных» среди певцов
христианства было и до сих пор есть немало.
Традиция этого стиля и в самом деле древняя: о нем
упоминается, например, еще в Первом послании
коринфянам апостола Павла! Поистине помутненный разум
и бессвязную речь мы встречаем у самой колыбели
христианской богослужебной музыки.
1 В. И. Ленин. Сочинения, т. 10, стр. 65. ,
2 Т а м же.
3 Свящ. Дим. Аллеманов. Курс истории русского
церковного пения, ч. I. стр. 16 и 55.
4 «Книга об именах божиих», гл. 3.
22
Рядом с восхвалением этого фанатически
невнятного песенного исступления церковь и ее деятели
прославляют как источник вдохновения для певчего
«дух высокого отрешения от мира и возвышения над
всем ничтожным, земным» К Страшно подумать, что,
ослепленные религиозным фанатизмом, даже
выдающиеся музыканты наглухо отгораживались от
разумно-познавательных целей своего искусства. «Если м' -
зыка, — заявлял знаменитый испанский полифонист
XVI века Кристобаль Моралес, — делает что-либо
иное, кроме прославления бога и почитания памяти
великих людей, — она совершенно уклоняется от
своей цели». Это сказано было около четырехсот лег
тому назад. С тех пор много воды утекло, но взгляды
эти продолжают жить поныне. Почитайте-литератуг^-
вопроса хотя бы за последние сто лет. Примечательно,
что ревнители «чистоты» церковнотгевческого стиля
почти всегда апеллируют к монастырскому идеалу
«тихой обители, куда бежали от суеты многомятеж-
ных дел людских ищущие покоя высшего» 2. Они
протестуют против всяческого прогресса, против
усовершенствований в технике, промышленности, против
железных дорог и авиации, против успехов естественных
наук и распространения грамотности, против
драматического театра и оперы, против реалистического
искусства, против рабочей песенности, этого по
словам теологов «плода растления пригородных
нравов»3. Все это, по их мнению, впрочем
небезосновательному, несет серьезные опасности для той музыки,
которая идеально отвечала бы мистическому
вероучению и «чину» христианской церкви. «Православный
народ по преданию и инстинкту сочувствует
древнему церковному пению, которое прямо располагает
к благоволению и умилению и не развлекает поият-
ностию хитрого искусства, и он идет искать таких
1 «О современных нуждах церковного пения в России»
Н. Казанского. Свято-Троицкая Сергиева лавра. 1899, стр. 5.
2 Там же, стр. 5.
3 Т а м же.
93
впечатлений в монастырях» ]. Заточить душу
народную в монастырь религиозного созерцания — так
определял задачу церковной музыки один из
виднейших деятелей русского православия митрополит
Московский Филарет. Трудно выразиться с большей
определенностью!
Вывод тот, что религия, как идеология, противная
разуму и умственному прогрессу, там, где она
воздействует на музыку, принципиально принижает,
ограничивает, а иногда, если это воздействие
совершается более или менее беспрепятственно, и
практически разрушает идейно-познавательные основы
музыкального искусства.
Но дело не только в чисто познавательном
значении этих столь различных между собой областей
общественного сознания. Вы пришли в концерт или в
оперу, вы слушали там прекрасную музыку, и она
душевно подняла, укрепила вас, освежила чувства,
зажгла в вас еще большую любовь к жизни, волю к
труду и борьбе за наши высокие идеалы. Музыка
пробуждает в нас эмоции, она учит, наставляет нас в
жизни, взывает к нашей нравственности. В ее
человечности, высоких этических идеях — ее огромная
общественная сила. Она укрепляет веру в человека, в
народ, его созидательную мощь. Величайший человек
нашего времени В. И. Ленин, слушая «Аппассионату»
Бетховена, с гордостью говорил: «Вот какие чудеса
могут делать люди!» Таков строй мыслей, чувств,
нравственных состояний, пробуждаемых великими
творениями музыкального искусства. И это вполне
отвечает его глубоко гуманистической природе.
Вспомним прекрасный и гордый «прометеевский» девиз
Бетховена: «Музыка должна высекать огонь из души
человеческой». Или Чайковского: «Нам всего
дороже в музыке ее способность выражать наши
страсти, наши муки».
Однако религия учит совсем другому: для нее
полнота чувств, активная воля, борьба человека за
лучшую земную жизнь — все это лишь греховные
1 С ушко в а. Записки о жизни Филарета, прилож. 28.
24
плоды суетной и бесплодной гордыни, ибо, согласно
ее учению, только божественное провидение невоз-
.бранно правит миром и движет историческими
событиями. «Блаженны нищий духом, яко тиих есть
царство небесное!» Высший пафос музыкального
искусства — пафос жизнеутверждения. «Пафос» религии —
воспевание божества и загробной жизни,
принижение земного бытия, как «юдоли скорбей», во имя
эфемерных ценностей, будто бы лежащих где-то за
границами реально-существующего. Их нет и не будет в
здешнем мире, зато праведников, безропотно
принимающих страдание, они ожидают как их «великая
мзда на небесах» («Заповеди блаженства»).
У некоторых читателей может возникнуть
сомнение: имеют ли эти религиозные идеи и в самом деле
отношение к музыкальному искусству? Но сомнении
эти рассеятся, если мы обратимся к высказываниям
отцов церкви, прямо предъявлявших подобные
религиозно-эстетические требования к музыке.
Архиепископу Константинопольскому Иоанну Златоусту
приписываются следующие слова, обращенные к народу:
«Мы желаем и требуем, чтобы вы, вознося
божественные песнопения, были проникнуты великим
страхом и украшены благоговением и таким образом
произносили их» К Видный идеолог византийского
духовенства авва Памва требовал от певчих «пред лицом
бога стоять с великим сокрушением, а не в надмении
голоса» 2. Итак, страх и дух сокрушенный — вот
чувства, какие должна воспитывать в народе музыка.
Этим «заветам» внедрения рабской покорности в
умы и сердца масс следовала и русская
православная церковь. Мы уже цитировали ее представителей —
от митрополита Филарета и до инспектора Вифанской
духовной семинарии Н. Казанского — по вопросам
познавательного значения музыкального искусства.
Но вот не менее знаменательное суждение того же
1 «Беседы на прор. Исайю». Христ. чт. 1861, май, стр. 191—
196.
2 Герберт. Церковные писатели о священной музыке,
т. I, стр. 1.
25
Н. Казанского, касающееся этически-воспитательной
роли музыки. Говоря о нравственной ценности чувств,
которые выражены в «мирских» народных песнях, он
заключает: «...все это — чувства земные, вызываемые
земными предметами, с точки зрения житейской
морали, невинные и прекрасные, но по суду высшей
христианской нравственности — суетные, небезгрешные
и небезвредные» 1. Итак, песенное творчество народа
греховно и вредно. Какую же «высшую
нравственность» утверждают «церковные молитвословия»?
А. Страхов, комментируя обиходный напев «С нами
бог», слышит в нем «изумление души, пораженной
могуществом, над нею царящим и ею руководящим;
это могущество является душе столь великим, что
она, созерцая его, приходит в смятение и,
пораженная, в трепете, восклицает: «Кто в силах
противостоять ему, нашему властителю, перед которым все
ничто, когда он — с нами и мы с ним?» 2.
Следовательно, музыка безгрешная и безвредная
лишь та, которая настраивает на умиление перед
угодниками божьими, на «смиренную преданность» воле
провидения, на самоуничижение, смятение и трепет
перед властителем. И по церковному уставу гопе тем,
кто вздумал бы петь или воспринимать пение иначе.
«Преслушающий же сия вечней муце повинни суть,
яко не повинуются святых отец преданию и
правилом»3.
Как видит читатель, писалось или переписывалось
все это через полторы тысячи лет после Иоанна
Златоуста и аввы Памвы, но суть писаний не изменилась
нимало; не изменилась она с тех пор и у церковников
нашего времени. Такова уж идейная сущность
религии и церкви: они не только обкрадывают
музыкальное 'искусство, но насилуют его, и угрозами «вечной
муки» заставляют служить целям, глубоко чуждым
его внутренней природе.
1 «О современных нуждах церковного пения в России»,
стр. 17.
2 «Мысли о церковном нении» Александра Страхова. М.,
1891, стр. 17.
3 Типикон, изд. Моск. Синод типографии, 1877.
26
Потому отношение религиозного миросозерцания
и вероучений к музыке в принципе (мы подчеркиваем:
в принципе) антиэстетично. Это с незапамятных
времен засвидетельствовано высшими авторитетами
церкви. «Раб Христов должен петь так, чтобы приятны
были произносимые слова, а не голос поющего» 1
(Блаженный Иероним). «Иногда самую приятность
песнопений, которой преисполнен псалтырь Давида, желал
бы я удалить из слуха моего и самой церкви!»2
(Августин). Эта антиэстетическая доктрина, связанная
с самим духом религиозного созерцания и
поклонения, проникла и в русское церковное пение и оказала
воздействие на некоторых музыкантов, искренне
стремившихся к усовершенствованию духовной
музыки. Здесь нужно, в частности, назвать, Н. Потуло-
ва, который, ратуя за чистоту «истинно православно-
русского стиля», писал в своем «Руководстве к
церковному пению»: «Певец должен отрешиться от
всякого притязания на музыкальное искусство, от
всякого стремления произвести на слушателя впечатление
своим голосом или искусством владеть им»3. Автор
не ученый-богослов, не эстетик, но всего-навсего
музыкант-практик XIX столетия, трудившийся в
области гармонизации церковных напевов. Именно
потому, вероятно, он с предельной прямотою выразил
то, что порою так искусно скрывает изощренно-е в
лицемерии высшее духовенство: христианская церковь
неизменно верна принципам Иеронима и Августина:
«Лучше бы мне не слышать певца!». И не случайно
гармонические обработки Н. Потулова звучат так
бедно, искусственно и примитивно, хотя он и считал себя
последователем М. И. Глинки! Они свидетельствуют
не только о бесплодности механического применения к
древним русским мелодиям приемов западного
строгого стиля, но и об иссушающем, мертвящем
воздействии, какое всегда оказывает на музыку запрет
мирской красоты.
1 «Обзор песнопевцев» Филарета Черниговского, стр. 270.
2 Стромата.
3 Н. М. П о т у л о в. Руководство к церковному пению,
стр. 110.
27
Доктрины «отрешенности» богослужебного пения
придерживается и современная русская
православная церковь. Откроем «Журнал Московской
патриархии»: «Входя в храм, — говорят верующие люди, —
мы как бы оставляем землю, вступаем в земное небо,
уходим из времени и погружаемся в вечность.
Лампады и свечи пред ликами святых напоминают нам о
пламенной любви святых к богу. К вечности зовут
нас молитвы и песнопения» 1.
В статье «О церковном пении» протоиерей Н.
Пономарев ссылается на уже цитированного нами
авторитетнейшего в церковных кругах Иоанна Златоуста:
«Ничто так не возбуждает, не окрыляет духа, ничто
так не отрешает его от земли и уз телесных, ничто
так не наполняет любовью к мудрости и
равнодушием к житейским делам, как пение стройное, как
песнь священная» 2.
Мы, разумеется, всего менее ратуем здесь за
усовершенствование или модернизацию богослужебного
пения. Мы констатируем лишь очевидный факт:
русская православная церковь в музыкальных вопросах
и поныне стоит на точке зрения Филарета и Иоанна
Златоуста. Наилучшее пение то, которое не от мира
сего, которое отрешает человека от земли и
наполняет его равнодушием к делам житейским. Ибо в этом
якобы высшая мудрость. Такова музыкальная
эстетика и старого и современного православия.
Но обратимся на восток от «христианского мира».
Согласно нравственному учению другой мировой
религии — буддизма, высшая ступень морального
совершенства — это «прозорливость» мудреца. Она
доступна лишь тому, кто сумел полностью очистить свой
внутренний мир от эмоций, впечатлений и зовов
видимого и слышимого бренного мира. Один из
важнейших моментов или признаков «прозорливости» —
это «дар небесного уха» или способность праведника
внечувственно воспринимать «небесные голоса» так
1 Профессор протоиерей А. В е т е л е в. Храм и пастырь.
«Журнал Московской патриархии», 1955, № 6, стр. 9.
2 «Журнал Московской патриархии», 1955, № 14, стр. 13.
28
же ясно, как воспринимались им когда-то голоса
земные. Как это характерно для религии!
И звуков небес заменить не могли
Ей скучные песни земли...
Правда, поздний буддизм, реформированный еще
в начале нашего летоисчисления, выработал новую
доктрину (Махаяна) и украсил свои храмы и обряды
художественными образами, среди которых мы
встречаем и музыку и пляски. Но в своей архаичной,
классически чистой форме (Хинаяна) буддийская религия
отвергает музыкальное искусство, ибо «сгустку пены
образ подобен», и высшая мудрость — в отрешении
от него. Недаром гласит древняя легенда об
отречении Будды от жизни преходящей и суетной:
Ни ночью, ни днем не смолкали напевы,
Царевич от звуков устал.
Ему опостылели нежные звоны,
Он жаждал отсутствия их '.
И третья влиятельнейшая религия мира —
ислам — в первоначальной и наиболее характерной
своей форме также отрицала и поносила музыкально-
прекрасное. Основатель этого некогда
могущественного религиозного движения — фанатичный,
воинственный и беспощадно жестокий к «иноверцам»
Мухаммед презирал художественное творчество,
ненавидел музыку и, только заслышав ее звуки, немедленно
затыкал уши. Такое отношение пророка к
музыкальному искусству надолго стало традицией
мусульманского духовенства. Ислам воспретил «правоверным»
художественное изображение людей и даже
животных. Богатейшая фантазия резчиков по камню,
ваятелей, зодчих вынуждена была сурово ограничить
себя лишь растительным орнаментом (арабески). Нечто
подобное происходило в музыке. Чудесно распетые,
богато орнаментированные светские мелодии, полные
живого, страстного чувства, осуждались и веками на-
1 Асвагоша. Жизнь Будды. Перевод К. Бальмонта. М,
1913, стр. 41.
29
ходились под запретом. Исламистский культ
признавал лишь те безрадостно-тягучие,
гнетуще-однообразные возгласы нараспев, какие и сейчас издают
муллы и муэдзины, читая с минаретов
молитвы-изречения из Корана, священной книги мусульман. И
это вполне отвечает духу Корана: «Знайте, что жизнь
в здешнем мире есть обманчивая утеха, обольщение,
суетный наряд», — читаем мы в 57-й главе этого
фаталистического, безрадостного «божественного
откровения».
Никакие сомнения невозможны. Именно
человечное в музыке, в ее звучащих и зовущих образах
веками вызывало осуждение и ненависть, страх и запрет
воинствующих религиозных кругов в различных
странах мира. Буддийские проповедники и церковники
католического Рима, вожди ислама и православное
духовенство славянских стран соперничали на поприще
отрицания, поношения, изгнания высшей музыкальной
красоты. Познавательные, этические, эстетические
принципы и идеалы религии, ее легенд и преданий,
пророчеств и предрассудков и, с другой стороны,
подлинно великого и высокого музыкального
искусства страшно далеки и в основе своей
противоречат друг другу.
* * ♦
И все же история музыки и история религиозных
культов свидетельствуют о том, что церковь,
осуждая и проклиная художественную красоту музыки,
издавна испытывает к ней поистине жадное влечение.
На первый взгляд, это может показаться странным.
Если, говоря словами Н. Потулова, «певец должен
отрешиться от всякого притязания на музыкальное
искусство», ибо.оно по самой природе своей «суетно»
и «греховно», то чем же объяснить, что, всячески
сторонясь и чуждаясь народного творчества
(«небезгрешного и небезвредного», как этически оценивали
его церковники — от Августина и до Н. Казанского
включительно), церковь именно музыку
профессиональную, всегда «притязающую» на артистизм, не
30
только приблизила к себе, но на протяжении долгих
веков превратила в свою исключительную
собственность, украсила ею службы и обряды, а в своих
монастырях и обителях — христианских, буддийских,
даосских и других — создала певческие школы,
достигавшие высокого совершенства? Вряд ли нужно
доказывать, что затворническая жизнь, свирепый
произвол настоятелей, о жестокости которых народ
слагал страшные легенды и горькие песни, вечная
погруженность в бесплодные, иссушающие душу мысли
о сверхъестественном, нравственное убожество
монастырской братии, погрязшей в пороках, стяжательстве
и духовной темноте, — все это нисколько не
способствовало прогрессу и просвещению. И все же
большинство выдающихся музыкантов феодального
средневековья, даже в эпоху Возрождения XIV—XVI столетий,
едва ли не всю свою творческую жизнь обслуживало
церковь. Достаточно назвать Палестрину и Аллегри г.
Италии, Моралеса, Кабесонов в Испании, Вацлара
из Шамотул, Николая Зеленского в Польше. Многие
носили церковный сан: Федор Шайдуров, Николай Ме-
зенец, Иван Коренев в России, Филипп Витрийский во
Франции, Джозеффо Царлино в Италии, Томас Луис
Виктория в Испании — мы упомянули здесь лишь
немногих, а было их куда больше! Спрашивается: если
церковь принципиально отрицала артистизм, то что
же, так сказать, практически влекло ее к подлинным
артистам-профессионалам? Мы располагаем весьма
авторитетным разъяснением по этому вопросу.
Предоставим слово одному из виднейших и
образованнейших пастырей ранней христианской церкви, епископу
Кесарии Каппадокийской святому Василию
Великому 1:
«Дух святый знал, — пишет Василий, — что
трудно вести род человеческий к добродетели и что, по
склонности к удовольствию, мы не радеем о правом
пути. Итак, что ж делает? К учениям примешивает
приятность сладкопения, чтобы, вместе с
усладительным и благозвучным для слуха, мы приносили
1 IV в. н. э.
31
неприметным образом и то, что есть полезного в
слове» 1.
Это сказано с откровенностью, опять-таки не
оставляющей каких-либо сомнений. Музыка греховна,
как и природа человеческая. Именно потому она
неотразимо привлекает людей. Но церкви нужны
верующие, они упрочат ее славу. Да будет же в церкви
музыка как приманка, как греховно-усладительная
примесь к святому слову божию! Утилитарность этого
мотива очевидна, вряд ли она нуждается в
комментариях.
Справедливость требует отметить, что были среди
деятелей церкви и искренние любители музыки, и
даже хорошие музыканты. Но нестолько об отдельных
лицах здесь идет речь, сколько о церкви как
организации, о ее идеологии и политике. Кстати сказать,
предание гласит, что ценителем и знатоком музыкального
искусства был и Василий Великий. Он изучал музыку
в Афинах, однако в полном противоречии с антично-
греческим миросозерцанием, отводил ей в жизни
человеческой лишь узко-служебную религиозно-созеп-
цательную роль: «Может ли быть что более
блаженным, — восклицает Василий, — чем подражать на
земле лику ангелов, спешить на молитву при самом
рассвете дня и прославлять творца гимнами и
песнями, а затем, когда ярко просияет солнце, отправляясь
на работу, которая всегда соединяется с молитвою,
приправлять труды наши гимнами, как бы солью?»
Мы цитируем эти слова по статье кандидата
богословия Н. Иванова «Великий столп православия,
святитель Василий»2. Как видно, и современная русская
православная церковь следует заветам своего
«великого столпа» и пропагандирует их по мере сил. Она
не только пользуется «приятностию сладкопения» в
своем богослужебном обряде. Она притязает к тому
же и на музыку внецерковную. Приправляй труд свой
молитвенным пением, как солью, — и будешь
блаженным, подражая лику ангельскому на земле! Ци-
1 «Творения Василия Великого», изд. третье, ч. I, стр. 150.
2 «Журнал Московской патриархии», 1959, № 1, стр. 43.
32
тата из Василия о труде популяризируется не случай
но. Это же целая «философия жизни», убивающая
живую душу искусства и пытающаяся при его помощи
взрастить в наших людях мистицизм, напоить им
самый труд свободного человека, источник
материального и умственного прогресса. Да, вся история
христианской церкви непреложно свидетельствует о том, что
она была неизменно верна принципам св. Василия и,
более того, неукоснительно руководствуется ими
поныне.
Следовательно, обставляя одни службы
впечатляюще, красочно и пышно, а в оформлении других
придерживаясь нарочито простого и строгого стиля, церковь
в одних случаях играла и играет на способности
музыки создавать фантастически-иллюзорные образы, в
других же — не зарекается и от эксплуатации ее
реалистической выразительной силы, хотя и непрестанно
опасается ее. Отсюда постоянно сменяющие друг
друга в истории церковной музыки отлучения и
признания, запрещения и допущения, проклятия на словах
и, казалось бы, совсем непонятная терпимость к
попыткам ввести в притворы храмов светское песенное и
даже инструментальное начало, правда, «через
боковую дверь». Спрашивается, что же толкало самих
музыкантов к церкви и ее культу?
Во-первых, здесь действовала сила многовековой
традиции, воспитания религиозного мировоззрения,
нравственности, богословской эстетики, долгими
столетиями сохранявших значимость освященных якобы
самим провидением, непререкаемых и нерушимых догм.
Церковь знала, что делала, когда готовила себе
певчих, регентов, композиторов-профессионалов в
монастырях, обителях, аббатствах, духовных школах и
приютах. С детских лет они получали там религиозное
воспитание и образование. Правда, далеко не все, но
большинство приходило к искусству этим путем. Даже
в наше время, при огромном прогрессе науки,
материалистической философии, освободительных движений,
мы встречаем еще среди выдающихся музыкантов
убежденных религиозных мыслителей, в значительной
мере посвятивших свое творчество церкви: Альбера
2 К. Розеншильд
33
Швейцера, Оливье Мессиана и других. Это большие
художники, искренне преданные своему искусству, но
ограниченные, порою ослепленные ложным
миросозерцанием.
Во-вторых, музыкантов принуждали. Церковь
была,—а в наше время во многих капиталистических
странах—Италии, Испании, Португалии, ФРГ и
других— остается организацией властной и чрезвычайно
активно, в своих интересах, воздействующей на
деятельность светских властей. На западе Европы судьбы
музыкантов-профессионалов находились всецело в
руках папства и местных епископатов. От средневековья
сохранились многочисленные произведения:
фресковая живопись, мозаика, миниатюры, восхваляющие
самых порочных среди «непогрешимых» римских пап,
самых жестоких и коварных византийских
императоров К В первой половине XIII века, в разгар
еретических движений, католическая церковь принимала
драконовские меры против «лжетолкований» библии.
В 1231 году папа Григорий IX воспретил чтение
священного писания лицам, не имевшим церковного
звания. Это было чисто диктаторским шагом папской
власти. Прошло три столетия, и сам гениальный
Рафаэль украсил Ватикан фрескою, запечатлевшей это
папское деяние! Как мог поступить подобным образом
один из величайших живописцев мира, поборник
гуманизма и художественной правды? Он не
принадлежал к церковному клиру, но работал на заказ и не
осмелился ослушаться всесильного заказчика. Даже
такой вольнолюбивый и гордый художник, как Ми-
келанджело Буонароти, не смог противостоять
притязаниям пап Юлия II, Льва X, Климента VII,
бесстыдно требовавших от великого ваятеля и живописца,
чтобы он искусством своим восхвалял их «деяния».
Такова была и участь музыкантов. Вспомним, что у
нас в России М. И. Глинка, композитор глубоко
мирской по своей натуре, взялся за обучение церковных
певчих придворного хора и за обработку молитвен-
1 Император византийский был главою восточноримской
церкви.
34
ных напевов не без давления со стороны
царя-деспота Николая I. Итак, церковь и государственная власть
принуждали, а те, кто осмеливался ослушаться,
подвергались в наказание «вечной муке», конечно, не в
загробной жизни, но на грешной земле,
В-третьих, в мире, разделенном на богатых и
бедных, музыканты в огромном большинстве
принадлежат к слоям общества, пребывающим в бедности,
они нередко жестоко нуждаются. Сколько
блистательных дарований погибло в расцвете сил и
мастерства от голода и лишений! Назовем хотя бы Персел-
ла, Моцарта, Шуберта, Бетховена... Но церкви
богаты, очень богаты. И с незапамятных времен они
скупали и скупают себе таланты и творимую ими
музыку. «И музы дань свою мне принесут»!
Таковы действительные, а не мнимые",
измышленные богословами, причины, породившие религиозную
музыку — это странное сожительство тьмы и света,
идеологии «умерщвления плоти» и искусства,
которое, наперекор этой идеологии, веками в прекрасных
мелодиях воспевало человека и его надежды на
счастливую и светлую земную жизнь. Перед нами —
огромная, разветвленная и застарелая система
эксплуатации художественного творчества на службе у
реакционно-клерикальных сил. Она паразитирует на
теле музыкальной культуры, омертвляет многие
плодоносные ее ветви, препятствует ее движению
вперед, ее художественному обогащению, ее служению
реальным духовным интересам человечества.
* * *
Итак, каков же оказался исторический и
эстетический результат? На первый, поверхностный взгляд,
он может представиться сложным и неясным. Ведь
для церковных богослужений и концертов написано
много прекрасной музыки. Бах и Гендель, Бетховен и
Берлиоз, Чайковский и Рахманинов не раз
обращались к религиозным сюжетам. Из монастырских стен
и церковных хоров вышло ^немало превосходных
музыкантов. Наша задача заключается отнюдь не в том,
чтобы обойти эти факты, но в том, чтобы дать им вер-
2*
35
ное научное объяснение. Свою оценку подобным
явлениям дают и служители культа. Они любят
похваляться тем, будто церкви прежде и больше всего
обязано человечество созданием сокровищ
музыкального искусства, будто «животворящая сила» религии,
веры в бога составляет источник вдохновения,
мудрости и трудолюбия гениев мировой музыки.
Церковь, особенно католическая, православная, армяно-
грегорианская, везде и всегда нескромно рекламирует
свое покровительство музыкальному творчеству и
его деятелям. История музыки свидетельствует о том,
что некоторые из великих артистов и в самом деле
были религиозны, а среди высокопоставленного
духовенства встречались и меценаты. Тем не менее «тео
рия» религии — всеобщей вдохновительницы
музыкантов и церкви-благодетельницы их —
представляет огромную историческую неправду.
Деятели православного духовенства в СССР
нередко указывают на исторический пример русской
музыки, издревле взращенной будто бы на религиозно-
культовой почве. Старинные церковные роспевы они
называют «совершенным зеркалом души всей
древней православной Руси» К Но послушаем самих
музыкантов. Вот что заявлял по этому вопросу, например,
С. В. Рахманинов, знаток и любитель знаменного рос-
пева, сам написавший монументальные культовые
произведения — «Литургию Иоанна Златоуста» и
«Всенощное бдение», высоко ценимые во многих
религиозных кругах. Его суждения поразительны:
«Создалось впечатление, будто русская церковь
оказала глубокое влияние на русскую музыку. Это не
совсем верно. Церковные композиторы сами обраща1
лись к сборникам старинных мелодий. *Я считаю, что
в целом в отношении нашей музыки влияние церкви
преувеличено» 2.
1 Протоиерей Н. Трубецкой. Русское православное цер-
ковно-богослужебное пение (краткий исторический очерк
происхождения и развития). «Журнал Московской патриархии»,
1959. № 10, стр. 76.
2 Цнт. по сборнику «Советская музыка». М., Музгиз, 1945,
стр. 55.
36
Такова оценка С. Рахманинова. Заметьте, что это
говорит не А. Страхов, не Н. Казанский, даже не
отец Дим. Аллеманов, а один из величайших
мастеров русской и мировой музыки. К его голосу нельзя
не прислушаться. И по существу он глубоко прав.
Влияние религии и церкви на музыку преувеличено.
Эти слова имеют широко обобщающее значение; они
с полным основанием могут быть отнесены к музыке,
церковным учреждениям и организациям других
стран — как на восток, так и на запад от России.
Клерикально настроенные историки, рассуждая о
«религиозной музыке», о ее популярности в народе и
высоком нравственном строе, обычно причисляют к
ней песни, гимны и другие произведения, так или
иначе связанные с религиозными движениями и
представлениями людей. При этом обычно оставляются в
тени социальная природа этих движений, характер
этих связей. Между тем, именно здесь находится
центр вопроса: музыка может быть связана с
религией и церковью; но это вовсе не означает еще,
будто именно религия и церковь породили ее и
вызвали к жизни ее красоту. Обратимся к фактам.
Гуситское и таборитское движение в Чехии XV
столетия, анабаптистское движение в Германии XVI—XVII
веков создали множество прекрасных песен и гимнов,
благотворно повлиявших на последующее развитие
музыкального искусства этих стран. Движения эти,
направленные против господствующей церкви,
связаны были с религиозными представлениями своего
времени, их участники и вожаки верили в бытие бо-
жие, в загробную жизнь. Но не в ложных, иллюзоп-
ных взглядах коренилось то плодоносное и
вдохновляющее, что испытала на себе музыка от этих
движений. Ведь господствовавшая католическая церковь
также исповедовала религиозное вероучение, «чаяэтл
воскресение мертвых и жизнь будущего века». Но
в ту пору она не создала и не могла создать песен
и гимнов, которые вошли бы в жизнь народа, окрыли
ли бы его мысли и чувства. Наоборот, источник
популярности еретических течений заключался как раз
в том, что противопоставляло их католицизму — глав-
37
ной опоре феодального строя в массах. Ереси
расшатывали устои феодализма — в этом была их сила, и
пафос борьбы выразился в их песнях.
Внешне речь шла будто о том, как совершать
обряды крещения или причащения (под одним либо
под обоими видами), или согласуются ли
индульгенции с учением Христа, изгнавшего торгашей и менял
из храма господня, и т. п. По существу же
требования уравнять причастный обряд для мирян и
духовенства или ликвидировать торговлю, оптовую и
розничную, отпущением грехов означали конец
привилегиям, стяжательству, фиску и террористическому
всевластию духовенства. В этом наступлении на
церковь и ее князей отразилась накипевшая ненависть
масс к феодальному строю, его застарелой и
уродливой сословной организации, его кровавому произвол\*
и вопиющему социальному неравенству. Но, как
проницательно указывал Фридрих Энгельс, в то время
«чувства масс вскормлены были исключительно
религиозной пищей», и «потому, чтобы вызвать бурное
движение, необходимо было собственные интересы
^>тих масс представлять им в религиозной одежде».
По той же причине не только оппозиционные, но и
революционные песни и гимны протеста, например у
Яна Гуса в Чехии или Томаса Мюнцера в Германии,
также облекались в религиозные ризы. В этом
облачении они получали широчайший резонанс, сплачивая
и поднимая людей на борьбу во имя их жизненно
насущных интересов и идеалов. Характерно, что
знаменитый протестантский хорал «Оплот надежный — наш
господь!», сыгравший в Германии, по выражению
Фридриха Энгельса и Генриха Гейне, роль
«Марсельезы XVI столетия», заканчивался словами: «Настанет
наше царство!» («Das Reich muss uns doch bleiben!»).
Право же, сомнительно, чтобы пафос этого хорала,
когда он гремел на устах немецких крестьян,
штурмовавших княжеские замки, вдохновлялся мечтою...
об отмене индульгенций! Так бывало не раз и в
борьбе народов за национальную независимость. Когда з
Грюнвальдской битве 1410 года воины-поляки об руку
с русскими, чешскими и литовскими братьями громили
38
немецких рыцарей, над полем брани звучал древний
религиозный гимн поляков «Богородица». Вероятно,
они в большинстве своем и в самом деле были
религиозны, а песня поднимала их воинский дух. Какие
мысли и чувства вызывала она у бойцов? Неужели
один лишь релшиозный экстаз? Неужели только за
пресвятую деву бились они с немецкими
захватчиками? Нет, они сражались за родину, за свою
исконно славянскую землю, за жен, детей и
национальную честь', а песня-гимн была тогда осенена
патриотическим пафосом этой борьбы. Следовательно,
религиозные мотивы не только сплетались здесь с
мирскими, но светили отраженным светом последних.
«Религиозные одежды» на земных — этических,
социальных идеалах можем мы наблюдать еще кое-где и в
современной жизни угнетенных народов, которые
жаждут свободы и независимости, но все еще не
совлекли с себя «ветхого Адама» религиозных традиций
и представлений. Таковы духовные гимны бесправных
и утесненных негров в Соединенных Штатах
Америки — так называемые spirituals. В словах этих песен
встают перед нами потускневшие от времени образы
библейских легенд, их святые, пророки и сам Христос,
Есть среди spirituals такие, которые выражают
настроение людей, все еще не преодолевших
забитости и кроткой мечтательности, склонных к
непротивлению эксплуататорам и христианскому
всепрощению.
Но не эти песни всего более любимы массами.
Особенно любимы те, чьи чудесные протяжные
напевы, 'исполненные то беспредельной горести, то опокой-
ного и светлого величия, то мрачного пафоса гнева
и мести, взывают к совести и национальному
достоинству народа; в них звучит страстная ненависть к
угнетателям и слышатся неистребимые притязания на
иную, лучшую жизнь. Оживляя наивные религиозные
сюжеты, они сообщают им новый, сокровенный
социальный смысл. Недаром поется в одном из spirituals,
как ветхозаветный пророк-освободитель Моисей,
явившись к египетскому фараону, требует свободы
своему народу и угрожает неправедному царю:
39
Велел господь подняться нам.
Народ мой отпусти! ■*
А нет, — так смерть твоим сынам!
Народ мой отпусти!
Популярность этого гимна, особенно на юге США,
огромна. Ее секрет не в набожности негров, хотя
многие из них все еще во власти религиозных
представлений. Он заключается в том мотиве социального
протеста, грядущей расправы с угнетателями и
освобождения народа, который составляет жизненный
нерв песни. А таких песен много.
Вот почему, если мы хотим оставаться на почве
науки и не отдаваться во власть сомнительных
«обобщений» религиозных толкователей и проповедников,
мы должны отчетливо различать музыку, по
происхождению и содержанию своему чисто религиозную,
и музыку, которая, хотя и связана в той или иной
мере с религиозными представлениями, однако вспоена,
в последнем счете, совсем другими соками и спаяна
с реальными, мирскими, общественными и личными
интересами людей.
Сказанное относится и к тем творениям
высокопрофессионального искусства, на которые так охотно
ссылаются богословы и религиозные эстетики, чтобы
приукрасить и возвеличить религию —
«вдохновительницу» музыкальных гениев: к «Страстям», «Магни-
.фикату», «Высокой мессе» И. С. Баха, к
«Торжественной мессе» Бетховена и многому другому.
Вслушаемся в их звучание, вникнем, вдумаемся в образно-
выразительный смысл-
Прекрасная величальная композиция «Магнифи-
кат» написана Бахом на слова молитвы-песнопения,
с которой, по евангельскому преданию (Луки, 1, 36;
1, 39; 1, 46—55), явилась к праведной Елизавете дева
Мария тотчас после благовещения с вестью о
предстоящем ей материнстве. Сыграли ли роль в
выборе этого сюжета религиозность Баха, окружавшей
среды и его общественное положение церковного
музыканта? Вероятно, сыграли. Однако музыка,
рисующая могучий образ народного праздника, полная
изящества, света и радости земного бытия, неопровержи-
40
мо свидетельствует о том, что баховский дифирамб
пропет не всевышнему («Величит душа моя господа,
и возрадовался дух мой о боге, спасителе моем»),
но «человеку, только человеку». Красота материнской
радости прославлена у Баха на манер, очень далекий
от мистической экзальтации. Она близка трактовке
этого сюжета (встреча Марии и Елизаветы) у великих
живописцев Возрождения — в духе народной поэзии,
со свойственными ей мотивами
реалистически-бытового плана. Как бы ни были далеки от исторической и
философской истины образы религиозных сказаний, в
известных условиях реальные обстоятельства
народной жизни и чаяния масс могут сообщить им
совершенно новый эстетический смысл. На протяжении
веков христианские, буддийские и иные легенды, наряд
с представлениями вздорными, невежественными,
варварски-дикими, впитали в себя и другие, эстетически
плодоносные элементы. Это — образы, рожденные
художественным воображением народа, порою
несущие в себе многое от народной мудрости и творческого
гения. Недаром писал В. Г. Белинский, что в «грезах
народной фантазии сказываются идеалы народа,
которые могут служить мерой его духа и достоинств».
Это знали великие мастера музыки, для которых
превыше религиозных мотивов были веления
художественной правды и красоты. Сказалось это и в
глубоко народном баховском «Магнификате». Земное,
светское по образному строю и тону величание
женщины-матери, прославление человеческой жизни, ее
красоты, радостей и высокого нравственного
смысла — все это объективно устремлено было против
безрадостного и унижающего человеческое
достоинство религиозно-мистического миросозерцания.
Точно так же в знаменитых баховских «Страстях»
на евангельские мотивы музыкально-драматические
вершины сосредоточены прежде всего на тех
моментах христианской легенды, куда народная фантазия
и великие художники-профессионалы прежних
поколений привнесли больше всего смысловых
толкований и приемов, характерных для поэтического
обобщения реальных жизненных положений. Это образы
41
шествия на казнь, Иудина предательства, тайной
вечери («Не я ли, господи?»), огречения и раскаяния
Петра, неправедного суда первосвященников,
коварного правителя Понтия Пилата, умывающего руки
перед народом. Своею дивной, глубоко человечной и
искренней музыкой Бах лишь продолжал эту линию
«обмирщения» религиозных сюжетов — линию,
проходящую через все искусство эпохи Возрождения.
Спрашивается: почему же, воспользовавшись
мотивом «страданий Христовых», лейпцигский мастер,
при несомненно свойственной ему религиозности, воз
высился до художественной правды в воплощении
этих образов, заимствованных из области никогда не
бывшего? Потому, что его художнический гений
протянул нити от знакомой всем и каждому древней
легенды к реальной жизни своего времени и эстетически
совершенно выразил это в музыке. Мученик за ппап-
ду, распинаемый на кресте; неправедный суд,
отступничество — разве этого не было в темном царстве
тогдашней немецкой действительности, омраченной
княжеским произволом, казнями ведьм, косностью и
пороком? Еще далее пошел Бах в «Высокой мессе».
Грандиозные масштабы этой «службы», введение в
культовую музыку оркестра с его чисто светским,
жизнерадостно-красочным звучанием, мощные хоры
народного склада, некоторые в ритмах почти
вакхического пляса; сочная, упоенная жизнью мелодия
сольных номеров; явная эмансипация музыки от
латинского текста, мертвящего и отвлеченного, — все
говорило о ломке окостеневших церковных форм и
традиций. Ни «отрешенности», ни «смирения». Лишь
церковникам могла внушить «страх и трепет» эта
музыка. Потому церковники и боялись ее, скрывая от
народных масс. Не всегда Бах достигал этого, ибо
религиозные представления и идеи временами
неизбежно сковывали его, как художника. Но в лучших
своих произведениях он именно таков. Тем более
таковы мастера, менее религиозные и реже
обращавшиеся к культовым жанрам. В 1872 году П. И.
Чайковский с необыкновенной проницательностью писал
о мессах Бетховена: «В них литургический текст есть
42
не более, как предлог для могучих лирических
излияний этого чисто субъективного гения» 1.
Наконец, далеко не всегда и не все написанное
религиозно мыслящим композитором, даже под
воздействием самых «благочестивых» настроений и
чувств, в конечном итоге звучит для слушателя так,
как того хочет и требует религия. Мы встречаемся
здесь с удивительной особенностью психологии
художественного творчества. Миросозерцание художника,
его взгляДы выражены прежде всего в его
произведениях. И если в философии, морали, в политике он
заблуждается, — эти заблуждения так или иначе
отрицательно отразятся и в его созданиях. Эту бесспорную
общую истину нельзя, однако, понимать схематично и
упрощенно. В различных обстоятельствах,
жизненных положениях, наконец, в зависимости, от
психологического склада, темперамента и интеллекта
композитора, те представления и настроения, какие он
переживает в момент творчества, могут в одних
случаях полно и ясно отразиться в произведении, в
других — только в некотором приближении и в
общих чертах преломиться в нем; смутно и частично
отозваться в его образном строе.
Замысел произведения и его реализация всегда
едины, но они не тождественны друг другу. Реальное
воплощение может более или менее отклониться от
замысла, и не всегда художник в живом процессе
творчества ясно и отчетливо сознает это отклонение.
Бывает, что самый замысел несет в себе
противоречия, связанные с миросозерцанием художника, и
именно творческий акт разрешает эти противоречия,
Замысел истинный, цельный и высокий — это всегда
могучая сила, направляющая разум, чувство и волю
музыканта. Но если это подлинно великий художник,
он сможет порою подняться в творчестве и выше
своих заблуждений, превратных взглядов. В искусстве
художественная правда и высшая красота неразрыв- *
ны между собою.
1 «П. И. Чайковский о программной музыке». М.-Л., 1952,
43
Гениальный мастер итальянского Возрождения
Палестрина, без сомнения, находился под
впечатлением религиозных представлений и настроений, когда
писал культовую музыку, составлявшую самую
обширную и главную область его творчества. Однако
связанное с песенно-демократической традицией
стремление воссоздать сильные и чистые человеческие
чувства — горя и радости, порыва и покоя,
негодования и умиления — было, видимо, настолько
непреоборимо у него, что образы его «ламентаций», мотетов,
месс и, с другой стороны, светских мадригалов на
любовно-лирические тексты порою уже трудно
различимы между собою! Они полны жизни, света и
чарующей красоты.
Ни Палестрина, ни музыка вообще не составляют
в этом смысле исключения. Таково же дивное
искусство Микеланджело Буонароти, Альбрехта Дюрера,
Андрея Рублева и других живописцев эпохи
Возрождения. В работе «Смысл и язык икон» современный
русский богослов проф. Л. Успенский пишет о
«чарующем ритме и музыке линий», какие свойственны
рублевской живописи1. Но повсюду видит он в ней
руку смиренного инока и духовидца. Этот взгляд
типичен для русской православной церкви. В связи с
600-летием со дня рождения художника тот же
«Журнал Московской патриархии» опубликовал
обстоятельную статью, где Рублев — создатель «Святой
Троицы» — характеризуется как величайший мастер
чисто религиозного искусства, как «молитвенный
созерцатель божественных тайн» 2. Характеристика эта
сразу же изобличает крайнюю однобокость и узкую
тенденциозность церковной эстетики. Религиозностью
гениального живописца русского Ренессанса Л.
Успенский совершенно заслоняет прекрасный гуманизм
рублевского творчества, его могучие
жизненно-правдивые мотивы. Реакционно-клерикальная
интерпретация обходит, либо прямо отрицает главное у мастеров
Возрождения. Они писали ангелов и святых, картины
1 «Журнал Московской патриархии», 1955, № 7, стр. 54—55.
2 «Журнал Московской патриархии», I960, № 7, стр. 35.
44
сотворения мира или страшного суда, а воспевали
земной мир, красоту и разум человека. Фридрих
Энгельс и Владимир Ильич Ленин в глубочайших
анализах произведений мировой литературы — О.
Бальзака, Л. Толстого — показали, как гений художника
помогает ему порою преодолевать слабости и изъяны
своего миросозерцания. Как часто бывало это и с
религиозными музыкантами!
К тому же, независимо от воли и стремлений
композитора, художественный результат его творчества,
подверженный действию исторического развития,
неизбежно изменяется с течением времени. При оценке
произведений, их общественного резонанса, нельзя не
учитывать могущественную способность музыки,
переживая века, не только сохранять красоту
авторского замысла и решения, но пластически • поддаваться
новым интерпретациям, раздвигать рамки образного
содержания и выразительно резонировать мыслям,
чувствам и настроениям аудиторий, каких не было и
не могло быть в те эпохи. Мы слушаем духовные
кантаты Баха, оратории Генделя, Реквием Моцарта, и
они не пробуждают в нас тех религиозных
представлений или настроений, на какие, казалось бы, наводят
словесные тексты, и какие, весьма вероятно,
овладевали в подобные минуты многими людьми прошлых
веков. Происходит обратное: у нас эта музыка, так
давно написанная, вызывает ассоциации и
переживания, вполне созвучные нравам, жизненному укладу,
чувствам и страстям нашего времени. Религиозные
химеры легко отслаиваются и отпадают. А жизненно
правдивое, человечное, прекрасное живет, радует и
обогащает наш разум и чувство. В классическом
наследии прошлого, наследии, которое призвано
способствовать расцвету культуры социалистического
и коммунистического общества, есть немало
произведений, когда-то связанных с религией, церковными
культами по жанру и сюжету, иногда по стилю. Но
в иную эпоху, в иных условиях 'и для иных, новых
людей они звучат по-новому и раскрывают такие
стороны и устремления, какие ранее лишь
потенциально таились в глубине.
45
Коммунистическая партия и Советское
государство, стоя на страже духовных интересов и здоровых
художественных вкусов нашего народа, не только не
порицают публичное исполнение таких произведений,
но, наоборот, «поощряют его. Когда-то любимые
Карлом Марксом «Страсти по Матфею» Баха не более
религиозны для нас, чем «Сикстинская мадонна»
Рафаэля или «Динарий Кесаря» Тициана. Поэтические
фигуры библейских легенд порою не более, как дань
времени, исторической традиции или форма явления,
облекающая глубоко жизненные образы (Бах) и даже
революционные идеи (Гендель).
Так мы неизбежно приходим к выводу, что
богословы и религиозные музыканты безосновательно
присваивают церкви и ее миросозерцанию роль
всеобъемлющих и высших факторов музыкального
прогресса. Еще и еще раз прав был С. Рахманинов:
роль церкви в истории музыки преувеличена и,
добавим от себя, преувеличена безмерно.
* * *
Нам уже известно, что, по учению церкви, «слово
божие» безраздельно господствует в религиозном
культе; пение же, музыка — лишь смиренная
служанка его, «проводница» в грешные души мирян его
сокровенного смысла. «Пение есть наше служение
богу». В нем поющие «выражают учение церкви и от
лица церкви воссылают богу молитвы и
благоговейные чувства» 1. Потому, как писал когда-то Н.
Казанский, «дух высокого отрешения от мира и возвышения
над всем ничтожным, земным широкой волною льется
в душу слушающего величавые напевы древних
монастырей» 2.
Да, было время, когда русские и грузинские,
армянские и итальянские, греческие и французские
монастыри и церкви славились хоровым пением, ното-
1 Протоиерей Н'. По н о м а р е в. О церковном пении. «Жу;
нал Московской патриархии», 1955, № 11, стр. 12.
2 См. книгу, цитированную выше, стр. 5.
46
писью, теоретическими изысканиями, и туда тянулись
многие музыкально одаренные люди. Но идеология
самоуничижения, отрешения от земного неизбежно
делала свое дело. Религиозные идеи и догмы: бытие бо-
жие, троичность в лицах, сотворение мира и т. п. —
не только всегда и прежде всего были ложны, но и
всегда оставались абстрактными. Они мертвили и
мертвят душу человеческую и ее создания —
произведения искусства. Ложь и мертвечина не могут
питать собою истину и красоту. Что же касается чувств,
то читатель и сам, возможно, подмечал не раз, что
религиозное созерцание приводит верующего чаще
всего в три возможных состояния. В одних случаях
это мистическая «отрешенность», о которой так
пекутся, например, православная церковь ,или
буддийская религия (идеал «нирваны»). Порою это бурно-
исступленно протекающий экстаз (по преданию,
именно этим грешил «мастер острого стиля» св. Иерофей
Афинский; ныне религиозное неистовство сохранилось
во многих сектантских культах). Зачастую
приходится наблюдать и слезливо-непротивленческую
«умиленность», которую отцы церкви всегда
пропагандировали особенно рьяно — от Коптского
патриарха XI века Христодула и до Филарета Московского;
от средневекового епископа Амзросия Медиоланского
и до папских посланий XX столетия.
Что дают музыке эстетически эти религиозные
состояния? Первое сковывает, эмоционально
обесцвечивает ее. Второе лишает внутренней
стройности, гармонии, благородства. Третье приводит к
слащавой чувствительности, принижает образно-
мыслительное начало. В общем итоге церковь
выигрывает; умаленной оказывается музыкальная
красота. И это закономерно. Чего же еще могло ожидать
искусство от организации и идеологии, которые,
овладев музыкою, открыто поставили ей ограничительным
принципом антиартистизм? Другое дело, что мотивы
тактические, экономические, пропагандистские, а
нередко и сопротивление музыкантов иЛи самих
прихожан вынуждали церковь поступаться этим правилом.
Но принципиально она оставалась верна «заветам»
47
Иеронима, Августина и Аввы Памвы. И если
культовое пение в самом деле достигало высокого
художественного совершенства, а церкви и монастыри в
некоторые исторические периоды становились
очагами музыкального профессионализма, то происходило
это не благодаря идеологической природе религии,
но несмотря на ее природу и вопреки ей. Религиозные
идеи всегда так или иначе ограничивали и обедняли
музыку и музыкантов, отдаляя их от истины, от
жизни. Великие же артисты, верующие в бога и
загробную жизнь, поднимались и ныне поднимаются на
вершины творчества, побуждаемые совсем другими
жизненными и гуманистическими сторонами своей
художнической природы.
Религия — мировоззрение по существу своему
безрадостное, автократическое и исполненное
глубочайшего эгоизма. «Целью христианской жизни
является спасение души» (Иеромонах Иоанн Котля-
ревский) К И на протяжении веков, даже
тысячелетий, повсюду на Западе и на Востоке религия и ее
организация — церковь — властно стремились не
только порабощать музыку, но и переосмысливать,
перетолковывать ее по своему образу и подобию.
Задолго до того, как в Передней Азии и на Севере
Африки ислам канонизировал мелодически обедненную,
уныло-монотонную речитацию мотивов — отрывков
Корана, христианская церковь выработала свою
музыкальную эстетику и возвела ее во всеобщую норму,
огнем и мечом утверждая на огромных землях
западных и восточных епархий. Еще Климент
Александрийский (III век н. э.) определил ее цель как «обуздание
дерзости». Яркий и сочный мелодизм по
художественно-выразительной природе своей обращен к жизни,
полон человечности. Он неизбежно возмущает
«отрешенное созерцание божественных сущностей».
Потому «мелодии мы должны выбирать проникнутые
бесстрастностью и целомудрием». Правда,
богослужебная музыка впитала множество прекрасных народных
напевов, а среди религиозных музыкантов христиан-
1 «Журнал Московской патриархии», 1961, № 12, стр. 45.
49
ского мира были выдающиеся мелодисты: Иоанн Да-
маскин, Иоанн Кукузель, Палестрина, Аллегри, Мора-
лес и другие. Но церковь, хотя и вынужденная, по
совету Василия Великого, идти на компромисс с
музыкальной красотой, почти всегда косо смотрела на
вдохновенные цветения лирического мелоса, как
возмущающие благочестивое настроение и затемняющие
«слово божие». Церковь создала целую систему
богословских догм и схоластических правил, и они
превратились в мертвящую силу, обезличивавшую
напевы, выравнивавшую их по единому «вселенскому»
образцу. Но живое искусство не терпит нивелировки,
тем более консервативной, косной, коренящейся в
застарелых суевериях и предрассудках. Народные
мелодии ограничивались, преследовались,
изгонялись, и католическая церковь в разгар
контрреформации XVI века законодательно закрепила это
изгнание на своем Тридентском соборе. Мажорный
(ионийский) и минорный (эолийский) лады
порицались тогда как «сладострастные». Четные размеры
провозглашены были «несовершенными» (imperfecta),
ибо противоречили принципу троичности ипостасей
божества. Многоголосие веками находилось под
папским запретом. Православная церковь также
неодобрительно относилась к нему («партесному пению») и
сохранила эту неприязнь по сей день. Наперекор
драгоценной традиции русской народной песенности
правящие круги православия веками отстаивали и
отстаивают преимущество и даже исключительность
одноголосного хорового пения в унисон. Недаром при
царизме Святейший синод издавал собрания
церковных мелодий («Обиходы», «Ирмологионы») лишь в
одноголосном изложении, без хоровых партитур.
Женские голоса в церковные хоры долгими веками но
допускались, как несущие греховный соблазн
молящимся (сейчас положение изменилось, о чем речь
будет ниже). Усилиями католической церкви
бесстрастно размеренный склад некоторых песнопений, так
называемый cantus planus (пение равными
длительностями), хотя и хранил удивительно красивые порою
очертания звуковысотной структуры мелодии, однако
49
был превращен в догматически применявшийся прием
полнейшей ритмической нивелировки напевов;
застывая, они теряли свежесть экспрессии, человеческую
теплоту. Cantus planus сохранился до нашего времени и
не раз вызывал протест у жизнелюбивых художников-
гуманистов. В 1909 году Александр Блок, посетив
Флоренцию, слушал там церковное пение. Оно
удручающе подействовало на него, и он написал
язвительно и возмущенно:
Гнусавой мессы стон протяжный
И трупный запах роз в церквах,
Весь груз тоски многоэтажной,
Сгинь в очистительных веках!
Всякая хроматическая расцветка мелоса
находилась под многовековым запретом. И тут церковные
круги ссылались, ничтоже сумняшеся, на Иоанна
Златоуста, Климента и Афанасия Александрийского,
Василия Великого и другие авторитеты ранней
христианской церкви. «Нужно предоставить хроматические
гармонии бесстыдным попойкам и музыке гетер с
гирляндами цветов»1. В наше время католицизм в его
отношении к ладам и наклонениям стал менее
разборчивым и непримиримым, однако современное
православие продолжает придерживаться этой поистине
дикой и невежественной догмы, всячески превознося
ее. Сошлемся хотя бы на работу протоиерея Н.
Трубецкого «Русское православное церковно-богослу-
жебиоЬ пение» (1959) 2. Наконец, суетной и греховной
издавна почиталась всякая инструментальная музыка.
Ссылаясь на суждения мученика Иустина и других
«святых», церковный клир строго руководствовался
правилом: «Один орган употребляем — слово:
словом, а не древней псалтырью3, трубою, тимпаном и
флейтою чтим бога»4. Как известно, русская,
болгарская, сербская, греческая, армянская церкви до сих
1 Климент Александрийский. Педагог. II, 4.
2 «Журнал Московской патриархии», 1959, № 10, стр. 65—66.
3 Псалтериум — многострунный инструмент восточного
происхождения.
4 Из книги Иустина «Певец».
SO
пор придерживаются этого запрета. Что касается
церкви западной, то там Иустинов завет формально
сохранял силу вплоть до XVI века, фактически же орган
получил широкое применение в богослужении
целыми девятью столетиями раньше. До сего времени
инструменты не применяются римской церковью в
Сикстинской капелле, во время папского богослужения,
а также в великопостные дни. Лютеранская же
церковь, оппозиционная католицизму, приняла орган в
самом начале своего существования.
Неприязнь и крутые меры многих церквей по
отношению к инструментальной музыке, конечно,
составляют их частное дело, и в них, право, не было бы
большой беды, если б они не препятствовали
свободному творчеству композиторов, связанных с церковью,
подчиненных ей, либо экономически вынужденных
работать по ее заказам. Характерно, что там, где
церковь вынуждена была снимать свои препоны,
например в Венецианской республике, в Польше, в
Нидерландах, — там даже в рамках церковных жанров
были достигнуты разительные успехи в области
динамики звучания и тембрового колорита,
невозможные для самых совершенных итальянских, испанских
или восточноевропейских школ чистого а сарреП'ного
стиля.
Все эти эстетические и стилистические нормы
образовали некую систему заграждений, до последней
степени консервативную и закостенелую. И музыка
не могла не пострадать от ее воздействия. Многие ее
красоты сохранились. Но нередко можем мы
наблюдать, как, подчиняясь духу безжизненного ритуала
и молитвенного текста, она тускнеет и теряет прелесть
задушевного человеческого высказывания. Эпоха
Возрождения, с ее гуманизмом, страстным
стремлением к художественной правде, воспеванием земной
красоты, подорвала устои безрадостного
теологического миросозерцания. Музыка на широком фронте
эмансипировалась от всевластия церкви. Культовые
жанры, молитвенные тексты остались, но они
приобретали теперь новую образность, экспрессию,
нравственно-эстетический, философский смысл. Самый
51
могучий, неугомонный и реалистический
музыкальный гений Ренессанса Орландо Лассо, этот Микел-
анджело музыкального искусства, дерзновенно совлек
с себя ветхого Адама религиозной эстетики, сокрушил
ее догмы и даже в духовно-песенных жанрах —
мессах, Магнификатах ], псалмах утвердил, по
существу, светский, сочный и жизнерадостно-яркий стиль.
Лассо не был одинок в своих стремлениях, и позже
мы еще вернемся к этим отважным, подлинно
новаторским течениям Ренессанса. Но не всякому дано
было подняться тогда к вершинам реализма,
свободомыслия и полнокровно воплотить их в образах
музыки. И в эпоху Возрождения даже гении искусства,
отдавая дань церковно-религиозной эстетике, впадали
порою в мелодическое самоограничение. В поисках
стиля и склада, наиболее проясняющего слова
молитвенных песнопений, такие мастера, как Аллегри,
Виктория, даже великий Палестрина, иногда
аскетически обуздывали себя в мелодии. Тогда чувственная
прелесть уже не возмущала благочестивого строя
молитвы, и красочный отблеск бурной жизни не
слишком ярко, по крайней мере, играл на ней...
Влияние этих побуждений довольно широко
отразилось в хоровой музыке строгого стиля, особенно
в монументальных жанрах богослужебного
назначения. Иное дело, что музыканты этого стиля часто не
только выходили из-под контроля церкви, ее
эстетики, но даже самые ограничения, им поставленные,
превращали порою в источник новых красот. Но то,
что церковь по-своему, религиозно-эстетически
трактовала строгое « письмо с его старинными
диатоническими ладами, «тематически растворенным мелосом»
и по преимуществу покойным, непрерывным,
развертыванием, так часто бесстрастным и невозмутимым,
что она связывала с этим нормативом далеко идущие
этические цели и «идеалы», — это не могло остаться
без последствий для музыки. Вот что писал об этом,
например, Дим. Аллеманов:
1 См. стр. 40—41.
52
«Контрапункт строгого стиля, доведенный Пале-
стриной (XVI в.) до высшей степени совершенства,
и теперь признается наиболее соответственным духу
христианского богослужения и вообще приличным
церкви. Действительно, хотя не лишенный
экспрессии, но экспрессии весьма тонкой, стиль этот
решительно непригоден для выражения бурных чувств
и быстро меняющихся неустойчивых настроений.
Поэтому музыка в контрапункте строгого стиля
отличается важным, спокойным характером, доходя
до ангельской бесстрастности; и уравновешенная,
проникнутая какой-то уверенностью и непоколебимой
надеждою, она вообще способна оказывать на душу
умиротворяющее действие, отрешать человека от
мятежной мирской жизни и вводить в предощущение
иного, высшего, гармоничного бытия К
Разумеется, суждение это весьма однобоко и
тенденциозно. Палестрина и Жоскин бесконечно
выше 'и прекраснее того, о чем пишет священник Д. Алле-
манов. Но стремления церкви, ее поползновения по
отношению к искусству, всегда догматически узкие и
категоричные, и в самом деле были таковы. Они
решительно шли вразрез с требованиями
художественного, умственного прогресса и всего общественного
развития. «Ангельская бесстрастность», «отрешение от
мятежной земной жизни», «предощущение»
загробного бытия — что можно себе представить более
чуждого и противного светлым жизнеутверждающим
идеям Возрождения?
По поводу строгого стиля Дим. Аллеманов делает
одно ценное признание, и мы хотели бы также его
процитировать: «...как только искусство начинает,
помимо исполнения прямой своей службы для церкви,
стремиться к осуществлению собственных идеалов
или делает произведения свои более сложными по
мысли, форме и вообще технике, дабы достигнуть
большей художественности, вызывать высшее духов-
1 Свящ. Дим. Аллеманов. Курс истории русского
церковного пения, ч. I, стр. 98.
53
ное возбуждение и сильные и разнообразные
чувства, — словом, когда кажется, что искусство выходит
за церковную ограду, удаляется от народной массы,
когда оно становится в положение самостоятельного
фактора в развитии эмоций, церковь вооружается
против искусства, не принимая для себя многих его
завоеваний, опрощая его и снова становя в
положение одного из средств, при помощи которых она
совершает свое делание» {.
Итак, церковь вооружается против искусства,
выходящего за ограду, стремящегося к большей
художественности, чтобы выразить сильные и
разнообразные чувства! Но это признание переплетено с
совершенно ложною мыслью, затемняющей подлинную
картину. Когда искусство выходит за церковную
ограду, оно, как правило, не «удаляется от народной
массы», но, наоборот, сближается с ней! Именно это
особенно нестерпимо для церкви. Тогда она
вооружается против искусства и ставит его, по мере сил и
средств своих, на «должное» место. К тому же, автор
«Курса истории русского церковного пения» был
здесь далеко не до конца откровенен с читателями.
Иначе он не утаил бы от них, какие именно средства
были на вооружении у святой церкви против
непокорного искусства и какими способами она
обуздывала и «опрощала» его. Церковники не любят
приподнимать завесу над этими «деланиями» наместницы
божией на земле. И не мудрено. Иначе нашим взорам
откроется поистине страшная картина.
* * *
Едва успело христианство превратиться в
государственную религию Римской империи и основать в
Византии мощный центр своей церковной организации,
как его проклятия и репрессии обратились против
песен и гимнов народного склада (историк Филостергий
особо называет здесь песни корабельщиков, мельнич-
1 Свят. Дим. Аллеманов. Курс истории русского
церковного пения, ч. I, стр. 99—100.
54
ных рабочих, странствующей братии), которые
получили широкое распространение в еретических
движениях, потрясавших устои византийского
деспотизма. Дух фанатического недоброжелательства к
«еретическому» искусству коснулся даже видных
музыкантов-ортодоксов, особенно из принадлежавших к
черному духовенству1. «Чума растленная, сокрытая
под одеяниями музыкальной красоты!» — так
клеймил арианские народные напевы знаменитый
гимнист IV столетия, монах, преподобный Ефрем
Сирин.
Как известно, Византия славилась тогда своими
гимнами на весь культурный мир. Церковь и
государство широковещательно и расточительно
покровительствовали гимническому искусству. * Некоторые
византийские императоры — Лев Мудрый,
Константин Багрянородный, возможно, Юстиниан — слыли
гимнотворцами. Но у этого велеречивого и пышного
меценатства была своя, весьма неприглядная
оборотная сторона. Императорский двор, его церковные
службы гремели роскошными «эвфемиями»,
прославленные музыканты слагали вдохновенно-лиричные и
многосложные «каноны» и «кондаки» певучего и
цветистого склада. Между тем, создатели этих
песнопений зачастую влачили жалкое существование,
нищенствуя или с трудом зарабатывая себе на скудное
пропитание. Такова была, например, судьба гениального
болгарского музыканта XII столетия,
подвизавшегося в Византии, — Иоанна Кукузеля, автора
многих прекрасных гимнов и реформатора нотного
'письма.
В то время воинствующий византинизм стремился
подчинить себе славянские народы, обезличить и
поработить их культуры. Русским, болгарским
музыкантам, стремившимся через «византийский мост»
превратить сокровища славянского мелоса в достояние
Средней и Западной Европы, трудно приходилось в
Восточной Римской империи. Кукузеля в
Константинополе долго не признавали. Правда, посмертно он
Монашеству.
55
был причислен к лику святых, но при жизни, под
сенью восточной православной церкви, столь жестоко
нуждался, что 'прозвище его до сих пор горько
звучит обличением лицемерию «и скупости
церковного клира. Кукузель — значит питающийся
травою. ..
С инакомыслящими или просто строптивыми
музыкантами в Византии расправлялись с жестокостью,
которой могли бы позавидовать римские императоры
Каракалла или Нерон. Искуснейшая певица и
талантливая поэтесса Кассия была одною из первых
красавиц в стране. Император Феофил — глава
государства 'и грековосточной церкв-и — домогался
руки этой женщины, она ответила горделивым отказом.
Наказание было ужасно. Кассию сломили
нравственно, ее вынудили к монастырскому затворничеству, и
чудесное искусство ее, служившее народу и
заключавшее в себе смысл ее жизни, оказалось сокрытым
от ее страны. С другими музыкантами «наместники
божий на земле» обходились более круто. Тот же
Феофил, ополчившись на «студийскую» школу
гимнического пения, приказал поймать двух
знаменитейших певцов этой школы — Федора и Феофана — и
выжечь раскаленным железом у них на лицах
двенадцать ямбических стихов его собственного сочинения.
Таковы были некоторые «христианские благодеяния»,
оказанные музыкальному искусству грековосточной
церковью.
И западная церковь шла тем же путем.
Католичество бесчеловечно преследовало и травило
народных менестрелей, вагантов, жонглеров, хогларов,
шпильманов. Народные музыканты поставлены были
вне закона. Церковь поносила и гнала их, ибо
боялась их полнокровного, правдивого, а нередко и
дерзновенно-обличительного творчества. Их угнетали не
только при жизни, но и после смерти. Как носителям
искусства «бесовского», им не разрешали хоронить
на общих кладбищах своих мертвецов. Особенно
жестоко расправлялась церковь с теми народными
певцами, кто выступал во главе народных масс в
открытой борьбе против феодалов и реакционных цер-
56
ковников. Таков был, например, один из отважных
борцов немецкой крестьянской войны XVI столетия
Ганс Бегейм, прозванный Гансом Дударем.
Возглавивший многотысячную повстанческую армию в долине
Таубера, Ганс был предательски захвачен епископом
Рудольфом II, привезен в епископский замок в
Вюрцбурге и там сожжен заживо.
Церковники-феодалы мстили Бегейму не только как вожаку
восстания, но и ,как ненавистному им народному певцу —
дерзкому обличителю их деяний. В то же примерно
время на востоке Европы русский царизм и
церковные власти вели не менее истребительную войну
против скоморохов. Замечательные певцы и художники,
верой и правдой служившие своему народу, целыми
массами сселялись с родных мест и пускались по
миру. Их имущество, в том числе музыкальные
инструменты, уничтожалось или подвергалось
разграблению.
Последний акт этой народной трагедии
разыгрался в 1649 году, когда учинена была инспирированная
церковными кругами зверская экспроприация
скоморошества столицы. Вся движимость, накопленная
целыми поколениями этих умельцев, была варварски
утоплена в Москве-реке, а ее многострадальные
владельцы изгнаны, оттеснены и изолированы на
далеком Севере России.
Еще дальше на восток действовало исламистское
духовенство; оно не отставало от своих католических
и православных собратий. В Средней Азии
реакционные муллы — духовный оплот деспотических
ханов и эмиров — чернили и преследовали
музыкантов — певцов народа. Ни талант, ни слава
художника не спасали жертв этой фанатической травли. В X
веке нашего летоисчисления великий народный поэт
и певец таджиков, персов и арабов Абульхасан Руда-
ки, один из светочей культуры Востока, своим
вольнолюбивым искусством навлек на себя немилость
духовенства и светских властей. Поводом для
расправы явилось сочувствие, которое выказал Рудаки
еретическому карматскому движению. На склоне лет он
был зверски ослеплен по приказу владык Саманид-
57
окого царства и осужден на изгнание, в котором и
прожил последние годы. «Мой бог молитв не
любит!» — восклицал этот свободолюбивый певец
разума и радостей мирской жизни.
Преследование тех, кто «высоким ладом песни»
просвещал и сплачивал массы, на целые века
стало традицией для фанатичного мусульманского
духовенства. В 1846 году казахский народ потерял
одного из лучших своих борцов и художников. По
приказу султана Айчувекова был обезглавлен
революционный акын и крупный деятель антифеодального
повстанческого движения Самамбет Утемисов. За
спиною Айчувекова стояли богатые баи и реакционные
муллы.
И позже они бешено травили певцов
народной правды, поэтов и музыкантов: выдающегося
просветителя Абая Кунанбаева в Казахстане,
страстного обличителя мулл, народного акына Токтогула
Сатылганова в Киргизии. Уже при Советской власти,
в 1929 году реакционные мусульманские церковники
инспирировали зверское убийство религиозными
фанатиками одного из самых вдохновенных певцов
социализма в Средней Азии, композитора, поэта и
писателя Советского Узбекистана Хамзы Хаким-заде
(Ниязи). Однако религиозным изуверам не удалось
заглушить поющих голосов народов, веками
рвавшихся к свободе, победивших в борьбе и ныне
построивших новую, светлую жизнь.
Но вернемся к христианской церкви и ее музыке.
От церковной реакции, особенно католической,
страдали и погибали не только народные
певцы-самородки, но и образованные музыканты-профессионалы.
Расправляясь с ересями, католицизм не щадил
выдающихся художников, попадавшихся ему под руку,
и нередко использовал их связи или сочувствие
еретическим движениям, наконец, просто ложные доносы
на мнимых «еретиков», чтобы устранять с дороги тех,
кто осмеливался, по выражению Дим. Аллеманова,
«поставить свое искусство в положение
самостоятельного фактора».
Труды одного из наиболее выдающихся музыкаль-
58
ных теоретиков раннего средневековья, поборника
раннего многоголосия, шотландца Эйригены были
осуждены церковью как еретические и преданы
сожжению.
Знаменитый немецкий поэт и певец легендарный
Тангейзер за греховность своих песен о земной любви
и неповиновение папскому престолу был предан
проклятию, отлучен от церкви и подвергнут гонению до
тех пор, пока она не сломила его воли и не
вынудила у него покаяния. Католическая церковь, с ее
честолюбивыми притязаниями на вселенское
господство, повсюду огнем и мечом насаждала латинский
богослужебный обряд и римские, так называемые
грегорианские молитвенные напевы. Прокладывая
себе путь на восток Европы, она искореняла в
слепом фанатизме родное песенное искусство на
славянских землях — в Польше, Чехии, а через униатов—
и на Украине. Во время этих разбойных набегов было
истреблено много людей, изничтожены драгоценные,
памятники искусства. Так, в Польше был варварски
разрушен и разграблен один из крупнейших очагов
западнославянской песенно-хоровой культуры,
знаменитый Сазавский монастырь с его драгоценной
нотной библиотекой. В Чехии взошли на костер и
приняли мученическую смерть от воинствующего
католицизма такие национальные герои и замечательные
музыканты, как Ян Гус и его сподвижник Иероним
Пражский.
Чудовищное, противоестественное насилие
совершалось над музыкой, когда церковь обслуживала ею
свои зверские расправы над народом. Благочестивые
песнопения оглашали испанские «огненные действа
веры», и лютые казни немецких «ведьм», и дикие
массовые истребления французских альбигойцев, валь-
денсов, гугенотов.
Братоубийственная религиозная война XVI века
во Франции стоила жизни и деятелям музыкального
искусства. Католическая партия выслеживала и
беспощадно истребляла тех, кто своим творчеством
наносил моральный ущерб ее интересам. В
Варфоломеевскую ночь 1572 года зверски зарезан был католи-
59
ческими изуверами в Лионе один из талантливых
композиторов того времени, автор популярных
антикатолических псалмов Клод Гудимель. Другой
знаменитый французский музыкант-гугенот Клод Лежен
лишь по счастливой случайности избежал гибели.
Католическая церковь боялась протестантских
гимнов и ненавидела их. С протестантскими песнями на
устах умирали тогда на кострах инквизиции и на
эшафотах католических князей старики, женщины,
дети — французские школьники и немецкие отроки —
анабаптисты. Многие мелодии стали эмблемами
борьбы против католицизма.
Во всех этих темных и изуверских делах роль
главного организатора и вдохновителя играло
папство. В католической литературе вплоть до наших дней
всячески превозносится покровительство римских паи
музыкальному искусству. Одних возвеличивают, как
«косвенных гимнотворцев»1 (Григория I), других
изображают в роли идейных вдохновителей
музыкального Возрождения (Пия II), третьи причислены к
основоположникам итальянского оперного театра
(Урбан VIII). Все эти заслуги тенденциозно
преувеличены и маскируют весьма неприглядную роль этих
князей церкви в истории Италии и Европы.
Григорий I, чьи заслуги в истории западноцерковной
музыки непомерно преувеличены, слыл ярым врагом
образования и просвещения. Пий II хотя и был
образованным человеком, много путешествовал до
вступления на папский престол и проявил большой интерес
к музыке западнославянских стран, однако
пребывание в этих странах широко использовал для самых
отвратительных интриг, направленных к подрыву
гуситского и таборитского движения. Урбан VIII
действительно был любителем оперы. Но церковные
историки не любят вспоминать другого: в его понтификат
(правление) в Риме состоялся гнуснейший суд
инквизиции над великим Галилео Галилеем, кстати сказать,
1 Этот курьезный термин, видимо, введен был специально
для пап, имевших хотя бы некоторое, даже отдаленное каса,
тельство к музыке и пению.
60
сыном одного из самых передовых и самобытных
итальянских музыкантов того времени.
Что касается церковного пения, то тут папы
неукоснительно стояли на страже принципов Климента
Александрийского и Иоанна Златоуста. Не только
противников своих, но и верных слуг не щадили они
в благочестивом рвении искоренить малейшие
отголоски мирской жизни и искусства в богослужебном
чине. Величайший церковный музыкант Высокого Воз-
рождениях Палестрина, стремившийся гармонично
соединить культово-католическую традицию с
приемами и оборотами итальянского народного мелоса,
всю жизнь «ходил под сомнением» у папской власти.
В юности долго мытарствовал он по римским
церквам, не получая должного признания, в зените же
своей славы величайшего полифониста Европы был
уволен с должности регента в папской капелле, как
якобы осквернивший сие святое место вступлением в
брак. Кто же явился тогда гонителем Палестрины?
Папа Павел IV, один из самых порочных, свирепых и
кровавых диктаторов римской церкви, возглавлявший,
в бытность свою кардиналом, суд инквизиции и
навлекший на себя столь жгучую ненависть народа, что
известие о начавшейся предсмертной агонии Павла
римское население встретило шумным празднеством
на улицах столицы. Несколько позже, в начале 70-х
годов, гениальный композитор, занятый пересмотром
богослужебно-певческого обихода, был отстранен от
этого труда по доносу из Испании. В этом документе
набожный музыкант был представлен как опасный
крамольник и нигилист, дерзко задумавший
«уничтожить все, что существует в церковном пении».
Инициаторами отстранения Палестрины были на этот раз
другие люди, однако все из того же
феодально-религиозного лагеря: мрачный и фанатичный деспот
испанского и нидерландского народов король Филипп II
и его единомышленник, впрочем, более падкий на
мирские утехи, папа Григорий XIII. Горячий
сторонник и апологет резни французских католиков и гу-
1 XVI век.
61
генотов, Григорий отметил это событие
благодарственными молебнами и заказом серии фресок для
папского дворца на темы Варфоломеевской ночи...
Таковы были судьи Палестрины, преемники апостола
Петра, ревнители, «благочиния» и «целомудрия» в цер-
ковнопевческом искусстве!
А между тем, народная молва недаром шумела с
неслыханной роскоши папского двора, о
разнузданных оргиях в папских покоях, о целом сонме римских
гетер, стекавшихся туда из увеселительных заведений
столицы. Современники свидетельствуют, что песни,
какими папа Сикст IV, Александр VI Борджиа и
Лев X сопровождали эти христианнейшие вакханалии,
были столь непристойны, что повергали в смущение
даже самых бывалых любителей хорошо пожить
среди обитателей «вечного города».
В XVII веке, когда стало ясно, что католическая
контрреформация бессильна уничтожить
гуманистический дух Возрождения, и на итальянской земле
расцвел поздний, но самый роскошный цветок ренессан-
сной культуры — опера, «папство 'предприняло на
музыкальном фронте самую широкую акцию, на
какую еще оказалось способно. Это было подлинное
идеологическое наступление, сродни былым
демагогически-праздничным затеям венецианских дожей или
Лоренцо Медичи во Флоренции. На средства братьев
Барберини — богатых родичей папы Урбана VIII —
в Риме был открыт первый оперный театр, и папство
не замедлило взять его под свой протекторат,
сообщив его деятельности тенденциозное
религиозно-пропагандистское направление. Папский двор хозяйничал
там, как у себя дома, кардинал Гвидо Роспильози,
впоследствии папа Климент IX, писал оперные либ-
рето, прославлявшие христианские добродетели и
щедро обещавшие страждущим и обремененным
«великую мзду на небесах». Таковы были популярные
тогда столичные оперы «Святой Алексей», «От
несчастья — счастье», «Цепи Адониса» и другие. В
числе оперных героев прославлялись также испанский
завоеватель Мексики Фердинанд Кортец и основатель
ордена иезуитов Игнатий Лойола. Пользуясь огром-
62
ным влиянием, политической властью и богатствами,
папство сумело в ту пору стянуть в свою оперу
действительно первоклассные силы. На римской сцене шли
спектакли не только в роскошной постановке, но и с
красивой, мелодически выразительной, то
религиозно-экзальтированной, то пышно-торжественной,
причудливо-декоративной и виртуозно-блестящей сольной
и хоровой музыкою стиля итальянского барокко.
Выдвинулись там и превосходные певцы, главным
образом, из числа кастратов. К этим последним
принадлежали видные оперные композиторы папской
столицы — Ланди, Виттори и другие. В то время
противоестественный обычай кастрации мальчиков с
красивыми певческими голосами стал одной из
постыднейших болезней итальянской оперно-театральной жизни.
За детьми охотились, родителей обманывали,
подкупали, и благочестивый Рим был главным очагом этого
музыкального варварства. Отношение к нему со
стороны церкви нельзя характеризовать иначе, как
самое отвратительное лицемерие. Ханжески осуждая
кастрацию на словах, она допускала и — более
того — поощряла ее на деле. Папский оперный театр
XVII века не только примирялся с ней, но и
превращал ее в орудие наживы. Впрочем, не только в этом
выразилась жестокость клерикальных кругов по отно-'
шению к музыкально одаренным детям. К XVIII
столетию в Неаполе, Венеции и других итальянских
городах возникли при церквах детские приюты,
готовившие певчих и других исполнителей богослужебной
музыки. Преподавание и воспитание находилось
всецело в руках духовенства. Были в его среде и хорошие
музыканты, добросовестные педагоги, искренне
любившие детей. Но многие «добрые пастыри»,
подвизаясь в этом амплуа, погрязли в такой
несправедливости, лихоимстве, пороках, грубом произволе и
физических насилиях над своими питомцами, какие не
могли не вызвать массового протеста со стороны этих
последних. Дело доходило до подлинных ученических
бунтов, и они подавлялись церковными властями с
беспримерной и циничной жестокостью. Трагическая
кульминация этой борьбы приходится на конец 20-х —
63
начало 30-х годов XVIII века, когда взбунтовавшиеся
ученики неаполитанской консерватории Санта Мария
ди Лорето оказали вооруженное сопротивление
полиции, направленной туда архиепископом Неаполя
кардиналом Пиньятелли. При этом некий аббат Попе,
желая выслужиться перед церковным начальством,
выстрелом из пистолета в грудь убил мальчика —
певчего по имени Доменико Ланотте. Нужно ли
говорить о том, что безжалостные церковные репрессии
обрушились на детей — участников бунта, а
детоубийцы остались безнаказанными?
Этот мартиролог музыкантов тянется и далее
через века — к началу XIX столетия. Духовенство
Италии и Австрии, Германии и Англии оспаривало друг у
друга сомнительные лавры на этом пути, столь
тернистом для нашего искусства. Великие итальянские
композиторы и виртуозы не раз испытали на себе
карающую десницу «наместницы божией на земле».
Когда один из корифеев ранней итальянской оперы
Клаудио Монтеверди поставил на мантуанской сцене
свои глубокочеловечные творения — оперы «Орфей» и
«Ариадна», — реакционное духовенство спустило с
цепи верного стража — блюстителя художественных
вкусов и традиций католической старины —
преподобного отца каноника Артузи. Этот облеченный в
сутану ретроград от музыкознания в благочестивом
рвении не пожалел сил, чтобы очернить гения
Италии: «Беспорядочная и шумная смесь звуков,
невыносимая для чувств!» — так оценил он новаторскую
гармонию Монтеверди, ярко осветившую пути в
музыкальное будущее.
Всесветно знаменитый скрипач Джузеппе Тартини,
осмелившийся предложить руку девушке, состоявшей
в родстве с влиятельным кардиналом монсиньором
Джорджо Корнаро, вынужден был бежать от мести
разъяренного прелата и тайно скрываться в Риме,
прося милостыню или зарабатывая на хлеб уроками
фехтования, в котором достиг большого искусства.
Антонио Вивальди, основоположник сольного
инструментального концерта, пионер программной
симфонической музыки, хотя и носил духовный сан абба-
64
та, всю творческую жизнь страдал от притеснения
церковных властей, относившихся к нему с глубоким
недоверием. Есть сведения, что в 1708 году святейшая
инквизиция, подозревая его в том, будто он возлюбил
музыку больше религии, воспретила ему служение
обедни. По той же причине церковники Феррары не
пустили Вивальди к себе в город, куда тот
направлялся ставить новую свою оперу. Весьма вероятно,
что именно высокопоставленные святые отцы выжили
его из Италии: последние годы жизни композитор
провел в Вене, где умер в бедности и был похоронен
по весьма скромному обряду «с малым колокольным
звоном», как гласит сухая и деловитая запись
расходов в канцелярии собора св. Стефана. Как видно, не
без оснований церковь считала этого жизнелюбивого
аббата чужаком. Идеологические мотивы взяли у нее
верх над художественными красотами его творений,
и она сохранила холодную подозрительность к
автору бессмертных «Времен года» даже у края его
могилы!
За безвременную гибель великого Моцарта,
скончавшегося на тридцать шестом году жизни в
страшной бедности и забвении, большую долю
ответственности перед его народом и человечеством несет
католическая церковь в Австрии. В пору, когда он был
вундеркиндом, «чудом, не поддававшимся
объяснению», по выражению Гете, и его сенсационными
«академиями» лакомились «сильные мира», не отставала
от них и церковь, и сам папа римский с меценатской
щедростью осыпал «чудо-ребенка» святейшими
милостями своими. Но с годами сенсации неизбежно
отошли в прошлое, а явился на радость людям
гениальный зрелый художник, и чем выше он вырастал,
тем более церковная власть сбрасывала личину
мецената, оборачиваясь надменным и алчным деспотом.
Этого деспотизма не мог и не хотел стерпеть
свободолюбивый музыкант, состоявший на службе при
дворе зальцбургского архиепископа Гиеронимуса Коло-
редо. Как известно, разрыв произошел в начале 80-х
годов, когда этот «князь-пастырь» и его
приближенные осыпали гения мировой музыки неслыханными
3 К. Розсншильд
65
оскорблениями вплоть до прямого рукоприкладства:
он был сброшен с архиепископской лестницы — на
вечный позор католическому клиру.
В начале XIX века духовенство прижизненно
затравило Никколо Паганини, блистательного виртуоза
и пламенного патриота — борца за национальную
независимость своей родины. Причина заключалась
в скептическом отношении Паганини к религии и в
его открытой враждебности к церковникам. Имя
скрипача окружили нелепыми и темными слухами,
рассчитанными на религиозную слепоту широкой публики.
Ему брошено было обвинение, будто за свое
неслыханное искусство он заплатил страшной ценой:
продал душу дьяволу! Эта травля, исступленная и
постыдная, продолжалась и после смерти артиста.
С Вивальди обошлись более милостиво: ему отказано
было только в погребальном обряде с «большим
звоном»; Паганини же церковь посмертно лишила права
погребения по христианскому обряду вообще...
Но, может быть, усомнится читатель, все это лишь
местные и частные злодеяния и происки недобрых
пастырей католической церкви? Быть может, они
шли вразрез с основами христианства, когда, следуя
примеру легендарных иудейских первосвященников
Анны и Кайяфы, распинали на мученическом кресте
певцов правды и человечности — пророков
музыкального искусства? Быть может, эти преступления
еще не бросают тени на христианскую церковь и ее
отношение к искусству вообще?
Нет, история говорит об обратном. Обличая
отдельных лиц, она с полным правом видит в них
представителей церкви и ее идеологии. Разве не
религиозный фанатизм английских пуритан побуждал их
разрушать церковные органы и сжигать драгоценные
нотные памятники, принадлежавшие перу многих
замечательных мастеров? Кто как не англиканское
духовенство неистово травило Генделя за его якобы
кощунственные, а на деле великие и гениальные
оратории на библейские сюжеты? А лютеранская
церковь — не приняла ли и она посильное участие в этом
походе против «искусства, выходящего за ограду»?
66
С той самой минуты, как религия Мартина Лютера
стала господствующей в Германии, протестантское
духовенство выступало не только как
консервативная, но прямо реакционная общественная сила —
носительница косности, рутины, упорно и слепо
сопротивлявшаяся всякому нововведению в церковном и
светском музыкальном быту. Иоганн Себастьян Бах
всю сознательную творческую жизнь мужественно и
терпеливо воевал с протестантскими мракобесами.
Они следили за ним, выговаривали ему, ограничивали
и наказывали его еще тогда, когда совсем юным
музыкантом он появился за органом в захолустных
церквах Арнштадта и Мюльгаузена. С каждым новым
взлетом его светлого искусства клерикальная
оппозиция нарастала. В Лейпциге эта распря с
духовенством достигла апогея. Величайшие создания баховско-
го гения — и протестантские «Страсти», и
католическую «Высокую мессу» — церковники встретили
враждебно, ибо, по свидетельству одного из них, «эта
музыка всем нам чрезвычайно не понравилась».
Им претила могучая человечность и художественная
правда баховских творений. Они окружили их
заговором молчания, а самого композитора пытались
пригнуть к земле и мелочным вмешательством, и
угрозами, и нуждою. Правда, когда он скончался, церковь
не чинила препятствий его похоронам. Но заговор
оставался в силе после смерти: долгие годы и могила
композитора, доставившего немеркнущую славу
Германии, и его наследие прозябали в безвестности,
между jcm как семья его влачила унизительное бремя
самой жестокой нищеты.
Следует добавить к этому, что воинствующее
рутинерство, неприязнь к художественной правде,
религиозная и национальная исключительность во всей
неприглядности проявились у протестантской церкви
и по отношению к музыкальным культурам других
стран и народов, стоило только господствующему
лютеранству выйти на международную арену. Уже
начиная с XVI—XVII столетий оно играло там весьма
неблаговидную роль. Когда потомки немецких псов-
рыцарей вновь и вновь обращали жадные взоры «нах
3* 67
остен»1, попирая исконные культуры славянских и
других народов восточной Европы, духовенство
неизменно оказывалось тут как тут. На прибалтийских
землях немецкие пасторы выступали яростными при-
теснителями исконного народного искусства. Под
знаменем «приобщения к вере Христовой» варварски
изгонялись коренные латышские и эстонские
духовные напевы, чтобы очистить путь лютеранским
хоралам и зингесам, буквально затопившим
Прибалтику во имя насильственного онемечения эстонцев и
латышей.
Несправедливо было бы умолчать здесь и об
армяно-григорианской церкви. Под сенью ее создано
было в древности много прекрасных напевов; веками
ей служили самые блестящие таланты» армянской
музыки, чьи благородные мечтания о лучшем
будущем для своего народа долгое время были
окрашены в религиозные тона. Но та же церковь и ее
богословский центр — духовная академия в Эчмиад-
зине — во всех доступных им областях культуры
стремились насадить угрюмо-безрадостный
мистицизм, националистическую узость и
исключительность. Не раз преграждали они путь прогресса
армянской музыке. И если им не удалось омрачить ту
солнечную яркость, которая составляет характернейшую
черту искусства их страны, то лишь благодаря
мужественному противодействию самих художников.
Среди них мы видим великого музыканта Армении Со-
гомона Согомоняна (Комитаса). Долгими годами
связанный с церковью, регент хора духовной академии,
автор армянской литургии «Питараг», мелодически
родственной народной песенности,—Комитас
подвергался свирепому гнету со стороны Эчмиадзина. Церк-
. ви не удалось угасить в нем свободолюбивого
народного художника, годами назревавший конфликт
привел к разрыву. Но верхушка духовенства сумела
другим путем устранить строптивого музыканта. Она
добилась эмиграции композитора и сыграла решающую
роль в том душевном надломе, который привел его к
1 На восток.
68
трагическому концу — умопомешательству и
преждевременной смерти.
Таковы неопровержимые свидетельства
исторических документов и материалов. Как бы ни были
чисты и гуманны мотивы отдельных религиозных
музыкантов типа А. Швейцера и ему 'подобных, они не
могут изменить положение вещей: факты истории церк
ви и ее вторжений в сферу музыкального искусства
говорят сами за себя, и никому не дано сокрыть
логику этих фактов. «По плодам их узнаете их!»
И в самом деле (тут мы обращаемся к верующим),
когда обозреваешь «крупным планом» весь этот мно-
говековый путь, озаренный кострами
музыкантов-мучеников, уставленный гробами безвинно убитых
певчих-детей или великих артистов, затравленных
фанатически-религиозной косностью, изуверством и
безвременно сошедших в могилу; путь, залитый морями
слез, овеянный духом какой-то неутолимой ненависти
и мстительной вражды к инакомыслящим, особенно
художникам, творившим музыку не к вящей славе
божией, но музыку о людях и для людей, тогда
неизбежно задаешься вопросом: а не уподобилась ли
тут церковь христианская великому инквизитору из
знаменитой легенды Федора Достоевского: «Истинно
говорю тебе: заутра я сожгу тебя»?
* * *
Революции конца XVIII и первой половины XIX
века, сокрушая феодальные устои и утверждая на
западе Европы строй буржуазной демократии, создали
новую обстановку и условия, в каких развивались
дальше отношения между религией и музыкальным
искусством. Менялось соотношение сил, пути и
судьбы культовых жанров раздвоились. Почти повсюду
кипела национально- и социально-освободительная
борьба, и нередко она, не вникая в философские или
богословские проблемы, сама врывалась в церковную
ограду и ставила себе на службу переосмысленные
традиционные формы, близкие и понятные самым
широким слоям населения. К тому же, революции того
в9
времени были буржуазны, а буржуазия почти всегда
в той или иной степени религиозна. Вспомним, что и
французские якобинцы отрицали материализм,
исповедуя культ мирового разума. И вот
«переадресованные» Те Deum'bi1, Реквиемы2, порою даже мессы3
выносились в общественные места гражданского
назначения, на просторы улиц и площадей и приобретали
там неслыханное, по крайней мере со времен Генделя,
политическое звучание.
В Те Deum'e и «Гимне верховному существу»
Франсуа Госсека, в Реквиемах Гектора Берлиоза и Джу-
зеппе Верди, в патриотических ораториях и мессах
Ференца Листа раздались новые, громкие iwioca,
взывавшие не к «смиренномудрию», но к гражданской
совести и мужеству людей. Движение масс овеяло эту
музыку и бросило на нее ослепительный отсвет.
Все это было неслыханно и дерзновенно. Но в век
отделения церкви от государства, век
парламентаризма, мировой прессы, железных дорог, внушительных
успехов рабочего движения и материалистического
естествознания — церковь была уже не та, что
раньше. Ее монополия на профессиональную музыку
пхнула, лучшие, талантливейшие артистические силы
были уже не в ее руках. Ока больше не могла, как
встарь, чинить суд и расправу над музыкантами
методами императора Феофила или папы Павла IV. Тем
не менее, она упорно сопротивлялась «обмирщению»
своих жанров и стремилась закрепиться на новых
позициях, организуя религиозное воздействие на мир
музыки иными, более тонкими идеологическими
средствами. В ту пору господствующим течением
западноевропейского искусства стал романтизм, и
клерикальные круги немало усилий приложили к тому, чтобы
сообщить религиозное направление той влюбленности
в фантастический вымысел, в родную старину, ее
легенды и поверья, какая характерна была для
композиторов-романтиков. Не все поддавались. Так,
Берлиоз, подобно Паганини, всегда оставался атеисти-
1 Благодарственное песнопение «Тебе бога хвалим».
2 Заупокойные обедни.
3 Воскресная обедня.
70
чески мыслящим художником и, изредка обращаясь
к религиозным сюжетам, давал им скорее светское,
мирское воплощение («Детство Христа»), Насквозь
мирским, безрелигиозным музыкантом был до конца
жизни Шопен; к церковно-католическим жанрам он
испытывал полнейшее творческое равнодушие. Но
поражение революции 1848 года изменило обстановку
и создало почву для новых религиозных исканий и
увлечений. Их не избежали, в особенности в свои
поздние годы, такие выдающиеся
композиторы-романтики, как Лист и Вагнер. Недаром церковь
позаботилась создать для них наиболее внушительное
религиозное окружение: в нем были представлены папский
престол, кардиналы, католичествующие монархи,
монашеские ордена, философы-мистики,
религиозно-экзальтированные почитательницы талантов, вроде
княгини Каролины Витгенштейн, церковнослужители-
деятели феодального социализма... Окружение
играло на слабостях могучих, но противоречивых
художников.
Великий романтик, бунтарь и просветитель,
страстный патриот своей родины, томившейся тогда под
иноземным гнетом, Ференц Лист, наперекор
огромному творческому диапазону и вечно ищущей,
свободолюбивой натуре, от самых ранних отроческих
сочинений и до (последних лет жизни испытывал
влечение к искусству католического средневековья, его
поэзии и музыке. Количество созданных им произведений
на религиозные тексты и мотивы весьма
внушительно — оно приближается к 80 опусам. Известно, что
эта жанровая линия особенно интенсивно
развернулась после того, как, уже на шестом десятке,
композитор надолго обосновался в Риме, вступил в тесные
связи с папским двором и в 1865 году принял
духовный сан. Эти обстоятельства дали повод католической
церкви не раз выступать с притязаниями на
творческое наследие знаменитого музыканта. Однако в
притязаниях этих столько же лицемерия или
честолюбивого ханжества, сколько беспочвенности, тенденциоз-
нейших преувеличений и однобокости в освещении
фактов. Духовные, религиозно-поэтические создания
71
Листа составляют никак не магистральную, но лиш^
одну из боковых линий его творчества. Человечество
знает, ценит и любит его прежде всего как автора
«Фауст-симфонии» и «Тассо», сонаты си минор и
Венгерских рапсодий, высокогражданственного
«Погребального шествия» и дивных песен на слова Гете,
Шиллера, Гейне. Да, Лист порою обращался к образам
религиозной поэзии и легендарно-библейским
источникам. Но воспринимал он их прежде всего эстетически,
в обширном кругу других впечатлений,
преломленными сквозь призму своих человеколюбивых
романтических идей. Вот как сам он писал об этом в 1831 году
в письме к П. Вольфу: «Гомер, библия, Платон, Локк.
Байрон, Гюго, Ламартин, Шатобриан, Бетховен, Бах,
Гуммель, Моцарт, Вебер — все вокруг меня. Я
изучаю их, я думаю о них, я проглатываю их с
пламенным рвением....» Да, здесь упоминается, между
прочим, и библия, но, право же, это очень далеко от
религиозной исключительности и презрения к
мирскому.
К тому же, хотя и чуждый безрелигиозности, столь
характерной для Берлиоза или Шопена, мечтавший
о создании некоей идеальной «религиозной музыки
будущего», Лист, по крайней мере в молодые годы,
весьма критически относился к церкви. Вот что
писал он, например, в «Парижской музыкальной газете»
в 1835 году:
«Католическая церковь, занятая лишь бормотанием
своих мертвых догм и пытающаяся в привольном
житье отсрочить момент своего окончательного
падения, знающая лишь отлучение и проклятие в тех
случаях, когда она должна утешать и наставлять,
лишенная всякого сочувствия к глубокой тоске,
снедающей молодое поколение, не смыслящая ни в
науке, ни в искусстве, не обладающая ничем, чтобы
успокоить этот мучительный голод и жажду
справедливости, свободы, милосердия,—католическая церковь,
такая, какой она теперь стала, какой мы теперь ее
видим в приходах и общественных местах,
получающая пощечины от народа и от князей, — эта церковь,
говорим мы прямо, совершенно лишена любви и ува-
72
жения современности. Народ, жизнь, искусство,
целиком отошли от нее, и, по-видимому, ее судьба —
погибнуть опустошенной и всеми покинутой» 1.
Всякий, знающий нравы, политику и историю
католической церкви, легко поймет, что, даже
приблизив к себе Листа в последующие годы, она не забыла
и не простила ему этого критицизма.
Нужно также иметь в виду ярко выраженную у
Листа склонность к картинному воплощению
музыкально-поэтических образов, свойственный его стилю
пафос художника-моралиста и, наконец, те очень
глубокие и тесные связи, какие в его представлениях
и фантазии соединяли гуманистические идеалы с
утопическими доктринами христианского
социализма.
Католическая религия импонировала ему не
столько своей теологией, сколько пышной театральностью
ритуала, бесценными художественными сокровищами,
сосредоточенными в ее храмах и обителях,
торжественным рокотом церковных органов,
экзальтированным тонусом ораторского красноречия ее
проповедников. Его пленяла романтика культа, а не богословская
сущность миросозерцания.
С величайшей ясностью раскрылось это, например, в
фортепианных Легендах о святом Франциске или в
фантазии на «Miserere» Аллегри и «Ave verum»
Моцарта, где Лист в декоративной и
широковещательной манере рисует вдохновенные романтические
картины на мотивы религиозно-поэтического характера.
И за последние 20—25 лет жизни он по-прежнему
щедрою рукой создавал произведения, вызванные к
жизни самыми жгучими потребностями его эпохи, его
народа и искусства. Никогда раньше тема Венгрии
еще не вдохновляла его на творчество такой
выразительной силы и патриотического горения. Тогда
созданы были «Венгерские исторические портреты»,
«Венгерская королевская песнь» на революционный
напев эпохи Ракоци, последние венгерские Рапсодии,
«Годы странствований» (третья тетрадь), высо-
1 Ф. Лист. Избранные статьи. М., 1959, стр. 53.
73
кочеловечный «Крестный путь», последняя
симфоническая поэма «От колыбели до могилы»
на мотивы Михая Зичи. Слушая эту музыку,
убеждаешься в том, что Лист-аббат по
художественной натуре продолжал оставаться мирянином,
глубоко заинтересованным в мирском искусстве и мирских
делах. Недаром говорят: сутана не делает монаха.
В Ватикане и на вилле д'Эсте1 к его пострижению
всегда относились холодно и недоверчиво, а поведение
находили предосудительным. Он разделил судьбу Па-
лестрины, Вивальди и, обласканный Пием IX,
чувствовал себя чужим, «под вечным сомнением» в
клерикальном кругу. Так сложилось двойственное
отношение Листа к церкви: она привлекала и отталкивала
его. Многие произведения, казалось бы навеянные
религиозными мотивами, несли в себе гражданственно-
патриотическое содержание. Такова прекрасная
поэма-элегия «Слезами облиты деяния людские» («Sunt
lacrimae rerum») в венгерском стиле из Третьей тетради
пьес цикла «Годы странствований». И все же общение с
церковью, монастырское одиночество на Монте-Ма-
рио, которому, хотя эпизодически и далеко не всегда
от души, предавался композитор; религиозные
созерцания и настроения, время от времени навещавшие
его, — все это не могло не сказаться в творчестве
позднего периода. Тогда сгустилась и разрослась
сфера религиозных образов и культовых жанров.
Появились на свет такие сочинения, как «Горе имеем
сердца», «Семь таинств», Двенадцать немецких
хоралов, «Розарий» (Мистерии), «Кости иссохшие», а
несколько раньше — «Солнечный гимн св. Франциска».
Нельзя и этой музыке отказать в своеобразной и
величавой красоте. Но стиль и склад ее, порою как бы
нарочито скудный и строгий, напоминает временами
некое поэтически возвышенное «умерщвление плоти»
в творчестве. Мелодические обороты, наподобие
молитвенных возгласов, на затуманенных, угасающих
звучностях, нарочито бескрасочные, прозрачные или
сгущенно-сумрачные гармонии; недвижно застылые в
Резиденция кардинала Гогенлоэ.
74
своем однообразии ритмические ostinati; скупое,
почти «бесплотное» изложение свидетельствуют о
воздействии религиозных настроений «в*- удалении от
внешнего мира» 1 и приемов «отрешенного» церковно-
певческого письма. Неугомонный бунтарь,
«Мефистофель в сутане» минутами предстает перед нами в
облике сурового праведника, словно смиряющего
себя постом и молитвой. Какая метаморфоза! Какой
жест в . сторону клерикально-католического мира!
Нельзя обойти молчанием чрезвычайно интересные и
плодотворные ладогармонические искания и
находки, заключенные и в этих поздних пьесах и хорах на
религиозные темы. Но идеологически эти последние
явились шагом в сторону от мятежно-романтической
и гражданственной линии творчества, выразившей
народные идеалы. К счастью, и в поздние годы, при
всех противоречиях, Лист оставался Листом, и
лучшее, созданное им тогда, принадлежит прогрессивной,
демократической культуре Венгрии и всего мира.
Полон значения в этом смысле и пример другого
великого романтика — Рихарда Вагнера. В эпоху
революционного подъема 40-х годов он отважно и
неистово отрицал христианство, его церковь, как
силы, подавляющие в человеке эмоциональное начало
и, следовательно, враждебные музыкальному
искусству. Книга Вагнера «Искусство и революция» и его
опера «Тангейзер» прозвучали великолепным в своей
дерзновенности вызовом клерикализму. После
поражения революции, когда композитор, создавая
великие и гениальные произведения, в своих общественно-
политических взглядах все больше «успокаивался»,
уходил вправо, отрекаясь от демократических
идеалов под воздействием воинственных великогерманских
устремлений, коренным образом изменилось и его
отношение к религии. Теперь он благочестиво
поклонялся тому, что недавно сжигал: музыка была
провозглашена совершенной выразительницей
христианского вероучения («Религия и искусство», 1880—1881)
1 Так характеризовал сам Лист свое пребывание на Монте-
Марио в 1863 году.
75
и в этой миссии — якобы орудием спасения
человечества от грозящего ему вырождения. Подобные идеи,
не только туманно-романтические, но от начала до
конца ложные и прямо реакционные, легли в основу
либретто оперы-мистерии Вагнера «Парсифаль»1.
Однако, наперекор намерениям композитора, он
объективно доказал там полную несовместимость своих
религиозных принципов с тем высоким идеалом
музыкальной драмы, которому посвятил всю творческую
жизнь. В партитуре «Парсифаля» заключено много
истинно прекрасной музыки, она неотразимо пленяет
слушателя, и часто великий художник берет верх над
реакционным философом и моралистом. Но эти
красоты подавлены и омрачены мертвенно-отвлеченными
религиозными представлениями и идеями: покаяния,
посвящения, искупления грехов, божественного
воздаяния, бегства «вдаль от мира сего», «блаженства
кротких» и «нищих духом».
Композиция оперы раскинута непомерно широко,
она расплывчата, а драматическое действие
отягощено, зачастую прямо парализовано застылыми
картинами мистериальных рыцарских обрядов.
Бесконечно, кажется, длятся протянутые через три
огромных акта драмы религиозно-назидательные
речитативы.
Религиозная мораль по природе своей ханжески-
наставительна. Она властно требует непрестанных
поучений. Наоборот, искусство, даже самое
тенденциозное, не терпит этого. Оно убеждает живыми
образами; там, где они подменены абстрактной
проповедью, исчезают жизнь, тепло и красота. Между тем,
назидание в искусстве, — особенно назидание
религиозное, — мертвит и сушит его неизбежно и
всегда.
Некоторые великие мастера, особо проницательные
психологи в музыке, до такой степени понимали это,
что намеренно пользовались «хоральной интонацией»
как леденящим контрастом, врезающимся в эмоцио-
1 Парсифаль — герой древнего рыцарского эпоса.
76
налыю отзывчивую, страстно устремленную образную
сферу. Как часто, например, у Роберта Шумана — в
«Фантастических пьесах» и «Крейслериане», в «Да-
видсбюндлерах» и «Новеллеттах» — романтическую
фантастику или взбаламученную стихию флорестанов-
ских порывов прозаически трезвенно холодят
бесстрастно звучащие аккордовые последования
хорального склада и стиля! Но Вагнер, хоть и изведал силу
подобного контраста в «Тангейзере», в «Парсифале»,
отнюдь йе ставил перед собою подобной
художественной задачи. Он, наоборот, впал в риторическую
чрезмерность и тем самым погрешил против законов
красоты. Религиозные истоки этого заблуждения
совершенно очевидны.
Далее, католический культ в особенности
изобилует всякого рода символами — условными знаками,
живописными, музыкально-поэтическими и иными.
Отсюда — непомерное насыщение оркестровой ткани
«Парсифаля» звуковой символикой ведущих мотивов,
обозначающих разнообразные религиозные понятия.
Правда, «лейтмотивизм», как метод или система, был
разработан и применен Вагнером еще в 40-х годах и
с огромным мастерством реализован в «Лоэнгрине»,
в музыкальных драмах «Тристан и Изольда», «Кольцо
нибелунга» и в народной реалистической комедии —
«Нюрнбергских мейстерзингерах». И в «Кольце
нибелунга» композитор порою грешил натяжками и
впадал в чрезмерность в ущерб высшей гармонии и
художественной красоте. Однако никогда раньше это
применение не носило столь схематического,
дидактичного и назойливого характера. Наконец,
воздействие церковнопевческого стиля привело к известному
поглощению вокальной мелодии, растворению ее в
гармонических комплексах старинного диатонического
склада, «светлых и покойных», по выражению
Н. А. Римского-Корсакова. Это удивительно сближает
«Парсифаля» с «бесцветно-кристаллическим» стилем
некоторых мастеров римско-католической школы
XVI века.
Как известно, Н. А. Римский-Корсаков, высоко
оценивший музыкальные красоты «Парсифаля», дал
77
«сценической драме-мистерии» Вагнера резко отрицав
тельную общую оценку. Она во многом оправдана.
Стремление композитора к красоте музыки,
органичности драматургии и мистериальная идея оперы
пришли в глубокое противоречие. Вторжение
религиозных догм, представлений, настроений,
воссоздание стилистических приемов церковно-богослужебного
письма—все это нарушило эстетику
музыкально-театральных закономерностей, выработанных
композитором за долгие «языческие» годы его творческого
пути. Пострадали построение и планировка
драматургических связей, симфоничность развития,
выразительность свободного, красивого движения певческих
голосов, так радующая в «Мейстерзингерах»,
«Тристане и Изольде». Результат очевиден: церковь
выиграла, 'искусство проиграло. Так бывало не раз.
Из выдающихся симфонистов, чье творчество уже
на рубеже XIX и XX столетий дает полезную пищу
для размышлений на тему о музыке и религии,
весьма поучительно было бы сопоставить Антона
Брукнера и Густава Малера. У этих композиторов были
некоторые общие или, во всяком случае, сближающие
их качества и черты. Оба — крупнейшие
представители австрийской симфонической школы, музыканты-
мыслители, гуманисты огромного размаха. Оба
оставили после себя по девять симфоний и у обоих
Девятые — неоконченные. У них были общие истоки,
восходящие к Шуберту, Бетховену. Оба тяготели к
широкомасштабному развитию, причем не избежали
длиннот. Обоим свойствен был светлый пантеизм в
воплощении образов родной природы и великолепное
мастерство зарисовки жанровых картин народной
жизни. Оба — художники переломной эпохи,
чувствовавшие, каждый по-своему, ее конфликты и искавшие
светлых разрешений. Наконец, ни тот, ни другой не
чуждались религиозной сферы.
Но исторические судьбы их оказались во многом
различны. Брукнер остался типичным композитором-
романтиком XIX столетия, взоры его как художника
были обращены прежде всего к Вагнеру, Шуберту,
Брамсу. Его воздействие на музыку XX века оказа-
78
лось интенсивным, но сравнительно, узколокализован-
ным в рамках австрийской и немецкой школы: Малер,
Регер, Герстер, Хиндемит — вот крупнейшие
композиторы, испытавшие на себе в различной степени брук-
неровские влияния. Конечно, место, какое автор
Романтической симфонии занимает в современном
концертном репертуаре, достаточно внушительно. Но при
его масштабности, глубине, силе и цельности худо-
жественнрй натуры, высокой и чистой поэзии его
симфонических созерцаний, красотах тематизма и
богатстве развития Брукнер, казалось бы, располагал
обширными возможностями, чтобы завоевать более
горячее признание самых широких аудиторий и более
действенный отклик в творчестве мастеров нашего
времени. Но ему не суждено было реализовать во
всей полноте свои богатые потенции. И далеко не
последнюю роль сыграло здесь его религиозное
миросозерцание.
Явления искусства всего лучше познаются в
сравнении. Сопоставляя судьбы брукнеровского и мале-
ровского симфонизма, мы не можем не видеть их
глубокого различия. Музыканты-профессионалы и
любители высоко ценят и почитают Антона Брукнера.
Но Малер — один из любимейших композиторов
нашей эпохи. Первую, Пятую симфонии, «Песнь о
земле» — и не только их — с трепетом и эстетической
радостью слушают миллионы и миллионы людей во
всех концах мира. Музыка эта и в наши дни звучит
захватывающе и поразительно современно.
Воздействие малеровского симфонизма на творчество
композиторов XX века очень велико, оно простирается далеко
за пределы Австрии и Германии. Причина заключена
в творческом облике, миросозерзации художника, в
нравственных принципах и образном строе его
музыки, не только запечатлевшей настоящее, но
вдохновенно устремленной в будущее человечества.
Гениально одаренный художник-гуманист» до боли
отзывчивый на повседневные горести и нужды людские, певец-
защитник маленького человека, Малер поднимает
слушателя от обыденного, иногда банального к самым
возвышенны^ идеалам. Он лелеет утопичную, но чи-
79
стук л светлую мечту о справедливом социальном
переустройстве через приобщение человечества к
музыкальному искусству, которое соединило бы величие
идей с доступностью самым широким людским
массам. И в грандиозных симфонических воплощениях
этих благородных мечтаний, посреди многоликих
контрастов: лихорадочно мятущейся стихии современных
Вавилонов — и солнечного безмолвия благоуханных
ландшафтов, «похожих на тихий сон ребенка» х\
истошных воплей гибнущего человека,
иронически-колючих гротесков — и мерного шага уличных
процессий со светлою песней на устах, — порою звучит нам
навстречу и музыка, окрашенная в религиозные тона.
Дач Малер не был чужд этой сфере. Известен его
замысел — совместно с другом Зигфридом Липине-
ром написать музыкальную драму «Христос».
Замысел этот остался неосуществленным. Зато
религиозные мотивы звучат в оде Клопштока «Великий
призыв», грандиозное музыкальное воплощение которой
венчает Вторую симфонию.
В Третьей и Четвертой — ангелы запевают «Песнь
радости небесной». В Восьмой — является
величественная интерпретация древнего католического гимна
«Veni creator spiritus», а колоссальный финал
воссоздает «серафический» апофеоз второй части гетевского
«Фауста». В ранний период Малер испытал
благотворное воздействие свободомысленных
богоборческих устремлений. По свидетельству Бруно Вальтера,
в бурном финале Первой симфонии2, с завершающим
его могучим и светлым апофеозом, звучит
«громогласное обвинение против Творца». Этой противленческой
концепции не суждено было широко и прочно
утвердиться в творчестве композитора.
Однако серьезным заблуждением было бы
переоценивать значение религиозных мотивов у Малера,
хотя молитвенно-гимническое слово в музыку
симфонии и во В9Ю ее концепцию необходимо привносит
1 Эти слова принадлежат А. М. Горькому («Итальянские
сказки»).
2 1885-1888 годы. •
80
свой философско-этический смысл и дает знать о себе
п несколько отвлеченной декларативности
разрешающих финалов и длиннотах — этих почти неизбежных
спутницах размышлений на религиозные темы.
Важнее то, что,—как ранее у Бетховена и Гете,—малеров-
ские созерцания высшего носят скорее
пантеистический характер (именно таков смысл финала «Песни
о земле»); религиозные же импульсы преодолеваются
гуманистическим началом и растворяются в нем.
Перед нами гениальный мирянин, иногда
обуреваемый сомнениями или грезящий об отвлеченных
идеалах, но во всех душевных коллизиях и заблуждениях
хранящий благородный облик «певца земли»,
высокоидейного, гуманного и чуткого к жизни художика. В
этом прежде всего — источник неотразимого обаяния
его музыки.
Отношение же к религии у Брукнера сложилось
совсем иначе, впрочем оно и не могло быть иным.
С детских лет он получил религиозное воспитание,
церковь была его alma mater l. Долгие годы провел он
в бенедиктинской обители св. Флориана близ Линца—
в качестве певчего, затем педагога и органиста, там
же был он впоследствии и похоронен. Тесные связи с
церковным клиром, бытом, культовыми жанрами
сохранились на всю жизнь. Его миросозерцание, в
основе тоже пантеистическое, но с несравненно более
широко и сильно выраженными, чем у Малера,
религиозными чертами, отразило патриархальный
консерватизм той крестьянской и клерикальной среды,
которая в значительной степени его воспитала.
Отсюда — обилие духовных композиций: месс, псалмов,
мотетов и т. п., составляющих количественно самую
большую группу его сочинений. Правда, не они — и
это весьма примечательно — являются наиболее
значительными его творениями. Брукнер — мы уже
писали об этом — признан и почитаем прежде всего
как симфонист. Но глубокая религиозность,
свойственная этому философски-возвышенно мыслящему
1 Духовной матерью, наставницей.
6 81
музыканту, проросла в его симфонические концепции,
отбросив тени на их склад и смысл. Он был слишком
большим, сильным и умным художником, чтобы в его
симфонических концепциях не запечатлелись
конфликты и борения его эпохи: нагромождения,
развороты, сдвиги его звуковых масс производят впечатление
огромной мощи, величия, эпической широты. Его
темы отличаются вдохновенной красотой и нередко ухо
дят корнями в почву народно-бытовой музыки. Но
этот материал, сам по себе эстетически драгоценный,
слишком часто лишен внутренней конфликтности, а
развитие, даже для симфонизма эпического типа,
отличается своеобразной гипертрофией медлительно-
эволюционного начала. Лирические образы
одиночества в побочных партиях и медленных частях
симфонических циклов, упоенные возвышенным созерцанием
природы, составляют прекраснейшие страницы брук-
неровских партитур. Но и они, за немногими
исключениями, страдают той «склонностью к
распластыванию», которую справедливо отмечал Б. В. Асафьев.
Никакая другая тематическая сфера не подвержена
у Брукнера столь одностороннему и чрезмерному
разрастанию, как сфера тематизма
религиозно-хорального. С ним всего больше связаны длинноты и
просветленные кульминации синтетических финалов,
где место бетховенского народа-борца и победителя
занимают скорее экстатические образы религиозно-
подвижнической решимости или некиих «внечеловече-
ски-могучих» сил, несущих людям всеобщее
примирение и «свет разума». Вот почему у Брукнера процесс
образного растворения совершенно обратен малеров-
скому: там религиозные мотивы растворены в
гуманистическом жизнеутверждении; здесь же религиозное
не растворяется, не преодолевается, но до конца
симфонического развития остается чрезвычайно активно
действующей силой.
Значит ли это, что правы О. Ланг, М. Ауэр и
другие музыковеды из реакционного лагеря, видящие в
Брукнере мистика или «детскую душу в белых ризах»
не от мира сего? Нет, не значит. Глубокая внутренняя
немощь религии проявляется в том, что даже тогда,
82
когда ей удается подчинить себе большого художника,
она не в состоянии сделать этого полностью и до
конца. И чем крупнее художник, тем дальше
оказывается она от своей цели. Еще молодым, начинающим
музыкантом в обители св. Флориана Брукнер
испытал на себе тяжелую десницу церкви; он жаловался
в ту пору на одинокое, безрадостное существование,
душевную тоску и на полное равнодушие к музыке,
царившее,в монастырских стенах. Позже, при попытке
уйти из обители в другое место, он, уже зрелый и
признанный мастер, подвергся унизительнейшим
оскорблениям со стороны монастырского настоятеля-
бенедиктинца прелата Майра. Растущий в
последующие годы размах концертной деятельности, а вслед
затем и педагогической — в Венской консерватории
и университете, далеко за пределами церковных
стен — показывает, как велика была
неудовлетворенность артиста его клерикальным окружением,
обычаями и нравами. Но гораздо резче и яснее этот разлад
обозначился в музыке. Недаром его так неотразимо
влекло к языческому искусству Рихарда Вагнера! 1.
По существу, борьба противоположных тенденций
происходила глубоко внутри творческого процесса у
знаменитого симфониста: религиозным созерцаниям и
озарениям противостояло почвенно-здоровое начало,
почерпнутое из истоков реальной и родной
крестьянской жизни. Отсюда — весьма земные, даже
прозаичные подчас в своих бытовизмах авторские
комментарии-толкования образов Третьей, Восьмой, даже
Четвертой симфоний. Мужественная энергия ритмического
импульса, типичная для тематизма главных партий в
первых частях брукнеровского цикла, жанрово-сочная
народность многих скерцо и эпизодов в финалах,
самые светлые, полнокровные страницы пантеистической
лирики в Adagii — все это никак не вместимо было в
тесные рамки религиозно-католического постижения
мира. Следовательно, если одной стороной своего
1 Напомним, что «Парсифаль» окончен был Вагнером лишь
в 1882 году, когда Брукнер уже написал семь из девяти своих
симфоний.
83
творчества Брукнер приближался к запросам
прогрессивного искусства и широкой публики, то другая,
наиболее консервативная и смиренно-созерцательная
религиозная сторона, наоборот, отдаляла его от
передовых эстетических требований эпохи, от
демократических слоев. Есть противоречия, движущие вперед;
бывают такие, которые препятствуют этому
'продвижению. Именно такого рода препятствие встретил
на своем пути Брукнер. Оно-то и помешало ему,
огромному и искреннейшему мастеру, стать в один ряд
с его учеником Малером.
Когда-то знаменитый немецкий поэт Фридрих
Гёльдерлин в стихотворении «Человек» высказал
мудрую мысль, полюбившуюся художникам:
Тот, кто мыслью глубок,
Любит жизнь всех сильней.
Религия не смогла помешать Малеру последовать
этому девизу. Брукнер остановился на полпути.
XIX столетие было отмечено упорными
стремлениями церкви и сосредоточенных вокруг нее
религиозных течений и групп остановить поступательное
движение прогрессивных гражданских идей и
жанров музыкального искусства. Формы проникновения
религии в мир музыки изменились, стали более
гибкими, изощренными. Ей удалось воздействовать на
творчество нескольких очень больших музыкантов, но
она уже не могла изменить общее направление, в
котором совершалось историческое развитие культуры
и искусства. Ее попытки были разрозненны, ее
продвижения и успехи носили скорее эпизодический или
местный характер.
* * *
Но положение вновь изменилось с наступлением
XX века. Империализм, канун социальной революции
пролетариата создал новую ситуацию как для
религии, так и для художественного творчества.
Буржуазная демократия уступила место политической
реакции по всем линиям; идеология и культура господст-
84
вующего класса вступила в фазис глубокого и
неизлечимого кризиса. На авансцене умственной жизни
утвердился откровенный идеализм. Буржуазия
отреклась от атеистических увлечений своей молодости и
перешла на позиции открытой поддержки религии и
церкви. Широкое распространение получил фидеизм—
учение, ставящее веру на место знания и отразившее
активизацию клерикальных сил. В 1908 году в книге
«Материализм и эмпириокритицизм» В. И. Ленин
указывал, что в современном обществе фидеизм
«стоит во всеоружии, располагает громадными
организациями и продолжает неуклонно воздействовать
на массы, обращая на пользу себе малейшее шатание
философской мысли» 1.
После крупных поражений и потерь конца XVIII
и XIX века церковь, ее защитники и пропагандисты в
новых условиях вновь упрочили свое положение и
развернутым фронтом перешли в наступление на
школу, науку, художественную культуру Запада и
Востока.
Как же отразилось все это в музыке? Далеко не
всегда и не везде в новой исторической обстановке
она оказалась податливой на фидеистские и
религиозные веяния. Прогрессивная традиция безрелигиозного
искусства не умирала. Крупнейшие мастера XX
столетия: Равель, Скрябин, Рихард Штраус, де Фалья,
Сибелиус, Бела Барток, хотя и не лишенные своих
противоречий и слабостей, оставались, однако,
светскими художниками, чуждыми церкви и ее
миросозерцанию. Но при всем авторитете, каким пользовались
эти композиторы у себя на родине и в других
странах, их творчество не могло достаточно широко и
полно прикрыть музыкальное искусство от нового
широкого натиска мистико-идеалистических идей и
настроений. Клерикальные круги действовали всеми
средствами, какие небесам угодно было предоставить
в их распоряжение: в ход пущены были
правительственные, партийные, сословно-корпоративные связи,
1 В. И. Ленин. Соч., т. 14, стр. 343.
85
поэзия и эстетика, пресса, издательства,
материальные ресурсы... Главным режиссером, хотя и не всегда
зримым, выступил, как всегда, Ватикан, а отправной
точкой, по старинному католическому обычаю, вновь
и вновь избрана была «охрана чистоты церковного
пения». Вся эта инициатива приобрела
организационную форму так называемого «движения за
католическое обновление», с очень далеко идущими
реакционными целями. Вначале, как могло показаться людям,
не осведомленным в папской политике, речь шла лишь
о частных вопросах культовой музыки, составляющих
внутреннее дело церкви. В 1903 году папа Пий X,
кстати сказать, известный своими связями с русским
царизмом и поистине яростными выступлениями
против нашей революции 1905 года, обнародовал
послание, призывавшее католиков восстановить
древние традиции богослужебной музыки грегорианского
стиля. За этим посланием последовали другие. В
серии широковещательных документов папская курия *
провозглашала выработанные ею «основоположения»
для церковнопевческого искусства. Они уже ярко
свидетельствовали о стремлении приспособиться к новой
обстановке и использовать ее для гораздо более
широкого распространения католических идей и
принципов в мире светской музыки. Незыблемой
первоосновой и высшей нормой культового пения утверждался
старый грегорианский хорал унисонного склада. В
1904 году предпринято было новое, так называемое
«Ватиканское издание» грегорианских песнопений,
очищенное от «опасных новшеств и соблазнов»
прежней «Медичейской» редакции и возвращавшее
богослужебный ритуал «к первоначальным формам
одноголосного хорала». До некоторой степени поощрялась
полифония строгого стиля (Палестрины, Аллегри и
других мастеров XV—XVI столетий), хотя она уже не
могла претендовать на роль «нормы» и «идеала» для
культового пения. Наконец, впервые официально
санкционировано было исполнение при церковном
богослужении музыки «нового стиля», — не только во-
Центральный аппарат управления католической церкви.
86
кальной, но инструментально, конечно, как это
было особо оговорено, «при условии соблюдения
литургических законов». Вводя это, на первый взгляд
«либеральное» новшество, церковь преследовала
двоякую цель. Во-первых, она учитывала новые,
более широкие масштабы концертной жизни, внедрение
в быт граммофона, а позже музыкальных
радиопередач, наконец, магнитофонной записи. Учитывался и
связанный-с этими новыми формами музицирования
интенсивный рост музыкальных запросов и вкусов
широкой публики, особенно — городского населения.
Церковь яростно боролась «за паству», все более
обуреваемую «мятежными и мирскими» думами,
эмоциями, и потому стремилась на новый манер расцветить
свой ритуал модернизированной примесью
«греховной красоты». Словом, принцип Василия* Великого
по-прежнему находился в действии.
Во-вторых, допуская в богослужение музыку
нового, даже модернистского, декадентского стиля,
церковь сама совершала «выход за ограду», чтобы
найти общий язык с модными мирскими художниками
новейшей формации, властителями дум буржуазной
элиты и «обволакивать» их.
Одновременно, используя религиозные убеждения
некоторых очень крупных и авторитетных
музыкантов, церковные круги предприняли попытку вернуть
себе хотя бы частично давно утраченные позиции в
области музыкального образования. Еще к концу
XIX века были организованы на весьма солидной
профессиональной основе церковнопевчеокие школы
во Франции (парижская «Школа певчих» во главе
с В. д'Энди и Ф. А. Гиманом), в Германии
(католическая «Школа церковной музыки» в Регенсбурге *,
основанная Ф. К. Габерлем) и других странах. Там и
поныне сосредоточены очень квалифицированные
музыкальные силы, и это приводит к неожиданному
результату: большим многогранным артистам нередко
становится тесно в узких рамках культовых стилей
и форм, их влечет на просторы живого искусства и
В Баварии.
87
реальной жизни. Тогда их творческие, педагогические
принципы и методы приходят в противоречие с
религиозно-догматическими идеями учредителей и
покровителей этих школ. Начинается «обмирщение», как
это можно наблюдать, например, в течение последних
десятилетий в парижской певческой школе, из стен
которой вышел целый ряд прогрессивных,
жизнелюбивых композиторов и среди них — создатель
популярных демократических песен Жорж Орик и
коммунист Эрик Сати! Тем не менее, традиции церковно-
католического культа, жанров, эстетики остаются
господствующими в этих школах и по сей день.
Но движение претендовало на размах, оно
стремилось привлечь на свою сторону более широкие слои
населения; оживилась деятельность различных
музыкально-религиозных обществ и союзов. Еще до
открытия школы в Регенсбурге был учрежден
католический «Всеобщий немецкий союз св. Цецилии», и сам
папа Пий IX благословил его на охрану латинского
богослужения от проникновения «внелитургических»
народных напевов. Вскоре, при ближайшем участии
известного дирижера Шарля Ламуре, открыто было
«Общество священной музыки» в Париже и почти
одновременно — «Ораториальное общество» в Нью-
Йорке, точно такой же откровенно религиозной
ориентации. Начинается «церковно-католическое
музыкальное возрождение» в Италии. Наконец,
характерная черта движения за «католическое обновление» —
реставрация церковными кругами Испании,
Португалии и других стран, где католический клир особенно
силен и пользуется поддержкой реакционных
государственных режимов, старинного обычая религиозно-
песенных сборищ и уличных процессий, явно
рассчитанных на разжигание мистического экстаза и
обставленных со всею возможной внушительностью.
Примеру католицизма следовала и евангелическая
церковь. К концу XIX века она создала «Германское
общество евангелического церковного пения». В
Берлине чрезвычайно возросло влияние «Королевской
академии церковной музыки». Первоклассные силы
немецкого музыкознания — Г. Кречмар, Ф. Вольфрум
88
и другие — были привлечены к разработке церковно-
музыкальных материалов и проблем. Крупные
композиторы, такие, как Макс Регер и Иозеф Хаас,
посвятили свои усилия реставрации «полузабытых жанров
органной и хоровой музыки евангелического
богослужения. В 1950 году издана была «Новая книга
евангелических церковных напевов». Цель издания
заключается в охране единого стиля культового
пения на основах лютеранской традиции и его
широкого распространения по церковным общинам и
песенным союзам.
Наконец, на востоке Европы русская православная
церковь, в свою очередь, активизировала деятельность
в области музыки и пения под знаком искоренения
приемов светского песенного искусства от
«театрального» до «фабричного» включительно — и
утверждения «истинно церковного» «православно-русского»
стиля и склада. Оживился интерес к древнему
знаменному распеву, к архаической монастырской песен-
ности. Организованы были школьные «походы» в Ни-
лову пустынь, Оптину пустынь и другие монастыри в
поисках утраченного церковнопевческого идеала.
Возникла целая обширная и весьма тенденциозная
литература по церковному пению. Некоторые-
образцы ее уже были цитированы выше. Царское
самодержавие заявило о своем покровительстве этим
начинаниям.
В новом движении следует различить две важные,
однако совсем не равнозначные стороны. Одна, более
частная и более светлая, — новые розыскания и
реставрация ценных памятников церковнопевческой
старины, открытия ранее неизвестных мелодических
красот в культовой музыке Запада и Востока,
усовершенствование хорового искусства, организация новых
центров профессионального музыкального
образования, создание некоторых новых произведений,
художественные достоинства которых не могут быть
преуменьшены. Другая сторона, более сумрачная и
глубокая, составляющая несомненную основу движения,
заключается в его религиозном содержании, в
зловещих связях с реакционными церковными, философ-
89
скими, политическими кругами. Это — тенденция
увести музыкальное искусство от реальностей
современной жизни, от волнующих человечество острых
вопросов и гражданских тем в сферу иллюзорного и
эфемерного, отрешающего и примиряющего. Тем самым
«литургическое обновление» прямо направлено
против столь ненавистного церкви реалистического
искусства, и за полстолетия своего существования,
опираясь на поддержку самых реакционных кругов
буржуазного общества, оно сумело нанести этому
искусству определенный ущерб. Однако ему уже не дано
было остановить победное движение художественного
творчества по тернистому, но славному пути
жизненной, эстетической правды. Недаром так сокрушенно
писал тот же преподобный Дим. Аллеманов: «...
реализм теснит и теснит цветший раньше мистицизм.
В науке реализм царит безраздельно. Но и в изящных
искусствах, где, кажется, таинственность,
сокровенность особенно характеристичны для произведения
искусства и сообщают ему наибольшую силу
действия на психику человека, — и там мистицизму
становится уже тесно от реализма» К
Да, тут и в самом деле было о чем сокрушаться
святой церкви, ее иерархам, песнопевцам и
богословам. Многие, очень многие выдающиеся композиторы
нашей эпохи — всецело мирские художники, весьма
далекие от культовых жанров,
религиозно-эстетических систем и покровительствующих им
клерикальных кругов. Мистические «цветения», таинственные
наития, откровения и «сокровения», о вытеснении
которых так печалился Д. Аллеманов, решительно
чужды творчеству таких очень несходных между собою
музыкантов, как Ганс Эйслер и Жорже Энеску, Бела
Барток и Рихард Штраус, Дариус Мило и Анри Core,
Жорж Орик и Луи Дюре, Джордж Гершвин и Самю-
ель Барбер. Мы не говорим уже о советских
мастерах социалистического реализма — Сергее
Прокофьеве, Дмитрии Шостаковиче, Араме Хачатуряне и дру-
гих.
1 Свящ. Дим. Аллеманов. Курс истории русского
церковного пения, ч. I, стр. 103.
90
Итак, обострение идейной борьбы не могло не
коснуться композиторов, их настроений, миросозерцания,
творчества. Одни, предрасположенные к этому
средой, воспитанием, связями, своею умственной и
нравственной природой, закалились, стали видеть яснее,
«духом окрепли в борьбе». Другие, так или иначе
склонявшиеся к идеализму, символизму,
неоклассицизму или теснее связанные с церковными кругами,
испытывая'на себе религиозные влияния, в той или
иной мере поддались им. В разные годы с конца XIX
века и до первой мировой войны Антон Брукнер в
Австрии, Макс Регер в Германии, В. д'Энди и Ф. Гиман
во Франции наиболее ясно выразили это
направление. Первая и в особенности вторая мировые войны
способствовали разрастанию и усилению
религиозных исканий в некоторых кругах музыкального
мира. Страшные разрушения, жертвы, неисчислимые
страдания, принесенные мировыми войнами
человечеству, в еще большей степени, чем когда-либо раньше,
рассеивали иллюзии, сплачивали и поднимали на
борьбу одних, а у других, менее устойчивых и неясно
мыслящих людей, вызывали упадок душевных сил,
помутнение сознания, разочарование в социальных
идеалах. Некоторые ищут утешения в воспоминаниях
о прошлом, иные обращаются к религии. Все это, как
в зеркале, отразилось и в музыкальном искусстве, —
отразилось сложно и по-разному в различных
странах и музыкальных кругах, пересекаясь с другими
идейными, художественными влияниями. Круг
«вошедших в ограду» расширился. Теперь религиозные
темы и жанры особенно привлекли Мессиана и Пулен-
ка — во Франции, Пиццетти и Малипьеро — в
Италии, Онеггера и Франка Мартина — в Швейцарии,
Шенберга и Хиндемита — в Германии. Не будем
называть здесь других музыкантов более узкого
диапазона и местного значения.
Программа Коммунистической партии Советского
Союза указывает: «Все возрастающее значение в
политическом и идеологическом арсенале империализма
приобретает клерикализм. Он не ограничивается
использованием церкви и ее разветвленного аппарата.
91
Он располагает теперь своими крупными
политическими партиями, стоящими у власти во многих
капиталистических странах». «Создавая свои профсоюзные,
молодежные, женские и другие организации,
клерикализм раскалывает ряды рабочего класса, ряды
трудящихся. Монополии щедро финансируют клерикальные
партии и организации, эксплуатирующие религиозные
чувства трудящихся, их суеверия и предрассудки».
Эти слова программы КПСС имеют глубокое
значение также для музыки и музыкантов. Тайное они
делают явным. Клерикализм проникает в
профессиональные, творческие, концертные организации
артистического мира, он эксплуатирует религиозные
чувства и надежды этих людей, играя на воображении,
фантазии, мечтательности художников, на их легко
воспламеняющихся эмоциях и склонности эстетски
поэтизировать старинные верования и обряды.
Нельзя обойти здесь молчанием и роль поэзии,
захваченной мистическими идеями: нередко именно
она выступает непосредственной вдохновительницей
музыки. Такие религиозно мыслящие, даровитые и
технически изощренные мастера слова, как Ст.
Малларме, Поль Клодель, М. Метерлинк, Г. д'Аннунцио,
Р. М. Рильке, были очень близки к музыкальные
кругам, и многие их произведения получили
воплощение в вокальном и инструментальном творчестве
Дебюсси, Онеггера, Хиндемита, Шенберга и других
композиторов современности.
Не миновала клерикальных влияний и оперная
сцена. Характерный факт: в XIX столетии на Западе
Европы в первом ряду репертуарных опер шли
произведения чисто светского, даже свободомыслен-
ного характера. Еще «Парсифаль» был явлением
единичным, даже исключительным и довольно
долгое время ставился лишь в бййрейтском театре.
Тогда в Германии любимым оперным героем из
деятелей музыкального мира был антипапист Ганс
Закс — неутомимый обличитель духовенства. Никто
не пытался оспаривать огромную популярность
этого образа. Однако времена меняются. Через сорок
пять лет после вагнеровских «Мейстерзингеров» бур-
92
жуазная публика шумно и даже демонстративно
подняла на щит «Палеетрину» Ганса Пфицнера,
эпигонски бледную оперу, в традиционных формах
восхваляющую музыканта — доброго католика, и папство
как великодушного покровителя искусств. Спустя 20
лет появилась еще одна сенсационная опера-апология.
На этот раз И. Хаас в «Товии Вундерлихе» поднял
голос в защиту религиозного творчества и создал
музыкально-сценический вариант легенды о св.
Варваре, парадоксально соединив его с проблематикой
XX столетия.
Во Франции, со свойственным ее общественной
мысли насмешливым скепсисом и рационализмом,
путь религиозных исканий оказался более тернистым
и безуспешным как для церкви, так и для
композитора и оперного театра. Благосклонный прием,
оказанный оперному варианту «Марии Магдалины»
Жюля Массне, объяснялся никак не религиозным
сюжетом, но, наоборот, «чувственными соблазнами»
музыки. ! «Трагедия Саломеи» Флорана Шмитта,
несмотря на библейскую фабулу, воплощена была
скорее как хореографическая поэма ориентально-
языческого плана. Что касается «Мученичества
святого Себастиана» Клода Дебюсси, то успех
произведения, правда, кратковременный, связан был не
только с красотами партитуры, но и с тем
пикантным, привлекательным для публики обстоятельством,
что произведение подверглось интердикту
католической церкви во Франции и Италии. Наконец,
наиболее религиозное из этих сочинений — «Легенда о
святом Кристофе» Венсана д'Энди вообще не имела
успеха. Как видно, религия оказалась плохим
проводником оперно-балетного спектакля на парижскую
сцену.
А вот и совсем недавний пример. Один из
талантливейших композиторов-гуманистов современной
Франции, Франсис Пуленк, автор многих
произведений, покоряющих жизнелюбивой народностью
образов, свежестью отзывчивых песенных интонаций, бо-
93
гатством ритмов, чутко подслушанных у жизни и
природы родной страны, в послевоенные годы стал
все чаще обращаться к религиозной теме и духовным
жанрам. Они расщепили цельное и светлое
творчество композитора, образовав в нем другую линию,
которая уводила «далеко в сторону от духовных и
социальных битв», как выразился об этих
произведениях Пуленка его соотечественник Серж Нигг. В
«Литании» *, «Stabat Mater»2, «Gloria»3
молитвенный экстаз согрет поистине трогательной
искренностью щемяще-скорбного и смиренного лирического
высказывания. Но это — музыка на коленях, и она
отвечает религиозно-эстетическим взглядам мастера.
Он говорит: «Высшее достоинство молитвы, по
моему разумению, — это настроение ревностного
смирения. Мое отношение к религиозной музыке по
существу своему искренне и — осмелюсь сказать —
интимно» 4.
Но ни в каком искусстве фантазия и искренность
художника не являются факторами самодовлеющего
значения. И если он, хотя и искренне, исповедует и
выражает ложные идеи, а фантазия его (драгоценное
качество музыканта!) отлетает непомерно далеко от
реальности, — жизнь рано или поздно берет свое
и воздает ему должное: эстетическое достоинство
произведения, как бы красиво оно ни оставалось,
оказывается ущербленным, его впечатляющая и духовно
организующая сила для народа ослабевает.
Невозможно слушать без горечи, как в сильно и
драматургически оригинально написанной опере
«Диалоги кармелиток» Пуленк обращает
сочувственные взоры к французскому монашеству и оплакивает
потери, понесенные церковью во времена революции.
Какой шаг назад после гражданских,
демократических завоеваний французской оперы прошлого столе-
1 Молитва-причитание.
2 «Мать стояла безутешна».
3 «Слава в вышних богу».
4 Цит. по книге Клода Ростана «Современная французская
музыка». Париж, 1961, стр. 41.
94
тия! В обстановке острой борьбы прогрессивных сил
против клерикальной реакции католические партии
восторженно приветствовали опрометчивость
большого музыканта. Зато широкая французская публика
со свойственным ей традиционным
антиклерикализмом демонстрирует по отношению к «Кармелиткам»
полнейшее равнодушие. Недаром писал недавно из
Парижа известный музыкальный
критик-обозреватель Р. Гофман:
«Авторы не проявляют умения находить
волнующие темы, способные тронуть молодую аудиторию. И
новые поколения зрителей стали относиться к опере
как к условному, устаревшему жанру,
существующему лишь для демонстрации «бель канто», мастерства
знаменитых «звезд». Ничто не может быть более
убедительным в этом отношении, чем «Диалоги
кармелиток» Пуленка: от прекрасной музыки зрителей
отпугивало либретто, целиком основанное на
абстрактных диалогах» 1.
Какой парадокс! «Галантная Индия» вольнодумца
Жана Филиппа Рамо, написанная еще в 1735 году —
в стародедовские времена, когда люди ходили в
париках да фижмах, — и теперь делает полные сборы.
А лучшая по музыке французская опера наших
дней — не прошло и десяти лет после того, как ее
сочинил едва ли не самый блестящий и набожный
среди современных композиторов Западной
Европы, — уже «старомодна» у себя на родине и выхо
дит из репертуара.
Пример этот поучителен. Сила оперного театра —
в его связях с передовыми идеями и движениями
современности. Ослабляя, разрушая эти связи, он
подвергает себя самой страшной опасности —
отчуждению от народа.
Итак, религиозная тема, ущемленная,
полузабытая, частично подвергнутая изгнанию в искусстве
XIX века, теперь — где широковещательно, а где
украдкой — вновь возвращала себе утраченные
позиции, а порою захватывала и новые. Это внедрение со-
1 «Советская музыка», 1963, № 5, стр. 139.
95
вершалось в различных стилях и формах
богослужебной, внекультовой духовной и даже светской музыки.
Композиторы консервативного толка, с религиозным
миросозерцанием, которое сложилось давно и
прочно запечатлелось в творчестве, в поисках утешения от
скорбей и потрясений продолжают обращаться к
мистическим образам своих вероучений, воплощая
их в традиционной манере прошлых столетий. Таких
авторов довольно много, но они не принадлежат к
ведущим мастерам, а сфера их действия
сравнительно узка: религия держит их по преимуществу в
церковной ограде, у них нет шансов на успех за ее
пределами.
Гораздо более глубокий и впечатляющий резонанс
приобретают религиозные устремления или
настроения действительно крупных художников, живущих
острыми проблемами нашего времени и способных
воплотить их широкими и сильными средствами
современной музыки. Их произведения ставятся и
транслируются, записываются и издаются, к их голосу
прислушиваются огромные аудитории. С
усовершенствованием техники, какой располагает теперь
музыкальное искусство, с культурным развитием масс
ответственность этих композиторов перед человечеством
необычайно возросла. И естественно, что, как бы ни
были бескорыстны и возвышенны импульсы, идейные
заблуждения и иллюзии их неизбежно западают в
душевный мир слушателей и рождают там порою
ответные отклики — болезненные «крики мира», в
которых звучат экстатические, но беспочвенные и
ложные видения, упования или беспросветно-мрачное
безверие заблудившихся.
Хотелось бы сказать в этой связи о религиозных
элементах в мировоззрении и творчестве
замечательного французско-швейцарского мастера Артура Онег-
гера. Не будем преувеличивать их значения.
Ошибочно было бы, однако, и обходить их по методу
«вынесения миросозерцания за скобки» — методу, иногда
проскальзывающему в теоретических и исторических
работах на темы музыкальной современности.
Убежденный гуманист, чутко и остро откликав-
96
шийся на животрепещущие гражданские темы эпохи,
он связан был" с демократическими кругами по
крайней мере двух европейских стран и создал широкий
круг произведений большого
прогрессивно-общественного звучания. В то же время, глубоко религиозное
воспитание, с юности усвоенные традиции
протестантизма, французско-католические связи
способствовали формированию у него, по собственным его словам,
«библейской» натуры. На протяжении всего почти
творческого пути Онеггер испытывал непреодолимое
влечение к воплощению сюжетов и идей, почерпнутых
из религиозных источников. Пасхальная и
Рождественская кантаты, оратории-мистерии «Царь Давид»,
«Юдифь», оратория «Святой Франциск Ассизский»,
кантата «Пляска мертвецов» на тексты из книги
пророка Иезекииля в интерпретации неокатолического
поэта Поля Клоделя — таков далеко не полный
перечень произведений этого рода.
В них много истинно человечной, волнующей и
облагораживающей музыки и, пожалуй, не меньше
глубоких идейно-эстетических противоречий. В
творчестве Онеггера религиозная тема закономерно
прошла свой большой и сложный цикл развития, и он
заслуживает того, чтобы на нем остановиться. Еще в
20-х годах написан был «Царь Давид», задуманный
как монументальная музыка к театральному
представлению типа традиционно-швейцарской народной
мистерии. Религиозно-библейский элемент,
фигурирующий там в качестве весьма активного
драматургического фактора, воплощен с вдохновенным размахом и
чудесной декоративной яркостью темброво-гармониче-
ского колорита. Пятьдесят лет тому назад это
отвечало, вероятно, и потребностям местного театрального
жанра, и неистраченным еще ориентальным
устремлениям французского искусства той поры. Легенда о
царе-псалмопевце воссоздана в плане гимна-дифирамба
высокому искусству, его служения страждущему
человечеству. Собственно же религиозный элемент как
бы растворен в могучем потоке сияющей красочной
музыки с антифонными хорами и псалмодийной ре-
читацией, с Давидовой пляской перед ковчегом и экс-
4 К. Розеншнльд
97
татическим «Аллилуйя» в финале. Таков был первый
этап этой эволюции.
Но совершенно иллюзорным было бы предпола
гать, будто граждански-гуманистическая и
религиозная линии в творчестве большого
художника-музыканта нашей эпохи могут развиваться параллельно,
гармонично сосуществуя и не вступая между собо
в идейно-эстетический конфликт. Эта конфликтность
существовала и раньше: мастера Возрождения, XVII
и XVIII столетий — Бах, Гендель и другие —
пережили ее в своем творчестве и остались несокрушимо
могучими, цельными художниками в борьбе за
прогресс, разум и жизненную правду искусства. Но то
было давно, и с тех пор положение изменилось. В
нашу эпоху чувства широких масс уже во многих
странах мира не являются более «вскормленными
исключительно религиозной пищей».
Исторически-прогрессивные элементы протестантского, анабаптистского,
пуританского и других им подобных движений
изжили себя и канули в вечность. И там, где это
произошло, уже отпала необходимость для художников
«собственные интересы масс представлять в религиозней
одежде». Все это не определило собою творчества
Онеггера в целом, но достаточно ясно сказалось на
нем.
В предвоенные годы, по мере того, как конфликты
буржуазного общества вокруг него становились все
катастрофичнее, а он все острее воспринимал их; по
мере того, как усиливалось влияние властителя его
дум, талантливого и католически-экзальтированного
Поля Клоделя, роль которого он безмерно
переоценивал, называя «крупнейшим поэтом нашей эпохи»,—
Онеггер по-новому услышал пронесенную им от юных
лет религиозную тему. Она стала для него темой-
спутницей гражданственных, противленческих,
обличительных мотивов его творчества. В смертный час
Жанны д'Арк незримый хор экстатически гремит о
величии божием, и кроткая богоматерь является
героине, чтоб утолить ее безмерные муки. В «Пляске
мертвых» бог поднимает к новой жизни «кости иссохшие»,
и некогда сильные мира, под сумрачно-фантастиче-
98
скую музыку сошедшие с гольбейновских фресок,
проходят перед вашими взорами трагически-смятенной и
бесславной чредой. Образы религии не погашают здесь
ни пафоса протестующей человечности, ни пафоса
патриотической инвективы. Но они неизбежно
привносят в драматургию «клоделевский» нюанс: велика
сила любви человеческой; но силы небесные —
высшие силы: «Мне отмщение и аз воздам»...
Третий и завершающий фазис этой эволюции
приходится на последнее пятнадцатилетие жизни
композитора и, прежде всего, на его симфоническое
творчество военных и послевоенных лет. Как известно,
высокие гражданственные и патриотические мотивы
продолжали нарастать и достигли кульминационной
вершины, когда в обстановке тягчайшего кризиса
военной эпохи Онеггер создал свои самые
мужественные детища — Вторую симфонию и «Песнь
освобождения». Любопытно, что в начале 50-х годов он
весьма скептически оценивал некоторые мистические
высказывания своего современника О. Мессиана. Но,
отвергая крайности ультраспиритуалистов, Онеггер не в
силах был отрешиться от того, что называл своею
«библейской» натурой. Это ограничивало его и
раньше, в 30-е годы. Но чем больше созревал и набирал
силу импульс симфонически-обобщенного воплощения
современности, тем в большей мере религиозные
мотивы становились активным препятствием на пути
полноценного решения современной темы.
Гипертрофия этих мотивов у огромного художника-гуманиста
лишила его драгоценнейшей способности —
образного видения реальной опоры и перспективы
общественного прогресса в бурях и битвах современной
жизни.
Светлые образы Второй и Третьей симфоний Онег-
гера в их драматургической роли очень отдаленно,
но явственно созвучны просветлениям брукнеровских
циклов. Это не столько хоралы, псалмодии, литании,
сколько темы обобщенного плана, возникающие где-
то на линиях, касательных к культовым жанрам.
«Симфонические персонажи», нашедшие воплощение
в этой сфере,—не силы активного действия, не образы-
4* 99
трибуны, не образы-бойцы. Это темы-утешения (des
consolations), темы озарения или прибежища
от скорбей и мук, кроткие, женственно-нежные,
почти смиренные. И — удивительное дело! — чем более
остро звучали у Онеггера мотивы социальной и
национальной трагедии его народа, тем отчетливее
раскрывался глубокий и неустранимый недостаток его
симфонической концепции: недостаток деятельной
духовной мощи его позитивных образов, недостаток
противленчества в них. Так, религиозная
тема-спутница гражданственного мотива стала
темой-антитезой зла; но антитеза эта, именно в силу религиозного
содержания, не могла привести к реалистическому
решению драматургического конфликта, глубоко
социального по своей природе. Отсюда — неотвратимо
наплывавший пессимизм, воплощенный не только в
литературных высказываниях', но и в его последнем
монументальном творении послевоенного периода —
Пятой симфонии («Di tre re»). Это человеческий
документ, волнующий искренностью и благородным
сочувствием человеку, он мучительно выстрадан
автором. В нем немало вдохновенных страниц
потрясающей скорби и силы. Но симфония, подобная «Трем
ре», — это не только личная драма или лирическое
излияние. Симфония — это в звукообразах
запечатленное миросозерцание, обобщение широкого круга
жизненных явлений. Симфония — это концепция, и
есть у нее своя философия и своя нравственность.
Жизнеутверждающие образы более ранних
произведений окончательно оттеснены здесь прозрениями
мыслителя, безутешно скорбящего о судьбах мира и
человека. Во Второй симфонии является проблеск
надежды, в Пятой наступает безвозвратная гибель
ее во всесокрушающем катаклизме. Религиозное
миросозерцание в тенденции своей всегда так или иначе
пессимистично. У многих пессимизм этот прикрыт
либо оттеснен восторженно-эмоциональным наплывом,
или романтической иллюзией, или попросту прикрыт
ханжеством. Но большой художник, до конца искрен-
1 Артур Онеггер. Я композитор М., Музгиз, 1963.
100
ний с собою и другими (а Онеггер был именно
таким), никогда не утаит его.
Весьма различные суждения в
музыкально-исторической и эстетической литературе высказаны и,
вероятно, еще будут высказываться об отношении к
религии со стороны Пауля Хиндемита. Деятельность
этого высокоавторитетного композитора,
исполнителя-виртуоза, теоретика, педагога и в самом деле
дает основания для подобных разногласий. Одни
усматривают в нем некоего «музыкального теолога»
наших дней, а в его проблемных произведениях
слышат едва ли не целую апологию современного
католицизма. Другие, наоборот, со всем возможным
рвением отгораживают творчество Хиндемита от религии и
даже от собственных весьма недвусмысленных
высказываний композитора на религиозные темы. Мы
хотели бы предостеречь читателя от подобных
крайностей. Пауль Хиндемит был на редкость многогранным
и превосходно технически вооруженным
представителем гуманистического просветительского
направления в современной западной музыке. Энергичный
противник уродливо-декадентского авангардизма, он в
зрелом периоде своего творчества стремился к идеалу
общительного искусства больших идей, высотоэтиче-
ских целей. Возрождая и по-своему переосмысливая
старинные музыкальные жанры и формы XVI—XVIII
веков, он создал чрезвычайно широкий круг
произведений, отмеченных художническим темпераментом,
живым интересом к людям. Его творческая манера
отличается энергичнейшим ритмическим импульсом,
логикой и мощным размахом полифонического
развития, великолепно слаженной и уравновешенной
конструкцией формы. Блестящий, порою несколько
абстрактный, технически изощренный интеллектуализм,
мысль, направленная к благородному и подлинно
человечному идеалу, — таков творческий облик
немецкого мастера. И все же этот «рационалист с
бесстрастным оком», с трезвым и деловито-рассудочным
образом мышления — рассудку вопреки,— не только
проявлял большой интерес к
музыкально-теологическим системам прошлого, но и отозвался на их идеи
101
в самых глубоких основах своего миросозерцания,
отозвался своим искусством.
Религия и искусство; религия и наука; религия "
нравственность — едва ли не центральные темы в его
наиболее проблемных операх «Святая Сусанна»,
«Художник Матис», «Гармония мира». Его первое
произведение самобытно-зрелого стиля — вокальный цикл
«Житие Марии» — написано на религиозные стихи
одного из христианнейших поэтов-лириков
современной Европы — Райнера Мариа Рильке. Перу Хинде-
мита принадлежит хореографическая легенда
«Возвышеннейшее видение» на сюжет из жизни св.
Франциска Ассизского, духовные хоры «День придет
неотвратимо», «Ангелы быстры», знаменитые мотеты на
латинские тексты для сопрано, тенора и фортепиано,
кантаты и множество поистине превосходных
обработок старинных духовных песен. Перешедший в 50-х
годах в католическую веру, П. Хиндемит пользуется
шипоким признанием западных церковных кругов. В
Лейпцигской Малой энциклопедии 1959 года он, пя-
дом с Иозефом Хаасом и Генрихом Лемахером,
Фигурирует в качестве «выдающегося церковно-католи-
ческого композитора» Германии XX столетия!.
Возникает вопрос: насколько реальна эта
принадлежность знаменитого мастера и обоснованы ли
притязания церкви?
Мы не можем разделить проскальзывающего
иногда в нашей литературе наивного и опасного
заблуждения, будто у талантливого художника правая
рука не ведает, что творит левая, и его искусство мо
жет якобы оказаться «неподвластным» тем ложным
философским взглядам, какие он исповедует. Нет,
религия, — даже та, которая провозглашает смирение
и покорность, — это идеология, по природе своей
авторитарная, властная и она-то никогда не мирится с
подобной автономией искусства. Творчество и вся
музыкальная деятельность Хиндемита как раз это и
доказывают: при всей мощи этой артистической инди-
1 Малая энциклопедия. Музыка. Лейпциг, 1959. История
церковной музыки, стр. 83.
102
видуальности у нее были свои слабые и теневые
стороны, противоречия и тесноты, в большой мере
обусловленные именно клерикальными связями и
религиозным миросозерцанием. Нигде это не проявилось
так ясно и остро, как в кульминационных
произведениях широкопроблемного характера — операх
«Художник Матис» и «Гармония мира». Указывают
иногда на мотивы обличения церкви, какие звучат в
обоих монументальных сочинениях мастера. И в самом
деле, особенно в «Гармонии мира», на материале
средневековых хоралов и духовных песен сильно и
ярко воссозданы картины темной и душной
старонемецкой жизни, с разгулом инквизиции, католической
догматики, косных сил, угнетавших науку о законах
вселенной и ее борцов. Эти великолепные страницы
составляют одно из бесспорных и ценнейших
достижений современной прогрессивной музыки. Но мы
никак не имеем права замалчивать того, что в
музыкально-сценических образах Хиндемита —
композитора и либреттиста — художник Матис и астроном
Иоганн Кеплер воплощены как глубоко религиозные
мыслители-индивидуалисты и их конфликт с
церковью разыгрывается и разрешается на религиозно-
философской, эстетической, этической основе.
Говорят, такова была «историческая правда» и даже
«историческая необходимость»! Но с этим невозможно
согласиться. Исторический Матиас Грюневальд
(Матис Готхарт) был все же многограннее и духовно
крепче хиндемитовского героя, завершающего свой
путь в одиночестве, душевно надломленным,
разуверившимся в свободолюбивых идеалах. В
действительности именно поздний период стал кульминацией
светлых и здоровых ренессансных мотивов у
противоречивого, мятущегося художника, и в этом смысле
историческая правда в опере нарушена, не говоря
уже о превратно — во многом — нарисованной
картине крестьянской войны. Еще более ошибочным
было бы полагать, будто возвращение живописца в круг
религиозных образов явилось исторической
необходимостью, связанной с потребностями и
«плодотворным» меценатством церкви. Конечно, история немец-
103
кого XVI столетия знала подобные «творческие
эволюции», но она закономерно и, следовательно,
необходимо создала также совсем другой тип художника
и иной путь его развития. Вспомним гениального
современника Матиса — Альбрехта Дюрера \ фигуру
куда более могучую и цельную. Наперекор
феодальной реакции, свирепствовавшей в Германии после
поражения Крестьянской войны, этот великий гуманист
во многом преодолел религиозно-церковные влияния
и потому поднялся до высочайших вершин
народности и реализма, какие возможны были в его стране
и в его эпоху.
Главный персонаж другой философской оперы
Хиндемита, «Гармония мира», Иоганн Кеплер —
точно так же благородный искатель истины,
мыслитель, воюющий против реакции и рутины. Партитура
этой философско-исторической драмы — одна из
самых значительных в современной музыке, а
возвышенная и величавая симфония «Гармония мира»
давно и заслуженно получила признание на мировой
концертной эстраде. Однако нельзя сказать того же о
произведении в его музыкально-сценическом целом.
Несмотря на впечатляющую вокально-симфоническую
характеристику героя в лирических эпизодах и
блестящие решения нескольких жанрово-исторических
сцен, широкая публика остается холодна к «Гармонии
мира» как к оперному спектаклю, и это закономерно:
в нем слишком много отвлеченного
философствования. В кульминационных, по замыслу, фазисах своей
партии Кеплер зачастую наиболее бледен и
риторичен; он не столько оперный герой, сколько
религиозный резонер. Его идеалы чисты, но абстрактны. Он
фанатически-непреклонно верит в пифагорейски-авгу-
стинскую музыку сфер и романтически-возвышенно
мечтает о грядущем небытии, ибо лишь там, за
пределами чувственно-данного, откроется ему во всей
абсолютной истинности красота вселенной. Апофеоз
астронома-мученика совершается в космическом
пространстве, куда фантазия переносит его с убогого
1 Оба умерли в 1528 году.
104
смертного одра. Небесные светила проплывают
перед ним, в их мистическом хоре звучит
кристаллически-прозрачная и холодная гармония мира (Musica
Mundana) l:
С мечтой, предчувствием, молитвенною верой
Поднимемся над скудостью земной
Превыше знания и поисков ума
И духом к всемогущему прильнем,
Пока нам отпущенья не дарует
В гармонии мирозданья бесконечной2.
Итак, драматический конфликт, хотя и связанный
с сюжетом из далекого прошлого, жизнен, он
впечатляюще звучит и для современного человека. Но
разрешение совершенно иллюзорно и зо^ет зрителей
спектакля к столь давно и радикально опровергнутым
наивно-религиозным неоплатоническим
представлениям о музыке и законах мироздания. По творческому
импульсу и идейному замыслу композитор ратует за
торжество свободного разума, за науку, новаторство
против косности и консерватизма рутинеров и
схоластов средневековья. Но в реальном итоге опера по
идеологическим устремлениям оказывается
раздвоенной в противоположных направлениях — между
наукой и религиозным постижением мира.
Все произведение задумано в своеобразном
нравственно-проповедническом плане и обращено к
широким, очень широким аудиториям. В этом — его
высший смысл, но именно с этой точки зрения цель,
поставленная художником, остается во многом не
достигнутой. Музыкальная метафизика, всегда
леденящая творчество, лишающая его живого чувства и
красок, в особенности несовместима эстетически с
оперной театральностью. Воплотить — более того,
1 В письме от 18 августа 1906 года к Виллему Менгельбер-
гу Малер дал отчасти сходную интерпретацию своей Восьмой
симфонии, однако без религиозного нюанса: «Представьте себе,
будто звуки и звоны вдруг наполнили вселенную. Это уже не
людские голоса, но планеты и солнца, плывущие по своим
кругам в мировом пространстве...»
2 Перевод мой.- К. Р.
105
красиво воплотить в музыке
религиозно-космологические суждения Боэция и Августина для
композитора, столь талантливого, эрудированного и
убежденного, вполне возможно, и Хиндемит блистательно
доказал это. Но «Гармония мира» убедительно
доказывает также, что нельзя сделать этого последовательно,
полно и точно, не нанеся чувствительного урона
самой музыке. Спросите у богословов, они скажут вам,
что религия по природе своей «трансцендентна», что
предмет ее — вне познания и чувственного опыта.
С точки зрения церковного идеала, «трансцендентна»
и религиозная живопись и религиозная музыка ]. Но
«трансцендентность» и художественность
принципиально чужды друг другу. Ибо искусство немыслимо
вне чувственно-воспринимаемого образа, его
познавательной ценности и красоты. Наглядное
представление и идея неразрывно связаны здесь между собою.
«...Без человеческих эмоций никогда не бывало, нет
и быть не может человеческого искания истины», —
говорит В. И. Ленин2. И применительно к музыке
это особенно важно. Напомним читателю, что самое
слово спектакль означает не что иное, как
зрелище, представление. И как часто партитура оперы
Хиндемита недвусмысленно свидетельствует, что
художник-музыкант в высоком стремлении к истине и
красоте мог и умел превозмочь в себе
поэта-мыслителя, плененного идеей «гармонии сфер». Тогда
музыка широким потоком неудержимо устремляется
поверх метафизических рассуждений, трогает и радует
эстетическое восприятие людей. Но далеко не всегда
так бывает в «Гармонии мира». Вот почему эта опера
в новых исторических условиях повторила до
некоторой степени старую ошибку «Парсифаля».
Философски-религиозная концепция выиграла, музыка так или
иначе проиграла.
Неправомерно было бы закрыть глаза на глубокую
и закономерную связь этого явления с философски-
1 См. Прот. Н. Трубецкой. Русское православное
церковное богослужебное пение. «Журнал Московской патриархии»,
1959 г., № 12, стр. 49—50.
2 В. И. Л е н и н. Соч., т. 20, стр. 237.
106
эстетическими воззрениями автора произведения.
В книге «Мир композитора», заключающей целое
богатство истинных и глубоких мыслей и обобщений,
эти последние странно и кричаще-противоречиво
переплетаются местами со своими
религиозно-философскими антиподами. Эрудированнейший музыкальный
•мыслитель современного Запада с безграничным
пиететом обращается к средневековым авторитетам
блаженного Августина, Аниция Мания Боэция, к
неоплатонику Никомаху и пифагорейцам античного мира.
Музыка, утверждает он, подобна религии, там цариг
принцип божественного воления, запечатленного в
законах вселенной, не подвластного человеку, его
разуму и хотению. Музыка вызывает в людях
воспоминания о пережитых ими эмоциональных состояниях,
но сама по себе она не выражает ни 'чувств
композитора, ни вообще человеческого смысла. Она выше
этого, ибо за ее звучащими формами простирается
«глубинная сфера иррационального». Там обитают
«скрытые тайны искусства. Их можно интуитивно
воспринимать, но невозможно постигнуть. Можно
заклинать их, но они не подвластны нашей воле. Они
отдают нам частицу своей красоты, но мы, живые
люди, никогда не овладеем ими. То—область
«непроницаемого». Музыка, как и вселенная, — это царство
гармонии К Но в жизни человеческой — увы! —
гармонии нет, усилия установить ее — тщетны. Великая
гармония — это освобождение от земного бытия.
«Чтобы достигнуть ее, нужно умереть». Потому
последуем завету Августина: смиримся, отречемся от
наивно-вульгарной приятности звучания,
преисполнимся благоговения к непостижимому, будем молить
провидение, чтобы оно, даруя хотя бы немногим из
нас способность мгновенного «видения» подлинной
красоты, «избрало нас провозвестниками своими»!
Странно и грустно читать такие суждения в книге
1 В современной французской музыке учение о гармонии
сфер нашло восторженного последователя в лице уже
упоминавшегося выше Андре Жоливе. В своей «Космогонии» для
симфонического оркестра он ищет «звучащего воссоздания, в
прямом смысле, космической системы универзума».
107
знаменитого музыканта, чью память мы чтим,
поборника большого искусства, которое служило бы делу
нравственного воспитания человечества, сближало бы
людей разных стран, общественных положений и
взглядов. Повторяем: в книге «Мир композитора»
высказано немало здравых, прогрессивных суждений о
музыке и музыкантах. Но исходные
историко-философские положения ее свидетельствуют, что автор
порою глубоко заблуждался в эстетических вопросах
своего искусства и что именно религия — главный
источник этих заблуждений. Вера в бога всегда
означала и ныне означает неверие в человека, его разум,
силы и возможности установить «гармонию мира»
здесь, на земле. Если музыка по самой эстетической
природе своей не имеет ни познавательной силы, ни
эмоциональной выразительности, и на вершинах
музыкально-прекрасного лежит вечный снег; если
высшее содержание этой эстетической сферы за
пределами человеческого опыта, а истинная гармония
«трансцендентна», — то что же может дать она
людям?
И все же книги о музыкальном искусстве — это
одно, а сама музыка — нечто другое. Мы не раз уже
отмечали, что, всегда необходимо связанный с
теоретическими воззрениями человека, ее создающего,
творческий процесс, в зависимости от исторических,
эстетических, психологических условий и
обстоятельств, может варьировать эти связи, делая их то
более тесными, то более отдаленными; то ясными, то
завуалированными; то элементарными, то сложными
и противоречивыми; то устойчивыми, то прерывными и
эпизодическими. В этом смысле даже среди
произведений, духовная принадлежность которых по сюжету,
словесному тексту или жанру не оставляет, казалось
бы, ни малейших сомнений, мы находим вещи, где
формально-религиозные мотивы воплощены в
решениях и интерпретациях откровенно мирского плана.
В XV—XVIII веках композиторы поступали так, не
только следуя могущественной традиции, но и в силу
исторической необходимости. Потому таких сочинений
было много, если не большинство. Композиторы XX
108
века все реже поступают подобным образом, ибо
традиция ослабела и действует ныне в очень узких
рамках, а историческая необходимость отпала вовсе.
Потому таких сочинений пишут немного, они все больше
становятся исключением из общего правила. И все же
они еще есть и встречаются также у Хиндемита.
Среди латинских мотетов, в большинстве сурово
религиозных по образному строю, обращают на себя
внимание"- Шестой («Были Иосиф с Марией») и
Одиннадцатый («И совершился свадебный обряд»),
где музыка воссоздает, в манере баховских кантат
или Рождественской оратории, реально земные и
бесхитростные, светлые образы народного быта.
Безосновательны назойливые претензии церковного
клира и на жизнерадостный балет «Nobilissima
visione» !, сюжетом для которого послужили легенды
о жизни св. Франциска Ассизского, не раз
привлекавшие музыкантов. Композитор обратился к этому
источнику, чтобы в характерном для его стиля
полидиатоническом ладе и традиционных жанрах старого
времени развернуть цикл поэтических картин из жизни
романского средневековья, преломленных на нео-
классицистский манер в фантазии художника XX
столетия. Легко отпадающие от основной сюжетной
линии, они приобретают самостоятельное
образно-выразительное значение. Трубадур поет свою старинную
майскую песню. Очерченные острохарактерным
рисунком, являются весьма обыденные персонажи:
покупатели сукна, нищенствующая братия.
Горделивый рыцарь гремит железными доспехами.
Энергичным маршем проходят солдаты. В степенном
движении наподобие сарабанды предстают нашим взорам
три женщины — видение из Данте или Боттичелли;
потом они исчезают под звуки нежнейшей сицилианы.
Начинается праздник, шумный и торжественный.
А вот и хиндемитовский «II Pensieroso» 2:
размышление-монолог в патетическом до миноре с угрюмой,
отрывистой интонацией. Идиллия: скрипач наигрывает
1 «Благороднейшее видение».
2 Мыслитель.
109
какую-то светлую мелодию, оплетенную ветвистой,
ласково лепечущей фигурацией. Контрастом из
старой народной легенды вторгается образ зверя:
свирепый волк (неуклюжая, дикая скачка триолей на
отрывистом, колючем штрихе) — и смиряющая его
кротость праведника (проникновенный хорал Франциска).
Или совсем другая картина: бедные люди под убогий,
примитивный напев справляют скудную свадьбу.
Конечно, благочестиво-смиренная лийттема святости
(хорал) прочерчена сквозь всю композицию, как
объединяющий и неотступно следующий за вами рефрен,
и это вполне созвучно сценарно-хореографическому
замыслу балета. Но чисто музыкальный рисунок
образа таков, что он скорее отстраняет, нежели
воплощает религиозно-лирическое Gemiith, трогающее душу
набожного человека. Композитор выступает здесь
скорее в амплуа пытливого наблюдателя,
зарисовывающего в некоей неоренессансной манере
характерные фигуры нищенствующего монашества. Красочные,
живописные, они чинно проходят перед слушателем
в пестрой веренице образов итальянской . старины.
И лишь в заключение торжественно и истово гремит
католический гимн: твари земные славословят своего
творца. Впрочем, и в этой формально культовой
концовке больше жизненной энергии, движения и
красок, чем у Листа — в бесстрастном благолепии
«Солнечного гимна святого Франциска». И вот
позволительно спросить: правомерны ли тут притязания
церкви на знаменитого немецкого композитора? Где
же здесь Блаженный Августин, где неоплатоническая
мистика Никомаха?
Но «Nobilissima visione», написанное еще в 1938
году, или Мотет об Иосифе и Марии — скорее
исключения, подтверждающие правило: когда религия
гнездится в душе даже у очень большого художника, она
лишает его цельности и ясности видения людей и
вещей, в какой бы степени он к ним не стремился. И чем
больше удается ему побороть и преодолеть в себе
импульсы, идущие от веры в сверхъестественное, тем
выше поднимается он к истинному постижению
явлений. От реалистического обмирщения религиозной ле-
110
генды — к религиозной интерпретации реальных
исторических фактов — таков диапазон противоречий
одного из самых просвещенных и многогранных
музыкантов-гуманистов современного буржуазного
Запада.
* * *
«Все отживающее стремится обновиться и
удержать позиции во вновь народившихся формах». Эта
замечательно глубокая мысль Карла Маркса вполне
применима и к нашей теме. При всей
заскорузлости и мертвящем догматизме клерикальное
движение, его эстетика и практика художественного
оформления его культов уже не довольствуются
одною лишь музыкой в старых или модернизированных
старых стилях. В погоне за душою человека XX
столетия они порою склонны экспериментировать в
современном и даже в ультрамодернистском духе.
Они ищут приверженцев не только среди людей,
погруженных в воспоминания о прошлом и невидящими
глазами взирающих на огромные перемены,
совершившиеся на земле за последние пятьдесят лет.
Клерикализм ищет веруюших и среди тех, кто вовлечен
в бурные процессы и события современной жизни, кто
живет и работает интенсивно, даже деловито, и кого
уже не трогают «погибших лет святые звуки» в их
первозданной, патриархальной наготе. Все чаще он
нуждается в музыке, которая выразила бы тщету
земного бытия, смиряла бы непокорных и славила
всевышнего в ладах, ритмах, темпах и тембрах
новейших современных систем. Опытным глазом он
подметил, что эти системы весьма преуспели в
искусстве эмоционально угнетать, подавлять, психически
травмировать слушателей. В эпатировании такого
рода современные культы заинтересованы теперь как
никогда раньше. Потому религии и церкви, — если
говорить об их деятельности последних десятилетий—
ищут верующих не только среди
музыкантов-консерваторов, но и среди музыкантов-декадентов:
конструкту
тивистов, додекафонистов 1 и т. п. И они находят их,
ибо формалистические течения в искусстве всегда
идеалистичны, а идеализм неизбежно тянется к
религии. Идеализм философский есть дорога к
поповщине, — учит В. И. Ленин. Сухая отвлеченность
современного музыкального декадентства, его глубокий
индивидуализм, его страшная чуждость реальной
жизни, неверие в красоту, полноценность этой жизни —
как многое в нем предрасполагает к вере в бога, в
сверхъестественное! Не случайно виднейшие столпы
музыкального модернизма — это люди религиозные,
и пишут либо писали они не только светскую, но и
духовную музыку. Назовем хотя бы Луиджи Далла-
пиккола и Гоффредо Петрасси в Италии, Арнольда
Шенберга, Эрнста Кшенека — в Австрии, Германии,
США; Оливье Мессиана, Андрэ Жоливе — во
Франции. Под пером этих весьма даровитых, но в большей
или меньшей степени духовно закрепощенных
религией музыкантов возникли странные гибриды
благочестивых размышлений и сверхмодернизированного
музыкального языка. Противоречивые, смятенные,
порою отталкивающе-болезненные, они слили воедино
религиозные искания буржуазной интеллигенции с
идеологическими стремлениями клерикальных кругов,
так охотно эксплуатирующих горести, разочарования
и иллюзии человеческие. Темы бедствий, потрясений,
трагических конфликтов современного человечества,
темы великих испытаний, утрат и надежд народов
мира могут быть полноценно воплощены лишь
средствами реалистического искусства. Но и здесь
религия громко заявляет о своих притязаниях и
прокладывает себе путь в музыкальном творчестве —
путь глубоко превратный и бесплодный. Недаром в
последние годы навстречу ей потянулись самые
уродливые, антиэстетичные течения авангардистской
музыки. Так, в Федеративной Республике Германии
сенсацией 50-х годов явились «Электронная месса» и
1 Додекафония — двенадцатитоновая система, звуки
которой применяются в жестко регламентированной
последовательности вне лада и ладовых тяготений.
112
электронная же «Песнь отроков» Карлгейнца Шток-
гаузена. Музыкальный авангардизм ищет в религии
респектабельного партнера, способного создать ему
репутацию вполне «добропорядочного», философски-
глубокомысленного, даже благочестивого течения.
Религия, в свою очередь, идет на этот альянс тогда,
когда, заинтересованная в подновлении своей
тысячелетней архаики, она заигрывет с
«ультрасовременностью» на^экстравагантном языке «последнего крика»
музыкальной моды.
Примечательна судьба одного из самых
талантливых музыкантов современной Франции — Оливье
Мессиана. Вторая мировая война и
немецко-фашистская оккупация столкнули эту одаренную, но
болезненно восприимчивую и экзальтированную натуру с
тяжелыми испытаниями: он познал горечь
национального унижения Франции и ужасы заточения в
концентрационном лагере. Будучи выдающимся
исполнителем-органистом (он играет в парижской церкви св.
Троицы), Мессиан смолоду обладал импульсивным
воображением художника, пережитое просилось на
музыку. Во всеоружии новейшей техники сочинения
он, вероятно, мог бы создать произведения, которые
укрепили бы французский народ в героические и
жертвенные годы. Но религия, с юных лет всецело
владевшая его душевным миром и его искусством, в
этот критический период отдалила его от жизни.
В ней и только в ней искал он и, как «добрый
католик», призывал других находить истинное утешение.
В то время французские музыканты-патриоты
слагали пламенные песни сопротивления, воздвигали
симфонические монументы памяти жертв фашистского
террора, прославляли Францию, истерзанную,
сражающуюся, непобедимую. Они обеими ногами стояли
на реальной родной земле. Мессиан иначе выразил
отношение художника к катастрофам и коллизиям
своей эпохи: в 1941 году он написал «Квартет на
конец света»! С тех пор церковь все теснее привязывала
его к себе. Чем более глубоко погружался певец своей
веры и славы Христовой в сферу «видений»,
«откровений», «таинств», тем больше его, техника и фантазия
из
сосредоточивались на поисках выразительных средств
и приемов письма, способных выразить
сверхъестественное, «очарование невозможностей». В этих
исканиях он обращался к самым разнообразным истокам:
грегорианскому хоралу и пению птиц, к
древнеиндийским мелодиям и приемам ультрамодернистской доде-
кафонной, серийной, даже «конкретно» шумовой
техники. Тогда возникли изощренные, экзотические,
порою парадоксально-чудовищные сплавы, и
музыкальная ткань произведений Мессиана в различных ее
интонациях и слоях звучала токами, шедшими от
страшно далеких друг другу сфер бытия, эпох и
цивилизаций. «Если мне нравится писать таким
образом, почему же я не могу свободно отдаться своей
фантазии?» — так вопрошает этот религиозный
индивидуалист. Ему удается иногда достигать яркой
выразительности, интересных, совершенно необычных
звучаний, которые, возможно, и в самом деле
гармонируют с представлениями верующих о
потустороннем мире. Но такая «свобода» индивидуальности
совершенно иллюзорна. Вера в провидение — вот его
категорический императив. Идеал О. Мессиана —
«музыка истинная, то есть духовная музыка, которая
была бы актом веры и, касаясь любых явлений, не
утеряла бы касания божества...». «Музыка должна
обладать всей мощью, чтобы выразить наше
постижение святого духа в сумерках бытия, чтобы
распахнуть там, высоко на горе, двери темницы нашего тела,
чтобы напоить наш век святою водой, которой он так
жаждет...» «Лишь тот велик, с кем говорит бог, и
лишь тогда велик, когда с ним говорит бог» ].
Вот почему мы никак не можем согласиться с
теми, кто в «теологически звучащей радуге небесной»
музыки Мессиана слышит лишь «светлую поэзию
красоты зримого мира» или «очаровательно наивный
пантеизм», говорящий будто бы против тех
музыковедов, кто ищет «мистики и метафизики» в его
произведениях. В лучшем случае, это недоразумение: музы-
1 Оливье М е с с и а н. Техника моего музыкального языка.
Париж. Изд. А. Ледюк, #1955, стр. 4—5.
114
ковед-искатель мистики — это прежде всего сам
Оливье Мессиан, кстати сказать, профессор гармонии,
анализа и эстетики в парижской Национальной
консерватории и Певческой школе.
И вот возникает вопрос, неотвратимый и
неумолимый даже для самого талантливого и искусного
художника-спиритуалиста: что дало его искусство, по-
своему поэтическое, болезненно выношенное,
таинственно сверкающее, но почти всегда отрешенное от
реальности, народу Франции в критический период
его истории? Укрепило ли оно духовно простых людей,
которые помыслами и делами своими всецело здесь,
в реальном мире? Чему оно учит, это искусство? Кому
служит? Куда зовет? Да, Мессиан необыкновенно
талантлив, артистически изобретателен, но религия и
церковь направили это дарование, самобытное и
изысканное, в большой мере мимо самых глубоких и
насущных интересов французской нации. Его
творчество — и тут сам он прав — явление сумеречное. Но
не на горе оно, а в глубокой лощине современного
искусства. И не ему дано распахивать двери темниц
XX столетия. Соединение религиозной фантастики,
ориентальных мотивов самого утонченного
модернизма середины XX века, оно свидетельствует о громад-
ком техническом мастерстве музыканта и о глубоком
кризисе буржуазной культуры.
Мы хотели бы со всей определенностью
подчеркнуть здесь, что речь идет о мертвящем влиянии
религии и церкви отнюдь не только христианской —
католической, евангелической, православной и иной. Нет,
христианство не составляет исключения из пpaвилav
гласящего, что «в буржуазном обществе церковь
является опорой и орудием господствующих классов,
которые используют ее в целях порабощения
трудящихся» К Весьма показательны в этом смысле и
устремления современного иудаизма, ьлияние
которого в музыкальном мире капиталистической системы
особенно активизировалось после первой мировой вой-
1 Постановление ЦК КПСС от 10 ноября 1954 года «Об
ошибках в проведении научно-атеистической пропаганды среди
населения». «Правда» от 11 ноябоя 1954 гола.
115
ны. При всей фанатической приверженности
библейской старине, догматическим правилам и традициям
Талмуда 1, иудейская религия XX века также
выступает подчас облаченной в музыкальные образы
модернистского стиля. И здесь нашим взорам
открывается та же злосчастная судьба музыки и
музыкантов. Начиная с 1915 года виднейший лидер
музыкального модернизма, создатель атонального строя,
а позже додекафонной системы, Арнольд Шенберг
посвятил идеям и образам иудейской религии целую
серию крупных произведений: оставленную в эскизах
ораторию «Лестница Иакова», оперу «Моисей и
Аарон», кантату «Кол. Нидреи» и другие. Среди этих
сочинений сам композитор особое и главное значение
придавал своей опере, впрочем, также оставшейся
незаконченной. Здесь он выступает в роли религиозно-
этического проповедника и, обращаясь к еврейскому
народу, более того — к человечеству, ставит перед
ними «проклятые вопросы» современной жизни. Но
как! Музыка оперы (двух первых ее актов) написана
по двенадцатитоновой системе, вне лада,
тональности, и поэтому она остается, конечно, страшно
далекой, темной и чуждой для людей, во имя которых
Шенберг долго и мучительно вынашивал свое больное
детище. Правда, этот музыкальный язык, совершенно
отвлеченный, искусственный, говорящий вне времени
и места действия, а к тому же, болезненно
перенапряженный, психопатически взвинченный,
по-своему отвечает замыслу композитора. Но это происходит
лишь потому, что замысел оперы так же отвлечен,
искусствен, неврастенически-болезненно «взвихрен», как
и ее язык. Когда-то легенды древнеиудейского эпоса
волновали массы; Гендель, Россини и другие мастера
воплощали в них передовые, демократические идеи, и
эта музыка вдохновляла народы на борьбу за свободу
и независимость. Однако времена изменились.
Иудейский пророк Моисей и первосвященник Аарон; чудо,
являющееся пророку: неопалимая купина — куст,
1 Книга религиозных законоположений, особенно мелочно и
властно регламентирующая поведение человека иудейской веры
в быту, семейной жизни.
116
горящий и несгорающий, десять заповедей,
начертанных богом на священных скрижалях в назидание
человечеству, — кому близки теперь эти
потускневшие и наивные библейские образы, кого могут они
духовно поднять и укрепить? Но Шенберг,
талантливый, честный и ищущий художник,
широкообразованный музыкант, впал в глубокое заблуждение: он был
фанатически религиозен и потому искренне убежден,
что лишь^вера в бога призвана спасти человечество от
пороков и страшных трагедий современной жизни. Его
Моисей 1 — религиозный мыслитель, несущий своему
народу спасительные заповеди божий. Но народ,
опьяненный греховными страстями, поклоняющийся
золотому тельцу, не приемлет пророка, он глух к его
учению. И тогда иудейский вождь, охваченный
горьким скепсисом, в отчаянии разбивает скрижали, на
которых записан закон божий. В таком толковании
конфликт религиозного мышления (Моисей) и
стихийно-чувственного наслаждения жизнью (народ)
совершенно ложен. Культ богатства и прожигания
жизни всегда был чужд массам. Религия же никогда
не способна была указать людям истинный путь в
жизни. Так Шенберг пришел к результату, поистине
роковому для честного и идейного художника. Он
ставит общечеловеческие вопросы, но обращается к
слушателям на музыкальном языке, который доступен
лишь немногим избранным. Он провозглашает высшим
принципом служение народу, но в его опере народ
слей и глух к этической проповеди и никак не
нуждается в ней. Автор прославляет человеческую мысль,
но она оказывается практически бесплодной. Он
возвеличивает божественное провидение, но,
провозглашая свои моральные истины, небеса не могут или не
хотят утвердить их на земле. Бог указывает народу
путь к спасению и в то же время преграждает его!
Следовательно, провидение или бессильно, или
коварно по отношению к людям. Отсюда — в минуту
1 В действительности ветхозаветный пророк, легендарный
автор «Торы» («Пятикнижия») Моисей и родоначальник
иудейского жречества Аарон не исторические лица, а мифологические
персонажи.
117
разочарования отпадение пророка от закона божия.
Религия на сцене и на словах представлена самой
высокой и могучей силой мира, но в музыке оперы
именно ее образы (речитативная партия Моисея) всего
бледнее и немощнее. Слепая чувственность
осуждается этически, но музыкально она доминирует, ей
принадлежит самая сенсационно-яркая, эпатирующая
страница оперы — бесстыдная оргия масс вокруг
золотого тельца.
Таковы глубокие противоречия Арнольда
Шенберга и его неоконченной оперы «Моисей и Аарон». Как
видно, «религиозный модернизм» — на этот раз уже
не христианского, но иудейского толка — вновь
оказался несовместимым с гуманистическими
стремлениями композитора и обрек его на трагическую неудачу.
Апологеты христианской церкви, богословы от
музыкознания нередко ссылаются на Игоря
Стравинского, одного из самых блестящих и репертуарных
композиторов XX века, сохраняющего долгими
десятилетиями клерикальные связи и творческий интерес
к духовным жанрам. Однако «аргумент от
Стравинского», по нашему убеждению, свидетельствует не в
пользу религии, а против нее. Глубоко прав был
В. И. Ленин, указывая: «Кроме фантазии, в религии
крайне важно Gemuth1... практическая
сторона. .. поиски лучшего, защиты помощи etc... В
религии ищут утешения (атеизм — де trostlos 2)» 3.
Есть музыканты, у которых вы не услышите ни
жертвенного экстаза «Литургической симфонии», ни
религиозно-космологических конценцийХиндемита, ни
этических исканий Шенберга или откровений
сверхъестественного в духе «Молодой Франции». Это
бесстрастные и холодные мастера стилизации. В их
творчестве месса, мотет, псалом, мистерия не более,
как материал, «жанровый препарат» для эффектного,
умного, а когда и утилитарно-интересного
музыкального эксперимента. Они могут быть субъективно ре-
1 Душевность (Прим. автора).
2 Безотраден (Прим. автора).
3 В. И. Ленин. Соч., т. 38, стр. 62.
118
лигиозны, но, как художники, не столько исповедуют
свою религию, сколько эксплуатируют ее. Именно
таков, думается нам, в своих духовных жанрах виртуоз
виртуозов современного модернизма Игорь
Стравинский. Когда-то в молодости, в дни «Весны
священной», он пленял красочностью и варварски
жизнерадостными импульсами в чисто декоративной трактовке
обрядовой темы. Но то была обрядность языческая.
С тех пор'прошло около полустолетия, и за это время
стиль мастера потускнел и совершенно утратил
терпкую свежесть эмоций. Этой эволюции подверглись у
Стравинского и всплывшие тем временем духовные
жанры, связанные с музыкой христианской церкви.
Они особенно привлекли его в течение последних
десятилетий — после эмиграции в США и с переходом в
католическое вероисповедание. «Симфония псалмов»
в строгом стиле, Месса для хора мальчиков и
ансамбля духовых, додекафонная Кантата в честь св.
Марка «Canticum sacrum», религиозная оратория
«Френы» (тоже додекафонная) на тексты библейских
плачей пророка Иеремии, священное представление с
музыкой на библейский сюжет «Ной и потоп» (с
парадоксально примененными приемами американского
«шоу») — таковы основные вехи на этом пути. Почти
все произведения, названные здесь, чрезвычайно
искусно, виртуозно, изощренно, иногда, как, например
«Симфония псалмов», поэтически написанные в самых
различных стилях, от нидерландского строгого письма
и до сериального включительно, — внутренне
холодны и сухи. В них нет «Gemiith» — религиозного
чувства и настроения. Они не побуждают к иллюзорным
«поискам лучшего», они не способны утешать
малодушных, а, судя по их замыслу и образному
содержанию, даже не претендуют на это. По существу
своему это не религиозная музыка. Не найдете вы в ней
и тех красот народной поэзии, которые в древнем
религиозном обряде так неотразимо пленяли Римско-
го-Корсакова и его учеников. Теперь краски потухли,
неистовство варваризмов сменилось планомерной
деловитостью конструктивиста. Стравинский —
всесветно (признанный мэтр музыкального мира, но там, на
119
религиозно-церковной земле, он чувствует себя и
действует скорее как великолепно технически
оснащенный пришелец, привлеченный красотами старинного
церковного мелоса, полифонии и интенсивно
разрабатывающий золотоносную жилу культового искусства.
Мы, разумеется, не упрекаем его за это. Мы лишь
констатируем факт: музыке одного из крупнейших
композиторов современности, обеими ногами стоящего
на почве буржуазной культуры и бережно хранящего
церковные связи, чуждо религиозное вдохновение. А
это — тоже знамение времени. Недаром церковь
принимает эту музыку учтиво, однако же, без всякого
энтузиазма: ей слышится там зловещий мотив
собственной немощи, и тщетно она силится «сделать
хорошую мину при плохой игре». Вот почему «аргумент
от Стравинского» представляется нам слабым.
Итак, вот о чем свидетельствует музыка,
объективные факты ее истории. Что можно
противопоставить им? Иногда верующие ссылаются на то, что
активно действующих религиозных мыслителей можно
встретить среди весьма видных музыкантов —
деятелей прогрессивных общественных течений
современности. Указывают, например, на теолога д-ра Альберта
Швейцера, выдающегося эльзасского музыковеда и
виртуоза-органиста, бескорыстно посвятившего свою
жизнь .врачебной деятельности в экваториальной
Африке и борьбе в защиту мира. Но подобные
доводы, хотя и строяхся на ярких и многозначительных
фактах, сами по себе нисколько не убедительны, они
скользят далеко мимо цели. Конечно, д-р Швейцер —
светлая и благородная личность. Однако истинной и
высшей побудительной силой, направляющей его
прогрессивную деятельность, является не свойственная
ему религиозность, но совсем другие нравственные
качества его человеколюбивой и великодушной натуры.
Именно религия нанесла реальный ущерб научно-
музыкальным трудам А. Швейцера и определила
собою черты известной ограниченности, более того —
тенденциозности метода, который применен им в
высокоценном исследовании об Иоганне Себастьяне
Бахе. С другой стороны, возникает вполне законный
120
вопрос. Д-р Швейцер связан с миссионерским
движением и, очевидно, верит в идейную силу и моральную
чистоту этого движения. Но не заблуждается ли
он? Чем объяснить, что в большей своей части
миссионеры, подвизающиеся в африканских, азиатских и
других странах, будучи никак не менее религиозны,
чем сам А. Швейцер, в вопросах мира и войны,
колониализма и прав народов на самоопределение, роли
национальной культуры и искусства в
антиимпериалистской освободительной борьбе занимают прямо
противоположные ему, Швейцеру, позиции
воинствующего колониализма и империализма? Ведь
общеизвестно, например, что не десятки, но тысячи
католических, евангелических и иных колонизаторов в
сутанах заняты искоренением «к вящей славе божией»
исконно национальной светской и духовной- песенности
порабощенных народов. И теперь, в эпоху распада и
крушения колониальной системы империализма,
церковь продолжает наводнять свои африканские,
азиатские и другие епархии христианскими песнопениями,
призывающими к кротости, смирению, к
непротивлению угнетателям. А ведь «кто утешает раба, вместо
того чтобы поднимать его на восстание против
рабства, тот помогает рабовладельцам» {. И вот мы
повторяем: миссионеры-колонизаторы, злейшие враги и
духовные угнетатели тех самых колониальных рабов,
лечению которых посвятил себя д-р Швейцер, —
религиозны! Здесь есть над чем задуматься верующему
человеку. У нас глубоко уважают Альберта Швейцера,
как музыканта-гуманиста, врача и общественного
деятеля, борющегося за мир, прогресс и культуру
народов. Но мы столь же глубоко убеждены в том, что
религиозные догмы так же мало питают эту
деятельность, как мало связаны с религией и реальные
творческие достижения Артура Онеггера, Пауля Хинде-
мита или Игоря Стравинского. Наоборот, факты
истории и современности непреложно свидетельствуют и
обличают: религиозный мир не только стремится
подчинить себе музыку и музыкантов внешними средства-
1 В. И. Ленин. Соч., т. 21, стр. 206.
121
ми, материальными, политическими и иными, но
теснит душу художника и творчество также изнутри. Он
воздвигает узкие границы и преграды художественной
и жизненной правде, затуманивает ясность мысли и
формы, сковывает чувства, обедняет фантазию, лишая
ее простора, свободы движения, света и красок.
Такова уж природа религии — «врага культуры и
прогресса, который держится тысячелетия» 1.
* * *
Тем не менее, богословы и церковнослужители
очень любят ссылаться на историю. При этом они
обходят и замалчивают важнейшую особенность
культурно-исторического развития человечества: самые
прогрессивные и плодотворные эпохи в истории
художественного творчества стран и народов — это никак
не эпохи широкого распространения религиозных
верований, духовного всевластия христианской,
мусульманской или иных церквей мира. Справедливо писал
выдающийся армянский просветитель М. Налбандян.
«Ни один народ не достиг высших ступеней
просвещения под руководством духовенства... Просвещение
тем основательнее, чем свободнее и независимее оно:
ростки просвещения не могут зазеленеть в рабстве».
Нет, истинно прогрессивные эпохи проходили и
проходят под знаком могучих приливов
освободительной борьбы масс, либо глубокого осмысливания,
обобщения накопленного ими опыта. Это эпохи умствен:
ного прогресса, страстных исканий истины в науках
и искусстве. Художники этих эпох служили своему
народу и духовно воспитывали его не для загробной,
но для реальной земной жизни. «Только в борьбе и
битвах с жизнью творится великое», — справедливо
говорил В. Г. Белинский.
Потому и нравственно-философские наставники,
вдохновители музыкального творчества прогрессивных
эпох — это не благочестивые отцы церкви, не
мистики-духовидцы, но пытливые и смелые умы, борцы про-
1 В. И. Ленин. Соч., т. 15, стр. 375.
122
тив темноты и суеверий, за торжество разума, за
научное познание реального мира. Благородное
стремление к художественной правде и дерзновенное
свободомыслие были живительными импульсами в
развитии музыкальных культур древнего Востока,
невзирая на их широкие религиозно-мифологические связи
и истоки. Сошлемся здесь на один из самых
убедительных фактов из истории культуры Востока. В
книгах священных песен древней Индии — Ведах и ее
знаменитых эпических легендах-сказах
мифологические мотивы переплетаются с правдиво
запечатленными картинами народного быта, а сатирические черты,
какими обрисованы местами образы жрецов и
священнослужителей, не оставляют сомнений в том, что
ростки свободомысленных противокультовых
настроений уже в те страшно далекие времена пробивались
сквозь толщу религиозно-обрядовых традиций в
искусстве народа.
На западе Европы — мы уже говорили об этом—
вольнолюбивое, морально чистое, правдивое и
мужественное музыкальное искусство мирового значения
создала античная Греция. Один из первых ее
философов-материалистов, основатель элейской школы
Ксенофан был рапсодом и в песнях-поэмах (их
отрывки сохранились до наших дней) воспевал свое
учение, разнося его по стране. Другие выдающиеся
представители материалистической философии —
Гераклит Эфесский, Демокрит, Эпикур (а
впоследствии его римский последователь Лукреций) много
сделали для обоснования и развития науки о музыке.
Гераклит из Эфеса — основоположник гармонии.
Поборница правды и человечности — греческая
трагедия была высокой музыкальной драмой своего
времени. Ее богоборческие искания и порывы
общеизвестны. «По правде, всех богов я ненавижу!» —
восклицал Эсхилов Прометей — титан, осмелившийся
поднять руку на закон божий во имя благородной цели—
согреть и осветить жизнь человечества. Эсхил
почитался греками как один из величайших создателей
музыки античного мира. Его мелодии безвозвратно
утеряны, и мы, очевидно, никогда не узнаем, как зву-
123
чали дерзкие напевы «Прикованного Прометея». Но
впоследствии Бетховен, Шуберт и другие композиторы
не раз пытались иными музыкальными средствами
воссоздать образ этого, говоря словами Маркса,
«самого благородного и святого мученика в философском
календаре».
Спешим оговориться: эта линия в истории
греческой музыки не была единственной: многие
музыканты оставались глубоко религиозными, многие стояли
на почве идеалистической философии и эстетики.
Однако прогрессивное направление преобладало в
период высшего расцвета греческой музыки, а в полосу
упадка она вступила как раз тогда, когда, в связи с
общим кризисом античного общества,
религиозно-мистические взгляды и учения неудержимо разрослись
по всему эллинистическому миру.
И в средние века, когда повсюду на Западе
католическая церковь осуществляла самую жестокую,
кровавую диктатуру, народные массы и их любимцы —
странствующие певцы сложили множество песен
против духовенства, — песен, осмеивавших богословские
догмы и культовые обряды. Противоцерковные
мотивы проникали в рыцарскую поэзию и даже в среду
духовенства. Бродячие «клирики», исходившие все
дороги Европы, распевали «нечестивые», или «грубые»,
стихи. Порою в храмах отслуживались так
называемые «ослиные обедни» — пародии на воскресную
службу, и некоторые свободомыслящие епископы,
рискуя навлечь на себя гнев и проклятие церкви,
сочиняли музыку для этих кощунственных действ.
Своею особой, самостоятельной дорогой шел
прогресс музыки на закате средневековой культуры, в
эпоху Возрождения. Путь этот всего меньше
предуказан был церковью. Его знаменем стала не религия,
но прямо противоположное ей жизнерадостное
свободомыслие. В сочетании с первым натиском
пробуждавшихся масс на устои феодализма, оно оттеснило
религиозно-католическую идеологию с авансцены
умственной жизни и сломило духовную власть церкви.
Итальянский, французский, испанский, чешский,
немецкий гуманизм поднял голос против церкви, в за-
124
щиту человека. Петрарка в канцонах бичевал папство,
Бокаччо, Мазаччо, Сервантес дерзко насмехались над
церковниками.
И музыка Возрождения черпала вдохновение в
передовых, гуманистических идеях своего времени.
Светская тема, тема реальной жизни, природы,
повседневного быта, темы любви, темы исторические,
политические — все они властно вошли в музыку и
утвердились в творчестве многих виднейших мастеров,
не говоря уже о народном искусстве изустной
традиции, где все громче и смелее звучали против церкви
свежие и страстные голоса возмущения, протеста,
защиты попранного человеческого достоинства. Не
случайно всю Европу обошла тогда галисийская
«Фолия», печальная песня безумной девушки, которую
жестокий церковный закон разлучил с милым. В
лучших своих образцах песенный фольклор эпохи
Возрождения поднимался до сильных и ярких обличений
неправедных деяний церкви, ее князей. Великий поэт-
самородок, певец немецкого народа Ганс Закс
прославил себя как отважный и неутомимый обличитель
папства и его прелатов, монашества обоих полов,
вопиющего разврата и чревоугодия монастырей,
стяжательства служителей культа — от пономарей и до
высокопоставленных князей церкви. Испанские
романсы и итальянские мадригалы, французские
героические и любовные песни, английские баллады и
застольные огромным, бурлящим жизнью потоком
хлынули в домашний и концертный репертуар.
Клеман Жанекен во Франции, Орландо Лассо в
Германии и Нидерландах, Вильям Берд в Англии
рисовали сочные жанровые картины, по смелости
реализма могущие поспорить с «Гаргантюа и
Пантагрюэлем» Рабле и «Декамероном» Бокаччо, и все
увенчивала собою опера, эта вершина музыкального
Возрождения и опаснейшая соперница церкви. Далее
возникла обширнейшая и почти вовсе независимая от
культа область искусства — светская
инструментальная музыка. Это было блестящей победой мирского,
а нередко и реалистического творчества. Тогда
культовые и внекультовые духовные жанры вынуждены
125
были потесниться и отступить. Светские, более того,
реалистические устремления проникли под своды
католических храмов, и в богослужебных песнопениях
нидерландских, венецианских, польских мастеров
перед смущенными взорами священнослужителей вдруг
открылся чуть прикрытый религиозно-сюжетными
ризами целый новый мир ослепительно яркой жизненной
правды, земной красоты. Ни контрреформация, ни
папские отлучения и запреты не могли остановить
этого движения: в нем обнаружился глубокий кризис
феодального строя, совершавшийся по неотвратимо
действовавшим законам общественного развития.
С каждым новым революционным ударом, который
восстававшие народы обрушивали на феодальную
систему, все более широкие области музыкального
искусства высвобождались из-под влияния религии и ее
этики. Самые отважные и мыслящие
художники-музыканты, ломая вековые привычки и традиции,
демонстративно противопоставляли свое творчество
притязаниям церковных кругов на верховное руководство
музыкальными делами.
С XVII—XVIII столетий музыка на западе и в
центре Европы вступила в свой классический период.
В самом начале его мы встречаем светлые и
величавые фигуры мастеров, воочию опровергнувших
обветшалый принцип Василия Великого: «Песнопение
стоит в связи с высшим созерцанием и божественною
догмой!» Композиторы и виртуозы блистательно
доказали обратное. Арканджело Корелли поклонялся
разуму и вовсе не писал церковной музыки. Гендель,
бестрепетно отметая обвинения в кощунстве,
воспользовался библейскими образами для воплощения
самых смелых революционных и
социально-обличительных идей. Иоганн Себастьян Бах, во имя нового,
гуманистического содержания, ломал окостенелые
церковные формы и, по словам Вильгельма Пика,
создавал в музыке «новый стиль, не связанный с
церковною догмой и церковным культом». Идейным
учителем венских классиков стал великий немецкий
просветитель Готхольд Эфраим Лессинг,
провозгласивший в назидание художникам:
126
Поверь ты мне, поверь, что человеку
Всегда милее человек, чем ангел.
Эту истину отлично усвоил, например, Иосиф
Гайдн. Кроме симфоний и квартетов, концертов и
сонат, он писал также культовую музыку. Но вот как
оценил ее такой проницательный слушатель и
критик, каким был автор «Пармской обители» Анри
Бейль, или Стендаль: «Когда кающийся грешник
оплакивает свои прегрешения у подножия алтаря, —
Гайдн часто рисует прелесть этих слишком
соблазнительных грехов, вместо того чтобы изобразить
раскаяние христианина». Сказано, как видит читатель, очень
ясно.
Обращался к культовым и другим духовным
жанрам сам Прометей музыкального искусства, великий
Бетховен. Однако в этих жанрах он либо бывал
бледен и искусствен, как, например, в оратории
«Христос на Масличной горе», либо давал им чисто
светское лирическое истолкование, как во вдохновенной
«Торжественной мессе» 1823 года. Нравственный
идеал, воплощенный в творчестве Бетховена, совершенно
противоположен религиозному идеалу набожной
умиленности и смирения. Его герой — даже не
библейский пророк генделевских ораторий: это
гражданин-борец, народный трибун, идущий во главе масс в
их праведной борьбе за счастье на земле, за жизнь
свободную и разумную. «Свобода, прогресс должны
быть целью искусства» — таков был девиз юного
Бетховена. А на склоне лет он сурово отверг
предложенную ему учеником благочестивую авторскую
подпись под завершенным произведением: «Окончил с
помощью божией» — и заменил ее гордыми словами:
«Человек, помоги себе сам». Музыка Бетховена, с его
«львиными порывами»1, глубоко и последовательно
динамична. Ее симфонизм, драматургия, мелос,
гармония существуют в непрестанном конфликтном
движении, развитии, источник и носитель которого, в
последнем счете, сама действительность, вечно текучая
1 Выражение Н. А. Римского-Корсакова.
127
жизнь. И чем шире развитие, чем неукротимее
движение, напряженнее конфликты, тем прекраснее
сама музыка.
Но религиозное мировоззрение и психологические
настроения, с ним связанные, — мы уже писали об
этом — по природе своей статичны. Его эфемерные
идеалы — предвечный бог, загробная жизнь,
бессмертие души — столь же неизменны, сколь и бесплотны.
Мистическим созерцаниям его чужды героические
импульсы, кипение страстей, живая жизнь с ее борьбой
и восхождением к новым вершинам. В словесных
высказываниях, даже в музыке своей Бетховен мог
обращаться порою к провидению, которое, .впрочем,
понимал пантеистически — в смысле
поэтически-образного одухотворения природы и преклонения перед ее
величием и красотой. Но его художественные
взгляды и творческий метод вступали в глубокое
противоречие с религиозными представлениями и идеями его
эпохи.
Мы никак не хотели бы упрощать сложный вопрос
и рисовать читателю элементарную схему истории
художественного творчества, которое в
действительности развивалось сложно и многолико, в
противоречиях и через противоречия. Реалистическое искусство
и материалистическая философия — явления
близкие, но не тождественные друг другу. Бетховен
испытал воздействие Шиллера, а Шуман — Гофмана,
хотя названные поэты по философским взглядам
своим были несомненные идеалисты. Бесспорно, однако,
что всякий раз, когда в философии складывались
мощные материалистические партии, разрабатывавшие
вопросы эстетики, они способствовали прогрессу
реалистических школ в музыкальном творчестве, могуче
и плодотворно влияли на него. В XVIII веке, в канун
Великой французской революции, властители дум
прогрессивного музыкального мира — это философы-
материалисты и воинствующие безбожники,
музыкальные критики-демократы, драматурги — обличители
церкви, комедиографы-реалисты. Духовный отец
западноевропейской комической оперы — основатель
итальянского реалистического театра Карло Гольдо-
128
ни. Во Франции огромное влияние на судьбы
оперного театра оказал такой вольнодумец и проклятый
церковью обличитель католицизма, как Вольтер. Дру
гой вдохновитель демократического оперного
искусства того времени, друг и философский наставник Кри-
стофа Вилибальда Глюка — воинствующий
материалист Дени Дидро. Ему принадлежит, между прочим,
весьма меткий афоризм, вполне применимый и к
искусству: «Религия мешает людям видеть, потому
что она пбд страхом вечных наказаний запрещает им
смотреть».
Не мудрено, что одной из самых смелых и
плодотворных жанрово-тематических линий музыкально-
театрального репертуара XVIII—XIX столетий стала
антиклерикальная и особенно антикатолическая
опера. Еще в 1741 году Неаполь поставил у себя
сатирический спектакль «Харчевня с приключениями»
Тринкера-Чарлоне. На сцене был показан
сомнительной репутации кабачок, а в нем за трапезою с
возлияниями — святые отцы, те самые, о которых
народная поговорка гласит, что сутана не делает
монаха. Церковный клир бесновался, а либреттист
поплатился тюрьмой. Зато опера сделала свое дело:
многочисленная публика не только покатывалась со смеху,
но извлекла должную мораль из сенсационного
спектакля. Через семьдесят пять лет Джоакино Россини
в «Севильском цирюльнике» вывел на сцену
неумирающий образ Дона Базилио. Это было вызывающе
откровенное обличение монашества, с его
интриганством, сутяжничеством, лицемерием, ханжеством.
Такого блеска и остроумия антиклерикальной сатиры
не знали ни итальянский, ни мировой оперный театр.
Еще через пятьдесят пять лет Джузеппе Верди создал
«Аиду», казалось бы, сюжетно далекую проблемам
европейской умственной и общественно-нравственной
жизни. Но и там, <в глубине экзотической фабулы,
затаен мотив осуждения религиозного фанатизма.
Духовно одержимое и непреклонное египетское
жречество представлено в «Аиде» могучей, темной и
беспощадно-жестокой силой. Она освящает
национальный гнет, человеконенавистничество, несет проклятие
5 К. Розеншильд
129
и смерть тем, кто осмелился пойти наперекор ее
велениям.
На противоцерковном поприще французская опера
соперничала с итальянской. В дни революционного
Конвента начала 90-х годов XVIII века Андре Гретри
написал «Республиканскую избранницу» с целой
сатирической пародией на церковную службу.
Духовенство выведено там в неожиданно новой роли:
сельский кюре \ увлеченный атеистическими идеями
Просвещения, присоединяется к восставшему народу,
слагает с себя духовный сан и демонстративно пляшет с
крестьянами — вчерашними прихожанами своими —
карманьолу. Это было знамением времени. В дни
революций 1830 и 1848 годов парижская улица звенела
насмешливыми и задорными песнями Беранже. Они
обличали пороки духовенства. С тех пор, вплоть до
наших дней, антиклерикальная тема остается одной
из самых любимых и самых острых в репертуаре
французской народной песенности.
В 1835 году на сцене Парижской Большой оперы
Фромантель Галеви поставил «Еврейку» («Дочь
кардинала»), а в 1836-м там же состоялась
блистательная премьера мейерберовских «Гугенотов». Обе
оперы были восторженно приняты широкой публикой
не только вследствие великолепной, ярко
выразительной музыки и сценических достоинств, но и
благодаря заложенной в них глубоко значительной
социальной тенденции. Недвусмысленно и со страстной
увлеченностью осуждают они католическую церковь,
ее кровавые преступления, религиозную нетерпимость,
обскурантизм. Обаяние этих произведений,
испытавших на себе благотворное влияние революции, было
очень велико. Достаточно сказать, что А. И. Герцен
принадлежал к числу самых горячих поклонников
«Дочери кардинала» — этой музыкальной драмы-
инвективы2 о преступлении пастыря церкви и его
наказании.
1 Священник.
2 Обличения.
130
* * *
А как обстояло дело у нас в России? Отношения
между религией, церковью и музыкой сложились в
нашей стране очень своеобразно. При всей ложности
мировоззрения и морали христианства приобщение к
нему в IX—X веках языческой Руси способствовало
профессионализации музыкального искусства. Со
времени просветителей Кирилла и Мефодия
православная письменность и обрядность сыграли свою роль в
защите славянских народов, их культур, языков,
песенности против наседавших с Запада правящих
клик католического мира. Древнейшая русская
нотопись была по преимуществу церковной. В критические
периоды татарского нашествия, набегов тевтонского
рыцарства, вторжений польской шляхты в
богослужебном пении православной церкви явственно
звучали патриотические мотивы. Вплоть до XVIII века
крупнейшие русские и украинские
музыканты-профессионалы принадлежали к церковному клиру, а
ведущими профессиональными жанрами оставались
богослужебные песнопения, духовный концерт и
разнообразные внекультовые напевы, слагавшиеся на
религиозно-поэтические тексты. Когда в России
сформировалась светская профессиональная школа, ее мастера
проявляли творческий интерес к богослужебным
жанрам и создали в этой области
музыкально-художественные ценности неоспоримого значения.
И в народном творчестве изустной традиции
реалистическая, в основе своей, природа нашей песни
более или менее затенялась порою религиозными
мотивами. Это было неизбежно в отсталой стране, в
условиях многовекового господства крепостного уклада
и патриархальной идеологии миллионных
крестьянских масс. «Большая часть крестьянства, — писал
В. И. Ленин, — плакала и молилась, резонерствовала
и мечтала, писала прошения и посылала «ходателей»1.
Молитвы же крестьянские и мечты, зачастую
религиозно окрашенные, испокон веков полагались на музы-
1 В. И. Л е н и н о литературе и искусстве. М., 1957, стр.204.
5* 131
ку. Отсюда — так называемые духовные стихи на
темы религиозных сказаний о различных чудесах, о
святых и всевозможных «божиих людях», древние
крестьянские напевы, связанные с сектантскими
культами. Некоторые исследователи, весьма
осведомленные в истории русского церковного пения, делали
отсюда далеко идущие тенденциозные выводы. Вот что
писал, например, в опубликованной уже в 1924 году
книге «Культовая музыка в России», А. В.
Преображенский:
«Народная жизнь древней Руси была так тесно
.связана с культом, была так глубоко пропитана его
воздействием, что искусство в своих высших формах
у русского народа могло быть только искусством,
вытекавшим из потребностей культа. Если вообще
религия не живет обособленной жизнью, а переплетается
со всеми видами духовной деятельности и со всеми
культурными отношениями, то не удивительно, — так
как древняя Русь была насыщена религиозной
атмосферой, — что церковь и народность стали как бы
нераздельны в ней и что — следовательно —
церковное 'искусство старой Руси было ее народным
искусством»1.
Мы не склонны безоговорочно отрицать все и вся
3 этом обобщающем высказывании. Да, в старину
русская народная жизнь и в самом деле связана была
с духовным культом и в большой мере насыщена
религиозною атмосферой. Но это отнюдь не означает
еще, будто церковь и народность существовали
нераздельно на Руси, и в высших своих формах искусство
народа было церковным либо вытекало из
потребностей культа. Более того, в этих словах А. В.
Преображенского заключена огромная историческая ошибка;
они опровергаются фактами и множеством
конкретных явлений русского музыкального искусства. Во-
первых, Русь и ее народ на многие века старше
русского православия, которое имеет в «виду А. В.
Преображенский, кстати, и сам признающий, что и после
•А. В. Преображенский. Культовая музыка в
России. Л., 1924, стр. 5—6.
132
крещения Руси «язычество продолжало долго жить в
быту русского народа» К Во-вторых, автор
«Культовой музыки», говоря о народности ее, совершенно
обходит принципиально важнейший исторический
вопрос о связях древнерусской христианской церкви с
правящим классом и феодально-княжеским
государством в России. В-третьих, искусство русского народа
даже в древности далеко не сводилось лишь к
культовому п,ению и не определялось главным образом
потребностями православной церкви. Оно было и в
профессиональном творчестве, а в особенности в
фольклоре, несравненно шире, богаче по образному
содержанию и проистекало из материальных и духовных
потребностей, более глубоких и исторически
необходимых, нежели только нужды церкви и ее ритуала.
Чисто религиозные темы, духовные жанры, хотя и
широко разросшиеся и достигавшие нередко
песенных воплощений изумительной красоты, все же
остались более узкой и «боковой» линией народнопесен-
ного искусства, пронесшего через века свою главную
и неумирающую жизненно реалистическую тенденцию.
Итак, до сих пор перед нами была лишь одна
сторона многогранного музыкально-исторического
процесса. По мере того как мы обозреваем другие
стороны, пути и явления русской истории и жизни, нам
открывается существенно иная, более полная и
верная картина.
Древнюю и художественно наиболее совершенную
форму русского церковного пения — знаменный рос-
пев, первые записи которого относятся к XII веку,
А. В. Преображенский считает отчасти подражанием
ветхозаветному псалму, а всего больше —
заимствованием из византийской гимнографии (Иоанна Да-
маскина, Андрея Критского и других гимнотворцев).
Но вспомним еще раз проницательное суждение
С. В. Рахманинова. Влияние церкви на русскую
музыку преувеличено; церковные музыканты сами
обращались к старинным народным мелодиям. Советская
1 А. В. Преображенский. Культовая музыка в России.
Л., 1924, стр. 5—6.
133
школа музыкознания все более убедительно
подтверждает, насколько прав был С. Рахманинов.
Знаменный роспев с его изумительными мелодическими
красотами восходит истоками не столько к религиозным
гимнам преподобного Андрея Критского, сколько к
русскому народному творчеству. К тому же не
только при общенародном («людие»), но и при клиросном
пении («лик») певчие из народа неизбежно
привносили в мелос и хоровой стиль интонации и приемы,
свойственные в той или иной мере мирской, главным
образом, крестьянской песенности. Отсюда —
вековые жалобы духовенства на «беззакония» и
«вольности», на «злогласования» и «мужицкие озорства».
Точно так же совершенно превратно ныне
опровергнутое фактами и документальными материалами,
отжившее представление, будто до XVII столетия о
полифонии на Руси не знали, а впервые она занесена
была к нам из западноевропейского церковнопевче-
ского искусства К Между тем, ко времени, когда з
русской церковной музыке впервые появились
песнопения многоголосного склада (так называемое
строчное пение), наша русская и украинская протяжная
лирическая песня, по природе своей насквозь мирская,
уже успела создать собственную
высокохудожественную подголосочную полифонию очевидно
повлиявшую на церковнопевческий стиль.
Следовательно, исторические факты опровергают
теорию церковной природы русской народной музыки.
Более того, на протяжении многовековой и
многострадальной истории русский народ сложил немало
песен, выразивших возмущение и протест протий
власти и произвола «казенной церкви», против поборов
и пороков духовенства. Есть песни, в которых звучит
сочувствие монастырским затворницам и затворникам,
губившим в бессмысленной схиме молодые силы:
«За святыми воротами черничка гуляла», «Не
спасибо игумну тому», «Как во городе было во Ка-
1 См. Протоиерей Н. Трубецкой. Русское православное
церковно-богослужебное пение. «Журнал Московской
патриархии», 1959 г., №№ 9, 10. А. В. Преображенский придерживался
сходной точки зрения.
134
зани» и другие. В трагической северной балладе
«Цирюлье-игуменье» изобличается настоятельница-
детоубийца. Древняя и мрачная старина «Князь,
княгиня и старицы» воссоздает зловещий образ черного
духовенства, клевещущего, губящего безвинные
детские жизни, цинично торгующего своими жертвами.
Есть песни, главным образом сатирические, и против
белого духовенства, его прожорливости,
стяжательства, лицемерия. Все это образы не случайные или
наносные', но типические; в них обобщен широкий
круг жизненных явлений, мучительных раздумий и
кровных интересов народных масс. Потому и
приобрели они значимость народной традиции и неизбежно
проникали в творчество композиторов, —
разумеется, тех, кто воплотил в своих произведениях
назревшие социальные и этические проблемы русской
жизни.
Еще в XVII—XVIII веках противоречие между
церковью и народом отозвалось нараставшим
разладом между религиозным и мирским началом внутри
самой духовной музыки. Особенно остро и широко
проявился он в церковном многоголосии. В
современном православном богословии господствует
историческая теория, согласно которой поворот к
.полифоническому складу и расцвет последнего,
совершившийся в русской церкви XVII—XVIII столетий, были
будто бы некиим великим грехопадением, своего рода
изменой исконным национальным и народным
идеалам. В работе «О церковном пении» (мы уже
ссылались на нее в другой связи) протоиерей Н.
Пономарев заявляет:
«Говорят, что народ привык к партесному пению и
любит его. Но всякую недобрую привычку следует
удалять. Не виноват народ, если его десятилетиями
приучали к театральному пению и расположили
отвыкнуть от пения истино церковного. Да едва ли и
верно, что народ любит светское пение в церкви» 1.
Исходя из той же концепции, Н. Трубецкой утвер-
1 «Журнал Московской патриархии», 1955, № 11,
стр. 11—13.
135
Ждает, что культовое многоголосие XVII—XVIII веков
на Руси «не имело высокой музыкальной ценности и
представляло собой всего лишь отпрыск и сколок
итальянского католического хорового стиля» *. Все
это никак не ново, заимствовано у более ранних
историков русского богослужебного пения, а главное —
совершенно ошибочно. Театральная (оперная)
музыка) в основе своей обладает совсем не «партесным»
складом. То, что русский народ любит многоголосие
и привык к нему, нельзя опровергнуть никакими
богословскими рассуждениями, ибо эта любовь и
привычка доказаны самим народным песенным
творчеством, его богатейшим прекрасным многоголосием.
Думать, что народ «приучили» или «расположили»
петь так или иначе, а он, народ, послушался и
«приучился»,— по крайней мере наивно: в реальной
истории народного искусства этого не бывало и не
будет. Что касается той оценки, какую Н. Трубецкой,
а до него А. Преображенский и другие давали
целому большому периоду истории церковного пения, —
периоду, связанному с блистательными именами
Н. Дилецкого, Н. Бавыкина, В. Титова и до Д. Борт
нянского включительно, — то оценка эта крайне
однобока и заходит значительно дальше известных
критических суждений М. И. Глинки, В. Ф. Одоевского,
П. И. Чайковского и А. Н. Серова. «Д. Бортнянский
был всеиело учеником Галуппи», — пишет Н.
Трубецкой2. Это — явное преувеличение. При
общеизвестных итальянизмах Бортнянского он оставался, в
основе своей, русским художником. Есть в его
церковной музыке черты южнорусской песенности, есть
величавая широта русского классицизма. Лирической
чувствительностью он недалек господствовавшему
направлению тогдашней русской литературы.
Но в чем нельзя не согласиться с протоиереем
Н. Трубецким, А. Покровским, Н. Казанским, так
это в определении действительного отношения музыки
Бортнянского к церковности и религии вообще. Внут-
1 «Журнал Московской патриархии», 1955, № И, стр. 63.
2 Т а м же, стр. 63.
136
ренний религиозно-музыкальный смысл этого
искусства и в самом деле был, как говорят его критики,
«скуден». Это-то и вызывает их особенное
раздражение и неприязнь. Крупнейший мастер церковно-хоро-
бых жанров своей эпохи, Бортнянский искренно
любил культовую символику, богослужебное благолепие,
но объективно всего больше сделал для внедрения в
духовную музыку концертности, образов и приемов
светского, мирского искусства. По партитурам
Концертов, Херувимских и других церковных сочинений
Бортнянского широко разливались песенные токи,
шедшие от опоэтизированных житейских дел и чувств.
Его мелос слишком часто близок к гибкой, певучей
оперной кантилене, а ритму свойственна подчас
хореографическая пластика. В ярко красочном колорите
его хоров есть чувственная прелесть, блеск и игра
красок реального мира, а ведь это так характерно
для светского художника! По своей эстетической
природе Бортнянский был не иконописцем, но скорее
Карлом Брюлловым или Федором Бруни русской
музыки.
Следовательно, речь идет не о нарождении в
России иноземных церковнопевческих школ — польской
(Бавыкин, Калачников, Редриков, Титов — все они
замечательные российские музыканты) или
итальянской (Бортнянский), но о широком и долгом периоде
постепенного обмирщения русской духовной музыки.
Еще при Петре I один из влиятельнейших
архипастырей, близкий к правительственным кругам, —
Феофан Прокопович выступил ярым противником церков-
нопевческой старины и особенно — монастырского
пения, а при царском дворе в маскарадах с
пением «песен Бахусовых» участвовали синодальные
певчие.
При Екатерине II церковные хоры зачастую певали
на оперной сцене, а итальянские мастера — Арайя,
Сарти, Галуппи — писали духовные концерты
оперного стиля. Спонтини, Гайдн, Моцарт, Глюк, подтексто-
ванные молитвенно-славянскими текстами, проникли
в русское православное богослужение. «Появилось
множество концертов «викториальных», поздрави-
137
тельных, веселых и тому подобного самого
несдержанного содержания и как бы в параллель к ним
в певческий обиход вошли «Отче наш» — птичка.
«Отче наш» — песенка, «Милость мира» — Lacrimo-
sa, «Господи, помилуй» — кабинетное, «Херувимская
песнь» — светская, и так — без конца» 1, — пишет
А. Преображенский.
Приводя эти факты, он сокрушается и скорбит об
унижении музыки и церкви. Но, подходя к фактам
исторически, следует различать в них две различные
стороны. Одна из них — насаждавшиеся правящими
кругами италомания, подражательно-помпезный,
слащаво-чувствительный или поверхностно-виртуозный
стиль в сочинении и певческом искусстве. Эти
новшества, в духе копирования заграничной моды, не
могли не наносить ущерба отечественной музыкальной
культуре. Но другая сторона процесса имела совсем
обратное, прогрессивное значение: это —
расшатывание стародавних церковных устоев, монастырщины,
закоснелых обычаев и предрассудков, наступление
музыкально-светского начала на твердыни
православного культа. И все же Бортнянский оставался
прежде всего церковным композитором, и борьба
тенденций развертывалась в рамках духовной музыки и ее
жанров.
С XIX столетием русская музыка вступила в свой
классический период, и тут все изменилось
радикально. Это было время великих освободительных
движений в России, от восстания декабристов и до
революции 1905 года, и они не могли не воздействовать
прямо либо косвенно на музыкальную жизнь и
творчество. Тогда неизбежно сместились источники
вдохновения, эстетические взгляды, жанры, стили.
Основоположник русской музыкальной классики М. И.
Глинка, в полную противоположность Д. Бортнянскому,
был композитором чисто мирского, светского склада.
Во второй половине 30-х годов он по прямому
приказанию Николая I занялся церковным пением в Пе-
1Л. В. Преображенский. Культовая музыка в
России. Л., 1924, стр. 75,
168
тербургской придворной капелле, где и пробыл всего
лишь два года.
Однако к русскому церковнапевческому искусству
Глинку привлекал, в первую очередь, чисто
эстетический интерес. Он «многое угадывал своим чудным
музыкальным чутьем» 1 в мелодических красотах
древней церковной песенности, искал приемов
обработки этих напевов в созвучной им сфере старинной
чистой диатоники и достиг изумительно органичного
результата в переложении «Да исправится молитва
моя» так называемого греческого роспева. В смысле
чистоты стиля это был огромный шаг вперед по
сравнению с обработками протоиерея П. И.
Турчанинова и особенно — А. Ф. Львова.
Полное равнодушие к духовным жанрам проявили
A. С. Даргомыжский и А. Г. Рубинштейн. В. Ф.
Одоевский, А. Н. Серов живо интересовались церковной
музыкой, но главным образом теоретически, в поисках
истоков самобытной национально-русской гармонии
и воссоздания родной старины. Итак, русская
классика изживала былое набожное благочестие и
отворачивалась от церкви. Ее духовными отцами стали
великие реалисты нашей литературы: Пушкин, Гоголь,
Некрасов и мыслители-материалисты — борцы против
церкви и религиозного дурмана: Радищев, Белинский,
Герцен, потом Чернышевский, Добролюбов, Писарев.
Художественный реализм «Могучей кучки»
неразрывен с материалистическим, в основе своей,
миросозерцанием Стасова и Римского-Корсакова,
Мусоргского, Бородина. Отношение к церковности со стороны
B. В. Стасова — виднейшего идеолога русской
музыки пореформенного периода — для нашей темы
особенно важно. Восторженный и тонкий ценитель
художественных сокровищ русской церковной
старины, он питал жгучую ненависть к клерикальной
реакции и религиозному ханжеству. Не столь давно
опубликован новый интереснейший материал по этому
вопросу — письмо Стасова к брату Дмитрию
Васильевичу от мая—июня 1896 года о встречах с Л. Н. Тол-
1 Слова В. Ф. Одоевского.
(39
тым в августе 1890 года и о спорах с ним на
религиозно-философские темы. Стасов бичующе-резко
критикует толстовские «Замечания на Евангелие» и
рассказывает: «Я прямо сказал... что я не люблю и
ничуть не уважаю все Евангелие сплошь, что это
вещь устарелая, азиатская, как и вся библия,
ничуть для нас нынче уже и не интересная, и даже
совершенно противная тому, что мы можем и должны
теперь думать и делать». «Ведь за все Евангелие-то
я трех копеек не дам» \ — замечает Стасов в другом
месте. Но особенно досталось в этих августовских
разговорах от великого русского искусствоведа л
критика молитве всех молитв — «Отче наш», от
которой не осталось буквально и камня на камне:
«Я тут стал разбирать его по косточкам, говорил,
что обращение: «Отче наш» равняется совершенно
прошению в суд или >в полицию: «ваше сиятельство»,
«ваше высокоблагородие»; затем следует униженное
восхваление того, к кому адресуешься: «Иже еси на
небесах» — «ты, который живешь в Зимнем дворце»,
или «ты, что обитаешь на Б. Морской, в казенном
доме» — кому же это нужно? Ведь «вездесущий»,
«всезнающий» и т. д. очень хорошо знает и без
просителя, где именно он сам живет, — к чему же это
заявление об адресе? Дальше: «Да святится имя твое,
да прийдет царствие твое» — опять какие все
глупости придворные и униженные... На эту тему я
довольно долго ораторствовал, насмехаясь и сердясь
на какую-то молитву, «преподанную самим господом
с неба» 2.
Но обратимся к композиторам «Новой русской
школы». «Штука проста, — писал М. П. Мусоргский
А. Голенищеву-Кутузову в 1875 году, — художник не
может убежать из внешнего мира и даже в оттенках
субъективного творчества отражаются впечатления
внешнего мира. Только не лги — говори правду».
Верное этому девизу, народно-реалистическое
музыкальное искусство России не только не мирилось с
1 «Советская музыка», 1963, № 4, стр. 52—53.
2 Т а м же, стр. 54.
140
притязаниями Цепковных кругов главенствовать над
музыкою, но поднималось до прямого обличения
церкви, идеологи?!, морали, политики. В этом оно
было вполне созвучно боевой демократической
литературе и живописи («передвижники»), особенно
же — глубоко правдивому искусству Перова и
Репина.
Здесь нужно отметить прежде всего выдающуюся
роль М. П. Мусоргского — этого «музыкального
историка церкви», бытописателя и бесстрашного
обличителя духовенства. Неприглядная картина религиозно-
церковного мира: его людей, нравов, обычаев, его
различных кругов, течений и внутренней борьбы —
все это раскрыто Мусоргским с тою конкретностью,
сочностью, остротой, какие составляют неотъемлемые
черты его творческого метода. Гениальная
музыкальная драма «Хованщина» — это потрясающе
правдивое и страстное изобличение религиозного изуверства,
несущего народу ложь, смерть и нечеловеческие
страдания. В «Борисе Годунове» католическая церковь
представлена как извечный враг России и русских
людей. В лице иезуитов там выведены на сцене
настоящие захватчики-грабители в сутанах, «волки»,
опустошающие и оскверняющие русскую землю.
Народ ненавидит их. «Гайда! На осину!» — таков его
приговор. «Портреты» духовенства в различных
произведениях написаны у Мусоргского с глубоким
знанием и поистине разящей обличительной силой.
Могучий, но гул ьл ивы и, беспутный и темный Варлаам;
трусоватый и увертливый Мисаил; захваченный в
железный, нелепый ошейник \ туповатый семинарист,
чья юная жизнь уже забита бессмысленной
долбежкой; похотливый захолустный хапуга, дьячок
Афанасий Иванович; типичный католический прелат,
политикан и лицемер кардинал Рангони (действительная
историческая личность); • по-своему благородный и
величавый, «фанатик и грозный деспот»2 Досифей;
богато одаренная, великодушная по натуре расколь-
1 Слова В. В. Стасова.
2 В. В. Стасов. Перов и Мусоргский.
141
ница Марфа, жертва беспросветного религиозного
фанатизма, — все они охарактеризованы
безошибочно найденной, точной и острой интонацией. И каждый
по-своему свидетельствует против самых коренных
устоев религии и церкви. Мусоргский хорошо
понимал это и сознательно стремился достичь именно
этой цели. Вот что писал он В. В. Стасову по поводу
«Хованщины»: «Нам скажут: «Вы попрали законы
божеские и человеческие!» Мы ответим: «Да», и
подумаем: «То ли еще будет!».
По своей боевой антиклерикальной тенденции
творчество Мусоргского представляет никем еще не
превзойденную вершину не только русской, но и всей
мировой музыки.
Но вот совсем иной как будто, в этом смысле,
деятель «Могучей кучки» — Н. А. Римский-Корсаков.
При ясно выраженных материалистических
устремлениях его мировоззрения вполне естественны и
логически необходимы были свойственное ему отрицание
религиозных идей, насмешливо-презрительное
отношение к «боговщине и чертовщине», к «угодникам и
духовному элементу вообще» и недвусмысленное
осуждение церковных нравов. Общеизвестно, как строго
осуждал и едко высмеивал Римский-Корсаков
набожность и суеверие М. А. Балакирева, как резко и точно
определил связь между религиозно-мистериальным
замыслом .вагнеровского «Парсифаля» и слабостями,
изъянами этого музыкально-богатого и глубокого
произведения. А вместе с тем, — это может
показаться странным — в течение всей своей творческой
жизни автор «Золотого петушка» проявлял очевидную
склонность к воплощению картин религиозного
культа и писал их без тени сатирического осмеяния или
холодного скепсиса: писал вдохновенно поэтически, с
неподдельным увлечением и великолепным,
неподражаемым мастерством. Как же примирить между
собою эти столь различные, казалось бы, стороны
художнической натуры композитора? Суть вопроса—
во внутренней природе тех мотивов, которые
побуждали и влекли его. Религиозная идея никогда не
владела им, не направляла и не составляла содержания
Ш
его музыки. Подчеркивают иногда значение эпизода
80-х годов, когда Римский-Корсаков, будучи одним
из руководителей Придворной капеллы, обратился к
напевам церковного «Обихода» и вместе с М. А.
Балакиревым и другими музыкантами-педагогами
капеллы гармонизовал в строгом стиле песнопения
«Всенощного бдения». Неправомерно было бы,
однако, переоценить этот эпизод. Сам Римский-Корсаков
хотя и считал свою гармонизацию «правильной и
естественной», однако, как это ясно видно из XIX главы
«Летописи моей музыкальной жизни», относился к
своему труду над «Обиходом» не без скептической
иронии: «Сижу за составлением Обихода,
окруженный всякими Потуловыми, Разумовскими и
изданиями св. Синода... Совсем дьяконом стал». В письме
С. Н. Кругликову от 14 января 1884 года читаем:
«Я ничего не пишу и Обиход давно уже бросил: и
так-то уже скучная и сухая работа, а с Балакиревым
уж всякая охота пройдет». Совершенно очевидно, что
Римский-Корсаков тяготился этим занятием и
приступил к нему лишь по обязанности. Несколько иначе
обстоит дело с другими обработками, появившимися
позже, в 1885 году: «Да молчит всякая плоть», «Се
жених грядет», «Чертог твой». Тут появляются новые
черты: композитор впервые реализует в них тот
художественный принцип, о котором лишь мечтали ранее
Бортнянский, Турчанинов, Одоевский, — обработку
церковного напева в стиле русской хоровой народной
песни. Совершенно ясно, почему Римский-Корсаков,
«не придававший своим работам по церковному
пению серьезного значения» { и отнюдь не
расположенный «присоединить к своему имени значительного
русского композитора еще и мало почетный титул
церковного композитора» 2, тем не менее, на этот раз
по собственному почину, предпринял свою
оригинальную интерпретацию древних культовых мелодий
киевского и греческого роспева. Эти мелодии 'привлекли
1 А. В. Преображенский. Культовая музыка в
России, стр. 109.
2 Та м же, стр. 108.
143
его своею архаической красотой, и он подошел к ним
как к некоей разновидности древнего песенно-русско-
го мелоса, соответственно и осуществив самую
обработку. Здесь решалась для него задача
художественно-стилистическая, и какие-либо религиозные
мотивы отсутствуют. Недаром в церковных кругах хотя и
ценили корсаковские обработки, однако скорее
холодно и недоверчиво относились к его сочинениям на
религиозно-культовые темы. И в самом деле, темы
эти — не цель, не принцип, не идея, но средство и
только лишь средство для Римского-Корсакова.
Образы религиозных представлений и обрядов
фигурируют у него иногда в плане историческом или исто-
рико-бытовом, как, например, в «Псковитянке»,
«Садко», в «Сказании о невидимом граде Китеже», и это
не противоречит исторической и художественной
правде, ибо религия и церковь с ее культом,
празднествами, с ее окружением в виде отшельников,
юродивых, странствующей братии и т. п. и в самом деле
занимала огромное место в старой русской жизни, в
сознании и чувствах народа. Но гораздо чаще образы
религиозных верований, обрядов и служб воплощены
Римским-Корсаковым в фантастически-сказочном
плане. Здесь он имел особое пристрастие к культам
древнеязыческим, воссоздавая их картины в духе
древней народной поэзии, исполненной житейской
мудрости и затаенной связи с повседневными
явлениями реального мира. Таковы «Снегурочка» (культ
Ярилы-солнца), «Ночь перед рождеством», «Садко».
Что касается собственно идей христианской религии,
то они драматически действуют лишь в двух операх
Римского-Корсакова позднего периода — «Сервилии»
и «Сказании о невидимом граде». Тут в самом деле
поэтизация религиозных мотивов перерастает порою
в превратную оценку их исторического смысла и
этического значения. Но и в этих поздних произведениях
великого композитора религиозная тема составляет
лишь ответвление от основной сюжетно-тематической
линии — нравственно-наставительной в «Сервилии»,
героико-патриотической в «Граде Китеже». Наконец,
во всех почти жанрах, сюжетах, творческих периодах
Щ
культы, службы — языческие ли или христианские,—
религиозные видения или мифологические
фантасмагории — это прежде всего роскошные картины
великого мастера-колориста, музыкальные краски
которого «горят и мечутся в глаза». Эта склонность
художника коренится не в нравственно-философском
приятии религиозной идеи, но в эстетическом
переживании внешней стороны обряда и в той поэзии,
которую веками привносило в религиозные легенды
народное сознание и творчество.
Как известно, не все композиторы, составившие в
60-х годах «Могучую кучку», относились к религии и
церкви подобным образом. С 80-х годов М. А.
Балакирев резко повернул вправо и под воздействием
церковных кругов впал в крайнюю набожность и
суеверие. Однако этот поворот оказался роковым для
композитора. Дело не в том, что он, следуя М. И.
Глинке, изящно обработал в строго диатонической
манере целый ряд древних культовых напевов:
«Достойно есть», «Да молчит», «Блажен муж» и другие:
тут он не составлял исключения. Но религиозные
размышления и настроения, посредством которых
реакция рассчитывала сломить его дух, сыграли свою
роль, и последние балакиревские десятилетия, угрюмо
замкнутые в себе, прошли под знаком оскудения этой
необыкновенно богатой и активной творческой
натуры. Следовательно, общее правило или
закономерность лишь подтверждаются этим исключением.
В церковных кругах ссылаются на П. И.
Чайковского и С. В. Рахманинова как на выдающихся
русских композиторов, якобы тесно связавших свою
музыку с православною верой. Ссылки эти крайне
тенденциозны, однобоки, а потому и неубедительны.
Бесспорно, что богослужебные циклы, написанные обоими
композиторами, представляют совершенные
произведения русского песенно-хорового церковного стиля. Но
они—явления одиночные и далеки от «творческого
центра» у обоих великих наших музыкантов.
Основные красоты этих сочинений связаны с образами
человечными, жизнеутверждающими, по выразительной
природе своей, несравненно более возвышенными и
145
жизненными, чем мертвенно-архаичный ритуал или
обветшалые слова молитвы. .0 них можйо сказать
словами самого Чайковского по поводу бетховенских
месс: «В них литургический текст есть не более, как
предлог для могучих лирических излияний». В устах
Чайковского это звучит особенно многозначительно
Правда, он и в самом деле стремился, по его словам,
вернуть церковной музыке «первоначальный
характер и органическую связь со всей обстановкой и
общим строем богослужения». Но исходил он, как
художник, не из интересов православной церкви, а из
интересов искусства, духовные жанры которого
занимали очень видное место в русской жизни и культуре
конца 70-х — первой половины 80-х годов К Об этом
свидетельствует прежде всего музыка названных
сочинений и «Литургии» в особенности. Мы не можем
обойти бесспорного факта: в обращении композитора
к монументальным формам богослужебного пения не
могли не сыграть роли психологические настроения
и эстетические устремления, характерные для того
периода русского искусства. Но всего важнее
результат: «Литургия» написана вразрез с устоявшимся,
традиционным церковным стилем., в свободной
лирической манере, где, по справедливому выражению
А. В. Преображенского, «все было ново для духовной
литературы» и «на высоте общехудожественных
требований»2. Недаром консервативно-клерикальные
круги встретили 41-й opus самой яростной оппозицией,
а реакционный глава Придворной капеллы и цензор
духовно-музыкальной литературы Н. Бахметев
потребовал конфискации изданного Юргенсоном
произведения, как содержащего «песнопения чисто оперные,
лишенные всякого церковного элемента, музыку,
которая неизбежно произведет соблазн в молящихся».
Разумеется, запрет представлял собою акт мракобесия и
самого дикого произвола. Но тревога Бахметева
имела под собою глубокие основания. Можно возразить
1 «Литургия» (ор. 41) написана была в 1878, «Вечерня»
(ор. 52) — в 1882.
2 А. В. Преображенский. Культовая музыка в
России, стр. 112.
Ш
как будто, что «Литургия» не была случайностью;
за ней последовала «Вечерня», а также великолепные
гармонизации «Богородице дево», «Свете тихий» и
других напевов Обихода. Однако подобное
возражение не убедительно. Даже независимо от «оперности»
и «соблазнов» в «Литургии» *, ни одно, ни три или
пять произведений не имеют решающего значения,
когда им противостоит целое море гениальнейшей
мирской музыки, завоевавшей признание всего мира.
И можно ли считать случайностью, что в двух
величайших произведениях Чайковского — Шестой
симфонии и «Пиковой даме»—церковный наятев
появляется лишь как символ рока, несущего человеку гибель
надежды, разрушение, смерть? Правомерно ли
ставить даже вопрос об органичности, почвенности
культовой музыки у композитора, определявшего свое
отношение к религиозной доктрине христианства в
следующих словах: «Я пришел к убеждению, что если
есть будущая жизнь, то разве только в смысле неис-
чезаемости материи и еще в пантеистическом смысле
вечности природы, в которой я составляю одно из
микроскопических явлений»? Вдумайтесь в эти слова.
Они проливают яркий свет на то, чем была в
действительности религия для нашего великого
композитора-реалиста.
Вопрос о «Литургии св. Иоанна Златоуста» и
«Всенощном бдении» достаточно сложен и требовал
бы специального разбора. Но мы и здесь
ограничиваемся очень кратким рассмотрением этих
произведений в двоякой связи:
1) С одной стороны, это историческая и
стилистическая связь с далеким и недавним прошлым русской
церковной музыки. Богослужебные циклы
Рахманинова представляют собою широко задуманную и
высокохудожественную реставрацию древнерусского
церковного мелоса, а в особенности знаменного роспе-
1 В работе «О литургии Чайковского» (СПб., 1903)
крупнейший мастер русского хорового пения С. В. Смоленский
оспаривает оценки Н. Бахметева, привнося, однако, в свою
аргументацию доводы, идущие от православного церковнопевческого
идеала.
147
Ьа. Новое в «Литургий» и «Всенощной» заключено
уже в самом тематизме, где композитор от стильной
интерпретации исторически-подлинных напевов
поднялся к созданию своих, оригинальных, но искусно
выдержанных в том же «знаменном» стиле. Что
касается изложения, обработки этого мелодического
материала, то здесь методы Римского-Корсакова и
Чайковского как бы слиты воедино: обработка
напевов, фактура хоровой ткани, композиционные приемы
органически родственны русскому народно-песенному
искусству и в то же время на кульминационных
вершинах звучит та свобода и полнота лирического
излияния, какие эстетически и эмоционально уходят
далеко за грани религиозного созерцания, воплощений
«страха божия» и бесстрастных богословских догм.
Ничто, пожалуй, так не отдаляет Рахманинова и его
огромную двадцатичастную «Литургию св. Иоанна
Златоуста» от предшественников и современников 1 по
культовому письму самобытно-русского стиля, как
совершенно новое понимание формообразующей роли
первоначального мелодического образа. Бесспорно,
прав А. В. Преображенский: «...древний напев здесь
вырос скорее до значения музыкальной темы,
подлежащей именно тематическому развитию»2. Иными
словами, Рахманинов внес в свои циклы элемент
чисто музыкальный — симфоническое развитие песен-
но-лирических образов; а ведь оно совершенно
противоречит «отрешающей» статике церковного
священнодействия и богословской норме православного
пения:
«Древнецерковное пение, точно так же как и
церковное чтение, и икона, и вообще весь литургический
строй (чин) православия, чуждо сентиментальной
субъективности, чувственности и всего того, что мы
обычно называем театральностью» 3.
2) Иное дело — связь с исторической обстановкой
1 В том числе даже от А. Кастальского и П. Чеснокова.
2 См. цитированную выше работу, стр. 115.
3 Прот. Н. Трубецкой. Русское православное церковно-бо-
гослужебное пение. «Журнал Московской патриархии» 1959,
№ 12, стр. 51—52.
148
Начала второго десятилетия XX век!а и с творческой
эволюцией самого композитора. «Всенощное бдение»
и «Литургия св. Иоанна Златоуста» созданы были в
i 910—1915 годах под воздействием очень различных
побудительных причин. Здесь — отчасти, по крайней
мере — сказалась активизация религиозных течений
и исканий среди русской интеллигенции как
выражение ее духовного кризиса после поражения
революции 1905 года. В ту пору А. К. Лядов написал «Из
Апокалипсиса» \ А. Т. Гречанинов — «Сестру
Беатрису» на религиозную драму М. Метерлинка, А. К.
Глазунов — музыку к «Царю Иудейскому»
Константина Романова. А. Ы. Скрябин вынашивал замысел
религиозно-художественной мистерии,
долженствовавшей «освободить дух от оков
чувственно-материального бытия». Он увлекался тогда теософией и
религией буддизма. То была «минута слабости», а
вернее, целая полоса идейных шатаний русской
музыки; в какой-то мере коснулась она и Рахманинова.
В то же время, работая над культовыми
произведениями и экспериментируя в старом русском стиле,
композитор, мужественно и принципиально
противостоявший западномодернистским веяниям и их
подражаниям у русских профессионалов и декаденство-
вавших дилетантов, искал путей к новому
обогащению русской музыки самобытно-национальным
мелосом. Он обращал взоры к древнему знаменному рос-
певу, перед красотами которого благоговел и который
весьма справедливо считал созданием народного
гения. Не случайно мелодии интонационного строя,
родственного «знаменному», прозвучали у
Рахманинова в прелюдиях и этюдах-картинах, во Второй
фортепианной сонате, а позже — в Третьей симфонии,
составив своеобразную «лейттему родины» для этого
глубоко трагического произведения. Вспомним также,
что и образ колокольного звона, как «звукосимвола»
древней русской жизни, приобрел у Рахманинова но-
1 Одна из самых мистически-темных, символистичных книг
священного писания, известная также под названием
«Откровения св. Иоанна».
149
вое, глубоко выразительное образное звучание.
Постепенно теряя свою первоначальную церковно-куль-
товую значимость — обрядовую и смысловую, образ
этот в бесконечно разнообразных жанровых,
пейзажных, эпических решениях проходит во множестве
сочинений чисто светского, концертного плана. И
«Литургия св. Иоанна Златоуста» и «Всенощное бдение»,
так редко исполняемые в наше время при отправлении
православной церковной службы, — это
произведения, не столько раскрывающие религиозные идеи
композитора, сколько рисующие лирически
идеализированные и большею частью печальные картины
давнишней архаически-набожной России, уходившей в
невозвратное прошлое:
А ты все та ж, моя страна,
В красе заплаканной и древней...
Повторяем: рахманиновские культовые циклы
красивы, поэтически-ретроспективны и весьма далеки от
культовых и певческих идеалов современного
православия, хоть к ним и тянутся порой некоторые
церковные хоры. Усматривать же в них проявление
«исконно религиозного духа» — значит совершать
насилие над фактами. Мы уже знаем, как
недвусмысленно и с полным основанием сам композитор отверг
притязания церкви на роль духовного настоятеля
русской музыки.
Итак, не композиторы церковные и даже «не
церковные» по преимуществу явились столпами
кульминационного фазиса русской музыки в дооктябрьский
период. Музыкально одаренные, хорошие
профессионалы, прочно связанные с церковным клиром,
они не могли играть ведущей, основополагающей
роли в истории нашего искусства. Факт этот полон
глубокого значения. Причина не только в том, что по
масштабу дарования и мастерства никто из них не
мог бы сравниться с Глинкой, Мусоргским или
Скрябиным. На подлинных идейно-художественных
вершинах своих русская музыка классического периода
оставалась безрелигиозной, а нередко обращенной
против церкви, религиозных верований и догм.
150
«Главная движущая сила революционного
преобразования мира — рабочий класс, самый
последовательный революционный класс» К Именно он
издавна выступает как наиболее могучий, активный и
принципиальный борец против религии, ее влияний и
притязаний во всех областях общественной жизни.
Воинствующий 'атеизм, непримиримость к церкви,
характерные для миросозерцания пролетариата,
запечатлелись и в образах пролетарского искусства. Песни
против религиозных суеверий и их
распространителей — церковнослужителей, богословов, монахов —
рабочие слагали еще на заре своего революционного
движения. Эту тему пролетарская песенность
сохранила до наших дней. Вскоре после Парижской
коммуны 1871 года создано было произведение, которому
предстояло сыграть великую историческую роль, —
«Интернационал» Эжена Потье — Пьера Дегейтера.
В этой, по определению В. И. Ленина, «всемирной
пролетарской песне» отрицание веры в бога
непосредственно и органически связано с идеей
социалистической революции. Во второй строфе «Интернационала»
поется:
Никто не даст нам избавленья —
Ни бог, ни царь и ни герой.
Добьемся мы освобожденья
Своею собственной рукой.
В. И. Ленин характеризовал Эжена Потье как
«одного из самых великих пропагандистов
посредством песни». В «Интернационале» Потье и Дегейтер
выступают также как пропагандисты пролетарского
атеизма. «Бог не даст нам избавленья» — это идея
антирелигиозная, атеистическая. Старые гимны были
совсем иными — они чаще всего взывали к богу,
умоляя его охранить от опасностей церковь и монаршую
власть. В нашей стране при царизме дворяне, купцы,
духовенство «гласом велиим вопияли» монархический
Программа КПСС, часть первая, I.
151
гимн «Боже, царя храни». В Англии, как известно, до
сих пор поют: «Боже, спаси короля (королеву)»1.
Наш революционный партийный гимн прямо и
открыто противопоставляет социалистическую
сознательность трудящихся масс религиозным иллюзиям,
политической, духовной отсталости и темноте. В этом
смысле «Интернационал» не только выразитель
идеологии рабочего класса, но и законный преемник
одной из самых высоких и свободолюбивых
гуманистических традиций, завещанных нам музыкальной
классикой прошлых столетий. Это закономерно. Глубоко
справедливо указывал Карл Маркс: «...атеизм
является отрицанием бога и утверждает бытие
человека именно посредством этого отрицания»2.
Когда в 1917 году в нашей стране совершилась
Великая Октябрьская социалистическая революция и
положила начало переходу современного общества от
капитализма к социализму, тогда утверждение
диктатуры пролетариата и строительство нового, светлого
мира свободных тружеников в корне изменили у нас
отношения, исторически сложившиеся между
искусством и религией.
В предоктябрьский период русская православная
церковь, хотя и оттесненная уже на широком фронте
от композиторского творчества, еще располагала
достаточно крепкими позициями для того, чтобы
интенсивно воздействовать в своих интересах на
музыкальную жизнь страны, прежде всего через певческое
искусство. В области профессиональной хоровой
культуры богослужебному пению в России принадлежало
виднейшее место. Церковные хоры были не только
самыми многочисленными: они к тому же и пели едва
ли не лучше всех. Это относится не только к
столичным храмам, Синодальному хору, певшему в
Успенском соборе, и капелле Ф. А. Иванова в Москве, к
полуцерковной Придворной певческой капелле в
Петербурге, но и ко многим провинциальным кафедраль-
1 «God save the King!»
2 К. Маркс и Ф. Энгельс. Из ранних произведений,
1956, стр. 598.
152
ным соборам и церквам, располагавшим отличными
певческими и регентскими силами. Церковь с
половины XIX века обслуживалась таким первоклассным
музыкально-учебным заведением, как знаменитое
московское Синодальное училище. Церковному пению
посвящали свое искусство и знания замечательные
мастера: С. Смоленский, П. Чесноков, А.
Кастальский, Н. Данилин и другие.
Исторически сложившееся противоречие
заключалось в том, что господствовавшая в России «казенная
церковь» представляла один из главных центров
самой махровой идейной реакции и что, вместе с тем,
борьба за художественный прогресс
профессионального хорового пения вне границ церкви, ее
учреждений, учебных заведений, ее обряда, жанров была бы
в то время узкой и малорезультативной!
Могущественная церковная опека и влияние
религиозной идеологии, опиравшейся не только на
церковную иерархию, но и на помещичье-буржуазную
государственную власть, не могли не причинить
огромного ущерба деятельности свободомыслящих регентов:
ей поставлены были тесные и жесткие рамки. Но
чудесные мастера хорового пения долготерпеливо и
настойчиво боролись против казенно-церковной
косности и обскурантизма. Особенно в московском
Синодальном училище широко и сильно сказывались
прогрессивные музыкальные веяния, глубокий
интерес к светской музыке, народному песенному
творчеству и научному музыкознанию.
Недаром во второй половине 90-х годов
обер-прокурор архиреакционного святейшего синода с
тревогой констатировал, что училище «не чуждо началам
светского музыкального образования» 1. Бесспорно
прав советский музыковед Д. Л. Локшин,
характеризующий выдающихся русских хормейстеров: Г.
Ломакина, В. Орлова, А. Кастальского, С. Смоленского,
А. Архангельского, И. Юхова и других в следующих
словах: «Вынужденные часто, в силу существовавших
1 Металлов. Синодальное училище церковного пения в
его прошлом и настоящем. М., 1911. стр. 65.
153
условий, руководить хорами духовного направления,
они не растворяли своей творческой
индивидуальности в атмосфере консервативно-клерикальных церков-
нопевческих традиций, а, напротив, вносили в эту
атмосферу живую струю передового русского
музыкального искусства» К
Великая Октябрьская социалистическая
революция, в корне преобразовавшая не только
экономическую, политическую, но и духовную жизнь нашей
страны, глубоко изменила прежние отношения и
связи. Синодальное училище было преобразовано в
независимую от церкви Народную хоровую академию,
чисто светскую по направлению музыкального
образования. Отделение церкви от государства и школы от
церкви, национализация музыкальных учебных
заведений, огромный размах атеистической пропаганды
партии и комсомола, неустанная
культурно-воспитательная деятельность Советского государства дали
свои плоды. Художественные интересы многих людей,
обладавших певческими голосами и тянувшихся к
хоровому искусству, устремлялись теперь в ином,
гражданском направлении. Организационные и
экономические возможности церкви, монастырских обителей.на
музыкальном поприще стали несравненно уже.
Крупные мастера, так или иначе связанные с богослужебно-
песенными жанрами, — А. Кастальский, Н. Данилин
и другие — один за другим переходили к активному
сотрудничеству с Советской властью в строительстве
новой музыкальной культуры нашей страны.
Культурная революция, осуществленная
Коммунистической партией по плану, разработанному В. И.
Лениным, в громадной мере ускорила этот процесс.
«В результате глубоких изменений
социально-экономических условий жизни, ликвидации
эксплуататорских классов, победы социализма в СССР, в
результате успешного развития науки и общего роста
уровня культуры страны, большинство населения Совет-
1 Д. Л о к ш и н. Замечательные русские хоры и их
дирижеры. М., 1963, стр. 12.
154
ского Союза давно уже освободилось от религиозных
пережитков; неизмеримо выросла сознательность
трудящихся» К
Это не могло не сказаться на содержании и
жанровой природе нашего композиторского творчества.
Религиозные темы и жанры исчезли из него
безвозвратно. Зато возникли новые талантливые
произведения, продолжающие антиклерикальную традицию
классиков.1 Советский оперный репертуар украшает в
блестящем, остром стиле написанная «Дуэнья»
С. Прокофьева (1940 год). Воспользовавшись
сюжетом известной комедии Р. Шеридана «Обручение в
монастыре», композитор в восьмой картине оперы
нарисовал великолепную сатирическую картинку
разгульных нравов католического монашества и со
свойственным ему остроумием виртуозно применил в этом
плане прием пародирования благочестивых
богослужебных напевов.
Примечательна и другая талантливая советская
опера, богатая антиклерикальными мотивами, —
«Овод» А. Спадавеккиа по известному роману Этель
Войнич. Композитор обличает убедительно,
темпераментно, смело. Он — коммунист и отлично знает
итальянскую историю и жизнь. Страна изнывает в
духовном «плену у католицизма. Религиозный
фанатизм приводит видного церковника кардинала Мон-
танелли к страшному преступлению — он предает
пыткам и казни собственного сына — революционера.
Герой оперы — Артур Риварес, борец за
свободу народа, против гнета и религиозной
темноты, — охарактеризован обаятельной музыкой,
ярко раскрывающей его романтически мятежную
натуру. Воплощая образ церкви, как зловещей и
жестокой противонародной силы, А. Спадавеккиа искусно
воспользовался традиционными жанрами и формами
музыкального оформления католического культа.
То обстоятельство, что среди лучших советских
1 Из постановления ЦК КПСС от 10 ноября 1954 года «Об
ошибках в проведении научно-атеистической пропаганды среди
населения».
155
опер последнего двадцатилетия по крайней мере две
написаны на противоцерковные сюжеты, не
случайно, но типично. В этом отразилось отношение к
религии и церкви, сложившееся у нашего народа, у нашей
интеллигенции, воспитанной Коммунистической
партией Советского Союза.
Программа КПСС рассматривает остатки суеверий
и предрассудков, религиозные верования и
фантастические вымыслы о сверхъестественных силах как
пережитки капитализма в сознании людей. Борьбу за
преодоление этих пережитков наша партия
провозглашает составной частью работы по коммунистическому
воспитанию трудящихся. «Вести настойчивую борьбу
против религиозных пережитков, шире развернуть
научно-атеистическую работу», — указывает в своем
постановлении июньский 1963 года Пленум ЦК КПСС.
Эти положения имеют определяющее значение и для
нашего советского искусства, искусства
социалистического реализма.
Старое, отживающее упорно цепляется за живое,
мешая ему расти, развиваться, двигаться вперед.
У нас встречаются еще отдельные музыканты, не
освободившиеся от религиозных пережитков, которые
неизбежно оказывают влияние на их творческую и
исполнительскую деятельность. До сих пор, правда,
весьма редко, но возникают иногда в нашей музыке
странные анахронизмы — произведения, затронутые
религиозными влияниями или пережитками этих
влияний. Бывает подчас, что религиозные настроения и
идеи дают знать о себе и в исполнительском
искусстве, особенно в интерпретации тех сочинений, которые,
при высокой художественности, однако, несут на себе
следы многовековой связи музыки с религией и ее
культом. Мы уже не раз говорили здесь, что
классики прошлого, воплощая в музыкальные образы свои
высокие идеи, зачастую обстоятельствами, традицией
и воспитанием вынуждены были обращаться к
религиозным сюжетам и церковным жанрам. Но сейчас
в нашем социалистическом обществе обстоятельства,
традиции, нормы и направление воспитания — все это
изменилось коренным образом. Пытаться воскрешать
156
в новых условиях старые религиозные
интерпретации— это неизбежно означает уходить от реальной
жизни, бесплодно двигаться вспять, наперекор
объективным законам исторического развития.
Мы должны ревниво предохранять наше
советское искусство от религиозных влияний и тенденций,
неустанно разъяснять, что в социалистическом
обществе религиозно-культовая музыка — это музыка без
будущего, вымирающая, либо уже мертвая музыка.
* * *
Тем не менее, богослужебное пение в городе и в
деревне остается еще весьма распространенным
явлением нашей музыкальной жизн'и. Культовая музыка в
руках церковнослужителей, проповедников,
богословов — одно из испытанных и самых эффективных
средств религиозной пропаганды. С помощью
духовных песнопений они поддерживают религиозные
настроения у своей долгими годами сложившейся
«паствы», которая состоит отнюдь не только из пожилых,
беспросветно и безнадежно темных людей, чьи
помыслы всецело сосредоточены на недалекой кончине.
Музыка помогает действующим в нашей стране
церковным и сектантским организациям завлекать в
свои сети детей, молодежь. Церковь приобщает
подрастающее поколение к своим «таинствам» и
«откровениям», играя на том, что юношество любит
художественную красоту и тянется к ней, не всегда
критически разбираясь, куда именно зовет она, эта красота,
и кому служит.
Есть у нас люди, склонные этически оправдывать,
даже стать на идеологическую защиту богослужебной
музыки, исходя из лойяльного отношения церкви к
Советскому государству и поддержки ею всемирного
движения сторонников мира. Такая точка зрения
глубоко ошибочна и должна быть отвергнута в самой
основе. Приспособление ныне существующих в СССР
церквей и некоторых сект к условиям, обстановке
советского социалистического общества и государства,
лойяльные позиции большинства церковнослужителей
157
по отношению к Советской власти — все это ни на
йоту не изменяет реакционной идеологической
природы религиозного миросозерцания, верований,
взглядов. Представление, будто христианская религия и
коммунизм совместимы и даже этически родственны
друг другу, в корне ложно и является прямым
орудием обмана масс. На деле церковь ведет идейную
борьбу против науки, реалистического искусства,
против материалистической философии, эстетики, и, как
организация пропагандистская, она не в силах скрыть
этого. В 1959 году на страницах «Журнала
Московской патриархии» кандидат богословия Н. Иванов
писал, полемизируя с сектантами-иеговистами1 по
поводу религиозного толкования «Апокалипсиса»:
«Извечная борьба света и тьмы идет всегда, и
происходит она не в какой-либо точке земного шара с
загадочным названием «Армагеддон» 2. Поле битвы—
это душа человеческая. По крылатому выражению
Ф. М. Достоевского, здесь дьявол с богом борется, и
поле битвы — сердце человеческое» 3.
Как видит читатель, это сказано, хотя и по поводу
секты иеговистов, однако отнюдь не только о ней.
Вопрос поставлен куда более широко и притом
весьма определенно: религия и ее общины вели и ныне
ведут сражение за души, за сердца человеческие.
И факты говорят о том, что музыке на поле этой
битвы русская православная церковь и в новых
условиях, как встарь, отводит одно из самых важных
мест. Утверждая, что в храме молящийся
«удовлетворяет в благолепии и красоте богослужения свое
эстетическое чувство», православная церковь
проявляет стремление к возможно более широкому и
планомерному размаху в религиозной эксплуатации
музыкального искусства. Хотя у нас и произошел
массовый отход населения от религии, стало меньше церк-
1 Реакционная антисоветская секта с центром в США
(Нью-Йорке). Деятельность ее в СССР запрещена законом.
2 Одно из мистических вещаний «Апокалипсиса», возможно,
провозглашавшее символически грядущую гибель Римской
империи.
3 «Журнал Московской патриархии», 1959, № 12, стр. 64.
158
вей и монастырей, однако число церковных хоров,
больших и малых, сельских и городских, все еще
исчисляется сотнями и сотнями. В духовных
семинариях, академиях, монастырях — Троице-Сергиевском,
Псково-Печерском, Успенском и других — поставлено
обучение церковному пению. Духовные школы в
Москве, Ленинграде, Киеве, Минске, Одессе, Саратове
и других городах дают певческие концерты с
участием как профессиональных хоров, так и духовной
«самодеятельности». Немалое значение придается
богослужебному пению в русских церквах, «кружках
церковной молодежи» и других объединениях верующих,
организуемых экзархатами русской православной
церкви за границей.
Среди церковных музыкантов до сих пор есть не
только исполняющие, но и сочиняющие культовую
музыку. Мы встречаем иногда в этом амплуа лиц,
стоящих на весьма высоких ступенях церковной иерархии.
Укажем хотя бы на духовного композитора
архимандрита Досифея (Михаила Иванченко), епископа Нью-
Йоркской епархии русской православной церкви в
США. Вопреки словесным призывам высшего
духовенства к «истовости», «простоте и строгости
богослужения» !, праздничные церковные службы,
особенно патриаршие, митрополичьи, архиерейские,
обставляются с возможно более импозантной
торжественностью, и музыка играет в этом оформлении далеко не
последнюю роль. Она призвана, как это положено
испокон веков, создавать психологическую атмосферу
мистического экстаза, «трогать и потрясать» души
верующих, объединять их молитвенные чувства и
религиозные мысли под эгидой церкви. Было бы неумно
закрывать глаза на то, что этот впечатляющий
эффект, особенно в больших храмах с хорошо
обученными хорами, нередко оказывается так или иначе
достигнутым и получает резонанс не только в
приходских общинах, но и за их пределами, не говоря уже
1 П. Уржумцев — кандидат богословия. О церковно-бого-
служебнон дисциплине. «Журнал Московской патриархии»,
1959, № 9, стр. 46.
159
о церковной религиозно-наставительной и
пропагандистской литературе. Вот, например, картина
пасхального богослужения в московском патриаршем соборе,
наивно-гиперболически нарисованная одним из
верующих: «Трогающее сердце, невыразимо прекрасное
пение», «дивный пасхальный канон»... «Храм наполнен
звуками... Огни и звуки... Пасхальная радость
кажется как бы осязаемой, дивные слова священных
песнопений как бы носятся в воздухе» 1. Автор
изъясняется в цветистом стиле, он, видимо, прямо
захлебывается религиозным восторгом по поводу того, что он —
«раб божий». А вот еще одно религиозно-музыкальное
настроение: «Тысячи голосов, точно один, захватили
мою душу, увлекли ее ввысь, дали ей почувствовать
безграничность милости божией...». Это пишет некто
В. Раевский, присутствовавший однажды на
литургии в том же соборе. Приехав в Москву из-за
границы, куда забросила его судьба, он имел, очевидно,
весьма смутное и превратное представление о
Советской России, ее многомиллионном народе, его
миросозерцании и идеалах. Потому и восклицает он, придя
в полный экстаз по поводу увиденного и
услышанного: «Святая Русь» — это реальность, многовековая
и вечно юная, в изменчивых формах жизни
неизменная, в вере неискоренимая, в смирении недосягаемая
и в христианской любви непревзойденная...». Нужно
ли говорить о том, что это благочестивое умиление
совершенно иллюзорно, оно основано на полном
незнании нашей страны, ее жизни и нравов. «Святая
Русь», «в смирении недосягаемая», если когда и была,
то давным-давно уже канула в вечность. Что до
религиозной веры и «христианской любви», «неизменной»
и «неискоренимой», то хотелось бы напомнить
читателю вещие слова, еще в первой половине XIX века
сказанные В. Г. Белинским в знаменитом «Письме к
Гоголю»:
«Россия видит свое спасение не в мистицизме, не
1 И. X и б а р и н. Пасхальная ночь в Богоявленском
патриаршем соборе в Москве. «Журнал Московской патриархии»,
1960, № 5, стр. 25—28.
160
в аскетизме, не в пиетизме, а в успехах цивилизации,
просвещения, гуманности. Ей нужны не проповеди
(довольно она слыхала их!), не молитвы (довольно
она твердила их!), а пробуждение в народе чувства
человеческого достоинства, столько веков потерянного
в грязи и соре; права и законы, сообразные не с
учением церкви, а со здравым смыслом и
справедливостью» К
Пусть вдумаются в эти слова российские
православные мечтатели-духовидцы из Парижа, грезящие
о «вечно юной святой Руси». Право же, В. Белинский
имел куда больше оснований писать о настоящем и
будущем России сто двадцать лет назад, чем В.
Раевский в наше время. Народ наш скоро уже
пятьдесят лет как навсегда покончил с грязью и сором, о
которых сказано в «Письме к Гоголю», и установил у
себя «права и законы, сообразные не с учением
церкви, а со здравым смыслом и справедливостью».
Правда, есть у нас люди — и их не так уж мало, —
которые, — кто по отсталости взглядов, кто по привычке
к стародедовской старине, — все еще доверчиво
слушают проповеди церковнослужителей и истово
распевают с ними молитвы; но громадное большинство
нашего народа раз и навсегда покончило с
религиозными верованиями, с христианской моралью,
утвердилось в безрелигиозном материалистическом
миросозерцании и победоносно строит коммунистическое
общество, где, в полной гармонии со здравым
смыслом, справедливостью и человеческим достоинством,
окончательно преодолены будут еще сохранившиеся
у нас от прошлого религиозные химеры и
фантастические предрассудки. Такова подлинная, а не мнимая
реальность сегодняшней, новой, на этот раз и в
самом деле вечно юной России.
Тем не менее, среди людей верующих, либо
склонных к религиозному мировосприятию, духовное пение
делает свое дело: оно предназначено к тому, чтобы не
только воздействовать на-эмоции прихожан, но и
1 В. Г. Белинский. Письмо к Гоголю. ОГИЗ, 1947,
стр. 5.
6 К. Розеншильд
161
приобщать их к богослужебному ритуалу, а через его
посредство, как выражаются богословы, и к
«соборному деланию церкви» ]. Совершенно очевидно, что
речь идет о своеобразной религиозно-организующей
роли богослужебной музыки. Не случайно
современная православная церковь ревностно охраняет и
насаждает певческий стиль, наиболее приноровленный
к тому, чтобы выразить учение этой церкви, ее
богословскую доктрину, «исповедание веры посредством
искусства»; чтобы «сопровождать и вводить
верующую душу в божественное тайнодействие», где
«личность» совершенно поглощается, сливается с
верующими» 2.
Стиль или принцип этот — уничижение личности
и полное поглощение ее «лоном церкви» — очень
стар, он восходит еще к первым векам христианства,
и недаром православная церковь провозглашает здесь
себя преемницей Климента Александрийского и
Иоанна Златоуста. Характерно, что, вынужденные так или
иначе приспосабливаться к современности, к
советскому обществу и государству в отношении политики
и науки, наибольшую приверженность к старине
церковники сохраняют в области богослужебного обряда,
его художественной и, в особенности, музыкально-
песенной стороны. Модернизация, широко охватившая
культовую музыку западных церквей, осталась почти
совершенно чужда современному русскому
православию. Богословы извлекают из пыли веков правила
церковного пения, установленные VI вселенским
собором 691 года. Богослужебные напевы, заключенные
в древних церковнопевческих сборниках,
провозглашаются «стихией мирового порядка», «всеобъемлющей
мировой концепцией», «надчеловеческим и надвремен-
ным музыкальным орнаментом» 3. Перед духовенством
поставлена задача возродить позабытый старинный
1 Прот. Н. Трубецкой. Русское православное церковно-
богослужебное пение. «Журнал Московской патриархии», 1959,
№ 12, стр. 51.
2 Т а м же.
3 «Журнал Московской патриархии», 1959, № 12, стр. 50,
51, 52.
162
обычай общего одноголосного богослужебного пения,
и сам глава русской православной церкви призывает
иерархов «сделать все возможное, чтобы изгнать
мирской дух из нашего церковного пения» *. Артистизм
сурово осуждается как принцип, попирающий
церковный устав и противный исконному литургическому
правилу или закону: «Да молчит всякая плоть чело-
веча, и да стоит со страхом и трепетом, и ничтоже
земное в себе да не помышляет!» Пусть задумаются
над этой «эстетикой» духовного рабства те наши
певчески одаренные люди, которые то ли под
впечатлением мелодических красот, привнесенных гением
народа в мелодии «Обихода», «Триоди», «Ирмоло-
гия», то ли отдавая дань религиозным предрассудкам,
связывают свое музыкальное дарование и умение с
самым затхлым, закоснелым и темным углом нашей
светлой жизни — с церковным культом. Пусть
поймут они, что в современных условиях даже в смысле
узкопрофессиональном, богослужебное пение
неизбежно ведет к страшному сужению и обеднению, к
противоестественной архаизации музыки, к иссушению
и омертвению певческих, дирижерских,
композиторских талантов.
Существует ныне в русском православном пении
и направление, именуемое «свободным» и
«артистичным». Оно точно так же, разумеется, целиком
клерикальное и расходится с первым лишь относительно
приемов и стиля музыкального убранства церковной
службы. К нему принадлежат те священнослужители
и музыканты, кто неукоснительному исполнению
вековечных «заветов» Николая Кавасилы и Игнатия
Богоносца предпочитает большее разнообразие
богослужебного репертуара; кто еще ратует за «концерт-
ность» и «красивость», за эмоциональную яркость
церковнопесенного образа, за
собственно-музыкальные достоинства «иного», как они выражаются,
литургического пения. Эти упрекают «православных
традиционалистов» в «отсталости» и «пережиточно-
1 Цит. по «Журналу Московской патриархии» за 1955 год,
№11, стр. 12—13.
6* 163
сти», в «староверчестве» и даже в «обскурантизме».
Те, в свою очередь, не остаются в долгу и
обрушивают на своих критиков контробвинения в
«дерзновенной отсебятине» и «обывательском своеволии», в
«сентиментальном субъективизме», «увеличениях за
пределы всего того, что мы называем «православным»
и «церковным», в «композиторской фальши и лжи».
Вот уж несколько лет как «дерзновенное» и «чужое»,
«мирской дух» и «театральность» обличаются на
страницах «Журнала Московской патриархии», а
патриаршие речи и послания порицают «мирское
легкомысленное сочетание звуков» \ «исполнение церковных
песнопений в крикливом тоне светских романсов или
страстных оперных арий» 2.
Мы не будем полемизировать с православными
иерархами о «крикливости» светских романсов или
оперных арий. Эта характеристика, в смысле ее
эстетической обоснованности и компетентности, сама за
себя говорит. Мы хотели бы лишь отметить, что
всякий раз, когда в церкви исполняется такое, например,
произведение, как Литургия Чайковского, оно
неизбежно привносит в богослужебный обряд, по
существу, глубоко мирские, романсные и ариозные
интонации, которые совершенно органически присущи
были музыкальному мышлению великого композитора
и его мелодическому стилю. «Крикливость» тона так
же бесконечно далека им, как и та
«трансцендентность», за которую столь ретиво ратует
господствующее направление в современном православном
богословии и церковнопевческой практике. После этого
столь частые обращения церковных богословов и
эстетиков к авторитетам «почти всех наших
гениальных музыкантов-классиков» 3 выглядят не более, как
плохо прикрытое лицемерие.
1 Из речи в Московской духовной академии 18 апреля
1948 года.
2 Богослужебные указания на ,1958 год. Изд." Моск.
патриархии, 1958.
3 Прот. Н. Трубецкой. Русское православное церковно-
богослужебное пение. «Журнал Московской патриархии», 1959,
№ 12, стр. 52.
164
Во всяком случае, тенденции к церковному пению,
как его называют современные богословы,
«душевному», «навязывающему молящимся мирское
наслаждение» и т. п., действительно налицо, и тревога
иерархов — ревнителей раннехристианской или
православной богослужебной старины, пожалуй, не
безосновательна. Но суть вопроса — в причинах этого явления.
Мы думаем, что споры между «староверами» и
«сентиментальными субъективистами» о церковнопевче-
ском репертуаре и стиле, обличения «дерзновенных»
и запрещения «духа мирского» в культовой музыке
отнюдь не случайны. Разброд, борьба взглядов
отражают нарастающий кризис церкви, ее идеологии.
Наука наступает против нее по всему фронту, влияние
ее, еще значительное, уже ослабело. Используя
живучесть вековых религиозных предрассудков,
озабоченные церковники лихорадочно ищут различных путей
и методов, способствующих поддержанию падающего
влияния 1. Одни взывают к смиренной, благочестивой
и аскетически-строгой традиции древнехристианских
«первосвятителей» и песнопевцев. Другие склонны
играть на эстетических чувствах человека нашего
времени. Возникает вопрос: каковы перспективы этих
разногласий? куда ведут они? Иногда, особенно в
музыкальных кругах, приходится встречаться с
суждениями о некоей якобы «предпочтительности», даже
«оправданности» музыки, исполняемой в церкви, как
выражается протоиерей Н. Трубецкой, «для
религиозного услаждения слуха». Ссылаются при этом на
историческую прогрессивность новых стилей, которые
формировались в более или менее далеком прошлом
в разнообразных жанрах церковного пения
(секвенции, тропы, имитационная полифония, аккордовое
многоголосие и т. п.). Такого рода исторические
аналогии, льющие воду, так сказать, на церковную
мельницу, совершенно несостоятельны. Они
антиисторичны. Да, в свое время «дерзновенные вольности» в
1 См. об этом: Л. Ильичев. Формирование научного
мировоззрения и атеистическое воспитание. «Коммунист», 1964,
№ 1, стр. 23—46.
165
виде гимнов и секвенций, мажоро-минора и
полифонического письма осуждались церковью, ибо в эпоху
безраздельного господства этой последней и новые
прогрессивные течения вынуждены были до поры до
времени прокладывать себе путь через старые
церковные формы и посредством их. Но с тех пор в
истории музыкального искусства и в истории церкви
«все переворотилось». Теперь «время господства
религии над умами и сердцами людей подходит к
концу» \ а в нашей стране подрезаны ее самые глубокие
корни. В то же время поистине могучего и
прекрасного развития достигла разнообразнейшая по жанрам
и стилям мирская, светская музыка — воплощение
жизненной и художественной правды, выразительница
передовых социальных, этических идеалов и ее
единственный в нашу эпоху подлинный авангард —
музыка социалистического реализма. Теперь, как
никогда раньше, «религия не может не быть тормозом
научного и в целом социального прогресса» 2. Она
«проповедует мораль, прямо противоположную
нравственным принципам морального кодекса строителя
коммунизма» 3. «Как прежде, так и в наши дни она
убивает в человеке волевое, активное, творческое, тянет
его не вперед, а назад, воспитывает из него
бездеятельного раба божьего, способного только на то,
чтобы стоять на коленях и выпрашивать милости у
бога» 4. Вот почему сегодня, в условиях победившего
социализма и развернутого коммунистического
строительства, активнейшее участие в борьбе против
реакционной религиозной идеологии за полное ее
преодоление является священным долгом не только
советской науки, но и всего советского искусства, в том
числе и музыкального. Это значит, что в
разногласиях и спорах, происходящих среди русских
православных церковнослужителей и богословов о
направлении и стиле богослужебного пения, нет и не может
1 Л. Ильичев. Формирование научного мировоззрения и
атеистическое воспитание. «Коммунист», 1964, № 1, стр. 26
2 Там же, стр. 24.
3 Там же, стр. 32.
4 Т а м же.
166
быть для нас деления на «правах и неправых». В
духовной жизни нашей страны в современную эпоху
церковное пение в целом представляет собою явление
идеологически реакционное. Ни художественные
достоинства знаменного или греческого роспева, ни
истоки древнецерковных ладов и мелодических
оборотов в песенном творчестве народа не могут изменить
этой идейно-нравственной природы музыкального
оформления современного богослужебного ритуала.
Всякое музыкальное искусство, подлинно
народное, выражающее передовые идеи своей эпохи,
музыкальное искусство реалистическое, всегда создавало
и ныне вырабатывает для себя музыкальный язык,
созвучный его демократическим идеалам, язык,
доступный и понятный самым широким аудиториям.
Однако это отнюдь не значит еще, что всякая
музыка, доступная по своим выразительным средствам
широкому слушателю, легко воздействующая на его
эмоции и настроения, даже близкая народным ладам
и оборотам, необходимо обладает достоинством
народности и выражает всегда и неизменно
прогрессивные идеи своего времени. Нет, не всегда дело об
стоит таким образом. Диатоника лада, певучесть,
легкая запоминаемость мелодии и т. п. при известных
исторических и эстетических условиях могут быть
превращены в элементы формы, выражающей
содержание, очень далекое от народности и реализма.
Высшие иерархи православной церкви прямо
провозглашают идеал пения, «которое трогало бы сердце,
которое вызывало бы у нас слезы умиления, которое
подымало бы наш дух и помогало бы молиться».
Нынешние споры между церковниками о композиторских
и певческих стилях — это споры о наиболее
эффективных «песнопевческих» приемах религиозного
одурманивания людей, о наилучшей музыкальной
«раскраске» тех иллюзорных, призрачных утешений,
которые составлют одну из самых характерных,
неотъемлемых и самых губительных сторон религии и ее
культа. Можно предполагать, что разногласия такого рода
будут продолжаться и даже нарастать по мере того,
как круг верующих будет становиться все уже, а
/67
прежние средства привлечения и религиозной игры
на горестях и невзгодах человеческих станут все
больше «сдавать» в результате утверждения
коммунистического образа жизни и сознания. Конец религии
неизбежно станет концом и для богослужебного пения
в нашей стране и для богословской шумихи и споров
вокруг его стилей и школ.
Следует отметить, что современное православное
богословие весьма часто и пространно высказывается
о музыке не только в обрядово-процессуальном или<
этическом, но и в эстетическом и даже историческом
плане. И здесь с полной ясностью подтверждается тот
факт, что «церковники, вконец запутавшись в
противоречиях и нелепостях, «творят» новые нелепости» 1.
Под покровом демагогически-выспренных и в корне
эстетически-ложных разговоров об «истинно
народном церковном пении», о некоем «сверх» и «над»
искусстве», о якобы запечатленной в православном
пении «беспредельной гамме всей христианской идеи»"
и т. п., богословы преподносят публике, читающей
церковные издания, такие дикие и невежественно-
фантастичные вымыслы о богослужебной музыке,
какие могли, может быть, производить впечатление
когда-то в прошлых веках, но какие в наше время
вызовут недоверчивую улыбку даже у самого
закосневшего в предрассудках верующего человека. Из
писаний этих теологов мы узнаем поистине диковинные
вещи. Оказывается, посредством церковного пения
можно прорицать будущее, оказывать воздействие на
мир животных и даже непосредственно общаться с
небесами! Кандидат богословия В. Талин сообщает
читателю, что «ирмосы раскрывают смысл и значение
1 Л. Ильичев. Формирование научного мировоззрения и
атеистическое воспитание «Коммунист», 1964, № 1, стр. 27.
2 Прот. Н. Трубецкой. Русское православное церковно-
богослужебное пение. «Журнал Московской патриархии» 1959
№ 12, стр. 50—51.
168
ветхозаветных пророчеств и прообразов» 1, а по
протоиерею Н. Трубецкому, уже не раз цитированному
здесь, «сила православного церковного пения
заключается в его способности низводить небо на землю,
возвысить землю до небес»2. Более того, певчие
православной христианской церкви, превзойдя в своем
рвении католических праведников, поистине
таинственным образом становятся последователями...
языческих певцов Орфея и Ариона! Согласно католической
легенде, святому Франциску Ассизскому удавалось
проповедывать птицам, но святой Антоний Падуанский
потерпел неудачу с проповедью для рыб. Зато это
чудо античного Ариона, говорят нам, оказалось по
силам православному пению. «Это — стихия мирового
порядка, имеющая неограниченную силу над всем
и вся. Она простирается с неба на землю и
проникает даже в подводное царство, где даже рыбы
«безгласные» не лишены восприятия в какой-то мере
действия этой стихии»3. Мы логически вполне
допускаем, и даже уверены, что, если отшельник и в
самом деле проповедовал бы рыбам, он не произвел бы
впечатления. Но каким образом православное хоровое
пение проникает в подводное царство и производит
там впечатление, — это решительно уму непостижимо
Очевидно, богословы рассчитывают на старое правило
средневековых теологов; «Верую, ибо это
противоречит здравому смыслу».
Л нот и образцы самого неприкрытого духовиде-
ния. На страницах «Журнала Московской
патриархии» протоиерей К. Константинов свидетельствует,
что «вместе со святыми участвуют в богослужении
и бесплотные силы. Церковь верит, что чины и
воинства ангелов и архангелов входят со священником
в алтарь, сослужа ему и славословя божественную
1 В. Талин. Рождество Христово. «Журнал Московской
патриархии», 1960, № 1, стр. 51.
2 Прот. Н. Трубецкой. Русское православное церковно-
богослужебное пение. «Журнал Московской патриархии», 1950,
№ 12, стр. 52.
3 Т а м же, стр. 52.
169
благодать» К А доцент Ленинградской духовной
академии протоиерей А. Сергиенко повествует о том,
будто некий палестинский подвижник св. авва До-
рофей, живший около двух тысяч лет тому назад,
сподобился даже воочию увидеть ангела божия,
выходившего из алтаря «при начале псалмопения» 2. Это
и есть чистейшей воды духовидение. Но,
распространяя эти и другие им подобные небылицы,
православные теологи допускают явный просчет. Они не
учитывают того, что в нашу эпоху и в наших условиях
сами религиозные верования уже далеко не всегда
столь же грубы и примитивны, как раньше. Даже
сами богословы вынуждены признавать порою, что
для нынешних верующих «бог есть неведомый бог,
смутное только представление о каком-то верховном
существе». Для таких людей росказни о видении
ангелов и прочих небожителей, да еще вооруженных
благовонным миром, кропилом и прочими
атрибутами церковного культа (именно таким изображает
их доцент-богослов А. Сергиенко), уже
неубедительны и нередко приводят к обратным результатам:
возникают скептические сомнения в реальности видения
аввы Дорофея и ангелов вообще...
Но едва ли не самые кричащие -противоречия и
нелепости обнаруживаются у церковнико-в, когда они
вступают в область истории музыки. В наш век
космонавтики, кибернетики, огромных достижений
советской астрономической, астрофизической,
космогонической науки, когда исследовательская мысль,
вооруженная точными приборами и расчетами, уже
вышла далеко за пределы нашей галактической
системы, богословы, цепляясь за фантасмагорические
легенды «священного писания» и «священного
предания», продолжают рассказывать аляповато-наивные
сказки о «божественных гимнах», которые
«неумолчно раздаются и вечно будут раздаваться на небесах»3;
1 Прот. К. Константинов. Православное богослужение
в жизни христианина. «Журнал Московской патриархии», 1955,
№ 6, стр. 46.
2 «Журнал Московской патриархии», 1955, № 11, стр. 50.
3 Откровение св. Иоанна, 4, 8—11; 15, 2—4; 19, 5—7.
170
о том, какая именно музыка звучала при успении
девы Марии \ и т. п. Протоиерей Н. Трубецкой с
полной серьезностью присоединяется к библейской
версии происхождения музыки и ее инструментов: там
«отцом всех играющих на гуслях и свирели» назван
Иувал, сын Ламеха, пятого шотомка Каина (Быт., 4,
17—21). Весьма примечательно, что честь
изобретения столь благородного орудия музыкального искус-
ства и поэзии древних — гуслей или арфы —
приписывается именно потомству первого человекоубийцы-
богоотверженника, а также то, что это изобретение
стоит в явной связи с началом призывания имени
господа бога (Быт., 4, 26)2. Отсюда делается
широковещательный вывод о трагичности всех древних
религий, их культовой музыки и о минорном, по
преимуществу, ладе ее напевов: «Чувство колоссальной
ответственности перед богом за грех Каина лежит на
всем человечестве» 3.
То, что пишет протоиерей Н. Трубецкой, и в самом
деле «весьма примечательно», а историческое
обобщение насчет Каина — праотца музыки просто
поражает своим размахом! Однако обратимся к фактам
и материалам. Прежде всего Иувал, сын Ламеха, как
и их праотец Каин, — персонажи не исторические,
но мифологические. Далее, уж если обращаться к
мифологическому источнику, то в книге Бытия Иувал
упоминается как «отец всех играющих на гуслях и
угабе». Но «угаб» — продольная флейта без мунд
штука — существовала с незапамятных времен у всех
древних народов, в частности, у египтян, культура
которых много старше иудейской. Что касается «арфы»,
о которой пишет Н. Трубецкой, к которую вернее
было бы назвать еврейской лирой («киннор»), то она
завезена была в Палестину из Сирии, а знаменитая
египетская арфа бытовала у себя на родине еще в
IV тысячелетии до н. э. Киннор в книгах ветхого за-
1 «Журнал Московской патриархии», 1960, № 1, стр. 66.
2 Прот. Н. Трубецкой. Русское православное церковно-
богослужебное пение. «Журнал Московской патриархии», 1959,
№ 10, стр. 65—66.
3 Т а м же.
171
вета упоминается никак не в качестве трагического
инструмента с «каиновой печатью», но, наоборот, го
воря словами известного инструментоведа Курта
Закса, «как символ радости и веселья». Если бы
почтенный богослов осмотрительнее справился в книгах
пророков Исайи и Иезекииля, он нашел бы там
именно такие определения. «Стихло шумное ликование,
нет больше веселья тимпанов и арфы». Очевидно.
Н. Трубецкой запутался даже в собственных
библейских источниках. Наконец, вся «трагедийная» теория
происхождения ладов также не имеет ничего общего
с научной историей музыкального искусства.
Музыкальные культуры древности не знали минорного
лада, утвердившегося в профессиональной практике, как
известно, лишь к XVII столетию н. э. Не кто иной,
как Климент Александрийский (фигура, весьма
авторитетная для всех христианских церквей!)
свидетельствует, что «у евреев господствует дорийский
лад». Но напевы этого лада отнюдь не выражали
«гнетущего томления отверженной души», как пишет
Н. Трубецкой, но господствовали, например, в жизне
радостной музыкальной культуре античной Эллады,
и сам язычник язычников Аристотель определял их,
как подражающие «мужеству и спокойной
рассудительности» К Вот почему богословские домыслы о
выраженной в музыке древних «колоссальной
ответственности перед богом за грех Каина» и т. п.
представляют собою не более как смехотворное
измышление, рассчитанное на невежд и свидетельствующее,
помимо религиозного обскурантизма, о полной
неосведомленности автора в предмете, о котором он берется
писать. Да, С. Смоленский, В. Металлов, Дим. Алле-
манов, при всей религиозной тенденциозности своих
воззрений, — по крайней мере основательно знали
историю своего искусства, хоть и превратно
толковали ее...
Мы хотели бы остановиться еще на одной ложной
музыкально-исторической «теории», усиленно
распространяемой священнослужителями и богословами в
1 «Поэтика Аристотеля». М., 1893, стр. 205.
172
нашей стране. Речь идет о якобы достигнутой в
христианском церковном пении
художественно-идеальной гармонии слова, действия и музыки. В уже
цитированной работе протоиерей Н. Трубецкой
утверждает:
«По общему признанию, наши древние церковные
песнопения являются самым совершенным видом
музыкально-поэтического творчества, в котором
сочетается внутреннее единство священнодействия, слова
и музыки-пения. Сочетания внутреннего единства в
действии, слове и музыке всегда тщетно искали и
ищут гениальнейшие поэты и музыканты; однако оно
в полной мере возможно и осуществимо только в
сфере религиозного миросозерцания, ибо является
плодом глубокого религиозного вдохновения».
«Отсюда не удивительно, что наше церковное пение всегда
привлекало к себе внимание почти всех наших
гениальных музыкантов-классиков» '.
Здесь что ни фраза, то богословская натяжка и
ложь. Неправда, будто древние песнопения
православной церкви «являются самым совершенным видом
музыкально-поэтического творчества». Повторяем еще
и еще раз, что там и в самом деле встречается много
прекрасных мелодий. Повторяем также, мы не
собираемся отрицать, что красивые поэтические образы
заключены местами в библии, в религиозных гимнах
Григория Богослова или Иоанна Дамаскина. Но все
это — далеко не «самый совершенный вид
музыкально-поэтического творчества». Религиозное
миросозерцание и вдохновение как раз и препятствуют
достижению художественного совершенства, ибо оттесняют
искусство от правды, от жизни. Потому-то именно в
духовных жанрах у Баха, Генделя, Бетховена нет
«единства священнодействия, слова и музыки-пения».
Музыка-пение поглощает слова молитвы и вступает в
противоречие с действием ритуала. Недаром
церковники травили Генделя, замалчивали Баха, а Торже-
1 Прот. Н. Трубецкой. Русское православное церковно-
богослужебное пение. «Журнал Московской патриархии», 1959,
№ 12, стр. 52.
173
ственную мессу Бетховена отказывались признать
музыкой, предназначенной для богослужения. И как
может претендовать на высшую художественность своих
песнопений христианская церковь, виднейшие
иерархи которой испокон веков утверждали греховность
музыки (Августин), богословы которой и ныне
осуждают артистизм и эстетическое наслаждение! 1 Между
ранним средневековьем и современностью лежит
тысячелетний период огромного музыкального
прогресса. В течение этого периода были осуществлены такие
приобретения музыкальной культуры, совершенно не
свойственные древним церковным напевам, как
полифония, гармония, и высоко поднялись такие
музыкальные гении, как Палестрина и Лассо, Гендель и
Бах, Бетховен и Чайковский, Вагнер и Цезарь Франк.
Теперь нам пытаются доказать, что после древнего
Октоиха все это было движением по нисходящей,
«тщетными исканиями», «несовершенными видами»
и т. п. Но перед нами — абсолютно искаженная
картина реальной истории. Глюк и Моцарт, Глинка и
Мусоргский не только искали, но и находили
подлинно совершенное внутреннее единство действия,
слова и музыки именно в том чисто светском,
театральном жанре, такую глубокую антипатию к
которому питает ныне православная церковь.
Н. Трубецкой апеллирует к «общему признанию»
его музыкально-исторической схемы. Но и это прямая
неправда. Древние ирмосы и стихиры признаны
вершиной всей мировой музыки и поэзии лишь в узких
рамках православного духовенства. Громадное
большинство музыкантов не разделяет этой клерикальной
точки зрения, а подавляющая часть современного
человечества, создавшая ,и продолжающая создавать
великие музыкально-художественные ценности,
попросту не знает гимнов, которые слагались в первые
века истории восточнохристианской церкви. Неверно,
наконец, будтоf«церковное пение всегда привлекало
1 Прот. Н. Пономарев. О церковном пении. «Журнал
Московской патриархии», 1955^ № 11, стр. 12—13. См. также тот
же журнал за 1959 год, № И, стр. 71—72.
174
к себе внимание почти всех наших гениальных
музыкантов-классиков». Привлекало, но далеко не всегда
и далеко не всех, а лишь эпизодически, и то
сравнительно немногих. В этом — одна из характерных
особенностей истории русской музыки, о чем мы,
впрочем, уже писали.
Как видит читатель, все эти и им подобные
музыкально-исторические экскурсы богословов
предназначены совбем не к установлению истины, но наперекор
ей, лишь к тому, чтобы как-то поддержать падающее
влияние церкви, окружить ее мнимым ореолом
«матери-покровительницы» музыкального .искусства.
Вероятно, есть еше среди верующих и, в частности,
верующих музыкантов люди, ослепленные и отсталые,
легковерные и наивные. Возможно,
музыкально-теологические писания Н. Пономарева, Н. Трубецкого,
К. Константинова и других импонируют им и
религиозным пафосом и «ученостью» аргументации. Тем
более обязаны мы разъяснять, что это —
лжеученость и время ее, длившееся тысячелетиями, теперь
уже на исходе. Чем больше людей отходит от
религии, чем шире и стремительнее наступают наука,
коммунистическая идеология, тем глубже и безнадежнее
погружаются церковники в мутный и темный омут
своих противоречий и нелепостей.
* * *
Не касаясь здесь роли музыки в культовом обряде
других церквей, существующих в Советском Союзе
(среди них русская православная особенно широко
эксплуатирует музыкальное искусство, и поэтому о
ней особо шла речь), мы хотели бы всего несколькими
штрихами очертить «музыкальные моменты» в культе
и пропагандистской деятельности некоторых
сектантских организаций, прежде всего баптисто-в и
адвентистов. Эти секты, появившиеся первоначально на
Западе и впоследствии проникшие в нашу страну еще
в дооктябрьский период, значительно усилили свою
активность в годы после Великой Отечественной вой-
775
ны. Как известно, их религиозная проповедь ведется
другими методами, в иных формах, нежели те, какие
применяются «ортодоксальной» церкоэью, и до
некоторой степени в оппозицию этой последней, хотя
реакционная идеологическая сущность их, разумеется,
все та же. Приемы «опрощения» религиозного обряда,
воздействия на чувства верующих посредством особой
«задушевности», «интимности» религиозного
проповедничества в сочетании с весьма примитивным
религиозным фанатизмом — все это обусловливает иные
методы музыкального оформления культа и иной
репертуар. Религиозные представления и настроения
определяют собою религиозные действия. У баптистов
и адвентистов нет древней церковнопевческой
традиции с веками отстоявшимися жанрами и стилями
богослужебного пения, а пышное музыкальное
декорирование молитвенных собраний отрицается ими
принципиально. Стремясь заманить людей в свои сети и
проявляя на этом поприще большую изворотливость,
маневрируя очень разнообразными средствами и
особо тщательно приспособляясь к современности, к
запросам и вкусам определенных слоев верующих,
баптисты и адвентисты прибегают к таким
выразительным средствам и формам музицирования, какие
прямо заимствованы ими у светского, мирского искусства
и какие сурово осуждаются «ортодоксальной;
церковью. Культовые сборища в сектантских молитвенных
домах скорее напоминают проповеди-собеседования
верующих с особым акцентом на религиозно-этических
темах, а музыке принадлежит безусловно
главенствующая, зачастую всеобъемлющая роль в
образно-эмоциональном воздействии на психику собравшихся в
доме. У баптистов и адвентистов есть свои духовные
гимны, распеваемые хором всею общиной. Они не
признают клиросного пения, и по своим
художественным достоинствам их хоры, как правило, значительно
уступают многим из тех, какими расцвечено
богослужение в «ортодоксальной» православной церкви.
Зато, в отличие от а сарреИ'ного склада русской
православной службы, баптистские и адвентистские
общины широко применяют смешанные инструментально-
176
хоровые составу. Сектантский хор, в зависимости от
местных ресурсов и возможностей, поет и с органом,
и с фортепиано, и с оркестром народных или струнных
смычковых инструментов. Нужно ли говорить о том,
что все эти музыкально-певческие «вольности» и
игра в «демократизм» богослужебного обряда
составляют не более, как демагогически-обманное
прикрытие все той же ужасающей косности,
невежественного фанатизма представлений, мыслей и необузданно-
свирепого самовластия сектантских вожаков.
Примечательно, что в этой ненасытной,
оснащенной музыкою погоне за душами и сердцами
людскими, а юношескими прежде всего, баптистские и
адвентистские проповедники выходят довольно далеко
за пределы своих богослужебных собраний. Они
пытаются — иногда не безуспешно—организовать
вокруг своих сект своеобразную
«художественно-самодеятельную» периферию, интенсивно работающую,
разумеется, в том же религиозно-пропагандистском
направлении. Так возникают местами сектантские
хоры, сектантские оркестры. Судьба музыкально
одаренной советской девушки или юноши, попадающих
этим путем в тенета мракобесия, наглухо
отгороженных от здорового коллектива сознательных и
активных строителей коммунизма, лишенных полнокровной
жизни, — эта судьба глубоко трагичная. Она не
может не вызывать серьезной озабоченности у нашей
партии. Не случайно эта сторона деятельности
религиозных сект привлекла к себе внимание
расширенного заседания Идеологической комиссии при ЦК
КПСС, которая в конце 1963 года обсудила
состояние и меры по усилению атеистического воспитания
в стране. «В общинах, особенно сектантских, —
подчеркивал секретарь ЦК КПСС Л. Ильичев, —
проводятся специальные мероприятия, рассчитанные на
молодежь: вечера любви, организация хоров и
оркестров, экскурсии. В Кисловодске и Пятигорске
баптисты регулярно устраивают для молодежи вечера
духовного крещения, встречи Нового года, где
распевают религиозные гимны, ставят пьесы религиозного
содержания. В целях приобщения детей и подростков к
777
религии духовенство усиливает давление на
родителей» *.
В сектантских общинах духовное пение
распространяется при широкой опоре на семейные связи.
Некоторые общины почти сплошь состоят из
родственников; в таких случаях и во внебогослужебное
время происходит религиозное музицирование в
семейном кругу.
Выше названы были некоторые города на
Северном Кавказе, где бытует сектантская музыка. Они
не составляют исключения. Свою
музыкально-пропагандистскую деятельность баптисты активно
развернули, например, в Крыму, на Алтае (в Рубцовске),
в Целинном крае, даже на строительстве Братской
гидроэлектростанции на Ангаре. Выступая на
Пленуме ЦК КПСС в июне 1963 года по вопросу о
задачах идеологической работы партии, секретарь ЦК
КПСС Л. Ф. Ильичев весьма справедливо указывал:
«Там, где не работаем мы, там усиливается влияние
церковников и сектантов»2. Характерно и поучительно
в этом смысле было положение еще недавно, в 1962
году, сложившееся в Целинном крае с его
трехмиллионным, в огромном большинстве молодежным
населением.
Ловко используя слабость и безынициативность,
промахи и недостатки в атеистической и
культурно-просветительной работе наших организаций,
сектанты-баптисты, адвентисты развили там весьма
«кипучую» деятельность на музыкальном фронте.
«В то время, как трехмиллионная армия целинников
не имеет ни одного профессионального музыкального
коллектива, — так писал наш молодой советский
композитор Р. Хозак, побывавший в Целинном крае
в 1962 году, — создавшимся положением ловко
пользуются сектанты —- адвентисты и баптисты. Они
организуют для молодежи музыкальные вечера...
Созданный баптистами струнный оркестр выступает не
1 Л. Ильичев. Формирование научного мировоззрения и
атеистическое воспитание. «Коммунист», 1964, № 1, стр. 44.
2 Цит. по газете «Правда» от 19 июня 1963 года, стр. 4.
178
только в городе, но выезжает также на гастроли в
районные центры. Существуют также хоровые
коллективы, созданные сектантами». Гибкость и
приспособляемость к обстоятельствам своей «музыкальной
деятельности» сектанты проявляют весьма
значительную. Примечательно, что в различных звеньях и
формах — от молитвенного собрания и до гастрольного
выступления молодежного кружка — они используют
очень различный музыкальный репертуар. Он
наиболее ритуально-строг, религиозно-наставителен в
культовом центре сектантской общины. Особенно баптисты
озабочены тем, чтобы музыка соответствовала их
нравственно-религиозной проповеди «христианской
любви», «трудолюбия», «воздержания» от излишеств
и т. п. На богослужениях распеваются лишь
религиозные гимны. Но чем больше развернута сектантская
периферия, тем пестрее, «вольнее» становится
репертуар, рассчитанный на постепенное, более или менее
тщательно замаскированное и принаряженное
завлечение новых людей. В программы вечеров,
драматических представлений, кружков, оркестровых
коллективов, особенно при выездах на гастрольные
выступления, широко включается музыка светских жанров —
от народных песен и до произведений классической
музыкальной литературы. Такова эта «вторая
система» эксплуатации музыки в целях религиозного
одурманивания людей. Несмотря на всячески
рекламируемые «нравственную чистоту», «любовность», даже (не
шутите!) «демократизм» сектантского пения и
музыки, их псевдоопозиционность ортодоксальному
ритуалу, несмотря на репертуарные и жанровые
«вольности»,— эта особенно демагогичная и изворотливо-
лживая система действует в том же направлении, что
и все христианские церкви: она низводит искусство,
высокое и гуманное по своей эстетической природе, до
низменной и противоестественной роли ловушки или
приманки для легковерных, малодушных, идейно
отсталых и заблудившихся граждан нашей страны.
Сколько музыкальных дарований прозябает и здесь,
посреди невежественной косности и убогих забот «о
спасении души», на поприще бесплодном, далеком и
179
бесконечно чуждом культуре социализма и
коммунизма!
Следует отметить, что за последние годы
положение изменилось. Ликвидация последствий культа
личности, широкое, ранее еще небывалое развертывание
советской демократии и творческой инициативы
наших людей, утверждение коммунистического образа
жизни, всемирно-исторические успехи советской науки
и техники — все это привело к огромному подъему
культуры и социалистической сознательности
строителей коммунизма. Наша партия предприняла ряд
важных мер, направленных к активизации борьбы против
религиозной идеологии. Ленинские принципы в
отношении религии, церкви, государственного
законодательства о религиозных культах были полностью
восстановлены.
В 1954 году ЦК КПСС принял специальное
постановление об улучшении антирелигиозной пропаганды
и об исправлении ошибок и недостатков в ее
проведении. Организующая и направляющая роль этих
постановлений была велика. Научно-атеистическая
пропаганда заметно оживилась, решения июньского 1963
года Пленума ЦК КПСС дали ей новый мощный
.импульс. В стране стало меньше церковных общин,
меньше священнослужителей, монастырей, молитвенных
домов. Многие граждане нашей страны за это время
освободились от религиозного дурмана, от пут, в
которые затянули их церковники и сектанты. Среди них
встречаются и музыкальные дарования, отвоеванные
теперь у религии и церкви для полноценного участия
в строительстве художественной культуры
коммунизма. В печати уже сообщалось об этих отрадных
результатах самоотверженной и умелой работы наших
атеистов. Вот некоторые факты. В Крыму (Феодосии)
старый живописец-общественник А. Н. Матвеев,
проницательный, душевный человек, неугомонный и
упорный энтузиаст-антирелигиозник, «вывел» из местной
феодосийской православной церкви и баптистской
общины несколько лучших певчих — девушек, помог им
занять свое место среди тружеников промышленности
и сельского хозяйства. Понадобилось много усилий, но
180
сравнительно немного времени, чтобы они
окончательно порвали с религией 1. В той же очень умной,
конкретной и целеустремленной журнальной статье
Е. Меренцев рассказывает:
«Сотрудник Рубцовского мелькомбината тов.
Караулов, проходя как-то мимо вокзала, увидел в толпе
девушку лет двадцати пяти. Она о чем-то увлеченно
рассказывала столпившимся вокруг ее людям, а
потом вдруг запела. Голос у нее был красивый, и пела,
она как профессиональная артистка. Однако от
взгляда старого большевика не укрылось, что одежда
певицы была сильно поношена, да и обстоятельства ее
выступления на вокзале перед пассажирами
показались ему странными. Тогда Караулов присел около
певицы и заговорил с нею. Девушка назвала себя
Лидой. Расспросив, куда и зачем она направляется,
Караулов выяснил, что Лида была баптисткой. Девушка
рассказала, что имеет высшее образование, в секте
состоит давно и попала туда после того, как потеряла
родителей. Не скрыла она от старого человека и
своего горя. Оказывается, она вышла замуж, но потом из
дому ушла, потому что муж запрещал ей петь в
сектантском хоре. Караулов пригласил Лиду к себе
домой. На время они с женой приютили девушку. Как-
то сводили ее в Дом культуры на концерт
вокалистов. Вскоре Лида сама стала петь на сцене. А потом
приехал к ней муж, и молодая чета осталась жить у
Карауловых. С тех пор Лида живет в Рубцовске.
Работают они с мужем на заводе. О секте Лида больше
не вспоминает. В жизни этой семьи произошли
большие события. Лиду и мужа ее приняли в члены
партии. У них родился сын. Старики Карауловы — по
прежнему самые' лучшие друзья молодой четы.
А ведь, не попадись Лиде хороший человек, все
могло бы быть иначе!
В том же Рубцовске произошла и такая история.
Инженер Ермаков, проходя мимо церкви, увидел
девушку. Она уговаривала своих сверстниц последовать
1 Е. Меренцев. О людях хороших. «Наука и религия:
1964, № 1, стр. 85.
181
ее примеру — идти певчими в общину баптистов.
Ермаков в шутку предложил ей свои услуги. Они пошли
вместе и дорогой поближе познакомились. Девушку
звали Олей. Она рассказала, что искала работу и вот
нашла в секте у баптистов. Пенсионер предложил
девушке перейти в Дом культуры одного из заводов
Рубцовска. Он обещал ей помочь. Хотя и неохотно,
она предложение приняла.
Став одной из активных участниц художественной
самодеятельности Дома культуры, она поближе
познакомилась с производством. А потом попросилась на
работу в цех. Просьбу ее удовлетворили. Вскоре Оля
привела на завод трех своих подруг, которые тоже до
этого пели в баптистском хоре. Всех их устроили на
работу, обеспечили жильем. Девушки тоже стали
участницами самодеятельности и вскоре навсегда
покинули секту. Посчитай бы тов. Ермаков, что
заниматься с баптистами не его дело, и четыре молодые
девушки остались бы в секте. Но советский инженер не
прошел мимо сбившихся с пути людей, помог им найти
самих себя.
Да, именно помощь и участие. Так в двух словах
можно охарактеризовать существо атеистической
работы» К
Факты, о которых пишет Е. Меренцев, полны
глубокого смысла. Речь идет здесь не только о
прекрасных и поучительных образцах атеистической работы,
воинственно-наступательной по отношению к религии
и церкви, — работы, проникнутой сердечным
участием, задушевностью, братской заботой о людях,
затонувших и чуть было не погибших в омуте сектантско-
религиозной дикости и темноты. Речь идет также об
идеологической борьбе за судьбы ^музыкальных
дарований. В одном случае профессиональное
музыкальное искусство, в другом — художественная
самодеятельность рабочего класса, организованная вокруг
Дома культуры, настойчиво, искусно, терпеливо
сражаются с церковниками и баптистскими вожаками, с их
1 Е. Меренцев. О людя* хороших «Наука и религия»,
1964, № 1, стр. 86.
182
воззрениями, их музыкальной обрядностью — за
народные певческие таланты, их голоса, мастерство, за
их взгляды на искусство, их отношение к нему, — ив
обоих случаях советская, коммунистическая культура
побеждает. Этот опыт должен стать самым широким
достоянием нашей музыкальной общественности,
которая пока еще далеко не всегда находится на
передовой линии борьбы против религиозного
миросозерцания и его тлетворного влияния на искусство. Да,
церквей и молитвенных домов*стало меньше, но
культовых обрядов совершается в них много; верующих
в нашей стране относительно незначительное
меньшинство, но в абсолютном выражении, особенно на
западе Украинской, Белорусской, в Молдавской ССР,
г. прибалтийских и среднеазиатских республиках,
они составляют еще довольно внушительную цифру.
Там воздействие религии и богослужебного ритуала
на музыку и музыкальную жизнь все еще дает себя
чувствовать. Встречается оно не столь редко, как мы
уже видели, и в городах и селах Российской
Федерации, в том числе в Москве и Подмосковье (Загорск,
Владимир, Псков, Ярославль и другие).
Сейчас, когда на основе новой Программы КПСС,
принятой XXII партийным съездом, борьба нашей
партии против религиозной идеологии поднята на новую,
высшую ступень, а в конце 1963 года Центральным
Комитетом КПСС одобрены разработанные
Идеологической комиссией при ЦК мероприятия по созданию
цельной и стройной системы атеистического
воспитания в стране, советское музыкальное искусство
призвано в тесном сотрудничестве с другими областями
нашего художественного творчества широко и
активно участвовать в благородном и отнюдь не легком
деле полного освобождения психологии, сознания всех
советских людей от религиозных верований, чувств,
предрассудков. Советская музыка может и должна
многое сделать в этом направлении. Впереди — более
широкое и инициативное развитие хорового
искусства, внесение живого, творческого духа во все наши
хоровые общества, коллективы, кружки, всяческий
подъем их профессиональной культуры. Нужно до-
183
биться того, чтобы именно они стали повсюду самыми
любимыми и авторитетными очагами хорового пения,
со здоровым светским репертуаром, красивым и
разнообразным, который доставит художественную
радость их участникам и будет способствовать их
воспитанию в духе высоких коммунистических идеалов
нашего строя и культуры. Всероссийское хоровое
общество, созданное у нас но постановлению
Центрального Комитета партии, обладает в этом отношении
самыми богатыми возможностями. Задача
заключается в том, чтобы кипучей, вдохновенной и четко
организованной деятельностью претворить в жизнь эти
пока лишь в незначительной ст?»пени реализованные
возможности и перспективы.
Вспомним драгоценный опыт крымских и
алтайских энтузиастов. Именно нашим хоровым
коллективам, профессиональным и самодеятельным, нашим
клубам, Дворцам и Домам культуры принадлежит
решающая роль в деле отвлечения певчески одаренных
людей и любителей хорового пения от
богослужебного обряда с его эмоционально воздействующим,
зачастую красочно-внушительным музыкальным
оформлением либо «умилительно» нарочитой песенной
простотой. Естественно, что, чем более периферийное
положение занимает тот или иной «кружок церковной
молодежи», духовный хор или сектантский оркестр, чем
больше он выступает в открытых концертах, чем
теснее связан с широкой публикой, — тем легче на него
воздействовать и проникновенным,
научно-обоснованным словом и убеждающей силой мирского,
реалистического музыкально-художественного образа. Но мы
должны настойчиво добиваться и того результата,
какого достиг А. Матвеев в Феодосии: чтобы наша
атеистическая мысль, разъясняющее слово, наша музыка
достигли и тех, кто особенно нуждается в них, —
певчих (в большинстве своем это теперь женщины),
непосредственно участвующих в песенно-гимническом
ритуале церковной службы.
Последнее время в быт советских людей начинают
входить новые безрелигиозные традиции, обряды,
праздники. В борьбе против религий, их культа роль
184
этого нового начинания может быть велика: как часто
церковь, особенно православная и католическая (мы
уже писали об этом), привлекает эстетически
впечатляющей стороной своего ритуала! Но, как отмечает
Л. Ф. Ильичев, «в общем, мы еще очень плохо
заботимся о том, чтобы заменить церковные обряды
гражданскими, безрелигиозными ритуалами, в полной мере
отражающими красоту духовного мира советских
людей и отвечающими их этическим и эстетическим
потребностям. Почему в таких делах в стороне остаются
наши поэты, композиторы, художники? За ними слово,
они могут сделать полезное дело» 1.
Эта критика весьма справедлива. Продуманного,
полноценного музыкального репертуара для
многообразных гражданских обрядов, которых все больше
будет совершаться в городах и селах нашей Родины, у
нас еще нет. Пока нередки случаи, когда
безрелигиозный обряд (бракосочетание, запись новорожденного
и т. д.) происходит с очень разношерстным
музыкальным оформлением, не отвечающим торжественности,
светлой радости и глубоко гражданственному смыслу
момента — рождения нового гражданина великого
Советского Союза или новой советской семьи.
Конечно, здесь могут и должны звучать и музыкальная
классика, и наши чудесные народные песни, и многое,
созданное советскими мастерами. Но, помимо всего
этого, как необходима музыка, в образном строе
которой непосредственно заложены были бы жанрово
поэтические черты, по ассоциации ведущие мысли,
чувства, воображение присутствующих к
происходящему обряду! Иными словами, назрела эстетическая
потребность в новой, советской «музыке на случай».
Перед нашими композиторами здесь открывается
новая, плодотворная и эстетически увлекательная
жанровая линия, где их творческая фантазия и
изобретательность могут найти для себя самое широкое
применение.
Но, разумеется, роль и задачи композиторов на
1 Л. Ильичев. Формирование научного мировоззрения и
атеистическое воспитание. «Коммунист», 1964, № 1, стр. 41—42.
185
нынешнем этапе борьбы против религии гораздо более
широки. Не только антиклерикальная, но и
атеистическая тема может и должна ярко, глубоко,
художественно-совершенно прозвучать в советской музыке.
Иногда думают, что тема эта по природе своей
предназначена для произведений по преимуществу
сатирического и комедийного плана. С такой точкой
зрения нельзя согласиться. Слов нет, сатирическое
осмеяние религиозных небылиц, пороков и невежества
церковников и сектантов — дело нужное и важное. Но ни
на минуту нельзя забывать о серьезности вопроса, о
трагедии, какую переживает духовно порабощенный
религией человек. Обращение к богу, более или менее
смутно представляемому или отвлеченно мыслимому,
почти всегда связано с душевной драмой,
потрясением, горечью человеческого переживания.
Церковники играют на «жажде утешения», они пытаются
представить христианство как религию якобы
«жизнеутверждающую»; религию, для которой характерно
«живое, светлое, радостное религиозное чувство, как
плод христианского благодушия (Иак., 5, 13), без
всякого оттенка гнетущей скорби и уныния» К
Отсюда, утверждают богословы и богословствующие
музыкальные эстетики, — «гениальная прелесть самого
счастливого сочетания звуков» в осмогласном пении2.
Все это — величайшая неправда, философская,
этическая, психологическая. Христианство утверждает
жизнь загробную, а земную рассматривает лишь как
преддверие к первой. Но загробная жизнь — призрак,
фантастическое измышление, давно опровергнутое
наукой, а единственно реально лишь, пользуясь
выражением Карла Маркса, посюстороннее, земное
бытие. Вот почему «свет» и «радость», возвещаемые
священнослужителями и богословами, в
действительности совершенно эфемерны, а о том, что такое в
действительности «христианское благодушие», нам
слишком красноречиво и доказательно повествует история
церкви христовой. Следовательно, христианская «ра-
1 «Журнал Московской патриархии», 1959, № 10, стр. 68.
2 Т а м же.
186
дость» не более, как обманчивая маска или
покрывало: она прикрывает губительное неверие в
человека, презрение и ненависть к земной жизни,
отрицание самых коренных основ умственного и
нравственного прогресса. Никакие стихиры и кондаки, ирмосы
и гимны, как бы умилительно они ни звучали, никогда
не смогут более занавесить и приукрасить этот
свойственный религии глубочайший пессимизм жизнеотре-
чения. Религиозное утешение всегда ложно,
иллюзорно, а обман или опьянение этим утешением для
советского человека, строителя коммунистического
общества, представляет и в самом деле целую трагедию.
Здесь возникают конфликты и коллизии, которые
заслуживают и ждут воплощения в реалистических
образах музыкального искусства. Как нужна хорошая
музыка к атеистическим кинофильмам, 'как нужны
талантливые антирелигиозные песни (без схематизма
и вульгаризаторства), каким праздником нашего
театра и музыки была бы действительно глубокая по
социально-этическому замыслу, художественно
совершенная по музыкально-сценическому воплощению
опера на идейно-значительный атеистический сюжет!
Таковы некоторые практически-творческие
аспекты нашей темы. Но не меньшее, пожалуй, значение
имеет и ее теоретическая сторона. Повторяем
сказанное в самом начале. На протяжении веков
богословами и музыковедами-идеалистами написано много
неправды и о церковной и о светской музыке. Немалое
к этой неправде добавлено, как мы видели, и
русскими богословами нашего времени. Мы не говорим
уже об обширной литературе, публикуемой по этим
вопросам теологами и религиозно мыслящими,
музыкантами за рубежом. Наш прямой долг —
разоблачить эту неправду, по мере наших сил и знаний
раскрывать и исследовать истинную картину истории и
современного состояния музыкального искусства в его
отношении к религии и церкви. Скромным опытом,
предпринятым в этом направлении, является и
настоящая книжка.
* # *
«Современная эпоха, основное содержание которой
составляет переход от капитализма к социализму,
есть эпоха борьбы двух противоположных
общественных систем, эпоха социалистических и
национально-освободительных революций, эпоха крушения
империализма, ликвидации колониальной системы, эпоха
перехода на путь социализма все новых народов,
торжества социализма и коммунизма во всемирном
масштабе. В центре современной эпохи стоят
международный рабочий класс и его главное детище —
мировая система социализма» К
В то время как Советский Союз осуществляет
развернутое строительство коммунистического общества,
другие страны социалистической системы успешно
закладывают основы социализма, а некоторые уже
вступили в период строительства развитого
социалистического общества. В странах народной демократии
совершается культурная революция, все граждане
имеют свободный доступ к знаниям и сокровищам
искусства. Социалистическая идеология одержала там
заметные успехи в борьбе против идеологии
буржуазной. Но, как указало в своем Заявлении Московское
совещание представителей коммунистических и
рабочих партий в 1960 году, «эта борьба носит
длительный характер и будет продолжаться вплоть до
полного освобождения людей от пережитков буржуазной
идеологии».
Эти новые закономерности общественного
развития определяют собою пути развития музыкальной
культуры в странах социалистической системы. Наши
друзья следуют и здесь вдохновляющему примеру
Советского Союза. Музыкальное искусство шаг за
шагом освобождается от связей и влияния идеологии
старых эксплуататорских классов. Это закономерно.
В нашу эпоху «время господства религии над умами
и сердцами людей подходит к концу». «Одна из
примечательных черт современной духовной жизни во-
1 Программа КПСС. Введение.
188
обще и особенно в странах социализма — ослабление
под воздействием научного и социального прогресса
влияния религиозной идеологии» К Однако
воздействие религии и церкви на музыку и - музыкальную
жизнь, — скажем, католической — в Польше, Венгрии,
православной — в Болгарии 2, — все еще
значительно. Понадобится большая работа братских
коммунистических партий для того, чтобы такое могучее
средство идейного воздействия на массы, как музыка,
повсюду полйо и последовательно служило прогрессу
духовной культуры народов и, освободившись от
религиозных туманов, дурманов и препон, еще шире и
вдохновеннее поднимало их на борьбу за новые
успехи социалистического строительства.
Опыт стран социалистической системы имеет
величайшее и неоценимое значение для перспектив
прогрессивного развития музыкального искусства
капиталистических стран, где влияние религии и церкви на
музыкальную жизнь, как мы видели, велико и
осуществляется при активной поддержке
государственной власти, печати, школы, буржуазной философии и
эстетики. Но вопреки живучести религиозных
представлений и чувств, вопреки всем усилиям,
изворотливости, беснованиям клерикального лагеря,
пытающегося удержать народы в духовном плену, религия
уже не имеет перспектив в музыкальном искусстве
будущего. «Все больше людей в капиталистических
странах порывают с буржуазным мировоззрением.
Буржуазная идеология переживает глубокий кризис»3.
Нет сомнения в том, что победоносное
коммунистическое строительство в нашей стране, новые
триумфальные успехи советской науки, техники,
художественной культуры, осуществляемые под знаменем
великого исторического документа нашей эпохи —
1 Л. Ильичев. Формирование научного мировоззрения и
атеистическое воспитание. «Коммунист», 1964, № 1, стр. 24, 26.
2 В частности, мы имеем в виду весьма активную
деятельность болгарского церковного композитора и богослова Петра
Динева, работы которого популяризируются Московской
патриархией.
3 Программа КПСС, часть первая, VII.
189
принятой XXII съездом КПСС Программы
Коммунистической партии Советского Союза, — будут
способствовать тому, что круг прогрессивных деятелей
музыкального искусства расширится. Все новые
художники-музыканты, совлекая с себя ветхого Адама
религиозных верований и ложных эстетических
принципов, будут превращаться из глашатаев религии в
певцов борьбы передового человечества за
утверждение гуманистических идеалов в реальной жизни всех
стран и народов.
Широка и светла перспектива нашего искусства.
Уже недалеко то время, когда, с победой и
утверждением социализма во всех странах, повсюду на земле
погаснут очаги отживающих, тлетворных идей и
взглядов, сковывающих, расслабляющих,
отравляющих музыку. Нигде и никогда не будет она более
служить духовной темноте, трагическим заблуждениям,
обману и религиозным распрям между людьми. Не
станет иных сил, действующих в мире музыки, как
разум, высокий гуманизм, братство между народами,
дерзание в достижении новых и новых подвигов в
борьбе за покорение природы. Это будет прекрасная
всемирная песнь торжествующего коммунизма.
Розеншильд
Константин Константинович
МУЗЫКАЛЬНОЕ ИСКУССТВО
И РЕЛИГИЯ
Редактор Е. М н а ц а к а н о в а
Техн. редактор В. Кичоровская
Художник В. А н т и п о в
Корректор К. Швецова
Подп. к печати 25/VI 1964 г. А-07043
Форм. бум. 84Х108'/з2. Бум. л.-3,0
Печ. л. 10,08. Уч.-изд. л.—9,19
Тираж 12 000 экз. Изд. № 1986
Цена 46 к. Зак. 434
Издательство «Музыка», Москва, В-35.
Софийская набережная, 30.
Набор Московской тип. № 18
Главполиграфпрома
Тираж отпечатан и изготовлен
в Московской типографии № 6
«Главполиграфпрома»
Государственного комитета
Совета Министров СССР
по печати
Москва, Ж-88, 1-й Южно-портовый пр., 17.
ЗАМЕЧЕННЫЕ ОПЕЧАТКИ,
ИСПРАВЛЕНИЯ
С ip.
17
77
78
170
Строка
11 снизу
9—10
сверху
15-16
снизу
15 снизу
Напечатано
ЭЛЛИНСКОЙ
в «Парсифале»,
отнюдь
у обоих
Девятые —
неоконченные
видения
Следует читать
эллинистической
в «Парсифале»
отнюдь
у обоих
последние (у Брукнера
девятая, у
Малера десятая)—
неоконченные.
видения
Зак. 2946/434