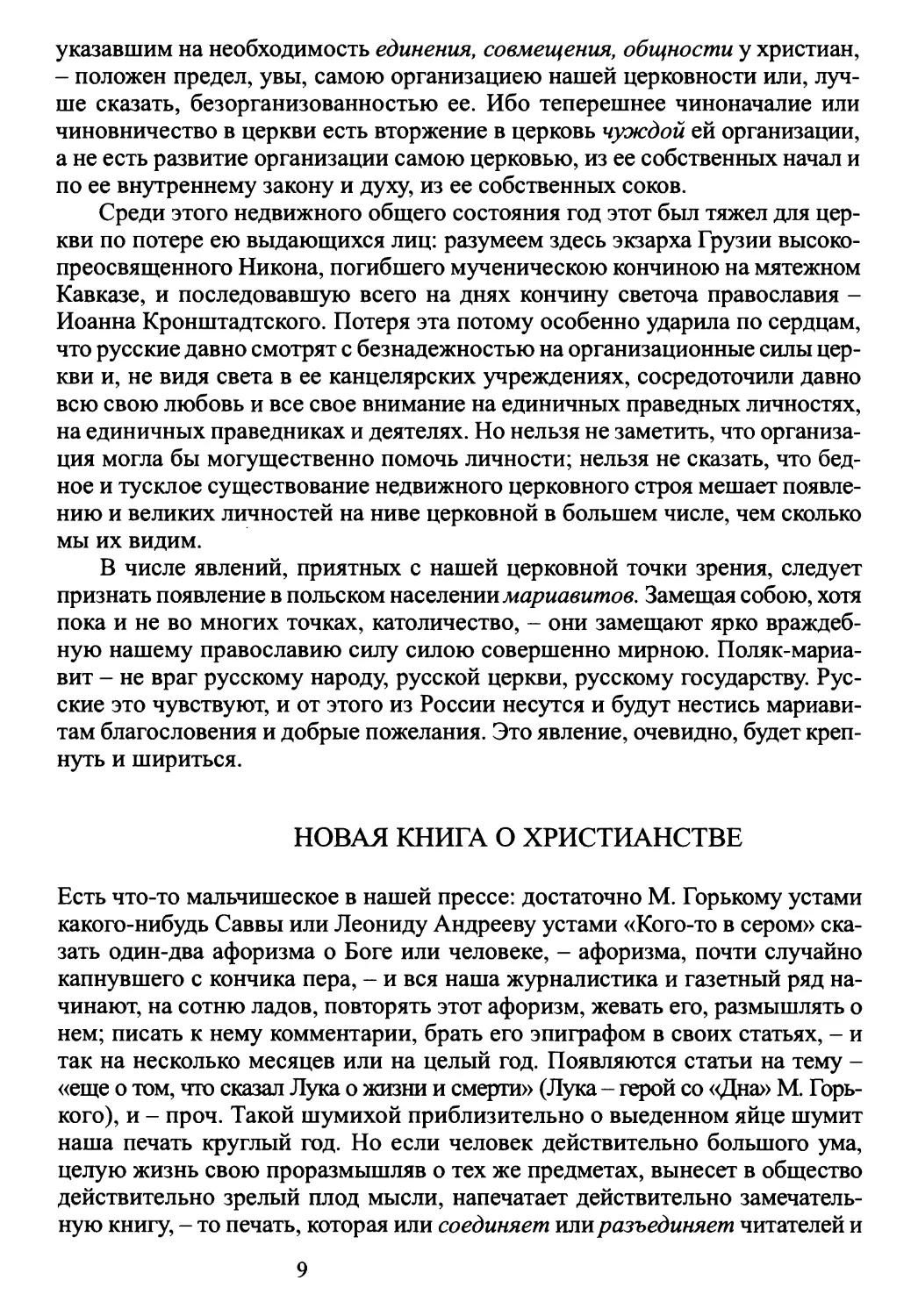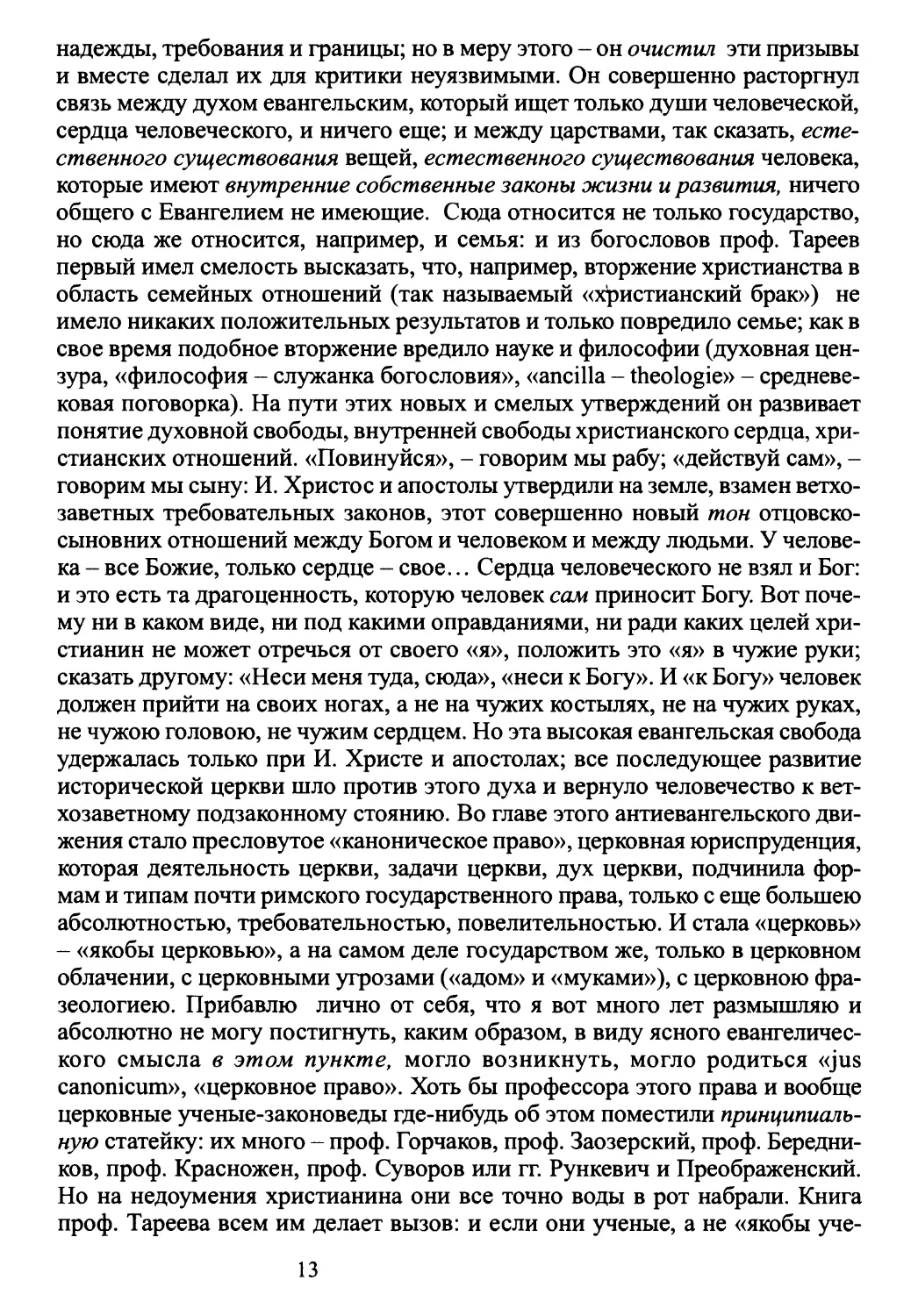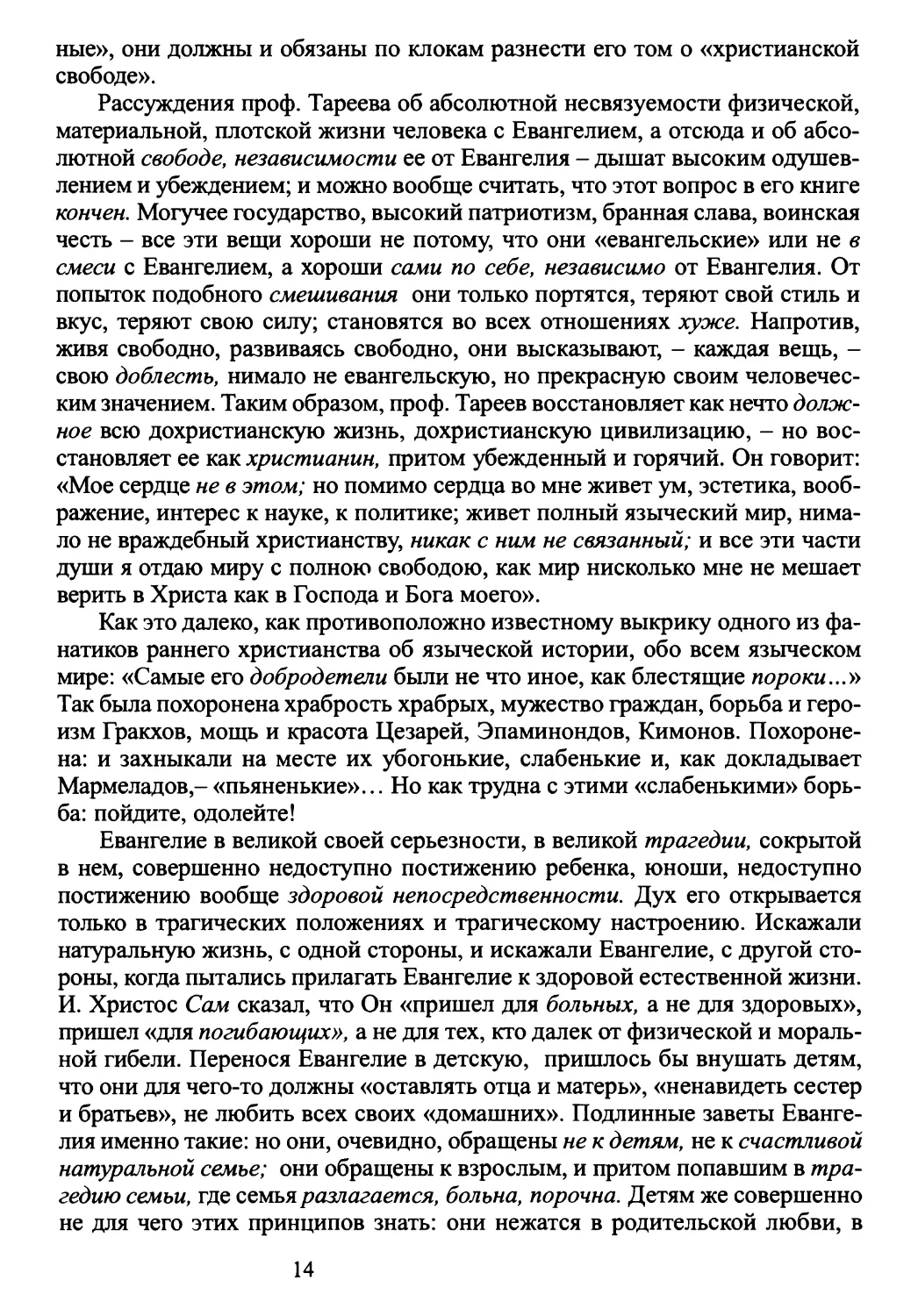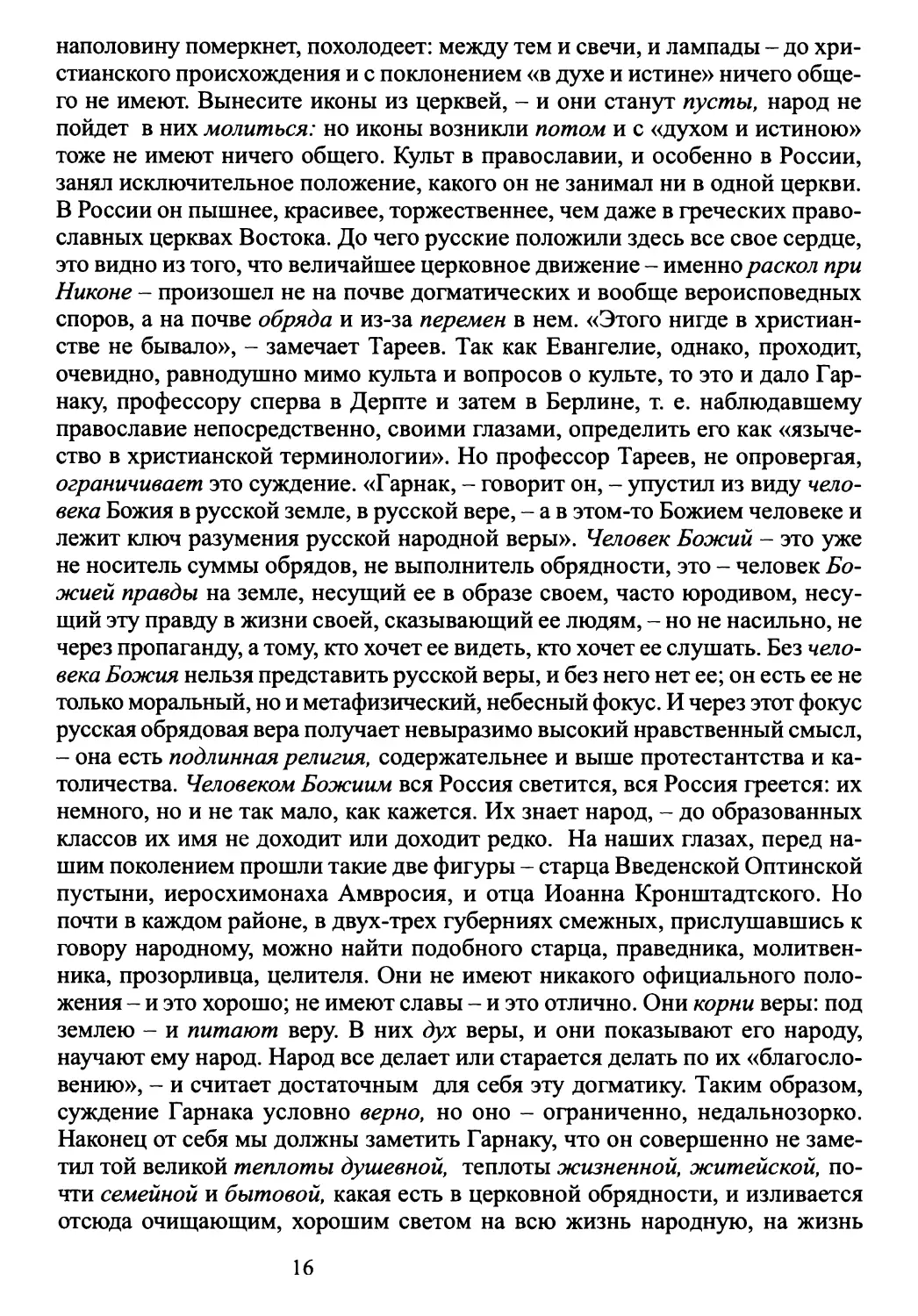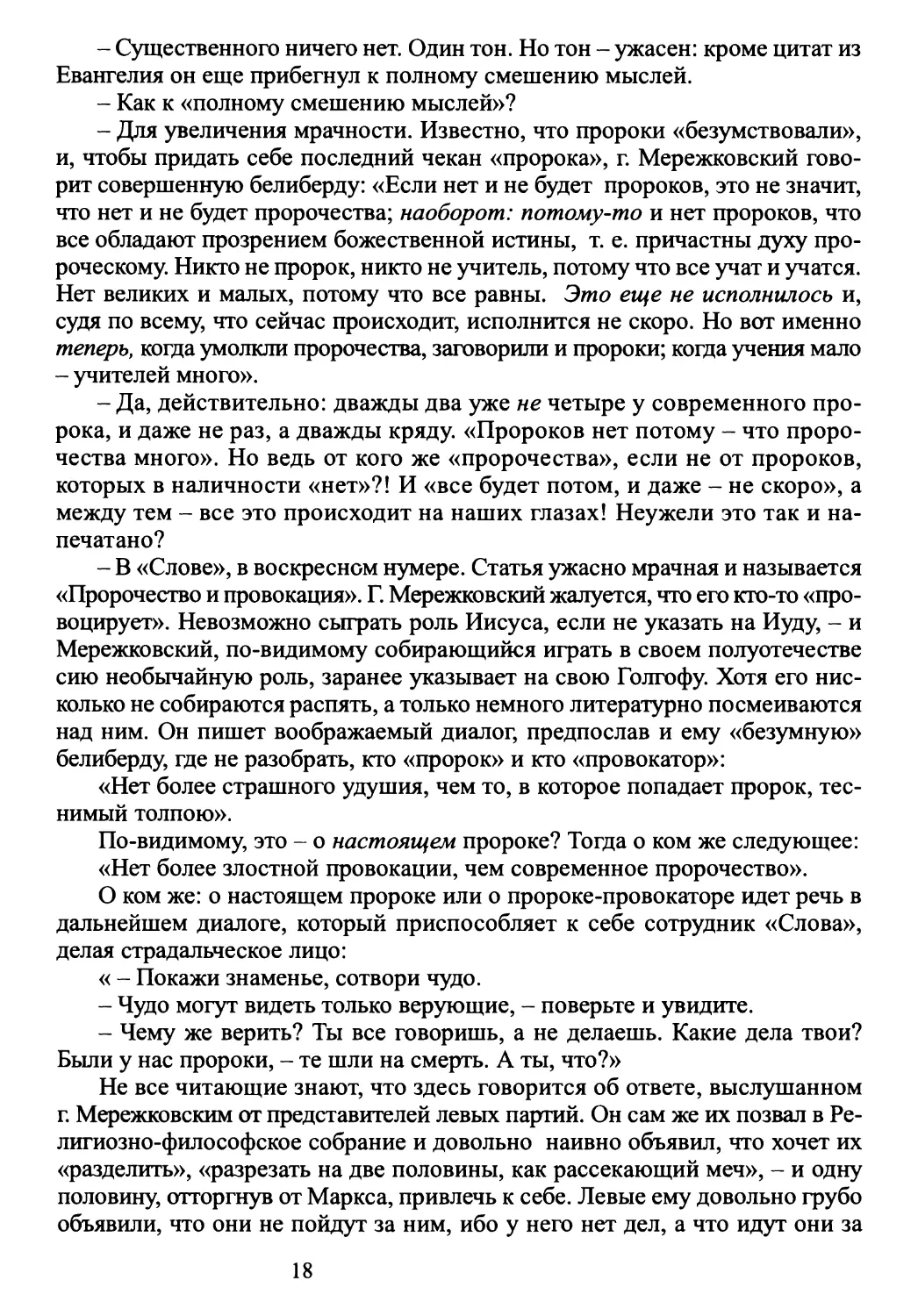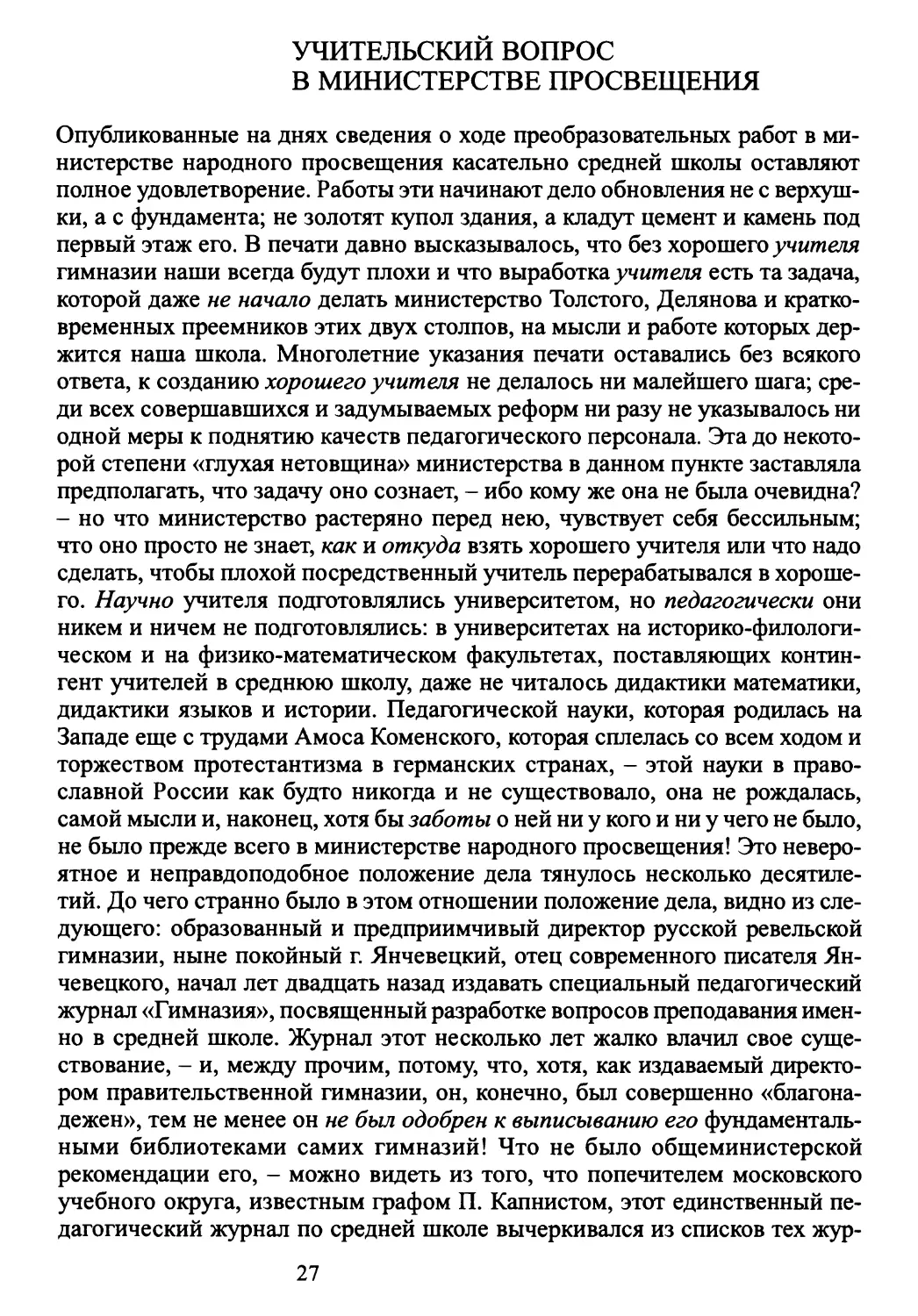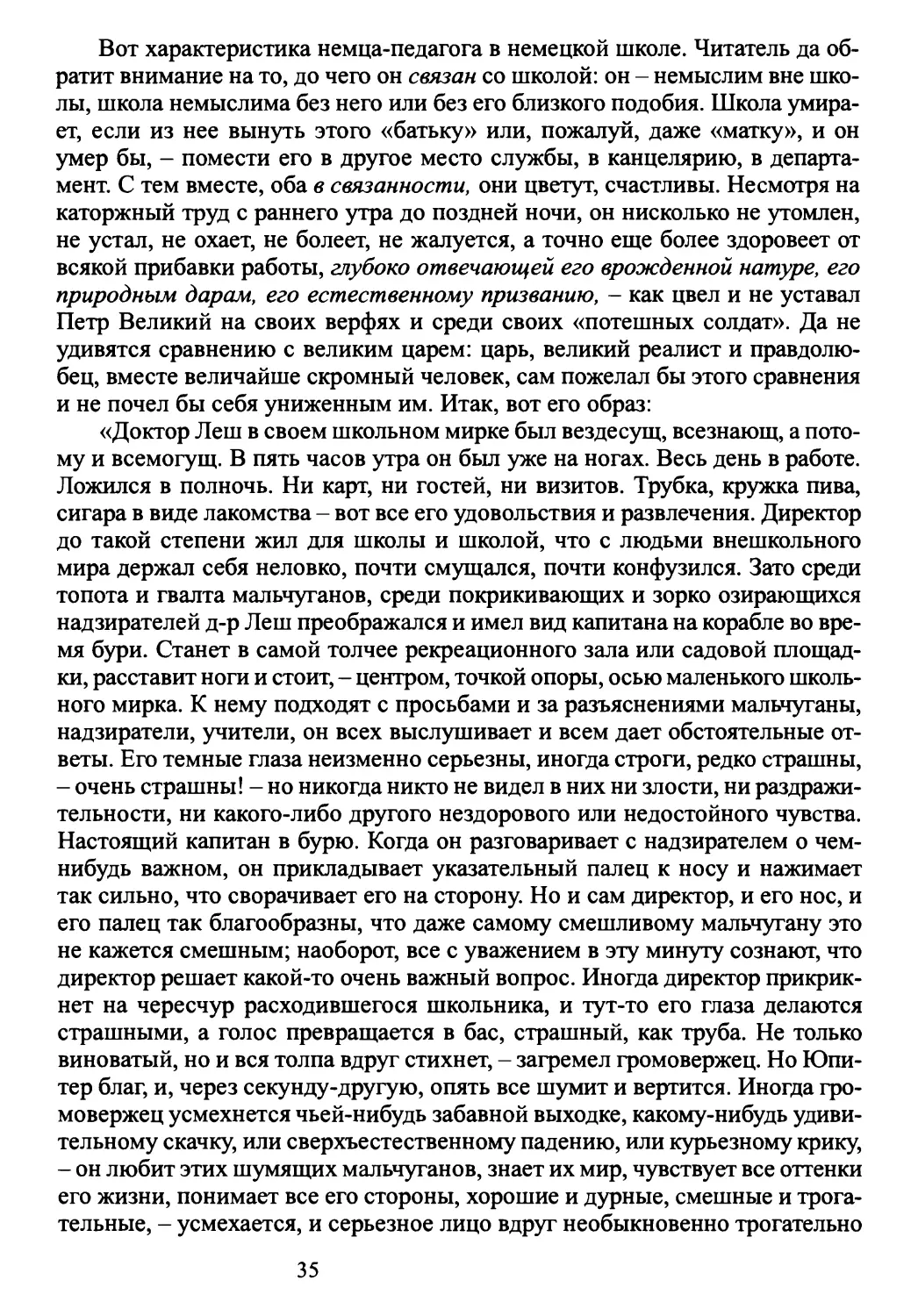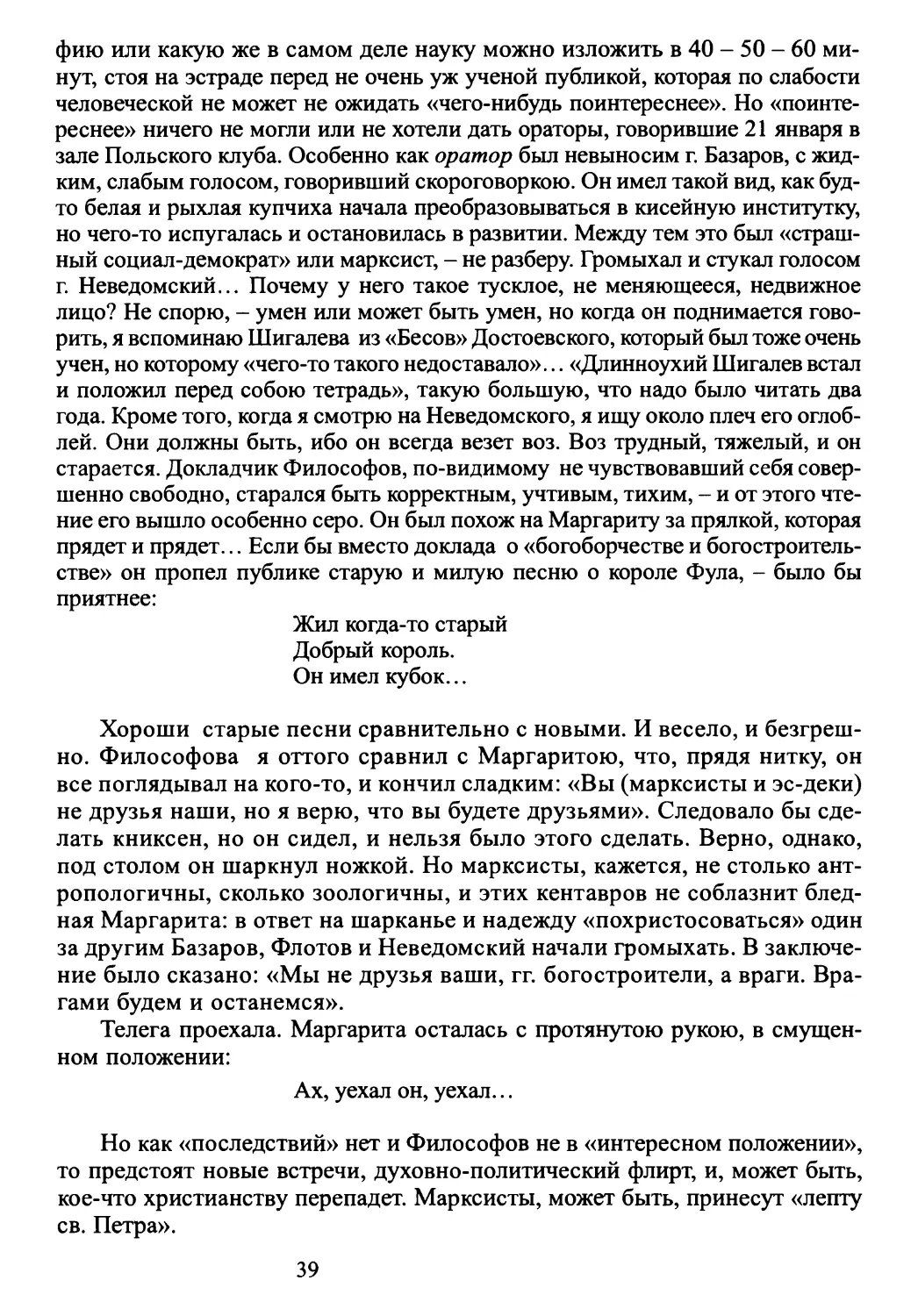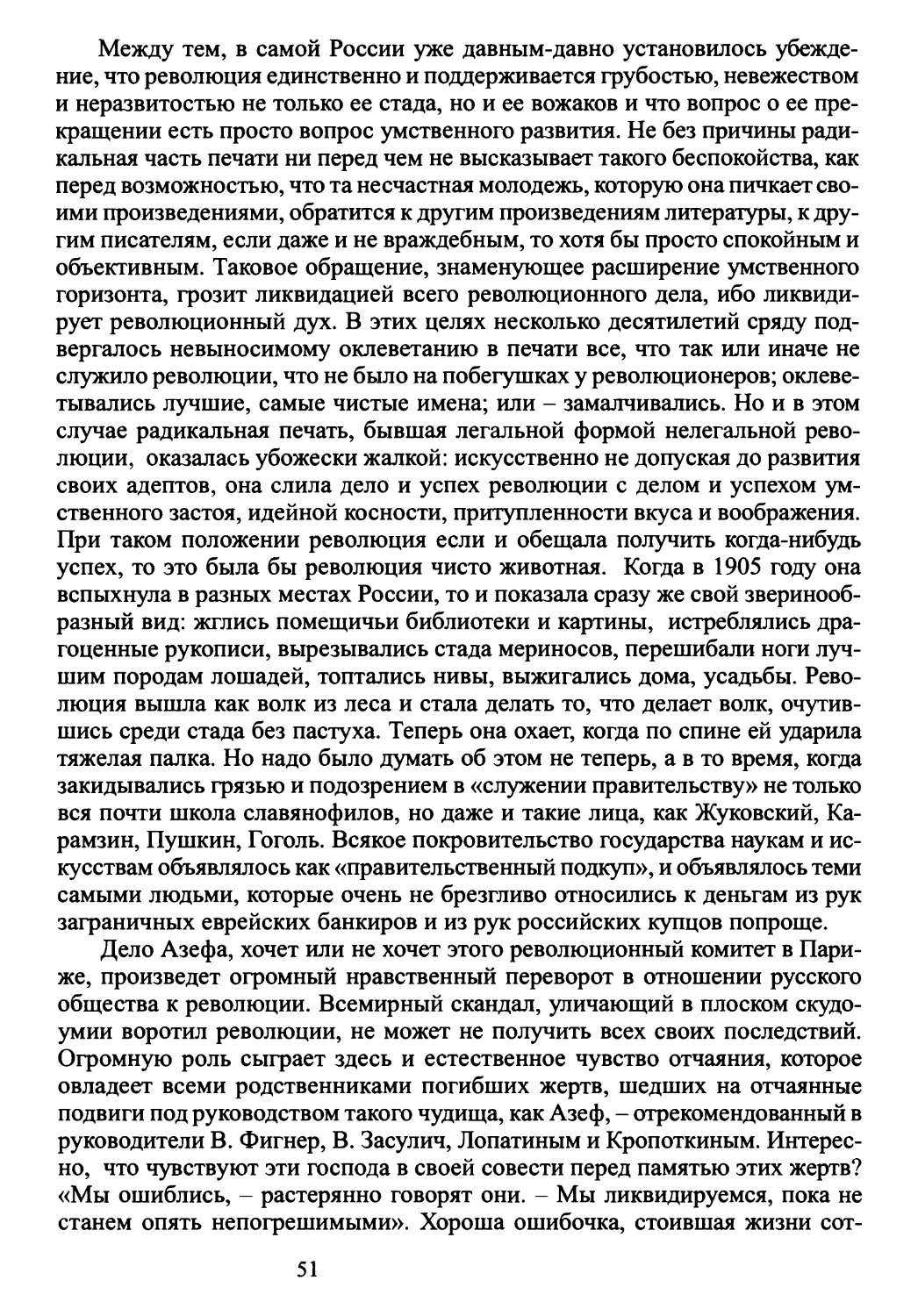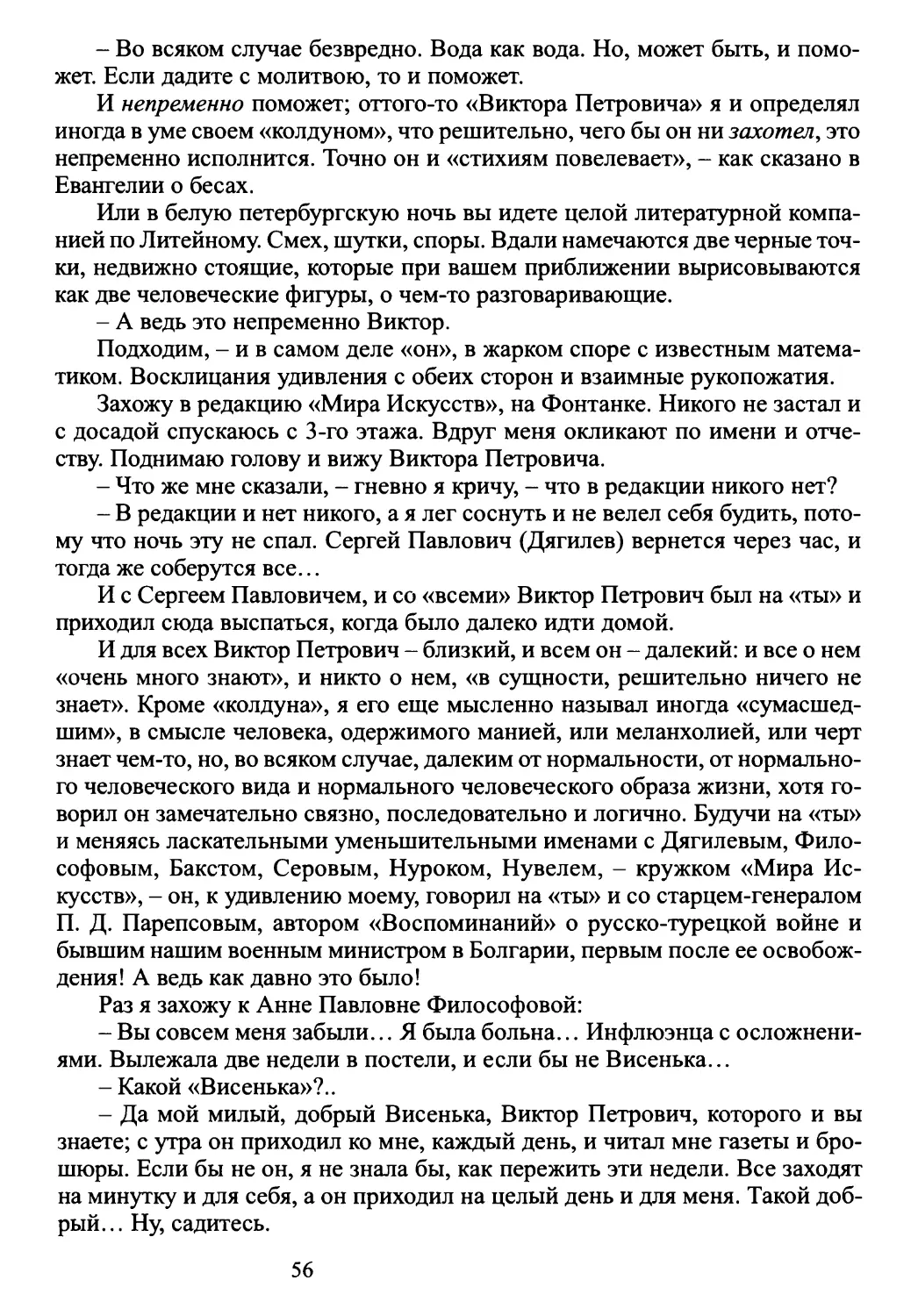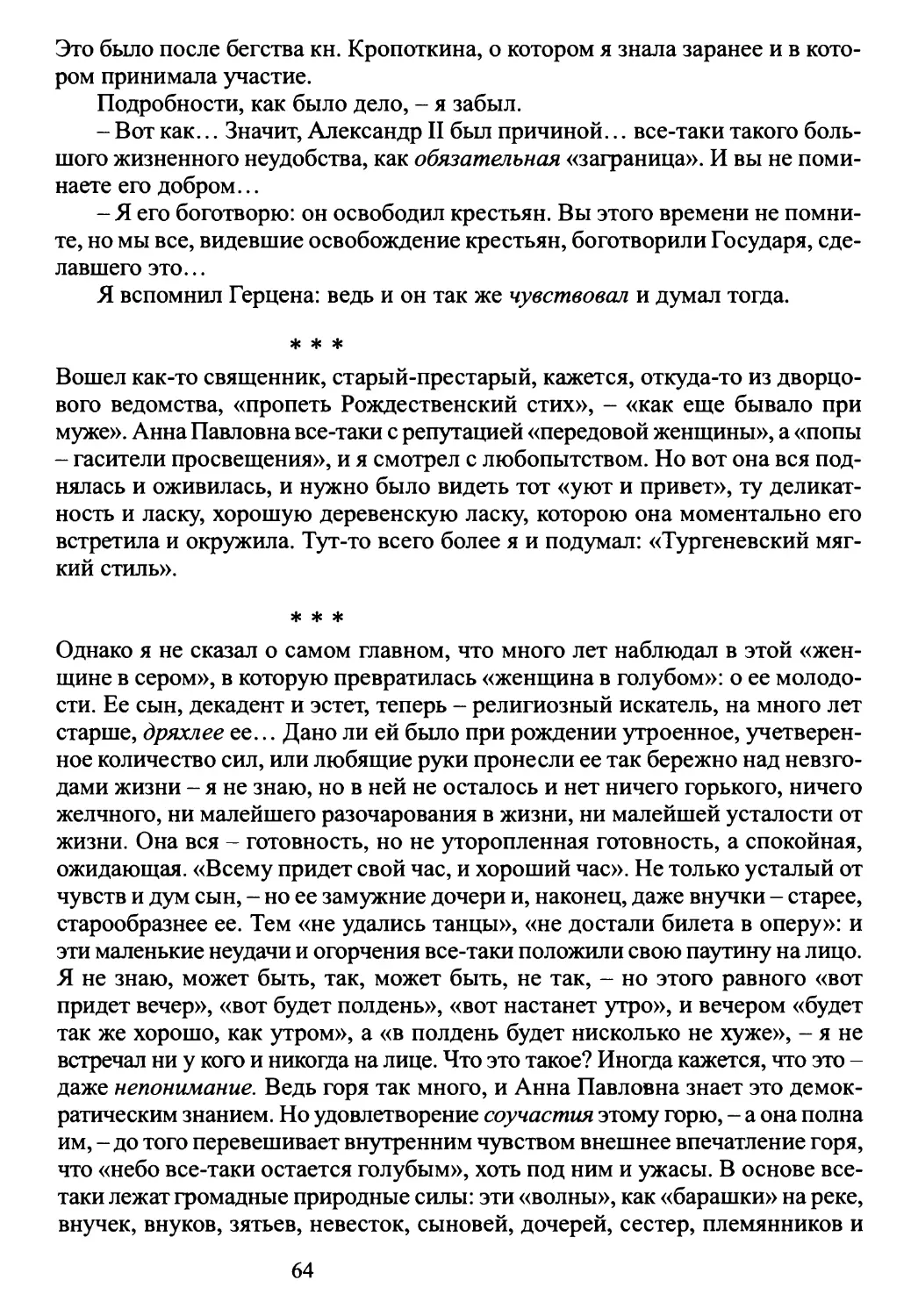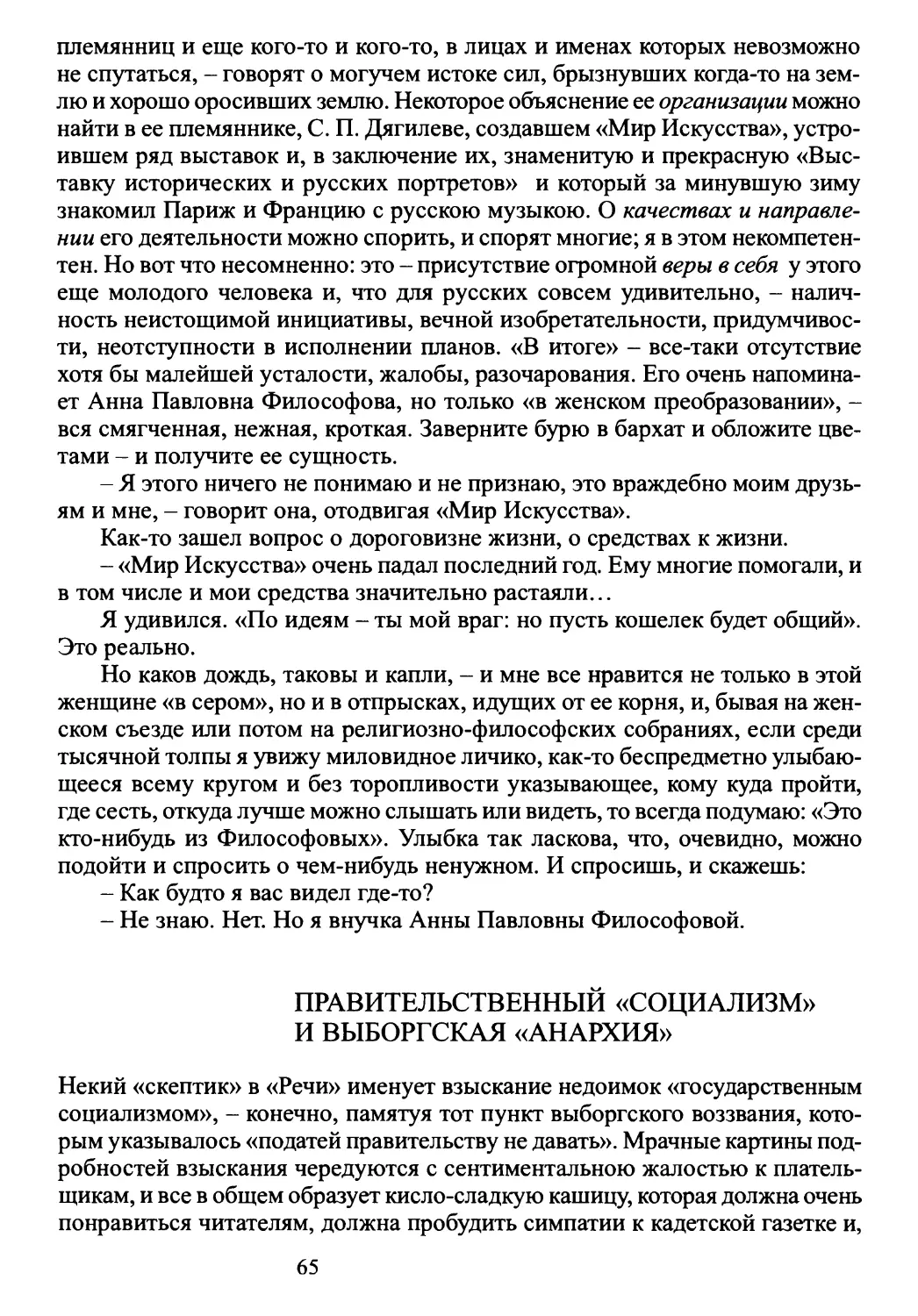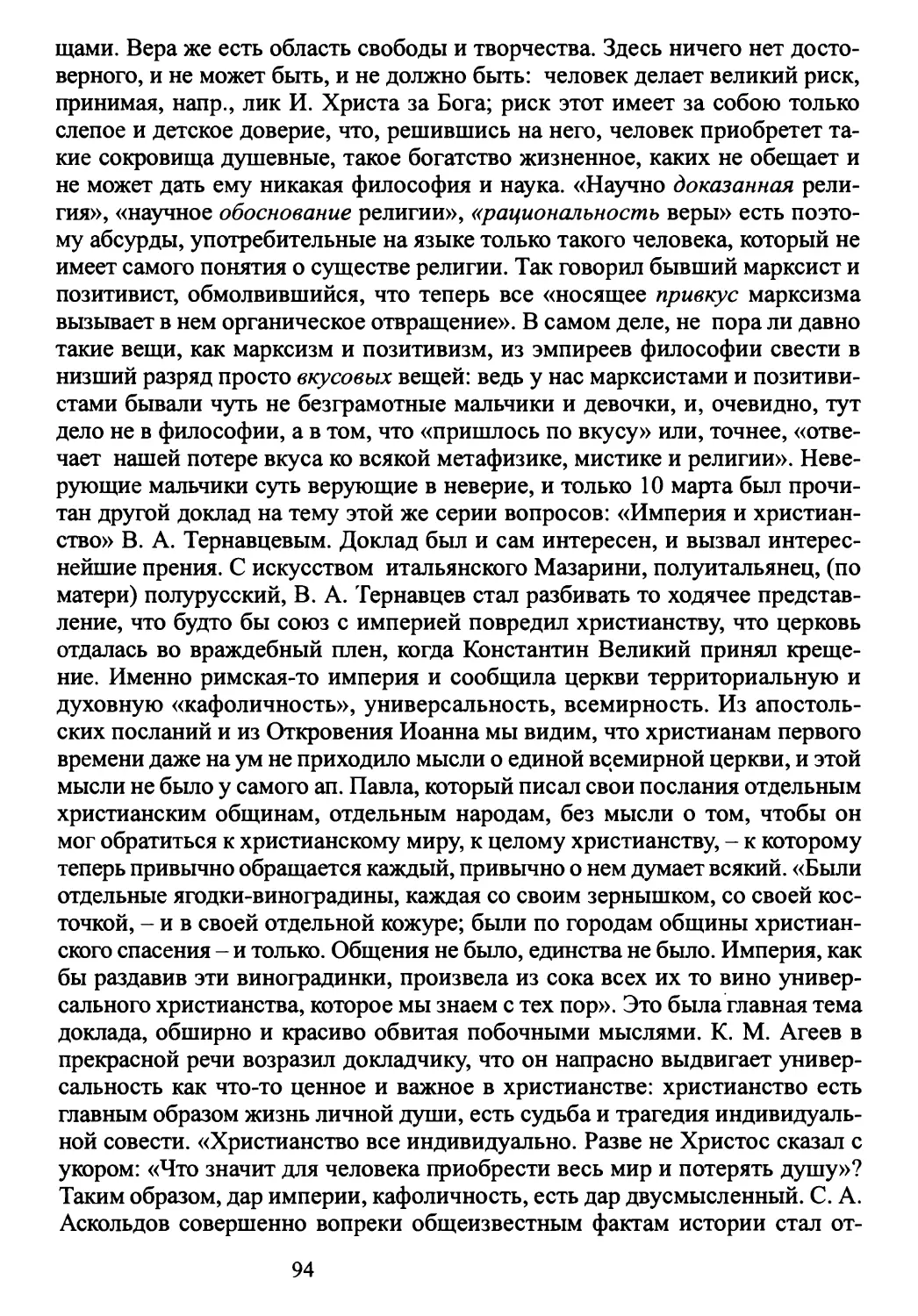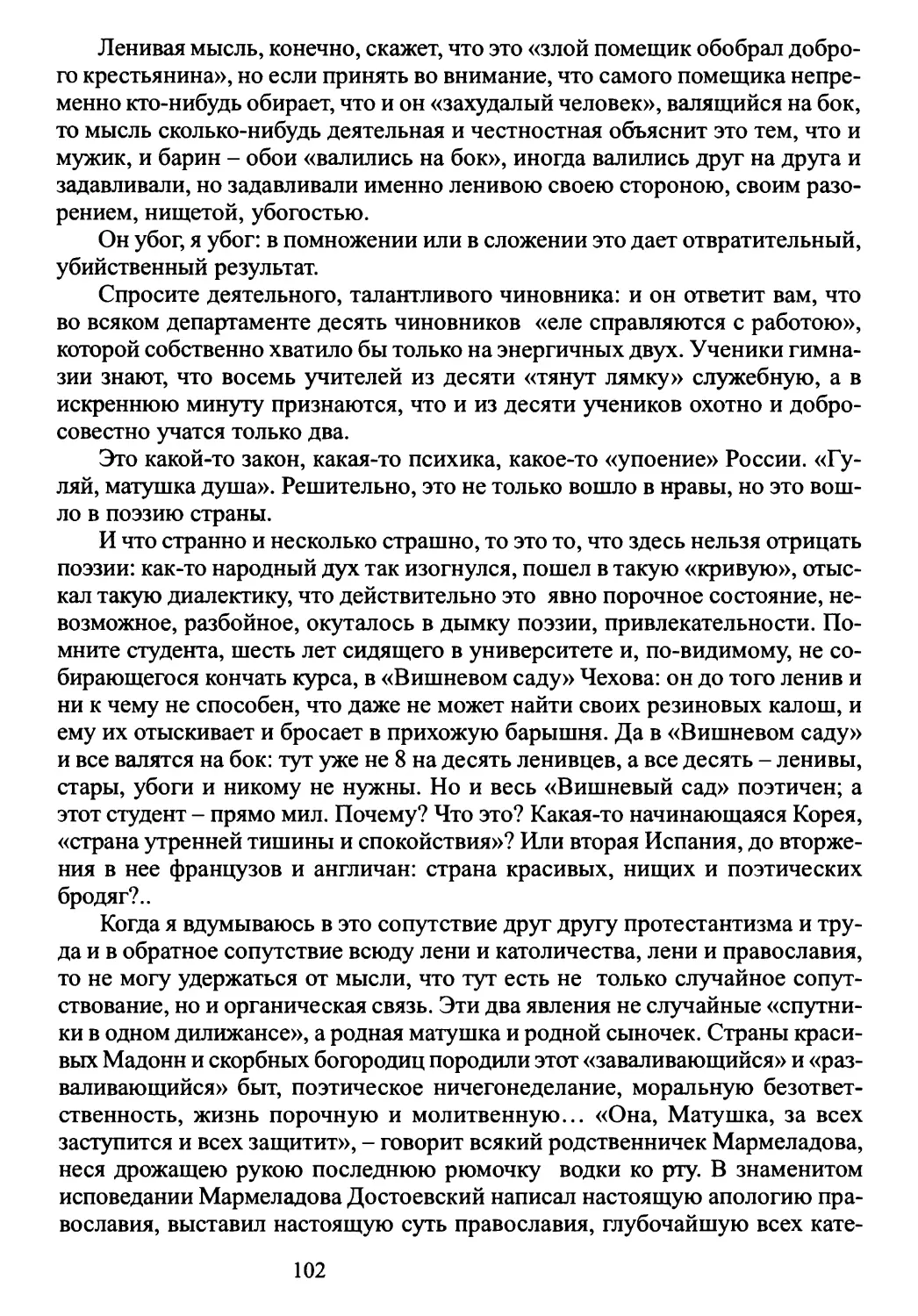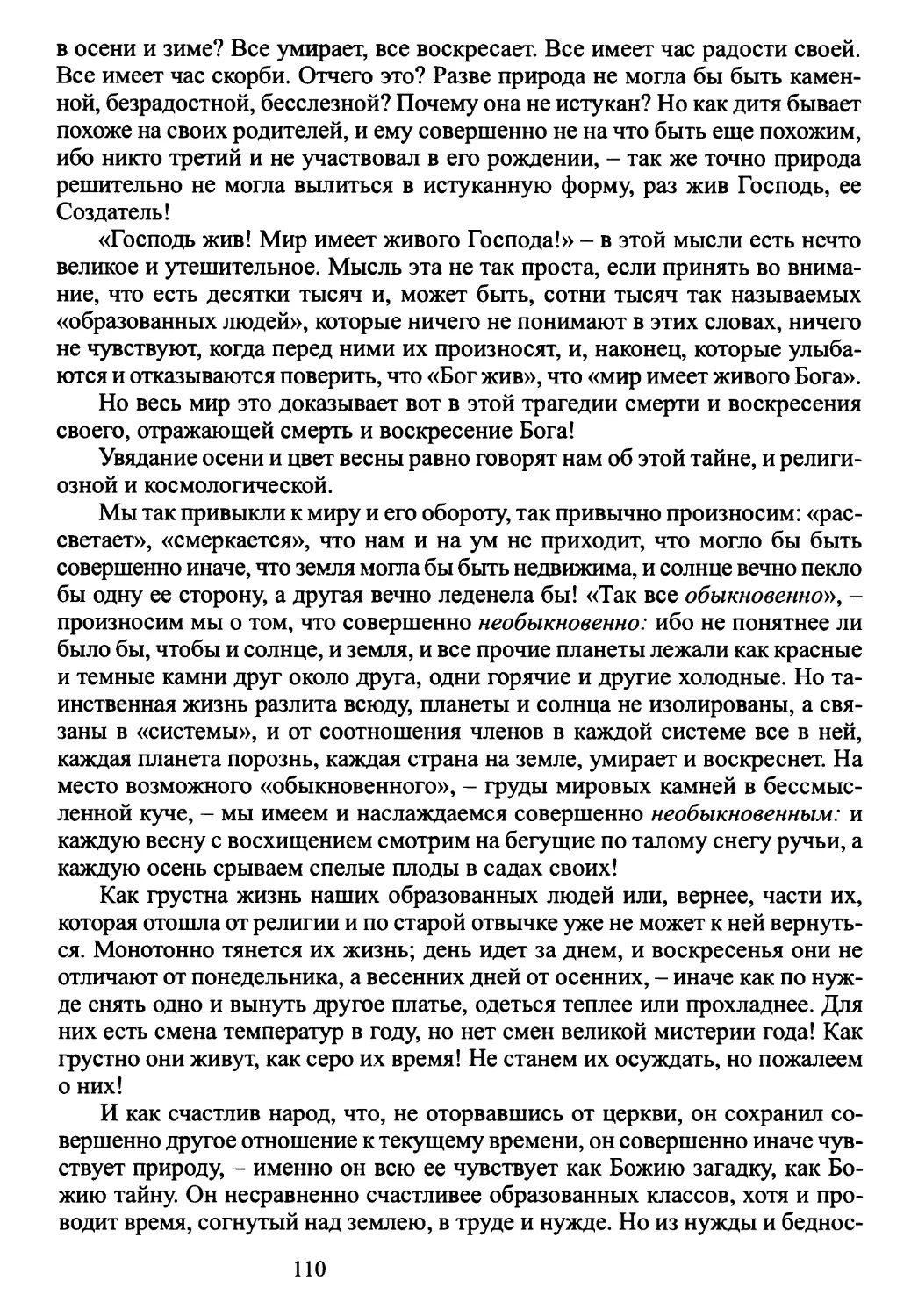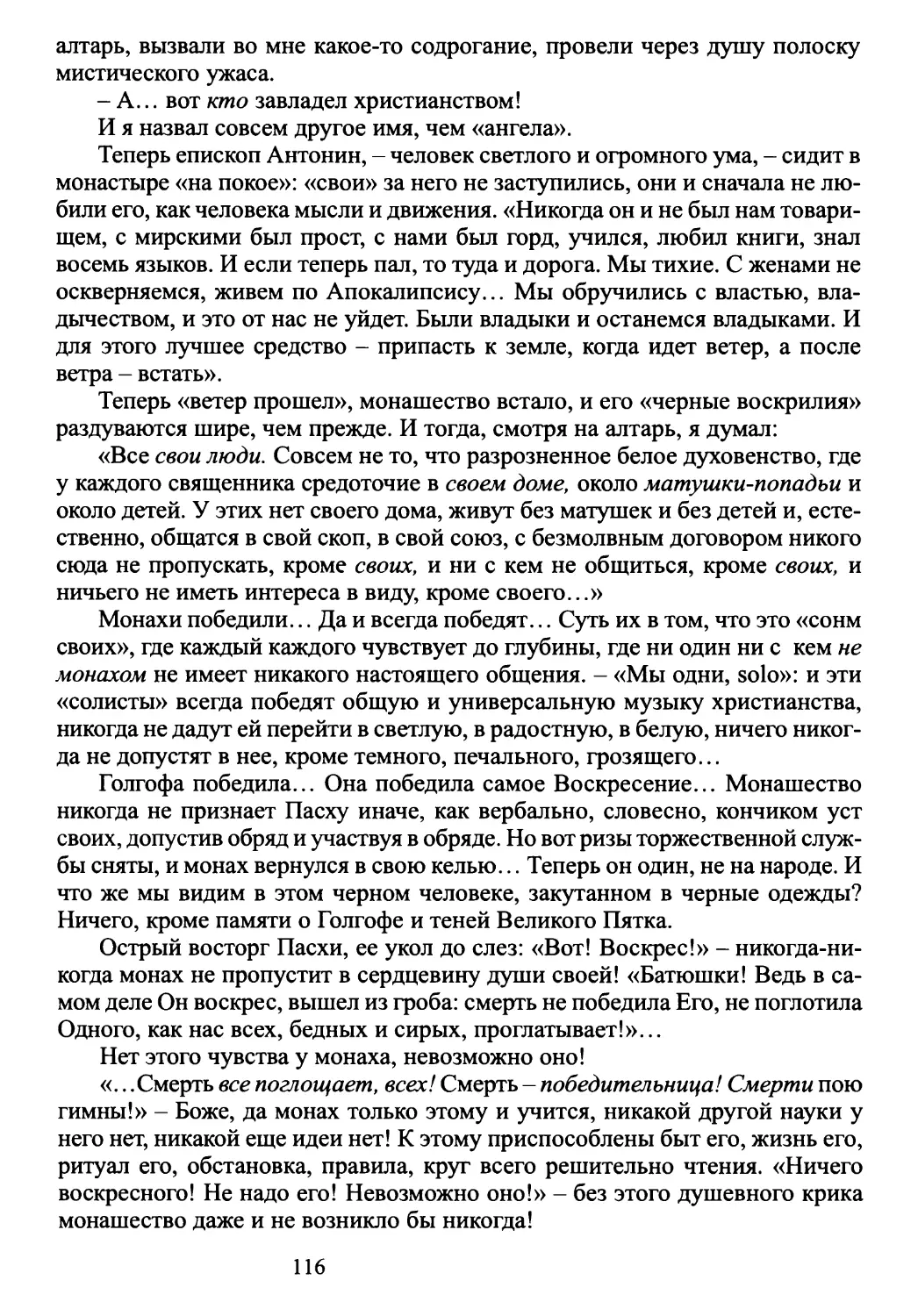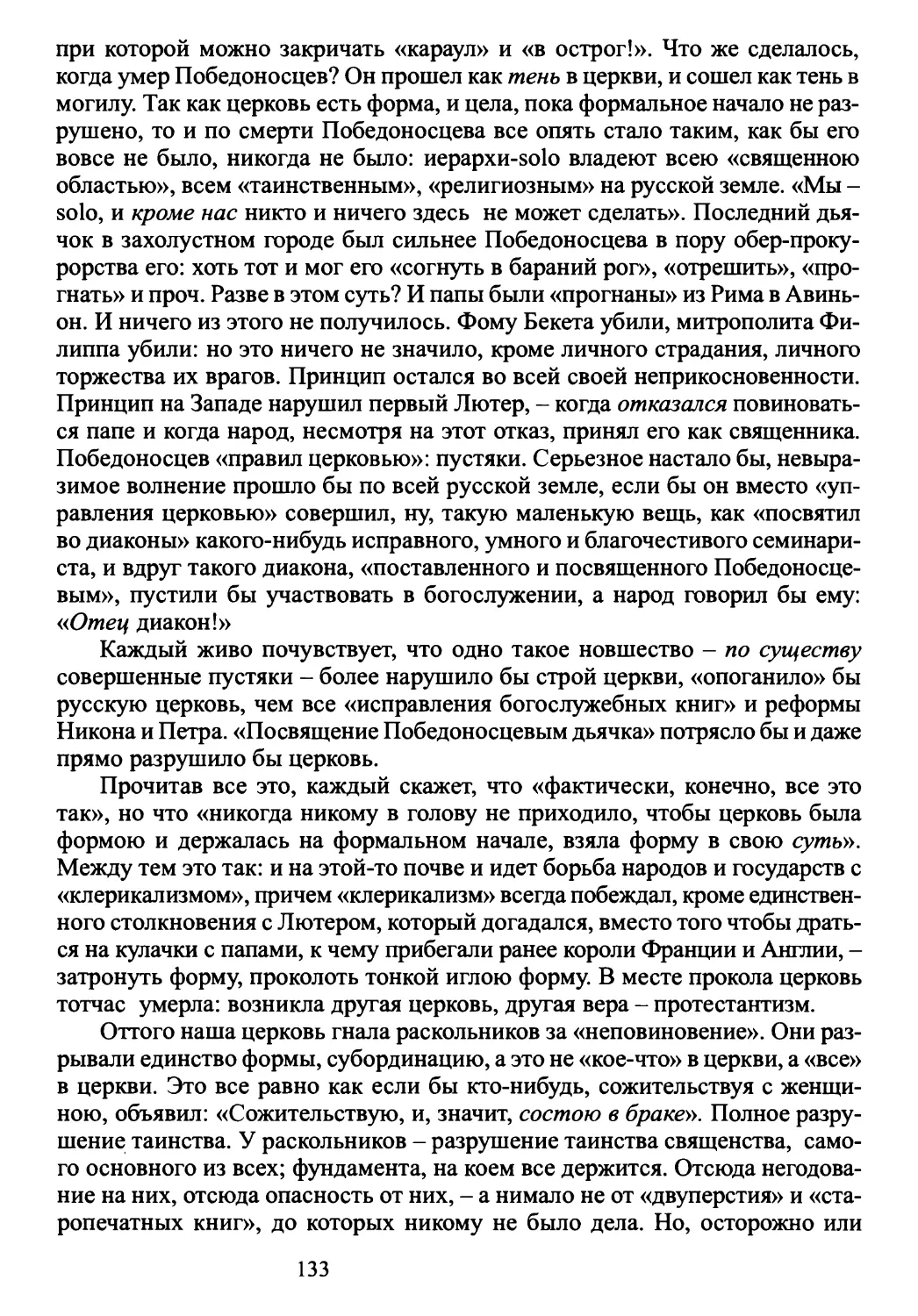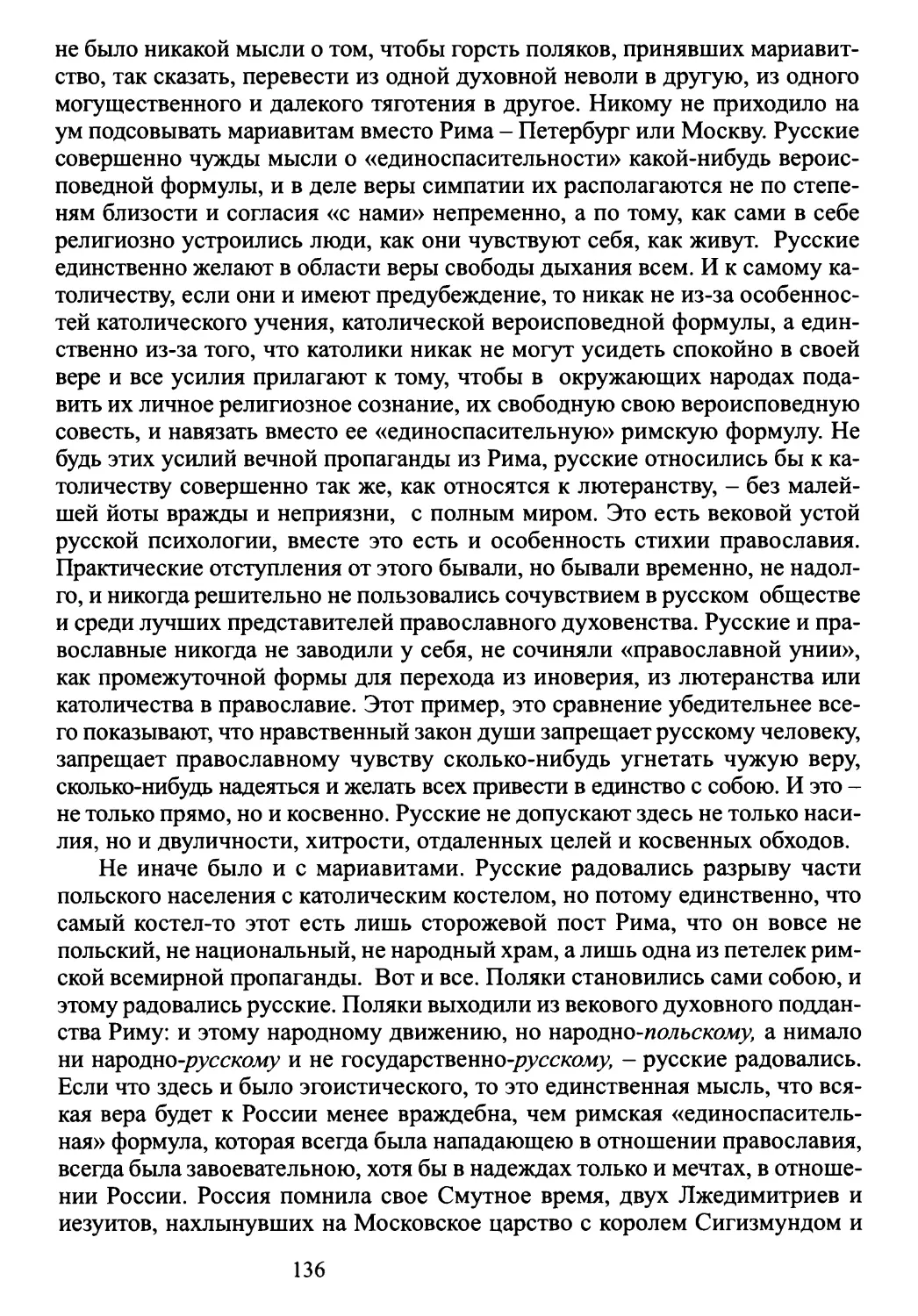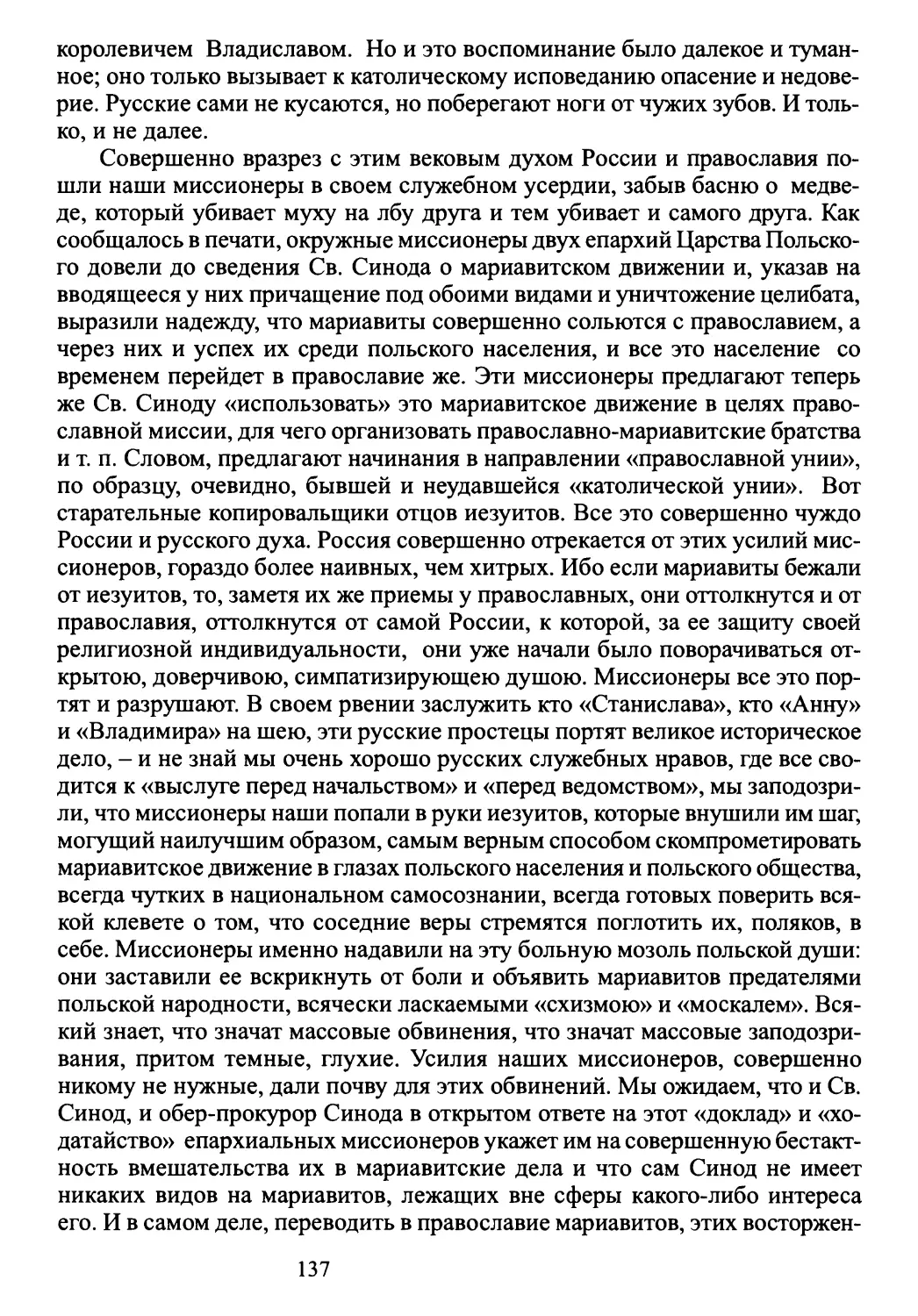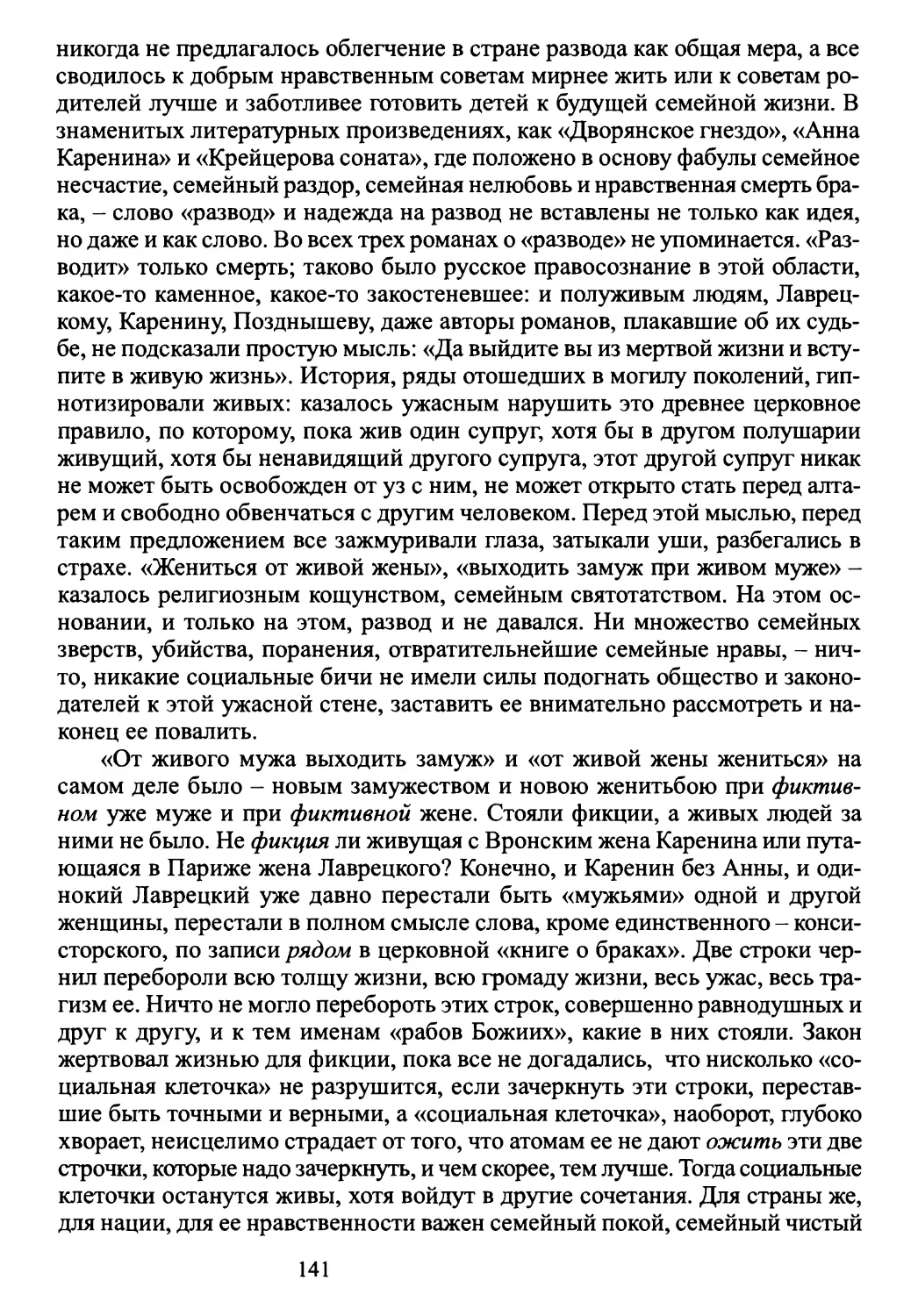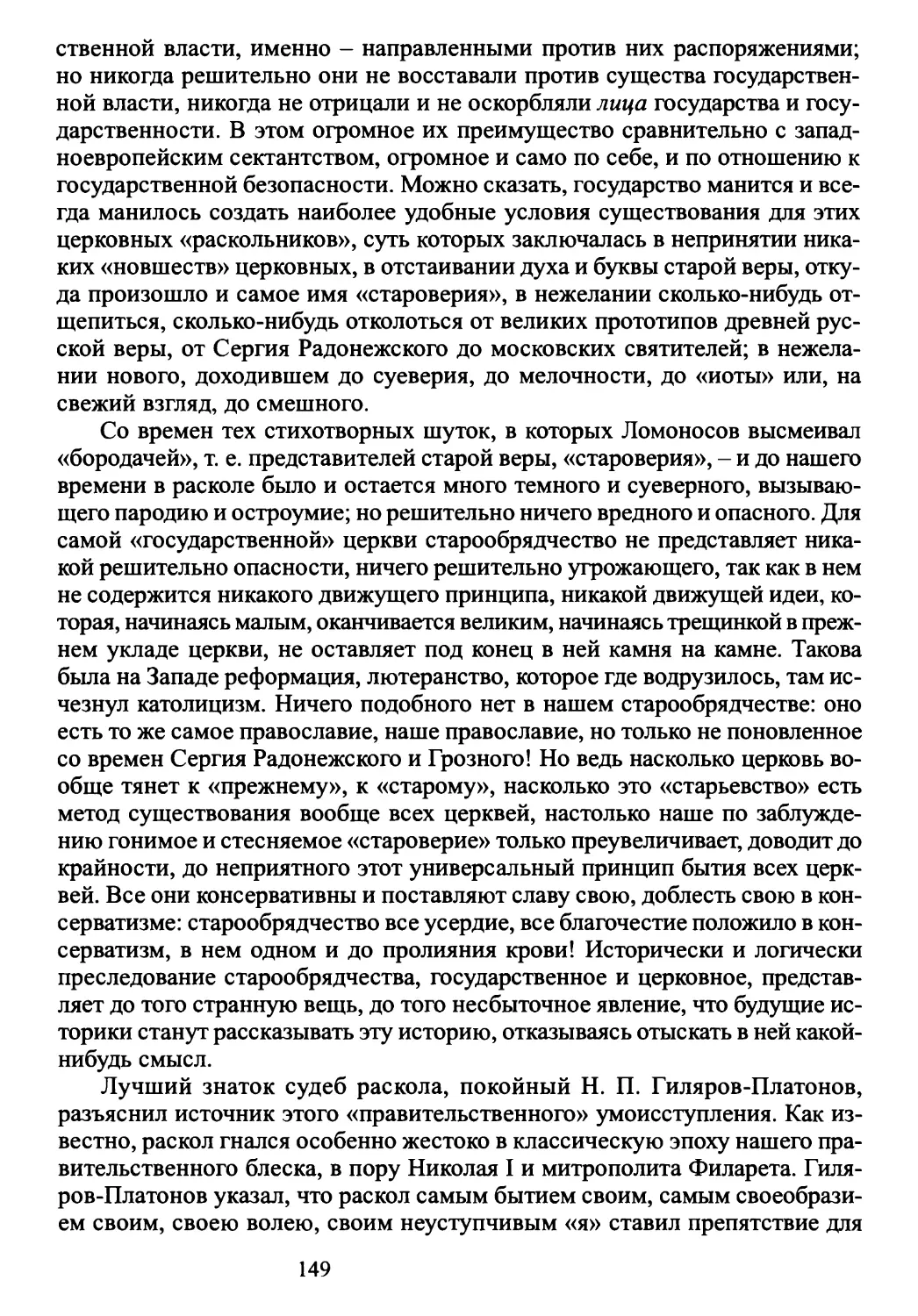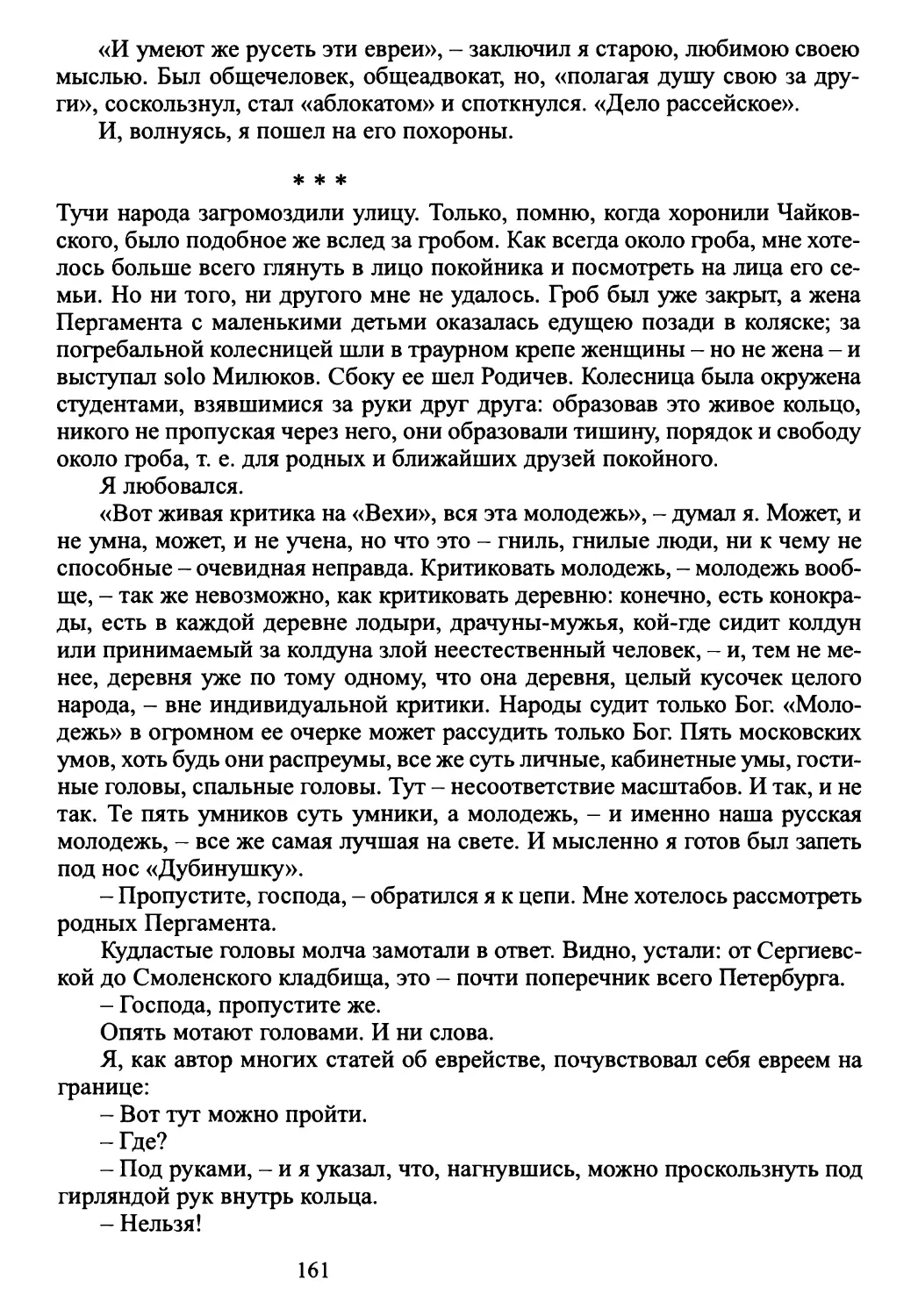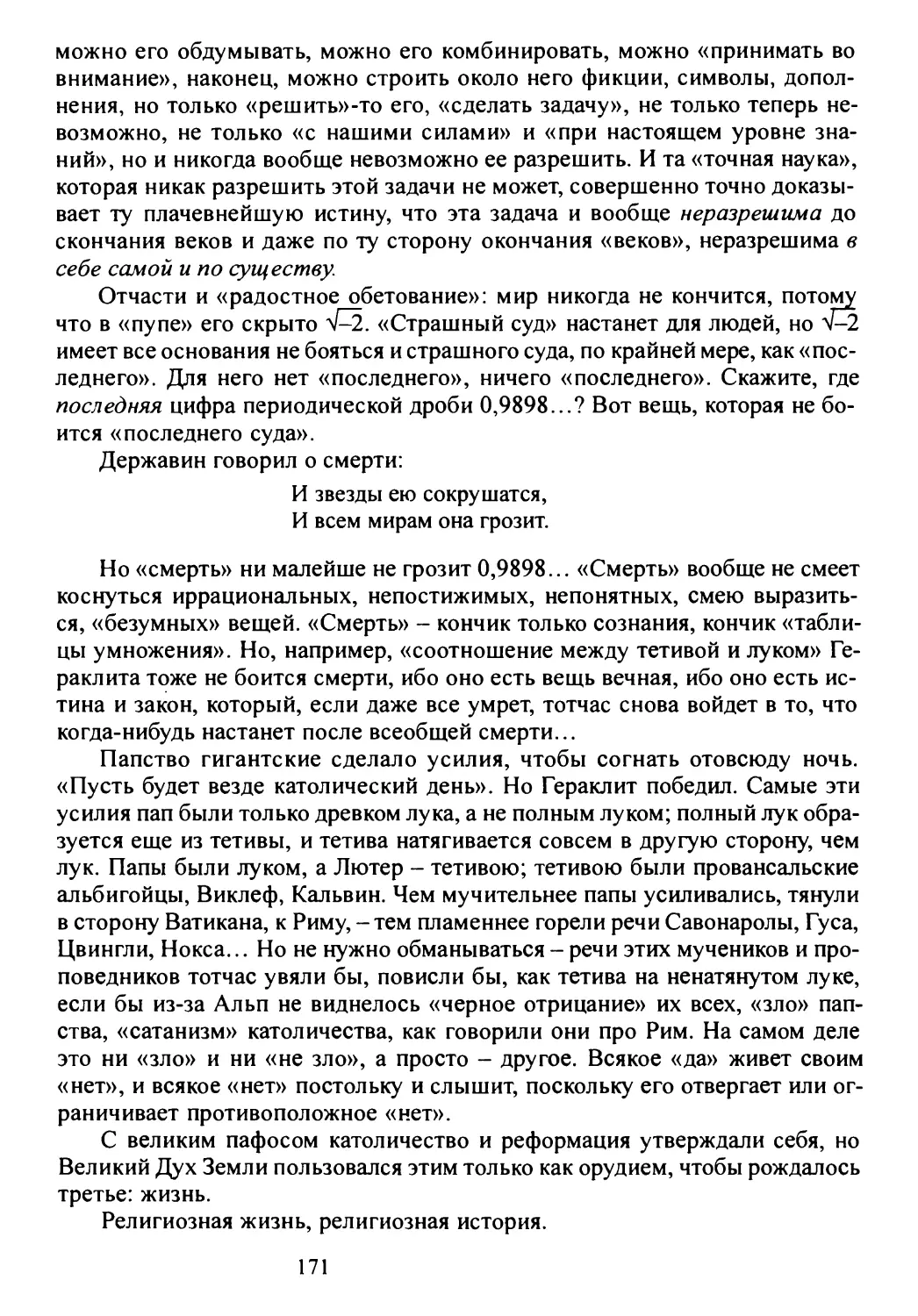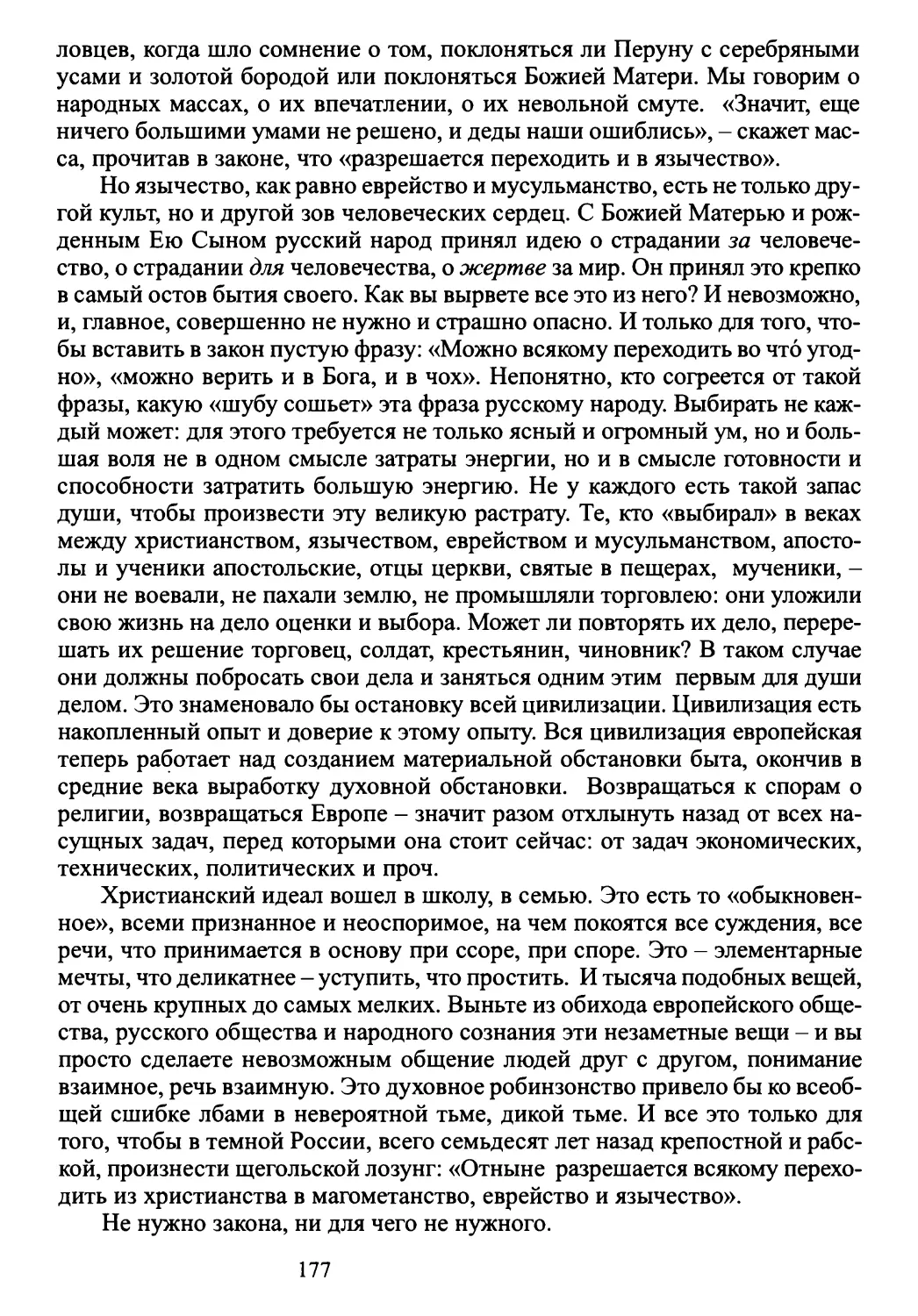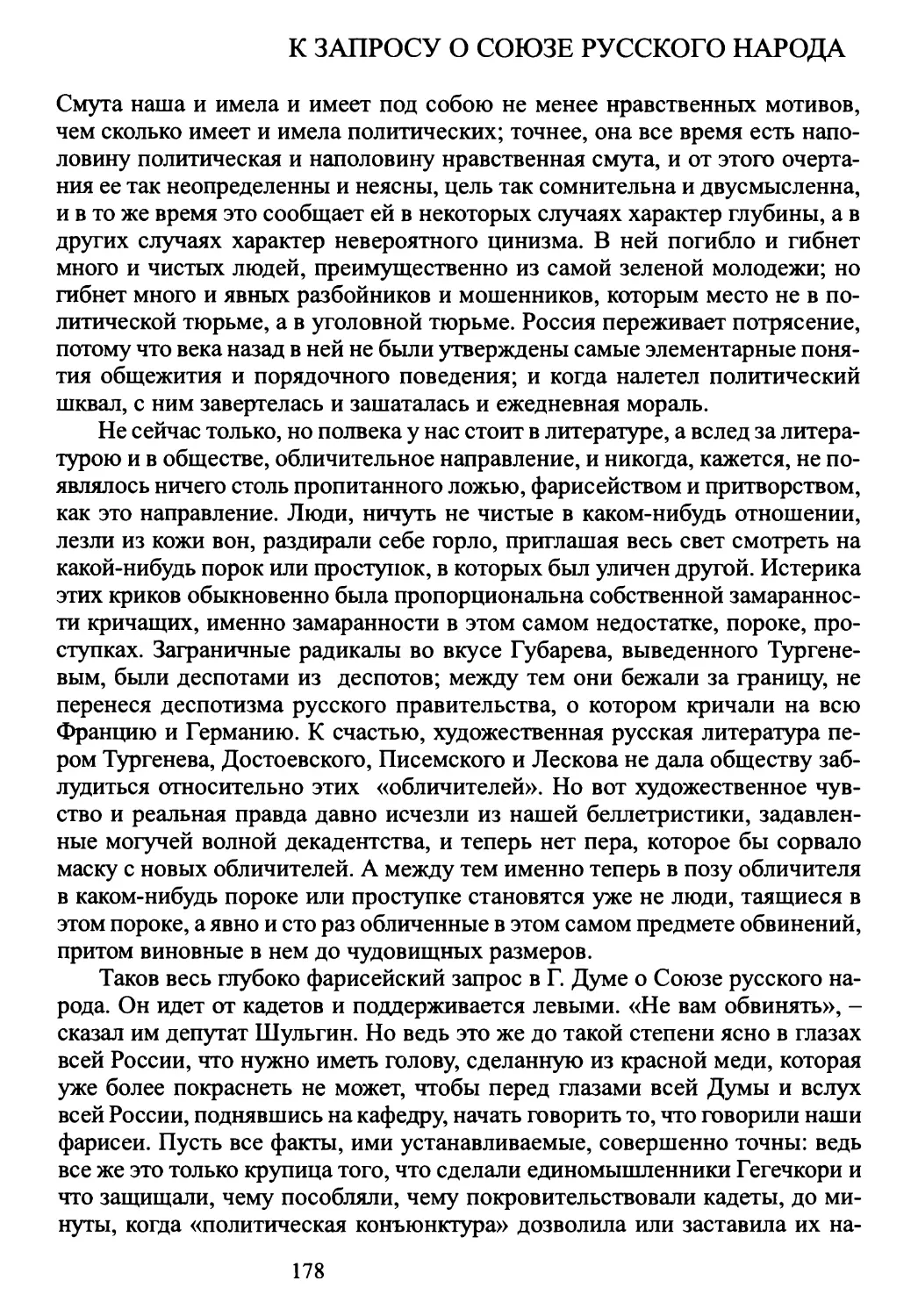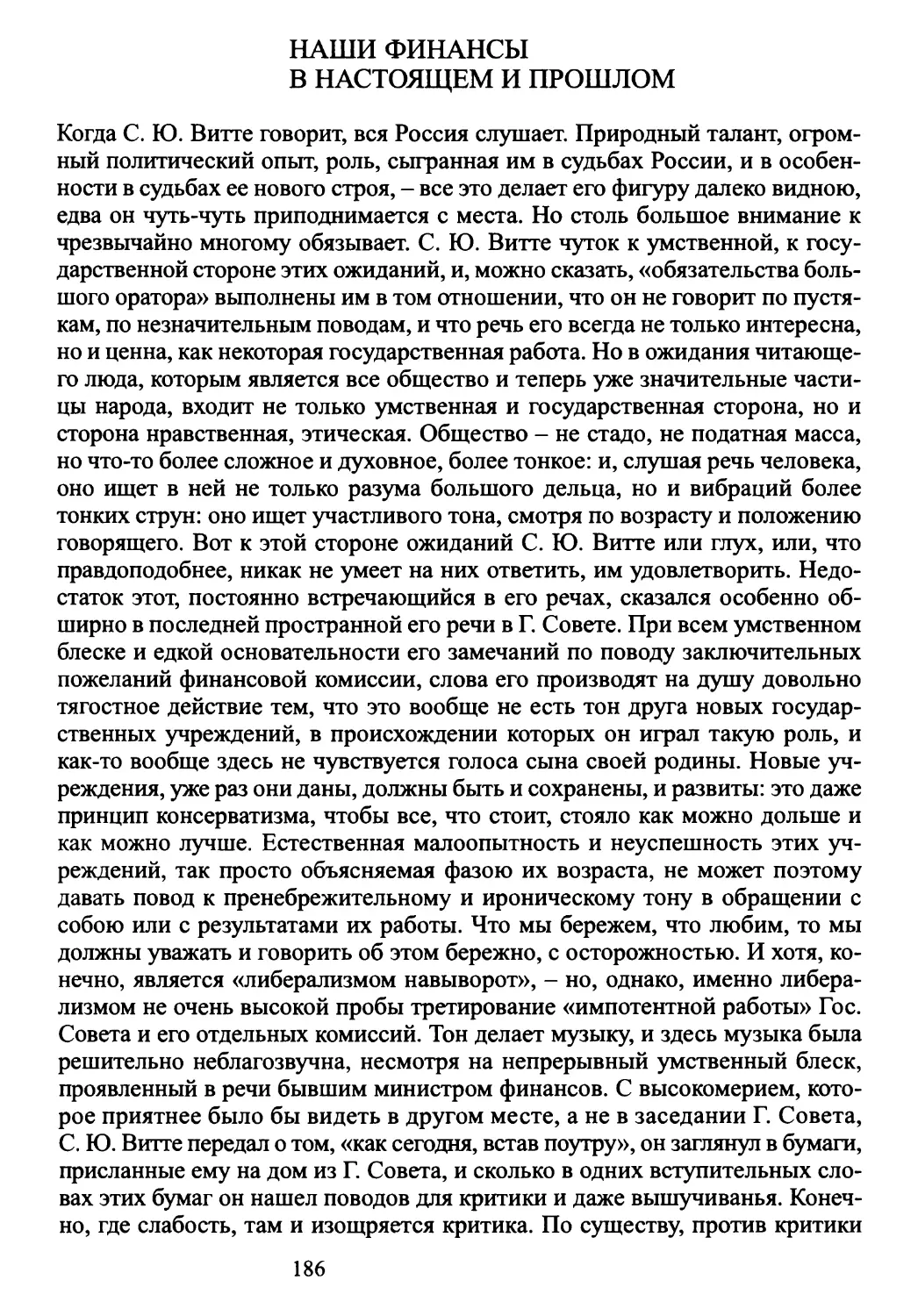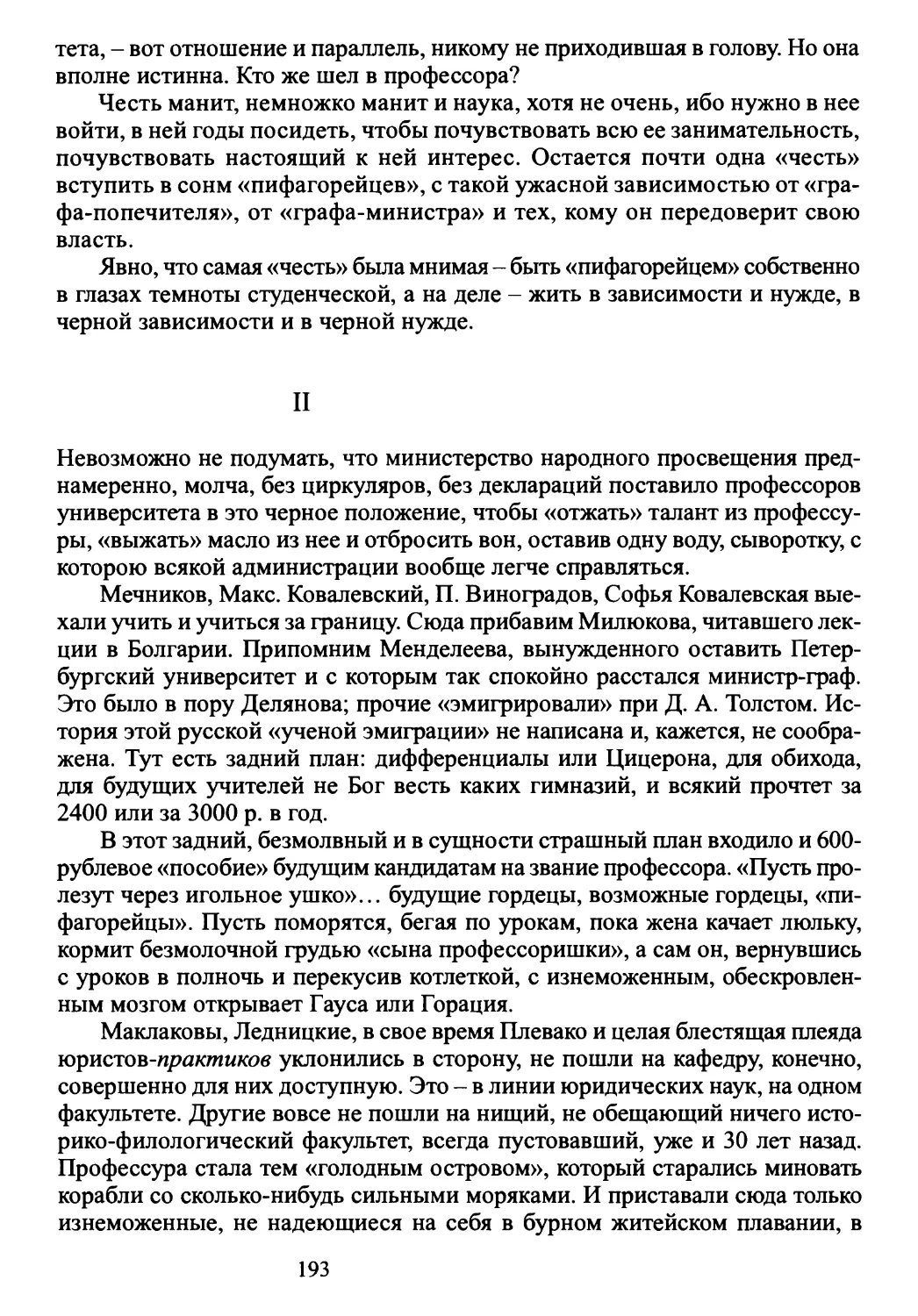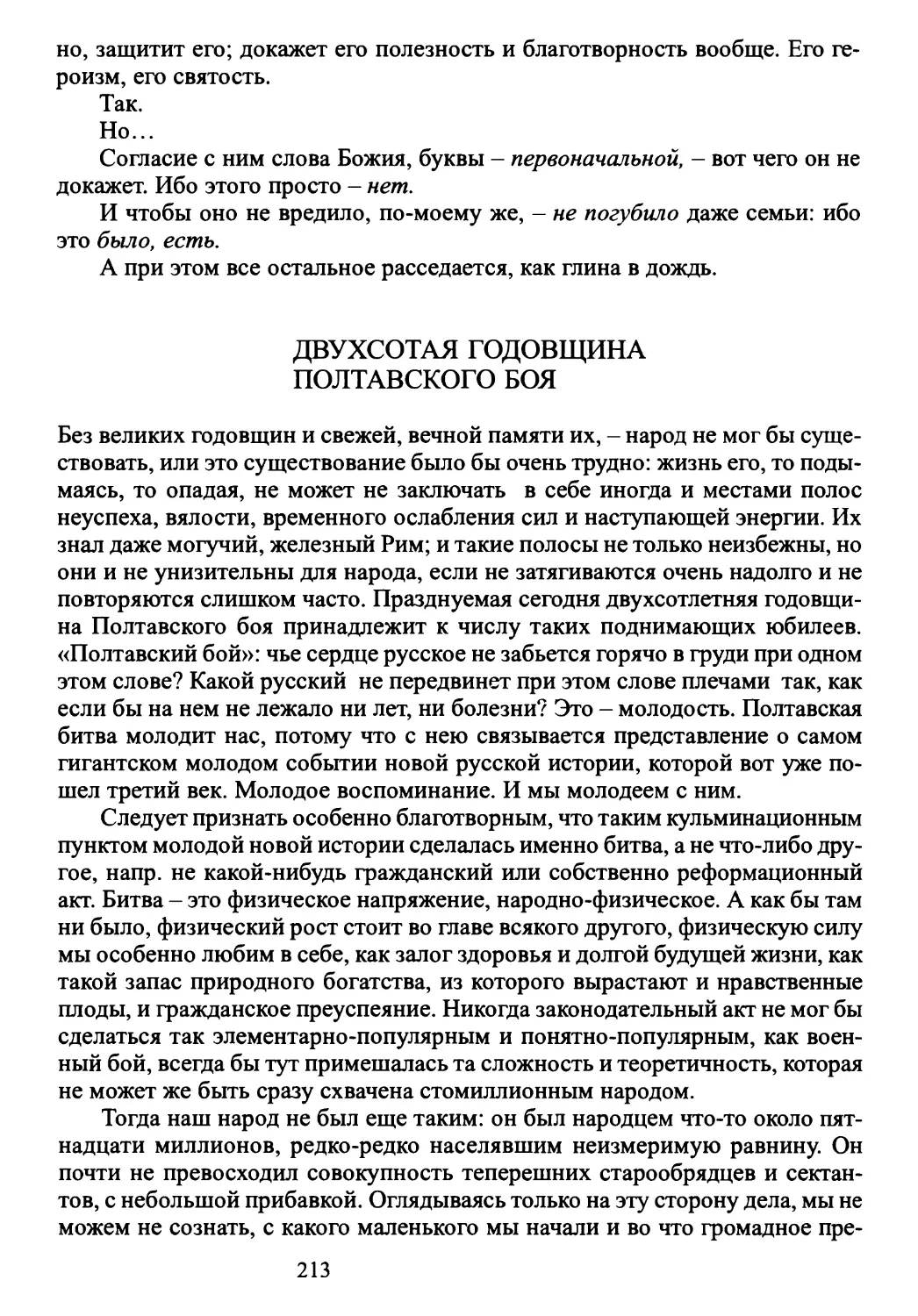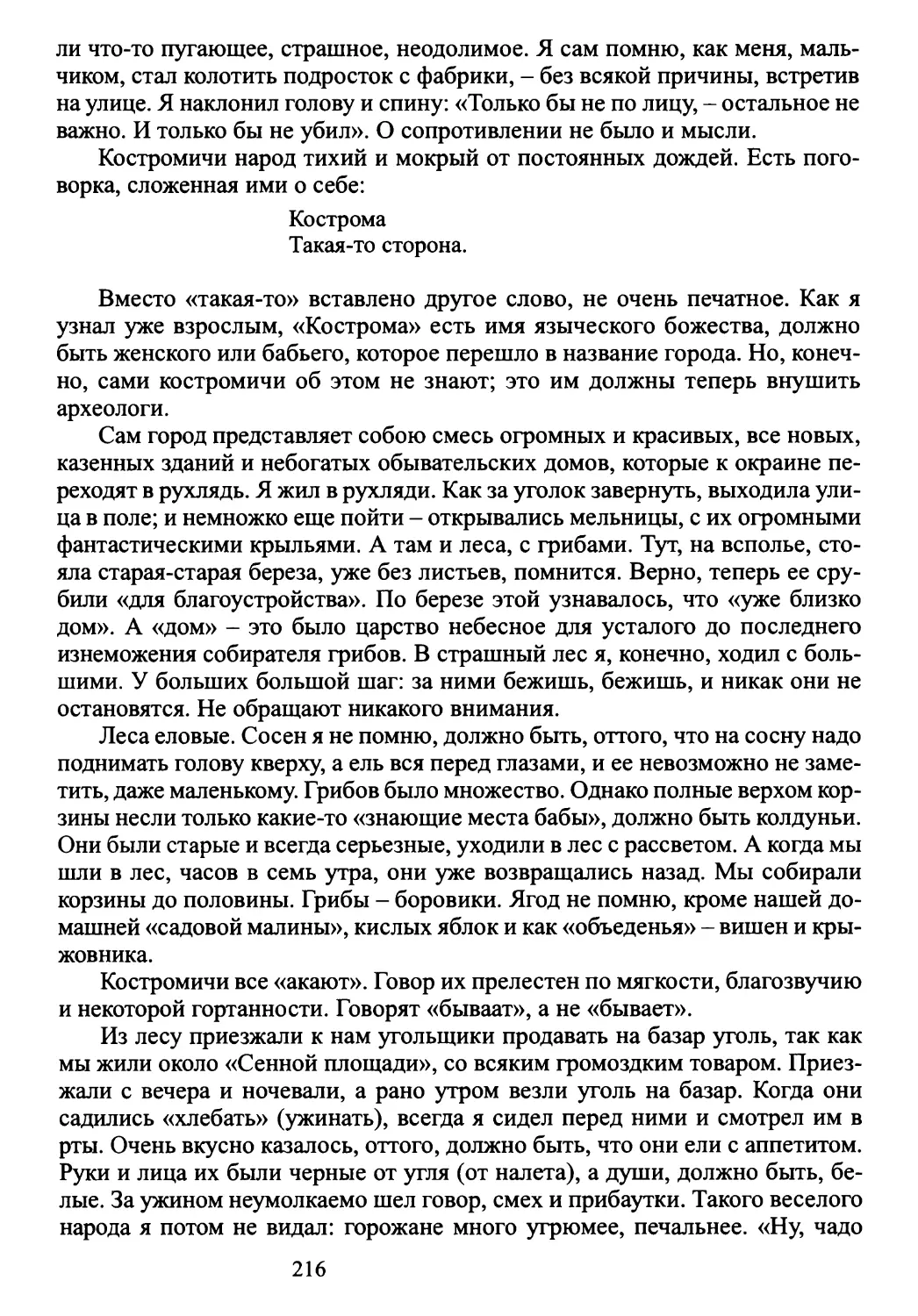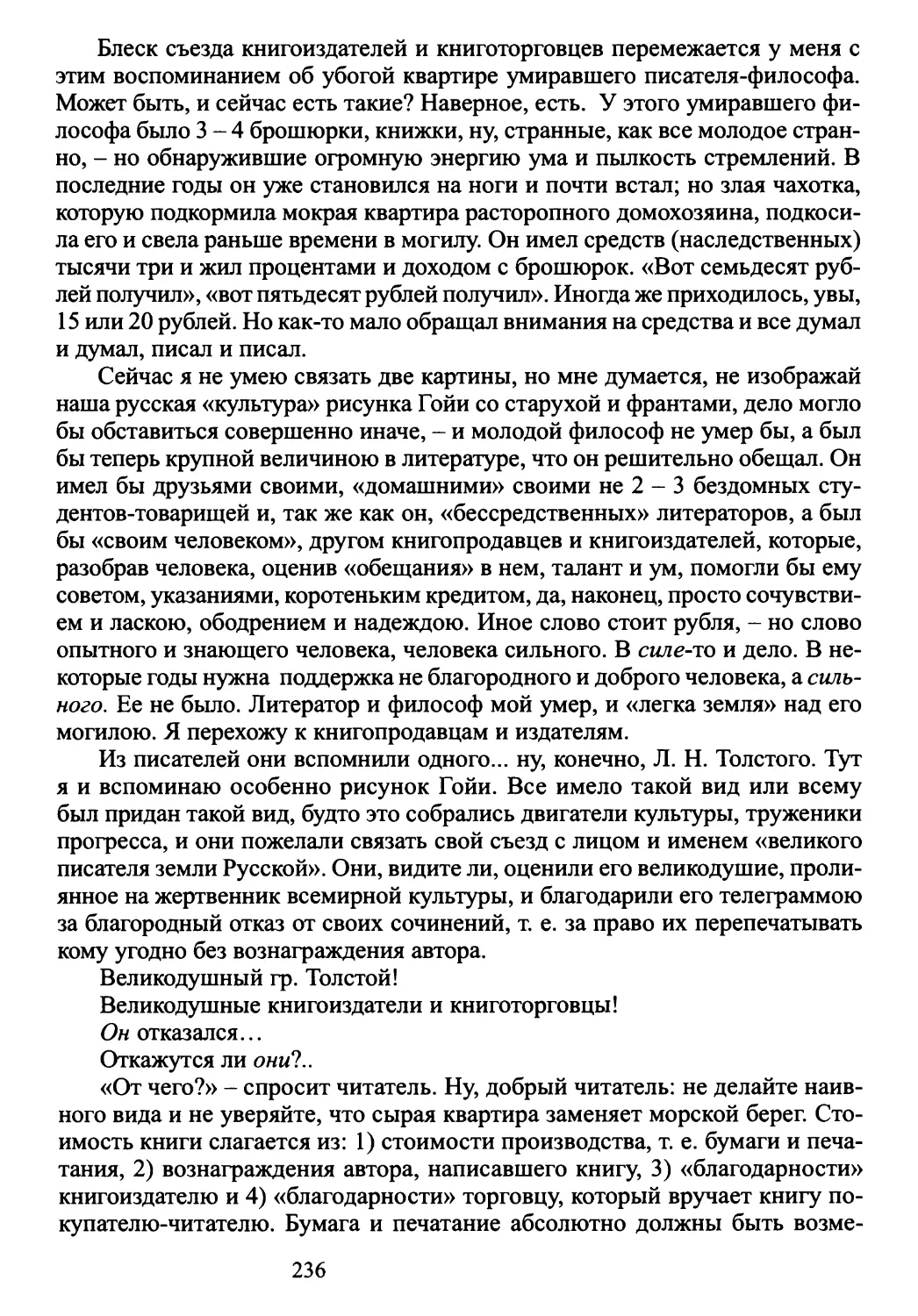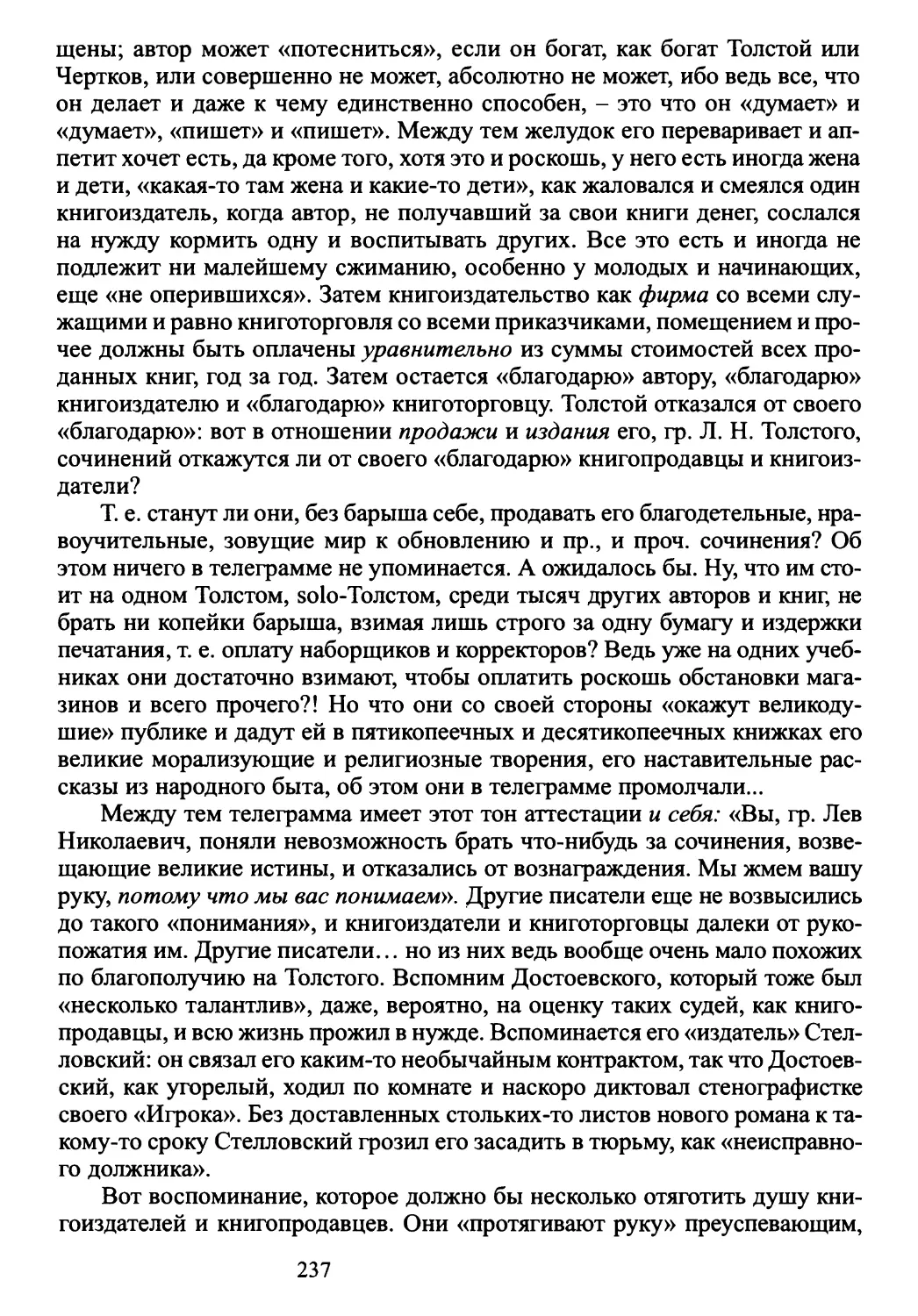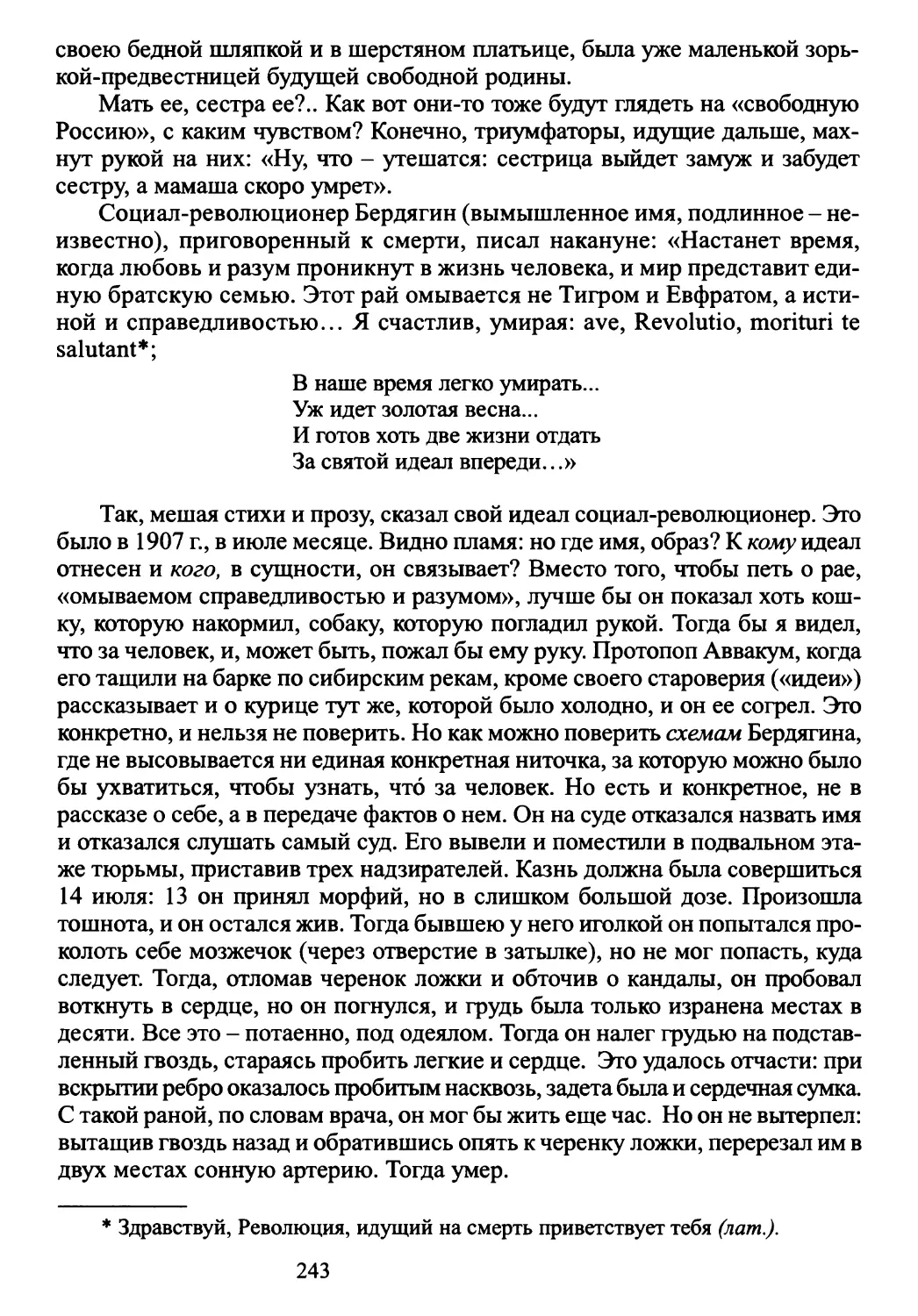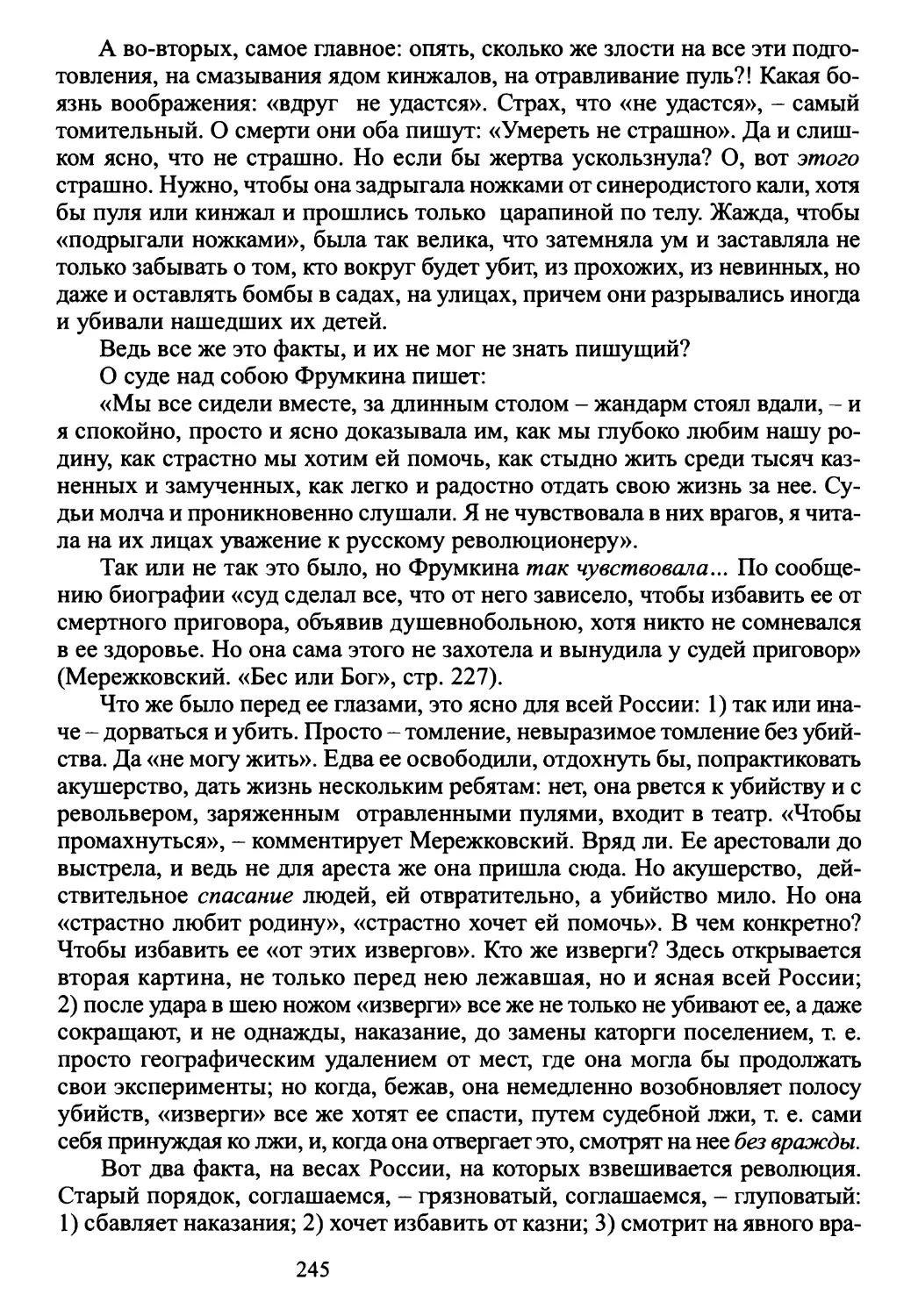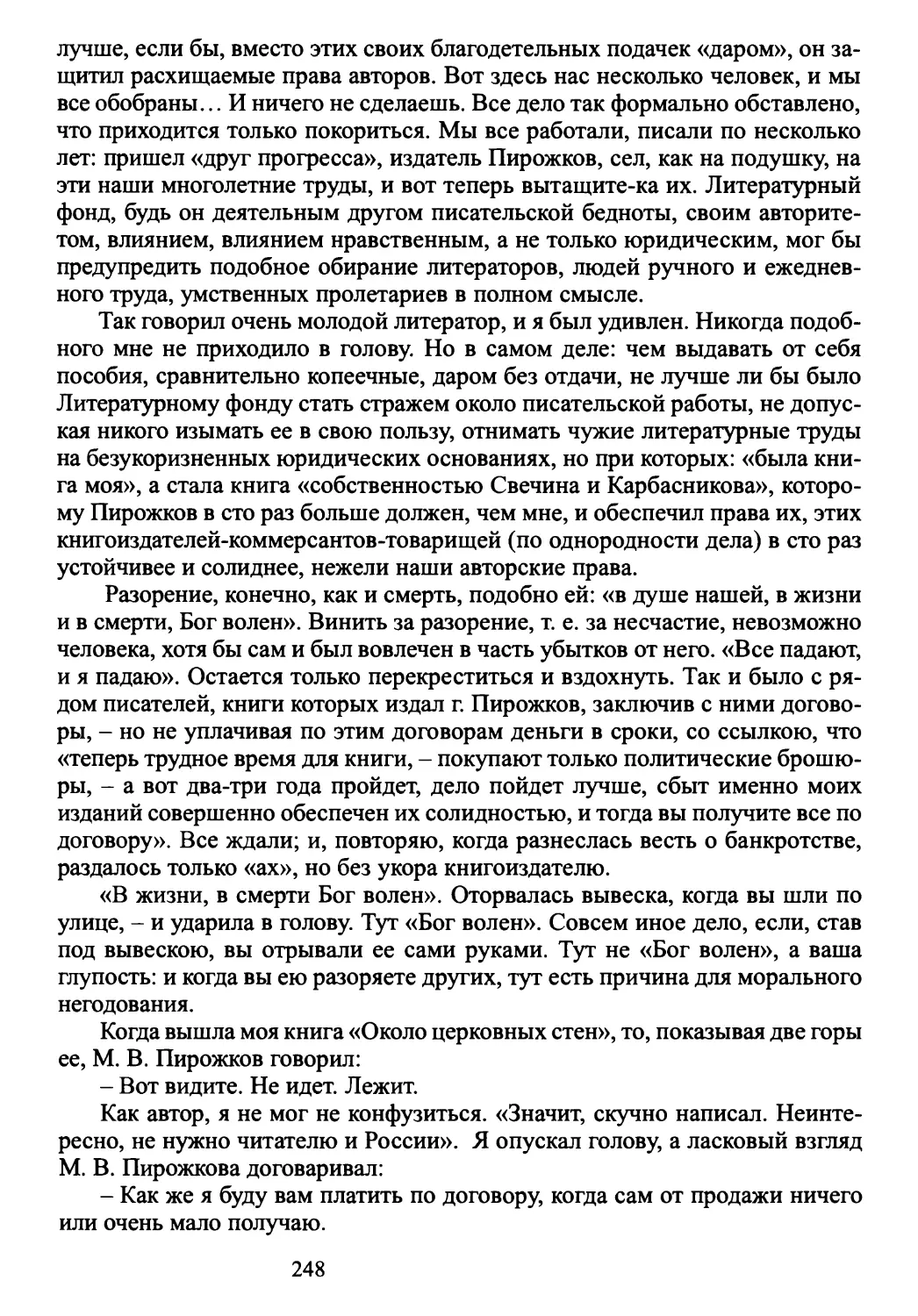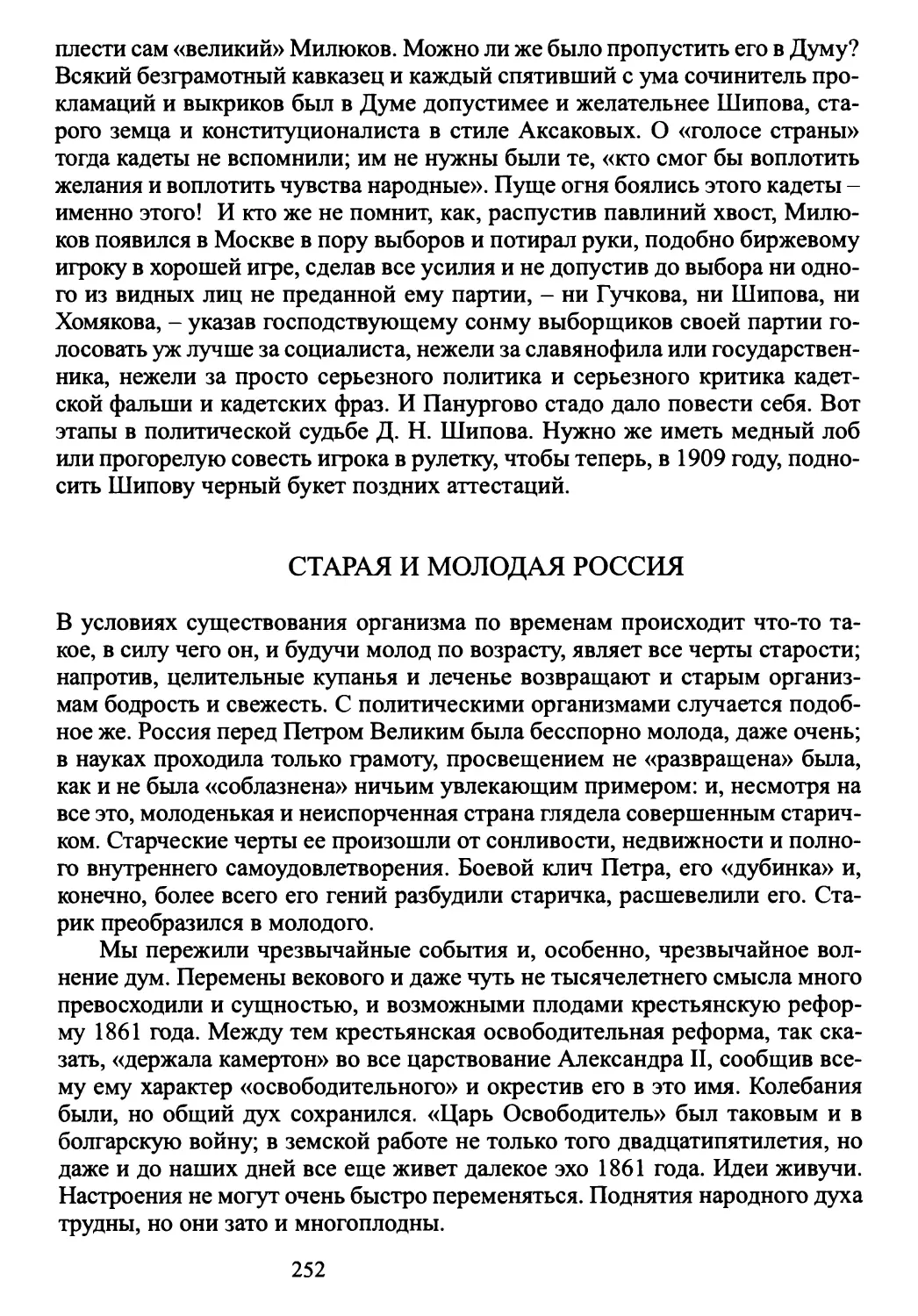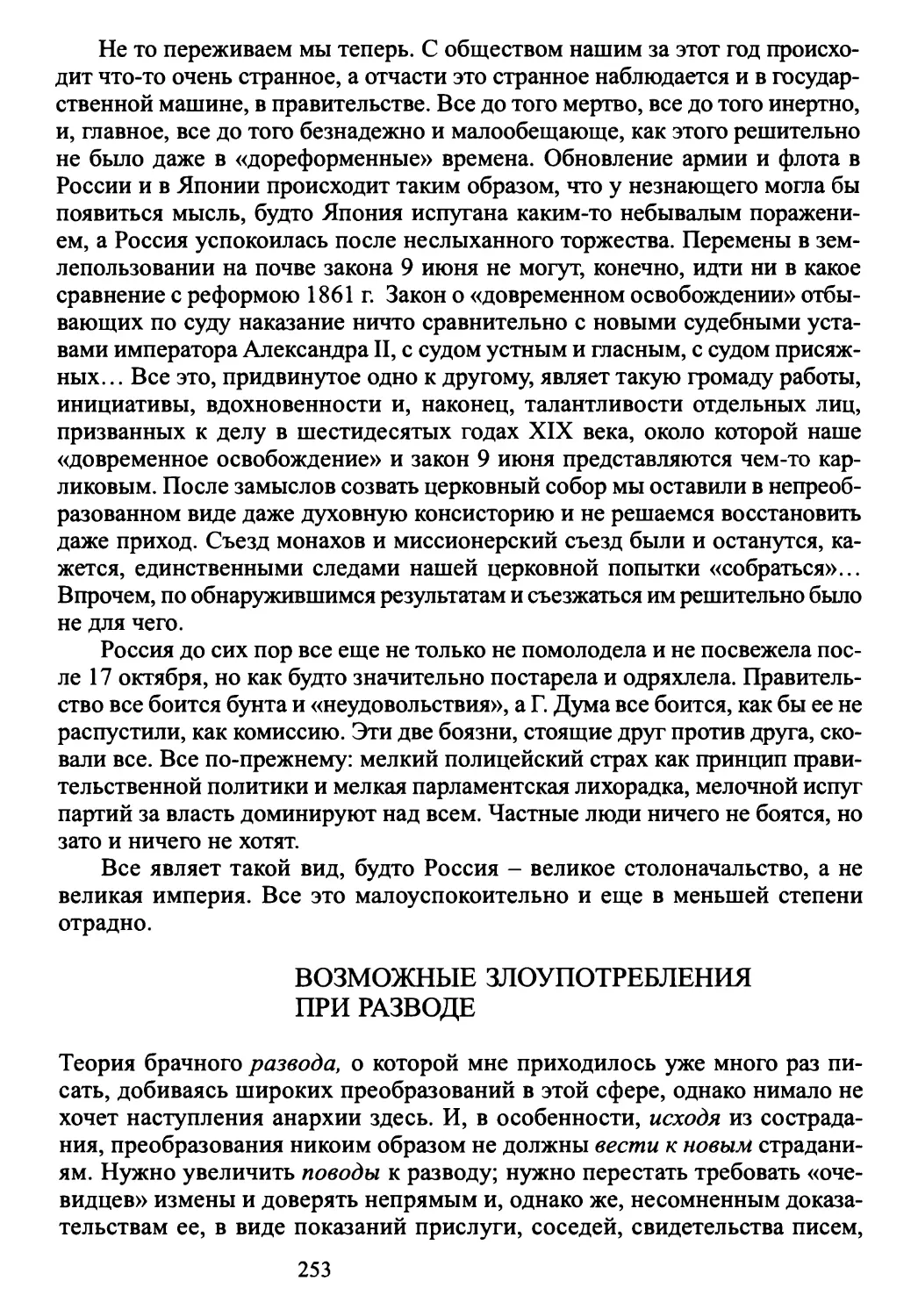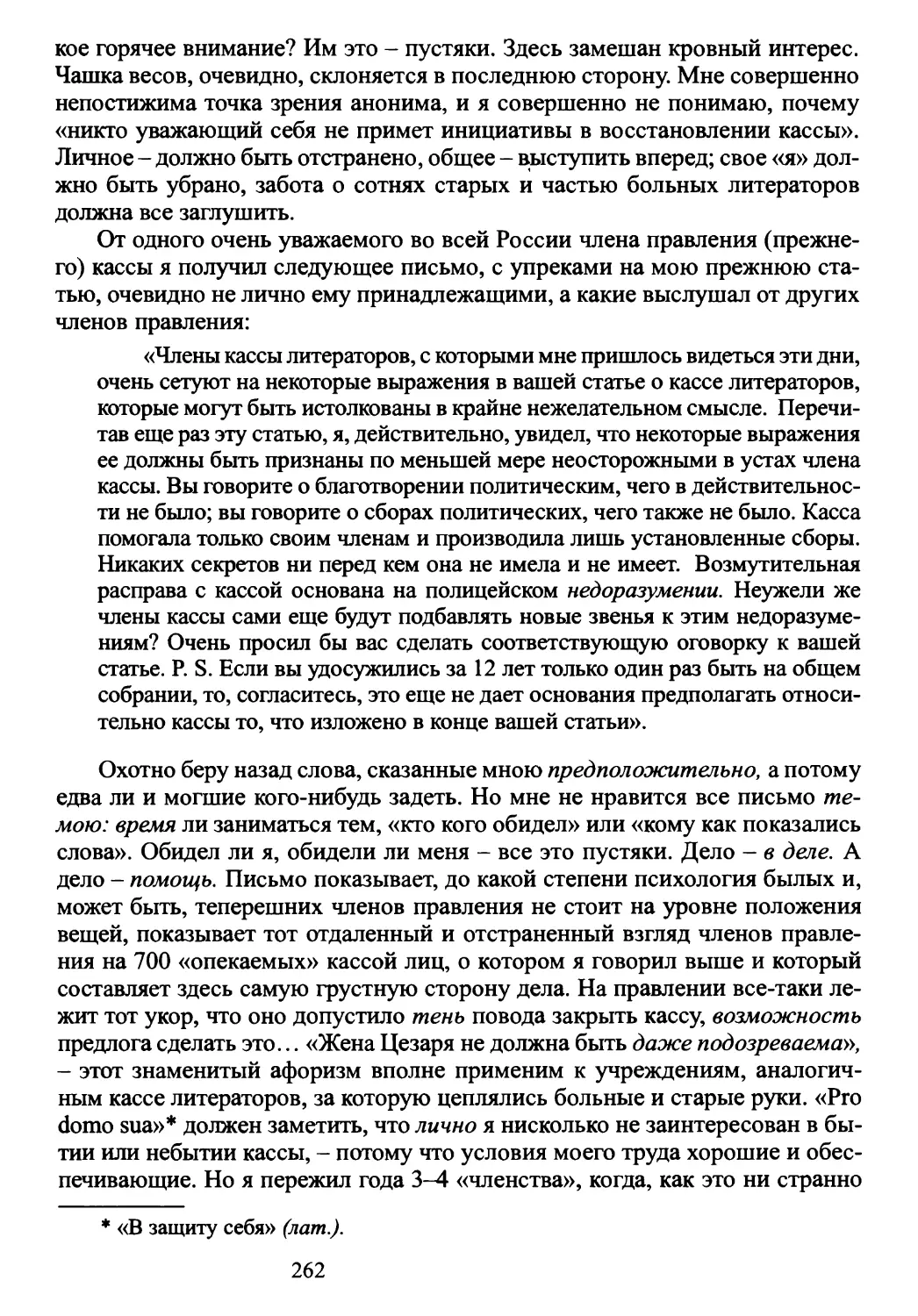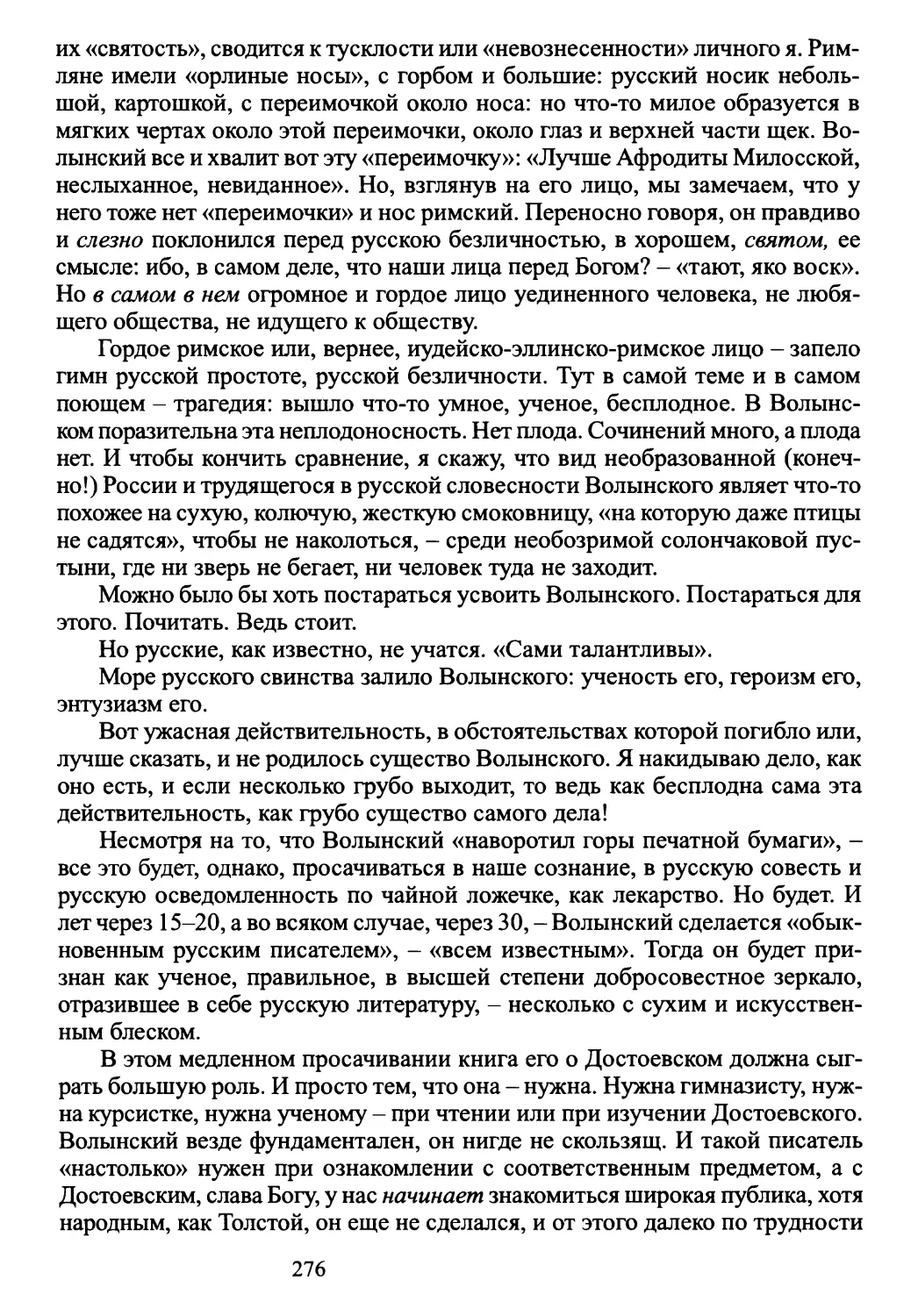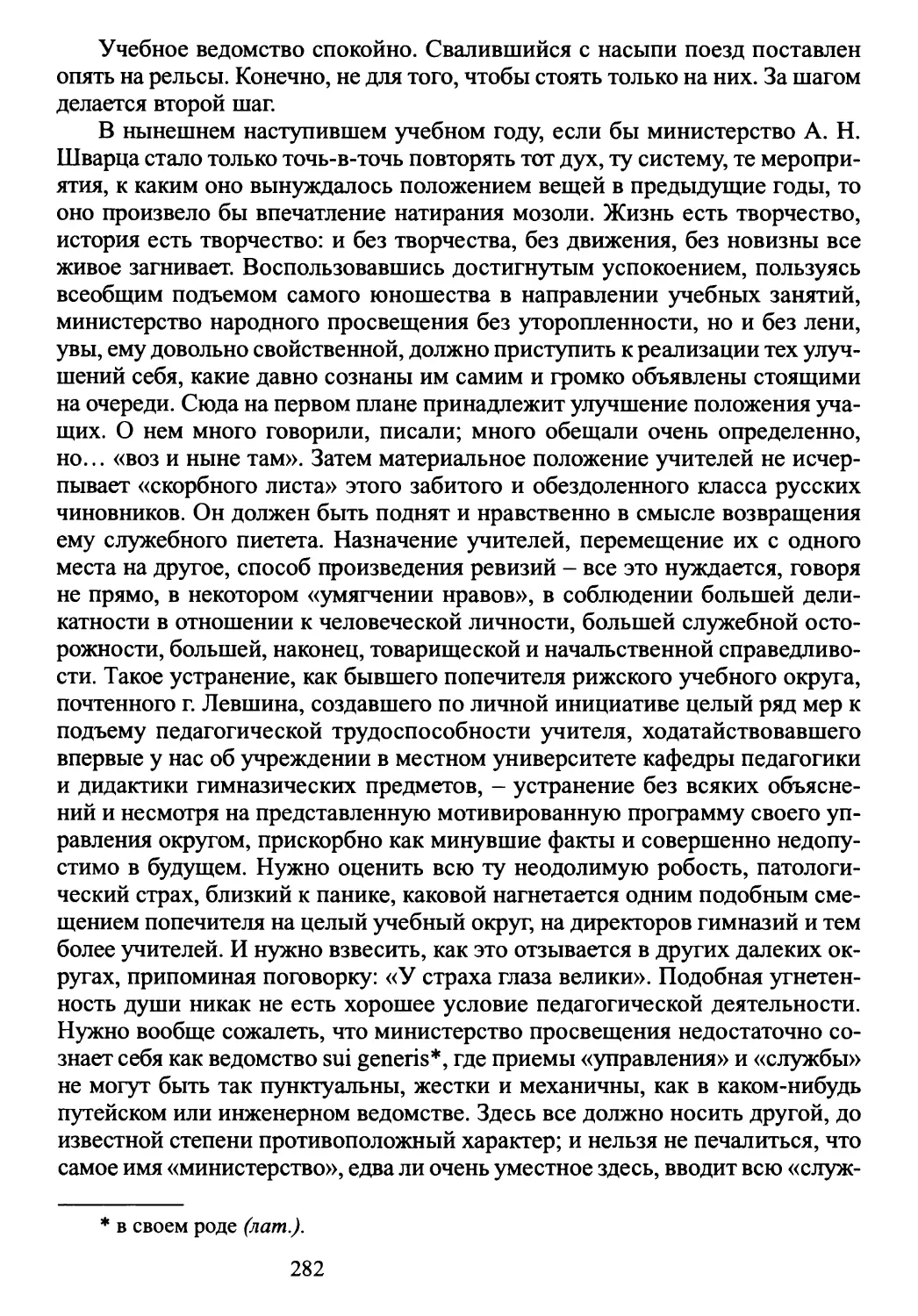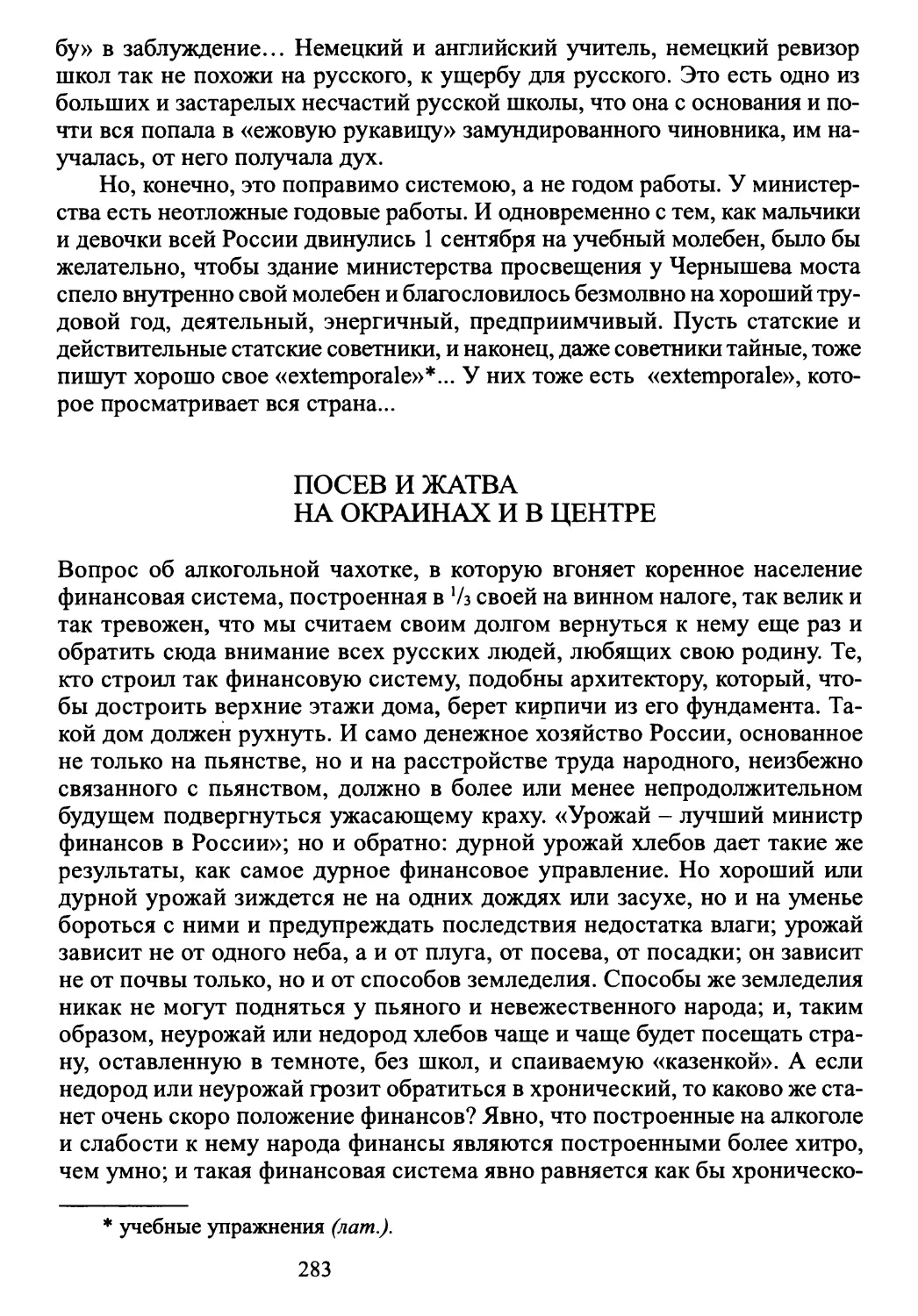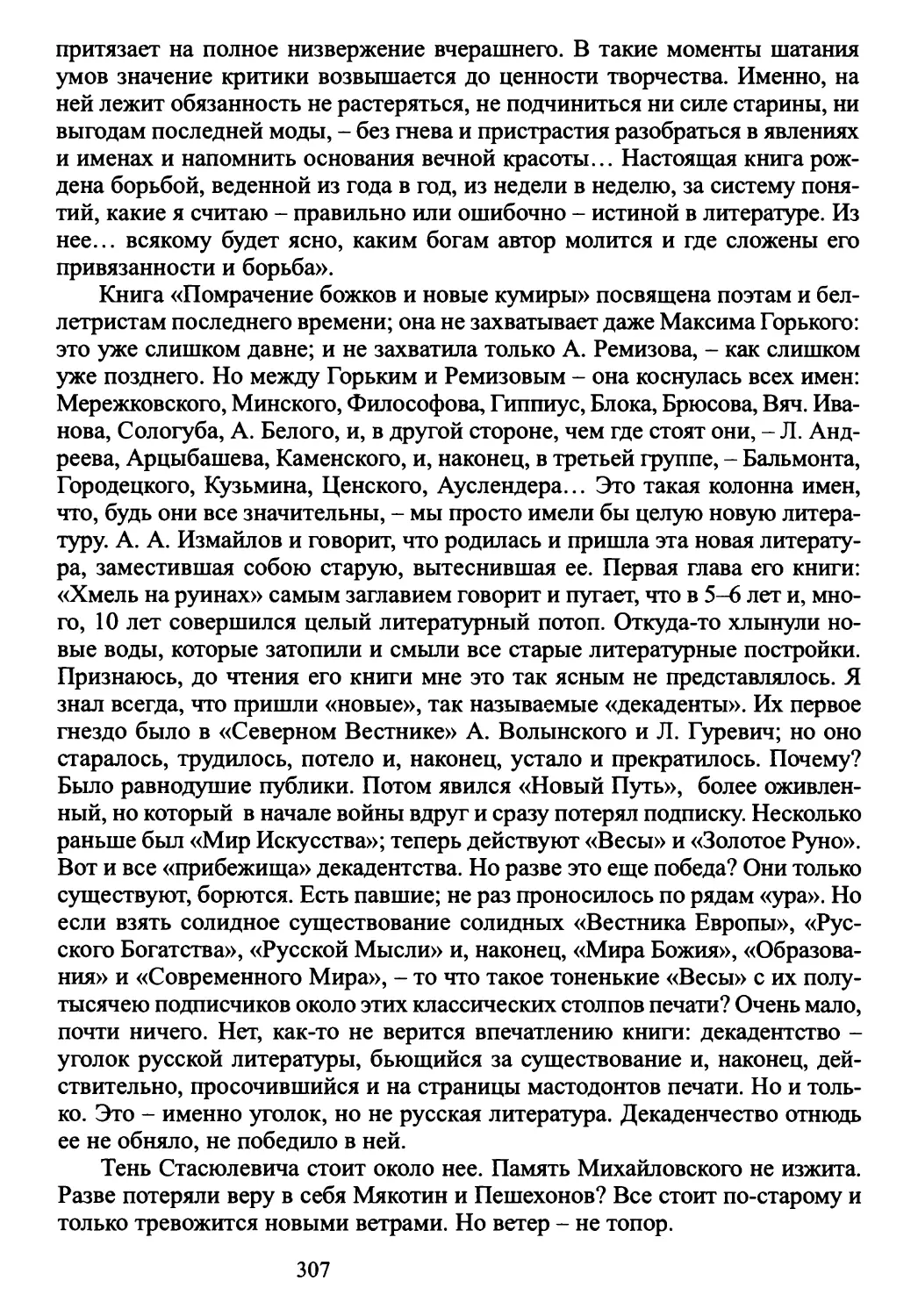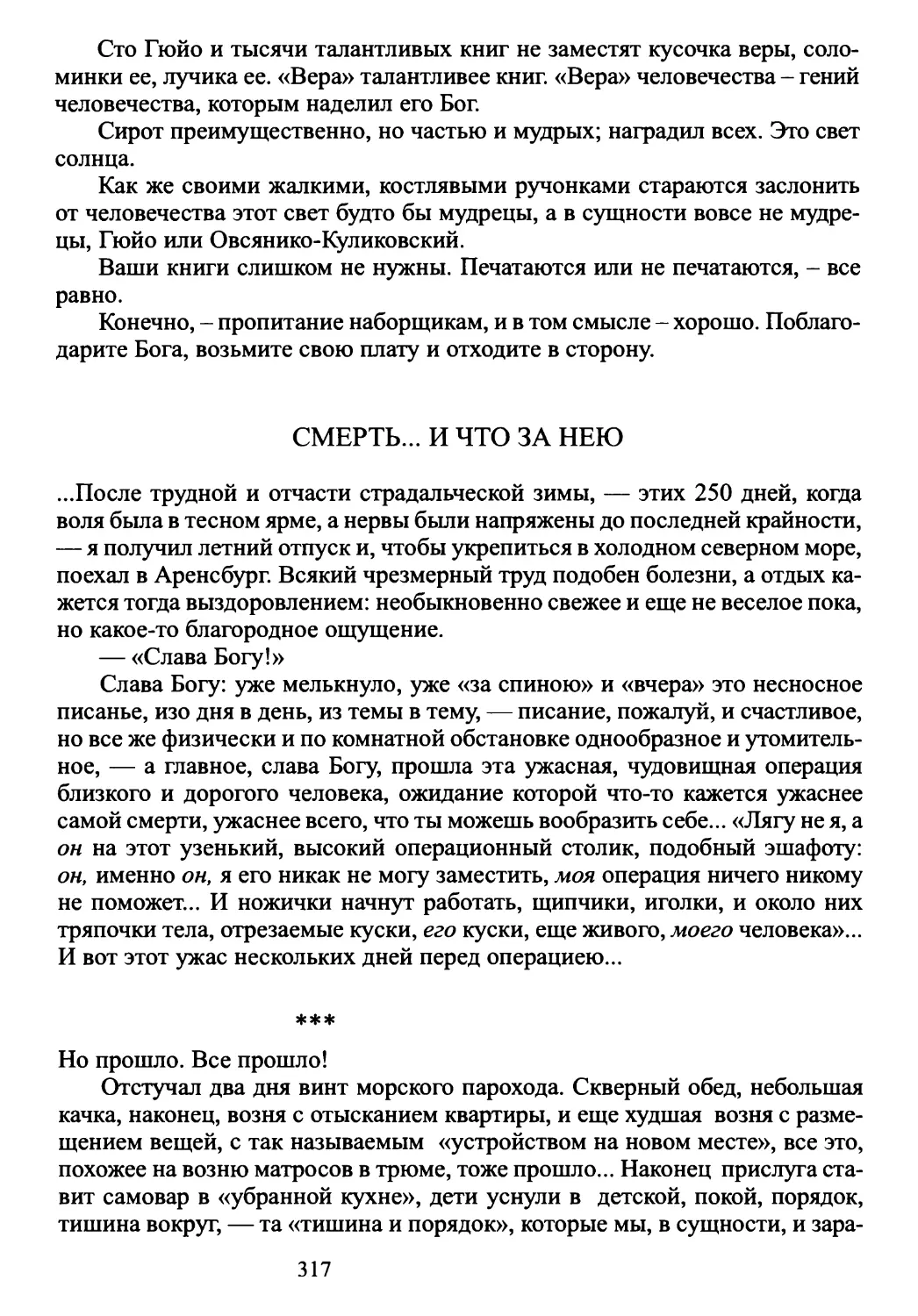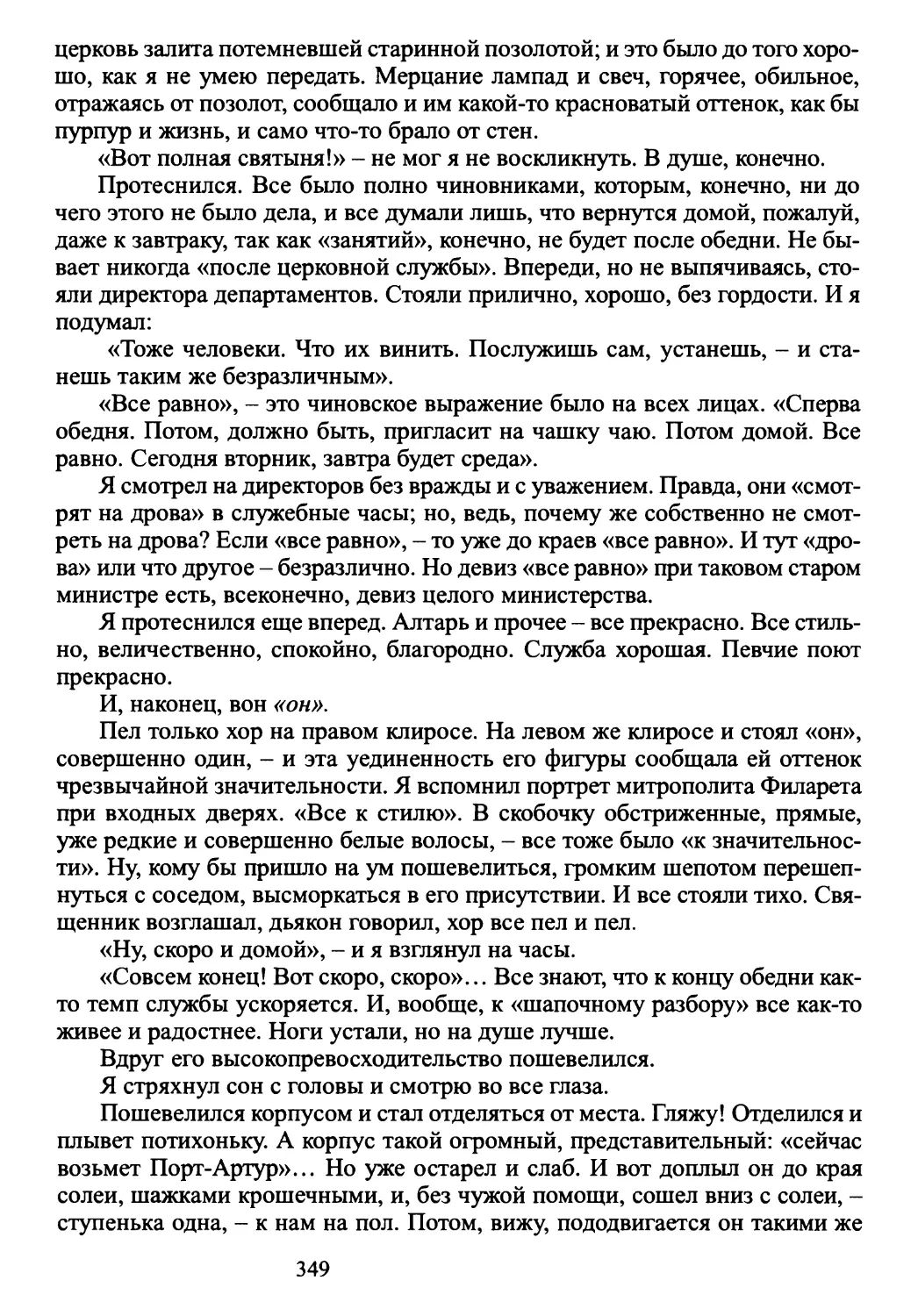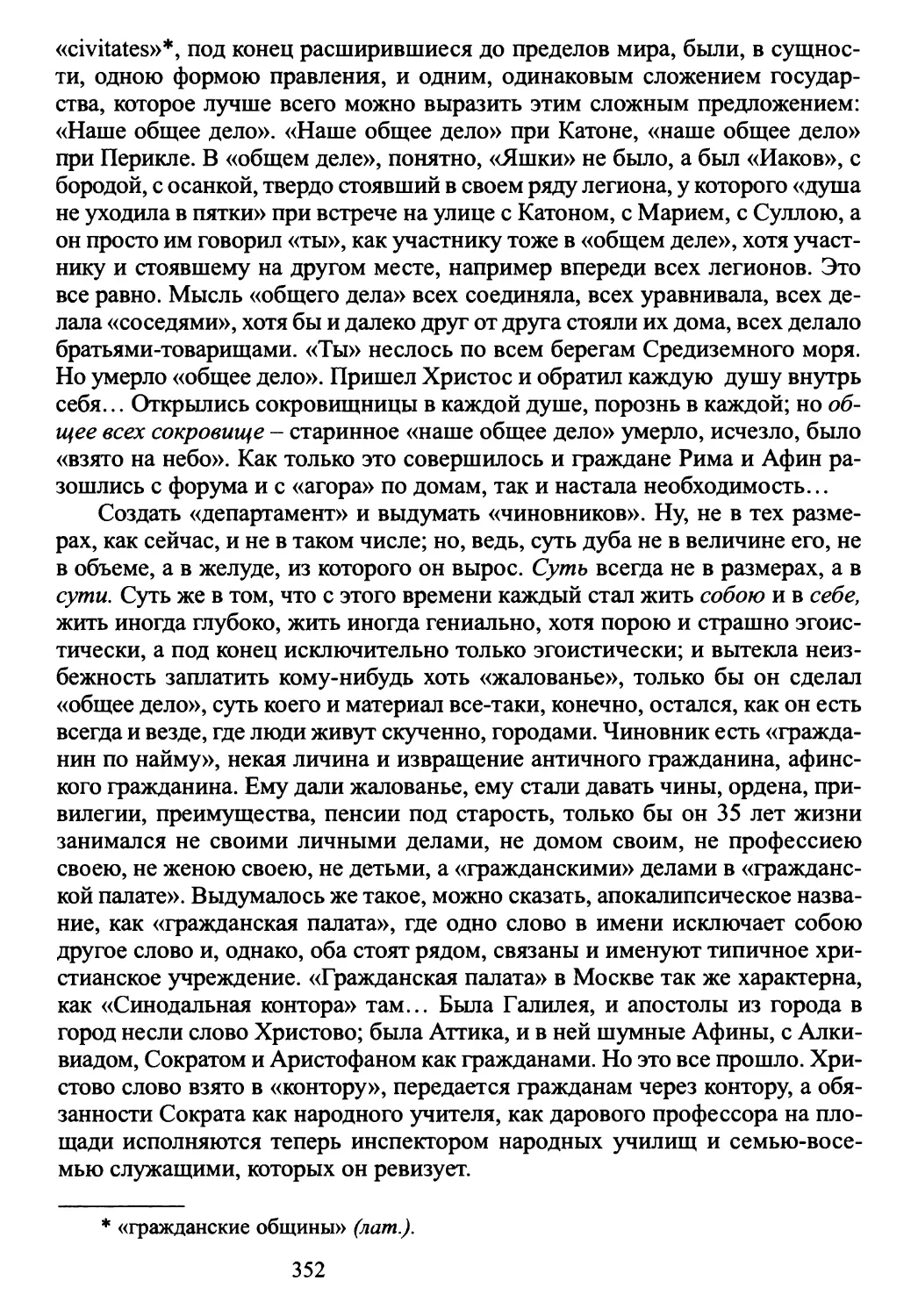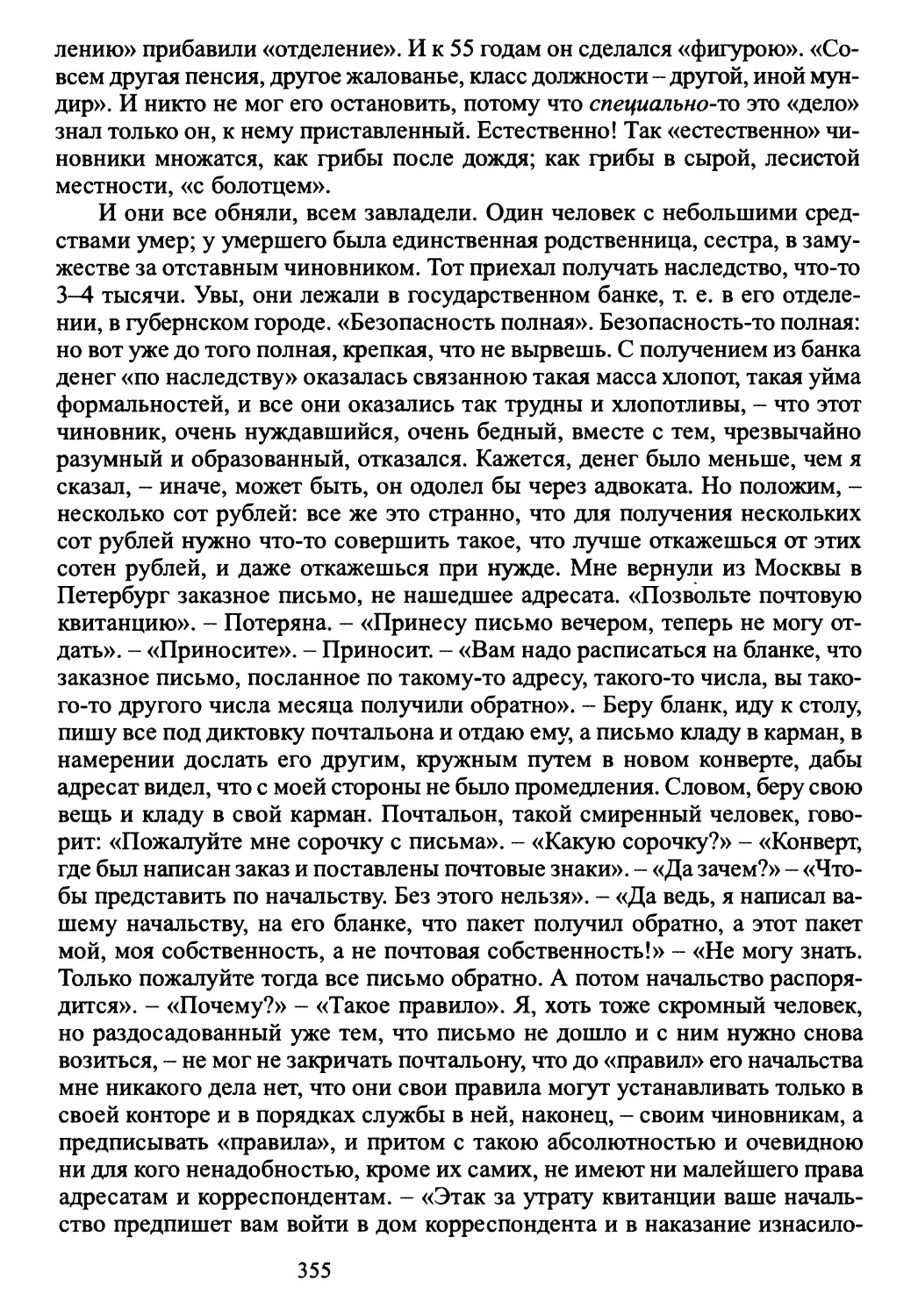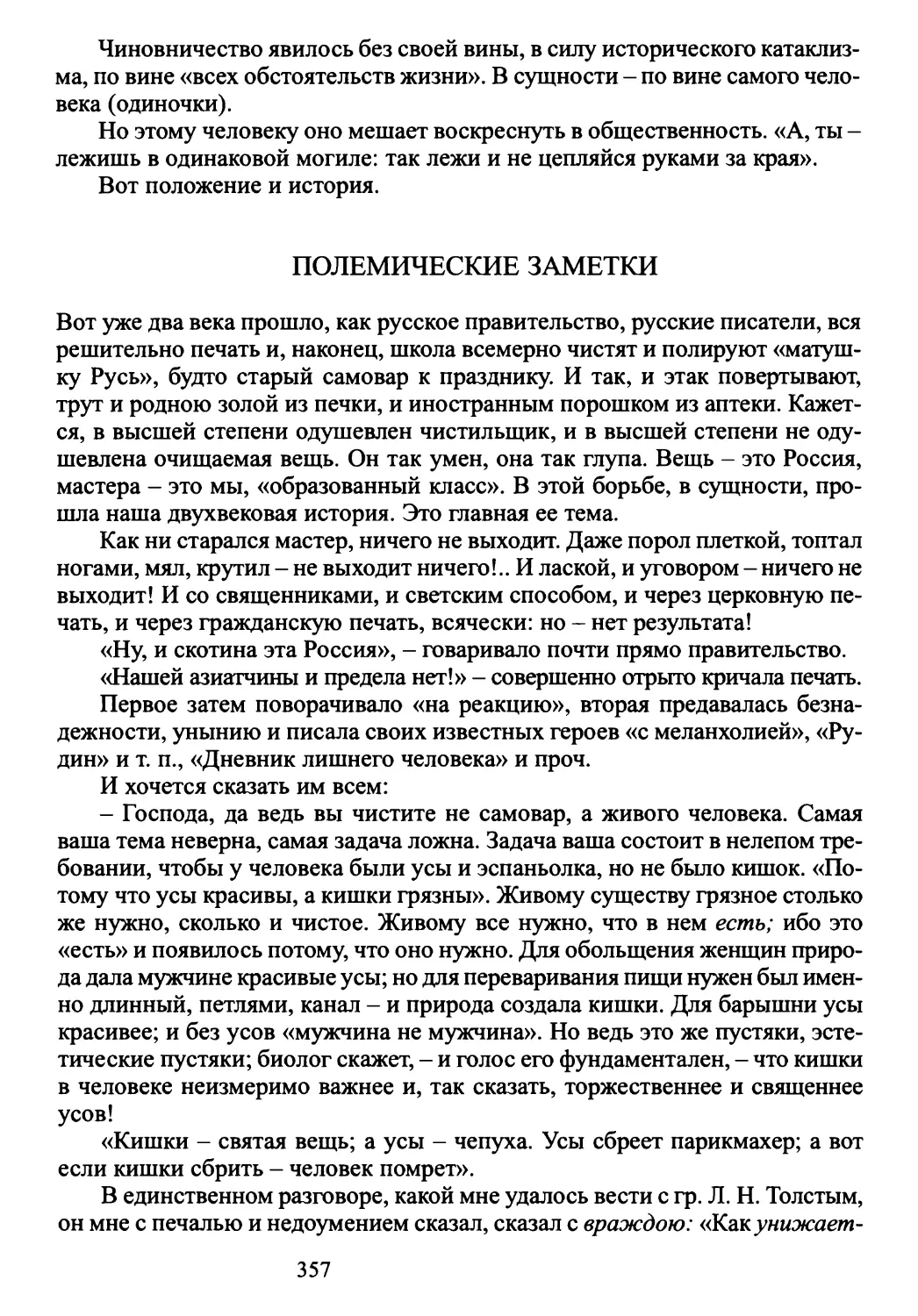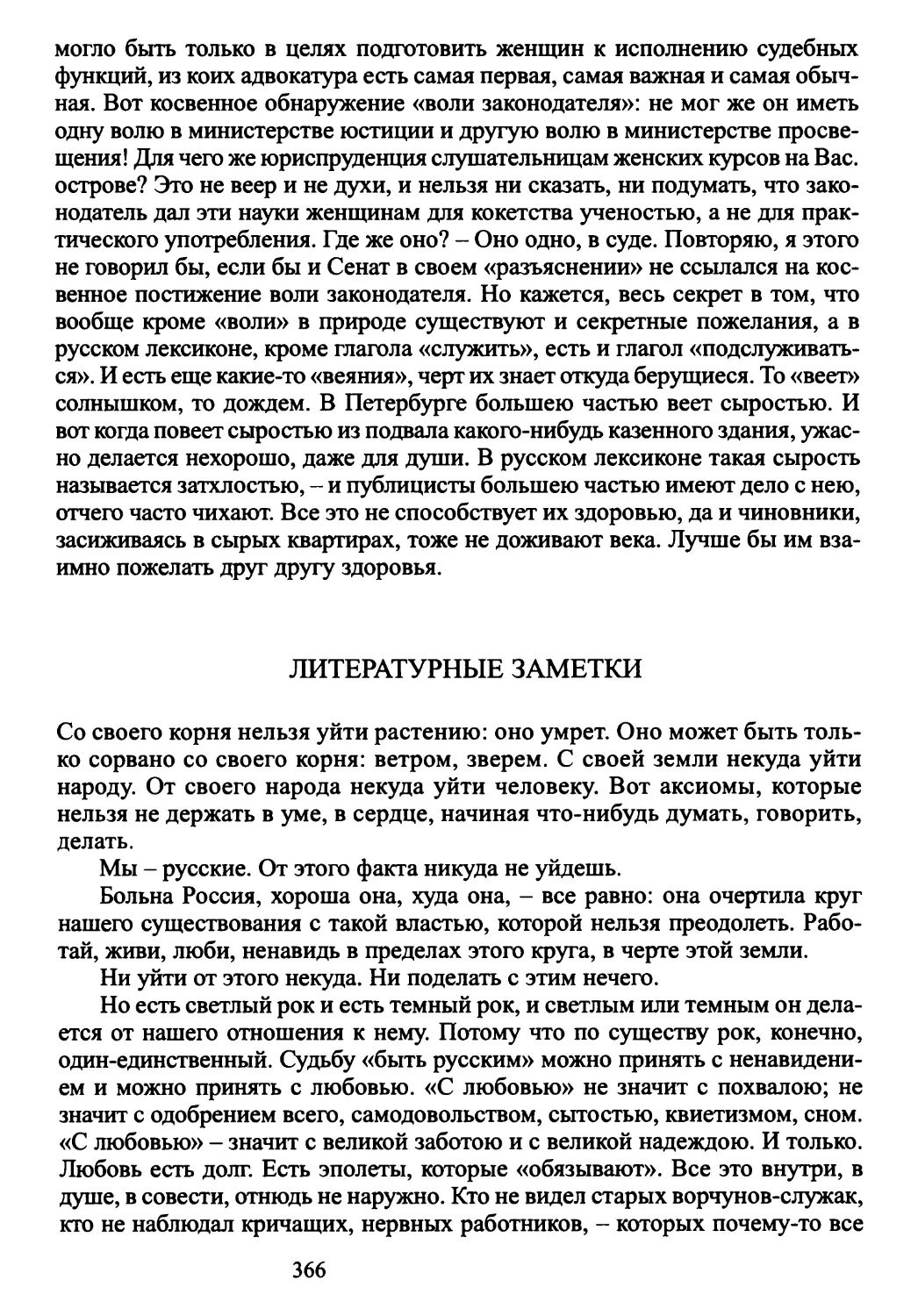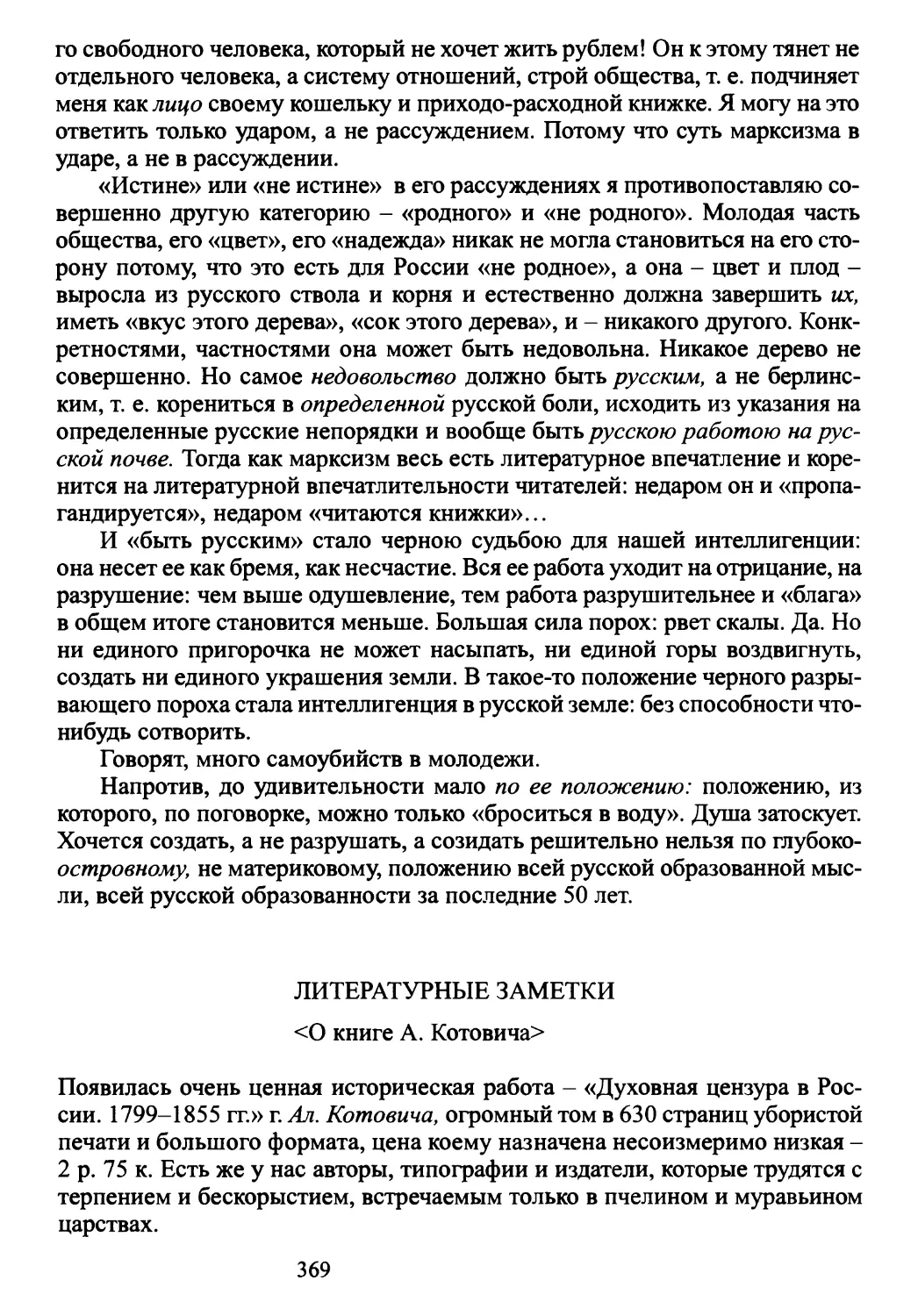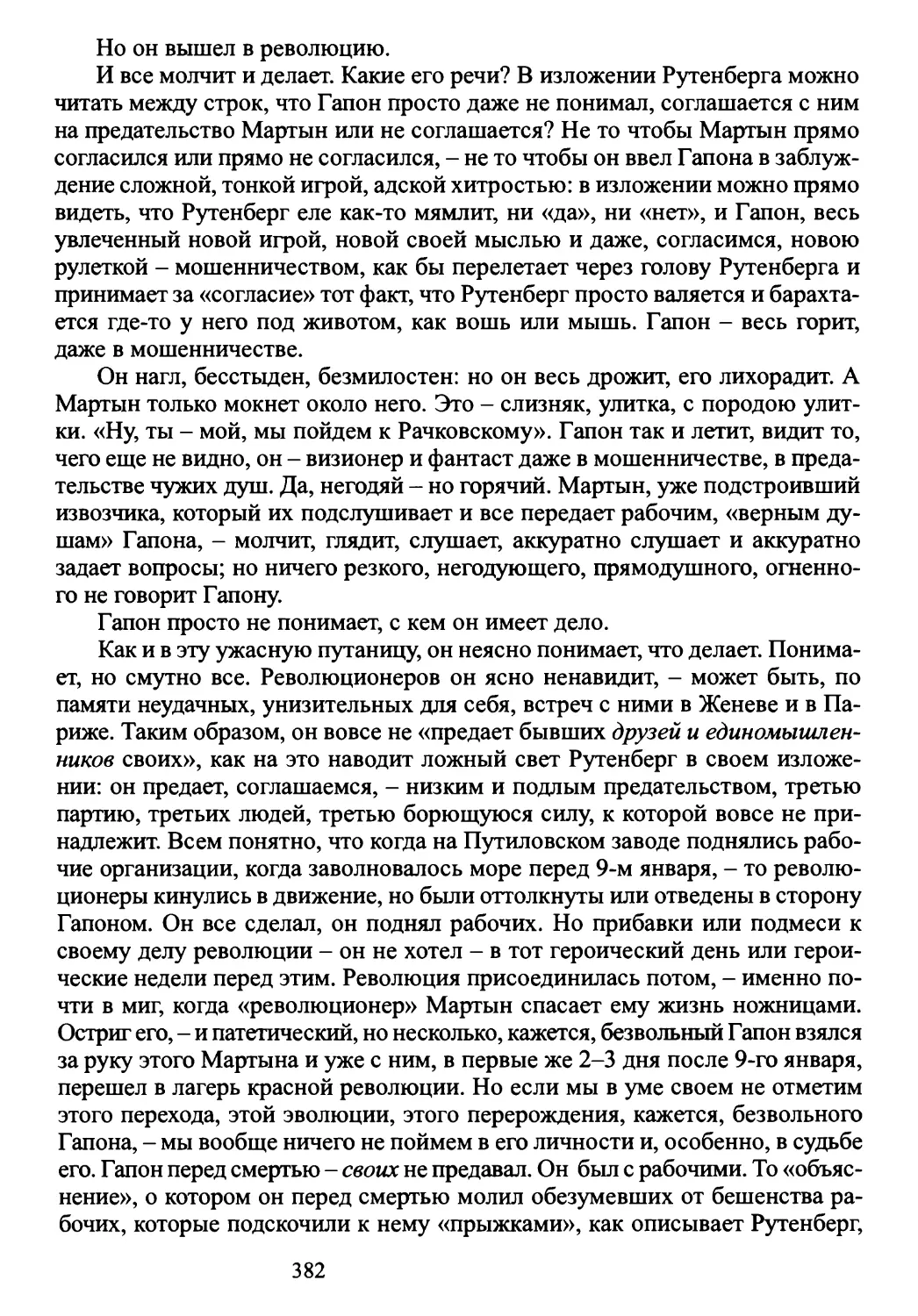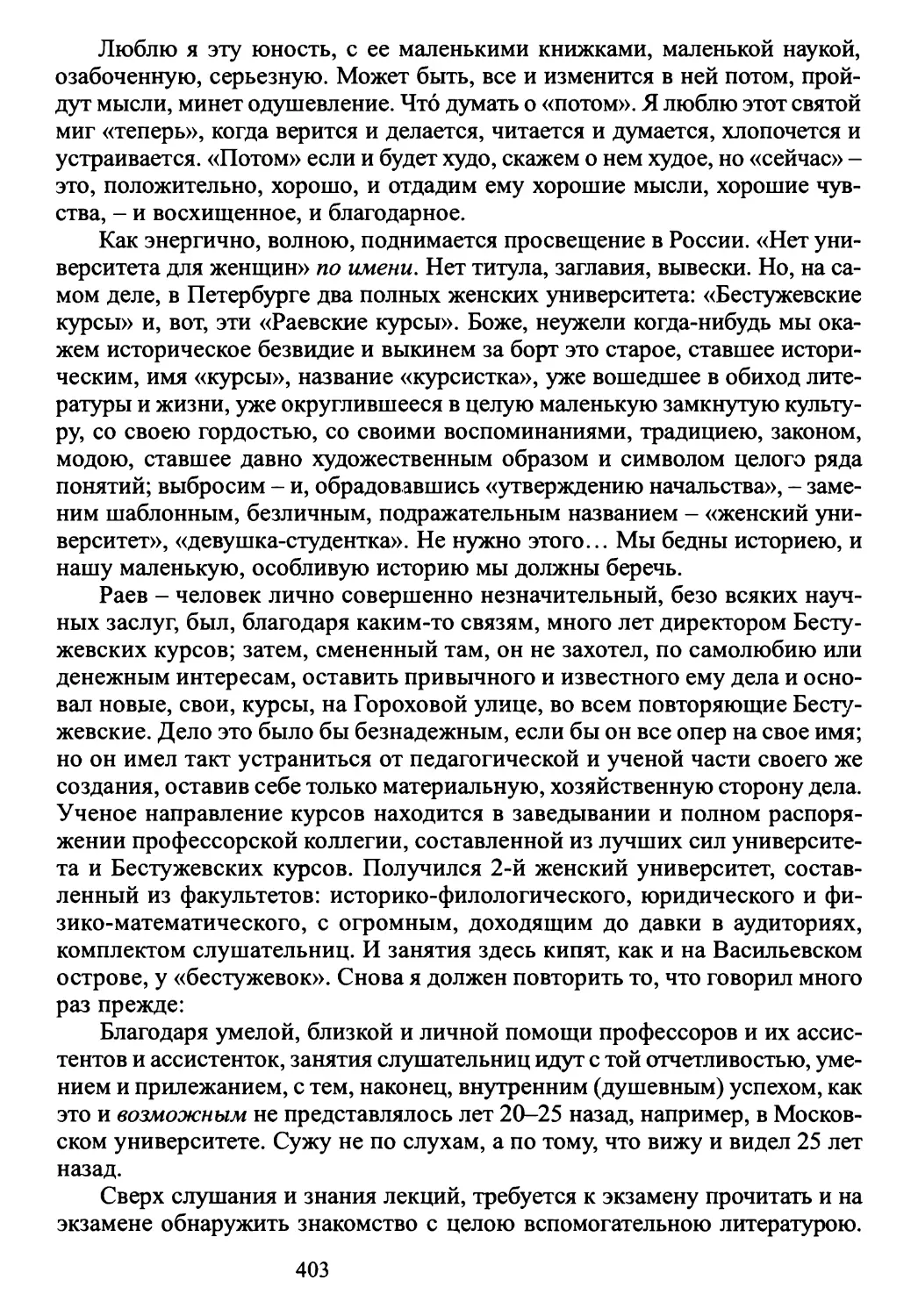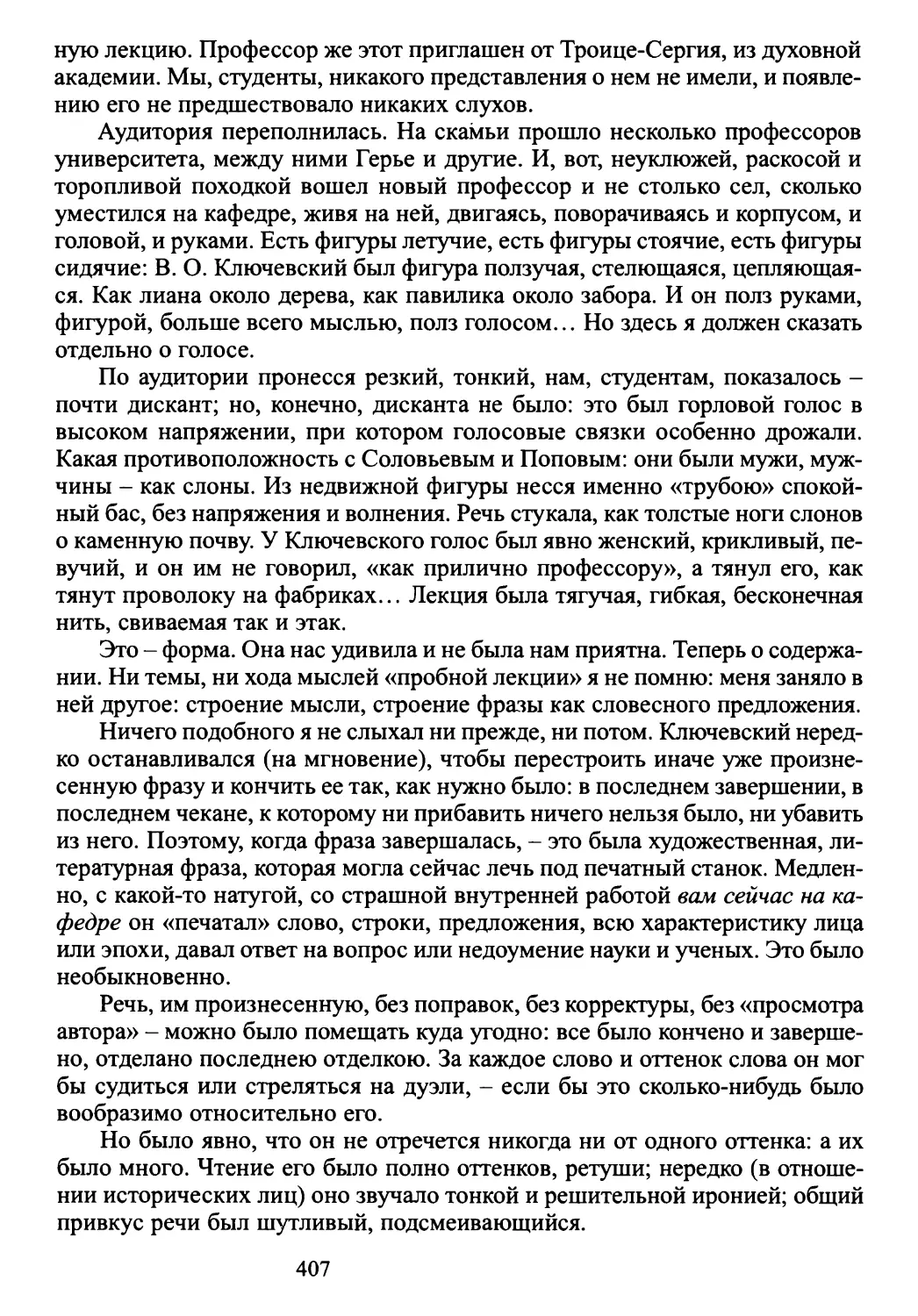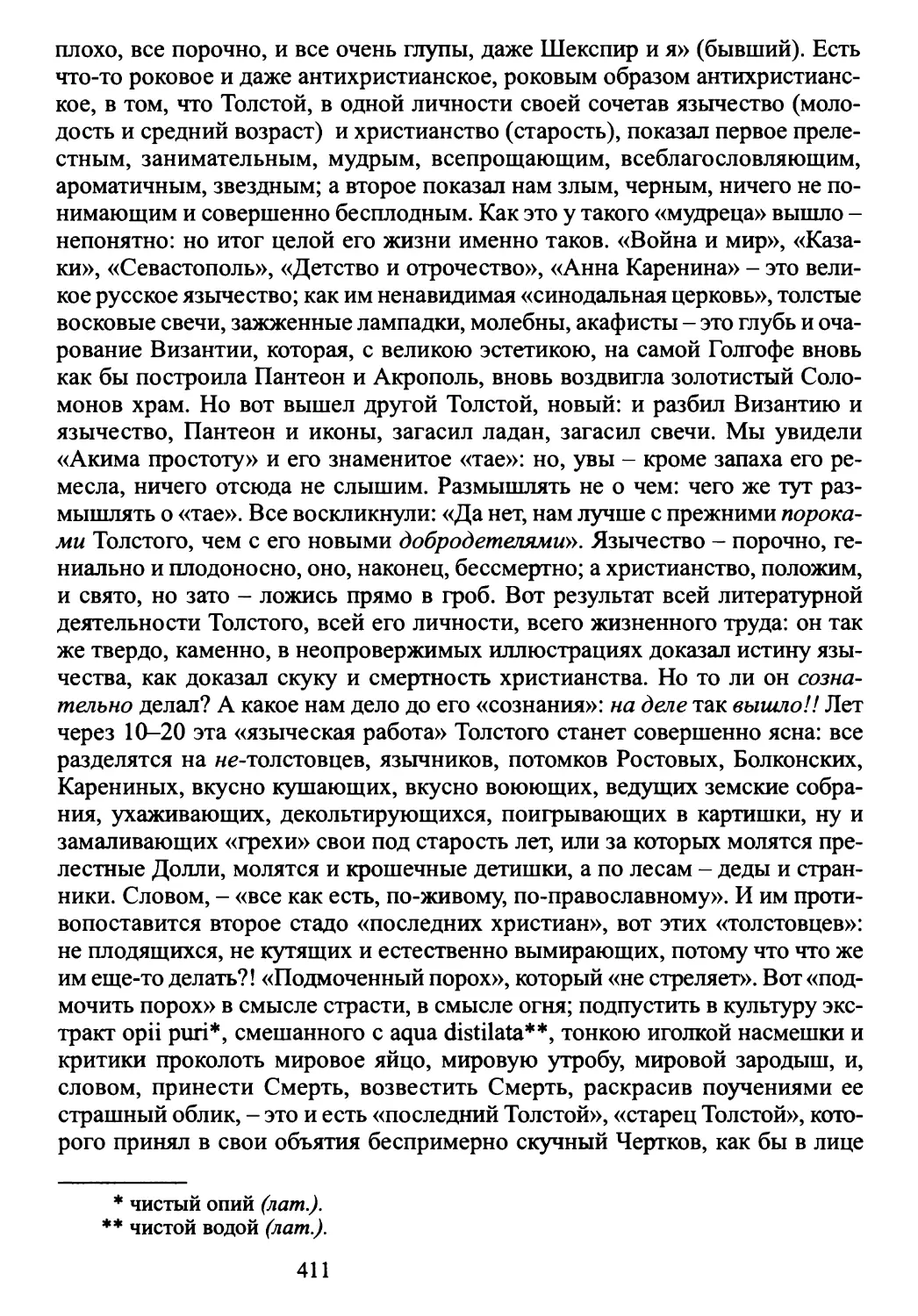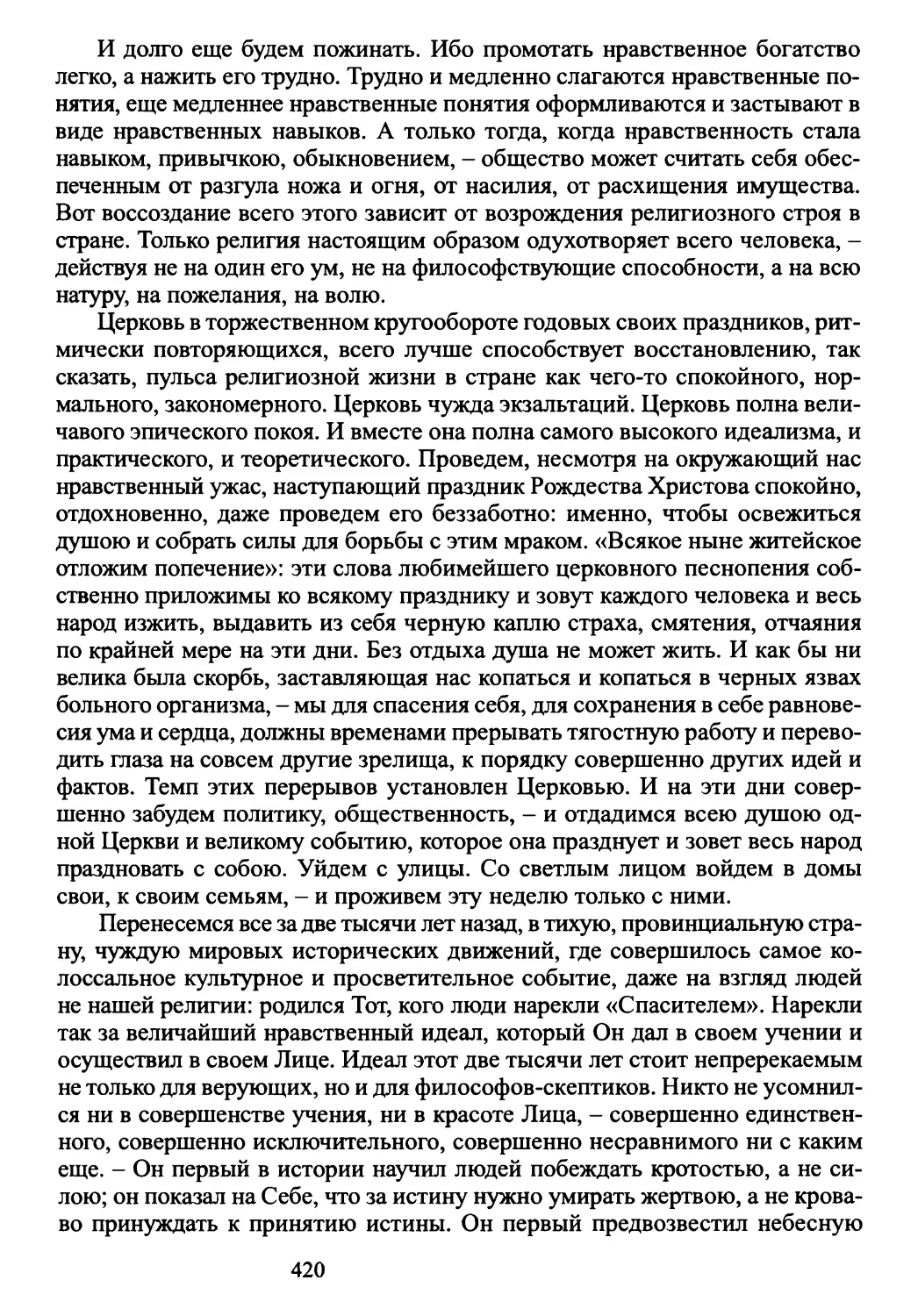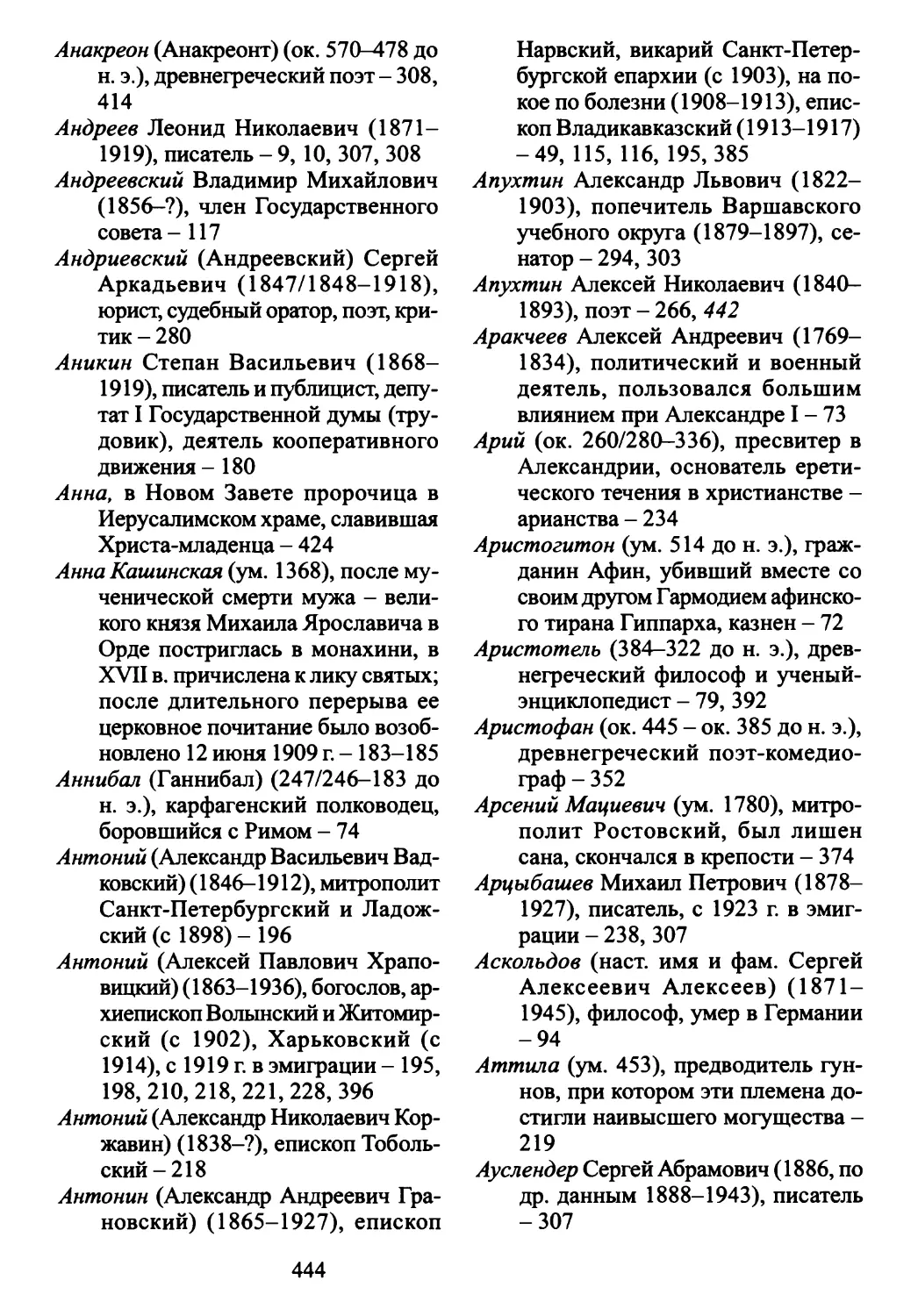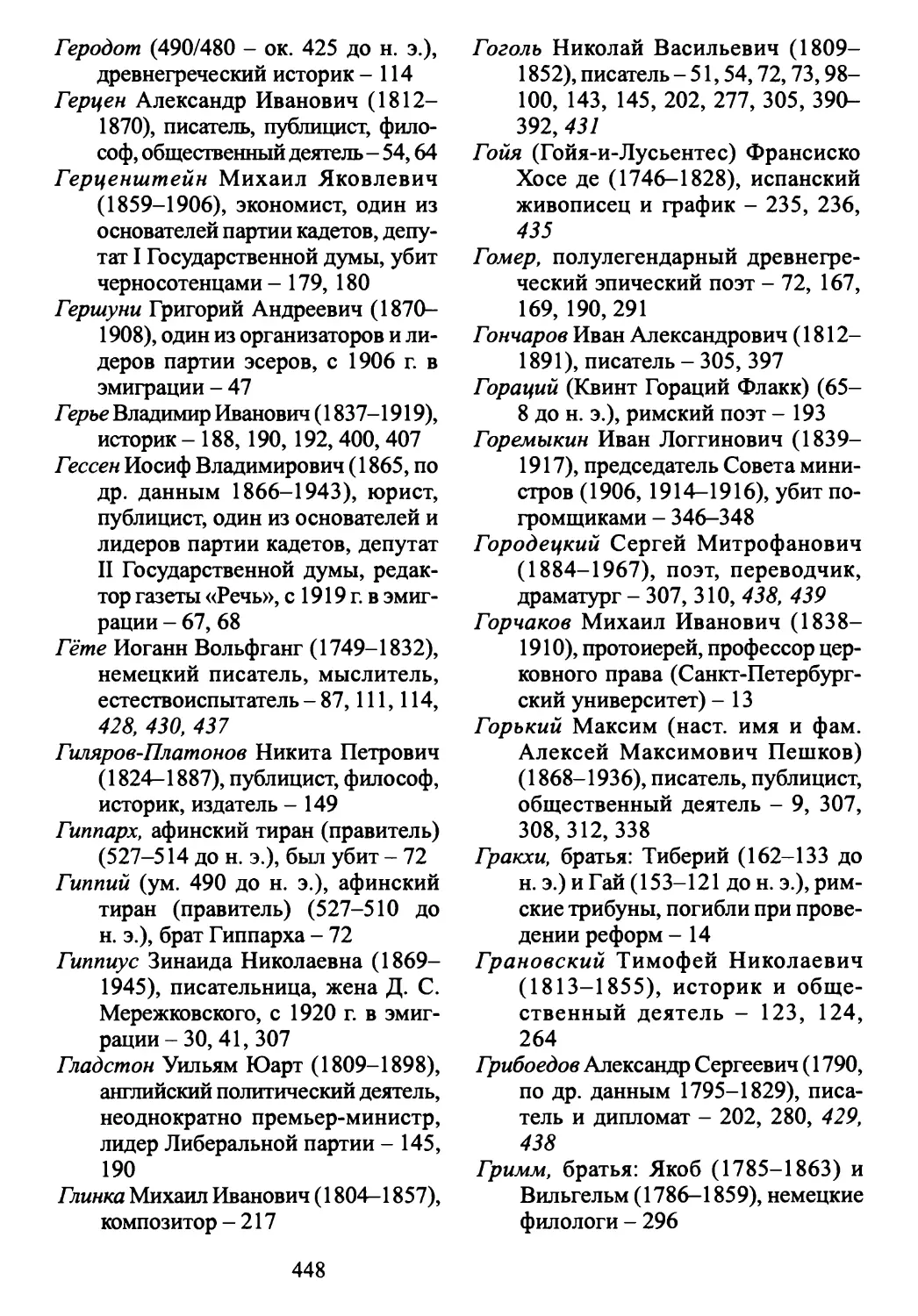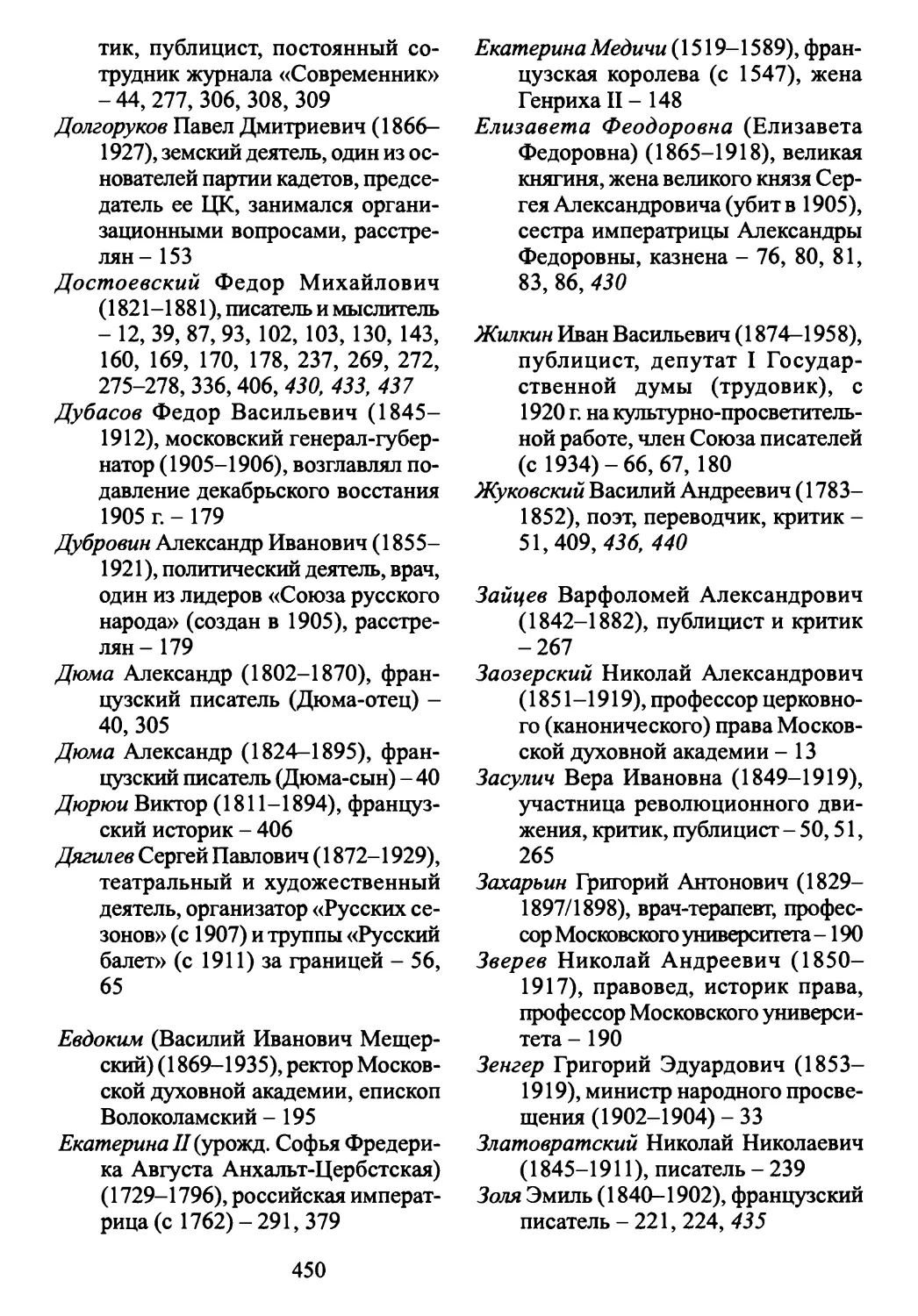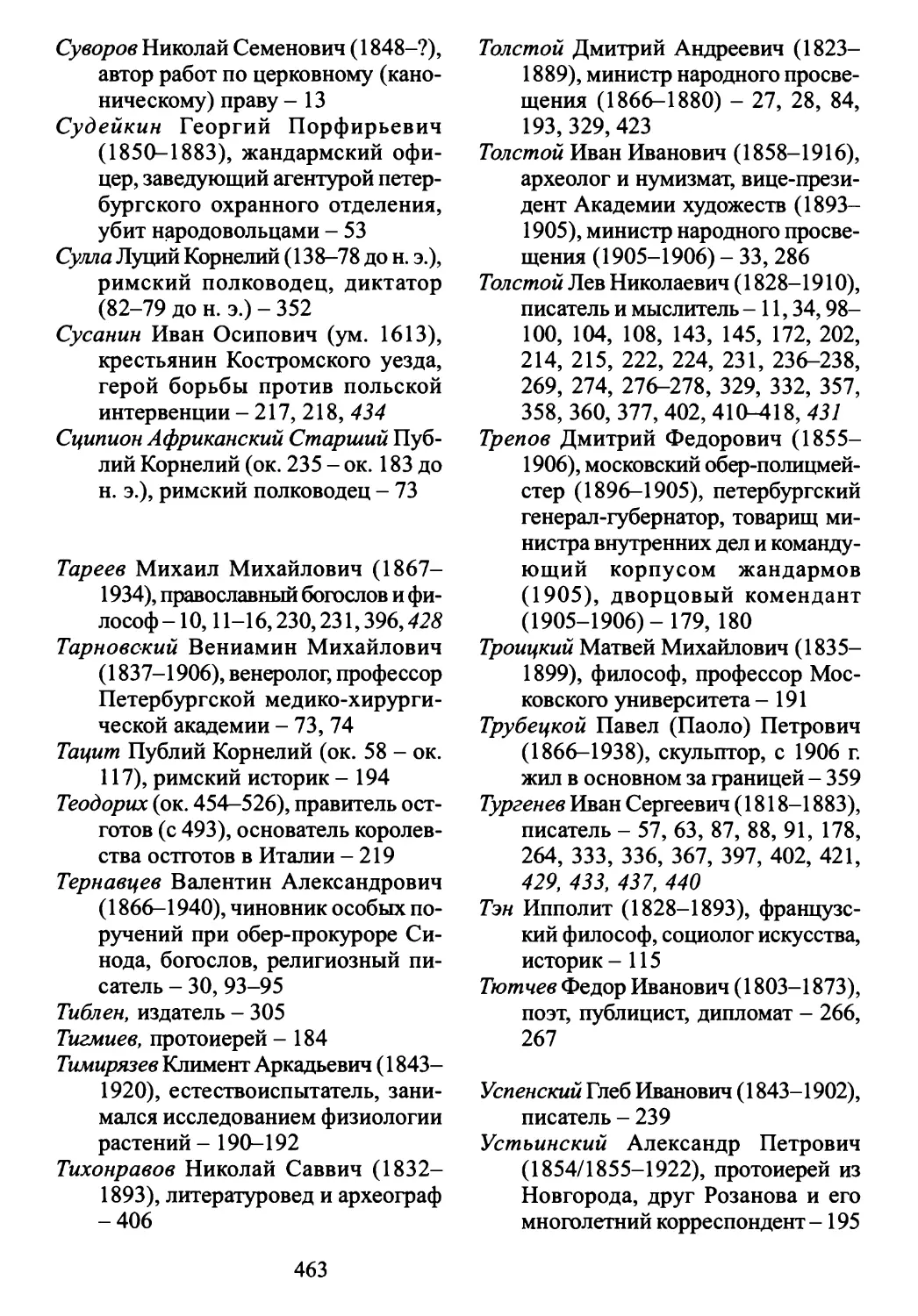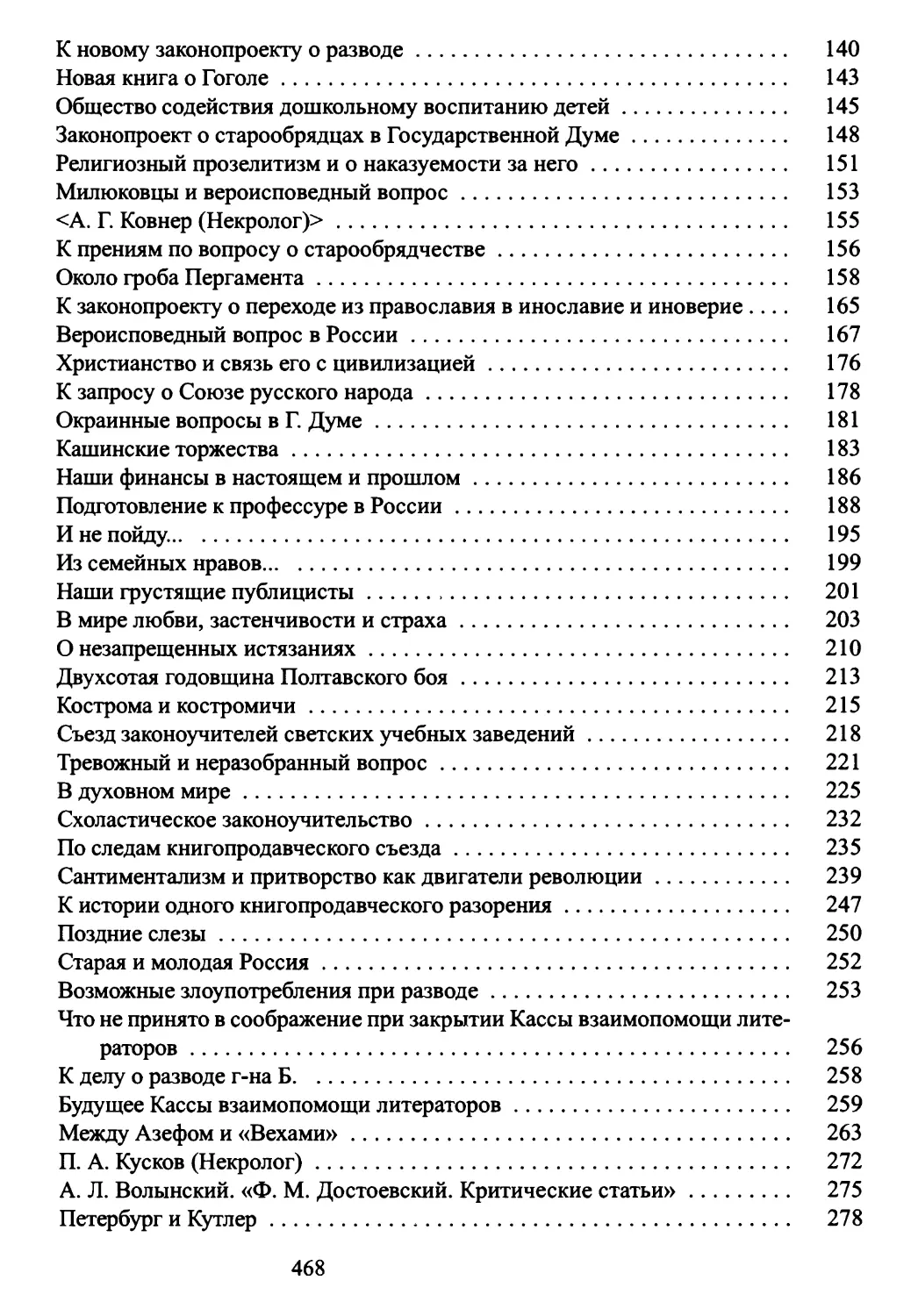Автор: Розанов В.В.
Теги: история философии поэзия русская литература художественная литература собрание сочинений
ISBN: 5-250-01880-7
Год: 2004
Текст
В. В. Розанов
Старая
и молодая Россия
Статьи и очерки 1909 г.
В. В. Розанов
Собрание
сочинений
В. В. Розанов
Старая и молодая
Россия
Статьи и очерки 1909 г.
Собрание сочинений
под общей редакцией
А. Н. Николюкина
Москва
Издательство «Республика»
2004
УДК I
ББК 87.3
Р64
Российская академия наук
Институт научной информации
по общественным наукам
Составление и подготовка текста
А. Н. Николюкина, В. Н. Дядичева,
П. П. Апрышко
Комментарии В. Н. Дядичева
Указатель имен В. М. Персонова
Проверка библиографии В. Г. Сукача
Розанов В. В.
Р64 Собрание сочинений. Старая и молодая Россия (Статьи и очерки
1909 г.) / Под общ. ред. А. Н. Николюкина. - М.: Республика, 2004. -
469 с.
ISBN 5-250-01880-7
Настоящий том Собрания сочинений В. В. Розанова включает его статьи и очерки
1909 года, впервые собранные в отдельную книгу из газет и журналов. Как всегда
дается живая и своеобразная характеристика событий этого года, дополняемая раз-
мышлениями о прошлом и настоящем России (200-летняя годовщина Полтавской бит-
вы, «польско-русский вопрос», разоблачение Азефа, «Вехи», гибель Гапона и др.), о
писателях и деятелях русской культуры - Ф. М. Достоевском, Л. Н. Толстом, Иоанне
Кронштадтском, Н. А. Бердяеве, Д. С. Мережковском, В. О. Ключевском и др. Большое
внимание уделено проблемам российской государственности, православной церкви,
«школьного мира», национальному и семейному вопросам.
Адресовано всем, кто интересуется русской литературой, философией и куль-
турой.
ББК 87.3
© Издательство «Республика», 2004
ISBN 5-250-01880-7 © А. Н. Николюкин. Составление, 2004
Статьи 1909 года
НАШИ ЗАДАЧИ, НАДЕЖДЫ
И ПОЖЕЛАНИЯ
За годами политического развала, какой мы пережили и который частью
прошел, частью приходит хотя и не быстро к концу, наступило что-то похо-
жее на развал нравственный. Как раз рождественские праздники принесли в
ежедневную хронику сообщения о таких мрачных преступлениях, что ум
мутится. Там 12-летний мальчишка убивает родную мать, сделавшую ему
резкое замечание; там бросается под поезд священник; осенью столбцы га-
зет наполнялись скандальными сообщениями о деятельности в Петербурге
одного педагога, к чести нашей - не русского, подвизавшегося в одном при-
вилегированном заведении, а позднее общество было испугано очень подо-
зрительными беседами с глазу на глаз с подростками-ученицами одного
школьного попечителя. Расправы ножом, самоутопления и самоотравы на-
полняют столбцы газет. Мутная волна, как будто отплеснувшись от полити-
ческой стены, пошла по другому направлению, по линии наименьшего со-
противления, и залила грязью нравы частных домов, семей, нравы улицы.
Движение это грозит большими опасностями русскому народу. И обще-
ство должно крайне насторожиться. Оно опасно уже потому, что мало уло-
вимо и что сопротивляться ему призваны только слабые силы семьи. Бес-
сильная, невоспитывающая школа, к тому же сама пережившая разруху, от-
сутствие нравственного воздействия со стороны духовенства, далеко не сто-
ящего на высоте своей задачи, печальные семейные нравы, пьянство улицы,
широкое разлитие половых пороков - все это является печальною подпоч-
вою тех ядовитых цветов, какие ужасают общество в передаче хроникеров.
Всякое мрачное преступление имеет позади себя мрачную хронику, иногда
тянувшуюся годы, которая до сведения общества не доведена и не дошла.
Предупреждением этого рода преступлений может служить только оздоров-
ление самой атмосферы, в которой зреют преступники, борьба с ее пороч-
ностью, с ее гнилостными миазмами. Это оздоровление все почти сводится
к труду и доброму примеру. Общество наше, в пору политического развала,
пережило не только фазис небывалого ослабления власти, но и ослабления
труда, трудоспособности. Остановившиеся школы и остановившиеся фаб-
рики образовали зияющую яму безделья, куда повалились мертвою свалкою
нравы. Неделя лени и гульбы портит целый месяц; месяцы и целый год,
даже два года расстройства экономической и учебной жизни глубочайше
потрясли нравственный строй общества, сломав старые навыки, старую ре-
гулярность. Нравственность есть не только движение сердца, но нравствен-
ность есть просто чистоплотные привычки, чистоплотный образ жизни. Вот
7
этот образ жизни разбился во множестве русских мест, во множестве домов,
во множестве семей тою политическою смутою, которая прошла по бытово-
му укладу, как сицилийское землетрясение по городам и селам этого остро-
ва. С одной стороны, наша безобразная революция получила себе подспорье
в ранее существовавших распущенных нравах общества, а с другой сторо-
ны, высоко подняв голову и получив надежды, революция эта разбила и те
не очень устойчивые нравы, какие были, и теперь подспудно питает житей-
скую анархию. С бунтом справилось государство. С нравами может спра-
виться только общество.
В новый год и хочется обратить внимание общества на эту великую за-
дачу, перед ним вставшую. В печати нашей истекший год много говорилось
о «культурной работе», но очень неясно определялись ее контуры. По-види-
мому, под этим разумелись литературные разговоры и более или менее клуб-
ные собеседования; разумелась служба, конечно, не ненавистная всем ка-
зенная служба, а частная, то есть разные сферы частной деятельности. Все
это доступно только людям профессионального образования, и отсюда со-
вершенно исключена семья и скромная женщина-семьянинка. Мы, однако,
не думаем, что центр культурной работы лежит в преуспеянии профессио-
нального труда, хотя он тоже очень много значит, - центр этот лежит в оздо-
ровлении атмосферы наших домов, в возвращении всех к здравому смыслу
и к благородству и мягкости нравов. Над этой главной задачею призваны
работать не одни врачи, техники, агрономы, судьи, - над нею могут потру-
диться люди и очень скромного образования, в особенности может и долж-
на над этим потрудиться русская женщина-семьянинка как мать своих де-
тей, как сестра своих братьев, как взрослая дочь престарелых родителей.
Русская история в дальнейшем течении много будет зависеть от того, какою
будет и покажет себя русская женщина этих ближайших лет и даже этого
наступающего года. В добрый же путь, в добрый труд, благородная русская
женщина! Иди, под сенью великих образов прошлого, к сохранению и про-
буждению старых русских идеалов, лучших русских идеалов в растущем
поколении.
ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ В 1908 г.
Состояние церкви и в текущем году осталось в том же недвижимом состоя-
нии, в каком оно было до сих пор, - и не с чаяниями народа, общества и
печати, это та же точка или многоточие. Мы говорим о чаяниях народа: так
как умиротворения русского старообрядчества и сектантства, примирения
их с нашею церковью можно ожидать только тогда, когда церковь примет и
осуществит принцип соборности. Наверху эта соборность должна выразиться
в созвании Всероссийского церковного Собора, а внизу в организовании
прихода как нравственной и юридической личности. Ни того, ни другого
нет. И словам И. Христа: «где два и три соберутся во имя Мое», - словам,
8
указавшим на необходимость единения, совмещения, общности у христиан,
- положен предел, увы, самою организациею нашей церковности или, луч-
ше сказать, безорганизованностью ее. Ибо теперешнее чиноначалие или
чиновничество в церкви есть вторжение в церковь чуждой ей организации,
а не есть развитие организации самою церковью, из ее собственных начал и
по ее внутреннему закону и духу, из ее собственных соков.
Среди этого недвижного общего состояния год этот был тяжел для цер-
кви по потере ею выдающихся лиц: разумеем здесь экзарха Грузии высоко-
преосвященного Никона, погибшего мученическою кончиною на мятежном
Кавказе, и последовавшую всего на днях кончину светоча православия -
Иоанна Кронштадтского. Потеря эта потому особенно ударила по сердцам,
что русские давно смотрят с безнадежностью на организационные силы цер-
кви и, не видя света в ее канцелярских учреждениях, сосредоточили давно
всю свою любовь и все свое внимание на единичных праведных личностях,
на единичных праведниках и деятелях. Но нельзя не заметить, что организа-
ция могла бы могущественно помочь личности; нельзя не сказать, что бед-
ное и тусклое существование недвижного церковного строя мешает появле-
нию и великих личностей на ниве церковной в большем числе, чем сколько
мы их видим.
В числе явлений, приятных с нашей церковной точки зрения, следует
признать появление в польском населении мариавитов. Замещая собою, хотя
пока и не во многих точках, католичество, - они замещают ярко враждеб-
ную нашему православию силу силою совершенно мирною. Поляк-мариа-
вит - не враг русскому народу, русской церкви, русскому государству. Рус-
ские это чувствуют, и от этого из России несутся и будут нестись мариави-
там благословения и добрые пожелания. Это явление, очевидно, будет креп-
нуть и шириться.
НОВАЯ КНИГА О ХРИСТИАНСТВЕ
Есть что-то мальчишеское в нашей прессе: достаточно М. Горькому устами
какого-нибудь Саввы или Леониду Андрееву устами «Кого-то в сером» ска-
зать один-два афоризма о Боге или человеке, - афоризма, почти случайно
капнувшего с кончика пера, - и вся наша журналистика и газетный ряд на-
чинают, на сотню ладов, повторять этот афоризм, жевать его, размышлять о
нем; писать к нему комментарии, брать его эпиграфом в своих статьях, - и
так на несколько месяцев или на целый год. Появляются статьи на тему -
«еще о том, что сказал Лука о жизни и смерти» (Лука - герой со «Дна» М. Горь-
кого), и - проч. Такой шумихой приблизительно о выеденном яйце шумит
наша печать круглый год. Но если человек действительно большого ума,
целую жизнь свою проразмышляв о тех же предметах, вынесет в общество
действительно зрелый плод мысли, напечатает действительно замечатель-
ную книгу, - то печать, которая или соединяет или разъединяет читателей и
9
книгу, совершенно даже не заметит этого зрелого плода, пройдет по нему
ногами, не даст обществу простого уведомления о появлении подобного труда.
Печать через это страшно понижает умственный уровень страны. Она дер-
жит общество на каких-то грошовых леденцах. Леденцы тают во рту, кладут
впечатление сладости на язык; легко проскальзывают в желудок. Желудок
совершенно портится от этих сладостей и легкой еды и мало-помалу теряет
способность воспринимать хлеб, мясо и вообще что-нибудь здоровое и пи-
тательное. Всякий человек из общества, прожив несколько лет на газетах и
журналах, теряет окончательно способность читать серьезные книги, т. е.
стать когда-нибудь серьезно образованным человеком. Нельзя не сказать, что
такое положение общества есть умственно больное положение.
Послушать печать, то самое замечательное, что у нас появилось на ре-
лигиозные темы за последнее время, - это «Иуда Искариот и другие» Анд-
реева-Смердякова. Произведение совершенно лакейское: но сколько было
по поводу его ахов, вздохов, удивлений, размышлений! Образовалась целая
«литература предмета», можно составить «указатель статей» об этой повес-
ти: между тем как это всего только «леденец» в две копейки, и внутренняя
причина его пережевывания в печати лежит в том, что нет такой убогой души,
которая не могла бы издать «еще вздоха» по поводу его.
Но оставим эту старую печаль нашей литературы.
В этом году появился и за год не получил себе никакой и нигде оценки
громадный четырехтомный труд проф. Московской духовной академии Мих.
М. Тареева: «Основы христианства». Как уже видно из самого заглавия, это -
философия исповедуемой европейским человечеством веры; и не нужно
говорить, до какой степени интересна и увлекательна книга, написанная на
эту тему первоклассным мыслителем, вооруженным всеми средствами но-
вейшей учености, всем богатством собственно богословского истолкова-
ния, но который под арсеналом своих орудий не похоронил живой души.
На каждой странице автор дает почувствовать читателю, что с ним говорит
родной брат, тоже верующий или, точнее, способный к глубокому религи-
озному чувству человек, к глубоким религиозным переживаниям, - но, как
сын XIX - XX века и плоть от плоти своего времени, - уже не могущий
принять «очерка веры» с точностью старых катехизисов и непосредствен-
ной наивностью. В этой двойственности и бьется главный пульс книги, ко-
торый вас раздражает, мучит, манит, отталкивает: но вы не оставляете кни-
ги, ибо это говорит брат ваш, но только глубже и дольше вас думавший на
те же темы, о которых думали и вы, приблизительно современный русский
человек. Нужно оговориться, что незадолго до издания новейшего громад-
ного труда, так сказать в часы отдыха, тот же проф. Тареев написал и издал
книжку: «От смерти к жизни. Живые души»*, очерк практического хрис-
тианства в нашей теперешней России, осмотр «нравственных ее сил», как
выражается он сам. «Я давно собирался, - пишет он в предисловии к этой
* Напечатано в Сергиевском Посаде в 1907 г.
10
маленькой книжке, - лично посетить и внимательно осмотреть места и уч-
реждения, в которых делаются опыты практического осуществления хрис-
тианских идеалов, опыты христианской жизни. Такие опыты имеют бли-
жайшее отношение к той кафедре нравственного богословия, которую я
занимаю в академии. Мы слишком часто повторяем слова о том, что хрис-
тиане должны делать, как они должны жить, и совсем не справляемся о
том, что делают лучшие христиане, как они живут. Для моралиста и про-
поведника важно и интересно знать, до чего простираются силы человека и
какие границы христианской деятельности намечаются условиями налич-
ной жизни». В целях этих, в вакационные месяцы от своей учебно-ученой
жизни, он посетил Киевский Покровский (княгинин) монастырь, Виров-
скую обитель, Леснинский монастырь, Крестовоздвиженское трудовое брат-
ство и толстовские колонии, т. е. пункты, где делались опыты построить
христианскую общину и организовать христианский труд. Здесь нам при-
шлось прочитать лучшее, что мы вообще читали о толстовстве и о самой
личности Толстого. «Его проповедь, - говорит Тареев, - прозвучала могу-
чим, но пустым звуком. Усилия сделаться христианином выразились в за-
поведях и поступках, которых нельзя не назвать юмористическими. Он шил
сапоги и пахал землю, не имея нужды ни в обуви, ни в хлебе, хотя сам же
настаивал, что весь смысл работы лежит в нужде человеческой. Как лич-
ность и писатель он совершенно лишен пророческого, горячего дара, дара
зажигать сердца: в религии он холодный резонер и вечный судья. Пропо-
ведь его нанесла христианству ужасный удар не прямым своим смыслом,
не тем, что он разрушал церковь, а тем, что все ему не удалось; что, глядя на
него и по нему судя о христианстве и христианах, люди получили право
смеяться над христианством, находить его бессильным, немощным, при-
творно-слащавым и неправдивым. Если уже Толстой, при его понимании
христианства, при его восторге к христианской любви, не отказался нис-
колько от всех элементов языческой жизни, от богатства, от семьи, от поло-
жения знаменитого писателя и связанной с этим славы, и всем этим пользу-
ется, как люди пользовались этим и до христианства, - то не является ли
его проповедь просто одним лишь художественным украшением счастли-
вой и спокойной жизни, как и у прочих людей, у осуждаемых им людей,
христианство служит только прикрасою реальной жизни, т. е. языческой
жизни? И что не удалось ему, - кому может удаться?»
* * *
«Религиозная система моя, - говорит проф. Тареев в предисловии к новому
4-томному труду своему, - есть итог пятнадцатилетней душевной работы.
Она не имеет ни профессионально-дидактического, ни чисто объективного
значения. Я даю чисто личное понимание христианства, личное религиоз-
ное мировоззрение. В этих книгах обсуждается не та сторона христианства,
которая образует общепринятую церковную формулу и общепринятую внеш-
не научную рамку христианской религии, но то в христианстве, что лежит
11
за этою формулою и за этой рамкой и что неизбежно предполагает субъек-
тивное переживание, индивидуальное освещение. Я не претендую возвести
на степень общеобязательной нормы своих интимных отношений к истори-
ческому Лику Христа, которые на долгие годы приковали мой ум к одному
Образу и сделали для меня этот Образ родным; я не принимаю на себя задач
проповедника; я просто хочу поделиться с читателями своим личным рели-
гиозным опытом; допуская для других полную свободу интимной религи-
озной жизни, я могу требовать ее и для себя».
Итак, мы имеем перед собою не просто ученое исследование, хотя оно
таково по виду, - а личное исповедание, личный рассказ, личное рассужде-
ние, тянущееся на тысячу страниц. В труде г. Тареева русское общество по-
лучает то, что Гарнак дал немецкому обществу в известных своих лекциях и
книге «О сущности христианства». Сближение это всего лучше выражает
существо данной книги.
Нет возможности перечислить те бесконечно занимательные вопросы,
которых касается автор, вопросы как общехристианские, так и наши рус-
ские. И я не сумел бы лучше определить впечатления читателя, как сказав,
что всюду, куда бы ни упал случайно глаз уже при первоначальном ознаком-
лении с планом всего сочинения, неудержимо входишь в ту частную под-
робность, о которой говорится на той или иной странице, и хочется, оставив
план книги в стороне, читать и читать именно об этой подробности. У авто-
ра нет вовсе пустых листов, этих несносных «общих суждений» и «общих
мест», где говорит за человека наука и образованность, а не его живая, лич-
ная душа. Это - одна сторона книги, так сказать, возбуждающая, притягива-
ющая. Другая - это ее точность. Нет ничего легче и ничего опаснее, как,
избрав темою «христианство», лететь, так сказать, широко раскрыв крылья
- неизвестно куда. Пышные слова, пышные обещания, пышные надежды и
пышные «общие очерки» - это, без преувеличения, составляет 2/3 «начин-
ки» всех богословствующих сочинений. В них христианство представляет-
ся способным все заменить, все возместить, всех насытить, - и, словом, это
какая-то лампа Аладдина или неразменный рубль сказок, обладая которым
«верующие» и вместе читатели богословских книг должны чувствовать себя
невероятно счастливыми и, так сказать, во все стороны богатыми. Даже та-
кие громадные умы, как Достоевский и Влад. Соловьев, не избегли этой не-
счастной риторики, один всовывая свое «богочеловечество» и «богосынов-
ство» чуть не в правила стихосложения и устройство полицейского участка,
а другой и подлинно предлагая заменить полицейские участки «маленьки-
ми приходами». Ведь к этому практически и строго сводится его призыв
растворить государство в церкви; отбросив государство, во всех ячейках
народной жизни заместить его «благодатным духом», что на самом деле све-
лось бы к водворению всюду хныкающего, прихрамывающего, шепелявя-
щего, немощного и озлобленного неудачами ханжества. Над всем этим бе-
зобразным пышнословием проф. Тареев - и он первый - высоко поднял яс-
ную голову. Он до последней степени сузил христианство, - его зовы, его
12
надежды, требования и границы; но в меру этого - он очистил эти призывы
и вместе сделал их для критики неуязвимыми. Он совершенно расторгнул
связь между духом евангельским, который ищет только души человеческой,
сердца человеческого, и ничего еще; и между царствами, так сказать, есте-
ственного существования вещей, естественного существования человека,
которые имеют внутренние собственные законы жизни и развития, ничего
общего с Евангелием не имеющие. Сюда относится не только государство,
но сюда же относится, например, и семья: и из богословов проф. Тареев
первый имел смелость высказать, что, например, вторжение христианства в
область семейных отношений (так называемый «христианский брак») не
имело никаких положительных результатов и только повредило семье; как в
свое время подобное вторжение вредило науке и философии (духовная цен-
зура, «философия - служанка богословия», «ancilla - theologie» - средневе-
ковая поговорка). На пути этих новых и смелых утверждений он развивает
понятие духовной свободы, внутренней свободы христианского сердца, хри-
стианских отношений. «Повинуйся», - говорим мы рабу; «действуй сам», -
говорим мы сыну: И. Христос и апостолы утвердили на земле, взамен ветхо-
заветных требовательных законов, этот совершенно новый тон отцовско-
сыновних отношений между Богом и человеком и между людьми. У челове-
ка - все Божие, только сердце - свое... Сердца человеческого не взял и Бог:
и это есть та драгоценность, которую человек сам приносит Богу. Вот поче-
му ни в каком виде, ни под какими оправданиями, ни ради каких целей хри-
стианин не может отречься от своего «я», положить это «я» в чужие руки;
сказать другому: «Неси меня туда, сюда», «неси к Богу». И «к Богу» человек
должен прийти на своих ногах, а не на чужих костылях, не на чужих руках,
не чужою головою, не чужим сердцем. Но эта высокая евангельская свобода
удержалась только при И. Христе и апостолах; все последующее развитие
исторической церкви шло против этого духа и вернуло человечество к вет-
хозаветному подзаконному стоянию. Во главе этого антиевангельского дви-
жения стало пресловутое «каноническое право», церковная юриспруденция,
которая деятельность церкви, задачи церкви, дух церкви, подчинила фор-
мам и типам почти римского государственного права, только с еще большею
абсолютностью, требовательностью, повелительностью. И стала «церковь»
- «якобы церковью», а на самом деле государством же, только в церковном
облачении, с церковными угрозами («адом» и «муками»), с церковною фра-
зеологиею. Прибавлю лично от себя, что я вот много лет размышляю и
абсолютно не могу постигнуть, каким образом, в виду ясного евангеличес-
кого смысла в этом пункте, могло возникнуть, могло родиться «jus
canonicum», «церковное право». Хоть бы профессора этого права и вообще
церковные ученые-законоведы где-нибудь об этом поместили принципиаль-
ную статейку: их много - проф. Горчаков, проф. Заозерский, проф. Бередни-
ков, проф. Красножен, проф. Суворов или гг. Рункевич и Преображенский.
Но на недоумения христианина они все точно воды в рот набрали. Книга
проф. Тареева всем им делает вызов: и если они ученые, а не «якобы уче-
13
ные», они должны и обязаны по клокам разнести его том о «христианской
свободе».
Рассуждения проф. Тареева об абсолютной несвязуемости физической,
материальной, плотской жизни человека с Евангелием, а отсюда и об абсо-
лютной свободе, независимости ее от Евангелия - дышат высоким одушев-
лением и убеждением; и можно вообще считать, что этот вопрос в его книге
кончен. Могучее государство, высокий патриотизм, бранная слава, воинская
честь - все эти вещи хороши не потому, что они «евангельские» или не в
смеси с Евангелием, а хороши сами по себе, независимо от Евангелия. От
попыток подобного смешивания они только портятся, теряют свой стиль и
вкус, теряют свою силу; становятся во всех отношениях хуже. Напротив,
живя свободно, развиваясь свободно, они высказывают, - каждая вещь, -
свою доблесть, нимало не евангельскую, но прекрасную своим человечес-
ким значением. Таким образом, проф. Тареев восстановляет как нечто долж-
ное всю дохристианскую жизнь, дохристианскую цивилизацию, - но вос-
становляет ее как христианин, притом убежденный и горячий. Он говорит:
«Мое сердце не в этом; но помимо сердца во мне живет ум, эстетика, вооб-
ражение, интерес к науке, к политике; живет полный языческий мир, нима-
ло не враждебный христианству, никак с ним не связанный; и все эти части
души я отдаю миру с полною свободою, как мир нисколько мне не мешает
верить в Христа как в Господа и Бога моего».
Как это далеко, как противоположно известному выкрику одного из фа-
натиков раннего христианства об языческой истории, обо всем языческом
мире: «Самые его добродетели были не что иное, как блестящие пороки...»
Так была похоронена храбрость храбрых, мужество граждан, борьба и геро-
изм Гракхов, мощь и красота Цезарей, Эпаминондов, Кимонов. Похороне-
на: и захныкали на месте их убогонькие, слабенькие и, как докладывает
Мармеладов,- «пьяненькие»... Но как трудна с этими «слабенькими» борь-
ба: пойдите, одолейте!
Евангелие в великой своей серьезности, в великой трагедии, сокрытой
в нем, совершенно недоступно постижению ребенка, юноши, недоступно
постижению вообще здоровой непосредственности. Дух его открывается
только в трагических положениях и трагическому настроению. Искажали
натуральную жизнь, с одной стороны, и искажали Евангелие, с другой сто-
роны, когда пытались прилагать Евангелие к здоровой естественной жизни.
И. Христос Сам сказал, что Он «пришел для больных, а не для здоровых»,
пришел «для погибающих», а не для тех, кто далек от физической и мораль-
ной гибели. Перенося Евангелие в детскую, пришлось бы внушать детям,
что они для чего-то должны «оставлять отца и матерь», «ненавидеть сестер
и братьев», не любить всех своих «домашних». Подлинные заветы Еванге-
лия именно такие: но они, очевидно, обращены не к детям, не к счастливой
натуральной семье; они обращены к взрослым, и притом попавшим в тра-
гедию семьи, где семья разлагается, больна, порочна. Детям же совершенно
не для чего этих принципов знать: они нежатся в родительской любви, в
14
родительском уходе, в родительской ласке. Таковы же заветы мужьям «ос-
тавлять жен своих», женам - «оставлять мужей своих»; пока они любят
друг друга и счастливы собою, это неприемлемо для них, не применимо к
ним и просто - им не нужно! Семья управляется своими законами, совер-
шенно автономными, - и чем она полнее подчиняется им, тем она счастли-
вее, крепче, цветущее.
Как все это далеко от обычной фразеологии. Но не потребуется много
времени для полемики, чтобы эти ясные тезисы сделались «общими места-
ми» богословия: как теперь «общим местом» переходят из уст в уста и из
книги в книгу термины «христианская семья», «христианское искусство»,
«христианская политика», «христианское государство», «христианский
брак»... Да не соблазнится читатель светлым именем Рафаэля; Рафаэль, ри-
совавший с одинаковым «вкусом» и Мадонн, и «Европу, уносимую Зевсом в
виде быка», - был, конечно, как и все люди Возрождения, не исключая пап,
только «крещен водою», а «мазан» был специями от элевзинских и других
языческих таинств. Тареев, посмеиваясь над противниками, приводит рази-
тельный пример: «Представьте Соню Мармеладову: она пожертвовала со-
бою, - по жалости к своей семье приняла на себя грязь разврата: ее жалость
предохранит ли ее от болезней? Конечно - нет, потому что законы духовной
жизни одни, а законы физиологии другие».
Автор говорит, что, конечно, все это связывается в личном «я» каждого
человека. Но это большая разница, чем сказать, что все это связывается в
«я» самого государства, самого искусства, самой науки. А у всех этих обла-
стей есть именно свое «я», над которым человек уже не властен, которых он
не создает. Входя в мир государственности или эстетики, человек подчиня-
ется своеобразным их законам: и без этого он не есть ни политик, ни худож-
ник! И, подчиняясь, - он уже не есть ни христианин, ни антихристианин, а
просто художник или политик. Он может все в себе подчинить христиан-
ству; так этого и требовали первые отцы церкви, например бл. Иероним, -
еще, можно сказать, младенчествовавшие в метафизике цивилизации. Но
этим требованием они и погубили цивилизацию, зарезали древний мир. Через
девятнадцать веков пора сознать это: кто хочет «все» подчинить Евангелию,
тот уже не должен брать кисть, брать учебник физики, даже брать жену и
книжку стихов Пушкина. Но Евангелие этого и не требует: оно дает полную
свободу плотской, материальной, внешней жизни, беря только одинокую
совесть человека, одинокую душу его, маня только внутренний свет ее...
* * *
Главы: «Типы религиозно-нравственной жизни», или о характерных осо-
бенностях русской церкви и народной русской веры читаются с волнением и
литературным критиком, и всяким мыслителем. Тареев почти соглашается с
Гарнаком, определившим православие как язычество с христианскою тер-
минологией), в силу обильного развития культа. В самом деле, погасите лам-
пады и восковые свечи в русских храмах, в русских домах, - и православие
15
наполовину померкнет, похолодеет: между тем и свечи, и лампады - до хри-
стианского происхождения и с поклонением «в духе и истине» ничего обще-
го не имеют. Вынесите иконы из церквей, - и они станут пусты, народ не
пойдет в них молиться: но иконы возникли потом и с «духом и истиною»
тоже не имеют ничего общего. Культ в православии, и особенно в России,
занял исключительное положение, какого он не занимал ни в одной церкви.
В России он пышнее, красивее, торжественнее, чем даже в греческих право-
славных церквах Востока. До чего русские положили здесь все свое сердце,
это видно из того, что величайшее церковное движение - именно раскол при
Никоне - произошел не на почве догматических и вообще вероисповедных
споров, а на почве обряда и из-за перемен в нем. «Этого нигде в христиан-
стве не бывало», - замечает Тареев. Так как Евангелие, однако, проходит,
очевидно, равнодушно мимо культа и вопросов о культе, то это и дало Гар-
наку, профессору сперва в Дерпте и затем в Берлине, т. е. наблюдавшему
православие непосредственно, своими глазами, определить его как «языче-
ство в христианской терминологии». Но профессор Тареев, не опровергая,
ограничивает это суждение. «Гарнак, - говорит он, - упустил из виду чело-
века Божия в русской земле, в русской вере, - а в этом-то Божием человеке и
лежит ключ разумения русской народной веры». Человек Божий - это уже
не носитель суммы обрядов, не выполнитель обрядности, это - человек Бо-
жией правды на земле, несущий ее в образе своем, часто юродивом, несу-
щий эту правду в жизни своей, сказывающий ее людям, - но не насильно, не
через пропаганду, а тому, кто хочет ее видеть, кто хочет ее слушать. Без чело-
века Божия нельзя представить русской веры, и без него нет ее; он есть ее не
только моральный, но и метафизический, небесный фокус. И через этот фокус
русская обрядовая вера получает невыразимо высокий нравственный смысл,
- она есть подлинная религия, содержательнее и выше протестантства и ка-
толичества. Человеком Божиим вся Россия светится, вся Россия греется: их
немного, но и не так мало, как кажется. Их знает народ, - до образованных
классов их имя не доходит или доходит редко. На наших глазах, перед на-
шим поколением прошли такие две фигуры - старца Введенской Оптинской
пустыни, иеросхимонаха Амвросия, и отца Иоанна Кронштадтского. Но
почти в каждом районе, в двух-трех губерниях смежных, прислушавшись к
говору народному, можно найти подобного старца, праведника, молитвен-
ника, прозорливца, целителя. Они не имеют никакого официального поло-
жения - и это хорошо; не имеют славы - и это отлично. Они корни веры: под
землею - и питают веру. В них дух веры, и они показывают его народу,
научают ему народ. Народ все делает или старается делать по их «благосло-
вению», - и считает достаточным для себя эту догматику. Таким образом,
суждение Гарнака условно верно, но оно - ограниченно, недальнозорко.
Наконец от себя мы должны заметить Гарнаку, что он совершенно не заме-
тил той великой теплоты душевной, теплоты жизненной, житейской, по-
чти семейной и бытовой, какая есть в церковной обрядности, и изливается
отсюда очищающим, хорошим светом на всю жизнь народную, на жизнь
16
личную и частный быт. Если он все-таки будет настаивать, приводя тек-
сты, что «это - язычество», то мы ответим, что в православии оправдалось
язычество; оно показало, что древние веры были не одною внешностью, не
одною формою, не одною нелепостью, а что в них была и душа, которую
погасили напрасно и даже бессильно. Бог сотворил мир невидимый и види-
мый, сотворил бесплотных духов, но и сотворил тело Солнца, тело расте-
ний и животных; и сотворил человека с душою и телом. И потому человек
создал и церковь душевную и телесную. У нас это и выразилось в «человеке
Божием» и в обрядах. И «осанна» обоим.
ПОТУГИ НА ПРОРОЧЕСТВО
- Бедненький, до чего он страдает...
- Кто такой?
- Да все Димитрий Сергеевич.
- Какой Димитрий Сергеевич?
- Да Мережковский.
- Где же он страдает?
- Ну, конечно, не в темнице, не в ссылке, не в больнице, не около голод-
ных или искалеченных, не в глухой России или в Сицилии, а у себя на кушет-
ке, в кабинете. Лицо мрачное, в глазах меланхолия. Уже сутки лежит, обдумы-
вает, как бы лучше сказать свое «страдание», и на другой день утром пишет
«страдальческую страницу», которую посылает в «Речь» или «Слово»...
- О чем же он нынче страдает?
- Разобрать нельзя. Я вам лучше прочту: «Лучше быть шутом горохо-
вым, чем современным пророком. Лучше бить камни для мостовой, чем на-
зваться учителем»...
- Да, в самом деле сильно. Но слово нуждается в проверке: ну, чтобы
г. Мережковскому в самом деле недельку-другую, среди рядовых каменщи-
ков, провозиться с киркой и ломом на мостовой. А то он все лежит на кушет-
ке, а потом выползет в Религиозно-философском собрании и пророчествует.
В случае же не очень удачного пророчества пишет в газетах, что «лучше
быть каменщиком, чем пророком». Это очень легко, но немного забавно и
для обыкновенного глаза даже не совсем добросовестно. Что же, однако, он
пишет дальше?
- Ничего нельзя понять. Только ужасно мрачно. Цитата из Евангелия - и
свое слово. Свое слово - и цитата из Евангелия. «Все пророки и закон про-
рекли до Иоанна. Из рожденных женами не восставал больший Иоанна Кре-
стителя». Этим он прямо начинает статью: «Пророчество и провокация» в
«Слове». Если так мешать свои и чужие слова, да еще не отмечая кавычка-
ми, то выходит очень красиво: блеск цитаты из Евангелия падает на тусклое
слово... Техника искусная, только как будто не для «пророка». Что же, одна-
ко, он пишет существенного?
17
- Существенного ничего нет. Один тон. Но тон - ужасен: кроме цитат из
Евангелия он еще прибегнул к полному смешению мыслей.
- Как к «полному смешению мыслей»?
- Для увеличения мрачности. Известно, что пророки «безумствовали»,
и, чтобы придать себе последний чекан «пророка», г. Мережковский гово-
рит совершенную белиберду: «Если нет и не будет пророков, это не значит,
что нет и не будет пророчества; наоборот: потому-то и нет пророков, что
все обладают прозрением божественной истины, т. е. причастны духу про-
роческому. Никто не пророк, никто не учитель, потому что все учат и учатся.
Нет великих и малых, потому что все равны. Это еще не исполнилось и,
судя по всему, что сейчас происходит, исполнится не скоро. Но вот именно
теперь, когда умолкли пророчества, заговорили и пророки; когда учения мало
- учителей много».
- Да, действительно: дважды два уже не четыре у современного про-
рока, и даже не раз, а дважды кряду. «Пророков нет потому - что проро-
чества много». Но ведь от кого же «пророчества», если не от пророков,
которых в наличности «нет»?! И «все будет потом, и даже - не скоро», а
между тем - все это происходит на наших глазах! Неужели это так и на-
печатано?
- В «Слове», в воскресном нумере. Статья ужасно мрачная и называется
«Пророчество и провокация». Г. Мережковский жалуется, что его кто-то «про-
воцирует». Невозможно сыграть роль Иисуса, если не указать на Иуду, - и
Мережковский, по-видимому собирающийся играть в своем полуотечестве
сию необычайную роль, заранее указывает на свою Голгофу. Хотя его нис-
колько не собираются распять, а только немного литературно посмеиваются
над ним. Он пишет воображаемый диалог, предпослав и ему «безумную»
белиберду, где не разобрать, кто «пророк» и кто «провокатор»:
«Нет более страшного удушия, чем то, в которое попадает пророк, тес-
нимый толпою».
По-видимому, это - о настоящем пророке? Тогда о ком же следующее:
«Нет более злостной провокации, чем современное пророчество».
О ком же: о настоящем пророке или о пророке-провокаторе идет речь в
дальнейшем диалоге, который приспособляет к себе сотрудник «Слова»,
делая страдальческое лицо:
« - Покажи знаменье, сотвори чудо.
- Чудо могут видеть только верующие, - поверьте и увидите.
- Чему же верить? Ты все говоришь, а не делаешь. Какие дела твои?
Были у нас пророки, - те шли на смерть. А ты, что?»
Не все читающие знают, что здесь говорится об ответе, выслушанном
г. Мережковским от представителей левых партий. Он сам же их позвал в Ре-
лигиозно-философское собрание и довольно наивно объявил, что хочет их
«разделить», «разрезать на две половины, как рассекающий меч», - и одну
половину, отторгнув от Маркса, привлечь к себе. Левые ему довольно грубо
объявили, что они не пойдут за ним, ибо у него нет дел, а что идут они за
18
теми, кто «умирал». Однако «чудес» от г. Мережковского марксисты не тре-
бовали, - это уж ему мерещится все из Евангелия, и потому мерещится, что
снится ему сон, будто его «прегорькое житие» похоже на страдальчество
Иисусово. Диалог свой с марксистами Мережковский сближает с прением
иудеев со Христом:
После вопроса «ты - что?» марксистов-иудеев Мережковский отвечает:
« - Я пойду вместе с вами.
- Ступай же вперед, а мы за тобою.
- Пойдем, когда велит нам Бог. Но вы еще не знаете Бога. Я вам еще не
сказал. Слушайте...
- Слыхали, довольно. Соловья баснями не кормят.
- О, род лживый и коварный (слова И. Христа, приведенные без кавы-
чек и таким образом вставленные в свои уста Мережковским).
- Нет, брат, шалишь. Зубы не заговаривай.
-Трус!
- Шарлатан!
- Провокатор!
- Бей!»
«И если нового пророка (подлинного? провокатора?) не побивают кам-
нями, как древних, то заплевывают, забрасывают гнилыми яблоками, тух-
лыми яйцами и сажают в сумасшедший дом».
Ну, зачем так далеко. Оставляют на своей квартире, признают не очень
удачным литератором и колко полемизируют с ним: на что «пророк» ужасно
сердится. Вся эта евангельско-библейская бутафория действительно кажет-
ся забавною и несколько кощунственна, когда ее натягивает на себя, поло-
жим, идеалист, намеренный рассечь надвое марксистов. Марксисты никак
не могут рассечься надвое от этой смеси евангельских текстов с довольно
деланным «безумием», которому помогает природная бестолковость; а вот
«пророку» очень легко разлететься на несколько кусков, стукаясь о стену
марксизма, без всякого понимания его, без всякого вникания в него. Маркси-
сты нисколько не собираются его «бить», и напрасно «пророк» спешит об-
винить их в общности приемов с Союзом русского народа. Марксисты ему
могут ответить:
- Да что ты понимаешь в нас и в нашемучеимм? Зачем ты идешь к нам,
не зная нас и не любопытствуя о нас. Учиться, так взаимно. Мы, пожалуй,
возьмемся за Евангелие, за историю церкви, но уже и ты, будь добр, про-
штудируй всю нашу литературу, вникни в классовую борьбу, в экономичес-
кое положение масс, да немножко и поработай где-нибудь на фабрике. И
вообще испытай на своей спине гнет экономических условий. А то ты обо
всем судишь со своей кушетки. Рабочего вопроса «не надо», экономический
матерьялизм «не интересен», а всем нужно ходить и слушать тебя на Рели-
гиозно-философских собраниях. Но нам некогда: у нас своя работа; как и ты
ведь отказываешься серьезно изучить марксизм, ссылаясь на то, что тебе
«некогда» за религиозно-философскою проповедью. Но за тобой нет голод-
19
ных ртов, которые бы от тебя ожидали помощи, а за нами есть: и нам в са-
мом деле некогда!
«Пророку» останется только испариться, как пахучим духам в незатк-
нутом флаконе.
ЖЕНЩИНА КАК ОХРАНИТЕЛЬНИЦА
НАРОДНОГО ЗДОРОВЬЯ
«Что кому ближе, о том ближний лучше и позаботится», - это не пословица
и не поговорка, но такая элементарная истина, которая вправе занять свое
место среди поговорок. Телесное, биологическое здоровье человека никому
так не близко, как той, которая вынашивает в своих недрах это здоровье, до
известной степени сотворяет его и потом всю жизнь имеет сумму инстинк-
тов, внутренно побуждающих стоять трепетным хранителем и стражем око-
ло этого здоровья. Здоровье ребенка, конечно, дорого и отцу; но мать как-то
подробнее его видит, неусыпнее за ним следит; от нее не ускользают недель-
ные и месячные перемены в здоровье детей, которые ускользают от отца, за
которыми отец просто даже не следит. Тут ни порицаниям, ни похвалам нет
места; это есть просто «разделение труда», проведенное в природе и ее ин-
стинктах еще тоньше, чем в машине человеческой цивилизации, нежели в
человеческой индустрии. Самочувствие взрослых сыновей и дочерей не
останавливает на себе заботы отца, не внушает ему тревоги, если только эти
взрослые не сваливаются с ног. Пока «на ногах», - здоров, - думает глава
семьи и хозяин дома. Мать и в этом возрасте видит и обдумывает колебания
в здоровье детей; она хранит их не только от болезни, - она заботится о
поддержке их сил на известном уровне, заботится о расцвете и полноте сил,
что отцу, вообще мужчине даже на ум не приходит. Если от отношения жен-
щины к детям мы обратимся к отношению ее к взрослым, то и здесь отме-
тим, что здоровье гражданина и мужа никому так трепетно не близко и не
драгоценно, как жене; и во множестве случаев мы наблюдаем, что уже за-
мужняя и многодетная дочь хранит и лелеет последние крохи жизни, какие
остались у ее престарелых родителей. В сыновьях мы этого опять не наблю-
даем или наблюдаем реже и не в такой интенсивной степени. Самою приро-
дою так устроено, что вопрос: «Как здоровье?» - постоянно стоит в голове
женщины, без сомнения, в соответствии с ее женской природою, которая
является тем мировым станком, на котором ткется вся ткань мировой жиз-
ни. Кто сотворяет, тот и сохраняет; кто сажает дерево, тот и старается, чтобы
оно выросло, окрепло и дожило до принесения плода и чтобы как можно
дольше приносило плод. В этом «дольше» все и дело.
Но как каждый человек есть непременно «сын», «муж», и, словом, член
семьи и рода, то целое племя в его здоровье поистине лежит на попечении
женщины. Не фактически и не юридически, но духовно, умственно, во внут-
ренних заботах. Читая перечень тех вопросов, на которые обратил свое вни-
20
мание первый всероссийский женский съезд, нельзя не заметить, что масса
женщин гораздо подробнее и интимнее, а от этого и глубже, взглянула на
способы оздоровления нации, или сохранения здоровья нации хоть на том
уровне, на котором оно держится, чем как это мог бы сделать какой угодно
мужской съезд, мужская комиссия, мужская коллегия, насколько мы их ви-
дим и знаем в их чиновной работе. Женщина ведь видит подробнее, чем
мужчина, и притом она руководится не шаблонами, не общими идеями, не
схемами, а тем, что непосредственно осязает. По этим своим качествам она
никогда бы не посоветовала государству в целях ограничения пьянства выб-
росить миллионы денег на такие официальные шато-кабаки, как преслову-
тые «народные дома», или на такие бюрократические и бумажные учреж-
дения, как общества попечения о народной трезвости. Для всех очевидно,
что никакой трезвости от этого не происходит. Напротив, уже в первый раз
собравшись, женщины сейчас же обратили внимание на такие органичес-
кие недуги, подтачивающие народное здоровье, как законодательное сокра-
щение семьи, выраженное в известном запрещении брака офицерам и уча-
щимся в высших учебных заведениях, или как недозволение венчания во
время постов, как если бы это был дебош или неприличие. В помощь пос-
леднему, страшно важному, пожеланию женщин напомним, вероятно, ма-
лоизвестный им текст, на который опирается это запрещение. Христос од-
нажды выразился, что «сыны чертога брачного не могут поститься» (Мар-
ка, глава 2), но что «когда у них отнимется жених, тогда и они станут по-
ститься». Здесь ничего не говорится об отлагании брака ради поста, а,
наоборот, пост отлагается ради брака. Нужно было вооружиться всею тем-
ною ненавистью монашеской Византии против семьи, нужна была особли-
вая греческая изворотливость, чтобы из этого текста вывести буквально
противоположное тому, что он говорит: «Пока длится пост, пусть будет зап-
рещен чертог брачный». Буквально противоположное словам Христа! Сле-
дует добиться отмены этого противо-Христова запрещения. Оно не так
безвредно, как кажется. Есть случаи (в 100 000 000 населения всегда есть
много даже невероятных случаев) быстрого и срочного отъезда которой-
либо из брачущихся сторон, а с отъездом и невольною разлукой расслабе-
вает та связь, которая пока и некрепка до брака: новые встречи, холостые
удовольствия, - все разгоняет мысль о надуманной было женитьбе. Конеч-
но, это не разобьет пламенной любви, но мы говорим о народной массе, где
брак есть удобство и основан в массе своей на симпатии, на сочувствии и
не более, но которые через брак легко переходят в настоящую и прочную
привязанность. Таким образом, отмена венчания в пост, на чем основатель-
но остановился женский съезд, разрушает в стране ежегодно несколько тысяч
наладившихся было браков. Но это не одна, и даже не главная, часть вреда
этого запрещения. Именно простой массе народа через это запрещение вну-
шена мысль, страшно укрепившаяся, что плотское соединение не есть что-
то строгое, законное, церковное, а есть какой-то масленичный или вообще
«скоромный» разгул, чуть ли не пьяный разгул, дозволенный в «мясоед».
21
Отражение этого, ставшего уже народным, взгляда на потомстве, на наслед-
ственности, на вырождении огромно! Распространение и укрепление об-
ратного взгляда на эту сторону семьи как на нечто законное, регулярное, в
высшей степени трезвое должно отразиться чрезвычайным улучшением по-
томства, не одним физическим, но и духовным! Вспомним народную пого-
ворку: «Каков в колыбельку, таков и в могилку», т. е. каким родился человек,
таким он будет и жить жизнь свою. Византия и монашество, со своим ча-
хоточным взглядом на рождение и плоть, пролили болезнь и уродство, чах-
лость и бессилие в «колыбельку» и сообщили через это что-то нездоровое,
слабое, дряблое, безвольное и самой жизни. Но России не умирать же от
византийских «вздохов» и «охов», и мать семейства, супруга и мать, теперь
вооруженные просвещением, наукою, вправе во всех направлениях повес-
ти борьбу против этого печально отрицательного взгляда умиравшей тогда
Византии на земную жизнь, земные плотские силы, на энергию пульса био-
логической жизни. Всякий понимает, что мы говорим здесь не о распущен-
ности, не о потворстве низменным инстинктам: совершенно отвергая «низ-
менность» этих инстинктов, мы говорим о прямом и широком русле для
них, зорко очищенном от всякого «засорения», которое образуется неволь-
но и непременно везде, где течение живой воды встречает себе задержку,
затор, плотину. Между тем, умиравшая Византия ничего для семьи не сде-
лала, кроме установки этих «заторов» и перегородок, вроде анти-Христова
невенчания на длинном протяжении всех постов, вроде брачного «поста» и
«разговления». Известно, что в разговленье у всех желудки испорчены; если
мы перенесем эту испорченность в половую сферу и также, конечно, най-
дем ее «испорченною» от этих смен полового воздержания и полового объе-
дения у народа, то мы сразу поймем, что здесь лежит одна из важнейших
причин упадка народного здоровья.
Очень жаль, что женский съезд не оставил после себя постоянно дей-
ствующих комиссий, которые приняли бы на себя хроническую заботу о
народном, о племенном здоровье, - приведении законодательства нашего в
согласование с интересами этого здоровья. Они могли бы позвать на по-
мощь себе науку, особенно в лице юриспруденции, могли бы самостоятель-
но разобраться в дебрях канонического права, которое кажется незыбле-
мым только тому, кто в него не заглядывал, ибо какую санкцию в русских
глазах, в русской империи имеют эдикты и новеллы греческих императо-
ров, - этого и понять нельзя. Между тем, они во множестве наполняют со-
бою воистину «темное царство» канонического права! Давно пора полу-
чить нам критическое каноническое право, давно пора начать курсы или
лекции критического канонического права, и критические требования рус-
ской матери семейства могут подвинуть к началу выработки этой отрасли
юриспруденции.
И вообще законодательство наше, особенно теперь, когда оно движется
народным представительством, имеет все мотивы принять женский голос за
вполне компетентный в вопросах народного здоровья. Ну, вот, например,
22
как это просто: петербургская городская дума сделала постановление о по-
стройке городских общественных бань! Давно пора догадаться, что даже в
смысле «борьбы с алкоголем» чистота и здоровье телесные, свежесть теле-
сная, физиологическая стоят на первом месте, составляют первое средство
борьбы. В основе предрасположения к алкоголизму как к болезни лежат рас-
слабленность нервов, захудалость психики и купанье, ванны, а у нас, за не-
возможностью их по причине зимней стужи, баня, - все это есть лучшее
предохранение от пьянства. Всякий может наблюдать, что регулярно и часто
купающийся или ходящий в баню человек, любящий это, никогда почти не
бывает алкоголиком. И вместо того, чтобы выбрасывать миллионы на пост-
ройку «народных домов», следовало бы в свое время хотя четвертую долю
этих сумм употребить на хорошую, обширную народную организацию ку-
пален и бань, для последней бедноты - вовсе бесплатных. Нет сомнения,
что это указание было бы сделано хозяйками, женами и матерями русскими,
будь они позваны к совету. «Народные дома» только и могли появиться по
указаниям какой-нибудь комиссии из тайных советников, которые, сажаясь
сами в роскошные ванны, понятия не имели о русской бане.
Например, как глубоко взята была на женском съезде тема школьного
воспитания! Предохранение отрочества от преждевременной порчи вообра-
жения и расслабления половой системы составляет один из фундаменталь-
ных камней школы, вовсе пока не утвержденных, да за который и не знают,
как взяться, педагоги-л^ужчмиы. Какие нравы процветают в гимназиях и в
закрытых пансионах - всем это хорошо известно по воспоминаниям! Это
что-то неудержимое и, казалось, - неисцелимое, с чем и бороться нельзя, на
борьбу с чем не хватает ума! Инстинкт матери верно подсказал, что здесь
средство лежит в общем подъеме нравов школы, а этот подъем ничем так
мощно не двигается и не регулируется, как устранением полового одиноче-
ства, мужской замкнутости в себе, в уничтожении скопленности исключи-
тельно одного пола в помещении! Совместное обучение и воспитание маль-
чиков и девочек - вот орудие одновременно смягчения нравов, очищения
атмосферы и, вместе, расхоложения известных инстинктов, не питаемых
одиноким воображением! Все издали нас дразнит и манит - вот источник
школьных половых пороков! Не только из личного наблюдения, но и из бе-
сед с родителями я с радостью узнал, что опыт полной гимназии, устроен-
ной в Царском Селе г-жою Левицкою, по крайней мере, в этом одном отно-
шении дал поразительно хорошие результаты: чувственность, уже возник-
шая дома, интерес «к мальчикам» и, обратно, «к девочкам» погасли, как толь-
ко целая огромная толпа товарищей другого пола очутились плечом к плечу!
Реальное общение разогнало грезы; возможность всегда говорить предуп-
редила ожидание разговора; общение предупредило желание увидеться,
мысль о встрече; разогнало вообще маленькую психику возбуждения, при-
поднятости, из которой зарождаются потом самые нездоровые, болезнен-
ные отношения к другому полу. Само собою разумеется, однако, что все это
оказывается влиятельным только при постоянной занятости детей и при
23
суровом физическом закале, как это, например, установлено в школе г-жи
Левицкой. Разумеется, далеко не всякое общение мальчиков и девочек при-
ведет к хорошим результатам: это - тонкая, одухотворенная система, кото-
рая не допускает разгильдяйства и ротозейства у начальства.
ЖИВАЯ ШКОЛА В ЦЕРКВИ
Увековечение дня кончины отца Иоанна Кронштадтского через ежегодное
молитвенное поминовение его русскою церковью как бы возводит над те-
лом усопшего тот духовный мавзолей, какой соответствует смиренному духу
русской истории и сану священника, который носил почивший. Высочай-
ший рескрипт об этом, данный на имя петербургского митрополита, выра-
жает в заключительных своих словах пожелание, чтобы Св. Синод, став во
главе этого начинания, «внес свет утешения в горе народное и зародил на
вечные времена живой источник вдохновения будущих служителей алтаря
Христова на подвиги многотрудного пастырского служения». Уже не пер-
вый раз с высоты Престола снова и снова раздается голос, призывающий
русское духовенство к поднятию всех сил, какие в нем содержатся, для ве-
ликого труда на ниве народной и перед алтарем Божиим. Имея перед собою
такой светоч, как жизнь и подвиг Иоанна Кронштадтского, духовенство рус-
ское действительно имеет как бы непрестанную живую школу, где оно мо-
жет учиться и воспитываться, может уже само все находить живым умом и
добрым сердцем. Это школа не мертвая, не книжная, не отвлеченная; это -
школа ежедневного будничного труда. Мы можем с радостью отметить, что
ни которая из западных церквей в настоящий момент не выдвинула для на-
учения и воспитания духовенства такой вместе и простой и могуществен-
ной школы, как этот живой пример священника, стоявший тридцать лет пе-
ред глазами духовенства. Не может быть никаких ссылок на «окружающие
условия», на «тяжелое и зависимое положение», «материальную необеспе-
ченность» и другие подобные мотивы, которыми оправдывается лень и кос-
ность, под щитом которых прячется небрежение к своему делу и безучаст-
ность к народу.
Подвиг пастыря велик и многотруден, но он труден и велик, только ког-
да исполняется, а не сам по себе, не в своей схеме и формальном значении.
Сан и должность священника тем отличительны, что в пределах этого сана
и деятельности можно сотворить безмерное и можно ничего не сотворить.
При самых обыкновенных условиях, в самой обыкновенной обстановке, без
малейшей помощи извне, отец Иоанн Кронштадтский сотворил безмерное и
тем самым показал и доказал, что и всякий может творить здесь бесчислен-
ное добро. Отныне ни для какого пастыря не может быть никаких отгово-
рок. В Высочайшем рескрипте помещены знаменательные слова о «свете
24
утешения в горе народном». Слова эти только подводят итог тому, что делал
о. Иоанн Кронштадтский, формулируют его жизнь; и вместе они дают фор-
мулу священнического делания, пастырского труда. «Свет утешения» про-
истекает не из учености, не из железного характера, не из большой проница-
тельности ума; все это может быть у человека, у пастыря, и все это может не
принести народу ни капли «утешения». Итак, ссылки на недостаток харак-
тера, энергии, большого ума или хорошего школьного подготовления - не
могут отныне быть оправданиями русского священника. То, к чему он при-
зывается, что составляет сердцевину его дела, - заключается совершенно в
другом и вполне доступно каждому простецу, даже очень мало ученому: это - быть
утешителем народа, Ъъттъ утешителем человека, семьи в горе. И самое это
утешение, как показал пример Иоанна Кронштадтского, заключается не в
чем ином, как в горячей священнической молитве около больного, около
нуждающегося, около затрудненного человека. Тут не надо своих слов, сво-
его ума, - надо иметь просто участливое, горячее, отзывчивое на горе серд-
це. Конечно, если и этого нет, тогда в нем вообще ничего нет священничес-
кого, а есть только одежда и формы, - и о таковых «пастырях овец» сказано
много жестких слов в Евангелии. Жизнь отца Иоанна Кронштадтского тем
особенно замечательна и тем необыкновенно плодотворна, что он свел свя-
щенническое служение к чрезвычайной простоте и элементарности, с тем
вместе показав, какие сокровища скрыты в этом простом и элементарном,
до чего это нужно народу, до чего это могущественно в народе. Он сам же
дал копейку, содержательность которой вдруг обнаружилась в стоимости
миллиона. Помолиться у постели больного, - как это просто, кто этого не
сумеет. Но если священник помолился у постели больного по-настоящему,
- он осветил весь дом, всех утешил, озарил, укрепил. Исцеление, которое
иногда при этом происходило, происходило все-таки не всегда, и не в нем
была главная сила. Главная сила заключалась в утешении, в возможности
надежды, в вере, что здесь небесные силы близки. Вот это все и озаряло
дом, а в больного это проливало и не могло не пролить новых сил для борь-
бы с болезнью.
Так научил и научал всю жизнь Иоанн Кронштадтский делать свое дело
священников. И отныне все ссылки на неудовлетворительность семинарс-
кого строя, на старый или новый академический устав, на косность церков-
ного управления - пусты. Личность все превозмогает, личность все может.
Это-то он и показал, и доказал. Но не нужно, однако, впадать в «прелесть»
этого, говоря языком духовных писателей, т. е. опасно было бы, полагаясь
на то, что праведная личность все сможет, оставить втуне, в небрежении, в
леностном забросе уставы семинарий и академий и консисторские распо-
рядки. Пример великого священника должен толкнуть к великой работе все
духовное ведомство; толкнуть к работе над собою, толкнуть к работе около
народа. Пример Иоанна Кронштадтского открывает здесь и другую сторону
церкви: он показывает, каким замечательным материалом обладает духов-
25
ное ведомство в лице нашего живого, наличного пастырства и какое великое
употребление оно могло бы сделать, если бы порядки, дух, система и, нако-
нец, главенствующие лица этого ведомства стояли вровень с великою зада-
чею, к какой они призваны. Итак, если священники в оправдание своей лени
и небрежения не могут более ссылаться на уставы семинарий и академий, то
и синодальное управление не должно, ссылаясь на пример кронштадтского
пастыря, леностно сложить руки, предаться неделанию и оставлять невоз-
делываемым то другое поле, которое ему вверено Промыслом, государством
и народом. «Утешение народу» можно подавать лично, в молитве. Это и
делает священник, и, как показал Иоанн Кронштадтский, иногда он делает
это в великих чертах, с великим успехом.
Но можно «подавать утешение» и народно, коллективно, изливая его на
массы, делая это благодеяние во всю ширь народную и государственную, и
этого уже не может сделать никакой священник, ни даже Иоанн Кронштадт-
ский: это может сделать только учреждение, закон. Вот этого-то другого
«утешения», по прекрасному выражению рескрипта, русский народ и во-
обще вся Россия будет ожидать уже от Синода, от синодального делания.
Тут и уставы, тут и законы, над которыми приходский священник не влас-
тен. Увы, порядки наших духовных консисторий все еще старые, и по-ста-
рому они ужасны. Тех же священников, молитвенников народа русского,
они держат в таком черном теле, держат в таком страхе и трепете, о кото-
рых тяжело думать; знаменитые «бракоразводные дела» консисторий оста-
ются в прежней знаменитости; белое духовенство, священники, и до сих
пор не допущены к инспекторству и ректорству в семинариях и вообще ни
к какой управляющей деятельности в церкви; несмотря на пример такой
великой личности среди белого духовенства, как Иоанн Кронштадтский,
это белое духовенство вообще все находится в порабощении и угнетении у
черного, и монах, как бы ни была мизерна его личность, всегда пользуется
преимуществом перед священником, как бы ни была велика его личность.
Разительный и укоряющий пример этого Россия имела много лет перед со-
бою именно в том, что величайший светильник церкви Христовой «не был
поставлен на подсвечник», а скорее «спрятан под спуд»... где же? в самой
церкви Христовой! Большего доказательства аномалии синодального уп-
равления нельзя найти: если здесь добродетели и пороки, сила и слабость,
подвиг и ничегонеделание смешаны, не разделены, не различены, то, зна-
чит, здесь вообще смешаны и не различаются добро и зло!! К этому при-
бавлять нечего, и Синод первый должен произнести для себя: «Подвигом
добрым потружусь».
Священников великих мы имеем; но управление священниками - нич-
тожно. Пастырей одушевленных - имеем; но над пастырством, поверх его -
нет никакого одушевления. И это - великое горе России.
26
УЧИТЕЛЬСКИМ ВОПРОС
В МИНИСТЕРСТВЕ ПРОСВЕЩЕНИЯ
Опубликованные на днях сведения о ходе преобразовательных работ в ми-
нистерстве народного просвещения касательно средней школы оставляют
полное удовлетворение. Работы эти начинают дело обновления не с верхуш-
ки, а с фундамента; не золотят купол здания, а кладут цемент и камень под
первый этаж его. В печати давно высказывалось, что без хорошего учителя
гимназии наши всегда будут плохи и что выработка учителя есть та задача,
которой даже не начало делать министерство Толстого, Делянова и кратко-
временных преемников этих двух столпов, на мысли и работе которых дер-
жится наша школа. Многолетние указания печати оставались без всякого
ответа, к созданию хорошего учителя не делалось ни малейшего шага; сре-
ди всех совершавшихся и задумываемых реформ ни разу не указывалось ни
одной меры к поднятию качеств педагогического персонала. Эта до некото-
рой степени «глухая нетовщина» министерства в данном пункте заставляла
предполагать, что задачу оно сознает, - ибо кому же она не была очевидна?
- но что министерство растеряно перед нею, чувствует себя бессильным;
что оно просто не знает, как и откуда взять хорошего учителя или что надо
сделать, чтобы плохой посредственный учитель перерабатывался в хороше-
го. Научно учителя подготовлялись университетом, но педагогически они
никем и ничем не подготовлялись: в университетах на историко-филологи-
ческом и на физико-математическом факультетах, поставляющих контин-
гент учителей в среднюю школу, даже не читалось дидактики математики,
дидактики языков и истории. Педагогической науки, которая родилась на
Западе еще с трудами Амоса Коменского, которая сплелась со всем ходом и
торжеством протестантизма в германских странах, - этой науки в право-
славной России как будто никогда и не существовало, она не рождалась,
самой мысли и, наконец, хотя бы заботы о ней ни у кого и ни у чего не было,
не было прежде всего в министерстве народного просвещения! Это неверо-
ятное и неправдоподобное положение дела тянулось несколько десятиле-
тий. До чего странно было в этом отношении положение дела, видно из сле-
дующего: образованный и предприимчивый директор русской ревельской
гимназии, ныне покойный г. Янчевецкий, отец современного писателя Ян-
чевецкого, начал лет двадцать назад издавать специальный педагогический
журнал «Гимназия», посвященный разработке вопросов преподавания имен-
но в средней школе. Журнал этот несколько лет жалко влачил свое суще-
ствование, - и, между прочим, потому, что, хотя, как издаваемый директо-
ром правительственной гимназии, он, конечно, был совершенно «благона-
дежен», тем не менее он не был одобрен к выписыванию его фундаменталь-
ными библиотеками самих гимназий! Что не было общеминистерской
рекомендации его, - можно видеть из того, что попечителем московского
учебного округа, известным графом П. Капнистом, этот единственный пе-
дагогический журнал по средней школе вычеркивался из списков тех жур-
27
налов, какие педагогические советы гимназии предполагали к выписке в
каждом следующем наступающем году, и списки эти препровождали к одоб-
рению попечителя своего округа. Положение совершенно анекдотическое и
вместе совершенно историческое! Учителя, основательно или нет, предпо-
лагали, что министерство, которое само не умеет научить педагогическому
делу, не умеет никак подготовить себе учителей, - кончило отчаянным не-
желанием, чтобы учителя хотя бы сами и своими средствами, своим до не-
которой степени кустарным способом вырабатывали в себе уменья, кото-
рых нельзя достать нигде в России. «Я не умею, - и так как я первое должно
бы уметь, - то я запрещаю и кому-нибудь уметь» - вот окончательная фор-
мула, в которую выливался педагогический пессимизм министерства про-
свещения, граничивший с отчаянием. Невозможно было удержаться от мыс-
ли, что главным источником его было отсутствие всякой педагогической
подготовки в министрах, как Толстой и Делянов, из которых один предва-
рительно своего министерства написал на французском языке книгу о рим-
ском католицизме «Le catholicisme romain», а другой и до министерства, и
во время министерства ничего не читал, кроме газеты «St.-Petersburger
Zeitung», единственного периодического издания, выписываемого им. Судьба
школы, гимназии, учителя гимназии была бы совершенно другая, если бы
своевременно на пост министра просвещения был позван знаменитый педа-
гог, попечитель киевского учебного округа Н. И. Пирогов. Но об этом при-
ходится только запоздало вздыхать. Толстой мог только муштровать учи-
телей, более и более выколачивать из них душу педагога и вбивать на место
ее душу чиновника; Делянов умел только поддерживать формы и дух своего
образованного предшественника, - к чести своей, смягчив его жестокий ре-
жим здравым смыслом и добросердечием характера.
Если министерство, как казалось, не умеет приступить к выработке хо-
роших учителей, то министерству было указано, что оно может выработать
лучшие условия службы учителей, через каковые условия, выйдя из преж-
него подавленного состояния, они могли бы сами поднять голову, лучше и
тверже почувствовать себя в жизни, улучшиться в человеческом своем дос-
тоинстве и через это подняться в учительских и воспитательских качествах.
Перемена штатов, повышение жалованья и уменьшение количества давае-
мых уроков - все это было тою техникою службы, теми шаблонами канце-
лярской и комиссионной работы, над которою корпело министерство про-
свещения целый век своего существования, и эту механическую работу оно
могло выполнить уже без затруднений. К тому же это было самое главное, с
чего следовало начать. Но министерство А. Н. Шварца, очевидно сознав на-
конец главную задачу самого существования своего, решило вести подня-
тие педагогического уровня учителей по всем направлениям. Задачу подго-
товки оно даже выдвинуло вперед сравнительно с легчайшею задачею об-
легчения материального их положения. Не хотелось бы думать, что это ис-
ходит из той мысли, что-де пусть сперва явятся достойнейшие, а затем путь
они будут и награждены. Учителя так долго терпели, министерство нахо-
28
дится перед ними в таком большом нравственном долгу, что улучшение их
положения можно и следует сделать и не ожидая повышения качеств, прав-
да, не очень высоких, а доверяя, что эти качества подымутся, как только
даны будут надлежащие условия и самая возможность теоретического под-
готовления к преподаванию. Но то, что улучшение материального положе-
ния последует в недалеком будущем, видно из сообщения, что «задержка
происходит лишь из-за того, что до сих пор в комиссию министерства на-
родного просвещения не назначены представители от министерства финан-
сов и от государственного контроля». Хотелось бы, чтобы задержка состоя-
ла только в этом, - ибо устранить такие пустяки есть вопрос нескольких
дней. Со своей стороны напомним этим двум неспешащим ведомствам, что
скорейшего разрешения вопроса об обеспечении учителей гимназии ждет
давно и ждет нетерпеливо вся Россия, все образованные люди в России. Что
касается лучшего подготовления учителей гимназии, то следует напомнить,
что г. Левшиным в бытность его попечителем рижского учебного округа
был предпринят целый ряд мер к повышению педагогических качеств учеб-
ного персонала. Между прочим, он устроил, чтобы учителя гимназий, уже
проходящие службу, могли в вакационное время посещать курсы теорети-
ческого и практического преподавания педагогики, дидактики и методики.
Желая избегнуть обиды старых педагогов, он не сделал этого обязательным;
но и без этой меры эти летние курсы посещались весьма охотно. Он же хло-
потал в министерстве об основании при Юрьевском университете специ-
альной кафедры педагогики, но тогда это предложение было признано «преж-
девременным».
Теперь, когда все это в министерстве признается уже не «преждевремен-
ным», а «своевременным», желательно было бы, чтобы министерство вос-
пользовалось опытом и инициативою этого своего былого труженика, стран-
ным образом устраненного без объяснений от службы, и, став выше вопросов
мелочного самолюбия, вновь призвало его к деятельности и дало возможность
принести России ту пользу, какую, очевидно, он может принести.
ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ
<0 выходе из совета
Религиозно-философского общества>
Вследствие совершенно изменившегося характера Религиозно-философского
общества в Петербурге, я нахожу себя вынужденным выйти из состава сове-
та его, дабы не нести ответственности за измену прежним, добрым и нуж-
ным для России целям. В последнем, в исторической нужности прежних
целей, конечно не доведенных и до половины, а лишь намеченных, так ска-
зать, пунктиром, и лежит повод, заставляющий меня оставить то дело, кото-
рое я столько лет любил и до известной степени жил им. Тут нет ничего
29
личного. Возникло у вошедших в состав совета новых лиц намерение оста-
вить прежние цели и общество из религиозно-философского превратить в
литературное, с публицистическими интонациями, какие нашей литерату-
ре всегда и везде присущи. Таким образом, самое имя его уже является толь-
ко псевдонимом, и вообще все становится не прямо, не договоренно, не-
сколько мистифицированно. Что это - так, видно из того, что в зале собра-
ний уже послышались из публики возгласы недоумения о том, что собира-
ются сюда слушать о религии, а вместо этого приходится выслушивать
литературные счеты, сшибки литературных самолюбий. Но громко недо-
умевавшие об этом не знали, что, конечно, они и являются не в прежние
религиозно-философские собрания, которых более нет, а в нечто совсем
новое, чем сознательно (в совете общества) решено заменить или, точнее,
подменить их. Ибо для нового содержания просто нужно было основать новое
общество, - благо, теперь это не слишком затруднено, - а не пользоваться
старым именем, в то же время вытеснив все старое содержание.
Перемена эта, инициатива которой исключительно принадлежит Д. С.
Мережковскому, Д. В. Философову и 3. Н. Гиппиус, вовсе не участвовав-
шим в собраниях 1907 - 1908 гг., вызвала многочисленные печатные проте-
сты старых участников собраний и столько же устных, в составе самого со-
вета. К протестующим принадлежат С. Л. Франк, П. Б. Струве, Н. А. Бердя-
ев (по инициативе которого общество было возобновлено в 1907 г.), В. А.
Тернавцев, П. П. Перцов (редактор и издатель «Нового Пути», где печата-
лись протоколы собраний 1902 - 1903 гг.). Общество, имевшее задачи в
России, превратилось в частный, своего рода семейный кружок: без всякого
общественного значения. И те многие, которые прислушивались к бывалым
прениям в нем не в одном Петербурге, но и в провинции, не могут даже и
интересоваться, кто выходит или кто входит в этот литературный салон. Был
кристалл - и растворился: прежняя форма не держит его частиц и не крепит
в себе. По-видимому, обязанность сообщить об этом обществу лежала на
самом совете; но он этого не сделал, и я, как былой член совета за все время
существования собраний, позволяю себе и нахожу обязанным для себя сде-
лать это в мотивированном выходе.
ШКОЛЬНЫЙ МИР В РОССИИ
(По поводу преобразования гимназических
штатов)
Ах, этот мир, этот мир!.. Сколько тут положено надежд, любви, сколько здесь
лежит слабости, неуменья. Слова Адаму Бога - «В поте лица ты будешь
обрабатывать землю, и тернии и волчцы она произрастит тебе» - ни к чему
с такою точностью не относятся, как к бедной русской школе, которую стро-
или, строили и недостроили, которую, с одной стороны, любили и, с другой,
30
ненавидели, с одной стороны, ее презирали и, с другой стороны, ее боялись,
около которой ходили, думали, хлопотали, но все думая при этом о чем-то
другом, а не о самой школе, не об ученике, не об учителе. Целое министер-
ство народного просвещения в его историческом труде до некоторой степе-
ни можно назвать «министерством по поводу просвещения», как есть рецен-
зии о книге и по поводу книги, - до такой степени косвенные и скрытые его
задачи господствовали и подавляли в нем прямые и открытые цели.
- У вас по поведению четыре, и вас нельзя принять, - говорит директор
высшего учебного заведения окончившему гимназию юноше или директор
гимназии говорит отроку, который в нее просится из другой гимназии.
И юноша это понимает и опускает голову, как и директор понимает, что
он делает, и знает, что иначе он не должен делать. Между тем, что такое
«четыре», по официальному, открытому определению? В уставе сказано:
«Балл четыре означает хорошее поведение». «Хорошее поведение», а «при-
нять нельзя». Скажите это или расскажите об этом в честной английской
или в добросовестной немецкой школе, и там примут вас за помешанного:
как, «хорошего поведения», и за это «нельзя принять»?..
Да, но они не знают огромной угрюмой страны, холодной и покрытой
снегами, неизмеримой и до некоторой степени «немыслимой», с ее тайна-
ми, с ее странною судьбой, где за каждым словом хоронится его тайное от-
рицание и даже насмешка над ним, где все растет криво, уродливо, коряво,
где из десяти деревьев непременно одно имеет «дупло», т. е. имеет дыру, где
прячутся «лешие», и проч., и проч. Фантастическая страна.
- Она темна и нуждается в просвещении. На свои средства я открываю
школу и сама буду учить в ней, - говорит помещица-барыня, молодая жена
молодого гражданина, отпрыск от старого «дворянского гнезда»...
Слушают и как будто сочувственно улыбаются. Но что-то такое вышло,
какая-то «заминка», понадобились какие-то «справки» да согласие каких-то
третьих и четвертых «ведомств»... Все - «русские обстоятельства». Год про-
ходит, два года проходит. Энтузиазм барыньки горит и наконец перегорает,
догорает.
- Ну, что же? Ну, скоро ли?..
- Скоро, очень. Но надо получить ответ на бумагу такую-то, - говорит
властное лицо, «всему благородному сочувствующее», и опять улыбается. -
Может быть, получим к сентябрю, и вот тогда...
Барынька топчется, нервничает, стареет. У молодой жены пошли дети,
болезни, и, когда всего этого вдоволь, да и просто по слабости человеческой,
она остыла в первом желании, как остывают в своих порывах короли, ми-
нистры, епископы, святые и герои, - в это время «наконец приходит после-
дняя бумага», и торжествующий господин; призвав ее в канцелярию, сооб-
щает, что, благодаря настойчивым его просьбам и самой лучшей рекоменда-
ции, ей «разрешено открыть ма-лю-сень-ку-ю школку, не больше, чем на
столько-то учеников, и с программой не выше, чем обучение чтению, пись-
му и счету, и при условии быть непременно в хороших отношениях с мест-
31
ным благочинным, причем школу будут посещать и за ее деятельностью будут
следить:
1) и благочинный,
2) и инспектор училищ,
3) и исправник со становым,
4) и уездный предводитель дворянства.
И, наконец, отдаленно и косвенно -
5) губернатор, прокурор и архиерей.
Столько «попечительства»... И бедная женщина, которая к тому време-
ни уже чувствует всякие ломоты и начало «вечных женских болезней», идя
в школу с «Детским миром» Ушинского, замечает и убеждается, что ко всем
физическим напастям присоединилось еще и то прискорбное обстоятель-
ство, что она, в сущности, «отдана под негласный надзор» и гражданский, и
духовный, и всяческий... Что она более не свободна, не частный и домаш-
ний человек, который живет «дома как дома» и «у себя как у себя»...
Так и юноша, отпущенный из одного заведения со свидетельством «он -
хорошего поведения», не удивляется отказу принять его в другое заведение,
потому что хотя и нигде не напечатано, не установлено, но «и так всем изве-
стно», что в России учатся, чтобы потом служить, а служба, покоящаяся
на дисциплине, требует мертвого повиновения, апатичной покорности, и,
вот, просто «хорошее поведение» об этом еще не свидетельствует, а свиде-
тельствует только «безукоризненное поведение»:
- Чтобы «задоринки» не было. Но у вас, юноша, в поведении стоит че-
тыре: высшего балла все-таки нет, и, значит, была какая-то «задоринка». В
чем она, какая она, - мы не знаем, и вас, учащихся, так много, что даже не
интересуемся. Но мы делаем выбор. Через школу мы делаем отбор буду-
щих служилых людей России, - дарвиновский зоологический отбор в тяже-
лой «борьбе за существование». Вы и не знали, что гораздо ранее Дарвина
мы устроили свое министерство просвещения по точным законам его имев-
шей появиться впоследствии теории: как у него, в его рассказах, лорд Си-
верс достиг изумительных результатов в выработке породы собак через то,
что ежегодно избивал все несовершенное, все слабое, все не отвечавшее идее
его, лорда Сиверса, так мы через школу не пропускаем в дальнейшую жизнь,
к великому государеву служению или, проще, на казенную службу ничего,
сколько-нибудь не отвечающего духу этой службы. А дух этот - послуша-
ние, исполнительность. Мы семь лет испытываем юношу, прежде чем про-
пустить дальше, - умеет ли он слушаться, исполняет ли он безусловно все,
что от него требуют, будут ли то латинские слова или французский прононс,
алгебра или тексты в катихизисе, мундир, застегнутый на все пуговицы, или
чистосердечное отношение к начальству. Дело тут не в вокабулах, не в про-
нонсе и даже не в пуговицах, - а в том, исполнит ли все с тем мертвым
безропотным видом, какой у него потребуется потом, когда он будет назы-
ваться Акакием Акакиевичем и станет переписывать бумаги в наших канце-
ляриях. Об этом-то послушании и свидетельствует единственная отметка,
32
которая, в сущности, нам любопытна, о так называемом «поведении». Тут
никакое «поведение» не разумеется, это - не о характере, не о душе, не о
личности, это - об единственно нужном для нас качестве - послушании.
Лорду Сиверсу нужны были быстрые собаки, нам нужны - послушные люди.
Мы отбираем, - и «в борьбе за существование» вы погибли.
Вот та невидимая, беззвучная, магнетическая «конституция» в своем
роде, т. е. некоторый внутренний и постоянный закон, никогда не нарушав-
шийся, который царил в наших училищах снизу доверху, царил десятилетия
и почти уже век. И только последние годы, самые последние, он рухнул, - и
все смешалось здесь тогда, потому что, помимо этого единственного зако-
на, ничего другого, никакого принципа, никакого духа, никакой иной задачи
в министерстве просвещения и не существовало.
Это как бы «пало обрезание» на переходе от Ветхого Завета к Новому,
христианскому закону.
- Уроки, экстемпорале, латинский язык и эти лица педагогов, всегда пе-
чальные, этот окрик надзирателя, если кто-нибудь не был острижен гладко
или у кого-нибудь из-под воротника мундира виднелась полоска крахмале-
ной рубашки, и директор, который только проходил по зданию и никогда ни
с кем не разговаривал, - о!..
Говоривший сделал жест над собою, как будто он поддерживает пото-
лок или выводит над собою потолок, и кончил:
- Все это, точно свинцовый потолок старой венецианской тюрьмы, теп-
лый, раскаленный солнцем, под которым нельзя дышать, - нависло над нами,
детьми, от 9 до 17 лет! Мне иногда до сих пор это снится, и я просыпаюсь
тогда в тревоге и страхе. Теперь, когда мне сорок лет, - а тогда было 14-15-17.
Лучшего определения и лучшей формулы, чем это сравнение старой на-
шей классической гимназии с темницею в Palazzo Ducale Венеции, - я не
знаю. Я ее выслушал, - действительно, это - не мое сравнение, - и не могу
сделать лучшего, как повторить и привнести ее.
И вот все пало... Министерства Ванновского, Боголепова, Зенгера, гр.
И. И. Толстого, быстро чередуясь, были лишь «перепутьями», а не путем. В
частой смене они были только показаниями термометра, поставленного боль-
ному: «лихорадит», «жар». Они ничего не сделали, хотя принимались за
многое. Нужно ли говорить, что многочисленные собираемые комиссии
выражали только одно: «министерство не знает, что делать». Неудовольствия
- сколько угодно; удовольствия - ни у кого. Родители учеников, ученики,
наставники, профессора, соседние около министерства просвещения дру-
гие ведомства - все были недовольны «своим положением и своим сосе-
дом», как говорится в известной игре перед тем, как все вскочат и побегут
друг от друга. И, кажется, нет у нас другого такого места, другой такой рабо-
ты, где всеобщее неудовольствие было бы выражено так напряженно, так
давно, так всеобще.
«Лихорадит».
«Жар».
33
* * *
Надежда на «хорошего министра», которой все предаются, - однако, обман-
чива. Это - не железные дороги, где «хороший распорядитель» придет и
«упорядочит все». Школа - не сумма порядков. Это - дух, культура, ну, а
«завести дух» и «основать культуру» - это не по силам министру. Собствен-
но, наилучшее, чего здесь может ожидать общество, страна, - это некоторая
добрая пассивность министра, где он ограничился бы устранением тех на-
копленных за целый век препятствий, какими было обставлено у нас школь-
ное дело. При их устранении общество и страна уже сами должны основать
настоящую школу, - главным образом, путем частной личной инициативы,
путем частных школ, с индивидуальным замыслом каждой. Все другое бу-
дет, собственно, только передвиганием казенных шаблонов, переменой «ус-
тавов», пересмотром «программ», - причем все останется по-прежнему мерт-
во, бездушно и в высокой степени бескулыурно. Не только скоро и сейчас
нельзя ожидать здесь ничего хорошего, но, если бы ко второй четверти этого
века мы имели «кое-что определенное хорошее в школе», - мы уже могли
бы благословлять свою судьбу. Если бы за целый двадцатый век мы, нако-
нец, твердо установили хорошую русскую школу, от деревенской до уни-
верситета, - мы совершили бы великий труд и в короткое время. Ибо школа
вырабатывается даже не веком, а веками. Взять только четыре страны: Анг-
лию, Германию, Францию и Италию. Из них лишь две первые имеют школу,
которою они удовлетворены. Латинские, католические расы до сих пор не
выработали соответственной своему духу и вместе всемирно удовлетвори-
тельной школы, ибо, придя в Германию, француз хотя и скажет, что там
школа «не такова, как он ожидал бы и хотел», но что, однако же, «хороша в
своем роде»; а немец или англичанин, придя во французскую школу, выра-
зит только удивление и скажет, что это «никуда не годится». Все должно
быть национально, но национальное должно быть и всемирно удовлетвори-
тельно.
В литературе нашей есть одна драгоценная педагогическая книга: это -
«Школьные воспоминания» покойного Дедлова, умершего этою весною. В
своем роде они так же хороши, как характеристика двух гувернеров, Карла
Ивановича и другого, француза, в «Детстве и отрочестве» Толстого. Но ха-
рактеристики Толстого интересны в чтении или полезны при домашнем вос-
питании; напротив, характеристики Дедлова, который сравнивает немецкую
школу в Москве («Петропавловская школа», на Маросейке), в которой он
начал образование, с правительственной казенной гимназией, где кончил
среднее образование, - важны как-то министерски-народно, важны для стра-
ны. Так как книга эта, вышедшая лет пять назад, мало известна, а предмет ее
до мучительности важен, то я позволю себе, извинившись перед читателем,
привести кое-что из этой книги. Мне кажется, все русские школьные адми-
нистраторы и, во главе их, министры просвещения должны бы иметь эту
книгу в качестве настольной у себя и время от времени прочитывать и пере-
читывать ее главы.
34
Вот характеристика немца-педагога в немецкой школе. Читатель да об-
ратит внимание на то, до чего он связан со школой: он - немыслим вне шко-
лы, школа немыслима без него или без его близкого подобия. Школа умира-
ет, если из нее вынуть этого «батьку» или, пожалуй, даже «матку», и он
умер бы, - помести его в другое место службы, в канцелярию, в департа-
мент. С тем вместе, оба в связанности, они цветут, счастливы. Несмотря на
каторжный труд с раннего утра до поздней ночи, он нисколько не утомлен,
не устал, не охает, не болеет, не жалуется, а точно еще более здоровеет от
всякой прибавки работы, глубоко отвечающей его врожденной натуре, его
природным дарам, его естественному призванию, - как цвел и не уставал
Петр Великий на своих верфях и среди своих «потешных солдат». Да не
удивятся сравнению с великим царем: царь, великий реалист и правдолю-
бец, вместе величайше скромный человек, сам пожелал бы этого сравнения
и не почел бы себя униженным им. Итак, вот его образ:
«Доктор Леш в своем школьном мирке был вездесущ, всезнающ, а пото-
му и всемогущ. В пять часов утра он был уже на ногах. Весь день в работе.
Ложился в полночь. Ни карт, ни гостей, ни визитов. Трубка, кружка пива,
сигара в виде лакомства - вот все его удовольствия и развлечения. Директор
до такой степени жил для школы и школой, что с людьми внешкольного
мира держал себя неловко, почти смущался, почти конфузился. Зато среди
топота и гвалта мальчуганов, среди покрикивающих и зорко озирающихся
надзирателей д-р Леш преображался и имел вид капитана на корабле во вре-
мя бури. Станет в самой толчее рекреационного зала или садовой площад-
ки, расставит ноги и стоит, - центром, точкой опоры, осью маленького школь-
ного мирка. К нему подходят с просьбами и за разъяснениями мальчуганы,
надзиратели, учители, он всех выслушивает и всем дает обстоятельные от-
веты. Его темные глаза неизменно серьезны, иногда строги, редко страшны,
- очень страшны! - но никогда никто не видел в них ни злости, ни раздражи-
тельности, ни какого-либо другого нездорового или недостойного чувства.
Настоящий капитан в бурю. Когда он разговаривает с надзирателем о чем-
нибудь важном, он прикладывает указательный палец к носу и нажимает
так сильно, что сворачивает его на сторону. Но и сам директор, и его нос, и
его палец так благообразны, что даже самому смешливому мальчугану это
не кажется смешным; наоборот, все с уважением в эту минуту сознают, что
директор решает какой-то очень важный вопрос. Иногда директор прикрик-
нет на чересчур расходившегося школьника, и тут-то его глаза делаются
страшными, а голос превращается в бас, страшный, как труба. Не только
виноватый, но и вся толпа вдруг стихнет, - загремел громовержец. Но Юпи-
тер благ, и, через секунду-другую, опять все шумит и вертится. Иногда гро-
мовержец усмехнется чьей-нибудь забавной выходке, какому-нибудь удиви-
тельному скачку, или сверхъестественному падению, или курьезному крику,
- он любит этих шумящих мальчуганов, знает их мир, чувствует все оттенки
его жизни, понимает все его стороны, хорошие и дурные, смешные и трога-
тельные, - усмехается, и серьезное лицо вдруг необыкновенно трогательно
35
просветлеет, и строгие глаза засветятся ласковым удовольствием. Через ми-
нуту он опять величаво спокоен, опять - Юпитер».
Вот фигура - в любящем воспоминании русского школьника-мальчуга-
на. Она вся натуральна, эта фигура. Ничего нет подделанного, никакой куа-
фюры «педагога». Читатель отметит здесь множество черт, отличительных
от наших гимназий. Немецкая школа шумит, и немец-педагог любит этот
шум: ибо школа, значит, живет жива. Шум детей есть просто выражение их
здоровья, а кто же может не любить детского здоровья?! Да, никто этого не
может не любить, кроме русской школы. «Тише! Тише!» - кто не помнит из
нас, русских питомцев русской школы, этого вечного, этого почти единствен-
ного окрика, увещания, требования, обращенного к нам в детские годы ре-
шительно от всех лиц учащего и воспитывающего персонала. Наконец, тре-
тье - это здоровье, крепость директора: вещь непременно нужная в таком
физически трудном деле, как директорство школы. Это уже не хилый дей-
ствительный статский советник, «которому осталось только четыре года до
полной пенсии», какой обычно у нас получает место директора и желает
единственно того, чтобы его «оставили в покое», ибо у него - и печень, и
раздраженная жена, и боль в спине, и бессонница. У нас директор - это ка-
кой-то монах в исповедальне, сердцеведец, наставитель, с вечным причита-
ньем: «да житие тихое и безмолвное поживем». Между тем, никакого осо-
бенного «сердцеведения» не требуется директору, не требуется утонченного
и потому хрупкого ума, а требуется во всем твердость и ясность. Директор -
бытовая фигура, он - в толпе, он - для многих, для всех: индивидуализм
скорее требуется учителю, воспитателю, он нужен в няньке одного, а не в
управителе многих. По всем воспоминаниям любящего ученика видно, что
д-р Леш отнюдь не был даже очень умным человеком, выдающимся умным,
хотя, конечно, он был умен обыкновенною формою ума. Эта, именно, мера
духовности и нужна в директоре.
Дав фигуру, Дедлов описывает его деятельность. «Проснувшись в глу-
хую ночь, часто видишь д-ра Леша, как он ходит по ученической спальне: он
вошел, как тень, неслышно, всех осматривает, прислушивается, поправляет
подушки и одеяла». Где бы доктор Леш ни был, что бы ни происходило в его
личной жизни, он никогда не позабывал о своей школе и ее мальчуганах.
«Накануне выезда из Москвы к больному при смерти отцу, которого он очень
любил, - он написал моей матушке письмо, где говорит, что удивляется,
почему она редко получает от меня известия, так как он заставляет меня
писать, часто и сам во время прогулки бросает мои письма в ящик». Это
узнал Дедлов из директорских писем, которые все сохранила его мать, а уче-
ник приводит текст их под старость лет. «Когда он ездил за границу женить-
ся, он привез оттуда, вместе с милой, молодой женой, новое лекарство для
упорно хворавшего пансионера». Так как «наудачу» нельзя было привезти
лекарства, то, очевидно, он должен был посетить выдающихся докторов и
обстоятельно им рассказать о болезни, ее признаках и ходе, - и все это он не
забыл сделать среди приготовлений к свадьбе. «Во время эпидемий дирек-
36
торская квартира превращалась в больницу и бывала переполнена ребятами
в кори и скарлатине. Директору оставались две крохотные конурки, спал он
на диване, ел - на письменном столе. И как трогательно он за нами ухажи-
вал вместе со своим лакеем, - он же и переводчик с не говорившими по-
немецки, - колонистом Якобом. Д-р Леш как будто боялся, что, превратив-
шись в сиделку, он все еще слишком директор и недостаточно сестра мило-
сердия. Перед капризами больного ребенка он робел, и у него капризничали
больше, чем в лазарете у фрау Кропер, которая и вся-то была ростом с на-
персток, чуть больше своей восьмилетней дочки Ади. Выздоравливающие
скучающие мальчуганы ходили по всем комнатам, рылись в книгах директо-
ра, мешали ему работать, надоедали ему болтовней, - он не останавливал,
никогда не сердился, а только жалобно улыбался да вздыхал. Зато когда маль-
чуган выздоравливал и возвращался в школу, на корабль, директор опять
превращался в капитана, привычного к бурям и воплощающего в себе ра-
зумную, но непреклонную дисциплину».
Уроки у д-ра Леша, - уроки латинского языка, - проходили до того ожив-
ленно, что ученики после классных занятий чувствовали себя не только не
утомленными, но точно еще помолодевшими! Оживленный, напряженный
сам, он вливал в толпу класса благородное состязание в знаниях и во внима-
нии, и это состязание, в котором проходил урок, держало всех «начеку» и в
то же время всех возбуждало, занимало!
«Ничего казенного!» - ни в школе, ни в учителе-воспитателе директоре!
«Покинув немецкую школу, - вспоминает Дедлов во второй половине
книги, - я вступил в школу русскую. Первое, что она мне дала, это было
знакомство с тем, что такое протекция. Дальше пошли другие интересные
вещи, как-то: начальство, титул «ваше превосходительство», форменная
одежда, экзамен, обращение ко мне начальства, не только простого, но и
превосходительного, на «вы» и, несмотря на то, враждебное отношение к
этому начальству и ко всем его действиям со стороны учеников, с которыми
разговаривали так вежливо. Все это было для меня ново, дико и «нехорошо».
Первое, что бросается ему в глаза, еще 15-летнему мальчику, - это лжи-
вость школы. Она была вся лжива, не только в людях и отношениях, но
даже, так сказать, в архитектуре. «Это было огромное здание, в которое влезло
бы десять петершулек. Перед фасадом тенистый садик, отделенный от ули-
цы чугунной решеткой художественной работы. Громадные сени, не в два, а
в четыре света. Лестница чугунная, великолепная, до блеска натертая гра-
фитом, с бархатной дорожкой на ступенях. С великолепной лестницы
открывался, во втором этаже, ход в не менее великолепный актовый зал.
В зале золотые доски, на которых записаны имена и фамилии учеников, окон-
чивших курс с золотой медалью. Рядом с залом изящная домовая церковь.
Перед церковью приемная с мягкой мебелью, вся уставленная вдоль стен
книжными шкапами. Я был в восхищении сперва: в зале так хорошо играть
в мяч и чехарду, в саду так много цветов и тени, книг для чтения неисчерпа-
емое множество».
37
Но «меня постигло разочарование, когда я вступил сюда пансионером.
Зал, оказывается, открывался только однажды в год, для акта. В сад не пус-
кали никогда, - он был исключительно для директорской семьи. Приемная
открывалась только для посетителей. По великолепной лестнице ходили
только генерал-губернатор, попечитель да архиерей».
«Матушка Русь», - ну, как не воскликнуть, что это она, наша «святая
Русь»!
Пятнадцатилетнего мальчугана взяли в министерство, а он об этом и не
догадывался, как не догадывался никто! Школа была только отделом мини-
стерства, органом его, орудием его: и естественно, что орудие и выражало
дух и формы того, чего оно было орудием. Весь век своего существования и
все наши школы только и выражали собою «министерство», говорили о ми-
нистерстве, свидетельствовали о министерстве, жили для министерства, а
для себя они никогда и не жили! Ни для себя, ни для учеников, ни для их
родителей. Директор гимназии есть именно директор от министерства,
представитель его в городе, и так, соответственно этому, и ведет себя. Он -
«администратор», а отнюдь не педагог. Он никогда почти не спускался вниз,
в классы, в рекреационную комнату. «Что же он делал у себя на Олимпе? Он
был по горло занят. Он подписывал, изучал бумаги, поступающие от на-
чальства, и составлял на них всевозможные ответы. Затем - просители, за-
тем - гости, затем - визиты, затем - карты». При его появлении все стлалось
лестью, кроме желчного, злого инспектора, сторожа казались сумасшедши-
ми от испуга, и он повертывался спиною к ученику, который по ошибке или
от смущения забывал, при обращении, назвать его «ваше превосходитель-
ство».
Будущий Акакий Акакиевич должен с 15 лет приучаться, как обращать-
ся к начальству. Нужно ли винить директора? Можно ли винить? «Систе-
ма!» «Таких и подбирают»... Все связано в Сиверсовой системе подбора, в
великой системе «борьбы за существование». Школа была могучим сред-
ством могучего «отбора» смиренных, робких, послушных...
В РЕЛИГИОЗНО-ФИЛОСОФСКОМ
ОБЩЕСТВЕ
Стих Пушкина:
И вырвал грешный мой язык
И празднословный и лукавый, -
все как музыка повторялся в уме моем, когда я слушал одну за другою речи
гг. Философова, Базарова, Флотова, Неведомского в собрании Религиозно-
философского общества 21 января. Скучно, нудно, тускло, с потугами на
философию, с потугами на научность: ибо какую же в самом деле филосо-
38
фию или какую же в самом деле науку можно изложить в 40 - 50 - 60 ми-
нут, стоя на эстраде перед не очень уж ученой публикой, которая по слабости
человеческой не может не ожидать «чего-нибудь поинтереснее». Но «поинте-
реснее» ничего не могли или не хотели дать ораторы, говорившие 21 января в
зале Польского клуба. Особенно как оратор был невыносим г. Базаров, с жид-
ким, слабым голосом, говоривший скороговоркою. Он имел такой вид, как буд-
то белая и рыхлая купчиха начала преобразовываться в кисейную институтку,
но чего-то испугалась и остановилась в развитии. Между тем это был «страш-
ный социал-демократ» или марксист, - не разберу. Громыхал и стукал голосом
г. Неведомский... Почему у него такое тусклое, не меняющееся, недвижное
лицо? Не спорю, - умен или может быть умен, но когда он поднимается гово-
рить, я вспоминаю Шигалева из «Бесов» Достоевского, который был тоже очень
учен, но которому «чего-то такого недоставало»... «Длинноухий Шигалев встал
и положил перед собою тетрадь», такую большую, что надо было читать два
года. Кроме того, когда я смотрю на Неведомского, я ищу около плеч его оглоб-
лей. Они должны быть, ибо он всегда везет воз. Воз трудный, тяжелый, и он
старается. Докладчик Философов, по-видимому не чувствовавший себя совер-
шенно свободно, старался быть корректным, учтивым, тихим, - и от этого чте-
ние его вышло особенно серо. Он был похож на Маргариту за прялкой, которая
прядет и прядет... Если бы вместо доклада о «богоборчестве и богостроитель-
стве» он пропел публике старую и милую песню о короле Фула, - было бы
приятнее:
Жил когда-то старый
Добрый король.
Он имел кубок...
Хороши старые песни сравнительно с новыми. И весело, и безгреш-
но. Философова я оттого сравнил с Маргаритою, что, прядя нитку, он
все поглядывал на кого-то, и кончил сладким: «Вы (марксисты и эс-деки)
не друзья наши, но я верю, что вы будете друзьями». Следовало бы сде-
лать книксен, но он сидел, и нельзя было этого сделать. Верно, однако,
под столом он шаркнул ножкой. Но марксисты, кажется, не столько ант-
ропологичны, сколько зоологичны, и этих кентавров не соблазнит блед-
ная Маргарита: в ответ на шарканье и надежду «похристосоваться» один
за другим Базаров, Флотов и Неведомский начали громыхать. В заключе-
ние было сказано: «Мы не друзья ваши, гг. богостроители, а враги. Вра-
гами будем и останемся».
Телега проехала. Маргарита осталась с протянутою рукою, в смущен-
ном положении:
Ах, уехал он, уехал...
Но как «последствий» нет и Философов не в «интересном положении»,
то предстоят новые встречи, духовно-политический флирт, и, может быть,
кое-что христианству перепадет. Марксисты, может быть, принесут «лепту
св. Петра».
39
Мережковский вопиял очень немного (уже в 12-м часу). «Мы вас лю-
бим. Они нас не любят. Но любовь что? Когда я люблю, то я разрушаюсь. А
когда разрушаюсь, тогда умираю. Значит, любовь что? Смерть. Однако же
такая, где я воскресаю» (страшно вытаращенные на публику глаза). Мне
кажется, что Мережковский и не воскресает и не умирает, что он не родился
и никогда не умрет. Мережковский есть вещь, постоянно говорящая, или
скорей совокупность сюртука и брюк, из которых выходит вечный шум. Что
бы ему ни дали, что бы ни обещали, хоть царство небесное, - он не может
замолчать. Для того, чтобы можно было больше говорить, он через каждые
три года вполне изменяется, точно переменяет все белье, и в следующее
трехлетие опровергает то, что говорил в предыдущее. Таким образом может
выйти гораздо больше слов; и лет через 50 «Полное собрание сочинений
Мережковского» будет обширнее, чем «Собрание романов Рафаила Зотова»
или Дюма рёге et fils*. То-то Россия начитается. Я говорю это не без основа-
ния, ибо «Речь» на днях напечатала, будто Мережковский где-то печатно
сказал о Религиозно-философских собраниях 1902 -1903 гг: «Мы тогда много
наблудили языком». Можно сказать, решимость и талант Репетилова, кото-
рый говорил о себе:
Совру - простят.
Мне немножко грустно шутить над Мережковским, ибо, по определе-
нию Карамзина, он - «истинно добрый человек», но только его кто-то «ввел
во искушение», которое, надеюсь, через три года пройдет. Ах, былой по-
клонник Наполеона и Ницше, Леонарда и Джиоконды, в которой он видел
сходство с одной знаменитой нашей поэтессой. В противоположность не-
благородным французским лакеям, которые «в герое видят обыкновенного
человека», - добрый Митя из Баскова переулка усматривает Наполеона и
Леонарда в Неведомском и Базарове и, как оруженосец, став на колени, це-
лует руку у марксиста:
- Посвяти меня в рыцари, король будущего. Я хочу быть рыцарем про-
летариата.
Но марксисты этаких церемоний не знают и все больше «по-русски»
отплевываются на сторону.
Зал шумел, гремел, стучал... И хотя «Бог», «богочеловечество», «чело-
векобожество» и «Христос» потрясали воздух: но не чувствовалось ни е-ди-
но-го религиозного звука здесь, и зал до того был пуст от религии, от чув-
ства ее, от понимания ее, как это только и может быть в «Польском клубе в
Петербурге», каковое место Лукавый роковым образом указал «введенным
во искушение»... Место само по себе хорошее: но надо же было литерато-
рам толкнуться именно сюда для «богоискания»...
* отец и сын (фр.).
40
* * *
Между тем знаете ли что: можно и не потрясать именем «Бог» и все-таки
говорить так, что в зале почувствуется, что есть Бог. Главный грех собра-
ний едва ли не заключается в том, что говорить-то о Боге они постоянно
говорят, а вот думать о Нем никогда не думают. И подозреваю, что по этой
части между Философовым и Неведомским, Базаровым и Мережковским
есть полная слиянность и никакой разницы. Ведь нельзя не поразиться, что
во всех томах сочинений Мережковского, где постоянно рассказывается о
Боге, рассуждается о Боге, слагаются стихи о Боге, - все это говорится о
Боге как совершенно постороннем и внешнем, далеком и необыкновенном:
и он только «дивуется» и «покоряется» Богу лишь еще сильнее, чем Наполе-
ону и Леонарду; но в том же тоне, тем же языком, теми же огромными,
восхищающимися, но холодными словами. Поразительная особенность Ме-
режковского заключается в том, что, при вечном его шуме и воплях, он есть
абсолютно и как-то предвечно холодный писатель, который никогда и сам не
разогревался, не теплел от написанного, и никогда ни одной души не согрел,
не умилил, не затомил ни одною страницею. А религия есть томление души.
Философов, в споре, обмолвился: «Какая же может быть религия без Бога»
- и, кажется, даже прибавил: «без определенного названия, имени Божия».
Вот все они таковы, и Мережковский, и Философов, - и только колеблюсь
сказать это о Гиппиус: для них религия есть стук имен и слов, «трактат о
религии индусов», «о Зороастре», «о Христе». Между тем именно может
быть религия до всякого имени Бога, до всякого образа Бога, до всякого даже
понятия о Боге: как электричество есть и может быть без молнии, как маг-
нетизм есть и без магнитной стрелки, где мы его читаем и осязаем. В зале
Религиозно-философских собраний нет религии, потому что нет религиоз-
ного тона души, и нет религиозного тона в слове; скажу проще, вульгарнее
и для литераторов вразумительнее: ни у кого в зале нет и до сих пор не
проявилось религиозного стиля (чуть-чуть можно исключение сделать для
г-жи Ветровой, говорившей из публики). Тон религиозный необыкновенно
психологичен: он как-то отделяется из пластов души, очень многих, очень
старых, позволю думать - атавистических. По языку он какой-то густой,
вязкий, точно трудно воспринимаемый и трудно произносимый. «Болтли-
вые» гении бывают, но «болтливого» ни одного религиозного человека не
было, вероятно, с сотворения мира. Густая душа, густое слово, вот точно
отяжелевшее от электричества, еще без имен и молний, но с возможностью
их - так можно описать этот особенный строй, особенный тембр, особен-
ную музыку, особенный стиль: и где раздастся этот голос, люди вздрогнут и
насторожатся, если напишется такая страница - люди вернутся к ней. И во-
обще ее не забудут. Хотя бы предметом страницы или слова были самые
обыкновенные житейские вещи, - ну, политическое положение, ну, нужда
народная и даже личная! Даже нечто личное и совершенно крошечное может
облечься в типично религиозное слово. В нашей литературе беспримерный
пример этого дал Лермонтов, - дал вовсе не в сюжетах своих, а в слоге,
41
который нигде не прерывает религиозного тона, вот этого сгущенного, осо-
бенного, магнетического, где психологичность и пласты души кажутся без-
донными, бесконечными, именно атавистическими, «от неведомых предков
и стран»...* Но оставим его. Без «фокуса» этого Религиозно-философские
собрания ничего не могут сделать; стекла их, в какой бы оправе ни были
показаны публике, окажутся не зажигательными. Это простые стекла, без
небесной выпуклости и вогнутости.
ПОЧЕМУ АЗЕФ-ПРОВОКАТОР
НЕ БЫЛ УЗНАН РЕВОЛЮЦИОНЕРАМИ?
Как-то мне случилось быть у П. Б. Струве, который происходит из семьи
или рода знаменитых пулковских астрономов Отто Струве и его сына, со-
ставивших своими открытиями, наблюдениями и работами блестящую стра-
ницу в научном движении за царствование Императора Николая I. Поэтому
семья его хранит много связей и воспоминаний научного, а затем и литера-
турного характера. Он мне показал много любопытных, - нигде не издан-
ных, - портретов из детства, отрочества и юности ставших впоследствии
знаменитых писателей. Я был очень заинтересован и, как говорится, «по-
грузился»... Сам П. Б. Струве - милый, задумчивый, рассеянный человек,
лучшая черта которого - отсутствие лжи, притворства и деланности. Когда-
то немец, он теперь преданнейший России и русским человек. Вдруг, проре-
зав свою и мою задумчивость, он, рассмеявшись, встал:
- Послушайте, узнайте провокатора.
И он подвел меня к стене, увешанной портретами и сборными карточка-
ми. Остановившись перед одною, он объяснил мне, что это - сотрудники
журнала «Начало», издававшегося в 90-х годах прошлого века, которые на
радостях о разрешении журнала снялись «группою».
- Ну? - переспросил он. - Вот мы все, литераторы и тогдашние маркси-
сты. ..
- Да чего же узнавать? Если вы сказали, что тут есть провокатор, то он
вот!
И я указал на фигуру господина, стоявшего сзади рассевшихся в небреж-
ных позах журналистов. Все они сидели с тем милым разгильдяйством, ка-
кое журналисту вообще присуще, а радикальному в особенности. Открытые
* Такой «залетной птичкой», с тайною религиозного тона, был в прошлогодних
собраниях г. Свенцицкий. Зал ему покорялся с первых минут речи, - и когда он был
«в слове» или «был в духе» (что ему не постоянно было присуще), - он мог толпу
вывести из собрания и повести за собою куда угодно. Публика слепнула, охватывае-
мая каким-то духом. Не могу не верить, что этот за что-то исключенный недавно из
Московского философского общества человек еще будет иметь свою судьбу.
42
хорошие лица, волоса гривой, и такой вид, что «вот всех расшибем сейчас».
Хотя позади, помнится, стояло несколько человек, но из них сейчас же вы-
делился в моем внимании неприятный господин, коротко остриженный, с
жесткими, торчащими, прямыми волосами, низким лбом, в темных очках,
полный в корпусе и с сильно развитым подбородком. Ничего духовного,
идейного в нем не было. Лицо и самая фигура не выражала никакой принад-
лежности к литературе, кроме внешней и случайной, «по поводу». Мне ка-
залось, что это среди литераторов стоит кто-то посторонний, нашедший те-
перь журнальную деятельность для себя выгодной и подходящей. Я сказал,
что «сзади, кажется, стояло еще несколько человек», но это смутное впечат-
ление: правдоподобнее, что их не было. Мне кинулось в глаза, что этот не-
приятный господин в темных очках стоял над всеми ими и точно их сторо-
жил; он относился не к лицам их, в особенности не к которому-нибудь од-
ному лицу, «приятелю», а к толпе их, en masse. Так повар стоит над курами
или мясник над телятами.
- Как вы угадали? - удивился Струве.
- Да как же не угадать, когда он ни на одного из вас не похож и, главное,
смотрите, точно сторожит.
Это так бросалось в глаза с первого взгляда, до размышления, раньше
всякой мысли.
Простодушный и рассеянный Струве отошел от карточки и продолжал:
- Да, впечатление от него было несимпатичное. У него были деньги и
большая квартира. Но во всех отношениях он был очень удобный человек,
и, бывало, что нужно редакции или сотрудникам, - он сейчас исполнит. В
особенности он давал злоупотреблять своею квартирою: марксизм только
что формировался, мы вели в Петербурге пылкую проповедь и открыли
журнал, чтобы раздвинуть рамки проповедного слова на целую Россию.
Времена тогда были не те, что теперь, и вы знаете, что дальше первого тома
«Капитал» Маркса не был разрешен к переводу. Мы были все в бою, в на-
ступлении, и редакция не только была шумна, но и окружена толпою шум-
ных людей, молодежи, будущих профессоров и проч. Вы знаете, что учение
Маркса не есть отвлеченная политико-экономическая доктрина, но и неко-
торая практическая философия, некоторая программа действий. Все мы, и
я, были страшно молоды и не только «исповедывали» Маркса, но и особен-
но рвались к действию или чему-нибудь реальному. А «реальное» это может
быть очень и очень разнообразным, - и вот для некоторых долек «действия»
нам нужна была почти конспиративная квартира, и очень обширная, и недо-
ступная для полиции. Он предложил свою, но как он к этим нашим почти
позволительным, но все же недозволенным конспирациям не принадлежал,
да и вообще был не очень идейный человек, то никогда на сходках и не при-
сутствовал.
- Вот как! - удивился я.
- Но тайком он все-таки присутствовал, да, раз он был провокатор, это-
го и не могло не быть: ведь для этого и был открыт журнал. В зале, где мы
43
собирались, его не было, но он незаметно сделал окошечко в него, через
которое можно было все слышать и все видеть, но поступил с ним очень
осторожно: кого-нибудь из нас же, сотрудников, но помоложе и еще не кон-
спиративных, он обыкновенно приглашал посмотреть и послушать вместе
с собою. «Очень любопытно, как они все галдят и какие у них лица», - гово-
рил он, смеясь, зазывая, очень конспиративно, посмотреть кого-нибудь. Но
как это было, конечно, неделикатно и нескромно, то он просил участников в
окошечке быть воздержанными на язык и никому не рассказывать. Так что
потом, когда и открылось об окошечке, то все же никому ничего и в голову
не пришло, и только лишь через несколько лет, когда открылось о провока-
торстве, открылся смысл окошечка с другой стороны. Приятелей же он при-
глашал поглядеть с собою в окошечко именно на тот случай, если оно откро-
ется, чтобы отвести глаза в сторону и все объяснить простым любопытством
человека, «не посвященного в эти вещи», но чисто наивным и бытовым,
вроде гоголевского почтмейстера, который вскрывал частные письма из
любопытства знать, как живут в столицах.
- И простодушны же вы. А как заглавие журнала?
- «Начало».
Тогда я вспомнил и, в свою очередь, рассказал Струве, что первая книж-
ка этого журнала, в красной обложке, случайно попалась мне в руки тогда
же, несколько лет назад. И хотя я тогда не интересовался марксизмом и ни-
чего не знал о марксистах и их задуманной борьбе с народничеством, но
тогда же мне книжка показалась из того порядка явлений, которые со време-
нем получили громкое имя «провокационных».
Обо всем этом, кто любопытствует «и далее», мог бы навести справки в
больших библиотеках: на самой обложке красного цвета грубым и пошлым
языком семинарско-недоучившегося склада было объявлено, что редакция в
первый же год издания «даст в приложении сочинения великого Добролю-
бова, который» и т. д., а затем кратко и аляповато намекалось на то, что «в
России жить нельзя» и будет нельзя жить, «доколе не взойдет заря», и проч.,
и проч. Тут же и о «задавленном народе», и помыслах «рабочих масс». Все
было такою намасленною кашею, что драло горло у каждого хоть сколько-
нибудь прикосновенного к литературе человека, а в изложении было так грубо
и прямо, до того било на зазыв и призыв, тон был до того площадной и кафе-
шантанный, что, любя еще в гимназии Добролюбова и его тонкий, одухот-
воренный стиль, я был горько поражен, в какие низы он спустился, какие
явно пошлые, глупые, без ниточки литературного и человеческого достоин-
ства в себе люди приняли его «в свои любящие объятия», загрязнили и те-
перь душат его. Но слово «провокаторство» еще тогда не сложилось или не
было очень употребительно; я его не знал и не приложил к журналу, суть
которого, однако, для меня тогда же определилась в этом провокационном,
поддельном, фальшивом тоне.
Я смотрел с недоумением на «честного идеалиста» Струве, - когда-то
издававшего в Штутгарте «Освобождение», врага Плеве или которому Пле-
44
ве был враг и, без сомнения, перечитавшего на своем веку бесчисленное
множество прокламаций и перевидавшего многое множество всякого рево-
люционного люда. Опустив вниз рыжую лохматую голову, он улыбался хо-
рошею полунемецкою, полурусскою улыбкою и что-то бормотал своим глу-
хим голосом. Сам он косолапый, с развинченной, неуклюжей походкой, и
вечно какой-то пух, а то и соломинка у него на пиджаке. Жилетка редко
застегнута на все пуговицы. Жена его, «честная учительница», и множество
детишек, все струвенята, дают хорошее впечатление «честных русских ин-
теллигентов».
Итак, он после нескольких месяцев (журнал «Начало» не просущество-
вал и года) личного общения не рассмотрел того, что я угадал по впечатле-
нию от фотографической карточки. Между тем, он всю жизнь провел среди
людей, я - почти без людей; он - среди политического шума, я - вдали от
политики, в стороне интересов к ней. Как это могло случиться?! О тогдаш-
нем моем узнавании провокатора, которого не узнали Струве и целая толпа
марксистов-радикалов, я забыл бы, как о ничего не значащем факте, если бы
поразительная история Азефа, которого приняли в свой центральный коми-
тет парижские социалисты-революционеры, не напомнила мне о нем. Ведь
это так аналогично! Это - одно явление в крошечном и безвредном виде, и в
чудовищном с огромными последствиями! Обдумывая, я нахожу, что могу
вполне объяснить его.
Все политики, радикальные и не радикальные, как равно «учащаяся мо-
лодежь» и та огромная по массе доля русской политики, которая примыкает
к ней, руководит ею, вдохновляет ее, - изумительно не психологична, не
спиритуалистична. Я скажу более и смелее: она удивительно нелична, мало
несет лица в себе и сама невосприимчива к лицу человеческому. Как это про-
изошло, - очень понятно. Подобно тому как врач вечно вращается около
рецепта, вечно озабочен рецептом, и от этого нет ничего реже, как встретить
во враче глубокого биолога, с интересом и чуткостью к тайне, загадке и внут-
реннему закону организма и жизни, так точно и политики, вечно озабочен-
ные проблемами массовой жизни человечества, вечно ищущие рецептов для
уврачевания классовых, сословных, государственных, социальных ран, и не
смотрят на лицо, и не интересуются им, просто не видят его. Для них чело-
век - не душа и не биография, а только «единица социального строя», штиф-
тик великого органа, развивающего социальную музыку. И только. Встреча-
ясь друг с другом, они нисколько не интересуются прошлым друг друга, а
только читают «флаг» нового встречного человека и, смотря по этому флагу,
или пропускают встречного в «друзья» свои, или становятся во враждебное
к нему отношение. Флаг, - и не более, не глубже. Самые слова «друзья»,
«дружба» совершенно неприменимы сюда, и это не по аскетическому вовсе
мотиву, как предполагают и утверждают, не от того, что «для великих поли-
тиков умерло ничтожество дружбы», - вовсе нет. Мотив гораздо проще,
жизненнее и - увы! - огорчительнее: они не способны к дружбе, они слиш-
ком психологически бедны, бесцветны, безличны для нее, ибо дружба есть
45
великая связь двух резко вычерченных индивидуальностей, дружба невоз-
можна без богатого развития индивидуализма и «расцветает» обычно толь-
ко там, где есть свободные и спокойные условия для роста лица человечес-
кого, для роста характера человеческого, не в смысле крепости, закала, а в
смысле особливости, отступления от общей нормы, уединения от общей
нормы. Всего этого нет в суете, шуме и опасности политики. И ведь невоз-
можно не заметить, что все революционеры «на одну колодку», - как и по-
чти все чиновники тоже «на одну колодку», хотя и совсем другую. Однако в
пользу чиновничества нужно заметить, что у них все-таки остается более
простора для сложения индивидуальности, - от покоя и регулярности жиз-
ни и, главное, от связи с семьею, которой у революционера нет или есть ее
тень, есть она как случай и исключение. Революция есть страстная полити-
ка, есть 100° чиновничества, как бы чиновник во время производства реви-
зии: тут - не до жены, не до детей, не до личных разговоров. Разговоры во
вкусе Лежнева и Рудина, Базарова и Аркадия, отношения в типе отношений
между Хорем и Калинычем невозможны и не ведутся здесь. И «некогда», и
«не тем полна голова». Как врач ищет определенного рецепта у постели
больного, так революционер, по воззрению которого «весь мир горит» и
ожидает помощи от него, революционера, занят постоянно мыслью об отыс-
кании снадобья, прокламации, книжки, действия, «выступления» там или
здесь, в одной или в другой форме. Но непременно он ищет чего-нибудь
конкретного, ищет вне себя и своего духа, вне духа и «биографических под-
робностей» своего друга или, точнее, приятеля, и уж совсем точно - едино-
мышленника. Вот слово, которое мы нашли: между революционерами нет
друзей, а есть единомышленники, нет дружбы, а есть единомыслие. Или
«разномыслие» и иногда партийность, споры, страстные, долгие, но все не
на личные и не на психологические темы, не на темы житейские или биогра-
фические. Лицу решительно тут негде выникнуть; негде и некогда развить-
ся. Лицо все глохнет, гаснет, стирается, и остается какая-то «общая болван-
ка», «общая кубышка» революционера, без углов, без граней, без образа, без
глаз, без нервов, которая тем лучше «действует», тем закаленнее действует,
беспощаднее, последовательнее, строже, чем она более и более есть только
«кубышка», «болванка», а не Владимир или Алексей, не бывший (мальчи-
ком) Володя или Алеша. Их странные клички - «Мартын», «Николай Ива-
нович», «Толстяк» и проч., и проч. - глубоко согласуются с этим и вытекают
из этого; это - не случайность, не придумка, ибо псевдонимы можно было
выдумать иначе и совсем в другом направлении: это глубоко сообразуется с
той очевидностью, что иначе и нельзя обозначить ту «болванку» или «ку-
бышку», которая осталась от полного и развитого человека, когда его сурово
четвертовала политика, вырубила из него нервы, прежние прекрасные инди-
видуальные глаза, подавила в нем прежнюю прекрасную улыбку и оставила:
1) переваривающее брюхо, 2) смышленую голову, 3) неустанно пишущую
прокламации руку или делающую что иное, большее. Увы! Все политики
неразвиты, духовно неразвиты, а революционеры, в которых политика ки-
46
пит, а не теплится, неразвиты чудовищно, кроме как технически, для «рево-
люции», для «дела». Как и врачи, вечно составляющие рецепты, а еще более
провизоры, точно размеряющие прописанные другими лекарства, не име-
ют никакой возможности сохранить в себе общечеловеческое развитие, спи-
ритуализм, идейность. И эту идейную, спиритуалистическую наблюдатель-
ность, которая сразу и бесповоротно решает о дурном человеке, что он -
дурной, и никогда ни за что, ни после каких дел и слов, ему не доверится!
Это так понятно везде, кроме лагеря в этом отношении бедных и бессиль-
ных революционеров! В сообщениях об Азефе поразительны эти подробно-
сти, все совпадающие, согласные и все бьющие в глаза поразительною сле-
потою к человеку именно у одних революционеров, - слепотою, возраста-
ющею по мере их ухождения в глубь революции, отдаче ей «всего». В пер-
вых же известиях писалось, что Азеф своим обращением и личностью
производил глубоко неприятное впечатление у новичков революции, т. е. у
кого еще не замер быт и жизнь, хранились еще следы от «лежне-рудинских»
разговоров, от разнообразия братьев и сестер, отца и матери, родства, дру-
зей. Они сразу «чуяли» гада, но этого «чуяли» ни у кого из настоящих, ста-
рых революционеров уже не было, ибо они уже десятилетия привыкли и в
словах, и в действиях верить только «доказательствам» и вообще призна-
вать только логический порядок вещей, не субъективный порядок вещей.
Провокаторство, конечно, скрыто, есть интимная часть души и интимная
сторона жизни, внутренняя, затаенная, но от всего этого на бесконечную
даль ушли политики, а еще паче 100-градусные революционеры, всю жизнь
вращающиеся только во внешнем, осязаемом, очевидном! Шик великого про-
вокатора, его костюм «лаун-теннис», выезды на Стрелку, экипажи, посеще-
ния загородных садов - все им казалось умною драпировкою опасного рево-
люционера; они не заметили того, что сразу кинулось бы в глаза не настоя-
щему революционеру, именно внутренней связи этого человека с этими ве-
щами, его цепкости за них, его вкуса к ним, совершенно немыслимых у
настоящего революционера, у монаха революции типа Гершуни или Веры
Фигнер. Гершуни, как пишет кн. Мещерский в своем проницательном «Днев-
нике» по поводу Азефа, «выучивал, воспитывал революционеров». Азеф,
«неприятный новичкам», конечно, не мог бы никого, ни одного воспитать в
революцию! Другие сообщения также поразительны. Азеф был неприятен
даже своим родителям, евреям, которые известны чадолюбием. Новичкам
же революционерам он был антипатичен настолько, что они отказывались
становиться под его именно руководство, прося назначить другого! Но для
старых революционеров, которые сами давно стали отвлеченными «кувал-
дами» и «болванками» существа человеческого, такие мотивы, как «антипа-
тичность», были непонятны, просто непереводимы на язык их слов, лозун-
гов, программ, партийности. Что такое «антипатичен» в линии суждений о
начинке бомбы или о провозе через границу прокламаций; «антипатичен»,
antipatichen - ничего не значило и не выражало. И идеалистка Вера Фигнер,
монахиня революции, старая игуменья ее, уже не выезжающая «на дело»,
47
посылает какого-нибудь юношу в «строгую выучку» к Азефу, который был
«вездесущ» и, до известной степени, «всеобразен», как Протей, и, кажется,
один или, главным образом, лично сам вел все практическое, осуществляе-
мое, наличное и насущное дело революции и террора. Он был, судя по всему,
что пишется и писалось, «хозяином революционного хозяйства»; был тем
«отцом-экономом» ее, который провел за нос и великую мать-игуменью, и
патриарха ее, высокообразованного старца кн. Кропоткина. Все они - и Кро-
поткин, и Фигнер, и Лопатин - уже стары, принадлежат к прежним «народ-
ническим» слоям русской литературы и общественности, т. е. к слоям со-
всем другой психологии, чем нынешняя, с вывертами, с казуистикой, с дека-
дентством. Вот тоже имя, которое подходит сюда: всепроникающее дека-
дентство, с его безнародностью, космополитизмом, гибкостью и
виртуозностью, с его моральной притупленностью, просочилось в револю-
цию и здесь выдвинуло до того чудовищный образ, что содрогнулся мир. У
Европы закружилась голова, а Россия стонет и плачет.
У ГРОБА ОТЦА ИОАННА
КРОНШТАДТСКОГО
Белая сирень, белая сирень, - немного лиловой, - ландыши, розы - вот ок-
ружение гроба Иоанна Кронштадтского. Когда-то самое свежее - по возрас-
ту - лицо в России, окружено и после смерти величайшею свежестью. И,
как бы в параллель этому, молоденькие, свеженькие монашенки, такого бла-
гоуветливого, благородного стиля, непрерывно поют в следующих одна за
другою панихидах. Читает громко молитвы над гробницею молоденький и
старый священник-монах: возрастом он молод, но до того глубоко ушел в
монашескую мудрость, в монашеское отречение и так сосредоточился на
этом «бесплотном житии», что кажется стар. Мне он очень понравился: «не
велику грамоту читает, да и тверд в этой грамоте». Узенькой полоской под-
нимается лоб над густыми бровями, лицо худо, сосредоточенно, щеки блед-
ны, но взгляд добрый, благой. «Мы от всего отреклись, но зато всех благо-
словляем». .. И какой твердый голос, и с каким личным усердием молится он
за «духовного отца нашего, иерея Иоанна». После панихиды я поговорил с
ним: отец Иосиф приехал из Курской губернии «к дорогому батюшке» и вот
живет здесь три недели и каждодневно молится и молится у могилы Иоанна
Кронштадтского. «Сподобил его Господь», - как говорят у нас в народе. И
«сподобил Бог» отцу Иоанну иметь за себя таких молитвенников. Впрочем,
кто за отца Иоанна не молится? Вся Русь.
Легенда уже растет около гроба отца Иоанна. Это - хорошо, это - жи-
вая история. Ни малейшей никому нет нужды в арифметически достовер-
ной истории, и легенда есть тот «добрый процент», который и по Еванге-
лию должен нарастать на капитал хорошего факта. Я заметил, что сейчас
же, как умер отец Иоанн, начала замирать и глохнуть та волна отрицатель-
48
ных чувств, какая была при жизни его связана с некоторыми его словами и
действиями публицистического и политического характера. Все выдавши-
еся углы начали врастать обратно, малиться, смягчаться, таять; и вот всего
сорок дней прошло, - а все уже округлилось в то прекрасное доброе, с чем
единственно подходят теперь к его могиле и с чем единственно произносят
его имя сейчас.
Очень хорошо, что он погребен в женском монастыре: как и в отноше-
нии Серафима Саровского, я заметил, до чего монахини выше поднимают
культ великого старца, чем как умеют сделать это монахи. Ничего подобно-
го, никакого сравнения с тем, как чтится в Дивеевском женском монастыре
память преподобного Серафима, нет в мужском Саровском монастыре, где
лежат его мощи. Недаром, по народному требованию, тело всякого усопше-
го должны обмыть и положить в гроб именно женщины; как и у пещеры, где
был поставлен гроб Спасителя, ранним утром и первые очутились тоже еван-
гельские женщины. Память человека у мужчин затирается скорее; у жен-
щин она сохраняется в необыкновенной жизненности. И может быть, все
кладбища следовало бы давно передать в ведение и управление женских
монастырских общин, которые и завели бы над ними настоящее благочес-
тие и настоящую красоту, вместо царящего теперь на кладбищах неблагооб-
разия. Но оставим проекты и вернемся к действительности.
Иоаннов монастырь, на речке Карповке, чрезвычайно хорош. Он уме-
ренно великолепен, умеренно богат. Образов еще не очень много, очевидно,
«будут пожертвования» и тогда «все заставится», а пока, не производя впе-
чатления пустоты и голого, стены блистают белизною. Но какие есть образа -
хорошей живописи. Иконостаса я не видел: было так тесно, что при плохом
здоровье, очевидно, было не безопасно протискиваться вперед; да пышную
митрополичью службу можно видеть всегда и в Невской лавре, и в соборах.
Вместо этого я прошел туда, где был народ, но куда народ не спешил, - в
церковь внизу, под сводами, где поставлена усыпальница отца Иоанна: она
так хороша, эта нижняя церковь, вся белая, из мрамора или под мрамор.
Печально, что и сюда проникло неблагочестивое электрическое освещение,
эти мертвые лампочки, - освещающие и трактиры, и все. Как этого бы не
следовало! Но не хочется говорить немирных слов. Вся церковь была залита
светом восковых свечей, которых здесь было зажжено такое множество, как
я никогда не видал! Недвижные «глазки» лампад и волнующееся пламя све-
чей, среди живых цветов, такого множества цветов, - все было изумительно
по великолепию и давало такое хорошее впечатление, потому что это было
благочестивое великолепие! «Вот бы так везде и всюду», - думалось не-
вольно...
Церковь очень низенькая, и когда началось архиерейское здесь служе-
ние, - коротенькая лития, - то митры задевали за выступы негладкого потол-
ка. Я узнал много знакомых лиц среди служащих: и не мог не вспомнить
печальным воспоминанием епископа Антонина, которого видал именно среди
этих знакомых епископских лиц, и не погрустить об его отсутствии. И гроб,
49
и храм равно говорили о мире, о примирении: и как своевременно было бы
сбросить с исторических счетов все «памятки» и «гневливости», какие ос-
тались от былых «дней свобод» и так печально волокутся в нашем сердце и
по улице; печально и некрасиво...
В ЛАГЕРЕ ОПРОСТОВОЛОСИВШИХСЯ
Трогательная наивность, с которою старые и опытные главари революцион-
ного движения в течение многих лет были в задушевной дружбе с Евно Азе-
фом, производившим отталкивающее впечатление на каждого свежего че-
ловека, заставила этих главарей «ликвидировать свою деятельность», - вре-
менно или навсегда, революционным комитетом не объявлено. Так как храб-
рость и необоримая надежда на успехи в будущем составляли постоянное
украшение этих старых младенцев, то, вероятно, в недалеком будущем све-
ту будет оповещено, что партия вновь принимается за дела грабежа и раз-
боя, именуемые «экспроприациями» и «террористическими актами». Но
любопытно, почему партия при заявлении о ликвидации все-таки не помес-
тила оговорку о «временности».
Наивность, конечно, может быть для третьих лиц только забавною; но
наивность с Азефом, который видом своим не обманывал даже и новичков,
не могла не почувствоваться самою партиен) как такое testimonium paupertatis,
аттестат о личном духовном убожестве, получив который в руки партия не
имела духа объявить, что когда-нибудь возобновит свою деятельность. В
газетах, между прочим, приводились рассказы о том, как Азеф первый бро-
сился с кулаками на господина с записною книжкою, в котором он и конспи-
рировавшие с ним друзья заподозрили шпиона, - хотя записная книжка едва
ли есть исключительная принадлежность и непременный признак шпиона,
- и, нанося удары, может быть, своему товарищу по сыску, кричал о «святом
деле террора». «Как же после этого, - писали в газетах, - было усомниться
в нем партии и комитету, во главе которого стояли Лопатин, Засулич, Фиг-
нер и дедушка Кропоткин?» Действительно, ну как при этом усомниться,
когда он дерется кулаками и орет на целую улицу, что шпионов надо уби-
вать. Между тем эта ссылка еще позорнее обрисовывает умственную сторо-
ну революционных благодетелей России. Они принимают за доказательство
такую грубую вещь, для подделки которой не требуется даже способностей
такого человека, как Азеф, а достаточно способностей всякого плута с рын-
ка. Если мудрецы революции верят всякому крику и принимают за непод-
дельное исповедание всякий мордобой, то, по всей справедливости, не тре-
буется даже сложного переодевания и искусного грима, чтобы прийти и сесть
в их таинственный трибунал и даже начать в нем распоряжаться в качестве
главы. Так что о самом «провокаторстве» едва ли нужно кричать так громко.
Очень все легко делается в обществе этих ворон, вообразивших, что мудрее
их в России и нет людей.
50
Между тем, в самой России уже давным-давно установилось убежде-
ние, что революция единственно и поддерживается грубостью, невежеством
и неразвитостью не только ее стада, но и ее вожаков и что вопрос о ее пре-
кращении есть просто вопрос умственного развития. Не без причины ради-
кальная часть печати ни перед чем не высказывает такого беспокойства, как
перед возможностью, что та несчастная молодежь, которую она пичкает сво-
ими произведениями, обратится к другим произведениям литературы, к дру-
гим писателям, если даже и не враждебным, то хотя бы просто спокойным и
объективным. Таковое обращение, знаменующее расширение умственного
горизонта, грозит ликвидацией всего революционного дела, ибо ликвиди-
рует революционный дух. В этих целях несколько десятилетий сряду под-
вергалось невыносимому оклеветанию в печати все, что так или иначе не
служило революции, что не было на побегушках у революционеров; оклеве-
тывались лучшие, самые чистые имена; или - замалчивались. Но и в этом
случае радикальная печать, бывшая легальной формой нелегальной рево-
люции, оказалась убожески жалкой: искусственно не допуская до развития
своих адептов, она слила дело и успех революции с делом и успехом ум-
ственного застоя, идейной косности, притупленности вкуса и воображения.
При таком положении революция если и обещала получить когда-нибудь
успех, то это была бы революция чисто животная. Когда в 1905 году она
вспыхнула в разных местах России, то и показала сразу же свой зверинооб-
разный вид: жглись помещичьи библиотеки и картины, истреблялись дра-
гоценные рукописи, вырезывались стада мериносов, перешибали ноги луч-
шим породам лошадей, топтались нивы, выжигались дома, усадьбы. Рево-
люция вышла как волк из леса и стала делать то, что делает волк, очутив-
шись среди стада без пастуха. Теперь она охает, когда по спине ей ударила
тяжелая палка. Но надо было думать об этом не теперь, а в то время, когда
закидывались грязью и подозрением в «служении правительству» не только
вся почти школа славянофилов, но даже и такие лица, как Жуковский, Ка-
рамзин, Пушкин, Гоголь. Всякое покровительство государства наукам и ис-
кусствам объявлялось как «правительственный подкуп», и объявлялось теми
самыми людьми, которые очень не брезгливо относились к деньгам из рук
заграничных еврейских банкиров и из рук российских купцов попроще.
Дело Азефа, хочет или не хочет этого революционный комитет в Пари-
же, произведет огромный нравственный переворот в отношении русского
общества к революции. Всемирный скандал, уличающий в плоском скудо-
умии воротил революции, не может не получить всех своих последствий.
Огромную роль сыграет здесь и естественное чувство отчаяния, которое
овладеет всеми родственниками погибших жертв, шедших на отчаянные
подвиги под руководством такого чудища, как Азеф, - отрекомендованный в
руководители В. Фигнер, В. Засулич, Лопатиным и Кропоткиным. Интерес-
но, что чувствуют эти господа в своей совести перед памятью этих жертв?
«Мы ошиблись, - растерянно говорят они. - Мы ликвидируемся, пока не
станем опять непогрешимыми». Хороша ошибочка, стоившая жизни сот-
51
ням молодых людей и заточения, ссылки тысячам. Плоха вера в «непогре-
шимость» людей, принявших Азефа за идеального человека. В листках ле-
вого направления как будто проскальзывает негодование, каким образом
правительство «смело» испортить прекрасную игру революционеров, как
оно «позволило» себе подсунуть в центральный их комитет человека, кото-
рый служил не комитету, а ему, правительству. Негодование, столь же мла-
денческое, как и все, что говорит и делает революция и состоящая у нее на
побегушках печать. Разве в мемуарах Кравчинского не передается о псевдо-
ниме «дворника», которым именовался революционер Михайлов, великий
мастер по части революционного шпионажа? Разве революционеры не сма-
нивали к себе чинов охранного отделения или полиции, разве не старались
провести в эти учреждения своих людей? Сыск, шпионство, переодевание,
накладные волосы и борода на привязи, - все это такие принадлежности, от
которых революции никак невозможно отпекаться. Это ее излюбленные
приемы. И она этих своих шпионов чуть не возводит в святые, подробно и с
хвастовством рассказывая их похождения в переодетом виде. Словом, «ос-
ведомительная служба» всегда была поставлена в революции превосходно,
и на этом был основан успех всех покушений. Каким же образом революци-
онеры или левая печать могут негодовать на то, что государство употребля-
ет осведомительную службу в целях защиты от убийств из-за угла, которые
организуются заграничными революционерами тоже с помощью своей ос-
ведомительной службы. Что разрешаешь себе, не можешь не разрешить и
другому. Пусть со своими бомбами и ножами они идут открыто, не краду-
чись, по улице: и тогда их встретит только открытая вооруженная сила. Но
гиена прячется в лозняке, выходит ночью: и воет от боли и притворного или
совершенно глупого негодования, что ее хватают ночью и в лозняке, там,
где она скрывается. На это можно ответить только с улыбкой, что кто ходит
по ночным тропинкам, не должен винить яму, в которую падает.
ЛИКВИДИРОВАННОЕ ДЕЛО
О том невольном влиянии, которое окажет дело Азефа на революционную
лихорадку в нашем обществе, высказывается на страницах «Московского
Еженедельника» и г. Струве, когда-то издатель штутгартского «Освобожде-
ния», бывший депутат Г. Думы и член конституционно-демократической
партии, а теперь - подавший в отставку от всех партий и всякого членства
свободный журналист. Он имеет мужество своего мнения, и разойтись с кос-
мополитической и противогосударственной партиею кадетов его побудило
уважение к государственности, и в частности к русскому государству, кото-
рым «неглижируют» высокопросвещенные и вместе скудоумные профессо-
ра и адвокаты, наполняющие эту партию. Взгляд его на наши революцион-
ные и освободительные дела во всяком случае имеет вес по его сложному
прошлому: он стоял когда-то во главе литературного марксизма и радикаль-
52
ной оппозиции, хотя теперь и «уволился» от всех этих дел и направлений.
Но если в нем убыло резвости и энергии, то это не мешает его глазу сохра-
нять значительную зоркость.
Возможно и даже весьма вероятно, по мнению г. Струве, что исходною
точкою деятельности Азефа служила не служба полиции, а служба револю-
ции. Но самая форма, в которую вылился революционный террор, фатально
и внутренно привела этот террор к перерождению в провокаторство, к сли-
янию с провокацией, и это далеко не личное только явление, а внутреннее и
массовое, что один и тот же человек является то революционером, то прово-
катором, то готовит террористические акты, то доносит на соучастников их.
В исторической действительности сперва дан был террор, и затем уже к нему,
чтобы использовать его в своих целях, прикрепляется провокация. Вовсе не
правительство подсунуло революции провокаторов. «С психологической не-
избежностью, - говорит Струве, - из террора рождается провокация. Со-
вершенно независимо от полицейско-сыскных целей, провокация, прикреп-
ляющаяся к террору, имеет другой, более глубокий исторический смысл.
Террор революционный, выйдя из факта бессилия общественного мнения,
из факта бессилия общества, - стремится взамен этого недостающего регу-
лятора государственной жизни создать устрашение, создать физический ис-
пуг во власти, и использовать этот испуг в своих целях; провокация, воспри-
нимая, расширяя и усиливая практику террора, стремится этим способом
запугать власть, окончательно уединить ее от общества и овладеть ею или
направить ее в своем интересе».
Так разъясняет г. Струве, очевидно, главным образом основываясь на
материале, ставшем известным из истории Судейкина и Дегаева. Будущие
историки разъяснят ту паутину, которая скрыта от нас, современников, и
они одни могут произнести окончательное суждение об этой темной сторо-
не нашей позднейшей истории. Но вся эта история, независимо от правиль-
ности или неправильности ее философского освещения, не может не бить в
нос массе общества своей отвратительной нравственной стороною и не от-
шибить у общества всякий вкус к революции. Она срывает тот плащ благо-
родства, в который драпировалась революция; она погашает, чернит тот иде-
ализм, в тумане которого скрывались революционеры, высылая доверчивую
массу молодежи на физическое совершение террористических актов и за-
тем на виселицу. Всякий юноша раньше, чем взять бомбу из рук мастера-
конспиратора, крепко задумается, если не вслух, то про себя, над тем, что за
личность этот конспиратор и не ошибается ли он, юноша, в нем, если отно-
сительно Азефа столько лет ошибались революционные комитеты. Вот эта
основная, элементарная очевидность не может не ослепить своим светом ту
массу, которая стоит на черте революции, в нерешительности, переступить
ли ее, - и повернет эту массу в сторону от революции. Это несомненно будет
так, и этот несомненный факт будет иметь огромное значение. Г-н Струве
совершенно это подтверждает, может быть, в других намерениях: «Дело
Азефа бьет и нравственно уничтожает - и в этом его громадное истори-
53
ческое значение - систему революционного террора... После дела 1 марта,
этого самого губительного для системы террора дела, неизбежно явился
Дегаев, а после Дегаева партии «Народной воли» как морального единства и
моральной силы уже не существовало. Партии социалистов-революционе-
ров в этом смысле после азефщины тоже больше не существует. Это - сле-
дует сказать не обинуясь - огромный моральный выигрыш в смысле оздо-
ровления русской политической жизни».
Вот те ясные и важные выводы, к которым приходит ныне штатский по-
чти-революционер г. Струве и которые совершенно совпадают с мыслями,
только что недавно нами высказанными. Революция нравственно убита де-
лом Азефа, а мы добавим к этому, что она и умственно убита. Она перероди-
лась и выродилась, и ей осталось только умереть в смраде и ничтожестве. Мы
должны осветить это дело и тем еще, что в деле революции, очевидно, были
смешаны мечтательный идеализм, очень мало пригодный к суровой практике
террора и заговоров, и практическая деловитость, в этом отношении чуждая
совершенно мечтательности, но не брезгливая к деньгам. По русскому обы-
чаю первые идеалисты писали свои мемуары, много разговаривали, сочиняли
книжки, как кн. Кропоткин, как Кравчинский, как Дебогорий-Мокриевич. Если
им случалось что совершить, то один раз, и этот единоличный подвиг потом
делался предметом горделивых воспоминаний на всю жизнь. Так было с Крав-
чинским-Степняком, который всю жизнь духовно питался убийством шефа
жандармов Мезенцова, хранил, как драгоценность, тот кинжал, которым со-
вершил свой ужасный подвиг, но ничего нового не предпринимал и вообще
был так доволен после подвига, точно после него наступила в России респуб-
лика! Жестокое и бесчеловечное дело систематического террора, естествен-
но, делалось не такими людьми. Эти революционеры мало-помалу были уса-
жены на почетное место, вроде террористических «пап», с оловянной непог-
решимостью, но без видного реального участия в деле террора. Его взяли в
свои руки люди пожестче, погрубее, побесстыднее, между прочим не брезгав-
шие деньгами, не прочь хорошо пожить и даже прожечь жизнь. Никакого иде-
ализма в них не было, не было и надежды на тот «окончательный переворот»,
в целях которого все делалось и предпринималось первым, старым рядом ре-
волюционеров: их «экспроприации» и «бомбометание» через подставных
молодых людей, жизнь которых этим революционерам-провокаторам нисколь-
ко не была дорога, обратились в грязную храмину революции без цели, рево-
люции ежедневной, революции везде, которая и слилась просто с безобрази-
ем и беспорядком. Никакого «государственного переворота» не ожидал Азеф
и не ожидал никакого «будущего справедливого и счастливого социального
строя», о котором он говорил недоучившимся студентам, которым передавал
бомбы. Он просто прожигал жизнь, носил хорошие костюмы, катался из Пе-
тербурга в Париж и обратно, посещал кафешантаны. И только... Так совер-
шилось, народилось и умерло это дело. Оно началось Герценом, а окончилось
Чичиковым, который и теперь нашел на Руси достаточно много «мертвых душ»,
попавших в его списки. Но и Чичиков жил раз и после разоблачения его исто-
54
рии вторично не воскрес. Действительность дала нам картину гораздо вну-
шительнее, чем поэма Гоголя; но, взглянув на эту картину, общество не может
не перестать иметь дело с торговцем «мертвыми душами». Это и есть та «лик-
видация террора», о которой заявил сразу же, как было названо имя Азефа,
парижский революционный комитет. Он признал невозможным дальнейший
«торг мертвыми душами», и вовремя: исчезло единственное условие, при ко-
тором он мог происходить, - мрак, неизвестность, обман и самообман.
АННА ПАВЛОВНА ФИЛОСОФОВА
I
По растерянному своему обыкновению, я обо всем забыл и ничего не сде-
лал, чтобы обеспечить себе право посещать заседания первого всероссийс-
кого женского съезда. Потом только я вспомнил, что ведь вездесущий Вик-
тор Петрович предлагал мне недели за две «достать билет» туда, но я, из
страха, что таковой билет обяжет меня «писать о съезде», с гневом замахал
на него руками... «Не надо! Некогда! Сто тем своих». Вездесущий и всеве-
дущий Виктор Петрович улыбнулся, засмеялся, похлопал меня по плечу и
ответил: «Ну, ладно! ладно! Вы устали, и я не хочу вас утомлять. Но я ду-
мал, что вы сами захотите!»
Сам захочу!.. Боже, как давно «сам» я ничего решительно не хочу, кроме
как сидеть дома, обув туфли и надев халат.
Вы удивляетесь, что я называю «Виктора Петровича» без фамилии. Но в
Петербурге немногие знают его фамилию, никто решительно не знает его ад-
реса и жилища, и все решительно знают «Виктора Петровича», иногда пере-
именовываемого в дружеское «Виктор» и в любовное «Висенька»... Как-то
раз в разговоре со мною известный наш живописец, историк живописи и жур-
налист А. Н. Бенуа назвал его «одною из самых достопримечательных лично-
стей теперешнего Петербурга», и мне кажется, что это так. Никто не знает не
только адреса и жилища этого «Виктора Петровича», но никто не знает и лет
его, а все его помнят, и уже давно помнят, - все равного, все не усталого, всем
занятого, всем интересующегося, все или очень много могущего. Катехизи-
ческие свойства «существа Божия» - вездесущие, всеведение, всемогущество
- до изумительности соединены в этом «образе и подобии Божием», которое
я, грешный человек, много раз порывался определить в уме своем как «колду-
на», и только останавливала меня постоянная доброта, постоянная ласковость,
постоянная филантропия этого «Виктора Петровича»...
- Вы говорите, - что у вас дети хворают? Кашляют, повышенная темпе-
ратура, бессонница? Поищем...
И, распяливая допотопное пальто, он вытаскивает из далекого кармана
целую книжищу, которая называется «Руководством гомеопатии», роется,
находит страницу, списывает рецепт и подает его вам.
55
- Во всяком случае безвредно. Вода как вода. Но, может быть, и помо-
жет. Если дадите с молитвою, то и поможет.
И непременно поможет; оттого-то «Виктора Петровича» я и определял
иногда в уме своем «колдуном», что решительно, чего бы он ни захотел, это
непременно исполнится. Точно он и «стихиям повелевает», - как сказано в
Евангелии о бесах.
Или в белую петербургскую ночь вы идете целой литературной компа-
нией по Литейному. Смех, шутки, споры. Вдали намечаются две черные точ-
ки, недвижно стоящие, которые при вашем приближении вырисовываются
как две человеческие фигуры, о чем-то разговаривающие.
- А ведь это непременно Виктор.
Подходим, - и в самом деле «он», в жарком споре с известным матема-
тиком. Восклицания удивления с обеих сторон и взаимные рукопожатия.
Захожу в редакцию «Мира Искусств», на Фонтанке. Никого не застал и
с досадой спускаюсь с 3-го этажа. Вдруг меня окликают по имени и отче-
ству. Поднимаю голову и вижу Виктора Петровича.
- Что же мне сказали, - гневно я кричу, - что в редакции никого нет?
- В редакции и нет никого, а я лег соснуть и не велел себя будить, пото-
му что ночь эту не спал. Сергей Павлович (Дягилев) вернется через час, и
тогда же соберутся все...
И с Сергеем Павловичем, и со «всеми» Виктор Петрович был на «ты» и
приходил сюда выспаться, когда было далеко идти домой.
И для всех Виктор Петрович - близкий, и всем он - далекий: и все о нем
«очень много знают», и никто о нем, «в сущности, решительно ничего не
знает». Кроме «колдуна», я его еще мысленно называл иногда «сумасшед-
шим», в смысле человека, одержимого манией, или меланхолией, или черт
знает чем-то, но, во всяком случае, далеким от нормальности, от нормально-
го человеческого вида и нормального человеческого образа жизни, хотя го-
ворил он замечательно связно, последовательно и логично. Будучи на «ты»
и меняясь ласкательными уменьшительными именами с Дягилевым, Фило-
софовым, Бакстом, Серовым, Нуроком, Нувелем, - кружком «Мира Ис-
кусств», - он, к удивлению моему, говорил на «ты» и со старцем-генералом
П. Д. Парепсовым, автором «Воспоминаний» о русско-турецкой войне и
бывшим нашим военным министром в Болгарии, первым после ее освобож-
дения! А ведь как давно это было!
Раз я захожу к Анне Павловне Философовой:
- Вы совсем меня забыли... Я была больна... Инфлюэнца с осложнени-
ями. Вылежала две недели в постели, и если бы не Висенька...
- Какой «Висенька»?..
- Да мой милый, добрый Висенька, Виктор Петрович, которого и вы
знаете; с утра он приходил ко мне, каждый день, и читал мне газеты и бро-
шюры. Если бы не он, я не знала бы, как пережить эти недели. Все заходят
на минутку и для себя, а он приходил на целый день и для меня. Такой доб-
рый... Ну, садитесь.
56
Этот-то «Виктор Петрович» готов был провести меня и на всероссий-
ский съезд женщин, когда я резко отказался... И вдруг - съезд, и все подня-
лось и зашумело в Петербурге. Подчиняясь всеобщему движению, и я захо-
тел «непременно» быть там. «Непременно! Во что бы то ни стало!»
- Поздно. Не достанете билета...
- Я журналист.
- Все равно не достанете.
- Я буду писать о нем.
- Не достанете. Все хотят писать.
- Я к Анне Павловне Философовой.
- Вы знакомы? Попробуйте...
Никакого не было сомнения у меня, что уж «Анна-то Павловна может»:
она была и официально «почетной председательницей съезда», а главное, с
незапамятного времени, еще с эпохи 60-х годов, она была одушевлена жен-
ским движением и одушевляла всех. Оказывается, она переменила кварти-
ру, и я приехал на новую.
Но квартира как бы и не менялась: множество «вещей» поглощали квар-
тиру, задрапировывали перемену ее... Не очень светло, как всегда в Петер-
бурге. .. И эти «вещи», мягкие, старинные, с завитушками, - столики, этаже-
рочки, полочки, - и портреты, портреты с надписями, с подписями, в рамках
разных эпох и стилей...
- Это все «мое», это все «мои»...
«Мое» и «мои» не в смысле собственности, - очень растерянном и все-
гда, я думаю, нетвердом у Анны Павловны Философовой, а «мои» в смысле
«мои дорогие», «мои милые», которых я люблю и любила, которые со мною
жили, со мною трудились, которые «мне помогали» или «я помогала им»...
Квартира небольшая, «ничего себе», но во всяком случае небогатая. «Только
есть, где принять».
- Где же Анна Павловна? - спрашиваю я у идущего за мною человека в
белых перчатках, если и не «бывшего дворового», то очень похожего на «быв-
шего дворового» или «дворецкого», вообще что-то из Тургенева, из «Руди-
на», из бывшего помещичьего быта...
- Я здесь! - раздается голос с кушетки.
Оглядываюсь, - в углу, укутанная пледами и окруженная подушками,
лежит или полулежит Анна Павловна Философова. Лицо счастливое, весе-
лое и уторопленное.
- Больны?
- Здорова.
- Почему же вы лежите?
- Я же должна сегодня вечером открывать съезд. Собираю силы... Лежу
и молчу.
Но глаза «так и говорят»... Тут я понял, что умная деятельница с 60-х
годов, женщина 68 лет отроду, собирает «капельки сил», «гаснущие искор-
ки» жизни в себе, чтобы на один час вечера стать перед многочисленною
57
толпою еще женщиною, полною бодрости, и громким, отчетливым, слыш-
ным на огромный зал голосом сказать несколько «вводных», «открываю-
щих» съезд слов. Само собою разумеется, что было бы ужасно некрасиво,
тускло, наконец, грустно для всеобщего впечатления, если бы первые слова
на таком молодом и энергичном собрании, как этот «первый всероссийский
съезд женщин», были «прошамканы», «промямлены» почетною старухою...
Между тем, по связи с историею, по почтению к истории, по традиционно-
сти всего этого «женского движения» съезд, конечно, и мог быть открыт
только старухою, непременно старухою! Задачи молодые, нет, - брызжут
молодостью, а открытие и первое слово вручены старости, разрушению...
Нужно было сделать иллюзию, преодолеть натуру: нужно было во что бы то
ни стало устранить «старость» из впечатления, по крайней мере, старость
как бессилие, как немощь... И Анна Павловна старалась; а, как мне потом
передали, это ей и удалось: в 8 часов вечера она, сильная, поднялась на эст-
раду, произнесла несколько милых, ласковых, приветливых слов, но голо-
сом столь твердым и ясным, что слова донеслись до самых далеких уголков
зала. И все услышали этот привет и ласку, не переспрашивая, «что сказано»,
«как сказано», - услышали сами и все.
- Да что было сказано? - переспросил я.
- Очень хорошо, умно, мило. Всем понравилось. Она сказала, что они,
деятельницы старого времени и члены устроительного комитета, с дорогим
приветом встречают женскую молодежь, съехавшуюся со всех концов России
и, очень много, из других стран, - женщин-тружениц, женщин-деятельниц...
Да я не помню, что она говорила, но это всех согрело, связало и подняло. Все
были страшно довольны и с любовью глядели на ее милое и ласковое лицо.
Только это и нужно было. Не рефераты же ей писать в 68 лет. Да и вся-
кий реферат есть уже подробность, но ведь надо создать то целое, в чем
будут, как подробности, все речи, рефераты, шум, движение, плоды. Нужен
план, вдохновение, идея, а не работа: и Анна Павловна не только в этот год и
на эту минуту, но на целых полвека более, нежели кто-либо, более, нежели
ее ученые сверстницы и сотрудницы, созидала это вдохновение, созидала
эту идею своею удивительною душою, своею удивительною личностью.
- Мне нужен билет, Анна Павловна!
- Билета не было ни одного уже вчера. Но я дам вам записочку к дей-
ствительной председательнице съезда, д-ру Шабановой, и уж если она не
может, - значит, сам Бог...
Она не кончила. Как же это, «Анна Павловна Философова не может»...
Значит, действительно, трудно. Я забеспокоился.
- Но я непременно хочу быть. Во что бы то ни стало.
- Поезжайте и поспешите. Может быть, еще захватите. И вот, чтобы
помочь вам и словом, с вами поедет моя невестка, которую лично знает Ша-
банова. Ты свободна, милочка? - она обратилась к стоявшей тут же моло-
дой, белокурой женщине, которая была «готова», как и все Философовы все-
гда и ко всему «готовы»...
58
Мы поспешили. В обыкновенной «докторской квартире» к нам вышла
«известная д-р Шабанова», но она была так черства, тверда, последователь-
на в своих упреках, «отчего мы не позаботились ранее», наконец, она была
так больна мигренью или чем-то, что мы благодарили Бога, когда нам было,
наконец, возможно пожать ей руку и отправиться вспять.
- Значит, безнадежно, - сказал я угрюмо своей незнакомой спутнице.
- Подождите еще. Последняя попытка.
И она дала извозчику адрес «женского взаимного благотворительного
общества». Это был клуб или, точнее, тот женский улей, где и зародился
самый съезд, т. е. и его идея, и осуществление.
На стенах всевозможные плакаты о предложениях труда, о назначаемых
лекциях, что-то о кормлении детей, что-то другое о проституции. И, оглянув
все это, до чего чувствовалось, что в самом деле женский мир - это совсем
другой, чем наш мужской мир, совсем другие у него темы, совсем другие
заботы! И все, все это - обойдено мимо цивилизациею, прогрессом, просве-
щением, свободою, гражданственностью! Побыв пять минут в этом женском
клубе и ни с кем не говоря, ничего не выслушав, приходишь невольно к убеж-
дению в необходимости «всероссийского женского съезда», как могучего дви-
жения именно женщин на защиту попранных своих прав! В особенности сло-
во «проституция» так и пестрело на стенах, то как название какого-нибудь
комитета «призрения», то как тема лекции: чувствовалось, что это слово здесь
выговаривается совершенно иначе, чем в университете, на улице, в толпе, в
кабинете, в гостиной, в проповеди или в книге. Здесь оно есть имя страшной
муки, ужасного оскорбления, несмываемого пятна, невыносимой боли, - и
все личного, «нашего», вот этого «клубного». «Сестры! Некоторые из нас про-
дают себя за рубль, вынуждены голодом продавать! Сестры, есть рынок жен-
ских тел! Рынок, куда всякий может прийти и купить себе женщину, - не на-
всегда, как у турок на Востоке, а на час, - как это позволено только у христи-
ан! Сестры, можем ли мы успокоиться хоть на минуту, зная об этом?!» И тор-
чит-торчит эта стрела в женском теле; сочится кровь из-под нее, священная
женская кровь. И ни у кого нет силы вырвать ее из тела.
А между тем, что такое «вопрос о проституции» во всяком мужском
обществе, в клубе, в собрании? «Проходная тема» и даже предмет переми-
гивания: «А не поехать ли повеселиться». Мужчины явно не хотят уничто-
жения проституции, как некоторого удобства для себя, как возможности для
всякого «весело провести час». «Ведь никого не гонят туда, к этому злу»...
«Значит, избежать его каждый волен». «И остается простая возможность,
которую отчего же и не оставить». Вот рассуждение, за грань которого ни-
когда не переступит пользующийся ею мужчина. уничтожить проститу-
цию может только женщина, хочет только женщина и сможет только свобод-
ная, равноправная мужчине, значащая, полновесная, почитаемая женщина!
Заря женской свободы - ущерб проституции, ущерб свободы - полный рас-
цвет проституции. Это одно, одно это есть уже полный мотив к тысяче «жен-
ских съездов», к шуму, к говору, крикам, требованиям...
59
Невестка А. П. Философовой, - жена большого административного чи-
новника, - вошла в этот «свой клуб», как пчелка влетела в шумный пчелиный
улей. Все - «свои», всех «можно просить», можно «хлопотать и добиваться» и
«получить все, что возможно»... Клуб дает эти возможности, увеличивает
индивидуальные силы. Сейчас же она провела меня к «секретарю клуба», ка-
кой-то урожденной княжне, теперь - вдове профессора или доктора, у кото-
рой единственный сын-гимназист; и сын этот всякое воскресенье проводит
здесь же, в клубе, около матери, а эта мать его, овдовев, совершенно слила
свое личное существование с существованием клуба. Я отмечаю этого секре-
таря и этого гимназиста, так как здесь проявилась одна черта, которая сейчас
же кидается в глаза, как только войдешь внутрь женского движения, и черта
эта совершенно противоположна той, которая предполагается о женском дви-
жении всеми, стоящими вне его\ именно, что так называемое «женское движе-
ние» все глубоко женственно и семейно! Оно движется отнюдь не «холосты-
ми девицами» и не женщинами «холостого типа», не «обездоленными», не
«уродами», не исключительностями, а глубоко нормально, исходит из (лично-
го) счастья, и порывается ко (всеобщему) счастью, и ведется глубоко нормаль-
ными женщинами, без всякой вражды к мужчинам, без малейшей вражды к
семье, семейному началу. Меня поражало и ранее, что все почти жены и взрос-
лые дочери профессоров так или иначе примыкают к «женскому движению»,
а ведь почему же это «уроды», «исключительности» и «ненормальные». Со-
вершенно наоборот! Черта эта страшно важна, ибо открывает «женское дви-
жение» совсем в другом свете, чем предполагается.
Ну, вот этот секретарь, с пунцовым бантом на груди, княжна, богата,
образованна, вдова, имеет прекрасного сына-подростка, которого, по обы-
чаю матерей, «боготворит», - чем она не нормальная и не полная женщина,
с полною судьбою?! И вместе с тем она «весь день в клубе, в хлопотах, в
заботах». Я переспросил:
- Почему?
- Любит клуб!
Самый нормальный, счастливый ответ: «любить это дело». Любить, и
ничего более, как и все мы хорошо делаем то единственное дело, которое
любим! И сын от нее не отходит, «тут же», и ничуть она не перестала быть
семьянинкой, и сын любуется на то, что мать его всем нужна, все ее спраши-
вают, к ней обращаются, она всем помогает. Сын любуется на то, что мать
его полезный человек, - гордится этим и этою хорошею сыновнею гордос-
тью воспитывается более, чем как если бы мать вечно вязала чулок, сидя с
ним vis-a-vis, в чепчике и по образцу немецкой картинки. «Каждому време-
ни свое», и «каждому народу свое», и каждая эпоха достигает наилучшего
своими приспособленными, новыми средствами и путями.
- Ну, если и секретарь клуба не сможет добыть вам билета на съезд,
тогда никто не может, - сказала обессиленно невестка А. П. Философовой.
Оказалось, и она «не могла». Но сейчас же она отдала свой билет, сказав
о себе, что «уж как-нибудь обойдется»... Все уладилось, округлилось. Но я
60
еще задержался несколько времени в клубе, любуясь на этот шумящий рой.
«Ж-ж-ж», «ж-ж-ж»... Совершенно пчелы.
* * *
Много потом я видел, слушал, посещал «с билетом», выхлопотанным с таким
трудом. Много размышлял. А. П. Философовой я с того времени не видел:
«Некогда!» Но сколько раз за эти дни женского съезда, думая обо всем «жен-
ском движении», я возвращался мыслью к этой женщине, которую знаю столько
лет и которая собою и своею личностью столько мне уяснила в «женском воп-
росе». Ведь когда-то, именно все время до знакомства с нею, я был враг или
пересмешник «женского движения», как многие, как почти все:
- Куда они «движутся», уроды!
- Куда «движутся» эти безмозглые!
- Что им нужно? К ученью они неспособны! Сидели бы, дожидались
каждая мужа и детей. Для этого мозга не нужно, но чтобы получить мужа и
детей, надо быть привлекательной. А привлекательность женщины - в неж-
ности, неопытности, невинности! Писарев назвал это «кисейностью»,
итальянцы назвали это «мадонною». Вот идеал: в кисее, с ленточками, ми-
ловидная, глупенькая, пусть она из родительского гнезда перепархивает не-
далеким летом в свое, в мужнино гнездо, и опять - дети, и снова - спальня,
и так до «конца века»... Это - «закон, его же не прейдеши».
Эти желания, грубые мысли я развивал печатно не в такой краткой фор-
муле, - с убеждением, страстью, с увлечением! Пока А. П. Философова не
то чтобы доказала мне, а показала в себе мне, что это... совсем, совсем не
то! Совсем, совсем другое!
II
В кабинете ее сына, декадента и эстета Д. В. Философова* стоит большой
поясной портрет прекрасной женщины в голубом. Это - сама юность, на-
дежда и обещание...
- Обратите внимание, - сказал, улыбаясь, мне сын ее. - Нельзя сказать,
чтобы платье ее было глухо закрыто: и руки, и плечи, вся шея, часть груди
обнажены. Это обыкновенное платье того времени, 60-х годов. Но когда я
спросил ее однажды: «Мама, для чего же вы так низко опустили волосы на
уши, так, что даже края их не видно, - вы точно совсем без ушей», - она
густо покраснела и ответила негодующе: «Я не могла допустить мысли дой-
ти до такого бесстыдства, чтобы открыть уши!»
Он любяще улыбнулся. «Дама в голубом» была так красива... Плечи
еще узкие, совсем детские, лицо немножко удлиненное, глубоко нежное, а в
очерке губ уже то сложение, какое я знал в «Анне Павловне Философовой».
* Теперь - писатель на религиозные и философские темы. Только что вышла из
печати его интересная книга: «Слова и жизнь». Он не обещает быть огромным писа-
телем, но он уже теперь - значительный писатель.
61
Бывая у нее, я любил заходить в эту комнату сына и еще, и еще любовал-
ся портретом. Сын редко бывал дома, когда «у мамы кто-нибудь». Он пропа-
дал в кружке художников и писателей «Мира Искусства», не любил друзей
матери, смеялся над ними, над Стасовым и вообще имел вид «денди и арис-
тократа», которому «противно все это»...
- Дима не любит ничего «из моего». Прочтите, какую опять он ужасную
статью написал о Стасове: хоть бы подумал о сорока летах дружбы своей
матери к этому человеку...
И она плакала, подавая мне листок «Биржевых Ведомостей» или чего-то.
Стасов громыхал в ответ, громя «декадентов» и молодого философа-эс-
тета. Мать растерянно расставляла руки:
- Я не знаю, кто тут прав. Но я со Стасовым и особенно с сестрою его,
Надеждой Вас. Стасовой, прожила всю жизнь, и никогда, никогда, ни ради
сына и никого, я не изменю святым заветам, которым мы служили. Но это
так горько, горько, что уже в сыне рушилось все!..
Правда, это была трагедия: она так же любила сына, как и «все, все, что
шло от священных 60-х годов».
- Нет, оставим все это, - сказала она в один вечер, отодвигая тетради
«Мира Искусства» и иллюстрированные каталоги с «декадентскими жен-
щинами», всегда голыми и волосатыми. - Оставим! Кто хочет и не скучает,
пусть прослушает мое дорогое, прежнее...
Я согласился, все согласились.
Она прошла к шкапу и достала книгу.
- Теперь другие песни, теперь это не нужно и скучно. Но я вам прочту...
«Рыцарь на час», - вы извините, и кому скучно, - пусть не слушает, я одна
или с немногими.
Все остались.
«Дама в голубом», - теперь полная, немного рыхлая, слабая женщина
в сером, читала стихотворение, которое «читывали на вечерах в то вре-
мя». Читывали как новость это скорбное исповедание поэта, которого
любили и которого «заподозрили»... Голос ее волновался. Она превосход-
но читала, повторяя некоторые места, - и, когда кончила, лицо ее было все
в слезах.
- Вот... Ну, и прошло... Теперь другое время, и этого ничего не надо...
Я, конечно, пережила свое время, но я уж умру такая, как есть, и с тем, что
люблю...
Она кашляла. Ее обнимали. Она в том возрасте да и в той психологии,
где «мужчина» и «женщина» заливаются «человеком», и ее можно всегда
взять и обнять.
* * *
- Ну, теперь я вам покажу мою радость, мою гордость, - говорила она как-то
вскоре после юбилея женского медицинского института в Петербурге. Она
присела к полу, раскрывая какой-то большой картон. Я присел за нею.
62
Она смеялась и вся была счастлива. «Женщина в голубом» нет-нет и
светилась еще в этой женщине «в сером». Она вынимала папку за папкой,
вынимала старые пожелтевшие листы каких-то бумаг и газет и подавала мне.
Теперь я все забыл, что она показывала, но это были всевозможные «адре-
са» ученых общин и учреждений, приветствовавших ее как руководитель-
ницу или, точнее (гораздо точнее!), как вдохновительницу женского движе-
ния. Помнится, тут были и письма или «адресы» и простых людей, «баб»,
но в этом я могу сбиться и ошибиться. Было несколько всемирно знамени-
тых имен. Вдруг она рассмеялась своим удивительным ребяческим смехом,
какой иногда звенит из ее увядших уст:
- Посмотрите, какой меня представили. Что за рожа, - разве я такая?
Это в японской иллюстрированной газете, - и редакция прислала мне но-
мер.
Действительно, была какая-то мазня. Но «Анну Павловну» все же мож-
но было признать. Я смотрел на нее. Да, она гордилась. Но в этой до редко-
сти гармоничной и спокойной натуре, которая, казалось, ни разу не была
возмущена, взволнована пороком, самые недостатки, как «гордость», «са-
молюбие», «тщеславие», преобразовывались и улегались во что-то мягкое,
красивое, ласкающее вас. Все переходило в это обыкновенное:
- Я так счастлива... Меня столько любили... Свет еще полон доброты:
посмотрите, посмотрите, читайте, читайте...
- Свет так полон доброты. Как мне не любить, когда я сама видела столько
любви... Как мне не помогать другим, когда другие постоянно помогали мне...
В этом почти суть «Анны Павловны», что граница между нею и други-
ми, между ее «моим» и чужим, «мое» почти никогда не чувствуется около
нее: и не то чтобы она усилием отстранила эту границу, но ее точно и не
образовывалось никогда около нее, или эта граница таяла и исчезала, едва
«Анна Павловна» входила куда-нибудь в чужое общество, в чужое дело. Мне
кажется, я не ошибусь, сказав, что Анна Павловна не понимает этой границы.
Я никогда не видал такой «социальной женщины», без усилий, без реф-
лексии, «само собой»: и, между тем, это была типичная женщина тургенев-
ской живописи, тех тенистых парков, тех хороших садов, где-нибудь около
Тулы или Орла. Хотя, кажется, она родом из-под Смоленска. Но ведь это все
равно: важен дух эпохи, важен стиль быта, зарисованный Тургеневым. Но
только тургеневские женщины «сломались»: или неудача в любви, или бо-
лезнь, у некоторых - бедность и одиночество. Богатые условия, хорошие
средства, бесконечная любовь и нежность мужа (она мне говорила об этом),
- все подняло и вынесло эту «тургеневку», не дало в ней ничему хрустнуть,
ничему надломиться, ничему даже измяться. Но она «отдала сердце всему
мятущемуся, волнующемуся» того времени, отдавала его беззаветно, необ-
думанно: и «что же ей было делать, что ее так любили» и вынесли из водо-
ворота событий, даже не дав запачкаться ее голубому платью.
- Ну, да! Александр II потребовал моего выезда за границу, сказав мужу:
«Я тебе доверяю, но она должна уехать, иначе она будет арестована». Я уехала.
63
Это было после бегства кн. Кропоткина, о котором я знала заранее и в кото-
ром принимала участие.
Подробности, как было дело, - я забыл.
- Вот как... Значит, Александр II был причиной... все-таки такого боль-
шого жизненного неудобства, как обязательная «заграница». И вы не поми-
наете его добром...
-Я его боготворю: он освободил крестьян. Вы этого времени не помни-
те, но мы все, видевшие освобождение крестьян, боготворили Государя, сде-
лавшего это...
Я вспомнил Герцена: ведь и он так же чувствовал и думал тогда.
* * *
Вошел как-то священник, старый-престарый, кажется, откуда-то из дворцо-
вого ведомства, «пропеть Рождественский стих», - «как еще бывало при
муже». Анна Павловна все-таки с репутацией «передовой женщины», а «попы
- гасители просвещения», и я смотрел с любопытством. Но вот она вся под-
нялась и оживилась, и нужно было видеть тот «уют и привет», ту деликат-
ность и ласку, хорошую деревенскую ласку, которою она моментально его
встретила и окружила. Тут-то всего более я и подумал: «Тургеневский мяг-
кий стиль».
* * *
Однако я не сказал о самом главном, что много лет наблюдал в этой «жен-
щине в сером», в которую превратилась «женщина в голубом»: о ее молодо-
сти. Ее сын, декадент и эстет, теперь - религиозный искатель, на много лет
старше, дряхлее ее... Дано ли ей было при рождении утроенное, учетверен-
ное количество сил, или любящие руки пронесли ее так бережно над невзго-
дами жизни - я не знаю, но в ней не осталось и нет ничего горького, ничего
желчного, ни малейшего разочарования в жизни, ни малейшей усталости от
жизни. Она вся - готовность, но не уторопленная готовность, а спокойная,
ожидающая. «Всему придет свой час, и хороший час». Не только усталый от
чувств и дум сын, - но ее замужние дочери и, наконец, даже внучки - старее,
старообразнее ее. Тем «не удались танцы», «не достали билета в оперу»: и
эти маленькие неудачи и огорчения все-таки положили свою паутину на лицо.
Я не знаю, может быть, так, может быть, не так, - но этого равного «вот
придет вечер», «вот будет полдень», «вот настанет утро», и вечером «будет
так же хорошо, как утром», а «в полдень будет нисколько не хуже», - я не
встречал ни у кого и никогда на лице. Что это такое? Иногда кажется, что это -
даже непонимание. Ведь горя так много, и Анна Павловна знает это демок-
ратическим знанием. Но удовлетворение соучастия этому горю, - а она полна
им, - до того перевешивает внутренним чувством внешнее впечатление горя,
что «небо все-таки остается голубым», хоть под ним и ужасы. В основе все-
таки лежат громадные природные силы: эти «волны», как «барашки» на реке,
внучек, внуков, зятьев, невесток, сыновей, дочерей, сестер, племянников и
64
племянниц и еще кого-то и кого-то, в лицах и именах которых невозможно
не спутаться, - говорят о могучем истоке сил, брызнувших когда-то на зем-
лю и хорошо оросивших землю. Некоторое объяснение ее организации можно
найти в ее племяннике, С. П. Дягилеве, создавшем «Мир Искусства», устро-
ившем ряд выставок и, в заключение их, знаменитую и прекрасную «Выс-
тавку исторических и русских портретов» и который за минувшую зиму
знакомил Париж и Францию с русскою музыкою. О качествах и направле-
нии его деятельности можно спорить, и спорят многие; я в этом некомпетен-
тен. Но вот что несомненно: это - присутствие огромной веры в себя у этого
еще молодого человека и, что для русских совсем удивительно, - налич-
ность неистощимой инициативы, вечной изобретательности, придумчивос-
ти, неотступности в исполнении планов. «В итоге» - все-таки отсутствие
хотя бы малейшей усталости, жалобы, разочарования. Его очень напомина-
ет Анна Павловна Философова, но только «в женском преобразовании», -
вся смягченная, нежная, кроткая. Заверните бурю в бархат и обложите цве-
тами - и получите ее сущность.
- Я этого ничего не понимаю и не признаю, это враждебно моим друзь-
ям и мне, - говорит она, отодвигая «Мир Искусства».
Как-то зашел вопрос о дороговизне жизни, о средствах к жизни.
- «Мир Искусства» очень падал последний год. Ему многие помогали, и
в том числе и мои средства значительно растаяли...
Я удивился. «По идеям - ты мой враг: но пусть кошелек будет общий».
Это реально.
Но каков дождь, таковы и капли, - и мне все нравится не только в этой
женщине «в сером», но и в отпрысках, идущих от ее корня, и, бывая на жен-
ском съезде или потом на религиозно-философских собраниях, если среди
тысячной толпы я увижу миловидное личико, как-то беспредметно улыбаю-
щееся всему кругом и без торопливости указывающее, кому куда пройти,
где сесть, откуда лучше можно слышать или видеть, то всегда подумаю: «Это
кто-нибудь из Философовых». Улыбка так ласкова, что, очевидно, можно
подойти и спросить о чем-нибудь ненужном. И спросишь, и скажешь:
- Как будто я вас видел где-то?
- Не знаю. Нет. Но я внучка Анны Павловны Философовой.
ПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫЙ «СОЦИАЛИЗМ»
И ВЫБОРГСКАЯ «АНАРХИЯ»
Некий «скептик» в «Речи» именует взыскание недоимок «государственным
социализмом», - конечно, памятуя тот пункт выборгского воззвания, кото-
рым указывалось «податей правительству не давать». Мрачные картины под-
робностей взыскания чередуются с сентиментальною жалостью к платель-
щикам, и все в общем образует кисло-сладкую кашицу, которая должна очень
понравиться читателям, должна пробудить симпатии к кадетской газетке и,
65
пока кадеты не «у дел» и даже не составляют в Г. Думе ответственного
большинства, может вообще сыграть роль некоторой программы. Читатели
не догадаются, что ничего подобного не было бы пущено на страницы ка-
детских органов печати, если бы былые вожделения уже осуществились и
мы имели г. Милюкова премьер-министром, а Набоковых и Винаверов уви-
дели с министерскими портфелями: в этом случае совет «не платить пода-
тей» или, что почти одно и то же, «не взыскивать недоимок», сажая полно-
мочных министров к пустому казенному сундуку, был ли обречением их на
полную фактическую беспомощность и реальную бездеятельность. Но что
за дело до существа государственности гг. претендентам на власть! Им до-
садить бы сущей власти, обсыпать ее сажей и углем, показать «черным ара-
пом», показать жестокою, показать безнародною, - а до всего остального
очень мало дела и хоть «трава не расти» далее и в перспективе. Но вдумыва-
ясь, что это обсыпание сажею власти продолжается в нашей печати десяти-
летия, что некоторые из думских ораторов все свои речи, всю свою аргумен-
тацию, весь свой пафос клонят к возмутительному заключению-выкрику:
«Правительство относится к народу как враг», то придешь к заключению о
крайней отвратительности политического и даже гражданского воспитания,
какое дается населению, и образованному и необразованному, этими вождя-
ми-ораторами и вождями-писателями. А углубляясь далее, нельзя не прий-
ти к выводу, что 9/10 трудности настоящего положения России вытекает из
того, что власти, какова она ни на есть, приходится иметь дело с населени-
ем, глубоко граждански невоспитанным, глубоко политически развращен-
ным. Заря нашей свободы и гражданственности пала первыми лучами свои-
ми, увы, не на сухую здоровую почву, а на болотную почву, пропитанную
гнилыми миазмами. Уж если разные Скептики и т. п. прикидываются, будто
они не понимают, что без казначейства невозможно управлять страною, что
раз есть налог, то есть обязательство и платить его, а что недоплачено, то
должно быть взыскано, и проч, в том роде, то где же черта, на которой оста-
новится это притворное младенчество, где же граница, за которую не пере-
скочит сказка о таком благополучии, где страна процветает и даже сильна,
хотя там рекрут не собирают и налогов не взыскивают, а только управляют
всем розовые социалисты или голубенькие Винаверы, Набоковы и Милюко-
вы... Между тем ведь этот трафарет навевается российской публике из книж-
ки в книжку радикальных журналов и из нумера в нумер радикальных га-
зет: все будет благополучно, все расцветут, никто не будет несчастлив, если,
напр., министром земледелия сделать такого «малого», как Иван Жилкин из
первой Г. Думы, или министром юстиции такого молодца, как Владимир
Набоков. Ну, кого же Набоков посадит в темницу? Невероятно! Разве есть
мужичок, которого не накормит Иван Жилкин? Совершенно невозможно!
Почитывая в газетах Жилкина и Набокова, читатели не могут не думать:
«А, вот где корень российского зла: люди не на месте, свеча под спудом
горит, а не поставлена на подсвечник; истинно гуманные люди не у власти,
а в загоне, неуважении, не у дел. Посадите в юстицию Набокова - и судам
66
некого будет судить, посадите в земледелие Жилкина - и он раскроет жит-
ницы голодным. И все будет сыто, и все будет свободно в нашей счастливой
России... Тогда как теперь, когда эти Ироды и скорпионы, и т. д. Эта коро-
тенькая мысль, это фанатичное убеждение вколачивается изо дня в день на-
селению, оно есть основной мотив, основной тон предвыборной агитации.
И «безответственные» ораторы, депутаты, журналисты не смущены ни тем,
что они говорят неправду, ни тем, что ранее или позже ведь и им или род-
ственным им по духу людям придется стать к власти, попасть во власть, - и
тогда что эти люди ответят на всеобщее ожидание «кисельных берегов с
молочными реками», которые обещали, которых требовали у былой власти,
за отсутствие которых казнили былую власть... Но что им за дело! Будущее
- далеко, за горизонтом: они имеют в виду текущий момент, текущее поло-
жение вещей, текущее настроение умов, напряжение энергии. «Beati
possidentes»*, - поговаривают эти представители современного слова и со-
временной мысли; «трави правительство и улавливай Панургово стадо»...
Как это недалеко от старой формулы французских королей: «Apres moi le
deluge.. .»**. А еще Милюков-историк; а еще публицистика эта построена
на «гражданских мотивах...» Но верно, между рабом и самодуром разница
не в качестве и душе, а в положении: кто на ком и кто под кем, кто кого бьет
и кто воет от боли. Не вырасти тут государству, не вырасти гражданственно-
сти; не зародиться тут и человечности.
БЕЗ ВИНЫ ВИНОВАТЫЕ...
Г. Скептик из «Речи» точно обрадовался, что мы заметили его статью «Госу-
дарственный социализм», и пишет по поводу нашей - другую. На самом же
деле мы не заметили ни его, ни его статьи, как и теперь не замечаем всего
этого убожества, а взяли почти наудачу что-нибудь со столбцов милюков-
ско-гессеновского издания как образец политически и граждански развраща-
ющего чтения. Отрицать налоги и отвергать обязанность уплачивать недо-
имки может только враль-политик или притворщик-публицист. Вралями
нельзя назвать ни Милюкова, ни Гессена, и приходится остановиться на пред-
положении отвратительного притворства, деланности физиономии, лгущей
сентиментальности. Только это мы и отметили в «Речи»; отметили ее у Скеп-
тика, как могли бы отметить и у всякого почти сотрудника этой деланной,
искусственной газетки. В его изображении читатели должны представить,
что в тульские и другие села и деревни ворвались башибузуки в мундире
русских чиновников и начали вымогать имущество у крестьян ради собствен-
но своей кровожадности, разбойных и воровских инстинктов. Читателю когда
разбираться, и читатель не может не возмутиться тем, о чем рассказывает
♦«Счастливы владеющие» (лат.).
♦♦«После меня хоть потоп...» (фр.)
67
Скептик. А рассказывает он, мешая вместе вещи совершенно несоизмери-
мые. Он мешает в одну кучу исполнение закона и противоречие закону, при-
том не какое-нибудь, а чудовищное. Уплата недоимки - обязанность того, на
ком она лежит, пока она с него не сложена в законном порядке; недоимка
есть недополученное обложение, а обложение, если нужно и можно изме-
нить, то это можно сделать только в законном порядке через определенный
процесс государственной работы, между прочим думской работы. Дума, ус-
корив свою работу, как равно кадеты, когда заседали в 1-й и 2-й Думе, могли
бы пособить крестьянству, переработав податную систему или изменив по-
рядок взимания недоимок. Но кадеты, вместо этой полезной работы, пред-
почитали точить лясы и обещали крестьянам не просто улучшение их поло-
жения, а экспроприацию чуть ли не всех недвижимых имуществ в пользу
этих пейзанов. «Чем больше, тем неисполнимее», - говорили эти полити-
ческие иуды и легко надбавляли крестьянам еще и еще больше. Вот где ко-
рень взыскиваемых сейчас недоимок. Засыпанные думскими обещаниями,
кадетскими и левыми обещаниями, крестьяне, естественно, приучили себя
к мысли, что если еще можно не отдать им всего, то во всяком случае невоз-
можно, чтобы их стали принуждать к уплатам разных взысканий, и особен-
но недоимок за прежние годы. Лживая политика и лживая словесность 1-й и
2-й Думы подействовала развращающе на крестьянство. Возвращаясь к взыс-
канию, нельзя не назвать диким сетование «Речи» и Скептика, зачем губер-
наторы, исправники и становые не совершают в административном поряд-
ке того, что лежало исполнить на Думе в порядке законодательном, зачем
исправники и становые не принимают на себя функций Г. Думы. Как это ни
дико у юриста Гессена и у историка Милюкова, но это действительно так.
Губернаторы, исправники и становые лишь исполняют отданные им распо-
ряжения и больше ничего не могут сделать и не обязаны делать. Но, разуме-
ется, исполнение порученного дела должно быть чистоплотно. Скептик об-
рушивается на нас и внушает своим читателям, что «Нов. Вр.» стоит не за
взыскание недоимок, но за те чудовищные правонарушения, насилования
и, наконец, даже изнасилования женщин, какие были совершены при этом
низшими агентами, которые в этом случае уже не суть агенты правитель-
ства, а уголовные преступники или преступники гражданского уложения.
Не диво ли говорить, что Ванька-Каин, живущий в России, квалифицирует
Россию, ибо есть ее обитатель и гражданин. Смеем уверить и «Речь», и Скеп-
тика, что мы ни в малейшей степени не заступаемся ни за одного преступни-
ка, не оправдываем ни одного преступления. Но мы считаем, что это такая
азбука порядочности и первое слово юриспруденции, о которой распростра-
няться на страницах серьезной газеты нет никакой возможности и ни малей-
шей нужды. Предоставляем «Речам» и «Словам» внушать младенчествую-
щей части своих читателей великие новости из таблицы умножения. Мы
ими заниматься не станем и не занимались. Но «Речь» и Скептик с азартом
накидываются на нас и внушают своим читателям, что в изданьице Милю-
кова и Гессена они читают чуть ли не единственную честную, мужествен-
68
ную и гражданскую газету в России, ибо она с героическим мужеством до-
казывает, что воровать, бить и насиловать женщин нельзя, и делает это, рис-
куя всем, даже в такие мрачные, реакционные времена, как наше!
Полноте, господа, морочить публику.
50-ЛЕТИЕ А. С. СУВОРИНА
Сегодня «Новое Время» празднует 50-летие литературной деятельности сво-
его основателя; и сотрудники газеты не могут не почувствовать высокого
удовлетворения в том, что множество кружков, обществ и учреждений со-
льются с читателями газеты в дружный хор приветствий лицу, которое треть
века стоит в средоточии и во главе этих сотрудников. Значительная часть
образованной, просвещенной России в этот день обернется в сторону А. С.
Суворина и в той или иной форме, с тем или другим оттенком скажет или
подумает о нем ласковое слово, скажет ему русское, хорошее «спасибо» за
то хорошее, крепко даровитое русское дело, которое он делал на протяже-
нии полувека умственной своей жизни. Нет русской грамотной семьи, где
тем или иным шрифтом - на формате газетного листа, на заглавии роскошно
изданной иллюстрированной книги или на обложке книжки «Дешевой Биб-
лиотеки» - не стояло бы имя «Суворин». Он стоит и уже давно стал, в самом
средоточии «печатных русских дел», обнимая все то, что сюда примыкает,
что с этим словом сближается, так или иначе к ним соотносится. Издатель-
ская деятельность Суворина, шедшая параллельно с его литературною и га-
зетною деятельностью, огромна. И уже то, что он никогда не останавливал и
не сокращал ее, говорит о безмерной его любви к книге, которая есть то же,
что любовь к просвещению и к прогрессу.
Слово «прогресс» в хорошем значении постоянного движения вперед,
постоянного старания об улучшении, постоянной помощи просвещению
выражает очень округленно многообразие деятельности, забот и грусти А.С.
Суворина. Потому что о печалях родины он плакал не меньше лучших ее
сынов, не давая только печали разрастаться в отчаяние и уныние, которые
уже парализуют дело. Бодрость и борьба, вечно возобновляющаяся бодрость
и неустанная борьба, были постоянными спутниками А. С. Суворина за
весь полувек его работы. Без этих качеств он давно бы упал, сломился...
Любя русского человека и будучи сам глубоким русским человеком, он воз-
ненавидел некоторые русские слабости всею силою органического ненави-
дения: русскую тоскливость, мизантропию, торопливый нервный подвиг и
затем отчаяние и гибель. От этих слабостей он был свободен.
Живая личность, проницательный ум и чуткая отзывчивость были гос-
подствующею особенностью в душевном складе А. С. Суворина, и они не
допустили его до отожествления себя с каким бы то ни было политическим
или общественным направлением. Употребляя ходкое теперь слово «фрак-
ция», можно сказать, что нельзя вообразить человека, который так мало спо-
69
собен был бы приписаться к какой-нибудь «фракции», как он. Это был рус-
ский ум, а не «фракционный» ум; это был русский характер, а не «фракци-
онный» характер. То, что он всегда стоял на своих собственных ногах и ни-
когда не хотел думать чужою головою, как равно то, что он никогда, никому
и ничему не отдавал в плен своего сердца, - было одною из главных причин
той многолетней тайной и явной злобы, которая кипела вокруг него, но ко-
торая всегда была по своему происхождению «фракционной».
Многие всяческою ценою готовы бы были купить свободную голову Су-
ворина; но свободную голову Суворина никому не удалось купить. И эта
свобода Суворина была главным источником ожесточения против него мно-
гочисленных и часто могущественных литературных течений и политичес-
ких партий. Но он понимал, что Россия спрашивает от него таланта и труда
и что это нужно и полезно России в гораздо большей степени, чем те мелкие
перегородки, которыми перегородилось и искрестилось русское общество.
НЕЧТО ИЗ ТУМАНА «ОБРАЗОВ»
И «ПОДОБИЙ»
Судебное недоразумение в Берлине
Процесс о друзьях германского императора, конечно, не имеет «точки, по-
ставленной над i»... И, как ни много о нем писали, говорили о нем еще го-
раздо более; и в разговорах не пропущено «точки над i». Есть пословица:
«Назови мне друзей твоих, и я скажу» и т. д. Все это тяжело читать. Что
пережилось множеством лиц, имена которых поносились так, как с сотворе-
ния мира едва ли поносились какие имена, - и вообразить нельзя. Все это
грустно. И, каков бы ни был наш взгляд на человека, наконец, на порок, на
преступление, остается в силе завет нашего народа - смотреть на «обвинен-
ного» как на несчастного и подать ему «копеечку». Конечно, в медной ко-
пейке берлинские обвиненные не нуждаются. Но, бесспорно, нужнее, чем
копейка для приговоренного убийцы, им было бы хоть какое-нибудь слово в
оправдание или объяснение их дела. Вероятно, надеясь услыхать такое сло-
во, они и позвали, столь неудачно, медиков в «эксперты». Вот в качестве не
то экспертизы, не то литературной «копейки осужденным» мне и хочется
сказать о их деле несколько слов, после которых суд общества и печати над
ними не может быть так жесток. Я буду говорить как автор книги: «В мире
неясного и нерешенного», где среди других проблем пола и половой жизни
обсуждается на одной странице и эта.
Берлинский суд поражает своей примитивной грубостью. Это - какие-
то таперы дела, а не виртуозы его. Почему они позвали в «эксперты» меди-
ков, а не философов? Платон, величайший из философов дохристианского и
христианского мира, посвятил два самых знаменитых диалога «Федр» и
«Пир» обсуждению тех тем, которые до такой степени безграмотно, топор-
70
но, ремесленно обсуждались на берлинском суде и занимают целый мир.
Медики двадцать веков не касались этой темы, и коснулись ее они только по
требованию судебной медицины, так сказать, чтобы иметь какие-нибудь от-
веты на запросы судей, следователей и полиции. Ответ «по неволе» никогда
не есть талантливый ответ. Медики с глубочайшею бездарностью собрали
реестры фактов, «описали» свои наблюдения. И только. Не проронив на дело
никакого света, да, кажется, вовсе и не интересуясь зерном дела.
Почему все на суде заговорили об Алкивиаде и даже взяли глагол: «ал-
кивиадствовать», когда Алкивиад в этом отношении был только учеником
Сократа и содругом Платона и когда давно есть термин: «платоническая
любовь», «платонические отношения»? Суть этих отношений заключается
не непременно в физической связи, которая может и отсутствовать, хотя
может и быть налицо: суть их заключается в покорной, глубокой, востор-
женной духовной любви, какая завязывается между особями одного пола. В
диалоге Платона «Федр», который я читал несколько лет назад с целью вник-
нуть в существо этого дела, меня поразили строки, которые я привожу на
память: «Тогда влюбленный ради предмета своей любви оставляет своих
родителей, уходит из дома своего, покидает жену и детей - если они у него
были. Он расточает имущество на покупку предметов, которые нравятся
любимцу... Он ненасытно смотрит на него; счастлив, когда может дотро-
нуться до него; готов спать на пороге его жилища, как раб и сторож. И если
бы он не боялся показаться безумным, - то зажигал бы перед ним лампа-
ды». Последняя строчка, которую я привожу совершенно буквально, меня
поразила. Дело идет о каком-то обоготворении человеком человека: но обо-
готворении, проистекающем из физической красивости и, кажется, из юно-
сти, отрочества. Пушкин, наш великий и чистый Пушкин, шутя над этою
привычкою Востока, написал об этом восьмистишие, начинающееся словами:
Отрок милый, отрок нежный\
Не стыдись, навек ты мой...
и проч. Он поместил это в серии стихотворений «Подражания Корану». Когда
я читал «Тысячу и одну ночь», меня поразило тоном своим одно место од-
ной сказки, которое я тоже цитирую на память почти дословно: «И когда
они шли по улицам Дамаска, дядя и его племянник (положим) Абдул, то
юноша был прекрасен, как луна в четырнадцатый день месяца. И все купцы
лавок, видя их проходящих, выскакивали из-под своих навесов, покинув товар
на произвол, и робко следовали издали, не имея сил оторвать глаз от Абдула.
Дядя, видя их бесстыдство, стал подымать камни с дороги и швырял в них».
Тут описано то же чувство восторга, о котором говорит и Платон; чувство
какой-то богомольности, богомоления, какое вообще и все, влюбляясь в осо-
бей другого пола, испытывают, и тогда никто ничего дурного в этом не чув-
ствует. Но в редчайших случаях это вспыхивает и между особями одного
пола. С невыразимым тупоумием медики назвали это «извращением», «па-
тологическим дефектом», не видя той очевидности, ставящей их в смешное
71
положение, что Сократ, Платон и даже «подмастерье» их Алкивиад, уже во
всяком случае не уступали им, медикам и психиатрам, в остроумии, ясности
и глубине мысли и что все трое отличались необыкновенно цветущим здо-
ровьем и дожили до глубокой старости. В то же время Сократ, например,
был героем гражданского и нравственного долга. Супруга последнего, зна-
менитая Ксантипа, была в древности в том самом положении и так же обви-
нялась мужем в «сварливости», как разведенная жена фон Мольтке. Отно-
шения неудовольствия и, вероятно, «удовольствия» повторяются на рассто-
янии двух тысяч лет даже до подробностей. Явно, что мы имеем одно дело,
одно явление.
Оно так же древне, как мир, и так же распространено, как мир: но толь-
ко в толщу обыкновенного двуполого отношения, это однополое чувство
вкраплено так же редко и в таких же небольших количествах, как, напр.,
когда в сплошной породе кварца или полевого шпата «вкраплены» брызги
или кусочки яхонта, аметиста, топаза, изумруда. И редкость-то и была един-
ственною причиною, по которой медики, психиатры и юристы зачислили
это явление в рубрику «болезни», «извращения» и «преступления». Они тут
поступили с тем непониманием, грубостью и жестокостью, с какою врачи
расправились с несчастным Гоголем. Не говоря о Библии, которая рассказы-
вает об этой анормальности в одной главе с рассказом об Аврааме, т. е. пер-
вом древнейшем еврее, о ней говорит и Гомер («дружба» Патрокла и Ахил-
ла) и совершенно определенно рассказывает Фукидид в повествовании об
изгнании Пизистратидов: Гармодий и Аристогитон, знаменитые убийцы
Гиппия и Гиппарха, сыновей Пизистрата и тиранов в Афинах, были именно
такими «друзьями-возлюбленными». Шиллер посвятил этой греческой
«дружбе» одно из трогательных своих стихотворений. Как в случае Гармо-
дия и Аристогитона, равно Патрокла и Ахилла, так и в стихотворении Шил-
лера передается о факте, где один «друг» готовится спасти другого ценою
собственной жизни, но другой не дает этого, и оба они борются в готовнос-
ти умереть друг за друга. Едва ли это «патологично» и, в частности, «нрав-
ственно-патологично». Вообще мы тут имеет дело с «аномалией», «чудом»,
«с исключением из законов природы», «из порядка вечно текущей приро-
ды»: но ведь тогда радий и Лурд или феномены гальванизма среди всюду и
ровно разлитого притяжения тоже нужно бы назвать «патологией физики»
или «уголовщиной народного быта» (Лурд). Платон, очевидно описывая свое
чувство, говорит: «О, если бы был город, где все граждане были бы связаны
между собою такою любовью: он был бы непобедим, ибо тогда каждый граж-
данин был бы готов умереть за всех». Это именно то, о чем говорят Шиллер,
Фукидид и Гомер.
Патрокл и Ахилл - как сюжеты «психиатрии»! Платон и Сократ - как
примеры «мозгового вырождения»! И, наконец, Гармодий и Аристогитон,
родоначальники афинской свободы, как «нарушители правил полицейской
благопристойности»! Не явно ли, что полиция, юриспруденция и медицина
взялись тут судить о деле, действительно чрезвычайно странном, но отнюдь
72
не принадлежащем к порядку уголовных, сумасшедших или полицейско-
скандальных дел. Мы здесь имеем именно что-то вкрапленное в породу че-
ловеческую, в мировую природу. К аналогии с вкрапленностью минералов я
прибавлю ту, другую, по которой среди планет, обращающихся вокруг оси с
запада на восток (все), есть которая-то одна, обращающаяся с востока на
запад. Есть в природе исключения, исключительность. От теплоты все тела
расширяются, но резина сжимается. Зачем природе или Богу нужны такие
исключения - никому не понятно. Может быть, для того, чтобы не было все
- сплошным, ровным, арифметичным и немного туповатым, как и вообще
всякое «сплошь». В великом явлении пола (надеюсь, никто не станет отри-
цать, что это - великое явление) также вкраплены эти «разрывы», «анома-
лии», «исключения», «чудеса», «причуды», - которые не суть ни «извраще-
ния», ни «болезни», ни «преступления» и даже «пороки», а именно - стран-
ное для нас, может быть, смешное, и не более, едва ли более. Запомним еще:
«In corpore sano mens sana»*: так как в здоровье ума Сократа едва ли кто
сможет или посмеет усомниться, то ясно, что и телесно он был совершенно
здоров, т. е. в нем не было ничего для психиатрии и патологии. К приведен-
ным именам прибавим Шопенгауера, Шекспира и одного знаменитого рус-
ского музыканта. Если всех их запрятывать в сумасшедшие дома, то, право
же, на белом свете стало бы так скучно и бесталанно, что хоть повеситься.
Совершенно очевидно, что мы имеем здесь дело с феноменом, который и
медики и юристы должны оставить в покое; оставить уже потому, что они
ровно ничего в этом не понимают. Как я буду судить о том, чего не пони-
маю?!! А полиция, доктора и судьи не только судят, но и присуждают, нака-
зывают. И толпа, которая сама в этом не может разобраться, хохочет и позо-
рит, следуя авторитету судей и «науки» медицины. Хорошо было бы, если
бы, подчинившись «авторитету» медиков, толпа начала хохотать над умира-
ющим Гоголем: «ведь он умирал так смешно».
Гарден стал «обвинять»... В чем? Что эти друзья «имели влияние на
императора»: но, позвольте, кто же на императора не старается влиять? и
разве кого-нибудь за это судят? Тогда придется обвинять у нас Аракчеева,
Сперанского, Победоносцева. Явно, что во «влиянии» всегда виновен не вли-
яющий, а подпавший влиянию, если он ответственный человек или стоит на
ответственном посту. Гардену все обвиняемые могли бы ответить: «Пусть
этот публицист поднимает дело об опеке над императором, о назначении
регентства и проч, и оставит нас, частных людей, в покое. Тут мы имеем то
же, что в вопросе о Сократе и Платоне: те, видите ли, «мозговые выродки»
для таких умниц, как Крафт-Эбинг и Тарновский... Мы подошли к таким
заключениям, к таким оценкам, которым можно только рассмеяться в лицо.
Все обвиняемые могли бы поступить так, как Сципион Африканский, когда
у него демагоги Рима потребовали отчета в расходовании денег на военную
экспедицию. «Граждане, - сказал он апеллировав народу, - я вовсе не хочу
* «Здравый дух в здравом теле» (лат.).
73
давать отчета ни им, ни вам и никому. Сегодня годовщина битвы при Заме,
где я разбил Аннибала. Пойдемте со мною в Капитолий и принесем жертву
богам».
Только по глубочайшей застенчивости всех этих тем, обвиненные гру-
бым Гарденом не раскрыли рта и не смогли ничего ему возразить. Он гово-
рил именно потому, что груб и первобытен. Он говорил таким языком, в
таких выражениях, весь вообще процесс велся в таких площадных формах,
что музы умерли от стыда, не пролепетав ни слова. Я не без мотива упомя-
нул о «музах». Платон определенно говорит в «Федре», что эти вещи он не
сумел бы изложить обыкновенным языком и о них «можно говорить только
в дифирамбах». Он приводит это в объяснение того повышенного тона оду-
шевления, с которым действительно написан весь «Федр». Гарден кричал и
печать всего света раскричала о грубых физических отношениях («муже-
ложства»), которых, несомненно, среди «друзей» в Берлине не было. За это
порукою Платон. В «Федре» и «Пире» он оговаривает, что та «физико-ду-
ховная богомольность», которую он описывает, не имеет ничего общего с
грубыми физическими актами, с телесным половым общением, какому по
нужде (он это подчеркивает) предаются моряки во время плавания и солда-
ты в походе. Он говорит об этих фактах у моряков и солдат с чувством непо-
бедимого отвращения. Описываемое им явление совсем не в том заключает-
ся. Оно заключается в духовном «одурении», опьянении, экстазе, восторге,
восхищении, какое внушает собою гармония человеческого тела: вид его,
цвет его, «все» его. Оно изображается, правда, в поцелуях, объятиях, разго-
ворах, прикосновении, но не более или немногим более. Это - отношение
«вечного жениха» к «вечной невесте» без перехода где-либо или когда-либо
в отношения мужа и жены. В этой-то вечной влюбленности, без берегов, без
пристани, без удовлетворения, кажется, и заключается настоящая причина
того, что это платоновское «влюбление» переходит в экстатичность, стано-
вится «одурением» и дело доходит даже до затепления «лампад» перед «пред-
метом». Совершенно понятно, что тут возможны «оргии»; но совершенно
бесспорно, что никакого «мужеложства» на этих оргиях не происходило и
не происходит. Показания «участников-свидетелей», солдат и проч., и зак-
лючаются в том, что здесь была встреча по недоразумению, как бы плато-
новских моряков-практикантов с настоящими платониками: последние не
довели дела до конца, да и не сумели хорошенько объяснить его простолю-
динам. А эти простолюдины, прервав вначале же отношения и начав жало-
ваться в суд, ожидали, что дело кончится так, каку них, бывало, в казармах
или на кораблях. Весь суд в Берлине, в фактической стороне, построен на
этом столкновении недоразумений.
Все отношения в Берлине, прочитанные на суде нежные записки, влюб-
ленные эпитеты, поцелуи поднятого платка и, наконец, мольбы жен - все до
буквы совпадает с тем, что описывает Платон в «Федре», и не имеет ничего
общего с тем, что бывает в казармах и что описывают, мешая две области,
Тарновский и Крафт-Эбинг.
74
Интерес процесса заключается в том «магическом кольце», каким окру-
жили «друзья» императора Вильгельма. Во-первых, он сам допустил окру-
жить себя, и этого нельзя иначе ни назвать, ни выразить, ни определить, как
это он сам «вошел в круг», действительно магический. О магическом,
сверхъестественном действии и возбуждении подобных «кругов» говорит и
платоновская академия, и «мистерии» греков, где, судя по некоторым сим-
волическим мифам, предварительно рассказываемым и показываемым даже
непосвященным, происходили действительно... не столько оргии, сколько
глубоко возбуждающие, волнующие зрелища, отношения действия и проч.
Об этом нужно только догадываться, ибо никто из участников никогда не
рассказал о виденном. По-видимому, так как самые «оргии» коренятся на
«исключении из природы», на случае, аналогичном с «резиною, сжимаю-
щейся от тепла», то здесь мы имеем начало вообще «магического», «вол-
шебного» действия, странного, необъяснимого, исключительного в приро-
де. Преданные делу люди - слишком большого калибра, чтобы ограничи-
ваться поцелуем надушенного платка. Это - только смешная вещица, вы-
павшая из узла и подхваченная судом и Гарденом; но в узле, конечно, были
и есть другие вещи. Я не могу не указать для аналогии на «радения» наших
хлыстов и скопцов, тоже восторженные, тоже, может быть, «грешные», но
во всяком случае не «мужеложствующие», по крайней мере, у скопцов. Скоп-
цы и хлысты наши, по моему мнению (и наблюдению), суть бессознатель-
ные мужики-платоники. Вот подобное их «радениям» могло быть и на «орги-
ях» близ Потсдама. Те же мистика, экстаз, упоение. То же «богомольное»
отношение человека к человеку, религия человека как «личности» («хрис-
ты» у хлыстов, «культ императора» у «друзей» в Берлине) сливается в стран-
ный узел, который действительно затягивается вокруг «обожаемого» чело-
века, «христа» или «императора», и изолирует его от остальных людей...
Мы могли бы судить Платона, если бы он сделал «кляксу» в философии; и
тупой Гарден только тогда бы мог поднять свой скандальный, частью не-
сомненно лживый («мужеложство») шум, если бы сидел в Берлине, как Иере-
мия на развалинах Иерусалима. И публицисты, медики и судьи могли бы
скромно обойти молчанием это дело, в глубокую суть которого им так явно
не дано проникнуть.
ВЕЛИКОЕ НАЧИНАНИЕ В МОСКВЕ
Москва все богатеет мыслью и добротою. Недавно я посетил ее и, несмотря
на усталость, шел и шел пешком по ее улицам и закоулкам: Боже, до чего
она красивее Петербурга! Кроме этих стильных старых домов, где явно рас-
положилась одна семья, а не муравейник людей, ничем между собою не свя-
занных, как в петербургских «ноевых ковчегах», - кроме них, какая неувя-
даемая прелесть в совсем крошечных приходских церквах, почему-то по-
ставленных обыкновенно во дворе: таких крошечных, что церковь не только
75
меньше, но даже и ниже окружающих новых домов! И, кажется, - никакой
архитектуры: а хорошо! Особенно мне нравились совсем плоские церкви,
прилегшие к земле: точно хорошо взошедшая опара, с воткнутой посереди-
не палкой, или еще похожее на бабу, присевшую к земле и вокруг которой
пышно поднялся от воздуха подол. Нарядно, просто, по-деревенски, по-рус-
ски! Ну, какая там Византия, Юстиниан Великий и Св. Софья: ничего похо-
жего! Москва, засорено, заношено, - «до дыр»; но все мило, сладко, крепко,
привычно! Десять Св. Софий не взял бы я за одну такую плоско-купольную
московскую церковку, ни имени которой не знаю, ни архитектор ее неизвес-
тен, ни что там за люди молятся - никто не знает или не видел и не описы-
вал. Да и не надо описаний: все - суета. Родился. Прожил жизнь. Умер. Чего
еще разговаривать. Вечное молчание и вечный смысл.
Но я отвлекся общим, когда надо и хочу говорить о частном. В Москве
начинается новое, великое и прекрасное дело. Оно полно огромного практи-
ческого значения. Но всякий смыслящий человек легко свяжет с ним и не-
сравненный теоретический интерес.
У гроба церковь плачет: «Где слава? Где други и близкие? Какая разни-
ца между царем и рабом?» Смерть все поглотила... Великая безличная смерть
снимает лица как маски с людей и оставляет то «общее» в человеке, взгля-
нув на что оставшиеся живые содрогаются в ужасе и бессилии... Действие
смерти и на оставшихся в живых, на друзей, на родственников, есть дей-
ствие великого уравнивания: сиротливо прижимаются друг к другу эти ос-
тавшиеся, вчерашние враги смотрят без ненависти один на другого, чужие
между собою разговаривают около гроба просто и правдиво, как бы давно
зная друг друга, кичливость, высокомерие - все улетучивается куда-то. Все,
вся суета убежала, испуганная образом смерти. Нет человека, который бы не
углубился и не улучшился, взглянув на это чудище, враждебное всему чело-
веческому. .. Вот отчего столько раз смерть близкого человека становилась
для живых источником великих поворотов и переворотов. Сюда примыкают
великие подвиги христианского делания, великие решимости, великие пред-
приятия. Одно из таковых дел и начинается в Москве.
Как мне передал, рассказал и объяснил художник М. В. Нестеров, творец
«Отрока Варфоломея» и «Святой Руси», великая княгиня Елизавета Феодо-
ровна, потерявшая мужа таким ужасным образом, пережив невыразимое ду-
шевное потрясение, - положила всю энергию души на такое начинание, кото-
рое удивительно по своей новизне, мысли и глубине. Едва я выслушал о нем,
как мне сразу же стала ясна глубокая оригинальность всего замысла, великая
историческая его будущность. Но чтобы объяснить это и убедить в этом, нуж-
но сделать несколько вводных слов. Все мы прислушались ухом к названиям
«Мариинская больница», «Мариинская община сестер милосердия» и проч.,
и никогда ни одно ухо не слыхало, чтобы какое-нибудь христианское дело,
учреждение, подвиг было названо именем другой и совершенно забытой хри-
стианами сестры Марии, заботливой, подвижной и хозяйственной Марфы.
«Марфина обитель», «Марфина больница», - нет, этого наше ухо не слыхало,
76
и не слыхало этого никакое христианское ухо! Все помнят этот рассказ еван-
гельский: Христос был позван в дом двух сестер, Марфы и Марии. Обе ждут
Учителя, ждут с понятным восторгом и благоговением. Но между тем как
Мария вся погрузилась в настроение ожидания, в сладкую истому этого на-
строения, Марфа стала деятельно приготовлять дом к Его встрече: чистота
комнат, приготовление утвари, закупка яств и питания, все мелочи, все жи-
тейское, но нужное, но необходимое, без чего нельзя и не хорошо принять
даже кого-нибудь, не только самого сладкого Гостя на земле, все это наполни-
ло ее душу и ее часы суетой, движением, заботами, хлопотами. Как это «по-
нашему», «по-житейскому»... Соглашаемся, что это не богословие, но ведь и
для того, чтобы слушать богословие, нужны стены училища, сиденья для уче-
ников, нужны для всех пища и питие. Как замечает в одном месте К. Н. Леон-
тьев, «сам Христос алкал и, следовательно, подлежал законам человеческой
биологии и вообще человеческого материального существования». Да про-
стирая эту мысль дальше, глубже, скажем и спросим, не заключалась ли самая
идея вочеловечения Божия в освящении земли и земного, в санкции, пролитой
на все «житейское» с Неба? Иначе осталось бы думать, что, унеся душу и
мечты людей «на Небо» и оставив землю без этой мечты и без украшения
мечтательного человека, Христос пришел на землю не обогатить ее, а страшно
ее обеднить, пришел разорить красоту земного и земли... Можно и так ду-
мать, но это очень опасно, потому что повернуло бы все дело «на худой ко-
нец», как говорится в народе. Но кончим о евангельском рассказе. И вот при-
ходит в дом сестер Учитель. Мария, как размышляла о Нем раньше, так те-
перь, все не приступая ни к какому делу, села у ног Его и начала слушать Его
слова. Марфа же заканчивала свою милую работу. Верно, она устала и обра-
тилась к Христу раздраженно и с упреком: «Господи, скажи ей, чтобы она
помогла мне». Тогда-то Христос произнес одно из тех удивительных слов,
которые «если и земля, и небо прейдут - в них не прейдет и йота»: именно, он
ей ответил: «Марфа, ты заботишься о многом, а нужно одно: Мария же, сест-
ра твоя, избрала единое, что на потребу». Слово это сделалось одним из осно-
воположных слов для возникновения монастырей, монастыря, монашеского
духа, уставов и всей жизни. Красота слова повалила стены, города, устранила
сопротивление народов, потрясла тысячу устоев и водворилась в мысли хри-
стиан как блестящий и острый алмаз, на который кто ни посмотрит - точно
впадает в гипноз и начинает как автомат повторять это же, все это вековечное
слово... Не нужно «многого», нужно «одно»; не нужно хозяйства, экономи-
ки, украшений жизни, техники, всего многообразия цивилизации; не нужно
Шекспира, стихов, Пушкина. Все это - Марфа, все ее суета. Христос одобрил
Марию: «а Мария - это я», - говорит духовная академия; «я» - говорит монах,
даже если он тунеядец; говорит монастырь, даже если он весьма и весьма
сребролюбив. «Мария - это мы», - говорит вся духовная иерархия, священ-
ство, говорит о всем «своем», о всем «себе», противопоставляя резко это «свое»
царствам, городам, быту, поэзии, наукам, пошедшим по суетным путям
«Марфы»...
77
<II>
Между тем для чего делать из слов Спасителя блестящий камень, смот-
ря на который впадаешь в гипноз. Гипноза ни для чего и ни перед чем не
нужно. Гипноз есть беспамятство и сон, а нужно бодрствовать. В рассказе
изумительной красоты мы должны отметить, что самая красота картины
происходит от ее полноты, и Мария весьма потускнела бы, не оттеняйся она
стоящею около нее Марфой. В пустыне 5000 народа слушало Спасителя.
Вот сколько «Марий»... Но именно оттого, что они все слушали, - не полу-
чилось особенной картины, особенной красоты; и всякий, читающий Еван-
гелие, все народы, его читавшие, соглашаются и согласились, что сцена этих
трех, Иисуса, Марфы и Марии, жизненнее, прекраснее, нравоучительнее,
более захватывает наше сердце, нежели зрелище 5000 народа, слушающего
Иисуса... Так это непосредственно. Так это очевидно. И следовательно, за-
нятие, так сказать, всего полотнища картины «христианской жизни» одни-
ми только Мариями, все слушающими и слушающими пусть и Небесного
Учителя, все только смотрящими на Него и от Него ни на шаг не отходящи-
ми, - представляло бы некоторую какофонию и безжизненность. Все только
одни священники, люди семинарского образа; «не надо» ни купцов, ни вои-
нов, ни ремесленников, ни торга, - не говоря уже о Шекспире и Пушкине, о
«стишках» и театре. Было бы нестерпимо монотонно, ужасно, убийственно,
люди решительно задыхались бы: хотя среди них, в самом центре, и блистал
бы алмаз изумительной цены - Евангелие. Нет, нужна и Марфа. Без Марфы
и сама Мария теряет долю ценности. Без торга, музыки, ремесел, без вои-
нов, землепашцев и купцов, без всего «нашего», «житейского», - Евангелие
вдруг неожиданно гаснет. Как солнце: если оно не освещает землю, что оно,
этот огненный катящийся шар, в черной пустыне мировой тьмы?! Лишь когда
его лучи осыпают луга, ледники, горы, снега, - оно вдруг само становится
прекрасно, жизненно, необходимо! Таким образом, хотя слова Христа оста-
ются истинными, что «единое - на потребу», и слушание слов Спасителя -
лучше и выше всего: однако есть «путь Марфы», при котором и Мария един-
ственно получает весь свой смысл, наполняется красотою, и в переплетении
этих «путей Марфы» (вся цивилизация) само Евангелие получает то дей-
ствие, целебность, нужность, питательность, без которых оно решительно
ничего этого не имело бы.
Мир был бы «духовная академия».
Сто процентов все «попов», дьяконов, причетников.
Ужасно скучно и нисколько не поучительно.
И все от того, что монотонно... Увы, закон разнообразия как условия кра-
соты даже господствует и над такою абсолютною книгою, как Евангелие.
«Путь Марфы», очевидно, необходим. В самом себе, он пусть даже и не
свят: но он занимает святое положение в мире, в космосе, в гармонии ве-
щей... Ложбинка, где лежит он, - свята; хотя сам по себе «путь Марфы» и
есть суета, труды, заботы, хозяйство, а не молитва и не «обедня»...
78
Это так очевидно! В данной евангельской сцене мы наблюдаем удиви-
тельное явление, если можно так выразиться, сверхлогичности: в нем нару-
шен, превзойден логический закон тожества, самый основной и первый,
без которого, как говорят ученые, не обходится ни одно человеческое сужде-
ние. По закону этому «все равно самому себе» и о всем можно сказать да
или нет, но не сразу «да» и «нет». Между тем «путь Марии» только и полу-
чает свое «да», когда переплетается с «путями Марфы», т. е. при условии,
если нечто другое его отрицает; как, разумеется, и «путь Марфы» выносим,
целебен, спасителен лишь при условии, когда хорошо оберегается «путь
Марии», т. е. совершенно другой, его отвергающий путь! - «Хорош ли путь
Марии?» На это только и можно ответить: «Да, если ему не следует Мар-
фа!» - «Хорош ли путь Марфы?» - «Да, если по нему не идет Мария». Здесь
да и нет слиты в одно, и Христос победил Аристотеля.
Это-то и не было оценено монашеством, ринувшимся гипнотически по
«пути Марии». «Нужен и Шекспир», - это ранее или позже вынуждено бу-
дет сказать все монашество, и попы, и отшельники, старцы, и святые в гро-
бах своих, все...
Но «путь Марфы», как тоже указанный в Евангелии, содержащийся в
Евангелии, как другой евангельский путь помимо «пути Марии», был не толь-
ко не возделан христианством, но и совершенно забыт был церковью, при-
том отчасти гневно, презрительно, враждебно забыт. Забыты эти «милые
тревоги хозяйства», как тоже «евангельские заботы», как возможные «еван-
гельские заботы». И хлеб, и яства, и обстановка; утварь, мебель, весь «дом»
и то бесконечное понятие, которое содержится в слове «дом»...
Но это - официально. В официальном учении и церкви. В народной же
вере, в народном православии «путь Марфы» широко разросся: народ наш
всю земную заботу подвел «под Бога», сложив даже поговорку: «Без Бога -
ни до порога». Проходя ночью или поздним вечером по пустынному ряду
лавок в московском и петербургском Гостином дворе, - удивляешься огром-
ным иконам, с зажженными перед ними лампадами, поставленным поперек
хода, вертикально к ряду лавок, - это русские «Царицы Небесные» охраня-
ют и блюдут «русскую торговлю». - «Чтобы вор не украл, чтобы злодей не
вошел; чтобы все было по-прежнему, по-старому, по-хорошему». На Нико-
лаевском мосту, в Петербурге, в месте разводки моста, поставлена часовня
с образом и неугасимою лампадою. «Экое чудо! Мост, из железа и камня: а
рабочий, одной рукой работая, может поднять край его, чтобы пропустить
суда. Как над этим чудом Божиим, явленным в разуме человеческом, не по-
ставить иконы». Рассуждение очень простое и совершенно связное. Проез-
жая давно-давно через Калугу, я был удивлен на вокзале чудесной красоты
образом Калужской Божией Матери: с книжкою в руке, стоит чудная Дева,
всего 14-15 лет от роду. Одна из «Матерей» русской земли. Пусть и не по
катехизису, а нам с нею хорошо. Чувствуем всею силою очевидности, всею
ясностью непосредственного ощущения, что это «богоугодно» так делать,
так поступать. Известный г. Поселянин (псевдоним Е. Н. Погожева), пер-
79
вый знаток народного и живого, действующего православия, передавал мне,
что знаменитый в орловских, калужских и тульских краях, а также и в ос-
тальной России известный, старец Амвросий хотел написать образ «Божией
Матери - спорителъницы хлебов» (увеличивающей на полях плодородие
хлеба): но Св. Синод не дал «дальнейшего движения» мысли великого стар-
ца, одного из светочей православия за весь XIX век. Этот рассказ г. Поселя-
нина, слышанный мною года четыре назад, к сожалению, я не умею пере-
дать в подробностях: было ли то явление старцу этой иконы в видении, или
ему лично пришла такая мысль - этого я не помню. Желательно, чтобы он
где-нибудь память об этой мысли старца запечатлел и утвердил печатно. Само
собою разумеется, что если Божия Матерь помогает, например, в болезнях,
горе, бедности, то отчего не помочь земледелию и крестьянину; если цер-
ковь служит молебны «о дожде», - значит, может служить их и Богородице-
спорителънице хлебов. Тут от одной мысли до другой расстояние меньше
вершка. И конечно, раньше или позже мысль старца придет в исполнение.
Всякое движение, все новое - сперва зерном, а потом колосом; выколосится
и эта зернышко-мысль старца Амвросия. Наконец, народ во всех случаях
болезни прибегает к святой воде: промывая ею больной глаз или употребляя
внутрь в случаях внутренней болезни. «Все под Богом» - и поля, и воды,
леса, хлеба; и даже вот железные дороги и инженерная техника.
Таково движение народной души. Очень хорошо, что официальная цер-
ковь, еще придерживающаяся «за греков», не препятствовала этому русско-
му самостоятельному росту. Все православие у нас глубоко факгично, глу-
боко не теоретично; может быть, и хорошо, что никакие величественные
теории у нас пока не создались, богословские системы не сложились. Книги
всегда можно написать потом. Вера у нас растет, как зелень в полях, - под
небесным дождичком. И хорошо. И пусть.
<1П>
С этим народным движением совпадает мысль великой княгини Елиза-
веты Феодоровны, - сколько она содержит в себе богословского оттенка.
Как мне одушевленно передавал М. В. Нестеров, - скорбная княгиня-вдова
вложила всю свою душу и употребила все материальные средства, какими
располагает лично, в устроение «Л/^фо-Мариинской обители милосердия»,
- деятельного иолумонастыря, исключительно с назначением практической
помощи населению. Воздвигнута обитель в Москве, на Большой Ордынке.
Как известно, по уставу, монастыри должны быть вне черты города; и те
монастыри, которые мы сейчас наблюдаем внутри города, - попали сюда
вследствие разрастания городских улиц: город разросся и охватил собою и
монастырь, обычно древний, но первоначально построенный обязательно
вне его. Но новому предприятию княгини и не дано имени «монастыря», а
уклончивое имя «обители». И хотя это есть народное имя монастыря же,
однако, вследствие другого названия, для нее не являются формалъно-обязъ-
80
тельными монастырские уставы и правила. Община, задуманная великой
княгиней, остается, таким образом, свободною во внутреннем распорядке и
может в будущем творить... Сестры ее не суть монахини, хотя и безбрач-
ны; безбрачие вытекает только из деятельных задач обители, требующих
всецелого посвящения себе личности и сил вступившей сестры. И это без-
брачие не связано ни с какими другими монашескими обетами. Наконец, -
оно временно: в «сестры» вступают не разом и не навсегда, а на сроки: на
год, на три года, на шесть лет и долее: но ни в каком случае не навечно, и во
всяком случае без монашеских обетов, без пострига в монашество. Кроме
сестер, трудящихся в обители или высылаемых из обители на помощь насе-
лению, - обитель будет принимать в себя и сотрудниц, остающихся совер-
шенно в миру, среди населения. Через их посредство она сплетется теснее с
народом, с жизнью. Вопрос был в имени «сестер», которые суть и монахи-
ни, и не монахини, живут и в миру и вне мира; служат церкви, находятся в
ограде церковной, и, однако, трудятся всецело для мира, для людей, находя-
щихся вне обители. Явно, что они стоят в церкви как некоторый чин ее, как
ступень в слоях церковного жития: но в современной церкви для этого осо-
бенного чина и этой своеобразной ступени нет имени и примера. Тогда сво-
евременно было вспомнено о древнем и забытом потом чине «диаконис», -
как бы женской параллели диаконского служения; чин этот был именно толь-
ко забыт, но не упразднен и еще менее отвергнут. Он вышел из употребле-
ния на всем Востоке и Западе, где одинаково существовал; но сохранял и
сохраняет все право оживиться, воскреснуть вновь, появиться опять. Этот
цветок духовной жизни никогда не вырывался из церковной почвы, но он
только не поливался.
Протоиерей Митрофан Сребрянский, - сотрудник великой княгини Ели-
заветы Феодоровны во время японской войны и теперь духовник новой оби-
тели, в своем «Пояснительном слове об открываемой е. и. в. вел. кн. Елиза-
ветою Феодоровною Марфо-Мариинской обители милосердия», - делает та-
кое историческое введение к этой сердцевине дела.
«Люди, решившиеся всецело посвятить себя Богу, шли исстари двумя
путями: монашеским и диаконским или диаконисским. Разница была в том,
что монашество спасается и спасает более подвигом внутреннего преобра-
жения человека посредством молитвы, самоуглубления и созерцания. Оно
этим подвигом так облагораживает человека, таким делает его чистым, что
обновляет и других, которые, приходя к этой духовной сокровищнице, обиль-
но черпают из нее необходимое себе руководство. Заслуги самоотвержен-
ной работы монашества над очищением и возвышением внутреннего чело-
века огромны. Диаконисы служили также Богу, но спасали ближних и души
свои более деятельною любовью, трудом милосердия для бедного, падше-
го, темного и скорбного человека, однако непременно ради Христа, во Имя
Его. Первый путь, монашество, по милости Господа, существует и жив до
сих пор, а путь деятельного служения любви Христовой по различным об-
стоятельствам утратился, и теперь лишь отголосок его находится в раз-
личных благотворительных учреждениях, особенно в общинах сестер ми-
81
лосердия. Открывая Л/ар^о-Мариинскую обитель, имелось в виду именно
вызвать к жизни в церкви этот забытый путь диаконисского служения хри-
стианской любви. Сообразно этой идее, и устройство Обители Милосердия
дано чисто церковное: во главе стоит настоятельница, при ней духовник,
казначея; сестры внутреннего состава непременно православные, верующие;
дисциплина, в смысле хранения послушания, уставов церкви, - и данных
обетов (не монашества) - чисто монастырская. В период испытания сестры
должны прослушать медицинские курсы и, дополнительно, духовные кур-
сы, чтобы еще раз перед началом деятельности оживить в сознании своем и
в сердце корень жизни самоотверженной - веру в Бога, вообще религию и
уставы христианские и любовь к человеку; познакомиться с общей христи-
анской и особенно святоотеческой литературой, чтобы уметь потом поддер-
жать не только физически, но и духовно ближних своих. Значит, Обитель
Милосердия не только не отрицает монастырей, наоборот, - она становится
с ними рядом, делая общий труд служения Богу, ближним и душам своим. В
дальнейшем будущем даже предполагается за Москвою, среди природы,
создать свой собственный скит (т. е. уже настоящий монастырь), в кото-
ром престарелые, утрудившиеся сестры обители, или по немощи оказавши-
еся не в состоянии продолжать нести труд деятельного служения любви,
могли бы, постригшись в мантию, вообще монашество, - в молитвенной
тиши, в молитвенном подвиге о спасении мира и процветании родной им
обители окончить дни жизни своей».
Наконец, сделана оговорка о сестрах «внутреннего состава», обязатель-
но православных. Явно, что это - сердцевинный кадр. Но извне к нему прим-
кнут «сестры внешнего состава», которые могут быть и лютеранками или
вообще других исповеданий. Русь так многообразна, что это непременно
так и будет: под руководством русских и православных пусть работают рус-
ские других вер на помощь ближнему.
Уже из обещания построить со временем настоящий монастырь легко
усмотреть, что данное учреждение есть вовсе не монастырь, а только имеет
стиль монастыря: стиль этой строгой и чистой дисциплины, глубокой упо-
рядоченности быта, вынесение всего сорного и грязного, что, увы, присуще
едва ли не всем русским «учреждениям». Но уже из оговорки, что «сестры
должны быть непременно православные и верующие», - видно, до чего это
учреждение стоит далеко от уставного монастыря: возможно ли было бы
добавить о монахинях: «Они должны быть православные и верующие».
«Открываемая Обитель Милосердия, - говорит далее тот же автор -
духовник обители, - если только судит Бог ей процвести и принести плод,
должна сделаться как бы школой (курсив автора) сестер-диаконис, откуда
они могли бы идти работать и в попечительства церковные и городские, и в
другие благотворительные учреждения, и в дома богатые и убогие, и в де-
ревни наши темные, бедные и скорбные, где деятельность сестер обитель-
ских особенно должна принести обильные плоды». Устав ставит только одно
условие: где бы ни работали сестры, как бы далеко они ни раскидались по
лицу русской земли, - Московская Обитель милосердия должна непремен-
но оставаться их «духовным центром, своего рода семейным очагом, откуда
82
они получают управление и поддержку и куда по временам могут возвра-
щаться для нравственного отдыха и обновления сил». «Этот центр уничто-
жит гибельную разрозненность, а значит, и слабость, объединит в один мо-
гучий организм всех трудящихся для целей обители, какое бы расстояние
их ни разделяло и какие бы скорби, тяготы и неприятности ни терзали их».
Учреждение прямо великое! С этими религиозными оттенками и в этой
сказывающейся с первого шага широте замысла - это совершенно ново на
Руси! Что-то вроде духовного братства, филантропического рыцарства, что-
то наподобие католических «орденов» или «армии спасения»; но именно -
только «наподобие» и, в сущности, даже без всякого «подобия». Мы употре-
били эти разные, пришедшие на ум имена, чтобы охватить разнообразную
суть нового учреждения, - но вполне русского, строжайше православного,
типично народного. Учреждения, которого давным-давно ожидает русский
народ, недостаток которого в церкви русской отогнал от этой церкви или
расхолодил к ней множество пламенно веровавших душ, ставших даже в
антагонизм с церковью, в борьбу с нею! Сколько приходилось слышать, чи-
тать: «Ах, они только молятся, а ничего не делают»; «Бога любят, а человека
бросают без помощи. В таком случае любят ли они и Бога? И чиста ли их
молитва?» Можно сказать, не V2, а9/ упреков, злобы, вражды, неуважения
к церкви возникло по этому практическому мотиву, всегда жгучему, всегда,
увы, неотразимому! Таким образом, с чисто церковной точки зрения, с точ-
ки зрения успехов церкви в народе и обществе и, наконец, скажем полнее и
смелее, спасения православия - начинание великой княгини Елизаветы Фе-
одоровны несет такие обещания, каких поистине никто еще церкви не при-
носил пока. Нужно вспомнить наш опасный момент, когда свобода совести
объявлена, переход в иные веры не запрещен более, а секты и иные испове-
дания шумят у ограды церковной и, выдвигая свои дела практического ми-
лосердия, бросают через ограду нашей церкви презрительные взгляды, спра-
шивая у пассивных и недоумевающих верующих: «У вас что есть подобно-
го? Что подобного предложило вам ваше красивое, но бесплодное, бездея-
тельное православие? И не сказано ли о смоковнице, не приносящей плода,
что она порубается секирою?» Мирянам нечего на это ответить; но воисти-
ну страшно, что нечего ответить на это и духовной иерархии, епископам,
митрополитам, самому Синоду. Ведь, воистину, они «созерцали», а не дела-
ли; занимались «богословием» - и никогда, никогда по притче Спасителя «не
перевязали ран» больному, ушибленному, ограбленному, израненному. Дела
милосердия были чем-то случайным и совершенно побочным в деятельнос-
ти или, вернее, в бездеятельности церкви; несмотря на несколько раз повто-
ренные призывы с высоты Престола, русское духовенство все-таки активно
и само не двинулось по пути помощи населению и по пути просвещения
населения. Ко всему приходилось гнать чуть не дубьем; соблазнять награда-
ми, то скуфьей, то камилавкой, то набедренником и палицею, то, наконец,
вожделенною митрою («митрофорные протоиереи»). Как это было грустно
и как некрасиво! Где, однако, источник этого и не пора ли если не оправдать
83
духовенство в этой его хладности и косности, то, по крайней мере, объяс-
нить эту хладность и косность совершенно достаточно и удовлетворитель-
но? Да очень просто: «путь Марии!» Куда наклон горы, туда потекут и
источники. Деятельного идеала не было в самом духе церкви, предавшейся
восточному созерцанию, предавшейся личным восторгам отшельнического
жития. Практического духа вовсе не было в православии: как же духовен-
ство могло подняться к практическому труду и подвигу хотя бы по призыву
Государя, которому «всемерно» готово было служить, но не могло же слу-
жить, не умело служить, когда совершенно обратное навевало на духовен-
ство все, все, от ушедших вдаль от мира монастырских обителей до отвле-
ченно-схоластической науки семинарий и академий. Даже и академии ведь
все при монастырях; даже семинариями управляют ректоры-л/онахи. Сюда
тянет все, весь дух. Священнику так же трудно было воодушевиться мыс-
лью о практической службе народу, как среди Сахары невозможно напить-
ся воды из реки. Разве-разве где капнет капля или найдется подземный ключ.
Так и духовенство в редких случаях все же оказывалось практически дея-
тельным. Но это не по задаче существования его, а вопреки задаче его суще-
ствования! «Путь Марии!» - в этом сказано все.
<IV>
В самом названии новой обители «Марфо-Мариинскою», причем имя
Марфы выдвинуто вперед, - сказалось ясное сознание о повороте тысяче-
летнего дела! Как понятно, что эта обитель и не могла, и не должна была
стать монастырем. Сделайся она монастырем, прими монашеский устав и
все его естественные последствия - и дело рухнуло бы в самом начале;
никакой новой мысли не было бы, и жертвовательница сделала бы 1001-е
пожертвование на монастырь или увеличила бы на «единицу» сонм мона-
шествующих. Ничего бы не вышло; не вышло бы никакого дела и ничего
полезного для родины. Ибо монастырей в Москве, в Петербурге, как и по
всей России, очень много, и даже при гр. Д. А. Толстом пришлось многие из
них упразднить за безлюдностью. Это такой аргумент, против которого вся-
кое одушевление бессильно. Очевидно, нужно в линии христианского под-
вига что-то другое. Что же именно? Поистине, есть что-то вещее и священ-
ное в великой догадке - «да, путь Марфы, забытый совершенно христиан-
ством»; и восстановление чина «диаконис», рано угаснувшего, может, толь-
ко потому, что и не было нужды в практической филантропии в то древнее,
первобытное время, в том элементарном сложении общества, наконец, в том
климате, при плодородии южных стран, при тогдашнем отсутствии медици-
ны и вообще средств и знаний помощи больному, слабому, изнемогающему.
«Диаконисы», вероятно, только раздавали натурою милостыню или относи-
ли очень бедным маленькие суммы денег. Оба дела могли быть исполнены
каждым членом общины или священником. Не было специализации, и ис-
чезла нужда в специалистах. Не подлежит никакому сомнению, что деятель
84
с натурою Василия Великого, что иерарх, с его сердцем, мужеством и ини-
циативою, не колебался бы ни минуты в наше время восстановить этот «чин
диаконис», существовавший при каждом древнем храме; не усомнился бы
напомнить и о «пути Марфы» грозным голосом: «Не может же Христос войти
в грязную обитель, где негде сесть, где пусто и сорно: приготовим Ему
обитель по образу Марфы».
Между прочим, в русско-японскую войну было много упреков, отчего
монастыри не отводят у себя помещений для раненых? Приводились имена,
указывались местности. Конечно, это очевидно: где и проявить «христианс-
кую любовь», как не в деле ухода за ранеными. Прямой путь. Монастыри,
однако, нигде на это не откликнулись, а местами и грубо отказали. Насколь-
ко помнится, епископ Никон написал принципиальное возражение на упре-
ки, указав, что монастырь есть место молитвы, а не место помощи. И так, и
не так. Есть случаи, где помощь - та же молитва, выше молитвы! Но монахи
не могли и не умели ухаживать за ранеными, не учились этому никогда и ни
один и воистину могли дать только помещение, квартиру, - что ведь почти
равнялось бы выдаче квартирных или больничных денег. Вопрос сводился к
кошельку, а не к труду, - и все обнажило, с обеих сторон, циничную свою
сущность: «Дай!» - «Не дам». Между тем монастырь действительно есть
только место молитвы, тысячу лет был только этим, для этого был основан:
и так же не мог превратиться в больницу, как никто не предлагал превра-
щаться в больницы женским институтам, гимназиям, судебным или адми-
нистративным местам, хотя, без сомнения, судьи и институтки «сочувство-
вали раненым». Просто другой род занятий, другая цель здания. Но где же
«христианская помощь» со стороны людей специально христианского духа,
каковы суть монахи? Явно, что помимо черного монашества, молитвенно-
го, созерцательного, келейного, пустынного, - церковь давно должна была
выдвинуть, и именно в составе чинов своих, степеней иерархии своей, как
бы белое монашество, совсем с другими обетами, с другим подвигом, с дру-
гим духом, нежели черное: именно - монашество житейское, мирское, с
монашескою дисциплиною и чистотою, но с подвигом и деятельностью сре-
ди людей, в городах, в селах, в местах голода, в бедствиях войны, повальных
болезней, пожаров, наводнений и проч. Но чтобы здесь не только «сочув-
ственно ахать», но и помогать, - нужно многое знать, уметь, многому вы-
учиться. Таковой белый монастырь непременно должен был соединиться с
наукою и с техникою, с искусством и с ловкостью, с трудолюбием, инициа-
тивою и живостью: совсем другой «образ» монаха или монахини, чем в со-
зерцательном пустынном монастыре!
«Название Марфо-Мариинской обители, - говорится в «Объяснитель-
ном слове», - является соответствующим евангельскому слову о двух сест-
рах: Марфе и Марии, в которых обеих выразилось понятие о христианской
любви. Через это выражена та мысль, что каждая, идущая работать в оби-
тель или вообще служить ее целям, должна постараться соединить в себе
обе эти части, т. е., избравши, как Мария, благую часть Христа, просветив-
85
шись серьезно и сердечно Его учением, - идти с молитвою, словом утеше-
ния и христианского просвещения к темному и скорбному человеку, а по-
путно с этим должна желать и уметь служить Христу радушием к странни-
кам, уходом за больными, помощью физическим трудом тем ближним, ко-
торые во всем этом нуждаются. Это служение Христос в лице ближнего при-
мет Себе Самому, как и сказано в Евангелии: «Истинно говорю вам, так как
вы сделали все сие (посетили больного, в темнице и проч.) одному из брать-
ев Моих меньших, то сделали Мне» (Матфея, глава 25). Стремясь прийти на
помощь нуждающимся в ней, Обитель Милосердия стремится к осуществ-
лению этих христианских идеалов и объединяет ряд соответствующих уч-
реждений, в которых сестры обители будут только работать... Лица, посвя-
тившие себя Марфо-Мариинской обители милосердия, по роду своей дея-
тельности должны всецело принадлежать ей и отказаться по возможности
от своей личной жизни и интересов во время пребывания в обители мило-
сердия, будучи связаны соответствующими добровольными обещаниями на
известные сроки времени, - один, три, шесть и более лет».
Уже из того, что, лишь состарившись и прекратив активную службу Оби-
тели, сестры-диаконисы могут принимать постриг и поступать в монас-
тырь, - далекий от Москвы, - видно, что Обитель в деятельном своем состо-
янии, так сказать прямо лицом, исключает из себя монашество («путь Ма-
рии») и не находит возможным слияние себя с ним или его с собою. Это -
два пути, и - разные пути! Я расспрашивал М. В. Нестерова о некоторых
подробностях. Он мне сообщил, что план этой обители возник у великой
княгини Елизаветы Феодоровны вскоре после постигшего ее удара, - поте-
ри мужа, - но что разные причины личного и семейного характера не столько
мешали ей осуществить эту мечту и трудный подвиг, сколько ласково удер-
живали. Не невероятно, что ввиду новых религиозных веяний, бесспорно
выступивших здесь, встретилось нечто и «мешающее», хоть и прикровенно.
Москва - старый город; главным образом он выдвинул старообрядчество; и
есть люди, которые в душе-то не очень старолюбивы, но ханжат около всего
старого и «традиции»... Но теперь мысль и план великой княгини получили
Высочайшее одобрение, и со стороны «позволительности» все кончено.
Нужно заметить, что великая княгиня не учреждает только на свои сред-
ства эту обитель, но основывает ее как личное свое дело и становится во
главе ее как деятельница, подвижница и труженица. Я спросил у М. В. Не-
стерова, какая же форма будет у новых диаконис?
- Белая. И - епитрахиль.
«Епитрахиль», - я помню в его ответе, не забыл. Это та часть священни-
ческой одежды, без которой он не служит никакой службы и не исполняет
никакой требы. Итак, с именем «диаконисы» женщина впервые войдет в
ряды официального духовенства.
Сам Нестеров призван расписывать церковь при этой обители и трапез-
ную в ней и исполнен сомнения и страха, сможет ли вложить в труд свой тот
энтузиазм и вдохновение, какого требует другое великое вдохновение, поло-
86
женное в основание замысла обители. Судя, однако, по всему, чего другого,
а страстного желания отдать этой работе всю душу у него хватит. Нельзя не
сказать, что добрая и благородная княгиня, и всегда пользовавшаяся боль-
шою и всеобщею любовью в Москве, - с осуществлением ее замысла вой-
дет в нашу историю как дорогое светлое лицо, которое никогда не померкнет.
Дай Бог всему пути, разума и силы.
У МОГИЛЫ ИОАННА КРОНШТАДТСКОГО
Тургенев в одном месте заметил, что источник и подлинная суть религии
лежат в потребности чуда, в надежде на чудо, в молитве о чуде. Рассуждение
его, написанное до дней, когда он тяжко и безнадежно заболел раком спин-
ного хребта, хотя глубоко, но как-то отчужденно далеко. Видно, что он на-
блюдал молитву, но не молился сам. От этого, будучи прекрасно и очень
серьезно в своем течении, оно кончается тоном каламбура: «В сущности,
всякая религия сводится к взыванию -Господи! сделай так, чтобы дважды
два не было четыре».
Здесь есть задняя мысль: «Молитвы пусты, религия не действительна;
это - предрассудок ума, еще не выучившегося, что дважды два может быть
только четыре».
«Пусть течет все как течет», - говорил человек, еще не захворавший
раком.
Прекрасное, и в больших частях верное, его рассуждение отчасти без-
жалостно к человеку й отчасти прямо неверно. Молитвы не проистекают
только из боли и ищут не одного чуда. Есть молитвы благодарственные -
это раз. Наконец, есть молитвы, если так можно выразиться, гармоничные.
Кант говорит, что он не может без трепета смотреть на звездное небо и
думать о нравственном долге человека. Эту молитву нельзя назвать иначе,
как гармоничною молитвою, ибо она вытекла просто из гармонического и
прекрасного устройства человеческой души. Когда за всенощной, в самом
конце ее, хор поет: «Свете тихий, святыя славы» и проч., то он поет это не
от боли и не ради того, что человек и люди обречены скорби страданий, а
поет, просто взглянув на вечер и красоту вечера. Это - также молитва гар-
монии. Вертер у Гёте, перед тем как умереть, умереть спокойно и свобод-
но, смотрит на созвездие Большой Медведицы. Достоевский в первом но-
мере своего «Дневника писателя» вспоминает об этом и называет это чув-
ство Вертера, т. е. литературное чувство, «молитвой великого Гёте». Вот
еще молитва гармонии.
Но, конечно, Тургенев прав в том отношении, что самые частые молит-
вы, что главная масса молитв суть молитвы просто о чуде и произносятся
они в нужде, скорби. Церковь этого и не скрывает. Все богослужение пере-
рывается «октениями», а в них постоянно звучит это простое: «Подай, Гос-
поди». Таким образом, философскую мысль мудрого Тургенева знает рус-
87
ское простонародье, но оно ее знает, не прибавляя каламбура. В самом деле,
сказать о всякой молитве о чуде, что это она произносится в надежде, не
будет ли «дважды два пять», безжалостно и прямо дурно. Тургенев пережил
чудный, благородный роман с Виардо; очень боялся своей мамаши. Но если
он и был или бывал отцом, то об этой стороне его жизни очень мало извест-
но, и вообще она как-то тускла, неясна. Он был писателем чистой крови,
художником, идейником. В нем было мало житейского, нашего, обыкновен-
ного; мало - толпы, будничного. Он был «героем», ну а героям для чего
молитвы? Но в серой, тусклой толпе бывают такие коллизии, иногда такая
пронзительная боль ударяет в сердце матери, отца, мужа, невесты, жениха,
что всем этим несчастным сказать о их молитвах, что они «желают дважды
два пять», - бесчеловечно. Но, кроме того, это и прямо неверно. Чудо есть,
бывает. Как тело человека состоит из твердых, неподатливых костей и мяг-
ких - мускулатуры, из нежной ткани легких, из бьющегося существа - серд-
ца, так точно лишь некоторые части мироздания устроены по закону не-
поддающейся математики, и в этих частях «дважды два - всегда пять», но
другие части его скорее построены по типу «неопределенных уравнений»,
где все колеблется, где все зависимо, подается, уступает... вот даже молит-
ве, или по преимуществу молитве. И философ, размышлявший о природе
вещей так же много, как Тургенев, мог бы сказать в противовес ему совсем
другое: «Молитесь, православные, молитесь горячо, крепко и с полной ве-
рой, что Бог вам поможет. Философы не совсем знают сущность мира. Сущ-
ность мира знают не меньше их верующие».
Это - хорошо, и «по-православному», и демократично. Нужны некото-
рые границы и для философии.
* * *
Иоаннов монастырь, на р. Карповке, - совсем в Петербурге: по тому самому
Каменноостровскому проспекту, по которому непрерывной линией мчатся
роскошные экипажи «на Стрелку», а зимою визжит трамвай, - в пяти мину-
тах ходьбы в сторону находится и Иоаннов монастырь, огромный, краси-
вый, очень удачный по архитектуре. Он весь из цветных камней белесовато-
го цвета, но не однообразных, и потому не монотонный. Белое, зеленое и
немножко красного цветит в глазу. Но все это как-то не придумано, а «так
монашкам понравилось». Он гораздо красивее окончательно неудавшегося
храма Воскресения Христова, построенного на Екатерининском канале, на
месте убиения Императора Александра II, и который так долго строился и
так дорого стоил. Я сравниваю эти два храма, потому что по многоцветнос-
ти своей, по зеленым и белым тонам, они имеют что-то общее. С Каменно-
островского проспекта, однако, нельзя видеть Иоаннова монастыря, ибо он
стоит за каким-то сгибом из улицы и мостика над Карповкой, - и, таким
образом, и «в суете», и вне «суеты». Все удачно придумали монашенки.
Вообще, во всем здесь видно что-то «свое» и свободное; видно, что строила
сильная личность, и ни с кем не справляясь.
88
Едва я стал подъезжать к монастырю, как сердце во мне упало: по тро-
туару стояла огромная народная толпа. Между тем, я выбрал 12 часов дня,
когда обедня уже кончилась, чтобы пройти свободно и одиноко к могиле
нового «Пантелеймона-целителя». Известно это любимое народное имя
«угодника Божия, помощника в болезнях», которому века молился русский
народ, еще до «дохтуров» и земских больниц. Сближение с ним Иоанна
Кронштадтского невольно просится на мысль. И на тротуаре, среди спеша-
щих барышень и подъезжавших пролеток, густо было видно «убогое стадо
Христово», - мирские сироты, безногие, хромые, согнутые, слепые или все-
го этого наполовину.
Я быстро прошел к тому месту, где начинается спуск к могиле. Это, соб-
ственно, самостоятельная подземная церковь-склеп, - маленькая для церк-
ви и очень обширная для склепа. На крошечной площадке перед лестницею
вниз принимаются «поминания», т. е. бумажки с записями покойных род-
ных, впереди которых помещается имя «иерея Иоанна» (как я записал) или
«протоиерея Иоанна» (как записывают обычно). Заказная панихида стоит
рубль. Но, кажется, это не по таксе. Монашенка, принимая при бумажке день-
ги, спрашивает: «Сколько вы вносите?», - и если рубль, то отвечает: «Зна-
чит, заказная». Но обыкновенный помин стоит десять копеек. На это не надо
сердиться: помин есть маленький труд, служба есть большой труд, и служа-
щий священник нуждается в пропитании сам и в средствах к воспитанию
детей. И писатели, распространяя «идеи» и служа «святому делу литерату-
ры», берут деньги за каждую написанную строчку. Как же их не возьмет
священник, самый лучший, самый праведный, и притом с вполне спокой-
ным сердцем? Апостолы, конечно, проповедывали без денег, но они пропо-
ведывали во время мировой революции и неся в мир эту революцию. Рево-
люция и была им платою, т. е. надежда «обладать миром». Платою за апос-
тольскую проповедь была папская власть, право низвергать королей и цар-
ствовать над народами: очень большая плата. Но «священник Алексей»
никакой революции в мир не несет, никаких кардинальских шляп он и его
потомство не получит: и почему он будет поминать моих родных даром или
даром служить мне нужную заказную панихиду? Очевидно, деньги здесь не
плохое, не грех: но только хорошо для всех сторон, если «все это дело» обой-
дется деликатно, человечно, если он не будет «требовать столько-то» (так-
са), а я ему дам «что могу», не убавляя; и когда он от души отслужит и за
крошечную плату, даже иногда вовсе без платы, а за то какой-нибудь бога-
тый сам добровольно заплатит ему от себя втройне.
Но я отвлекся в сторону этого «мучительного вопроса» в положении
духовенства. На вопрос этот нужно взглянуть просто, ясно, без предрассуд-
ков и без попреков. «Апостолов» из себя ломать нечего. Ведь и апостолов
кто-то кормил: не без пищи же они прожили 30-40-50 лет. Они одевались, а
одежда есть стоимость. Теперь «натурою» не дают, это - элементарная
форма быта и хозяйства: и благой священник, настоящий благой и настоя-
щий человеколюбец, может брать рубль за требу, просто ничего об этом не
89
думая, не привязывая сюда никакой мысли, никакого вопроса; и будет он
совершенно чист перед Богом и человечеством, если свою «требу», испо-
ведь, причащение, крещение, миропомазание совершил горячо или хоть теп-
ло, радушно, ласково и нисколько ею не тяготясь.
Вот и все. Так просто.
Едва я двинулся от столика, где принимаются «поминанья», вниз к гро-
бу, как был остановлен плотною толпою всякого люда, который стоял на
лестнице и, очевидно, наполнял и церковь внизу, ибо никто не мог продви-
нуться ни на шаг далее. И интеллигенция тут есть, но больше простого люда.
Барыни, «господа купцы», всякие. Боль, однако, всех объединила, и толпа
была хороша: ибо ведь сюда и идут ради «боли», своей или, еще чаще, ос-
тавленной дома. «Пантелеймон-целитель», но свой, русский, не греческий.
У всех восковые свечи в руках, некоторые передают их далее, к гробнице. Я
всматривался в эту толпу людей, которым всем «дозарезу нужна религия»,
нужна вот эта церковь, молитва, «Пантелеймон-целитель», восковые свечи,
«поминанья», все нужно, все подробности: и сравнивал ее мысленно с боль-
шою толпою в сюртуках на религиозно-философских собраниях, где реши-
тельно никому ничего не «нужно» от религии, и они сохраняют к ней только
«интерес»... Какая разница: одно - грозовая туча, заряженная электриче-
ством, другая - глава из «Физики» Малинина и Буренина об электричестве.
Уважение, привязанность во мне все подымались...
Да, молитва растет из боли. Не вся, но самая густая. «Господи, сотвори,
чтобы было чудо». Мне нужно «чудо»... В связи с Иоанном Кронштадт-
ским, я помню эту нужду в «чуде», дошедшую до требования, до воя...
Было это лет шесть назад; я ходил из евангелической (немецкой) больницы,
по Бассейной улице, и, увидав раз, что «тут дверца и все входят», зашел,
увидел часовенку, домашнюю, красивую, умильную, - восковые свечи, с
обозначением стоимости, и с дырочкою, куда за них кладут деньги, и боль-
шой образ красивого письма. Я был грустен, но спокоен: операция у близ-
кого человека прошла, прошел мимо «образ смерти», такой страшный, как
ничто в мире, и, в настроении благодарности, я, проходя мимо, каждый
день заходил в эту часовню, и, положив поклон, зажигал и ставил свечу
Часовенка мне нравилась потому, что она решительно всегда была пуста,
кроме (сколько не изменяет мне память) читавшей что-то в сторонке мо-
нашки. Вот однажды я выбираю свечку из ящика, в таком ровном настрое-
нии духа, как дверь отворилась, и в нее поспешно вошла женщина рабоче-
го, простого вида.
- Мне нужно. Он здесь... Пропустите меня...
В лице стояло отчаяние, какого я никогда не видал... Я не понял, о ком и
что говорилось. Она обращалась к монашке в стороне или к какому-то чело-
веку, не помню...
- Да нельзя. Никак нельзя.
- К кому пропустить? - переспросил я.
- К батюшке, отцу Иоанну. Он служит здесь, наверху...
90
И она указала в сторону: действительно, чего я не заметил раньше, тут
была лестница, ведшая куда-то вверх. Что это за дом был, я и до сих пор не
знаю: я ставил свечки, которые мне нужно было ставить, не интересуясь
остальным.
- Действительно, батюшка Иоанн служит здесь, но вас пропустить я не
могу, - ответила твердо монашка. - И из тона ответа видно было, что не
пропустит.
- У меня дочь помирает. Восьми лет...
- Нельзя.
Женщина заметалась. Воя не было, разве тихий стон, но он был до того
правдив, до того ужасен. «Чудо» нужно ей было в такой степени, в такой
мере нужен был «исцелитель», без которого эта женщина стояла на краю
сумасшествия и в адской муке души, сейчас, что было нестерпимо видеть,
слышать. И я просил монашку - не помогло. Не будем судить жестоким су-
дом и монашку: ну, что же - нет сил (у Иоанна Кронштадтского), и осудить
жестоко за непропуск этой женщины так же невозможно, как нельзя уда-
рить по лицу аптекаря, у которого «вышло все лекарство», или врача, отка-
зывающегося принять «101-го больного» в сутки. Хотя случай был такой
особенный.
Назавтра я справился. Девочка умерла. У нее было воспаление мозга.
Тургенев, подсмеявшийся над ожиданием «чуда», имел дочь; но он был зна-
менитый писатель, а у таких людей «дочери» отходят на второй план, усту-
пая первенство «произведениям»! Да и дочь эта (кажется, описанная в «Асе»)
не умерла, и необходимость «чуда» просто не была им никогда испытана.
Но бывают степени такой связанности людей, когда потеря одного ставит на
край сумасшествия другого, - и вот тут «чудо», вера в «чудо», необходи-
мость «религии» так абсолютны.
Я с любовью и безмерным уважением глядел на эту народную толпу,
явно пришедшую сюда с тяжелою душою. Именно «тяжелая душа»: толпа
для улицы или площади не была велика, не велика и для большой церкви; но
эти «тяжелые души», с грустью, с тоскою, сделали то, что толпа подавляла
вас силою своею, серьезностью, и, казалось, - тут «весь русский народ мо-
лится»...
Наконец, я понял механизм: толпа вдруг тронулась и подалась вперед, и
в то же время снизу стали подыматься по новым перильцам люди. Явно,
кончилась «одна заказная панихида», и толпа всходила снизу, освобождая
место для других, для «нас». Я обрадовался, потому что первоначально у
меня была мысль, что я так и не доберусь до могилы. Не идти же по головам.
И вот опять она, эта маленькая, низенькая церковь, вся в позолоте и элект-
рическом свете, яркая, людная, горячая. Горячая она от множества народа,
от дыханий. Воздух - как в бане, но почему-то не тяжелый. Только жарко,
потеешь. И опять зачитали, громко, отчетливо. И опять запели красиво. Я не
знаю отчего, но в Иоанновом монастыре все монашки все «сами делают»,
едва ли в большей зависимости от Синода и консистории, все необыкновен-
91
но властно, сильно и красиво: а лица монашеского, старого или безобразно-
го, я ни одного не видал. Есть лица пожилые, но очень красивые и благород-
ные в складе. Говорят, игуменья (которой я не видал и о которой слышал
кое-что жесткое, упрекающее) тоже совсем молодая, около 30 лет. Она ушла
в монастырь и со своею приемною дочерью, молоденькою девушкою, кото-
рая тоже постриглась в монахини. Но весь тон монастыря, все «заведение»
какое-то молодое и сильное. Таково впечатление.
От упрекавших молодую игуменью я слышал, что очень стали велики
доходы монастыря. Со времени погребения в нем Иоанна Кронштадтского
они возросли раз в шестьдесят. Но это - «суета», и, в конце концов, не наше
дело. «Растет - и пусть». Лишь бы они исполняли свое дело, а они, сколько
видно, исполняют его хорошо, с рвением.
Среди монашенок много бледных, прекрасных лиц. Кое-где мелькнет
что-то боттичелевское... «Безумие страсти, покорившееся Богу»...
На мраморной гробнице положено золотое небольшое Евангелие, и по
окончании панихиды все целуют Евангелие и мрамор гробницы около ног.
Порядок примерный, но не взыскательный. За порядком следит «малый», типа
приказчика, не из духовенства. Очень болящие или кому «очень нужно» за-
держиваются в сторонке около гробницы (ибо приложившимся говорят: «Про-
ходите и уходите»), чтобы выслушать вторую и третью панихидку. Так делала
одна маленькая пожилая крестьянка с волчанкою на лице: лицо представляло
одну рану, и, прикладываясь один и другой раз, она все прикладывала лицо и
к Евангелию, и к мрамору. «Может, поможет». Дай Бог, чтобы помогло. Лицо
ее все было закутано в платок, и, только подходя приложиться, она открывала
его. «И больно, и стыдно». Как я жалею, что не сказал ей, что теперь волчанку
лечат радием, - с успехом! Но я потом вспомнил.
«Так нужна помощь! Так нужна помощь!»... Ну, и радий, и Иоанн Крон-
штадтский пусть с двух концов помогают человечеству. «Так трудно жить»...
В самом деле, ужасно трудно!
Я приложился, помолился о чем нужно и вышел. Этого маленького вос-
поминания не писал бы, если бы не увидел красивого явления, уже подняв-
шись наверх. С моей точки зрения, красивого.
Молодой человек, очень большого роста, очень широкий, хорошо одетый
и, видимо, образованный, с большими почти непричесанными волосами, вы-
шел, как я же, наверх, но когда я спокойно шел к выходу, он как-то почти
украдкой или точно его шатнуло что-то, ветер, внутренний ветер, стал около
косяка двери и затем, избегая глаз, стал опять красться вниз, к гробу. Я задер-
жался и стал следить. Видно, ему было стыдно или неловко, но он не мог
покинуть этих мест. Видно, он не раз уже это делал, т. е. «все кончил и надо
бы уходить», но уйти не был в силах. Точно ноги его подкашивались, слабели,
когда он приближался к выходу, и он повертывался, - и вот когда повертывал-
ся, силы возрастали, крепли, хотелось бежать, лететь, но он сдерживался и
осторожно, как вор за богатством, крался к «святыне». У меня сейчас мельк-
нуло, что у него дома большая скорбь. Другие, кто видел его и следил, сказа-
92
ли: «Вероятнее, что он страшно любил Иоанна Кронштадтского». Не знаю,
которое вернее. Видно было только, что у него все сердце положено здесь,
сюда и вне связи «с этим святым местом» - ему просто как не жить.
Он колебался. И перед собою, и перед другими ему, видимо, «неловко
было»... Хотя он и был весь в возбуждении, в волнении. «Все-таки, однако,
образованный», - он стыдился «религиозной слабости»... Но потянуло, взя-
ло его, и он продвинулся к лестнице и стал спускаться опять вниз, к гробу.
«Всякому человеку нужно, чтобы было куда пойти», - говорит у Достоев-
ского Мармеладов. Этим Мармеладов оправдывает свою нужду в трактире.
Я увидел разительное зрелище подобного же притяжения, точно так вот это:
«нужно же мне куда-нибудь пойти, - дома я оставаться не могу», но которое
образовалось между скорбными домами Петербурга и гробницею Иоанна
Кронштадтского.
Точно так, та же сила.
То же вековечное мировой жизни истории.
И кто этому воспротивится? Да и зачем? Вот почему религия вечна, ког-
да философии меняются и умирают.
НА ЧТЕНИИ гг. БЕРДЯЕВА И ТЕРНАВЦЕВА
Религиозно-философское общество, покинувшее было прежнюю традицию,
до некоторой степени возвращается к ней вновь. Прежняя традиция заклю-
чалась: 1) в обращении к духовенству, 2) рассмотрении церковных вопро-
сов; новая - 1) в обращении к интеллигенции и 2) рассмотрении тем или, так
сказать, туманов, проносящихся в интеллигентной душе. Все это - говоря
кратко и грубо: на самом деле и в одном и в другом отношении дело велось
сложнее и тоньше. Не покидая нового пути, Религиозно-философское об-
щество предположило выделить из себя секцию, посвященную вопросам
метафизики и мистики христианства, которая, таким образом, будет про-
должать прежний путь. Пока дело еще не оформилось, секция находится в
процессе образования, налаживания, но характерные темы этой секции уже
заняли свое положение в собраниях общества. В предыдущем собрании был
прочитан Н. А. Бердяевым доклад о пределах и ограниченности философии
в области веры. Попутно реферируя замечательную книгу казанского про-
фессора В. Несмелова «Наука о человеке», автор отверг значительность и
важность метафизических концепций о христианстве, вроде учения о воп-
лощении мирового Логоса в личности Иисуса Христа, и вообще отверг зна-
чительность и важность философии для веры. Уверование и знание, гово-
рил он, противоположны: в знании человек остается связанным, принужда-
емым, зависимым, - именно зависимым от опыта и наблюдения, от окружа-
ющей его действительности. Знание и философия суть абсолютно не
творческие, не свободные области. В них человек есть раб вещей, его внут-
реннее «я» находится в оковах, наложенных мертвыми окружающими ве-
93
щами. Вера же есть область свободы и творчества. Здесь ничего нет досто-
верного, и не может быть, и не должно быть: человек делает великий риск,
принимая, напр., лик И. Христа за Бога; риск этот имеет за собою только
слепое и детское доверие, что, решившись на него, человек приобретет та-
кие сокровища душевные, такое богатство жизненное, каких не обещает и
не может дать ему никакая философия и наука. «Научно доказанная рели-
гия», «научное обоснование религии», «рациональность веры» есть поэто-
му абсурды, употребительные на языке только такого человека, который не
имеет самого понятия о существе религии. Так говорил бывший марксист и
позитивист, обмолвившийся, что теперь все «носящее привкус марксизма
вызывает в нем органическое отвращение». В самом деле, не пора ли давно
такие вещи, как марксизм и позитивизм, из эмпиреев философии свести в
низший разряд просто вкусовых вещей: ведь у нас марксистами и позитиви-
стами бывали чуть не безграмотные мальчики и девочки, и, очевидно, тут
дело не в философии, а в том, что «пришлось по вкусу» или, точнее, «отве-
чает нашей потере вкуса ко всякой метафизике, мистике и религии». Неве-
рующие мальчики суть верующие в неверие, и только 10 марта был прочи-
тан другой доклад на тему этой же серии вопросов: «Империя и христиан-
ство» В. А. Тернавцевым. Доклад был и сам интересен, и вызвал интерес-
нейшие прения. С искусством итальянского Мазарини, полуитальянец, (по
матери) полурусский, В. А. Тернавцев стал разбивать то ходячее представ-
ление, что будто бы союз с империей повредил христианству, что церковь
отдалась во враждебный плен, когда Константин Великий принял креще-
ние. Именно римская-то империя и сообщила церкви территориальную и
духовную «кафоличность», универсальность, всемирность. Из апостоль-
ских посланий и из Откровения Иоанна мы видим, что христианам первого
времени даже на ум не приходило мысли о единой всемирной церкви, и этой
мысли не было у самого ап. Павла, который писал свои послания отдельным
христианским общинам, отдельным народам, без мысли о том, чтобы он
мог обратиться к христианскому миру, к целому христианству, - к которому
теперь привычно обращается каждый, привычно о нем думает всякий. «Были
отдельные ягодки-виноградины, каждая со своим зернышком, со своей кос-
точкой, - и в своей отдельной кожуре; были по городам общины христиан-
ского спасения - и только. Общения не было, единства не было. Империя, как
бы раздавив эти виноградинки, произвела из сока всех их то вино универ-
сального христианства, которое мы знаем с тех пор». Это была главная тема
доклада, обширно и красиво обвитая побочными мыслями. К. М. Агеев в
прекрасной речи возразил докладчику, что он напрасно выдвигает универ-
сальность как что-то ценное и важное в христианстве: христианство есть
главным образом жизнь личной души, есть судьба и трагедия индивидуаль-
ной совести. «Христианство все индивидуально. Разве не Христос сказал с
укором: «Что значит для человека приобрести весь мир и потерять душу»?
Таким образом, дар империи, кафоличность, есть дар двусмысленный. С. А.
Аскольдов совершенно вопреки общеизвестным фактам истории стал от-
94
вергать универсальность идеи и духа римской империи; если бы он зани-
мался нумизматикою, он знал бы, что на императорских монетах, и не ра-
нее, появились надписи: «Roma aeterna», «Providentia augusti», «Pax augusti»*
и т. п., совершенно соответственно объяснениям В. А. Тернавцева. Тонкая,
изящная, умная речь А. В. Карташова очаровывала, пока слушалась; и - не-
медленно забывалась. Я чистосердечно пишу, что был увлечен, слушая ее, и
теперь ничего из нее не помню, не помню даже темы: зависит это от край-
ней неопределенности религиозной личности А. В. Карташова, одного из
самых видных основателей общества и собраний. Все у него идет не из на-
туры, не из души, а из начитанности, образования и тонкого* ума, который
может повернуть орудия образованности и так, и этак. И как именно он по-
вернул их во время речи, данной речи - вдруг забывается. Говорил немного
Д. С. Мережковский; он был на границе воплей, - но остановился. Всем им
отвечал во вторичной речи В. А. Тернавцев; говорит он несравненно лучше,
чем пишет; вся его сила - в экспромте. То вставая, то опять садясь, почти
непрерывно улыбаясь и блестя черными глазами, он говорил задушевным
голосом и, может быть, с задушевным обманом о тех «испытаниях и потря-
сениях», какие пережил за 10 лет веры и неверия. «Провал! Все провали-
лось! - восклицал он, должно быть, о неверии или безгосударственности. -
Господа, я сам испытал!» - и публика невольно встала ответно на столь
личные признания несравненного брюнета. Речь его прерывалась и опять
лилась, и возбудительную сторону ее составляла какая-то детскость вида и
внешность этого на редкость умного и даровитого человека. Сухонький и
маленький Мережковский около огромной маслянистой фигуры Тернавце-
ва составлял такой контраст; и так как в Мережковском есть тоже много
детского и наивного, то их обоих трудно удержаться, чтобы не сравнить с
двойнями одной матери, положенными в разные люльки, - но один ребенок
страдает коликами в животе и вечно кричит, а другого постоянно кормят
кашей, и он всегда улыбается. В Мазарини веры все сладко, гладко, кругло,
обещающе, - и даже сам Страшный Суд, который он любит вспоминать,
есть какое-то счастливое обстоятельство в его биографическом благополуч-
ном шествии. В замечательно блестящем и интересном собрании обозначи-
лась впервые та роковая и несчастная сторона участников их, что в них слиш-
ком много ума и теоретического блеска и слишком мало натуры, из которой
«прет», - натуры невольной и неодолимой для самого носителя ее. Обозна-
чилось что-то лукавое и деланное, обозначился такой «смертный грех» со-
браний, которому и предела не найдешь... От этого хотя собрания и носят
дух патетический, но это, так сказать, островная патетичность, а не матери-
ковая патетичность. Все это правдивая летопись собраний должна вписать в
свои страницы, следуя заветам того персидского царя, который отправляе-
мому на войну полководцу говорил: «Победу описывай как победу, а пора-
жение описывай как поражение».
* «Вечный Рим», «Забота Августа», «Мир Августа» (лат.).
95
СПОР ИЗ-ЗА ХЛЕБОВ
(Открытое письмо еп. Никону
о множестве праздников)
Как-то работает у меня на дому столяр в праздник. Разговорились.
- Я не шел по вашему письму до праздника, потому что по будням занят
в мастерской у хозяина. Сегодня же работы нет - и я пришел.
Разговорились о заработке. Получает 1 р. 75 к. в день, посуточно.
- Если бы не праздники, можно бы еще жить. У меня жена и трое детей.
Но, вот, посчитайте этот месяц: четыре воскресенья, да на позапрошлой не-
деле был праздник, да на этой два праздника. Семь дней вон. Ровно неделя.
И получу я в этот месяц за три недели, за 21 день. А кушать за стол мы
садимся каждый день все тридцать дней.
В самом деле, ежедневно надо есть! Людям на жалованье и вообще не
на поденной плате обычно и в голову не приходит, на что же есть в празд-
ник, когда в праздник не работаешь!
Тогда много писалось в газетах об обилии у нас праздников, и я передал
ему впечатление.
- Праздники милы гулящему человеку, кто дом и детей забыл. Ему пред-
лог к гульбе. Ни жена, ни старший в семье, ни трезвый сосед от трактира не
удержат: «Я гуляю потому, что праздник». Тут сам Бог велел, сам поп ска-
зал. А трезвому человеку и кто при совести - зарез.
- Вот как?!
- Сами посудите...
И он стал пересчитывать цены съестного, цены хоть самой плохонькой
одежонки, стоимость комнатушки, похожей на хлев.
- Совсем душно. Я трезвый и жена трудящая. И получаю ничего себе.
Но съели праздники работу и хлеб.
Задумался я. В самом деле! И неужели же кому-нибудь не очевидно, что
пышность церковная, выразившаяся в убранности года праздниками, в веч-
ном звоне колоколов, таком особенном и сочном накануне ко всенощной и в
самый день праздника к обедне, что эта пышность и величавость связана с
нищетою и убогостью народною, что она отнимает хлеб у детей?! Неужели
же «в угоду Богу», что дети остаются без хлеба? Неужели красится тем цер-
ковь, что «в праздник» на неделе мужики и мастеровые сидят, как ягодки, по
трактирам, с красными лицами и помутневшими глазами?
То-то «радость Господу»... И это подсказывают священники, автори-
тетно подтверждает епископ вологодский Никон, член Синода, когда-то из-
датель народных «Троицких Листков».
Рассказ работавшего у меня столяра так мне впал в душу, что я начал зло
выискивать: да где настоящая причина обилия праздников? Их так безоб-
разно много, напр. в августе, что, как бывший учитель, я знаю, что невоз-
можно бывало приступить к серьезным занятиям до сентября. Нужно заме-
тить, что праздник не только виноват собою, но он, подобно как выпавший
96
зуб расшатывает всю челюсть, весь остальной ряд зубов расшатывает, пор-
тит вообще всю рабочую неделю, не давая установиться хорошему рабоче-
му настроению души, т. е. прилежному, внимательному к работе, заинтере-
сованному в работе, ровному, стойкому. Праздник не как «необходимый от-
дых», седьмой день после шести рабочих есть разврат, тунеядство, разбой
перед Богом!
Не только лежит в пределах права Государственного Совета и Государ-
ственной Думы, но и лежит на их совести, лежит на них обязанностью, -
позволю сказать грубо, ибо груба сама тема, - вышибить оглоблею из быта
народного эти лицемерные цветочки, разъевшие народный быт и народный
труд; эти сиденья по кабачкам «в память усекновения главы Иоанна Крести-
теля», или эту гульбу в трактире «в память Успения Божией Матери»! Про-
сто язык не поворачивается, душа не поворачивается, чтобы сказать, что мы
такие дни «празднуем», что церковь указала «праздновать» дни величай-
шей скорби и содрогающего ужаса для христиан! Ведь во время, когда уста-
навливалось это, и все 900 лет потом народ был совершенно безграмотен, и
в 90 процентах не понимает значения праздников. Расспросите - и убеди-
тесь. Он знает только, что вот настал «праздник», что «будет обедня» и по-
том весь день работать нельзя, а стало быть, позволительно гулять, да и что
же делать темному человеку в нерабочее время, как не гулять? И вот, в па-
мять того, что отрезали голову Иоанну Крестителю, русский народ не рабо-
тает, гуляет! Просто - богохульство произнести это! Не отнекивайтесь, не
фарисействуйте, что в этот день он «молится» и «предается религиозным
размышлениям». Так как за 900 лет духовенство не выучило народ даже
церковной печати, что сделали муллы, раввины и старообрядческие начет-
чики для своих, то никаким «размышлениям» народу невозможно предать-
ся, а возможно предаться только вину и гульбе. Это духовенство отлично
знает, и «косить глаза» на веру и молитву нечего.
Право вмешаться Государственному Совету совершенно есть: он обе-
регает народный труд, трудовой порядок недели, и сюда духовенству так
же невозможно вмешаться, как Государственному Совету невозможно вме-
шаться в годовой круг церковных служб. Вот это единственно и подлежит
ведению и компетенции церкви, духовенства, Синода: какую церковную
службу, в каких ризах, с какими особливыми возгласами и песнопениями
оно обязано само совершать в такие-то числа таких-то месяцев. Вот его
обязанность, и она здесь кончена. Что касается того, трудовой или не тру-
довой это будет день, служебный или не служебный, присутственный или
не присутственный, будут ли в этот день мужики пахать, лавочники торго-
вать, казначейство и почта действовать, суды и канцелярии заседать, - то
церкви ни малейшего до этого дела нет, ни малейшей в этом ее компетен-
ции нет, ни малейшего права об этом судить или в это дело вмешиваться
она не имеет. Праздников как отдыха Бог установил 52 в году. Остальные
«праздники» суть рабочие дни, и в то же время ^^кото-воспоминатель-
ные, т. е. они воспоминаются церковью, отмечаются церковною службою,
97
но без непременного присутствия на ней рабочего люда, служебного, заня-
того, а довольствуясь присутствием тех многочисленных других членов се-
мьи, бабушек и дедушек, детей, вообще женщин, которые могут часа на два
отлучиться из дому, не причиняя помехи ничему. Так должно проводиться
большинство теперешних годовых праздников: они должны проходить со-
вершенно незаметно для улицы, толпы, для массы, для народной жизни.
Затем праздники Рождества и Пасхи должны праздноваться не неделями, а
тремя днями каждый, - не более. Сюда можно присоединить такие пыш-
ные и многозначительные в народной жизни дни, как весеннюю Троицу; но
подобных пышных и украшенных дней не должно быть более десяти в году.
Это - наряд народный: пусть он останется, но без малейшей тенденции к
возрастанию. Все же прочие якобы «праздники», а на самом деле грустней-
шие дни, вроде дня усекновения главы Иоанна Крестителя, вроде Успения
Божией Матери, наконец, дни - памяти святителей церковных, страдания
мучеников, должны ограничиться именно памятью, воспоминанием, а не
прогулом и разгулом. Вне работы эти дни могут быть проведены только от
7-8-9 час. утра до 10-12 дня (ранняя и поздняя обедня), и с 12 часов дня
должно все стать на работу в мастерских, фабриках, канцеляриях, в учеб-
ных заведениях. Духовенство, если оно религиозно и ревностно, пусть про-
чтет на литургии этих дней, вместо проповеди, краткое житие этих святых
или что-нибудь яркое и поучительное из их творений; тут можно поста-
раться, подумать и выбрать. Вот тропа для усердия церковного, - а не то,
чтобы народ гулял!
Оздоровление народное нужно пролить прежде всего в народный труд;
и начать поправлять труд нельзя и думать, не исправив трудового года. По-
править же трудовой год только и можно, выдернув эти расшатывающие
трудовую неделю «ничего неделанья» дни среди недели, которые вкрались в
нее под разными предлогами. Это - дело государства, дело - страны! Страна
не может допустить вмешательства сюда духовенства, которому принадле-
жит только править службу в эти дни. И именно тут «разрыва между церко-
вью и государством» не произойдет, потому что и народ теперь настолько
развит, что поймет, что праздностью Богу не угодишь! В этом отношении
застращивание и угрозы епископа Никона должны быть, говоря канцеляр-
ским языком, «отстранены за недостаточною обоснованностью», а попросту
говоря, как пустые.
<Л. Н. ТОЛСТОЙ О ЮБИЛЕЕ ГОГОЛЯ>
В «Рус. Слове» напечатана беседа сотрудника газеты с Л. Н. Толстым об
юбилее Гоголя. Попутно Толстой высказал и общие мысли свои о великом
юмористе и бытописателе нашем. К чествованию столетия со дня рождения
Гоголя Толстой отнесся отрицательно и даже с великим негодованием, «как
относился и к своему юбилею». Он сказал:
98
«Я не могу сочувствовать этому чествованию, так же как не могу сочув-
ствовать своему, так как не могу приписывать вообще искусству того значе-
ния, которое принято приписывать ему в нашем так называемом высшем,
но в действительности низшем по нравственному складу, обществе. Поэто-
му, по моему мнению, если бы каким-нибудь чудом провалилось и уничто-
жилось все то, что называется искусством, художеством, то человечество
ничего бы не потеряло. Если бы оно лишилось каких-нибудь хороших про-
изведений, то зато избавилось бы от той ужасной и зловредной дребени,
которая теперь неудержимо распространяется и заливает его».
Взгляд известный и никого не трогающий. Искусство есть уже в дет-
ских играх. Хотел ли бы Толстой остановить всех детей, превратить детский
играющий мир в монотонную школу протестантского типа? Но и все чело-
вечество, к счастью, похоже отчасти на детей, и с искусством оно проводит
самые светлые свои часы. Интереснее его мысли о творчестве Гоголя, о вли-
яниях на него, и вообще о всей его загадочной личности:
Гоголь - огромный талант, прекрасное сердце и небольшой, несмелый,
робкий ум.
Отдается он своему таланту, - и выходят прекрасные литературные
произведения, как «Старосветские помещики», первая часть «Мертвых
душ», «Ревизор» и в особенности - верх совершенства в своем роде - «Ко-
ляска». Отдается своему сердцу и религиозному чувству, - и выходят в его
письмах, - как в письме «О значении болезней», «О том, что такое слово» и
во многих и многих других, - трогательные, часто глубокие и поучитель-
ные мысли. Но как только хочет он писать художественные произведения
на религиозно-нравственные темы или придать уже написанным произве-
дениям несвойственный им нравственно-религиозный поучительный
смысл, то выходит ужасная, отвратительная чепуха, как это проявляется во
второй части «Мертвых душ», в заключительной сцене к «Ревизору» и пре-
имущественно в письмах.
Происходит это от того, что, с одной стороны, Гоголь приписывает ис-
кусству несвойственное ему высокое значение, а с другой - еще менее свой-
ственное религии низкое значение церковной веры и хочет объяснить это
воображаемое высокое значение своих произведений этой церковной верою.
Если бы Гоголь, с одной стороны, просто любил писать повести и комедии и
занимался этим, не придавая этим занятиям особенного, гегельянского, свя-
щеннослужительского значения, и, с другой стороны, просто признавал бы
церковное учение и государственное устройство, как нечто такое, с чем ему
незачем спорить и чего нет основания оправдывать, то он продолжал бы
писать свои очень хорошие рассказы и комедии и при случае высказывал бы
в письмах, а может быть, и в отдельных сочинениях свои часто очень глубо-
кие, из сердца выходящие нравственно-религиозные мысли. Но, к сожале-
нию, в то время, как Гоголь вступил в литературный мир, в особенности
после смерти не только огромного таланта, но и бодрого, ясного, не запу-
танного Пушкина, царствовало по отношению к искусству - не могу
99
иначе сказать - до невероятности глупое учение Гегеля, по которому
выходило то, что строить дома, петь песни, рисовать картины и писать
повести, комедии и стихи представляет из себя некое священнодействие,
«служение красоте», стоящее только на одну ступень ниже религии, -
служение, продолжающее иметь значение даже и после того, когда ре-
лигия уже признана чем-то отжившим и ненужным.
Со всем этим можно спорить, но это во всяком случае интересно. Пере-
читывая «Переписку с друзьями», Толстой отмечал по пятибалльной систе-
ме, принятой в гимназиях, «успехи и поведение» морализующего Гоголя, т. е.
насколько тот «преуспевал» в тех идеалах и заповедях, какие Толстой, взяв
в урок себе, хотел бы навязать целому миру. Приведем некоторые из этих
любопытных отметок, выставленных Толстым под отдельными «Пись-
мами» Гоголя:
Женщина в свете - 5. Значение болезней - 5+. О том, что такое слово -
5+++. О помощи бедным - 2. Об Одиссее - 1. Несколько слов о нашей церк-
ви и духовенстве - 0. О том же - 0. О лиризме наших поэтов - 1. Споры - 4.
Христианин идет вперед - 5. Карамзин -1.0 театре - 5. Предметы для
лирического поэта - 5. Советы - 5+. Просвещение - 0+. Нужно любить Рос-
сию - 1. Нужно проездиться по России - 1. Что такое губернаторша - 0+.
Русский помещик - 0. Исторический живописец Иванов - 1. Чем может быть
жена для мужа - 1. Страхи и ужасы России - 4. Близорукому приятелю - 5.
Занимающему важное место - 1. Чей удел на земле выше - 5 за начало, до
слов: «последний нищий». Напутствие - 1. В чем существо русской поэзии
- 2. Светлое Воскресенье - 1. Письмо к Россети -3.0 «Современнике» - 2.
Авторская исповедь - 1.
И здесь, как в отметке «1» за письмо «Об Одиссее», сказалось то же
упорное непонимание поэзии, какое Толстой выразил в своих статьях о
Шекспире. Вообще Толстой игнорирует церковь, поэзию, литературу, ис-
торию (отметка о Карамзине). Но всем этим выгнанным из его кабинета-
кельи музам не может быть вместе скучно, не может быть и опасно: ибо
церковь будет поддержана поэзией, поэзия церковью и все они подопрутся
историей.
ВОПРОСЫ РУССКОГО ТРУДА
(Опыт ответа преосвященному Никону)
I
Закон и гармония царят в мире, как природном, так и божественном. Чело-
век произволом своим, капризом, фантазией, но главным образом слабос-
тью, распущенностью нарушает и ему данную гармонию: но это всегда со-
провождается заболеванием тех частей его жизни или его существа, куда
100
он допустил хаос и беспорядок. Исполнил закон Божий - здоров, нарушил
- заболел. Это применимо к личности, к личной биографии; применимо и к
великой личности целого народа, - и к биографии его, именуемой исто-
риею.
Болен ли труд русский? Об этом нечего и спрашивать. Девять десятых
русского упадка объясняются именно этою болезнью - исключительно. Не-
возможно представить себе того поистине «преображения», поистине «вос-
кресения», какое наступило бы в каждом маленьком кусочке русской дей-
ствительности и, наконец, в картине всей страны, если бы вдруг в русском
человеке пробудилась жадность к работе, жажда работы, скука без работы,
тоска по работе. Если бы русский вдруг начал искать применений своей
энергии с тою неотступностью, как невеста ищет жениха, жених - невесту,
с такою же зоркостью, стойкостью и внутренней старательностью, то, ка-
жется, целые горы материальных и духовных вещей, материальных и ду-
ховных богатств полезли бы из нашей убогой родины, взявшись невесть
откуда, растя на голой земле, растя, в сущности, из человеческой энергии,
из того, что есть «силушка» и есть «охотушка». Сам человек, его две руки и
две ноги, его соображение и воображение, суть плодовитейшее поле, кото-
рое до скончания мира не выпахать. По энергии, заложенной в него, чело-
век бесконечен; но - пока не болен. В больном человеке все плюсы обраща-
ются в минусы: он не только никого не кормит, но смотрит, кто бы его про-
кормил.
Физические болезни не страшны: потому что они сравнительно не за-
тяжны или быстро ведут к фатальному концу. Гораздо страшнее их мораль-
ные болезни: начинаясь совершенно незаметно, будучи неисследимы в ис-
токе, они точат организм годами, организм народный точат веками; они про-
изводят не смерть, но хилость. Так и народ наш явно хилый в этой коренной
основе жизни своей - в труде.
Сказать, что трудящихся у нас приходится половина на половину, - мно-
го. Приходится на двоих трудящихся восемь полутрудящихся и вовсе не
трудящихся, «отлынивающих от работы» или «околачивающихся» около
чужой работы. Создались особые народные термины для ничегонеделания,
довольно милые и ласкающие. Тунеядец у нас нисколько не презрен: что это
нищий и тайный вор - хотя и знают все, но «отпускают ему вину его» ради
милого характера и вообще разных бытовых качеств. Разительную черту
русского быта, разительную черту бытовой комедии и бытового романа, со-
ставляет то, что их нельзя представить себе, и их действительно нет, без
тунеядца, ленивца и прожигателя жизни. Просто, рисунок беден, если этого
нет. Не будем углубляться в значение этого, в причины этого, в последствия
этого: но, ограничивая задачу свою, преднамеренно суживая свое зрение,
мы скажем, что решительно народу невозможно не быть нищим при этом
условии, стране нельзя не быть при этой «поэзии» убогого.
Сторона наша убогая,
Выгнать некуда коровушку...
101
Ленивая мысль, конечно, скажет, что это «злой помещик обобрал добро-
го крестьянина», но если принять во внимание, что самого помещика непре-
менно кто-нибудь обирает, что и он «захудалый человек», валящийся на бок,
то мысль сколько-нибудь деятельная и честностная объяснит это тем, что и
мужик, и барин - обои «валились на бок», иногда валились друг на друга и
залавливали, но залавливали именно ленивою своею стороною, своим разо-
рением, нищетой, убогостью.
Он убог, я убог: в помножении или в сложении это дает отвратительный,
убийственный результат.
Спросите деятельного, талантливого чиновника: и он ответит вам, что
во всяком департаменте десять чиновников «еле справляются с работою»,
которой собственно хватило бы только на энергичных двух. Ученики гимна-
зии знают, что восемь учителей из десяти «тянут лямку» служебную, а в
искреннюю минуту признаются, что и из десяти учеников охотно и добро-
совестно учатся только два.
Это какой-то закон, какая-то психика, какое-то «упоение» России. «Гу-
ляй, матушка душа». Решительно, это не только вошло в нравы, но это вош-
ло в поэзию страны.
И что странно и несколько страшно, то это то, что здесь нельзя отрицать
поэзии: как-то народный дух так изогнулся, пошел в такую «кривую», отыс-
кал такую диалектику, что действительно это явно порочное состояние, не-
возможное, разбойное, окуталось в дымку поэзии, привлекательности. По-
мните студента, шесть лет сидящего в университете и, по-видимому, не со-
бирающегося кончать курса, в «Вишневом саду» Чехова: он до того ленив и
ни к чему не способен, что даже не может найти своих резиновых калош, и
ему их отыскивает и бросает в прихожую барышня. Да в «Вишневом саду»
и все валятся на бок: тут уже не 8 на десять ленивцев, а все десять - ленивы,
стары, убоги и никому не нужны. Но и весь «Вишневый сад» поэтичен; а
этот студент - прямо мил. Почему? Что это? Какая-то начинающаяся Корея,
«страна утренней тишины и спокойствия»? Или вторая Испания, до вторже-
ния в нее французов и англичан: страна красивых, нищих и поэтических
бродяг?..
Когда я вдумываюсь в это сопутствие друг другу протестантизма и тру-
да и в обратное сопутствие всюду лени и католичества, лени и православия,
то не могу удержаться от мысли, что тут есть не только случайное сопут-
ствование, но и органическая связь. Эти два явления не случайные «спутни-
ки в одном дилижансе», а родная матушка и родной сыночек. Страны краси-
вых Мадонн и скорбных богородиц породили этот «заваливающийся» и «раз-
валивающийся» быт, поэтическое ничегонеделание, моральную безответ-
ственность, жизнь порочную и молитвенную... «Она, Матушка, за всех
заступится и всех защитит», - говорит всякий родственничек Мармеладова,
неся дрожащею рукою последнюю рюмочку водки ко рту. В знаменитом
исповедании Мармеладова Достоевский написал настоящую апологию пра-
вославия, выставил настоящую суть православия, глубочайшую всех кате-
102
хизисов. Она написана огненными буквами, она неотразима, она очаровы-
вает и увлекает. Но до чего она убийственна для здоровья, до чего разруши-
тельна, если бы пала на здоровую нацию. Извинительную сторону, однако,
составляет то, что это есть исповедание уже заболевшей нации, заболевшей
в труде своем. «Потом скажет Господь, обращаясь и к нам», - говорит трясу-
щийся Мармеладов: «Приидите ко мне, гаденькие, приидите ко мне, пья-
ненькие. И затем, обратясь к сильным и мудрым, проговорит: приимите и
сих. Ибо сии никогда не превозносились, но всегда чистосердечно считали
себя свиньями». И в том роде, в том смысле дальше.
Что тут скажешь? Руками разведешь. Талант обезоруживает. Так гений
Достоевского выбил оружие сатиры из наших рук. Ну, что сказать Мармела-
дову? Раскроешь объятия, обнимешь. Но, обнимая прощалыгу, в сущности
загубившего жену и детей, доведшего жену до сумасшествия и смерти, а
дочь до проституции, - скажешь, обернувшись к Федору Михайловичу:
- Грех! Грех повторять такие исповедания. Ибо это манит, ибо это со-
блазняет! А кто соблазняет народ свой, целый народ, тому безобидней было
бы утопиться с камнем на шее. Куда вы ведете этих и без того слабых, и без
того обездоленных, игнорируя и морально поэтизируя порок их и всю, в
сущности, преступную жизнь. Очень нужно Соне Мармеладовой, что вы
так поэтично обрисовали ее силуэт: ей не фотограф-любитель нужен, кото-
рый заставляет ее позировать для себя, ей нужен друг и помощник, который
потянул бы ее кверху, к выходу. Папаше ее надо 100 розог закатить, а не
баловать его конфетками-исповеданьями, в вуали которых смотрите, каким
красивым глядит этот гидальго с Сенной площади. Все это разврат и софис-
тика! Все это до того убийственно для народа, для его здоровья, вся эта
религия «блаженных нищих» и опоэтизированных Лазарей, которые ведь
на чьей-то шее должны лежать, на чью-то спину должны давить, - которые,
в своей «поэзии», доводят до сумасшествия и отчаяния тех «двух из деся-
ти» трудящихся, какие у нас остаются на родине и должны вырабатывать
хлеб, питье и квартиру для всех десяти.
Поэзия?.. А почему Катерина Ивановна, трудящаяся жена этого Марме-
ладова, по ночам стирающая детское белье и вообще работающая до потери
сил, - не может стать предметом поэзии, предметом воспевания, хотя бы для
того же Достоевского? Отчего его болезненный гений, «истинно православ-
ный гений», написал в разных произведениях столько «исповеданий» то
убийц, то проституток, то экзальтированных сумасшедших: но почему ниг-
де в сложной картине он не раскрыл поэзию борьбы подобной Катерины
Ивановны с нищетою, с пороками слабых окружающих, почему центром
изображения он нигде не поставил трудолюбца, здорового человека, про-
стого, хорошего, ясного и доброго человека? Нигде, ни в котором из десяти
романов и повестей? Почему?!..
Мучительное «почему»... Да тогда бы он не был уже «православным
гением», а стал бы уже протестантским гением; это - переход от правосла-
вия к протестантизму, переход художественный, пожалуй, опаснейший цер-
103
ковного: ибо церковный сам собою уже за ним последует. Переменятся иде-
алы: переменится и церковь, будьте уверены.
Куда же денутся Мармеладовы, когда их начнут пороть? Разлетятся все
«исповедания»... Нет, больше и глубже: вдруг пропадет мираж, тысячелет-
ний мираж о небе, что Господь в самом деле с особенной любовью зовет к
себе «пьяненьких и слабеньких» и что вообще есть какое-то невидимое цар-
ство «блаженных избранных», вроде града Китежа на Светлом озере, кото-
рый населяется специально философствующими пьяницами, чистосердеч-
ными проститутками, помещиками без поместий, рабочими «безработны-
ми»: и как святые в раю ведут свои беседы, так эти «пьяненькие и слабень-
кие» тоже ведут свои беседы, несколько напоминающие вообще русскую
литературу, «истинно православную» литературу во всех смыслах, несмот-
ря на ее атеизм. Ведь все русские атеисты, от самого малого до самого вели-
кого, конечно, отрицают и отвергают только «глупого немецкого бога», трез-
вого и трудолюбивого, но до единого все они поклоняются не только «глав-
ному русскому богу», сердобольному ко всему слабому и разгильдяйному,
но и создали сотню Олимпов для самых мелких бесенят, любовно облажи-
вая каждого бесенка, делая чуланчик или конуру ему, обкладывая ее пуш-
ком. «Живи, не умирай и грейся». Почти все художество русской литерату-
ры греет и гладит русские пороки, русские слабости, русское недомогание,
- с единственным условием, чтобы это было «национальное». Вот патрио-
тическая литература...
Нет, вы мне покажите в литературе: 1) трезвого, 2) трудолюбца, 3) здо-
рового и нормального человека, который был бы опоэтизирован, и я зачерк-
ну свои строки. Но от Обломова до нигилистов тургеневской «Нови» - все
это инвалидный дом калек, убогих, нищих... «Блаженны нищие... Их Цар-
ство небесное». Русская литература широко разработала это «царство», све-
дя его с неба на землю, перенеся его из Галилеи в Великороссию. И только.
Здесь она кончена и через грань этого никогда не умела переступить. Ис-
ключением отсюда, но единственным исключением, стоит художественное
творчество Толстого, его Левин, его Ростовы и Болконские: но ведь здесь он
не сочинял, а срисовывал, тут он подчинил литературу зрелищу, действитель-
ности, а не поставил литературу ментором над жизнью. Тогда как вообще
литература поучает и подчиняет...
II
Я оттого «глубже копнул» вопрос о труде, что он связан решительно со всем
укладом Руси; и, в конце концов, связан с верою. Строчки Некрасова
Сторона наша убогая.
Выгнать некуда коровушку
суть такие же вероисповедные православные строки, как и стих Кольцова:
Но жарка свеча
Поселянина
104
Пред иконою
Божьей Матери.
Оба стиха описывают две стороны одного явления, выпуклую и вогну-
тую. Выпуклая - это крестьянин на молитве; вогнутая, «запавшая» - это
православный человек в труде. Труд, очевидно, расстроен на Руси. Из него
вынут закон, гармония. Епископ Никон не один заговорил против энергии
труда, интенсивности в труде: все духовенство, в сущности, нисколько не
враждебно, нисколько не ненавидит, и никак не может ни возненавидеть, ни
испугаться бедности, лености, праздности, захудалости, пьянства, слабос-
ти, нищеты и убогости. Да и как ему, именно ему, это почувствовать, если
сказано: «Блаженны нищие». Заметим, что в греческом тексте Евангелия нет
дополнения: сказано не «нищие духом», а просто «нищие», экономически
захудалые.
К духовенству в этой линии его суждений, в этой линии миросозерца-
ния, чувств, надо прийти на помощь; и должно прийти на помощь государ-
ство: это важнее, лучше и полезнее, чем давать ему подачки денежные и
вообще «милостынею». Само духовенство, под влиянием идеализма «ни-
щенства», не только не может вызволить народ из слабости и лености, но и
само никак не может выкарабкаться из ямы распущенности же, слабости и
нерадивости. «Блаженны нищие»... Ну, и «мы в их числе», безмолвно дого-
варивает духовенство. Так ленивое, запавшее духовенство живет бок о бок
около ленивого, западающего народа. Это - картина, которой, кажется, до-
казывать не приходится. И оба они полюбили друг друга. И оба валятся в
яму. Тут должен, очевидно, прийти кто-то третий, чтобы помочь обоим.
Слыхали ли вы хотя единую проповедь о трудолюбии? Читали ли вы
хотя единую духовную книгу о труде человеческом? Тема, выброшенная из
реестра религиозно-православных размышлений. Такую тему, если бы учи-
тель семинарии предложил семинаристам «развить и изложить» в сочине-
нии, как они иногда превосходно развивают и излагают умозрительные темы,
- ректор-тионох счел бы неуместною, неудобною и просто не «православ-
ною». Труд ли не православен? Нечаянно почти вымолвилось у нас главное
слово: конечно, труд вовсе не православная стихия! Оно все - созерцатель-
но, многодумно, психологично и красиво, до великолепия красиво: но оно
вовсе не работно и втайне враждебно труду, деятельности. Петр Великий
недаром взбесился:
- Я вас, длинные бороды...
На знаменитой картине Нестерова: «Св. Русь» ведь не только нет ни
одного трудящегося, но введение в эту картину хотя одной фигуры здорово-
го пахаря или обыкновенного ремесленника нарушило бы всю ее гармонию
и стильную красоту.
Труд... и «стиль» православия разрушился.
Энергия, напряжение, деятельность, а еще несчастнее успех: тогда «гре-
ческой вере» совсем конец. Какие же «святые» те люди, которые преуспева-
105
ют. «Святые» суть те, которых бьют, а не которые бьют; которых кормят, а не
которые кормят. Кормят - богатые, но за то они и «грешники».
Сторона наша убогая...
это могут затянуть святые со всех небес православия.
Богатство - грешно. Бедность - идеал.
Но ведь это же не так, и божественно не так. Православие и вся его
стихия попало в лабиринт мысли, в котором запуталось. Не отрицая «бла-
женства» нищих, признаем, что и им дан удел, что они не отвергнуты, что
милость приемлет и их, но как дробинку и несчастие бытия человеческого, а
не то чтобы как норму и устав бытия человеческого. Ну, ведь если все «ни-
щие», то кто же будет кормить? А если их не прокормят, - явно богатые, - то
они перемрут с голода, и самой живописи «благородных гидальго» не оста-
нется. Богатство и его необходимость, таким образом, вытекает даже из са-
мой заповеди о нищенстве: нищим нельзя быть, если не будет богатых. Но
если богатство есть условие существования идеала, то каким образом путь к
богатству и пошедшие по этому пути суть грешные? Явно, что норма и
естественное, закон и «блаженство» есть именно благосостояние, труд, до-
вольство, от стола которого, вернее, от труда которого падали бы крохи Мар-
меладову, Лазарю и вообще всему, что по закону мировой подневольности
заболело, упало и не может ни прокормить себя, ни подняться на ноги. Бла-
жен, кто строит больницу: но кто проповедует болезнь - урод! Между тем
произошла эта софистика в сердцах: идеализирована не самая даже помощь
нищему и убогому, не самое помогание им, работа для них: нет, описывает-
ся и воспевается идиллия бедности, болезни, нищенства, несчастия. Ибо в
противном случае почему же не православна тема о труде? А она явно не
православна: никогда не возделывалась, не обсуждалась, - и что она не об-
суждалась - это, конечно, не случай. Но здесь совершенно очевидно, что
православие поэтично разошлось с божественным, и мука-то и заключается
в том, что именно - поэтично, а то легко бы поправить! Но затронуть всех
этих Мармеладовых, Обломовых, тронуть евангельского Лазаря как-то бо-
язно, трудно, не хотелось бы. «Пусть бы их, как трава, существовали». Но
родина падает, и нужно сорвать ореол религиозности с этих, увы, ничего не
делающих поэтичностей.
Кант высказал одно правило, против которого никто не возражал: «Нрав-
ственным законом может быть объявлено лишь то, что может быть пред-
ставлено как всеобщий закон всего человечества». Или, иными словами: что
было бы благодетельно, если бы оно исполнялось всеми. Вот отчего дух
«Крейцеровой сонаты», как и уставы монастыря и вообще вся сумма и итог
безбрачия и полового аскетизма, никак не могут быть не только «идеалом»,
но и просто не имеют никакого отношения к нравственности, к нравствен-
ному совершенствованию человека, по тому одному, что они ведут к конеч-
ной гибели, к истреблению всего человечества, как только приняты были бы
им к исполнению. Но «что не может быть правилом для всех, то не может
106
быть нравственно и для одного»: следовательно, в противоположность по-
ловой умеренности, которая благодетельна для всех и потому нравственна
для каждого, - полное, на всю жизнь отречение от нее есть исступление,
есть кривизна, ни к Богу, ни к нравственности не имеющая никакого отно-
шения. Так же точно, если мы возьмем бедность, убожество, захудалость в
себе самом, то мы никак не можем выставить ее всеобщим императивом,
заповедью и законом для всех: при ней все перемерли бы. А потому и ни для
какого отдельного человека это состояние не есть идеал и норма, не есть
идиллия, а только болезнь: и такого нужно отвезти в больницу или бога-
дельню. Но самому нужно работать, и как можно энергичнее работать, что-
бы настроить таких больниц. Для здорового именно работа есть норма и
идеал, «молитва» и «заповедь». Вполне божественно именно здоровое со-
стояние, а не болезнь; вполне божествен труд, деятельность; божественно
благосостояние, расцвет человека и жизни его. Как никто не отрицает и не
срывает золотых риз со священника (это было бы исступление и аскетизм),
так точно церковь и дух учения ее не должны и не вправе ни малейше по-
вреждать роскошь одежд мира, даже то, что есть в них прелестного без
всякого утилитарного приложения, что просто «нравится» человеку, людям:
как и мы ведь золотые ризы священников одобряем просто потому, что «так
нравится им», по доброте своей, а не потому, что тут какой-нибудь догмат.
Таким образом, о бедности и вообще убогости церковь должна начать учить
как не о чем-то прямом, прямо нужном или полезном в нравственном отно-
шении, а как о таком невольном и несчастном в миру состоянии, которому
должен быть дан свой «удел», милость, сострадание, - и только. А настоя-
щая «благословенность» почиет вовсе не здесь, не в больнице, не в сирот-
ском доме, а там, где жизнь кипит трудом и творчеством, энергией и напря-
жением, где создаются каждый час и каждыми двумя руками новые и новые
материальные ценности, новые и новые духовные богатства. «Благословен»
Иов был до гноища, в богатстве: именно богатого-то и счастливого Бог на-
шел его «лучшим из людей». На гноище же было ему только испытание, по
лукавому подсказу дьявола: и кто толкает людей к «испытаниям», кто им
указывает «гноище» как некоторое царство небесное, поступает по советам
лукавого беса, а никак не Бога. Заметим, что русский народ от одного корня
производит слово «Бог» и «богатство»: Бог есть явно родник щедрот и оби-
лия, а нимало не бедности. Изредка и церковь об этом проговаривается, даже
официально: она просит Бога, как «подателя щедрот». Но это - изредка, об-
молвкой ненароком, не в системе: система стоит одна, аскетическая, чер-
ная, созерцательно-монашеская:
«Блаженно нищенство!»
Труд не воскреснет, пока по полям, по мастерским, по деревням, по се-
лам не пронесется:
«Блаженно обилие!»
Пока церковь не начнет определенно, догматически учить о благосло-
венное™ труда и естественного продукта труда - благосостояния.
107
Пусть не указывают при этом на наши северные трудовые монашеские
общины: это - исключения, это островки; наконец, это факт без теории, до
некоторой степени - нецензурный: ибо и монахи Соловок и Валаама не в
силах выговорить: «По вере нашей мы трудимся, по вере хотим себе обилия,
достатка, а бедности не ставим ни в какую добродетель, не считаем ее угод-
ною Богу». В учении же и содержится суть, содержится поучение; тогда как
в «нецензурных же фактах» никакого поучения нет.
НИК. НИК. БАХМЕТЕВ
(Некролог)
Скоропостижно скончался от кровоизлияния в мозгу Николай Николаевич
Бахметев, старый журналист и знаток нашего нефтяного дела, писавший в
«Нов. Врем.» под псевдонимом «Статистик». В возрасте 62 лет он давал
впечатление человека совершенно еще свежего, полного сил и энергии, без
малейшей усталости и утомления, и никто из знавших его не мог ожидать
подобной скорой развязки с жизнью. Покойный окончил курс в училище
правоведения, затем слушал лекции в университете; а практическая его дея-
тельность выразилась первоначально на службе в главном управлении кон-
нозаводства, где он был корреспондентом. Оставив эту службу, он жил за-
тем несколько лет в своем имении, в Харьковской губ., где занимался сель-
ским хозяйством. Но жизнь совершенно частного человека не могла удовлет-
ворить его; его тянули к себе общие интересы родины, манила умственная
жизнь столицы, и мучительная, и кипучая. В 1880 году мы видим его в Моск-
ве, где он принял видное участие в основании журнала «Русская Мысль» и
был деятельным сотрудником В. М. Лаврова, исполняя обязанности секре-
таря редакции и разделяя с редактором тяжелую журнальную работу. Среди
этой кипучей работы в журнале, занявшем быстро самое видное положение
в нашей радикальной журналистике, он находил время отдавать свои забо-
ты отдельным изданиям. Так, им было сделано великолепное издание нашу-
мевшего в свое время критического этюда Громеки: «Последние произведе-
ния гр. Л. Н. Толстого», где впервые под иносказательной формою были
изложены в позволительных тогда границах «Исповедь» нашего религиоз-
ного искателя и вообще его религиозные идеи. Из Москвы Н. Н. Бахметев
отправился в Сибирь и здесь прожил около семи лет, преимущественно в
Иркутске. По возвращении в Россию, он поселился в Петербурге. Послед-
ние годы он работал в «Нов. Времени». Его статьи по нефтяному вопросу,
исполненные знания этого дела, принимались с большим и невольным вни-
манием общественными и государственными деятелями, как исполненные
беспристрастия и стоящие на почве исключительно государственного инте-
реса, далеко не совпадающего с хищными личными происками могуществен-
ных промышленников и дельцов. Благодаря статьям «Статистика», - псев-
доним Н. Н. Бахметева, - законопроект министерства государственных иму-
108
ществ о торгах на нефтяные земли был отвергнут Г. Думою. Работая много
лет над положением нефтяного промысла в России, Н. Н. Б-в заканчивал
уже обширное и обстоятельное исследование о нем, прерванное неожидан-
ной кончиною.
Не ограничиваясь нефтяным вопросом, Ник. Ник. в качестве корреспон-
дента «Н. Вр.» ездил в Царство Польское и по Волге для исследования мест-
ного хозяйства. Эти поездки также дали ему материал для весьма ценных
статей. Практическая деятельность и ближайшее знакомство с трудовою
Россиею весьма повлияли на миросозерцание покойного, постепенно пере-
двинув его от радикальных воззрений молодости, которыми он был проник-
нут в пору основания «Русской Мысли», к более спокойному созерцанию
трезвого русского человека. Не углубляясь в идейные и политические спо-
ры, он отходил от них, как от чего-то мешающего практическому улучше-
нию всех русских дел, мешающего спокойной русской работе и русскому
благосостоянию. В то время, как увлекающиеся русские уходят в туманы
разных выспренностей и теорий, практические инородцы и чужестранцы
отбирают у русских из-под носа одно дело за другим, вытесняют русских с
собственного их места, прогоняют от собственной их работы, а через это
лишают и собственного их хлеба, оставляя им крохи и объедки со своего
богатого стола. К этому некрасивому положению привел русских их ста-
рый, въевшийся в них космополитизм. Никому это не может быть так видно,
как изучающему русскую промышленность, и особенно такое дело, как
нефть, от которого совсем оттерты русские люди. Вот простая почва, на ко-
торой вырос крепкий национализм Н. Н. Бахметева. Товарищи любили в
нем ясный ум, совершенно простой характер, хорошую товарищескую на-
туру. Мир твоему праху, скромный русский труженик.
СМЕРТЬ И ВОСКРЕСЕНИЕ
Наступило великое, таинственное Воскресение Христово, после того как
весь верующий русский люд через торжественные обряды церкви приоб-
щился к другой великой религиозной тайне, - страстей и смерти Господней.
«Бог изранен, осмеян, Бог умер». - «Бог воскрес!» Вся страна, все сто мил-
лионов православных душ содрогнулись и возликовали в этих двух возгла-
сах, двух мыслях!
Слезы и радость!
Смерть и воскресение!
Как сердце бьется, сжимаясь и расширяясь, и как бьется, пульсирует в
нас каждая жила, - так же точно и вся не только духовная, но и физическая
жизнь заключает в себе сочетание моментов, выраженных ярко, страшно и
трепетно в этом: «Бог умер», «Бог воскрес». Вся природа последует в обра-
зе бытия своего образу бытия Творца своего. Не воскресает ли день в своем
утре? Не воскресает ли год в своей весне? Не увядает ли день в вечере, а год
109
в осени и зиме? Все умирает, все воскресает. Все имеет час радости своей.
Все имеет час скорби. Отчего это? Разве природа не могла бы быть камен-
ной, безрадостной, бесслезной? Почему она не истукан? Но как дитя бывает
похоже на своих родителей, и ему совершенно не на что быть еще похожим,
ибо никто третий и не участвовал в его рождении, - так же точно природа
решительно не могла вылиться в истуканную форму, раз жив Господь, ее
Создатель!
«Господь жив! Мир имеет живого Господа!» - в этой мысли есть нечто
великое и утешительное. Мысль эта не так проста, если принять во внима-
ние, что есть десятки тысяч и, может быть, сотни тысяч так называемых
«образованных людей», которые ничего не понимают в этих словах, ничего
не чувствуют, когда перед ними их произносят, и, наконец, которые улыба-
ются и отказываются поверить, что «Бог жив», что «мир имеет живого Бога».
Но весь мир это доказывает вот в этой трагедии смерти и воскресения
своего, отражающей смерть и воскресение Бога!
Увядание осени и цвет весны равно говорят нам об этой тайне, и религи-
озной и космологической.
Мы так привыкли к миру и его обороту, так привычно произносим: «рас-
светает», «смеркается», что нам и на ум не приходит, что могло бы быть
совершенно иначе, что земля могла бы быть недвижима, и солнце вечно пекло
бы одну ее сторону, а другая вечно леденела бы! «Так все обыкновенно», -
произносим мы о том, что совершенно необыкновенно: ибо не понятнее ли
было бы, чтобы и солнце, и земля, и все прочие планеты лежали как красные
и темные камни друг около друга, одни горячие и другие холодные. Но та-
инственная жизнь разлита всюду, планеты и солнца не изолированы, а свя-
заны в «системы», и от соотношения членов в каждой системе все в ней,
каждая планета порознь, каждая страна на земле, умирает и воскреснет. На
место возможного «обыкновенного», - груды мировых камней в бессмыс-
ленной куче, - мы имеем и наслаждаемся совершенно необыкновенным: и
каждую весну с восхищением смотрим на бегущие по талому снегу ручьи, а
каждую осень срываем спелые плоды в садах своих!
Как грустна жизнь наших образованных людей или, вернее, части их,
которая отошла от религии и по старой отвычке уже не может к ней вернуть-
ся. Монотонно тянется их жизнь; день идет за днем, и воскресенья они не
отличают от понедельника, а весенних дней от осенних, - иначе как по нуж-
де снять одно и вынуть другое платье, одеться теплее или прохладнее. Для
них есть смена температур в году, но нет смен великой мистерии года! Как
грустно они живут, как серо их время! Не станем их осуждать, но пожалеем
о них!
И как счастлив народ, что, не оторвавшись от церкви, он сохранил со-
вершенно другое отношение к текущему времени, он совершенно иначе чув-
ствует природу, - именно он всю ее чувствует как Божию загадку, как Бо-
жию тайну. Он несравненно счастливее образованных классов, хотя и про-
водит время, согнутый над землею, в труде и нужде. Но из нужды и беднос-
110
ти он ясным глазком смотрит на мир Божий, и в мире этом видит не черную
яму, а свет Божий, текущий из каждой вещи, из каждого дня. Все ему поэто-
му близко в природе; все ему - родня, свое, дорогое. И умирает он не так,
как образованный человек, с горьким сознанием своего одиночества, своей
оторванности от всего, своей ненужности всему. Горько умирает образован-
ный человек русский. Светло умирает верующий русский простолюдин.
Но не станем упрекать в этот Светлый день, - никого не станем упре-
кать. В этот день и враги наши суть наши друзья. Так заповедано нам. И все
это исполним.
Какая особенность сплетения, что с великою космологическою и рели-
гиозною тайной связано и нравственное воскресение души, связаны нрав-
ственные заветы душ. Опять это могло бы быть иначе, и мы не оцениваем
сокровища, которое имеем, потому только, что владеем им, и притом ничего
не заплативши. Щедрый Бог все дал человеку даром, ответно попросив только
молитвы; как в рождении человек все получает даром, - жизнь, здоровье,
разум, - ответно только благодаря родителей. В самом деле, задумаешься:
вместо христианства, с его заповедью любить и врагов своих, прощать вся-
кую обиду, - мы могли бы иметь и другую вовсе религию, которая, пожалуй,
тоже объясняла бы мир, говорила о его сотворении, но все это холодно, как
на уроках выслушиваются объяснения учителя, объяснения науки и мудро-
сти. Могла бы быть религия, которая предлагала бы верующим только со-
зерцать истины, не прибавляя к ним ничего, не растушевывая их. Но хрис-
тианство не оставляет человека одного нигде; нигде оно не выпускает его
руки: оно ведет его не только в понимании мира, в оценке вещей, но и в
поступках, в православной жизни. «Добрая жизнь христианина» - перешла
даже в немудреные изображения лубочных картинок, где и безграмотный
может читать и видеть, к чему ведет добрая жизнь и к чему ведет злая жизнь.
И вот в Светлую ночь и наш Петербург, и старый Новгород, и далекий
Киев, и великая Москва, и вся-вся безграничная Русь вспыхнет светящими-
ся огоньками. И не будет тьмы в эту ночь на Руси. Вся она, от мала до вели-
ка, пойдет в эти дни великой тайны за своими священниками, сперва обле-
ченными в черные ризы смерти, - которые будут сменяться на белые ризы
Воскресения! «Христос воскресе», - скажет священник, высоко подняв над
народом крест. «Воистину воскресе», - полушепотом ответно скажет народ;
но от его громады полушепот превратится в гул. И загудит это «Воистину
воскресе» по всей Руси великой и святой!
И она, эта Русь наша, и свята и велика. В этот Светлый день, в эту
Светлую ночь как-то необоримо чувствуется, что нет страны священнее и
величавее нашей.
Но не будем гордиться. Смиренно промолчим о том, что мы знаем про
себя. Среди заветов христианства есть и этот: ничего о себе особенного не
помышлять, а о всем думать, что «Бог пошлет» или «Бог послал».
Вера наша дает силу и в испытаниях. Как Русь спокойна и величава в
смерти, так она и в испытаниях, которые раздробили бы всякого, остается
111
ровна и терпелива, не пугается и не бежит. «Пришел час», «пройдет час».
Всякое испытание, всякое несчастие есть крупица смерти: а при своей вере
русский народ знает, что смерти одной не бывает, а за нею следует воскресе-
ние. Это и в планетах, и во временах года, это в Христе нашем: веруем, что
это и в народе. Вот отчего русский народ не только не сломился в испытани-
ях своих, но он никогда и не сломится. Что-то такое есть в народе нашем,
почему чуется, что ему совершенно чужда мысль об окончательной смерти,
об окончательной гибели: это совершенно за горизонтом народных созерца-
ний. Это его уже не мысль, а какая-то физиологическая уверенность не про-
истекает ли из высокого представления, что умирающий и воскресающий
Господь, в Которого он верит, - есть Вечно Живой, в существе Своем вовсе
не умирающий никогда Господь? Он победил жало смерти. И образ смерти
он принимает на Себя, но существо смерти побеждено в Нем. Только три
дня в гробу: и потом - жизнь и воскресение!
И мир - дитя Божие. И народ - дитя Божие. И как в мире все по образу
Божию, - так и в судьбах народных образ смерти бывает, но смерти оконча-
тельной он не причастен. Вот отчего твердо и спокойно живет русский на-
род.
Спасибо вам, русские пастыри, что вы соблюли народ в его вере!
И говори отрадно и твердо, русский народ, свое ежегодное: «Христос
воскресе!» И помни, что с Христовым Воскресением связано воскресение
всякой плоти и жизнь целого мира. И целый мир, в жизни каждой травки,
имеет свое темное, свое бессознательное «Христос умер», «Христос вос-
крес». Но изо всего мира одному человеку дано отчетливо выговаривать эту
истину.
МЕЖДУ СКОРБЬЮ И РАДОСТЬЮ
Медлительно катится солнце русской земли. И кажется часто, что оно бес-
сильно разогнать ночную тьму. Россия, вся привалившаяся к полярному
кругу, медлительно оттаивает; и чуть случится неблагоприятное обстоятель-
ство, в другом месте и у другого народа, может быть, прошедшее бы неза-
метно и без последствий, - в наших широтах заставляет моментально все
опять покрываться льдом. Стужа, бураны, когда по календарю должна бы
быть весна.
И снова жмется терпеливый русский человек, дует в кулак и, отогревая
ноги, быстро топчется на одном месте. На солнце уже не смотрит, а о ка-
лендаре думает, что эта вещь специально заведена для обмана наивных рос-
сиян...
Какая перемена надежд и мыслей за последние четыре года, с которыми
Россия встречала сегодняшний «праздников праздник». Как было светло
когда-то! И как опять темно, безлюдно, холодно. «Безлюдно?» - спросит
читатель. Знаете, бывает, что людей как будто и много, а их все равно что
112
нет, бывает, что людей и не так много, но они все горят таким оживлением,
точно их мириады, и тесно от них в помещении. Все зависит от температу-
ры, от души, от минуты. За гробом тянется иногда нескончаемая вереница
провожатых, но их молчание, но их опущенные головы являют такой вид,
точно едет один гроб, а около него так, «что-то»... Не люди, а тени. Как ни
нескончаемо грустно такое сравнение в такой день, а от правды уйти неку-
да... И Россия в этот Светлый день похожа, вот, на толпу с понурыми голо-
вами, идущую за великим гробом.
Похоронено русское дело на Востоке...
Похоронено оно и на Юге...
Внутри России?.. Не будем договаривать.
Как же нам встретить Светлый праздник? Как выговаривать народное,
тысячелетнее: «Христос воскресе» - «Воистину воскресе».
Взглянем ли на церковь, естественное средоточие народной жизни, сре-
доточие души ее? Так должно бы быть по существу, по ожиданию. Может
быть, здесь все расцветает или сохранены прочнее, чем в других пунктах,
надежды? Ведь сюда не приходил японец, не интриговал Эренталь, здесь
все «довлело собой самим», и тут русские делали русское дело без давле-
ния, так сказать, мировых атмосферных условий и далеких океанических
течений. Но здесь...
* * *
Когда-то, в канун именно Светлого праздника, я развивал на страницах «Рус-
ского Слова» мысли о белом христианстве, в противоположность визан-
тийскому черному, монашескому. Мы выразили до сих пор, - т. е. Византия
выразила, и Россия с нею согласилась, - только одну возможную сторону
христианства. Есть еще другая, совершенно не перешедшая в действитель-
ность, в возможность: это - вифлеемская часть Евангелия и воскресный мо-
мент Христовой судьбы. Как это нами разработано в цивилизации, в жизни,
в наших буднях, в нашем быте? Никак. Очевидно, никак. Неужели это выра-
зилось в том, что ветхозаветный «седьмой день» мы передвинули с субботы
на следующий день, и этот следующий день назвали «воскресеньем», и в
этот день ходим к обедне, кому не лень, а кому лень - тот и дома полежит да
попьет чайку. И только? Ведь это - перемена слова. Мы выразили, восклик-
нув: «Прочь от иудейской субботы», только ненавидение ветхозаветного,
только разобщение с евреями; но ничего нового не выразили, не выразили
никакой христианской сути, именно воскресной сути. Неужели же наши ду-
ховные суды, духовное управление и вот эта только что погребенная свобо-
да духовно-академической жизни не суть сплошная Голгофа, этапы Голго-
фы? Ведь тут и гвозди, и терновый венец, и удары тростью по лицу, и, нако-
нец, страшный Крест...
Его идея, дух, тень.
Но где же свет Воскресения? Отваленного от гроба камня? Радость жен-
мироносиц и утешительное слово им ангела?
113
- Ах, это красные скорлупки на яичках? С трогательными надписями?
И иногда яички из фольги и стекляруса, что дети и мужики вешают под
образами, заплатив по 40 копеек за штуку?
Так ведь консистории судят год, а красное яичко съедается на другой
день праздника. И от консисторского суда, кому туда пришлось толкнуть-
ся, болят кости на всю жизнь, а яичко принесло удовольствие только пока
проглатывалось, минутку. Свет от Воскресения - минутка, тень от Голго-
фы - год. Где же «культурная разработка идеи Воскресения»? Идея Вос-
кресения совершенно не перешла в жизнь. А идея Голгофы - в жизнь пере-
шла, подчинила себе законодательство, суд, наложила длань свою на всю
церковь.
И я писал о «белом христианстве»... «Возможно бы», «есть матерьял»,
«есть точка опоры». Надеялся, размышлял...
И забыл только об одном: что нас привалило к северу, что у нас солнце
не восходит.
Хотя география, по-видимому, «не связана» с христианством, но поди-
те-ка: что вы сделаете с христианством, с христианскою идеею там, где не
люди только, но и ртуть замерзает? И оказалось, что «физика» иногда быва-
ет сильнее «метафизики». Хотя и нелепо предполагать, кто верит в «Прови-
дение» и «ход истории», чтобы апостол, как Павел, мог быть съеден до про-
поведи львом в пустыне, - однако что-то подобное, очевидно, случается...
Некоторая доля пророков и апостолов, очевидно, то съедается в пустыне, то
их замораживает холод, то холод замораживает их слушателей. И, как во
всей биологии, как во всей природе, «остается лишь то, что остается». Геро-
доту следовало бы назваться Иовом, или Иову - писать историю.
«Белое христианство», «белое христианство»... Да кому до этого дело
есть, когда половина «возможных читателей» безграмотна, другой полови-
не трудно дотащиться до конца фельетона, из немногих остальных у боль-
шинства «дел по горло», и на тысячу уже реальных читателей только один
увлечется, схватится за мысль, и... пропомнит ее целую неделю! Целая не-
деля - какое благодеяние! Для автора - да. А кто думает: «Дай-ка я пошеве-
лю действительность» - это крах, смерть!
Ну, а кто же будет «думать всю жизнь», вот, о «белом христианстве»?..
Нужно ли обманываться, возможно ли не сознаться себе: «Да никто во
всей жизни своей ни о белом христианстве, да и ни о чем решительно ду-
мать не будет».
Постигает ли читатель, что это есть такая великая Голгофа для реальной
мысли и реального мыслителя, т. е. ищущего воплотиться и воплощать, -
это есть такой гроб, могила, что для слез над нею не хватит «вавилонских
рек»... Кажется, Гёте сказал, что «мысль, которая не ведет к действию, при-
водит к безумию»... Безумия и печали в наши дни ужасно много. «Мысль не
приводит к действию», никакая вообще «мысль» не приводит ни к какому
«действию» в наше время. Я думаю, сумасшедших слишком еще мало. Их
непременно будет гораздо больше...
114
И вот колокола звонят, красные яички расколачиваются и съедаются...
А на душе так тяжело. Бедные мы люди и бедное наше время!
В книге Ольденберга о Будде одна страница остановила меня своим
колоритом. Шло время проповеди первых «буддистов»-апостолов - ин-
дийского царевича и пустынника. Говорили так и этак о новом учении,
ползли смутные слухи, начинались первые споры. И вот, переходя к утверж-
дению буддизма в таком-то городе, автор передает по летописям, как «в
одну ночь царь и его приближенные, скучая дворцом, вышли в сад. И при-
рода была так хороша, звезды такими искристыми ягодами горели в небе,
а бананы так благоухали, что друзья и политики, забыв политику и при-
дворные пересказки, невольно перенеслись мыслью и словом к вечной сто-
роне души и жизни. Тут-то один из друзей, слышавший о новом учении,
изложил перед царем его сущность. И царь и советники его заговорили о
Нирване, о «Совершенном» (собственное значение слова и имени «Буд-
да», каким наименовал себя царевич Сакия-Муни, «прозрев») и всех под-
робностях новой проповеди». Кроме благородной природы, возвеличива-
ющей душу, могучего солнца, из которого ведь родятся все мысли, родит-
ся в нас жар, родится наш талант, - меня поразила эта обстановка никуда
не торопящейся жизни, как и ее глубокая близость к природе, и простота
отношений между царем и приближенными. Никакого «этикета», о кото-
ром, по поводу французских королей, столько повествует Тэн, и вместе -
никакой грубости. Солнце хорошо приласкало землю, и из земли выросли
люди - не желчные, не злые, не завистливые, не заносящиеся, и пришла
минута, услышали они новое слово и задумались на всю жизнь. До пере-
ворота себя, судьбы своей, всей страны. Возможно ли это и подобное в
1909 году, когда поезд не станет дожидаться даже апостола Павла, а буфет-
чик попросит самого Будду или уплатить по счету, или оставить обеден-
ный зал. Не только Лютер, но и апостол Павел или Будда не сделали бы в
наше время ничего.
«Прошло их время», - скажет и злорадный, и грустящий.
Угасла впечатлительность, - вот средоточие эпохи.
Так что же мы будем звонить в колокола и, разламывая красную скорлу-
пу, - «вкушать» положенное яичко и, встречаясь на улице, повторять стерео-
типное приветствие... Стерся этот стереотип. «Ножка» литеры осталась, а
что было вырезано на ее кончике трудившимся гравером - обратилось в не-
разборчивое пятно, в почти гладкую поверхность...
Белое христианство - оно возможно! Монахи без права заняли все его
поле своими черными мантиями, «воскрилиями» этих мантий, отнюдь на-
поминающих не ангела... Как-то, на посвящении бывшего архимандрита
Антонина в епископы, я увидел весь алтарь большого собора Александро-
Невской лавры наполненным монахами, архимандритами и епископами.
Служба еще не начиналась, они были без облачения, и вот все двигались по
алтарю, и при движении «воскрилия» поднимались. Точно это летит птица
или хочет полететь. Эш ичсрницые in.. л .4», наполнявшие христианский
115
алтарь, вызвали во мне какое-то содрогание, провели через душу полоску
мистического ужаса.
- А... вот кто завладел христианством!
И я назвал совсем другое имя, чем «ангела».
Теперь епископ Антонин, - человек светлого и огромного ума, - сидит в
монастыре «на покое»: «свои» за него не заступились, они и сначала не лю-
били его, как человека мысли и движения. «Никогда он и не был нам товари-
щем, с мирскими был прост, с нами был горд, учился, любил книги, знал
восемь языков. И если теперь пал, то туда и дорога. Мы тихие. С женами не
оскверняемся, живем по Апокалипсису... Мы обручились с властью, вла-
дычеством, и это от нас не уйдет. Были владыки и останемся владыками. И
для этого лучшее средство - припасть к земле, когда идет ветер, а после
ветра - встать».
Теперь «ветер прошел», монашество встало, и его «черные воскрилия»
раздуваются шире, чем прежде. И тогда, смотря на алтарь, я думал:
«Все свои люди. Совсем не то, что разрозненное белое духовенство, где
у каждого священника средоточие в своем доме, около матушки-попадьи и
около детей. У этих нет своего дома, живут без матушек и без детей и, есте-
ственно, общатся в свой скоп, в свой союз, с безмолвным договором никого
сюда не пропускать, кроме своих, и ни с кем не общиться, кроме своих, и
ничьего не иметь интереса в виду, кроме своего...»
Монахи победили. ..Дай всегда победят... Суть их в том, что это «сонм
своих», где каждый каждого чувствует до глубины, где ни один ни с кем не
монахом не имеет никакого настоящего общения. - «Мы одни, solo»: и эти
«солисты» всегда победят общую и универсальную музыку христианства,
никогда не дадут ей перейти в светлую, в радостную, в белую, ничего никог-
да не допустят в нее, кроме темного, печального, грозящего...
Голгофа победила... Она победила самое Воскресение... Монашество
никогда не признает Пасху иначе, как вербально, словесно, кончиком уст
своих, допустив обряд и участвуя в обряде. Но вот ризы торжественной служ-
бы сняты, и монах вернулся в свою келью... Теперь он один, не на народе. И
что же мы видим в этом черном человеке, закутанном в черные одежды?
Ничего, кроме памяти о Голгофе и теней Великого Пятка.
Острый восторг Пасхи, ее укол до слез: «Вот! Воскрес!» - никогда-ни-
когда монах не пропустит в сердцевину души своей! «Батюшки! Ведь в са-
мом деле Он воскрес, вышел из гроба: смерть не победила Его, не поглотила
Одного, как нас всех, бедных и сирых, проглатывает!»...
Нет этого чувства у монаха, невозможно оно!
«.. .Смерть все поглощает, всех! Смерть - победительница! Смерти пою
гимны!» - Боже, да монах только этому и учится, никакой другой науки у
него нет, никакой еще идеи нет! К этому приспособлены быт его, жизнь его,
ритуал его, обстановка, правила, круг всего решительно чтения. «Ничего
воскресного! Не надо его! Невозможно оно!» - без этого душевного крика
монашество даже и не возникло бы никогда!
116
И вот отчего пасхальные свечи не вспыхнут ярко и долго не прогорят. В
сердце все Голгофа, у всех Голгофа! Это - настоящее, а «Воскресение» -
только миф, «допустимое», «выговариваемое», то, чему сердце не отдано
«вовсю»... И последствия этого сказываются во всем, всюду. Душа еще во
власти смерти, смертного обаяния, смертного волшебства. И длинные, тем-
ные тени протянуты везде; не разогнать их нашему бледному солнышку, в
нашу холодную погодку, в наших приполярных странах. Наклон веры и фи-
зические обстоятельства точно сплелись в одно. И обессиленный стоит пе-
ред ними русский человек. И вместо древнего:
- Христос воскресе!
Сердце рвется сказать ему совсем другое:
- Терпи, русский человек!
* * *
Только что отпечатана брошюрка епископа Вологодского, преосвященного
Никона: «Великий Пяток». Это - о Страстной пятнице. Брошюрка издана в
связи с его настоятельною борьбою против сокращения праздников, пред-
положенного в Государственном Совете по инициативе одного из членов
его, г. Андреевского. Итак, дело идет о праздниках... Меня поразил, однако,
не теоретический смысл брошюры, так ярко подтвердивший все, что я здесь
говорю о подтачивании христианства с двух концов и, в особенности, об
упразднении из цивилизации момента и идеи «Воскресения». «Какой есть
самый священный день в году для христианина? - спрашивает епископ-л/о-
нах. - Священный, единственный, исключительный, выше которого нет?» И
отвечает торжественно, «вовсю»:
- Это, конечно, - Великий Пяток, когда Господь наш умер за наши грехи
на кресте...
Соглашаемся о величии, о значительности. Но ведь у епископа Никона
вопрос поднят в связи с праздниками, с празднованием, с торжеством. И
вот...
Он забыл о св. Пасхе, о Воскресении, - что этот день победный еще
больше и выше Великого Пятка!
Так написалось, рука написала, поставила «Б», где нужно... Это-то и
важно, что все это уже стало безотчетным, привычным, механичным. По-
беждали в веках, вековою работою. «Итог» пишется уже без мысли.
Епископ и монах совсем забыл Пасху, в серьезном, для него кровном,
горячем споре. Как самый важный «праздник» в году - он назвал Страстную
пятницу: да и, конечно, это - так, здесь самый сильный церковный нажим
лирики, пафоса, глубины и поэзии церковных служб...
В Евангелии есть слова:
«И скорбь ваша обратится в радость».
Так обещал Иисус Христос своим верным, своим будущим и далеким
ученикам. Но поворотилось на обратное:
«И радость ваша будет обращена в скорбь».
117
* * *
Но, читатель, бросим вечные мысли и обратимся к делишкам. Мы - не инду-
сы, у нас не Индия. Вот на четвертый день откроется биржа, одни акции по-
вышаются, и другие понижаются, каждый спеши продавать и покупать. У кого
дом не достроен - достраивай, кто еще не сделал займа - торопись занять, кто
не взыскал долга - взыскивай. А «белое христианство» подождет...
К. И. ЧУКОВСКИЙ О РУССКОЙ жизни
И ЛИТЕРАТУРЕ
Большой демократический зал Соляного городка полон народа; почему-то
много военных; есть, но не преобладают студенты и курсистки и вообще
читающий люд всех слоев и ярусов, положений и классов, всех возрастов, от
дряхлого до отроческого. Я отыскал свой стул и сел. Люблю я этот зал, с его
простотой, учебностью, серьезностью. В нем нельзя дать концерта, - «не
идет». Зато для чтения, умного, идейного, нельзя выбрать лучшего места.
Высокий-высокий тенор несется под невысоким потолком; если опустить
глаза и вслушиваться только в звуки, можно сейчас же почувствовать, что
это не русский голос, не голосовые связки русского горла. Из ста миллионов
русских мужиков, из десяти миллионов русских мещан и, уж конечно, ни
один «господин купец» и ни который «попович» не заговорят этим мягким,
чарующим, полуженственным, нежным голосом, который ласкается к ва-
шей душе, и, говоря на весь зал, в то же время имеет такой тон, точно это он
вам одному шепчет на ухо... «Те не поймут, но вы поймете меня...» И слу-
шателю так сладко, что лектор его одного выбрал в поверенные своей души,
и он совершенно расположен действительно верить не то очень искусному,
не то очень талантливому чтецу.
Я поднимаю глаза, чтобы рассмотреть, кто это говорит. Лектор читает
не сидя, а стоя, - и вы в ту же секунду чувствуете, как к нему не шло бы
сидеть. Ничего грузного, квадратного или круглого, как у настоящих руса-
ков, нет в этой фигуре. Она вся линейная, удлиненная, но не неприятно
удлиненная, а, напротив, очень грациозна. Это не то, чтобы «вытянулся квер-
ху» неестественным ростом человек, отчего получается «дылда», некраси-
вая фигура, которою несчастным образом бывают иногда наделены русские;
нет, он естественно сжат, узок и, вместе с тем, нисколько не сух. То опуская
глаза к тетради, то подымая их на публику, он в высшей степени естественен
в своей грации, до того занят темой чтения, что, кажется, забыл и о публике,
и о себе. Нервным движением он составил стул, все-таки для чего-то торча-
щий позади него, около него, с возвышения кафедры на пол. Это оттого, что
он не стоит на кафедре, как монумент, как колонна, - способ чтения стоя
русских чтецов, - а хоть незаметно, но постоянно движется на кафедре, дви-
жется изгибом, выгибом, торсом, тогда как локти поставлены на конторку
кафедры. Но какое соответствие между голосом и человеком. Если голос
118
вас чарует, то человек вас манит. Темный-темный брюнет, точно опыленный
углем, он весь вместе масленится, и если бы я не боялся некрасивых сравне-
ний, - я нашел бы в нем сходство с угрем, черной змееобразной рыбкой
финских вод, которую, взяв вилкою, буфетный посетитель поднял из тарел-
ки с маслом... Масло так и блестит, а угорь черен. В буфете это не очень
красиво, но в человеке, на чтении, перед огромной, замершей во внимании
аудиторией, очень красиво. И я всеми инстинктами души чувствую, что чи-
тает или, точнее, говорит сильный оратор, сильный вообще человек, с уда-
чей, с большими надеждами в будущем, с хорошей судьбой в будущем, но
все это как-то «для себя», для чтеца, а отнюдь и не для публики, до которой
интимно ему дела нет, ни для города, в котором он читает; ни для страны, в
которой он читает.
Все это ему глубоко не нужно. Как для граммофона не нужна та ария,
которую он играет. Для граммофона, для рояли и, вообще, для всякого инст-
румента, кроме, может быть, таинственной скрипки. Но Чуковский - не
скрипка. Это - хорошо выделанный инструмент «для самого себя», литера-
тор той чистой воды, где литература совершенно отделилась от жизни, не
нуждается в ней и чуждается ее, и остается просто прекрасным словом, пре-
красною мыслью.
Вслушиваюсь, о чем читает лектор.
«...И вот тещи бегут, бегут...» Им встречаются канавы, рытвины, еще
что-то встречается: автор подробно не только перечисляет, но картинно опи-
сывает препятствия, встреченные старухами и полустарухами в неистовом
беге. Что такое? Наконец, смысл выясняется. Автор подробно, сочно, со
вкусом передает одну из картин кинематографа, под именем «Бег тещ», где
представляется состязание на приз этих несчастных женщин, а приз - за-
мужество дочери. Слушатели умной аудитории Соляного городка, - из ко-
торых едва ли кто-нибудь не находится в положении зятя, тещи, замужней
женщины, или не имеет этих лиц в родстве своем, - все улыбаются, посме-
иваются, и смех дружно подымается по залу, когда лектор говорит особен-
но удачную остроту или приводит особенно яркое сравнение. А лектор не
скупится на яркость; тусклых красок он не выносит, и у него все блестит,
как блестит и он сам. Чему же тут смеяться? Старуха-мать устраивает судь-
бу дочери, - возможной назавтра сироты. Если этому смеяться, - можно
начать смеяться тому, что домохозяин хлопочет об отдаче квартир жиль-
цам, что молодой человек заботится о должности, что рабочий ищет рабо-
ты, и, наконец, можно даже начать смеяться тому, что птица вьет гнездо и
собирает с таким усердием кусочки соломы, прутьев и комочков сухой зем-
ли. Все устраиваются, все устраивается; и благодетельною природою, в
обеспечение размножения каждого следующего поколения, вложен этот
необходимый инстинкт в стареющее поколение, по которому оно не хочет
умереть раньше, боится умереть раньше, чем его дети совьют свое гнездо и
начнут в нем новую свою семью. Этот инстинкт старости есть, так сказать,
вспомогательный аппарат в том сложном механизме, в той сложной систе-
119
ме организации и психики, в каковой природа выразила, закрепила и обес-
печила неумираемость жизни на земле. Все «слава Богу», - скажет мудрец,
взглянув на «бег тещ». «Слава Всемогущему Создателю», - вот и все. Вла-
детель кинематографа, конечно, выразил плоскую душу, куриный ум, что
допустил себя посмеяться над таким инстинктом природы. Он и г. Чуковс-
кий, точно и очень сочно передавший картину кинематографа, - так сочно,
что и трудиться ходить в кинематограф нечего: лекция совершенно заменя-
ет кинематограф.
Повторяю, г. Чуковский до последней подробности передал картинку, и
на описание ее у него ушло больше минут, чем сколько минут смотрится эта
одна картинка.
«Кто же смеется этой картинке?» - спрашивает довольно неожиданно
лектор. Думаешь про себя, что смеются те же люди, которые улыбались при
подробностях картинки теперь, на лекции. «Обезьяны, - отвечает лектор, -
гориллы, папуасы. Это совершенно дикие люди, с низменными, грубыми
инстинктами, с плоскими, пошлыми душами...»
И дальше все, как у Савонаролы.
От смеха к негодованию, от очень искреннего смеха к очень горячему
негодованию переход резок и сладок. Это как закал стали: в огне, ледяной
воде. Упоенная публика захлопала:
- Бис! Бис!
- Браво! Браво!
Ну, бис не кричали, ибо нельзя же «повторять номера» на лекции, но
впечатление и восторг впечатлительных только и можно сравнить, что с пуб-
ликою в опере, которая кричит бис тенору или сопрано.
Но лектор умен. Он только очень молод, но резко умен и резко талант-
лив. Он высказал, действительно, новую мысль, что синематограф, который
теперь показывает свои чудеса в каждой грязной улице, показывает их в
лачугах, в сараях, за 20-копеечную плату, - является, в сущности, целою
литературой, где только не рассказываются, а показываются сложные фабу-
лы, целые истории, где картинки имеют свои темы и свое поучение. «Целая
самостоятельная литература», - и вы, конечно, соглашаясь, удивляетесь уму
и меткости лектора, который заметил то, чего никто не замечал. «Эта лите-
ратура, и она достойна изучения», - заключает лектор, и вы снова соглаша-
етесь и удивляетесь, как вам в 50 лет не пришло на ум того, что пришло
этому молодому человеку приблизительно в 29 - 28 лет, ибо он даже без
бороды и, по-видимому, не бреется, - совсем юный.
Лектор исчисляет сюжеты синематографа, - действительно, один пошлее
другого. Он сводит вас на дно моря, - показывает чудеса морского дна, но
вот одна раковина раскрывается там, и из нее выходит кокотка в лиловом.
Показывает что-то из звездного мира, - и опять кокотка, только в розовом.
Т. е. это не лектор показывает, а кинематограф, а лектор только сочно и картин-
но рассказывает. Но лед и пламя опять сменяются. «И вот, господа, - гремит
Чуковский-Савонарола, - техника дала человеку средство представить небо
120
и преисподнюю, море и звезды, и человек ничего не нашел здесь интереснее
кокотки».
Поразительно и верно.
«Кто это все смотрит? Дикари, выродки»... Речь гремит дальше, и вы
слышите то, что, может быть, в горьких думах уже десяток лет шепчете себе:
«Эта публика кинематографа, которая потрясается от смеха, глядя на бег
тещ, - что она бы почувствовала, если бы Сам Христос вторично пришел на
землю и стал произносить все те же чудные слова»...
Верно...
Публика кинематографа поглотила все, растворила все. Так поглотила
она на наших глазах Ницше. Теперь какой-нибудь захолустный секретарь
управы, поднося рюмку ко рту, цитирует: «Так говорит Заратустра».
Аудитория громко рассмеялась. Слушатели соглашались с лектором. Но
вот что замечательно: никто от его слов не огорчился, не затосковал... как в
кинематографе. И было ясно, физиологически ясно, что лекция, такая бле-
стящая с виду и по наружному успеху, представляет собою только дальней-
шую картинку кинематографа же, следующую его картинку, с сатиричес-
ким, но не бьющим по сердцу содержанием.
Никто из публики, ни один человек не взволновался, не был смущен. Это
было заметно и во время антракта, когда говорили о теме чтения не больше и
не горячее, чем о других житейских темах, о предметах дня. Между тем, лек-
тор не скупился на эпитеты. Дробь их сыпалась на публику, - и, принимая во
внимание очевидное сходство публики кинематографа с публикой на чтении,
было удивительно, почему никто не обижается на явную и чрезвычайно гру-
бую брань. Лектор оскорбляет, а публика не оскорбляется. Не удивительно
ли? Лектор молод, публика возрастом гораздо старше его. И, может быть,
многие знали, что ровно 68 лет тому назад великий поэт сказал об этой теме
как о чем-то для его времени уже давнем, ст аром, изношенном:
Толпу ругали все поэты,
Хвалили все семейный круг,
Все в небеса неслись душою...
(Лермонтов. «Журналист и писатель»)
И Чуковский, как Бенедиктов, повторил эту вечную тему. Да не говорил
ли уже и Христос о том, что некоторая земля бывает «каменистая» - и не
принимает зерна, другая - «сорная», третье зерно падает при дороге, и пти-
цы расклевывают его. Вот какая давняя эта тема. И на жалобу Чуковского,
что «публика кинематографа не приняла бы Христа», - эта публика могла
бы рассмеяться и ответить: «Но ведь, Корней Иванович, и 1900 лет назад
публика тоже не приняла Христа. И даже рассердилась и распяла, чего мы
все-таки не сделаем».
Что такое произошло?
С чувством большой новизны Чуковский прочел давно известную всем
вещь, - и выбранил «толпу», которую решительно никогда и никто не хва-
121
лил. Это в главной, основной теме своего чтения. Но отчего публика не взвол-
новалась, не оскорбилась, не смутилась, и вообще осталась так безучастна к
теме чтения, как большая река, которая катится в берегах и мало волнуется
девушкою, грустящею на ее берегу, и даже утопленником, который в ней
топится от горя. Когда в антракте я гулял в этой шумящей толпе и когда
после лекции я увидел лектора в этой же толпе одевающим пальто, я почув-
ствовал, что лектор и толпа совершенно неотделимы друг от друга, что он -
мы же, только мы были в положении слушателей, а он - в позе читающего,
но могло бы и быть и наоборот; с таким же успехом или неуспехом. И толпа
просто самою массою превосходила чтеца; заливала чтеца; именно, как река
утопленника, и в ней... была какая-то правота этой массы, этого «многого»,
этого «большого»... Как в механике масса много значит, так она значит и в
обществе, цивилизации истории. «Нельзя смеяться над массою»; «глас на-
рода - глас Божий» благочестиво сложил народ о себе. Масса всегда права,
просто потому, что она велика, и можно сказать некоторую защиту публике
кинематографа. Попробую:
- Таскаемся в кинематограф, как притащились на вашу лекцию. И не
воображайте, что в кинематографе мы были больше увлечены, чем на ва-
шей лекции. Нет... И там, и здесь мы не были серьезны. Это вообще не
серьезные минуты нашей жизни: это не значит вовсе, что мы гориллы или
папуасы. Сюда пришли и туда ходили и ходим, и будем мы ходить по уста-
лости, от усталости, от тех серьезных тем жизни, которыми мы заняты в не
подсмотренные вами минуты, часы, сутки и недели жизни. Вы вообразили
и пересказываете нам же все дело так, как будто мы днюем и ночуем, как в
кинематографе, тоскуем по нем и захлебываемся от радости, когда смот-
рим картинки, что это - душа наша, жизнь наша. Но это ваша иллюзия, мы
бываем, да и то не все, по разу в месяц, и уж самое большее - по разу в
неделю. Два часа в неделю. Вы не измерили и не спросили себя, чем же мы
заняты еще 22 часа суток, а в неделю 22 х 7=154 часа, при ежемесячном же
посещении 22 х 30=660 часов. Но и это не все, повторяю, не все: множество
из толпы бывает в кинематографе не чаще раза в год, двух раз в год. И что
за младенчество: войти в кинематограф, увидеть, что все лавочки заняты, и
закричать наподобие Иеремии: «Погиб народ мой, погиб Иерусалим». Явно,
что все лавочки заняты, но на всех-то лавочках сидит 60 человек, а на Горо-
ховой улице, где стоит один кинематограф, живет 10 000 человек. Согласи-
тесь, что 60 человек из десяти тысяч человек - уж не так прискорбно. Ну,
вот и вы были в кинематографе и, судя по вашему чтению, пересмотрели
чуть ли ни все картинки. Не будем ежиться и ломаться, и, признайтесь, вы
ходили туда не для одной же лекции, не собирая для нее сюжеты. Правдо-
подобнее, что сюжет мелькнул потом, что вы, сидя и сидя перед картинка-
ми, догадались: «Ба, да ведь эта целая литература» и решились это сделать
предметом особого чтения. Но пока все это пришло вам на ум, вы попросту,
по-нашему, ходили для удовольствия, небольшого, некрупного, - но, одна-
ко, именно для удовольствия. Но как было бы чудовищно, схватив вас за
122
шиворот, начать кричать на весь Петербург: «А, попался!» Известный кри-
тик с идеями, с сатирою, - а потихоньку сам сидит себе и смотрит «Бег
тещ». «Вот как они проводят жизнь, гг. литераторы, и чем наполнена душа
у этих умников, - кинематографом». Мы это с вами не сделали, а вы с нами
это сделали и подняли шум и скандал по удивительному младенчеству ума
своего: кто же судит о человеке по удовольствиям. Этак пришлось бы био-
графу Грановского начать свое повествование словами: «Был в Москве, в
40-х годах, известный картежник Тимофей Николаевич Грановский, кото-
рый, к позору министерства народного просвещения, был допущен читать
лекции истории в Московском университете. Вот каковы были тогда нра-
вы». Согласитесь, что такое савонарольство никак не может тронуть пуб-
лики. Не затоскуют и не расплачутся, и просто потому, что это ложно. Вы -
писатель, хоть и молодой, и вполне серьезный и дельный человек, и никто
решительно вас не осудит за то, что, устав за серьезною литературною ра-
ботою, за темами возвышенными и идейными, вы вечером пошли «размять
ноги» на улице и, увидев освещенную разноцветными фонариками вывес-
ку «Кинематограф», завернули туда, и за двадцать копеек весело смеялись
всяким глупостям и пустякам, какие там показывали. Кинематограф - это
современный «Петрушка», не более, но и не менее. Вы и новы, и не новы со
своим замечанием, что это «новая область литературы, еще не отмеченная
историею ее»: есть целые исследования, написанные о «театре марионе-
ток», о глупостях и фарсах по теме и сюжетам не выше кинематографа.
Это, конечно, литература, но народная литература, с ее первобытностью,
незатейливостью, немудреностью. История и критика кинематографа, чем
вы занялись, - это продолжение истории «Петрушки» и продолжение исто-
рии «лубочных картинок», чем занимались серьезнейшие ученые, но ни
одному из этих ученых и в голову не пришло именовать простой люд, сочи-
нявший лубочные картинки и любовавшийся ими, гориллами, обезьянами,
выродками, идиотами. Вы первый употребили эти жестокие названия в от-
ношении к простому народу, к городскому народу, и тут сказалась не только
ваша молодость и неопытность, но и глубокое отчуждение от народа, от-
сутствие всякого родства с ним, а отсюда и отсутствие какого-либо пости-
жения его, т. е. народа. Вы - кабинетный литератор, совершенно чуждый
духа жизни. В строгой, благочестивой и гениально работающей Англии член
парламента или ученый, идущий по улице Лондона, не преминет остано-
виться на четверть часа, если ему встретится «Петрушка», и вместе с тол-
пою уличных зевак смотрит на эту незатейливую забаву. Вот народное чув-
ство, вот народные связи. Кто любит и уважает труд народный, тот не мо-
жет не любить и не уважать также и отдых народный. А уважение у живого
человека выразится в том, что он и сам пойдет сюда, посмотрит здесь, по-
смеется со всеми и заплатит свои двадцать копеек. День-деньской умаешь-
ся за перепиской бумаг, со составлением и проверкой счетов, за отпуском
товаров, за писанием статей и книг, - и к вечеру пойдешь именно размять
ноги, разогнуть спину и отдаться сюжетам именно таким, которые не име-
123
ют ничего общего с вашими дневными, т. е. постоянными, главными сю-
жетами вашей мысли и вашего труда. Кинематограф показывает не то,
чем люди заняты, - как вообразили вы наивно, - но именно то, чем люди
не заняты, ибо кинематограф есть развлечение. В старое время, целый
XIX век, люди развлекались картами, пасьянсом. Помните, как «винти-
ли» все, т. е. играли в винт. Это было что-то вроде общественного запоя,
который держался 25 лет. За картами просиживал ночи не только благо-
родный Грановский, но им отдавал досуги и гениальный Пушкин, - и со
страстью отдавал. Между тем, содержательность пасьянса или игры в винт
еще гораздо меньше содержательности кинематографа. Наконец, если вы
знакомы со всемирным эпосом, вы должны были обратить внимание на
то, что царевич Наль, муж благородной Дамаянти, проиграл свое царство
в кости. Игра в кости не содержательнее кинематографа. Нужно побла-
годарить изобретателей его, составителей картинок и владельцев кинема-
тографических заведений за то, что они дали народу это совершенно без-
вредное удовольствие, не разорительное, не горячащее, не страстное, не
задорное, совершенно невинное, и тем спасли огромную усталую толпу
от удовольствий порочных и низменных. В кинематографе московская или
петербургская толпа, кроме разных забавных происшествий и историй,
смотрит и «Водопад Викторию», сцены американской и европейской жиз-
ни, видит морские битвы и, словом, видит очень много любопытного и
великого из всемирной истории и географии. Вы в своем чтении ведь зло-
стно подобрали картинки и выпустили из них много благородного и по-
учительного. А это есть, и для чего это забывать. Но кинематограф мож-
но бы поблагодарить и без поучительного, просто за одну забаву и удо-
вольствие. Только тот, кто никогда не трудился, может порицать эти заба-
вы трудового класса. Наконец, все это можно кончить, сославшись на один
рассказ у Диккенса. К сожалению, забыл заглавие. Его я читал в пору сво-
ей учительской службы, и он был для меня целым педагогическим откро-
вением. Именно, меня поразил тоскливый, понурый, скучающий вид на-
ших гимназистов, и я задавал себе вопрос: «Что же могут воспринять из
света учения эти как бы убитые в самих себе души». И вот рассказ Дик-
кенса. В маленький английский городок приезжает балаган-цирк. С этого
начинается рассказ, серьезную часть которого составляет история малень-
кого заброшенного мальчика, которого дядя или тетя отдали в местную
строгую школу, с ее томительными воспитателями и томительными учи-
телями. Меня поразила и на десятилетия запомнилась сцена, как два шко-
ляра «с убитою в себе душою» жадно смотрят в щель забора, за которым
скрываются чудесные цирковые лошади, - ничего не видят в щель, но
Диккенс замечает о их маленьких душах, о их жадных глазенках, «до чего
им хотелось бы увидеть если не целую лошадь, то хоть копыто и как оно
подковано у этой чудодейственной лошади, которая умеет даже танцо-
вать». Чепуха. Да. Но трогает до слез. Таков и весь кинематограф, если
его связать со всеми обстоятельствами жизни.
124
Вот возможный ответ Чуковскому на его лекцию, прочитанную в Пе-
тербурге и затем в Москве и на днях опять повторяемую в Петербурге. Ки-
нематограф он сближает со всею текущею русскою литературою, обнимая
ее с ним. Обо всем этом мы еще поговорим.
О РАССТРОЙСТВЕ ТРУДОВОГО ГОДА
Мне кажется, деликатность человеческого слова и вообще человеческого
отношения потому, между прочим, драгоценна, что она чрезмерно расширя-
ет область человеческой свободы, человечески-дозволительного... При де-
ликатности можно многое такое сказать, что без нее оскорбило бы слух всех.
И для писателей, кажется, может быть сказано правило: «Чем более залета-
ет мысль твоя вверх, тем ниже к земле гни свое слово. Иначе мысль твоя
может встревожить, а сказанная в виде тихого ветра, она обласкает всех,
души раскроются, и она принесет пользу, если в ней содержится полезное».
Следуя этому своему правилу, я буду говорить преосвященному Никону
тихие слова, которые он пусть примет с тою любовью, с какою я читал его
письмо к себе. Ведь оба мы любим нашу Россию, - он старою любовью, я -
несколько более новою. Он не хотел бы никаких перемен, я хотел бы мно-
гих. Но не как «перемену для перемены»: я хочу ценою перемены и многих
перемен сохранить корень тех вещей, который иначе или будет вырван из
земли ветром, или болотно сгниет. Есть судьба вещей. Есть срок вещей. Что
с этим сделаешь? Все вещи рождаются. Все вещи умирают. Мудрый садов-
ник не «запускает» сад, но, срезая отсохшие сучья, обрывая пожелтелые
листы, окапывая корни и устраивая пересадки ростков, как и «прививки» к
старым стволам новых «черенков», - этими переменами, этою работою ох-
раняет сад, бережет его, удлиняет его жизнь и красоту. Так со всяким дере-
вом поступает человек; а с тем «садом», который именуется человечеством
и всемирною историею, так поступает Бог, Великий Садовод. Одно «среза-
ет», другое «пересаживает», то оплодотворяет прививкою нового «черен-
ка». Но, вообще говоря, вечных вещей не существует в истории; беспере-
менных вещей нет в человечестве: иначе они были бы камни, бездушные,
или были бы отвлеченными математическими линиями. Но где сочный и
кровный человек, где живой человек - все меняется.
Не погрешил ли епископ Никон, написав «За Божьи дни»? Все, что он
мог сказать о спорных праздничных днях, это - что они «церковные дни».
На его протест - «но ведь это все одно», я скажу, что это не только не «все
одно», но уравнивать божеское с церковным или с церковно-историческим
- значит нарушить заповедание о «несотворении себе кумиров». Велика, свята
церковь, но «кумиром» становиться не может, и грех человеку относиться к
ней, исповедовать ее себе как «кумир». Есть степени святости, есть ярусы
святого: на неисповедимой высоте стоит одно Божеское, из слов - лишь Слово
Божие, т. е. текст Священного Писания, один, solo. Затем как бы пустое про-
125
странство, огромное, ничем не заполненное, и уже в нижнем ярусе, совсем
отдельно от Божьего Слова, стоит слово церковное. Смешивать слово цер-
ковное с Словом Божиим не только нельзя: но это значит впадать в бого-
хульство, кому-то или чему-то становиться на место Божие и говорить: «По-
читайте меня как Бога». Божия места никто занять не может, и в этом заклю-
чается великая отрада для человека, великое обеспечение свободы, незави-
симости, нестесненности человеческой. В великом: «Не сотвори себе
кумира», - в этой заповеди Бог навсегда оградил человека и человечество от
претензий, от подавления, от задавливания. Он как бы сказал человеку: «По-
мни Бога и дыши свободно: никто на тебя наваливаться не может». Вот
что значит заповедь о «кумирах», вот что означает запрещение «кумиров».
Благословен Бог, давший ее человеку: это наш щит от всего.
Скажу тихо, совсем потихоньку: щит и от церкви.
Зашел вопрос о праздниках: и я выдвигаю этот же щит и говорю: «Не
Божьи праздники, ничуть не Божьи».
А что это так, видно из того, что о праздниках, о которых идет речь, в
слове Божием нигде не упомянуто.
И еще может быть поставлен вопрос: да была ли вправе церковь уста-
навливать празднования как отмены трудового дня, помимо тех единствен-
но, какие в точном слове Божием указаны? Ведь трудовой год, с пятьдесят
двумя отдыхами, каждый после шести дней работы, это гармония, закон,
норма, действительно согласованная с организацией человека, с запасом
трудовых сил в нем. Что тут вековой закон, мировой закон, видно из малей-
шего опыта увеличения трудовых дней: попробуйте сделать отдыхом не седь-
мой, а восьмой день работы, - и силы надорвутся, да так, что сумма срабо-
танной в восьмидневный период работы сделается вдруг меньше семису-
точной работы. Кажется, во время французской революции, или где-то ком-
мунистами, был сделан опыт подобной перемены, - и сейчас же брошен.
Человек надорвался и стал хуже, меньше работать. Таким образом, в отдыхе
на седьмой день установлен мировой закон, которому только подчинились
все цивилизации, от халдейской до русской, не смев его переменить ни одна.
Тут все рассчитано: силы человека, но также и продукт труда. Ведь челове-
чество все связано, оно все ест, все одевается, все живет в жилищах: и когда
кто-то не работает - в это самое время кто-то не одет или недоедает. Что в
том, что имя недоедающего неизвестно, что голодный не указывает на того
тайного лентяя, кто ему недодал хлеба. Мы настолько развиты, что можем
связывать явления и без имени и указки знаем, что недоедающий есть, раз
есть недоработавший. Меньше земледельческих дней в году, больше пахарь
отдыхает или «празднует», и в стране рождается хлеба меньше, урожай хуже,
цена на хлеб дороже, и городские ремесленники и рабочие, платя за фунт
хотя 1/ю копейки лишнего, ежедневно недоедают 1/ю фунта; а кто ел впрого-
лодь, те испытывают определенный и мучительный голод.
Что сказано о хлебе, применимо к одежде, к жилищу, ко всему: меньше
работы, больше «праздников» - хуже одежонка у народа, у всего народа,
126
недостроеннее или дырявее его избы и проч., безгранично и нескончаемо.
Все хуже, все «заваливается»...
В то же время, чем больше праздников, тем классовое благосостояние од-
ного только духовного сословия возрастает: ведь праздник единственный тру-
довой и единственный доходный день всего церковного причта. Я впервые
заговорил об этом, - по неохоте об этом говорить: хотя невозможно скрыть от
себя, что здесь и лежит корень исторического возрастания праздников, объяс-
нение того, почему духовенство так охотно не только соглашалось на всякий
новый праздник, даже и не церковный, а вводимый государством, но и само
всем пользовалось, всяким предлогом и поводом к введению новых и новых
праздников, или общих для всей страны, или хотя бы только местных. Пере-
несемся в ту старую пору Византии и римского католичества, когда, за всеоб-
щей неграмотностью народа и отсутствием просветительных учреждений и
школ, духовенство вообще не имело другого дела, кроме как только служить
церковную службу Известно (хотя и не понятно, почему), что в селах у нас
церковь открывается только в праздник: возьмем же дошкольное время, т. е.
для Руси - века, а для католичества - 1 !6 тысячелетия: священник дома сидит
шесть дней, и его не только тоска безделья съела, но и совесть замучила: что
же он дает народу? Ведь литургия есть действительно «предметный урок
Закона Божия» народу: народ и зрительно, и вразумительно, и музыкально-
певчески, и всячески художественно действительно просвещается на литур-
гии; его просвещают: священник - великими словами возгласов, диакон - эк-
тениями, хор - поющимися молитвами, дьячок - чтением - все. И притом
просвещают чрезвычайно разносторонне и художественно. Что в это же вре-
мя духовенству и вообще в храм тек прибыток (свечи, масло, за просфоры, за
поминанья, кружечный сбор), об этом, я думаю, не нужно говорить, так как
это или очень мало играло роли, или даже совсем ее не играло в деле тенден-
ции духовенства во что бы то ни стало и всеми способами увеличить число
праздничных дней в году, если не всероссийских, то местных, а лучше всего
всероссийских. Доход был тут тем «маслом», которое умасливало пути насто-
ящего, действительного и вполне благородного одушевления. «Только тут мы
и учим! Не хотим сидеть дома и ничего не делать: а сидение дома и ничегоне-
делание - это будень, когда весь народ куда-то разошелся, куда - не знаем,
говорит, что на работу, но мы ее не видим, не зрим, не ощущаем. Мы зрим
народ, когда он стоит перед нами в храме: и умиляется, растроган, воспылал
религиозным чувством, умилен, увлечен; и это его увлечение увлекает и нас,
и мы так хорошо, душевно, громко, отчетливо и вразумительно говорим свои
возгласы, читаем молитвы, поем другие молитвы, кадим, ходим со свечами,
крестом и святыми дарами. Во имя любви к народу - требуем еще праздни-
ков, во имя усердия к Богу - давайте еще праздников!»
Так говорили и действовали православные и католики в Греции и в Рос-
сии, в Италии и Испании, пока своей поэзией и одушевлением не повалили
в яму труд народный во всех четырех странах, где наиболее пылала вера и
где голос духовенства составлял непререкаемый авторитет, против которого
127
не смели поднять голоса государство, общество, ученые, никто. Тут встре-
тились два идеализма: идеализм трудовой, экономический, в смысле жела-
ния «лучше» для области труда и экономики, и идеализм церковный. Но -
не божественный.
Дело в том, что чисто церковный идеализм духовенства все-таки пере-
путал, испортил и развратил гармонию труда, установленную уже Богом в
шестидневном труде и в отдыхе только на 7-й один день. Народ, поучаемый
в церкви, действительно поучаемый, стал в то же время работно-развратен,
и именно в России, в Греции, в Италии, в Испании. Через что и религиоз-
ность-то его стала какая-то лицемерно-ханжеская: она стала нервная, сло-
весная, крикливая, требовательная в обряде и совершенно мирящаяся с са-
мым отвратительным образом жизни, с самым захудалым внутренним само-
чувствием. «Жену колотит, на детей не взглянет, от работы отлынивает: а от
земных поклонов в церкви - лоб красный». Это - у нас. У католиков: «Гос-
под обсчитывает, вся изолгалась, о седьмой заповеди и не спрашивай, один
содом: зато к ксендзу на исповедь всякий месяц бегает». И страны, и госу-
дарства прямо затрещали от такого населения. Ибо, конечно, все держится:
1) на труде, 2) на семье, 3) наличной порядочности. Это поважнее Кюнеров,
Цицеронов; решаюсь сказать, что эти три устоя народов и цивилизаций даже
важнее апостольских посланий, ибо и послания-то эти лишь в той мере важ-
ны и необходимы, насколько стараются это же установить.
Salus populi - suprema lex, здоровье (души и тела) народное - выше все-
го. Сама религия, если не дает этого, не обеспечивает этого, не ведет к это-
му, - тает и, подождите, через немного времени - растает. Ввиду этой пер-
вой и абсолютной истины духовенство наше само даже впереди государства
должно бы рвануться к возможному сокращению праздников.
КЛЕРИКАЛИЗМ В ВОПРОСЕ
О ПРАЗДНИКАХ
Можно жить мирно, не ссорясь; но для этого нужна вежливость с двух сто-
рон. Непременно с двух сторон: без этого получается угнетение одной сто-
роною другой стороны, и это угнетение вызовет непременно раньше или
позже протест с другой стороны, перемену тона, грубость и наконец разрыв.
Это - фатально, это всегда так бывает. Поэтому в интересах мира церковно-
го, тишины религиозной церкви надлежит согласовать свой тон, свое уче-
ние, свои наставления с тем, что составляет явную нравственную нужду
народа, что составляет непререкаемую и притом здоровую его потребность.
«Глас народа - глас Божий» - это хотя не догмат, однако такая поговорка,
которая стоит догматов по ее принятости, по ее утвержденное™, по ее рас-
пространенности. К этому «гласу народному», который «как глас Божий»,
- духовенство должно прислушиваться, церковь ни малейшего права не имеет
128
его игнорировать. Между тем в ответе преосвященного Никона, который в
смягченной форме был напечатан в «Нов. Вр.», а в более резкой (для меня,
однако, нимало не неприятной) форме был помещен в «Колоколе», звучит
этот ошибочный тон, именно для церкви опасный: и я не в качестве полеми-
ки с ним, а в качестве доброго совета и преосвященному Никону, и всем
нашим пастырям, и, наконец, даже вообще духовному ведомству, - ибо со-
вет всякий вправе дать и всякий нравственно обязан его выслушать, - дам
разъяснение этого тона и укажу, где содержится его опасность.
Стремление увеличить число служебных и рабочих дней в году есть явно
здоровое, нравственное стремление. Государственный Совет, взявшийся за
этот вопрос, идет навстречу общему и, повторяем, здоровому движению. О
здоровости, о нравственности этого движения ни у кого нет вопроса.
Рассмотрение вопроса передано духовному ведомству. Ведомство оли-
цетворено в Синоде. Синод есть «тот же собор», т. е. собор русской церкви,
по официальному учению, сто раз везде повторенному. По букве церковной
истории, «сам Св. Дух глаголет устами собора». Несмотря на это, собор, т. е.
Синод, назначает для рассмотрения вопроса комиссию, ту обычную серую
комиссию, на колесах каковых комиссий едут все русские департаменты и
все русские канцелярии. Я излагаю историю, не прибавляя своей критики. Я
говорю читателю, что он должен обратить внимание на то, что: 1) комиссия
«рассмотрит вопрос», 2) будет «голосовать» его, 3) полученное большин-
ством голосов решение будет предложено на утверждение собора-Синода.
И когда Синод утвердит, то все явится для народа как бы незыблемым авто-
ритетом. Всю эту историю, весь этот механизм не бесполезно держать в уме,
для возможной будущей надобности.
Представитель комиссии и, кажется, ее председатель вступается «за Бо-
жии дни».
Каким же тоном?
«Начавшие говорить о множестве у нас праздников и о том, что они ме-
шают народной работе, поднялись на Божии дни»... «Это в лице их, в усили-
ях пера их, языка их, выступил сатана: ибо Божии дни только сатане могут
быть противны»... «Сократить праздников не позволим мы, духовенство,
не позволим всем авторитетом церкви, опираясь на всю святость ее: не по-
зволим этого даже и государству, - с обществом же и печатью мы даже и не
считаемся, это для нас совершенно ничтожные величины»... «При этом мы
разумеем праздники не как церковные торжества, отмеченные особенностя-
ми богослужения, а как государственную, национальную отмену, запреще-
ние в эти дни служить, заниматься и работать. Не церковь одна, а с нею и
народ должен эти дни праздновать, т. е. прекратить свои занятия». «Рабо-
тать может быть позволено в эти дни: но не на себя и не на государство, но,
например, на церковное братство, или в целях покровительствуемого церко-
вью человеколюбия, милосердия: на больных, на бедных».
Словом, и обобщая - «на Синий Крест», «на Красный Крест», но не
себе в котомку и не государству в казну.
129
Вот в закругленном виде и в точном тоне ответ епископа Никона.
При этом ни одним словом он не обмолвился и не ответил, как бы и не
заметя вовсе вопроса:
1) о труде народном и его расстройстве;
2) об обеднении народа, о невыработке каждым себе пропитания при
задельной суточной плате, - с чего я собственно и начал возражения про-
тив праздников.
Т. е. «нашего», народного, он не замечает, выставляя только «свое», церковное.
Это - клерикализм.
Когда-то Достоевский зло, ехидно подсмеивался над русскими либера-
лами, усматривавшими и в России, «по образцу Западной Европы», клери-
кализм. Но ехидство ехидством, а правда правдой. Достоевский обманут был
тем, что он не видит в России нигде «этих красных кардиналов», окружав-
ших папу, а всюду видел дьячков с косичкой, да смирное, забитое священ-
ство. «Где же тут быть клерикализму». Но если бы он заглянул несколько
глубже одежды и не увлекся «красными мантиями» кардиналов, в которых
ведь нет никакой еще сути, - то он увидел бы, что в самом смиренном дьяч-
ке и в самом скромном священнике «клерикализм» может находиться в той
самой степени, в том самом духе, в той самой строгости и неуступчивости,
как в ста кардиналах и в десяти папах.
Суть не в словах и не в одеждах, а в сути.
Суть же «клерикализма» заключается в чувстве, в духе, в идее церкви-
solo. Это - твердыня, «от века и до века». «Что положено, то и будет лежать,
что есть - то и останется». На вопрос: «почему» - краткий ответ:
«Потому, что это мы, наше. А мы - святы. И грешному ничему не усту-
пим, ни перед чем не подадимся, ни на йоту. Грешное же - это всё, это все,
вне нас находящиеся, не церковь, не духовенство, не клир».
Определяют церковь как «общество верующих». Никто более не стоит за
это определение, формою своею напоминающее определение решительно вся-
кого общества и всякого клуба, решительно всякой секты и всякой религии.
Нет, «церковь» не это. Все согласятся, если я скажу, что церковь есть «замкну-
тый круг людей, связанных одной традициею, идущею от И. Христа, и при-
нявших эту традицию». Вот и все. Непрерывность и связанность в простран-
стве - вот одна линия устройства «церкви»; непрерывность во времени - вот
вторая линия ее строения. Это - организм, это - целое. Это уже не «клуб» и не
«общество». Это - «мы solo, и в нас - спасение». Этот замкнутый круг изме-
нялся, строился, перестраивался, но никогда нигде не прерывался: как «пере-
рыв», - так новая «церковь», ибо другая традиция; или - новая секта, новая
религия. Перерыв ломает церковь, отламывает сук; этот сук умирает или жи-
вет собою, если может, но уже не в прежней церкви, не прежнею церковною
жизнью. Я сказал, что церковь строилась и перестраивалась: но все это не
выходя из своего круга, своими руками. Когда она была под давлением и усту-
пала, - как при Петре Великом, - то и тогда перестраивалась все же собствен-
ными уступившими, подчинившимися руками, «епископскою властью», не
130
иначе, никак не иначе! В этом вся суть. Никогда никто внешний для церкви не
мог ничего сделать внутри церкви, ни одного камня нового положить, ни од-
ной старой соломинки передвинуть. Церковь гнулась, но никогда не лома-
лась. В этом суть. Как только где-нибудь произошел бы «взлом», так цель-
ность нарушалась бы, традиция перервалась, прежняя церковь умерла бы, а
новое было бы уже «другою церковью».
Все это не записано нигде в канонах, но все это составляет самую суть
церкви. Отсюда дисциплина и повиновение «своих» есть вездесущий нерв
церкви: это - предупреждение «изломов», т. е. разрушения всего, это - ры-
чаг сохранения «традиции» в непрерванном виде.
Не отрицаю, что это величественно, что это хорошо, что это крепко. Но
с большими рычагами нужно обращаться осторожно. Пусть клир остается
в своей святости: но никогда это не должно переходить в «клерикализм».
Святое пусть светится собою, доблестью своею, заслугами своими, заслу-
гами перед целым миром.
Но ослепительный свет вдруг переходит в острую мглу - когда вдруг все
это начинает наступать на горло людишкам, простецам, серому люду, в его
работишке, в его семье, в его заработке, в достатке, в избенках, в детишках.
Когда все это начинает наступать на государство, не Бог весть какое мудрое,
но все же кое-как сколотившееся народною тысячелетней работой, умом,
терпением, строительством.
Когда в ответ на какую-нибудь до зареза нужную нужду вдруг подыма-
ется дьячок с косичкой и говорит:
- Не позволю. Святые отцы (традиция) изрекли так-то, а я, их недо-
стойный (формула смирения - «паче гордости») преемник, стою на том са-
мом месте, в том самом сане, какой они носили, правлю в храме службу,
какую они правили. И я не позволю никому, ни обществу, ни государству, ни
науке, ни всем вашим школам, ни до зареза нужной нужде, ничему. Сказал,
и стоп. Выговорено, и ни на шагу дальше.
Это все равно, говорит ли папа, кардинал или дьячок. Даже суть не в
том, будет ли исполнено. Суть в том, что «так сложилось все», что он счита-
ет себя вправе сказать это вслух всего мира.
Петр Великий взбесился, но «по форме» и он традиции не нарушил и
все сделал все-таки не своею рукою, а преосвященного Феофана, архи-
епископа Новгородского. А последующие за ним и вовсе покорились.
Ровно так поступил и Никон... «Тишайший царь» Алексей Михайлович
собрал собор и судился на этом соборе с ним: созвал «собор», т. е. духовен-
ство, «их клир», их нить, не прерванную в пространстве. Никон был осуж-
ден и свергнут, но, однако, «своими руками», а в этом заключается все, зак-
лючается победа церкви над государством. То, что Алексей Михайлович не
сам рассудил свое дело с Никоном, а предоставил суд собору, этим он выра-
зил, что признает собор выше государства, «их клир» признает выше себя.
Народ в этой распре царя с Никоном стал нравственно на сторону царя.
Это видно из писаний сожженного Аввакума, и вообще из голосов всей мас-
131
сы раскола. Нельзя также не заметить, что и в деле преобразования церкви
Петром народ безмолвно перешел на сторону царя, государства, на сторону
национальных интересов и задач, - и выразил это просто тем, что принял
сущую, преобразованную церковь как «святую». Политики либерального и
радикального лагеря не оценивают, что та неопределенная «святость», тот
туманный «мистицизм», который народ соединяет с именем царской влас-
ти, служит собственно единственной гарантиею для государства и самого
народа против наваливания на них церковного авторитета, авторитета «древ-
них старцев», прежних «святых».
- Мы тоже не без святости, - отвечает Петр Великий, отвечает сонм
народный, когда становится слишком тяжело, непереносимо тяжело от ав-
торитета церковного...
<П>
Справедливо, что «князь церкви», К. П. Победоносцев, в течение % века
направлял церковные дела по своему усмотрению; справедливо, что иерар-
хи церкви при нем только подписывали бумаги, причем он не был доволен,
когда подписи делались не совершенно одинаковым почерком. Шутил над
этим. Но шутки умерли с ним, а дело осталось: дело же состоит в полном
клерикализме, в идее и факте церкви-solo, безнародной и безгосударствен-
ной, которая и при нем, при Победоносцеве, сохранилась во всей той целос-
ти, во всей той неприкосновенности и непоколебимости, как она была на
Западе при Иннокентиях и Григориях. Шутки Победоносцева в самом деле
умерли. Теперь дуновение времен несколько изменилось, и обер-прокурор
Синода, бесспорно, не «управляет делами». Почему? Да потому, что и Побе-
доносцев лишь по существу правил церковью: но по форме ею правили под-
писывавшие бумаги иерархи. «Так что же, - восклицает читатель, - ведь
дело в сути, а не в форме». Да, в «сути» везде, кроме церкви: но в церкви
единственно в форме и заключается вся суть. Церковь есть формально-свя-
щенный институт, восходящий корнем к И. Христу и имеющий пронести
голову свою, корону свою, до «второго пришествия Христова».
Всякий этому удивится, но это - так; а что так, видно из всех подробностей.
Не «посвящен человек по форме», - и он не священен, не священник,
хотя бы лично был свят; напротив, посвященный «по форме» и пока с него
«по форме» же не снят сан, он есть священник, «строитель тайн Божиих» и
даже отпускает другим грехи, как бы лично ни был при этом грешен.
Не повенчаны вы «по форме», - и вы вовсе не повенчаны, вне брака.
Суть не в сути, а в форме.
Управлял Победоносцев делами: но это как бы в тайне. Для народа было
явно, что всем повелевают иерархи, и собственным повелениям Победо-
носцева в церковной области никто не стал бы повиноваться. Он это знал, и
не выпустил ни одного церковного распоряжения за своею подписью, - по
полному ее бессилию. Такая его подпись на церковном акте делала бы этот
акт недействительным, сообщала бы ему значение фальшивой ассигнации,
132
при которой можно закричать «караул» и «в острог!». Что же сделалось,
когда умер Победоносцев? Он прошел как тень в церкви, и сошел как тень в
могилу. Так как церковь есть форма, и цела, пока формальное начало не раз-
рушено, то и по смерти Победоносцева все опять стало таким, как бы его
вовсе не было, никогда не было: иерархи-solo владеют всею «священною
областью», всем «таинственным», «религиозным» на русской земле. «Мы -
solo, и кроме нас никто и ничего здесь не может сделать». Последний дья-
чок в захолустном городе был сильнее Победоносцева в пору обер-проку-
рорства его: хоть тот и мог его «согнуть в бараний рог», «отрешить», «про-
гнать» и проч. Разве в этом суть? И папы были «прогнаны» из Рима в Авинь-
он. И ничего из этого не получилось. Фому Бекета убили, митрополита Фи-
липпа убили: но это ничего не значило, кроме личного страдания, личного
торжества их врагов. Принцип остался во всей своей неприкосновенности.
Принцип на Западе нарушил первый Лютер, - когда отказался повиновать-
ся папе и когда народ, несмотря на этот отказ, принял его как священника.
Победоносцев «правил церковью»: пустяки. Серьезное настало бы, невыра-
зимое волнение прошло бы по всей русской земле, если бы он вместо «уп-
равления церковью» совершил, ну, такую маленькую вещь, как «посвятил
во диаконы» какого-нибудь исправного, умного и благочестивого семинари-
ста, и вдруг такого диакона, «поставленного и посвященного Победоносце-
вым», пустили бы участвовать в богослужении, а народ говорил бы ему:
«Отец диакон!»
Каждый живо почувствует, что одно такое новшество - по существу
совершенные пустяки - более нарушило бы строй церкви, «опоганило» бы
русскую церковь, чем все «исправления богослужебных книг» и реформы
Никона и Петра. «Посвящение Победоносцевым дьячка» потрясло бы и даже
прямо разрушило бы церковь.
Прочитав все это, каждый скажет, что «фактически, конечно, все это
так», но что «никогда никому в голову не приходило, чтобы церковь была
формою и держалась на формальном начале, взяла форму в свою суть».
Между тем это так: и на этой-то почве и идет борьба народов и государств с
«клерикализмом», причем «клерикализм» всегда побеждал, кроме единствен-
ного столкновения с Лютером, который догадался, вместо того чтобы драть-
ся на кулачки с папами, к чему прибегали ранее короли Франции и Англии, -
затронуть форму, проколоть тонкой иглою форму. В месте прокола церковь
тотчас умерла: возникла другая церковь, другая вера - протестантизм.
Оттого наша церковь гнала раскольников за «неповиновение». Они раз-
рывали единство формы, субординацию, а это не «кое-что» в церкви, а «все»
в церкви. Это все равно как если бы кто-нибудь, сожительствуя с женщи-
ною, объявил: «Сожительствую, и, значит, состою в браке». Полное разру-
шение таинства. У раскольников - разрушение таинства священства, само-
го основного из всех; фундамента, на коем все держится. Отсюда негодова-
ние на них, отсюда опасность от них, - а нимало не от «двуперстия» и «ста-
ропечатных книг», до которых никому не было дела. Но, осторожно или
133
неосторожно, церковь изрекла об обрядах и книгах: «Отметаю». Те ответи-
ли: «А мы - удерживаем». Это - дело Лютера, это - неповиновение, это -
разрыв единства, разрыв кольца, составленного из «сонма своих». Церковь
есть «сонм своих», от И. Христа пошедший и со времен апостольских не
разорванный; где же «сонм» разрывался, - получались новые круги «сво-
их», другие «сонмы» своих, получались новые церкви, религии, секты.
Разрывы получались тогда, получались там, где народам невмоготу было
терпеть эту «святость формального характера», наваливавшуюся и залавли-
вавшую правду народную, правду натуральную, правду очевидную, как бы на
ладони выложенную. Суть всей борьбы религиозной, прошедшей в Европе,
заключается в столкновениях, так сказать, естественной правды вещей и вот
этой совсем другой правды, пошедшей от слова И. Христа, принятого апосто-
лами, двинутого дальше иерархиею церковною, и дошедшего до наших дней.
- Истина в слове!
- Истина в деле!
Вот вечная коллизия.
- Естественный порядок вещей имеет также свою святость, - говорит Петр
Великий, его друг Лейбниц, говорят философы, говорит народный говор.
- В естественном порядке нет ни святости, ни несвятости, ничего. Свя-
тость единственно происходит от нашего благословения, от нашего согласия,
от нашего соучастия. Святость течет только по линиям нашего соединения,
передаваемого в таинстве священства, - как «свет от света». Вне этого «свет
от света» лежит темный порядок мира. Прогоните нас, откажитесь от нас - и
вы останетесь без света. Вы религиозно задохнетесь и сгинете, как черви.
В этом полном убеждении заключается сила церкви. Убеждение это при-
суще всякому дьячку. И с ним всякий дьячок в одном определенном отноше-
нии чувствует себя всемогущим, сильнее сановников государства, - чувствует
так, пока верен «своим» и верует «в свое». Верующий дьячок сильнее коро-
лей. Он мал: но этот маленький стоит в организации самой великой на земле
- церкви. Это - горсть пыли, брошенная на Монблан: она возвышается над
Женевою, над Швейцариею, над Европою. Ничего само по себе, но дробь в
Величайшем...
Вот откуда их ссылки, что «мы имеем главою И. Христа»... Евангелие и
все читают, многие восторженно любят, многие абсолютно ему повинуются,
но нитью с И. Христом связаны только они. Это - преемственность, это -
единство, это - дисциплина. «Сонм своих», «своих-solo». Таким образом, и
энтузиасты-христиане, но частные люди, для них «яко трава». «Сонм своих»
не пропускает к себе этих энтузиастов-христиан и даже не нуждается в них,
хотя иногда и пользуется. «Тут все чувство. Это не надежно. Нужен не вос-
торг, а повиновение: вот это не изменит, потому что за этим можно просле-
дить, точно ли оно, пунктуально ли оно. А чувства - дым... Был и рассеялся».
Вот в узел каких огромных исторических трудностей, огромных теоре-
тических вопросов, в узел проблем, совершенно неразрешимых, попал яс-
ный, простой, здравый вопрос о праздниках.
134
- Хотим работать, не хотим лениться.
- Зачем же вам лениться, - отвечают «отцы», скашивая глаза на сторону, -
ведите благочестивые беседы, попашите даже землю, но на церковное брат-
ство, поработайте, - но не на себя.
- Но мы бедны. И хочется не на Синий крест поработать, который засе-
дает в каменных палатах, имеет свою казну, а на себя, бездомных, полуго-
лодных.
- Это грех, в праздник - грех. Да и прямо не позволим, это - разрушение
церкви.
- Да ведь нет смысла «праздновать» такой день, как «усекновение главы
Иоанна Предтечи». Ему отрезали голову: неужели же такой ужас «праздно-
вать»? Праздник есть радость о чем-то: какая же радость, что отрезали? Это
кощунство.
- Не без основания было положено это людьми выше нас. И нам их
решение не перерешать (связь во времени, ненарушимая преемственность
авторитета).
- Но ведь Испания, Италия захудали от таких и стольких праздников.
Праздник на неделе развращает всю неделю: отучаются люди от работы,
теряют тон работы.
- Испания и Италия погибали от того, что были еретичны. К нам это не
относится.
- Да ведь существо дела одно.
- Нисколько не одно. Они были грешны, а мы - святы: какое же «одно»...
Это разговор и не очень добросовестный, и не очень умный, - по пре-
небрежению одной стороны - к существу дела. Одна сторона хорошо знает,
что не в существе дела суть, что ума даже не требуется в вопросе. Требуется
- власть, и она есть, обеспечена: обеспечена тем, что все решение пойдет по
формальному сцеплению авторитетов, которого никто не решится нарушить.
В вопросе о праздниках, таком здоровом, таком народном, перед нами впер-
вые выступило клерикальное начало, и мы впервые имеем повод рассматри-
вать его осязательно и вблизи. А то мы рассматривали его все книжно, как
«французский вопрос».
НАШИ МИССИОНЕРЫ
И МАРИАВИТСКОЕ ДВИЖЕНИЕ
Русское общество и печать, русские общественные и церковные деятели из
частных людей, наконец, русская власть - все с горячим приветом отнес-
лись к мариавитам в Польше. Отношение это нимало не руководилось эгои-
стическими побуждениями и содержало в себе простую радость одного сла-
вянского племени о том, что другое славянское племя, так сказать, возвра-
щается само к себе, становится на свои славянские ноги, выходя из-под чар
и зависимости итальянского католичества, романского католичества. Здесь
135
не было никакой мысли о том, чтобы горсть поляков, принявших мариавит-
ство, так сказать, перевести из одной духовной неволи в другую, из одного
могущественного и далекого тяготения в другое. Никому не приходило на
ум подсовывать мариавитам вместо Рима - Петербург или Москву. Русские
совершенно чужды мысли о «единоспасительности» какой-нибудь вероис-
поведной формулы, и в деле веры симпатии их располагаются не по степе-
ням близости и согласия «с нами» непременно, а по тому, как сами в себе
религиозно устроились люди, как они чувствуют себя, как живут. Русские
единственно желают в области веры свободы дыхания всем. И к самому ка-
толичеству, если они и имеют предубеждение, то никак не из-за особеннос-
тей католического учения, католической вероисповедной формулы, а един-
ственно из-за того, что католики никак не могут усидеть спокойно в своей
вере и все усилия прилагают к тому, чтобы в окружающих народах пода-
вить их личное религиозное сознание, их свободную свою вероисповедную
совесть, и навязать вместо ее «единоспасительную» римскую формулу. Не
будь этих усилий вечной пропаганды из Рима, русские относились бы к ка-
толичеству совершенно так же, как относятся к лютеранству, - без малей-
шей йоты вражды и неприязни, с полным миром. Это есть вековой устой
русской психологии, вместе это есть и особенность стихии православия.
Практические отступления от этого бывали, но бывали временно, не надол-
го, и никогда решительно не пользовались сочувствием в русском обществе
и среди лучших представителей православного духовенства. Русские и пра-
вославные никогда не заводили у себя, не сочиняли «православной унии»,
как промежуточной формы для перехода из иноверия, из лютеранства или
католичества в православие. Этот пример, это сравнение убедительнее все-
го показывают, что нравственный закон души запрещает русскому человеку,
запрещает православному чувству сколько-нибудь угнетать чужую веру,
сколько-нибудь надеяться и желать всех привести в единство с собою. И это -
не только прямо, но и косвенно. Русские не допускают здесь не только наси-
лия, но и двуличности, хитрости, отдаленных целей и косвенных обходов.
Не иначе было и с мариавитами. Русские радовались разрыву части
польского населения с католическим костелом, но потому единственно, что
самый костел-то этот есть лишь сторожевой пост Рима, что он вовсе не
польский, не национальный, не народный храм, а лишь одна из петелек рим-
ской всемирной пропаганды. Вот и все. Поляки становились сами собою, и
этому радовались русские. Поляки выходили из векового духовного поддан-
ства Риму: и этому народному движению, но народно-иольскаму, а нимало
ни народно-русскому и не государственно-русскому, - русские радовались.
Если что здесь и было эгоистического, то это единственная мысль, что вся-
кая вера будет к России менее враждебна, чем римская «единоспаситель-
ная» формула, которая всегда была нападающею в отношении православия,
всегда была завоевательною, хотя бы в надеждах только и мечтах, в отноше-
нии России. Россия помнила свое Смутное время, двух Лжедимитриев и
иезуитов, нахлынувших на Московское царство с королем Сигизмундом и
136
королевичем Владиславом. Но и это воспоминание было далекое и туман-
ное; оно только вызывает к католическому исповеданию опасение и недове-
рие. Русские сами не кусаются, но поберегают ноги от чужих зубов. И толь-
ко, и не далее.
Совершенно вразрез с этим вековым духом России и православия по-
шли наши миссионеры в своем служебном усердии, забыв басню о медве-
де, который убивает муху на лбу друга и тем убивает и самого друга. Как
сообщалось в печати, окружные миссионеры двух епархий Царства Польско-
го довели до сведения Св. Синода о мариавитском движении и, указав на
вводящееся у них причащение под обоими видами и уничтожение целибата,
выразили надежду, что мариавиты совершенно сольются с православием, а
через них и успех их среди польского населения, и все это население со
временем перейдет в православие же. Эти миссионеры предлагают теперь
же Св. Синоду «использовать» это мариавитское движение в целях право-
славной миссии, для чего организовать православно-мариавитские братства
и т. п. Словом, предлагают начинания в направлении «православной унии»,
по образцу, очевидно, бывшей и неудавшейся «католической унии». Вот
старательные копировальщики отцов иезуитов. Все это совершенно чуждо
России и русского духа. Россия совершенно отрекается от этих усилий мис-
сионеров, гораздо более наивных, чем хитрых. Ибо если мариавиты бежали
от иезуитов, то, заметя их же приемы у православных, они оттолкнутся и от
православия, оттолкнутся от самой России, к которой, за ее защиту своей
религиозной индивидуальности, они уже начали было поворачиваться от-
крытою, доверчивою, симпатизирующею душою. Миссионеры все это пор-
тят и разрушают. В своем рвении заслужить кто «Станислава», кто «Анну»
и «Владимира» на шею, эти русские простецы портят великое историческое
дело, - и не знай мы очень хорошо русских служебных нравов, где все сво-
дится к «выслуге перед начальством» и «перед ведомством», мы заподозри-
ли, что миссионеры наши попали в руки иезуитов, которые внушили им шаг,
могущий наилучшим образом, самым верным способом скомпрометировать
мариавитское движение в глазах польского населения и польского общества,
всегда чутких в национальном самосознании, всегда готовых поверить вся-
кой клевете о том, что соседние веры стремятся поглотить их, поляков, в
себе. Миссионеры именно надавили на эту больную мозоль польской души:
они заставили ее вскрикнуть от боли и объявить мариавитов предателями
польской народности, всячески ласкаемыми «схизмою» и «москалем». Вся-
кий знает, что значат массовые обвинения, что значат массовые заподозри-
вания, притом темные, глухие. Усилия наших миссионеров, совершенно
никому не нужные, дали почву для этих обвинений. Мы ожидаем, что и Св.
Синод, и обер-прокурор Синода в открытом ответе на этот «доклад» и «хо-
датайство» епархиальных миссионеров укажет им на совершенную бестакт-
ность вмешательства их в мариавитские дела и что сам Синод не имеет
никаких видов на мариавитов, лежащих вне сферы какого-либо интереса
его. И в самом деле, переводить в православие мариавитов, этих восторжен-
137
ных христиан, когда вне православия остаются еще сотни тысяч язычников
в Сибири и по Волге, совершенно дико. О нелепой затее наших миссионе-
ров можно повторить только слова, сказанные Гусом о старушке, подложив-
шей дров в его костер: «О, sancta simplicitas» («О, святая простота»). Но что
было извинительно в XV веке, возмущает в XX. О всем этом «Колокол»
г. Скворцова, генерала наших миссионеров, должен хорошо и всем внятно
позвонить так, чтобы было внятно в Привислинском крае.
ВВИДУ СЛУХОВ
После тревожных лет, полных такой неуверенности, что не только ни одна
из партий, но и никакой русский человек не знал наверное, что ожидает Рос-
сию и в которую сторону, на какой берег она выберется из налетевшей беды, -
мы пережили два года совершенной твердости и уверенности существова-
ния. Все стало входить в свои берега, а на месте перебивающихся волн, ме-
чущихся туда и сюда, получились некоторые постоянные течения. «Смут-
ное время» перешло в «государственное существование». Заслуга этого, ве-
лика она или мала, приписывается и друзьями, и недругами главе тепереш-
него нашего правительства П. А. Столыпину. Редкими качествами характера,
спокойного и твердого, спокойного без вялости и твердого без упорства, он
сообщил устойчивость нашему государственному кораблю; он не был ни
парусом его, ни паром: он был тою «непроницаемой стальной перегород-
кой», которая удержала от затопления раненый броненосец и выправила его
положение. Заслуга не гениальна; заслуга, пожалуй, более пассивная, чем
деятельна. Но бывают моменты, когда такие пассивные заслуги важнее и
настоятельнее всяческих даже гениальных заслуг, около которых всегда сто-
ит угроза неудачи и обрыва.
П. А. Столыпин есть хорошо узнанное всею Россиею лицо, рассмотрен-
ное до последних мелочей, относительно которого нет никаких неясностей,
нет догадок, подозрений, гипотез; около которого невозможна клевета, за-
рождающаяся всегда в темном месте, зарождающаяся около всего неясного.
Нужно очень оценить этот факт, что в его лице Россия имеет наиболее про-
зрачную фигуру, которую всю можно рассмотреть, которая уже всеми рас-
смотрена и относительно которой ни у кого нет никаких недоумений. Имен-
но этот факт и сообщает, так сказать, психологическую устойчивость и ду-
шевное спокойствие массе русского люда, прямо или косвенно участвующе-
го в политике, участвующего хотя бы только тем, что каждый подал и подаст
свой голос при выборе депутата в Г. Думу. Г. Столыпин сообщил спокой-
ствие именно массе. И уже масса своим давлением принудила к покою и
отдельных лиц. Вот механизм успокоения. Не устраняясь от связи с одними
партиями, не переставая быть неприязненным другим партиям, не скрывая
прямой и резкой вражды своей к третьим партиям, в одном или в другом
смысле антигосударственным, Столыпин не в этих партийных отношениях
138
помещал фокус своей личности и фокус русской политики. Партии не зас-
лоняли от него России. К партиям он был гораздо равнодушнее, чем к Рос-
сии. Через это он невольно и самым положением вещей поднялся над парти-
ями, поднялся без гордости и кичливости, а благодаря исключительно ред-
ким качествам своей уравновешенной натуры. Он ни от кого не зависим, не
есть креатура партии. Это редкое положение для министра. И в данном слу-
чае, в нашем положении его нельзя особенно не оценить, как свободу госу-
дарственного корабля от партийных давлений, от партийных притязаний, и
вместе как некоторую гармонизацию партий, при которой они волей-нево-
лей теряют свою остроту, страстность, ярость, притупляются и бессилеют в
момент нападения. И правые, и левые, и кадеты, будучи враждебны кабине-
ту Столыпина, явно не имеют при нем той нападающей силы, той опроки-
дывающей силы, какую имели до него, и, без сомнения, сейчас же получат,
как только уйдет он.
К числу отрицательных сторон министерства Столыпина нужно отнес-
ти недостаточную его инициативу; то, что он сам не имеет крупного шага и
не придал большого хода государственному кораблю. Но положение было
таково, что устойчивость была предпочтительнее в данное время, чем быст-
рота и энергия. Пусть даже, как говорят, г. Столыпин не творец, не произво-
дитель, а только успокоитель. Но составляет всеобщее убеждение, что по-
кой государственный и общественный, покой народный есть первоначаль-
ное условие, без осуществления которого нельзя взяться энергично и за со-
зидание. Нельзя возводить стен здания, когда ветер рвет и ломает леса около
постройки, сносит и разбивает о мостовую рабочих. Столыпин, во всяком
случае, не против инициативы, если бы кем-нибудь она была начата, если
бы откуда-нибудь она обнаружилась. Он успокоитель по природе; но дру-
гим около себя, в составе своего правительства он не мешает быть творца-
ми. Его прямое, честное отношение ко всем вещам, его высокий патрио-
тизм, отсутствие способности к интриге, к мешанию другим, создает пре-
красную обстановку для всеобщего оживления, для всеобщей работы, для
всеобщего подъема; но только от него трудно ожидать толчка к такому подъе-
му. Но ведь он и не один; не он лично есть правительство. Нужно высоко
оценить то, что он лишен первородного греха сильных правителей - стрем-
ления к подавлению чужой личности, товарищеской или подчиненной. При
нем действительно осуществлена свобода и независимость, открытость и
ясность коллегиальной системы управления.
Все эти обстоятельства и подробности не в пользу замены кабинета Сто-
лыпина кабинетом другого лица. Все новое, естественно, нас манит; но нужно
хорошо знать положение страны, чтобы с уверенностью сказать, что это новое
даст непременно большую яркость дня, а не принесет с собою неожидан-
ные тучи. Ветры во всяком случае и со всех сторон усилятся; та нравствен-
ная муть, которая всегда лежит в основе социальной смуты, непременно по-
дымется около всякого лица, менее известного, чем П. А. Столыпин, или
более способного возбудить подозрение и клевету. Нельзя забыть, что там,
139
где борются, ищут не одних причин, но и поводов, пользуются не одними
основаниями, но и предлогами. Счастливую сторону управления П. А. Сто-
лыпина составляет то, что он рано и твердо подрубил около себя это мелкое
политиканство, жадно глотающее вместо здоровой воды мутную воду слу-
хов, возможность предположений, предлогов, придирок, заподозриваний.
Театр русской политики при нем не имел ширм и кулис. С его уходом свет
рампы уменьшится, выдвинутся со всех сторон загородки и перегородки, и
даже о тех из них, за которыми ничего не делается, станут немедленно сочи-
няться политические романы. Все это, может быть, и шло бы, все это, веро-
ятно, сделает нашу политическую историю занимательнее. Но вопрос - на-
столько ли мы успокоены, настолько ли отвердело положение государствен-
ного корабля, чтобы входить с легким сердцем в эти сумерки и, прибавляя
ходу, переступать из определенного, ясного и безопасного положения и пла-
вания в такое плавание, которое, безусловно, содержит в себе некоторый
риск приключений и опасностей? Настолько ли опытны кормчие, чтобы ска-
зать о себе и в особенности чтобы уверить страну, что «камни, и мели, и
бури - все нипочем» им? Вот некоторое предостережение, которое лучше,
если оно сказано вовремя. «Семь раз примерь, один отрежь», - говорит рус-
ская пословица, - между прочим, говорит это и политикам.
К НОВОМУ ЗАКОНОПРОЕКТУ О РАЗВОДЕ
Обширное сообщение законопроекта о разводе, выработанного комиссиею
при Св. Синоде с участием представителей от медицины, должно пролить
много утешения в те многочисленные семьи, которые уже фактически рас-
пались или нравственно умерли, но которые не могут ожить ранее растор-
жения их брака по суду и ведут полумертвое существование, можно сказать
словами известной ученической молитвы: «Церкви и отечеству на пользу».
Само собою разумеется, однако, что никому и никакой от этого пользы не
происходило. Множество несчастных семей было оставлено в несчастном
положении по той единственно причине, что никто не брал на себя инициа-
тивы законодательно пополнить «поводы к разводу», завещанные нашему
времени от незапамятной древности, в отношении России - даже от ее до-
исторической древности. Мы были одурманены угаром не в своей избе. В
основе этой вековой косности и нерешительности лежал, между прочим, и
взгляд, что всякое пополнение «поводов к разводу» непременно увеличит в
стране число разводов, и тем внесет дезорганизацию в семью как социальную
ячейку и через нее в весь великий социальный организм, в народный строй.
«Чем труднее развод и менее законодательно утвержденных «поводов» к
нему, тем семья прочнее, долговечнее, устойчивее, тем она менее ветрена,
тем сами супруги ведут семейную жизнь осторожнее и бережливее», - это
был до того распространенный взгляд, до того утвердившийся, что даже са-
мыми смелыми и проницательными умами для уврачевания семейных ран
140
никогда не предлагалось облегчение в стране развода как общая мера, а все
сводилось к добрым нравственным советам мирнее жить или к советам ро-
дителей лучше и заботливее готовить детей к будущей семейной жизни. В
знаменитых литературных произведениях, как «Дворянское гнездо», «Анна
Каренина» и «Крейцерова соната», где положено в основу фабулы семейное
несчастие, семейный раздор, семейная нелюбовь и нравственная смерть бра-
ка, - слово «развод» и надежда на развод не вставлены не только как идея,
но даже и как слово. Во всех трех романах о «разводе» не упоминается. «Раз-
водит» только смерть; таково было русское правосознание в этой области,
какое-то каменное, какое-то закостеневшее: и полуживым людям, Лаврец-
кому, Каренину, Позднышеву, даже авторы романов, плакавшие об их судь-
бе, не подсказали простую мысль: «Да выйдите вы из мертвой жизни и всту-
пите в живую жизнь». История, ряды отошедших в могилу поколений, гип-
нотизировали живых: казалось ужасным нарушить это древнее церковное
правило, по которому, пока жив один супруг, хотя бы в другом полушарии
живущий, хотя бы ненавидящий другого супруга, этот другой супруг никак
не может быть освобожден от уз с ним, не может открыто стать перед алта-
рем и свободно обвенчаться с другим человеком. Перед этой мыслью, перед
таким предложением все зажмуривали глаза, затыкали уши, разбегались в
страхе. «Жениться от живой жены», «выходить замуж при живом муже» -
казалось религиозным кощунством, семейным святотатством. На этом ос-
новании, и только на этом, развод и не давался. Ни множество семейных
зверств, убийства, поранения, отвратительнейшие семейные нравы, - нич-
то, никакие социальные бичи не имели силы подогнать общество и законо-
дателей к этой ужасной стене, заставить ее внимательно рассмотреть и на-
конец ее повалить.
«От живого мужа выходить замуж» и «от живой жены жениться» на
самом деле было - новым замужеством и новою женитьбою при фиктив-
ном уже муже и при фиктивной жене. Стояли фикции, а живых людей за
ними не было. Не фикция ли живущая с Вронским жена Каренина или пута-
ющаяся в Париже жена Лаврецкого? Конечно, и Каренин без Анны, и оди-
нокий Лаврецкий уже давно перестали быть «мужьями» одной и другой
женщины, перестали в полном смысле слова, кроме единственного - конси-
сторского, по записи рядом в церковной «книге о браках». Две строки чер-
нил перебороли всю толщу жизни, всю громаду жизни, весь ужас, весь тра-
гизм ее. Ничто не могло перебороть этих строк, совершенно равнодушных и
друг к другу, и к тем именам «рабов Божиих», какие в них стояли. Закон
жертвовал жизнью для фикции, пока все не догадались, что нисколько «со-
циальная клеточка» не разрушится, если зачеркнуть эти строки, перестав-
шие быть точными и верными, а «социальная клеточка», наоборот, глубоко
хворает, неисцелимо страдает от того, что атомам ее не дают ожить эти две
строчки, которые надо зачеркнуть, и чем скорее, тем лучше. Тогда социальные
клеточки останутся живы, хотя войдут в другие сочетания. Для страны же,
для нации, для ее нравственности важен семейный покой, семейный чистый
141
воздух; для огромного же организма народа то или иное сочетание клето-
чек, связь таких или иных имен и лиц - совершенно безразличны. Именно
от громадности своей организм народный всеми клеточками пользуется рав-
но, пользуется одинаково, лишь бы они были здоровы.
Таким образом, свобода развода не только ничем не угрожает социаль-
ному строю, но есть очевидное условие благосостояния этого строя.
А что это так, до очевидности показывает положение других стран, по-
ложение семьи там, - при свободном почти разводе. Кроме того, мягкость
семейных нравов до очевидности возрастает, семейный быт становится луч-
ше, как только каждая сторона в браке получает право требовать по суду
развода при безобразии другой стороны, при беспутстве ее, ветрености ее,
жестокости ее, грубости ее. Семья в Англии, в Германии и особенно у евре-
ев дает разительные и бесчисленные иллюстрации к этому.
Как только все это разъяснилось перед страною, перед законодатель-
ством и самим духовенством, так тон суждений о разводе совершенно изме-
нился. Исчез испуг отсюда, - главный враг всякого здравомыслия. По сооб-
щению о результатах совещания в синодальной комиссии видно, что вопрос
развода обсуждается совершенно спокойно, и все направляется одним мо-
тивом «как бы сделать лучше», а не соображением «как бы не нарушить
древности». Поводы к разводу без труда увеличиваются, а разведенным суп-
ругам не ставится более препятствие вступать в новый брак. Эта перемена
тона есть главное. Изменилась атмосфера, которою дышат бракоразводите-
ли, - и прозрели их глаза. Пожелаем, чтобы новые благие предположения
возможно скорее вошли в жизнь. А общество может совершенно спокойно
смотреть на будущее: свобода развода, полная его свобода, даже при поводе,
заключающемся единственно в нравственной неспособности к чистой и бла-
городной семейной жизни которой-нибудь стороны, будет непременно дана
русскому обществу и русскому народу.
Великое иго падает. Очаг величайшей социальной заразы, семейной за-
разы, сжигается в свете нового сознания.
Бесполезные нравоучения - «лучше готовиться к семье», «осторожнее
вступать в брак», нравоучения, обращенные к мужам и старцам, как Каре-
нин или Лаврецкий, отпадут сами собою, когда на практике быстро обнару-
жится, до какой степени сторона, по-видимому совершенно «не приготов-
ленная» к супружеству в связи с одним лицом и ведущая себя с ним безоб-
разно и мучительно, - вдруг становится тиха и кротка в браке с другим ли-
цом, как бы кто ее «наилучшим образом подготовлял к браку». Это закон
гармонии и приспособления, закон соответствия, который могущественнее
всяких «подготовлений» и «наставлений», ибо он обеспечивает семейное
счастье даже и простым и немудреным людям. Нельзя же надеяться, что
семья расцветет только тогда, когда к ней будут подготовляться все чуть ли
не в специальных семейных университетах. Это область природы и инстинк-
тов, а не область муштровки и педагогической дисциплины, - семейно-
педагогической. Резонеры-мужья и резонерки-жены, «тщательно подготов-
142
ляемые родителями к браку», очень скоро прискучивают другой стороне
именно резонерством, а скука и отвращение - это такая семейная болезнь,
не из последних, против которой наука не нашла лекарств. Секрет в том, что
супружеством управляет грация, а не управляет академия.
НОВАЯ КНИГА О ГОГОЛЕ
Под шум гоголевских торжеств появилась книга - «Подвижник слова. Но-
вые материалы о Н. В. Гоголе» нашего известного беллетриста и драматурга
Ив. Л. Щеглова, которая с большим интересом прочтется всеми любителя-
ми русской литературы и почитателями удивительного и своеобразного ге-
ния Гоголя. Книга большинством статей вращается в том, что можно на-
звать «обстановкою Гоголя», т. е. вращается в тех подробностях быта, сре-
ды, общества и идей, тех врагов и друзей, среди которых, при впечатлении
от которых Гоголь жил и писал. С богомольным чувством пилигрима автор
посетил лично места, где живал Гоголь, и собрал много «соринок», «мело-
чей» и «жемчужин», которые все дороги по связи с именем и личностью
великого человека. Все это оживает под пером И. Л. Щеглова, - от того, что
это есть безмерно любящее перо. Так, он посетил Калугу, где жила его зна-
менитая корреспондентка А. О. Смирнова и живал он сам, Крестовый мона-
стырь и Оптину пустынь, - всюду разыскивая воспоминания и хоть каких-
нибудь остатков писем. Из воспоминаний одно разительно: рассказ одного
старого актера о том, как в молодости к антрепренеру труппы, в которую он
поступил, явился посланный от архимандрита местного монастыря, попро-
сивший его за цену полного театрального сбора сыграть, в глубокой тайне и
без допущения кого-либо постороннего, «Ревизора» исключительно для
монашествующей братии. Пьеса была сыграна, когда весь городок заснул,
после 12 часов ночи. Много страниц И. Л. Щеглов посвящает отношениям
Гоголя к от. Матвею, ржевскому протоиерею. Это с фактической стороны.
Но книга изобилует и высоким теоретическим интересом. Таковы статьи в
сборнике: «Своеобразность гоголевского дара», «Перл создания» и «Метод
работы Гоголя и его отношение к слову». Автор, сравнивая творчество Гого-
ля с творчеством Достоевского и Толстого, называет первое скульптурным,
а второе только живописным и отдает, в смысле мастерства, первенство Го-
голю. Все это правильно, как и то, что изображения Гоголя, за их обобщаю-
щий смысл, он называет алгебраическими. Гоголь в слове человеческом ви-
дел какую-то тайну, видел живую и могущественную магию, к которой нуж-
но относиться бережно, благоговейно, с помощью которой можно сотворять
чудеса. Такие чудеса творил он и сам, и научал (в одном письме «Перепис-
ки») творить других. Метод его работы, переписывание собственноручно
по 8-ми раз рукописи, с мелкими поправками при каждом переписывании, -
в самом деле удивителен для всех времен. Он работал как ювелир и микро-
скопист слова. Но самая интересная в сборнике статья - «Юмор и христиан-
143
ство». Ни один из теоретиков и историков литературы не может оставить
этой статьи без внимания, он должен обдумать ее для себя самым тщатель-
ным образом. Здесь поднимаются вечные вопросы. Принимая, с одной сто-
роны, в большое внимание известный рассказ Лескова «Скоморох Памфа-
лон», передающий подлинный факт из древнехристианских «житий», а за-
тем, указав на то, что некоторые великие юмористы, как Диккенс и Лопе-де-
Вега, были вместе людьми глубокой христианской настроенности, г. Щеглов
поднимает общий вопрос: что такое юмор в его психологической и даже в
метафизической основе и отчего его не было в древней, языческой истории.
Не приходило в голову; но, в самом деле, ни у греков, ни у римлян юмора не
было. Отчего? Юмор и способность к нему, отвечает г. Щеглов, была прине-
сена только христианством. «Что такое по существу своему юморист? Это
человек, который все переварил и все простил, поднялся на ту высшую сте-
пень человеческого духа, откуда как чужие, так и собственные страсти и
слабости представляются мелкими и смешными до ничтожества. - «Все
пустяки по сравнению с вечностью», - вот девиз кровного юмориста; явно
или потаенно, но в основе его философии заложено сознание суетности все-
го земного... Юмор в его чистом виде - прямой отпрыск христианства, и я
даже берусь утверждать, рискуя навлечь на себя обвинение в ереси: не будь
христианства - не было бы и юмора, т. е. не явись столь высоко поставлен-
ного человечеству идеала, никогда не отпечатлелись бы так ярко в сознании
бесчисленнейшие от него отступления... не было бы также и тоски по иде-
алу. .. Вот почему величайшая грусть - удел величайших и, кстати сказать,
немногих истинных юмористов; вот почему все истинные юмористы были
всегда глубоко религиозными людьми, хотя у некоторых из них это чувство
ревниво скрыто или наружно мало подчеркнуто. Так в этой форме оно таи-
лось у Чехова» (стр. 68 - 69).
...Замечательные строки. Не таится ли разгадка этой странной и дей-
ствительной связи глубокого юмора с христианством в том, что Евангелие
углубило и унежило душу и ослабило силы? Что такое юмор? Усмешка сла-
бого человека! Человек, который все понимает, но очень мало может. Гам-
лет если и не был юмористом, то должен бы быть им; не был по молодости
лет. Но все Гамлеты под старость лет становятся юмористами. Истинный
христианин, в противоположность деревянным антикам, все видит, - видит
до центра земли. «Подноготная» - можно сказать, «истинно христианская
сфера». Так. Но что он может? Над всем разводит руками. Таинственным
образом Евангелие точно вспрыснуло в человеческую кровь особое веще-
ство, «небесную прививку», - и прививка эта, действуя в веках, неодинако-
во повлияла на разные части человеческого состава: ум, особенно сердце,
небывало утончила, пульс сделала частым и слабым, «лихорадящим», роди-
ла грезы, множество грез, мечту несбыточного, небывалого, неосуществи-
мого. Все утопии, почти все, и социальные, и моральные, суть продукты
христианства: и ни Руссо, ни 89 - 93 гг. во Франции без него немыслимы. Но
главное действие «прививки» было на кости: кости человека страшно рас-
144
слабли, они стали гибки, становой хребет гибок, походка человека нетверда,
шатка. А все понимает. Все чувствует. Тогда что же остается? «Моим горь-
ким смехом посмеюсь»... Осталась улыбка, страдальческая, бессильная.
«Прощение» поневоле, потому что как же не простить того, чего исправить
не можешь. Да и не хочется: с тонкостью мысли Евангелие дало человеку
разнообразие мыслей, такое разнообразие тонов, цветов, оттенков ее, что и
не разберешься. «Что есть истина», - говорит не один Пилат. И вот такой
«Пилат»-христианин, увидев Чичикова с Маниловым, вместо того чтобы идти
дальше и, что называется, «строить город», строить дело, воздвигать Вави-
лонскую башню, копаться, инженерничать и проч, и проч., говорит: «Мело-
чи! Все ничто в сравнении с вечностью... Ну, что в городе, что в работе. Все
равно, все помрем». У «Пилата» хрупки кости, да, по правде, и ленца одоле-
вает. Легши на обломовскую кроватку, он начинает срисовывать Чичикова с
Ноздревым и «возводить в перл создания»... Так произошло много-много
созданий, удивляющих мир, но при которых «воз и ныне там», говоря кры-
ловской басенкой...
«Горьки дела на этом свете», - перефразируем Гоголя.
ОБЩЕСТВО СОДЕЙСТВИЯ
ДОШКОЛЬНОМУ ВОСПИТАНИЮ ДЕТЕЙ
Семья современного человека до того бывает поглощена экономическою и
служебною заботою, а к склону лет до того бывает и усталою, что детям
уделяется лишь небольшое время и небольшая работа. Экономический, хо-
зяйственный интерес и служебная ответственность - это всегда неотложные
дела, не допускающие никакого сжимания себя, - уже от того одного, что
это не домашние дела, что здесь замешан чужой интерес и проявляется тре-
тья, чужая воля. И перед этим натиском снаружи сжимается домашняя об-
становка, обрывается личный, собственный интерес, сдавливаются свои се-
мейные обязанности. Жизнь так сложна, все вещи и отношения в ней так
переплетены, что работа каждого человека происходит не на себя самого, а
на других: и естественно, что свои обязанности дома он в свою очередь пе-
релагает на других, специальных людей, специальной подготовки и специ-
альной умелости. «Домашнее воспитание детей», «воспитание родителями
своих детей» окончилось едва ли не с концом пастушеского быта: учитель и
затем школа появляются как сотрудники родителей на самой почти заре куль-
турной жизни. Сперва кажется это неправильным: «никто так не воспитает
детей, как родители», к этой аксиоме все склонны. Но это - наивная аксио-
ма. Даже учителя гимназии, когда детям их нужна помощь, - берут посто-
роннего учителя, зовут репетитора. Занятие отца или матери с сыновьями
или дочерьми навсегда останется роскошным исключением, фантазией че-
ловека с духом Гладстона или Толстого: да и Толстой, кажется, обучал соб-
ственных детей не сам; сам он обучал чужих детей.
145
Таков закон, таков дух; такова невольная система.
В Петербурге, в помощь родителям, образовалось превосходное Обще-
ство дошкольного воспитания детей, которое или само открывает подгото-
вительные школки для самых маленьких детей, или вступает в связь и вза-
имодействие с подобными школками, возникшими по частной инициативе.
Начиная с азбуки, они доводят детей до поступления в среднее учебное
заведение, - всевозможных типов, хотя преимущественно гимназий. Но под-
готовление - только малая часть их работы и заботы. Имея во главе себя
лучших педагогов Петербурга, школки эти не только применили у себя все
новые приемы обучения и воспитания, но и постоянно работают сами, твор-
чески и изобретательно работают над отысканием все лучших и лучших
методов передачи сведений, закрепления их, - и закрепления здоровых, тру-
довых привычек в детях. В противоположность недавнему увлечению, -
«учить играя», - трудовые педагоги, ставшие во главе этих школок, дер-
жатся взгляда: «Вся будущая жизнь стоящего перед глазами ребенка будет
состоять из труда, заботы и ответственности: и готовить ребенка к жизни -
значит приучать его к труду и ответственности». Но есть труд талантливый
и увлекающий, и есть труд бессмысленный и каторжный, - труд сегодня
настолько отвратительный, что из него рождается назавтра необоримая рас-
пущенность и лень. Знаменитая толстовская гимназия, вбивая труд дубьем
в гимназиста, решительно развратила трудоспособность русского выучив-
шегося общества («интеллигенция»). В маленьких школках частного ха-
рактера, о которых мы говорим, труд поворочен к ребенку его талантли-
вою, увлекающею стороною, через соединение восприятия как пассивного
отношения к предмету или сведению, - с художественным и самостоятель-
ным воспроизведением этого же сведения или этого предмета и целой ком-
бинации предметов (в комбинации - творчества). Что-нибудь читается или
разучивается, - маленький рассказ, маленькое стихотворение, маленькая
история: и ученики, кто и как может, кто и как вообразит и сообразит, вос-
производят рассказанное, т. е. отвлеченное, в рисунке, т. е. в видимом. И
обратно: показываются детям 3—4 картинки в связи одна с другой: и пред-
лагается письменно рассказать о том, что они видели. Зрелище превраща-
ется в рассказ. Толчок дает полет к дальнейшему: и я видел две тетради
мальчика 10 лет, сплошь зарисованные, и добровольно зарисованные изоб-
ражениями всего решительно, что он выучил из Ветхого и Нового Завета.
«Сон Навуходоносора» и как «вдова (из Сарепты Сидонской) собирает дро-
ва», чтобы испечь последнюю лепешку хлеба и умереть потом с голода, -
«Рождество Христово» и «Введение во храм Пресвятой Богородицы» - все
разительно по оригинальной выдумке. Что все люди похожи более на крыс,
чем на людей, а собираемые дрова летят в воздухе (в поленнице их предста-
вить невозможно, нет еще уменья и средств) - это ничего. Видно, однако,
что все темы, т. е. все содержимое одного и другого завета, прошло ярко
через воображение: да и нельзя истории нарисовать в картинке, не перечи-
тав несколько раз историю, не приглядевшись к ней: ибо все надо излов-
146
читься, чтобы передать, чтобы по рисунку можно было узнать историю.
Здесь старание само собою возбуждается: старателен делается сам уче-
ник, и не по приказу, не из страха наказания. Везде введен ручной труд - и
крошечные ученики сами себе поделали линейки, вставочки и всю учеб-
ную мелочь; приучаются строгать, пилить, обтачивать: узнают первые ре-
месленные инструменты и способы обращаться с ними, пользоваться ими.
Это не то, что «штопор», единственная машина, какою мы, ученики толстов-
ской гимназии, бывало, откупоривали бутылки пива. Методы обучения и
упражнения в устном счете и в разрешении задач на четыре действия ариф-
метики доведены до виртуозности. И все - охотно, так что дети и в воскре-
сенье просятся в школу, где их занимает ручным трудом приходящий учи-
тель, а рано утром до уроков также стараются что-нибудь порисовать. Сте-
ны классов увешаны рисунками самих учеников: и, конечно, это удваивает
энтузиазм учеников.
Не все, но некоторые учителя и учительницы этих маленьких школок
занимаются бесплатно, «любительски»: действительно любя дело и увле-
каясь образцовостью школы, но в корне все же по тому основному мотиву,
что при маленьком числе учеников эти школы не в состоянии оплатить весь
контингент учителей и учительниц. При ста рублях платы и 40 учениках
получается 4000 р. дохода, из которых 2000 р. уходят уже на плату за квар-
тиру школы: остальные 2000 р. должны растянуться на содержание основа-
теля школы, который ведь все-таки ест и одевается и уже ничем, кроме шко-
лы, не может быть занят, и всего учительского персонала! Да еще при таком
развитии прикладного, практического обучения нужны «пособия», ну хоть
в виде классной доски, мела, губки, карт, верстаков столярных и токарных.
Плата сто рублей в год с ученика хотя может быть повышена, но очень не-
много: не выше того, что платится в год за 10 месяцев «домашнему учите-
лю». Коллективное обучение дешевле: и все же никакой «домашний учи-
тель», самый талантливый и разносторонний, не даст того, что такая талант-
ливая школка даст мальчику при 3—4 учителях и учительницах. Может быть,
потом, когда школки эти привьются и сделаются «общеизвестными» и «об-
щеупотребительными», - они пойдут легко своим ходом через увеличение
числа учеников. Но как-то не только грустно, но и больно, наконец, стыдно
думать, что есть бедные учительницы, жмущиеся по комнаткам своим, ко-
торые приносят состоятельным родителям свой труд «даром». Между тем
при 3—4 детях в семье, и платить за каждого дороже ста рублей в год семья
тоже решительно не может, не в силах. Общество дошкольного образования
кое-что собрало, кажется, из «пожертвований» (мне эта сторона неизвест-
на), но это очень немного, и отдельным школкам оно может уделять крохи,
недостаточные, чтобы оплатить всех учителей. Промышленные наши мини-
стерства субсидируют, и не на «первых только порах», многомиллионные
предприятия, - как, например, общества пароходства и торговли, хотя това-
ры, им перевозимые, перевозятся купцами, перевозятся для торга и бары-
шей, и можно бы думать, что купцы могут сами и полностью оплатить пере-
147
возимый товар. Не могло ли бы наше государство, т. е. министерство народ-
ного просвещения, прийти на помощь безбарышным учителям, явно безба-
рышным, и, наконец, убыточным школам этого типа, которые делают пре-
восходное педагогическое дело, делают с рвением и уменьем. Повторю о
новом в педагогике, что ищут и шаг за шагом находят они, находят путем
опыта и ежедневного наблюдения, не фантазируя. Ведь это помогает само-
му министерству! Зачем же этим труженикам, а кажется и энтузиастам, го-
лодать, полуголодать? Может быть, кто-нибудь поможет? Может быть, по-
думает г. Шварц, подумает попечитель петербургского учебного округа?
Может быть, откликнется создательница многих образовательных учрежде-
ний для беднейшего населения Петербурга графиня Панина? Ну, кто-нибудь
как-нибудь. Помогай Русь Руси.
ЗАКОНОПРОЕКТ О СТАРООБРЯДЦАХ
В ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЕ
Вся Россия и, наконец, вся история ее в просвещенных своих течениях жда-
ла и ждет нетерпеливо утверждения закона, коим даровалась бы свобода
исповедовать громко свои религиозные убеждения, безопасно молиться,
собираться и устраиваться - не одним верующим государственной церкви,
но и верующим малых христианских церквей и, наконец, малых и крошеч-
ных христианских общин. Таковых, с незапамятно-древних времен, и осо-
бенно со времен патриарха Никона, в России не десятки, а сотни; и числен-
ность всего населения, находящегося вне государственной церкви, колеб-
лется около цифры десяти миллионов. Это - целый немалый народец, целое
немалое королевство, если прибегнуть к измерению западноевропейским
мерилом.
Вопрос идет об удобствах и переносимых условиях существования этого
немалого народца, приблизительно в размере нидерландцев при Филиппе II
испанском или гугенотов в пору Екатерины Медичи. К счастью для Рос-
сии, наши «негосударственные» церковники ничего не имеют против госу-
дарства, и этим глубоко отличаются от западных индепендентов. При Ни-
коне и в особенности в пору церковных преобразований Петра Великого и
Феофана Прокоповича русское правительство, светское и духовное, быст-
ро и не очень осмотрительно приняло сторону перемен и переделок, носив-
ших при Никоне археологическо-византийский характер, а при Петре и Фе-
офане лютеранский уклон: и не принявшие этих переделок люди остались
церковниками по типу, духу и букве, во всем сливающимися с великими
святителями земли русской, преподобным Сергием Радонежским, митро-
политами Петром, Ионою и Филиппом, с царями, как Грозный и Михаил
Феодорович. Конечно, - это столп России, стержень русской истории и цер-
ковности. Всегда прежде, как и в настоящее время, эти столбовые русские
люди волновались исключительно отдельными распоряжениями правитель-
148
ственной власти, именно - направленными против них распоряжениями;
но никогда решительно они не восставали против существа государствен-
ной власти, никогда не отрицали и не оскорбляли лица государства и госу-
дарственности. В этом огромное их преимущество сравнительно с запад-
ноевропейским сектантством, огромное и само по себе, и по отношению к
государственной безопасности. Можно сказать, государство манится и все-
гда манилось создать наиболее удобные условия существования для этих
церковных «раскольников», суть которых заключалась в непринятии ника-
ких «новшеств» церковных, в отстаивании духа и буквы старой веры, отку-
да произошло и самое имя «староверия», в нежелании сколько-нибудь от-
щепиться, сколько-нибудь отколоться от великих прототипов древней рус-
ской веры, от Сергия Радонежского до московских святителей; в нежела-
нии нового, доходившем до суеверия, до мелочности, до «йоты» или, на
свежий взгляд, до смешного.
Со времен тех стихотворных шуток, в которых Ломоносов высмеивал
«бородачей», т. е. представителей старой веры, «староверия», - и до нашего
времени в расколе было и остается много темного и суеверного, вызываю-
щего пародию и остроумие; но решительно ничего вредного и опасного. Для
самой «государственной» церкви старообрядчество не представляет ника-
кой решительно опасности, ничего решительно угрожающего, так как в нем
не содержится никакого движущего принципа, никакой движущей идеи, ко-
торая, начинаясь малым, оканчивается великим, начинаясь трещинкой в преж-
нем укладе церкви, не оставляет под конец в ней камня на камне. Такова
была на Западе реформация, лютеранство, которое где водрузилось, там ис-
чезнул католицизм. Ничего подобного нет в нашем старообрядчестве: оно
есть то же самое православие, наше православие, но только не поновленное
со времен Сергия Радонежского и Грозного! Но ведь насколько церковь во-
обще тянет к «прежнему», к «старому», насколько это «старьевство» есть
метод существования вообще всех церквей, настолько наше по заблужде-
нию гонимое и стесняемое «староверие» только преувеличивает, доводит до
крайности, до неприятного этот универсальный принцип бытия всех церк-
вей. Все они консервативны и поставляют славу свою, доблесть свою в кон-
серватизме: старообрядчество все усердие, все благочестие положило в кон-
серватизм, в нем одном и до пролияния крови! Исторически и логически
преследование старообрядчества, государственное и церковное, представ-
ляет до того странную вещь, до того несбыточное явление, что будущие ис-
торики станут рассказывать эту историю, отказываясь отыскать в ней какой-
нибудь смысл.
Лучший знаток судеб раскола, покойный Н. П. Гиляров-Платонов,
разъяснил источник этого «правительственного» умоисступления. Как из-
вестно, раскол гнался особенно жестоко в классическую эпоху нашего пра-
вительственного блеска, в пору Николая I и митрополита Филарета. Гиля-
ров-Платонов указал, что раскол самым бытием своим, самым своеобрази-
ем своим, своею волею, своим неуступчивым «я» ставил препятствие для
149
победного шествия «фронтовых идеалов», т. е. идеалов военного фронта на
смотру, принцип коего разливался на всю гражданственную, на всю куль-
турную и, наконец, на всю религиозную жизнь. Со старообрядчеством не
вступали в прения по существу, старообрядчество не критиковали по суще-
ству, старообрядчеством не интересовались по существу; его не любили,
гнали и, наконец, «убирали с глаз долой», как пуговицу, неверно пришитую
к борту формы у солдата на смотру. Вот и все. Вот и весь источник гонения.
Отсюда знаменитый и странный для уха, непонятный для религиозной со-
вести термин «неоказательства», введенный по отношению к расколу в за-
коны: старообрядчество могло быть, но оно не должно было «оказывать-
ся», являть себя, показываться на глаза кому-нибудь, - именно, как пугови-
ца, не так пришитая, во фронте, как неправильность формы, как отступ-
ление от униформности, т. е. абсолютного, слитного единообразия.
«Отступлений не допускается». Этот девиз фронта, девиз формальных бю-
рократических отношений, девиз «исходящих» и «входящих» бумаг, был
распространен на великую, волнующуюся религиозную область, в которой
решительно никогда, ни в один момент и ни в какой стране униформности
не бывало, да униформность не составляла и самого идеала, самой задачи
религиозного существования. «Подобает и ересям быти», - сказал проник-
новенно апостол. Уже апостолы Павел и Петр не могли долго согласиться
на одном, спорили между собою; каким же образом достигнуть единства в
ста миллионах населения, когда оно не было достигнуто, или достигнулось
с трудом и не скоро, в двенадцати лицах, видевших и знавших непосред-
ственно И. Христа, слышавших слово Его непосредственно из собствен-
ных Его уст!
Властительный митрополит Филарет, со своим самонадеянным гордым
умом, в высшей степени сливался с этим взглядом правительственных сфер
своего времени и положил тяжелую гирю на весы, где взвешивалась судьба
нашего сектантства и старообрядчества.
Все русское образованное общество, все просвещенные русские люди,
наконец, просто все хорошие и добрые русские люди постоянно смотрели с
негодованием на эти гонения и стеснения «столбовых русских людей» ста-
рой веры, древней веры, прежней веры. Никогда ни один просвещенный
голос в России не поднимался за стеснения. Стеснения были исключитель-
но «правительственным мероприятием», и только. В крови и в муках рас-
кола Россия неповинна. Это было всегда связью циркулирующих «бумаг»
между департаментами и ведомствами, которые не были скреплены сочув-
ствием ни одного не только просвещенного, но просто доброго русского
человека.
В Г. Думу внесен и завтра будет рассматриваться законопроект о старо-
обрядцах и религиозных общинах. Таким образом, великое «ныне отпущае-
ши» настало для этих 10-11 миллионов русского народа.
150
РЕЛИГИОЗНЫЙ прозелитизм
И О НАКАЗУЕМОСТИ ЗА НЕГО
Что значит быть убежденным в чем-нибудь и в то же время молчать об этом
предмете своего убеждения? Что, наконец, значит найти спасительное что-
нибудь, целительное для своей души, успокоившее ее после тревог, поисков
и сомнений, - и скрывать от всех это духовное лекарство? Поистине, это
положения совершенно невозможные. Их можно требовать на бумаге, так
как бумага, по бездушному существу своему, «все терпит»: но надеяться на
исполнение этого требования совершенно невозможно. Вот почему с вопро-
сом о религиозной свободе, в смысле своего личного исповедания, неразъ-
единимо слит вопрос о свободе религиозного прозелитизма, религиозной
проповеди иномыслящих. Это не два разных вопроса, а один: для верующе-
го исповедание вслух его веры, проповедь ее, есть хлеб насущный, от кото-
рого он никак не может отказаться; есть то условие психического благосос-
тояния, душевного равновесия, без которого он непременно будет волно-
ваться, двигаться, беспокоиться, пока его не найдет и не осуществит. Как
сущность торговли заключается в покупке и продаже товара и нельзя чело-
веку, разрешив быть «купцом», дозволить только «продавать», а отнюдь не
«покупать», так сущность веры заключается в субъективной уверенности и
в проповеди предмета веры, - и нельзя, допустив свободу первой, не допус-
тить свободы второй. Неразъединимость этих двух актов столь тесна, что
законодатель, давший одну половину свободы и не дав другой, не то чтобы
в самом деле запретил ее, - нет, это невозможно: но он только установил бы
что-то, подобное старинному «прогнанию сквозь строй», через который по-
бегут все сектанты, иноверцы, все люди негосударственной церкви. Он про-
сто установит ряд наказаний, ряд судебных шипов, через который будут про-
дираться, непременно будут, новые свободно-верующие: таким образом бук-
вально и по существу он не запретит пропаганду, а только искровянит ее,
сделает страдальческою. Он сделает то, что во всех местах, где есть сектан-
ты, возникнет множество кляузных дел, с доносами, жалобами, ложью, под-
купом, взяточничеством мелких лиц администрации и полиции, что отра-
вит население, поселяя в нем вражду и взаимное презрение. Но самой про-
паганды он не остановит, ибо всегда найдутся во всякой секте люди, кото-
рые сочтут для себя великим и славным пострадать за веру, по образцу
древних мучеников, по примеру отцов своих и дедов.
Наказаний за пропаганду ищут миссионеры, выдвигая свои угрозы. Уг-
розы эти крайне преувеличенны. В эти годы свободы перехода из правосла-
вия в другие веры не совершилось ничего особенного, никакого сколько-
нибудь значительного движения. Правда, один священник перешел в маго-
метанство, и какой-то мещанин на юге перешел в еврейство: но за священ-
ником не последовала его паства, а за мещанином вообще никто не
последовал. Это осталось курьезом, не вызвавшим ничего, кроме улыбки
газет. Очевидно, нет самого желания переходить в другие веры. Наше мир-
151
ное православие, глубоко сосредоточенное в себе, ни с кем не воюющее, в
высшей степени отвечает тихому складу народного характера и вполне удов-
летворяет всем запросам его души. Трогательное богослужение, молитвы
на все случаи жизни, небольшое нравоучение, небольшое утешение, полная
вера в связь с Богом через посредство церкви и священника - вот чем бере-
жется православие крепче, чем десятками миссионеров, чем всеми запрети-
тельными законами и всеми судебными наказаниями. Веру православную
не оберегала инквизиция: но в Германии, где действовала инквизиция, исчез
католицизм; а православие стоит неколебимо и без охраны инквизиции.
«Епархиальные миссионеры» есть одно из мало удачных изобретений по-
койного К. П. Победоносцева, которое сохраняется только потому, что его
лень убрать. На самом деле, кроме свар, ссор, придирок и какого-то духов-
ного кляузничества, эти миссионеры, обыкновенные чиновники, а отнюдь
не непременно священники, ничего не внесли в церковную нашу сферу. Они
ее смутили и замутили, а не усилили. Церковь охраняется священниками, и
достаточно охраняется. Переходя к этим последним, мы скажем, что везде,
где священник достойно исполняет свою службу, где он трезв, вразумите-
лен, добр и справедлив с крестьянином, где он лично благочестив, - он эти-
ми своими качествами ставит непереступаемую преграду всякой сектант-
ской пропаганде. Вот где узел всего дела. Своими достоинствами, внутрен-
ними и внешними, православие превосходно само себя охраняет. Оно по
истине может сказать, что «Христос его глава» и что оно вековечно. Но нуж-
но истину показывать достойными руками, и слова жизни нужно выговари-
вать достойными устами. История успешной пропаганды сектантства имеет
один стереотип: в местность с нетрезвым священником или со священником
корыстолюбивым и суровым, наконец, со священником дурного образа жиз-
ни в других отношениях - приходят главари какой-нибудь секты и начинают
«совращать» или «развращать» народ, причем темные люди, со смутным
идеалом в душе лучшей жизни, лучшего благообразия в жизни, начинают
слушать и плакать при словах этого пропагандиста-сектанта, показывающе-
го им все их бытовые болячки и обещающего исцеление от них в «новой
вере». Не видя благообразия у себя, не видя его даже в священнике, кресть-
яне усумняются в правоте своей веры, в истине своей церкви, ибо не могут
же они разбираться в догматах, а судят об истине наглядно, по наглядке:
есть благообразие, красота нравственная - и они изводят ее из истинной
веры; нет этого благообразия - и они приписывают это неправедности веры.
Таким образом, достоинство священника есть защита церкви, есть щит и
меч церкви, меч духовный. В других она не нуждается. Если бы те деньги,
которые платятся втуне гг. миссионерам, перенести на плату священникам
за требы и через это уничтожить платность треб, этот действительный укор
православию, действительную рану на его теле, - дело много выиграло бы;
и это лучше задержало бы сектантство, чем все миссионеры и миссионер-
ские съезды, вместе взятые. Духовному ведомству, и в частности новому обер-
прокурору Синода, вполне своевременно было бы об этом подумать. Воз-
152
вращаясь к пропаганде сектантов и старообрядцев, мы скажем, что успехи
этой пропаганды или безуспешность ее суть только показатели нравствен-
ного состояния нашего духовенства, преимущественно сельского, и этим
сказано все. Падают нравы духовенства, - сектантство возрастает, иноверие
усиливается; поднимаются нравы, - и все эти угрожающие симптомы ос-
лабляются. «От добра добра не ищут», - можно сказать и о вере. От доброго
священника никто никуда не уйдет. Итак, здесь мы имеем как бы градусник,
приложенный к телу церкви, который показывает или полное его здоровье и
нормальную температуру, или - показывает заболевание. Нельзя же разби-
вать градусник, если он показывает угрожающие симптомы. Если пропа-
гандистов-сектантов рассажать по тюрьмам или выслать из данной местно-
сти административным порядком, - то это не прибавит ни одного трезвого
священника, не убавит ни одного сребролюбивого и ленивого, неучительно-
го и небрежного. А в этом все и дело: на место сидящего в тюрьме пропаган-
диста-сектанта прокрадется в эту же местность другой и унесет овец у не-
брегущего пастыря, который хочет спать и хочет, чтобы овцы у него были
целы. Пусть пробудятся пастыри, пусть они не дремлют. Пусть они будут
светильником, поставленным на верху горы. И тогда стадо их сохранится в
целости, без этих искусственных законов оберегания, которые, собственно,
только скрадывают истину, а не исцеляют раны. Законов этих просят лени-
вые как прикрытия своей лени, как заместителей своей работы. «Судья пусть
сделает тюрьмою то, что должен бы сделать священник примером и сло-
вом». Закон ни в каком случае не должен поощрять этих ленивых и пороч-
ных тенденций.
милюковцы
И ВЕРОИСПОВЕДНЫЙ ВОПРОС
Едва мы высказались за предоставление полной религиозной свободы тихо-
му и прекрасному русскому народу, который чтит все веры и тем вполне
заслужил, чтобы и у него самого другие люди почитали всякие разноверия,
т. е. чтобы он не был ни в чем стеснен в сфере религии, - как слетелась на
квартире кн. Долгорукова стая кадетских галок и под председательством
своего лидера-неудачника Милюкова начала «тактически» спеваться и репе-
тировать себя к предстоящим прениям по вероисповедному вопросу. Так как
эти вороны в павлиньих перьях ни на минуту не могут обойтись без того,
чтобы не призывать к себе внимания всего света, то в своем лейб-органе,
«Речи» они передали замечательные свои взгляды на этот вопрос. Нужно
заметить, личного отношения к этому вопросу у большинства господ этой
партии никакого нет, ибо спрашивать об их вере у большинства их так же
странно, как спрашивать у цыгана, какую предпочитает он философию, Со-
крата или Спинозы. Речи их на совещании понеслись не по указаниям дела,
они не имели в виду облегчения тяжести, скорби и нужды сектантов, а по-
неслись единственно движимые мотивом взаимного друг перед другом хва-
153
стовства «передовым» образом мысли. Без справок, без доказательств, го-
лословно заявили гг. Колюбакины, Соколовы и другие, что «при современ-
ных условиях свобода проповедывания, хотя и допущенная по закону, все
равно невозможна. Не имеет большого практического значения и явочная
система образования общин». Так решили мудрецы. Забыв совершенно двух-
сотлетнюю страдальческую историю русского раскола, забыв, что по селам
и городам от Ярославской до Саратовской губернии и по всему югу России
целых десять миллионов скромных и тихих людей, старых и малых, мужи-
ков и баб, ожидают, как в зной капли воды, можно сказать, самого мелкого
улучшения отношений к ним местного урядника, станового и исправника, -
эти господа без сердца сразу же заявили, что «мелочами» они в Г. Думе за-
ниматься не станут, а «поставят вопрос о свободе совести во всей его широ-
те». Что означает «широта» для этих господ, они, конечно, не определили,
со стороны же можно догадываться, что здесь разумеется неопределенное и
вполне хаотическое положение условий веры, благоприятствующих вовсе
не какой-нибудь религии, а благоприятствующих только безобразию рели-
гиозному, разнузданности, фантазии и своеволию, которые, натешившись в
других областях, захотели бы перекинуться и в запретную до сих пор об-
ласть религиозного культа.
Вмешательство их в прения о религиозной свободе, вмешательство с
этим проектированным высокомерием к практическому положению вероис-
поведного вопроса в России, - только повредит делу, раздражив и ополчив
немалочисленных противников у нас религиозной свободы.
Возвращаясь к нашему русскому сектантству, мы должны сказать по ад-
ресу враждебных ему лиц, что настоящая борьба со старообрядчеством и
сектами должна вестись на почве общего просвещения народа, конкретно -
на почве школы. Вот узел «миссионерского» вопроса, который нужно взять
из рук миссионеров и передать в руки учителя и учительницы начального
сельского училища. Гораздо правильнее всех миссионеров, с их кривотол-
ковной полемикой, смотрел на это дело великий Ломоносов, который, сам
происходя из местностей Архангельской губернии, засеянных расколом,
определял источник его не столько в церковно-догматических заблуждени-
ях, сколько в недостатке гражданских знаний, светских знаний, точных на-
учных знаний. Арифметика, география и история гораздо более разубедят
раскольника в спасительности «двуперстия» и «сугубой алилуйи», чем все
противосектантские книжки, пропитанные, кстати, тем же изуверством и
узостью, тем же фанатизмом, нетерпимостью и буквоедством, против каких
они борются у сектантов. По методу и по духу все наше миссионерство есть
то же самое сектантство. Оно с ним разнится только в букве, а не в сути.
Напротив, здравая школа, развивая ум, сообщая ему точные сведения о мире,
о людях, о народах, точные сведения о природе, о земле, о небе, - незаметно
становит ум сектантского мальчика на совершенно новые точки зрения, при-
учает к совершенно другим приемам мысли и вместе успокаивает его отно-
сительно вопросов культа и вероисповедания. Сектанту же более всего и
154
нужно это душевное успокоение, - при котором он перестает видеть во всем
мире «духовного Антихриста» и перестает ожидать назавтра «архангель-
ских труб» и «светопреставления». Загнанный в глубь лесов и в топь болот,
от всего мира уединенный, отрезанный, всем миром встречаемый до сих
пор враждебно, сектантский мир переживал в высшей степени фантасти-
ческую сказку, полную причудливых слов и невероятных пугалищ. Он бук-
вально жил и живет мифологическою жизнью, а не реальною историею.
Лучшая борьба с сектантством и должна вестись методом пробуждения сек-
тантов к миру действительному, прозаическому, деловому; в освещении мира
со всех сторон здравым светом. Это и выполняет школа, без всякой полеми-
ки, без борьбы, без крови. Если к школе прибавить совершенно спокойное и
совершенно доброе отношение к сектантам, с полным разрешением как угод-
но и где угодно организоваться, кому угодно и что угодно говорить о «дву-
перстии» и «алилуйи», именовать свою иерархию какими оно хочет титула-
ми, - то, можно сказать, дни и часы сектантства будут сочтены. Уже сейчас
в старообрядчестве, в самых закоснелых его углах, проходит беспокойство,
проходит сильнейшая тревога, что в новых условиях безопасности и свобо-
ды устои староверия заколебались, что оно не крепнет, а тает. Показатель
страшно важный: сознание единства русского народа, жажда братства и един-
ства с 90 миллионами православных «господствующей» церкви одолеет не-
пременно те, в сущности маленькие и незначительные, поводы к отпаде-
нию, какие некогда увлекли дедов и прадедов их в отделение от церкви. Они
поймут, что из-за одной «алилуйи» не дастся же им Царство Небесное, а из-
за другой - не отнимется. Что за гробом их ожидает Сын Божий, Который не
ревнует о том, называют ли Его «Исусом» или «Иисусом», а ревнует о ве-
щах совершенно других и спрашивает и взыскивает за грехи совершенно
иные. Взыскивает и взыщет Он и за всякое ненавидение ближнего, за отде-
ление от ближнего, за нарекание ближнего «рака», «глупец». Успокоятся,
поймут и возвратятся в то лоно, которое оставили 200 лет назад. Но для
этого надо, чтобы и самое-то это материнское лоно плакало о них, скорбело,
звало и любило; и никогда бы их не гнало и не ненавидело.
<А. Г. КОВНЕР
(Некролог)>
Недавно в гор. Ломже скончался после продолжительной и тяжкой болезни
небезызвестный в свое время журналист Аркадий Григорьевич Ковнер. Ро-
дившись в Вильне, в 1842 г., в бедной, но интеллигентной еврейской семье,
А. К. с 1862 г. стал подвизаться на литературном поприще, сначала на древ-
нееврейском языке, а затем главным образом в русских периодических изда-
ниях. С 1866 года Ковнер совсем оставил еврейскую литературу и посвятил
себя исключительно русской. Он сотрудничал в «Искре», «Голосе», «Новом
Времени» (изд. Устрялова), «С.-Петербургских Ведомостях», «Новостях»,
155
«Московском Телеграфе», «Порядке», «Деле», «Новом Слове», «Историчес-
ком Вестнике» и друг, изданиях. Из его работ наиболее выдаются: рассказ
«Наши шутники», повесть «Около золотого тельца», роман «Без ярлыка»,
«Тост», очерк «Хождения по мытарствам», «Из записок еврея» (в «Истори-
ческом Вестнике»). Его публицистические очерки в «Голосе», под заглави-
ем: «Литературные и общественные курьезы», читались с большим интере-
сом. Приготовленный родителями в раввины, этот энергичный человек не
только не пошел по пути замкнутого еврейства, но на склоне лет принял
христианство, поступил на государственную службу и обзавелся русской
семьею, ничем не отделяя себя от русских, хотя в то же время много страдал
и за положение евреев.
К ПРЕНИЯМ ПО ВОПРОСУ
О СТАРООБРЯДЧЕСТВЕ
Более чем двухвековая «страдная пора» старообрядчества кончилась или
почти кончилась. В дальнейших двух инстанциях едва ли законопроект о
полной веротерпимости встретит то сопротивление, какое он встретил и
одолел в нашей нижней палате. По самой натуре своей, по составу, нижняя
палата всегда говорит резче и грубее, говорит прямее и откровеннее, чем как
произносятся речи в палате верхней. Все, что можно было сказать партий-
но-резкого и узкоконсервативного против полного уравнения в вероиспо-
ведных правах православных старого обряда с православными нового обря-
да, было высказано в Г. Думе в достаточно выпуклых терминах. И Гос. Сове-
ту нечего к этому прибавлять, - кроме как смягчить тон тех же мотивов. Что
касается Верховной власти, то отсюда при императорах Петре III, Павле и в
особенности в царствование Александра II и Николая II неизменно шло по-
желание и требование смягчить ту борьбу против старообрядцев, которая
велась по инициативе никогда не Престола Русского, а средних или высших
ярусов администрации. Министерство внутренних дел всегда смотрело на
раскол как на вид церковного беспорядка, а духовное ведомство не терпело
раскольников оттого, что никак не могло их переубедить в «заблуждени-
ях». .. Но ни выше, ни ниже этих двух ведомств, ни в стороне от них, никто
не питал к старообрядцам ни малейших враждебных чувств, - и за сохране-
ние ими коренного русского обличья, за трезвость, домовитость, трудолю-
бие и взаимную поддержку друг друга в труде они встречали и повышенное
уважение к себе. Голосование Г. Думы на этот раз совершенно правильно
отразило взгляд целой России на вероисповедный вопрос как в его отвле-
ченной истине, так, в частности, и в применении к людям «древнего благо-
честия», т. е. московско-киевского церковного уклада.
В прениях по старообрядческому вопросу выделились нравственною зна-
чительностью речи старообрядца крестьянина Гулькина и священника Ис-
полатова, сделавшего заявление от меньшинства депутатов-священников в
156
Г. Думе. Можно сказать, что без двух этих речей прения были бы пустынны.
Они были бы отвлеченны, они мотивировались бы общечеловеческими до-
водами за свободу веры, но в них не прозвучала бы непосредственная стру-
на веры, самая важная и наиболее доходящая до сердца. Священник Испола-
тов с замечательною ясностью и краткостью сказал, что не как депутат Думы,
но как священник и член церкви он ходатайствует за предоставление пол-
ной свободы старообрядцам, - ибо это не только сообразно с духом учения
главы церкви, Христа, но и требуется достоинством самой церкви. В словах
этих, обходя мелочи и второстепенное, он выразил сердцевину христиан-
ского и церковного учения, как она понимается и признается всеми верую-
щими православными, не бегающими за справками об этом к академичес-
ким профессорам. Конечно, и народ живет не утонченностями богословия,
а прямым и сердечным взглядом на дело. Было бы очень печально, оставило
бы большой изъян, если бы при обсуждении вероисповедного вопроса в Думе
не было высказано этого основного и общепризнанного взгляда русских
людей на существо христианства и веры, на существо добра и зла в вероис-
поведном вопросе. И речь священника Исполатова не произведет, конечно,
никакого «соблазна», как было высказано опасение в Думе же, а напротив,
она очень существенно восполнила прения, а в сердцах множества верую-
щих произведет успокоение. Это была речь русского священника, право-
славного священника; так не сказал бы ни один католический священник, и
этим-то именно она и выделилась, как русское слово, русское чувство, рус-
ский взгляд. Это уже не православные подголоски Рима, «не папежские ухищ-
рения под русскою духовною рясой», а голос потомка московских и киев-
ских людей.
Повторяем, без этой речи прениям не хватало бы высшего нравственно-
го аккорда, высшего синтеза.
В другом отношении была значительна речь крестьянина Гулькина. Ос-
корбленный тем, что говорили о старообрядцах в Г. Думе депутаты-миссио-
неры и некоторые из депутатов правой фракции, он произнес речь, никого
не оскорбляющую и вместе высоко ставящую историческую ценность и
нравственное достоинство старообрядчества. На нелепое, непонятное и ди-
кое заявление депутатов-миссионеров, что «нельзя определить, что такое
старообрядчество», он сказал с достоинством, что они «не с неба свалились»,
не приняли книги свои от Будды или Магомета, что это - «те люди, к кото-
рым принадлежали и великие святители земли русской, и патриарх Фила-
рет, прародитель дома Романовых, - и неужели они обязаны предпочесть
патриарха Никона такому богомольцу земли русской? Может быть, приба-
вил он объяснительно и миролюбиво, - не было бы никаких несогласий,
если бы патриарх Никон послушался Алексея Михайловича и, не решая сам
и единолично дела исправления книг церковных, предоставил это решить
церковному собору». Вся речь его звучала разумно, беззаносчиво, без гру-
бости. Он говорил среди православных, как младший брат среди старших:
«Мы не хотим вселять теперь несогласия и помним, что перегородки, суще-
157
ствующие между нами, созданы людьми, а Бог смотрит на нас с укориз-
ной. .. нас называют еретиками за боготворение обрядов, - но разве в право-
славии миллионы людей не сливают почитаемый образ с Богом, молясь об-
разу, разве не думают, что молятся Богу?» Речь эта, если сопоставить ее с
резкостью миссионерских речей в той же Г. Думе, очень хорошо объясняет
причину как малоуспешности миссионерских усилий в деле возвращения
раскольников «в лоно православия», так и настоящий мотив, почему они так
яростно настаивали на том, чтобы старообрядцы не допускались до пропо-
веди своей веры: «шила в мешке не утаишь» по пословице, и при свободе
полемики, при гласности спора они знают, что дело их безвозвратно будет
потеряно, если они не подтянутся, не обчистятся, не примутся за то книж-
ное учение, какое они гонят и в духовных академиях. Увы, миссионеры только
говорят, а не учатся и не размышляют; они все обличают и проповедуют, -
между тем как теперь, при переменившихся условиях, им придется разде-
лять время на две части, одну часть употребляя на проповедание, а другую и
раньше употребляя на подготовку к проповеди. Этого-то им и не хотелось,
и вот мотив требования, чтобы старообрядцам не дозволялось раскрывать
рта... Но этот мотив вовремя разглядели и своевременно учли не только для
блага старообрядцев, но, - и это прежде всего, - и для блага православной
церкви.
ОКОЛО ГРОБА ПЕРГАМЕНТА
Когда, развернув номер «Нов. Вр.» от 16 мая, я, прочитав крупный шрифт 3,
4 и 5-й страниц, отвернул затем 2-ю страницу и начал читать напечатанное
петитом сообщение о привлечении к суду Пергамента и в нем изложение
всех данных по укрывательству мошенницы Ольги Штейн, - я почувство-
вал, что читаю что-то неизмеримо более важное, интересное и необыкно-
венное, чем все сообщения в телеграммах и корреспонденциях о мировых
или якобы мировых событиях, о новом и низверженном султане, о событиях
в Персии. Сухой тон постановления судебного следователя, мельчайшие
подробности поездок на вокзалы и переодеваний, тексты анонимных теле-
грамм и т. п., и т. п. не оставляли никакого сомнения о действительной под-
линности всех изложенных фактов. Но что же именно в них было изложе-
но? Что знаменитый Пергамент, светило освободительного движения за весь
его совершившийся цикл, «vir honestus et fortis»*, - как говорили римляне о
лучших своих гражданах, - пойман на каких-то лакейских проделках, - про-
делках лакейского тона и лакейского духа, около Ольги Штейн... У римлян
была своя честь, у русских - своя, и вообще у всякого времени и общества
бывает своя честь: у русских это - честь защитить сироту, поднять угнетен-
ное из грязи и т. п., и т. п. И адвоката, говорящего защитительную речь о
* «муж честный и мужественный» (лат.).
158
некрасовском «бедняке, укравшем с прилавка калач», о женщине, отделав-
шейся от изверга-мужа через удар ножа, и проч., и проч, в том же духе, мы
можем представить себе «укрывающим», «обманывающим», «лгущим»:
представить его себе так и - внутренно простить. Ну, что же, увлекся: было
благородное ристание все защиты и защиты, все бедных и угнетенных, - и
вот раз великолепный скакун цирка перескочил через барьер, или колесница
всенародного ристалища задела свежее поле, не по указанной черте. «Серд-
це взяло верх над законом», и юридическая вина, - вина перед судебным
следователем и прокурором, - вина перед обществом и частным человеком
ставится ни во что. «Ошибка, промах, даже преступление, но в русском духе,
в русском полете, в полете вот освободительного движения». Но здесь??!!..
Ольга Штейн - почти великосветская барыня, генеральша, обирала сирых,
нуждающихся, обещая выхлопотать места и получая залоги за них, - при-
сваивала эти залоги. Где же тут Некрасов и свобода, плачущий сирота и за-
щищающий адвокат? Если бы Пергамент защищал проститутку, укрыл ее,
хоть в собственном кабинете, хоть в спальне у жены, - ничего: «наша чер-
та!». Но генеральша? Связь с генералами? На почве проходимства? В «стане
праздноликующих»? Да нет, это хуже и генеральства: ведь Ольга Штейн была
какою-то всесветною шулершею, вся жизнь ее, все дела ее были шулерского
характера: и Пергамент, vir honestus et fortis, можно сказать, несет шлейф
или подол этой всесветной шлюхи, и, получив за услуги 25 целковых, воз-
вращается в Государственную Думу как народный представитель, съедает в
буфете бутерброд и, встав на трибуну, говорит речь против правительства,
говорит, как Цицерон или Демосфен, «в нашем русском духе», «в освободи-
тельном духе», «в некрасовско-щедринском смысле»...
Удар. Неожиданность. Та степень удивляющего и поражающего, как если
бы вдруг какой-нибудь библиограф или палеограф разыскал и доказал, что
известные пакостные стихи Кузмина написаны не собственно им, а извлече-
ны им из несомненной подлинной рукописи А. С. Пушкина, а вот «Капитан-
скую дочку» писал не Пушкин, а не кто иной, как Барков, столь несправед-
ливо охаянный. «Полный переворот мнений», «изменение всех точек зре-
ния».
Это, конечно, важнее обоих султанов; для нас, русских, важнее, - в на-
шем маленьком муравейнике, которым хорошо или нехорошо, но мы уже
век дышим. Каким же светом нам и жить, как не своим? И вдруг такая «пе-
ремена светов»! - «Пушкин, это, видите ли, только Кузмин, а вот Барков -
настоящий Пушкин».
Поэтому, когда на другой день, взяв номер «Слова», я, не развертывая
его, прочел в черной кайме «Пергамент», - и строки ниже о скоропостиж-
ной его смерти, - я не удивился. «Как же иначе и могло кончиться это?»
Иначе не было выхода. Смерть, самоубийство, это - заключительная почти
строка того петита, которым было напечатано сообщение о постановлении
судебного следователя: самоубийство уже сквозило, уже просвечивало че-
рез эти ужасные строки. Есть комбинации, сопоставления, переломы судеб,
159
которые не разрешимы ничем, кроме как пулей, ядом, петлею. Если, в самом
деле, Пушкин писал стихи Кузмина, то что же остается делать тому прежне-
му, «нашему» Александру Сергеевичу? Удавиться. Да, ведь, он все равно уж
удавился в стихах Кузмина, как Пергамент в шлейфе старой, гадкой Ольги
Штейн.
Но vir honestus?.. Я ни о чем не думал, кроме как о Пергаменте. И мне
кажется, весь Петербург и, может быть, вся Россия ни о чем столько не ду-
мали эти 3-4 дня, как о Пергаменте. «Что за личность? Что за судьба?»...
Так как мысли, однако, было деваться совершенно некуда, то virum
honestum я начал связывать с femina odiosa*, начал мысленно, гипотетичес-
ки, почти требовательно обелять ее, улучшать, поднимать в своем сознании,
все сводя к слишком уж привычной, застоявшейся у нас формуле «калача»,
«голодного» и «защищающего их присяжного поверенного». Кто же это знает
Ольгу Штейн? Она стара, гадка: и не прелестями же своими заставляла слу-
жить себе Победоносцева, Марковича? Люди эти - не кое-что, не без глаз, не
без ума, а о Победоносцеве я лично и твердо знал, что это был человек с
фанатизмом и, пожалуй, с государственным преступлением по 20-летнему
ложному наклону своей политики, но в кабинете, в спальне, «у себя за пазу-
хой» был искренний, страстный, огненный, порывистый и совершенно иде-
алистически-чистый человек; был «святой преступник». Если она овладева-
ла их волею и умела эту волю побуждать служить себе, то ведь чем-нибудь
она побуждала? Чем? Кто ее знает? Газеты? Формуляр преступлений. Но не
проницательный ли Достоевский сказал: «Ищите в преступнике праведни-
ка»? По формуляру и Соня Мармеладова была только проституткой и ровно
ничем еще, кроме проститутки. К черту формуляры! Формуляр, это - маши-
на, государство, солдатский и столоначальнический взгляд государства. Для
измерений человека нужны художество, поэзия, метерлинковское двойное
зрение, рентгеновский луч, - и, несомненно, им больше обладал Победо-
носцев, нежели судебный пристав и вся судебная арматура: Штейн заключа-
ла в себе неуловимые судом черты бытовой прелести, индивидуальной пси-
хологии. И если она была мошенницей, то по какому-нибудь ужасному не-
счастью, по постоянной и непрерывной нужде в деньгах, может быть, пото-
му, что около нее были безмерно нуждающиеся родственники, нуждающийся
мот-сын, несчастная дочь, порочный, слабый и любимый зять? Плутовать
никому не сладко, и если она плутовала, и всю жизнь плутовала, то, может
быть, от того, что она была беспримерно несчастна, была задавленной и
задушенной собакой, которая, высунув язык, разыскивала «еще денег и не-
пременно денег!».
А репортеры ничего не понимают. И вот тут Пергамент «попросту», «по-
свойски», - переступив формы адвокатуры, казенный мундир своего ведом-
ства, - пошел и спас. С переодеваниями, с притворными и правдивыми по-
ездками на вокзалы, с анонимными телеграммами и пр., и пр.
* женщина отвратительная (лат.).
160
«И умеют же русеть эти евреи», - заключил я старою, любимою своею
мыслью. Был общечеловек, общеадвокат, но, «полагая душу свою за дру-
ги», соскользнул, стал «аблокатом» и споткнулся. «Дело рассейское».
И, волнуясь, я пошел на его похороны.
* * *
Тучи народа загромоздили улицу. Только, помню, когда хоронили Чайков-
ского, было подобное же вслед за гробом. Как всегда около гроба, мне хоте-
лось больше всего глянуть в лицо покойника и посмотреть на лица его се-
мьи. Но ни того, ни другого мне не удалось. Гроб был уже закрыт, а жена
Пергамента с маленькими детьми оказалась едущею позади в коляске; за
погребальной колесницей шли в траурном крепе женщины - но не жена - и
выступал solo Милюков. Сбоку ее шел Родичев. Колесница была окружена
студентами, взявшимися за руки друг друга: образовав это живое кольцо,
никого не пропуская через него, они образовали тишину, порядок и свободу
около гроба, т. е. для родных и ближайших друзей покойного.
Я любовался.
«Вот живая критика на «Вехи», вся эта молодежь», - думал я. Может, и
не умна, может, и не учена, но что это - гниль, гнилые люди, ни к чему не
способные - очевидная неправда. Критиковать молодежь, - молодежь вооб-
ще, - так же невозможно, как критиковать деревню: конечно, есть конокра-
ды, есть в каждой деревне лодыри, драчуны-мужья, кой-где сидит колдун
или принимаемый за колдуна злой неестественный человек, - и, тем не ме-
нее, деревня уже по тому одному, что она деревня, целый кусочек целого
народа, - вне индивидуальной критики. Народы судит только Бог. «Моло-
дежь» в огромном ее очерке может рассудить только Бог. Пять московских
умов, хоть будь они распреумы, все же суть личные, кабинетные умы, гости-
ные головы, спальные головы. Тут - несоответствие масштабов. И так, и не
так. Те пять умников суть умники, а молодежь, - и именно наша русская
молодежь, - все же самая лучшая на свете. И мысленно я готов был запеть
под нос «Дубинушку».
- Пропустите, господа, - обратился я к цепи. Мне хотелось рассмотреть
родных Пергамента.
Кудластые головы молча замотали в ответ. Видно, устали: от Сергиевс-
кой до Смоленского кладбища, это - почти поперечник всего Петербурга.
- Господа, пропустите же.
Опять мотают головами. И ни слова.
Я, как автор многих статей об еврействе, почувствовал себя евреем на
границе:
- Вот тут можно пройти.
-Где?
- Под руками, - и я указал, что, нагнувшись, можно проскользнуть под
гирляндой рук внутрь кольца.
- Нельзя!
161
И так угрюмо, что я отошел. Но нужно же видеть родных.
- Я пройду, - сказал я, - в другом месте гирлянды.
Мотают головой.
- Экспроприаторски пройду. Мне нужно.
Отвернулись.
Ни с того, ни с сего в третьем месте, без просьбы, поднялись руки, и
кивком головы мне указали пройти внутрь.
- Слава Богу. На свободе, и все могу видеть.
Я подошел к Шингареву, воронежцу, - из Государственной Думы. Один
из милейших, простейших и прекрасных людей: вековой старожил Вороне-
жа, потомок 300 лет назад «сосланного» из Москвы в Воронеж Шин-Гирея,
татарина, - сам медик по профессии и вечный «классный наставник» Государ-
ственной Думы, жующий и пережевывающий в ней общеизвестные истины.
- Отчего вы так говорите? Ужасно сложно. И все об одном и том же.
- Нельзя. Темна Русь. Все надо жевать, и везде жевать, не только что в
одной Думе.
Ясный человек. И, главное, вековой житель одного города. Это - не про-
фессор, катающийся между Стокгольмом и Петербургом и у которого нет
насеста и, значит, нет родины. Недостаток кадетской партии, - что она слиш-
ком европейская партия, отвлеченная, умственная. Что в ней мало землею
пахнет. Я с почтением говорил с Шингаревым, чувствуя в нем хорошую рус-
скую землю.
Но надо было расспрашивать, и я переходил от встречи к встрече.
- Как хорошо прошел закон о старообрядцах!
- Удивительно. Такая радость! Вы не можете себе представить, сколько
получает Караулов писем и телеграмм изо всех почти городов и местечек: и
отовсюду пишут, что они молятся за Думу и за народных представителей, -
пишут таким хорошим, старым языком, с такой коренной русской душою.
Отличное дело.
И опять это - критика «Вех», т. е. в тоне, каким мне передавалось. Они
верны, эти «Вехи», но отвлеченно; а конкретно, «перед лицом» действитель-
ности, - неверны.
- Караулов точно на аршин вырос. Теперь к нему и не подходи...
Ему, батюшке, чего расти: он и так вырос. С головой бизона и гривой
льва на черепе, он производит на меня впечатление испуга, когда стоит ря-
дом. Вдруг повалится на бок, - и тогда непременно задавит. Или рассердит-
ся на вас, - и тогда просто может раздавить ногой. А почему «рассердится»,
- нельзя понять и предвидеть: лицо у него тупое и с этим выражением
«вдруг», с упором, натиском, топтаньем. Фатальный человек.
Но я радовался его успеху, как радуюсь успеху всего мглистого, нава-
ливающегося, тяжеловесного. «Матушка натура», и «отходите, messieurs, в
сторону».
Я протеснился к гробу. Увидел родных и ближайших друзей. Мне назва-
ли их фамилии: это - имена, прозвучавшие около Пергамента по всей Рос-
162
сии. И моя «легенда» или «миф», выросший в душе около этого дела, с «па-
лачом», «несчастненькой» и «братом-адвокатом», - разлетелись в пух при
одном взгляде.
- Ну, нет. Что угодно, но не это толкнуло сюда Пергамента. Не санти-
ментальность во всяком случае. Не «брат-адвокат», спасающий «жертву»...
Но что, но что тогда?!
Тяжеловесные, как аписы Египта, шли они, уверенно, твердо, мгнове-
ниями с улыбкой и легким смешком говоря о событиях дня, о голосованиях
в Думе, о возможном числе голосов с «да» и с «нет» по поводу того или
иного из ближайших законопроектов... Все - темы, далекие от смерти и
гроба. Никого из них не было легковеснее 4 !4 пуда, доходило же до 5 и 5 /г.
О, какой тут «палач», и «бедная чиновница», затравленная нуждой. Это были
политические враги Плеве и Победоносцева, - враги и победители. Чтобы
победить ту силу, огромную силу, нужны были не студенческие растрепы-
ши, не нервы, не плач, не слезы и истерики, а вот эти бронзовые «идолы»,
которые не закружатся и не завертятся, которых нельзя подпоить и улес-
тить, всегда готовые к отпору, к парированью удара, люди бесстрастные,
корректные, неуязвимые, в самом законе неуязвимые и в самом грехе без-
грешные. Т. е. не то чтобы святые, - совсем нет, другой стиль: но без «пят-
на» в европейском смысле.
Борьба и осторожность - вот весь их стиль. Я как-то мысленно придви-
гаю тощую, нервную фигуру покойного Победоносцева к этим аписам: и
понимаю, почему и как он разбился, почему вышло «17-е октября». Его не-
рвы хлестнулись о бронзовый столб, - и порвались, и порвалось все. Витте
точь-в-точь из этих же каменно-бронзовых... Они все с Юга, из Одессы или
Таганрога; не тульская и не кашинская порода. Эта южнорусская порода, со
слабыми центральными тяготениями, с тяготениями притворными к «ма-
тушке-Москве» и ее «святителям», - порода денежная, промышленная, но-
вая, сильная, с солнцем в крови, без северной «бледной немочи», - сыграла
чрезвычайную роль во всем освободительном движении, и, собственно, она
сложными и осторожными путями и довела Россию до 17 октября.
* * *
- Как же погиб Пергамент?! И я переходил снова от кучки к кучке:
- Как погиб Пергамент?
- Шантаж!
Так как мой «миф» пал, а ум валился на землю в недоумении, то я, ко-
нечно, с первого слова поверил в слово «шантаж». Нужно же чем-нибудь
объяснить явление.
- Зачем он взялся за такое скверное дело? Как он мог защищать Ольгу
Штейн, мошенницу, и с таким невероятно скверным запахом?
- Несомненная неосторожность, - отвечал знающий и спокойный мой
собеседник. - Но Пергаментом руководила гражданская мысль. Сама Ольга
Штейн не представляла никакого интереса, и для нее ее дела никто не стал
163
бы защищать. Штейн - русская madame Эмбер. Вы помните? Она враща-
лась исключительно в высшем обществе, и не в великосветски-высшем, а в
государственно-высшем. Это представляло не только значительный, но и
огромный интерес. Невидимыми и ни для кого не известными, ни для кого
не понятными нитями она была связана с первыми дельцами самой мрачной
русской эпохи, победоносцевской эпохи. Как-то все эти люди, огромной
политической власти, ей служили. Защищали ее, вызволяли много лет из
бед, хотя она была явная мошенница, самого скверного оттенка. В ее лично-
сти и биографии таится множество разгадок явных и огромных дел, явных и
огромных событий, смысла и пружины которых никто не знает, и, может
быть, никогда не разгадает история. Кто знал имя Азефа год назад? А, меж-
ду тем, он «исполнял» события, о которых говорил весь свет, - говорил,
плакал и метался в истерике. Имя было скрыто, человек был скрыт. Человек
спокойно попивал вино в загородных садах дурного тона, - и смотрящему
на него никогда не могло прийти в голову, что он видит перед собою одну из
значительных, даже огромных фигур и пружин всего последнего цикла, -
страшного цикла русской истории. Никому не приходило в голову. Озеро
или болото, где плавала русская Эмбер, Ольга Штейн, было совершенно
другого характера, другого запаха, чем азефовское, но по значительности в
высшей степени сходно с ним. Азеф работал на пространстве Россия и час-
тью Европы. Штейн копалась в будуарах, в спальнях, в кабинетах - но са-
мых значительных людей России. Она похожа на вошь, на гниду; но глаза
этой гниды видели секреты, каких не видал Азеф. Там - один узел русской
истории, здесь - другой узел русской истории. Штейн ласкала, манила, со-
блазняла, бросала сладкие приманки личным порокам, слабостям, изнемо-
жениям; но, поманив и накормив, она держала тонувшего в своих руках всею
властью знания тайны. Это была страшная женщина во вкусе Азефа; только
там - обух, а здесь - патока, на которую летят мухи. Все это ясно, и об этом
нет спора. Теперь - Пергамент: он был уверен, что, взявшись защищать
Штейн, он раскроет такие связи ее и мотивы таких связей, без знания кото-
рых, повторяю, темна русская история последнего времени и доведение ко-
торых до судебного освещения принесет чрезвычайную пользу гражданско-
му делу России, политическому движению русского общества. И не надо
было, чтобы Штейн ему рассказывала об этом, не нужно думать, чтобы он
хотел ее расспрашивать об этом: дела делаются совсем иначе. Судебная ма-
шина, судебное колесо, поворачиваясь сюда, туда, - даже уже при самом
разбирательстве дела на суде, - могло вытащить из нее своими зубцами чрез-
вычайные признания, страшные исповедания. Вот мотив Пергамента. Но он
сцепился с людьми гораздо хитрее и злее себя: много он не уличил, не ра-
зоблачил, ни о чем не собрал фактов, а, между тем, сам обронил незначи-
тельные, совершенно ничтожные факты, из которых эти виртуозы мошен-
ничества сплели ему петлю. Можно представить себе, как сумела эта компа-
ния оплести и держать в руках, - держать в невыразимом страхе сильных
мира сего, сплетясь с ними не на станции государственного телеграфа, а в
164
будуаре женщины или в спальне за ширмами. Тут знаниям и фактам ее не
было конца. И она душила, требовала и приказывала, сколько хотела.
Мне кажется, так просто и истинно!
«Покажи мне друзей твоих, и я скажу, кто ты»... Пергамент пал заду-
шенный, пал из этой кучки шедших за гробом его друзей. И, взглянув на
них, сразу же можно было сказать, что, конечно, никакой значительной юри-
дической неправильности он не мог совершить, тем более не мог стать в
сообщество, в связь, в помогание мошенникам и сутенерам! Около него «сде-
лано было» дело, но не он «дело делал». Он мог допустить некоторые мик-
роскопические неосторожности, - не более. Но именно «около него было
сделано дело»: для чего, кем - неизвестно, неведомо. Тем, кто его ненавидел
и имел все причины ненавидеть. Печально, что судебная власть, очевидно,
тоже допустила неосторожно чужим рукам взять свои руки, переломить их
так и этак, и вообще стала в машинное, незрячее, незоркое отношение к тем
мелочным документам, телеграммам, письмам, показаниям Шульца, какие
ей были «представлены», и на основании этого было ей предложено «при-
влечь к ответственности Пергамента». Я забыл привести тот ответ моего
спокойного собеседника, какой он мне дал на вопрос: «Зачем все это пона-
добилось Штейн?»
- Чтобы поднять больше мути в воде и самой скрыться в этой мути. Она
переложила внимание с себя на Пергамента, кинула ищеек судебного след-
ствия, кусавших ее, на третьего человека. Вообще отстранилась и отодвину-
лась, - отстранила «сей час» суда и следствия над собою. Затянула и ослож-
нила дело.
Может быть, и так. Я привожу то, что услышал от справедливого, бес-
пристрастного и доброго человека, стоящего близко ко всему кругу этих лиц
и темных, неразгаданных отношений.
К ЗАКОНОПРОЕКТУ О ПЕРЕХОДЕ
ИЗ ПРАВОСЛАВИЯ В ИНОСЛАВИЕ
И ИНОВЕРИЕ
Опыт двух первых Дум должен бы наставить третью Думу, что завоевания
тем прочнее, чем они менее торопливы. Прогресс не есть кувырканье, - и
народ не посылал депутатов для производства головокружительных salto-
mortale на политических «трапециях». Все это невольно говорится, когда
прислушиваешься к ожиданиям и пожеланиям части печати и части депута-
тов в области вероисповедного вопроса. Нужно опасаться, как бы запросив
слишком, - не получить отказ и в том, что получено или почти получено.
Дарование равноправия с православием старообрядцам, дарование столь
полное, без урезок, есть столь великий и так долго ожидаемый шаг, что его
совершение должно бы наполнить душу народных представителей тем ра-
достным успокоением, когда хочется вздохнуть, отдохнуть, хочется крепко
165
держаться за достигнутое, - и стараться не испортить его каким-нибудь не-
осторожным движением в сторону или неосмотрительным прыжком вперед.
Именно таково сейчас положение вероисповедного вопроса. Нужда старо-
обрядцев - русская историческая нужда. Прибавим к этому свободный пе-
реход из православия в другие христианские вероисповедания, - и мы удов-
летворим если не массовым, то все же существующим в России течениям,
наконец удовлетворим разным религиозным исканиям и церковным сомне-
ниям немногих образованных русских людей. Но этим исчерпывается ре-
шительно все. Вне этого остаются микроскопические личные движения
странных фантазеров, остается житейское чудачество и, пожалуй, озорни-
чество, когда вдруг иной Петр Иванович Добчинский захочет удивить весь
свет тем, что из христианской веры он перешел в шаманство, чтобы кормить
кашей соснового идола и потом больно сечь его. Добчинские на Руси никог-
да не переводились: и, пожалуй, иная редакция эс-дечного журнала в месяц
подписки на газету заявит во всеуслышание, что она в полном составе пере-
ходит в магометанство. В таком случае подписка не может не подняться:
таковы русские нравы и всемирный интерес ко всему чрезвычайному. Но
это - нравы и «явления» общества, с которыми решительно нечего делать
закону и законодательным собраниям. Нужды народной в законодательном
разрешении переходить из христианства в нехристианские религии не су-
ществует, а закон отвечает лишь на народные нужды, удовлетворяет народ-
ной нужде, - и ничему более, никаким схематическим интеллигентским по-
желаниям и настроениям он удовлетворять не обязан. Закон - не чудаче-
ство, с одной стороны, и он не ученая академия и не интеллигентный клуб, с
другой стороны, где делаются теоретические построения и построяются
словесные воздушные корабли. Законы русские строились от «Русской Прав-
ды» Ярослава Мудрого, от «Судебника» Иоанна IV и «Уложения» Алексея
Михайловича - до «Свода» и «Полного собрания российских законов» ре-
дакции Сперанского: весь этот почти тысячелетний труд и обнимаемые им
тысячи статей русского закона покоробились бы и покосились бы, если бы
около них вдруг встал или, вернее, вдруг «полетел бы на трапеции» закон о
том, что «православным разрешается переходить из своей веры в магоме-
танство, иудейство и язычество». Просто это вне как-то разумения, смысла, -
не говоря уже о нужде и истории. Это не только не народно, - но и глубоко
антиисторично, потому что никогда такой тенденции в нашей истории не
проявлялось.
Просто, это не нужно. И притом не нужно никому.
Закон, особенно теперь, когда, через представителей, он исходит из наро-
да, - должен в высшей степени бережно относиться и к чести, и даже к самым
предрасположениям, предрассудкам народным, когда они не суть предрассуд-
ки вредные или опасные. Поэтому самая формула о переходе из православия
в другие исповедания должна быть выражена деликатно, чтобы не оскорбить
народного чувства к православию, которое сильно и древне, которое право и
высоко. К сожалению, именно в последние десятилетия наш законодатель-
166
ный язык сделался как-то неискусен, бездушен, груб; это какой-то деревян-
ный или суконный язык, без всякой поворотливости и без всякого следа в себе
нравственных примесей. Чуткие депутаты должны сделать все усилия, чтобы
не допустить в формулу закона выражение: «Дозволяется переходить из пра-
вославной веры в иные», - так как «дозволяемое» в законе народ всегда при-
нимает за «одобряемое» законом, за «хорошее», с точки зрения самого зако-
нодателя или законодательствующих учреждений, в данном случае - Думы.
Это обидит народ, да ведь этого на самом деле и нет: Дума не «одобряет» и
нисколько не именует «хорошим» переход куда-нибудь из православия. На-
стоящая точка зрения Думы заключается в том, что она потерпит, если кто-
нибудь перейдет из православия, и не станет преследовать, через закон, пере-
ходящего. Вот этот оттенок «терпения», «терпимости», а никак не поощрения
и не похвалы, и должен быть выражен в законе, который должен говорить
народным языком, в духе и в оттенках народного говора. «Закон не вмешива-
ется, не преследует и не ставит препятствий тому, кто захотел бы покинуть
древнюю веру отцов и перейти из православия в иные христианские испове-
дания». Так или в этом роде, но непременно в этом, должен быть сказан но-
вый закон, чтобы не оскорбить и не удивить слуха русского. Представители
народные, будьте на этот час внимательны.
ВЕРОИСПОВЕДНЫЙ ВОПРОС В РОССИИ
Гераклита, прозванного «темным», никто не понимал в древности. Он гово-
рил ясные слова, употреблял всем понятные названия, но его не могли по-
нять оттого, что всем привычные слова и понятия он связывал совершенно
непривычным ни для кого, новым соединением. Ну, кто хвалит ссору? Всем
нравится, напротив, мир! «О, этот Гомер, - говорил Гераклит об ясном, спо-
койном рапсоде Греции. - Он порицает распрю ахеян и троянцев. Между
тем как распри - доброе начало мира»...
Греки слушали, удивлялись и не понимали.
«Да взгляните же на лук, когда с него пускают стрелу: стрела летит тем
лучше, тем дальше, чем лук туже натянут. Но что делает стрелок, натягивая
лук? Тетиву он притягивает со всею силою к себе, сюда, и в то же самое
время другою рукою отводит от себя, туда, в противоположную сторону,
самый лук, его древко. Из этих двух противоположных натягиваний и обра-
зуется полет стрелы. Все в мире устроено по подобию натягиваемого лука.
Врожденно все вещи стремятся в разные стороны. Если мы не скажем, что
это - Бог, то скажем, что это - природа. Но спокойнее и правильнее сказать,
что и Бог, и природа вложили в мир стремления по противоположным на-
правлениям: и весь мир только и живет настолько, насколько в нем нет слит-
ности, униформости, единства...
Успокоились бы вещи, примирились, - и улеглись бы рядом все для веч-
ного сна, для могилы. Мир умер бы.
167
А теперь он есть трепетание, жизнь, цвет.
Но имейте же мужество выговорить, что этот цвет вырастает из вражды.
И что где нет ссоры, - нет и жизни».
Греки не понимали его. Счастливые, ясные эллины, без «каверз» мыс-
ли. Гераклит создал «каверзную мысль», - одну из того порядка мышле-
ния, который очень привычен нам теперь, - после Байрона, Лермонтова,
после экономических законов и мальтузианства, после Дарвина, - и кото-
рый весь мы именуем за его темный мучительный оттенок «демоничес-
ким». До Христа, в ясном и спокойном язычестве, где воевали так наивно,
кушали так наивно, танцовали так наивно, - вовсе не появлялось этих
мыслей «с экивоками», как-то странно загнутых и искривленных, с жа-
лом, с ядом в себе... Теперь мы их узнали, и я украдкой позволяю себе
думать, что Гераклит оттого не был понятен в Греции, что он гораздо рань-
ше Сократа, которого именуют «христианином до христианства», - был
тоже «христианским мыслителем».
В самом деле, сколько между христианами нашлось последователей
Гераклита, как они хорошо «раскусили» его и какую «осанна» ему пропе-
ли, - начиная с Гегеля. Гегель прямо назвал Гераклита своим «учителем».
Сам Гегель выдумал «диалектику», т. е. такое чередование идей в уме че-
ловеческом и в истории человеческой, где они растут, движутся и развива-
ются путем отрицания предшествующей мысли последующею мыслью.
Так мысли, «поборая» друг друга, ограничивая одна другую, вырастают в
сложное мышление, в сложность мышления. «Поборая друг друга»... Это
и есть «война», «ссора» Гераклита. Но Гераклит взял дело глубже, чем Ге-
гель: он указал, что эта «борьба» течет, так сказать, в крови мира, что она
вложена в существо вещей, а не в существо одного мышления человека
или человечества.
День и ночь - вот ее символ.
Своей дремоты превозмочь
Не хочет воздух,
как говорит Пушкин об украинской ночи, и он же о петербургской:
Одна заря сменить другую
Спешит...
Возьмите сумерки вечера и рассвет утра: вот Гераклитов рассказ в его
проявлении. Состоит ли мир, «свет», вселенная из дня? Или она состоит из
ночи. И не из дня, и не из ночи, а из поборания дня ночью и ночи днем, из
того, что ни ночи не дано полной власти, ни дню не дано полной победы.
- «Блажен Бог, не давший ничему победить», - говорим мы изумленно.
Адам Смит был такой же гераклист, и просто тем, что он всмотрелся в
существо вещей. «Всякое производство движется конкуренциею, все выра-
батываемые вещи становятся от нее лучше». Но что такое «конкуренция»?
168
Это - «война ахеян и троянцев», которую оплакивал Гомер и восхвалял Ге-
раклит, - только перенесенная в среду коммерсантов и заводчиков.
Погасите конкуренцию, - и качества производимых вещей упадут до
ничтожества. Все будет выделываться худо, едва устранен противник, враг.
Покупателю выгодно покупать у несогласных между собою купцов, но едва
они согласились, установился между ними «мир», - и покупатель кричит от
боли, от муки. «Стачки» продавцов, т. е. «вожделенный мир» Гомера и мо-
ралистов, между ними преследуются законом, как преступление.
- Ссорьтесь, люди: из этого вытекает общее благо!
Странно, но верно.
Ч. Дарвин проследил и открыл науке это же соперничество как двига-
тель совершенства органических форм. Не только звери, но даже и расте-
ния, - которые лишены разумения и сознания, - все одинаково «борются за
существование», отнимая друг у друга корм, вытесняя с удобной почвы, «заг-
лушая» одно другое (растения). Спасая жизнь свою, уничтожая чужую жизнь,
все равно усиливаются, упражняют органы, и органы эти становятся здо-
ровее, сильнее, живучее. «Выживает только жизнеспособное». Сама красо-
та оказалась подчиненною этому закону. В пору любви наиболее красивые
самки притягивают к себе самцов, а из самцов одолевают в борьбе и овладе-
вают самками наиболее сильные: сила и красота сочетаются и дают жизнь
потомству, наиболее сильному и красивому изо всех возможных. Поверишь
древней мифологии, сочетавшей связью Марса и Афродиту; фазаны и пав-
лины не то чтобы верят, но осуществляют миф о вечном в природе любов-
ном сочетании силы и красоты, нежности и смелости.
И, наконец, наш «великий христианин» Достоевский вплел свой цветок
в это Гераклитово учение: когда в 1877 году все либералы и биржевики кри-
чали против турецкой войны и мысли освободить Болгарию, то он противо-
поставил им суждение о нравственной полезности войн. «Война, вы гово-
рите, приносит вред? Кому, - биржевикам и деньгам? Но биржевиков у нас
мало, а денег вовсе нет. Войны спасают людей от оподления. Мир, если он
надолго устанавливается, производит всеобщее закисание крови: героичес-
кое исчезает в людях; исчезают самопожертвование, долг, подвиг; нравы ста-
новятся пошлы, характеры - мелочны и вульгарны; все начинает управлять-
ся инстинктом легонького удовольствия и беспощадного эгоизма. Совесть
умирает в людях, умирает вообще все небесное, и земная грубость одна
широко разливается и превращает море людское в болото людское, в кучу
гадов, неизвестно для чего плодящихся и множащихся. Всему этому полага-
ет конец война, - не шуточная, а опасная, кровавая, рискованная. Это - эпо-
ха героизма. Вчерашние мещанишки вырастают тогда в героев, пробужда-
ются чувства долга, самопожертвования; все небесное снова возвращается
на землю. Кровь, как бы глотнув кислорода, из черной опять делается алою,
и организм цветет, оживленный ею».
«Кровь закисает», «кровь озонируется», - вот хорошая формула для Ге-
раклитовой идеи. Ну, если так, - пусть будут войны и борьба.
169
* * *
Что это - закон не только природный, но и божественный, видно особенно
из того, что действия его, подчинения ему не избегли и божественные вещи.
Догадливый читатель, пока глаза его бежали по предыдущим строкам, веро-
ятно, уже окинул мыслью своею картину христианства и подумал про себя:
- Боже, сколько борьбы!
- Боже, какой цвет!
В самом деле, никакая политическая система не заключала в себе, не
создала из себя стольких войн, восстаний, сопротивлений, бунтов, загово-
ров, столького оклеветания, злобы, раздражения, сколько их создала из себя,
-увы! - кроткая весть, начавшаяся тихим: «Слава в вышних Богу и на земле
мир и благоволение»... Если читать, например, историю кальвинизма во
Франции, то волосы дыбом становятся, и совершенно не понимаешь, как
могли жить друг возле друга люди, державшие камень за пазухою один про-
тив другого, это - в одной семье, в ближайшем соседстве.
Все точило ножи друг против друга.
Но Франция цвела, как никогда, умом, гением, возвышеннейшими ха-
рактерами.
Романисты, трагики, поэты, композиторы в минуты вдохновения обра-
щали взор сюда: это мучительное время, эти кровавые годы отложили в себе
на целые последующие века источники вдохновения, умиления, поэзии, сло-
жили в себе образцы и примеры величайших добродетелей.
- Кровь хорошо озонировалась, - сказал бы угрюмый Достоевский.
- Веры боролись за существование, - констатировал бы прозаический
Дарвин.
- Лук и тетива напрягались в противоположные стороны, - подводит
всему итог фундаментальный Гераклит.
Да, но борьба .мучительна. И каждый, кто принимает в ней участие, го-
ворит, думает, вздыхает:
- Ах, если бы потише! Столько усилий, и все напрасно: не можем побе-
дить! Что за рок? Пусть бы настал скорее победный день, без смены его
ночью. К чему ночь с ее мраком, призраками, опасностями, обманом? Ночь
есть зло. Умолим Бога или, по крайней мере, сделаем все человеческие уси-
лия, чтобы ночи нигде на всей земле не было, чтобы она никогда не смела
появляться, а всюду царила бы безраздельная истина ясного, спокойного,
«твердого дня».
Это как «дважды два»... «Докажем, что дважды два - четыре», и окон-
чим всемирную историю.
Но миром правят, в самом деле, не языческие ясные истины, а христи-
анские запутанности: никак не удается никому доказать, что мир держится
на истине, вроде «дважды два - четыре». В основе мира, в запутанностях
мира, в «пупе» мира, - если назвать так ту темную бездну, из которой рож-
даются все вещи и выкидывается целая всемирная история, - лежит скорее
какая-то «мнимая величина», ^2, около которого можно что-то делать,
170
можно его обдумывать, можно его комбинировать, можно «принимать во
внимание», наконец, можно строить около него фикции, символы, допол-
нения, но только «решить»-то его, «сделать задачу», не только теперь не-
возможно, не только «с нашими силами» и «при настоящем уровне зна-
ний», но и никогда вообще невозможно ее разрешить. И та «точная наука»,
которая никак разрешить этой задачи не может, совершенно точно доказы-
вает ту плачевнейшую истину, что эта задача и вообще неразрешима до
скончания веков и даже по ту сторону окончания «веков», неразрешима в
себе самой и по существу.
Отчасти и «радостное обетование»: мир никогда не кончится, потому
что в «пупе» его скрыто «Страшный суд» настанет для людей, но "J-2
имеет все основания не бояться и страшного суда, по крайней мере, как «пос-
леднего». Для него нет «последнего», ничего «последнего». Скажите, где
последняя цифра периодической дроби 0,9898...? Вот вещь, которая не бо-
ится «последнего суда».
Державин говорил о смерти:
И звезды ею сокрушатся,
И всем мирам она грозит.
Но «смерть» ни малейше не грозит 0,9898... «Смерть» вообще не смеет
коснуться иррациональных, непостижимых, непонятных, смею выразить-
ся, «безумных» вещей. «Смерть» - кончик только сознания, кончик «табли-
цы умножения». Но, например, «соотношение между тетивой и луком» Ге-
раклита тоже не боится смерти, ибо оно есть вещь вечная, ибо оно есть ис-
тина и закон, который, если даже все умрет, тотчас снова войдет в то, что
когда-нибудь настанет после всеобщей смерти...
Папство гигантские сделало усилия, чтобы согнать отовсюду ночь.
«Пусть будет везде католический день». Но Гераклит победил. Самые эти
усилия пап были только древком лука, а не полным луком; полный лук обра-
зуется еще из тетивы, и тетива натягивается совсем в другую сторону, чем
лук. Папы были луком, а Лютер - тетивою; тетивою были провансальские
альбигойцы, Виклеф, Кальвин. Чем мучительнее папы усиливались, тянули
в сторону Ватикана, к Риму, - тем пламеннее горели речи Савонаролы, Гуса,
Цвингли, Нокса... Но не нужно обманываться - речи этих мучеников и про-
поведников тотчас увяли бы, повисли бы, как тетива на ненатянутом луке,
если бы из-за Альп не виднелось «черное отрицание» их всех, «зло» пап-
ства, «сатанизм» католичества, как говорили они про Рим. На самом деле
это ни «зло» и ни «не зло», а просто - другое. Всякое «да» живет своим
«нет», и всякое «нет» постольку и слышит, поскольку его отвергает или ог-
раничивает противоположное «нет».
С великим пафосом католичество и реформация утверждали себя, но
Великий Дух Земли пользовался этим только как орудием, чтобы рождалось
третье: жизнь.
Религиозная жизнь, религиозная история.
171
Если что твердо, как «непрерывная дробь», то это - история. Но что
такое история? Прерванное «да» и прерванное «нет». Неудача всякого тор-
жества, крушение всех побед. История и есть именно развертывание V2.
Ни «да», ни «нет».
И «да», и «нет».
И, наконец, в универсальном смысле, может быть, это так и должно
быть?! «Концы вещей у Бога», - говорит религия. «На земле ничего нельзя
постичь», - говорят она же и поэзия. «Все темно в сем мире», «бедные мы
человеки», - жалуются мудрецы от Будды до Толстого. История и говорит:
«Да, понять ничего нельзя; но зато можно все рассказать». И рассказывает.
И поэты утирают слезы «безвестности» и поют песни.
Все возвращается несколько к эллинизму... «Если ничего нельзя понять,
то можно хорошо кушать, воевать и музыканить. Пусть л/2 неизвлекаем, - и
мы - дробь в бесконечности: будем исполнять свою крошечную функцию,
стоять на своем месте, делать свое дело, пусть папа пламенно отстаивает
себя, Лютер настаивает на себе, а музыканты и певчие всех стран поют свои
песни и настраивают свои лиры, и пусть даже новые ахейцы и новые трояне
воюют из-за новой Елены. Прав Гераклит со своим вечным законом; но и он
только одна сторона натягиваемого лука; сам он, сам Гераклит, и не меньше
истины, вечности и красоты лежит в мимолетной Елене. По Гераклиту же,
самой вечности бы не было, если бы она не отрицалась, не отвергалась и
презрительно не оплевывалась мимолетным: он служил ей, - но мы до пос-
ледних потрохов отдаем безраздельно себя мигу, даже не дню и не минуте, а
единственно одному мигу.
Эллинизм возвращается, не побежденный христианством; но и христи-
анство стоит вечною угрозою для «мигов» язычества... Ночь должна окон-
читься днем; но и день не вечен: вот сумерки, вечереет, показываются звез-
ды, на которые никакого намека не было днем. Если что твердокаменно в
мире, то это - перемена. А «киты» мира, на коих якобы он держится, даже
такие «киты», как и день и ночь, - одна мифология...
* * *
Папы усиливались на всей земле установить «католический день»; а наши
миссионерики, в такой мере наивные и невежественные, на всей Руси стара-
ются водворить никоновское новообрядие и административную реформу
церкви Феофана Прокоповича, сподвижника Петра. Казалось бы, «что им
Гекуба?». Ну, что Феофан Прокопович Скворцову или Айвазову? Ни - тезка,
ни духовный отец, ни даже авторитетный вероучитель. Ничего в смысле ав-
торитета и святости. На последнюю Феофан Прокопович и не претендовал
при жизни.
- Нам, - отвечают, моргая глазами, Скворцов и Айвазов, - Феофан Про-
копович и не представляет собою ничего. Но мы - за седины церкви, за
священные седины: раки преподобных угодников Сергия Радонежского,
172
Феодосия Печерского, память московских святителей Филиппа, Ионы,
Петра...
- Так ведь это же и для нас священная память, поклоняемые мощи, -
отвечают им старообрядцы. - Мы именно за все это, за старину, за седину.
Миссионеры могут только моргать глазами в ответ на это. Почесываясь,
они пытаются поддержать полемику:
- Мы за сущее, за теперь, за сегодня. А «сущее» вас отвергает и нарека-
ет «еретиками». Вот и мы вас отвергаем и просто не хотим, чтобы вы были.
С вами не сговоришь, вас не победишь: это доказали два века борьбы. Мы и
кончаем простым и коротким: «Идите вон, чтобы на глаза не попадались».
Миссионеры, поддерживаемые если не всем, то видною частью духо-
венства, оттого настаивают на запрещении старообрядцам и сектантам про-
поведи, что внутренно не чувствуют у себя никакой силы победы, никакой
надежды на победу. Они спорят. Но это - хроника. Хроника, которая никог-
да не кончится, нигде не кончится. Миссионеры из того же «Колокола» и
«Миссионерского Обозрения» и та же видная часть духовенства накидыва-
ются и на духовные академии, на академическую науку. Они враждебны
науке, как тому, что им «не далось» в свое время. «Красив виноград, но зе-
лен», - решили они, не достав его. «Академическая наука дурна, дурна во-
обще всякая наука», потому что она не «по зубам» Скворцову, Айвазову,
Гринякину. Но как же, но что же дальше? Без науки, без серьезного бого-
словского развития эти старательные мужички и пареньки только и могут
выкрикнуть энергичное: «Вон!» Ну, кого они «победят», кого и как «пере-
убедят»?.. Крик «вон» есть крик бессилия.
Влад. Соловьев в открытом письме к С. А. Рачинскому раз навсегда
превосходно формулировал положение православия в отношении инове-
рия и разноверия, в отношении, наконец, вопроса о свободе чужеверной
проповеди. Рачинский, интимный друг К. П. Победоносцева, в 1885 году
обратился с печатным воззванием к образованным классам нашим, чтобы
они помогли православию и церкви, идя в учителя церковно-приходских
школ, посвящаясь в священники, диаконы и псаломщики и в этом церков-
ном сане учительствуя около темного народа. Шли первые годы царствова-
ния Александра III, зловещая память 1-го марта была жива у всех, все пово-
рачивало на «восточную сторону», и голос Рачинского, когда-то профессо-
ра ботаники в Московском университете и переводчика Ч. Дарвина на рус-
ский язык, - прозвучал громко в этом повороте. Призыву своему он
предпослал эпиграф: «Нога novissima - vigilemus!»* - «Прочь от 1-го мар-
та, идите все в церковь!»
Влад. Соловьев знал, что Рачинский в то же время есть ожесточенный
враг раскола и иноверия, одобрявший все жестокие меры своего друга По-
бедоносцева против иноверия. Только Победоносцев открыто гнал инове-
рие, а Рачинский, в кротком положении пестуна крестьянских детей, помал-
* «Новое время - будьте бдительны!» (лат.)
173
кивал об этом; но устно он не стеснялся высказывать сочувствие угнетению
иноверия и разноверия. Соловьев это знал - и ответил ему на призыв:
«Христианство с самого начала росло борьбою и общим подвигом. Оно
сложилось как всемирно-историческая сила в смертельной борьбе с языче-
ством и иудейством; оно выработало и определило свою догматическую
истину в ожесточенной борьбе с ересями. Христианство есть религия мира
и единства, но добрый мир и прочное единство предполагают крепкую борьбу.
Все жизненное и великое в церкви произошло путем духовной борьбы и
подвигов. И у нас церковь пережила эпоху трудной борьбы с полудикою
ордою, покоряя себе стихийные силы народа и земли. В этой борьбе воспи-
тался тот сонм святых подвижников, который украшает нашу историю».
У читателя уже мелькает мысль, что это - Гераклитов закон, которому
подчинилось и «божественное начало» христианства: все шло борьбою, все
усовершенствовалось в борьбе, все расцветало через борьбу, - как в зооло-
гии и промышленности. Соловьев продолжает:
«Но когда при содействии и благословении святителей русской церкви
сложился и окреп русский государственный организм и взял в свои руки все
внешние задачи народной жизни, у нашей церкви как будто не оказалось
другой, чисто духовной и всецерковной задачи. Борьба с расколом уже не
была истинно христианского характера». Из этой борьбы, так как она была
более физическою, чем нравственною, церковь вышла расслабленною. Так
же слаба оказалась церковь, т. е. ее конкретное выражение - духовенство, и
перед новою задачею, открывшеюся перед нею с Петром: «воспользовав-
шись всем духовным достоянием Запада, побороть жизненную неправду
европейской цивилизации и в самой борьбе полнее, яснее и совершеннее
проявить свою собственную истину»... И здесь, как в отношении раскола,
церковь не вышла на арену свободной, разумной и нравственной борьбы с
тем, что было и что есть ядовитого и темного в западной культуре, и ближе
к церкви - в западных исповеданиях. Церковь, вместо оспаривания, анали-
за, рассмотрения, предпочла запрещение. «И до наших дней, - продолжает
Соловьев, - двойная стена уголовного и цензурного принуждения огражда-
ет нашу церковь от прямого соприкосновения с чужим религиозным убеж-
дением, с чужими духовными силами. Идеи и формы нашей церковной жиз-
ни, частью исторически слагавшиеся, частью искусственно положенные го-
сударственным реформатором, признаны раз навсегда неизменными и не-
прикосновенными за внушительною порукою всевластного государства».
Доселе - факт. Теперь - мораль.
«Войдите теперь, - обращается Соловьев к Рачинскому, - в положение
нашего церковника и того образованного русского человека, который по со-
вету вашему стал бы в его положение. Духовной самодеятельности за соб-
ственной нравственной ответственностью у него не допускается. Религиоз-
ная и церковная истина вся сполна находится на сохранении в крепком ка-
зенном сундуке за казенными печатями и под стражею надежных часовых.
Безопасность полная, но живого интереса никакого».
174
Это - как удар металла, формула двух веков. Философ продолжает упре-
ки педагогу и, за его спиною, всему нашему церковному строю:
«Где-то далеко происходит религиозная борьба, но нас это не касается.
У наших пастырей нет равноправных противников. Враги православия на-
ходятся вне сферы нашего действия, если же попадают в нее, то лишь со
связанными руками и замкнутым ртом. Не внутренняя потребность религи-
озного ума, не живой духовно-практический интерес, а лишь условленный
обычай и приличие заставляют наших церковников время от времени опол-
чаться в защиту православия и в обличение чужих заблуждений. И какая же
это защита и что же это за обличение! В последние три года мне пришлось
перечитать все главные произведения нашей духовно-полемической лите-
ратуры против западных исповеданий. Можно ли сомневаться в том, что
между нашими духовными писателями довольно людей с умом, дарованием
и прямодушием? Между тем, за одним или двумя исключениями, все напи-
санное ими против инославных и неумно, и недаровито, и даже иногда пря-
мо недобросовестно. Этот последний упрек может показаться тяжким. Но
при данных условиях в нем мало обидного. Если от вас требуется махать по
воздуху картонным мечом, то вопрос о том, насколько добросовестно вы им
махаете, будет, пожалуй, и неуместным. Наши почтенные полемисты отлич-
но знают, что с противниками своими они лицом к лицу не встретятся, что
чужие их не читают, а к нам чужих не пускают, что убеждать им никого на
самом деле не приходится, - так не все ли равно, что ни писать. Ведь дело
только в том, чтобы книжная рубрика «полемическое или обличительное
богословие» не оставалась у нас пустою. От настоящей серьезной борьбы за
православие мы избавлены государственною опекою. Но зато и само право-
славие, вместо всеобъемлющего вселенского знамени народов, становится
у нас простым атрибутом или придатком русской государственности. Я го-
ворю «государственности», а не «народности», ибо с точки зрения собственно
национальной наше старообрядчество и раскол имеет такое же значение, как
православие. При отсутствии общего религиозного дела, самостоятельных
церковных задач: всего естественнее для служителей нашей церкви пребы-
вать в сонном равнодушии к всему, кроме злоб дня. «Проживем как-нибудь»
- вот давнишний девиз нашего духовенства и церковного общества. И жили
до сих пор как-нибудь. Но вот наступают времена не какие-нибудь, а време-
на опасные и решительные. И вы об этом напоминаете. Как же пробудить,
чем же всколыхнуть дремлющую силу нашей церкви? Если она задремала
под сенью казенной опеки, то ясно, что нужно снять эту усыпляющую опе-
ку, открыть доступ побуждающему действию чужих сил, дать простор для
свободной борьбы, для подвигов ума и духа. Борьбою и подвигами жила
церковь в цветущие времена своего прошлого, ими же она и возродится.
Все, кто еще верит в церковь, должны желать и требовать ее освобождения,
чтобы оправдалась их вера».
Рачинский ничего не ответил Соловьеву. Да и что бы он ответил! Сама
история за Соловьева, вся история. Да и одна ли она? Все мироздание точит
175
лезвия и, скрещивая лезвия, дает тот каскад алмазов, какой сыплется на зем-
лю и украшает, расцвечивает всю ее. Все гениальное - из борьбы. Все могу-
чее отсюда. Бог как бы внушает целому миру: «Стрелки, напрягайте туже
ваши луки, а уж полет стрел управлю Аз, бессмертный и вечный». И все. И
только. Победоносцев с Рачинским напрягались; напрягался противно им
Соловьев. Но оба они - тетива и древко всемирного лука. И не дано побе-
дить, Богом не дано, никому: Айвазов шумит, Скворцов старается доселе, им
будут преемники, непременно будут; но и у Соловьева есть преемники. И
некоторое «да» не победит, потому что около него стоит «нет», и не одно
«нет» не вырастет в величину всей земли, потому что оно ограничивается,
оттесняется противоположным «да». Правы мученики в гробах, но права и
Елена Спартанская.
Откуда у нас такое множество сект, - мы поговорим в ближайшие дни.
ХРИСТИАНСТВО
И СВЯЗЬ ЕГО С ЦИВИЛИЗАЦИЕЙ
Христианство не есть только церковь: христианство есть дух и идеал, кото-
рый сплелся ощутимо и неощутимо со всеми фибрами нашей цивилизации,
и европейской и русской, и начать отдирать этот дух от цивилизации - зна-
чит потрясать ее всю. Вот истина, которой нельзя забывать при обсуждении
разных церковных преобразований, при введении тех или иных норм для
церкви, хотя бы внешних. Само собою разумеется, что в церкви, где полови-
на всего создана человеческими руками, составляет человеческую прибавку
к божескому началу, - много несовершенного, много неупорядоченного и
даже просто беспорядочного: и нельзя не стараться улучшить это. Но самые
улучшения должны быть производимы крайне осторожно, чтобы не затро-
нуть в ней божеского начала, к которому сохранялось абсолютное человечес-
кое доверие, которое есть столп народной жизни и, наконец, всей цивилиза-
ции. Это-то «божеское начало» есть дух христианства. Едва вы объявили,
что «можно из христианства переходить в другие религии», в еврейство,
мусульманство или язычество, - объявили это в законе и всенародно, - как
вы возвратили сознание народное к той детской поре исторического суще-
ствования, когда еще ничего не было решено, не было решено, кому и как
должен поклоняться человек, что для него есть долг и we-долг, где его со-
весть и что для него есть бессовестное, и проч, и проч. С дороги, старой
дороги, вы его вернули на распутье, вернули в недоумение. «Выбирай сно-
ва», - говорите вы ему, говорите темному и просвещенному, глупому и ум-
ному, злому и доброму, говорите в 1909 году, когда над «выбором» простра-
дали и протрудились девятнадцать веков, когда о «выборе» думали люди не
чета Родичеву и Караулову, когда история «выбора» составила содержание
для многотомных трудов, - несколько позанимательнее «истории кадетской
партии». Для России это значит вернуться к поре варягов, печенегов и по-
176
ловцев, когда шло сомнение о том, поклоняться ли Перуну с серебряными
усами и золотой бородой или поклоняться Божией Матери. Мы говорим о
народных массах, о их впечатлении, о их невольной смуте. «Значит, еще
ничего большими умами не решено, и деды наши ошиблись», - скажет мас-
са, прочитав в законе, что «разрешается переходить и в язычество».
Но язычество, как равно еврейство и мусульманство, есть не только дру-
гой культ, но и другой зов человеческих сердец. С Божией Матерью и рож-
денным Ею Сыном русский народ принял идею о страдании за человече-
ство, о страдании для человечества, о жертве за мир. Он принял это крепко
в самый остов бытия своего. Как вы вырвете все это из него? И невозможно,
и, главное, совершенно не нужно и страшно опасно. И только для того, что-
бы вставить в закон пустую фразу: «Можно всякому переходить во что угод-
но», «можно верить и в Бога, и в чох». Непонятно, кто согреется от такой
фразы, какую «шубу сошьет» эта фраза русскому народу. Выбирать не каж-
дый может: для этого требуется не только ясный и огромный ум, но и боль-
шая воля не в одном смысле затраты энергии, но и в смысле готовности и
способности затратить большую энергию. Не у каждого есть такой запас
души, чтобы произвести эту великую растрату. Те, кто «выбирал» в веках
между христианством, язычеством, еврейством и мусульманством, апосто-
лы и ученики апостольские, отцы церкви, святые в пещерах, мученики, -
они не воевали, не пахали землю, не промышляли торговлею: они уложили
свою жизнь на дело оценки и выбора. Может ли повторять их дело, перере-
шать их решение торговец, солдат, крестьянин, чиновник? В таком случае
они должны побросать свои дела и заняться одним этим первым для души
делом. Это знаменовало бы остановку всей цивилизации. Цивилизация есть
накопленный опыт и доверие к этому опыту. Вся цивилизация европейская
теперь работает над созданием материальной обстановки быта, окончив в
средние века выработку духовной обстановки. Возвращаться к спорам о
религии, возвращаться Европе - значит разом отхлынуть назад от всех на-
сущных задач, перед которыми она стоит сейчас: от задач экономических,
технических, политических и проч.
Христианский идеал вошел в школу, в семью. Это есть то «обыкновен-
ное», всеми признанное и неоспоримое, на чем покоятся все суждения, все
речи, что принимается в основу при ссоре, при споре. Это - элементарные
мечты, что деликатнее - уступить, что простить. И тысяча подобных вещей,
от очень крупных до самых мелких. Выньте из обихода европейского обще-
ства, русского общества и народного сознания эти незаметные вещи - и вы
просто сделаете невозможным общение людей друг с другом, понимание
взаимное, речь взаимную. Это духовное робинзонство привело бы ко всеоб-
щей сшибке лбами в невероятной тьме, дикой тьме. И все это только для
того, чтобы в темной России, всего семьдесят лет назад крепостной и рабс-
кой, произнести щегольской лозунг: «Отныне разрешается всякому перехо-
дить из христианства в магометанство, еврейство и язычество».
Не нужно закона, ни для чего не нужного.
177
К ЗАПРОСУ О СОЮЗЕ РУССКОГО НАРОДА
Смута наша и имела и имеет под собою не менее нравственных мотивов,
чем сколько имеет и имела политических; точнее, она все время есть напо-
ловину политическая и наполовину нравственная смута, и от этого очерта-
ния ее так неопределенны и неясны, цель так сомнительна и двусмысленна,
и в то же время это сообщает ей в некоторых случаях характер глубины, а в
других случаях характер невероятного цинизма. В ней погибло и гибнет
много и чистых людей, преимущественно из самой зеленой молодежи; но
гибнет много и явных разбойников и мошенников, которым место не в по-
литической тюрьме, а в уголовной тюрьме. Россия переживает потрясение,
потому что века назад в ней не были утверждены самые элементарные поня-
тия общежития и порядочного поведения; и когда налетел политический
шквал, с ним завертелась и зашаталась и ежедневная мораль.
Не сейчас только, но полвека у нас стоит в литературе, а вслед за литера-
турою и в обществе, обличительное направление, и никогда, кажется, не по-
являлось ничего столь пропитанного ложью, фарисейством и притворством,
как это направление. Люди, ничуть не чистые в каком-нибудь отношении,
лезли из кожи вон, раздирали себе горло, приглашая весь свет смотреть на
какой-нибудь порок или проступок, в которых был уличен другой. Истерика
этих криков обыкновенно была пропорциональна собственной замараннос-
ти кричащих, именно замаранности в этом самом недостатке, пороке, про-
ступках. Заграничные радикалы во вкусе Губарева, выведенного Тургене-
вым, были деспотами из деспотов; между тем они бежали за границу, не
перенеся деспотизма русского правительства, о котором кричали на всю
Францию и Германию. К счастью, художественная русская литература пе-
ром Тургенева, Достоевского, Писемского и Лескова не дала обществу заб-
лудиться относительно этих «обличителей». Но вот художественное чув-
ство и реальная правда давно исчезли из нашей беллетристики, задавлен-
ные могучей волной декадентства, и теперь нет пера, которое бы сорвало
маску с новых обличителей. А между тем именно теперь в позу обличителя
в каком-нибудь пороке или проступке становятся уже не люди, таящиеся в
этом пороке, а явно и сто раз обличенные в этом самом предмете обвинений,
притом виновные в нем до чудовищных размеров.
Таков весь глубоко фарисейский запрос в Г. Думе о Союзе русского на-
рода. Он идет от кадетов и поддерживается левыми. «Не вам обвинять», -
сказал им депутат Шульгин. Но ведь это же до такой степени ясно в глазах
всей России, что нужно иметь голову, сделанную из красной меди, которая
уже более покраснеть не может, чтобы перед глазами всей Думы и вслух
всей России, поднявшись на кафедру, начать говорить то, что говорили наши
фарисеи. Пусть все факты, ими устанавливаемые, совершенно точны: ведь
все же это только крупица того, что сделали единомышленники Гегечкори и
что защищали, чему пособляли, чему покровительствовали кадеты, до ми-
нуты, когда «политическая конъюнктура» дозволила или заставила их на-
178
звать этих единомышленников Гегечкори «ослами». Раньше «ослов» они
были «друзьями слева». Вот в эту пору «содружества» предложившие те-
перь запрос кадеты, которые сами покушений не совершали, сами никого не
убивали и не грабили, - разве не поступали втихомолку точь-в-точь так, как
об этом кричит Гегечкори, обвиняя, что в убийствах Герценштейна и Иолло-
са замешаны не только физические их убийцы, не только Союз русского
народа, но и агенты разной высоты власти? Допуская, что все это было так,
- хотя Гегечкори ровно ничего не доказал своими сыскными сведениями,
представляя очень много сплетни и очень мало документа, - допуская, что
все это имело место, спросим: чем генерал Трепов поступал «нелояльнее»
или безнравственнее, например, Милюкова? Неужели может сказать Милю-
ков, что он и вся партия, руководимая им, не поддерживали государствен-
ных преступников, а поддерживая, - и не поощряли их идти далее совер-
шать заведомые их дела, когда во 2-й Думе они воспротивились выдать суду
обвиняемых в государственном преступлении социал-демократов? Что же
значит теперешний запрос? Какой ложью и притворством веет от пафоса
негодующих, уличающих речей? Не кадеты ли in pleno* в апогее своей вла-
сти в Г. Думе отказались выразить порицание левому террору? А когда об-
стоятельства «поубавили у них пуху», говоря языком Петра Великого, - они
завизжали от первых двух ударов того обуха, которым колотили ни о чем не
сумняся сами, и от одних слухов об умышлении на священную особу Павла
Николаевича! О, пустосвяты и лжецы, да, кажется, вдобавок и трусы! На-
стоящее мужество, да и настоящий политический такт обязывали их сто-
ически молчать при скольких угодно убийствах справа, раз они первые под-
няли руку на кровь слева. Подняли первые: неужели они думают, что этого
не помнит и не знает вся Россия? Неужели они думают, что кто-нибудь за-
был те кислые, вялые строки наружного неодобрения, какими кадетские и
радикальные органы сопровождали сообщения о бесчисленных убийствах
слева, об убийствах Лауница, Игнатьева, Мина, о покушениях на Дубасова и
проч., причем ни разу не назвали покушающееся лицо «преступником» или
«злодеем», а как-нибудь иначе, обходцем, - чтобы не выразить, что они нрав-
ственно негодуют на преступника. Бесспорно же, что друзья Герценштейна
и Иоллоса ни разу не выразили правдивого, нравственного негодования на
убийства слева: и уже этим самым, одним этим они довели до последнего
падения то противоположное настроение, которое и повело к тайным крова-
вым расправам, повторявшим левые расправы и которые самою наглостью
соответствия показывали, что тут действует возмездие, око за око, - каково
нам, таково и вам. И нужно ли много смысла, чтобы догадаться, нужно ли
строить сложные умозаключения, чтобы понять, что настоящими виновни-
ками убийств Герценштейна и Иоллоса были не какие-то Половнев и без-
грамотные пареньки из Союза русского народа, не Дубровин и полу-называ-
емые агенты правительства, за ним стоящие, а не кто иные, как господа,
* в полном составе (лат.).
179
предложившие запрос, как эти самые кадеты и под-кадеты? Замечательно,
что убийства не постигли никого из крайних левых, ни Аладьина, ни Алек-
синского, ни Аникина или Жилкина, ни Церетели, - хотя, кажется, именно
они стоят на противоположном конце с Союзом русского народа и с прави-
тельственными агентами, стоят vis-a-vis и против. Это значит, что эти имен-
но убийства имеют в себе настоящим мотивом не политическое расхожде-
ние во взглядах, но какое-то глубокое нравственное отвращение, отвраще-
ние к общественному цинизму: а знаменитые слова об «иллюминациях»
сытого управляющего еврейским земельным банком, которому лично эти
«иллюминации» ничем не грозили - горело чужое добро, а не герценштей-
новское и не поляковское добро, горели русские имения, а не еврейское иму-
щество, - эти слова были действительно циничны, жестоки, холодны и бе-
зумны. И несчастный Герценштейн никогда бы их не произнес, не одушев-
ляй его на них, не вдохновляй его ими вся кадетская партия в пору ее подла-
живания к откровенным зажигателям и грабителям слева, к будущим «ослам».
В словах этих менее виновен Герценштейн, чем вся кадетская партия и даль-
нейшие «ослы». Вот кто его и убил настоящим образом, а Половнев и дру-
гие были только последнею зыбью большого волнения, «последнею спи-
цею в колеснице», исполнителями, а не начинателями. И издали, как глав-
ный и закулисный этого виновник, стоит не генерал-адъютант Трепов, но
лживый и бездушный экс-профессор Милюков.
Шла смута, шла революция. Русское правительство было оставлено
обществом, которое, будучи весьма и весьма буржуазным, нимало не бес-
корыстным, все перебежало на сторону революции, перебежало мальчи-
шески и тщеславно, чтобы хотя предсмертно щегольнуть радикализмом.
Нельзя не заподозрить, что это общество весьма основательно рассчитыва-
ло, что революция не удастся и что «животишки» его будут спасены, - тем
же правительством, - а между тем оно получит лавры из левых рук. И вот
власти приходилось спасать это Панургово стадо. Опираться только на шты-
ки и пулеметы оно не хотело, и по грубости и жестокости этой последней
меры, да и потому, что революция всегда кралась вором, а не выходила в
чистое поле. Было именно «политическое воровство», каким русский на-
род еще в летописях окрестил существо революции. Итак, покинутое об-
ществом правительство должно же было в ком-нибудь искать себе опоры?
Оно нашло эту опору в частях населения, не развращенных пропагандою
или устоявших против пропаганды. Вот зерно и сущность возникновения
Союза русского народа и вероятных и возможных связей с ним правитель-
ственных агентов. Если чиновникам-либералам позволительно тайно со-
чувствовать кадетам и левее кадетов, отчего второстепенным агентам пра-
вительства не позволять себе быть гораздо правее наличного правитель-
ства, наличного кабинета министров? Такие агенты правительства совер-
шенно естественно, совершенно невольно для себя должны были сперва
сочувствовать союзникам, затем не отказаться от сношений с ними и, нако-
нец, тайно одобрять некоторые даже их эксцессы. Ведь участвовал же Ми-
180
люков в совещаниях террористов в Париже, не будучи террористом. Все
эти связи и переходы устанавливаются совершенно неодолимо и неулови-
мо, неуловимо для себя. И это - вечная история веков протекших и текуще-
го, история не одних «черных сотен», но и красных знамен. И не пора ли
сознать, что здесь не место для партийных жалоб, но только для жалобы
общей, мировой. Но именно от нее-то кадеты отказались в свое время; и им
остается только сказать: врачу, исцелися сам.
ОКРАИННЫЕ ВОПРОСЫ В Г. ДУМЕ
«Куплено нашею кровью», - говорят о завоеванных провинциях в народе.
Если прибавить эту оплаченность завоеванного ценою крови, ценою жиз-
ней тысяч и десятков тысяч людей, то стоимость завоеванных земель ока-
жется чрезвычайно высокою. Приобретал эти земли весь народ, - но пре-
имущественно армия. Есть наследственный дух гражданский, но есть на-
следственный дух и военный. Завоеванные области Кавказа, Сибири,
Польши, Западного края и Финляндии совершенно иначе чувствуются в на-
ших горожанах, в купечестве, мещанстве и интеллигенции, нежели в воен-
ном сословии, которое и численностью своею, массою, никак не уступает
«интеллигенции». И когда адвокаты и врачи устроили в памятные дни воз-
душную «автономию» всех наших окраин как переходный мост к полному
отделению их и к расчленению империи, то эти господа не спросили главно-
го работника, заработавшего эти провинции государству, - армию. Адвока-
ты и профессора чувствовали себя вправе разделить Россию: тут Ледниц-
кие, Винаверы, Родичевы, Милюковы, Набоковы говорили полным голосом,
полною грудью, благодетельствуя поляков, армян, грузин, раздавая им ми-
лости.. . не из своего кармана. И можно представить себе чувство негодова-
ния при этом зрелище «раздач» в груди армии, которая несет в себе истори-
ческий преемственный дух военного труда, военного приобретения, «по-
купки кровью». Между тем, что такое армия? Стройный кристалл в сердце-
вине народа. Это есть самая организованная часть населения, в которой
лично, натурою представлены все части его, через выбор лучших, самых
здоровых и молодых сил его. Армия - вот извечное представительство стра-
ны. Когда-то в Риме, где впервые во всемирной истории явилась идея «пред-
ставительства» от народа, народного голоса и народной воли, заявляемых
через посредство «выборных людей», - обращение к армии было равнозна-
чаще опросу населения. Так поступал самый гражданственный народ в мире,
одаренный наибольшею чуткостью в области правосоотношений, - римля-
не. Наши адвокаты и профессора юридических и исторических наук хотя не
могут не знать этого факта, но совершенно о нем позабыли, когда им при-
шлось судить о русской государственности, о своем отечестве. «Все возьми-
те, что вам надо, - говорили эти господа полякам, армянам и финнам, - по-
тому что нам ничего не надо». Кому это «нам» и почему адвокаты и профес-
181
сора отождествили себя с русским народом - это никому не известно и не
понятно.
Армия и крестьянство - вот чей голос «заинтересованной стороны» в
окраинных вопросах; и еще - голос духовенства. Армии - потому что она
завоевывала, «покупала ценою крови»; крестьянства - потому что крестья-
нин служил в солдатах, потому что он кормил армию, наконец, потому, что
он был колонизатором в новых землях; духовенства, потому что оно было
стражем и оберегателем русского люда перед идейным, духовным напором
иноземщины. Вот три класса или сословия, которыми расширилась Россия
до теперешних пределов, - кто пронес русские знамена, русский плуг и рус-
ский крест от Невы до Тихого океана и до подножия Арарата. В окраинных
вопросах к их голосу, их думам преимущественно надо прислушиваться, -
прислушиваться или даже приглядываться к их молчанию. Ибо есть угрю-
мое молчание негодующего человека, и его можно понять, и есть спокойное
молчание занятого своим делом человека, и его тоже можно отличить. Вер-
немся к праву, к правосознанию. Нужно совершенно оставить этот недо-
стойный России «извиняющийся» тон, каким мы говорим о «польской окра-
ине», о «кавказской окраине»: потому, что есть только «русские окраины»,
края, окончания и границы русской земли. «Русская окраина с польским
населением» - вот и все. Земля, страна, города и уезды - наши, русские,
«купленные» и в смысле трудовом, и в смысле стоимости, ценности. За все
заплачено: и полякам не о чем тут разговаривать, как равно финнам и армя-
нам. У них есть жительство в этой стране, но никакой собственности на нее.
Собственность - у русских, наша. Нам абсолютно надо утвердиться в этом
чувстве, в этом правосознании, чтобы оставить недостойный нас язык како-
го-то выпрашивания почти «милости», идейного «помилования» за нашу
русскую грубость у таких якобы цивилизованных европейцев, как поляки
или как младофинны. Те, видите ли, обиженная сторона, а мы - обидчики, и
нам нельзя не извиняться. Все это «по Белинскому», а по Риму это не так.
Но Белинского еще никто не брал в наставники по правосознанию, и, можно
поверить, не возьмет его в политические учителя ни Англия, ни Германия,
ни Франция, если бы паче чаяния его «творения» и были переведены на
язык этих стран. Только в русском угаре и для угарных русских людей его
мнения в политике могут что-нибудь стоить; да ведь он и не имел полити-
ческих мнений, а только «гуманитарные» взгляды, - и уж мы, русские, при-
способили их и к политике. Говоря о Белинском, нужно разуметь, конечно,
не одно это имя, а целое течение русской общественности и русской печати.
Течение это отличается полною безгосударственностью и отрицанием како-
го-нибудь национального и государственного в себе достоинства.
Все эти мысли вызываются последними прениями в Г. Думе о западно-
русской окраине, где опять послышались польские или полякующие у рус-
ских голоса, хотя и встретившие должный отпор. Нам нужно выучиться по-
русски говорить. Космополитическая печать наша вовсе не научила этому.
В Думе раздались и пустозвонные речи Родичева, - этого Балалайкина на-
182
шей Думы, - о «людях 20-го числа». В 20-е число получается жалованье, и
получается оно за труд несколько больший, чем лжепатетическая болтовня.
Жалованье получают служилые русские люди, между прочим и г. Родичев.
Не ему упрекать и кидать насмешки в сторону русских людей, которые дер-
жат русский щит на окраинах; это люди честного труда, люди ответственно-
сти. Плохие между ними есть, но Родичев говорит не о проценте плохих, а о
всех сплошь; а о всех сплошь ему не к лицу говорить. Родичеву Россия ни-
чем не обязана, а служилым людям на окраинах наших, - повторяем, наших,
и особенно на трудной западной окраине, Россия чрезвычайно многим обя-
зана. И не забудут их теперь русские люди в сердце своем, как не позабудет
про них и история.
КАШИНСКИЕ ТОРЖЕСТВА
Весь под впечатлением чудной, полной красоты и умилительности, карти-
ны всенощного богослужения этой пятницы, этого начала прославления бла-
говерной княгини Анны Кашинской. Представьте себе обширную на высо-
ком берегу, окаймленном зеленью, площадь с лужайками, с остатками ста-
ринных высоких валов; с другой ее стороны и посреди два рядом белеющих
собора, один - малый, с острым шпицем, другой - большой, с кучею купо-
лов, с грандиозной колокольней, уходящей острием купола в голубое без
единого облачка небо. И вся площадь, и ее высокие валы, как сплошной
муравейник, усеяны народом. Кругом соборов держат хоругвеносцы разно-
образные хоругви, лишь кольцо у самого собора оставлено свободным и
стражники и часовые сдерживают волнующееся море обнаженных голов;
вдали на площади, за валами белое и серое здание женской гимназии. Отсю-
да, предшествуемые золочеными хоругвями и примикирием митрополичье-
го лампадчика, идут попарно в лиловых, синих и фиолетовых мантиях епис-
копы, архиепископы с посохами в руках и позади в белом клобуке с брилли-
антовым крестом, в голубой серебристой мантии, митрополит московский
Владимир. Диаконы и послушники в золотых облачениях следуют за архи-
ереями, поддерживая мантии. Группа причетников замыкает шествие. На-
встречу преосвященным льется с высоких колоколен церковная почесть,
трезвон колоколов; в храме, наполненном народом, встречает митрополита
духовенство и владыки проходят в алтарь; с высоты амвона митрополит бла-
гословляет народ; начинается всенощная. Великая княгиня в белом костю-
ме уже стоит на своем месте у правого клироса; в церкви впереди обер-
прокурор Святейшего Синода т. с. Лукьянов, губернатор, командующий вой-
сками округа, помощник попечителя, чины администрации, предводители
дворянства, соседние губернаторы, депутации, местные помещики, игуме-
ньи монастырей и из далекого Седлеца женская школа при Седлецком мона-
стыре; далее тысячи богомольцев наполняют собор. Поют на правом клиро-
се тверские архиерейские певчие, на левом кашинские; при превосходном
183
пении чинно и продолжительно идет служба. В то же время в малом соборе
архиепископ владимирский Николай с двумя епископами совершает всенощ-
ную при пении старообрядческого хора единоверцев; одновременно в двух
соборах начали петь стихиры перед литией и из Воскресенского собора на-
чался выход на литию на площадь; за фонарем и высоким крестом и рядами
хоругвеносцев с хоругвями шли попарно певчие в картинных кафтанах, свя-
щенники, более пятидесяти, в парчевых с красными отливами облачениях,
архимандриты в черных мантиях и клобуках, опять группа в золотых обла-
чениях диаконов и клириков со свечами и попарно с посохами в руках, в
цветных мантиях архиереи и митрополит. Процессия среди крестящегося
народа обогнула собор и вышла с северной его стороны на площадку между
соборами, в это же время из Успенского собора сюда же выходила другая
процессия духовенства с архиереями и множеством хоругвей и старообряд-
ческими хорами.
Красив этот момент: два длинных луча склоняющегося солнца охвати-
ли обе процессии. Великая княгиня со свитою вышла на балкон паперти. С
северной стороны на площадке возвышение, на которое стали архиереи. На
нем колоссальный образ-картина - прощание св. Анны с мужем-мучеником
- и кругом свечи. Все окружено кольцом хоругвей, другим обширным коль-
цом хоругвей окружена вся площадь. Солнце играет сотнями блесток на их
золоте и блестит на ризах облачений. Тысячи народа кругом усердно крес-
тятся под стройное пение хоров; одну из стихир пропели единоверцы. Пос-
ле прочтения «Отче наш» протодиакон московского собора Розанов вошел
на балкон паперти, где стояла великая княгиня, и с высоты громогласно на
всю бесконечную площадь, с выразительностью, прямо художественно, про-
читал послание Святейшего Синода о Высочайшем утверждении восстанов-
ления почитания св. Анны Кашинской. Хоры запели в первый раз тропарь
святой; затрезвонили колокола, молящиеся опустились на колени, митропо-
лит совершил благословение хлебов, и среди леса хоругвей шествие обо-
шло кругом и вернулось обратно в свои соборы, а преосвященный саратов-
ский Гермоген с частью духовенства остался на помосте продолжать все-
нощную с народным хором под открытым небом. Среди тысяч молящегося,
горячо верующего народа старец архимандрит Макарий твердым голосом
произнес с высоты соборного балкона проповедь; в Воскресенском соборе
проповедь говорил также протоиерей Тигмиев. При чтении кафизмы вышли
из алтаря четыре архимандрита и четыре протоиерея, прошли к мощам свя-
той, сняли покровы, подвязали полотенца, приготовили гробницу для выно-
са; при пении «Хвалите Имя Господне» вышли из алтаря митрополит, архи-
ерей и весь сонм духовенства; митрополит прочитал молитву святой, после
чего все запели: «Святая благоверная великая княгиня, преподобная мати
Анно, моли Бога о нас»; епископы и архимандриты подняли гробницу: в
голове, - ее взяли великая княгиня и обер-прокурор Синода, с другой сторо-
ны губернатор и родичи святой князь Касаткин-Ростовский и гофмейстер
Штюрмер; в ногах - с одной стороны губернские и уездные предводители
184
дворянства, с другой стороны - городской голова и церковный староста
Манухин и перенесли гробницу на середину храма, где совершено кажде-
ние и величание. Всю ночь храм был открыт, всю ночь молились у мощей.
Великая княгиня с монахинями также ночью посетила собор.
Сегодня удивительная картина: на площади десятки тысяч народа, точ-
но ручьи какие вливаются со всех улиц; со всех церквей крестные ходы
образуют грандиозный ход с 3 архиереями, навстречу им выходит на па-
перть митрополит и все остальные архиереи и архимандриты; тут же стоят
великая княгиня и все официальные лица. По встрече крестного хода начи-
нается литургия. Ее служит митрополит, 6 архиереев и до 30 архимандри-
тов и священников. Митрополит произнес прочувствованное назидатель-
ное слово; величественно, благолепно совершается служба, ее чрезвычай-
ная продолжительность не кажется тяжкой; после литургии выходит на
площадь огромный крестный ход. Народом усеяны площадь, вал, ближай-
шие холмы, берега реки, крыши домов; линии полков обозначают в народ-
ном море путь крестного хода. До сотни хоругвей кругом площади, хоры
певчих, бесконечно длинная лента духовенства в красных и золотых ризах
и высоко на носилках осеняемую рипидами несут гробницу архиереи, мит-
рополит, великая княгиня. Все власти следуют позади, с обеих сторон про-
тив соборных врат стоят караулы и хоры музыки играют «Коль славен».
Трезвонят по всему городу колокола, сотнями бросает народ платки и поло-
тенца на пути св. мощей, солнце ярко обливает неизобразимо красивую,
умилительную картину.
По внесении в собор св. мощи поставили на новом уготованном для
них месте под величественною сенью. Провозглашены многолетия. После
литургии в женской гимназии происходил прием депутаций с поздравле-
ниями, много адресов и речей; в числе депутаций были от местных архео-
логических обществ, монархических организаций Москвы, общества
св. Ольги и проч. В четвертом часу в зале городской думы был обед. Присут-
ствовали митрополит, архиереи, много приглашенных, местные помещи-
ки, гости. Губернатор провозгласил здравицу Государю, протодиакон воз-
гласил Царское многолетие, оркестр играл «Боже, Царя храни». Губерна-
тор прочел текст телеграммы Государю, обер-прокурор Синода другую
телеграмму от архиереев и молящихся. Возглашены многолетия митропо-
литу и архиереям. Перед домом собралась толпа народа, губернатор вы-
шел на балкон и прочитал текст одной телеграммы, протодиакон - другой.
Тысячи голосов закричали «ура», запели: «Спаси, Господи, люди Твоя»,
музыка заиграла гимн.
В 7/2 часа отбыла великая княгиня; на станцию провожали митрополит,
местные архиереи, командующий округом, губернатор и все местные влас-
ти и дворяне; дамы поднесли ряд букетов, жители бросали цветы, приветли-
во кланялась великая княгиня. Через полчаса в другом поезде отбыли ко-
мандующий округом и митрополит. Храмы открыты для народа; непрерыв-
но идут молебны у мощей св. Анны.
185
НАШИ ФИНАНСЫ
В НАСТОЯЩЕМ И ПРОШЛОМ
Когда С. Ю. Витте говорит, вся Россия слушает. Природный талант, огром-
ный политический опыт, роль, сыгранная им в судьбах России, и в особен-
ности в судьбах ее нового строя, - все это делает его фигуру далеко видною,
едва он чуть-чуть приподнимается с места. Но столь большое внимание к
чрезвычайно многому обязывает. С. Ю. Витте чуток к умственной, к госу-
дарственной стороне этих ожиданий, и, можно сказать, «обязательства боль-
шого оратора» выполнены им в том отношении, что он не говорит по пустя-
кам, по незначительным поводам, и что речь его всегда не только интересна,
но и ценна, как некоторая государственная работа. Но в ожидания читающе-
го люда, которым является все общество и теперь уже значительные части-
цы народа, входит не только умственная и государственная сторона, но и
сторона нравственная, этическая. Общество - не стадо, не податная масса,
но что-то более сложное и духовное, более тонкое: и, слушая речь человека,
оно ищет в ней не только разума большого дельца, но и вибраций более
тонких струн: оно ищет участливого тона, смотря по возрасту и положению
говорящего. Вот к этой стороне ожиданий С. Ю. Витте или глух, или, что
правдоподобнее, никак не умеет на них ответить, им удовлетворить. Недо-
статок этот, постоянно встречающийся в его речах, сказался особенно об-
ширно в последней пространной его речи в Г. Совете. При всем умственном
блеске и едкой основательности его замечаний по поводу заключительных
пожеланий финансовой комиссии, слова его производят на душу довольно
тягостное действие тем, что это вообще не есть тон друга новых государ-
ственных учреждений, в происхождении которых он играл такую роль, и
как-то вообще здесь не чувствуется голоса сына своей родины. Новые уч-
реждения, уже раз они даны, должны быть и сохранены, и развиты: это даже
принцип консерватизма, чтобы все, что стоит, стояло как можно дольше и
как можно лучше. Естественная малоопытность и неуспешность этих уч-
реждений, так просто объясняемая фазою их возраста, не может поэтому
давать повод к пренебрежительному и ироническому тону в обращении с
собою или с результатами их работы. Что мы бережем, что любим, то мы
должны уважать и говорить об этом бережно, с осторожностью. И хотя, ко-
нечно, является «либерализмом навыворот», - но, однако, именно либера-
лизмом не очень высокой пробы третирование «импотентной работы» Гос.
Совета и его отдельных комиссий. Тон делает музыку, и здесь музыка была
решительно неблагозвучна, несмотря на непрерывный умственный блеск,
проявленный в речи бывшим министром финансов. С высокомерием, кото-
рое приятнее было бы видеть в другом месте, а не в заседании Г. Совета,
С. Ю. Витте передал о том, «как сегодня, встав поутру», он заглянул в бумаги,
присланные ему на дом из Г. Совета, и сколько в одних вступительных сло-
вах этих бумаг он нашел поводов для критики и даже вышучиванья. Конеч-
но, где слабость, там и изощряется критика. По существу, против критики
186
С. Ю. Витте нечего и возразить, - кроме разве того, что она слишком микро-
скопична и рассматривает скорее «fa^on de parler»*, нежели сущность дела.
Ведь те «благопожелания», которыми пересыпано заключение финансовой
комиссии, ничуть, конечно, не реальности, и так, без сомнения, не смотрела
на них и сама финансовая комиссия, а просто «modus dicendi»**, естествен-
ный оборот речи в годовом итоге работы, вроде «будьте здоровы» при про-
щании. Тут ни заслуги, ни преступления. Но благое пожелание, однако, и
говорится, и выслушивается именно в добром, хотя, может быть, несколько
и «импотентном» расположении и чувстве, и это не только в быту, но даже и
в государственных отношениях. Нужно заметить, что «импотентность» про-
исходит иногда от молодости, от младенчества: и Г. Совет, работающий в
новом составе и под новым законом всего три года, имеет именно только эту
импотентность юного возраста, не ставимую в упрек. Его «благожелания»,
в добром намерении выслушанные министром финансов, при содружествен-
ном отношении администрации с парламентским строем, могут или могли
бы быть стимулом и вдохновителем финансово-административной деятель-
ности. Наконец, не несет ли в памяти своей С. Ю. Витте те бесчисленные
благие пожелания, которые изложены чуть ли не в сотне томов комиссии
сведущих людей, заседавшей в первой половине текущего десятилетия?
«Благие пожелания» не суть что-то, присущее лишь русскому парламент-
скому строю, не есть «modus dicendi» его одного, но когда они выслушивают-
ся с достаточно авторитетной стороны, то являются началом огромных ре-
форм. Переходя к частностям речи С. Ю. Витте, нельзя не улыбнуться той
части ее, где вспоминается о столь благополучном состоянии русских фи-
нансов, что излишек дохода по продаже вина в какой-нибудь губернии уже
вызывал беспокойство и даже «огорчал» главу финансов и питейного дела в
России, и он, встречая подведомственное соответственное лицо, говорил ему:
«Обратите внимание, там начинают много пить»... То же «благое пожела-
ние», может быть и произносимое в тех видах, что на самом деле от разгово-
ра двух сановников крестьяне, положим, Воронежской губернии никак не
могли начать меньше пить, а следовательно, не могли и привести к сокраще-
нию благополучного питейного дохода... «Благопожелания» могут быть пря-
модушные и наивные, как в парламентаризме, и могут быть с некоторою
затаенною и заднею мыслью, как это, вероятно, нередко бывало в поседе-
лом опыте старых непарламентских учреждений. Возвращаясь, однако, к
блистательному положению наших финансов лет десять назад, когда мы не
знали, куда девать золото, и вздыхали по лишнем выпитом вине, мы должны
напомнить С. Ю. Витте, что именно к этой золотой или золоченой поре от-
носится постройка на наши деньги железной дороги в не принадлежащей
нам Манчжурии и великолепного порта Дальнего, или Ненужного, о кото-
ром Россия будет помнить не менее, чем «ненужную Амурскую дорогу»,
* манера выражаться (фр.).
** манера выражаться (лат.).
187
которая будто бы заставит много десятков лет вздыхать русский народ. Рус-
ский народ имеет большое пространство для своих вздохов и очень много
поводов. Облегчить их если и может, то настоящая и серьезная борьба хоть
в том же Государственном Совете.
ПОДГОТОВЛЕНИЕ К ПРОФЕССУРЕ
В РОССИИ
I
С тех пор, как жизнь сделалась с одной стороны жестка, а с другой - поте-
ряла наивность, материальное обеспечение себя стало главным мотивом в
выборе сфер деятельности, в выборе точек приложения энергии и таланта.
Блистать везде можно, принести пользу тоже можно везде, и решает вопрос
о выборе рода деятельности именно «вещевое довольство», говоря интен-
дантским языком. Эта материальная сторона дела лежит часто в основе
необъяснимых на первый взгляд духовных феноменов. Все поражались в
последние годы, что в университетах и их жизни видное положение и гла-
венствующую роль заняли учащиеся, еще молодые и неопытные люди, тог-
да как наставники их в значительной степени были стушеваны. Безволь-
ность и в значительной степени безличность русской профессуры - явле-
ние такое, которого невозможно скрыть и незачем скрывать. Особенно не-
зачем скрывать его всем, кто хочет с ним бороться и надеется преодолеть
его. В то время как студенчество идет полным паром, профессура - без
паров и, естественно, лежит на боку. Если обратить внимание на то, что и
по части науки, собственно ученого блеска, у нас все тускло и безнадежно,
что все выдающиеся имена суть имена профессоров-старцев, или уже вы-
шедших в отставку, или накануне отставки, то явление это не может не пред-
ставиться чем-то очень тревожным. С глубокими старцами Ключевским и
Герье кого мы сопоставим из молодых историков? Кого сопоставим из мо-
лодых юристов с профессором Сергеевичем? Что-нибудь значительное в
науке у нас вымирает, а значительного вновь здесь ничего не рождается.
Конечно, это тревожно. Но страшно ли это?
Молодой человек из всего состава курса, т. е. из ста студентов, слушав-
ший профессора наиболее заинтересованно, знающий, кроме древних язы-
ков, три новых, причем один, английский, язык он уже усвоил после гимна-
зии самостоятельным личным трудом, проводивший все четыре года вне-
лекционное время не на сходках и не в местах удовольствий, а в физическом
кабинете, в обсерватории и библиотеке, - словом, на все глаза, на всяческую
оценку, красота студенчества и надежда науки, любимое и наконец-то удач-
ное детище университета, - «оставлялся при университете» стареющим
профессором как будущий «заместитель себя по кафедре», как «кандидат на
должность профессора». Он в возрасте 25,26,27,28 лет, - тот возраст, когда
188
каждый закладывает себе гнездо, женится и год за годом получает новых
детей в люльку. Так как государство затратило огромные усилия на учреж-
дение университетов, - да это и в самом деле есть высшее учебное заведе-
ние в стране, объемлющее все науки, - то естественно сказать, что такой
«кандидат, готовящийся на профессуру», есть что-то избранное, любимое,
взлелеянное как обществом, так и государством и, наконец, целою страной.
Да это так и есть на самом деле: «кандидата» поздравляют серьезным по-
здравлением, в обществе всегда говорят о нем с интересом и уважением, -
такова должность будущая, таков путь; товарищи-студенты всегда ему зави-
дуют благородным завидованием: «Он один отличен между нами, он будет
профессором, а мы - так себе, в науку не вышли, к наукам не обнаружили
особенной способности». Да это так и есть на самом деле, такова вещь в
зерне своем. Мысль остаться при кафедре, готовиться на профессора есть
стимул, естественный стимул, и притом единственный осязательный, учеб-
ных и ученых занятий студентов, то же, что «первый литературный труд»
для готовящегося выйти в литературу. Все поздравляют; сладко, с подавляе-
мыми слезами поздравляет молодого ученого и молодая жена, кормящая
первого ребенка. «Почему со слезами?» Да от общества скрыто, общество
не догадывается, наконец, ему на ум не приходит, и по рассеянности оно не
обращает внимания на то, что знают: 1) старый профессор, оставивший мо-
лодого любимца для замещения себя на кафедре; 2) сам этот молодой люби-
мец; 3) жена его и 4) чиновники департамента министерства народного про-
свещения, на Фонтанке, в Петербурге, что он 3—4 года, самых цветущих года
в жизни и вместе самых трудных, деятельных, потому что нужно готовить
диссертацию и готовиться к магистерскому экзамену, будет получать такое
«вещевое довольство», как плоховатый слесарь на механическом заводе,
бьющий молотом по железной накаленной полосе, ибо только плохой сле-
сарь, выпивающий, да и неопытный, получает 50 р. в месяц, - жалованье
кандидата в профессора, - а хороший слесарь получает 80-90 руб. в месяц,
с лишком в 1!4 раза более этого начинающего профессора в университете!
В департаменте министерства просвещения, как и во всех петербург-
ских канцеляриях, 50 руб. в месяц получали только писаря; так называемые
«письмоводители», «архивариусы» (т. е. хранители шкапа с документами) и
помощники столоначальников уже получали больше.
Учитель гимназии, тот самый обыкновенный студент, который завидо-
вал будущему профессору, сейчас же по выходе из университета получал
уже 150 р. в месяц, втрое более своего даровитого товарища, действительно
читающего книги на трех языках, действительно уже очень начитанного в
своей науке!
Что же это такое было? Так как в «50 р.» жалованья действительно не
бывает ни на какой службе, кроме как швейцарам, посыльным, кучеру (выс-
читывая и «довольство») и вообще прислуге, а не настоящему «служаще-
му», участнику работы, - работнику в деле, в конторе, в фабрике, в банке, на
телеграфе (телеграфистки-барышни получают до 75 р. в месяц), - то мини-
189
стерство просвещения стеснилось назвать это «жалованьем», а называло
«пособием». Но «пособие» бывает пособие к чему-нибудь, определенному,
предусмотренному и непременному Такого ничего нет, и министерство ни-
чего такого не дало будущему профессору. Безмолвно оно сказало ему: «По-
ищи», «постарайся». Но «старания» его опять взяты уже самим министер-
ством: оно его обязало подготовляться к самой блестящей, к самой видной,
действительно к самой значительной деятельности в самом же министер-
стве: к чтению лекций молодым людям, окончившим курс в его гимназиях!
Ведь это «старания»? Это труд? На это надо время?
«Поищи», «постарайся». Это сводилось к другому совету, шедшему со-
вершенно вразрез с самым назначением такого кандидата, с видами самого
министерства в отношении его личности. Министерство тут как бы крало у
самого себя успех, портило свой плод, мешало своему делу. Суть науки, как
и всякого умственного дела, заключается в безраздельности внимания к ней,
в «специализации», в «виртуозности» на поле избранной сферы. Нельзя от-
лично играть на скрипке и на рояле, нельзя быть отличным певцом и отлич-
ным живописцем, нельзя быть поэтом и хорошим инженером. Невозможно
также быть успевающим, талантливым «кандидатом в профессора» и в то
же время «поискать чего-нибудь», какого-нибудь «заработка на стороне»,
будь то даже учительство в гимназии или писательство. Учительство связа-
но с исправлением ученических тетрадок на дому, а писательство связано с
одушевлением темами, уже никак не по дифференциальному исчислению и
не по афинскому законодательству.
Что же делать? Надо готовиться к тому, чтобы быть дурным профессо-
ром: отвлечься от профессуры, забыть темы науки, пафос науки, чтобы...
просто добыть пропитание себе, ребенку и жене. «Голодная собака, ищущая
куска на улице, не выбросит ли кто чего в окно», - вот молодой, 28-летний
«кандидат в профессора» русского университета!
Я учился в Московском университете между 1878 и 1882 годами и, как
все мои товарищи, вынес из гимназии взгляд на профессоров как на «бо-
гов», как на что-то до такой степени светлое и превосходящее обыкновен-
ный уровень людей своими знаниями, своим горизонтом зрения, благород-
ством и высотой своих интересов, своей умственной занятости, что мне ка-
залось, мы все, - вся улица, всякие чиновники, конторщики, фабричные,
фабриканты, торговцы и все «знакомые» и родные, - ходим где-то внизу-
внизу, по грязной равнине или по глубокой долине, тогда как они одни, - эти
Буслаевы, Стороженка, Герье, Макс. Ковалевские, Зверевы, Муромцевы,
Захарьины, Тимирязевы, - стоят на высоте горы или различных соседних
гор (науки) и одни видят солнце и освещаются солнцем, которого прямо мы
никогда не увидим, и только косвенно, через посредство этих людей, мы
получаем кое-что из этих солнечных лучей. «Ну, где же знать четыре языка,
читать Мильтона в подлиннике, поехать в Англию и пожать руку Дарвина
или даже увидеть самого Гладстона и тоже, может быть, поговорить с ним?
Гладстон станет говорить с человеком, который читает Гомера, как я Михай-
190
ловского и Лейкина. Но станет ли он разговаривать с читателем Лейкина? А
я никогда ничего не буду читать, кроме Лейкина. Бог разума не дал». Без
подробностей и частностей, без старой улыбки над молодым воспоминани-
ем мы все так думали: мы были чернь, умственная чернь, безнадежная чернь,
а они были какими-то «священными» пифагорейцами, вот именно поющи-
ми гимн солнцу.
Благоговение мое к профессорам было такое, что я ни однажды не мог
пойти на квартиру ни к одному из них. «Святилище»... Хотя вопросы были,
и пойти мне очень хотелось, помню, к Иванцову-Платонову и к Троицкому,
- хотелось до мучения. «Бог», «алтарь», - «не могу»... «Он говорит миру.
Почему он будет говорить мне?»
Поэтому на 3-м или на 4-м курсе я с невероятным изумлением услышал,
что «такой-то» оставляется «при университете» своим профессором, но от-
казывается. Дело шло именно о каком-то юристе-студенте, очень дарови-
том. Я, в надеждах «на будущую русскую науку», во все глаза глядел по
линии всех факультетов, старался близко постоять около Тимирязева, «кото-
рый был знаком с самим Дарвином», и радовался, когда вот «оставляли при
университете» такое трехъязычное чудовище, а с древними языками - даже
и пятиязычное. Сам я был особенно неспособен к языкам, и такое многочте-
ние приводило меня и в восхищение, и в ужас.
- Как, не хочет остаться при кафедре?..
Значит, «не хочет быть Блюнчли или Робертом Молем»? Сам я читал по-
русски и Роберта Моля, и Блюнчли. Блюнчли «Историю государственного
права» даже купил. И слог, и темы, - все изумительно.
- Не хочет остаться, - покосился на меня студент в пенсне, - потому
что, говорит, на что же я буду жить и какое будет мое положение? Даже
через 3—4 года, когда я буду профессором, я буду получать 2400 руб. в год,
через 15 лет «ординарным» - 3000 руб. в год. Тогда как, став присяжным
поверенным, я буду получать от 10 до 12 тысяч в год, потом - и больше. Не
могу же я для науки жить в бедности, работать из нужды и как поденщик!
Он решительно отказался. А профессор очень упрашивал. Такая на-
дежда...
«Надежда науки», «русской науки, ученого русского сословия», мною
столь благоговейно чтимого?.. Просто - «не хочу». Я сам будто падал с неба.
Не могло быть сомнения в верности факта. Но он поместился в голову
мою как какое-то инородное тело, как «сведение», ни с чем не связуемое.
- Предпочесть быть адвокатом, чем быть профессором? Разбирать чу-
жие кляузы, чем небесные вопросы науки, вечные вопросы?
- Кто же будет писать у русских «Утопию», какую написал для англичан
Томас Mop, «Civitas Solis»*, какой написал Кампанелла для итальянцев, или
«Политию», написанную Платоном для греков и целого мира?
* «Город Солнца» (лат.).
191
Так я спрашивал себя. «Наука» мне представлялась в форме этих трак-
татов или приближающеюся к ним. Мы, студенты, были «алхимиками» во
всех науках, - до Лавуазье и открытия им «неинтересного» кислорода. Меч-
ты, туман, небо, - и не иначе, как «чтение в звездах». Все ближайшее и все
меньшее уже «наносило рану сердцу»...
Это было в 1881-1882 году, 29 лет назад, в каковой срок приблизитель-
но заменились все старые профессора новыми, все кафедры заместились
«теми, кто не отказался» от 600 р. в год в первые 3—4 года, от 2400 руб. в
следующие десять лет и от 3000 руб. - до конца жизни, в столице или вооб-
ще в огромном городе, с его дороговизною жизни, со стоимостью квартиры
от 40 руб. до 75 и 100 руб. в месяц. Кто же «не отказался», много ли? Какие?
Главное - «какие»?..
Ведь это определит талант науки, блеск профессуры, ее энергию, нако-
нец, во всяческих вопросах, в том числе в учебных, ученых, университет-
ских вопросах! И, наконец, если случится, если выйдет такой миг, - в вопро-
сах гражданских и политических!
Я понял и говор студентов еще тех лет: «М. Ковалевский - свободный
мыслитель. Ему что: он - помещик и дворянин, имеющий до 15 000 руб.
годового дохода». Передаю говор студентов, не зная фактического ему соот-
ветствия, просто как взгляд на дело, уже тогда слагавшийся. «В. И. Герье
ушел в науку. Ему можно уйти в науку: у него свой дом на Остоженке (сколь-
ко помню). Сами читали над калиткой дощечку: Д. с. с. В. И. Герье («Дей-
ствительного статского советника В. И. Герье»). Да и зарабатывает в журна-
лах: «Вестник Европы» платит по 100 руб. с листа. Можно за границу по-
ехать, можно иметь свою библиотеку». «Можно», словом, «писать «Утопию»
или «Civitas Solis»...
И эти люди были с весом. Мы сами, студенты, чувствовали, что Кова-
левский и Герье - с весом в составе профессоров, в университетском совете,
что они стоят прямо, а не уходят куда-то в застенчивость перед попечителем
учебного округа, тогда «графом» Капнистом, и, может быть, не прячутся
даже от Петербурга и министерства. Сюда прибавлялся Тимирязев. «Ну, это-
му что, - он знаком с Дарвином». Но не всякому же дается быть светилом
науки на целую Европу; есть просто профессора, только русские профессо-
ра, и их 80-90%, почти «толпа», и во всяком деле «большинство голосов».
Что же они такое?
Профессор римской словесности или дифференциального исчисления,
- если его «уволят» и не дадут места, от казны зависящего, в другом учеб-
ном заведении?.. Да он умрет с голоду, ему некуда пойти, совершенно неку-
да в обширной России. А делать ничего другого, кроме как «читать диффе-
ренциалы» или «читать Цицерона», он не может, ибо к этому одному гото-
вился всю жизнь, готовился по лестному предложению самого министер-
ства. Он так же от него зависит, как приходский священник от архиерея:
«Дали место - сыт, не дали места»... Страшно и договаривать. Архиерей и
приходский священник, министерство просвещения и профессор универси-
192
тета, - вот отношение и параллель, никому не приходившая в голову. Но она
вполне истинна. Кто же шел в профессора?
Честь манит, немножко манит и наука, хотя не очень, ибо нужно в нее
войти, в ней годы посидеть, чтобы почувствовать всю ее занимательность,
почувствовать настоящий к ней интерес. Остается почти одна «честь»
вступить в сонм «пифагорейцев», с такой ужасной зависимостью от «гра-
фа-попечителя», от «графа-министра» и тех, кому он передоверит свою
власть.
Явно, что самая «честь» была мнимая - быть «пифагорейцем» собственно
в глазах темноты студенческой, а на деле - жить в зависимости и нужде, в
черной зависимости и в черной нужде.
II
Невозможно не подумать, что министерство народного просвещения пред-
намеренно, молча, без циркуляров, без деклараций поставило профессоров
университета в это черное положение, чтобы «отжать» талант из профессу-
ры, «выжать» масло из нее и отбросить вон, оставив одну воду, сыворотку, с
которою всякой администрации вообще легче справляться.
Мечников, Макс. Ковалевский, П. Виноградов, Софья Ковалевская вые-
хали учить и учиться за границу. Сюда прибавим Милюкова, читавшего лек-
ции в Болгарии. Припомним Менделеева, вынужденного оставить Петер-
бургский университет и с которым так спокойно расстался министр-граф.
Это было в пору Делянова; прочие «эмигрировали» при Д. А. Толстом. Ис-
тория этой русской «ученой эмиграции» не написана и, кажется, не сообра-
жена. Тут есть задний план: дифференциалы или Цицерона, для обихода,
для будущих учителей не Бог весть каких гимназий, и всякий прочтет за
2400 или за 3000 р. в год.
В этот задний, безмолвный и в сущности страшный план входило и 600-
рублевое «пособие» будущим кандидатам на звание профессора. «Пусть про-
лезут через игольное ушко»... будущие гордецы, возможные гордецы, «пи-
фагорейцы». Пусть поморятся, бегая по урокам, пока жена качает люльку,
кормит безмолочной грудью «сына профессоришки», а сам он, вернувшись
с уроков в полночь и перекусив котлеткой, с изнеможенным, обескровлен-
ным мозгом открывает Гауса или Горация.
Маклаковы, Ледницкие, в свое время Плевако и целая блестящая плеяда
юристов-ирактимков уклонились в сторону, не пошли на кафедру, конечно,
совершенно для них доступную. Это - в линии юридических наук, на одном
факультете. Другие вовсе не пошли на нищий, не обещающий ничего исто-
рико-филологический факультет, всегда пустовавший, уже и 30 лет назад.
Профессура стала тем «голодным островом», который старались миновать
корабли со сколько-нибудь сильными моряками. И приставали сюда только
изнеможенные, не надеющиеся на себя в бурном житейском плавании, в
193
практическом плавании, с его возможностью удачи и неудачи, с надеждой
только «на себя и Бога». Даже репортеры, просто описывающие пожары и
«происшествия» в городе, получают в газетах более, обеспечены лучше. Нет
инженера на железной дороге, который получал бы столько, сколько про-
фессор. И, словом, это - «нищий род службы», только-только поднимаю-
щийся над ремесленным.
Но еще профессуры жди. До нее надо работать 3-4 года, при первых
детях, при родах жены, при возможном собственном недомогании, на... 50
рублей в месяц!
Читатель, на 50 рублей в месяц, когда телеграфистка, кончившая только
женскую гимназию и только стучащая на аппарате, получает 50, 60, 70 руб.
в первые же годы службы, когда слесарь на чугунолитейном заводе уже по-
лучает до 90 руб. в месяц!
Сколько об этом ни писали, - министерство оставалось глухо.
Так тянулось от основания университетов и до этого года. В ряду «про-
ектов», пропущенных Государственной Думой перед самым ее роспуском
на каникулы, уже в сем июне месяце, промелькнул и этот: «Пособие про-
фессорским стипендиатам, имеющим готовиться по окончании курса в уни-
верситет на должность профессора, повышается с 600 р. в год до 1200 р. в
год». Слава Богу, через это они сравниваются хотя с самыми несчастными
учителями гимназии в Чухломе или в Брянске. В год 1200 р. есть жалова-
нье учителя уездной гимназии, при котором он ходатайствует перед дирек-
тором походатайствовать за него перед округом, дабы ему прибавили не-
дельных уроков до 1500-1600 р. в год, что уже считается возможным и ус-
покоительным. Но, - увы! - есть разница в дороговизне жизни между Чух-
ломой или Москвой, Петербургом, Казанью, Харьковом, Киевом, Одессою,
Варшавою!
Нужно, непременно нужно довести хоть до этих 1500-1600 р. в год, по-
лучаемых сейчас же по окончании курса в университете даже плоховатым
студентом, если он идет в учителя гимназии, содержание лучших питомцев
университета, избранных и оставленных для приготовления на занятие ка-
федры в нем. Дар к науке страшно редок, исключителен. Высокий дар этот
не есть из практически кормящих даров, но в великой лаборатории государ-
ства нет более нужного, более утилитарного дара. Сам он не кормит, но ра-
зыскивает корм всем. Хозяину не рождает, зато рождает ученикам. Из диф-
ференциалов родятся инженеры, из Тацита и Фукидида - знание и знатоки
древней истории, - словом, каждый профессор рождает за 30 лет мерцания
своего, своего блеска или своей тусклости до 3000 и более образованных
тружеников, расползающихся по всей земле русской, которые тоже будут
или сколько-нибудь светить, или только коптить и дымить в этой земле. Это
страшно важно, и если мы зовем и зовем, и в публицистике, и в молитвах,
врачей и учителей в русскую землю, зовем настоящих инженеров, настоя-
щих юристов, то вместо платонических молитв у нас есть практическое и
верное средство:
194
1) Сделать приманчивой, соблазнительной профессуру. Сделать ее сча-
стливым, благословляемым званием. Пусть это будет не островом Голода-
ем, но маленьким духовным эдемом в русской земле. Пусть летят сюда силь-
ные, пусть летят сюда талантливые.
2) И окружить эту профессуру настоящим почетом, настоящим уваже-
нием, введя если не в закон, то в обычай, что ли, «несместимость профессо-
ров», наподобие членов судебной корпорации, окружив независимостью,
свободою их преподавание, их науку. Пусть в самом деле немножко станут
«пифагорейцами», пусть поднимутся «на гору»...
Министерство, как египетский феникс, сносит «по яйцу в век», если
его благостные проекты сравнивать с яйцами феникса. Его не дождешься.
Притом оно имеет, очевидно, «задние планы», и, Бог знает, сколько таких
планов. Поэтому желательно, чтобы при всей безвольности и инертности
профессура «окропилась живою водой» и начала сама воскресать и вос-
крешать, что и где можно, вокруг себя. И прежде всего вот эту ступень к
себе, - «профессорских стипендиатов». Добавочно к тому прибавлению,
какое утверждено Государственною Думой, профессорская коллегия мо-
жет прибавить из «специальных средств университета» еще недостающие
500-600 руб. на каждого стипендиата, что, при небольшом их числе еже-
годно, выразится в сумме 6-8 тысяч рублей в год на все четыре факульте-
та, на целый университет. Только начиная с этой суммы содержания, луч-
шие питомцы университета не станут смотреть на «оставление при уни-
верситете» как на несчастье, исполненное чести, но которое требует «ге-
роизма» и «самоотречения», чтобы принять его. Героизм пусть идет на
науку, на борьбу с ее трудностями, немалыми, и решительно незачем энер-
гию героизма, которая не бесполезна, требовать и вызывать на беганье по
урокам или спешный труд в газетах. Нитка всякая рвется, и целость нитки
надо всегда беречь.
ИНЕ ПОЙДУ...
Епископ Вологодский и Тотемский, преосвященный Никон, в «письме в
редакцию» «Московских Ведомостей», выразил беспокойство, как бы на
будущий церковный собор не попал среди мирян и я; в этом беспокойстве
он не очень оригинален: года четыре назад епископ волынский, преосвя-
щенный Антоний, тоже выразил мысль, что на будущем церковном соборе
«было бы предпочтительнее видеть каторжников», нежели людей такого
образа мыслей, как я. В сторону читателей замечу, что у меня есть несколько
друзей священников, среди которых благородный и скромный новгород-
ский священник А. П. Устьинский есть едва ли не теснейший, многолетний
и испытанный друг; и из епископов я могу назвать преосвященного Иона-
фана ярославского, Евдокима московского (ректора Московской духовной
академии), Иннокентия тамбовского, Антонина петербургского, Сергия
195
финляндского и, наконец, митрополита Антония, от которых, кроме при-
ветливого и самого доброго отношения, личного или в письмах, я ничего
не видел. Так что я, по-видимому, не похож на «черта», каким представля-
юсь в смущенном воображении двум, усиленно меня отрицающим, епис-
копам.
Но одно - личное впечатление, другое - идеи. Всех названных лиц и
между ними преосвященного Никона я имею внутренние мотивы или ува-
жать, или любить; но тоже - лично, по-человечески. Теперь - идеи.
Если бы я был приглашен на предстоящий собор, - я бы не поехал. Во-
первых, потому, что это был бы иерархический, властный собор, а не цер-
ковный в любви и мудрости советующийся, советующийся спокойно и бес-
страстно о мире и радости церковной, о благопреуспеянии всех церковных
дел. Ведь этой радости и покоя нет в церкви сейчас, нет счастья: а чего нет в
церкви, не будет и на соборе. Будет смятение страстей, подкопы, происки,
будет золочение себя и очернение других: до всего этого я не охотник. В
простой почти крестьянской избе-келье я беседовал у Троице-Сергия, после
гоголевских торжеств, со смиренным и высокоученым преподавателем ду-
ховной академии Павлом Флоренским, сущим иноком по внутреннему при-
званию: и ночь, в беседе с ним проведенная при взаимном понимании с по-
луслова, думаю, не есть ли «собор» по слову Спасителя: «Где два и три собе-
рутся в любви и мире, Я посреди их». Но на соборе сколько бы я ни говорил,
ведь ничего не было бы понято из моих слов, кроме грамматического и
лексического состава: как же говорить, советоваться или спорить с людьми,
вовсе тебя не понимающими? Увы, дара постижения чужой души, психоло-
гического постижения, вовсе не дано теперешнему духовенству, - уставно-
му или полемическому, и только. Очи их закрылись на души человеческие.
Между тем я не могу сказать, чтобы мне было чуждо понимание духовен-
ства, даже и иноческого: понимание в особенности быта, а что касается строя
души и сердца совершенного иночества, - то именно последние годы я де-
лаю все усилия вникнуть, постичь его, хотя это невероятно трудно для ти-
пичного «брачника». Но, кажется, кое-что начинаю разбирать, не отрицаю -
светозарное, но уже слишком странное и непостижимое для обыкновенного
человека.
Духовенство же современное, в большинстве его, даже и иночества в
вершинах его не понимает. И вообще оно темно и мрачно - в собственных
путях. Все небесное оставлено. Все - только земные заботы. Как устроить-
ся. Как поделить власть. Как бы других забрать себе во власть. Право, это не
интересно! Какие у кого доходы. И это не интересно! Ну, и «вечерний звон»,
и «облачения»... О чем тут говорить? Мне? Я - образованный человек. Я
думаю, образованные люди вообще не поедут на этот собор, уж извините за
нескромную откровенность. Просто не о чем говорить за совершенною ут-
ратою в духовенстве идеалистического содержания, умственной интересно-
сти, как и сердечного восторга, умиления, ну, «пророчества», что ли? Обра-
тите внимание: вот уже 20-30 лет, с кончиною епископа Порфирия успен-
196
ского, Никанора одесского и Феофана Затворника тамбовского, решительно
исчез, так сказать, метафизически-прекрасный элемент в церкви, метафизи-
чески-интересный, и остался быт и быт, нравы и нравы. Погас какой-то
рентгеновский луч и остались одни обыкновенные лучи. «Икса»-то нет, «не-
изреченного»: и посмотрите, любуются ли на духовенство, бранят ли его,
одно и другое относится только к образу жизни, милому-старозаветному или
неприятно новому, либеральному. Словом, есть «вечерний звон» или он про-
падает, - вот и все. Все свелось к вопросам некоей духовной полиции, опеке
нравов и устранению безобразия: дальше этого не идет. Дальше просто нет
вопросов. Личная святая жизнь, подвиг милосердия - вот свет, и только он
один; или - пьянство и мздоимничество. Но я не попечитель и не полицей-
ский, и мне просто это не интересно. То есть с церковной точки зрения, кото-
рая у меня есть, не интересно. Как русский человек, как гражданин, конеч-
но, я радуюсь лучшим нравам и скорблю о худых. Но это - гражданский
интерес, интерес «Российской державы», чтобы все части в ней и все сосло-
вия были упорядочены и хорошо работали. Но у меня есть еще специфи-
чески церковный интерес, как сказать о «душе церкви», о «смысле» в ней:
но, по литературе и сотням полемик судя, - самых вопросов этих теперь не
имеется. Очи духовенства точно закрылись не только на чужие души, но и
на свою собственную душу.
Быт и быт... «Вечерний звон...» «Священные седины истории», кото-
рые как были, так пусть и будут. Разве я против этого спорю? И я люблю
старые священные дубравы, и даже готов волхвовать в них, не только что
собирать ягоды и грибы, - говоря аллегорически. И не пошевелил бы я ни
одной митры на голове и не взял бы из рук ни одного посоха.
Но одно - поэзия дубравы, другое - наука ботаники. «Наука ботани-
ки» меня, например, научает, что вся эта дубрава не на месте выросла. Что
же я с этим сделаю, когда это мое убеждение? Из леса грибы есть стану,
ягоды - тоже: но с некоторой мыслью, что все это «браконьерство». При-
веду пример.
Я вот взял на лето, чтобы вторично почитать, «Строматы» - творение
учителя церкви Климента Александрийского (Ярославль, 1892 г.), и только
открыл, поразился: будто мне это ангел указал место книги для вразумле-
ния. Вот оно, в заголовке и в первых словах текста:
«О том, что доказывание, будто брак и рождение детей суть зло, равно-
значительно с поношением всего творения Божия и домостроительства
евангельского» (заголовок отдела книги). «Вы утверждаете, что рождение
есть зло. Будьте же последовательны. Утверждайте затем, что и Господь,
родившись, прошел через непотребство зла; что и Дева, Его родивши, про-
шла через ту же юдоль зла. Увы, какой потоп зла! Но, посягая на рождение,
эти порицатели его возмущаются против воли Божией и забрасывают зло-
словием всю тайну творения»...
Взволнованный, я закрыл книгу: это то самое и то единственное, что я
доказываю и дальше чего не иду в книгах «В мире неясного и нерешенно-
197
го» и «Семейный вопрос в России», которые и побудили одного епископа
назвать меня «хуже каторжника», а другого испугаться, как бы я не при-
шел на их собор. Какой собор? Климент Александрийский, наставник Ори-
гена, жил в ту ясную, еще не замутненную спорами, пору церкви, когда
Евангелие вот-вот недавно родилось в мир. И вот как обширно он отрица-
ет порицающих рождение. Монашество как быт, монастырь как ландшафт
народной жизни я люблю: но ведь вне ландшафта и быта есть мысль, тен-
денция, упор, доктрина. Какая же она в монашестве, манящем людей к
безбрачию? Да это та самая доктрина - порицание рождения и тайны тво-
рения, - какую когда-то высказали еретики Маркиан и Валентин, были
опровергнуты Климентом Александрийским и внешне отвергнуты церко-
вью: но внутренно, молча, анонимно все последующее ее развитие сли-
лось, отожествилось с этою доктриною Маркиана и Валентина: тварь по-
хулена, рождение порицаемо. Ведь на почве этой доктрины, что «рожде-
ние худо, грешно», уже сотни тысяч новорожденных детей у христиан по-
шли в могилу. Так что это не только ересь как заблуждение мысли, но ересь
кровавая, осуществившаяся в делах ересь. Тут все подробности сходятся.
Вот-вот только что состоялось распоряжение епархиальной петербург-
ской власти не принимать впредь в духовную академию священников жена-
тых, под тем предлогом, что забота о семьях отвлекает их от учебных
занятий. Будто холостые студенты академии так уж изнывают, не отрыва-
ясь, над книгами и лекциями. Притворный аргумент: тут мотив, связан-
ный вообще с победным движением сейчас монашества; женатое духовен-
ство вытесняется из академии, устраняется от высшего образования, ибо
женатость в стенах духовной академии - грешный и неприличный факт. На
ученые диспуты в той же академии запрещен вход женщинам. Все - одно
к одному; все холмики, пригорочки, завершающиеся вершиною - Монбла-
ном: детоубийством. «Не надо женщины», «не надо ребенка», «не надо
жены»: где-нибудь когда-нибудь, этот напор течения не может не дойти до
того уровня, где он скажется внушением матери: «убей рожденное дитя»,
или созданием для нее такой внешней обстановки, такой моральной ат-
мосферы, что она просто не сможет не убить ребенка, рожденного без «очи-
щающих от греха» обстоятельств. Иночество, прекрасное в быту и пре-
красное лицом, «святое» по лику и жизни, тем не менее содержит ужас-
ную мысль, вызвавшую против себя Климента Александрийского: и я, вер-
ный и поздний ученик Климента Александрийского, не могу не
воскликнуть: «Ересь, ересь!»
Вот и все. Пусть подумают об этом на съезде иноков, могут посове-
щаться об этом и на предстоящем соборе. Ни на тот, ни на другой я не
пойду.
Для меня то, что говорит Климент Александрийский, - дважды два че-
тыре. А для епископов Никона, Антония, Феофана? О чем же нам рассуж-
дать? Я для них «каторжник», они же для меня люди кроткого, но безумного
заблуждения.
198
из семейных нравов. ..
История, о которой мы говорим, уже сделалась предметом пересудов в печа-
ти. Подробности ее, в обстановке письменных доказательств, мне сообщила
потерпевшая, как и передали о ней третьи лица, просившие принять здесь
участие. Случай так полон принципиальных вопросов, что посвящающий
свои силы рассмотрению семейной неурядицы в России не может обойти
его молчанием или невниманием.
Сидя за завтраком, генерал-майор Я. П. Петров аппетитно выговари-
вал:
- Вот покушаю, встану и начну ей мозги чистить...
Это относилось к испуганной жене, которая жалась в угол, зная, что при-
шел час ее. Иногда это стереотипное выражение разнообразилось в другие:
«Буду ей башку молоть», «буду мозги ей ковырять». На генерала это как
«накатывало». На вопрос мой несчастной женщине, пришедшей с печаль-
ной повестью, отчего она не ушла от такого мужа гораздо раньше, она наи-
вно ответила:
- Это не постоянно было. Пройдет месяц, полтора, ничего нет. Я и на-
деялась...
- Столько лет?
Она молчала. В ней нельзя было узнать бывшую институтку Смольного
института, прошедшую и педагогические классы при нем с наградою. По-
жилая, почти старая, убого одетая, она и в лице являла что-то притерпевше-
еся до тупости, косное, несопротивляющееся. «Сопротивление», попытка
обратиться к суду и искать защиты в печати вызвала у нее то, что, произде-
вавшись над нею много лет, бравый генерал прогнал ее с тремя детьми от
себя, сказав: «Теперь мне до вас нет дела, живите, как знаете, семья мне
надоела, хочу пожить для себя, пожить один». В феврале 1906 г. он выдал ей
с тремя дочерьми, тогда 9, 7 лет и четырех месяцев, отдельный бессрочный
вид на жительство, записав в него и детей, т. е. отстранив их от себя. Но
когда выгнанная в нищету и голод женщина обратилась в суд с ходатайством
о пособии от него на пропитание детей, он скрыл свою квартиру, так что
повестку суда некому было вручить, и затем выкрал одну из дочерей от ма-
тери и сделал попытку выкрасть другую. Генерал получал пенсии и эмери-
туры 265 руб. в месяц, из которых по молчаливому расчету закона часть
предназначается на жену и детей. О выдаче ей этой части она и хлопочет в
петербургском окружном суде, и это ходатайство, без сомнения, будет удов-
летворено.
- Может быть, он имеет другую семью? - предположил я невольно.
- Этого нет. Но просто мы ему надоели, а к деньгам он скуп. Я взяла
паспорт на отдельное жительство, так как что же это за жизнь была, и пото-
му, что он этого хотел. Он и раньше уже пытался просто оставить нас в
каком-нибудь далеком провинциальном городе, попросту забыть нас. Но я
узнавала адрес, собирала, занимала сколько-нибудь денег и приезжала к нему
199
с детьми. Все кончилось «раздельным жительством»; но он деньги, скоп-
ленные средства и пенсию, взял себе, а детей отдал мне. Между тем они в
возрасте, когда началось учение.
- Где же и как вы живете?
- По углам, в комнате у знакомых, в надежде, что заплачу из выданного
по суду.
Она сказала, что одна из дочерей учится в частной гимназии г-жи Баст-
ман на Петербургской стороне. Сюда со скандалом и шумом в урочные часы
ворвался генерал, придя на урок в класс, требуя выдачи дочери. Дочь не
была ему выдана, так как не им, а матерью была приведена в учебное заве-
дение. О шуме и беспорядке, им произведенном, было сообщено начальни-
цей гимназии градоначальнику.
- Неужели же некому было вступиться, когда он приступал к побоям? И
что за отвратительные выражения: «Мозги ковырять, башку молоть»?
- Это любимое его выражение, когда он бил и солдат. Он всегда в голову
бил, должно быть, чтобы не сохранилось следов. И меня всегда по голове.
- И никого не было? Вы кричали?
- Не кричала, пока было выносимо... А когда кричала, никто не мог
войти, потому что пасынок держал дверь!
- Какой пасынок?
- От первой его жены сын, а мой пасынок...
- Да что Петербург, - Туркестан, что ли? Как смел молодой и интелли-
гентный человек принимать участие в побоях своей второй матери? А если
он поступал так, неужели вы не могли пожаловаться его непосредственному
начальнику?
- Я приносила письменную жалобу его начальнику генералу N, но, по
всему вероятию, она не была передана ему, потому что никакого ответа не
последовало. Или он на нее не обратил внимания.
Вот бы где следовало проявить себя суду чести... Как это поставлено?
Неужели подобным образом избиваемая и истязуемая жена не может обра-
титься к корпоративному обществу товарищей мужа и получить в них ры-
царскую защиту? Каким образом нельзя, без риска ответственностью, без
риска службою и общественным положением, ударить по щеке официанта в
трактире, певичку в загородном саду, а можно сколько угодно колотить «по
башке» генеральшу и бывшую институтку?
Неужели только потому, что это муж?
Неужели закон не может сказать, что это и мужу не дозволено?
Неужели муж уже не гражданин, без гражданских обязанностей, а жена -
не женщина, всюду в мире вызывающая идею покровительства и защиты?
Что-то непонятное, совершенно непонятное, и по отсутствию опреде-
ленного и близкого закона, и по отсутствию близкого, «подручного» суда,
«своего суда», хотелось бы сказать. За грязную, буйную сцену на улице ви-
новный отвечает перед полициею и у мирового, но за систематическое ис-
тязание дома?..
200
Если это в семье, - никто не отвечает по закону. В том и ужас, что
такое беззаконие совершается «по закону». Какие-то ницшеанские зако-
ны, с правилами: «толкни ближнего к несчастию», «падающему дай
упасть». Сумбур!
Неужели об этом нельзя было бы подумать коллективному уму русских
юристов? Неужели тут не могли бы помочь священники, умом, делом, сове-
том и указанием на исповеди, ходатайством перед гражданским судом? Не-
ужели из членов окружного суда нельзя было бы выделить одного со специ-
альной функцией принимать и рассматривать жалобы по семейным делам?
Но что самое главное: действительно все это происходит не в Туркеста-
не, а как бы в Туркестане. И это в «благородной» среде! Тяжело, господа...
НАШИ ГРУСТЯЩИЕ ПУБЛИЦИСТЫ
В доброе старое время нашей журналистики был особенный прием выска-
зывания гражданского неудовольствия: именно, делалось скорбное лицо, гру-
стные глаза, и в несносном, ноющем тоне передавались ничтожные события
глухой провинциальной жизни, никакого в сущности значения не имеющие,
с мелкими несправедливостями полиции, неудачными распоряжениями ад-
министрации и т. п. Пересказом были наполнены целые страницы «внут-
реннего обозрения» толстого журнала, и затем обозреватель ставил точку и
клал перо. Читатель журнала, не догадываясь сказать: «Как этот журналист
скучно написал свое обозрение», говорит совершенно другое: «Как скучно
в моем отечестве, как ничтожна моя страна, - если в ней все происходят
такие глупости и мелочи, и притом скучные и пошлые мелочи». Месяц за
месяцем проходил, год за годом тянулся, - и привычный читатель толстого
журнала вместо того, чтобы переменить подписку на бездарный журнал,
приходил к непоколебимому убеждению, что нет более бездарной страны,
чем Россия, где все решительно отвратительно и, прежде всего, везде и все-
гда невыносимо скучно. Маленькие капельки образуют море: небольшое
число журналистов, которые, в сущности, представляли собою только без-
дарных писателей брезгливого типа, мало-помалу составили и укрепили то
«общественное мнение» в России, какое нашло себе яркое выражение в пер-
вой и второй Г. Думе... Известно, что одна из них наименовала себя Думою
«народного негодования», а другая - Думою «народного мщения», хотя сло-
во «народное» в обоих случаях было употреблено всуе. Польские депутаты
с радостью заявляли своим избирателям, что «национализм и национальное
чувство совершенно отсутствуют в Г. Думе» и что с этой стороны окраин-
ные домогательства имеют полное себе обеспечение. Такова была непри-
глядная политическая обстановка, при которой открылся русский парламент
и начала действовать русская конституция.
Государственная деятельность «бойкотировалась» либеральною печа-
тью, говоря языком освободительного движения; «замалчивалась», говоря
201
языком старой публицистики. О ней давались краткие отметки в ирони-
ческом тоне, не более. Нет собственно литературы, до такого ужаса него-
сударственной, до такой степени неполитической, негражданской, как рус-
ская художественная литература. Это сплошная обывательщина, быт и пси-
хология людей не выше коллежского секретаря. Мы не берем при этом
исключительных величин, как Толстой. Все это сообщало ей большую теп-
лоту и задушевность. Но дух литературы как художественного явления
перешел и в общую печать, перешел в публицистику. Чем же она стала?
Нескончаемою сплетнею о правительстве, и только. То, что уместно в мел-
кой повести, рассказывающей дрязги захолустного городка, неуместным
образом распространилось на тон и даже содержание печати, трактующей
о политике великой империи. Остроты Гоголя и Грибоедова пестрили стра-
ницы политических обозрений, и всему обществу было внушено, что Рос-
сия-империя так-таки и сделана людьми такого ума и таких моральных
качеств, как Скалозуб, Молчалин, Чичиков, Манилов и Собакевич. Непо-
нятно, кто победил Наполеона, с кем Германия искала дружбы, на кого
Англия была в непрестанном гневе. Читая русскую литературу, никак нельзя
представить себе, как произошла Русская империя, а с другой стороны,
читая русскую политическую печать, можно думать, что эта печать вырос-
ла в Чухломе, ибо имеет совершенно чухломский тон, и никак нельзя по-
думать, что ее публицисты в общем вовсе не так даже глупы, как старают-
ся притворяться печатно.
«Все упрочилось, - иронизирует «Речь» по поводу роспуска на летние
каникулы Г. Думы и Г. Совета. - И, благодаря наставшему затишью, громче
стал слышен голос настоящей, подлинной жизни, который звучит печально
и однообразно зловеще. Все то же, все то же. Ни одного радостного, ободря-
ющего известия, нет ниоткуда. По-прежнему, смертные казни изо дня в день
повторяются, несмотря ни на что, и с каждым днем растет ужасающее рав-
нодушие к сухим и коротким сообщениям о числе приговоренных и казнен-
ных. Рубрика самоубийств стала такой же трафаретной, как метеорологи-
ческий бюллетень. Самые разнообразные эпидемии свирепствуют по всей
стране»... и т. д., и т. д. Да, гг. русско-еврейские публицисты, преступные
типы все те же, убийств и воровства столько же, суд действует по-прежнему;
и опять придется растлителя 6-летней девочки, задавившего ее потом ее же
поясом в лесу, заключить в тюрьму и, может быть, казнить. Об этом сообща-
ется в том же самом нумере «Речи», где публицист пишет свои ламентации
о смертной казни, но сообщается мелким шрифтом. «Ужасающее равноду-
шие к смертным казням», - пишет публицист: но в каком равнодушии к по-
добным злодеяниям, как это изнасилование и удушение ребенка, нужно за-
подозрить самого публициста, который не содрогнулся при таком сообще-
нии и продолжает жевать свою жеваную публистическую резинку о суде
над злодеями!
Статика жизни в стране протяжения России не может не быть все та же
из года в год: об этом уже учил Кегле и рассуждал Бокль. «Все то же, все то
202
же!» - как предсказывал Кегле. И злодеяния, в самых ужасных формах, ста-
нут повторяться в той же цифре, хотя бы премьер-министром был сам Ми-
люков; и к наказаниям придется прибегать самым суровым, от чего не укло-
нились бы и кадеты, стань они во главе правительства. Но журналист изла-
гает все таким тоном, будто все несчастия, начиная с тифа и холеры, проис-
ходят в России от закона 3 июня и нынешнего правительства.
Смертные казни ужасны. Тягостны мелочи и дрязги нашей внутренней
жизни. Но неужели, кроме этого, в ней ничего нет?
Резину, достаточно прожеванную, наконец выплевывают: когда же так
поступят публицисты «Речи»?..
В МИРЕ ЛЮБВИ, ЗАСТЕНЧИВОСТИ
И СТРАХА
I
История русской семьи иллюстрируется как иногда трогательными, так и
возмутительными фактами.
Но в то время как трогательность всегда вытекает из счастливого сложе-
ния семьи, удачного и иногда непредвиденно удачного, - возмутительность
безусловно всегда вытекает из соотношения неудачи в семье с законом со-
вершенно мертвым, недвижным и высокомерным. Счастье, благородство,
деликатность - везде из человека; грубость, жестокость - везде из закона.
По крайней мере в этой области. Закон сам по себе не может породить ни
нежности, ни ласки, ни верности; закону, по-видимому, оставалось бы по-
ставить людей в соотношение, так сказать, наибольшей ласкаемости, верно-
сти, нежности - и отойти; нужно бы сдвинуть гладкими сторонами людей;
поставить ягодку на солнышко, а солнышку дать засветить на ягодку, и толь-
ко. «Куда, мало!» Закон захотел сотворить сам и ягодку, и солнце. Закон -
самодовлеет. «Они должны быть счастливы», - говорит закон, и топает но-
гами, если этого нет; «должны быть верны друг другу», хотя они явно и
давно не верны, наконец, открыто не верны. Закон захотел, так сказать, со-
творить мужа и жену, а не взять их сотворенными уже, сотворенными от
века и от Бога, чтобы только сберечь их, сохранить их, не куражась, не лома-
ясь, скромно и деликатно. Но он связывает овцу с волком, корову с медве-
дем и воображает, что выйдет «гармония» из этой связи, выйдет потому, что
«он так хочет», «он так приказывает...».
Вообразите королевство, в котором королю было бы позволено только
один раз назначить себе министров, выглядев их осторожно и не ошиба-
ясь, - и затем уж до смерти не сменять их. Король, очень может быть, всю
жизнь в страхе не назначал бы себе министров, предпочитая уж лучше
править одному, чем с такими «обязательно вечными министрами», не-
сменяемыми даже и в том случае, если бы они оказались лихоимцами, рас-
203
точителями, лентяями, глупцами и заговорщиками против него же. Этот
отказ иметь несменяемых министров весьма похож на наш холостой быт,
уклоняющийся от «вечных жен». Но в случае, если бы король их назначил,
то министры, уверенные в своей «несменяемости», в большинстве и вооб-
ще наверное стали бы лихоимствовать, мотать, притеснять народ, нагло
обращаться с самим королем, - и в одно, в два царствования довели бы
страну до гибели. Не такова ли и картина нравов семьи, как кричат, «разла-
гающейся»: она насколько «разлагается», только и «разлагается» от этих
вечных и через то ненаказуемых мужей и жен. И только оттого, что семья
в натуре своей божественнее, крепче и жизненнее всякого государства, -
она все еще есть и даже местами прекрасна и при этих несносных услови-
ях, при всем чудовищном своем положении. Но ее анархия, ее грубость,
все совершающиеся в ней измены, обманы, все в ней жестокости, бесчело-
вечности, - ни малейше не вытекают из человека, из этого Ивана или из
этой Марьи, а вытекают из связанности Ивана с Марьей, из теории «не-
сменяемых министров», «вечного выбора», - аналогию которого в госу-
дарстве мы привели, и никто не оспорит, что это есть губительная и со-
вершенно бессмысленная теория. Оговоримся: существо любви всегда в
идее, в грезе требует вечности; это - натура и закон любви. Но дико грезу
и мечту, связывающую двух, класть в основу народного закона, класть ее
руками старцев и опытных людей: ведь они-то знают, что это именно есть
греза, лишь очень редко уравнивающаяся с действительностью. Но закон
не то очень глупо, не то очень хитро подслушал мечту Ромео и Юлии, под-
слушал их клятвы, и на нем построил брак купца Семипалова с сиротою-
девушкою, построил брак обманщика Кречинского с его невольною неве-
стой. Он захлестнул мертвой петлей голубой луч первой любви; из обеща-
ний влюбленных сделал какой-то вексель: и им давит их потом всю жизнь,
доводя до отчаяния и могилы. Опытный, старый, дальновидный закон дол-
жен бы сказать: «Клянитесь, голубки, вечностью. Зачем же вам и расхо-
диться, когда вы любите друг друга, милы друг другу. Но ведь если вы так
верите, что любовь ваша вечна, то для чего бы вам искать скрепы, как те-
перь? Но вы ее ищете, и тем высказываете темный страх перед будущим.
Основательный страх, как говорит мой опыт. Не закрепляйте же все мерт-
во, не заставляйте будущую жизнь глухою стеною. Дайте мне, опытному,
старому закону, все обдумать, гарантировать одного и другого, наконец,
гарантировать детей ваших на случай возможных будущих коллизий, на
случай ваших слабостей, наконец, которые пока в зародыше, но потом мо-
гут развиться до чудовищности. Брак не должен быть опасным ни для кого,
- уже для того не должен, чтобы не отпугнуть от него молодых людей,
молодежь, юношей. Пусть он содержит только счастье, только благоуст-
ройство: но подробными и эластическими условиями я обломлю все, или
насколько возможно, колючие шипы его; обломлю под угрозой расторже-
ния все в нем злоупотребления и пороки».
204
Все это так ясно. И немудрящие люди своим простым умом давно
догадались бы обо всем этом, давно раскопали бы корень семейных язв
и исцелили бы этот корень. К несчастью, область семьи слишком «свя-
щенна», и, естественно, попала в священные руки. Как обрадовались
люди, что священники взяли в свои руки любовь, «благословили» ее:
взяли самое интимное, дорогое и милое человеку, женщине, будущей
матери, взяли ее ребенка как бы в колыбель себе. Но есть «благослове-
ние» и «благословение»... И цензор, выпуская книгу, «благословлял» ее
в путь; и ректора старой бурсы Помяловского имели в «благопопече-
нии» своем бурсаков-мальчиков. В церкви очень рано получило верх мо-
нашество, красивое, эстетическое: и семья попала в «благословение»
именно монашеству, в котором каждый член за себя давал обет никогда
не вступать в брак. Белое же духовенство, венчающее браки, не имело
права ни одного слова сказать о самом законе брака. «Благословение»
стало переделываться во что-то далекое от благословения. Когда торже-
ствовало монашество, то ни разу и никто не спросил себя: «Как же это
свяжется с положением семьи, с будущею судьбою ее, с законом об ней».
Все любовались на красоту монастырей, удивлялись подвигам поста и
молитвы там: но ведь какое же соотношение это имело с тем явным бе-
зобразием, какое должно было наступить в семье, управляемой столь
издали, управляемой из явно враждебного стана людей, лично отрек-
шихся от семьи, не любящих самого ее духа и не понимающих ничего в
ее смысле. Началось историческое удавливанье семьи, - иначе и нельзя
назвать: притом людьми совершенно благородными, но только типично
антибрачниками. Началось как бы отношение Бенкендорфа к Пушкину.
Пушкин «под покровительством Бенкендорфа» есть параллель «семье
под покровительством монашества». Красивы обители, сияют кресты
на них: а в деревнях близ обителей лентяи и пьяницы мужья, завсегда-
таи трактиров, избивают жен своих, кидают на произвол судьбы детей.
Епископ Никон записывает красивые сцены около Троицкого монасты-
ря, собирает их в книжку: «Чем жива вера». Ну, так чем же она жива?
Ведь народ живет не сценами около монастыря, а деревенскою жиз-
нью: а вот о деревенской-то жизни ни епископу Никону, да и ни одно-
му вообще епископу и на ум не пришло кого-нибудь спросить. Никто
не поспрашивал: как вы живете в семье? Ладят ли муж с женою? Вос-
питываются ли дети? Как добывается трудовой хлеб? Да о семье и
страшно спросить: ведь это - угол их ответственности, ответственность
тут страшная, а именно тут-то ответа они и не могут, и не хотят дать.
Как Бенкендорф о Пушкине. «Ну, как-нибудь!» - «Ну, стерпится, слю-
бится!» - «Ну, все в грехе, что же делать. Господь указал страдать!» И,
главное, в мотиве: «Нам это не интересно (сами - безбрачники) и со-
вершенно некогда».
205
II
Неясность суда и закона
Я было размяк и уже собрался ехать в Кашин, но неожиданно получил пись-
мо, которое и внушило мне все высказанные раньше мысли, а вместе и по-
будило никуда не поспешать. Привожу из него существенное:
«Не зная вашего имени и отчества, позволяю себе просить вашего со-
вета и помощи, так как вы много писали о русской семье и русском разводе.
Я прочел том X часть 1 свода законов, но относительно причин расторже-
ния брака нашел всего несколько сухих статей. И все эти правила написаны
не любящей христианской душой, а мертвыми законниками. Да вы это зна-
ете лучше меня и не раз обращали на это внимание гг. духовных иерархов в
«Новом Времени».
Я должен обратить внимание моего корреспондента и решительно всех
русских людей на то, что в этом деле том X ни при чем: государство страш-
но робко в вопросе о разводе, оно тут ничего не может сделать, не решается
сделать, и в том X перепечатало только правила «Кормчей книги», переве-
денной в незапамятные времена с греческого, и которые образуют брако-
разводную часть «Устава духовных консисторий». Мой корреспондент про-
должает:
«В данном случае томится (буквально!) - вот уже пять лет в браке жен-
щина, которую продали мужу, и даже при посредстве комиссионера-еврея.
Но этого мало: нелюбимый муж оказался с первого дня брака неспособным
к брачному сожитию, и жена до сих пор девица. Кроме этой причины есть и
другие, делающие жизнь бедной женщины невозможною. По статье 45 тома
X (часть 1) свода законов, неспособность к брачной жизни в течение более
трех лет есть причина к разводу. Но как к нему приступить? Как заставить
освидетельствовать медицински мужа? Как получить такое медицинское сви-
детельство, которое должно установить, что неспособность мужа была при-
родною? До сих пор жена его не поднимала этого вопроса, потому что не
видела ни в ком защиты или помощи. Молчала и страдала. Думала раньше
или позже уйти в монастырь».
Остановлюсь на минуту. Нужно представить, живо представить себе
всю замотанность и измочиленность человека в таком положении, пред-
ставить женщину и ее стыдливость, при которой она все вынесет и не пой-
дет жаловаться никому на столь интимную сторону жизни. Скажет мате-
ри, если она есть, да и ей не скоро скажет. Ожидалось бы, что тут-то свя-
щенник-духовник, вообще священник, как советник прихожан своих, и
должен бы выступить с защитою, с инициативою развода, со словом, вла-
стью и требованием. Но церковь не дала ему этой власти, не указала этого
подвига на миру: она предложила формальный консисторский процесс, тот
206
открытый, бесстыдный и взяточнический процесс, в который не то что за-
мученной женщине, но, кажется, и волку страшно войти. Проходят через
него только лисицы. Об этом и говорит письмо в дальнейших строках, и
если оно не право с формально-юридической стороны, то, очевидно, оно
слишком право с бытовой стороны, ибо, как всем известно, бракоразвод-
ные процессы и по этой причине, и по другим причинам тянутся и тяну-
лись годы, ничем все-таки не кончаясь. Весь дух «Устава духовных конси-
сторий», все дававшиеся им инструкции клонились к тому, чтобы до пос-
ледней возможности не давать развода. И ради этого придуманы были та-
кие способы, например, «розыска безвестно пропавшего супруга», что они
решительно ни к чему не могли привести, не приводили ни к чему годы,
иногда всю жизнь.
Потом «три года проверки неспособности к браку...». Кто это вымери-
вал и отмеривал, какой купец, какой торговец? Кому, себе или другим? И по
каким мотивам или, точнее, по какому праву, по какому своему правосозна-
нию он так мерил это: 1) молодым девушкам, очевидно вышедшим нисколь-
ко не для девичества, 2) их отцам и матерям, которые выдали дочь замуж и
вот видят, что, в сущности, она нисколько не вышла замуж, а находится Бог
знает в каком положении, но очевидно - больном, уродливом, противоесте-
ственном, которое, очевидно, должно потрясающе подействовать на нервную
систему и повести к психозу или душевному заболеванию. Но этим родите-
лям-старикам и самой невольной demi-vierge* приходится сказать - церков-
но-канонической demi-vierge - указано, черт знает почему и кем, ровно три
года, ни неделей больше, ни неделей меньше, пребывать в сем неизъясни-
мом положении. Ибо ведь муженек-то ее все-таки для чего-то женился, для
каких-то сладостей и утех, и жена не может этому воспротивиться: как это
представляют себе юристы, законодатели, судьи и властители всего дела
архиереи? А представить нужно, а представить обязательно, раз «постано-
вили и узаконили». Тут прямо узнается авторская рука: три года безбрачия в
браке явно и могли установить только никогда не вступавшие в брак и для
себя в нем не нуждающиеся монахи. Это как бы травоядное сказало плото-
ядному, лошадь кошке: «Я большая и питаюсь всю жизнь травой: отчего
тебе хоть год не пожить на траве же?» Кошка умерла бы от такого рецепта с
голода. А люди от церковных «благоувещаний» в браке должны сходить с
ума, и, конечно, многие сходят.
«Женщина, о которой я пишу вам, - кончает мой корреспондент, - кри-
стальной души и идеальной нравственности. Несмотря на явную закон-
ную причину к разводу, консистория, конечно, будет тянуть ради нажи-
вы. Но если денег жена не имеет? Т. е. больших денег? Да если бы и
нашлось несколько денег, то за что же их отдавать, последние, может быть,
сбережения, гг. консисторским чиновникам? Неужели развод учреждался
для... доходов консисторий? Вы человек отзывчивый: неужели, скажем,
* полудеве (фр.).
207
пропадать этой несчастной? Научите, с чего начать, к кому обратиться?
Теперь, кажется, новый закон о разводе, облегченный? Или он еще в про-
екте? Как этот закон называется? Где его можно достать, прочесть? За-
тем, предварительно до развода, который, не знаю как теперь, а прежде
тянулся много лет, жене хотелось бы служить и жить отдельно от мужа:
как от мужа вытребовать отдельный вид на жительство и, в случае его
отказа, можно ли обратиться в окружной суд? Простите за это письмо; но
если вы действительно болите за мучеников в браке, не откажитесь по-
мочь советом».
Но ведь, очевидно, помочь и помогать всем должна какая-то власть,
столько же для всех очевидная, ясная, с вывескою над дверьми, столько же
для всех доступная и близкая, как мировой суд? Каким образом о пропаже
трехсот рублей, об обиде на улице, о притеснении хозяина лавки, об обмане
доверия в мелочном торговом деле суд находится у всех перед глазами и
сейчас на месте; а о таком деле, которое годы вытягивает жилы из человека,
обыватели даже не знают, куда обратиться, - и обращаются в газету, к незна-
комому публицисту? Нет ясного и одного адреса: кроме консистории дей-
ствительно решает здесь и окружной суд, и административная власть, в бы-
лое по крайней мере - жандармское управление, которое в данной области
действительно «утерло много слез», по афоризму императора Николая I, -
наконец, комиссия прошений, на Высочайшее Имя приносимых. Откуда все
эти власти? Прокрались сюда тайком или насильно, но нерешительно, отто-
го, что первоначальная и главная здесь власть веками приучила население к
ужасной мысли, что развестись невозможно иначе, как, потеряв на процеду-
ру развода все состояние или последние сбережения, и что без денег и взят-
ки здесь и начать ничего нельзя. На вопрос, почему же, почему? - следовал
ответ: «Потому что это особенно священная область, потому что это церков-
ное таинство брака, о котором судить и вершить никому не дано, кроме...
берущих за сие мзду».
«Наша привилегия», «наш доход»...
Здесь та же привилегия, только несравненно более чудовищная, стра-
дальческая, остро колющая население, терзающая его, как в вопросе о празд-
никах. «Мы установили праздник», «праздник - это наше», и «кроме нас,
никто не смеет отменить». «Велим не учиться - и не должны учиться», «не
велим работать - и нельзя работать».
И пожалеешь о семье: да уж зачем ей столько льстивых слов сказано,
что и «святыня-то» она, и «деточки тут воспитываются», и супруги «доб-
родетельствуют», и все Богом учреждено и создано, - чтобы в заключение
договорить «по всем сим основаниям единственно я могу с семьи кожу
драть, и к этой дорогой шкуре убитого медведя никто не смеет дотраги-
ваться».
208
Ill
Узаконенное преступление
Хорошо говорят на разных съездах наши духовные ораторы, а вторят им
теплые слезы, вековые слезы бесчисленных вдов и сирот... Я называю этим
полным именем тех полувдов и полусирот, которые гораздо несчастнее на-
стоящих сирот и вдов, в ясном, отчетливом положении, от самой отчетливо-
сти менее несчастных. Но эти полурешенные, недоделанные вдовы бросив-
ших их мужей, мужей сумасшедших, мужей развратных и заразивших их
дурною болезнью, мужей неспособных, - о всех, которых церковь автори-
тетно настаивает, что им нельзя дать развода, - что это за положение, что за
состояние? Последнюю рубрику я перечисляю, так как, по сообщениям га-
зет этой весны, митрополит Владимир торжественно отверг всякий иной
повод к разводу, кроме единственного, указанного в Евангелии: прелюбоде-
яния. Как будто Евангелие, в краткой букве своей, не дополнялось все века
церковью? Как будто вселенские и множество поместных соборов собира-
лись не для того именно, чтобы выработать правила для церкви и церковно-
го народа, какие нужны и которых в тексте Евангелия нет. Но семья, «наша
святыня», естественно, однако, не доброжелательствуемая монашеством,
находится в столь несчастном положении, что ей, в отличие от всех других
частей церковного организма, отказано во всяком прогрессе. Ни сумасше-
ствие, ни болезнь, ни истязания, ни самое покушение на жизнь одного суп-
руга не могут его вырвать из домашней, ежедневной, явно могущей перейти
в невыразимое тиранство - власти другого супруга.
Волк перехватил горло овце... Блеет овца, ищет мать, зовет ее. Кто мать
овцы - верующей православной, христиански повенчанной священником в
церкви? Естественно - церковь. Но как же на вопль она отзывается?
- Волк не закусает до смерти. Покусает только несколько, попьет не-
много крови... Ну, это надо потерпеть, как терпел на Голгофе и Христос
наш. Роптать грех, надо молиться. Вот если он убьет ее, волк доест овцу; мы
скажем: «Таинство брака разрушено, и волк может брать другую овцу. Он
вдов и может вторично жениться».
А убитая? доеденная? «Воля Божия... При чем же вы тут?»
И ведь искренно не понимают, при чем «они» тут: сколько мне ни при-
водилось разговаривать, ни один священник, ни один архиерей не чувствует
себя нисколько виноватым в женоистязаниях, женоубийствах, женоненави-
дении, и обратно: в мужеубийствах и мужененавидении, - все это относится
к «нравам» и «личному» преступлению, а не относят этого, как к причине, к
общему положению дела, к правилам и закону или, точнее, отсутствию все-
го этого в сколько-нибудь сносном виде. Даже не видят той очевидности,
что ведь не всех же убивает или истязает данный человек, а только един-
ственную жену свою, не всем подсыпает мышьяку такая-то женщина, а только
своему мужу! Здесь, очевидно, индивидуальное зло данной семьи, данной
209
пары, данного соотношения двух людей. Зло - в соотношении их, а не в
натуре порочной и преступной в самой себе, которая равно сказывалась бы
в отношении всех, как разбойник всякого может убить, вор у всех ворует.
Ясно, что не с преступником мы здесь имеем дело, а с преступностью отно-
шения, связи, соединения. Но какое это соединение? Брак! И если он стал
преступен, то от этого худшего, тягчайшего преступления люди избавляют-
ся через новое, но другое тягостное преступление, - через безвестное скры-
тие, беглянство, истязания, наконец, даже через убийство и страх каторги.
До этого доводит последняя степень бытовой и нравственной измочаленно-
сти, изможженности.
Но кто же держит в этой «преступной связи»? Ответ ясен: митрополит
Владимир сказал его отрицанием всех поводов к расторжению, кроме
единственного, доказанного и засвидетельствованного очевидцами прелю-
бодеяния. Таков голос церкви, авторитет ее. Да и совершенно ясно, что ни-
какая светская власть не решилась бы, никогда у нее рука не поднялась бы
сказать и написать, запечатлеть в законах, что она разрешает одному челове-
ку истязать другого, мучить, тиранить невозбранно. По самому духу, по са-
мому смыслу это могла выговорить какая-то совершенно особенная власть,
со странным самочувствием в себе, с исключительным авторитетом, и вме-
сте власть интимного, сердечного характера, именно вот религиозно-нрав-
ственная. Какой министр скажет обывателю, гражданину: «Если плюнут тебе
в лицо, - оботрись и иди дальше»? Не смеет министр этого сказать, но на
духу священник не только скажет, но и не может ничего другого сказать, как
это: «Что же, действительно, оботрись, и постарайся не встречаться больше.
Но жаловаться, сопротивляться, а тем паче дать сдачи - нельзя, запрещаю,
грех». Только в торжественную минуту, в апогее власти зажегшая костры
инквизиции власть могла сказать эти, невыговариваемые, страшные слова:
«Человек может истязать человека, и тот, истязаемый, не должен жаловать-
ся, а молиться».
Подвожу этому итоги, о которых решительно надо подумать еп. Никону,
еп. Антонию волынскому, свящ. Альбову, обращавшему голос свой к интел-
лигенции в «Колоколе». Называю имена, потому что хочется, чтобы об этом
действительно подумали, а не пронесло мои слова «ветром»...
О НЕЗАПРЕЩЕННЫХ ИСТЯЗАНИЯХ
Всегда надо различать принцип какого-нибудь учреждения и человека, слу-
жащего принципу. Человек несет в себе бездну даров от рождения, и часто
ими обогащает учреждение и затушевывает его недостатки. Глядя на его
личное д&ю, защитники учреждения готовы воскликнуть: «Что же вы вини-
те учреждение, когда вот тот-то и тот-то поступал так-то и говорил этак».
Сейчас на это надо ответить: «Все ли или большинство ли их это говорили и
делали?» Как только получается отрицательный ответ, мы должны отнести
210
добрый поступок к личности, и все обвинения против учреждения, духа
класса или сословия, духа звания или сана остаются.
В 1902 году на заключение архиепископа самарского Гурия был пред-
ставлен консисторией «журнал», т. е. деловая бумага, о предании церковно-
му покаянию покушавшейся на самоубийство крестьянки пригорода М., по
фамилии Ч-ной. Владыко подписал на журнале: «Ч-на, невинная перед Бо-
гом и церковью в покушении на самоубийство из-за жестокого обращения с
нею мужа, заслуживает, как и другие подобные ей, сострадания: наказывать
нужно не их, а их мужей-варваров, которые по воображаемому ими какому-
то праву бьют и терзают своих жен, часто ни за что, ни про что, а просто по
сумасбродству, особенно в нетрезвом состоянии. И чего-чего не терпят от
таких негодяев-мужей их жены, в большинстве случаев, по общему отзыву,
добрые женщины, нравственные, богобоязненные. Так, например, священ-
ник Филимонов в своем отчете о состоянии прихода села Пролейки пишет,
что один молодой муж побил свою жену жестоко, причем зверски искусал
грудь ее, которая кормила грудного ребенка. На страстной седмице в поне-
дельник, пишет тот же священник, молодой парень верхом на лошади гонял
свою жену по улицам села и бил ее нагайкой, на ночь же бросил ее на дворе,
а сам лег спать в избе на печи. В августе, пишет тот же священник Филимо-
нов, еще третий мужик избил свою жену так сильно, что она вся в крови
явилась к этому священнику просить защиты. При таких и подобных ужас-
ных биениях и терзаниях жен мужьями, повторяющихся нередко изо дня в
день, без малейших послаблений, естественно, они доводятся всем этим до
отчаяния, до потери всякой надежды на лучшее будущее в жизни, и им, при
слабой их вере в загробную жизнь и при неясном сознании суда Божия, на
который они должны предстать после смерти, и особенно по злодемонскому
на тот раз влиянию, не представляется иного исхода из настоящего адского
их состояния, как насильственная смерть».
Голос этот прозвучал как глас вопиющего в пустыне. И село Пролейка
не есть единственное в России село, где доводят «адскою жизнью» до «мыс-
ли о самоубийстве» жен: но только один священник Филимонов обратил на
это внимание и донес архиерею. И примеру этого архиерея Гурия, обраще-
нию внимания на семейную жизнь, и архипастырскому поучению, сюда на-
правленному, не последовал также никакой другой архиерей. Почему? Да и
священников добрых, конечно, множество, и добрых архиереев много: но
мысль их не направлена сюда и даже отвлечена отсюда общим аскетичес-
ким, внесемейным духом воспитания и образования в семинарии и акаде-
мии, и этим же духом всей церкви со времен торжества монашества. Добро-
та прольется, но не в семью; мудрость будет сиять, но не над темным полем
семьи. Дух такой, строй такой. Из духа этого - закон, который до того черств,
что из двух лиц мужа, доведшего жестокостью жену до мысли о самоубий-
стве, и жены, покусившейся на самоубийство, подвергает наказанию, имен-
но эпитимье, вторую! Владыка Гурий, с властностью архиерея, очень в этом
случае идущей к делу, негодует: «Мужья-варвары по воображаемому ими
211
какому-то праву бьют и терзают своих жен». Между тем это не «вообража-
емое» и не «какое-то» право, а свое же каноническое, по которому очень
просто нельзя остановить бьющего мужа, никто не может ему воспрепят-
ствовать, всем он скажет: «Вашего совета и позволения я не спрашиваю, а
на ваше заступничество - плюю». Сейчас, кажется, это смягчено, и по пово-
ду битья, доходящего до «терзания», женам выдается вид на отдельное жи-
тельство. Но это всего года три-четыре, и у всех еще в памяти, как трудно
было путем между прочим всеобщих требований печати добиться этого в
законе, в сенатских разъяснениях, и как при этом охранители «святости бра-
ка» подняли со всех сторон вой и звон, что подобное ограничение прав мужа
подкапывает устои семьи, расшатывает крепость семьи! «Крепка семья по-
боями», - прямо страшно выговорить! «Право мужа колотить жену укреп-
ляет семью!» Просто чудовищно. И три года мы живем без этого, а восемь-
сот девяносто семь лет жили с этим! Да и теперь полный развод по причине
этих жестокостей так-таки и отвергнут: а так как «отдельный вид на жи-
тельство» без развода нисколько не устраивает жизни отделенной жены, то
закон тем самым поставил их в положение, стиснув зубы, терпеть и побои,
пока втерпеж, и решаться на рискованный, мучительный скитальческий уход
от мужа лишь в случае, когда побои достигают степени истязания, когда они
непереносимы.
Осенью, в первую же голову, в новой сессии Г. Думы будет рассматри-
ваться вопрос о разводе и в связи с ним вообще брачное право: и теперь
очень своевременно привести все эти факты и соображения.
В «Колоколе» начался ряд статей о монашестве известного г. Е. Поселя-
нина (псевдоним). Хотя это человек сюртука, светский, но по личному вле-
чению, вкусам, по всему кругу интересов и литературно-ученым занятиям
он монах, и только монах, без «удела брачного» в психологии и судьбе. Не
есть нескромность сказать это о человеке, мне близко знакомом и друже-
любном. Начало порывисто и прекрасно, и нельзя отказаться от удоволь-
ствия привести первые строки: «Монашество... Как его ненавидят, как его
любят и как и ненавидящие, и любящие его осуждают... Те и другие с оди-
наковой искренностью. Обе стороны чуют в нем громадную силу, какую в
себе монашество заключает: монашество действительно есть квинтэссен-
ция христианства как идеи. А в практике оно стянуло к себе всех, так ска-
зать, христианнейших, по-христиански настроенных людей. Как многие яв-
ления в области христианства, оно было и есть живое чудо. Ибо разве не
чудо это необыкновенное совмещение двух несовместимых понятий: бег-
ство от мира и величайшее значение и работа для этого же мира».
Статьи обещают быть страшно интересными. Под рубрикою «Письма о
монашестве» они потянутся, очевидно, сериею. Очевидно, здесь будут ра-
зобраны все стороны монашеского вопроса. Едва ли я ошибусь (судя по тону
и духу предисловия к ним, пока напечатанного), что уже многолетние мои
нападения на монашеский дух и систему вызвали этот, так сказать, corpus
защиты монашества. Лирически, патетически, художественно, он, вероят-
212
но, защитит его; докажет его полезность и благотворность вообще. Его ге-
роизм, его святость.
Так.
Но...
Согласие с ним слова Божия, буквы - первоначальной, - вот чего он не
докажет. Ибо этого просто - нет.
И чтобы оно не вредило, по-моему же, - не погубило д&ке семьи: ибо
это было, есть.
А при этом все остальное расседается, как глина в дождь.
ДВУХСОТАЯ ГОДОВЩИНА
ПОЛТАВСКОГО БОЯ
Без великих годовщин и свежей, вечной памяти их, - народ не мог бы суще-
ствовать, или это существование было бы очень трудно: жизнь его, то поды-
маясь, то опадая, не может не заключать в себе иногда и местами полос
неуспеха, вялости, временного ослабления сил и наступающей энергии. Их
знал даже могучий, железный Рим; и такие полосы не только неизбежны, но
они и не унизительны для народа, если не затягиваются очень надолго и не
повторяются слишком часто. Празднуемая сегодня двухсотлетняя годовщи-
на Полтавского боя принадлежит к числу таких поднимающих юбилеев.
«Полтавский бой»: чье сердце русское не забьется горячо в груди при одном
этом слове? Какой русский не передвинет при этом слове плечами так, как
если бы на нем не лежало ни лет, ни болезни? Это - молодость. Полтавская
битва молодит нас, потому что с нею связывается представление о самом
гигантском молодом событии новой русской истории, которой вот уже по-
шел третий век. Молодое воспоминание. И мы молодеем с ним.
Следует признать особенно благотворным, что таким кульминационным
пунктом молодой новой истории сделалась именно битва, а не что-либо дру-
гое, напр. не какой-нибудь гражданский или собственно реформационный
акт. Битва - это физическое напряжение, народно-физическое. А как бы там
ни было, физический рост стоит во главе всякого другого, физическую силу
мы особенно любим в себе, как залог здоровья и долгой будущей жизни, как
такой запас природного богатства, из которого вырастают и нравственные
плоды, и гражданское преуспеяние. Никогда законодательный акт не мог бы
сделаться так элементарно-популярным и понятно-популярным, как воен-
ный бой, всегда бы тут примешалась та сложность и теоретичность, которая
не может же быть сразу схвачена стомиллионным народом.
Тогда наш народ не был еще таким: он был народцем что-то около пят-
надцати миллионов, редко-редко населявшим неизмеримую равнину. Он
почти не превосходил совокупность теперешних старообрядцев и сектан-
тов, с небольшой прибавкой. Оглядываясь только на эту сторону дела, мы не
можем не сознать, с какого маленького мы начали и во что громадное пре-
213
вратились: и в одном этом зрелище двухвекового, лишь с малыми перерыва-
ми, успеха и успеха, движения и движения вперед, все широчайшего и широ-
чайшего охвата и материальных и духовных возможностей мы почерпаем тот
восторг, который заставляет нас уверенно положить руку на эфес меча и уве-
ренно раскрыть книгу, или взяться за книгу. От «Арифметики» Магницкого
до «Периодического закона» Менделеева, от виршей Симеона Полоцкого и
Феофана Прокоповича до воздушной поэзии Пушкина и всеобъемлемости
Толстого, мы, конечно, прошли поистине неизмеримый путь, путь труда, ус-
пеха и таланта. Мы склонны всегда уменьшать свое значение, склонны к этой
психологической мизерности, умалению себя и своего, но указанные грани до
того осязательны и очевидны, что нужно захотеть быть глупым или слепым,
чтобы не ощутить себя великим. Каждый из нас может быть мал или незначи-
телен, и, может быть, есть добродетель уменьшать личное значение, но, го-
воря о России, мы говорим не о личностях своих, а о чем-то объективном и
коллективном; Россия есть великая страна, великая не на минуту, не в эффек-
те, а в двухвековом итоге, и в этом итоге сплелись физика и дух, рост и успех,
бранная слава и успехи гражданственности. Вспомним освобождение кресть-
ян и весь сверкающий каскад преобразований шестидесятых годов, и, нако-
нец, мирное и великодушное преобразование нынешним Государем самых спо-
собов выработки законов, вспомним наш молодой парламент. Всегда и все
мы, сколько ни делились на партии, всегда решительно и все спешили вперед,
обличали себя, каялись, грустили, плакали: и никогда Россия, ни в один мо-
мент, не была самодовольной тупицею, усевшеюся на месте с отрицанием
необходимости движения дальше. Пошлого квиетизма, пошлого самодоволь-
ства, - этого никогда в России не было как всеобщего, как народного состоя-
ния. Червь сомнения и горечи всегда точил нас: сознаем это в настоящую свет-
лую годовщину, но на этот день пусть этот мучительный червяк отпадет от
нашей души. Пусть назавтра он опять проснется, но сегодня в кубок радости
воспоминания о Полтавском бое пусть не капнет ни одна черная капля.
Сегодня мы будем радоваться и только радоваться. Сегодня мы будем
гордиться и только гордиться.
Около имени великого Петра, основоположника всего в России, не забу-
дем вспомнить в этот день лучшего певца Петра и именно Полтавского боя
- нашего Пушкина. Как Петр всему положил начало, так в духовной облас-
ти Пушкин, как ангел, держит венок над ним и над всеми нами, поверх всех
нас, и высоты этого венка никто не превзошел. Пушкин есть высшее явле-
ние нашей новой истории, самое светлое и прелестное. В этот день своими
чудными стихами о Полтаве он держит камертон над Русскою землею: и
никто не вправе выйти из-под власти этого регента. Ибо эта власть есть власть
истины и правды.
Воины русские, естественно, стоят впереди этого народного хора и как
славящие, и как прославляемые. От Полтавы до наших дней они принесли
неизмеримый, невероятный труд. Они были под Пекином, были под Пари-
жем; казаки открывали Камчатку, и сейчас они работают, оберегают жизнь в
214
знойной Персии. Русский солдат есть явление всемирное: и потому, что без
малого весь мир видел русского солдата, и потому, что терпением, выносли-
востью, верою, добротою русский солдат есть святое явление не одного толь-
ко русского, но и всеобщечеловеческого духа. Зоркий глаз Толстого именно
в солдате увидел, назвал и обрисовал идеального русского человека, самое
нравственное проявление русских способностей. Это - его Платон Каратаев
и скромные фигуры севастопольских рассказов. Это нужно и своевременно
отметить именно в нынешний день. Русский солдат никогда не был только
физическою силою, хотя, естественно, он есть, и он хочет быть прежде все-
го физически сильным. Он силен - и в этом его доблесть. Что он силен - это
знают все народы. Но великая черта, уравнивающая его с римским солда-
том, а в одном отношении и ставящая его выше даже римлян, это то, что
солдат, по глубокой преданности законам и заветам своей истории, есть пер-
вый русский гражданин, и в то же время он есть глубокий и смиренный
христианин, тихо и безвестно умирающий, благословляя родную землю,
которой до издыхания служил. Только тот, кто, как солдат, служил России,
может и любить ее, как солдат. Солдат есть первый русский человек. Огля-
немся на этот серенький и незаметный факт сегодня; оглянемся и граждане,
и люди теоретических профессий.
Поднимем же всею Русью чарку зелена-вина за русского петровского сол-
дата - во-первых, и за солдата до сего дня - во-вторых. Сделаем это так непо-
средственно и весело, как поступил Петр, когда, неожиданно получив проез-
дом по улице весть о заключении Ништадтского мира, он перекрестился, по-
требовал себе ковш вина и тут же выпил за здоровье русского народа.
Солдат - выразитель и представитель народа. И Полтавский бой - на-
родный, русский бой. И мы празднуем этот день народа.
КОСТРОМА И КОСТРОМИЧИ
В Костроме археологический съезд. Любознательные люди, глаз которых
устремлен в древность и в этнографию, эту пребывающую древность, со всех
концов съехались туда. Друзья, один тифлисец и один харьковец, шлют от-
туда письма мне, полные одушевления и почему-то любовью к самому мес-
ту съезда, городу Костроме. В Костроме теперь большой праздник; она от-
крывает у себя Романовский музей, где будут храниться говорящие камни
старины, и уже похожие на камень какие-нибудь харатейные (пергаменные)
свитки и всякие письменные и печатные драгоценности.
Это хорошо. Желательно, чтобы богачи-магнаты, каких, кажется, в Кос-
троме нет, а по России их много, приняли участие средствами в этом Рома-
новском музее. Впрочем, сорок лет назад в Костроме, уже за городом, были
богатые фабрики Шипова, Мухина и, кажется, Зотова. Живы ли они теперь?
Они стояли за городом. В их черных трубах, неизмеримо огромных корпу-
сах, а особенно в страшно сильных кулаках «фабричных» костромичи виде-
215
ли что-то пугающее, страшное, неодолимое. Я сам помню, как меня, маль-
чиком, стал колотить подросток с фабрики, - без всякой причины, встретив
на улице. Я наклонил голову и спину: «Только бы не по лицу, - остальное не
важно. И только бы не убил». О сопротивлении не было и мысли.
Костромичи народ тихий и мокрый от постоянных дождей. Есть пого-
ворка, сложенная ими о себе:
Кострома
Такая-то сторона.
Вместо «такая-то» вставлено другое слово, не очень печатное. Как я
узнал уже взрослым, «Кострома» есть имя языческого божества, должно
быть женского или бабьего, которое перешло в название города. Но, конеч-
но, сами костромичи об этом не знают; это им должны теперь внушить
археологи.
Сам город представляет собою смесь огромных и красивых, все новых,
казенных зданий и небогатых обывательских домов, которые к окраине пе-
реходят в рухлядь. Я жил в рухляди. Как за уголок завернуть, выходила ули-
ца в поле; и немножко еще пойти - открывались мельницы, с их огромными
фантастическими крыльями. А там и леса, с грибами. Тут, на всполье, сто-
яла старая-старая береза, уже без листьев, помнится. Верно, теперь ее сру-
били «для благоустройства». По березе этой узнавалось, что «уже близко
дом». А «дом» - это было царство небесное для усталого до последнего
изнеможения собирателя грибов. В страшный лес я, конечно, ходил с боль-
шими. У больших большой шаг: за ними бежишь, бежишь, и никак они не
остановятся. Не обращают никакого внимания.
Леса еловые. Сосен я не помню, должно быть, оттого, что на сосну надо
поднимать голову кверху, а ель вся перед глазами, и ее невозможно не заме-
тить, даже маленькому. Грибов было множество. Однако полные верхом кор-
зины несли только какие-то «знающие места бабы», должно быть колдуньи.
Они были старые и всегда серьезные, уходили в лес с рассветом. А когда мы
шли в лес, часов в семь утра, они уже возвращались назад. Мы собирали
корзины до половины. Грибы - боровики. Ягод не помню, кроме нашей до-
машней «садовой малины», кислых яблок и как «объеденья» - вишен и кры-
жовника.
Костромичи все «акают». Говор их прелестен по мягкости, благозвучию
и некоторой гортанности. Говорят «бываат», а не «бывает».
Из лесу приезжали к нам угольщики продавать на базар уголь, так как
мы жили около «Сенной площади», со всяким громоздким товаром. Приез-
жали с вечера и ночевали, а рано утром везли уголь на базар. Когда они
садились «хлебать» (ужинать), всегда я сидел перед ними и смотрел им в
рты. Очень вкусно казалось, оттого, должно быть, что они ели с аппетитом.
Руки и лица их были черные от угля (от налета), а души, должно быть, бе-
лые. За ужином неумолкаемо шел говор, смех и прибаутки. Такого веселого
народа я потом не видал: горожане много угрюмее, печальнее. «Ну, чадо
216
мое, гороховое»... так это и звучит в ухе. Особенные же весельчаки были
старики. Молодежь была серьезнее.
После грибов самое большое удовольствие была ловля раков. Для этого
отправлялись «в ночное» на реку Кострому, сливающуюся тут же с Волгою.
Река Кострома несравненно глубже Волги: так глубже, что уже за 2 сажени
от берега имеет сажени две глубины, и дальше - многосаженная глубина.
Зависит, конечно, от крутых берегов, падающих прямо вниз в этом месте:
мне же от глубины ее, а может быть, и оттого, что Волгу я знал только «тео-
ретически», Кострома казалась уважительнее и грознее Волги. «Чуть осту-
пился с плота и упал в воду - спасенья нет». В Волге же смерть не была так
близка и неизбежна. Ловили сетками из мочала, сплетенными крест-накрест
на обруче от испорченной кадки, кладя на нее камень (груз) и приманку.
Раки были черные и огромные или красные небольшие. Наслаждение ви-
деть, как 2-3, иногда 4 рака расползаются от приманки в сторону, к краям
сетки, но еще не доползли до края, и вот быстрым движением выхватыва-
ешь сетку из воды и хватаешь раков! Это наслаждение ни с чем не сравнимо.
Из воспоминаний о классической гимназии ловля раков - единственно от-
радное в моей памяти.
Ночью зажигали костер и пекли раков поменьше. Побольше берегли до-
мой. Холодно. Пронизывающая сырость. Чуть-чуть дремота, не могущая пе-
рейти в сон. Но вот толчок в бок старшего: показалась утренняя зорька. То-
ропливо спускаемся вниз, перешагиваем (осторожно) с плота на плот и по-
дымаем с вечера закинутые сетки: первый улов всегда хороший.
Осенью, с сентября, начинались дожди. Они были ужасны: с утра моро-
сит, вечером моросит, всегда моросит. Дождь косой, неприятный, в лицо.
Стоишь на крыльце, поутру: опять дождь, безнадежный. Ни выйти, ни поиг-
рать. Сиди дома. А дома одно удовольствие: география Корнеля со своими
проклятыми островами и полуостровами, да 90-й псалом царя Давида.
Безнадежно! И я плакал.
Имя Сусанина все знают в Костроме, грамотные и неграмотные. Суса-
нин - слава Костромы, гордость Костромы. От Сусанина все костромичи -
патриоты. Умереть за царя, уморить ляхов (имя «поляков» в низшем классе
неизвестно) - мечта, кажется, с детства. Непонятна маленькая неделикат-
ность: отчего бы раз в год не командировать московскую оперу в Кострому
для представления там «Жизни за Царя» Глинки? Это так дешево, костро-
мичи своим прекрасным духом так заслужили этого, серьезная благодар-
ность к Сусанину, естественно, внушает эту мысль, а плоды непременно
были бы так хороши. Воспитанники гимназии, семинарии, Григоровской
женской гимназии и городских училищ непременно должны бы видеть в
картинах и звуках величайшее событие своего города. Но наши министры
просвещения, все такие «патриоты», не догадались выпросить этого про-
стого и легкого распоряжения.
Памятник Сусанину - хорош. Он «губернский», скромный, не столич-
ная краса: но закруглен в мысли и форме. На круглой колонне бюст Михаи-
217
ла Феодоровича в шапке Мономаха; у подножия колонны - молящийся Су-
санин, прижав руки к груди, стоит на коленях. Все это - на кубическом по-
стаменте, одна сторона которого покрыта барельефом, изображающим, по-
мнится, сцену убийства в лесу Сусанина «ляхами».
Единственная политическая тема, занимавшая в то время и низы, зак-
лючалась в вопросе: «Кто выше, губернатор или архиерей». Ибо их было по
одному в каждом городе. Соглашались, что «может быть, губернатор выше
архиерея, но зато московский митрополит выше губернатора». Последнее
почему-то составляло утешение.
Из церквей помню Козьмы и Дамиана, ближайшую; Алексея Божия че-
ловека - в сторонке; Покрова Богородицы - много подальше, но зато вели-
колепную.
Директор гимназии Шафранов, инспектор Рогозинников, батюшка Ви-
ноградов, учитель русского языка - Мусин, французского - Морен, были
прекрасные люди и педагоги. Потом были классики, но уже сухие и страш-
ные. Из чехов. По моему дурному учению это была terra incognita, может,
поэтому и страшная.
И хоть там были эти ужасные дожди, а все-таки хочется сказать, что это -
благословенный край. Такой добрый, тихий и провинциальный!
СЪЕЗД ЗАКОНОУЧИТЕЛЕЙ
СВЕТСКИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ
С 20 июля по 1 августа, в течение десяти дней, будут совещаться законо-
учители светских средних учебных заведений о постановке преподавания
Закона Божия в этих заведениях. Съезд устроен Синодом, по инициативе
архиепископа волынского Антония; руководиться он будет членом Синода
Антонием, епископом тобольским, а членами его явятся около 90 законо-
учителей гимназий, кадетских корпусов и заведений ведомства императ-
рицы Марии, по назначению соответствующего в каждом случае началь-
ства. Не возбраняется присутствовать на съезде и другим законоучителям,
сверх этих 90 назначенных, однако не иначе, как с «одобрения» местных
преосвященных, и с голосом совещательным, но без права решающего го-
лоса.
Духовенство, конечно, увидит на этом съезде множество таких вопро-
сов, которые специальны для него и кидаются ему в глаза; увидит их и зай-
мется ими, и, даст Бог, «во благовремении» решит их. Но в высшей степени
желательно, чтобы как председатель съезда, преосвященный Антоний то-
больский, так и члены его, отцы законоучители, не упустили некоторых воп-
росов, в высшей степени видных обществу и семье, и задуматься над кото-
рыми решительно необходимо, и именно теперь, на предстоящем съезде.
Вопросы эти сводятся, в сущности, к одному: религиозная малодействен-
ностъ преподавания Закона Божия, выражающаяся в таком общеизвестном
218
и ужасном факте, как близкое к безбожию душевное состояние большин-
ства оканчивающих курс в светских учебных заведениях.
Факт этот настолько засвидетельствован воспоминаниями, мемуара-
ми, признаниями, исповеданиями и рассказами как самих неверующих, так
и близких их, родственников их, и вместе он так нравственно чудовищен и
гибелен с точки зрения строительства общественной и исторической жиз-
ни, что его во что бы то ни стало нужно победить, искоренить, преодолеть.
Констатировать этот факт или, точнее, не отрекаться от него, не затушевы-
вать его; далее - разыскать его причины, и разыскать их бесстрастно, не
«сословно», - и наконец, хотя что-нибудь придумать или начать придумы-
вать для его ослабления - вот первая задача съезда, без сознания которой он
будет просто пуст, бессодержателен. Он будет тогда профессиональным
съездом, как ни печально приложить таковое определение к почтенному
сонму русских законоучителей. Но дело само себя выдает, само себя аттес-
тует, если с самого же начала оно не будет поставлено на подобающе высо-
кий фундамент.
Слово Спасителя и апостолов, которое поразило, умилило и восхитило
дикарей Теодориха и Алариха, побеждало римлян и греков в испорченные
времена Максимилиана и Диоклетиана, действовало и в эпохи блистатель-
ные, как Константина Великого, и в эпоху упадка и ничтожества, как было в
пору слабых Валентинианов, - отчего это слово не воспринимается нашими
детьми, отроками, юношами, девушками? Неужели они более дики, чем готы,
и развратнее современников Нерона и Клавдия? Невероятно. Очевидно, слово
то передается иначе. Вот первая тропа к разгадке великого секрета. Как нам
передают историки - свидетели, тогда сами говорившие, сами научавшие
были воистину «зараженными» неофитами благой Христовой вести: и зара-
жали ею других, слушателей. Все совершалось с неодолимостью прививки
сладкого сока от одного дерева к другому, какую садовник устраивает в сво-
ем садоводстве. Пылал учитель - пылал ученик. Пламя Евангелия неудер-
жимо разливалось, сжигая в себе грешную персть древних цивилизаций.
Так христианство победило язычество.
Вот в чем секрет. Но прежде всего, есть ли почва для него, условия?
Вспомним, что само духовенство именно последние годы стоусто повторя-
ет, что современное общество - совершенно языческое, даже что оно хуже
языческого. Тут много гнева, а гнев ослепляет. Но вот что совершенно лег-
ко усмотреть: если теперешнее общество и продукт его - дети и потомство,
- хуже, чем современники Алариха и Аттиллы, то для духовенства самое
время заговорить, как священники времен последнего язычества. Все же
задача падает на них, все же всеобщие ожидающие очи поднимаются к ним.
Все научение, все разъяснение принадлежит им и властно только ими: ник-
то иной не зовется сюда, никто иной не допускается в школу как законоучи-
тель, как толкователь слова Божия, «Закона Божия», - на кого же тут наде-
яться еще, а в случае неудачи - кого иного упрекать? Это есть именно тот
случай, в котором применены слова Евангелия о «взявших себе ключи ра-
219
зумения»... Все утяжеляется еще тем обстоятельством, что вся постановка
дела, вся его организация также принадлежит духовенству: министерство
народного просвещения, как и другие светские ведомства, только «подпи-
сывали и скрепляли» то, что им представляло духовное ведомство, и ниче-
го иного не могли, и никогда не думали ничему здесь ставить препятствий,
если это только была нематериальная обстановка преподавания, вроде шта-
тов, квартир, жалованья и проч., до духа и одушевления преподавания не
относившаяся.
За первою тропою открывается и вторая: духовенство, кроме немногих
прекрасных исключений, которые всегда и отмечаются мемуаристами, в
массе никогда не было одушевлено преподавательским жаром. Именно -
жаром: меньшее здесь уже недейственно или слабо действенно. Духовен-
ство не заражало, как будто оно само не было заражено: «прививка» не дей-
ствовала, ибо в прививку шел не драгоценный кусочек дерева, «глазок» его,
как называют садоводы, а маложизненная, а то так и совсем сухая ветвь.
Одушевляющая сила передачи «Закона Божия» несравненно слабее в нашем
духовенстве, нежели в католическом и даже чем в лютеранском; она слабее
же, чем у наших духоборов, старообрядцев, баптистов, вообще у сектантов.
Вот где горе, вот где «слабость пунктов преподавания». Но отчего это? От-
чего католик и лютеранин талантливее, ярче, «заразительнее» передают Еван-
гелие, священную историю Ветхого и Нового Завета, особенности своего
учения и своего богослужения, чем наши батюшки?
Ответ один, и ясный, и всеобщий: там это не слежалось в какое-то со-
словное исповедание, в прерогативу почти касты. Все сословия служат цер-
кви, служат преподаванием, проповедничеством, законоучителем, священ-
ством; служат в храме, в училище, в литературе, на улице. Религия там раз-
лилась по стране. «Ключи разумения» всем открыты: черпать «живой воды
Евангелия» призваны все, допущены все. У нас это - привилегия сословная.
Почему-то в семинарию, куда купцы и горожане «старого склада», старого
духа, охотно отдавали бы своих сыновей, вместо чуждых им по духу класси-
ческих гимназий, был закрыт доступ всем «иносословным». Духовенство
жалуется на отчужденность других сословий от него: между тем оно первое
и само отгородилось от всех сословий, и отгородилось в первом шаге, в на-
чальном и среднем образовании. «У меня все свое», - твердит оно, обраща-
ясь в стороны. Удивляться ли, что и другие сословия, а наконец, и образова-
ние, предоставляемое книгою и газетою, ответно отгородилось от духовен-
ства. Вот печальная история, часто неверно рассказываемая. «Духовные ин-
тересы» почти не пускаются на страницы светских изданий, потому что уже
ребяток своих, детей своих духовенство отвело в сторону, сказав: вот они
одни, только эти, особого, нашего духа и склада люди, будут вам совершать
службы Божии и научать всех Закону Божию.
Эта привилегия была скорей допущена светскою властью, и неосторож-
но допущена, нежели навязана духовенству. Навязанности тут не было, но
духовенство жадно взяло в руки выпавшую случайно ему привилегию и от-
220
странило от церкви решительно всех, кроме себя. Само же оно просто не
настолько численно, чтобы из него одного, из нескольких сот тысяч сложив-
шихся родов, фамилий, рождалось столько талантов, сколько требуется цер-
кви; талантов, энергии, яркости, силы слова и убеждения. Церковь стала
бедна и бессильна, как все сословное. Только в монашество идут и купцы, и
военные, и горожане, и крестьяне: и исторически наше монашество более
сотворило, чем бесцветное или, лучше сказать, обесцветившееся духовен-
ство, обесцветившееся именно от сословности и традиционности. Допусти-
те служить церкви всех, допустите свободно и широко; пустите в семина-
рии детей светских людей: и евангельское слово запылает везде, оно запы-
лает в храме, на площади и, наконец, в школе, в преподавании. Поразитель-
но, что все теперь яркие лица в духовном стане, как Антоний волынский,
как Серафим или Гермоген саратовский, суть бывшие светские люди, не суть
традиционные люди духовного сословия. Какого еще более разительного
примера и доказательства нужно, чтобы увидеть, где корень жизни и где
корень смерти?
ТРЕВОЖНЫЙ И НЕРАЗОБРАННЫЙ ВОПРОС
Вопросы социальной жизни должны быть расчленяемы с той же аккуратно-
стью и мелочностью, как это делается при анатомировании органических
тел; и тогда только наука об общественном организме может получить ха-
рактер той точности, ясности и убедительности, какие достигнуты в есте-
ствознании. Имея это в виду, я позволю себе вставить одно недоумение в
тревожный вопрос о так называемом «вырождении» Франции.
Тревога эта периодически высказывается. Зола в своем романе
«Fecondite»* пытался хоть литературно повлиять на читающих французов в
смысле возбуждения обратной тенденции. Но, конечно, художественные и
поэтические влияния бессильны там, где замешаны такие жесткие и неус-
тупчивые вещи, как «свой эгоизм», как экономический интерес, наконец,
как скрытые физиологические течения или тенденции. Размножение... По-
смотрите, как фатально, неудержимо, неотразимо оно идет в странах со сла-
бым народонаселением, в начальные фазисы истории; затем замедляется и
падает, как только густота населения данной территории близка к пределу
насыщения. Есть какой-то автоматически действующий закон в этом, какой-
то скрытый регулятор. По-видимому, «французские явления», как и всемир-
ный факт «распущенности нравов» или «разврата», в общем уменьшающие
деторождение, суть только отдельные рычаги, колесики, клапаны огромно-
го механизма, в одних случаях задерживающего размножение и в других
случаях увеличивающего его, смотря по исторической и географической
надобности.
* «Плодовитость» (фр.).
221
Факт такого уменьшения во Франции не есть индивидуально-биологи-
ческий, а географически-биологический. «Атмосфера наполнена электри-
чеством», и электричество больше не рождается там, где без такого насыще-
ния оно рождалось. Наши отчетливые мысли суть часто продукт бессозна-
тельных или, вернее, иодсознательных факторов. «Матушка земля переста-
ет рождать», и на этой земле, на такой земле ее жители сочиняют разные
теорийки вроде «обеспечение наследства за парою наследников» при двух
родителях, на такой земле своевременно изобретают медициною разные
способы предупреждать многочадие...
Почему в обеспеченном французе превалирует, преобладает, более ма-
нит представление о паре богатых потомков его, живущих богато, но живу-
щих уже тогда, когда его самого на свете не будет, чем представление кучи
ребятишек, копошащихся около него сейчас и доставляющих ему то непос-
редственное, живое наслаждение, сейчас наслаждение, какое от детей испы-
тывают бедняки, испытывают наши крестьяне, испытывают в особенности
наше духовенство и наши купцы? Вот почему одна мечта манит, а другая не
манит, - в этом и весь вопрос.
Дети перестают любиться во Франции - вот суть. Что такое богатство,
в особенности будущее, «через 50 лет», в сравнении с непосредственным
ощущением дитяти, отцом - сына, дедом - внука и т. д.? Ведь там - схема,
отвлеченность, призрак, а здесь все так полно реальности, «вот-вот». Я не
знаю во всей всемирной литературе страницы лучшей об этом, чем у Шекс-
пира в «Тите Андронике». Так как она несравненно выше и священнее, чем
все мертвые рассуждения Толстого «о пользе материнства» (наряду с веге-
тарианством?), то я позволю себе привести эту страницу, к тому же в среде
читателя вовсе неизвестную. У византийской императрицы родился «побоч-
но» от араба (или негра?) Аарона сын, и, чтобы скрыть позор царицы и жен-
щины, братья-принцы приходят к отцу, у которого младенец на руках, умерт-
вить его.
Остановись, убийца, - иль забыл,
Что этот мальчик - брат твой? Я клянусь
Всей твердью лучезарной,
Которая сияла надо мной
Так ярко в ту счастливую минуту,
Когда он зачат был, клянусь убить
Того, кто первый подойти решится
К наследнику прямому Аарона!
Ни Энцелад, с толпой детей Тифона,
Ни бог войны, ни бешеный Алкид
Из рук отца ребенка не исторгнут.
Иль нужно вам доказывать, убийцы,
Башки пустые, глиняные щеки,
Раскрашенные вывески шинков,
Что черный цвет есть лучший в мире цвет?
222
Что океан не смоет черной краски
С прелестных ног прелестных лебедей,
Хоть каждый день их моет непрестанно?
Скажите от меня императрице,
Что я уж пожил - дорожу своим.
На возражение сыновей, что каково же будет положение императрицы,
если дело раскроется, он отвечает:
Она - статья особая, а он -
Сил Аарона мощных отраженье:
Он в мире мне всего, всего дороже -
И я спасу его от всех на свете,
Пусть Рим трубит об этом что угодно!
Два брата новорожденного и кормилица - все в смятении: возможная
казнь матери, позор ее, клевета молвы встала в их воображении. Отец-мавр
отвечает им:
Ну, хороша и ваша красота!
Коварный цвет, изменчивым румянцем
Он все движенья сердца выдает!
А этот плут (о ребенке) - совсем иная глина.
Взгляните на него, как он приветно
Дарит отца прелестною улыбкой,
Как будто говорит: «Старик - я твой!»
Вот непосредственное чувство, которого не заменят ни теорийки, ни дог-
маты, ни увещания. Если отцовское и материнское - общее, если родитель-
ское чувство не приближается к этому, население будет уменьшаться или
остановится: его победят другие инстинкты, между прочим и вовсе в массе,
не могущественный инстинкт богатства. Во всяком случае, всемирно при-
знано, и признает наука, что инстинкт рода, так сказать мясной, физиоло-
гический, но и вместе одухотворенный и метафизический, гораздо могуще-
ственнее и всеобщнее инстинкта обогащения, уступая в силе только голоду
и жажде. Во Франции и произошло понижение этого инстинкта.
Почему?
«Атмосфера уже заполнена электричеством»: территория Франции, «ма-
тушка сыра-земля», не требует увеличения жителей. Ведь собственно насе-
ление Франции не то чтобы уменьшается, а оно только перестало возрас-
тать или возрастает меньше, чем там, где земля «еще голодна» (Германия,
в особенности Россия). Внутренний регулятор здесь исполняет то, что Маль-
тус придумал как искусственную меру: воздержание рабочих от браков в
целях не дать упасть заработной плате, и вообще обеспечить материальное
существование за данным контингентом населения. Этот закон (собствен-
но расчет) Мальтуса поддерживал и благородный Д. С. Милль. «Цивилиза-
223
ция не выдержит напора населения, прогрессивно возрастающего, если бла-
горазумие не подскажет самому населению в известном проценте воздер-
живаться от брака». Учение это было высказано лет за 40 до обнаруживше-
гося «опасного» замедления прироста населения во Франции. Пожелание
Мальтуса и Д. С. Милля исполнено, но другим способом, действием друго-
го регулятора, чем какой они предлагали. О чем же тревожится Франция и
за нее вся Европа и почему таковое явление «малодетности» считается лич-
но и общественно «безнравственным»?
Моя «подробная анатомия вопроса» сводится к этому людскому, этому
литературному и государственному смущению, замешательству. Сам я счи-
таю инстинкт чадородия, а не холодного и формального плодородия
(«fecondite» Зола), - инстинкт теплый, греющий, связывающий людей, -
благородным и нужным индивидуально для людей, для каждой порознь се-
мьи, хотя и не могу не видеть, что в случаях переполнения населением стра-
ны он становится социально опасным и разрушительным.
- Нам благородство не по карману, - вот печальный момент, печальная
стадия прогресса и истории, которого достигла Франция, как Рим времен
Августа и Аттика времен Перикла...
Все это связано, как известно, с богатством: бедные - множатся, бога-
тые - нет. Это и у нас в России замечается, это - всюду. Однако не преувели-
чивают ли «порочность» богатых людей, приписывая здесь искусственным
мерам то, что в большинстве имеет вовсе другую причину?
«Курица зажирела и не несет яиц», - говорит хозяйка дома и сокращает
корм такой. Возвращаясь к жизни впроголодь, к вечному отыскиванию кор-
ма и беганью за кормом, курочка опять начинает нести яйца, садится на них
и выводит цыплят. Зажирелость как причина бесплодия известна не у од-
них куриц, но и вообще. Значит, тут действует биологический закон, может
быть, не без осложнения психологическим законом: «беспечальность» лич-
ного жития и у куриц подрывает инстинкт потомства. Обратим внимание,
что заповедь размножения дана была человеку одновременно с заповедью
«трудиться и отыскивать тяжелою работою хлеб» («терны и волчцы про-
израстит тебе земля», - выслушал себе Адам). Значит, между работой, бед-
ностью и нуждой и между размножением есть какая-то связь, даже религи-
озная, и во всяком случае мистическая. Я знавал, и каждый, без сомнения,
знает, как много есть богатых семей, страстно желающих иметь детей или
желающих второго, третьего ребенка, - но у которых или вовсе нет детей,
или есть именно один, два (как во Франции). Подобных семей очень много,
гораздо более, чем определенно прибегающих к мерам предупреждения. Но
ведь народная рождаемость - буквально океан, в котором такие экстрава-
гантные барыни тонут, как капля, теряются, как горсть песку в пустыне: и
приписывание «мерзавцам докторам» (Толстой в «Крейц. сонате») и гибель-
ным акушеркам и их потайным приютам хотя бы малейшее влияние на та-
кой громоздкий, величавый и неудержимый факт, как поток рождений, - это
все равно что говорить: «Вот лет шесть в России разбои так участились, что
224
население в ней уменьшилось». На такие дела не хватит никаких разбойни-
ков, никаких докторов и никаких акушерок. «Дело это Божие»: как верит в
это крепко русский народ, говоря: «Дети - от Бога». И как с этим нужно
решительно всем согласиться!
В ДУХОВНОМ МИРЕ
Как раз в полугодовщину кончины о. Иоанна Кронштадтского, торжественно
и прекрасно почтенную в Иоанновском монастыре, на речке Карповке, в Пе-
тербурге, где повторилось опять столько трогательных сцен, - раздавались
над самой его могилою маленькие бланки, где, между прочим, значилось:
«Миссионерское Обозрение», журнал и т. д., и т. д.
«Суступкой» продается там-то и там-то.
Это все Василий Михайлович Скворцов - чиновник особых поручений
при обер-прокуроре Синода со времен Победоносцева, правая рука его, су-
мевший стать необходимым и всем его преемникам, издающий ныне «Коло-
кол», а «Миссионерское Обозрение» переведший на имя своей супруги.
Правда, и в Священном Писании сказано об Еве Адаму: «Она будет тебе
помощницею», и осудить ли Скворцова, что он живет «по писанию». В том
же «писании» о рае сказано, после слов о том, что он находился между река-
ми Тигром, Ефратом, Геоном и Фисоном, что «золото той земли хорошее, и
там есть камень оникс и бдолах»... Вот все это райское благопотребство
Василий Михайлович с естественной натуральностью подвинул к себе бли-
же, - и рванулся даже к могиле Иоанна Кронштадтского, чтобы выставить
свои объявления о продаже «с уступкой». Грешный человек, русский чело-
век, - люблю я все русское. Люблю, как унизали хорошей торговлей, «Ьоп
marche»*, раки всех угодников Божиих... И ведь знаменитая на всю Россию,
даже на всю Европу, нижегородская ярмарка возникла первоначально из сте-
чения богомольцев со всей Руси к мощам Макария Унженского, куда они,
«кстати», «побочным образом», приносили и привозили и кое-какую «до-
машнюю рухлядь», «домашние изделия», кустарную работу и местные про-
дукты. Сказано: «из горчичного зерна вырастает дерево, - из маленького
привоза местных продуктов выросло такое «bon marche», какого и в Европе
по сие время не видано. И все, конечно, оттого, что у православных все вы-
ходило «с верою», все начиналось «благословясь», и на таковое расположе-
ние народной и, позднее, купеческой души угодники не могли не ответить
покровительством. Загробный и здешний мир находятся в живой и постоян-
ной связи между собою, и связь эта весьма разнообразна, начинаясь исцеле-
ниями и кончаясь «bon marche». Как это говорили австрияки: «Bella gerint
alii, tu, Austria felix, nube», т. e.: «Пусть другие ведут войны для приобрете-
ния земель, а ты, счастливая Австрия, венчай брани». Так и Василий Михай-
* «добрый путь» (фр.).
225
лович не может не подумать: «Пусть другие исцеляются у гробницы Иоанна
Кронштадтского; я здоров, и мне тут немного бы поторговать».
И торгует. И молится. И славословит. И не может не думать:
- Где есть еще такое красивое солнце, как на Руси?
И когда смотришь на его цельную, так хорошо закруглившуюся фигуру,
усы, уже с сильной проседью теперь, невольно шепчешь про себя:
- Ну, и когда же, в самом деле, настанет скончание Руси? Никогда. Не-
возможно. У всяких японцев зубы обломаются... Сильна Русь покоем сво-
им. Маслянистостью своей. Ну, вот, этот Василий Михайлович, а с ним и
миллионы таких, ни о чем не думает, вопросами никакими не задается, мо-
лится, торгует, маслится... И вокруг него все маслится, ладится, цветет, пух-
нет. Тут и «бдолах, и оникс, и рай». И детки, и внуки скоро будут. И началь-
ству просто не придет даже в голову не ладить с ним. Что там начальство, -
куафюра одна, да французский жаргон. По-французски и Василий Михай-
лович пробовал выучиться, для «положения и действительного статского
советника», т. е. когда получил этот чин, но потом сплюнул - и за мудрено-
стью, и правильно сообразив, что не в этом дело и что обер-прокуроры ме-
няются, а он все сидит. Да и как не сидеть? Все духовное ведомство, с «ми-
лым» в себе и «покоем» в себе, олицетворяется в нем гораздо полнее, чем не
только в меняющихся обер-прокурорах, но и во многих иерархах...
Долго я наблюдал его и, признаюсь, всегда любовался, как всем завер-
шившимся, всем, достигнувшим полноты стиля. Помню, когда был убит
Сипягин и вся Россия разнообразно вздрогнула и заволновалась, я встретил
его на пути в Казанский собор. Был праздник, особая служба, и он шел по-
молиться Владычице. Заговорили о событии.
- Первый сановник государства, - остановился он, глядя на меня.
«Первый сановник государства»: в самом деле, это не приходило на ум
ни либералам, ни журналистам, ни социал-демократам, никому решитель-
но. Все думали о победе «правых» или «левых» идей, о прогрессе и возмож-
ном регрессе, пугаясь одного, радуясь другому. Но Василий Михайлович
взял дело в центре. Ну, конечно, какая же страна идей и борьбы, идей и на-
правлений Россия? Все это - на поверхности: в глубине дела. Это - строй
кантов, пуговиц, воротников, мундиров. И Василий Михайлович был про-
сто поражен тем, что в прихожей Государственного Совета, без подстилки и
коврика, упал на пол, на грязный пол лицом человек, носивший первый мун-
дир в государстве, - и до этого могли довести его, дерзнули довести Бог
весть какие-то люди, сами по себе вовсе не интересные. Это отзывалось
Державиным и Карамзиным, и, поглядев сбоку, я снова полюбовался на стиль.
Это - стиль всего духовного ведомства или духовного сословия, что ли.
Оттого В. М. Скворцов подошел к нему, а оно подошло к нему. Не то чтобы
в ведомстве этом ничего не знают о волнующих мир идеях. «Слухом земля
полнится...» Но ко всяческим идеям, и русским, и иностранным, там суще-
ствует до того равнодушное отношение, до того внешнее, слуховое и только
сплетничающее, как об этом решительно не могут составить себе представ-
226
ления люди других сословий русских, других русских профессий. Я упомя-
нул о сплетнях. Кто обратит внимание, тот заметит, что ни в одном классе,
ни в каком слое русских не развилась так сплетня, - сплетня от ничегонеде-
ланья и сплетня от незнания, бескорыстная, незлобная, неязвящая, но всегда
непременно личная, т. е. сплетня не об отношениях, не о вещах, не о поло-
жении государства или церкви, но о лицах, соприкосновенных ко всему это-
му. «Слышно», «я слышал», «говорят», это - самые ходячие слова в духов-
ном жаргоне; «говорят» об отставке одного или о возвышении другого, о
том, кто берет взятки и кто с кем находится в любовной связи. Вообще, па-
дения, возвышения и пороки, непременно личные и потаенные, - вот все-
гдашняя тема «духовных» бесед. Разумеется, эта сплетня есть и везде, но
есть как мелькающее, между прочим, в объяснение чего-нибудь. Здесь она -
не прилагательное, а существительное, не обстоятельственное слово, а само
подлежащее. В каждой епархии подробности консисторских отношений,
родственники и родственницы архиерея, прошлое игумений, судьба вика-
рия, сила секретаря и его опытность в делах, исключительное взяточниче-
ство или редкое бескорыстие такого-то члена консистории, и, наконец, бра-
ки и браки, родство и родство, - все это совершенно заглушило собою какой
бы то ни было интерес, ну, положим, к идеализму или позитивизму в науке,
к рабочему движению и социал-демократии и, наконец, вопросы, положим,
о соединении или примирении церкви, о разногласии церквей, о новых вы-
дающихся трудах по богословию. Я упомянул о родстве, и это очень важно:
вследствие того, что духовные не женятся на «инославных» и не выдают
дочерей иначе, чем за лиц своего сословия, само же сословие ограниченно,
не очень численно, - все почти духовенство уезда близко или отдаленно, в
дедах и дядях, троюродных и двоюродных, перероднилось друг с другом и
образует, собственно, огромно разветвившийся род, с тончайшими, но су-
щественными нитями родственных связей... Наконец, так как ни в дьякона,
ни в священника нельзя постричься, не вступив в брак, то опять-таки брак
этот как что-то должностное и линейное занял такое положение в духовном
сословии, как ни в каком другом. Это - не случай, как везде, а линия, не
роман, а первая ступень службы... От всего этого духовенство, и только оно
одно, и притом только наше православное духовенство, никак не лютеранс-
кое и, уж конечно, не католическое, - живет глубокою и обширною родовою
жизнью, родовым бытом, как древние германцы и, еще лучше, как библейс-
кие евреи. Самое запрещение вдовым священникам вступать во второй брак
как-то еще заострило и затвердило существо брака в духовенстве: оно выре-
залось на фоне быта как что-то единственное и лелеемое, сберегаемое, не из
романтизма, а по нужде. Раз у священника занемогла бурно его матушка. Я
был поражен его смятением, испугом. Но каково было еще большее мое удив-
ление, когда он просто объяснил этот испуг: «Как же, ведь я не могу во вто-
рой раз жениться. Умерла - и вдовец на всю жизнь». Так что тут не индиви-
дуальная привязанность действует, не любовь (которой, в данном случае, и
не заметно было ранее), а нужда в женщине для не старого еще мужчины и
227
нужда в хозяйке для хозяйства. Самое архиерейство наше и вообще мона-
шество, комплектуясь или из вдовых священников, или из неудачников всех
сословий, не противоречит родовому быту; хорошо известно, что молодой
вдовец тогда обычно выходит на линию архиерейства, когда ему нужно бы-
вает поднимать многих детей, оставшихся у него на руках, или когда у него
за спиною, как поклажа, многие братья и сестры на возрасте. Так что и архи-
ерейство является как часть семейного тягла. Иночество в его чистом при-
родном виде как «особый зов Божий» есть, встречается у нас, но страшно
редко, и этим почти полным отсутствием настоящего иночества наше рус-
ское духовенство страшно отличается и от католического, и от греческого
православного духовенства, и, просто, взаимно они не понимают друг дру-
га. Архиепископ Антоний волынский, который выражается об архиереях из
вдовых священников: «Какие они иноки, - они были женаты: монах есть
только тот, который никогда не касался женщины», в сущности понимает
дело и глубоко, и верно. Но от этого он так инороден, чужд и непонятен для
нашего духовенства, - как несущий мало известный ему принцип, и прин-
цип враждебный. Антоний волынский только никак не сумеет догадаться,
что этот «особый зов к иночеству» есть выражение простой неспособности,
простого бессилия, простого даже отвращения коснуться женщины, прису-
щих небольшой дольке мужского пола, - явление глубже всего и понятнее
всего разъясненное в книге Вейнингера «Пол и характер». Само по себе оно
нисколько не свято, это явление; но, как и Вейнингер объясняет, и как это
давно известно, - это особое физиологическое состояние, особая физиоло-
гическая организация связана с высокими духовными способностями, с ли-
рическими порывами и, между прочим, с религиозными порывами. Платон
и у нас Чайковский, написавший музыкальную литургию, суть примеры этого
монашества до христианства и монашества без пострига. В Греции и Ита-
лии это явление обширно развито, как оно было обширно развито в Сирии,
Малой Азии и на Армянском плоскогории; на севере оно встречается реже,
и чем севернее, тем реже. Оно очень удивило всех в Берлине, окружив «ма-
гическим кольцом» германского императора. У нас оно вкраплено кое-где,
кое-когда. И усилия Антония волынского водрузить стяг «настоящего ино-
чества» в русской земле, - стяг настоящего платонизма и тайн его психоло-
гии и мироощущения, - не найдут себе почвы просто за редкостью таких
экземпляров в русской породе, в русской крови. Оставляя эту дольку в сто-
роне, мы находим громадный пласт родового сцепления в духовенстве, по-
чти библейского типа. Замечательно, что евреи, которые инстинктивно чув-
ствуют и узнают свое начало и в других народах, влекутся к нашему духо-
венству, удивленно почитают его, восхищаются им, нередко принимают кре-
щение и поступают в него. Таковых мне приходилось знать, но выдающийся
пример этого - знаменитый своей прямотой, резкостью, грубостью и умом
епископ Смарагд, ныне покойный. «Дед мой был еврей. Отец - иерей, а я -
архиерей», - говорил он. И был знаменитым русским патриотом и настоя-
щим пастырем на амвоне. Переходя теперь от сложения сословия к духу его,
228
к идеям его, к «веяниям» в нем, мы заметим, что оно характеризуется пол-
ным отсутствием «веяний» и идей именно в силу этого родового, родствен-
ного сложения, которое его компактно сковало, заключило в скорлупу «сво-
его быта», без всяких скважинок, без всякого просвета, через который мог-
ли бы пробраться какие-нибудь идеи, между прочим и идеи универсально
церковные, универсально христианские. Все универсальное в высшей сте-
пени чуждо и даже враждебно нашему духовенству, - не по уму его, не по
недостатку ума, а вот по этому сословно-родовому сложению.
Как Израиль в Палестине и затем в европейских «гетто» плодился и мно-
жился, разобщившись от всего идейного мира человечества, от всего ду-
ховного мира человечества, и не было никаких средств ни привлечь его, ни
проникнуть к нему, - так вот точно и духовенство наше, погрузившись все в
племянничков, дядей, тещ, свекровей, невесток, погрузившись в непремен-
ные браки молодых семинаристов, в обязательное «пристраивание» доче-
рей, с приходом в приданое, - решительно не имеет ни возможности, ни
досуга и, наконец, никакой охоты взглянуть на пастора Штекера, на госпо-
дина Гарнака, на Либкнехта или Бебеля, на политику Льва XIII, на старока-
толичество, на Хомякова и его переписку с Пальмером, ни на что, решитель-
но ни на что! Разве это консистория и ее делопроизводство? Разве это «наше
благочиние» и истории в нем? Все носит характер сплетни, и все ограничи-
вается пределами благочиния и, самое большее, - уезда. Какие же тут идеи?
Если они встретятся, то непременно как «палка в колесе», которую надо
просто выбросить, т. е., переносно, - запретить. «Запретить» - это есть зов
духовенства, голос его, требование его: «запретить» не по вражде, ибо для
вражды нужно все-таки знание, нужна осведомленность во враждебном, чего
у духовенства никогда нет, а потому, что мешает жить, мешает «нам», меша-
ет катиться колесу, катиться от обедни до обедни, от похорон до свадьбы, от
скуфьи до камилавки, от благочинного до архиерея, от «выдал первую дочь»
до «выдал вторую дочь», от «купил две коровы» до «купил три коровы». Вся
тайна - обширное хозяйство, и еще тайна - обширное родство. И ни к чему,
ни даже к «господину Гарнаку» или «господину Дарвину», ни малейшей
нет вражды, а просто нет до них никакого дела. А если пришли они, поме-
шали свадьбе или похоронам, то «милости просим выйти вон». Вот и толь-
ко. Не больше, но и никак не меньше.
Среди этого стана, обширного, векового и, кажется, неразрушимого до
скончания века, рождаются изредка прекрасные натуры, трагически погиба-
ющие. Все духовное сословие характеризуется слабостью индивидуального
выражения, слабостью лица, - просто залитого и задавленного родовым
бытом, родовою общею психологиею и родовою общею нуждой и необхо-
димостью. Но вдруг здесь проглянет лицо, со своим взглядом, с желанием
своего слова. Просто - такое уродилось. Уродилось задумчивым, со всем
«своим». Не общим. Главное - не общим, не родовым. В старое время, я
думаю, такие уходили в пустыни и основывали монастыри, и вообще тут
кое-что есть «иноческое» и «платоновское». Во всяком случае, тут отсут-
229
ствует позыв непременно сейчас жениться и непременно сейчас плодить
детей. «Своя душа», и тогда непременно «свой путь». В семье дьячка, дья-
кона, сельского или губернского священника родится сын, - и вот он быстро
и блестяще взлетает, как Икар, кверху, - но опаляет крылья и моментально
падает вниз, где старый родовой быт уже встречает его пламенем и сжигает
его, как врага своего, именно за то, что он взлетел вверх. Ибо суть родового
быта и суть сословного быта и состоит в том, чтобы лежать или ползти по
земле, но никак от земли не отделяться. В этом вся суть, идея и призвание.
И как до сих пор евреи («плодитесь, множитесь») устраняют всякого, от-
деляющегося от их кагала, не своими руками, а руками чужой власти, русской
власти, им враждебной в существе, - так духовенство устраняет «вылетов» из
себя, вот этих самых Икаров с задумчивым взором, руками светской государ-
ственной власти, обвиняя их перед нею. Тут та же история, та же психология,
то же основание. Тут дело ни малейше не состоит в «либеральном направле-
нии», например, лекций или ученых трудов академических профессоров, по-
тому что никаких решительно «трудов» никто решительно из власть имущих
в духовном сословии не читает. Самая большая ученость состоит в том, что
иерарх или высокий чиновник духовного ведомства «прикупает» новые кни-
ги и, переплетая, ставит их в книжный шкап «для вида комнаты». Но и до
этого редко доходит. «Дел такое множество, обязанностей столько, - сказал
однажды мне с грустью высокий иерарх, - что, как ни трудно этому поверить
и в этом признаться, мы хорошо не знаем даже Евангелия. Мы лучше знаем
книгу апостольских правил, еще лучше - постановления соборов, а, в сущно-
сти, единственно хорошо знаем устав духовных консисторий. Малейшее не-
знание его подробностей повлекло бы за собой величайшие неприятности и
опасную путаницу в делах. Затем - обязательные приемы, обязательная пе-
реписка, обязательное ежедневное чтение и решение дел по епархии, - и ни на
что прочее времени не остается ни минуты».
Ни на Евангелие, ни на молитву. Это - трагедия, в которую тоже надо
вдуматься.
Проф., положим, Тареев издал четырехтомную книгу «Основы христи-
анства». Свой труд, личный труд. В Германии, во Франции, в Англии это
вызвало бы движение: что? как? где доказательства? какая точка зрения? В
странах ученых иезуитов это вызвало бы появление ответных трудов, - це-
лых книг, разбирающих данную книгу. Большая, значительная книга долж-
на порождать около себя, против себя, за себя - целую литературу. Но что же
может сделать книга в родовом быте? Она может только сама умереть. «А,
это тареевская отсебятина», - как, слышно, вымолвил один иерарх, пере-
двигая четыре тома. Это для него только два фунта бумаги, притом испор-
ченной, ибо на этой бумаге он лучше мог бы класть свои «резолюции». -
«Все в прочитанном одобряю, кроме моих замечаний», - написал «резолю-
цию» другой иерарх на обширном поданном ему докладе, выражая этим ту
мысль, что он одобряет все в изложенном, кроме тех пунктов, которые ого-
ворил или поправил в своих замечаниях на полях. Вообще тут ни до чего
230
никому никакого дела нет. Каренин, по описанию Толстого, интересовался
менее государственными делами, нежели как расставлены чернильница,
подсвечники, пресс-папье и другие принадлежности писания на его пись-
менном столе. Интересно «специальное» и интересно под носом, а осталь-
ное, во всяком случае, не жжет сердца. Также в духовном ведомстве или в
духовном сословии интересны вовсе не христианство и сущность или судь-
ба его, не церковь и дух ее и сущность ее: все это - темы светских людей,
«иносословные». Все это «либеральные», «светские» темы. «Отсебятина»,
как у Тареева. В «Записках высокопреосвященного Саввы, архиепископа
Тверского», которые вот уже лет пять печатаются ежемесячно в «Богослов-
ском Вестнике» и составляют многие томы, не упоминается ни об единой
книге, которую бы он прочитал и заинтересовался. Все есть описание «моей
службы», а «служба» состояла в архиерейском служении, в получении пи-
сем от важных или благочестивых особ и ответах на них, в поездках туда,
сюда, с отметками, куда поехал, когда приехал, кто встретил, кто не выехал
навстречу, и не выехал потому, что хворал, и где кушал чай, и, наконец, кто
какую награду получил, и еще очень много о том, что «слышно». Но я со-
вершенно не помню, упоминается ли где слово «христианство», или приве-
дено ли где какое слово из Евангелия, или стоит ли где имя «Иисус Хрис-
тос». Быт до того заливает все записки, - записки о деловой и длинной
жизни, что если бы не историческое знание о лице писавшего, если бы
«Записки» эти случайно попали через 1000 лет историку в руки и он не знал
бы ничего о происхождении их, то он почти не мог бы догадаться, что это
писалось в христианскую эпоху, в евангельской цивилизации. До такой степе-
ни как-то бытовым образом, незаметным образом, добрым и мягким образом
духовенство наше точно отделилось вовсе от христианства, куда-то уплыло
от него, отплыло от него. И именно - мягко и незаметно.
Итак, если сейчас, например, несколько виднейших профессоров духов-
ных академий предназначены к вытеснению из них, то это нужно понимать
едва ли как вражду к их образу мысли, в который просто некому всмотреть-
ся, вчитаться, вдуматься в духовном ведомстве. Нет, не в этом дело. Русские
щи бывают хороши не к обеду, а к ужину, когда они «упреют»; и каша быва-
ет хороша «на завтра», когда она зарумянится и делается с корочкой. Непри-
ятно не то, что профессора - либералы, а что они не «зарумянились» хоро-
шим сословным румянцем, что они не «упрели», и от них не пахнет настоя-
щим семинаристом, почитающим тещу и справляющим седьмые или девя-
тые крестины. Пишут толстые книги, а не рождают толстых детей. Настоящий
семинарист не поднимает политики выше сплетни и интересуется не Гарна-
ком, а за кого вышла его племянница. При настоящем хорошем родовом быте,
т. е. заросши им хорошенько, профессор может отличаться полным скудо-
умием, не написать ни одной книги и даже не читать ни одной книги, кроме
тех, какие требовались в свое время для экзамена, и ровно от этого ничего
не произойдет, никакого «увольнения». Все будет маслянисто, гладко для
него, дяденьки будут просить за него, он сам будет просить за племяннич-
231
ков, «родство» его появится где на благочиннических местах, где даже на
архиерейских, и все будет писать о нем и за него, «напоминать» о нем, посы-
лать «весточку», иногда и с «приложением», а то и без этого, все равно -
хорошо: ведь все в родстве, в свойстве, все круглится, румянится, «короч-
кой» везде обкладывается, и Вас. Мих. Скворцов, не немогущественное лицо
в своем ведомстве, потирая руки, станет говорить:
-Господи! Сколько православия! И как оно все сияет! И какой хороший
дух! Не немецкий, не жидовский. Вот и «Миссионерское Обозрение» так
хорошо идет, и «Колокол» все выписывают. И сам я видный человек, и дос-
татки у меня порядочные. И все порядочное, и все достаточное я люблю.
Люблю сытую Русь, люблю славную Русь. Тут и мощи, и святые, и перезва-
ниванье колоколов. И нет еще страны, как наша. И не нужно нам ничего
инородного, ничего со стороны.
«Ничего со стороны», «ничего не нашего», ничего, что было бы испече-
но еще не «третьего дня», - вот простое объяснение и истории с профессо-
рами духовных академий, да и скольких-скольких явлений в этом мире.
СХОЛАСТИЧЕСКОЕ
ЗАКОНОУЧИТЕЛЬСТВО
«Нате вам наше, а Божие можно оставить и в стороне», - вот «программа
Закона Божия» решительно во всех светских учебных заведениях, от низу
доверху, - программа в схеме и обобщении. Из этого обобщения ничто не
выйдет, и оно не может быть опровергнуто ни одним фактом. Едва из се-
мьи, если и не образованной богословски, то все-таки верующей, как веру-
ют все русские семьи, кроме несчастных и редчайших вывертов и уродцев,
едва из такой семьи приводят мальчика или девочку 9 лет в первый класс
училища, как украшенный крестами, наперсным и магистерским, торже-
ственный законоучитель торжественно заставляет сущего ребенка читать
наизусть покаянный псалом царя Давида, написанный после соблазнения
им чужой жены и предательского умерщвления им мужа этой женщины,
своего верного слуги. Слова, как «окропиши мя иссопом», не понятны фи-
лологически, а весь псалом решительно не может быть произнесен ребен-
ком иначе, как в качестве попугая, ибо ни в отдельных выражениях, ни в
общем течении он совсем не может быть понятен ребенку. Псалом этот во-
обще не может быть почувствован и понят ранее 40 лет. Утренние и вечер-
ние молитвы, как и молитва Ангелу Хранителю, - также все говорят в не-
удобопостигаемых выражениях о борьбе с соблазнами, приходящими в ночи,
- но приходящими не в девять лет, а в двадцать лет, и об угашении таких
поползновений души, самого имени которых не знает ребенок. Здесь все
ребенком взято памятью, и взято «вдолбежь», как берутся слова дроздом
или попугаем. Даже объяснить ребенку 50-го псалма или вечерних молитв
невозможно, ибо объясняющий будет краснеть и сбиваться, стараясь в объяс-
232
нениях укрыть самое главное, через что молитва и псалом могли бы сде-
латься понятными. Это - первый шаг в учении. На нем стоит остановиться,
как на образце всего прочего, всего последующего. Отчего избрано такое, а
не другое? И что такое избранное? На вопрос, «почему» это избрано, нуж-
но ответить: по великой гордости ума, никак не хотящего склониться к ма-
ленькому существу ребенка и разузнать и вдуматься, что ему нужно, что
для него постижимо, что на него могло бы произвести впечатление. Мы не
без намерения упомянули о двух крестах, из которых в одном выражается
ученая степень, а в другом - общественное признание: оба говорят о славе
и возвеличении носящего кресты, с высоты которых трудно низойти к низ-
шему, и, между прочим, трудно наклониться к ребенку. Хоть это выражено
в малом, но это очень значительно: если и вообще-то Русь не богата педаго-
гическим тактом, не богата педагогической чуткостью, то законоучители,
кроме редчайших исключений, и не задаются вовсе вопросом, приспособ-
лены ли они лично и каждый к великому подвигу передачи детям первого
луча религиозного трепета, первого луча религиозного умиления и востор-
га. Самочувствие законоучителей безгранично далеко лежит от этого воп-
роса себе и вопроса о себе; самочувствие это выражено в сознании: «Я ду-
ховный начальник, что скажу, того и должны слушаться». Вот это самочув-
ствие, оно единственно пролилось и в программу и сделало её столь стран-
ною. И. Христос приспособил Свое учение к пониманию младенцев и
народа; точнее, Он выразил это учение с такою простотою и наглядностью,
что даже младенцы, женщины и простой некнижный люд совершенно по-
нимали его. «Программе закона Божия» оставалось бы только применить
этот метод, точнее, не отступать от примера Спасителя и не искажать Его
слов жалким переложением, распространением и сокращением. Мальчику
9 лет священник, без знаков учености и власти, мог бы задать на экзамене
совсем другой вопрос: «Расскажи евангельскую притчу о девах и светиль-
никах». Элементарные понятия всеваемого зерна и почвы каменистой или
засоренной сорными травами, понятие бодрой встречи или встречи лени-
вой, - в притче о девах, - все это уже доступно и девятилетнему возрасту.
Ибо факты, здесь описанные, суть уже душевные состояния, знакомые дет-
скому возрасту, тогда как раскаяние после соблазнения чужой жены, что
составляет содержание 50-го псалма, или блудные мысли ночью, что со-
ставляет предмет страха в вечерней молитве, не понятны и не доступны
постижению детей. Но интересно, что же именно побудило выбрать столь
несоответственный материал? Только эта гордость и уверенность, что ник-
то не возразит: «Мы духовные начальники и уже знаем все эти дела, знаем,
чему учить и как учить». Но при первом вопросе, «чему» и «как», - все
рассыпается прахом, и рассыпается оттого, что вопрос не ожидался, что
задавание такого вопроса почитается «дерзостью». А от уверенности, что
он никогда не будет предложен, о нем нисколько и не подумали. На самом
деле, все эти покаянные молитвы, как и скованные страхом перед наступа-
ющим «грехом», суть типичные монашеские молитвы, молитвы сорокалет-
233
него возраста. Произошло же введение их в детскую программу оттого,
что иерархи церкви суть монахи, - лица, - отроду не разговаривавшие с
детьми и не видевшие детей иначе, как когда их подводили им под благо-
словение, т. е. молча и безответно. И когда им, как главам церкви, предло-
жен был государством официальный вопрос: «Что надо спрашивать на эк-
замене у детей при поступлении в училище?» - то они ответили, как только
могли и что единственно знали из своего опыта: «Спрашивать небольшое
число вот этих молитв» или испуганной, или кающейся психологии, мо-
литв в сущности монашеских, даже старческих.
Монахи-иерархи составляли катехизисы, монахами сотворен весь круг
церковных служб. На вопрос, «что дальше проходить по Закону Божию»,
например в восемь лет гимназического учения, они опять-таки не могли
ничего другого предложить, как то, что им родное и близкое, как сделанное
ихними руками, ихним умом. «Проходите историю наших дел; логику на-
шей мысли, историю споров наших с врагами, с еретиками». Сразу же полу-
чились курсы учения для всех классов: вот - катехизис, вот - богослужение,
вот - история вселенских соборов, с опровержением «монофизитов» и «мо-
нофелитов», с борьбою против Ария, Нестория и Пелагия, с учением о том,
имел ли И. Христос две воли или одну волю, одну природу божескую или
божескую и вместе человеческую, имеет ли Он с Богом Отцом «единосу-
щие» или «подобнокачественность», есть ли Он «бцоххяод» или «бцоюгхлод»,
«подобносущный» или «подобносвойственный» и проч, и проч., на чем тер-
залась византийская мысль, но что натурально и естественно даже не может
прийти на ум русскому мальчику 15-17 лет. При лучших условиях, при луч-
шем восприятии, при наилучших способностях мальчика он может заинте-
ресоваться только величайшей тонкостью всех этих вопросов, - изумиться
искусным ответам на них. Но каждый поймет, что этот логический восторг
не имеет ничего общего с религиозным восторгом, с любовью к Богу, с бла-
гочестием, с праведностью поведения и сердца.
Из гимназиста к 8-му классу, к «испытанию зрелости», выходит по этой
части дурной сорт семинариста, - семинарист неуклюжий, недоделанный,
полузнающий, а известно, что даже и хорошие семинаристы не суть очень
верующие, преданные религии молодые люди. Из «недоделанного семина-
риста» выходит просто неверующий или «веру» которого опрокидывает пер-
вая же книжка по естествознанию, написанная более вразумительно и нау-
кообразно. Но очевидно, что не только одна книга по естествознанию, но и
целая библиотека их не могла бы ничего уничтожить собственно в религи-
озной умиленности, в религиозном восхищении, какое на человека навева-
ется хоть теми же притчами Евангелия, беседами И. Христа в Его точных
словах и в евангельской обстановке бесед, навевается речами пророков или
книгами идиллической патриархальной жизни, вроде «Книги Руфь». Но
чтобы почувствовать самому вкус к этому, захотеть восторженно передать
это, нужно перестать чувствовать себя победителем ста ересей, надо отло-
жить в сторону камилавку и ученый магистерский крест и стать «батюш-
234
кою-законоучителем» в родных народных чертах, без власти, притязаний и
спеси. Увы, всего этого ужасно мало! Более и более духовенство теряет
смиренный старый облик. И наша минута мало предрасполагает к подня-
тию духа законоучительства и даже просто к сознанию, где коренится зло.
В рубрике вопросов, которые предположено рассмотреть на съезде законо-
учителей, значится между прочим и такой: «как привести в исполнение за-
бытое каноническое право об обязательном посещении церковных служб и
об обязательном ежегодном говении всех вообще служащих в учебном за-
ведении».. . Ну, вот именно в этом дело: все дело во власти и чтобы «заста-
вить». Римское «Quos ego», «я вас» - манит батюшек в камилавках и со-
блазняет подталкивающих их сзади архиереев в митрах. На этих-то путях
юноши русского благочестивого народа давно не сохраняют и той веры,
того мистического трепета перед провидением, судьбою, загробным ми-
ром, какую сохраняет австралийский дикарь, верящий хоть в фетиши, и
какая на высокой точке стояла у язычников-египтян, у старых фракийцев,
ахеян и римлян. Ибо европейское и наше русское безверие превосходит вся-
кое безбожие, всякую потерю религиозного чувства, о каком когда-либо было
слыхано в истории.
ПО СЛЕДАМ
КНИГОПРОДАВЧЕСКОГО СЪЕЗДА
Ах, культура, культура: кто тебя не почитает, но и кто тобою не злоупотреб-
ляет! Как на рисунке Гойи старая, в морщинах женщина, обладательница
миллионов, идет среди жадных молодых людей, в прелестных галстуках,
открытых жилетах и безукоризненных фраках, и все они нашептывают ей
сладкие речи, и каждый готов ее повести к алтарю, - так и культура, дей-
ствительно древняя и благодетельная бабушка, облеплена со всех сторон
ловкими «факторами духа», и, послушать их речи, подумаешь: «Вот где
душа цивилизации!..» Это впечатление рисунка Гойи оставляет после себя
только что кончившийся всероссийский съезд книготорговцев и книгоизда-
телей.
Ну, конечно, зал, электрический свет, кафедра, речи, чтение приветствий
и телеграмм... Я вспоминаю бедную квартиру в три комнаты, на Петербург-
ской стороне, - где захварывал, но пока не умирал (вскоре, однако, умер-
ший) русский молодой философ. Зал был так сыр, что со стен текло. Но
контракт с хозяином был заключен. Больной автор призвал домохозяина и
сказал, что квартира сыра, он болен и хотел бы перейти на другую квартиру,
т. е. уничтожить контракт. Домохозяин ответил: «Ну, что вы! Вот и отлично:
вам на берег моря незачем ездить» (о сырости, - буквально привожу слова)
- и отказался нарушить контракт. Дом был новенький, еще даже не доведен-
ный до конца, непросушенный: бедный философ соблазнился дешевизною
и с детьми и женой перешел в мокрую квартиру.
235
Блеск съезда книгоиздателей и книготорговцев перемежается у меня с
этим воспоминанием об убогой квартире умиравшего писателя-философа.
Может быть, и сейчас есть такие? Наверное, есть. У этого умиравшего фи-
лософа было 3-4 брошюрки, книжки, ну, странные, как все молодое стран-
но, - но обнаружившие огромную энергию ума и пылкость стремлений. В
последние годы он уже становился на ноги и почти встал; но злая чахотка,
которую подкормила мокрая квартира расторопного домохозяина, подкоси-
ла его и свела раньше времени в могилу. Он имел средств (наследственных)
тысячи три и жил процентами и доходом с брошюрок. «Вот семьдесят руб-
лей получил», «вот пятьдесят рублей получил». Иногда же приходилось, увы,
15 или 20 рублей. Но как-то мало обращал внимания на средства и все думал
и думал, писал и писал.
Сейчас я не умею связать две картины, но мне думается, не изображай
наша русская «культура» рисунка Гойи со старухой и франтами, дело могло
бы обставиться совершенно иначе, - и молодой философ не умер бы, а был
бы теперь крупной величиною в литературе, что он решительно обещал. Он
имел бы друзьями своими, «домашними» своими не 2 - 3 бездомных сту-
дентов-товарищей и, так же как он, «бессредственных» литераторов, а был
бы «своим человеком», другом книгопродавцев и книгоиздателей, которые,
разобрав человека, оценив «обещания» в нем, талант и ум, помогли бы ему
советом, указаниями, коротеньким кредитом, да, наконец, просто сочувстви-
ем и ласкою, ободрением и надеждою. Иное слово стоит рубля, - но слово
опытного и знающего человека, человека сильного. В силе-то и дело. В не-
которые годы нужна поддержка не благородного и доброго человека, а силь-
ного. Ее не было. Литератор и философ мой умер, и «легка земля» над его
могилою. Я перехожу к книгопродавцам и издателям.
Из писателей они вспомнили одного... ну, конечно, Л. Н. Толстого. Тут
я и вспоминаю особенно рисунок Гойи. Все имело такой вид или всему
был придан такой вид, будто это собрались двигатели культуры, труженики
прогресса, и они пожелали связать свой съезд с лицом и именем «великого
писателя земли Русской». Они, видите ли, оценили его великодушие, проли-
янное на жертвенник всемирной культуры, и благодарили его телеграммою
за благородный отказ от своих сочинений, т. е. за право их перепечатывать
кому угодно без вознаграждения автора.
Великодушный гр. Толстой!
Великодушные книгоиздатели и книготорговцы!
Он отказался...
Откажутся ли они!..
«(Ут чего?» - спросит читатель. Ну, добрый читатель: не делайте наив-
ного вида и не уверяйте, что сырая квартира заменяет морской берег. Сто-
имость книги слагается из: 1) стоимости производства, т. е. бумаги и печа-
тания, 2) вознаграждения автора, написавшего книгу, 3) «благодарности»
книгоиздателю и 4) «благодарности» торговцу, который вручает книгу по-
купателю-читателю. Бумага и печатание абсолютно должны быть возме-
236
щены; автор может «потесниться», если он богат, как богат Толстой или
Чертков, или совершенно не может, абсолютно не может, ибо ведь все, что
он делает и даже к чему единственно способен, - это что он «думает» и
«думает», «пишет» и «пишет». Между тем желудок его переваривает и ап-
петит хочет есть, да кроме того, хотя это и роскошь, у него есть иногда жена
и дети, «какая-то там жена и какие-то дети», как жаловался и смеялся один
книгоиздатель, когда автор, не получавший за свои книги денег, сослался
на нужду кормить одну и воспитывать других. Все это есть и иногда не
подлежит ни малейшему сжиманию, особенно у молодых и начинающих,
еще «не оперившихся». Затем книгоиздательство как фирма со всеми слу-
жащими и равно книготорговля со всеми приказчиками, помещением и про-
чее должны быть оплачены уравнительно из суммы стоимостей всех про-
данных книг, год за год. Затем остается «благодарю» автору, «благодарю»
книгоиздателю и «благодарю» книготорговцу. Толстой отказался от своего
«благодарю»: вот в отношении продажи и издания его, гр. Л. Н. Толстого,
сочинений откажутся ли от своего «благодарю» книгопродавцы и книгоиз-
датели?
Т. е. станут ли они, без барыша себе, продавать его благодетельные, нра-
воучительные, зовущие мир к обновлению и пр., и проч, сочинения? Об
этом ничего в телеграмме не упоминается. А ожидалось бы. Ну, что им сто-
ит на одном Толстом, solo-Толстом, среди тысяч других авторов и книг, не
брать ни копейки барыша, взимая лишь строго за одну бумагу и издержки
печатания, т. е. оплату наборщиков и корректоров? Ведь уже на одних учеб-
никах они достаточно взимают, чтобы оплатить роскошь обстановки мага-
зинов и всего прочего?! Но что они со своей стороны «окажут великоду-
шие» публике и дадут ей в пятикопеечных и десятикопеечных книжках его
великие морализующие и религиозные творения, его наставительные рас-
сказы из народного быта, об этом они в телеграмме промолчали...
Между тем телеграмма имеет этот тон аттестации и себя: «Вы, гр. Лев
Николаевич, поняли невозможность брать что-нибудь за сочинения, возве-
щающие великие истины, и отказались от вознаграждения. Мы жмем вашу
руку, потому что мы вас понимаем». Другие писатели еще не возвысились
до такого «понимания», и книгоиздатели и книготорговцы далеки от руко-
пожатия им. Другие писатели... но из них ведь вообще очень мало похожих
по благополучию на Толстого. Вспомним Достоевского, который тоже был
«несколько талантлив», даже, вероятно, на оценку таких судей, как книго-
продавцы, и всю жизнь прожил в нужде. Вспоминается его «издатель» Стел-
ловский: он связал его каким-то необычайным контрактом, так что Достоев-
ский, как угорелый, ходил по комнате и наскоро диктовал стенографистке
своего «Игрока». Без доставленных стольких-то листов нового романа к та-
кому-то сроку Стелловский грозил его засадить в тюрьму, как «неисправно-
го должника».
Вот воспоминание, которое должно бы несколько отяготить душу кни-
гоиздателей и книгопродавцев. Они «протягивают руку» преуспевающим,
237
но отдергивают руку от того, что связано с несчастьем, неудачей, от всего,
что хворает, нуждается, бедно и слабо... «Отдергивают руку» вслепую, не
разбирая, где талант и только временная неудача; и, например, если не в
телеграммах, то в книгоиздательстве «протягивают руку» и положительно
дурному. Кто отказался издать «Четырех» Анатолия Каменского, кто не гнал-
ся за «Саниным» Арцыбашева? Входило ли «в моду» хулиганство или пор-
нография, книгопродавцы, как вороны, питающиеся падалью, кидались на
все и все разносили «в пищу» еще слабому и некультурному народу, - лишь
бы давало им «барыши». Вот отчего с телеграммой Толстому, такою самоат-
тестующею телеграммою, им не следовало бы торопиться.
И без телеграмм была бы ясна их душа, если б на съезде они решили
построить в складчину маленькую больничку для инвалидов-писателей, -
такие есть; если бы подняли вопрос и обдумали, как издать в хорошем пере-
воде классиков западноевропейской философии. Труд Малебранша, напр.,
несколько лет пролежал переведенный в рукописи, не находя ни одного из-
дателя. Несколько лет!
И вообще издателей ученых хороших книг, если это не суть книги меди-
цинские и технические или книги юридические, - обещающие немедлен-
ный и верный барыш, - у нас трудно найти. Писать серьезную книгу на
русском языке может только или герой или наивный: он не найдет себе изда-
теля! Русский издатель берет обыкновенно только то, что связано с бары-
шом: и ничего другого, решительно ничего не берет! Тот же Толстой, ли-
шись он славы своей и останься при одних качествах, тех же самых каче-
ствах, как сейчас, - не нашел бы себе никого в издатели!
Все - по славе. А слава - деньги.
Каким же образом люди угомоздились «в тетушек» культуры, в «дру-
зей» цивилизации, когда по положению и средствам они действительно могли
быть таковыми, но жадно, брося славу и честь, ухватились за один рубль?
«Книгоиздатель», «книгопродавец»: да, в самом деле, это мог бы быть друг
культуре, и в каком прекраснейшем одеянии! «Сам я не имею таланта - не
могу писать; но тем болезненнее и тоньше я чувствую настоящий талант. И
пусть мое дело небольшое, не небесное - но вот я техникой, трудолюбием,
умелостью, рублем и всем, что имею, - тяну к свету и к свету, людям в по-
мощь все, что дает талант». Такая «техника» воистину стала бы святою: и
можно представить себе, каким ореолом окружили бы, и чистосердечно,
бескорыстно, отнюдь не за себя, писатели такого «книгоиздателя» и «книго-
продавца». Окружили бы сильные и уже «оперившиеся» за то, что он помог
слабым, умирающим, «бесперым». Не одною больницею, а именно «книго-
издательством», но умным, зорким, талантливым, в определенном проценте
- бескорыстном. Ибо, по существу дела, сплошное бескорыстие здесь не-
возможно, конечно, и не требуется, не ожидается.
238
САНТИМЕНТАЛИЗМ И ПРИТВОРСТВО
КАК ДВИГАТЕЛИ РЕВОЛЮЦИИ
«Под давлением исторических судеб в русском сознании совершился та-
инственный процесс трансформации одной силы в другую: русская лич-
ность стала радиоактивной, начала излучивать от себя к народу, от себя к
обществу, от себя к человечеству грустную, бледно-светящуюся, всепро-
никающую нежность. Вместо вожделения, хотя бы эстетического, вместо
вражды, хотя бы и священной, вместо мстительности, хотя бы и справед-
ливой, в русском сознании зажглось новое, еще неведомое доныне, может
быть, жемчужно болезненное, в болезни выстраданное, с темного дна ис-
тории вынесенное на свет чувство социал-гуманитарное, чувство всечело-
вечной любви».
Так пишет, вероятно, пепиньерка, т. е. недавно кончившая курс воспи-
танница Смольного института, страдающая хлорозом, т. е. бледной немо-
чью, «понеже еще не имеет мужа», девица чувствительная, недомогающая
и что-нибудь впервые прочитавшая из Глеба Успенского или Златовратско-
го. Полное невинности дитя, на которое впервые пахнуло что-то из социал-
демократии. Смотрю на подпись и глазам не верю: «Минский!» Редактор
социал-демократической газеты в 1905 г., переложивший в вирши:
«Пролетарии всех стран, соединяйтесь!» -
т. е. пытавшийся в тот особый год двинуть штурмом «известно кого», тоже
на «известно кого», муж лет 45, черный, квадратный, похожий на черного
рака, если ему отрубят клешни и хвост. «Милое дитя... нежное дитя! Жем-
чужные слезки... Кап, кап, кап». Нежнейшая девушка должна взять батис-
товый платок и утереть глаза плачущему в истоме социал-демократу.
Это лето, в июне месяце, было сообщено в газете «Нов. Вр.» сокращенно,
как судебный отчет, а в газете «Речь» подробно, как рассказ с места, под загла-
вием: «Кошмарная история» - о следующем случае. В Выборг, где в какой-то
конторе, в кассе, служила девушка социал-демократка, прибыл и тоже посту-
пил на службу в этом же учреждении крестьянин-интеллигент из средних на-
ших губерний. Он был женат, жена осталась на родине. Он вступил в местную
фракцию социал-демократии. Должно быть, был меланхолик, угрюм и вооб-
ще имел тот «демонически» молчаливый вид, под которым обычно невинные
девушки предполагают Бог знает что, а на самом деле ничего нет. «В нашей
фракции появился очень интересный новый член», - сказала матери и сестре
социал-демократка девушка и ввела его в дом свой. Можно представить се-
мью из старушки матери и двух взрослых дочерей, жившую на труды после-
дних: вторая дочь была сельской учительницею. Все положили «веру, надеж-
ду и любовь» на Маркса, который наружно очень походит на Минского: такой
же квадратный, толстый и деревянный. Но он сказал:
«Пролетарии всех стран, соединяйтесь!» -
и три сироты-женщины, пролетарки, сочли это за Евангелие.
239
Девушка полюбила мрачного демократа, но пылко спорила с ним об
«убеждениях», именно: не разделяла его крайностей и решительности.
Он был «максималистом», что ли, т. е. включал в программу действия и
экспроприацию частной собственности, и разрешение на убой... «Мне
кажется, чем отнимать чужое имущество, если есть нужда, - лучше при-
бегнуть к займу». Она работала и чувствовала возможность отдать, а мрач-
ный «мыслитель», судя по дальнейшей карьере его, разговаривал и ло-
дырничал, отдавать ему ни из какого заработка было невозможно, и он,
естественно, предпочел программу экспроприации. «Короче и проще!»
Решительность очаровывает женщин: она пылко с ним спорила, а сердце
незаметно и незаметно теряла. До гипнотизма, до той силы привязаннос-
ти, которая, встречаясь у хрупкого существа, пугает предчувствием ката-
строфы и гибели.
Последовала любовь между ними, подробности которой не рассказаны,
но контуры ее все-таки даны. Судя по тому, что он говорил ей, будто «жены
не любит и с нею разведется», видно, что он манил ее браком, и по этому
судя, а также и по тому, что с его стороны любовь оказалась потом притвор-
ною, он, очевидно, хотел «экспроприировать» ее невинность и молодость.
Но не удалось: любовь остановилась на границе только духовной, и, может
быть, тем пылче разгоралась она в целомудренной девушке. Она все спори-
ла с ним. Приехала жена этого рабочего, умолявшая девушку оставить ей
мужа, и, по-видимому, это так и решено было. «Но в сердце своем человек
не властен», - и, несмотря на усилия победить чувство, девушка более и
более побеждалась им.
Она служила около денег, - в кассе, что ли. Вдруг назначена была вне-
запная ревизия: деньги оказались целы и все в исправности. Но девушка
была оскорблена и стала разузнавать, от кого это шло. Оказалось, что шло
это от любимого человека, но не прямо, а косвенно. Как и в последующих
событиях, он действовал таким образом, что сперва возбуждал чужое подо-
зрение, но затем, когда оно оформливалось и определялось, когда, так ска-
зать, гонка началась и зверь был указан, он отходил в сторону и явно, глас-
но отрицал возможность преступления, но отрицал бездоказательно, а «по
доброй душе». Но на охоте «доброй душе» не верят, и он, конечно, это знал.
Вообще в нем было нечто от Яго из «Отелло» Шекспира, но не в сфере
личной страсти, а в мрачной сфере политики и «партийности». Негодую-
щая девушка искала встретиться с ним, чтобы объясниться, но он уклонял-
ся от встреч. Можно представить себе хаос в душе ее: любовь все растет, и
горечь все растет. Горечь, яд от любимого. Но есть в человеке какая-то
страсть к самой муке, - и часто мы любим страстнее и страстнее то или
того, откуда на нас льется мука. Мрачный максималист возвращается на
родину, во внутреннюю Россию, но из родного села скоро выпровождается
административным порядком в ссылку, в Олонецкий или Вологодский край,
и там поселяется в деревне. Около него другие ссыльные, и все на той же
медовой почве социал-революционности. Конечно, толки, разговоры о том,
240
как далее «ниспровергать» или по крайней мере как истреблять «врагов
человечества». Сосланные - «друзья человечества». На этой почве личных
идей продолжается личная драма. Интересно отметить, как она человечна
и как бесчеловечна эта общая почва. Девушка, все время следившая за судь-
бой любимого человека, объявляет матери, что она поедет в место его ссыл-
ки, чтобы быть невдалеке от него для возможной помощи, потому что «он
теперь одинок и несчастен». Кажется, в состав мотивов поездки она ввела
и то, что хочет непременно добиться от него ответа, действительно ли он
подозревал ее в нечестном отношении к кассовому сундуку, в чем когда-то
обвинил и вызвал ревизию. Вероятно, мать и сестра упрекали ее за столь
бесплодную и унизительную любовь, и она старалась хоть наружно пока-
зать, что не столько любит, сколько не хочет оставаться замаранною в гла-
зах хотя и враждебного ей человека, но все-таки человека и «товарища по
партии и убеждениям». Отправилась. И поселилась не в том селе, куда он
был сослан, но в ближайшем. Трагедия надвинулась. Он, очевидно, не лю-
бил ее, как не любил жены, как, вероятно, не любил никого. «Печальный
демон, дух изгнанья, летал над грешною землей...» Но, не любя, можно
пожалеть, наконец, можно просто оставить без внимания. Для злобы здесь,
- никакого мотива. Ведь она не навязывалась, держалась сторонкой. Да и
не была ему окончательно неприятной, потому что в Выборге он все же в
доме ее матери находил приют, проводил вечера, садился за обед (обо всем
этом перед судом рассказали мать и сестра). Раз, в его отсутствие из дома,
она имела неосторожность войти в него, оставалась там несколько и пере-
бирала книги. Хочется ли, не хочется ли, а припомнишь Таню Ларину, так-
же перебиравшую книги Онегина в его библиотеке. «Что читает?», «Нет ли
пометок на полях книг?», «О чем его дума?», «Какова его дума?». В итоге
«кто же он?». Так мы осматриваем даже тропу, по которой прошел люби-
мый человек, а уж аллею, «где он любит гулять», изучим, влюбимся в нее, и
все нас будет тянуть к ней. Вечное чувство, вечный факт пантеизации люб-
ви, распространение ее с любимого лица на все вещи, соприкасающиеся с
этим лицом. Вернувшись и узнав об этом, «печальный демон» вдруг обви-
нил перед «товарищами», что по соседству с ними живущая девушка есть
подосланная правительством шпионка, а вот и доказательство: входила в
его комнату и рылась в его книгах. Зная предыдущий роман свой, он не мог
не знать, по всей сумме психологических данных, что ее привела только
любовь и никакого шпионажа здесь не было. Но всякий Добчинский хотел
бы быть важной персоной, «опасной персоной», - которая грозит и которой
боятся. Ну, что тут следить за сосланной ватагой простолюдинов, которыя
и при всем желании «взорвать весь свет» не могут сделать больше, чем
вырвать хвост у бегущей курицы. Ведь все далеко, ни до чего не доста-
нешь. Что же касается «образа мыслей», то он так известен из книжек, бро-
шюр и прокламаций, что чего же тут «искать», «подглядывать» и «подслу-
шивать». 1001-е повторение формулы «взорвать весь свет». Не любопытно
слушать именно оттого, что дальше некуда пойти, а этот максимум всем
241
известен. Но жажда медали вскружила голову: «За нами, конечно, следят»,
- решила дюжина Добчинских. Если девушка не шпионка, то кто же они? -
Обыкновенные смертные. А если шпионка, то - «опасны» и их «боятся».
Можно представить себе, как они подталкивали друг друга к этой мысли -
«шпионка»; ведь медаль общая, на всех. Взаимно гипнотизировали, подо-
гревали и от полуверы переходили к полной вере. «Азеф ловит Веру Фиг-
нер, нас, конечно, тоже ловят». Хотя чего же их ловить, когда они пойманы.
«Все-таки, самая мысль опасна». От социал-революционной мысли загора-
ются небеса и сырые сосны в лесу зарумяниваются. «Шпионка, роется в
бумагах, ищет записочек, конспиративных знаков». Все зреющее - дозре-
вает: а если бы ее убить, то кто же усомнится тогда, что действительно их
«искали» и за ними «следили», и, главное, сами они вполне бы уже увери-
лись в счастливой мысли, что целая Россия необыкновенно испугана ими.
Что зреет - дозревает, а чего хочется - исполняется: черный ворон смерти
уже носится над несчастною девушкою, а она ничего не знает и только
любит и любит. Конечно, все это, может, было и прозаично, «по-мещан-
ски», но мне неудержимо хочется сравнить эту девушку и с милой Татьяной,
и с прелестной Дамаянти, отыскивающей своего Наля. Может быть, она
была курноса, рябовата: разве же в рябой не может зародиться Дамаянти?
Не все великие судьбы только смазливым: что-нибудь надо оставить и «чер-
навкам». Но оставляю свою личную мысль и передаю факт: «Наль», бурк-
нув о шпионстве, то есть толкнув на эту мысль добродетельных «товари-
щей», уклонился от дальнейших действий и только «не отказался» вызвать
девушку письмом на свидание в уединенное место в лесу. Дальнейшее уже
передается сведениями «оттуда», из внешнего мира мещанства, полиции и
домохозяев: «барышня» часа в четыре дня, одев шляпку, пошла туда-то, в
поле и лес; к вечеру не вернулась, на другой день не вернулась. Стали ис-
кать и нашли ее зарезанною. Обстановка показывала отчаянную борьбу:
платье и особенно рукава были изорваны, руки и тело избиты, но особенно
характерны были синяки на спине: несчастную, повалив лицом на землю,
топтали сапогами. «Шпионка! Змея!» Потом - зарезали.
«Наль» был ни при чем, в сторонке. Добчинские, когда раскрылось, ка-
кая это была «шпионка», каялись, терзались и обо всем рассказали.
Вот дело. Личное, маленькое. Не громада, не забастовка. Как «малень-
кое дело», оно не войдет, конечно, в ту семитомную «Историю освободи-
тельного движения в России», подписка на которую только что недавно объяв-
лена и где будут фигурировать все люди большие, смелые, умные... и счаст-
ливые.
Спящий в гробе мирно спи.
Жизнью пользуйся живущий.
Россия идет к свободе, но на эту свободу никогда не взглянет зарезанная
в вологодском лесу девушка, которая так хотела ее, так рвалась к ней и по-
любила «свободного» человека «свободною» любовью, и вообще вся, со
242
своею бедной шляпкой и в шерстяном платьице, была уже маленькой зорь-
кой-предвестницей будущей свободной родины.
Мать ее, сестра ее?.. Как вот они-то тоже будут глядеть на «свободную
Россию», с каким чувством? Конечно, триумфаторы, идущие дальше, мах-
нут рукой на них: «Ну, что - утешатся: сестрица выйдет замуж и забудет
сестру, а мамаша скоро умрет».
Социал-революционер Бердягин (вымышленное имя, подлинное - не-
известно), приговоренный к смерти, писал накануне: «Настанет время,
когда любовь и разум проникнут в жизнь человека, и мир представит еди-
ную братскую семью. Этот рай омывается не Тигром и Евфратом, а исти-
ной и справедливостью... Я счастлив, умирая: ave, Revolutio, morituri te
salutant*;
В наше время легко умирать...
Уж идет золотая весна...
И готов хоть две жизни отдать
За святой идеал впереди...»
Так, мешая стихи и прозу, сказал свой идеал социал-революционер. Это
было в 1907 г., в июле месяце. Видно пламя: но где имя, образ? К кому идеал
отнесен и кого, в сущности, он связывает? Вместо того, чтобы петь о рае,
«омываемом справедливостью и разумом», лучше бы он показал хоть кош-
ку, которую накормил, собаку, которую погладил рукой. Тогда бы я видел,
что за человек, и, может быть, пожал бы ему руку. Протопоп Аввакум, когда
его тащили на барке по сибирским рекам, кроме своего староверия («идеи»)
рассказывает и о курице тут же, которой было холодно, и он ее согрел. Это
конкретно, и нельзя не поверить. Но как можно поверить схемам Бердягина,
где не высовывается ни единая конкретная ниточка, за которую можно было
бы ухватиться, чтобы узнать, что за человек. Но есть и конкретное, не в
рассказе о себе, а в передаче фактов о нем. Он на суде отказался назвать имя
и отказался слушать самый суд. Его вывели и поместили в подвальном эта-
же тюрьмы, приставив трех надзирателей. Казнь должна была совершиться
14 июля: 13 он принял морфий, но в слишком большой дозе. Произошла
тошнота, и он остался жив. Тогда бывшею у него иголкой он попытался про-
колоть себе мозжечок (через отверстие в затылке), но не мог попасть, куда
следует. Тогда, отломав черенок ложки и обточив о кандалы, он пробовал
воткнуть в сердце, но он погнулся, и грудь была только изранена местах в
десяти. Все это - потаенно, под одеялом. Тогда он налег грудью на подстав-
ленный гвоздь, стараясь пробить легкие и сердце. Это удалось отчасти: при
вскрытии ребро оказалось пробитым насквозь, задета была и сердечная сумка.
С такой раной, по словам врача, он мог бы жить еще час. Но он не вытерпел:
вытащив гвоздь назад и обратившись опять к черенку ложки, перерезал им в
двух местах сонную артерию. Тогда умер.
* Здравствуй, Революция, идущий на смерть приветствует тебя (лат.).
243
Спрашивается, сколько надо иметь злости в душе, чтобы совершить все
эти манипуляции для доставления себе единственного торжества - принять
смерть не от рук официального суда? Допустим, что суд - черен, несправед-
лив, судящие - злодеи: однако ненавидение их, в такой мере ненавидение,
не перевешивает ли чернотою своею, ядом своим решительно все то дур-
ное, что есть как возможное в судьях и суде, и не содержат ли факты эти
вовсе не «рай, омываемый справедливостью», а подземную реку Стикс, омы-
вающую ад и все адское? Потому что такой беспримерной злобы, о таком
напряжении злобы, решительно не читается ни в одной всемирной хронике.
Передающий все эти факты, по книжке, изданной в Москве в 1908 г.
«Памяти Фрумкиной и Бердягина», пишет:
«Не герои, а неудачники. Еще Фрумкина на что-то покушалась, а Бердя-
гин только прошелся по улицам с бомбой и браунингом». И, распространяя
две биографии в общую характеристику революции и революционеров, про-
должает:
«Носят бомбы, но не кидают; отравляют пули, но не стреляют; смазы-
вают кинжалы ядом, но яд не действует. Едва ли простая случайность эта
беспомощность. Чего-то не хватает им, или чего-то у них много для убий-
ства. Точно заклятие наложено, какая-то невидимая сила удерживает руку
их; едва вынимают меч из ножен, как раздается веление: «Довольно, ос-
тавьте, вложите меч в ножны». И отсеченное ухо раба Малха исцеляется.
Жалят безвредно, как пчелы, чтобы, ужалив, самим умереть. Не убийцы, а
жертвы»...
«Жалят безвредно»... Все это бледно-голубое, меланхолическое осве-
щение дано в resume фактов, сообщенных о Фрумкиной и Бердягине. Пови-
вальная бабка Фрумкина вместо того, чтобы воспринимать и воспринимать
младенцев, давать и давать жизнь, облегчать и облегчать страдания, вышла
на другой путь: в 1903 году «отточенным ножом нанесла удар в шею началь-
нику киевского жандармского управления, генералу Новицкому. Ее прису-
дили к 11 годам каторги, которую отбывала она в горном Зерентуе. По мани-
фестам срок сократился. Ее отправили на поселение в Читу, откуда она бе-
жала в 1907 г. и в том же году была арестована в Москве, в Большом театре,
близ ложи московского градоначальника, с браунингом, заряженным отрав-
ленными пулями, и заключена в Бутырскую тюрьму, где покушалась на жизнь
тюремного начальника Багряцова - выстрелом из револьвера ранила его в
руку. Ее повесили 11 июня 1907 года. Неизвестный же, именующий себя
Бердягиным, арестован в Москве в 1905 году, причем у него найдены бомба
и браунинг, приговорен к восьми годам каторги. 5 июля ранил в шею кинжа-
лом, смазанным синеродистым кали, помощника начальника той же Бутыр-
ской тюрьмы, где содержалась и Фрумкина, приговорен к повешению, до 13
июля убил себя гвоздем и отточенным черенком чайной ложки»... «Не ге-
рои, а неудачники!»
Во-первых, слишком ясно, что ведь многое и удавалось, так что «ухо
раба Малха не исцелялось»...
244
А во-вторых, самое главное: опять, сколько же злости на все эти подго-
товления, на смазывания ядом кинжалов, на стравливание пуль?! Какая бо-
язнь воображения: «вдруг не удастся». Страх, что «не удастся», - самый
томительный. О смерти они оба пишут: «Умереть не страшно». Да и слиш-
ком ясно, что не страшно. Но если бы жертва ускользнула? О, вот этого
страшно. Нужно, чтобы она задрыгала ножками от синеродистого кали, хотя
бы пуля или кинжал и прошлись только царапиной по телу. Жажда, чтобы
«подрыгали ножками», была так велика, что затемняла ум и заставляла не
только забывать о том, кто вокруг будет убит, из прохожих, из невинных, но
даже и оставлять бомбы в садах, на улицах, причем они разрывались иногда
и убивали нашедших их детей.
Ведь все же это факты, и их не мог не знать пишущий?
О суде над собою Фрумкина пишет:
«Мы все сидели вместе, за длинным столом - жандарм стоял вдали, - и
я спокойно, просто и ясно доказывала им, как мы глубоко любим нашу ро-
дину, как страстно мы хотим ей помочь, как стыдно жить среди тысяч каз-
ненных и замученных, как легко и радостно отдать свою жизнь за нее. Су-
дьи молча и проникновенно слушали. Я не чувствовала в них врагов, я чита-
ла на их лицах уважение к русскому революционеру».
Так или не так это было, но Фрумкина так чувствовала... По сообще-
нию биографии «суд сделал все, что от него зависело, чтобы избавить ее от
смертного приговора, объявив душевнобольною, хотя никто не сомневался
в ее здоровье. Но она сама этого не захотела и вынудила у судей приговор»
(Мережковский. «Бес или Бог», стр. 227).
Что же было перед ее глазами, это ясно для всей России: 1) так или ина-
че - дорваться и убить. Просто - томление, невыразимое томление без убий-
ства. Да «не могу жить». Едва ее освободили, отдохнуть бы, попрактиковать
акушерство, дать жизнь нескольким ребятам: нет, она рвется к убийству и с
револьвером, заряженным отравленными пулями, входит в театр. «Чтобы
промахнуться», - комментирует Мережковский. Вряд ли. Ее арестовали до
выстрела, и ведь не для ареста же она пришла сюда. Но акушерство, дей-
ствительное спасание людей, ей отвратительно, а убийство мило. Но она
«страстно любит родину», «страстно хочет ей помочь». В чем конкретно?
Чтобы избавить ее «от этих извергов». Кто же изверги? Здесь открывается
вторая картина, не только перед нею лежавшая, но и ясная всей России;
2) после удара в шею ножом «изверги» все же не только не убивают ее, а даже
сокращают, и не однажды, наказание, до замены каторги поселением, т. е.
просто географическим удалением от мест, где она могла бы продолжать
свои эксперименты; но когда, бежав, она немедленно возобновляет полосу
убийств, «изверги» все же хотят ее спасти, путем судебной лжи, т. е. сами
себя принуждая ко лжи, и, когда она отвергает это, смотрят на нее без вражды.
Вот два факта, на весах России, на которых взвешивается революция.
Старый порядок, соглашаемся, - грязноватый, соглашаемся, - глуповатый:
1) сбавляет наказания; 2) хочет избавить от казни; 3) смотрит на явного вра-
245
га своего, неукротимого убийцу, без вражды. Просто это рохля, «Иван-ду-
рак» сказки, не за этот суд «Иван-дурак», а в делах мира и войны, законов,
политики, что все у нас Бог весть с каких пор идет неудачно и дурковато. За
что же, однако, тут ненавидеть так особенно и казнить так страшно кинжа-
лом, пулей, синеродистым кали? Зачем убегать от суда этого «Ивана-дура-
ка» до убийства себя гвоздем, ложкой, иголкой или морфием? «Пусть же
погибну не через руки этих гадов». В самоубийстве Бердягина сказалась
именно гадливость к судьям, какая-то по-ту-светная гадливость, именно
хлебнувшая от черных вод Стикса: в этой психологии гадливости вся и суть.
Между тем «гады» хотели освободить Фрумкину - женщину чужой веры,
чужого племени (еврейка).
Где же, у кого человечность? У «Ивана-дурака», неумелого «старого
порядка», или у «избавителей» России, революционеров?
Где человечность и доброта?
Ввиду очевидности нельзя не прийти к мысли, что просто какая-то ни-
точка мешает раскрыться глазам и увидеть то, что яснее «дважды два - че-
тыре». «Мы любим Россию»... Но на деле ьы убиваете. «Мы хотим помочь
ей»... Но на деле вы не хотите помочь даже роженице-матери, кричащей в
муке. Если она так великодушна, эта Фрумкина, то при интеллигентности
своей она могла бы не кое-как, а отлично усвоить акушерское ремесло: и
вот, поселясь в бедном квартале, среди глухих деревень, беря по четвертаку
за роды, только чтобы прокормиться самой (как великодушная революцио-
нерка), ведь она спасла бы сотни жизней, заставила бы за себя Бога молить
целую округу, стала бы легендарною, дала бы пример сотням и тысячам
русских повивальных бабок, вошла бы в историю земства и проч. Перед
этим добром ну что значит свалить градоначальника, на место которого
станет другой, или жандармского генерала, каковое место также не останет-
ся без заместителя. Явно, это «добро» ничтожно сравнительно с тем остав-
ленным, пренебреженным добром. Ведь генерал не вешал же акушерок, во-
обще акушерок, и не мешал им принимать ребят? Градоначальник не мешал
учителям учить ребят? И вот если бы Бердягин дивно учил ребят, а Фрумки-
на отлично их принимала у рожениц, то вышло бы с двух сторон такое явное
добро для России, что она сказала бы, все сказали бы: «Фрумкина и Бердя-
гин, вообще такие, как они, - любят Россию, страстно хотят ей помочь».
Ибо есть факты. Но какие же факты, что погибшие Бердягин и Фрумкина
любили Россию, страдали за Россию? Ни единого факта. Голый тезис. Го-
лое утверждение. А уже Писарев сказал, да и всякий позитивизм этому учит:
«Идеи проходят, факты остаются».
Перед смертью Фрумкина писала товарищам:
«Обо мне не печальтесь - все хорошо, и все будет хорошо... Дорогие,
родные товарищи: я ношу почетное и великое имя русского революционера,
и этому имени приписывайте мою способность и готовность радостно уме-
реть за наше святое дело, - но не мне. Русские революционеры умеют жить
и умереть для счастья родины, - и я только следую их примеру. Не выделяй-
246
те одного, а говорите: «Прекрасна русская революция!»... Желаю вам свои-
ми глазами увидеть освобождение России. Желаю хорошо жить и хорошо
умереть. Прощайте».
Так пламенно, что, конечно, - искренно. Весь в этом и секрет силы, что
искренно. Но в это пламенное исповедание надо плеснуть холодной воды,
чтобы та же Фрумкина, с женской правдой, закричала:
«Я только зла, так зла, как море, как океан, как огнедышащая гора... Нет
злобе моей предела. Ради жизни, чтобы сколько-нибудь она цвела, ради здо-
ровья, ради общества, ради какого-нибудь счастья моей родины, которое кос-
венно и схематически я не могу не ценить, временно устраните меня из этой
жизни, посадите в приют, в пансион, в богадельню, больницу, но непремен-
но под присмотр, пока я не перевоспитаюсь, не перерожусь... И, дорогие
товарищи: сделаем это великое самопожертвование для нашей любимой
России, самопожертвование неестественное, труднейшее, чем пойти на ви-
селицу: сознаем, что мы чем-то отравлены, как-то искривлены, не видим
ничего, не понимаем, и все, что делаем, - есть сущий яд для России, отрава
для народа, гибель для будущего. Мы гораздо хуже плохонькой России, по-
тому что мы определенно дурны и твердо дурны, потому что мы ослеплены
своими качествами, тогда как в России все так и сознают, что они - плохова-
ты. Мы не спасители, а губители России, уже потому, что губители труда и
дела в ней. И попросим смиренно, - что правда труднее виселицы и страш-
нее казни, - чтобы нас всех и гурьбою посадили в какой-нибудь пансион,
под присмотр добрых старушек и нянь, которые уходом, жалостью, терпе-
нием исцелили бы черную ненависть, которая нас съедает с испорченного
детства, и на месте ее зародили бы сладкую доброту, ясность и трудолюбие».
И лет через пять такого пансиона:
1) энтузиасты-акушерки,
2) энтузиасты-врачи по всей России, по деревням и селам живущие (чего
ведь нет),
3) энтузиасты-учителя,
4) энтузиасты-священники,
5) энтузиасты-чиновники.
Лет через десять Россия была бы совсем здорова.
Но нет: страшнее тюрьмы, каторги, кнута, виселицы... сознание!
К ИСТОРИИ одного
КНИГОПРОДАВЧЕСКОГО РАЗОРЕНИЯ
Литературный фонд благодетельствует писателям, выдавая копеечные пен-
сии и рублевые пособия. И посмотрите на величие его председателей и раз-
ных членов, «покровительствующих» литературе... Олимпийцы-благодете-
ли. Выхлопатывают больным даровые ванны на Кавказе и проч, и проч.
Благодеяниям нет конца, и чванству нет конца. Но было бы несравненно
247
лучше, если бы, вместо этих своих благодетельных подачек «даром», он за-
щитил расхищаемые права авторов. Вот здесь нас несколько человек, и мы
все обобраны... И ничего не сделаешь. Все дело так формально обставлено,
что приходится только покориться. Мы все работали, писали по несколько
лет: пришел «друг прогресса», издатель Пирожков, сел, как на подушку, на
эти наши многолетние труды, и вот теперь вытащите-ка их. Литературный
фонд, будь он деятельным другом писательской бедноты, своим авторите-
том, влиянием, влиянием нравственным, а не только юридическим, мог бы
предупредить подобное обирание литераторов, людей ручного и ежеднев-
ного труда, умственных пролетариев в полном смысле.
Так говорил очень молодой литератор, и я был удивлен. Никогда подоб-
ного мне не приходило в голову. Но в самом деле: чем выдавать от себя
пособия, сравнительно копеечные, даром без отдачи, не лучше ли бы было
Литературному фонду стать стражем около писательской работы, не допус-
кая никого изымать ее в свою пользу, отнимать чужие литературные труды
на безукоризненных юридических основаниях, но при которых: «была кни-
га моя», а стала книга «собственностью Свечина и Карбасникова», которо-
му Пирожков в сто раз больше должен, чем мне, и обеспечил права их, этих
книгоиздателей-коммерсантов-товарищей (по однородности дела) в сто раз
устойчивее и солиднее, нежели наши авторские права.
Разорение, конечно, как и смерть, подобно ей: «в душе нашей, в жизни
и в смерти, Бог волен». Винить за разорение, т. е. за несчастие, невозможно
человека, хотя бы сам и был вовлечен в часть убытков от него. «Все падают,
и я падаю». Остается только перекреститься и вздохнуть. Так и было с ря-
дом писателей, книги которых издал г. Пирожков, заключив с ними догово-
ры, - но не уплачивая по этим договорам деньги в сроки, со ссылкою, что
«теперь трудное время для книги, - покупают только политические брошю-
ры, - а вот два-три года пройдет, дело пойдет лучше, сбыт именно моих
изданий совершенно обеспечен их солидностью, и тогда вы получите все по
договору». Все ждали; и, повторяю, когда разнеслась весть о банкротстве,
раздалось только «ах», но без укора книгоиздателю.
«В жизни, в смерти Бог волен». Оторвалась вывеска, когда вы шли по
улице, - и ударила в голову. Тут «Бог волен». Совсем иное дело, если, став
под вывескою, вы отрывали ее сами руками. Тут не «Бог волен», а ваша
глупость: и когда вы ею разоряете других, тут есть причина для морального
негодования.
Когда вышла моя книга «Около церковных стен», то, показывая две горы
ее, М. В. Пирожков говорил:
- Вот видите. Не идет. Лежит.
Как автор, я не мог не конфузиться. «Значит, скучно написал. Неинте-
ресно, не нужно читателю и России». Я опускал голову, а ласковый взгляд
М. В. Пирожкова договаривал:
- Как же я буду вам платить по договору, когда сам от продажи ничего
или очень мало получаю.
248
«Подождите»... Это вытекало само собою из дела.
Но вот, сам я думаю, причина разорения, которую невольные «соучаст-
ники» его не могут не контролировать. Молодой автор, выразивший неудо-
вольствие на Литературный фонд, кончил смехом.
- Я только что начал писать, пишу года три-четыре, и статьи мои, фило-
софско-публицистического содержания, собранные в книгу, не обещали ра-
зойтись более чем в 1200 экземпляров; самое большее - 3000 экземпляров.
Пирожков купил право на 3000. Между тем напечатал 7000. Когда же они
разойдутся??!
- До чего глупо! - оживился я. - Вам, собственно, ничего: книга такого
«текущего» содержания, как ваша, едва ли бы дождалась 2-го издания. Ис-
текли дни, и истек интерес. Так что хоть бы он 100 000 экземпляров печатал
- автору все равно, и даже чести больше. Но ведь он заплатил за бумагу, а
вы, автор, думаете...
- Не может разойтись более 1200 экземпляров!
- Значит, он употребил бумаги, без пользы себе и вам, ровно на 5800
экземпляров лишних, т. е. утроенно больше, чем, например, авторский го-
норар. Как глупо! Ну, вот и понятно разорение. Он напечатал горы книг,
которые не могут продаться иначе, как в пятьдесят лет.
Тем не менее это сообщение молодого писателя, как не опертое на лич-
ное доказательство, осталось в голове моей в той смутной форме, как оста-
ется все не вполне доказанное, неочевидное. «Может быть, субъективное
мнение». Но не так давно, недели 2-3 назад, председатель Конкурсного
учреждения по делам несостоятельного должника М. В. Пирожкова любез-
но согласился дать мне справку о числе еще не распроданных моих книг, что
мне было важно знать в целях соображения, через какое приблизительно
время сочинения мои освободятся, и я могу приступить к переизданию их,
уже в свою пользу.
Председатель конкурса абсолютно не заинтересован в том, «идут» кни-
ги или «не идут»... И вот, передвигая торговые книги и еще не раскрыв их,
он сказал, к большому авторскому утешению, что «Около церковных стен»
идет (распространяется) хорошо, «Легенда об инквизиторе» даже очень хо-
рошо, а «Ослабнувший фетиш» идет отлично. Я был удивлен. О последней
брошюре я предполагал, что она совсем остановилась, как утратившая жи-
вотрепещущий интерес, которому отвечала года три назад.
Я мысленно потирал руки. «Что же Пирожков жаловался, что горы книг
лежат и не распродаются».
Председатель конкурса, г. Спешнев, раскрыл книги, - их было несколь-
ко, - и стал говорить мне цифры имеющихся моих книг у конкурса в складе,
у г. Карбасникова, которому наши книги поступили в уплату ему долга
г. Пирожкова, и г. Свечину, на таком же основании. Некоторые мои книги
оказались лежащими целиком у Карбасникова, некоторые у Свечина, и лишь
издания П. П. Перцова моих книг распределились у всех трех, но уже в кро-
шечных числах экземпляров, допускающих теперь же переиздание.
249
Я положительно радовался. «Честь» автора возрастала. Особым моти-
вом моим навести эту справку было уведомление моего издателя «Итальян-
ских впечатлений», что книга «Легенда об инквизиторе» нигде не находит-
ся, и, следовательно, она распродана и свободна к переизданию. На обложке
«Итальянских впечатлений» она и помечена «распроданною». В складе кон-
курса ее действительно не оказалось, и я уже готов был подумать, что ог-
ромное издание Пирожкова в числе 5000 экземпляров распродано в два года
вполне. «Наконец-то я преуспевающий писатель», - подумал я.
- Подождите, подождите, - остановил меня г. Спешнев. - Есть! У Све-
чина. Вот... 7400 экземпляров.
Душа моя покрылась трауром. 7400 - это во всю мою жизнь не продаст-
ся, и, значит, я навсегда лишен возможности переиздать самую ходкую и,
следовательно, самую доходную свою книгу. Прав г. Ф., бранивший Литера-
турный фонд. Что же это такое?
Я сообщил, что мне передал г. Ф. о напечатании Пирожковым его книги
вместо обусловленных 3000 экземпляров в 7000 экземпляров.
- Сколько же по договору с вами он должен был напечатать?
- 5000. А налицо 7400. Очевидно, напечатанная 2 года назад сумма эк-
земпляров была 10 000. Понятно, что он разорился не только на бумагу, но и
на уплату типографии за печатание, брошюровку и проч, такого несуразно
огромного количества экземпляров.
Источник разорения Пирожкова, совершенно глупый, становился впол-
не ясен. Он жадничал на «через 10 лет», и подрывал себя на ближайшие
годы, которых не вынес, и впал в банкротство, не пожав «будущей» жатвы.
Все это было при присутствовавшем тут же г. Карбасникове, в магази-
ны и книгоиздательство которого поступили в таком неизмеримом количе-
стве напечатанные нами книги, гг. Мережковского, Философова, меня, Иса-
кова и многих, многих других. Г. Карбасников шумно удивлялся деятельно-
сти Пирожкова, уверяя, что никогда это никем не делается и что это есть
определенный проступок. Проступок это или не проступок - не говорю столь
явно, но что это явная глупость - это очевидно. Но так ли достоверно утвер-
ждение г. Карбасникова, что «этого никогда не бывает», и не здесь ли лежит
одна из распространенных причин книгоиздательских «крахов»?
Вот что еще я имею сказать «вслед книгопродавческому и книгоиздатель-
скому съезду».
ПОЗДНИЕ СЛЕЗЫ
По поводу печального забаллотирования на волоколамских земских выбо-
рах Д. Н. Шипова «Речь» проливает крокодиловы слезы. «Всякое культур-
ное общество, - пишет газета, - ценило бы и берегло такого человека, кото-
рый во времена всевластия чиновнического пронес бережно земскую, об-
щественную идею, из которой родилась русская конституция. И если долгое
время сам Д. Н. Шипов не мог сделать всех выводов из своих действий и не
250
предвидел их неизбежных последствий, если он, идя верным шагом к кон-
ституции, не мог долгое время освободиться от славянофильских утопий, то
это, быть может, только усиливает значение его дела. Д. Н. Шипова влекла
стихийная национальная сила, его устами подлинно говорила страна, посте-
пенно дозревавшая до конституционной формы правления».
Несколько выше Шипов причисляется к необширному у нас числу лю-
дей, «которых само общество выдвинуло как своих представителей, кото-
рые годами честной и упорной работы приобрели почетное, но ответствен-
ное право выражать мысли народа, служить голосом страны; которые уже
выдвинуты, и их уже знает Россия, на них в минуты опасности или затруд-
нения укажет народ: «Вот кому я верю, вот кто найдет форму для воплоще-
ния в жизнь моих желаний и моих чувств».
Так поет газета свою песню в 1909 году, и в этом году сохраняет еще все
приемы наставительницы, предсказательницы и решительницы, как будто
ничего особенного не случилось и сама она не пережила никаких преврат-
ностей судьбы за последние три-четыре года. Теперь Шипов - желанный из
желанных. Имя его действительно ярко выделялось на горизонте русской
общественности, еще когда только занималась заря новой жизни. Кому бы,
казалось, и войти в первую Думу, как не ему? Пусть повторит «Речь» все
определения, какие высказала в отношении его лица. Истый «народный пред-
ставитель». Но истым народным представителем называет его кадетский
орган печати только теперь, в 1909 году, когда вообще всякие похвалы и
порицания в его устах потускнели и, так сказать, сделались «безответствен-
ны». Что за особенная польза, если вас поддерживает кредитом проиграв-
шийся в пух игрок или квалифицирует мудрецом человек, которого вся страна
называет самого «колпаком»? В таком положении и «Речь», и кадеты. Но
было время других возможностей, когда в первый раз Россия пошла к изби-
рательным урнам. Вот бы когда - не говорим «выдвинуть» имя Шипова,
потому что оно и без того было видно, - а только не делать искусственных
манипуляций и чрезмерных усилий, чтобы правдой и неправдой закрыть
его, затемнить его, загрязнить его и всячески отвлечь и отманить от него
внимание общества. Шипов был действительно и авторитет и сила. Но ведь
это такая благодетельная сила, - сознается «Речь». Чему бы она помешала,
кому доброму и разумному не помогла бы? Но в тот действительно «ответ-
ственный» момент определения и квалификации были совершенно иные:
Шипов был опасен, Шипов был не нужен, Шипова не допустили пройти в
Г. Думу ловко организовавшие предвыборную кампанию кадеты! Ну, что он
им, один? Бессильное сопротивление, маленькая критика! Но он был умен и
безупречен, он был славянофил, и притом практический славянофил, он был
старый опытный земец: голос такого человека мог быть влиятелен, по край-
ней мере он мог выслушиваться с уважением страною, и помешать «крас-
ному звону» таких ораторов, как Винавер, Набоков и вообще вся кадет-
ская клика. Чего доброго, здравым смыслом, тактом и системою он мог
порвать или попортить и то хитросплетенное кружево, которое предвкушал
251
плести сам «великий» Милюков. Можно ли же было пропустить его в Думу?
Всякий безграмотный кавказец и каждый спятивший с ума сочинитель про-
кламаций и выкриков был в Думе допустимее и желательнее Шипова, ста-
рого земца и конституционалиста в стиле Аксаковых. О «голосе страны»
тогда кадеты не вспомнили; им не нужны были те, «кто смог бы воплотить
желания и воплотить чувства народные». Пуще огня боялись этого кадеты -
именно этого! И кто же не помнит, как, распустив павлиний хвост, Милю-
ков появился в Москве в пору выборов и потирал руки, подобно биржевому
игроку в хорошей игре, сделав все усилия и не допустив до выбора ни одно-
го из видных лиц не преданной ему партии, - ни Гучкова, ни Шипова, ни
Хомякова, - указав господствующему сонму выборщиков своей партии го-
лосовать уж лучше за социалиста, нежели за славянофила или государствен-
ника, нежели за просто серьезного политика и серьезного критика кадет-
ской фальши и кадетских фраз. И Панургово стадо дало повести себя. Вот
этапы в политической судьбе Д. Н. Шипова. Нужно же иметь медный лоб
или прогорелую совесть игрока в рулетку, чтобы теперь, в 1909 году, подно-
сить Шипову черный букет поздних аттестаций.
СТАРАЯ И МОЛОДАЯ РОССИЯ
В условиях существования организма по временам происходит что-то та-
кое, в силу чего он, и будучи молод по возрасту, являет все черты старости;
напротив, целительные купанья и леченье возвращают и старым организ-
мам бодрость и свежесть. С политическими организмами случается подоб-
ное же. Россия перед Петром Великим была бесспорно молода, даже очень;
в науках проходила только грамоту, просвещением не «развращена» была,
как и не была «соблазнена» ничьим увлекающим примером: и, несмотря на
все это, молоденькая и неиспорченная страна глядела совершенным старич-
ком. Старческие черты ее произошли от сонливости, недвижности и полно-
го внутреннего самоудовлетворения. Боевой клич Петра, его «дубинка» и,
конечно, более всего его гений разбудили старичка, расшевелили его. Ста-
рик преобразился в молодого.
Мы пережили чрезвычайные события и, особенно, чрезвычайное вол-
нение дум. Перемены векового и даже чуть не тысячелетнего смысла много
превосходили и сущностью, и возможными плодами крестьянскую рефор-
му 1861 года. Между тем крестьянская освободительная реформа, так ска-
зать, «держала камертон» во все царствование Александра II, сообщив все-
му ему характер «освободительного» и окрестив его в это имя. Колебания
были, но общий дух сохранился. «Царь Освободитель» был таковым и в
болгарскую войну; в земской работе не только того двадцатипятилетия, но
даже и до наших дней все еще живет далекое эхо 1861 года. Идеи живучи.
Настроения не могут очень быстро переменяться. Поднятия народного духа
трудны, но они зато и многоплодны.
252
Не то переживаем мы теперь. С обществом нашим за этот год происхо-
дит что-то очень странное, а отчасти это странное наблюдается и в государ-
ственной машине, в правительстве. Все до того мертво, все до того инертно,
и, главное, все до того безнадежно и малообещающе, как этого решительно
не было даже в «дореформенные» времена. Обновление армии и флота в
России и в Японии происходит таким образом, что у незнающего могла бы
появиться мысль, будто Япония испугана каким-то небывалым поражени-
ем, а Россия успокоилась после неслыханного торжества. Перемены в зем-
лепользовании на почве закона 9 июня не могут, конечно, идти ни в какое
сравнение с реформою 1861 г. Закон о «довременном освобождении» отбы-
вающих по суду наказание ничто сравнительно с новыми судебными уста-
вами императора Александра II, с судом устным и гласным, с судом присяж-
ных. .. Все это, придвинутое одно к другому, являет такую громаду работы,
инициативы, вдохновенности и, наконец, талантливости отдельных лиц,
призванных к делу в шестидесятых годах XIX века, около которой наше
«довременное освобождение» и закон 9 июня представляются чем-то кар-
ликовым. После замыслов созвать церковный собор мы оставили в непреоб-
разованном виде даже духовную консисторию и не решаемся восстановить
даже приход. Съезд монахов и миссионерский съезд были и останутся, ка-
жется, единственными следами нашей церковной попытки «собраться»...
Впрочем, по обнаружившимся результатам и съезжаться им решительно было
не для чего.
Россия до сих пор все еще не только не помолодела и не посвежела пос-
ле 17 октября, но как будто значительно постарела и одряхлела. Правитель-
ство все боится бунта и «неудовольствия», а Г. Дума все боится, как бы ее не
распустили, как комиссию. Эти две боязни, стоящие друг против друга, ско-
вали все. Все по-прежнему: мелкий полицейский страх как принцип прави-
тельственной политики и мелкая парламентская лихорадка, мелочной испуг
партий за власть доминируют над всем. Частные люди ничего не боятся, но
зато и ничего не хотят.
Все являет такой вид, будто Россия - великое столоначальство, а не
великая империя. Все это малоуспокоительно и еще в меньшей степени
отрадно.
ВОЗМОЖНЫЕ ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЯ
ПРИ РАЗВОДЕ
Теория брачного развода, о которой мне приходилось уже много раз пи-
сать, добиваясь широких преобразований в этой сфере, однако нимало не
хочет наступления анархии здесь. И, в особенности, исходя из сострада-
ния, преобразования никоим образом не должны вести к новым страдани-
ям. Нужно увеличить поводы к разводу; нужно перестать требовать «оче-
видцев» измены и доверять непрямым и, однако же, несомненным доказа-
тельствам ее, в виде показаний прислуги, соседей, свидетельства писем,
253
поселения жены в квартире постороннего человека и проч, и проч. Сло-
вом, порядок должен быть улучшен, но он должен оставаться именно по-
рядком.
Законы о разводе пока не изменились; перемены здесь - пока в проекте
и пожеланиях. Но практика развода супругов, в согласии с законодательны-
ми намерениями и всеобщими нетерпеливыми ожиданиями общества, рез-
ко изменилась за последние годы. Прошли былые муки и терзания супругов
и выматывание из них всего состояния консисториями. Просвещенный взгляд
на это дело Св. Синода ввел сюда и быстроту делопроизводства, и сочув-
ствующий, добрый взгляд на разводящиеся стороны как на людей в несчас-
тии, - что и есть на самом деле, - а не как на «врагов таинства, Бога и зако-
нов». Последнего, конечно, нет: разводящиеся никак не враги религии (час-
то совсем напротив!), а просто несчастные и только несчастные люди, кото-
рым жизнь не удалась и которым надо дать выйти из тяжелого, часто
непереносимого положения.
Но дать выйти, никого не обижая и не обижая друг друга. Поэтому-то
практика развода, при всех стремлениях к переменам и облегчениям, никак
не должна переходить в бракоразводную анархию. Между тем, по-видимо-
му, «перегиб в обратную сторону» уже совершился. Ко мне с неделю назад
обратился с просьбою товарищ ученических годов одного южнорусского
помещика, г-на Б., пребывающего сейчас за границею и потому не могуще-
го лично вступиться за свое дело, - с просьбою не столько даже осветить в
печати это дело, сколько, так сказать, пожаловаться большой публике на
действительно вопиющее обращение с ним петербургской духовной кон-
систории.
Дело это действительно не только жестокое, но и смехотворное. Без
уведомления «виновного», без сообщения ему обвинения и предложения
оправдаться от взводимой вины, по не проверенным консисторией пись-
менным показаниям, которые оказались подложными, без судоговорения,
без вызова каких-либо свидетелей, и, словом, «по нипочему», консисто-
рия расторгла брак г-на Б. с его женою, признав его виновным в «прелю-
бодеянии», а жене предоставив вступить в новый брак. «Скоро сказка ска-
зывается, да не скоро дело делается», - говорит русская поговорка: петер-
бургская консистория стала делать свои «дела» куда скорее даже, чем в
сказке!
Я не стану передавать перипетий всего дела, документальная сторона
которого была мне показана и была мною прочитана. Факт в том, что муж
получил прямо из консистории уведомление, что его брак «уже расторгнут»,
и «по его вине», как «прелюбодея»... Я читал русскую телеграмму, напи-
санную латинскими буквами (как все заграничные телеграммы), этого не-
счастного к своему другу детства, - полную недоумения, испуганное™ и
негодования, - и опротестование «поступка» духовной консистории в Св.
Синоде.
254
Действительно, это не только «поступок», но, кажется, и более... В
жалобе высшему духовному учреждению в России сказано, что «обвине-
ние в прелюбодеянии» есть нравственное оскорбление, которое он никак
не может принять на себя без основания, уже имея в виду малолетнего
своего, горячо им любимого сына, т. е. что этот сын будет и должен судить
со временем отца! Соображение, мотив - вполне основательные. Консис-
тория, по-видимому, посмотрела на «прелюбодеяние» как на формальный
повод к разводу, - почти в виде риторической фигуры, без существеннос-
ти. Ведь она сотни дел таких решает! Но для единичного отца это, конечно,
ужасно, памятно на всю жизнь, памятно будет для его потомства. Он про-
сто этого не хочет, когда этого нет. И тут входит в силу та теория развода,
по которой никакой развод не должен никого обижать! Обижать без вины!!
Вину же г. Б. опроверг без всякой трудности: он, видный помещик и слу-
жащий человек киевского учебного округа, представил отзывы о своем
безукоризненном семейном поведении многочисленных сослуживцев и
знакомых, а что касается «письменных показаний» о нем, представленных
в консисторию, то подписи на четырех из них - подложны, а единственная
подлинная подпись стоит под «показанием» алкоголика, вора-рецидивис-
та, в последний раз осужденного 14 апреля 1909 года за кражу кошелька и
окончившего жизнь самоубийством, бросившись под поезд! Но и эти по-
казания не удостоверяют физического акта прелюбодеяния, даже не гово-
рят о нем: они только набрасывают тень на отношения г. Б. к гувернантке
его сына. Но «набрасываемая тень» в перевираниях безвестных свидете-
лей и одного заведомого преступника еще никогда не служила поводом ни
к какому судебному постановлению, а тем более... духовной власти и о
таком деле, как брак!
Жалоба г. Б. в том отношении вызывает полное сочувствие, что он ни-
мало не неволит, не принуждает жены своей: он не является ни притесните-
лем, ни тираном. Но он не хочет быть безвинно обвиненным, не хочет быть
оклеветанным прелюбодеем - чего просто нет! Его право, которого отнять
консистория не может, которого не вернуть ему не может Синод. Он согла-
шается дать жене развод, - но по ее вине, потому что она бросила его для
другого. В настоящее время это уже не служит поводом к запрещению ей
брака.
Духовная консистория, очевидно сочувственно отнесшаяся к г-же Б., дол-
жна была указать этот правильный и законный путь, могла сократить «эпи-
тимию» и таким образом облегчить ей быстрое вступление в новый брак.
Но она просто «расторгла брак» без всяких формальностей, без судоговоре-
ния, даже без предварительного уведомления мужа! Но это «просто» уже
переходит в анархию, в преступление.
Данный частный случай вообще важен в принципиальном отношении,
показывая границы, определяя рамки, в которых должно двигаться будущее
законодательство.
255
ЧТО НЕ ПРИНЯТО В СООБРАЖЕНИЕ
ПРИ ЗАКРЫТИИ КАССЫ
ВЗАИМОПОМОЩИ ЛИТЕРАТОРОВ
Закрытие кассы взаимопомощи литераторов и ученых, членами которой со-
стоит почти вся наличная наша литература, грянуло как гром среди ясного
дня. Никогда ничего подобного не предполагалось возможным, и только на
абсолютном характере кассы и было основано то, что в нее вступали, так
сказать, зажмурив глаза, и большинство членов кассы ограничивались взно-
сами, ни разу не бывав на заседаниях и собраниях ее. Я был один раз, лет 12
назад.
В чем она состояла? Собственно, это одно название «касса»: на самом
же деле никакого там мешка денежного нет, никакого богатства нет, ника-
кой наличности нет, кроме разве небольшой и случайной. Касса литерато-
ров и ученых не капитал, а обязательство каждого члена по принципу кру-
говой поруки вносить 5 рублей в случае смерти какого-либо другого члена.
Это является не добротою, а отдачею в долг этих денег всем членам кассы,
которые принимают на себя обязательство в случае смерти данного, де-
лающего взносы члена, также собрать между собою по 5рублей и выдать
эту сумму семейству умершего члена. Вот простая и поистине прекрасная
сущность кассы. Это есть система взаимного страхования совокупности «пе-
чатных» работников, тружеников литературы и слова, притом главнейше -
необеспеченных или малообеспеченных. Здесь никакого недвижного капи-
тала (иначе, как случайного) нет; никакого недвижного управления также
нет: капитал - текущий, собирающийся при каждой смерти; управление же
- это просто счетчики, получающие взносы и выдающие их единовремен-
ной суммою семье покойного литератора. Они не «управляют», а только
«передают».
Все это придавало кассе в высшей степени воздушный, одухотворен-
ный характер, отчего своим членам она и казалась неуничтожимою, веч-
ною, неповредимою. Она есть только идея, и только обязательство, и толь-
ко долг: в правовом государстве, т. е. не в лесу и не в пустыне, каким обра-
зом от порядочных людей, каковыми я считаю собратьев-литераторов, я не
получу в момент смерти тех денег, какие заимообразно им давал в течение
четырнадцати лет (приблизительно) через постоянные свои взносы? Вот
почему, когда я прочитал в газетах самое заглавие «О закрытии кассы лите-
раторов», то я до того не поверил факту, что не стал далее читать, думая
разузнать дело через расспросы и не доверяя сведениям написавшего.
«Закрыть» кассу - значит лишить меня права получить мой долг; но, как
бывший служащий государственного контроля, я знаю текст закона, по ко-
торому «долговые обязательства по договору почитаются наравне с законом
и не могут быть нарушены ничьей властью»... Это сказано в уложении о
казенных поставках и подрядах. Да и само собою разумеется, что долговых
обязательств никто нарушить не может: малейшее колебание в этом отно-
256
шении нарушило бы весь кредит во всей стране и сразу остановило бы все
денежные отношения. Но суть кассы - долг ее, как суммы наличных членов
семье каждого члена, сейчас имеющего умереть, - за то, что эта семья дела-
ла в свою очередь взносы столько-то лет. Здесь просто есть возврат заимо-
образно взятых денег. Каким образом можно это нарушить, «закрыв кассу
взаимопомощи литераторов», как бы это была в самом деле какая-то касса,
мешок, ящик, а не просто способ уплаты долга, форма кредита и покрытия
его? Кассу составляют вовсе не «правление» его, а сами члеиы-литераторы,
рассеянные по всей России, обязавшиеся платить семье умершего и взамен
купившие право получить такую-то сумму после собственной смерти. Это
есть нарушение купли-продажи, - то же, как если бы у человека, купившего
каравай хлеба в лавке, вырвали его. Явно, что в благоустроенном государ-
стве этого не может быть; что административная власть, закрывшая кассу
взаимопомощи литераторов, не отдавала себе отчета в том, что это есть
перерыв кредита, распоряжение: «не плати долгов», каковое не может быть
дано никому, - никакому кредитору и никакому заимодавцу. Касса только из
них и состоит. Это до такой степени вне-политическое дело, что политика,
так сказать, не имеет «электрических проводов» к этому делу, не может его
коснуться и совершенно не может «закрыть».
Я четырнадцать лет вношу в кассу взаимопомощи литераторов прибли-
зительно по 75 руб. в год: это составит около 1500 руб., отложенных мною
на случай моей смерти моим детям, скопленных мною. «Закрыть кассу взаи-
мопомощи» - значит отнять у моих детей это мое сбережение, и я не могу
себе представить, и никто в свете этого не может представить, чтобы прави-
тельство, «пекущееся о детях», как и «охраняющее собственность», сделало
это. Явно, что оно приняло какую-то неосторожную меру «не по адресу» во-
первых, и незнакомое с существом, с идеей кассы, - во-вторых. После смер-
ти моей 1500 - 1800 руб. должны быть уплачены моим детям по завещанию,
в кассе находящемуся, или кассою, продолжающею действовать, или из го-
сударственного казначейства, если «обвал кассы взаимопомощи» произо-
шел по недосмотру инженера-чиновника, проводившего около нее несоот-
ветственные канавы, в силу коих она рухнула.
Денежные обязательства, векселя и проч., продолжаются и с преступ-
никами или их правопреемниками. Преступление всегда есть преступле-
ние лица, и виновник за него судится; но кредит за это ничем не отвечает,
и кредит сюда втягиваем быть не может. А касса есть кредит, и только. Со-
вершенно отвратительно, если правление ее допустило себе делать непра-
вильные выдачи из кассы, благотворить, напр., политическим. У нас это
распространено для приобретения себе радикальной репутации и, по лжи-
вому, тунеядному характеру русских, обычно относится на чужой счет. «Я
радикал: и прошу вас уплатить пять рублей такому-то политическому, по-
страдавшему при таком-то случае». Радикалу - честь, мне - платеж. Никог-
да нельзя было предполагать, чтобы такая чепуха делалась в кассе взаимо-
помощи литераторов и ученых. Если же она делалась, то пусть кто это
257
делал за это и будет привлечен к ответственности. Кассе, как взаимному
обязательству между собою литераторов, просто до этого дела нет, и она
должна быть избавлена от всякого смешивания себя с такими сборами на по-
литических, очевидно совершавшимися потихоньку. Ужасно странно: у меня,
положим, потихоньку бралось по два рубля в год для каких-то мне неизвест-
ных целей. Вдруг за это через 14 лет правительство сразу отнимает у меня
1500 рублей! Я могу ответить только криком «караул», в первом случае по
маленькому поводу, а во втором - по большому поводу, и притом совершен-
ному днем и на миру! А если еще тут и «разрушение кассы», то я могу кри-
чать «караул» потому, что меня обидели даже «со взломом». Я пишу совер-
шенно серьезно и совершенно серьезно говорю, что касса не могла быть зак-
рыта иначе, как с объяснением, кто принимает на себя ее обязательства в
отношении семей всех ее наличных членов. «Закрыть кассу» можно было
только в смысле «запрещения принимать в дальнейшем новых членов», а не
в смысле нарушения купленных уже прав ее действительными членами. Кра-
юшки хлеба не вырывают.
12-летний член кассы взаимопомощи
литераторов и ученых В. Розанов
К ДЕЛУ О РАЗВОДЕ г-на Б.
В статье «Возможные злоупотребления при разводе», вызванной делом г. Б.,
я, на основании рассказанного мне, выразился, что жалоба г. Б. (на растор-
жение его брака петербургскою духовною консисториею) в том отношении
вызывает полное сочувствие, что он «нимало не неволит, не принуждает
жены своей» к продолжению с ним брака и что «он соглашается дать развод
жене, но по ее вине». Это мне было заявлено его поверенным с первого сло-
ва и в совершенно категорической форме. Между тем из документов, пока-
занных мне другою стороною после напечатания моей статьи, я мог вполне
убедиться, что это принуждение со стороны мужа, г. Б., было: в письмах он
писал своей жене, г-же Б., что развода ей ни в каком случае добиться не
удастся и что она может становиться чьею угодно любовницею, но не будет
никогда ничьею женою. Не было оснований говорить и о «вине» этой дру-
гой стороны.
Ознакомление с этими фактами, от меня скрытыми при первом изложе-
нии, меняет мое отношение к данному делу. Я не могу нравственно не войти
в сочувствие человеку, у которого отняты все способы расторгнуть брак, по
каким бы то ни было причинам ставший ненавистным. Самая темная и кри-
минальная сторона этого дела - роль свидетелей и вовлечение третьих лиц -
будет разобрана своевременно судом, и в нее я совершенно не вхожу. Это -
интимная область, любопытство к которой было бы любопытством к сплет-
не, и его не может проявлять печать и пишущие. Дело печати - освещать
только принципиальную сторону единичных коллизий, личных историй, -
258
требуя к своему рассуждению и суду одно то, что связано с действием зако-
нов и обнаруживает недостатки в этом действии.
Данный случай г. Б. с необыкновенной яркостью показывает, до какой
степени невозможно в законе основывать развод исключительно на обвине-
нии в прелюбодеянии или на безвестном отсутствии и неспособности к бра-
ку. Брак, сделавшийся возмутительным и непереносимым для одной сторо-
ны, весь отравленный ненавистью и презрением, тем не менее невозможно
расторгнуть никаким другим путем, как прибегнув к способам чрезвычай-
ным и недозволительным. Очевидно, закон должен быть расширен; очевид-
но, он не должен никого принуждать к продолжению ставшего отвратитель-
ным сожития; очевидно, он должен дать право вступать в неупрекаемый
новый союз разведенной стороне, т. е. узаконенный брак. И наконец, все это
должно делаться проще и чище, без мучений какой-либо стороны, без скан-
далов, разыгрывающихся до всероссийского размера. Уже то, что закон до-
водит до этого, дает к этому возможность, толкает сюда, - определяет его
стоящим на том низменном уровне, где стоит шантаж и источники шантажа.
Все это возмутительно. Закон о разводе должен быть совершенно пере-
работан, и дело г. Б. - яркая иллюстрация этой необходимости. Невозможно
иначе, как с ужасом, негодованием и отвращением следить за тем, как доб-
ропорядочные имена людей, живших еще вчера в прекрасной безвестности,
сегодня начинают трепаться во всеуслышание всей России, на потеху скуча-
ющей толпы, любопытной ко всему марающему. Мы не становимся ни на
которую сторону в деле развода г. Б. Но принципиальная его сторона, зак-
лючающаяся в основанном на законе насильственном принуждении женщи-
ны к сожитию, которое ей отвратительно, - не может не возмущать заключа-
ющимся здесь гнетом душу всякого зрителя, совесть гражданина и человека.
БУДУЩЕЕ КАССЫ ВЗАИМОПОМОЩИ
ЛИТЕРАТОРОВ
Общественное и личное дело нужно уметь разделять; и личная деликатность
указывает нам отодвигаться со своим «я» в сторону, когда мы находимся
перед лицом множества людей, так или иначе потерпевших. По поводу зак-
рытия кассы взаимопомощи литераторов я написал статью, в которой выс-
казал самые сильные упреки закрывшей их администрации; но в то время,
когда я писал ее, у меня был в душе и упрек правлению кассы, который я
удержался высказать. Как-никак, все-таки касса закрыта при нем, закрыта в
данный момент, чего не было, и, очевидно, не было тени повода для этого
при министрах Сипягине и Плеве и при другом составе правления кассы.
Несколько сот литераторов, из которых некоторые сейчас умирают (взно-
сы на похороны приходилось делать ежемесячно), хотя бы и молчали, уже
за отдаленностью от Петербурга, тем не менее физически не могут удер-
жаться от того, чтобы не иметь в душе некоторого укора по адресу правле-
259
ния. Велик он, мал он, прямой или косвенный, с оговорками или без огово-
рок, но он есть. И если бы правление было более чутко и, позволю думать,
более деликатно, оно все силы направило бы к существенной цели: как мож-
но скорее восстановить кассу и продолжать ее функции, неотложимые даже
на месяц. Повторяю - некоторые теперь умирают; повторяю: в семьях неко-
торых умирающих нет ни гроша. Кто знает бедную писательскую жизнь -
знает, что это так. При такой, можно сказать, «зверской» нужде всякий воп-
рос личного самолюбия должен быть отшвырнут в сторону по простой че-
ловечности: и в особенности члены правления и вообще близко стоящие и
стоявшие к этому правлению лица, наконец, лица деятельно посещавшие
собрания кассы и знающие положение в ней дел и механизмы закрытия и
открытия подобных учреждений, во что бы то ни стало и поступаясь всяким
самолюбием, должны сделать то, что я здесь указываю: восстановить кассу,
не допускать до перерыва ее функций. Тут должна быть проявлена всячес-
кая уступчивость и обнаружена всяческая гибкость: ежемесячно умирают
члены кассы, и к помощи семьям их должно все поспешить.
Это простая человечность. Касса есть опекун сиротеющих детей и жен;
опекун должен рассматривать не ордена на себе, а давать, спешить и помогать.
Этого совершенно не видно. Г. Кузьмин-Караваев (председатель кассы)
откуда-то из-за границы прислал величественную реляцию, где изложил, что
«ликвидационное (упраздняющее кассу) собрание не так скоро соберется»,
ибо он вот за границей. Дай Бог ему здоровья. Но пока он там апельсины
кушает, по глухой провинции есть пенсионеры кассы, у которых, может быть,
и щей нет на столе, нет рубля на лекарства. Председатель кассы есть глав-
ный опекун семей ее членов, и можно бы ожидать, что при таком деле, как
крушение всей опеки, он прервет свою «заграницу». Но мы, русские, не впе-
чатлительны... Далее, в неподписанной статье человека, очевидно совер-
шенно посвященного в дела кассы и ход закрытия ее, упомянуто было, что
представитель администрации, закрывший кассу, сказал ее депутату, будто
«сейчас же может быть образовано совершенно такое же общество, с тем
же уставом и функциями, как закрытая касса, но при условии, если членами
этой вторичной возобновленной кассы не будет никто из состава лиц в прав-
лении бывшей кассы, начиная с 1906 года». «Само собою разумеется, - при-
бавлял аноним, - что никто из уважающих себя литераторов не примет на
себя почина восстановить кассу при наличности подобных условий, тем более
что оно и «неисполнимо». Далее следовали туманные объяснения, почему
«неисполнимо». Будто бы потому, что «бывшие члены правления - полно-
правные граждане». Но это «никто из уважающих себя литераторов» точно
ударило меня по лицу, потому что, пока я читал строки до «уважающих», я
радостно подумал: «Ба, все спасено! Конечно, - немедленно открыть кас-
су». Неприятно было видеть, что это мое обрадование связано с каким-то
бесчестием: «Во мне зародилась нечестная мысль, мысль неуважающего
себя литератора». Но вторым движением было: да почему аноним навязы-
вает нам, семистам членам кассы, мерило литературной порядочности? Не-
260
ужели мы без его подсказа не понимаем, что такое уважение к самому себе?
Почему я должен уважать себя «по анониму», а не «по себе» и своему здра-
вому смыслу и своей добропорядочности? Углубляясь в дело, стараясь отыс-
кать корень «недобропорядочности», я нашел, что, должно быть, он лежит в
следующем: кто же примет на себя инициативу восстановить кассу на усло-
вии, оскорбительном для членов правления кассы с 1906 года? Тут надо ра-
зобраться. На месте г. Кузьмина-Караваева я, немедленно приехав в Россию,
принял бы именно на себя (Кузьмина-Караваева) все хлопоты по восстанов-
лению кассы, явившись в министерство и заявив, что пожизненно отказыва-
юсь от всякого в ней участия. Так, мне думается, должны бы поступить все
члены правления с 1906 г. Согласен безусловно, что они вполне невиновны.
Согласен вполне, что в данном случае мы имеем чистейший произвол адми-
нистрации. Факт есть факт, туча есть туча, дождь есть дождь. При дожде -
раскрывай зонтик, не рассуждая. Естественная деликатность непременно
меня толкнула бы к полному пожизненному отказу от права быть вторично
членом новой кассы, чтобы только спасти от таких-то и таких-то бедствий
700 семей ни в чем не повинных людей. И как бы на меня ни смотрел ано-
ним и с ним согласные, именно такой поступок я считал бы проявлением
«уважения к себе». Что за особое преимущество быть членом кассы? Ведь
это действительно похоронная касса самых бедных, самых нуждающихся
литераторов, почти сплошь ее «неудачников», - среди них вкраплено не-
много состоятельных лиц, которые, выбираясь в правление, служат там для
филантропии или почета. Но раз касса закрыта и восстановление ее обстав-
лено таким условием, - мотив «филантропии», естественно, отпадает, есте-
ственно, становится на противоположную сторону. Остается мотив «поче-
та». «Видный член кассы», «член правления кассы»... «Известный Иван
Иванович»... Но неужели же такие пустяки и лишение таких пустяков мож-
но класть на весы, когда на другой чашке весов лежат... лекарства больных,
умирающих литераторов, возможность купить их, невозможность купить их?
Соглашаюсь, что я не выдерживаю требования «уважения к себе». Но
уж лучше пусть «не уважаю я сам себя», только бы лекарства-то купили. А
«уважениями» можно и потом счесться.
Таково было бы естественное положение дела при «взаимном уваже-
нии». Члены кассы (пенсионеры) промолчали бы, члены правления с 1906 г.
выступили бы вперед и сказали: «Мы охотно пожизненно отказываемся, пусть
только касса, не нам, а пенсионерам нужная, функционирует». Мне кажет-
ся, так поступив, члены правления остались бы очень и очень «с честью».
На самом деле ведь им, конечно, не похоронная пенсия нужна. Но так дело
не устроилось, и члены кассы и 700 семей их не могут не сознать в душе,
что членам правления судьба их «ни тепла, ни холодна, а так себе». Пожа-
луй, и тепла, но не очень, не горяча. Отдаленное и отчужденное отношение.
Но если так, то, «уважая себя», не получают ли члены кассы тоже права
посмотреть на бывшее с 1906 г. правление и его членов тоже этим удален-
ным взором, при котором интересы их «почета» не принимаются уже в та-
261
кое горячее внимание? Им это - пустяки. Здесь замешан кровный интерес.
Чашка весов, очевидно, склоняется в последнюю сторону. Мне совершенно
непостижима точка зрения анонима, и я совершенно не понимаю, почему
«никто уважающий себя не примет инициативы в восстановлении кассы».
Личное - должно быть отстранено, общее - выступить вперед; свое «я» дол-
жно быть убрано, забота о сотнях старых и частью больных литераторов
должна все заглушить.
От одного очень уважаемого во всей России члена правления (прежне-
го) кассы я получил следующее письмо, с упреками на мою прежнюю ста-
тью, очевидно не лично ему принадлежащими, а какие выслушал от других
членов правления:
«Члены кассы литераторов, с которыми мне пришлось видеться эти дни,
очень сетуют на некоторые выражения в вашей статье о кассе литераторов,
которые могут быть истолкованы в крайне нежелательном смысле. Перечи-
тав еще раз эту статью, я, действительно, увидел, что некоторые выражения
ее должны быть признаны по меньшей мере неосторожными в устах члена
кассы. Вы говорите о благотворении политическим, чего в действительнос-
ти не было; вы говорите о сборах политических, чего также не было. Касса
помогала только своим членам и производила лишь установленные сборы.
Никаких секретов ни перед кем она не имела и не имеет. Возмутительная
расправа с кассой основана на полицейском недоразумении. Неужели же
члены кассы сами еще будут подбавлять новые звенья к этим недоразуме-
ниям? Очень просил бы вас сделать соответствующую оговорку к вашей
статье. Р. S. Если вы удосужились за 12 лет только один раз быть на общем
собрании, то, согласитесь, это еще не дает основания предполагать относи-
тельно кассы то, что изложено в конце вашей статьи».
Охотно беру назад слова, сказанные мною предположительно, а потому
едва ли и могшие кого-нибудь задеть. Но мне не нравится все письмо те-
мою: время ли заниматься тем, «кто кого обидел» или «кому как показались
слова». Обидел ли я, обидели ли меня - все это пустяки. Дело - в деле. А
дело - помощь. Письмо показывает, до какой степени психология былых и,
может быть, теперешних членов правления не стоит на уровне положения
вещей, показывает тот отдаленный и отстраненный взгляд членов правле-
ния на 700 «опекаемых» кассой лиц, о котором я говорил выше и который
составляет здесь самую грустную сторону дела. На правлении все-таки ле-
жит тот укор, что оно допустило тень повода закрыть кассу, возможность
предлога сделать это... «Жена Цезаря не должна быть даже подозреваема»,
- этот знаменитый афоризм вполне применим к учреждениям, аналогич-
ным кассе литераторов, за которую цеплялись больные и старые руки. «Рго
domo sua»* должен заметить, что лично я нисколько не заинтересован в бы-
тии или небытии кассы, - потому что условия моего труда хорошие и обес-
печивающие. Но я пережил года 3-4 «членства», когда, как это ни странно
* «В защиту себя» (лат.).
262
представлять, был очень, чрезвычайно труден даже 5-рублевый взнос и ког-
да надежда на посмертную выдачу из кассы была единственным моим «иму-
ществом» при большой и прихварывающей семье. Помня это и зная весь
ужас (не менее) этого положения, я и говорю так громко и определенно о
вторичном открытии кассы и что перед этою необходимостью все должно
быть отброшено в сторону. Что касается полуупрека в непосещении «об-
щих собраний», то вот объяснение: получив как-то повестку об «экстрен-
ном, крайне важном, безотлагательном» и т. п. «общем собрании», - я дви-
нулся 2-й раз по адресу, где-то на углу Невского и Морской. Пришел. Мало
членов. Ходят взад и вперед. Едят бутерброды и пьют чай. Скучно. Прошел
час - еще скучнее. Прошло два часа. Совсем тошно. Тогда какой-то неизве-
стный господин, должно быть секретарь, почти счастливым голосом объя-
вил: «Так как, господа, достаточного по такому-то параграфу числа членов
не собралось, то прошу вас пожаловать в следующий раз, в такую-то пятни-
цу, сюда же». Но так как и «та пятница» могла оказаться такою же, то есте-
ственно было мое решение вообще ни на какие «пятницы» не ходить. По
крайней мере 50 человек потеряли по два (не менее) часа!! Нужно было
сразу в назначенный час их распустить, если не собрались в достаточном
числе, а не держать два часа. Это бессмысленно и грубо. Одно дело прой-
тись или проехаться неудачно: это только прогулка; и совсем другое дело
проходить 2 часа взад и вперед по комнате!
МЕЖДУ АЗЕФОМ И «ВЕХАМИ»
В истории Азефа мало обратила на себя внимание следующая сторона дела.
Первые вожди революции в течение десяти лет вели общее, одно дело с
этим человеком, говорили с ним, видели не только его образ, фигуру, но и
манеры, движения; слышали голос, тембр голоса, эти грудные или горловые
звуки; видели его в гневе и радости, в удаче и неудаче; слыхали и видели, как
он негодовал или приветствовал... И все время думали, что он - то же, что
они. Как известно, подозрения закрались только тогда, когда были арестова-
ны некоторые лица, о «миссии» которых исключительно он один знал: дока-
зательство такое математическое, с помощью простого вычитания, что силу
его оценил бы и гимназист 3-го класса. «Азеф один знал о таком-то Иване и
его покушении; Ивана арестовали накануне покушения; не Азеф ли выдал?»
Это - умозаключение из курса 3-го класса гимназии. Но ранее этого, но кро-
ме этого... решительно не приходило в голову! Но и перед наличностью
такого математического доказательства революционеры, - не какие-нибудь,
а вожди их, с целою историей за своей спиной, - колебались. Например,
Азеф бросился в ресторане на какого-то господина с записною книжкою, о
котором «эс-эры», бывшие тут, подумали, не шпион ли это? Они подумали,
а Азеф уже бросился с кулаками на этого господина, и его едва оттащили.
Он кричал: «Предавать святое дело революции!»
263
Так убедительно! Он называл революцию «святым делом»: «как же он
мог быть провокатором»?
Об этом случае писали в свое время. Не обратили внимания, до какой
степени все это замечательно... крайней элементарностью!
Степень законспирированности, т. е. потаенности, укрывательства ре-
волюции, - чрезвычайна. Когда в «Подпольной России» Кравчинского чита-
ешь о «знаках», какие ставились вокруг конспиративной квартиры, и как по
этим знакам сторожевых людей узнавали, что она свободна от надзора и,
идя в нее, не нарвешься на западню, - то удивляешься изобретательности и,
так сказать, тонкости механизма. «Хитрая машинка». Да, но именно машин-
ка. Все меры предосторожности - механичны, видимы, осязаемы, геомет-
ричны и протяженны. Видишь западню и контрзападню. Все это в пределах
темы о мышеловке. Мышеловка гениальна. Да, но самая-то тема - ловли
мышей и убегания от ловли - мизерна, ничтожна, мелка. Просто, это ниже
человека. Если бы задать такую тему поэту или философу, Белинскому, Гра-
новскому, Станкевичу, Киреевскому, задать ее Влад. Соловьеву, - они бы не
разрешили ее или устроили бы вместо мышеловки какую-то смешную и
неудачную вещь, которую только бросить. Но если бы в комнату, где сидели
эти люди, Станкевич, Тургенев, вошел Азеф...
Поэты и философы, художники и сердцеведы посторонились бы от него.
Им не надо было бы осязательных доказательств, кто он; чтобы он «кри-
чал» о том-то, махал руками при другой теме. Просто, они «нутром», говоря
грубо, а говоря тоньше - музыкальною своею организациею, художествен-
ным чутьем неодолимо отвратились бы от него, не вступили бы с ним ни в
какое общение, удержались бы звать его в какое бы то ни было общее дело
или откровенно говорить при нем, посвящать его в задушевные, тайные свои
намерения.
Азеф и Станкевич несовместимы.
Азеф не мог бы войти в близость со Станкевичем.
Чудовищной и ужасной истории с русскою провокациею не могло бы
завязаться, не могло бы осуществиться около людей не только типа, как
Станкевич, или Грановский, или как Тургенев, - но и около кого-нибудь из
людей типа любимых тургеневских героев и героинь. Это замечательно, на
это нужно обратить все внимание. То, что «обрубило голову революции»,
сделало вдруг ее всю бессильною, немощною, привело «к неудаче все ее
дела», - никоим путем не могло бы приблизиться и коснуться не только пре-
красных седин Тургенева, но и волос неопытной, застенчивой Лизы Кали-
тиной.
Лиза Калитина сказала бы: «Нет».
Тургенев сказал бы «нет».
И как Дегаев, так и Азеф никак не подкрались бы к ним, не выслушали
бы ни одного их разговора, и им не о чем было бы «донести».
Что же случилось? Какая чудовищная вещь? Как мало на это обращено
внимания!
264
Революционеры сидят в своей изумительной, гениальной «мышеловке».
Это их «конспирация» и потаенные квартиры. Как они писали о своих «за-
конспирированных» типографиях - это такая тайна и «неисповедимость»,
что ни друзья, ни братья и сестры, ни отец и мать, ни сами революционеры,
так сказать, на других «постах» стоящие, никогда туда не проникали. «Не-
мой, отрекшийся от мира человек работает там прокламации». Он полон
энтузиазма и проч., и проч.
Великая тайна.
В нее входит Азеф.
«Рядового» революционера туда, конечно, не пустят. Но нельзя же отка-
зать в «ревизии» приехавшему из Парижа куда-нибудь на Волгу «товари-
щу», который имеет пароль члена центрального комитета. Все им руково-
дится. Как же от руководителя что-нибудь скрыть?
С потаенными знаками, в безвестной глухой квартире собираются това-
рищи, оглядываясь, не идет ли за ними полицейский, не следит ли шпион.
Идут безмолвно, «на цыпочках».
На цыпочках же, оглядываясь, не следит ли и за ним полицейский или
шпион, входит в это собрание Азеф. Здоровается, садится, говорит и слуша-
ет. У него спрашивают совета. Он дает советы.
Величайший враг, самый злобный, единственный, который им может
быть опасен, который все у них сгубит и всех их погубит, - постоянно с
ними.
И они никак его не могут узнать!!
В этом суть провокации.
На этом сгублена была, прервана революция.
На неспособности узнавания: не правда ли, поразительно!
Сидят в ложе театра мудрецы, как кн. Кропоткин, Вера Фигнер, В. Засу-
лич, Лопатин. Перевидали весь свет. Век читали, учились, - правда, все особ-
ливые и однородные книжки. На сцене играется «Отелло» Шекспира, - и
главную роль играет Сальвини. Они смотрят на сцену, внимательно вслу-
шиваются: и никак не могут понять, что на ней происходит, по странной
причине, не могут различить Отелло от Яго и Сальвини от Ивана Ивановича!
Как не могут? Весь театр понимает.
Но они не понимают.
Весь театр состоит из обыкновенных людей. А они - ложа террористов,
- необыкновенные люди. Они «отреклися от ветхого мира»: и в то время,
как весь театр читал Шекспира, задумывался над лицом и философиею Гам-
лета, читал о нем критику и во все это вдумывался свободно, внимательно,
не торопясь, не спеша, - пять, семь «членов центрального комитета» никог-
да не имели к этому никакого досуга, а еще главнее - ни малейшего располо-
жения, точь-в-точь как (беру специальности) Плюшкин, копивший деньги,
или Скалозуб, командовавший дивизией. Все равно, в чем специальность:
дело - в специализации. Зрители партера - свободные люди, не специалис-
ты. Но в «ложе террористов» - специалисты. Нужно бы здесь цитировать те
265
замечательные слова о печатнике конспиративной типографии, которые соб-
ственно вводят в душу революции. Они не лишены поэтичности, потому
что вдохновенны; но смысл этого вдохновения сводится к черной точке -
полному разобщению с людьми и их интересами, с человеком и его забота-
ми, с мудростью человеческой, ошибками, глупостями, шутовством, смеш-
ным и возвышенным.
Ничего. Одна «печатаемая прокламация»... Типографский шрифт и кон-
спиративно переданный оригинал.
Вполне Плюшкин революции.
У людей есть песни, сказки. У людей есть вот Шекспир. Они смотрят
Сальвини, плачут, смотря на его игру. Все это развивает, одухотворяет, ус-
ложняет, утончает нервы, утончает восприимчивость. Люди сердцем пе-
реживали Шопенгауэра и Ницше - в тридцать лет одного и в сорок другого,
и, чтобы перейти от Шопенгауэра к Ницше, сколько надо было продумать,
да и прямо переволноваться. Ведь так не сродны оба философа.
Зачитывались Тютчевым. Строки Фета, Тютчева, Апухтина ложились
на душу все новым налетом. Сколько налетов! Да и под ними сколько своей
ползучей, неторопливой думы. К 40-50 годам, с сединами в голове, является
и эта поседелость души, при которой, подняв глаза на Азефа, с его узким
четырехугольным приплюснутым лбом, губами лепешкой, чудовищным ка-
дыком, отшатнешься и перейдешь на другой тротуар.
После первого же посещения, которое он навязал, скажешь прислуге:
- Для этого господина меня никогда нет дома.
Лицо Азефа чудовищно и исключительно. Как же можно было иметь с
ним дело? Лицо само себя показывает, - именно у него. Но весь партер узна-
ет Сальвини, знает, где Яго и где Отелло: одни террористы никак не могут
этого узнать.
Они вообще не узнают людей, не распознают людей.
Но отчего?
От психологической неразвитости, - чудовищной, невероятной, в своем
роде поистине «азефовской», если это имя и историю его неузнания можно
взять в пример и символ такого рода заблуждений и ошибок.
Как Азеф был в своем роде единственное чудовище, - и имя «сатаны» и
«сатанинского» часто произносилось в связи с его именем: так террористы
дали пример совершенно невероятной, нигде еще не встречающейся, слепо-
ты к лицу человеческому, ко всей натуре человеческой.
Как булыжники. Тяжелые, круглые, огромные. Валятся валом и на чем
лежат - давят. Но какое же у булыжника зрение, осязание, обоняние?
Азеф, растолкав этот булыжник, вошел и сел в него. И стал ловить. «Они
ни за что меня не узнают, не могут узнать. Механику свою я спрячу, а чутья
у них никакого. Они меня примут за Гамлета».
Они действительно его приняли за Гамлета, страдавшего страданиями
отечества и пришедшего к сознанию, что иначе как террором - нельзя ему
помочь.
266
* * *
Как это могло случиться?
А как бы этого не случилось, когда к этому все вело? Над великой ролью
«Азефа в революции», «введения Азефа в социал-демократию» работали
все время «Современник», «Русское Слово», «Отечественные Записки»,
«Дело», «Русское Богатство»... Ему стлали коврик под ноги Чернышев-
ский, Писарев, критик Зайцев, публицист Лавров; с булавой, как швейцар,
распахивал перед ним двери, стоя «на славном посту», сорок лет Михайлов-
ский... Столько стараний! Могло ли не кончиться все дело громадным, ог-
лушительным результатом? Сейчас Пешехонов, Мякотин и Петрищев изо
всех сил стараются подготовить второго Азефа «на место погибшего».
Как?!
Да ведь все дело в неузнании. Будь они способны узнавать, имей они
чуткость, кто же бы послал им такую грушу, как Азеф? Провокация, или так
называемое «внутреннее освещение» конспираций, основана на возможно-
сти войти в комнату к зрячим людям как бы к незрячим, т. е. которые имеют
физический глаз и не имеют духовного. Не яблоко глазное видит, а мозг ви-
дит. Механизм зрения есть у конспирантов, а ума видящего у них нет; и на
этом все основано, базировано и рассчитано. Аул/ видящий, глаз духовный...
Боже, да ведь в атрофии его вся суть радикальной литературы, вся ее
тема.
Все устремлено было к великой теме: создать революционного Плюш-
кина.
Когда писал Писарев свое «Разрушение эстетики» - он работал для Азефа.
Когда топтал сапожищами благородный облик Пушкина - он целовал
пальчики Азефа.
Ничего, кроме этого, не делал Чернышевский, когда подымал ослиный
гам и хохот около философских лекций проф. Юркевича.
Вся сорокалетняя борьба против «стишков», «метафизики» и «мисти-
ки», - все затаптывание поэзии Полонского, Майкова, Тютчева, Фета, - весь
Скабичевский со своею курьезною «Историею литературы», по преимуще-
ству новой, - ничего другого и не делали, как подготовляли и подготовляли
великое шествие Азефа. «Приди и царствуй»... и погубляй.
Последнее, конечно, было от них скрыто. Всякая причина, развертыва-
ясь во времени, входит в коллизию с другими, непредвиденными. Да, но эти
«непредвиденные» никак не могли бы начать действовать этим именно спо-
собом, не встреть они «гармонирующее» условие в этой первой причине.
Влезть в самую берлогу революции могло прийти на ум только тому
или только тем, кто с удивлением заметил, что там сидящие люди как бы
атрофированы во всех средствах духовного зрения, духовного ощущения,
духовного вникания.
Но корень, конечно, в слепоте\
А вытыкали глаза, духовные глаза, у читателей, у учеников, у последо-
вателей, и, в завершении и желаемом идеале, - у практических дельцов
267
политического движения, решительно все, начиная с левого поворота на-
шей литературы и публицистики, начиная с расщепления литературы на
правое и левое движение. Все левое движение отшатнулось от всего духов-
ного.
Тут я имею в виду вовсе не содержательную сторону поэзии или фило-
софии, мистики или религии, - которою, признаюсь, и не интересуюсь, или
сейчас не интересуюсь, - а методическую сторону, учебную, умственно-
воспитательную, духовно-изощряющую, сердечно-утончающую. Имею в
виду «очки», а не то, что «видно через очки». Между тем весь радикализм
наш боролся против «средств видения», против изощрения зрения, против
удлинения зрения. Разве Чернышевский опровергал Юркевича, делал чита-
телей свидетелями спора себя с ним? Кто не помнит, когда, вместо всяких
возражений, он, сказав две-три насмешки, перепечатал из Юркевича в свою
статью целый печатный лист, - сколько было дозволительно по закону, -
перервав листовую цитату на полуслове и ничем не кончив? «Не хочу спо-
рить: он дурак». И так талантливо, остроумно... Публика, читатели, кото-
рые всегда суть «средние люди», захохотали. «Как остроумен Чернышев-
ский, и какой movais ton этот Юркевич».
Так все и хохотали. Десятилетия хохотали. Пока к хохотунам не подсел
Азеф.
- Очень у вас весело. И какие вы милые люди. Я тоже метафизикой не
занимаюсь и стишков не люблю. Не мистик, а реалист.
Азеф совершенно вплотную слился с нигилистами, и они никак не мог-
ли различить его от себя, потому что и сами имели это грубое, механичес-
кое, антиспиритуалистическое, антирелигиозное, антимистическое, антиэс-
тетическое, антиделикатное сложение, как и он. Разница в калибре, в заду-
шевности, в честности, в прямоте. Но впрочем, во всем остальном составе
души, «убеждений», «мировоззрения», какая же разница между ним и ими?
Никакой.
Тон души один. А по «тону» души мы общимся, сближаемся, доверяем
один другому. Азеф был не прям, и эту машинку скрыл от людей, «в метафи-
зику не углублявшихся»: а в прочем, во всем духовном костюме своем или
скорей бескостюмности - он был так же гол, наг, дик, был таким же «отри-
цателем», как и они.
Они отрицали не мыслью, а хохотом. И он. На мысли можно поймать
оттенки; в мотивах спора можно уловить ум, тонкость его, подметить зна-
ния, подметить науку, на которую нужно было время потратить и способно-
сти иметь. И на всем этом можно бы было выделить неискренность. Но
когда все хохочут над метафизикой, религией, поэзией, - когда все сопро-
вождают только саркастическою улыбкою, то как и кого тут различить? Все
так элементарно!
Но элементарность-TQ и была методом русского радикализма! «Выс-
меивай, вытаптывай! Не спорь и не отвергай, но уничтожай».
Как тут было не подсесть Азефу? Как Азефа было узнать?
268
* * *
«Который Гамлет, который Полоний? Где Яго, где Отелло? Где Сальвини и
Иван Иванович?» Но разве к этому уже не подводил всех Скабичевский,
которого историю литературы единственно было прилично читать в этих
кругах? Не подводила сюда критика Писарева и публицистика Чернышев-
ского? Не подводили сюда дубовые стихи с плоской тенденцией? Повести с
коротеньким направлением?
Все вело сюда, все... к Азефу! «Они разучились что-нибудь пони-
мать».
Около этого прошло сколько боли русской литературы! Отвергнутый в
его художественный период Толстой, Достоевский, загнанный злобою и лаем
в консервативные издания официозного смысла, с которыми внутренно он
ничего не имел общего. ..Дай мало ли других, меньших, менее заметных! В
широко разлившемся и торжествующем радикализме ничего не было при-
нято, ничего не было допущено, кроме духовно элементарного, духовно
суживающего, духовно оскопляющего!
«Ничего, кроме Плюшкина», - вот девиз. «Плюшкина», т. е. узенькой,
маленькой, душной идейки. Идейки фанатической, как фанатична была
страсть Плюшкина к скопидомству. Радикализм сам себя убил, выкидывая
из себя всякий цветочек, всякий аромат идейный и духовный, всякое разно-
образие мысли и разнообразие лица человеческого. Неужели я говорю что-
нибудь новое, что не было бы известно решительно каждому? Но какой ужас-
ный всего этого смысл, именно для радикализма! Как и либерализм, как и
консерватизм, как национализм и космополитизм, радикализм есть непре-
менный, совершенно нужный элемент движения. Но стих Шиллера:
Будь, человек, благороден
- конечно, и в нем есть такой же канон, как всюду. Конечно, радикал перед
собою и даже перед своею партиею обязан вдыхать в себя все цветочное из
всемирной истории, все пахучее, ароматистое, лучшее, воздушное. Пусть
он не молится, но должен понимать существо молитвы; пусть будет атеис-
том, но должен понимать всю глубину и интимность религиозных веяний;
пусть борется против христианства, против церкви, но на основании не только
изучения, но талантливого вникания в них. И все прочее также в политике,
в семье, в быте. Я не об изучении, которое может быть слишком сложно и
поглощает жизнь, отвлекает силы: я за талант вникания, который реши-
тельно обязателен для каждого, кто выходит из сферы частного, домашнего
существования и вступает с пером в руке или с делом в намерении - на аре-
ну публичности, всеслышания и всевидения.
Но выступали, как известно, хохотуны. Талант острословия, насмешки,
а больше всего просто злобного ругательства, был господствующим каче-
ством и ценился всего выше. Самая сильная боевая способность. Была ли
какая другая способность у Писарева, Чернышевского и их эпигонов? Сме-
хом залиты их сочинения. Победный хохот, который все опрокинул.
269
Смех по самому свойству своему есть не развивающая, а притупляю-
щая сила. Смех может быть и талант смеющегося, но для слушателя это
всегда притупляющая сила. Смех не зовет к размышлению. Смех заставля-
ет с собою соглашаться. Смех есть деспот. И около смеха всегда собирают-
ся рабы, безличности, поддакивающие. Ими, такими учениками, упился ра-
дикализм и подавился. Ибо какого даже талантливого учителя не подавят
тысячи благоговейных ослов!
В самом успехе своем радикализм и нашел себе могилу; пил сладкий
кубок «признания» и в нем выпил яд лести, «подделывания» к себе, впаде-
ния «в свой тон», поддакивания... Он не боролся, как должен бороться вся-
кий борец: он парализовал сопротивление ругательством и знаменитою ко-
ротенькою ссылкою на «честно мыслящих» и «нечестно мыслящих». Он
объявил негодным человеком того, с кем должен бы вести спор, и этим пре-
кращал спор. Все разбежались. Победитель остался один. В какой пустыне!
Все это до того известно! Но все это до чего убийственно!
Ни малейше никто не боялся радикализма как направления, как про-
граммы, как действия. Он - гость или соработник среди всех званых во
всемирной цивилизации. Но это его варварство, варварство нашего рус-
ского радикализма, мутило все лучшие души: он явно вел страну к одича-
нию, выбрасывая критику (художественную), выбрасывая «метафизику»
или, собственно, всякое сколько-нибудь сложное рассуждение, посмеива-
ясь над наукою, если она не была «окрашена известным образом», растап-
тывая всякий росток поэзии, если она «не служила известным целям». Он
задохся в эгоизме - вот его судьба. На конце этой судьбы все направления
оказались богаче, сложнее, - наконец, оказались талантливее его. Просто
от того, что ни одно направление не было враждебно собственно таланту, а
радикализм, начавшийся очень талантливо век или почти век назад, шел
систематически к убийству таланта в себе, через грубую вражду к свободе
лица человеческого. Какая тут свобода, когда стоит лозунг: «Одна нечест-
ность может не соглашаться со мною»!
Полувековой лозунг. А в полвека много может сработать идея. Капля
точит камень... Все разбежались в страхе быть обвиненными в «бесчестно-
сти»... Вокруг радикализма образовалась печальная пустыня покорности и
безмолвия... Пока к победителю не подсел Азеф.
* * *
Весною появились «Вехи», - книга, в короткое время ставшая знаменитою.
После неудачных или полуудачных сборников - «Проблемы идеализма», «От
марксизма к идеализму», кружку людей, не вполне между собою солидар-
ных, но солидарных во вражде к радикализму, удалось написать ряд статей
и собрать их в книгу, которая в несколько месяцев выдержала три издания и,
как никакая другая книга последних лет, подверглась живейшему обсужде-
нию во всей повременной печати и вызвала специальные о себе чтения и
диспуты в Петербурге и в Москве.
270
Книга призывает к самоуглублению. Ее смысл вовсе не полемичес-
кий, полемика звучит в ней как побочный параллельный тон, полемика,
так сказать, вытекает из ее тем и содержания. Но содержание это есть
просто анализ среднего образованного русского человека, - вот «читате-
ля» все радикальных книжек и лишь отчасти творца этих книжек и прак-
тического деятеля. Она занимается не главами, а толпою, не учителями,
а учениками, не учением, а характерами, поступками и образом мысли
толпы. В этом смысле она есть критика «русской образованности», не в
вершинах ее, а в низшем уровне, - увы, радикальном! Радикализм, «без
поэзии и метафизики», сам сюда съехал. Книга эта не столько полити-
ческая, сколько педагогическая; отнюдь не публицистическая, - нисколь-
ко, а философская. Она непременно останется и запомнится в истории
русской общественности, - и через пять лет будет читаться с такою же
теперешнею свежестью, как и этот год. Не произвести глубокого перево-
рота во многих умах она не может. По смыслу и историческому положе-
нию она напоминает «Письма темных людей», но только «темных лю-
дей» она не пересмеивает, а укоряет, и не в шутливо-эпистолярной фор-
ме, а серьезным рассуждением.
Что «темные люди» поднялись на нее лавиной - это само собою разуме-
ется! Почувствовалась боль, настоящая боль в самых далеких уголках лите-
ратуры и общества. Вся критика не поразила бы, не будь она так метка и
точна, так научно верна. Научная верность диагноза и составила ее силу: без
нее просто не обратили бы на книгу внимания, ибо предметом этим и этою
темою занимались множество раз ранее. Но после многих неудачных, кри-
вых зеркал перед «интеллигенциею» было поставлено научно выверенное
зеркало, - взглянув в которое она отшатнулась и закричала.
Конечно, прежде всего вытащена была старая оглобля, которою ради-
кализм поражал недругов: «Измена! предательство! не наши! нечестная
мысль».
- Ну, что тут нового, - писал в «Русск. Богатстве» Пешехонов, - давно
известно! Повторяют Крестовского, Незлобина и еще кого-то.
Убийственную сторону книги составляет то, что она написана людьми
без всякого служебного положения, иначе ее живо похоронили бы; не поме-
щиками, не богачами, не дворянами, - иначе разговор с нею был бы короток.
«Камень на шею - и бух в воду». Нет. Выступили свободные литераторы
совершенно независимого образа мыслей. Выступила просто мысль и граж-
данское чувство. Это убийственно.
Но куда же зовут эти мыслители? К работе в духе своем, к обращению
читателей, людей, граждан внутрь себя и к великим идеальным задачам че-
ловеческого существования. Зовут в другую сторону, чем та, где сидит Азеф
и азефовщина, где она вечно угрожает и не может не угрожать; они призыва-
ют в ту сторону, куда Азеф никогда не может получить доступа, не сумеет
войти туда, сесть там, заговорить там.
271
Книга эта не обсуждает совершенно никаких программ; когда вся пуб-
лицистика целые годы только этим и занята! «Вехи» говорят только о чело-
веке и об обществе.
«Прочь от Азефа»... Но Митрофанушке легче было бы умереть, чем
выучиться алгебре. Зовут к сложности, углублению. Критика на «Вехи» от-
ветила:
- Нам легче с Азефом, чем с «Вехами»... Углубиться - значит перестро-
иться, переменить всю структуру себя! Значит родиться вновь или возро-
диться. Лучше уж пусть Азеф посылает нас на виселицы, или мы его убьем.
Это элементарно и мы можем. Но углубиться... мы всю жизнь, вот уже со-
рок лет идем в сторону от углубления: куда же и как мы повернемся, когда
на вражде-mo к углублению и базирован весь русский радикализм!
Вот историческое положение дела.
П. А. КУСКОВ
(Некролог)
После продолжительной и тяжелой болезни скончался Платон Александ-
рович Кусков, сотрудник и товарищ Ф. М. Достоевского, Н. Я. Данилевско-
го и Н. Н. Страхова по журналам «Время» и «Эпоха» и видный чиновник и
деятель ныне закрытого выкупного учреждения, заканчивавшего счеты и
отношения, вытекшие из освобождения крестьян. Некоторые из его воспо-
минаний детства были помещены в «Приложениях» к «Новому Времени»,
под заглавием: «Моя жизнь в доме бабушки». Отдельными книгами выш-
ли: сборник его стихотворений, под заглавием: «Наша жизнь», и рассужде-
ние, написанное в художественной форме, под заглавием: «Наше место в
вечности». В «Русском Обозрении» был напечатан его полурассказ-полу-
рассуждение: «Разговор на пристани». Два последние рассуждения с пре-
лестью формы соединяют необыкновенную оригинальность и глубину
мысли, и имя Кускова не забудется в небольшой толпе самобытных рус-
ских философов, ничего не взявших от книг и людей, но давших много
материала тем и другим. Мысль его зрела медленно и неторопливо; с изящ-
ной спокойной речью, он вечно обдумывал свои темы, и иногда в интерес-
нейшем месте вдруг прерывалось его рассуждение, захватившее все ваше
внимание, и он говаривал: «Ну, это я доскажу когда-нибудь в «нашем мес-
те в вечности». Зрели его мысли и его философия, т. е. взгляд на мир и на
человека, не в кабинете, не за письменным столом, не с пером в руке, а на
прогулках, в беседах, в служебной работе. От этой постоянной перепол-
ненности его головы или, вернее, его души мыслью - его разговор пред-
ставлял необыкновенный интерес, занимательность, истинную поучитель-
ность. И так как все было продумано лично им, ничего им не взято было из
книг, хотя он постоянно и много читал, то образ мысли его представлял
необыкновенную свежесть и, позволим выразиться, житейскую душистость.
272
Зная Евангелие из строки в строку, он иногда изумительно глубоко, ясно и
великолепно объяснял некоторые изречения Спасителя, как не объяснял их
никто. Книга его евангельских объяснений, можно сказать, годами, даже
десятилетиями готовилась, но осталась вся в разговорах, в беседах, пока-
зывалась приятелям на отдельных табличках, но не сложилась даже в фор-
му сколько-нибудь удобного для издания материала. Он весь был проник-
нут глубокою красотою как текста Евангелия, так и Лика Спасителя: и можно
сказать, свет этого Лика везде мерцал тихим и спокойным светом в россы-
пях, глубинах и далеких горизонтах его оригинальной философии. Но он
не подгонял ни философию к Евангелию, ни Евангелия к образу своих мыс-
лей: все у него делалось «само собою», как и вообще в его мыслях и по-
ступках всегда была изгнана всякая искусственность, преднамеренность и
деланность. Он любил Евангелие, любил мысль человеческую, любил и
уважал человека, и в лаборатории его мысли все это связывалось и взаимно
освещалось. Никогда он не позволял себе изменить натурального факта: но
длинный рассказ свой «из жизни» вдруг заканчивал изречением Спасите-
ля, которое сразу и все объясняло в рассказанном. От этих сочетаний бесе-
ды его носили несказанную прелесть. Его спор был спокоен: и споривший
в конце концов всегда подпадал обаянию этого необыкновенно жизненного
и чарующего ума. Сборник стихов его «Наша жизнь» выражает своим заг-
лавием тему всех его сочинений и тему самой его личности: философия его
не была на абстрактные темы и не была искусственным сплетением абст-
рактных мыслей о «невидимых предметах» или «о том, чего никто не зна-
ет». Эти германизмы ему были чужды: но иногда, глядя на него, невольно
думалось, что в личности и мудрости своей он совершенно повторил «про-
гуливающихся» греческих философов, - этих мудрецов до мундира и без
мундира, без должности и кафедры, говоривших толпе, друзьям и народу.
«Наша жизнь»... Но корни ее, конечно, «в вечности», и вот около этих не-
зримых корней «нашей жизни» копался 30-40 лет спокойный, ясный, не-
увядаемо прекрасный Пл. Ал. Кусков. «Корни» нашей жизни протягивают-
ся всюду: они уходят к Богу, они уходят в поэзию, они трогают загробный
мир, они, наконец, сплетаются с корнями же всего органического живого
мира, растительного и животного. И вот, всюду следуя за этими «корнями»,
Кусков открывал уже в областях специальных естественных наук такие от-
ношения, аналогии, связи, подобия, что у слушателя его невольно рожда-
лось и изумление, и умственное очарование. В философии Кускова ничего
не было «нарочного»: мысли его так медленно зрели и ложились такой спо-
койной сетью на предмет, ничего в нем не искажая, что казались в высшей
степени правдоподобными, хотя и не сопровождались «вычислениями» или
«опытами», всею арматурою точной науки. Он как бы рождал свет: а «за-
жечь фонари» предоставлял другим, кто хочет, - «зажечь фонари», т. е. уло-
вить свет в определенные рамки, формы, грани, точки, средоточия. В выс-
шей степени правильная, ясная, верная мысль его не торопилась к научной
обработке; почти ленилась дотянуться до нее; слаще казалось обдумыва-
273
ние, размышление, нежели систематическое подбирание закругленного ар-
сенала доказательств; он был именно «как греческие философы», которые,
профилософствовав «на ходу» века и, в сущности, положив фундамент для
всех будущих направлений в философии, не дотащились все-таки до школь-
но-учебной философии и науки, систематической и доказательной.
В «Разговоре на пристани» он выясняет нравственную философию, точ-
нее, новый нравственный взгляд на мир, какой принес с собою в среду моло-
дежи, в среду общечеловеческую, русский народ. Это не «система» нравствен-
ная, но что-то неизмеримо лучшее системы: жизненное, мудрое, благородное
освещение образа человеческого, судьбы человеческой, сущности человече-
ской. Не будучи «систематиком»-славянофилом, «доктринером» славянофиль-
ства, он был, как и Толстой или как любимый его писатель Вл. Даль, поклонни-
ком душевной глубины русского народа и изящества, красоты русского на-
родного обличья. Можно сказать, он также собирал и запоминал, копил долго
и накопил великое множество в разных случаях услышанных им народных
выражений, но не грамматического интереса, а нравственного или философ-
ского интереса, и в этом богатстве постоянно копался. «Евангелие» и «народ»
были вечными спутниками этого «прогуливающегося философа», ими только
проверял он свою мысль, когда колебался, к суду их возводил все сомнитель-
ное. Но и это - не уторопление, без преднамерения, без подчеркиванья. «Все
само собой», - почти девиз его философии и жизни.
Покойный Страхов, который достаточно знал «печатную философию»,
неоднократно говаривал, что Кусков есть настоящий «урожденный» фило-
соф, с оригинальным и большим философским светом в себе, с полным и
гармоничным миросозерцанием, и что в совершенно объективном, так ска-
зать, библиографическом смысле, хотя он и не имеет (при жизни Страхова)
философских трудов, тем не менее гораздо значительнее, интереснее и выше
философов ex cathedra, что-то не свое, а искусственное преподающих в уни-
верситете под именем «философии». Ссылаюсь на это мнение компетент-
ного человека.
Все знавшие Платона Александровича надолго, надолго сохранят образ
этого редко цельного и благородного русского старца... Даже не хочется и
неловко назвать его «старцем»: хотя ему было далеко за семьдесят лет, но
его безукоризненное внешнее изящество и всегда оживленный ум исключа-
ли возможность этого названия. Внутренняя энергия испепелила черты ста-
рости... Прости навеки, на редкость красивый русский человек, бывший
незаметно учителем друзей своих и всех, кто его знал или к нему прибли-
жался. Такой приятной, ласкающей формы философии, - философии глубо-
кой и жизненной, какая была у него, - я ни у кого не встречал.
Из писателей любимейшим его был Шекспир. Он его постоянно изучал
и изучал комментарии к нему. Плодом изучения был перевод «Отелло», ко-
торый он сопроводил интересным комментарием (издан в «Дешевой Биб-
лиотеке»).
274
А. Л. ВОЛЫНСКИИ. «Ф. М. ДОСТОЕВСКИЙ.
КРИТИЧЕСКИЕ СТАТЬИ»
Второе издание. СПб., 1909
Ни в чрезвычайном трудолюбии, «прилежании», ни в огромной начитаннос-
ти в избираемых им областях, ни в уме, логическом и философски настроен-
ном, - во всех этих залогах успеха и влияния никто не откажет г. Волынскому.
К этому можно прибавить настоящую и редкую жемчужину: г. Волынский, не
будучи русским по крови и вере, с таким энтузиазмом и так давно положил
свою душу к подножию идеалов страны, ему не родной, что, поистине, явил
собою одно из великих доказательств всемирного братства народов, всемир-
ного единства духа. Нужно читать его обширный (целый том) критический
разбор Лескова, чтобы увидеть, как проникновенно и свято он воспринял не-
заметнейшее, скромнейшее в русских идеалах, в русских старых заветах, -
как самое в них важное и дорогое. Он поклонился перед русским смирением,
перед русскою тихостью, перед русскою неспорчивостью, перед русскою ус-
тупчивостью - все черты, казалось бы, пассивные и отрицательные - как пе-
ред самыми великими чертами человечности: как англичанин преклоняется
перед свободою и римлянин перед мужеством, француз перед «просвещени-
ем» и эллин перед святынями своих Акрополей; прямо, - он сделал себя «сто-
рожевым псом», лающей собакой этих тихих и незаметных любимых русских
вещей. И его больно ударяли за них, а он больно кусался и громко лаял у ворот
чужого дома. В литературной судьбе Волынского есть что-то неэстетическое,
и сам он неэстетичен; но в высшей степени героичен. И вот уже многие годы
прошли. Много трудов он написал, можно сказать, «наворотил»: так они тол-
сты. Разобрал и изложил всех русских критиков, - как никто до него, до ни-
точки; разбирал Лескова; теперь вот разобрал Достоевского; все - до ниточки.
Он все делает «до ниточки». И...
И - ничего.
Никакого влияния. Никакого значения.
Просто - точно не рождался в русскую литературу.
Точно «Волынский не приходил в русскую литературу». А такое собы-
тие было.
Он чист и строг, как резиновая калоша, только что купленная в магазине
Американской мануфактуры. Блестит и непорочен. И до него никто не дот-
рагивается. Вот в этом и заключается причина его непонятной судьбы. Он
не вошел в «русский обиход», не завертелся в «русском колесе», не поехал с
«русскою телегою». До такой степени положа все к подножию русских иде-
алов, он сам - не русский.
В духе своем.
В стиле своем.
Во всей литературной деятельности.
Можно подумать, что он полюбил так русские идеалы не по закону сход-
ства, а по закону контраста. То, что он полюбил в русских как величайшую
275
их «святость», сводится к тусклости или «невознесенности» личного я. Рим-
ляне имели «орлиные носы», с горбом и большие: русский носик неболь-
шой, картошкой, с переимочкой около носа: но что-то милое образуется в
мягких чертах около этой переимочки, около глаз и верхней части щек. Во-
лынский все и хвалит вот эту «переимочку»: «Лучше Афродиты Милосской,
неслыханное, невиданное». Но, взглянув на его лицо, мы замечаем, что у
него тоже нет «переимочки» и нос римский. Переносно говоря, он правдиво
и слезно поклонился перед русскою безличностью, в хорошем, святом, ее
смысле: ибо, в самом деле, что наши лица перед Богом? - «тают, яко воск».
Но в самом в нем огромное и гордое лицо уединенного человека, не любя-
щего общества, не идущего к обществу.
Гордое римское или, вернее, иудейско-эллинско-римское лицо - запело
гимн русской простоте, русской безличности. Тут в самой теме и в самом
поющем - трагедия: вышло что-то умное, ученое, бесплодное. В Волынс-
ком поразительна эта неплодоносность. Нет плода. Сочинений много, а плода
нет. И чтобы кончить сравнение, я скажу, что вид необразованной (конеч-
но!) России и трудящегося в русской словесности Волынского являет что-то
похожее на сухую, колючую, жесткую смоковницу, «на которую даже птицы
не садятся», чтобы не наколоться, - среди необозримой солончаковой пус-
тыни, где ни зверь не бегает, ни человек туда не заходит.
Можно было бы хоть постараться усвоить Волынского. Постараться для
этого. Почитать. Ведь стоит.
Но русские, как известно, не учатся. «Сами талантливы».
Море русского свинства залило Волынского: ученость его, героизм его,
энтузиазм его.
Вот ужасная действительность, в обстоятельствах которой погибло или,
лучше сказать, и не родилось существо Волынского. Я накидываю дело, как
оно есть, и если несколько грубо выходит, то ведь как бесплодна сама эта
действительность, как грубо существо самого дела!
Несмотря на то, что Волынский «наворотил горы печатной бумаги», -
все это будет, однако, просачиваться в наше сознание, в русскую совесть и
русскую осведомленность по чайной ложечке, как лекарство. Но будет. И
лет через 15-20, а во всяком случае, через 30, - Волынский сделается «обык-
новенным русским писателем», - «всем известным». Тогда он будет при-
знан как ученое, правильное, в высшей степени добросовестное зеркало,
отразившее в себе русскую литературу, - несколько с сухим и искусствен-
ным блеском.
В этом медленном просачивании книга его о Достоевском должна сыг-
рать большую роль. И просто тем, что она - нужна. Нужна гимназисту, нуж-
на курсистке, нужна ученому - при чтении или при изучении Достоевского.
Волынский везде фундаментален, он нигде не скользящ. И такой писатель
«настолько» нужен при ознакомлении с соответственным предметом, а с
Достоевским, слава Богу, у нас начинает знакомиться широкая публика, хотя
народным, как Толстой, он еще не сделался, и от этого далеко по трудности
276
и утонченности идей Д-го. С Д-м и вслед за ним шевельнется колесо и боль-
ших критиков его, между которыми - Волынский. После книг Волынского,
Шестова («Достоевский и Ницше») и Мережковского («Л. Толстой и Досто-
евский») просто невозможно читать Добролюбова или Белинского: и здесь
кстати вообще заметить, до чего новейшая критическая работа, встреченная
таким предубеждением, отодвинула вдаль и закрыла собой, похоронила пе-
ред собою, корифеев старой критики, от Белинского до Михайловского.
Похоронила, и не воскреснуть им, как просто слишком наивным...
По языку, по силе экспрессии, Волынский в критике Достоевского не
стоит в уровень с предметом. Он слишком вял для Достоевского; как чело-
век западной образованности, слишком «корректен» для него и лишь умом,
а не манерой собственного писания, не изгибами собственного сердца усво-
яет и передает Достоевского. Несмотря на великую его любовь к Достоев-
скому, на «культ» его, - все же об этом благоразумном и воздержанном рим-
лянине следует сказать, что он стоит мещанином около великого пьянства
аристократа-Достоевского, жида-Достоевского. Начиная с Гоголя и вот вхо-
дя в Достоевского, в русскую стихию хлынула грязная и могучая «жидов-
ская» волна с Мертвого ли моря, с чистых ли вод Геннисаретского озера, не
знаем: но явно не арийская и антииарийская, какая-то восточная, азиатская, с
этим перламутровым отблеском, которым покрываются вонючие лужицы и
черное богатство нефти. Ни Гоголь, ни Достоевский не суть арийцы по духу:
как эта странность произошла - необъяснимо; но как факт - она когда-ни-
будь будет признана. Ни Гоголь, ни Достоевский, несмотря на великий культ
к Пушкину, - не имеют ничего в себе пушкинского и, в сущности, совер-
шенно «выели» (как выедает кислота) пушкинскую стихию в русском со-
знании, пушкинскую ясность, пушкинский покой, пушкинское счастье. «Съе-
ли наше счастье» великие русские мистики, начиная от Гоголя. И повели к
тем тревогам духа, к каким вели Палестину ее «пророки» и Рим повел ап.
Павел. Вот «Павлова начала» очень много в них: спокойный, почти юриди-
ческий Волынский при всех усилиях никак не может этого художественно
схватить и передать и передает Гоголя сухою, резонирующею мыслью. Ни с
чем так, как с резонерством, не борется Волынский: но сам он постоянно -
резонер! Книга его о Достоевском в высшей степени основательна: типы
всех Карамазовых, Ник. Ставрогина, князя Мышкина, Настасьи Филиппов-
ны, Катерины Ивановны изучены и разобраны у него до ниточки. Как и вез-
де у него «до ниточки». Он только сам в себе имеет мало этой карамазовской
«породы», мутно-порочно-гениальной: и передает все или критикует все как
что-то чужое, лишь вот «из Достоевского узнанное». Для настоящей крити-
ки это недостаточно; как говорят немцы, ему недостает «конгениальности»
с критикуемым автором. Но критика Волынского (как и Мережковского) есть
«сейчас же за настоящей», которой, Бог даст, нам уже не долго ждать. Вме-
сте с названными критиками все они похоронили наивный лепет прежних
критиков о Д-м и Толстом и подготовили почву для появления окончатель-
ной художественной критики. Слабость всех трех названных писателей в
277
том, что они все - не художники, а философы и резонеры, рассудочники.
Это слишком тупое орудие для обработки и Д-го и Толстого. Им недостает
великого русского мастерства: меткого русского взгляда, русского письма «с
крючочками», русского нюха, русского дара. Им недостает, наконец, и на-
стоящей «жидовской грязноты», без них не усвояется, напр., Достоевский;
они все слишком «из Берлина».
Но довольно. Всякий читатель много приобретет, многому научится, и
хорошо научится из книги Волынского: и этого совершенно достаточно. Все
должно нести «крест» своих недостатков и достоинств (так как и в достоин-
ствах есть «крест»). И, кончая с Волынским, мы скажем ему добрым сове-
том, христианским советом, - презреть ту сухость почвы, которая его встре-
тила, презреть те камни, которые в него летели, и - так же, точь-в-точь так,
как прежде, - идти и идти, работать и работать, любить и любить на вели-
кой русской ниве великие русские жатвы. Ибо, поистине, я не знаю более
трогательного явления, чем это: что беглецы из Белостока и разных Бело-
стоков (их много) бегут и бегут и, не кляня никого, благословляют руки,
которые с такою тяжестью были возложены на них... Через год, через сто
лет это явление будет явлено во всей своей всемирной трагичности и красо-
те. И тогда принесет плод, какого теперь не усчитать. Вспоминая Гейне и его
сарказм к Германии, его гадливость к ней и придвигая к этому примеру того
же Волынского, не гения, не поэта, но «все-таки», - и бесконечную его лю-
бовь к русским мощам, к русским праведникам (в статьях о Лескове), к рус-
ским мужикам, к русской византийской живописи, к русскому простому и
неказистому, ко всему русскому безбожному, - нельзя не поразиться и не
почувствовать такого, что трудно выговорить, но что большим теплом ле-
жит в душе...
ПЕТЕРБУРГ И КУТЛЕР
Как великие люди и великие партии заставляют страну или город благо-
словлять себя, так бездарные и мелочные люди и бездарные и мелочные
партии вызывают у современников своих, говоря мягко, уныние, а говоря
жестко - пришлось бы употребить эпитеты совсем неудобные. Навязавшая
себя России кадетская партия каждым, можно сказать, шагом своим произ-
водит подобное уныние. Сами кадеты приписывают это вызываемое ими
чувство политическим опасениям, - тем, что кто-то испуган глубиной и слож-
ностью их замыслов и планов: на самом деле ничего подобного нет, никто
их не боится, никто ими не испуган, никто не подозревает в них ни глубины,
ни сложности. Но все решительно безумно скучают, видя в сто первый раз
показываемый фокус или слыша в тысячный раз какую-нибудь эффектную
фразу, вся «глубина» которой заключается в ее двуличности. Уныние, при-
чиняемое кадетами России, происходит единственно от того, что это в сущ-
ности вовсе не политическая партия, а журнальная партия в политике, стре-
мящаяся подчинить реальные интересы и реальные нужды колоссальной
278
страны и тысячелетнего народа идеологии русской журналистики второй
половины ХЕК века, - и только. Она вся построена на фразерстве и коро-
теньких мыслях, вся сводится к личностям и самопоказыванию, хвастов-
ству. «Только бы мы были на верху положения: а там... apres nous le deluge»*.
Что касается их лейб-органа «Речи», то никакой там «политики» нет, потому
что нет никакой политической мысли: «Речь» смешным образом принимает
за политику газетное зубоскальство по поводу той или иной правительствен-
ной меры да еще клевету, инсинуации и заподазривание непопулярных в
обществе лиц и, наконец, темные намеки на то, будто газета что-то такое
знает и скрывает, когда она ничего решительно не знает, чего не знали бы
все, и скрывать ей решительно нечего. Наконец, она преисполнена, конечно,
целым ворохом благопожеланий русскому народу, серию которых можно
безгранично удлинять, так как все они чисто словесные и бумага все терпит,
и внушает наивной части своих читателей, что правительство оттого не ис-
полняет эти пожелания, будто бы изображающие «программу», что они, ка-
деты, суть народолюбцы и благородные люди и правительство предполага-
емо состоит из людей неблагородных, которые денно и нощно помышляют
о том, как бы причинить побольше зла и каверз русскому народу.
С такой «политикой» издавать газету в невоспитанном обществе еще
можно: но куда же с такой «политикой» лезть в государственные дела и про-
тягивать руки к власти. Государственность - это великая реальность. И го-
сударственными людьми становятся только великие реалисты. Государствен-
ные люди Англии, или на континенте Бисмарк, Кавур, Гамбетта, все сплошь
люди крепкого национального корня - вот пример. Они не разводили «про-
граммы» на Газетных листах, а работали день и ночь, исполняли, проводили
меры. И, состоя в оппозиции, можно умною критикою правительства доби-
ваться известных мер, разумных и осуществимых, необходимость которых
до очевидности показана с парламентской кафедры. Перед разумом все от-
ступят, перед любовью к отечеству все опустят головы. Но ни одного, ни
другого у кадетов не обретается.
Унылая партия выдвигает унылые кандидатуры. Никто решительно Кут-
лера не опасается на думской кафедре. Кутлер, проведший всю жизнь в де-
партаментском пролазничестве, всегда был исполнителем только чужих на-
мерений, прежде - Витте, теперь - Милюкова, с совершенным безразличи-
ем к тому, что проводить и что из этого выйдет для России. Как отвратитель-
ную сторону старой бюрократии составляло то, что она выдвигала по службе
людей без своего лица и без своего взгляда, дабы ими с удобством пользо-
ваться, так поистине отвратительную сторону кадетской партии и ее пре-
стидижитатора составляет то, что они двигают вперед людей, которых удоб-
но было бы дергать за ниточку и управлять ими, как карточным солдатиком.
Так в свое время был проведен Муромцев в председатели Г. Думы. Кутлер
позволит себя дергать за ниточку Милюкову: и вот все его права быть пред-
* ...после нас хоть потоп (фр.).
279
ставителем Петербурга. Но что же за дело Петербургу до пассий г. Милюко-
ва, молчалинского безмолвия Кутлера и всех этих поистине уничижающих
соображений. Петербург - столица России и имеет свою гордость. Петер-
бург не может не зардеться румянцем перед Россиею, Россия не может не
попрекнуть Петербурга, если от лица его будут вылезать в «представители
народные» такие люди, как то Винавер, то Кутлер. Что такое Винавер, как не
третьестепенный адвокат? Почему он, которого имени никто не слыхал до
выборов в Думу, а не которое-нибудь из светил адвокатуры, известных на
всю Россию? Отчего Винавер, а не Андриевский? Почему еврей, а не рус-
ский? Почему серенький ум, серенький талант, тусклая известность, сред-
нее образование, а не человек, об образованности и красноречии которого
знает по книгам и знаменитым судебным речам вся Россия? Отчего Вина-
вер, а не Кони? Но от того, что ни Кони, ни Андриевский не стали бы играть
роль Молчалина около Милюкова. Они люди с лицом - и их не надо. Но для
чего же все это разыгрывать на счет политической чести Петербурга, кото-
рый, кроме Винавера и Кутлера, имеет жителями и гражданами своих це-
лый ряд блестящих умов, деятелей, образованных людей во всех сферах че-
ловеческих поприщ. Винавер или Кутлер «от Петербурга» есть оскорбление
для Петербурга: потому что вся Россия может подумать: «В Петербурге ни-
кого нет блестящее Винавера и благороднее Кутлера». Вот в какое унизи-
тельное положение ставят кадеты петербургское население, - ставят через
то, что они захватили в свои руки выборную машину, уменье агитировать и
подставлять своих безличных личностей. «Покладистый Винавер», «покла-
дистый Кутлер»... Из Петербурга еще не выметен Грибоедовым сор, кото-
рый он вымел из Москвы своим Молчалиным:
.. .Собаке дворника, чтоб ласкова была...
Москва и выбирает таланты: она выбрала Маклакова. Может ли выб-
рать Петербург человека, сущность которого и вся служба, вся деятельность
состояла в зависимости, и этою службою он выработал в себе все психоло-
гические особенности зависимого человека, - человека на службе у другого,
подстраивающегося, подделывающегося к другому. Милюкову такой чело-
век нужен, но Петербургу такой человек вовсе не нужен. Петербург должен
остановиться на ярком лице, большой фигуре. Сказать, что их нет в Петер-
бурге, что в Петербурге не находится никого талантливее Кутлера, - совер-
шенно дико.
К НАЧАЛУ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Вся русская детвора и вся русская юность, скинув летние рубашечки и раз-
нокалиберный домашний костюм, переоделась 1 сентября в однообразную
суконную форму со светлыми пуговицами, - и озабоченно поспешает каж-
дый к своей школе, то маленькой и малолюдной, то громадной, сложной,
многоклассной, где толпятся сотни юных лиц от 10 до 20 лет. В сущности,
280
день открытия школ, «приступ к занятиям» - должен бы быть национальным
годовым праздником: у такого дня более прав на «всенародное празднова-
ние», чем у какого-нибудь археологического события, которого, кроме спе-
циалистов, никто толком и не знает. Все занятия и начинаются молебном в
школе, после которого дети отпускаются домой, - т. е. для них собственно
это и есть праздничный день, только не отмеченный в календаре и не возве-
денный к государственному или национальному значению. Однако почему
к «национальному» и «государственному значению» возводить только цер-
ковные торжества и табельные дни: можно было бы сделать обмен хоть ко-
торого-нибудь одного из бесчисленных праздников, церковных или табель-
ных, и почтить ученый мир, школьную науку, детские усилия, готовность
всей юной России к этим усилиям - возведением в общенародный праздник
«первый учебный день России». Мальчики и девочки оглянулись бы на себя;
каждый подумал бы: «От нас ожидают», «вся Россия нас встретила особым
днем», «родители наши, все правительственные места, сама церковь в этот
день не работали, не трудились, а молились в церквах о наших успехах, о
нашем добром ведении себя, о нашей будущей службе отечеству». Такая
мысль, хотя мимолетно пронесшаяся в сотнях тысяч детских и юных голо-
вок, не могла бы не быть воспитательною. Об этом своем детском чувстве
светло вспомнилось бы и в старости. Праздник есть поэзия и умягчение сер-
дец: и хорошо было бы начинать поэзиею трудную, томительную, буднич-
ную, серую годовую работу над учебниками.
Но это - возможность и мечта будущего. Обращаемся к текущему. Ровно
1 сентября вернулся из-за границы министр просвещения. Ту часть ведом-
ственной программы, которая возлагалась на него самым временем, когда
он взошел на министерский пост, - именно задачу элементарного успоко-
ения и упорядочения учебных дел, учебного положения, - он исполнил
благополучно, и ее можно считать выполненною до конца. Не только волн,
но и никакой беспокойной зыби не видится на поверхности учебного моря.
Здесь министерство и министр потрудились много, но полный успех полу-
чился, конечно, от общего успокоения России. На поверхности нет зыби,
потому что лежат спокойно глубокие воды русского океана. Помогло и то
также, что бывшее безучебное время учебного ведомства легло безмолвно
большою тяжестью на семейные плечи России, и все учащееся юноше-
ство тоже безмолвно чувствует, что оно не может прогулять ни одного еще
года, т. е. оно не должно испортить каким-нибудь невоздержным поступ-
ком учебного года. Наконец, энергия «наступательных партий» поутихла,
«тактика» их разобрана хорошо в стране, и они оставили эту политику
мутить школу, начиная уже с сентября месяца, будя в юношестве недо-
вольство, брожение и подстрекая его к «коллективным выступлениям»
большей или меньшей активности. Все эти рубрики потеряли силу, как
только стали ясны как день; как только стало ясно, что здесь юношество
играет роль самой печальной жертвы, без пользы решительно для кого-
нибудь.
281
Учебное ведомство спокойно. Свалившийся с насыпи поезд поставлен
опять на рельсы. Конечно, не для того, чтобы стоять только на них. За шагом
делается второй шаг.
В нынешнем наступившем учебном году, если бы министерство А. Н.
Шварца стало только точь-в-точь повторять тот дух, ту систему, те меропри-
ятия, к каким оно вынуждалось положением вещей в предыдущие годы, то
оно произвело бы впечатление натирания мозоли. Жизнь есть творчество,
история есть творчество: и без творчества, без движения, без новизны все
живое загнивает. Воспользовавшись достигнутым успокоением, пользуясь
всеобщим подъемом самого юношества в направлении учебных занятий,
министерство народного просвещения без уторопленности, но и без лени,
увы, ему довольно свойственной, должно приступить к реализации тех улуч-
шений себя, какие давно сознаны им самим и громко объявлены стоящими
на очереди. Сюда на первом плане принадлежит улучшение положения уча-
щих. О нем много говорили, писали; много обещали очень определенно,
но... «воз и ныне там». Затем материальное положение учителей не исчер-
пывает «скорбного листа» этого забитого и обездоленного класса русских
чиновников. Он должен быть поднят и нравственно в смысле возвращения
ему служебного пиетета. Назначение учителей, перемещение их с одного
места на другое, способ произведения ревизий - все это нуждается, говоря
не прямо, в некотором «умягчении нравов», в соблюдении большей дели-
катности в отношении к человеческой личности, большей служебной осто-
рожности, большей, наконец, товарищеской и начальственной справедливо-
сти. Такое устранение, как бывшего попечителя рижского учебного округа,
почтенного г. Левшина, создавшего по личной инициативе целый ряд мер к
подъему педагогической трудоспособности учителя, ходатайствовавшего
впервые у нас об учреждении в местном университете кафедры педагогики
и дидактики гимназических предметов, - устранение без всяких объясне-
ний и несмотря на представленную мотивированную программу своего уп-
равления округом, прискорбно как минувшие факты и совершенно недопу-
стимо в будущем. Нужно оценить всю ту неодолимую робость, патологи-
ческий страх, близкий к панике, каковой нагнетается одним подобным сме-
щением попечителя на целый учебный округ, на директоров гимназий и тем
более учителей. И нужно взвесить, как это отзывается в других далеких ок-
ругах, припоминая поговорку: «У страха глаза велики». Подобная угнетен-
ность души никак не есть хорошее условие педагогической деятельности.
Нужно вообще сожалеть, что министерство просвещения недостаточно со-
знает себя как ведомство sui generis*, где приемы «управления» и «службы»
не могут быть так пунктуальны, жестки и механичны, как в каком-нибудь
путейском или инженерном ведомстве. Здесь все должно носить другой, до
известной степени противоположный характер; и нельзя не печалиться, что
самое имя «министерство», едва ли очень уместное здесь, вводит всю «служ-
* в своем роде (лат.).
282
бу» в заблуждение... Немецкий и английский учитель, немецкий ревизор
школ так не похожи на русского, к ущербу для русского. Это есть одно из
больших и застарелых несчастий русской школы, что она с основания и по-
чти вся попала в «ежовую рукавицу» замундированного чиновника, им на-
учалась, от него получала дух.
Но, конечно, это поправимо системою, а не годом работы. У министер-
ства есть неотложные годовые работы. И одновременно с тем, как мальчики
и девочки всей России двинулись 1 сентября на учебный молебен, было бы
желательно, чтобы здание министерства просвещения у Чернышева моста
спело внутренно свой молебен и благословилось безмолвно на хороший тру-
довой год, деятельный, энергичный, предприимчивый. Пусть статские и
действительные статские советники, и наконец, даже советники тайные, тоже
пишут хорошо свое «extemporale»*... У них тоже есть «extemporale», кото-
рое просматривает вся страна...
ПОСЕВ И ЖАТВА
НА ОКРАИНАХ И В ЦЕНТРЕ
Вопрос об алкогольной чахотке, в которую вгоняет коренное население
финансовая система, построенная в ’/з своей на винном налоге, так велик и
так тревожен, что мы считаем своим долгом вернуться к нему еще раз и
обратить сюда внимание всех русских людей, любящих свою родину Те,
кто строил так финансовую систему, подобны архитектору, который, что-
бы достроить верхние этажи дома, берет кирпичи из его фундамента. Та-
кой дом должен рухнуть. И само денежное хозяйство России, основанное
не только на пьянстве, но и на расстройстве труда народного, неизбежно
связанного с пьянством, должно в более или менее непродолжительном
будущем подвергнуться ужасающему краху. «Урожай - лучший министр
финансов в России»; но и обратно: дурной урожай хлебов дает такие же
результаты, как самое дурное финансовое управление. Но хороший или
дурной урожай зиждется не на одних дождях или засухе, но и на уменье
бороться с ними и предупреждать последствия недостатка влаги; урожай
зависит не от одного неба, а и от плуга, от посева, от посадки; он зависит
не от почвы только, но и от способов земледелия. Способы же земледелия
никак не могут подняться у пьяного и невежественного народа; и, таким
образом, неурожай или недород хлебов чаще и чаще будет посещать стра-
ну, оставленную в темноте, без школ, и спаиваемую «казенкой». А если
недород или неурожай грозит обратиться в хронический, то каково же ста-
нет очень скоро положение финансов? Явно, что построенные на алкоголе
и слабости к нему народа финансы являются построенными более хитро,
чем умно; и такая финансовая система явно равняется как бы хроническо-
* учебные упражнения (лат.).
283
му управлению финансами самого плохого министра. Этот круг умозаклю-
чений невозможно разорвать; и что бы ни говорил в защиту винной монопо-
лии творец ее, гр. Витте, естественно слабый к своему детищу, - все рус-
ские, любящие свою родину, не перестанут думать о других мерах стягива-
ния денежных сумм в казенный ящик и не перестанут ждать, как Светлого
Христова Воскресения, того радостного дня, когда будет разорвано ужасное
тожество между 1) богатством государственного казначейства и 2) алкоголь-
ною чахоткой населения.
Как уже сказано было у нас, восстановление подушной подати по 3 р. 50 к.
с души дало бы казне ту сумму денег, какую она получает с винной монопо-
лии. Но чтобы эти самые 3 р. 50 к. передать казне через посредство винной
монополии, русский человек должен выпить по крайней мере на десять руб-
лей вина, т. е. вместо 3 р. 50 к. он выкладывает из кармана все равно «подуш-
но» втрое большую сумму. А если принять во внимание прорехи в труде, в
домоводстве, в заработке, связанные с этою уплатою денег через посред-
ство винопития, то мы должны прийти к справедливой оценке народной
потери уже не в десять, а в двадцать рублей «подушно» же. Таким образом,
в той или иной форме, прямо или косвенно, народ лишается двадцати руб-
лей, чтобы оставить казне 3 р. 50 коп.: совершенно ясно, до какой степени
ему выгоднее прямо внести в казну 3 р. 50 к., нежели подвергаться манипу-
ляциям винной монополии около своего кармана, здоровья и домашнего
благоустройства. Сравнительная легкость для народа уплачивать через по-
средство винопития, легкость бытовая и, так сказать, душевная, основыва-
ется на том, что тут народ платит когда хочет, платит в веселую минуту вы-
пивки, и платит такими маленькими суммами, какими только хочет. Разбил
«мерзавчик» и - внес в казну копейку. Но все это рассчитано именно на
нерассудительность, на легкомыслие народное: уплачивающий пьет и ве-
сел, но пропорционально этому тяжело его тоскующей жене, его недоедаю-
щим детям; да и ему самому будет удвоенно тяжело, когда он отрезвится.
Поистине ужасающе, что финансовая система пользуется угаром человека,
пользуется безумною его минутою, пользуется потемнением в нем рассудка
и упадком воли, чтобы взять свой гривенник, пятак или четвертак. Винопи-
тие - смерть народная, пусть и медленно идущая, вот как в чахотке. А вин-
ная монополия - это траурная колесница, движущаяся в народе!.. Да сгинет
это зрелище, на которое, не обливаясь кровью, не может смотреть ни одно
русское сердце!
Прямо или косвенно, мы все даем окраинам и все отнимаем у центра!
Окраинам мы дали лучшие школы и, что особенно важно, многочисленней-
шие школы, - все в видах «обрусения» и «примирения» и «примирения с
русскою культурою». Но в таких или иных целях, это - второстепенно, а
первенствующую роль играет то, что там школы есть, а в центре их недоста-
ет, что в Варшаве и Риге детям и ученикам не отказывают в приеме за «недо-
статком помещения», а внутри России не только в губерниях, но даже и в
столицах «помещений» нет для всего контингента желающих поступить в
284
школу! Это ли не безобразие, граничащее с полным варварством! Благоду-
шие и недалекость русского общества вполне мирятся с этим фактом, даже
не замечая его, как мирятся и с тем другим фактом, что юношество с окраин,
учащееся в учебных заведениях нашего центра, все эти инородцы с юга и с
запада, охотно подстрекают русских товарищей к усиленному занятию по-
литикою, «протестом» и забастовочными феериями, - сами в то же время не
оставляя учебных книжек, отлично учась, в том простом расчете, что сегод-
ня - ученье, и завтра - хлеб, и что чем больше русские их «товарищи» будут
предаваться в школе политике, тем меньше у них останется конкурентов на
всех служебных и всех хлебных местах. Русские - разговоры разговарива-
ют, «не верят в Бога» и обсуждают на все лады свое неверие, а поляки, евреи
и армяне прибрали к рукам строительную часть, инженерную часть, желез-
нодорожную часть в Империи, оставляя от сытной еды кое-какие кусочки
русским «идеалистам» и товарищам на школьной скамье. Инородец в школе
- всегда трудолюбивый муравей, а русский - всегда поющая стрекоза. Рас-
четы бывают в осень человеческой жизни, и в эту осень ой-ой как приходит-
ся тошно русским! Таким образом, удивительное легкомыслие общества у
нас как-то гармонирует с «мудрыми мероприятиями» правительства и бла-
годаря дружным усилиям того и другого окраины в холе зацвели, а центр
естественно упал.
Треть денег, доставляемая винною монополиею казне, поступает ис-
ключительно или главным образом из центра: 17 миллионов мусульман не
пьют, евреи очень мало пьют, поляки и немцы пьют гораздо меньше рус-
ских. Можно бы ожидать, что этот золотой дождь, падающий в казну из 36
коренных губерний, составляющих историческое и этнографическое ядро
Русского государства, ответно оросит эти же 36 губерний благодетельными
учреждениями, лучшими дорогами, всяческими видами помогающей дея-
тельности правительства. Между тем не только школы лучше и многочис-
леннее на окраинах, но там лучше и дороги, там несравненно гуще желез-
нодорожная сеть, там более развиты подъездные пути. С внутренней Рос-
сии собирают, а тратят на окраинах; великоросса остригают и из его шер-
сти делают шубу Варшаве, Вильне, Тифлису, Риге. Поневоле Россия зябнет,
поневоле в России холодно, поневоле центр у нас «падает». Окраины при
почве худшей, нежели в центре, однако, не испытывают «недородов». Это
не без связи с распределением по стране винно-монопольного насоса, кото-
рый накачивает водкою преимущественно внутреннюю Россию, не без свя-
зи с земледельческими училищами, с распределением подачи агрономичес-
кой помощи и агрономического совета населению, что все развито и энер-
гично действует на окраинах, а внутри России находится в бездеятельном,
вялом положении.
России - водка, посты и грубый окрик станового и исправника, окраине -
культурная школа, вежливое начальство, огромный доход от расквартирова-
ния войск, отнюдь не дерущихся с окраинцами, защищающих их, а не при-
тесняющих их. Дайте эти условия внутрь России, и об «упадке» ее не будет
285
больше речи. Поставьте окраины в то заброшенное захудалое положение, в
каком находятся наши губернии на Волге, Оке, Каме, Дону, - и все увидят,
способны ли они вынести долго то, что выносит многострадальная Русь,
выносит столько лет и хоть гнется, но не ломится...
НАУЧНЫЕ РАБОТЫ В ЭРМИТАЖЕ
Вильгельм, император германский, принадлежит к великим почитателям
нумизматики. Берлинский императорский мюнц-кабинет, бывший до сих пор
третьим в Европе, после британского и парижского, - в настоящее время
стал наравне с ними вследствие приобретения роскошнейших частных кол-
лекций греческих монет Ингоф-Блюммера и Лебеке. Собрание нашего Эр-
митажа занимает приблизительно пятое место: оно уступает Лондону, Па-
рижу, Берлину и Вене, но превосходит остальные коллекции Европы. Если
исполнится намерение Эрмитажа приобрести монеты Ирана из коллекции
московского нумизмата Зубова, стоимостью в 20 000 руб., то Эрмитаж сде-
лается обладателем первой в мире коллекции парфянских и персидских мо-
нет (Арзакиды и Сассаниды). Коллекция Зубова значительно богаче эрми-
тажной, хотя и эта последняя также очень богата. Но Арзакиды и Сассани-
ды представляют только маленький уголок нумизматики древнего мира. В
общем же собрание именно монет древнегреческого мира не только бедно в
Эрмитаже, но и чрезвычайно бедно; и, что особенно печально, оно не имеет
надежд когда-либо поправиться: в такой безумной мере возросла стоимость
редких экземпляров греческих монет. Пятьсот рублей, тысяча рублей, две-
три тысячи за одну монету, золотую или серебряную, - вот обычные цены
нумизматических раритетов. К удовольствию русских нужно только заме-
тить, что великий князь Александр Михайлович является обладателем пер-
вой коллекции в мире монет греческих стран, прилегающих к Черному морю.
Этот уголок древнего мира в России нумизматически богаче, нежели в Лон-
доне, Париже и Берлине и вообще нежели где бы то ни было. Коллекция
великого князя в части своей (Понт, Пафлагония, Вифиния) описана помощ-
ником хранителя древних монет в Эрмитаже О. Ф. Ретовским. Описание
находится в рукописи и пока не издано.
Первый по богатству отдел нумизматики в Эрмитаже - это куфические
(мусульманские) монеты; затем следуют германские средневековые и но-
вые; затем - Арзакиды и Сассаниды. Замечательно, что собрание русских
монет Эрмитажа, особенно удельного периода, весьма слабо. Оно уступает
собраниям великого князя Георгия Михайловича и гр. И. И. Толстого, может
быть, и П. В. Зубова.
Со времени вступления в должность хранителя эрмитажного мюнц-ка-
бинета А. К. Маркова, профессора Археологического института, великие
сокровища Эрмитажа, до него в огромном количестве просто не разобран-
ные, приводятся в систему, раскладываются в витринах и мало-помалу опи-
286
сываются. Последние два года неутомимо трудился над описанием монет
древней Африки (Египет, Киренаика, Карфаген, Нумидия, Мавритания)
В. Р. Фохт, преподаватель одной из петербургских гимназий, приватно и без-
возмездно. В текущем году предполагаются к изданию так называемые
«inedita», т. е. доселе не изданные монеты Африки, в описании г. Фохта. Что
касается самих хранителей эрмитажного мюнц-кабинета, А. К. Маркова и
О. Ф. Ретовского, то они работают над изданием монет греческих колоний,
находившихся в пределах нынешней России. Как известно, эти монеты опи-
саны в полном виде Бурачковым, но описание это не только устарело, но
заключало в себе много ошибок и в самое время своего появления.
Издание Маркова и Ретовского предположено сделать по внешнему виду
приближенным к типу изданных Берлинскою Академиею наук монет при-
дунайских стран, Мёзии и Дакии (пока вышла часть в описании Пика), и
будет сопровождаться атласом фототипий; текст же описания будет сделан
на русском и немецком языке. Все эти подробности вытекают из того, что
издание ученых Эрмитажа будет составлять только отдел предпринятого
Берлинскою Академиею наук, по желанию императора Вильгельма, описа-
ния вообще всех греческих монет, где бы, в каких бы собраниях они ни
находились. Такого издания до сих пор не было, не считая «Описания гре-
ческих и римских монет» Mionnet (1807 г.), которое устарело. До сих пор
наибольшее число греческих монет описано в «Каталоге Британского му-
зеума» (25 томов; описаны только греческие монеты); но в отдельных час-
тях это описание очень недостаточно; монеты македонских царей и монеты
Африки изданы Мюллером, - но и это издание также устарело и теперь
недостаточно; монеты древнего Персидского царства, со включением сюда
монет подвластной ему Финикии, изданы знаменитым французским нумиз-
матом Бабелоном («Les Perses Achemenides Сурге et Phenicie». 1893 г.); им
же изданы монеты царей Сирии, Армении и Коммагены; монеты Малой
Азии начаты всеобщим описанием Баддингтоном, бывшим послом Фран-
ции в Петербурге, - и, за его смертью, продолжаются теперь Бабелоном и
Рейнахом; но неполнота этого издания, происшедшая от незнакомства Ба-
белона с коллекциями великого князя Александра Михайловича и Эрмита-
жа, указана печатно О. Ф. Ретовским. Переходя к изданию греческих монет,
чеканившихся в пределах теперешней России, следует отметить, что О. Ф.
Ретовский уже объехал Западную Европу и сделал слепки, взвешивание и
описание всего сколько-нибудь замечательного и интересного, что там на-
ходится по этому отделу нумизматики, и осенью поедет вторично, чтобы
докончить обозрение заграничных коллекций; а А. К. Марков минувший и
этот год изучает с той же целью русские коллекции - московские и южно-
русские. Главнейшие сокровища этой части нумизматики находятся в Рос-
сии. Труд описания монет разделен таким образом: описание монет Тиры,
Ольвии, Херсонеса Таврического, Керкениды будет сделано А. К. Марко-
вым, а монет Пантикопеи, Фанагории, Нимфеи, Синдона и Босфора Ким-
мерийского будет сделано Ретовским.
287
Монеты греческих колоний южной России давно составляют предмет
любовного собирания и изучения множества русских нумизматов; и все они,
без сомнения, приобретут драгоценный дар себе в этом наконец-то воспо-
следовавшем Corpus’e* их, какого до сих пор не было. Имена Маркова и
Ретовского ручаются, что здесь мы получим нечто классическое. Марков,
сам неустанно работающий над всеми отделами необозримой нумизмати-
ки, - вместе двигает, одушевляет и помогает делом и объяснениями, как
хранитель Эрмитажа и профессор Археологического института, множеству
русских нумизматов, и старых и начинающих. Только что им издано описа-
ние недавно найденных кладов куфических монет; и, как важная, но совсем
не обработанная часть древней нумизматики, - издано «Описание спосо-
бов чистки древних монет» - серебряных, золотых и бронзовых: дело труд-
ное, ввиду разнообразнейших способов окисления и загрязнения древних
монет. Труд этот занимал Маркова последние 3—4 года, и все коллекционе-
ры и собиратели не могут не выразить ему благодарность за это важное
подспорье в их работах.
ОКРАИННАЯ КИЧЛИВОСТЬ
И ПЕТЕРБУРГСКОЕ СМИРЕНИЕ
Пользуясь русской добротой, мягкостью, уступчивостью, пользуясь нашей
нерешительностью и колебаниями, окраины заняли решительно не принад-
лежащее им место в русской политике и в русском общественном внима-
нии. Что такое эльзас-лотарингский вопрос в Германии? Ничего! Есть ли он
там? Нет. Германия занята внутренними делами самой Германии, вполне
уверенная, что когда эти дела идут хорошо, и на окраинах все будет хорошо,
пока внутри благополучно, спокойно, упорядоченно, благоустроенно, бога-
то, деятельно, то окраины будут жить, переплетаясь с ходом дел во всей
империи и никогда не переходя за черту второстепенных и третьестепенных
значительностей. Совсем не то у нас: Финляндия, Балтика, Привислинье,
армяне имеют вид каких-то обиженных барышень, капризных и недоволь-
ных, которые кричат или хмурятся, смотря по времени и удобству, на неуго-
дившую им прислугу Россию, страну варварскую, грубую, необразованную,
над которою задирают нос своею «культурностью» не только немцы, еще в
культурном отношении имеющие кой-что за собою, но и поляки, армяне,
культурное, духовное, умственное превосходство которых над русскими ре-
шительно необъяснимо... Но русские в ответ на это виновно улыбаются,
извиняются и всемерно озабочены, как же успокоить нервы окраинным ба-
рышням, которые того и гляди «наделают неприятностей» своей старой и
«необразованной» няньке. Угроза этими «неприятностями» постоянно скво-
зит в окраинных голосах, как только они поднимаются.
* собрание (лат.).
288
Откуда у нас этот извиняющийся вид? От вековой, давнишней успоко-
енности и безопасности русского человека, который за стенами неизмери-
мого по протяжению государства сидит, по народной поговорке, «как у Хри-
ста за пазухой» и до того привык к своему положению, что оно кажется ему
чем-то прирожденным, вечно свойственным и ненарушимым. От этого по-
коя русский человек потерял способность острых и резких ответов, реши-
тельного и твердого слова. Уже Бисмарк говорил о необыкновенной мягко-
сти русского характера, замечая, что в смешении с германской твердостью
она дала бы превосходный культурный материал. Но эту твердость, без сме-
шения с немцами, русские должны родить из себя и путем внутренней соб-
ственной переварки должны сделаться если не превосходным, то хотя бы
доброкачественным культурным материалом.
Финляндцы, вместо того чтобы ежедневно трепетать за свою «таможню
в Белоострове», - этот величайший политический курьез его всемирной ис-
тории, курьез совершенно невероятный, как бы дело шло о фантастической
сказке, - задают какие-то тоны русскому правительству, а с русскими людь-
ми, даже и служилыми, наконец, с военными, поступают совсем уж бесце-
ремонно, не то наивно тупо, не то нахально и дерзко до непереносимости.
Оружие, присланное стоящим там русским войскам, таможня не выдает при-
сланным с бумагою офицерам на том основании, что «ввоз оружия запре-
щен в Финляндию». Но кем запрещен? Для кого запрещен? Не может же
государство само себе запретить перевозить служебные вещи. Ясно, что «ввоз
оружия» запрещен частным образом и для частных людей, - причем фин-
ляндский сенат исполнил требование только русского правительства. Ведь
если толкование таможенного закона распространить далее, то финляндцы,
пожалуй, начнут вырывать из рук солдат ружья, так как «ношение при себе
оружия» тоже запрещено? Замечательно, что губернатор не почел возмож-
ным «указывать таможне» границы ее невероятной глупости или неслыхан-
ной дерзости. Хорош и губернатор, нечего сказать...
Было бы очень интересно, как Бисмарк ответил бы на притязание фин-
ляндцев на их особое «государство»... Разговоры, вероятно, были бы очень
коротки. Он дал бы им не канцелярское разъяснение, через бумаги за нуме-
рами, а военное разъяснение, через расквартирование войск. Разве мыслимо
где-либо, кроме России, что таможенная граница Империи проходит в при-
городных дачах столицы Империи и что на рынок столицы поутру привозят
молоко «из-за границы», за которую, оказывается, и ввоз оружия затруднен
формальностями? Еще несколько послаблений в этом направлении, уступо-
чек и улыбочек, и граница, пожалуй, будет проведена через Летний сад, дабы,
например, не оскорблять финляндского легкого пароходства по Неве. Разве
наши министры так притязательны и кичливы, как чухонские лоцмана с их
«дери ря мо» вместо «держи прямо» на столичных пароходиках?
Нельзя без комического чувства следить за финляндскими словопрени-
ями о точном смысле фридрихсгамского договора и тех манифестаций доб-
рой воли императора Александра I, какие за этим договором последовали и
289
на которых зиждется их автономное «государство». В самом деле, и в Пе-
тербурге даже смотрят на это как на берлинский или парижский трактат,
«обязавший» Россию к соблюдению того-то и того-то. Но эти трактаты зак-
лючили между собою боровшиеся стороны, они были не милостью завоева-
теля к завоеванному, а соглашением между свободными и соперничающи-
ми правительствами, которые и после договора остаются самостоятельны-
ми единицами, блюдущими за соблюдением его условий. Но в русско-фин-
ляндских отношениях нет самой личности «другой договаривающейся
стороны», нет субъекта права, а есть лишь объект милости, которая дается в
ожидании хорошего поведения и, конечно, немедленно отнимается, как толь-
ко это поведение переменяется. Самое обнаружение финнами каких-то по-
ползновений на «государствование» есть уже кассация всех милостей, даро-
ванных Александром I. После смерти ген. Бобрикова «финляндская грани-
ца» должна была быть перенесена из Белоострова на р. Торнео, где ей и
надлежало уже давно быть, - а после этого злодеяния из простого чувства
своей чести мы были обязаны туда ее перенести и покончить все счеты с
автономией пристоличной территории. Милостью данное и отъемлется про-
стым словом; милость - не вексель, по которому взыскивается плата. Гель-
сингские «государственники» суть именно не государственники, лишены
малейшего смысла, ибо иначе они знали бы и признавали законы и принци-
пы государственной необходимости. Не может граница государства прохо-
дить в дачных местах столицы, и просто потому, что она для России «не-
удобна». Финны - пристоличное инородческое население, доставляющее в
столицу молоко и рыбу, и только этнографическое существование они и
имеют, но отдельно административного существования никакого не могут
иметь. Все археологические справки здесь совершенно неуместны. Вчера
было удобно так, сегодня удобно иначе. Каждый свой день государство жи-
вет по необходимости этого дня, по спросу этого дня. Правительство - не
архивная комиссия, а часовой на страже отечественной безопасности и оте-
чественной чести. Тут с фридрихсгамским договором нечего справляться, а
надо было справляться с замыслами красной гвардии и патриотизмом се-
натских групп в Гельсингфорсе. Горе государству, которое живет вчераш-
ним днем, а не сегодняшним днем: оно будет все запаздывать и запаздывать,
пока его не сомкнут события быстротекущей истории. Правительство каж-
дого дня и часа должно быть впереди истории, а не позади истории.
Жизнь государства, мероприятия государства соображаются с практи-
ческими нуждами, мотивируются наличной необходимостью, и это есть
suprema lex* для него. В чем же выражается государственная личность, т. е.
верховная личность на данной территории, как не в том, что она в высшей
степени свободна и не стеснена окружающими условиями данной террито-
рии? Границы воли государства проходят по границам этого государства, и
по сю сторону этих границ нет и ограничения для его воли. Так чувствовали
* высший закон (лат.).
290
Петр и Екатерина, эти зиждители нашей государственной мощи и государ-
ственного духа. Они могли давать милости своим областям, привилегии го-
родам и целым краям, но мысль вести переговоры, вести что-то вроде тя-
жебного процесса со своею же провинциею представилась бы им до того
чудовищною, до того противогосударственною и, наконец, попросту забав-
ною, что они не только сами не допустили бы ее, но, вероятно, и в будущем
никогда не представляли себе такой возможности.
БЕЛОРУССИЯ, ЛИТВА И ПОЛЬША
В ОКРАИННОМ ВОПРОСЕ РОССИИ
I
Г. Эразм Пильц, вождь «примирительной» или «угодовой» партии в Польше,
25 лет издававший в Петербурге газету «Kraj», напечатал в Варшаве брошю-
ру: «Русская политика в Польше», которой предпослал «Открытое письмо
руководителям русской политики». Брошюра, судя по отсутствию выстав-
ленной цены, не предназначена в продажу; но она обильно рассылается, и,
между прочим, прислана более или менее выдающимся русским публицис-
там. На странице 37 вклеен розовый полулисточек с приглашением: «Автор
сочинения «Русская политика в Польше» обращается к своим русским чита-
телям с просьбой не отказать сообщить ему свои впечатления и замечания
по адресу: Варшава, Пенкная, 16. Эр. Ив. Пыльцу».
Исполняем желание автора. Брошюра не блещет новизною мысли и си-
лою тона. Могло бы быть одно и другое, но этого нет. В авторе не чувствует-
ся настоящей силы гражданина и патриота, а именно «угодовец», - человек
неопределенного цвета, который нигде не может сыграть роли. В длинном
посвятительном письме «Руководителям русской политики» он рассказыва-
ет историю своих литературно-политических стараний, которые на самом
деле были только литературными, так как, по его же сознанию, они вообще
ни к чему не привели, пошумели и отшумели... Но тут же он упоминает с
великим благоговением о здешнем петербургском адвокате Спасовиче, со-
труднике «Вестника Европы», в таких терминах: «Человек этот не только в
своем собственном, но и в русском обществе играл выдающуюся роль, и он
до конца моей жизни был моим другом и учителем». Почему для Спасови-
ча, вся деятельность которого протекла в России, который был старшиною
петербургских присяжных поверенных, который писал, кроме исключений,
по-русски, - почему для него русское общество не было «своим собствен-
ным», а таковым было, очевидно, польское общество, и тогда к русскому он
относился как чужестранец и инородец, что ли? Мы не будем ломать копий
за то, чей был покойный Спасович, так как это не покойный Гомер, о кото-
ром спорили семь эллинских городов, но очень характерно для брошюры,
для г. Пильца и, может быть, для самого Спасовича, что после смерти послед-
291
него говорятся такие вещи о нем, каких при жизни, очевидно, нельзя было
сказать. И кто знает, дал он или не дал к этому повод. Маленький пример
этот очень, так сказать, иллюстрирует: около поляков все как-то нетвердо,
неустойчиво, ломается, гнется и фальшиво, - и это, пожалуй, есть самая
трудная часть польского вопроса и русско-польских отношений. Русские
никак не могут «опереться дружески» на плечо или на руку западных и ка-
толических братьев: обопрешься - обманешься, поверишь - оступишься...
Полякам давно следовало бы обратить внимание на то, почему отноше-
ние русских, как общества, так и правительства, совершенно другое к вось-
мимиллионному польскому населению, нежели к еще более численному та-
тарско-мусульманскому населению Средней Азии, тоже окраинному, - не-
жели к грузинам на Кавказе и немцам в Балтике? Даже к армянам и финнам,
претендующим на автономию и со временем на сепаратизм, тон отноше-
ний несколько иной, чем к полякам. И нельзя скрыть, что к полякам он всего
хуже. Раз относящийся один и тот же, явно, что причина разницы лежит в
лице, к которому он относится. В данном случае - к полякам. Финны явно
говорят, чего они хотят, - «отдельного государства, слитого с Россией лишь
персонально в лице монарха». Армяне кричат о «Великой Армении», со сто-
лицей, должно быть, на Арарате, выше всех столиц мира. Это - фантазия и
археология, но на степени больной мечты, которая иногда доводит до судо-
рог. Немцы, наконец, говорят о всегдашнем, теперешнем и будущем своем
родстве и единстве с великою германскою культурою, о том, что они оазис
этой культуры среди русского варварства, но, что, служа в русских рядах, - в
чиновничестве или армии, - они будут служить верою и правдою. И вполне
оправдали это. Правда, они всегда ломали русский язык, нисколько не при-
кидываясь нежными к «русскому отечеству», и, кажется, даже «отечеством»
не называли Россию, но в высшей степени добросовестно и преданно слу-
жили русскому государству, и в обширном значении, и в частном: уважали
непосредственное начальство и не за страх только, но и за совесть исполня-
ли его волю, его приказания, его мановения. Немцы, и в частности балтий-
ские немцы, всегда были отличными русскими служаками, от Барклая-де-
Толли до незаметного офицера и коллежского асессора. Они уважали и ува-
жают русское государство, не враждебны русскому правительству и только
никак не могут выучиться хорошо говорить по-русски. Русские настолько
умны, что совершенно могут извинить им это считанье себя «варварами»,
отчасти и справедливое, - и пользуются их настоящею службою с настоя-
щею благодарностью. Не питая особых симпатий к немецкому духу, к не-
мецкой мелочности, к немецкой кое в чем тупоголовости, русские в высшей
степени серьезно относятся к этому этнографическому материалу, уважают
балтийскую окраину, верят немецкому слову и немецкому делу.
Мусульмане от Петербурга до Казани и до Самарканда, до Бахчисарая -
прямо любимы русскими и тоже очень уважаемы. Это общеизвестно. Они
нам своей веры не навязывают, мы им своей веры не навязываем; но как
торговцы, земледельцы и скотоводы - они уважаемые, почтенные, трудолю-
292
бивые люди, трезвые и честные. Мы с ними ни о чем не спорим и мирно
сожительствуем.
К великому сожалению, русские при всех усилиях никак не могут про-
будить в себе таких же почтительных чувств к полякам; и, договорим прав-
ду, пока они совершенно не обрусеют. Вопреки уверению г. Пильца и мне-
нию очень многих, будто поляки так-таки ни в одном человеке не подались,
что ни один поляк или полька не сделались русскими, - это неверно. Внутри
России на всех поприщах можно встретить отличных работников из бывших
поляков, ничем не отделяющих себя от русских, любящих Россию и все рус-
ское, любящих русский нрав, русский дух, уважающих русскую традицию и
не помнящих польскую традицию иначе, чем по имени. Смешанный брак в
первом потомстве дает колеблющийся, неустойчивый тип, но без всякой
склонности к рецидиву, т. е. к возврату в чисто польскую стихию; второй
брак с русскими же, т. е. третья линия потомства, - уже выходит вполне
русскою. Четвертая линия сохраняет уже вполне смутное воспоминание о
Польше и всем польском, без всякого интереса к нему. К сожалению, еже-
годное число смешанных браков поляков и русских не известно или не об-
щеизвестно, но оно, бесспорно, есть, хотя и не в большой цифре. Наконец,
поляки привыкают к русской работе, к русской деятельности, - и это в том
отношении ценно, что такая привычка к русской работе уничтожает у них
предрассудок против смешения с русскими через брак. Обычно два поколе-
ния поляков (т. е. родители и дети), проработавшие в России, в третьем по-
колении дают смешанный брак и тогда совершенно русеют. Эта самая важ-
ная и прекрасная часть объединения, объединение на работе, вытекает из
общечеловеческой черты характера, которой не замечает вовсе г. Пильц, как
пылкий политик или политикан, и не замечают вообще политики. Политик
- существо странное и однобокое: пылая политическим жаром, он вовсе не
чувствует других сторон жизни и в конце концов не видит в человеке част-
ного лица. Между тем частное лицо господствует в человеке, и особенно в
даровитом, талантливом человеке, над «национальными чертами», - и они
влекут его к сближению с окружающею народною стихиею, а не с обособле-
нием от нее. Г. Пильц не замечает в своих статистических заметках, что
«польское племя стойко держится в обособлении и в Германии, и в России,
не смешиваясь через брак и потому численно не уменьшаясь», - что это
«стойкое удерживание себя» присуще собственно косной массе, серой и невы-
дающейся, которая и выбирая себе невесту руководится не любовью, привя-
занностью, не идеальными мотивами, а только мыслью увеличить в удо-
вольствие г. Пильца польское население Познани или Варшавы. Но как только
у человека талант, хотя бы небольшой, как только выдающаяся инициатива,
богатство идеальных мотивов, тонкость вкуса, разборчивость ума, - так он
более чутко и симпатично смотрит на окружающую или соседнюю народ-
ную стихию, присматривается своим живым лицом к живым лицам рус-
ских или немцев и без всякого суеверия связывает свою судьбу и свое по-
томство с чужими народами. Так поступает ученый, музыкант, живописец и
293
даже очень хороший ремесленник. Таким образом, «стойко стоит» тусклая
часть нации, - и через этот выход из себя даровитых членов, в то же время
не восполняемый приемом в себя дарований от других народов, ибо кто же
пойдет к «изолировавшемуся», сердитому населению, - оно тускнеет все
более и более в десятилетиях, и будет тускнеть в веках, до полного духовно-
го обеднения, истощения и вырождения. На эту сторону и г. Пильцу, и дру-
гим «патриотам» следует обратить внимание. Расцветают народы, живущие
открытою свободною жизнью, не дрожащие за каждого человека, женяще-
гося, положим, на немке или русской, [не] проклинающие такого человека,
ибо «нас уменьшилось на одного», не боящиеся смешанных браков, при
полной вере в себя и свое. Русские, очень широкие в этом отношении и не
считающие младенцев, тем самым и притягивают к себе не только немцев,
англичан и французов, но также и поляков. Последние решают: «Хороша
ойчизна, да тесна» - и уходят в безбрежное русское море, зная, что здесь -
ширь и что ширь условий и стихии есть воздух для дарования. Воздух не
только в смысле вознаграждения, в расчете на удачу, но и в смысле высоко
человеческом, в смысле привлекательности, симпатичности.
II
Языком публицистов второго разбора г. Эразм Пильц излагает свои взгляды
на польско-русский вопрос, - по существу ни для него не интересные, пото-
му что ни в каком отношении не поучительные. И мы останавливаемся на
этой брошюре не потому, чтобы она вызывала внимание к себе, но един-
ственно оттого, что за нею чувствуется множество голосов, таких же мало-
внятных и неинтересных, но представляющих собою массу. Это говорит
серенькая, безвольная, неталантливая и только «не женящаяся на русских»
польская будирующая интеллигенция. В чем же жалобы г. Эразма Пильца, -
так как книжка его состоит из жалоб и упреков? Тягучим языком и унылым
тоном он повторяет жалобы на тяготы управления краем И. В. Гурко и Апух-
тина, со ссылками, что это ни к чему не привело и никогда не может приве-
сти, так как «культурное прошлое» Польши слишком велико и блестяще,
чтобы могло быть забыто. Русское правительство, благоразумно разрешив-
шее постановку памятника Мицкевичу, конечно, не имеет ничего против его
«Пана Тадеуша» и «Дедов», против почитания его имени поляками; но ни-
как не может сладко улыбаться при воспоминании о «Конраде Валенроде» и
остаться равнодушным, если поляки и Польша зачитываются им. Вообще,
Польша - маленькая планета в большой, так сказать, «звездной системе»,
которую составляет сложная Русь. И интересы Руси в отношении ее ограни-
чиваются тем, чтобы движения этой планеты не мешали ходу всей звездной
системы, не расстраивали его, не производили того, что в астрономии зовет-
ся «планетными возмущениями», - оттягивающим действием одной плане-
ты на другую, одного спутника на другой. Вот и только. Из этой основной
294
цели вытекают все подробности действий русской власти в Польше, так не-
похожие на действия ее на других окраинах. К Польше существует наиболь-
шая степень недоверия по сравнению со всеми другими окраинами, и осно-
ванием для этого служит исключительно польский характер, далекий от того,
чтобы его можно было назвать счастливым. Можно иллюстрировать это при-
мерами: вот музыкант из оркестра московских Императорских театров, с
немецкою фамилиею, составил оркестр из слепых музыкантов, безвозмезд-
но много лет трудится над обучением их музыке. Безвозмездно и много лет
- это мы подчеркиваем. Тут уже не фраза и не вспышка чувства на момент,
тут не поползновение что-нибудь заслужить, перед кем-нибудь отличиться,
что-нибудь выпросить, а простое, ясное, доброе, непосредственное чувство,
непосредственная связь с Россиею и с русскими, хорошее, любящее к ним
отношение. В Харькове несколько десятков лет подвизается глазной врач, к
которому едут со всей России, который есть светило и в Европе и мог бы
практиковать и в Петербурге, и в Берлине, где угодно, но остается провин-
циальным русским врачом. Он - еврей, хотя и женатый на русской, но при-
вязанный ко всему русскому, все русское уважающий. Он не удерживается,
«бранится с русскими», но, будучи лично большим талантом, вышел душой
на общечеловеческое поле, общечеловеческое поприще. Оба они, и музы-
кант и врач, не политики: но политическое значение их несравнимо и с ро-
лью пана Дмовского в Г. Думе, и с ролью г. Винавера там же. Деятельность
их долгие годы видит русский простолюдин, русский чиновник, русский
дворянин, в конце концов видит и правительство, - и все думают: вот как
можно любить нашу захудалую и небогатую Россию, наших «некультур-
ных» русских людей. И это передается в память следующего поколения, это
раньше или позже осветится в печати. Вспомним немца врача Гааза, которо-
го прекрасную биографию написал А. Ф. Кони. Вот почему-то поляки ни
одной такой универсально-прекрасной фигуры, скромной и незаметной при
жизни и вдруг выплывшей к свету после смерти, не дали на ниве русского
труда, русской жизни. Г-н Пильц в главе XI своей брошюры называет своих
предшественников по идеям и политике: князя Адама Чарторыйского, Фад-
дея Чацкого, ксендза Сташица, кн. Любецкого, графа Велепольского; но луч-
ше бы и убедительнее для русских было, если бы он назвал одного доктора
Гааза. Что для русского общества, для русского человека, а в конце концов и
для русского правительства все эти «ясновельможества»? Ровно ничего. В
течение века в неисчетных подробностях своей жизни, в необозримых угол-
ках России мы никогда не видели и никем не запомнено, чтобы поляк отнес-
ся к русскому совершенно по-человечески, забыв о всякой политике, забыв
рознь вер, племен и государств, - просто как личность к личности. И это
такой огромный итог наблюдений, который не мог не сложиться у русских в
убеждение, что потому этого и не было, что поляк не может, не в силах
относиться к русским иначе, да кажется и к немцам иначе, как со враждой,
отчуждением или с притворством. У самого г-на Пильца это проскальзыва-
ет в брошюре: напр., он подробно описывает торжества, колокольный звон,
295
«Те Deum»* в костелах и всю пышность встречи в Варшаве Государя в
1897 году, - включительно до «миллиона», собранного и переданного в лич-
ное распоряжение Государя на добрые дела. При этом «политики» тут не было,
и г. Пильц это подробно оговаривает, объясняет и доказывает. Но уж слиш-
ком он это доказывает: и из его же слов, что «политику и какие-нибудь обра-
щения и просьбы к Государю решено было устранить» организаторами встре-
чи, так как тогда торжества могли бы показаться не бескорыстными, пока-
зывает, что самая бесполитичность здесь была высокополитичною. Г. Пильц
жалуется на «непреодолимое предубеждение» русских против поляков; да,
оно есть - и именно непреодолимое. Русские слишком чутки, чтобы не ра-
зобрать вечного политического душка, вечного «своего интереса» у поля-
ков, чтобы они ни говорили, ни делали, ни предпринимали, ни задумывали.
И, в конце концов, для русских это просто скучно, - так как русские вовсе
еще не охвачены без остатка политическим духом, политическим ветром и
предпочитают в массе оставаться просто бытовыми людьми. Может быть,
этого не будет со временем, но так это было век и остается, в значительной
степени, сейчас. Г. Пильц и вообще поляки не замечают одной из главных
причин отсутствия сближения русских с поляками: что поляки в высшей
степени неинтересны, незанимательны, нелюбопытны для русских вслед-
ствие слабости выражения в них общечеловеческих черт, общечеловече-
ских интересов, общечеловеческих наклонностей, идей, вкусов и проч. По-
ляки страшно узкая националистическая нация: и это до такой степени, что
нет возможности заинтересоваться самою их нациею. Обратим внимание на
следующее: польская литература блестяща, но есть ли у них народный эпос?
У немцев он есть, и его знают все в Европе, его собирали братья Гриммы,
известные каждому русскому школьнику. У скандинавов есть Эдда, у фран-
цузов - «Песнь о Роланде», у финнов - «Калевала», - а у поляков? По край-
ней мере это не общеизвестно. Польские народные песни, польские народ-
ные сказки? Все это в тумане, всего этого или нет, или оно слишком тускло.
Польша нам представляется государственностью, не сумевшею сохранить
себя, и интеллигенциею, - с «хлопами» и «быдлом» вокруг себя и под со-
бою. Представление слишком грустное, чтобы пробудить к себе симпатию.
В Польше слаб народный элемент, не ярко выражен, не значащ в смысле
веса. И все «польское» от этого представляется для русских, да, кажется, и
не для одних русских, чем-то легковесным, легко разбиваемым, легко даже
угнетаемым и, наконец, в самой угнетенности не пробуждающим к себе ни
сожаления, ни уважения. Русско-польские отношения так печально сложи-
лись и так темно окрасились, что самые страдания поляков и Польши как-то
не вызывают к себе уважения, - как страдания решительно всех других. Рус-
ские очень жалостливы, но к полякам они не жалостливы; вот в чем ужас. И
оттого, что им все кажется, что тут страдает претенциозность, кичливость,
что страдания выражаются деланно, ломанно, притворно. Нервы, задор, и
* Католическое церковное песнопение (лат.).
296
никакой силы, никакого подлинного чувства - вот представление русских о
поляках; не иначе, кажется, относятся к ним и по ту сторону границы. Есть
же для этого причины? Об этом нужно заботливо подумать полякам.
Г. Пильц пишет: «О Варшавском университете (времен Гурко и позднее)
скажу только несколько слов. Известно, что он стоял на очень низком уров-
не. В Варшавский университет для преподавательской деятельности при-
слали, за небольшими исключениями, какие-то отбросы и браковку»... Так
все это огульно, безыменно и обобщенно: будут ли удивляться поляки, что
и русские отвечают на это тоже обобщенными характеристиками. Все рус-
ское чиновничество в Польском крае представлено каким-то сплошь хищ-
ническим, невежественным и злым. Но можно ли поверить, чтобы русский
характер имел свойство перерождаться, как только переступал за берега
Немана и Вилии, или чтобы он был до такой степени черен сам по себе, и
притом в целых ста процентах? Русские, читая эти характеристики себя и
своих людей, видят в них только подтверждение той всеобщей и непопра-
вимой неприязни, какая поляков отделяет от русских. Вот если бы где-ни-
будь в польской повести и рассказе был очерчен симпатичный облик рус-
ского священника в крае, русского офицера, русского чиновника, - ну хотя
бы одного и как случай, то, право, это было бы многозначительнее «милли-
она», собранного по такому-то случаю. Русские хоть и «варвары», но не
лишены чуткости. Они не видят к себе бытового и душевного расположе-
ния поляков, - к себе, да и ни к кому, по отсутствию в поляках универсализ-
ма, по слабости в них общечеловеческого. И полякам-политикам они не
могут не ответить: «Э, это дело правительства - ведать политику; если вы
только с нею пришли к нам, враждебно или примирительно, то и обращай-
тесь к правительству, имейте дело с ним одним. И оставьте общество в по-
кое». Этот ответ, по-видимому нисколько не враждебный и только безучаст-
ный, не может, однако, не действовать и на русскую правительственную
власть, которая именно в Польше не чувствует себя стесненною, ибо знает,
что жалобы здесь не пробудят никакого сочувствия восточнее Немана. Все
это очень печально, но все это есть факт. И мы можем сказать полякам только
одно: будьте универсальнее, стремитесь к общечеловеческому, и вы дос-
тигнете через это и национального.
III
Г. Эразм Пильц, исчисляя итоги русской политики в Польше, говорит на
139-й странице следующее: «Денационализация поляков в России не уда-
лась, - она не удалась и не могла удаться, ибо, по словам нашего Сташица,
умереть может только народ никуда не годный. И обрусение, и усилия,
направленные к обессилению культуры в Польше, и попытки раздвоения
народа - все это роковым образом не привело ни к чему. Вся громадная
работа правительства могла бы в конечном итоге похвалиться лишь одним
297
конкретным результатом: она сделала в Польше новый мятеж невозмож-
ным».
Последние строки подчеркиваем мы. Г. Пильц перескакивает через них,
как через совершенно незначащие, - и устремляется далее к пылкому изло-
жению своих пылких чувств. Мы же останавливаемся на этом признании,
не видим нужды в дальнейшем изложении и, вопреки мнению автора, ут-
верждаем, что русская политика в Польше через «этот один конкретный факт»
вполне оправдала себя, достигнув всего, к чему стремилась. Предупрежде-
ние событий 1830 и 1863 гт., создание такого положения и таких условий,
чтобы у поляков самих не могло появиться никакой мысли, никакой надеж-
ды на осуществимость восстания, - вот и все, чего добивалась и чего доби-
вается русская государственность в Польше. Неужели г. Пильц и с ним мно-
гие другие поляки серьезно воображают, что русским есть какое-нибудь дело
до польской культуры, до польской книжности, до польского языка и выра-
жения национального у них лица и что будто русские и во сне и наяву только
и мечтают о том, как бы все это стереть и уничтожить? Г. Пильц только об
этом и пылает на протяжении 143 страниц, доказывая и развивая свое «куль-
турное лицо», «национальное культурное лицо поляков». Но он ломится тогда
в дверь, которую никто даже не запирал. Для русских «культурное лицо поля-
ков» нимало не враждебно, не неприятно, и, наконец, оно просто индиффе-
рентно и неинтересно для них, поскольку не связывается с политикою, не
есть мостик для политических «выступлений» по образу и подобию 1863 го-
да и друг. Вот и все. Если бы у русских была полная абсолютная уверен-
ность, опирающаяся, конечно, не на слова поляков и их «падам до ног», а на
фактические национальные черты их, что под читаемою книжкою не лежит
ни у одного из них нож, - то так называемый «культурный вопрос» был бы
давно разрешен в смысле, желаемом для поляков. Каким образом не обратят
они внимания на отношение русского правительства к Финляндии до мо-
мента, когда последняя заявила претензии на существование «особого фин-
ляндского государства», к Грузии и Армении до грез о «великой Армении» и
до сих пор - к татарам Казани и Средней Азии? Не наш ли Ильминский
перевел богослужебные книги на татарский язык; не Победоносцев ли ука-
зывал правительству следовать системе Ильминского и оставить в татар-
ской школе татарский язык, требуя знания его от русских учителей этих школ?
«Национальное лицо» решительно никаких народов не неприятно русским,
как не враждебны и никакие «национальные языки», пока все это не прокра-
дывается в политику, не берется в фундамент речей и дел, уже вовсе не «куль-
турных» и «мирных». Как и всякое государство, Россия озабочена мирным,
спокойным существованием своего населения, исполнением со стороны всех
народностей своего долга, или, выражаясь старорусским образным словом,
- в несении каждым частицы государственного тягла: и только. Она желает,
чтобы армия употреблялась исключительно на границах, против внешних
врагов, и смотрит не только с беспокойством, но и с понятным негодовани-
ем на самую возможность, хотя бы мысленную, отвлечь в опасную для госу-
298
дарства минуту часть военных сил на удержание в «покое» которой-нибудь
окраины. Вот эта мысленная возможность, предполагаемая опасность, - но
предполагаемая не фактически, а исходя из прецедентов и становящихся
известными правительству «поползновений» партий и частных лиц, - она и
есть единственная причина «репрессий» против школы или языка, какие
употребляются русскою властью в Польше и, вероятно, после теперешних
«беспокойств» станут употребляться, позже или раньше, и в Финляндии.
Тут дело вовсе не в школе, не в книге, не в «культуре». Дело - в политиче-
ской верности, но в верности не «за страх», а за «совесть». Если бы были
проявления ее, вопрос с «культурой» был бы разрешен. Русские до такой
степени не враждебны чужим «культурам», до такой степени склонны не
только уважать, но и любить и, наконец, влюбляться в чужие «национальные
лица», что обычно носят платье не своего национального покроя, а в Якутс-
кой области даже образованные русские выучиваются говорить на якутском
языке. Кавказский горский костюм является шиком на плечах русского ба-
рина, - и взят мундиром одной части наших войск. В этом отношении уни-
версализм русских не имеет для себя сравнений в западных народах; мы
нигде не являемся тем, чем являются англичане в Индии, французы - в Ал-
жире, немцы - в Познани или гт. поляки - в Галиции, среди «русинов», т. е.
попросту и по местному говору - просто «русских». Удивительно, каким
образом г. Пильцу или кому-нибудь из поляков это неизвестно! Мы страда-
ем космополитизмом, но уж национализмом мы никак не страдаем. Космо-
политизм доводит нас до многого смешного и кое-где доводит до опасного.
Но это - наше горе. Полякам или же армянам и финнам это, конечно, не
горе, а такое условие именно культурного существования, при котором все
народы, не имеющие возможности самостоятельно политически жить, дол-
жны бы жаждать попасть в круг русского подданства. Стоит вспомнить Фин-
ляндию, которой мы sua sponte* отдали нашу старинную губернию и устро-
или им таможню, т. е. «границу государства» в дачных местностях столицы;
стоит вспомнить Кавказ, где поляки-инженеры и всякие служащие устрои-
ли себе вторую «ойчизну»; стоит вспомнить переполненность всех наших
учреждений поляками, армянами и немцами; стоит вспомнить, что богатей-
шими русскими промыслами мы дали овладеть не только инородцам, но
даже иностранцам, - чтобы рассмеяться нервно и мучительно по обвине-
нию России в «обрусительной политике». Какое там «обрусение»: сами не-
мечимся, полонизуемся и почти жидовеем... Итак, если правительственные
меры против школы и языка в Польше все-таки есть, и в ней единственно
они есть, - то и г. Пильц, и прочие поляки должны понять это не как меру,
направленную против культурного лица Польши, а лишь как заблаговремен-
ное уничтожение как бы военной защиты, как бы того «лясу», в который
убегали повстанцы 1863 года, куда хоронятся и где скрываются отнюдь не
культурные поползновения, а политические, воинские и конкретно мятеж-
* без принуждения (лат.).
299
нические. Вот полная истина и обстановка дела. Заметь русские подлин-
ную, нерисующуюся, несвоекорыстную привязанность поляков к России,
заметь они ее не в речах предводителей партий, не в газетных статьях, не в
громких манифестациях, а, так сказать, всеянною в само население польское,
в семью польскую, в духовенство польское, - и никакого разговора о польской
школе, польском языке на улице и везде не будет. Им все это будет дано, как
населению мирному и вековечно мирному. Но как в этом увериться? Г-н
Пильц должен бы обращаться не к русским, которым нечего от него слу-
шать, а к полякам. Вот если бы он и подобные ему публицисты, беллетрис-
ты, поэты и общественные деятели начали переучивать Польшу и поляков в
отношениях их к России и русскому народу, если бы они заговорили о Рос-
сии не в том скрытно-ненавидящем тоне, в каком написана и брошюра
г. Пильца, хотя он и «угодовец» и «примиренный», тогда был бы другой
результат. Нужно самим полякам твердо убедиться в одной истине: что дваж-
ды политически народы не существуют, что поляки есть действительно толь-
ко этнографический материал, а не политическая единица даже на степени
возможности или мечты, что их нация не умерла и, конечно, не умрет, но
государство их умерло совершенно естественною смертью, разложившись
и сгнив гораздо раньше «разделов», что возобновление этого государства
между тремя такими могуществами, как Россия, Германия и Австрия, не-
мыслимо никогда, что мыслимости этого мешает и то, что Польша нигде не
примыкает к морю и окружена со всех сторон другими государствами: вот
когда эта истина в каждой польской голове сложится в «дважды два - четы-
ре», тогда всею энергиею души они обратятся к новому и вечному своему
отечеству, России, кладя сюда верность, любовь, службу, работу, дары ду-
ховные и физические. Тогда и у России не останется сомнения и недоверия;
тогда им школы будут даны какие угодно, потому что Россия будет чувство-
вать Польшу как внутреннюю себе страну, как свой Степной край или Чер-
ноземную полосу. Если бы г. Пильц, как и его предшественники и учителя,
на которых он ссылается, были абсолютно искренни в желании для Польши
только «культурных благ», если бы они действительно не имели в глубинах
души никакой политической мечты, то речи их были бы совсем другие и
самый адресат речей совсем другой. За несколько десятилетий ряд сильных
писателей перевоспитал бы Польшу и поляков в отношении России: и тех
целей, каких, по-видимому, они единственно добиваются, - школы, языка и
грамоты на своем языке, они, конечно, достигли бы. Если такова их цель -
пусть переменят всю политику; пусть бросят «тактику», как договариваю-
щаяся сторона с договаривающеюся стороною, - пусть увещают свое духо-
венство не смотреть враждебно на русскую церковь и русское духовенство,
пусть не пугаются нимало смешанных браков, нимало не пугаются и того,
что дети от таких браков, естественно в небольшом числе, становятся впол-
не русскими, пусть будут ласковы и дружелюбны к русскому школяру, рус-
скому учителю, русскому профессору, побольше читают «Пана Тадеуша» и
совсем забросят ничтожно-злобного «Валенрода» - и тогда и с русской сто-
300
роны они услышат новые тоны, новые речи, новое отношение, сперва куль-
турное, а затем очень скоро и политическое. Вот путь! И других путей к
благородному совместному существованию нет.
IV
Польша и поляки заняли непропорционально большое место в нашем вни-
мании. Чего можно пожелать русскому управлению во всем обширном За-
падном крае, то это перестать особенно тревожиться варшавскими криками
и варшавскою лестью, варшавскими жалобами и варшавским угодовством и
перенести центр своего внимания на Литву и на Белоруссию. Края эти об-
ширнее привислинских губерний, ближе к сердцу России; и они не только
географически ближе к нему, но и по существу. В польском характере все
нам чуждо, все антипатично и враждебно, - не политически, а духовно. По
исследованию некоторых ученых, напр. нашего академика Куника, поляки в
древнем и основном корне своем - не славяне, а кельты. По Висле и Бугу в
эпоху великого переселения осело обширное кельтическое племя, оставше-
еся тут навсегда и потом ославянившееся, так как со всех сторон оно было
окружено славянами. Но, приняв язык и отчасти обычаи и нравы окружав-
ших славян, они сохранили в большой пропорции древнюю кровь и зависи-
мую от нее психику, вовсе не славянскую. Вот отчего поляки так охотно
называют себя «восточными французами»: это не одно влечение и сочув-
ствие, не одно подражание, - тут много реальной этнографии. Чехи тоже
католики, хорваты тоже католики; но ни одни, ни другие не выделяются из
славянского племени своею особенною физиономиею, как выделяются по-
ляки. Поляки противоположны и враждебны не одной России; они противо-
положны и никак не могут слиться и со всем славянством. В славянском
мире они одиночки; в славянском море это остров, который имеет общность
и единство не с окружающею стихиею, а с далеким от него материком, с тою
кельтической и католической цивилизацией, от которой он отделен целым
германским миром и, конечно, никогда не может с ним слиться. Существо-
вание поляков, если взять все дело обобщенно, довольно несчастно. Оно
похоже на кукушку, рожденную в чужом гнезде. От этого им вечно неудоб-
но, они постоянно ворчат; но еще более неудобно с ними другим, подлин-
ным владетелям гнезда. Взаимное толкание друг друга - такова судьба, вы-
текающая из положения. Так как славянский мир и русская государствен-
ность никак и никогда не подадутся под польскими толчками, и это призна-
ют в Польше сами реальные политики, от лица которых говорит г. Пильц, то
единственный «реальный путь» для поляков остается собственно один - как
можно более славяниться! Вот разрешение польского вопроса, - в славянстве!
В ту историческую минуту, когда поляки начнут внутренно чувствовать
себя совершенно так, как лучшие сербы, болгары, чехи, хорваты, как русские
в Галиции, как москвичи в Москве, когда любовь и надежды безраздельно
301
лягут на седых башнях Кракова, Праги, Белграда, Москвы, Софии, - когда
они перестанут болезненно тянуться к Парижу и Ватикану, тогда «польский
вопрос» исчезнет и разрешится без всякого ущерба для их «национального
лица» и бытовых особенностей, без чьей бы то ни было мысли об угнетении
их языка и литературы, о пренебрежении к их истории. Все это между прочим
станет для русских так же дорого и мило, как скорбные страницы чешской
истории, как листы книг Шафарика или Ганки. И чтобы скорее придвинулась
эта вожделенная минута, вожделенная для самих поляков и самой Польши,
лучше всего им выйти из тех угрюмых ширм, которыми они, как племя, обго-
родились со всех сторон, и, в противоположность прежнему старанию ни с
кем не сливаться, стараться как можно больше мешаться кровно и родственно
с русскими, чехами, сербами, не обегая нимало и немцев. Славянская кровь вы-
живет около немецкой; но одна польская - не выживет.
Родство, кровное смешение со славянами - вот вторая стадия разреше-
ния польского вопроса. Пусть в этом смешении выгорят, расплавятся и ис-
чезнут, сколько могут, те «галльские элементы», в их физической и духов-
ной организации, которыми не могут же сознательно они дорожить.
Что касается религии, то в католичестве нужно различать нервы и культ,
догмат и политические осложнения около догмата. Культ и догмат спокой-
ного католичества ни в каком отношении не враждебны русским, которые
вообще мирятся со всеми верами, не желая только, чтобы затрагивали их-
нюю. Отношения православия к католичеству всегда были только отпором;
и родственное чувство к русским, славянское чувство к русским поляки ес-
тественным образом могли бы выразить в том, чтобы не допускать именно в
отношении русских и их православия никакого дальнейшего напора католи-
чества. Это и ожидалось бы, и это совершенно нормально. Пусть все стоит в
своих границах; раз границы мирны - не для чего переступать через них.
Если русские сделали усилия, даже жесткие, чтобы обратить униатов в пра-
вославие, то это был только отпор на унию, которая была незаконным вых-
ватом белорусов и частью литовцев из недр православия. Кто похищает -
не сетуй, что похищенное отнимается. Мы ничего не имеем ни против папы,
ни против Рима, поскольку они сидят спокойно. Семи холмов Вечного горо-
да и половины Европы, наконец, далеких стран Азии, Африки и Америки
достаточно для энергии, власти и славы католичества, - и представляются
совершенно излишними дальнейшие успехи его в среде скромной и лесис-
той Белоруссии и Литвы. Это именно только «нервы» и «гонор», к которому
не приходит никакого дела, никакой серьезности. То и другое должно быть
совершенно оставлено в отношении родственной народности.
Но по всему вероятию, «галльский петух», кричащий в сердцевине
польской крови, не примет всех этих спокойных и примиряющих советов. В
таком случае русским и России остается только оставаться собою и на своем
месте; отражать всякое нападение, оттеснять всякий напор, но активную часть
своих забот, внимания и старания перенести на издревле русские или из-
древле обрусевшие края, Белоруссию и Литву.
302
Теперь национальный интерес нам диктует ограничение евреев в рус-
ских учебных заведениях, между тем со времен императора Николая I чуть
не насильно загоняли евреев в русские училища, в русские гимназии и уни-
верситеты. Результат был тот, что евреи, конечно, не стали русскими, но
стали космополитами в русском сюртуке и на русской должности, в русских
профессиях. Всюду они распространили этот безличный дух, эти неопреде-
ленные, бесцветные убеждения, стремления, вкусы, где русское тонет, вы-
ветривается и тоже обезличивается. Теперь только поняли русские, и слиш-
ком поздно поняли, что еврей в сюртуке гораздо вреднее еврея в лапсердаке,
еврей адвокат гораздо опаснее и разрушительнее для русской жизни, для
русского общества, нежели еврей меняла и процентщик. Ибо от последнего
можно отгородиться, а от первого никак не отгородишься. Вполне это при-
менимо и ко всем другим инородцам.
Наше обрусение дает не положительные, а только одни отрицательные
результаты. Г-н Эразм Пильц беззастенчиво пишет, что из русской обруси-
тельной школы поляки, вместе с знанием русского разговорного или, вер-
нее, «служебного» языка, выносят неумолимую ненависть к России и всему
русскому, ко всем русским. Отравленные этим настроением, они идут «слу-
жить» внутрь России, на технические, на заводские, на военные службы.
Можно представить результат этой службы, можно оценить последствия
этого «культурного обмена соков». Слово еще не произнесено, но кто знает,
не придется ли нам через 30-40 лет поднять общий вопрос о «сокращении
процентного отношения в русских учебных заведениях» вообще всех ино-
родцев, включая сюда поляков, армян и финнов. Известно, во что обращен
Киевский университет польским наплывом. Инородцы везде двигаются на
русских сплошною массою и хорошо умеют пользоваться русским раздо-
ром, русскою разрозненностью, наконец, русскою мягкостью и податливос-
тью. Мы подаемся, они наступают. Мы в своей собственной земле везде
незаметно побеждаемся, они завоевывают эту землю, «мирно и культурно»,
благодаря главным образом русской школе.
Если бы люди такой энергии, закала и ума, как покойный Гурко, высы-
лались не в Варшаву, а посылались в Москву, если бы Апухтин работал не
на Висле, а на Волге, может быть, не было бы у нас «упадка центра», о кото-
ром столько писалось, или с этим упадком очень скоро бы справились. Но у
нас высылали на окраины орлов, а для внутренних губерний оставляли га-
лок и ворон. Результат не мог не сказаться. С давних пор, например, кавказ-
ский учебный округ есть один из самых лучших, самых деятельных и самых
культурных в целой России в чисто педагогическом отношении. Доброе,
гуманное отношение к ученикам, образовательные экскурсии - все это на-
чалось в Тифлисе раньше, чем в Москве. В то время как гимназии внутрен-
них губерний России, какой-нибудь Костромской, Владимирской, Орлов-
ской, Калужской, оставлялись вовсе без центрального надзора и призора, -
польские гимназии были под самым деятельным надзором, который прежде
всего имел результатом подъем учебной энергии, успешность занятий, ин-
303
тенсивность учительской работы. Государственный смысл и национальное
самосбережение диктует совершенно обратную программу: подавайте весь
русский талант во внутреннюю Россию, а окраинам - уж что останется.
Лучшие учителя, лучшие врачи, лучшие инженеры, лучшие агрономы и во
главе всего самые деятельные, творческие администраторы пусть сидят внут-
ри России, делают на русской земле русское дело, а окраины пусть посидят
и подождут. Нечего опасаться, не «разбегутся» они.
Вообще нам нужно перестать пугливо смотреть на возможную «изме-
ну»: ибо это именно пугало из тряпья и ваты, угрожающее самое большое
беспокойством и не угрожающее ни малейшей опасностью. Пугаясь этой
воображаемой «опасности», мы таланты отсылаем на Запад и Юг, где иног-
да они бесславно и жестоко гибнут. Так было с рядом лиц в Польше, а в
последние годы позор передвинулся в Гельсингфорс и Тифлис и унес две
дорогих и для России нужных жизни, Бобрикова и экзарха Никона. Подоб-
ных людей нужно сберегать для России. Пусть Россия сама окрепнет, рас-
цветет: это и будет самой лучшей угрозою и самой крепкой сдержкою и для
окраин. В Тифлисе, Гельсингфорсе и Варшаве будут сидеть смирно, если
Кремль Московский и Петербургские адмиралтейский и петропавловский
шпицы подымутся высоко, гораздо выше, чем теперь, и будут видны оттуда
и днем и ночью. Вот что им нужно, а не мокрый учитель-«обруситель», над
которым за спиной подсмеивается ксендз.
КРИТИК РУССКОГО DECADENCE’A
А. А. Измайлов. «Помрачение божков
и новые кумиры». Москва, 1910
Ум спокойный, не раздраженный и не раздражительный, большое знание
литературы в ее прошлом и настоящем, но самое главное и редкое качество -
любовь к человеческому слову во всех его изгибах, переживаниях и формах,
а следовательно, любовь и к книге, и к писательскому лицу, - вот отличи-
тельные черты критика Измайлова, давно за ним установленные читателя-
ми, авторами и собратьями-критиками. Не обширно теперь поле русской
критики: когда-то первенствовавшая в литературе законодательница в идей-
ных ее течениях, она отошла на третий план. Никто к ней особенно не при-
слушивается, да ничего особенного она и не говорит. Она почти свелась к
анонимным рецензиям в толстых журналах и газетах, - отделу более «тер-
пимому», чем желаемому редакциями и читателями. И здесь, если она про-
сто добросовестна, не невежественна и сколько-нибудь умна, - она выпол-
няет все, что от нее ожидается. Затем есть критики-философы, критики-му-
зыканты, критики-мистики, которые пишут о книгах и писателях; между
ними некоторое число очень умных и талантливых, но суть в том, что это
вовсе не критики. Критика - только форма, только наружность, которую
имеют эти выразители своих настроений. Критик - существо редкое до ис-
304
ключительности, даже странное: любит чужой ум больше своего, чужую
фантазию больше своей, чужую жизнь больше собственной и, наконец, «пол-
ное собрание сочинений», например И. А. Гончарова, больше, нежели тако-
вое же В. Г. Белинского или Н. К. Михайловского... Тут я осекся: о Белин-
ском можно сказать, что он смотрел на «собрание сочинений» Пушкина,
Лермонтова или Гоголя с большим восхищением, чем с каким взглянул бы на
собрание своих критических статей в издании Тиблена или Солдатенкова,
но о Михайловском решительно этого сказать нельзя: ему «свои сочинения»
были дороже, интереснее и важнее хоть Шекспира, хоть Данте... И вот он
уже не критик, по этому одному признаку не критик. Собственно, единствен-
ным настоящим и законченным у нас критиком был «вечный ученик» Бе-
линский, - критиком, равного которому едва ли имеет какая другая литера-
тура. Тут не важно, что он вечно учился у других, не важно, что лишен был
собственных зрелых, возмужалых идей, что был мало подготовлен школой
и «ученой дисциплиной» к ответственному креслу первого российского кри-
тика. Все это не важно или, лучше сказать, не первостепенно: зато он был
переполнен энтузиазмом ко всему, что вокруг него говорилось, писалось,
печаталось, придумывалось, переводилось, - был полон энтузиазма к этому,
но не пустого и бесплодного, а вызывавшего его самого на думы, на упор-
нейшую работу мысли, на размышления, на проклинания и благословения.
Он был горнилом, в котором перегорало все окружающее; сам он не рождал
металла, но накалял, очищал и обрабатывал всякий металл, попадавший в
него, и какими-то чудовищными приспособлениями или мехами втягивал в
себя, в свой пылающий огонь, всю руду российского словесно-рудокопного
царства, от «Песен», собранных Киршей Даниловым, до последнего появив-
шегося романа А. Дюма или Бальзака... Вот это - критик. Суть критики -
отречение от себя и своего в литературе. Критик - монах, который «своего
не имеет». Суть критики едва ли не вытекает из редкого сочетания величай-
шей восприимчивости к слову и «звучным сочетаниям», из величайшей вос-
приимчивости к мысли и ее сочетаниям, - с полным творческим бессилием,
немощью, захудалостью. Вот когда одно поднимается до бесконечности, а
другое падает до ноля, - рождается великий критик. Он будет переваривать,
перекаливать, переплавливать чужое: функция - редкая и страшно нужная в
обществе, в истории, в литературе, на которую почти не рождается масте-
ров. Не рождается для этого гения.
У нас это был один Белинский. И вечная ему память.
Прочие, в сущности, «имитировали критику», а по существу были «сами
писателями». «Сам писатель» - совершенно несовместимо с критикою: это -
не разные призвания; это призвания, из которых одно убивает другое, рас-
страивает, ядовитит другое.
Я с печалью узнал недавно, что А. Измайлов, за критические статьи ко-
торого всегда принимался так охотно, как за верную, не обманывающую
руководственную нить в чтении, - еще и юморист, сочинитель пародий и
даже писатель повестей! Это ужасно! Как бы монах, заглядывающийся на
305
девиц, или священник с «преферансом по маленькой». Хочется надеяться,
что эти побочные его дары отпадут со временем. А может быть, мы имеем
амальгаму из критика, юмориста и беллетриста: матушка-Натура натужи-
лась и родила не то тройню, не то младенца с разными несовместимыми
органами, который, вот подите же, живет и живет...
Но пока я не знал ни о пародиях, ни о повестях, я смотрел не без удивле-
ния на «критика Измайлова», который в наш эгоистический и сухой век имеет
этот редкий дар: заражаться любопытством и интересом к приносимой с
почты книге или спешить купить и прочесть новую вышедшую книгу. Вы
помните у Некрасова этот незабываемый стих о русских читателях; он на-
писан по поводу уничтоженного цензурою издания одной книги:
Уж напечатана - и нет...
Не познакомимся мы с нею;
Девица в девятнадцать лет
Не замечтается над нею!
О ней не будут рассуждать
Ни дилетант, ни критик мрачный,
Студент не будет посыпать
Ее листов золой табачной.
Стихотворение озаглавлено: «Пропала книга», - и, право, книге стоило
«пропасть», чтобы вызвать это стихотворение. Да, русские читатели, когда
они были, и были лучшие в мире читатели. «Были?..» Ну, конечно, теперь
таких читателей и читательниц давно нет; книги покупают ради заниматель-
ной обложки и, разрезав из нее несколько страниц, больше для удовольствия
употребления красивого ножа из кости или дерева, - ставят на полку с мыс-
лью: «Это надо будет переплесть... в какой корешок?» Читатели настоящие -
это вымирающая порода беловежских зубров, и вымирание настоящей кри-
тики едва ли не есть лишь частица и симптом общего упадка интереса к
книге, нужности книги... Что-то нужно другое?
Не знаем.
Но читатель - редок, а критики вовсе нет.
Но Измайлов с какой-то наивностью или неопытностью берет книгу,
уносит ее, как сокровище, домой и начинает «посыпать ее листы золой та-
бачной» с неистовством долгогривого студента 60-х годов: и волнуется, и
гневается, и умилен, и восхищен, и связывает с томиком стихов или прозы
такие или иные надежды на «будущее литературы». Счастливый мечтатель:
я в нем люблю этот осколок 60-50-х годов, эту крупицу души Белинского и
Добролюбова.
* * *
О своей книге, в отношении к текущей литературе, г. Измайлов говорит так:
«Бывают времена революций и бунта, бурь и кораблекрушений, времена
переломов и кризисов, когда все господствующие литературные понятия под-
вергаются пересмотру, колеблются самые основы, меняются формы, новое
306
притязает на полное низвержение вчерашнего. В такие моменты шатания
умов значение критики возвышается до ценности творчества. Именно, на
ней лежит обязанность не растеряться, не подчиниться ни силе старины, ни
выгодам последней моды, - без гнева и пристрастия разобраться в явлениях
и именах и напомнить основания вечной красоты... Настоящая книга рож-
дена борьбой, веденной из года в год, из недели в неделю, за систему поня-
тий, какие я считаю - правильно или ошибочно - истиной в литературе. Из
нее... всякому будет ясно, каким богам автор молится и где сложены его
привязанности и борьба».
Книга «Помрачение божков и новые кумиры» посвящена поэтам и бел-
летристам последнего времени; она не захватывает даже Максима Горького:
это уже слишком давне; и не захватила только А. Ремизова, - как слишком
уже позднего. Но между Горьким и Ремизовым - она коснулась всех имен:
Мережковского, Минского, Философова, Гиппиус, Блока, Брюсова, Вяч. Ива-
нова, Сологуба, А. Белого, и, в другой стороне, чем где стоят они, - Л. Анд-
реева, Арцыбашева, Каменского, и, наконец, в третьей группе, - Бальмонта,
Городецкого, Кузьмина, Ценского, Ауслендера... Это такая колонна имен,
что, будь они все значительны, - мы просто имели бы целую новую литера-
туру. А. А. Измайлов и говорит, что родилась и пришла эта новая литерату-
ра, заместившая собою старую, вытеснившая ее. Первая глава его книги:
«Хмель на руинах» самым заглавием говорит и пугает, что в 5-6 лет и, мно-
го, 10 лет совершился целый литературный потоп. Откуда-то хлынули но-
вые воды, которые затопили и смыли все старые литературные постройки.
Признаюсь, до чтения его книги мне это так ясным не представлялось. Я
знал всегда, что пришли «новые», так называемые «декаденты». Их первое
гнездо было в «Северном Вестнике» А. Волынского и Л. Гуревич; но оно
старалось, трудилось, потело и, наконец, устало и прекратилось. Почему?
Было равнодушие публики. Потом явился «Новый Путь», более оживлен-
ный, но который в начале войны вдруг и сразу потерял подписку. Несколько
раньше был «Мир Искусства»; теперь действуют «Весы» и «Золотое Руно».
Вот и все «прибежища» декадентства. Но разве это еще победа? Они только
существуют, борются. Есть павшие; не раз проносилось по рядам «ура». Но
если взять солидное существование солидных «Вестника Европы», «Рус-
ского Богатства», «Русской Мысли» и, наконец, «Мира Божия», «Образова-
ния» и «Современного Мира», - то что такое тоненькие «Весы» с их полу-
тысячею подписчиков около этих классических столпов печати? Очень мало,
почти ничего. Нет, как-то не верится впечатлению книги: декадентство -
уголок русской литературы, бьющийся за существование и, наконец, дей-
ствительно, просочившийся и на страницы мастодонтов печати. Но и толь-
ко. Это - именно уголок, но не русская литература. Декаденчество отнюдь
ее не обняло, не победило в ней.
Тень Стасюлевича стоит около нее. Память Михайловского не изжита.
Разве потеряли веру в себя Мякотин и Пешехонов? Все стоит по-старому и
только тревожится новыми ветрами. Но ветер - не топор.
307
Ах, если бы все было так, как думает Измайлов... Действительно, мно-
го новых людей пришло, но ни один не принес с собою гения. В этом все
дело.
Что было новое настроение, что были новые мысли, что появились но-
вые вкусы, раздались новые требования, - все это так! Но в этом разве дело?
Требуй, сколько хочешь, и доказывай с прилежанием ста школьных учите-
лей; в литературе этим ничего не выиграешь! Если бы, не доказывая на
длинных страницах длинных истин, в «Сев. Вести.», в «Нов. Пути» или
«Мире Искусства» появилось «в новом декадентском вкусе» хотя одно сти-
хотворение с красотою и силой Лермонтова, - Россия была бы покорена,
декадентство стало бы победителем... Но «пел», как самый сильный и яр-
кий, Бальмонт, - по определению Измайлова, - творец многих новых сти-
хотворных размеров и новых созвучий рифм, т. е. возвысившийся даже до
Бенедиктова и Щербины: ну, этого для победы мало... По яркости, выпук-
лости и самобытности таланта ни один из декадентских поэтов не поднялся
даже до уровня Некрасова; ни один из беллетристов не поднялся даже до
Чехова, Л. Андреева и Горького: о каком же торжестве могла идти речь?
Декадентство было умно, но в высшей степени бесталанно; оно было толь-
ко мысль, только требование, но без румянца щек и очарования взгляда... В
нем было нечто «александрийское»: вот как «александрийцы» после гречес-
кой поэзии начали период утонченного образования, знания всех цивилиза-
ций древнего Востока, всех религий, всех культов и писали всяческими раз-
мерами и во всяких стилях, от афинского до декадентского, но не могли уже
сочинить ни одного стиха со свежестью Софокла, Пиндара или Анакреона,
так и наши «декаденты» пели то мексиканскими, то черемисскими размера-
ми, то во вкусе Эллады, то во вкусе хлыстов, но во всем этом не было ни
красоты, ни силы... Бедные декаденты: вздохами о них и вокруг них полна
моя грудь. Никогда не появлялось у нас людей, в самом деле, таких утончен-
ных, гибких, ко всему, прислушивающихся, все понимающих, бездне благо-
родного сочувствующих, но что же, если у них не было таланта, а только -
речи, не было силы, а только - усилия, было старание, бесконечная стара-
тельность и все-таки никакого успеха. Декаденты, пожалуй, победили в смыс-
ле: «вот пришли новые люди, вошла новая толпа»; победили, как поколение,
сменившее другое; теперь все просто рождаются уже декадентами, с этими
новыми привкусами и влечениями, окрещенными именем «декадент». Те-
перь - все декаденты, - гимназисты и гимназистки, - по крайней мере очень
многие. Но победа ли это литературы? Триумф ли литературного течения?
Нет, и потому «нет», что не было у декадентов ни Пушкина, ни Лермонтова,
не было даже своего Добролюбова. Декаденты вошли не как сила, а как мно-
жество. Распахнулась дверь, и потянуло с улицы другим воздухом, а старый
воздух избы вышел вон. Знаете ли, что «победило», уж если говорить о по-
беде декадентства? Рождение, или, точнее, хилость рождения, старость рож-
дения. Я заметил выше о странной, поражающей психологичности всех де-
кадентов, каких встречал: они понимают все оттенки чужих настроений с
308
полуслова, с одного взгляда, как будто уже в утробе матери они пережили
всякие настроения и родились прямо зрелыми, опытными. Гимназисты или
гимназистки все равно - они зрелы и прямо на сто лет старше бравого, ру-
мянощекого эс-дека или эс-эра. Это - зрелость, это - старость. Но старость
и не творит. В декадентстве решительно нет творчества, и это их хоронит
как литературное течение.
Декадентство войдет огромною полосою в историю умственного разви-
тия России, в историю умственных в ней движений. Положение его - около
«народничества» 70-х годов, «нигилизма» 60-х, около «славянофильства и
западничества» 40-х годов. Это - положение идеи около идей, направления
около направлений. Декадентство так же обще, универсально, всепроница-
юще, так же окрашивает все окружающее, все, что может подчинить, - в
свой цвет, в свою манеру, как это делали раньше его «народничество» или
нигилизм. Декадентство - дух, стиль. Посмотрите, сколько домов в Москве
построено в «декадентском вкусе», как, бывало, строились дома «с полотен-
цами» и «петухами» в «народническом стиле», - в 70-е годы! Рисунок вход-
ных билетов в Художественный московский театр, обстановка его фойе, как
и обложки всех модных книг, все - decadence и decadence... Мне как-то го-
ворил покойный академик А. В. Прахов: «Великую заслугу декадентства
составляет то, что оно дало Европе новую линию, новый характер линий,
что после антиков и готики казалось невозможным, ибо эти две формы зод-
чества и вообще искусства казались исчерпавшими все, что возможно, что
может нравиться. Пришли декаденты и показали совершенно новое, что тоже
может нравиться». Этого замечательного выражения я никогда не забуду.
Прахов слишком компетентен, чтобы судить об этом: ведь ему одному было
доверено руководить всеми работами в киевском соборе, он - первый знаток
истории искусства теперь. Но, как таковой, он судил только об искусстве:
между тем, декадентство с такою же силою вторгнулось в литературу, в сти-
хотворение, в рассказ; оно вторгается в религию, в медицину, в философию;
Ницше пронесен в нашей литературе с триумфами именно декадентами. «Де-
кадентство» именно как «нигилизм» касается всего...
Но, как и «нигилизм», оно не творит; у него нет Пушкина и Лермонтова,
нет даже Белинского или Добролюбова. Оно все переиначивает, но великого
само из себя не дает.
* * *
Вернемся к книжке г. Измайлова. Где же его «боги» и «святыня», о которых
он говорит в предисловии к ней?
Поновленная старина. Он не примыкает к декадентам, но он и не защит-
ник старины. По-видимому, его мысль та же, которую я высказываю здесь:
он примкнул бы к декадентам, дай они что-нибудь гениальное. Но они этого
не дают, и он остается на стороне старого мастерства. Мастерства в слове,
мастерства в литературе. Позиция его - здравого смысла, здорового вкуса;
но он хотел бы и звуковых очарований и тянется за ними к декадентам, но
309
остается, большею частью, разочарованным, потому что у них это есть, но в
недостаточном количестве и, главное, в недоконченном, оборванном виде.
Все-таки он перевалил «в их сторону»: приводя две цитаты, одну из «Руди-
на» и другую из «Дворянского гнезда», он временно скрыл имя автора и
спрашивает читателя: возможно ли теперь писать так? Старо, манера - ста-
ра и наивна. Со всем здравомыслием он видит, что прежние приемы литера-
турного писания устарели и невоскресимы, что они не отвечают стадии на-
шей психологической зрелости. Это - касательно формы. Затем, касательно
содержания он замечает, до чего изжила самое себя «гражданская скорбь». -
«Больше четверти века лирическое нытье, жалобы на безвременье, на отсут-
ствие людей, на помрачение идеалов исчерпывали содержание всего нашего
стихотворчества... Десятки, сотни поэтов - все были на одно лицо...» Кри-
тика их сделалась невозможною, потому что было невозможно их различе-
нье; невозможно было тронуть их рассуждением, потому что такая «поэзия»
была не убеждением их, а маскою на всех, какою-то застывшею формою,
которую каждый носил, потому что ее носили все... Этот маразм был сбро-
шен с литературы декадентством.
Измайлов представляет мысленно, что почувствовал бы русский чело-
век, лет на пятнадцать - в те девяностые годы прошлого века - выехавший
из России и не читавший русских книг. Вернувшись, он нашел бы литерату-
ру совершенно новою: «Вместо нытиков, - какие-то дерзновенные титаны,
без страха и сомнения величающие себя богами и собирающиеся вызвать на
бой небо и землю:
Древний хаос потревожим!
Мы, ведь, можем...
Старый читатель с грустью увидел бы, как бесповоротно изгнана из мод-
ного стихотворчества бедная романтическая старушка Луна, без которой не
обходилось ни одного послания «К ней». Старые критические термины «бес-
просветного пессимизма» и «безысходного отчаяния» вдруг исчезли. Вмес-
то них пестрят какие-то новые слова о «стихийности» и «донисианском на-
чале», о мистицизме и анархизме, о «неприятии мира» и «святой плоти», об
индивидуализме и соборности. Берет читатель новые сборники стихов, и, -
в самом деле, в них все по-новому.
Седая мудрость веков вдруг странно заинтересовала людей нового века
(В. Брюсов). Человек хочет понять тайны звезд, подсмотреть работу довре-
менного хаоса, прочитать иероглифы старинного эллинского мифа (Вяч.
Иванов). Какие-то тончайшие, колеблющиеся, дремотные настроения забы-
того детства занимают его больше всех явлений современности (А. Блок).
Старинная русская мифология, с лешими и водяными, с русалками и «чер-
тяками», с затейливым и звонким старым словцом, врезалась в новую по-
эзию (С. Городецкий). Философские, чисто буддийские настроения проре-
зают лирику (Сологуб). Перезванивает звоном старой бронзы архаически
красивый не то державинский, не то ломоносовский эпитет. И надо всем
310
этим звенит кокетливыми, но звонкими, как хрусталь, словами буйная, ши-
роко разлившаяся радость жизни, с гимнами огненному солнцу, властитель-
нице мира - женщине, прекрасному человеческому телу, с акафистом земле
и воде, воздуху и огню (Бальмонт). Модные идеи нынешнего поэта не име-
ют ничего общего с оскудевшими идейками старины. Наперерыв, в несколько
голосов, поэты поют анафему городу, ненависть к «комнатным» людям. Бог
Дионис склоняется по всем падежам и в стихах, и в критических статьях.
«Возрождение мифа», «смерть быта», «оргиазм», «мистический анархизм»,
«соборный индивидуализм» - все это, как мысль и слово, переливает всеми
цветами радуги в современной литературе».
Действительно ново. Не гениально, но ново. Правда, вся литература пе-
рестроилась в самых терминах, и значит, она перестроилась в понятиях, в
стремлениях. Но почему же, почему это направление не посетил гений?
Гений слова!.. Но, может быть, весь этот поворот есть не литературный, а
какой-нибудь другой, например религиозный? Тогда понятно, почему здесь
не родилось гения-поэта или прозаика, ни Лермонтова, ни, хотя бы, Белинского.
Мрежи иные тебя ожидают, иные заботы...
Но это - предвидения, и не стоит останавливаться на них. Измайлов
более всего останавливается на Брюсове и Бальмонте, отмечая в обоих боль-
шую дозу учености и кропотливого сидения над «поэзиею всех стран и на-
родов», нежели собственного горячего вдохновения. Это - александрийство,
старость ума, зрелость вкуса. В самом деле, иногда кажется, что новые по-
эты пишут образцы на стихотворческие размеры, ими умственно заранее
придуманные. Но, кто знает, может быть, все это «пока». Автор отмечает, до
чего быстро зреет талант или ум Брюсова, до чего он стал, сравнительно с
тем, как начал, неузнаваем по серьезности, по правильности. О декадентах
хочется сказать в эту неопределенную пока минуту: «Ну, что бы ни было и
как бы ни пошли дела, - летите во все стороны, птички вольные. Вы все-
таки принесли нам весну, пока неясную, пока холодную и дождливую. Но
проглянет же за дождями и солнце...»
Пока - март декадентства, - и долго ему еще до августа, когда собира-
ют плоды.
ОБИДЧИК И ОБИЖЕННЫЕ...
К. И. Чуковский все «подвизается»... На днях он прочел в Литературном
обществе лекцию о Гаршине, которая возбудила бурю протестов «на месте
преступления», и теперь эта буря перешла в печать. Проф. Батюшков на нее
напал, Чуковский ему ответил. Мне хочется сказать два слова о Чуковском,
о котором вообще теперь стали много говорить.
Блестящий оратор, чарующая дикция: язвительная, часто умерщвляю-
щая критика. Как о «таком» не говорить... «Ты, батюшка, всех съешь: у тебя
аппетит волчий».
311
Литераторы стали очень бояться Чуковского. «До кого-то теперь дойдет
очередь». Все ежатся и избегают быть «замеченными» умным, зорким кри-
тиком: «Пронеси мимо»... Но Чуковский зорко высматривает ежащихся.
Он пишет коротко - это сила. Не хлестко - это ново и привлекательно.
Глаз его вооружен какой-то сильной лупой, и через нее он замечает смеш-
ные качества в писателях, раньше безупречных. Две-три его заметки о
В. Поссе заставили просто перестать писать этого ежедневного публициста
«Речи». Еще немного, и, пожалуй, Чуковский заставит замолчать даже вели-
кого Влад. Азова. Просто ужасы.
А хотел бы я посмотреть единоборство Чуковского с Азовым. У обоих
зубы... Не надо ходить на травлю волков.
И притом Чуковский неуязвим: он либерал! Никак нельзя сказать, что
«это правительство его подкупило обругать сперва Короленко, а потом Гар-
шина»... Эту линию Чуковский должен тщательно оберегать: обвинение в
«провокации» сторожит его у самой двери... «А, догадались: правительством
подкуплен! Эврика!» Это его ждет.
Но и по этой части, кажется, Чуковский силен: он осторожен, береж-
лив, предусмотрителен. «Съест нас, собака». Литература решительно ис-
пугана.
По его адресу шепчут, говорят, выкрикивают в литературных гостиных:
«хулиган», «не воспитан», «никого не уважает», «циник»... Из этих эпите-
тов я хотел бы запомнить только один: «не воспитан»... Действительно,
Чуковскому недостает добрых нравов, доброй традиции, доброго повели-
тельного навыка хорошо воспитанного человека. «Колыбельную песню» пела
ему не няня, а выли степные волки.
Это есть...
Ну, что же: какого апофеоза удостоился «босяк» Максим Горький! Дру-
зья, литературные друзья: вы же приветствовали и увенчали М. Горького в
повести и рассказе, отчего вам не помириться с К. Чуковским.
- Да, но М. Горький жег других: а этот жжет нас. То - буржуи, а это -
мы, бла-а-родные литераторы...
Да, действительно, есть разница: прежде бла-а-родные литераторы всех
обижали, а теперь бла-а-родных литераторов обижают. Нехорошо. Опасно.
Отвратительный пример.
Задел даже Короленку К. Чуковский. Уж на что идеа-а-льнейший писа-
тель! Но нашел смешное, притворное, сантиментальное, и так, с такими оче-
видными доказательствами, что невозможно было не согласиться.
«Бла-а-роднейший: а фальшивит».
- Это черт знает что такое, - ахнула печать. - Этак он, пожалуй, и Ска-
бичевского заденет.
На последнем чтении Чуковский даже «решился на Скабичевского», ска-
зал, что он «бла-ароден, но очень глуп». Публика повскакала со стульев. Я
думал, что Чуковского убьют.
Хорошо, что он либерал: а то бы убили.
312
Непонятно, что будет дальше, если его не убьют. Этак он, отоспавшись
крепко, с бодрыми силами, поутру вдруг напишет что-нибудь даже о Ми-
хайловском. Т. е. будучи-то либералом и немножечко «босяком»... Но, нет.
Чуковский хитер и на Михайловского не решится. «Тогда пиши пропало ка-
рьере»...
Какой-нибудь «бла-ароднейший дурак» даже решился бы на Михайлов-
ского. Но К. Чуковский «себе на уме» и о Михайловском промолчит. «Своя
жизнь дороже».
Когда ругают Чуковского, и я грешным делом поругиваю. «Что ж, про-
тив всех не пойдешь», «глас народа - глас Божий». Но про себя я любуюсь
«шествием Чуковского», хотя:
1) Короленку - люблю.
2) Гаршина - еще более.
И Чуковский меня не разочаровывает в них оттого, что я замечаю, что
Чуковский все вращается как-то в мелочах, в истинных, но мелких частях
писателя и писательской судьбы и дара. Он подходит к человеку, отвертыва-
ет фалду сюртука и кричит всенародно, что у него пуговицы не на месте
пришиты, а иногда что и «торчит прорешка», и даже торчит предательский
уголок рубашки через него. Все это так. Но ведь суть Короленки и Гаршина
не в пуговицах. Роковую сторону Чуковского составляет то, что он никак не
может коснуться важного в писателях. Точно тут ему Господь положил «пре-
дел»... В Чуковском есть что-то полицейско-надзирательское, роющееся в
«документах»: и признаюсь, когда талантливый критик все протоколирует и
протоколирует пуговицы, я зажимаю нос и говорю:
- Господи, как дурно пахнет! Это уже от вас, г. критик, а не по причине
пуговиц.
Приходит мысль о какой-то всеобщей ванне или «микве», в которой надо
бы «очиститься» и литературе, и критике.
Но, пока что роль Чуковского мне представляется очень утилитарною:
не навечно, а на некоторые годы... Дело в том, что у нас действительно
развелось очень много «бла-а-родных литераторов», сделавшихся таковы-
ми только оттого, что есть существо чернил и есть существо бумаги. «От
сочетания чернил и бумаги выходит литература». Это не совсем так... Сло-
вом, есть много писателей, и состоящих только из пуговиц, нашивок, кан-
тиков и вообще всей «сбруи» литератора. «Мундир» есть, а под мундиром
души нет. Об этом думалось годы, об этом плакалось годы. Но так как «мун-
дир» был в исправности, то даже не приходило на ум, как же справиться с
этим горем, как его вытравить, как его убить. Не приходило самой форму-
лы дела на ум. Все так «безукоризненны», а уж давно одни «мундиры»...
Чуковский с каким-то специальным даром, специальною лупою пришел,
чтобы сделать это крайне нужное в литературе дело отделения «настояще-
го» от «ненастоящего»... Тут, может быть, играют положительную и чуд-
ную роль даже его отрицательные, антипатичные дары, без которых он не
мог бы ничего сделать.
313
- Да. Я люблю документ. Да, где я копаюсь - нехорошо пахнет. Это моя
судьба и, наконец, мой гроб. Но чтобы съесть труп, нужна гиена. Благодари-
те, люди, что около вас бродит она: иначе вы погибли бы от чумы.
Условие нашего здоровья. И все должны оглянуться с благодарностью
на черный путь Чуковского.
БЕЗ ПОДПОРЫ ВЕЧНОЙ
(По поводу объяснений смерти
сенатора Коваленского)
Нельзя без некоторого ужаса читать сообщение брата покойного сенатора
Коваленского о настоящих причинах его смерти... Рассказ искренен и ды-
шит убеждением. Рассказывающий почти говорит читателям: «Мой несчаст-
ный брат умер не от болезни, которой у него не было, а от несчастья, слу-
жебного несчастья. Он был оклеветан, переведен из деятельного отделения
Сената в недеятельное; дальнейшему служебному движению была постав-
лена точка; он растерялся, не нашелся, долго томился, скрывал свой адрес и
все скитался по Европе, выбирая уединенное место, где бы мог покончить с
собою». Но покончил на Сергиевской улице, в Петербурге.
И все. Так все понятно. Нечем жить, не для чего жить. И он умер, как
римские сенаторы, от которых отвращался Кесарь.
Сообщение его брата превращает самоубийство сенатора Коваленского
в событие огромного общественного и психологического интереса; тысячи
людей думают об этом молча, и позволительно сказать о нем слово вслух,
хотя бы в помощь этим молча думающим. «Как? Что? Разве можно так уби-
вать себя? Тогда кто же останется жить, ибо такие неприятности встречают-
ся чуть ли не в каждой жизни, встречаются и преодолеваются».
Прежде всего, пожалеем о томившейся душе покойного; она, конечно,
ужасно томилась, если привела его к мысли о самоубийстве, к самому само-
убийству. Душевно он чрезвычайно страдал, и, кроме жалости, мы здесь
ничего не имеем.
Но есть факт личный и факт истории. Самоубийство сенатора Ковален-
ского - вполне исторический факт. Он сам этого не видел, не озирал, но
после сообщения его брата у зрителей, у живых не может остаться сомне-
ния, что покойный умер, как римский сенатор до Рождества Христова.
«Нечем было жить...»
А Христос? А вечная жизнь? А мы, оставшиеся люди?
Ведь, после Христа мы все - братья. «Одно стадо», в котором невозмож-
но овце погибнуть, если она не отделилась.
В этом и вопрос.
У сенатора Коваленского были средства, ибо он странствовал по Евро-
пе; у него была жена, взрослые сыновья; был такой любящий брат. Как «не
для кого жить»? А эти все!..
314
Да и, наконец, мы, просто люди? Каждый день в газетах сообщаются
ужасающие факты самоубийства от нужды; имея самые маленькие средства,
можно личным участием столько помочь, что, право, это выйдет занима-
тельнее и полезнее какой-то тусклой сенаторской службы, зависимой, и служ-
бы все около «бумаг» и с «бумагами».
Как «некому помочь», когда есть две руки, только две руки?
Как «нечем жить», когда есть поэзия, всемирная поэзия?
Боже мой, сколько есть для чего жить!
А наука? Начинающееся воздухоплавание? Открытие радия, падение ме-
ханических объяснений природы (дарвинизма), перемещение всех точек зре-
ния человека на себя и на мир? Смута веры, «да» и «нет» в религии? Да,
именно, наше время полно таких обещаний, таких предвестий будущего,
что просто любопытно прожить еще десяток лет, ибо уже через десять лет
лицо мира станет неузнаваемым!
Что перед этим «приказ 31-го декабря, которым мой брат и еще один
сенатор, В., переводились в отделение, куда назначаются престарелые сена-
торы, и оно собирается всего несколько раз в год, почти не имея дела».
- Да. Но его личная жизнь остановилась. Его душе нечем было жить.
С этого-то ответа, который уже дан в изложении братом покойного об-
стоятельств и мотивов его смерти, и начинается весь ужас положения, кото-
рый как-то затрагивает и нас, затрагивает всех.
Неужели мы так ужасно обусловлены внешним положением? Есть «по-
ложение мое», и есть еще «я». Неужели мое «я» совпадает с «моим положе-
нием» и, раз последнее гаснет, потухает и «я»? «Мне нечем жить», «я уми-
раю».
Это выражено слишком реально, - в этих скитаниях, в этом ненахожде-
нии себе места, в этих заботах при взгляде на квартиру: «гроба моего не
вынесут на лестницу, ибо проход через переднюю узок». Все это до того
реально, что мороз подирает по коже.
Умерла служба, даже только не обещала движения вперед, - и человек
умер, действительно умер!
«С единственным интересом он бывал в Английском клубе, где встре-
чался с некоторыми для него приятными людьми»...
Но отчего он не обратился к бесчисленным сокровищам религиозного
утешения, какие есть на нашей земле? Есть же они?! Отчего он забыл про
это? Да ему сейчас же стало бы легче, если б своей рукой он зажег лампадку
перед образом и, отойдя назад, лег на кушетку и продолжал бы смотреть на
образ, без молитвы, без слов, - просто «так». Тишина зрелища, покой ком-
наты, великая старина, о которой ему этот образ сказал бы, старина еще от
великих князей московских и киевских, при которых тоже служили люди, и
многое им «не удавалось», - все это показало бы ему его личное несчастье в
таком миниатюрном виде, что он просто забыл бы думать о нем...
«Душа моя» и «моя служба». Но, ведь, «служба» есть только «прилага-
тельное» около души, вытекает из «души», как одно из его последствий,
315
одно из приложений ее деятельности, энергии. Как же можно «душу» про-
менять на «службу»? Изменила одна, но когда не изменила другая, - все
осталось.
У Ковалевского «изменила» служба, и с нею не только изменила, но со-
всем пропала душа. И он умер. Без души кто же живет? Вот где роковое,
ужасное.
Гюйо написал книгу «Безверие будущего»... Вот с кем бы его свести
лицом к лицу, - с сенатором Коваленским. Диалог был бы интересен.
Книге предпослал сочувственное предисловие либеральный русский про-
фессор: «Будущее, конечно, будет безверно». Гюйо был талантливый, про-
шумевший французский философ; автор предисловия тоже довольно шу-
мит. Оба счастливы. Так зачем им вера? Книги так идут успешно. Зачем
вера? Квартирная обстановка, уют семьи, привет общества, - все хорошо и
хорошо! К чему тогда вера?
Хлопот, интереса жизни хватит на 30-40 лет, - сколько «проживется». А
потом, - чтобы и почетные похороны. Чего же тревожиться. Но ни Гюйо, ни
Овсянико-Куликовский, написавший к нему предисловие, не подумали о Ко-
валевских, не подумали о неудачниках, не подумали о слабых.
Не подумали о всех, о множестве.
Если «будущее» станет без «веры», то все станут кончать с собою при-
близительно как Коваленский. Ибо для чего же им жить? Не для того же,
конечно, чтобы «восполнить число» читателей Гюйо и Овсянико-Куликов-
ского? Очень им нужно! Быть хлопальщиками успеха других, стоя внизу, в
глухоте, в безвестности... Это очень льстит Гюйо, но нимало не интересно
«нам».
Мы, это - все. Обыкновенные люди. Гюйо, при его славе, нужно «безве-
рие», но нам, при «безвестности», непременно нужна вера.
Какая? Во что?
Да в бесконечность души человеческой.
В то, что душа не «талантливая» вечна, например, у Гюйо; но сама по
себе вечна, например, у Ивана.
Что она выше всех «служб».
Выше богатства, успеха.
Что все меня «топчут», но я вижу образ, перед ним зажженную лампад-
ку, моей рукой зажженную, из последнего масла, и вот в этой комнате и ее
тихом свете я совершенно абсолютен, равняюсь царям и праведникам, по-
тому что не меньше их перед моим Богом.
Хотя только Иван.
Без «веры» нет равенства людей, а при вере уже непременно «все рав-
ны». Не физическим равенством, а метафизическим.
«Вера» - источник героизма, подвигов.
«Вера» - источник бесконечной жизни.
При «вере» совершенно нельзя быть несчастным даже на краю физи-
ческого несчастья, ибо суть «веры»: «все погибло», но «душа осталась».
316
Сто Гюйо и тысячи талантливых книг не заместят кусочка веры, соло-
минки ее, лучика ее. «Вера» талантливее книг. «Вера» человечества - гений
человечества, которым наделил его Бог.
Сирот преимущественно, но частью и мудрых; наградил всех. Это свет
солнца.
Как же своими жалкими, костлявыми ручонками стараются заслонить
от человечества этот свет будто бы мудрецы, а в сущности вовсе не мудре-
цы, Гюйо или Овсянико-Куликовский.
Ваши книги слишком не нужны. Печатаются или не печатаются, - все
равно.
Конечно, - пропитание наборщикам, и в том смысле - хорошо. Поблаго-
дарите Бога, возьмите свою плату и отходите в сторону.
СМЕРТЬ... И ЧТО ЗА НЕЮ
...После трудной и отчасти страдальческой зимы, — этих 250 дней, когда
воля была в тесном ярме, а нервы были напряжены до последней крайности,
— я получил летний отпуск и, чтобы укрепиться в холодном северном море,
поехал в Аренсбург. Всякий чрезмерный труд подобен болезни, а отдых ка-
жется тогда выздоровлением: необыкновенно свежее и еще не веселое пока,
но какое-то благородное ощущение.
— «Слава Богу!»
Слава Богу: уже мелькнуло, уже «за спиною» и «вчера» это несносное
писанье, изо дня в день, из темы в тему, — писание, пожалуй, и счастливое,
но все же физически и по комнатной обстановке однообразное и утомитель-
ное, — а главное, слава Богу, прошла эта ужасная, чудовищная операция
близкого и дорогого человека, ожидание которой что-то кажется ужаснее
самой смерти, ужаснее всего, что ты можешь вообразить себе... «Лягу не я, а
он на этот узенький, высокий операционный столик, подобный эшафоту:
он, именно он, я его никак не могу заместить, моя операция ничего никому
не поможет... И ножички начнут работать, щипчики, иголки, и около них
тряпочки тела, отрезаемые куски, его куски, еще живого, моего человека»...
И вот этот ужас нескольких дней перед операциею...
***
Но прошло. Все прошло!
Отстучал два дня винт морского парохода. Скверный обед, небольшая
качка, наконец, возня с отысканием квартиры, и еще худшая возня с разме-
щением вещей, с так называемым «устройством на новом месте», все это,
похожее на возню матросов в трюме, тоже прошло... Наконец прислуга ста-
вит самовар в «убранной кухне», дети уснули в детской, покой, порядок,
тишина вокруг, — та «тишина и порядок», которые мы, в сущности, и зара-
317
батываем всю жизнь пером или горбом, — и нервы отдыхают еще совер-
шенно физиологическим, а не психическим отдыхом. И вот чистая постель
и крепкий сон.
Физиология, но какая прекрасная! «Это Бог создал сон в награду ус-
талому человеку». Все «слава Богу», и море, и земля, и всяческое творе-
ние.
Но психологическая радость отдыха наступила только назавтра. Солнце
отлично взошло, большой сад около дома, на краю городка, был весь в зеле-
ни, а новое совсем место, «остров Эзель», о котором когда-то я только учил
в географии, а теперь вот сам попал сюда, — манило любопытство и воз-
буждало энергию. Заметили ли вы, что «на новом месте» всегда прибывают
силы? Напившись вкусного кофея, я взял одну девочку, лет семи, за руку и
пошел «осматривать город».
Все спокойно.
Как все спокойно! Ничего угрожающего впереди. Средства к жизни,
этот «багаж, который мы возим с собою», — в исправности, болезни нет и
не предвидится, и я шел и шел...
Где же город? Зданий все нет или почти нет. «Следуя дорожке», мы
перешли с улицы на что-то вроде бульвара или парка, — но иного устрой-
ства. Как я потом узнал, — это были аллеи, рассаженные на месте прежне-
го земляного вала, окружавшего «крепость Аренсбург», и они шли легким
скатом или нетрудным подъемом, слегка загибаясь вправо или влево. Не
было строгой аллеи, однообразной и скучной, — а красивое ее подобие:
дорожка, крепкая, гладкая, почти тропка, по сторонам которой не часто
насажены великолепные, уже теперь старые, деревья, и дальше по покато-
стям — трава, луг.
Все так красиво. «Боже, как красиво». А главное — покой.
И около меня идет молча, держась за руку, моя тихая и задумчивая Ве-
руська. «Нисходящее потомство: и с этой стороны обеспечен». Нужно заме-
тить, после беды всегда как-то оглядываешься с этой заботой: «что же оста-
лось» и вторая дума — «что именно в исправности», но оглядываешься
широко, биографически, не о сегодня и вчера, а о всей жизни...
Рука девочки в моей руке была поэтому существенной частью «жизнен-
ного багажа». «Все правится, все крепнет в моей жизни». Я думаю, так
иногда оглядывает свой пароход и вглядывается в море капитан.
Я и волновался, и молчал. «Новые места, новые места». — «Что будет за
поворотом этой дорожки?» Но перед нами она еще далеко вилась.
Всего шагах в шестнадцати и не более тридцати — бежала птичка.
Должно быть, в Аренсбурге несколько иная фауна: такой я никогда не ви-
дал. Необыкновенно стройная, узенькая, с умеренно длинным хвостом,
держа прямо головку перед собою, она бежала и бежала перед нами. Я
думал, по мере нашего шага, она вспорхнет и улетит: но она не улетала.
Что-то желтенькое, серое, синее в перышках, кажется полосы: она была
красива и мила.
318
«Вот не улетает...» - удивился я. И стал смотреть уже на птичку, а не на
дорожку.
Я иду, и она бежит.
Иду дальше, дальше, много прошел: птичка все перед нами шагах в двад-
цати.
«Она гуляет с нами».
Мне было хорошо. «Еще лучше, чем прежде».
Неожиданно без дум, без соображения, без воображения, а каким-то теп-
лом в груди я почувствовал, что это — душа матери. Не оспариваю, что тут
была «ассоциация»: мать была тоже худенькая и небольшого роста. Вся жизнь
ее, и особенно ближе к смерти, — была глубоко страдальческая, как я никог-
да не испытывал: а умирала она в полной безнадежности о судьбе всех де-
тей. Все разваливалось в какой-то не только физический, но моральный хаос,
которому она, уже больная два года, бессильна была помочь. Лежала и виде-
ла, как все рушится: и среди этого разрушения «чего-то былого» — не то
чтобы благоустроенного, но «все-таки» — запутались мы двое, я с братом, — и
она до очевидности видела, что мы погибнем, как гибнет все «уличное» и
«бездомное».
Птичка бежала. Повертывая головку чуть-чуть, она видела нас.
«Вот как все устроилось: а мы-то тогда думали, что все погибнет. Я
отпросилась оттуда, и прилетела сюда, взглянуть и побыть с тобой. Вот и
дети у тебя, хорошие такие... Ничего худого... Ничего худого не случилось:
а мы-то думали и трепетали! Ну, были горести, у кого их нет. Но все закруг-
ляется. — Я сейчас улечу... Но пока побегу еще вперед и посмотрю на тебя
и внучку».
Может быть, это были мои мысли? Но, может быть, это — птичка вну-
шила? Так и не так: с необыкновенною ясностью я пережил полную уве-
ренность, что это душа матери — такая страдальческая — переселилась
теперь в легкую птичку, в «легкую» по контрасту с ее страданием и в воз-
награждение за него, и вот в ее виде она слетела ко мне в такую особенную
минуту жизненного перелома. Сейчас же я вспомнил, конечно, что так ве-
рят в Индии, в «перевоплощение душ»: «Как странно, что я в Аренсбурге, и
питомец Московского университета, а верю и знаю и чувствую, как там, в
Индии.
«Что такое?»
В душе совершилось как бы качание цивилизаций.
«Но ведь это же правда, это — душа мамаши: этого так тепло в груди
и такая ясность взгляда, глаза. Как воздух прозрачен. И прозрачно далеко,
далеко... И будущее, и прошлое, и нет границ горизонта. Ясно, широко: и
эту особенную ширь и ясность принесла эта птичка, и принесла оттуда, от-
куда слетела. Там все широко. Там узкого нет, узкого и короткого. Нашего.
Там — отдых. Вот и мамаша: кровотечения, бессилие. А теперь как ей легко.
И мне с ее внучкою как хорошо, что она прилетела сюда и вот погуляла со
мною».
319
— Как все хорошо кончилось, а?
— Да, мама: как все хорошо кончилось!
* * *
Как птичка «слетела», — я уже не помню, потому что «по ассоциации идей»
погрузился в размышление об индийской философии и ее правдоподобии
или возможности. Но на несколько минут, даже на полчаса, я пережил пол-
ное ощущение этой веры.
«Боже, как полно, — если бы так!»
Я чувствовал, что мое «индийское миросозерцание» дало на эту минуту
такой избыток счастья и полноты моей душе, такую ясность и спокойствие,
как этого решительно я не испытывал никогда в христианском миросозерца-
нии, с его тяжбой «грехов» и «заслуг» и вообще с какой-то загробной «воло-
китой над душами».
— Ну их, не надо...
И я морщился.
— Отстрадал. Улетел. Это так ясно и просто. Потом прилетел на землю,
к «своим». И это понятно. Зачем же судить, кого судить? И на земле мы
осуждаем «судящих»: так неужто «там» еще увеличится это худое?
И я морщился еще сильнее.
— Не надо. Легче. На земле трудно: ну, — так; а «там» все будет легче,
«там» зачем же быть трудному? И не надо, и непонятно.
В противоположность детству, когда я непрерывно воображал «муки ада»
и жег на сальной свече пальчик, чтобы испугаться еще больше и без того
страшного, — в зрелом возрасте я совсем перестал об этом думать. «Просто
неинтересно». Или ничего, или хорошо. «Хорошее» положим в карман, а
если «ничего» - то просто промолчим. И я додумывал:
— Это монахи оттого, что у них нет деток, воображают «на том свете»
детообразных ангелов. «Ангельские лики будут реять». Им надо было здесь
жениться, они обязаны были к этому, если не уроды: а, не исполнив долга
или отступив от нормы, утешают себя «тамошним»... Все «там»... Это каю-
щаяся их совесть, или уродская, возмещает себя, казнит себя, оплакивает
себя: вот происхождение «рая» и «ада», «ангелов» и «судий». Ничего этого.
Воздух... и посещу «своего». И только. И больше не надо.
Когда Д. С. Мережковский в ряде статей, клонившихся к выяснению,
«откуда происходит религия» или почему «нужна религия», «должна быть
религия», «нам должно, мы должны религиозно веровать», — уперся в факт
всеобщей смерти и ожидания, «что же будет там», то я печатно ему отве-
тил, что просто это неинтересно. Ответил со своей точки зрения и, может
быть, с точки зрения своего положения', для человека, имеющего детей и
всю жизнь трудящегося, «там» просто неинтересно, и психологически,
субъективно не существует. А существует ли «там» объективно и, так ска-
зать, научно, точно...
320
Об этом я не говорил. Это кто же знает. Ну, кроме попов, которые «все
знают». К этому я позднее прибавил мысль, что, насколько «здесь» все улуч-
шилось бы, энергия наша напряглась бы, если бы мы совсем оставили забо-
ту о «там». Я говорил со своей личной точки зрения, как (думаю) и Д. С.
Мережковский говорил тоже не без «своей точки зрения» и своего частного
положения, близкого к монашескому.
«Нет детей — воображай ангелов».
«Есть дети — ангелы призрачны, тают, нет их...»
* * *
Статьи мои, резко выраженные, вызвали несколько откликов. Вопрос смер-
ти и «что будет там» есть вопрос практический; и мне кажется чем-то ужас-
ным, когда философия или поэзия принимается фантазировать «на эту тему».
Разве можно фантазировать об операции? Может тот, кто ее никогда не пе-
реносил и близкие его не переносили. Смерть и «загробное существова-
ние» или «нет его» суть не темы философии или стихов, а право и соб-
ственность сгорбленных, почерневших от страдания и труда людей, кото-
рым это — важно.
Поэтому я сохраняю с большим благоговением письма этих немногих
людей, откликнувшихся на вопрос: «Есть ли бессмертие?» И предложу не-
которые из них читателям.
В виде предисловия к ним, считаю нужным сделать оговорку: читатели
встретятся здесь с голосом не духовенства, — из него никто мне не отозвал-
ся, — но с голосом людей церковного строя души, которых задело мое от-
рицание. К «церковному же строю души» нужно относиться и не преувели-
чивая, и не уменьшая его значения: в области данной темы церковь есть
преемственная хранительница вековой работы мысли, когда-то свежей в пору
еще новизны самого вопроса. Теперь — это коралловый риф, может быть,
уже и ушедший под воду, помертвелый: но тут копошились мириады живых
существ, копошились и строили. Строившие были вот такими точь-в-точь,
как авторы писем ко мне; они живы. И церковная мысль была когда-то жива
и деятельна. Но потом она отмерла в профессионалах; однако в «исповедни-
ках» она млеет еще, угольки горят и при возбуждении вспыхивают. Статьи
мои, под заглавием «Вечная тема», послужили таким возбуждением. Цер-
ковный дух ярче вспыхнул, чем как мы обычно видим его. Это — старый
дух, имеющий силу и слабость всего старого: что-то поношенное и крепкое,
стильное и вышедшее из моды, неприменимое к лицам, но на что можно
долго любоваться, как мы любуемся, иногда до слез, на всякие руины, на все
седое, вековое, полуразрушенное.
«Здесь жил когда-то человек»...
Можно ли пройти мимо этого равнодушно.
321
I
«Прочитала сегодня вашу статью «Вечная тема» и захотелось мне не-
множко побеседовать с вами. Тема ее очень близка в данное время моему
сердцу: я видела, как жизнь ставила «точку»* моей незабвенной умираю-
щей матери, и нам это было мучительно и ужасно! Вы не боитесь смерти?
Никогда, верно, вам не приходилось видеть близкого человека умирающим:
тогда вы не сказали бы этого. Вы думаете, так просто умирать**: поболел,
сложил руки на груди, — и конец! Нет, я уверена, что именно так никогда и
не бывает; мозг работает неудержимо, неизвестность пугает, а окружающее
так манит к жизни; вот все дети уже взрослые возле нее: как ей мучительно
хочется еще пожить с ними, посмотреть на них, порадоваться их радостью,
погоревать их печалью, — и который бы из них ни сел возле нее, она знает,
что это ее ребенок, вымученный, выстраданный ею. В душе она кричит и
протестует перед неизвестностью, она не хочет расстаться со своими деть-
ми, они ей дороги, как никто в мире! Не нужно ей рая; ничего не нужно;
только дети, они одни для нее смысл жизни в них; когда бы они умерли
все***, думаю, легче бы было, она бы только стремилась к ним туда, в эту
высь неизвестную; а теперь они останутся здесь без нее, как они будут? Вот
Надюша совсем одна остается, жизни не знает, всегда я заботилась об ней,
как она будет? Плакать долго станет обо мне, на могилу часто, каждый празд-
ник будет ходить; как-то Варюша переживет смерть мужа****, - старый,
да больной, а любит его так же, как и меня; к кому она придет горевать свое
горюшко? А Петя, Лиза, Женя? — А вы говорите: «Так просто, не страш-
но». За Уг часа до смерти я наклонилась к ней и говорю тихо: «Откройте
ротик, я волью лекарства, которое успокоит вас». И она - сознательно, зна-
чит, открыла его, она слышала и поняла меня. Сколько же мучительных,
тяжелых дум пронеслось в ее сознательной голове за последние 24 часа,
когда болезнь ее ухудшилась. С какой верой на (в?) жизнь, именно на жизнь,
она причастилась; с каким усердием и надеждой на выздоровление она мо-
лилась на молебне Св. Целителю Пантелеймону. И когда, после всего, ей
стало хуже, — вы поймете отчаяние человека, ее вера могла поколебаться,
потому что хотя боли были страшные, но голова ясная совершенно, она могла
думать свои страшные мысли, черная яма откроется, положат ее туда, ра-
зойдутся, и она останется совсем одна; смерть и одиночество почти равно-
сильны. Рот после лекарства уже не закрылся, она стала спокойно дышать,
тише, тише - и конец! Если хотите, то смерть, как конец, проста и несложна;
* В Вечной теме я сравнивал смерть с «точкою, поставленной в конце речи»:
автор привязывает свою мысль к этому сравнению. — В. Р
** Я тоже писал об этом: что умереть — это «просто», «не сложно», и если
без боли — то и не мучительно. — В. Р.
*** Т. е. ранее матери. - В. Р
**** Вероятно, больного или умиравшего в день, месяц или год смерти мате-
ри. - В. Р
322
заснула вечным сном, тихо и спокойно, но перед тем 24 часа ужасны! Ужас-
ны по сознанию полному; в 74 года страшная жажда жизни. «Пожить бы
еще немножко; посмотреть бы, Л., как у тебя родится ребеночек, понянь-
чить его, а то умру и ничего не увижу!» - с грустью иной раз говорила она;
для нее смерть была глухою стеною, за которой будут ее дети и она не уви-
дит их. Я старалась перед смертью внушить ей более отрадные мысли, что
наша душа оставит свое грешное тело и, как бабочка, вылетит из своей обо-
лочки для лучшей жизни; за что нас Бог будет наказывать? Он нас создал с
грехами и знал, что мы будем грешить, - за это нельзя наказывать. Вы всю
жизнь страдали, почти не имея покоя, да и там будете страдать? Нет, Бог
милосерд будет к вам! А перед нею была только глухая стена, за которою не
будет ее детей; при таком-то взгляде на смерть, полное сознание перед смер-
тию, - Господи, как это ужасно! Вот я теперь каждый вечер читаю Псал-
тирь по ней; с полной верой; да, я хочу верить в это (а вы хотите отнять от
меня, вашей статьей, что «там» ничего нет), что прочищаю ей дорожку к
Богу; пусть она моей верой пройдет туда, где бы ей было легко и хорошо; я
только тогда и нахожу покой, легче на душе станет, как помолюсь за нее. Не
надо, г. Розанов, отнимать веру у людей в будущую жизнь; вы тоже ставите
глухую стену там; а мне приятно думать, меня это мирит со смертью, что
там я встречусь с нею, отцом и всеми, кто дорог мне был. Может, я не так
молюсь за нее теперь; научите, как теперь молиться за нее? Вы должны знать,
кончили Академию*; 20 дней прошло, как умерла она, а я читаю те молит-
вы, что читали монашки над нею до похорон: может, это неправильно? Ука-
жите мне книги, где говорилось бы о смерти и убежденно доказывалась заг-
робная жизнь; только убежденно. Первые дни после ее кончины я молиться
не могла, я обиделась на Бога, что Он оставил меня одну, взял ее безвозврат-
но и никогда больше она не вернется ко мне, не сядет в свое любимое крес-
ло, не будет слушать, как я провела день, ни одобрять, ни порицать меня.
Когда бы я ни пришла теперь в свою комнату, она всегда будет пуста; вот
чем ужасна смерть, раз она взяла, не возвратит, не пощадит. Снится, после
смерти, мамаша одной из сестер, будто встала она из гроба, сердитая такая,
говорит, что крепко заснула; «зачем доктора не позвали, когда я умерла?» А
мы не позвали, это правда. Что это такое? У нее был рак на печени, доктор
сказал, будто так плохо, что дело — нескольких дней или часов, и вдруг —
сон такой ужасный и правда главное; тогда казалось так все просто, ясно, —
для чего доктор? А вы говорите — не страшна смерть; она очень страшна
еще тем, что оттуда нет вестей, все входы для нас заперты**, мы ничего не
знаем, все закрыто для наших глаз, глухая стена. Научите, что мне читать,
чтобы я нашла покой? В 40 лет остаться одной — ужасно!..»
* Я получил не академическое, а университетское воспитание. - В. Р
** Кроме одного — самим умереть: и тогда уже не вернешься назад. Порази-
тельно, что метафизическое существо смерти, такое действительно ужасное, новое,—
для каждого, однако, откроется: но в самый последний миг жизни!! Ужасная «точ-
ка»... со страшным по сложности, по смыслу содержанием! - В. Р
323
* * *
Вот письмо, можно сказать, из самой гущи жизни:
Смерть — перерыв: оборвалась в нужном месте нить, неконченая, инте-
ресная. «Хоть 75 лет, но всем интересовалась: все бы надо если не доделать
(за такою старостью), то досмотреть». — «Как же вы без меня? мне нельзя
уйти, и так не хочется... Я еще всем нужна, душевно нужна»...
Среди этих горячих интересов никакой мысли о «там». Старушка томи-
лась, что она недосмотрит, недоделает «здесь», и это так полно и насыщен-
но, что не осталось пустоты для заполнения «загробным существовани-
ем».
О нем не умирающая думает, а живой, оставшийся. «Ах, мама: как нам
вас недостает»... И как порыв продолжить дальше, разорвать препятствие,
проломить «стену», все разрешается в крик: «Вы там живете».
Это — земные мысли об умершем.
В «смерти» так же, как она сама, — интересны живые. Что такое для
них «смерть»?
В письме, в разных подробностях его, хорошо отразилась теплота жиз-
ни: «Как нам было тепло с вами, мама: а теперь так холодно, ужасно холод-
но!»
Смерть есть холод, врывающийся в теплоту жизни. Это как вышиблен-
ное в стужу зимою окно: вдруг понесло снегом, задул ветер, загасил свечу.
Смерть — ужас, безобразие, разлом. Смерть — катастрофа.
Всякая. Для всякого.
Вот одна ее сторона, осязательная, «наша аста». Но затем остается именно
она, вещая, таинственная, безгласная.
— У, чудище: тебя все боятся. Кто ты?
II
Следующее письмо я получил от доктора Якобия: называю имя, так как ав-
тор и не желает, чтобы оно было скрыто. Он не рассказывает ничего лично-
го, он интересуется как ученый. Письмо из провинции.
«Я боюсь, что среди множества получаемых обычно писателями пи-
сем, — это мое письмо пройдет для вас незамеченным и не достигнет своей
цели. Прежде всего должен объяснить, кто вам пишет: я по профессии пси-
хиатр, д-р медицины нескольких университетов, член многих ученых об-
ществ. Мои исследования получили за границей медали и академические
отличия. Теперь я занят организацией психиатрического дела в Могилев-
ской губернии. — Ваши статьи приносят нам, людям другого мышления на
«вечную тему», — вести, идеи, заботы из мира иной мысли, иного чувства,
в значительной степени даже иной гражданственности (напр., в церковном
вопросе), — из мира, ставшего нам совершенно чуждым не только по на-
шим общественным и личным воззрениям, но почти можно сказать: по на-
шему чисто интеллектуальному пониманию. Когда оттуда пишут професси-
324
оналы, все это избито, школьно, старо даже по форме и просто наводит ску-
ку. Но когда пишет: Розанов, Мережковский, я читаю с захватывающим ин-
тересом. Особенно заинтересовала меня ваша статья: «Еще о вечной теме»,
и я очень желал бы остановить ваше внимание на двух вопросах, поднятых
в ней или ею.
1) Вы верите в Бога, но не то, что не верите в загробную жизнь, а не
интересуетесь этим вопросом. Но все шансы, что вы действительно не ве-
рите, — или же вы не хотите размышлять на эту тему, зная бесплодность
размышления, или, наконец, вас отталкивает пошлая форма русского атеиз-
ма. Вам «не нужна гипотеза загробной жизни», как Laplace’y была не нужна
гипотеза Бога.
Новые религии настолько слили понятия Божества и загробной жизни с
ее наградами и наказаниями, что для огромного большинства даже образо-
ванных людей эти две концепции совершенно нераздельны. Иначе думал и
чувствовал древний мир. Для него загробной жизни или вовсе не было, или
было бледное существование в шеоле, в аиде (вспомните, как плачется Ахил-
лес), в самой могиле (по римскому пониманию); но все это не имеет ничего
общего с христианской или магометанской концепцией. Это же полное раз-
деление божества и загробной жизни мы и теперь встречаем у языческих
тюрков Сибири; это же мы видим и в Калевале. Но чтобы человек, не только
цивилизованный, но одухотворенный, вернулся к древней концепции —
это факт в высшей степени любопытный, редкий, и его следовало бы ис-
пользовать. Ваша психология, исследованная и анализированная в этом на-
правлении, дала бы нам понимание, а не одно внешнее знание психологии
хотя бы классического мира в его религиозно-этических воззрениях. Если
бы вы сделали такой анализ, вы внесли бы важный элемент в наше понима-
ние основной психики древнего мира*.
* По-видимому, д-р Якобий удивляется, что во мне разделены, не связаны идеи
загробного существования, которое я отвергаю или к которому равнодушен, и рели-
гиозное чувство, которое налично во мне есть. Но ведь загробное существование —
это именно «идея», «концепция», и, как таковая, строится или возникает; религи-
озное же чувство просто есть, вероятно, врожденно, как зрение и обоняние. «Помо-
литься хочется», «люблю, когда молится человек» (зрелище), «хорошо, когда мы все
молимся» (общность, универсальность) — это просто мое «хочу» и не связано ни с
какою идеею. Мне даже кажется, что атеист по отчетливому исповеданию (по сло-
вам, по образованию, по школе) может быть все равно религиозным человеком. Ре-
лигиозного человека я узнаю, когда он рассказывает, как купил вещь на базаре; ре-
лигиозного автора я узнаю, с 1 ’/2 страницы книги, где-нибудь из середины, все рав-
но. Религиозность есть «стиль человека», стиль построения его души, а в зависимо-
сти от этого — построения всей его жизни, деятельности, поступков, — и она
сказывается во всякой мелочи, не отвязывается от человека ни в чем и никогда.
Есть много людей, тараторящих о религии, — и вовсе не религиозных. Религия мо-
жет быть пуста от каких бы что ни было определенных идей, хотя зато с некоторыми
идеями она абсолютно не выносит совмещения: религия есть угол взгляда человека
на мир, религия есть зрение, религия есть слышание, религия есть обоняние. Кто не
различает цветов и не обоняет их — не может быть религиозен; кто не любит леса —
не может быть религиозен (все «святые» любили «пустыню», т. е. что «за горо-
325
2) Вы передаете в вашей статье о мыслях и ощущениях во время обмо-
рока, который вы приняли за умирание. Раз идеи божества и de 1’audela*
различны, можно предположить комбинацию обратную вашей и, сколько
можно думать, теперь далеко не редкую, хотя и скрываемую par respect
humain** — я не нахожу формулы для перевода. Я не знаю, конечно, имеет
ли такие шансы быть верной гипотеза будущей жизни, но она нелепа, и она,
как известно, отстаивается многими помимо и независимо от веры в боже-
ство. Сенека пишет своему другу: «Чего ты боишься в смерти? Неизвестно-
сти после? Но ты это уже испытал! Когда? До твоего рождения».
Что было раньше, что будет позже, — нам одинаково неизвестно. Обе
двери крепко затворены. Оставим золотую (? —Якоб.) дверь рождения, об-
ратимся к железной двери смерти. Отворить ее, посмотреть, что за нею, —
мы не можем, но нельзя ли заглянуть, хоть немножко, хоть в щелочку? По-
смотрим хоть в отражение, может быть, и кривого зеркала. Не могли ли бы
дом»), кто ненавидит лицо человеческое — не есть религиозен, кто излишне привя-
зан к суете, шуму, «предприятиям», торгу (если до страсти: напротив, спокойная
торговля в высшей степени отвечает религиозному духу), любит «водить компанию»,
увлекается картами, игрою, кто имеет жадность к вину — не религиозен, что бы ни
говорил его язык. Религия есть непрерывное, ни на одну минуту не прерывающееся
общение с Богом. Религия есть надежда на Бога. Религия есть любовь к Богу. Рели-
гия есть верность Богу. Религия — когда человеку «хорошо в Боге». Бог есть его
«сладость» и условие существования. С ним он думает, с ним он радуется, с ним
всего желает и без него ничего не хочет. Бог — ближе родителей, детей, жены: меж-
ду прочим, оттого, что ни родителей, ни жены, ни детей Он никогда не отнимет, Он-
то и сотворил человека в связи со всем этим, в числе всего этого, как часть этой
родительско-детско-мужней связи, и проч. Но Бог — таков, а любим мы Его не за
это все-таки, а Самого по Себе. Бог — это мое «хорошо». Я от Него так же не могу
отвязаться, как «от своего правого бока». Ну, есть он, — что же я тут поделаю? Но
что такое Бог? Это знает только тот, кто знает; а кто этого не знает, — и никогда не
узнает, и знать ему незачем. Бог «с нами», а видеть Его нам не дано, ни — знать Его.
Тень — за нами; а ведь может быть, что мы никогда на нее не оглянемся и не увидим
ее. Бог как кровь: течет в жилах, и мы ее не видим, а ею живем. Бог личен и безли-
чен: лицо Его то является, то скрывается. Но рука Его всегда чувствуется. Бог — не
идея: Он есть. Бог крепче мира: мир может разрушиться, а Бог останется. Дохнул
Бог — и стали миры, еще дохнул — и нет их: мир — миры страшно малы перед ним.
Только от Бога и через Бога все связуется и все осмысливается: как дробь через
знание только «величины знаменателя». Т. е. если мы не знаем величины каждой
части — мы не понимаем и что выражает или показывает или определяет дробь; а
если мы не знаем Бога или, вернее, везде Его не чувствуем, мир — ночь, есть под-
робности в нем для нас, но для нас вовсе нет его как мира. В смерти самой идеи Бога
(только идеи) — умирает мир. Нет Бога — умер мир; есть Бог — мир осветился,
согрелся, образовался, есть утро и вечер, есть красота, все есть, «что мне нужно».
«Что мне нужно» и «что миру нужно» в высшей степени связуется с «Бог есть».
Связуется и — зависит. Я отвлекся: но бессмертие, загробный мир? Это — идея и
искусственность, это — не так обще, важно, необходимо, истинно и питательно,
это уже далеко не так есть, как религия. - В. Р.
* по ту сторону (фр.).
** по соображениям гуманности (фр.).
326
нам что поведать люди, стоявшие уже в дверях, уже занесшие ногу туда, но
перед которыми, не позади которых, дверь затворилась? Может быть, им
мелькнуло что-нибудь?
Возразят — и возражают, — что у людей в таком положении мозг от-
равлен патологическими продуктами. Что же, — ив этом случае важно знать
их психику. Смерть не уничтожает деятельности мозга, не освобождает его
от этих продуктов, но невероятно, чтобы она и прекращала тотчас же его
жизнь. Как известно, мозг сохраняет более или менее нормальное состоя-
ние дольше других органов. У трупа растут волосы, ногти, мертвая женщи-
на может родить, — все это процессы, совершающиеся при участии нервной
деятельности, и едва ли есть основание предположить, чтобы высшие про-
цессы прекратились с остановкой сердца, дыханья. Конечно, мозг с оста-
новившимся кровообращением, и тем более с свернувшеюся в венах кро-
вью, действует иначе, нежели в жизненных условиях, но он действует, и нам
не может быть неинтересно, что думает — скажем: что бредит — мертвый в
могиле, что ему грезится. Я давно уже интересуюсь этим вопросом и соста-
вил маленький очерк того, что можно предположить на основании медико-
психологических условий. Надеясь, что многие могут заинтересоваться и
сказать свое слово, я предлагал двум моим приятелям, редакторам больших
журналов, маленький популярный очерк: оба относились с непонятным для
меня ужасом, находя que pa manque de gaite*. Было бы очень желательно
собрать возможно большее число автопсихологических воспоминаний уми-
равших, но не умерших людей, достаточно интеллектуальных, чтобы дать
правдивые описания. Я лично имею основание думать, что такие воспоми-
нания и возможны и поучительны».
Мысль — поразительно верная. Нужно удивляться, каким образом на-
ука, копающаяся даже в экспериментах, — никогда не заглянула в эту любо-
пытнейшую область, пробираясь по мостику, совершенно правильно указы-
ваемому д-ром Якобием. Редакторы журналов, к которым он обращался,
вероятно, были медики: но медики, как святые, в труде своем и заслужива-
ют благодарности человечества, так в мыслях, идеях... Но лучше не будем
говорить об их идеях.
«Но есть другая категория людей, заглянувших по ту сторону железной
двери и у которых мозг не был отравлен продуктами долгой болезни, — это
люди, находившиеся в неизбежной (казалось бы) опасности насильствен-
ной смерти, но отделались более или менее тяжелой раной; таких случаев
было более чем достаточно в Японскую войну. Рана необходима; получив
ее, человек некоторое время твердо верил в близкую смерть. Не-раненные
обыкновенно охватываются радостным чувством, мешающим анализу и даже
ясному воспоминанию. Заметим, что такие предсмертные ощущения здоро-
вых людей, сравненные с таковыми же умиравших от болезни, вероятно,
дадут значительные, может быть, даже решающие указания.
* не отвечает веселости (фр.).
327
Я давно уже собираюсь сделать «анкету»; но мне представлялось, что
такое обращение может быть сделано только в медицинских журналах к
врачам; врачи же, вследствие профессиональной привычки к факту смерти,
представляют сравнительно менее годный матерьял относительно психики
умирающих от болезни. Смертная опасность здоровых у них, конечно, со-
ставляет крайне редкое, исключительное явление. Желательно было бы ис-
пользовать данные Японской войны. Но военные медицинских журналов не
читают, а общая пресса едва ли поместила бы мой запрос» (Доктор Б. Яко-
бий. 23 февраля 1908 г.).
Смерть — сумма отрицаний жизни; как жизнь — сумма отрицаний смер-
ти. Они относятся друг к другу, как выпуклость и вогнутость. Все «обрат-
но» в них друг другу. Г-н Якобий еще не обратил внимания на старость:
старость — приближение к смерти, иногда мы только подходим к пустыне, к
лесу, к берегу моря, то, хотя бы еще и не видели, не испытали их, уже испы-
тываем их «веяние»... Поэтому изучение, наблюдение перемен психики в
преклонном возрасте, очень преклонном, — наблюдение «настроений» ста-
рости, господствующего «течения идей» в ней, исчезновение одних веществ,
зарождение других, наконец, «фантазии, капризы, позывы и странности» —
изучение всего этого может кое-что дать. «Прилечь» бы, «отдохнуть», —
просится старик, «сходить бы в церковь, — хоть доползти туда» — вот еще
влечение, ничуть не вытекающее из «боязни Бога и смерти», влечение сво-
бодное и светлое. Но «прилечь» — это начало «вечного лежанья» в могиле,
«отдохнуть» — начало вечного «успокоения»; наконец, — церковь, слова о
Боге, чувство Бога? Поразительно, что детский, ребяческий возраст есть
типично атеистический возраст, а старость есть возраст типично религиоз-
ный... Может быть, тут что-нибудь брезжит? Новорожденный несет на себе
«кольцо» материнской утробы, запах ее: старость не несет ли в себе цветов
и у тех уже «посмертного, загробного» бытия? Солнце видно и в заре: она —
розовая, и солнце — золотое. Эти оттенки не нелюбопытны.
ПЛЕХАНОВ О РЕЛИГИИ
Читая одну грамоту турецкого султана к Петру Великому, я был поражен и,
можно сказать, осчастливлен титулом, каким он именовал себя: «всегда по-
бедитель». «Султан Ахмет-хан, сын султана Мехмеда-хана, всегда победи-
тель», - и уже далее следовали «пункты» изложения. Титул этот мне неволь-
но вспомнился, когда я открыл в последней книжке «Современного Мира»
статью знаменитого социал-демократа Плеханова, под заглавием: «О рели-
гиозных исканиях в России». Плеханов, как известно, есть идейный вождь
русских социал-демократов. После того как его «победоносные войска» всту-
пили в Россию, и, разумеется, в три дня ее покорили, он, озирая завоеван-
ные социал-демократией страны, приканчивает уже то немногое, что кое-
как сопротивляется его и их «эс-дечной» программе... Между такими со-
328
противляющимися вещами он заметил, между прочим, бродящие в обще-
стве религиозные мысли, вопросы, тревоги, искания... Его султанское вели-
чество, Ахмет Плеханов, «всегда победитель», - решил доказать, что все
эти искания очень глупы, - и написал статью, которую, признаться сказать,
читать всю мне показалось ужасно скучно, но кой-куда все-таки упал мой
глаз, и я решаюсь поделиться с читателями социал-демократическим рас-
суждением о религии...
«Всегда победитель» ни с того ни с сего обрушился на Палладу-Афину.
Должно быть, из вражды к древним языкам, и особенно к тому, что их на-
саждал такой консерватор, как Д. А. Толстой. «Греческое слово миф - зна-
чит рассказ, - поясняет социал-демократ. Человека поражает известное яв-
ление, все равно действительное или мнимое. Он старается объяснить себе,
как оно произошло. Так возникают мифы. Пример: древние греки верили в
существование богини Афины, у римлян - Минервы. Как произошла эта
богиня? У Зевеса болела голова, и, должно быть, болела очень уж сильно,
потому что он решился обратиться к помощи хирургии. Роль хирурга выпа-
ла на долю Гефеста, у римлян - Вулкана, который вооружился секирой и так
сильно хватил царя богов по голове, что она раскололась, и из нее выскочила
богиня Афина. Другой пример: древний еврей спрашивал себя, откуда про-
изошел мир. На этот вопрос ему отвечал рассказ о шести днях творения и о
создании человека из праха земного. Третий пример: современный австра-
лиец племени эректэ хочет знать, откуда взялась луна. Это его любопытство
удовлетворяется рассказом о том», - далее следуют «пункты», как у турец-
кого султана. Заключение эс-дека: «Я не знаю, удовлетворит ли такое объяс-
нение кого-нибудь из нынешних богоискателей».
Я был учителем гимназии и поэтому знаю, как пишутся «сочинения»
воспитанниками разных классов; даже именно на эту тему: «Возникнове-
ние мифа». И сотни русских учителей гимназии подтвердят вместе со мною,
что «сочинение» Плеханова есть типичное «сочинение» ученика VI класса,
не дальше, не старше. Он даже забыл свой же тезис: «миф объясняет явле-
ние»: ибо вовсе не упоминает, какое же «явление» объяснялось у греков
Палладою-Афиной и особым способом ее происхождения. Учитель мог бы
поставить ему по снисходительности три*, но даже читатели «Современно-
го Мира», вероятно, не скажут, что за приведенные строки можно выста-
вить: «четыре». Ведь никакого дара даже изложения? А ума - уж совершен-
но никакого.
Читатель поймет теперь, почему не захотелось мне читать дальше «все-
гда победителя». Заглянул только на самую последнюю страничку: «Таков
г. Луначарский; отчасти таков же Л. Н. Толстой». Ну, читатель, что же тут
читать. А понаписал этот «писатель» два печатных листа, и под текстом мель-
кнули цитаты на всех языках, кажется даже на австралийском.
Ах, султан, султан. «Пришел, увидел и победил» богоискателей. Заметьте,
что это вождь наших социал-демократов, и именно вождь идейный, литера-
турно-ученый, книжный. Он ссылается на свою статью «Об искусстве» (во-
329
ображаю!) в сборнике «За двадцать лет», как и на свой «Манифест комму-
нистической партии». И, словом, это старый, умный, теоретический руково-
дитель партии, «покорившей Восток и Запад».
По языку и стилю, как справедливо заметил К. И. Чуковский в возраже-
ние проф. Батюшкову, - можно узнать душу писателя, всю до дна. «Он мо-
жет скрыть что-нибудь от своей жены, но от критика, открывая свой стиль, -
он не может ничего скрыть». «Стиль» Плеханова типично гимназический
стиль, стиль юноши 17 лет, самоуверенного, самомнящего, набирающего
цитат и фактов из книг своей библиотеки и ничего решительно не понимаю-
щего ни в цитатах, ни в книгах, по причине отроческих своих лет и связан-
ного с этим возрастом полного отсутствия зоркости, внимания, проница-
тельности, в общем - вследствие отсутствия в себе психологичности. Душа
не развита. Не ум, а именно душа - т. е. то общее, в чем ум есть только часть.
Но от этого и ум не развит. Учен, но не развит. Как это могло случиться у
Плеханова в его почти шестьдесят лет? Занимался все темами арифмети-
ческими, не духовными. Все комбинировал со счетной машинкой: зарабо-
танная плата, стоимость производства, остаточная ценность продукта, рен-
та, капитал - все цифры, суммы, все мир точного и ясного, все - бухгалте-
рия, социал-демократическая бухгалтерия. И вдруг ему говорят: «Прочти
Богородицу».
- Ерунда. Миф. Вот в Австралии дикари тоже...
- «Ну, хорошо, не умеешь: прочти теперь «Птичку Божию». - Об этом
он никогда не слыхал, но, ознакомившись из Пушкина, говорит: «Ерунда.
Сидела птичка. Пришел социал-демократ и прогнал птичку. Ерунда. Пуш-
кина повесить бы». А «товарищи» поднимают его на плечи и несут в Бер-
лин, возглашая:
- Всех победили. Мы всех победили...
Ах, Плеханов, Плеханов: мудреная у вас партия... Хоть расказните вы
меня, но и я скажу, что кроме как полицейским с вами решительно некому
возиться. Вы ребята сильные, они ребята сильные, вы - в косоворотках, они
- «при шинели», ну и пожалуйста, - в рукопашную, кто кого победит. Но
спорить с вами никакой нет нужды, как с душами типично неразвитыми.
Ибо в развитии и гроза вам: социал-демократия вдруг начинает таять... Тает
и тает, как вешний снег. Вы, конечно, «себе не враги» и читателей дальше
«Каутского» не пускаете... «Я, Плеханов, мой друг Каутский и еще знаме-
нитый Богданов. Мы, три Ахмета, победили весь мир». Ну, вот что, Плеха-
нов: вы человек ученый, вам 60 лет, - как же вы не понимаете, что невоз-
можно валить в одну кучу греческие мифы, семитическую космогонию и
австралийские суеверия? Вы все приводите подряд. Ведь согласитесь, что
подряд, и согласитесь, что это чудовищно в смысле глупости, то есть душев-
ной неразвитости. Какой же вы критик религии, почему же вы критик рели-
гии? Так вы скажете, что можете сочинить музыку не хуже Бетховена, «ибо
социал-демократу все доступно», а в доказательство начнете тыкать пальца-
ми в клавиши рояля. При замечании же, что это не музыка, а ерунда, высо-
330
комерно ответите, что это «даже лучше Бетховена, ибо понятно народным
массам» и что после принятия «Коммунистического манифеста» во всем
свете так начнут тыкать пальцами, а более сложная музыка будет запреще-
на, как аристократическая, клерикальная и феодальная. Вообще после Ма-
нифеста коммунистической партии «перемены» будут большие. Всем «птич-
кам» голову долой. Но вернусь к Палладе-Афине.
Что же «объясняет» сей «миф»? Вы не ответили, забыв свой же тезис,
что «миф возникает для объяснения». Миф не всегда «для объяснения» воз-
никает, а иногда он подчеркивает только замеченное явление, обращает на
него внимание людей или «верующих» и, чтобы выделить эту группу явле-
ний, возникает как отдельный миф. Между прочим, миф о Палладе-Афине
объясняет всю социал-демократию. Вы обратили внимание, что она про-
изошла совершенно иначе, чем все боги и люди: из головы Зевса, т. е. бес-
страстной, холодной части, где помещается только считающий, логический
и комбинирующий ум. Самые страсти здесь или, вернее, их подобие - «го-
ловные». Вы замечаете, что уже кое-что, в смысле сближения, намечается с
социал-демократией. Вы не могли не заметить одного неуклюжего, но по
понятности удобного термина, вошедшего в обиход русской литературы:
«умовики». Это - не гении, и вообще это не мера ума; термин указывает
только на предрасположение. Это - люди, часто мелкие и бесплодные, кото-
рые все время свое проводят в больших или маленьких рассуждениях и жи-
вут не инстинктом жизни, в каждого с рождением влагаемым, а по голов-
ным, рассудочным мотивам. «Точно они родились не из чрева, а из головы», -
хочется повторить древний миф. Чрево - это огонь, это страсть, это натура.
«Натуру» древние же назвали «genitrix», «Nature genitrix»*. Вот ничего от
нее как будто не несут эти люди, довольно скучные и надоедливые, вечно
рассуждающие, но каким-то неглубоким, безжизненным, формальным рас-
суждением, все взвешивая и взвешивая, все мотивируя и мотивируя, все до-
казывая и доказывая, так что руки опускаются. Особенно руки опускаются
от того, что они рассуждают большею частью не о своих, а о чужих делах и
кажутся «ходатаями по всеобщим делам», - отнюдь никем не призываемые.
Дело в том, что, вследствие отсутствия или слабости инстинктивной жизни,
они вообще мало имеют «своих дел», личная жизнь их тускла и неинтересна,
биография была бы монотонна, не впутывайся они в чужие дела. Они весь-
ма похожи на тех странных птиц, существование коих казалось бы неверо-
ятным, если бы оно не было удостоверено зоологиею: именно - или вовсе
не вьющих себе гнезда, или (есть такие!) которые делают попытку свить,
начинают что-то сносить в кучу и делать, но не могут и бросают гнездо
недоделанным, начатым, где невозможно вывести птенцов. Это - в зооло-
гии, и есть такие - в людях. Тип этот, девушек и юношей, - преобладает в
социал-демократии: в «Былом» я просто поражался однообразием биогра-
фий. Все не умеют вить гнезда. Если и выходят замуж, то, пожив года два-
* «Природа-мать» (лат.).
331
три, бросают мужа и детей, - которых, впрочем, чаще не бывает вовсе, - и
уходят в чтение рабочим книжек, или в заграничное странствование, или
начинают «бороться» с кем-нибудь. Но ведь и Афина была «Промахос»,
«Воительница». Социал-демократки переодевались в мужские рубашки,
стригли по-мужски волосы, ходили мужскою, грубою и громкою поступью:
точь-в-точь как Паллада-Афина, одевавшаяся в мужские доспехи, ходившая
в шлеме с гребнем, имевшая копье и щит. Афина-«Алкис», как видно на
монетах, - изображалась с выставленным вперед щитом и занеся копье пра-
вой рукой: как бомбистка в момент метанья бомбы! Греки и отметили в этом
мифе об «умной» богине, вышедшей не из родовых путей, а «из головы Зев-
са», всемирное, всегдашнее существование таких людей, в небольшом про-
центе относительно целого человечества, которые в противоположность
поэтам, о коих Пушкин сказал:
Не для житейского волненья,
Не для корысти, не для битв,
Мы рождены для вдохновенья,
Для звуков сладких и молитв.
Им в противоположность, палладисты и палладистки рождены имен-
но «для житейского волнения», для «корысти» и «битв». Корысть не толь-
ко бывает своя, но и - чужая. Социал-демократы только и занимаются «чу-
жой корыстью», ее меряньем и перемериванием. Но вообще эти палладис-
ты и палладистки суть древние амазонки, суть средневековые странствую-
щие рыцари, оставлявшие жен своих в замках томиться в одиночестве всю
жизнь, суть воинствующие католические монахи, сделавшие половину ев-
ропейской политики, во множестве они идут в адвокаты, чтобы разбирать
и округлять чужие дела, и, наконец, из них решительно составлен весь,
или близко к «всему», - стан социал-демократии. И я здесь не говорю ни-
чего другого, кроме тех наблюдений, какие уже сделал Толстой в послед-
них главах «Воскресения», где он описывает идущую в Сибирь толпу
арестантов «политических». Помните все эти фигуры? «Не жнут, не сеют,
не собирают в житницу»... «Гнезда не вьют» ни одна и ни один. Кой-какой
флирт, - и тот не развивается. Один, именующий себя «мировым фагоци-
том», делает предложение Катерине Масловой, не потому, чтобы почув-
ствовал к ней что-нибудь как к женщине, а оттого, что и в ней увидал тоже
«фагоцита», поглощающего общественные язвы. Но особенно характерна
одна дочь генерала, чувствующая к физической стороне брака «неодоли-
мое отвращение». Точь-в-точь все, как жесткая богиня афинян, которая не
знала любви и презирала ее, все воевала и мудрила, - почему греки и изве-
ли ее не из обыкновенных родовых путей, а из головы Зевса. Таким обра-
зом, они сделали наблюдение в истории человеческой, в обществе челове-
ческом, даже в самом сложении Космоса («рабочие пчелы», бесполые, ра-
бочие муравьи), которого Плеханов не увидел у себя под носом. Между
тем, если бы он отметил его и по-настоящему мудро к нему отнесся, он
332
понял бы и то, почему мир никак не хочет и не может переделаться по
«программе» социал-демократов: как целый улей никак не может переде-
латься по типу одних рабочих пчел, будучи чем-то более полным, более
сложным, более цветущим, нежели эти все-таки палладисты пчелиного
царства.
Если он не понял Паллады-Афины, понял ли он Библию? Можно только
сказать с уверенностью, что он понял австралийских дикарей. «Рыбак рыба-
ка видит издалека»...
ПОД СТАРОСТЬ ЛЕТ
Литературный фонд готовится торжественно отпраздновать свой полувеко-
вой юбилей. По этому поводу уже появились в печати предуведомления и
обещания, как будет интересно празднование, как будут «вспоминать» с эс-
трады его теперешние шефы, гг. Венгеров и Кареев, былые дни этого Фон-
да, - те красивые дни, когда седовласый Тургенев, когда Писемский, Поте-
хин и друг, читали по приглашению Фонда на вечерах, им устроенных, свои
«маленькие вещицы», и как это любила публика, и кто их посещал, и т. д.
Кареев, такой большой и представительный, с такими изумительными воло-
сами и плечами, вероятно, хорошо прочтет свое «воспоминание»; Венгеров,
тоже очень большой, по крайней мере, толстый, если и не будет так предста-
вителен, как Кареев, то, однако, даст публике понятие о «настоящем весе
настоящего писателя»: ибо половицы эстрады, надо думать, под ним погнут-
ся. Все будет хорошо, торжественно, сладко, вкусно. Ну, и дай Бог, конечно.
В обществе так скучно, что нельзя не порадоваться лишнему празднику. При-
дем. Похлопаем. Покажем себя и посмотрим людей. Гулянье как гулянье.
Все - дай Бог.
Вспоминается невольно мне, как года четыре или три назад кто-то в не-
крологе об артисте Мариинского театра, т. е. певце, написал: «И вот в 11 ча-
сов ночи, такого-то числа, когда, по соседству с его квартирой, на Мари-
инской сцене разыгрывалась «Снегурочка» (или другое что, не помню) и
певцы, и хоры пели любимые арии, в которых и он когда-то участвовал, бед-
ный Иван Иванович мучился в последней агонии своей ужасной болезни. У
него был рак. И его стоны отражались от стен небольшой квартиры в те
самые минуты и часы, когда мраморные стены театра отражали аплодис-
менты после какой-нибудь ноты Сбруевой и... преемника умиравшего». Ну,
и разумеется, «мир праху твоему, почивший друг». Некролог был хорошо и
тепло написан. Меня же поразило это сближение. В самом деле, как ни сто-
ни умирающий, - оперы никак нельзя отложить, публика ждет, и всякий
«нумер» выходи и пой свой «нумер». Ужасно, что так близко. Ужасно, что в
тот же час. Все мы, «сыны перси», «прах земной», незримо для себя пляшем
свой «нумер» в таинственном хороводе смерти, объемлющей все живое, все
живое превозмогающей...
333
Вспомнилось и сблизилось для меня это оттого, что почти одновремен-
но с тем, как я прочел в газетах о готовящемся праздновании 50-летия Лите-
ратурного фонда, я получил одно вслед за другим два письма от литерато-
ров, с известным именем, со многими томами трудов, которым никто в та-
ланте не отказывал, талант коих временами взвивался очень высоко, - и оба
письма говорят на тему Фонда так печально, мне даже показалось так страш-
но... Они не придут на юбилей, подмостки под ними не затрещат, и вообще
это две худые курицы, из них - одна старая, а другая еще очень молодая,
около которых теперешние шефы Фонда не могли бы не показаться тяжело-
весными каплунами, довольно недвижными и спокойными, как приличе-
ствует природе каплуна... Я знаю, есть добрые люди на Руси; наконец, я
знаю, что есть лица, которых тяготит даже богатство, и, по необычной пси-
хологии Руси, они к старости прямо не знают, как с ним разделаться, куда
его употребить «на доброе дело». Может быть, некоторые подумают о пе-
чальной и почти страшной участи писателей, которые в годы цвета сил поют,
- весело, счастливо поют и развивают песнями «солнце» на Руси к благопо-
лучию всех обывателей; но приходит декабрь их биографии и возраста, дар
песни и слова потерян, и, всеми забытые, они коченеют и замерзают среди
ледяного равнодушия, как, бывало, галки в печальной Костроме.
Первое письмо я получил из Самары, с парохода «Александр Грибое-
дов», 6 октября, от лица мне неизвестного: «Я был у вас в Петербурге, но не
застал, а затем должен был выехать из Петербурга по служебным делам; и
то дело и просьбу, с которою хотел обратиться лично, излагаю теперь в пись-
ме. Дело вот в чем. В сентябре я был у N N N (имя, отчество и фамилия
известного писателя) и нашел его в весьма печальном состоянии. Лишив-
шись заработков в (такой-то) газете, лопнувшей безвозвратно, бедняга N N N
совершенно упал духом и впал в какую-то болезненную прострацию: ему
кажется, что в его жизни все рухнуло, что ему грозит нищета, что он всеми
забыт и брошен, и понятно, что при таком душевном состоянии перо валит-
ся у него из рук и это приводит его еще в большее отчаяние. Ввиду его тако-
го болезненного состояния на него следует обратить внимание и чем-нибудь
поднять его упавший дух. Зная, как вы относились к заболевшему, я и ре-
шил, по секрету от него, обратиться к вам с просьбой, нельзя ли как помочь
ему в этом плачевном положении, и не укажете ли вы какого выхода из этого
ужасного тупика. Не найдется ли ему какого местечка там-то или там (на-
званы два учреждения, связанные с литературою)?» Следуют конкретные
указания, увы, неосуществимые, по крайней мере быстро. «Словом, в N N N
нужно поднять дух, и он, конечно, даст снова немало ценного и симпатич-
ного для русской литературы и искусства, как бывало во времена его друж-
бы с незабвенным А. П. Чеховым. Но как это сделать, я не знаю. Будьте
добры, не откажитесь прийти на помощь к впавшему в уныние этому с золо-
тым сердцем человеку, который сам всегда готов всем помогать и за всех
хлопотать. По приезде в Петербург я, конечно, буду изыскивать способы
для того, чтобы быть полезным N N N; теперь же у меня болит душа от
334
сознания моей беспомощности и невозможности лично утешить и изгнать
из него злого духа уныния и отчаяния, который, конечно, вселился в него
временно».
Все вещи становятся понятны в обстановке своих подробностей. Я вспом-
нил бедную, но до редкости культурную квартирку этого писателя. Сам -
хорошего дворянского рода, великий поклонник Александра II в его рефор-
мационную пору, он все оставил для шутливого рассказа и водевиля, а в
часы досуга бродил по Александровскому рынку и букинистам, и мало-по-
малу собрал редчайшие и интереснейшие портреты наших писателей, - вне
шаблона и о каждом «со своею думкой». Все это можно было рассматривать
как в музее: только избави Бог было что-нибудь взять в руки и не поставить
опять точь-в-точь на прежнее место. Добрый хозяин расстраивался. И вот
теперь не стало возможности хранить даже «музей»: нечем натопить его,
даже нужно «убираться» из трех комнаток, наконец, надо подумать: «Где же
и на что я буду есть?» А есть надо каждый день: Бог так несовершенно уст-
роил человека, что непременно каждый день!
Писатель может помогать только пером: и я стал писать письма лицам, к
которым была хоть какая-нибудь зацепка. От одного из них, писателя «в пол-
ном ходу», как говорят о новых, еще не потершихся машинах, я получил
ответ следующего содержания:
«Об N N N я часто думаю с чувством, не свободным от эгоистического
страха и тревоги. Он всегда очень дружелюбно относился ко мне, и я его
люблю. С положением его давно знаком и знаю, что получилось для него с
закрытием (такой-то) газеты. Тревога моя проистекает из мысли, что если и
со мной под старость будет то же? Уже в (такой-то) газете в последние дни
или год он дышал, как рыба на песке. Беллетристикой жить сейчас совер-
шенно невозможно, кроме как попавши в моду; да и то я знаю, что такие,
например, баловни, как (названо мое «преуспевающее» имя), положительно
перебиваются с хлеба на квас, - ну, не в буквальном, конечно, смысле. Тем
тяжелее человеку старому, усталому, утратившему легкость во всем. Но
мысль для изобретения лучшего для N N N ставит в тупик. Положение (тре-
тьего писателя, на помощь коего я рассчитывал) далеко не то, что встарь. Он
сам в долгах и почти ничего, кроме своего ежемесячного заработка, не име-
ет. Былой же энергии, о которой вы пишете, в нем не осталось и тени. При
всем желании он, вероятно, ничего не может сделать, как постараться про-
вести (в такой-то журнал) его рассказец. Я буду с ним говорить, будем вме-
сте думать, но». После нескольких строк: «Да, все это беспредельно груст-
но, а в бессонную ночь страшно. Привет вам и вашим».
Между тем писатель этот «в полном ходу», молод, деятелен, энергичен.
«На беллетристику жить совершенно нельзя». Но ведь половина писателей -
беллетристы. Как же они все живут? А как живут поэты? Ведь нельзя же
сочинять по поэме в месяц. А месяц жизни в Петербурге стоит цены повес-
ти, рассказа, поэмы вроде «Наталья Долгорукова» Козлова. Я ужаснулся:
как же вообще живут писатели, выключая газетных сотрудников, имеющих
335
более технику писанья или, вернее, технику «журнальной работы», чем дар
художественного писанья. Как живут именно художники, вот те, что суще-
ствуют
Не для житейского волненья...
Об Академическом фонде (фонде Императора Николая II) приходится
слышать много доброго: он помогает деятельно, молча, без шума и огласки.
Но Литературный фонд? В последнее время слышно было только, что из-за
него чуть не закрыли Кассу взаимопомощи литераторов, и именно оттого,
что он промолчал перед официальною властью о тех выдачах, которые сде-
лала не Касса, а он, и ее хотели закрыть, а он, как провинившийся гимна-
зист, стоял, опустив очи долу и в сторонке... За такое «гражданское муже-
ство» и гимназисты гимназистов не хвалят: а тут - писатели, герои, и ка-
жется, с оттенком «товарищества»... Передаю, как говорили на последнем
собрании Кассы литераторов, и говорю потому еще, будто это появилось
уже и в печати, так что факта нового я не сообщаю. О помощи настоящим
писателям этого Фонда слышно что-то очень мало, и вот только громко заго-
ворили о юбилее и что «Тургенев читал на его вечерах свои вещи»... Турге-
нев - Тургеневым, а ответственность - ответственностью.
Все эти наши дела как-то неустроенны, захудалы и засорены. Отчетливо
и «в общем обозрении» их никто не знает. Весьма возможно, что помощь не
приходит писателям, написавшим до десяти томов, всю жизнь жившим толь-
ко литературою, и подается лицам, которым когда-нибудь и что-нибудь слу-
чилось написать. Известно, что готовящийся к «юбилею» Фонд ничем не по-
мог при жизни Достоевскому, - хотя функционировал в его время. Это - исто-
рический укор на его памяти. Существует всеобщее убеждение, что тут дей-
ствует «партийное кумовство», слегка задрапированное тем, что из ста выдач
одну делают лицам «противоположных убеждений», «не симпатичных убежде-
ний». Слух этот очень тверд, и только полное освещение дела могло бы его
рассеять. Я позволю себе сказать еще следующее: старость писателя также
вправе искать себе поддержки, как профессора или учителя. Он делает не мень-
шее и делает однородное с ними. Школа была бы совершенно бессильна в
стране, если бы за рядами учителей, как передатчиков, не стоял в глубине
жизни второй ряд - писателей, как творцов. Правда, не все писатели хороши:
но ведь и учителя и профессора не все же хороши? Но государство всем тру-
женикам школы обеспечивает покой и кой-какой достаток. Не покушаясь на
«новые расходы» казны, нельзя ли было бы взимать копеечный с рубля налог
в пользу инвалидов печати, при продаже каждой книги?
Книга стоит рубль: магазин, отпуская ее, взимает «1 р. 01 к.». Покупате-
лю явно это не трудно; казне ничего не стоит это учесть: ибо число продан-
ных книг известно книготорговцу и может быть проверено у него через тор-
говые записи. И, наконец, книг продается так много, что этот один процент
с книжной торговли создал бы фонд, достаточный для пенсионного обеспе-
чения тех приблизительно двух тысяч литераторов, труд которых так или
336
иначе лежит фундаментом под обширным и сложным явлением, именуе-
мым «просвещением страны».
Умолкни они.
Закройся театры.
Прекратись журналы, газеты.
И страна явила бы весьма пустынный и дикий вид.
Дело это национальное.
АКАДЕМИЧЕСКОЕ ИЗДАНИЕ КОЛЬЦОВА
Академическая библиотека русских писателей. Выпуск I. Полное
собрание сочинений А. В. Кольцова. Под редакцией и с примеча-
ниями А. И. Лященка. Издание разряда изящной словесности.
Что прежде всего бросается в глаза при взгляде на эту книгу, это изумитель-
ная дешевизна: за том в 477 страниц превосходно выверенного текста люби-
мого русского поэта, с двумя его портретами, из которых один в красках, со
снимками двух памятников ему, четырьмя fac-simile с рукописей, с репро-
дукцией картины Бореля «Литературный вечер у Плетнева», с биографией
Кольцова, с 66 письмами, и, наконец, с обширной критической работою над
всем этим материалом почтенного г. Лященка, - кажется, молодого профес-
сора, - любитель литературы платит всего 60 коп., а в коленкоровом пере-
плете - 75 коп.! Это - в Петербурге; но в других городах, т. е. с пересылкою,
на 25 коп. дороже. Все это так дешево, что можно применить к книжке обыч-
ное русское восклицание при счастливой покупке: «дешевле пареной репы».
На этот раз спасибо Академии Наук, горячее спасибо. Без сомнения, не только
вся образованная Россия, но и вся грамотная Россия поспешит купить Коль-
цова в этом издании; без сомнения, школы будут покупать его массами, «про
запас», - и это необходимо, так как лучшего и дешевейшего издания, чем
это юбилейное, просто нельзя ожидать в будущем. Жаль, если не заготовлен
стереотип; жаль, если спрос не будет через год, через два удовлетворяться
или даже если он будет удовлетворяться «с заминкой», по казенному рус-
скому обыкновению. Будем, однако, надеяться, что приняты «меры».
Образ поэта встает перед нами как живой, особенно из его писем. Везде
в них открывается его простая, малообразованная, но глубокая душа. Мож-
но сказать, «ничто человеческое ей не чуждо»: и, читая письма, невольно
думаешь, как естественно выросли из души написавшего эти письма - и его
песни, и его «думы». И в тех и других ничего навеянного, или очень мало; во
всяком случае ничего сделанного, искусственного. На «думы» Кольцова, хотя
они менее поэтичны, чем его «песни», следует смотреть со всею сердечнос-
тью: ничуть это не есть философия, навеянная или навязанная литератур-
ными знакомствами, а есть высокоценное выражение тех неясных и дей-
ствительных дум, размышлений, теоретических и религиозных запросов,
337
какие стелются в душе народной и, в некотором смысле, делают народ наш
глубочайшим на земле философом. Тоны «Дум», настроение «Дум» везде
перебивают строки писем Кольцова, посвященные житейским мелочам.
Кольцов представил собою редкий и исключительный случай, когда дошел
до печатного станка урожденный народный поэт, из тех, кто безыменно тво-
рил целые века и сотворил ее русское песенное, былинное и сказочное твор-
чество, наши поговорки, присловья и пословицы (философия народа).
Но вернусь к замечательному изданию. В особых приложениях даны
юношеские произведения поэта, далее - стихотворения, приписываемые
Кольцову (кажется, ложно), «обзор рукописей (не одних стихотворений)
Кольцова», находящихся в Воронеже, в Императорской публичной библио-
теке, в собрании П. Я. Дашкова и других частных лиц. В высшей степени
характерны заглавия некоторых тетрадочек: «Упражнения Алексея Кольцо-
ва в стихах, с 1826 года, с октября 1-го дня. Выбранные, лучшие и исправ-
ленные. Переписано 1827 года, марта 20 дня», с эпиграфом на ней из Ломо-
носова: «Науки юношей питают...» Так и чувствуешь начало литературных
дней поэта. Другая тетрадка: «Незабудки с долины моей юности. Алексея
Кольцова. 1830 г.». Все на синей, старой, торговой бумаге, его крестьян-
ским, полудетским, ученическим почерком. Все так и просится кусочком в
оперу Чайковского, который любил в ткань своей музыки вводить романсы
давней старины. Юность Кольцова, его первые литературные труды, его
первая поездка в Петербург были сами по себе прелестным «романсом» на-
ших тридцатых годов! Что-то давно они не повторяются. Как груба около
него «оглобля», положенная на наших глазах в литературу умным и силь-
ным Горьким. Совсем другие времена...
Бог с ними...
Академия Наук в разряде изящной словесности, хотя и несколько по-
здно, приступила к изданию наших писателей: «изящному, доступному и
вместе отвечающему требованиям науки и школы». Особая комиссия выра-
ботала общий план этого издания, наметила серию авторов, а также и посто-
янный, общий тип внешней формы, какую должна иметь книга, и располо-
жение в ней материала. Начато все с Кольцова, так как подходил его юбилей.
Но, пожалуй, и хорошо, что народный поэт пойдет впереди всех.
Кроме поэтов, хотелось бы, чтобы «Академическая библиотека русских
писателей» включила в состав свой и писателей-мыслителей, давших боль-
шой толчок русскому сознанию. Давно мечтается о Corpus’е, т. е. о сводном
издании русских славянофилов. Еще на студенческой скамье для новичков
русского склада души, лет 25 назад, чувствовался недостаток в таком изда-
нии. «Откуда взять? Где найти? Где и у кого прочесть?» - спрашивалось о
русской особливости, о русском самостоятельном лице в истории. Помню
определенно, мы студентами об этом спрашивали и тогда ответа не нахо-
дили. А «Бокль» и «Льюис», можно сказать, на каждом шагу валялись по
дороге, хватая за ноги, как проститутки: говорю о дешевизне и обилии изда-
ний и популяризаций. Наконец, «Академическая библиотека» может поду-
338
мать о народной песне, о народной сказке, о былине, загадке, пословице.
Где взять все это дешево? А нужно дешево. Пора русскому гимназисту, рус-
ской учащейся девушке дать народное русское слово, дать умное русское
слово, взамен Мопассана и «Энгельса с Марксом», от которых прохода на
книжном рынке нет, между прочим просто по дешевизне их. Конечно, тут
не должно быть партийности, и вместе с Киреевским (где взять его сочине-
ния?) и Конст. Аксаковым нужно дать и Чаадаева, и Радищева. Пусть дана
будет вся замечательная русская мысль, русское политическое чувство, го-
сударственное чувство, рядом с русскими художниками формы. «Не одни
поэты, но и русская дума, глубокая и чистосердечная, - вот желательный
девиз для издания, великолепного в своем замысле и начале.
Следующий выпуск «Библиотеки» будет посвящен Лермонтову, пред-
положенному в пяти томах, за 4 р. 50 к., который выйдет в 1910 году. Энер-
гия издания есть тоже вещь, совершенно необходимая в данном случае.
ЧИНОВНИКИ
Когда я вхожу в казначейство, суд, на почту и взглядываю на эти закопченные
коридоры с истоптанными полами, на выцветшие дешевенькие обои, на туск-
лые, серые лица чиновников, совершенно без «физиономии», и фигуры, едва
отделяющиеся от цвета стен и даже от грязи пола, - я говорю себе:
- Каторжный труд!
Вот он разгибает чуть не пудовую книгу, ростом с себя, и, нервно поста-
вив «галочку», т. е. значок в форме летящей галки, против какой-то строки
или какого-то числа, нервно захлопывает ее. Шум от книги, а «он» молчит.
«Он» вечно молчит. Неторопливо вынув из-за уха перо, написал два слова
совершенно невозможным, неразборчивым почерком на поданных вами до-
кументах. Такие «почерки» только они сами умеют разбирать, т. е. сможет
понять сидящий за соседним столом чиновник. Это - «телеграммы молча»,
от стола к столу. «Галочка» значит: «проверил»; какие-нибудь две буквы зна-
чат: «со стороны контроля не встречается препятствий». И далее, далее, чи-
тают, отмечают, выдают...
- Царство рудокопов. Рудник. Так же все черно, гадко, невозможно ды-
шать. Кто же тут живет?
- Чиновники.
- Для чего?
- Что бы переписывать.
- Что переписывать?
- Что начальство прикажет!
Лица у них серые, выцветшие; мундиры на них выцветшие, и не «си-
дят», а висят, как на безжизненной вешалке. Движения - механичны, маши-
нальны. Выражение - угрюмо, печально, но при разговоре вежливо, сдер-
жанно-вежливо.
339
Видно, что чиновник раздражен, но не на вас, а «вообще на все вокруг».
Редко-редко раздражение поднимается выше, доходит до голосовых связок,
- и тут вдруг вы слышите выкрик, быстро перехватываемый. Чиновник ов-
ладел собою и снова говорит с вами учтивым, ледяным языком.
- Что же они тут, в самом деле, пишут?
- Что начальство прикажет.
- Серьезно?
- Совершенно серьезно.
- Где же это начальство?
Вам молча указывают на дверь. И вы читаете:
«Кабинет директора департамента».
Входите. Совсем другой вид. Культура. Цивилизация.
Прежде всего, вы не слышите собственных шагов. Сапоги ступают по
мягкому ковру, выстилающему весь пол, весь его большой квадрат. Здесь
громко не разговаривают, никто. Многосаженный стол покрыт зеленым сук-
ном с дорогой шелковой бахромой. Около стола, vis-a-vis с дверью, через
которую вы вошли, стоит огромное кресло, с каким-то роскошным овалом в
спинке. Но оно пусто.
Вы оглядываетесь. Торжественная тишина большой комнаты действует
на вас жутко. Вы начинаете уважать, почитать, - раньше чем кого-нибудь
увидели и что-нибудь услышали. Но вы - любопытный человек и задумыва-
етесь: что же это за загадка?
В сыром петербургском воздухе, не прорезываемом ни одним лучом солн-
ца и, кажется, пропитанном испарениями той жидкой неглубокой грязи,
какой выстланы улицы и площади столицы, - вы замечаете стоящую у окна
фигуру. И по тому спокойствию и самоуверенности, с которою она стоит, вы
понимаете, что это - хозяин этой комнаты, владыка ее, обитатель ее. Конеч-
но, вы не решаетесь подойти. И с «бумагами» под мышкой стоите возле
стола, ожидая, когда его превосходительство пройдет опять от окна к креслу
и тогда выслушает вас.
Но минуты идут, а он не повертывается.
Долгие минуты.
Вы, наконец, решаетесь заглянуть, на что он смотрит. И по бесшумному
ковру передвигаетесь немного наискось, чтобы тоже заглянуть в окно.
Он смотрит на поленницу дров.
Двор - казенный. «Как все дворы». Узкий и перекошен. И на нем сохнут
или, вернее, мочатся под петербургскими дождями казенные дрова, закуп-
ленные с весны.
На что же смотрит его превосходительство?
Он ни на что не смотрит. Он устал. И, собственно, перешел от кресла к
окну, чтобы не застаивалась в ногах кровь. И потому, что на дворе горизонт
все-таки шире, чем в кабинете. Как ни странно сказать, он захотел «приро-
ды». И видит ее, все-таки сколько-нибудь видит, - в дровах и дожде.
340
Он поднес дряблую, пухлую, белую руку к подбородку, отлично выбри-
тому, и потрогал кожу. Потом машинально поправил орден на шее. И опять
положил ее в карман широких брюк. Вицмундир на нем отличного, тонкого
сукна; только брюки широки, - для старческого комфорта. И вся фигура, -
рыхлая, старая, дряблая, -говорит о слабости и усталости.
«Ах, как бы отдохнуть!»
Но отдохнуть нельзя. Служебные часы.
Когда наконец кровь от брюшных органов достаточно слилась книзу, -
то в минуту, когда она тоже угрожала «застояться» и в ногах, - директор
повернулся от окна и теперь стал переходить к креслу. Немного не дойдя, он
заметил чиновника «с бумагами»: но даже и чиновник не заметил бы того
секундного неудовольствия, какое пошевелилось в его выцветших глазах.
Чиновник пододвинулся и стал что-то говорить. Директор слушал. Чи-
новник кончил. Директор сказал:
- Хорошо.
Что было «хорошо», - то ли, что излагал чиновник, высказывая сомне-
ния о правильности полученной бумаги, или то, что было написано в бума-
ге, - чиновник не знал и не понимал. Но не решился спросить. Немного
наклоняясь, он сказал полушепотом, подавая еще бумажку:
- Ваше превосходительство, не подпишете?
- Я подумаю.
Сказал и, взяв бумагу, не глядя, положил ее на стол.
Чиновник робко вышел, стараясь не ступать каблуками по ковру. Дирек-
тор перевел теперь глаза на большой портрет в золоченой раме, висевший
на стене, и стал рассматривать его.
* * *
- Так это в рудниках все «пишут» по мановению директора?..
Знающий нашу государственную машину помотал бы на вопрос головой:
- Директор, собственно, наблюдает строгость. То есть чтобы все, дей-
ствительно, «писали» неустанно, прилежно, чтобы ни один стул в канцеля-
риях не оставался незанятым. Но, собственно, «что, именно, писать», - фор-
мы делопроизводства, каналы для течения «бумаг» уже не входят в его ком-
петенцию. Тут - высшая государственность, и, чтобы проникнуть до нее,
нужно многое...
«Проскользнуть» сюда настоящим служебным образом мне не было дано.
Но было три случая, даже четыре, когда я видел и настоящую «государствен-
ность», точнее, скользнул около нее.
Один из самых почтенных наших библиофилов, палеографов-истори-
ков, человек, глубоко мною почитаемый и любимый за оригинальность, за
ум, за знания и необыкновенную любовь к литературе, известил меня запи-
сочкою, что вот он подготовил к печатанию уже четырнадцатый том своего
труда, и что в этом четырнадцатом томе говорится о служебных и частью
литературных трудах его высокопревосходительства Исидора Исидорови-
341
ча, и что страницы эти пожелал выслушать, раньше печатания, он «сам».
«Будет несколько лиц, и между ними приглашены и вы», - уведомлял меня
ученый.
Пришли. Ждали. Сидели. Шептались. Ученый держал рукопись в порт-
феле. Все это в аванкабинете. Ковер здесь был уже гораздо мягче, нежели в
кабинете директора, а разговоры еще тише... Обои были роскошны, зана-
вески на окнах - роскошны, мебель - золоченая, покрытые голубым шелком
кресла - роскошны. Столов не было: здесь только «дожидались» посетите-
ли и просители, т. е. стояли или сидели, и поэтому «стол» был ни к чему.
Прошел час. Дверь без шума отворилась, и мы безмолвным жестом были
приглашены войти.
Сейчас около дверей на высоком пюпитре стоял небольшой, аршинной
величины, портрет приснопамятного митрополита Филарета московского, с
его известными иссохшими чертами лица, благословляющим жестом рук и
острым гениальным взглядом. Было в высшей степени удивительно, потому
что министр заведывал денежной стороной государственного хозяйства.
Кабинет же, куда мы вошли, был не частный и личный, а служебный, дело-
вой. Сюда входили люди совсем иной сферы, иных мыслей, иного направле-
ния, чем с какими мог быть связан Филарет; входили сотнею еженедельно,
тысячами в год. «Что же это значит?» - думал я. - Никто мне не объяснял.
Но я думаю, что мысль этого портрета, поставленного почти в дверях, зак-
лючалась том, чтобы «остановить дерзкого» и «внушить легкомысленно-
му», что он входит не только в кабинет министра как главы отрасли государ-
ственного управления, но еще и в кабинет высокопросвещенного человека в
тех глубоких оттенках историчности, религиозности, церковности и почти
святости, который и мог символизироваться лучше всего в иконообразно
поставленном портрете митрополита Филарета.
И это - сразу.
Чтобы не было колебаний. Не было их в мысли входящего и в тоне голо-
са, каким он должен был говорить о предметах по счетной части, но не теряя
ни минуты из виду и портрета святителя русской церкви, на который он уже
взглянул раньше, чем увидел министра.
Кабинет был пуст. Был 9-й час вечера. Нам указано было пройти даль-
ше. Проходя, я не мог не тронуть пальцем огромный полуразвернутый, по-
лусвернутый лист александрийской или вообще какой-то картонообразной
бумаги, который самым положением на столе звал заглянуть в себя. Это был
почетный диплом от Академии Наук, коим «за ученые труды» по истории
русской церкви, а также и за покровительство трудам по собиранию сведе-
ний о народонаселении России «его высокопревосходительство» жаловался
в почетные члены высшего ученого учреждения России.
После Филарета у меня мелькнула мысль и о Ломоносове.
Действительно, когда-то им была написана монография об одном ан-
тиохийском или иерусалимском патриархе, путешествовавшем в XVI веке «в
Московию» и оставившем заметки о виденном им и о состоянии веры «в
342
Московии». Но мне это не казалось так важно, да, очевидно, и Академии
Наук не показалось важным, потому что она не тогда избрала автора «почет-
ным членом», не двадцать пять лет назад, а теперь, когда он сделался «высо-
копревосходительством».. .
- Суета сует, - проговорил я с Соломоном, думая об ученых математи-
ках и филологах с Васильевского острова...
«Покровительство» же наукам министра выразилось в том, что, бывало,
по весне видишь трех-четырех молоденьких чиновников, с пресчастливыми
лицами и с ассигновками в руках. Отпуск. Свобода. Поездка. И даже ма-
ленький остаток денег к августу. Они «командировались с научною целью»
в Вологодскую или Олонецкую губернии, где, конечно, куда интереснее, чем
в петербургской канцелярии. Ну, и собирали. Может быть, полезное. Может
быть, дельное. Я не знаю. Но, во всяком случае, ассигновки оплачивались в
казначействе, на Литейной улице. И при чем тут академия, и в чем тут «по-
кровительство»?..
Мы прошли несколько комнат и увидели благородного старца, остри-
женного «мужичком», с полузакрытыми глазами, которые он полуоткрыл
при нашем входе. Сказали приветствия, тихо. Он тоже издал звук в ответ.
Рукой указал сесть. Мы подышали. Он дышал. Тихо и умеренно-светло в
комнате. В дальнем углу божница; много образов. В стороне ширмочка.
Протекли минуты.
Невнятным звуком он дал понять, что можно начинать.
Библиофил-историк и проч., и проч, начал читать живым русским голо-
сом, с живой русской манерой свои интересные, прекрасные страницы, где,
действительно, мелькало имя сановника, перед которым мы сидели, - и тог-
да он был еще молодым начинающим человеком, полулитератором и полу-
чиновником. Слушал он или не слушал, - нельзя было заметить. Вероятно,
слушал. Я, признаюсь, не слушал. Передо мною была живая история или,
вернее, мертвая история, но такая интересная!
- О, что книги!
- Гляди на жизнь.
Раза три, однако, сановник, очнувшись, вставил несколько слов факти-
ческого содержания о таких или иных отношениях дружбы или вражды меж-
ду называемыми в рассказе лицами. «Тот-то был враждебен тому-то, и по
таким-то мотивам». Но как и сами эти лица были второстепенны и нисколь-
ко не знамениты, и уже давно все померли, то это было неинтересно. Но в
одном месте ученый чтец, оторвавшись от рукописи, заговорил, в объясне-
ние читаемого, о каком-то знаменитом старообрядческом начетчике, пере-
шедшем в православие, и сообщил как лично ему известный факт, что, не-
смотря на свою начитанность в древних книгах, благочестивый образ жиз-
ни и строгую аскетичность писаний, тем не менее... «имел слабость к жен-
скому полу».
- «И очень», - проговорил сановник, и глаза его странно блеснули, а
голова отделилась от высокой спинки кресла, к которой была приложена.
343
Меня так это удивило. И никогда я этого не забуду.
Ну, читали. Ну, еще было что-то. Да, ужинали. Торжественно и невкус-
но. Я несколько беспокоился, так ли, т. е. тем ли способом ем необыкновен-
ное, новое для меня кушанье. Приехал домой и говорю жене:
- Да его кашкой с ложечки кормить.
Ну, не буквально, а было такое впечатление, что он до того стар и слаб и
уже ничего не понимает, что, собственно, даже кормление его нормально
должно бы происходить через другого, т. е. он раскрывал бы только ротик, а
уж нужное клала бы ему туда соболезнующая рука.
Вот «делопроизводство» не только в департаменте, но в четырех депар-
таментах, на которые разделялось министерство, и самый ход событий в
нем и зависели от этого старца. Двинулся, - и все двинется.
Но если он не двигался?
Тогда ничего и не двигалось.
Но тогда как директор департамента только «ужасно устал», и ему хоте-
лось «отдохнуть», - министр, по самому возрасту своему, если бы даже и
«ужасно захотел», все равно не мог бы никуда двинуться!
Судьба!
Рок!
Ну, что поделаешь против возраста. Сам Давид в 80 лет уже не мог бы
победить Голиафа, а Соломон в те же 80 лет вместо «Песни песней» написал
бы только ерунду. Ничего не поделаешь.
И оттого чиновники по канцеляриям скрипели перьями с видом, близ-
ким к бешенству. Они хорошо знали, что половина дела, которую делают,
есть совершенная ерунда и никому не нужна, но, чтобы это перестать делать
и начать делать только нужное, утилитарное, полезное, - нужно... переме-
нить формы «делопроизводства»! Но для этого надо пройти мимо портрета
митрополита Филарета и «доложить»...
Кому? Он засыпает.
Это - когда «докладывают» мелочи. Если же ему «доложить» важное,
крупное, непременное, тревожное, то он совсем умрет, сейчас умрет!
Он не может не умереть, потому что склероз уже во всех жилах, склероз,
двадцать лет назад начавшийся, и артерии едва-едва держатся, вот как из
застывшего крахмала сделанные. Пока кровь течет по ним ровно, абсолют-
но ровно, - они держатся, но малейшее волнение, малейшее ускорение пульса,
- и крахмал рассыплется, «артерия лопнет», и старец умрет. Кто же это сде-
лает ему? Мы все христиане.
И не только в четырех департаментах, но по всей России, до Владивос-
тока, в учреждениях, подведомственных, «по всей силе законов», этому уч-
реждению, - писали и делали совершенную ерунду.
И, - что трогательно, - с полным знанием об этом самого министер-
ства.
344
<II>
При Думе и до Думы
Ниже действительного статского советника чиновничество наше нисколько
не изменилось. Оно имеет тот же дух, ту же систему, те же формы, как и до
17-го октября. Формы «делопроизводства» в департаментах и канцеляриях
нисколько не изменились с тех пор. «Запрос» в Государственной Думе ни-
сколько не может коснуться надворных советников, коллежских советников
и даже статских советников. «Запрос» министру о его министерстве, прохо-
дящий в печати уж не Бог знает как значительно, - на самом деле есть страш-
ный ураган, проносящийся по всему министерству, по одной особенной при-
чине, не видной из печати и не видной из общества. Дело в том, что «ми-
нистр, который будет отвечать на запрос в Государственной Думе», похож
на экзаменующегося, который может сдать экзамен и блестяще, и «сконфу-
женно»; может отвечать, наконец, дурно, неверно, прибегая к незаметной
для экзаменатора неточности. Экзаменатор - Дума, экзаменующийся - ми-
нистр. Дума не всегда может заметить «неполную правду» в ответе мини-
стра на запрос; но кто ее заметит, то это - чиновники его министерства, а их
тысяча человек в Петербурге, все с языком, и все в том полураздраженном
расположении духа, в каком полагается быть чиновнику. Министр и знает,
что за спиною его сидит и «пишет» злая тысяча человек, с готовностью к
сплетне, с готовностью особенно на него, - сплетне с ядовитым смешком в
душе, с умом и полным знанием дела в его министерстве... Для чиновников
он - недосягаемая фигура. Он - государственный человек; они - «чинуши»,
презренный и смешной термин, каким в служебном Петербурге называются
чиновники до действительного статского советника. И вот положение его,
такого великого, такого грандиозного, перед которым все «трясется» в не-
скольких департаментах - в роли ответчика и почти извиняющегося челове-
ка, человека «дающего объяснения» и «оправдывающегося», чрезвычайно
щекотливо, мучительно и неудобно. Перед дачею «ответа на запрос» ми-
нистр не может не волноваться самым сильным волнением, и если он пред-
видит, что, положим, «ответ» придется давать в ноябре, то у него уже все
лето отравлено, весь летний отдых пошел насмарку: он беспокоится, волну-
ется, не уверен в себе, - точь-в-точь, как юноша перед «испытанием зрелос-
ти». А известно, что перед этим «испытанием» волнуются не только худ-
шие, но и самые лучшие, первые ученики. Невольная слабость природы че-
ловеческой. Наконец, кафедра в Думе - не его министерский кабинет, где он
«хозяин», а чужое место, даже враждебное место. А говорить в «посторон-
нем месте» - совсем не то, что говорить у себя «дома». Вот условия и обста-
новка «министерского ответа» на запрос, отнюдь не видные из общества.
Наконец, на думскую кафедру Милюков или Родичев поднимаются чуть не
каждую неделю, для них это - «домашнее дело», «свое дело»; да и, кроме
лидеров партий, всякий, вообще, депутат говорит оттуда свободно, спокой-
но, зная, что отличное будет всеми замечено, а плохое просто останется не-
345
замеченным. Для министра же день «ответа в Думе» есть вполне историчес-
кий день: тут он из тени кабинета, с его мягким, деликатным сумраком, вы-
ходит в ослепительный свет яркого освещения целой страны. Назавтра речь
его будет напечатана во всех газетах, и на полчаса вся Россия, буквально вся,
будет глядеть на него. Это страшное испытание, потому что тут проходит
страшный магнетизм. Министр - не писатель, «привычный человек» в этом
деле, и не трибун - «привычный к речи говорун». Для него, новичка, кото-
рый, может быть, во все свое министерство только раз взойдет на думскую
кафедру, выдержать на полчаса 50-миллионный взгляд всей грамотной Рос-
сии и сутки разговора о себе тоже всей России - есть потрясение самым
невольным образом. И перед ним отступают, пожалуй, на второй план даже
такие центральные моменты его биографии, как получение министерской
должности или оставление министерской должности. В этих моментах все
же нет такой яркой ослепительности истории. А истории всякому хочется, и
истории всякий боится.
А тут еще за спиной пронзительные острые глазки тысячи «своих чинов-
ников», всегда к начальству враждебных, а по целой России - и нескольких
тысяч. Критики злые, неумолимые и компетентные. Критики эти связаны со-
седством, дружбой, знакомством с чиновниками всех остальных министерств;
и, таким образом, министр, «держащий ответ» перед Думой, держит его под
перекрестным огнем умных и знающих глаз всего чиновничества всей Рос-
сии, всего служилого класса огромной страны и державы. Тут «ноги затрясут-
ся», и «голос дрогнет» у самого смелого и уверенного.
- Наш-то Иван Иванович отличился, - шепчут сейчас над ним.
- Ваш-то Иван Иванович отличился, - шепчут в соседях, шепчут от сто-
лоначальника к столоначальнику.
Повторяю, это - ураган. Ураган молвы, шепота, критики. Проносящий-
ся в устах и в газетах. И стало совершенно немыслимым держать на мини-
стерском месте старческое изнеможение, беззащитное против ветра, не мо-
гущее энергично парализовать удар, не могущее ответить с кафедры в Думе
ловко, быстро, удачно.
Результатом «прав Думы на запрос» сделалось то, что все наши мини-
стерства помолодели. Когда почти 70-летний И. Л. Горемыкин произносил
перед первою Государственною Думою «правительственную декларацию»
в ответ на адрес Думы, то нельзя ничего представить более жалкого в слухо-
вом и зрительном отношении. Слов не было слышно уже в нескольких са-
женях от оратора или, лучше, от того, кто стоял на месте, где должен бы
стоять оратор. Может быть, он не догадался перед этим вставить зубы: за-
чем министру зубы в министерском кабинете? Там он и без зубов страшен.
Но здесь, теперь, из пустого рта исходили глухие, шершавые, немощные
звуки. Слова-то «декларации», может быть, и были решительны, но вид го-
ворившего был до того нерешительный, дряблый, изнеможенный, с этим
выражением 70 лет: «Ах, мне все равно, и только бы скорее кончилось», -
что «решительный момент в жизни правительства» был потерян беспово-
346
ротно. И просто - от 70 лет говорившего. От невставленных зубов. От сюр-
тука, морщинившегося на худощавой, костлявой спине. В Думе, где все «ли-
цом к лицу», где все - живы, молоды и свежи, - «выступление» старости
решительно невозможно и решительно знаменует собою поражение. От этого
Иван Логгинович так быстро ушел. И, вообще, догадались, что под «урага-
ны» Думы невозможно сажать в министерские кресла старше предельного,
приблизительно, 50-летнего возраста, и никак не старше 60; лучше же са-
жать даже моложе 50 лет.
Каннинг был первым министром Англии моложе 30 лет, - помнится,
27 лет. Нужда заставит и у нас делать то же. Каннинг произвел величайшее
оживление и величайшие реформы в государственном строе отечества, - и
частью, несомненно, совершил это просто от молодости, оттого, что был не
«устал», что ему «хотелось»... Ах, молодость сама по себе есть величайший
дар Неба; и до чего грустно, что молодежь иногда сама этого не понимает и
тратит силы на пустяки, на вздор, когда эти драгоценные силы невозможно
тратить иначе, как на родину, для людей, для окружающих и народа.
Молодость - пора великих дел. Отнюдь не старость - пора их, и это
говорю я, уже близкий к старости. Каждый день молодости - червонец; день
старика - стершийся двугривенный. Помните это, юноши, - кто может из
вас услышать.
Итак, «запросы» преобразовали министерства; влили в них молодую
кровь. Впрочем, не дальше первых рядов кресел.
Но до Думы... Говорят, даже в «сферах» повторяли насмешливые стиш-
ки, ходившие по тогдашнему Петербургу о старичках-министрах:
Вот Островский, ох, ох, ох,
Видим все, что очень плох...
что относилось не к добродетелям этого честного старца, но к полному его
изнеможению от приближения что-то почти к 80-му году. Между тем, он
«заведывал» тем министерством, которое «учило пахать и сеять» всю Рос-
сию, и в то ответственное время, когда «центр России западал», хирел и все
земледелие трещало от упавших цен на хлеб на международном рынке.
- Мне бы уснуть!
- Нет, ты оживляй промышленность и торговлю.
Диалог невозможный. И нельзя не сказать, что тут министр менее всего
виноват. «Noblesse oblige»*, и старый служака не может не служить, когда
ему приказывают служить.
Незабываемое впечатление в Кисловодске, где я был года три назад: вот
стоит «дива», переменившая в день третий туалет. Туалет - тысячный: и
лучи заходящего солнца так хорошо переливаются в мягких тонах кружев,
тюля и шелка. Свободна, весела и уверенна, как русские перед первым боем
в Манчжурии.
* «Благородство обязывает» (лат.).
347
А перед нею «броненосец после Цусимы»: опираясь на палку с резино-
вым концом, с букетом белых роз в руке, кланяется и пришепетывает не-
слышным голосом через почерневшие зубы старый-старый генерал. И глаз-
ки слезятся, губы бледные, безжизненные. Весь корпус двигается. Много
стараний, но «победа» далека. И «она» заливается рассыпчатым, звонким
смехом.
Это было только что после Манчжурии. И так было страшно смотреть.
И так постигалось все, что произошло там, на Востоке... Из этого одного
все постигалось. В Кисловодске это было на каждом шагу и повседневно.
Публика улыбалась, - и нельзя обвинить, что она делалась все более и более
«либеральной»...
То «высокопревосходительство», которое я очертил выше, стало невоз-
можно теперь, и я вполне верю, что теперь нет таких. 17-е октября смело их
дочиста и сделало невозможным возврат их. По крайней мере, «штатские»
министры все - среднего возраста; и вот только, может быть, «заброниро-
ванные министры» есть или возможны в возрасте Горемыкина и Островско-
го. Там «ревизия» - другая, на войне; но, как оказывается, даже «ревизия»
войны, при всех ее ужасах, менее действительна, чем «болтливая» ревизия
Думы. Смех есть ужасный бич, страшнее шимозы.
Смешных министров, явно смешных по возрасту, - убрали. Но мне хочет-
ся передать еще два-три штриха о прежнем «его высокопревосходительстве».
...Нас всех погнали, довольно стадообразно, в домовую церковь мини-
стерства. Никто собственно не «гнал», но все встали и пошли. Пошел депар-
тамент, - как же тут не идти? Не одному же торчать на стуле в колоссальной
зале. Я пошел.
Был день тезоименитства Исидора Исидоровича.
Залы, коридоры, опять залы; вниз, вверх по лестницам. В губерниях не
знают, что «министерство» в Петербурге - это собственно лес и лабиринт.
Без привычки, всегда заблудишься, и привыкать нужно месяц. Наконец,
«тише», «тише», - и мы вошли в церковь.
Церковь - превосходная, стильная. Никогда не могу ее забыть. Раз я был
в церкви при Святейшем Синоде: новенькая, со штукатуркой, с недостаточ-
ным числом образов, без всякого стиля, без всякой «византийщины», - она
была ужасна, если возможно применить такое слово к такому предмету. Ко-
нечно, я хочу сказать, что она ужасно построена по небрежности, потому,
что все - дешевка, что ни над чем не подумано. Как это произошло, - не
понимаю. Но эта церковь счетного ведомства, искусством и мастерством
зиждителя, т. е. министра, была превосходна. Низкая, но пропорционально,
она была со сводами, - и это одно ей придавало вид не домовой полузалы,
полуцеркви, а «настоящей градской церкви», где «молится православный
люд». Затем, она вся была одета золотыми обоями с очень крупным рисун-
ком блеклых тонов: это было великолепно! Не приходило на ум, что это
были «обои», «шпалеры», т. е. очень просто и дешево: ибо «градские церк-
ви», как известно, не оклеиваются обоями. Впечатление было такое, что вся
348
церковь залита потемневшей старинной позолотой; и это было до того хоро-
шо, как я не умею передать. Мерцание лампад и свеч, горячее, обильное,
отражаясь от позолот, сообщало и им какой-то красноватый оттенок, как бы
пурпур и жизнь, и само что-то брало от стен.
«Вот полная святыня!» - не мог я не воскликнуть. В душе, конечно.
Протеснился. Все было полно чиновниками, которым, конечно, ни до
чего этого не было дела, и все думали лишь, что вернутся домой, пожалуй,
даже к завтраку, так как «занятий», конечно, не будет после обедни. Не бы-
вает никогда «после церковной службы». Впереди, но не выпячиваясь, сто-
яли директора департаментов. Стояли прилично, хорошо, без гордости. И я
подумал:
«Тоже человеки. Что их винить. Послужишь сам, устанешь, - и ста-
нешь таким же безразличным».
«Все равно», - это чиновское выражение было на всех лицах. «Сперва
обедня. Потом, должно быть, пригласит на чашку чаю. Потом домой. Все
равно. Сегодня вторник, завтра будет среда».
Я смотрел на директоров без вражды и с уважением. Правда, они «смот-
рят на дрова» в служебные часы; но, ведь, почему же собственно не смот-
реть на дрова? Если «все равно», - то уже до краев «все равно». И тут «дро-
ва» или что другое - безразлично. Но девиз «все равно» при таковом старом
министре есть, всеконечно, девиз целого министерства.
Я протеснился еще вперед. Алтарь и прочее - все прекрасно. Все стиль-
но, величественно, спокойно, благородно. Служба хорошая. Певчие поют
прекрасно.
И, наконец, вон «он».
Пел только хор на правом клиросе. На левом же клиросе и стоял «он»,
совершенно один, - и эта уединенность его фигуры сообщала ей оттенок
чрезвычайной значительности. Я вспомнил портрет митрополита Филарета
при входных дверях. «Все к стилю». В скобочку обстриженные, прямые,
уже редкие и совершенно белые волосы, - все тоже было «к значительнос-
ти». Ну, кому бы пришло на ум пошевелиться, громким шепотом перешеп-
нуться с соседом, высморкаться в его присутствии. И все стояли тихо. Свя-
щенник возглашал, дьякон говорил, хор все пел и пел.
«Ну, скоро и домой», - и я взглянул на часы.
«Совсем конец! Вот скоро, скоро»... Все знают, что к концу обедни как-
то темп службы ускоряется. И, вообще, к «шапочному разбору» все как-то
живее и радостнее. Ноги устали, но на душе лучше.
Вдруг его высокопревосходительство пошевелился.
Я стряхнул сон с головы и смотрю во все глаза.
Пошевелился корпусом и стал отделяться от места. Гляжу! Отделился и
плывет потихоньку. А корпус такой огромный, представительный: «сейчас
возьмет Порт-Артур»... Но уже остарел и слаб. И вот доплыл он до края
солеи, шажками крошечными, и, без чужой помощи, сошел вниз с солеи, -
ступенька одна, - к нам на пол. Потом, вижу, пододвигается он такими же
349
смиренными христианскими шажками, и я все не понимаю, куда и к чему, и
что сей сон значит. Но все стояли торжественно, и, очевидно, было все «как
следует».
Перед солеею, сажени на две с половиной, никого не было: и он двигал-
ся по этому пустому пространству. До середины. Остановился. И стал что-
то делать ногами, как будто подгибать их. И когда ноги немного подогну-
лись, то он уже очень быстро своим тяжелым телом совсем опустился на
пол, и сперва был на четвереньках, а потом и совсем головой и грудью рас-
простерся на полу.
Его высокопревосходительство - в такой уничиженной позе!
Лежал. И это длилось не минуту, а две. Я думаю, даже три минуты. Только
сейчас, когда я пишу воспоминания, я догадываюсь, что он читал молитву,
вероятно, полагаемую по строгому «типикону». Но тогда мне не приходило
этого на ум. Я смотрел с величайшим изумлением, и тут только заметил
выше и на солее стоящего священника с чашею. Действительно, Исидор
Исидорович поднялся, - ничуть не медленнее, чем опустился, - и, подойдя
еще шаг вперед, причастился.
- Чего же я не понимаю. Именинник - и причастился. И вечно я ничего
не понимаю, что делается.
Но у меня не могло не мелькнуть восклицание старого Фамусова, обра-
щенное ко всему молодому поколению:
- Вы, нынешние, - ну-тка!
Он стал к сторонке и вперед. Чиновники стали подходить ко кресту и,
поцеловав крест, поворачивались влево, делали поклон старцу и произноси-
ли: «Со днем ангела, ваше высокопревосходительство», - и проходили в дверь.
Тайные советники, действительные статские, - и потом уже, мешаясь, - кол-
лежские асессоры, коллежские советники и, наконец, простые регистраторы.
Лицо у старца было доброе и светлое. И он шептал «благодарю» до
статского советника, и кивал головой тем, что за статским советником.
<Ш>
Как и откуда они появились
Чиновник, хмурый и трезвый, поднимается по всей России в девятом часу
утра, в Петербурге - в десятом и даже одиннадцатом, и, попив чаю без вся-
кой «прохлады», наскоро перекрестив детей и сказав два-три сухих слова
жене, отправляется в «должность». Все чиновники так отправляются. Они
все трезвы или пьют немного, за обедом, «для аппетита». Они все сухи, не-
разговорчивы; отнюдь не болтливы. И трудом этого кадра недалеких, от-
нюдь не талантливых, но практически умных и «знающих» людей - везется
Россия; везется «через пень колода», во всяком случае не скачет, не несется,
а «тащится». Как огромный тяжелый обоз, нагруженный всяким добром,
ступает шаг за шагом по «большаку» во внутренней России.
350
Издали кажется, что стоит на месте. Но на самом деле тащится.
Такова Россия. «Чиновная» Россия.
Трезвость, деловитость, «рано встал, поздно лег» и все время «за рабо-
той», - вот элементы, создавшие нужду в чиновниках, выделившие чинов-
ников над «гражданством» или, вернее, над «обывательством» в России.
В России нет «граждан» и еще долго не будет. В России есть «обывате-
ли». Что такое «обыватель»?
Без знания «обывателя» нельзя понять, что такое чиновник.
«Обыватель», - это «нравы», распущенность, лень, порок и пороки, бле-
стки таланта, минутами - гениальная черточка, своеобразная речь, то на-
глая, то поэтическая. С обывателем хорошо жить, вернее, - приятно, но -
опасно. На него нельзя положиться, так как он даже и сам на себя не может
положиться. «Вышла такая минутка» - и пошел «чертить». Кандидат в ино-
ки или в уголовную тюрьму.
«Обыватель» - поэзия и тревога. Мириада «возможностей»... Все неус-
тойчиво, хрупко.
Явно, что доверить «обоз с драгоценностями», каковому подобна Рос-
сия, да и всякое государство, - невозможно «обывателю» в этих его извеч-
ных и всюду теперь в Европе распространенных чертах. Напомним еще раз,
это - не гражданин. Гражданина, настоящего, каким был римлянин, - нет в
Европе. Чуть-чуть только это есть в Англии, в одной Англии, - и вы замеча-
ете, что там чиновника меньше, и там чиновник не ярок и не играет роли. Но
в Германии, в республиканской Франции - чиновник есть все. Ибо можно
быть по имени даже «гражданином республики» и все-таки на деле оста-
ваться только обывателем. Что такое обыватель? Человек, занятый своими
делами. Как только «свое личное дело», - профессия, адвокатура, врачебная
практика, писательство, журнализм, мастерство, фабрика - превалируют надо
всем остальным в сердце человека, в уме его, в заботе его, в увлечении его, -
так получается «обыватель». «Сокровище его» - дома. В своей семье, в сво-
ем углу. Все новые государства невольно и естественно пришли к необходи-
мости создать «чиновника собственно на место умершего с античным ми-
ром гражданства. Периклу, т. е. первому человеку Афин, в самый расцвет
цивилизации их, - все говорили «ты». Это все равно, как все говорили бы
«ты» Коковцеву и Щегловитову. По этому маленькому бытовому штриху мы
можем судить, какая неизмеримая, колоссальная перемена произошла в мире
со смертью античной общины и с выступлением новых народов, а затем и
новых государств на историческое поприще. Древний гражданин умер та-
ким коренным образом, до такой страшной глубины, до такого полного «ис-
коренения», - как этого мы не можем измерить умом своим. Главнокоман-
дующему римских войск солдат тоже говорил «ты», т. е. говорил это своему
Куропаткину, и говорил «солдат Яшка». Но дело в том, что «солдата Яшки»
тогда еще не рождалось, а «его высокопревосходительства» или «генерал-
фельдцейхмейстера» тоже не появлялось. Было совсем другое, третье. Что
третье? «Наше общее дело». Все древние общины, Афины, Рим, все их
351
«civitates»*, под конец расширившиеся до пределов мира, были, в сущнос-
ти, одною формою правления, и одним, одинаковым сложением государ-
ства, которое лучше всего можно выразить этим сложным предложением:
«Наше общее дело». «Наше общее дело» при Катоне, «наше общее дело»
при Перикле. В «общем деле», понятно, «Яшки» не было, а был «Иаков», с
бородой, с осанкой, твердо стоявший в своем ряду легиона, у которого «душа
не уходила в пятки» при встрече на улице с Катоном, с Марием, с Суллою, а
он просто им говорил «ты», как участнику тоже в «общем деле», хотя участ-
нику и стоявшему на другом месте, например впереди всех легионов. Это
все равно. Мысль «общего дела» всех соединяла, всех уравнивала, всех де-
лала «соседями», хотя бы и далеко друг от друга стояли их дома, всех делало
братьями-товарищами. «Ты» неслось по всем берегам Средиземного моря.
Но умерло «общее дело». Пришел Христос и обратил каждую душу внутрь
себя... Открылись сокровищницы в каждой душе, порознь в каждой; но об-
щее всех сокровище - старинное «наше общее дело» умерло, исчезло, было
«взято на небо». Как только это совершилось и граждане Рима и Афин ра-
зошлись с форума и с «агора» по домам, так и настала необходимость...
Создать «департамент» и выдумать «чиновников». Ну, не в тех разме-
рах, как сейчас, и не в таком числе; но, ведь, суть дуба не в величине его, не
в объеме, а в желуде, из которого он вырос. Суть всегда не в размерах, а в
сути. Суть же в том, что с этого времени каждый стал жить собою и в себе,
жить иногда глубоко, жить иногда гениально, хотя порою и страшно эгоис-
тически, а под конец исключительно только эгоистически; и вытекла неиз-
бежность заплатить кому-нибудь хоть «жалованье», только бы он сделал
«общее дело», суть коего и материал все-таки, конечно, остался, как он есть
всегда и везде, где люди живут скученно, городами. Чиновник есть «гражда-
нин по найму», некая личина и извращение античного гражданина, афинс-
кого гражданина. Ему дали жалованье, ему стали давать чины, ордена, при-
вилегии, преимущества, пенсии под старость, только бы он 35 лет жизни
занимался не своими личными делами, не домом своим, не профессиею
своею, не женою своею, не детьми, а «гражданскими» делами в «гражданс-
кой палате». Выдумалось же такое, можно сказать, апокалипсическое назва-
ние, как «гражданская палата», где одно слово в имени исключает собою
другое слово и, однако, оба стоят рядом, связаны и именуют типичное хри-
стианское учреждение. «Гражданская палата» в Москве так же характерна,
как «Синодальная контора» там... Была Галилея, и апостолы из города в
город несли слово Христово; была Аттика, и в ней шумные Афины, с Алки-
виадом, Сократом и Аристофаном как гражданами. Но это все прошло. Хри-
стово слово взято в «контору», передается гражданам через контору, а обя-
занности Сократа как народного учителя, как дарового профессора на пло-
щади исполняются теперь инспектором народных училищ и семью-восе-
мью служащими, которых он ревизует.
* «гражданские общины» (лат.).
352
Иное время, - иные песни.
Чиновник оттого хмур, вечно брюзжит и оттого бесталантлив, что он,
собственно, делает в высшей степени чуждое себе дело! На деле неприят-
ном и не своем талантлив не станешь. А «общее наше дело» умерло. Чи-
новнику «чужие дела», «гражданские дела», «казенные дела», собственно,
так же посторонни, как и всякому обывателю или христианину; но он «на-
нялся» и уже «исполняет по должности» то, чего никто другой исполнить
не хочет и что исполнить в стране или городе нужно. Вот тип нашего госу-
дарства, христианского государства, тип христианской государственности.
Суть не в том, республиканские они или монархические, а в том, что все
они - чиновничьи государства. Это - дух и система, принцип и форма, не-
избежность и подневольность. Во Франции она точь-в-точь та же самая,
что в России.
Суть в том, что в городе нашем есть «палата» и «канцелярия», куда хо-
дит мой «дяденька» и еще сто таких «дяденек» и «племянничков», старень-
ких, среднего возраста и помоложе. И от того, что они там «пишут» и «пови-
нуются друг другу», а всякую бумагу, приходящую из другого большого го-
рода, из столицы, рачительно читают, обдумывают и принимают «к испол-
нению», - получается хотя в высшей степени вялый, но все-таки некоторый
«порядок» в стране, уезде, губернии и отечестве. Отечество живет вялою,
тусклою, неталантливою жизнью, но все-таки живет. Тянется, тащится, пол-
зет. Воры ловятся и наказываются; убийства если и не предупреждаются, то
наказываются еще строже; есть учитель и школа неподалеку, где я могу вы-
учить детей. Вдали есть университет, где я могу продолжать образование
детей. Все - нанято, оплачено, «должности» нигде не пустуют и «палаты»
всех систем и родов тщательно блюдут, чтобы «должности не оставались
вакантными». Хочу музыки - иду в концерт, купив билет. В «губернии» дол-
жны быть и концерты. Умру - отпоет и похоронит «уставный священник»,
который совершает «требы» по «уставной грамоте», выданной ему из кон-
систории. Во всех нуждах и положениях обыватель находит «нужное» ему,
и это «нужное» заготовлено государством, т. е. «чиновничеством», «опла-
ченным по найму гражданством». Обыватель, при средствах, может иметь
теперь «своего Сократа», «своего Бетховена», «своего апостола», - ну, по-
меньше, ну, похуже, поплоше, но в этом нужном роде, в той же категории.
Выслушает симфонию и отслушает евангельское слово, надев калоши и съез-
див за полчаса расстояния. Затем, вернувшись домой, может целые сутки
курить трубку; и этак хоть тридцать суток в месяц и триста пятьдесят в год...
Никто не помешает. Можешь быть святым, можешь быть преступником (с
осторожностью), - никто не помешает.
Суть в том, что умерло старое, древнее товарищество, доходившее до
«ты» первому ученому страны и первому сановнику страны: умерло равен-
ство не писанное, не в законах, не в литературе и мечтах философов мечта-
емое, а сущее, действительное, наличное, найденное. Все сделались страш-
ными одиночками. А дело «общее», естественно, осталось. Но стало уже не
353
«наше дело», а «правительственное дело». «Правительство все знает», «пра-
вительство все сделает». В Афинах и Риме, во всем древнем мире не было
вовсе «правительства» в этом нашем, особенном смысле, в этом всепогло-
щающем значении. «Правительство» - явление христианское. «Мы молим-
ся», а «другие управляют»... Как только это расслоилось - возникло новое
государство. Грек или римлянин до такой же степени ничего не поняли бы в
нас и нашем «правительстве», как мы, собственно, ничего ровно не понима-
ем в них, несмотря на учебники, на школьную латынь и Моммзена... Ибо ни
Моммзен и никто решительно не может нам разъяснить, как же «Яшка» го-
ворил главнокомандующему: «ты», «брат». Это сливалось в «civis»*. «Яшка»
был «civis», и главнокомандующий был «civis», - и они сливались. Вместе
мылись в термах, вместе играли, слушали одну музыку, читали одно - все
вместе и все - одно. Секрет этого умер две тысячи лет назад.
Чиновник бесталантен, потому что, почему же ему быть талантливым
на чужом деле, не «нашем общем», а на «ихнем, обывательском». Обыва-
тель есть «он» для чиновника, чужой человек, а все обыватели и целая стра-
на суть «они». Чиновники все соединены между собою классовым положе-
нием и классовым делом. И если где применим термин «классовая борьба»
- то это особенно в отношении чиновничества. Два принципа или, вернее,
две тенденции вековечны в нем: чиновники «задыхаются от дела» и в то же
время скучают им. Чиновника, «резвого в делопроизводстве», так же трудно
найти, как белого ворона или черный цветок в природе. Не существует. Это
- одна тенденция, одна окраска дела и положения. Другая странным обра-
зом ей противоречит: «задыхаясь от дела», притом «скучного и противно-
го», - чиновник и все чиновники всеми силами стараются увеличить, ус-
ложнить и всячески разрастить это свое дело. «Ожирение к ожирению»: че-
ловек задыхается от обильных отложений жира; но потому-то именно, что
дыхание у него отвратительно, - жиры не окисляются в нем и все больше и
больше еще отлагаются в его теле. Никогда ни один чиновник не предложит
упростить своего дела; и в то же время нет чиновника, который бы не жало-
вался на «бессмысленную сложность» своего «делопроизводства». Это - как
помешательство. Профессиональная болезнь. На моих глазах, в немного лет,
вырос один департамент: была сначала «комиссия», поверявшая такие-то
расходы. В комиссии - начальник. Естественно, из начальника комиссии, -
т. е. «чего-то такого, без лица и фигуры», ему захотелось обратиться в ди-
ректора департамента, т. е. фигуру значащую. Он стал усложнять дело, при-
думывал каверзы, находил «препятствия в законах» или «несогласованность
законов» в отношении данного дела, рассматриваемого в его комиссии: всем
мешал, никому не давал жить, мешал всем другим «делопроизводствам», и,
собственно, по тому мотиву, что «кому же у него делать это огромное, это
неизмеримое, до крайности запутанное и неясное дело», - ему прибавляли
все чиновников, к одному «столоначальству» приделывали другое, к «отде-
* «гражданин» (лат.).
354
лению» прибавили «отделение». И к 55 годам он сделался «фигурою». «Со-
всем другая пенсия, другое жалованье, класс должности - другой, иной мун-
дир». И никто не мог его остановить, потому что специально-то это «дело»
знал только он, к нему приставленный. Естественно! Так «естественно» чи-
новники множатся, как грибы после дождя; как грибы в сырой, лесистой
местности, «с болотцем».
И они все обняли, всем завладели. Один человек с небольшими сред-
ствами умер; у умершего была единственная родственница, сестра, в заму-
жестве за отставным чиновником. Тот приехал получать наследство, что-то
3-4 тысячи. Увы, они лежали в государственном банке, т. е. в его отделе-
нии, в губернском городе. «Безопасность полная». Безопасность-то полная:
но вот уже до того полная, крепкая, что не вырвешь. С получением из банка
денег «по наследству» оказалась связанною такая масса хлопот, такая уйма
формальностей, и все они оказались так трудны и хлопотливы, - что этот
чиновник, очень нуждавшийся, очень бедный, вместе с тем, чрезвычайно
разумный и образованный, отказался. Кажется, денег было меньше, чем я
сказал, - иначе, может быть, он одолел бы через адвоката. Но положим, -
несколько сот рублей: все же это странно, что для получения нескольких
сот рублей нужно что-то совершить такое, что лучше откажешься от этих
сотен рублей, и даже откажешься при нужде. Мне вернули из Москвы в
Петербург заказное письмо, не нашедшее адресата. «Позвольте почтовую
квитанцию». - Потеряна. - «Принесу письмо вечером, теперь не могу от-
дать». - «Приносите». - Приносит. - «Вам надо расписаться на бланке, что
заказное письмо, посланное по такому-то адресу, такого-то числа, вы тако-
го-то другого числа месяца получили обратно». - Беру бланк, иду к столу,
пишу все под диктовку почтальона и отдаю ему, а письмо кладу в карман, в
намерении дослать его другим, кружным путем в новом конверте, дабы
адресат видел, что с моей стороны не было промедления. Словом, беру свою
вещь и кладу в свой карман. Почтальон, такой смиренный человек, гово-
рит: «Пожалуйте мне сорочку с письма». - «Какую сорочку?» - «Конверт,
где был написан заказ и поставлены почтовые знаки». - «Да зачем?» - «Что-
бы представить по начальству. Без этого нельзя». - «Да ведь, я написал ва-
шему начальству, на его бланке, что пакет получил обратно, а этот пакет
мой, моя собственность, а не почтовая собственность!» - «Не могу знать.
Только пожалуйте тогда все письмо обратно. А потом начальство распоря-
дится». - «Почему?» - «Такое правило». Я, хоть тоже скромный человек,
но раздосадованный уже тем, что письмо не дошло и с ним нужно снова
возиться, - не мог не закричать почтальону, что до «правил» его начальства
мне никакого дела нет, что они свои правила могут устанавливать только в
своей конторе и в порядках службы в ней, наконец, - своим чиновникам, а
предписывать «правила», и притом с такою абсолютностью и очевидною
ни для кого ненадобностью, кроме их самих, не имеют ни малейшего права
адресатам и корреспондентам. - «Этак за утрату квитанции ваше началь-
ство предпишет вам войти в дом корреспондента и в наказание изнасило-
355
вать его дочь - что же вы и этого потребуете, ссылаясь, что начальство при-
казало?» И все же я сорвал оболочку с письма и бросил ему. Но оболочка,
действительно, нужна была мне. Но для чего она почте? В рассол, что ли,
кладут такие «сорочки». Очевидно, чей-то ум трудился: а как поступить в
сем случае хитрее и сложнее? И придумал. Не дай Бог мне умереть в Пе-
тербурге: просто похорониться нельзя! Столько формальностей, что род-
ные умершего все время должны бегать от одного «служебного» лица к
другому «служебному» лицу: и хорошо еще, если на третий день удастся
все закончить и получить конечное право - ввезти покойника в ворота клад-
бища. Чтобы не доводить до этого родных - прикажу перед смертью вывез-
ти себя за черту Петербурга. Невозможно! И все оттого, что начальство
«так о нас заботится». Умер человек: чем все бы облегчить для его родных,
не беспокоить их в эту страшную минуту, когда теряется разум и память у
близких, руки виснут, ноги не ходят, разные «начальства» налетают на этих
близких и посылают их туда, посылают сюда - выправить одну бумагу, по-
лучить другую бумагу, точно совершается какой-то «обыск умершего» и
«арест смерти»... До чего все это неделикатно, грубо! А для такой минуты
- и бесчеловечно! Для чего?.. А вот приблизительно для того же, для чего
почтовому ведомству нужно получить обратно в его собственность конверт
с заказного письма, не дошедшего по назначению. Вероятно, для удостове-
рения высшего начальства и, может быть, самого Бога на страшном суде,
что оно всеми силами старалось доставить пакет по назначению, но никак
не могло, и тем не менее, это не составляет «манкировки по службе». В
последнем пункте, вероятно, все дело. Иначе необъяснимо. И при похоро-
нах подробности тоже, вероятно, потому спрашиваются, дабы никто никог-
да не мог упрекнуть «начальство», что «сей труп произошел по его вине».
«Начальство» и пропускает к кладбищу тело только тогда, когда получит в
свои руки серию удостоверений и документов, показующих, что человек
умер «по своей вине и правильной болезни, правильным образом», - «на-
чальство же тут ни при чем».
Если умереть в Петербурге так трудно и сложно, то я не понимаю, как в
Петербурге и вообще «под глазами начальства» устраиваются новые какие-
нибудь дела, начинаются предприятия и т. п.? Вот бы никогда не начал! От
страха перед хлопотами можно с ума сойти!
Переходя от подробностей к общему, мы скажем в заключение:
1) Чиновничество возникло потому, что умерло гражданство.
2) Оно растет по типу болезненного ожирения: чем его больше - тем
ему хочется вырасти еще больше. До «перерождения в себя всех тканей», до
полной замены собою всех человеческих и всех общественных функций.
«Везде бы поставить чиновников».
3) Гражданство, гражданский дух, гражданская общительность, - в смыс-
ле «нашего общего дела», - не может подняться под тяжестью и давлением
этой жировой ткани, принцип коей совершенно ему противоположен.
Иными словами:
356
Чиновничество явилось без своей вины, в силу исторического катаклиз-
ма, по вине «всех обстоятельств жизни». В сущности - по вине самого чело-
века (одиночки).
Но этому человеку оно мешает воскреснуть в общественность. «А, ты -
лежишь в одинаковой могиле: так лежи и не цепляйся руками за края».
Вот положение и история.
ПОЛЕМИЧЕСКИЕ ЗАМЕТКИ
Вот уже два века прошло, как русское правительство, русские писатели, вся
решительно печать и, наконец, школа всемерно чистят и полируют «матуш-
ку Русь», будто старый самовар к празднику. И так, и этак повертывают,
трут и родною золой из печки, и иностранным порошком из аптеки. Кажет-
ся, в высшей степени одушевлен чистильщик, и в высшей степени не оду-
шевлена очищаемая вещь. Он так умен, она так глупа. Вещь - это Россия,
мастера - это мы, «образованный класс». В этой борьбе, в сущности, про-
шла наша двухвековая история. Это главная ее тема.
Как ни старался мастер, ничего не выходит. Даже порол плеткой, топтал
ногами, мял, крутил - не выходит ничего!.. И лаской, и уговором - ничего не
выходит! И со священниками, и светским способом, и через церковную пе-
чать, и через гражданскую печать, всячески: но - нет результата!
«Ну, и скотина эта Россия», - говаривало почти прямо правительство.
«Нашей азиатчины и предела нет!» - совершенно отрыто кричала печать.
Первое затем поворачивало «на реакцию», вторая предавалась безна-
дежности, унынию и писала своих известных героев «с меланхолией», «Ру-
дин» и т. п., «Дневник лишнего человека» и проч.
И хочется сказать им всем:
- Господа, да ведь вы чистите не самовар, а живого человека. Самая
ваша тема неверна, самая задача ложна. Задача ваша состоит в нелепом тре-
бовании, чтобы у человека были усы и эспаньолка, но не было кишок. «По-
тому что усы красивы, а кишки грязны». Живому существу грязное столько
же нужно, сколько и чистое. Живому все нужно, что в нем есть; ибо это
«есть» и появилось потому, что оно нужно. Для обольщения женщин приро-
да дала мужчине красивые усы; но для переваривания пищи нужен был имен-
но длинный, петлями, канал - и природа создала кишки. Для барышни усы
красивее; и без усов «мужчина не мужчина». Но ведь это же пустяки, эсте-
тические пустяки; биолог скажет, - и голос его фундаментален, - что кишки
в человеке неизмеримо важнее и, так сказать, торжественнее и священнее
усов!
«Кишки - святая вещь; а усы - чепуха. Усы сбреет парикмахер; а вот
если кишки сбрить - человек помрет».
В единственном разговоре, какой мне удалось вести с гр. Л. Н. Толстым,
он мне с печалью и недоумением сказал, сказал с враждою: «Какунижает-
357
ся человек в любовных ласках, какие он совершает унизительные для вели-
чия своего поступки». Кажется, протест гордости и есть настоящий родник
духоборческих идей Толстого, выраженных в «Крейцеровой сонате». Но ведь
это тот же спор усов и кишки, и удивительно, что такой мудрый и простой
человек, как Толстой, стал на сторону усов. Барышню, конечно, занимают
усы. Но зачем же Толстому быть mademoiselle: мать барышни говорит: «К
черту усы: отправление кишечника несравненно важнее, трогательнее и свя-
щеннее». Я Толстому тоже сказал, что «все сии кажущиеся грязными вещи,
какие бы он ни держал в уме, - суть вещи превосходные»; и что это «просто
покров Изиды, под которым до времени природа скрывает важные вещи,
дабы мы их не трогали и не беспокоили любопытством; а пришла минута,
стало «нужно», и они вдруг нам кажутся не гадкими, а приятными, и то
самое, что мы прежде назвать не смели, - мы теперь ласкаем всяческими
ласками». Совершенно как происходит дело с младенцем: он рождается «весь
грязным», но что сравнится даже по религиозности с тем восторгом, с тем
глубоким даже до страха чувством, с каким мать покрывает его поцелуями.
Как это серьезно сравнительно с поцелуем в надушенные усы!
Какие пустяки затруднили Толстого! Но эти пустяки затрудняют и «об-
разованный класс» России, когда он думает о земле своей. «Какое свинство
всюду, Боже, какое свинство!..» Разве не об этом написаны «Мертвые души»
и «Горе от ума»?
Хочется сказать:
- О, Господи!.. Ну, и «свинство», - но не терзайтесь так, пожалуйста, и
не пишите «Дневников лишнего человека». Без «свинства» не обходится
природа, и вся она, матушка, создана со «свинством», а живет, цветет, и,
согласитесь сами, что никак нельзя выдумать лучше, чем существующая
природа... Выдумаешь, распланируешь на бумаге уж непременно без «свин-
ства»... Sine qua non*... На этом, между прочим, все социалисты осеклись.
Задача их, как и культурных русских людей, - «вырезать у человека кишку, -
потому что в ней гадости». Но так, оперируя на бумаге с пером в руке, они
создают человека без «кишечника», и естественно, что он не живет. Социа-
листы великолепны, только пока борются с правительствами, а как только
они «всех победят» и останутся одни, то не продышат и суток. И просто
оттого, что без «кишок» и без «свинства», что все «вычищено» и «выреза-
но»... Человечество выплюнет их с отвращением и болью и заживет по-
старому, «по-грязному» и «по-живому». И уж тут, вообще, положен предел
мечтам человеческим и мечтательности человеческой.
Высшая мечта человеческая - «рай до грехопадения». Но знаете ли, сколь-
ко, по Талмуду, жил человек в раю? Одни сутки. Соблазнение Евы змеем
произошло в вечер того дня, когда она была сотворена. В этом «коммента-
рии» к Библии, сохранившемся у талмудистов в устной передаче тысячеле-
тия, лежит одна из тайн библейской космогонии. Действительно, «один день»
* Без чего нет (лат.).
358
еще можно просуществовать без пищеварения и «гадостей»; но не дольше.
Как «дольше», - так, просто, нечего делать и, в сущности, нечем жить! Нельзя
же тысячу лет смотреть в глаза друг другу «с любовью». Стошнит, опроти-
веет и просто... напишешь «Дневник лишнего человека». Рождение челове-
ка, т. е. прекраснейшего в мироздании существа, из «такой сплошной гадос-
ти», потому магично, мистично и священно, что оно есть общий символ
происхождения всего живого и прекрасного, теплого и горячего, из некоей
«грязнотцы». Народы так и говорят: «Мир родился из хаоса», из «тьмы».
«Бе туман над водами» - ну, и потом звезды и цветы...
Эта космогония человечества важнее парикмахера и усов.
Возвращаюсь к «правительственным» усилиям и к усилиям «образован-
ного класса».
Некий писатель, обсуждая памятник Александру III Трубецкого, срав-
нил круп лошади, на которой сидит царь, да и всю фигуру лошади, - со
«свиньею». И вместе сказал, что лошадь под царем знаменует Россию. Это
сравнение и чтение известного «Дневника» Никитенко, где описываются
события трех царствований, внушили Д. С. Мережковскому грустные раз-
мышления, которые он выразил в статье «Матушка свинья». Это - наша Рос-
сия, «полная свинства». Конечно, все это - так, и в грусти Никитенко и Ме-
режковского много правды, хотя нельзя не заметить, что на всем протяже-
нии пятидесятилетнего «Дневника» рассматривается собственно один Пе-
тербург и взглядом петербуржца. Это «nota-bene» читателю нужно держать
в уме... Где же у Никитенка армия? Он видел только канцелярию военного
министра и главный штаб. И деревню он забыл: он видел ее только в дет-
стве. «Дневник» его есть в значительной степени брюзжанье чиновника над
всем чиновным и переполнен сплетнями и пересудами канцелярского ха-
рактера. Мужик из Нерехты, поп из Калуги решительно ничего для себя по-
нятного и интересного, близкого и родного, там не найдет. Но оставляю
Никитенка и обращаюсь к скорби Мережковского, где он говорит, что борь-
ба России и Запада сводится в значительной степени к борьбе лица челове-
ческого, которое выражает собою Европа, с «крупом животного», который
напоминает собою «матушка Русь».
Но ведь она же «Святая Русь» по определению народа, который говорит
о себе, что он «просмердел в грехах»! Вот два определения: как странно они
сближаются! Мережковский такой христианин: поморщится ли он от тех
страниц Евангелия, где написано, что Христос родился не в чертоге, а в вер-
тепе, что вокруг стояли не принцессы и придворные дамы, а были пастухи,
ясли, и, terribile dictu*, коровы, ослы и, уж верно, где-нибудь неподалеку че-
салась и свинья! Какое же хозяйство и хлев без свиньи. В «такой-то просто-
те» сошел на землю наш Спаситель. Тут, в религии, дано повторение того же
символа, какой дан и в рождении человека, «таком нечистоплотном»... Тут
есть серьезная магия, о которой кому бы и задумываться, как не мистику
* страшно сказать (лат.).
359
Мережковскому? Нет, серьезно, - «звезды из навоза, а паркеты и дворцы
блистают только поддельными брильянтами». В этой обратности скрыт узел
какой-то необходимости. «Все прекрасное - из смирения», «святое - оттуда
же»; а из гордости человеческой - ничего! Тут припомним и Толстого, с его
чистоплотностью. Нет, позвольте, мир и мораль можно дернуть за вожжу и
сказать:
-Что церемониться! Облейся слезами, грешный и святой человек, и при-
ложись устами к тому, на что ты плевал в высокомерии своем!
Это - о народе, который казался «образованному классу» таким «смер-
дящим» и «грязным». Да и вообще... Очень мало понимает человек, осо-
бенно после ванны, в чистой рубашечке, да еще предварительно обрившись
и постригшись. Это как-то убавляет разума. Наконец, как любителю исто-
рии культуры, и особенно древней Эллады, я замечу на прямую тему его
статьи, озаглавленной «Матушка свинья», следующее: он не отвергнет, что
Греция была самым светлым местом во всем поле древних цивилизаций.
Священное место искусств, наук, мудрости и поэзии. Но эта страна имела
свой алтарь. И без подсказываний он скажет, что это, конечно, - Элевзин,
место священных таинств Цереры. Шиллер написал ей гимн, - ей, язычес-
кому божеству. Значит, - трогало, значит, - трогательно. Но знает ли Мереж-
ковский, что изображено на монетах Элевзина, - единственных, какие дошли
до нас, т. е. на всех: свинья с одной стороны, над нею инициал имени города
EAEV, а на другой - Церера, едущая в колеснице, запряженной крылатыми
драконами! Может посмотреть в моей коллекции. На монетах же безуслов-
но всегда изображались только предметы местных культов, специально по-
читаемые, специально в этом месте, в этом городе. Не удивительно ли для
Элевзина изящной Греции такое почитание? Между тем, кто был причастен
элевзинским таинствам, тот, по словам древних писателей, «умирал не как
другие люди, но с радостью, ибо умирал с верою в вечную жизнь души».
Это - записано, это - точно. Но кто не заметит тут сближения с нашим наро-
дом, который, живя «свинья свиньею», умирает, как никакие другие люди, -
бодро, мужественно, прямо с радостью, безгранично веруя в загробную
жизнь. Да и вообще в «чистенькой Европе» все эти «религиозные суеверия»
давно выметены, а у нас в «навозе русской земли» они хранятся как жемчу-
жина, и Мережковский слишком знает, что русский народ есть последний, в
котором ничего не пошевелено из религии, и не по глупости, а по серьезно-
сти его. Россия и есть последний Элевзин, единственный неразрушенный
Элевзин Европы. Говоря это, я просто повторяю трюизм, то, что всем изве-
стно. Воображаю, что все это удержится, если и вычистить народ хорошо,
как медную посуду к празднику; если переделать его в «образцовых фин-
ляндцев» или культурных немцев. Но есть магия вещей, магическая связь
вещей. Кишок никак нельзя заменить каучуковыми трубочками. Нельзя сде-
лать, чтобы человек рождался из резинового пузыря. С глубоким инстинк-
том народ наш бережет свою «нечистоту» от всяких культурных чисток,
помня, что звезда Востока остановилась над коровьими яслями и что вооб-
360
ще «навоз» человечества как-то таинственно связан со всем священным и
теплым, чем живет и греется человек. Народ в этой связи не отдает себе
отчета, но народ это чувствует. Само собою разумеется, однако, что «наво-
зу» нельзя давать дорастать до краев, что его надо убирать; но, убирая, нельзя
доцарапываться до «крови», и вообще тут надо поступать осторожно и, глав-
ное, совершенно надо оставить идею «убрать с корнем и весь навоз». Имен-
но до «корня»-то и нельзя доходить, «весь»-то и опасно убрать. Вдруг все
умрет, похолодеет, увянет. И не станет бессмертия души; не станет загроб-
ного существования, зашатается совесть, затоскует, страшно затоскует че-
ловек, по крайней мере русский человек.
Не станет Элевзина. Станет «Париж № 2». Не надо. Страшно.
СУД И ФЕМИНИЗМ
(По поводу инцидента в петербургском
окружном суде)
Суд - символ справедливости. Суд и доискивается в каждом отдельном слу-
чае справедливости, осуществляет справедливость. Без этого что же такое
суд? Ничего. Но что такое справедливость? По-римски это - aequitas, «рав-
новесие»: и суд изображался в древнем Риме в виде женщины, держащей
весы, чашки которых ни одна не поднимается над другою, не опускается
сравнительно с другою.
Или еще и почти то же: суд - это бесстрастие. Не то ледяное и бездуш-
ное «бесстрастие», суть коего лежит в безразличии к добру и злу, в равноду-
шии к злому человеку и к доброму человеку. Из такого «бесстрастия» выну-
та душа, и такое «бесстрастие» есть мертвая форма, которую нужно только
выбросить на улицу на растоптание прохожих. Нет, есть «бесстрастие» дру-
гое - полное души, переполненное душою. Оно полно сочувствия к пре-
красному, доброму, благородному, но не слепого и фанатичного, а разумно-
го, спокойного и уверенного, что «боги с нами». Это небесное бесстрастие,
caelestis aequitas, вытекает из высшего господства ума человеческого над
обстоятельствами минуты, условиями времени, над течениями и волнения-
ми своей эпохи, нации, площади, улицы, рынка, партий. Такое-то «бесстра-
стие» есть свойство и идеал суда и судьи, все равно защитника или обвини-
теля. Будь я судьею - ни за что не приписался бы ни к одной партии. Партии -
временны, партии - страстны, горячи; партии добиваются своих целей «все-
ми средствами». Все это - прямо сор, марающий платье судьи. Как только
«я, гражданин», сделался «судьею», - все равно адвокатом или прокурором, -
я у порога нового служения своего сложил бы все ветхие одежды прежних
своих отношений и связей, политических, общественных, клубных - вся-
ких. Кстати, может ли быть прокурор или адвокат «членом клуба»? Позор в
самом вопросе: конечно - нет! Судья - монах: но поклонившийся не Христу,
361
а вот этой Aequimu Caelesti. Это - культ, это - религия, вроде старинного
рыцарства. Никогда бы на месте «судьи» я не пошел и в члены Г. Думы. Ведь
там надо приписаться к «партиям»: и, поступив так, адвокат или прокурор
тем самым выразил бы, что до членства Думы он не был настоящим проку-
рором и адвокатом. И от голосований, от выборов, от подачи бюллетеней
«за кого-нибудь» я на месте всякого судьи отказался бы. «Ниже моего досто-
инства». Почему? - Потому что это «политика», достижение чего-то всеми
средствами, а «всякие средства» и «суд» - несовместимы. Я буду обвинять
других за «всякие средства»: как же я сам прибегну или окажусь прикосно-
венен ко «всяким средствам»?
Политика и суд, политический деятель и судья - несовместимы.
Не кричите, читатель, что я «не знаю дела» и «истории», позвольте мне
выразить идею во всей чистоте. Идея, попадая в колесо истории, естествен-
но, засоряется; но и среди засорения не надо опускать из виду «идеи в чис-
тоте ее», иначе мы все перепутаем и все перестанем понимать.
«Судья», тащащийся в хвосте «феминистского движения», позор. Так
же, как «член клуба», сидящий «за картишками». Невозможное явление! «Не-
бесное правосудие», увидя на земле таковых служителей своих, заплакало
бы и отвернулось.
Мусор, страстишки, интрижки, «адресы кому-то», «адресы против чего-
то»: вся эта кухня общественных движений вне сферы спокойного и крис-
тального поля, где действует и думает судья.
Но судья антифеминист? Позор! Позор! Прямо - пакость! Похож на Ме-
нелая из «Прекрасной Елены». «Меня жена обидела, надела мне рога, а по-
тому ненавижу всех женщин, черт с ними!» Ведь такой шепот может проне-
стись за спиною всякого антифеминиста, как за спиною всякого феминиста
может пронестись другой шепот: «Еще бы, у него семь любовниц, и все
прехорошенькие: как же ему не быть феминистом?» Кто вышел на площадь,
не жалуйся, что упал в грязь. Кто вошел в толпу, не жалуйся на шепот у себя
за спиною.
Феминизм - толпа, шум, площадь. Не будем разбирать его причины, ос-
нователен ли он. Может быть, и основателен, вероятно, - да. Не в этом дело,
а в том, что он шумен, преисполнен сплетнями, злобою, всячески отравлен,
всячески запакощен. Это уж дело «колеса истории».
Судье в нем нет участия.
Феминист судья или антифеминист: все равно, этим он показал, что он
не судья; что он «член клуба», что у него «капризная жена» или, напротив,
«милая». В судье это - ridicule*, как если бы архиерей оказался «с дамою».
Несовместимые понятия, несовместимые факты! О судье можно сказать то
же, что ап. Павел сказал о своих: «Для них несть мужеский пол, ни жен-
ский». Суть монаха заключается не в том, что он бегает от женщин. Это пло-
хой монах, поддельный. Суть подлинного монашества заключается в нео-
* смешное (фр.).
362
щущении женщины и что он с женщиною говорит так же спокойно, как с
мужчиною. ♦
Он учитель. И для него есть не «девочки» и «мальчики», а ученики. Он вне
пола. Вне-полость и есть суть монашества. «Вне-страстность» - суть судьи.
Aequitas*. Это и есть aequitas, без которой нет суда!
Поэтому, когда один из петербургских прокуроров вышел из зала судеб-
ного разбирательства в минуту, когда за столом «защитника» встала женщи-
на, он обнаружил то отсутствие «равновесия», отсутствие спокойствия и
высшего разума, без которых суд просто обращается в Бедлам. Он дотро-
нулся до чашки весов, символизирующих «справедливость»: между тем как
они, и только они одни во всем мире, должны быть предметом его внимания
в своем вековечном покое и уравновешенности. Прямо - «архиерей при
даме». Для судьи «несть мужеский пол и женский пол». Судья блюдет спра-
ведливость. Если бы в зал суда вбежала собака, держа в зубах пакет с судеб-
ными доказательствами, он обязан приласкать ее, взять пакет и рассмотреть
доказательства. Без этого нет судьи. Суть судьи - в знании полной истины,
ледяной истины. Кто приносит ее, женщина, собака, мужчина, - этого воп-
роса нет для него, и единственно для него, и притом только оттого, что он -
судья. Это такая связь нервов, без понимания которой судья носит «мундир
судебного ведомства», но существо судьи из него испаряется коренным об-
разом. Если бы пьяница, последний человек, заяц из-под лавки вагона во-
шел в зал суда и сказал: «Видел», «знаю», «догадался», или сказал бы: «Я
вижу в этом деле истину и один могу ее выяснить перед прокурором» -
прокурор обязан раскрыть рот и слушать, настоящий прокурор начнет слу-
шать. Но перед ним появилась «юбка». Он встал, как ужаленный, и ушел.
Но ведь это все равно, как если бы ученый-математик отказался читать тво-
рения Ньютона, потому что они отпечатаны не на веленевой бумаге и нелю-
бимым его шрифтом. Он обнаружил бы через это в себе приказчика из пис-
чебумажного магазина, а не математика. Так же и судья, так поступивший,
высказал в себе члена «антифеминистического клуба» и сошел с трона судьи.
«Coelestis justitia»** имеет все основания плакать...
ПРАКТИЧЕСКАЯ СТОРОНА В ВОПРОСЕ
ОБ АДВОКАТУРЕ ЖЕНЩИН
В предыдущей заметке о праве женщин выступать на суде я остановился на
одной абстрактной стороне вопроса. Но есть и практическая, житейская сто-
рона в нем. Это - вообще незащищенность в стране женского естественно-
го права. Знаменитые дроби, V12 и V14, которые определяют доли участия в
наследстве умершего жены-вдовы его и его дочери, так ярко говорят об этом,
* Беспристрастность (лат.).
** «Небесная справедливость» (лат.).
363
так громко вопиют о справедливости к Небу (ведь оно есть, гг. судьи и про-
куроры?), что тут мне нечего прибавлять и разрисовывать. Тот факт, что ре-
шительно каждый шалопай по закону вправе обольстить мою дочь и делать
усилия соблазнить жену, т. е. причинить им невероятные страдания, ника-
кой ответственности перед судом не неся за это, хорошо дорисовывает юри-
дическое положение в стране целой половины населения! Но отчего это?
Откуда эта дикость и жестокость? Собственно, никто жесток к женщинам
не был, или по крайней мере сознательно не хотел быть. Совершилось все
«само собою» и как-то «безотчетно». Некому было напомнить о них; а если
и напоминали, то редко и мягко, без крика и требования. Напоминали лите-
ратурно, повествовательно, стихотворно. Но кто же повинуется стихам, кто
в деловой жизни сообразуется со стихами? Не было жесткости в пожела-
ниях блага женщинам, - той жесткости, без которой, увы, ничего не двига-
ется вперед в железной социальной жизни. Как-то с одним юристом я гово-
рил о явной и притом чудовищной несправедливости к дочерям в праве на-
следования. Он удивил меня ответом: «Русские юристы тут ни при чем: в
русское законодательство здесь внесены нормы римского (еще языческого)
права»!
Но мне это показалось преступлением русских юристов; именно рус-
ских, а отнюдь не римских. Как это целая корпорация образованных людей
оказалась такою деревянною, такою мертвою, такою безучастною к жизни,
что вместо ожидаемого простого: «делить наследство поровну между всеми
детьми и вдовою», они с плюшкинскою аккуратностью перенесли пожел-
тевший кусок римского пергамента и вставили его в русское православное
законодательство!! Право, удивительно, отчего они ходят молиться Богу к
Исаакию, а не в Эрмитаж перед статуею Юпитера! Самое настоящее для
них дело и самые настоящие «юридические» молитвы. Отчего же они пере-
несли этот кусок пергамента? Да по лени. Просто лень было сочинить фразу
в одну строку: «Делить детям и жене поровну». Своя голова не выдумывает,
- взяли у римлян. Но отчего же эта чудовищная лень и косность? Не было
того «жесткого», о чем я упомянул. Все упрашивали «подумайте гг. юрис-
ты», «будьте милосердны, господа питомцы училища правоведения». Никто
не говорил им: «Вы, господа питомцы, поступаете глупо и притом неспра-
ведливо. Оттого и молитесь Юпитеру, а не Богу». Да все это - не в печати,
которая впечатления не оставляет, а лицом к лицу, вот, напр., в зале суда,
перед публикою, - между двумя кафедрами, обвинения и защиты.
Устраняя примеры и, может быть, то излишне жесткое, что я сейчас ска-
зал под минутным раздражением действительно мучительною несправед-
ливостью (V12 и V14), - я настаиваю, что виной всего этого является отсут-
ствие в громоздкой судебной машине самого «потерпевшего», т. е. женщи-
ны, которая одна может сделаться двигателем, напоминателем, требовате-
лем справедливости. Может сделаться им не прямо, а косвенно, пользуясь
каждым случаем напомнить об обиженной половине населения, пользуясь
всяким случаем разрисовать это ярко, вразумительно, убедительно. Именно
364
судебные казусы, единичные судебные процессы дают к этому все поводы,
и дают их если не ежедневно, то ежемесячно, во всяком случае ежегодно.
Вспомним дело о детях антиквария Линевича, разбивших окна у миллионе-
ра-отца, который их с матерью оставил на голод и холод, потому что они
были его внебрачные дети. Ему все удовольствия - богатством и, наконец,
понравившеюся женщиною, дети, плод его «забавы», решительно не защи-
щены законом. Но если дурные отцы могут смотреть на детей как на «не-
предвиденный результат забавы», то неужели не чудовищен закон, сливаю-
щийся с такими понятиями таких отцов. Кто же перед судом все это разъяс-
нит, как не женщина-защитник, женщина-адвокат, которая самою натурою
своею постигает это, естественно, глубже и страстнее, чем адвокат-мужчи-
на, который может произнести здесь фразы, но не может произнести слова,
запечатленного кровным убеждением, кровною уверенностью. Мы взяли
редкий пример: но ведь других, в этом роде, тысячи. Ведь нет улицы в горо-
де, где хоть в одном дому не бились бы люди головою об эту законодатель-
ную несправедливость, результат простой забывчивости, небрежения и во-
обще «недоделанности», происшедшей от того, что юристы-мужчины, есте-
ственно, забывают женщину, не по злу, а по натуре. «Не приходит на ум»
тому, кому не больно. Несколько лет назад печаталось, как муж-гвардеец,
женившись по расчету на очень богатой девушке, в дурном обращении с
нею дошел до того, что вместе со слугою-конюхом драл ее на конюшне вож-
жами. И отец молодой женщины, богатый фабрикант, не имел по закону права
отнять у истязателя свою жертву - дочь, и только выкупил ее, что-то дав
около ста тысяч «отступного» сверх тех ста тысяч, которые дал за нею в
приданое. Но он, этот молодой муж, был очень красив! Что Дон Жуан в
Испании: в православной, в серьезной России Дон Жуанов закон не только
по голове гладит, но дает в руки им и плетку. «Люби, молодец, кого угодно и
секи сколько душе нравится. Ты мужчина». Это дикое до невероятности по-
ложение вещей, не замечаемое только потому, что оно ежедневно и в каж-
дом единичном случае не ново, конечно, не удержалось бы и пятилетия, имей
жертва голос не на улице, а в суде, не в приватных разговорах, а в официаль-
ном месте! И пятилетие не удержится это положение вещей, как только жен-
щина будет допущена защищать на суде женщину.
Правительствующий Сенат, «толкующий законы», растолковал отсут-
ствие определенного в законе дозволения или запрещения женщинам выс-
тупать в качестве защитников на суде - в смысле «подразумеваемого запре-
щения». Если закон это «подразумевал», как думают сенаторы, то отчего же
он прямо не сказал? Ведь всего одна строчка: «Женщины в качестве защит-
ников выступать на суде не могут». Что за подозрение закона в косноязычии
или немоте? Сие «уважение к закону» кажется лишь неуважением. Далее.
Сенат, естественно, при этом опирался на косвенные доказательства, он уга-
дывал волю закона: то отчего бы не угадать ее на почве того соображения,
что ведь министерство народного просвещения ввело в высшее женское об-
разование преподавание юридических наук в университетском объеме, а это
365
могло быть только в целях подготовить женщин к исполнению судебных
функций, из коих адвокатура есть самая первая, самая важная и самая обыч-
ная. Вот косвенное обнаружение «воли законодателя»: не мог же он иметь
одну волю в министерстве юстиции и другую волю в министерстве просве-
щения! Для чего же юриспруденция слушательницам женских курсов на Вас.
острове? Это не веер и не духи, и нельзя ни сказать, ни подумать, что зако-
нодатель дал эти науки женщинам для кокетства ученостью, а не для прак-
тического употребления. Где же оно? - Оно одно, в суде. Повторяю, я этого
не говорил бы, если бы и Сенат в своем «разъяснении» не ссылался на кос-
венное постижение воли законодателя. Но кажется, весь секрет в том, что
вообще кроме «воли» в природе существуют и секретные пожелания, а в
русском лексиконе, кроме глагола «служить», есть и глагол «подслуживать-
ся». И есть еще какие-то «веяния», черт их знает откуда берущиеся. То «веет»
солнышком, то дождем. В Петербурге большею частью веет сыростью. И
вот когда повеет сыростью из подвала какого-нибудь казенного здания, ужас-
но делается нехорошо, даже для души. В русском лексиконе такая сырость
называется затхлостью, - и публицисты большею частью имеют дело с нею,
отчего часто чихают. Все это не способствует их здоровью, да и чиновники,
засиживаясь в сырых квартирах, тоже не доживают века. Лучше бы им вза-
имно пожелать друг другу здоровья.
ЛИТЕРАТУРНЫЕ ЗАМЕТКИ
Со своего корня нельзя уйти растению: оно умрет. Оно может быть толь-
ко сорвано со своего корня: ветром, зверем. С своей земли некуда уйти
народу. От своего народа некуда уйти человеку. Вот аксиомы, которые
нельзя не держать в уме, в сердце, начиная что-нибудь думать, говорить,
делать.
Мы - русские. От этого факта никуда не уйдешь.
Больна Россия, хороша она, худа она, - все равно: она очертила круг
нашего существования с такой властью, которой нельзя преодолеть. Рабо-
тай, живи, люби, ненавидь в пределах этого круга, в черте этой земли.
Ни уйти от этого некуда. Ни поделать с этим нечего.
Но есть светлый рок и есть темный рок, и светлым или темным он дела-
ется от нашего отношения к нему. Потому что по существу рок, конечно,
один-единственный. Судьбу «быть русским» можно принять с ненавидени-
ем и можно принять с любовью. «С любовью» не значит с похвалою; не
значит с одобрением всего, самодовольством, сытостью, квиетизмом, сном.
«С любовью» - значит с великой заботою и с великой надеждою. И только.
Любовь есть долг. Есть эполеты, которые «обязывают». Все это внутри, в
душе, в совести, отнюдь не наружно. Кто не видел старых ворчунов-служак,
кто не наблюдал кричащих, нервных работников, - которых почему-то все
366
окружающие уважают и любят. Коллективный глаз никогда не ошибается:
это любят настоящих патриотов, кровных русских людей, которые, будучи
вечно в работе и встречая всюду недоделанное или скверно сделанное на
Руси, ругают «порядки отечества» или, точнее, беспорядок в отечестве. На-
стоящий патриот вечно недоволен. Но каким недовольством? Частностями,
конкретным. Никогда он не поднимет голоса или руки на целое, на все. Ни-
когда не выразится, даже в слове, в обмолвке, против «Русской земли», «Рус-
ского царства», против «русского духа». Не выразится в обмолвке, потому
что нет этого в душе. При грубости, нервности, порой при ругани «русских
порядков», в душе горит вечный (никому не заметный) огонь любви, и бес-
конечной любви, к «русскому» в целом.
Владимир Даль, собравший «Толковый словарь великорусского языка»,
был преворчливым чиновником медицинского департамента, однажды на-
кричавшим на молоденького Тургенева за то, что он опоздал явиться на служ-
бу. Вот пример. Таких тысячи.
Наша интеллигенция отравилась на этом пункте, точнее, свихнулась на
нем и как бы впала в безумие. Судьбу «быть русским» она приняла как тем-
ный рок, и он стал для нее действительно темным, несчастным роком от
этого ее отношения к себе. Я не могу подумать без ужаса и отвращения,
наконец, без величайшего негодования и оскорбления о том, что еще недав-
но 8/ю, а теперь все-таки целая 7г русского образованного общества думает о
России, о ее судьбе и будущем, думает велительно и требовательно, практи-
чески и деятельно, под углом схем и мысли, данной из Берлина евреем Марк-
сом. Каждый, знакомый с моей литературной деятельностью, знает хорошо,
что я не имею никаких суеверий против евреев, ни страха перед ними, ни
(распространенной) брезгливости к ним; но Маркс, единственно за власть,
полученную им над несчастными русскими, есть для меня один и исключи-
тельно «противный жид», коего «Капитал» я не вынес бы руками из кварти-
ры, но сделал бы это при помощи угольных щипцов или надев на руки пер-
чатки. Как-то, лет пять назад, на мои одобрительные слова о «русских соци-
ал-демократах», русско-немецкая пропагандистка ответила мне:
- Зачем вы говорите «русский социализм»: такого нет. Социал-демо-
кратия есть международная партия, и в России - только ее фракция. Мы - не
русские.
Хотя она была лютеранка и немка, однако родившаяся и получившая все
образование в России, и ходила по фабрикам и мастерским читать премуд-
рость Каутского. Россию и русских (я заметил) она очень любила, больше,
чем лютеран и немцев. Но едва заходила речь об идеях и программе, о «дол-
ге» и «ответственности», она отвечала:
- Мы европейцы. Ничего русского мы не признаем.
Тут именно нужно обратить внимание на то, что это «по программе».
Натура девушки была неизмеримо лучше и чище ее программы. Но этот
действительно противный еврей из Берлина своими арифметическо-эконо-
мическими выкладками до того захватил власть над ее душою и над тысяча-
367
ми русских душ, что они отреклись от своей более чистой природы и вос-
стали против русской земли уже в целом по этим «директивам» из Берлина.
Они образовали программу политического, экономического и социального
переворота в России, не имея для нее в России ни единой точки опоры. Это
- измена. Это предательство.
Поэтому я никогда бы не стал читать Маркса с целью проверить, «прав»
ли он, как не стал бы вслушиваться в соображения людей, что «можно взло-
мать двери и окна чужого дома» и расхитить его. Выкладки могут быть пра-
вы, но отвратительно самое дело. Отвратительно и преступно. Отврати-
тельно, что на нашу историю, на наш «дом» идут с ломами и поддельными
ключами, чтобы взломать его. Тут не «наука», а нападение, и отвечать на
него можно отпором, а не рассуждениями. Тут борьба, в которой на сторону
нападающего перебежали русские.
Этот ужасный факт, что наполовину русское образованное общество
стало к своей земле в положение предателей ее, изменников ее, ведущих
врага на ее стены, есть самый убийственный факт нашего времени, при ко-
тором сделалось совершенно невозможным движение вперед ее истории.
Стало не по причинам боли и непорядков русской земли, а потому, что Маркс
«сочинил такую совершенную теорию». Наполовину русское образованное
общество, или по крайней мере литературное общество и примыкающее к
литературе, стало «марксистским» и тянет Россию сделаться «марксист-
скою» в учреждениях, в законах, в строе.
- А если нет - я ее ненавижу.
-Кого?
- Россию.
- Свою землю?
- Свою землю.
Вот диалог, в котором сосредоточивается самая сущность современного
положения. И уже много десятков лет. Если и меньше половины общества
примыкает к этому лозунгу, то зато примыкает самая молодая его часть, све-
жая, наивная, надеющаяся и в которой невольно положена «надежда» Рос-
сии, по возрасту ее. Маркс оставил корни и ствол русским и снял плод дере-
ва, его цвет.
- Но, - скажут, - Евангелие также приняла Россия, и вообще есть исти-
ны «универсальные».
- Сравните Евангелие с Марксом! Евангелие говорит человеку, Маркс
говорит мелочной лавочке; Евангелие занимается всем человеком; марксизм
- его кошельком. Не Евангелие вошло в Россию, а Россия вплыла в Еванге-
лие как что-то более широкое, действительно универсальное. Ни Россия, ни
Европа, ни весь человеческий дух не задыхается в Евангелии, ему там не
тесно, ибо как может быть тесно от лозунга: «Становись лучше»? Но Маркс
считает в кармане рабочих и заводчиков, он основал целую систему челове-
ческой жизни на приходо-расходной книжке и приглашает меня стать таким
же ростовщиком (денежником), как он сам. Это - петля: петля на шею всяко-
368
го свободного человека, который не хочет жить рублем! Он к этому тянет не
отдельного человека, а систему отношений, строй общества, т. е. подчиняет
меня как лицо своему кошельку и приходо-расходной книжке. Я могу на это
ответить только ударом, а не рассуждением. Потому что суть марксизма в
ударе, а не в рассуждении.
«Истине» или «не истине» в его рассуждениях я противопоставляю со-
вершенно другую категорию - «родного» и «не родного». Молодая часть
общества, его «цвет», его «надежда» никак не могла становиться на его сто-
рону потому, что это есть для России «не родное», а она - цвет и плод -
выросла из русского ствола и корня и естественно должна завершить их,
иметь «вкус этого дерева», «сок этого дерева», и - никакого другого. Конк-
ретностями, частностями она может быть недовольна. Никакое дерево не
совершенно. Но самое недовольство должно быть русским, а не берлинс-
ким, т. е. корениться в определенной русской боли, исходить из указания на
определенные русские непорядки и вообще быть русскою работою на рус-
ской почве. Тогда как марксизм весь есть литературное впечатление и коре-
нится на литературной впечатлительности читателей: недаром он и «пропа-
гандируется», недаром «читаются книжки»...
И «быть русским» стало черною судьбою для нашей интеллигенции:
она несет ее как бремя, как несчастие. Вся ее работа уходит на отрицание, на
разрушение: чем выше одушевление, тем работа разрушительнее и «блага»
в общем итоге становится меньше. Большая сила порох: рвет скалы. Да. Но
ни единого пригорочка не может насыпать, ни единой горы воздвигнуть,
создать ни единого украшения земли. В такое-то положение черного разры-
вающего пороха стала интеллигенция в русской земле: без способности что-
нибудь сотворить.
Говорят, много самоубийств в молодежи.
Напротив, до удивительности мало по ее положению: положению, из
которого, по поговорке, можно только «броситься в воду». Душа затоскует.
Хочется создать, а не разрушать, а созидать решительно нельзя по глубоко-
островному, не материковому, положению всей русской образованной мыс-
ли, всей русской образованности за последние 50 лет.
ЛИТЕРАТУРНЫЕ ЗАМЕТКИ
<0 книге А. Котовича>
Появилась очень ценная историческая работа - «Духовная цензура в Рос-
сии. 1799-1855 гг.» г. Ал. Котовича, огромный том в 630 страниц убористой
печати и большого формата, цена коему назначена несоизмеримо низкая -
2 р. 75 к. Есть же у нас авторы, типографии и издатели, которые трудятся с
терпением и бескорыстием, встречаемым только в пчелином и муравьином
царствах.
369
С обычной обстоятельностью питомцев духовной школы г. Котович на-
писал, по архивным документам, историю русской духовной или, вернее,
церковной цензуры, введенной Петром Великим одновременно с учрежде-
нием Св. Синода, и в том же «Духовном регламенте», который сделался у
нас уставом церковного управления. Эпиграфом взяты слова Мильтона, ве-
ликого творца «Потерянного рая» и одного из основателей английской ум-
ственной свободы: «Человеку прежде всяких льгот нужно право свободно
приобретать познания, свободно говорить и свободно судить о вещах сооб-
разно своим убеждениям». Автор взглянул на свою задачу не с той пошлова-
той точки зрения, которая у нас сделалась почти исключительной: что цен-
зура в самом факте ее есть анекдот, а ее история представляет восхититель-
ное поле для рассеивания цветов остроумия. Таковы были работы по цен-
зурной истории Скабичевского и Лемке. Г. Котович взглянул на дело совсем
с другой стороны:
«Если в свое время в цензурные архивы сдавались на хранение, вместе
со всякого рода литературным мусором, самые оригинальные рукописи и в
протоколы заносились мысли, не вмещавшиеся в параграфы цензурного ус-
тава, то теперь возможно и целесообразно изучение при посредстве этих
архивов и протоколов самых нежных движений духа, наиболее чутких пред-
видений, самых искренних порывов в религиозной области. Собрать все
невысказанное, недоговоренное по независевшим от авторов условиям, про-
следить влияние гнета на гибель полных жизни и силы талантов, засвиде-
тельствовать объективный характер их сетований - не значит ли осуществить
цель, имеющую положительное историко-литературное значение? Наконец,
в этом своем положительном моменте не может ли исследование о духов-
ной цензуре послужить и оправданием добра, заложенного, но не раскрыто-
го в подзаконной деятельности наших отцов? По своему психологическому
состоянию каждый носитель назревших для своего времени взглядов, убеж-
денный в их правоте, но не выразивший, ввиду царившего гнета, всего сво-
его содержания, испытывает в той или другой степени трагедию Иова. Горь-
кое сознание того, что «дни мои прошли; думы мои - достояние моего сер-
дца - разбиты», порождает последнее желание: «О, если бы верно взвеше-
ны были вопли мои, и вместе с ними положили на весы страдание мое! О,
если бы записаны были слова мои! Если бы начертаны они были в книге»...
(Иова, главы 17, 16 и 19). На архивных кладбищах воскресают писатели, и
из цензурных протоколов несутся к нам живые голоса невысказанных убеж-
дений. И, посвящая эту книгу - книгу взвешенных воплей и обсуженных
страданий - как первый дар любви заживо похороненным и их разбитым
думам, мы начинаем творить для них и их могильщиков суд беспристраст-
ной истории».
Так говорит достойный автор в своем достойном предисловии. Исто-
рия цензуры - это, конечно, не арена для шуток какого-нибудь малообразо-
ванного Лемке, это - трагедия-хроника, требующая себе от историка вовсе
не водевильного тона. В огромном томе г. Котович собрал материалы для
370
одной части этой цензуры - именно духовной, и за годы от 1799 до 1855 г.,
т. е. за два царствования, в значительной степени слитые единством. Но
это в научном отношении, может быть, самый ценный отдел истории цен-
зуры: дело в том, что светская цензура обрывала душистые цветочки около
повестей, драм и т. п., портила орнамент мастерства, не задевая мысли или
незначительно ее задевая; ибо запрещения и гонения на цельные произведе-
ния редко имели место. В книгах же церковного и богословского характера
уничтожалось не украшение, а мысль, строй идей, направление в разреше-
нии вопросов самых трудных и высоких. Извлечения из архивов, чтение и
напечатание обвинительных постановлений цензурного комитета, с боль-
шими цитатами из обвиняемого сочинения, - могут сохранить для нашего
и будущего времени очень ценные обрывки глубокой умственной работы
прошлого.
.. .Где главный источник духовной цензуры, откуда выползали самые ядо-
витые ее скорпионы? Из высокоторжественности. Не из представлений об
истинном или ложном, полезном или вредном, а из того, что «все сие дело»,
т. е. духовное дело, иерархи представляли себе до того важным, так сказать
сановным, до того «при мундире и церемонии», что малейшее отступление
не только от традиционного образа мысли, но и от традиционного образа
выражений, слов, построений фразы казалось им столь же недопустимым,
как недопустимо натуральное слово, слово от себя, или неловкое, хотя бы и
благонамеренное движение или шаг на торжественном выходе при приеме
иностранных послов или в обрядах крещения и венчания... Духовенство со
страшною боязливостью очень рано и торопливо создало обрядовое слово, -
и за ним спряталось, как за стеною, наиболее обеспечивающей, спокойной,
безопасной и неуязвимой. Создав этот обряд торжественных слов, туман-
ных и высокопарных выражений, иногда с совершенно неясной мыслью,
создав их применительно решительно ко всему, к изложению священных
событий, к упоминанию священных лиц, к наименованию священных пред-
метов, к изложению диссертаций и учебников, церковь и создала цензуру не
столько для «пресечения вольных мыслей» (куда уж там), сколько для хра-
нения этого обрядового слова, позлащенного слова, этого бриллиантового
слова, сиявшего «яко драгоценное камение на драгоценной митре». Так что
о «ходе мыслей» тут не было уже и речи, до такой глубины и не добрались.
«Хода» не допускалось, допускалось только «шествование». И все или боль-
шая часть цензурных коллизий и возникала на почве встречи натуральной
рабочей мысли с великоторжественными словесными ожиданиями. Цензу-
ра была не логической, а риторической, до «философского отделения», го-
воря языком устроения старой бурсы, она не поднималась. Таким образом
отношения к книгам и сочинениям можно единственно объяснить, напр.,
возникновение весьма «секретного дела о противозаконном переводе ветхо-
заветных книг» знаменитого протоиерея Павского, профессора Петербург-
ской духовной академии и наставника цесаревича Александра Николаевича.
За этот перевод - совершенно верный, и не рассматривая верности или не-
371
верности его, - с него хотели снять священный сан! Почему? Приблизитель-
но по такому рассуждению: «Дело это великое, перевод. Оно уже сделано,
употребляется в церкви, употреблялось века. Как же можно решиться вновь
переводить? Чтобы исправить ошибки? Но сия дерзкая мысль уже содержит
утверждение, будто ошибки были и не замечались: за каковую дерзость ви-
новника следует приговорить к тому-то и тому-то». Основной же вопрос
«Да есть ошибки или нет ошибок» - и не поднимался, и не занимал никого.
Это - риторический метод, а не логический и не фактический.
И он родился не сам собою, а отразил общее состояние церкви. Мы хо-
тим сказать, что русская духовная цензура и ее история непременно и долж-
на была быть такою, какою была, и только такою, никакою еще иною. Иерар-
хия наша, олицетворявшая собою церковь, всегда витийственно, - шество-
вала, не взирая, что под ногами, и не взирая, что вокруг. Было самоупоение
великими словами и торжественными жестами. Было что-то подобное пе-
нию соловья, который поет всего лучше, если закроет глаза. Народ пал, и
давно пал на колени перед сим «торжеством славы». Что же еще остава-
лось?.. «Господи, как хорошо: не построить ли кущу для сего пребывания в
вечном покое». К этому положению дела и примыкала деятельность цензу-
ры. Цензура, цензоришки - низшая и незначащая должность монашеско-
чиновной службы должны были наблюдать, чтобы со стороны кто-нибудь и
как-нибудь не произвел беспорядка в этом «велелепии», по глупости, по
незнанию ритуала, по дерзости, вольномыслию и проч. Торжество, слава,
великолепие, красивость, все и должно было течь «в стать» к этому, «в тон»
с этим, и никак еще...
При чем же тут могла быть наука?
Философия?
Богословское мышление?
Ровно ни при чем... «Профессор соловью не товарищ».
Их и не было. Или они - не допускались. Иначе как «класс должности»
и «мундир службы». Вот внутренняя душа «Истории духовной цензуры в
России».
«СЕ ЧЕЛОВЕК»...
На мрачный гроб русской духовной цензуры, очерченный г. Котовичем, мне
хочется положить одну маленькую незабудку.
Это из личных воспоминаний.
Ах, русское духовенство, русское духовенство: и ненавидишь его, - иног-
да ненавидишь всеми силами души, - и любишь. И нельзя оторвать одного,
нельзя заглушить другое.
Приезжаю я в Александро-Невскую лавру. В бумаге завернут том пер-
вый моей книги «Около церковных стен», только что отпечатанный. Насо-
вал я там всяких колючек духовенству под пазуху. Только напечатал и ду-
маю: «Не пропустит цензура, сразу же не пропустит».
372
Издание стоило страшно дорого. «Все затраты пропали». Жаль и мыс-
лей: многие были чрезвычайно дороги мне, не по самолюбию, а деловым
образом.
«Умрет моя бессмертная мысль. Книга горит: это душа моя горит».
Горюю. И боюсь. И стучусь в дверь цензора.
Долго не отпирали. Потом отпер какой-то засаленный мальчишка. Дол-
жно быть, послушник. В длинном.
Учтиво спрашиваю:
- Отец архимандрит дома?
- Гуляют!
- Гуляют?..
- В монастырском саду.
Ах, Боже мой. Что же теперь делать.
- Да где сад?
- А вот тут недалече. За стеной.
- Да почему же они гуляют?
- А пообедали и гуляют.
«Пообедали!» Но ведь я приехал еще утром и был всего час дня.
- Может, пройдете туда? - это он спрашивает.
- Ну, что же. Попробую.
Прошел. Приотворил калитку. Сад огромный и красивый. Весь пустой, ти-
хий. Приглядываюсь: и вижу далеко-далеко бредет по аллее темная фигурка.
Не будь я с «виной» под мышкой, - подошел бы, поздоровался. Но я
держу в руках книгу, обвиняющую меня: как же я пойду тревожить с нею
начальство? Конечно, рассердится и не пропустит!
Затворил калитку и вернулся в келью. Сижу мрачнее тучи. На душе мысли
скребут. «Целых две тысячи рублей пропало».
Чей-то голосок спрашивает:
- Вам что?
Поворачиваюсь. Еще монах.
- Книгу надо пропустить. - Называю фамилию и заглавие книги (пол-
ный криминал). - Вот и жду старшего цензора.
- Зачем?
- Чтобы он подписал. Билет там что ли выдал. Вообще, что духовная
цензура не препятствует.
- Ну? - точно не понимает.
- Боюсь, цензурна ли. Дорого стоило печатание. Вдруг запретят.
- Так зачем же запрещать?
- А если не цензурна.
- Пустяки. Отчего не цензурна. Давайте сюда.
Я подал.
- Отец архимандрит, при котором я состою помощником, высокой со-
зерцательной жизни человек, и его отвлекать по-пустому не подобает. Он
занят богомысленными размышлениями...
373
Он взял перо и попробовал о бумагу качество. Обмакнул в черниль-
ницу.
- Вот мы ее и пропустим.
Так красиво растянул слова.
- Не читавши??!
- А для чего же читать. Ведь вы хорошо пишете?
И чуть-чуть смеется. Я взглянул на него. Не старый, почти молодой.
Волосы белокурые. «Брада» и все такое, как следует. Полон. Бел. Но не очень,
в меру.
«Се человек», - подумал я. И сказал вслух:
- Как бы вам в ответ не попасть. Ведь закон... правила.
Он улыбнулся совсем широко:
- А какие же мне «правила», когда я монах. Мы живем по благодати, а
не по правилам. Закон - для внешних.
И смеется. Чуть-чуть с лукавством, но добрейшим. И весь он вообще
имел что-то деликатно-русское в себе. Ни тени грубости; о цинизме и вспом-
нить было нельзя.
- Только вы мне за это вот что: напишите рецензию на сочинение моего
товарища по семинарии, священника (такого-то, имя забыл) - «Об Арсении
Мациевиче». Основательный труд, деньги затратил, а он - семейный. Писал
же по первоисточникам.
И он «одобрил к обращению» мою - «Около церковных стен».
Я взял серенькую книжку об Арсении Мациевиче с самым пылким же-
ланием написать рецензию. Прочел - полна интереса и труд, конечно, ком-
петентный. Начал я писать рецензию... И лишь оттого, что таковое писанье
«по просьбе» мне пуще ада противно и тягостно, я так и не исполнил все-
таки долга перед добрейшим отцом А. Вскоре он был переведен куда-то на
юг, настоятелем монастыря: и оттуда еще раз напомнил о своем семинарс-
ком товарище.
И еще раз захотел я исполнить. И еще раз не исполнил. Верно, он меня
осуждает теперь...
* * *
Так что на смертных полях цензуры есть и цветы. И когда Господь призовет
на Страшном Суде всю духовную цензуру к ответу: «Что ты сделала с рус-
скою религиозною мыслью», то седые старцы и строгие, изможденные по-
стом лица, выдвигая вперед отца А., скажут:
- Господи! Но ведь и Содом обещано было пощадить, если в нем най-
дется десять праведников! Вот отец А., вот и еще...
И, найдя несколько таковых же, возопиют хором, «соборне»:
- Не все мы были грубы и жестоки. Были и милостивцы среди нас...
Ради сих добрых не взыщи, Боже, и с остальных...
374
О РАДОСТИ ПРОЩЕНИЯ
Где новая тварь, сотворенная Иисусом? Где то совершенно новое, что Он
принес на землю?
Ночь. Темница. Высокие стены, узенькое окошечко. Через несколько дней
суд - суд, насмешливый, суровый, жестокий, и - вероятное наказание. В
темницу, поистине, не введен, а «брошен» человек, - по ошибке или злому
умыслу обвиненный, оклеветанный. И вот он один. Ночь все темнее и тем-
нее, света не подают. Старые времена, когда ламп не было, а свечи бывали
только у богатых. Отказавшись от своих, без надежды с ними свидеться, -
он сидит уже долго, с адом позади, в прошлом, с адом впереди, в будущем.
Ад, ад и ад. Ад, главное, в сердце: он действительно оклеветан, втолк-
нут в темницу злым, скверным человеком, который сам на свободе сытно
кушает, сытно живет и, может быть, знакомится не без косвенных намере-
ний с его женою полувдовой; и полуласкает или, во всяком случае, приучает
к себе его детей. И дети, - глупенькие, как все дети, - глядят без вражды на
этого человека, всегда с подарками, как его тоже принимает без отвращения
и жена его, давно скучавшая с прежним мужем. Все предало его: не только
государство, но и общество, близкие, жена, дети. Верно, не предала бы «род-
ная матушка», но ее нет давно в живых. Когда он был втолкнут в тюрьму, он
не имел силы ползти по ее земляному полу, но упал у двери же и лежал
долго, в неописуемом отчаянии, в неописуемом гневе. Ибо «все так неспра-
ведливо»!..
И, едва очнувшись, он стал кусать пальцы себе, - больше от ярости, чем
от отчаяния. «Все так несправедливо!!..»
Но дни и ночи черные ползут... А сердце человеческое устает и в одном
состоянии не может долго держаться. После дней клокочущей ярости насту-
пило окаменение: нет мыслей, нет чувств. Ничего нет. Душа пуста. И эта
пустота, подобная смерти по своему бездеятельному характеру, еще тяже-
лее прежней ярости. Стоит что-то серое, смрадное в душе; сумерки, а не
ночь; без молнии.
Но и это не вечно. Душа устает, устает даже от небытия, от бездеятель-
ности. И вот в ней, - как что-то обманчивое и невероятное, начинает светить
звездочка, искорка, «что-то», но во всяком случае такое, что совсем не похо-
же на все прежнее, им пережитое в тюрьме. Дальше... больше... маленькое
разрастается... Время вдруг стало незаметно, оно не тащится по душе узни-
ка, как локомотив по раздавленному, а почти летит, и он его не чувствует...
Он и себя, свое тело как-то мало чувствует... Наконец, перестает чувство-
вать и стены. Они есть, но как он нимало не хочет переступить через них, то
их все равно что нет. Наконец, нет и тьмы, ночи. Керосиновых ламп, правда,
нет, - но внутренний свет в узнике до того разжегся, что весь его мозг точно
горит невидимым сладким пламенем, весь до того озарен, что узник едва
может выносить его.
375
Что же случилось? Поистине, ангел вошел в темницу и озарил все. Ан-
гела не видно, осязаемого нет ничего. Узник сам превратился в ангела, или,
лучше, - в нем возродился ангел: сквозь прежние черты лица, без перемены
их, льется не мрак, а свет: и тот же образ из демонского стал ангельским,
почти божеским.
Что же случилось? Он примирился со своим положением. Он не принял
его как «справедливое», это - невозможно, ибо ведь «справедливости» объек-
тивно нет. Но он вдруг утратил гнев на него. Примирился со смертью, с
казнью. Вспоминая кинувшую его жену, забывших о нем детей, врага свое-
го, - он видит их лица совершенно отчетливо в воображении: но он не чув-
ствует никакой к ним ярости; и так как «милыми» их тоже не чувствует, по
отсутствию объективных данных, - то вовсе ничего о них не думает; однако
даже и по памяти не может восстановить прежней ярости.
«Раздавлен. Пропал. Тут не люди - тут судьба. Как упал камень и разда-
вил. При чем тут люди: и они - в судьбе своей и творят по судьбе.
Но у меня Бог. Я с Богом. Что такое Бог? Вот эта радость, которая при-
шла в сердце и с которою я так блаженен, когда в тюрьме и недалека казнь.
Не самая радость есть Бог, но Бог послал мне эту радость, при которой нет
более ни тюрьмы для меня, ни казни, ни врагов и обиды, ничего, - а один
свет, и бесконечный свет, неописуемый свет»...
Я взял предел: но приближений к этому пределу очень много. Все мы,
живя, встречали людей большого ума, характера, - живых, очень живых,
нимало не «буддистов», не «окаменелых»: у которых сила кротости одолела
силу окружающей их тьмы, одолела горечь жизни, трудности жизни, стра-
дания, болезни, потери близких, лукавство, предательство, обиды, неспра-
ведливость. Все одолела, и люди эти, все израненные жизнью, несут светлое
лицо вперед, и нет в душе их ни гнева, ни ярости ни на людей, ни на жизнь.
Это - христиане.
Я не могу сказать, чтобы это шло непременно от Христа или только от
Христа: правильнее думать, что так бывало и до Него: но Христос эти черты
человека взял в «любимые» Себе, «благословил» их, утвердил на земле. Ска-
зал, что «такие люди - Мои». С тех пор этот типичный дух люди начали
называть «христианским»; а группы людей, или общины людей с таким ду-
хом, стали называться «христианскими общинами». По обычаю, не станем
гоняться за словами и согласимся с этим названием.
Кротость и прощение - вот знамения христианина; не «крест», не «Отче
наш», не пост и ритуал, - а вот кто ни на кого не питает злобы, хотя так умен,
что злобу видит, различает, понимает.
«Сердце отходчивое» - так определяет наш народ. Я привел пример эк-
зотический: но не в темнице, а в быту встречаются подобные же, почти рав-
ные типы.
Соединим в группу этих кротких людей или в обществе жестоком и язы-
ческом рассеем, раскропим этих людей: и общество значительно преобразу-
376
ется. Все сложение его будет мягче, весь дух его будет деликатнее. И вместе
оно ничего не утратит в своей деятельности и деловитости. Таким «крот-
ким» может быть не только «мужичок», как Аким или Платон Каратаев у
Толстого, - это пустяки: таким «кротким» был, например, Давид Рикардо,
известный экономический писатель, да был им и самый ранний банкир, от-
дававший деньги в рост, - Товит из персидского города Экбатаны. Товит и
Товия - оба кроткие.
Кроткие всегда были. И что Иисус не сотворил их, видно уже из того,
что Он сказал о каком-то прежде бывшем и известном всем факте, выразив-
шись: «Кроткие Бога узрят». Но они и всегда зрели Его: суть кротости и
есть вечный свет в душе, при котором Бог виден.
Не то, что эти «кроткие» не борются со злом, не сопротивляются ему: но
они борются с ним кротостью и кротко, не кричат, не шумят, не буйствуют и
резко не сопротивляются. Вообще они сгибают вещи, но не ломают их. Ло-
мать они никогда не могут, ничего не могут, и в этом суть кротости.
Но они вечно деятельны, трудолюбивы, - хотя бы оттого уже, что внут-
ренне вечно спокойны и всегда в радости. Все это поднимает душу, дает
силы жить. Я бы сказал, что кровь у этих людей чистая и незасоренная, по-
чти без «наследственного греха» или с малым «наследственным грехом».
Они образуют до некоторой степени самых естественных «святых людей»,
хотя могут быть генералами, купцами, землепашцами, пастухами, могут быть
богатыми столько же, как бедными.
Я сказал, что Христос нашел этих людей, нашел этот естественный уро-
жай: но нельзя отрицать и того, что Он есть родоначальник кроткого начала
на земле, по той глубокой разработке и всестороннему обделыванию, како-
му Он подверг его, любя его, «благословив» и, в сущности, на нем основав
Свое новое «царство». «Царство Мое не от мира сего»: но «царство» это
есть именно царство описанного внутреннего света, где притупились все
острия, где все мечи вложились в ножны, и свет этот, конечно, не «от мира
сего», ибо он не проистекает ни из каких видимых, внешних вещей, не про-
истекает из природы материальных вещей, материальной обстановки.
И вот это царство кротких людей встретилось с империею. Как они от-
носятся? Царство «не от мира сего» не замечает «мира сего» и проходит
мимо империи поистине так, как в легендах о старинных замках «тень» или
«дух» проходят мимо стен, оружия и не сопротивляясь им, и не поврежда-
ясь ими. Церковь в истинных «сынах своих», которых и поставляют только
эти кроткие, единственно одни они, - и не отрицает империи, и не утверж-
дает ее, а проходит мимо ее, без ласки и без вражды. Не то чтобы отказыва-
лись служить в военной службе: это - форма, погоны религии, которые на-
прасно применил к ней Толстой. Платон Каратаев был именно солдатом и,
конечно, сражался в битвах. Но он сам не начнет войны, не подаст за нее
никогда голоса. Кроткое начало естественно избирает себе кроткие виды
жизни, кроткие формы деятельности, но жестко и ломко, крикливо и буйно
не сопротивляется и жестким. Толстой лично и сам вовсе не кроткий чело-
377
век, и вся его крикливая борьба против государства и церкви есть типично
языческая, жесткая и острая борьба. Так не может поступить настоящий
христианин.
Типичный христианин простит тюрьму, не уйдет от виселицы; он без
гнева будет смотреть на обстановку казни, на «попа», при этом, на жандар-
мов, на врага, думая: «Все в судьбе своей, и из своего мундира не выско-
чишь». Суть кротости - отрицание отрицания. Внутренний свет, может быть,
и есть свет от величайшего утверждения бытия, - невероятного, почти неес-
тественного для болящего и боящегося человека. Это есть какая-то неверо-
ятная храбрость посмотреть всему миру в глаза и благословить весь мир, и
жандарма, и «попа», с простой мыслью: «Как люди разны», «вот один - жан-
дарм, а другой - узник», и «меня вешают», а «он вешает», и в то же время
«над всеми Бог и неисповедимое».
И не только так, а иначе: «Вот он вешает и уныл, а меня вешают, - а я
весь в свете. Ибо Бог со мной».
Что же империя, как же империя?
Железное лицо государства в этом воске христианства встретило та-
кой материал, какой, поистине, как бы для него был создан. Апостолы не-
даром выразились, что «для праведника закон не лежит», ибо царство крот-
ких, поистине, не нуждается ни в законах, ни в суде, ни в судьях: не нужда-
ется и в государстве, иначе как в службе и работе. Кроткий служит в де-
партаменте, как мужик пашет землю, - с мыслью получить там и здесь
хлеб, не больше. Всякая активность в государственности уже не идет от
кротких, и вообще кроткие, будучи пассивно-солдатами и пассивно-чинов-
никами, не обнаруживают таланта ни там ни здесь. Потенциально в них
умерло государство, и они относятся к нему как к не ихней, а как к времен-
ной вещи. Они все в церкви, и вполне в церкви, даже в случае, если редко
ее посещают. Но как же государство? У апостола есть выражение: «Царь
носит меч для злого». Встречая кроткое повиновение в церкви, в кротких,
государство носит оружие не для них, не для церкви, а для тех, кто в нее не
вошел и, может быть, никогда не войдет, для людей тьмы, зла и гнева. Его
железные крючья ломают их железную волю; между ними и им всегда борь-
ба: смертная, лютая, ломкая, болезненная. Как относится к этой борьбе
церковь, кроткие?
Никак. За себя прощают тюрьму и за других прощают. Тут именно ка-
кие-то два света, которые не умеют встретиться. Христос, в каждом слове
борясь с книжниками и фарисеями, с книжным и фарисейским духом, не
произнес ни одного слова против тюрем, против казни и наказания, хотя
тюрьмы были в наличности, хотя крестная ужасная казнь была будничным
явлением, и Он физически не мог не видеть так казненных, не слышать о так
казнимых и вообще не знать об этом факте. Но ни против формы, ни против
духа суда и казни мы у Него не находим ни слова: прошел мимо, как тень, не
задев этой действительности. Преступление, как и казнь, до того умерли в
душе христиан, кротких, что они не замечают их, видя, не видят, слыша, не
378
слышат, а услышат - скажут: «Судьба». Как Христос выразился же о задав-
ленных, сказав: «Задавило», - и только.
Царство кротких упраздняет государство кротким способом тем, что
кротких становится все больше, а людей гнева остается все меньше. Но пока
последние есть -материал для государства есть, и оно не умерло и до этого
времени не умрет. Нельзя вообще умереть тому, в чем есть естественная
потребность, на что есть «спрос»; «судьба» государства в смысле длитель-
ности и вечности зависит от «судьбы» гнева на земле. Нельзя говорить об
абсолютной иррелигиозности наказания: Д. С. Мережковский, который на
этом настаивает, должен ответить на вопрос, каким образом из уст кроткого
Иисуса вышли впервые слова об огненном наказании, о муке вечной, об аде.
Конечно, если это пустое слово - то не страшно: а если подлинная истина
будущей жизни, то от страха теперь же можно поседеть. Попробуйте по-
держать минуту палец над огнем и приложите к этому ощущению идею веч-
ности. Нельзя же забыть «Ад» Данте; Данте не был меньше Мережковского.
Перед «вечной же мукой» Христа тюрьмы кесарей, казни королей - слад-
кая рассыропленная водица. Можно ли сравнить 10 минут страдания с мил-
лионом лет страдания? Мы этому не верим, этого не представляем: но кто
верил и представлял, - зажгли костры, чтобы довести людей до «точности
веры» и предупредить земным огнем наступление вечного огня. О вечном
же огне говорит Евангелие.
Церковь и государство, встретившись и соединившись, взаимно пода-
лись, начали подтаивать. Ни государство не столь железное теперь, как была
римская республика, ни церковь не состоит из тех кротких, восторженных,
полных внутреннего света, как следовало бы. Все смешалось, ослабилось и
образует теперешнее общество, теперешнюю цивилизацию, теперешнюю
культуру. Великих железных цезарей нет более: Наполеон был последним.
Злой Мережковский, как истинный язычник, без прощения в душе, выиски-
вает злых людей, преднамеренно даже затушевывая обстоятельства и не-
вольность, как, напр., в судьбе Павла и Александра I, в судьбе Петра III и
Екатерины. Он не говорит «судьба», он хотел бы за казнь казни, хотя литера-
турной, в пределах своих маленьких средств. Но укус паука и укус льва оди-
наковы в мировом порядке вещей: оба хищны, оба суть злоба или жажда
крови. Кто укусил, не ссылайся на то, что выпил каплю крови, а не глоток
крови. Также все его рассуждения о тюрьмах и казнях заключают то зерно в
себе, что он хотел бы в тюрьмы всадить судящих, а казнью казнить казня-
щих; заключается в перемене шкуры, а не в перевороте дела. «Их», а не
«нас». Это говорит в нем эллин и римлянин, говорит даже не Эпиктет, со-
вершенно спокойно и чистосердечно спокойно переносивший рабство и раны,
- и уже, конечно, говорит не Христос, «отпустивший вину распявшим». Но
«во Христе Иисусе несть эллин и иудей, несть раб и свободный», и нужно
ли добавить, что «во Христе Иисусе несть более забавный поп, толстый ге-
нерал, самодовольный архиерей и даже жандармский офицер»: да! да! Без
этого не обойтись! Над всеми «судьба». Досказать ли, что государство, тюрь-
379
ма, Шлиссельбург испразднились бы, если бы Лопатин, Вера Фигнер и дру-
гие, выходя из казематов, протянули руку вчерашним своим тюремщикам и
сказали: «Над всеми Бог. Какая перемена! Но мы не клянем вас и не смеемся
над вами, ибо вы также несли судьбу свою, как мы несли свою, и вот мы
уходим с миром, как вы остаетесь с миром». Но эллин и римлянин не умер в
них. Апокалипсис далеко. И Фигнер и Лопатин в Париже, в новых замыс-
лах, т. е. снова и снова они утверждают, укрепляют железное лицо государ-
ства, возводят опять Шлиссельбург, только не для себя, а для детей и внуков
третьих, посторонних лиц. И Мережковский, расшевеливая литературной
палочкой огоньки в сердцах людей, - творит это же дело Злого духа, без
малейшего понимания христианства.
НАДГРОБНОЕ СЛОВО ГАЛОНУ
Очерк
Ужасный рассказ Рутенберга в «Matin» о последних днях и об удушении
Галона заставил вздрогнуть всю Россию... Кто, читая об этом предсмерт-
ном хрипе народного трибуна в одинокой комнатке глухой дачи в Озерках,
не припомнил тех смелых ярких дней декабря и января 1904—1905 годов,
когда имя «Георгия Галона», бывшего священника Пересыльной тюрьмы,
впервые вынырнуло из безвестности и в течение одной недели заслонило
разом все имена тогдашнего времени, заставив говорить о себе день и ночь,
во дворцах и в студенческих каморках, - говорить, любопытствовать, наде-
яться и благословлять? И затем, после этой недели, когда уже прошло 9-е
января и его ближайшие последствия, карточка изящного брюнета-священ-
ника, такого молодого, острого, страстного, - стояла на столах и висела на
стенах решительно всех петербургских гостиных и комнаток... Кто о нем не
спрашивал? Кто о нем не любопытствовал? Хотели знать каждый его после-
дующий шаг. Но «шаги» эти становились все неяснее, все глуше... Гапон
куда-то уходил, в безвестность, темноту, смутность и путанность.
Говорили, говорили... Гадали, гадали. К безвестности прибавилась по-
дозрительность. Среди слухов стало мелькать что-то тягостное. Человек явно
шатался, покачивался. Явно никто не мог, не умел или не хотел его поддер-
жать. Звезда все падала, пока наконец, как неудачная ракета, не упала где-то
в петербургские болота, зашипела, зачадила и погасла.
Говорили тогда:
- Гапона спровадили те, кому было позорно и мучительно за 9-е января.
Это месть правых, подлая, низкая, тайная.
Называли определенные имена лиц, рука которых его удушила. Ненави-
дели их, проклинали их. Как ни было темно и смутно «последующее» в жизни
Гапона, что было после 9-го января, - его любили, во всяком случае, помни-
ли, хорошо помнили. Его жалели основательною жалостью, как «несчаст-
ного», «смутного» человека, который последующих своих шагов или не по-
нимал, или не умел направить. Прямо его никто не обвинял; и было много
380
готовности извинить его, если бы определенные обвинения даже были
предъявлены.
После рассказа его обвинителя и убийцы все сомнения отпали. Теперь
все ясно как день.
Но остаются думы о Галоне. И остается суд о его личности, не в краткой
формуле: «вот - обвинение, а вот - наказание», а в более сложной; где же
концы и начала этой ужасной драмы, где ее «душа», если можно так выра-
зиться? Неужели же так виновен, всею полнотою вины, Гапон и так крис-
тально и полно невинен и чист Мартын Рутенберг, как он, по-видимому,
чувствует это в своем рассказе.
- Отчего вы, Мартын, такой прозрачно-чистый, не способный шататься
и колебаться, не повели рабочих 9-го января? Было бы дело хорошее, чис-
тое, нравственное до конца... А то все так печально вышло. Для дела, - нуж-
но бы вам вести...
Вот вопрос, перед которым Мартын зашатается. Он, такой строгий, без-
жалостный судия, столь «нравственно чистый» в своем полурассказе, полу-
обвинении.
-Я?!!Нелюг!
- Не могли? Отчего?!!
- Я бездарен. Я умен в каморке, например в Озерках, в одинокой даче,
когда никто не видит. Но как только все видят, все смотрят на меня или,
вернее, в мою сторону, - я испаряюсь, меня не видно. Просто я незаметен на
улице, в толпе, перед толпою. Я не громкий человек, я тихоня.
Тихоня... В его рассказе о себе и о Галоне характерны не слова его, не
речи его к Галону, которых вовсе нет, а это его тихое молчание. Поразитель-
но и следующее: 9-го января он где-то около Гапона, но, кажется, не рядом с
ним. Рядом шел какой-то рабочий или студент. Но он близко, около, - и со
своими ножичком и ножницами. Когда скрывавшийся Гапон перескочил через
какой-то забор и растерялся, как скрыться, аккуратный Рутенберг - Мартын
моментально вынул из кармана ножницы, предусмотрительно захваченные
с собою (в такое утро, как 9-го января!!), и остриг ему волосы. Гапон стал
неузнаваем и скрылся. Он «спас» Гапона.
Потом так же «предусмотрительно» он вложил его шею в петлю. Когда
вешали, предусмотрительно вышел на веранду. «Тяжело было смотреть».
Но вернулся к теплому еще трупу и «предусмотрительно» обшарил его кар-
маны, - нет ли там чего обвиняющего и указующего.
Все «аккуратно», как у хорошего портного. «Семь раз примерь, потом
отрежь». Рутенберг по семи раз примерял и потом отрезал. И примерял хоро-
шо, но особенно твердо отрезал. Рука не дрожала.
- Вам бы и вести народ!
- Но я незаметен. Волны, рев народный, голод, негодование, земля тря-
сется, - а я с ножницами.
Да, с «ножницами» тут ничего не поделаешь. С ножницами - в канцеля-
рии бы служить.
381
Но он вышел в революцию.
И все молчит и делает. Какие его речи? В изложении Рутенберга можно
читать между строк, что Галон просто даже не понимал, соглашается с ним
на предательство Мартын или не соглашается? Не то чтобы Мартын прямо
согласился или прямо не согласился, - не то чтобы он ввел Галона в заблуж-
дение сложной, тонкой игрой, адской хитростью: в изложении можно прямо
видеть, что Рутенберг еле как-то мямлит, ни «да», ни «нет», и Галон, весь
увлеченный новой игрой, новой своей мыслью и даже, согласимся, новою
рулеткой - мошенничеством, как бы перелетает через голову Рутенберга и
принимает за «согласие» тот факт, что Рутенберг просто валяется и барахта-
ется где-то у него под животом, как вошь или мышь. Галон - весь горит,
даже в мошенничестве.
Он нагл, бесстыден, безмилостен: но он весь дрожит, его лихорадит. А
Мартын только мокнет около него. Это - слизняк, улитка, с породою улит-
ки. «Ну, ты - мой, мы пойдем к Рачковскому». Галон так и летит, видит то,
чего еще не видно, он - визионер и фантаст даже в мошенничестве, в преда-
тельстве чужих душ. Да, негодяй - но горячий. Мартын, уже подстроивший
извозчика, который их подслушивает и все передает рабочим, «верным ду-
шам» Галона, - молчит, глядит, слушает, аккуратно слушает и аккуратно
задает вопросы; но ничего резкого, негодующего, прямодушного, огненно-
го не говорит Галону.
Галон просто не понимает, с кем он имеет дело.
Как и в эту ужасную путаницу, он неясно понимает, что делает. Понима-
ет, но смутно все. Революционеров он ясно ненавидит, - может быть, по
памяти неудачных, унизительных для себя, встреч с ними в Женеве и в Па-
риже. Таким образом, он вовсе не «предает бывших друзей и единомышлен-
ников своих», как на это наводит ложный свет Рутенберг в своем изложе-
нии: он предает, соглашаемся, - низким и подлым предательством, третью
партию, третьих людей, третью борющуюся силу, к которой вовсе не при-
надлежит. Всем понятно, что когда на Путиловском заводе поднялись рабо-
чие организации, когда заволновалось море перед 9-м января, - то револю-
ционеры кинулись в движение, но были оттолкнуты или отведены в сторону
Гапоном. Он все сделал, он поднял рабочих. Но прибавки или подмеси к
своему делу революции - он не хотел - в тот героический день или герои-
ческие недели перед этим. Революция присоединилась потом, - именно по-
чти в миг, когда «революционер» Мартын спасает ему жизнь ножницами.
Остриг его, - и патетический, но несколько, кажется, безвольный Галон взялся
за руку этого Мартына и уже с ним, в первые же 2-3 дня после 9-го января,
перешел в лагерь красной революции. Но если мы в уме своем не отметим
этого перехода, этой эволюции, этого перерождения, кажется, безвольного
Галона, - мы вообще ничего не поймем в его личности и, особенно, в судьбе
его. Галон перед смертью - своих не предавал. Он был с рабочими. То «объяс-
нение», о котором он перед смертью молил обезумевших от бешенства ра-
бочих, которые подскочили к нему «прыжками», как описывает Рутенберг,
382
вероятно, и заключалось в этом: «Я - ваш, и вам я не изменял, вас не пре-
даю». Гапон и внутри себя так думал. Но Рутенберг и, вообще, террор все
спутали в уме его и, в особенности, в уме рабочих: террор во что бы то ни
стало захотел слить с собою рабочих, преобразуя их из экономической силы
в политическую, переводя от экономического, от социального негодования
к сухо-политическому и узкополитическому негодованию. И достиг этого -
или думал, что достиг, - в миг убийства Гапона и через убийство это. Таким
образом, смерть Гапона вошла в тонкие расчеты террора: и рабочие тут были
слепы и введены в ослепление Рутенбергом. Не знаю, все ли читатели заме-
тили словцо, оброненное Рутенбергом: «Нужно было, чтобы Гапон видел,
что судили его именно рабочие, верные его, друзья его, - и что именно они
казнят его, что он принимает смерть вовсе не от политических противников
своих, революционеров». Опускаю необыкновенную жестокость, так ска-
зать, нравственную муку, какую он прибавил Галону в секунду смерти. Нужно
же так отравить сознание человека, до такой степени вовсе не пожалеть его...
Но оставляем это. Сознание рабочих, слушавших за перегородкою, было
доведено «тихонею» Мартыном опять до степени того белого каления, ког-
да они «запрыгали прыжками» и «вцепились в Гапона» и решительно ниче-
го не в силах были понять и рассудить, взвесить и разобрать. «Ты торговал
нашей кровью», - рычали они. Но уж если разбирать сухо и арифметически,
если с микроскопической тонкостью отделять иглою нитку от нитки, волок-
но от волокна, - то Гапон именно их «кровью» никогда не торговал, их он
любил и им был предан даже в этот миг смерти. Это-то он и хотел «разъяс-
нить», но его задушила веревка, и он ничего не успел сказать. Он, как каж-
дый мастер своего дела, как каждый изобретатель в отношении своего изоб-
ретения, любил горячею любовью только свое дело, его одно, его исключи-
тельно: своих рабочих, свои организации. С прочим всем, от Мартына до
Рачковского, он сливался случайно, эклектически, только по виду, холодно и
безучастно; он думал «пользоваться» ими, когда, на самом деле, они пользо-
вались им, горячею и частью сумбурной головой. Он был игрок, они - счет-
чики; он только метал карты, в пару, безумно; а они подписывали мелком
итоги, его просчеты и свой конечный огромный выигрыш. До некоторой
степени он попал в «рулетку» сложной политической игры, где все проиг-
рал, - он, красный поп, огненный лик. А они, мокрые, еле выиграли. Но
«рулетку» устанавливали именно они. Он в ней заезжий, авантюрист...
Это нужно помнить.
Можно спросить Мартына:
- Да отчего же вы, которого он считал задушевнейшим своим другом, -
отчего, видя его нравственное падение, его колебания и новые ужасные свя-
зи, от Мануйлова до Рачковского, в которые он попал, - не сказали ему тех
великих задушевных слов, на которые имели право, как его друг, которые вы
обязаны были найти, чтобы спасти такого человека, которые находятся же у
членов вашей партии, у некоторых, судя по предсмертным их запискам и
письмам. Почему вы молчали, словно воды в рот набрав? Отчего вы его не
383
свели с этими прозрачной и чистой души людьми, которые выговорили бы
ему те слова, каких вы не находили по своей неспособности? Нужно было
принять все меры. Гапон - не что-нибудь, не кто-нибудь. Если Рачковский
мотивировал сближение тем, что «им нужны таланты», то ведь и революции
можно было об этом подумать. Гапон - не только сила и темперамент; но,
наконец, нужно было отнестись к нему горячо и участливо уже за 9-е янва-
ря. Он и кричал перед петлею: «Вспомните мое прошлое, простите меня за
мое прошлое». Нет, он несчастный, что-то ужасное проигравший на рулетке
человек! Но не он ставил рулетку. Ну, так отчего же вы молчали, не плакали,
не молили, не ломали рук? Отчего вы не пошли к его возлюбленной и жене
и не объяснили по-человечески ей всего дела? Вообще, отчего вы ничего
«по-человечески» не сделали, «по-нашему», «по-русски»? Уж во всяком слу-
чае, вас-то, Мартына, преданнейшего своего друга, он не предал бы. Вы на-
мекаете, что он предал вас Рачковскому; но ведь вашего лица никто из ох-
ранников не видал, жили вы под чужим паспортом, «шпики» в Озерках, о
которых вы предусмотрительно рассказываете, благо, вас никто теперь в
этом не может опровергнуть, - или показались вам, или вы их выдумали
(«они вдруг куда-то провалились за мостом»), и, во всяком случае, близко
вы их не подпустили к себе и рассмотреть лица вашего им не дали. Что вы
говорите явную неправду, будто вас, Рутенберга, Гапон выдал Рачковскому,
- явствует из того, что вы - в целости, а Рачковский не выпустил бы вас,
будь вы ему «преданы»... Итак, тут - фактическая неправда. Гапон вас не
предавал, и значит, не хотел предавать; а если так, отчего же, видя нрав-
ственную гибель друга, вы не пошли к его жене и не стали умолять ее, пла-
каться и рассказать все «по-русски». Отчего? Отчего? Отчего вы приняли
«программу» Азефа и точно ее исполнили, - переменив только Финляндию,
которую нашли «неудобною», на Озерки... Азеф вам был ближе Гапона,
этого-то уже невозможно скрыть. Может быть, на это обратят внимание и
читатели «Matin»...
И Рачковский на свидание с Гапоном и Рутенбергом не пошел к Кюба.
Уж очень их боялся вдвоем? Но Гапон переходит на его сторону, называет
его «порядочнейшим» человеком, и, конечно, Рачковский знал и видел на-
сквозь Гапона, видел настолько, чтобы быть уверенным, что Гапон не ки-
нется его убивать. Ведь он был совсем на другой линии. Итак, Рутенберг, с
глазу на глаз с Гапоном и Рачковским, убил бы Рачковского, а может, вместе
и Гапона: невероятно, неправдоподобно этого бояться. Да ведь и это - от-
дельный кабинет у Кюба, на Морской улице, сейчас же за дверями люди, и
скрыться убийце было бы невозможно. Это вовсе не уединенная дача в Озер-
ках. Отчего же Рачковский, который так жаждал, ну до тоски, увидеться со
страшным Рутенбергом, вдруг не пошел на это «извольте»... Тут что-то не-
договорено, что-то темно... Может быть, им невозможно было встретиться
в присутствии третьего человека?
Гапон погиб. И смерть так страшна, что забываешь всякую вину. Стоит
вдали и тень Азефа. Говорят, и Каляева он «снарядил» на подвиг и висели-
384
цу; и о Галоне сказал Рутенбергу: «Эту гадину надо убить». Выработал план;
и вообще «приготовил к похоронам». Над телом Галона, по дополнительно-
му рассказу рабочего и участника, Рутенберг тоже стоял долго, печально
говоря: «Так висел и Каляев». Он и Каляева любил, этот Рутенберг, и Галона
тоже «любил»; Галон ему говорил: «Ты же не пожалел Каляева, чего жале-
ешь теперь»... И Рутенберг этим-то больше всего и распалил рабочих, что
«Галон безжалостен». «Вы не жалеете товарищей», - говорил он перед тем,
как повесить друга. Все, по его же словам, «по плану Азефа». Вообще, перс-
пективы такие: Азеф вдали и, вообще, в виде Провидения над революци-
ей... Ближе к конкретному, осязаемее - Мартын Рутенберг... Оба в самом
центре, развертывают пружину; пружина развертывается и раз ударяет по
лбу Каляева - он сваливается, в другой раз - Гапона, и он сваливается.
Гробы не выдают своих тайн.
Мертвые молчат.
Как ужасно! Как все тягостно читать!! Ночью вспомнишь и вскочишь с
постели.
* * *
Гапон в значительной степени был сумбурным, стихийным человеком. «Со-
циал-демократической машинки», если позволительно так назвать систему
сей экономической мысли, он не понимал в тонкостях. Он умел поднять,
повести за собою. Вот этого никто из революционеров, «настоящих револю-
ционеров», - не мог. И нельзя вообще не подумать, что он был даровитее их
натурою, шире, властительнее, заносчивее, может быть, развращеннее, ис-
порченнее, но шире... Нельзя не заподозрить, что бес некоторой зависти
уязвлял сердца вокруг него. «Он смог! Сотню тысяч народа смог поворо-
тить, - тогда как мы обращаем к себе каких-то студентиков». У нас рыбка
маленькая, ему в улов попался осетр. Нельзя не заподозрить, что эти обык-
новенные чувства не чужды и революционерам. Но как он смог?
Все, что мы о нем знаем, все мелочи, дошедшие до нас, - говорят о
дикой, сумбурной, вольной натуре. В нем было много «гульбы», выразим-
ся так. Он хохол, с юга, из малорусских степей. Преосвященный Антонин,
теперь «уволенный на покой», говорил, что он из соседнего села с его род-
ным селом. Потом о временах его студенчества в духовной академии рас-
сказывал, что он очень предавался картежной игре. «Раз он прислал ко мне
записочку с просьбою ссудить несколько десятков рублей - уплатить про-
игрыш в карты. Мне, цензору тогда, откуда их было взять? Я отказал. Он
прислал вторую записку, неистово ругательную». Он, студент, не был под-
чинен цензору-архимандриту, и этим объясняются такие «духовные отно-
шения». Все по-русски. Дикая натура сказывалась и потом, когда он сде-
лался учителем школы для девочек. Раз он в чем-то разошелся, и, как все-
гда, резко и грубо, с попечительным советом школы. Известно, что законо-
учители обычно «пребывают в безмолвии» перед такими и властными, и
богатыми лицами, как члены попечительного совета, поддерживающими
385
школу денежно. Но Гапон повел резко дело и дошел до того, что раз, вый-
дя из совета в домовую при школе церковь, зажег кадило и, вернувшись в
совет, начал обкуривать всех ладаном, говоря: «Изыдите, бесы! В вас все-
лился бес!» Таким образом, он был способен и на византийские выходки
во вкусе Фотия. Потом, будучи вдовым, увлек оканчивавшую девушку той
же школы.
«Все, как подобает быть попу». Степи Украйны гуляли в нем, - и их
ветер, и их думка. Потом перекинулся в рабочее движение, не понимая его
теории, может, - пренебрегая ею, но чувствуя шкуру, кости и кровь его.
Натурою он понял натуру движения. И принял его на свои могучие плечи.
Тут в нем сверкнула грань Пугачева и Степана Разина, - но только в заро-
дыше и в немногие первые дни. Все же он «развращенный сын развратно-
го века». Так это и примем. Мы тоже все не святы. Любил он женщин, -
ведь и мы их любим? Любил игру. Конечно, вечно нуждался в деньгах, и,
как у всякого пролетария «на момент выхода из пролетариата», у него сверк-
нули глаза на золото. Не для «покоя старости», - для чего, как известно,
накопление нравственно, - но для «гульбы», для чего оно непозволитель-
но, вероятно, и по взгляду честного Мартына. Черт знает, чем его очаровал
Рачковский: может, тем, что говорил ему много о таланте, и, может быть,
этому даже завидовал Рутенберг, но правдоподобнее - тем, что говорил
ему о возможности легально устроить судьбу рабочих, о видах на это пра-
вительства, о пользе правительства пойти навстречу этому, но - без поли-
тики и согнув в бараний рог предварительно нелегальных. Вот в эту точку,
вероятно, и «клюнул» Гапон, неумно и пьяно. «В самом деле, с ними рас-
правимся, ведь они - тоже баре, господчики. И потом попросту, по-русски
устроим рабочих». Помните, ведь Пугачев не только «столковался с пра-
вительством», но и персонально в себе слил разбойника и главу прави-
тельства. В наших степях - дело бывалое. Но память «9-го января» не за-
былась: тут его поджидал Азеф, оказавший «одну из немалых услуг» кому
следует тем, что накинул тихо и бесшумно мертвую петлю этому опасно-
му в возможности, в будущем человеку, этой «гадине» по 9-му января (тут
вышел каламбур, не разобранный Рутенбергом)...
Прощай, - Гапон.
Merci, Martin.
* * *
Кто-то только, - помнят ли это? - приносил еще долго-долго на его могилу
цветы... И, будто бы, это именно рабочие, хотя им, конечно, все рассказали
если не прямо, как участники, то косвенно, как «слухи», как «узнали», - о
сношениях его с Рачковским, о предательстве, об «измене народу»...
За что-то его любили.
Спасибо же, Мартын Рутенберг. Угодил, кому следует.
История эта еще будет доказана...
386
ПАМЯТИ ПРОФ. ЛЕСГАФТА
Закатилась крупная звезда русского духовного, русского умственного небо-
склона: умер проф. Лесгафт. Еще гимназистами, в провинции, мы слыхали
повторяемое: «Лесгафт», «Лесгафт». Это говорили приезжавшие из Петер-
бурга студенты, медики и естественники. Потом, став сами студентами, мы
опять слышали это имя, тоже не отдавая себе более ясного отчета в его зна-
чении. И вот мы выросли, живем, служим - все повторялось кругом то же:
«Лесгафт», «Лесгафт». Оно звучало в семьях, в учебных заведениях, в засе-
даниях разных ученых обществ. Слышалось около него другое имя: «лес-
гафтичка». Точно образовался какой-то духовный орден около какого-то папы,
- только на этот раз другого направления и с другим содержанием, но с та-
ким же глубоким почитанием своего духовно-биологического папы! Нако-
нец, прошло еще несколько лет, у вас родились и подросли дети, - подросли
в скверном петербургском воздухе довольно плохо: и вот тут, в заботе и тре-
воге, вы вдруг услышали голос:
- К Лесгафту!
Ведя девочку или мальчика с каким-нибудь угрожающим искривлением
позвоночника, с бледным бескровным лицом, с ранним ослаблением зре-
ния, с необъяснимым бессилием, с нелепыми для возраста головными боля-
ми, - вы подымались по полутемной лестнице (ход со двора) в четвертый
этаж, отворяли дверь и входили в небольшие, тоже не очень светлые, ком-
натки, где будто обитает заштатный священник или отец дьякон. Так при-
выкли вы именно к этим комнатам, этого вида, этого духа, - у чистой, благо-
родной части нашего духовенства, которая чистоту и скромность души вы-
ражает и в тихом, хорошо выметенном и вымытом, виде комнат. Решитель-
но, - квартира всегда имеет психологию своего обитателя: и у Лесгафта от
квартиры его веяло чем-то старым, тихим, милым и ученым.
Множество книг на кое-каких полочках, - вовсе без шкафов; инстру-
менты и аппараты непонятного вам значения. И вот выходит низенький, се-
ренький старичок:
- Петр Францевич Лесгафт.
Это-то историческое имя, которое вы слышали еще мальчиком, слыхали
в Москве, слыхали в городах по Волге!
Да, он.
«Он» приказывает ребенку раздеться, - конечно, догола и всей фигурой,
- и внимательно, долго изучает все его тело. Каждая косточка пощупана, каж-
дый орган исследован. Точно второй «бог», ревизующий создание первого,
т. е. настоящего и, конечно, единственного, Бога. «Наденьте платье», - рас-
поряжается он ребенку и начинает изложение вам.
- Никаких лекарств!
- Пожалуйста, никаких железных корсетов, деревянных или лубочных
шин, никакой машины около организма!
387
- Организм испорчен вами, родителями. Природа его должна исправить:
воздух, питание, солнце, движения!
«Движения»... Эта часть разлагалась в целую науку, - и нужно было
иметь ум, чтобы только понять объяснения профессора! Всякий найден-
ный им недостаток организма исправлялся через движения-т^ы, с мя-
чом, с разными тяжестями в руках, с подвязыванием тяжестей к рукам и
ногам. Игры были так систематизированы, что ребенок вынуждался са-
мою игрою сгибаться так-то, под таким-то углом и с такою-то живостью, в
такую-то сторону. Я описываю то, что мне пришлось наблюдать. Бесчис-
ленные другие родители, без сомнения, видали и знают другие упражне-
ния. Мысль их заключалась в пробуждении питания увядающего органа,
в создании упражнения для него, и, через это, в приливе крови к больной
части.
- А кровь вылечит!
- Но откуда взять крови?
- Из воздуха, солнца и движений!
Я намечаю чуть-чуть, намечаю крупинку из того, что составляло целую
науку, с лабиринтом вспомогательных сведений. Специалисты в специаль-
ных статьях изложат ее. Да чтобы усвоить это и понять, чтобы наконец рас-
сказать это и передать, - нужно годы учиться.
С понятным бессилием родитель, часто родительница, говорит профес-
сору:
- Я, Петр Францевич, ничего из этого не понимаю. И сверх того уже все
забыла, что вы говорили. Это такие подробности...
- Имеете ли вы средства немного заплатить моей ученице, которая про-
изводила бы с вашим ребенком все эти упражнения у вас на дому?
При вашем согласии, вы спускались вниз, - переходили куда-то: и перед
вами открывалось что-то похожее на целую академию!
Это был целый, оригинально и самостоятельно им придуманный и со-
зданный университет, своеобразно комбинировавший и своеобразно приме-
нивший биологические науки к пользе и здорового и больного человека,
больных и здоровых людей.
Везде мелькали «лесгафтички», внимательные, послушные, хочется ска-
зать, - покорные своему наставнику ученицы, с тихими, умными взглядами,
молчаливые, деятельные, живые.
Я передаю, что видел, как видел... В другие минуты и другим, может
быть, казалось иное.
За осмотр и изучение вашего ребенка он ничего не брал, т. е. отказывал-
ся от платы, если она была предложена. Начинавшая посещать вас его уче-
ница назначала плату столь маленькую, что вы не могли не удивиться, из-за
чего она работает. И так деятельно работает каждый урок, не останавлива-
ясь сама в движениях, ни на минуту не давая остановиться и ребенку, кроме
«назначенных профессором» перерывов. Являлся вопрос, на какие же сред-
ства профессор живет?
388
Верно, лично кого-нибудь лечил. Этой стороны его деятельности я со-
вершенно не знаю.
Через каждые две недели мать обязана была показать Лесгафту опять
своего ребенка: и он опять нагибался и так же тщательно изучал его части,
его члены, его органы. Присутствовала при этих повторяющихся осмотрах
уже «лесгафтичка», назначенная им для упражнений, и на нее он шумел,
когда нога не росла или перегиб не разгибался.
Вздыхая по дороге, «лесгафтичка» иногда говорила:
- Петр Францевич уже стар стал и не так свежо помнит все, как бывало
в прежние годы. Как же опухоль не опадает: вы видите сами, что опадает. Но
через две недели после предыдущего осмотра он не помнит, какая была опу-
холь тогда. И вот теперь бранит меня. Я не виновата.
«Мамаша» успокаивает девушку, явно невиноватую. Она сама такая ху-
денькая, не очень здоровая, - и так старается при упражнениях. Но призна-
юсь: какую нужно иметь силу сосредоточения и внимательности осмотра,
чтобы при десятках ежедневно показываемых ему детских ножек, - удер-
жать на две недели в памяти перегиб или недогиб каждой ножки, перегиб
иногда неуловимо малой значительности! Удивительно, если он исполнял
это успешно в молодости, в зрелом возрасте, все сорок лет до старости! Уди-
вительно! ! Но если бы он не помнил все в мельчайших подробностях, - он и
не мог бы надеяться помнить, не мог бы, следовательно, и производить всей
своей чудовищной по трудности, сложности и тонкости работы!!
Но он ее делал.
Я забыл сказать, что при вторых, третьих и т. д. осмотрах он также не
брал платы, - со всех, в том числе и с состоятельных!
Не знаю, как он жил, но совершенно понятно, что он отказался посту-
пить в санаторию, в Каире, - за дороговизною платы!
О нем вздохнут во всей России. А говор о нем прокатится крупной вол-
ной от Петербурга до далеких уголков Сибири. Везде есть ученики его, его
слушательницы.
С 70-х годов прошлого века, когда о «физических методах воспитания»
никто не думал, не заботился, предполагая, что все «само вырастет» и «само
исправится», - он прекрасною немецкою душою, с немецким глубокомыс-
лием, принялся за задачу: «поставить хорошо здоровье и рост русского ре-
бенка».
И что ему было до «Гекубы», как говорит Гамлет? Он был немец, люте-
ранин.
Но он остался в России: «Бог над всеми людьми, и все люди - Его дети».
Для русских детей, их десятков тысяч, лечившихся у него, - старичок с
Английского проспекта останется навсегда дорогим дедушкой. А по связи
их с остальными, по ученикам и ученицам Лесгафта, которые останутся ле-
чить и «исправлять», - он сделается «двоюродным дедушкою» вообще все-
му множеству русского ребячества. «Родители нам дали жизнь, а он - здоро-
вье». Это - так близко и продолжает одно другое.
389
из жизни
Полгода назад я встретился с бывшим своим учеником по гимназии. Он был
даровитым юношею, несколько неукротимым; в жизни, т. е. в своей дея-
тельности, он широко развернулся: летам к сорока он уже заведывал госу-
дарственными промыслами во всей Восточной Сибири, или по прибрежью
Великого океана. Что-то такое в этом роде; службы я хорошенько не разоб-
рал. Он рассказывал о ведении переговоров с японцами касательно их прав
на рыболовство в наших водах (по статьям мира). Говорил он об их напоре и
манере все захватить; и необыкновенной трудности борьбы с их представи-
телями в смешанной комиссии главным образом потому, что Петербург был
совершенно равнодушен к местным русским интересам, к выгодам каких-
то наших «купчишек», и все «дипломатически» расшаркивался и уступал из
имущества и богатства, не составлявшего частного министерского имуще-
ства, или личного имущества чиновников. «Не наше, берите», - говорили,
или почти говорили, про Россию и русское.
Но деловую сторону я оставляю в стороне. Я украдкой любовался на
бывшего ученика. Такой рослый, угрюмый... Но тот же говор, те же движе-
ния бровей и маленький смешок, как было и за гимназической скамьей. Как
мало изменяется человек!
Он был очень серьезен.
В речи он произнес следующую фразу:
- Англичанин вас обманет, когда ему нужно обмануть. И вы ждете, при-
готовляетесь и в обман можете не даться. Но русский обманывает не тогда,
когда нужно, а черт знает когда; как случится и когда удастся...
- Художественно, - так и хотелось прибавить.
Он говорил без гнева, без злобы, но печально. Он не «описывал нра-
вов», а передавал это как величайшее неудобство при ведении дел.
Слова его поразили меня: ибо я почувствовал, до чего это так! А если
это так, то, в самом деле, как трудно вести на Руси какие-нибудь дела, что-
нибудь начинать, что-нибудь предпринимать.
Когда я ехал в Москву на открытие памятника Гоголю, то vis-a-vis со
мною лежал на лавочке немец-коммерсант, представитель в России каких-
то западных пароходных (морских) компаний. Говорим о том, о сем, и он
мне замечает:
- Мальчонок служит в конторе у вас. Вот такой (аршина 1 V2 от полу)...
И вы по глазам видите, что он постоянно вас обманывает или усиливается
обмануть.
Говорит понятным, но несколько ломаным русским языком. Засмеялся
добродушным немецким смехом, тихим и как бы удивленным, и прибавил:
- Он - дурак, а он - хитрый (т. е. мальчонок).
Как меня поразило! Действительно, у нас хитрят не только умные, но
и глупые, без всякой надежды обмануть. Что же это такое? Вспомнил я
слова Кольцова своим петербургским и московским приятелям: «Когда я
390
на торгу, то, хотя бы покупателем были вы, - я вас обману. Лучше потом
верну лишнее, но пока торгуюсь, продаю, покупаю - я не могу не обма-
нуть».
Что же это такое?
Признаюсь, это заняло меня больше, чем памятник Гоголю в Москве. То
преходящее, а это - тоже «от начала мира» значащее в русской натуре. При-
бавлю: раз я услышал, и притом откровенно сказанное, признание в (лично)
бескорыстном обмане со стороны ученого русского человека, европейски
ученого. Очевидно, обмануть никакому русскому не трудно. В этом весь и
ужас, что не трудно. Что же это такое??!
Признаюсь, я нахожу объяснение в той подсказке, какую мне хотелось
сделать немцу в вагоне. Русские обманывают не тогда, когда им нужно; рус-
ские обманывают легко, без душевной трудности. Они - играют обманом.
Торговать просто - им кажется скучно. Что такое «prix fixe»*?.. «Взял изве-
стный процент прибыли». Это явно не интересно, не интересное препро-
вождение времени, тут отсутствие разнообразия, случая, «выше», «ниже» и
проч., что составляет интерес и картежной игры.
«Мальчик-дурак, который хитрит» (в рассказе немца) - собственно ху-
дожественно хитрит, его влечет хитрость как художество человеческих от-
ношений, высший чекан их, высший узор их. Что такое «подать вычищен-
ные сапоги барину»: гораздо интереснее на них плюнуть, помазать пальцем
и сделать так, чтобы они все-таки блестели... Правда, они потускнеют, как
только барин наденет калоши: но уже «дураку мальчику» это все равно: скро-
ив постную и невинную физиономию, он говорит, что «ведь сапоги блесте-
ли, и он их чистил щеткой, а не мокрым пальцем». Мальчик вводит игру в
свою службу, как и купец в торговлю. «Так интереснее»...
Мы художественно-лукавая нация, - вот формула. Но неужели все, все?
Мне приходилось наблюдать, в небольшом проценте, русские характеры,
русские умы, русские души - абсолютно неспособные к лукавству, к обма-
ну. При очень большом уме. Это всегда бывали люди, я сказал бы - траги-
чески настроенные. С чем-то «торжественным» или «глубоко схороненным»
в душе. Скорее весь свет бы провалился, все испепелилось, скорее я пове-
рил бы, что сам не живу на свете, а только призрак, чем бы представил себе
или поверил, что эти (очень немногие) люди кого-нибудь обманули, слука-
вили, в чем-нибудь притворились.
Но я заметил, что все такие люди были с каким-нибудь несчастьем в
душе; с чем-нибудь томящим, щемящим. Даже шутки, смеха в них не было.
Чуть-чуть улыбка, самое большее. «Счастливые минуты» выпадали и им,
но в общем жизнь проходила угрюмо. Какой же итог?
Русские еще слишком беспечальный народ, - и «лукавствуют», как птичка
летает. Это сообщает легкомысленный и нетвердый колорит всей нашей жиз-
* «твердая цена» (фр.).
391
ни; сообщает «плохое течение» всем нашим делам. Но избавляет нас от ка-
кой-то глубокой меланхолии; или, точнее, есть признак, что какая-то горь-
кая чаша еще не доведена до наших уст.
СТИЛЬ ВЕЩЕЙ
Каждая вещь и всякий порядок вещей, группа вещей должна иметь свой
стиль. Что такое «стиль»? Законченность вещи - в том особом законе суще-
ствования, по которому она существует, в той особенной цели, особом на-
значении, ради которого она существует. «Стильные вещи» суть довершен-
ные, доделанные, оконченные вещи, до известной степени остановившиеся
в своей «недвижности» (художественный термин Гоголя) и от которых дви-
жение не ожидается и оно не нужно. Зачем же двигаться, когда все кончено?
Стиль есть душа всех вещей; есть идеал в каждой порознь вещи, но не навя-
занный ей извне, а вышедший из ее натуры, из ее собственной породы.
«Стиль» имеют вещи, люди, сословия, классы, профессии; как имеют
его здания и стихи. Это «causa formalis» Аристотеля, как известно, сливаю-
щаяся у него с causa finalis: то есть «форма» и вместе «цель» всякой вещи.
И вот вчера, 4 декабря, в Варварин день, я разговорился... о стиле духо-
венства. Два слова относительно этого дня: в Петербурге нет ни одной церк-
ви великомученицы Варвары, и тысячи именинниц этого дня, что называет-
ся, «не имеют где голову приклонить», т. е. куда пойти и отстоять литургию
в день своего ангела, с молебном, акафистом и всем прочим, что нужно.
Иногда наудачу, наугад ездят из церкви в церковь, ища, нет ли где придела в
честь этой распространенной святой. И, пространствовав, возвращаются
домой, ничего не найдя. Это, что называется, «непорядок». В таком городе,
как Петербург, ожидается быть церквам поименно главнейшим русским свя-
тым: дабы каждому имени было где помолиться «своему святому». Для всех
Варвар Петербурга замечу, что придел Варвары великомученицы находится в
подворье-монастыре имени Александра Свирского, на Разъезжей ул., как раз
против развалившегося дома Залемана и каменного рынка этой части города.
Разговорился о духовенстве... Защищают, нападают... Духовенство стало
давно «предметом пререкания» в нашем обществе. И вот на «пререканиях»
разговор и столкнулся.
- Все нападают на духовенство. Преимущественно те, которые его не
знают, которые в церковь не ходят. И вот требуют сокращения праздников:
никогда этого (т. е. сокращения) не будет! Духовенство мается-мается, ра-
ботает-работает: какая ему награда, кроме всеобщего порицания? А отчего:
бедно оно. Пусть назначат жалованье: и все его почтут. Будьте уверены, все
почтут и посадят с собою за стол, позовут к себе в гости, как только сам
священник выйдет из бедности и тоже будет в состоянии позвать к себе и
посадить не за пустой стол. Мы презираемы, потому что мы бедны. И прези-
раемы дураками.
392
Не этими именно словами, но клоня в эту сторону и налагая эти именно
мысли, говорила образованная, затрудившаяся матушка, жена затрудивше-
гося и очень честного священника. Меня удивило, что говорит именно о
деньгах человек, лично не корыстный, явно говорилось о сословии, в защи-
ту сословия. Общая «панацея».
- Поднимите благосостояние, и все будут нас уважать.
- Оставьте, вы слепы, - возражал я. - Архиереи богаты, но уважение к
ним тоже невелико. Вы все о деньгах, и это ужасно характерно для сосло-
вия. Поймите же вы, что уважение к духовенству падает от его бездушия, от
его безучастности к людям и жизни, от равнодушия, холодности. Как стол-
бы: стоят - и больше ничего. У всех и явилась мысль толкнуть их: так как
они не «указывают дорогу», по непросвещенности, а мешают в дороге, по
той же причине. Просвещение и гуманизм, а не деньги - вот средство к под-
нятию авторитета.
Не слушает. Дошло до криков. Тщетно именинница просила остановить-
ся: все неслось в вихре спора. И вот во время его мелькнуло слово у спорщи-
цы, от которого я не мог заснуть ночь:
- Для меня, если священник носит белые воротнички, - тот уже не свя-
щенник. Нет, зачем же ломаться: захотел воротничков - снимай рясу, как
Г. С. Петров и другие.
Сама она окончила курс в одном из лучших институтов, - может гово-
рить, хотя никогда не говорит, по-французски, умна, отчетлива и безукориз-
ненно честна. Но «матушка» залила в ней все, - дворянство, образование, и
сохранился только «женский ум», без логики, с пылом, без новизны и ори-
гинальности в мыслях, но фанатически выражающий общий говор, крик или
требование сословия.
Последнее-то и было важно! Говорило «сословие», дух его.
И вдруг это:
- Белые воротнички!
Как требование «последнего чекана», как «завершение стиля»: нет его -
вон из сословия!
Это не так пусто и отнюдь не случайно и минутно: в знаменитой «Записке
об истории ученого монашества на Руси» покойного архиеп. Никанора одес-
ского тоже есть слова о «белых воротничках», которые в его время начало
носить духовенство. Матушка, конечно, этого не вспомнила и, может быть,
не знает. У нее самостоятельно и оригинально вырвался этот крик:
- Не надо белых воротничков!
Во мне шевельнулся Вольтер, и я рассмеялся:
- Послушайте: неужели Бог может иметь участие к тому, носят или нет
попы белые воротнички? Чистое сердце, добрая жизнь - вот что нужно Богу.
- Да, да, - сказала она, но безучастно. - «И добрая жизнь». Но это было
уже совершенно бесстрастно. Между тем матушка, я хорошо знал, была имен-
но «доброй жизни» человек, участливая к людям, родившая одиннадцать
человек детей и отлично вырастившая и воспитавшая тех из них, которые не
393
умерли в младенчестве. Но мимо доброй жизни она прошла в споре молча,
а белые воротнички мутили ее душу, как начало разрушения всего. Между
тем ни тени глупости в ней не было, она была явно умна, хотя обыкновен-
ной формой русского ума.
Здесь я попрошу всего внимания читателя.
Страшно важно, показательно, интересно, когда в жизни, в разговоре, в
книге явное безумие прорежет умный строй мысли или явный порок пере-
сечет полосою добродетель. Знайте, тут центр жизни, седалище истории.
Тут почили века и смысл их. Ибо продолжать говорить умно ведь так про-
сто, но что-то поперхнулось, встала какая-то упорка в речь, в мысль. Отку-
да? Из веков. Из стиля веков...
Белые воротнички... Что такое? Просто - смысла нет. Ну, какое дело
Христу до белых воротничков: с ними или без них «приидите ко Мне». Вдруг
крик: «С белыми воротничками не смейте подходить к Христу». Не пони-
маю. Непонимание еще более увеличивается при мысли, что в золотых мит-
рах, в парчовых ризах можно, т. е. с богатством вообще можно: только если
достаток выражен в белых воротничках и манжетах, то почему-то нельзя
подойти ко Христу, идти к Богу, идти в Царство небесное и устраивать, спа-
сать души.
Но почему??!!..
Просыпаясь ночью и продолжая думать, я понял, что и сам я почему-то
тоже не люблю и никогда не любил священников в белых воротничках и с
манжетами. Но почему же и я, «такой умный»? Непостижимо! Как не люб-
лю, не уважаю и либеральных священников. Сам либерал, а в священнике
этого не люблю. Читатель видит, что мы подошли к целому ряду загадок,
который можно очертить словами - «стильные вещи».
Священник должен быть «стилен», - как мастеровой, воин, царь, граж-
данин, все. «Стиль» мастерового - кипучая работа, воина - храбрость, пря-
мой стан, честь; царя - достоинство, величие; гражданина - свобода и «пре-
успеяние прогресса». Но священника?..
Вдруг вырывается: «белые воротнички», не нужно их.
- То есть чистого белья? - смеется в вас Вольтер.
Крик натуры, нервы, все выкрикивает:
- Не знаю. Не понимаю. Но белых воротничков не надо.
Ловя себя в «тайных мыслях», и вы тоже замечаете, что «белых ворот-
ничков» не любите, как и «либерального священника».
Что такое?
Явно это не душа и до души не относится, и не религия и до религии не
относится.
Между тем - в центре религии, как непременная черта религии.
Да что же это такое, наконец? Ведь тут прямо магия, волшебство, как
«сила непонятных вещей». Почему вы не любите либерального священни-
ка? Какого же вы священника любите?
В «тайных мыслях», ночью, я себе отвечал:
394
- Либеральный священник безвкусен и, наконец, отвратителен, как се-
ледка, обмокнутая в варенье. Смесь разных вещей, разнородных. Священ-
ники молились за русский народ во время монгольского ига, когда было не
до либерализма. При Петре, когда тоже было не до либерализма. Либера-
лизм что-то новое, а священник от древности. Он уже так выковался в исто-
рии, так сложился его образ, его дух, его стиль, что «либеральное» как-то в
нем неуместно, не находит себе места, нет ему уголка в его душе и жизни.
Все уже занято другим, и занято века - заботою о приходе, о смерти людей,
о жизни людей, о рождении людей, о крещении, о венчании, о похоронах, об
исповедании грешных. Просто, для «либерального» не осталось уголка.
Чтобы ему войти, - нужно, чтобы в священнике образовалась пустота, что-
бы он из себя выбросил что-нибудь, например заботу об умирающих. Тогда
«либерализм» войдет в это пустое место. Но это есть явно разрушение свя-
щенника. Вот отчего священники не либеральны и к ним это «не идет». Ка-
кой же нужен священник? Боже, ведь вот к какому вопросу нас подвели «бе-
лые воротнички» матушки. Эти «бессмысленные» воротнички: когда я буду
умирать, мне хочется, чтобы в комнату ко мне вошел священник с ясной,
несмятенной и непотревоженной душой, с полною верой в свое предание, в
свое, именно свое, это ихнее священническое, хотя мне лично и чуждое. Ког-
да я буду умирать, мне не «мое» нужно, «мое»-то именно мне и не нужно,
ибо «я» умираю и все «мое» со мною умирает: а нужно мне «другое», вот
«его», человеческое, мировое. Ибо, как умирающий, лично я теперь бесси-
лен и цепляюсь руками за что-то большее моего, вот за «веру предков», «веру
народа». Смерть - отречение от себя. И вот пусть войдет священник, уже
пожилой, с ясными глазами, чистой душой, с добротою и участием, но не-
пременно спокойными, без всякого волнения, и скажет мне слова утешения
и надежды на будущую вечную жизнь.
И конечно, все это ужасно смутится, если я увижу на нем белые ворот-
нички и манжеты, все такое «новенькое» и «мое»!..
ЕЩЕ О СТИЛЕ ВЕЩЕЙ
Замечательно, что в тот ожидаемый и маленький образ священника, которо-
го вы хотели бы увидеть в смертный час, не входит и очень большая, «до
подробностей знания», доходящая ученость, и проницательный, «до язви-
тельности», ум.
- Не надо этого, не хочу! - скажете вы в смертный час.
Но почему? Вот странность.
«Язвительно» проницательный ум колеблет душу. А перед смертью вы
хотели бы не колебаться. Смерть, сама она - есть колебание всех вещей: я
ухожу из жизни, и через это все вещи - уходят от меня. Полное колебание,
разрушение. Тут ухватываешься за что-то, и это «что-то» должно быть абсо-
лютно твердо. Около этого пункта и закипел собственно спор об «автоно-
395
мии» духовных академий и даже о том, нужна ли в этой области большая
наука, большая ученость.
«Стильные» архиереи, вроде Антония волынского, сказали:
- Не нужно. Вредит.
Хотя «почему» и особенно кому «вредит» - едва ли разобрали. - А тут
нужно именно разобраться.
Приходскому священнику, народному священнику, «большая наука» если
и не вредит особенно, то и не очень нужна. Но в стране, но в России и для
России, для самой церкви, наконец, как «столпа истины» - огромная и даже
огромнейшая наука совершенно нужна, и совершенно она допустима и же-
лательна, если церковь вполне уверена, что она есть «столп истины». Поэто-
му возражения против высоты науки в духовных академиях частью бесспорно
истекают из скептической мысли о неполной правоте православия, каковой
скептицизм тяжело видеть в еп. Антонии волынском или Димитрии херсон-
ском. Но другой источник споров против высоты и независимости науки
правилен и понятен. Суть церкви в священнике, богомольце. И ему это прак-
тически не нужно, жизненно не нужно. И говорят:
- В академиях это не нужно, потому что не нужно.
При этом слово «церковь» суживается до службы при постели умираю-
щего. Повторяем: это - главное. Но главное - всегда есть не все. Между
центром круга и его перифериею - большая разница.
Для «периферии» церкви наука нужна, и притом высочайшая и непре-
менно абсолютно свободная. Без этого нет ее достоинства, ее величия исто-
рического. Без блеска, и притом ослепительного и изумляющего, - богосло-
вия и богословствующей философии, церковь in pleno* меркнет, гаснет, пре-
вращается в уездное, захолустное явление, хотя и очень теплое, глубокое и
милое. Она теряет историческое положение, исторические ноги под собою.
Поэтому «прижимки» или гонения, каким в наше время подвергнуты проф.
М. Тареев, первенствующий в философии религии в наше время, или епис-
коп Никодим, лучший ректор, вытесненный после больших заслуг церкви
из московской духовной академии, - бессмысленны, унизительны для дос-
тоинства церковного и показывают полное отсутствие большого церковного
ума в наших иерархах, смешивающих нужды прихода с мировым положе-
нием церкви. И епископ Никодим, и проф. М. Тареев с силою и блеском
служили церкви in pleno, церкви в ее периферии, русской православной цер-
кви в ее «миродержавном» значении. Но власти в Москве просто не понима-
ют самых этих терминов, имея ум исключительно епархиальный (не обще-
русский, не всероссийский), немножко консисторский, немножко деревен-
ски-кладбищенский.
Но практически они правы:
- Наше дело - готовить священников. А священнику большая наука не
нужна. Поэтому большая наука не нужна в академии.
* полностью (лат.).
396
Ряд силлогизмов без всякой связи. Лиц, готовящихся крестить, испове-
довать, венчать, хоронить, нужно наставлять превосходно в этом именно
деле, и вовсе не для чего таких посылать в духовную академию, где изучает-
ся все «досконально», с большим скепсисом (непременное условие науки),
изучается умом «язвительным», до всего «достукивающимся» и проч. Ду-
ховная академия, пусть же одна на всю Россию, должна существовать для
«ученых справок» самой церкви, ее иерархии, - которой некогда же самой и
рыться в книгах, - для теоретического и полного и притом доказательного
оправдания церковных утверждений, тезисов, практических шагов, всего
учения и догмы; и самое последнее - для подготовки преподавателей семи-
нарий, т. е. людей светских, отнюдь не священников. Вот для чего нужна
духовная академия. Как для подготовки учителей гимназии нужен универ-
ситет. Что касается семинарий, где и должно заканчиваться подготовление
священника, то в них все должно быть сконцентрировано около этой одной
задачи: т. е. действительно может быть выкинуто все, до священнических
обязанностей не относящееся, и углублено, развито и одухотворено все, свя-
занное с этими обязанностями.
Вот полная мысль.
Свой стиль у семинарии.
Свой стиль у академии.
Они не имеют между собою ничего общего. Любовь и привязанность к
богослужению, к службе; высокое художественное развитие в этом отноше-
нии; тонкое знание запахов ладана, мерцания свеч; тончайшее уловление и
чуткость ко всем этим линиям греческого образа, к чудным художествам
вытканного Византиею; понимание состояний души человеческой, и проч,
и проч., - вот что нужно в семинарии. Вон физику и «ахростатику» (все это
теперь есть в семинарии) и подавайте историю христианского зодчества,
историю церковной музыки. Народные былины, народные сказки, народ-
ные обрядовые песни, надгробные народные «причитанья» - уместны и даже
непременны в семинарии; но Тургенев и Гончаров совершенно неуместны и
не нужны. К этому прибавим непременно добрый нрав, ясную и спокойную
душу, хорошую, четкую речь, непременное отсутствие явной большой ко-
рысти. Вот «определители», по которым «постановляется священник». Без
всех этих качеств, и умственных и сердечных, без этих качеств и характера
невозможно ставить на священный сан: пусть иные идут в иную службу, в
консисторию, в светские канцелярии; пусть идут в духовную академию. Но
без мягкого характера невозможно делаться священником!!
А без алгебры можно. Теперь наоборот: без алгебры - нельзя, а хоть при
зверском характере - можно. Семинарии и обратились в «собак» в отноше-
нии священнических задач, как их перед смертью назвал Победоносцев. Но
для чего же именно он оставил эту мешанину стилей, этот винегрет вкусов,
этот хаос понятий и наук.
Мне, и нам всем предсмертно, понадобится священник твердый в вере,
добрый в жизни, правдивый (без этого нет священника!), разумный в меру,
397
без тонкостей, ученый умеренно, «друг души и жизни», - и больше ничего.
Зачем нам алгебра в нем? Философствование, как у Канта, ученость, как у
Деллингера, критицизм, как у тюбингенцев, душепытание, как у иезуитов?
Не нужно.
А в академии все это нужно. Но у нее совсем другой стиль, на котором
мы не останавливаемся.
«ТАКОЕ ПРАВИЛО»...
Когда поезд раздавит человека, то, взглянув на ужасное зрелище обмотав-
шихся вокруг колес кишок его, никто не спросит, был ли это дурной человек
или хороший, был ли он грешник или праведник, и т. п. Есть физиологичес-
кая жалость, которая заливает духовную, есть биологическая близость меж-
ду людьми, которая пробуждает сочувствие без вопросов морали. Собствен-
но по этому исключительно чувству русский народ и именует всех преступ-
ников «несчастными», нимало не предполагая, что они невинные, нимало
их не оправдывая, нимало не протестуя против наказания.
«Несчастие» - это положение, это факт, без нравственной оценки.
Мне была прислана вырезка из газеты, отчеркнутая красным каранда-
шом, при надписи сбоку чернилами: «За что погубили семью?» Вот эта вы-
резка:
«На этих днях, в одной из третьеразрядных гостиниц Васильевского ос-
трова, при проверке номеров (?В. Р.) были задержаны мужчина и дама. «Он»
с легким сердцем назвал свое имя и фамилию: «она» со слезами на глазах
умоляла не трогать этой стороны дела и отпустить домой к мужу и детям.
В силу существующего порядка (?П В. Р.) сделать последнее не представи-
лось возможным. Хозяин гостиницы за допущение в ней разврата подлежал
судебной ответственности, а застигнутая парочка должна была фигуриро-
вать в качестве свидетелей. После долгих усилий полицейскому чиновнику
удалось убедить даму в бесполезности ее истерических рыданий и в необ-
ходимости назвать себя. «Она» оказалась женою управляющего одним со-
лиднейшим предприятием в Петербурге, матерью трех детей, обучающихся
в средних учебных заведениях. Знакомство с «ним» оказалось совершенно
случайным, уличным, последовавшим час назад. «Дама» вольность своего
поведения объяснила скупостью супруга, мало отпускающего на тряпки,
несмотря на имеющиеся средства. Личность «мамаши» была удостоверена
по телефону. После этой формальности несчастная женщина была отпуще-
на к мужу и детям».
Репортер газеты все шутит. «Мамаша», «дама» и проч. Можно вообра-
зить ужас в их доме, когда запросили по телефону от имени полиции. Можно
ли представить, как вошла она в свой дом? Да хроникер и недосказал или не
знает, как пока не знает и «полицейский чиновник», куда она пошла? Пря-
мой путь отсюда не «домой», так как «дом» весь разрушен, до основания, до
398
искоренения, - а в Неву, в воду, утопиться. Вообще надо сразу же иметь в
виду, что подобные случаи могут и даже должны бы оканчиваться само-
убийством, как собственно единственно прямым и нормальным выходом из
положения, из которого в собственном смысле «выхода» нет: случай неиз-
меримо тяжелее, нежели проигрыш казенных денег офицером, лишение
службы, отдача под суд и прочие мотивы самоубийства. Нельзя ссылаться,
что его в данном случае не произошло: не произошло у одного, произойдет
у другого; не произошло сейчас - может произойти в ближайшие дни, не-
дели, месяцы.
Хроникер газеты пишет: «В силу существующего порядка...» Я не пи-
сал бы заметки, если бы не недоумевал самым тягостным недоумением о
том, кто же установил и сознал себя вправе устанавливать «порядок», могу-
щий привести к самоубийству. Ранее суда над несчастной женщиной я на
месте мужа судил бы того, кто раскрыл это о моей жене и громогласно афи-
шировал. Честь дома принадлежит хозяину дома, поведение жены находит-
ся в обладании мужа, как и наблюдение за ним, забота о нем. Это разграни-
чение сфер нельзя не иметь в виду. Полиция ни в каком случае не может,
прямо или косвенно, сообщать мне о поведении моей жены и тем более раз-
глашать о таком поведении. А произошло именно это. Суть дела, конечно,
не в «чистоте» гостиницы: кто же этой «чистоте» верит и как можно ее заве-
сти в городе с 1 Vi миллионным населением и где есть несколько десятков
тысяч вольнопрактикующих проституток, пользующихся именно гостини-
цами?! Никто этой полицейско-санитарной идиллии не верит, и сама поли-
ция исполняет формально приказания «начальства» об обысках, не веря,
конечно, в их результат и действия. Суть и заключается в распоряжениях
«начальства», которое суммой подробностей в данном случае довело до све-
дения мужа и детей о поведении их матери и его жены и разгласило о них
(явка в суд). Вправе ли «начальство» так поступать: на месте мужа я за это
вторжение его в права моего (мужниного) суда, как и на месте детей за ос-
корбление их матери, жестоко судил бы, а при бессилии - все-таки мстил
бы. Говорю, как это чувствуется в душе. Ни дети, ни муж, которые имеют
кровное родство с несчастной женщиною, уже фактически с нею связаны,
не могут не почувствовать в этом случае гораздо более жалости к матери и
жене, чем чувствую я (а я ее чувствую), и не возненавидеть всеми силами
души виновников, разгласителей ужасной тайны. Мать же и жену, после бури
гнева, они могут и простить, видя ее в положении «как бы раздавленной
поездом».
Инициатором подобного «разглашения» может быть только муж, толь-
ко отец семьи: без его просьбы «вмешаться» и «изловить» полиция никак не
может по собственной инициативе начать «ловить». Это есть какой-то об-
щественный сумбур и безобразие...
Да, есть несчастные мужья, которые знают о приблизительно таком по-
ведении жен и все-таки (до того странны любовные феномены!) безмерно
их любят, нежно о них заботятся, всячески берегут их, дрожат при всякой их
399
болезни, беспокоятся за всякое их беспокойство!! Есть такие случаи, и я
знал один из них, тянувшийся лет 15: муж плакал и все-таки любил жену,
жившую со всеми, кроме его одного (почти кроме его..В подобном слу-
чае муж всячески бережет тайну жены, от всех ее скрывает, и вмешатель-
ство здесь полиции с ее «разглашением» кажется чем-то чудовищным. Все
равно, что тесаком рубить по трепещущему сердцу, и так облитому кровью.
Захваченная женщина сослалась на недостаток денег, вероятно, наобум,
желая как-нибудь скрыть свой стыд, наконец просто пробормотала эти сло-
ва в безумии. Какие же «деньги» принесет уличная встреча, и на какие «тряп-
ки» их хватит. Именно на «тряпки», чтобы стирать пыль с мебели, а не но-
сить их. Три-пять рублей?
Тут, вероятнее, мы имеем дело с случаем, известным науке, записан-
ным на многих страницах медицинских книг, чрезвычайной силы темпера-
мента, силы притом врожденной, которая приводит девушку к раннему за-
мужеству, как только «позволено законом», но затем фатально выводит ее
из рамок семьи и влечет к поступкам, близким к описанному и даже точно
таким. Все это, словом, записано и науке известно. Наука отмечает также,
что подобные женщины тогда отличаются высокой талантливостью, боль-
шой деятельностью, иногда - деятельностью благотворной, филантропи-
ческой, как сестры милосердия, основательницы больниц и проч. Нельзя
же всех таких «переловить» и даже незачем «ловить». Государству есть
много заботы с гуляющими по свету ГилевиЧами, которые вот «не изловле-
ны», и оно мало может оправдаться перед обществом, сказав, что «зато из-
ловило даму в гостинице»... Вознаграждение слабое, и роль государства
едва ли не комичная.
«Такое правило»... Удивительно: кроме полиции всем в Петербурге из-
вестно, что гостиницы частью служат для этого и что в городе с 1 Уг милли-
онным населением этого так же нельзя избежать, как и мух по осени или
комаров возле болота. Да и каким образом полиция наказует «такое деяние»,
- и наказует разрушением всего дома, глубочайшим оскорблением мужа,
детей и самой женщины, - когда «эти деяния» как определенный промысел
допущены полициею и все совершаются под ее наблюдением через состоя-
щих при полиции врачах. Тут вообще все с начала до конца не только жесто-
ко и бессмысленно, но и непонятно как в ходе, так и в основаниях. Просто
непонятно, почему это совершилось, с задавливанием целой семьи, - когда
вообще-то это совершается на глазах полиции на всех улицах Петербурга.
Чем осматривать гостиницы, где это есть все-таки скрытое безобразие, спря-
танное зло, - полиция лучше запретила бы переполнение улиц предлагаю-
щимися проститутками, что составляет «зло напоказ», безобразие, «выво-
роченное наружу». Подобные вещи по существу их «публичности», т. е.
встречи незнакомых лиц, не могут происходить иначе как в местах, «для
публики» предназначенных, вроде гостиниц, но, конечно, за запертыми две-
рями, чтобы не оскорблять глаз той же публики или ее частей, не принимав-
ших в этом участия. И не для чего «чиновнику» ломиться в такую запертую
400
дверь, совершенно основательно запертую. Ах, эти «чиновники», «чинов-
ники»! Куда они не пролезут?! Куда насекомое не проползет, - вползет «чи-
новник» со светлыми пуговицами.
А Гилевич все гуляет.
И что за смешные предлоги к деянию, которое семьею несчастной жен-
щины не может не чувствоваться параллельно шантажу или с убийственно-
стью шантажа: она «должна дать показания на суде, как свидетельница вины
хозяина гостиницы». Дело, вот видите ли, в «хозяине гостиницы», и поли-
ция собственно «не судит женщину». Но ведь кто именно «засужен» в дан-
ном случае, то, конечно, не «хозяин гостиницы», а она, ее муж и ее дети: его
ответственность, заключающаяся, вероятно, в штрафе, ничто перед тем гро-
мом, какой разразился над нею и ее домом. Допросим же, зачем она нужна
как «свидетельница», непременно с именем, фамилиею и общественным
положением? Всего этого не нужно, чтобы доказать, что «хозяин виновен»:
полиция застала, составила протокол, его верность засвидетельствована
коридорными, прислугою, признанием очевидного со стороны самого хозя-
ина. Разве этого недостаточно как улики для суда? Недостаточно показания
коридорных и понятых? Лицо, имя и проч, самой «женщины» - безразлич-
ны, ибо судится именно хозяин, и судится за то, что делалось в его гостини-
це, а не за то, кто это там делал. При чем здесь фамилия? Непонятно и
непонятно. Очевидно, полиция именно судила женщину, «даму», «мать»,
«жену», и без приглашения мужа или целого общества, «мира» что ли, она
явно здесь не имеет права суда. Позволяю себе обратить на это внимание
кого следует.
Одного человека задавили, - это во всяком случае. Проклятый чер-
ный день!
ОКОЛО НАУКИ И УНИВЕРСИТЕТА
(По поводу 30-летия ученой службы
В. О. Ключевского)
Талантливая, деятельная курсистка Раевских курсов, в Петербурге, убирала
свою небольшую комнатку в сентябре месяце... Полки и этажерки устанав-
ливались книгами по истории литературы, по психологии, истории филосо-
фии и политической истории разных, по преимуществу древних, народов.
Со всего стряхалась пыль, все обтиралось тряпочкою, - вечная их девичья
натура: кто же видал студента, обтирающего книгу? А, вот, и портреты...
Скучные или скучноватые «родители» получили свое почетное место на
письменном столе, родитель vis-a-vis родительницы: «Вам дано официаль-
ное почтение... Чего же вам больше? Не ропщите». На столике, близ крова-
ти, поставлен портрет любимой подруги, в зорко выбранной симпатичной
позе трудолюбивой девушки, занятой шитьем... Как Маргарита за прялкой...
А вот вынимаются и большие рамы. Они просты, аскетичны, без украше-
401
ний. Это - Тургенев, Толстой и В. Н. Фигнер. Два великих писателя повеше-
ны на стенах так, что входящий в комнату прямо видит их, и только их,
раньше других подробностей комнаты. «Здесь царствует литература». Но
перевернут, лицом к свету, третий вынутый из ящика портрет. Все знают
лицо Фигнер в ее молодости; это - прелестнейшее из русских лиц... Все оно
сдержанно, строго; голова немного опущена; волосы, прическа бедны, скуд-
ны; лоб небольшой, низкий; платье скромно, - наверно, черное, без отдел-
ки... Но это частности, которые еще ничего не говорят. В небольших, долж-
но быть, тусклых глазах и сжатых, но не крепко губах, чуть-чуть сморщен-
ных, при опущенной голове - все дает впечатление странного упорства воли
и сосредоточения мысли на чем-то одном, поглощенности души одним же-
ланием, тягучим, многолетним, неотвязчивым...
...Черные думы, как черные мухи,
Все не дают мне покоя...
«Сумасшедшая и святая», - шепчут ваши губы, когда вы смотрите на
портрет. Но, повторяю, никакому лицу русской литературы не уступит это
молоденькое девичье лицо шлиссельбургской затворницы. Видел, видел я в
1905 году в Шлиссельбурге маленький садик-огородик, разделанный ее ру-
ками во дворе: узенькая грядочка, с какими-то цветочками и морковью, и
тут же желтые черепки каких-то разломанных цветочных горшков. Годы она
«пахала» эту грядку..
А черные думы, как черные мухи,
- стучали в ее узкий, упорный лоб.
Портрет этот, большой и превосходно сделанный, курсистка повесила
перед письменным столом. «Там (Тургенев и Толстой) - русская слава, здесь
- моя путеводная звездочка».
И договаривалось где-нибудь в уголке души:
- «Мы, девушки... да, мы не гениальны и не дали родной земле ни Тур-
генева, ни Толстого. У нас нет новых мыслей, нет творчества и Америки мы
не откроем».
- «Что делать, - судьба. Натура вещей».
И, взглянув на портрет Фигнер:
- «Но мы шли... О, с каким упорством, терпением мы шли. И пойдем, и
идем. Мы все с русской землею, около русской земли. Мы - не чужие. Да,
творчество: ну, что же, нет его... Но, может быть, взглянув на нас, на наше
терпение и подвиг, на наше молчаливое страдание, мужская сильная душа
давала стальные клятвы и выводила цепь сотворяющих дел и мыслей... У
них (мужчин) - фактура истории, тело истории, видимое, осязаемое; в нас -
ее одушевляющее начало».
Есть подвиг и есть вдохновение: подвиг, это - мужское; вдохновение,
это - от женщины. И еще лучше, точнее, - от девушки, невесты... Невесты
неневестной...
402
Люблю я эту юность, с ее маленькими книжками, маленькой наукой,
озабоченную, серьезную. Может быть, все и изменится в ней потом, прой-
дут мысли, минет одушевление. Что думать о «потом». Я люблю этот святой
миг «теперь», когда верится и делается, читается и думается, хлопочется и
устраивается. «Потом» если и будет худо, скажем о нем худое, но «сейчас» -
это, положительно, хорошо, и отдадим ему хорошие мысли, хорошие чув-
ства, - и восхищенное, и благодарное.
Как энергично, волною, поднимается просвещение в России. «Нет уни-
верситета для женщин» по имени. Нет титула, заглавия, вывески. Но, на са-
мом деле, в Петербурге два полных женских университета: «Бестужевские
курсы» и, вот, эти «Раевские курсы». Боже, неужели когда-нибудь мы ока-
жем историческое безвидие и выкинем за борт это старое, ставшее истори-
ческим, имя «курсы», название «курсистка», уже вошедшее в обиход лите-
ратуры и жизни, уже округлившееся в целую маленькую замкнутую культу-
ру, со своею гордостью, со своими воспоминаниями, традициею, законом,
модою, ставшее давно художественным образом и символом целого ряда
понятий; выбросим - и, обрадовавшись «утверждению начальства», - заме-
ним шаблонным, безличным, подражательным названием - «женский уни-
верситет», «девушка-студентка». Не нужно этого... Мы бедны историею, и
нашу маленькую, особливую историю мы должны беречь.
Раев - человек лично совершенно незначительный, безо всяких науч-
ных заслуг, был, благодаря каким-то связям, много лет директором Бесту-
жевских курсов; затем, смененный там, он не захотел, по самолюбию или
денежным интересам, оставить привычного и известного ему дела и осно-
вал новые, свои, курсы, на Гороховой улице, во всем повторяющие Бесту-
жевские. Дело это было бы безнадежным, если бы он все опер на свое имя;
но он имел такт устраниться от педагогической и ученой части своего же
создания, оставив себе только материальную, хозяйственную сторону дела.
Ученое направление курсов находится в заведывании и полном распоря-
жении профессорской коллегии, составленной из лучших сил университе-
та и Бестужевских курсов. Получился 2-й женский университет, состав-
ленный из факультетов: историко-филологического, юридического и фи-
зико-математического, с огромным, доходящим до давки в аудиториях,
комплектом слушательниц. И занятия здесь кипят, как и на Васильевском
острове, у «бестужевок». Снова я должен повторить то, что говорил много
раз прежде:
Благодаря умелой, близкой и личной помощи профессоров и их ассис-
тентов и ассистенток, занятия слушательниц идут с той отчетливостью, уме-
нием и прилежанием, с тем, наконец, внутренним (душевным) успехом, как
это и возможным не представлялось лет 20-25 назад, например, в Москов-
ском университете. Сужу не по слухам, а по тому, что вижу и видел 25 лет
назад.
Сверх слушания и знания лекций, требуется к экзамену прочитать и на
экзамене обнаружить знакомство с целою вспомогательною литературою.
403
Это по каждому предмету две-три солидных книги, которые не читаются, а
изучаются. И прежде, конечно, «литература предмета» рекомендовалась; но
она - не требовалась. И, «рекомендуемая» в сериях книг, в десятках сочине-
ний на разных языках, - она являлась только «риторическим украшением» в
чтениях профессора, нимало и не ожидавшего, что кто-нибудь станет в са-
мом деле с нею знакомиться. Все это изменилось теперь; рекомендуется не
более двух-трех сочинений, чаще же только одно, и непременно на русском
языке. Рекомендуется исполнимое и доступное для каждого, и зато это -
требуется.
И вот три томика «Лекций по русской истории» В. О. Ключевского лег-
ли на столик деятельной слушательницы. Это - «рекомендованное» посо-
бие. И потянулись длинные зимние ночи, проводимые за чтением тысяч стра-
ниц, - разных книг, по всевозможным направлениям, со всевозможным ис-
торико-филологическим содержанием. Как говорит где-то Некрасов:
Думы девичьи пугливые
Кто же может разобрать...
И опять весна... Год занятий подходит к концу. И как-то, войдя в комна-
ту, я вижу перед учебным столиком девушки уже не портрет, великолепно
сделанный, В. Н. Фигнер, - а довольно плохой портрет, больших размеров,
вырезанный из газетного «приложения», но вставленный в раму, - Василия
Осиповича Ключевского...
Нужно жить в наше время, нервное, истерическое, полное политичес-
ких миазмов, отравленное страстями, загаженное порнографиею, время юных
безнадежных самоубийств, чтобы взвесить и оценить этот путь юной и во
всем неуверенной странницы:
- От В. Н. Фигнер до В. О. Ключевского.
Какая перемена! Какой перелог душевного строя!
Между тем, у Ключевского, как известно, ни одной политической стро-
ки нет, - ни прогрессивной, ни консервативной. Что же он сделал с юною,
25-летнею головкою? Что наговорил ей этот 60-летний старец? Что мог он
сказать такого, что задвинуло собою ореол трагической судьбы и, до некото-
рой степени, гениальной личности, по крайней мере, в красоте, по крайней
мере, в законченности, шлиссельбургской мученицы и героини?
Он - такой старик!
Она - такая юная!
И третья, юная, в наше время - подала руку старику... С каким-то дове-
рием и покоем.
* * *
В течение зимних занятий, иногда только, слушательница нет-нет и спросит
мельком:
- Вы слушали Ключевского?
404
Или еще:
- Ключевский прямо не говорит, но заметно, между строк, - как он лю-
бит прошлую Россию. Конечно, - и теперешнюю... Всю Россию, вообще.
И только.
Но эти-то тропинки, дорожки, путики и привели колеблющуюся девуш-
ку к совершенно новым выходам из колебаний, из сомнений. Ее взяла за
руку и повела за собою любовь старика к родной земле. Она вдруг одолела
веяния из Шлиссельбурга. Одолела не споря, одолела не возражая, одолела
не отрицая, не порицая.
Я уверен, самому В. О. Ключевскому этот маленький рассказ дал бы
наибольшее удовлетворение. Нет анатомии без морфологии, нет большого
без малого, нет побед в истории без победы в душе человеческой. В этом
укрепляет меня и то, что уже лет двадцать назад, когда он начал читать лек-
ции в Московском университете, о нем говорили не в студенческих кругах, а
люди со стороны, знающие его домашнюю жизнь, - что он всему предпочи-
тает беседу с учащимися, предпочитает ее ученым и служебным разговорам
с товарищами по преподаванию, по кафедре. «Нет, он не так любит, когда к
нему заходит профессор, и охотнее говорит с зашедшим к нему студентом».
В сущности, В. О. Ключевский был всегда од иночкою-профессор ом; корпо-
ративные, служебные шумы, боренья, отпоры, натиски были ему чужды, -
не враждебным, а спокойным отчуждением. Он был к ним пассивен; и инте-
рес загорался в нем только к лицу человеческому, единичному лицу, - в раз-
говоре на любимые темы. А темою его было все поле русской истории, -
великое поле, уснувшее вечным покоем. Но он любил и травку, выросшую
на этом поле, - простых людей без претензий, обыкновенных русских лю-
дей, ничем не отличенных, от студента духовной академии или университе-
та до простых обывателей, с какими сталкивает нас жизнь.
* * *
В. О. Ключевский вступил на кафедру Московского университета замести-
телем знаменитого С. М. Соловьева и сотоварищем Н. А. Попова, приходив-
шегося Соловьеву зятем. И сразу, без усилий, «само собою», - он заслонил
их обоих.
У Соловьева в последние годы его преподавания на лекциях бывало мало
слушателей. Положив красивую, белую, большую руку на переднюю каем-
ку кафедры, так что кисть ее вся была перед глазами студентов, и закрыв
глаза, белый, седой старец с обыкновенным русским лицом говорил докто-
ральным, повелительным тоном обыкновенные истины, долженствующие
разъяснить ход русской истории. Как в лице его все было обыкновенно, так
в речи его все было обыкновенно. Не было своеобразно поставленного уголка,
из которого вдруг брызнул бы свет на лица, на события. Да и «событий» не
было; были схемы. Он «разъяснял» историю, предполагая факты ее извест-
ными. Он ничего не рассказывал; лиц никаких не очерчивал. Но не было
вполне ясно, почему «разъяснения» его относились именно к русской исто-
405
рии, так как, казалось, они в равной мере могли быть приложены к истории
архаической Греции, феодальной Германии или к первобытному строю ино-
родцев Волги. Индивидуальности истории не выступало, нашей русской ис-
тории, - как не было индивидуального русского лица и у лектора. Но сам
Соловьев, всегда в черном сюртуке, никогда в «служебном» мундире, - был
удовлетворен своим чтением, которое не было хуже чтения Ранке в берлин-
ском университете или чтения Du-Ruis в Сорбонне...
«Завалящие» студенты в «Малой юридической аудитории», где он чи-
тал историко-филологам, - позевывали, скучали; думали, зачем им не при-
шлось слушать «настоящего Du-Ruis», и думали о том, куда пойти вечером -
в бильярдную, театр или пивную. Конечно, «студенты были недостойны
своего профессора», - сопоставление, кончившееся без неприятностей, так
как студенты на эту мысленную мысль не возражали.
И. А. Попова все называли «трубою». Отличный детина, пудов около
6 весом, чрезмерного роста, ширины в плечах и голоса, он читал громогласно
«что придется» - то по истории, то о славянских отношениях политического
и дипломатического характера, то о переписке Погодина с Шафариком и
Ганкою, - и все посматривая в окно, откуда были видны стенные или башен-
ные часы, университета ли или соседнего здания. Сам я часов этих не видал
(не любопытствовал), но так говорили студенты. Лекциям его также не при-
давали значения. Их выучивали к экзамену, но в течение года ни ими никто
не занимался, ни вообще по русской истории. Лекции В. И. Герье и П. Г.
Виноградова по всеобщей истории, профессоров Тихонравова и Сторожен-
ка по истории литературы заливали своим интересом, важностью и образо-
вательностью кафедру русской истории. Она решительно падала, несмотря
на присутствие Соловьева. Имя последнего было славно. Оно украшало уни-
верситет. Но для аудиторий, но внутри дела оно оставалось без значения,
никого и ничего не двигало.
И, вот, умер С. М. Соловьев. Профессора произнесли над гробом траур-
ные речи, - довольно обыкновенные, с язвительными намеками на то, что
начальство не умело как следует почтить творца 29-томной «Истории Рос-
сии с древнейших времен», и это сократило его дни, подействовав на серд-
це. «Все обошлось достаточно либерально», - как писал Достоевский в
«Дневнике писателя» тех дней о всех таких маленьких событиях, торже-
ствах и сборищах. Время тогда было задавленное, общество задыхалось,
«начальство» было, действительно, возмутительное, хотя бы в лице невеже-
ственного попечителя округа, и профессора в журналах и надгробных ре-
чах, адвокаты в защитительных речах, и, вообще, всякий, когда и как мог,
вставлял свою шпильку по адресу начальства, совершенно, впрочем, без-
вредную и едва ли кому-нибудь особенно неприятную. «Начальство управ-
ляет: ты, раб, трепещи, повинуйся и немного ворчи»... Все обошлось как
следует и благородно. И, вот, через немного дней прошел говор, что в боль-
шой словесной аудитории (во 2-м этаже нового здания университета) новый
профессор русской истории, В. О. Ключевский, будет читать первую проб-
406
ную лекцию. Профессор же этот приглашен от Троице-Сергия, из духовной
академии. Мы, студенты, никакого представления о нем не имели, и появле-
нию его не предшествовало никаких слухов.
Аудитория переполнилась. На скамьи прошло несколько профессоров
университета, между ними Герье и другие. И, вот, неуклюжей, раскосой и
торопливой походкой вошел новый профессор и не столько сел, сколько
уместился на кафедре, живя на ней, двигаясь, поворачиваясь и корпусом, и
головой, и руками. Есть фигуры летучие, есть фигуры стоячие, есть фигуры
сидячие: В. О. Ключевский был фигура ползучая, стелющаяся, цепляющая-
ся. Как лиана около дерева, как павилика около забора. И он полз руками,
фигурой, больше всего мыслью, полз голосом... Но здесь я должен сказать
отдельно о голосе.
По аудитории пронесся резкий, тонкий, нам, студентам, показалось -
почти дискант; но, конечно, дисканта не было: это был горловой голос в
высоком напряжении, при котором голосовые связки особенно дрожали.
Какая противоположность с Соловьевым и Поповым: они были мужи, муж-
чины - как слоны. Из недвижной фигуры несся именно «трубою» спокой-
ный бас, без напряжения и волнения. Речь стукала, как толстые ноги слонов
о каменную почву. У Ключевского голос был явно женский, крикливый, пе-
вучий, и он им не говорил, «как прилично профессору», а тянул его, как
тянут проволоку на фабриках... Лекция была тягучая, гибкая, бесконечная
нить, свиваемая так и этак.
Это - форма. Она нас удивила и не была нам приятна. Теперь о содержа-
нии. Ни темы, ни хода мыслей «пробной лекции» я не помню: меня заняло в
ней другое: строение мысли, строение фразы как словесного предложения.
Ничего подобного я не слыхал ни прежде, ни потом. Ключевский неред-
ко останавливался (на мгновение), чтобы перестроить иначе уже произне-
сенную фразу и кончить ее так, как нужно было: в последнем завершении, в
последнем чекане, к которому ни прибавить ничего нельзя было, ни убавить
из него. Поэтому, когда фраза завершалась, - это была художественная, ли-
тературная фраза, которая могла сейчас лечь под печатный станок. Медлен-
но, с какой-то натугой, со страшной внутренней работой вам сейчас на ка-
федре он «печатал» слово, строки, предложения, всю характеристику лица
или эпохи, давал ответ на вопрос или недоумение науки и ученых. Это было
необыкновенно.
Речь, им произнесенную, без поправок, без корректуры, без «просмотра
автора» - можно было помещать куда угодно: все было кончено и заверше-
но, отделано последнею отделкою. За каждое слово и оттенок слова он мог
бы судиться или стреляться на дуэли, - если бы это сколько-нибудь было
вообразимо относительно его.
Но было явно, что он не отречется никогда ни от одного оттенка: а их
было много. Чтение его было полно оттенков, ретуши; нередко (в отноше-
нии исторических лиц) оно звучало тонкой и решительной иронией; общий
привкус речи был шутливый, подсмеивающийся.
407
И все это так просто и непретенциозно, как может быть только у старого
преподавателя духовной академии.
Все было страшно ново: ни на одного из наших университетских про-
фессоров он не был похож. Нисколько! Полная им противоположность.
Бесспорно, он принес сюда на своих сапогах землицу от мощей Сер-
гия Радонежского, от тенистых аллей Троице-Сергиева Посада, от тамош-
них пахучих порядков или беспорядка, от бурсы, от вечного тамошнего
ладана, от кипариса и восковых свеч. В университет с ним вошла духовная
академия: в ее идеальном, лучшем выражении. Он ее внес уверенно и твер-
до, от нее не отрекаясь, ею не стесняясь. Но и без спора, без критики уни-
верситета в его светском духе и «душке». Сущность и особливость «Клю-
чевского в Москве» заключалась в высшем и, может быть, неповторимом
слиянии в одном лице традиции и духа русского церковного просвещения,
бытового, народного, религиозного, - с просвещением государственным,
светским, общественным, вольным. В том и другом он откинул ложное и
мелочное, черное или пустое и оба слил в своем умном лице, в своей кова-
ной речи.
Черный (тогда), гладкий, длинный волос, вроде дьячковского или диа-
конского, обрамлял его сухощавую голову... Лицо все жило, особенно рот и
глаза, но также вся его мускулатура. Борода маленькая (меньше, чем теперь
на портретах)... Все давало впечатление типичной стародавней духовной
фигуры. «Не то псаломщик от кафедрального собора, не то подьячий По-
сольского приказа времен царей Михаила и Алексея»... В нем не было за-
метно ничего нового, «новенького». Чего-нибудь щеголеватого нельзя было
и вообразить в связи с ним. Это был не наших времен человек. И, вместе, -
наших, по отсутствию вражды к «нам», по полному пониманию «нашего
времени».
Через 2-3 лекции его уже слушал весь факультет, всякий, кто мог. Он
совершенно заслонил собою и память Соловьева, и Попова. «Русская исто-
рия» в кафедре вдруг поднялась на чрезвычайную высоту, к чрезвычайному
авторитету, привлекла чрезвычайное внимание и интерес.
С ним хлынула в университет огромная русская волна: в университет,
несколько европейский, несколько космополитический, несколько пресный
и без определенного вкуса. И все это без вражды к кому-нибудь, к чему-
нибудь профессора. Это было удивительно! Тут сказалась сила, обаяние лица,
которое и без меча носит побеждающий меч.
Русская порода, кусок драгоценной русской породы, в ее удачном куске,
удачном отколе - вот Ключевский. Я сравнил его с лианою, с павиликою:
цепляясь руками, фигурой, умной головой, внимательной любящей душой,
- он 30 лет растет и ползет по старой русской стене, залезая своими «крю-
чечками» во все ее щелочки, во все ее скважинки... И никто так, как он, не
знает, и никто так, как он, не любит эти старые священные стены.
Поклонимся ему всею Русью. Без этого поклона мы были бы легкомыс-
ленными потомками своих предков.
408
КАК ЛЮДИ РУСЕЮТ
В Риме, кроме «патрициев», «patres», - потомков туземных обитателей семи
холмов, были какие-то «patres conscripti», «приписные отцы», - предмет го-
ловоломки ученых. Сам Моммзен не понимал, что это такое и откуда они
взялись. Но вообще можно, конечно, думать, что эти «приписные отцы»
римского народа и Вечного города были потомками выходцев из разных
стран, которые выдающимся образом потрудились на римской почве и за-
тем через браки совершенно слились с потомством древних «patres». И ста-
ли они «приписные отцы» народа и государства. Есть патриотизм почвы, и
есть патриотизм дела, трудов. «Родина» есть не только место, где я родился,
но и то, во что я положил весь труд свой. Это - патриотизм «общего дела»,
«нашего дела».
Он везде есть.
«Наша Русь» не только от Балтийского моря до Охотского, но и от нов-
городцев времен Рюрика до нас. Во втором смысле «наша Русь» есть строи-
тельство, есть храмина построенная: и «отцы» ее или ее дети, притом люби-
мые, отличенные дети и отцы, - суть все, кто ее строил. Ее плотники, ее
мастера.
Таких много уже теперь на Руси: и, признаюсь, я не могу без волнения
смотреть, как заброшенные к нам люди в третьем, четвертом поколении до
того цепко связываются со всем русским, до того горячо в ней трудятся, до
того впитывают ее дух и веру, как это не всегда можно видеть и в настоящих
«patres», потомках новгородцев и киевлян. Лучший пример - Аксаковы, от
какого-то татарина или киргиза «Аксака» пошедшие; или Жуковский, рож-
денный от любви русского помещика Бунина и пленной турчанки. Без Акса-
ковых, без Жуковского Русь не цела, не имеет полного своего состава, пол-
ного роста и объема. Следовательно, это подлинные ее «patres», «отцы оте-
чества», но, конечно, «conscripti», «приписные», «прившедшие».
Законы крови и породы, потомства и рождения - неизвестны. Но один
из них - просвечивает. Вялая любовь - вялое потомство, пылкая любовь -
талантливая производительность. Энергия любви передается в потомство
даровитостью - души, жизни, подвигов, знаменитости, - занимательности
или значительности, яркости, глубины, правды. Но «сила любви» всегда
проистекает из контраста любящих: тетива и лук обратны друг другу, и чем
рука стрелка дальше оттягивает назад тетиву - тем стрела летит дальше.
Вот «просвечивающий закон», объясняющий большую даровитость потом-
ства от смешивающихся разных этнографических пород, разных вер, раз-
ных темпераментов, разного цвета кожи, разного цвета волос, даже разного
возраста! Но тут мы входим в законы мировой застенчивости, которые, если
бы даже и могли рассказать, - должны о них промолчать. Создатель как бы
говорит людям: «Вы творите жизнь, которая должна длиться века, по воз-
можности даже не должна никогда исчезнуть, а все развиваться и расти. Не
будьте же сонны, не будьте усталы... Нет более значительных в вашем бы-
409
тии минут. Будьте же мудры, как Экклезиаст, и нежны, как творец Песни
песней... Все большое теперь позволено, все яркое и сильное, и запрещено
все тусклое, малое, короткое, все безжизненное».
* * *
Писатель Эртель был третьим потомком, происшедшим от берлинского бюр-
гера, захваченного в армию Наполеона и попавшего в плен под Смоленском.
Он, будучи 17 лет, был привезен в Воронежскую губернию офицером Мари-
новским. Со временем он женился на крепостной девушке этого офицера,
приписался в мещане города Воронежа, перешел в православную веру и за-
тем всю долгую жизнь, с большим потомством, «маячил» по речкам Битюгу
и Рыкани, в Воронежской и Тамбовской губерниях, затем - в Москве, то
служа в имениях, то управляя имениями, но никогда не порывая связи с ра-
ботою и землею. Из детей старого «Людвига» (выходец из Берлина) никто
уже не учился и не выучился по-немецки; да и русскую грамоту знали не
все, и только отец писателя Эртеля «кончил курс» в воронежском уездном
училище.
Такова судьба, - в сущности, связанная с судьбой и гибелью «великой
армии» французского императора. Мелкая щепка вплыла за большим кораб-
лем в русские воды: но не погибла - а вынырнула в третьем потомке. Читая
письма Эртеля, с интересом наблюдаешь, до чего «трудиться вместе» заме-
няет собою, или уравновешивается с «родиться вместе». Интерес «Писем»
заключается в глубочайшем проникновении их русскою стихиею, русскою
действительностью, характером народности то в любви, то в оценке, в него-
довании, безнадежности и надеждах... И до чего от всего «германского» не
осталось и следа.
Огромное большинство писем - к Черткову, известному другу Толстого;
и письма эти - не лучшие. Натура реальная и рабочая, Эртель скорее пыта-
ется войти в толстовские идеи, чем на самом деле входит. Он силится согла-
ситься и невольно спорит с Чертковым. А о человеческих спорах и соглаше-
ниях вообще нужно заметить, что первые почему-то выходят даровиты, а
вторые бывают почти всегда бездарны. Чертков, как известно, во всем «со-
гласился» с Толстым: и собственная личность его почти беспримерно без-
дарна; обратно, и Толстой «согласился» с восхищенным им Чертковым. И в
результате получилась такая лужа скучищи, тоски, неинтересного, как нет,
кажется, еще другого такого места в нашей литературе. Точно два фарисея
обнялись и крепко поцеловались. Сладко, а не вкусно; любви много, а та-
ланта нет; патока и молоко так и разливаются: но очень немногие имеют
силу их отведать. Толстой дал нам тезис - художество; это, конечно, языче-
ство, проникнутое ощущением, что все в мире «не только хорошо, но и пре-
лестно». В этом охвате свет «прелести» брошен даже на ограниченное (Ни-
колай Ростов), глупое (Курагины) и порочное (Долохов, Анна Каренина). Но
затем с такою же силою, или по крайней мере так же продолжительно, Тол-
стой начал построять антитезис - это его евангелизм: «Ничего не надо, все
410
плохо, все порочно, и все очень глупы, даже Шекспир и я» (бывший). Есть
что-то роковое и даже антихристианское, роковым образом антихристианс-
кое, в том, что Толстой, в одной личности своей сочетав язычество (моло-
дость и средний возраст) и христианство (старость), показал первое преле-
стным, занимательным, мудрым, всепрощающим, всеблагословляющим,
ароматичным, звездным; а второе показал нам злым, черным, ничего не по-
нимающим и совершенно бесплодным. Как это у такого «мудреца» вышло -
непонятно: но итог целой его жизни именно таков. «Война и мир», «Каза-
ки», «Севастополь», «Детство и отрочество», «Анна Каренина» - это вели-
кое русское язычество; как им ненавидимая «синодальная церковь», толстые
восковые свечи, зажженные лампадки, молебны, акафисты - это глубь и оча-
рование Византии, которая, с великою эстетикою, на самой Голгофе вновь
как бы построила Пантеон и Акрополь, вновь воздвигла золотистый Соло-
монов храм. Но вот вышел другой Толстой, новый: и разбил Византию и
язычество, Пантеон и иконы, загасил ладан, загасил свечи. Мы увидели
«Акима простоту» и его знаменитое «тае»: но, увы - кроме запаха его ре-
месла, ничего отсюда не слышим. Размышлять не о чем: чего же тут раз-
мышлять о «тае». Все воскликнули: «Да нет, нам лучше с прежними порока-
ми Толстого, чем с его новыми добродетелями». Язычество - порочно, ге-
ниально и плодоносно, оно, наконец, бессмертно; а христианство, положим,
и свято, но зато - ложись прямо в гроб. Вот результат всей литературной
деятельности Толстого, всей его личности, всего жизненного труда: он так
же твердо, каменно, в неопровержимых иллюстрациях доказал истину язы-
чества, как доказал скуку и смертность христианства. Но то ли он созна-
тельно делал? А какое нам дело до его «сознания»: на деле так вышло!! Лет
через 10-20 эта «языческая работа» Толстого станет совершенно ясна: все
разделятся на не-толстовцев, язычников, потомков Ростовых, Болконских,
Карениных, вкусно кушающих, вкусно воюющих, ведущих земские собра-
ния, ухаживающих, декольтирующихся, поигрывающих в картишки, ну и
замаливающих «грехи» свои под старость лет, или за которых молятся пре-
лестные Долли, молятся и крошечные детишки, а по лесам - деды и стран-
ники. Словом, - «все как есть, по-живому, по-православному». И им проти-
вопоставится второе стадо «последних христиан», вот этих «толстовцев»:
не плодящихся, не кутящих и естественно вымирающих, потому что что же
им еще-то делать?! «Подмоченный порох», который «не стреляет». Вот «под-
мочить порох» в смысле страсти, в смысле огня; подпустить в культуру экс-
тракт opii puri*, смешанного с aqua distilata**, тонкою иголкой насмешки и
критики проколоть мировое яйцо, мировую утробу, мировой зародыш, и,
словом, принести Смерть, возвестить Смерть, раскрасив поучениями ее
страшный облик, - это и есть «последний Толстой», «старец Толстой», кото-
рого принял в свои объятия беспримерно скучный Чертков, как бы в лице
* чистый опий (лат.).
** чистой водой (лат.).
411
своем «поставив точку над Z»: «Взгляните, как все это теперь бездарно и
отвратительно».
Сыграли историческую роль...
На две трети переписка Эртеля захватывает эти темы толстовства: как
ум, как писательский талант, Эртель не мог не подчиниться гению Тол-
стого; но как практическая живая натура, он не мог не почувствовать глу-
бокой неестественности всего этого учения, в которое влезал как во что-то
неживое.
ТОЛСТОВСТВО и жизнь
I
Толстовство можно рассматривать и как догму, и как «веяние». Точнее, оно
выразилось в догматической форме как «непротивление злу», как критика
«догматического богословия» митрополита Макария, как отрицание церков-
ного культа и, наконец, целых полос Библии и Евангелия, - в заключение
некоторых волевых и некоторых нравственных настроений, первоначально
очень туманного, неопределенного характера. «Не хочется» - вот филосо-
фия обратная другому: «нетерпеливо хочется». «Нетерпеливо хочется» соб-
ственно всей природе; «нетерпеливо хочется» - это крик молодости, юнос-
ти; «нетерпеливо хочется» - это только словесное выражение немых и пото-
му особенно могущественных, неодолимых космических энергий. В «не-
терпеливо хочется» все понятно. «Не хочется» - это гораздо таинственнее,
страшнее; это, в глубине дела, - очень страшно. Это - старость, образ Смер-
ти; это - бледность вещей; потускнение вещей. «Астарта румянит стихии
мира», - сохранилась заметка какого-то древнего жреца около имени этой
богини, выражавшей всевозможные «похоти», «похотливость» всего мира.
«Румянит стихии»... Это и есть начало жизни, зародыш живого. Водород,
азот, кислород, фосфор, сера - все это «от начала мира бе». Но все это было
до времени мертво. Что же такое случилось, когда и как случилось, что все
это начало вдруг жить. Древние в мифологии своей это и отметили: «Вдруг
везде начали нравиться друг другу», «возжигали друг друга», в них роди-
лась «похотливость», они «зарумянились»... Вот кто их «зарумянило» - и
зажгло в них жизнь, и стали они живыми: «живыми» единственно по при-
сутствию в них «похоти», по «похотливости» вещей.
Вдруг поднимается Толстой и говорит:
«Этого не надо»... Это - грех... «Притом - только это собственно и
грех: все прочее, что мы называем злом, есть лишь модификация этого од-
ного: «хочу», «хочу» - грех; «не хочу» - святость.
И скучно, и грустно, и некому руку подать.
Лермонтов в этой одной строке и в этом известном стихотворении выра-
зил, в сущности, всего «второго Толстого», «Толстого в старости». Кратко,
поэтично и окончательно.
412
Эртель, случайно попавший в молодости в радикальные кружки жур-
налистики, отсидевший, за дачу революционерам адреса своего для пе-
реписки, в Петропавловской крепости, был чужд если не каких-либо религи-
озных чувств, то каких бы то ни было религиозных понятий. И знакомство с
поздними сочинениями Толстого и с Чертковым пахнуло на него волною
неизведанного, и привлекательного, и интересного. Это отразилось в лите-
ратурной его деятельности. Сейчас же резко и грубо напали на него Скаби-
чевский, Протопопов и Михайловский. Нападение, исходной точкою кото-
рого служило полное непонимание этими журналистами религии и всего
религиозного, непонимание приблизительно такое же, как Пушкин врож-
денно не понимал математики, ни сути ее, ни метода ее, - это оттолкнуло
Эртеля от старого, привычного позитивизма и сблизило с Чертковым. Са-
мое привлекательное в переписке с Чертковым не проблема собственно тол-
стовства, а те самостоятельные мысли Эртеля о нравственных и религиоз-
ных вопросах, какие он попутно высказывает. Чередуясь с сообщениями
сельского хозяина о неурожайной весне, о порубке леса, о пролете журав-
лей, эти философские его мысли полны свежести и какой-то натуральной
правды. Например, до чего хорошо его рассуждение, что лишь осложнен-
ный художественностью ум есть настоящий ум; а ум без художества в себе -
слеп, короток и просто есть худой руководитель даже в вопросах практики
(письмо к П. А. Бакунину, стр. 306). Или, например, это сравнение метафи-
зики и позитивизма: «Свои отношения к метафизике и позитивизму всех
толков я сравниваю с отношением к двум женщинам: одна не просто умна,
но загадочно умна, обаятельна, прелестна, немножко капризна, немножко
кокетлива, но это ничего, даже очень хорошо, и еще неотразимее пленяет;
другая - умна как серенький осенний день, проста, благоразумна, правдива,
суха, строга и безупречной нравственности. Сердце мое лежит к первой:
еще бы, еще вчера она подарила меня такой многообещающей улыбкой, та-
ким чарующим взглядом влажных, затуманенных глаз. Но дело в том, что в
обществе, во-первых, плохо говорят о ней - впрочем, это еще не беда, - беда
в том, что циркулируют документы, говорящие как нельзя более ясно о ее
вольном поведении, о ее грязноватых связях, о ее обманах, лукавстве и т. д.
«Документы эти поддельны!» - возражает обворожительная rn-le Метафи-
зика, качая своей головкой... и вдруг в ее взгляде загорается что-то такое
чистое, благородное, высокое, что я и сам готов поверить, что документы
поддельны. Но с другой стороны... идешь к сопернице, вкушаешь трезвые
словеса, смотришь на это холодное и скучное, но несомненно честное лицо
и думаешь: «А ведь та, кажется, солгала». (Стр. 308, - письмо к Бакунину.)
И, далее, - о том, что самому ему, Эртелю, нет досуга и нет у него даже
достаточных знаний, чтобы разобраться в «документах» и порешить хотя
бы для себя спор позитивных наук и философии.
Вот такой страницы нет ни одной в переписке Вл. Соловьева, ум которо-
го был замечательно сух, не маслянист, формален и книжен. Эртель же не
отрывался от полей... Сравнение его между позитивизмом и метафизикою
413
не только изумительно по точности, но и как хорошо, что собственная мысль
автора остается в неясности, переходит в многоточие. Ах, эти многоточия:
без них нельзя бы писать и даже искать истину. Истина, самая глубокая и
окончательная, есть именно многоточие и немота.
В письме к 3. С. Соколовой он выразил отношение к толстовству как к
веянию и в письме к Б. Д. Вострякову - отношение к нему же как к формуле,
как к борьбе с православием. Соколова, сама толстовка или радикалка, уп-
рекала Эртеля за его живую, энергичную натуру и «отчаянное поведение»,
выразившееся в том, что иногда в приятельском кругу он не отказывался от
стакана шампанского, стоящего, как известно, шесть рублей бутылка, за ка-
ковую ценность можно бедному купить рубаху. Эртель отвечает ей: «Скажу
вам, что еще задолго до усманского шампанского (на какой-то свадьбе, где
его видела Соколова) я был с точки зрения «строгой морали» поведения пре-
вратного, и как вы до сих пор не замечали, - не понимаю. Но в этом не
нахожу у себя расхождения слова с делом, в чем вы меня упрекаете: так как
никого и никогда не призывал ни к трезвости, ни к аскетизму. И не то чтобы
я не уважал этих превосходных вещей: но оттого, что всех (курсив Эртеля)
загнать в Фиваиду значило бы точно так же оскопить и обесценить жизнь,
как это было бы достигнуто истреблением виноградников, «сожжением пред-
метов роскоши», что делал Саванаролла, и сочинений... ну, хотя бы Фета и
тысячи поэтов, ему подобных. К счастью человечества, этого никогда не
случится, как бы в эту сторону ни «перегинали палку» люди фиваидского
настроения вроде христиан во времена, напр., Феодосия Великого, истреб-
лявшего языческие храмы, статуи, библиотеки и предметы жизнерадостно-
го античного искусства, или наших «толстовцев» во главе с самим Львом
Николаевичем. «Выплеснуть ванну вместе с ребенком», конечно, всегда бу-
дет много охотников - именно из тех, иногда и великих, людей, которые
воображают, что их суд над жизнью есть единственный истинный и их при-
родные склонности и порывы души обязательны и нормальны для всех (курс.
Эртеля). Но никогда не выплеснут, и слава Богу. Одним словом, призывать
людей к добру, с моей точки зрения, чтобы они ездили в 3-м классе, не ели
хорошей пищи, не носили хорошей одежды, не пили шампанского, - и таки-
ми призывами я никогда не занимался. А если случалось призывать к чему,
так к чувству жалости и справедливости, к пониманию вещей не по их внеш-
ности, а по внутреннему содержанию, а главное, жизнеспособности (курс.
Эртеля), которая в том и заключается, чтобы не забиваться в узкую щель
аскетического ли, эпикурейского ли мировоззрения, не впрягаться ни в ка-
кие сектантские оглобли. Другое дело, прав ли я в этом понимании челове-
ческого назначения, обнимающем собою и Христа, и Анакреона.
Правда, «Акимы-простоты» по железной дороге ездят в третьем классе:
но ведь большею частью с бесплатным билетом, выданным из какого-ни-
будь благотворительного комитета. Все-таки кто-то их везет и на них делает,
за них делает. Вопрос о труде, и именно энергичном труде, неразрешим с
христианской ли, с толстовской ли точки зрения. Кто-то должен энергично
414
работать, вероятно «язычники»: а все «расслабленные» и «убогие», «Лаза-
ри» и «Марии Магдалины», явившие образ христианства, имеют ту слабую
сторону в себе, что их никак нельзя представить работающими, и они раски-
дываются красивою картиною лишь на фоне «всего готового», всего им за-
готовленного. Но только это удивительно: «язычники» трудятся за себя и за
них, и их - в ад; а эти лишь красуются: и вдруг им за это рай, блаженство,
вечная жизнь. Очень тяжело нам, работникам.
Впрочем, смиримся: «ад», «язычники», мы или «христиане», «с Богом»
или без Него - станем трудиться, и при этом весело и беззаботно. И уж там
как-нибудь сосчитаемся. Не станем спорить: и если у Магдалин и Лазарей
такое призвание к «созерцательности» - заготовим и им все нужное без воз-
ражений. Авось на том свете нас помянут «без горечи». И на том отрадно.
II
Есть полуистины, которые не нужно переводить в твердые истины. Не нуж-
но потому, что они именно в самой натуре своей не тверды, относительны,
частичны. Стань «христианином до зарезу»: и, право, умрешь. Так и случи-
лось с Толстым и всем толстовским учением, только это именно и случи-
лось. Нельзя даже и «молиться» до шишек на лбу: это уж народный говор.
Но все же забота о ближнем, все же «алкания правды» так возвышенны, что
и всякий борющийся с христианством попадает лицом в грязь. Надо «так» и
«этак». Это - не арифметика, где «помножай два на два без сомнения». Жизнь
- сложнее. Жизнь - красота. Жизнь - неизреченная. Здесь сплошь и рядом
«дважды два - пять» и даже дважды два - стеариновая свечка. Был болен, и
совершилось исцеление: и я здоров. Невероятно: но радостный факт! И как
же я его отвергну, когда глаза мои его видели и руки осязали? Но чудо -
«дважды два стеариновая свечка». И хорошо, что они в жизни есть. Хорошо,
что есть загадка. Но, даже и «исцеленный», могу ли я скрывать от себя про-
блемы труда, энергии, жизни, творчества, - что все уже выходит из орбиты
христианства, о чем христианство ничего не говорит и даже недвусмыслен-
но отвергает это или проходит мимо этого, без внимания. И вот я, даже исце-
ленный и видевший Христа как бы воочию, приявший добро от Него, благо-
дать, хлеб, - все же ввиду этих новых проблем оканчиваю этим нетвердым:
«и так, и этак». Ничего окончательного. Истина заключается именно в нео-
кончательном, в нетвердом, в неуверенном. Как уверенность - так ложь!
Явная, нестерпимая! Да что же: разве нет в мире кроме цветов - и оттенков,
кроме прямых линий - и изогнутых, «неуловимых», кроме «да» и «нет» еще
«что-то», «кажется» и пр. Сам мир полон «нерешительностями», и уже с
этим ничего не поделаешь. Да даже более: как только мир весь и без остатка
перешел бы в «ясные очевидности», так он и сделался бы конечным, огра-
ниченным, немножко глуповатым, всеконечно бессильным. И попросту, пе-
рестал бы «родить» и потерял бы «будущее».
415
А без этих двух вещей как же в мире и жить-то можно бы? Задохлись бы
в «решенных уравнениях».
Прелесть мысли Эртеля, не учившегося в университете, который не от-
рываясь всю жизнь прохлопотал около сохи, около поля, около деревенской
конторы, который имел семью и самым положением вынужден был тру-
диться, - заключается, при постоянной твердости тона, в уклончивости
«заключений»; в этих неопределенных уравнениях, которые он выдвигает
«убежденным» своим противникам, как бы говоря: «В кабинете ученого
действительно все определенные уравнения, и они же царят в келье монаха
и в комнатке курсистки. Но как за стены их выйдешь, так все встречаешь
неопределенные уравнения... Но это - не причина горечи: именно от этого
я свободен, свеж и на все, даже невероятное, надеюсь».
Если взять само даже толстовство, неприятное в своей «твердости», то
даже в отношении его прямое и резкое отрицание, сухое и строгое отверже-
ние было бы уже заблуждением. Нужно именно «так и этак». Нужно только
не быть «толстовцем»: но, затем, и в мотивах возникновения его, и в соста-
ве его «веяний» можно открыть и свободно признать много основательного
и прекрасного. Всему «час» и «место»: есть «час» - когда именно толстов-
ство хорошо; место - где именно оно уместно. Но прошел «час», минуло
«место»: - оно не нужно, вредно, неразумно.
«Эх, 3. С., - пишет Эртель Соколовой: - вспоминайте вы почаще слова:
«не всякий, взывающий «Господи! Господи! войдет в царство небесное», и
наоборот, - не всякий, пьющий грешным делом шампанское, попадет в ад.
Грешный Герцен, право же, стоит безгрешного Е. П., так же, как из другой
области, из области вымысла, «беспутный гуляка» Моцарт - безукоризнен-
ного Сальери. Я хочу этим всем сказать, что так называемое «самоусовер-
шенствование» всегда будет «домашним делом» людей, а на арене обще-
ственности плюс составится не тем рекордом, который они побьют по час-
ти воздержания, а тем, сколько они внесут в жизнь сердца, ума и таланта
(мой курсив)».
Вот тезис, представляющий лучшую критику толстовства: «твори, а не
ограничивай себя в потреблении». Твори, создавай вещи, ценности, потреб-
ляемые продукты, даже до избытка для другого; и при этом условии ты мо-
жешь есть и носить одежд сколько тебе хочется и нравится: до этого ни лю-
дям и даже Небу дела нет. Раз эта формула сложилась, - «Акимы-простоты»
отлетают в сторону; самое большее, на что они могут претендовать, - это
милосердие; и никак не могут становиться еще каким-то «идеалом» и «при-
мером» для человечества. Эти «прокормляемые», а не «кормящие» идеалы,
- Бог с ними: устали от них люди, собственно - работники. «Бог подаст,
проходите», - можно проговорить, обернувшись к Толстому в образе Аки-
ма-простоты.
Эта мысль Эртеля, в ее оттенках и переливах, чрезвычайно важна: вы-
сказанная в частном письме, горячо, лично и просто, она дает лучший ответ
на недоумения общества, которое, познав гипноз художника - Толстого, не
416
заметило всей скудости идей Толстого-философа. Эртель пишет далее сво-
ей корреспондентке - вместе судье: «А не приходило вам в голову подумать,
что вот я, пьющий шампанское, когда случится, и вообще человек далеко не
фиваидского настроения, с вашей точки зрения, вызывал и вызываю много
любви и дружбы к себе, которые, я уверен, еще более обнаружатся, когда
меня не станет и когда многое тайное, конечно, сделается явным. Так гово-
рить про себя нескромно, это правда, но вы вынуждаете меня к нескромно-
сти. И пойду еще дальше в ней. Вы с К. К. искренно и во всю силу вашей
души стремитесь к простоте, ограничиваете свои потребности, смотрите
на всякую копейку как не на свою, не прочь осудить - и иногда жестоко -
людей иного типа, иных пониманий и взглядов на жизнь, а между тем выхо-
дит как-то так, что самое дорогое и привлекательное для вас в жизни - сце-
на, устройство разных предприятий для народа, свобода, а для К. К. и меди-
цина, - все это доступно вам, во всем этом вы плаваете, а для меня самое
любимое и привлекательное: литературная деятельность, хозяйство на сво-
ей земле, устройство таких же предприятий, как ваши в Никольском, - недо-
ступно, а главное, недоступна свобода, недоступно спокойствие за завтраш-
ний день, за будущее своей семьи, своих детей, у которых нет богатой ба-
бушки, и я сам в работниках у Хлудовых, да еще молю Бога, что попал в
работники, ибо без этого буквально бы пропал. Неужто такая разница судь-
бы, что вы очень нравственны, а я скверного поведения и иногда случится,
что не отказываюсь от бутылки шампанского». Эртель объясняет дальше, с
цифрами в руках, что когда нужно было доканчивать операцию голодного
года и денег уже не было, то он, не задумываясь и не стесняясь, брал их, где
только возможно было, и затем «всего себя, без остатка и без размышлений
о завтрашнем дне, отдавал делу, и вышел из него с долгом в 10 тыс. руб. и с
такими разбитыми нервами, что было уж, конечно, не до морального состо-
яния. .. Три года я не имел ни физических, ни нравственных сил писать, три
года! Емпелевка давала убыток, три года у нас толкалась масса народа, в том
числе и по голодным делам, - и разумеется, все это ложилось на мой лич-
ный бюджет. Я это вам напоминаю не для того, чтобы разыгрывать «казан-
ского сироту», а для того, чтобы указать, что личная «безнравственность», с
одной стороны, не помешала забыть все «лишнее» и залезть, ради общего
дела, в безысходную трясину долгов и неврастений. Милая моя обличитель-
ница! Бывает, что живут в еду, в вино, в рысаков, в женщин, и это не то,
что безнравственно, но гнусно, скучно, некрасиво, подтачивает если не
физическую, так умственную жизнеспособность... (мой курс. - В. Р.). Но
бывает, что эти «пороки» только аксессуары жизни, - и надо это разбирать.
Соглашусь, что и та точка зрения, с которой такие аксессуары рассматрива-
ются неблагосклонно, в свою очередь, может иметь резоны: но отсюда еще
далеко до полного осуждения «несогласно мыслящих». Затем у каждого есть
свои слабости. У меня, напр., к шампанскому, - у другого к осуждению лю-
дей, и к тому, чтобы ставить им «каждое лыко в строку». Ну, что же, я все-
таки предпочитаю остаться при своей слабости, а не при чужой...»(стр. 385).
417
Так просто, ясно и спокойно. Корреспондентка Эртеля, 3. С. Соколова, -
«каждую свою копейку (наследственную? помещичью? от богатой бабуш-
ки?) считает чужою»: и это дает ей такое нравственное удовлетворение, та-
кую сытость собою, что она «не прочь осудить - и иногда жестоко осудить»
людей, смотрящих на трудовую, заработанную копейку как на безусловно
собственную, причем она тратится и на рубаху, и на милостыню, и на стакан
вина. Но этот добрый «стакан вина» родит в Эртеле такое настроение, что
он не спорит с нею, признает свои слабости и не упрекает ее за ее, а только
взвешивает ее объективно для решения спора, в котором все важно, и прак-
тическая сторона, и теоретическая. Поразительно при этом следующее: люди
аскетического настроения («фиваидского» у Эртеля) суть жестокие судии
мира. Это что теперь, когда они «не у дел»: но все-таки и у нас они воздвиг-
ли все темницы на «несогласно мыслящих» (Соловки, Суздальская крепость-
монастырь), а в старое время власти и господства именно они зажгли все
костры (на Западе). И вот едва Толстой, такой кроткий и прощающий в «Войне
и мире» и «Казаках», начал только приближаться к этому «фиваидскому на-
строению» и затем совсем впал в него, как сперва Анну Каренину, такую
прекрасную и талантливую, он толкнул под поезд, жестоко надписав в эпиг-
рафе: «Мне отмщение и Аз воздам», а затем опрокинулся на сословия, на
ученых, на Шекспира, на всю цивилизацию, да собственно и на всех людей,
кроме Черткова и его и своих «ближних». Вот вам и «смысл жизни», и «Иоан-
ново Евангелие любви»... «Всех люблю, а на всех сержусь»... Птичек в поле
он, конечно, любит; отчего же, чирикают себе; но едва сосед его поднес ста-
кан красного вина ко рту, как он позеленел в чувствах. Мало этого: и близ-
кие, и далекие, за ним идущие, таковы же: Соколова - как крючечком удочки
- задела под ребро заработавшегося Эртеля, и осторожно, издали, но стара-
ется привести его в тихий затон «неделания», поста, злобы и осуждения.
Эртель отмахнулся:
- Не до вас. Стою на работе. Идите к праздным...
Толстовство вдруг село на мель как одна из затей людей, которые вооб-
ще не принуждены работать, которые живут «так» или на «наследствен-
ное» (Чертков) или же имеют такой колоссальный талант, который, как де-
рево с золотыми яблоками, каждую осень кладет в мошну и даже «про за-
пас» богатство... Ведь и Будда был тоже царский сын. И весь путь этот или
«царский», или «богачей»... Обыкновенным людям он - зарез.
РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО НЫНЕ И ВЕЧНО
В сумрачные, тоскливые дни, наполненные событиями то мелкими, то гряз-
ными, великий и вместе вечный праздник Рождества Христова должен на-
помнить всем нам, как далеко мы отстали от идеала, как далеко мы отпали
от Бога. Свет религии страшно угас в людях. И этим только можно объяс-
нить удивляющее исчезновение в делах наших, в политике нашей, в обще-
418
ственности нашей, в быте нашем - идеализма. Религия конкретно, образно
и, наконец, мистически является главным средоточением, главным вмести-
лищем человеческих и сверхчеловеческих идеалов. Кроме того, самым строем
своим, самым духом своим она воспитывает в человеке вообще все идеаль-
ное, даже когда оно лежит и вне сферы религии. Вот отчего в зависимости
от себя, и именно питающей зависимости, отнюдь не ограничивающей, от-
нюдь не формальной, - она держит все области жизни, в том числе и госу-
дарственность.
Угасание религии есть истощение питающего молока в стране, причем
всё и все становятся худосочны, вялы, склонны к заболеваниям в тысяче
форм. Только религиозно великие эпохи бывали великими и политически.
Англия - лучший и очевидный тому пример. Что касается Франции, то так-
же не следует забывать, что великим событиям и великому духу первой ре-
волюции предшествовала великая пора янсенистов, с Паскалем в центре.
Исторические настроения не исчезают быстро: и хотя вожди первой рево-
люции формально были без веры или с пошатнувшеюся верою, однако на-
ряду с духом Вольтера в них наследственно веял и дух Паскаля. Не забудем
также, что Руссо, более всех возбудивший революцию, был глубоко религи-
озною натурою, как видно по его «Исповеданию савойского священника», -
хотя католической церкви он и был враждебен. Но подробность исповеда-
ния - уже второстепенна. Нужна связь души с Небом, религиозность в фун-
даменте своем.
Вот ее-то и нет теперь. Как раз эту зиму преступления одно чудовищ-
нее другого поразили воображение страны. Богатый и образованный моло-
дой человек, чтобы еще увеличить богатство свое, заманивает в близость к
себе и затем предательски во сне зарезывает доверчивого юношу, ни о чем
не подозревающего. Несколько простолюдинов-ремесленников умерщвля-
ют с тем же намерением небольшой наживы служанок, и труп одной из
них, еще не остывший, насилуют. Третий преступник, чтобы поживиться
четырьмя рублями, убивает двух маленьких детей, причем ему даже лень
втолкнуть их и запереть в комнате: проще, скорее и вернее ему кажется
именно убить! Эти чудовищные преступления, эта легкость к крови, как и
патологическая жажда дешевой наживы, без труда и заботы, указывают на
глубокое потрясение души человеческой, на то, что под нею подрыт самый
фундамент: совесть, какое-нибудь зазрение ее, какая-нибудь способность
ее к муке, к тяжести, к страху, к раскаянию. Ничего этого не стало. Душа
опустошилась. И нельзя не связать это опустошение души с теми откровен-
но-безнравственными мотивами, под флагом которых прокатилась наша
циничная революция. Она первая откровенно и формально разрешила по-
сягательство на кровь человеческую. Она первая провозгласила, что чужое
имущество, особенно большое, есть преступление, поправляемое грабежом,
разгромом, пожаром. В течение двух лет вторичного русского «лихолетья»
стояли в воздухе эти лозунги, эти выкрики, этот рев. И плоды его мы пожи-
наем сейчас.
419
И долго еще будем пожинать. Ибо промотать нравственное богатство
легко, а нажить его трудно. Трудно и медленно слагаются нравственные по-
нятия, еще медленнее нравственные понятия оформливаются и застывают в
виде нравственных навыков. А только тогда, когда нравственность стала
навыком, привычкою, обыкновением, - общество может считать себя обес-
печенным от разгула ножа и огня, от насилия, от расхищения имущества.
Вот воссоздание всего этого зависит от возрождения религиозного строя в
стране. Только религия настоящим образом одухотворяет всего человека, -
действуя не на один его ум, не на философствующие способности, а на всю
натуру, на пожелания, на волю.
Церковь в торжественном кругообороте годовых своих праздников, рит-
мически повторяющихся, всего лучше способствует восстановлению, так
сказать, пульса религиозной жизни в стране как чего-то спокойного, нор-
мального, закономерного. Церковь чужда экзальтаций. Церковь полна вели-
чавого эпического покоя. И вместе она полна самого высокого идеализма, и
практического, и теоретического. Проведем, несмотря на окружающий нас
нравственный ужас, наступающий праздник Рождества Христова спокойно,
отдохновенно, даже проведем его беззаботно: именно, чтобы освежиться
душою и собрать силы для борьбы с этим мраком. «Всякое ныне житейское
отложим попечение»: эти слова любимейшего церковного песнопения соб-
ственно приложимы ко всякому празднику и зовут каждого человека и весь
народ изжить, выдавить из себя черную каплю страха, смятения, отчаяния
по крайней мере на эти дни. Без отдыха душа не может жить. И как бы ни
велика была скорбь, заставляющая нас копаться и копаться в черных язвах
больного организма, - мы для спасения себя, для сохранения в себе равнове-
сия ума и сердца, должны временами прерывать тягостную работу и перево-
дить глаза на совсем другие зрелища, к порядку совершенно других идей и
фактов. Темп этих перерывов установлен Церковью. И на эти дни совер-
шенно забудем политику, общественность, - и отдадимся всею душою од-
ной Церкви и великому событию, которое она празднует и зовет весь народ
праздновать с собою. Уйдем с улицы. Со светлым лицом войдем в домы
свои, к своим семьям, - и проживем эту неделю только с ними.
Перенесемся все за две тысячи лет назад, в тихую, провинциальную стра-
ну, чуждую мировых исторических движений, где совершилось самое ко-
лоссальное культурное и просветительное событие, даже на взгляд людей
не нашей религии: родился Тот, кого люди нарекли «Спасителем». Нарекли
так за величайший нравственный идеал, который Он дал в своем учении и
осуществил в своем Лице. Идеал этот две тысячи лет стоит непререкаемым
не только для верующих, но и для философов-скептиков. Никто не усомнил-
ся ни в совершенстве учения, ни в красоте Лица, - совершенно единствен-
ного, совершенно исключительного, совершенно несравнимого ни с каким
еще. - Он первый в истории научил людей побеждать кротостью, а не си-
лою; он показал на Себе, что за истину нужно умирать жертвою, а не крова-
во принуждать к принятию истины. Он первый предвозвестил небесную
420
награду гонимому и гонимым, «изгоняемым правды ради». Всем людям Он
дал в завет любовь и мир как новый цемент социального скрепления, вза-
мен цемента «интересов» и выгод. Он действительно «спасал» через это
людей, если бы они исполнили Его слова все, исполнили одушевленно, ис-
полнили чистосердечно.
Но они ничего этого не исполнили. Зов остался без отклика... Или с
глухим и тесным откликом «малого стада»...
Рождение «Спасителя» Церковь окружила чудными торжествами, вы-
сокого и поэтического смысла песнопениями. Народ прибавил к этому свет-
лые, общащие людей обычаи. Весьма сожалительно, что они более и более
исчезают, особенно в городах, и почти вовсе исчезли в столице. «Христос-
лавление» мальчиков и «путешествие со звездою» их же - все это сохрани-
лось лишь в небольших глухих городках провинции, да по занесенным сне-
гом деревням. А жаль; и нельзя не погрустить об образованных городских
классах, лишивших себя прекрасного народного обычая и с ним - средства
и способа хоть несколько дней в году подышать одним дыханием с народом,
пожить душа в душу с ним. Цивилизация в косых движениях своих действу-
ет как резина: стирает с людей яркие народные краски, сложный историчес-
кий рисунок.
Но что потеряно, того не воротишь. Сделаем, что можно, что осталось:
пойдем в храмы в эти дни, а вернувшись из храма домой, раскроем Еванге-
лие - и перечтем внимательно евангельское повествование о событии. И о
пении ангелов над пещерою, и об удивлении ему пастухов, и о поклонении
магов, и о путешествии Св. Девы в Египет... О всех этих чудных историях,
прекраснее которых ничего не бывало.
В СОЧЕЛЬНИК
Праздник приносит людям радость; но и у людей есть долг чем-то отве-
тить празднику, чем-то порадовать его. Порадовать Бога, Который дал им
праздник.
Но нам нынешний год нечем ответить празднику Рождества Христова.
В морозное позднее утро 25 декабря солнце взойдет в красной, как кровь,
заре... И всегда ее видели, и всегда ей радовались. Приливая к сердцу, раз-
ливаясь по телу, кровь живит его все. Весело нам, и кровь обращается жи-
вее. Кровь - источник всего в человеке, корень всего. Корень самой души,
мыслей. У Тургенева в рассказе «Касьян с Красивой Мечи» старик произно-
сит о крови вещие, древние слова: «Кровь не может видеть солнышка; как
увидит, - умрет (по-ученому - «свертывается»). Поэтому грех открывать
кровь» (показывать ей солнышко, выводить ее на солнце, наружу из жил).
Слова эти потому мы назвали «древними», что во всей древности, до хрис-
тианства, кровь почиталась священною. Ее как-то боялись, почти как умно-
го, мудрого существа; обходились с нею бережно. При жертвоприношениях
421
ее собирали в священные храмовые сосуды и кропили ею или помазывали
ею самые священные предметы, как мы кропим их «святою водою» или по-
мазываем их «священным елеем» (миром). Все эти подробности древних
ритуалов, виденные тогдашними «верующими» каждый день, сообщали им
трепет, страх перед кровью. Всем было «страшно открыть кровь», как тому
дедушке тургеневского рассказа, который свое ведение и свое слово вынес
из тьмы веков, из языческих еще верований славянства, сохранившихся по
глухим, лесистым и пустынным местам русской земли.
И Дева Мария, родив Спасителя мира, принесла, по обычаю и по закону
древних евреев, двух горлинок, или голубок, Господу в жертву.
Кровавый цвет рождественской зари поэтому есть добрый цвет, напо-
минающий людям об источнике жизни на всей земле. «Мы Кровь любим,
бережем и радуемся, увидев в небесах ее цвет». И никто зимних кровавых,
красных зорь не боялся. Но встречал их весело, во все дни декабря и в рож-
дественское утро.
Если бы не согрешили мы перед кровью, и мы встретили бы весело,
сияюще рождественскую зарю. И сказали бы утренней - «здравствуй», а
вечерней - «прощай».
Но опустятся глаза наши в это утро и вечер. Не смеем мы посмотреть на
небо, на зарю. Согрешили мы перед ними. Цвет их приведет в голову не
веселые, а печальные мысли. Страшные, тягостные воспоминания.
Согрешили мы. Все согрешили. И нечем нам встретить праздник.
* * *
Это - любимый день детей и женщин. Любимый день семьи. Но далеко мы
от них. Точно мы, бросив жену, детей, семью, куда-то от них ушли и заблу-
дились. Это не физически, не географически, а духовно, в мыслях.
Где мы?
Право, если бы не школа и необходимость покупать по осени учебники,
если бы не статьи в журналах и газетах о «школьном вопросе», - никто бы и
не догадался, что мы живем с детьми, что при нас есть дети, что от нас
рождаются дети! До такой степени духовный наш мир далек от них, пуст
от них, забыл о них. Самое «Рождество Христово» мы проводить не умеем,
разучились: нервно, торопливо, озабоченно мы входим в детскую комнату,
подходим к зажженной елке или смотрим на зажженную в зале парадную,
нарядную елку. Но в душе нам не до нее; мы с нею скучаем втайне. И вот,
едва загасили на ней свечи и минуло семь дней, - мы выталкиваем ее в сени,
в кухню, к дворникам и равнодушно смотрим из окна делового кабинета,
как он рубит ее на прутья для подтопки плиты.
«Детская забава! Нам не до нее!!»
Ах, если б нам было «до нее», если б в душу нашу не вошел официально
и на час, а впорхнул в нее, как птичка, и прочно уселся там «детский празд-
ник», «женин праздник», - было бы на земле несравненно веселее и счаст-
ливее; и, говорим совершенно серьезно, «политические перемены», проис-
422
шедшие от разлияния на нашу психику и на нашу жизнь детского веселья,
детской чистоты, детской невинности, - были бы неисчислимы и поистине
равнялись бы самому громадному социальному перевороту! Такому, что и
измерить его величины нельзя...
И, прежде всего, ближе всего, - мы не опустили бы совестливо и мучи-
тельно глаза перед рождественской зарей. «Кровь в небе! Как в нас! И мы
любим ее там, как любим у себя. И бережем»... С испугом Касьяна с Краси-
вой Мечи мы не «открыли» бы ее, не дали ей взглянуть на солнце и умереть.
Вот первый результат настоящего «детского праздника», разлитого на весь
год, конечно, не в безделье своем, а в веселости своей, в оживлении, в чисто-
те и невинности. Мы не «открыли» бы кровь и не взывали, как Каин:
«Теперь каждый, кто увидит меня, - убьет меня».
Ужасный страх, ужасное томление... Ужасное бегство. Да, бегство. Взгля-
ните: люди бегут друг от друга, прячутся один от другого. «Не доверяй дру-
гу: другу-то именно и не доверяй. Лучше к чужому пойди»... Эта ужасная
мысль мелькает в воздухе, и, подождите, она разольется, да уже и разливает-
ся в определенных кругах людей, как «погода», как «климат». Еще несколь-
ко этапов по этой дороге, и станет невозможно жить; все человеческие сно-
шения невероятно затруднятся.
Ведь, убитым, первым убитым на земле был брат, родственник, «свой
человек». Рука поднялась впервые вовсе не на чужого, не на врага природно-
го, от рождения и по положению. «Чужой мне не мешает, но вот свой чело-
век, ближний - мне не дает жить, и я задыхаюсь там, где дышит он».
Ужасно! Ужасная истина, записанная на первых страницах Библии.
* * *
Все от грехопадения... Все от греха... А греха больше там, где мало детей.
Где их вовсе нет, - невольно рождается чудовищный грех.
* * *
Пришла железная «государственность»; пришел железный «социальный
строй». Там и здесь детям стало неуютно. Там и тут детей просто некуда
деть... В единственной русской социальной утопии, романе «Что делать»,
проектировано, что дети будут общие, как и жены до некоторой степени
общие... Но это - не идиллия, и построено так не по какой-нибудь нежности
к детям и матери, чего в романе не заметно, а потому, что собственно детям
и матери не нашлось места, своего и самостоятельного места; и когда от них
все «будущие граждане-работники» оттолкнулись, то они и сделались есте-
ственно «общие» и «ничьи». Как «ничьи» дети в воспитательном доме, или
как гимназисты в прежней толстовской гимназии, отстранившейся как мож-
но дальше от семьи и не подпускавшей семью к себе. «Ну, их»... - девиз
Чернышевского и Толстого (Д. А.).
Мы упомянули о казенных заведениях, особенно прежнего типа. «При-
шла железная государственность» - и вывела детей из семьи, из родного
423
дома, построив для них полудворцы, полуказармы. Похолодела семья, и го-
сударство не согрелось. «Пришествие государства», вообще, сопровожда-
лось похолодением всех вещей, всех отношений, самого человека. «Горли-
нок» стало некому и не для чего приносить. Кстати: Христос родился в Виф-
лееме, в стране уже завоеванной, без политичности, без государственнос-
ти... Была жизнь; был быт; были нравы и богослужение... А государства и
его вездесущего сопутствия - чиновника - не было.
И там Христос родился.
В «железной государственности» Его не могло родиться... Не тот воз-
дух. Воздух жесткий, холодный. Неприятно дышать, никому не приятно.
Святые жены Евангелия задохнулись бы в нем. И Симеон, и Анна умерли
бы в мизантропии не только не дождавшись, но и не желая дожидаться «чуд-
ного рождения»... Перестав надеяться на него, перестав верить в него.
«Горлинки», голубки Евангелия, не уместны там, невозможны, где зас-
тучало железо о железо, топор о топор и нож о нож. «Горлинки» отмени-
лись, - по любопытному мотиву: «жалко проливать их кровь»; и сейчас же
вскрылись жилы человека, и стал человек «показывать солнцу кровь», - по
пугливому выражению Касьяна с Красивой Мечи. Настал грех. Жертвы из
«горлинок» отменились: настали человеческие жертвы.
И потемнела кровь в человеке. Самая кровь сделалась грешною. Такою
она сделалась от греха, но потом уже сама начала изводить из себя грех.
Каин имел темную кровь, Авель имел светлую кровь. Все мысли наши рож-
даются из крови.
И стал человек с темною кровью убивать.
И еще он стал испуган, что «и меня убьют».
И от испуга еще расширял круг убийства.
И завертелись колеса, рычаги страшной машины... социальной маши-
ны. Колесико цепляет за колесико и поворачивает его. Все испуганы, кри-
чат: «Не надо крови». Но крови все больше. Уже не могут остановить, оста-
новиться.
Она течет снизу, сверху. И каждый раз слышится оправдание. «Это не
мы убиваем: но оттого, что нас убивают, - и мы убиваем». Но не в том, как
оправдываются, заключена суть, а в том, что есть дело, в котором надо оп-
равдаться.
* * *
В детстве, в лесном костромском крае, мы олицетворяли «Рождество Хрис-
тово».. . Праздник был для нас, детей, не день, а «кто-то», кто к нам прихо-
дил... Мы ждали «Рождество» к себе на стол, в комнатку. Самого дня я не
помню, как он проводился. Кажется, обыкновенно. Но помню ярко и глубо-
ко канун его, «сочельник», и именно его вечерние часы, от 3—4 дня до 8-9,
когда нас уже отправляли спать, да и сами мы засыпали с счастливою мыс-
лью: «Теперь уже кончен пост, и мы проснемся завтра в праздник Рожде-
ства», в «совсем другое».
424
В сочельник же, сидя на лавочках и поджав ноги, мы большой детской
семьей соображали, «где теперь Рождество», то есть насколько оно еще не
приблизилось, не подошло к нам, и насколько уже подошло. За стенами тре-
щал мороз; страшно было выглянуть в стужу, одежонка у всех была плохая.
И вот еще двенадцать часов дня, два часа, даже три часа все разумно и скуч-
но, все понятно и неинтересно. Но уже с четвертого часа, когда начинало
вечереть, все становилось - и с каждым получасом больше - таинственным,
немного страшным и восхитительным. Мамаша уторопляла приготовления,
но мы на мамашу не смотрели. Мы ждали «Рождество»...
- Теперь уже оно подходит к нашему саду...
- Дошло до забора?
- До забора еще не дошло. Но близко...
«Оно» идет с молочком. Тем «молочком», какого нам не давали во весь
длинный пост. Идет «Праздник» медленно, именно, как текут часы; и от
этой медленности он не стоит на месте, а все «около» движется, то подни-
мется на березку, то сойдет с нее, идет по садовой дорожке, но вдруг остано-
вится, задержится. «Потому что еще всего семь часов, и он не может войти
в сени». На душе хорошо. И с каждой четвертью часа таинственнее и лучше.
- Ты, Верочка, с утра не ела?
- Не ела.
- Какая ты счастливая. А я не удержался и съел ломоть хлеба; хотел
только полломтя, но съел весь.
- Нехорошо. Это тебя злой дух соблазнил. Когда до звезды человек ест,
то Рождество плачет. И неохотно идет в тот дом. А в каких дурных домах все
едят, туда Рождество и совсем не приходит. Тем людям нет праздника.
- Оно с молоком?
- Да. И с гостинцами.
- Это хорошо. Но само оно лучше всех гостинцев. Не потому хорош
Праздник, что несет гостинцы, а потому гостинцы хороши, что их несет
Праздник. Сам же он лучше всех, и для него наряжается церковь и вся зем-
ля, мамаша наденет лучшее платье и священник наденет белые ризы.
- А мы?
- И нам все починили к празднику. Из старенького. В праздник все за-
шито, дыр нет и все нарядно.
- Все это хорошо.
Молчим. Долго.
- А почему «до звезды» не едят?
- А потому, что это исстари.
- Ужасно есть хочется. Даже хоть бы выпить.
- Воды можно. Но квасу нельзя. Квас питает.
- Как трудно дожидаться.
- Тем лучше. Празднику в радость. Праздник строго войдет в дом, и его
встретить надо строго, торжественно. И чем строже, тем все будет счастли-
вее. Потом.
425
- Как все устроено!
- Исстари.
И вот «звезда», и мамаша торопливо ставит на стол глиняное блюдо, где
почти в пустой воде плавает немножко резаного картофеля. Все с жаднос-
тью съедается.
- Теперь Рождество совсем близко, уже подошло из сада ко двору и ско-
ро войдет во двор.
Почему-то «его» никогда не представляли идущим с улицы, с фасада, с
переда. Оно всегда кралось «с задов», со «своего, домашнего места», через
сад, двор и заднюю лестницу.
- Теперь молитесь Богу и ложитесь спать. Скорее...
Тон мамаши еще уторопленнее и не терпит возражений, ни непослуша-
ния. Мы живо снимаем сапоги и все, что полагается.
Спали на полу. На войлоке. Все вместе.
Уже сидим на нем. Глаза слипаются.
- Теперь, я думаю, «оно» вошло в сени.
- Или близко к сеням. У косяка.
- И завтра проснемся, - оно будет на столе?
- Да. Но теперь «оно» смотрит на нас и ждет, когда мы заснем. Мы «его»
не видим, но «оно» нас видит. «Оно» ждет, когда мы заснем. И все заснут, и
мама. И тогда «оно» потихоньку войдет в дом, никем не видимое. И все
сделается тогда радостное. Но Рождество не любит, чтобы его видели и что-
бы на него смотрели.
И сонные головки, с обрывками золотых ожиданий, одна за другой ук-
ладывались в розовые ситцевые подушки.
«Завтра и молоко! И масло в барашке с золотыми рожками. И обедня. И
все нарядное. Скорей бы завтра».
КОММЕНТАРИИ
В настоящий (девятнадцатый) том Собрания сочинений В. В. Розанова вош-
ли его газетные и журнальные статьи 1909 г.
В томе сохраняются те же принципы публикации и комментирования тек-
стов, что и в ранее вышедших томах Собрания сочинений.
Принятые сокращения: НВ - «Новое Время»; PC - «Русское Слово»; Б. п. -
без подписи.
В том не включены статьи Розанова 1909 г., уже опубликованные в вышед-
ших томах Собрания сочинений:
Т. 1. Среди художников (1994) - Сицилианцы в Петербурге (Журнал театра
Литературно-художественного общества. 1908/1909. № 3^4); Из мыслей зрите-
ля (Там же. № 7); Гоголь и его значение для театра (НВ. 1909.21 марта); Марчел-
ла Зембрих (НВ. 1909. 7 апр.); Танцы невинности (PC. 1909. 21 апр.); Гоголев-
ские дни в Москве (НВ. 1909. 3 и 8 мая); К открытию памятника императору
Александру III (НВ. 1909. 23 мая); Памятник императору Александру III (PC.
1909. 6 июня. В книге - с изменением названия); Актер (PC. 1909. 6 сент.); От-
чего не удался памятник Гоголю? (Журнал театра Литературно-художественно-
го общества. 1909. № 2).
Т. 4. О писательстве и писателях (1995) - Литературные симулянты (НВ.
1909. 11 янв.); Трагическое остроумие (НВ. 1909. 9 февр.); Попы, жандармы и
Блок (НВ. 1909. 16 февр.); Загадки Гоголя (PC. 1909. 12 и 14 марта); Гений фор-
мы (НВ. 1909. 20 марта); Русь и Гоголь (НВ. 1909. 26 апр.); Мережковский
против «Вех» (НВ. 1909. 27 апр.); Один из певцов вечной «весны» (НВ. 1909.
31 июля); Мастерство слова у русских и французов; Русское и французское мас-
терство слова (НВ. 1909.6 и 14 августа. В книге - как 2-я и 3-я части статьи «Один
из певцов вечной «весны»); Магическая страница у Гоголя (Весы. 1909. № 8,9);
Погребатели России (НВ. 1909. 19 нояб.); Куприн (НВ. 1909. 26 нояб.); Красота
- властительница (НВ. 1909. 2 дек.); Героическая личность (НВ. 1909. 3 дек.); О
письмах писателей (НВ. 1909. 16 дек.).
Т. 7. Легенда о Великом инквизиторе Ф. М. Достоевского (1996) - Лич-
ность отца Иоанна Кронштадтского (Церковные Ведомости. 1909. №1.3 янв.
Прибавление); Из воспоминаний и мыслей об Иоанне Кронштадтском (PC. 1909.
9 янв.); На лекции о Достоевском (НВ. 1909. 4 июля); О психологии терроризма
(НВ. 1909. 25 июля).
Т. 10. Во дворе язычников (1999) - Язычество в христианстве (НВ. 1909.
20 янв.); Афродита и Гермес (Весы. 1909. № 5).
Наши задачи, надежды и пожелания (с. 7)
НВ. 1909. 1 янв. № 11784. Б. п.
...сицилийское землетрясение... - землетрясение в Сицилии, разрушившее
город Мессину; произошло 15 декабря 1908 г.
427
Православная церковь в 1908 г. (с. 8)
НВ. 1909. 1 янв. № 11784. Б. п.
...«где два и три соберутся во имя Мое» - Мф. 18, 20.
Новая книга о христианстве (с. 9)
НВ. 1909. 3 янв. № 11786.
...четырехтомный труд проф. Московской духовной академии Мих. М. Та-
реева... - Тареев М. М. Основы христианства. Т. 1—4. Сергиев Посад, 1908. В
1910 г. там же вышел дополнительный 5-й том этого труда.
И. Христос Сам сказал, что Он «пришел для больных, а не для здоровых»...
- ср. Мф. 9, 12-13; Мр. 2, 17; Лк. 5, 31-32.
...«оставлять отца и матерь», «ненавидеть сестер и братьев»... «остав-
лять жен своих»... - ср. Мф. 19, 29; Мр. 10, 29-30; Лк. 18, 29-30.
Потуги на пророчество (с. 17)
НВ. 1909. 5 янв. № 11788. Подпись: Старый друг.
... «Пророчество и провокация» - статья Д. С. Мережковского в газете «Речь»
(1909. 4 янв.); вошла в сб. Мережковского «Больная Россия» (1910).
Женщина как охранительница народного
здоровья (с. 20)
PC. 1909. 14 янв. № 10. Подпись: В. Варварин.
Живая школа в церкви (с. 24)
НВ. 1909. 15 янв. № 11798. Б. п.
Учительский вопрос в министерстве
просвещения (с. 27)
НВ. 1909. 16 янв. № 11799. Б. п.
Письмо в редакцию <О выходе из совета
Религиозно-философского общества> (с. 29)
НВ. 1909. 17 янв. № 11800.
Школьный мир в России (По поводу
преобразования гимназических штатов) (с. 30)
PC. 1909. 22 янв. № 17. Подпись: В. Варварин.
«В поте лица ты будешь обрабатывать землю, и тернии и волчцы она про-
израстит тебе»... - Быт. 3, 17-19.
«Школьные воспоминания» покойного Дедлова... - «Из школьных воспоми-
наний» - очерки В. Л. Дедлова (1856-1908) в журнале «Пчела». 1877. № 22-25.
В Религиозно-философском обществе (с. 38)
НВ. 1909. 23 янв. № 11806.
И вырвал грешный мой язык... - А. С. Пушкин. Пророк (1826).
428
Жил когда-то старый / Добрый король... - И. В. Гёте. Фауст. Ч. 1, сц. 8.
Вечер.
.. .решимость и талант Репетилова... - А. С. Грибоедов. Горе от ума (1824).
...из Баскова переулка... - Басков переулок в Петербурге - место нахожде-
ния редакции журнала «Русское Богатство».
Почему Азеф-провокатор не был узнан
революционерами? (с. 42)
PC. 1909. 27 янв. № 21. Подпись: В. Варварин.
«Начало» - русский ежемесячный научно-политический и литературный
журнал, издававшийся в 1899 г. в Петербурге (вышло 5 номеров). Орган легаль-
ного марксизма; фактически редактировался П. Б. Струве и М. И. Туган-Баранов-
ским.
Разговоры во вкусе Лежнева и Рудина, Базарова и Аркадия, отношения в
типе отношений между Хорем и Калинычем... - Речь идет о персонажах произ-
ведений И. С. Тургенева - романов «Рудин» (1856), «Отцы и дети» (1862); рас-
сказа «Хорь и Калиныч» (1847) из цикла «Записки охотника».
«Николай Иванович» - конспиративный псевдоним П. А. Куликовского, орга-
низатора террористических актов, участника (вместе с Каляевым и Савинко-
вым) покушения на великого князя Сергея Александровича.
У гроба отца Иоанна Кронштадтского (с. 48)
НВ. 1909. 29 янв. № 11812.
В лагере опростоволосившихся (с. 50)
НВ. 1909. 1 февр. № 11815. Б. п.
Ликвидированное дело (с. 52)
НВ. 1909. 11 февр. № 11824. Б. п.
...высказывается... г. Струве... - Струве П. Б. Неестественный режим И
Московский Еженедельник. 1909. № 5. 31 янв.
После дела 1 марта... - Имеется в виду 1 марта 1881 г., когда бомбой был
убит император Александр II.
Анна Павловна Философова (с. 55)
PC. 1909. 17 февр. № 38. Подпись: В. Варварин.
Правительственный «социализм»
и выборгская «анархия» (с. 65)
НВ. 1909. 19 февр. № 11832. Б. п.
Некий «скептик» в «Речи»... - Скептик. Практика государственного социа-
лизма // Речь. СПб., 1909. 18 февр. № 47.
Выборгское воззвание. - В июне 1906 г., после роспуска I Государственной
думы, около 180 ее депутатов собрались в Выборге и обратились с призывом к
населению России не платить правительству подати и не давать солдат в армию.
429
Без вины виноватые... (с. 67)
НВ. 1909. 23 февр. № 11836. Б. п.
Г. Скептик из «Речи»... пишет по поводу нашей - другую. - Скептик. Не-
доразумение // Речь. СПб., 1909. 20 февр. № 49.
50-летие А. С. Суворина (с. 69)
НВ. 1909. 27 февр. № 11840. Б. п.
Нечто из тумана «образов» и «подобий».
Судебное недоразумение в Берлине (с. 70)
Весы. 1909. № 3, март. С. 56-62.
Отрок милый, отрок нежный... - одноименное стихотворение А. С. Пуш-
кина (1835).
Великое начинание в Москве (с. 75)
НВ. 1909. 4, 5, 6, 7 марта. № 11845, 11846,
11847, 11848.
...великая княгиня Елизавета Федоровна, потерявшая мужа таким ужас-
ным образом...- жена великого князя Сергея Александровича, московского ге-
нерал-губернатора, убитого в 1905 г. террористом Каляевым.
...Христос был позван в дом двух сестер, Марфы и Марии - Лк. 10, 38—42.
У могилы Иоанна Кронштадтского (с. 87)
PC. 1909. 5 марта. № 52. Подпись: В. Варварин.
Вертер у Гёте перед тем как умереть... смотрит на созвездие Большой
Медведицы. - Об этом пишет Ф. М. Достоевский в «Дневнике писателя» (1876.
Январь. Гл. I, § 1).
На чтении гг. Бердяева и Тернавцева (с. 93)
НВ. 1909. 12 марта. № 11853.
...прочитанН. А. Бердяевым доклад о пределах и ограниченности философии в
области веры - см.: Бердяев Н. А. Опыт философского оправдания христианства
(В. И. Несмелое. «Наука о человеке») // Русская мысль. 1909. № 9. С. 54—72.
...реферируя книгу казанского профессора В. Несмелова «Наука о челове-
ке»... - Несмелое В. И. Наука о человеке. Т. 1. Казань, 1898 (3-е изд. Казань,
1906); Т. 2. Казань, 1903 (2-е изд. Казань, 1907).
...«что значит для человека приобрести весь мир и потерять душу»? - ср.
Лк. 9, 25.
Спор из-за хлебов (Открытое письмо еп. Никону
о множестве праздников) (с. 96)
НВ. 1909. 15 марта. № 11856.
Ответ на эту статью Розанова: Никон, епископ вологодский и тотемский.
«За Божьи дни (Ответ на открытое письмо В. В. Розанова)» // Колокол. СПб.,
1909. 21 марта.
430
<Л. Н. Толстой о юбилее Гоголя> (с. 98)
НВ. 1909. 26 марта. № 11867. Б. п.
В «Рус. Слове» напечатана беседа сотрудника газеты с Л. Н. Толстым... -
Спирс С. Толстой о Гоголе // Русское Слово. 1909. 24 марта.
Вопросы русского труда (Опыт ответа
преосвященному Никону) (с. 100)
НВ. 1909. 26 и 27 марта. № 11867 и 11868.
Сторона наша убогая... - Н. А. Некрасов. Дума (1861).
«Блаженны нищие... Их Царство небесное» - Мф. 5, 3; Лк. 6, 20.
Но жарка свеча / Поселянина... - А. В. Кольцов. Урожай (1835).
Ник. Ник. Бахметев (Некролог) (с. 108)
НВ. 1909. 26 марта. № 11867. Подпись: Т-щъ.
...издание ...критического этюда Громеки -ГромекаМ. С. Последние про-
изведения гр. Л. Н. Толстого: «Анна Каренина». 5-е изд. М., 1894. Здесь впервые
была опубликована «Исповедь» Толстого (см.: БахметевН. Л. Н. Толстой и цензу-
ра 80-х гг. // Новое Время. 1908. 1 октября).
Смерть и воскресение (с. 109)
НВ. 1909. 29 марта. № 11870. Б. п.
Между скорбью и радостью (с. 112)
PC. 1909. 29 марта. № 72. Подпись: В. Варварин.
В книге Олъденберга о Будде... - ОлъденбергГерман. Будда, его жизнь, уче-
ние и община. Пер. с нем. М., 1884; 3-е изд. М., 1900.
«И скорбь ваша обратится в радость» - Ин. 16, 20.
К. И. Чуковский о русской жизни и литературе (с. 118)
Журнал театра Литературно-художественного общества.
1908-1909. Вторая половина сезона. № 8. Апрель 1909.
С. 9-12.
Толпу ругали все поэты... - М. Ю. Лермонтов. Журналист, читатель и поэт (1840).
...некоторая земля бывает «каменистая» -ине принимает зерна, другая -
«сорная»... - Мф. 13, 4-8; Мр. 4, 3-8; Лк. 8, 4-8.
...рассказ Диккенса. В маленький английский городок приезжает балаган -
цирк - ср. Чарлз Диккенс. Очерки Боза. Гл. XI. Цирк Астли (1836).
О расстройстве трудового года (с. 125)
НВ. 1909. 5 апр. № 11875.
...буду говорить просвещенному Никону... с тою любовью, с какою я читал
его письмо к себе. - Имеется в виду статья епископа Никона «За Божьи дни
(Ответ на открытое письмо В. В. Розанова)» (Колокол. СПб., 1909. 21 марта).
«Не сотвори себе кумира» - Исх. 20, 4.
431
Клерикализм в вопросе о праздниках (с. 128)
НВ. 1909. 9 и 22 апр. № 11879, 11892.
См. отзывы на эту статью - Никон. Немногое в ответ на многое (Открытое
письмо В. В. Розанову) // Новое Время. 1909. 23 апреля; Дроздов Н. Запутав-
шийся богослов // Колокол. 1909. 26 апреля.
Наши миссионеры и мариавитское движение (с. 135)
НВ. 1909. 14 апр. № 11884. Б. п.
Мариавиты - особое движение в среде католиков (преимущественно в за-
падных губерниях России) против крайностей католического учения.
Ввиду слухов (с. 138)
НВ. 1909. 17 апр. № 11887. Б. п.
К новому законопроекту о разводе (с. 140)
НВ. 1909. 19 апр. № 11889. Б. п.
Новая книга о Гоголе (с. 143)
НВ. 1909. 24 апр. № 11894.
Общество содействия дошкольному
воспитанию детей (с. 145)
НВ. 1909. 2 мая. № 11902.
Законопроект о старообрядцах
в Государственной Думе (с. 148)
НВ. 1909. 11 мая. № 11911.
Религиозный прозелитизм и о наказуемости
за него (с. 151)
НВ. 1909. 12 мая. № 11912. Б. п.
Милюковцы и вероисповедный вопрос (с. 153)
НВ. 1909. 14 мая. № 11914. Б. п.
<А. Г. Ковнер (Некролог)> (с. 155)
НВ. 1909. 17 мая. № 11917. Б. п.
К прениям по вопросу о старообрядчестве (с. 156)
НВ. 1909. 19 мая. № 11918. Б. п.
Около гроба Пергамента (с. 158)
PC. 1909. 22 мая. № 115. Подпись: В. Варварин.
В «стане праздноликующих»... - ср. Н. А. Некрасов. Рыцарь на час (1862).
...«полагая душу свою за други»... - ср. Ин. 15, 13.
К законопроекту о переходе из православия
в инославие и иноверие (с. 165)
НВ. 1909. 23 мая. № 11922. Б. п.
432
Вероисповедный вопрос в России (с. 167)
PC. 1909. 27 мая. № 119. Подпись: В. Варварин.
Своей дремоты превозмочь... - А. С. Пушкин. Полтава. Гл. 2 (1828).
Одна заря сменить другую - А. С. Пушкин. Медный всадник (1833).
...Достоевский... суждение о нравственной полезности войн - см. Ф. М.
Достоевский. Дневник писателя за 1877 г. Апрель. Гл. I. § 2. Не всегда война
бич, иногда и спасение.
«Слава в вышних Богу и на земле мир и благоволение» - Лк. 2, 14.
И звезды ею сокрушатся... - Г. Р. Державин. На смерть князя Мещерского
(1779).
«Что им Гекуба?» - У. Шекспир. Гамлет (1601).
Влад. Соловьев в открытом письме к С. А. Рачинскому... - Статья Вл. Соло-
вьева «Как пробудить наши церковные силы? Открытое письмо С. А. Рачинско-
му» (Русь. 1885. 19 октября. № 16. Подпись: П. Б. Д.). См.: Соловьев В. С. Собр.
соч.: В 9 т. СПб., 1902. Т. 4. С. 178-181.
Христианство и связь его с цивилизацией (с. 176)
НВ. 1909. 29 мая. № 11928. Б. п.
К запросу о Союзе русского народа (с. 178)
НВ. 1909. 30 мая. № 11929. Б. п.
...радикалы во вкусе Губарева, выведенного Тургеневым... - Губарев Степан
Николаевич - герой романа Тургенева «Дым» (1867).
Окраинные вопросы в Г. Думе (с. 181)
НВ. 1909. 4 июня. № 11934. Б. п.
Балалайкин - продажный адвокат-краснобай из очерков М. Е. Салтыкова-
Щедрина «В среде умеренности и аккуратности» (1873-1878) и в «Современ-
ной идиллии» (1877-1883), имя которого стало нарицательным.
Кашинские торжества (с. 183)
НВ. 1909. 13 июня. № 11943. Подпись: Прокофьев.
Рипида - небольшое опахало, употребляющееся в православной церкви и
предназначенное отгонять летающих насекомых от святых даров.
Наши финансы в настоящем и прошлом (с. 186)
НВ. 1909. 13 июня. № 11943. Б. п.
Подготовление к профессуре в России (с. 188)
PC. 1909. 16 июня. № 136. Подпись: В. Варварин.
И не пойду... (с. 195)
НВ. 1909. 18 июня. № 11948.
Никон в письме в редакцию... - Никон. Письмо к редактору // Московские
Ведомости. 1909. 11 июня.
433
Из семейных нравов... (с. 199)
НВ. 1909. 20 июня. № 11950.
Наши грустящие публицисты (с. 201)
НВ. 1909. 22 июня. № 11952. Подпись:
Старый журналист.
В мире любви, застенчивости и страха (с. 203)
НВ. 1909. 25 июня, 1 и 6 июля. № 11955, 11961 и 11966.
Вторая и третья части статьи опубликованы под
измененным названием: В потаенном мире.
Епископ Никон записывает красивые сцены около Троицкого монастыря,
собирает их в книжку: «Чем жива вера» - Никон. Чем жива наша православная
душа. Сергиев Посад, 1908.
...правила «Кормчей книги», переведенной в незапамятные времена с гре-
ческого... - сборник церковных правил и постановлений византийских импера-
торов о церкви «Кормчая книга», - перешла в Россию после принятия христиан-
ства на Руси из Византии.
Полудева. - Очевидно, В. Розанов обыгрывает здесь название получившего
в те годы известность романа (и пьесы) французского писателя Эжена Марселя
Прево «Полудевы» (1894, рус. пер. - 1898).
О незапрещенных истязаниях (с. 210)
НВ. 1909. 26 июня. № 11956.
В «Колоколе» начался ряд статей о монашестве известного г. Е. Поселянина
(псевдоним). - Речь идет о сотруднике ряда церковных изданий Е. Н. Погожеве.
Двухсотая годовщина Полтавского боя (с. 213)
НВ. 1909. 27 июня. № 11957. Б. п.
Кострома и костромичи (с. 215)
НВ. 1909. 2 июля. № 11962.
В Костроме археологический съезд. - IV областной историко-археологиче-
ский съезд открылся в Костроме 21 июня 1909 г.
...она открывает у себя Романовский музей... - 21 июня 1909 г. в Костроме
состоялась закладка музея «Дом Романовых». Музей был открыт 19 мая 1913 г.
при участии Николая II и его семьи.
...фабрики Шипова, Мухина и, кажется, Зотова... - Шипов Дмитрий Пав-
лович (1805-1882), дворянин, основатель Волжского пароходства в Костроме и
Костромского механического завода, выпускавшего оборудование для текстиль-
ных фабрик, паровые котлы, двигатели и оборудование для пароходов; Мухин
Иван Савелович (1816-1896), костромской купец первой гильдии, Зотов Андрей
Алексеевич (1803-1868), московский купец первой гильдии, - совладельцы по-
лотняной и льнопрядильной фабрик в Костроме (сообщено И. А. Едошиной).
Памятник Сусанину - хорош. - «Памятник царю Михаилу Федоровичу Ро-
манову и поселянину Ивану Сусанину» (таково его полное название) был от-
434
крыт в Костроме 14 марта 1851 г., в день очередной годовщины начала царство-
вания Михаила Федоровича Романова. Скульптор - В. И. Демут-Малиновский
(1779-1846).
Съезд законоучителей светских учебных
заведений (с. 218)
НВ. 1909. 7 июля. № 11967. Б. п.
Тревожный и неразобранный вопрос (с. 221)
НВ. 1909. 8 июля. № 11968.
«Плодовитость»... - роман Эмиля Золя (1899), входящий в тетралогию
«Четыре евангелия», над которой писатель работал в последние годы жизни.
...у Шекспира в «Тите Андронике» - трагедия У. Шекспира «Тит Андроник»
(1594). Далее Розанов цитирует три монолога Аарона из 2-й сцены 4-го дей-
ствия трагедии.
В духовном мире (с. 225)
PC. 1909. 9 июля. № 156. Подпись: В. Варварин.
«Миссионерское обозрение» - ежемесячный журнал внутренней миссии,
выходивший в Петербурге в 1896-1917 годах. Редактор и издатель - В. М.
Скворцов.
«Колокол» - ежедневная общественно-политическая, церковная и литера-
турная газета, выходившая в Петербурге с декабря 1905 г. по 1917 г. Издатель -
В. М. Скворцов.
...когда был убит Сипягин... - Министр внутренних дел России Д. С. Сипя-
гин был убит в Мариинском дворце в Петербурге членом боевой организации
эсеров С. В. Балмашевым 2 апреля 1902 г.
...линейное... - В императорской России так называемое производство в оче-
редной чин «по линии» (главным образом офицеров) предполагало соблюдение
ряда условий: определенный срок выслуги в предыдущем чине, наличие долж-
ностной вакансии, соответствующей новому чину, и т. п.
Схоластическое законоучительство (с. 232)
НВ. 1909. 12 июля. № 11972.
...«окропиши мя иссопом»... - Пс. 50, 9.
По следам книгопродавческого съезда (с. 235)
НВ. 1909. 15 июля. № 11975.
...нарисунке Гойи старая в морщинах женщина... - Имеется в виду один из
сюжетов цикла офортов «Капричос» (1793-1797) испанского художника Фран-
сиско Гойи.
Я вспоминаю бедную квартиру... где захварывал, но пока не умирал (вскоре,
однако, умерший) русский молодой философ. - Розанов здесь говорит о своем
рано умершем молодом друге - философе Ф. Э. Шперке.
435
Сантиментализм и притворство
как двигатели революции (с. 239)
НВ. 1909. 17 июля. № 11977.
«Печальный демон, дух изгнанья...» - М. Ю. Лермонтов. Демон (1839).
...припомнишь Таню Ларину, также перебиравшую книги Онегина... - А. С.
Пушкин. Евгений Онегин. Глава 7. Строфы XVII-XXV (1831).
«Спящий в гробе мирно спи...» - В. А. Жуковский. Торжество победителей
(1828).
Здравствуй, Революция, идущий на смерть приветствует тебя... - пере-
фразировка выражения «Здравствуй, Цезарь, идущий на смерть приветствует
тебя» (Светоний. Жизнь двадцати цезарей).
...Малх исцеляется - см. Ин. 18, 10.
Мережковский. «Бес или Бог»... - см.: Образование. 1908. № 8. Статья о
террористах, вошла в книгу Мережковского «В тихом омуте» (СПб., 1908).
К истории одного книгопродавческого
разорения (с. 247)
НВ. 1909. 22 июля. № 11982.
Поздние слезы (с. 250)
НВ. 1909. 24 июля. № 11984.
Подпись: Старый читатель.
...«Речь» проливает крокодиловы слезы - см.: Изгоев А. С. «Д. Н. Шипов» //
Речь. 1909. 22 июля. № 198.
Панургово стадо - обозначение толпы, безрассудно следующей за кем-либо.
Возникло из романа Ф. Рабле «Гаргантюа и Пантагрюэль» (кн. 4, гл. 6-8).
Старая и молодая Россия (с. 252)
НВ. 1909. 27 июля. № 11987. Б. п.
Возможные злоупотребления при разводе (с. 253)
НВ. 1909. 2 авг. № 11993.
...г-на Б. - продолжение и новый поворот темы - в статье Розанова «К делу
о разводе г-на Б.» (Новое Время. 1909. 10 авг., см. ниже).
Что не принято в соображение при закрытии
Кассы взаимопомощи литераторов (с. 256)
НВ. 1909. 9 авг. № 12000.
К делу о разводе г-на Б. (с. 258)
НВ. 1909. 10 авг. № 12001.
В соседней репортерской (Б. п.) заметке об этом разводе раскрыта и фами-
лия «г-на Б.»: Бутович.
436
Будущее Кассы взаимопомощи литераторов (с. 259)
НВ. 1909. 19 авг. № 12010.
...я написал статью... - см. выше статью от 9 августа 1909 г. «Что не при-
нято в соображение при закрытии Кассы взаимопомощи литераторов».
Между Азефом и «Вехами» (с. 263)
НВ. 1909. 20 авг. № 12011.
Лиза Калитина... - героиня романа И. С. Тургенева «Дворянское гнездо»
(1859).
«Разрушение эстетики» - статья Д. И. Писарева, опубликованная в журна-
ле «Русское Слово» в 1865 г. (№ 5).
...«История литературы»... - А. М. Скабичевский. История новейшей рус-
ской литературы (1891; 7-е изд. - 1909).
Будь, человек, благороден... - И. В. Гёте. Божественное (1783), рус. пер.
А. Струговщикова (1842, под названием «Человеку»). Розанов, очевидно, цитирует
эту строчку Гёте по роману Ф. М. Достоевского «Братья Карамазовы» (кн. 3,
гл. 3), где в ходе беседы Мити и Алеши Карамазовых упоминается и ода Ф. Шил-
лера «К радости».
«Письма темных людей»... - сборник немецкой антиклерикальной сатиры
XVI в.
П. А. Кусков (Некролог) (с. 272)
НВ. 1909. 22 авг. № 12013; сокращенный вариант -
«Исторический Вестник». СПб., 1909. № 10. С. 363-364.
«Время» - литературный и политический журнал, издававшийся в 1861—
1863 гг. в Петербурге М. М. Достоевским при участии Ф. М. Достоевского.
«Эпоха» - ежемесячный литературно-политический журнал, издававшийся
в 1864-1865 гг. в Петербурге М. М. и Ф. М. Достоевскими. Сменил закрытый
цензурой журнал «Время».
«Моя жизнь в доме бабушки» - Кусков П. А. Жизнь в доме бабушки // Нева.
СПб., 1907. №21.
...сборник его стихотворений... - Кусков П. А. Наша жизнь. СПб., 1889.
...рассуждение... «Наше место в вечности». - Эта книжка П. А. Кускова
вышла в Киеве в 1907 г., без указания имени автора.
«Разговор на пристани» - Кусков П. А. Наши идеалы. Разговор на палубе //
Русское обозрение. 1893. № 2.
А. Л. Волынский. «Ф. М. Достоевский» (с. 275)
Критическое обозрение. СПб., 1909.
Вып. 5. Сент. С. 37-42.
Петербург и Кутлер (с. 278)
НВ. 1909. 2 сент. № 12024. Подпись: Петербургский ста-
рожил.
Престидижитатор - буквально - обладающий быстрыми пальцами, фо-
кусник, манипулятор; здесь - иронично, применительно к руководителю партии:
437
остающийся обычно за кулисами подлинный «кукловод», при котором другие
партийные деятели выступают лишь как куклы, «марионетки», исполняющие,
«озвучивающие» его волю.
Собаке дворника, чтоб ласкова была... - А. С. Грибоедов. Горе от ума
(1822-1824).
К началу учебных занятий (с. 280)
НВ. 1909. 3 сент. № 12025. Б. п.
Посев и жатва на окраинах и в центре (с. 283)
НВ. 1909. 10 сент. № 12032. Б. п.
Научные работы в Эрмитаже (с. 286)
НВ. Приложение. 1909. 12 сент. № 12034. С. 9-10.
Окраинная кичливость и петербургское
смирение (с. 288)
НВ. 1909. 13 сент. № 12035.
Подпись: Москвич.
Белоруссия, Литва и Польша в окраинном
вопросе России (с. 291)
НВ. 1909.18,22,27 сент., 4 окт. № 12040 (под названием:
Белорусы, литовцы и Польша в окраинном вопросе
России), 12044 (под названием: Белоруссия, Литва
и Польша в окраинном отношении), 12049, 12056.
Подпись: Москвич.
...врача Гааза... биографию написал Кони - Кони А. Ф. Федор Петрович
Гааз. Биографический очерк. СПб., 1897; 3-е изд. 1904.
«Конрад Валенрод» - Адам Мицкевич. Конрад Валленрод (1828).
Критик русского decadence’a (с. 304)
PC. 1909. 29 сент. № 222. Подпись: В. Варварин.
Уж напечатана - и нет... - Н. А. Некрасов. Пропала книга (1866).
Древний хаос потревожим! - С. М. Городецкий. «Беспредельна даль поля-
ны...» (из цикла «Хаос» в сб. «Ярь»; СПб., 1907). Розанов цитирует эпиграф
пародии А. А. Измайлова на стихи Сергея Городецкого «Недовольный миром
бренным...». Пародия появилась в альманахе «Колосья». СПб., 1909. Кн. 1 (ука-
зано Б. Н. Романовым).
Мрежи иные тебя ожидают, иные заботы... - А. С. Пушкин. Отрок (1830).
Обидчик и обиженные... (с. 311)
НВ. 1909. 3 окт. № 12055.
К. И. Чуковский... прочел... лекцию о Гаршине... - Об этой лекции см., напр.:
[Без подп.}. «Бурное собрание» в литературном обществе // Новая Русь. 1909.
438
26 сент.; Регинин В. Открытие сезона и открытие г. Чуковского // Биржевые Ведо-
мости. Вечери, вып. 1909. 26 сент. Позднее лекция была опубликована: Чуков-
ский К. И. О Всеволоде Гаршине (Введение в характеристику) // Русская Мысль.
1909. № 12. Декабрь. С. 117-141.
Проф. Батюшков на нее напал, Чуковский ему ответил - Чуковский К. Не-
доразумение (Ответ г. Батюшкову) // Речь. 1909. 2 октября.
Без подпоры вечной (По поводу объяснений
смерти сенатора Коваленского) (с. 314)
PC. 1909. 7 окт. № 229. Подпись: В. Варварин.
Смерть... и что за нею (с. 317)
Альманах «Смерть». СПб.:
Изд. «Нового Журнала для всех», 1910.
Альманах вышел из печати в октябре 1909 г. В отзывах на это издание, в
частности, отмечалось: «Закончен печатанием своеобразный альманах
«Смерть»... - В сборнике приняли участие В. Иванов, В. Розанов, Н. Олигер,
В. Муйжель, И. Репин и др.» (Северокавказская Газета. 1909. 10 окт.). Критик
Д. Левин писал: «В альманахе есть две статьи, которые выделяются из числа
остальных. Одна - благодаря тому, что подписана именем Репина... Другая
статья - Розанова. В ней есть крупица личного, искреннего, пережитого, кото-
рая единственно только и придает интерес таким вечным и «космическим»
темам, как смерть. Но статья Розанова, как белый голубь в стае черных ворон,
каркающих со страниц альманаха» (Речь. СПб., 1909. 9 ноября). В библиогра-
фической заметке, подписанной Нч, газета «Голос Москвы» (1909. 15 ноября)
отметила: «Если исключить статью В. Розанова, несколько стихотворений Вяч.
Иванова и С. Городецкого, то произведения остальных друзей-сотрудников
альманаха смело могли бы остаться в портфелях самих авторов». А критик
В. Кранихфельд писал: «Розанов со статьей «Смерть... и что за нею» <.. .> ре-
шительно заявляет, что умереть - это «просто» и «не сложно», а что будет
«там» - это даже «неинтересно». Сдается, однако, что эта новая, совершенно
безучастная к вопросу о «там», личина приспособлена Розановым исключи-
тельно для полемики с Мережковским. Про себя же он продолжает очень и
очень интересоваться «розовым бессмертием». Ведь даже статью в альмана-
хе он начинает рассказом про птичку, в которой он заподозрил душу своей
мамаши» (Кр. Вл. [В. Кранихфельд]. Альманах «Смерть». Изд. «Нового Жур-
нала для всех». СПб., 1910 (?)//Современный Мир. СПб., 1909. № 11. Ноябрь.
С. 144-146).
...я... поехал в Аренсбург... - Летом 1899 г. Розанов с семьей отдыхал в Арен-
сбурге (остров Эзель вблизи Риги).
...«Вечная тема»... «Еще о вечной теме»... - статьи Розанова, опублико-
ванные в «Новом Времени» (1908. 4 янв. и 22 февр.) - см.: Розанов В. В. Собр.
соч. Во дворе язычников. М., 1999. С. 359-366.
439
Плеханов о религии (с. 328)
НВ. 1909. 14 окт. № 12066.
...«Орелигиозных исканиях в России» - Плеханов Г. В. О так называемых
религиозных исканиях в России // Современный Мир. 1909. № 9, 10, 12.
Не для житейского волненья... - А. С. Пушкин. Поэт и толпа (1828).
Под старость лет (с. 333)
НВ. 1909. 22 окт. № 12074.
...«Наталья Долгорукова»... - И. И. Козлов. Княгиня Наталья Борисовна
Долгорукая (1828).
Академическое издание Кольцова (с. 337)
НВ. 1909. 24 окт. № 12076.
Чиновники (с. 339)
PC. 1909. 24 и 29 окт., 12 ноября. № 244, 248, 260.
Подпись: В. Варварин.
Суета сует... - Еккл. 1, 2.
Шимоза - японское название взрывчатого вещества - пикриновой кислоты, ме-
линита; использовалась японской армией в Русско-японской войне 1904—1905 гг.
Полемические заметки (с. 357)
НВ. 1909. 4 ноября. № 12087.
...«Дневниклишнего человека»... - название рассказа И. С. Тургенева (1850).
Некий писатель... сравнил... со «свиньею». - Речь идет о статье Д. С. Ме-
режковского «Свинья Матушка» (Речь. 1909.1 ноября). Вошла в его книгу «Боль-
ная Россия» (СПб., 1910).
«Дневник» Никитенко... - Никитенко А. В. Моя повесть о самом себе и о
том, «чему свидетель в жизни был». Записки и дневник (1826-1877). Т. 1-3.
СПб., 1893; 2-е изд. 1904-1905.
Шиллер написал ей гимн... - Шиллер Ф. Жалоба Цереры (1796); рус. пер.
В. А. Жуковского (1829).
Суд и феминизм (с. 361)
НВ. 1909. 8 ноября. № 12091.
Практическая сторона в вопросе
об адвокатуре женщин (с. 363)
НВ. 1909. 16 ноября. № 12099.
Литературные заметки (с. 366)
НВ. 1909. 25 ноября. № 12108.
Литературные заметки <О книге А. Котовича> (с. 369)
НВ. 1909. 28 ноября. № 12111.
440
«Се человек»... (с. 372)
НВ. 1909. 29 ноября. № 12112.
Се человек... - Ин. 19, 5.
На мрачный гроб русской духовной цензуры, очерченный г. Котовичем... -
О книге Котовича см. предыдущую статью Розанова (НВ. 1909. 28 ноября).
Приезжаю я в Александро-Невскую лавру... стучусь в дверь цензора. - Роза-
нов говорит о посещении им архимандрита Александра, члена Санкт-Петербург-
ского духовно-цензурного комитета.
...книжку об Арсении Мациевиче... Начал я писать рецензию... - В архиве
В. В. Розанова (РГАЛИ. Фонд 419. Опись 1. Ед. хр. 116) сохранился черновой
автограф неопубликованной рецензии.
О радости прощения (с. 375)
Весы. М., 1909. № 12. Дек. С. 173-181.
...«кроткие Бога узрят» - ср. Мф. 5, 5-8.
«Царство Мое не от мира сего»... - Ин. 18, 36.
...«для праведника закон не лежит»... - ср. 1 Тим. 1, 9.
...изуст кроткого Иисуса вышли впервые слова об огненном наказании,
о муке вечной, об аде - ср. Мф. 18, 8; 25, 41; 25, 46; Мр. 9, 43-45; Лк. 12, 49;
2 Фес. 1, 8.
...«во Христе Иисусе несть эллин и иудей, несть раб и свободный»... - ср.
1 Кор. 12, 13.
Надгробное слово Талону. Очерк (с. 380)
Новое Слово. СПб., 1909. № 12. Дек. С. 6—10.
Памяти проф. Лесгафта (с. 387)
НВ. 1909. 1 дек. № 12114.
Из жизни (с. 390)
НВ. 1909. 4 дек. № 12117.
Стиль вещей (с. 392)
НВ. 1909. 6 дек. № 12119.
...в... «Записке...» архиеп. Никанора... - книга Никанора «Из истории уче-
ного монашества 60-х годов» (Б. г.); опубликована в 1890-е гг.
Еще о стиле вещей (с. 395)
НВ. 1909. 8 дек. № 12121.
«Такое правило»... (с. 398)
НВ. 1909. 10 дек. № 12123.
Около науки и университета
(По поводу 30-летия ученой службы
В. О. Ключевского) (с. 401)
PC. 1909. 12 дек. № 285. Подпись: В. Варварин.
... Черные думы, как черные мухи... - А. Н. Апухтин. Черные мухи (1873).
441
Как люди русеют (с. 409)
НВ. 1909. 18 дек. № 12131.
...письма Эртеля... - Изданы посмертно: Эртель А. И. Письма. Предисло-
вие М. О. Гершензона. М., 1909.
Толстовство и жизнь (с. 412)
НВ. 1909. 20 и 23 дек. № 12133 и 12136.
И скучно, и грустно, и некому руку подать... - из одноименного стихотворе-
ния М. К). Лермонтова (1840).
«Мне отмщение и Аз воздам» - Рим. 12, 19.
Рождество Христово ныне и вечно (с. 418)
НВ. 1909. 25 дек. № 12138. Б. п.
В сочельник (с. 421)
PC. 1909. 25 дек. № 296. Подпись: В. Варварин.
«Теперь каждый, кто увидит меня, -убьет меня» - Быт. 4, 14.
В. Н. Дядичев
УКАЗАТЕЛЬ ИМЕН
Аввакум Петрович (1620/1621-1682),
протопоп, глава старообрядчества,
писатель, осужден на церковном
соборе 1666-1667 гг., сожжен -
131,243
Август Гай Юлий Цезарь Октавиан (63
до н. э. - 14 н. э.), римский импе-
ратор (с 27 до н. э.) - 224
Авраам, в Ветхом Завете старший из
патриархов, прародитель еврей-
ского народа - 72
Агеев (Аггеев) Константин Маркович
(1868-1919, по др. данным 1920),
священник, богослов, религиоз-
ный писатель - 94
Азеф Евно Фишелевич (1869-1918),
один из основателей и лидеров
партии эсеров, был секретным со-
трудником департамента полиции
(с 1893), разоблачен в 1908 г., умер
за границей - 42, 45, 47, 48, SO-
55, 164, 242, 263-272, 384-386
Азов (наст, имя и фам. Владимир Алек-
сандрович Ашкинази) (1873-
1941), публицист, фельетонист, пе-
реводчик, с 1926 г. в эмиграции -
312
Айвазов Иван Георгиевич (1872-?),
православный миссионер и писа-
тель-172, 173, 176
Аксаков Константин Сергеевич (1817—
1860), публицист, критик, историк,
лингвист, поэт, идеолог славяно-
фильства - 339
Аксаковы - 252, 409
Аладъин Алексей Федорович (1873—
1927), публицист, один из основа-
телей Трудовой партии, избирал-
ся в I Государственную думу от
крестьянской курии, с 1920 г. в
эмиграции - 180
Аларих (ок. 370-410), король герман-
ского племени вестготов (с 395) -
219
Александр 7(1777-1825), российский
император (с 1801) - 289, 290,
379
Александр ZZ (1818-1881), российский
император (с 1855) - 63, 64, 88,
156, 252, 253, 335, 371, 429
Александр III (1845-1894), российский
император (с 1881) - 173, 359
Александр Михайлович (1866-1933),
великий князь, внук Николая I,
муж сестры Николая II Ксении
Александровны - 286, 287
Александр Свирский (ум. 1533), осно-
ватель и игумен монастыря, на-
званного его именем - 392
Алексей Михайлович (1629-1676), царь
(с 1645)- 131, 157, 166, 408
Алексинский Григорий Алексеевич
(1879-1967), публицист, депутат
II Государственной думы (больше-
вистское крыло фракции социал-
демократов), один из организато-
ров партийной школы на Капри
(1909) и в Болонье (1910-1911), с
1920 г. в эмиграции - 180
Алкивиад (ок. 450-404 до н. э.), афин-
ский стратег (главнокомандую-
щий) (с 421) в период Пелопоннес-
ской войны - 71, 72, 352
Альбов Иван Федорович, священник,
полемизировал с Розановым, уча-
стник Религиозно-философских
собраний в Петербурге - 210
Амвросий Оптинский (Александр Ми-
хайлович Гренков) (1812-1891),
иеросхимонах, старец Оптиной
пустыни, православный подвиж-
ник- 16, 80
443
Анакреон (Анакреонт) (ок. 570-478 до
н. э.), древнегреческий поэт - 308,
414
Андреев Леонид Николаевич (1871—
1919), писатель - 9, 10, 307, 308
Андреевский Владимир Михайлович
(1856-?), член Государственного
совета - 117
Андриевский (Андреевский) Сергей
Аркадьевич (1847/1848-1918),
юрист, судебный оратор, поэт, кри-
тик - 280
Аникин Степан Васильевич (1868—
1919), писатель и публицист, депу-
тат I Государственной думы (тру-
довик), деятель кооперативного
движения - 180
Анна, в Новом Завете пророчица в
Иерусалимском храме, славившая
Христа-младенца - 424
Анна Кашинская (ум. 1368), после му-
ченической смерти мужа - вели-
кого князя Михаила Ярославича в
Орде постриглась в монахини, в
XVII в. причислена к лику святых;
после длительного перерыва ее
церковное почитание было возоб-
новлено 12 июня 1909 г. -183-185
Аннибал (Ганнибал) (247/246-183 до
н. э.), карфагенский полководец,
боровшийся с Римом - 74
Антоний (Александр Васильевич Вад-
ковский) (1846-1912), митрополит
Санкт-Петербургский и Ладож-
ский (с 1898) - 196
Антоний (Алексей Павлович Храпо-
вицкий) (1863-1936), богослов, ар-
хиепископ Волынский и Житомир-
ский (с 1902), Харьковский (с
1914), с 1919 г. в эмиграции - 195,
198,210,218, 221,228, 396
Антоний (Александр Николаевич Кор-
жавин) (1838-?), епископ Тоболь-
ский - 218
Антонин (Александр Андреевич Гра-
новский) (1865-1927), епископ
444
Нарвский, викарий Санкт-Петер-
бургской епархии (с 1903), на по-
кое по болезни (1908-1913), епис-
коп Владикавказский (1913-1917)
-49, 115, 116, 195, 385
Апухтин Александр Львович (1822—
1903), попечитель Варшавского
учебного округа (1879-1897), се-
натор - 294, 303
Апухтин Алексей Николаевич (1840-
1893), поэт-266, 442
Аракчеев Алексей Андреевич (1769-
1834), политический и военный
деятель, пользовался большим
влиянием при Александре 1-73
Арий (ок. 260/280-336), пресвитер в
Александрии, основатель ерети-
ческого течения в христианстве -
арианства - 234
Аристогитон (ум. 514 до н. э.), граж-
данин Афин, убивший вместе со
своим другом Гармодием афинско-
го тирана Гиппарха, казнен - 72
Аристотель (384-322 до н. э.), древ-
негреческий философ и ученый-
энциклопедист - 79, 392
Аристофан (ок. 445 - ок. 385 до н. э.),
древнегреческий поэт-комедио-
граф - 352
Арсений Мациевич (ум. 1780), митро-
полит Ростовский, был лишен
сана, скончался в крепости - 374
Арцыбашев Михаил Петрович (1878—
1927), писатель, с 1923 г. в эмиг-
рации - 238, 307
Аскольдов (наст, имя и фам. Сергей
Алексеевич Алексеев) (1871—
1945), философ, умер в Германии
-94
Аттила (ум. 453), предводитель гун-
нов, при котором эти племена до-
стигли наивысшего могущества -
219
Ауслендер Сергей Абрамович (1886, по
др. данным 1888-1943), писатель
-307
Бабелон (Баблон), французский нумиз-
мат - 287
Багряцов, начальник Бутырской тюрь-
мы в Москве - 244
Базаров (наст. фам. Руднев) Владимир
Александрович (1874-1939), фи-
лософ, экономист, участник соци-
ал-демократического движения (с
1896), репрессирован - 38-41
Байрон Ноэл Гордон (1788-
1824), английский поэт, член па-
латы лордов(1809) - 168
Бакст (наст. фам. Розенберг) Лев Са-
мойлович (1866-1924), театраль-
ный художник, живописец, гра-
фик, умер в Париже - 56
Бакунин Павел Александрович (1820—
1900), земский деятель и философ
-413
Бальзак Оноре де (1799-1850), фран-
цузский писатель - 305
Бальмонт Константин Дмитриевич
(1867-1942), поэт, с 1920 г. в эмиг-
рации-307, 308,311
Барклай де Толли Михаил Богданович
(1761-1818), генерал-фельдмар-
шал, военный министр (1810—
1812), в 1812 г. и с 1815 г. коман-
дующий 1-й армией - 292
Барков Иван Семенович (ок. 1732—
1768), поэт и переводчик, счита-
ется автором непристойных сти-
хов, расходившихся в списках -159
Батюшков Федор Дмитриевич (1857—
1920), историк литературы, критик
и публицист, общественный дея-
тель - 311, 330, 439
Бахметев Николай Николаевич (1847-
1909), публицист, экономист, со-
трудничал в «Новом времени» -
108, 109
Бебель Август (1840-1913), один из
основателей и руководителей со-
циал-демократии в Германии - 229
Бекет Фома (Томас) (1118-1170),
архиепископ Кентерберийский
445
(с 1162), канцлер Англии (с 1155)
- 133
Белинский Виссарион Григорьевич
(1811-1848), литературный кри-
тик, мыслитель, общественный
деятель - 182, 264, 277, 305, 306,
309,311
Белый Андрей (наст, имя и фам. Борис
Николаевич Бугаев) (1880-1934),
писатель, теоретик символизма -
307
Бенедиктов Владимир Григорьевич
(1807-1873), поэт и переводчик -
121, 308
Бенкендорф Александр Христофорович
(1781, по др. данным 1783-1844),
политический и военный деятель,
шеф корпуса жандармов и началь-
ник Третьего отделения - 205
Бенуа Александр Николаевич (1870—
1960), художник, историк искусст-
ва, художественный критик, мему-
арист, с 1926 г. жил во Франции -
55
Бердягин Максим (наст, имя и фам.
Михаил Владимирович Бибиков)
(1878-1907), эсер-террорист-243,
244, 246
Бердяев Николай Александрович
(1874-1948), философ, публицист,
с 1922 г. в эмиграции - 30,93, 430
Бередников (Бердников) Илья Степано-
вич (1841-?), богослов, занимал-
ся вопросами церковного (канони-
ческого) права - 13
Бетховен Людвиг ван (1770-1827), не-
мецкий композитор - 330,331,353
Бисмарк Отто фон Шёнхаузен (1815—
1898), первый рейхсканцлер Гер-
манской империи (1871-1890) -
279, 289
Блок Александр Александрович (1880-
1921), поэт, публицист - 307, 310
Блюнчли (Блунчли) Иоганн Каспар
(1808-1881), швейцарский юрист
и политический деятель - 191
Бобриков Николай Иванович (1839-
1904), финляндский генерал-гу-
бернатор, командующий войсками
Финляндского военного округа (с
1898), смертельно ранен национа-
листом - 290, 304
Богданов (наст. фам. Малиновский)
Александр Александрович (1873-
1928), политический деятель (со-
циал-демократ, большевик), фило-
соф, экономист, врач - 330
Боголепов Николай Павлович (1846-
1901), министр народного просве-
щения (с 1898), смертельно ранен
эсером-террористом - 33
Бокль Генри Томас (1821-1862), анг-
лийский историк и социолог - 202,
338
Брюсов Валерий Яковлевич (1873—
1924), поэт, критик, переводчик,
общественный деятель - 307,310,
311
Будда (букв, просветленный), имя, по-
лученное основателем буддизма
Сиддхартхой Гаутамой (623-544
до н. э.), одно из его имен - Шакь-
ямуни- 115, 157, 172,418
Бунин Афанасий Иванович, помещик
Тульской губернии, отец В. А. Жу-
ковского, который был усыновлен
жившим у Буниных Андреем Гри-
горьевичем Жуковским - 409
Бурачков Платон Осипович (1815—
1894), археолог - 287
Буренин Константин Петрович (ум.
1882), составитель учебников по
алгебре и другим предметам, вме-
сте с А. Ф. Малининым - 90
Буслаев Федор Иванович (1818-1897),
языковед, фольклорист, литерату-
ровед, историк искусства - 190
Баддингтон Вильям Анри (1826-
1894), французский политический
деятель и археолог - 287
Валентин (ум. ок. 160), основатель
секты гностиков -198
Валентиниан /Флавий (321-375), рим-
ский император (с 364) - 219
Валентиниан II Флавий (371-392),
римский император (с 375), сын
Валентиниана I (правил вместе с
братом Грацианом) - 219
Валентиниан ///Флавий Плацид (419—
455), римский император (с 425) -
219
Ванновский Петр Семенович (1822—
1904), генерал от инфантерии, во-
енный министр (1882-1897), ми-
нистр народного просвещения
(1901-1902)-33
Варвара (ум. ок. 306), дочь язычника
Диоскора, христианская мученица
-392
Василий Великий (Василий Кесарий-
ский) (ок. 330-379), христианский
церковный деятель и богослов - 85
Вейнингер Отто (1880-1903), австрий-
ский философ, покончил жизнь са-
моубийством - 228
Велепольский Александр (1803-1877),
польский административный дея-
тель (1861-1863) - 295
Венгеров Семен Афанасьевич (1855—
1920), историк литературы и биб-
лиограф - 333
Ветрова, участница собраний Религи-
озно-философского общества в
Петербурге-41
Виардо (Виардо-Гарсия) Полина
(1821-1910), французская певица,
композитор - 88
Виклиф (Уиклиф) Джон (ок. 1330—
1384), английский религиозный
реформатор - 171
Виктор Петрович - см. Протейкин-
ский В. П.
Вильгельм II Гогенцоллерн (1859-
1941), германский император и
прусский король (1888-1918) - 75,
286, 287
446
Винавер Максим Моисеевич (1863—
1926), юрист, активный деятель ев-
рейских организаций, один из ос-
нователей партии кадетов, депутат
I Государственной думы, после
1919 г. в эмиграции - 66,181,251,
280, 295
Виноградов, священник в костромской
гимназии - 218
Виноградов Павел Гаврилович (1854—
1925), историк - 191, 406
Витте Сергей Юльевич (1849-1915),
председатель Комитета минист-
ров (с 1903), Совета министров
(1905-1906), под его руководством
составлен Манифест 17 октября
1905 г., мемуарист- 163,186,187,
279, 284
Владимир (Василий Никифорович Бо-
гоявленский) (1847/1848-1918),
митрополит Московский (1898—
1912), затем митрополит Киев-
ский, убит - 183, 209, 210
Владислав IV (1595-1648), польский
король (с 1632), старший сын Си-
гизмунда III - 137
Вольтер (наст, имя и фам. Франсуа
Мари Аруэ) (1694-1778), француз-
ский писатель и философ-просве-
титель - 393, 394, 419
Волынский Аким Львович (наст, имя и
фам. Хаим Лейбович Флексер)
(1861-1926), критик, публицист,
историк и теоретик искусства -
275-278, 307
Востряков Б. Д., корреспондент А. И.
Эртеля - 414
Гааз Федор Петрович (1780-1853),
врач-филантроп, работал главным
врачом московских тюрем - 295,
438
Гамбетта Леон (1838-1882), фран-
цузский политический деятель,
премьер-министр и министр ино-
странных дел (с 1881) - 279
447
Ганка Вацлав (1791-1861), чешский
филолог - 302, 406
Гапон Георгий Аполлонович (1870—
1906), священник, организатор
«Собрания русских фабрично-за-
водских рабочих Петербурга»,
инициатор шествия к Зимнему
дворцу 9 января 1905 г., был ра-
зоблачен эсерами как провокатор,
повешен - 380-386
Гарден Максимилиан (наст, имя и фам.
Феликс Витковский) (1861-1927),
немецкий публицист - 73-75
Гармодий (ум. 514 до н. э.), гражданин
Афин, участвовал в убийстве
афинского тирана Гиппарха, был
убит сам - 72
Гарнак Адольф (1851-1930), немецкий
протестантский теолог и историк
церкви- 12, 15, 16, 229, 231
Гаршин Всеволод Михайлович (1855—
1888), писатель и критик, покон-
чил жизнь самоубийством - 311—
313, 438, 439
Гаус (Гаусс) Карл Фридрих (1777-
1855), немецкий математик -
193
Гегель Георг Вильгельм Фридрих
(1770-1831), немецкий философ -
100, 168
Гегечкори Евгений Петрович (1879-?),
адвокат, депутат III Государствен-
ной думы (фракция социал-демок-
ратов)- 178, 179
Гейне Генрих (1797-1856), немецкий
поэт и публицист - 278
Георгий Михайлович (1863-1919), ве-
ликий князь, внук Николая I, рас-
стрелян - 286
Гераклит (ок. 576 - ок. 480 до н. э.),
древнегреческий философ - 167—
172
Гермоген (Георгий Ефремович Долга-
нев) (1858-1918), епископ Сара-
товский и Царицынский, убит -
184, 221
Геродот (490/480 - ок. 425 до н. э.),
древнегреческий историк - 114
Герцен Александр Иванович (1812—
1870), писатель, публицист, фило-
соф, общественный деятель - 54,64
Герценштейн Михаил Яковлевич
(1859-1906), экономист, один из
основателей партии кадетов, депу-
тат I Государственной думы, убит
черносотенцами - 179, 180
Гершуни Григорий Андреевич (1870-
1908), один из организаторов и ли-
деров партии эсеров, с 1906 г. в
эмиграции - 47
Герье Владимир Иванович (1837-1919),
историк - 188, 190, 192,400,407
Гессен Иосиф Владимирович (1865, по
др. данным 1866-1943), юрист,
публицист, один из основателей и
лидеров партии кадетов, депутат
II Государственной думы, редак-
тор газеты «Речь», с 1919 г. в эмиг-
рации - 67, 68
Гёте Иоганн Вольфганг (1749-1832),
немецкий писатель, мыслитель,
естествоиспытатель - 87,111,114,
428, 430, 437
Гиляров-Платонов Никита Петрович
(1824-1887), публицист, философ,
историк, издатель - 149
Гиппарх, афинский тиран (правитель)
(527-514 до н. э.), был убит - 72
Гиппий (ум. 490 до н. э.), афинский
тиран (правитель) (527-510 до
н. э.), брат Гиппарха - 72
Гиппиус Зинаида Николаевна (1869—
1945), писательница, жена Д. С.
Мережковского, с 1920 г. в эмиг-
рации-30, 41, 307
Гладстон Уильям Юарт (1809-1898),
английский политический деятель,
неоднократно премьер-министр,
лидер Либеральной партии - 145,
190
Глинка Михаил Иванович (1804-1857),
композитор - 217
Гоголь Николай Васильевич (1809—
1852), писатель - 51,54,72,73,98-
100, 143, 145, 202, 277, 305, 390-
392, 431
Гойя (Гойя-и-Лусьентес) Франсиско
Хосе де (1746-1828), испанский
живописец и график - 235, 236,
435
Гомер, полулегендарный древнегре-
ческий эпический поэт - 72, 167,
169, 190, 291
Гончаров Иван Александрович (1812—
1891), писатель - 305, 397
Гораций (Квинт Гораций Флакк) (65-
8 до н. э.), римский поэт - 193
Горемыкин Иван Логгинович (1839—
1917), председатель Совета мини-
стров (1906, 1914-1916), убит по-
громщиками - 346-348
Городецкий Сергей Митрофанович
(1884-1967), поэт, переводчик,
драматург - 307, 310, 438, 439
Горчаков Михаил Иванович (1838—
1910), протоиерей, профессор цер-
ковного права (Санкт-Петербург-
ский университет) - 13
Горький Максим (наст, имя и фам.
Алексей Максимович Пешков)
(1868-1936), писатель, публицист,
общественный деятель - 9, 307,
308,312, 338
Гракхи, братья: Тиберий (162-133 до
н. э.) и Гай (153-121 до н. э.), рим-
ские трибуны, погибли при прове-
дении реформ - 14
Грановский Тимофей Николаевич
(1813-1855), историк и обще-
ственный деятель - 123, 124,
264
Грибоедов Александр Сергеевич (1790,
по др. данным 1795-1829), писа-
тель и дипломат - 202, 280, 429,
438
Гримм, братья: Якоб (1785-1863) и
Вильгельм (1786-1859), немецкие
филологи - 296
448
Гринякин Н. М., публицист, сотрудник
журнала «Миссионерское обозре-
ние» - 173
Громека Михаил Степанович (1852—
1883/1884), литературный критик,
покончил жизнь самоубийством -
108, 431
Гулькин Дионисий Петрович (1861-?),
депутат III Государственной думы,
беспоповец - 156, 157
Гуревич Любовь Яковлевна (1866—
1940), критик, писательница, пере-
водчица - 307
Гурий, архиепископ Самарский - 211
Гурко Иосиф Владимирович (1828—
1901), генерал-фельдмаршал, ге-
нерал-губернатор Привислинского
края и командующий войсками
Варшавского военного округа
(1883-1894), член Государствен-
ного совета - 294, 297, 303
Гус Ян (1371-1415), чешский религи-
озный реформатор - 138, 171
Гучков Александр Иванович (1862-
1936), лидер октябристов, пред-
приниматель, председатель III Го-
сударственной думы, с 1919 г. в
эмиграции - 252
Гюйо Жан Мари (1854-1888), француз-
ский философ - 316, 317
Давид, царь Израильско-Иудейского
государства (ок. 1004 - ок. 965 до
н. э.)-217, 232, 344
Даль Владимир Иванович (1801-1872),
писатель, лексикограф, этнограф,
врач - 274, 367
Дамаянти, персонаж индийского эпо-
са, жена Наля - 124, 242
Данилевский Николай Яковлевич
(1822-1885), социолог, философ,
естествоиспытатель, публицист -
272
Данте Алигьери (1265-1321), итальян-
ский поэт и политический деятель
- 305, 379
Дарвин Чарлз Роберт (1809-1882),
английский естествоиспытатель -
32, 168-170, 173, 190-192, 229
Дашков Павел Яковлевич (1849-1910),
библиофил, собиратель русских
рукописей, гравюр, портретов -
338
Дебогорий-Мокриевич Владимир Кар-
пович (1848-1926), народник, пуб-
лицист, мемуарист - 54
Дегаев Сергей Петрович (1857-1920),
народоволец и агент петербург-
ской охранки, разоблачен в 1883 г.,
жил за границей - 53, 54, 56, 264
Дедлов (наст, имя и фам. Владимир
Людвигович Кигн) (1856-1908),
писатель, публицист, критик - 34,
36, 37, 428
Дёллингер Игнац фон (1799-1891), не-
мецкий священник, профессор
церковной истории и церковного
права в Мюнхене - 398
Делянов Иван Давыдович (1818-1897),
министр народного просвещения
(с 1882)-27, 28, 193
Демосфен (ок. 384-322 до н. э.), афин-
ский оратор и политический дея-
тель - 59
Державин Гавриил (Гаврила) Романо-
вич (1743-1816), поэт и полити-
ческий деятель - 171, 226, 433
Диккенс Чарлз (1812-1870), англий-
ский писатель - 124, 144, 431
Димитрий (Дмитрий) (Михаил Геор-
гиевич Ковальницкий) (1839—
1913), епископ Херсонский и
Одесский, религиозный писатель
-396
Диоклетиан Гай Аврелий Валерий
(243-313/316), римский император
(284-305)-219
Дмовский Роман Валентиевич (1864—?),
публицист, депутат II Государ-
ственной думы - 295
Добролюбов Николай Александрович
(1836-1861), литературный кри-
449
тик, публицист, постоянный со-
трудник журнала «Современник»
-44, 277, 306, 308, 309
Долгоруков Павел Дмитриевич (1866-
1927), земский деятель, один из ос-
нователей партии кадетов, предсе-
датель ее ЦК, занимался органи-
зационными вопросами, расстре-
лян - 153
Достоевский Федор Михайлович
(1821-1881), писатель и мыслитель
- 12, 39, 87, 93, 102, 103, 130, 143,
160, 169, 170, 178, 237, 269, 272,
275-278, 336,406, 430, 433, 437
Дубасов Федор Васильевич (1845—
1912), московский генерал-губер-
натор (1905-1906), возглавлял по-
давление декабрьского восстания
1905 г.-179
Дубровин Александр Иванович (1855—
1921), политический деятель, врач,
один из лидеров «Союза русского
народа» (создан в 1905), расстре-
лян- 179
Дюма Александр (1802-1870), фран-
цузский писатель (Дюма-отец) -
40, 305
Дюма Александр (1824-1895), фран-
цузский писатель (Дюма-сын) - 40
Дюрюи Виктор (1811-1894), француз-
ский историк - 406
Дягилев Сергей Павлович (1872-1929),
театральный и художественный
деятель, организатор «Русских се-
зонов» (с 1907) и труппы «Русский
балет» (с 1911) за границей - 56,
65
Евдоким (Василий Иванович Мещер-
ский) (1869-1935), ректор Москов-
ской духовной академии, епископ
Волоколамский - 195
Екатерина 77(урожд. Софья Фредери-
ка Августа Анхальт-Цербстская)
(1729-1796), российская императ-
рица (с 1762)-291, 379
450
Екатерина Медичи (1519-1589), фран-
цузская королева (с 1547), жена
Генриха II - 148
Елизавета Феодоровна (Елизавета
Федоровна) (1865-1918), великая
княгиня, жена великого князя Сер-
гея Александровича (убит в 1905),
сестра императрицы Александры
Федоровны, казнена - 76, 80, 81,
83, 86, 430
Жилкин Иван Васильевич (1874-1958),
публицист, депутат I Государ-
ственной думы (трудовик), с
1920 г. на культурно-просветитель-
ной работе, член Союза писателей
(с 1934)-66, 67, 180
Жуковский Василий Андреевич (1783—
1852), поэт, переводчик, критик -
51,409, 436, 440
Зайцев Варфоломей Александрович
(1842-1882), публицист и критик
-267
Заозерский Николай Александрович
(1851-1919), профессор церковно-
го (канонического) права Москов-
ской духовной академии - 13
Засулич Вера Ивановна (1849-1919),
участница революционного дви-
жения, критик, публицист - 50,51,
265
Захарьин Григорий Антонович (1829—
1897/1898), врач-терапевт, профес-
сор Московского университета -190
Зверев Николай Андреевич (1850—
1917), правовед, историк права,
профессор Московского универси-
тета - 190
Зенгер Григорий Эдуардович (1853—
1919), министр народного просве-
щения (1902-1904) - 33
Златовратский Николай Николаевич
(1845-1911), писатель - 239
Золя Эмиль (1840-1902), французский
писатель - 221, 224, 435
Зороастр (Заратуштра) (между X и
1-й пол. VI в. до н. э.), пророк и
реформатор древнеиранской рели-
гии - 41
Зотов Рафаил Михайлович (1795—
1871), писатель - 40
Зубов П. В. - нумизмат, коллекционер
-286
Иванов Александр Андреевич (1806-
1858), живописец - 100
Иванов Вячеслав Иванович (1866—
1949), поэт, публицист, филолог, те-
оретик символизма - 307, 310, 439
Иванцов-Платонов Александр Михайло-
вич (1835-1894), богослов, религи-
озный писатель, проповедник -191
Игнатьев Алексей Павлович (1842—
1906), генерал от кавалерии, киев-
ский генерал-губернатор, затем
член Государственного совета,
убит эсерами - 179
Иеремия, ветхозаветный пророк - 75,
122
Иероним, Евсевий (ок. 342-420), хри-
стианский писатель и теолог - 15
Измайлов Александр Алексеевич
(1873-1921), писатель и литера-
турный критик - 304-311, 438
Иисус Христос - %, 12-14, 18, 19, 21,
40, 41, 77-79, 81, 85, 86, 93, 94,
110-114, 117, 121, 130, 132, 134,
150, 152, 155, 157, 168, 209, 231,
233, 234, 314, 352, 359, 375-379,
394,414,415,420, 424
Ильминский Николай Иванович (1822-
1891), востоковед, тюрколог - 298
Имгоф-Блюмер Фридрих (1838-?),
швейцарский нумизмат - 286
Иннокентий (Иван Васильевич Беля-
ев) (1862-1913), епископ Тамбов-
ский, с 1909 г. экзарх Грузии - 195
Иоанн, в Новом Завете апостол - 17,94
Иоанн (Иван) IVГрозный (1530-1584),
первый русский царь (с 1547) -
148, 149, 166
Иоанн Креститель (Иоанн Предтеча),
в Новом Завете пророк, предше-
ственник Христа - 17, 97, 98, 135
Иоанн Кронштадтский (Иоанн Иль-
ич Сергиев) (1829-1908), протоие-
рей, православный проповедник и
писатель - 9, 16,24-26,48,49, 87,
89-93, 98, 225, 226
Иов, ветхозаветный праведник - 107,
114, 370
Иоллос Григорий Борисович (1859—
1907), публицист, один из редак-
торов газеты «Русские ведомос-
ти», депутат I Государственной
думы, кадет, смертельно ранен по
заказу черносотенцев - 179
Иона (ум. 1461), митрополит Москов-
ский- 148, 173
Ионафан (Иван Наумович Руднев)
(1816-1906), епископ Ярослав-
ский - 195
Иосиф, протоиерей из Курской губер-
нии - 48
Исаков Петр Николаевич (1852-1917),
публицист, писатель - 250
Исполатов Петр Иванович (1857-?),
священник, депутат III Государ-
ственной думы - 156, 157
Иуда Искариот, в Новом Завете апос-
тол, предавший Христа - 18
Кавур Камилло Бенсо (1810-1861),
премьер-министр Сардинского ко-
ролевства (1852-1861), глава пра-
вительства единого Итальянского
королевства (1861)- 279
Кальвин Жан (1509-1564), религиоз-
ный реформатор в Женеве - 171
Каляев Иван Платонович (1877-1905),
эсер, убивший московского гене-
рал-губернатора великого князя
Сергея Александровича (1905),
казнен - 384, 385, 429
Каменский Анатолий Павлович (1876—
1941), писатель, киносценарист-
238, 307
451
Кампанелла Томмазо (1568-1639), ита-
льянский политический деятель,
философ, поэт, автор утопии об
идеальном обществе - 191
Каннинг Джордж (1770-1827), пре-
мьер-министр Великобритании
(1827), лидер партии тори - 347
Кант Иммануил (1724-1804), немец-
кий философ - 87, 106, 398
Капнист Павел Алексеевич (1842—
1904), попечитель Московского
учебного округа (1880-1895) - 27,
192
Карамзин Николай Михайлович
(1766-1826), историк и писатель -
40,51, 100, 226
Караулов Василий Андреевич (1854—
1910), председатель старообряд-
ческого комитета III Государствен-
ной думы - 162, 176
Карбасников Николай Павлович (1852-
1931), книгоиздатель - 248-250
Кареев Николай Иванович (1850—
1931), историк, публицист - 333
Карташов Антон Владимирович
(1875-1960), политический и об-
щественный деятель, публицист,
историк церкви, с 1919 г. в эмиг-
рации - 95
Касаткин-Ростовский Федор Никола-
евич (1875-1940), офицер лейб-
гвардии, писатель, с 1919 г. в эми-
грации - 184
Катон Старший Марк Порций (234-
149 до н. э.), римский писатель,
консул (195 до н. э.) - 352
Каутский Карл (1854-1938), один из
лидеров и теоретиков германской
и международной социал-демок-
ратии - 330, 367
Кетле Ламбер Адольф Жак (1796—
1874), бельгийский математик и
социолог - 203
Кимон (ок. 504-449 до н. э.), афинский
полководец в период греко-пер-
сидских войн - 14
Киреевский Иван Васильевич (1806—
1856), философ, литературный
критик, публицист, один из осно-
вателей славянофильства - 264,
339
Кирша Данилов (Кирилл Данилович)
(XVIII в.), предполагаемый соста-
витель первого сборника русских
былин, духовных стихов, скоморо-
шин - 305
Клавдий (Тиберий Клавдий Нерон Гер-
маник) (10 до н. э. - 54 н. э.), рим-
ский император (с 41) - 219
Климент Александрийский Тит Флавий
(ум. до 215), христианский теолог
и писатель - 197, 198
Ключевский Василий Осипович (1841—
1911), историк - 188,401,404-408
Ковалевская Софья Васильевна (1850-
1891), математик - 193
Ковалевский Максим Максимович
(1851-1916), юрист, историк, со-
циолог, общественный деятель -
190, 192, 193
Коваленский, сенатор - 314, 316
Ковнер Аркадий Григорьевич (1842—
1909), публицист, писатель, пере-
писывался с Достоевским и Роза-
новым - 155
Козлов Иван Иванович (1779-1840),
поэт - 335, 440
Коковцев (Коковцов) Владимир Нико-
лаевич (1853-1943), министр фи-
нансов (1904-1914, с перерывом),
председатель Совета министров
(1911-1914), мемуарист, с 1918 г.
в эмиграции - 351
Кольцов Алексей Васильевич (1809—
1842), поэт - 104, 337, 338, 431
Колюбакин Александр Михайлович
(1869-?), политический деятель,
депутат III Государственной думы
(кадет) - 154
Коменский Ян Амос (1592-1670), чеш-
ский мыслитель, педагог, писатель
-27
452
Кони Анатолий Федорович (1844-
1927), юрист, судебный оратор -
280, 295, 438
Константин I Великий Флавий Вале-
рий (ок. 285-337), римский импе-
ратор (с 306) - 94, 219
Корнель (Корнелиус) Карл Себастиан
(1819-1896), немецкий физик, ав-
тор учебника по физической гео-
графии - 217
Короленко Владимир Галактионович
(1853-1921), писатель, публицист,
общественный деятель -312,313
Котович Алексей Никанорович
(1879-?), религиозный писатель -
369, 370, 372, 441
Кравчинский (Степняк-Кравчинский,
наст. фам. Кравчинский, псевд.
Степняк) Сергей Михайлович
(1851-1895), революционный на-
родник, писатель, после убийства
Мезенцова (в 1878) в эмиграции -
52, 54, 264
Красножен Михаил Егорович (1860-?),
юрист, специалист по церковному
(каноническому) праву - 13
Крафт-Эбинг Рихард (1840-1902), ав-
стрийский врач-психиатр, сексо-
патолог-73, 74
Крестовский Всеволод Владимирович
(1840-1895), писатель-271
Кропер, медицинская сестра в немец-
ком училище при лютеранской цер-
кви Петра и Павла в Москве - 37
Кропоткин Петр Алексеевич (1842—
1921), революционер, теоретик
анархизма, философ, ученый, пуб-
лицист - 48, 50, 51, 54, 64, 265
Ксантипа, жена древнегреческого фи-
лософа Сократа - 72
Кузмин Михаил Алексеевич (1872—
1936), писатель, критик, перевод-
чик, композитор - 159, 160, 307
Кузьмин-Караваев Владимир Дмитри-
евич (1859-1927), политический и
общественный деятель, публи-
453
цист, юрист, с 1919 г. в эмиграции
-260, 261
Куник Арист Аристович (1814-1899),
историк, филолог, этнограф, ну-
мизмат - 301
Куропаткин Алексей Николаевич
(1848-1925), военный министр
(1898-1904), в русско-японскую
войну (1904-1905) командующий
войсками в Маньчжурии - 351
Кусков Платон Александрович (1834—
1909), поэт, литературный критик,
переводчик, был в дружеских от-
ношениях с Розановым - 272,273,
437
Кутлер Николай Николаевич (1859—
1924), юрист, предприниматель,
один из лидеров партии кадетов и
авторов ее аграрной программы, в
период нэпа участвовал в прове-
дении денежной реформы - 279-
280
Кюба П., владелец ресторана - 384
Кюнер Рафаэль (1802-1878), немецкий
филолог и педагог, автор учебни-
ков по греческому и латинскому
языкам - 128
Лавров Вукол Михайлович (1852—
1912), журналист, переводчик, из-
датель (с 1880), редактор-издатель
(1885-1907) журнала «Русская
мысль» - 108
Лавров Петр Лаврович (1823-1900),
философ, социолог, публицист,
один из идеологов революционно-
го народничества, с 1870 г. в эмиг-
рации - 267
Лавуазье Антуан Лоран (1743-1794),
французский химик - 192
Лазарь, в Новом Завете персонаж
притчи о богаче и бедном Лазаре
- 103, 106
Лауниц Владимир Федорович фон дер
(1855-1906), генерал-майор, пе-
тербургский градоначальник, убит
эсерами - 179
Лёбеке, немецкий нумизмат - 286
Лев XIII (Джоаккино Печчи) (1810-
1903), папа римский (с 1878) - 229
Левицкая Елена Сергеевна (ум. 1915),
директриса школы в Царском
Селе, знакомая Розанова - 23, 24
Левшин Д. Н., попечитель Рижского
учебного округа - 29, 282
Ледницкий Александр Робертович
(1866-1934), юрист, член Совета
присяжных поверенных, депутат
I Государственной думы (кадет),
руководитель ликвидационной
комиссии по делам Королевства
Польского при Временном прави-
тельстве (1917), покончил жизнь
самоубийством в Варшаве -181,193
Лейбниц Готфрид Вильгельм (1646-
1716), немецкий философ, матема-
тик, физик, языковед - 134
Лейкин Николай Александрович
(1841-1906), писатель-юморист и
журналист - 191
Лемке Михаил Константинович (1872-
1923), историк, археограф, публи-
цист - 370
Леонардо да Винчи (1452-1519), италь-
янский живописец, скульптор, ар-
хитектор, ученый, инженер - 40,41
Леонтьев Константин Николаевич
(1831-1891), философ, писатель,
публицист, литературный критик
-77
Лермонтов Михаил Юрьевич (1814—
1841), поэт и прозаик - 41, 121,
168, 305, 308, 309, 311, 339, 412,
436, 442
Лесгафт Петр Францевич (1837-
1909), педагог, врач, анатом, осно-
воположник научной системы фи-
зического воспитания в России -
387-389
Лесков Николай Семенович (1831-
1895), писатель-144,178,275,278
Леш, директор немецкого училища при
лютеранской церкви Петра и Пав-
ла в Москве - 35-37
Лжедимитрий (Лжедмитрий) I (ум.
1606), царь (с 1605), самозванец
(предположительно Григорий Бог-
данович Отрепьев), выдававший
себя за сына Ивана Грозного Дмит-
рия, убит - 136
Лжедимитрий (Лжедмитрий) II (ум.
1610), самозванец, выдававший
себя за якобы спасшегося «царя
Дмитрия», убит - 136
Либкнехт Вильгельм (1826-1900),
один из основателей и руководи-
телей партии социал-демократов в
Германии - 229
Линевич, богач, издевавшийся над
детьми - 365
Ломоносов Михаил Васильевич (1711—
1765), естествоиспытатель, поэт,
художник, историк, общественный
деятель - 149, 154, 338, 342
Лопатин Герман Александрович
(1845-1918), революционный на-
родник, публицист, переводчик -
48, 50,51,265,380
Лопе де Вега (Вега Карпьо Лопе Фе-
ликс де) (1562-1635), испанский
драматург - 144
Лукьянов Сергей Михайлович (1855—
1935), обер-прокурор Синода
(1909-1911), член Государственно-
го совета (с 1906) - 183
Луначарский Анатолий Васильевич
(1875-1933), политический де-
ятель, писатель, публицист -
329
Льюис Джордж Генри (1817-1878),
английский писатель, сторонник
позитивизма - 338
Любецкий Францишек (1779-1846),
министр финансов (1821-1830)
Королевства Польского, член Го-
сударственного совета Российской
империи (с 1832) - 295
454
Лютер Мартин (1483-1546), немецкий
религиозный реформатор - 115,
133, 134, 171, 172
Лященко Аркадий Иоакимович (1871—
1931), историк литературы, биб-
лиограф - 337
Магницкий Леонтий Филиппович
(1669-1739), преподаватель Мос-
ковской школы математических и
навигационных наук, автор перво-
го русского печатного руководства
«Арифметика, сиречь наука числи-
тельная» (1703) - 214
Магомет (Мухаммед, Мохаммед) (ок.
570-632), основатель ислама, в ко-
тором почитается как пророк, глава
теократического государства - 157
Мазарини Джулио (1602-1661), карди-
нал, первый министр Франции (с
1643)-94, 95
Майков Аполлон Николаевич (1821—
1897), поэт-267
Макарий, архимандрит - 184
Макарий (Михаил Петрович Булгаков)
(1816-1882), богослов, церковный
историк, митрополит Московский
и Коломенский - 412
Макарий Унженский (Желтоводский)
(1349-1444), основатель монас-
тырской обители - 225
Маклаков Василий Алексеевич (1870,
по др. данным 1869-1957), адво-
кат, один из лидеров партии каде-
тов, член ее ЦК, депутат II—IV Го-
сударственных дум, с 1917 г. в
эмиграции - 193, 280
Максимилиан (Максимиан) Марк Ав-
релий Валерий (240-310), рим-
ский император (286-305, с 307),
соправитель Диоклетиана - 219
Малебранш (Мальбранш) Никола
(1638-1715), французский фило-
соф - 238
Малинин Александр Федорович (1834-
1888), директор Московского учи-
455
тельского института, составитель
учебников по алгебре и другим
предметам, выдержавших множе-
ство изданий - 90
Малх, в Новом Завете раб первосвя-
щенника, при аресте Иисуса апо-
стол Петр отсек у него ухо - 244
Мальтус Томас Роберт (1766-1834),
английский экономист - 223, 224
Мануйлов Александр Аполлонович
(1861-1929), экономист, член ЦК
партии кадетов, в молодости наро-
доволец, затем либеральный на-
родник - 383
Манухин, церковный староста - 185
Марий Гай (ок. 157-86 до н. э.), рим-
ский полководец, неоднократно
консул - 352
Мариновский, офицер, приютивший
попавшего в плен отца будущего
писателя А. И. Эртеля - 410
Маркиан (Маркион) (85-160), христи-
анский гностик, отлучен от церк-
ви (144), основал еретическую
секту - 198
Марков Алексей Константинович
(1858-?), нумизмат - 286-288
Маркович Андрей Николаевич (1830-
1907), действительный тайный со-
ветник, сенатор, член Санкт-Пе-
тербургской судебной палаты,
друг К. П. Победоносцева - 160
Маркс Карл (1818-1883), немецкий
мыслитель, основоположник ком-
мунистической теории, названной
его именем - 18, 19, 43, 239, 339,
367, 368
Марфа и Мария, в Новом Завете сест-
ры из Вифании (ныне эль-Азарийе
под Иерусалимом) - 76-79, 84-86
Матвей Ржевский (Матвей Алексан-
дрович Константиновский) (1791—
1857), протоиерей из Ржева, духов-
ник Н. В. Гоголя - 143
Мезенцов Николай Владимирович
(1827-1878), шеф корпуса жандар-
мов и начальник Третьего отделе-
ния (с 1876), убит С. М. Кравчин-
ским - 54
Менделеев Дмитрий Иванович (1834—
1907), химик, педагог, обществен-
ный деятель - 193, 214
Мережковский Дмитрий Сергеевич
(1865-1941), писатель, публицист,
философ, общественный деятель,
с 1920 г. в эмиграции - 17-19, 30,
40, 41, 95, 245, 250, 277, 307, 320,
321, 325, 359, 360, 379, 380, 428,
436, 439, 440
Мечников Илья Ильич (1845-1916),
биолог, патолог, эмбриолог - 193
Мещерский Владимир Петрович
(1839-1914), писатель и публи-
цист, издатель газеты-журнала
«Гражданин» - 47
Милль Джон Стюарт (1806-1873),
английский философ, эконо-
мист, общественный деятель -
223, 224
Милыпон Джон (1608-1674), английс-
кий поэт, публицист, обществен-
ный деятель - 130, 370
Милюков Павел Николаевич (1859-
1943), историк, публицист, лидер
и теоретик партии кадетов, в эмиг-
рации после 1918 г. - 66-68, 153,
161, 179-181, 193, 203, 252, 279,
280, 345
Мин Георгий Александрович (1855—
1906), генерал, командир лейб-
гвардии Семеновского полка, не-
посредственно руководил подавле-
нием декабрьского вооруженного
восстания в Москве (1905), убит
эсерами - 179
Минский (наст. фам. Виленкин) Нико-
лай Максимович (1855-1937), пи-
сатель, публицист, философ, с
1905 г. в основном жил за грани-
цей-239, 307
Митрофан Сребрянский, протоиерей
Марфо-Мариинской обители - 81
456
Михаил Феодорович (Михаил Федоро-
вич) (1596-1645), царь (с 1613), ос-
нователь династии Романовых -
148,217, 408
Михайлов Александр Дмитриевич
(1855-1884), народник, один из
организаторов партии «Народная
воля», приговорен к вечной катор-
ге (1882), умер в Петропавловской
крепости - 52
Михайловский Николай Константино-
вич (1842-1904), социолог, публи-
цист, литературный критик, идео-
лог легального (либерального) на-
родничества - 190, 267, 277, 305,
307,313,413
Мицкевич Адам (1798-1855), польский
поэт, деятель национально-осво-
бодительного движения - 294,438
Моль Роберт (1799-1875), немецкий
юрист-государствовед и полити-
ческий деятель - 191
Мольтке Хельмут Карл (1800-1891),
немецкий генерал-фельдмаршал и
военный теоретик - 72
Моммзен Теодор (1817-1903), немец-
кий историк - 354, 409
Мопассан Ги де (1850-1893), француз-
ский писатель - 339
Мор Томас (1478-1535), английский
политический деятель и писатель,
автор сочинения об идеальном со-
циальном строе - «Утопия» - 191
Морен, учитель французского языка в
костромской гимназии - 218
Моцарт Вольфганг Амадей (1756-1791),
австрийский композитор - 416
Муромцев Сергей Андреевич (1850—
1910), юрист, один из лидеров
партии кадетов, председатель I Го-
сударственной думы - 190, 279
Мусин, учитель русского языка в кост-
ромской гимназии - 218
Мякотин Венедикт Александрович
(1867-1937), историк, публицист,
один из редакторов журнала «Рус-
ское богатство», председатель ЦК
Трудовой народно-социалистиче-
ской партии (энесов), с 1922 г. в
эмиграции - 267, 307
Набоков Владимир Дмитриевич (1869—
1922), юрист, публицист, один из
лидеров партии кадетов, с 1919 г.
в эмиграции, погиб, когда было со-
вершено покушение на П. Н. Ми-
люкова - 66, 181,251
Ноль, в индийском эпосе царь страны
нишадхов - 124, 242
Наполеон I (Наполеон Бонапарт)
(1769-1821), французский импе-
ратор (1804-1814, март-июнь
1815)-40, 41, 202, 379,410
Неведомский (наст, имя и фам. Миха-
ил Петрович Миклашевский)
(1866-1943), публицист, критик,
участник революционного движе-
ния -38-41
Незлобии (наст, имя и фам. Александр
Александрович Дьяков) (1845—
1895), писатель и публицист - 271
Некрасов Николай Алексеевич (1821—
1877/1878), поэт, прозаик, изда-
тель - 104,159, 306,308,404, 431,
432, 438
Нерон Клавдий Цезарь (37-68), римс-
кий император (с 54) - 219
Несмелое Виктор Иванович (1863-
1937), религиозный философ, про-
фессор Казанской духовной акаде-
мии - 93, 430
Нестеров Михаил Васильевич (1862-
1942), живописец - 76, 80, 86,105
Несторий (ум. ок. 451), патриарх Кон-
стантинопольский (428-431), ро-
доначальник осужденного церко-
вью как ересь несторианства -
234
Никанор (Александр Иванович Бров-
кович) (1827-1890/1891), архи-
епископ Херсонский и Одесский,
457
богослов, религиозный писатель и
философ - 197, 393, 441
Никитенко Александр Васильевич
(1804-1877), историк литературы,
критик, цензор, мемуарист, автор
«Дневника» - 359, 440
Никодим (Никита Иванович Белоку-
ров) (1826-1877), епископ Дмит-
ровский - 396
Николай, архиепископ Владимирский
-184
Николай I (1796-1855), российский
император (с 1825) -42, 149, 208,
303
Николай II (1868-1918), российский
император (1894-1917), расстре-
лян - 156, 336
Никон (Никита Минов) (1605-1681),
патриарх (с 1652), низложен на
Большом церковном соборе 1666-
1667 гг.- 16, 131, 133, 148, 157
Никон (Николай Иванович Рожде-
ственский) (1851-1918), епископ
Вологодский (с 1906), религиоз-
ный писатель и издатель - 85, 96,
98, 100, 105, 117, 125, 128, 129,
195, 196, 198, 205, 210, 432-434
Никон (Николай Андреевич Софийс-
кий) (1861-1908), архиепископ
Владимирский (с 1906), экзарх
Грузии, убит сторонниками авто-
кефалии грузинской церкви - 9,
304
Ницше Фридрих (1844—1900), немецкий
философ - 40,121, 266, 277, 309
Новицкий, генерал, начальник жандарм-
ского управления в Киеве - 244
Нокс Джон (1505, по др. данным ок.
1514-1572), сторонник кальвиниз-
ма, основатель пресвитерианской
церкви в Шотландии - 171
Нувель Вальтер Федорович (1871—
1949), чиновник особых поруче-
ний канцелярии министерства им-
ператорского двора, композитор-
любитель - 56
Нурок Альфред Павлович, чиновник
морского министерства, литератор
(псевд. Силен) - 56
Ньютон Исаак (1643-1727), английский
математик, физик, астроном, созда-
тель классической механики - 363
Овсянико-Куликовский Дмитрий Нико-
лаевич (1853-1920), литературо-
вед и языковед - 316, 317
Ольденберг Герман (1854-1920), немец-
кий востоковед, индолог - 45, 431
Ориген (ок. 185-253/254), христианский
теолог, философ и филолог - 198
Островский Михаил Николаевич
(1827-1901), министр государ-
ственных имуществ (1881-1893),
член Государственного совета по
департаменту государственной
экономии - 347, 348
Павел, в Новом Завете апостол - 94,
114, 115, 150, 277, 362
Павел I (1754-1801), российский им-
ператор (с 1796) - 156, 379
Павский Герасим Петрович (1787—
1863), профессор Санкт-Петер-
бургской духовной академии, при-
дворный протоиерей, духовный
наставник будущего императора
Александра II, переводчик Библии
-371
Пальмер Уильям (1811-1879), англи-
канский архидьякон, перешел в ка-
толичество (1855), переписывался
с А. С. Хомяковым - 229
Панина Софья Владимировна (1871—
1957), общественная деятельница
и меценатка, после 1917г. член ЦК
партии кадетов, товарищ министра
государственного призрения, за-
тем народного просвещения во Вре-
менном правительстве, с 1920 г.
в эмиграции - 148
Парепсов П. Д., генерал, политический
деятель, мемуарист - 56
458
Паскаль Блез (1623-1662), француз-
ский математик, физик, философ
и писатель - 419
Пелагий (ок. 360 - после 418), христи-
анский монах, основатель пелаги-
анства, которое было осуждено как
ересь в начале V в. - 234
Пергамент Осип (Иосиф) Яковлевич
(1868-1909), адвокат, деятель
партии кадетов, депутат I и II Го-
сударственных дум - 158-165
Перикл (ок. 490-429 до н. э.), афинс-
кий стратег (главнокомандующий)
и политический деятель - 224,351,
352
Перцов Петр Петрович (1868-1947),
публицист, критик, издатель - 30,
249
Петр, в Новом Завете апостол - 39,150
Петр (ум. 1326), митрополит всея Руси
(с 1308)- 148, 173
Петр I Великий (1672-1725), царь (с
1682, правил самостоятельно с
1689), первый российский импера-
тор (с 1721) - 35, 105, 130-134,
148, 173, 174, 179, 214, 215, 252,
291,328, 370, 393
Петр 777(1728-1762), российский им-
ператор (с 1761), внук Петра I -
156, 379
Петрищев Афанасий Борисович (1872
- после 1942), публицист, сотруд-
ник журнала «Русское богатство»,
один из лидеров Трудовой народ-
но-социалистической партии (эне-
сов), с 1922 г. в эмиграции - 267
Петров Григорий Спиридонович
(1866, по др. данным 1867-1925),
священник, публицист, проповед-
ник, депутат II Государственной
думы, в 1908 г. был лишен сана, с
1921 г. в эмиграции - 393
Петров Я. П., генерал-майор, семей-
ный деспот - 199
Пешехонов Алексей Васильевич
(1867-1933), экономист, публи-
цист, член редакции журнала «Рус-
ское богатство», один из основа-
телей Трудовой народно-социали-
стической партии (энесов) - 267,
271,307
Пизистрат (Писистрат), афинский
тиран (правитель) (560-527 до н. э.,
с перерывами), отец Гиппарха и
Гиппия - 72
Пилат (Понтий Пилат), римский про-
куратор (наместник) Иудеи (25-
36), при нем, согласно Новому За-
вету, был распят Иисус Христос -
145
Пильц Эразм (Иванович) (1851-1929),
польский политический деятель,
издатель-редактор польской газе-
ты в Петербурге «Kraj» -291,293-
301,303
Пиндар (ок. 518-442/438 до н. э.), древ-
негреческий поэт - 308
Пирогов Николай Иванович (1810—
1881), хирург, естествоиспыта-
тель, педагог, общественный дея-
тель - 28
Пирожков Михаил Васильевич (1867-
1927), владелец издательства, вы-
пускавшего религиозно-философ-
скую литературу, и книжного скла-
да в Петербурге, разорился в 1909 г.
- 248-250
Писарев Дмитрий Иванович (1840—
1868), публицист, литературный
критик, ведущий сотрудник ради-
кального журнала «Русское слово»
-61,246, 267, 269, 437
Писемский Алексей Феофилактович
(1821-1881), писатель - 178, 333
Платон (428/427-348/347 до н. э.),
древнегреческий философ - 70-
75, 191,228
Плевако Федор Никифорович (1842-
1908/1909), юрист, судебный ора-
тор- 193
Плеве Вячеслав Константинович
(1846-1904), министр внутрен-
459
них дел и шеф корпуса жандар-
мов (с 1902), убит эсерами - 44,
163,259
Плетнев Петр Александрович (1792-
1865/1866), поэт, критик, издатель
-337
Плеханов Георгий Валентинович
(1856-1918), политический дея-
тель, философ, публицист, теоре-
тик и пропагандист марксизма -
328-330, 332
Победоносцев Константин Петрович
(1827-1907), правовед, обер-про-
курор Синода (1880-1905), член
Государственного совета - 73,132,
133, 152, 160, 163, 173, 176, 225,
298, 397
Погодин Михаил Петрович (1800—
1875), историк, писатель, издатель
-406
Половнев Александр, один из участни-
ков убийства М. Я. Герценштейна
на даче в Териоках - 179, 180
Полонский Яков Петрович (1819—
1898), поэт-267
Помяловский Николай Герасимович
(1835-1863), писатель - 205
Попов Нил Александрович (1833-
1891/1892) - историк - 405^108
Порфирий Успенский (1804-1885),
церковный деятель, археолог, пи-
сатель - 196
Поселянин (наст, имя и фам. Евгений
Николаевич Погожев) (1870-
1931), церковный писатель - 79,
80, 434
Поссе Владимир Александрович
(1864-1940), журналист, критик -
312
Потехин Александр Антипович (1829-
1908), писатель, театральный дея-
тель - 333
Прахов Адриан Викторович (1846-
1916), историк искусства, архео-
лог, исследователь древнерусской
художественной культуры - 309
Преображенский Иван Васильевич
(1854-?), религиозный писатель -
13
Протейкинский Виктор Петрович (ум.
1914), математик, дальний род-
ственник Философовых и Дягиле-
вых, участник Религиозно-фило-
софских собраний в Петербурге -
55-57
Протопопов Михаил Алексеевич
(1848-1915), литературный кри-
тик - 413
Пугачев Емельян Иванович (1740/1742-
1775), донской казак, предводитель
казацко-крестьянского восстания
1773-1775 гг., казнен-386
Пушкин Александр Сергеевич (1799—
1837), поэт и прозаик -15,38,51,
71,77, 78, 99, 124, 159, 160, 168,
205, 214, 267, 277, 305, 308, 309,
330, 332, 413, 428, 430, 433, 438,
440
Радищев Александр Николаевич
(1749-1802), писатель и философ,
покончил жизнь самоубийством -
339
Раев Николай Павлович (1856 - после
1917), директор Высших женских
историко-литературных и юриди-
ческих курсов (с 1905), обер-про-
курор Синода (1916-нач. 1917)—
403
Разин Степан Тимофеевич (ок. 1630—
1671), донской казак, предводи-
тель казацко-крестьянского вос-
стания 1670-1671 гг., казнен-386
Ранке Леопольд фон (1795-1886), не-
мецкий историк - 406
Рафаэль Санти (1483-1520), итальян-
ский живописец и архитектор - 15
Рачинский Сергей Александрович
(1833-1902), ученый-ботаник, де-
ятель народного образования,
организатор сельских церковно-
приходских школ - 173-176, 433
460
Рачковский Петр Иванович (1853-
1911), заведующий заграничной
агентурой департамента поли-
ции (1885-1902), руководил аре-
стами участников декабрьского во-
оруженного восстания в Москве
(1905)-382-384, 386
Рейнах (Рейнак) Теодор (1860-1928),
французский нумизмат - 287
Ремизов Алексей Михайлович (1877—
1957), писатель, с 1921 г. в эмиг-
рации - 307
Ретовский О. Ф., нумизмат - 286-288
Рикардо Давид (1772-1823), английс-
кий экономист - 377
Рогозинников, инспектор костромской
гимназии - 218
Родичев Федор Измайлович (1854, по
др. данным 1853-1933), юрист,
земский деятель, член ЦК партии
кадетов, депутат I-IV Государ-
ственных дум, с 1920 г. в эмигра-
ции-161, 176, 181-183,345
Розанов, протодиакон Воскресенского
собора в Москве - 184
Розанов Василий Васильевич (1856—
1919) - 258,322,323,325,326,398,
407, 439
Розанова Вера Васильевна (1848—
1868), сестра писателя - 425
Россети - см. Смирнова А. О.
Рункевич Степан Григорьевич (1867-
1924), церковный историк - 13
Руссо Жан Жак (1712-1778), француз-
ский писатель и философ - 144,
419
Рутенберг Петр (Пинхус) Моисеевич
(1878-1942), деятель партии эсе-
ров, разоблачивший Гапона как
провокатора, эмигрировал в Пале-
стину (1922) - 380-386
Рюрик (ум. ок. 879), согласно летопис-
ному преданию, предводитель ва-
ряжских дружин, обосновавших-
ся в Новгороде, основатель дина-
стии Рюриковичей - 409
Савва (Иван Михайлович Тихомиров)
(1819-1896), архиепископ Твер-
ской, археограф - 231
Савонарола Джироламо (1452-1498),
настоятель монастыря домини-
канцев во Флоренции, выступал
против тирании Медичи и обли-
чал папство, казнен - 120, 171,
414
Салтыков (Салтыков-Щедрин) Михаил
Евграфович (наст. фам. Салтыков,
псевд. Н. Щедрин) (1826-1889), пи-
сатель и публицист - 159, 433
Сальвини Томмазо (1820-1915), италь-
янский актер - 265, 266, 269
Сальери Антонио (1750-1825), италь-
янский композитор и педагог, жил
в Вене - 416
Сбруева (Збруева) Евгения Ивановна
(1868/1869, по др. данным 1867-
1936), певица (контральто) - 333
Свенцицкий Валентин Павлович
(1882-1931), философ, публицист,
один из организаторов нелегально-
го общества «Христианское брат-
ство борьбы» (1905), в 1917 г. при-
нял сан священника - 42
Свечин, петербургский книгоиздатель
- 248-250
Серафим (Яков Мещеряков) (1861-?),
епископ Острожский - 221
Серафим Саровский (Прохор Сидоро-
вич (Исидорович) Мошнин) (1754,
по др. данным 1759-1833), право-
славный подвижник - 49
Сергеевич Василий Иванович (1832—
1910), историк права, профессор
Московского и Санкт-Петербург-
ского университетов - 188
Сергий (Иван Николаевич Страгород-
ский) (1867-1944), ректор Санкт-
Петербургской духовной академии,
епископ Финляндский (с 1905),
местоблюститель патриаршего пре-
стола (с 1937), патриарх (с 1943) -
195
Сергий Радонежский (Варфоломей
Кириллович) (1314/1321-1392),
православный подвижник, основа-
тель и игумен Троицкого монасты-
ря (впоследствии Троице-Сергие-
ва лавра) - 148, 149, 172, 408
Серов Валентин Александрович
(1865-1911), живописец и график
-56
Сиверс, лорд, занимался выведением
породы собак - 32, 33
Сигизмунд III (1566-1632), польский
король (с 1587), шведский король
(1592-1599), один из организато-
ров интервенции в Россию в нача-
ле XVII в. - 136
Симеон (Симеон Богоприимец), в Но-
вом Завете старец-священник, уз-
навший в младенце Иисусе буду-
щего Христа (Мессию, Спасителя)
-424
Симеон Полоцкий (Самуил Емельяно-
вич Петровский-Ситнианович)
(1629-1680), церковный и обще-
ственный деятель, писатель, про-
поведник, поэт - 214
Сипягин Дмитрий Сергеевич (1853-
1902), министр внутренних дел (с
1900), убит эсерами - 226, 259
Скабичевский Александр Михайлович
(1838-1910), литературный кри-
тик, историк литературы, публи-
цист - 267, 269, 312, 370,413, 43 7
Скворцов Василий Михайлович (1859-
1932), чиновник Синода, публи-
цист, редактор-издатель ряда цер-
ковных изданий - 138, 172, 173,
176, 225, 226, 232, 435
Смарагд (Александр Крыжановский)
(1796-1863), архиепископ Орлов-
ский, затем Рязанский и Зарайский
-228
Смирнова (урожд. Россети или Россет)
Александра Осиповна (1809—
1882), фрейлина (1826-1832),
жена дипломата Н. М. Смирнова,
461
была в дружеских отношениях с
Пушкиным, Гоголем, Жуковским
и многими другими писателями,
мемуаристка - 100, 143
Смит Адам (1723-1790), английский
(шотландский) экономист - 168
Соколов Константин Николаевич, член
ЦК партии кадетов - 154
Соколова 3. С., корреспондентка А. И.
Эртеля, последовательница Л. Н.
Толстого-411, 416, 418
Сократ (ок. 470-399 до н. э.), древне-
греческий философ - 71-73, 153,
168, 352, 353
Солдатенков Козьма Терентьевич
(1818-1901), предприниматель,
издатель, меценат - 305
Соловьев Владимир Сергеевич (1853-
1900), философ, поэт, публицист-
12, 173-176, 264,413
Соловьев Сергей Михайлович (1820-
1879), историк - 405—408
Сологуб (наст. фам. Тетерников) Федор
Кузьмич (1863-1927), писатель -
307,310
Соломон, царь Израильско-Иудейско-
го государства (ок. 965 - ок. 926
до н. э.) - 343, 344
Софокл (ок. 496—406 до н. э.), древ-
негреческий поэт-драматург -
308
Спасович Владимир Данилович (1829-
1906), юрист, публицист, обще-
ственный деятель - 291
Сперанский Михаил Михайлович
(1772, по др. данным 1771-1839),
ближайший советник Александ-
ра I, генерал-губернатор Сибири
(1819-1821), руководил работой
по законодательству (с 1826) - 73,
166
Спешнее Е. А., главный кредитор из-
дателя М. В. Пирожкова, предсе-
датель комиссии конкурсного уп-
равления из-за несостоятельности
последнего - 249, 250
Спиноза Бенедикт (Барух) (1632-
1677), нидерландский философ -
153
Станкевич Николай Владимирович
(1813-1840), философ, поэт, об-
щественный деятель - 264
Стасов Владимир Васильевич (1824-
1906), художественный и музы-
кальный критик, историк искус-
ства - 62
Стасова Надежда Васильевна (1822-
1895), деятельница российского
женского движения - 62
Стасюлевич Михаил Матвеевич
(1826-1911), историк, издатель,
общественный деятель - 307
Сташиц Станислав (1755-1826),
польский просветитель - 295,297
Стелловский Федор Тимофеевич
(1826-1875), издатель - 237
Столыпин Петр Аркадьевич (1862-
1911), председатель Совета мини-
стров (с 1906), проводил разрабо-
танную им политику реформ,
смертельно ранен агентом охран-
ки, связанным с крайне левыми
группами - 138-140
Стороженко Николай Ильич (1836-
1906), историк литературы, про-
фессор Московского университе-
та- 190, 406
Страхов Николай Николаевич (1828-
1896), философ, публицист, лите-
ратурный критик - 272, 274
Струве Отто Васильевич (Отто Виль-
гельм) (1819-1905), астроном,
директор Пулковской обсервато-
рии - 42
Струве Петр Бернгардович (1870—
1944), экономист, философ, исто-
рик, публицист, один из лидеров
партии кадетов, с 1920 г. в эмиг-
рации - 30, 42—45, 52-54, 429
Суворин Алексей Сергеевич (1834—
1912), издатель, публицист, кри-
тик - 69, 70
462
Суворов Николай Семенович (1848-?),
автор работ по церковному (кано-
ническому) праву - 13
Судейкин Георгий Порфирьевич
(1850-1883), жандармский офи-
цер, заведующий агентурой петер-
бургского охранного отделения,
убит народовольцами - 53
Сулла Луций Корнелий (138-78 до н. э.),
римский полководец, диктатор
(82-79 до н. э.) - 352
Сусанин Иван Осипович (ум. 1613),
крестьянин Костромского уезда,
герой борьбы против польской
интервенции - 217, 218, 434
Сципион Африканский Старший Пуб-
лий Корнелий (ок. 235 - ок. 183 до
н. э.), римский полководец - 73
Тареев Михаил Михайлович (1867-
1934), православный богослов и фи-
лософ -10,11-16,230,231,396,428
Тарновский Вениамин Михайлович
(1837-1906), венеролог, профессор
Петербургской медико-хирурги-
ческой академии - 73, 74
Тацит Публий Корнелий (ок. 58 - ок.
117), римский историк - 194
Теодорих (ок. 454-526), правитель ост-
готов (с 493), основатель королев-
ства остготов в Италии - 219
Тернавцев Валентин Александрович
(1866-1940), чиновник особых по-
ручений при обер-прокуроре Си-
нода, богослов, религиозный пи-
сатель - 30, 93-95
Тиблен, издатель - 305
Тигмиев, протоиерей - 184
Тимирязев Климент Аркадьевич (1843-
1920), естествоиспытатель, зани-
мался исследованием физиологии
растений - 190-192
Тихонравов Николай Саввич (1832—
1893), литературовед и археограф
-406
Толстой Дмитрий Андреевич (1823—
1889), министр народного просве-
щения (1866-1880) - 27, 28, 84,
193, 329, 423
Толстой Иван Иванович (1858-1916),
археолог и нумизмат, вице-прези-
дент Академии художеств (1893—
1905), министр народного просве-
щения (1905-1906) - 33, 286
Толстой Лев Николаевич (1828-1910),
писатель и мыслитель - 11,34,98-
100, 104, 108, 143, 145, 172, 202,
214, 215, 222, 224, 231, 236-238,
269, 274, 276-278, 329, 332, 357,
358, 360, 377, 402, 410-418, 431
Трепов Дмитрий Федорович (1855—
1906), московский обер-полицмей-
стер (1896-1905), петербургский
генерал-губернатор, товарищ ми-
нистра внутренних дел и команду-
ющий корпусом жандармов
(1905), дворцовый комендант
(1905-1906)- 179, 180
Троицкий Матвей Михайлович (1835-
1899), философ, профессор Мос-
ковского университета - 191
Трубецкой Павел (Паоло) Петрович
(1866-1938), скульптор, с 1906 г.
жил в основном за границей - 359
Тургенев Иван Сергеевич (1818-1883),
писатель - 57, 63, 87, 88, 91, 178,
264, 333, 336, 367, 397, 402, 421,
429, 433, 437, 440
Тэн Ипполит (1828-1893), французс-
кий философ, социолог искусства,
историк - 115
Тютчев Федор Иванович (1803-1873),
поэт, публицист, дипломат - 266,
267
Успенский Глеб Иванович (1843-1902),
писатель - 239
Устьинский Александр Петрович
(1854/1855-1922), протоиерей из
Новгорода, друг Розанова и его
многолетний корреспондент -195
463
Ушинский Константин Дмитриевич
(1824-1870/1871), педагог, автор
работ по педагогике и учебников
для школы - 32
Феодосий IВеликий (ок. 346-395), рим-
ский император (с 379) - 414
Феодосий Печерский (ок. 1036-1074),
один из основателей и игумен Ки-
ево-Печерского монастыря (с
1062)- 173
Феофан Затворник (Георгий Василь-
евич Говоров) (1815-1894), право-
славный богослов, писатель, про-
поведник, епископ Тамбовский (с
1859), Суздальский и Владимир-
ский (с 1863), с 1872 г. отшельник
- 197, 198
Феофан Прокопович (1681-1736), по-
литический и церковный деятель
(архиепископ Новгородский, пер-
венствующий член Синода), бого-
слов, религиозный писатель -131,
148, 172,214
Фет (наст. фам. Шеншин) Афанасий
Афанасьевич (1820-1892), поэт и
переводчик - 266, 267
Фигнер Вера Николаевна (1852-1942),
участница революционного дви-
жения, мемуаристка - 47, 48, 50,
51,242, 265,380, 402, 404
Филарет (Василий Михайлович Дроз-
дов) (1782-1867), архиепископ
(с 1821), митрополит Московский
(с 1825), православный богослов,
историк, философ, проповедник -
149, 150, 342, 344, 349
Филарет (Федор Никитич Романов)
(ок. 1554/1555-1633), патриарх
(1608-1610, с 1619), отец царя
Михаила Федоровича - 157
Филимонов, священник в Самарской
губернии - 211
Филипп (Федор Степанович Колычев)
(1507-1569), митрополит Москов-
ский и всея Руси, в 1568 г. низло-
жен, убит по приказу Ивана IV
Грозного - 133, 148, 173
Филипп II (1527-1598), испанский ко-
роль (с 1556) - 148
Философов Дмитрий Владимирович
(1872-1940), литературный кри-
тик, публицист, с 1920 г. в эмиг-
рации - 30, 38, 39,41, 56, 61, 250,
307
Философова (урожд. Дягилева) Анна
Павловна (1837-1912), деятельни-
ца российского женского движе-
ния - 55-65
Флоренский Павел Александрович
(1882-1937), православный свя-
щенник, философ, ученый, инже-
нер, репрессирован - 196
Флотов, социал-демократ, участник
Религиозно-философских собра-
ний в Петербурге - 38, 39
Фотий (Петр Никитич Спасский)
(1792-1838), церковный деятель,
архимандрит, обличитель всякого
рода «зловерных происков» - 386
Фохт В. Р., преподаватель петербург-
ской гимназии, нумизмат - 287
Франк Семен Людвигович (1877—
1950), философ, с 1922 г. в эмиг-
рации - 30
Фрумкина Фрума Мордуховна (ок.
1874-1907), акушерка, террорист-
ка-244-247
Фукидид (ок. 460-400 до н. э.), древ-
негреческий историк - 72, 194
Хомяков Алексей Степанович (1804—
1860), философ, богослов, писа-
тель, публицист, общественный
деятель, один из основателей сла-
вянофильства - 229, 252
Цвингли Ульрих (Хульдрейх) (1484-
1531), деятель Реформации в
Швейцарии - 171
Цезарь Гай Юлий (102/100-44 до н. э.),
римский диктатор и полководец-14
464
Ценский (Сергеев-Ценский) Сергей Ни-
колаевич (1875-1958), писатель - 307
Церетели Ираклий Георгиевич (1881—
1959), депутат II Государственной
думы, председатель ее социал-де-
мократической фракции, в 1917 г.
министр печати и телеграфа Вре-
менного правительства, мемуа-
рист, с 1921 г. в эмиграции - 180
Цицерон Марк Туллий (106-43 до н. э.),
римский политический деятель,
оратор и писатель -128,159,192,193
Чаадаев Петр Яковлевич (1794-
1856), мыслитель и публицист -
339
Чайковский Петр Ильич (1840-1893),
композитор - 161, 228
Чарторыйский Адам Ежи (Адам Ада-
мович) (1770-1861), российский
министр иностранных дел (1804—
1806), председатель польского по-
встанческого Национального пра-
вительства (1830-1 831), эмигрант
(с 1831)-295
Чацкий Фаддей (Тадеуш) (1765-1813),
польский историк, общественный
деятель, просветитель - 295
Чернышевский Николай Гаврилович
(1828-1889), писатель, публицист,
критик, философ, общественный
деятель - 267-269, 423
Чертков Владимир Григорьевич
(1854-1936), общественный дея-
тель, издатель, друг Л. Н. Толсто-
го - 237, 410-413, 418
Чехов Антон Павлович (1860-1904),
писатель - 102, 144, 308, 335
Чуковский Корней Иванович (наст, имя
и фам. Николай Васильевич Кор-
нейчуков) (1882-1969), писатель,
литературный критик - 118-121,
125,311-314, 330, 439
Шабанова, председательница женско-
го съезда - 58, 59
Шафарик Павел Йозеф (1795-1861),
чешский историк, филолог, поэт -
302, 406
Шафранов, директор костромской
гимназии - 218
Шварц Александр Николаевич (1848—
1915), филолог, министр народно-
го просвещения (1908-1910)-28,
148, 282
Шекспир Уильям (1564-1616), англий-
ский драматург и поэт - 73,77-79,
100, 222, 240, 265, 266, 274, 305,
411,418, 433, 435
Шестов Лев (наст, имя и фам. Лев
Исаакович Шварцман) (1866—
1938), философ и писатель, с
1895 г. в основном жил за грани-
цей - 277
Шиллер Иоганн Фридрих (1759-1805),
немецкий поэт, драматург, теоре-
тик искусства - 72, 269, 360, 437,
440
Шингарев Андрей Иванович (1869-
1918), врач, публицист, один из ли-
деров кадетов, депутат II—IV Госу-
дарственных дум, в 1917 г. ми-
нистр земледелия, затем финансов
Временного правительства, убит
анархистами - 162
Шин-Гирей (XVII в.), татарин, предок
А. И. Шингарева - 162
Шипов Дмитрий Николаевич (1851—
1920), политический деятель,
председатель Московской губерн-
ской земской управы (1893-1904),
один из лидеров октябристов, член
Государственного совета (1906-
1909), умер в заключении - 250-
252, 436
Шопенгауэр Артур (1788-1860), не-
мецкий философ - 73, 266
Штейн Ольга, генеральша, мошенни-
ца-158-160, 163-165
Штёкер Адольф (1835-1909), немец-
кий пастор и политический дея-
тель - 229
465
Штюрмер Борис Владимирович
(1848-1917), гофмейстер импера-
торского двора, в 1916 г. предсе-
датель Совета министров, умер в
заключении - 184
Шульгин Василий Витальевич (1878—
1976), публицист, депутат II—IV
Государственных дум, один из ли-
деров фракции русских национа-
листов и умеренных правых, с кон.
1918 г. в эмиграции, в 1944 г. арес-
тован, до 1956 г. в заключении, за-
тем жил во Владимирской обл. -178
Шульц, лжесвидетель в деле О. Штейн
-165
Щеглов (наст, имя и фам. Иван Леон-
тьевич Леонтьев) (1855/1856—
1911), писатель - 143, 144
Щегловитов Иван Григорьевич (1861—
1918), правовед, министр юстиции
(1906-1915), член Государствен-
ного совета, расстрелян - 351
Щедрин - см. Салтыков М. Е.
Щербина Николай Федорович (1821—
1869), поэт - 308
Эмбер, французская великосветская
авантюристка - 164
Энгельс Фридрих (1820-1895), немец-
кий мыслитель и политический де-
ятель, соратник К. Маркса - 339
Эпаминонд (418-362 до н. э.), древне-
греческий военачальник и полити-
ческий деятель - 14
Эренталь Алоиз фон (1854—1912), ав-
стрийский дипломат, посол в Пе-
тербурге (1899-1906), министр
иностранных дел (с 1906) Австро-
Венгрии - 113
Эртель Александр Иванович (1855—
1908), писатель - 410, 412-414,
416—418, 442
Юркевич Памфил Данилович (1826—
1874), философ и богослов, про-
фессор Московского университе-
та^ 1861)-267, 268
Юстиниан I Великий (482/483-565),
византийский император (с 527) -
76
Якобий Б., корреспондент Розанова -
324-328
Янчевецкий Григорий Андреевич
(1846-1903), филолог - 27
Ярослав Мудрый (ок. 978-1054), вели-
кий князь Киевский (с 1019) - 166
Составитель В. М. Персонов
СОДЕРЖАНИЕ
Наши задачи, надежды и пожелания................................. 7
Православная церковь в 1908 г.................................... 8
Новая книга о христианстве....................................... 9
Потуги на пророчество............................................ 17
Женщина как охранительница народного здоровья................... 20
Живая школа в церкви............................................. 24
Учительский вопрос в министерстве просвещения................... 27
Письмо в редакцию <О выходе из совета Религиозно-философского
общества>................................................... 29
Школьный мир в России (По поводу преобразования гимназических
штатов)..................................................... 30
В Религиозно-философском обществе............................... 38
Почему Азеф-провокатор не был узнан революционерами?............ 42
У гроба отца Иоанна Кронштадтского.............................. 48
В лагере опростоволосившихся.................................... 50
Ликвидированное дело............................................ 52
Анна Павловна Философова........................................ 55
Правительственный «социализм» и выборгская «анархия»............ 65
Без вины виноватые.............................................. 67
50-летие А. С. Суворина......................................... 69
Нечто из тумана «образов» и «подобий». Судебное недоразумение в Бер-
лине ....................................................... 70
Великое начинание в Москве...................................... 75
У могилы Иоанна Кронштадтского.................................. 87
На чтении гг. Бердяева и Тернавцева............................. 93
Спор из-за хлебов (Открытое письмо еп. Никону о множестве празд-
ников) ..................................................... 96
<Л. Н. Толстой о юбилее Гоголя>................................. 98
Вопросы русского труда (Опыт ответа преосвященному Никону).... 100
Ник. Ник. Бахметев (Некролог).................................. 108
Смерть и воскресение........................................... 109
Между скорбью и радостью....................................... 112
К. И. Чуковский о русской жизни и литературе................... 118
О расстройстве трудового года.................................. 125
Клерикализм в вопросе о праздниках............................. 128
Наши миссионеры и мариавитское движение........................ 135
Ввиду слухов................................................... 138
467
К новому законопроекту о разводе................................ 140
Новая книга о Гоголе............................................ 143
Общество содействия дошкольному воспитанию детей................ 145
Законопроект о старообрядцах в Государственной Думе............. 148
Религиозный прозелитизм и о наказуемости за него................ 151
Милюковцы и вероисповедный вопрос............................... 153
<А. Г. Ковнер (Некролог)>....................................... 155
К прениям по вопросу о старообрядчестве......................... 156
Около гроба Пергамента.......................................... 158
К законопроекту о переходе из православия в инославие и иноверие .... 165
Вероисповедный вопрос в России.................................. 167
Христианство и связь его с цивилизацией......................... 176
К запросу о Союзе русского народа............................... 178
Окраинные вопросы в Г. Думе..................................... 181
Кашинские торжества............................................. 183
Наши финансы в настоящем и прошлом.............................. 186
Подготовление к профессуре в России............................. 188
И не пойду...................................................... 195
Из семейных нравов.............................................. 199
Наши грустящие публицисты....................................... 201
В мире любви, застенчивости и страха............................ 203
О незапрещенных истязаниях...................................... 210
Двухсотая годовщина Полтавского боя............................. 213
Кострома и костромичи........................................... 215
Съезд законоучителей светских учебных заведений................. 218
Тревожный и неразобранный вопрос................................ 221
В духовном мире................................................. 225
Схоластическое законоучительство................................ 232
По следам книгопродавческого съезда............................. 235
Сантиментализм и притворство как двигатели революции............ 239
К истории одного книгопродавческого разорения................... 247
Поздние слезы................................................... 250
Старая и молодая Россия......................................... 252
Возможные злоупотребления при разводе........................... 253
Что не принято в соображение при закрытии Кассы взаимопомощи лите-
раторов ..................................................... 256
К делу о разводе г-на Б......................................... 258
Будущее Кассы взаимопомощи литераторов.......................... 259
Между Азефом и «Вехами»......................................... 263
П. А. Кусков (Некролог)......................................... 272
А. Л. Волынский. «Ф. М. Достоевский. Критические статьи»....... 275
Петербург и Кутлер............................................ 278
468
К началу учебных занятий....................................... 280
Посев и жатва на окраинах и в центре........................... 283
Научные работы в Эрмитаже...................................... 286
Окраинная кичливость и петербургское смирение.................. 288
Белоруссия, Литва и Польша в окраинном вопросе России.......... 291
Критик русского decadence’a.................................... 304
Обидчик и обиженные............................................ 311
Без подпоры вечной (По поводу объяснений смерти сенатора Ковалев-
ского) ..................................................... 314
Смерть... и что за нею......................................... 317
Плеханов о религии............................................. 328
Под старость лет............................................... 333
Академическое издание Кольцова................................. 337
Чиновники...................................................... 339
Полемические заметки........................................... 357
Суд и феминизм (По поводу инцидента в петербургском окружном суде) 361
Практическая сторона в вопросе об адвокатуре женщин............ 363
Литературные заметки........................................... 366
Литературные заметки <О книге А. Котовича>..................... 369
«Се человек»................................................... 372
О радости прощения............................................. 375
Надгробное слово Галону. Очерк................................. 380
Памяти проф. Лесгафта.......................................... 387
Из жизни....................................................... 390
Стиль вещей.................................................... 392
Еще о стиле вещей.............................................. 395
«Такое правило»................................................ 398
Около науки и университета (По поводу 30-летия ученой службы
В. О. Ключевского)........................................ 401
Как люди русеют................................................ 409
Толстовство и жизнь............................................ 412
Рождество Христово ныне и вечно................................ 418
В сочельник.................................................... 421
Комментарии.................................................... 427
Указатель имен................................................. 443
Василий
Васильевич
Розанов
Собрание сочинений
СТАРАЯ
И МОЛОДАЯ РОССИЯ
Статьи и очерки 1909 г.
Заведующий редакцией
М. М. Беляев
Ведущий редактор
77. 77. Апрышко
Художественный редактор
Е. А. Андрусенко
Технические редакторы
А. Ю. Ефимова, С. А. Голодко
Корректоры
Т И. Андрианова, Е. Н. Горбунова,
Т Ю. Коновалова
ЛР№ 010273 от 10.12.97.
Сдано в набор 20.01.04.
Подписано в печать 12.08.04.
Формат 60х84‘/16.
Бумага офсетная № 1.
Гарнитура «Таймс».
Печать офсетная.
Усл. печ. л. 27,48. Уч.-изд. л. 34,77.
Тираж 2500 экз. Заказ № 10983.
Электронный оригинал-макет
подготовлен в издательстве.
Издательство «Республика»
Министерства Российской Федерации
по делам печати, телерадиовещания
и средств массовых коммуникаций.
ГП издательство «Республика».
Миусская пл., 7, Москва. А-47,
ГСП-3 125993.
Отпечатано в ППП «Типография «Наука»
121099, Москва, Шубинский пер., 6
ИЗДАТЕЛЬСТВО «РЕСПУБЛИКА»
Выпускает
СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ
В. В. РОЗАНОВА
В 1994—2004 гг.
вышли следующие тома:
Т. 1 — Среди художников
Т. 2 — Мимолетное
Т. 3 — В темных религиозных лучах
Т. 4 — О писательстве и писателях
Т. 5 — Около церковных стен
Т. 6 — В мире неясного и нерешенного
Т. 7 — Легенда о Великом инквизиторе
Ф. М. Достоевского
Т. 8 — Когда начальство ушло...
Т. 9 — Сахарна
Т. 10 — Во дворе язычников
Т. 11 — Последние листья
Т. 12 — Апокалипсис нашего времени
Т. 13 — Литературные изгнанники.
Н. Н. Страхов. К. Н. Леонтьев
Т. 14 — Возрождающийся Египет
Т. 15 — Русская государственность и общество
Т. 16 — Около народной души
Т. 17 — В нашей смуте
Т. 18 — Семейный вопрос в России
Т. 19 — Старая и молодая Россия
Подготовлены к выпуску
следующие тома:
Т. 20 — Против течения
Т. 21 — Террор против русского национализма
ИЗДАТЕЛЬСТВО «РЕСПУБЛИКА»
предлагает на книжном рынке литературу по философии,
истории, религиоведению, экономике, политологии, а также
книги по искусству, художественную прозу, мемуары,
словари и справочники
Книги Вы сможете приобрести
в нашем книжном магазине по адресу:
Москва, Миусская пл., 7.
Телефон магазина: 251-16-04
Телефоны для оптовых покупателей: 978-53-88, 251-42-44
Телефакс: 200-22-54
E:mail republik(a),dataforce.net
Мы будем рады видеть Вас в нашем доме!