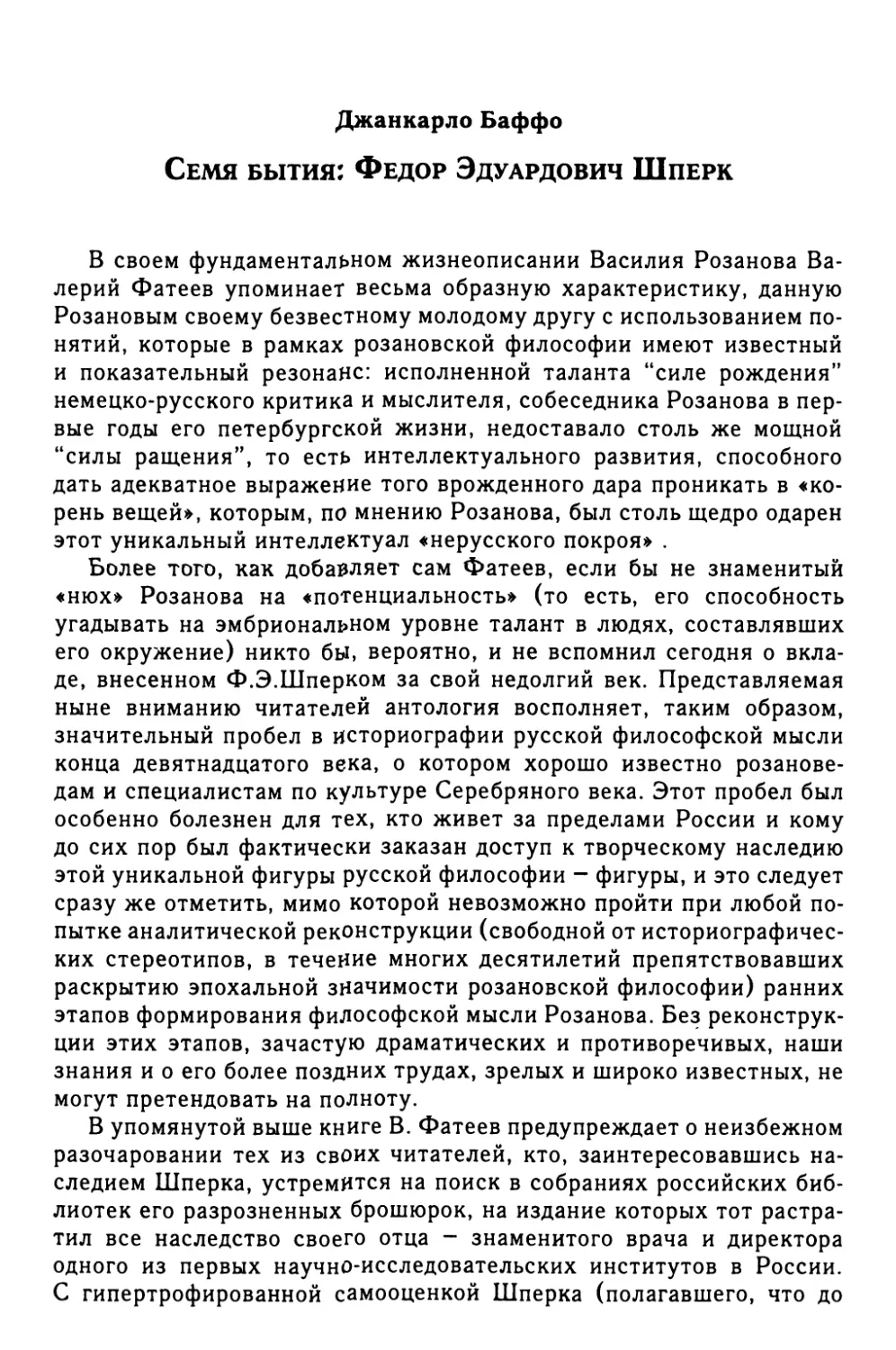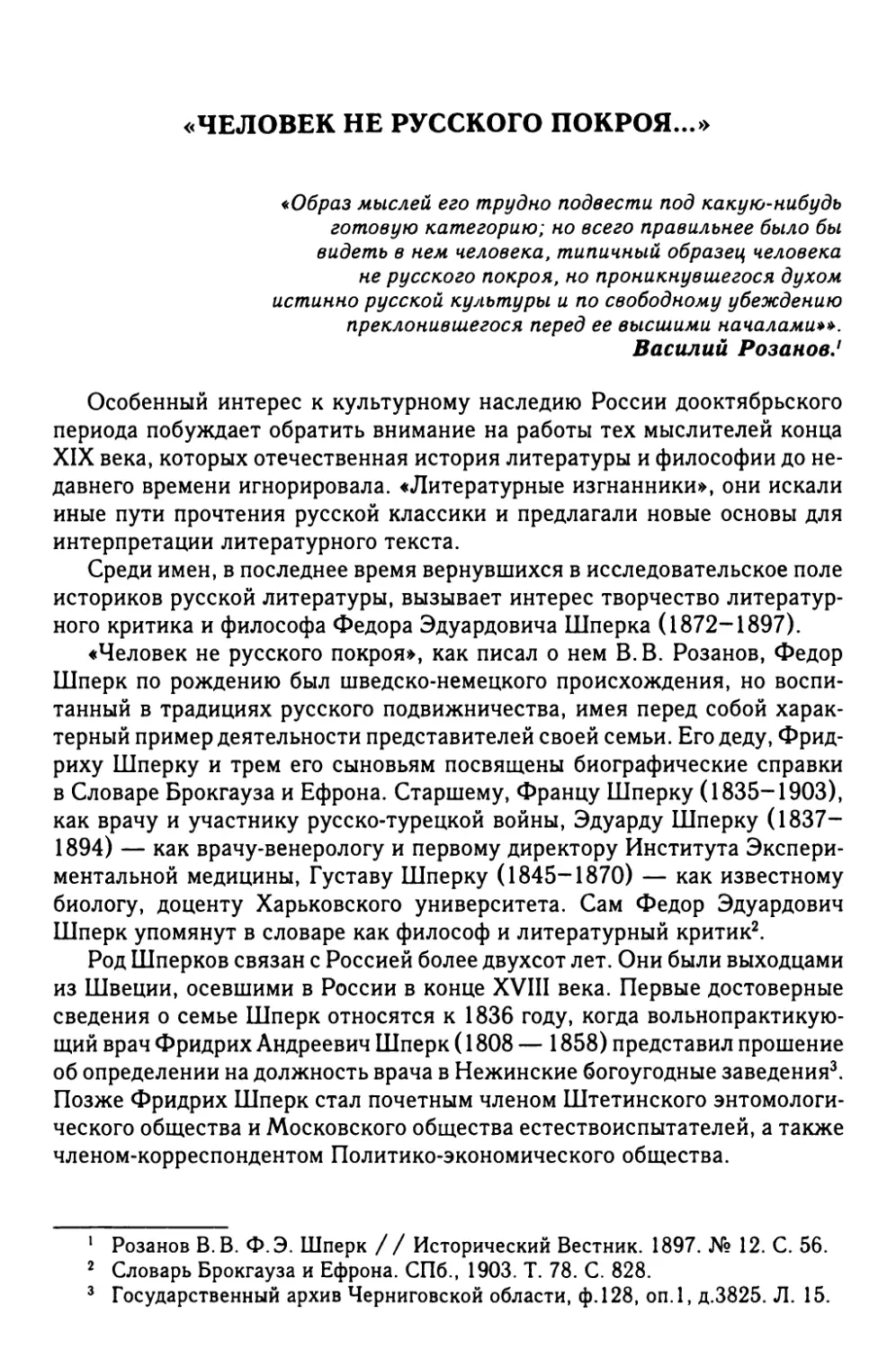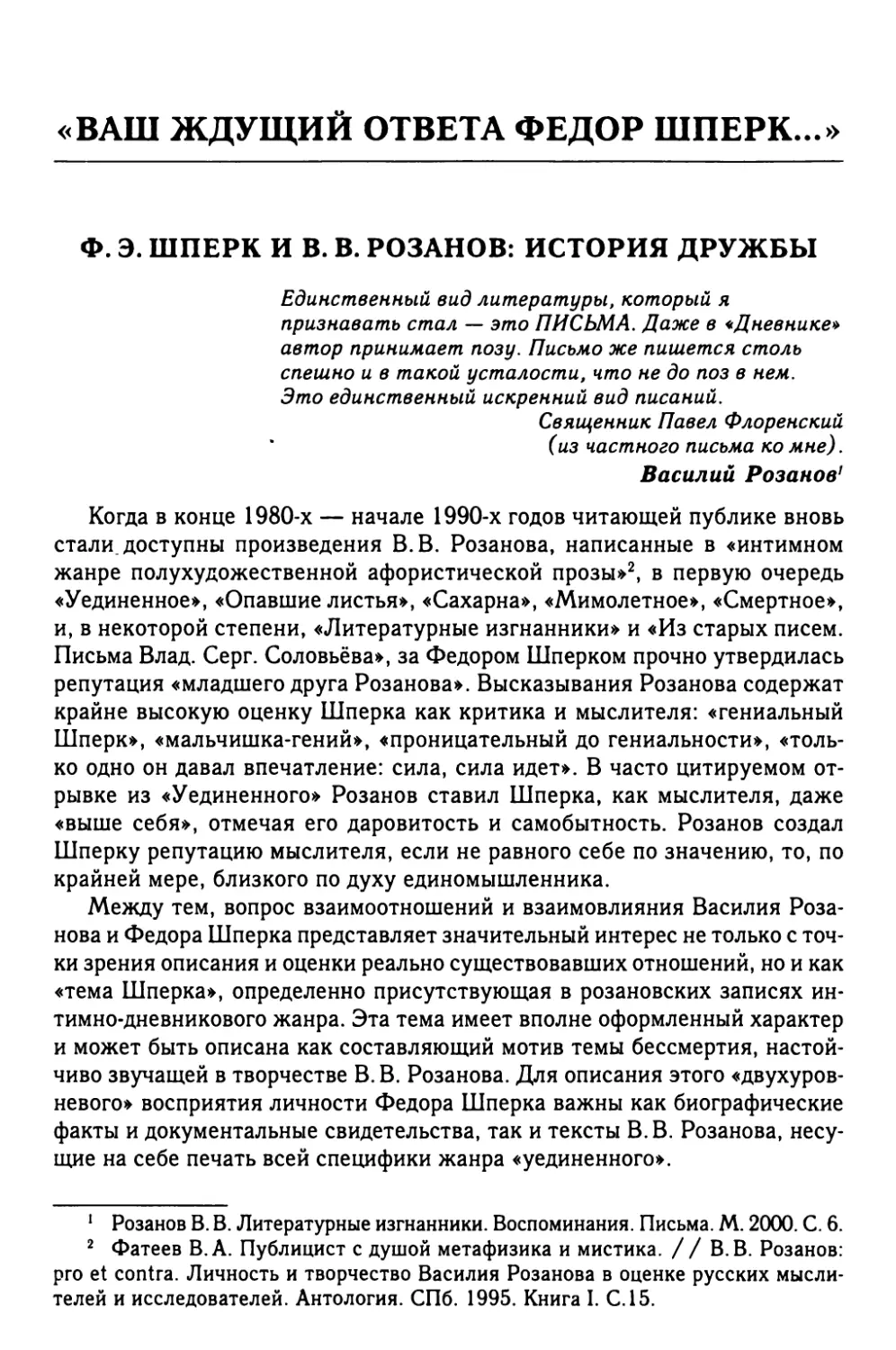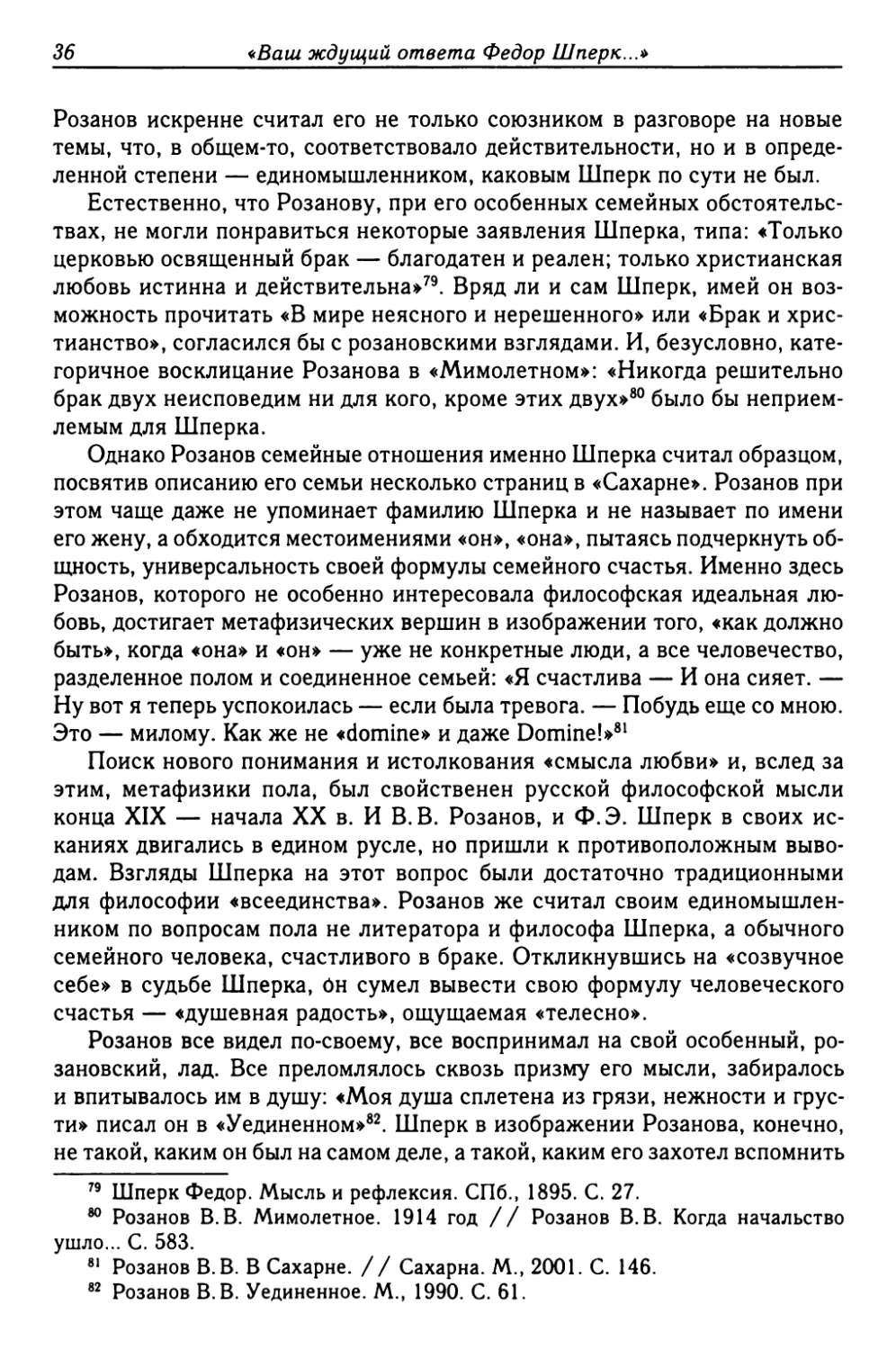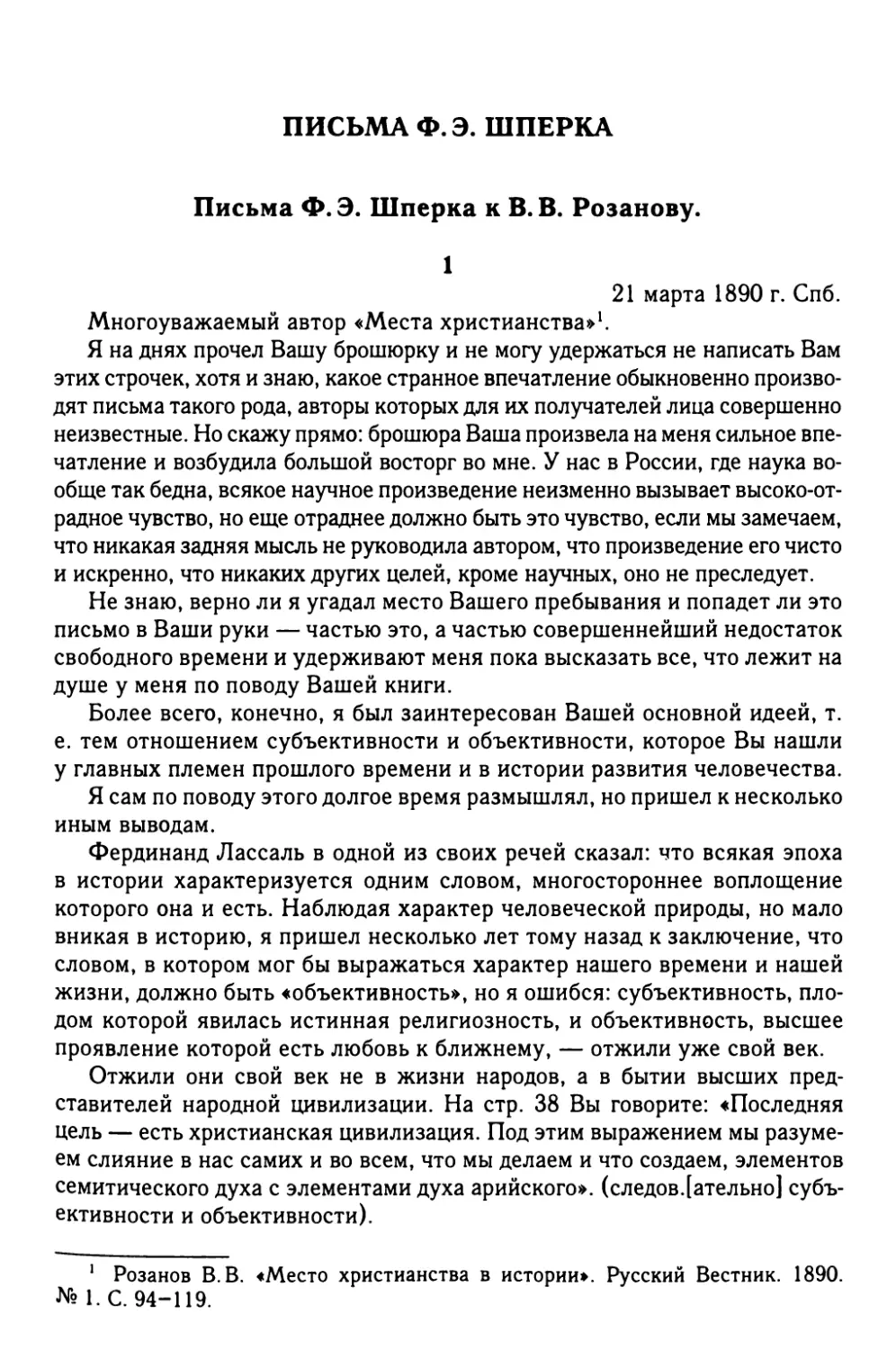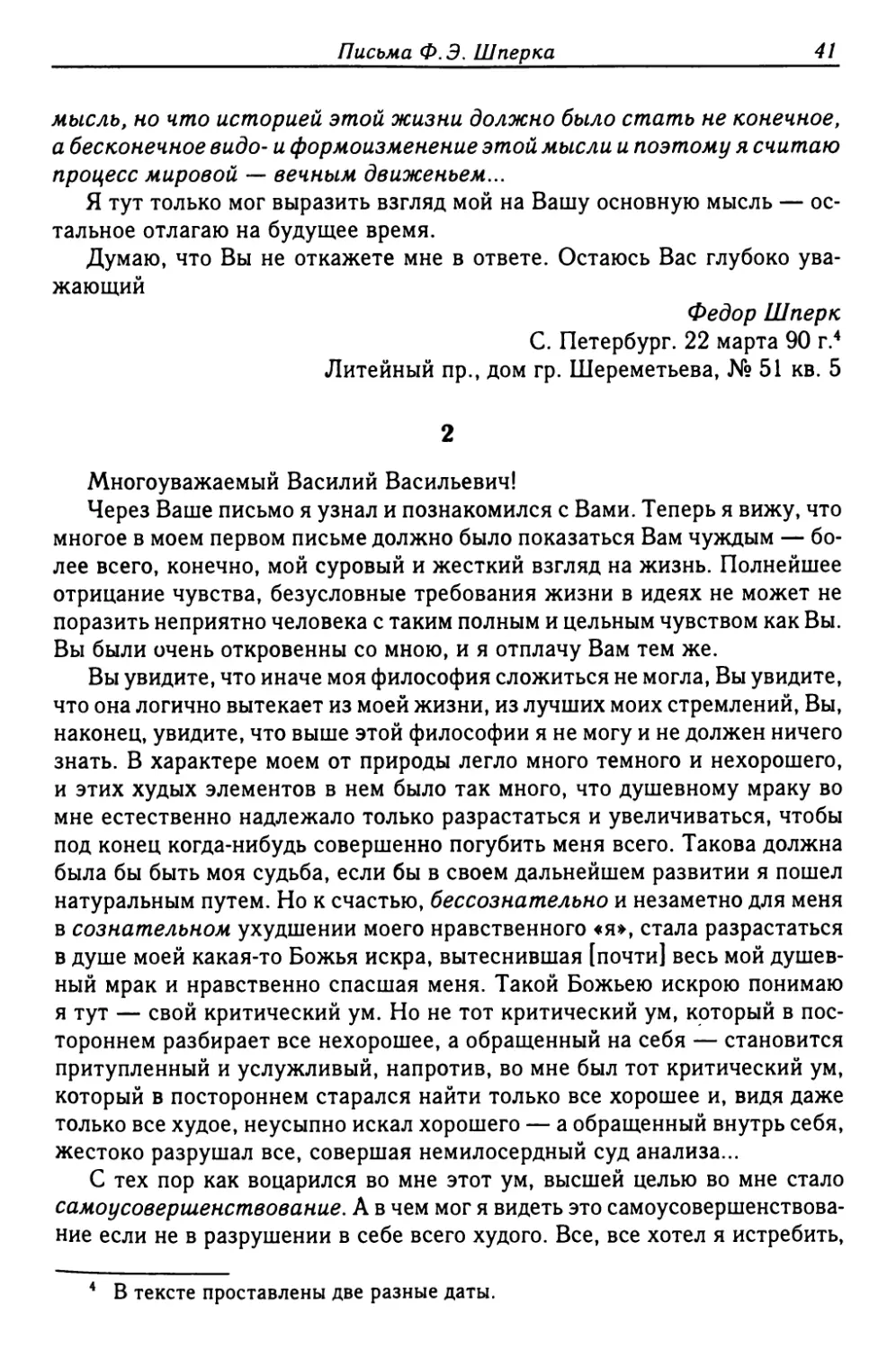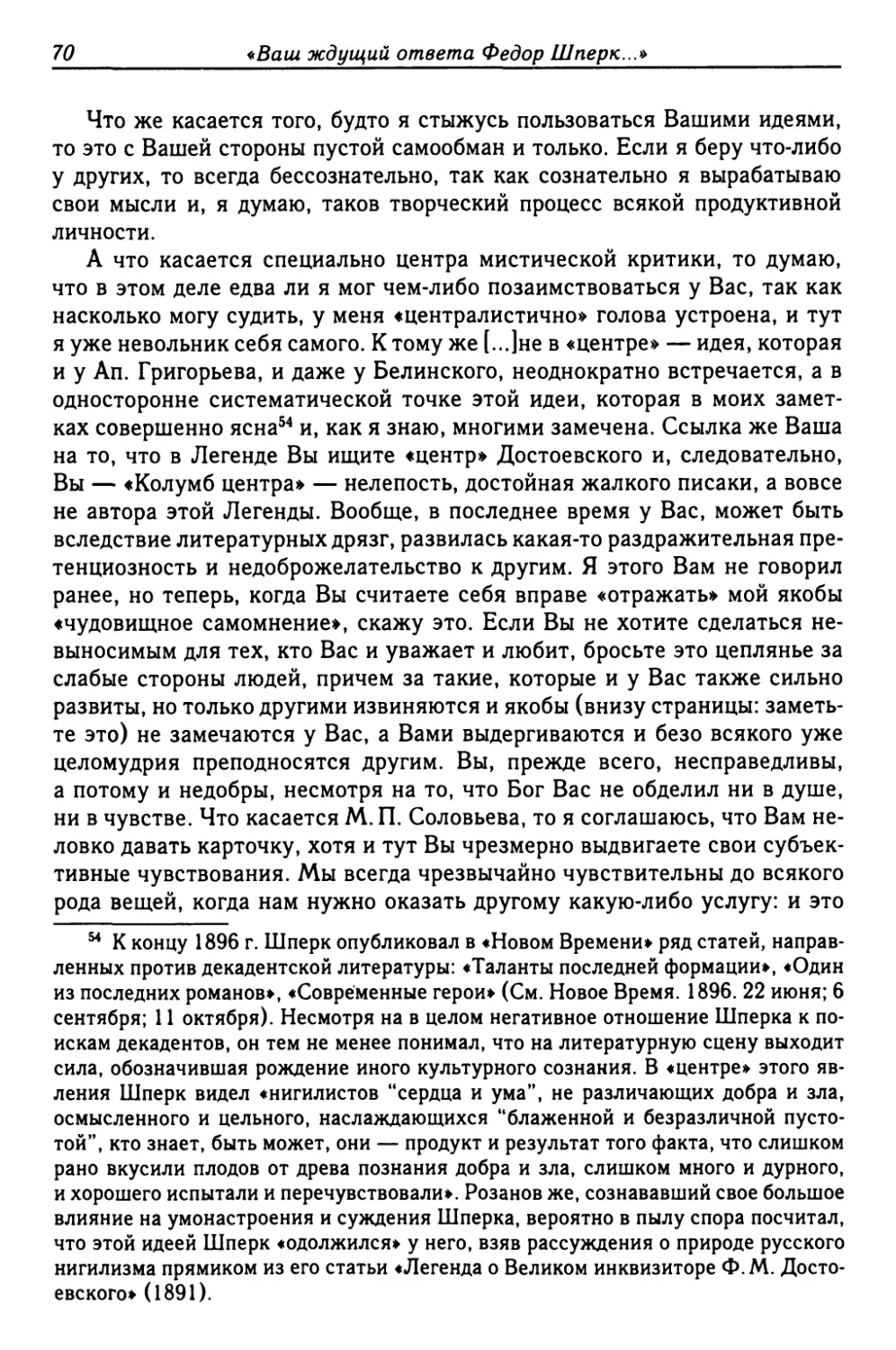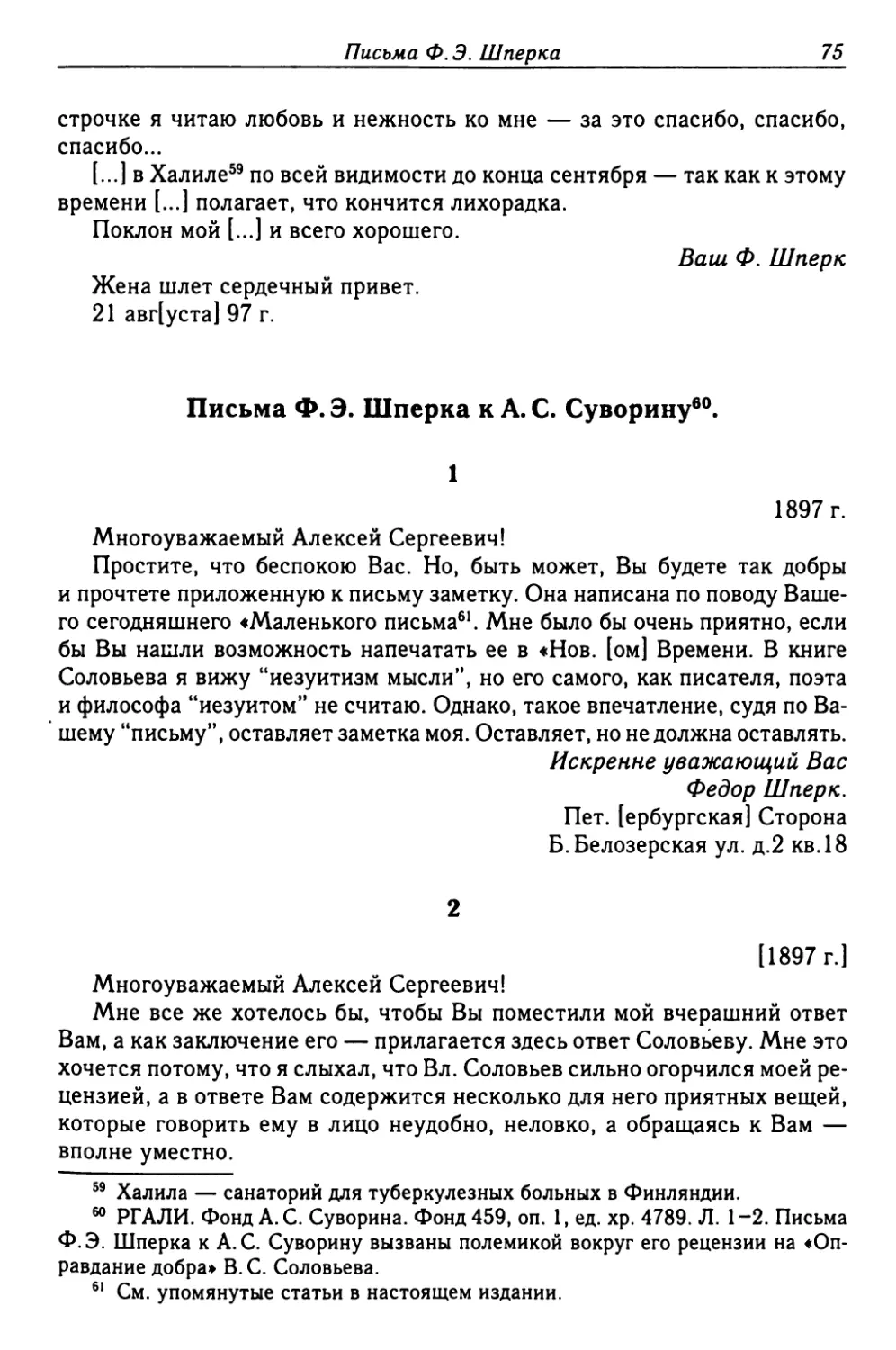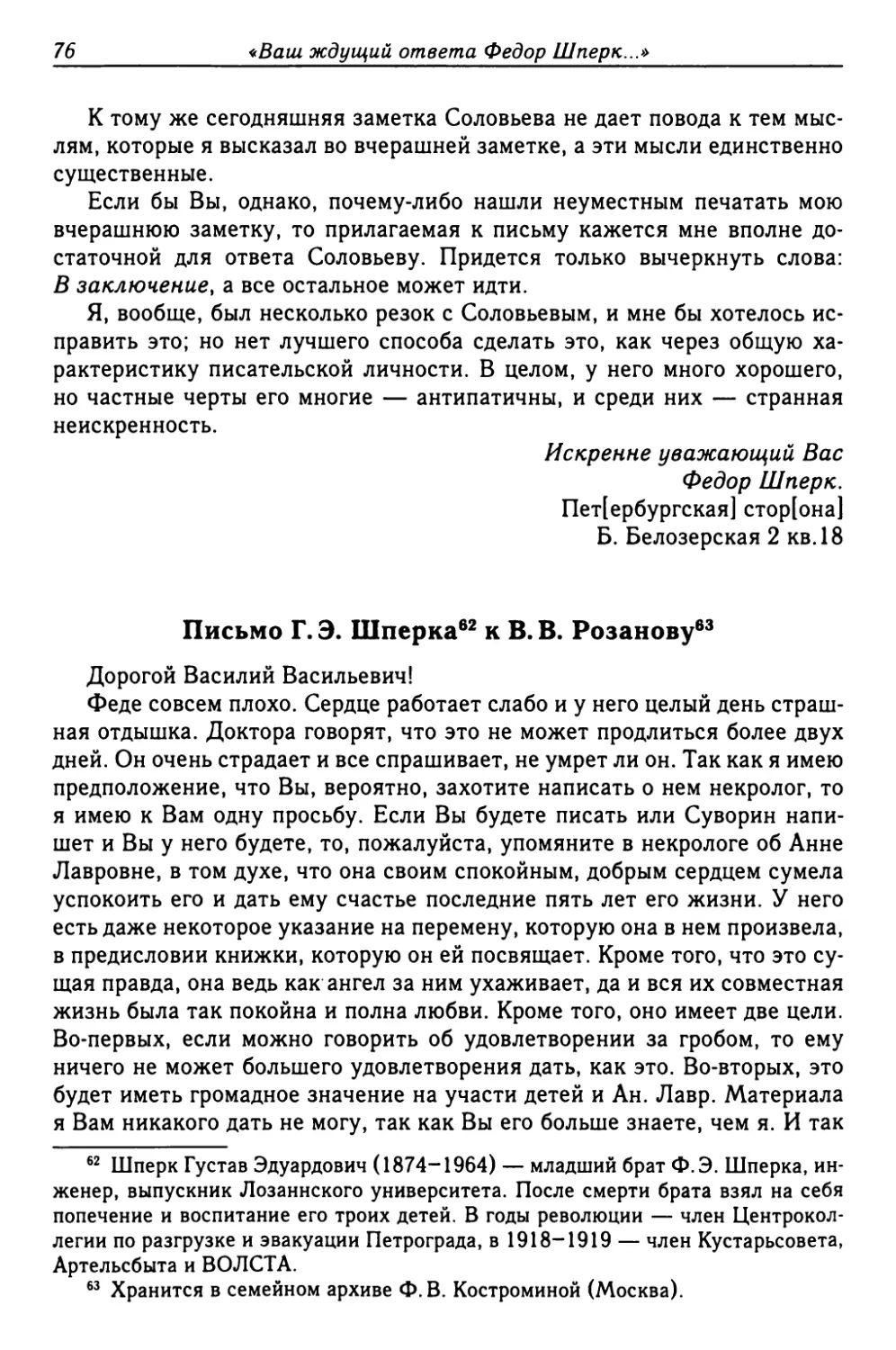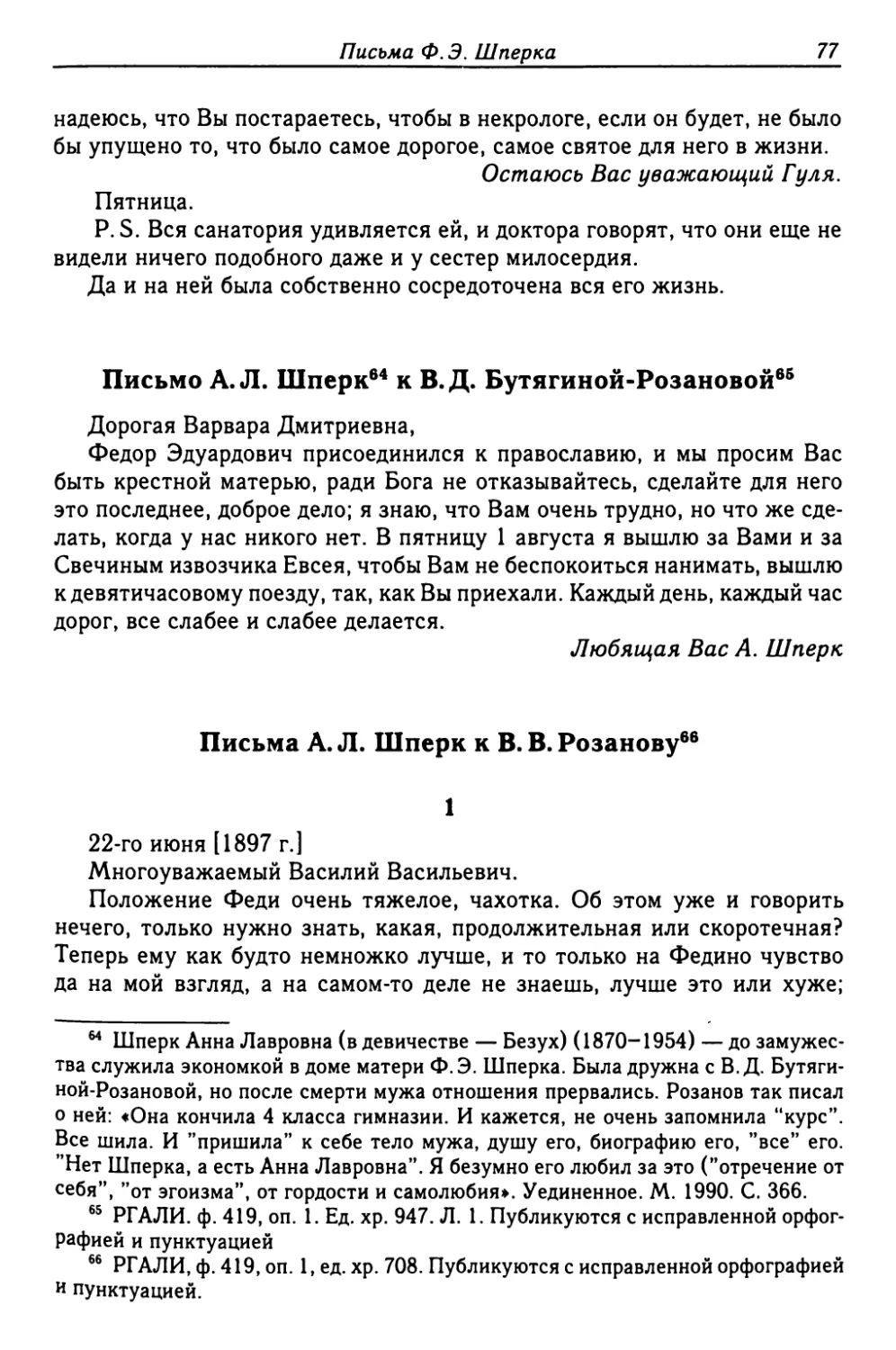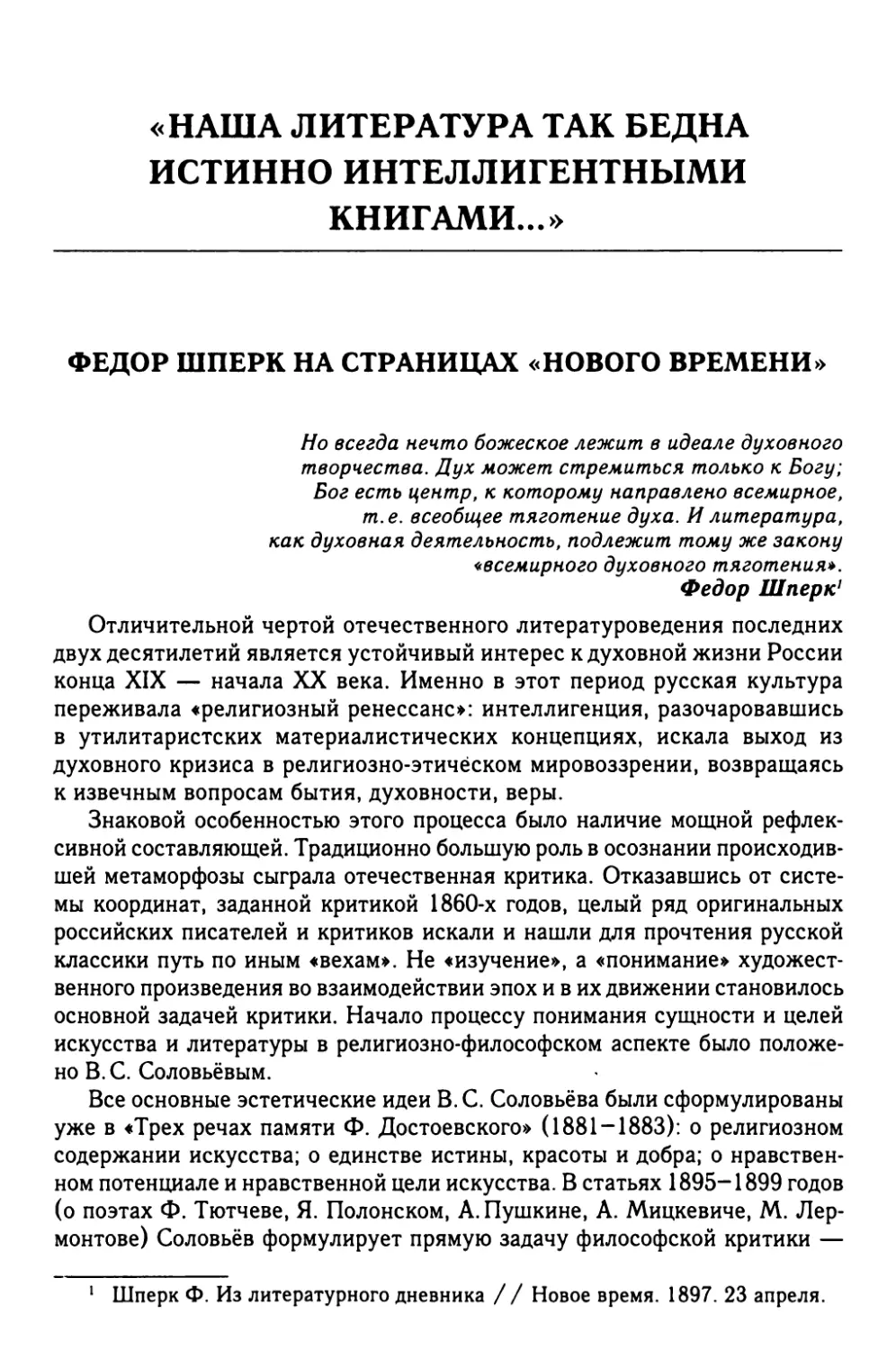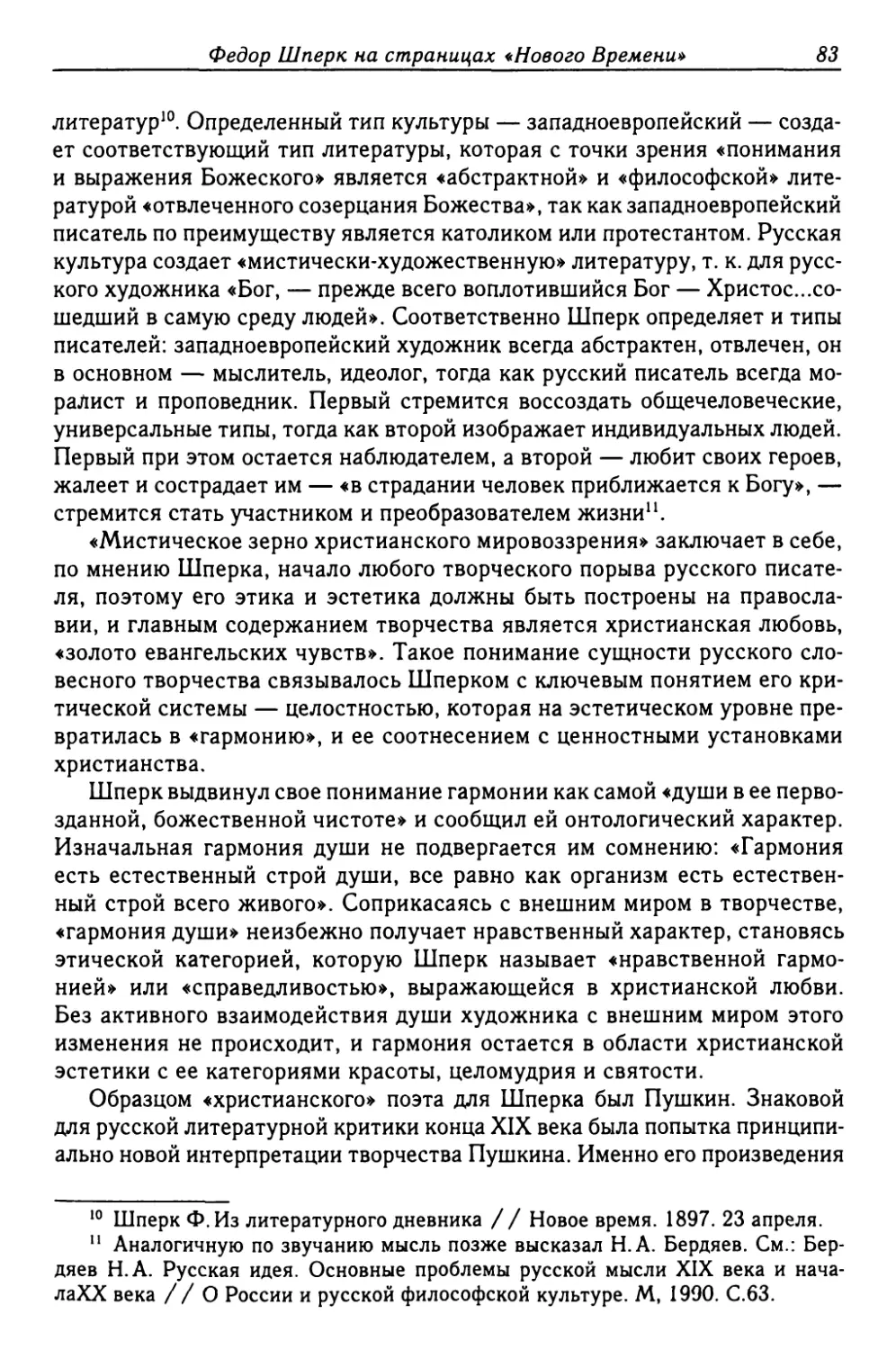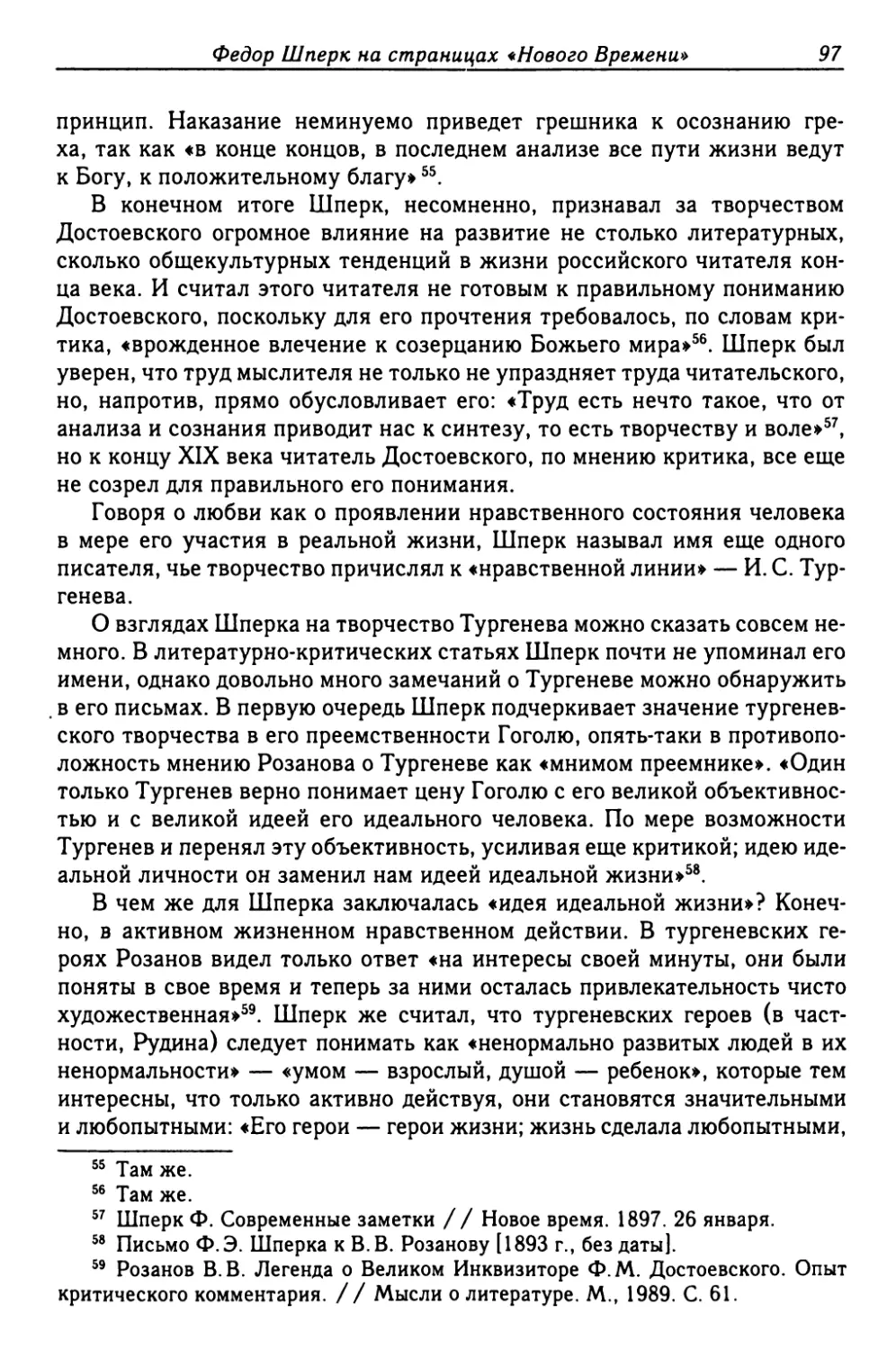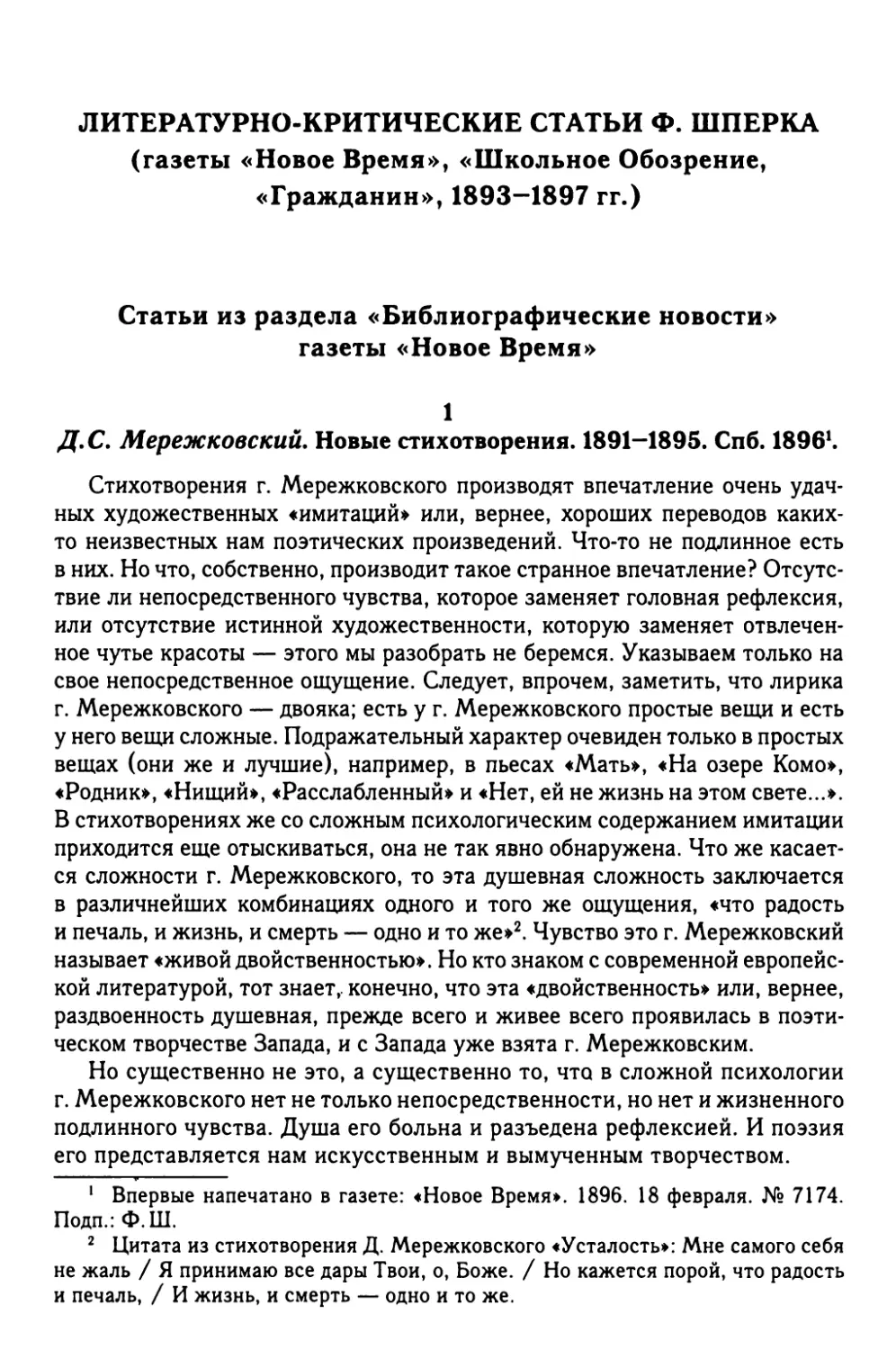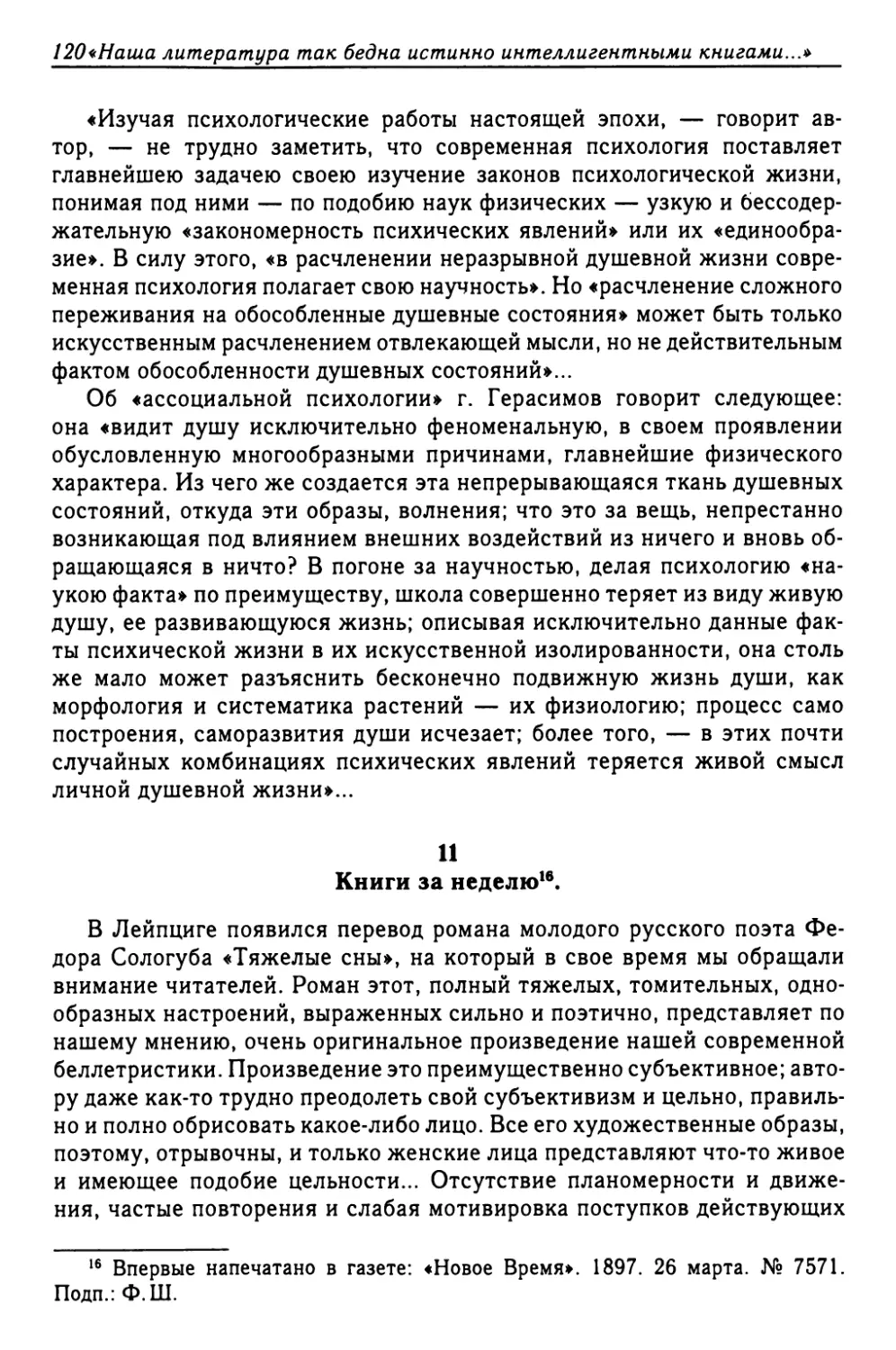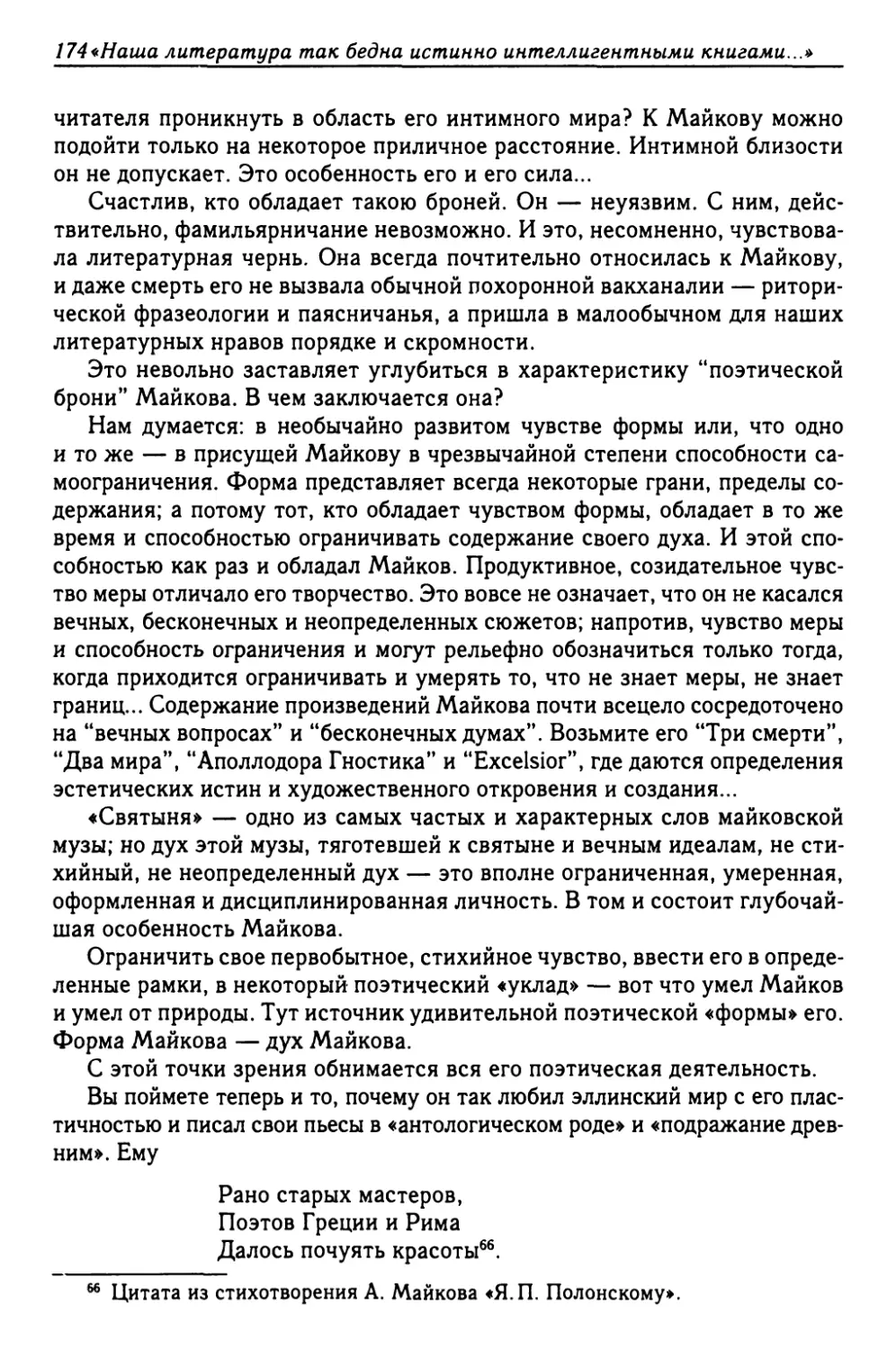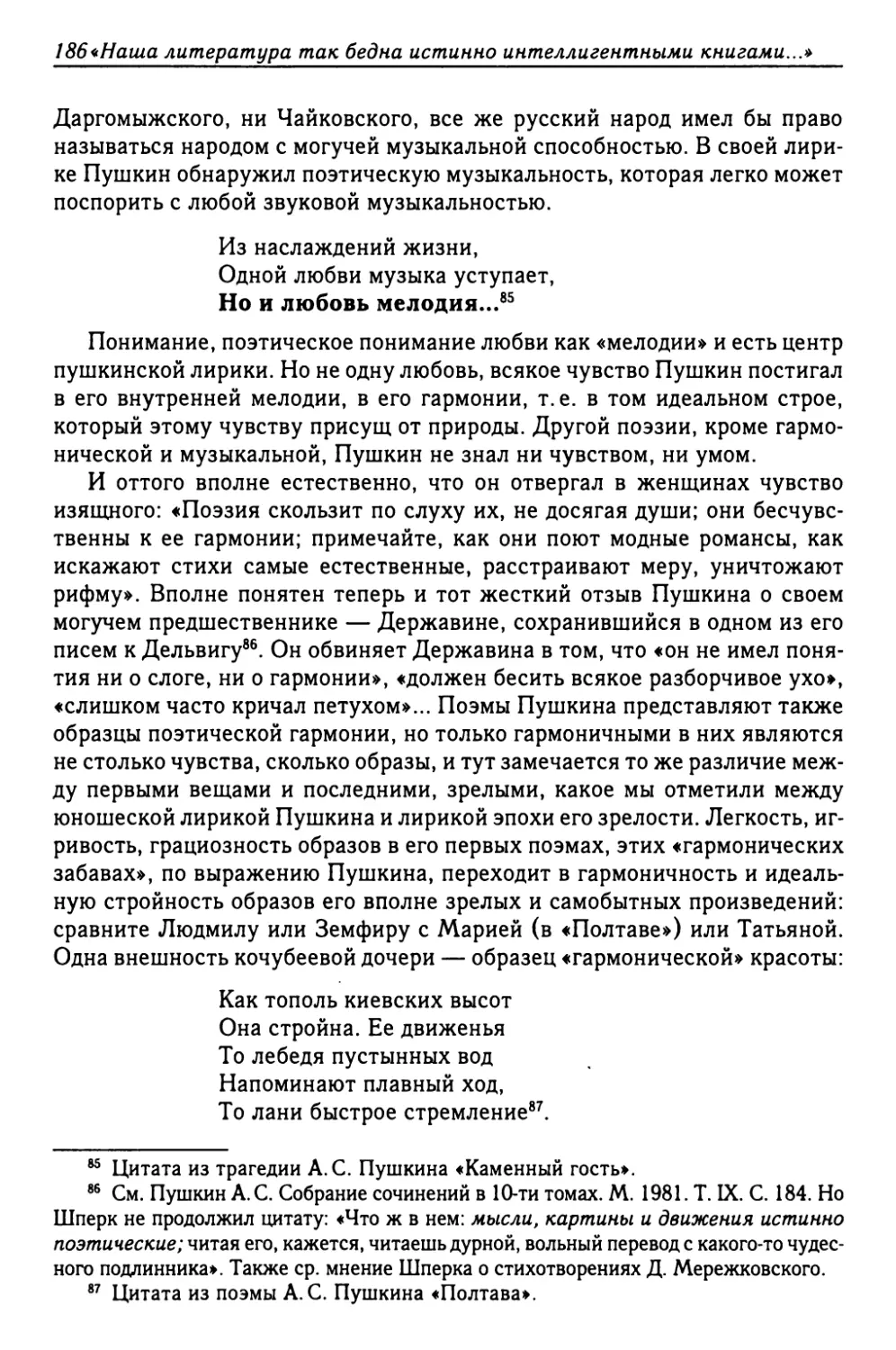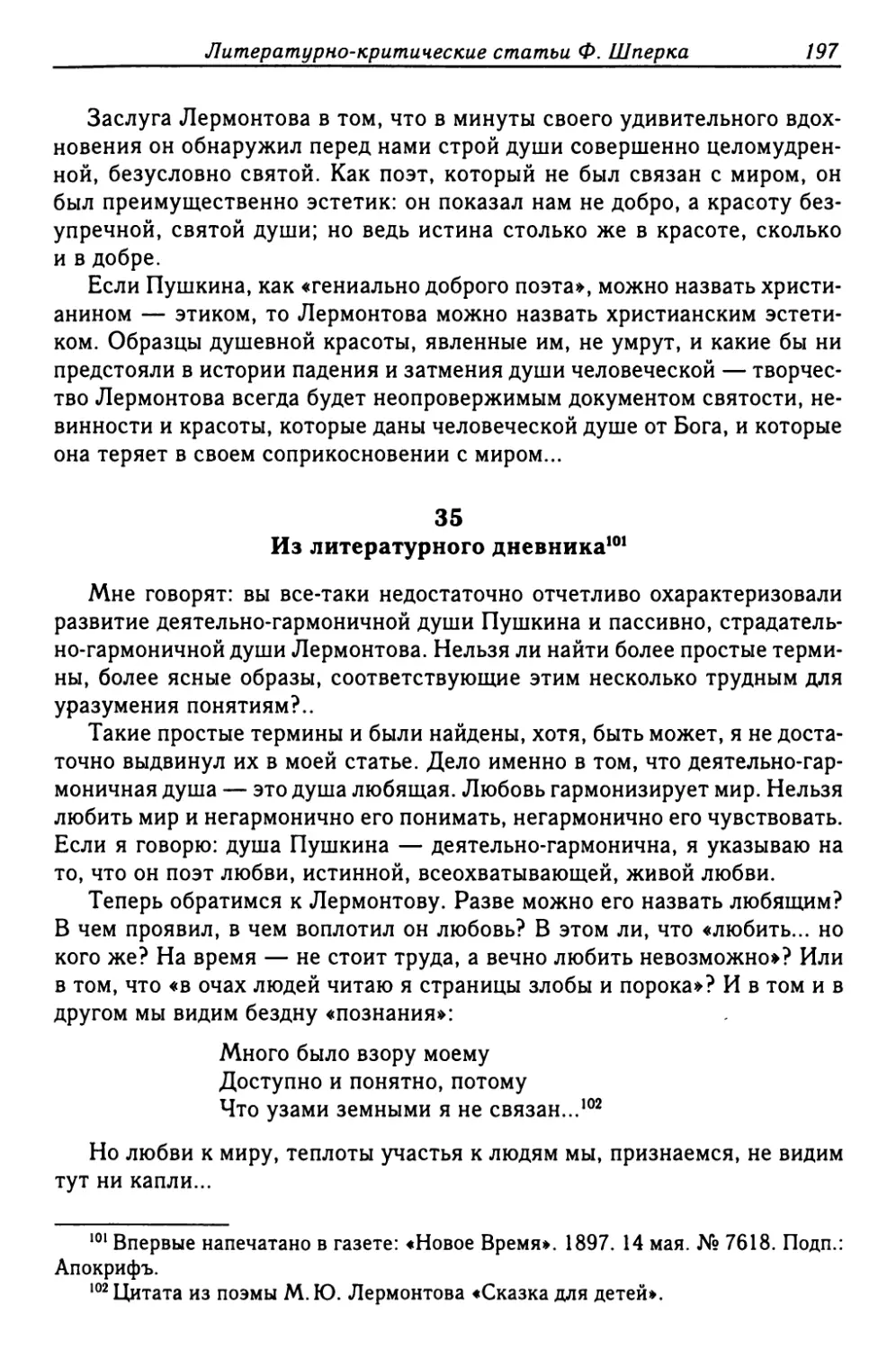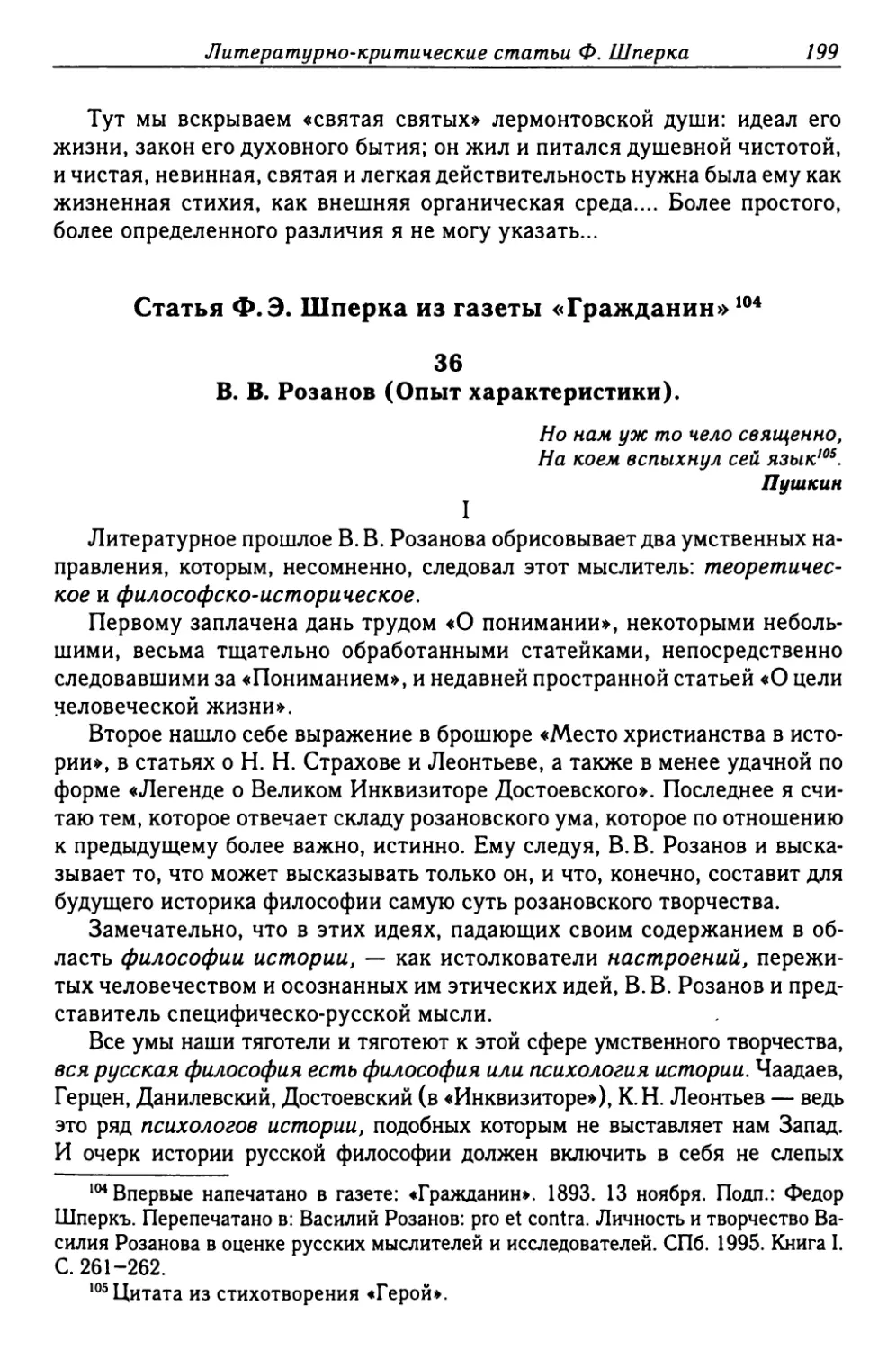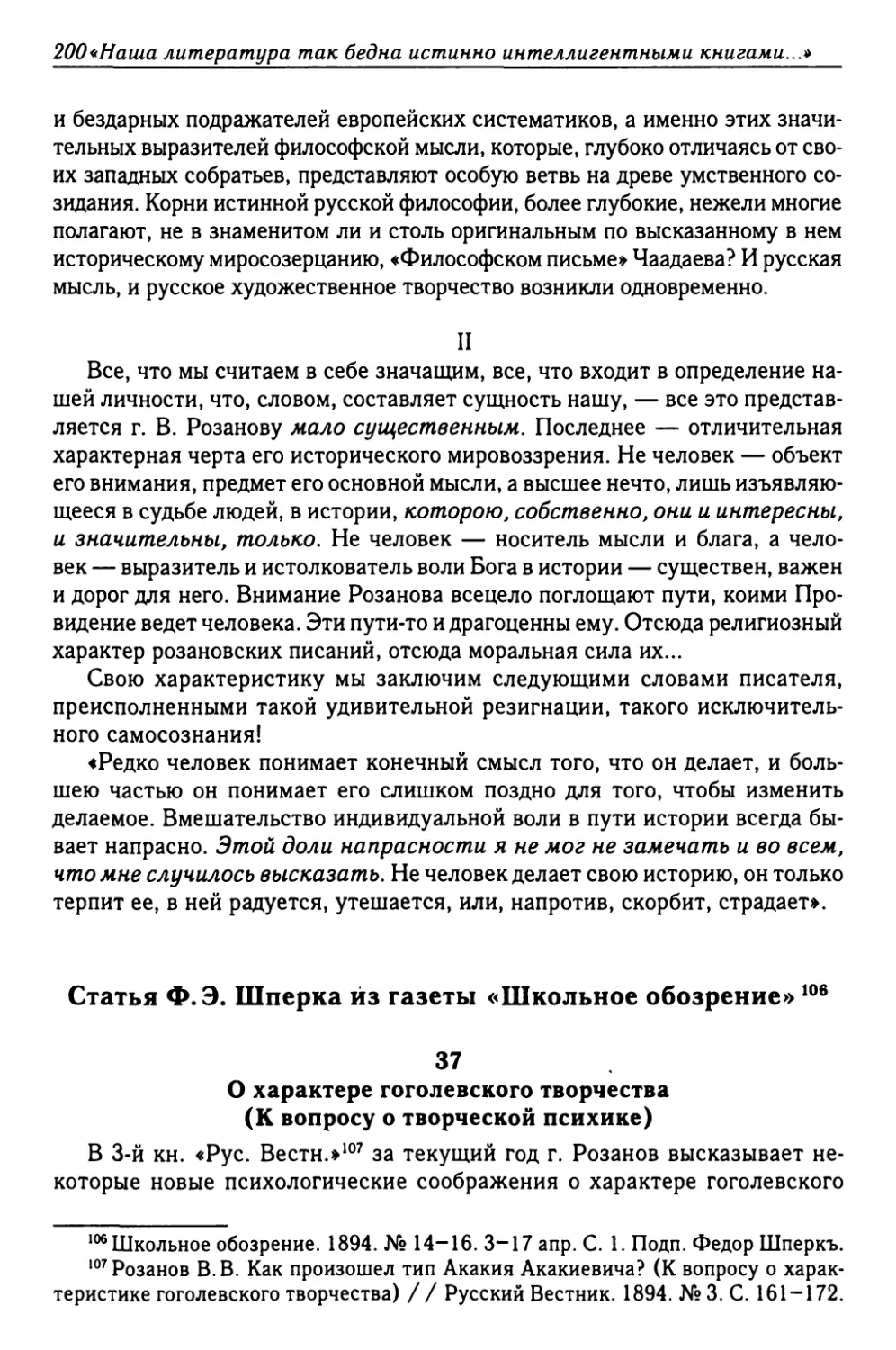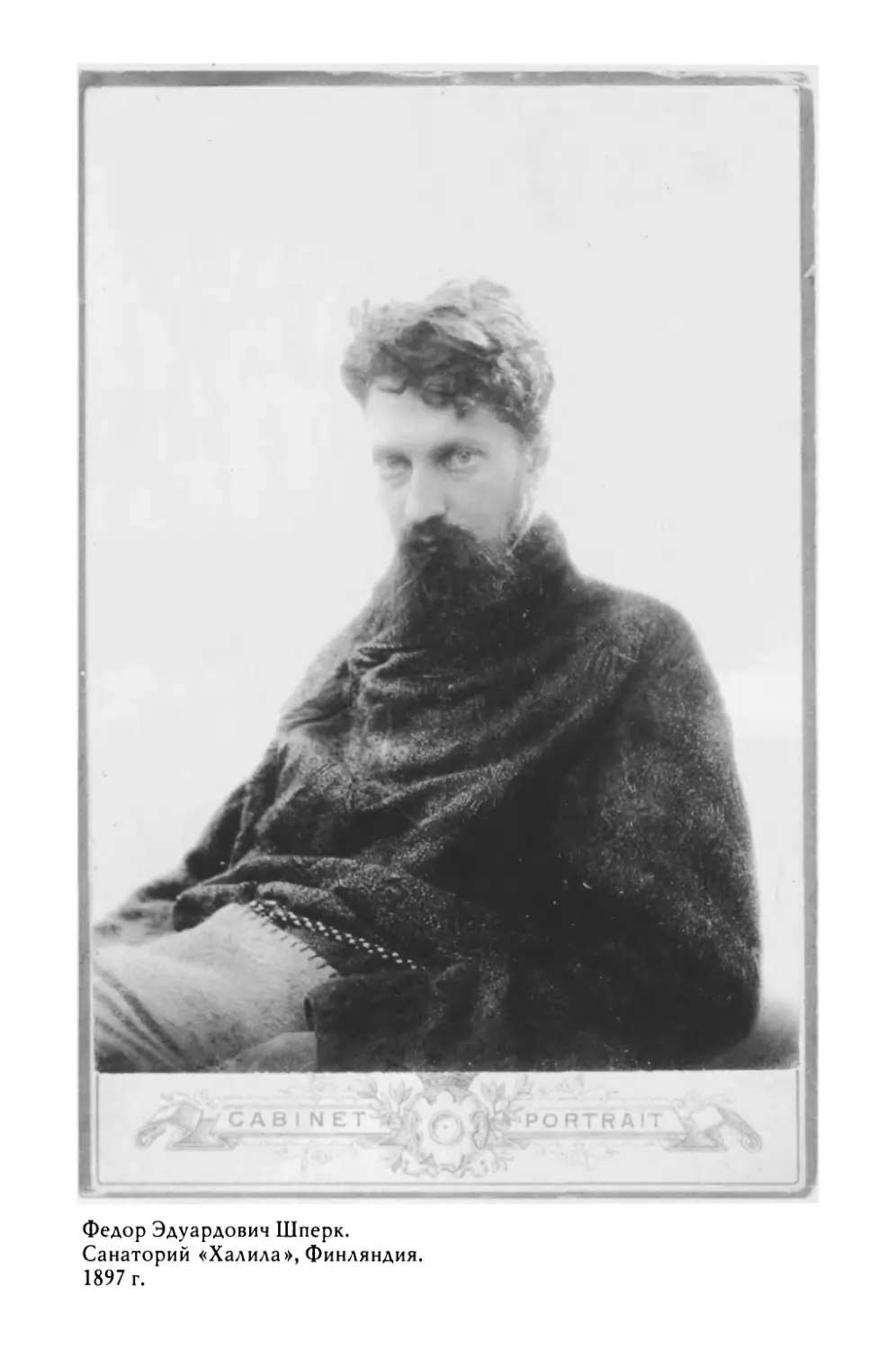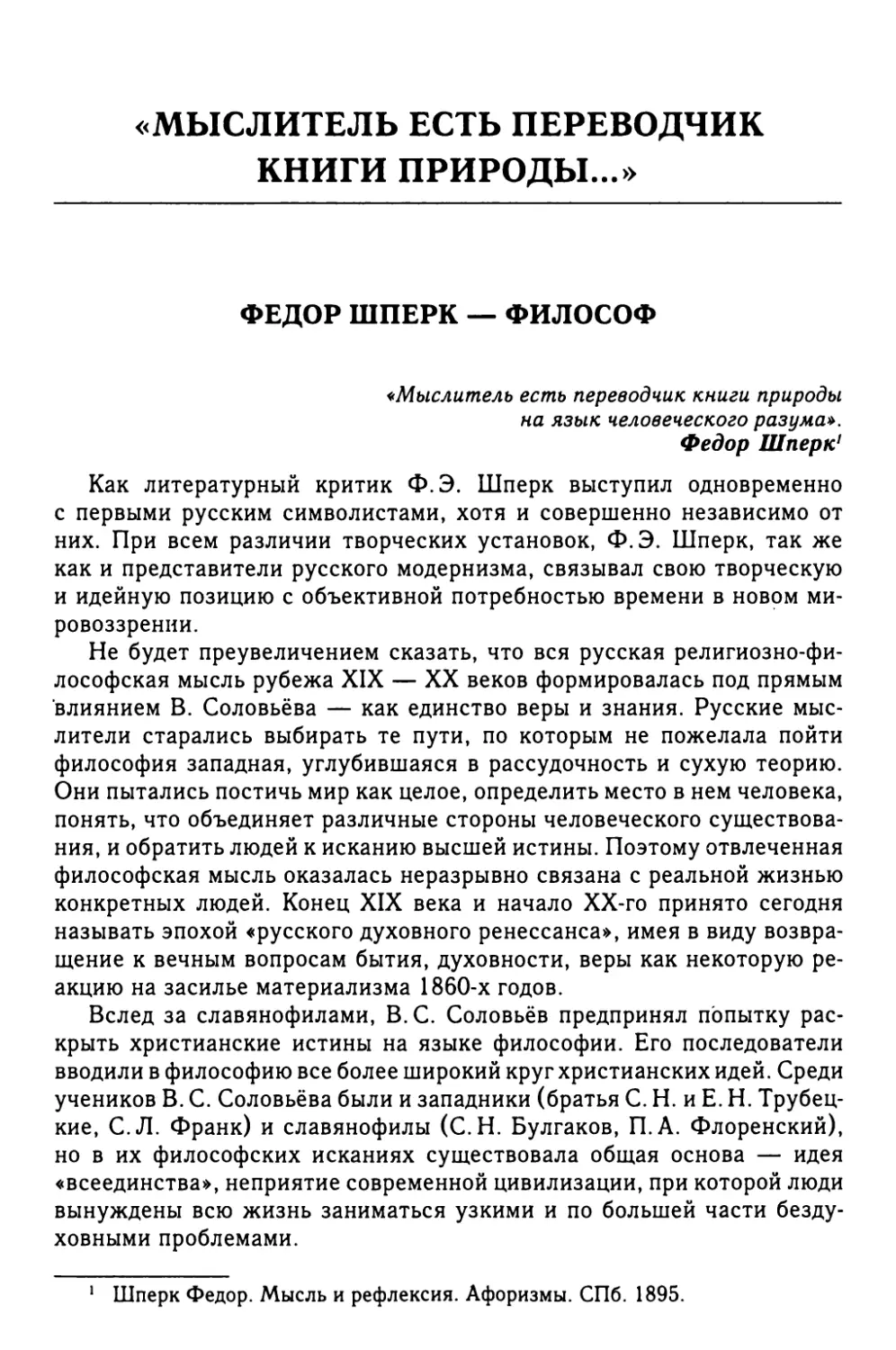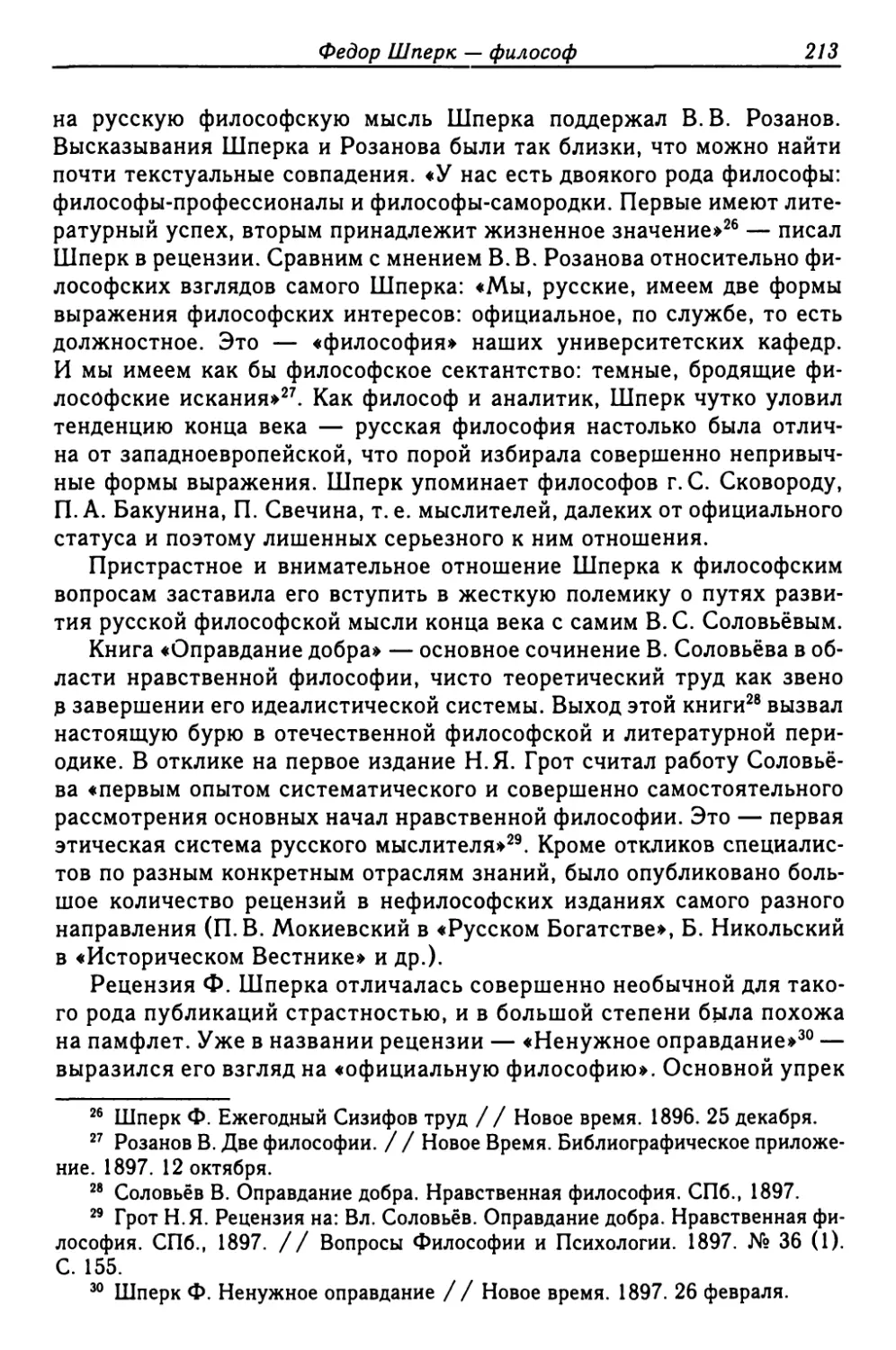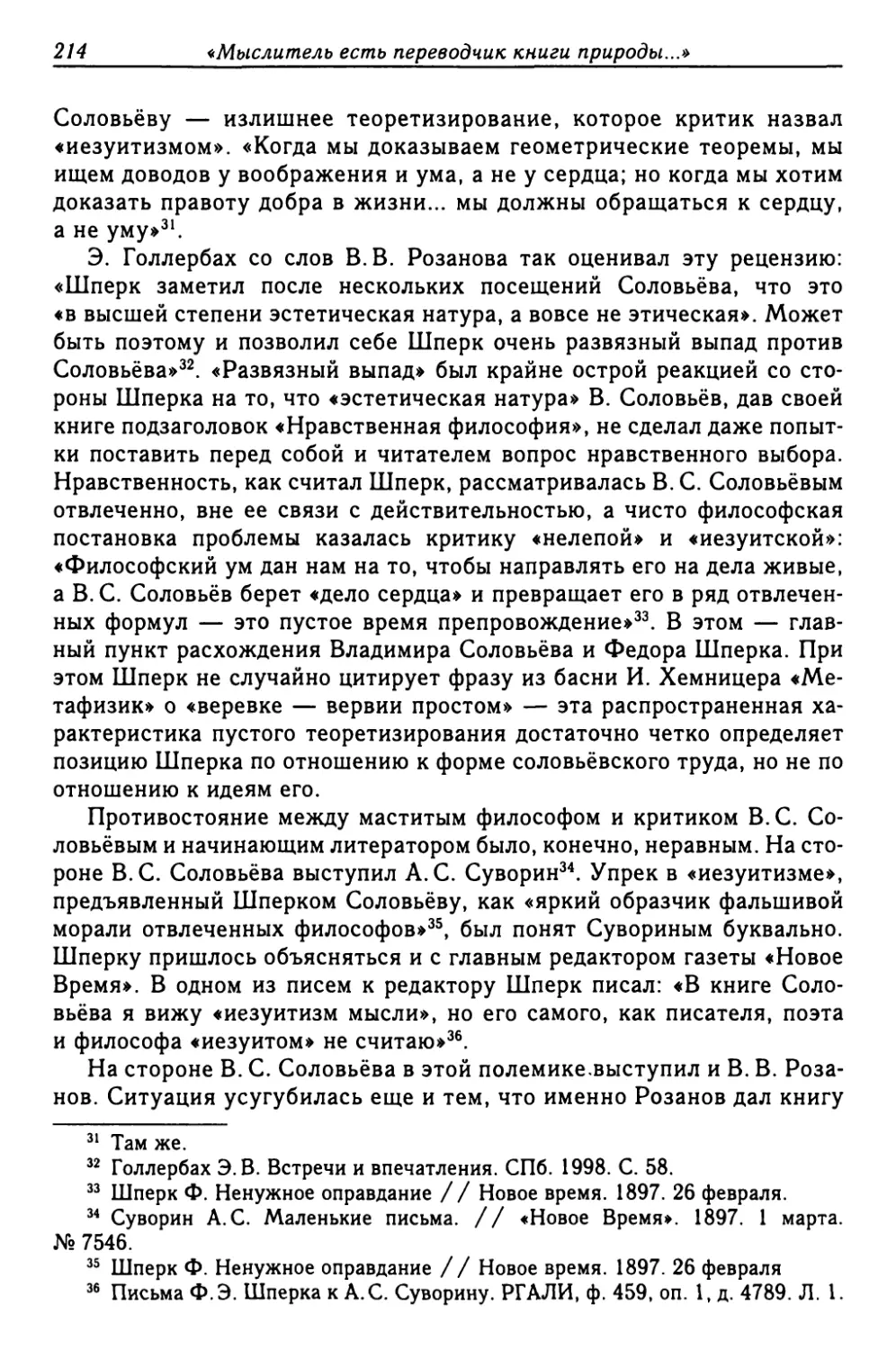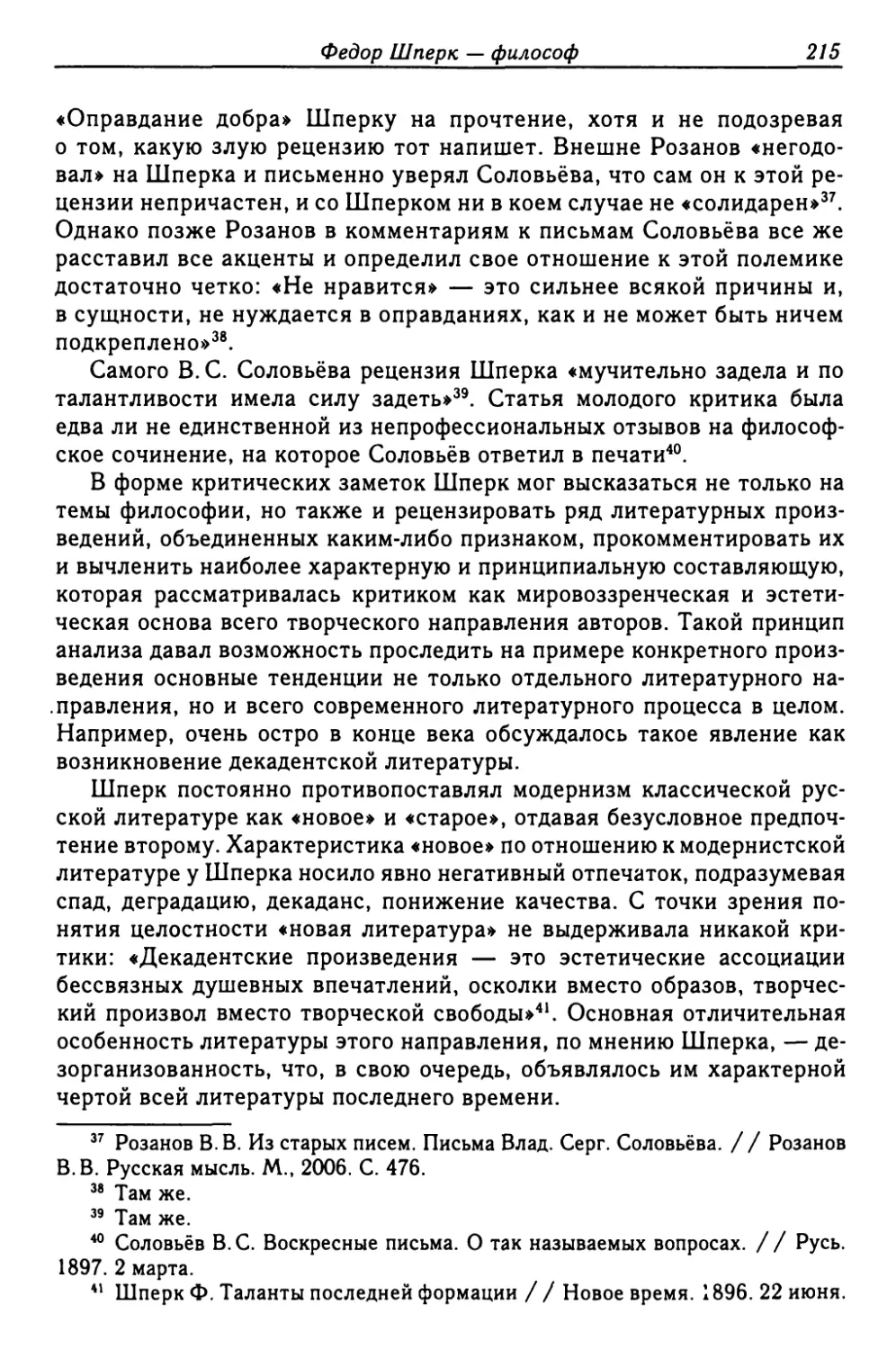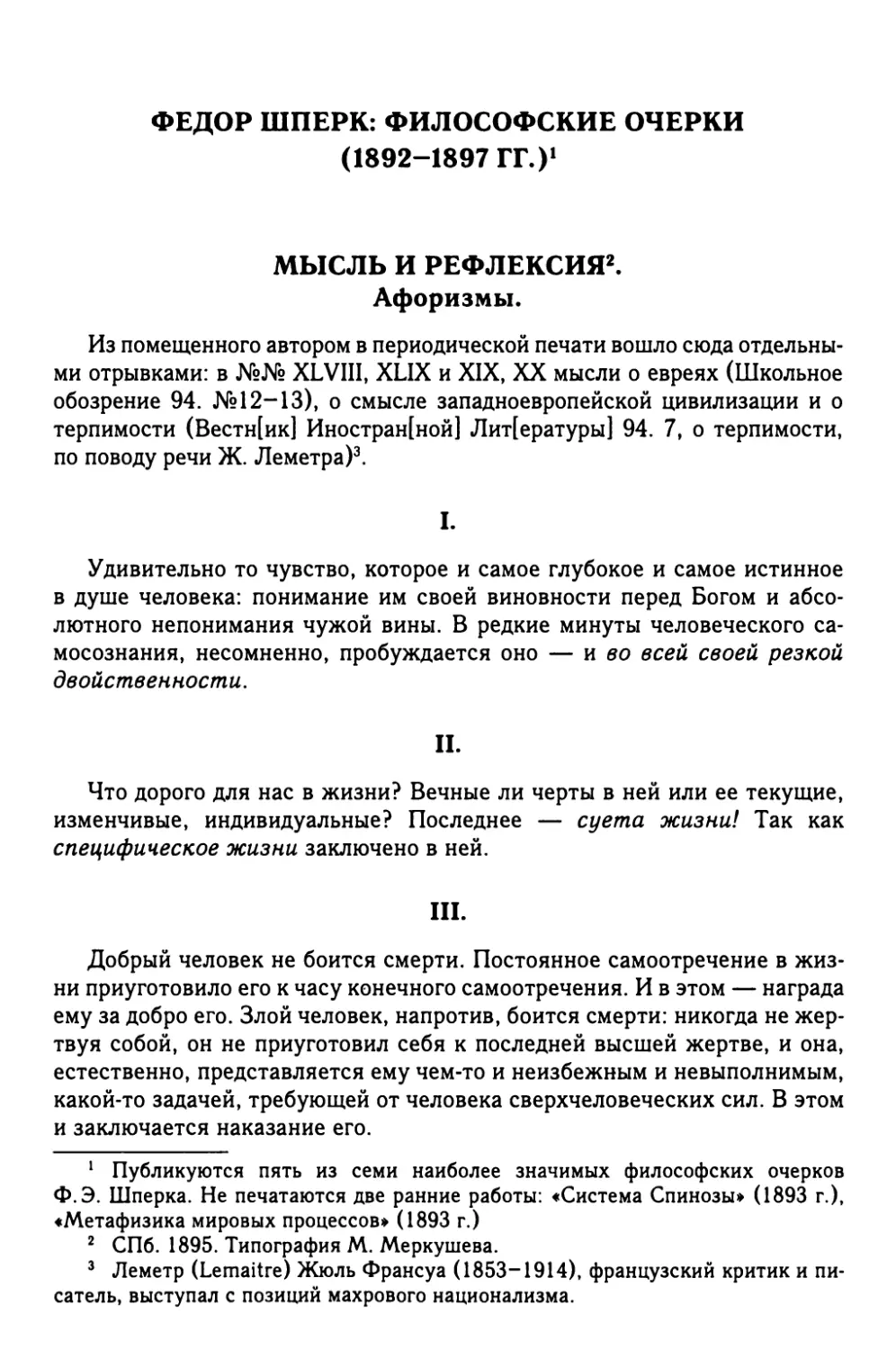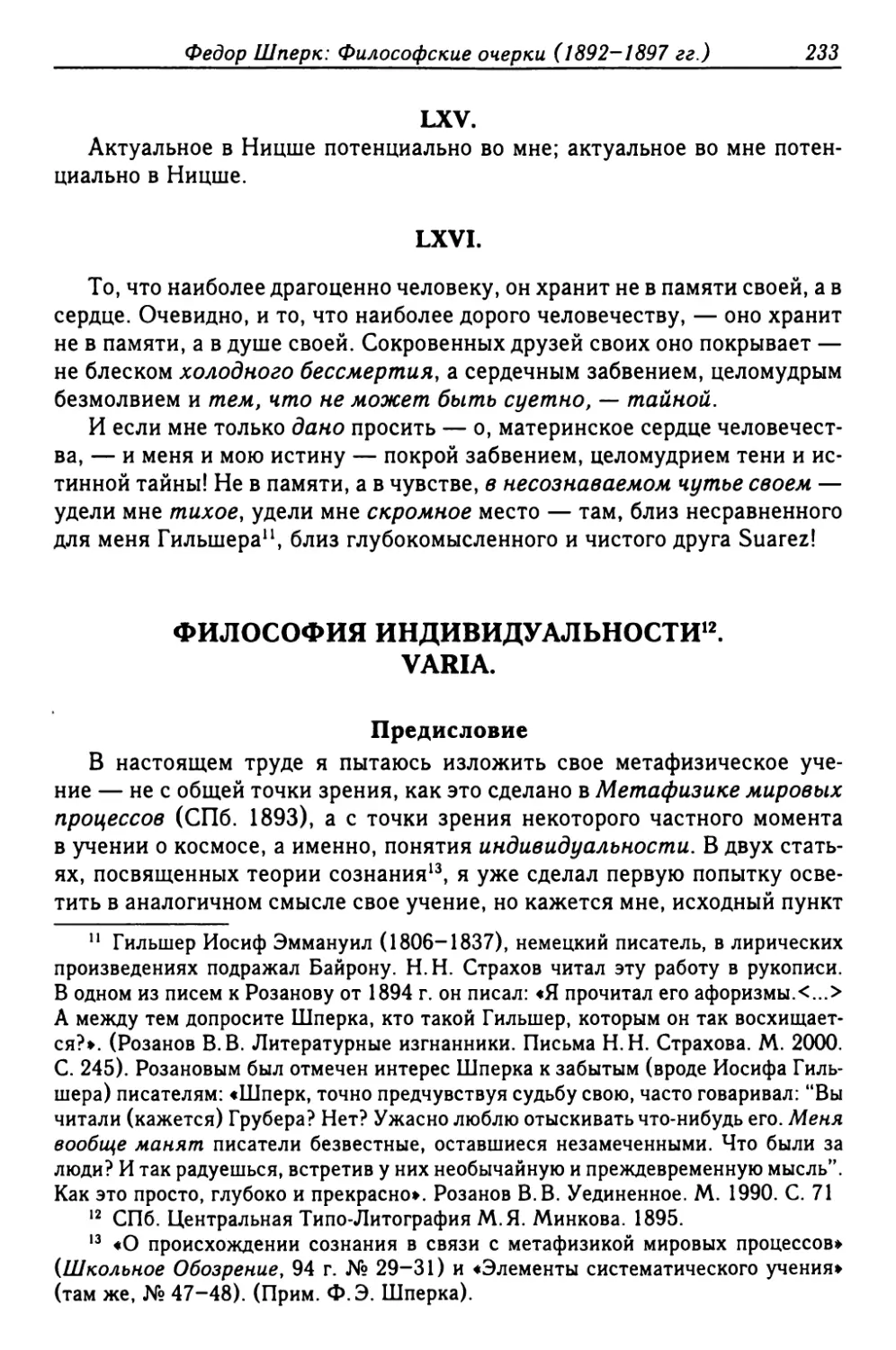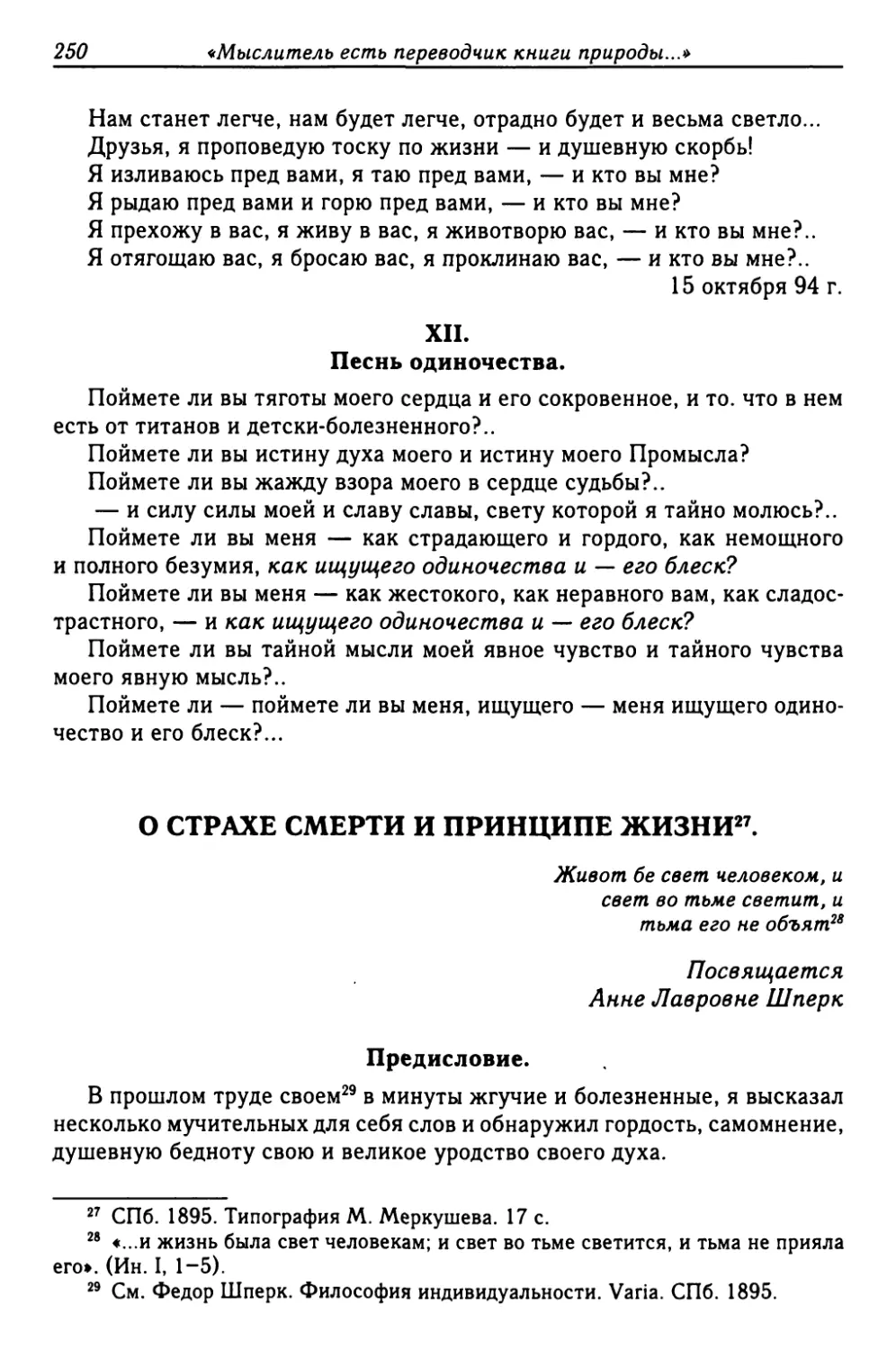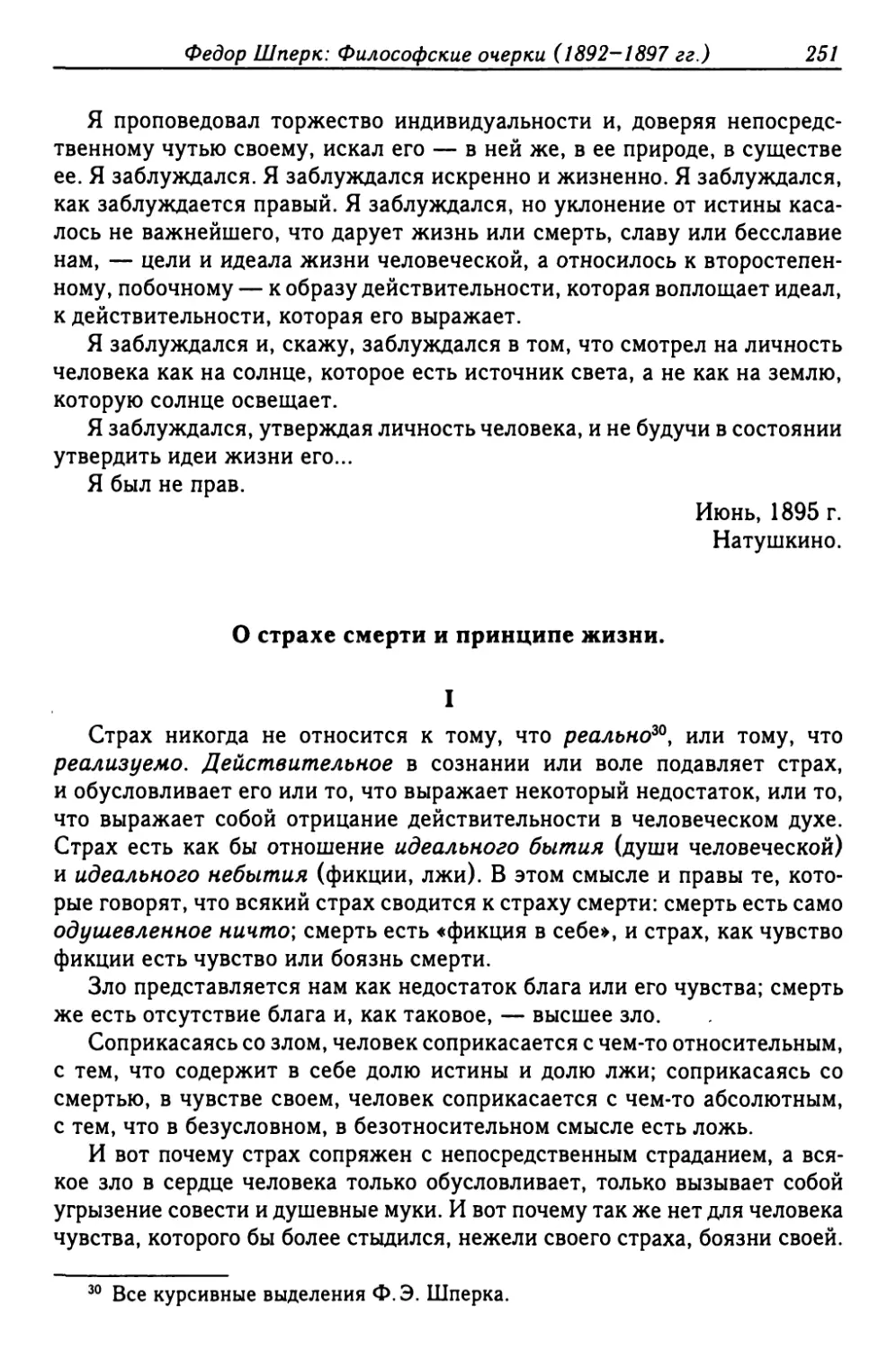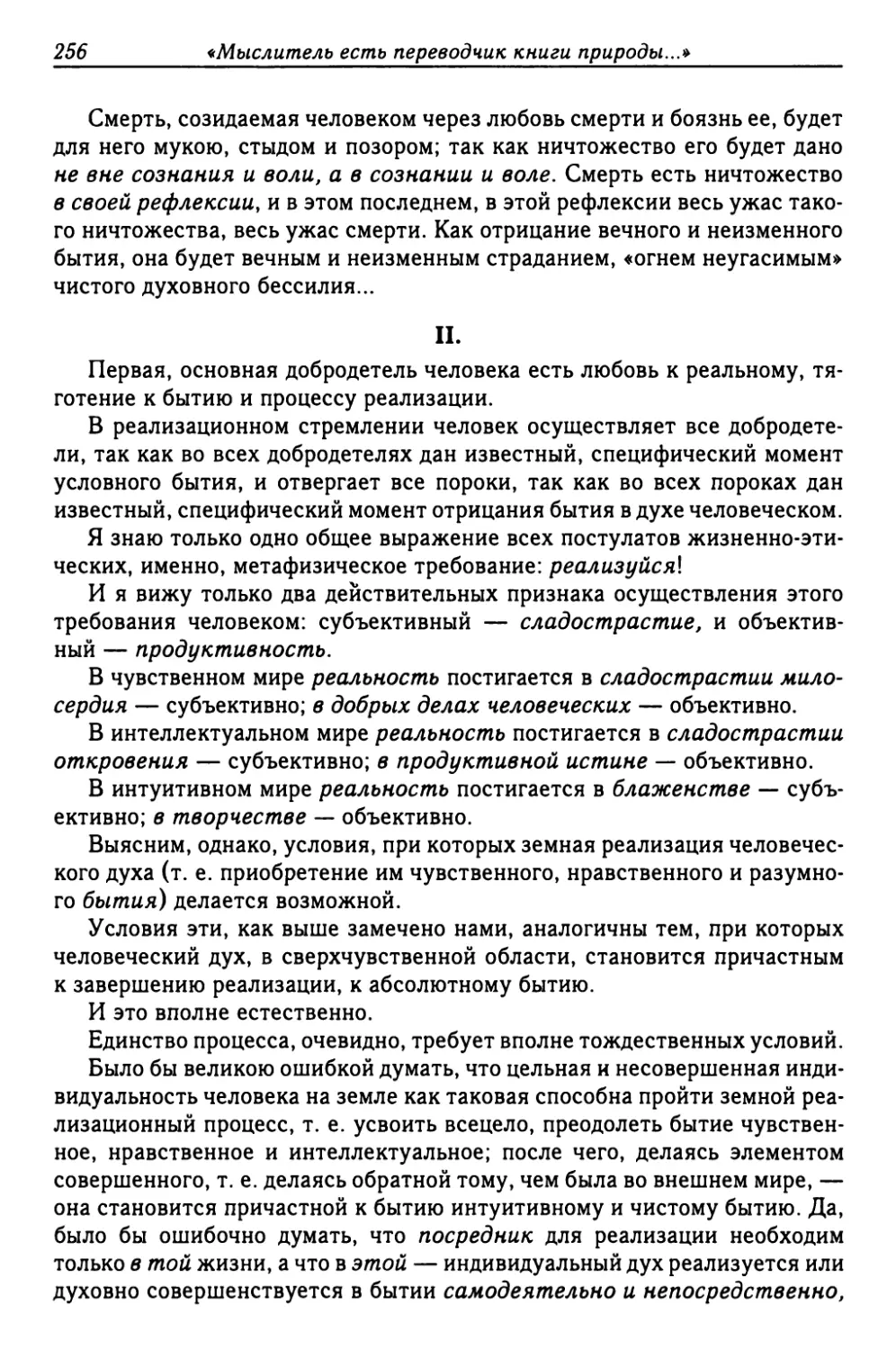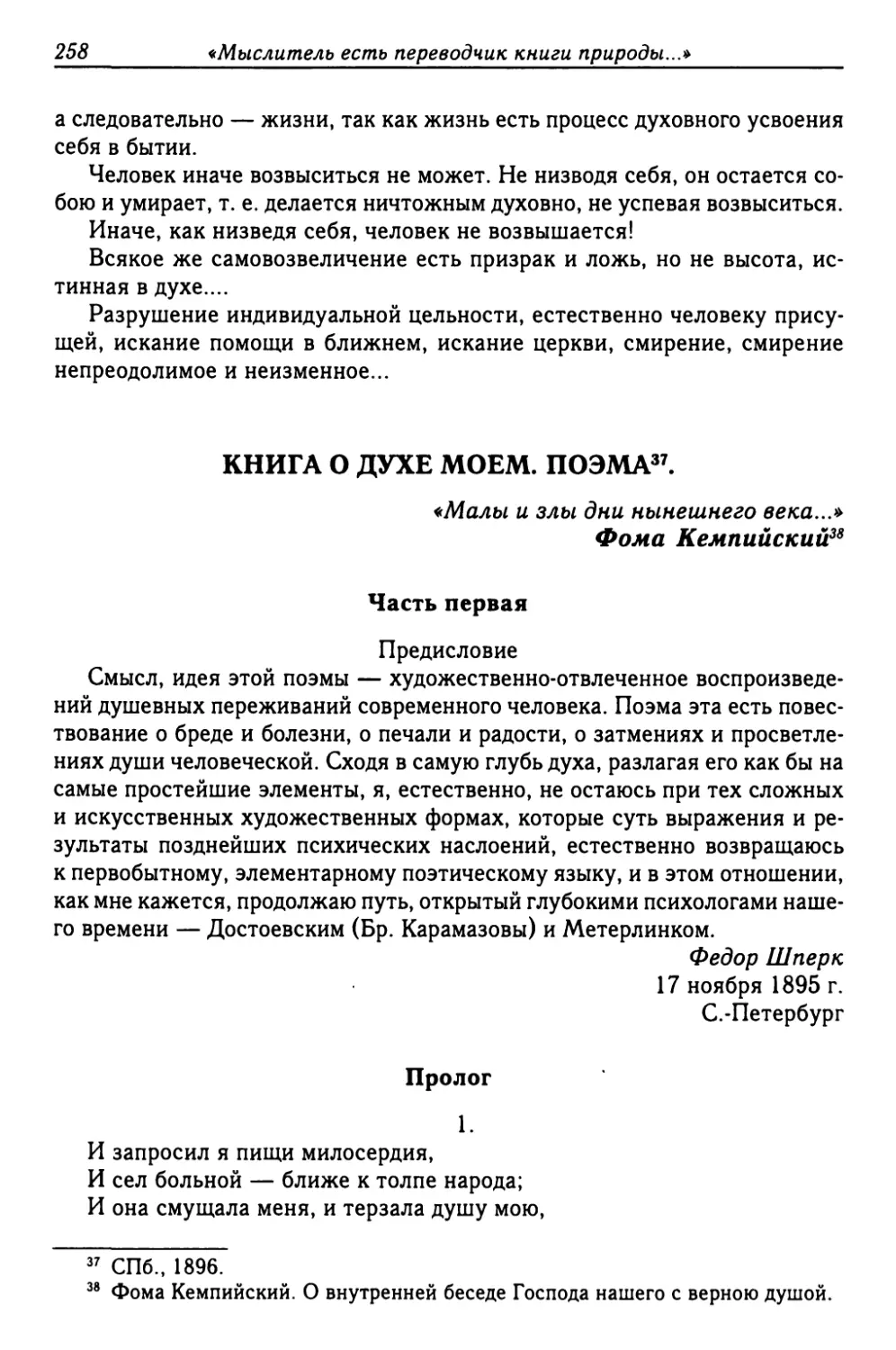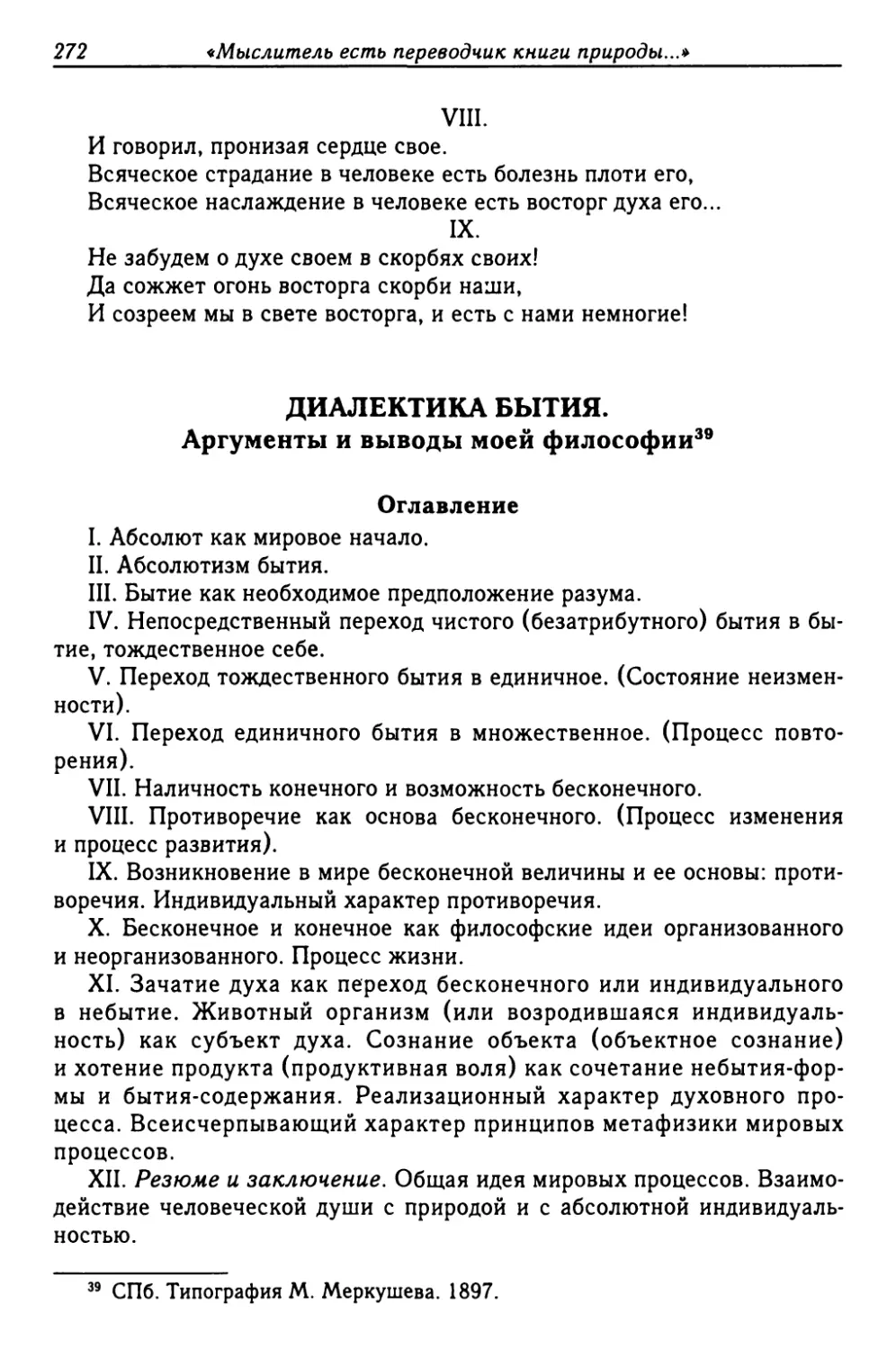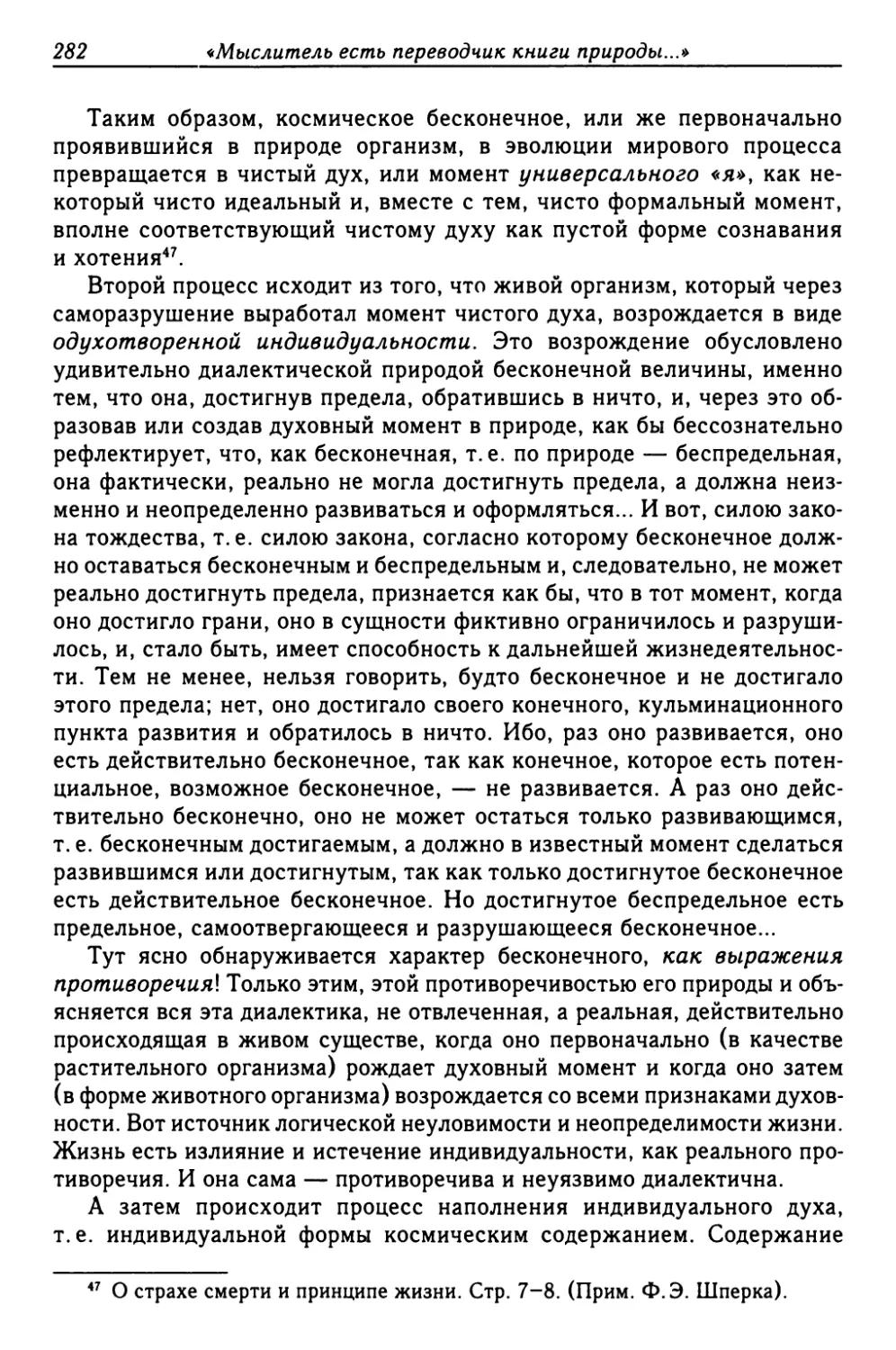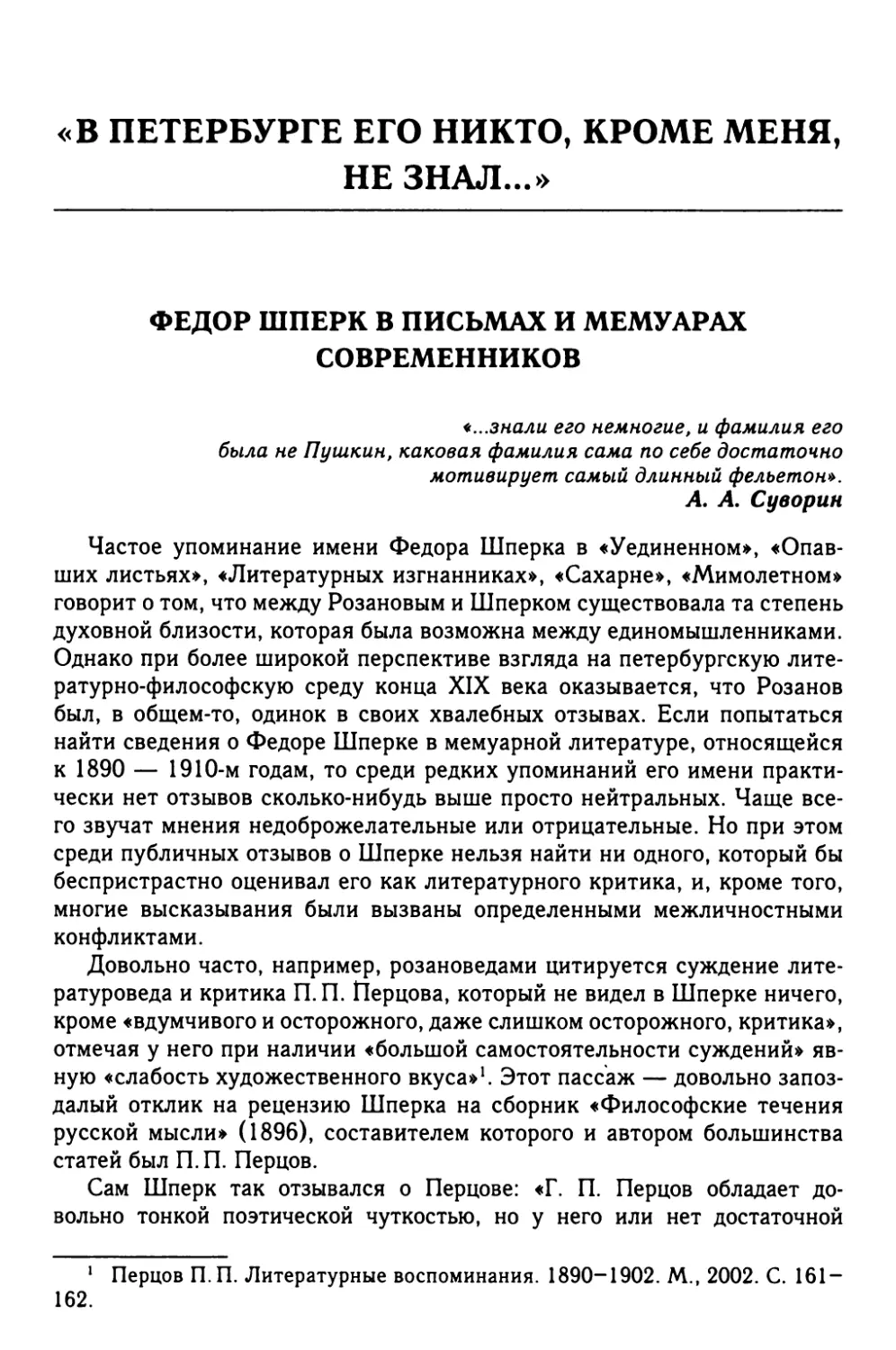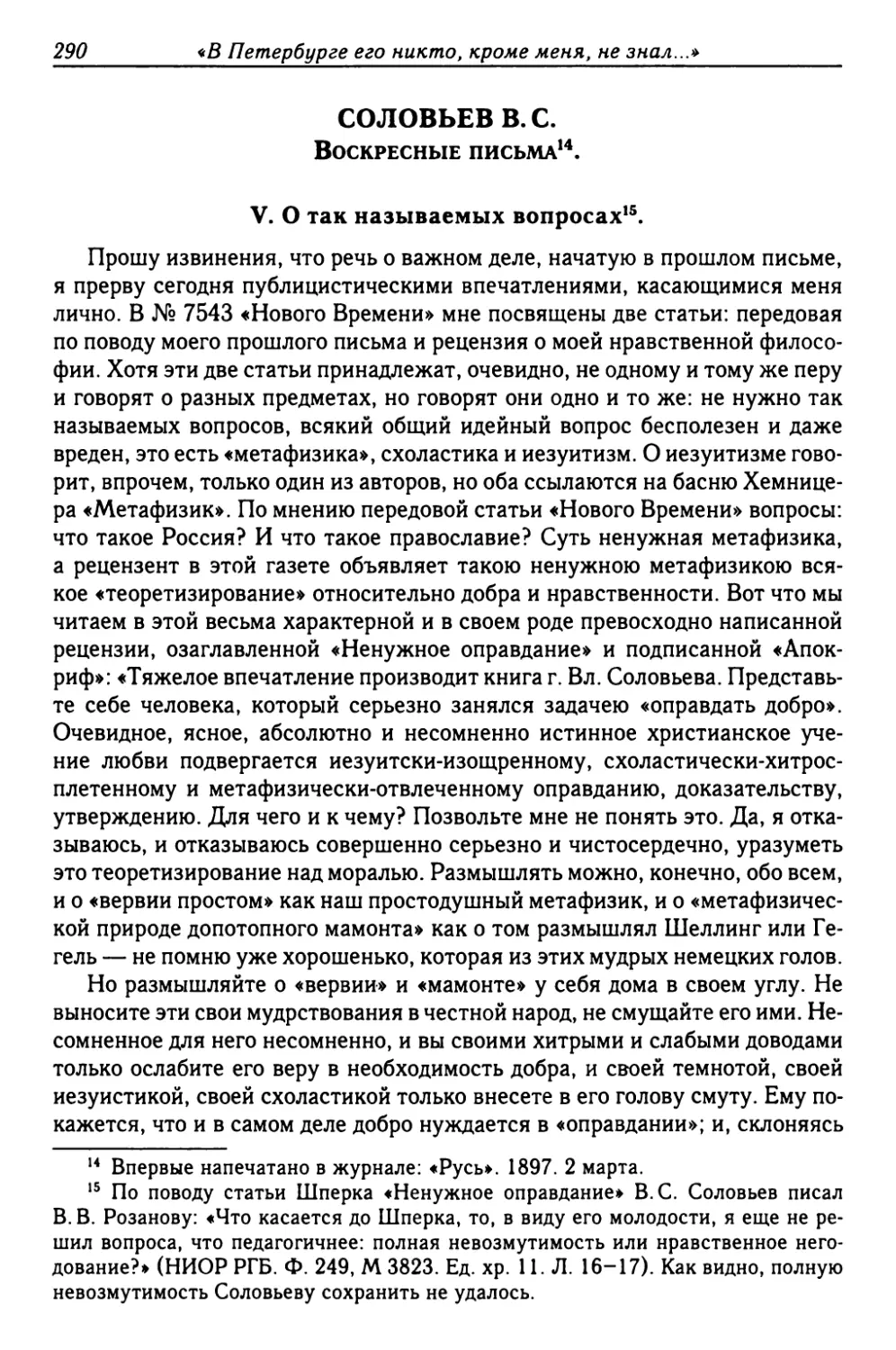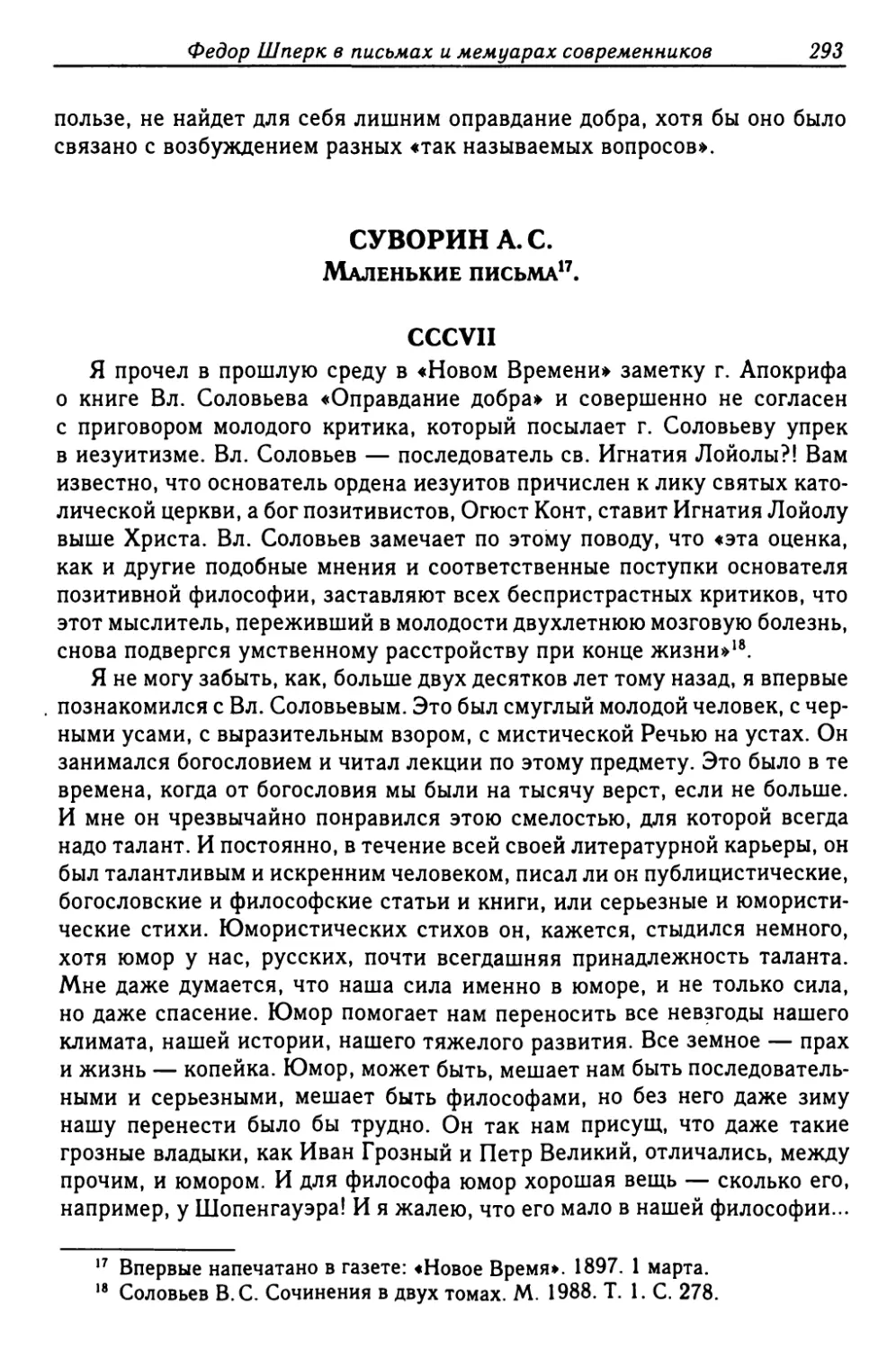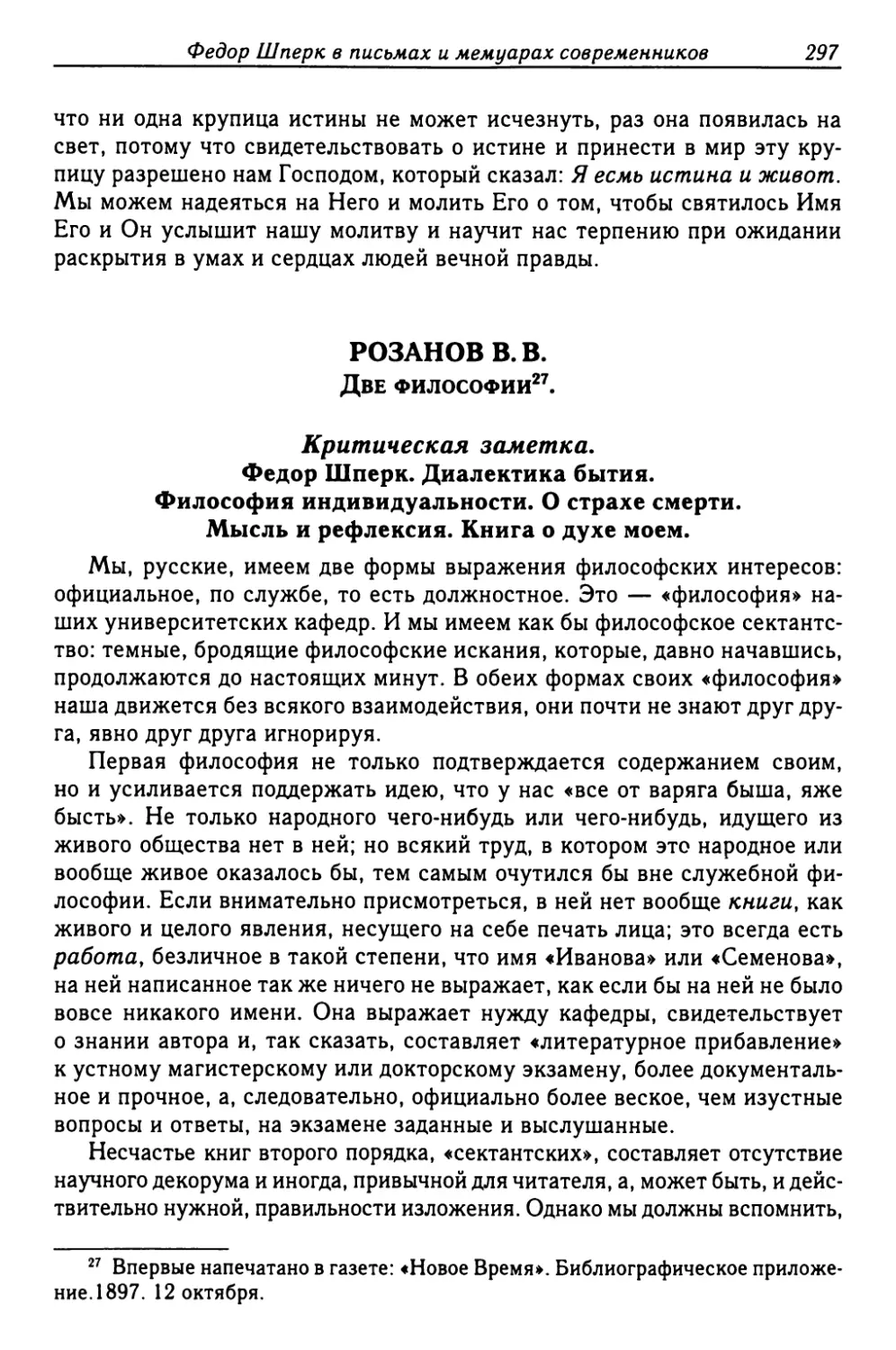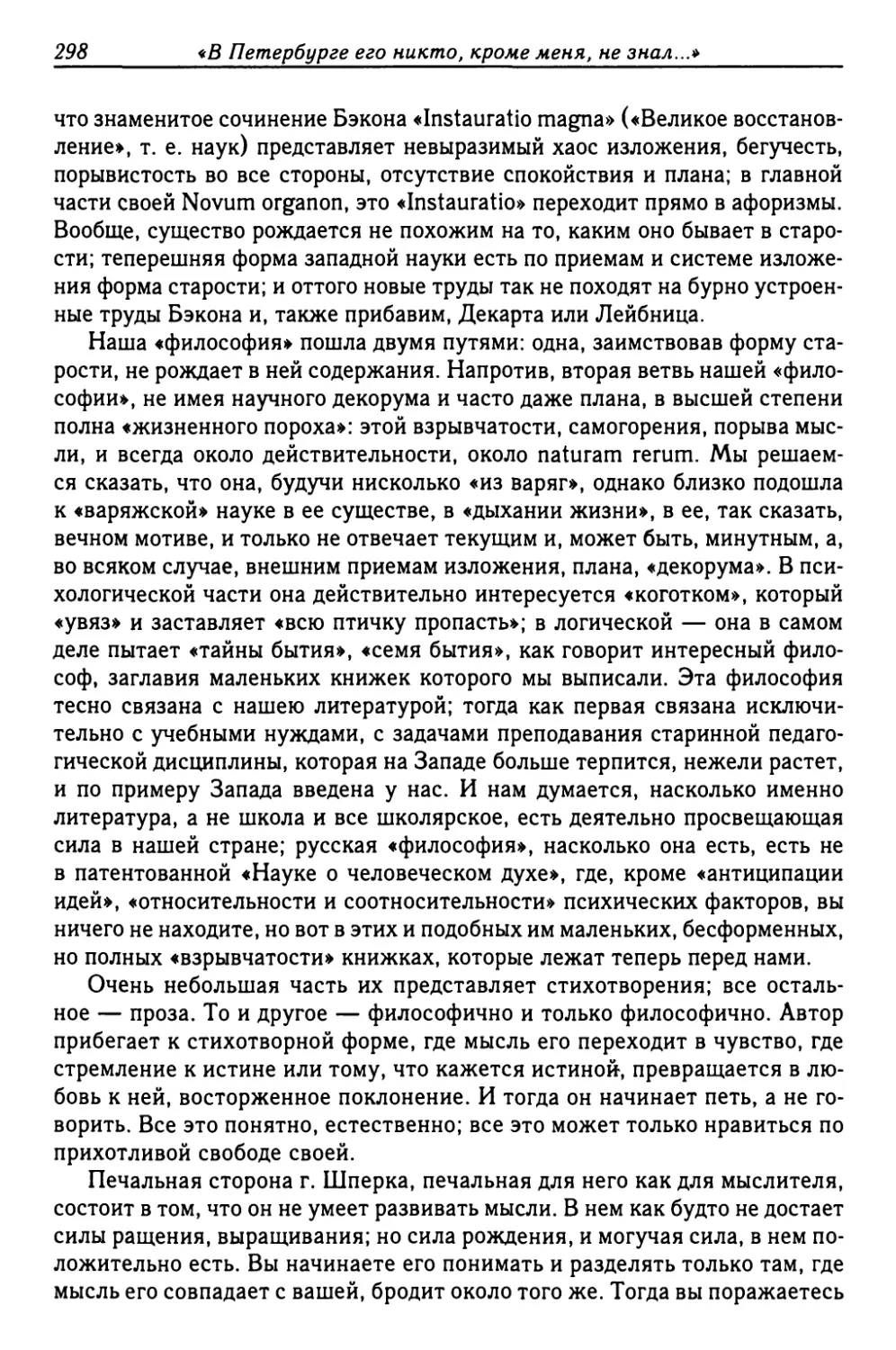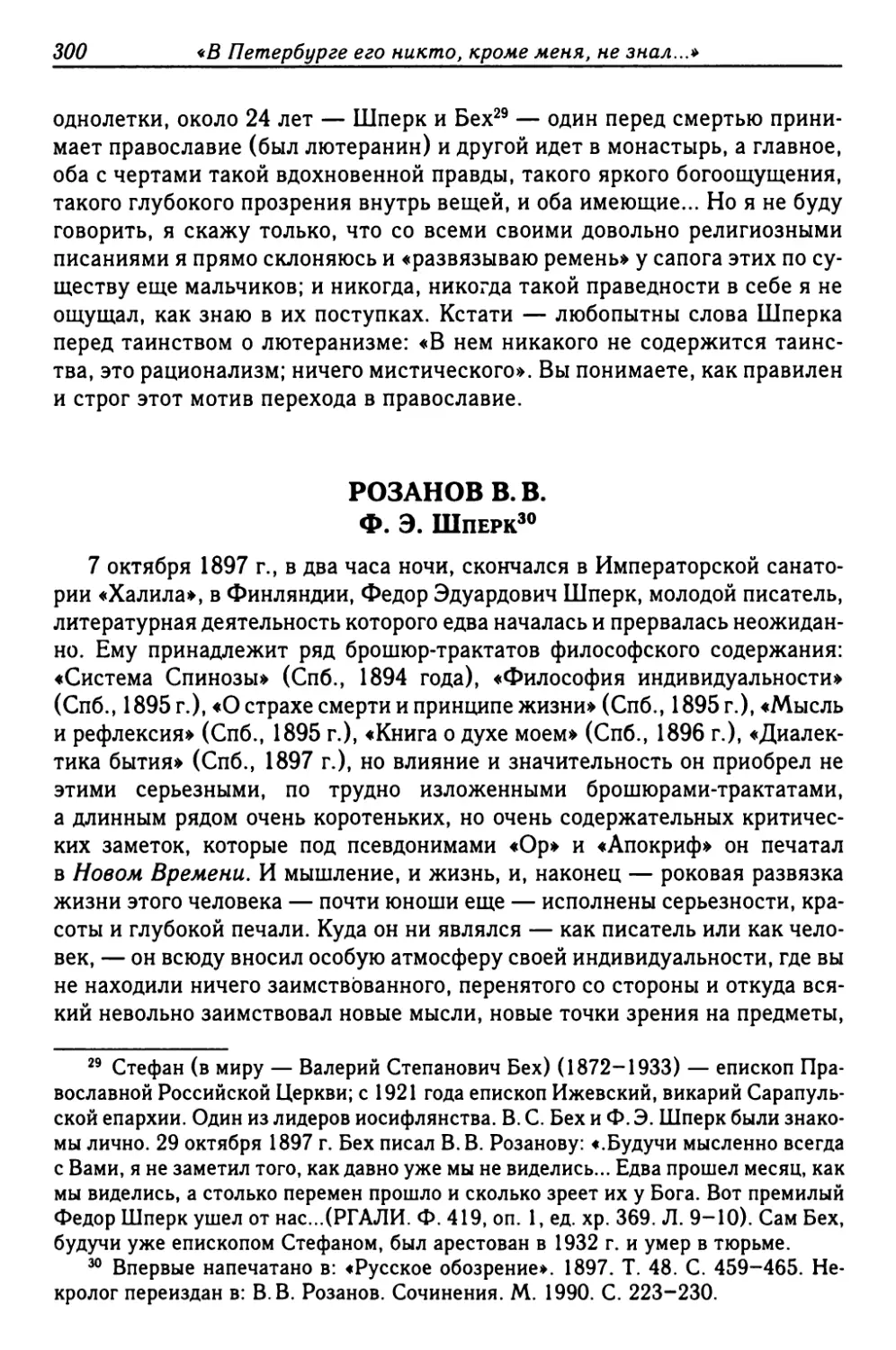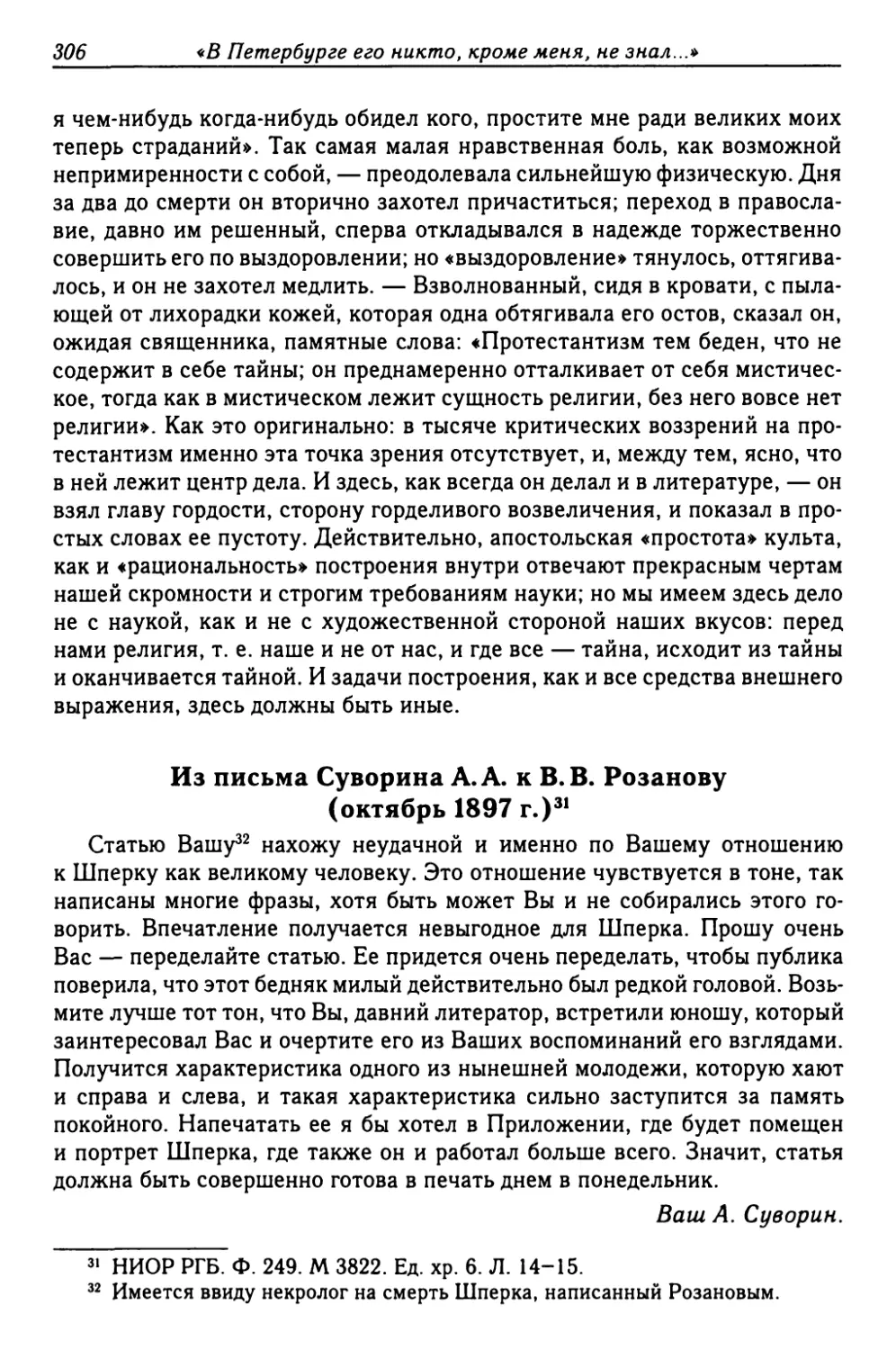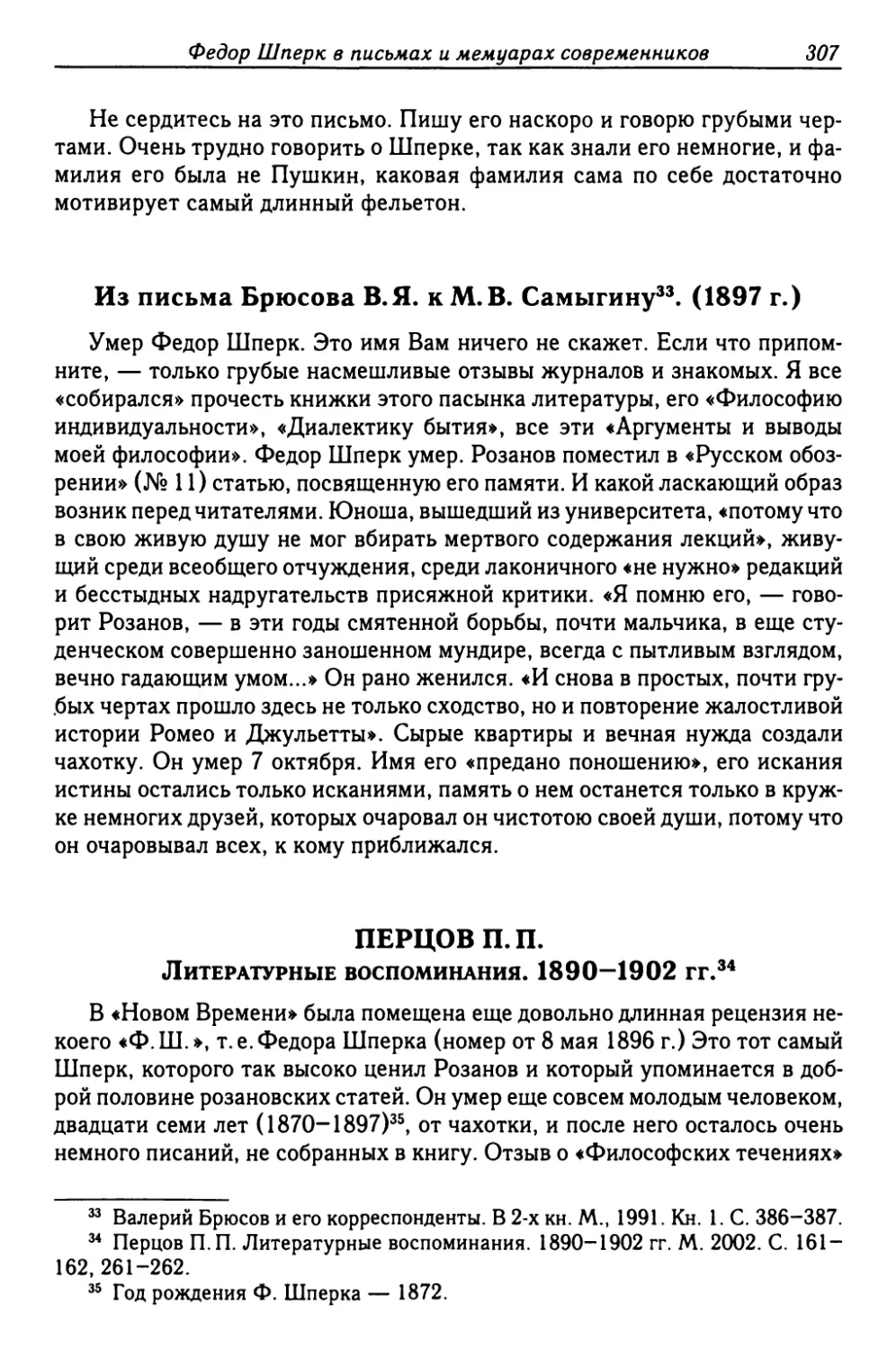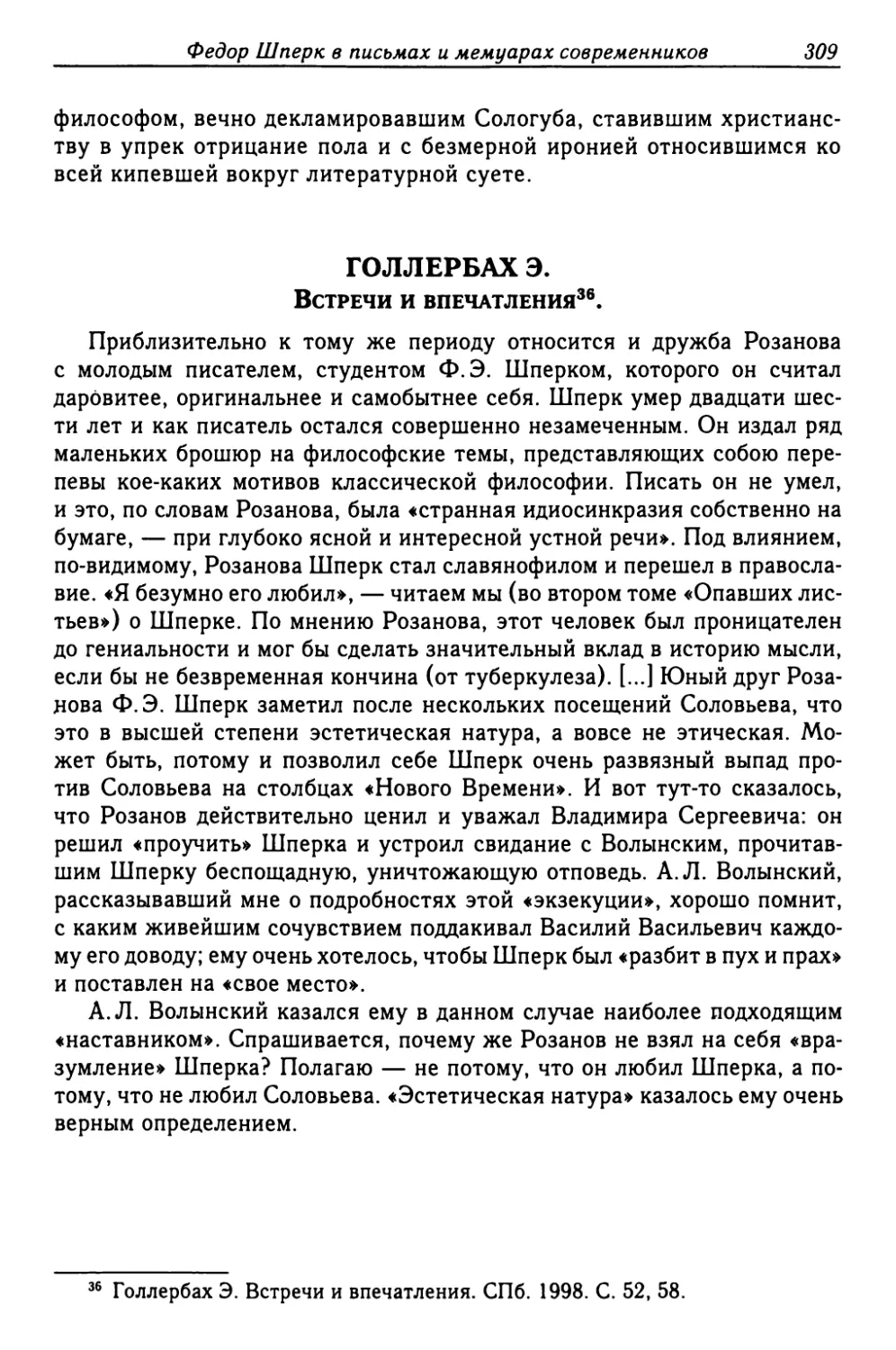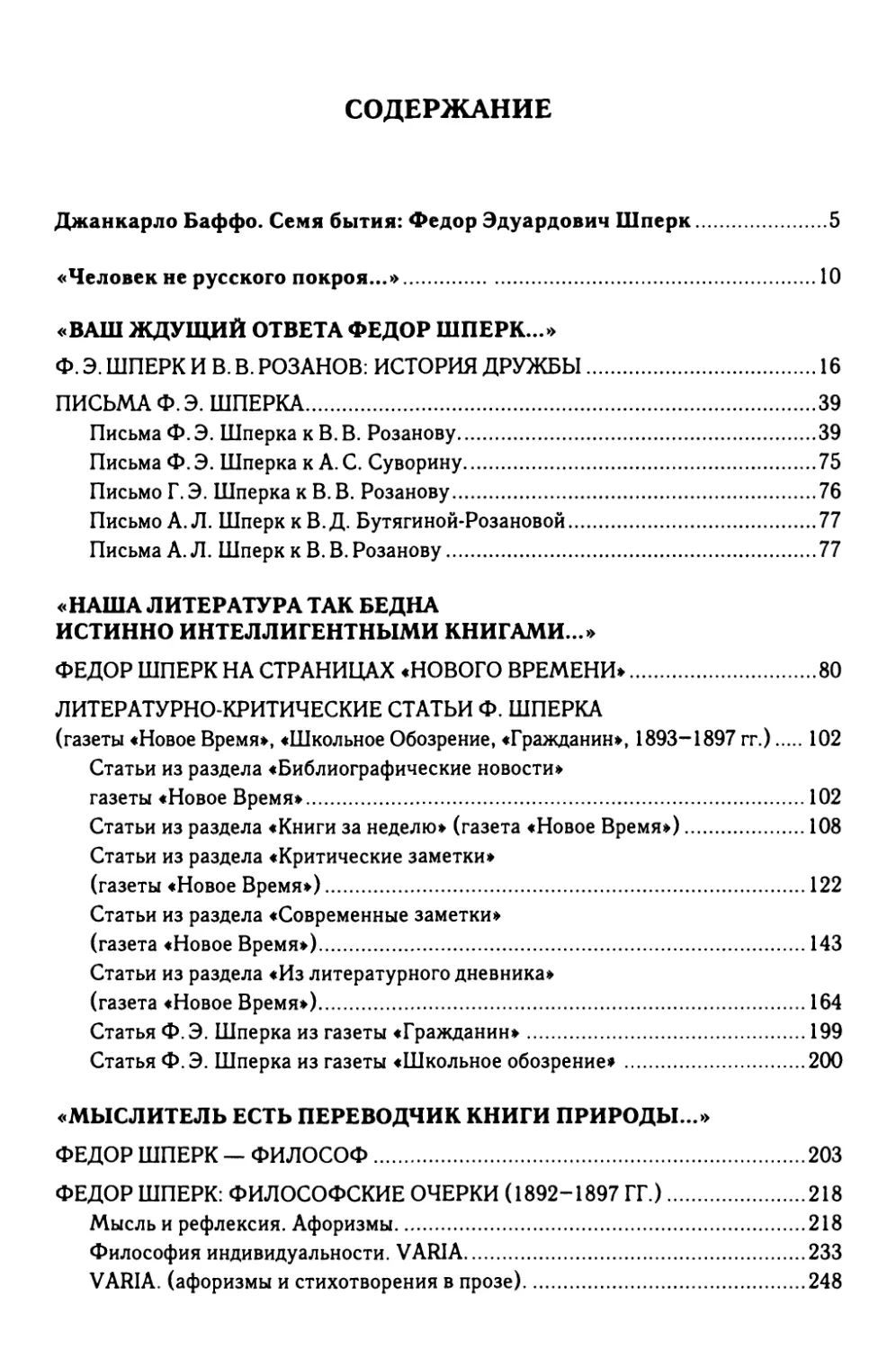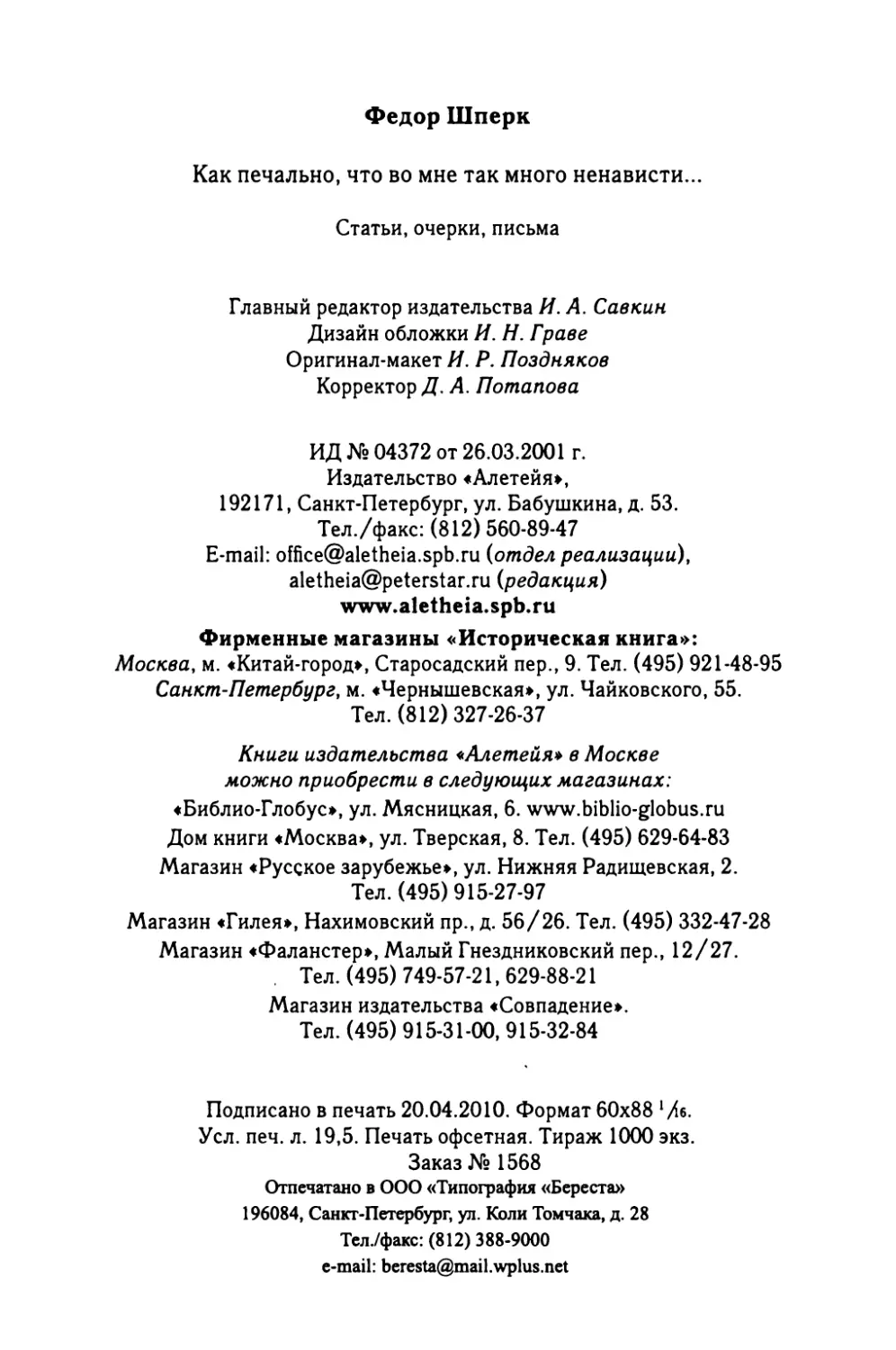Текст
Санкт-Петербург
АЛЕТЕЙЯ
2010
статьи
очерки
письма
Вступительная статья, составление, подготовка текста и комментарии
Т. В. Савиной
Предисловие Джанкарло Баффо
Шперк Ф.
Как печально, что во мне так много ненависти... Статьи, очерки,
письма / науч. ред. А. Н. Николюкин; вступ. ст., сост., подгот. текста
и коммент. Т. В. Савиной. — СПб. : Алетейя, 2010. — 312 с, илл.
ISBN 978-5-91419-381-9
В книгу включены статьи и философские произведения Федора
Эдуардовича Шперка (\&72-\&97}, русского литературного критика, философа
и публициста, журналиста газеты «Новое Время», друга В. В. Розанова.
В работах оригинально осмысливается состояние и развитие русской
литературы, культуры и философской мысли на рубеже XIX-XX вв.
Издание подготовлено по инициативе и на личные средства
Куприкова Юрия Евгеньевича
© Шперк Ф., 2010
© Савина Т.В., вступ. ст., коммент., 2010
© Издательство «Алетейя» (СПб.), 2010
© «Алетейя. Историческая книга», 2010
Джанкарло Баффо
Семя бытия: Федор Эдуардович Шперк
В своем фундаментальном жизнеописании Василия Розанова
Валерий Фатеев упоминает весьма образную характеристику, данную
Розановым своему безвестному молодому другу с использованием
понятий, которые в рамках розановской философии имеют известный
и показательный резонанс: исполненной таланта "силе рождения"
немецко-русского критика и мыслителя, собеседника Розанова в
первые годы его петербургской жизни, недоставало столь же мощной
"силы ращения", то есть интеллектуального развития, способного
дать адекватное выражение того врожденного дара проникать в
«корень вещей», которым, по мнению Розанова, был столь щедро одарен
этот уникальный интеллектуал «нерусского покроя» .
Более того, как добавляет сам Фатеев, если бы не знаменитый
«нюх» Розанова на «потенциальность» (то есть, его способность
угадывать на эмбриональном уровне талант в людях, составлявших
его окружение) никто бы, вероятно, и не вспомнил сегодня о
вкладе, внесенном Ф.Э.Шперком за свой недолгий век. Представляемая
ныне вниманию читателей антология восполняет, таким образом,
значительный пробел в историографии русской философской мысли
конца девятнадцатого века, о котором хорошо известно розанове-
дам и специалистам по культуре Серебряного века. Этот пробел был
особенно болезнен для тех, кто живет за пределами России и кому
до сих пор был фактически заказан доступ к творческому наследию
этой уникальной фигуры русской философии - фигуры, и это следует
сразу же отметить, мимо которой невозможно пройти при любой
попытке аналитической реконструкции (свободной от
историографических стереотипов, в течение многих десятилетий препятствовавших
раскрытию эпохальной значимости розановской философии) ранних
этапов формирования философской мысли Розанова. Без
реконструкции этих этапов, зачастую драматических и противоречивых, наши
знания и о его более поздних трудах, зрелых и широко известных, не
могут претендовать на полноту.
В упомянутой выше книге В. Фатеев предупреждает о неизбежном
разочаровании тех из своих читателей, кто, заинтересовавшись
наследием Шперка, устремится на поиск в собраниях российских
библиотек его разрозненных брошюрок, на издание которых тот
растратил все наследство своего отца - знаменитого врача и директора
одного из первых научно-исследовательских институтов в России.
С гипертрофированной самооценкой Шперка (полагавшего, что до
6
«Как печально, что во мне так много ненависти...»
него философии не было, поскольку только он впервые постиг не что
иное., как саму природу мира!) никак не вяжется, судя по
опубликованным при жизни трактатам, полное отсутствие в них какой-либо
оригинальности, при том, что лучшее из написанного им - как считал
и Розанов - это ряд «коротеньких, но очень содержательных»
критических заметок, опубликованных им в "Новом времени" с 1896 по
1897 год. П.П.Перцов высказал убеждение, что причину переоценки
Шперка Розановым следует искать в том обстоятельстве, что Шперк
был одним из первых почитателей Розанова накануне вступления
последнего в "высший свет" петербургской интеллигенции, и таким
образом отношения между ними, mutatis mutandis, воспроизводили
схему знакомства Ницше и Брандеса - хотя, как признает Перцов, верно
и то, что Розанов ценил Шперка и «потому, что в те смутные для него
самого, и внутренне, и внешне, 90-е годы в одном этом юноше находил
В.В. устремления, отвечавшие его собственным, еще неясным
мыслям и впечатлениям, угадывал интересы, которые едва пробуждались
в нем самом» . Таким образом, В. Фатеев приходит к признанию того
факта, что "настоящий" Розанов, которому суждено было вскоре
занять одно из ключевых мест в мире русской культуры, в разработке
тем, ставших характерными для его философского творчества, и,
в первую очередь, тем пола и религии, по-видимому, не проделал бы
того мыслительного пути, по которому мы его сегодня легко узнаем,
без участливой и сочувственной поддержки его юного друга, с которым
он мог «говорить обо всем» и который рассказывал ему, без всякого
стеснения, «о случаях из половой жизни». Читая названия некоторых
из упоминаемых В. Фатеевым статей Шперка, публиковавшихся на
страницах "Школьного образования" начиная с 1894 года, нельзя не
заметить аналогий с тематикой розановского творчества, причем в
самых существенных аспектах его последующей рефлексии: от
"вопроса о половой аномалии" и "психологии еврея" (как известно, Шперк
был евреем со стороны матери) до космического "семени жизни".
Таким образом, вполне очевидно, что при всей герменевтической
предосторожности, диктуемой нам более пристальным анализом
взаимоотношений Шперка и Розанова (знавших свои этапы разногласий
и противоречий, как блестяще и аргументировано доказано Татьяной
Савиной во введении к настоящей книге), публикация в столь
обширном объеме корпуса сочинений Шперка имеет для современного
читателя исключительное значение: в русле розановского ренессанса,
который за последние пятнадцать лет обрел всемирный характер,
осмыслить философский дебют автора, который, будучи разочарован
Professorenphilosophie русской академической науки, станет
критиком par excellence всей дореволюционной культуры, никогда,
впрочем, не забывая о кратковременной дани, отданной систематической
Джанкарло Баффо. Семя бытия: Федор Эдуардович Шперк 7
и «профессиональной» философии. Идея бытия как живущей
тотальности, несводимой к мысли, как «космос» , развивающийся из
абсолюта подобно тому, как жизнь развивается из семени, в котором
«разум и истина (...) подчинены высшему принципу реального, как сумма
живущей данности, которое развивается во всепоглощающем
процессе жизни и достигает интуиции в сознании» - уже была дана
Розановым в его монументальном и незамеченном современниками трактате
1886 года «О понимании». В упомянутом трактате, говоря о разуме,
понимаемом не как детерминирующая способность по отношению
к реальности, а скорее как простое "потенциальное существование",
Розанов писал: «Несомненно, что в семени растение еще не имеет
реального существования, но также несомненно, что оно уже
существует в нем потенциально со всеми своим будущими формами и
отличительными признаками, родовыми и видовыми. Наконец, этот центр
понимания есть потенция простая» . В одном из последних
опубликованных Шперком философских трактатов под названием
«Диалектика бытия» (1897), мы находим определение абсолюта и космического
процесса, которое полностью совпадает с идеей бытия, характерной
для «раннего» Розанова, но выражено с большей определенностью
натурфилософского типа (и в значительной степени романтической),
которая станет определяющей для «зрелого» Розанова: «Мировой
процесс (или эволюция космоса) аналогичен органическому процессу
(или эволюции микрокосма). Организм вырастает из
организма-элемента; мир развивается из мира-элемента. То, что соединяет в себе
признаки организма и начала, мы называем семенем; то, что
соединяет в себе признаки мира или всего, т.е. признак универсальности
и признак начала, мы называем абсолютом. Абсолют есть всеначало
или универсальное начало. И насколько организм развивается из
семени, настолько космос развивается из абсолюта» . Так, не без
влияния Шперка, «семя», как образ проявления абсолюта через
бесконечный жизнеутверждающий процесс (который, вопреки В. Соловьеву,
не требовал ни для Шперка, ни для Розанова какого бы то ни было
«оправдания») «стало [для Розанова] своего рода ключевым словом,
определяющим и ведущим символом, столь рельефно проявившимся
визуально в его последующих эротико-космических спекуляциях» ,
неся в себе также идею безграничной материально-женственной
потенции, которая станет в дальнейшем в равной степени важной в ро-
зановской рецепции эпохального мотива «вечно женственного» и в
его критике учения о Софии, восходящего к православной традиции
и переработанного мыслителями «русского религиозного
возрождения». Как убедительно показал А.Н. Николюкин, после трактате «О
понимании» Розанов намеревался написать столь же обширный трактат
под названием «О потенциальности и роли ее в мире физическом
8
«Как печально, что во мне так много ненависти...»
и человеческом» , однако этому труду не было суждено увидеть свет,
как из-за провала «О понимании», так и по причине множества забот,
связанных со скитаниями по российской провинции в поисках места
службы. Если в своем опубликованном труде Розанов занимался
миром реальным, «видимым» и «сущим», и условиями его «познания»,
то в задуманном трактате молодой философ намеревался дать
систематическое изложение учения о «потенции» как «невидимой и ...
несущей форме», которая сосуществует с видимой реальностью:
«Изучение переходов из потенциального мира в реальный, законов этого
перехода и условий этого перехода, вообще всего, что в стадии
перехода проявляется, наполняло мою мысль и воображение » . Если же
учесть - как было проницательно замечено - что на протяжении всей
жизни «Спиноза оставался для Розанова одним из самых
авторитетных философов» и при этом воспринимался им в качестве
«квинтэссенции иудаистской мысли» , то сам собой напрашивается вывод, что
и спинозианский фундаментальный монизм, столь характерный
в дальнейшем для розановской "религии пола", возник не без влияния
его юного друга, который в 1893 году опубликовал брошюру под
названием «Система Спинозы» , и в своих дальнейших философских
эссе дополнил соловьевскую метафизику всеединства и
славянофильское стремление к соборности «пафосом единения и слияния» ,
сформировав с опорой на категорию целостности своеобразное
мировоззрение, в котором «церковная общность», восходящая к славянофильской
традиции, приносится в жертву чистому измерению «веры», некоему
внеконфессиональному объединительному мистицизму, который в
конечном итоге разворачивает ницшеанский императив в сторону веры,
и "Стань тем, кто ты есть!" превращается в "Реализуйся!", в чем, по
Шперку, и заключен "смысл творчества". Что же касается проблемы
творения и, еще шире, искусства как личной самореализации и
парадоксального «искания Бога» во вполне современных рамках
секуляризированного мира, впечатляет данная Шперком в его эстетике
последовательность «мировых эпох»: ось Тургенев (прошлое) - Толстой
(настоящее) - Достоевский (будущее) представляет собой
поразительный аналог последующему прочтению Розановым на протяжении
всего своего творческого пути великой русской культуры, начиная
с «Легенды о Великом инквизиторе», в которой Тургенев предстанет
как самый архаичный и библейский из поэтов, Толстой - как провидец
формы, исполненной тотального реализма и лишенной всякой
потенциальности, а Достоевский будет трактоваться как диагност
стремительного органического становления жизни, непокорной форме,
и пророк «бесформенности», в которой, по Розанову, и заключена
тайна всего сущего и священного. Безусловно, концепция Шперка
о "христианском стиле" искусства и культуры претерпела бы вскоре
Джанкарло Баффо. Семя бытия: Федор Эдуардович Шперк 9
с наступлением эпохи модерна настоящий шок, как в точности и
произошло в середине 90-х годов с творчеством Розанова, когда
подобный синтез в свете интенсивных размышлений о христианстве, в
конце концов, представился ему невозможным в силу непоправимости
раздирающего его дуализма. Несмотря на это, учение Шперка о
неразрывной связи культуры и религии, священного и изобразительных
форм, будет по-прежнему удивлять своей новизной, будучи
предвестником «генеалогической» эволюции различных фундаментальных
этапов современной западной мысли.
перевод с итальянского Юрия Куприкова
«ЧЕЛОВЕК НЕ РУССКОГО ПОКРОЯ...»
«Образ мыслей его трудно подвести под какую-нибудь
готовую категорию; но всего правильнее было бы
видеть в нем человека, типичный образец человека
не русского покроя, но проникнувшегося духом
истинно русской культуры и по свободному убеждению
преклонившегося перед ее высшими началами»».
Василий Розанов.1
Особенный интерес к культурному наследию России дооктябрьского
периода побуждает обратить внимание на работы тех мыслителей конца
XIX века, которых отечественная история литературы и философии до
недавнего времени игнорировала. «Литературные изгнанники», они искали
иные пути прочтения русской классики и предлагали новые основы для
интерпретации литературного текста.
Среди имен, в последнее время вернувшихся в исследовательское поле
историков русской литературы, вызывает интерес творчество
литературного критика и философа Федора Эдуардовича Шперка (1872-1897).
«Человек не русского покроя», как писал о нем В. В. Розанов, Федор
Шперк по рождению был шведско-немецкого происхождения, но
воспитанный в традициях русского подвижничества, имея перед собой
характерный пример деятельности представителей своей семьи. Его деду,
Фридриху Шперку и трем его сыновьям посвящены биографические справки
в Словаре Брокгауза и Ефрона. Старшему, Францу Шперку (1835-1903),
как врачу и участнику русско-турецкой войны, Эдуарду Шперку (1837-
1894) — как врачу-венерологу и первому директору Института
Экспериментальной медицины, Густаву Шперку (1845-1870) — как известному
биологу, доценту Харьковского университета. Сам Федор Эдуардович
Шперк упомянут в словаре как философ и литературный критик2.
Род Шперков связан с Россией более двухсот лет. Они были выходцами
из Швеции, осевшими в России в конце XVIII века. Первые достоверные
сведения о семье Шперк относятся к 1836 году, когда
вольнопрактикующий врач Фридрих Андреевич Шперк ( 1808 — 1858) представил прошение
об определении на должность врача в Нежинские богоугодные заведения3.
Позже Фридрих Шперк стал почетным членом Штетинского
энтомологического общества и Московского общества естествоиспытателей, а также
членом-корреспондентом Политико-экономического общества.
1 Розанов В. В. Ф.Э. Шперк // Исторический Вестник. 1897. № 12. С. 56.
2 Словарь Брокгауза и Ефрона. СПб., 1903. Т. 78. С. 828.
3 Государственный архив Черниговской области, ф.128, оп.1, д.3825. Л. 15.
«Человек не русского покроя...»
П
Один из его сыновей, Эдуард Фридрихович Шперк, окончил
Харьковский императорский университет, медицинский факультет по стипендии
Министерства внутренних дел. По окончании учебы он был направлен
назначением МВД в Якутию, а позже — в Приамурский край, где проработал
10 лет, исследуя медико-топографические и социальные причины
возникновения инфекционных эпидемий. Работы доктора Шперка были первыми
в истории России исследованиями Приморья и Амурского края. За эти
исследования он был удостоен степени доктора медицины4. Подобную работу
в Якутии проводил в то же время его брат, Франц Фридрихович Шперк.
Э. Ф. Шперк активно участвовал в работе Общества охранения народного
здравия во главе с принцем А. П. Ольденбургским. В 1891 году Э.Ф. Шперк
был назначен директором института Экспериментальной медицины.
Федор (Фридрих) Шперк родился 10 (22) апреля 1872 г. в
Санкт-Петербурге, получил традиционное для выходца из лютеранской семьи
образование. В 1889 году он окончил Петришуле и, по настоянию родителей,
поступил в Петербургский университет, на юридический факультет,
который оставил несколько лет спустя. Ко времени выхода из университета
Шперк уже серьезно и подробно занимался философией и литературой,
интересовался славянофильством как течением, наиболее близком к
народу и «всему народному», искал «жизненность» в любом явлении
литературы и искусства.
Автор ряда брошюр, в которых были сформулированы основные
принципы его философской системы, Ф.Э. Шперк стал в 1895 г. сотрудником
газеты «Новое Время», самого популярного и массового издания в России.
Попасть на страницы «Нового Времени» было большой удачей для
начинающего автора: успех газеты у читателей предопределял если не такой
же успех, то внимание к автору статьи. Шперка привлекала возможность
высказать свои мысли перед широкой аудиторией и получить на них
отклик. По свидетельству В. В. Розанова, «Шперк ... говаривал: «Пока я не
печатаюсь в «Новом Времени», я считаю, что я нигде не печатаюсь. Да
и как иначе: все читают, все понимают, вся Россия слушает каждое мое
слово, всякую мою мысль»5.
В течение недолгого (всего около двух лет) периода сотрудничества
в газете «Новое Время» Ф. Шперк сумел пройти путь от начинающего
журналиста до ведущего сотрудника критико-библиографического
отдела. Начиная работать в рубрике «Книги за неделю» и
«Библиографические новости», уже через год он получил и вел собственную рубрику «Из
литературного дневника».
4 Формулярный список о службе директора Императорского института экс-
перимен-тальной Медицины, доктора медицины, действительного статского
советника Эдуарда Фридриховича Шперка от 5 июля 1899 г.
5 Розанов В. В. В Сахарне // Розанов В. В. Сахарна. Собр. соч. под ред.
А.Н. Николюкина М., 2001. С. 232.
12 «Как печально, что во мне так много ненависти...»
Первые публикации Шперка в «Новом Времени» представляли собой
небольшие по объему рецензии в постоянном отделе критики и
библиографии. Жанр рецензии позволял критику не только сообщить
библиографические сведения о книге, но и дать ей краткую характеристику. При этом
рецензии Шперка нередко граничили с критической статьей, поскольку
касались не только предмета рецензии, но и затрагивали более широкие
и достаточно злободневные литературные вопросы. Практически
еженедельно в «Новом Времени» появлялись литературно-критические обзоры
современной русской литературы и рецензии Ф.Э. Шперка, подписанные
псевдонимами Апокриф, Ор, Ф.Ш. В круг рецензируемой литературы
входили поэтические сборники В. Соловьёва, Д. Мережковского, Н. Минского,
К. Фофанова, Л. Афанасьева, проза Ф. Сологуба, М. Крестовской,
В.Немировича-Данченко, а так же характеристика целых течений и направлений,
например, женской беллетристики, декадентской литературы,
философских течений русской поэзии.
На 1895 — 1897 гг. приходится пик творчества Федора Шперка. Но
свои последние работы он писал уже тяжело больным туберкулезом. 8
(20) октября 1897 г. в возрасте 25 лет Ф.Э. Шперк умер. Несмотря на
то, что за несколько недель до смерти он крестился и принял
православие, Федор Шперк был похоронен на Смоленском лютеранском кладбище
в Санкт-Петербурге.
В современном литературоведении имя Федора Шперка прочно
связано с личностью В. В. Розанова как образ-воспоминание, постоянно
возникающее на страницах розановских книг «Уединенное», «Опавшие
листья», «Сахарна», «Мимолетное», «Когда начальство ушло...»,
«Смертное», «Литературные изгнанники» и «Из старых писем. Письма В. Серг.
Соловьёва». Как о самостоятельной фигуре философской и литературной
жизни Петербурга конца XIX века, специальных исследований о Федоре
Шперке нет. Это объясняется его ранней смертью, что привело к тому,
что как критик он не успел стать известным широкому кругу читателей и,
соответственно, исследователям истории русской литературы
Краткий биографический очерк о Федоре Шперке (и самый
подробный) появился в виде некролога в «Русском Обозрении», подписанного
В. Розановым6. В Словаре Брокгауза и Эфрона имеется небольшая, в пять
строчек, справка о Федоре Шперке, а справочные-издания советского
времени сведений о критике уже не предлагают.
Однако существует ряд работ, в которых в той или иной степени
затрагивается ряд аспектов творчества Ф.Э. Шперка, но не как
самостоятельной фигуры. В исследованиях, посвященных философии B.C. Соловьёва,
6 В. В. Розанов написал три некролога на смерть Ф. Шперка. См.:
Исторический Вестник. СПб., 1897. № 12; Русское Обозрение. СПб., 1897. Т. 48; Новое
Время. 1897. №7769.
«Человек не русского покроя...*
13
Ф.Э. Шперк, несмотря на явное созвучие его идей идеям философии
всеединства, получил репутацию соловьевского недоброжелателя и чуть ли не
противника. В комментариях к двухтомному собранию сочинений B.C.
Соловьёва, рецензия Ф.Э. Шперка на книгу «Оправдание добра»
бездоказательно рассматривается как пасквиль, написанный в «фельетонном» стиле7.
Ряд современных исследователей истории философии (К. Г. Исупов,
A.B. Демичев) причисляет Ф.Э. Шперка, наряду с Н.Ф. Фёдоровым,
Л. П. Карсавиным, С.Н. Булгаковым, к представителям русской
философской танатологии, имея в виду его работу «О страхе смерти и
принципе жизни» (1894). Это одна из немногих попыток определить место
Ф.Э. Шперка в духовной и литературной жизни конца XIX века, хотя
и без анализа основных положений его мировоззренческой позиции8.
Лишь в последнее десятилетие, в связи с усиленным вниманием
к творчеству В.В. Розанова, имя Ф.Э. Шперка, как литератора розанов-
ского окружения и сотрудника газеты «Новое Время», стало появляться
в исследованиях9. В начале 1990-х годов сложился круг литературоведов,
занимающихся жизнеописанием, литературным и философским
наследием В. В. Розанова: И. А. Едошина, А.Н. Николюкин, В. Г. Сукач, В. А.
Фатеев, СР. Федякин и др. Но большинство исследователей не обращается
к наследию самого Ф.Э. Шперка, ограничиваясь изучением его
отношений с В. В. Розановым.
Определенную попытку анализа философско-эстетических взглядов
Ф.Э. Шперка как важной фигуры первого петербургского периода жизни
В. В. Розанова предпринял В. А. Фатеев10. Автор рассматривает личность
Ф. Э. Шперка в контексте жизни и творчества В. В. Розанова, как
человека, определенным образом повлиявшего на развитие некоторых розанов-
ских идей, таких как интерес к теме пола и связи пола и религии.
В. Г. Сукач в комментариях к «Уединенному»11 также пишет о Ф. Э. Шпер-
ке только как о младшем друге В. В. Розанова, сообщая малоизвестные
факты из жизни Ф.Э. Шперка и подробности его отношений с семьей
В. В. Розанова. Нужно отдать должное В. Г. Сукачу, который одним из
7 Соловьёв В. Сочинения. В 2-х томах. Примечания С.Л. Кравца и H.A. Кор-
мина. М., 1988. Т. 1.С. 834.
8 Фигуры Танатоса: Искусство умирания. Сб. ст. под ред. A.B. Демичева,
М.С. Уварова. СПб., 1998. С. 51-57.
9 См., например, Розановская энциклопедия. Под ред. А.Н. Николюкина. М.
2008. С. 1188-1191; Русская философия. Энциклопедия. Под ред. М. А. Маслина.
М. 2007. С. 701-702; Савина Т. В. «Душа есть страсть...» Метафизика пола в
философии В.В. Розанова и Ф.Э. Шперка. // Вопросы философии. 2007, № 12,
С. 114-123.
10 Фатеев. В. А. С русской бездной в душе. Жизнеописание Василия Розанова.
СПб. — Кострома, 2002.
11 Розанов В. Уединенное. Подготовка текста и комментарии В. Г. Сукача. М. 2002.
14 «Как печально, что во мне так много ненависти...»
первых исследователей вводит в научный оборот до сих пор не
исследованную переписку Василия Розанова и Федора Шперка12.
В исследовании А.Н. Николюкина Ф. Шперк, как часто
упоминаемое имя из «Уединенного», больше интересен автору в качестве примера
собственно розановской меры отсчета таланта других писателей, которая
не укладывалась в общепринятую13, поэтому вопрос о взаимовлиянии
B. В. Розанова и Ф.Э. Шперка исследователем не затрагивается.
В ряде других современных исследований наследия В. В. Розанова
Ф.Э. Шперк упоминается либо просто как фигура розановского
окружения, либо как посредник при личном знакомстве В. В. Розанова с В. С.
Соловьёвым и Д.М. Мережковским и З.Н. Гиппиус14.
В совершенно особом ракурсе Ф.Э. Шперк рассматривается в
работах В. Б. Шкловского15 и А. Д. Синявского16, но он интересовал
исследователей не как философ или литературный критик розановского окружения,
а как «образ^троп» (у В. Б. Шкловского) и как образ-символ (у А. Д.
Синявского) в «Уединенном» и «Опавших листьях».
Говоря о создании В. В. Розановым в «Уединенном»
«образов-тропов», В. Б. Шкловский в качестве примера описывает механизм введения
в текст «темы Шперка» и ее дальнейшее функционирование в качестве
образа. В рамках формалистической школы, В. Б. Шкловский не видел за
созданием «образов-тропов» ничего, кроме приема. А. Д. Синявский,
который также писал о Шперке не как о реально-историческом лице, а как
об «образе-символе» в «Уединенном» и «Опавших листьях», в отличие
от В. Б. Шкловского, интерпретировал образ Шперка не как просто
прием, но оформленную тему смерти и бессмертия в розановских текстах.
Таким образом, хотя изучение творчества Ф.Э. Шперка специально
не осуществлялось, в результате в научный оборот введены сведения
преимущественно биографические характера, что позволяет сделать вывод об
исследовании Ф.Э. Шперка как фигуры только розановского окружения,
зачастую на основании случайных и разрозненных источников. Вне поля
зрения исследователей остались почти все ключевые вопросы творчества
Ф. Э. Шперка как критика философско-религиозного направления, в
первую очередь его новаторская концепция «христианского стиля» русской
литературы, а изучение Ф.Э. Шперка в «конвое» В.В. Розанова не
ставило вопрос о механизме создания и функционирования в розановских
12 Сукач В. Г. Жизнь Василия Васильевича Розанова «как она есть» //
Москва. 1992. №2-4. С. 126.
13 Николюкин А.Н. Голгофа Василия Розанова. М., 1998. С. 173.
14 См., например, сб. статей «Василий Розанов в контексте культуры».
Кострома, 2000.
15 Шкловский В. Б. Розанов. // Шкловский В. Б. Гамбургский счет. М., 1990.
C. 120-139.
16 Синявский А. Д. «Опавшие листья» В. В. Розанова. Париж, 1982. С. 202-246.
«Человек не русского покроя...*
15
текстах четко оформленной темы Шперка, имеющей особое значение для
понимания природы розановского субъективизма.
В 2001 г. в издательстве Новосибирского государственного
университета был опубликован небольшой сборник работ Ф. Э. Шперка, содержавший
преимущественно его литературно-критические статьи17. Настоящая
книга представляет собой кардинально переработанное и существенно
дополненное издание, включающее практически все литературно-критические
статьи, философские сочинения и сохранившуюся переписку Ф.Э.
Шперка. В отличие от традиционной публикации первоисточников книга
разделена на главы, состоящие из аналитического предисловия и собственно
документальной части. В дополнение к публикациям Ф. Э. Шперка в
сборник включены полемические отклики В.В. Розанова, B.C. Соловьева,
A.C. Суворина, П. П. Перцова, Э. Голлербаха, В. Я. Брюсова и др., что дает
возможность рассматривать творчество Ф.Э. Шперка в общем контексте
литературы конца XIX в.
Составитель признателен всем друзьям и коллегам, оказавшим
помощь при подготовке этой книги:
Александру Николаевичу Николюкину за многолетнюю поддержку
и участие;
Виктору Григорьевичу Сукачу, Валерию Александровичу Фатееву,
Сергею Романовичу Федякину и Валерию Владимировичу Мароши за
ценные советы и авторитетные консультации.
Особенная благодарность внучке Ф.Э. Шперка — Флоре
Венедиктовне Костроминой и Сергею Костромину за предоставленные редкие
фотографии и документы из семейного архива.
Отдельное спасибо Юрию Куприкову за его бескорыстную помощь.
17 Федор Эдуардович Шперк. Литературная критика / Сост. Т. В. Савина.
Новосибирск, 2001.
«ВАШ ЖДУЩИЙ ОТВЕТА ФЕДОР ШПЕРК...»
Ф. Э. ШПЕРК И В. В. РОЗАНОВ: ИСТОРИЯ ДРУЖБЫ
Единственный вид литературы, который я
признавать стал — это ПИСЬМА. Даже в «Дневнике»
автор принимает позу. Письмо же пишется столь
спешно и в такой усталости, что не до поз в нем.
Это единственный искренний вид писаний.
Священник Павел Флоренский
(из частного письма ко мне).
Василий Розанов1
Когда в конце 1980-х — начале 1990-х годов читающей публике вновь
стали, доступны произведения В. В. Розанова, написанные в «интимном
жанре полухудожественной афористической прозы»2, в первую очередь
«Уединенное», «Опавшие листья», «Сахарна», «Мимолетное», «Смертное»,
и, в некоторой степени, «Литературные изгнанники» и «Из старых писем.
Письма Влад. Серг. Соловьёва», за Федором Шперком прочно утвердилась
репутация «младшего друга Розанова». Высказывания Розанова содержат
крайне высокую оценку Шперка как критика и мыслителя: «гениальный
Шперк», «мальчишка-гений», «проницательный до гениальности»,
«только одно он давал впечатление: сила, сила идет». В часто цитируемом
отрывке из «Уединенного» Розанов ставил Шперка, как мыслителя, даже
«выше себя», отмечая его даровитость и самобытность. Розанов создал
Шперку репутацию мыслителя, если не равного себе по значению, то, по
крайней мере, близкого по духу единомышленника.
Между тем, вопрос взаимоотношений и взаимовлияния Василия
Розанова и Федора Шперка представляет значительный интерес не только с
точки зрения описания и оценки реально существовавших отношений, но и как
«тема Шперка», определенно присутствующая в розановских записях
интимно-дневникового жанра. Эта тема имеет вполне оформленный характер
и может быть описана как составляющий мотив темы бессмертия,
настойчиво звучащей в творчестве В. В. Розанова. Для описания этого
«двухуровневого» восприятия личности Федора Шперка важны как биографические
факты и документальные свидетельства, так и тексты В. В. Розанова,
несущие на себе печать всей специфики жанра «уединенного».
1 Розанов В. В. Литературные изгнанники. Воспоминания. Письма. М. 2000. С. 6.
2 Фатеев В. А. Публицист с душой метафизика и мистика. // В. В. Розанов:
pro et contra. Личность и творчество Василия Розанова в оценке русских
мыслителей и исследователей. Антология. СПб. 1995. Книга I. С. 15.
Ф.Э. Шперк и В. В. Розанов: история дружбы
17
Знакомство, сначала заочное, Василия Розанова и Федора Шперка,
началось в 1890 г., когда Шперк, студент юридического факультета
Петербургского университета, прочел работу «Место христианства в
истории цивилизации» и написал ее автору, тогда провинциальному учителю,
письмо3. Позже, после переезда Розановых в Петербург, знакомство
переросло в дружбу семьями: Варвара Дмитриевна Бутягина-Розанова
дружила с Анной Лавровной Шперк и была крестной матерью их старшего сына.
После неожиданной и скоропостижной смерти Федора Шперка в 1897 г.,
Розанов устраивал «подписку» в пользу вдовы и семьи, хотя и
признавался в письме к O.A. Фрибес: «На подписку в пользу Шперка я потерял
надежду»4. Розанов также хлопотал о вспомоществовании вдове и семье,
обращаясь с прошением в Комиссию помощи нуждающимся женщинам5.
Розанов был также автором всех трех некрологов, появившихся в
печати на смерть Ф.Э. Шперка: в «Новом Времени», «Историческом
Вестнике» и «Русском Обозрении». Странно, что некролог в газете, где больше
и плодотворнее всего печатался Федор Шперк — в «Новом Времени», —
был самым кратким и формальным. Дело объясняется тем, что в первом
варианте А. А. Суворину (сыну А. С. Суворина, главного редактора газеты
«Новое Время») не понравился тон, в котором Розанов писал о покойном
друге: «Очень трудно говорить о Шперке, так как знали его все-таки очень
не многие, и фамилия его была не Пушкин, каковая фамилия сама по себе
достаточно мотивирует самый длинный фельетон»6.
Розанов переделывать некролог не стал, вместо этого полностью
напечатав его в «Русском Обозрении». Действительно, он написал о Шперке
не в тоне «давнего литератора» о заинтересовавшем его «юноше», а
именно как о сомышленнике, который «шел или пытался идти именно по тем
путям и к тем духовным целям, к которым пролегла потом дорога и самого
Розанова»7.
С 1892 по 1897 гг. Шперк, один из первых критиков, опубликовал в
газетах «Гражданин», «Школьное Обозрение» и «Новое Время» несколько
положительных откликов на работы Розанова: статья «В. В. Розанов. Опыт
характеристики»; рецензия на книгу «Красота в природе и ее смысл»;
статья в «Новом Времени» под рубрикой «Современные заметки» —
размышления по поводу розановских «Сумерек просвещения». После
выхода в свет публикаций Розанова о Гоголе («Несколько слов о Гоголе»
и «Как произошел тип Акакия Акакиевича»), Шперк откликнулся статьей
на гоголевские темы «О характере гоголевского творчества. (К вопросу
3 Письмо Ф. Э. Шперка к В. В. Розанову от 21 марта 1890 г.
4 Письма В.В. Розанова к O.A. Фрибес. РГАЛИ. Ф. 2168. Оп. 1, д. 35. Л. 3.
5 Письма А.Л. Шперк к В.В. Розанову. РГАЛИ. Ф. 419. Оп. 1, д. 708. Л. 1.
6 Письма A.A. Суворина к В.В. Розанову. НИОР РГБ. Ф. 249. M 3822, д. 6.
Л. 14-15.
7 Перцов П.П. Литературные воспоминания. 1890-1902. М., 2002. С. 261.
18
«Ваш ждущий ответа Федор Шперк...»
о творческой психике)». Помимо них, Шперк написал несколько статей,
не касавшихся Розанова непосредственно, но содержавших
принципиальные оценки его творчества, например, рецензия на «Философский
Ежегодник» Я.Н. Колубовского в «Новом Времени», в которой много говорил
о «философах-профессионалах» и «философах-самородках», упоминая
при этом работу В. В. Розанова «О понимании».
Шперк знал Розанова и дружил с ним до того, как тот пережил
несколько идейных поворотов. В 1890-х годах Розанов был достаточно
последователен в своих взглядах, еще не заслужив репутацию «разноликого».
Всячески приветствуя и подчеркивая «психологизм» розановских сочинений,
Шперк понимал его как истолкование «настроений, пережитых
человечеством и осознанных им этических идей». Познание человеческой
природы, по мнению Шперка, было сердцевиной всего розановского творчества,
позволяя сводить к единой основе изучение различных эпох и культур.
Подобная основа мышления была близка Шперку тем, что именно в ней
он видел «жизненность» философии в целом. Шперк настаивал на
практической пользе как философии, так и всего литературного творчества,
которое рассматривал как «дело христианской любви». Он находил у
Розанова подтверждение своей мысли о том, что именно литература есть
«деятельно просвещающая сила в нашей стране».
В личных отношениях и переписке Розанов не был щедр на
комплименты Шперку, как он это делал полтора десятилетия спустя, скорее
напротив. Время от времени он напоминал Шперку «о необходимой скромности»
с его стороны, о своем энтузиазме по отношению к Шперку, «который
может выдохнуться»8. Шперк постоянно обращался к Розанову с просьбами
свести его с нужными людьми: издателями, журналистами, литераторами.
При этом очень часто письма Шперка звучали не в том тоне, которого
требовали отношения уже известного литератора и начинающего
критика. Более того, одна из настойчивых просьб Шперка (вторично написать
рекомендательное письмо к А. А. Александрову) повлекла за собой ссору.
Шперк стремился сотрудничать в «Русском Слове» и считал, что Розанову
будет нетрудно составить ему протекцию, но при этом для публикации он
предлагал Александрову статью о А. Волынском, одну из самых
скандальных и грубых своих рецензий. В письме Шперк наставлял Розанова:
«Напишите ему (A.A. Александрову — Т.С), чтобы он ответственно отнесся
к этим вещам [статья о Волынском и рецензии]; сотрудничество в Русском
Слове было бы для меня великой вещью»9.
Розанов помочь отказался, обвинив Шперка в лукавстве и «царедворс-
тве». Шперк ответил Розанову резким письмом, объявив дальнейшее
знакомство невозможным. Розанов и сам признавался позднее, что крайний
8 Письмо Ф. Э. Шперка к В. В. Розанову от 13 августа 1895 г.
9 Письмо Ф.Э. Шперка к В. В. Розанову от 8 апреля 1896 г.
Ф. Э. Шперк и В. В. Розанов: история дружбы 19
консерватизм и резкость статей Шперка ему не нравились, несколько раз
он говорил Шперку, что «между нами все кончено», что «раз человек не
признает никаких моральных законов, — что же с ним делать», «что я не
хочу его ни видеть, ни говорить», но кончал тем, что ни с кем не говорил
так безустанно, как с ним»10.
В литературных полемиках тех лет сказалась вся противоречивость
частных, личных, и публичных отношений между Розановым и Шперком. Внешне
Розанов нередко выступал против Шперка, как, например, в дискуссии о
книге В. Соловьёва «Оправдание добра» и в полемике вокруг книги А.
Волынского «Русские критики», но в позднейших комментариями Розанову удавалось
несколькими фразами прояснить свое истинное отношение к сути вопроса.
Розанов несколько раз цитировал суждение Шперка, касающееся
личности В. Соловьёва: «Соловьёв в высшей степени эстетическая (т.е. все
в нем красиво) натура, но совершенно не этическая», и соглашался с
такой оценкой Соловьёва, сопровождая ее одобрительным комментарием11.
Именно поэтому представляется достаточно странной реакция Розанова
на рецензию Шперка на книгу В. Соловьёва «Оправдание добра». Розанов
негодовал на Шперка, устроил ему «экзекуцию», и позже высказывался
в том смысле, что «не только я, но вся моя семья разразилась
негодованием на Шперка, изумляясь непостижимой и неожиданной его выходке»12.
Между тем, ничего неожиданного для Розанова в рецензии Шперка
быть не могло, поскольку вся она была лишь развернутым комментарием
к высказыванию о Соловьёве, как явлении «эстетическом, но совершенно
не этическом»: «Выводы в книге г. Влад. Соловьёва, те, которые
согласуются с духом христианской истины — прекрасны и заслуживают всякого
сочувствия; но доводы, но аргументация, которые подкрепляют и
оправдывают эти прекрасные истины — и слабы, и несостоятельны»13. Более того,
эта реплика в сторону Соловьёва, была напрямую связана с одинаковым
отношением и Шперка, и Розанова к «философии университетских кафедр»,
отягощенной излишним теоретизированием. Исключительное
полемическое заострение этих положений и определений в рецензии Шперка на
книгу В. Соловьёва «Оправдание добра» сыграло печальную и роковую роль,
принеся ему сомнительную славу «духовного разбойника».
В 1897 г., за два месяца до смерти Шперка, Розанов опубликовал в
«Новом Времени», под названием «Две философии», рецензию на одну из его
10 Розанов В. В. Из старых писем. Письма Влад. Серг. Соловьёва. // Розанов
B. В. Русская мысль. М., 2006. С. 458.
11 Розанов В. В. Литературные изгнанники. Воспоминания. Письма. М., 2000.
C. 102.
12 Розанов В. В. Из старых писем. Письма Влад. Серг. Соловьёва. / / Розанов
В. В. Русская мысль. М., 2006. С. 477.
13 См. статью: Шперк Ф. Об «оправдании добра» (Ответ A.C. Суворину) в
настоящем издании.
20
«Ваш ждущий ответа Федор Шперк...»
последних философских брошюр «Диалектика бытия. Аргументы и выводы
моей философии» (СПб. 1897). Одной из целей этой статьи было желание
Розанова как-то помочь умирающему другу, подбодрить и поддержать его.
В своей статье Розанов отнес философские размышления Шперка
к «неофициальной ветви» русской философии, которая «не имея
научного декорума и часто даже плана, в высшей степени полна «жизненного
пороха», и к которой, по сути, принадлежал сам Розанов по этой силе
«взрывчатости, самогорения, порыва мысли». Это суждение выражает
сущность отношения Розанова к философскому мировоззрению Шперка.
Розанов не вдавался в подробный анализ или критику философских
положений, ограничиваясь замечаниями общего характера. Более всего,
судя по репликам Шперка в письмах, Розанов не понимал и, вероятнее
всего, не читал философских статей и брошюрок своего младшего друга
(да он и сам в этом признавался)14. Отвечая Розанову по поводу той
грубости, которую позволил себе критик в статье против Волынского, Шперк
замечал: ««Вы, мой милый друг, говорили обо мне как писателе вещи
гораздо более жестокие и несправедливые, которые и теперь больны для
меня (о моей непонятной для Вас «философии»), и я все же никогда не
обижался на это»15. Однако, общность идей, вернее, настроений и
тенденций конца века, которую чутко улавливали и тот, и другой, позволяли
Розанову считать Шперка единомышленником и соратником. Справедливо
упрекая Шперка в отсутствии у него традиционных навыков письменного
изложения, Розанов, тем не менее, видел в его работах «книгу, как живое
и целое явление, несущее на себе печать лица»16, т.е. частное и
глубоколичное осмысление отношений личности с космосом.
Розанов, много раз упоминавший Шперка в корреспонденции 1890-х
годов, последний раз говорит о нем в письме к протоирею А. П.
Устьинскому в 1900 г., обсуждая с ним книгу «Пути спасения в браке»: «Это года
3 назад, когда умирал Шперк и очень меня просил начать писать о браке
(его интересовали мои мысли о нем), я сказал: боюсь ужасно этой мысли,
ибо тут — мучительное что-то...»17. Дальше — перерыв почти в полтора
десятилетия, до тех пор, когда в «Уединенном» возникает имя Шперка, но
уже в другом качестве и на другом уровне.
Прежде всего, важен жанр тех книг Розанова, в которых упоминается
Шперк: записи в «Уединенном», «Опавших листьях», «Сахарне»,
«Мимолетном», «Литературных изгнанниках», объединенных единством тем и сюжетов.
14 Розанов В. В. Из старых писем. Письма Влад. Серг. Соловьёва. // Розанов
В. В. Русская мысль. М., 2006. С. 476.
15 Письмо Ф.Э. Шперка к В. В. Розанову от 24 апреля 1897 г.
16 См. статью: Розанов В. Две философии. Критическая заметка в настоящем
издании.
17 Письма В. В. Розанова к прот. А. П. Устьинскому. РГАЛИ. Ф. 419. Оп. 1. д.
315. Л. 42-43.
Ф.Э. Шперк и В. В. Розанов: история дружбы 21
B. Б. Шкловский, например, считал «Уединенное» и оба короба «Опавших
листьев» «трилогией», связанной общими темами и единством приема —
«романы без мотивировки» 18. Если оставить в стороне крайности формализма,
то В. Б. Шкловский по сути прав в своем стремлении «обнажить прием»
построения образов в розановских текстах, поскольку единый прием
обусловливает композиционное единство. Но при этом Шкловский восклицает: «Этот
прием здесь и важен, а не мысли. «Мысли бывают разные»19. Однако
вопреки мнению Шкловского, за «обнажением приема», безусловно, стоит мысль:
переплетение разнообразных тем и образов в конечном итоге дают единую
тему — я сам, Василий Розанов как таковой. Все-таки мемуарами или
дневником их назвать трудно, и, следовательно, характер упоминаний многих имен
в розановских записях не мемуарный, не дневниковый, хотя и носит
некоторый отпечаток документальности, но тем не менее не всегда достоверен.
«Синтез мысли, факта и образа», на котором, по мысли В. А. Фатеева, основывается
созданный Розановым жанр «уединенного»20, определил основной механизм
создания образа Федора Шперка.
Факты жизни и литературного творчества Федора Шперка и реальные
отношения Василия Розанова и Федора Шперка на протяжении 1890-х
годов не совсем соотносятся с тем образом Шперка, который возникает
на страницах розановских книг. Высокая оценка Розановым Шперка как
мыслителя, данная в «Уединенном»21 уже в 1912 г., не совпадает с его же
ранними высказываниями о Шперке и «его писаниях». Однако речь здесь
может идти не о том, что Розанов лукавил или заблуждался относительно
ума и дарования Шперка. Скорее можно говорить о том, что спустя
полтора десятилетия после смерти своего младшего друга, он в своих книгах
создал сквозной образ, персонаж единого художественного текста, в
котором Шперк существует как некий знак, обозначающий своим
присутствием звучание определенной «розановской» темы: смерть и бессмертие.
«Душа моя» — называл свои записи Розанов, и как во всякой
человеческой душе, здесь нашлось место всему: вопросы религии и болезнь жены,
политика и купленные детям пряники, философия и ворох корректур. С одной
стороны — «мелочное», «мимолетное», «паутинки быта», «невидимые
движения души», с другой — почти документальное фиксирование мест, дат, имен.
И рефреном повторяется один и тот же вопрос: «Один раз, один раз, один раз
18 Шкловский В. Б. Розанов // Шкловский В. Б. Гамбургский счет. М., 1990.
C. 120-139.
19 Там же. С. 136.
20 Фатеев В. А. Публицист с душой метафизика и мистика. // В. В. Розанов:
pro et contra. Личность и творчество Василия Розанова в оценке русских
мыслителей и исследователей. Антология. СПб., 1995. Книга I. С. 15.
21 Чаще всего цитируется, но не комментируется отрывок: «Трех людей
я встретил умнее или, вернее, даровитее, оригинальнее, самобытнее себя...».
Розанов В. В. Уединенное. М., 1990. С. 71.
22
«Ваш ждущий ответа Федор Шперк...*
живет человек на свете.... Один раз приходит он на землю. Кто может вынести
эту мысль. «Вошел в мир»... И когда «отойду» — никогда больше не вернусь
в него. Никогда. Никогда. Никогда. Кто может это вынести?»22
Постоянный предмет философской рефлексии, смерть переживалась
Розановым как естественный финал земного пути любого человека, но
более всего его интересовало, что будет после. Причем это «после»
мыслилось им не как «Царствие Небесное» и не «загробная жизнь», а как
материально-предметный мир, который все равно существует и после его
смерти. Этот ужас собственного отсутствия там, где другие продолжают
жить, постоянно мучил Розанова: «Вот равнина... поле... ничего нет,
никого нет... И этот горбик земли, под которым зарыт человек»23. Именно
поэтому Розанов так часто описывал собственное физическое присутствие
на своих похоронах: то папироску кому-нибудь из провожающих
«подсунет», то колено из савана «выставит»24. Розанов, конечно, ерничал, но за
всем внешним цинизмом подобных заявлений скрывался не столько страх
смерти, сколько страх забвения, страх «прожить жизнь так, как бы ее
и не существовало»25. Поэтому и смерть других людей, близких или даже
незнакомых ему, мучила Розанова не меньше: «Но «человек умер», и мы
даже не знаем — кто: это до того ужасно, слезно, отчаянно, что вся
цивилизация в уме точно перевертывается»26.
Не столько смерти боялся Розанов, своей или чужой, сколько
неизбежного расставания, «отсутствия» близких рядом, а спасение от этого страха
видел в простой человеческой памяти: «Все мы под старость «поминаем
покойников»... Что это? Какая таинственная связь? Отчего она так жива
и дорога? «Что-то веет оттуда... Откуда? Что веет?» Руками не умеешь
схватить, а сердце чувствует... И страшно, и радостно»27.
Собственно, многие розановские записи, собранные им в книги, можно
было бы назвать «воспоминаниями». Не мемуарного толка, конечно, а как
неопределенные «мыслечувства»28, приходящие в голову мимолетно,
случайно. Наряду со многими великими, известными именами, Розанов с
пристальным вниманием, и далеко не случайно, вспоминал и «незнаменитых»,
из числа, что называется, «неудачников», «отвергнутых», «забытых».
22 Розанов В. В. Мимолетное. 1914 год. // Розанов В. В. Миниатюры. М.,
2004. С. 379-380.
23 Розанов В. В. Уединенное. М., 1990. С. 81.
24 Там же. С. 82-83.
25 Розанов В. В. Опавшие листья. Короб первый. // Розанов В. Уединенное.
М., 1990. С. 127.
26 Розанов В. В. Уединенное. М., 1990. С. 82.
27 Розанов В. В. Литературные изгнанники. Воспоминания. Письма. М., 2000.
С. 221.
28 Этот термин обширно используется в розановедении, напр. в работах Гаче-
ва Г. Д., Фатеева В. А., Федякина С. Р. и др.
Ф. Э. Шперк и В. В. Розанов: история дружбы 23
К тому периоду, когда создавались «Уединенное» и другие, написанные
в том же жанре, книги Розанова (1912-1915 гг.), Федор Шперк уже давно
умер и, как фигура литературной жизни 1890-х годов, всеми был прочно
забыт. Именно поэтому для Розанова Шперк важен и значителен прежде всего
именно тем, что практически «не был», как бы и «не жил», ни в чем не
состоялся: литературный неуспех, короткая жизнь, стремительное забвение.
В «литературной» судьбе Шперка Розанов угадывал некоторым
образом свою собственную возможную судьбу как литератора: ведь вполне
возможно, что и его могли бы не печатать, а после смерти забыть, не
вспоминать. «Не симпатичный, угрюмый учитель (гимназии), написавший
огромную книгу («О понимании»), немного сумасшедший»29 — так
вспоминал об отношении к себе коллег Розанов периода своего учительства
в Ельце середины 1880-х годов. Это перекликается с отзывами о
«начинающем критике Ф. Шперке»: «чудак, непонятный философ» — писал
П. П. Перцов30. В. Я. Брюсов в год смерти Шперка записал в дневнике:
«Как его осмеивали и гнали при жизни! Неужели надо умереть, чтобы
добиться серьезного отношения?»31.
Также можно заметить практически текстуальные совпадения в оценке
ранних философских работ Розанова и Шперка. Аноним из журнала
«Русское Богатство» в рецензии на книгу И. Тэна «Об уме и познании»
философские работы и Розанова, и Шперка объединил определением «ваньки-
на литература», высказавшись следующим образом: «Нашелся какой-то г.
Розанов, который написал несколько безнадежно-плоских пошлостей»32.
Даже сам Розанов, говоря о постоянной нестандартности своих взглядов,
в силу чего он никогда не мог определенно примкнуть к тому или иному
направлению, себя и Шперка объединяет в «нашу партию», называя
малосимпатичным словом «выродки»33.
Таким образом, мысль Розанова в отношении творческой судьбы Шперка
и своей собственной прочитывается весьма отчетливо: как литераторы, они
начинали в одинаковых условиях, двигались в одном направлении, одинаково
сначала были не поняты и не приняты. Отсюда горечь Розанова, вызванная не
только ранней смертью Шперка, но и его забвением. «Сравнительно с «Рцы»
и Шперком как обширно развернулась моя литературная деятельность,
сколько уже издано книг», — чуть ли не с удивлением отмечает Розанов.
«Но какова судьба литературы: отчего же они так не знамениты, отвергнуты,
29 Письмо В. Розанова к П. Флоренскому от 20 сентября 1910 г. Цитируется
по: Розанов В. Смертное. Комментарии В. Г. Сукача. М., 2004. С. 144.
30 Перцов П. П. Литературные воспоминания. 1890-1902. М., 2002. С. 262.
31 Брюсов В.Я. Дневники. М., 1927. С. 31.
32 Русское богатство. Рецензия на кн.: Ипполит Тэн. Об уме и познании (2-е
изд. Пер. H.H. Страхова). 1895. №3. С. 60-61. Без подписи.
33 Розанов В. В. Мимолетное. 1914 год. // Розанов В. В. Когда начальство
Ушло... Собр. соч. под общей редакцией А.Н. Николюкина. М., 2005. С. 584.
24
«Ваш ждущий ответа Федор Шперк...»
забыты?»34 При этом акцент делается не на том, что он — «знаменит»
(«Известность» иногда радовала меня, — чисто поросячьим удовольствием. Но
всегда это бывало недолго»)35, а на том, что они — «забыты».
Если согласиться с такой точкой зрения, что Розанов угадывал в
судьбе Шперка свою, возможную при других обстоятельствах, судьбу, то
многие розановские записи о Шперке приобретают значение
автобиографических. При этом, постоянно в некоторых оценках ссылаясь на Шперка,
Розанов апеллирует не столько к мнению молодого критика, а, скорее,
к своим собственным взглядам, устоявшимся или, наоборот,
изменившимся во временной дистанции в пятнадцать лет.
Почти все цитируемые Розановым высказывания Шперка,
представляют собой суждения молодого критика о Розанове как о личности или
оценку тех или иных его работ. Например, Розанов, ссылаясь на Шперка, что
тот не любил книгу «О понимании» (1886), умудряется буквально в
одном предложении продемонстрировать, насколько он и его
мировоззрение с тех пор изменились: «Я и до сих пор думаю, что книга («О
понимании») совершенно серьезна. Шперк, впрочем, ее тоже не любил и называл
«Географией ума человеческого» (что удивительно метко), предпочитая
для себя «странствовать», чем «ездить по географии». Отчасти я скоро
перешел тоже в «странствия», но это — дело влечения, а «по логике»
книга все-таки основательна»36.
Но из письма за 1891 г. видно, что Шперк высказывался о работе «О
понимании» немного иначе: «Вообще, я гляжу на трактат «О понимании»
как на труд влечения (а мы стремимся только к тому, чего у нас в себе
нет), а вовсе не как на труд внутреннего средоточия, жизни и таланта».
В примечании 1913-го года к одному из писем H.H. Страхова, в котором
шла речь об этой книге, Розанов превратил высказывание Шперка в
собственную чеканную формулировку, в которой смог уже с полной
определенностью констатировать ту роль в его мировоззренческих поворотах,
которую сыграла книга «О понимании», наполненная, с одной стороны,
отвлеченной схоластикой («географией ума человеческого»), а с другой —
уже содержавшая идеи «потенциальности бытия», важные для
дальнейших розановских мистических «странствий» по тайнам пола и рождения.
Также представляется важным замечание Шперка, цитируемое
Розановым о статье «Красота в природе и ее смысл» (1895), которая
нравилась Шперку и который написал о ней рецензию в «Новом Времени».
В комментариях 1913-го года Розанов пишет, что Шперк считал
основные положения, высказанные в статье, прекрасными, «потому что это
34 Розанов В. В. Уединенное. М., 1990. С. 71.
35 Там же. С. 50
36 Розанов В.В. Литературные изгнанники. Воспоминания. Письма. М., 2000.
С. 93.
Ф. Э. Шперк и В. В. Розанов: история дружбы
25
приводит прямо к Богу; Бог стоит заключением ко всей природе, которую
Вы рассматриваете»37, т.е. Розанов стремился подчеркнуть свое неизменное
убеждение в божественной природе красоты. Однако, в рецензии, написанной
самим Шперком, тот факт, что розановская статья касалась, в общем-то,
проблем эстетики, не был затронут, и критик сосредоточился в основном на
освещении психологических вопросов и больше всего хвалил автора именно за
это: «Не вполне удовлетворяемые в своих чисто философских ожиданиях мы,
однако, с чувством глубочайшего душевного удовлетворения прочитываем
небольшую книжку В. Розанова, писателя именно обладающего этим искренним
и действительно вдохновенным чувством, которое, проникая в средоточие
вещей, извлекает их жизненный нерв, их общий психологический смысл»38.
Довольно часто в исследовательской литературе, касающейся
творчества Розанова, цитируется известный пассаж из «Уединенного» о
«психопатах» и «декадентах» как о «новых словах», появившихся в течение последних
десятилетий XIX века. Розанов заявляет, что он и Шперк были
«декадентами» еще до появления самих декадентов: «Это было раньше, чем мы оба
услышали о Брюсове, а Белый не рождался»39. Однако, Шперк никак не мог
говорить о себе: «Я, батенька, декадент». Он постоянно выступал против
«декадентов», со страстью отстаивая принципы классической литературы.
Рецензии Шперка на книгу А. Волынского «Русские критики», а также
на его же статьи о Лескове, помещенные в «Северном Вестнике», были
.направлены преимущественно против метода «декадентской» критики.
В статьях «Таланты последней формации», «Один из последних романов»,
«Современные герои» Шперк буквально обрушивается на «новейших»
писателей-декадентов с сокрушительной критикой: «Вместо «героев»
теперешние беллетристы дают нам каких-то «чучел» и «чучелок». Вместо
душевных отношений — какой-то невообразимый сумбур, вместо
жизни — какие-то высокопарные фразы»40.
Сам Розанов периода 1890-х годов тоже был противником декадентства,
грубовато называя всех представителей «новой литературы» «какими-то
онанистами-гадами»41. Но на дистанции из 1912 г., если вспомнить при
этом о неосознанных проявлениях декадентского мироощущения у самого
Розанова, о его сближении с Мережковскими, А. Волынским, то эта запись
выглядит достаточно убедительной и апеллирующей никак не к мнению
37 Там же. С. 148.
38 Шперк Ф. «Красота в природе и ее смысл» В. Розанова / / Новое Время.
1897. 8 января.
39 Розанов В. В. Уединенное. М., 1990. С. 43.
40 Шперк Ф. Таланты последней формации // Новое Время. 1896. 22 июня;
Женская беллетристика. Один из последних романов // Новое Время. 1896. 6
сентября; Современные герои // Новое Время. 1896. 11 октября.
41 Письма В. В. Розанова к П. П. Перцову. // Розанов В. В. Сочинения. М.,
1990. С. 493.
26
«Ваш ждущий ответа Федор Шперк...»
Шперка, а к процессу осознания самим Розановым грандиозных изменений,
произошедших в его мировоззрении. Более того, по наблюдению В. А.
Фатеева, ряд действительно проницательных обобщений Ф. Шперка,
цитируемых Розановым, «о сути декадентства поразительно подходит для
характеристики самого Розанова более позднего периода»42, т.е. 1900-х годов.
Не случайно во многих розановских записях Шперк и Розанов
существуют парой, как бы собирательно: «я и наши», «мы со Шперком», «наша
партия». Описывая пунктиром свою творческую биографию, движение от
одного мировоззрения к другому, Розанов выстроил цепочку. Сначала
славянофил «в некоторые поры жизни», потом — консерватор, «был
народником, русским, «с Сусаниным». После переезда в Петербург — «примыкаю
к декадентам», «окончательно перехожу к язычеству и жидам», «религия
гроба», «ужас гроба». «Ничего не вижу». «Не понимаю ничего»43.
Для Шперка у Розанова пунктир получился короче — «славянофил-
декадент». Шперк, также как и Розанов, ощущал приближение грядущей
смены эпох, зарождение нового направления. Недаром он, при всей своей
нелюбви к декадентам, в общем-то, приветствовал общую
психологическую направленность, особенно симпатичную ему в творчестве Ф.
Сологуба. Видимо, Шперк также ощущал возможность определенных подвижек
в своем мировоззрении в сторону декадентства, и некоторые его печатные
выступления дают основания так считать. Например, статью «Таланты
последней формации», в целом негативную, Шперк закончил признанием того,
что «никто так глубоко не заглянул в «распавшийся» дух человека, никто
не извлек оттуда столько поучительного, существенного, драгоценного как
эти люди — больные атависты духа и неудачные новаторы творчества»44.
Розанов много раз повторял, что Шперк не просто считал его другом, но
и любил его. Не только со слов Розанова, а также и из писем к нему Шперка,
видно, что их действительно связывали самые теплые отношения. Несмотря
на происходившие размолвки, Шперк всегда обращался к Розанову
уважительно и даже одно из самых своих резких писем начал с обращения:
«Дорогой Василий Васильевич!»45 Поэтому фраза Розанова о том, что Шперк
как в человеке находил в нем «что-то мутное в организации или крови»,
какую-то нечистую примесь46, звучит не совсем в стиле Шперка. Напротив,
«что-то мутное», «нечистое» — это уже скорее из лексикона самого
Розанова, определения, к которым он частенько прибегал в описании самого себя,
своих внутренних настроений. В одном из писем к H.H. Страхову Розанов
42 Фатеев в. Жизнеописание Василия Розанова. С русской бездной в душе.
СПб. — Кострома. 2002. С. 188.
43 Розанов В. В. Мимолетное. 1914 год. // Розанов В. В. Когда начальство
ушло... С. 504.
44 Шперк Ф. Таланты последней формации // Новое Время. 1896. 22 июня.
45 Письмо Ф.Э. Шперка к В. В. Розанову от 30 декабря 1896 г.
46 Розанов В. В. Уединенное. М., 1990. С. 57.
Ф.Э. Шперк и В. В. Розанов: история дружбы
27
признавался: «всегда был с примесью сумасшествия»47. Поэтому
высказывание о «нечистой примеси» выглядит скорее как авто-характеристика, чем
как реальное отношение со стороны Шперка.
Вообще, о Розанове в свое время говорили много для него обидного:
«двуликий Янус», «инквизиторский кликуша», «юродивый». «Иудушка
Головлев», прозвучавший из уст B.C. Соловьёва, повторился потом
несчетное количество раз, вплоть до статей В. И. Ленина. Но Розанов
всегда имел что противопоставить своим критикам: «Позвольте. Это слова.
Почему я на них обижусь. Да ничуточки. ... Приставляй слово к слову —
выйдет речь, выйдет «газетная статья». И даже автор получит 3 рубля
(«среди газет») на обед. Что же мне-то до этого. Да я даже рад, что столько
обедают по поводу "Розанов — сволочь"»48. Поэтому весьма
примечательным является то, что все высказывания и суждения Шперка, цитируемые
Розановым, принимаются им безоговорочно; так можно доверять
только собственному суждению о себе. Розанов не спорит и практически не
комментирует их: «Он [Шперк] был проницателен, знал «корни вещей».
И если это сказал, значит, это верно»49.
Однако, как было показано выше, реальные печатные высказывания
Шперка в интерпретации Розанова претерпевали существенные
изменения и их авторство может быть в равной степени отнесено и к нему
самому, Василию Розанову. Это становится почти приемом: ссылаясь на
постороннее мнение (в данном случае — Федора Шперка), Розанов зачастую
полностью переформулирует его в нужном для себя смысле и контексте.
Более того, обращает на себя внимание тот факт, что все высказывания
Шперка Розанов не пересказывает описательно, а дает в виде прямой
речи, что превращает их чуть ли не в цитату.
В результате, в книгах, в которых ведущими являются субъективные
впечатления и мысли, он добивается ощущения определенной
объективности в оценке самого себя — не «Розанов о Розанове», а некий взгляд
со стороны, независимое суждение независимого критика Федора Шперка
(причем временная дистанция в пятнадцать лет придает этому суждению
устойчивость). При этом достаточно определенно, хотя в узких рамках и на
ограниченном материале, можно проследить изменение творческих и
идейных позиций Василия Розанова на протяжении нескольких десятилетий.
Реальные факты биографии Шперка под рукой Розанова превратились
в определенные элементы, составляющие личность собственно самого
Розанова в перспективе 90-х годов XIX века: философ-самоучка как
представитель «неофициальной ветви» русской философии; литератор, не приемлющий
47 Письма В.В. Розанова к H.H. Страхову // Российский
литературоведческий журнаЛ. 1994. № 5-6. С. 221.
48 Розанов В. В. Мимолетное. 1914 год // Розанов В. В. Когда начальство
ушло... Собр. соч. под общей ред. А.Н. Николюкина. М., 2005. С. 205.
49 Розанов В. В. Уединенное. М., 1990. С. 57.
28
«Ваш ждущий ответа Федор Шперк...»
устоявшихся оценок и шаблона; постоянная рефлексия даже в бытовых
мелочах; мыслитель, ищущий новых путей самовыражения и «новых тем».
В силу этого закономерно то, что Розанов, описывая Шперка уже в
частной, личной жизни, упоминает и подчеркивает только те обстоятельства,
которые были важны и значительны для него самого, как, например, жизнь
в семье. Для Розанова, который был буквально «заворожен» семейной
темой и темой брака, эта сторона жизни любого из попадающих в его поле
зрения людей была интересна особенно. Не только в опубликованных
текстах, но и в таких личных записях, как пометы к письмам своих
корреспондентов, Розанов обязательно записывал несколько замечаний по поводу их
семейных дел. Например, на письмах А. Г. Достоевской есть лаконичная
пометка: «Конечно, лучшего он не мог сделать, как женясь на ней», а на
письме ординарного профессора Московской духовной академии H.A. За-
озерского надпись: «Сбежала жена и теперь он за развод (сказали мне)»50.
Описанию семейного счастья Шперка Розанов посвящает большую запись
в «Опавших листьях»51 и целую страницу в «Литературных изгнанниках»52.
Собственные семейные обстоятельства, в частности — несчастливая первая
женитьба и непризнанный официальной церковью второй брак с В. Д. Бутя-
гиной, заставляли Розанова с пристальным вниманием всматриваться в
семейные отношения людей, близких ему. Несомненно, он был знаком с
трагическими обстоятельствами и женитьбы Шперка: его мать, в доме которой
А. Л. Шперк до замужества служила экономкой, выгнала сына после
«неравного» брака, полностью отказав в финансовой поддержке.
Интересно, что воспоминания Розанова о том, «как Шперк любил свою
Анну Лавровну» предваряется пассажем о двух «немцах, с большим
положением, женатых на русских». Однако то, что Шперк по матери был
евреем, а по отцу имел шведско-немецкие корни, совершенно для Розанова не
важно. На этот счет у него есть только одна оговорка — «человек не
русского покроя», сделанная в некрологе на смерть Шперка и спустя
пятнадцать лет совершенно потерявшая значение. Для Розанова Шперк в своей
семейной жизни притягателен прежде всего этим «отречением от себя», «от
эгоизма», от гордости и самолюбия», что было для самого Розанова одним
из краеугольных камней, заложенных в основание семьи и брака.
Поэтому другая сторона этого процесса — «собственно Шперк глазами
Розанова» — получила в розановских записях,иное развитие. Розанов,
спустя полтора десятилетия после смерти Федора Шперка, практически
50 Розанов В. В. О ближних и дальних (Пометы к письмам корреспондентов)
Вступительная статья, публикация и комментарии A.B. Ломоносова //
Литературоведческий журнал. № 13-14. 2000. Часть 1. С. 80, 103.
51 Розанов В. В. Опавшие листья. Короб второй и последний // Розанов
В.В. Уединенное. М., 1990. С. 365-366.
52 Розанов В. В. Литературные изгнанники. Воспоминания. Письма. М., 2000.
С. 245.
Ф.Э. Шперк и В. В. Розанов: история дружбы 29
не интересовался ни подробностями литературных полемик, ни
деталями его официальной биографии. Совершенно не важным оказалось, был
ли Шперк литератором или, скажем, врачом или инженером. Постоянно
упоминая свои собственные статьи и работы и оценку их Шперком,
Розанов не говорит ни об одной из статей самого Шперка, не дает никаких
оценок, кроме «проницательный» и «гениальный», что в контексте,
например, «Уединенного», оценкой считать нельзя. Выдвинутая Шперком в
литературно-критических статьях теория «христианского стиля» русской
литературы, трактовавшая любое художественное творчество с позиции
«как художник выражает и понимает Божеское», Розановым никак не
обсуждается, не комментируется и не вспоминается.
Единственным исключением можно считать большой отрывок из «Из
старых писем. Письма Влад. Серг. Соловьёва», в котором Розанов
описывает участие Шперка в полемике вокруг книги Соловьёва «Оправдание
добра»53. Однако, поскольку этот отрывок представляет собой комментарии
Розанова к письмам В. С. Соловьёва и связан с определенной и достоверной
ситуацией, подтвержденной документально: с одной стороны — рецензией
Шперка и опубликованным в «Руси» ответом Соловьёва, а с другой —
письмами Соловьёва, то Розанов вынужден сделать оговорку в том смысле, что
во многих своих статьях Шперк выступал «духовным разбойником», но, тем
не менее, в лице Шперка в литературу входила мощная сила.
Иного характера комментарии Розанова к переписке с H.H.
Страховым в «Литературных изгнанниках». Упоминания имени Шперка не
связаны ни с его отношениями со Страховым, ни с литературными событиями,
в которые он был вовлечен. Здесь образ Шперка вполне сопоставим с
образом из «Уединенного» и «Опавших листьев» именно на основании того,
что характер упоминаний имени Шперка в «Литературных изгнанниках»
напрямую связан с основной темой этой книги. В отношении Шперка как
обыкновенного человека, но слишком рано ушедшего, для автора
«Уединенного» самым главным было стремление воссоздать просто жизнь,
которая «в миниатюрных и будничных чертах не беднее, в сущности, и вовсе
не хуже самого высокого творчества»54. Образ Шперка оказался несущей
конструкцией мощного потока рефлексии на тему бессмертия: «Сказать,
что Шперка теперь совсем нет на свете — невозможно. ... И не то,
чтобы «душа Шперка — бессмертна: а его бороденка рыжая не могла
умереть. «Вызов» его (такой приятель был) дожидается у ворот, и сам он на
конке направляется ко мне на Павловскую. Все как было. А «душа» его
«бессмертна» ли: и — не знаю, и — не интересуюсь»55.
53 Розанов В. В. Из старых писем. Письма Влад. Серг. Соловьёва // Розанов
В. В. Русская мысль. Составитель А.Н. Николюкин. С. 457-459.
54 Розанов В.В. Ф.Э. Шперк // Розанов В.В. Сочинения. М., 1990. С. 229.
55 Розанов В. В. Уединенное. М., 1990. С. 93.
30
«Ваш ждущий ответа Федор Шперк...»
Бессмертие Шперка состоит для Розанова в том, что он запомнил и
потом воссоздал «все как было». Он буквально «воскресил» Шперка, наполнив
текст подробным описанием его внешности («бороденка рыжая»,
«дырочка в сапоге»), вспомнив имя его жены и фамилию друга, которого никогда
в жизни не видел56, брата Шперка, сырую квартиру, в которой тот жил,
и квартирного хозяина57. Все эти мелочи, несущественные для
официальной биографии, в своей совокупности воссоздали абсолютно реального
и живого человека. Но не того Федора Шперка, каким он был на самом деле,
а самого Василия Розанова, который помнит именно «такого» Шперка.
Об этой «функции» образа Шперка в текстах Розанова впервые
заговорил А. Д. Синявский: «Конечно, Розанов понимает, что больше всего здесь
он запечатлел самого себя, увековечил пуще египетских фараонов — но
опять-таки не в величии и самовознесении, а в мелком и интимном, как
живую личность, мимолетную в истории и вместе с тем закрепленную на
бумаге в этой своей мимолетности»58. Шперк становится неотделим от Розанова,
который, вспоминая и говоря о Шперке, вспоминает и говорит о себе самом.
Пристальное внимание к «миниатюрным чертам жизни» позволило
Розанову найти такую точку, такой ракурс, с которого можно увидеть рядом
и давно умершего Шперка, и самого себя в перспективе десятилетия. Это
явление, уже в наше время, заметил исследователь розановского
творчества А. Н. Николюкин, который особенно подчеркнул наступающий в
определенной точке момент «слияния прошлого и настоящего» как прием,
широко использованный в «Уединенном»59.
Считается, что Шперк поддержал увлечение новой для Розанова темой
пола, связи пола и религии. Источником этого мнения является, в
первую очередь, сам Розанов, «навязавший» позднее такой взгляд и
современному розановедению. Например, В. А. Фатеев пишет: «В этот ранний
период открытия Розановым новых тем, пожалуй, только молодой Шперк
открыто приветствовал его погружение в таинственные глубины мистики
пола, в древние языческие религии, иудаизм. Розанов вспоминал позже,
что Шперк говорил ему тогда: «Только об этом одном и пишите»60. Ссылка
на Розанова в данном случае кажется убедительной, однако нуждается
в некоторых комментариях и дополнениях.
56 Розанов В. В. Опавшие листья. Короб первый /'/ Розанов В. В. Уединенное.
М., 1990. СС. 136,365.
57 Розанов В.В. Литературные изгнанники. Воспоминания. Письма. М., 2000.
С. 245.
58 Синявский А. Д. С носовым платком в Царствие Небесное. // В. В.
Розанов: pro et contra. Личность и творчество Василия Розанова в оценке русских
мыслителей и исследователей. Антология. СПб., 1995. Книга И. С. 473.
59 Николюкин А.Н. Голгофа Василия Розанова. М., 1998. С. 174.
60 Фатеев. В. А. Жизнеописание Василия Розанова. С русской бездной в душе.
СПб. — Кострома. 2002. С. 202.
Ф. Э. Шперк и В. В. Розанов: история дружбы
31
В 1895 г. Шперк спрашивал Розанова: «Какого держитесь мнения
о Смысле Любви В. Соловьёва? Мне думается, недалеко время, когда всем
будет совершенно очевидно, что психическая категория Плоти есть
основа и корень всей индивидуальной психики. [...] Вообще, познание души
оттого должно иметь всестороннее изучение Полового Вопроса или тоже
категории Плоти. Ваших мыслей об этих важных сторонах я вовсе не знаю
и даже в Легенде о Великом Инквизиторе, т. е. в критике Достоевского не
встречал. А по [...] способности можно бы ожидать своеобразного понятия
у Вас на этот счет»61. Таким образом получается, что до 1895 г. ни Шперк,
ни Розанов в своих разговорах тему пола не затрагивали и не обсуждали.
Напротив, Шперк считал, что для Розанова самой важной темой
являлась философия истории и психология. В 1892 г., давая в письме частный
отзыв на статью Розанова «Идея рационального естествознания»,
помещенную в «Русском Вестнике»62, он писал: «Мое глубочайшее убеждение
состоит в том, как знаете, что предмет, наиболее идущий к Вашим
способностям: раскрытие исторических идей и психология рас»63. Как известно,
именно эта тема была основной в работе «Месте христианства в истории
цивилизации», которая вызвала интерес у Шперка и была причиной его
первого письма к В. В. Розанову.
Переход Розанова к другим темам, наметившийся в середине 1890-х
годов, не только не приветствовался, но беспокоил Шперка: «Почему Вы
совсем бросили историю» — спрашивал он в письмах. Постоянно обращая
внимание на «психологизм» розановских сочинений, Шперк
настоятельно возвращался к вопросу исследования Розановым истории философии
(или, как выражался Шперк, «психологии истории»). «Обращая на
философскую историю Ваше внимание, я имел именно в виду положительные
творческие данные в природе Вашего мышления — богатство и силу
самосознания, так сказать живое общение с психологическим своим миром.
Психологический элемент есть источник самого дорого мне в статьях
Ваших — этой юной и цветущей жизненности, правильной и неправильной,
но всегда своеобразной»64.
Таким образом, вопреки утверждениям Розанова о том, что Шперк
призывал его писать на тему пола, он поддерживал розановхжие
изыскания в ином направлении. Именно по поводу философии истории в
освещении Розановым Шперк мог высказаться как «только об этом и
пишите». Однако и здесь сказался тот же самый прием, которым пользовался
Розанов, цитируя суждения Шперка о своих критических статьях. Если
61 Письмо Ф.Э. Шперка к В. В. Розанову [1895 г., без даты].
62 Розанов В. В. Идея рационального естествознания // Русский Вестник.
1892. №8. С. 196-221.
63 Письмо Ф.Э. Шперка к В. В. Розанову [1895 г., без даты).
64 Письмо Ф.Э. Шперка к В. В. Розанову [1891 г., без даты, сохранился только
отрывок письма].
32
«Ваш ждущий ответа Федор Шперк...»
иметь в виду, что тема пола как раз и выросла из увлечения Розановым
«психологией рас», то поддержка Шперком розановских исканий в этом
направлении ощущалась Розановым как потенциальное единомыслие и в
изучении темы пола.
С другой стороны, заявление Розанова о том, что Шперк поддерживал
и сочувствовал его увлечению этой темой все же имеет некоторые
основания. Еще до того, как сам Розанов осознал свой интерес и тяготение к
познанию и анализу сферы полового чувства, Шперк уже говорил о
«космическом семени жизни» в своих философских построениях. Этот интерес
был вызван отнюдь не Розановым с его разговорами («Мы с ним о всем
говорили, — и между прочим он много рассказывал мне о своей половой
жизни [...] Ни малейшей застенчивости при рассказах ни он, ни я не
испытывали» — записывал он позже, уже в 1913 г.65), а общим стремлением
русской философской мысли конца XIX — начала XX в. к обновлению
церковной действительности, к пониманию и истолкованию «смысла любви»,
и, вслед за этим, «метафизики пола», и Розанов по праву считается самым
ярким мыслителем, начавшим разговор на эту тему. Поддерживая, по
словам Розанова, его искания в этом направлении, Шперк, тем не менее, не
разделял и, по сути, не мог разделять основные положения его философии.
Тема связи пола и религии интересовала Шперка как естественное
продолжение его размышлений о путях земной реализации человеческого
духа. В 1893 г. в работе «Метафизика мировых процессов» (СПб. 1893)
Шперк пытался дать философское истолкование «категории Плоти». Вслед
за B.C. Соловьёвым, который писал, что в статье «Смысл любви» он,
конечно, говорил не о заурядных отношениях между полами, т. е. «не о том, что
бывает, а о том, что должно быть»66, Шперк мог бы сказать то же самое:
любовь рассматривалась им в условиях идеальной действительности.
По мысли Шперка бесконечный ряд степеней духовного развития
предполагал реализацию «категории Плоти» на чувственном уровне в любви.
Шперк давал библейское толкование любви, когда девять заповедей
Господних были разделены на две скрижали, так как в заповедях заключаются
два вида любви: любовь к Богу (по Шперку такая любовь проявляется
мистически) и любовь к ближнему (которую Шперк считал этической). К двум
каноническим видам любви Шперк добавил еще и третью — эстетическую
любовь к природе. Любовь для Шперка — не столько субъективное
эмоциональное переживание, сколько активная составляющая преображения
человеческого духа. Поскольку цель реализации человека в бытии
заключалась для Шперка в едином движении духовного самоусовершенствования
65 Розанов В. В. В Сахарне. // Розанов В. В. Сахарна. Собр. соч. под ред.
А.Н. Николюкина. М., 2001. С. 142.
66 Соловьёв B.C. Смысл любви. // Сочинения. В 2-х томах.. М., 1988. Т. 2.
С. 531.
Ф.Э. Шперк и В. В. Розанов: история дружбы
33
на пути восхождения к Богу, то одним из методов реализации Шперк считал
реализацию человека в детях.
По словам Шперка, половая любовь, осуществляющаяся в браке (на
этом он особенно настаивал), создает двуличное единство, в котором дано
и благо, и зло в библейском понимании как познание добра и зла: «Благо
настолько, насколько в нем человек приблизился к сверхъестественному
единству, абсолютному благу, к Богу, зло насколько оно — естественное
единство — есть источник множества (размножения) и через это
человек приблизился к земле, к природе»67, т.е. к природному принципу
размножения как животному, неразборчивому удовлетворению полового
влечения. Подлинное духовное самоутверждение человека состоит в
преодолении собственной индивидуальности, когда важен не пол человека,
поскольку в этом случае он является лишь половиной, а целый человек
как соединение мужского и женского начал.
Одной из основ, цементирующих это соединение, Шперк считал брак.
В сборнике афоризмов «Мысль и рефлексия» он писал: «Г. В. Соловьёв
полагает («Смысл любви»), что в браке осуществляется некоторое
триединство. Это безусловно ошибочно: в браке дано фактически только двуединс-
тво и с ним добро и зло. В индивидуальной природе только человеческий
идеал имеет триединую форму»68.
B.C. Соловьёв видел смысл любви в рождении нового человека, как
в прямом, так и в переносном смысле: рождение духовного облика у
человека и рождение как продолжение рода. «Триединство брака» (мужчина,
женщина и Бог между ними) заключалось для него в том, что «человек
может зиждительно восстановлять образ Божий в живом предмете своей
любви только так, чтобы вместе с тем восстановить этот образ в самом
себе»69. Для Шперка «триединая форма человеческого идеала»
совершенно необязательно воплощается в браке или в интимных отношениях: сам
факт рождения человека и его существования как индивидуальности уже
является воплощением мужского и женского начал и Божественного
присутствия между ними. По убеждению Шперка любящие и уважающие друг
друга мужчина и женщина способны к соединению, но не по чувственным
или эротическим мотивам, а чтобы стать частью «некоего совершенного
целого — церкви», и, таким образом, достигнуть «полноты и цельности
человеческой природы в едином мировом восхождении к Богу», и брак,
как и деторождение, — лишь один из методов реализации духа.
Интересно, что в рассуждениях Шперка о половом чувстве
совершенно отсутствует эротика. Эрос как таковой рассматривался Шперком как
«похоть» и «сладострастие», которые разрушают духовную целостность
67 Шперк Федор. Мысль и рефлексия. Афоризмы. СПб., 1895. С. 18.
68 Там же. С. 23.
69 Соловьёв В. Смысл любви. С. 530.
34
«Ваш ждущий ответа Федор Шперк...»
человека и с которыми человек должен бороться. Например, за
откровенный эротизм многих образов в произведениях Достоевского Шперк
обвинял писателя в цинизме. Плоть и дух у Шперка оказались разведены по
разные стороны человеческого существования уже в самом своем
источнике: «Всяческое страдание в человеке есть болезнь плоти его, Всяческое
наслаждение в человеке есть восторг духа его»70. Все высказывания
молодого философа на тему пола отличаются какой-то невероятной для такой
личной темы сухостью и сдержанностью в сравнении, например, с
откровенными и иногда шокирующими высказываниями Василия Розанова.
Понятно, что такой ортодоксальный взгляд на природу и сущность
пола и брака не совпадал с розановскими рассуждениями на эту тему.
Розанов в большей степени писал о том, «что бывает», и его мало
интересовало то, «как должно быть» в идеальной действительности, которая
у Шперка была совершенно лишена не только чувства полового влечения
и эротики, но и зачастую полового различия, которое представлялось ему
«взаимодействием двух элементов одного целого».
Для Шперка в основе плотского чувства всегда лежало целомудрие,
которое было онтологической характеристикой категории Плоти:
«Мистическое целомудрие есть самый глубокий момент душевной жизни
человека. Нарушение его (в известной аномалии) есть нарушение целости,
тождества индивидуального «я»71. Тенденция человека быть или хотя бы
казаться цельным и совершенным порождает другую — скрывать то, что
ощущается им как неполнота или недостаток, т.е. свое половое отличие,
в этом для Шперка состояла основа чувства стыда. Именно в этой точке
его рассуждений — о чувстве стыда, — наиболее ясно видно коренное
различие взглядов Шперка и Розанова на природу пола.
В большом отрывке из «Сахарны» Розанов описывает случай, когда
они вместе купались, и он стыдился взглянуть на обнаженного Шперка.
«И вот с тех пор, — лет 14, — нет-нет да и вспомню, и еще раз спрошу:
«Да от чего?! Что мне за дело?!! Ведь по существу-то никакого дела!!!» [...]
Где же «корешок» этой действительности?»72. В этом, с настоящей
страстью написанном отрывке Розанов говорит о чувстве стыда как
мистическом проявлении обособленности любящей пары от остального мира, для
которого она становится «безличной»: «Теперь-то и объясняется, почему
я не мог смотреть на Шперка... Я совершенно не мог взглянуть на то, что
ко мне никого отношения не имело, со мною нисколько Шперка не
связывало и до скончания веков не могло бы связать... Я видел его «спину»:
а «лицо» и взглянув все равно не увидел бы и вековечно бы не увидел, так
как видеть его может лишь то, или тот, или та, к кому оно обращено или
70 Шперк Федор. Книга о духе моем. СПб. 1895. С. 36.
71 Шперк Федор. Мысль и рефлексия. Афоризмы. СПб., 1895. С. 17.
72 Розанов В. В. В Сахарне. // Розанов В. В. Сахарна. С. 140.
Ф.Э. Шперк и В. В. Розанов: история дружбы
35
обратится»73. Таким образом, чувство стыда испытывается не любящими,
а третьим — посторонним для них, в то время как Шперк считал, что
любой человек должен стыдиться проявлений плотского влечения.
Для Розанова чувство стыда было «вуалью пола», за которой во всей
непреложности для любящего неизбежно «начнет просвечивать лицо и даже
Лицо»74. Чувство стыда исчезает, когда женщина «обращена» к мужчине,
а мужчина — к женщине, и «лица его никто не видит, кроме того, к кому
он обращен»: кто зовется его «жена», единственная в мире»75. Для Шпер-
ка же «лицо» человека заключалось в самоуважение личности,
проявляющееся в этическом поступке, менее всего связанном с половой сферой,
а по большей части имеющем отношение к социальной действительности
(т.е. «доброе дело»).
Розанов с публицистической яростью критика обрушивается на
«всеядное лицо», «немного лакейское лицо», на «нечестное лицо»
современного общества и обращается к совсем другому «лицу» — «он и она», —
в котором сконцентрировалось для него все счастье жизни человеческой:
«Нельзя сказать, что «в теле», ибо душевная радость еще сильнее, и
нельзя сказать, что «в душе», ибо ощущается слишком телесно»76.
Философия Розанова, взятая в целом, утверждала пол как
соединение плоти и духа, воплощение природного начала, неразрывно связанного
с религией: «Расторжение плоти и духа есть болезнь.... Все живое хочет
жить, т.е. удерживает дух и плоть в соединении»77. Для Розанова
интересно прежде всего взаимодействие духа и плоти и, как итог их
взаимодействия — «рождение младенца с душой», в чем и состояла для него
целостность бытия. В основе брака лежит пол, и поэтому семья, по
убеждению Розанова, это реальное соединение двух людей, не нуждающееся
в формальном подтверждении церкви, потому что «любовь древнее и
церкви, и брака»78. В силу этого увлечение Розанова идеей пола привело его
к конфликту с христианством, в то время как лютеранин Шперк пришел
к апологетике христианства и полному принятию православия.
При всех своих страстных выступлениях против «отвлеченного
теоретизирования» современной философии, именно тема пола получила у Шпер-
ка умозрительный и отвлеченный характер, когда чувственная, но низкая
плотская любовь отделялась от возвышенной, но совершенно безликой
философской любви. Тем не менее, вспоминая позже Шперка в «Сахарне»,
73 Там же. С. 147.
74 Там же. С. 143.
75 Там же. С. 148.
76 Там же. С. 145.
77 См. Фатеев В. А. Публицист с душой метафизика. // В. В. Розанов: pro et
contra... С. 7.
78 Розанов В. В. Мимолетное. 1914 год // Розанов В. В. Когда начальство
ушло... С. 579.
36
«Ваш ждущий ответа Федор Шперк.. л
Розанов искренне считал его не только союзником в разговоре на новые
темы, что, в общем-то, соответствовало действительности, но и в
определенной степени — единомышленником, каковым Шперк по сути не был.
Естественно, что Розанову, при его особенных семейных
обстоятельствах, не могли понравиться некоторые заявления Шперка, типа: «Только
церковью освященный брак — благодатен и реален; только христианская
любовь истинна и действительна»79. Вряд ли и сам Шперк, имей он
возможность прочитать «В мире неясного и нерешенного» или «Брак и
христианство», согласился бы с розановскими взглядами. И, безусловно,
категоричное восклицание Розанова в «Мимолетном»: «Никогда решительно
брак двух неисповедим ни для кого, кроме этих двух»80 было бы
неприемлемым для Шперка.
Однако Розанов семейные отношения именно Шперка считал образцом,
посвятив описанию его семьи несколько страниц в «Сахарне». Розанов при
этом чаще даже не упоминает фамилию Шперка и не называет по имени
его жену, а обходится местоимениями «он», «она», пытаясь подчеркнуть
общность, универсальность своей формулы семейного счастья. Именно здесь
Розанов, которого не особенно интересовала философская идеальная
любовь, достигает метафизических вершин в изображении того, «как должно
быть», когда «она» и «он» — уже не конкретные люди, а все человечество,
разделенное полом и соединенное семьей: «Я счастлива — И она сияет. —
Ну вот я теперь успокоилась — если была тревога. — Побудь еще со мною.
Это — милому. Как же не «domine» и даже Domine!»81
Поиск нового понимания и истолкования «смысла любви» и, вслед за
этим, метафизики пола, был свойственен русской философской мысли
конца XIX — начала XX в. И В. В. Розанов, и Ф.Э. Шперк в своих
исканиях двигались в едином русле, но пришли к противоположным
выводам. Взгляды Шперка на этот вопрос были достаточно традиционными
для философии «всеединства». Розанов же считал своим
единомышленником по вопросам пола не литератора и философа Шперка, а обычного
семейного человека, счастливого в браке. Откликнувшись на «созвучное
себе» в судьбе Шперка, он сумел вывести свою формулу человеческого
счастья — «душевная радость», ощущаемая «телесно».
Розанов все видел по-своему, все воспринимал на свой особенный, ро-
зановский, лад. Все преломлялось сквозь призму его мысли, забиралось
и впитывалось им в душу: «Моя душа сплетена из грязи, нежности и
грусти» писал он в «Уединенном»82. Шперк в изображении Розанова, конечно,
не такой, каким он был на самом деле, а такой, каким его захотел вспомнить
79 Шперк Федор. Мысль и рефлексия. СПб., 1895. С. 27.
80 Розанов В. В. Мимолетное. 1914 год // Розанов В. В. Когда начальство
ушло... С. 583.
81 Розанов В. В. В Сахарне. // Сахарна. М., 2001. С. 146.
82 Розанов В. В. Уединенное. М., 1990. С. 61.
Ф.Э. Шперк и В. В. Розанов: история дружбы
37
Розанов — и описал только то, что вызвало отклик в его душе. Это
свойство розановского мышления — откликаться на «созвучное» себе — очень
проницательно первым отметил именно Шперк еще в самом начале их
отношений. В письме 1892 г., обсуждая статью Розанова «Идея рационального
естествознания», посвященную H. H. Страхову33, а также его высказывания
о творчестве К. Леонтьева, он писал: «Суждения Ваши и о Леонтьеве и, как
прежде, о Бакунине и Страхове, не что иное, как субъективное отношение
к себе самому, своей продуктивности, своим идеям»84.
Очень точно и, как потом оказалось, предвосхищая дальнейшее
движение прихотливой и изменчивой розановской мысли, Шперк
сформулировал основной принцип, на котором основывалась природа розановского
субъективизма: «Каждая отдельная мысль Ваша в силу этого облечена
в две формы — адекватной законченной и определившейся точно
отвлеченной мысли и субъективного чувства зарождающейся идеи. Это
субъективное ощущение у Вас распространяется и на те мысли, которые вызвали
Ваши, возбудили Ваше мышление»85.
Естественно, что особенно выразительно этот принцип
«субъективного чувства зарождающейся идеи» сказался в розановских текстах,
написанных в жанре «уединенного»: для Розанова не столь важна сама мысль
или явление, пришедшие извне, со стороны; важна вызванная «чужой»
мыслью «своя» зародившаяся идея. Причем сам принцип не был порожден
. жанром «уединенного», здесь он лишь усилился и развился. Собственно,
многие повороты во взглядах Розанова, как и поиск новых тем на
рубеже веков, в значительной степени были определены, что называется,
«витавшими в воздухе» мыслями и их субъективным восприятием и
развитием Розановым. Отсюда проистекает несомненная автобиографичность
жанра, открытого Розановым. О ком бы он ни писал — в конечном итоге,
он писал о себе, потому что ощущал свое постоянное единение с
окружающим его миром: «Мне хотелось бы, чтобы меня некоторые помнили,
но отнюдь не хвалили; и только при условии, чтобы помнили вместе
с моими близкими. Без памяти о них, о их доброте, о чести — я не хочу,
чтобы и меня помнили*86. Он и сам помнил и вспоминал о многих, но
тоже на свой особый лад: образ Федора Шперка получился у Розанова
настолько автобиографичным, что практически отделился от реально
существовавшего человека и зажил в розановских текстах своей
собственной самостоятельной жизнью.
Именно Василию Розанову обязан Шперк своим «двухуровневым»
существованием в истории русской литературы: с одной стороны — как
83 Розанов В. В. Идея рационального естествознания // Русский Вестник.
1892. №8. С. 196-221.
84 Письмо Ф.Э. Шперка к В.В. Розанову. [1892 г., без даты].
85 Письмо Ф.Э. Шперка к В.В. Розанову. [1892 г., без даты].
86 Розанов В. В. Уединенное. М., 1990. С. 38.
38
«Ваш ждущий ответа Федор Шперк...»
фигура литературной жизни конца XIX века, а с другой — как некий
«образ-мысль», который может проявиться не только в художественной прозе
и критике, но и в эссеистике. Этот «образ-мысль» не является
универсальным и не создает литературного типа в полном смысле, но строится
по вполне определенным законам, заданными непосредственно жанром
розановских текстов: с одной стороны — четкая документальная основа,
с фактами, датами, с указанием источников и пр. С другой стороны —
творческое переосмысление и, в определенной степени, идеализация
реального материала, в основе которого лежит несомненный принцип
автобиографичности.
Синтез двух уровней восприятия — реального и рефлексивного
(вернее, саморефлексии) — сформировали основную смысловую нагрузку,
которую несет на себе образ Федора Шперка, созданный в «Уединенном»,
«ОпавШих листьях», «Сахарне», «Мимолетном» и пр., — тема смерти
и бессмертия. Не столько важны реально существовавшие между
Василием Розановым и Федором Шперком взаимоотношения и взаимовлияния,
претерпевшие в текстах Розанова значительные изменения и
трансформацию смысла, сколько важен механизм создания образа, не существующего
вне текста вообще и вполне определенного контекста в частности. Таким
образом в историю русской литературы Федор Шперк вошел не только
в качестве критика и одного из литераторов «розановского окружения»,
но и как образ, созданный по уникальным законам жанра, открытого
Розановым.
В этом разделе публикуется комплекс писем Ф.Э. Шперка к В. В.
Розанову 1890-1897 гг. Письма печатаются в хронологическом порядке
по оригиналам, хранящимся в: РГАЛИ, ф. 419, оп.1, д.709, 109 листов87.
Письма без даты датируются по контексту. Специальные заголовки
письмам не присваивались. Строки и слова курсивом воспроизводят
подчеркивания Ф.Э. Шперка. Сокращенные слова написаны в полной форме.
Многоточие в квадратных скобках — слова, написанные неразборчиво.
Ответные письма В. В. Розанова не сохранились. В дополнение к письмам
Ф.Э. Шперка к В.В. Розанову публикуется еще семь писем: два письма
Ф.Э. Шперка к A.C. Суворину, три письма А. Л. Шперк к В.В. Розанову,
письмо А.Л. Шперк к В.Д. Бутягиной-Розаново'й и письмо Г.Э. Шперка
к В. В. Розанову.
Не публикуются короткие записки Ф.Э. Шперка бытового характера.
ПИСЬМА Ф.Э. ШПЕРКА
Письма Ф. Э. Шперка к В. В. Розанову.
1
21 марта 1890 г. Спб.
Многоуважаемый автор «Места христианства»1.
Я на днях прочел Вашу брошюрку и не могу удержаться не написать Вам
этих строчек, хотя и знаю, какое странное впечатление обыкновенно
производят письма такого рода, авторы которых для их получателей лица совершенно
неизвестные. Но скажу прямо: брошюра Ваша произвела на меня сильное
впечатление и возбудила большой восторг во мне. У нас в России, где наука
вообще так бедна, всякое научное произведение неизменно вызывает
высоко-отрадное чувство, но еще отраднее должно быть это чувство, если мы замечаем,
что никакая задняя мысль не руководила автором, что произведение его чисто
и искренно, что никаких других целей, кроме научных, оно не преследует.
Не знаю, верно ли я угадал место Вашего пребывания и попадет ли это
письмо в Ваши руки — частью это, а частью совершеннейший недостаток
свободного времени и удерживают меня пока высказать все, что лежит на
душе у меня по поводу Вашей книги.
Более всего, конечно, я был заинтересован Вашей основной идеей, т.
е. тем отношением субъективности и объективности, которое Вы нашли
у главных племен прошлого времени и в истории развития человечества.
Я сам по поводу этого долгое время размышлял, но пришел к несколько
иным выводам.
Фердинанд Лассаль в одной из своих речей сказал: что всякая эпоха
в истории характеризуется одним словом, многостороннее воплощение
которого она и есть. Наблюдая характер человеческой природы, но мало
вникая в историю, я пришел несколько лет тому назад к заключение, что
словом, в котором мог бы выражаться характер нашего времени и нашей
жизни, должно быть «объективность», но я ошибся: субъективность,
плодом которой явилась истинная религиозность, и объективность, высшее
проявление которой есть любовь к ближнему, — отжили уже свой век.
Отжили они свой век не в жизни народов, а в бытии высших
представителей народной цивилизации. На стр. 38 Вы говорите: «Последняя
цель — есть христианская цивилизация. Под этим выражением мы
разумеем слияние в нас самих и во всем, что мы делаем и что создаем, элементов
семитического духа с элементами духа арийского», (следов.[ательно]
субъективности и объективности).
1 Розанов В. В. «Место христианства в истории». Русский Вестник. 1890.
№ 1.С. 94-119.
40
«Ваш ждущий ответа Федор Шперк...»
Я Вашей мысли не разделяю.
По-моему, на место уже отжившего «религиозно-нравственного»
мировоззрения должно ступить то мировоззрение, которое современные
немецкие философы называют «служеньем абсолютному Богу» (Ed. v.
Hartmann. Zur Geschichte in Begründung der Pessimismus2. 1880 и Gottfried
Borries. Über den Pessimismus als Durchgangspunkt zu universaler
Weltanschauung3. Münster. 80.), т.е. вникновенье в вечные идеи мирового
процесса. Но в воззрениях немецких философов лежит, по-моему, та ошибка,
что они совершенно не вникли в смысл того, чему явились
проповедниками. Они не могли того понять, что служение абсолютному Богу возможно
только при полнейшем отрешении себя ото всех земных связей и всякого
чувственного на жизнь обращенного взгляда.
Потому они — пессимисты, а не абсолютисты, как бы должны были
себя называть при строгой и верной оценке своей роли и своего значенья
в истории. Наш пессимизм не есть тот пессимизм, который существует во
все времена и у всех народов; нет, наш пессимизм возник из бессилия
бросить свой душевный и религиозный мир во имя мира идейного, которого
законность мы уже начинаем чуять в глубине нашей души.
Наша цель не лежит в слиянии в нас субъективности и
объективности, процесс этого слияния уже совершился бессознательно в истории —
и плодом его явился нынешний абсолютизм. Прожита нами эпоха
религиозного, прожита нами также эпоха душевного, но начинается только
эпоха умственного настроения...
Видя только две противоположности — субъективность и
объективность, но не замечая юного плода — последствия их слияния — Вы
приходите, наконец, к тому заключению (36 стр.), что мы стоим в преддверии
к последнему и высшему, что может быть узнано и испытано человечеством.
По моему мнению, это заблуждение с Вашей стороны.
И Платон думал то же самое, когда полагал, что выше его философии
ничего быть не может, и Гегель думал то же самое, а что, разве
остановился ход философского мышления, разве не может оно дальше?
Но все же лежит большая доля правды в их убеждениях...
В чем же они заключаются?
А не в том ли, что мысль Платона, и мысль Спинозы, и мысль Гегеля,
и мысль Гартмана одинаковы по истинному содержанию и различны
только в форме, в которую заключены.
Гартман более близок по своему современному духу к нам и мы
считаем его мысль бытия высокою, чем мысль Платона или Спинозы. Я
думаю, что Богом брошена в нашу жизнь не бесконечная, а конечная
2 Эд. фон Хартманн. «К истории обоснования пессимизма». 1880.
3 Готфрид Борис. «О пессимизме как о кратчайшем пути к универсальному
мировоззрению». Мюнстер. 1880.
Письма Ф. Э. Шперка
41
мысль, но что историей этой жизни должно было стать не конечное,
а бесконечное видо- и формоизменение этой мысли и поэтому я считаю
процесс мировой — вечным движеньем...
Я тут только мог выразить взгляд мой на Вашу основную мысль —
остальное отлагаю на будущее время.
Думаю, что Вы не откажете мне в ответе. Остаюсь Вас глубоко
уважающий
Федор Шперк
С. Петербург. 22 марта 90 г.4
Литейный пр., дом гр. Шереметьева, № 51 кв. 5
2
Многоуважаемый Василий Васильевич!
Через Ваше письмо я узнал и познакомился с Вами. Теперь я вижу, что
многое в моем первом письме должно было показаться Вам чуждым —
более всего, конечно, мой суровый и жесткий взгляд на жизнь. Полнейшее
отрицание чувства, безусловные требования жизни в идеях не может не
поразить неприятно человека с таким полным и цельным чувством как Вы.
Вы были очень откровенны со мною, и я отплачу Вам тем же.
Вы увидите, что иначе моя философия сложиться не могла, Вы увидите,
что она логично вытекает из моей жизни, из лучших моих стремлений, Вы,
наконец, увидите, что выше этой философии я не могу и не должен ничего
знать. В характере моем от природы легло много темного и нехорошего,
и этих худых элементов в нем было так много, что душевному мраку во
мне естественно надлежало только разрастаться и увеличиваться, чтобы
под конец когда-нибудь совершенно погубить меня всего. Такова должна
была бы быть моя судьба, если бы в своем дальнейшем развитии я пошел
натуральным путем. Но к счастью, бессознательно и незаметно для меня
в сознательном ухудшении моего нравственного «я», стала разрастаться
в душе моей какая-то Божья искра, вытеснившая [почти] весь мой
душевный мрак и нравственно спасшая меня. Такой Божьею искрою понимаю
я тут — свой критический ум. Но не тот критический ум, который в
постороннем разбирает все нехорошее, а обращенный на себя — становится
притуплённый и услужливый, напротив, во мне был тот критический ум,
который в постороннем старался найти только все хорошее и, видя даже
только все худое, неусыпно искал хорошего — а обращенный внутрь себя,
жестоко разрушал все, совершая немилосердный суд анализа...
С тех пор как воцарился во мне этот ум, высшей целью во мне стало
самоусовершенствование. А в чем мог я видеть это
самоусовершенствование если не в разрушении в себе всего худого. Все, все хотел я истребить,
4 В тексте проставлены две разные даты.
42
«Ваш ждущий ответа Федор Шперк...»
одно оставить — чистую истину. С этих пор я стал духовно подниматься, но
бывали и минуты падения и, знаете, всегда они совпадали со сближением
моим с внешним миром, с людьми. Нет, должен был я себе сказать, истина,
к которой ты стремишься, не должна смешиваться с внешней ложью, не
то она изменяет свое чистое содержание и переходит в ложь. Высшею же
истиною я считал и считаю еще сознательное слияние с бессознательною
жизнью в истории. Простое доброе счастье, которого Вы жаждите, я
понимаю, ценю, я могу даже к нему проникнуться любовью, если представлю
его в своем воображении, но желать я его не стану: оно лежит не на моем
прямом пути. Я изменю себе, если стану гнаться за ним, — я потеряю цель
в жизни...
Оттого-то мои слова «религиозные и душевные настроения отжили
свой век».
В своей философии я центром ее поставил себя. Быть может, это
ошибка, ошибка от духовной неполноты моей, быть может. Но разве пойму
я когда-нибудь это, почувствую в душе... Все человек способен понять,
одно недоступно его пониманию — то, чего в нем нет, что ему недостает,
одним словом, человеческую неполноту свою...
Критическим анализом своим мог я разобрать все нехорошее в себе, но
никакой анализ (странно даже ставить тут это слово) не назовет мне того,
чего во мне нет. Критический анализ тут бессилен — силен один Бог...
Я полагаю, что эта откровенность моя к Вам нас не разъединит, а
только сблизит. Вашу мысль о бессильном, страдающем Боге я постараюсь
понять. Пока она в меня, даже бессознательно, не приходила...
Искренне переданный и уважающий Вас
Ф. Шперк
Полное имя мое: Ф. Эдуардович Ш. Не заставляйте меня [...] долго
ждать Вашего письма — я бы очень желал знать, как Вы после этого
судите обо мне.
Спб. 30 марта 1890 г.
3
Плюсса, 2 июля 1890
Многоуважаемый Василий Васильевич.
В то продолжительное время, которое протекло со времени Вашего
последнего письма, я, конечно, не раз имел возможность ответить Вам
и если все же не исполнил своего долга, то и не стану защищать себя.
Книгу Бакунина5 я непременно прочту, после чего и сообщу Вам свое
мнение о ней.
5 Бакунин Павел Александрович (1820-1900), автор трактата «Основы веры
и знания» (СПб. 1886), в котором отразились его гегельянские взгляды.
Письма Ф. Э. Шперка
43
Недавно я ознакомился с Вашей статьей6 в «Вопросах философии и
психологии]». Не берусь собственно критиковать основную Вашу идею,
замечу только, что отличительное свойство всего Вашего творчества (по моему
мнению) есть чрезвычайно тонкий анализ мысли и жизненность Ваших
идей. Это последнее качество особенно высоко ставлю. Именно то, что
идеи Ваши растут на почве исторического миросозерцания и придает им их
жизненность. Бокль7 говорит, что задача философии состоит в пророчестве
будущего. Если это верно, то дорога, по которой Вы идете, искренна, также
и цель, которую Вы видимо преследуете, но искренни ли сами идеи — ответ
на этот вопрос [...] более, чем когда в будущем и следует искать.
В Вашей статье попадается несколько оригинальных определений, с
которыми я однако не могу согласиться как напр[имер] с определением
отношений, существующих между наукой и философией (стр. 31, 32). Мне
кажется, что здесь Вы свой анализ не до конца довели и что, несмотря на всю
простоту и наглядность, Ваше картинное определение страдает прежде
всего неточностью и внутренней ошибочностью. Я никак, напр[имер], не
соглашусь с такою мыслью: «Наука все теснее и теснее примыкает к
оболочке природы, преследуя все изгибы ее; философия стремится к этой же
оболочке, навстречу науке, но лишь изнутри содержания».
Понимаю мысль Вашу; верить во встречу науки с философией это
значит и философию, и науку ставить на равную высоту.
Я бы скорее так объяснил это отношение:
Между тем как наука определяет только смысл существования всего
существующего, философия отыскивает идею в существовании всего, т.
е. главным образом идею в существовании самого человека и идейные
отношения, которые с ним образует все существующее. Тут я, видите,
ставлю философию выше науки; ведь наука объясняет, философия же —
оправдывает каждое существование (однако только с точки логического
в уме человеческом, а не абсолютного в воле Божества...).
Читали ли Вы статью кн. С. Трубецкого «О природе человеческого
сознания»? Автор несомненно талантливый человек и притом недюжинный
критик.
Глубоко уважающий Вас
Ф. Шперк
[...] адрес мой: по Варш.[авской] ж. д., ст. Плюсса, д. [Андрошево], мыза
Архангельская.
6 Имеется в виду статья Розанова «Заметки о важнейших течениях русской
философской мысли, в связи с нашей переводной литературой по философии». / /
Вопросы философии и психологии. 1890. №3. Отд. II. С. 1-36.
7 Бокль Генри Томас (1821-1862), английский историк, автор книги
«Истории цивилизации в Англии», которая признавалась одной из самых замечательных
попыток объяснить прошедшие судьбы человечества и создать прочные основы
Для определения его будущего развития.
44
«Ваш ждущий ответа Федор Шперк...»
4
Орловская губ.[ерния], г. Мценск
Оттуда в имение г. Рындина
Как видите, попал в Ваши края. Если Бог даст, на возвратном пути
в Петерб.[ург] заверну к Вам в Елец. Не знаю, получили ли Вы мое
прошлое письмо из деревни.
Книгу Бакунина я прочел. Вы мне собственно не писали настоящей
оценки этой книги и потому мне бы очень хотелось узнать ближе Ваши
суждения о ней, чтобы их сверить с моими, так как мне кажется, что мы
совершенно [...] расходимся, а ничего не поведет так близко к истине, как
сравнение противоположных мнений.
Скажу совсем откровенно: мне думается, что вся эта книга есть
сплошная диалектика, если под этой [...] понимать исключительно формальное
построение понятий.
Диалектичным, по-моему, должно быть одно выражение мысли, а вовсе
не сама эта мысль, которая если она [...] хочет быть философской,
непременно должна быть аналитической. Как можно быть формалистом
художником, как можно быть формалистом поэтом, так можно быть и
формалистом в философии. И такой формалист, философ по своей внешности и есть,
по-моему, Бакунин. Кто не имеет внутреннего творческого духа, тот
желает быть по крайней мере внешне творцом и подделывается под стиль как
внешнее конкретное выражение всякого синтеза, всякого творческого
содержания. Кто не имеет способности к анализу понятий, кто, одним
словом, не философ — тот подделывается под диалектическое выражение как
выражение всякой аналитической мысли. Я не нашел в книге Бакунина ни
одной конкретной мысли! Все в ней или наивно, или парадоксально. Наивно
то, чего ему не удалось прикрыть никаким вычурным выражением, то, что
собственно и есть реальное в этой книге; парадоксальность, наоборот, там,
где диалектические усилия Бакунина удались... Б.[акунин] хочет обхватить
все, определить и жизнь, и веру, и смерть, и бессмертие — но усилия его
и стремления недостаточно серьезны, мысль слишком поверхностна.
Больше я ничего не могу прибавить.
В ожидании Вашего ответа остаюсь глубоко уважающий Вас
Ф. Шперк
10 августа 1890 г.
5
18.11.90
Благодарю Вас, многоуважаемый Василий Васильевич, за письмо Ваше.
Жду рукопись с нетерпением. Красоту в природе нельзя иначе рассматривать
как органически связанную с объективной истиной и объективным
этическим идеалом. В такой связи вопрос об объективно прекрасном действительно
Письма Ф.Э. Шперка
45
представляется существенным и важным. У меня есть свои мысли
относительно этого; что они с Вашими не совпадут — в этом я уверен. Всякий
мыслитель, более или менее серьезный по значению, выходит из
индивидуального начала; существенно здесь только: будут или не будут они с Вами
в противоречии? Об этом, конечно, напишу по прочтении Вашей статьи.
Завидую вообще способности Вашей обращать внимание на разностороннее,
многообразное. Этой разносторонности ума я совершенно лишен; быть
может нет человека с направлением ума более узким, чем у меня. Все мое
мышление движется одними определениями: нет во мне (в старом смысле слова)
ни идей, ни миросозерцания — определения, определения] и определения].
От этого, быть может, и некоторая своеобразность моя, своеобразность
необыкновенно односторонне движущегося человека, занятого одними
определениями и более ни в чем не проявляющего свою мысль и внимание.
Грустно мне, что некоторая центральная мысль моего прошлого письма
мало, по-видимому, Вами оценена.
Насчет «органического] процесса» (ном[ера] Гражданина] беру я
иногда в Публичной Библиотеке, которая у меня под рукой, и в которой я уже
третий год занимаюсь, и отец мой — врач, и брат — студ[ент]-техник)
повторю прежнее: все это в высшей правильно, но все здесь наблюдение
ума, а не мышление строго логическое, вникающее в сущность
абстрактных фактов. Все это даже, быть может, очень ново, но ново не в исходной
точке, а в дальнейшем развитии и результатах анализа.
В этом Вам самое строгое мое суждение этой работы. Ваш анализ, как
я Вам и раньше когда-то писал, необыкновенно тонок и отчетлив,
потому-то Вы с большой легкостью разлагаете логические понятия и их
реальные элементы. Но этого еще недостаточно. Реальные эти элементы в
сущности могут быть найдены всяким, желающим потрудиться над анализом
понятий. Любителей таких немного, а потому то, к чему мог бы прийти
каждый, делается чем-то действительно новым для того, кто
рассматривает в первый раз для него обнаруженные результаты этого анализа.
Но не в этой новизне мы нуждаемся, мы нуждаемся в новизне исходной
точки, которая и поразительна в Ваших психологических статьях, почему
и говорю, что в них заложены действит[ельные] факты Вашего мышления.
Эта последняя новизна есть новизна глубокая, а первая новизна — это
поверхностная. Если Вы в последней статье своей сказали эстетическое
слово — это дает мне рассмотреть склад Вашей мысли еще в новой точке зрения,
в которой она мне неясна. Как, однако, встретились мы в своих намерениях:
пишу я теперь небольшую стат[ью] о свободе воли, вопрос, поставленный на
очередь московскими] схоластиками, и думал переслать Вам на просмотр, как
получил Ваше письмо. Когда допишу — пришлю. Самое главное то, что во мне
нет ни капли литературного дарования, потому что мысли мои высказаны не
словами и предложениями, а знаками и фигурами какими-то...
Весь Ваш Федор Шперк
46
«Ваш ждущий ответа Федор Шперк...»
6
Многоуважаемый Василий Васильевич!
Нет! Относительно Гоголя я никаких уступок Вам делать не могу.
Я просто не понимаю Ваших слов...
Другое дело, если бы Вы сказали, что для Гоголя не существовал
современный человек с его болезненной психической гранью, нервной
жизнью анализа XIX века; но нет; Вы утверждаете, что Гоголь человека
не понимал и не понимал жизни...
Знаете ли, скажу я Вам откровенно, в словах и мнениях Ваших о
Гоголе вижу именно нервную личность нашего стиля, которая глубоко
уверена, что кроме ее сложной жизни и ее не менее сложных психических
идеалов — никакой другой жизни не существует. Ох! Как это все неверно!
Мы совершенно ошибочно понимаем сущность психологии — мы
совершенно превратно толкуем историю нашего душевного развития.
Сколько сложностей, тонкостей усматривает нынче аналитик в своем душевном
содержании, а кто в наше время не аналитик еще, все до единого и нет
тому исключения. Но вот в чем я убедился в минуты искренней
простоты и чего никогда не отменю: мы делаем грубую ошибку, принимая за
действительную душевную историю все психические болезни, все наши
душевные периоды, состояния, чувствования, переломы и все прочее,
что в чувствительной душе нашей происходит. Нет ее в этом эффектном
движении! В этой сложной обстановке могут, положим, разыграться
душевные драмы, но они и не в этой обстановке возможны и так же
ощутительны вне ее. Если уж признавать за душевной жизнью историю,
то признавать ее в развитии нашего нравственного смысла. А эта
тонкая струйка душевной жизни, которая частью игнорировалась
нашими да и всеми почти психологами, увлекавшимися более богатством,
сложностью и тонкостью душевной обстановки, нашла свое выражение
в простых творениях Гоголя. Укажите мне течение ее в развитых и духом
богатых Печориных, Базаровых, Вронских или Левиных, да нет — все их
душевное содержание вертится на двух понятиях: на понятии о духовно
или душевно приятном и на понятии о неприятном, нравственный
вопрос в их жизни не разрешается, повышения их нравственного смысла не
замечается, а широко только раскрывается их душевная обстановка, их
фиктивные болезни, а в грубом Чичикове — в том, который и не
подозревает, что существует столь сложный, столь разнообразно освещенный
мир — происходит действительное движение, колебание нравственного
сознания, душа его движется, хотя бы мировоззрение его всегда
оставалось одинаково простым, и в страшный момент, когда, сквозь унижение,
всплывает в нем крохотное, но истинное сознание нравственного своего
уродства — он переживает действительную душевную драму...
А мы и представители наши — Достоевские, Толстые и отчасти
Тургеневы — за роскошной обстановкой совершенно забывают о существовании
Письма Ф.Э. Шперка
47
развития нравственного чувства. Достоевского называют больным
писателем; в нем, говорят, много неестественного; его характеры странны;
затем — анализ его — все это напряженно и болезненно. Верно! Но позвольте
Вам сказать, что не тут, где Вы полагаете, Достоевский болезнен, и потому,
может, он таков, что не решается наши нервные психологические
состояния поднять, и соединить, и выразить в одном моменте нравственного
бытия. Прежде всего обращаю внимание Ваше на диалог в Преступлении],
и Наказании]. Вот тут, можно сказать, и ложь, и болезнь в этом
всеобщем примирении, в этой лживой, бес[...], нервной любви! Нравственного
смысла — вот чего не доставало большинству психологов и художников.
Действительно, нравственно чистая личность, которой я должен вопреки
установившемуся мнению признать Гоголя, никогда не будет так банальна
и цинична, как бывает Достоевский, никогда не впадет в изящную грубость
Тургенева, никогда не будет так груба, как Толстой. Не принимая во
внимание литературные искания Гоголя (да и то, несмотря на их напыщенность,
неэстетичными их по-моему признать нельзя, и сама лишь изруганная
«Переписка» написана, хотя и абстрактно, но в целом превосходно) и
рассматривая его как художника — я не нахожу ни единой черты, которая претит
моему поэтическому чувству. А вопрос этический заменяется на вопрос
«поэтический» (эстетический — даже мало сказано!).
Ради же нашего особого психологического склада скажу, что и До-
• ст[оевский], и Толст[ой], большее впечатление на нас оставляют, чем
ординарный Гоголь!, — но нравственную поддержку, этическое влияние я
испытал только со стороны его.
В Тургеневе много правды жизни, указания на вечный смысл ее,
много святых слов — я Тургенева так же причисляю к нравственной линии.
Менее признаю это за Толстым, а о Дост[оевском] положительно думаю,
что яркий своим освещением душевной обстановки, ложным
представлением нравственного бытия и совершенным непониманием эстетического
и простого, он часто пагубно влияет на нравственное чувство.
И Толстой, и Достоевский походят на тех нервных людей, которые
постоянно и не смущаясь ничего, делают вам свои признания, изливают душу
свою, считая себя вдобавок искренними и правдивыми, не замечая уже
всей той фальши, которая лежит в их понимании душевной истории как
чего-то близкого с картинной галереей.
Тургенев и здесь был проще!
Гоголь для меня есть вообще олицетворение простоты и свободы, и это
тем более изумительно мне, что во всей своей личной жизни он, пожалуй,
еще больше нашего испытал и выстрадал, и выразил в себе
противоречивый дух времени нашего. Но он, конечно, понимал, что не в нем — истина.
А Толстой, и Дост[оевский], и отчасти Тургенев], хотя и мнят себя
глубокими знатоками человеческого сердца, на самом деле страшно
поверхностны: исковерканного эпохой человека сочли за действительную
48
«Ваш ждущий ответа Федор Шперк...»
личность, и этот человек с актерской душевной [...] позировал перед ними
и они живописали его. И воображали, что все это очень хорошо.
Вы, по-моему, в [...] заблуждении относительно Гоголя и имеете
слишком преувеличенное мнение о качествах и достоинствах писателей
последнего времени, о которых нельзя сказать самого важного, именно —
чтобы они нравственно действовали...
Простите за утомительную длинноту письма и скажите, в чем Вы не
соглашаетесь.
Ваш Ф. Шперк.
19 декабря 1890 г.
(Приписка вверху письма) Все хотел и все забываю спросить Вас,
читаете ли Вы немецкие сочинения. У меня есть одна замечательная книга,
которую бы я желал Вам прислать.
7
Часть Вашей просьбы, многоуважаемый Василий Васильевич, я
исполнил: Дети кап[итана] Гранта Вам высланы, Аксакова я никак не мог найти.
Оказывается, что издание Сем[ейных] Хрон[ик] распродано все. Напишите,
что выслать взамен. Вообще, в случае надобности обращайтесь всегда ко
мне. Я все рад исполнить. Об одном Вас только предупреждаю: человек я в
высшей степени непрактичный, в последнее время я как-то еще улучшился
в этом отношении, но прежде я был чистым ребенком во всех делах сего
мира. Ваши мысли относительно себя, т.е. последней Вашей статьи8, очень
обрадовали меня: Вы не предаетесь, или лучше сказать — Вы сумели
преодолеть самообман, это хорошо; притом обрадовало меня и другое, где Вы, как
видно, не отворачиваетесь, а напротив, обращаете внимание на вопросы,
касающиеся процесса творчества, таланта и пр. Я подавно погрузился в них и,
должно быть, они и будут коньком, на котором въеду в литературный свет,
а пожалуй и всю жизнь свою буду разъезжать. С большим наслаждением
читал я верные замечания Ваши относительно статьи о Дост[оевском] (как
она написана и т.д.). Со всем должен был согласиться! Все — верно!
Отсюда объясняйте себе и мою большую привязанность к Гоголю: он был
центральным примером для меня, на который я сводил все свои мысли и идеи
в критике этих психологически-эстетических вопросов. Так же дорого мне
и то в нем (впрочем, никем это, кажется, не замечено было), что вопросы
эти все им глубоко переживались. В этом и некоторых других болезненных
пунктах я с ним схожусь характером. Люблю я его странность, люблю я его
критицизм, люблю даже его наставнический тон и великое самолюбие! Все
это есть во мне — только в другом сочетании. А так как и в Тургеневе все
8 Шперк имеет в виду статью Розанова «Легенда о Великом инквизиторе
Ф.М. Достоевского» // Русский Вестник. 1891. № 1-4.
Письма Ф.Э. Шперка
49
эти качества совмещены — то и ему я сочувствую. Есть во мне неполнота
какая-то, которая и втягивает меня в размышления над этими глубоко
скрытыми тайнами человеческой природы.
Достоевского я не люблю за его цинизм, и образы его циничны и
выражены цинично, все в нем цинично, даже простота и та цинична, но я
преклоняюсь перед грандиозными идеями его. Зато во всем решительно противен
мне Лев Толстой. Это самый мелочный из художников, и самый мелочный
из мыслителей. Читали Вы пересказ Козлова его книги о [...] в Вопросах?
Его мышление жизненно — это важно, но как можно наравне с
парадоксами говорить такие наивные благоглупости? В нем есть только самое
редчайшее из всех человеческих достоинств — вера в себя, и главное — умение
заставить других в него верить. А любопытно было бы знать, каков он как
человек? Итак, напишите, что Вам выслать вместо Акс[акова] и прибыли ли
Дети кап[итана] Гр[анта] и Кант, хорошими ли детьми оказались?
Ваш Ф. Шперк
22 янв[аря] 91
(Приписка внизу: перечитываю письмо и вспоминаю, что Достоевский
только один раз сделал на меня впечатление непосредственно грациозного —
это в Бр[атьях] Карам[азовых]. Дмитрий К. рассказывает Алексею о посещении
его Катерины Ивановны. Вот здесь-то я встретил две-три строчки
необыкновенной поэзии: «Когда они выбежали, я был при шпаге, я вынул шпагу и хотел
было тут же заколоть себя, для чего — не знаю, глупость была бы страшная,
конечно, но должно быть, от восторга. Понимаешь ли ты, что от иного
восторга можно убить себя. Но я не закололся, а только поцеловал шпагу и вложил
ее опять в ножны». Только цитировать Д[остоевского] все же нельзя!
8
Статью о Достоевском9, уважаемый Василий Васильевич, прочел
я раньше получения Вашего письма; действительно — я бы мог
согласиться с Вами, что Г[оголю] не доставало непосредственного чувства, если
бы не ставить этого упрека не ему самому (вставка: т. е. за недостаток
в [...] чувства, души), а времени, в котором жил он, холодного времени
треска журналистики и чиновничества 30 и 40 годов. В «М[ертвых]
Душах», и в «Петербургских] Повестях», и в «Ревизоре» много холода, но
холод этот не от автора идущий, а извне навеянный. Да и нельзя
забывать еще того, что был Гоголь человеком больным, а для больного все
только один холод. А скажите, неужели нет души в его Т[арасе] Бульбе.
(Относительно Андрия в Вашей статье, то эстетическая любовь, пока
эстетической она только остается, есть всегда чувство духовное, а не
плотское!), в [...], в «Старосветских] пом[ещиках], всюду одним словом, где
Имеется в виду статья «Легенда о Великом инквизиторе Ф. М. Достоевского».
50
«Ваш ждущий ответа Федор Шперк...»
Гоголь от своего времени уходит в простую старину, и он согревается ею,
а что говорят нам внутренние образы идеальных людей Муразова и князя
в М[ертвых] Д[ушах]? Ведь это вовсе не безжизненные лица, им,
правда, недостает внешней оболочки, они не восполнены, вот их недостаток.
А Коробочку и Собакевича, и Манилова он рисовал не потому, чтобы не
понимая человека, но только потому, что чистый, безпримесный
художник, как он, всегда будет характерам предпочитать жизнь, и чистый,
безпримесный психолог будет предпочитать типам — характер (Достоевский
в Преступлении] и Наказании) — это закон природы!
Вы все заботитесь, как бы сделать из меня — писателя, от души благодарю
Вас за участие; но видите ли, во-первых, я большой лентяй, а во-вторых — нет
воображения, а без него литератор не возможен вполне. Со всяким, конечно,
бывают моменты [...] воображения под впечатлением чего-нибудь глубоко
пережитого или прочувствованного... и я в эти минуты способен писать (и буду
ими всегда пользоваться), но быть литератором, по закону писать (хотя бы
и по собственному), для этого нужно иметь талант литературный, т. е. ни что
иное как воображение, как дар Божий, постоянно носимое, неугасимое, чего
во мне решительно нет. В статье Ваша мысль о мистическом взаимодействии
личности под абсолютным значением человека искупает все ее прочие
несовершенства. Мысль эта одна из самых прекрасных, высоких психологических
идей, а недостаток я вижу в вымученности, печать которой лежит на ней.
Уж не пересидели ли Вы за чтением Достоевского? Слишком детальное,
кропотливое изучение писателя отнимает, и совершенно, охоту говорить о нем.
И [...] он затем, и потому быть может, впечатление чернового наброска. Ну,
а цитаты, цитаты! Я бы их всех повыкинул бы за борт. Разве можно вообще
цитировать Дост.[оевского], это, что говорить, жалкие слова! Даже не
эстетично! Я с некоторой досадой начал читать, восхищаясь к концу, а закрывал
книгу — рассердился даже, конечно, не за две выписки...
В настоящее время болею инфлюэнцей, сижу дома и, кажется, одна
только глупая мысль вертится в голове, что жизнь выше и выше всяких
наших теорий, собственно говоря — такие простые истины и не мыслятся
вовсе, а каким-то образом переживаются мозгом и диктуют настроение.
Ваш Ф. Шперк
1891, январь
9
[после апреля 1891 г.]
Дорогой Василий Васильевич!
Получил Ваше письмо и очень обрадовался. Не писал я Вам вот по какой
причине: в последнее время все больше и сильнее шла моя глубокая
ненависть и презрение ко всему окружающему. За эти две-три недели я пережил
какой-то кризис. И вот Вам мои мысли относительно грядущего: перехожу
Письма Ф. Э. Шперка
51
в будущем году в Московский] Университет]10 и начинаю новое бытие.
Будет ли оно лучше или хуже здешнего — не знаю.
Во мне, знаете, страшно много гоголевского. И смирение, и
высокомерие то же, и то же съедающее всю личность мою дьявольское самолюбие.
Вот Вам признания горящего сердца...
Как-то Дмитрий сказал Вам еще: «Как не подекламировать немножко!»
Причем во мне есть еще одна очень скверная черта: совершенно нет
серьезности по отношению к [...] вопросам. Оттого, что так скверно на душе было, я и не
писал Вам, ужасно глупо говорить прекрасные мысли, когда на сердце дрянь!
Вашу статью о Дост[оевском] я прочел — совсем резко не понравилось:
нет ни малейшего сознанья, чувства формы. Статью о Гоголе еще не прочел.
В каком она №? Но в общем я сочувствую тому, что Вы уделяете
мистическому свое место в природе человека. Я сам рационалист-мистик... Выше
подняться не могу, ибо [...] мышление все же сильнее во мне развито. Перехожу
я на второй курс; [...] мне еще полных 19 лет, душой совершенно я еще очень
не зрел; по происхождению представляю всю смесь норвежской и еврейской
крови, причем, как мне кажется, последний элемент особенно сильно
выражен во мне: вот Вам и некоторые биографические данные... Относительно
будущего я еще в неведении полнейшем. Юрист я выйду очень
сомнительный, литератор негодный, домашние прочат меня в редакторы какой-нибудь
газеты или журнала, но ведь это мечта... Знаете, чем я в последние дни
занимался: писаньем протеста против Крейцер[овой] Сонаты. И сам не думал
раньше, что дойду до этого. Как я вам уже писал, я приникнул даже в первое
время ко многим из толст[овским] мыслей и вдруг создается совершенно
противоположная Толстому теория. И я пишу, чтобы Вы думали [...] чистый
панегирик половому чувству, да и вполне искренне, и с убеждением...
На лето я взял себе заданную юридич[еским] факультетом тему Ученье
Спинозы о праве и государстве11. Кроме того, что будет какая-нибудь
определенная цель, с каким наслаждением стану я проглатывать поэзию
этого святого человека. Я всегда глубоко страдал от того, что нет во мне
простоты. Надо нравственно дорасти, как сказал Гоголь. Простота
Спинозы или Фомы Кемпийского достигнута упорной и постоянной работой
над самим собой. А нам
Суждены нам благие порывы,
Но свершить ничего не дано12.
Вчера, кстати, заспорил я о Лермонтове с одним студ[ентом]. Начал
я ему развивать ту мысль, что Лермонтов вовсе не русский поэт, что
10 Шперк в Московский университет не перешел, более того — бросил и Санкт-
Петербургский, начав жить сначала на средства, полученные от отца, потом — на
литературные заработки.
11 Позже Шперк издал эту работу отдельной брошюрой под названием
♦Система Спинозы» (СПб., 1893).
12 Цитата из стихотворения H.A. Некрасова «Рыцарь на час».
52
«Ваш ждущий ответа Федор Шперк...»
Лермонтов чистый романтик, а как романтик не может быть русским
и иметь русские идеалы. Вы не можете понять идеалов Лермонтова],
ответил мне он, потому что Вы вообще стремитесь отделиться и отойти
от всего людского. Меня как громом эти слова поразили. И
действительно, так оно и есть. Опять аналогия с Гоголем. Я выше всего
одиночество ставлю, что только одно одиночество создает сильных людей, против
же общества я несу злобный протест. Оно своим давлением на личность
производит эксцентричность и странные натуры. Я ужасно странен среди
людей и иначе я и не могу быть, каждый из них в свою сторону тянет меня,
и я дроблюсь на части, в одиночестве же сохраняется цельность натуры!
Итак, Вы мне за сие пространное писанье простите мертвые недели.
О немецкой книге я Вам как-нибудь после напишу; летом, по всей
вероятности, буду жительствовать вблизи г. Шацка Тамб[овской] губ[ернии],
следовательно, не особенно далеко от Вас.
Этот месяц придется много посвятить изучению юридических наук,
которые до сих пор не были тронуты еще.
Весь Ваш Ф. Шперк
10
[без начала и без даты, вероятно — 1891 г.]13
... удержался из боязни показаться навязчивым своими суждениями,
к тому же отрицательного свойства. Теперь же, когда Вы меня об этом сами
просите — я свободно решаюсь высказать свои мнения. Видите ли, когда
я Вам писал о философии истории как о предмете, наиболее соответствующем
положительным сторонам Вашего мышления, я рассуждал таким образом:
история сводится, сказал это еще Тэн, в конце концов на психологию. Так!
История есть развитие нравственного содержания в духе человека. Оттого-
то высший взгляд на историю дан психологией, или, как принято говорить,
философией истории. Обращая на фил[ософскую] историю Ваше внимание,
я имел именно в виду положительные творческие данные в природе
Вашего мышления — богатство и силу самосознания, так сказать живое общение
с психологическим своим миром. Психологический элемент есть источник
самого дорого мне в статьях Ваших — этой юной и цветущей жизненности,
правильной и неправильной, но всегда своеобразной. В первом же труде Вашем14
я наталкиваюсь не на психологию, а на логику, и здесь Вы не на правильной
дороге, в этом я почти убежден. Впрочем, я и не знаю такой личности, которая
вмещала бы в себя и проницательность логики, и глубину психологии. Мне
кажется, что при резком выражении одной из этих сторон (как это у Вас
13 Датируется по времени выхода статьи В.В. Розанова о H.H. Страхове.
14 Шперк имеет в виду книгу В. Розанова «О понимании. Опыт исследования
природы, границ и внутреннего строения науки как цельного знания». М. 1886.
Письма Ф. Э. Шперка
53
и есть) такое соединение и невозможно. В сфере чистого мышления Вы мне
представляетесь больше наблюдателем, чем мыслителем — Вы наблюдаете
тщательно, ясно и внимательно — и поэтому наблюдаете правильно. Но
можно сказать много истинного и верного — и все это не будет истинно-
существенным. Вот отчего и на меня, как на Страхова (Стр[ахов] по слабости
своего критического] чутья не мог только этого выразить15) Ваша книга по себе
оставила чувство разочарования и неудовлетворенностью ею. Такое же точно
впечатление вынес я еще из небольшой статьи16 Вашей об «органич[еском]
процессе». Простите резкость, с которой я даю Вам эти определения — она,
резкость эта, вытекает из истинного, совершенно искреннего удивления моего
настоящим и положительным качеством в Вашем творчестве.
По дарованию Вы во многом напоминаете мне Герцена, про которого
Страхов повторил прекрасные стихи Гете, также идущие и на Вас:
Und wenn der Mensch in seiner Qual verstummt
Lass mir ein Gott zusagen was ich leide17.
(И если человек в своей муке онемеет,
Дай мне возможность сказать Господу о том, что я страдаю.) Гете.
Вообще, я гляжу на трактат «О понимании» как на труд влечения (а мы
стремимся только к тому, чего у нас в себе нет), а вовсе не как на труд
внутреннего средоточия, жизни и таланта.
Статью же о Достоевском ожидаю с большим не... (без окончания).
И
[не ранее марта 1893 г.]18
Посылаю Вам, многоуважаемый Василий Васильевич, карточку Вл.
Соловьева, которую на днях для Вас достал. Ждал я все это время Вашу рукопись, но
должно быть что-нибудь да помешало Вам прислать ее мне. В последнее время
мне как-то сильно захотелось вернуться к Тургеневу и посмотреть, какое он на
меня теперь впечатление произведет. Каково было удивление, когда пришлось
убедиться, что все прежние впечатления ни в чем и нисколько не изменились.
Кроме художественности, кроме той поэзии, которую так мало оценили в
Тургеневе (кроме, разве, П. Боткина), кроме необычайного критицизма, прида-
15 Шперк говорит о рецензии H.H. Страхова: Розанов В.В. О понимании
// Журнал Министерства народного просвещения. 1889. № 9. С. 124-131.
16 Шперк говорит о статье В. В. Розанова «О борьбе с Западом, в связи с
литературной деятельностью одного из славянофилов (Н. Страхов) // Вопросы
философии и психологии. 1890. № 4. С. 27-64. В этой статье Розанов упоминает
органическую критику Ап. Григорьева.
17 Гете И-В. Торквато Тассо. «И если человек в страданьях нем, Мне Бог дает
поведать, как я стражду», (пер. С. Соловьева).
18 Датируется по времени переезда В. В. Розанова в Петербург. Из письма
следует, что Розанов в то время еще проживал в Ельце.
54
«Ваш ждущий ответа Федор Шперк...»
вавшего всякой характеристике его ту выпуклость и ту законченность, что не
встретите ни в одном другом художнике, что-то большее есть в нем — глубокая
правда жизни, т.е. та правда, которая жизнь одухотворяет, которая и такому
пессимисту как Тургенев] не дает права отчаиваться в жизни. Тургенев
вообще мало любит людей, но зато как сильно любит он жизнь, которая
окружает их; его герои — герои жизни; жизнь сделала любопытными, возвеличила
их; отнимите жизненную оболочку, их трагическую судьбу — и не останется
от них ничего, кроме довольно таки мизерного человечка. Т.[ургенев] привел
меня в такой восторг, что я занялся разборкой его Рудина, в характеристике
которого нечто существенное недосказано. А критика его совершенно превратно
понимает. Сказать, что Рудин болтун-теоретик, утративший весь смысл
нравственного, эгоист, себя только сожалеющий — уж очень не глубоко. Рудин —
ребенок душой, взрослый — по уму; особенности этого дуализма неизбежно
приводят к таким личностям как он и безо всякой индивидуальности в складе
души и ума; надо понимать в их ненормальности этих ненормально развитых
людей. Слишком и слишком мало ценим мы Тургенева, впрочем, и великий
учитель его — Гоголь — в загоне у нас. Нет! Правду сказал в одной
литературной речи Хомяков, что над личностью Гоголя не одно поколение задумается.
Меня в бешенство иногда приводят похвалы, которые так широко расточают
русские люди Сервантесу, Гете и Шекспиру, будто в лице Гоголя не дан как
и по значению, и по гению по крайней мере равный художник и поэт. Один
только Тургенев верно понимает цену Гоголю с его великой объективностью
и с великой идеей его идеального человека. По мере возможности Т[ургенев]
и перенял эту объективность, усиливая еще критикой; идею идеальной
личности он заменил нам идеей идеальной жизни.
Это доказывает, что Тургенев был последователь, а не прямой
подражатель Гоголя, как Писемский. Пишу Вам это потому, что, как мне
показалось, Вы в ущерб Гог[олю] и Тургеневу] увлекаетесь Толстым
и Достоевск[им]. Споры о том, кто — Толст[ой] или Тургенев — более
значат будут, конечно, еще долго длиться, но пора убедиться, что ни тот,
ни другой, ни оба они вместе не стоят и одной строчки Гоголя.
Жду если не рукопись/то хоть письма от Вас. Напишите мне, что Вы
об этих всех моих мнениях думаете.
Ваш Ф. Шперк
12
[1892]19
Дорогой Василий Васильевич!
Меня всегда поражало, что наряду с объективными суждениями
(например], о книге Данилевского в статье о Страхове), Вы высказываете иногда
Датируется по году публикации статьи В. Розанова.
Письма Ф.Э. Шперка
55
мнения с самым крайним субъективизмом. Но теперь, после прочтения
Эстетики понимания20, я понял и такие противоречия в Вас и сущность
субъективной Вашей критики. Не только способны Вы на совершенно
объективные воззрения, но обыкновенно оно и глубоко и индивидуально. А
становитесь Вы в отношения субъективные всегда к явлениям
известно-определенной только категории. И после прочтения Эстетики понимания мне
совершенно стал ясен [характер] этих явлений.
Известно прежде всего — объективное отношение является
ирреальным по отношению к себе — таковое отношение всегда субъективно, а
суждения Ваши и о Леонтьеве и, как прежде, о Бакунине и Страхове, не что
иное как субъективное отношение к себе самому, своей продуктивности,
идеям своим. А если спросят меня, в силу чего такое субъективное
отношение Ваше к таким явлениям, которые известным образом определяют Вашу
мысль — ... в форме преувеличенно-оптимистического воззрения — я
отвечу следующее: в силу того, что, как неустанно повторяю Вам, мышление
Ваше — психологическое. Каждая отдельная мысль в силу этого облечена
в две формы или носит на себе признаки двух форм — адекватных
законченной и определившейся точно отвлеченной мысли и субъективного чувства
зарождающейся идеи. Это субъективное ощущение у Вас распространяется
и на те мысли, (4 стр.) которые вызвали Ваши, возбудили Ваше
мышление. Бакунинская книга бездарна, Страхов, по удачному выражению одного
м[оего] знак[омого] — импотент, идея развития у Леонтьева и ординарна
и неопределенна, как и понимание им организма, но и Бак[унин], и
Леонтьев определяют мышление Ваше, переходят в сущность Ваших идей,
а потому к ним Вы становитесь в отношение субъективное, и
субъективно увлекаетесь ими. Идеи о форме вещей как духе их, об отрицании как
самоутверждении], об абсолютных истинах — прекрасны, глубоки и [...].
Ваш Шперк, ждущий ответа.
13
Февраль 92.
В прошлом письме своем я высказал мнение об эстетич[ности]
истории, которые Вы теперь называете историческим прогрессом. Я ждал, что
Вы мне ответите сперва на первое, затем на последнее письмо. Но
вероятно открытое суждение о Леонтьеве в первом и сухость содержания в
последнем не вызвали в Вас особенного желания писать мне. Надеюсь,
однако, что это третье письмо иначе настроит Вас. В историческом прогрессе
я заметил одно противоречие, оно свидетельствует о некоторой [...] Ваших
мыслей об известных психических моментах, противоречие следующее:
20 Розанов В. В. Эстетическое понимание истории // Русский Вестник. 1892.
№1.С. 156-188.
56 «Ваш ждущий ответа Федор Шперк...»
душа грека, говорите Вы в одном месте, была «как Боги греческие
обнажена» (16) и затем (20)21 Христос раскрыл впервые душу человеческую,
затемненную государством, обществом, природой.
Видите ли, какое противоречие: обнаженное — открыть и
обнаруживать нельзя, оно собою говорит; но которая мысль правильна? Последняя,
говорю я. Ибо объективный характер арийца, он сказывается в том, что
внешнее доступно, открыто и ясно человеку, но с ясностью внешнего,
с непреодолимым давлением внешней природы на психическую жизнь,
совершает покрытие ея, затемнение, оформление света душевного,
потеря первобытной природы, целомудрия и прозрачности. Субъективным
же — или семитический тип — выражается в последнем и естественно
сопровождающем его, эту лучезарную жизнь, это глубокое чувство —
непонимание внешнего и формы. Отсюда искренность как душевная
первобытность, необлеченная и не могущая облечься в форму, и отсюда
застенчивость и отчуждение от постороннего, внешнего, и постоянное
обращение к себе. Отсюда другая странная черта: при выясненном уже
отсутствии художнического элемента — сценическое дарование. Семит не
имеет индивидуальности, характера, личности, потому что форма, какая
бы то ни была, чужда и неестественна ему. Но потому-то он и способен
[...] нести разнообразный человеческий облик, не способен ничем быть,
но многим казаться.
Искусство всегда во всем — объективно. Один германский поэт,
величайший художник-лирик, по-моему, неправильно понятый и
истолкованный только немецкою критикой, самой близорукою на свете, — Платен,
сказал, что лирическая поэзия есть высшее объективное искусство, в
котором художник обращается к себе как объекту. Потому-то лирика
псалмов не есть поэзия, не есть художественное произведение, а абстрактная
риторика поэтического бессилия, и поэзия Гейне, при двух-трех
необъяснимых исключениях или только как исключения объяснимых вещей, —
содержит такое количество бессильных, неудачных произведений,
которое не укажет ни одно крупное арийское дарование.
Ваш Ф. Шперк
14
Письмо Ваше содержит основательные заблуждения.
1. Философия Спинозы несогласуема с развитием, поскольку
говорится о представлении развития. Отсюда я вижу, что Вы не
выработали себе отчетливое понятие развития, что впрочем и очень понятно,
т. к. прекрасно мыслящих на свете много, а методически мыслящих —
очень мало. Понятие же развития никакой индукцией не дается.
21 Очевидно приведены номера страниц.
Письма Ф.Э. Шперка
57
2. Справедливо Ваше положение о том, что Спинозе противоречат
идеи организма. Но идея организма есть выдуманная, сочиненная идея...
Организмов в действительности не существует. Подробности об этом
найдутся в моей статье о Спинозе, которая в общем служит введением
в философию сознания, программу которой изложу по напечатании
отдельной брошюрой — Спинозы.
В пункте первом забыто предложение: понятие развития нисколько
системе Спинозы не претит. Вообще, геометрическая прямолинейность
есть скорее кажущееся, чем реальное качество Спинозы.
Ваш Ф. Шперк
23 февр[аля] 93 г.
Система Спинозы мне дорога как прототип, хотя и неестественно
выработанный, конечной формы философии.
15
10 марта 1892
Многоуважаемый Василий Васильевич!
Да, письмо Ваше произвело на меня впечатление, но не в том смысле,
в котором Вы полагали. Я вижу, Вы сильно думаете, что я принадлежу
к так называемому западническому направлению. Заблуждение! Я со-
. гласен, что Михайловские, Шелгуновы, Скабичевские — все люди
посредственные, бездарные. Но посредственны и противники их, дидактики
Данилевские со своими глупыми учебниками, и дон Кихоты, как
Страховы, Милль, Спенсер, Гартман — более образованы, более трудолюбивы,
но и они не ума палаты. Мое отношение к Леонтьеву ошибочно именуете
Вы беспричинной злобой. Я писал о нем по поводу собственно суждений
своих о Вашей статье. И, я должен сознаться, светлые оригинальные
идеи много теряют от школьного панегирика во введении к личным [...]
мыслям.
Поверьте мне, особенная черта русского человека — критический ум,
и я не знаю ни одного замечательного дарования в русской литературе,
в русской жизни, которому пришлось бы пройти незамеченным. Пушкин,
Гоголь, Лермонтов, Тургенев, Кольцов, Толстой, Герцен — все при
жизни обращали на себя внимание, приобретали славу, имели имя, находим
людей, ценивших их, в обществе.
Жаловаться на равнодушие, плакаться о непопулярности русскому
и среди русских — равносильно отсутствию таланта, Божьей искры.
Никакие дон Кихоты не выведут к свету их, и хотя бы они были не Страховы,
а Розановы.
Леонтьева ум ординарный, с мышлением неопределенным, как у всех
посредственных умов, и чем чаще он подчеркивает слова, форму, тем
бессильнее он внутренне, тем ограниченнее, тем несвободнее он. Еще раз
58
«Ваш ждущий ответа Федор Шперк...»
говорю Вам, русская литература — не германская. Русская литература
имеет гениального критика, она имела Белинского. И довольно об этом.
[Молодого) знакомого моего Вы ложно характеризуете. Он — еще
совсем молодой человек, 23 л., недавно окончивший университет,
принадлежащий не к семье присяжного поверенного по бракоразводным
делам, а скорее к литературной семье. Он родственник Фета и Тургенева,
читающий и сочувствующий вообще Р[усскому] Вестнику, и поклонник
Вашего инквизитора. Впрочем, это не имеет интереса. Итак, бросьте
сражаться за патологически (приписка вверху: это слово, если хотите, я в
следующем письме объясню) доброго Леонтьева, а идите своим путем
и к своей цели.
Ваш навсегда Ф. Шперк
16
[июль — август 1892]22
Дорогой Василий Васильевич!
У меня к Вам некоторого рода просьба. После двух готовых работ
окончил своего Спинозу — небольшую статейку в печатный лист. Отдал ее
в Университет, так, для самоутверждения, что ли. Впрочем, на [...] оценку
ее не рассчитываю. И вот не знаю, что с ней делать. С одной стороны —
недурно, если бы она появилась в Вопр[осах] философии и пс[ихологии],
с другой — это вещь маловероятная, ибо Вы знаете — на стиле моем сам
черт ногу сломит и к тому же большинство положений в ней несомненно
дики. Хотел бы я, чтобы Вы ее прочли и высказали мне свое искреннее
суждение.
Дело не в правильности мыслей — не о них мне хочется знать Вашего
мнения, ибо если бы я их не находил истинными, верными, я их,
разумеется, бы и не высказал. Мне хочется знать мнения Вашего о полезности,
своевременности, [...] Вашего впечатления.
Итак, если Вам нетрудно будет просмотреть эту работу, напишите мне,
я тогда вышлю ее Вам. За последнее время я занимался схоластиками, читая
их в подлиннике и с большим, знаете, наслаждением. Как мало у них того,
чего так много у нас, у всей новейшей философии, начиная с Канта и кончая
Шопенгауэром и [...] — как мало у них слов и фраз и сколько отчетливости.
Глубокомыслия, правда, я не заметил в них, но какая удивительная
гибкость, изощренность ума и сколько блеска. Я положительно за Suarez'a23
одного даю всю новейшую философию: блестящего, но бессодержательного
22 Датируется по времени выхода из печати рецензии В. В. Розанова на
книгу В. О. Ключевского.
23 Суарес (Suarez) Андре (1868-1948) — французский писатель и
литературный критик.
Письма Ф. Э. Шперка
59
в корне своего учения Канта и оригинального популяризатора чужих идей
Шопенгауэра, не говоря о первобытном мышлении какого-нибудь наивного
Шеллинга или вымученных продуктов тупого немца Гегеля.
О Ваших работах скажу следующее: нравится мне и сочувствую
я только рецензии на книжку Ключевского24. Статейка хорошая, жаль —
недоговоренная.
Неоконченные статьи, кажется, теория рационального
естествознания]25 плохи по-моему и следовало бы из озаглавить иначе, именно —
идеи фантастоестествозн/ания/. На совсем аналогичные
фантастические [...] пришлось мне натолкнуться в книге Б. Чичерина о единстве науки
и положительной философии. Работа тоже из ординарных. О цели
человеческой жизни26 пока не скажу решительного отзыва, т. к. не всю ее еще
прочел. Впрочем, мое глубочайшее убеждение состоит в том, как знаете,
что предмет, наиболее идущий к Вашим способностям: раскрытие
исторических идей и психология рас.
Жаль, что не знаете немецкого языка. Я недавно читал превосходный
труд по последнему вопросу, впрочем — не из новых. J. Müller. Семиты
в отношении к хамитам и [...]. Мюллер между прочим бросает [...] на
семитов и арийцев.
Ваш Ф. Шперк.
(приписка вверху письма) Надобно ждать = надобно ж дать
17
[1892]
Многоуважаемый Василий Васильевич!
Я вижу, у Вас нет времени для просмотра моей статьи о Спинозе.
Послал я на днях в Русск[ое1 Обозр/ение/ с посвящ[ением] их Вам за то
участие, которое Вы принимаете в жизни моих мыслей. Обратите внимание
на эти идеи. Вы между прочим убедитесь, что, несмотря на осуждение
Вашей книги «О понимании», прочел я ее внимательно, и нахожу в общем
неудачной, отыскал в ней новые мысли, и плодотворные.
Какого держитесь мнения о Смысле Любви Вл. Соловьева? Мне
думается, недалеко время, когда всем будет совершенно очевидно, что
психическая категория Плоти есть основа и корень всей индивидуальной
психики, и что сознание Плоти, аналогично другим психическим категориям,
содержит стороны эстетич[ескую], этич[ескую] и мистическую.
24 Шперк говорит о рецензии В. В. Розанова: В. О. Ключевский о древней Руси.
// Русский Вестник. 1892. № 7. С. 213-227.
25 Имеется в виду статья Розанова «Идея рационального естествознания».
// Русский Вестник. 1892. № 8. С. 196-221.
26 Имеется в виду статья Розанова «Цель человеческой жизни». // Вопросы
философии и психологии. 1892. № 14-15.
60
«Ваш. ждущий ответа Федор Шперк...»
Вообще, познание души оттого должно иметь всестороннее изучение
Полового Вопроса или тоже категории Плоти.
Ваших мыслей об этих важных сторонах я вовсе не знаю и даже в
Легенде о Вел[иком] Инкв[изиторе], т.е. в критике Достоевск[ого] не
встречал. А по [...] способности можно бы ожидать своеобразного понятия у Вас
на этот счет.
Пишите Вашему Фед/ору/ Шперк
Скажите, читали ли Вы немногочисленные вещи Чаадаева? Это, знаете
ли, до некоторой степени ваш предшественник по методу исторического
исследования. Кстати, почему Вы совсем бросили историю?
18
[не ранее марта 1893 г.]27
Добрые мои Василий Васильевич и Варвара Дмитриевна!
Простите мне, если в смущении не так хорошо поблагодарил Вас за
всю Вашу заботу ко мне. Еще попрошу Вас, Василий Васильевич, передать
в Воскресенье Вл. С. Соловьеву мою признательность ему за прочтение
моей статьи28 — труд нелегкий и который вполне ценю.
Жена и брат мой шлют сердечный привет Вам.
Ваш Ф. Шперк
Обуреваем новым страданием: а вдруг письмо H.H. Страхова не
дойдет. Почта у нас чрезвычайно неисправная. Фикции и надежды, надежды
и фикции. Спасибо еще раз и простите.
(приписка внизу письма) Надеюсь, Шура29 не сердится на меня, что
я подглядел ее игру в куклы.
(приписка вверху письма) Друг мой В. В. Не поленитесь и напишите
о свидании своем
с Вл. С. Впрочем, как будете в настроении.
19
[1893 г.]30
Многоуважаемый Василий Васильевич.
Только что окончил небольшую статейку: В. В. Розанов и теория
индивидуального образования. Не знаю, будет ли она отвечать Вашим
желаниям, т. к. больше касается Вас самих, нежели Сумерек. Статейку
27 Датируется по времени переезда В. В. Розанова с семьей в Петербург. Из
контекста письма очевидно, что Шперк был у семьи Розановых в гостях.
28 Скорее всего — статьи о Спинозе.
29 Шура — падчерица В.В. Розанова Бутягина A.M. (1883 — 1920).
30 Датируется по времени выхода статьи: Розанов В. В. Сумерки просвещения
// Русский Вестник. 1893. № 1-3, 6.
Письма Ф.Э. Шперка
61
думаю сегодня переписать и издать в Гражданине, как единственный
орган, могущий принять ее. На Вопросы ф/илософ/ии я не надеюсь,
несмотря на то, что статья и проникнута метафизикой. Для толстых
журналов она слишком незначительна по объему. Советую и Вам [...]
неприязнь к Гражданину. Сия газета в очень многих отношениях удобна. Если
в Гражданине не примут, то Вы получите ее дома для прочтения. Впрочем
может статься и так, что я вообще сперва (дам?) ее Вам.
Ф. Шперк
Относительно Ваших [...] идей о свободе, то я все же думаю:
свобода есть фундамент, на который только не должно смотреть как на самое
здание.
20
6 июня 1893 г.
Многоуважаемый Василий Васильевич!
Очень был рад получить сегодня Ваше письмецо. В будущем
постараюсь как-нибудь зайти к Вам и застать дома.
Был я, между прочим, за это время раза два у Влад. Соловьева. Он
очень бы желал Вас видеть. Помните, я передавал Вам свое первое
впечатление о нем и характеризовал [его] философским генералом. Но жестоко
•ошибся — это милейший господин. Если у Вас будет свободное время —
съездите к нему, он будет рад.
Только, пожалуйста, не говорите о моей первоначальной
характеристике его.
Вот и адрес его: Влад. Серг. Соловьев, Вознесенский просп. д. № 16,
кв. 3. Полковника Караваева. Лестница в воротах (не забудьте, а то
заблудитесь).
Читал в Русск[ом] Обозр[ении] Ваш ответ Иловайскому31. Прекрасно
и глубоко, и полно исторического смысла.
Право, собрались бы Вы и написали нам общую философскую историю.
История, по-моему, есть процесс индивидуализации, а
индивидуализация — процесс мотивации субъектом свободной в себе воли к хотению и со-
знаванию определенных этических и даже логических идей. Раскрытие
последних составит потому философию и познание индивидуального мира
как мотивирующего известное хотение или сознание в истории.
Преданный Вам Федор Шперк
Я летом остаюсь в Петербурге] со старшим братом32.
31 Розанов В. В. Три главные принципа образования (По поводу замечаний
Д. И. Иловайского) // Русское Обозрение. 1893. № 3.
32 Шперк Бернгардт Эдуардович (1871 — ?) — старший брат Ф.Э. Шперка,
инженер.
62
«Ваш ждущий ответа Федор Шперк...»
21
Дорогой Василий Васильевич!
Простите, что все еще держу у себя Вашу рукопись. Был это время
болен инфлюэнцей и не выхожу из дома. Статью Вашу прочел давно.
Она очень проста (а до простоты должно нравственно дорасти, сказал
Гоголь — прекраснейшие слова), очень содержательна и в конце концов
приводящая к истинному религиозному мировоззрению. Окрестите ее —
Эстетика природы и философия истории и напечатайте. Стоит, только
отбросьте Соловьева (первые 7-8 страничек) как [...] потерявший уже
смысл, [...] статью (что ли) к Дарвиновскому утилитарному пониманию
красоты, и смело помещайте в Русск[ий] В[естник].
В Вопр[осы] Философии послал небольшую статейку: к психологии
еврея, частью вызванную нашим разговором; в Школьном обозрении
поместил недавно фельетон о школьных отметках как психологическом [...],
а теперь занят доказательством необходимости Триединства Бога,
необходимость, вытекающая, на мой взгляд, из акта грехопадения.
Вот и все. Напишите словечка два, если есть время и охота.
Кстати, в своей статье о евреях я подверг, между прочим, сомнению
общее положение о необходимой религиозности еврея. Так ли они
действительно религиозны? Любят ли они Бога? Или только заискивают
перед Ним? Их отношение к Божеству я себе объясняю следующим образом:
некий греческий мудрец Демократ прекрасно утверждал, что существуют
для человека всего две точки опоры: его личное «я» и Бог. И вот, не находя
опоры в себе самом, не обладая ярким самосознанием, еврей и полагается
так на Бога, но любит ли он его? Ведь любовь к Богу — любовь
объективная. Где же взять ему ее, ему, который и не субъективен истинно
и истинно не объективен?
Ваш Ф. Шперк.
26 дек[абря] 93 года.
22
29 июля 94 г.
Дорогой Василий Васильевич!
На днях мне, быть может, придется поехать в Петербург и если
удастся — я заверну на часик-другой к Вам в Парголово. Пока же постараюсь
удовлетворить Вас более подробным сообщением своего разговора с
Соловьевым, преимущественно вертевшегося на Вашей литературной особе.
Соловьев нисколько не озлоблен против нас, напротив, как и в
писаниях, дискуссия исключительно иронического тона33. Он мне дал прочесть
33 Шперк говорит о статье В. В. Розанова «Свобода и вера» (Русский Вестник.
1894. №1. С. 265-285). В этой ультраконсервативной статье Розанов оспаривал
Письма Ф.Э. Шперка
63
относящееся к Вам место из Конца Спора34, которое я нашел и удачнее,
и гораздо остроумнее Иудушки35, что и высказал ему, хотя и прекрасно
понимаю цену его полемике как более или менее остроумной придирке
к отдельным фразам и выражениям. Вот слова, написанные мною по
поводу Вашей полемики в июльской книжке Вестника Иностр[анной]
Литер[атуры]: «На тему о терпимости ведется в настоящее время довольно
странная полемика между г. В. Роза[ановым] и Соловьевым]. В. Розанов
написал во многом верную и справедливую статью о религиозной свободе, но
не доказал того, что доказать было его нравственной обязанностью как
писателя, именно, того, что должная нетерпимость относится к идеальному
миру, и ее оружие — идея. Вл. Сол[овьев] написал возражение, но со своей
стороны обратил гораздо больше внимания на букву, нежели на дух статьи
своего противника». Вообще же, при большем знакомстве с Вл.
Соловьевым меня начинает страшно поражать в нем следующее противоречие:
с одной стороны, это человек безусловно бескорыстный в литературном
отношении, абсолютно нетщеславный и чистый как мыслитель и
писатель в своих исканиях и стремлениях. И с другой — полемист, способный
на самое мелочное крючкотворство и буквоедство. Неужели честный по
отношению к своей мысли, он может быть бесчестным по отношению
к чужой? Характеристику его, сделанную Вами, он очень остроумно, даже
редко остроумно, по-моему, отклоняет своим рассказом о пустынежитии...
.Но знаете ли, и я стал сомневаться в верности его. Художественность
характеристики меня первоначально подкупила, но отнеслась ли она вполне
к его действительно духовному образу? В нем есть некоторая органическая
неучтивость, некоторая риторичность мышления. Но справедливо ли то,
что он, в силу этой размягченности своих духовных костей и
несамостоятельности, ищет опоры у других, якобы более самостоятельных. Мне
кажется, что до некоторой степени Вы сражались с сочиненным, измышленным
Вами же самим, образом Вл. Соловьева. Полнота Вашей характеристики
есть как раз недостаток ее.
Отвечать на Вашу последнюю статью о свободе Соловьев не думает,
а передал ее для возражения А. П. Саломону.
мнение Соловьева о веротерпимости, утверждая, что свобода может быть только
в Церкви, а веротерпимость — это равнодушие и к вере, и к человеку.
34 Соловьев B.C. Конец спора // Вестник Европы. 1894. № 7. С. 286-312.
35 Шперк имеет в виду сатирический фельетон B.C. Соловьева «Порфирий
Головлев о свободе и вере» (Вестник Европы. 1894. № 2. С. 906-916). Соловьев
прокомментировал некоторые положения статьи Розанова «Свобода и вера» с
позиции Иудушки Головлева: «Иудушка открывает свою веру», «Понятия Иудушки
об иностранных исповеданиях», «Иудушка клевещет на православную церковь»,
и т.д. Статья Розанова была действительно неудачна и туманна по содержанию,
но Шперк тогда целиком и полностью разделял взгляды своего «старшего друга»
и выступил на его стороне.
64
«Ваш ждущий ответа Федор Шперк...»
Ну, это [...]. Если не заверну к Вам 3, 4 августа, то пишите мне по
прежнему адресу.
Ваш Ф. Шперк
Я только что в Новом Времени прочел возмутительный фельетон
Буренина36. Да, батюшка, грех против языка строже карается, нежели грех
против мысли духа.
23
16 мая 95 г.
Дорогой Василий Васильевич!
Если Вы еще не забыли Вашего обещания приехать погостить у нас,
то милости просим.
Ждать Вас будем в Троицу, но все же напишите, и тогда мы вышлем
лошадей на станцию. От станции до усадьбы37 5 верст.
24
Милый друг,
Как хороша Ваша статейка38 и насколько она справедливее моих
нападок на Страхова (внизу страницы: и просто и ясно написано. О, что значит
боязнь литератора, уже читаемого, перестать быть читаемым! Если бы то
же значила боязнь литератора, еще не читаемого — не быть читаемым?!!).
Из частностей не одобряю и Вашего страховского мнения, будто такие
учения как о механике кровообращения, так об окислении ткани и
крови, как о химической стороне питания — не составляют никакой части
диетологии. Совершенно неверная мысль. Зависимость организованного
мира от мира неорганизованного — помимо того, что это одно из
удивительнейших по своей осмысленности явлений в природе — вытекает для
ума человеческого из понятия высшего (т.е. организованного) и с ним
необходимо связано, а потому и соединена с ним в целостном воззрении
на живой мир, т.е. с физиологией (передайте об этом Стр[ахову]).
Удивительно превратная мысль эта проходит через всю книгу
Страхова (о понятиях псих[ологии] и физ[иологии]) и даже делает ее, к
сожалению, более вредной, нежели полезной. Следует быть или только
человеком науки и двигаться инстинктом правды, или только человеческой
мысли и двигаться сознанием правды. Промежуточного положения не
36 Буренин В. П. Ноги в перчатках, желудки, цепляющиеся за маски и проч. / /
Новое Время. 1894. 29 июля. В статье Буренин критиковал Розанова за «нелепый взгляд
на Гоголя».
37 Шперк приглашал Розанова погостить у него в имении Бабино.
38 Шперк имеет в виду статью: Розанов В. В. Смена мировоззрений (Н.
Страхов. Философские очерки) // Русское обозрение. 1895. № U.C. 193-207.
Письма Ф.Э. LU перка
65
существует или, по крайней мере, не должно существовать. Приезжайте,
милый друг, к нам. Бросьте свой Петербург хотя денька на два, отдохните,
будет и для Вас, и для Ваших статей пользительно.
Думаю наняться переводчиком немецких книжек на русский язык. От
нечего делать и для заработка. Как здоровье Страхова? Что пишет Ваш
[...] о себе?
Прошлый раз я остался еще один день в Петербурге] и навестил Све-
чина39. Добродушнейший из человеков, но странный и с какими
размягченными мозгами (сноска внизу страницы: состоит биржевым
корреспондентом в Биржевых Новостях). Обладает эстетическим чутьем, но
в философии смыслит [...] только общее (частного, индивидуального не
приводит, а последнее — все!).
Так-то, Василий Васильевич! Не забывайте нас. Пишите, но лучше
всего приезжайте — и не долго медля. А то лучшие дни пройдут, Ваши
вернутся и не будет ... Поклон от меня Варваре Дмитриевне, и поклон
Страхову. Кстати, психология его гораздо мне более нравится (и очень
она оригинальная), нежели физиология, на которую Вы указывали.
Желающий Вам всего доброго
Ф. Шперк
Поклон Вам от жены и брата.
июля 12, 95 г.
Бабино40
25
Бабино 13 авг(уста) 95 г.
Дорогой Василий Васильевич!
Очень признателен Вам за Ваше милое желание посвятить мне одну из
Ваших статей, но согласитесь: я никак не мог предполагать этого, читая
в предыдущем Вашем письме о необходимой скромности с моей
стороны, об энтузиазме Вашем, который может выдохнуться... Я естественно
подумал об обыкновенной литературной поддержке...
Пишу свой полемический дневник, который думаю печатать
выпусками, по книжке в месяц. Написан он ясно и составлен разнообразно.
Между прочим, в нем будет и своеобразная положительная оценка книги
39 Свечин И. В. — друг Ф. Э. Шперка, биржевой маклер и философ-самоучка.
Вместе с В. Д. Бутягиной-Розановой крестил старшего сына Шперка. Под
псевдонимом издал философский трактат: Леднев П. Кристаллы духа и отношение духа
и материи. М., 1896. Ч. 1-2.
40 На наследственные деньги Шперк на паях с братом Г.Э. Шперком приобрел
имение под Петербургом. Розанов описал деревенскую жизнь Шперка в
«Литературных изгнанниках». См. Розанов В. В. Литературные изгнанники. Воспоминания.
Письма. М. 2000. С. 245.
66
«Ваш ждущий ответа Федор Шперк...»
Бакунина и Вашего «Понимания», охарактеризована фальшь в последнем
рассказе Толстого и открыт убийственный поход против Нового Времени
в статье беспринципная искренность и ее герои (заглавие дает
некоторое понятие о содержании). Не удивляйтесь, что найдете (там) грубости,
резкое осуждение своих статей о свободе и вере. Последний раз Вы мне
напомнили их, и я живо почувствовал их цинизм в религиозных чувствах.
Друг мой, держитесь истины, будьте смелее в оказании помощи
ближнему — а значит, будьте здоровы и кланяйтесь Вашим.
Федор Шперк
26
10 марта 1896
Милый друг! Слышу, что Вы болеете, и сожалею Вас: отдохните и
ничего не пишите, а также поменьше думайте о своих телесных недугах.
Прочли в Воскрес[енье] мою статейку о Минском?
Сегодня мне пришла в голову странная мысль, что индивидуальная
воля естественно совпадает с абсолютной волей, т. е. волей
Божества... Не умею еще развить этой мысли, но знаю, что в этой формуле
содержится разрешение самого жизненного из всех жизненных проблем
человеческих.
В Северн[ом] Вестнике помещена прекрасная статья о Ницше одной
немецкой писательницы. Если можете достать себе март[овскую]
книжку — непременно прочтите. Я об этом кое-что написал. Глубочайшая
психология атеистического мистика — возможное в наши дни
сочетание терминов. Кстати, для Вашей41 статьи о Страхове: однажды Страхов
сказал мне: пессимизм как мировоззрение имеет свои глубокие
основания. Почему-то я не остановился тогда на этой мысли, и мне неизвестно,
в чем он видел правильность пессимизма. Но что-то мне кажется, что,
действительно, пессимистическое миросозерцание верно в своей основе.
Отрицательные стороны земного существования служат самым
убедительным указателем положительности некоторого иного рода бытия.
И пессимизм, как естественное отношение к отрицательному бытию
влечет за собой интенсивный сверхчувственный оптимизм.
Хочу Вас утешить и укрепить [...] положительными выводами
здравого ума и больного сердца.
Впрочем, торопят, милый друг, Вашего утешителя и не дают ему
высказать всех его умных и добрых идей. И посему [желаю?] Вам только истины
и добра в жизни, а до духовных истин и блага Вы доберетесь и сами без
Искренне и сердечно к Вам
привязанного Федора Шперка
41 Зачеркнуто «Ваших воспомин».
Письма Ф.Э. Шперка
67
27
8 апреля 96 года
Дорогой Василий Васильевич!
Волею судеб мы остались еще на месяц в Петербурге. На той же
квартире. В последний момент мамаша42 объявила, чтобы мы не ехали в
именье. С деньгами дело устроилось иначе, нежели мы ранее предполагали:
на этих днях продастся имение и я возьму свои 2400 р. Вот и все.
Стало быть, у меня будет поддержка еще на 1-2 года, не более. В Москву
я не еду, дорого стоит. А Вас попрошу, если хотите мне сделать еще одно
доброе дело, напишите Александрову43 письмо, приблизительно такого
содержания, какое Вы мне дали для передачи ему; я ему посылаю статью
о Волынском44 и рецензии; будьте же так добры, напишите ему, чтобы он
ответственно отнесся к этим вещам; сотрудничество в Р[усском] Слове
было бы для меня великой вещью45.
10 апреля день моего рожденья — сделайте мне это в виде подарка.
Я Вам буду очень, очень признателен. Я бы не просил Вас, если бы мне
не казалось, что это вещь исполнимая, а то, что Александров некогда
(больше года тому назад) не принял одной моей статьи, в этом я вижу
помехи. Это со всеми бывает. Никольский46 сообщил мне недавно, что
42 Шперк (в девичестве Герстель) Сидония Бернгардовна (1849 — ?) — мать
Ф.Э. Шперка. После женитьбы сына отказала ему в материальной поддержке.
После смерти сына помогала воспитывать его троих детей. После похорон Шперка
Розанов писал в письме к O.A. Фрибес: «Мать Шперка ужасно убивается о сыне
и ужасно винит себя; значит пока, до пароксизма какого-нибудь гнева, судьба
вдовы и детей покойного обеспечена». (РГАЛИ, ф. 2168, оп. 1, ед. хр. 35. Л. 3).
43 Александров A.A. (1861 — 1930) — публицист, поэт, литературный
критик, доцент Московского университета, редактор журнала «Русское обозрение»
(1892-1898) и газеты «Русское Слово» (1896-1899).
44 Волынский Аким (Флексер А. Л. )( 1861 -1926) — литературный и
театральный критик, главный редактор «Северного Вестника». Порвал отношения с Шпер-
ком после его грубых рецензий.
45 Розанов написал А. А. Александрову следующее рекомендательное письмо:
«Прошу Вас, не откажите в любезном приеме молодому другу моему и покойного
К. Н. Леонтьева Федору Эдуардовичу Шперку, преданному Православию и всему
русскому, вообще человеку нашего духа и воззрений. Я Вам посылал однажды
его статью, но она была неудачна, в чем, кажется, и он с Вами согласен; вообще
то была пора проб и блужданий. С тех пор, благодаря указаниям H.H. Страхова,
он нашел форму для своих мыслей, а мысли его всегда ценны, и, может быть, Вы
заметили, что несколько его статей было помещено в Новом Времени. Вы все,
впрочем, рассмотрите сами, при личном свидании, и удовлетворите его желанию
у Вас работать, насколько можете. Может быть, если что нужно, и мне через него
передадите». (РГАЛИ, ф. 2, оп. 2, ед. хр. 15. Л. 51а.)
46 Никольский Б. В. (1870-1919) — публицист, поэт, критик крайне правого
направления.
68
«Ваш ждущий ответа Федор Шперк...»
много говорит обо мне с Бурениным47 и стариком Сувориным48, и что
Суворин выразился, что ему мои заметки нравятся, в особенности
понравилась заметка о стихотв(орениях) Минского. Как Вам понравилась статья
Никольского] о Данилевском? Мне вторая ее часть (о Петре Вел[иком]
и пр.) показалась умной, оригинальной и талантливой, хотя несомненно,
что талант его риторичен, мало индивидуален и что он принадлежит к той
многочисленной категории писателей, для которых истина всегда
остается некоторым вымыслом, фикцией и никогда не есть действительность.
Письмо Ваше к Александрову посылаю Вам обратно, дабы Вам легче
было составить новое. Может быть, зайдете к нам в среду. Вечером я
обещал прийти к Никольскому (между прочим, Шубинский49 принял мою
статью и [...] в Майск(ую) книжку Исторического] Вестн[ика]. Пойдемте
вместе, у него есть и очень симпатичные черты (жизненность). Поклон
Варваре Дмитр[иевне]. Итак, дорогой Василий Васильевич, будьте добры
и снисходительны!
Ваш искренне Федор Шперк.
28
6 окт. 96 года
Дорогой Василий Васильевич,
A.A. Суворин50, у которого я был на этих днях для того, чтобы
посоветоваться с ним на счет издания журнала, а остановились мы с
Сологубом51 на мысли издавать двухнедельный журнал с тремя отделами:
I беллетристика, II философия, III критика — сказал мне, что по его
мнению, я имею шансы, на 20, что мне разрешат такое издание и что, на
его взгляд, предполагаемый нами журнал может рассчитывать на успех.
Затем он объяснил мне, что прежде, чем подавать прошение в Главное
управление по делам печати, нужно мне во что бы то ни стало добиться
личного свидания с М.П. Соловьевым52; из знакомых моих только
Соломон и Вы знакомы с Соловьевым. Но обращаться к Соломону мне по двум
причинам было бы неудобно, да при том Соломон слишком мало меня
47 Буренин В. П. (1841-1926) — критик, драматург, сотрудник газеты «Новое
Время», один из недоброжелателей Розанова.
48 Суворин A.C. (1834-1912) — редактор-издатель газеты «Новое Время».
49 Шубинский С.Н. (1834-1913) — журналист, историк, основатель и
главный редактор «Исторического Вестника».
50 Суворин A.A. (1862-1937) — журналист, сын A.C. Суворина, работал в
газете отца под псевдонимом.
51 Сологуб Федор (Тетерников Ф. К) (1863-1927) — поэт, прозаик, драматург.
Был дружен с Шперком. Его жена, А. Чеботаревская, дружила с А. Л. Шперк.
52 Соловьев М.П. (1842-1901) — начальник Главного управления по делам
печати.
Письма Ф.Э. Шперка
69
знает, потому обращаюсь к Вам, хотя и знаю дозу Вашей нерешительности
в подобных делах. Напишите мне, если найдете возможность (вставка:
и если хватит сил), краткую записку (на визитной карточке) с тем, чтобы
Соловьев меня принял и пришлите в письме.
А дальнейшее — в руце Божией.
Сегодня крестили Анна Иван[овна] и Вызов, назвали Троадием53.
Вчера весь день я провел в сильной лихорадке, схватил ангину, а сегодня жена
больна тем же. Поэтому не выхожу, а к Вам зайти боюсь, так как при [...]
горла очень легко схватить дифтерит, что было бы весьма нежелательно
для редактора блестящего журнала Sperk'a , «похитителя литературного
центра В. В. Розанова» de facto — Ф.Ш.
Поклон Варе lapel Дмитриевне. Ваш Ф. Шперк
Болыи[ая] Белозерская 2, кв. 18
Никак не можем только подыскать хорошего названия для журнала.
Посоветуйте. Для начала это весьма важно; у нас пока два имени:
«Канун» и «Созерцатель», но первое — едва ли разрешат, а второе не очень
характерно, хотя и весьма благородно.
Сологуб издает сборник своих рассказов «Лихов» и спрашивает у меня
Ваш адрес. По всей вероятности хочет Вам прислать экземпляр. В новых
стихотворениях] его есть одна замечательная пьеса — характеристика
всего современного творчества, названная «Афазия» со следующим
четверостишием: «Обитает в нем фантазия / Но из тех блаженных стран /
Сторожит пути Афазия / Облеченная в туман...»
29
Б. Благовещенская 2 кв. 18
9-го октября 96 г.
Бросим, дорогой Василий Васильевич, препирательства о том, кто
чрезмерно отягощен богатством даров духа своего и кто ими не
отягощен. Все это одно тщеславие и суета. Я думаю, что ни Вы, ни я этих
даров не лишены, но оба мы в известной мере лишены дара пользоваться
этими «дарами», уважать их, жить ими. Вот почему, вместо того, чтобы
ценить и уважать в себе и других «эти дары», мы выискиваем «в духе»
что-либо помельче, погаже и питаемся этим. В этом и сказывается,
конечно, что при всех своих богатствах, мы, в сущности, нищие, и я
думаю, не попрекать друг друга нищетой должны мы, а стараться от нее
избавиться.
53 Дети Ф.Э. Шперка: Анна, Венедикт, Троадий. Венедикт Фридрихович
Шперк (1895-1980) — военный инженер, преподаватель Военно-инженерной
академии им. В. В. Куйбышева, автор известного Фортификационного Словаря
(М. 1946).
70
«Ваш ждущий ответа Федор Шперк...»
Что же касается того, будто я стыжусь пользоваться Вашими идеями,
то это с Вашей стороны пустой самообман и только. Если я беру что-либо
у других, то всегда бессознательно, так как сознательно я вырабатываю
свои мысли и, я думаю, таков творческий процесс всякой продуктивной
личности.
А что касается специально центра мистической критики, то думаю,
что в этом деле едва ли я мог чем-либо позаимствоваться у Вас, так как
насколько могу судить, у меня «централистично» голова устроена, и тут
я уже невольник себя самого. К тому же [...]не в «центре» — идея, которая
и у Ап. Григорьева, и даже у Белинского, неоднократно встречается, а в
односторонне систематической точке этой идеи, которая в моих
заметках совершенно ясна54 и, как я знаю, многими замечена. Ссылка же Ваша
на то, что в Легенде Вы ищите «центр» Достоевского и, следовательно,
Вы — «Колумб центра» — нелепость, достойная жалкого писаки, а вовсе
не автора этой Легенды. Вообще, в последнее время у Вас, может быть
вследствие литературных дрязг, развилась какая-то раздражительная
претенциозность и недоброжелательство к другим. Я этого Вам не говорил
ранее, но теперь, когда Вы считаете себя вправе «отражать» мой якобы
«чудовищное самомнение», скажу это. Если Вы не хотите сделаться
невыносимым для тех, кто Вас и уважает и любит, бросьте это цеплянье за
слабые стороны людей, причем за такие, которые и у Вас также сильно
развиты, но только другими извиняются и якобы (внизу страницы:
заметьте это) не замечаются у Вас, а Вами выдергиваются и безо всякого уже
целомудрия преподносятся другим. Вы, прежде всего, несправедливы,
а потому и недобры, несмотря на то, что Бог Вас не обделил ни в душе,
ни в чувстве. Что касается М. П. Соловьева, то я соглашаюсь, что Вам
неловко давать карточку, хотя и тут Вы чрезмерно выдвигаете свои
субъективные чувствования. Мы всегда чрезвычайно чувствительны до всякого
рода вещей, когда нам нужно оказать другому какую-либо услугу: и это
54 К концу 1896 г. Шперк опубликовал в «Новом Времени» ряд статей,
направленных против декадентской литературы: «Таланты последней формации», «Один
из последних романов», «Современные герои» (См. Новое Время. 1896. 22 июня; 6
сентября; 11 октября). Несмотря на в целом негативное отношение Шперка к
поискам декадентов, он тем не менее понимал, что на литературную сцену выходит
сила, обозначившая рождение иного культурного сознания. В «центре» этого
явления Шперк видел «нигилистов "сердца и ума", не различающих добра и зла,
осмысленного и цельного, наслаждающихся "блаженной и безразличной
пустотой", кто знает, быть может, они — продукт и результат того факта, что слишком
рано вкусили плодов от древа познания добра и зла, слишком много и дурного,
и хорошего испытали и перечувствовали». Розанов же, сознававший свое большое
влияние на умонастроения и суждения Шперка, вероятно в пылу спора посчитал,
что этой идеей Шперк «одолжился» у него, взяв рассуждения о природе русского
нигилизма прямиком из его статьи «Легенда о Великом инквизиторе Ф.М.
Достоевского» (1891).
Письма Ф. Э. Шперка
71
мы не можем, и это некрасиво и назойливо. Причем мы забываем даже,
что указывая на то, что это некрасиво и назойливо, мы ставим в очень
неловкое положение человека, который Вас просит, даже обижаете его
этими своими указаниями, так как значит, он вызывает нас на некрасивое
поведение своей просьбой и т.д.
Ваш Федор Шперк
В последней книжке «Недели» [перепечатана?] вкратце Ваша статья
о символизме из Р[усского] Об[озрения]?
30
А все же, дорогой Василий Васильевич, все, что Вы мне сегодня
преподнесли — бред больной фантазии и только. Я сам легко поддаюсь
гипнозу и потому, что бы не говорили обо мне — все мне кажется до некоторой
степени верным. Руссо, когда читал медицинские книги, находил, что все
описанные в этих книгах болезни и недуги присущи ему.
Так и я. Я готов признаться во всех грехах, в каких меня только ни
обвинят. Это результат большой душевной пассивности. Вот почему я
никогда не отражаю мыслей обо мне других людей, а даже подтверждаю их
и развиваю. Это просто своего рода болезнь и смотреть на проявление
этой болезни как на действительные сердечные признания —
непсихологично. Тут есть тоже своего рода диалектика (приписка вверху
страницы: затронутая Достоевским в Преступлении и Наказании). Образование
легенды о моем «царедворстве и проч.» теперь для меня, когда смотрю на
дело трезво и просто, без фокусов — совершенно ясно. Наверное, лица,
которые меня почти не знают, видели меня может быть не более двух-
трех раз — наговорили всяких нелепостей (приписка слева: обусловлен
до некоторой степени странный [...] человека поведении) Вам и Варваре
Дмитриевне, а Варв[ара] Дм[итриевна] при своей болезненной
подозрительности «загипнотизировалась» ими, а при своем богатом воображении,
неурегулированном трезвым взглядом на людей, разукрасила,
орнаментировала легенду. Все это положительно бред и кошмар, и могу только одно
пожелать, чтобы этот кошмар поскорее рассеялся.
В конце концов, все мы (даже заядлые [...]) гораздо проще, нежели
мы думаем. Еще Гете сказал, что только люди, не знающие жизнь,
могут говорить и думать о каких-то долговременных планах и намерениях
в обычных житейских отношениях. Никаких таких планов и намерений
люди не имеют, они руководятся всегда ближайшими мотивами, которые
гораздо сильнее, насущнее.
Моему самолюбию может до некоторой степени льстит, что я такой
великий тактик в «делах человеческих», но обращаясь к правде и простоте,
должен сознаться: я такой же человек, как и все, и вовсе не Талеиран. Если
некоторая доля хитрости и есть во мне, то конечно она проявляется не по
72
«Ваш ждущий ответа Федор Шперк...»
отношению к таким людям как Вы, с которыми я действительно близок
душою, а по отношению к тем, которые для меня в душевном отношении
безразличны. Конечно, хитрость вообще нехорошо, но едва ли кто из нас лишен
ее, да и то — во мне она скорее бессознательная, нежели преднамеренная.
Что же касается психологического анализа индивидуальности, то это
верно, что я ищу главного, жизненного нерва во всяком человеке, потому-
то я и привязываюсь, может быть даже присасываюсь к душевной крови
людей. Но едва ли это — порок. Это просто тенденция духа и больше
ничего. Ну довольно. Надеюсь, Вы отрезвитесь, а то, право, и нехорошо,
и некрасиво и больно.
Всего хорошего.
Ваш Федор Шперк
30 декабря 96 г.
в 12 часов ночи за чтением Плещеева
Завтра Новый год и Ваши именины. Поздравляю и желаю Вам то, что
и себе желаю — обновления души.
Ф.Ш.
P.S. С самого начала знакомства нашего не писал, кажется, таких
длинных писем. Вот это прямо: от холодных диких скал до пламенной
Колхиды.
(Приписка слева: Некрасиво потому, что вся эта история вытекает из
каких-то стечений и наушничаний, которые всякий благородный человек
должен «отметать», а не «лелеять»... Вот этот сплетнически-подложный
характер всей этой истории и оттолкнул меня так от Варвары
Дмитриевны, так как чутьем я невольно догадывался о нем. Однако поставлю подо
всем этим +).
(Приписка вверху: получил сегодня от П. П. Перцова55 приглашение
быть у него вечером 3-го января. Будет Волынский. Пришлите мне Колубов-
ского и с ним Декабрьскую книжку Русского Вестника на 2 дня. К Вам
я не приду до тех пор, пока не узнаю, что Вы и В.Д.56 отрезвились. Надо
же, наконец, помимо любви к человеку иметь к нему и долю уважения)57.
31
Многоуважаемый Василий Васильевич!
Я беру назад все обидные слова, которые в раздражении высказал по
Вашему адресу.
55 Перцов П. П. (1868-1947) — критик, публицист. После публикации
рецензии Шперка на книгу Акима Волынского «Русские критики» стал одним из его
самых непримиримых недоброжелателей.
56 Варвара Дмитриевна Розанова.
57 Варвара Дмитриевна прервала отношения с Шперком после его «выходки»
в адрес Соловьева, отказалась быть крестной матерью сына Шперка.
Письма Ф.Э. LU перка
73
В личных отношениях и в своих писаниях Вы доставили мне столько
хороших, чистых и возвышенных минут, что не хотелось бы мне, чтобы
последним результатом их было то нечистое и презрительное, что я,
раздраженный и обиженный, невольно выразил.
Знакомство дальнейшее считаю невозможным (Вставка над строчкой:
так как вижу, что Вы уже не в состоянии относиться ко мне свободно
и просто, как прежде) и если пишу Вам это письмо, то только потому, что
не желаю, чтобы со мной остались несправедливость и нечистота.
Федор Шперк
15апр. [1897]
(Приписка внизу страницы: Вы уже не живо [...], а смотрите на него
с какою-то [...] и считаете, что эти узкие, [...] надуманные точки зрения
дают Вам нравственное право клеймить человека презрением и
ненавистью, морально распинать и [...] его).
32
24 апреля 97
Дорогой Василий Васильевич,
Прочел Ваше, как всегда живое и примиряющее с Вами послание.
Напрасно Вы обратили внимание на мою «инвективу». Написана она мной
тотчас по прочтении Вашего письма в Редакцию, в котором мне не
понравился [...] простой тон: Вы говорите как бы имитируя какого-то великого
человека; можно говорить гордо и высокопарно, но всегда нужно говорить
просто, а Вы немного «разыгрывали» — и это в дурную минуту вызвало
мою заметку, кою, однако, я поленился даже всю переписать, ибо пыл мой
тотчас по написании ее и остыл, да и вообще я нашел все это слишком
мелким и ничтожным [...] оттого — я нередко напоминаю себе князя
Андрея на Аустерлицком поле.
На Вас я нисколько не сержусь, разрыва нашего не желаю и даже на
отношение ко мне и жене моей Варвары Дмитриевны склонен смотреть
как на временной заблуждение, вызванное болезненным душевным
состоянием. Ибо нельзя же в самом деле нормальному человеку так
возненавидеть вдруг человека, что враждебно относиться даже к его детям. Тут
есть какой-то невроз.
К Вам зайду как-нибудь в Контроль, хотя, признаюсь, лицезреть рожи
Ваших контрольным Арсениев Введенских не доставляет особого
удовольствия.
В своем прошедшем письме Вы напросто говорите [о] дурном мотиве
моих нападок на Волынского.
Даю Вам честное слово, что у меня никакого личного мотива к этому
нападку не было. Отзывами обо мне Волынского у Вас вечером я
нисколько не обиделся: в них было много искренности, таланта и ... даже для меня
74 «Ваш ждущий ответа Федор Шперк...»
лестных указаний. Чего же мне было обижаться? Не дурак ли я, слава Богу?
Вы, мой милый друг, говорили обо мне как писателе вещи гораздо более
жестокие и несправедливые, кот[орые] и теперь больны для меня (о моей
непонятной для Вас «философии»), и я все же никогда не обижался на это,
по крайней мере никогда не писал на Вас из-за этого каких-либо
«полемических писем». Напал я на Волынского просто в силу того, что должен был
и находил своевременным высказать о нем мнение, которое, кстати сказать,
было и Вам, и ему в своем содержании известно. Неожиданной явилась
только форма, а форма, каюсь, вылилась у меня совершенно
непосредственно, а изменять я ее не мог. Впрочем, должен Вам сказать, что при внешне
благородных приемах Волынского, приглядевшись к нему, я увидел много
семитической бестактности, неуважения к себе и под.; все это в мелочах,
жизненных безделицах, но весьма характерных... Мне понятна его
бестактная роль в нашей журналистике, он в глубине своего характера —
личность неуважительная, по существу бестактная и во многом мертвенная.
Талант у него есть — талант критического воображения (но не
критического суждения, не оценки). (Лично с ним я — зачеркнуто). Впрочем, лично
к нему у меня чувство хорошее.
Итак, не будемте злобны и да не зайдет солнце в [доме?] нашем, как
написал мне Вл. Соловьев.
Ваш Федор Шперк
Алексей Алексеевич] Суворин жестоко пощипал мою сегодняшнюю
статью, особливо ее первую часть, где дается объяснение, почему
понимание и выражение воплощенного Бога — Христа — есть художественный
процесс.
33
Добрый, милый Василий Васильевич!
Ваша вся проникнутая добрым чувством ко мне заметка58 чрезвычайно
тронула меня, но тронуло не только это, но может быть больше то, что
Вы как раз теперь почувствовали желание доставить мне... как бы это
выразиться, подыщите сами настоящее слово — положительно теряю
память и находчивость для слов — словом то, что так много удовлетворит
меня. Я всегда знал и чувствовал, что, не понимая частностей и [...] в этих
книгах, Вы чувствуете их особенный философский дух, что, так сказать,
психология его (моего — зачеркнуто) вполне для Вас [...].
Эту-то психологию Вы и выразили [...] и, как мне кажется, очень
тонко, хотя отрывочно несколько. Но что меня тронуло за сердце, в каждой
58 Розанов В. В. Две философии (Критическая заметка) // Новое Время.
1897. 12 окт. Шперк, по всей видимости, читал рукопись, т.к. статья вышла в
октябре, через пару дней после смерти Шперка.
Письма Ф.Э. Шперка
75
строчке я читаю любовь и нежность ко мне — за это спасибо, спасибо,
спасибо...
[...] в Халиле59 по всей видимости до конца сентября — так как к этому
времени [...] полагает, что кончится лихорадка.
Поклон мой [...] и всего хорошего.
Ваш Ф. Шперк
Жена шлет сердечный привет.
21 авг[уста] 97 г.
Письма Ф. Э. Шперка к А. С. Суворину60.
1
1897 г.
Многоуважаемый Алексей Сергеевич!
Простите, что беспокою Вас. Но, быть может, Вы будете так добры
и прочтете приложенную к письму заметку. Она написана по поводу
Вашего сегодняшнего «Маленького письма61. Мне было бы очень приятно, если
бы Вы нашли возможность напечатать ее в «Нов. [ом] Времени. В книге
Соловьева я вижу "иезуитизм мысли", но его самого, как писателя, поэта
и философа "иезуитом" не считаю. Однако, такое впечатление, судя по
Вашему "письму", оставляет заметка моя. Оставляет, но не должна оставлять.
Искренне уважающий Вас
Федор Шперк.
Пет. [ербургская] Сторона
Б.Белозерская ул. д.2 кв.18
2
[1897 г.]
Многоуважаемый Алексей Сергеевич!
Мне все же хотелось бы, чтобы Вы поместили мой вчерашний ответ
Вам, а как заключение его — прилагается здесь ответ Соловьеву. Мне это
хочется потому, что я слыхал, что Вл. Соловьев сильно огорчился моей
рецензией, а в ответе Вам содержится несколько для него приятных вещей,
которые говорить ему в лицо неудобно, неловко, а обращаясь к Вам —
вполне уместно.
59 Халила — санаторий для туберкулезных больных в Финляндии.
60 РГАЛИ. Фонд A.C. Суворина. Фонд 459, оп. 1, ед. хр. 4789. Л. 1-2. Письма
Ф.Э. Шперка к A.C. Суворину вызваны полемикой вокруг его рецензии на
«Оправдание добра» В. С. Соловьева.
61 См. упомянутые статьи в настоящем издании.
76
«Ваш ждущий ответа Федор Шперк...»
К тому же сегодняшняя заметка Соловьева не дает повода к тем
мыслям, которые я высказал во вчерашней заметке, а эти мысли единственно
существенные.
Если бы Вы, однако, почему-либо нашли неуместным печатать мою
вчерашнюю заметку, то прилагаемая к письму кажется мне вполне
достаточной для ответа Соловьеву. Придется только вычеркнуть слова:
В заключение, а все остальное может идти.
Я, вообще, был несколько резок с Соловьевым, и мне бы хотелось
исправить это; но нет лучшего способа сделать это, как через общую
характеристику писательской личности. В целом, у него много хорошего,
но частные черты его многие — антипатичны, и среди них — странная
неискренность.
Искренне уважающий Вас
Федор Шперк.
Петербургская] стор[она]
Б. Белозерская 2 кв.18
Письмо Г. Э. Шперка62 к В. В. Розанову63
Дорогой Василий Васильевич!
Феде совсем плохо. Сердце работает слабо и у него целый день
страшная отдышка. Доктора говорят, что это не может продлиться более двух
дней. Он очень страдает и все спрашивает, не умрет ли он. Так как я имею
предположение, что Вы, вероятно, захотите написать о нем некролог, то
я имею к Вам одну просьбу. Если Вы будете писать или Суворин
напишет и Вы у него будете, то, пожалуйста, упомяните в некрологе об Анне
Лавровне, в том духе, что она своим спокойным, добрым сердцем сумела
успокоить его и дать ему счастье последние пять лет его жизни. У него
есть даже некоторое указание на перемену, которую она в нем произвела,
в предисловии книжки, которую он ей посвящает. Кроме того, что это
сущая правда, она ведь как ангел за ним ухаживает, да и вся их совместная
жизнь была так покойна и полна любви. Кроме того, оно имеет две цели.
Во-первых, если можно говорить об удовлетворении за гробом, то ему
ничего не может большего удовлетворения дать, как это. Во-вторых, это
будет иметь громадное значение на участи детей и Ан. Лавр. Материала
я Вам никакого дать не могу, так как Вы его больше знаете, чем я. И так
62 Шперк Густав Эдуардович (1874-1964) — младший брат Ф.Э. Шперка,
инженер, выпускник Лозаннского университета. После смерти брата взял на себя
попечение и воспитание его троих детей. В годы революции — член Центрокол-
легии по разгрузке и эвакуации Петрограда, в 1918-1919 — член Кустарьсовета,
Артельсбыта и ВОЛСТА.
63 Хранится в семейном архиве Ф.В. Костроминой (Москва).
Письма Ф.Э. Шперка
77
надеюсь, что Вы постараетесь, чтобы в некрологе, если он будет, не было
бы упущено то, что было самое дорогое, самое святое для него в жизни.
Остаюсь Вас уважающий Гуля.
Пятница.
P. S. Вся санатория удивляется ей, и доктора говорят, что они еще не
видели ничего подобного даже и у сестер милосердия.
Да и на ней была собственно сосредоточена вся его жизнь.
Письмо А. Л. Шперк64 к В. Д. Бутягиной-Розановой65
Дорогая Варвара Дмитриевна,
Федор Эдуардович присоединился к православию, и мы просим Вас
быть крестной матерью, ради Бога не отказывайтесь, сделайте для него
это последнее, доброе дело; я знаю, что Вам очень трудно, но что же
сделать, когда у нас никого нет. В пятницу 1 августа я вышлю за Вами и за
Свечиным извозчика Евсея, чтобы Вам не беспокоиться нанимать, вышлю
к девятичасовому поезду, так, как Вы приехали. Каждый день, каждый час
дорог, все слабее и слабее делается.
Любящая Вас А. Шперк
Письма А. Л. Шперк к В.В.Розанову66
1
22-го июня [1897 г.]
Многоуважаемый Василий Васильевич.
Положение Феди очень тяжелое, чахотка. Об этом уже и говорить
нечего, только нужно знать, какая, продолжительная или скоротечная?
Теперь ему как будто немножко лучше, и то только на Федино чувство
да на мой взгляд, а на самом-то деле не знаешь, лучше это или хуже;
64 Шперк Анна Лавровна (в девичестве — Безух) (1870-1954) — до
замужества служила экономкой в доме матери Ф.Э. Шперка. Была дружна с В. Д.
Бутягиной-Розановой, но после смерти мужа отношения прервались. Розанов так писал
о ней: «Она кончила 4 класса гимназии. И кажется, не очень запомнила "курс".
Все шила. И "пришила" к себе тело мужа, душу его, биографию его, "все" его.
"Нет Шперка, а есть Анна Лавровна". Я безумно его любил за это ("отречение от
себя", "от эгоизма", от гордости и самолюбия». Уединенное. М. 1990. С. 366.
65 РГАЛИ. ф. 419, оп. 1. Ед. хр. 947. Л. 1. Публикуются с исправленной
орфографией и пунктуацией
66 РГАЛИ, ф. 419, оп. 1, ед. хр. 708. Публикуются с исправленной орфографией
и пунктуацией.
78 «Ваш ждущий ответа Федор Шперк...»
я почему-то спокойна. Я верю, что Федя выздоровеет, да и Федя сам верит.
Он упросил мамашу67, чтобы она отпустила меня в город к Скорбящей
Б. Матери, 19-го я была там. Феде несомненно лучше, температура пала
и ознобы меньше, хотя сильная испарина, за ночь раз десять переменю
ему рубашку. Я и Федя живем в санатории, а дети на даче за версту от
сан(атория). Тяжело так жить, да делать нечего, дети выглядят нехорошо,
лучше были на Белоз[ерской]68. Я кажется написала то, что Вам и
неинтересно. Надеюсь что не будете сердиться, мне ведь здесь не с кем
разговаривать. Федя будет очень рад, если Вы ему напишите и еще больше
обрадуется, если приедете, ну, да он об этом и не мечтает. Только,
пожалуйста, ни слова о чахотке, он и подозревает, что у него левого легкого
почти совсем нет, и пишите так, чтобы я могла разобрать Ваш почерк, а то
я никогда не могу ни слова прочесть. Два раза был у Феди Тычинкин69.
Поклон Варваре Дмитриевне, как ее здоровье?
А. Шперк
2
10 июля 1897 года.
Многоуважаемый Василий Васильевич,
Феде хуже, доктор говорит, что надежды нет, почти уже перестали
лечить, дают лекарства только для успокоения Феди. Только ради Бога,
В.В., будете писать Феде (в чем я не сомневаюсь), не упоминайте ни
о чем, о чем пишу Вам, пусть он ничего не знает. Федя просит Варвару
Дмитриевну поехать к Скорбящей Божьей Матери и отслужить
молебен о его выздоровлении. Федя и я очень, очень просим ее, возвращусь
в Петербург], отдам деньги. Как жаль, что я не знаю, где находится отец
Иоанн70 и когда он возвратится в Кронштадт, Федя одно время хотел
попросить его к себе помолиться. Сегодня приедет Бертенсон71, что-то
он скажет? Если бы Вы приехали, В.В., Феде бы доставили большое
удовольствие.
До свиданья А. Шперк
Поклон Варваре Дмитриевне от Феди и от меня.
Густав Эдуардович приехал. Сегодня Будный навестил Федю. Три раза
был Тычинкин, и два раза приезжал Гирш и заходил к Феде, так что и Вы
должны приехать к нему, Свечин собирается.
До свиданья, столько новостей насказала.
67 С. Б. Шперк была вместе с сыном и его семьей в санатории.
68 Улица, на которой в Петербурге жили Шперки.
69 Тычинкин К. С. — заведующий типографией газеты «Новое Время».
70 Иоанн Кронштадский (Сергиев Иоанн Ильич) (1829-1908) — протоиерей,
проповедник, духовный писатель.
71 Видимо, лечащий врач.
Письма Ф. Э. Шперка
79
3
5 декабря 1909 г.
Многоуважаемый Василий Васильевич!
Прошло уже двенадцать лет со дня смерти мужа моего Федора
Эдуардовича Шперка, и я почти уверена, что он забыт, этот бедный страдалец,
который всю свою короткую жизнь стремился написать что-нибудь
выдающееся, и чтобы память о нем не умерла с ним вместе; но что делать, Бог
судил ему иначе и пути Его неисповедимы.
Пожалуйста, не думайте, что я хочу напомнить Вам о нем, нет, я
просто хочу попросить Вас, если возможно, разыскать альбом Федора
Эдуардовича с его статьями и критическими заметками. На сколько я знаю,
он должен находиться у Алексея Алексеевича Суворина, который хотел
издать их отдельною книжкой, но почему-то это не состоялось.
Будьте добры, Василий Васильевич, не откажите мне в просьбе, дети
и я будем Вам очень и очень благодарны.
Я не знаю Вашего адреса и поэтому пишу в редакцию «Нового
Времени», я не раз читала в нем ваши статьи и думаю, что Вы сотрудничаете
в этой газете, так что письмо мое, буду надеяться, что дойдет до Вас.
Я до сих пор Вам очень благодарна за выхлопотанное Вами мне
пособие72. Простите, что беспокою Вас.
Уважающая вас А. Шперк
Живу я: г. Луга, С. П. Б. губ. Успенская ул. д. Коноплиной № 88.
72 См. письмо Н. Г. Позднякова к В. В. Розанову: «Милостивый Государь
Василий Васильевич! Г-же Шперк назначено <...> пособие <>. Так как Вас
интересует дальнейшая судьба пособия, то, может быть, Вы были бы так добры побывать
у меня в среду или субботу <...>. Тогда бы переговорили о том, когда г-же Шперк
следует подать прошение о продлении пособия на будущий год». (НИОР РГБ. Ф.
249. М4201.Ед. хр. 25. Л. 2).
«НАША ЛИТЕРАТУРА ТАК БЕДНА
ИСТИННО ИНТЕЛЛИГЕНТНЫМИ
КНИГАМИ...»
ФЕДОР ШПЕРК НА СТРАНИЦАХ «НОВОГО ВРЕМЕНИ»
Но всегда нечто божеское лежит в идеале духовного
творчества. Дух может стремиться только к Богу;
Бог есть центр, к которому направлено всемирное,
т.е. всеобщее тяготение духа. И литература,
как духовная деятельность, подлежит тому же закону
«всемирного духовного тяготения*.
Федор Шперк'
Отличительной чертой отечественного литературоведения последних
двух десятилетий является устойчивый интерес к духовной жизни России
конца XIX — начала XX века. Именно в этот период русская культура
переживала «религиозный ренессанс»: интеллигенция, разочаровавшись
в утилитаристских материалистических концепциях, искала выход из
духовного кризиса в религиозно-этическом мировоззрении, возвращаясь
к извечным вопросам бытия, духовности, веры.
Знаковой особенностью этого процесса было наличие мощной
рефлексивной составляющей. Традиционно большую роль в осознании
происходившей метаморфозы сыграла отечественная критика. Отказавшись от
системы координат, заданной критикой 1860-х годов, целый ряд оригинальных
российских писателей и критиков искали и нашли для прочтения русской
классики путь по иным «вехам». Не «изучение», а «понимание»
художественного произведения во взаимодействии эпох и в их движении становилось
основной задачей критики. Начало процессу понимания сущности и целей
искусства и литературы в религиозно-философском аспекте было
положено B.C. Соловьёвым.
Все основные эстетические идеи B.C. Соловьёва были сформулированы
уже в «Трех речах памяти Ф. Достоевского» (1881-1883): о религиозном
содержании искусства; о единстве истины, красоты и добра; о
нравственном потенциале и нравственной цели искусства. В статьях 1895-1899 годов
(о поэтах Ф. Тютчеве, Я. Полонском, А.Пушкине, А. Мицкевиче, М.
Лермонтове) Соловьёв формулирует прямую задачу философской критики —
Шперк Ф. Из литературного дневника // Новое время. 1897. 23 апреля.
Федор Шперк на страницах «Нового Времени»
81
раскрыть идею художественного произведения в ее отношении к Всеобщей
Истине, показать, что именно из Всемирного смысла «захватило душу
поэта» и было выражено им в образах. Называя важнейшей целью искусства
нравственное возрождение «не одинокого лица, а целого общества и
народа», Соловьёв от поэта, дающего веру в значение красоты в мире, требовал
нравственной оценки2.
В рамках религиозной философии конца XIX — начала XX века
«философами-критиками» (H.A. Бердяев, С.Н. Булгаков, П.Ф.
Флоренский, С. Л. Франк) был поставлен вопрос о «моральном», «христианском»
и «скрыто-религиозном» характере русской литературы: «Великие русские
писатели будут творить не от радостного творческого избытка, а от жажды
спасения народа, человечества и всего мира»3, — писал H.A. Бердяев.
В 1897 г. Ф.Э. Шперк опубликовал в газете «Новое Время» в разделе
«Из литературного дневника» четыре программных статьи, предлагавшие
концепцию «христианского стиля» русской литературы, основанную на
религиозно-онтологическом обосновании творчества. «Всякая духовная
деятельность есть не что иное, как искание Бога, как своего рода
молитва.... Всегда нечто Божеское лежит в идеале духовного творчества. Дух
может стремиться только к Богу; Бог есть центр, к которому направлено
всемирное, т.е. всеобщее тяготение духа» — этой формулой Шперк
определил свою точку зрения на парадигму развития мировой культуры4.
Не только художественное творчество, но и наука составляли для
Шперка предмет духовной деятельности. Шперк считал, что основной
задачей науки является ответ на три вопроса: Откуда все идет? Как все
совершается? К чему все стремится? «Грех» западноевропейского
мышления заключался в том, что оно, отрешившись от религии, стремилось
ответить только на второй вопрос, создав «естественную науку». Но,
как писал Шперк, «на природу, на душу, на историю надо смотреть со
«сверхъестественной», а не с «естественной» точки зрения, так как
происхождение человека не естественное, а сверхъестественное,
таинственное, чудесное»5. Рационализм западноевропейской науки пагубен, считал
Шперк, поскольку, не отвечая на вопросы, лежащие в области причины
и в области цели, она представляла лишь «обрывок знания». «Цельное
знание» вырастает только из «зерна христианского мировоззрения» и один
из путей к обретению этого знания Шперк видел в развитии особого типа
культуры — русской, построенной на установках христианства.
Философы всеединства вопрос о взаимодействии культур понимали
как их взаимопроникновение и взаимообогащение. Конечным моментом
2 Соловьёв B.C. Философия искусства и литературная критика. М. 1991.
3 Бердяев H.A. Русская идея. Основные проблемы русской мысли XIX века
и начала XX века.// О России и русской философской культуре. М, 1990. С.63.
4 Шперк Ф.Из литературного дневника // Новое время. 1897. 23 апреля.
5 Там же.
82 «Наша литература так бедна истинно интеллигентными книгами...»
этих процессов должна стать новая общечеловеческая синтетическая
культура, основанная на гармоническом сочетании различных
социально-исторических и культурных традиций6. Шперк же, со своей стороны,
считал, что христианская традиция является доминирующей в развитии
культуры как сферы духовной жизни, а тип религиозной веры
рассматривался как решающий фактор исторического развития.
В таком взгляде на сущность исторического прогресса, несомненно,
сказалось влияние работы В. В. Розанова «Место христианства в истории
цивилизации». Вслед за Розановым, Шперк полагал, что история
человечества есть прогресс общего ряда, единой цивилизации, когда отдельные
культурно-исторические типы следуют один за другим: сначала —
«семитическое племя», потом — «романский дух и, его дополняющий,
германский», последним идет славянство. Именно это последовательное развитие
из единого начала — христианства, — привело к реализации различных
ментальностей внутри христианства: «семитическое сознание
осуществило категорию Плоти» в целомудрии, западноевропейский дух «выработал
самоуважение личности», русскому народу «предстоит осуществление
третьего закона духа» — христианской любви7. Таким образом, по
мнению Шперка, русская культура как сосредоточила в себе накопленный
опыт предшествующего развития, так и осуществила главный постулат
христианства: «люби, так как в любви христианской уже заключено
самоуважение, а в самоуважении уже заключено целомудрие»8.
Литература, по убеждению Шперка, как сфера духовной жизни несет
на себе несомненный отпечаток этого разграничения внутри
христианской культуры, и, в значительной степени, определяется им. Отношение
художника к религии задает вектор творчества. Причину, определяющую
различия между культурами разных народов Шперк видит в том, как
художник «выражает и понимает Божеское». Уже в одной из первых своих
опубликованных статей, касавшейся творческой личности В. В. Розанова,
Шперк высказал концептуальную мысль, развивать и защищать которую
он будет и дальше. По его мнению, русская философская мысль, как и вся
русская литература, глубоко отлична от западной прежде всего своей
психологичностью, которая заключается в религиозности: «Не человек —
носитель мысли и блага, а человек — выразитель и истолкователь воли Бога
в истории — существен, важен и дорог для него (Розанова — Ф. И)»9.
В статье, посвященной краткой сравнительной характеристике
русской и западноевропейской культур, Шперком рассматриваются два типа
6 Акулинин В.Н. Философия всеединства. От B.C. Соловьёва до П.А.
Флоренского. Новосибирск, 1990. С. 81.
7 Шперк Федор. Мысль и рефлексия. СПб., 1895. С.6.
8 Там же. С.7.
9 Шперк Ф. В. В. Розанов (Опыт характеристики) // Гражданин. 1893. 13
ноября.
Федор Шперк на страницах «Нового Времени»
83
литератур10. Определенный тип культуры — западноевропейский —
создает соответствующий тип литературы, которая с точки зрения «понимания
и выражения Божеского» является «абстрактной» и «философской»
литературой «отвлеченного созерцания Божества», так как западноевропейский
писатель по преимуществу является католиком или протестантом. Русская
культура создает «мистически-художественную» литературу, т. к. для
русского художника «Бог, — прежде всего воплотившийся Бог —
Христос...сошедший в самую среду людей». Соответственно Шперк определяет и типы
писателей: западноевропейский художник всегда абстрактен, отвлечен, он
в основном — мыслитель, идеолог, тогда как русский писатель всегда
моралист и проповедник. Первый стремится воссоздать общечеловеческие,
универсальные типы, тогда как второй изображает индивидуальных людей.
Первый при этом остается наблюдателем, а второй — любит своих героев,
жалеет и сострадает им — «в страдании человек приближается к Богу», —
стремится стать участником и преобразователем жизни11.
«Мистическое зерно христианского мировоззрения» заключает в себе,
по мнению Шперка, начало любого творческого порыва русского
писателя, поэтому его этика и эстетика должны быть построены на
православии, и главным содержанием творчества является христианская любовь,
«золото евангельских чувств». Такое понимание сущности русского
словесного творчества связывалось Шперком с ключевым понятием его
критической системы — целостностью, которая на эстетическом уровне
превратилась в «гармонию», и ее соотнесением с ценностными установками
христианства.
Шперк выдвинул свое понимание гармонии как самой «души в ее
первозданной, божественной чистоте» и сообщил ей онтологический характер.
Изначальная гармония души не подвергается им сомнению: «Гармония
есть естественный строй души, все равно как организм есть
естественный строй всего живого». Соприкасаясь с внешним миром в творчестве,
«гармония души» неизбежно получает нравственный характер, становясь
этической категорией, которую Шперк называет «нравственной
гармонией» или «справедливостью», выражающейся в христианской любви.
Без активного взаимодействия души художника с внешним миром этого
изменения не происходит, и гармония остается в области христианской
эстетики с ее категориями красоты, целомудрия и святости.
Образцом «христианского» поэта для Шперка был Пушкин. Знаковой
для русской литературной критики конца XIX века была попытка
принципиально новой интерпретации творчества Пушкина. Именно его произведения
10 Шперк Ф.Из литературного дневника // Новое время. 1897. 23 апреля.
11 Аналогичную по звучанию мысль позже высказал H.A. Бердяев. См.:
Бердяев H.A. Русская идея. Основные проблемы русской мысли XIX века и нача-
лаХХ века / / О России и русской философской культуре. М, 1900. С.63.
84 «Наша литература так бедна истинно интеллигентными книгами...»
отличались наибольшими заложенными в них потенциями, поэтому им
сопутствовало наибольшее количество разнообразных, и по идеям, и по
уровню, интерпретаций. Ведущей стала «линия религиозно-философской
пушкинистики». Концепция Аполлона Григорьева, полемика Ф.М. Достоевского
с К.Н. Леонтьевым о любви и гармонии у Пушкина и спор B.C. Соловьёва
с В. В. Розановым о значении Пушкина для нового времени обозначили
основные вопросы и объем «процесса русской мысли о Пушкине, на
пониженном уровне продолжающийся и сейчас», сутью которого являлась попытка
«определить положение Пушкина в координатах христианской культуры»12.
Н.В. Гоголь, положивший начало этому процессу в целом, не видел
в Пушкине личности: «Все наши русские поэты ... удержали свою
личность. У одного Пушкина ее нет», есть лишь «звонкое эхо», «поэт, и ничего
больше»13. Аполлон Григорьев откликнулся тезисом: «Личность
пушкинская — сам Пушкин, заклинатель и властелин многообразных стихий»14.
Концепция Григорьева, по мнению С. Г. Бочарова, словно заранее
комментировала спор Достоевского и Леонтьева: «Такой обнаружился спектр,
в котором Пушкин между Леонтьевым и Достоевским открывается на две
стороны несовпадающими ликами, которые оба реальны»:
«многообразные стихии», определяющие гений Пушкина у Леонтьева и Пушкин как
образец «христианского воспитанья» у Достоевского15.
Взаимоотношение христианства и культуры в творчестве Пушкина
стало предметом спора В. Соловьёва и В. Розанова. Соловьёв усмотрел
в судьбе поэта недостаток «христианского смирения», тогда как Розанов,
в свою очередь, настаивал на активном идеале христианства, положив
начало бурной полемике: «Г. В. Соловьёв существенно неправильно понял
христианство, оценив «Судьбу Пушкина». Он осудил поэта за активность,
и так строго, что даже присудил к смерти»16.
Как литературный критик, стоящий на позициях славянофильства,
Шперк не мог остаться в стороне от этого спора. Вслед за К. Леонтьевым,
он формулировал суть пушкинского творчества как «гармонический строй
чувства и слова». «Гармония» в отношении к Пушкину трактовалась
критиком как единственная сила «поэтического духа», способная «победить»,
«укротить», «гармонизировать» «стихийность материальной и духовной
природы» в слове, создавая «гармонию чувств, образов и мыслей»
художественного творчества. «Сама материя — писал Шперк в статье,
посвященной 60-летию со дня смерти поэта, — не гармонична, а напротив,
12 Бочаров С. Г. Пушкин в споре Леонтьева с Достоевским. / / Ars interpretanda
Сб. ст. к 75-летию профессора Ю.Н. Чумакова. Новосибирск, 1997. С. 127-142.
13 Гоголь Н.В. Поли. собр. соч. в 14 Т. М., 1952. Т. 8. С. 382.
14 Григорьев Ап. Литературная критика. М., 1967. С. 188.
15 Бочаров С. Г. Пушкин в споре Леонтьева с Достоевским... С. 137.
16 В. Розанов. Христианство активно или пассивно? // В. В. Розанов.
Религия. Философия. Культура. М., 1992. С. 151.
Федор Шперк на страницах «Нового Времени» 85
стихийна и хаотична, но душа истинного поэта, соприкасаясь с ней,
неизбежно ее гармонизирует»17.
Такое определение гармонии шло след в след за К. Леонтьевым с его
пониманием гармонии у Пушкина как «поэтической борьбы»: «ибо
гармония не есть мирный унисон, а плодотворная, чреватая творчеством по
временам и жестокая борьба»18. На леонтьевскую формулу —
«заклинатель и властелин многообразных стихий» — Шперк откликнулся почти
дословным повторением: «Пушкин любил «свободную стихию», но не
потому, что сам был дик, необуздан и хаотичен, а потому, что знал, что
владеет способностью «укротить этого зверя», одолеть его «буйную дурь».
Особенно выразительным здесь становится употребление Шперком
эпитета «первобытный» по отношению к «стихиям», т.е. к тому
материалу, который Пушкин гармонизировал. Как «первобытную» Шперк
определил тему Пугачева и Петра Великого, которые оба представляют собой
род «стихии» («он весь как Божия гроза», но не в христианском, а скорее
языческом смысле), интерес Пушкина к традиции русского народного
творчества и «анекдотам». «Первобытное» трактуется Шперком, с одной
стороны, как «первоначальное», хаотическое, а с другой — как
новизна и «творческая свежесть», что придает этому эпитету по отношению
к творчеству Пушкина определенный оттенок язычества, также присущий
характеристике, данной К. Леонтьевым.
Весь анализ раннего пушкинского творчества строится Шперком на
понятии «гармония чувств, образов и мыслей», реализованном на
эстетическом уровне. Реплика из «Каменного гостя»: «Из наслаждений жизни, /
Одной любви музыка уступает, / Но и любовь мелодия», получила у Шперка
более глубокий смысл, чем был заложен Пушкиным: «Поэтическое
понимание любви как «мелодии»... есть центр пушкинской лирики». Стихийность
чувств, по Шперку, гармонизируется мелодией, музыкой. Введя подобную
категорию, Шперк, несомненно, упростил картину пушкинских поэм,
оставив за ними чисто эстетическое значение. «Гармонию образов» Шперк
видел в прекрасных героинях «Бахчисарайского фонтана» (Земфира и
Мария), «Полтавы» (дочь Кочубея), «Руслана и Людмилы», но только с точки
зрения описания их внешности. Например, образ Марии в «Полтаве», по
мнению критика, несет в произведении нагрузку только как образец
«гармонической красоты» и не более: «Как тополь киевских высот / Она стройна.
Ее движенья / То лебедя пустынных вод / Напоминают плавный ход, / То
лани быстрое стремление», и т. д. «Евгения Онегина» Шперк расценивал
как образец «гармонической игры ума», т.е., не признавая по большому
счету за романом иного значения, чем образца «поэтической гармонии»,
Шперк видел в нем лишь пример пушкинской «мелодии мысли».
17 Шперк Ф.Из литературного дневника // Новое время. 1897. 30 апреля.
18 Леонтьев К. Собр. соч. в 9 т. М., 1912-1914. Т. 5. С. 223.
86 «Наша литература так бедна истинно интеллигентными книгами...»
Гармония, однако, не являлась, по мысли Шперка, чем-то, присущим
одному только Пушкину. Ту же «гармонию чувств, образов и мыслей» Шперк
находил, например, у Байрона. «Байронизм» Пушкина, замеченный
современниками и поддержанный последующими исследованиями, стал общим
местом в пушкиноведении, но преодоление и переосмысление
«байронизма» поэтом Шперк связывал с процессом приобретения Пушкиным
«нравственной гармонии, справедливости», которой, по мнению критика, Байрон
был лишен.
Введя категорию справедливости в контекст пушкинского
творчества, Шперк тем самым поднял его с уровня эстетического до
религиозно-нравственной идеи. До тех пор, пока гармония не получила мощного
нравственного основания, она оставалась для Шперка чисто внешней
эстетической категорией. Превращение в категорию христианской этики
происходит через ее связь с действительностью, тогда она становилась
не только «нравственной гармонией», но и «гармонией действенной». «Он
(Пушкин — Т. С. ) первый, кто воплотил несомненную и действительную
христианскую любовь — во всей ее бесконечности, во всей ее истинной
мере», — писал критик19. Такая постановка вопроса была явным откликом
на речь Ф. Достоевского о Пушкине, хотя ни в одной из статей о
«христианском стиле» русской литературы Шперк на нее прямо не ссылается.
Никто до Достоевского, как писал Д. Мережковский уже в начале
XX века, «не делал даже попытки найти в поэзии Пушкина стройное
миросозерцание, великую мысль»20. В своей речи Достоевский первый увидел
«духовный образ» Пушкина и тем самым «открыл путь всей философской,
религиозной, христианской пушкинистике уже нашего века»21. Формула
«положительно прекрасного человека» в пушкинской речи Достоевского
отразилась в идее «нравственной гармонии» Шперка. Для него в первую
очередь важна не просто оценка с точки зрения морали, а присутствие
в творчестве Пушкина направленного нравственного действия.
По мысли Шперка, истинное, «христианское», творчество должно
гармонизировать действительность — в этом состоит его «отношение
к действительности», воздействие на жизнь. Это определение Шперка
было практически дословной репликой в унисон со статьей В. В. Розанова
о пушкинском творчестве (1891 г.): «Слова его никогда не остаются без
отношения к действительности, они покрывают ее и через нее
становятся образами, очертаниями... в его поэзии содержится указание, как само
искусство, уже воплотив жизнь, должно обратно на нее действовать»22.
19 Шперк Ф.Из литературного дневника // Новое время. 1897. 30 апреля.
20 Мережковский Д. С. Пушкин. / / Пушкин в русской философской критике.
М., 1990. С. 93.
21 Бочаров С. Г. Пушкин в споре Леонтьева с Достоевским. С. 131.
22 Розанов В. В. Пушкин и Гоголь. // Несовместимые контрасты жития.
Литературно-эстетические работы разных лет. М., 1990. С. 227.
Федор Шперк на страницах «Нового Времени» 87
Шперк намеренно акцентирует внимание на важности личного опыта
для правильного понимания Пушкина. «Настоящий» Пушкин
начинается только тогда, когда он в результате всей своей творческой эволюции
«вырастил чувство нравственной гармонии или справедливости в душе
своей». О нравственной, христианской доминанте творчества Пушкина
Шперк говорил, обращаясь к произведениям, написанным после 1822 г.
Этот же рубеж подчеркнул в своей статье «Религиозность Пушкина»
С. Л. Франк со ссылкой на М. О. Гершензона: «В своем поэтическом
творчестве он просто не мог ничего «выдумать», чего он не знал по
собственному духовному опыту», при этом С. Л. Франк специально подчеркивает,
что именно «с конца 20-х годов до конца жизни в Пушкине непрерывно
идет созревание и углубление духовной умудренности и вместе с этим
процессом — нарастание глубокого религиозного сознания»23.
По мнению Шперка, «настоящий» Пушкин начинается с «Бориса
Годунова» и «Цыган» (т.е. после 1822 г., когда были написаны оба эти
произведения). Все, последовавшее за «Борисом Годуновым» и «Цыганами»,
творчество Пушкина критик расценивает как эстетический образец
христианской этики: «Пушкину недостаточно изобразить страсти человека — он
влагает в это изображение известное «оправдание». Чисто православная
традиция прощения и смирения оказывается доминирующей в той системе
ценностей, с которой Шперк подходит к творчеству русского писателя.
Характерно, что Пушкин как автор «Бориса Годунова» сравнивается
Шперком с Шекспиром по объекту изображения — «страсти человеческие».
Однако, у английского писателя Шперк не нашел никакого «оправдания»
страстей, потому что Шекспир, по мнению Шперка, принадлежал к
западному типу культуры и поэтому находился вне православного контекста.
«Трагедию власти» и «трагедию народа»24 Шперк свел в одно целое и поставил
вопрос о «христианской любви, доброте сердца». Идея милости и прощения
лежит в основе «оправдания страсти». «Традиционный тип православного
благочестия»25 в образе летописца Пимена оказался равен в нравственной
плоскости образу «губителя» Бориса, который «оправдывается» Пушкиным
пониманием своей вины и смирением: «Я, я за все один отвечу Богу...».
Следует отметить, что Шперк анализирует не только те произведения,
которые напрямую обнаруживают свою связь с вопросами религии и веры,
как, например, стихотворение 1836 г. «Отцы-пустынники и жены
непорочны...», которое представляет собой поэтическое переложение великопостной
молитвы Ефрема Сирина. Но в той же статье критик комментирует
произведения, в которых говорится об исторических событиях и лицах («У русского
23 Франк С. Л. Религиозность Пушкина. // Пушкин в русской философской
критике. М., 1990. С.383.
24 Лотман Ю.М. В школе поэтического слова. Пушкин. Лермонтов. Гоголь.
М., 1988. С.18-19.
25 Франк С. Л. Религиозность Пушкина. С. 461-462.
88 «Наша литература так бедна истинно интеллигентными книгами...»
царя в чертогах есть палата...» — стихотворение, посвященное полководцам
войны 1812 года), о любовном чувстве («Я помню чудное мгновенье...») или
о частных, незаметных событиях в жизни человека («Подруга дней моих
суровых...»). И в этих произведениях, замечает Шперк, «христианская любовь»
определяет отношение поэта к своим героям, только ею руководствуется
он в их изображении. О христианском отношении к побежденному врагу
свидетельствуют цитируемые Шперком строки из «Полтавы»: «И прощенье
торжествует,/ Как победу над врагом...». Поэма «Анджело» приводится как
пример превосходства христианского милосердия над законом26.
В итоге Шперк делает вывод о предназначении поэта, о значении
творчества Пушкина для всей русской культуры: «Как поэт он только
художественно выражал «чувства добрые...», которые, в координатах православной
культуры, были равны «христианской любви», милосердию и прощению,
т.е. представляли собой сущность христианской этики. Такая
перспектива понимания Пушкина позволила Шперку сформулировать суть любого
художественного творчества: «Коль стих единый мой // Тебе мгновенье
дал отрады, // Я не хочу другой награды». «Гениально добрый поэт» —
такая оценка Пушкина в контексте эстетического творчества была
достаточно неожиданной. Шперк говорил не только о поэте и поэзии, в
большой степени он говорил о творчестве как активном действии на уровне
религиозно-нравственной идеи.
Введя абсолютную категорию «справедливости» в контекст
пушкинского творчества, Шперк тем самым, с одной стороны, несомненно,
упростил картину литературоведческого изучения Пушкина. Те произведения,
которые традиционно считались источником интереса к творчеству
Пушкина (например, «Евгений Онегин» или политические стихотворения,
такие, как «Вольность» или «Деревня») Шперком рассматриваются
достаточно невнимательно и бегло. Но, с другой стороны, критик следовал
перспективе философско-религиозного анализа всей русской литературы,
в котором двойственность этического и эстетического восприятия
художественного творчества олицетворялась критиком в двух знаковых
именах — A.C. Пушкина и М.Ю. Лермонтова.
Одна из традиций русской литературной критики конца XIX —
начала XX века — рассматривать творчество Лермонтова в постоянном
соотношении с пушкинским. «Ночное» и «дневное светило русской поэзии»
Д. Мережковского, «объективный» Пушкин и «субъективный» Лермонтов
С. Франка — смысл этого противопоставления, в той или иной форме,
сводился к определению разницы в отношении к действительности двух
поэтов.
26 Ср., например, замечание Лотмана Ю.М. : «Пушкинская поэма — апология не
справедливости, а милости, не Закона, а Человека». Лотман Ю.М. Идейная структура
поэмы Пушкина «Анджело». // Лотман Ю.М. Пушкин. СПб., 1997. С. 250.
Федор Шперк на страницах «Нового Времени*
89
В статье, посвященной анализу творчества Лермонтова, Шперк не
противопоставляет пушкинскую и лермонтовскую поэзии, а объединяет
их с помощью понятия «гармония», заключающей в себе, по выражению
В. В. Розанова, «лад» и «разлад» человеческой души как единого целого.
Тезис Шперка о «действенной гармонии» оказался неприменим к
лермонтовскому творчеству: слово Лермонтова осталось «без отношения к
действительности». Эта идея получила у Шперка развитие в виде оппозиции
«первоначально божественной» души поэта и действительности, в
соприкосновении с которой душа теряет «божеское», но не из-за собственной
греховности, а от бессилия изменить мир, «гармонизировать его».
Замыкаясь от мира, такая душа, по мнению Шперка, не знает христианской
любви.
Очевидно, что антитезу «земного» и «небесного» в поэзии Лермонтова
Шперк понял буквально: «Лермонтов родился с душой, которая в своей
первоначальной, первозданной чистоте обнаруживала удивительную
гармонию, но силы гармонизировать внешнее, чуждое окружающее она была
лишена. Внешний мир, как нечто хаотическое, не отвечающее ее
первобытной, божественной гармонии — был чужд этой душе»27. А поскольку
«душа поэта» не обнаруживала для Шперка «нравственного действия»
в живой реальности, то, по его мнению, этого действия не было вообще.
И Шперк делает неожиданный вывод о том, что творчество Лермон-
. това — внеэтично, поскольку предполагает выключенность из
действительного хода жизни. Не найдя у Лермонтова художественного
выражения христианской любви, Шперк, естественным образом, отказал поэту
в наличии у него выраженнного этического идеала в своем понимании:
«милости к падшим», милосердия и справедливости (как сказал о себе
Печорин: «Моя любовь никому не принесла счастья, потому что я ничем
не жертвовал для тех, кого любил»).
Вместо категории «справедливости», примененной к творчеству
Пушкина, т.е. «действенной гармонии», Шперк вводит в контекст
лермонтовского творчества понятие «пассивной гармонии». «Страдательная»
гармония Лермонтова способна только «спасти от реальной действительности
и создать другую, высшую, идеальную действительность», где нет
христианской любви, но есть невинность и святость той части души, которая
отгородилась от мира. При этом Шперк уточнял, что в силу подобной
«замкнутости» Лермонтов обнаруживает «много не гармоничного», тогда как
Пушкин был «гармоничен везде»: «У Пушкина было единство гармонии,
у Лермонтова этого единства не было, его поэзия — резко двойственна:
одно лицо этого поэтического Януса имеет образ ангела, другое — образ
демона». На этом основании Шперк разделяет все творчество
Лермонтова на «ангельское», источником которого является душа поэта в «ее
27 Шперк Ф.Из литературного дневника // Новое время. 1897. 7 мая.
90 «Наша литература так бедна истинно интеллигентными книгами...»
первоначальной божественной гармонии», и «демоническое» как реакцию
на враждебность окружающего мира «безмолвием души»28.
К «ангельскому» творчеству Шперк относил две лермонтовские
«Молитвы» («Я, Матерь Божия, ныне с молитвою...» и «В минуту жизни
трудную...»), «Ветку Палестины», «Ангела», «Выхожу один я на дорогу...»,
«Пророка» и «Мцыри». К «демоническому» творчеству Шперком были
отнесены «плоды сердечной пустоты» — «Маскарад», «Хаджи-Абрек»,
«Герой нашего времени», «Странный человек», большинство лирических
стихотворений, т. е. те произведения, где «гармония подавлена средой».
Интересно причисление критиком к «ангельскому» творчеству
Лермонтова образов Бэлы из «Героя нашего времени» и Тамары из
«Демона». Если Тамара, которой «девственное ложе не смято смертного рукой»,
действительно сохранила целомудрие, то Бэла, потерявшая невинность
под давлением «среды», воспринимается критиком как фигура
страдательная, не умеющая ничего противопоставить враждебности окружающего
мира. Критик считал этот женский образ ведущим в «ангельском»
творчестве Лермонтова не столько на основании внешней реакции и
поступков, сколько ориентируясь на «ангельскую» душу Бэлы, закрывшуюся от
внешнего мира. Подобным образом Шперк подходил к оценке женских
персонажей Пушкина, но при этом акцент был сделан разный: Мария
и Земфира красивы внешне, Бэла и Тамара — невинны внутренне.
Действительность полагается Шперком враждебной по отношению
к «божественной гармонии» души поэта именно потому, что
действительность дает ему «бездну познания», но нигде критик ни одним словом
не говорит о том, что это приводит к сомнению в вере. Известное
положение о богоборчестве Лермонтова, «тяжба поэта с Богом» (В.
Соловьёв), Шперк рассматривал как трагический конфликт между «гордостью
лермонтовского отношения к миру и людям» и душой, «охраняющей от
мира свое духовное богатство, свою естественную святость, свою
чистоту». Особенно контрастно, считал критик, это проявилось в образе
Печорина.
Для Шперка «демонизм» Печорина заключался в том, что тот «отрезал
и бросил» лучшую половину своей души, «чуждую миру», и превратился
в человека, ни во что не верящего. С одной стороны, Печорин умен,
благороден, честен, способен к поступкам и, что важно, к саморефлексии.
Но, с другой, все эти качества не соединены в целое одной идеей —
любовью и верой, поэтому представляют просто набор некоторых
составляющих элементов, из которых легко можно удалить один или несколько,
28 Понятно, что критик не ставил своей задачей разграничить религиозные
мотивы в творчестве Лермонтова и обычную для романтической поэзии XIX века
христианскую символику. Если вспомнить о том, что любое художественное творчество
рассматривалось с религиозно-онтологической позиции как целостное явление, то,
конечно, речь не могла идти об литературоведческом исследовании текста.
Федор Шперк на страницах «Нового Времени*
91
поскольку они не удерживаются в единстве верой. Более того, в одном
из ранних писем к В. Розанову Шперк высказывался о Печорине резко
отрицательно.
Сам Лермонтов же, по мнению критика, не верящим никогда не был,
потому что сохранил и «не бросил» ту часть своей души, из которой «извлек
неподдельные гармоничные звуки, в которых так бесподобно-музыкально
отразилась душа поэта, в ее чистом, исключительно духовном строе». По
убеждению Шперка, сам поэт ни разу не усомнился в вере, более того,
практически каждому из героев «демонического» творчества, не только
Печорину, Лермонтов оставил некоторую «тайну», в которой «замкнута и
...погребена первоначальная душевная гармония, первичная душевная чистота»:
Печорин, например, прямо говорит о «погибшей половине» своей души29.
«Лермонтов задавался часто тем же задачами, какие ставил себе
Пушкин, — писал Л. Шестов в статье «А. С. Пушкин», — но каждый раз не он
одолевал задачу, а задача побеждала его. ...Печорин убивает всякую веру,
всякую надежду...», в то время как Пушкин «все время стоит в центре
действительной жизни и не теряет дара понимать ее»30.
Шперк, со всей стороны, полагал, что «задача», стоявшая перед
Пушкиным и Лермонтовым, и в одинаковой степени решенная ими, сводилась
к единому движению русской словесности в рамках православной
культуры, где пушкинское творчество выражало «христианскую любовь», а
Лермонтов показал «строй целомудренной, безусловно святой» души.
«Страдательная гармония» лермонтовской поэзии реализовала свое христианское
содержание только на эстетическом уровне, поэтому Шперк определил
место Лермонтова в литературе «христианского стиля» как «христианского
эстетика»: «Как поэт, который не был связан с миром, он (Лермонтов — Т. С. )
был по преимуществу эстетик: он показал нам не добро., а красоту
безупречной, святой души; но ведь истина столько же в красоте, сколько и в
добре» (курсив Ф. Шперка — Т.С.)31. Выделяя курсивом данное
положение, Шперк особенно подчеркивал слияние этического и эстетического
моментов в русском литературном творчестве, в литературе «христианского
стиля» как возможность реализации в творчестве эстетического гуманизма.
Шперк успел написать только четыре статьи на заданную тему, в
которых дал развернутую характеристику творчества Пушкина и
Лермонтова как представителей «христианского стиля» русской литературы.
Последняя из статей была опубликована за несколько месяцев до смерти
критика. Вне анализа остались Л. Толстой, Ф. Тютчев, И. Тургенев, твор-
29 Шперк обращает специальное внимание на следующие
«многозначительные» слова Печорина: «Такова была моя участь с самого раннего детства... ибо
никто не знал о погибшей ее половине».
30 Шестов Л. A.C. Пушкин. // Пушкин в русской философской критике. М.,
1990. С. 194-206.
31 Шперк Ф.Из литературного дневника // Новое время. 1897. 7 мая.
92 «Наша литература так бедна истинно интеллигентными книгами...»
чество которых Шперк также выдвигал в образец «христианского стиля».
Особенный интерес вызывают замечания о Гоголе, которого Шпек считал
эталоном «писателя-христианина».
Молодой критик находился под большим влиянием как личности Гоголя,
так и его идей: «Гоголь для меня есть вообще олицетворение простоты и
свободы, и это тем более изумительно мне, что во всей своей личной жизни он,
пожалуй, еще больше нашего испытал и выстрадал, и выразил в себе
противоречивый дух времени нашего. Но он, конечно, понимал, что не в нем —
истина»32. Под «противоречивым духом времени нашего» Шперк понимал
раздвоенность в душе и сознании современного человека эстетического
начала и моральной темы, то, что так мучило Гоголя. А истина для Шперка
заключалась в том, что взглянуть на современную культуру именно
«верующей мыслью», которая соединит в себе оба эти начала. «Превосходно
написанную «Переписку» («Выбранные места из переписки с друзьями», 1847)
Шперк расценивал как самый яркий пример «поиска одушевленности». Той
одушевленности, в которой в свое время отказал Гоголю Василий Розанов.
Шперк обнаруживал «решение нравственного вопроса» практически во
всех произведениях Гоголя. Не «вспышку глубокой скорби в творце при
виде сотворенного», по определению В. Розанова33, видел он в гоголевских
героях, а настоящую «историю душевной жизни». И самый яркий пример
этому Шперк видел в герое «Мертвых душ», «в грубом Чичикове — в том,
который и не подозревает, что существует столь сложный, столь
разнообразно освещенный мир — происходит действительное движение, колебание
нравственного сознания, душа его движется, хотя бы мировоззрение его
всегда оставалось одинаково простым, и в страшный момент, когда, сквозь
унижение, всплывает в нем крохотное, но истинное сознание
нравственного своего уродства — он переживает действительную душевную драму»34.
Известному тезису В. Розанова о «мертвечине» у Гоголя Шперк
ответил мнением о гоголевском «холоде», но это «холод, не от автора
идущий, а извне навеянный». Не сам Гоголь виновен в «недостатке
непосредственного чувства», а время, в котором жил он, «холодное временя треска
журналистики и чиновничества 30 и 40 годов». По мнению В. Розанова,
высказанном им в статьях 1890-х годов, вся современная литература
выросла из отрицания Гоголя, его «сужения и принижения человека», а в
самом писателе, считал Розанов, «гениальный ум разошелся с простым
сердцем»35. Шперк же своей репликой противопоставил собственное
убеждение в открыто христианском характере гоголевского творчества,
32 Письмо Ф.Э. Шперка к В. В. Розанову от 19 декабря 1890 г.
33 Розанов В. В. Как произошел тип Акакия Акакиевича. // Мысли о
литературе. М., 1989. С. 175.
34 Письмо Ф.Э. Шперка к В.В. Розанову от 19 декабря 1890 г.
35 Розанов В. В. Как произошел тип Акакия Акакиевича / / Розанов В. В.
Мысли о литературе. М., 1989. С. 173.
Федор Шперк на страницах «Нового Времени» 93
особенно настаивая на его нравственном пафосе, поиске цельного
человека («великая идея идеального человека»). В одном из писем конца
1890 г., целиком посвященном теме Гоголя, Шперк пишет Розанову: «Вы,
по-моему, в заблуждении относительно Гоголя и имеете слишком
преувеличенное мнение о качествах и достоинствах писателей последнего
времени, о которых нельзя сказать самого важного, именно — чтобы они
нравственно действовали (разрядка Ф. Шперка — Т.С.)»36.
Далеко не случайно Гоголь чаще всего упоминается Шперком в
постоянном противопоставлении с другим, знаковым для философской критики
конца века именем — Ф.М. Достоевским. Основой для сравнения служил
поиск читателем-критиком «нравственного действия» в произведениях этих
двух писателей, и этого у Достоевского, в отличие от Гоголяу Шперк не
находил.
В прочтении и понимании Достоевского русская
религиозно-философская мысль начиналась с «Трех речей в память Достоевского» (1881-
1883) B.C. Соловьёва. Именно Соловьёв впервые заговорил об основной
линии Достоевского — «о преодолении отчаяния на путях к
сверхчеловеческому Добру, в признании Сущего Добра над собой, «которое уже
само ищет нас и обращает нас к себе»37. Архимандрит А. Бухарев, видный
в свое время пропагандист идей христианского искусства, полагал, что
«Достоевский принял от Гоголя эстафету в деле создания общенародной
. «православной культуры»38. В ранней религиозно-философской критике,
например, в работе В. В. Розанова «Легенда о Великом Инквизиторе»
Ф.М. Достоевского» (1894) карамазовская «легенда» была прочтена как
«энциклопедия актуального христианства».
Шперк не успел написать ни одной статьи, посвященной творчеству
Достоевского, хотя единственное беглое замечание в обзоре, посвященном
сравнению западноевропейской и русской литератур достаточно
показательно: «Русская литература, как художественная, призвана несомненно
охристианизировать европейскую литературу. Западно-европейский дух
уже почувствовал влечение и томление по истинному христианству и
инстинктивно потянулся к нашим художникам. Вот тайный источник
влияния Достоевского и Толстого на Западе»39. Несомненно, Шперк
рассматривал Достоевского в качестве представителя «христианского стиля», но
с большими и весьма принципиальными оговорками. При этом далеко не
случайно, что вся переписка с В. Розановым постоянно касалась имени
36 Письмо Ф.Э. Шперка к В. В. Розанову от 19 декабря 1890.
37 Исупов К. Г. Возрождение Достоевского в русском
религиозно-философском ренессансе. // Христианство и русская литература. СПб., 1996. С. 314.
38 Зеньковский В. В. История русской философии. Л. 1991. Т. 1. Ч. 2. С. 121.
См. также: Власкин А.П. Народная религиозная культура в творчестве Ф.М.
Достоевского. // Христианство и русская литература. СПб., 1996. С. 221.
39 Шперк Ф.Из литературного дневника // Новое время. 1897. 23 апреля.
94 «Наша литература так бедна истинно интеллигентными книгами...»
Достоевского, настолько не согласен был Шперк со взглядом своего
«старшего друга» на это явление в русской культуре.
Достоевского Шперк считал непревзойденным психологом в
изображении «исковерканного эпохой человека, которого сочли за
действительную личность, и этот человек позировал перед ними и они живописали
его. И воображали, что все это очень хорошо»40. Психологический анализ
полностью заслонил от Шперка то, что В. В. Зеньковский позже назвал
«внутренней двусмысленностью человеческого естества»: «Поистине —
не столько Бог мучил Достоевского, сколько мучил его человек, — в его
реальности, и в его глубине, в его роковых, преступных и в его светлых,
добрых движениях»41. Шперк же именно этот взгляд на раздвоенность,
хаотичность и внеморальность человеческой души ставил Достоевскому
в упрек: «О Достоевском положительно думаю, что яркий своим
освещением душевной обстановки, ложным представлением нравственного
бытия и совершенным непониманием эстетического и простого, он часто
пагубно влияет на нравственное чувство»42.
То, во что он так страстно верил, на чем основывал собственное
философское мировоззрение — изначальная, онтологическая «целостность»
души человека — именно этого Шперк не находил в антропологии
Достоевского. Характерно, что такую же претензию критик позже предъявит
писателям-модернистам43.
И в религиозно-философской критике начала века44, и в современных
литературоведческих тенденциях положение о том, что разорванное
сознание декадентов и построенные ими релятивные картины мира
получили в прозе Достоевского предварительные характеристики звучит
достаточно отчетливо: «Герои Достоевского принесли в XX век эстетическую
антропологию лица и маски, которая и была потом названа декадентством
и эстетизмом»45. Шперк действительно проницательно связывал новое
видение действительности, которое принесли модернисты на рубеже веков
с открытой Достоевским внутренней структурностью человеческого «я».
«Болезненный анализ» Достоевского был предшественником «разбитого
психологического материала» декадентов в описании будущих кризисов
40 Письмо Ф.Э. Шперка к В. В. Розанову от 19 декабря 1890 г.
41 Зеньковский В. В. История русской философии. G. 228.
42 Письмо Ф.Э. Шперка к В.В. Розанову от 19 декабря 1890 г.
43 Все цитируемые замечания о Достоевском относятся к письмам 1890 —
начало 1891 гг., тогда как основные статьи о декадентской литературе были
написаны Шперком в 1896-1897 гг.
44 См., например, статью Вяч. Иванова * Достоевский и роман-трагедия» (1911)
// О Достоевском. Творчество Достоевского в русской мысли 1881-1931 гг. : Сб.
статей. Сост. В.М. Борисов, А. Б. Рогинский. М., 1990.
45 Исупов К. Г. Возрождение Достоевского в русском
религиозно-философском ренессансе. // Христианство и русская литература. СПб., 1996. С. 332.
Федор Шперк на страницах «Нового Времени» 95
личности. «Художник грядущего» — так определил Шперк место
Достоевского в парадигме развития русской литературы46.
В свое время Шперк понимал, что эстетизм не совместим ни с
эстетикой, ни с этикой, и превращает весь процесс творчества, по его
выражению, в «литературную эквилибристику», а «антропология лица и маски»
оказалась для него несовместимой с образом человека в его нравственном
развитии: «За роскошной обстановкой совершенно забывают о
существовании развития нравственного чувства. Достоевского называют больным
писателем; в нем, говорят, много неестественного; его характеры
странны; затем — анализ его — все это напряженно и болезненно. Верно! Но
позвольте Вам сказать, что не тут, где Вы полагаете, Достоевский
болезнен, и потому, может, он таков, что не решается наши нервные
психологические состояния поднять, и соединить, и выразить в одном моменте
нравственного бытия*47.
Еще в начале 1890-х годов, в сборнике философских афоризмов «Мысль
и рефлексия», Шперк, размышляя о деформации человеческой личности,
говоря о «теоретическом человеке» западноевропейского мышления,
испорченного позитивизмом, писал: «Та душевная сфера, которая с
изначала несла в себе тенденцию замкнуться, скрыть основное в себе, корни
этической воли, пройдя процесс западноевропейской истории, — стала
непроницаемой. Личность (маска) облеклась в при-личие и сделалась
неузнаваемой в своей истинной сущности. Несомненно, некоторая
этическая ложь составляет жизненный принцип этой психической категории»48.
Некоторые замечания Шперка, безусловно, несут на себе печать
пристального прочтения и рефлексии на тему Достоевского, тем не менее
критик не увидел того, что творческие искания Достоевского были
гораздо глубже простого психологического анализа. «Душа человека — писал
В. Розанов, — в которой зародились столь различные звуки и образы,
и все эти мысли, — способна побороться со всем, с чем человек в
силах бороться»49. Шперк же с раздражением замечал, что Достоевский
«историю души» видел как «какую-то картинную галерею», и описывал
«цинично» циничными образами50. В обвинениях Достоевского в
циничности явно просматривается негативное отношение Шперка к
эротичности в изображении определенных героев, в частности, Свидригайлова
и старшего Карамазова. Хотя молодой критик много размышлял на тему
пола, писал о «космическом семени жизни», тем не менее, его мысли по
этому поводу отличаются не только целомудрием и сдержанностью, но
46 Шперк Ф. Философия индивидуальности. Varia. СПб., 1895. С. 49.
47 Письмо Ф.Э. Шперка к В. В. Розанову от 19 декабря 1890 г.
48 Шперк Ф. Мысль и рефлексия. СПб., 1895.
49 Розанов В. В. Легенда о Великом Инквизиторе Ф.М. Достоевского. Опыт
критического комментария. // Мысли о литературе. М., 1989. С. 59.
50 Письмо Ф.Э. Шперка к В.В. Розанову от 22 января 1891 г.
96 «Наша литература так бедна истинно интеллигентными книгами...»
и крайней категоричностью. В такой непростой и разноплановой теме
Шперк не признавал полутонов и красок и не шел на компромисс. «Не
быть целомудрым значит быть развращенным», — восклицал Шперк,
а чувство сладострастия вообще выносилось им за рамки полового
влечения и рассматривалось как этическая категория в едином ряду с чувством
блаженства как сладострастие милосердия и сладострастие откровения51.
Неприятие критиком художественного опыта Достоевского еще
одним центром имело отрицание Шперком идеи «всечеловеческой любви».
Шперк был готов различать любовь мистическую, которая проявляется
в любви к Богу, этическую — в любви к ближнему, и эстетическую —
в любви к природе52. Но эту формулу можно упростить до одного
определения и сказать, что Шперк видел одну истинную любовь —
нравственную, т.е. сострадательную, которую называл «христианской».
С позиции Шперка христианская проповедь «всечеловеческой» любви
у Достоевского видится «лживой» и «нервной»: «Прежде всего обращаю
внимание Ваше на диалог в Преступлении и Наказании. Вот тут, можно
сказать, и ложь, и болезнь в этом всеобщем примирении, в этой лживой,
нервной любви! Нравственного смысла — вот чего не доставало
большинству психологов и художников»53. «Любовь к ближнему» Шперк
понимал абсолютно буквально, как недистанциированную от конкретного
человека эмоцию — любовь к тому, кто рядом. При этом совершенно не
обязательно любить «все человечество», достаточно личной
ответственности за того, кто ближе всех. «В чем заключается истина сердца?
Очевидно, в любви; в простой, вечно живой, как жизнь разнообразной и
творческой христианской любви, не той, которая а 1а Надсон с пафосом вопиет:
«Друг мой, брат мой, усталый, страдающий брат...», и кроме этой жалкой
фальшивой ноты ничего не знает и из себя выдавить не в состоянии; нет,
истина и правда сердца, христианская любовь — реальна, жизненна и, как
все действительное и подлинное, прежде всего, не патетична»54.
При внимательном прочтении замечаний Шперка, касающихся
Достоевского, можно заметить, что все оценки относятся в основном только
к двум романам: «Преступление и наказание» и «Братья Карамазовы»,
а весь спектр тем, поднятых писателем, для Шперка в его оценке
свелся к признанию глубочайшего постижения Достоевским «смысла «греха
и наказания», которое присуще русскому народу, быть может, в такой же
степени присущему, как некогда оно было свойственно ветхозаветным
евреям». Шперк считал, что наказание необходимо тому, кто
добровольно и осознанно выбрал путь зла и греха, как некоторый нравственный
51 Шперк Федор. Мысль и рефлексия. Афоризмы. СПб., 1895. С. 31.
52 Там же. С. 26.
53 Письмо Ф.Э. Шперка к В. В. Розанову от 19 декабря 1890 г.
54 Шперк Ф.Из литературного дневника // Новое время. 1897. 30 апреля.
Федор Шперк на страницах «Нового Времени»
97
принцип. Наказание неминуемо приведет грешника к осознанию
греха, так как «в конце концов, в последнем анализе все пути жизни ведут
к Богу, к положительному благу»55.
В конечном итоге Шперк, несомненно, признавал за творчеством
Достоевского огромное влияние на развитие не столько литературных,
сколько общекультурных тенденций в жизни российского читателя
конца века. И считал этого читателя не готовым к правильному пониманию
Достоевского, поскольку для его прочтения требовалось, по словам
критика, «врожденное влечение к созерцанию Божьего мира»56. Шперк был
уверен, что труд мыслителя не только не упраздняет труда читательского,
но, напротив, прямо обусловливает его: «Труд есть нечто такое, что от
анализа и сознания приводит нас к синтезу, то есть творчеству и воле»57,
но к концу XIX века читатель Достоевского, по мнению критика, все еще
не созрел для правильного его понимания.
Говоря о любви как о проявлении нравственного состояния человека
в мере его участия в реальной жизни, Шперк называл имя еще одного
писателя, чье творчество причислял к «нравственной линии» — И. С.
Тургенева.
О взглядах Шперка на творчество Тургенева можно сказать совсем
немного. В литературно-критических статьях Шперк почти не упоминал его
имени, однако довольно много замечаний о Тургеневе можно обнаружить
. в его письмах. В первую очередь Шперк подчеркивает значение
тургеневского творчества в его преемственности Гоголю, опять-таки в
противоположность мнению Розанова о Тургеневе как «мнимом преемнике». «Один
только Тургенев верно понимает цену Гоголю с его великой
объективностью и с великой идеей его идеального человека. По мере возможности
Тургенев и перенял эту объективность, усиливая еще критикой; идею
идеальной личности он заменил нам идеей идеальной жизни»58.
В чем же для Шперка заключалась «идея идеальной жизни»?
Конечно, в активном жизненном нравственном действии. В тургеневских
героях Розанов видел только ответ «на интересы своей минуты, они были
поняты в свое время и теперь за ними осталась привлекательность чисто
художественная»59. Шперк же считал, что тургеневских героев (в
частности, Рудина) следует понимать как «ненормально развитых людей в их
ненормальности» — «умом — взрослый, душой — ребенок», которые тем
интересны, что только активно действуя, они становятся значительными
и любопытными: «Его герои — герои жизни; жизнь сделала любопытными,
55 Там же.
56 Там же.
57 Шперк Ф. Современные заметки // Новое время. 1897. 26 января.
58 Письмо Ф.Э. Шперка к В. В. Розанову [1893 г., без даты].
59 Розанов В. В. Легенда о Великом Инквизиторе Ф.М. Достоевского. Опыт
критического комментария. // Мысли о литературе. М., 1989. С. 61.
98 «Наша литература так бедна истинно интеллигентными книгами...*
возвеличила их; отнимите жизненную оболочку, их трагическую
судьбу — и не останется от них ничего, кроме довольно-таки мизерного
человечка»60.
«Мизерный человечек» Гоголя превратился у Тургенева, по мнению
Шперка, в «героя жизни» благодаря и художественному мастерству,
и «правде жизни». Крайностям Достоевского («Быть некоторою
крайностью (во всем) всегда тяжело» — писал Шперк)61, уклонению в «сторону
гениального и уродливого» (В. Розанов) молодой критик явно предпочитал
тургеневское общее бытовое жизнеописание, на фоне которого
появлялись герои, опять-таки говоря по-розановски, «с особенным выражением
лица»62.
«Нравственной линией» Шперк описывал движение русской литературы
в целом. Он постоянно подчеркивал ее религиозный характер,
православную христианскую основу, православный фундамент русской словесности.
Понятие «христианский стиль русской литературы», таким образом,
было базовым при реализации Федором Шперком оригинальной
религиозно-эстетической системы интерпретации и оценки художественного
произведения, в рамках которой художественное творчество
рассматривалось как этический поступок. Нравственное воздействие на читателя
того или иного произведения русской словесности зависело, по мнению
критика, от того, насколько гармонично в нем сочетались эстетическое
и моральное начала с явным преимуществом второго.
По мнению Шперка, постижение и достижение высшей духовности
возможно не только в области художественного творчества, но в любой
части человеческого бытия, при непременном условии интеграции всех
сфер человеческой деятельности в «единый мировой процесс
восхождения к Богу». Более того, Шперк даже не признавал за художественным
творчеством ведущей роли. Нравственное состояние человека
определялось Шперком тем, на сколько полно он (человек) смог реализоваться
в жизни: в детях, в добрых делах, или в творчестве. Рассматривая
ключевую для него проблему взаимоотношения художественной деятельности
и деятельности практической, понимаемой им как «творчество
деятельной любви», Шперк отдавал безусловное предпочтение последней, как
высшей реализации духовности. «Негодовать на то, что Толстой бросил
художественную деятельность ради дела нравственно-религиозного могут
только те, кто не понимает, что наше национальное творчество, наш
национальный идеал выше художественной области, что они лежат в области
жизни и дел, к которым и тяготеет всякий русский выдающийся человек,
60 Письмо Ф.Э. Шперка к В. В. Розанову [1893 г., без даты].
61 Шперк Ф.Э. О характере гоголевского творчества (К вопросу о творческой
психике). // Школьное Обозрение. 1894. 3-17 апреля. № 14-16.
62 Розанов В. В. Три момента в развитии русской критики. // Мысли о
литературе. М., 1989. С. 260.
Федор Шперк на страницах «Нового Времени»
99
созревая душевно, почему и не может не относиться отрицательно к
нижней ступени — деятельности эстетической».
Например, воспитание даже одного ребенка может быть признано
в глазах Шперка как «нравственное творчество», оправдывающее
человеческое существование. С этой точки зрения интересно публицистическое
выступление Шперка в рубрике «Современные заметки» на
воспитательно-образовательную проблематику, в которой Шперк пропел настоящий
гимн семье.
Поводом к выступлению послужила статья В. В. Розанова «Три
главные принципа образования», особенно та глава, которая была названа
«Педагогические трафаретки»63. Шперк не разделял убеждения
Розанова в необходимости школьной реформы, поскольку не считал школу
основной силой в искусстве воспитания личности человека. «Современная
школа приноровлена к массе, и это объясняет весь ее характер. Отвечает
ли она по своим приемам и средствам этой массе или нет — вот «вопрос
жизни и смерти» для современной школы. Да, она отвечает этому»64.
Современная школа, по мнению Шперка, вполне хороша для того,
чтобы воспитать «среднего ученика». Но любая творческая
индивидуальность вырастает «не из крепкой школы, а из цельной и крепкой семьи».
Нигилизм и декадентство современного ему поколения Шперк
приписывал влиянию не «плохой и тупой» школы, «а плохая распущенная семья
. 60-70 годов, в которых выросло это поколение, — виною тому»65.
Отрицание и позитивизм 1860-х годов, по мнению Шперка, было напрямую
связано с кризисом современного общества и появлением новых
настроений. «Худосочные дети» родителей-«шестидесятников» (по выражению
В. Розанова) теперь, вместо «Божьего мира» созерцают «свое нутро».
Школу изменить невозможно, считал Шперк, пока она рассчитана на
«среднего ученика», и в силу этого ни одной школе не под силу воспитать
выдающуюся личность. Если же когда-то, благодаря школьному
воспитанию, и появлялись выдающиеся личности, то это, исключение, скорее
подтверждающее правило, чем опровергающее его. «Великих людей»
может воспитать только семья, потому что «только семья может не только
безнаказанно, но и с великой пользой прикоснуться, соотнестись с
индивидуальной тайной человека, с его развитием, с идеалами его особенной
и цельной личности». При этом Шперк отмечает не только не
позитивную, а даже прямо отрицательную роль школы в современном обществе:
«Массовое скопление душевно незрелых детей, их взаимные личные
отношения, не вытекающие из окрепшего нравственного чувства,
«борьба за существование», т. е. за личное превосходство и т. д. в школьной
63 Розанов В. В. Сумерки просвещения. М., 1990. С. 169-181.
64 Шперк Ф. Современные заметки // Новое время. 1896. 21 ноября.
65 Там же.
ЮО«Наша литература так бедна истинно интеллигентными книгами...»
обстановке — вот что составляет зло ее»66. В этом взгляде на состояние
школьного дела сказалась все та же идея личной ответственности та того,
кто рядом, «любовь к ближнему» на уровне «микрокосмоса» семьи.
По этой же причине Шперк критично относился и к высшей школе.
«Мертвое содержание» читаемых лекций не имело ничего общего, по его
мнению, ни с «цельным знанием», ни с действительной жизнью.
Идея практического служения, сближение образованного общества
с народом, «почвой», на религиозно-этической основе, то, что В. В.
Розанов называл в жизни самого Ф. Шперка «переходом от теоретизма
к практицизму»67, получило название «доброго дела». Иллюстрацией
к теории «доброго дела» Шперка может послужить его статья — ответ
на письмо художника И. Е. Репина, присланное в редакцию «Нового
Времени». Репин писал, что страдает «манией ничтожества». Его труд как
художника «бесполезен и не важен», потому что это — «дело
наслаждения», а истинного уважения заслуживают «профессии долга» — труд
лекаря или земледельца.
В ответной статье Шперк, следуя своим взглядам на художественную
деятельность как вторичную по отношению к практической
деятельности, соглашается с И.Е. Репиным и, поддерживая его, пишет: «Русский
художник не удовлетворяется художественным творчеством, и чем выше,
зрелее, совершеннее становится, тем менее удовлетворенным, тем более
разочарованным чувствует он сам себя. Русский человек смотрит на
художественную деятельность, на эстетическое чувство как на этическое
дело, как на дело любви: он хочет пробуждать «чувства добрые» и только
это руководит и вдохновляет его. Но это-то и приводит его в конце концов
к «мании ничтожества». Ведь не может же он не сознавать, что «дело
любви» — прежде всего дело жизни и создает его не пишущая или рисующая
рука, а рука «не оскудевающая», т.е. деятельная жизнь доброго
христианского сердца... Только дело потребно и спасительно. Все же прочее есть
призрак и ложь. Только дело есть истинное художественное
произведение, и литература, и эстетическое творчество — только ступень к нему»68.
Федор Шперк понял и выразил вечный вопрос русской интеллигенции:
возможно ли, занимаясь интеллектуальным трудом, внести свою лепту
в практическую жизнь, принять в ней участие
«нравственно-религиозным» действием, а не только эстетическим творчеством. Вспоминая
мучительные поиски Н.В. Гоголя, и религиозно-нравственную деятельность
Л.Н. Толстого, Федор Шперк приходит к выводу о праве личного
выбора и свободы художника решать, где и каким образом он принесет миру
66 Там же.
67 Розанов В. В. Памяти усопших. Ф.Э. Шперк. // Розанов В. В. Сочинения.
М., 1990. С. 224.
68 Шперк Ф. Современные заметки. Ответ моим оппонентам // Новое время.
1896. 24 ноября.
Федор Шперк на страницах «Нового Времени» 101
наибольшую, с его точки зрения, пользу. Только решение вопроса личной
нравственной ответственности давало право художнику на творчество.
Теория «христианского стиля» русской литературы не была принята
широкой читательской аудиторией. Шперку пришлось отстаивать свою
точку зрения: «христианский стиль» литературы заключается не в
использовании религиозной символики и спекуляций на библейские сюжеты, а в
нравственном воздействии на читателя. По убеждению Шперка, русский
писатель, говоря о самом обычном, даже бытовом и незаметном, тем не
менее может являть настоящие высоты христианского чувства и
нравственного действия.
Критик стремился сделать максимальный акцент на том, что русская
литература как сфера художественного творчества, несомненно, является
составляющей частью всеобщего «духовного восхождения к Богу». В
такой постановке проблемы сказалась национальная черта русской
философской мысли — перевод в общебытийный план социальной проблематики,
а этика, в свою очередь, получая онтологический характер, ставилась как
в основу мира, так и в основу художественного творчества как поступка.
ЛИТЕРАТУРНО-КРИТИЧЕСКИЕ СТАТЬИ Ф. ШПЕРКА
(газеты «Новое Время», «Школьное Обозрение,
«Гражданин», 1893-1897 гг.)
Статьи из раздела «Библиографические новости»
газеты «Новое Время»
1
Д.С. Мережковский. Новые стихотворения. 1891-1895. Спб. 18961.
Стихотворения г. Мережковского производят впечатление очень
удачных художественных «имитаций» или, вернее, хороших переводов каких-
то неизвестных нам поэтических произведений. Что-то не подлинное есть
в них. Но что, собственно, производит такое странное впечатление?
Отсутствие ли непосредственного чувства, которое заменяет головная рефлексия,
или отсутствие истинной художественности, которую заменяет
отвлеченное чутье красоты — этого мы разобрать не беремся. Указываем только на
свое непосредственное ощущение. Следует, впрочем, заметить, что лирика
г. Мережковского — двояка; есть у г. Мережковского простые вещи и есть
у него вещи сложные. Подражательный характер очевиден только в простых
вещах (они же и лучшие), например, в пьесах «Мать», «На озере Комо»,
«Родник», «Нищий», «Расслабленный» и «Нет, ей не жизнь на этом свете...».
В стихотворениях же со сложным психологическим содержанием имитации
приходится еще отыскиваться, она не так явно обнаружена. Что же
касается сложности г. Мережковского, то эта душевная сложность заключается
в различнейших комбинациях одного и того же ощущения, «что радость
и печаль, и жизнь, и смерть — одно и то же»2. Чувство это г. Мережковский
называет «живой двойственностью». Но кто знаком с современной
европейской литературой, тот знает,, конечно, что эта «двойственность» или, вернее,
раздвоенность душевная, прежде всего и живее всего проявилась в
поэтическом творчестве Запада, и с Запада уже взята г. Мережковским.
Но существенно не это, а существенно то, что в сложной психологии
г. Мережковского нет не только непосредственности, но нет и жизненного
подлинного чувства. Душа его больна и разъедена рефлексией. И поэзия
его представляется нам искусственным и вымученным творчеством.
1 Впервые напечатано в газете: «Новое Время». 1896. 18 февраля. № 7174.
Подп.:Ф.Ш.
2 Цитата из стихотворения Д. Мережковского «Усталость»: Мне самого себя
не жаль / Я принимаю все дары Твои, о, Боже. / Но кажется порой, что радость
и печаль, / И жизнь, и смерть — одно и то же.
Литературно-критические статьи Ф. Шперка 103
Помимо оригинальных пьес, имеющих характер переводных, г.
Мережковский предлагает в этом сборнике своих стихотворений и два
действительных перевода: отрывки из «Фауста». Переводы не лишены
художественности. Но, нам кажется, будет гораздо лучше, если г. Мережковский
оставит в стороне лирическую и драматическую поэзию (и та, и другая
мало подходят к его душевному складу), а всецело обратиться к своей
переводческой деятельности, к эпическому творчеству...
Впрочем, он и сам, кажется, догадывается об этом, т. к. за последнее
время работает преимущественно в этом направлении.
2
Н.М. Минский. Стихотворения. Спб. 18873.
Книга эта состоит из пяти отделов. В первых трех собраны
стихотворения, писанные преимущественно на гражданские мотивы. Стихотворения
эти претенциозны и риторичны. Впрочем, г. Минский и сам признается:
«Твердит ли гражданин о жертвах и борьбе, не верь и знай, что он не
верит сам себе!» Четвертый отдел содержит «сонеты». Здесь риторика
уступает место более благородному элементу — рефлексии. Мы
запомнили два сонета: «Бездействие» и «Метемпсихоз». Наконец, в пятый вошли
действительно поэтические вещи, лирические пьесы, в которых свободно
и непосредственно выражено некоторое совершенно своеобразное,
чисто семитическое настроение, ранее уже обнаруженное психологическим
анализом поэта и нашедшее свое первоначальное выражение в «Сонетах».
Настроение это довольно трудно определить. Некоторая тоска по родине,
«недостижимо дальней», и некоторое страстное искание этой родины
путем отрицания всего жизненного, здравого, сильного в душе человеческой.
Тайное, но несомненное стремление к смерти как моменту, приводящему
человека к высшему, бесконечному блаженству — вот приблизительная
формула этого чувства. А вот одно из проявлений этого чувства в
лирических признаниях автора:
Люблю я замирающие звуки,
Неясных черт исполненную даль;
Но высшей радостью душа моя объята
Пред зрелищем небес в прощальный час заката.
Там все, чем в тишине питается мечта:
Свобода и печаль, и смерть и красота...
Странное ощущение, полное грусти, в которой, однако, есть красота и
услада.... Настроения, выраженные в лучших стихах этого сборника, не отмечены
3 Впервые напечатано в газете: «Новое Время». 1896. 10 марта. № 7195. Подп.
Ф. Шперкъ.
î04«Наша литература так бедна истинно интеллигентными книгами...»
силой, интенсивностью, но известной глубины чувств не лишены они. И мы
искренне советуем г. Минскому не выходить за пределы своего «семитизма».
В нем его искренность, в нем центр тяжести его поэтического творчества.
Душевное разнообразие не дано поэту, как не дана ему и душевная сила. Это
совершенно ясно обнаруживается в стиле, в форме его поэзии, которая и
однообразна, и лишена оригинальности. Поэзия должна представляться
характерной не только для непосредственного чувства, но и для памяти. А
стихотворения г. Минского с памятью не соотносятся. Они тотчас же по прочтении
и забываются, как забывается все, лишенное художественной
оригинальности. Заметим еще, что новейшие пьесы г. Минского (за исключением
псевдодекадентских) свидетельствуют о прогрессе его поэтического развития. Мы
едва ли ошибемся, если скажем, что в своем мировоззрении он стал серьезнее,
проще и строже. А в заключение признаемся, что, читая его стихотворения,
мы невольно вспомнили нашего любимого поэта — Полежаева4. У Полежаева
есть несколько прекрасных стихотворений; но большинство его пьес, как
известно, — чистая риторика. Характерно только то, что прекрасны, искренни
исключительно те вещи, где обнаружились душевная сила, страстное сердце,
богатырский русский дух поэта. Противное этому приходится сказать г.
Минскому. И он чаще ритор, нежели поэт, но лучшие, наиболее искренние его
стихотворения те, именно, где сказалось душевное бессилие, семитическая
болезненность, тяготеющая к смерти и разложению, словом, где сказалось
нечто, диаметрально противоположное тому, что проявилось в лучших
стихотворениях Полежаева. Тут ясно обнаружилось племенное различие...
3
Тяжелые сны. Роман Федора Сологуба. Спб. 1896s.
Автор удачно назвал свой роман «Тяжелыми снами». В самом деле,
читаешь его и как будто видишь тяжелый, болезненно-напряженный,
однообразно-утомительный сон. Томление жизнью, «томление ненужное
и тщетное» — вот, говоря любимым выражением автора, основное
настроение «Тяжелых снов». А вот и еще несколько характерных терминов из
психологического лексикона этого произведения: «безнадежное
недоумение», «злое сомнение», «томительное безволие», «древняя каинская злоба»,
«великая тоска жизни», «томительные кошмары» и пр. В своеобразном,
выдержанном стиле этого «томительного» настроения и заключается
оригинальность произведения г. Сологуба. По крайней мере, нам кажется,
что роман этот — и вовсе не художественная вещь (по отсутствию в нем
4 Полежаев А. И. ( 1804-1838), русский поэт, автор поэмы «Сашка» ( 1825). См.
статью В. Г. Белинского «Стихотворения Полежаева». Поли. собр. соч. М. 1955. Т.6.
5 Впервые напечатано в газете: «Новое Время». 1896. 17 апреля. № 7231.
Подп. Ф.Ш.
Литературно-критические статьи Ф. Шперка 105
живых и цельных образов), вовсе не психологическая вещь (по
отсутствию в нем изображения душевных процессов, душевного развития), а
нечто вроде очень искреннего, местами глубокого даже, но чрезмерно
однообразного и как-то все на одном и том же месте топчущегося дневника.
Содержание романа составляет изображение трех типов любви:
обычная, идеальная и извращенная.
Главные интересы сосредотачиваются на идеальной любви, на
отношениях учителя Логина к героине романа Нюте Ермолиной. Отношения эти
напоминают несколько отношения Раскольникова с Соней. Но моментами
в чистой любви Логина вспыхивает что-то глубоко патологическое,
извращенное. Так, иногда он, например, думает: «что не любовью любить Нюту,
а ненавистью, что сладостно было бы причинить ей жестокие страдания
и потом утешать ее нежно и ласково». У автора, без сомнения,
беллетристическое дарование; но искренние моменты в его творчестве постоянно
сменяются фальшивыми, слабыми, зачастую просто дикими. Отсюда же
и некоторая художественная отрывочность, которая вместе с
психологической неподвижностью составляет главный недостаток книги. На роман
г. Ф. Сологуба следует смотреть как на субъективные излияния автора,
как на его лирический дневник; с этой стороны в нем откроется
своеобразное искреннее содержание; он представляет как бы иллюстрацию стихов
того же г. Ф. Сологуба:
Недостижимый звезд небесных
Свободной жизни блеск и зной...
4
Философские течения русской поэзии. Сост. П.П. Перцов. Спб. 1896е.
Сборник г. Перцова — только новое свидетельство расцвета нашей
философской мысли. В этом отношении характерна даже некоторая
искусственность избранной темы. Впрочем, мы говорим более об идеальном смысле
книги, нежели о ее действительном содержании и выполнении. Последнее
не совсем оправдывает заголовок, так как строго философской критикой
является в сборнике только классически выдержанный этюд г.Вл.
Соловьева о Тютчеве, вскрывающий нам самый корень творчества этого поэта; не
лишена еще философского значения статья г. Б. Никольского о Фете:
оригинальная в некоторых образных сравнениях и аналогиях, она
свидетельствует о неглубоко индивидуальном, но несомненно блестящем и энергично
живом литературном даровании автора. Мы сожалеем только, что общая
идея статьи производит менее яркое и рельефное впечатление, нежели
отдельные ее частности. К этюду г. Никольского примыкают по содержанию
два очерка от составителя сборника, посвященные анализу поэтического
6 Впервые напечатано в газете: «Новое Время». 1896. 8 мая. № 7252. Подл. Ф. Ш.
106«Наша литература так бедна истинно интеллигентными книгами...»
мировоззрения гр. А. Толстого и гр. A.A. Голенищева-Кутузова. г. П. Пер-
цов обладает довольно тонкой поэтической чуткостью, но у него или нет
достаточной самостоятельности, резкости, силы суждения, или не дана ему
просто способность оригинальной характеристики, ибо статьи его бледны,
вялы, страдают излишними сопоставлениями и написаны в стиле той
скучно научной критики, в котором пишут преимущественно педантичные
немецкие эстетики. Однако, повторяю, было бы несправедливым отвергать
у г. Перцова слабо проявляющуюся, но тонкую поэтическую чуткость.
Наиболее обширная по объему статья, посвященная Пушкину и
составленная г. Мережковским, страдает, на наш взгляд, некоторой
внутренней фальшью, так что и верные, и оригинальные идеи в ней производят
впечатление неверных и неоригинальных. Причина, как мне кажется, —
отсутствие у автора эстетического такта и чувства критической меры.
Обилие сближений и аналогий не только не делает характеристику более
правильной, но и делает ее именно истинно ложною. Что общего,
например, в смехе Пушкина и в смехе «ранних флорентийских художников»,
в радости Пушкина и в «веселии на улицах тихой, еще средневековой
Флоренции»? г. Мережковскому следует остерегаться своей
литературно-исторической образованности, по крайней мере, не допускать ее до
проведения сомнительных параллелей, ибо в деле критики должно
говорить не литературное образование, а художественное чутье.
Несравненно лучше написан г. Мережковский критический этюд о Майкове. Здесь,
в простой и сжатой форме, высказано им несколько безусловно верных
и ценных эстетических впечатлений. Очевидно, Майков — натура более
родственная г. Мережковскому, нежели Пушкин; Майкова он
действительно чувствует и понимает. Пушкина же он только фиктивно чувствует
и только фиктивно понимает.... Ни г. Вл. Соловьев, ни г. Мережковский
не обладают самостоятельным, продуктивным, критическим талантом,
и верно оцениваются ими только духовно им близкие индивидуальности;
одним — в философском отношении, другим — в отношении
художественном, г. Влад. Соловьев глубоко проник в сущность поэзии Тютчева
и почти ничего не понял в Полонском; г. Мережковский только оценил
Майкова и только извратил истинный, простой смысл пушкинской музы.
В заключении упомянем об этюдах г. С. Андреевского, г. С.
Андреевский — критик сосредоточенный и узкий, но своеобразный, и всегда
имеющий сказать свое новое и любопытное (и только не всегда
безупречно чистое) слово. Обе статьи его (о Баратынском и Лермонтове) имеют
интерес и поучительность талантливой и живой новизны. Слабейшие
характеристики посвящены Кольцову и Огареву.
Что же касается самого издания, то не симпатизировать ему нельзя.
Наша литература так бедна истинно интеллигентными книгами, что
издание не только интеллигентное, но и оригинальное по замыслу
заслуживает самого живого, самого горячего привета.
Литературно-критические статьи Ф. Шперка 107
5
Генрих Ибсен. Его жизнь и литературная деятельность.
Очерк Н.М. Минского. Издание библиотеки Ф. Павленкова.
СПб. 18977.
Биография Ибсена, написанная г. Минским, хороша. В ней
обнаруживается добросовестное изучение произведений норвежского писателя,
несомненный литературный талант, значительный эстетический вкус и здравый
тонкий философский ум. Особенно красива общая характеристика Ибсена,
сделанная в первой главе биографии. Менее удачны и верны исторические
разъяснения автора. Нужно пожалеть также, что г. Минский детально
обрисовав литературную физиономию Ибсена, так сказать, охарактеризовав
его стиль, совершенно не постарался проанализировать его особенности как
критик. Обладая эстетическим чутьем и талантом характеризатора, он как
будто вовсе лишен критико-психологической способности, которая не
останавливается на фотографировании личности писателя, а старается
проникнуть в самый процесс его творчества. Усилия г. Минского быть совершенно
беспристрастным и объективным по отношению к Ибсену не достигают
поэтому цели, не производят должного впечатления, не дают окончательного
и цельного критического суждения, г. Минский совершенно не касается,
например, вопроса, который ставит себе всякий, кто знакомится с
Ибсеном — в чем же, собственно, сила норвежского писателя? Художник он
или нет? Вопрос этот как-то сам собою напрашивается и, только покончив
с ним, мы можем браться за изображение литературной физиономии
Ибсена, за характеристику его стиля.... На наш взгляд, например, Ибсен вовсе не
художник. И потому у нас в России, где художественный ум господствует,
Ибсену всего труднее найти сочувствие. Недаром Л. Толстой так
отрицательно относится к нему. Ибсен не только не второстепенный художник,
но он вовсе не художник. В его драмах отсутствует и личность, и жизнь.
Он всюду холоден и дидактично риторичен. Сила его в чем-то другом; и это
другое затрагивается автором настоящей биографии. «Говоря о воле, —
пишет г. Минский, мы касаемся центрального пункта в мировоззрении
Ибсена». Да, это совершенно справедливо. Только к сожалению г. Минский
не углубился в этот «центральный пункт» и в этом полагаем главный
недостаток его книжки, г. Минский не только не выяснил, но не обратил даже
внимания на весьма характерное в этом отношении произведение Ибсена
«Строителя Сольнеса», самое важное и замечательное из произведений
драматурга, тогда как другие, гораздо менее важные вещи Ибсена
снискали у него обстоятельный и серьезный разбор. Ибсен не художник, не
психолог личных отношений и, следовательно, не драматург; он выдающийся
аналитик индивидуальной воли — не психолог ее, а мистериолог; мистерия
7 Впервые напечатано в газете: «Новое Время». 1896. 5 декабря. № 7463.
Подп. Апокрифъ.
108«Наша литература так бедна истинно интеллигентными книгами...*
воли — вот что представляют собой его лучшие драмы; личность, как
внешнее волевое явление не существует для Ибсена; область его закулисная,
т. е. бессознательная, душевная и специально волевая сфера; в этой области
он обнаруживает не только тонкий аналитический ум, но и большую
изобретательность, которая сказывается, прежде всего, в образовании фабулы его
произведений, я хочу сказать — в возникновении судьбы героев его
драматических пьес. Судьба — это органическое или художественное произведение
внутреннего человеческого «я», бессознательной воли; таков главный тезис
Ибсена, и все драмы его только более или менее глубокие и эффектные, но
всегда отвлеченные и не художественные иллюстрации этого положения.
Ибсен своим анализом и синтезом воли и судьбы дал глубочайшее
объяснение наиболее существенным моментам современной жизни, и в этом сила
его, его значение; он по праву может быть назван «современнейшим из
современников», по выражению Брандеса. Наследственность, гипноз,
телепатия, атавизм, вырождение, борьба за существование, карьеризм — все эти
современные феномены нашли в драмах и комедиях Ибсена свое коренное
объяснение. Ибсен работает в недрах души; там он открывает неизведанные
еще материки человеческого бытия; в наш век великих открытий в
области материальной природы и не менее великой слепоты в области духовной
природы явилось несколько великих людей, которые занялись открытием
человека; все они своего рода духовные рудокопы, все они работают в
духовных шахтах, и труд их, тяжелый и темный, еще не нашел надлежащего
освещения и должной оценки, но и оценка и понимание не минут его...
Статьи из раздела «Книги за неделю» (газета «Новое Время»)
6
Ежегодный Сизифов труд8.
Я. Колубовский. Философский ежегодник: Обзор книг, статей
и заметок, преимущественно на русском языке, имеющих
отношение к философским знаниям. М. 1896 г.
Едва ли было время более суетное, более тщеславное, более мелочное,
нежели наше. Теряя понимание живого нерва действительности, люди
начинают цепляться за призрачные ее стороны. Что такое тщеславие? Да это
крайний предел, последняя ступень суетности нашей и без того суетливой
душонки. Сам того не подозревая, суетный человек, человек тщеславный
живет наиболее отвлеченной, наиболее фиктивной стороной своего «я».
Это положительно самый несчастный, самый больной человек на земле. Но
8 Впервые напечатано в газете: «Новое Время». 1896. 25 декабря. № 7483.
Подп.: Ф.Ш.
Литературно-критические статьи Ф. Шперка 109
знаете: таких несчастных и больных теперь массы; все это люди, ушедшие
от жизни, однако все еще желающие жить хоть чем-нибудь, хоть
последними крохами жизни, хоть душевным уродством, хоть этическим и
эстетическим безобразием.... Недавно попалось мне на глаза одно чрезвычайно
интересное любопытное явление. Я разумею вышедшую на этих днях
книгу «Философский Ежегодник» Я. Колубовского, представляющую собой,
как говорит обложка: «Обзор книг, статей и заметок, преимущественно
на русском языке, имеющих отношение к философским знаниям». Боже!
Чего и кого только в этом «Ежегоднике» нет! Тут и Чимеров, который для
того, чтобы разбранить русских переводчиков старых поэтов, прибегает
к «учению о вселенском Логосе и затрагивает вопрос о сущности духа
и материи»; тут и Евг. Бобров, автор одного умозрительного
психологического исследования, о котором (т. е. о авторе) г. Колубовский
обязательно сообщает: «Он торжественно посылает благодарение Всевышнему,
дозволившему ему окончить великий труд; он считает нужным сообщить
читателю, что читатель подвергался опасности утратить его труд, т. к. при
пожаре, происшедшем в Иванов день, пострадали и напечатанные
листы его сочинения»; тут и некий д-р г. Бертенсон: «Границы познания он
отождествляет с теми пределами, до которых человек может добраться
на воздушном шаре, и потому решение о полете он считает последним
этапом на пути к рациональному мировоззрению»; Ломброзо, свидетель-
, ствующий, что «в наш денежный век биржевых спекуляций самоубийства
от любви далеко не вызывают отвращения, напротив, вызывают слезы на
глазах и глубокие ощущения в сердце»; г-жа Альберти, подвергающая
некрасивых женщин курсам лечения: «...блондинок лечит Шопеном,
брюнеток — Вагнером»; г. Гольцев, защищающий искусство: «Оно не может
разъединить того, что неразрывно связано в душе человека, полного
великих исторических надежд»; г. Плисский, автор сочинений «Домашние
животные», «Мстительность животных», «Мания держать пари»... Боже!
Чего только нет в этом философском труде! В какую тину мелочности
мы залезаем с автором; какую только наивность, банальность, глупость,
безграмотность не подобрал автор-составитель, с той, надо думать, целью,
чтобы представить будущему историку необходимые ему материалы по
части современной нашей «мудрости». Как будто история мысли состоит
из литературного хлама и сора, или как будто этот хлам представляет
характерный момент нашей современной литературы.
Да, всегда этот хлам был, всегда существовали невежественные и
недалекие люди, которые говорили банальности и нелепости. Но разве
прежние эпохи унизились бы собирать весь этот сор в «Ежегодники»,
носящие громкое название «философских»? Да никогда! Потому что нужна
потеря всякой серьезности, нужна изысканная муравьиная мелочность
внимания и ума, чтобы производить эту кропотливую, бесплодную,
бессмысленную работу.
ПО«Наша литература так бедна истинно интеллигентными книгами...»
Но теперь, очевидно, настали новые времена, времена какого-то
особенного повального тщеславия. И вот, как необходимый продукт нового
времени, появился собиратель хлама, называющий себя «библиографом»;
собиратель всего ненужного и претенциозного, что говорится
бездарными, но тщеславными людьми. Никому такие сборники не приносят пользы,
никакой ценности они не имеют, но для тщеславных людей они важны,
для них они представляют интерес, значение, имеют даже жизненный
смысл. Многие, я думаю, прямо оживают, когда видят в них свое имя
пропечатанным. Убеждаясь, как их банальности и нелепости тщательно
собираются, они вправе торжествовать, «праздновать праздник своей жизни»,
говоря выражением К. Леонтьева, вправе пыжиться, топорщиться,
надуваться пока...в конце концов не лопнут от внутреннего самодовольства,
перешедшего в манию величия.
Успех таких книг как названный «Ежегодник» в наше особенное время
не может подлежать сомнению, как и то, что все такие книги — в те
времена, когда будет писаться история нашего времени, будут рассматриваться
как редкие курьезы феноменальной умственной мелочности и
беспримерного литературного тщеславия, т. к. не только содержание этих книг
курьезно мелочно и тщеславно, но курьезно мелочен и тщеславен и источник
их, т.е. те условия, которые их порождают и вызывают на свет.
С удивительным простодушием и искренностью автор настоящего
«Ежегодника» сам признается в предисловии: «Если бы мой «Ежегодник»
остался лишь на стороне, за которой можно признать не один только
«интерес минуты», то ему пришлось бы выбросить за борт, по крайней мере,
своего содержания». Он откровенно сознал, главным образом, что служит
своим трудом интересам минуты. Но спрашивается, чему служит сама
такая минута, как не тщеславию и мелочности?
Кстати, несколько слов о курьезах. Слово «курьез» частенько
попадается на страницах «Ежегодника» и притом в двояком значении. С одной
стороны, автор, надо признать, с большой прозорливостью отмечает
действительные курьезы; мы привели некоторые образчики; с другой стороны,
он возводит в степень курьеза вещи, имеющие серьезный глубокий
философский смысл, который, очевидно, составителю темен.
Характерно при этом то, что, в общем, «Философский Ежегодник»
написан вяло и скучно, но страницы, посвященные курьезам, блещут
жизненностью, несомненным дарованием, если хотите, даже своего рода
«вдохновением». Конечно, это вдохновение чисто современное, но тем
более должно его отметить как характерный симптом...
Тут явно сказался указанный мною тщеславный дух, присущий не лично г.
Колубовскому, а присущий ему как известному современному писателю, дух,
который везде цепляется за все мелочно-экстраординарное; он выискивает
курьезы как мелочно-экстраординарные явления и он создает, творит себе
курьез из действительно выдающихся вещей, т. к. курьез есть наркоз тщеславия,
Литературно-критические статьи Ф. Шперка ///
им оно питается, им оно живет, в нем проявляет свою продуктивную силу.
Курьез становится идолом современности. Поистине, жалкое, постыдное время!
Заговорив о «Философском Ежегоднике» Я. Колубовского и о
«курьезах» как пище современного тщеславного времени, я не могу
воздержаться от краткой экскурсии в область нашей современной философии. У нас
есть двоякого рода философы: философы-профессионалы и
философы-самородки. Первые имеют литературный успех, вторым принадлежит
жизненное значение (хотя пока и без жизненного воздействия на общество).
И вот: я хотел бы отметить, а главное — объяснить одну особенность
этих последних. В представлении русского человека, особливо
простолюдина, «философ», помимо мудреца, всегда обозначает некоторого
«оригинала», «чудака», человека, потерявшего практическое понимание вещей, мира
сего. Это представление русского простолюдина о философе вполне
совпадает с действительной индивидуальностью самобытных русских
мыслителей как она выразилась в их литературных трудах. Отыскать в этих трудах
черты той особой оригинальности, которую мы называем
эксцентричностью, даже художеством, не представляет ни малейшей трудности.
Странный, своеобычный образ Сковороды, одного из первых наших мудрецов,
в этом отношении типичен для всех подлинных русских философов. И вот,
примеры этой своеобычности, вычурности, эксцентричности выуживаются
современным любителем курьезов, лишенным философской серьезности
и чутья, и преподносятся читающему обществу как образцы
философского мышления. Разумеется, читающее общество, не подозревая, что этими
«курьезами», этими «эксцентричными» результатами чрезвычайного само
углубления и отрешения от внешнего живого мира философский смысл
произведений русских мыслителей не исчерпывается, отворачивается от
странных, но действительных мудрецов и обращается к гладким, но почти
всегда плоским пережевывателям иностранной премудрости.
Отсюда полный неуспех всех оригинальных русских философских
трудов, отсюда незнакомство с ними русской публики, русской
интеллигенции, незнакомство, которое как неправильное, не должное, пора и нужно
прервать. Разве знает русское общество философа Бакунина (ничего
общего не имеющего с известным Бакуниным), автора глубокой,
психологической книги «Основы веры и знания» (Спб. 1897 г.), которая содержит
в себе одно цельное, живое и высокое созерцание мира, книги, которую
высоко ценил такой тонкий критик как Страхов, которую высоко ценит
гр. Л. Н. Толстой (это мне передавал Страхов) и которая ...была отмечена
в русской литературе одной невежественной библиографической
заметкой. Разве знает русское общество что-либо о философе И. В. Свечине9,
9 Ср. у В. В. Розанова: «Еще Шперк приучился таскаться к философу... забыл
фамилию. Он (под псевдонимом) издал умопомрачительную по величине и, должно
быть, по глубине книгу — «Кристаллы человеческого духа». Радлоз и Введенский,
П2«Наша литература так бедна истинно интеллигентными книгами...»
авторе труда «Опыт изложения начал общечеловеческой философии»,
труда, не лишенного значительных недостатков с чисто-отвлеченной и
научной точки зрения, но и не лишенного и глубоких прозрений в
сокровенное души человеческой. Разве знакомо русское общество с широким,
аналитическим исследованием В. Розанова «О понимании», кроме брани
и плоских насмешек ничего не встретившего у наших присяжных
философов при своем появлении? Место не позволяет мне говорить о других,
но, я думаю, достаточно и этого, чтобы иметь право сказать: пора бросить
постыдное занятие выискивания «курьезов» и тому подобных вещей в
произведениях тех, которые своим трудом мысли, самым сильным, притом
неблагодарным трудом хотят осветить мрак человеческого существования,
пора обратиться к серьезной, достойной критике их творчества.
7
«Красота в природе и ее смысл» В. Розанова. Москва. 189510.
Явления природы и факты истории, быть может, яснее всего
открываются тому, кто подходит к ним не с логической мыслью отвлеченного
мудреца, а глубоким и живым чувством человека-психолога. Они
открываются ему в своей жизни, в своей душе, а душа живых явлений и есть,
в некотором роде, их истина. Не вполне удовлетворяемые в своих чисто
философских ожиданиях мы, однако, с чувством глубочайшего душевного
удовлетворения прочитываем небольшую книжку В. Розанова, писателя
именно обладающего этим искренним и действительно вдохновенным
чувством, которое, проникая в средоточие вещей, извлекает их
жизненный нерв, их общий психологический смысл, г. Розанов не только
размышляет об известных предметах, он и одушевляет их своим
пониманием. В этом заключается особенная привлекательность его рассуждений.
Наиболее удачны те идеи В. В. Розанова, которые раскрывают смысл
жизненных явлений на общеисторической почве. В этой области г. В. Розанов
конечно, не читали ее. Забыл фамилию. Леднев (псевдоним)... Он жил за Охтой, там
у него был свой домик, с палисадником, и сам он был маклером на бирже; маклером-
философом. У него была уже дочь замужняя, и вообще он был в летах..
Моя жена («друг») и это маклер были причиной перехода Шперка в
православие. Шперк удивительно к нему привязался; попросту и по благородному —
«по-собачьи». Маклер был для него самый мудрый человек в России, — «куда
Введенский и Радлов»! Он был действительно прекрасный русский человек, во
всех книгах начитанный и постоянно размышляющий. Он упрекал Шперка, что
тот все выпускает брошюры, т.е. «расходуется на мелочи».
Наблюдать любовь к нему Шперка было удивительно трогательно.
Вспомнил фамилию философа — Свечин.» Уединенное. М.1990, с. 136-137.
10 Впервые напечатано в газете: «Новое Время». 1897. 8 января. № 7495.
Подп.гФ.Ш.
Литературно-критические статьи Ф. Шперка 113
положительно мастер своего дела. Дух истории вполне отвечает общим
философским наклонностям его, а явления ее, глубоко-жизненные,
совершенно соответствуют тому чувству, которое составляет главное орудие
его познания... Содержание этого труда довольно разнообразно:
определив красоту в органической природе как «непроизвольное и естественное
выражение жизненной энергии» (определение с чисто философской точки
зрения недостаточное), и этим определением совершенно отстранив от
себя родственные явления красоты в неорганическом мире, В. В. Розанов
переходит к психологии рас, исторических родов, гения и прочих
проявлений этой энергии, всюду обнаруживая недюжинные аналитические
способности и замечательное психологическое чутье. Всякий
интересующийся психологическими вопросами прочтет эту книжку с живейшим
удовольствием, так как она изобилует идеями и прекрасно написана — не
только живо, ясно и поучительно, но и с той особенной, свойственной
автору лирической мелодией стиля, которая служит непосредственным
выражением напряженно-идеалистического чувства и невольно
привлекает к себе современного читателя, тоскующего по душевным идеалам.
8
Ненужное оправдание11.
Вл. Соловьев. Оправдание добра. Нравственная философия.
СПб. 1897 г.
Тяжелое впечатление производит книга г. Вл. Соловьева12.
Представьте себе человека, который серьезно занялся задачею «оправдать добро».
Очевидное, ясное, абсолютно и несомненно истинное христианское
учение любви подвергается иезуитски-изощренному,
схоластически-хитросплетенному и метафизически-отвлеченному оправданию, доказательству,
утверждению. Для чего и к чему? Позвольте мне не понять это. Да, я
отказываюсь, и отказываюсь совершенно серьезно и чистосердечно, уразуметь
11 Впервые напечатано в газете: «Новое Время». 1897. 26 февраля. № 7544.
Подп.: Апокрифъ.
12 См. у В.В. Розанова: «<...> На Соловьева он напал, но неожиданно и будучи
дружелюбен с ним, потому что — как характеризовал его раньше, после первых ли
шагов знакомства с ним — «это есть явление эстетическое, а не этическое» (в жизни,
в обществе, в литературе). И с этой именно своей точки зрения на него как на личность,
он напал и на его «Оправдание добра»... <...> Соловьев сам нашел нападение сильным
(«талантливым») и отвечал на него едва ли не пространнее, чем было само нападение».
Из старых писем. Письма Влад. Серг. Соловьева. / / Золотое руно. 1907. № 2-3. С.56.
На полемику обратил внимание А. П. Чехов. Заинтересовавшись автором
направленных против Вл. Соловьева статей, спрашивал в одном из писем к А. С.
Суворину, кто скрывается под псевдонимом «Апокриф». См. Чехов А. П. Собрание
сочинений в 12 томах. М. 1957. Т. 12. С. 168.
114«Наша литература так бедна истинно интеллигентными книгами...»
это теоретизирование над моралью. Размышлять можно, конечно, обо всем,
и о «вервии простом» как наш простодушный метафизик, и о
«метафизической природе допотопного мамонта» как о том размышлял Шеллинг или
Гегель — не помню уже хорошенько, которая из этих мудрых немецких голов.
Но размышляйте о «вервии» и «мамонте» у себя дома в своем углу. Не
выносите эти свои мудрствования в честной народ, не смущайте его ими.
Несомненное для него несомненно, и вы своими хитрыми и слабыми доводами
только ослабите его веру в необходимость добра, и своей темнотой, своей
иезуистикой, своей схоластикой только внесете в его голову смуту. Ему
покажется, что и в самом деле добро нуждается в «оправдании»; и, склоняясь
в сторону суемыслия и с этим теряя правильное отношение к «добру» как
некоторой самоочевидной истине, он пойдет за вами в дебри «метафизики»,
где, конечно, ни достоверности, ни убедительности, ни истины не найдет.
Своей метафизикой вы отнимаете у него разом и разум и нравственность.
Легче понять и объяснить себе «оправдание зла», нежели «оправдание
добра». Добро истинно, ни в чем не виновно и в оправдании не нуждается. Зло
темно и для души и для ума, и, хотя по своей природе не может быть
оправдано, однако, естественно становится предметом извинений и оправданий.
Мотивы г. Соловьева, «оправдывающего» всякими научными и ненаучными
способами «добро», мне совершенно не понятны; тогда как мотивы фарисеев,
книжников и иезуитов, оправдывавших свои злые деяния с психологической
точки зрения, и естественны, и понятны, и даже неизбежны. Естественно
оправдывать виноватого и вину, но довольно противоестественно оправдывать
то, что ни в чем не повинно, ни перед кем не виновно... добро и любовь...
Вот почему читать книгу г. Вл. Соловьева так тягостно: она вводит
искусственность и темноту в ту область, которую мы всегда желали иметь
ясной, простой и несомненной...
Если бы г. Вл. Соловьев предложил нам свою собственную мораль, мы
бы, конечно, отнеслись к нему, хотя и без особенного сочувствия, но все же
с известным почтением; или если бы он обрисовал нам психологию
нравственных чувств, — мы бы поняли его: добро есть дело сердца и внести
сознательную мысль в это «дело» — значит осмыслить сердцем.... Но брать
«дело сердца» и превращать его в ряд отвлеченных формул — это пустое
препровождение времени.
Нашим философам не дают просто спать лавры Канта, который первый
исполненную бесконечного содержания христианскую заповедь любви свел
к чисто формальному трактованию: «поступай так, чтобы ты, как в лице
самого себя, так и в лице всякого другого лица всегда пользовался
человечеством как целью и никогда — как средством». Это абстрактное требование
действительно очень удачно схватывает конкретную христианскую мораль,
но нужно помнить, что оно — только курточка, хорошо сидящая на живом
теле любви, и формула эта ни для кого бы ни была понятна и нужна, как не
нужна одежда, когда нет человека, могущего ее надеть...
Литературно-критические статьи Ф. LU перка 115
Со времен Канта философствующие книжники стали вылезать из кожи,
чтобы как-нибудь превзойти кенигсбергского маэстро в отвлеченности
и метафизичности философской формулировки евангельской заповеди;
некоторые, кажется, и превзошли его в этом отношении, но одного они
никак не могли достигнуть: сказать что-либо подобное Канту по
лаконизму и остроумию; они стали писать скучнейшие и мертвейшие книжищи,
якобы «оправдывая добро», но в действительности оправдывая и выясняя
только свою неизлечимую склонность превращать все живое в книжное,
все, что ясно и просто — в «место темное и непонятное».
Г. Вл. Соловьев рассматривает следующую нелепую дилемму: «Когда
кто-нибудь, не имея других средств помешать убийце, преследующему
свою невинную жертву, скроет преследуемого у себя в доме и на вопрос
убийцы, не находится ли здесь такой-то, ответит отрицательно и для
большей убедительности «отведет ему глаза», указав на совсем другое
место, то одно из двух: солгавши таким образом, он поступил или согласно
с нравственным долгом или противно ему. В первом случае оказывается
позволительно нарушать нравственную заповедь: «Не лги», чем
отнимается у нравственности ее безусловное значение и открывается дверь для
всякого зла; а во втором случае — если человек должен был сказать
правду, то выходит, что нравственный долг правдивости обязывал его на деле
стать решительным пособником убийцы в его злодеянии, что одинаково
. противно и разуму, и нравственному чувству. Середины же при такой
постановке дела не может быть, ибо само собой разумеется, что отказ этого
человека в ответе или ответ уклончивый только подтвердил бы
предположение убийцы и окончательно выдал бы ему жертву...»
На нескольких страницах г. Вл. Соловьев распутывает эту «лойолов-
скую» дилемму и, надо отдать ему справедливость, делает это с тонким
пониманием формально-нравственной казуистики, какие мы ни у одного
нашего моралиста не найдем. К сожалению, здравый русский человек
недолюбливает иезуетизма даже в философской одежде, а «гордиевы узлы»
схоластического мышления он привык не «распутывать», а «разрубать» —
разрубать силою полного игнорирования их и равнодушного отчуждения.
9
«Второе Возрождение»13.
3. Венгерова. Литературные характеристики. СПб. 1897 г.
Только что одолел довольно объемистую книгу г-жи 3. Венгеровой
«Литературные характеристики», посвященную эпохе «Второго Возрождения»,
т.е. «литературе и искусству последних десятилетий в Западной Европе».
13 Впервые напечатано в газете: «Новое Время». 1897. 12 марта. № 7557.
Подп.: Апокрифъ.
116«Наша литература так бедна истинно интеллигентными книгами...»
Цель книги почтенная и прекрасная. Но с почтенной и прекрасной
целью г-жа 3. Венгерова обошлась немного не почтенно и не прекрасно.
Она взяла несколько наиболее характерных представителей «Второго
Возрождения» и, вместо того, чтобы характеризовать их,
скомпилировала содержание из произведений. Таким образом, книга ее вышла не
характеристикой и не критикой, а компиляцией отдельных
индивидуальных явлений.
Можете себе представить что-нибудь более фальшивое и нелепое?
Я понимаю компилировать статьи, научные исследования и всякий
другой подобного рода материал; но разве можно компилировать личности,
таланты, произведения творчества и вообще чисто индивидуальные вещи?
Разве можно компилировать жизнь и искусство?
Но, вот г-жа 3. Венгерова ухитрилась это сделать и выполняет свою
работу с таким самодовольством, с таким чувством собственного
достоинства, как будто она производит какое-нибудь не только полезной,
серьезное и правильное, но и немножко даже священное дело.
Очевидно, она совершенно не понимает, что ознакомлять с
содержанием какого-либо личного творчества нельзя иначе, как, предварительно
объяснив, охарактеризовать саму творческую личность. Без понимания
личности, — понимание, которое никогда не может иметь
компиляторного характера, которое всегда есть дело непосредственного чутья, —
всякое описание и изложение содержания произведений — совершенно
излишнее, ничтожное и пустое занятие.
Компиляторским путем никогда с творчеством никого не ознакомишь,
так как в правильные и плоские рамки компиляции живое творчество не
укладывается. Поэтому труд г-жи 3. Венгеровой — совершенно ложный
труд, не достигающий своей цели. Для нее не существует личностей и
образов; для нее существуют одни имена и ярлыки; а ярлыки и имена нам
ничего не говорят, мы не видим в них содержания; нам нужны лицо, образ,
стиль... Труд г-жи Венгеровой интересен только как яркая ошибка, как
ясное выражение непонимания у новейших критиков и характеризаторов
сути того, что составляет критику и характеристику.
А теперь несколько слов «по поводу» книги — о том «Втором
Возрождении», которое составляет тему г-жи 3. Венгеровой. Это «Второе
Возрождение» делают или составляют так называемые прерафаэлистыь,
художники, увлекавшиеся до-рафаэлевской живописью, как Розетти,
эстеты, вроде знаменитого Оскара Уайльда, символисты как Верлен,
и т. п.
У всех этих господ, на мой взгляд, одно общее: все они чрезвычайно
утончены в форме своих произведений и чрезвычайно скудны в
содержании. Потому-то и скитаются они «по белу свету» и по закоулкам
истории; они жадно ищут содержания, чужого содержания, которое могли бы
приурочить к своей формальной способности. Вовсе не «новые формы»
Литературно-критические статьи Ф. Шперка 117
и «новые пути» интересуют их; они ищут содержания, которого у них нет.
Форм же у них избыток...
Конечно, эпоха Возрождения имеет много общего с таким состоянием
современных умов. Средние века порабощали плоть, подавляли в
человеке природу и изощряли его дух, который, последовательно лишаемый
материальной пищи, выродился, в конце концов, в пустой сосуд
силлогизмов, в форму, лишенную содержания. Материя была изгнана, природа
была побеждена, и чистый дух мог торжествовать праздник своего
освобождения, своей эмансипации от дьявольского материального начала.
Но, — увы! — празднуя этот праздник, он должен был в то же время
и сознаться, что, сделавшись полным господином и властелином своим,
отделившись от природы и материи, он сделался бесплодным, потерял
творческую силу.... В том и заключается зло средних веков, что,
культивируя чистый дух, они вели к творческой немощи, так как всякое
творчество есть не что иное как слияние формы и содержания, а форма сама
по себе, как бы ни была она утончена, как бы ни была она чиста, не дает
еще творческого произведения.
Средневековый дух, отрешившись от материи, не мог уже ничего
создать из себя собственными средствами и силами, так как одного
существенного фактора творчества в нем не стало, и естественно и неизбежно он
начал вне себя искать материю, природу и содержание. Соприкоснувшись
с античным миром, он создал гуманизм, соприкоснувшись с библейским
содержанием, он образовал реформацию; соприкоснувшись с природой,
он открыл Америку и новейшее естествознание (Бэкон).
Теперешние прерафаэлисты со своим «медивиализмом» или
поклонением «средним векам», новейшие английские художники — поклонники
18 века, современные символисты а 1а Верлен с музой, представляющей
«мелодию всех лир», т.е. всех исторических культур, — все это «ренес-
сантисты», все это люди, набросившиеся на чужое добро, на чужие
сокровища, которые они под прикрытием «новых форм», уносят и присвояют
себе. Все это на половину плагиаторы, на половину — мученики
творчества, иссушенные огнем бесплодных стремлений извлечь что-либо из своего
бессодержательного духа. Они не находят в себе необходимых условий
творчества и, конечно, ищут их вне себя.... Но к чему они хотят подражать
прошлому? К чему избегают они новых путей? Ведь история, как и жизнь,
не повторяется...
Ренессанс, с похищением чужих культур, был только однажды, и это
«однажды» не повторится. В наш век прошлое истории не дает больше
живого содержания, и поэтому все эти Росеттти, Моррисы и т. д., ищущие
спасения в лабиринте истории, только заблуждаются в нем...
Похищение иных «сабинянок» потребно и плодотворно в наши дни. Не
культуры прошлой истории дадут односторонне и исключительно
отвлеченному человеческому духу живое содержание, зиждительную материю;
118«Наша литература так бедна истинно интеллигентными книгами...*
это живое материальное начало внесут в жизнь иные «сабинянки», нам
думается — выдвигающиеся в наши дни женщины, со своим всегда
материальным духом, всегда столь близким к природе и действительности.
Женщина — вот та культура, которая своим духовным содержанием
наполнит пустые формы современного творчества... Ей, и только ей, нам
думается, суждено на этот раз поднять дух человека. И, конечно, это
истинное «Второе Возрождение» будет исполнено не меньшей жизнерадос-
ти, энтузиазма и «новых впечатлений бытия», нежели первый Ренессанс...
10
«Философ в душе»14.
Н. Герасимов. Философия души. Рассуждения. М. 1897 г.
Мне кажется, и в области литературы и философии
Есть речи — значенье
Темно иль ничтожно,
Но им без волненья
Внимать невозможно15.
Книжка г. Н. Герасимова, как будто и представляет образчик таких
речей. Значение ее кажется темным и ничтожным в силу того, что автор
не обладает философской изобретательностью и литературным талантом.
Ему не удается сказать что-либо свое, что-либо новое и оригинальное,
речь его, если строго судить с литературной точки зрения, «ничтожна»,
с философской — «темна»; но есть в ней что-то, что выше и значительнее
«темноты» и «ничтожества» и этому-то «нечто» — и «невозможно внимать
без волненья»...
Мы часто говорим о «поэтах в душе»: это лица, лишенные того
поэтического дарования, которое обнаруживается в форме, но в своем
душевном строении, в своем духовном облике, в своем внутреннем содержании
они представляют все черты, которые слагают в нашем понимании образ
поэта. Аналогично с этим, мне думается, могут существовать на свете
и «философы в душе», лишенные формальной философской способности,
т.е. мыслительного творчества. «Философы в душе», но не в «уме» — не
в способности образовать новое понятие, не в дарах своеобразного и
самостоятельного синтеза или анализа мысли!.. К таким «душевным
философам», философам по своим бессознательным убеждениям и принципам,
я и хотел бы причислить автора лежащей передо мной философии души.
Для лучшего уяснения этой характеристики позволю себе привести
следующие слова г. Н. Герасимова, в которых он сам себя, не сознавая
14 Впервые напечатано в газете: «Новое Время». 1897. 26 марта. № 7571.
Подп.: Апокрифъ.
15 Цитата из стихотворения М.Ю. Лермонтова «Есть речи — значенье...».
Литературно-критические статьи Ф. Шперка 119
этого, впрочем, ясно и полно открывает: «Господствующим в настоящее
время в человечестве — ив особенности — в «просвещенной» его части,
критерием правды являются убеждения мысли, идеи разделяемой теории
и т.д., и совершенно забывается, что над мыслью, убеждением, теорией
стоит высший критерий — правда Божья; только ее истинностью истинна
мысль человеческая, убеждения и теория, в ней их действительная,
объективная правда. Отрицая часто разумность веры, современность сама
проникнута верою в мысль и ее слово, полагая, что так называемое мышление
есть чисто разумное познание мировых истин. Мысль, однако, не всегда
чисто познавательная функция разума, но вообще выражает в себе душу
своего носителя со всеми его верованиями, склонностями, безотчетными
симпатиями, отвращением и т.п. Мышление не представляет в себе само
необходимого развития истины (таков только идеал человеческого
мышления), но есть весьма сложное психическое явление, где не последнюю
роль играет индивидуальность и ее характерное направление, чувство,
воля, бессознательно воспринятые взгляды, сокровенные желания».
Вот эти «верования, симпатии, отвращения», которые сопутствуют
мысли г. Н. Герасимова, и представляются нам духовно содержательными,
философскими и по значению своему бесконечно превосходящими
«чисто познавательную функцию» его разума. В этих «верованиях, симпатиях
и отвращениях» сказывается столько внутреннего убеждения в единстве
и бесконечности человеческой души, в ее бессмертии, в идее Божьего
закона мира, что все мысли автора по вопросам психологии, как бы ни
была малооригинальна, темна и ничтожна их отвлеченная, чисто
логическая структура, являются утвержденными на некоторой действительной
основе, на некотором неколебимом ощущении истинного. А это
ощущение истины и вера в нее, невольно проявляющиеся в стиле, и способны
«волновать» читателя, так как они и живы, и искренни, и возвышенны...
Душа в философии г. Н. Герасимова связана непосредственным образом
с Богом. Отсюда теологический характер всего его психологического
учения. Но эта «теологическая» психология, даже не талантливо
придуманная и выраженная, глубже, живее и истиннее той «научной» психологии,
которая в наши дни производит так много шума и суеты на литературной
улице, в качестве «экспериментальной», «физиологической», «ассоциаци-
онной» психологии, прекрасно умеющей ради «научного исследования»
разлагать сознание на его элементы, подобно тому, как химик
разлагает различные вещества на их составные части, и нисколько не умеющей
понять душу, как душу, как индивидуально целое, единое и непрерывное
существо. В книжке г. есть несколько очень верных и умных замечаний по
этому поводу. В них он, собственно, весь и выразился. Вопрос о единстве,
о целокупности, очевидно и естественно, занимал его внимание как
философа не только «души», но и в «душе», и тут он высказался с наибольшей
силой, определенностью и ясностью.
120«Наша литература так бедна истинно интеллигентными книгами...»
«Изучая психологические работы настоящей эпохи, — говорит
автор, — не трудно заметить, что современная психология поставляет
главнейшею задачею своею изучение законов психологической жизни,
понимая под ними — по подобию наук физических — узкую и
бессодержательную «закономерность психических явлений» или их
«единообразие». В силу этого, «в расчленении неразрывной душевной жизни
современная психология полагает свою научность». Но «расчленение сложного
переживания на обособленные душевные состояния» может быть только
искусственным расчленением отвлекающей мысли, но не действительным
фактом обособленности душевных состояний»...
Об «ассоциальной психологии» г. Герасимов говорит следующее:
она «видит душу исключительно феноменальную, в своем проявлении
обусловленную многообразными причинами, главнейшие физического
характера. Из чего же создается эта непрерывающаяся ткань душевных
состояний, откуда эти образы, волнения; что это за вещь, непрестанно
возникающая под влиянием внешних воздействий из ничего и вновь
обращающаяся в ничто? В погоне за научностью, делая психологию
«наукою факта» по преимуществу, школа совершенно теряет из виду живую
душу, ее развивающуюся жизнь; описывая исключительно данные
факты психической жизни в их искусственной изолированности, она столь
же мало может разъяснить бесконечно подвижную жизнь души, как
морфология и систематика растений — их физиологию; процесс само
построения, саморазвития души исчезает; более того, — в этих почти
случайных комбинациях психических явлений теряется живой смысл
личной душевной жизни»...
11
Книги за неделю16.
В Лейпциге появился перевод романа молодого русского поэта
Федора Сологуба «Тяжелые сны», на который в свое время мы обращали
внимание читателей. Роман этот, полный тяжелых, томительных,
однообразных настроений, выраженных сильно и поэтично, представляет по
нашему мнению, очень оригинальное произведение нашей современной
беллетристики. Произведение это преимущественно субъективное;
автору даже как-то трудно преодолеть свой субъективизм и цельно,
правильно и полно обрисовать какое-либо лицо. Все его художественные образы,
поэтому, отрывочны, и только женские лица представляют что-то живое
и имеющее подобие цельности... Отсутствие планомерности и
движения, частые повторения и слабая мотивировка поступков действующих
16 Впервые напечатано в газете: «Новое Время». 1897. 26 марта. № 7571.
Подп.: Ф.Ш.
Литературно-критические статьи Ф. Шперка 121
в романе лиц, оставляют нередко впечатление чего-то хаотического,
сумбурного. Но, быть может, эта сумбурность есть, отчасти следствие
некоторых чрезмерно реалистических наклонностей автора. Кто знает:
если слишком реалистично посмотреть на нашу будничную жизнь — не
представится ли она нам действительно некоторым сплошным
сумбурным пятном.... В лирических местах и некоторых психологических своих
указаниях автор проявляет столько же дар поэтического стиля, сколько
и глубину чувства, и силу ума. Роман этот, имеющий по своему
характеру сходство с современными скандинавскими произведениями, полных
таких же густых и тяжелых сумерек и туманов душевных настроений
и веяний, может иметь успех у публики, которой не чужды болезненные
переживания современности... Своеобразный колорит дикой, угрюмой,
томительно-молчаливой природы нашего Севера лежит на этой книге
и придает ей некоторую особую, слегка таинственную красоту, которая,
однако, едва ли может привлечь иностранца в той же мере, как нас. Это
та «сокрытая красота», которую автор колоритно поэтизирует в
следующих стихах своих:
Где грустят леса дремливые,
Изнуренные морозами,
Есть долины молчаливые,
Зачарованные грозами...
Как чужда непосвященному,
В сны мирские погруженному,
Их краса необычайная,
Неслучайная и тайная!
Перевод г. Браунера сделан точно и хорошо. Немножко грешит он
только некоторыми специфическими немецкими выражениями, которые
мало соответствуют словам подлинника (так, например, в оригинале —
«все равно»; г. Браунер переводит «alles Wurst»17). Также не совсем
продуманы у него некоторые психологические термины г.; одно из наиболее
постоянных и характерных слов автора «томительно» передано
различными словами: то через «bange», что значит «боязливо», то через «quälend»,
что означает «мучительно», то и в такой форме: «Es "beschäftigte" ihn
fortwährend ein Gedanke» (его «занимала» мысль — в подлиннике же: «его
томила мысль»)...
Заметим кстати, что недавно в журнале «Wiener Rundschau» появился
перевод рассказа г. «К звездам», а ранее в сборнике «Russische Novellen»
переведен его рассказ «Тени», в котором автор почти с бессознательной
меткостью опоэтизировал власть призраков над больною современною
душой и влечение ее к страданию...
17 Наплевать, до лампочки (нем.).
122«Наша литература так бедна истинно интеллигентными книгами...*
Статьи из раздела «Критические заметки»
(газеты «Новое Время»)
12
H.H. Страхов. Критический этюд18.
Das Aechte bleibt
Der Nachwelt unverloren.
Goethe19
I
Осенью исполнилось сорокалетие литературной деятельности H. H.
Страхова20. Прекрасный повод поговорить о писателе, о котором так мало было
говорено в критике, но который ценностью своих трудов вполне заслужил
высшей писательской награды — внимательной и целостной
характеристики своей литературной личности. Да, но почему же все-таки в
продолжение всех этих многих лет так мало обращали внимание на нее?
Остановимся на этом факте; он, кажется, весьма любопытен; нет, он более чем
любопытен: он поучителен; разгадать его — значит, в некоторой степени,
разгадать и самого писателя, интересующего нас в эту минуту.
Мне кажется, что как в судьбе, так и в литературной личности
H. H. Страхова много такого, что есть в судьбе и литературной личности
весьма известного философа Шопенгауэра. Шопенгауэр, кстати, и
любимый европейский писатель H.H. Страхова.
Я не говорю тут о сходстве творческих дарований. Этого сходства нет.
Шопенгауэр, прежде всего, систематик, как и подобает немцу; Страхов
же полная противоположность систематика. Шопенгауэр, затем, натура
чисто творческая. Страхов — натура чисто критическая. Сходство не
в формальных способностях, но в общем духовном облике и родственной
писательской участи. Так мы, например, видим, что и тот и другой
одинаково всею своей живой личностью уходят в литературную деятельность.
«Литература — это моя жизнь; другой жизни для меня не
существует», — говорил Шопенгауэр в одном из своих писем. И то же скажет вам
Страхов. Посмотрим только труды его: сколько читал он! Да столько не
читал ни один из наших писателей. И вполне понятно: ни один из наших
писателей не был писателем в полном смысле этого слова; все наши
художники и литераторы творили отрывочно; все они ставили личную свою
жизнь выше писательской жизни, — и вот почему не создали, может быть,
18 Впервые напечатано в газете: «Новое Время». 1895. 15 декабря. № 7112.
Подп.: Оръ.
19 «...Осталось для потомства незабвенным». Гете.
20 Начало знакомства H.H. Страхова с Ф.Э. Шперком относится к 1891 г. при
посредстве В.В. Розанова. Шперк считал H.H. Страхова своим «учителем в
литературе».
Литературно-критические статьи Ф. Шперка 123
вечных, мировых произведений; помимо одного из них, который создал
такие вещи, но в последствии решил все же подтвердить «общее правило»
и ради личных целей нравственного содержания уклонился от
литературного творчества; мы говорим о Л. Н. Толстом.
Другая черта, общая и одинаково характерная в обоих писателях,
в Шопенгауэре и Страхове, — это прямота, добросовестность их мысли,
этический характер их философской деятельности. В этом отношении,
между прочим, Страхов выгодно отличается от другого современного —
Вл. Соловьева. Вообще, Страхов и В. Соловьев — антиподы. В Страхове
как писателе так же мало поэтичности или, вернее, поэтического
излишества г. В. Соловьева, как мало в г. Соловьеве прямоты и писательской
искренности Страхова.
Возвратимся, однако, к аналогии между Страховым и Шопенгауэром.
И в судьбе этих мыслителей мы находим много общего.
Шопенгауэр, как известно, создал наиболее ясную философскую
систему «Мир как воля и представление». Но современники не поняли и не
оценили ее. Они увлекались в это время вздорной болтовней Шеллинга,
водящего, по счастливому выражению Шопенгауэра, за нос своих
читателей, и запутанной диалектикой Гегеля, в которой искали и находили все,
что только хотели искать и думали найти. И ясный мыслитель, несмотря
на всю ясность свою, остался непонятным; тогда как на долю мыслителей,
самих себя не понимавших, выпало счастливое понимание общества.
Курьезное, но исторически действительное положение вещей. У нас
повторилось то же: в эпоху детских мечтаний и темных философских доктрин
появляется совершенное, ясное и цельное философское произведение,
названное автором «Мир как целое» (аналогия даже в названиях книг).
И вот что пишет автор этой «самой понятной из книг, посвященных
философским вопросам»21, двадцать лет спустя ее выхода в свет: «Долго я не
мог даже думать, что доживу до второго издания, — так медленно и
неслышно расходилась книга. С глубокой благодарностью вспоминаю
неожиданно лестные для меня отзывы, правда, почти все на словах, а не в печати».
То же повторилось и с другими философскими произведениями г.
Страхова. Но скоро приобрели они серьезное внимание; только теперь, можно
сказать, их начинают признавать, ценить и любить. Ранее же их или не
знали, или их высмеивали. Как же это объяснить? Ведь сказать: habent sua
fata libella22 недостаточно; есть же какие-нибудь причины исторические
и в самих произведениях кроящиеся, которые оправдывают эти
прихотливые и произвольные, на первый взгляд, удары литераторского провидения.
Да, конечно, есть, и в данном случае есть.
21 Так выразился о ней сам автор в предисловии к первому изданию (Прим.
Ф.Э. Шперка).
22 Книги имеют свою судьбу, (лат.)
124«Наша литература так бедна истинно интеллигентными книгами...*
Дело в том, что легкость понимания вовсе не обусловлена легкостью
изложения. Напротив, чем яснее и правильнее поставлен или разрешен
вопрос, тем труднее понимание его. Ведь ясность постановки
достигнута значительным трудом; значительный же труд полагается на то, чтобы
вникнуть в эту ясность.
Труд мыслителя не только не упраздняет труда читательского, но,
напротив, прямо обусловливает его. И вот почему вообще полезно читать
хорошие философские книги. Они вызывают в нас работу мысли, и это
гораздо важнее того, что в результате они еще дают нам решение
известных философских проблем.
От решения многих, даже большинства отвлеченных, вопросов нам не
делается ни теплее, ни холоднее, а от действующих или бездействующих
мозгов наших нам действительно может стать или тепло, или холодно.
Итак, ясная книга еще не означает «легкой лектюры». Напротив, ясные,
определенные философские произведения всегда труднее темных и
неопределенных. Темные — Гегель и Шеллинг — легче Спинозы и
Шопенгауэра. А почему? Потому что первым — неопределенным и темным — вы
можете приписать все, что хотите, все свои мысли, которые, хороши или
дурны, понимаете сами, а последним — точным и определенным — вы
ничего своего не можете приписать. Определенные формы и грани понятий
отталкивают вашу субъективную мысль и требуют или полного
понимания, или же полного непонимания. Вот причина поздней популярности
Шопенгауэра в Германии и Страхова у нас. Мыслителей этих нельзя по-
своему истолковать, а непременно надо стараться понять их; понять же
истинного мыслителя нелегко: на то требуется и труд, и время, и когда
появится первый и наступит последнее — признается в нем все, что
достойно признания. Помимо этого, Страхов как выдающаяся литературная
величина представляет собой еще совершенно своеобразную
индивидуальность. И надо обладать известным чутьем индивидуальности, чтобы не
ошибиться в нем, а то как раз не приметишь «слона» в его произведении.
II
Прежде всего попытаемся охарактеризовать свойства ума нашего
писателя. Ум Страхова можно бы справедливо назвать периферийным. Под
периферийным умом мы хотим понимать такой ум, который тяготеет не
к средоточию, а к периферии созерцаемых явлений.
Один даровитый и небезызвестный библиограф наш справедливо
жаловался нам однажды на то, что изо всех современных писателей наиболее
трудно даются изложение статей и книг Страхова вследствие отсутствия
в них, именно, главных, центральных идей, последовательно выводящихся
и определенно формулированных.
Недостаток «идейной концентрации» — есть главный недостаток
статей почтенного Страхова, отсюда некоторая неполнота их и отрывочность
Литературно-критические статьи Ф. Шперка 125
или, вернее, недосказанность. Вот почему, прочтя какую-нибудь статью
Страхова, мы всегда ощущаем легкое разочарование и некоторую
неудовлетворенность, несмотря на все обилие отдельных живых и важных идей,
воспринимаемых нами от него.
Недостаток этот правда обусловлен в свою очередь и некоторым
крупным достоинством — обстоятельностью, детальностью мысли. У
центральных умов этой обстоятельности, подробности мышления не бывает.
И вот — мы примиряемся уже с умственным складом нашего писателя,
хотя и желали бы, может быть, иметь в нем менее совершенный и чистый
образец «периферийного мышления».
Страхов, например, прекрасный характеризатор литературных
явлений, но редко-редко вы найдете у него то, что так обычно встречать
у европейских критиков — сжатое и точное определение какой-нибудь
индивидуальности. Возьмите, например, прекрасную статью из его книги
«Борьба с Западом» — «Историки без принципов». В этой статье он
характеризует статью Ренана. Сколько отдельных верных и глубоких
замечаний о Ренане, но, поверьте, ни намека даже на общую характеристику!
Отсюда естественное недовольство читателя Страховым.
Небесполезно также остановиться на Страхове как стилисте.
Характеристика его с этой стороны открывает нам некоторые другие черты его
мышления. Именно — цельность и связность.
В статье «Историки без принципов» находится следующее меткое
стилистическое замечание: «Всякий писатель должен избегать риторики,
т.е. не подражать чужим мыслям, чужим течениям речи, не писать того,
чего нет в нем самом. Но есть в писательстве опасность более тонкая
и требование более трудное: не подражая другим, можно легко и
незаметно впасть в подражание самому себе. У каждого писателя со временем
может образоваться своя риторика; не имея новой мысли, он станет делать
выжимки своих старых мыслей; не имея чувства, он станет подделываться
под свои бывалые чувства».
Замечание это я привожу к тому, чтобы сказать, что одно из
отличительных, наиболее характерных качеств страховского «писательства»
есть, именно, отсутствие всякой риторики, т.е. выражения того, чего нет
в самом писателе. Всякое слово Страхова есть продукт мысли. В
мышлении же Страхова нет никаких «пробелов» — факт не только
замечательный, но и чрезвычайно редкий. Только у французских писателей прошлого
столетия вы встретите то, что встречается в произведениях Страхова. Вот
почему Страхов и симпатизирует так этим писателям, быть может
величайшим стилистам, какие только были.
Стилистическая связность, однако, есть не что иное, как внешне
обнаружившаяся связность, неразрывность цельности умственной. Потому-то
и представляет она такую великую редкость и встречается только у великих
мыслителей (мыслителей Франции и великих историков Греции и Рима).
î26«Наша литература так бедна истинно интеллигентными книгами...»
Дальнейшее следствие отсюда: кажущаяся не оригинальность
Страхова (при несомненной и богатой действительной оригинальности), и,
затем — величайшее достоинство его писаний — простота. Мыслитель,
который фактически оригинален, но не производит впечатления
оригинального, очевидно чрезвычайно прост. Он простотой своей прикрывает
своеобразие свое. В практическом отношении такая черта не особенно
выгодна для писателя. Он не так заметен. От этого и общество, и критика
всегда обращают внимание на то, что эксцентрично, внешне оригинально,
нежели на то, что просто и внутренне оригинально.
Но пусть утешатся писатели,
«Нравственно доросшие до простоты».
Was glänzt ist für den Augenblick geboren,
Das Aechte bleibt der Nachwelt unverloren23.
III
Теперь перейдем к определению самого главного в мышлении Страхова.
Вот слова, в которых он сам касается этой основной и существенной
стороны в себе: «Я желаю стоять за одно в моей книге: за философский метод
ставшего и развивающегося понятия. В этом методе все тайные умозрения.
Чем больше кто им владеет, тем больше он заслуживает звания
философствующего. Чем точней и правильнее этот метод прилагается, тем
несомненнее озаряется всякий предмет исследования. Читатель, может быть, не
согласится со мной в каких-нибудь частных случаях; но я твердо надеюсь,
что он вынесет из этой книги общее убеждение в необходимости
философского метода в научных построениях. Большею частью, правда, приемы
метода здесь как бы скрыты под формами исследуемого предмета, но такое
слияние метода с предметом мне всегда казалось самым увлекательным
трудом и самым лучшим средством неотразимо убедить и себя, и читателя.
Исследование при этом может двигаться безгранично и во все стороны, и в
то же время, будет постоянно иметь под собой твердую почву»24.
Как хорошо знает себя этот писатель! Как централизованно знает себя
этот, во всяком другом периферийный, ум! И замечательно самопознание
его — вполне непосредственное, без малейшего признака болезненной
рефлексии или раздвоенности. Действительно, главное в Страхове —
метод; метод — его особенность, метод — его специальность. Он — великий
методолог. И сколько вдумчивости и глубины в этих словах его: «Слияние
предметов с методом мне всегда казалось самым увлекательным трудом
и самым лучшим средством убедить себя и читателя». Вспомним только,
кто сказал совершенно аналогичные слова? Сказал такие слова один из
23 «Что, сияя, рождалось для мгновенья, Осталось для потомства
незабвенным». Гете.
24 Речь идет о книге «Мир как целое». (Прим. Ф.Э. Шперка).
Литературно-критические статьи Ф. Шперка 127
величайших умов той эпохи, которая именно наиболее была занята
вопросом о философском методе — Спиноза. Высказал он их в своем
неоконченном «Трактате об исправлении разума» (intellectus emendatione), кстати,
имеющемся и в русском, хотя и неважном, переводе.
Отсюда в европейской литературе глубочайшая симпатия Страхова к
родоначальнику методологических изысканий — Декарту, знаменитому автору
трактата о методе, «положившим начало новой философии»25. Отсюда в
нашей литературе признание Страховым Ап. Григорьева, самого
содержательного и философичного из русских критиков. Вот что, между прочим, пишет
Страхов об этом тяжелом, но сильном и своеобразном уме: «Значение Ап.
Григорьева будет еще долго возрастать. Не только сделанный им очерк
литературного развития от Карамзина до того фазиса, явление которого до сих пор
еще не завершилось, есть единственный у нас полный и органически связный
взгляд на нашу литературу. Но еще важнее, еще больше имеют глубокой
поучительности самые приемы нашего единственного критика. В делах ума
главная заслуга всегда заключается не столько в результатах, сколько в методе,
усваивая который мы сами получаем способность продолжать дело»26.
Методологом является Страхов и в своих философских, и в своих
естественнонаучных трудах. Достаточно просмотреть заголовки статей,
составляющих его сборник «Философские очерки» (СПб. 1895), чтобы
убедиться в том, что в философии его менее интересуют «результаты»,
.нежели «метод». То же и в естественнонаучной области; первый его труд
озаглавлен уже — «О методе естественных наук» (СПб. 1865). Отсюда
некоторого особого рода «бессодержательность», формалистичность
произведений Страхова, делающая его малоинтересным для молодежи.
Страхов по природе, по своему значению — истинный учитель, но учитель
не молодежи, а учителей этой молодежи. Он истинно полезный писатель
для созревших продуктивных умов. Он — писатель, могущий с полным
правом претендовать на место и истинность критика.
Круг его читателей и ценителей не будет и не может быть велик,
несмотря на всю ясность и кажущуюся доступность его произведений. Он —
писатель для не многих. И как критик и ценитель искусства, Страхов уже
имеет ту особенность, что обращает больше внимания на формальный,
нежели на идейный момент или, точнее говоря, в своих суждениях исходит
из формы творчества (какой-либо писатель) к содержанию его творчества.
В этом отношении он нам напоминает несколько критиков прошлого
столетия. Только следует различать, что формализм последних незаконен,
а формализм Страхова — законен. Критики XVIII века касались формы
25 Ясно обнаруживаются эти симпатии в 1-ой части книги Страхова «Об
основных понятиях психологии и физиологии». (Прим. Ф.Э. Шперка).
26 Страхов Н. Н. Воспоминания и отрывки. СПб. 1892. Статья «Поминки по Ап.
Григорьеву», С. 253. (Прим. Ф.Э. Шперка).
128«Наша литература так бедна истинно интеллигентными книгами...*
произведения как чего-то от содержания вполне отрешенного. Страхов
же видит в форме обнаружившееся содержание. И не только правота, но,
если можно так выразиться, и полнота на его стороне. Формализм
Страхова — законный и содержит формализм, его нельзя отождествлять с
формализмом, незаконным и бессодержательным, писателей прошлого века.
Но, конечно, не должно смешивать этот страховский формализм и с
чутьем стилистическим, которое есть достояние современности. Чутья этого
мы не заметили у Страхова. Отсюда некоторая архаичность его
критических приемов — архаичность, вследствие которой и в слоге его найдена
была некоторая «старомодность» (одним из наших новых критиков).
Вот и все, что мы хотели и могли сказать о Страхове и значении его
писаний. Не знаем, определенно ли обрисовался в этой статье образ
Страхова? Но, во всяком случае, мы старались держаться правды, старались
выдвинуть его достоинства и указать недостатки его. Искренняя цель
нашей статьи — привлечь надлежащее внимание русской интеллигенции на
этого чрезвычайно достойного, истинно почтенного писателя, столь же
замечательного своим трудолюбием и многосторонним вниманием,
сколько и своей простотой и талантливостью.
13
Таланты последней формации27.
В книжках «Недели» напечатан роман г. Энгельгардта «Люди разного
безумия»; в «Наблюдателе» появилось начало романа г-жи Гиппиус «Без
талисмана»; а в последней, июньской, книжке «Северного Вестника»
помещен рассказ г. Сологуба «Червяк». В психологическом содержании
этих произведений и в художественных приемах этих авторов
сказывается нечто особенное, новое, какая-то ранее не бывалая, только теперь
появляющаяся черта, и мне думается, в ней-то и следует искать признаков
«последнего слова» нашего художественного творчества.
Характеризуя современное поколение, старые люди говорят
обыкновенно, что теперь утратился тип так называемой «цельной натуры», цельного
человека, что представители современности в силу разъединенности их
анализа, рефлексии или в силу каких-либо иных причин, являются все
какими-то человеческими фрагментами, отрывками, лишенными органического
единства. Правы или неправы старые люди — это меня в данную минуту не
занимает; вспомнил я их слова только лишь по поводу наших современных
талантов последней формации. Вот к кому они действительно приложимы!
Вот в ком они действительно характеризуют некоторую особую черту,
которой отличается старое, прежнее, от современного, нового.
27 Впервые напечатано в газете: «Новое Время». 1896. 22 июня. № 7297. Подп.:
Ф.Ш. Печатается с сокращениями.
Литературно-критические статьи Ф. Шперка 129
Конечно, переход от цельных, органических талантов к талантам
фрагментарным, дезорганизованным совершилось не вдруг.
Прежнее творчество, о каких бы проявлениях его мы бы не говорили,
есть, по существу, творчество организованное; новейшее творчество есть,
прежде всего, главным образом, творчество дезорганизованное. В этом
глубочайшее отличие декадентства от всех прочих типов
художественного созидания. Декадент — это талант, в самой сердцевине своей
подточенный каким-то червем, это дух, утративший всякое подобие единства,
цельности, органичности, это, наконец, не продуктивная личность, а
нечто ороде продуктивной духовной массы...
Один из наших критиков заметил, что декадентство не служит уже
выражением человеческого «я»; что это центральное, существенное
содержание творчества чуждо ему. Замечание, безусловно, верное, хотя
нуждающееся в некоторых разъяснениях. Человеческое самосознание,
индивидуальное «я», действительно исчезает в декадентстве, поскольку
речь идет об одном «я», об одном цельном и неподвижном средоточии
личности; то чувство индивидуальности как чувство каких-то личных,
неопределенно колеблющихся состояний, не только не исчезает, но, напротив,
и составляет именно его настоящее содержание. Декадент чаще всякого
другого говорит о себе, ибо единое, органическое «я» разбилось в нем на
тысячи маленьких и малюсеньких «я», которые «мгновенья мгновеннее»,
говоря слогом одного из наших символистов. Мысль эту я могу
иллюстрировать следующим декадентским поэтическим образчиком:
Что вчера пробегало во мне,
Что вчера называл я собою,
Вот оно в голубой тишине
Забелелось тучкой сквозною.
Тот порыв, что призывной тоской
В этом сердце вчера отозвался,
Это он перед близкой грозой
Над шумящею нивой примчался.
Та мечта, что в безрадостной мгле
Даровала вчера мне забвенье,
На иной и далекой земле
Снова ищет себе воплощенья28.
Но перейдем к главному. Всякое творчество есть некоторый ново
образный процесс. Мы, однако, знаем, что в органическом мире бывают
новообразования нормальные, и бывают новообразования патологические...
Стихотворение Федора Сологуба «Что вчера пробегало во мне...» (1894).
130«Наша литература так бедна истинно интеллигентными книгами...»
Сравнивая характерные черты старого творчества и черты новейшего,
декадентского, мы приходим к тому заключению, что первое есть
нормальный, а второе — патологический новый процесс. В произведениях
старых мастеров мы всегда открываем некоторый художественный замысел,
который развивается и, в конце концов, образовывает жизненный образ,
т.е. некоторое органическое целое, подобно тому, как в природе мы
находим зародышевую клетку, которая развивается и создает цельный, живой
организм. Иное, совершенно отличное, видим в декадентстве: творческой
целесообразности оно лишено абсолютно; ни зародышевой идеи, ни
развития, ни цельных сложившихся образов нет в нем.
Оно представляет нам элементы распавшегося человеческого духа.
Оно обнаруживает разбитый психологический материал, подобно тому,
как телесная язва показывает распавшиеся клочки телесной материи,
и этим творческая роль его исчерпывается. Декадентские
произведения — это эстетические ассоциации бессвязных душевных впечатлений,
разложение вместо развития, осколки вместо образов, творческий
произвол вместо творческой свободы! Защитники декадентства, пользуясь
термином ♦символизм», указывают часто на то, что декаденты заглядывают
в сверхчувственный мир и на своем таинственном наречии передают нам
заоблачные тайны. Это мне кажется совершенным заблуждением.
Декадентство как всякое противоестественное, глубоко болезненное явление,
клонится к земле, праху; оно может находить вкус в религиозных и
мистических вещах; но от вкусового ощущения до веры еще далеконько. Де-
кадентизм погружен в чувственный мир и сверхчувственное абсолютно
чуждо ему. Правда, он тяготеет к смерти, но что обозначает это тяготение
как не ту же любовь земного, тленного, преходящего, чувственного? Ведь
декадент не хочет видеть в смерти предел, грань, за которой лежит что-то
бесконечно великое и содержательное, а хочет видеть только предел —
кульминационный пункт — чувственного содержания. Декадент хочет
вкусить смерть как некоторый редчайший, изысканный,
идеально-утонченный плод... Защита декадентства с этой точки зрения представляется
мне несостоятельной; но возможна другая, более сильная защита,
основанная не на фиктивных добродетелях декадентства, а на ее
действительном, коренном содержании. В декадентстве мы видим, именно, некоторое
глубочайшее и коренное заболевание человеческого духа, «душевный
рак», говоря словами Ап. Григорьева. Яд этой болезни, может быть
постепенно собирался со всех поколений в продолжение многовековой истории
человечества, но только теперь подействовавший в своей смертоносной
силе. Но нет ничего невероятного в предположении, что эта
органическая глубокая болезнь исторически необходима для блага самих же людей;
нет ничего невероятного в том, что будущее поколение расцветет новой,
первобытно-свежей, бесконечно-здоровой жизнью на преждевременных
руинах современности.
Литературно-критические статьи Ф. Шперка 131
Если, однако, и не оправдаются эти предположения, все-таки
декаденты не останутся без своего значения и интереса. Время наше есть
время величайших прозрений — прозрений не в высшие истины, которые
открыты уже на заре нашей истории, а в низшие истины, в элементы
человеческой души; никто так глубоко не заглянул в «распавшийся» дух
человека, никто не извлек оттуда столько поучительного,
существенного, драгоценного как эти люди — больные атависты духа и неудачные
новаторы творчества. И нет сомнения: грядущее поколение
воспользуется этим психологическим материалом и извлечет из него ту пользу,
которую здоровый человек способен извлечь из искренних признаний
человека больного.
14
Женская беллетристика. Один из последних романов29.
Пока в литературе господствовали художественные идеи и
художественные образы, женские дарования только изредка появлялись на
беллетристическом горизонте. Внешний, пластический талант не свойствен
женской индивидуальности, и только как некоторое исключительное,
экстраординарное явление мог он быть дарован ей. Теперь мысль
художническая и внешнее пластическое воображение падают, вырастают чувства
и внутренние фантазии психологического анализа. А с этим подымается
.женское стилистическое дарование и из случайного литературного
явления становится обычным, нормальным.
Творчество делается явно субъективным, сосредотачивается на
изображении внутреннего душевного мира; но женщина так чутка к душевным
движениям, так непосредственен, гибок, чист ее психологический анализ.
Ужели ей не выступить на работу в родственной сфере, с подлинными
способностями?
Назревающая литература чувства, субъективная литература,
представляет, конечно, своего рода упадок в сравнении с литературой образов
и идей, которую создали наши классики. Ведь истина открывается в
мысли, в идее, а не в чувстве; ведь красота открывается в образе, а не в мечте
и фантазии. Не в современной художественной литературе красота
истинна, а в той, которая перешла в историю и, конечно, едва ли возродится. Но
если настроения, чувства, вообще индивидуальная психология человека
и не стоят на одном уровне с цельными образами, с общечеловеческими
идеями, воплощенными в художественные формы, — то все же они имеют
известное значение как подлинные документы человеческой жизни, а по
отношению к переживаемому нами историческому моменту — еще
некоторый особый, жгучий, специфический интерес, некоторую непреодолимую
29 Впервые напечатано в газете: «Новое Время». 1896. 6 сентября. № 7373.
Подп. Оръ.
132*Наша литература так бедна истинно интеллигентными книгами...*
притягательную силу. Мы не можем не воспроизводить своих душевных
движений, как бы не были они преходящи, когда мы живем этим и в этом
особенность нашего существа. Индивидуальная душевная жизнь никогда
не имела той силы, той тяжести действительности, которую имеет теперь.
Естественно ли, законно ли, эстетично ли поступили бы мы, когда бы
стали живописать как что-то чрезвычайно существенное и важное, нечто
внешнее, нечто чуждое нашей душе, а то, что составляет ее жизненный
центр, ее действительное содержание — оставляли бы в стороне как
постороннее, неинтересное.
Прежде люди были здоровее, и они естественно созерцали Божий мир,
а не свое «нутро»; современное поколение, наоборот, представляются
болезненными, и они естественно созерцают свое «нутро», а не Божий мир;
так как больной человек всегда прикреплен к себе, есть раб себя самого.
Здоровые художники естественно создают образы, т. е. нечто внешнее
своей личности, они «естественно объективны», употребляя выражения
эстетики 40-х годов; болезненные художники, напротив, естественно
и неизбежно воспроизводят внутренние переживания, являются
художниками «субъективными»; а так как всюду и всегда жизнь порождает
искусство, то искусства, отрешенного от жизни нет и не может быть.
Как лучший образец современного женского писания, я могу указать
повесть «По новому пути», принадлежащую перу писательницы,
скрывающейся под псевдонимом И. А. Данилова. Содержание этой повести вполне
современное: герой рассказа, Борис Сергеич Бегичев, бежит из
Петербурга в провинциальную глушь. Здесь он «спасается», в некотором роде,
живет тихо, уединенно, близ девичьего монастыря, в хороших и теплых
отношениях с семьей своего соседа, монастырского священника отца Андрея,
вдумчиво наслаждаясь музыкой, природой и мелодией меж жизненного
затишья. Его однообразную, но мягко и тонко организованную натуру
замучила столичная сложность, искусственность, суета; его влечет к себе
простота и мир природы и людей; но в то же время душа его тяготеет
к наркозам, к наркозам высоко организованной жизни, и неизвестно еще,
чем кончит он: «тихой ли пристанью», или шумной сутолокой столицы?..
Если рассматривать эту повесть с чисто художественной точки зрения,
анализировать ясность, пластичность, жизненность образов, выведенных
в ней, то едва ли она выдержит строгий разбор, но так же едва ли будем
мы вполне правы в своей критике. Автор повести «По новому пути»
переводит образы на чувства, мысли на настроения; в чувствах, в настроениях
однообразно неопределенных — его сила, его оригинальность; и нужно
отдать справедливость ему: с этой стороны в повести его много безусловно
прекрасных страниц, много прочувствованных описаний, много изящных,
полных искреннего лиризма передач душевных состояний. Особенно
удается автору воспроизвести лиризм тихого и в то же время жизненного и
идеально одухотворенного настроения. «Тишина и старина, — говорит автор,
Литературно-критические статьи Ф. Шперка 133
всегда имели неотразимое влияние на Бориса Сергеича — они возбуждали
и оживляли его больше, чем что-либо другое». В этой строчке автор очень
метко характеризует, между прочим, себя, свою существенную, основную
черту, тот «монастырский лиризм», печать которого лежит на его повести....
Пока женщина-психолог останавливается на внутреннем, душевном
бытии, она искренна и оригинальна; лишь только пытается она изобразить
внешние, пластические образы или хочет создать что-либо глубоко
идейное и поучительное, она становится скучной, книжной, неинтересной.
Сфера ее беллетристического таланта предписана ее индивидуальностью,
складом ее натуры. Душевная чуткость и внимание к жизненным
мелочам — вот те два качества, которые она законно и свободно использует
для других, может в себе развивать. Писательницы-беллетристки
разделяются на два лагеря: одни пишут чисто женские вещи, субъективные, явно
лишенные пластичности, образности; другие, стараясь подражать
художникам, вымучивают из себя якобы идейные и якобы образные, а в
действительности тенденциозные и безжизненно искусственные произведения.
Поэтому я обращаю внимание читателя на повесть И. Данилова, что вижу
в ней беспримесно чистое женское творчество со своеобразным и
симпатичным характером. Из современных европейских писательниц мне
известна только Матильда Серао, в которой я замечаю такую же женственность
дарования. Почтите, например, прекрасный, артистически обработанный
.рассказ этой беллетристки «Выигрыш в лотерею» в последней книжке
«Северного Вестника». Лирическая непосредственность в изображении
душевных движений и артистическое внимание к деталям жизненной
обстановки — эти две характерные женские черты гармонично проявляются
в небольшом, но художественном произведении итальянки...
Если вы хотите ознакомиться с другим типом беллетристок, то
прочтите хотя бы какое-нибудь произведение прославленной ныне московскими
псевдо критиками Элизы Оржешко. Вот, например, передо мной крупный
рассказ ее, помещенный в «Наблюдателе» «Братья». Сюжет — простой,
не раз уже обработанный: встреча двух лиц, бывших в молодости
идеалистами, из которых один остается верен идеализму, другой — изменяет
юношескому мировоззрению, погружается в прозу жизни и обращается
в обыкновенного дельца-пошляка. Гюи де Мопассан написал на эту тему
маленький, но очень правдоподобный рассказ; г-жа Оржешко, в свою
очередь, пишет на этот счет растянутую, фальшивую, моральную басню.
К сожалению, этот последний тип, к которому принадлежит польская
писательница, имеет среди наших новейших беллетристок значительно
больше представительниц, нежели тип, к которому принадлежит
итальянская романистка. По крайней мере, кроме автора «По новому пути» и
частью автора «Мамочки» только еще г-жа Л. Авилова, выпустившая недавно
сборник небольших рассказов («Счастливец» и др. рассказы)
действительно искренна, естественна, женственна в своем художественном писании.
134«Наша литература так бедна истинно интеллигентными книгами...»
Если не ошибаюсь, писательница эта сотрудничает в мелкой печати.
И очень жаль. С непосредственным талантом рисовать настроения г-жа
Авилова соединяет значительный художественный вкус, а как известно,
требования мелкой печати не очень способствуют развитию эстетических
задатков. Было бы грустно, если бы опошлилось это небольшое, но живое,
чуткое, чистое дарование.
Большинство писательниц скорее согласится писать архикнижно и ар-
хискучно, нежели писать просто и бесхитростно и высказывать только то,
что подсказывает им их непосредственный артистический инстинкт.
Боязнь быть самим собою — этой болезнью никто не одержим в такой мере,
как писательницы и беллетристки. В погоне за образами и идеями,
которые все равно не суждено им постигнуть и воплотить, они теряют и то,
чем одарены от природы — непосредственное чувство и психологическое
чутье. Прекрасная иллюстрация такого искусственного писания —
новейший рассказ г-жи Дмитриевой в последней книжке «Вестника Европы»
«Митюха-учитель». Сличите только этот очерк с повестью Данилова и вы
сразу поймете, что значит женское дарование женственное, и что
значит женское дарование мнимо-мужское. Возьмите хотя бы стиль обоих
писательниц: г-жа Дмитриева имеет сугубо топорное и казенное (иначе,
видите ли, нельзя писать народные повести), без тени каких-либо
индивидуальных оттенков, без всякой психологической жизни; автор повести
♦По новому пути» пишет, напротив, чрезвычайно мягко, лирично, с
неизменным намеком на чисто женскую душевную музыкальность.
Противоположность писательниц сказывается даже в сюжете их произведений; в
повести И. Данилова изображается влечение интеллигента, современного
книжного человека к жизненной простоте, тишине; в рассказе «Митюха-
учитель» изображается, напротив, влечение простолюдина к книжному
знанию, к сложным искусственным культурным условиям; это
характерно. Молодой крестьянин Митюха увлекается «книжками», поселяет из-
за этих «книжек» раздор в своей семье, из-за «книжек» бросает деревню
и уходит в город, и, наконец, посредством «книжек», из простого Митьки
делается учителем Дмитрием Ивановичем. Я не против такой
метаморфозы и не против изображения этой метаморфозы, но я против книжной
фальши в художественном писании автора. В жизни бывают всякие
пассажи, но всегда жизнь надо изображать искренно и правдиво. Разве
искренна и правдива г-жа Дмитриева? Вот хотя бы страничка из Митюхиного
странствия в городе: приходит Митюха в Воронеж и, как подобает
тенденциозно народному герою, тотчас же разыскивает могилу поэта Кольцова.
«Митрий прошел уже несколько памятников, тщательно прочитывая
надписи на них, но фамилии были все незнакомые. «Должно быть все какие-
нибудь богатеи-купцы», — думал он. Наконец тропинка вывела его на
небольшую, утоптанную площадку, возле которой возвышался высокий белый
памятник с бюстом, заостренный профиль которого рельефно вырезывался
Литературно-критические статьи Ф. Шперка 135
на фоне окружающей зелени. Несколько поодаль стоял другой — из
старого мрамора, и Митрию прежде всего бросилось в глаза выпуклая надпись:
Алексей Васильевич Кольцов. «Вот он!», — подумал Митрий, чувствуя, как
в груди его что-то поднимается и захватывает дыхание, руки и ноги
холодеют (?!). Вот и Иван Савватеич Никитин.... Поэты лежали рядом и было
что-то глубоко трогательное в этом соседстве и в этих бедных, почти убогих
памятниках, собранных кое-как на гроши, теперь забытых, облупившихся
и потрескавшихся от времени.... Со стесненным сердцем, с закипающими
на глазах слезами, Митрий порывисто снял шапку и поклонился в землю
сначала Кольцову, потом Никитину.... «Да, вот они, лежат здесь оба и не
чуют, что их песенки поются по всей России, поются и читаются! Пошли
им, Господи, царство небесное!.. Много хорошего от них осталось, и даже
вот, до него, глупого мужика, дошло.... Ведь еще совсем молодые померли.
Тоже, видно, жизнь несладкая была». О жизни Кольцова Митрий кое-что
слыхал еще от покойного Петра Ивановича, но о Никитине ничего не знал,
и потому с особенным вниманием стал читать надписи на их памятниках,
ищи в них разгадку ранней смерти. «Только тешилась мною злая ведьма-
судьба, — прочитал он у Кольцова, — только силу мою сокрушила борьба!»
«Э-эх, — горько воскликнул Митюха и перешел к Никитину.
«Вырыта заступом яма глубокая, — простонал будто кто-то у него над
ухом. Жизнь бесприютная, жизнь одинокая».... Митрия точно в сердце
ударило этими словами.... Он растерянно оглянулся кругом (??), и слезы
горючим потоком хлынули у него из глаз. А песня все стонала, и
жаловалась и рыдала.... Рыдающие звуки смолкли.... Только ласточки, эти
«певуньи залетные», о которых пела скорбная песня, щебетали над
могилами, да там далеко, за оградой, смутно слышался городской шум, тяжело
громыхали возы и все куда-то ехали без конца, и напряженно (?), злобно
ругались ломовые.... Митрий сел на лавочку, схватился за голову и рыдал;
нестерпимая боль, жалость и тоска наполняли его душу; его блуждающая
в потемках мысль страшно (?!) просветлела и расширилась....
«Братцы! — рыдая, воскликнул Митюха, простирая к кому-то руки
в жестокой обиде и тоске. — Братцы.... Ведь люди же мы, люди али нет?..»
Все это, конечно, должно быть чрезвычайно трогательно, но разве
нельзя рассказывать трогательные вещи без стереотипных «жалких» слов,
без неизменного «горючего потока слез», без «нестерпимой боли, жалости
и тоски» и иных рутинных и тоскливых причитаний разбитой
литературной шарманки.
Просматривая нынешние беллетристические произведения, видишь
совершенно неоспоримо только одно: то, что естественного, природного,
стихийного элемента становится в современном творчестве все меньше
и меньше, а искусственного, культурного все больше и больше.
Нынешний писатель похож на светского человека. Опытности, внешнего лоска,
такта у него в изобилии, естественных движений сердца, свежести ума —
136«Наша литература так бедна истинно интеллигентными книгами...*
у него ни на грош. Насколько в типичном светском человеке сквозь броню
всяких житейских и психологических условностей трудно бывает увидеть
человека вообще, человека в абсолютном смысле слова, — настолько
в современном писателе сквозь броню навыка, выучки и выправки трудно
прозреть природное дарование, Божий дар, ту естественную
органическую духовную материю, которую мы называем творческой.
В женских дарованиях еще сохранилась доля этой естественной силы,
этой бессознательно наивной материи таланта. И вполне естественно.
Женское художественное или, точнее, психологическое дарование
начинает исторически, а не случайно проявляться в литературе только теперь.
Вот почему всякий, кто предпочитает естественные литературные
плоды искусственным, должен пожелать современному женскому
беллетристическому таланту самостоятельности и самоограничения. Женщина не
обладает образной фантазией, не владеет чувством художественной
перспективы, не способна драматически выдвигать действие своего рассказа; но
она имеет дар перерабатывать жизненные явления действием внутреннего
чувства в психологические объекты, если не художественно, то
стилистически облекать их в литературную форму. Пусть же держится она этого.
Наряду с «женским течением» в современной беллетристике идет
и другое, во многом этому родственное, которому, однако, еще трудно
подыскать надлежащее имя. Оно слагается из произведений, которые по
своему предмету или содержанию имеют художественный характер, а по
форме — чисто литературный, стилистический. Такие вещи составляют
исключительно современный продукт, и они многими признаками схожи
с женскими беллетристическими работами. Авторы их литературно
обрабатывают материал, который по существу нужно обработать
художественно; эти беллетристы пишут свои повести и романы подобно тому, как
публицисты и критики пишут свои литературные статьи. Вместо того,
например, чтобы представить, выдвинуть то или иное действующее лицо
в живой и рельефной форме, они перечисляют вам его отдельные черты,
ожидая уже от вас, от читателя, художественного синтеза, переработки
литературных частностей в художественное целое — в образ.
Передо мной характерный образчик такой публицистической отделки
художественного материала: роман г. В. Светлова «Призраки минувшего»
(Спб. 1896).
Роман этот — вещь многосторонняя, он может показаться историческим,
потому что с исторической точки зрения освещает типы дореформенного
времени; может показаться и чисто современным, так как обрисованные им
тип — психопаты, дегенераты, неврастеники в чисто современном
декадентском вкусе. Он, пожалуй, еще чем-нибудь покажется вдумчивому читателю
или хитроумному критику; но одним, ручаюсь, он не представляется ни тому,
ни другому — малохудожественным. А в этом вся суть. Чтобы не быть
голословным, приведу характеристики двух главных действующих лиц романа.
Литературно-критические статьи Ф. Шперка 137
«Василий Перов был юношей небольшого роста, с узкими плечами,
впалой грудью, и большим для лет животом; он был как-то болезненно бледен,
вял, апатичен; страдал отдышкой, какими-то замираниями сердца и не в
состоянии был пройти более или менее длинное расстояние (NB, это не
мешает ему, однако, «таскать кули в Гавре и быть гидом в Швейцарии», о чем
повествуется на 304 странице романа). Желтые, зеленые и золотые круги
часто плавали в его глазах при малейшей усталости и напряжении. Он
ненавидел физический труд, который не укреплял, а, напротив, расслаблял его.
Перенеся в детстве почти все болезни, он был теперь относительно здоров
или, вернее, обеспечен от серьезного заболевания, но зато постоянно был
подвержен всяким недомоганиям: легко простужался, схватывал насморк;
от пореза или укола у него прикидывалось нагноение крови. Он часто
страдал тупыми невралгическим болями, нервными подергиваниями губ и
шейных мускулов.... В нравственном и интеллектуальном смысле это было
круглое ничтожество. Даже воспитание и кое-какая «привилегированная»
наука прошли мимо него, не задев. Родственных чувств он был
совершенно лишен; религию не признавал, ибо в Бога не верил; зато верил в черта
и вообще в нечистую силу. Чувства любви он не знал, несмотря на то, что
ему было уже 23 года. Зато плотское чувство он постиг с 17-ти летнего
возраста, до того времени предаваясь противоестественным излишествам» и т.
д. «Сестра его Варвара была некрасивой девушкой высокого роста, плохо
сложенной. Она имела узкую голову, полные губы, маленький рот и
длинный нос... Целыми днями она любила сидеть у окна и вертеть в своих руках
какую-нибудь бумажку, веревочку или коробочку, с которой не могла
расстаться даже во время еды. Потихоньку от людей любила курить пахитоски
или пахучего maryland doux; любила поесть, но ела неопрятно и некрасиво,
вечно перемазывая себе и лицо, и руки, и платье, и не признавая часов для
принятия пищи.... Порою на нее находили какие-то особые мучительные
моменты меланхолии и нравственного угнетения. В глазах темнело, в висках
стучало, кровь приливала к голове, делалось шумно в ушах и ей хотелось
куда-нибудь бежать, далеко бежать, так, чтобы ее не нашли, или кинуться
на кого-нибудь и задушить этого кого-нибудь в своих объятиях, чтобы она
чувствовала, как его тело касается ее тела, как оно вздрагивает и застывает
в ее руках.... После такого аффекта она успокаивалась и ее начинало сосать;
она ощущала пустоту в желудке, тошноту, что-то позывающее и ноющее.
Ею овладевала неутолимая жажда, которую она ничем не могла победить»...
Быть может обе эти характеристики очень хороши для какой-нибудь
невропатологической статьи в каком-нибудь специальном медицинском
журнале; но, право, в художественном произведении они совершенно не
уместны, так как только предрешают литературным образом
художественную задачу. В беллетристическом произведении нужно поставить живой
человеческий образ лицом к лицу с читателем; только это сделать, значит
явиться художником. Описание единичных признаков, перечень отдельных
138«Наша литература так бедна истинно интеллигентными книгами...»
черт в сухом формулярном порядке идет публицистической, но никак не
художественной характеристике. Ужели г. Светлов смешивает их, не
различает литературного стиля от художественного? Но между ними не меньшая
разница, нежели между геометрической линией и телом...
15
Современные герои30.
Критика (да я думаю и читателей) теперешних беллетристических
произведений поражает прежде всего одна вещь: он не понимает этих
произведений. Он усиливается понять их и, тем не менее, не понимает их.
Первоначально он склонен думать, что в этом непонимании современных
шедевров виноват он сам: дескать недостаточно он премудр, недостаточно
просвещен. Затем, однако, по мере изучения шедевров и, главное, по мере
вникновения в причину своего непонимания, он начинает думать другое:
что виною этого неразумения не он, а сами авторы, которые пишут вещи
непонятные и сумбурные, и что, при всем своем умении понимать и при
всей своей охоте понять, он, однако, неизбежно должен и будет пасовать
перед ними. Особенно тяжело и неприятно ему иметь дело с крупными
произведениями, с романами. Романом ведь не анекдот какой-нибудь
рассказывается; роман изображает жизнь, взаимные отношения людей,
фигурируют в нем даже не «лица», а «герои».
Вы, читатель, подумаете, быть может, что современные авторы
изображают жизнь сложную, слишком глубокие человеческие связи, совсем
особенную жизнь людей, и что критика не в состоянии понять эту сложность,
особенность. Нет, совсем не это. Современные писатели не тем загадочны
и непонятны, что рисуют слишком сложный психологический мир;
непонятны они тем, что никакого психологического мира не рисуют.
Загадочность их состоит не в том, что они слишком много дают, а в том, что они
ничего не дают. Как ничего? — спросите вы. А современные герои, а
современная психология, а современная жизнь? Поверьте — все это одна
фикция. Ни современных героев, ни их психологи, ни их
жизнедеятельности в теперешней беллетристике не существует. Как это ни странно, но
это факт, — факт, который и составляет то таинственное и загадочное,
что возбуждает сперва удивление, а потом недоумение наших читателей
и критиков. Вместо «героев» теперешние беллетристы дают нам каких-то
«чучел» и «чучелок». Вместо душевных отношений — какой-то
невообразимый сумбур, вместо жизни — какие-то высокопарные фразы...
Прочтите хотя бы роман г-жи Гиппиус «Без талисмана», печатающийся
в «Наблюдателе». В нем (в романе) выведено значительное число действую-
30 Впервые напечатано в газете: «Новое Время». 1896. 11 октября. № 7408.
Подп. Оръ.
Литературно-критические статьи Ф. Шперка 139
щих лиц. Все эти лица состоят в каком-то взаимодействии друг с другом; и,
однако, вы ни за что не поймете ни индивидуальности этих лиц, ни смысла
их отношений. И знаете, почему? Потому что эти лица лишены
индивидуальности и отношения их фиктивны, несуществующие. Современные
герои — в полном и безусловном смысле слова нигилисты. Ну a ex nihile
лишь nihil31 в результате навсегда, как сказал еще остроумный Щербина.
Для иллюстрации я приведу вам краткое описание душевного
состояния одной из главных героинь названного романа; замечу, что состояние,
которое описывается здесь, обычное состояние героини, и поскольку для
нее (и вообще для современной героини) — типичное, характерное. Вот
оно: «Лениво, медленно, точно смертельно утомленные, точно погасая,
ползли мысли Антонины. Все они проползали сверху (?), не задевая души.
А там, в глубине, было черно, бездонно и тихо, — там ничего не было,
«даже сознания». Ощущение пустоты в сердце, — пустоты черное, как
свод неба в осеннюю ночь, — она ничем не могла заглушить, не могла
забыть ни на минуту как будто это была беспощадная болезнь, которую
ей не суждено покинуть».
Ну скажите, пожалуйста, какое содержание может быть у человека,
у которого нет в душе «даже сознания», который ничем не может
заглушить «пустоты в сердце», и у которого «мысли проползают сверху (??),
не задевая души»? В какие отношения, в какие взаимодействия с другими
людьми может вступить такая бессознательная, пусто сердечная, не
задетая мыслями личность? Очевидно, кроме сумбурных, нелепых, чисто
идиотских отношений она ничего не может завязать с окружающей средой.
Какое дело, наконец, интересное для других и поучительное, сделает тот,
кто не в силах заглушить своей внутренней пустоты? Ясно: никакого дела
он не сделает, а будет просто «с жиру беситься». А мы будем живописать
это «беснование», возводить его в «перл созидания», выдавать за шедевр!
Я знаю, вы возразите мне так: но ведь жизнь такова; ведь и талантливые
авторы пишут нынче сумбурные вещи, которые невозможно понять и
раскусить; художник не может изменить по своему желанию действительность;
он должен ее брать такою, какою она есть на самом деле; и раз она
сумбурна, он должен ее во всей ее сумбурности, не приукрашивая, отражать.
Раз нынешние люди являются «автоматическим куклами, кривляющимися
и скрипящими от внутренней пустоты», как выразился одни норвежский
романист о своих героях, то современные художники и должны этих людей
таковыми представлять....
Положим, что и так...
отвечу я словами Чацкого. Положим, художник должен воспроизводить
действительность; но ведь действительность действительности рознь;
нелепости всегда были действительными, однако, никто же доселе не возводил
31 Из ничего — ничто (лат.)
140«Наша литература так бедна истинно интеллигентными книгами...*
из в «перлы создания»; а теперь полагают, очевидно, что то, что
бессмысленно в жизни, может стать осмысленным, когда отразится в зеркале слова.
В последствии, когда весь современный сумбур уляжется, отойдет в
область преданий, и явятся, быть может, художники, владеющие способностью
поэтизировать безобразие, изображать ложь и хаос объективно и правдиво.
Но пока их нет. Мы читаем современные повествования и невольно,
непреодолимо чувствуем, что сумбур здесь не только в содержании, но и в форме;
что автор — субъективен, что он сам еще не преодолел «сумбурного фазиса»,
не поднялся выше его. Вот это-то непосредственное чувство и производит
такое болезненное действие. Мы ясно сознаем, что имеем в сущности дело не
с истеричными героями, а с истеричными авторами, то есть с некоторыми
живыми величинами, на которые нельзя так просто не обращать внимания, как
на печать и бумагу. Оттого чтение теперешней беллетристики не только не
доставляет наслаждения (какова, разумеется, цель художественного
творчества), но вызывает даже боль, раздражение, наводит тоску. Какого
напряжения (что напряжение!), какого самоотвержения стоит иногда прочесть ту или
иную вещь, помещенную на страницах наших журналов! Автор бьет по нашим
нервам как по фортепьянным клавишам, немилосердно режет наш слух своей
бессмысленное литературной какофонией. А вы извольте воображать, что он
вас услаждает, что он удовлетворяет вашу эстетическую потребность!
Чтобы не ходить далеко за примерами, возьмем хотя бы повесть г. Эр-
теля «Карьера Струкова», не давно окончившуюся печататься в
«Северном Вестнике». Вещица небольшая. Пожалуй и 200 страниц не будет.
Попробуйте прочесть ее не то, что в один, а в два, три присеста! Не сможете.
Уверен, что не сможете.... Дойдете до мартовской книжки, до страницы
297 — и вместе же с автором, г. Эртелем, воскликните: «Дико, нелепо,
странно...точно пляска святого Витта!»
Еще бы не «пляска»! Тут и купец-старовер Перелыгин, бессвязно
говорящий всякие пошлости и циничности, причем «веселый блеск в его
глазах заменяется каким-то острым, сухим, еретическим, в голосе
появляются восклицания и взвизгивания и в чертах неприятно румяного лица
захлебывающийся восторг, заливистый смех звучит откровенной
язвительностью»; тут и сам герой повести Алексей Струков, «дворянин без
определенных занятий», пишущий диссертацию, без которой, кажется, ни
один «дельный» русский роман обойтись не может. Этот Струков в роли
«влюбленного» «с чувством, похожим на сновидение (?), видит, что
происходит в душе Наташи (героини), отчего вздрагивают и сохнут ее губы
(?!), заметно волнуется высокая грудь»; в роли «мужа» пьет херес «до тех
пор, пока и в сердце, и в голове не наступает блаженная безразличная
пустота»; наконец, уговаривает жену свою сойтись с доктором Бучневым.
«Нет, право, Наташа, — говорил он с игривым оживление, —
попробуй, влюбись в Бучнева. Я хотел бы испытать себя.... Живешь, живешь,
иногда ужасно хочется горя...»
Литературно-критические статьи Ф. Шперка 141
Тут, наконец, и Наташа Перелыгина, следующим образом
объясняющаяся в любви Струкову: «Должно быть, ты зажег меня собою. Ведь это бывает?
Да? Бывает? А все-таки как я тебя злила, когда ты зажег меня, как мне
хотелось тебя злить.... И знаешь, когда ты сердился, мне это в тебе очень, очень
нравилось.... О, мягкостью меня не проймешь, я ведь «супротивная» и т. д.
Ну, что, читатель, «пляска» это или какой иной танец?
Впрочем, надо отдать справедливость преобладающему большинству
наших беллетристов, — они хотя и пишут сумбурные вещи, но все же
соблюдают в этой своей сумбурности известную меру. Возводя
безличные и бессодержательные персонажи в степень героев, описывая их
чувства, мысли и действия, они роковым образом принуждаются изображать
вздор, так как лица, не задетые мыслью, сознанием и чувством ничего,
кроме нелепости, вокруг себя распространить не могут. Но нелепость, как
и всякое прочее явление в жизни, имеет свои виды и степени. Нелепость
может быть естественною, может быть искусственною. И конечно,
последняя во сто раз хуже первой.
Я, например, не понимаю поступков героини романа г-жи Гиппиус
Антонины, потому что поступки людей, «лишенных сознания», — нелепы,
иррациональны, произвольны. А нелепость и есть то, что здравомыслящий
не понимает. Антонина мучает окружающих людей и сама себя,
кривляется и т. д. Пустая, ничем не занятая, она естественно «бесится с жиру»,
и это, разумеется, и ясно, и понятно. Но ведь понятно и то, что
сумасшедший человек говорит вздор; однако, как ни понятно это, самого бреда
рехнувшихся людей мы не понимаем и едва ли когда понимать будем.
Также неуразумеваемы поступки «беснующихся» героев наших современных
беллетристических произведений...
Есть, однако, нечто еще более непонятное и, и говоря искренно, еще более
отвратительное, нежели это естественное беснование пустых бездельников,
именно: беснование ходульное, искусственное, изломанное. Разврат,
убийства, самоубийства, неизменно фигурирующие в нашей новой
беллетристике, — все это вещи, хотя ненормальные, но не искусственные, напротив,
естественно вытекающие из строя души представителей вырождения.
Но вообразите себе человека, который не развратничает, никого не
мучает, не убивает, даже самого себя щадит, но... но производит хотя бы такие
вещи, какие производит некто мистер Денисон, герой повести «Мечтатель»
английского писателя John Hichens, помещенный в русском переводе в
последней книге «Вестника Европы». Мистер Денисон разочаровывается в
своей супруге, молоденькой и хорошенькой даме. Разочаровывается он в ней
не того, чтобы нашел ее недоброй, неумной, некрасивой, неподходящей для
себя; нет, она по-прежнему для него и добра, и миловидна, и не глупа, но ...
но, видите ли, недостаточно оказывается она для мистера Денисона
«загадочной». Мистер Денисон так пуст и бессодержателен, что только
загадочное и таинственное интересует его в жизни и прикрепляет к ней.
142«Наша литература так бедна истинно интеллигентными книгами...*
«О, каким бы это было для меня благодеянием, — восклицает он
однажды, — если бы нашлась хоть одна человеческая душа, которую я
никогда, никогда в жизни не мог бы разгадать! Какой я ни есть усталый,
насыщенный и холодный человек, я бы любил ее беззаветно горячо».
Путешествуя со своей женой по Египту, он в одну прекрасную ночь
оставляет ее одну в номере гостиницы, а сам отправляется на свидание...
сфинксом. «Я столько часов тратил на разгадку живых загадок, — говорит
он себе, — почему бы мне не потратить одного-единственного часа на то,
чтобы разгадать гранитную душу сфинкса, эту навеки погребенную
загадку, которую мне никогда не удастся разгадать?»
И в самом деле, почему бы мистерам Денисонам и не попытаться
объять необъятное?
Положим, необъятное не обнимается; но это ни в каком случае не
должно служить помехой; ведь нужно же мистерам Денисонам убивать
чем-нибудь свое свободное время, а «обнимание необъятного» — самый
утонченный, самый изысканный способ времяпрепровождения.
Мистера Денисона еще можно понять; но никак нельзя понять того,
почему понадобилось русскому журналу преподносить нам его образ. Или,
быть может, он должен был послужить для просвещения русской
публики, дабы грубая и неразвитая, она знала — как нужно культурно
бездельничать, бездельничать достойно «конца века». Что же? Если почтенный
журнал не ограничится единичными образцами, а будет систематически
угощать нас литературными фотографиями новейших европейских
бездельников fia de elecle, то труды его даром не пропадут; мы тогда будем
иметь не только «пустых и опустошенных» Антонин, Струковых и т. д., но
и своих «загадочно бессодержательных» мистеров Денисонов...
Впрочем, не все теперешние беллетристы, пытающиеся высказать новое
художественное слово, посвящают свое внимание современным
бездельникам. Многие махнули рукой на это кукольное поколение, «не задетое
мыслью, чувством и сознанием», и решили обратиться за содержанием к детскому
и отроческому душевному миру, который не без оснований представляется
им интереснее мира развинченных взрослых глупцов. Детские типы все чаще
и чаще встречаются в современной беллетристике, и сам по себе этот факт
довольно утешителен. В самом деле, разве не полезнее изображать детскую
душу, несомненно, жизненную и содержательную, нежели изображать
великовозрастных неврастеников, психопатов, утративших всякое человеческое
подобие, совершенно потерявших осмысленный образ личности? Мне
кажется, что в этом повороте от изображения декадентских натур к изображению
детей сказывается даже некоторого рода психологическая последовательность.
Кто знает: быть может, эти «нигилисты сердца и ума», не различающие добра
и зла, осмысленного и цельного, наслаждающиеся «блаженной и
безразличной пустотой», кто знает, быть может они — продукт и результат того факта,
что слишком рано вкусили плодов от древа познания добра и зла, слишком
Литературно-критические статьи Ф. Шперка Î43
много и дурного и хорошего испытали и перечувствовали в те годы, когда по
законам природы должны бы были быть не только детьми, но и невинными
и неопытными как дети. Не суть ли теперешние герои — просто истощенные
и состарившиеся люди, оттого так скоро состарившиеся и истощившиеся, что
слишком рано ознакомились с жизнью и слишком поспешно, нетерпеливо
и жадно пили из ее чаши? И конечно, если изображать их не в тот момент,
когда они теряют всякий интерес и лишаются всякого жизненного содержания,
а в ту стадию развития, когда в них есть что-либо психологически интересное
и поучительное. Но последнее чрезвычайно трудно. Душа детей и
подростков, душа молодежи представляет собой странное, причудливое, но вместе
с тем вполне органическое сочетание правды и лжи, и только очень искренний
художник может рискнуть взяться за такой предмет изображения; писатель
хотя бы не лишенный талантливости, но недостаточно искренний и чуткий,
всегда даст нам карикатуру вместо живых образов...
Статьи из раздела «Современные заметки»
(газета «Новое Время»)
16
I. Современные заметки32.
Чрезвычайно любопытна для психолога современности
обнаружившаяся за последнее время в Европе и частью у нас реакция против
поклонения Гете. В «Revue des deux Mondes» Эд. Род33 характеризует Гете
как дилетанта, который не создал ни одного вековечного произведения;
в «Cosmopolis» напечатана речь критика Доудена, по словам
«Исторического Вестника» — «настоящий обвинительный акт против автора
«Фауста». Доуден называет гетевского «Фауста» — «агломерацией гениальных
идей, художественных красот, мистификационных и скучных длиннот»;
автобиография и письма Гете, по заключению критика — «смесь светлых
страниц и педантичных претензий»; «Эгмонт» — «посредственная пьеса»;
«Гец фон Берлихинген» — «заношенная мелодрама» и т.д. и т.д.
Все эти мнения чрезвычайно любопытны. Против Гете восставали
и раньше: Менцель34, Берне35 и др., но только теперешние воззрения на
32 Впервые напечатано в газете: «Новое Время». 1896. 24 октября. № 7421.
Подп.: Оръ.
33 Род Эдуард (1857-1910), швейцарско-французский писатель и критик.
34 Менцель В. (1798-1873), немецкий писатель и критик. См. статью В. Г.
Белинского «Менцель, критик Гете». Полное собрание сочинений. М. 1953. Т. 3.
35 Берне Л. (1786-1837), немецкий критик и публицист. Имеются в виду
статьи Берне, в которых он осудил Гете за «олимпийское антисоциальное
спокойствие и глухоту».
144«Наша литература так бедна истинно интеллигентными книгами...»
Гете имеют совсем иной интерес — не столько эстетический, сколько
психологический. Они любопытны не потому, что лучше обоснованы, вернее,
глубже; нет, вовсе не по этой причине, — а вследствие только того, что
мнения Рода и Доудена обнаруживают некоторые тайные веяния и
симпатии времени, тогда как мнения Менделя и Берне и под. были только
индивидуальны или только партийны.
Всякое время имеет свои симпатии и антипатии в прошедшем, и этими
симпатиями и антипатиями оно в значительной степени характеризуется.
Привлекает ли нас Гете? Привлекает ли нас этот самодовлеющий тип?
Чувствуем ли мы живую симпатию к Фаусту? Привлекает ли нас этот
эволюционирующий тип? Мне кажется, что если говорить за современное
поколение, то придется ответить — нет. Ни духовная полнота Гете, ни
человеческая цельность и идеалистичность Фауста не родственны более
нынешнему поколению. Образ жизненной полноты и образ развития
становятся все более и более чуждыми, дальними, малопонятными и,
вследствие этого, безразличными по интересу для нас. Если колеблется
авторитет Гете, то не потому, что начали его лучше понимать, лучше ценить,
нежели прежде, а в силу того лишь факта, что именно перестают понимать
и чувствовать жизненный нерв его творчества.
Критика Рода и Доудена есть своего рода «геростратизм», но мне
думается — это геростратизм духа современности.
Творчество иссякает, созревают антитворческие натуры, и вступают
в историю Геростраты. Геростраты — враги творчества, но они и враги тех
сил, на которых творчество зиждется, враги души человеческой и
жизни. Она аналитики, но не синтетики духа человеческого. Реакция против
«Фауста» — есть реакция против духа и жизни. И в этом весь смысл ее
для нашего времени. Потому-то реакция эта так томительна и
чувствительна в литературе, потому-то и хотят все скорее переступить пропасть
современности и очутиться на том берегу, который зовется грядущим, на
котором, как надеемся мы, болезненное и отрицательное будет уже в
прошлом, будет отвергнуто, преодолено и превзойдено.
17
II. Современные заметки36.
Читаю вышедшую на днях книгу проф. М.С. Корелина37 «Очерки
итальянского Возрождения» и невольно делаю параллель между эпохой
Ренессанса и эпохой, ныне нами переживаемой. Ренессанс — это реакция
36 Впервые напечатано в газете: «Новое Время». 1896. 27 октября. №7424.
Подп. Оръ.
37 Корелин М.С. (1855-1899) — историк, профессор всеобщей истории
Московского университета.
Литературно-критические статьи Ф. Шперка 145
против аскетических, затворнических средних веков и в то же время
это — падение в давно пережитую историческую полосу — в античный
мир. Наше время, время Ницше, Ибсена, символизма и демонизма, — это
реакция против духа новой истории, и в то же время — это падение в
пережитый средневековый аскетический мир. Эпоха Возрождения — это
эпоха античного декаданса; наше время — эпоха декадентства
средневекового. Средневековый характер современности несомненен; он очевиден
во всем; в субъективизме современных людей, в их наклонности к
отвлеченным мировоззрениям, в их демонологических тенденциях (на Западе),
в их литературной эквилибристике, так схожей с схоластическим
формализмом, в их мнимо пророческих вдохновениях и проч. и проч.
Рассматривая произведения современных писателей-анахоретов (это
тоже замечательно, что все выдающиеся нынешние писатели носят на себе
печать отшельнического духа), даже в стиле их чувствуешь какой-то
средневековый склад. Недаром же один современный русский переводчик, г.
Голованов, потратил 9 лет на перевод «Ада» Данте, причем старался придать
этому труду специфически средневековую окраску, что ему, несмотря на
частные технические промахи и ошибки, в некоторой степени и удалось.
Авторитет Данте превзойдет в наши дни все прочие литературные
авторитеты. Это несомненно....Вот на моем столе, рядом с книгой проф. Корелина,
красуется другая, только что вышедшая из печати вещь: огромный и
оригинальный философский трактат русского мудреца г. Леднева со следующим
вполне характерным заголовком «Кристаллы духа и отношения духа и
материи». Труд в 2 частях с 40 таблицами разноцветных чертежей. Москва. 1896.
Этим трудом русский мудрец положительно затыкает за пояс схоластику.
Так, например, в одной из начальных страниц своего сочинения он
высчитывает «число методов мысли в зависимости от числа оттенков бытия»; число
это определяет в 18 триллионов, столько-то биллионов, миллионов и единиц.
Мне кажется, это не нуждается в комментариях.
Верьте, однако, книга г. Леднева не unicum. Она только один из многих
образцов средневекового творчества в области современной мысли. Плод
странного умственного формализма и невероятного умственного трудолюбия...
Как, однако, ни прекрасны темные своды средневековой истории, мне
хотелось бы все же променять их на то светлое, гуманистическое время,
о котором так ясно и изящно повествует проф. Корелин. Кстати, г. Ко-
релин пишет совершенно гуманистическим стилем; очевидно, изучение
духовно ему родственных писателей Возрождения имело влияние на
образование его прекрасного слога. Это могло бы служить нашим
современным писателям примером для подражания. Пусть и они выбирают себе
в прошлом русской или мировой литературы известные, симпатичные им
образцы и, внимательно их изучая, усваивают идеальные методы письма!
Однако, я все отвлекаюсь и уклоняюсь от книги г. Корелина. Она не
глубока, не поражает оригинальностью, но она вполне отвечает своему
146«Наша литература так бедна истинно интеллигентными книгами...*
предмету, она жизнерадостно говорит о жизнерадостнейших людях
истории. Отдельные представители Ренессанса обрисованы чрезвычайно
правдоподобно и всесторонне, исторические положения правильно
освещены, отношения лиц верно и трезво скомбинированы.... Остановимся на
некоторых наиболее характерных духовных физиономиях.
Вот, например, купеческий сын, страстный путешественник и
археолог Чириако, который, как он выражается о себе, ощущал innatum visendi
orbis desiderium, «врожденное влечение обозревать мир Божий». Какое
удивительное выражение, как оно характеризует все это поколение
людей, которым после утомительного уединения в средневековой тюрьме,
открылись вдруг и стали «новы все впечатления бытия». И так это innatum
visendi orbis desiderium странно звучит в наши дни, когда душевная
средневековая тюрьма, назло всем нашим тюремным конгрессам, собирается
охватить и пленить человечество...
Вот вам и первая гуманистка, веронская девственница Изотта Ногароло,
родоначальница субъективной эпистолярной женской литературы, Ева
новой истории, такая же прекрасная как ее звучное имя.... Она всю жизнь свою
писала стилистические письма и защищала женские права и ... (извините,
прекрасная читательница) в то время уже обнаруживала все душевные
достоинства и все умственные недостатки, которые ныне обнаруживаете вы...
Вот, наконец, и знаменитый гуманист Поджио, о котором г. Коре-
лин сообщает в своей книге несколько незабываемых строк:
«Изображая трудности изучения надписей в Ферентино, Поджио говорит между
прочим: — «труд прочтения и изучения уменьшали две незамужние, но
совсем уже зрелые девицы, которые, находясь в соседнем доме, ободряли
меня пожеланиями. На них я весьма часто устремлял утомленные глаза,
чтобы переменой зрелищ дать им отдых».
Как колоритно, как жизненно всякое движение этих людей и как
сильна власть этой жизненности для современного безжизненного человека!
Книге г. Корелина я желаю поболее читателей и читательниц, а
читателям и читательницам я желаю если не «врожденного» влечения к
созерцанию Божьего мира, то влечения благоприобретаемого...
18
III. Современные заметки38.
Письмо г. Репина в редакцию "Нового времени" принадлежит к тем
редким и искренним признаниям, которые дают психологу и публицисту
глубокий материал для раздумий. Художник, отмеченный крупным талантом, не
только не чувствует себя великим, но даже говорит о "мании ничтожества",
38 Впервые напечатано в газете: «Новое Время». 1896. 12 ноября. № 7440.
Подп.: Оръ.
Литературно-критические статьи Ф. Шперка 147
которую порождают в нем выпавший на его долю успех. Он не ценит себя.
Но заметьте, он не ценит художественную деятельность вообще. По его
мнению, труд лекаря, труд учителя, труд земледельца заслуживает гораздо
больше поощрения и внимания со стороны общества, нежели труд
художника. Труд художника — это труд наслаждения, труд лекаря, земледельца,
педагога — труд долга, но ясно, что долг стоит выше наслаждения... И. Е.
Репин не высказывается совершенно определенно и полно, но его письмо все
же невольно напоминает нам о том, что ранее говорили Гоголь и Толстой,
и что так плохо выслушивается и понимается нашим обществом и потому
нуждается в повторении: именно, что русский художник не
удовлетворяется художественным творчеством, и чем выше, зрелее, совершеннее
становиться, тем менее удовлетворенным, тем более разочарованным чувствует
он сам себя. Русский человек смотрит на художественную деятельность, на
эстетическое чувство как на этическое дело, как на дело любви: он хочет
пробуждать "чувства добрые" и только это руководит и вдохновляет его.
Но это — то и приводит его в конце концов к "мании ничтожества". Ведь
не может же он не сознавать, что "дело любви" прежде всего дело жизни
и создает его не пишущая или рисующая рука, а рука "не оскудевающая",
т.е. деятельная жизнь доброго христианского сердца. Русский художник
глубоко отличен от западно-европейского. Западно-европейский
художник всегда стремился создавать общечеловеческие, универсальные типы
.(Фауст, Гамлет и др.); русский всегда изображает индивидуальных людей;
западно-европейский художник поэтому гораздо более отдален от жизни
нежели русский, он более отвлеченный художник, и вполне понятно, что
эстетика всегда остается для него эстетикой. Русский художник, который
имеет дело с живыми личностями, невольно и неизбежно является этиком;
он не может с отвлеченно-художественной точки зрения смотреть на мир;
он видит перед собой живых людей и во что бы то ни стало хочет принимать
участие в судьбе их; поэтому то он и не удерживается на почве словесного
созидания, а переходит на почву моральную, на почву нравственного
проповедничества. Вот почему г. Репину так "совестно" по его собственному
выражению и он выше, почтеннее, достойнее уважения считает профессию
учителя, врача, земледельца, живые профессии "долга", нежели профессию
художника, с ее высоким эстетическим наслаждением. Жизненный и
нравственный характер, который имеет все, что мы, русские, создаем в
эстетической области, указывает на то, что мы, в сущности, призваны к творчеству
жизненному, а жизненное творчество никогда не остается на бумаге иди на
холсте, а всегда перейдет в действительность, в жизнь. Это впервые осознал
Гоголь, это осознал затем Лев Толстой, и по видимому нынче И.Е. Репин.
Не художественная деятельность есть то, что внесет русский народ в
историю; он внесет в нее нечто высшее, творчество нравственное, творчество
деятельной любви. Разве добрый, деятельно добрый человек менее творец,
чем любой писатель, музыкант, художник; те творят слова, мысли, звуки, —
148<fHaiua литература так бедна истинно интеллигентными книгами...»
он творит дела. Но дела в наше трудное жизненное время стоят не менее,
нежели звуки, краски и слова... Доброе дело, плод такой продуктивной
натуры, приносит не меньшее наслаждение, нежели любой роман, любая
картина, любая музыкальная пьеса. Да я думаю: оно приносит еще больше
наслаждения, потому что приносит наслаждение, вызванное самой жизнью
и без всякого "нас возвышающего обмана". Нет, человечество не будет
особенно тужить, когда силы, которые уходят теперь на созидание шедевров из
звуков, слов и красок, всецело сосредоточатся на созидании добрых дел. А это
будет, непременно будет и едва ли так долго нам придется дожидаться этого.
Начатки такого нравственного творчества есть уже и как раз эти начатки
принадлежат нам, русским. Разве Александр III, которого вся Европа называет
миротворцем, не творил добрые дела, он именно творец, а не только деятель.
И разве мир Европы, его произведение менее историчен, нежели любое
высокое художественное произведение? Мне думается, нет. Нападки на письмо
И. Е. Репина — нападки "кастовые", и они ничего не говорят. Всю эту высоко-
парщину о том, что художественная деятельность есть святыня и. давно пора
бы сдать в архив. Святы только добрые дела людей, целого нравственного
сознания, и перед ними вся эстетика — пустяки. Негодовать на то, что Толстой
бросил художественную деятельность ради дела нравственно-религиозного,
негодовать на то, что И. Е. Репин откровенно высказывает свою нравственную
неудовлетворенность как художник, высказывает предпочтение "профессиям
долга" перед "профессиями наслаждения", могут только те, кто не понимает,
что наше национальное творчество, наш национальный идеал выше
художественной области, что они лежат в области жизни и дел, к которым и тяготеет
всякий русский выдающийся человек, созревая душевно, почему и не может
не относиться отрицательно к нижней ступени — деятельности эстетической.
Сказать то, что сказал, или, вернее, указал И. Е. Репин, давно было пора; давно
было пора выдвинуть наше нравственное мировоззрение перед
мировоззрением эстетическим, которому в естественной нормальной жизни принадлежит
второстепенная роль, но которое в нашей современной действительности
стало господствующим, владычествующим. И вовсе не порицать следует г.
Репина, называть его шутом и проч., а следует уж скорее поблагодарить за
искреннее, справедливое, жизненно — нужное и жизненно — важное указание.
19
IV. Современные заметки39.
В августе настоящего года с 12 по 17 число происходил в Женеве
конгресс «криминальной антропологии». В последней книжке московского
журнала «Вопросы философии и психологии» появился о нем подробный
39 Впервые напечатано в газете: «Новое Время». 1896. 19 ноября. № 7447.
Подп. Оръ.
Литературно-критические статьи Ф. Шперка 149
и интересный отчет г. В. Сербского. Из этого отчета мы узнаем, между
прочим, что среди докладов, представленных на обсуждение конгресса,
находился доклад сенатора Н.П. Закревского. Содержание доклада (он
носил заглавие «Об отношениях между правом и антропологией»), а в
особенности участь, постигшая его на конгрессе, представляют
значительный интерес. Сенатор г. Закревский сказал приблизительно
следующее: термин «уголовная антропология» есть довольно произвольный,
фантастический термин; тип «преступного человека» — главный
предмет науки, носящей это фантастическое название, — есть фикция, есть
тип, вовсе не существующий; наконец, право — есть право, и никакого
отношения к антропологии оно не имеет. «Антропология преступления
или добродетели представляет ни что иное, как злоупотребление
словами».
Доклад этот вызвал против себя бурю негодования. Сразу четыре
оратора: Ломброзо, Ферри, аббат de Baets и проф. Форель обрушились на г.
Закревского, доказывая ему все его невежество.
А между тем, это «невежество», если только вникнуть в него
хорошенько, имеет серьезный и даже глубокий смысл. Ибо что такое, в
самом деле, «уголовная антропология»? Это наука «о преступном
человеке». Но разве существует такой человек, разве может он существовать?
Я хочу сказать: разве может существовать человек, предназначенный, по
. качествам своей природы, к преступлению и, стало быть, не имеющий
свободного выбора между добром и злом? Если мы спросим
непосредственное сознание свое, которое так достоверно в человеке, то мы узнаем,
конечно, что такого человека существовать не может, потому что мы
ясно, непоколебимо сознаем в себе, свою волю и сознание не как свою
индивидуальную особенность, а именно как некоторый
общечеловеческий универсальный факт.
Но если мы в себя вникать не будем, т. е. не будем вникать в душу,
а станем с наружи осматривать человека, осматривать исключительно
его внешнюю деятельность, тогда мы придем к другому воззрению, —
к воззрению, что человек не свободен и фаталистически
предрасположен к тому и другому. Всякое наружное наше действие, необходимо
и фаталистично, потому что все происходящее во внешнем мире имеет
свою определенную причину. Свобода во внешней природе означает
случайность, но действительной случайности не существует. Вот источник
идеи «о преступном человеке». Эта идея — плод внешнего созерцания
человеческой деятельности. Мы свободны только в душе; но и следует
только в душу смотреть, когда отыскиваешь причину индивидуальных
человеческих дел.
Наука о «преступном человеке» могла зародиться только там, где уже
давно утрачено понимание того, что составляет «святая святых»
человеческого «я». Недаром же современный французский моралист К. Вагнер
150«Наша литература так бедна истинно интеллигентными книгами...*
свидетельствует в своей новой книге «Молодежь», что «не достает
человека». Для криминалистов — антропологов человек не есть человек
в действительном смысле, с душою, похожей на чудо, сокровенной,
глубокой, непостижимой, живой — для них душа — внешняя, подобно телу,
и также она механична, проста, разложима.... Вот они и рассматривают
ее по законам материализма. Преступность не кажется нам чем-то
таинственным и загадочным. Это не дух, болезнь, схожая со всякой
телесной болезнью, нечто необходимое, вполне определенное, имеющее
свои точно выясненные причины. Возражая г. Закревскому, цюрихский
профессор Форель заметил: «что лучшим средством доказать
существование криминальной антропологии было бы основание земледельческой
колонии для тех лиц, которыми она занимается — для прирожденных
преступников; но эта колония должна находиться скорее под ведением
психиатров, нежели юристов». Заметьте: преступление есть акт
человеческой воли, а болезнь есть нечто совершенно независимое от
желания или нежелания человека, вызываемое внешними, материальными
условиями организма и мировой среды. И, тем не менее, эти два
полюса отождествляются европейскими учеными, потому что один из этих
полюсов — свободная воля — в сущности совершенно не признается
ими как нечто самостоятельное, автономное.... Да, теперь понятно,
почему эти господа всегда говорят о преступности, и никогда о греховности;
ибо грех — библейская идея преступления, ясно и определенно
говорит в свою очередь, о свободном человеке, о человеке, имеющем образ
Божий, а не человеке — обезьяне, составляющем неизменный объект
материалистической науки.
Господин Закревский прав, сто раз прав в своем безусловном
отрицании криминальной антропологии. Эта наука имеет своим содержанием не
человека, а что-то, что ниже его, и чего в действительности не существует.
В своей речи г. Закревский был невольным выразителем нашего
мировоззрения, воспитанного на том глубочайшем постижении смысла «греха
и наказания», которое присуще русскому народу, быть может, в такой же
степени присущему, как некогда оно было свойственно ветхозаветным
евреям.
Он был выразителем того понимания преступной души, которое имеет
своими представителями Достоевского, Толстого, в- наши дни —
комментатора Достоевского г. В. Розанова и г. Л. Мельшина, автора в
психологическом отношении весьма интересной книги «В мире отверженных».
И это глубокое, живое, психологическое понимание греховного
человека столкнулось с поверхностным, ложным, материалистическим
воззрением на него. Естественно, что они не сошлись и что большинству (в том
числе и сотруднику журнала «Вопросы философии» г. В. Сербскому)
воззрение поверхностное, вульгарное, клевещущее на духовную природу
человека, как более понятное, пришлось и более по вкусу...
Литературно-критические статьи Ф. Шперка 151
Я потому комментирую доклад г. Закревского, что наше время —
время особенно внимания к участи преступников; и вот существенно и
важно, чтобы это внимание и все, что из него может последовать, — было
основано на живом и истинном представлении человека, а не мертвом
и ложном...
Тенденция криминалистов-антропологов — тенденция
несомненно филантропическая, но их любовь, их снисходительное отношение
к преступнику исходят не из понимания его души, а как непонимание ее,
не как уважение к ней, а как явного к ней презрения; они представляют
себе известную личность, фаталистически обреченную на преступность,
а потому и не видят жизненного, творческого смысла в наказании. Но
это и есть заблуждение: человек свободен, и раз он выбрал путь зла,
греха, преступления, он ответственен и виновен, а раз он виновен, он
нуждается в наказании, ибо грех и вина есть некоторая «убыль души»,
некоторое душевное отрицание, а всякое отрицание стремится к
самоотрицанию, стремится к тому, чтобы отвергнуть себя, так как в конце
концов, в последнем анализе все пути жизни ведут к Богу, к
положительному благу.
Вот объяснение факта, что виновный человек сам ищет своего
наказания; ибо есть тот внешний минус, который покрывает и упраздняет
некоторый внутренний минус в душе человека.
Идея наказания в новой истории никому не открылась в такой
глубине, как русскому человеку, и было бы грустно, если бы под наплывом
ложных и низменных идей западно-европейского материализма мы
утратили ясное сознание этой идеи; тем более что ясное сознание этой идеи
низводит и отвергает милосердие в наказании. Милосердие есть высший
принцип человеческой жизни, и ничто его не отвергает, так и оно
ничего не отвергает; нет, это ясное сознание только блюдет наказание, как
некоторый нравственный принцип, неразрывно связанный со святостью
души человеческой, прежде всего — не материальной и ранее всего
свободной в себе.
Г. Закревский совершенно прав, когда говорит, что «наука
уголовного права должна сохранять свое автономное положение, в иерархии
человеческих знаний», и что не предвидится того мига, когда придется
упразднить существующую магистратуру и заменить ее какой-то
антропологической магистратурой, которая, после упразднения современных
судов, как предполагалось, на Женевском конгрессе, будет судить по
антропологическим приметам, по ушам, носам, черепам и т. п., о роде
и сроке наказаний («Юридическая газета», 10 ноября). Да, этого
никогда не будет, не будет потому, что сами люди, сами преступники не
захотят этого. Взгляд на человека, как на хорошую или плохую машину
производства социальных дел есть такой взгляд, который, если бы он
даже обещал полное упразднение всякого наказания, — невыносим для
152«Наша литература так бедна истинно интеллигентными книгами...*
человеческой личности. Виновный человек всегда предпочтет
наказание, вытекающее из уважения к нему, как самобытному существу, —
безнаказанности, вытекающей из презрения к нему, как к какой-то
антропологической массе.
20
V. Современные заметки40.
Из фельетона г. В. Розанова о школе узнаю, что г. В. Розанов 12 лет
был учителем, и это мне многое объясняет в самом его фельетоне; это мне
объясняет, прежде всего, субъективность автора в обсуждении вопроса.
Автор глубоко и тонко чувствует боль школьного дела; но это-то и мешает
ему объективно и всесторонне рассмотреть его. А между тем, только
отойдя от предмета на известное расстояние, вы увидите его всего и поймете
правильно общий смысл его.
Г. Розанов говорит, что современная школа механична и что она
убивает талантливые натуры, что она — канцелярия, и она душит все
живое. Очевидно, перед автором носится идеал живой индивидуалистичной
школы, в которой все будет идти навстречу особенностям единичных
духовных личностей. Автор имеет в виду школу для меньшинства, так
как особенно самобытна, по своим умственным способностям, только
меньшинство; но он не высказывает этого, а говорит о школе вообще.
И выходит так, что автор для большинства, для учеников с
обыкновенными дарованиями, предлагает тип школы для меньшинства, т. е.
выходит что-то неправильное, противоречивое. Но не в этом настоящее
заблуждение автора. Главное заблуждение его, на мой взгляд, в том,
что он не видит, что для избранных натур, что для лиц с выдающимися
дарованиями, о которых он и рассказывает и скорбит, — для них, в
сущности, школа в общепринятом смысле не существует. Школа их — их
собственная природа. Они и берут, и отвергают все по собственному
усмотрению. Пути развития исключительных людей так же
исключительны, как и они сами.
В своей статье г. Розанов останавливается, между прочим, на
философах. Положим, философы — явление редкое, исключительное, но так
как они, в умственном отношении, представляют известный предел, идеал
развития, то и пример их может быть рельефным и поучительным. Что же
видим мы? Мы видим, что философы, т. е. люди по преимуществу
творческие, самодеятельные в умственном деле — всегда отвергают своих
учителей, т. е. свою школу. Аристотель отвергал Платона, Декарт отвергал
схоластиков, Шопенгауэр отвергал Фихте и т.д.
40 Впервые напечатано в газете: «Новое Время». 1896. 21 ноября. № 7449.
Подп. Оръ.
Литературно-критические статьи Ф. Шперка 153
Истинно талантливые умы учатся только у себя, и никакой
индивидуалист не принесет им ни малейшей пользы, потому что тайна
самобытных и своеобразных способностей человека и есть действительная тайна,
и только бессознательное, но правильное и целесообразное развитие
человека, раскрывает и обнаруживает эту тайну, и ничей посторонний глаз
никогда не разгадывает ее. Талант это есть тот хороший человек, о
котором говорит Гете, что он
In seinem dunklen Drange
ist sich den rechten Wegen wohl bewusst41.
Школа, культивирующая особенные наклонности каждого
отдельного питомца, существовала еще в эпоху Возрождения ("Casa giojosa").
Но школа эта ни Аристотелей, ни Шопенгауэров, ни Декартов не
произвела.
Великий выдающийся ум питает отвращение к школе, потому что он
учится у себя. Недаром Гете называл школу нелепостью, ein unding. Но
из этого нельзя отвергать школу, потому что выдающиеся люди —
исключение, а не правило; а школа, как историческое явление, представляет,
наоборот, не исключение, а правило. Да заметьте и то, что оригинальный
ум питает отвращение не столько к той механической школе, о которой
говорит г. В. Розанов, сколько к той личной школе, о которой он
мечтает. Механичная школа есть препятствие для него, она враждебна его
. духу, но сильный ум, мощное дарование не боятся препятствий, а
преодолевают их и торжествуют. Механичная школа может «выбросить за
борт» талантливую личность, но победить ее, убить ее она, конечно, не
в состоянии. Индивидуалистичная же школа претит оригинальному уму
в силу того, что она — школа, прежде всего, любопытная до психологии
его, а это и невыносимо для творческой натуры, которая, прежде всего,
целомудренна и созревает в тайне, в глубоко своеобразном и личном
процессе.
Г. В. Розанов приводит в статье своей имена некоторых замечательных
учеников, увлекшихся каким-либо одним предметом гимназической
программы в ущерб другим и вследствие этого «выгнанных» из школы. Мне
думается, эти замечательные ученики были так называемыми Wunderkinder,
из которых никогда ничего не выходит ни в дурных, ни в хороших
условиях. Это — метеоры; это — падающие звезды.
Истинный талант, о погибели которого стоило бы скорбеть, в
действительности никогда не погибает, потому что он не только сила мозга, но
и известная жизненная сила. Английский эстетик Джон Рескин тонко
указывает на то, что подлинное дарование всегда совмещается с великим
41 Цитата из трагедии И.-В. Гете «Фауст». «... Чутьем, по собственной охоте
/ / Он вырвется из тупика» (пер. Б. Пастернака). И.-В. Гете. Собрание сочинений
в 10 томах. М. 19978. Т. 2. С. 18.
154«Наша литература так бедна истинно интеллигентными книгами...*
трудолюбием. И это трудолюбие, это упорство в работе не позволяют
потухнуть искре Божией ни в стенах школы, ни вне ее стен.... Все истинно
драгоценное никогда не погибает. Метеоры же всегда останутся
метеорами и ради них изменять целый строй школы не имеет резона.
Современная школа приноровлена к массе, и это объясняет весь ее
характер. Отвечает ли она по своим приемам и средствам этой массе или
нет — вот «вопрос жизни и смерти» для современной школы. Да, она
отвечает этому. Делать же людей культурными, вырабатывать их
мировоззрение может только семья, потому что только семья может не только
безнаказанно, но и с великой пользой прикоснуться, соотнестись с
индивидуальной тайной человека, с его развитием, с идеалами его особенной
и цельной личности.
Я вовсе не говорю, что форма современной школы идеальна, не
нуждается ни в каких преобразованиях. Цель моя — сказать, что ни дух школы
надо изменять, а надо изменять в ней лишь то, что г. В. Розанов называет
«трафаретками», программы, восьмилетний курс, «греческий» или
«латинский» язык и т.п.
Типа школы нельзя изменить, потому что нельзя изменить типа
среднего ученика; он вовсе не самобытен в своих высших дарах, в своих
умственных способностях, и ему психологическая, индивидуалистическая школа
вовсе не нужна. Если он представляет «самобытное явление», то только
как человек вообще; а лелеять, развивать, сохранять человека (а не
отдельные способности его) может только таинственная, духовно и физически
родственная ему сфера семьи!.. Учитель может только случайным,
произвольным образом сойтись с учеником, и никогда это личное знакомство
не приносит добрых плодов. «Несправедливость», «любимчики» — вот
эти случайные и произвольные плоды случайных и произвольных
отношений...
Итак, мы приходим к тому, что индивидуальные натуры
вырабатывает семья, а индивидуальные способности вырабатывают сами
обладатели этих способностей. И школа ни в ту, ни в другую работу, по нашему
крайнему разумению, вмешиваться не должна. Ее работа механична по
существу, а желать от нее иного — значит, переносить на нее работу
самодеятельной личности и воспитывающей семьи.
Вот почему истинная русская интеллигенция (ее один мой добрый
знакомый видит справедливо в кружке славянофилов, в кружке
Грановского, в некоторых личностях кружка Станкевича...) выросла не из крепкой
школы, а из цельной и крепкой семьи.... И вот почему также
современное поколение есть поколение декадентов и поклонников «сокращенных
пересказов известных книг». Не плохая и тупая школа, а плохая
распущенная семья 60-70 годов, в которых выросло это поколение, — виною
тому. Если современную школу в чем можно упрекнуть, то только в том,
что она невольно расшатывает дело семьи. Массовое скопление душевно
Литературно-критические статьи Ф. Шперка 155
незрелых детей, их взаимные личные отношения, не вытекающие из
окрепшего нравственного чувства, «борьба за существование», т. е. за
личное превосходство и т. д. в школьной обстановке — вот что составляет
зло ее. Но заметьте: и это действительное зло имеет «личное», а не
«механическое» начало.
Я понимаю и сочувствую «оживляющим» тенденциям г. В. Розанова,
но нельзя же всего оживить и, мне кажется, достаточно будет и того, если
будут живыми характеры людей — продукты семьи и способностей
людей — продукты личной творческой работы...
21
VI. Современные заметки42.
Ответ моим оппонентам.
Мои слова о «добром деле», сказанные по поводу письма г. Репина,
вызвали в печати единодушный протест.
Сказать, что меня не поняли — очень легко, но едва ли справедливо.
Слова мои были просты, и, конечно, все оппоненты правильно поняли
их смысл.
Сказать, что они сделали вид, будто не поняли меня — тоже очень
легко, но едва ли и это справедливо. Неужели же все возражения мне
.были неискренни, и один я — искренен. Я не допускаю этого, но чем же
тогда объяснить единодушие этого протеста? Невероятностью моей
мысли? Невероятностью этого положения, что дело стоит выше слова, что
грешно и стыдно спасаться в эстетику, в ее «нас возвышающий обман»,
когда жизнь так скорбна и тяжела; когда сама действительность гнет нас
к действительности и показывает, где можно и нужно искать не
фиктивного, отвлеченного спасения, а спасения действительного? Невероятностью
этого положения, да? Но в таком случае в протесте моих возражателей
были бы справедливые и убедительные мысли о том, что эстетика стоит
выше этики, и что слово выше дела; эгоистически — легкое и удобное для
всякого спасение в эстетическом подъеме чувства выше трудного и для
всех неудобного спасения в нравственном подвиге самоотвержения...
Однако, таких «убедительных» мыслей в защиту «угнетенной»
эстетики у моих противников не было, и, стало быть, протест их вызван не моим
унижением эстетики, а чем-то другим. Очевидно что-то иное, более
глубокое в моих заметках возмутило их, подняло их негодование, заставило
договориться чуть ли не до причисления меня в «лакеи народа». Что же
это такое? Я готов думать, что это — та глубочайшая фальшь и неправда,
которую заключает в себе всякое «слово о добром деле». Доброе дело надо
42 Впервые напечатано в газете: «Новое Время». 1896. 24 ноября. № 7452.
Подп.: Оръ.
156«Наша литература так бедна истинно интеллигентными книгами...*
делать, а не говорить. Дело не терпит слова, и во всяком «слове о деле»
есть что-то противоречивое и бессильное.
Защищать «доброе дело» можно только посредством его самого.
Словесная защита низводит его на степень слова и тем самым только обессиливает
его. Поэтому те, кто говорил об эстетике и совершенно умалчивал о
«добром деле», в сущности, были более сильными защитниками «дела», нежели
мы, т.е. г. Репин и я, выступающий сторонником его; потому что молчать
о «деле» — значит признавать его выше всякого словесного оправдания.
А такое признание и есть настоящее понимание дела, понимание сущности
его, самой души его.
Великие проповедники и нравственные учителя действовали на
людей не словами, а свидетельствами своих слов, т.е. тем, что доказывает,
что подтверждает их слова — образцом своей жизни. Поэтому их слова
и лишены всякого словесного балласта, лишены всяких риторических
красот, совершенно просты и прозрачны, и всякий, имеющий чутье
душевное, видит сквозь эту прозрачную ткань великую и деятельную душу,
и ею-то одушевляется он и ею-то исправляется. Сила тут не в словесном
тексте, а в душевной и «деловой» иллюстрации к нему. Иллюстрация эта
и отсутствует у современных проповедников «доброго дела»; и поэтому
проповедь их отвлеченна, а не художественна. Подвижники прежде
всего — художники «доброго дела», а затем уже мыслители, аналитики,
проповедники его. Мы, — я говорю о современном поколении, — прежде
всего созерцатели и аналитики «дела», и вот мы пишем текст, но не даем
к нему оправдательной иллюстрации. Любви, этого творческого начала
всякого художественного произведения, этого нет в нас.
Мы выкрикиваем слова о «добром деле», потому что нам больно в
своем отвлеченном антихудожественном эгоизме, и в этих выкриках мы
думаем освободиться от эгоизма. Но перейти к делу, к деятельной любви мы
не хотим, ибо легче кричать, нежели делать, легче анализировать, нежели
творить. Легче эстетизировать, нежели жить.... Но крик только временно
освобождает от боли, а дело не только освобождает, но и заполняет нашу
душу новым и бесконечно нам нужным содержанием.... Только дело
потребно и спасительно, все же прочее есть призрак и ложь. Только дело
есть истинное художественное произведение, и литература, и
эстетическое творчество только ступень к нему.
Протест, который вызвали мои слова о деле — протест не во имя
эстетики и словесного творчества, а именно против слова и во имя самого
же дела.
Этот протест есть лучшее свидетельство того, что наше общество
смотрит «дельно» на дело, смотрит на него так, как нужно и должно смотреть.
Мои оппоненты отвергли меня, пишущего о «добром деле», но они
только подтверждают и только подтвердили само «доброе дело» — и я,
слабее их утверждавший, присоединяюсь к ним...
Литературно-критические статьи Ф. Шперка 157
22
VII. Современные заметки43.
В Екатеринославе повесился на чердаке воспитанник 6-го класса ека-
теринославской гимназии А.Б., 18 лет. В оставленной записке, по словам
«Екатеринославских губернских ведомостей», между прочим сказано:
«Я старался нарисовать себе определенную цель в жизни, но это мне плохо
удавалось, и раз нет цели в жизни, что для чего же жить? Я ясно сознавал,
что из меня ничего не выйдет порядочного».
Эта газетная заметка каждому скажет многое... Цель жизни — вот то
центральное место, около которого бьются все молодые люди. Ведь им
не только новы все впечатления бытия, но новы им и все вопросы бытия.
А потому вопросы эти и волнуют их так болезненно — сильно как
наиболее свежие, наиболее ясные вопросы.
Я знаю многих, которые в эпоху своей юности положительно сходили
с ума по этой проблеме. Для чего, в самом деле, жить, раз не видишь
смысла и цели жизни? Для чего жить?
Пожилой человек есть всегда огрубелый, отупелый в жизненном
отношении человек; он будет жить и без жизненного смысла. Но молодой
человек ищет, просит, требует смысла, — ищет, просит, требует — и так
редко находит.
Почему так редко? Да потому, что раз он ищет смысла, он работает
мыслью, разумом, а жизнь так бесконечно сильнее и многосторонне
мысли. Для того, чтобы жить, надо хотеть жить, а для того, чтобы что-нибудь
хотеть, надо в это самое верить. Мысль только разъедает волю: вы не
только не будете жить, если будете руководствоваться мыслью о жизни,
а не бессознательно верующей волей, но вы не заснете даже, если будете
руководиться мыслью о сне, а не уступите бессознательно правильному
влечению ко сну.
Молодые люди так плохо понимают это. Они хотят уразуметь смысл
жизни во что бы то ни стало одним своим разумом, а понять и перенять этот
смысл всем своим существом, всем своим духовным организмом — того
они как будто не хотят, вернее, не понимают, что именно этого надо хотеть.
Именно этого, потому что понимание цельное гораздо нужнее и важнее
понимания частичного, посредством лишь одной стороны человеческого духа.
Надо в жизнь верить, потому что в вере дано истинное, волевое
понимание жизни и ее значение. Вера признает центр жизни, душу ее и потому
создает жизнь, и потому движет ее. А разум — он бессилен, когда перед
ним не какой-нибудь ограниченный вопрос, а вопрос бесконечно сложный
по своей природе. Он не понимает и никогда не поймет жизненного
смысла не потому, что в жизни смысла не существует, а потому, что истинный
43 Впервые напечатано в газете: «Новое Время». 1897. 9 января. № 7496.
Подп.: Оръ.
158«Наша литература так бедна истинно интеллигентными книгами..л
смысл ее неотторжим от нее самой. Стало быть, для того, чтобы знать
жизненную цель, надо прежде всего жить, а не только мыслить...
Но жить гораздо труднее, нежели мыслить, потому что мысль есть
лишь одна из бесчисленных функций жизни.
Но спрашивается, что же сделать, чтобы однажды утраченное чувство
жизни вернуть и приобрести веру в нее и волевое понимание ее?
Существует ли средство, которое приводит к жизни жизнеотступника? Да, такое
средство существует, и оно называется трудом. Труд есть нечто такое, что
от анализа и сознания приводит нас к синтезу, то есть творчеству и воле.
И вот почему трудясь, мы начинаем жить и понимать жизнь, а, перестав
трудиться, перестаем и понимать, и ощущать соль жизни...
Семья, школа, ближние — все должны привлекать юношей к труду, ибо
труд для них то же, что и дети. В детях, то есть в созидании физического
тела человечества, и в труде, то есть в созидании исторической, духовной
энергии, смысл жизненного процесса. Великие указания Книги Бытия и по
наши дни велики и единственно авторитетны. Трудитесь в поте лица своего
и в мучениях рождайте людей — вот что сказано той и другой стороне
человечества, и ни одна йота этого закона не сотрется в истории.
23
VIII. Современные заметки44.
Закрывшаяся на этих днях выставка «Опытов художественного
творчества» или «эскизов» вызвала в печати рассуждения общего
теоретического характера. Среди этих рассуждений один из теоретиков сказал,
что «эскизы», то есть наброски, опыты, неоконченные художественные
произведения, доставляют большее эстетическое наслаждение, нежели
вещи вполне законченные, вполне исчерпывающие свой предмет, свое
содержание. Это мнение характерно и чисто современно. В самом деле,
не есть ли наше время — время «опытов» и «эскизов» по преимуществу?
Ведь законченных произведений теперь нет, вовсе нет. Они появлялись
тогда, когда люди творили совершенно непосредственно; они появлялись
и после, когда прошло время непосредственного творчества, но когда
художники путем труда, усилий, путем самоусовершенствования доходили
до совершенства, то есть до цельности и законченности; то было время
большой скромности и художнической целомудренности. Художники
скрывали свою интимную работу, затаивали лабораторный и
ремесленный процесс своего творчества, показывали только то, что было достойно
имени искусства, названия творчества, то, что действительно жило, а не
подготавливалось к жизни...
44 Впервые напечатано в газете: «Новое Время». 1897. 26 января. № 7513.
Подп.: Оръ.
Литературно-критические статьи Ф. Шперка 159
Но вот настает, очевидно, третий период, третья фаза развития или,
вернее, регресса: цельное, законченное произведение теряет интерес,
начинает привлекать внимание и вкус только то, что делается, образуется,
созидается. Смысл этого факта не подлежит ни малейшему сомнению:
произведения отходят на второй план, на первый — ставится процесс
и сам художник. Зрителя «эскизов» начинает интересовать психология
художника, а художественность произведений оставляет его
равнодушным. Эскиз, набросок, опыт, всякие прологи, начала и продолжения, но
только не художественные финалы, только не художественные эпилоги,
только не то, что «досказывает до конца и окончательно исчерпывает»
задерживают его эстетическое любопытство. Он входит в интимную сферу
художника, в его лабораторию, в его кухню, а это и есть то, чего он так
жадно и жизненно ищет.
В сущности, мы уже давно потеряли способность истинно относиться
к художественному творчеству; мы давно потеряли способность восторга.
А восторг и есть то чувство и настроение, которое порождается истинным
художественным произведением.
Истинные произведения искусства всегда цельны и совершенны, и,
конечно, в созерцателе они могут вызвать тоже только цельное и
совершенное чувство, именно, восторг. Впоследствии, когда цельных и
законченных произведений становится все меньше и меньше, начинает убывать
в людях и восторг. И на место восторга, цельного, непосредственного,
творческого чувства, вступает критика и анализ, то есть наклонность
разложения. Критика и анализ вызываются, в сущности, только
несовершенными произведениями. Действительное творчество, действительный
синтез никогда не вызовет анализа, а всегда возбудит известный подъем
чувства, который вполне соответствует творческому настроению. Теперь,
когда не только нет произведений непосредственно цельных, но когда все
реже и реже появляются и посредственно цельные вещи, то есть такие
вещи, совершенство которых достигнуто упорным трудом, теперь, когда
настает час «эскизов» и «опытов» — критика и анализ естественно
получают господствующее положение. Восторга не существует. Творческий,
художественный характер восторга никому не понятен более. Все
начинают думать, что критика есть высшее, что критическое отношение к
произведениям искусства есть самое настоящее отношение к ним. И вовсе
не понимают, вовсе не могут понять того теперешние ценители, что
анализировать — значит разбивать на части, а все жизненное по природе —
цельно и требует по отношению к себе цельного творческого воззрения.
Да, прошли прекрасные дни Аранхуэца45, когда художественное
произведение, подобно богословской системе Кальвина, выходило totus, teres
45 Аранхуэц (исп. Aranjuez) — королевский замок в Испании, где собирались
и хранились полотна европейских мастеров.
160«Наша литература так бедна истинно интеллигентными книгами...*
atque rotundus (цельным, гладким и круглым) из головы своего творца.
Все, что нынче выходит из этой головы — отрывочно, шероховато и не
имеет законченной, округлой формы. Все — набросок, эскиз, намек на
что-то неосуществленное. И, конечно, в сравнении с этим намеком сам
неудовлетворенный и томящийся художник представляет величину
реальную, живую, интересную. Естественно, что через посредство этих самых
«намеков, эскизов и опытов» в неудовлетворенную и распавшуюся душу
художника вторгается анализ и критика и тут, наконец, получают для себя
живую пищу...
Да, плохой это, а не хороший признак, что, вместо того, чтобы
представлять нам готовые, законченные произведения искусства, нас
призывают в лабораторию творчества и просят испробовать «опытов» кулинар-
но-художественного ремесла.
Что же будет дальше? Что же будет за этим? А будет, по всей
видимости, то, что из художнической лаборатории, из художнической кухни нас
попросят последовать за лаборантами и поварятами искусства на рынок,
где они закупают свои «материалы», забирают свою «провизию». И мы все
ближе и ближе подойдем к полотнам, кистям и краскам, а с другой
стороны — к потугам и претензиям бездарного труженичества, и все дальше
и дальше отойдем от Бога, идеи и вдохновения.
24
XI. Современные типы46.
Не так давно у нас много кричали о карьеристах и карьеризме; теперь
эти толки смолкли, и можно, кажется, отсюда заключить, что карьеризм
истощился. Приглядываясь, однако, к жизни, видишь, что карьеризм не
только не умер, но еще развился из грубого, внешнего и поэтому
заметного, он стал более тонким, внутренним, и в силу этого, — менее
заметным. Современный карьерист — это уже карьерист чистейшей воды, это
более, нежели простой карьерист, это — фанатик карьеризма, это —
маньяк своей судьбы, маньяк своего личного благополучия. Психология его
очень и очень поучительна: он довел естественную наклонность человека
к счастью до ее последних крайностей, до поучительного абсурда, если так
можно выразиться.... Тип карьериста есть, разумеется, продукт борьбы за
существование в обществе, как известно, борьбы весьма трудной, упорной
и утонченной в наше время. Она и только она образовала эту болезненную
и уродливую индивидуальность, с одной стороны, чрезвычайно
впечатлительную, отзывчивую и гибкую, с другой стороны — донельзя суженную
в своем духовном содержании.
46 Впервые напечатано в газете: «Новое Время». 1897. 14 февраля. № 7532.
Подп.: Оръ.
Литературно-крити ческие статьи Ф. Шперка 161
В самом деле, маньяк житейского благополучия, карьерист, доводит
свою психологию в некотором направлении до тончайшего совершенства;
он вырабатывает и развивает в себе, например, одну из самых нежных
сил человеческих — чутье. Оно ему нужно для угадывания людей, для
угадывания общественных настроений, для угадывания всего того, что
неуловимо для разума, что слишком тонко для простого, нормально
грубого чувства.
Опираясь на такую скрытую и потому могущественную силу как
душевное чутье, карьерист начинает свою игру в судьбу, свою игру в
обстоятельства и условия. Он чует, что жизнь донельзя сложна, донельзя
причудлива, и он уже знает, инстинктивно знает, что, только
уподобившись ей в сложности, причудливости и изменчивости, он сделается
господином и властелином ее. И вот — он начинает развивать себя в этом
направлении. Он прекрасно понимает, что успех в жизни зависит,
главным образом, от успеха у людей, но, спрашивается, на что ловятся люди
более успешно, нежели на удочку искренности} И вот — он начинает
их на эту удочку ловить. Однако искренность — одна, а полезных людей
много. Как же поймать на одну черту многих и многообразных людей,
имеющих каждый свою особую искренность? Для того чтобы добиться этого,
карьерист начинает разнообразить свою искренность, приспособлять ее
к различным человеческим пониманиям, настроениям и индивидуальным
точкам зрения, делает ее более подвижной, гибкой, диалектичной.
Правдивая искренность развивается или, вернее, вырождается в искренность
обманчивую, софистическую.... Странное, но для психолога современной
души, несомненное, действительное качество теперешних людей.
Какой тончайший субъект! Да, тончайший. Потому-то он и ускользает
от внимания. К тому же обнаруживается другая, как будто новая, порода
людей: неврастеники, расслабленные, рамолитики и упадочники.... Как
новое по виду явление, оно останавливает на себе главное внимание, и та
отрицательная сила, то чувство отвращения и негодования, которое
возбуждал недавно тип представителя карьеризма, возбуждает теперь другой
тип — тип представителя душевного безволия... и даже более того. Вы
нынче уже нередко и в обществе, и в семьях услышите поощрение карь-
еристическим наклонностям. Папаши и мамаши иногда прямо толкают
детей своих на этот золотоносный путь, полагая в простоте души своей,
что в карьеризме (стремлении к личному успеху) прежде всего человек
выражает упорство, волю, душевную силу. Словом — нечто хорошее
и положительное. Можно прямо сказать, упадочничество воли и духа
подняли в глазах общества тип карьериста, в котором оно, как Брандес47
47 Брандес Георг-Морис-Коген (1842-после 1902), датский критик и историк
литературы, был хорошо известен и популярен в конце XIX века. Автор статей
и книг по истории западноевропейской и русской литератур.
162«Наша литература так бедна истинно интеллигентными книгами...»
в Лассале48, склонно видеть некоторый памятник воле. Глубочайшее
заблуждение! Неврастеник и рамолитик — прямой потомок карьериста.
Правда, карьерист упорен в своих поисках благополучия и счастья; но это
упорство — упорство внимания и чутья и очень мало говорит о воле,
которая силу свою и упорство проявляет исключительно в творчестве, в
произведении каких-либо полезностей. Разве карьерист — творец, изобретатель?
Именно, нет. Он ничего не производит нового; он изощрил себе внимание
и чутье для того, чтобы известными условиями пользоваться, другими —
пренебрегать, одни задерживать, другие упускать. Карьерист — это еврей
житейской биржи, он ничего не создает и все комбинирует. В том и
состоит несостоятельность карьеризма, что оно непродуктивно, безвольно.
Комбинировать условия, — значит, играть; создавать — значит трудиться.
Карьерист и есть игрок, игрок в элементы житейской обстановки. Но
далеко ли от такой игры, имеющей чисто эгоистический и потому фиктивный
характер (эгоизм — это призрак, идол жизни, а не бог), далеко ли от такой
игры в случайности до чистейшей и пустейшей игры в «самого себя», в свою
душу, что и есть декадентство или упадничество. Конечно, нет. И потому,
как бы ни изощрял карьеризм внимания, как бы ни «софистизировал» он
душу и искренность с тем, чтобы приспособить их к бесконечно
разнообразной жизни, в конце концов, он приводит к упадку воли, которая
научается играть, а не творить! Возьмите для примера евреев. Это прирожденные
карьеристы. Но разве евреи — творческая нация? Разве, кроме различных
комбинаций, вариаций и операций с обстоятельствами и бумажными
знаками, способны они на что-нибудь? Гениальные в игре и бесталанные в
серьезной творческой работе, производящей новые ценности, — евреи
представляются классическими выразителями карьеристического мировоззрения
с одной стороны, и импотентности, бесплодности воли — с другой...
Положительно ничто не сопутствует карьеристу в такой мере, как
душевное безволие. Это не парадокс, а факт, психологический факт. Все
карьеристы безвольны и бесхарактерны, ни на какие мощные и сильные порывы
воли не способны. Карьеризм и декадентство вовсе не так далеки друг от
друга, как это кажется на первый взгляд. Они сходятся, и сходятся в том, что
нет декадента, который бы не был карьеристом, и нет карьериста, который
по уродливости, бессодержательности и некоторой бесплодной
утонченности своего духа не был бы декадентом, декадентом жизни. Карьеризм надо
предупреждать! А предупреждать карьеризм, значит, развивать
человеческую волю; ибо волевая личность никогда не унизится до игры в жмурки
с фортуной: проявления ее всегда будут изобретательными, творческими,
всегда дадут людям нечто новое, нечто истинное, нечто благое...
48 Здесь Ф. Шперк имеет в виду книгу Брандеса «Литературные портреты.
Лассаль — Зудерман — Гауптман — Берне — Гейне и Аристофан». СПб. 1896.
Изд. И. Юровского.
Литературно-критические статьи Ф. Шперка 163
25
X. Современные заметки49.
Недавно вышло второе издание книги г. Н. Минского «При свете совести.
Мысли и мечты о цели жизни» (Спб. 1897 г.)50. Книга эта написана не только
«при свете совести», как скромно указывает автор, но и при свете
нескольких десятков факелов, особенно изобилующих во второй, наиболее
цветистой части трактата. И вот меня удивляет: как при таком сильном свете г.
Минский не открыл ни в своей душе, ни в природе ничего действительного,
подлинного, истинного.... Заглянув при свете «факелов» и «совести» в свою
душу, он нашел в ней одно: самолюбие. Самолюбие есть «чувство бытия».
«Человеку, даже благороднейшему, так же невозможно отречься от своего
самолюбия, как оленю, и быстрейшему, нельзя обогнать самого себя».
«Как над костром котел с водой, человечество сверху донизу кипит на
огне самолюбия и стремления к превосходству. Лишь первенствуя над
кем-нибудь, я могу ощущать радость жизни».
«В самые торжественные и реальные минуты жизни червь стремления
к превосходству не покидает душу. Вот у постели умирающей женщины
стоит бледный человек, изнуренный от горя и бессонницы. Он смотрит
на доктора, безмолвно изучающего пульс и дыхание больной, и ждет
рокового слова. Он уверен, что если роковое слово будет сказано, то и он
не будет жить. Пусть для ее спасения потребуется его жизнь, и он теперь
охотно пожертвует жизнью. И все-таки где-то в отдаленнейшем и скрытом
уголке души он желает ее смерти, желает помимо воли и сознания,
вернее слабо предчувствует, что в этой смерти вместе с отчаянием для него
наступит нечто отрадное. Смерть эта будет событием, в центре которого
будет красоваться он, безутешный страдалец. Его будут жалеть, его будут
утешать, он, шатаясь от горя, пойдет первый за похоронной колесницей».
Последняя картинка особенно характерна, г. Минский, конечно,
уверен, что своей острой мыслью он вскрыл самые глубины человеческой
совести. Но так ли это? Душа человеческая глубока, таинственна и
мистична, и, нет сомнения, в ней совершаются подчас загадочные вещи —
вещи, которые мудрецам и не снились. Но все эти загадочные явления
проистекают из очень сложных, очень глубоких источников, не
имеющих ничего общего с idee fixe г. Минского — самолюбием, «на огне
которого, как над костром котел с водой, человечество кипит сверху донизу».
Сводить к самолюбию все, что в человеке происходит, значит быть
маньяком, и значит не только не понимать человека, но и не понимать самого
49 Впервые напечатано в газете: «Новое Время». 1897. 18 февраля. № 7536.
Подп.: Оръ.
50 Первое издание вышло в 1890 г. В книге излагаются основы созданного им
идеалистического учения — «мэонизма», которое сам Н. Минский назвал в
автобиографической заметке 1922 года «тропой индивидуализма и самообожествления».
164«Наша литература так бедна истинно интеллигентными книгами...»
самолюбия. Вот почему психология г. Минского производит впечатление
призрачной психологии, психологии не живой, а мертвой души.
Не менее призрачна и философия г. Минского. Содержание ее — «мэо-
ны» (от греческого — «несуществующий»), «несуществующие святыни».
Эти «мэоны» г. Минского — продукты софистики, довольно детской и
наивной. Но не в этом дело. Суть в том, что все, что цельно, вечно,
бесконечно в природе, представляется г. Минскому несуществующим, «мэоном»,
и этому несуществующему он поклоняется.
«Призрак» самолюбия тяготеет над его психологией, «призрак»
небытия, мэона господствует над его философией, над его миропониманием.
Человек не видит содержания в существующем, естественно, он
прилепляется к тому, что бессодержательно, призрачно, фиктивно.
«Мэонизм учит нас, — проповедует «миражная» философия г.
Минского, не только не бояться бесцельности жизни, но стремиться тем яснее
сознать эту бесцельность, не только не скорбеть о небытии счастия,
любви, свободы, но сделать все, чтобы доказать это небытие». Как нравится
вам, читатель, отвага и смелость нашего философа «мэонов» или, как он
их сам называет, «насквозь отрицательных понятий»?
Смелость всегда внушает уважение, а смелость отрицания — как-то даже
демонически великолепна, но вот в чем беда: «насквозь отрицательные
понятия» г. Минского в сущности ни что иное как «мыльные пузыри» софистики,
риторики и парадоксальности. А потому смелость г. Минского не только не
есть демонически великолепная смелость, а попросту есть юркая прыткость
отрицателя «по претензии» (а не «по призванию»). Такая претенциозная
прыткость отрицания только смешна, потому что в ней большая доза
мнимо-философского фиглярства и ни капли серьезности и искренности.
Статьи из раздела «Из литературного дневника»
(газета «Новое Время»).
26
Ответ г. Вл. Соловьеву51
В номере 43 «Руси» г. Владимир Соловьев поместил заметку,
посвященную моей рецензии о его книге «Оправдание добра» («Новое Время»,
№7543). Он немного полемизирует со мной, но полемизирует довольно
странно. Я сказал, что его книга представляет из себя
«иезуитски-изощренное, схоластически-хитросплетенное и метафизически-отвлеченное
оправдание, доказательство, утверждение христианского учения любви».
51 Впервые напечатано в газете: «Новое Время». 1897. 5 марта. № 7550. Подп.:
Апокрифъ.
Литературно-критические статьи Ф. Шперка 165
В этой схоластике, иезуистике и софистике его мысли, его аргументации
я видел недостаток книги, потому что в нравственных вопросах мы должны
быть по преимуществу, особенно «мудры как змии, и просты как голуби».
Что же, опровергает он мое суждение? Нет. Он ссылается на бл,
Августина, который написал двадцать две книги о божественном промысле, и на
Лейбница, написавшего философский трактат о Боге, «Теодицею». Что
означают эти ссылки? Ведь книга г. В. Соловьева посвящена нравственности,
она дает «оправдание добра». При чем тут «Теодицея» и двадцать две книги
о «промысле»? г. Вл. Соловьев полагает, что я нахожусь в «блаженном
неведении» этих произведений; нет, он ошибается; но верно то, что я нахожусь
в «блаженном неведении» мотивов, которые побуждают его ссылаться на
эти теологические сочинения. Затем г. Вл. Соловьев указывает на то, что
он сам52 назвал «нелепой» дилемму, которую на нескольких страницах
разбирает в своей книге, и разбор которой я счел образчиком «философского
иезуитизма». Указание это не поправляет дела; я протестовал не против
самой «нелепой дилеммы» (мало ли поднимается людьми нелепых
вопросов?), а против схоластического и утонченно-глубокомысленного разбора
этой «нелепости». Мне сдается: философский ум дан человеку не для того,
чтобы тратить его на решение явных нелепостей, а для того, чтобы
размышлять о настоящих, жизненных, важных проблемах и задачах.
Хотя я и «блаженный невежда», но позволю себе все же сделать
маленькую «ученую» ссылку, г. Вл. Соловьев ссылается на Лейбница. Я сошлюсь
на Спинозу. В его переписке г. Влад. Соловьев найдет одно замечательное
место. Какой-то господин очень надоедал Спинозе всякими
философскими вопросами. Тогда Спиноза очень мудро ответил этому господину, что
подобных вопросов можно сочинить в один час сколько угодно, и тратить
свое время на разрешение их у него нет ни малейшей охоты. Когда я писал
свою рецензию о книге г. Вл. Соловьева, образ мудрого Спинозы, не
пожелавшего отвечать на нелепые и произвольные вопросы своего знакомого,
носился перед моим «блаженно-невежественным» умом. И так хотелось
мне тогда, чтобы г. Вл. Соловьев вспомнил о Спинозе, который написал
«Этику», столь близкую по своему предмету его «нравственной
философии». Но он пожелал вспомнить не Спинозу, которого было бы так кстати
вспомнить, а Лейбница...
В заключение г. Вл. Соловьев бросает в мой огород несколько
камешков, которые, наверное, окажутся не камнями, а бомбами и гранатами,
когда я разгадаю их таинственный смысл. Но этого-то я и не могу
сделать. И потому подымаю эти «убийственные снаряды» г. Вл. Соловьева
с истинно-блаженным неведением того, что они мне готовят. Первый из
них состоит в том, что «чтение книги «Оправдание добра» было так
неприятно» мне потому, что «в известных случаях нравственная философия
Выделено Ф.Э. Шперком.
166*Наша литература так бедна истинно интеллигентными книгами...*
бывает веревкою в доме повешенного». Второй заключается в том, что
я, видимо, причисляюсь г. Соловьевым к числу «людей, которых можно
отнести к честному народу или в надежде на их исправление, или,
разумея это прилагательное в том эпическом смысле, в каком, например,
старый Гомер называет свинопаса Евмея «божественным». Третий и
последний — в том, что «в г. Апокрифе и ему подобных есть добро; но, не
будучи достаточно оправданным в их сознании, оно оказалось бессильным
удержать их от поступков, которые никто не называл добрыми». Когда
смысл этих убийственных намеков разъяснится мне, я посыплю пеплом
главу свою, а пока сохраняю убеждение, что они так же близко касаются
меня, как 22 книги блаженного Августина близко касаются
«нравственной философии» г. Владимира Соловьева.
27
Об «Оправдании добра»63.
(Ответ А. С. Суворину)54.
Милостивый государь! Из Вашего сегодняшнего «Маленького
письма» я вижу, что заметка моя о философском трактате г. Соловьева по
всей вероятности своей односторонней резкостью дает повод к
некоторому недоразумению. Дело в том, что я не утверждал и, по совести, не мог
утверждать, что этот философ — «последователь св. Игнатия Лойолы».
Вл. Соловьев — автор прекрасной и истинно-философской «Критики
отвлеченных начал», в духе которой много мистического и фаустовского;
он — автор некоторых замечательных своей искренностью и своим
возвышенным характером поэтических пьес, в чистых и непосредственных
формах отражающих его болезненный, но, несомненно, к истине и
святыне тяготеющий дух, который в одной из этих пьес справедливо
сравнивается с «железом, схваченным орлом», что «затрепетал в неволе»,
И сеть порвал, и в высь ушел,
И на заоблачной вершине,
Пред морем пламенных чудес
Во всесияющей святыне
Он загорелся и исчез55
53 Впервые напечатано в газете: «Новое Время». 1897. 3 марта. № 7548. Подп.:
Апокрифъ.
54 В полемике по поводу книги В. Соловьева «Оправдание добра» A.C.
Суворин поддержал Соловьева, при этом обратив внимание только на вопросы,
касавшиеся нравственности национализма. См. статью A.C. Суворина в: «Новое
Время». Маленькие письма. 1897. № 7546. С. 2.
55 Цитата из стихотворения B.C. Соловьева «Под чуждой властью знойной
вьюги...».
Литературно-критические статьи Ф. Шперка 167
Этот дух влечения к истине, которая прекраснее, которая жизненнее,
которая возвышеннее всякого обладания ею — этот дух делает г. Влад.
Соловьева писателем и истинно-привлекательным, и
истинно-морализующим.
Потому-то и жаль, что этот писатель, достоинства которого
несомненны, занялся делом схоластически-софистического оправдания добра. Вы
пишите в своем письме: « Разве не надо добро оправдывать? По-моему,
и очень надо, потому что добро, если дать ему свободный ход, и если оно
войдет в плоть и кровь каждого человека, наделает в мире столько
переворотов, сколько не под силу было сделать злу». Вы правы. Но,
спрашивается, чем оправдывать добро? Умом, логикой? Разве в состоянии философия
«оправдывать» чувства, оправдать влечения и дела доброго сердца? Мне
кажется, нет. Мне думается: только чувство может оправдать чувство,
только сердце может оправдать сердце. Ум в этом деле бессилен; в силу
своего бессилия он и вдается всегда в хитросплетенную софистику, когда
берется за оправдание этих вещей...
Когда мы доказываем геометрические теоремы, мы ищем доводов у
воображения и ума, а не у сердца; но когда мы хотим доказать правоту
добра в жизни, мне кажется, мы должны обращаться к сердцу, а не к уму.
«Выводы» в книге г. Влад. Соловьева те, которые согласуются с духом
христианским — прекрасны и заслуживают всякого сочувствия; но
доводы, но аргументация, которые подкрепляют и оправдывают эти
прекрасные истины — и слабы, и несостоятельны, на мой взгляд, а между
тем, 9/10 этой книги состоит из этих доводов, и в них вся соль ее, так
в них — новизна, а истины сами по себе — не новы. В этих доводах, в этом
философском «оправдании» я и вижу ту схоластичность, ту бесплодную
метафизичность, то «мудрствование лукавое», которые переходят нередко
в иезуитскую софистику. Быть может, моя полемика против нее была
слишком резка, одностороння, узка, но неосновательной признать я ее не
могу. Вы говорите: добро нуждается в оправдании. Да, но оно нуждается
в оправданиях, подтверждениях, доказательствах, которые достойны его
природы. А отвлеченная схоластика силлогизмов и всякие утонченности
и хитрости мысли (их я и назвал умственным иезуитством) не достойны
добра, они ниже его и поэтому добра не оправдывают...
В наши дни появляется очень много моральных книг, и большинство из них
наполнено софистикой; против этой-то софистики, против этого-то иезуитизма
мысли, как плохого адвоката сердца, добра и долга мне и показалось не
бесполезным высказаться. Книга г. Влад. Соловьева представилась мне типичной
и знаменательной в этом отношении. Конечно, я могу ошибаться, но, во всяком
случае, я отнюдь не отождествляю ее с самим автором...
Простите, если и в этом ответе найдутся какие-либо
односторонности, погрешности и увлечения. Искренность, быть может, «оправдает» их
в Ваших глазах.
168«Наша литература так бедна истинно интеллигентными книгами...*
28
Памяти Генриха Друммонда56.
Ты сбросил с сердца груз земли,
Мой зов услышав чутким ухом,
И смело в области мои
Вступил освобожденным духом.
Платон Кусков57
На днях скончался шотландский теолог Генрих Друммонд58, автор
получившей широкую известность книги «Естественный закон в духовном
мире». Это — истинно замечательный писатель, один из тех немногих
в наше время умов, которые, по прекрасному выражению СМ.
Соловьева, «стоя в стороне от главного исторического движения, сильнее других
делают историю». Они делают историю тем, что они не делают текущего
момента. Люди эти как бы сознают, что текущее нечего создавать; оно
само собою делается.... Много тружеников жизни в поте своего суетного
лица и кровью своего суетного сердца работают над тем, чтобы море
будничной действительности, в некотором отношении похожее немножко на
лужу, не иссякало и не испарялось. Но надо заботиться и о том, чтобы
поддерживать общечеловеческое, божеское в человеке: оно есть источник
жизни, и когда иссякнет оно, тогда, увы! Иссякнет и все.
Ложь есть паразит истины: призрачная людская жизнь есть паразит
истинной общечеловеческой жизни, и когда не будет истины в душе
человеческой, — умрет и паразит, но, мне думается, истина должна не своей
смертью, а своей жизнью победить этого паразита. Истина должна жить,
в этом смысле истина и жизнь ее должна побеждать ложь, смерть,
призраки и суету....
Суету нужно отрицать и разрушать, а мы, большей частью, создаем
и утверждаем ее; вечное и божественное в человеке надо создавать и
поддерживать, а мы заглушаем и разрушаем его.... В некотором отношении
все мы — Дон-Кихоты, и в этом трагедия нашей жизни, трагедия более
глубокая, нежели гамлетовская или фаустовская драма нашего сердца.
Смысл этой трагедии жизни в том, что мы дружим с призраками,
враждуем с действительностью и, можно сказать, что текущая проходящая жизнь
наша, в силу своей великой призрачности, — только препятствие к ходу
56 Впервые напечатано в газете: «Новое Время». 1897. 18 марта. № 7563.
Подп.: Апокрифъ.
57 Кусков Платон Александрович (1834-1909) — поэт, литературный
критик, переводчик. По мнению Страхова, Кусков «есть настоящий «урожденный»
философ, с оригинальным и большим философским светилом в себе, с полным
и гармоничным миросозерцанием» (цит. по некрологу на смерть П. А. Кускова,
написанному В. В. Розановым: Новое Время. 1909. 22 августа).
58 Друммонд Генрих (Драммонд Генри) (1851-1897) — историк религии и
теолог.
Литературно-критические статьи Ф. Шперка 169
исторической, общечеловеческой, божеской жизни в людях. В этом
смысле и сказал Гете:
Unsre Taten selbst,
So gut als unsre Leiden,
Sie hemmen unsres Laben Gang.
(«Не менее страданий наших, дела наши тормозят течение жизни»)59.
Такие возвышенные и религиозно настроенные умы, как Генрих Друм-
монд, и являются борцами с этими «препятствиями жизни». Сила их
в том, что они «сверхсуетны», если можно так выразиться. Эта
«сверхсуетность» побеждает всякие препятствия к жизни, всякие призраки и
кошмары. В ней, в этой «сверхсуетности», и заключается истинная, свободная
и должная человеческая жизнь.
29
Полемические письма60.
I
Существуют навязчивые идеи, навязчивые люди и навязчивые
писатели. О навязчивых идеях прекрасно повествует талантливый современный
поэт г. Ф. Сологуб; навязчивых людей прекрасно знает каждый по своему
жизненному опыту; тип навязчивого писателя, наконец, прекрасно
воплощает в себе г. А. Волынский61, критик «Северного Вестника». На этих днях
мне пришлось ознакомиться с его текущими статьями о Лескове. И должен
сознаться: первое, что мне бросилось в глаза в них — это навязчивость,
с которой посредственный писатель о двух или трех идеях, о двух или трех
чувствах (навязчивость всегда сопровождается духовной скудостью)
пробирается в идейное и душевное к даровитому писателю, не имея на то ни
малейшего права и основания, кроме, разве, права литературной
беззастенчивости. С той психологической чертой, которую назвать иначе,
«благо уветливее», по выражению Лескова, нежели нахальной назойливостью,
59 Цитата из трагедии «Фауст» И.-В. Гете.
60 Впервые напечатано в газете: "Новое Время". 1897. 19 марта. № 7564.
Подп.: Апокрифъ.
61 После статьи, направленной против Волынского, многие литераторы
порвали отношения с Шперком. Среди них — П. П. Перцов. В октябрьском письме
1897 г. к П. П. Перцову В. В. Розанов писал: «Да, дорогой мой, Шперк умер, и
хорошо все, что Вы о нем пишите в письме. В Петербурге его никто, кроме меня,
не знал с субъективной, внутренней стороны. У него было много биографических
секретов, не владея коими его нельзя судить. <...> Итак, друг мой, если Вы меня
любите — никакое дурное слово о покойном мне не скажете, а лучше всего, если
и сами с ним в душе полно и совершенно помиритесь». В. В. Розанов. Сочинения.
Письма к П. П. Перцову. М. 1990. С. 495-496
170«Наша литература так бедна истинно интеллигентными книгами...»
нельзя — я уже был ранее ознакомлен по книге А. Волынского «Русские
критики»62. В этой книге автор подступал с ножом к горлу русских
критиков, требуя от них во что бы то ни стало перемены русского паспорта
на еврейский. Или, менее картинно выражаясь, требуя, чтобы они
перестали быть здравыми, жизненными, конкретными русскими умами, а
обратились в отвлеченно-риторических писателей семитского племени. За
такое литературное «обрезание» он обещал им все блага: мировую душу,
Будду, Веданту, и еще какие-то иные внушительные сокровища.
Разумеется, и это требование и это обещание были курьезны, но зловредности
особенной в них не заключалось, так как никому, конечно, и в голову не
могло прийти — ни исполнить желание г. Волынского, ни
воспользоваться его обещанием... Неприятно, конечно, и досадно, когда человек лезет
к вам с нелепыми претензиями и с ненужными дарами и лезет притом с не
совсем чистоплотными приемами, прямо хватая вас за горло своими
цепкими и немного сальными пальцами, не обращая никакого внимания на
все ваши открещивания от него.... Но что же делать? В литературе, как
и в жизни, приходится терпеть всякие вещи. Но, кажется мне, всему есть
известный предел, и есть предел даже литературному нахальству и
литературной назойливости. Предел этот и должен быть г. Волынскому указан.
Желать, чтобы русские писатели превратились в гг. Волынских — можно;
можно и предлагать им за это все блага декадентского само упоения,
самозабвения и само смакования всяких литературных посредственностей;
но рассказывать, публично рассказывать, что даровитые русские писатели
суть гг. Волынские, суть литературные посредственности — это, мне
кажется, уже чересчур сильно. А между тем, все три статьи г. Волынского
о Лескове, напечатанные в «Северном Вестнике», представляют из себя
не что иное, как, именно, такой разговор о подлинном и интимном
родстве Лескова с г. Волынским. Ясно, что одного желания, чтобы русские
писатели сделались гг. Волынскими, нашему критику стало
недостаточно, и он захотел большего, и уже без малейшей краски стыда на своем
литературном лице, взял да и навязал, просто-напросто, свою натуришку
первому встречному значительному русскому писателю с «русскою
душой», объявив, что этот значительный русский писатель не кто иной, как
62 Волынский Аким. Русские критики. СПб. 1896/ По поводу такого отзыва
Ф. Шперка на книгу А. Волынского Розанов писал: «... он лично знал Волынского,
бывал у него и кончил тем, что в отзыве о книге его «Русские критики» грубо
осмеял, что "этот жид от всех русских писателей и публицистов требовал жидовского
паспорта, и у кого не находил такового, того предавал казни в своей нелепой книге".
< > Но при всех этих диких, страстных и, мне кажется, безнравственных
выходках, личная обаятельность этого молчаливого, застенчивого и вечно погруженного
в думы юноши была так велика, что я чувствовал в себе точно паралич при порывах
на него рассердиться». Из старых писем. Письма Влад. Серг. Соловьева. / / Золотое
руно. 1907. №2-3. С. 56.
Литературно-критические статьи Ф. Шперка 171
родственник г. Волынского по духу и, следовательно, сам г. Волынский не
кто иной, как весьма значительный русский писатель...
Если теперь оставить этого литературного господина, он свою
мистификацию, основанную на семитской навязчивости своим «я»,
продолжит и станет также уверять русскую публику, что не только Лесков,
но и Толстой, и Тургенев, и Гоголь, и Лермонтов, и Пушкин — одни
вариации его, Волынского, идеалистически-декадентской души. И при
добродушной доверчивости многих «благополучных россиян», всегда
довольно беспечных относительно родного искусства, он кое-что в этом
направлении и успеет: войдет если не в ближайшее, то, по крайней мере,
отдаленное родство с этими корифеями, а таким путем, и сам немножко
«окорифеется»...
В самом деле, возьмите Лескова, этого крепкого, грубого,
чувственного художника бытовых сторон русской жизни, во всей их красочной
яркости и жизненной конкретности, и сопоставьте с его литературною
личностью, с образами и типами, им созданными, следующие признания
и эпитеты г. Волынского, которые с непостижимым апломбом выдаются
не за собственные черты критика, а за характеристику действительного,
исторически-действительного Лескова: «Скрытые силы — говорит г.
Волынский об одном из героев Лескова, — бродят в нем тихо и незримо,
чтобы вдруг разрешиться очистительною грозою. Настанет момент, когда
фантазия оденется в плоть и кровь и, ничего не теряя в своей
бесплотности, пройдет перед людьми живым и говорящим видением, как высшая
мировая правда, как само божество в своем праздничном торжественном
воплощении, как символ воинствующей, но нежной правды».
Стоит ли разъяснять, что у Лескова нет, да и быть не может таких
«плотски-бесплотных символов воинствующей, но нежной правды».
Цепляясь далее за найденное им у Лескова слово: тишина, г. Волынский прямо,
без разговоров, навязывает Лескову свою собственную душевную тишину,
немножко декадентскую, немножко риторическую, немножко суетливую
и даже как будто немножко лицемерную, но зато открывающую в себе
«высшую мудрость, которая не шумит, а нежно чарует разум, которая не
разливает никакого пафоса, а прохладно навевает смиренный экстаз перед
блаженною вечностью». От этой декадентской «прохлады и тишины» нет,
положительно, проходу в сочинениях Лескова, перефантазированного г.
Волынским на декадентский лад. Так, например, «фантазия» одного
действующего лица в небольшом рассказе Лескова «Томление духа» — «прямо
сливается с правдой, ибо при нежной и тонкой оболочке, душа его, в
торжественный момент бунта, разливает вокруг себя тихую ласковую прохладу».
В другом произведении Лесков «незаметно разливает вокруг
успокоительную тень». В третьем — «проявления человеческой души
выступают на фоне величавой таинственной тишины». Вот произведение,
которое «все построено на самой нежной восхитительной мудрости», а вот
172<fHaiua литература так бедна истинно интеллигентными книгами...»
и молодая красавица, которая «успокаивается в глубокой,
многозначительной тишине»... Этих «окутывает светлая, прозрачная тишина»; этот
«плачет слезами, тихими как душа»... и т.д. в том же утомительно
однообразном чередовании одних и тех же декадентских звуков,
заимствованных, конечно, не у русского Лескова, а в лексиконе фальсифицированного
буддизма...
Навязывать этот «фальсифицированный буддизм» с его «тихою
прохладой», «прозрачною тишиной», смиренным экстазом», и всем
декадентски-символистическим удушьем и всею затхлостью оскуделого и в
полный рамолисмент впавшего сердца, — навязывать его здоровому,
жизненному, сильному и энергичному русскому писателю есть просто
акт литературной мистификации, литературного оболгания, могущий
быть объясненным только чрезвычайною навязчивостью своим «я»,
которое у иных людей, действительно, принимает чудовищные,
феноменальные размеры...
P.S. Два слова pro domo sua63. Когда вы говорите: не надо бесплодно
тратить свои умственные силы, мне кажется, вы говорите не против ума,
а во имя ума; вы хотите, чтобы умом пользовались правильно,
закономерно, целесообразно. Или, когда вы говорите: не надо писать плохих книг,
мне кажется, вы говорите не против книги, а во имя книги; вы хотите,
чтобы писались хорошие книги; или, когда вы говорите: не надо
схоластической науки, не надо софизмов в философии, мне кажется: вы говорите
не против науки и философии, а во имя их.
Так кажется мне, но иные люди думают иначе.
И к этим "иным", кажется, следует причислить г. Вл. Соловьева. По
крайней мере, это невольно заключаешь из недавней его заметки в "Руси"64,
направленной против людей, которые говорят: зачем оправдывать добро?
"Такие рассуждения ненужны, а заниматься ненужным, значит
отвлекаться и других отвлекать от нужного, — и это уже дело не только лишнее, но
и положительно вредное".
Г. Вл. Соловьев живописует этих людей самыми мрачными красками.
Эпитеты: "обскурантизм", "духовная немощь", "умственная лень",
"испорченное сердце", "лживый ум" так и сыпятся на их головы!..
Очевидно, г. Вл. Соловьев полагает, что, раз люди восстают против "ненужных
рассуждений", — они этим самым восстают против рассуждений вообще.
И он заблуждается.
Если бы люди эти восставали против рассуждения вообще, т.е. были
"умственными лентяями" и "обскурантами", они не стали бы восставать
против ненужных рассуждений, они преспокойно бы дозволяли расти
63 По личному вопросу; в защиту себя и своих дел (лат.)
64 Соловьев B.C. Воскресные письма // Русь. 1897. 2 марта. № 43. С. 3.
Литературно-критические статьи Ф. Шперка 173
и множиться всякой лжи, всяческой бесполезности и всяческому
вреду.... Если же они борются против ненужного и бесполезного в литературе
и науке, если, например, они говорят: не нужно тратить умственные силы
на доказательство аксиом, которые сами собой очевидны, или если они
говорят: не нужно посредством всяких умствований оправдывать то, что
оправдано в самой своей природе, то делают они это, очевидно, только из
любви к человеческой мысли и из уважения к ней...
А любовь и уважение человеческой мысли, по самому простому
закону логики, не может совмещаться с обскурантизмом, который означает
любовь к невежеству...
30
Памяти Майкова65.
В прежние добрые и серьезные времена выдающиеся люди имели два
значительных удобства: они могли жить в обстановке,
приличествующей их величию, и они могли умирать так, как великим людям умирать
подобает: тихо, спокойно, многозначительно и просто. Теперь этих два
существенных удобства, удобство жизни и удобство смерти, исчезают.
Выдающимся талантам уже не дают быть выдающимися людьми.
Только какой-нибудь замечательный талант появится — сейчас
начинается уличное ухаживание за ним; и смотришь: значительный талант,
не созревая, не развиваясь в значительного человека, сходит на улицу
и остается там... для пополнения рядов уличной аристократии...
Вот почему талантливые писатели у нас есть, но писатели серьезные,
мудрые по характеру, простые в лучшем, наиболее высоком смысле —
отсутствуют. Их — хоть с огнем ищи.... Праздник на улице, а дома —
безлюдье — вот девиз нашего времени... девиз, который едва ли будет отрицать
искренний и честный современник.
Мысли эти полны горечи и пессимизма и, однако, их невольно думаешь,
когда сходит со сцены человек старого поколения, сумевший и в наши дни
отстоять в полной мере свою человеческую самостоятельность и личное
достоинство. Как же, спрашивается, достиг он этого? Какие условия
помогли ему остаться незапятнанным, не оплеванным уличной чернью и в
то же время не смешаться, не слиться с уличной аристократией?
Ответ — неотделимый от определения самой сущности, самой
индивидуальности этого человека старого поколения и выдающегося поэта.
Возьмите стихотворения Майкова. Что поражает вас в них прежде
всего? Не то ли, что автор облечен в какую-то непроницаемую
поэтическую броню, — броню, которая защищает его ото всяких поползновений
65 Впервые напечатано в газете: "Новое Время". 1897. 9 апреля. № 7585.
Подп.: Апокрифъ.
174«Наша литература так бедна истинно интеллигентными книгами...»
читателя проникнуть в область его интимного мира? К Майкову можно
подойти только на некоторое приличное расстояние. Интимной близости
он не допускает. Это особенность его и его сила...
Счастлив, кто обладает такою броней. Он — неуязвим. С ним,
действительно, фамильярничание невозможно. И это, несомненно,
чувствовала литературная чернь. Она всегда почтительно относилась к Майкову,
и даже смерть его не вызвала обычной похоронной вакханалии —
риторической фразеологии и паясничанья, а пришла в малообычном для наших
литературных нравов порядке и скромности.
Это невольно заставляет углубиться в характеристику "поэтической
брони" Майкова. В чем заключается она?
Нам думается: в необычайно развитом чувстве формы или, что одно
и то же — в присущей Майкову в чрезвычайной степени способности
самоограничения. Форма представляет всегда некоторые грани, пределы
содержания; а потому тот, кто обладает чувством формы, обладает в то же
время и способностью ограничивать содержание своего духа. И этой
способностью как раз и обладал Майков. Продуктивное, созидательное
чувство меры отличало его творчество. Это вовсе не означает, что он не касался
вечных, бесконечных и неопределенных сюжетов; напротив, чувство меры
и способность ограничения и могут рельефно обозначиться только тогда,
когда приходится ограничивать и умерять то, что не знает меры, не знает
границ... Содержание произведений Майкова почти всецело сосредоточено
на "вечных вопросах" и "бесконечных думах". Возьмите его "Три смерти",
"Два мира", "Аполлодора Гностика" и "Excelsior", где даются определения
эстетических истин и художественного откровения и создания...
«Святыня» — одно из самых частых и характерных слов майковской
музы; но дух этой музы, тяготевшей к святыне и вечным идеалам, не
стихийный, не неопределенный дух — это вполне ограниченная, умеренная,
оформленная и дисциплинированная личность. В том и состоит
глубочайшая особенность Майкова.
Ограничить свое первобытное, стихийное чувство, ввести его в
определенные рамки, в некоторый поэтический «уклад» — вот что умел Майков
и умел от природы. Тут источник удивительной поэтической «формы» его.
Форма Майкова — дух Майкова.
С этой точки зрения обнимается вся его поэтическая деятельность.
Вы поймете теперь и то, почему он так любил эллинский мир с его
пластичностью и писал свои пьесы в «антологическом роде» и «подражание
древним». Ему
Рано старых мастеров,
Поэтов Греции и Рима
Далось почуять красоты66.
66 Цитата из стихотворения А. Майкова «Я. П. Полонскому».
Литературно-критические статьи Ф. Шперка 175
Поймете вы и то, почему лучшие и наиболее прославившие
Майкова вещи суть: «Три смерти» и «Два мира». В них ему удалось наиболее
ясно и точно определить, формулировать, — именно «формулировать», —
вечные вопросы и вечные чувства. Эти два произведения положительно
шедевры поэтической формулировки некоторых «вечных истин» и, среди
них, «истины христианства». Нет ничего странного в том, что оба
приурочены к Риму, связаны с его именем.
Рим все собой объединил,
Как в человеке разум; миру
Законы дал и мир скрепил67.
«Три смерти» и «Два мира» имеют чисто римский характер, но, в то
же время, и чисто майковский, так как Майков по своему поэтическому
темпераменту — вылитый римлянин; он точно так же в своем сердце «все
объединил и все скрепил», как Рим и как «в человеке разум».
По способности поэтически-рассудочной формулировки лирического
чувства — это единственный, никем не превзойденный, неподражаемый
поэт.
С указываемой точки зрения вы поймете и то, почему Майков так
любил исторические сюжеты и столько сил посвятил «странам и народам»,
«векам и народам», «отзывам истории» и т.д. В истории дух
человеческий окаменевает, остывает, приобретает твердую, законченную
оболочку. И эту-то оболочку, форму и любил Майков. Не обладая особенным
чутьем колорита отдельных исторических эпох, он был чрезвычайно
близок к истории вообще: сущность ее была родственна его все
оформляющему духу. Недаром в одной из лучших пьес своих «Суд предков»
он изображает молодого князя, восстановляющего свою связь с
историей:
Мысль неслась
Туда, в ту глубину времен,
Что вдруг раскрылась перед ним —
Уже не мертвой пустотой,
А чем-то цельным и живым —
Какой-то силой роковой,
Которой все уже давно,
Что нас волнует и крушит,
Разрешено, умирено68.
67 Цитата из стихотворения А. Майкова «Два мира».
60 Ср. также пьесу: «Князю Друцкому-Любецкому», в которой читаем, между
прочим, слова: «Я с предками теперь, пред целым миром, возобновляю прерванную
связь». (Прим. Ф.Э. Шперка).
176«Наша литература так бедна истинно интеллигентными книгами...*
Слова Майкова, обращенные им по адресу Тютчева, с некоторым
изменением, применимы и самому автору. Майкову можно сказать были дороги
и милы
Народы, племена, их гений, их судьбы,
Как вдруг застывшие в разбеге бурном волны,
Как в самый жаркий миг отчаянной борьбы
Окаменевшие атлеты...69
Недаром и в «отзывах жизни» Майкова веет тот же дух, что и в его
«отзывах истории», и в пьесе из «Отзывов жизни», названной «Дух века»,
«дух» говорит юноше следующие «историкофильские» слова:
Вам не за чем гоняться;
Вам стоит только наслаждаться
Тем, что вам создали века!
История, как «окаменевший атлет», как «застывшие волны» была
ближе, понятнее Майкову, нежели «борющиеся атлеты», нежели «бегущие
волны» преходящей действительности...
Вот почему, между прочим, так неудачны переводы Майкова из Гейне,
этого гибкого, скользящего, гениально-игривого поэта любви. Грациозное
движение гейневской поэзии чувства он превратил в поэтический застой
своей важной, диктаторской музы.
Вот почему нет также полной искренности и простоты в его
«Неаполитанском альбоме», в котором он несколько подражал стилю Гейне. Но зато
как понятны достоинства его «официальной» поэзии, достоинства пьес,
написанных на всякие торжественные случаи и собранных поэтом в
отделах «Отзывы истории» и «Юбилей». Некоторые сомневаются в
искренности стихотворений в силу того, что такая «официальная» поэзия бывает
фальшива. Но нет. Майков был тут особенно искренен и прост. Он
действительно любил известные обычаи, установление жизни, кажущиеся
людям, оторванным от истории и традиции, низменными и буржуазными.
Иногда эта официальность поэзии Майкова нарушается; живые
душевные движения предъявляют свои права, разбивают лед поэтической формы;
но это бывает очень редко, является только в виде исключения, зато же
и производят всегда особенное впечатление. Возьмите, например, его
«Новогреческие песни», среди которых встречаешь вещи, в высокой степени
трогательные, тревожные и живые (вспомним только пьесу «Мать и дети»).
Тут обнаруживается тот странный закон, согласно которому лучшими
произведениями художника бывают не только те, что наиболее точно
отвечают индивидуальной особенности этого художника, но и те, которые
являются наиболее яркими отступлениями от этой индивидуальности, так
сказать, «исключениями» в области творческого процесса.
Цитата из стихотворения А. Майкова «Ф.И. Тютчеву».
Литературно-критические статьи Ф. Шперка 177
31
Литературные заметки70.
Странные вещи происходят по временам в нашей журналистике. В
январе месяце исполнилось 60-летие со дня смерти поэта Александра
Сергеевича Пушкина и 10-летие со дня смерти стихотворца Семена Яковлевича
Надсона. И вот, журналистика наша не нашла ничего лучшего, как
отпраздновать эти памятные сроки обнародованием достаточно развязных
фальсификаций. О фальсификациях Пушкина читатель знает из
фельетонов В. П. Буренина. О фальсификации Надсона он может кое-что узнать из
настоящего дневника. Прежде всего мы обязаны означенной
фальсификации г. М. Меньшикову71, публицисту «Недели». По характеру своему эта
фальсификация прямо-таки противоположна фальсификациям «Русалки»
и «Бессарабского Пушкина» г-жи Елизаветы Францевой72. Суть
последних, если читатель помнит, состоит в том, что великий и истинный поэт
превращается в пошлого и безграмотного стихотворца. Суть
фальсификации г. Меньшикова, произведенной им в статьях, посвященных Надсону
в текущих книжках «Недели», как раз обратная. Стихотворец, не
лишенный эффектного дарования, но поэт, в корне лишенный искренности, под
пером публициста-критика превращается в подлиннейшего из русских
поэтов, в самого чистого и «едва ли не единственного у нас поэта вполне
целомудренного», поэта в самых существенных вещах далеко
оставляющего за собой и Пушкина, и Лермонтова. Вы видите: фальсификация
в некотором роде на изнанку; по самой своей природе немножко
«фальсифицированный поэт» возводится в настоящего, истинного,
подлинного поэта par excellence73, и это делается с тою же смелостью, легкостью
и откровенностью, с какой истинный и несомненный и гениальный поэт
низводится до степени грубого и пошлого куплетиста.
Вот, например, что пишет г. Меньшиков в своей статье: «Надсон — поэт
любви, не той любви, которую спокон века изображают поэты и поэтессы
70 Впервые напечатано в газете: «Новое Время». 1897. 16 апреля. № 7590.
Подп.: Апокрифъ.
71 Меньшиков М.О. (1859-1918), литературный критик и публицист газеты
«Неделя», с 1901г. — работал в «Новом Времени». Был близким другом С.Я.
Надсона.
72 Францева Е. A.C. Пушкин в Бессарабии // Русское Обозрение. 1897.
Публикация представляет откровенно лживые воспоминания об A.C. Пушкине
периода южной ссылки. Больше всего известна история о том, как в Бессарабии
цыганка якобы нагадала Пушкину, что он женится на женщине, которая «и сапога
его не стоит», и погибнет на дуэли, причем именно зимой. Правда, сам Пушкин
об этом никогда не рассказывал. Впервые о предсказании было упомянуто в
опубликованных через 46 лет после описываемых событий воспоминаниях Елизаветы
Францевой, которая якобы слышала о нем от отца, служившего вместе с
Пушкиным в канцелярии кишиневского губернатора.
73 Здесь: образец (фр.)
178«Наша литература так бедна истинно интеллигентными книгами...»
всех стран и времен, он — поэт исключительно духовной любви, он — поэт
«той общей великой жалости, которая охватит некогда весь род людской и в
пламени сострадания сожжет все зло мира». «У Надсона любовь
исключительно духовная. Чистейший эстетик, он платонизировал физиологический
инстинкт до нравственности. Одно из самых чудных его стихотворений дает
психологию любви, достойную бесплотных духов» (!). «Надсон едва ли не
единственный у нас поэт вполне целомудренный». Он бесконечно далеко
ушел по своей поэтической «неиспорченности» («удивительной
неиспорченностью дышит его книга») от таких поэтов, как Пушкин и Лермонтов,
которых «многие любовные послания, восторги, описания дышат пошлым
волокитством и нескрываемой похотью» и т.д. в том же духе.
Читаешь это и думаешь: верит г. Меньшиков в то, что он пишет, или не
верит? Действительно принимает он эффектные слова Надсона за чистую
монету или только выдает их за таковую?
И как-то невольно начинаешь рисовать себе образ «действительного»
Надсона и представлять себе его действительную роль в литературе нашей.
Чем характерен этот поэт? В чем его особенность? Где источник
популярности, которой он пользуется? Прочтите внимательно, а главное —
просто, искренно — том его стихотворений. Это чтение вам сразу
открывает глаза на центр этой поэзии. Надсон — поэт душевных позировок. Он
постоянно позирует перед самим собой, и все его лирические пьесы —
только опоэтизированные «позы» его душевной жизни. Вот почему все
у него так красиво, эффектно, стройно, и вот почему так ясна, понятна,
точна и симметрична его поэзия. Анализировать свою душу трудно: в ней
свет смешивается с тьмою, сознательное с бессознательным, и все
действительные и глубокие аналитики сердца — всегда таинственны,
трудны и загадочны для массы. Изображать же не действительное душевное
настроение, всегда смутное, едва уловимое, а искусственную душевную
«позу» — гораздо легче. Тут возможна точность и стройность рисунка
почти математическая, а потом и значительная понятность, так сказать,
поэтическая «популярность изложения». Поэзия Надсона и есть подобная
популярно написанная книга стихотворений.
В его стихотворениях есть скорее то, что встречается обыкновенно
в так называемых «дневниках». Недаром Надсон и сам вел дневник и
любил это слово выставлять заголовком своих лирических пьес.
В «дневниках» вы знакомитесь всего чаще не с действительными
чувствами и настроениями, ибо кто, испытывая известное настроение, сядет
за стол и станет записывать его? А вы узнаете тут взгляды автора на
самого себя, его душевную самооценку, знакомитесь с различными
«позами», которые принимаете за индивидуальное самосознание. Быть может,
«дневники» и суть попытка субъективной литературы, но обычно это —
искусственные, ложные попытки. И такой искусственный, фальшиво-
субъективный поэт и есть Надсон.
Литературно-критические статьи Ф. Шперка 179
Присмотритесь хотя бы только к чисто-внешней терминологии его
стихотворений и вы уже поймете справедливость взгляда на Надсона как на
поэта «душевной позировки». Он постоянно сравнивает себя с кем-нибудь,
постоянно вспоминает каких-нибудь эффектных героев, с которыми ему
необходимо посчитаться, беспрестанно описывает внешнее положение,
внешнюю позу, в которой обнаруживается, которой характеризуется его
душевное состояние. Последнее чрезвычайно занимательно. Ни у одного русского
лирического поэта не встретите вы такого богатства описаний внешних
признаков и внешней обстановки душевных настроений; очевидно, поэт не
только изливал свое психическое состояние, но и приглядывался к себе, как это
и делают авторы всяких «дневников». На каждой странице его стихотворной
книги вы натыкаетесь на «иллюстрации» субъективного чувства:
Бесстрашно я стою под вьюгой и грозой, —
Я замер весь в тоске угрюмого решенья74,
или
или
или
или же
Мы были молоды, — и я , и мысль моя...
Она являлась мне бестрепетною жрицей
Желанной истины, — и шел за нею я,
Как верный паж идет за гордою царицей...
Долой с чела венец лавровый, —
Сорви и брось его к ногам:
Терн обагренный, терн суровый
Один идет к твоим чертам!..76
Из сада музыка в вечерней тишине
Далеко слышалась.... Под такт ее ступая
Я тихо шел, мой стих задумчиво слагая,
Я шел, а сердце плакало во мне77.
Под звуки музыки, струившейся волною,
Один среди толпы, пестреющей кругом,
Я вдруг задумался, поникнув головою,
Задумался, — Бог ведает о чем...78 и т.д.
75
74 Цитата из стихотворения С. Надсона «Мне снился вещий сон: как будто
ночью темной...».
75 Цитата из стихотворения С. Надсона «Мы были молоды — и я, и мысль
моя...».
76 Цитата из стихотворения С. Надсона «Музе».
77 Цитата из стихотворения С. Надсона «Письмо».
78 Цитата из стихотворения С. Надсона «Под звуки музыки, струившейся
волною...».
180«Наша литература так бедна истинно интеллигентными книгами..л
Надсон всегда хорошо сознавал, что идет и что не идет к его чертам,
всегда чувствовал, как стоит он под вьюгой и грозой: бесстрашно или не
бесстрашно; всегда знал, как слагает свои стихи: задумчиво или не
задумчиво и проч. А это и не давало ему быть настоящим, искренним поэтом,
но позволяло свободно стать лириком эффектных душевных позировок....
Таким лириком Надсон несомненно и был. Вот почему, между прочим, он
лучше воспевает искусственную природу, нежели естественную, а
естественную воспевает искусственно. И в природе он видел только эффектное,
только позы, и, конечно, искусственная природа, поэзия
В киосках, клумбах и фонтанах
Поблекших городских садов79
давала ему больше материала, нежели природа естественная.
Г. Меньшиков говорит о христианских чувствах в поэзии Надсона.
Да, их в его пьесах много, и самого Христа он любил воспевать. Но кто
приглядится к этой категории его стихотворений, увидит, что и Христа,
и христианское чувство он воспевал — только как чрезвычайно
эффектный и в этом отношении для него чрезвычайно благодарный сюжет.
Простой и жизненный смысл христианства не затрагивался им. С не меньшим
энтузиазмом воспевал он Герострата, который, в другом смысле, конечно,
но тоже в известном отношении представляет очень эффектное лицо...
Эффектничанье христианством принимать за само христианство
значит не чувствовать истины последнего, которое безусловно просто и
абсолютно безыскусственно. И нет никакого сомнения в том, что г. Меньшиков
этой простой и безыскусственной истины не чувствует; иначе он сумел бы
отличить золото евангельских чувств от блестящих, но поддельно золотых
излияний надсоновской музы...
32
Из литературного дневника80.
В наши дни, когда рушатся реальные грани, отделявшие русскую
литературу от западноевропейской, небесполезно, мне кажется, установить
между двумя этими литературами некоторые идеальные, умственные
грани, установить различие их типа. Конечно, это различие стоит
устанавливать и определять только в том случае, когда оно на самом деле
существует, когда нам не приходится, установляя его, предварительно его
сочинить, выдумать. Мне думается, такого двойного дела нам не предстоит.
Различие между русской литературой и западноевропейской существует
79 Цитата из стихотворения С. Надсона «Дитя столицы, с юных дней...».
80 Впервые напечатано в газете: «Новое время». 1897. 23 апреля. № 7597.
Подп.: Апокрифъ.
Литературно-критические статьи Ф. Шперка 181
в действительности и пренебрегать им нельзя, в особенности теперь,
когда начинает происходить беспрепятственный обмен между ними.
Мы должны знать, что отдаем и берем, что имеем и что заимствуем.
В деле обмена самосознание необходимо....
Бросим же общий взгляд на характер обеих литератур и постараемся
определить то, чем они отличаются друг от друга.
Всякая духовная деятельность есть ничто иное, как искание Бога, как
своего рода молитва. Чем эта деятельность ближе к Богу, тем она
возвышеннее, чем отдаленнее от него, тем низменнее. Но всегда нечто
божеское лежит в идеале духовного творчества. Дух может стремиться только
к Богу; Бог есть центр, к которому направлено всемирное, т.е. всеобщее
тяготение духа. И литература, как духовная деятельность, подлежит тому
же закону «всемирного духовного тяготения». С этой общей точки
зрения и сравним обе литературы: русскую и западноевропейскую. Возьмем
русского художника и сопоставим его с художником западноевропейским
и присмотримся хорошенько к тому, как они выражают и понимают
божеское. Различие — несомненное! Различие — коренное! Для
западноевропейского гения (возьмите Гете, Данте, Шекспира) существует только
отвлеченное, идейное, сверхчувственное Божество; он мыслитель Бога
и творчество его поэтому абстрактное, философское. Для русского гения
Бог, — прежде всего воплотившийся Бог — Христос. И поэтому русский
гений есть по преимуществу — художник. Христианский стиль и
отличает русскую литературу от литературы западноевропейской, которая
имеет скорее ветхозаветный стиль отвлеченного содержания Божества,
еще не сошедшего в самую среду людей. Для западноевропейского гения
Божество — только дух, только идея, и он по преимуществу — мыслитель,
идеолог...
Русская литература, как художественная, призвана несомненно ох-
ристианизировать европейскую литературу. Западноевропейский дух уже
почувствовал влечение и томление по истинному христианству и
инстинктивно потянулся к нашим художникам. Вот тайный источник влияния
Достоевского и Толстого на Западе. Но такое влияние со временем будут
иметь и наши поэты Пушкин, Тютчев, Лермонтов, когда европейцы
познакомятся с их произведениями в подлиннике, ибо переводы поэтических
произведений наших не могут дать главного — передачи христианского
стиля наших поэтов. Переведите на немецкий или французский язык:
«Отцы пустынники и жены непорочны»81, или лермонтовское:
Я, Матерь Божия, ныне с молитвою
Пред Твоим образом, ярким сиянием,
Не о спасении, не перед битвою,
Не с благодарностью иль покаянием,
81 Стихотворение A.C. Пушкина.
182«Наша литература так бедна истинно интеллигентными книгами...»
Не за свою молю душу пустынную,
За душу странника в свете безродного;
Но я вручить хочу деву невинную
Теплой заступнице мира холодного.
Разве это может быть переведено? Разве это христианское чувство,
выраженное так безусловно, так идеально верно, так истинно
бесподобно — допускает перевод? Конечно, нет. И не может быть никакого
сомнения, что те, кто стремятся уразуметь дух христианский в полноте его
истины, не могут быть равнодушны к тому языку, который наиболее
художественно выражает его.
Определив, таким образом, отличие русской художественной
литературы от западноевропейской, мы невольно останавливаемся и спрашиваем
себя: ну, а наука? Неужели, имея свою особую, коренным образом
отличающуюся от западной литературы художественную словесность, мы должны
в области знания примкнуть к западноевропейской науке? Неужели в
сфере науки дух наш — дух, создавший христианский язык и христианскую
литературу, ничего не создаст, а все примет извне? Если присмотреться
несколько ближе, пристальнее к науке Запада, то вот что нам скажет этот
внимательный, пристальный взгляд: западноевропейская наука есть только
известный культурно-исторический тип науки. Им наука не исчерпывается
и не определяется еще. На создание этого "типа" потрачены, конечно,
великие и самобытные силы. Но как они не значительны и не широки, полноты
человеческого духа они в себе не воплощают. И человечество имеет полную
возможность обнаружить еще другие, отличные силы, создать или другой,
отличный, быть может, более современный тип науки.
Тип западноевропейский вполне выяснился и главные признаки его
достаточно ясны. Наука Запада состоит вся из собрания "законов",
т.е. понимания отношений, существующих между реальными и
духовными фактами. "Законы природы", "законы души", "законы истории" — вот
содержание и определение западноевропейского знания... Человек
выносит из своей души три вопроса: откуда все идет, как все совершается и к
чему все стремится? Западноевропейская наука заинтересовалась
разрешением исключительно второго вопроса. И в этом направлении сделала
все, что было в ее силах, и конечно же, и еще кое-что сделает.
Первый и последний вопрос отбрасывался ею: первопричины и
конечные цели она не ввела в себя, всецело уступив их метафизикам, которых
опять мало интересовал занимавший ее средний вопрос. Но отдать эти
вопросы метафизикам значило бросить их на произвол судьбы.... Еще не
так давно Дюбуа-Реймон82 «произвел большой шум в мире германских
82 Дюбуа-Реймон Эмиль Генрих (1818-1896), немецкий физиолог. В 1880 г.
выступил в Берлинской академии наук с лекцией «О границах познания природы»,
Литературно-критические статьи Ф. Шперка 183
натуралистов», провозгласив свое ignorabimus (не узнаем), т.е. заявив,
что между задачами естествознания есть некоторые вполне и навсегда
неразрешимые. Он сделал вопрос о таких задачах предметом своих
прилежных размышлений, и в 1880 г. в торжественном заседании Берлинской
академии наук, наконец, насчитал и подготовил семь мировых загадок, не
поддающихся никаким нашим усилиям. Эти загадки: 1) сущность
вещества и силы 2) Происхождение движения. ЗШроисхождение жизни 4)
Целесообразность природы 5) Происхождение ощущений 6) Происхождение
разума и языка 7) Свобода воли83.
Возникновение этих загадок и общего их символа: ignorabimus —
вполне очевидно. Западноевропейский ум вырвал из сердца человеческого один
вопрос „как", органически сросшийся с вопросами „откуда" и „к чему"
и посвятил ему все свое внимание. Этот вопрос он и разработал в
известных размерах, но главного, существенного он не добился, и не мог добиться
и тут: сущности этого „как", сущности того, как все существует, потому что
существования неотделим от причины и цели существования. Если какое-
нибудь явление существует, движется, живет, то оно существует,
движется, живет, конечно, в силу заложенного в него закона: этот закон движет
и животворит его. Но такой движущий закон вытекает из причины
явления и отражает цель его. Это конкретный, творческий закон явления, а не
отвлеченный идейный „закон" западной науки. Последняя указала только
формальные, только отвлеченные законы известных отношений в природе,
душе и истории, — законы, определенные от самой материи, от самого
существа природы, души и истории. Истинных, материальных законов, или
употребляя настоящее характеристическое здесь слово — творческих
законов, которые слиты с самой сущностью разбираемых явлений, которые
производят их, а не только формулируют, она не поняла. И в этом вся суть.
Ибо что дают нам отвлеченные законы? Разве дают они нам действительное
объяснение души, природы и истории, когда они не имеют ничего общего
с материей души, материей природы, с материей истории? А материя души
и материя природы и производят все душевные и естественные явления...
Великий грех западноевропейской науки в том, что она обособилась
от религии, которая открывает нам, откуда все идет, т.е. первопричину
явлений, или первоначальный „творческий" закон, и к чему, к какой цели
все направляется. Если бы она не обособила свой вопрос: „как все
существует", а органически соединила бы его с откровениями христианской
религии, на вопросы „откуда" и „к чему" она бы могла выработать цельное,
неразрывное мировоззрение.
в которой выдвинул тезис о том, что часть явлений природы в принципе является
непознаваемой.
83 Цитирую здесь по статье H.H. Страхова «Ход и характер современного
естествознания» из 3-й книжки его «Борьбы с Западом в нашей литературе». СПб.
1896. С. 99. (Прим. Ф.Э. Шперка).
184«Наша литература так бедна истинно интеллигентными книгами...»
На природу, на душу, на историю надо смотреть со
„сверхъестественной" а не с „естественной" точки зрения, так как происхождение человека
не естественное, а сверхъестественное, таинственное, чудесное.
Западноевропейский ум, отрешившись от религии в своих исканиях, создал
„естественную" науку. Он этим очень гордится. Ну и пусть себе гордится; нас
это не должно ослеплять. Мы должны верить и знать, что только
„сверхъестественная", т.е. мистическая по своему внутреннему характеру наука
есть наука истинная, — такая наука, которая действительно объясняет
мир в его цельности, полноте и сущности, в причине, законе и цели его
существования. Естественная наука со своим ignorabimus спереди, т.е. в
области цели, и со своим ignorabimus позади, в области причины, есть
обрывок знания, и как обрывок, нечто несостоятельное...
Нужно выработать „цельное знание", а таким будет только то знание,
которое вырастает из мистического зерна христианского мировоззрения. И мы
надеемся, что русский народ, владеющий этим сокровищем, этим
единственным драгоценным даром в современной истории, этой жемчужиной
человеческого духа — и вырастит из себя это „цельное знание", эту
действительную истинную науку, — объясняющую не отношения различных „иксов"
и „игнорабимусов", а силу и материю духа и природы, которые, как
творческие явления, открываются только из творческого и потому мистического
начала вещей — и рядом со своей мистически — художественной литературой
выставить и мистически-художественную науку. В человеческом творчестве
есть известное единство и народ, выработавший известного типа
литературу, может вполне рассчитывать на выработку аналогичной по духу науки,
так как одной литературой духовное творчество не исчерпывается, и на
Западе мы видим рядом с своеобразным творчеством и своеобразное знание.
Вот почему мы и думаем, что „своеобразное знание" будет дано и нам.
33
Из литературного дневника84.
По поводу моего прошедшего дневника, где я характеризовал русскую
литературу «христианского стиля» и в качестве представителя этого
«христианского стиля» выставлял, между прочим, Пушкина, Лермонтова и Тютчева, мне
пришлось от многих читателей услышать слова явного недоумения и
непонимания: «В Тютчеве вы, еще куда ни шло, можете видеть поэта «христианского
стиля». Но скажите пожалуйста, где и в чем кроется христианский дух
Пушкина и Лермонтова? Несколько стихотворений тут ничего не говорят. Поэт
должен весь быть проникнут этим духом, только в таком случае он может быть
назван «христианским», в отличие от поэтов «языческих» и «семитических».
84 Впервые напечатано в газете: «Новое время». 1897. 30 апреля. № 7604.
Подп.: Апокрифъ.
Литературно-критические статьи Ф. Шперка 185
Признаюсь, мне бы очень хотелось разделять это недоразумение моих
читателей относительно «христианства» наших великих поэтов...
60-летие, которое в настоящем году исполнилось со дня смерти Пушкина,
являет, мне кажется, достаточный повод, чтобы наконец приложить к нему эту
великую из мерок, этот высший критерий правды и посмотреть —
отвечает он им или нет. Уяснив себе «христианский дух» величайшего из наших
поэтов, уже не трудно будет найти этот дух и в тех, кто ему следовал.
Итак, постараемся взять Пушкина в его существенном, главном, в его
центре. Что отличает Пушкина прежде всего? Мне кажется, на этот ответ
может быть дан только один ответ: душевная гармония. Нет поэта более
«гармоничного», нежели Пушкин. Эту гармонию пушкинского духа
доказывает уже необыкновенно ясный, последовательный, стройный ход его
поэтического развития. Так идеально правильно развиваться и созревать
может только тот, кто от природы имеет идеально правильную и стройную
душу. Если вы возьмете трезвые, юношеские стихотворения Пушкина, вас
уже в них поразит чрезвычайная легкость, игривость, грациозность. Эта
игривость еще не есть гармония, но она уже намек на гармонию, которая
явится, когда достаточно созреет чувство поэта. Многие игривые поэты
так и остаются при своей «игривости»; дальнейшего развития и
созревания не получают. Пушкин был «игрив», пока был поэтически
несовершеннолетен, пока в нем еще не было настоящего серьезного чувства;
«игривость» Пушкина, можно сказать, была только эмбрионом, зачатком
гармонии. Грациозность, легкость и игривость душевных движений
всегда указывает на некоторую естественность и правильность духа.
Поэтому душевно грациозный человек всегда «обещает» сделаться человеком
душевно гармоничным, так как в душевной гармонии нам дается
естественность и правильность души в высшей, наиболее чистой и
идеальной форме. Не всегда это «обещание» осуществляется. Но там, где оно
осуществляется, происходит только естественный процесс нормального
духовного развития.
И процесс этот мы наблюдаем в Пушкине. Уже 20-ти летний Пушкин
дает нам пьесы, исполненные цельной и чарующей гармонии. А Пушкин
эпохи зрелости дает вещи, которые по гармоничности превосходят все,
что мы знаем в поэзии. С чем сравните вы «Для берегов отчизны дальней»
или «Я помню чудное мгновенье», или удивительные «Стансы»,
посвященные Филарету?
Великая музыкальность пушкинской лирики — только внешний
признак, наружное свидетельство внутренней музыки, которая и есть
гармония. Гармония есть естественный строй души, все равно как организм
есть естественный строй всего живого. В чувстве эта гармония
сказывается яснее всего, так как чувство есть сосредоточие души. Вот почему
и Пушкин нигде не проявил своей душевной гармонии так рельефно, как
в своей лирике, поэзии, чувстве. Если бы у нас не было бы ни Глинки, ни
186«Наша литература так бедна истинно интеллигентными книгами...»
Даргомыжского, ни Чайковского, все же русский народ имел бы право
называться народом с могучей музыкальной способностью. В своей
лирике Пушкин обнаружил поэтическую музыкальность, которая легко может
поспорить с любой звуковой музыкальностью.
Из наслаждений жизни,
Одной любви музыка уступает,
Но и любовь мелодия...85
Понимание, поэтическое понимание любви как «мелодии» и есть центр
пушкинской лирики. Но не одну любовь, всякое чувство Пушкин постигал
в его внутренней мелодии, в его гармонии, т.е. в том идеальном строе,
который этому чувству присущ от природы. Другой поэзии, кроме
гармонической и музыкальной, Пушкин не знал ни чувством, ни умом.
И оттого вполне естественно, что он отвергал в женщинах чувство
изящного: «Поэзия скользит по слуху их, не досягая души; они
бесчувственны к ее гармонии; примечайте, как они поют модные романсы, как
искажают стихи самые естественные, расстраивают меру, уничтожают
рифму». Вполне понятен теперь и тот жесткий отзыв Пушкина о своем
могучем предшественнике — Державине, сохранившийся в одном из его
писем к Дельвигу86. Он обвиняет Державина в том, что «он не имел
понятия ни о слоге, ни о гармонии», «должен бесить всякое разборчивое ухо»,
«слишком часто кричал петухом»... Поэмы Пушкина представляют также
образцы поэтической гармонии, но только гармоничными в них являются
не столько чувства, сколько образы, и тут замечается то же различие
между первыми вещами и последними, зрелыми, какое мы отметили между
юношеской лирикой Пушкина и лирикой эпохи его зрелости. Легкость,
игривость, грациозность образов в его первых поэмах, этих «гармонических
забавах», по выражению Пушкина, переходит в гармоничность и
идеальную стройность образов его вполне зрелых и самобытных произведений:
сравните Людмилу или Земфиру с Марией (в «Полтаве») или Татьяной.
Одна внешность кочубеевой дочери — образец «гармонической» красоты:
Как тополь киевских высот
Она стройна. Ее движенья
То лебедя пустынных вод
Напоминают плавный ход,
То лани быстрое стремление87.
85 Цитата из трагедии A.C. Пушкина «Каменный гость».
86 См. Пушкин A.C. Собрание сочинений в 10-ти томах. М. 1981. Т. IX. С. 184. Но
Шперк не продолжил цитату: «Что ж в нем: мысли, картины и движения истинно
поэтические; читая его, кажется, читаешь дурной, вольный перевод с какого-то
чудесного подлинника». Также ср. мнение Шперка о стихотворениях Д. Мережковского.
87 Цитата из поэмы A.C. Пушкина «Полтава».
Литературно-критические статьи Ф. Шперка 187
Наконец в «Евгении Онегине» мы имеем единственный в нашей
литературе образчик гармонической игры ума. Умственные ассоциации, мысли
труднее всего поэтизируются, но Пушкин, этот Моцарт поэзии, этот «сын
гармонии», сумел найти «мелодию мысли», так же как он нашел мелодию
образов и мелодию чувств.... Тут требуется нам отметить еще одну
существенную особенность Пушкина. Он всегда гармонизировал свежие,
девственные впечатления, мечты, чувства и мысли. Это имеет свою глубокую
причину. Ведь гармония есть идеальный строй души, гармония есть сама
душа в ее первозданной, божественной чистоте. И потому- то вполне
естественно поэту, творчество которого есть гармонизация души, обращаться
не к позднейшим душевным наслоениям, а к первоначальным состояниям
духа. Недаром в одном из первых своих "гармоничных" (а не только
грациозных) стихотворений, в пьесе "Возрождение" Пушкин высказал:
Краски чуждые, с летами,
Спадают ветхой чешуей;
Созданье гения пред нами
Выходит с прежней красотой.
Так исчезают заблужденья
С измученной души моей
И возникают в ней виденья
Первоначальных, чистых дней.
(1819 г.)
Тут изображено возрождение не только человека и художника.
Действительно: в юношеской лирике Пушкина было еще много наносного,
много "красок чуждых" и потому-то много резонерства и сухости. Как
только эти "чуждые краски" спали в созревшем поэте "ветхой чешуей" —
обнаружились видения и чувства "первоначальные, чистые", и возникла
в его поэзии "гармония", с душевной чистотой неразлучная. Вот источник
любви Пушкина ко всему первоначальному и первобытному.
Первобытное есть естественный, законный материал гармонии. Поэтому-то
Пушкин и любил так наивность русских сказок и "муза" его срывала "Кавказа
дикие цветы" ("Кавказский пленник"), то бродила
...там, где бич народов,
Татарин буйный пировал
И после ужасов набега
В роскошной лени утопал.
("Бахчисарайский фонтан")
то, наконец, встречала
Посреди степей,
Над рубежами древних станов,
I88«Haiua литература так бедна истинно интеллигентными книгами...»
Телеги мирные цыганов,
Смиреной вольности детей88.
Любовью ко всему свежему, первобытному, а потому и
оригинальному и новому, объясняется почти любовное то внимание, которое
уделил Пушкин Пугачеву, "самому вору всех замыслов и похождений",
как гласит эпиграф, выставленный на "Истории Пугачевского бунта",
истории, отмеченной гениальной свежестью понимания и
изображения личности самозванца. Большая доля любви Пушкина к Петру
Великому также объясняется первобытностью, новизною и творческой
свежестью личности Преобразователя. Отсюда и склонность Пушкина
к совершенно новым изысканиям: среди материалов его находим мы,
например, "Камчатские дела". Отсюда, наконец, и страсть его до
всякого рода "анекдотов", поскольку в них сохранилась свежесть, простота
и известная первобытная оригинальность. Он любил "природу" во всех
ее видах, потому что "природа" и все "природное", "естественное", есть
материя, которая гармонизируется человеческой душой. Сама материя
не гармоничная, а напротив — стихийна и хаотична, но душа истинного
поэта, соприкасаясь с нею, неизбежно ее гармонизирует. Пушкин и
любил "свободную стихию", но не потому что сам дик, необуздан и
хаотичен, а потому что знал, что владеет способностью был "укротить этого
зверя", одолеть его "буйную дурь". Возьмите "Медный Всадник". Разве
эта замечательнейшая пьеса не есть торжество поэтической гармонии,
торжество и победа поэтического духа над материей? Ведь тут прямая
стихийность и хаотичность материальной природы (наводнение) и
стихийная хаотичность духовной природы (сумасшествие Евгения)
вводится в гармонический строй чувства и слова. Нужно, впрочем, заметить,
что в последних произведениях Пушкина вообще обнаруживается
тенденция гармонизировать диссонансы и дисгармонию. Он как бы
выражал этим всемогущество своего гармонического гения, для которого не
существует непреоборимых трудностей. Сюда, конечно, прежде всего,
придется отнести его "Пир во время чумы", по гигантской силе все
гармонизирующего чувства самое удивительное творение Пушкина. Вы
помните, конечно:
Есть упоение в бою,
И бездны мрачной на краю,
И в разъяренном океане,
Средь грозных волн и бурной тьмы,
И в аравийском урагане,
И в дуновении Чумы.
Цитата из поэмы A.C. Пушкина «Цыганы».
Литературно-критические статьи Ф. Шперка 189
*
Все, все, что гибелью грозит,
Для сердца смертного таит
Неизъяснимы наслажденья —
Бессмертья, может быть, залог!
И счастлив том, кто средь волненья
Их обретать и ведать мог89.
Сюда относится и его "Подражание Данту" и то удивительное
стихотворение, в котором Пушкин сумел найти упоение, т. е. гармонию, в самом
безумии. Он боится сойти с ума только потому, что "сойди с ума, как раз
тебя запрут, посадят на цепь дурака". Но
Когда б оставили меня
На воле, как бы резво я
Пустился в темный лес!
Я забывался бы в чаду
Нестройных, чудных грез.
Силен и волен был бы я,
Как вихрь, роющий поля,
Ломающий леса,
И я б заслушивался волн,
И я глядел бы, счастья полн,
В пустые небеса90.
Но все это еще не "святая святых" Пушкина.
Путь, который мы тут очертили, проходили и другие поэты, одаренные
более или менее гармоничным художественным духом. Так, например,
и гармонию чувств, и гармонию образов, и гармоничную игру мыслей мы
находим у духовно-родственного Пушкину Байрона, который еще
мальчиком, в школе, "был из последних учеников", но "отличался в играх",
а затем стал отличаться гармоничными поэмами и лирическими
стихотворениями... Пушкин, особенный, самобытный, неподражаемый и истинно
великий Пушкин, впервые обнаружился в "Борисе Годунове". Тут он
выразил уже не поэтическую гармонию души, а нечто высшее, и это высшее
и есть то, что выделяет Пушкина из ряда всех европейских поэтов, с
которыми он в прежние эпохи соприкасался. Это высшее есть гармония
нравственная или справедливость, которую Пушкин вырастил в душе своей. В
самом деле, что такое справедливость, как не способность с нравственной
точки зрения гармонично обнимать мир? Эту высшую, всеобъемлющую
89 Цитата из трагедии A.C. Пушкина «Пир во время чумы».
90 Цитата из стихотворения A.C. Пушкина «Осень» («Не дай мне Бог сойти
с ума...»).
190«Наша литература так бедна истинно интеллигентными книгами...»
способность Пушкин олицетворял, объективировал в Пимене "Бориса
Годунова", этом любимом лице своего "любимого творения"...
Но, так как нравственная гармония есть, в сущности, субъективная черта
самого поэта, стадия его развития, то, очевидно, Пименом она не могла ни
определиться, ни исчерпаться, а должна была выражаться во всем творчестве поэта.
Пимен — объективное олицетворение пушкинской справедливости. Но
пушкинская справедливость проявилась не только в нем, который в полном
и гармоничном образе олицетворил эту справедливость, но внутренне она
выразилась и в самом Борисе, в его строгом, ясном выдержанном понимании
своей вины и вообще всего своего "положения" в среде людей; та же
внутренняя, чисто-пушкинская справедливость сказывается и в "Скупом Рыцаре",
и в "Сальери". Пушкину недостаточно изобразить страсти человека, — он
влагает в это изображение известное "оправдание" этой страсти, как бы
внутренний закон, внутреннюю справедливость, т. е. нравственную гармонию этой
страсти. Вот почему драматические монологи Пушкина так прозрачно ясны.
В этом отношении Пушкин резко отличается от Шекспира. Он, как
безусловно справедливый художник, подошел к людям, и справедливость открыла ему
спокойное, ясное, торжественное понимание души человеческой в ее
страстях и пороках, в ее добрых и недобрых порывах, во всех ее правдивых и
лживых явлениях.
Тут нам открывается действительная и настоящая глубина Пушкина.
Это — поэт, доросший до нравственной гармонии, до справедливости. Вот
почему у него такое равновесие и такая царственная поступь. Он —
царственный поэт, потому что он объемлет мир с наиболее полной и
гармоничной точки зрения; он — поэт правды и милости. И потому он так свободен
и независим, и так проста, так легка речь его с царями...
Но опять — что такое справедливость? Что такое истина чувств?
В чем заключается истина сердца? Очевидно, в любви; в простой, вечно-
живой, как жизнь разнообразной и творческой христианской любви, не той,
которая а 1а Надсон с пафосом вопиет: "Друг мой, брат мой, усталый,
страдающий брат...", и кроме этой жалкой фальшивой ноты ничего не знает и из
себя выдавить не в состоянии; нет, истина и правда сердца, христианская
любовь — реальна, жизненна и, как все действительное и подлинное,
прежде всего, не патетична. Вот эта истинная любовь и открылась в
гениальной простоте Пушкину: в героях "Капитанской дочки", в Татьяне Лариной,
в "прежней Тане, в бедной Тане", в старике-цыгане, который
...приближась, рек:
Оставь нас, гордый человек,
Мы дики, нет у нас законов,
Мы не терзаем, не казним,
Не нужно крови нам и стонов;
Но жить с убийцей не хотим.
Литературно-критические статьи Ф. Шперка 191
Ты не рожден для дикой доли,
Ты для себя лишь хочешь воли;
Ужасен нам твой будет глас:
Мы робки и добры душою,
Ты зол и смел; — оставь же нас,
Прости, да будет мир с тобою91.
Наконец, в его поэтических воспоминаниях об «Овидии»:
Я сердцем следовал, Овидий, за тобою...
В его пьесе «Мицкевич», со следующими заключительными
стихами, которые, упав раз в сердце человека, навсегда, конечно, останутся
в нем:
Он
Ушел на запад — и благословеньем
Его мы проводили. И теперь
Наш мирный гость нам стал врагом и ныне
В своих стихах, угодник черни буйной,
Поет он ненависть: издалека
Знакомый голос злобного поэта
Доходит к нам!.. О Боже! Возврати
Твой мир в его озлобленную душу!
(1834 г.)
Не в пышной грандиозности и не в лживом смиренномудрии
открылась Пушкину христианская любовь, доброта сердца, — она открылась
ему во всей своей простой, подлинной, истинной действительности.
И в этом тайна, и в этом величие его. Он первый реалист любви, он
первый, кто художественно воплотил несомненную и действительную
христианскую любовь — во всей ее бесконечности, во всей ее истинной
мере. Вот источник свободы и полной независимости духа, которые так
резко отличают Пушкина и придают его поэзии какое-то высокое
благородство. Справедливость, основанная на истинной любви, не может
не дать человеку полной нравственной свободы, а последняя уже дарит
человека "могучей властью над умами", т.е. некоторым царственным
положением, которое и было как-то естественно присуще Пушкину.
Выражать поэтически доброе чувство, христианскую любовь
чрезвычайно трудно, потому что надо для этого ее чрезвычайно глубоко чувствовать.
Пушкин сделал это. Он был гениально добрый поэт. Теперь мы поймем его
любовь к Петру Великому. Что пленяло его в царе? Удивительное
отсутствие эгоизма, творчество для своего народа, которое не знало предела, и,
наконец, самое очаровательное:
91 Цитата из поэмы A.C. Пушкина «Цыганы».
192«Наша литература так бедна истинно интеллигентными книгами...*
Он с подданным мирится;
Отпуская, веселится,
Кружку пенит с ним одну.
И в чело его целует,
Светел сердцем и лицом,
И прощенье торжествует,
Как победу над врагом92.
Любовь Пушкина к Моцарту имеет тот же источник влечения к гению,
как высшему бескорыстию.
Все лучшее пушкинское должно быть отнесено сюда: "Анджело",
"Русалка", "У русского царя в чертогах есть палата...", "Подруга дней
моих суровых...", "Герой", "В чужбине свято наблюдаю...",
удивительное, быть может, самое важное для понимания Пушкина стихотворение,
обращенное к слепому поэту Козлову, в котором высказывается все его
бесконечно-христианское понимание жизни и своей поэтической
деятельности:
Коль стих единый мой
Тебе мгновенье дал отрады,
Я не хочу другой награды;
Не даром темною стезей
Я проходил пустыню мира,
О, нет, недаром: жизнь и лира
Мне были вверены судьбой!
Кто был так прост и был так добр как Пушкин? Сравните его с
"олимпийцем" Гете! Разве стал бы "олимпиец" Гете воспевать свою няню,
"голубку дряхлую"? О, конечно, он был слишком олимпиец для этого... Или
мог бы он спросить так добро и чисто:
За что на Бога мне роптать,
Когда хоть одному творенью
Я мог свободу даровать?93
Но вот в силу этого-то "олимпиец" Гете и сознавался, что в его
жизни не наберется нескольких счастливых часов, и, действительно, читая
прелестно написанную биографию Гете Льюиса94, испытываешь чувство
какой-то неудовлетворенности, томления, разочарования в Гете.
Прочтите письма Пушкина — вы этих чувств не испытаете.
92 Цитата из поэмы A.C. Пушкина «Полтава».
93 Цитата из стихотворения A.C. Пушкина «Птичка».
94 Льюис Д. Г. «Жизнь И. Вольфганга Гете». Пер. с анг. Л. А. Неведомского.
СПб. 1867. (Тип. Неклюдова) — одна из первых биографий Гете.
Литературно-критические статьи Ф. Шперка 193
Он был добр и справедлив, и потому всегда жизнен даже в скорби,
даже в хандре, даже в скуке, и как поэт он только художественно выражал
"чувства добрые"... В этом и состоит "христианский стиль" Пушкина.
34
Из литературного дневника05.
В прошлом дневнике мы охарактеризовали Пушкина, сегодня займемся
характеристикой Лермонтова; это тем более кстати, что только понимание
лермонтовской поэзии дает нам совершенно отчетливое понимание
Пушкина. Наша формула: Пушкин — гармоничный поэт, настолько обща, что
необходимо иметь в виду какого-нибудь другого родственного Пушкину и в то
же время отличного от него поэта, чтобы видеть границы этой формулы, ее
точный и определенный смысл. Такой родственный и в то же время глубоко
отличный поэт есть Лермонтов. Сличите их поэзию и вы поймете то
ограничение, которое должно быть сделано в характеристике Пушкина. Разве
Лермонтов не гармоничен? Разве лучшие, наиболее поэтические вещи его
не музыкальны, как и поэзия Пушкина? Да, они и музыкальны, и
гармоничны, но гармония и музыка их иная. Прежде всего, Пушкин — всюду
гармоничен; диссонанс — вещь, не существующая в его поэзии. Лермонтов
гармоничен только в лучших своих произведениях, но у него есть много не
гармоничного. И если мы внимательно отнесемся к тем вещам, где он
является гармоничным и к тем, где он обнаруживает душевные диссонансы, мы
поймем, в чем кроется различие между Лермонтовым и Пушкиным.
У Пушкина — душа деятельно гармоничная, он обладает способностью
гармонизировать все видимое, воображаемое, мыслимое; гармонизация
мира есть основная деятельность, главный акт его души, вне этого
Пушкин просто не мыслим.
Лермонтов — наоборот. Он не способен гармонизировать внешнее,
мировое содержание, он к нему относится враждебно, разрушительно,
подобно тому своему герою, который с детства обнаруживал «склонность
к разрушению». Лермонтов был страдательно, пассивно гармоничен. Там,
где он уходит в себя, в свою душу, отрешенную от мира — он находит
звуки, полные удивительной музыкальности и гармоничности. Но только
там! В отличие от Пушкина, Лермонтов родился с душой, которая в
своей первоначальной, первозданной чистоте обнаруживала удивительную
гармонию, но силы гармонизировать внешнее, чуждое окружающее она
была лишена. Внешний мир, как нечто хаотическое, не отвечающее ее
первобытной, божественной гармонии — был чужд этой душе; она не
находила в себе естественных и чистых путей к нему; напротив, он давил
95 Впервые напечатано в газете: «Новое время». 1897. 7 мая. № 7611. Подп.:
Апокрифъ.
194«Наша литература так бедна истинно интеллигентными книгами...»
ее своим безобразием и злом и чистая, гармоничная, непорочная «в себе»
душа стала обнаруживать отрицательные, враждебные демонические
реакции на воздействие окружающей среды. Эти отрицающие силы крепнут
и вот рядом с «ангельской» поэзией Лермонтова, поэзией
исключительного, первоначального, первозданного строя души поэта, отрешенной от
всякого соприкосновения с миром, развивается другая, «демоническая»
поэзия, в которой лермонтовская душа отзывалась на возбуждения
внешнего мира.
У Пушкина было единство гармонии, у Лермонтова этого единства не
было, его поэзия — резко двойственна: одно лицо этого поэтического
Януса имеет образ ангела, другое — образ демона.
Характеризуя себя в одном «отрывке» (1835 года) под видом
«приятеля» Пушкин писал: «приятель мой был человек круглый, "un homme tout
rond", как говорят французы». Да, у Пушкина в силу единства его
гармоничной души была известная «округлость», известное совершенство,
которые и обнаружились в неразрывности, в цельности его поэтической
личности. Лермонтов никак не мог бы применить к себе этих пушкинских
слов. Его душа была в некотором виде tabula rasa96, и пока она оставалась
tabula rasa, мы могли дивиться ее необыкновенной чистоте, удивительной
непорочности и мелодичности. Замкнутая, отрешенная от мира, эта душа
обнаруживала свой первоначальный, божественный строй, и мы могли
только дивиться ей, ее небесной гармонии, и вспоминать, что
Творец из лучшего эфира
Соткал живые струны их,
и уразумевать за этим:
Они не созданы для мира
И мир был создан не для них97.
Эта тонкая, эта эфирная гармония конечно не могла быть родственна
грубой матерьяльной и людской среде; она должна быть подавлена ею
и неизбежно должна была обнаружить враждебность к этой среде. Эта
враждебность, как мы указали, и образует другую сторону творчества
нашего поэта, ту сторону, где вместо божественных "молитв"
оказываются земные страдания, "плоды сердечной пустоты", как их окрестил
еще Пушкин. В самом деле, в "демоническом творчестве"
Лермонтова, — а творчество это обнимает большинство лирических пьес его,
его драматические произведения ("Странный человек", "Маскарад" —
с двумя Арбениными), некоторые его поэмы ("Хаджи-Абрек") и "Героя
нашего времени" — в демоническом творчестве Лермонтова нас
больше всего поражает глубокая душевная пустота. Это особая, таинствен-
Неизведанная земля (лат.)
Цитата из поэмы М.Ю. Лермонтова «Демон».
Литературно-критические статьи Ф. Шперка 195
ная пустота, которая вполне объясняется тем, что чистая, чуждая миру
душа Лермонтова ничем не могла яснее и кореннее ответить на запросы
внешнего и враждебного ей мира, как некоторым душевным
молчанием, некоторым безмолвием, холодной пустотой! Эту холодную пустоту
Лермонтова знает, конечно, всякий, кто ее внимательно читал, и сам
он нередко указывает на нее. К некоторому циклу его стихотворений
вполне применимы слова, обращенные к родственным Лермонтову
"вечным странникам" — "тучкам": "Чужды вам страсти и чужды страдания,
вечно холодные, вечно свободные"...Вот почему во внешней природе и в
мире людей Лермонтов любил только две вещи — пустыню и свободу,
волю. Только они отвечали строю его свободной, не обремененной
внутренне никаким чуждым материалом, чистой и вольной души. „Пустыня"
и „Воля" два любимых слова Лермонтова. „Мцыри", его лучшая поэзия,
посвящена гимну свободы:
Я знал одной лишь думы власть,
Одну, — но пламенную страсть:
Она, как червь, во мне жила,
Изгрызла душу и сожгла.
Она мечты мои звала
От келий душных и молитв
В тот чудный мир тревог и битв,
Где в тучах прячутся скалы,
Где люди вольны, как орлы.
Я эту страсть во тьме ночной
Вскормил слезами и тоской;
Ее пред небом и землей
Я ныне громко признаю
И о прощенье не молю.
Много прекрасных лирических пьес Лермонтова выражают тоже:
Дайте волю, волю, волю —
И не надо счастья мне98.
Любовь Лермонтова к пустыне имеет тот же источник, что любовь его
к воле. Этот источник — в особом строе лермонтовской души — этой
поэтической tabula rasa:
Как нравились всегда пустыни мне!
Люблю я ветер меж нагих холмов
И коршуна в небесной вышине,
И на равнине тени облаков.
Цитата из одной из редакций стихотворения М. Ю. Лермонтова «Желанье».
196«Наша литература так бедна истинно интеллигентными книгами...*
Ярма не знает резвый здесь табун,
И кровожадный тешится летун
Под синевой и облако степей
Свободней как-то мчится и светлей".
(1831)
Однако душевным безмолвием, холодной пустотой сердца Лермонтов не
мог ограничиться в своем отношении к миру. Это было основное, коренное
чувство, но из него вырос очень скоро целый „демонический цикл", выросли
чувства ненависти, презрения, отвращения, негодования, иронии ко всему
тому чуждому, злому, „не ангельскому", чем так обилен белый свет. Чувства
эти выливались у поэта непосредственно в лирике или в образах: в демонах,
Вадимах, Хаджи-Абреках, Арбениных, Печориных.... Все эти образы
воплощают темную сторону лермонтовского отношения к миру и людям,
отношения, главный признак которого «гордость» к миру, но, как и в Лермонтове,
едва ли не в каждом из этих героев есть некоторая скрытая тайна, а потому
и самая важная сторона100, в которой замкнута и схоронена, может быть даже
погребена, первоначальная душевная гармония, первичная душевная чистота.
В самом живом и реальном образе, созданном Лермонтовым, эта
сторона не подлежит никакому сомнению, именно в Печорине. В следующих
многозначительных словах Печорина она открывается нам с полной
ясностью: «Да, такова была моя участь с самого детства!... потому что никто
не знал о существовании погибшей ее половины...».
В коренном отличии от Печорина Лермонтов „не отрезал и не
бросил" чуждой миру половину своей души, а извлек из нее неподдельные
гармоничные звуки, в которых так бесподобно — музыкально отразилась
душа поэта, в ее чистом, исключительно духовном строе. Вот точка, где
Лермонтов возвышается над Пушкиным, душа Пушкина не была
беспримесно духовна, в ней не было только одних духовных нитей, только одного
духовного эфира, из которого она соткана. В ней всегда была доля
мирового, материального, иного содержания. Впрочем, в этой своей высшей
сфере, как лирик чистого духовного строя человеческой души —
Лермонтов вообще не знает соперников. Высота чистоты, святости, которой он
достигает своей поэзией, почти недосягаема. В «Ангеле», в «Молитвах»
(«Я, Матерь Божия, ныне с молитвою...» и «В минуту жизни трудную...»),
в «Ветке Палестины», в пьесе «Выхожу один я на дорогу», в «Пророке» мы
действительно ощущаем колебания тончайших и абсолютно-чистых струн
души, которую Творец создал из лучшего эфира.
99 Цитата из стихотворения М. Ю. Лермонтова «1831-го июня 11 дня».
100 «Во всяком сердце, во всякой жизни протекало чувство, промелькнуло
событие, которых никто никому не откроет, а они то самые важные и есть; они то
обыкновенно дают тайные направления чувствам и поступкам». (Прим. Ф.Э. Шперка).
Литературно-критические статьи Ф. Шперка 197
Заслуга Лермонтова в том, что в минуты своего удивительного
вдохновения он обнаружил перед нами строй души совершенно
целомудренной, безусловно святой. Как поэт, который не был связан с миром, он
был преимущественно эстетик: он показал нам не добро, а красоту
безупречной, святой души; но ведь истина столько же в красоте, сколько
и в добре.
Если Пушкина, как «гениально доброго поэта», можно назвать
христианином — этиком, то Лермонтова можно назвать христианским
эстетиком. Образцы душевной красоты, явленные им, не умрут, и какие бы ни
предстояли в истории падения и затмения души человеческой —
творчество Лермонтова всегда будет неопровержимым документом святости,
невинности и красоты, которые даны человеческой душе от Бога, и которые
она теряет в своем соприкосновении с миром...
35
Из литературного дневника101
Мне говорят: вы все-таки недостаточно отчетливо охарактеризовали
развитие деятельно-гармоничной души Пушкина и пассивно,
страдательно-гармоничной души Лермонтова. Нельзя ли найти более простые
термины, более ясные образы, соответствующие этим несколько трудным для
уразумения понятиям?..
Такие простые термины и были найдены, хотя, быть может, я не
достаточно выдвинул их в моей статье. Дело именно в том, что
деятельно-гармоничная душа — это душа любящая. Любовь гармонизирует мир. Нельзя
любить мир и негармонично его понимать, негармонично его чувствовать.
Если я говорю: душа Пушкина — деятельно-гармонична, я указываю на
то, что он поэт любви, истинной, всеохватывающей, живой любви.
Теперь обратимся к Лермонтову. Разве можно его назвать любящим?
В чем проявил, в чем воплотил он любовь? В этом ли, что «любить... но
кого же? На время — не стоит труда, а вечно любить невозможно»? Или
в том, что «в очах людей читаю я страницы злобы и порока»? И в том и в
другом мы видим бездну «познания»:
Много было взору моему
Доступно и понятно, потому
Что узами земными я не связан...102
Но любви к миру, теплоты участья к людям мы, признаемся, не видим
тут ни капли...
101 Впервые напечатано в газете: «Новое Время». 1897. 14 мая. № 7618. Подп.:
Апокрифъ.
102 Цитата из поэмы М. Ю. Лермонтова «Сказка для детей».
198«Наша литература так бедна истинно интеллигентными книгами...»
Нет, что-то иное, что-то глубоко отличное было дано ему в удел — не
любовь, не деятельная гармония. Ее он не воплощал. Ничего подобного
пушкинским образам он не создал.
Лермонтову мы обязаны художественным воспроизведением душевной
невинности. Для невинности у Лермонтова были такие же образы, такие же
художественные «воплощения», как у Пушкина для любви. Он их выразил
в «деве невинной», которую поручал «теплой заступнице мира холодного»,
в Тамаре, которой «девственное ложе не смято смертного рукой», в дикой,
первобытно-прекрасной и женственной Бэле, наконец — во всех тех легких,
воздушных, девственных образах, которые встречаются в его поэмах....
Однако невинность души есть страдательная, пассивная гармония: невинность
гармонична в себе и для себя. Она не гармонизирует мир, замыкается от него...
Вот вам не простые термины, те просто живые образы, которые могут
служить символами различия Пушкина и Лермонтова. Пушкин — поэт
любви. Лермонтов — поэт душевной невинности.
Этим объясняется, между прочим, активный, деятельный характер
пушкинской музы и пассивный, страдательный характер лермонтовской поэзии.
Символом поэзии Пушкина может служить образ души, покоряющей мир
своим духовным богатством, своей духовной силой; символом поэзии
Лермонтова будет, в таком случае, образ души, охраняющей от мира свое
духовное богатство, свою естественную святость, свою чистоту. Лермонтов не
прочь был построить себе совершенно особый мир, строй которого во всем
должен был соответствовать строю и запросам первоначально
божественной души его. Жизнь этого прекрасного, волшебного мира должна была
походить на эфирную мечту, на таинственный сон, в котором струны душевные
могли бы естественно, легко и свободно звучать.... Этот чистый, невинный
и свободный сон должен был спасти от реальной действительности и создать
другую, высшую, идеальную действительность. Вспомните глубоко
характерные стихи, где выражаются сокровенные желания Лермонтова:
Я ищу свободы и покоя!
Я б хотел забыться и заснуть!
Но не тем холодным сном могилы...
Я б желал навеки так заснуть,
Чтоб в груди дремали жизни силы, '
Чтоб, дыша, вздымалась тихо грудь!
Чтоб всю ночь, весь день мой слух лелея,
Про любовь мне сладкий голос пел,
Надо мной чтоб, вечно зеленея,
Темный дуб склонялся и шумел103.
Цитата из стихотворения М.Ю. Лермонтова «Выхожу один я на дорогу...».
Литературно-критические статьи Ф. Шперка 199
Тут мы вскрываем «святая святых» лермонтовской души: идеал его
жизни, закон его духовного бытия; он жил и питался душевной чистотой,
и чистая, невинная, святая и легкая действительность нужна была ему как
жизненная стихия, как внешняя органическая среда.... Более простого,
более определенного различия я не могу указать...
Статья Ф.Э. Шперка из газеты «Гражданин»104
36
В. В. Розанов (Опыт характеристики).
Но нам уж то чело священно,
На коем вспыхнул сей язык105.
Пушкин
I
Литературное прошлое В. В. Розанова обрисовывает два умственных
направления, которым, несомненно, следовал этот мыслитель:
теоретическое и философско-историческое.
Первому заплачена дань трудом «О понимании», некоторыми
небольшими, весьма тщательно обработанными статейками, непосредственно
следовавшими за «Пониманием», и недавней пространной статьей «О цели
человеческой жизни».
Второе нашло себе выражение в брошюре «Место христианства в
истории», в статьях о H. H. Страхове и Леонтьеве, а также в менее удачной по
форме «Легенде о Великом Инквизиторе Достоевского». Последнее я
считаю тем, которое отвечает складу розановского ума, которое по отношению
к предыдущему более важно, истинно. Ему следуя, В. В. Розанов и
высказывает то, что может высказывать только он, и что, конечно, составит для
будущего историка философии самую суть розановского творчества.
Замечательно, что в этих идеях, падающих своим содержанием в
область философии истории, — как истолкователи настроений,
пережитых человечеством и осознанных им этических идей, В. В. Розанов и
представитель специфическо-русской мысли.
Все умы наши тяготели и тяготеют к этой сфере умственного творчества,
вся русская философия есть философия или психология истории. Чаадаев,
Герцен, Данилевский, Достоевский (в «Инквизиторе»), К.Н. Леонтьев — ведь
это ряд психологов истории, подобных которым не выставляет нам Запад.
И очерк истории русской философии должен включить в себя не слепых
104 Впервые напечатано в газете: «Гражданин». 1893. 13 ноября. Подл.: Федор
Шперкъ. Перепечатано в: Василий Розанов: pro et contra. Личность и творчество
Василия Розанова в оценке русских мыслителей и исследователей. СПб. 1995. Книга I.
С 261-262.
105 Цитата из стихотворения «Герой».
200«Наша литература так бедна истинно интеллигентными книгами...*
и бездарных подражателей европейских систематиков, а именно этих
значительных выразителей философской мысли, которые, глубоко отличаясь от
своих западных собратьев, представляют особую ветвь на древе умственного
созидания. Корни истинной русской философии, более глубокие, нежели многие
полагают, не в знаменитом ли и столь оригинальным по высказанному в нем
историческому миросозерцанию, «Философском письме» Чаадаева? И русская
мысль, и русское художественное творчество возникли одновременно.
II
Все, что мы считаем в себе значащим, все, что входит в определение
нашей личности, что, словом, составляет сущность нашу, — все это
представляется г. В. Розанову мало существенным. Последнее — отличительная
характерная черта его исторического мировоззрения. Не человек — объект
его внимания, предмет его основной мысли, а высшее нечто, лишь
изъявляющееся в судьбе людей, в истории, которою, собственно, они и интересны,
и значительны, только. Не человек — носитель мысли и блага, а
человек — выразитель и истолкователь воли Бога в истории — существен, важен
и дорог для него. Внимание Розанова всецело поглощают пути, коими
Провидение ведет человека. Эти пути-то и драгоценны ему. Отсюда религиозный
характер розановских писаний, отсюда моральная сила их...
Свою характеристику мы заключим следующими словами писателя,
преисполненными такой удивительной резигнации, такого
исключительного самосознания!
♦Редко человек понимает конечный смысл того, что он делает, и
большею частью он понимает его слишком поздно для того, чтобы изменить
делаемое. Вмешательство индивидуальной воли в пути истории всегда
бывает напрасно. Этой доли напрасности я не мог не замечать и во всем,
что мне случилось высказать. Не человек делает свою историю, он только
терпит ее, в ней радуется, утешается, или, напротив, скорбит, страдает».
Статья Ф.Э. Шперка из газеты «Школьное обозрение» Ш6
37
О характере гоголевского творчества
(К вопросу о творческой психике)
В 3-й кн. «Рус. Вестн.»107 за текущий год г. Розанов высказывает
некоторые новые психологические соображения о характере гоголевского
106 Школьное обозрение. 1894. № 14-16. 3-17 апр. С. 1. Подп. Федор Шперкъ.
107 Розанов В. В. Как произошел тип Акакия Акакиевича? (К вопросу о
характеристике гоголевского творчества) // Русский Вестник. 1894. № 3. С. 161-172.
Литературно-критические статьи Ф. Шперка 201
творчества. Так как все то, что касается нашего великого писателя, без
сомнения, представляет не малый интерес, то я и позволю себе остановить
внимание читателя на этих соображениях, тем более, что мы не можем
признать их вполне правильными, и не нуждающимися в каких-либо
поправках.
Первое и основное положение критика таково: воображение Гоголя
принижает и извращает действительность. «Сущность художественной
рисовки у Гоголя заключалась в подборе к одной избранной, как бы
тематической, черте создаваемого образа других все подобных же, ее только
продолжающих и усиливающих, черт с строгим наблюдением, чтобы
среди их не замешалась хоть одна дисгармонирующая им, или просто с ними
не связанная черта (в лице и фигуре Акакия Акакиевича нет ничего не
безобразного, в характере — ничего не забитого). Совокупность этих
подобранных черт, как хорошо собранный вогнутым зеркалом пук однородно
направленных лучей, и бьет ярко, незабываемо в память читателя; но,
конечно, это — не свет естественный, рассеянный, какой мы знаем в
природе, а искусственно полученный в лаборатории. И видеть какую-нибудь
фигуру, точнее, — одну в ней черту под лучом этого света, когда все
прочие ее черты оставлены в совершенной темноте, — значит узнать о ней
менее, как если бы в обыкновенном свете (позднейшее наше художество)
мы видели всю ее в полноте ее неразъединенных черт» .
Это извращение, «искалечение» действительности составляет
основное и первичное в гоголевском творчестве. Вторичным представляется
протест против этого своего же художнического порока, высказываемый
Гоголем в лирических отступлениях позднейших произведений, в
«Выбранных местах из переписки с друзьями», в «Авторской исповеди». Сила
этого живого протеста «есть сверх отмеченной главной в нем (Гоголе)
черты сужения и принижения человека — другая (черта), которою он стал
так непонятен, таинствен для всех и которою влечет к себе наше сердце,
зовет к себе будущее (?), как первою чертою очаровывает наш ум,
отталкивает прошлое»(?) .
Неистинным мы считаем первое и основное определение г.
Розанова: Гоголь не извращает действительность, рисуя ее, но воспроизводит
жизнь, природу, человека — как чистый, как беспримесный художник.
В этой чистоте художнического дарования и заключено и его
индивидуальное величие, и источник его рефлективного протеста, его творческого
страдания. Чистый художник тяготеет исключительно к форме, как
чистый психолог исключительно к идее внешней действительности. Никогда
художник с примесью психологического, субъективного элемента в
даровании не создал бы такого формального произведения, как гоголевский
«Нос», также как психолог с примесью некоторого художнического
объективирующего элемента в даровании — никогда не создал бы бесплотной
«Легенды о великом Инквизиторе» Достоевского (в «Бр. Карамазовых»).
202«Наша литература так бедна истинно интеллигентными книгами...»
Гоголь и Достоевский — это антиподы: чистый художник и столь же
чистый психолог. Средний сложный тип (художника-психолога), наиболее
идеальный, литература наша представляет в лице гр. Л. Толстого. Если
Достоевский рисует человека вообще, то Гоголь рисует человека в его
индивидуальных, внешних чертах, в его формальных оболочках. Говорят
о гоголевских типах. Но было бы здесь ошибочно понимать тип — как
обобщения индивидуальностей. «Тип — смешной человек» по глубокому,
простому определению Достоевского («Белые ночи»).
В этом смысле типичное есть все наиболее внешнее, индивидуальное,
наносное. В этом же смысле мы и говорим о типах чиновника (Акакий
Акакиевич), семинариста, бурсака, как о суммах внешних черт, исторически
выросших на общечеловеческом существе. Быть некоторою крайностью
(во всем) всегда тяжело. Но я полагаю, что чувство недовольства собою,
испытанное Достоевским в процессе его творчества, нам неведомое, было
не менее тяжелое, нежели хорошо известное всем чувство
неудовлетворенности собою в Гоголе. Только это чувство у Гоголя вытекало из
тщетности поисков формалиста за идеей, за одушевленностью, тогда как оно
у Достоевского должно было исходить из тщетности поисков идеалиста
за формой. Не против искажения действительности (в котором Гоголь
неповинен), а против одностороннего выражения ее, исключительного
воспроизведения одной ее формальной, внешней стороны, испытывалось
великим художником протестующее чувство в себе. Не столько быть
менее художником, сколько быть менее чистым, менее идеальным, менее
беспримесным носителем художнического направления сознания,
думается нам, хотелось, желалось самому Гоголю.
Федор Эдуардович Шперк.
Санаторий «Халила», Финляндия.
1897 г.
Федор Шперк -
ученик Петершуле.
СПб. 1884 г.
Сидония Бернгардовна Шперк
(Герстель), мать Ф.Э. Шперка (справа).
Нитра, Венгрия. 1870-е гг.
Эдуард Фридрихович Шперк,
отец Ф.Э. Шперка. СПб. 1880 г.
Каролина Шперк (Рейниш) с сыновьями Эдуардом (справа)
и Густавом (слева). Харьков. 1860-е гг.
Франц Фридрихович Шперк.
СПб. 1890 г.
Густав Фридрихович Шперк.
Харьков, 1870 г.
Анна Лавровна Шперк
с дочерью Анной,
жена Ф.Э. Шперка.
СПб. 1894 г.
Анна Шперк, дочь
Ф.Э. Шперка.
Петроград, 1919 г.
Венедикт Шперк,
сын Ф.Э. Шперка.
Москва, 1946 г.
Василий Васильевич
Розанов
Троадий Шперк,
сын Ф.Э. Шперка.
Петроград, 1915 г.
Василий Васильевич Розанов
Федор Сологуб «Давно не понимаю моих обманчивых дорог...
Многоуважаемому Федору Эдуардовичу Шперку. 1896 г. ».
Николай Николаевич Страхов
Дарственная надпись на фотографии H.H. Страхова: «Федору
Эдуардовичу Шперку для начала дружбы от Н. Страхова. 15 декабря
1895 г. СПб. Снята в Ясной Поляне в июне 1895 г.»
Владимир Сергеевич Соловьев
Аким Львович
Волынский
Алексей Сергеевич Суворин
Рисунок «Фридрих Шперк в сладком раздумьи. 25 октября 1889 г.
Рис. Е. Блументаль».
«МЫСЛИТЕЛЬ ЕСТЬ ПЕРЕВОДЧИК
КНИГИ ПРИРОДЫ...»
ФЕДОР ШПЕРК — ФИЛОСОФ
«Мыслитель есть переводчик книги природы
на язык человеческого разума».
Федор Шперк'
Как литературный критик Ф.Э. Шперк выступил одновременно
с первыми русским символистами, хотя и совершенно независимо от
них. При всем различии творческих установок, Ф.Э. Шперк, так же
как и представители русского модернизма, связывал свою творческую
и идейную позицию с объективной потребностью времени в новом
мировоззрении.
Не будет преувеличением сказать, что вся русская
религиозно-философская мысль рубежа XIX — XX веков формировалась под прямым
влиянием В. Соловьёва — как единство веры и знания. Русские
мыслители старались выбирать те пути, по которым не пожелала пойти
философия западная, углубившаяся в рассудочность и сухую теорию.
Они пытались постичь мир как целое, определить место в нем человека,
понять, что объединяет различные стороны человеческого
существования, и обратить людей к исканию высшей истины. Поэтому отвлеченная
философская мысль оказалась неразрывно связана с реальной жизнью
конкретных людей. Конец XIX века и начало ХХ-го принято сегодня
называть эпохой «русского духовного ренессанса», имея в виду
возвращение к вечным вопросам бытия, духовности, веры как некоторую
реакцию на засилье материализма 1860-х годов.
Вслед за славянофилами, B.C. Соловьёв предпринял попытку
раскрыть христианские истины на языке философии. Его последователи
вводили в философию все более широкий круг христианских идей. Среди
учеников В. С. Соловьёва были и западники (братья С. Н. и Е. Н.
Трубецкие, С. Л. Франк) и славянофилы (С.Н. Булгаков, П. А. Флоренский),
но в их философских исканиях существовала общая основа — идея
«всеединства», неприятие современной цивилизации, при которой люди
вынуждены всю жизнь заниматься узкими и по большей части
бездуховными проблемами.
Шперк Федор. Мысль и рефлексия. Афоризмы. СПб. 1895.
204 «Мыслитель есть переводчик книги природы..л
Федор Шперк, несомненно, испытал на себе влияние личности В. С.
Соловьёва и его учения. Познакомившись с Соловьёвым в 1893 г., Шперк
писал В. В. Розанову: «Это человек безусловно бескорыстный в
литературном отношении, абсолютно нетщеславный и чистый как мыслитель
и писатель в своих исканиях и стремлениях»2. Больше всего Шперка
привлекла мысль Соловьёва о создании философии, которая охватит и
подчинит себе все стороны человеческого существования и будет «заключать
в себе не один идеальный мир понятий, но и мир действительный».3
Из всех ключевых понятий соловьёвской философии: всеединство,
Богочеловечество, София — Шперк выбрал первое, и не только усвоил,
но и творчески переосмыслил его. Однако попытка описать свою
философскую систему в терминах западноевропейского мышления
потерпела неудачу. То, в чем он упрекал западноевропейских мыслителей —
излишняя рассудочность, сухое теоретизирование — оказалось присуще
и его первым философским работам. Все, что Шперк написал на тему
философии и философского знания представляло собой сухую схему.
Шперк пытался поставить и разрешить вопрос о связи глубин бытия
с жизнью и деятельностью человека, но, как отметил В. В. Розанов при
«силе рождения» у Шперка не было «силы выражения» — способности
понятно формулировать свои мысли4.
Шперк был, конечно, далек от того, чтобы полностью отрицать и
отказываться от западноевропейской философии. Именно из философии Б.
Спинозы Шперк позаимствовал идею растворения единичных событий
в целом. «Этика» Спинозы оказала явное влияние на философские
построения Шперка в этой области. Шперк и сам признавался: «Система
Спинозы мне дорога как прототип, хотя и неестественно выработанный,
конечной формы философии»5. Несомненно Шперк как философ
испытал на себе влияние Ф. Ницше — .то сказалось не только на дерзкой
категоричности тона Шперка, переходящей порой в грубость, но и на его
стилистике, в частности на фрагментарности его сочинений. Очевидно
также и определенное влияние философии Шопенгауэра, имевшей, по
определению Шперка, «этический характер».
О близком знакомстве Шперка с философией Шопенгауэра говорит,
в частности, развернутое сопоставление судьбы немецкого философа
с судьбой H. H. Страхова в одной из статей. Не только тяготевший к
западничеству и католичеству В. Соловьев мог быть духовным ориентиром
для молодого философа, но и славянофильствующий «почвенник» Н.
Страхов с его утверждением идеала «красоты, добра и правды».
2 Письма Ф.Э. Шперка к В. В. Розанову. Письмо от 29 июля 1894 г.
3 Соловьёв. В. С. Собр. соч. в 2-х т. М., 1988. Т. 2. Кризис западной философии
(против позитивистов). С. 120.
4 Розанов В.В. Ф.Э. Шперк // Сочинения. М., 1990. С. 228.
5 Письмо Ф. Э. Шперка к В. В. Розанову от 23 февраля 1893 г.
Федор Шперк — философ
205
Как мыслитель, стоявший на позициях славянофильства, в русле
идей философии всеединства Ф. Шперк пришел к мысли о
необходимости интеграции всех сфер человеческой деятельности в единый процесс
восхождения к Богу посредством максимальных духовных устремлений.
Для анализа философских взглядов Федора Шперка важными и
значительными являются две последние его работы: «О страхе смерти
и принципе жизни» (1895) и «Диалектика бытия. Аргументы и выводы
моей философии» (1897), а так же сборник афоризмов с очень
показательным названием «Мысль и рефлексия» (1896).
Здесь впервые Шперк изложил свой философский метод, который
определил понятием реализации: «Я знаю только одно общее
выражение всех постулатов жизненно-этических, а именно, метафизическое
требование: реализуйся!»6. В центре философии Шперка оказывается
прежде всего человек, «идеи жизни его», необходимость «всеразреше-
ния и всеоправдания бытия»: ««Между тем как наука определяет
только смысл существования всего существующего, философия отыскивает
идею в существовании всего, т. е. главным образом идею в
существовании самого человека и идейные отношения, которые с ним образует
все существующее. Тут я, видите, ставлю философию выше науки; ведь
наука объясняет, философия же — оправдывает каждое
существование», — писал Шперк в письме к В. В. Розанову7. Это была попытка
создать всеобъемлющее мировоззрение, включающее в себя идеальную
модель мира, опираясь на которую можно было выработать принципы
оптимального поведения в ней человека. Объект познания в философии
Шперка — духовная сфера в жизни человека.
Отправной точкой в рассуждениях Шперка служил вопрос о
противоречии между конечностью бытия человека и бесконечностью всего
сущего. В силу этого противоречия человек постоянно ощущает свое
несовершенство и осознает незавершенность своего бытия. Страх
смерти не позволяет человеку обрести психологическую устойчивость,
обесценивает всю его деятельность и жизнь, ведет к «биологизации»
жизни в ущерб духовности, обусловливает конкуренцию, эгоизм, хаос
и бессмыслицу в мире. Соотнести краткую жизнь человеческую с
бесконечными, беспредельными основами бытия, стремление представить
все сущее цельным, единым в многообразии, «всеединым» (этот
термин Шперк не употребляет ни в одной из своих работ, но пользуется
аналогичным по значению — «Абсолют», «абсолютное») Шперк считал
основной задачей философии как науки о человеческом духе.
Для решения этого вопроса Шперк вводит следующий постулат
о том, что индивидуальность человека, его дух есть не что иное как
6 Шперк Федор. О страхе смерти и принципе жизни. СПб., 1895. С. 15.
7 Письмо Ф.Э. Шперка к В. В. Розанову от 2 июля 1890 г.
206 «Мыслитель есть переводчик книги природы...»
«реализационный мировой процесс». Смыслом этого процесса
является усвоение высших степеней бытия, духовное
самосовершенствование в бытии, или то, что Шперк выражает краткой формулой:
«Реализуйся!».
Выход из индивидуального мира (смерть) совсем не означает, по
мнению Шперка, выход из космоса как процесса. Смерть вытекает не
из символа человеческой индивидуальности, а из символа природы,
поэтому дает возможность человеку завершить процесс реализации
человеческого духа, перейти в абсолютное целое, став его элементом («все-
единым») путем перехода из низшего чувственного состояния в высшее
нравственное.
Но смерть существует для тех, кто не реализуется, кто
отвергает единство процесса земного и сверхчувственного усвоения бытия:
«Смерть есть ничтожество в своей рефлексии, и в этой рефлексии —
весь ужас смерти» — писал Шперк в работе «О страхе смерти и
принципах жизни». Страх смерти противопоставлялся принципу жизни и с его
же помощью преодолевался, а принцип человеческого существования
разрешался и оправдывался реализацией человека и ее методами.
По мнению Шперка, человек может реализоваться на разных
уровнях и разными способами: на чувственном уровне человек реализовыва-
ется в детях, на нравственном уровне — в добрых делах человеческих,
на интуитивном уровне — в творчестве. Цель реализации —
перейти в абсолютное целое, отрекаясь от индивидуальной целостности:
«В индивидуальной природе своей мы представляем собой цельные, но
несовершенные сознания и воли; наша конечная цель — освободиться
от этой формы и получить диаметрально ей обратную, т.е. потерять
свою целостность и приобрести причастность к совершенству или
точнее сделаться элементом совершенного»* (все курсивные выделения
Ф. Шперка —Т.С.).
Но этот процесс ( процесс отречения от собственной целостной
формы), по мысли философа, обособленная, ограниченная и
несовершенная человеческая единица совершить сама не в состоянии.
Поэтому, проходя процесс реализации, человек должен сделаться составной
частью некоторого совершенного целого — церкви: «Делаясь членом
этого совершенного тела, он (человек — Т.С), и исчезая в нем,
целом, и сохраняя свою индивидуальность, приобретает еще высшее
нечто, тождество с абсолютным; причем приобретает это, не возвышаясь
(не греховно), а напротив, низводя себя (со степени целого на степень
частичного). Низвести себя, чтобы возвыситься — вот первое дело
человеческое (разрядка Ф. Шперка — Т.С). Разрушение
индивидуальной цельности, естественно человеку присущей, искание помощи
8 Шперк Федор. Мысль и рефлексия. СПб., 1895. С. 19.
Федор Шперк — философ
207
в ближнем, искание церкви, смирение, смирение, смирение
непреодолимое и неизменное...»9.
Таким образом, основой единения человека с церковью в поисках
самореализации для Шперка является смирение — одна из
главнейших заповедей православия, которая должна быть положена в принцип
жизни: «Только потеря индивидуальной целостности есть сохранение
или спасение самой индивидуальности, или бессмертие души»
(выделено Ф. Шперком)10. Очевидно, что «церковь» понималась Шперком
не как религиозная организация, построенная на принципах иерархии
и централизации управления, т.е. не являлась институтом. К тому же,
Шперк не был богословом, экклезиология его не занимала: в
понятийном аппарате философа «церковь» была тождественна «религии»,
причем для Шперка единственно «истинной» религией было православие.
Принцип и цель жизни человеческой Шперк видел в том, чтобы,
реализуясь нравственно в земных делах своих, не только дойти, по
выражению П. А. Флоренского, «до церковной ограды», но и войти, полностью
слиться с верой.
Философская система Шперка в основных своих чертах вполне
может называться «нравственной философией». Безусловно, он был
знаком с работой В. Соловьёва «Оправдание добра», декларировавшей
примат нравственного начала, и даже писал на нее резкую рецензию.
Соловьёв переосмыслил исходную идею Декарта («Я мыслю,
следовательно, существую»), переставив акцент с самоочевидности мышления
на самоочевидность нравственного переживания: «Я стыжусь,
следовательно, существую»11. Соловьёв выстраивал нравственный мир
человека на основе трех переживаний: стыд, жалость, благоговение. Шперк
же пошел по пути обобщений и считал, что нравственным миром
человека управляют четыре силы: добро, зло, наслаждение и страдание.
Абстрактные категории добра и зла были абсолютны и понимались
буквально, как черное и белое, без оттенков и нюансов. Наслаждение
и страдание были относительными категориями, и с позиции
«нравственного восхождения к Богу» наслаждение трактовалось как величина
отрицательная, а страдание — положительная: «В страдании человек
приближается к Богу» — это восклицание Шперка часто встречается
в его текстах..
Среди отдельно изданных брошюр Федора Шперка есть одна,
несколько выделяющаяся из общего ряда. Тогда как остальные брошюры
представляют собой изложение философских основ его мировоззрения,
9 Шперк Федор. О страхе смерти и принципе жизни. СПб., 1895. С.15-17.
10 Там же. С. 20.
11 Соловьёв B.C. Сочинения в 2-х томах. М., 1988. Т. 1. Оправдание добра.
Нравственная философия. С. 124.
208 «Мыслитель есть переводчик книги природы...»
«Книга о духе моем» — это поэма в виде монолога от первого лица,
написанная без размера, без рифмы минимально ритмизированной прозой,
даже не «белым стихом», а просто фразами, объединенными в единое
повествование сюжетом. О сюжете своей поэмы сам Шперк выразился
так: «Повествование о бреде и болезни, о печали и радости, о затмениях
и просветлениях души человеческой»12.
Сюжет поэмы, затрудненный для понимания формой изложения,
легко прочитывается в контексте философских размышлений Шпер-
ка о цели и смысле человеческого существования. В тщетных поисках
собственной целостности, в конце концов «душа» человека возносится
на «гору» и обретает там смысл и свет, присоединяясь к «Источнику»
и растворяясь в нем. Поскольку «горы мира суть радости мира, И суть
источники света, И суть победители тьмы, И слава человеку — сидеть
на горах»13, то «Источник» естественным образом принимает на себя
нагрузку благодати Божией, обретаемой, по убеждению Шперка, в
слиянии с церковью. Образ «горы», в соответствии с традицией,
противопоставляется «долине»: «Ибо люди были в долинах, И сердце их не
лежало к горам, И высшее не согласили они»14. Из «долины» к «горе»
описывается Шперком движение человеческой души, и «шествует по
земле» человек в страданиях, но со смирением. Иными словами, еще и в
такой, полупоэтической, форме, Шперк пытался дать ответ на вечные
вопросы христианства, затрагивая самые кардинальные темы —
свобода воли, любовь и вера, смысл истории, которые задаются и решаются
в попытке выразить «дольней речью горнюю истину».
Для философских воззрений Шперка характерен постоянный пафос
«единения», «слияния», и в связи с этим особенное значение для
понимания его философских воззрений приобретает категория
«целостности», рассматриваемая им в двойной перспективе: с одной стороны —
необходимое отречение от индивидуальной целостности человека, а с
другой — человеческое единение в целое посредством религии.
Введение и использование Шперком понятия «целостность»
обнаруживает глубокую связь с одной из самых горячих философских дискуссий
конца века — обсуждение проблемы соборности.
По текстам Шперка, а также судя по его замечаниям в переписке
с В. В. Розановым, очевидно, что он был знаком' с работами И. В.
Киреевского о «цельности» личности и A.C. Хомякова и его идеей
«соборности», которую главный теоретик славянофильства формулировал как
«церковную общность людей, объединенных верой, православные
ценности, гарантирующие духовную целостность личности, примирение
12 Шперк Федор. Книга о духе моем. Поэма. СПб., 1895. Предисловие.
13 Там же. С. 30.
14 Там же. С. 34.
Федор Шперк — философ
209
в христианской любви свободы каждого и единство всех» и которая
подразумевала оцерковление социальной жизни15. Шперк, однако, как
было сказано выше, оставил в стороне богословскую часть
философии Хомякова, восприняв только ее гносеологический аспект: «идею
единства во множестве», а понятие «церкви» у Хомякова отождествил
с верой. По мнению Шперка, вне религиозного единения человек не
способен освободиться от грехов и достичь духовной целостности, т.
е реализоваться в полной мере.
К принципу «Реализуйся!» сводилось и активное творческое
самовыражение человека, художника, которое, по мысли Шперка, позволило
бы успешно соотнести очень разные сферы — чисто духовную и чисто
эстетическую в едином акте творчества. При этом понятие
«целостности» из философской переходило в область аксиологии и использовалось
Шперком как один из главных критериев в оценке художественного
произведения.
Следует подчеркнуть, что Шперк пользовался понятием целостности
художественного произведения в разных аспектах. С одной стороны,
он понимал целостность произведения как конструктивное единство,
единство текста. В статье «Современные заметки», посвященной
характеристике современных литературных течений, Шперк писал: «Да,
прошли прекрасные дни Аранхуэца, когда художественное произведение
выходило totus, teres atque rotundus (цельным, гладким и круглым) из
головы своего творца»16. Далее критик обвинял современных ему
писателей в том, что вместо цельных законченных произведений они
создают «эскиз, набросок, опыт, всякие прологи, начала и продолжения, но
только не художественные финалы». Не случаен используемый
Шперком образ королевского замка в Испании, где собирались и хранились
полотна европейских мастеров — «прекрасные дни Аранхуэца», т.е. в
данном случае Шперк апеллировал к эстетике Нового времени, когда
художественное произведение создавалось, трактовалось и
воспринималось как конструктивное единство.
С другой стороны, и чаще всего, целостность художественного
произведения рассматривалась Шперком как тесное взаимодействие всех
его частей: в единстве произведения проявляется и единство
личности его автора-творца, создающей особый внутренний мир. Идеей
подобия произведения и организма Шперк, несомненно, следует за Ап.
Григорьевым, который своей «органической критикой» оказывал
предпочтение «мысли сердечной» перед «мыслью головной», ратовал за
«синтетическое» начало в искусстве, за «рожденные», а не «деланные»
15 Благова Т. И. Соборность как философская категория у А. С. Хомякова / /
Славянофильство и современность. СПб., 1994. С. 180.
16 Шперк Ф. Современные типы // Новое время. 1897. 14 февраля.
210 «Мыслитель есть переводчик книги природы...»
произведения17. А Шперк в статье «Таланты последней формации»
напрямую сравнил художественное произведение с «организмом»: «В
произведениях старых мастеров мы всегда открываем некоторый
художественный замысел, который развивается и, в конце концов, образовывает
жизненный образ, т.е. некоторое органическое целое, подобно тому,
как в природе мы находим зародышевую клетку, которая развивается
и создает цельный, живой организм»18.
Рассматривая произведение с позиции его целостности, Шперк
считал, что истинно художественное произведение должно удерживать
в единстве оба начала: «что сказано» и «как сказано». В статье,
посвященной литературной деятельности H.H. Страхова, Шперк писал:
«Критики XVIII века касались формы произведения как чего-то от
содержания вполне отрешенного»19, и считал такой «формализм»
«беззаконным» — Шперк настаивал на том, что в форме должно обнаружиться
содержание. Отдавая предпочтение традиционным формам
литературного произведения («totus, teres atque rotundus»), Шперк в его
содержании стремился найти «историю нашего нравственного развития».
Именно поэтому он, отрицательно относившийся к формальным
поискам и новаторству декадентов, сочувственно воспринял общий
психологизм «новой литературы». Шперк понимал, что при смене
направлений в искусстве новому содержанию приходится изнутри «взрывать»
старую форму, чтобы дать дорогу новому направлению. Другое дело,
что «новое содержание» не всегда устраивало критика с точки зрения
основной идеи.
Идея «нравственного развития» в художественном творчестве
заключалась для Шперка в стремлении присоединить к «художнику»
«гражданина», а для него «гражданин» значил «христианин».
Два поколения русской интеллигенции — люди 40-х годов, сумевшие
сочетать эстетические и общественные тенденции, и гражданственные
и практичные люди 60-х годов обсуждали вопрос о предназначении
и роли искусства. В конце века наметился крупный поворот в судьбах
литературной критики. Все чаще в печати появлялись публикации,
связывавшие события литературной жизни не с социально-политическими
запросами современности и не с «чистым искусством», а с проблемами
философии. Чтобы ответить на вопрос о высшем смысле творчества,
которое по глубокому убеждению Шперка «есть не что иное, как искание
Бога, как своего рода молитва», необходимо было выйти за рамки чисто
литературных проблем в область религиозно-философских и
исторических представлений.
17 Григорьев Аполлон. Литературная критика. М., 1967. С. 135.
18 Шперк Ф. Таланты последней формации // Новое время. 1896. 22 июня.
19 Там же.
Федор Шперк — философ
211
Как литературный критик, Шперк, оглядываясь на всю русскую
литературную традицию XIX столетия, выстраивал парадигму ее развития
с точки зрения понятия реализации как творческого самовыражения:
«В грядущем — цель жизни, в настоящем — ее процесс, в
прошедшем — идея ее. В литературе нашей Достоевского я решился бы назвать
художником грядущего, Толстого — художником настоящего,
Тургенева — художником прошедшего. Отсюда мистичность первого,
драматическая жизненность второго и глубокая идейность последнего»20.
Магистральной линией «Тургенев — Толстой — Достоевский» Шперк
описывал движение русской литературы, и вообще искусства, к
соединению с религией, которая, по его убеждению, поможет искусству стать
реальной силой, «преобразить естественный строй человека, его
культуру, его творчество»21. Не в отрыве от культуры нужно обращаться
к религии, считал Шперк, но для того чтобы найти в ней разрешение
последних проблем культуры. Родоначальником этого процесса Шперк
считал Н.В. Гоголя.
Личная приязнь к Гоголю как личности во многом обусловила
внимание Шперка к гоголевскому творчеству и идеям: ««Он был центральным
примером для меня, на который я сводил все свои мысли и идеи в
критике этих психологически-эстетических вопросов. Так же дорого мне и то
в нем (впрочем, никем это, кажется, не замечено было), что вопросы эти
.все им глубоко переживались (разрядка Ф. Шперка — Т.С). В этом
и некоторых других болезненных пунктах я с ним схожусь характером.
Люблю я его странность, люблю я его критицизм, люблю даже его
наставнический тон и великое самолюбие! Все это есть во мне — только
в другом сочетании»22.
Шперк высоко оценивал все без исключения творчество Гоголя, а
известное гоголевское заявление о том, что «христианским, высшим вос-
питаньем должен воспитаться теперь поэт»23 Шперк воспринимал как
позицию не только в отношении Пушкина, но как тот ракурс, в котором
необходимо рассматривать и всю русскую литературу в целом.
В наследии Шперка отсутствуют специальные статьи или
развернутые характеристики гоголевских произведений. Тем не менее, именно
Гоголь воспринимался Шперком как самый яркий пример художника-
«христианина», показавшего, что истинный смысл человеческой жизни
заключается в нравственном совершенствовании: «Споры о том, кто —
Толстой или Тургенев — более значат, будут, конечно, еще долго
длиться, но пора убедиться, что ни тот, ни другой, ни оба они вместе не стоят
20 Шперк Федор. Философия индивидуальности. Varia. СПб., 1895. С. 49.
21 Зеньковский В. В. История русской философии. Л., 1991. Т. 1.4. 1. Гоголь.
С. 190.
22 Письмо Ф.Э. Шперка к В. В. Розанову от 22 января 1891 г.
23 Гоголь Н.В. Поли. собр. соч. в 14 Т. М., 1952. Т. 8. С. 407-408.
212 «Мыслитель есть переводчик книги природы...»
и одной строчки Гоголя. Если уж признавать за душевной жизнью
историю, то признавать ее в развитии нашего нравственного
смысла (разрядка Ф. Шперка — Т.С). А эта тонкая струйка
душевной жизни, которая частью игнорировалась нашими, да и всеми почти
психологами, увлекавшимися более богатством, сложностью и
тонкостью душевной обстановки, нашла свое выражение в простых творениях
Гоголя»24.
Вслед за пророчеством Гоголя о «православной культуре», Шперк
верил в то, что искусство может вызвать в читателе как собеседнике
искреннее движение к добру при необходимом сочетании эстетического
начала с этическим.
«Подлинно соединить красоту и добро может только то, что глубже
обоих начал, т. е. религия» — в этом состояла суть религиозных исканий
Гоголя25. Трагическая несоединенность в душе человека эстетического
и морального начала делала для Гоголя проблематичной тему
искусства; Шперк же, имея перед глазами историю развития русской культуры,
по крайней мере, на полвека длиннее, чем это было доступно Гоголю,
полагал, что эстетический гуманизм реален. Отсюда его настойчивый
поиск «чувства доброго» в любом проявлении художественного
творчества, отсюда же берет начало его концепция «христианского стиля»
русской литературы.
В «нравственном действии» состоял для Шперка смысл
художественного творчества как акта земной реализации человеческой
индивидуальности. С философской позиции «нравственного действия» Шперк
рассматривал и современную ему литературу, все движение русской
литературы на протяжении XIX столетия, и в этом же видел интенцию
развития искусства в будущем. «Христианин идет вперед» — так
называлась одна из глав гоголевских «Выбранных мест из переписки с
друзьями». Для Шперка эта формула стала вектором, по которому должно
идти развитие русской культуры.
Положенный в основу критического метода, принцип
«нравственного действия» обнимает практически все литературно-критические
работы Ф. Шперка, начиная с ранних публикаций и заканчивая обширными
концептуальными статьями в «Новом Времени».
Именно в публицистической форме критик стремился донести до
читателя свое суждение о текущем состоянии русской философской
мысли, когда философия в смысле отвлеченного, исключительно
теоретического познания окончила свое развитие, а нынешнее
философское познание должно отражать действительный мир. В этом взгляде
24 Письмо Ф.Э. Шперка к В. В. Розанову от 19 декабря 1890 г.
25 Зеньковский В. В. История русской философии. Л., 1991. Т. 1.4. 1. Гоголь.
С. 191.
Федор Шперк — философ
213
на русскую философскую мысль Шперка поддержал В. В. Розанов.
Высказывания Шперка и Розанова были так близки, что можно найти
почти текстуальные совпадения. «У нас есть двоякого рода философы:
философы-профессионалы и философы-самородки. Первые имеют
литературный успех, вторым принадлежит жизненное значение»26 — писал
Шперк в рецензии. Сравним с мнением В. В. Розанова относительно
философских взглядов самого Шперка: «Мы, русские, имеем две формы
выражения философских интересов: официальное, по службе, то есть
должностное. Это — «философия» наших университетских кафедр.
И мы имеем как бы философское сектантство: темные, бродящие
философские искания»27. Как философ и аналитик, Шперк чутко уловил
тенденцию конца века — русская философия настолько была
отлична от западноевропейской, что порой избирала совершенно
непривычные формы выражения. Шперк упоминает философов г. С. Сковороду,
П. А. Бакунина, П. Свечина, т. е. мыслителей, далеких от официального
статуса и поэтому лишенных серьезного к ним отношения.
Пристрастное и внимательное отношение Шперка к философским
вопросам заставила его вступить в жесткую полемику о путях
развития русской философской мысли конца века с самим B.C. Соловьёвым.
Книга «Оправдание добра» — основное сочинение В. Соловьёва в
области нравственной философии, чисто теоретический труд как звено
Э завершении его идеалистической системы. Выход этой книги28 вызвал
настоящую бурю в отечественной философской и литературной
периодике. В отклике на первое издание Н.Я. Грот считал работу
Соловьёва «первым опытом систематического и совершенно самостоятельного
рассмотрения основных начал нравственной философии. Это — первая
этическая система русского мыслителя»29. Кроме откликов
специалистов по разным конкретным отраслям знаний, было опубликовано
большое количество рецензий в нефилософских изданиях самого разного
направления (П. В. Мокиевский в «Русском Богатстве», Б. Никольский
в «Историческом Вестнике» и др.).
Рецензия Ф. Шперка отличалась совершенно необычной для
такого рода публикаций страстностью, и в большой степени была похожа
на памфлет. Уже в названии рецензии — «Ненужное оправдание»30 —
выразился его взгляд на «официальную философию». Основной упрек
26 Шперк Ф. Ежегодный Сизифов труд // Новое время. 1896. 25 декабря.
27 Розанов В. Две философии. / / Новое Время. Библиографическое
приложение. 1897. 12 октября.
28 Соловьёв В. Оправдание добра. Нравственная философия. СПб., 1897.
29 Грот Н.Я. Рецензия на: Вл. Соловьёв. Оправдание добра. Нравственная
философия. СПб., 1897. // Вопросы Философии и Психологии. 1897. № 36 (1).
С. 155.
30 Шперк Ф. Ненужное оправдание // Новое время. 1897. 26 февраля.
214 «Мыслитель есть переводчик книги природы...»
Соловьёву — излишнее теоретизирование, которое критик назвал
«иезуитизмом». «Когда мы доказываем геометрические теоремы, мы
ищем доводов у воображения и ума, а не у сердца; но когда мы хотим
доказать правоту добра в жизни... мы должны обращаться к сердцу,
а не уму»31.
Э. Голлербах со слов В. В. Розанова так оценивал эту рецензию:
«Шперк заметил после нескольких посещений Соловьёва, что это
«в высшей степени эстетическая натура, а вовсе не этическая». Может
быть поэтому и позволил себе Шперк очень развязный выпад против
Соловьёва»32. «Развязный выпад» был крайне острой реакцией со
стороны Шперка на то, что «эстетическая натура» В. Соловьёв, дав своей
книге подзаголовок «Нравственная философия», не сделал даже
попытки поставить перед собой и читателем вопрос нравственного выбора.
Нравственность, как считал Шперк, рассматривалась В. С. Соловьёвым
отвлеченно, вне ее связи с действительностью, а чисто философская
постановка проблемы казалась критику «нелепой» и «иезуитской»:
«Философский ум дан нам на то, чтобы направлять его на дела живые,
а В. С. Соловьёв берет «дело сердца» и превращает его в ряд
отвлеченных формул — это пустое время препровождение»33. В этом —
главный пункт расхождения Владимира Соловьёва и Федора Шперка. При
этом Шперк не случайно цитирует фразу из басни И. Хемницера
«Метафизик» о «веревке — вервии простом» — эта распространенная
характеристика пустого теоретизирования достаточно четко определяет
позицию Шперка по отношению к форме соловьёвского труда, но не по
отношению к идеям его.
Противостояние между маститым философом и критиком B.C.
Соловьёвым и начинающим литератором было, конечно, неравным. На
стороне B.C. Соловьёва выступил A.C. Суворин34. Упрек в «иезуитизме»,
предъявленный Шперком Соловьёву, как «яркий образчик фальшивой
морали отвлеченных философов»35, был понят Сувориным буквально.
Шперку пришлось объясняться и с главным редактором газеты «Новое
Время». В одном из писем к редактору Шперк писал: «В книге
Соловьёва я вижу «иезуитизм мысли», но его самого, как писателя, поэта
и философа «иезуитом» не считаю»36.
На стороне В. С. Соловьёва в этой полемике.выступил и В. В.
Розанов. Ситуация усугубилась еще и тем, что именно Розанов дал книгу
31 Там же.
32 Голлербах Э. В. Встречи и впечатления. СПб. 1998. С. 58.
33 Шперк Ф. Ненужное оправдание // Новое время. 1897. 26 февраля.
34 Суворин A.C. Маленькие письма. // «Новое Время». 1897. 1 марта.
№ 7546.
35 Шперк Ф. Ненужное оправдание // Новое время. 1897. 26 февраля
36 Письма Ф.Э. Шперка к A.C. Суворину. РГАЛИ, ф. 459, оп. 1, д. 4789. Л. 1.
Федор Шперк — философ
215
«Оправдание добра» Шперку на прочтение, хотя и не подозревая
о том, какую злую рецензию тот напишет. Внешне Розанов
«негодовал» на Шперка и письменно уверял Соловьёва, что сам он к этой
рецензии непричастен, и со Шперком ни в коем случае не «солидарен»37.
Однако позже Розанов в комментариям к письмам Соловьёва все же
расставил все акценты и определил свое отношение к этой полемике
достаточно четко: «Не нравится» — это сильнее всякой причины и,
в сущности, не нуждается в оправданиях, как и не может быть ничем
подкреплено»38.
Самого В. С. Соловьёва рецензия Шперка «мучительно задела и по
талантливости имела силу задеть»39. Статья молодого критика была
едва ли не единственной из непрофессиональных отзывов на
философское сочинение, на которое Соловьёв ответил в печати40.
В форме критических заметок Шперк мог высказаться не только на
темы философии, но также и рецензировать ряд литературных
произведений, объединенных каким-либо признаком, прокомментировать их
и вычленить наиболее характерную и принципиальную составляющую,
которая рассматривалась критиком как мировоззренческая и
эстетическая основа всего творческого направления авторов. Такой принцип
анализа давал возможность проследить на примере конкретного
произведения основные тенденции не только отдельного литературного
направления, но и всего современного литературного процесса в целом.
Например, очень остро в конце века обсуждалось такое явление как
возникновение декадентской литературы.
Шперк постоянно противопоставлял модернизм классической
русской литературе как «новое» и «старое», отдавая безусловное
предпочтение второму. Характеристика «новое» по отношению к модернистской
литературе у Шперка носило явно негативный отпечаток, подразумевая
спад, деградацию, декаданс, понижение качества. С точки зрения
понятия целостности «новая литература» не выдерживала никакой
критики: «Декадентские произведения — это эстетические ассоциации
бессвязных душевных впечатлений, осколки вместо образов,
творческий произвол вместо творческой свободы»41. Основная отличительная
особенность литературы этого направления, по мнению Шперка, —
дезорганизованное™, что, в свою очередь, объявлялось им характерной
чертой всей литературы последнего времени.
37 Розанов В. В. Из старых писем. Письма Влад. Серг. Соловьёва. // Розанов
В. В. Русская мысль. М., 2006. С. 476.
38 Там же.
39 Там же.
40 Соловьёв В. С. Воскресные письма. О так называемых вопросах. / / Русь.
1897. 2 марта.
41 Шперк Ф. Таланты последней формации / / Новое время. 1896. 22 июня.
216 «Мыслитель есть переводчик книги природы...»
Однако, несмотря на в целом негативное отношение Шперка к
поискам модернистов, он тем не менее понимал, что на литературную сцену
выходит сила, обозначившая рождение иного культурного сознания.
Шперк утверждал, что декадентская литература далеко не случайное
явление: «В декадентстве мы видим, именно, некоторое глубочайшее
и коренное заболевание человеческого духа, «душевный рак», говоря
словами Ап. Григорьева. Яд этой болезни, может быть постепенно
собирался со всех поколений в продолжение многовековой истории
человечества, но только теперь подействовавший в своей смертоносной силе.
Но нет ничего невероятного в предположении, что эта органическая
глубокая болезнь исторически необходима для блага самих же людей;
нет ничего невероятного в том, что будущее поколение расцветет
новой, первобытно-свежей, бесконечно-здоровой жизнью на
преждевременных руинах современности»42.
Утрату «цельности души» Ф. Шперк считал характерной для всего
духа времени конца XIX века. Причину этого он усматривал в потере
нравственных ориентиров, утрате духовности, душевной пустоте: «Из
души человеческой ушел Бог» — вот рефрен многих его статей,
посвященных описанию и критике современных нравов. Потеря смысла
жизни молодым, современным Шперку поколением, связывается критиком
с утратой веры: «Раз он ищет смысла, он работает мыслью, разумом,
а жизнь так бесконечно сильнее и многостороннее мысли. Для того
чтобы жить, надо хотеть жить, а для того, чтобы что-нибудь хотеть, надо
в это верить». Причем для Шперка было совершенно не важно, в какой
сфере духовной жизни человек может осуществить свою реализации,
лишь бы вера вела человека на этом пути. «В детях, то есть в созидании
физического тела человечества, и в труде, то есть в созидании
исторической, духовной энергии, смысл жизненного процесса. Великие
указания Книги Бытия и по наши дни велики и единственно авторитетны.
Трудитесь в поте лица своего и в мучениях рождайте людей — вот что
сказано той и другой стороне человечества, и ни одна йота этого закона
не сотрется в истории»43.
Говоря о «духовных движениях в России, о прозрениях будущего,
о самых ценных в этом отношении людях»44, В. В. Розанов в первую
очередь называл имя Федора Шперка. Незаслуженно-забытый сегодня, он
был самобытным философом и критиком, искал новые пути для
прочтения русской классики и шел по тем «вехам», которые вели к осознанию
«духа христианского мировоззрения во всей его истине».
42 Там же.
43 Шперк Ф. Современные заметки // Новое время. 1897. 9 января.
44 Перцов П. П. Литературные воспоминания. 1890-1902 гг. М., 2002.
С. 261.
Федор Шперк — философ
217
Христианская ориентированность основных философско-эстетичес-
ких интуиции Ф.Э. Шперка была достаточно определенна и четко им
декларировалась. Отказываясь от наследия 1860-х годов, Шперк искал
новое мировоззрение в смене философской парадигмы российского
общества. Индивидуальное духовное самосовершенствование и слияние
всех людей в едином русле христианства — в этом Шперк видел смысл
и значение художественного творчества.
ФЕДОР ШПЕРК: ФИЛОСОФСКИЕ ОЧЕРКИ
(1892-1897 ГГ.)1
МЫСЛЬ И РЕФЛЕКСИЯ2.
Афоризмы.
Из помещенного автором в периодической печати вошло сюда
отдельными отрывками: в №№ XLVIII, XLIX и XIX, XX мысли о евреях (Школьное
обозрение 94. №12-13), о смысле западноевропейской цивилизации и о
терпимости (Вестн[ик] Иностранной] Лит[ературы] 94. 7, о терпимости,
по поводу речи Ж. Леметра)3.
I.
Удивительно то чувство, которое и самое глубокое и самое истинное
в душе человека: понимание им своей виновности перед Богом и
абсолютного непонимания чужой вины. В редкие минуты человеческого
самосознания, несомненно, пробуждается оно — и во всей своей резкой
двойственности.
II.
Что дорого для нас в жизни? Вечные ли черты в ней или ее текущие,
изменчивые, индивидуальные? Последнее — суета жизни! Так как
специфическое жизни заключено в ней.
III.
Добрый человек не боится смерти. Постоянное самоотречение в
жизни приуготовило его к часу конечного самоотречения. И в этом — награда
ему за добро его. Злой человек, напротив, боится смерти: никогда не
жертвуя собой, он не приуготовил себя к последней высшей жертве, и она,
естественно, представляется ему чем-то и неизбежным и невыполнимым,
какой-то задачей, требующей от человека сверхчеловеческих сил. В этом
и заключается наказание его.
1 Публикуются пять из семи наиболее значимых философских очерков
Ф.Э. Шперка. Не печатаются две ранние работы: «Система Спинозы» (1893 г.),
«Метафизика мировых процессов» (1893 г.)
2 СПб. 1895. Типография М. Меркушева.
3 Леметр (Lemaitre) Жюль Франсуа (1853-1914), французский критик и
писатель, выступал с позиций махрового национализма.
Федор Шперк: Философские очерки (1892-1897 гг.) 219
IV.
Наиболее близкого соприкосновения с действительностью достигает
чувственность, дети, поэтому, стоят наиболее близко к природе: в них
эта сила доминирует.
V.
Сознательное хотение смерти есть основное зло в воле человека;
бессознательное — основная благая тенденция в нем; причем
бессознательное хотение и есть истинная, т.е. продуктивная воля.
VI.
Если бессознательная воля есть настоящая продуктивная воля, то,
боюсь я, не скрыты ли от знания человеческого и истинные благодеяния
и истинные преступления личности?
VII.
Физическая сила мужчины — источник ложного понимания его
достоинств; интеллектуальное бессилие женщины — источник ложного понима-
• ния ее недостатков. Мужчину наделяют силою воли, мужеством, гордостью —
всем, что гармонирует с телесной мощью, но, увы, физически не принадлежит
ему; у женщины, наоборот, отнимают силу воли,, мужество, гордость,
которые не гармонирую, конечно, с умственным и физическим бессилием, но зато
фактически принадлежат ей. Сила воли, мужество, гордость — это состояния
одной психической силы — воображения, — а воображение есть духовный
центр женщины.
VIII.
Вся человеческая этика может быть выражена в трех требованиях:
будь целомудр, уважай себя и люби; но она может быть выражена и
только постулатом: люби, так как в любви христианской уже заключено
самоуважение, а в самоуважении заключено уже целомудрие.
IX.
Жизнь — потемки, а духовные очи наши приноровлены к свету так же,
как и физические.
X.
Справедливы могут быть только суждения о себе, так как только
они могут быть основаны на понимании душевной обстановки мотивов
220 «Мыслитель есть переводчик книги природы...*
нравственной жизни человека. Суждения объективные всегда ложны,
ложны именно как суждения о единичных мотивах, выхваченных из
целостной душевной сферы. Отсюда и снисходительность, присущая
первым, и обычная суровость последних.
XI.
В истинном смехе и в истинном плаче обнаруживается детскость
души нашей. И не хороши ни смех тот, ни тот плач, которые этой
психической черты не обнаруживают. Ведь, прежде всего, главным образом
они присущи детям.
XII.
В индивидуальности каждого — его внутренняя свобода. Доле этой
внутренней свободы, естественному наслаждению человека,
эстетическому моменту его жизни, — соответствует доля внешней зависимости,
нести которую составляет его долг, этический момент его жизни. Доля
внутренней свободы дается внутренней индивидуальностью человека;
доля внешней зависимости налагается на человека семьей, обществом,
государством, церковью. Гармония внутренней свободы и внешней
зависимости, наслаждения и долга, составляет человеческий идеал.
XIV.
Духовная любовь полов, кажется мне, обратна, по своему существу,
половому чувству; это — связь, но связь скорее отрицательная,
нежели положительная. Мы, именно, понимаем духовную любовь полов как
взаимодействие разума (мужчины) и воображения (женщины); но
взаимодействие это есть взаимодействие не двух элементов одного целого,
которое положительно, а двух самостоятельных целых, которое,
именно, отрицательно.
XV.
Мелочные черты и слабости в личности гениальных творческих умов —
продуктивны не менее, нежели их великие черты. Теоретическую
мудрость создают последние; практическою восполняют эту первые.
XVI.
Люди любят порицать себя в общем и абстрактно и не терпят критики
частного и конкретного в себе.
Федор Шперк: Философские очерки (1892-1897 гг.) 221
XVII.
История человечества есть, по своему внутреннему смыслу, история
различных попыток человека осуществить индивидуальную свободу. Различие
форм этих попыток определяет различие эпох истории. Так, античная эпоха
представляется как эпоха попытки проложения практического пути к
свободе; средневековая эпоха — эпоха проложения мистического пути к
свободе; наконец, переживаемая нами эпоха является эпохой теоретического
искания свободы. Только всегда и всюду индивидуальная независимость
была идеалом, была путеводной звездой человека в истории.
XVIII.
Индивидуальной природе свойственно улучшение и чуждо ей внешне
всякое ухудшение. Отсюда эта незаметность перехода
индивидуальности в высшее состояние и напряжение болезненности в переживании ею
низшего.
XIX/XX.
Терпимость должна относиться только к личности, только к живой
единице. Терпимы мы должны быть к человеку — носителю иных обычаев,
верований и убеждений, но только и исключительно к самому человеку.
.Терпимые к живой единице, мы должны быть безусловно нетерпимы ко
всему, что коснется ее, раз это все признается нами ложью и злом. В том
нет чувства любви к добру и истине, в ком нет чувства ненависти к злу
и лжи. Носителя лжи и заблуждений — человека — мы призваны любить
и уважать, и борьба с ним всегда приведет к инквизиции. Но с идеями,
верованиями и убеждениями, — насколько полагаем их опасными и
неистинными — мы призваны бороться. Разумеется, оружие наше должно
отвечать объекту и цели борьбы. В средние века объектом борьбы была
личность и, сообразно этому, средства борьбы были реальные. Нынче
объектом борьбы сделалась идея, и средства борьбы становятся идеальными.
Время инквизиции прошло, наступили времена критики. Терпимость,
глубочайшая терпимость по отношению к личности! Всякая личность должна
быть sacrosancta4; но идеи, убеждения, верования ее как таковые — они
или признаются отвечающими истине и тогда утверждаются нами, или
признаются противоречащими истине и тогда отвергаются.
XXI.
Способен ли художник полно и цельно наслаждаться продуктом
своего дарования? Не разъединены ли его взгляды, обращенные в момент
4 Здесь: свята (лат.)
222 «Мыслитель есть переводчик книги природы...»
творчества — на достоинства развивающейся идеи, в момент
критического созерцания — на недостатки осуществленной формы?
XXII.
Бессмертие души явствует для меня из следующей аналогии трех
основных мистических моментов жизни: актиЕно-пассивный момент рождения
связует рождающего и рождающегося; активно-пассивный момент брака
связует мужчину и женщину; пассивно-активный момент смерти, — не
очевидно ли — связует умирающее и... не умирающее.
XXIII.
Нравственный закон (закон категории Духа) требует от человека
такого самоотречения, которое свидетельствовало бы об индивидуальной
силе его, именно любви и запрещает ему такое самоотречение, которое
свидетельствовало бы о бессилии его — именно неуважение к себе.
XXIV.
Нравственный закон (закон категории Личности) требует от
человека такого самоутверждения, которое свидетельствовало бы о
индивидуальной силе его, именно самоуважения, и запрещает ему такое
утверждение себя, которое свидетельствовало бы о бессилии его —
именно себялюбие.
XXV.
Уважать должно только себя, любить же всегда свое не я — Бога,
природу, ближнего.
XXVI.
В чем состоит целомудрие, или в чем состоит закон душевной
категории Плоти?
Женщина целомудра — не падающая (не отрицающая себя) ;
мужчина целомудр — не насилующий (не утверждающий себя).
Тождество, безразличие этих противоположностей, из которых
каждая составляет закон двух высших душевных категорий (Личности
и Духа. Аф. XXIII и XXIV), очевидно составляет требование категории
Плоти. Тут закон выяснен на эстетическом обнаружении ее; то же
существо его и в ее этических и в ее мистических проявлениях. Эстетически
категория Плоти проявляется в отношениях человека к (другому) полу;
Федор Шперк: Философские очерки (1892-1897 гг.) 223
этически — в отношениях к роду, к семье; мистически — в отношении
к себе, как носителю сознания Плоти. Мистическое целомудрие есть
самый глубокий момент душевной жизни человека. Нарушение его (в
известной аномалии) есть нарушение целости, тождества индивидуального «я».
Закон Плоти или целомудрие, сказали мы, требует тождества
самоутверждения и самоотрицания, безразличия субъективности
(закона Личности) и объективности (закона Духа. Аф. XXV). Мастурбантом
последнее и нарушается очевидно. В психике его, именно, выделяются:
насилующая личность — субъект и личность насилуемая, падающая —
объект. И этим-то порывается абсолютное единство его «я».
XXVII.
Эстетически, этически и мистически проявляются и высшие
душевные категории.
Самоуважение (закон категории Личности) проявляется в
правдивости — мистическим образом; в гордости — эстетически; в
справедливости — этически.
Любовь (закон категории Духа) проявляется в любви к Богу —
мистически; в любви к ближнему — этически; в любви к природе — эстетически.
XXVIII.
Истинных художников характеризует в процессе творчества
естественная напряженность воображения, т. е. напряженность, которая
приближает воображение к действительности, а не отдаляет от нее, делает его
конкретнее и объективнее, а не абстрактнее и субъективнее.
XXIX.
В слоге сказывается отношение к национальности, к языку народа;
в стиле — отношение к индивидуальности, к личному языку.
XXX.
Литературного таланта не существует, а существуют разные формы
и степени воображения, т. е. известной субъективной способности,
которыми обусловливается стиль.
XXXI.
В продуктах человеческого творчества форма настолько обусловлена
содержанием, что положительно достаточно развитого формального или
224 «Мыслитель есть переводчик книги природы..л
стилистического чутья для более или менее справедливой общей
оценки внутренней сущности их.
XXXII.
Стиль относится к характеру личности как ее абстрактное
воображение к ее конкретному.
XXXIII.
Болезнь есть всегда побочный элемент в творческом духе. Всякое
творчество, как таковое, основано на известном избытке сил и здоровья.
И продуктивный дух в том, что он творит и насколько он продуктивен —
нормален,здоров.
XXXIV.
В среде людей не теряй из виду себя; в одиночестве не теряй из виду
людей.
XXXV.
Воображение художника должно обладать теми свойствами, которые
отличают чувственное сознание ребенка (Аф. IV и XXVIII).
XXXVI.
Мыслитель есть переводчик книги природы на язык человеческого
разума; достоинства этого перевода — его точность или натуральность
и понятность или индивидуальность его.
XXXVII.
Приходится все несомненнее убеждаться, что есть нечто более
могущественное, нежели человеческий разум, а именно тяжесть глупости
человеческой. Мудрец не возвысит глупца; глупец унизит мудреца, низведет
его до уровня своего.
XXXVIII/XXXIX.
Абсолютная действительность в относительной сфере есть идеал.
Истина, добро и красота представляют триединство его. Истина есть
абсолютное в отвлеченной природе; абсолютное в форме природы есть
Федор Шперк: Философские очерки (1892-1897 гг.) 225_
красота, или же красота есть некоторая истина формы природы;
абсолютное в содержании природы есть благо, или же благо есть некоторая
истина содержания природы.
XL.
Абсолютное живет своим продуктивным законом и не нуждается
в посредстве чего-либо для проявления этого начала. Природа же живет
законом абсолютного, т. е. не своим началом и в силу этого нуждается
в посредстве форм, именно, законов природы, могущих провести в нее
отличное начало.
XLI.
Все, что происходит в природе, есть видоизмененная законами
природы непосредственная жизнь абсолютного духа, или жизнь природы есть
непосредственная жизнь Абсолюта.
XLII.
В индивидуальной природе мы представляем собою цельные, но
несовершенные сознания и воли; наша конечная цель — освободиться
от этой формы и получить диаметрально ей обратную, т. е. потерять
свою целостность и приобресть причастность к совершенству или
точнее сделаться элементом совершенного.
XLIII.
Все во внешней природе совершается по движению одного
бесконечного, стало быть, свободно. Но непосредственно свободно оно в самом
бесконечном, в природе же оно непосредственно-свободно или свободно-
закономерно.
XLIV.
Положение: это есть продукт моей воли — сводится к
положению: это есть действие некоторой причины во внешней природе, на
которое моя воля наложена как чистая форма. Иного значения, как
чисто-оформляющего, продуктивность воли не имеет. Особенно
важной и результатной делается эта идея, приложенная к понятию
трансцендентной воли. Она объясняет и оправдывает, именно, несовершенство
индивидуального мира, как возникшего причинно, и вместе с тем именно
утверждает этот мир — как продукт трансцендентной воли.
226 «Мыслитель есть переводчик книги природы..л
XLV.
Свобода воли двояка: она заключается или в природе чистой воли, или
в природе мотива воли. В первом случае — это ничтожная, в последнем
случае — это абсолютная, совершенная свобода. Первый вид свободы
заключается в природе воли, как безразличия (тождества) полагания или
отрицания чего-либо; но противоположности (именно — полагание
и отрицание) в безразличии выражают чистое ничто: где полагание есть
отрицание, оно уже не есть полагание, оно нетождественно себе, и где
отрицание есть полагание, оно уже не есть отрицание, оно не тождественно
себе. Но того, что нетождественно себе — нет, то есть ничто. И, стало
быть, чистая воля есть ничто или есть ничтожная свобода5. Второй
вид свободы^ воли заключается в бесконечности мотива ничтожно
свободной (чистой), т. е. определяемой воли. Такова, частью, свобода воли
человека и, всецело, свобода воли абсолютного.
XLVI.
Судьба выражает для меня мою бессознательную волю, как истинно
продуктивную, и в нее верю я.
XLVII.
Реформа философии, произведенная «Метафизикой мировых
процессов», сосредоточена в ее идее сознания (и воли), как небытия. То,
что до меня определялось только общим, абстрактным образом — как
чистая форма — приведено мною к конкретному определению — как
небытия. До меня не было, именно, очевидным, что раз сознание (или
воля) определяется чистой формой, оно необходимо должно быть
признано небытием. Труден к тому шаг, что примитивно и просто: формою
мы определяем то, что не есть содержание или то, что абсолютно
бессодержательно. Но абсолютно бессодержательно, т.е. ничтожно
только и именно ничто или небытие. Форма в природе есть, стало быть,
ничто или небытие (а содержание — бытие) и значит — сознание и воля,
как чистые формы, — суть выражения небытия (Аф. XLV).
XLVIII.
Смысл семитической индивидуальности и значение ее во всемирной
истории можно будет формулировать так: еврей есть выразитель первой
(в эволюции) душевной категории, именно, плоти или сферы половых,
родовых и рефлективно-мистических чувств; еврей есть выразитель той ду-
5 Метафизика мировых процессов. Основы, стр. 25. (прим. Шперка Ф.Э. )
Федор Шперк: Философские очерки (1892-1897 гг.) 227
шевной области, в которой и субъективность и объективность содержатся
еще в своем безразличии, в своем тождестве (Аф. XXVI). Осуществление
плотских законов всегда составляло и высшую гордость, и величайшую
радость его. Нет племени чище, целомудреннее семитического. Отсюда
долговечность и удивительная плодовитость его. В плотских
отношениях семит несравненно выше арийца. Половой, семейный разврат — не
чужд ему, но ему чуждо отношение к плоти, столь обычное арийцу, —
как к чему-то второстепенному, побочному. В этом сила еврея. Вспомните
только удивительные постановления Моисея, регулирующие сферу
плотских чувств; обратите внимание на неизменную крепость семитической
семьи; вникните, наконец, в источник особой, исключительной
художественности в воспроизведении евреями полового чувства (Соломон, Гейне).
То, что арийцу кажется низким (плоть), семиту представляется
глубоким. Позволительно, вообще, будет сказать, что, насколько
истинный выразитель христианской любви в истории, нам думается, — это
русский народ — наиболее высокий психический тип, настолько народ
«избранный и отверженный», выразитель плоти, — наиболее в
истории глубокий. Но, осуществляя с такою полностью первую категорию
человеческих чувств, семит безусловно отрицательно выразил собою
последующие две категории (Аф. XXIII и XXIV). Он как бы остановился,
застыл в этой душевной сфере. Правдивость, гордость, храбрость, сло-
.вом, душевные состояния, выражающие самоуважение личности,
пребыли неведомыми ему. Он именно не субъективен: где постулируется,
требуется субъективность — он объективен, подавляем (фиктивным)
внешним (благом). Сюда и отнесем его поклонение «золотому тельцу»,
как наиболее общему выражению ложного объективного блага.
Однако, не истинно субъективен или себя уважающ, он и не любящ, не
объективен истинно. Отсутствие у него эстетической любви, т. е.
любви к природе — общеизвестно. В. Розанов («Место христианства
в истории»)6 правильно указывал на то, что в св. Писании нет детальных
описаний природы. Мистическая любовь еврея (к Богу)
представляется нам проблематичной. Вера его, несомненно, сильна, но согрета ли
она чувством любви? Любви этической, т. е. к ближнему, семит живо,
сильно не проявил ни разу на всем протяжении своего исторического
существования. Его отрицание действительного Христа и ожидание им
грядущего ясно, на наш взгляд, свидетельствуют, что фактически
усвоить, пережить в себе добро (любовь) еврей не в состоянии; он только
способен идеализировать его; он эстетик, но не этик любви.
Отсюда и отсутствие взаимной связи между евреями (так как любви
между ними нет), которым объясняется бессилие их государственной
6 Розанов В. В. Место христианства в истории. Русский Вестник. 1890. №1.
С. 94-119.
228 «Мыслитель есть переводчик книги природы...»
жизни. За эгоизм (ложную субъективность), за жестокость,
черствость сердца ненавидят еврея; за неуважение к себе и, неотделимую
от этого, подавленность фиктивными внешними благами (ложную
объективность) — презирают его. И ненависть, и презрение к еврею
естественны, законны. Но забывать не будем, что есть целая категория
душевных состояний, которая, строго говоря, ни чувству уважения, ни
чувству любви не подлежит. В ней и значащ еврейский народ. В нем,
именно, нет легкомыслия по отношению к чувствам, окружающим самый
источник, родник человеческой жизни. Отсюда во всем некоторая
таинственность еврея, столь привлекательная и почти отсутствующая у арийца.
На семени еврея, можно бы сказать, почила благодать Господня, но не на
нем самом*..
XLIX.
Важнейшим, основным продуктом западно-европейской истории
представляется мне, выработанное ею, самоуважение личности. Наука и
искусство — только средство к достижению этой общей духовной цели.
Славянофилы наши проглядели то общее, к чему стремился и что
созидал Запад; они уразумели только обстановку, только средства и
потому-то возненавидели его. Мы не думаем отрицать, напротив, мы будем
утверждать, что христианская любовь (категория Духа), во
всестороннем осуществлении своем, составляет предмет индивидуальных
стремлений и потребностей русского народа и смысл, и цель его исторической
жизни. Но неужели не на самоуважении личности будет построено
милосердие (Аф. VIII), неужели мы отвергнем западно-европейским
фундамент для своего построения?
Искусство и наука Западной Европы — они имеют тот же смысл,
какой заключался в праве Рима, который впервые выработал себе сознание
личности и уважение к ней.
Европа дает нам только дальнейшее развитие римских начал, и в этом
заключается значение ее истории и духа.
L.
Семитическое сознание осуществило в истории категорию Плоти (Аф.
XLVII). Рим, в своем праве, выработал сознание основных элементов
категории Личности; вполне реализована эта категория западно-европейской
цивилизацией. Осуществление закона третьей сферы души
человеческой — категории Духа или любви, предстоит, по всей видимости, нашему
народу. Естественное следование душевных сфер (первая — категория
Плоти или сфера целомудрия; вторая — категория Личности или сфера
самоуважения; третья — категория Духа или сфера любви) вполне сов-
Федор Шперк: Философские очерки (1892-1897 гг.) 229_
падает с историческим следованием носителей их. Первоначально
выступает в истории семитическое племя; вторым выдвигается романский дух,
затем его дополняющий — германский; третьим, последним, выходит
славянство. Так же любовь предполагает самоуважение, а самоуважение
предполагает целомудрие.
LI.
Та душевная сфера (категория Личности), которая с изначала несла
в себе тенденцию замкнуться, скрыть основное в себе (первоначальное
значение слова persona (личность) — маска), корни этической воли, пройдя
процесс западно-европейской истории, — стала непроницаемой. Личность
(маска) облеклась в при-личие и сделалась неузнаваемой в своей истинной
сущности. Несомненно, некоторая этическая ложь составляет жизненный
принцип этой психической категории. Чем душевно сильнее носитель ее,
тем обман искреннее, тем замкнутее личность, тем менее просвечивает
воля из-за всех тех индивидуальных, невольных черт, которые образуют
как бы психическую оболочку, скорлупу личного сознания. Наоборот, чем
душевно слабее носитель категории, тем его воля более обнажена, тем
менее ей предпослано невольного, индивидуального материала, и тем сильнее
рефлексия в ней, т. е. присутствие интеллектуального элемента, словом,
тем прозрачнее психическая оболочка его воли.
В выработке невольного, индивидуального и в покрытии этим
последним корней человеческой воли и заключается, на мой взгляд, то, что
Ницше называет выработкой стиля характера.
LH.
Христианский закон требует смирения и этим как будто отрицает то
этическое сознание человека, которое состоит именно в утверждении
его «я», как некоторой абсолютной силы. Но нет, этот закон не отрицает
самоуважения, он только требует того, чтобы человек не сознал в
последнем свою конечную нравственную инстанцию, некоторое целое,
некоторое все своего духа, а внес самоуважение элементом, составной частью
в высшее, в более полное сознание любви.
LUI.
Тенденция человека казаться цельным и совершенным порождает
другую — скрывать то, что ощущается им как неполнота или недостаток.
Отсюда, например, желание его скрыть свои половые органы, которые, как
признаки полового различия, свидетельствуют о (половой) неполноте,
которой мы только и именно стыдимся. Но человек, как будто, может
230 «Мыслитель есть переводчик книги природы...»
стыдиться и того, что составляет достоинство его, например, стыдиться
обнаружить глубочайшие корни своей воли или свое сокровенное личное
«я». Но и тут стыдится он не этого «я», которое есть его психическая сила,
а, именно, обнажения, открытия этого «я», что противоречит
некоторому этическому закону (требованию категории Личности. Аф. LI) и, в силу
этого, составляет нравственную слабость. Не оттого ли тоже стыдится
человек и телесной наготы своей? Не боится ли он, в тайниках души
своей, простоты, не боится ли он того, что через нагое тело — невольно
и бессознательно будет просвечивать внутреннее «я» личности, которое
и бережет он именно, и, повинуясь известному нравственному
императиву, — скрывает?
LIV.
Мы различаем три вида единства: противоестественное или
единоличное (индивидуум при своем половом отличии), естественное или
двуличное (половой акт)7 и сверхъестественное или трехличное. В последнем
дано благо; в первом дано зло; в естественном единстве дано и благо и зло
(познание добра и зла): благо настолько, насколько в нем человек
приблизился к сверхъестественному единству, абсолютному благу, к Богу, зло
насколько оно — естественное единство — есть источник множества
(размножения) и через это, человек приблизился к земле, к природе6.
LV.
Половой психопат, урод и убийца нарушают законы трех
мистических моментов природы: полового акта (первый), зачатия (второй) и
смерти (третий). Отсюда чувство мистического ужаса перед ними и какого-то
коренного душевного содрогания.
LVI.
Насколько категория Плоти, по природе, первичнее категории
Личности, настолько внешнее нарушение первой существеннее, кореннее
внешнего нарушения второй. Этим мы и объясняем то, что, например,
оскорбление родителей или детей, как внешнее отрицание плотских от-
7 Г. Вл. Соловьев полагает («Смысл любви»), что в браке осуществляется
некоторое триединство. Это безусловно ошибочно: в браке дано фактически только
двуединство и с ним добро и зло. В индивидуальной природе только человеческий
идеал имеет триединую форму, (прим. Ф.Э. Шперка).
8 Имеется в виду статья «Смысл любви» (1892-1894), касающаяся учения
Вл. Соловьева о вечной женственности, всеединстве и переосмысленной им
платонической философии Эроса.
Федор Шперк: Философские очерки (1892-1897 гг.) 231_
ношений, менее терпимо нами и тяжелее и глубже для сознания —
оскорбления нашей Личности, как внешнего отрицания вторичной душевной
сферы.
LVII.
Полового акта мы не стыдимся, а стыдимся сопровождающих его
явлений, которые, в силу того, что половой акт захватывает, сосредоточивает
на себе все человеческое внимание, — обнаруживает личность со слабой
(в особенности в эстетическом отношении) стороны. Полового акта мы
потому не стыдимся и не можем стыдиться, что в нем, как двуличном
единстве (Аф. LIV) дана не низшая, а высшая форма проявления
человечности.
Эта идея наша вполне отвечает естественнонаучной дедукции чувства
полового стыда. Например, L. Tillier в своем оригинальном труде: «L'instinct
sexuel chez l'homme et chez les animaux»9 пишет по поводу этого
следующее: «Нам кажется очевидным, что это чувство (стыда) имело своим
первоисточником необходимость скрываться во время опасности при
совокуплении: совокупившиеся индивиды, безусловно неспособные ни заботиться
о сохранении себя, ни быть на стороже во время полового союза, — были
естественно принуждаемы отыскивать себе места уединения. С общей точки
зрения — аналогичная тенденция (как ни зачаточна она) встречается уже
у многих диких видов и, если мы находим нечто отличное у своих домашних
животных, то это, конечно, зависит от безопасности, которая
гарантирована для них, — хотя и тут будет весьма любопытно сравнить, например,
собаку, вполне уже подчинившуюся нам, с кошкой, еще наполовину дикой.
Некоторым будто бы известно даже, что животные, имеющие
продолжительный coitus, скрываются тщательнее, нежели другие. Прибавим к этому,
что и мы имеем обыкновение уединяться и не только для совершения
полового акта, но и для удовлетворения других физиологических потребностей,
которые, наравне с coitus'oM, лишают нас свободы действия»10.
LVIII.
Половое различие есть неполнота, которая особенно ощутительна для
человека по совершившемся половом акте, как осуществленном
единстве, как достигнутой полноты и цельности человеческой природы.
Стыд первых людей, вслед за грехопадением, и выражал это ощущение
ими своего полового различия как недостатка.
9 Тийе Л. (Tillier L). «Сексуальный инстинкт у людей и животных».Париж.
1889.
10 Lib. cit. Paris. 1889. Page 254. (прим. Ф.Э. Шперка)
232 «Мыслитель есть переводчик книги природы...»
LIX.
Иного характера стыд девственницы или девственника. Их стыд
относится к факту сознания человеком известной потенции (способности)
в себе, которая не переходит в актуальное (деятельное) состояние, т.
е. известной импотенции. Половой потенции, как актуальной импотент-
ности (неспособности), как некоторого недостатка тоже, — и стыдятся
они.
LX.
Брак губит стыд, вводя половую способность в неизменное деятельное
состояние и, постоянным единением полов, достигая понижения в них
чувства полового различия, как неполноты.
LXI.
Стыдиться своей половой функции можно или как неполноты или как
потенции только.
LXII.
Сладострастие возбуждается мощью безобразия женщины; половая
любовь — мощью красоты ее.
LXIII.
Подобие Божие сказалось в человеке в свободе его воли; и если Бог
есть, прежде всего, предмет веры, то и в свободу воли, как божественную
или абсолютную черту человека должно быть, прежде всего, уверо-
вано.
LXIV.
Нравственным миром человека управляют четыре силы: добро, зло,
наслаждение и страдание. Первые две — абсолютно чистые
величины: безусловно положительная и безусловно отрицательная. Вторые
две, несомненно, смешанные: наслаждение положительно в себе —
оно есть обнаружение индивидуальной силы — и отрицательно в своем
отношении к тому, что имеет абсолютный смысл: в наслаждении человек
отдаляется от Бога. Страдание, напротив, отрицательно в себе — оно
есть обнаружение индивидуального бессилия — и положительно в своем
отношении к тому, что имеет абсолютный смысл: в страдании человек
приближается к Богу.
Федор Шперк: Философские очерки (1892-1897 гг.) 233
LXV.
Актуальное в Ницше потенциально во мне; актуальное во мне
потенциально в Ницше.
LXVI.
То, что наиболее драгоценно человеку, он хранит не в памяти своей, а в
сердце. Очевидно, и то, что наиболее дорого человечеству, — оно хранит
не в памяти, а в душе своей. Сокровенных друзей своих оно покрывает —
не блеском холодного бессмертия, а сердечным забвением, целомудрым
безмолвием и тем, что не может быть суетно, — тайной.
И если мне только дано просить — о, материнское сердце
человечества, — и меня и мою истину — покрой забвением, целомудрием тени и
истинной тайны! Не в памяти, а в чувстве, в несознаваемом чутье своем —
удели мне тихое, удели мне скромное место — там, близ несравненного
для меня Гильшера11, близ глубокомысленного и чистого друга Suarez!
ФИЛОСОФИЯ ИНДИВИДУАЛЬНОСТИ12.
VARIA.
Предисловие
В настоящем труде я пытаюсь изложить свое метафизическое
учение — не с общей точки зрения, как это сделано в Метафизике мировых
процессов (СПб. 1893), а с точки зрения некоторого частного момента
в учении о космосе, а именно, понятия индивидуальности. В двух
статьях, посвященных теории сознания13, я уже сделал первую попытку
осветить в аналогичном смысле свое учение, но кажется мне, исходный пункт
11 Гильшер Иосиф Эммануил (1806-1837), немецкий писатель, в лирических
произведениях подражал Байрону. H.H. Страхов читал эту работу в рукописи.
В одном из писем к Розанову от 1894 г. он писал: «Я прочитал его афоризмы.<...>
А между тем допросите Шперка, кто такой Гильшер, которым он так
восхищается?». (Розанов В.В. Литературные изгнанники. Письма H.H. Страхова. М. 2000.
С. 245). Розановым был отмечен интерес Шперка к забытым (вроде Иосифа
Гильшера) писателям: «Шперк, точно предчувствуя судьбу свою, часто говаривал: "Вы
читали (кажется) Грубера? Нет? Ужасно люблю отыскивать что-нибудь его. Меня
вообще манят писатели безвестные, оставшиеся незамеченными. Что были за
люди? И так радуешься, встретив у них необычайную и преждевременную мысль".
Как это просто, глубоко и прекрасно». Розанов В. В. Уединенное. М. 1990. С. 71
12 СПб. Центральная Типо-Литография М.Я. Минкова. 1895.
13 «О происхождении сознания в связи с метафизикой мировых процессов»
(Школьное Обозрение, 94 г. № 29-31) и «Элементы систематического учения»
(там же, № 47-48). (Прим. Ф.Э. Шперка).
234 «Мыслитель есть переводчик книги природы...»
(явление сознания) был избран не совсем удачно. Ошибку эту я
исправляю настоящим трудом.
Скажу несколько слов от отношении моей теории к современному
движению философской мысли. Скажу откровенно: для меня нет, для меня не
может быть сомнения в том, что современная философия, она немощная
и софистически запутанная, — бессознательно тяготеет ко мне. Только,
облеченная в кантовскую критику, напрасно она полагает, что
метафизическая революция прежде всего коснется этой софистики и в
разоблачении ее найдет свое настоящее дело. О никогда! Реформатору нет дела до
своего предшественника; он игнорирует его.
Метафизика мировых процессов реформирует философию, но критика
критики, критика того, что действительно в критическом положении, —
да простят мне этот каламбур, — составляет самое малое, самое
случайное в ней. Я один не вступал в борьбу с Кантом, и один преодолеваю его.
Интересующихся историко-философскими проблемами отсылаю к
учению об объективном разуме, основа которого лежит в характерной
природе чистого сознания, как небытия, или тождества противоположных
актов (см. § 15). Более сказать нечего.
Философия индивидуальности.
§i.
Бесконечное, или наибольшее, во внешней природе трояко:
достигаемо, достигнуто и вторично достигаемо. Первое, т.е. достигаемое
бесконечное, есть индивидуальность как таковая; второе, достигнутое
бесконечное, есть небытие, т.е. чистое сознание или чистая воля14; третье,
вторично достигаемое бесконечное, есть индивидуальность как субъект
сознания и воли.
§2.
В том, что индивидуальность есть неограниченная материя, не
позволяет усомниться: 1) неопределимость индивидуального: только
бесконечное — неограничимо и, как таковое, неопределимо; 2) эволюционный
характер индивидуального: бесконечное, как наибольшее, никогда не
тождественно себе; оно, другими словами, постоянно и неизменно
развивается. Процесс самобытного развития, присущий индивидуальному,
более — составляющий специфический признак его, ясно свидетельствует
о бесконечности индивидуальной природы.
14 «Формою мы определяем то, что не есть содержание, или то, что
абсолютно бессодержательно. Но абсолютно бессодержательно, т.е. ничтожно, только
и именно ничто или небытие. Форма в природе есть, стало быть, ничто или небытие
(а содержание — бытие), и значит сознание и воля как чистые формы — суть
выражения небытия*. (Мысль и рефлексия. Аф. XLVII). (Прим Ф.Э. Шперка).
Федор Шперк: Философские очерки (1892-1897 гг.) 235
[Ср. Система Спинозы, стр. 5-6; Метаф. Миров. Процесс. Основы. I,
§§ 24,25,2; О происхожд. Сознания в связи с метаф. миров, проц. §§ 1,3].
§з.
От того, что одно причиняет другое, т. е. силою отношений
причинности, возникает в космосе множество. Говоря точнее, множество является
формою, выражением причинности, как отношения, как потенции.
Отсюда ясно, что причинность полагает собою, обусловливает
множество. Но бесконечное есть вид множества, и поэтому форма, которая
тоже обусловлена причинностью, именно некоторым определенным
видом причинности — бесконечное есть высшая или абсолютная форма
множества, — очевидно, оно обусловлено высшей же, абсолютной же формой
причинности.
Но раз бесконечное достигнуто, оно уже отрицает причинность,
т.е. отрицает то отношение, ту силу, ту потенцию, которая обусловила,
создала его. Раз бесконечное достигнуто — нет и не может быть ни
начального, ни конечного в нем, ни первопричины, ни конечного действия,
стало быть — и причинности. И так причинность, как сила, полагает
бесконечное, а бесконечное, как осуществленная форма, отрицает
причинность. Достигнутое бесконечное есть, таким образом, тождество
полагания и отрицания, т.е. безразличие противоположного, или же
ничто15. Но ничто, или небытие, как чистая форма в природе, выражено
сознанием или волею (§ 1, выноска). И, стало быть, достигнутое
бесконечное есть чистое сознание, или чистая воля.
Другими словами, индивидуальное в определенный, как бы некоторый
предельный момент самораспадается и превращается в чистое сознание
или чистую волю.
[Мет. м. процесс. I, §§ 25, 1; 26, 1; О происхожд. созн. § 2].
§4.
Бесконечное, делаясь достигнутым, приравнивается к 0; но как
бесконечное, т. е. наибольшее и в силу этого неизменно растущее, оно
перерастает 0, небытие, делается более небытия, т.е. вторично достигаемым
(развивающимся), и в то же время, вторичным небытием, — последнее
в силу того, что небытие есть конечный момент мирового процесса16,
и все, последующее ему, представляется им же, небытием
15 «Противоположности (именно — полагание и отрицание) в безразличии
выражают чистое ничто (где полагание есть отрицание, оно уже не есть
полагание, оно нетождественно себе, и где отрицание есть полагание, оно уже не есть
отрицание, оно не тождественно себе. Но того, что нетождественно себе — нет,
то есть ничто*. (Мысль и рефлексия. Аф. XLV). (Прим. Ф.Э. Шперка).
16 См. § 8. (Прим. Ф.Э. Шперка).
236 «Мыслитель есть переводчик книги природы...*
Бесконечное, вторично достигаемое, или большее, нежели ничто,
соединяет в себе таким образом черты индивидуальности, т. е.
бесконечного достигаемого, и небытия, т.е. бесконечного достигнутого.
Делаясь более небытия, бесконечное подавляет собой небытие,
т.е. чистую волю или чистое сознание, говоря иначе, обусловливает их.
Другими словами, бесконечное, как вторично достигаемое, представляет
собой субъекта сознания и воли.
Субъект, как развивающееся в ничто, как достигаемая величина,
есть индивидуальность', субъект, как нечто последующее конечному
моменту космического процесса — небытию, есть небытие, именно —
вторичное небытие. Только как подобное (будучи именно небытием)
сознанию и воле, данное индивидуальное и может обусловливать
чистую волю и чистое сознание, т. е. быть субъектом. Тут вскрывается
нам тайна связи материи и духа, тайна отношения физиологии
и психологии.
[Мет. мир. пр. I, § 26, 2; О происхож. созн. §§ 6, 7, 8, 12, 13].
§5.
Но чистое сознание или чистая воля представляют собою
безразличие полагания и отрицания, т.е. полагание и отрицание в тождестве, или
абсолютной неопределенности.
Субъект есть определитель, и, стало быть, субъектное, или
присущее некоторой индивидуальности, сознание есть такое сознание,
которое из неопределенности вышло в определенность, т.е. из
безразличия полагания и отрицания стало различием полагания и отрицания,
и корень, мотив этого различия имеет в индивидуальности, своем
субъекте.
[Метафиз. миров, процессов. II, § 8].
§6.
Индивидуальное или субъектное сознание, как отличное от чистого,
на основании предыдущего может быть трояким: 1) актом простого
полагания; 2) актом простого отрицания; 3) актом, общим (но не
тождественным) полаганию и отрицанию.
[О происхожд. сознания, § 15; Мет. мир. проц: II, §§ 9, 10, 11].
§7.
Но сознание имеет не только форму или субъекта (чистое сознание
есть бесформенная, неопределенная форма; субъектное же, или
присущее индивиду, сознание есть оформленная форма. Субъект есть небытие
вторичное, а сознание — небытие первичное; слагая эти два небытия или
эти две формы, мы и получаем форму формы, или оформленную форму),
оно имеет и содержание, или объект.
Федор Шперк: Философские очерки (1892-1897 гг.) 237_
Иначе говоря, сознание не только субъектно, оно и объектно; воля не
только детерминирована (оформляема индивидуальностью), она и
продуктивна, оформляет содержание.
§8.
Тут будем мы принуждены в общих чертах изложить идею нашей
метафизики мировых процессов.
Мир понят метафизикой как совокупность двух диаметрально
противоположных процессов. Пока для нас важен первый процесс,
которого окончательный результат есть, именно, чистое сознание или чистая
воля. Процесс этот состоит в последовательном прехождении чистого
бытия в чистое небытие. Промежуточными посредствующими звеньями
между этими крайними чистыми моментами представляются различные
сочетания бытия и небытия. Сочетания эти суть ни что иное, как
отношения: тождество, равенство, логическая необходимость и
причинность. Чтобы выяснить читателю тождественность этих отношений
и различных сочетаний бытия и небытия, приведу место из статьи своей
«О происхождении сознания», где именно касаюсь данных определений:
«Мировой процесс от чистого бытия проходит в чистое небытие через
промежуточные формы отношений тождества, равенства, логической
необходимости и причинности, представляющих собою различные сочетания
элементов бытия и небытия. Тождеством, например, мы называем
отношение — быть собою. Но для первоначала — бытия — это отношение,
очевидно, означает — быть бытием. Равенством, например, мы
называем отношение — быть другим. Но для первоначального бытия это
отношение означает, очевидно, — быть не бытием. Отсюда выводится
далее понятие отношения — не быть другим, как означающее не быть
бытием (логическое обусловление) и понятие отношения — не быть
собою, как означающее не быть небытием (причинное обусловление)17.
Конечный момент мирового процесса определяется как простое небытие,
выражающееся в сознании и в воле». (§ 9). Итак, читатель видит, как
бытие, модифицируясь: дуплицируясь или сочетаясь с небытием, —
переходит в отношения: тождество, равенство и т. п. А как причинность,
как высшая форма причинности, требующая для своего обнаружения
бесконечности, обращается в чистое, абсолютное небытие — с этим читатель
познакомился в настоящем труде (§ 3).
В кратких чертах начальные фазы эволюции космоса из
первоначального момента, чистого бытия, метафизика представляет
следующими: первый момент космоса как процесса (интуитивно познаваемый,
а в разуме необходимо предполагаемый, составляющий необходимое
17 Касательно определений логической необходимости и причинности см. §§ 11
и 13. (Прим. Ф.Э. Шперка).
238 «Мыслитель есть переводчик книги природы...»
предположение), представляет собою простое, неделимое бытие. Вторым
моментом процесса является отношение тождественности, так как
очевидно, бытие тождественно себе, т.е. есть бытие. Быть бытием
составляет, стало быть, второй момент космического процесса. Третий момент
процесса составляет бытие тождественное себе, т.е. сочетание первого
момента, чистого бытия, и второго момента процесса, отношения
тождественности. Третий момент процесса представляет собой момент
тождества, бытие как бытие — именно момент тождества, а не отношение
тождественности (Метаф. м. пр. I, § 7), которое составляет только часть
момента и поэтому формально хотя бы отлично от него. Четвертый
момент процесса составит необходимым образом отношение между первым
моментом процесса (бытием) и третьим (бытием как таковым). В силу
того, что отношением тождественности мы определяем отношение
к себе, отношение первого момента процесса к третьему не может быть
тождественностью (оно не есть рефлективное)', а так как бытие ( 1 ) есть
бытие как таковое (3), то очевидным образом оно (это отношение)
представляет собой равенство, т.к. равенством определяется именно
отношение быть другим (положительное отношение к другому). Но точно
говоря, всякое другое по отношению к первому моменту процесса,
именно — бытию, означает не-бытие. И поэтому равенство, т.е. четвертый
момент процесса, определяется как отношение — быть небытием. Этот
четвертый момент есть первый в процессе, в котором бытие явно
формализуется, т.е. явно сочетается с элементом небытием. Дальнейшего
течения процесса мы преследовать не будем, т. к. общий идейный характер его
достаточно выясняется, только что дедуцированным.
[Метафиз. миров, проц. I, § 27].
§9.
Как образуется субъектное сознание? Чистое сознание
приурочивается к индивидуальности как субъекту; иначе говоря, чистая форма
присоединяется к другой форме (вторичному небытию).
Как образуется объектное сознание? Индивидуальное сознание
обращается (но не к форме) к содержанию, т.е. ко всем тем моментам бытия
(реальности, чистой или формализованной, т.е. сочетавшейся с
небытием), которые обусловили, выработали в конце концов чистую форму, или
небытие18.
Отношение небытия (чистого сознания или чистой воли) к небытию
же (вторичному) создает субъектное сознание; а отношение небытия
18 И в ней, как конечном целом, заключены в виде элементов. Эти моменты
(в последовательном генетическом, и обратном сознанию, порядке суть: 1. бытие,
2. тождество, 3. равенство, 4. логическая необходимость, 5. причинность
ограниченная, 6. причинность неограниченная, выражающаяся в индивидуальном.
(Прим. Ф.Э. Шперка).
Федор Шперк: Философские очерки (1892-1897 гг.) 239_
к бытию, т. е. чистой формы к содержанию, создает объектное сознание
(сознание объекта).
[Элементы системат. учения, §§1,2; Мет. м. пр. II, §§ 15, 16].
Вот почему и говорю я, что в субъектном сознании выражается
формализация формы, а в объектном — ее реализация, в параллель
с тем, как в тождестве выражается реализация реальности (т. е. бытия),
сочетание бытия с собою, с бытием; а в равенстве и последующих
отношениях выражается формализация реальности, т.е. сочетание бытия
с элементом небытия.
И замечательно, как реализация реальности, именно — тождество,
служит промежуточным звеном между чистой реальностью и процессом
ее формализации: так, в этом втором процессе формализация формы
(субъектное сознание) служит промежуточным, посредствующим
звеном между чистой формой и процессом ее реализации (объектным
сознание).
[Метаф. миров, процесс. И, § 18; I, § 26, 2].
§10.
Итак, объектное сознание создается отношением индивидуального
сознания к содержанию или бытию.
Но содержание, могущее быть объектом, не единично как форма,
могущая быть субъектом (только вторичное небытие), а множественно: весь
процесс, предшествующий чистому небытию и его последовательно
выработавший, представляет собою содержание, и все моменты, построяющие
этот процесс, возможные объекты19.
Чем менее посредствующих звеньев между чистой формой и каким-
либо моментом первого процесса, тем более оформлен (исполнен
небытия) и тем менее реален, содержателен (исполнен бытия) этот момент.
Объективация сознания движется последовательно от сознания,
ближайшего к небытию, содержания, т.е. от сознания последнего момента
процесса, к сознанию, наиболее отдаленного от небытия, содержания,
т.е. первого момента этого процесса (абсолютного бытия), и,
следовательно, она (объективация) есть ни что иное, как последовательная
реализация чистой формы как процесс проникновения чистой формы
все более и более реальным, т.е. содержательным (неоформленным)
содержанием.
Очевидно же, этот второй процесс диаметрально противоположен
первому: это — процесс реализации формы, тот же — процесс формализации
содержания.
[Метаф. миров, проц. II, §§ 17 и 23; О происхожд. сознания, §§ 13,
14].
19 См. § 9 выноска. (Прим. Ф.Э. Шперка).
240 «Мыслитель есть переводчик книги природы...»
Ступени этого второго процесса объективации сознания (или продук-
тивации воли)20 выражаются в чувственности, воображении, разуме и
интуиции.
Чувственность есть первичное объектное сознание —
индивидуальное, т.е. субъектное сознание индивидуального содержания. Ведь
индивидуальное двояко: первично достигаемо и вторично достигаемо. Как
последнее, оно есть нечто, большее небытия (однако же, небытие есть
конечное в космосе как процессе) и потому некоторое небытие же,
именно — вторичное небытие.
Как первое же, оно (индивидуальное) есть бытие, содержание,
именно — конечная фаза содержания, наиболее оформленная,
непосредственно прилегающая к абсолютной форме. Как бытие, как содержание, оно
делается объектом; как непосредственно к чистой форме прилегающее
содержание, оно делается первым объектом.
В силу этого чувственность как сознание индивидуального и есть
первичное объектное сознание.
[Метафиз. мир. проц. II, § 19; Элем, систем, уч. § 3].
§п.
То, что индивидуальность как некоторое бытие, или содержание,
представляет собой ближайший к чистой форме момент, т.е. непосредственно к
небытию прилегающее бытие, выяснено в настоящем исследовании (§§ 2, 3).
Но неубедительным для читателя может показаться утверждение, что
индивидуальность есть и наиболее оформленная, т.е. наименее реальная,
реальность. Постараемся же выяснить это положение.
Индивидуальное как бесконечное есть продукт высшей формы
причинности (низшая форма причинности выражается в множестве
ограниченном; высшая же — в множестве неограниченном, или бесконечном);
но причинность есть отношение, которое диаметрально противоположно
отношению тождества: Предмет, оставаясь вполне тождественным
себе, не причиняет. Причинение есть отрицание тождественности,
т.е. отношения быть собою. Единство, не будучи собою, т.е.
единством (будучи неединичным), причиняет другое единство, и отсюда
возникает множество, которое является формой или выражением
причинности.
[Мет. мир. пр. I, § 14].
Выражение не быть небытием представляет собою как бы
математическую формулу причинности, т.е. отношения не быть собою. Формулу,
20 Относительно аналогичности этих двух процессов, т. е. объективации
сознания и продуктивации воли см. Система Спинозы, стр. 10, вып. 2. Мет. м. пр. II,
§§ 4, 5, 6 и заметку мою о прекрасной книге г. Тим. Соловьева: Теория волевых
представлений в 22 кн. Вопросов Философии. (Прим. Ф.Э. Шперка).
Федор Шперк: Философские очерки (1892-1897 гг.) 241
которая, не имея конкретного значения, имеет свой несомненный и
существенный в известной сфере идей отвлеченный смысл. Отсюда странность,
необычность ее для практически конкретной мысли. Не привыкшей
оперировать с категориями в сфере их образования, в сфере их чистого и
целостного бытия.
Всякое отношение двояко: оно 1) заключается в себе и в этом виде —
целостно, и оно 2) заключается в последующем (по природе) другом, и в
этом виде оно — элементарно, т. е. представляет собою элемент другого.
Отвлеченный ум оперирует с категориями в себе; конкретный — с
категориями элементарными.
Предложим иллюстрацию нашей мысли: отвлеченный ум постигает,
например, существование в себе—некоторый целостный, самодовлеющий
момент в космосе; ум конкретный постигает только существование в другом,
например, в индивидуальности', он постигает лишь индивидуальность как
существующую. Предмет отвлеченного ума есть существование-, предмет
конкретного ума есть существующее. Но положение: индивидуальность
существует равносильно положению: существование в форме
некоторого элемента заключено в индивидуальном, которое, по
отношению к моменту существования как такового, есть некоторое
последующее (в космосе как процессе) другое. Так, отвлеченный ум
постигает существование целостное (в себе); конкретный — существование
элементарное, заключенное в другом.
А что касается категории причинности, то ум конкретный постигает
ее как отрицание тождества, как общее отношение — не быть собою', ум
отвлеченный — как частное отношение — не быть небытием.
[Мет. м. пр. I, § 8].
Для последнего не существует поэтому трудности в понимании
индивидуальности как содержания, наиболее оформленного, т. е. наиболее
проникнутого небытием. Понимание причинности как отношения
не быть небытием влечет за собою понимание и того, что
индивидуальность как выражение причинности есть выражение удвоенного
небытия, которое содержанием, или бытием, является лишь
настолько, насколько не составляет простого, неудвоеннога небытия,
т.е. абсолютного ничто, и лишь в силу этого последнего
отрицательного признака представляет собой некоторое нечто (содержание).
Очевидно, содержания, более формализованного, более проникнутого
небытием, нежели момент индивидуальности, мы указать в космосе не
были бы в состоянии.
Итак, видим, что чувственность, первичное объектное сознание, или
сознание индивидуального, есть сознание, обращенное (относящееся)
к наиболее оформленному, или наименее реальному, в космосе
содержанию, или бытию.
[Элементы систематич. учен. § 1].
242 «Мыслитель есть переводчик книги природы...»
§12.
Последующую ступень лествицы объектного сознания представляет
воображение.
Воображением мы, как и чувственностью, называем сознание внешнего
мира с тою разницей только, что чувственностью называем сознание
неограниченно внешнего или неограниченно причинного (термин
«причинять» однозначущ с термином полагать вне себя), т. е. индивидуального
мира; а воображением — сознание ограниченного внешнего или
причинного мира, мира внешнего, но не индивидуального21. Чувственностью,
говоря иначе, мы называем сознание бесконечного в природе, а
воображением — сознание конечного в ней. То, что постигается чувственностью,
ограничиваясь, постигается воображением: образ есть ограничение
фактической неограниченной действительности, воспринимаемой
чувственно. Но раз бесконечное есть высшая форма множества, конечное же —
низшая его форма, а множество вообще должно служить выражением
причинности, то, очевидно, конечное, или ограниченное, множество есть
выражение низшей, неполной, неадекватной формы причинности; говоря
языком метафизической математики: низшей, неполной формы
отношения — не быть небытием. Но, ежели это отношение, создающее объект
воображения, именно — ограниченной множество, неполно выражает
категорию причинности, или отношение «не быть небытием», то,
следовательно, скрытого бытия, или содержания, в нем более, нежели в том,
которое полно, адекватно выражает причинность и которое создает
предмет чувственности (индивидуальность). А посему, сознание конечного
или ограниченного, т.е. воображение, есть сознание менее оформленного
или менее проникнутого небытием, стало быть, более реального
содержания, нежели чувственность. Таким образом, видим в воображении первый
прогресс реализации чистой формы, т. е. процесса восполнения ее
содержанием, или, точнее, прехождения ее в бытие.
[Метафиз. миров, пр. II, § 20; Элем. сист. уч. §§ 13, 14, 15].
§13.
Разумом определяем мы сознание логически необходимого, или
внутреннего, мира (термин «логически обусловлять» однозначущ с термином
полагать в себе: всякое действие содержится вне причины, всякое
следствие заключается в основании).
Но понятие логического обусловливания таково: логически
обусловлять что-либо значит не быть другим: тождество, например, логически
обусловляет единство, не будучи им (как другим). Насколько
причинность противоположна по своей природе тождественности (см. §11),
настолько логическая необходимость обратна по своему существу равенс-
21 Метафизика мировых процессов. Приложение. И, VIII. (Прим. Ф.Э. Шперка).
Федор Шперк: Философские очерки (1892-1897 гг.) 243
тву как отношению — быть другим. Поскольку единство не единично,
т.е. не есть единство, не тождественно себе, постольку оно вне себя,
т. е. причинно полагает другое единство и образует множество; а
поскольку тождество не есть единство, т.е. не есть нечто другое, постольку оно
в себе, т.е. логически обусловливает единство.
[Мет. мир. пр. I, § 13].
Действительно, только звенья множества, т. е. единства, или
противоречия, содержатся одно вне другого; а тождество и единство (и
противоречие), как не образующие множества, но отличные друг от друга, т.е. не
совпадающие один с другим, — заключаются одно в другом.
[Элементы систем, учения, §§ 9, 10].
Понятие тождества как отношения быть собою сводится, видели мы,
к понятию быть бытием-, очевидно, понятие противоположного
тождеству — отношения причинности — сведется к формуле не быть небытием',
очевидно же, понятие противоположного равенству — отношения
логического обусловления — сведется к формуле не быть бытием.
Выражая эти отношения в высших абстрактных знаках, конкретно или
практически не применимых, мы выясним свою идею мировых процессов.
Так, теперь для всякого будет ясно, например, что следующая высшая
ступень лестницы объектного сознания — разум как сознание
внутреннего мира, т.е. мира оснований и следствий, представит совою новый
прогресс реализации чистой формы.
Разум есть, согласно вышесказанному, сознание объекта, который
служит выражением отношения не быть бытием. В нем (объекте разума)
впервые обнаруживается явный элемент содержания, или бытия. И
сознание его есть сознание объекта явно реального, а посему и значительно
менее уже оформленного, т. е. проникнутого небытием, нежели объекты
чувственности и воображения.
[Метаф. мир. проц. II, § 21].
§14.
Тут восходим и к определению высшей инстанции объектного
сознания — интуиции, т.е сознания трех металогических (высших, нежели
логические) моментов: равенства, тождества и чистого, или
абсолютного, бытия. Каждый из этих трех моментов составляет объект
некоторого особого вида интуиции.
Представляя равенство и тождество в метафизически математических
формулах: равенство, или отношение быть другим, как отношение быть
небытием; тождество, или отношение быть собою, как отношение быть
бытием, — мы убеждаемся, что и эти виды интуиции, расположенные
в следующем порядке:
1 ) сознание равенства как отношения быть небытием (содержание
и форма),
244 «Мыслитель есть переводчик книги природы...»
2) сознание тождества как отношения быть бытием (содержание
и содержание22),
3) сознание чистого, т. е. абсолютно бесформенного бытия,
представляют последовательную реализацию чистой формы, или процесс
последовательного проникновения ее все более и более реальным и все менее
и менее формализованным, т.е. сочетающимся в небытием, содержанием.
[Метаф. мир. проц. II, § 22].
Я полагаю, что теперь моя общая идея двух диаметрально
противоположных процессов в космосе:
1) формализации чистого содержания, или прехождения бытия в
небытие и
2) реализации чистой формы, или прехождения небытия в бытие
вполне и окончательно выяснена.
Вот резюме моего метафизического учения, как я формулирую его
в статье «О происхождении сознания» (§ 19):
«Мир состоит из двух диаметрально противоположных процессов:
процесса, в котором чистое бытие переходит в чистое небытие, и процесса,
в котором чистое небытие (как чистое сознание и чистая воля) переходит
в чистое бытие. Промежуточные формы первого процесса,
представляющие собой различные сочетания простых начал бытия и небытия, суть
тождество, равенство, логическая необходимость и причинность
(см. § 8). Промежуточные формы второго процесса суть субъектное
сознание (или детерминированная воля) и виды объектного сознания:
чувственность, воображение, разум и интуиция. Высшая форма
интуитивного сознания переходит непосредственно в чистое бытие, чем и
завершается второй процесс. Формы чувственности, воображения, разума
и интуиции представляют в этом процессе небытие, которое
последовательно пропитывается все более и более реальными элементами,
другими словами — реализующуюся (делающуюся содержательной) форму,
так же как формы тождества, равенства, логической необходимости
и причинности представляют формализующееся содержание».
[Метафизика миров, проц. Схемы А и В].
§15.
Прежде, нежели сознание делается объектным, т.е. определяется
чувственностью, воображением, разумом и интуицией, оно относится к
некоторому индивидуальному корню, т.е. субъективируется.
Но субъектное сознание, видели мы, выражается трояко: 1) в акте,
общем полаганию и отрицанию, 2) в акте чистого полагания, 3) в акте чистого
22 Публикация содержания есть некоторое оформление, почему чистое, единое
бытие (3) есть более реальное как менее оформленное, нежели удвоенное (2).
(Прим. Ф.Э. Шперка).
Федор Шперк: Философские очерки (1892-1897 гг.) 245
отрицания (§ 6). Поэтому и во всяком объектном сознании, насколько оно
присуще индивидуальности, настолько оно, именно, субъектно, различимы
три вида: 1) общего полаганию и отрицанию объектного сознания, 2)
положительного объектного сознания, 3) отрицательного объектного сознания.
Термин «полагать» однозначущ с термином «логически обусловлять»,
или полагать в себе; а термин «отрицать» однозначущ с термином
«причинять», или полагать вне себя.
[Мет. м. пр. I, § 18].
В силу этого положительное объектное сознание может быть
определено субъективным, отрицательное — объективным, а общее
положительному и отрицательному — общим субъективному и объективному.
В природе субъектного, или индивидуального, сознания коренится, таким
образом, трехкатегоричность всякого объектного сознания
(чувственности, воображения, разума и интуиции). Подробно об этой трехкатегорич-
ности сказано мною в статье «Элементы систематического учения» в §§
5, 6, 7 и 8:
«В чувственности мы будем различать:
первичную чувственность:
a. чувствительность,
b. слух
(чувственность, воспринимающая внутренне-внешнее),
субъективную чувственность:
a. обоняние,
b. вкус
(чувственность, воспринимающая внутренние свойства вещей).
объективную чувственность:
а. осязание,
Ь.зрение
(чувственность, воспринимающая внешние свойства вещей).
В воображении мы будем различать:
1. первичное воображение, соответствующее категории плоти; 2.
субъективное воображение, соответствующее категории личности; 3.
объективное воображение, соответствующее категории духа.
Категория Личности есть душевная сфера, которая в своем законе
требует самоуважения, т.е. отношения воображения к субъекту, и
проявляет эту субъективность в акте справедливости этическим образом;
в акте храбрости (гордости) эстетическим образом; в акте правдивости
мистическим образом.
Категория Духа есть душевная сфера, которая в своем законе требует
любви (самоотречения), т.е. отношения воображения к объекту, и
проявляет эту объективность в акте любви к ближнему этическим образом;
в акте любви к природе эстетическим образом; в акте любви к Богу
мистическим образом.
246 «Мыслитель есть переводчик книги природы...*
Категория Плоти есть душевная сфера, которая требует в своем
законе состояния, общего самоутверждению и самоотречению, т.е.
субъективному и объективному. Мистически этот момент проявляется в
целомудрии рефлективном (себя); эстетически — в целомудрии половом;
этически — целомудрии родовом23.
В разуме мы будем различать: 1. первичный разум, 2. субъективный
разум, 3. объективный разум.
Первичный разум имеет дело с универсальными (общими) идеями,
поэтому может быть назван схоластическим. Субъективный имеет дело
с чистыми понятиями, поэтому может быть назван критическим, или
имманентным, т.е. внутренним, так как им всякий элемент сознания
воспринимается, именно, в качестве элемента (т.е. внутреннего
сознания) бытия, охваченного сознательною формою.
Объективный имеет дело с «вещами в себе», поэтому может быть
назван догматическим, или трансцендентным, т.е. внешним, так
как всякий элемент сознания воспринимается им не в качестве
собственно элемента, а как начало, т.е. как бытие, не заключенное
в сознании, а лежащее вне сознания и его обусловливающее2*.
В интуиции мы различаем: 1. первичную, 2. субъективную, 3.
объективную, или чистое бытие.
Наиболее реализованная (наполненная содержанием) форма
(сознание), т. е. интуиция, так же переходит в чистую реальность, как
наиболее формализованное содержание, именно, индивидуальность, переходит
в чистую форму, небытие».
[Метаф. мир. проц. II, §§ 24, 25, 26].
§16.
Нам остается еще определить отношение индивидуальности ко
внешней природе и абсолютному.
Если мы возьмем, например, численный ряд 1, 2, 3, 4, 5 и представим
себе, что конечные величины в нем выражают бесконечные, то
индивидуальность (микрокосм) будет выражать любое из этих чисел; макрокосм
(внешнюю природу) — весь численный ряд; а абсолютное — величина 15,
как единая сумма всего индивидуального, микроскопического в
макрокосме или индивидуальном мире.
Как бесконечное, абсолют будет качественно индивидуален; как
большее, нежели любое индивидуальное в природе, он будет сверхиндивиду-
23 См. Мысль и рефлексия. Аф. XXIII-XXVII. Метафизика мировых процессов.
Прилож. IX, X. (Прим. Ф.Э. Шперка).
24 Т.е. как «вещь в себе». См. также «Метафизика мировых процессов».
Приложение XI и «О происхождении сознания» §§ 16, 17. Другими словами,
объективный разум есть сознание, полагающее вне себя (отрицающее), т.е. вне
сознания — те элементы, которые составляют его объекты. (Прим. Ф.Э. Шперка).
Федор Шперк: Философские очерки (1892-1897 гг.) 247
ален. Сознание абсолютного как сверхиндивидуального будет
сверхчувственно, именно сверхчувственно, а не сверхвообразительно, или сверх
интеллектуально, или интуитивно.
Насколько абсолютное по природе подобно индивидуальному,
настолько в восприятии его есть подобие чувственности.
Как развивающееся индивидуальное, абсолютное представляется
субъектом воли и сознания; как единое и высшее индивидуальное, оно
представляется высшим или совершенным субъектом, или же субъектом
абсолютных сознания и воли.
Важнейшее качественное отличие абсолюта и макрокосма заключается
в различии формы единства, присущей первому, и формы
множественности, присущей второму25.
[Метаф. мир. пр. I, § 23; Мысль и рефлексия. Аф. XL-XLV]
Послесловие
Философия индивидуальности есть мое последнее метафизическое
слово. Насколько о своих душевных категориях я был вправе сказать,
они исчерпывают, охватывают содержание всего психического мира, —
настолько о своей метафизике я вправе ныне сказать: она отвлеченно
исчерпывает содержание всего космоса.
Строго говоря — до меня не было не только истинной философии, но
не было и философии вообще. Я первый обнажил природу мира; я первый
выразил в отвлеченных знаках не кажущийся, а действительный, а
подлинно существующий космос.
Выражаясь терминами Канта, можно будет сказать, что моим
предшественникам открывался мир феноменальный, — мне же открылась вещь
в себе, мир в истине, в наготе факта своей действительности. И вот почему,
несмотря на явные признаки умирания современной метафизической
мысли, я не в состоянии указать все же момента, когда философии моей будет
предложен трон. Постигнет ли современность, постигнет ли потомство
тайны этой диалектики — более, о более! доразовьется ли вообще
человечество когда-либо до способности понимания их — все вопросы, все для меня
открытые вопросы, близкие душе, близкие трагическому корню моей жизни!
Ужели мне уготована скорбь, уготовано величие сиять мраком будущего
моей современности светом прошедшего грядущим векам?!... Но может
быть, терпение, царственное терпение и есть то страдание, которым
искупается творчество и искупается гений — как грех, как преступление против
25 В индивидуальной природе мы представляем собою цельные, но
несовершенные сознания и воли; наша конечная цель — освободиться от этой формы
и получить диаметрально ей обратную, Т. е. потерять свою целостность
и приобресть причастность к совершенству или, точнее, сделаться элементом
совершенного* (Мысль и рефлексия. Аф. XLII). (Прим. Ф.Э. Шперка).
248 «Мыслитель есть переводчик книги природы...»
массы безличного, против массы бессильного человечества, не могущего,
неспособного творить — и только страдающего...
VARIA,
(афоризмы и стихотворения в прозе).
I.
Семя жизни — в Боге живом (единстве); семя смерти — в мертвой
природе (в множестве); семена жизни и смерти — в существе каждой
индивидуальности, в том, что в себе единично, а как заключенное
в мире — множественно.
II.
Зло заключено в природе как множестве, как отрицании единства;
(противоположность мира, множества и вражды, и Бога, единства и мира
настоятельно утверждается Евангелием). А так как всякий человек
действующий действует на основании мотивов воли, которые многообразно
сплетены с корнями природы, то всякий человек действующий творит зло,
и благо его есть зло. Добро человека есть не только грех, но и зло.
III.
Невинность навеки человеком утрачена и в той мере, что не может
стать даже целью его жизни, ее идеалом. История души имеет так же свои
невозвратимые моменты, которые заменяемы, но, увы! не переживаемы
вновь. Абсолютное благо, к которому устремлены мы, к коему сделаемся
причастны в вере и в Боге. — оно будет только эквивалентом невинности,
тем, что может быть равно ей, но не тем, что ей тождественно.
IV.
Для детей не существует пустоты в природе; для нас же вся природа
есть — vacuum. Такова конкретность сознания у ребенка, что природа
сама как бы созерцает себя в детской душе, ощущая в ней всю полноту,
всю заполненность свою.
V.
Живи, исполненный тайной ненависти к жизни и явной любви к ней,
явной ненависти к смерти и тайной любви к ней! Живи...
VI.
То чувство уважения личности, за которым мы решаемся признать
положительный нравственный смысл, есть только отблеск самоуважения
в человеке.
Федор Шперк: Философские очерки (1892-1897 гг.) 249
VII.
Искренность еврея есть искренность актера, эстетическая и
обманчивая. Эстетика вообще есть покров этики еврея.
VIII/IX.
В грядущем — цель жизни, в настоящем — ее процесс, в
прошедшем — идея ее...
В литературе нашей Достоевского я решился бы назвать художником
грядущего; Толстого — художником настоящего; Тургенева —
художником прошедшего26. Отсюда мистичность первого, драматическая
жизненность второго и глубокая идейность последнего.
X.
Взаимоотношение моментов жизни и смерти никто не чувствовал так
глубоко, так правильно, как Тургенев (писатель и человек), и в этом вижу
я право его на мировое значение. В произведениях его сказалось чувство
бессознательного тяготения к смерти; в личной же индивидуальности его
выразилось, дополняющее это последнее, чувство сознательного влечения
к жизни, влечения к индивидуальной цели индивидуального существования.
XI.
Тоска по жизни
Друзья мои! Будем тосковать по жизни, по ней, по жизни —
загадочной, и прекрасной, и страстной, как женщина, стоящая одна, юная, цело-
мудрая, невероятная, и полная чувства земли...
Друзья! Будем тосковать по жизни — и глубже, чернее, упорнее,
таинственнее, нежели она, нежели недра ее, жизни, — по ней, по жизни,
будем тосковать и убиваться мы!
Я — мрачный, темный, я — торжественный и в свете.
Вы — смеющиеся, вы — веселые, и смешные — вы!..
Мы сделаемся подобными двум сходящимся тучам, с немалой враждой
одна к другой, и с немалым тяготением...
Я жду, я жду мига, чтобы сойтись с вами и испытать то чувство,
которое предчувствую и предсозерцаю в себе и в дали, искрометное чувство
искры, искры вражды и дружбы, и сошедшихся двух сил, и одной силы
и одного бессилия...
Друзья! Я проповедую вам тоску по жизни и — душевную скорбь!..
Не тяжелы ли нам стали наши игры, наши беседы и жизнь наша?
Не тяжело ли бремя легкой, порхающей жизненной мысли нашей?..
Друзья, я проповедую тоску по жизни и душевную скорбь!
26 Не представляют ли произведения Тургенева прекрасно выраженных
художественных воспоминаний, и не в этом ли их главная прелесть? (Прим. Ф.Э. Шперка).
250 «Мыслитель есть переводчик книги природы...*
Нам станет легче, нам будет легче, отрадно будет и весьма светло...
Друзья, я проповедую тоску по жизни — и душевную скорбь!
Я изливаюсь пред вами, я таю пред вами, — и кто вы мне?
Я рыдаю пред вами и горю пред вами, — и кто вы мне?
Я прехожу в вас, я живу в вас, я животворю вас, — и кто вы мне?..
Я отягощаю вас, я бросаю вас, я проклинаю вас, — и кто вы мне?..
15 октября 94 г.
XII.
Песнь одиночества.
Поймете ли вы тяготы моего сердца и его сокровенное, и то. что в нем
есть от титанов и детски-болезненного?..
Поймете ли вы истину духа моего и истину моего Промысла?
Поймете ли вы жажду взора моего в сердце судьбы?..
— и силу силы моей и славу славы, свету которой я тайно молюсь?..
Поймете ли вы меня — как страдающего и гордого, как немощного
и полного безумия, как ищущего одиночества и — его блеск?
Поймете ли вы меня — как жестокого, как неравного вам, как
сладострастного, — и как ищущего одиночества и — его блеск?
Поймете ли вы тайной мысли моей явное чувство и тайного чувства
моего явную мысль?..
Поймете ли — поймете ли вы меня, ищущего — меня ищущего
одиночество и его блеск?...
О СТРАХЕ СМЕРТИ И ПРИНЦИПЕ ЖИЗНИ27.
Живот бе свет человеком, и
свет во тьме светит, и
тьма его не объят28
Посвящается
Анне Лавровне Шперк
Предисловие.
В прошлом труде своем29 в минуты жгучие и болезненные, я высказал
несколько мучительных для себя слов и обнаружил гордость, самомнение,
душевную бедноту свою и великое уродство своего духа.
27 СПб. 1895. Типография М. Меркушева. 17 с.
28 «...и жизнь была свет человекам; и свет во тьме светится, и тьма не прияла
его». (Ин. I, 1-5).
29 См. Федор Шперк. Философия индивидуальности. Varia. СПб. 1895.
Федор Шперк: Философские очерки (1892-1897 гг.) 251
Я проповедовал торжество индивидуальности и, доверяя
непосредственному чутью своему, искал его — в ней же, в ее природе, в существе
ее. Я заблуждался. Я заблуждался искренно и жизненно. Я заблуждался,
как заблуждается правый. Я заблуждался, но уклонение от истины
касалось не важнейшего, что дарует жизнь или смерть, славу или бесславие
нам, — цели и идеала жизни человеческой, а относилось к
второстепенному, побочному — к образу действительности, которая воплощает идеал,
к действительности, которая его выражает.
Я заблуждался и, скажу, заблуждался в том, что смотрел на личность
человека как на солнце, которое есть источник света, а не как на землю,
которую солнце освещает.
Я заблуждался, утверждая личность человека, и не будучи в состоянии
утвердить идеи жизни его...
Я был не прав.
Июнь, 1895 г.
Натушкино.
О страхе смерти и принципе жизни.
I
Страх никогда не относится к тому, что реально30, или тому, что
реализуемо. Действительное в сознании или воле подавляет страх,
и обусловливает его или то, что выражает некоторый недостаток, или то,
что выражает собой отрицание действительности в человеческом духе.
Страх есть как бы отношение идеального бытия (души человеческой)
и идеального небытия (фикции, лжи). В этом смысле и правы те,
которые говорят, что всякий страх сводится к страху смерти: смерть есть само
одушевленное ничто; смерть есть «фикция в себе», и страх, как чувство
фикции есть чувство или боязнь смерти.
Зло представляется нам как недостаток блага или его чувства; смерть
же есть отсутствие блага и, как таковое, — высшее зло.
Соприкасаясь со злом, человек соприкасается с чем-то относительным,
с тем, что содержит в себе долю истины и долю лжи; соприкасаясь со
смертью, в чувстве своем, человек соприкасается с чем-то абсолютным,
с тем, что в безусловном, в безотносительном смысле есть ложь.
И вот почему страх сопряжен с непосредственным страданием, а
всякое зло в сердце человека только обусловливает, только вызывает собой
угрызение совести и душевные муки. И вот почему так же нет для человека
чувства, которого бы более стыдился, нежели своего страха, боязни своей.
Все курсивные выделения Ф. Э. Шперка.
252 «Мыслитель есть переводчик книги природы...»
Связанные реальной душой с чем-то абсолютно-фиктивным, мы не
можем не ощущать превосходства душевного бытия над
противопоставленной фикцией и не можем не стыдиться этой связи. Тут, именно,
должно говорить о связи и о связи недостойной, а потому позорной. В страхе
смерти лежит нечто позорное.
Весь смысл жизненного процесса человеческого заключается в одном
постулате, в одном требовании: реализуйся, увеличивай реальное
содержание своего духа, сознания, воли, исполняйся бытия!31
Философия моя выяснила уже, что индивидуальный человеческий дух
в своем развитии, есть ничто иное как реализационный мировой процесс.
Жизнь земная и последующая ей, сверхчувственная — не разрывают
этого процесса реализации, духовного усвоения высших степеней бытия;
они, напротив, стоят в преемственной связи; так что только сферы и
содержание реализации различны, а сам процесс един. И выход из
индивидуального мира не означает собой выхода из космоса, как процесса; а есть
только выход из одной из многих космических ступеней, переход в
условия, которые делают возможным дальнейшее осуществление (завершение)
процесса. Этот последний, который можно бы тоже назвать процессом
духовного совершенствования в бытии, слагается последовательно
из следующих четырех моментов: чувственности, этического сознания,
интеллектуального сознания (разума) и интуиции (непосредственного
сознания бытия). В нравственном сознании воспринимается или усвояется
человеческим духом (качественно) более бытия или реальности, нежели
в чувственном; в интеллектуальном более, нежели в нравственном; в
интуитивном более, нежели в интеллектуальном, так как под интуицией
разумеется непосредственное сознание бытия или реальности, сознание
бытия в себе, а разум означает сознание бытия в истине, этическое
сознание — сознание бытия в благе.
Интуитивное сознание в конечный фазис своего развития или
напряжения перестает быть сознанием и переходит (реализуется) в простое,
абсолютное бытие.
Вот смысл того, что мы назвали процессом реализации.
В жизненном требовании: реализуйся — главным образом, конечно,
имеется в виду заключительный, все оправдывающий момент перехода из
духовного бытия (чувственного, нравственного, интеллектуального,
интуитивного) в чистое, вне сознательное и вне волевое бытие в себе.
31 Процесс восполнения формы (духа человеческого) содержанием или
бытием, Т. е. реальностью, назван мною реализацией. Под реализацией я понимаю,
таким образом, противоположность оформления (одухотворения), нечто отличное
от обычного смысла этого термина (реализации, как осуществления), но должно
сказать нечто более близкое к первоначальному, словесному значению его. (Прим.
Ф.Э. Шперка).
Федор Шперк: Философские очерки (1892-1897 гг.) 253
Но момент этот, как и интуиция, не могут быть даны человеку в
условном или ограниченном состоянии его индивидуальности.
Последняя из относительной сферы (земной жизни) должна перейти
в безотносительную (сверхчувственную); так как только
безотносительная или абсолютная форма (индивидуальность) может сознавать и
хотеть, т. е. оформлять безотносительное или абсолютное содержание,
именно, чистое бытие. Переходя в абсолютную, сверхчувственную сферу,
человек отрешается от двух существенных свойств своей
индивидуальности, которую он сохраняет: от цельности и ограниченности. Своей
же особой индивидуальностью он входит в совершенное, абсолютное
целое и, в качестве элемента этого последнего, делается причастным
к тому совершенному сознанию и той совершенной воле, к которым оно
(абсолютное) причастно. Человеческая индивидуальность избирает
абсолютную индивидуальность как бы посредником между собой и интуицией
или чистым бытием в себе. Ниже мы увидим, что и реализация в нашем
ограниченном и условном мире совершается при тех же условиях, т. е.
посредственно и через отрешение от двух основных свойств человеческой
личности: цельности и ограниченности32.
Повторяю, общее требование, поставленное человеку на земле:
реализуйся, требование, которое побуждает его к переходу из низшего
чувственного состояния — в высшее нравственное, из последнего — в
интеллектуальное — не только не нарушается исчезновением индивидуальности из
относительного внешнего мира, а, напротив, через это впервые становится
возможно осуществимым во всей своей полноте.
Жизнь индивида как процесс не прерывается смертью, а делается ею
только возможной в своей цельности.
Смерть не есть действительное небытие: как нечто,
противоположное разуму, стало быть, как формальное нечто, небытие выражено не
в смерти, а в чистых формах33, в сознании и воле, которые, наполняясь
содержанием или, что то же, бытием, — реализуются (в
чувственности, воображении, разуме). Сознание и воля, т. е. формы — всегда
остаются одни и те же. Человеческое «я», которое служит эквивалентом их
(чистого сознания или чистой воли, т. е. форм вообще), -^ есть единое
и универсальное. Оно приурочено только к различным индивидуальностям
32 Человеческая индивидуальность (тело) бесконечна, но бесконечна
относительно, так как вне ее находятся другие бесконечные индивидуальности, которые ее
ограничивают. Цель ее жизни и заключается в том, чтобы устранить это ограничение,
что однако выполнимо лишь через слияние индивидуальностей, друг друга
ограничивающих в одно неограниченное целое (тело). (Прим. Ф.Э. Шперка).
33 Сознавать и хотеть вообще — значит оформлять. Объект сознания (или
продукт воли) есть некоторое сочетание сознания — формы и бытия — и содержания,
Т. е. небытия и небытия, так как противоположность бытия — содержания есть
небытие — форма, выраженное в сознании и воле. (Прим. Ф.Э. Шперка).
254 «Мыслитель есть переводчик книги природы...»
(субъектам) и оформляет (сознает или хочет), в силу этого, различное
содержание или бытие (объекты).
В чувственности оно оформляет наименее реальное содержание;
почему чувственность есть низшая ступень духа человеческого. В
нравственном чувстве, которое коренится в воображении, как воле, оно оформляет
содержание, более реальное — и так crescendo до момента перехода духа
в реальность34.
Действительное небытие есть не смерть, а чистая воля и чистое
сознание — моменты, которые мы преодолели, превзошли через то, что
стали ощущать, чувствовать, мыслить, одним словом, через то, что мы
не ограничились сознаванием и хотением вообще, всеобщим моментом
«я», как пустою формой, — а стали сознавать и хотеть некоторое
содержание.
Смерть, не будучи действительным небытием, является небытием
идеальным (в идее), т.е. в духе человеческом, или духовным ничтожеством.
Небытие, как момент мирового процесса35, действительно и, как
таковое, не подлежит чувству страха. Своей воли и своего сознания, духа
своего человеку не страшно. И чем вообще человек ближе к
действительности, тем он менее подвержен страху. Смерть же есть фикция, и, как
фикции, боится ее человек.
Действительное небытие — не только не противно реализации,
восполнению бытием, но оно именно и исключительно, как форма в природе,
как сознание или воля — и реализуется.
Противоречит этому процессу и этой жизненной задаче — зло, как
недостаток блага или бытия в духе, и диаметрально — противоположна
им (процессу и задаче жизни) — смерть, как духовное ничтожество.
Смерть есть высшее зло, которое касается только боящегося смерти
и любящего ее.
Надо любить смерть, чтобы ее бояться, и бояться смерти можно только
любя ее.
В самом деле, надо любить фиктивный мир, чтобы быть к нему
близким, а близостью к нему и вызывается только страх.
Всякий любящий реальное в жизни, реальное в чувствах, реальное
в мысли далек от страха потому, что страх есть связь с идеально
несуществующим миром.
Бесстрашен ребенок, который видит действительность в чувственно
воспринимаемом им мире; бесстрашна женщина, которая видит
действительность в законах душевного нравственного мира своего. Бесстрашен
всякий, видящий действительность в умопостигаемых вещах.
34 Чем более оформлена материя (индивидуальность или организм), тем более
реализован, тем более развит дух, присущий ей. (Прим. Ф.Э. Шперка).
35 См.: Метафизика мировых процессов. Основы. СПб, 1893. (Прим. Ф.Э. Шперка).
Федор Шперк: Философские очерки (1892-1897 гг.) 255
Ни жизненной радости, ни добра, ни истины человек не боится. Он
боится зла, болезни, лжи и, более всего, смерти. Очевидно же, он боится
только того, что обнаруживает или недостаток бытия в сознании или воле,
или отсутствие его в них.
Но, спрашивается, как же создает человек фикцию?
Раз действительно то, что хочет и сознает он, и раз сознание и воля
его суть тоже действительность, то где же источник всего, что составляет
предмет человеческого страха?
Источник смерти и страха тот же, что и зла.
Не иметь любви к ближнему значит быть себялюбцем; не уважать себя
значит себя презирать; не быть целомудрым значит быть развращенным.
И вообще — не сознавать что-либо реальное значит сознавать нечто
противоположное последнему — нереальное.
Однако же мы знаем, что реальное двояко: абсолютно и относительно;
одно, которое постигается в сверхчувственном мире (посредством
абсолютной индивидуальности), другое, которое духовно постигается на земле.
Противоположность сознанию относительного бытия есть зло.
Противоположность сознанию абсолютного бытия, т. е.
противоположность интуиции, есть смерть.
Смерть не есть момент, имеющий место в земной сфере: сознание
абсолютного бытия падает вне ее границ; вне ее пределов лежит и отрицание его.
Во внешней природе возможно только зло индивидуальности; смерть
же есть сверхчувственное завершение земного процесса выработки зла,
процесса антиреализации; в совершенной аналогии с тем, как
сверхчувственным завершением земного процесса реализации, духовной выработки
бытия или выработки блага есть бытие.
Смерть столь же фиктивна, сколько неистинно зло.
Смерти нет для всех, ненавидящих смерть, не боящихся смерти и
реализующихся.
Смерть есть для всех любящих смерть, боящихся смерти и не
реализующихся.
Бояться смерти и любить ее значит созидать смерть, отвергая
сознание бытия и процесс реализации.
Единство процесса земного и сверхчувственного усвоения реальности
отвергает смерть, а человек, отвергающий единство этого процесса,
утверждает смерть.
Смерть есть неизменный продукт страха смерти, или смерть есть
бесконечное продолжение страха смерти. Ничтожество сознания и воли
человека (страх) делает его ничтожным в себе.
Смысл жизни дан в процессе духовного усвоения бытия и в конечном,
трансцендентном моменте его, в неизменном бытии; но всякий, кто
отвергает совершенствование себя в реальном, отвергает и бытие и признает
себя не-сущим в духе (мертвым).
256 «Мыслитель есть переводчик книги природы...»
Смерть, созидаемая человеком через любовь смерти и боязнь ее, будет
для него мукою, стыдом и позором; так как ничтожество его будет дано
не вне сознания и воли, а в сознании и воле. Смерть есть ничтожество
в своей рефлексии, и в этом последнем, в этой рефлексии весь ужас
такого ничтожества, весь ужас смерти. Как отрицание вечного и неизменного
бытия, она будет вечным и неизменным страданием, «огнем неугасимым»
чистого духовного бессилия...
II.
Первая, основная добродетель человека есть любовь к реальному,
тяготение к бытию и процессу реализации.
В реализационном стремлении человек осуществляет все
добродетели, так как во всех добродетелях дан известный, специфический момент
условного бытия, и отвергает все пороки, так как во всех пороках дан
известный, специфический момент отрицания бытия в духе человеческом.
Я знаю только одно общее выражение всех постулатов
жизненно-этических, именно, метафизическое требование: реализуйся*.
И я вижу только два действительных признака осуществления этого
требования человеком: субъективный — сладострастие, и
объективный — продуктивность.
В чувственном мире реальность постигается в сладострастии
милосердия — субъективно; в добрых делах человеческих — объективно.
В интеллектуальном мире реальность постигается в сладострастии
откровения — субъективно; в продуктивной истине — объективно.
В интуитивном мире реальность постигается в блаженстве —
субъективно; в творчестве — объективно.
Выясним, однако, условия, при которых земная реализация
человеческого духа (т. е. приобретение им чувственного, нравственного и
разумного бытия) делается возможной.
Условия эти, как выше замечено нами, аналогичны тем, при которых
человеческий дух, в сверхчувственной области, становится причастным
к завершению реализации, к абсолютному бытию.
И это вполне естественно.
Единство процесса, очевидно, требует вполне тождественных условий.
Было бы великою ошибкой думать, что цельная и несовершенная
индивидуальность человека на земле как таковая способна пройти земной
реализационный процесс, т. е. усвоить всецело, преодолеть бытие
чувственное, нравственное и интеллектуальное; после чего, делаясь элементом
совершенного, т. е. делаясь обратной тому, чем была во внешнем мире, —
она становится причастной к бытию интуитивному и чистому бытию. Да,
было бы ошибочно думать, что посредник для реализации необходим
только в той жизни, а что в этой — индивидуальный дух реализуется или
духовно совершенствуется в бытии самодеятельно и непосредственно,
Федор Шперк: Философские очерки (1892-1897 гг.) 257
как цельный и ограниченный (несовершенный). Нет. Насколько в той
сфере отрицание абсолютной индивидуальности, как посредника в
процессе превращения земного индивидуального духа в чистую реальность,
означает смерть и ничтожество духа, настолько во внешнем мире
отрицание посредника в процессе духовного усвоения бытия, т. е. в процессе
открытия блага и истины, есть свидетельство зла и лжи.
Как в той высшей сфере, и тут человек принуждаем отречься — не
от индивидуальности своей, которая, напротив, неизменно сохраняется
и спасается им (и в этом основная забота и задача человека), а от своей
индивидуальной цельности и ограниченности.
Ни чувственное бытие, которое постигается в половом союзе, ни
нравственное, которое постигается через любовь к ближнему, ни разумное
бытие, которое открывается в истине, — не могут быть даны
индивидуальному духу как таковому, как цельной и обособленной, ограничиваемой и,
следовательно, несовершенной единице.
Человеческий дух и для земного дела своего должен избрать
посредника или сделаться составной частью, членом некоего совершенного целого,
некоторого абсолютного тела, именно, церкви.
Вот условия земной реализации.
Вне их призрачен всякий процесс духа человеческого.
Делаясь членом этого абсолютного, неусловливаемого целого, человек
приобретает через него свободу воли — стало быть, то, что тайно и
инстинктивно он более всего желал и хотел, и должен был всего более желать
и хотеть, так как сокровенное желание души человеческой есть свободное
желание, способность свободного желания36.
Делаясь членом этого совершенного тела, он, и исчезая в нем,
целом, и сохраняя свою индивидуальность, приобретает еще высшее
нечто, тождество с абсолютным; причем приобретает это, не возвышаясь
(не греховно), а, напротив, низводя себя (со степени целого на степень
частичного).
Так, только церковью освященный брак — благодатен и реален; только
христианская любовь — истинна и действительна; только христианская
истина есть истина и бытие.
Индивидуальность должна дважды отвергнуть цельность свою, чтобы
сохранить себя. Только потеря индивидуальной целостности есть
сохранение или спасение самой индивидуальности, или бессмертие души.
Низвести себя, чтобы возвыситься — вот первое дело человеческое.
И в этом главное условие, и тут основное предположение реализации,
36 Воля — свобода. Но воля индивидуальная или воля, мотивируемая,
управляемая индивидуальностью, Т. е. живая воля, есть детерминированная (несвободная)
свобода. Для того, чтобы эту последнюю обратить в полную, живую свободу —
должно мотив воли (индивидуальность) сделать абсолютно-бесконечным, что
и достигается в церкви и Боге. (Прим. Ф.Э. Шперка).
258 «Мыслитель есть переводчик книги природы...»
а следовательно — жизни, так как жизнь есть процесс духовного усвоения
себя в бытии.
Человек иначе возвыситься не может. Не низводя себя, он остается
собою и умирает, т. е. делается ничтожным духовно, не успевая возвыситься.
Иначе, как низведя себя, человек не возвышается!
Всякое же самовозвеличение есть призрак и ложь, но не высота,
истинная в духе....
Разрушение индивидуальной цельности, естественно человеку
присущей, искание помощи в ближнем, искание церкви, смирение, смирение
непреодолимое и неизменное...
КНИГА О ДУХЕ МОЕМ. ПОЭМА37.
«Малы и злы дни нынешнего века...»
Фома Кемпийский38
Часть первая
Предисловие
Смысл, идея этой поэмы — художественно-отвлеченное
воспроизведений душевных переживаний современного человека. Поэма эта есть
повествование о бреде и болезни, о печали и радости, о затмениях и
просветлениях души человеческой. Сходя в самую глубь духа, разлагая его как бы на
самые простейшие элементы, я, естественно, не остаюсь при тех сложных
и искусственных художественных формах, которые суть выражения и
результаты позднейших психических наслоений, естественно возвращаюсь
к первобытному, элементарному поэтическому языку, и в этом отношении,
как мне кажется, продолжаю путь, открытый глубокими психологами
нашего времени — Достоевским (Бр. Карамазовы) и Метерлинком.
Федор Шперк
17 ноября 1895 г.
С.-Петербург
Пролог
1.
И запросил я пищи милосердия,
И сел больной — ближе к толпе народа;
И она смущала меня, и терзала душу мою,
37 СПб., 1896.
38 Фома Кемпийский. О внутренней беседе Господа нашего с верною душой.
Федор Шперк: Философские очерки (1892-1897 гг.) 259_
И она издевалась над болеющим...
И где была жалость человек?
2.
И в большой горечи смягчился глаз мой
И пролил потоки бальзама
И воду утешения.
3.
Но эти люди были тут...
И я боялся их и, малодушествуя, ненавидел себя:
Ибо я помеха в глазу их,
И неприязнь их на мне.
4.
И проснулась жалость в душе моей
К ним — жесткосердым и недостойным;
И раны мои жгли меня,
И боли рвали меня!
5.
И возопил я к Источнику
Голосом отчаянного,
И болящего всею душой,
И изнемогающего, и без конца терпящего!
6.
И возопил я к Источнику
Всею любовью к Тебе,
И всеми слезами к Тебе,
И всем трудом сердца моего, и всею тайною плоти моей — к Тебе!
7.
И возопил я к Источнику
Как одинокий и в толпе затерянный,
Как недостойный и дерзкий,
И слабый в совести своей,
И не просящий милости, и вечно ждущий Тебя:
О Боже! Где Ты, и в чем Ты, и где то, что Твое?!
8.
По утру же сбросил тяжесть упреков людских
И почувствовал крепость дня в себе,
И силу корня существа своего;
И был плотью своей у Источника:
Ибо в доверчивой плоти много веры
И много гордости веры.
9.
И не был из тех, что болтают,
И ищут, и просят, и стонут в беседах своих:
260 «Мыслитель есть переводчик книги природы...*
И была любовь моя — к утру и близости дня,
И к тому, что держит человека,
И к чему в душе человеческой доверие несокрушимое...
Глава первая
I.
Я возлюбил тайну
И сказал людям, увидев их в сердце своем:
И вы возлюбите тайну
И отвергните истину и все, что от истины есть!
И вышли люди, и забыл я о них, и забыл о себе, и стала тайна.
П.
И было мне горько, что тайна сия внешняя, и
Стал я полон думы о настоящем и будущем.
В настоящем, сказал я, нет тайны в человеке, много же по ней
похоти.
Я сказал, и от меня отлегло.
Но будущее манило меня,
И я увидел видение странное и увидел книгу,
И книга эта называлась книгою небытия.
И будто открылись очи мои и не узрели истины.
И стало легко мне,
Ибо я ненавидел истину и любил тайну.
III.
И снова взглянул в себя и увидел людей, сидящих на дне души
моей;
Они беседовали, и было легко им...
О люди, люди! Сказал я — горьки наши дни, и
Горьки тайны наши, и горько бытие и небытие наше!
Горечь — настоящее!
И встрепенулся на дне души моей человек, и
Удивился, и раскрыл очи свои, и развесил уши...
И взглянул я на него, и хотел посмеяться над ним.
И заплакал.
IV.
И плакал долго, доколе не захотелось вторично смеяться.
И засмеялся тогда.
И когда засмеялся, подошло ко мне сердце невинности;
И полюбил его;
Оно же сказало: Ты отнял мой смех и мой плач и нет во мне
сокровенного!
И лицо его искривилось и скорчилось в гримасу;
Федор Шперк: Философские очерки (1892-1897 гг.) 261
И я глядел в лицо сие, и не мог взглянуть в себя,
И остался без души, и без смеха, и стал смех.
V.
И все, что случилось со мной, показалось мне истиной, и я стал бояться
себя.
И не знал, куда скрыться, и звал на помощь людей,
И никто не откликнулся...
Я подошел к земле, которой не видал дотоле, облобызал ее,
И в меня вошла тайна,
И не стало истины.
VI.
Но я не видел людей, и мне хотелось их видеть,
И стал я бороться с собою,
И помутнела тайна моя,
И увидел я людей,
И стал бороться с людьми, дабы овладеть их тайной.
И боролся, и не стало меня, и не стала людей, и стала ложь.
VII.
Когда же я узрел себя, душа моя была ранена, и много в ней было лжи...
Я восхотел истины.
Но истина была вне людей, и вне меня —
И захотел полечить раны моего сердца. И исторгнул тайну;
И вошла истина в меня, и залечила ложь мою,
И я почувствовал похоть.
VIII.
И все, что стало во мне, показалось мне новым:
И захотел жить, и забылся,
И стала жизнь во мне.
И полюбил себя как похотливого и живущего;
Но прошедшее было со мной.
IX.
И захотел сорвать с себя цепи прошедшего,
Но ощутил стыд и скрылся от людей;
И во мраке боролся с прошедшим,
И потерял похоть свою,
И не стало меня, и стало прошедшее...
X.
Отошли дни, и скопилась жизнь во мне,
И было много суеты, и горечи, и человеконенавистничества...
Заговорил я другим голосом,
И рассеялись тайны,
И почувствовал многое в себе: друзей и врагов,
И было трудно.
262 «Мыслитель есть переводчик книги природы...*
XI.
Душа человеческая сделалась стихийной...
И увидел я в себе множество истин,
И стал человеком, и испытал земное.
XII.
И все, что во мне было, рвалось наружу;
И человек рождал человека;
И было много зла и блага на земле...
И душа человеческая питалась всяческим наслаждением
И отягощалась всяческим страданием,
И открылось ей все, что зиждется на тайне,
И от многообразия мира стало хорошо ей...
XIII.
И в эти заговорил я опять —
От полноты и тяготы моего сердца.
И что говорил я — было темно и горько,
И что говорил я — было в земле, и ей претил я;
Ей претило нецеломудрие мое...
И я почувствовал одиночество духа.
XIV.
В одиночестве духа голос мой стал мощным,
И боль сердца моего стала крепкой,
И в унынии стал проклинать тайны и поносить мир.
И ничто не было дорого мне,
И тяжесть души мой была бесконечна...
XV.
В бессилии же почувствовал силу сказать слово,
И сказал: Плоть —
Первое слово из слов человеческих,
Царственное слово, слово тайны.
Глава вторая
I.
И опять, преследуя тайну, искал себя.
И сердце мое было полно, и слово было на устах моих;
И тревога бессилия осилила мои члены;
И радость творчества искала слова молчания,
И стала целомудрой и сладострастной,
И тяжестью пала в бездны духа.
II.
И в эти дни я не был свободен,
Ибо тайнами связан и болями духа подавлен был.
Федор Шперк: Философские очерки (1892-1897 гг.) 263
Но хотение мое усилилось, и мысль моя обессилила,
И мечта свободы окрасила душу мою.
III.
И ощутил в гортани свободу слова,
И в сердце восприял свободу мечты своей,
И многому предался с оживлением чистосердечного...
IV.
V.
Подошло великое время труда моего,
И великой жажды моей по слову —
Выспреннему, как мысль человеческая,
И сокровенному, как душа человеческая,
И драгоценному, как жизнь человеческая.
VI.
И подошло испытание,
И должно было сказаться естество мое;
И ждал в болезни и горечи,
И в высоких думах моих,
Чей строй от природы и мира человеческого...
VII.
И не сказался я и отдалился,
И боль моя стала нарастать и сгущаться,
И приблизился предел забвения.
И видел себя, и было время покоя...
VIII.
И прошло в душе моей воспоминание о свободе
И играх свободы;
Но разум сердца владел мной,
И игра жизни моей не была окончена,
И истина ее не вышла из тьмы...
IX.
И двигался в напряжении воли своей...
И оживилось внутреннее во мне,
Оживилось, защебетало, заголосило,
Защебетало как птичка в сердце;
И окрасилось лицо мое, и оживилось, и развеселилось жизнью;
Ибо совесть сердца вошла в дом сердца моего;
И подарок ее взволновал меня —
Подарок радостный, светлый, как новорожденный в чистых
пеленках —
Мысль и помысел о душе человека.
264 «Мыслитель есть переводчик книги природы...*
X.
И разрешились узы духа моего,
И ощутил очевидное,
И ощутил победу его,
И ощутил в гибели сокровенное мое;
И стал как мысль о ближнем,
И стал как веселие в человеке,
И стал как движущийся лик жизни — ясен.
XI.
И думал о простоте душевной,
9 И ее силе,
И о велелении мира,
И в сердце своем ощущал страх.
XII.
И приуготовился к истинному на земле,
И облагообразился,
И отмел от себя прах душевный,
И сделался терпелив.
XIII.
В терпении же преодолевал земное,
И глядел выше земли
И чище земли,
И испытывал сладости терпеливого.
XIV.
И был как бы в сердце ближнего,
И в нем тверд и исполнен жизни.
И свежесть изначальная была в духе моем,
И ощущал девственность сердца.
XV.
И от простоты и детства защемило во мне
Как от боли,
И почувствовал возвращение к старому
И хотел спастись в новом, и не мог, и воды жизни вошли в меня.
XVI.
И стало бременем — будничное;
И боязнью моей — житейское;
И влечением моим — мечтание и благозвучие.
XVII.
И познал, что есть тревога,
И что есть суета,
И что есть усталость,
И что есть покорность и равнодушие большое,
И что есть сердца человеческого последнее.
Федор Шперк: Философские очерки (1892-1897 гг.) 265
XVIII.
И сжег меня огонь хаоса житейского,
И разметал прах мой дух свободы,
И успокоилось и умиротворилось умиротворимое и успокояемое во
мне.
И услада мира сего изошла из не-сущей души моей...
Глава третья.
I.
И вновь хотел говорить о горести моего сердца,
И о радости духа моего,
И горестное и радостное называть словесами души,
И в простоте моей свободну быть, и в свободе моей простоту иметь.
II.
И был другим соблазнен и стал размышлять,
И многое отошло от меня,
И остались следы одни в душе моей,
И озлобился, и стал заметать следы эти.
III.
И не было чистоты в душе моей,
И не было семян в ней,
И земля души моей была пуста и угрюма.
IV.
И я был ищущий и алчущий,
И избегающий многое,
Чего сердце искало мое и просил я.
И был несчастен зело,
И к себе безжалостен,
И жесток, и невнимателен.
И дух мой меня возненавидел;
И ненавистью его восхитился я;
И надсмеялся над ним;
И пошел в путь как бы зная что, и на время оставив тревогу, и веря
в силу души своей.
И с любопытством смотрел на путь свой, и с небрежением — на шаги
свои.
V.
И отыскал на земле самое хищное место,
И закалился в злобе,
И стал душить злобою этою в людях миролюбие и добросердечие.
И стал ядовит как змея,
И яд моей злобы был чист,
266 «Мыслитель есть переводчик книги природы...*
И остр был зуб мой,
И пасть моя была жадна и холодна.
VI.
И в злобе познал чистоту духа
И очистился от мира;
Но не было огня во мне, и жизни, и движения душевного;
И стал тосковать по жизни и лелеял чистоту свою.
VII.
И лелея чистоту и злобу, взбесился во внутренностях своих,
И безумие мое омрачило рассудок мой.
И пал я, и пришло вожделение:
И стало мило мне чуждое и в чуждом: чело, и рука, и власть.
И чистота и злоба обрели жизнь свою, и душа моя обрела жизнь
страстную,
И дни эти были чисты, и свобода была их,
И их была власть человеческая над хотением сердца человеческого,
И игры свободолюбия были их...
Глава четвертая.
I.
И опечалился я
Печалью моей о мире сем
И тоскою моей по исходу человека...
П.
И избрал лучшее в себе от опыта жизни и своей справедливости,
И заговорил к себе в утешение проникновенно;
И от простоты своей не желал другого;
И в раздумьи своем был глубок — как море чувствования,
И силен — как чело мышления.
III.
И нужное сказал себе в духе и усмехнулся —
Душою глубочайшего и чистосердечнейшего.
И слова эти пали в душу мою как золото блага,
И как свет красоты.
И тревога моя не была тревога;
И сила моя не была сила;
И была полнота во мне, и был я.
IV.
И сказал себе в большое утешение из опыта жизни и справедливости
своей:
Нет неправды в мире, и в мире правда одна есть;
Ибо ненавидящего ненавидят и любящего любят.
Федор Шперк: Философские очерки (1892-1897 гг.) 267
V.
И сказал себе в большое утешение из опыта жизни и справедливости
своей:
Нет скорби в любви, и скорбь в себялюбии есть;
И в благе награда есть, и во зле есть наказание;
И приемля зло, приемлем кару мы;
И приемля благо, приемлем награду мы.
VI.
И сказал себе в большое утешение из опыта жизни и справедливости
своей:
И суть люди — растленные дети, и оцеломудрим их!
И стал в душе своей покоен великим спокойствием своим,
И исполнен спокойствия от великой тревоги своей!
Глава пятая.
I.
И слабости своей не внял и заговорил о силе
В мире и в людях;
И стал в высшем высший и в сильнейшем сильнейший —
И.
И примирен с низшим и худшим в мире,
И восхищен много в духе своем,
Ибо свет видел,
И свет дознал,
И примирился в свете сердца своего с мраком мира сего,
Тягчайшего из тягчайших,
И из горчайших — горчайшего.
III.
И хотел пребыть в свете,
И пребыть смягченным сердцем своим,
И пребыть идущим по миру с снисхождением...
IV.
И сказал себе в поучение:
Очисти дух свой от похотей творчества своего!
И муки творчества не будут твои!
Ибо муки творчества суть муки земли и боли человека!
V.
И сказал себе: будь творимый и не будь творящий!
Ибо жизнь — творение есть, а не есть творчество.
И словом и мыслью сей разрешал сомнение,
И душу свою разрешал,
И дух свой делал восприимчивым.
268 «Мыслитель есть переводчик книги природы...»
VI.
И много облегченный принял в себя струю жизни;
И стал жить по законам жизни
И по правилам творимого,
И, живя, не тяжелел душой своей.
VII.
И чувствовал, что не молчу и не говорю,
И живу жизнью своею,
И вдыхаю и выдыхаю воздух жизни,
И не засоряется глаз мой,
И не враждуют дух мой и тело мое.
VIII.
И познал я. что жизнь сон есть,
И сон — жизнь есть,
И много такого в них, что легко,
И невинность есть...
IX.
И нашелся и сказал себе в радости:
И люди суть дети проснувшиеся и усыпим их
Сном праведных!
И большее им не нужно,
И к большему сердце их не лежит!
X.
И сказав сие в душе своей,
Пошел как бы опьяненный мыслью сей
И в парах вдохновенного.
И радость моя перешла в веселие мое,
И из легкого перешел в легчайшего...
И всему смеющегося...
И не было во мне равновесия,
И было равновесие между мною и миром сим.
XI.
И опьяненный мыслью, вошел в пестроту людей;
И запестрело в глазу моем,
И почувствовал тягость ко сну,
Ибо людское отягчило меня.
И плача урывками и смеясь, уснул,
И испытал великое и тревожное,
Творимое с человеком,
Ибо жил во сне своем.
XII.
И проснувшись, сказал себе:
Нет во сне жизни —
Ибо нет печали в нем, и нет тоски в нем.
Федор Шперк: Философские очерки (1892-1897 гг.) 269
XIII.
И сего, в мире, лучшего восхотел
И восхотел.
И тосковал страшно,
По лествице духа своего восходя.
XIV.
И имел отвращение
К хлебу мира,
И к соли мира,
И к воде мира.
Глава шестая.
I.
И ища вдохновения к величию своему
И огня ко мраку души своей,
Отделился от людей —
Дабы видеть общее и истинное,
И корень вещей;
И взошел на вершину горы.
П.
А с горы был виден мир,
И видны были поля мира, и города мира,
И свет и тень на полях и городах.
III.
И смотрел на мир и молчал,
Ибо зрелище было великое
И прекрасное.
И познал то, что в мире не познал.
IV.
И вдохновился светом мира
И в духе своем сказал истинное
О благе, и истине, и лжи, и скорби:
V.
Человек есть благо,
И зло есть тень человека,
И смерть есть тень зла, — и тени сей нет.
VI.
В духе же было согласие,
Ибо на горе сидел и познавал общее,
И видел корень мира;
И корень сей — благо.
VII.
В духе же было согласие,
Ибо человек истинен, а нет истины в тенях его;
270 «Мыслитель есть переводчик книги природы...*
Ибо есть зло и скорбь, а злобствующего и скорбящего нет;
Ибо есть благо и радость, и радующиеся и благодетели есть.
VIII.
В духе же было согласие,
Ибо горы мира суть радости мира,
И суть источники света,
И суть победители тьмы,
И слава человеку — сидеть на горах.
IX.
И дух мой познал прекрасное,
И познал, что красота есть мера мира,
И что красота мира сего на горах познаваема есть.
X.
И с истинным вдохновением молчал,
Созерцая...
И сильный свет был на мире;
Но жажда света в людях слаба,
Ибо люди были в долинах,
И сердце их не лежало к горам,
И высшее не согласили она...
И свет был на них, и была тьма в них.
XI.
И светлели восторги в духе моем,
И от свободы была широта в нем;
И годы сократились в мгновения,
И мгновения исполнились вечности,
Ибо было в них естество просветления.
XII.
И был я орлом горы мира сего,
И владельцем царственного сердца,
И не знал зависти и злобы;
И величие было — мое,
И была высота в духе моем,
И красота во взоре моем,
И во мне — полнота.
Глава седьмая.
I.
И глядя на чернеющую землю,
Сказал себе с некоторою скорбью:
В земном дано человеку горчайшее,
А в неземном — сладчайшее.
Федор Шперк: Философские очерки (1892-1897 гг.) 271
II.
И сказав сие, не удержался на высотах духа своего
И стал двоиться;
То был смиренен душой своей и вразумлял себя:
Не должно быть для человека свободы,
И до срока должна быть мила человеку земля!
В послушании же скажется призвание к свободе;
И не забудется страдающий и шествующий по земле,
Ибо в послушании шествует он и добровольном рабстве.
И все до срока неудобоваримо для человека;
И незрелым слезам его утешения нет...
III.
И почувствовал остроту земного в себе,
Ибо земная боль остра
И ни с чем не сравнима.
IV.
И не ощущал призвания своего к свободе
В скорбях этих, и покорялся
Трудно и с надеждой;
И не был забываем как шествующий по земле,
Ибо шествующим по земле забвения нет...
V.
И стал глядеть в точку славы своей
И облегчил боль свою,
Ибо из малой она стала великой,
А нет червя и жала в великих болях!
VI.
Облегчение же нужно человеку
Как слабому.
И всякий, видящий слабость человека, любит его,
И нет большей любви.
Так возлюблена душа человеческая на земле,
Ибо утешение ей дается и терпится ход ее.
VII.
И сказал себе вновь, и с большей силой,
И как бы внушая себе мысль эту:
Надо созреть человеку,
Ибо невкусен не созревший плод.
И отдадим великое от духа своего,
Приемля малое от земли!
И не от земли, и не от мира сего,
И нетленен есть дух!
272 «Мыслитель есть переводчик книги природы...*
VIII.
И говорил, пронизая сердце свое.
Всяческое страдание в человеке есть болезнь плоти его,
Всяческое наслаждение в человеке есть восторг духа его...
IX.
Не забудем о духе своем в скорбях своих!
Да сожжет огонь восторга скорби наши,
И созреем мы в свете восторга, и есть с нами немногие!
ДИАЛЕКТИКА БЫТИЯ.
Аргументы и выводы моей философии39
Оглавление
I. Абсолют как мировое начало.
И. Абсолютизм бытия.
III. Бытие как необходимое предположение разума.
IV. Непосредственный переход чистого (безатрибутного) бытия в
бытие, тождественное себе.
V. Переход тождественного бытия в единичное. (Состояние
неизменности).
VI. Переход единичного бытия в множественное. (Процесс
повторения).
VII. Наличность конечного и возможность бесконечного.
VIII. Противоречие как основа бесконечного. (Процесс изменения
и процесс развития).
IX. Возникновение в мире бесконечной величины и ее основы:
противоречия. Индивидуальный характер противоречия.
X. Бесконечное и конечное как философские идеи организованного
и неорганизованного. Процесс жизни.
XI. Зачатие духа как переход бесконечного или индивидуального
в небытие. Животный организм (или возродившаяся
индивидуальность) как субъект духа. Сознание объекта (объектное сознание)
и хотение продукта (продуктивная воля) как сочетание
небытия-формы и бытия-содержания. Реализационный характер духовного
процесса. Всеисчерпывающий характер принципов метафизики мировых
процессов.
XII. Резюме и заключение. Общая идея мировых процессов.
Взаимодействие человеческой души с природой и с абсолютной
индивидуальностью.
СПб. Типография М. Меркушева. 1897.
Федор Шперк: Философские очерки (1892-1897 гг.) 273
Диалектика бытия.
I.
Мировой процесс (или эволюция космоса) аналогичен
органическому процессу (или эволюции микрокосма). Организм вырастает из
организма-элемента; мир развивается из мира-элемента. То, что соединяет
в себе признаки организма и начала, мы называем семенем; то, что
соединяет в себе признаки мира или всего, т. е. признак универсальности
и признак начала, мы называем абсолютом. Абсолют есть всеначало
или универсальное начало. И насколько организм развивается из
семени, настолько космос развивается из абсолюта.
II.
Определяя в общем абсолют как универсальное начало, мы в
частности абсолютом признаем бытие. Бытие есть 1) нечто первое, т. е.
начальное, неделимое, и 2) бытие есть все, т.е. полнота содержания, так
как нет такого содержания в космосе, которое бы не состояло из
бытия. Само небытие, или ничто, поскольку оно есть, состоит из бытия,
именно — отрицаемого. Бытие составляет единственное содержание
космоса, аналогично тому, например, единица составляет единственное
содержание любой (модифицированной) арифметической величины.
III.
Будучи абсолютным, бытие не охватывается относительным
человеческим сознанием, не познается разумом, а только предполагается
мысленно; но предполагается необходимым образом, т.е. составляет
для разума некоторое необходимое предположение, так как
безусловное или необходимое по своей природе не могло бы быть только
случайно, условно предположенным.
Истинность этого принудительного предположения сказывается в том,
что оно дает возможность безо всякой другой положительной идеи
построить или дедуцировать мир как процесс.
Насколько развитие организма слагается из семени, т.е.
органического начала, и внешнего неорганизованного материала, настолько
эволюция мира, или всего, слагается из бытия, т.е. всеначала и того, что
внешне или чуждо бытию, — небытия. Но так как небытие ничтожно,
то мир слагается в своем развитии из одного бытия, и достаточно
предположить бытие как всеначало (а не предположить его нельзя, так как
оно есть необходимо предполагаемое содержание), чтобы получить
возможность построить себе в своем представлении космос как процесс.
IV.
Проследим же развитие бытия, или мира-элемента, в мир — целое:
Первоначально чистое, или простое, бытие, лишенное всяких
атрибутов, делается бытием, тождественным себе, или же тождеством.
Переход бытия в тождество — переход совершенно непосредственный.
Тем, что дается только бытие, или чистое бытие, тем самым, в силу
274 «Мыслитель есть переводчик книги природы..л
некоторого непосредственного акта, дается и бытие как бытие, т.е.
бытие, тождественное себе, или тождество.
Бытие — первоначало, не имеющее никаких признаков и
представляющее одно неоформленное содержание, обращается
непосредственным образом в бытие как таковое, или тождество, т. ею в содержание,
первично оформленное. Чистое бытие есть первый момент мира;
тождество есть второй момент мирового процесса, или же мир в своем
вторичном фазисе развития. Этот второй момент мира непосредственным
образом следует из первого, или же полагается первым без посредства
какого-либо другого момента.
V.
Насколько бытие переходит в тождество или тождественное бытие,
настолько тождество переходит в единство или единичное бытие. Но
заметим, что если переход бытия в тождество фиктивен, чисто
непосредственен, то переход мирового тождества в мировое единство обусловлен
некоторым как бы посредствующим моментом; обусловлен именно
тем, что тождество есть такого рода содержание или бытие, которое не
изменяется, которое обнаруживает в себе отрицательный признак
неизменности. Этот отрицательный признак, эта неизменность и служит
условием перехода тождества в единство. Не изменяясь тождественное
бытие и делается единичным, или единством.
VI.
Единство не может быть неизменно, так как неизменность есть
специфическое свойство тождественного содержания или тождества,
а тождество и единство суть два отличные момента мирового процесса.
Но тем, что единство не неизменно, еще не утверждается, что оно имеет
силу изменяться. Изменение есть некоторый положительный процесс,
который необходимым образом должен иметь и свою положительную
причину. Такой положительной причины для изменения единства мы не
видим. И, стало быть, нужно предположить, что единство входит в
такой процесс, который составляет промежуточное звено между
состоянием неизменности и процессом изменения. Такой процесс мы
называем повторением. То, что повторяется, — не изменяется еще, но также
и не состоит в неизменности. И действительно: единство повторяется,
т.е. образует единства, и этим (единствами) нисколько не отвергает, а,
напротив, только утверждает себя, единство. Единства, или
повторившееся единство, мы называем множеством. И так возникает в мире,
как некоторый новый момент, множество.
VII.
Множество, которое образуется через повторение единства,
представляется очевидно множеством ограниченным или конечным, так как
бесконечное — и безначально, а множество, которое образуется через
повторение единства, исходит из начала — единства. И, стало быть,
Федор Шперк: Философские очерки (1892-1897 гг.) 275
оно не может быть бесконечно, хотя бы сам процесс повторения и был
неограничен. Процесс повторения действительно не имеет предела,
и вот эта-то беспредельность его, которая однако образует только
ограниченные, конечные величины, служит указанием на то, что помимо
конечного в космосе должно быть и бесконечное. Процесс повторения
не обусловливает бесконечного в действительности, актуально, но он
обусловливает его в возможности, в потенциальном отношении.
VIII.
Бесконечное как противоположность конечного, естественно,
состоит и исходит не из единства, которое есть начало и единственное
содержание конечного, а из противоположности единства и безъединства,
т.е. противоречия. И действительно — бесконечное противоречиво
по существу, как безначальное и беспредельное.
Это особенно ясно показывает процесс, который специфически
присущ бесконечному. Повторение единства неизбежно влечет за собой
изменение множества. Само единство не изменяется, оно только
повторяется; но повторяясь, оно изменяет множество, которого является
содержанием. Насколько повторение есть процесс единства, настолько
изменение есть процесс множества, а в специальном значении слова —
процесс конечного.
Бесконечное не изменяется в том смысле, в каком изменяется
конечное. Вступая в новое состояние, оно не отрицает исходного, — как
например, 5, переходя в 6, отвергает 5. Бесконечное изменяется,
оставаясь неизменным; бесконечное всегда одно и то же, всегда
тождественно и, стало быть, неизменно. Но в то же время бесконечное никогда не
равно чему-либо, никогда не определимо тем или иным данным
состоянием, оно постоянно другое, ибо стать тем или иным, определиться,
ограничиться значит перестать быть неорганиченным, неопределенным,
бесконечным.
Бесконечное есть изменяющееся неизменное, или развивающееся,
ибо развитием, в отличие от увеличения или уменьшения (видов
простого изменения), — называем мы такое изменение, которое присуще
чему-то неизменному. В развитии как изменении неизменного и
обнаруживается явственно противоречивость бесконечного, или то, что
противоречие составляет содержание бесконечного.
IX.
Возникновение бесконечного в мире приходится объяснить себе
следующим образом:
Процесс повторения единства, или построяемый им процесс
изменения конечного, намекает на бесконечную величину. Единство может
неопределенно повториться, конечное может неопределенно
увеличиться... и этим обозначается возможность самого неопределенного, самого
бесконечного. Однако, ни процесс повторения, ни процесс увеличения
276 «Мыслитель есть переводчик книги природы...*
не в состоянии фактически образовать бесконечное, так как фактически
конечное сколько бы ни увеличивалось, всегда останется большим или
меньшим, т.е. тем или иным конечным, и никогда не сделается
противоположным себе, т.е. бесконечным. Бесконечное требует иного
(противоположного) исходного момента, и таковой является в форме
противоречия. Происхождение этого момента ясно: единство расщепляется,
поляризуется и возникает противоречие, которое, как
противоположность единства, т.е. повторяющегося момента, — не повторяется,
или же индивидуализируется (ибо индивидуальностью называем мы
нечто такое в мире, что не повторяется). Индивидуализированное
противоречие и есть бесконечное, или то, что подвержено развитию, —
настолько же, насколько повторившееся единство есть конечное, или
то, что подвержено изменению в специальном значении этого слова.
X.
Термины: индивидуальность, развитие — показывают уже
читателю, что мы входим в мир организмов. И действительно: бесконечное,
если брать этот термин не в математическом, отвлеченном и,
следовательно, вторичном смысле, а в смысле первичном, конкретном,
космологическом, — есть ни что иное, как философское обозначение
индивидуального, организованного, живого. Соответствующим
образом, космологическое конечное есть ни что иное как неорганизованное,
мертвое.
Действительно, все признаки, присущие конечному, присущи и
мертвому; все признаки, присущие бесконечному, присущи и живому.
Математические понятии конечного и бесконечного суть только
абстрактные понятия естественнонаучных явлений организованного и
неорганизованного. Мертвая природа, как нечто конечное,
увеличивается; живая природа, как бесконечное, развивается. Мертвая природа,
как конечное, есть всегда некоторая часть, так как всякое конечное
есть непременно часть другого, более полного конечного; напротив,
живая природа, как бесконечное, есть всегда некоторое целое, так как
бесконечное есть выражение полноты, цельности. Возьмите начальный
элемент живой природы — клетку — и вы возьмете уже некоторый мир,
микрокосм, т.е. некоторое целое.
Возьмите всю совокупность явлений в мертвой природе, и вы
возьмете только нечто частичное, относительное, некоторую часть макрокосма,
лишенную всякого единства. Вот почему живая природа — неделима,
индивидуальна, а мертвая природа — делима, неиндивидуальна.
Взаимодействие мертвой и живой природы производит собой, как
известно, процесс жизни, состоящий: 1) из процесса оживления мертвой
природы, организации, питания, анаболизма, и 2) из процесса
омертвения живой природы, дезорганизации, сгорания, катаболизма. Процесс
жизни с точки зрения метафизики мировых процессов объясняется вза-
Федор Шперк: Философские очерки (1892-1897 гг.) 277
имодействием конечного и бесконечного. Конечное, как ограниченное,
ограничивает бесконечное, т.е. низводит его на степень конечного. Ог-
раничивание есть естественный и неизбежный акт ограниченного как
такового. Бесконечное, как неограниченное, напротив, делает конечное
неограниченным, т.е. возводит его на степень бесконечного.
Естественнонаучные представления мертвого и живого не
объясняют возможности жизненного процесса как основанного на
взаимодействии двух диаметрально противоположных моментов, живого и
мертвого, не имеющих ничего общего, не могущих иметь каких-либо точек
соприкосновения.
Напротив, метафизические понятия мирового конечного и
мирового бесконечного вполне объясняют этот процесс: всякое конечное есть
некоторое возможное, или потенциально бесконечное-, всякая часть
есть некоторое возможное, или потенциальное целое. А
следовательно, обращение конечного в бесконечное обозначает только переход
бесконечного потенциального в бесконечное актуальное, т.е. переход
некоторого возможного типа в некоторый действительный тип.
Форма потенциальной бесконечности служит как бы
посредствующим звеном между конечным и бесконечным. Перенося это понятие на
почву естественнонаучных знаков, мы скажем, что посредником между
мертвым и живым является форма потенциальной жизни, присущая
первому.
Мертвое оживляется живым в силу того, что оно потенциально живо;
живое же мертвится мертвой материей в силу того, что оно
потенциально мертвенно...
Преодолевает в жизненном процессе, т. е. во взаимодействии живого
и мертвого, — конечное, и мы получаем процесс дезорганизации,
сгорания, катаболизма; преодолевает в нем бесконечное, и мы получаем
процесс организации, питания, анаболизма. Простейший элемент
мертвой природы, как бы представитель ее, — кислород сжигает высшие
элементы живой природы: животные клетки; простейший элемент
живой природы, как бы представитель ее, — растительная протоплазма
организует низшие элементы мертвой природы: неорганические
соединения.
XI.
Преимущество для биологии математических терминов перед
терминами естественнонаучными состоит в том, что первые связаны с
цельным мировоззрением, а естественнонаучные представления
приурочены исключительно к одной определенной сфере мировых предметов,
именно — только к индивидуальному миру. Индивидуальный мир, или
природа, представляется естественнонаучному уму всем космосом,
тогда как в действительности этот внешний мир есть только одна из многих
ступеней, построяющих мировые процессы...
278 «Мыслитель есть переводчик книги природы...*
Мир, подобно организму, вырастает из космического семени, из
некоторого простейшего мирового начала: абсолюта. Это семя мира, это
простейшее, неделимое начало его, эта первая ступень космоса есть чистое
бытие. Оно абсолютно бесформенно, оно — чистый атом, оно — чистое
содержание40. Это содержание начинает последовательно оформляться —
образуется процесс оформления содержания, или, что то же, процесс
идеализации реальности, так как бытие, реальность, вполне
соответствует содержанию, а идеальное, в свою очередь, настолько же
противоположно реальному, насколько форма (оформление) противоположна
содержанию. И вот, мало помалу, из простого содержания, лишенного формы,
бытие переходит в наиболее сложное, в наиболее оформленное
содержание, именно — живой организм. Более оформленного содержания в мире
нет, нет реальности, более проникнутой идеальным моментом. Однако,
процесс оформления идет далее: и содержание, наиболее оформленное,
переходит уже в чистую форму, в форму, лишенную всякого
содержания. Иначе говоря, реальность, наиболее идеализированная, переходит
в чистую идею, в идею, лишенную всякой реальности. Но очевидно,
чистая идея или чистая форма есть ни что иное, как чистый дух, т.е. созна-
вание и хотение вообще. В чистом сознании и в чистой воле столько же
сказывается чисто идеальный, сколько и чисто формальный момент...
Процесс некоторым образом завершается, так как двинуться,
прогрессировать дале не представляется возможным: чистое содержание
перешло в свой антипод — в чистую форму.
Но на самом деле, в действительности, процесс не завершается:
индивидуальность, живое существо обладает удивительно диалектической
природой, которая как бы не позволяет ему фактически уничтожиться,
произведя на свет момент чистого духа. Индивидуальность, идеально
погибнув, при зачатии идеального момента в природе, в силу особого
диалектического закона своей природы, возрождается, воскресает, но
возрождается уже как новая индивидуальность. Первичная
индивидуальность досознательна, вторичная — послесознательна. Момент духа
разделяет обе индивидуальности: одна стоит по эту его сторону,
другая — по ту. Досознательная индивидуальность есть растительный
организм, послесознательная — животный организм. Последний как бы
прошел сквозь момент чистого духа и родился уже со всеми признаками
духовности, т.е. одухотворенным. В этом и состоит главное отличие
его от первичной индивидуальности41. Он естественно появился на свет
40 Небытие есть ничто; бытие есть нечто. Но нечто есть содержание и, стало
быть, чистое небытие есть чистое, т.е. неоформленное, содержание.
Противоположность содержания есть форма, и, стало быть, форма — синоним небытия, и
оформляться означает проникаться небытием или переходить в небытие. (Прим. Ф.Э. Шперка).
41 Создать чистую идеальность, создать то, что противоположно
реальности, или бытию, т.е. создать небытие, можно только уничтожившись, перей-
Федор Шперк: Философские очерки (1892-1897 гг.) 279
Божий субъектом сознания и воли42. Но как только совершился этот
факт, нельзя уже было остановить и дальнейшего движения процесса:
индивидуальная форма начала наполняться содержанием;
индивидуальная идея стала пропитываться реальностью; стала реализовываться
аналогично тому, как (в первом процессе) чистое содержание осложнялось
формой, формализовалось, или идеализировалось.
Это означает то, что сознавание и хотение, присущие некоторому
животному существу, перестало быть сознаванием и хотением вообще
(чистой формой, чистой идеей) и стало сознаванием и хотением
некоторого содержания, или бытия, т. е. сознанием объекта и хотением
продукта43 (формой содержания, идеей бытия, содержательной формой,
реальной идеей).
Индивидуальная идея или форма может быть названа также
космологической рефлексией индивидуальности, так как то
содержание, которое делается объектом индивидуального сознания и продуктом
индивидуальной воли, представляет собой содержание первого
мирового процесса, начавшегося моментом бытия и заключившегося моментом
духа — небытия... Индивидуальный дух начинает последовательно
сознавать (как бы припоминать) предшествующее ему мировое
содержание. Понятно, что первое содержание, т.е. первый объект или продукт,
которое он сознает или хочет, есть момент индивидуальности, момент
бесконечной действительности, так как из него вытекает явление духа.
И, следовательно, индивидуальность (актуальная и потенциальная,
живая и мертвая природа) есть наиболее близкое содержание или бытие,
наиболее близкий для сознавания и хотения объект и продукт.
Сознанием индивидуального, или бесконечной действительности, мы
называем чувственностью и признаем чувственность первым, или
низшим, объектным сознанием. Затем идет сознание конечного,
ограниченного, или воображение. В воображении мы сознаем тот же мир, который
воспринимаем и чувственным образом, но только не как нечто
бесконечное, неопределенное, колеблющееся44, а как нечто строго ограниченное,
определенное, словом — не как действительность, а как образ.
дя в ничто, в небытие. Живая индивидуальность и создает идеальный момент
в природе, момент духа, тем, что саморазрушается. Вот почему первая искра
одухотворенности и появляется среди протистов, организмов с наименьшей
физической оболочкой: тут только что была разрушена организация, и вот она едва
успела восстановиться из небытия. Очевидно, ее форма и величина должны быть
наименьшие в живой природе. (Прим. Ф.Э. Шперка).
42 Философия индивидуальности, §§ 4, 9. (Прим. Ф.Э. Шперка).
43 То, что я называю объектным сознанием и продуктивной волей. (Прим.
Ф.Э. Шперка).
44 Хотя бы только в потенциальном отношении, как например, мертвая
природа... (Прим. Ф.Э. Шперка).
280 «Мыслитель есть переводчик книги природы...»
В разуме мы сознаем мировое противоречие и мировое единство,
следовательно, то содержание, те моменты космического процесса, которые
в его эволюции предваряют конечное и бесконечное. Наконец, достигая
познавательной вершины, мы подходим к интуиции, или сознанию
чистого бытия, абсолюта, первоначала мирового процесса. Таким образом,
последнее в развитии мирового процесса — индивидуальность —
является первым в процессе сознания и хотечия, а первое в эволюции мира —
бытие — является последним в духовном процессе. Мы видим из этого,
что насколько смысл первого процесса состоит в том, что содержание, или
бытие, последовательно переходит в форму, или идею, настолько смысл
второго процесса заключается в том, что идея, или форма,
первоначально абсолютно бессодержательная, чистая, — реализуется, наполняется
содержанием (именно в различных ступенях сознавания и хотения
некоторого содержания) и, в конце концом, переходит в само бытие, так как
высшее объектное сознание, интуиция или сознание бытия, в последнвей
соей инстанции, проникаясь всецело абсолютным содержанием чистого
бытия, неизбежно приходит к тому, что отбрасывает ничтожную
оболочку сознания и определяется окончательно — как первоначальное,
чистое, внесознательное и вневолевое бытие. Этим трансцендентным актом
сознания или воли, этим переходом индивидуального духа в неизменное
бытие и заканчивается история мира как процесса.
И вот, если мы спросим себя теперь: все ли исчерпано этими
процессами, мы должны будем признать — все. Нет в мире такой формы,
нет и такого содержания, которые не вошли бы в их построение. Сюда
входят и чистое бытие, и чистое небытие (чистый дух), и все виды
оформленного содержания, идеализированной реальности, всевозможные
отношения и моменты: тождество, равенство, необходимость,
причинность, единство, противоречие, множество, бесконечное45, и все виды
формы, наполненной содержанием, реализованной идеи:
всевозможные моменты объектного сознания и продуктивной воли —
чувственное восприятие, воображение, разум, интуитивное познание46. Все, что
содержится в космосе, может быть подведено под одну из этих четырех
мировых категорий: оно представляет из себя или только содержание,
или только форму, или содержание, которое оформилось, или форму,
которая наполнилась содержанием. В первом случае оно — чистое
бытие; во втором — чистый дух, сознавание или хотение вообще; в
третьем случае оно — одно из многих отношений или моментов в мире,
из которых наименее сложным является тождество, наиболее сложным
45 В настоящей «Диалектике» я определил реализационную шкалу моментов
мирового процесса (тождества, единства, противоречия); в «Философии
индивидуальности» — шкалу отношений (равенства, причинности, и др..) (Прим. Ф. Э. Шперка).
46 См. Схемы А и В в моей Метафизике мировых процессов. СПб. 93. Стр. 3.
(Прим. Ф.Э. Шперка).
Федор Шперк: Философские очерки (1892-1897 гг.) 281
является живой организм, или индивидуальность; в последнем случае,
наконец, оно — какой-либо определенный акт сознания, или какой-либо
определенный акт воли, т.е. что-либо сознанное или созданное.
Резюме и заключение
Мировой процесс исходит из бытия, которое есть абсолютная
простота содержания. Эта простота начинает осложняться, это
чистое содержание, эта первоначальная и основная материя начинает
получать форму. И вот проявляется, как нечто новое, — тождество,
которое представляет собой содержание, первично оформленное.
Тождество сложнее бытия; но помимо бытия, нет такого содержания в мире,
которое было бы менее оформлено, менее сложно, нежели тождество.
За исключением бытия, тождество есть нечто самое простое в космосе.
Однако процесс осложнения, или оформления, движется, и вот
проявляется, как нечто новое, — единство, которое представляет собой
содержание, или бытие, вторично оформленное, т.е. еще более сложное,
нежели тождество. Можно сказать, что единство настолько же сложнее
тождества, насколько тождество сложнее бытия. Повторение единства
образует множество, которое, таким образом, есть ни что иное, как
полное осуществление единства, именно выражение повторившегося
единства. Но, образовав единство, процесс осложнения
первоначальной простоты не останавливается, а идет далее и образует, как нечто
новое, — противоречие, о котором можно сказать, что в нем
содержание настолько же более оформлено, нежели содержание в единстве,
насколько содержание единства более оформлено, нежели
содержание тождества. Множество, или конечное, есть полное
осуществление единства, так оно есть выражение повторяющегося единства, или
единства в его специфическом процессе, настолько же бесконечное,
как неизменное изменяющееся, есть полное, или истинное,
осуществление противоречия. Процесс мира не останавливается, но
приближается к своему заключительному моменту, ибо бесконечное,
определяясь действительным бесконечным, т.е. абсолютно полным моментом,
достигая некоторого предельного, окончательного пункта, который оно
уже не может перерасти, — превращается в ничто, в небытие, так как
предел есть смерть (ничто) для беспредельного. В бесконечном дана
полнота формы (высшая сложность), и эта полнота формы обращается
в ничтожество содержания. Но что такое положительное обозначает
собой небытие? Небытие обозначает: 1) противоположность бытия,
реального, т. е. нечто идеальное, именно чистый духовный момент и 2)
небытие, как ничто, обозначает противоположность всяческого «нечто»,
всяческого содержания, т.е. нечто формальное, или же сознавание
и хотение вообще, которые и суть чистые формы.
282 «Мыслитель есть переводчик книги природы...»
Таким образом, космическое бесконечное, или же первоначально
проявившийся в природе организм, в эволюции мирового процесса
превращается в чистый дух, или момент универсального «я», как
некоторый чисто идеальный и, вместе с тем, чисто формальный момент,
вполне соответствующий чистому духу как пустой форме сознавания
и хотения47.
Второй процесс исходит из того, что живой организм, который через
саморазрушение выработал момент чистого духа, возрождается в виде
одухотворенной индивидуальности. Это возрождение обусловлено
удивительно диалектической природой бесконечной величины, именно
тем, что она, достигнув предела, обратившись в ничто, и, через это
образовав или создав духовный момент в природе, как бы бессознательно
рефлектирует, что, как бесконечная, т.е. по природе — беспредельная,
она фактически, реально не могла достигнуть предела, а должна
неизменно и неопределенно развиваться и оформляться... И вот, силою
закона тождества, т.е. силою закона, согласно которому бесконечное
должно оставаться бесконечным и беспредельным и, следовательно, не может
реально достигнуть предела, признается как бы, что в тот момент, когда
оно достигло грани, оно в сущности фиктивно ограничилось и
разрушилось, и, стало быть, имеет способность к дальнейшей
жизнедеятельности. Тем не менее, нельзя говорить, будто бесконечное и не достигало
этого предела; нет, оно достигало своего конечного, кульминационного
пункта развития и обратилось в ничто. Ибо, раз оно развивается, оно
есть действительно бесконечное, так как конечное, которое есть
потенциальное, возможное бесконечное, — не развивается. А раз оно
действительно бесконечно, оно не может остаться только развивающимся,
т. е. бесконечным достигаемым, а должно в известный момент сделаться
развившимся или достигнутым, так как только достигнутое бесконечное
есть действительное бесконечное. Но достигнутое беспредельное есть
предельное, самоотвергающееся и разрушающееся бесконечное...
Тут ясно обнаруживается характер бесконечного, как выражения
противоречия] Только этим, этой противоречивостью его природы и
объясняется вся эта диалектика, не отвлеченная, а реальная, действительно
происходящая в живом существе, когда оно первоначально (в качестве
растительного организма) рождает духовный момент и когда оно затем
(в форме животного организма) возрождается со всеми признаками
духовности. Вот источник логической неуловимости и неопределимости жизни.
Жизнь есть излияние и истечение индивидуальности, как реального
противоречия. И она сама — противоречива и неуязвимо диалектична.
А затем происходит процесс наполнения индивидуального духа,
т.е. индивидуальной формы космическим содержанием. Содержание
47 О страхе смерти и принципе жизни. Стр. 7-8. (Прим. Ф.Э. Шперка).
Федор Шперк: Философские очерки (1892-1897 гг.) 283
это нам известно: это, очевидно, моменты мирового процесса,
предшествующие моменту духа. Они и становятся содержанием
индивидуального «я», т.е. объектами сознания и продуктами воли единичного
существа. Первоначально индивидуальность сознает себя и вообще все
индивидуальное или бесконечное, т.е. наиболее осложненное,
наиболее оформленное содержание, и мы говорим: она обладает чувственным
восприятием, так как чувственность есть сознание внешнего
действительного или бесконечного мира. Последующей ступенью
познавательного процесса является воображение, которое имеет более
содержательный, или менее оформленный, объект, нежели объект чувственности,
так как в образе сознается внешний мир в ограничении, в конечном
моменте, а конечное менее сложно, менее оформлено, нежели
бесконечное (индивидуальное), и, стало быть, более содержательно, реально,
нежели оно. Следующей ступенью сознания представляется нам разум,
интеллект. Объект разума еще более реален, еще более содержателен,
нежели объект воображения, так как в мысли сознается единство и
противоречие вещей, а единство и противоречие, как мы знаем, в эволюции
мирового процесса стоят ближе к первоначалу, чистому бытию, нежели
конечное и бесконечное, которые из них же проистекают. А, стало быть,
объекты разума более реальны, нежели объекты воображения
(конечное) и чувственности (бесконечное), так как чем известный
космический момент ближе к источнику мирового процесса, бытию, тем он и
более исполнен бытия, тем он и более реален. Высшая ступень духовного
процесса есть, разумеется, интуиция, т.е. сознание и хотение самого
бытия, первоначала, очевидно наиболее реального в мире момента. Это
сознание и хотение бытия переходит в само бытие — наиболее
содержательная форма (интуитивный объект) переходит в чистое содержание,
в абсолют, аналогично тому, как живой организм, т. е. наиболее
оформленное содержание переходит в чистую форму, в чистый дух...
Остается сказать несколько слов о положении человека в
мироздании. Индивидуальный мир, которого человек есть некоторый составной
момент, имеет две формы, с точки зрения которых и может быть
рассмотрен: форму множества и форму единства. Индивидуальный мир
как множество есть то, что мы называем природой', как единство он
есть конечный абсолют, или абсолютная индивидуальность**.
Природа — это ряд индивидуальных моментов. Конечный абсолют — это
единая сумма этих моментов, это некоторое высшее, единое, единичное
неделимое; это — олицетворенная природа. Природа, как
множественный момент, не может быть субъектом сознания и воли; она — не
48 Не смешивать момента конечного абсолюта, или абсолютной
индивидуальности, с моментом первоначального абсолюта, или абсолютного бытия, о котором
идет речь в первых главах нашей «Диалектики». (Прим. Ф.Э. Шперка).
284 «Мыслитель есть переводчик книги природы...*
одухотворена. Абсолютная индивидуальность, наоборот, как нечто
единое, есть некоторый носитель духа, именно: высший, безусловный
орган духа. Все, что сознает абсолютная индивидуальность, есть истина;
все, что она хочет, есть действительность. Человек имеет два знака,
два символа индивидуальности своей: один заключается в природе,
или в сфере множества; другой содержится в конечном абсолюте, или
в организме единства. Точнее, человек имеет один символ, но
раздвоенный на две сферы. Это делается вполне очевидным из того, что природа
и абсолютная индивидуальность равны в своем содержании и только
отличны в своей форме. Величина 5, которая содержится в ряде
величин 1+2+3+4+5, содержится очевидно и в единой сумме 15, которая
равна означенному ряду величин. Замените здесь конечные величины
бесконечными, и вы получите математическое выражение соотношений
индивидуальности, природы и абсолюта. И так символы человеческой
индивидуальности тождественны, но различны их сферы, а с этим
различны и проявления, обнаружения тождественных символов. В сфере
множества, т.е. как составной элемент природы, человек определяет
процессом жизни борьбу за свой символ; в сфере единства, как
составной элемент абсолюта, человек определяет процессом жизни мир в
символ своей неделимой природы. Множество самодовлеющих центров
(а этим и представляется нам природа) есть источник индивидуальной
вражды и рабства, ибо вражда есть отрицание одним центром другого,
которое (отрицание), в свою очередь, есть непосредственный продукт
самоутверждения каждой индивидуальности как некоторого единого
центра в одном ряду, в одной сфере с другими индивидуальностями,
с другими самоутверждающимися центрами. Вражда, рабство, зло,
преступление — это проявления природной множественности, прошедшие
через средоточие единого человеческого лица. Зло — это хаос мира,
подчинивший себе пассивную человеческую природу и обративший ее
в свой орган. Благо, мир и свобода проистекают только из единства,
т.е. из первозданной индивидуальности, взятой вне условий природы,
и из единого, самодовлеющего абсолюта.
В сфере природы нет жизни; природа своей враждой несет смерть,
идеал отрицания, и в природе человек только умирает. Его борьба с
природой, т.е. со сферою вражды и зла, не упраздняет смерти, а
превращает ее лишь из факта, из момента, в некоторый процесс. Жизнь есть
процесс смерти — в этом существенное определение ее. Но факт
смерти, как вытекающий не из символа человеческой индивидуальности,
а из символа природы, не представляет чего-либо существенно
отрицательного для человека; смерть есть только кажущаяся победа,
только кажущееся торжество природы, как воплощения вражды и зла, над
символом человеческого бытия, который в действительности, как
нечто абсолютно чуждое природе, остается ею в существенном неуязвим.
Смерть есть естественное проявление множественного духа природы,
которым (проявлением) последняя отстраняет себя от чуждого ей духа
лица человеческого. Побеждая человека в момент смерти, т. е. разлагая
его индивидуальность и приобретая через это множественную материю,
родную стихию, — природа утверждает свой символ. Но в то же время,
и побежденная в момент смерти, индивидуальность человека
приобретает себе родственную сферу высшей, абсолютной индивидуальности,
родственную стихию единства, и в ней утверждает свой символ —
окончательным и безусловным образом...
Потухая в природе, символ человеческого лица загорается в
абсолюте.
И насколько в области природы человеческая сущность подлежит
процессу смерти, как неизбежному закону природы, настолько в
организме абсолютной индивидуальности она подлежит процессу жизни,
как неизбежному закону абсолюта...
Очевидный идеал истории, как процесса индивидуального мира, —
торжество природы, торжество индивидуальности и торжество
абсолюта. Торжество природы в факте универсальной смерти, торжество
индивидуальности в факте индивидуальной жизни (бессмертия), торжество
абсолюта в факте мирового абсолютизма, в факте всеразрешения и все-
оправдания бытия...
Октябрь, 96
«В ПЕТЕРБУРГЕ ЕГО НИКТО, КРОМЕ МЕНЯ,
НЕ ЗНАЛ...»
ФЕДОР ШПЕРК В ПИСЬМАХ И МЕМУАРАХ
СОВРЕМЕННИКОВ
«...знали его немногие, и фамилия его
была не Пушкин, каковая фамилия сама по себе достаточно
мотивирует самый длинный фельетон*.
А. А. Суворин
Частое упоминание имени Федора Шперка в «Уединенном»,
«Опавших листьях», «Литературных изгнанниках», «Сахарне», «Мимолетном»
говорит о том, что между Розановым и Шперком существовала та степень
духовной близости, которая была возможна между единомышленниками.
Однако при более широкой перспективе взгляда на петербургскую
литературно-философскую среду конца XIX века оказывается, что Розанов
был, в общем-то, одинок в своих хвалебных отзывах. Если попытаться
найти сведения о Федоре Шперке в мемуарной литературе, относящейся
к 1890 — 1910-м годам, то среди редких упоминаний его имени
практически нет отзывов сколько-нибудь выше просто нейтральных. Чаще
всего звучат мнения недоброжелательные или отрицательные. Но при этом
среди публичных отзывов о Шперке нельзя найти ни одного, который бы
беспристрастно оценивал его как литературного критика, и, кроме того,
многие высказывания были вызваны определенными межличностными
конфликтами.
Довольно часто, например, розановедами цитируется суждение
литературоведа и критика П. П. Перцова, который не видел в Шперке ничего,
кроме «вдумчивого и осторожного, даже слишком осторожного, критика»,
отмечая у него при наличии «большой самостоятельности суждений»
явную «слабость художественного вкуса»1. Этот пассаж — довольно
запоздалый отклик на рецензию Шперка на сборник «Философские течения
русской мысли» (1896), составителем которого и автором большинства
статей был П. П. Перцов.
Сам Шперк так отзывался о Перцове: «Г. П. Перцов обладает
довольно тонкой поэтической чуткостью, но у него или нет достаточной
1 Перцов П. П. Литературные воспоминания. 1890-1902. М., 2002. С. 161-
162.
Федор Шперк в письмах и мемуарах современников 287
самостоятельности, резкости, силы суждения, или не дана ему просто
способность оригинальной характеристики, ибо статьи его бледны, вялы,
страдают излишними сопоставлениями и написаны в стиле той скучно
научной критики, в котором пишут преимущественно педантичные немецкие
эстетики»2. Шперк требовал от литературной критики яркости, напора,
выразительности и более всего — личной индивидуальности, отпечаток
которой должен быть в литературно-критических статьях, поскольку именно
критику он считал «средством борьбы за идею». Сходную характеристику
давал Перцову как критику и В. В. Розанов: «...особенно привлекательно его
благородство и бескорыстие: но все эти качества заволакиваются туманом
неопределенных поступков, тихо сказанных слов; какого-то «шуршания
бытия», а не скакания бытия»3.
Но при этом Шперк умудрился совершенно не заметить тот
позитивный заряд, который присутствовал в критическом методе Перцова, как
и то, что суть современной литературной критики они понимали
одинаково. Перцов писал: «Куда как легко было бы писать критические статьи,
если бы требовалось только идти по стопам Писарева. Мы должны теперь
приучиться изображать личность писателя и его сочинения во всей их
исторической и субъективной обстановке [...]; должны уметь нарисовать
портрет писателя, а не сделать ему начальственный выговор за
непохвальное поведение»4. Шперк также считал, что задача критика состоит не
в фотографировании личности писателя, критик должен стараться
проникнуть в самый процесс творчества писателя.
Вместе с тем, в своей «борьбе за идею» Шперк не стеснялся в методах
и зачастую его рецензии были излишне прямолинейны и просто грубы.
Возможно, этим объясняется тот факт, что П. П. Перцов
недолюбливал молодого критика, а в феврале 1897 г. и вовсе порвал с ним
отношения после грубейшей рецензии Шперка на книгу Акима Волынского
(А. Л. Флексера) «Русские критики».
С А. Волынским Шперк одно время был дружен, тепло отзывался
о нем: «О, он настоящий критик, куда там Брандес»5» — говорил о
Волынском Шперк в письме к Розанову. Волынский со своей стороны видел
в Шперке товарища: «нашему Шперку самое сердечное приветствие»,
«хочется разговора сосредоточенного и медленного, какой возможен
с Вами и Шперком», — писал Волынский Розанову в дружеских письмах
1895-1896 годов6. Поэтому на первый взгляд ничем нельзя объяснить
2 Шперк Ф. Книги за неделю // Новое Время. 1896. 8 мая.
3 Розанов В. В. О себе и жизни своей. М., 1990. С. 499.
4 Письма П. П. Перцова. РГАЛИ. Ф. 1796. Оп. 1, д. 89. Л. 14.
5 Письма В. В. Розанова к А. Л. Волынскому. РГАЛИ. Ф. 95. Оп. 1, д. 761. Л. 1.
6 Письма А. Л. Волынского к В. В. Розанову. РГАЛИ. Ф. 419. Оп. 1, д. 681.
Л. 4-5, 8-9.
288 «В Петербурге его никто, кроме меня, не знал...»
грубость и резкость высказываний Шперка в адрес книги «Русские
критики» и статей Волынского о Лескове, помещенных в «Северном
Вестнике».
Шперк выступил не столько против метода декадентской критики,
сколько против лично Акима Волынского как критика. Личность
Волынского в современной журналистике стала для Шперка олицетворением
«семитской навязчивости», что, в свою очередь, было расценено как
проявление со стороны Шперка антисемитизма. Однако Шперк антисемитом
не был. Он считал, что любой литературный талант (включая и
литературно-критический) должен сочетать в себе проявление высших
духовных качеств человека, главное из которых — самоуважение личности.
Волынский же оказался в центре нападок Шперка не потому, что был
евреем (Шперк и сам был по матери евреем), а потому, что в крайностях
декадентского субъективизма не удержался, по мнению Шперка, в
рамках сугубо критического анализа, а «взял да и навязал свою натуришку
первому встречному русскому писателю». Тем не менее в
оскорбительных высказываниях, как например: «Тип навязчивого писателя», который
«лезет с нечистоплотными приемами, прямо хватая вас за горло цепкими
и немного сальными пальцами»7 — все-таки звучала личная неприязнь
Шперка к Волынскому как человеку, а не как к критику чуждой Шперку
декадентской направленности.
Не только П. П. Перцов, но и В. В. Розанов были возмущены
резкостью и грубостью Шперка по отношению к Волынскому. Розанов увидел
в инвективе Шперка «личный мотив», Шперк в ответ написал:
«Должен Вам сказать, что при внешне благородных приемах Волынского,
приглядевшись к нему, я увидел много семитической бестактности,
неуважения к себе и под.; все это в мелочах, жизненных безделицах, но
весьма характерных... Мне понятна его бестактная роль в нашей
журналистике, он в глубине своего характера — личность неуважительная,
по существу бестактная и во многом мертвенная. Талант у него есть —
талант критического воображения (но не критического суждения, не
оценки)»8.
Из всех писателей и критиков декадентского направления
по-настоящему дружеские отношения связывали Шперка с Федором Сологубом
(Ф.К. Тетерниковым). Сологуб не оставил напечатанных мемуаров, но
о взаимной приязни говорит тот факт, что он подарил Шперку свою
фотографию с теплой дарственной надписью, а в его библиотеке сохранились
все книжки Шперка, подписанные «на добрую память»9. Известно, что
7 Шперк Ф. Полемические письма // Новое Время. 1897. 19 марта.
8 Письмо Ф.Э. Шперка к В. В. Розанову от 24 апреля 1897 г.
9 Неизданный Федор Сологуб. [Стихи, документы, мемуары]. Под ред.
Павловой М.М. и Лаврова A.B. М., 1997. С. 438.
Федор Шперк в письмах и мемуарах современников 289
в 1896 г. Шперк и Сологуб собирались совместно издавать литературный
журнал, обдумывали название, хлопотали о разрешении.
Пожалуй, сочувственнее всех в то время писал о Шперке Валерий
Брюсов. В год смерти Шперка, в 1897, Брюсов писал одному из своих
корреспондентов: «Умер Федор Шперк. [...] Имя его «предано поношению»,
его искания истины остались только исканиями, память о нем останется
только в кружке немногих друзей, которых очаровал он чистотою своей
души, потому что он очаровывал всех, к кому приближался»10.
С явной неприязнью писал о Шперке Э. Ф. Голлербах, который, тем не
менее, лично Шперка не знал и общаться с ним не мог, поскольку Шперк
умер задолго до того, как Э.Ф. Голлербах познакомился и вступил в
переписку с В. В. Розановым, который видел в нем «2-го Шперка» и даже
прямо писал ему об этом. В описании полемики между B.C. Соловьёвым
и Шперком и отношения к ней В. В. Розанова, Голлербах пристрастен
и даже не пытается вникнуть в суть рецензии Шперка, повторяя за
Соловьёвым слова: «наглое и довольно коварное нападение», т.е. конфликт
рассматривался Голлербахом явно только лишь с позиции Соловьёва и со
слов Розанова11.
Скандальные рецензии, напечатанные Ф. Шперком в «Новом
Времени» на книги В. Соловьёва, А. Волынского, С. Надсона, принесли ему
репутацию «наглого» и «самоуверенного» критика, которую
подкрепляли крайние и несправедливые оценки, направо и налево
раздававшиеся Шперком в частных разговорах, статьях и письмах. «Бросьте
Вашего патологически-доброго Леонтьева» — писал он в одном из писем
Розанову12. Там же можно найти «тупого немца» Гегеля, «банального
и циничного» Достоевского, «изящные грубости» Тургенева, «самый
мелочный из художников» Толстой. И совсем не церемонился Шперк
с современными ему литераторами. В его литературно-критических
статьях появляются «иезуитизм в философских одеждах» B.C.
Соловьёва, «тщеславный и мелочный» Я. Колубовский, «мнимо-философское
фиглярство» Н. Минского, приписываемые А. Волынскому требования
«с ножом к горлу» ко «всем русским критикам перемены русского
паспорта на еврейский»13.
В. Розанов же при жизни Шперка, т.е. в 1890-х годах, ни разу в своих
публичных оценках не поднялся выше просто доброжелательного
отклика, написав единственную критическую статью о философской брошюре
Шперка, явно желая подбодрить уже умиравшего друга.
10 Письмо в. Брюсова к М. В. Самыгину. / / Валерий Брюсов и его
корреспонденты. В 2-х кн. М., 1991. Кн. 1. С. 386-387.
11 Голлербах Э. В. Встречи и впечатления. СПб. 1998. С. 52, 58.
12 Письмо Ф.Э. Шперка к В. В. Розанову от 10 марта 1892 г.
13 Шперк Ф. Полемические письма // Новое Время. 1897. 19 марта.
290 «В Петербурге его никто, кроме меня, не знал...»
СОЛОВЬЕВ В. С.
Воскресные письма14.
V. О так называемых вопросах15.
Прошу извинения, что речь о важном деле, начатую в прошлом письме,
я прерву сегодня публицистическими впечатлениями, касающимися меня
лично. В № 7543 «Нового Времени» мне посвящены две статьи: передовая
по поводу моего прошлого письма и рецензия о моей нравственной
философии. Хотя эти две статьи принадлежат, очевидно, не одному и тому же перу
и говорят о разных предметах, но говорят они одно и то же: не нужно так
называемых вопросов, всякий общий идейный вопрос бесполезен и даже
вреден, это есть «метафизика», схоластика и иезуитизм. О иезуитизме
говорит, впрочем, только один из авторов, но оба ссылаются на басню Хемнице-
ра «Метафизик». По мнению передовой статьи «Нового Времени» вопросы:
что такое Россия? И что такое православие? Суть ненужная метафизика,
а рецензент в этой газете объявляет такою ненужною метафизикою
всякое «теоретизирование» относительно добра и нравственности. Вот что мы
читаем в этой весьма характерной и в своем роде превосходно написанной
рецензии, озаглавленной «Ненужное оправдание» и подписанной
«Апокриф»: «Тяжелое впечатление производит книга г. Вл. Соловьева.
Представьте себе человека, который серьезно занялся задачею «оправдать добро».
Очевидное, ясное, абсолютно и несомненно истинное христианское
учение любви подвергается иезуитски-изощренному,
схоластически-хитросплетенному и метафизически-отвлеченному оправданию, доказательству,
утверждению. Для чего и к чему? Позвольте мне не понять это. Да, я
отказываюсь, и отказываюсь совершенно серьезно и чистосердечно, уразуметь
это теоретизирование над моралью. Размышлять можно, конечно, обо всем,
и о «вервии простом» как наш простодушный метафизик, и о
«метафизической природе допотопного мамонта» как о том размышлял Шеллинг или
Гегель — не помню уже хорошенько, которая из этих мудрых немецких голов.
Но размышляйте о «вервии» и «мамонте» у себя дома в своем углу. Не
выносите эти свои мудрствования в честной народ, не смущайте его ими.
Несомненное для него несомненно, и вы своими хитрыми и слабыми доводами
только ослабите его веру в необходимость добра, и своей темнотой, своей
иезуистикой, своей схоластикой только внесете в его голову смуту. Ему
покажется, что и в самом деле добро нуждается в «оправдании»; и, склоняясь
14 Впервые напечатано в журнале: «Русь». 1897. 2 марта.
15 По поводу статьи Шперка «Ненужное оправдание» B.C. Соловьев писал
В. В. Розанову: «Что касается до Шперка, то, в виду его молодости, я еще не
решил вопроса, что педагогичнее: полная невозмутимость или нравственное
негодование?» (НИОР РГБ. Ф. 249, M 3823. Ед. хр. 11. Л. 16-17). Как видно, полную
невозмутимость Соловьеву сохранить не удалось.
Федор Шперк в письмах и мемуарах современников 291
в сторону суемыслия и с этим теряя правильное отношение к «добру» как
некоторой самоочевидной истине, он пойдет за вами в дебри «метафизики»,
где, конечно, ни достоверности, ни убедительности, ни истины не найдет.
Своей метафизикой вы отнимаете у него разом и разум и нравственность.
Легче понять и объяснить себе «оправдание зла», нежели «оправдание
добра». Добро истинно, ни в чем не виновно и в оправдании не нуждается.
Зло темно и для души и для ума, и, хотя по своей природе не может быть
оправдано, однако, естественно становится предметом извинений и
оправданий. Мотивы г. Соловьева, «оправдывающего» всякими научными
и ненаучными способами «добро», мне совершенно не понятны; тогда как
мотивы фарисеев, книжников и иезуитов, оправдывавших свои злые
деяния с психологической точки зрения, и естественны, и понятны, и даже
неизбежны. Естественно оправдывать виноватого и вину, но довольно
противоестественно оправдывать то, что ни в чем не повинно, ни перед
кем не виновно... добро и любовь...».
Когда я прочел эту тираду, старые заглохшие славянофильские
чувства взыграли в сердце моем. Разве мы не самобытны? Есть ли, кроме
России, страна на свете, от Швеции и Шотландии и до земли бушменов, где
бы можно было прочесть такое рассуждение? Это требование заниматься
нравственною философией и метафизикой только в свое/А углу16, чтобы
не смущать своими мудрствованиями честной народ, это пренебрежение
к Шеллингу или Гегелю, это заверение, что добро ни в чем не виновно
и это указание на «противоестественность» его оправдания с блаженным
неведением о блаженном Августине, написавшим двадцать две книги в
оправдание божественного Промысла, и о Лейбнице, посвятившем
обширнейшее из своих сочинений Теодицее, т. е. оправданию Бога, наконец,
это опасение, что я своею метафизикой отниму у народа разом и
нравственность и разум — все это пахнуло на меня какою-то исключительною
туземностью и непочатою самобытностью. Но если как старый
славянофил, я ощутил веселие от веяния русского духа, то как «этический»
писатель я сейчас же должен поставить вопрос о доброкачественности
этого «духа». Читаю дальше и дохожу до такого места: «Г. Вл.
Соловьев рассматривает следующую нелепую дилемму». Далее идет отрывок из
моей книги, излагающий известный вопрос о позволительности или
непозволительности лжи для спасения жизни ближнего. Приведя этот
отрывок, Апокриф продолжает: «На нескольких страницах г. Вл. Соловьев
распутывает эту «лойоловскую» дилемму и, надо отдать ему
справедливость, делает это с тонким пониманием формально-нравственной
казуистики, какие мы ни у одного нашего моралиста не найдем. К сожалению,
здравый русский человек недолюбливает иезуитизма даже в
философской одежде, а «гордиевы узлы» схоластического мышления он привык не
16 Здесь и далее выделено В. С. Соловьевым.
292 *В Петербурге его никто, кроме меня, не знал...*
«распутывать», а «разрубать» — разрубать силою полного игнорирования
их и равнодушного отчуждения». Прекрасно! Хотя при таком равнодушии
остается непонятным, каких же русских людей буду я, как сказано выше,
смущать и даже лишать разума и нравственности — но дело не в этом.
Здравый русский читатель, конечно согласится с Апокрифом, что
приведенный вопрос о лжи фальшиво поставлен, что в самом деле тут нет
никакого нравственного вопроса. Но не удивится ли этот «здравый русский
читатель», когда я ему скажу, что именно это и есть мое мнение, и что
даже выражение «нелепая дилемма» принадлежит не Апокрифу, а прямо
взято у меня? Вот мои подлинные слова: «Никаких вопросов тут не могло
бы и возникнуть, по крайней мере между людьми, понимающими, что А=А
и 2x2=4. Но дело в том, что те философы, которые особенно настаивают
на правиле «не лги», как не могущем иметь никакого исключения,
впадают сами в фальшь, произвольно ограничивая значение правды (в каждом
данном случае) одною ее реальною или, точнее, фактическою стороной,
в отдельности взятою. Становясь на эту точку зрения, приходят к
такой нелепой дилемме (привожу общеупотребительный пример, как самый
простой и ясный)». Далее идет отрывок, выписанный Апокрифом, а на
следующей странице я говорю: «Разберем это подробно, и пусть читатель не
сетует на некоторую педантичность нашего разбора: ведь самый разбор
возник лишь в силу школьного педантизма отвлеченных моралистов».
Итак, тот ходячий вопрос, который я называю нелепою дилеммой,
приписывается мне, как мое философское подражание Игнатию Лойоле, и то
рассуждение, на котором я останавливаюсь как на ярком образчике
фальшивой морали отвлеченных философов, выдается за пример моей
собственной схоластики. Не знаю, как поймет это «здравый русский читатель»,
к которому обращается Апокриф; я же, по крайней мере, понял, почему
чтение моей книги было так неприятно и тягостно врагу всех так
называемых вопросов, а также, почему он говорит о вервиях и узлах: в известных
случаях нравственная философия бывает «веревкой в доме повешенного».
Апокриф уверяет, что я смущаю честной народ. Об этом пока ничего не
слышно: пришлось убедиться только в смущении людей, которых можно
относить к честному народу или в надежде на их исправление, или
разумея это прилагательное в том смысле, в каком, например, старый Гомер
называет свинопаса Евмея «божественным».
Я не сомневаюсь, что в Апокрифе и ему подобных есть добро; но, не
будучи достаточно оправдано в их сознании, оно оказывается бессильным
удержать их от поступков, которые никто не назовет добрым.
Тот народ, о спокойствии которого заботится Апокриф, есть
несомненно народ апокрифический; слишком известно, что действительный русский
народ тяготится своею темнотою, своим «неоправданным» добром и ищет
учение как света, особенно в области нравственной и религиозной, и та
часть русского общества, которая заодно с народом и предана его истинной
Федор Шперк в письмах и мемуарах современников 293
пользе, не найдет для себя лишним оправдание добра, хотя бы оно было
связано с возбуждением разных «так называемых вопросов».
СУВОРИН А. С.
Маленькие письма17.
CCCVII
Я прочел в прошлую среду в «Новом Времени» заметку г. Апокрифа
о книге Вл. Соловьева «Оправдание добра» и совершенно не согласен
с приговором молодого критика, который посылает г. Соловьеву упрек
в иезуитизме. Вл. Соловьев — последователь св. Игнатия Лойолы?! Вам
известно, что основатель ордена иезуитов причислен к лику святых
католической церкви, а бог позитивистов, Огюст Конт, ставит Игнатия Лойолу
выше Христа. Вл. Соловьев замечает по этому поводу, что «эта оценка,
как и другие подобные мнения и соответственные поступки основателя
позитивной философии, заставляют всех беспристрастных критиков, что
этот мыслитель, переживший в молодости двухлетнюю мозговую болезнь,
снова подвергся умственному расстройству при конце жизни»18.
Я не могу забыть, как, больше двух десятков лет тому назад, я впервые
познакомился с Вл. Соловьевым. Это был смуглый молодой человек, с
черными усами, с выразительным взором, с мистической Речью на устах. Он
занимался богословием и читал лекции по этому предмету. Это было в те
времена, когда от богословия мы были на тысячу верст, если не больше.
И мне он чрезвычайно понравился этою смелостью, для которой всегда
надо талант. И постоянно, в течение всей своей литературной карьеры, он
был талантливым и искренним человеком, писал ли он публицистические,
богословские и философские статьи и книги, или серьезные и
юмористические стихи. Юмористических стихов он, кажется, стыдился немного,
хотя юмор у нас, русских, почти всегдашняя принадлежность таланта.
Мне даже думается, что наша сила именно в юморе, и не только сила,
но даже спасение. Юмор помогает нам переносить все невзгоды нашего
климата, нашей истории, нашего тяжелого развития. Все земное — прах
и жизнь — копейка. Юмор, может быть, мешает нам быть
последовательными и серьезными, мешает быть философами, но без него даже зиму
нашу перенести было бы трудно. Он так нам присущ, что даже такие
грозные владыки, как Иван Грозный и Петр Великий, отличались, между
прочим, и юмором. И для философа юмор хорошая вещь — сколько его,
например, у Шопенгауэра! И я жалею, что его мало в нашей философии...
17 Впервые напечатано в газете: «Новое Время». 1897. 1 марта.
18 Соловьев B.C. Сочинения в двух томах. М. 1988. Т. 1. С. 278.
294 «ß Петербурге его никто, кроме меня, не знал...»
Я не могу сказать, что прочитал как следует книгу «Оправдание добра»,
но я внимательно ее перелистывал. Оправдывать добро довольно странно.
Но у книги есть подзаглавие — «Нравственная философия», и посвящена
она отцу автора, историку С. М. Соловьеву, и деду его, священнику, «с
чувством живой признательности и вечной связи». И мне думается, что эта
«вечная связь» с отцом и дедом действительно существует в природе Вл.
Соловьева. Он — истинный христианин. Для него Христос — Богочеловек,
с которым ни одна из благороднейших личностей всемирной истории не
может идти в сравнение. Он — христианский мыслитель, верующий в
царство Божие и в стремление человека к богочеловечеству. Он — историк,
потому что признает человечество в его «историческом» развитии и кладет
исторические грани даже для своей мысли. Он — задушевный поэт, и если
скептицизм присущ ему, то он поглощается его добродушным юмором...
«Оправдание добра» — скорее юмористическое заглавие, чем серьезное.
Но разве не надо добро оправдывать? По-моему, и очень даже надо, потому
что добро, если дать ему свободный ход, и если оно войдет в плоть и кровь
каждого человека, наделает в мире столько переворотов, сколько не под
силу было сделать злу. Да разве добру что-нибудь мешает? По-моему, да,
и мне кажется, что надо бы проповедовать заповедь непротивления добру,
а не злу. В своей книге Вл. Соловьев разбирает смысл жизни, жалость,
альтруизм, религиозное чувство, добродетель, личность и общество,
национализм, смысл войны и т. п. Все вопросы очень важные. Я не скажу, что
его анализ, его логика — нечто такое, что подчиняет вас себе безусловно;
нет, но она заставляет думать, вызывает на спор, сообщает множество
сведений и полезных, и поучительных. Иногда он, как мне кажется, ставит
положения свои так, чтобы легче их защищать или опровергать. Укажу
на один пример. Националистическое течение он характеризует так: «Мы
должны любить свой народ и служить его благу всеми средствами, а к
прочим народам имеем право быть равнодушными19, в случае же
столкновения их национальных интересов с нашими, мы обязаны относиться к этим
чужим народам враждебно»20. Два мною подчеркнутых слова, конечно,
умышленные преувеличения, ибо вместо «равнодушия» национализм
ставит «внимание», а вместо «вражды» — договоры. Но далее я нахожу у него
признание важности национализма в следующих словах: « Национальности
должны существовать и развиваться в своих особенностях, как живые
органы человечества, без которых его единство было бы пустым и мертвенным,
и этот мертвый мир был бы хуже войны». Указание на предпочтение своей
народности всем другим Вл. Соловьев находит и в Евангелии, в словах
Христа к самарянке: «спасение от иудеев (Иоанн, IV, 22), и в
предварительном наставлении ученикам: идите прежде к овцам потерянным дома
19 Здесь и далее разрядка А. С. Суворина.
20 Соловьев. B.C. Указ. соч. С. 358
Федор Шперк в письмах и мемуарах современников 295
Израилева»21. Я указываю на эти замечания в пользу национализма с тем
большим удовольствием, что у нас начинается довольно лукавая и
легкомысленная пропаганда против национализма, точно Россия представляет
собою нацию уже вполне сложившуюся и определившуюся в своей
самостоятельности. Сначала Россия для русских, чтоб не разбрасываться, не
разбиваться, а потом, когда она вырастет во всю силу своего национального
духа, Россия для всего мира. Вот как мне думается и как я понимаю
национализм, которому «Новое Время» всегда служило усердно.
Иногда мне кажется, что Соловьев высказывается не весь, что что-то
остается в нем такое, что в книгу не попало, или попало не совсем в таком
виде, в каком требовали его голова и сердце. От этого — иногда
многословие, некоторая туманность и неопределенность...
Для патриотизма у нашего философа три разряда: неразумный, пустой
и настоящий или истинный патриотизм. Не много ли это? Какой
патриотизм в данное время владеет Грецией — неразумный, пустой или
истинный? Не бывает ли так, что патриотизм, признаваемый в данное время
неразумным, признается потом историей истинным? Этот вопрос очень
сложный и провести надлежащие грани между разрядами патриотизма
очень мудрено. Не потому ли Л.Н. Толстой считает всякий патриотизм
прямо вредным, даже патриотизм польский, направленный к сохранению
и отстаиванию польской народности. В самом деле, либо признавать
патриотизм, либо отрицать его, а эти разряды только путаницу производят
в понятиях. Впрочем, в конце концов, и Соловьев его отрицает, ибо
говорит, что «патриотизм утверждается заповедью любить все народности как
собственную»22. Когда это случится, то, конечно, ни о каком патриотизме
не будет речи. Но до этого так же далеко, как до царства Божия на земле.
Идеал государства, по словам Вл. Соловьева, таков: «Христианское
государство, достойное этого имени, есть то, которое ... в пределах своих
средств действует в духе Христа, жалевшего голодных и больных,
учившего темных, принудительно обуздывавшего злоупотребления (изгнание
торжников), но милостивого к самарянам и язычникам и запретившего
своим ученикам прибегать к насилию против неверующих»23.
Мне нравятся очень многие страницы «Оправдания добра», а что не
нравится, то, вероятно, нечто уж совсем философское.
Еще одно замечание по поводу следующих слов книги: «Как первая
половина истории до Христа подготовляла среду или внешние условия для
Его личного рождения, так вторая половина подготовляет внешние
условия для Его универсального Откровения или явления Царства Божия...»24.
21 Там же. С. 367.
22 Там же. С. 378.
23 Там же. С. 534.
24 Там же. С. 256.
296 «В Петербурге его никто, кроме меня, не знал...*
Мне думается, что евреи этому мешают и помешают, но блажен тот,
кто верит вместе с Вл. Соловьевым, далеким от политики, от бирж, от
займов, от вражды, от всей этой призрачной жизни, которая ничего не
стоит, уж если говорить серьезно.
«Русское богатство»25
[...] Русский невежда [...] не колеблясь пишет: "Весь смысл
позитивизма сводится к этому: лучше плохо думать, чем хорошо; мысли бывают
истиннее, когда они не развиты и не согласованы друг с другом, мышление
правильно, когда оно бессвязно". Коротко и ясно. "Лучше плохо думать,
чем хорошо" — вот, по словам русского неуча, весь смысл учений Конта,
Миля, Спенсера, Ласа, Авенариуса, Вундта и проч., и проч.!!
Читатель, вероятно, интересуется узнать, откуда мы выудили этот перл
российского глубокомыслия, не из сочинения ли какого-нибудь из внуков
грибоедовского Скалозуба, собиравшегося фельдфебеля в Вольтеры дать.
Узнавши, что этот перл принадлежит некоему г. Розанову, тому самому
г. Розанову, который вместе с г. Шперком разделяет славу
философского доказательства необходимости сечения розгами, который по тонкости
анализа даже превзошел г. Шперка, ибо открыл, что сечение необходимо
для поднятия чувства собственного достоинства у наказуемых-,
узнавши все это, читатель, вероятно, заметит: охота же обращать внимание
на всякий вздор; всюду существует «ванькина литература», но на нее
никто не обращает внимания, с нею не полемизируют, ее просто презирают.
Несомненно, что писания г. Розанова принадлежат к области «ванькиной
литературы», и конечно, на них не стоило бы обращать внимания.
Из письма И. В. Свечина к Ф.Э. Шперку26 (май 1896 г.)
[...] Ваш взгляд на положение нашей философской литературы я
нахожу правильным. Действительно, существует у нас официальная
профессорская философия и философия любителей. Одна живет взятыми
напрокат традициями и ищет новостей в заграничных литературах, а другая
стремится создать что-либо свое, опираясь на собственный опыт и роясь
в глубине своего духа. [...] Книжки Розанова и Т. Соловьева я не читал
и не имею об них никакого понятия. [...] Но для нас остается надежда,
25 Рецензия на кн. Ипполит Тэн. Об уме и познании. 2-е изд. Пер. H.H.
Страхова. СПб. 1895. Безымянный рецензент комментирует статью В. В. Розанова
«Заметки о важнейших течениях философской мысли в связи с нашей переводной
литературой по философии». (Вопросы Философии и Психологии. 1890. кн. 3).
// Русское богатство. 1896. № 3. С. 60-61.
26 РГАЛИ, ф. 419, оп. 1, ед. хр. 993. Л. 1-2.
Федор Шперк в письмах и мемуарах современников 297
что ни одна крупица истины не может исчезнуть, раз она появилась на
свет, потому что свидетельствовать о истине и принести в мир эту
крупицу разрешено нам Господом, который сказал: Я есмь истина и живот.
Мы можем надеяться на Него и молить Его о том, чтобы святилось Имя
Его и Он услышит нашу молитву и научит нас терпению при ожидании
раскрытия в умах и сердцах людей вечной правды.
РОЗАНОВ В. В.
Две философии27.
Критическая заметка.
Федор Шперк. Диалектика бытия.
Философия индивидуальности. О страхе смерти.
Мысль и рефлексия. Книга о духе моем.
Мы, русские, имеем две формы выражения философских интересов:
официальное, по службе, то есть должностное. Это — «философия»
наших университетских кафедр. И мы имеем как бы философское
сектантство: темные, бродящие философские искания, которые, давно начавшись,
продолжаются до настоящих минут. В обеих формах своих «философия»
наша движется без всякого взаимодействия, они почти не знают друг
друга, явно друг друга игнорируя.
Первая философия не только подтверждается содержанием своим,
но и усиливается поддержать идею, что у нас «все от варяга быша, яже
бысть». Не только народного чего-нибудь или чего-нибудь, идущего из
живого общества нет в ней; но всякий труд, в котором это народное или
вообще живое оказалось бы, тем самым очутился бы вне служебной
философии. Если внимательно присмотреться, в ней нет вообще книги, как
живого и целого явления, несущего на себе печать лица; это всегда есть
работа, безличное в такой степени, что имя «Иванова» или «Семенова»,
на ней написанное так же ничего не выражает, как если бы на ней не было
вовсе никакого имени. Она выражает нужду кафедры, свидетельствует
о знании автора и, так сказать, составляет «литературное прибавление»
к устному магистерскому или докторскому экзамену, более
документальное и прочное, а, следовательно, официально более веское, чем изустные
вопросы и ответы, на экзамене заданные и выслушанные.
Несчастье книг второго порядка, «сектантских», составляет отсутствие
научного декорума и иногда, привычной для читателя, а, может быть, и
действительно нужной, правильности изложения. Однако мы должны вспомнить,
27 Впервые напечатано в газете: «Новое Время». Библиографическое
приложение. 1897. 12 октября.
298 *В Петербурге его никто, кроме меня, не знал...*
что знаменитое сочинение Бэкона «Instauratio magna» («Великое
восстановление», т. е. наук) представляет невыразимый хаос изложения, бегучесть,
порывистость во все стороны, отсутствие спокойствия и плана; в главной
части своей Novum organon, это «Instauratio» переходит прямо в афоризмы.
Вообще, существо рождается не похожим на то, каким оно бывает в
старости; теперешняя форма западной науки есть по приемам и системе
изложения форма старости; и оттого новые труды так не походят на бурно
устроенные труды Бэкона и, также прибавим, Декарта или Лейбница.
Наша «философия» пошла двумя путями: одна, заимствовав форму
старости, не рождает в ней содержания. Напротив, вторая ветвь нашей
«философии», не имея научного декорума и часто даже плана, в высшей степени
полна «жизненного пороха»: этой взрывчатости, самогорения, порыва
мысли, и всегда около действительности, около naturam rerum. Мы
решаемся сказать, что она, будучи нисколько «из варяг», однако близко подошла
к «варяжской» науке в ее существе, в «дыхании жизни», в ее, так сказать,
вечном мотиве, и только не отвечает текущим и, может быть, минутным, а,
во всяком случае, внешним приемам изложения, плана, «декорума». В
психологической части она действительно интересуется «коготком», который
«увяз» и заставляет «всю птичку пропасть»; в логической — она в самом
деле пытает «тайны бытия», «семя бытия», как говорит интересный
философ, заглавия маленьких книжек которого мы выписали. Эта философия
тесно связана с нашею литературой; тогда как первая связана
исключительно с учебными нуждами, с задачами преподавания старинной
педагогической дисциплины, которая на Западе больше терпится, нежели растет,
и по примеру Запада введена у нас. И нам думается, насколько именно
литература, а не школа и все школярское, есть деятельно просвещающая
сила в нашей стране; русская «философия», насколько она есть, есть не
в патентованной «Науке о человеческом духе», где, кроме «антиципации
идей», «относительности и соотносительности» психических факторов, вы
ничего не находите, но вот в этих и подобных им маленьких, бесформенных,
но полных «взрывчатости» книжках, которые лежат теперь перед нами.
Очень небольшая часть их представляет стихотворения; все
остальное — проза. То и другое — философично и только философично. Автор
прибегает к стихотворной форме, где мысль его переходит в чувство, где
стремление к истине или тому, что кажется истиной, превращается в
любовь к ней, восторженное поклонение. И тогда он начинает петь, а не
говорить. Все это понятно, естественно; все это может только нравиться по
прихотливой свободе своей.
Печальная сторона г. Шперка, печальная для него как для мыслителя,
состоит в том, что он не умеет развивать мысли. В нем как будто не достает
силы ращения, выращивания; но сила рождения, и могучая сила, в нем
положительно есть. Вы начинаете его понимать и разделять только там, где
мысль его совпадает с вашей, бродит около того же. Тогда вы поражаетесь
Федор Шперк в письмах и мемуарах современников 299
его пронизывающим вниманием к миру и многим таинственным догадкам,
до которых он дошел или к которым близок. Мы с любопытством
перебираем афоризм за афоризмом; вы видите, что он глубоко заинтересован
тайнами бытия, человеческой психологией, особым характером и судьбою
великих исторических племен. И места, которые в его книгах стали вам
понятны, становятся вам дороги, а, наконец, дорог и сам писатель этот,
очевидно, уединенный и глубоко в себя погрузившийся мыслитель,
который «возлюбил истину паче всякой красоты мира».
Большая и главная часть его трудов, между прочим — последняя
брошюра, представляет чистую диалектику понятий, алгебру природы, если
можно так выразиться. Она вращается в элементарнейших понятиях,
поэтому именно не передаваемых и крайне трудных для усвоения. Это —
абстрактные знаки усложнения человеческих понятий; вывод из понятия
бытия — понятие тождества, из тождества — единства, из единства —
множества, и т. д.; все, что со времен Платонова «Парменида» и до
диалектики Гегеля составляло душу логической обработки наших отношений
к космосу. Очевидно, в собственных воззрениях автора — здесь центр его
философствования. Но и вне диалектики, как моралист и историк, как
наблюдатель, он дает чрезвычайно много любопытного, оставаясь, однако,
везде крайне абстрактным, обобщающим умом.
Ясно, что тайна организма, тайна бытия органического есть для него
.узел, из которого он хотел бы разгадать, в одну сторону — закон
механический, а в другую — законы психические и исторические. Но эту
узловую тайну, если позволительно так выразиться, он рассматривает в свете
мистическом и религиозном, каковой, конечно, и присущ ей более всего.
Отсюда — и мистический свет, который разливается у него на всю
природу. Повторяем, среди его прекрасных афоризмов истинный любитель
философии будет чувствовать величайшее удовольствие, нигде не видя
фольги и мишуры, так часто набивающей философские книги, много не
понимая, но что понимая — там находя ценные жемчужины.
Из письма В. В. Розанова к С.А. РачинскоМу28
(16 сентября 1897 г.)
<...>Я же немного психолог и умею различать людей: ничего
подобного, кроме умирающего теперь Шперка — я еще ни у кого не встречал. Это
основная для меня черта, новый факт наблюдения в поле моего зрения.
И не мог не остановиться я на нем, не поразиться им. Два юноши, почти
28 ОР РНБ. Ф. 631, оп. 1362. Ед. хр. 1-133. Рачинский С.А. (1833-1902) —
профессор Московского университета, переводчик, музыковед. В. В. Розанов
состоял в многолетней переписке с С.А. Рачинским.
300 «В Петербурге его никто, кроме меня, не знал...*
однолетки, около 24 лет — Шперк и Бех29 — один перед смертью
принимает православие (был лютеранин) и другой идет в монастырь, а главное,
оба с чертами такой вдохновенной правды, такого яркого богоощущения,
такого глубокого прозрения внутрь вещей, и оба имеющие... Но я не буду
говорить, я скажу только, что со всеми своими довольно религиозными
писаниями я прямо склоняюсь и «развязываю ремень» у сапога этих по
существу еще мальчиков; и никогда, никогда такой праведности в себе я не
ощущал, как знаю в их поступках. Кстати — любопытны слова Шперка
перед таинством о лютеранизме: «В нем никакого не содержится
таинства, это рационализм; ничего мистического». Вы понимаете, как правилен
и строг этот мотив перехода в православие.
РОЗАНОВ В. В.
Ф. Э. Шперк30
7 октября 1897 г., в два часа ночи, скончался в Императорской
санатории «Халила», в Финляндии, Федор Эдуардович Шперк, молодой писатель,
литературная деятельность которого едва началась и прервалась
неожиданно. Ему принадлежит ряд брошюр-трактатов философского содержания:
«Система Спинозы» (Спб., 1894 года), «Философия индивидуальности»
(Спб., 1895 г.), «О страхе смерти и принципе жизни» (Спб., 1895 г.), «Мысль
и рефлексия» (Спб., 1895 г.), «Книга о духе моем» (Спб., 1896 г.),
«Диалектика бытия» (Спб., 1897 г.), но влияние и значительность он приобрел не
этими серьезными, по трудно изложенными брошюрами-трактатами,
а длинным рядом очень коротеньких, но очень содержательных
критических заметок, которые под псевдонимами «Ор» и «Апокриф» он печатал
в Новом Времени. И мышление, и жизнь, и, наконец — роковая развязка
жизни этого человека — почти юноши еще — исполнены серьезности,
красоты и глубокой печали. Куда он ни являлся — как писатель или как
человек, — он всюду вносил особую атмосферу своей индивидуальности, где вы
не находили ничего заимствованного, перенятого со стороны и откуда
всякий невольно заимствовал новые мысли, новые точки зрения на предметы,
29 Стефан (в миру — Валерий Степанович Бех) (1872-1933) — епископ
Православной Российской Церкви; с 1921 года епископ Ижевский, викарий Сарапуль-
ской епархии. Один из лидеров иосифлянства. В. С. Бех и Ф. Э. Шперк были
знакомы лично. 29 октября 1897 г. Бех писал В. В. Розанову: «.Будучи мысленно всегда
с Вами, я не заметил того, как давно уже мы не виделись... Едва прошел месяц, как
мы виделись, а столько перемен прошло и сколько зреет их у Бога. Вот премилый
Федор Шперк ушел от нас...(РГАЛИ. Ф. 419, оп. 1, ед. хр. 369. Л. 9-10). Сам Бех,
будучи уже епископом Стефаном, был арестован в 1932 г. и умер в тюрьме.
30 Впервые напечатано в: «Русское обозрение». 1897. Т. 48. С. 459-465.
Некролог переиздан в: В. В. Розанов. Сочинения. М. 1990. С. 223-230.
Федор Шперк в письмах и мемуарах современников 307
новые оценки явлений литературных или житейских. Если принять во
внимание его молодость — он умер, едва достигнув 26 лет, то необыкновенная
серьезность его душевной настроенности, отсутствие «общих мест» в его
понятиях и взглядах становились поразительными и невольно возбуждали
вопрос: откуда и какими особенными путями развития он приобрел все это
так рано? Можно надеяться, что появится сборник его критических статей,
и тогда читатели увидят, до какой степени его взгляды на Пушкина,
Лермонтова, Майкова и на множество текущих литературных и научных
явлений — точны, верны и захватывают самое существо писателя или
художественного произведения. Он был библиограф по форме, по краткости своих
заметок, — но критик, и истинный критик, по их содержательности и
глубине. Небольшой томик его взглядов войдет как ценное и обильное питание
в кругооборот нашей духовной, в частности — умственной, жизни. Однако
кто знал его, находил разгадку этого раннего глубокомыслия в
подробностях его воспитания и судьбы. Как исключен был шаблон из его мышления,
так и в течение его краткой и бурной жизни шаблон нигде не замешался.
Он очень рано развился, и развился вне правил, любя читать и, читая без
выбора, но по инстинкту, по серьезному складу ума — искал всегда читать
серьезное. Так, кончив курс лютеранского училища в Петербурге (он был
лютеранин), он вступил в университет с зрелым умом и с зрелыми
требованиями — по требованию родителей, избрав юридический факультет. Невоз-
• можно было сделать выбора менее удачного: формальные науки этого
факультета всего менее отвечали тем проблескам мистицизма, которые он
принес с собой на университетскую скамью, и тем эстетическим вкусам,
какими он жил, по его сознанию, едва ли не с 11-12 лет. Но причина
оставления им университета (из которого он вышел, вступил обратно, по просьбе
родных и после трудных хлопот, и все-таки, опять не кончив, вышел из пего)
заключалась не в этом только: «в свою живую душу я не мог вбирать
мертвого содержания читаемых там лекций», — так однажды он формулировал,
в частной беседе, мотив своего выхода. Что же это было за «мертвое
содержание»? Конечно, не материал науки, который нов и поэтому уже всегда
интересен, — но, так сказать, схематизм профессорского мышления,
который обволакивал этот материал и пытался осветить его, в действительности
загрязняя и опошляя. Это была схема шаблонов, «общих мест», «ходячих
взглядов». Именно три года университетских лекций, как он объяснял,
сделались источником его жгучей нерасположенности ко всему
«либеральному» — к «либеральному» не как к доброму или злому, истинному или
ложному, но как к «общественному», «общепонятному», в чем нечего искать,
где нет предмета для разгадки, для пытливости, где ничто не держит вашу
душу, не занимает внимания вашего, не питает вас. Бесспорно, позднее
и с большей опытностью он уравновесился бы в своих взглядах, но ко
времени выхода из университета он привязался ко всему бытовому,
народному, что было не из книги и не смотрело в книгу. Отсюда склонение
302 «В Петербурге его никто, кроме меня, не знал...*
его к славянофильству; необыкновенно высокая оценка, которую он
придавал русскому народу, высокое и также поражавшее тонкостью понимание
православия (месяца за полтора до смерти он принял православие). Была
в нем одна черта, напоминавшая Фауста, тип, который, однако, усиленно
не любил он: это переход от теоретизма к практицизму, сперва умственный
только, но закончившийся и реальными исканиями. Всегда среди книг,
всегда в мыслях о книгах, он, однако, в них искал только жизненного, любя
в них протест против книги, — ценил в них любовь и внимание к —
непосредственному, простому, реальному. Он не любил и Фауста, как
воплощение книги, как, до известной степени, гения книги, — не замечая, может
быть, — как не замечают и тысячи людей, что, конечно, горечь в себе и
собою составляет сущность «фаустовского»: Фауст без самоотрицания,
Фауст, не отвергающий себя, — есть уже Вагнер. Во всяком случае, бросив
университет, и притом с процессом «отрясения праха от ног», он очутился
на свободе, но и среди всеобщего отчуждения, ставшего кругом него стеной,
среди молчаливого «не нужно», которое он встретил в попытках работать,
писать (к несчастью, он очень долго не мог найти для себя формы, которую
позднее превосходно развил), так как первоначально он гордо отказывался
от мысли «служить» и следовательно, по правдоподобному подозрению,
«подслуживаться». У него были наследственные три тысячи (он был сын
доктора Шперка, покойного директора института экспериментальной
медицины), которые не дали ему пасть сейчас же, задушенным нуждой, как это
случилось бы в подобном положении непременно со всяким; но год за годом
шел, деньги таяли, и нигде никакого просвета, ничего обещающего. Я
помню его в эти годы смятенной борьбы — почти мальчика, у которого, однако,
мог научиться муж и старец, все еще в студенческом, совершенно
заношенном мундире, всегда с пытливым взглядом, вечно с гадающим умом,
жемчугом на устах, и рассказывающего, как еще и снова ему не удалось
там-то пристроиться. Это были годы медленного наступающего отчаяния.
Трудность увеличивалась тем, что он беззаветно привязался к одной
девушке и соответственно высоким и строгим своим взглядам на брак, как и на
чистоту вообще плотской жизни, тотчас же стал мужем и затем год за
годом — отцом одного, двух и, наконец, трех детей. Ничего нельзя было
сделать с своеобразием и причудливостью его языка (литературного), который
не умел найти себе — не говорю «шаблона» — но просто понятной;
допустимой в литературе формы. Одни и те же мысли, которые вас очаровывали
в устной беседе, — будучи положены им на бумагу, становились не только
мертвым, но и непонятным набором слов, не распутываемым составом
предложений; и, между тем, в других писателях он был высоким и тонким
ценителем именно формы, манер и оттенков литературного письма. Мне, в силу
указанного недостатка, он казался потерянным для литературы, или
точнее — казался не найденным, не от-крытым и не открываемым для нее, при
всем богатстве своих мыслей. Встреча с двумя людьми, многоопытными
Федор Шперк в письмах и мемуарах современников 303
в форме, поправила этот вывих его природы; сперва покойный H. H.
Страхов, привязавшийся к Шперку, как только узнал его, сделал попытки как-то
и чему-то научить его; но, за скоро наступившею его смертью, главный труд
и заботы в этом отношении принял на себя г. Буренин, к которому,
бесплодно сотрудничая до тех пор в Гражданине, Школьном Обозрении, Новом
Слове и др., он однажды отнес какую-то критическую статью. Это было, как
мне известно, важнейшим моментом его внешней судьбы, моментом
вызревания к выражению: ибо чему выразиться — это давно и обильно в нем
созрело. Как и всякого, к кому он приближался, он привязал к себе старого
и опытного критика и заставил его захотеть работать над созданием у него
формы. Чисто редакционные методы выправки и указаний как-то дали ему,
наконец, понять ли что-то, научиться ли чему-то: я никогда этого не мог
постигнуть; но, неутомимо внимательный и сам в работе над собой, при
таких-то не достававших ему указаниях, Шперк вдруг и поразительно стал
приобретать форму, более и более отчетливую, а наконец даже
выразительную и сильную. Был спасен человек, и был найден, приобретен, открыт
многообильный ум для литературы: отсюда чрезвычайная привязанность
его к двум названным писателям, пестунам его языка — привязанность,
которой многие удивлялись и, не зная первого и главного ее источника, не
доверяли ей. Теперь оставалось для него сделать еще один шаг — найти
форму, найти способ не для афористического, но для длительного,
сложного, богатого песнями и полупеснями выражения своих мыслей: ему нужен
был колорит живых, т. е. непременно разнообразных цветов, взамен
краткого, пусть даже сильно падающего, слова — и огромный писатель — ибо
огромность в содержании была уже обеспечена — обогатил бы нашу
литературу. Но когда, играя и уже почти счастливый, он поднимался вверх
и вверх — смерть подкралась и скосила его.
В характере, всей манере и, наконец, судьбе этого не раскрывшегося
еще для жизни юноши было много особенного и исключительного. Понятие
«жалостливого», «трагического» вполне применимо к его смерти.
Пишущему эти строки приходилось встречать людей иногда знаменитых, иногда
очень привлекательных — и, однако, никто из них не возбуждал к себе
столько умственного любопытства и тайного сочувствия. Если обдумать,
вся жизнь его и, наконец, преждевременная смерть исполнена
героического — в лучшем, серьезном, не мишурном значении этого слова: она вся
была порывом к свободе и борьбой за умственную, общедуховную
независимость. «Как печально мне, что во мне ужасно много ненависти», —сказал
он мне однажды в Халиле, т. е. уже больной, умирающий. Со стороны он
был лучше виден, и этим именем он называл те бурные, гневливые чувства,
с которыми поднялся на все, что задерживало, или ему казалось, что
задерживает этот его порыв к свободе. Невозможно передавать здесь
подробности его убеждений и также жизненных обстоятельств, но мне известно
было, что эти бурливые в нем чувства все поднялись для защиты простого
304 «В Петербурге его никто, кроме меня, не знал...»
и естественного, с тем вместе — лучшего, правдивейшего в жизни. Но все
это сообщало лишь объективный интерес его личности и судьбе, тогда как
главное в нем было субъективная сторона. Больной и тяготясь —
посещениями даже старых друзей, Страхов — ранее не расположенный к нему за
некоторые писания — после двух-трех свиданий уже искал новых. «Был
Шперк, просидел три часа — и не утомил меня», —помню я его замечание,
кажется, даже не без удивления сказанное. Особенность беседы с ним
заключалась в том, что она служила как бы продолжением, только
дальнейшим движением субъективной вашей жизни, что не чувствовалось вовсе
никакой внешней преграды, которая задерживала бы непониманием или
неправильным отношением вашу мысль, как и обратно вы чувствовали себя
не защищенным, не закрытым от его мысли или слова. Едва завязывался
разговор, как материальные и всегда задерживающие условия бытия
нашего — материальные не в вещественном только смысле, но и в духовном,
как выгода, фальшь, притворство, всякая деланность, — куда-то пропадали,
и открывалось чисто умственное или нравственное общение. Иногда, и
особенно во враждебные минуты, мне представлялось это высшей досягаемой
формой вкрадчивости, т. е. вкрадчивостью, естественно текущей из
природы вещей: ибо, не будучи преднамеренной, она все равно открывала вашу
душу постороннему человеку — чужой человек как бы имел ключ даже от
того, что вы не хотели бы никому показать, и без того, чтобы вы передали
ему этот ключ. В немногие светлые для него минуты, и может быть
оставшиеся незамеченными для других, я видел его в степенях такой душевной
прозрачности, которая — я не ставлю необдуманно этого слова —
пробуждала мысль, или воспоминание, или наконец понятие о святости: это
были минуты абсолютного пробужденного в вас доверия, может быть
абсолютного уважения к человеку, — когда между вами и странным юношей,
с заросшими волосами и в неопрятной одежде, не было никакой границы,
вы чувствовали себя в нем и его в себе. Я передаю это и записываю, потому
что большая странность этого всегда меня поражала, и еще никогда и ни
с кем этого отношения я не знал. «Хитрый византиец, — иногда смеясь
и недоверчиво формулировал я себе: — так-то вот в Византии, читаем мы
в истории, и овладевали какие-то безвестно-темные люди государями».
Как неустанная деятельность, исключение всякой лености были в его
характере, так неутомленность и неутомимость были в его уме: он вечно
чего-то искал умом, вас спрашивал или отвечал на верно угаданную вашу
мысль. Он был всегда и ко всему окружающему насторожен: никакой
рассеянности, как и ничего наивного, в суждениях у него не было. И вместе
сам он беззаветно привязывался ко всему наивному: эта смесь огромного
ума, вечно все судящего, с порывом — даже до героизма, до готовности
страдать, — к простому и беззащитному, кажется, и была причиной его
обаятельности, огромного пробуждаемого им доверия. Никакой мишурой
или кажущейся «знаменитостью» его нельзя было обмануть: он зорко ее
Федор Шперк в письмах и мемуарах современников 305
выглядывал, злобно кидался на нее, — и в то же время вы видели (или
позднее узнавали), что он влекся и привязывался до неотступного любования
к чему-нибудь самому малозначительному с виду — ни в чем не
ошибающимся взглядом и аналитическим умом он открывал внутреннее золото.
То, что внешние объективные оценки не существовали для него; то, что за
свою субъективную оценку он готов был к борьбе; и, наконец, что в самой
борьбе он был так силен — это-то и привязывало к нему, а вдали
пробуждало и большие обещания. Его вступление в литературу обещало прекрасную
борьбу против того, что мы назвали «общими местами» — против «общих
мест» в понятиях, в отношениях, в оценках. Но все обещанное им — нам
не суждено было получить.
Было определено в санатории, что первые зачатки чахотки уже
положены были у него года три назад; сырая несносная квартира в зиму
1896-1897 года и простуда около Пасхи 1897 года перевели
обыкновенную и неопасную форму этой болезни в скоротечную; все встрепенулось
около него для помощи, но уже помощь была не нужна. Нетерпеливый,
боящийся физической боли, с невероятным терпением он провел пять
месяцев, не отделяясь от одра; нежно любящая жена, кинув троих детей
в полуверсте от санатории на попечение крестьянки-няни, поселилась,
с особого разрешения начальства, в самой санатории, около
умирающего., годы испытания и отчуждения, какие перенес он, сделали его
пугливым к людям, недоверчивым к жизни; по крайней мере, я наблюдал, как,
лежа в номере или выносимый на воздух, он требовал или искал, чтобы
жена не отходила от него. Много было исключительного и трогательного
в перипетиях кратковременной и бурно развившейся привязанности их;
и как сравнивал я его с Фаустом, и было действительное здесь серьезно
выраженное сходство, — так приходилось сравнивать и в краткотечном
романе с Ромео и Джульеттой: и снова в простых, почти грубых чертах
здесь прошло не только сходство, но и повторение жалостливой истории,
так ярко нарисованной Шекспиром. Жизнь в миниатюрных и будничных
чертах не беднее, в сущности, и вовсе не хуже самого высокого
художества. Как и всегда у умирающих, у него не было сознания приближающейся
кончины: смерть подходит к человеку не с лица, хватает его не за голову,
но как-то странно и страшно точно ущемляет сзади — и он никогда ее
не видит, как бы ясна она ни была. Полон был он надежд, и сам угасал,
а они не гасли. «Ну, вот, милочка, выздоровлю — напишу большой
фельетон и куплю тебе кофту», — как-то сказал он раз жене, тронутый неус-
танностью и подробностью ее ухаживания. Все знали сущность драмы,
кроме главного в ней актера; и отчаяние всей людной собравшейся около
него семьи было тем глубже, чем безмолвнее. Последние недели были
особенно трудны, когда туберкулы стали проникать в
чувствительнейшие внутренние полости; напрасно впрыскивали большие дозы морфия.
Метаясь, странно чем он был озабочен: «пожалуйста, любите меня: если
306 «В Петербурге его никто, кроме меня, не знал...»
я чем-нибудь когда-нибудь обидел кого, простите мне ради великих моих
теперь страданий». Так самая малая нравственная боль, как возможной
непримиренности с собой, — преодолевала сильнейшую физическую. Дня
за два до смерти он вторично захотел причаститься; переход в
православие, давно им решенный, сперва откладывался в надежде торжественно
совершить его по выздоровлении; но «выздоровление» тянулось,
оттягивалось, и он не захотел медлить. — Взволнованный, сидя в кровати, с
пылающей от лихорадки кожей, которая одна обтягивала его остов, сказал он,
ожидая священника, памятные слова: «Протестантизм тем беден, что не
содержит в себе тайны; он преднамеренно отталкивает от себя
мистическое, тогда как в мистическом лежит сущность религии, без него вовсе нет
религии». Как это оригинально: в тысяче критических воззрений на
протестантизм именно эта точка зрения отсутствует, и, между тем, ясно, что
в ней лежит центр дела. И здесь, как всегда он делал и в литературе, — он
взял главу гордости, сторону горделивого возвеличения, и показал в
простых словах ее пустоту. Действительно, апостольская «простота» культа,
как и «рациональность» построения внутри отвечают прекрасным чертам
нашей скромности и строгим требованиям науки; но мы имеем здесь дело
не с наукой, как и не с художественной стороной наших вкусов: перед
нами религия, т. е. наше и не от нас, и где все — тайна, исходит из тайны
и оканчивается тайной. И задачи построения, как и все средства внешнего
выражения, здесь должны быть иные.
Из письма Суворина A.A. к В. В. Розанову
(октябрь 1897 г.)31
Статью Вашу32 нахожу неудачной и именно по Вашему отношению
к Шперку как великому человеку. Это отношение чувствуется в тоне, так
написаны многие фразы, хотя быть может Вы и не собирались этого
говорить. Впечатление получается невыгодное для Шперка. Прошу очень
Вас — переделайте статью. Ее придется очень переделать, чтобы публика
поверила, что этот бедняк милый действительно был редкой головой.
Возьмите лучше тот тон, что Вы, давний литератор, встретили юношу, который
заинтересовал Вас и очертите его из Ваших воспоминаний его взглядами.
Получится характеристика одного из нынешней молодежи, которую хают
и справа и слева, и такая характеристика сильно заступится за память
покойного. Напечатать ее я бы хотел в Приложении, где будет помещен
и портрет Шперка, где также он и работал больше всего. Значит, статья
должна быть совершенно готова в печать днем в понедельник.
Ваш А. Суворин.
31 НИОР РГБ. Ф. 249. M 3822. Ед. хр. 6. Л. 14-15.
32 Имеется ввиду некролог на смерть Шперка, написанный Розановым.
Федор Шперк в письмах и мемуарах современников 307
Не сердитесь на это письмо. Пишу его наскоро и говорю грубыми
чертами. Очень трудно говорить о Шперке, так как знали его немногие, и
фамилия его была не Пушкин, каковая фамилия сама по себе достаточно
мотивирует самый длинный фельетон.
Из письма Брюсова В.Я. к М.В. Самыгину33. (1897 г.)
Умер Федор Шперк. Это имя Вам ничего не скажет. Если что
припомните, — только грубые насмешливые отзывы журналов и знакомых. Я все
«собирался» прочесть книжки этого пасынка литературы, его «Философию
индивидуальности», «Диалектику бытия», все эти «Аргументы и выводы
моей философии». Федор Шперк умер. Розанов поместил в «Русском
обозрении» (№ 11) статью, посвященную его памяти. И какой ласкающий образ
возник перед читателями. Юноша, вышедший из университета, «потому что
в свою живую душу не мог вбирать мертвого содержания лекций»,
живущий среди всеобщего отчуждения, среди лаконичного «не нужно» редакций
и бесстыдных надругательств присяжной критики. «Я помню его, —
говорит Розанов, — в эти годы смятенной борьбы, почти мальчика, в еще
студенческом совершенно заношенном мундире, всегда с пытливым взглядом,
вечно гадающим умом...» Он рано женился. «И снова в простых, почти гру-
.бых чертах прошло здесь не только сходство, но и повторение жалостливой
истории Ромео и Джульетты». Сырые квартиры и вечная нужда создали
чахотку. Он умер 7 октября. Имя его «предано поношению», его искания
истины остались только исканиями, память о нем останется только в
кружке немногих друзей, которых очаровал он чистотою своей души, потому что
он очаровывал всех, к кому приближался.
ПЕРЦОВП.П.
Литературные воспоминания. 1890-1902 гг.34
В «Новом Времени» была помещена еще довольно длинная рецензия
некоего «Ф.Ш.», т. е. Федора Шперка (номер от 8 мая 1896 г.) Это тот самый
Шперк, которого так высоко ценил Розанов и который упоминается в
доброй половине розановских статей. Он умер еще совсем молодым человеком,
двадцати семи лет (1870-1897)35, от чахотки, и после него осталось очень
немного писаний, не собранных в книгу. Отзыв о «Философских течениях»
33 Валерий Брюсов и его корреспонденты. В 2-х кн. М., 1991. Кн. 1. С. 386-387.
34 Перцов П. П. Литературные воспоминания. 1890-1902 гг. М. 2002. С. 161-
162,261-262.
35 Год рождения Ф. Шперка — 1872.
308 «В Петербурге его никто, кроме меня, не знал...*
интересен тем, что дает некоторое понятие о Шперке: в этом отзыве видны
ум, большая самостоятельность суждения — и в то же время практическая
осторожность, отсутствие увлечение и слабость художественного вкуса.
Автор холодно распекает Мережковского за «отсутствие эстетического такта»
и проходит мимо всего метафизически-богатого и художественно-ценного
материала его статьи о Пушкине, предпочитая этой новаторски боевой
статье академически-спокойный этюд о Майкове. Наибольшую похвалу у него
заслужил, конечно, «классически-выдержанный этюд» авторитетного
Владимира Соловьева. Вообще, вопреки увлечению Розанова, можно думать,
что в лице Шперка к литературе готовился вдумчивый и осторожный
критик, но едва ли пламенный пионер новизны и рыцарь гонимой эстетики [...].
Любил же он [Розанов. — Т.С] (опять-таки в те же годы) больше
всего, несомненно, некоего Шперка — странного юношу, «декадента»
(тогда это слово было в ходу), больного, морально весьма непохожего
на Страхова, философа и критика, писавшего на не понятном ни для
кого языке, поклонника стихов Сологуба (тогда почти никому не
известных), тоже искавшего или чуявшего что-то новое... Он умер от чахотки
двадцати с небольшим лет, еще в 1897 году. Но Розанов никогда не
мог его забыть. Говоря о духовных движениях в России, о прозрениях
будущего, о самых ценных в этом отношении людях, он всегда и
неизбежно должен был упомянуть эти два имени: Шперка и «Рцы» (Ив.
Фед. Романов — тоже уже давно покойный). В последние годы к ним
прибавилось еще третье — имя Павла Александровича Флоренского,
которого он чрезвычайно высоко ценил. И четвертого такого имени,
мне кажется, для Розанова не было (если не возвращаться к
Константину Леонтьеву). В таком предпочтении в высшей степени сказалась
духовная оригинальность Василия Васильевича. Конечно, он понимал,
что ни Шперк, ни Рцы не первоклассные писатели, но он ценил в них
людей, мучащихся над теми самыми задачами, которые мучили его
самого и которые он имел основания считать самыми важными из всех
задач. В такой качественной (с его точки зрения) оценке эти двое
весили для него больше всех других, количественно (талантом) более
богатых. И в этом он не ошибался, в особенности относительно Рцы.
Шперка, я думаю, он ценил особенно еще потому, что в те смутные
для него самого, и внутренне, и внешне, 90-е годы в одном этом юноше
В. В. находил устремления, отвечавшие его собственным еще неясным
мыслям и влечениям, находил интересы, которые едва пробуждались
в нем самом. Шперк ел или пытался идти именно по тем путям и к тем
духовным целям, к каким пролегла после дорога самого Розанова, тогда
еще, повторяю, не знавшего самого себя. И после встреч и бесед с
эпигонами славянофильства и консерватизма, и даже с самим Страховым,
Розанов, я думаю, впервые начинал себя чувствовать себя Розановым
лишь во время долгих своих ночных разговоров с чудаком, непонятным
Федор Шперк в письмах и мемуарах современников 309
философом, вечно декламировавшим Сологуба, ставившим
христианству в упрек отрицание пола и с безмерной иронией относившимся ко
всей кипевшей вокруг литературной суете.
ГОЛЛЕРБАХ Э.
Встречи и впечатления36.
Приблизительно к тому же периоду относится и дружба Розанова
с молодым писателем, студентом Ф.Э. Шперком, которого он считал
даровитее, оригинальнее и самобытнее себя. Шперк умер двадцати
шести лет и как писатель остался совершенно незамеченным. Он издал ряд
маленьких брошюр на философские темы, представляющих собою
перепевы кое-каких мотивов классической философии. Писать он не умел,
и это, по словам Розанова, была «странная идиосинкразия собственно на
бумаге, — при глубоко ясной и интересной устной речи». Под влиянием,
по-видимому, Розанова Шперк стал славянофилом и перешел в
православие. «Я безумно его любил», — читаем мы (во втором томе «Опавших
листьев») о Шперке. По мнению Розанова, этот человек был проницателен
до гениальности и мог бы сделать значительный вклад в историю мысли,
если бы не безвременная кончина (от туберкулеза). [...] Юный друг
Розанова Ф.Э. Шперк заметил после нескольких посещений Соловьева, что
это в высшей степени эстетическая натура, а вовсе не этическая.
Может быть, потому и позволил себе Шперк очень развязный выпад
против Соловьева на столбцах «Нового Времени». И вот тут-то сказалось,
что Розанов действительно ценил и уважал Владимира Сергеевича: он
решил «проучить» Шперка и устроил свидание с Волынским,
прочитавшим Шперку беспощадную, уничтожающую отповедь. А. Л. Волынский,
рассказывавший мне о подробностях этой «экзекуции», хорошо помнит,
с каким живейшим сочувствием поддакивал Василий Васильевич
каждому его доводу; ему очень хотелось, чтобы Шперк был «разбит в пух и прах»
и поставлен на «свое место».
А. Л. Волынский казался ему в данном случае наиболее подходящим
«наставником». Спрашивается, почему же Розанов не взял на себя
«вразумление» Шперка? Полагаю — не потому, что он любил Шперка, а
потому, что не любил Соловьева. «Эстетическая натура» казалось ему очень
верным определением.
Голлербах Э. Встречи и впечатления. СПб. 1998. С. 52, 58.
СОДЕРЖАНИЕ
Джанкарло Баффо. Семя бытия: Федор Эдуардович Шперк 5
«Человек не русского покроя...» 10
«ВАШ ЖДУЩИЙ ОТВЕТА ФЕДОР ШПЕРК...»
Ф.Э. ШПЕРК И В. В. РОЗАНОВ: ИСТОРИЯ ДРУЖБЫ 16
ПИСЬМА Ф.Э.ШПЕРКА 39
Письма Ф.Э. Шперка кВ.В. Розанову 39
Письма Ф.Э. Шперка к А. С. Суворину 75
Письмо Г.Э. Шперка кВ.В. Розанову 76
Письмо А. Л. Шперк к В. Д. Бутягиной-Розановой 77
Письма А. Л. Шперк к В. В. Розанову 77
«НАША ЛИТЕРАТУРА ТАК БЕДНА
ИСТИННО ИНТЕЛЛИГЕНТНЫМИ КНИГАМИ...»
ФЕДОР ШПЕРК НА СТРАНИЦАХ «НОВОГО ВРЕМЕНИ» 80
ЛИТЕРАТУРНО-КРИТИЧЕСКИЕ СТАТЬИ Ф. ШПЕРКА
(газеты «Новое Время», «Школьное Обозрение, «Гражданин», 1893-1897 гг.) 102
Статьи из раздела «Библиографические новости»
газеты «Новое Время» 102
Статьи из раздела «Книги за неделю» (газета «Новое Время») 108
Статьи из раздела «Критические заметки»
(газеты «Новое Время») 122
Статьи из раздела «Современные заметки»
(газета «Новое Время») 143
Статьи из раздела «Из литературного дневника»
(газета «Новое Время») 164
Статья Ф.Э. Шперка из газеты «Гражданин» 199
Статья Ф.Э. Шперка из газеты «Школьное обозрение» 200
«МЫСЛИТЕЛЬ ЕСТЬ ПЕРЕВОДЧИК КНИГИ ПРИРОДЫ...»
ФЕДОР ШПЕРК — ФИЛОСОФ 203
ФЕДОР ШПЕРК: ФИЛОСОФСКИЕ ОЧЕРКИ (1892-1897 ГГ.) 218
Мысль и рефлексия. Афоризмы 218
Философия индивидуальности. VARIA 233
VARIA, (афоризмы и стихотворения в прозе) 248
Содержание 311
О страхе смерти и принципе жизни 250
О страхе смерти и принципе жизни 251
Книга о духе моем. Поэма 258
Диалектика бытия. Аргументы и выводы моей философии 272
«В ПЕТЕРБУРГЕ ЕГО НИКТО, КРОМЕ МЕНЯ, НЕ ЗНАЛ...»
ФЕДОР ШПЕРК В ПИСЬМАХ И МЕМУАРАХ СОВРЕМЕННИКОВ 286
Соловьев B.C. Воскресные письма 290
Суворин A.C. Маленькие письма 293
Из письма И. В. Свечина кФ.Э. Шперку (май 1896 г.) 296
Розанов В. В. Две философии 297
Из письма В. В. Розанова к С. А. Рачинскому (16 сентября 1897 г.) 299
Розанов В. В. Ф. Э. Шперк 300
Из письма Суворина A.A. к В. В. Розанову (октябрь 1897 г.) 306
Из письма Брюсова В.Я. кМ.В. Самыгину. (1897 г.) 307
Перцов П. П. Литературные воспоминания. 1890-1902 гг 307
Голлербах Э. Встречи и впечатления 309
Федор Шперк
Как печально, что во мне так много ненависти...
Статьи, очерки, письма