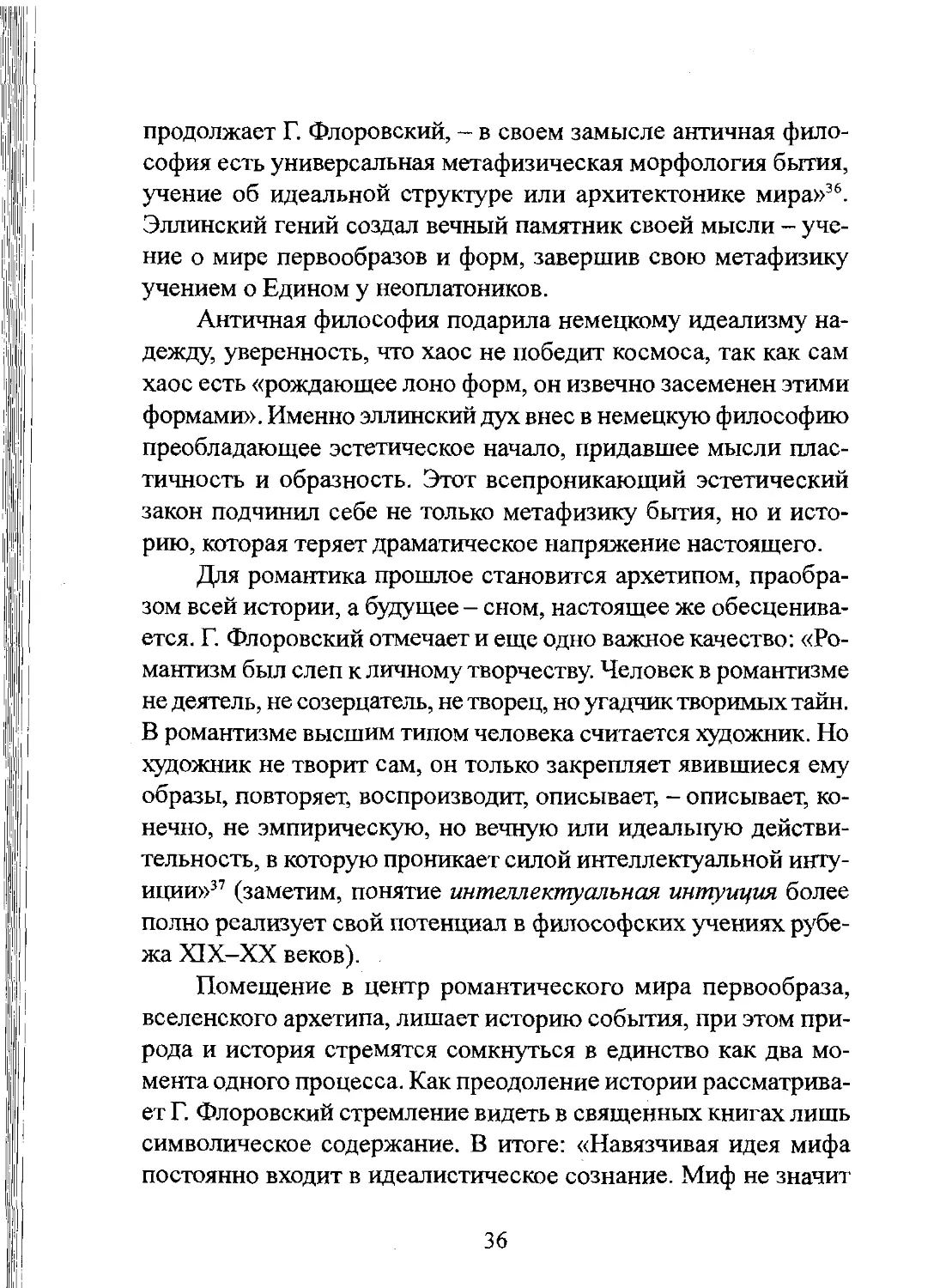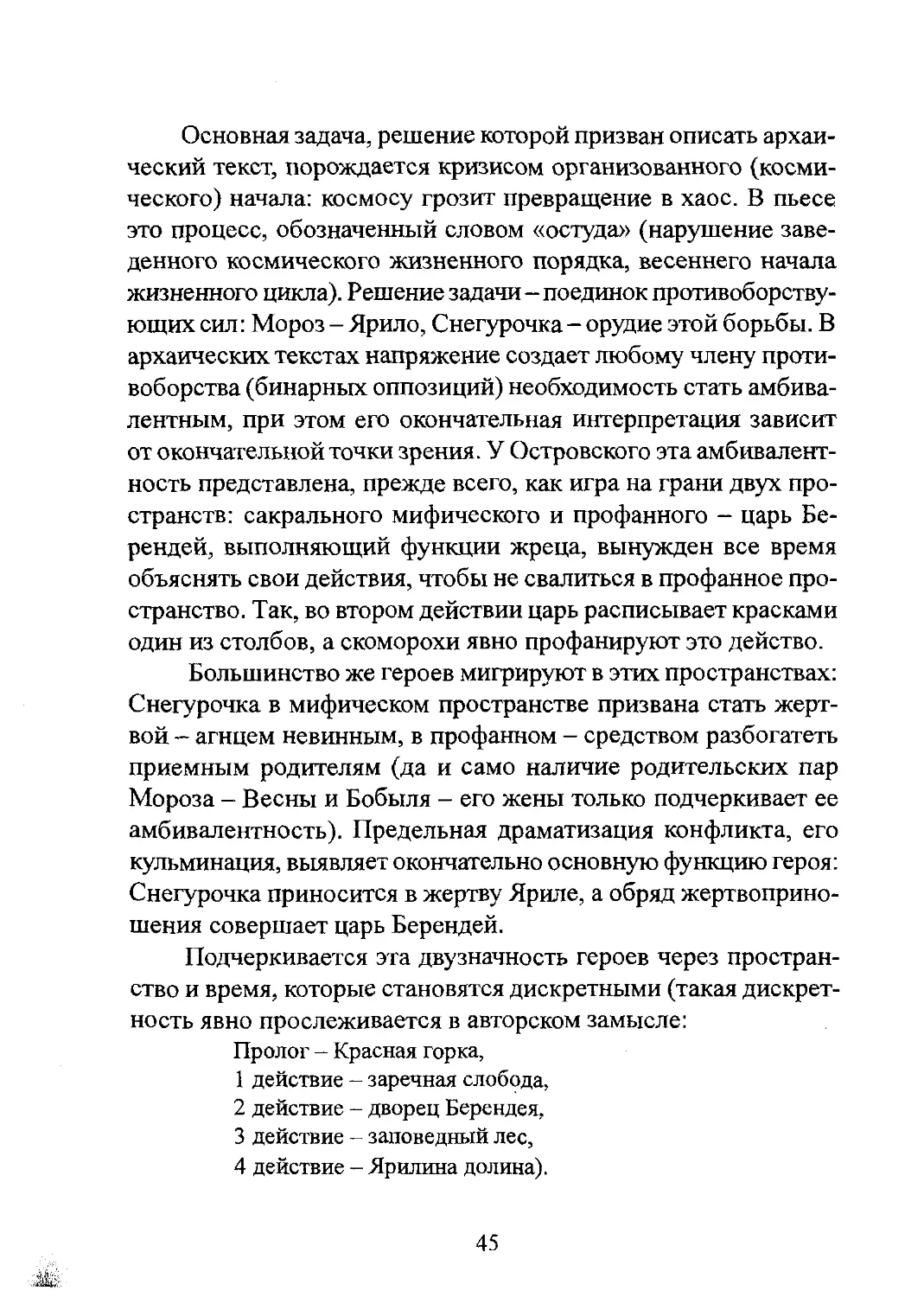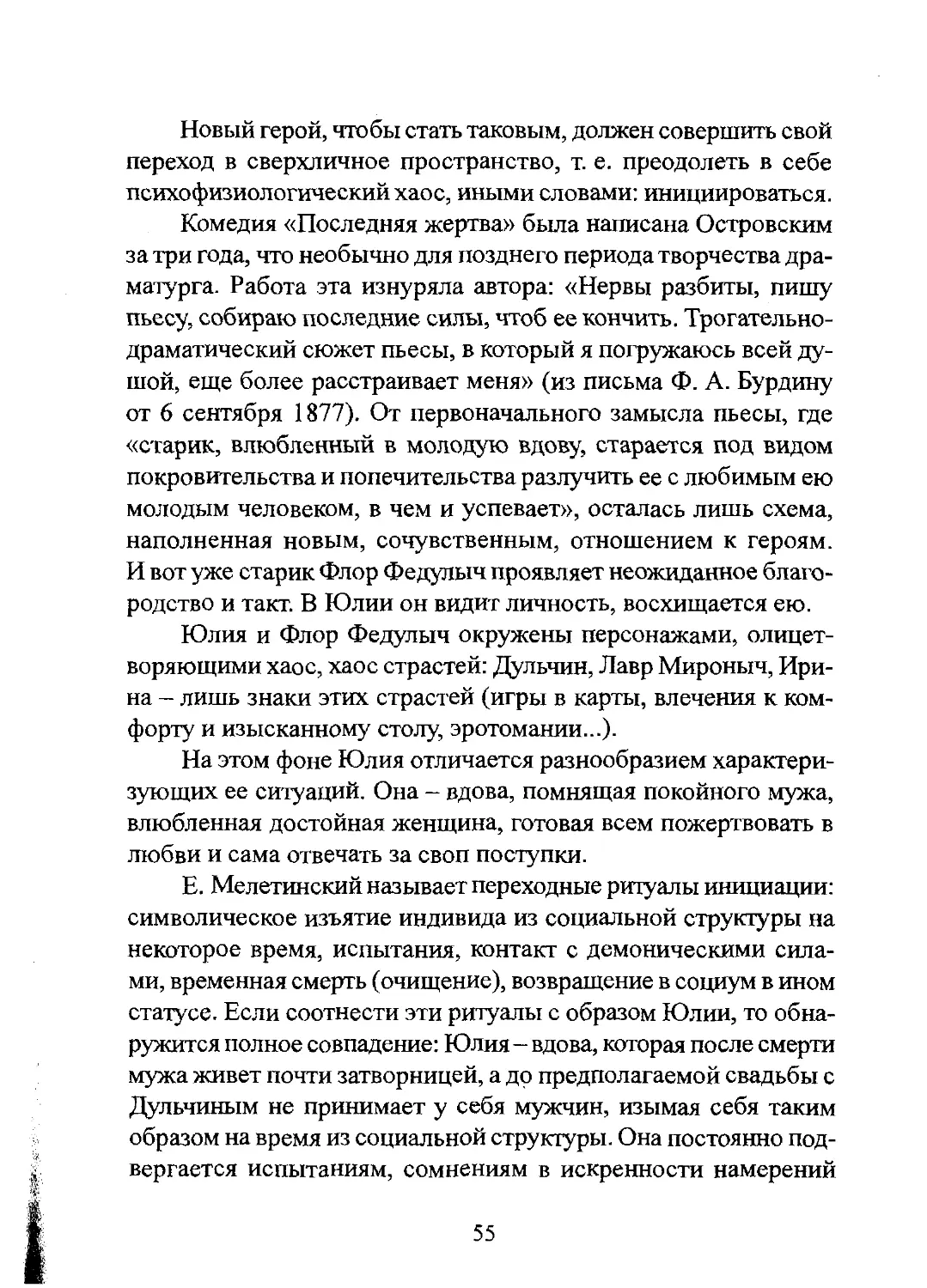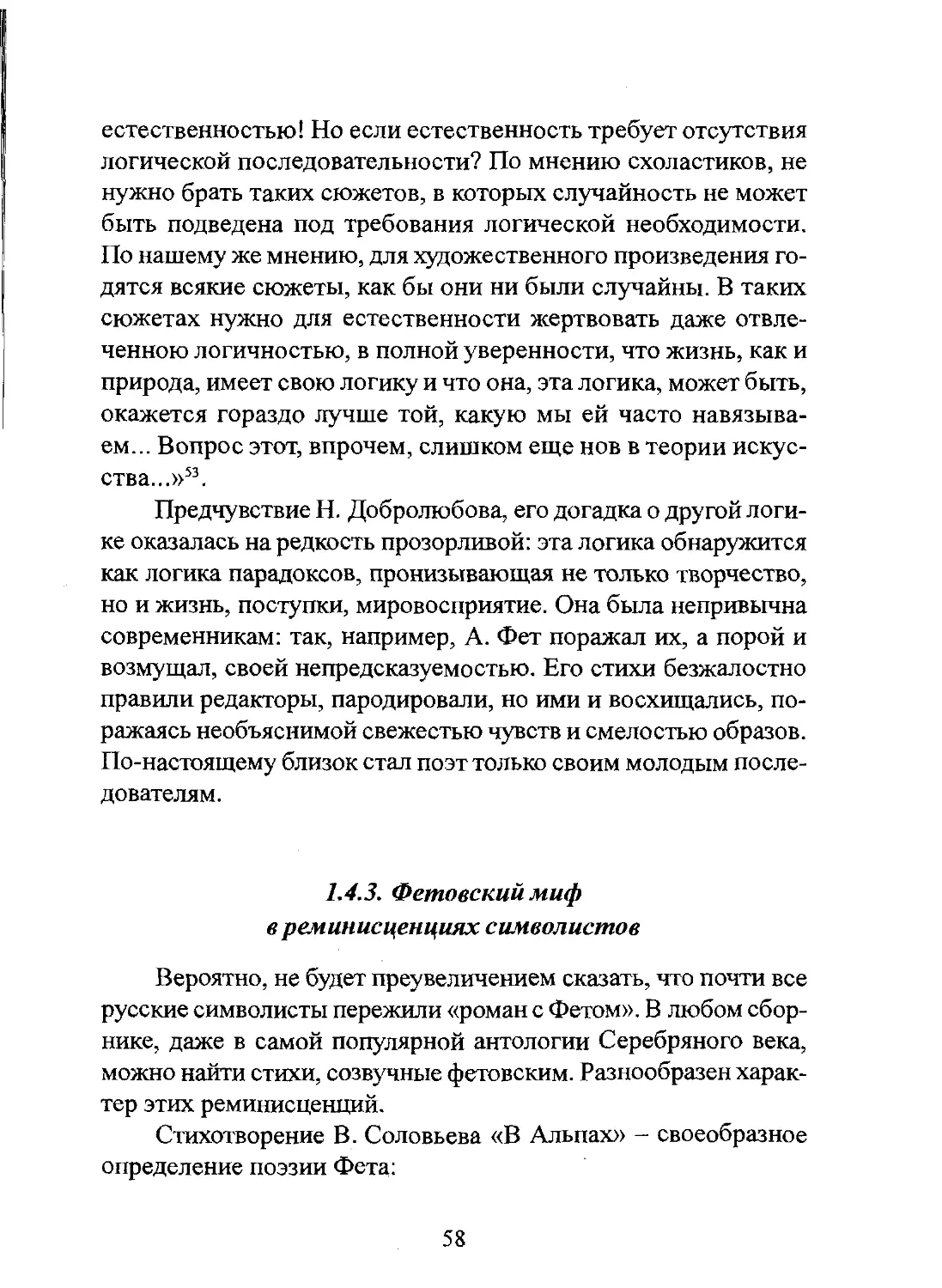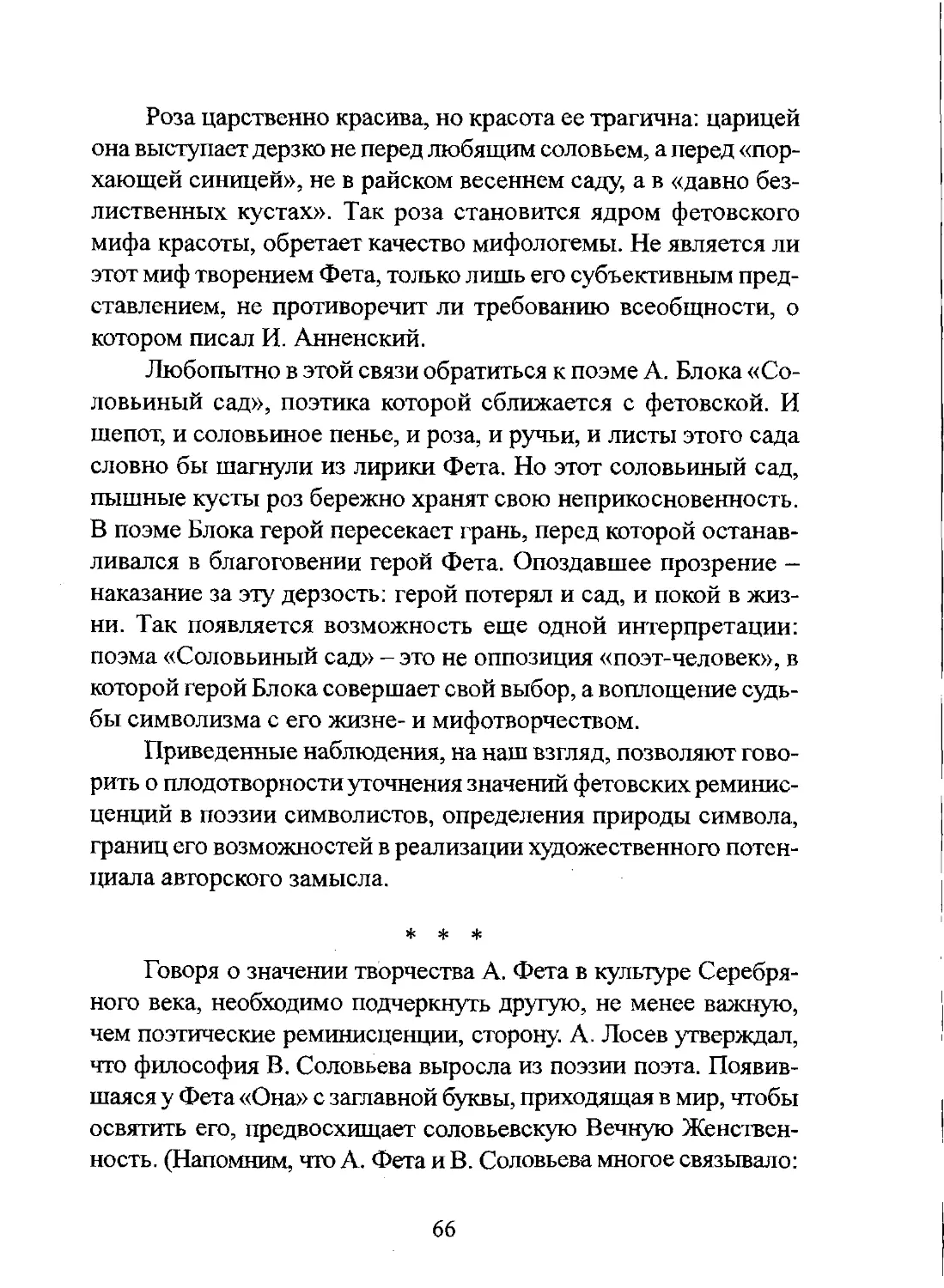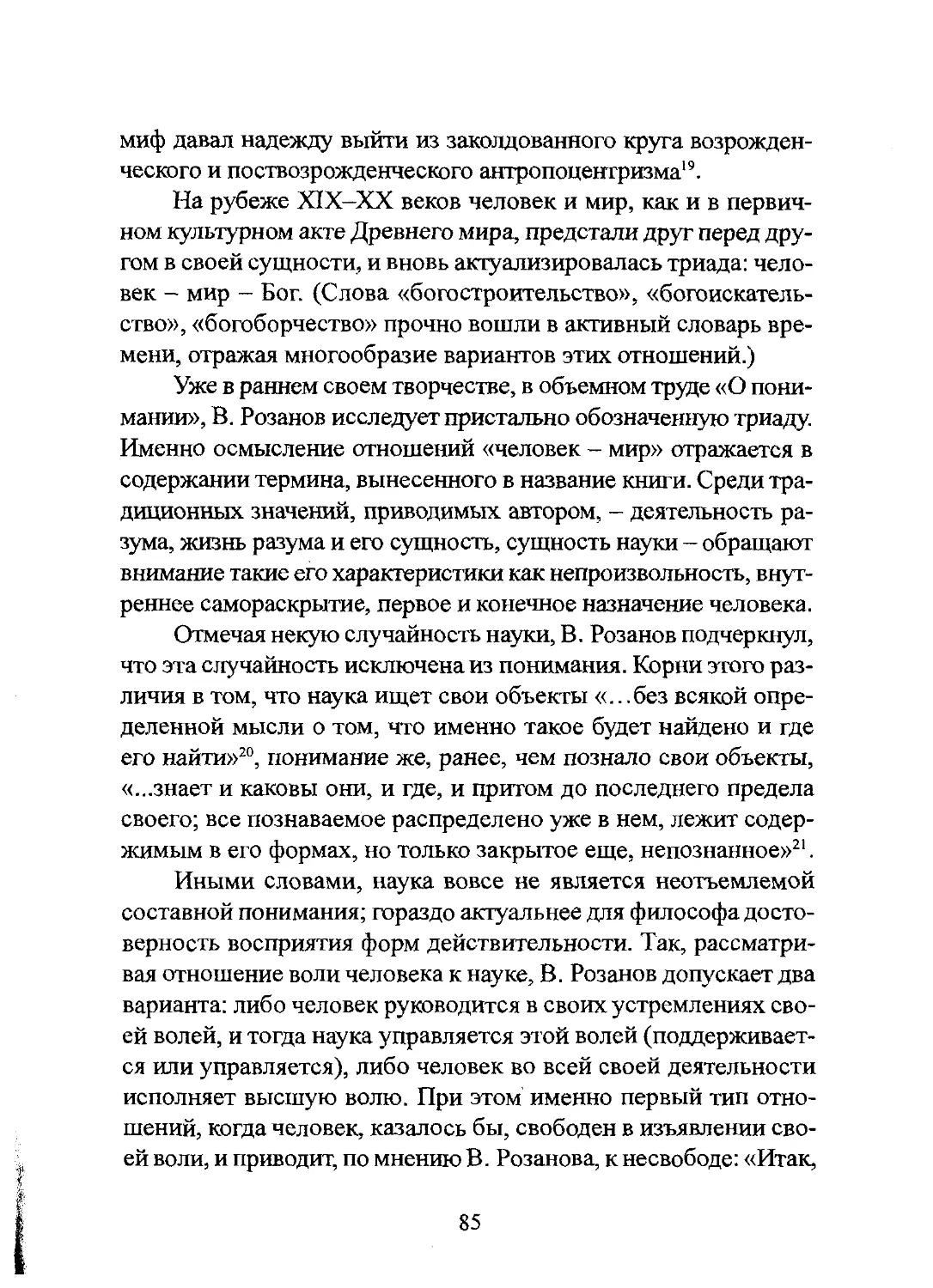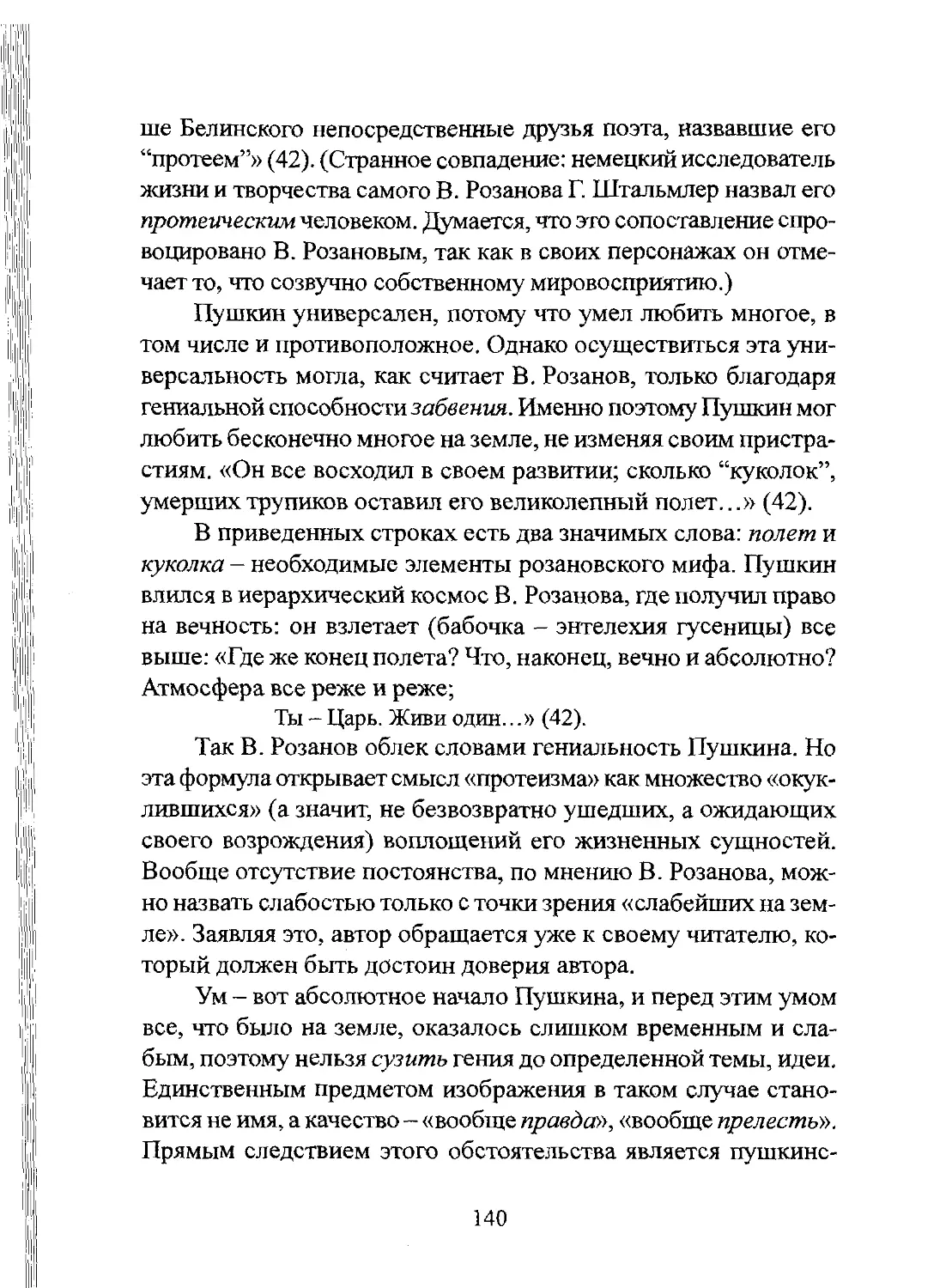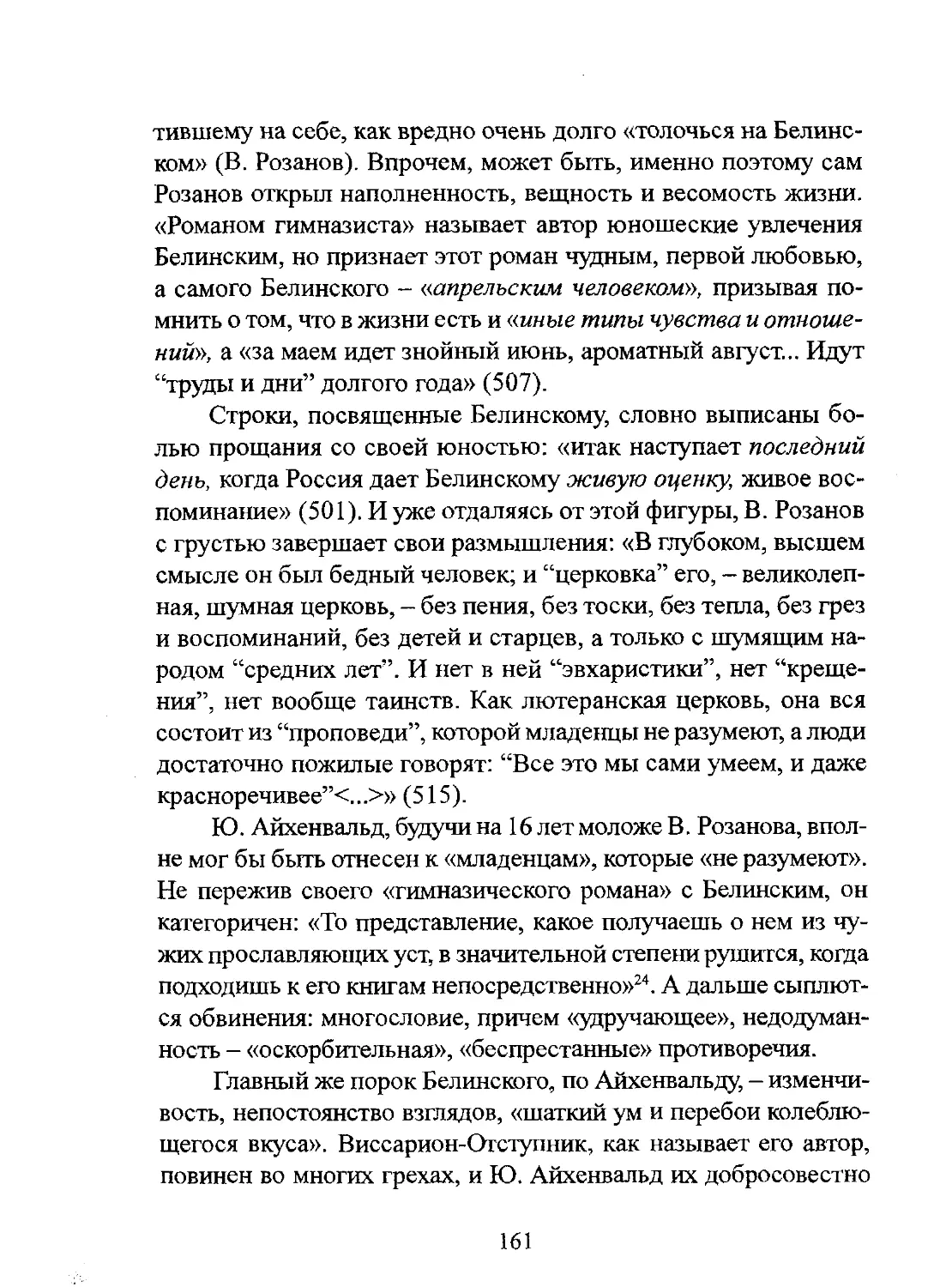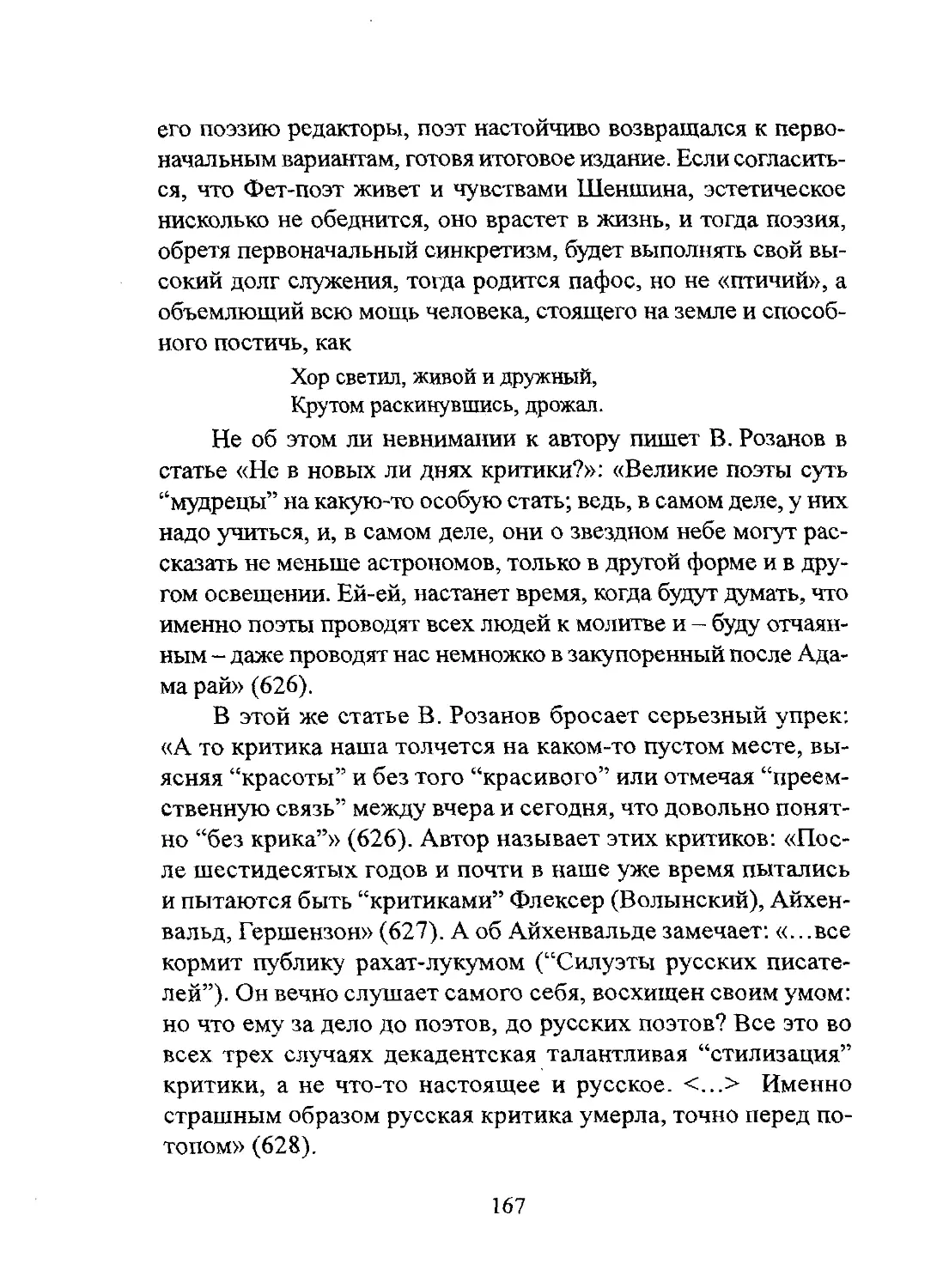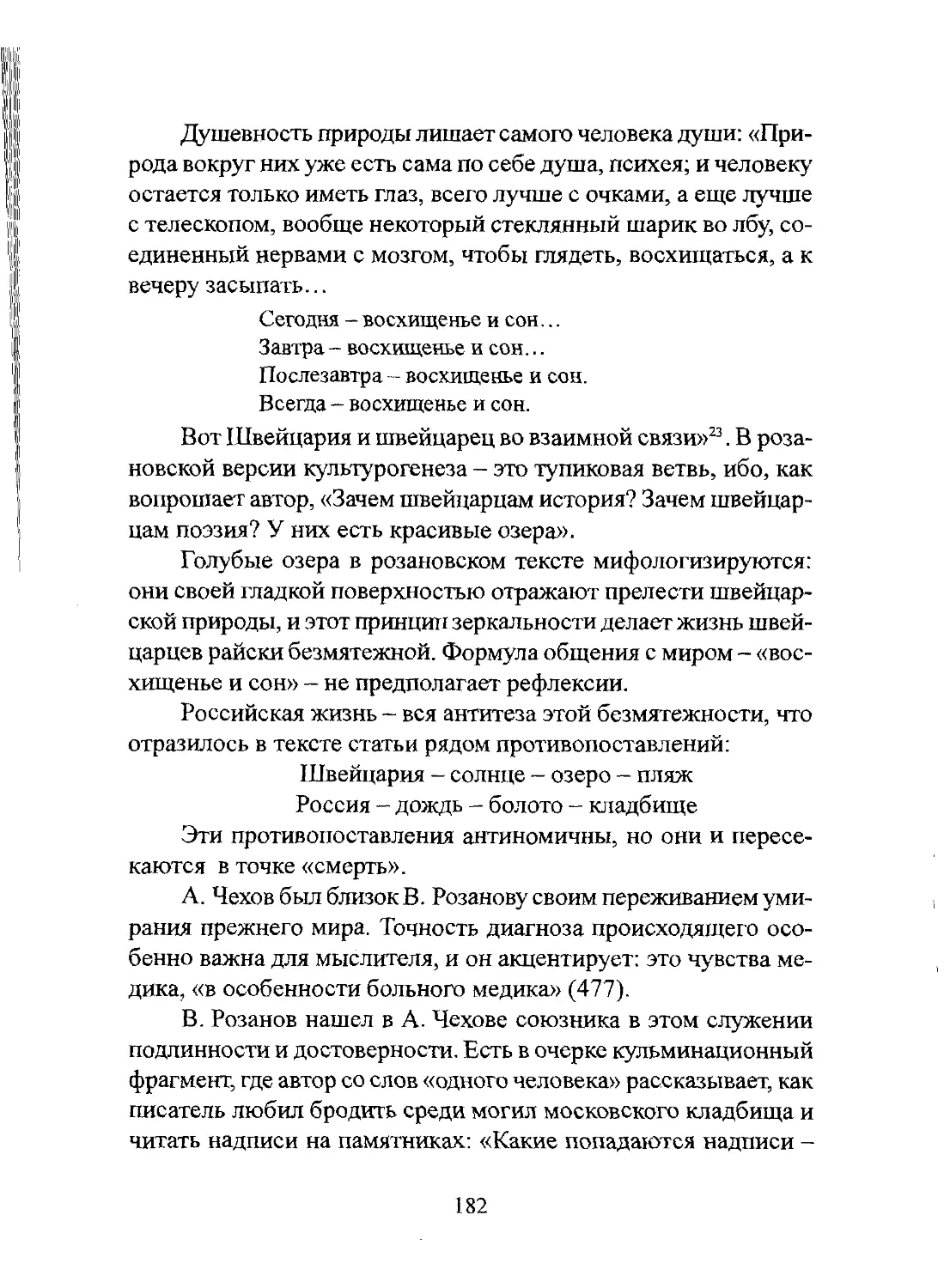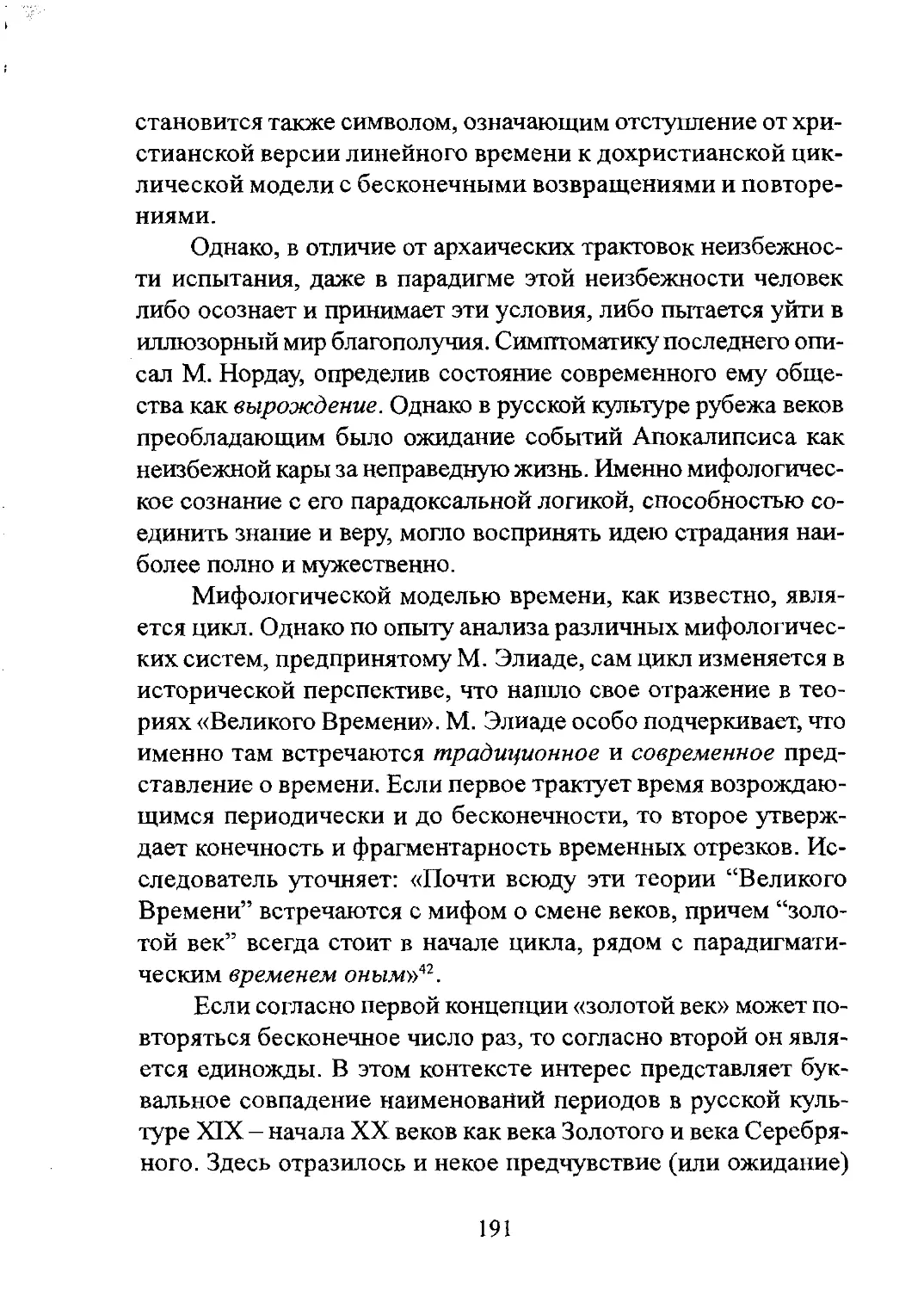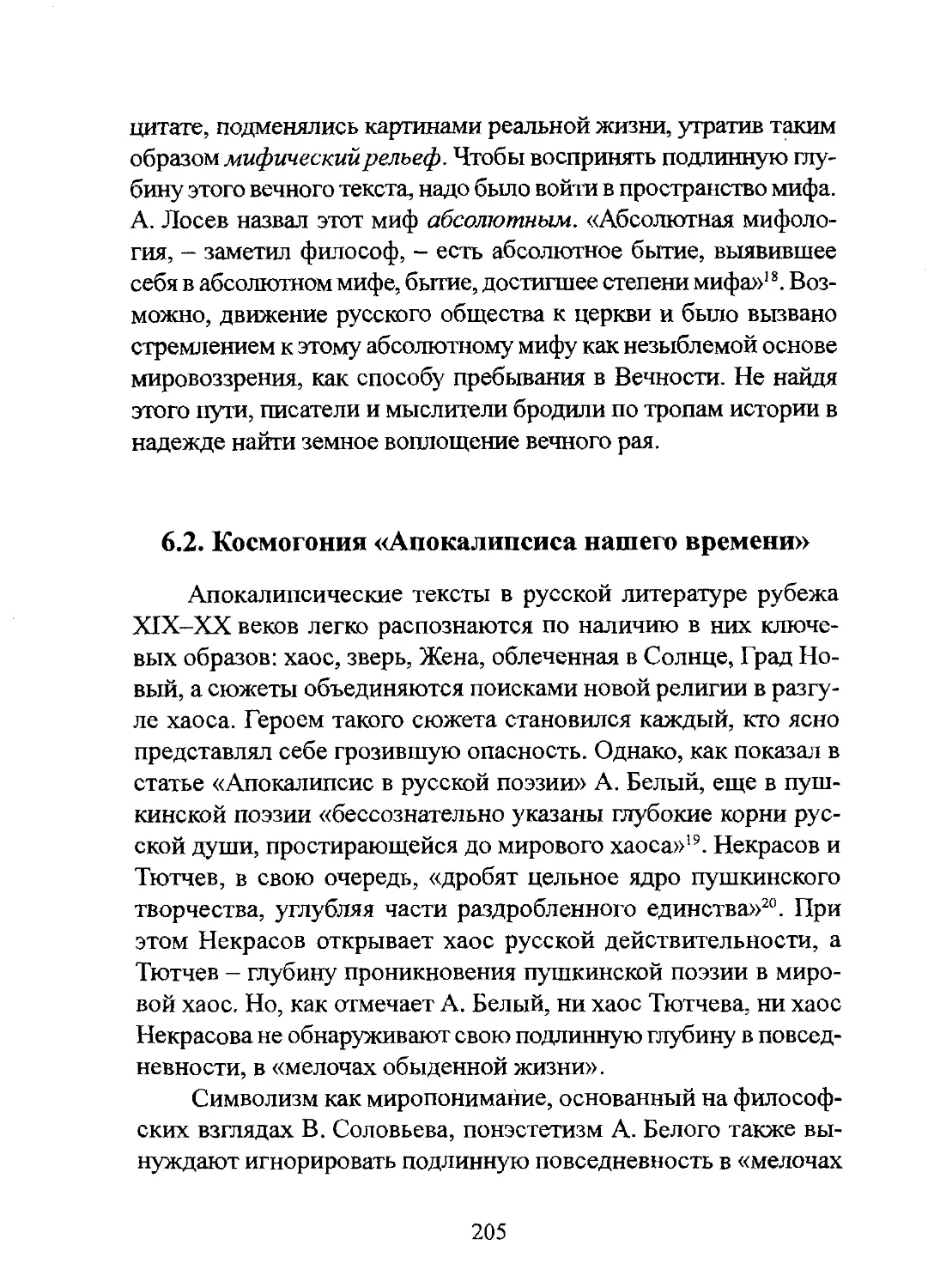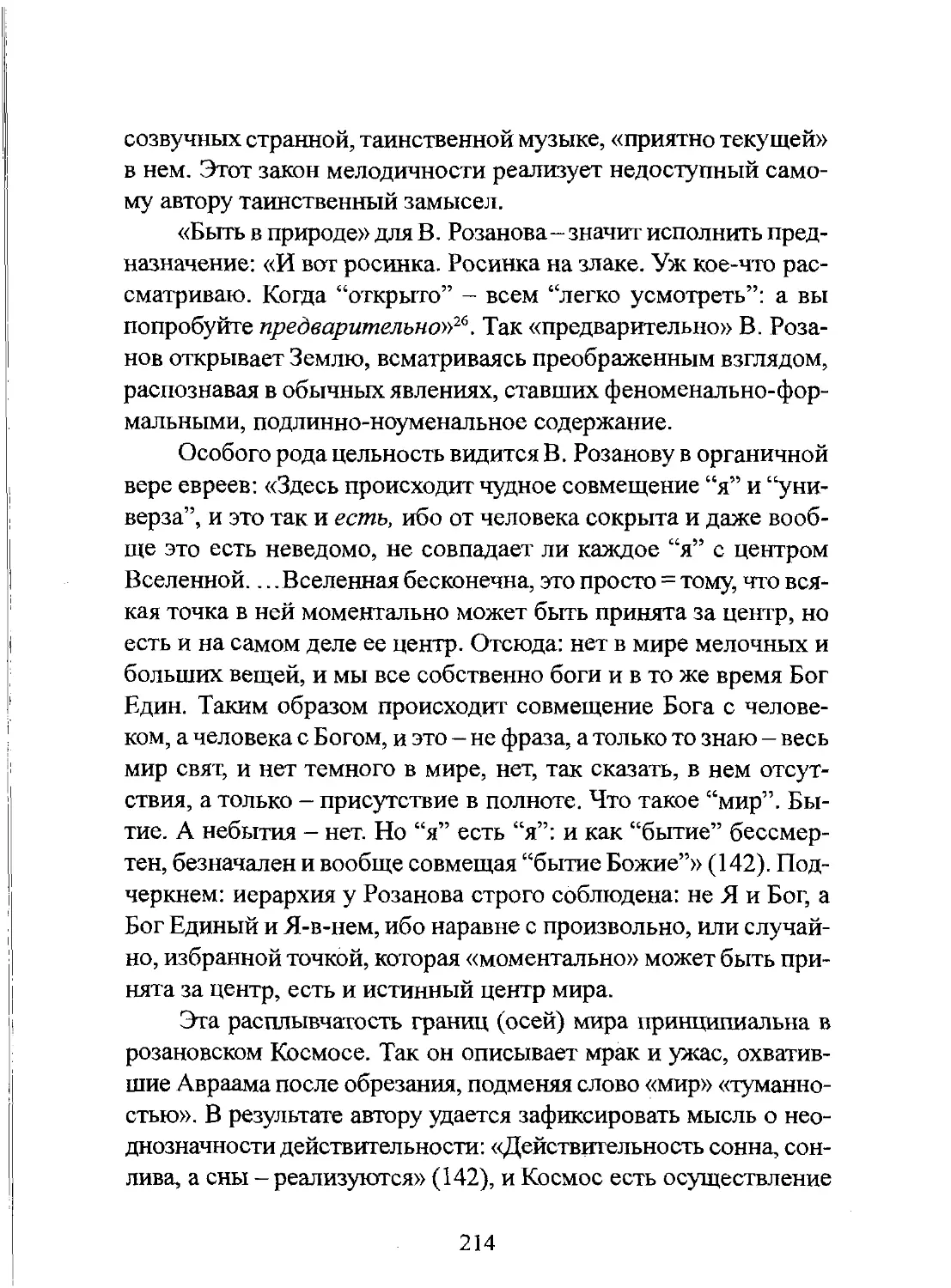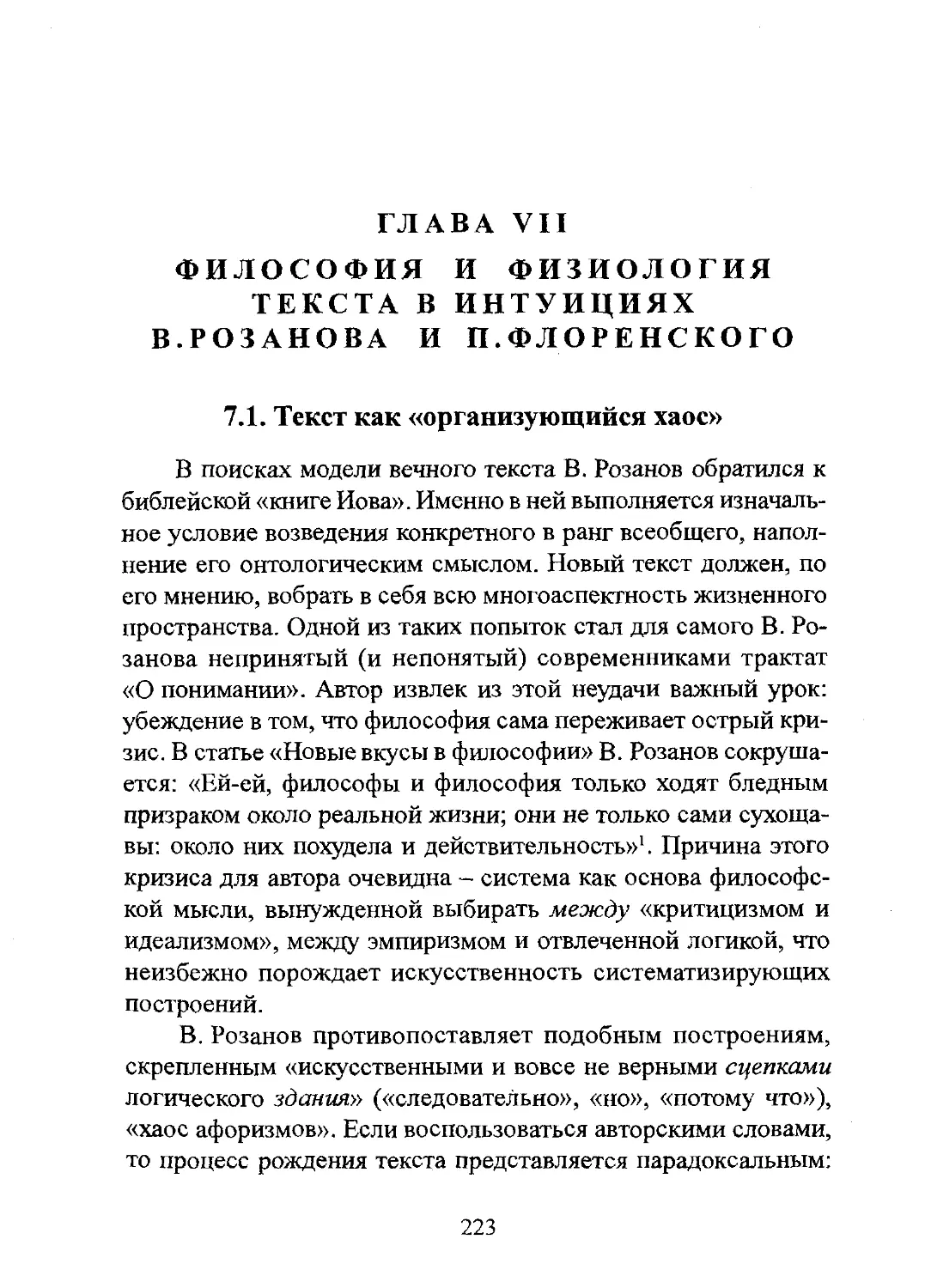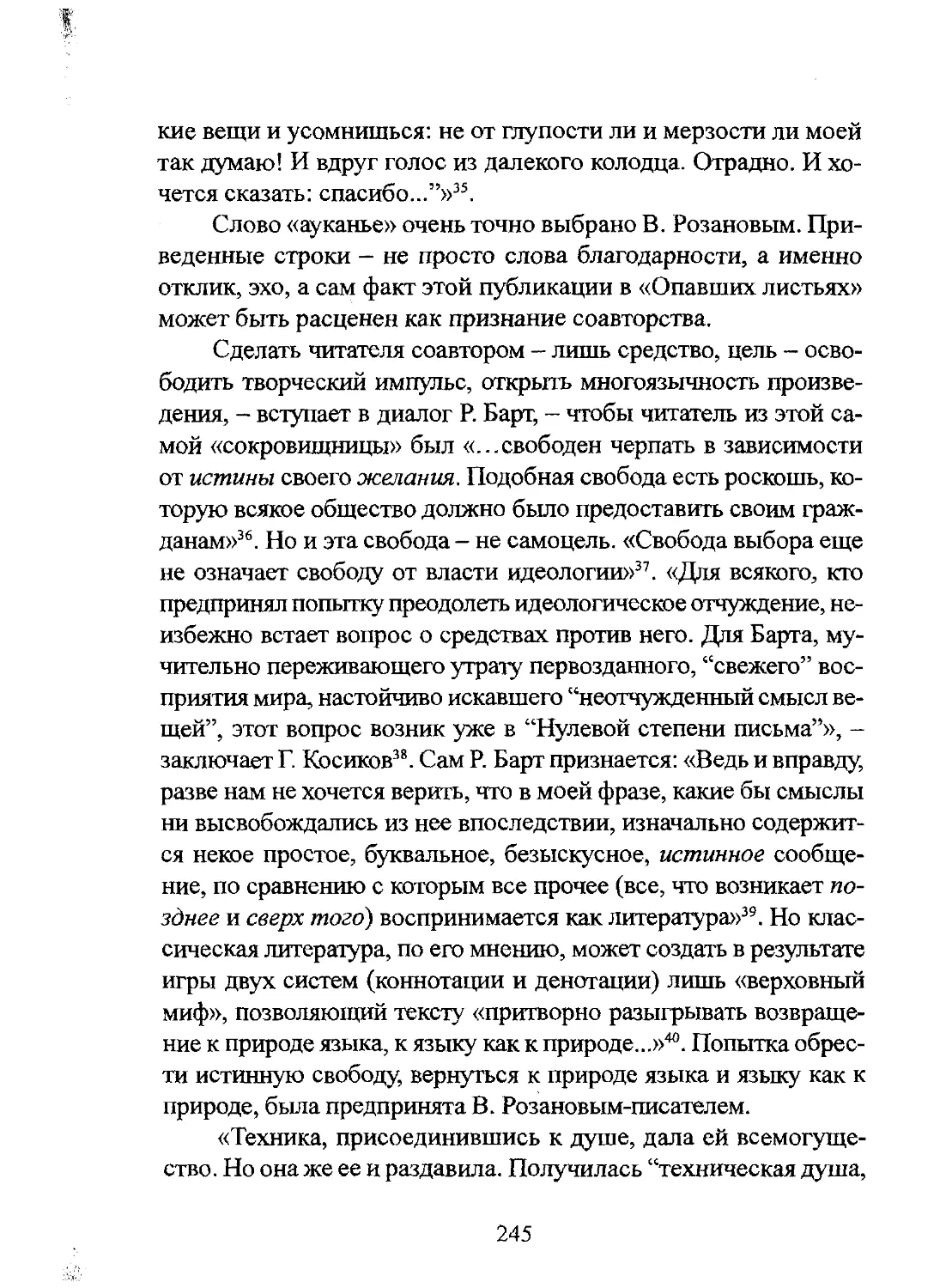Автор: Кашина Н.К.
Теги: история и критика мировой литературы и литературы отдельных стран филология культурология литературоведение
ISBN: 978-5-7591-0914-3
Год: 2008
Похожие
Текст
Н.К. Кашина
Ч',
МИФ В ТЕКСТАХ
ВАСИЛИЯ РОЗАНОВА
Кострома 2008
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ОБРАЗОВАНИЮ
Костромской государственный универожгат' имевп! Н. А. Некрасова
Н.К.КАШИНА
МИФ В ТЕКСТАХ
ВАСР1ЛИЯ РОЗАНОВА
Кострома
2008
ББК 83.3(2Рос=Рус)6-8Розанов
КЗ 12
Печатается по решению редакционно-издательского совета
КГУ им. Н. А. Некрасова
Рецензенты
Ю. Б. Орлицкий, доктор филологических наук, Москва
Г. П. Козубовская, доктор филологических наук, Барнаул
Кашина, Н. К.
Миф в текстах Василия Розанова / Н. К. Кашина. -
Кострома ; КГУ им. Н. А. Некрасова, 2008. - 274 с.
ISBN 978-5-7591-0914-3
Монография посвящена исследованию содержания розановско-
го мифа и его выражения в текстах писателя, мыслителя и критика, в
эпистолярном наследии. Актуальная проблема мифа и мифологичес¬
кого сознания традиционно соотносится с символизмом, автор мо¬
нографии предлагает отодвинуть хронологические рамки мифоло¬
гического процесса к середине XIX века. В. Розанов с выхода перво¬
го своего произведения, трактата «О понимании», до последних:
«Апокалипсиса нашего времени» и «Возрож^дающегося Егиггга» с уди¬
вительным постоянством обращался к темам семьи, пола, бессмер¬
тия. Эти темы обозначень[ символами, которые выявляются автором
монографии. Анализируются отдельные мифологические сюжеты:
русская литература, история как трагический миф бытия. Апокалип¬
сис. Особое внимание уделяется проблемам литературы и литератур¬
ности в интерпретации В. Розанова, его творческого мегода.
Книга адресована культурологам, литературоведам, преподавате¬
лям, аспирантам и студентам этих специальностей.
ББК 83.3(2Рос=Рус)6-8Розанов
© Н. К. Кашина, 2008
© С. С. Слышенков, оформление,
2008
ISBN 978-5-7591-0914-3 © КГУ им. Н. А. Некрасова, 2008
Оглавление
ПРЕДИСЛОВИЕ 5
ГЛАВАХ. ИСТОКИ И ПРЕДЧУВСТВИЯ МИФА И
1.1. Мифологическое сознание и текст 11
1.2. Миф в феноменологической традиции 27
1.3. Г. Шпет и Вяч. Иванов; от знака к реалистическому
символу 31
1.4. Пространство мифа и поэтическое творчество 39
1.4.1. Мифопоэтика в творчестве А. Островского.... 42
1.4.2. Архетип в поэтике А. Островского 51
1.4.3. Фетовский миф в реминисценциях
символистов 58
ГЛАВА II. МИФ И МЫСЛЬ (ОТ ОРГАНОЛЕПТИКИ
ДО ИДЕИ) 69
2.1. «Укорененность» двух костромичей 69
2.2. «Все стали немножко “метерлинками”...»
(о генетической связи идеи и мифологемы) 83
ГЛАВА III. СИМВОЛ И МОДЕЛЬ В РОЗАПОВСКОМ
МИФЕ 95
3.1. Миф в зеркале Серебряного века (В. Розанов,
Д. Мережковский, А. Лосев) 95
3.2. Рождение символа в розановском тексте 104
3.3. Пирамида как модель творческого сознания
В. Розанова 130
ГЛАВА IV, РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА КАК МИФ
ВАСИЛИЯ РОЗАНОВА 137
4.1. От Пушкина к Достоевскому: сюжет
возрождения 137
4.2. «Благодушный» Некрасов В. Розанова 150
4.3. В. Розанов и Ю. Айхенвальд в споре
о В. Белинском (об основах русской критики) 158
ГЛАВА V. ИСТОРИЯ -ТРАГРетЕСКИЙ МИФ БЫТИЯ... 171
ГЛАВА VI. АПОКАЛИПСИС КАК БОРЬБА ЗА
КОСМОС 197
6.1. Апокалипсические сюжеты и картины вечной жизни
в русской культуре XIX - начала XX века 197
6.2. Космогония «Апокалипсиса нашего времени» 205
ГЛАВА VII. ФИЛОСОФИЯ И ФИЗИОЛОГИЯ
ТЕКСТА В ИНТУИЦИЯХ В. РОЗАНОВА
И П. ФЛОРЕНСКОГО 223
7.1. Текст как «организующийся хаос» 223
7.2. Эрос мысли П. Флоренского 232
7.3. «Рукописность» В. Розанова и «воплощенная
множественность» Р. Барта (диалог совпадений).. 244
ПРИМЕЧАНИЯ 258
ПРЕДИСЛОВИЕ
П. Флоренский, младший современник и близкий
В. Розанову человек, в работе «Несколько замечаний к со¬
бранию частушек Костромской губернии Нерехтского уез¬
да» сформулировал специфику монографического иссле¬
дования как попытку понять процессы жизни из самой
жизни, прочесть жизненное явление в контексте жизни.
Творческое наследие В. Розанова требует к себе подобно¬
го отношения.
Сложность восприятия розановских текстов обуслов¬
лена противоречивостью его высказываний, необычностью
формы, категоричностью суждений. Все эти качества по¬
рождены, на наш взгляд, спецификой мифологического
мышления писателя. Если в эстетике Серебряного века
мифотворчество воспринималось как деятельность поэта-
демиурга, то В. Розанов жил в мифе, непосредственно пе¬
реживал эту реальность. Люди рождаются со светлой ду¬
шой, с Богом и врожденными идеями - считал мыслитель.
В таком случае, все, написанное автором, есть выражение
этих идей, отсюда розановская декларация: не я пишу (ду¬
маю) - во мне пишется (думается).
В. Розанов настаивал на внелитературности своих про¬
изведений. Его творчество можно обозначить как минус-
художественность, если под художественностью понимать
иллюзию - творение писателя, пусть даже и гениального,
как Гоголь в розановской трактовке. И здесь В. Розанову
чрезвычайно близка концепция творчества П. Флоренского,
изложенная в «Иконостасе», где средневековое выявление
подлинной духовной сущности в иконе противопоставляет¬
ся возрожденческой живописи как созданию художника-
иллюзиониста.
П. Флоренский в одной из своих работ ввел понятие жи¬
тейская мысль, которая изначально существует как дан¬
ность, но нуждается в дальнейшем освоении философией,
чтобы стать осознанной. По словарю В. Даля слово житей¬
ский означает «к житью, к земной жизни относящийся; оби¬
ходный, бытовой, суетный», в творчестве В. Розанова жи¬
тейская мысль проделывает путь от земной обыденности в
онтологический космос, а житейская деталь приобретает
статус символа.
Этот статус означает отнюдь не механическое переме¬
щение в иерархической перспективе: необходимо было пе¬
режить опыт культуры, пройти через холодный скепсис по¬
зитивизма, чтобы открыть смысл в простых вещах. В. Роза¬
нову пришлось переболеть атеизмом, нигилизмом, преодо¬
леть декадентство, чтобы однажды почувствовать физиокос¬
мос тепла.
Миф - это не изобретение культуры рубежа XIX-XX
веков, и даже не ее приобретение. В художественной прак¬
тике русской литературы XIX века он уже присутствовал.
Так в русской поэзии переживался непосредственный ми¬
фологический процесс. Одной из характеристик мифологи¬
ческого мышления является изначальная парадоксальность
образов и мыслей. Как показала И. Альми, в произведениях
Ф. Тютчева, задолго до эстетических практик символистов,
выявляется природа мифа: «Разноречие в тютчевском мире
возникает не в результате постепенного развития. Как по¬
тенция оно существует сейчас и всегда. Во многом того же
рода и тютчевские ночные мифы. Они являют собой легко
узнаваемые образные сгустки, скорее устойчивые, чем под¬
верженные принципиальным эволюционным изменениям» >.
Сейчас и всегда - это специфически мифологическое вре¬
мя, а образные сгустки вполне ассоциируются с символа¬
ми. Дальнейшее становление символа, сопровождающееся
конкретностью и многообразием поэтических образов,
стремлением к их достоверности, происходит в творчестве
А. Фета. Именно в его стихах, объединенных в циклы, в по¬
эмах, прозе, составляющих единый текст, произойдет рож¬
дение символа Вечной Женственности В. Соловьева. М. Гас¬
паров отметил в поэзии А. Фета приемы модернисткой и
даже авангардисткой поэтики.
В художественный мир Серебряного века активно вой¬
дет драматическое начало, от мистерий до драматической
симфонии А. Белого; даже в статьях П. Флоренского при¬
сутствует этот элемент. В отношении к мифу драма - явле¬
ние, восходящее к ритуальной форме его существования. Но
уже в произведениях А. Островского ритуал присутствует
наряду с мифологическими персонажами. Ярким примером
тому является «Снегурочка». Актуален и поиск культурно¬
го героя в пьесах великого драматурга. Вот только некото¬
рые предчувствия наступления мифологической эпохи в
культуре рубежа XIX-XX веков.
Необходимость обращения к мифу признавала и фило¬
софия. Идеи феноменологической школы Э. Гуссерля и его
последователя в русской философии Г. Шпета, свидетель¬
ствуют об этом. Последовательное осмысление мифа в рус¬
ской культуре, безусловно, принадлежит представителям
символизма, переросшего рамки литературного направле¬
ния. Логическим завершением мифологической эпохи Се¬
ребряного века стали работы А. Лосева.
Творчество В. Розанова в этом процессе развивается
вполне логично. Еще в первом своем труде он обозначил
ряд констант - основных символов и тем, пронизавших все
дальнейшее творчество; семя, тепло, творчество, потенция
и, конечно же, главная тема - Бог. Розановский миф лишен
экзотики, наоборот - он, на первый взгляд, подозрительно
прозаичен: огурчик с прилипшим листиком укропа, сметан¬
ка, варенье и вкусный чай - минимальные единицы бытия,
организующие обжитое пространство космоса.
Символ у В. Розанова может быть и невербальным:
тепло, запах - не только признаки, но и символы жизни,
обладающие своим смыслом. Так, например, запах может
быть непосредственно связан с религией. Символы с глу¬
бокой культурной традицией переживаются автором непо¬
средственно. Можно вполне определить такой символ как
пострефлексийный, вновь открывший свои глубокие кор¬
ни. В невербальности символа есть близкая В. Розанову
дословесность мифа как непосредственного безрефлексий-
ного восприятия. Отсюда сетования автора на остываю¬
щую словесность, ее безжизненность. Обращаясь к лите¬
ратуре, мыслитель отыскивает в творчестве писателей кос¬
могонические начала - так рождается розановский миф
русской литературы, воплощающий путь к возрождению
мировой гармонии.
Мифологическому сознанию свойственно особое отно¬
шение ко времени: оно циклично, вечно. Возможность воз¬
вращения к исходной точке истории сохраняет надежду об¬
рести первозданный Эдем. Для В. Розанова такой точкой
стал Древний Египет, где человек жил в гармонии с приро¬
дой. Однако, писатель «забыл» о языческом многобожии,
увидев в мифологизированном Египте почитание единого
Бога-отца. Идея Великого вечного Отцовства в розановс-
кой космогонии продолжается в освящении пола.
Последнее произведение В. Розанова - «Апокалипсис
нашего времени» - пронизано антихристианскими высказы¬
ваниями. Главное разногласие автора с христианством - в
отношении к рождению, к проблеме развода и признании
церковью второго брака. Однако, предъявляя свои претен¬
зии к церкви, В. Розанов неоднократно проговаривается о
своей потаенной любви к Христу. (Любопытно в этой связи
признание писателя в «Сахарне»: «Из писателей нашего на¬
правления (православных) мне первому удалось добиться
читаемости» В то же время религиозность писателя не
стоит переоценивать: он все еще чувствует себя инородным
в церкви. Путь от нигилизма к подлинной вере непосилен
для жизни одного, пусть и гениального, человека. В. Роза¬
нов прошел его по-своему, обретя вечный покой в Гефси-
манском ските.
В. Розанов не описывает, не творит миф, а живет в нем.
Тексты его не подчиняются литературной традиции, логике
художественного творчества, являя собой рукописностъ
души. Фрагментальность же позволяет фиксировать здесь и
сейчас рождающиеся мысли-образы. Моделью такого ми¬
фологического построения, логики мифа является пирами¬
да, грани которой сохраняют свою независимость, но при
этом создают единую целостность. Единство текста вырас¬
тает в стремлении к органической целостности, напоминая
единство четок; их можно перебирать, начиная с любого
фрагмента - слова молитвы объединят эти фрагменты в еди¬
ный текст.
Автор единого текста выполняет функцию культурно¬
го героя, которому предстоит космизировать остывающий
хаос действительности. Масштаб этой действительности
явно перерос пределы многострадальной России. Холоде¬
ющий хаос осознан как реальность мыслителями XX века,
это дает основание проводить параллели розановского на¬
следия с идеями Р. Барта, М. Фуко. Актуальны для нашего
времени предчувствия угрозы массового сознания, техно-
логизации творчества и желаний человека, высказанные в
произведениях В. Розанова.
в предлагаемой книге мы попытались внимательно
прочитать только часть розановского наследия в контек¬
сте его жизни и жизни идей его времени. Надеемся, что
она поможет прояснить некоторые характеристики миро¬
воззрения писателя, увидеть рождение космогонического
мифа В. Розанова и его тексты как отражение мифологи¬
ческого сознания.
ГЛАВА I
ИСТОКИ И ПРЕДЧУВСТВИЯ МИФА
Обращение к мифу в европейской культуре конца XIX
века - явление закономерное. К нему привел прежде всего кри¬
зис позитивистской науки, активное внимание к внутреннему
миру человека (Шопенгауэр и Ницше - в философии, Фрейд и
Юнг - в психологии), усталость европейской культуры. Ряд этих
причин мог бы быть достаточно внушительным. Остановимся
на актуальных в связи с нашей темой.
Г. Кнабе заметил; «Общественно-философское умонас¬
троение, господствовавшее в Европе во второй половине XIX
века, его современники и участники назвали
“Lebensphilosophie” “философией жизни”. Главным в ней было
убеждение в том, что основа культуры (да в сущности и исто¬
рии) - не событие или произведение, вообще не факт как та¬
ковой, а переживание его - временем, личностью, кругом, на¬
родом...» ’. Переживание мира в совокупности его разнооб¬
разнейших проявлений и является содержанием мифа как до-
рефлексийного восприятия (по А. Лосеву). Чтобы философия
стала философией жизни, необходимо должна была наступить
смена парадигмы сознания.
1.1. Мифологическое сознание и текст
Понятие «мифологическое сознание» активно вошло в
гуманитарные исследования, но при этом терминологически оно
все еще недостаточно ясно.
11
Прежде всего терминологическая неадекватность и при¬
близительность порождены сложностью определения самого
понятия «сознание». М. Мамардашвили в совместном исследо¬
вании с А. Пятигорским настаивают на принципиальной невоз¬
можности описания сознания, так как невозможно найти необ¬
ходимую аналогию^ В сущности, попытка описать сознание,
по мнению философов, выглядит порой как борьба с сознанием
за то, чтобы оно перестало быть спонтанным и самодовлею¬
щим. Эта борьба неизбежно приводит к тому, что сознание при¬
равнивается к познанию. В результате образуется познаватель¬
ная сфера, в которую включается нечто, не входящее в созна¬
ние. Эту сферу предлагается назвать метасознанием.
Другой уровень сознания определяется понятиями подсоз¬
нательное и бессознательное. Однако открытие 3. Фрейдом и
К. Юнгом бессознательного не помогло обозначить содержание
сознания^ Пе углубляясь в философский аспект проблемы, об¬
ратимся все же к понятию, обозначенному как сфера сознания,
которое вбирает в себя часть свойств наблюдения, принадлежа¬
щих наблюдающему субъекту как божественному модулю, и
часть свойств объекта наблюдения. Такая трактовка сферы со¬
знания позволяет освободить его от внесения чего-либо со сто¬
роны субъекта, как, впрочем, и со стороны объекта. На уровне
выключения из сознания субъект-объектных отношений мож¬
но говорить о первичном метаязыке как о явлении сознания,
наиболее свободном от рефлексии. М. Мамардашвили подчер¬
кивает при этом, что систематизация метаязыка осуществляет¬
ся прежде всего мифом (но не наукой), и тогда мифологические
системы представляются как развертывание первичного прин¬
ципа, который надо еще вывести из свойств объектов метаязы¬
ка, приведенные мифом в ранг картины бытия или мира. В свя¬
зи со сказанным актуально и понятия мирового объекта и ми¬
рового события, которые позволяют события, отраженные в
разных мифологиях, рассматривать как одно событие, один
объект, находящийся в одной точке мировой линии.
12
Таким образом, понятие «сфера сознания» можно тракто¬
вать как систематизированные мифом в картину мира единицы
первоначального метаязыка (по своим качествам этот первич¬
ный метаязык можно соотнести с понятием архетип), что в то
же время дает возможность предположить, что миф есть
неотъемлемая характеристика сознания. «Миф является сред¬
ством концептуализации мира - того, что находится вокруг че¬
ловека и в нем самом - пишет Е. Мелетинский. -<...> В мифе
отождествляются форма и содержание, символ и модель, часто
не разделяются и не различаются субъект и объект, знак, вещь и
слово, сущность и имя, объект и его атрибуты, а также единич¬
ное и множественное, пространство и время, происхождение и
природа объекта»'*.
А. Лосев в «Диалектике мифа» неоднократно демонстри¬
рует мифологичность любой формы сознания, включая науку.
В то же время показательно его замечание в предисловии книги
о том, что понять миф можно, только находясь внутри него как
системы. Понятие «сфера», определяющее сознание, изначаль¬
но предполагает эту объемность. Напомним также, что авторы
этого определения подчеркивали, что сознание нельзя ни с чем
сравнргть, чтобы проанализировать, а поэтому его надо принять,
обозначить, как предмет, наиболее полно воспринимаемый по¬
средством веры, не допуская рефлексии. Само понятие «сфера
сознания» не подразумевает каких-либо ограничений в его при¬
менении, а значит, можно предположить, что это изначальная,
сущностная характеристика, независимая ни от какой-либо кон¬
кретной картины мира.
Из сказанного вытекает, что «мифологическое сознание» -
это понятие, имеющее все права на универсальное истолкова¬
ние и применение, так как сам миф есть ни что иное, как форма
существования единиц первичного метаязыка.
Категория мифа так же трудно поддается описанию, как и
сознание. Не случайно в «Диалектике мифа» А. Лосев не столько
постулирует его сущность, сколько отделяет его от явлений.
13
сопоставимых с ним. Феноменальная сущность мифа не исчер¬
пывается ни познанием, ни мышлением. Его можно сопоста¬
вить с понятием сфера сознания, так как в известной степени
он ее образует. Так, по мнению К. Юнга, «...из первобытных
мыслей человечества нельзя вывести философскую систему, а
можно извлечь лишь антиномии, которые, однако, во все вре¬
мена и во всех культурах создают неисчерпаемую основу ду¬
ховной проблематики»^ С другой стороны, в силу того, что ха¬
рактер мифологического мышления можно определить абдук-
тивным (гипотетичным), а не индуктивным или дедуктивным,
мифу присуща всевозможность, парадоксальность, он не нуж¬
дается в аргументации. Именно эти качества и привлекают к
мифу столь пристальное внимание мышления.
В связи с этим стремлением к мифу актуальной становит¬
ся проблема восприятия мифологического сюжета в культурно-
историческом контексте. Воспользуемся опытом структуриро¬
вания мифа Я. Голосовкера, выделившего историческую, дина¬
мическую и диалектическую структуры. Понимание, или вос¬
приятие, мифа осуществляется через выявление его динамичес¬
кой структуры, которая есть, как считает ученый, структура его
смысла. Миф многосмыслен. Логика мифа и есть раскрытие
этого множества.
Я. Голосовкер особо подчеркивает роль воображения в
мифе; «Воображение, познавая теоретически, угадывало рань¬
ше и глубже то, что только впоследствии докажет наука, ибо
имагинативный, то есть воображаемый, объект «мифа» не есть
только «выдумка», а есть одновременно познанная тайна объек¬
тивного мира, и есть нечто предугаданное в нем... И поскольку
содержание, то есть тайна действительного объекта, беспредель¬
на и микрокосмична, постольку и имагинативный объект насы¬
щен смыслом, как рог изобилия пищей»^. Именно эта насыщен¬
ность смыслом и сохраняет актуальность мифа.
Возникает закономерный вопрос: как древний человек мог
столь щедро насытить смыслом свои первые представления о
14
мире. Почему итогом попыток рационального проникновения
в миф становится его разрушение? Очевидно, дело в том, что
объектом мифа является не субъективное видение мира авто¬
ром, а сама действительность. Вот почему вызывают недове¬
рие термины «мифотворчество» и «мифотворец», которые под¬
разумевают выделение субъекта из окружающего мира (это
движение, обратное направлению мифа - укорениться, войти
в этот мир).
Многосмысленность мифа объясняется и наличием особо¬
го способа его функционирования. В условиях синкретического
восприятия мира слово было универсальным, сохраняющим пол¬
ноту реальности, погружало человека в мир, создавало иллюзию
пребьгвания в мировой гармонии.
Называя мышление древнего человека примитивным, наш
современник и не подозревает, в какой степени сам он обладает
им. Мифологическое мышление не только вошло в память че¬
ловечества и стало частью его культурного опыта, но живет и
поныне, независимо от того, признает ли сам человек этот факт.
Именно эта гетерогенность мышления создает возможность
«чужое вмиг почувствовать своим» (А. Фет). Ю. Лотман, сде¬
лавший эти наблюдения, заключает: «Итак, именно гетероген¬
ный характер нашего мышления позволяет нам в конструиро¬
вании мифологического сознания опереться на наш внутрен¬
ний опыт. В некотором смысле понимание мифологии равно¬
сильно припоминанию»^
Обозначить роль мифа в культурно-исторической перспек¬
тиве можно следующим образом: миф рождается в процессе
интуитивного проникновения, вчувствованш человека в мир.
Первоначальная интуиция велика настолько, что мифологичес¬
кие сюжеты отразили самые разнообразные отношения челове¬
ка к действительности (все знание человека, поистине, старо
как мир), но тогда весь последующий опыт человечества в по¬
знании мира является ни чем иным, как осмыслением этого
интуитивного знания.
15
Отметим в то же время, что процесс осмысления интуи¬
тивного опыта отнюдь не является привилегией более поздних,
по отношению к древней, культур. По мере осознания своего
места в мире и своих возможностей уже человек древнего мира
становится обладателем гетерогенного сознания. Речь идет не
о классическом примере античной Греции с ее рационализиро¬
ванной мифологией и не о гомеровском преодолении мифа.
Поразительное проникновение в проблему «человек и культу¬
ра» демонстрирует уникальный памятник «Эпос о Гильгаме-
ше» - органичное соединение мифологических сюжетов с тра¬
дициями древнейшего эпоса.
Не может не изумить, как глубоко воспринимает «Эпос...»
проблемы культуры. Уже одно то, что воплощение ее, культур¬
ный герой Гильгамеш, правитель Урука, в тексте оценивается
противоречиво (причем противоречия эти принципиальные:
божественного духа и человеческой плоти), вполне могло бы
звучать как откровение для нашего современника. Подобной по
значению является и тема целительного природного начала че¬
ловека, которым наделен Энкиду - своеобразный двойник Гиль-
гамеша. Сколько утопических мечтаний породила она у чело¬
вечества, ищущего панацею от всех бед.
Безусловно, мифологический текст никогда не сможет быть
адекватно воспринят. Погружаясь в новый историко-культурный
контекст, мифологический сюжет неизбежно стремится реали¬
зоваться наиболее полно, при этом его образный язык воспри¬
нимается как язык символов. Ю. Лотман заметил: «Символ та¬
кого рода может быть истолкован как результат прочтения мифа
с позиций более позднего семиотического сознания, то есть пе¬
ретолкован как квазииконический знак. Следует отметить, что,
хотя иконические знаки в какой-то мере ближе к мифологичес¬
ким текстам, они, как и знаки условного типа, представляют
факт принципиально нового сознания»*.
В сущности, замечания Ю. Лотмана о трансформации сим¬
вола в иконический, пусть даже и в квазииконический, знак ставит
16
вопрос о возможности в современном мышлении функциони¬
рования мифического сознания. Это условие непреодолимо,
если смотреть на символ только с точки зрения семиотики. Но
если принять, как это мы и делаем, толкование символа не как
что-либо означающего, а как неразложимое единство означа¬
ющего и означаемого, подчеркнув его стремление выразить
ноуменальность, то неизбежно придем к выводу о том, что
лишь утратив эти свойства, символ приблизится к знаку. Од¬
нако эти качества символа являются востребованными каж¬
дый раз, когда человек пытается решить или уяснить онтоло¬
гические вопросы.
Нельзя забывать, что миф порождается символом, но при
этом обязательно присутствие магии, чуда или наличие безус¬
ловной веры в их присутствие. В таком случае символ - не только
мифообразующая единица, но и своеобразный код, открываю¬
щий путь к мифу. Но код этот открывается только по законам
мифологического сознания, а не по традиционно рациональным,
ибо, как заметил К. Юнг, архаический человек верит в солнце, а
цивилизованный - в глаз.
Описать механизм мифического сознания невозможно,
подобно тому, как мы пытались бы сымитировать процесс ов¬
ладения речью. Можно проконтролировать освоение ребенком
первых 10-20 слов, но дальше он сам, бесконтрольно для по¬
стороннего взгляда, погружается в стихию языка, усваивая в то
же время и структуру, и законы интуитивно, и только потом бу¬
дет осмысливать эту структуру и законы на протяжении всей
последующей речевой деятельности. В данном случае уместен
антропологический принцип отождествления истории культу¬
ры с жизнью человека от рождения до глубокой старости. По¬
добно тому, как ребенок не может объяснить, как он узнает но¬
вые слова, их смыслы, взрослый человек никогда не поймет,
как же осуществляется этот процесс в действительности, но
сможет выдвинуть ту или иную гипотезу. Но если мы не в силах
увидеть и подлинно описать механизм овладения речью, это
17
не означает, что сама речь непостижима. При всех сетованиях
на неадекватность восприятия значений слов, человечество доста¬
точно успешно общается на протяжении своего существования.
Подобным образом лишены смысла поиски абсолютной
модели мифологического сознания, но мы всегда можем через
овладение кодами проникнуть в его недра. Надо только помнить,
что солнце вряд ли поможет понять устройство глаза, а глаз не
раскроет тайну божественного светила.
Любая попытка теоретически интерпретировать миф не¬
избежно обречена на неполноту. Возможно лишь в той или иной
мере, в зависимости от интереса исследователя, обращение к
отдельным его аспектам. Одной из актуальных, на наш взгляд,
является проблема отношения культуры и мифа.
Попытки вывести миф в докультурное пространство нам
представляются сомнительными. Даже самое общее определе¬
ние культуры как второй природы предполагает необходимое
присутствие мифа с первых актов культурной деятельности.
В. Мильдон заметил: «Уже первые шаги человека в мире были
отказом от чистого физического бытования, которое он мог
преодолевать физическими же способами, осознавая их недо¬
статочность и томясь по идеальным средствам, выражая не¬
решаемое противоречие природы и культуры; дух противосто¬
ит косной материальности, воздействуя на нее по ее же законам
ради создания среды, где эти законы не имеют силы.
Отчасти в этом состояла первоначальная роль слова - ма¬
гического орудия преобразования мира - превращения физи¬
ческой реальности в нефизическую, образную: мира природы в
мир культуры»’. Таким образом, преображаясь в символе, фи¬
зический предмет преодолевает утилитарно-материальную ог¬
раниченность и прорывается в ноуменальную сферу.
Выполняя свою основную функцию - утверждение гармо¬
нии, преодоление хаоса космосом, миф, в то же время, выпол¬
няет и другую, не менее важную функцию первичного дореф-
лексийного восприятия мира как первоначальный поиск его
18
(мира) ноуменальной сущности. Моделью названного процес¬
са может служить игра ребенка в кубики, когда некоторое изоб¬
ражение рассыпается в хаотическом беспорядке, а затем нуж¬
но тщательно рассмотреть все грани кубика, чтобы вновь сло¬
жить (космизировать) необходимый рисунок. При этом важную
роль играет идеальное изображение, помещенное на отдельном
листе. Подобно этому действу мифологический процесс соби¬
рает воспринятые в мире элементы согласно архетипическому
образцу. Такая, на первый взгляд, бессмысленная деятельность -
важнейший и ответственейший этап в культурной деятельности
человека, так как обеспечивает подлинную глубину восприя¬
тия, при этом интуиция ощущает связь воспринимаемого с дру¬
гими явлениями сообразно первозданному, а потому имеющего
силу эталона, порядку.
Иными словами, именно в мифе происходит первичное
перерождение природного мира в культурный. А поскольку каж¬
дый человек обречен устанавливать эти соответствия самосто¬
ятельно, независимо от предшествующего опыта, мифологичес¬
кое сознание в принципе не может уйти за пределы культурной
деятельности человека. В то же время мы не вправе забывать и
того, что окружающий человека мир, как и его собственная при¬
рода, в значительной степени изменяется. Изменяется и содер¬
жание самого архетипа.
Разрабатывая теорию архетипа, К. Юнг исходил из того,
что бессознательное - это обозначение находящегося за преде¬
лами сознания, но в то же время постоянно готового к взаимо¬
действию с ним. В представлении древних аналогичными по¬
нятиями являются хаос, пугающий своей бесформенностью и
непредсказуемостью, и космос, который может быть соотнесен
с осознанной упорядоченностью. Отношения между этими сфе¬
рами драматичны, так как космос стремится к упорядочению
хаоса, а тот, в свою очередь, стремится разрушить эту гармони¬
ческую уравновешенность. С такими энергийными всплесками
и можно сравнить действие юнговских архетипов, угрожающих
19
космосу разрушением до тех пор, пока не появится символ, пре¬
образующий эту энергию в диалектику означаемого и означаю¬
щего. Таким образом, всплески энергии бессознательного теря¬
ют свою силу, поскольку пересекая грань сознания, они пере¬
мещаются в космос, а символ сохраняет канал в бессознатель¬
ное, подпитывающее его энергией.
К. Юнг уточнил понятия «сознательное» и «бессознатель¬
ное» через категорию «коллективное», при этом в значитель¬
ной степени упростил схему их взаимодействия. Дело в том,
что, сосредоточившись на анализе и обобщении архетипов, он
исключил их возможную трансформащпо в культурном поле.
(Е. Мелетинский литературный архетип, что позво¬
лило ввести это понятие в широкий круг научных, работ, пол¬
ноправным является и понятие «архетип культурный». Но
если рассматривать эти явления как трансформированные
юнговские, то необходимо признать: выводя их вновь в сферу
бессознательного, мы возвратим им первоначальный облик.)
Проблема появляется тогда, когда мы рассматриваем не
генетическую связь архетипов, а их функционирование в куль¬
турной среде. Суть этой проблемы в том, что в результате
культурного процесса символы, и юнговские коллективные, и
трансформированные в какой-то момент утрачивают свою диа¬
лектическую природу и застывают в знаке, а тот, в свою оче¬
редь, стремительно теряет образную структуру, выполняет толь¬
ко информационную роль, которая также стремится к предель¬
ной ясности и однозначности. В результате создается ситуация,
когда необходимы специальные исследования, в какой-либо сте¬
пени восстанавливающие смысловое наполнение символа.
На элементарном бытовом уровне мы постоянно встреча¬
емся с результатами процесса десимволизации, утраты смысла,
когда слово употребляется в речи в отрыве от первоначального
контекста. Например, мы слышим слово «обломовщина», но при
этом не можем быть уверены в том, что произнесший его читал
роман И. Гончарова. Появляются однозначные штампы-знаки.
20
которые предельно упрощают, схематизируют сложный образ.
В итоге наступает момент, когда подобные знаки окончательно
теряют способность к коннотации, культура как жизненное про¬
странство человека перестает переживаться, а сам он превра¬
щается в элемент безликой массы. Вместо коллективного твор¬
ческого сознания появляется массовое, а человек из творца куль¬
туры превращается в ее побочный продукт. (В последнее время
появилось много исследований, посвященных теме массового
сознания, которые приходят к единодушному выводу о том, что
это - путь самоуничтожения личности.)
Утрата символов - опасный симптом старения культуры.
Есть только один способ оживить ее: запустить снова механизм
рождения мифа, но с учетом изменившегося мира. Нельзя не
согласиться с А. Лобоком, автором «Антропологии мифа», ут¬
верждавшим: «Трагические метания в поисках смысла жизни,
трагедия смыслоутраты, пережитая великим писателем (речь
идет о Л. Толстом - Я К.) и переживаемая многими и многими
миллионами “обыкновенных” людей, имеет только один спо¬
соб действительно эффективного разрешения: миф, дарующий
смысл»'®. Добавим; миллионы «обыкновенных» людей могут и
не переживать этих метаний, не осознавать своего з^астия в
трагедии исканий, но от этого их положение становится отнюдь
не менее, если не сказать: более трагичным.
Сосредоточившись на смыслообразующей функции мифа,
А. Лобок утверждает: «Смысловая мифологическая иерархия
предметного мира прежде всего представлена в структуре быта
каждого человека, в характере тех вещей, которыми он себя
окружает. <... > Человеческий быт, мир человеческой повседнев¬
ности до отказа наполнены мифологией, причем мифологией
как эстетической, так и смысловой. <... > Миф - это именно та
структура, посредством которой объективный мир становится
миром человеческим. С другой стороны, привычность бытовых
смыслообразующих структур, привычность и естественность
той или иной формы упорядоченности предметной среды.
21
которой окружает себя каждый человек, делает незаметным при¬
сутствие смысла в его жизни. <... > Смысл покрывает всю сферу
его повседневного быта и повсюду расставляет свои незримые
опоры. Человек может не думать о смысле, но смысл в его жиз¬
ни будет все равно неявным образом присутствовать»". Мы
позволили себе столь объемную цитату, так как в ней представ¬
лена картина повсеместного присутствия смысловой мифоло¬
гической иерархии.
Ранее А. Лобок заметил, что миф есть насущная потреб¬
ность человека в смысле. Подобные рассуждения не допускают
сомнения в реальности присутствия мифа в современном мире.
Сам по себе этот вывод не оригинален, но автор говорит о том,
что миф является подлинным инициатором культуры. По мне¬
нию автора, культура, инициированная мифом, становится в то
же время воплощением мифологической энергии.
Таким образом, отношения мифа и культуры строятся не в
иерархической вертикали, а в нерасторжимом диалектическом
единстве, при этом именно миф является точкой отсчета для
культуры. Не потому ли так актуален миф о вечном возвраще¬
нии, уточним: возвращении к точке отсчета.
Избрав миф о возвращении одной из важнейших тем сво¬
их исследований, М. Элиаде заметил: «Возрождение цикличес¬
ких теорий в современной мысли очень многозначительно.
Оформление архаического мифа средствами современной тер¬
минологии выдает, по меньшей мере, желание найти трансис¬
торический смысл и оправдание исторических событий»*^. Об¬
ратим внимание; ученый не ставит под сомнение саму возмож¬
ность применения современной терминологии для оформления
архаического мифа.
М. Элиаде на примерах мифологий существ}тощих ныне
традиционно-архаических народов показал роль и суть возвра¬
щения к нулевой точке мира, которая обозначает изначальный
акт творения. Такое возвращение сулит исцеление культуре. Так
у фиджийцев, по наблюдениям М. Элиаде: «Каждый раз, когда
22
жизнь оказывается под угрозой и Мир (Космос), на их взгляд,
истощается и пустеет, фиджийцы ощущают потребность вер¬
нуться к истокам, иначе говоря, они ждут возрождения вселен¬
ской жизни не от исправления, а от воссоздания этой жизни за¬
ново. Отсюда и то существенное значение (в ррггуалах и ми¬
фах), которое придают всему, что может означать «начало», ис¬
ходное, первоначальное...»'^
История культуры не раз переживала периоды возрожде¬
ния; от провозглашенного Ренессансом возрождения Антично¬
сти, до возрождения традиционных народных истоков и самого
мифа в конце XIX - начале XX века, пристального внимания к
архаическим культурам в XX веке.
Для интерпретации истории культуры важен и другой ар-
хетипический сюжет: пленение - забвение, которое становится
результатом слишком глубокого погружения в эмпирику жиз¬
ни. М. Элиаде выделяет этот сюжет в индийской и гностичес¬
кой мифологии, отголоски его мы встречаем в народных вол¬
шебных сказках (например, «Финист - ясный сокол»), в древ¬
нем «Эпосе о Гильгамеше», где герой отказывается разделить
любовь богини Иштар, чтобы не потерять свой образ. Спасти
героя от окончательного забвения помогает некий предмет или
знак, возвращающий его к жизни.
Подобные потери-обретения сопровождают культуру во
всей ее истории, но только возрождение в культуре осуществ¬
ляется не посредством волшебных предметов, а через наиболее
способных к такой деятельности избранников.
Еще с древних времен человек должен был обладать осо¬
бым правом прикасаться к мифу: иметь воображение, особые
способности, необходимую подготовленность. М. Элиаде пишет:
«В архаических обществах, как и везде, культура создается и во¬
зобновляется, благодаря творческому опыту нескольких индиви¬
дуумов. Но поскольку архаическая культура организуется вокруг
мифов, которые постоянно переосмысляются и углубляются спе¬
циалистами в области сакрального, общество в целом ориенти¬
23
руется на ценности, открытые и распространенные такими лич¬
ностями. В этом смысле миф помогает человеку преодолеть
границы своих возможностей и побуждает его возвыситься “до
уровня великих”»*\ Таковыми, например, были Будда, Заратус¬
тра, христианские пророки.
К концу XIX века личность, приблизившаяся к мифу, выхо¬
дит за рамки литературной или любой другой художественной
деятельности, перенося свои эстетические принципы в жизнен¬
ное пространство. Одним из самых ярких примеров является
жизнь и творчество (а точнее - жизнетворчество) Л. Толстого.
При всех выявляющихся параллелях произведений писателя с
жизненной эмпирикой нельзя говорить об их автобиографизме,
так как его творчество не столько отражает факты биографии,
сколько вмешивается в течение жизни. Не менее мифологичен
В. Соловьев, как и целый ряд его современников (А. Блок, А. Бе¬
лый, Вяч. Иванов и другие представители культуры Серебря¬
ного века). Всех их объединяет чувство реального жизненного
пространства, населенного символами духовной жизни, некая
«наивность» веры в то, что мир их образов и представлений столь
же насущен и жизненно необходим, сколь мир действительнос¬
ти. Они всячески стремились развивать в себе мистический дар
и, по свидетельствам современников, многие им действительно
обладали.
В. Соловьев видел неоднократно пророческие сны, его по¬
сещали видения, а в рассказе «На заре туманной юности» он опи¬
сал с поразительной убедительностью свое пересечение грани¬
цы двух пространств. В этом рассказе, написанном от первого
лица, повествуется о том, как 19-летний юный философ оказался
в купе с молодой женщиной. После внезапного поцелуя с ней
героя мучило раскаяние: «Я, чуть ли не с колыбели познавший
тщету хотения, обманчивость счастия, иллюзию удовольствий,
я, три года работавший над тем, чтобы эту врожденную мне ис¬
тину укрепить неприступными стенами трансцендентальной
фююсофрш, - я теперь искал и мог хотя на мгновение находить
24
блаженство в объятиях едва знакомой, но, очевидно, пустой
и совершенно необразованной женщины»Однако, когда на
следующее утро спутница, перешедшая накануне в вагон пер¬
вого класса, пригласила героя на освободившееся место, он, про¬
говоривший всю ночь с попутчиками о неминуемом разруше¬
нии существующей жизни и грядущих радикальных переменах,
с готовностью последовал за ней.
Как оказалось, переход из вагона в вагон приобрел мета¬
физический статус. Во время этого перехода, находясь на пло¬
щадке между вагонами, герой внезапно потерял сознание и на¬
верняка упал бы между вагонами, если бы его не удержала за
плечи «эта барынька». Но самое удивительное произошло по¬
том. Julie, как звали попутчицу, предстала перед героем пре¬
ображенной; «Тут же очнувшись, я видел только яркий сол¬
нечный свет, полосу синего неба, и в этом свете и средь этого
неба склонялся надо мною образ прекрасной женщины, и она
смотрела на меня чудно знакомыми глазами и шептала мне что-
то тихое и нежное.
Нет сомнения, это Julie, это ее глаза, но как изменилось
все остальное! Каким розовым светом горит ее лицо, как она
высока и величественна! Внутри меня совершилось что-то чу¬
десное. Как будто все мое существо со всеми мыслями, чув¬
ствами и стремлениями расплавилось и слилось в одно беско¬
нечное сладкое, светлое и бесстрастное ощущение, и в этом
ощущении, как в чистом зеркале, неподвижно отражался один
чудесный образ, и я чувствовал и знал, что в этом одном было
все. Я любил новою, всепоглощающею и бесконечной любо¬
вью и в ней впервые ощутил всю полноту и смысл жизни.
Наконец, бессвязным отрывочным шепотом я стал переда¬
вать ей, что сделалось со мною, как я ее люблю, что она для
меня все, что это совсем другая, новая любовь, в которой я со¬
вершенно забываю себя, что теперь только я понял, что есть
Бог в человеке, что есть добро и истинная радость в жизни, что
ее цель не в холодном, мертвом отрицании...»’*.
25
Трансцендентальный идеализм, о котором говорит В. Со¬
ловьев в цитированном произведении, безусловно, нуждался в
своих мифах, но они непременно должны бьши подкрепляться
реальными переживаниями. Деятели серебряного века в Рос¬
сии открывали свои формы мифологии подобно хранителям
тайн элевсинских мистерий, членам орфико-пифагорейских
братств. Эту родственность не только осознавали, но и подчер¬
кивали они сами. Так В. Соловьев воспроизводит символику
древней орфической секты в стихотворении «Песня офитов».
Белую лилию с розой,
С алою розою мы сочетаем.
Тайной пророческой грезой
Вечную истину мы обретаем.
Вещее слово скажите!
Жемчуг свой в чашу бросайте скорее!
Нашу голубку свяжите
Новыми кольцами древнего змея.
Вольному сердцу не больно...
Ей ли бояться огня Прометея?
Чистой голубке привольно
В пламенных кольцах могучего змея.
Пойте про ярые грозы,
В ярой грозе мы покой обретаем...
Белую лилию с розой,
С алою розою мы сочетаем.
Выражение мифа 5^дожественным языком неизменно под¬
чиняло сам миф эстетическому началу, и, не смотря на усилен¬
ные поиски нетрадиционных художественных форм, на попыт¬
ки подчинить музыке как наименее вербальному искусству по¬
этические средства (например, эстетические поиски и откры¬
тия А. Белого), миф все же остается в сфере художественного
сознания.
26
1.2. Миф в феноменологической традиции
Одной из составных духовного пейзажа, или духовного кли¬
мата, эпохи рубежа XIX-XX веков явилось стремление увидеть
мир в его самоценности. Это должно быть новое миросозерца¬
ние, в котором значительное место принадлежит мифу, так как
именно в мифе человек получает возможность удержать усколь¬
зающий от него мир.
Динамика культуры неизбежно сопровождается сменой пара¬
дигм, идей, тенденций, эстетических симпатий и канонов. Однако
поиски универсальной, единственной линии, объединяющей эти
устремления, неизбежно бесплодны. Любая мысль, стремящаяся
реализоваться, лшш, на время культурной адекватности становится
центральной, но, не успев окончательно утвердиться, уходит на пе¬
риферию, уступая место новой, не менее самонадеянной. В основе
смены культурньсс эпох лежит не столько изменение прежних докт¬
рин и вьщвижение новых, сколько сам способ восприятия мира.
Философ С. Лангер, обращаясь к истории философии, за¬
метила; «Если мы обратим внимание на медленное формирова¬
ние и накопление доктрин, отмечающих эту историю, то в ее пре¬
делах сможем увидеть определенные группировки идей, которые
выделяются не по содержанию, а под воздействием более тонко¬
го фактора, который может быгь назван “техникой” (“technique”)
обращения с ними. Именно способ подхода к решению проблем,
а не то, в чем конкретно они заключаются, закрепляет их за дан¬
ной эпохой»'^ Концом той или иной философской эпохи С. Лан¬
гер называет момент, когда исчерпываются ее движущие поня¬
тия: «Когда все разрешимые вопросы, которые можно сформу¬
лировать в терминах данной эпохи, уже разработаны, мы остаем¬
ся только с теми проблемами, которые иногда называют “мета¬
физическими”, обладающими неясным смыслом, с неразреши¬
мыми проблемами, предельные формулировки которых таят в
себе парадоксы»'*. При этом угасание философии, как отмечает
автор, идет на фоне потрясающей активности науки и техники.
27
Указанные признаки отчетливо обозначились в означенную
эпоху рубежа XIX-XX веков. Угасание же постигло прежде все¬
го философию позитивизма, исчерпавшую все возможные «тех¬
нические» ресурсы. Необходимо было мировоззрение, которое
смогло бы объединить веру и знание, рациональное и иррацио¬
нальное, вернуть личности ее изначальную цельность.
Задача эта не может быть решена силами одной нг^тси, пусть
даже и философии. Э. Гуссерль, разводя понятая философии теоре¬
тической и миросозерцательной, отметал: «Философия миросозер¬
цания предполагает... все отдельные науки как хранилища обьекгив-
ной истины; и посколы^^ она видит сюю цель в том, чтобы по мере
юзможносги удовлетворить нашу потребность в завершающем и
обьединяющем, всеохватывающем и всепостигающем познании, она
рассматривает все отдельные тут как свой фундамент»’ ^
Основателя феноменологии не оставляют сомнения в объек¬
тивности отдельных наук, их способности быть “хранилищами
объективной истины”. Причину кризиса этих н^ Э. Гуссерль
видит в том, что «.. .исследователь природы не уясняет себе, что
постоянным основанием все же субъективной работы его мысли
является окружающий жизненный мир; он постоянно предпола¬
гается как почва, поле его деятельности, в котором только и име¬
ют смысл его проблемы и способы мышления»^®.
В связи со сказанным приобретает особое значение понятие
очевидность, трактуемое философом как самоданность предме¬
та. Очевидность в качестве прафеномена интенциональной жиз¬
ни противопоставлена Э. Гуссерлем другим способам осознания,
которые могут быть а priori пустыми, неподлинными.
Однако очевидность - это лишь одна из характеристик вос¬
приятия. Другой, не менее значимой, Э. Гуссерль определяет
тановку, которую он понимает как «привычно устойчивый стиль
волевой жизни с заданностью устремлений, интересов, конечных
целей и усилий творчества, общий стиль которого тем самым
также предопределен»^ ‘. Именно установка и определяет тот или
иной стиль культуротворчества (термин Э. Гуссерля).
28
Преемственность культуротворчества, как и культуры в
целом, осуществляется благодаря нормальной или естествен¬
ной установке: «Универсальное наблюдение историчности че¬
ловеческого существования во всех его формах общности на
всех исторических ступенях показывает, что, по сути дела, пер¬
вой в себе оказывается одна определенная установка, т. е. пер¬
вая историчность определяется неким нормальным стилем че¬
ловеческого существования <... > в рамках которого любой фак¬
тически нормальный стиль культуротворчества <...> остается
формально тем же самым»^^.
Синонимичной этой установке назьгеает философ изначаль¬
но естественную жизнь, по отношению к которой все другие
установки предполагают факт смены. При этом естественная
установка не покидается сознанием, лишь на время уступает
другой. Такая естественная жизнь рассматривается как фунда¬
ментальный способ человеческого существования, когда мир
осознан как универсальный горизонт, но не тематизирован.
Под тематизащ1ей Э. Гуссерль понимает направленность
внимания на что-то как на цель или средство. Именно тематиза-
ция, как считает философ, и порождает с неизбежностью смену
установок, практических, теоретических или мифо-религиозных.
Суть последней в том, что мир тематизируется как целостность,
соответствует этой установке универсально-мифическое видение.
И все же дифиниции эти требуют комментария. Религиоз¬
но-мифическую установку Э. Гуссерль связывает не с изначаль¬
ной, естественной, а с практической, и даже спекулятивной, пе¬
рестраивающей сам миф, определение же «универсально-мифи¬
ческое» соотносится у него с представлением о мире как целост¬
ности. Эта характеристика пришдапиальна, так как именно миф
не только воспринимает эту целостность, но и сохраняет ее как
точку опоры, «подлинную точку отсчета культуры как таковой».
Ученый с сожалением констатирует: «Повсюду в наше время
чувствуется срочная потребность в познании духа, и становится
почти невыносимой неясность методических и предметных
29
взаимоотношений наук о духе и природе»^^. Но если наука бес¬
сильна познать дух, то его можно постичь иным способом. Так,
Э. Гуссерль предлагает вжиться в единство духовной жизни
посредством глубоко проникающей интуиции. Но именно та¬
кой способ приобщения человека к миру предполагает изначаль¬
ная форма сознания - МИФ.
В феноменологии Г. Шпет (российский исследователь и
ученик Э. Гуссерля, работавший некоторое время в Гетгингент-
ском университете) нашел возможность исследовать процесс
образования смысла, проявив особый интерес к исторической
конкретности смысла, что, в свою очередь, не могло не повли¬
ять на его интерес к этнической психологии. Историческая пер¬
спектива исследования сознания предполагала также и опреде¬
ленные направления в исследовании «смысловой» деятельнос¬
ти человека: наука, религия, искусство...
Сторонник и воспитанник западной философской тради¬
ции Г. Шпет сетовал на современное состояние философии и
искусства: «Никогда, кажется, не бьшо такой неосмыслицы в
духовной жизни: философия вместо рефлексии ищет познания
через “переживание”, перепутала все значения и смыслы слова
concipio и бежит от лица разума, ненавидящая его, а искусство
на место спонтанного творчества рефлектирует, исполняет все
значения слова experior и подчиняет переживание “поэтике” -
настоящего, прошлого и будущего, ибо поэтики absolute, вне
времени, не бывает»^'^.
В связи со сказанным становится актуальным определе¬
ние самого понятия «дух». Во «Введении в этническую психо¬
логию» среди нескольких толкований этого понятия выделяет¬
ся его определение в связи с коллективным сознанием: «”Дух”
как коллективный субъект, действительно, объективируется,
выражается в языке, мифах и прочем содержании этнической
психологии, и в этом смысле он - “объективный дух”»^^ Такой
объективной системой духа является, по мнению автора, язык,
мифы, верования, искусства первобытных народов.
30
г. Шлет подчеркивал, что язык, миф, нравы, наука, искусст¬
во, религия есть содержание этнической психологии. В то же
время сферу науки составляет система знаков, нуждающихся в
расшифровке и интерпретации. При этом знак дифференцирует¬
ся не иначе как примета вещи, содержащая одновременно сооб¬
щение о ней. Продолжая таким образом традицию Вундта и Ла-
царуса-Штейнталя, Г. Шлет ссылается также и на определение
мифа А. Потебни: «Миф есть словесное выражение такого объяс¬
нения (апперцепции), при котором объясняющему образу, имею¬
щему только субъективное значение, приписывается объектив¬
ность, действительное бытие в объясняемом»^^ И хотя этничес¬
кая психология, по признанию Г. Шпета, не может быть основ¬
ной наукой о духе, она может изучать процесс восприятия содер¬
жания представления, которое находится за пределами индиви¬
дуального сознания (ни «мое» ни «его») так как трансцендентно.
Реализуется же эта трансцендентность в социальных явлениях,
конкретные формы которых Г. Шпет назьгоает историческими.
При этом появляется важное уточнение; все эти исторические
моменты вызывают у человека соответствующие переживания,
и как бы ни отличались индивидуально люди, их переживания -
отклики на «моменты» типичны, имеют общий характер.
1.3. Г. Шпет и Вяч. Иванов:
от знака к реалистическому символу
Форма, в которой исторически проявившаяся трансценден¬
тность закрепляется, - знак - может быть уточнена как символ,
который Г. Шпет определяет через сравнение с аллегорией:
«Символ-творчески-пророчествен и неисчерпаемо-бесконечен.
Аллегория - теософична, символ - мистичен»^’.
Таким образом, рассуждая об искусстве как исторически
конкретной форме национального духа, Г. Шпет делает следу¬
ющий вывод: «Искусство - модус действительности, и слово -
31
архетип этой действительности, “недействительной действи¬
тельности”»^®.
Обращаясь к современному искусству, Г. Шлет подчерк¬
нул вездесущность символизма. Он заметил также, что в отли¬
чие от природы, которая «просто существует», дух, осуществ¬
ляясь в той же природе и дущевности, возникает к реальному
бытию лишь в форме культуры, подобно тому, как и природа
обретает смысл только в контексте культуры.
Г. Шпет укоряет философию в том, что она ищет познание
через переживание, а с другой стороны укоряет искусство в том,
что оно рефлексирует. Однако в «Эстетических фрагментах»
читаем: «Философия есть искусство, и искусство есть филосо¬
фия. . .»^®. Правда, тут же уточняет, что философия уподобляет¬
ся искусству как вьющее мастерство мысли, а искусства - орга¬
ны философии. Именно эта способность искусства чувствовать
мысль и является наиболее актуальной в постижении духа, о
чем говорил Э. Гуссерль, искавший пути вживания в единство
духовной жизни через интуицию.
Критически всматриваясь в основы современной ему эсте¬
тики, Г. Шпет категорически не принимал ее стремление к син¬
тезу искусств. Однако речь у него идет не столько о самом син¬
тезе искусств (если они - органы, то нужна их органическая
однородность), сколько о направлении развития этих искусств:
от единичности к единственности. Так отстаивает философ не
только право, но и обязанность искусства быть конкретным, а
не вставать на путь научного обобщения. «Дробитесь!» - вот
призыв, с которым он обращается к искусствам. Целью этого
дробления должно стать рождение нового. Г. Шпет формулиру¬
ет этот процесс распада-рождения следующим образом: «Диф¬
ференциация - новое рождение и рост, центростремительность
до пресыщения, до напряженности, не выдерживающей сжа¬
тия внутренних сил и разрешающейся в систему новых цент¬
ров, отталкивающихся друг от друга, самостоятельно способ¬
ных к новым конденсациям и к новым дифференциациям.
32
Сперва - концентрация жизни, затем разметывание кругов: раз¬
летаются каждый по своим центрам, хранящим в себе только
воспоминания о некогда общном, едином пра-центре»^“.
В таком случае творчество есть подражание по воспоми¬
нанию. Если соотнести эту формулу не только с эстетическим
процессом, но гораздо шире - со сферой сознания, то в этих
сжатиях-распадах и реализуется процесс постижения мира: ис¬
кусство предшествует философии, которая осуществляет мак¬
симальную выраженность фактичности, конкретности и концен¬
трированности.
Один из основоположников русского символизма Вяч.
Иванов так определил задачу, стоящую перед поэтом: «Вызвать
непосредственное постижение сокровенной жизни сущего сни¬
мающим все пелены изображением явного таинства этой жиз¬
ни - такую задачу ставит себе только реалистический симво¬
лист, видящий глубочайшую истинную реальность вещей..
Сам термин «реалистический символизм» проясняется в
соотнесении с противоположным по значению «идеалистичес¬
ким символизмом». В реалистическом символизме под символом
понимается всякая вещь, поскольку она является сокровенной
реальностью, глубина и возможность постижения символа про¬
порциональны причастности этой реальной вещи реальности
абсолютной. В идеалистическом символизме символ - прежде
всего средство художественной изобразительности, сигнал для
установления общения разделенных индивидуальных сознаний.
Реалистический символ, как замечает Вяч. Иванов, также
связывает раздельные сознания, но это уже соборное едршение,
которое достигается «.. .общим мистическим лицезрением еди¬
ной для всех, объективной сущности, в отличие от солидарнос¬
ти личного самосознания, субъективного самоопределения “за¬
говорщиков индивидуализма”»^^.
В этом уточнении усматривается параллель с коллектив¬
ными типическими переживаниями трансцендентного духа, а
то, что понимал Г. Шпет под термином «знак», обнаруживает
33
синонимичные черты ивановского реалистического символа.
Однако именно реалистический символизм, по определению
Вяч. Иванова, и идет путем символа к мифу, объективность ко¬
торого ему представляется очевидной, «ибо миф - отображе¬
ние реальностей, и всякое иное истолкование подлинного мифа
есть его искажение»”. Истинная цель обращения к мифу - ми¬
фотворчество, так как новый миф есть «новое откровение тех
же реальностей».
Но миф - это специфическая форма познания, так как исхо¬
дит, по мнению Вяч. Иванова, из адекватности раскрывшейся прав¬
ды о вещах, которая признается всеми как важное, верное, необхо¬
димое. Такой миф, родившийся на основе символа (ознаменован¬
ная реальность), есть обретение, «упраздняющее самое искание
до той поры, пока то же познание не будет уптублено дальнейшим
проникновением в его еще глубже лежащий смысл»^"*.
Описанная схема рождения-упразднения мифа совпадает
с описанным Г. Шпетом процессом сжатия-распада. Сущность
этих совпадений, на наш взгляд, почти очевидна: миф-жизнь
сгущается, концентрируется в символе, достигая определенной
адекватности, а затем происходит углубление, проникновение
в новый смысл (напряженность, не выдерживающая сжатия),
следующий этап - появление системы новых центров, сохраня¬
ющих лишь память о пра-центре. Таким образом, мифотворче¬
ство может длиться бесконечно долго, так как значение симво¬
ла практически неисчерпаемо. В известной степени этот про¬
цесс непредсказуем, так как миф - не есть изобретение, а обре¬
тение, и человек не знает величины скрытой сущности, еще не
выявившейся или утраченной, забытой.
Процесс, называемый Вяч. Ивановым приближением к
мифу, не является самоцелью, он - лишь симптом перехода к
иному восприятию, совмещающему одновременно реалистичес¬
кое и психическое. Но ведь об этом совмещении объективного
(реалистического) и психического (субъективно-чувственного)
познания говорили представители феноменологической школы.
34
в частности, ее основатель Э. Гуссерль, озабоченный поисками
способов преодоления кризиса сознания, способов постижения
духовной сущности мира. Легко заметить также гносеологичес¬
кую близость понятий коллективности, типичности (Г. Шпет)
и соборности (Вяч, Иванов).
Утверждая эрос символа, Вяч. Иванов указывает и на его
источник, рассматривает попытки приближения к мифу как при¬
общение к «творческим родникам примитивного мировосприя¬
тия». Символизм, по его мнению, способен вывести «зачуравшу¬
юся от мира личность» из замкнутого круга индивидуализма,
осуществив раскрытие в личности сверхличного содержания.
Таким образом, именно миф в культурной ситуащти рубежа
XIX-XX веков представлялся хранителем истинных духовных
ценностей коллективного человечества, а процесс сознания сбли¬
жался в определенном смысле с процессом мифотворчества.
Кризис мышления, который спровоцировал философские
искания рубежа XIX-XX веков, наступил не внезапно. Другой
рубеж веков, XVIII-XIX, уже пережил нечто подобное, и преж¬
де всего в художественном сознании. Пришедший на смену клас¬
сицизму, порожденному парадигмой культуры Просвещения,
романтизм получил мощный импульс в философии немецкого
идеализма. «Немецкий идеализм не был только немецким, - за¬
метил Г. Флоровский. - Он был вселенским собыгием. Он обо¬
значает какой-то общий момент в исторической судьбе европей¬
ского мира». По мнению Г. Флоровского, для немецкого идеа¬
лизма определяющими были греческие влияния: «Античность
стала миром очарований, - и не только для Гегеля. Для Гегеля
древняя Эллада навсегда осталась какой-тхэ идеальной парадиг¬
мой человечности»^^
Античное влияние на формирование философского идеа¬
лизма связывалось с неоплатонизмом, через который была от¬
крыта и греческая мифология. Привлекала античная мысль сво¬
им стремлением к «преодолению бывания, к преодолению вре¬
мени», но при этом сохраняла конкретность. «Можно сказать, -
35
продолжает Г. Флоровский, - в своем замысле античная фило¬
софия есть универсальная метафизическая морфология бытия,
учение об идеальной структуре или архитектонике мира»^*^.
Эллинский гений создал вечный памятник своей мысли - уче¬
ние о мире первообразов и форм, завершив свою метафизику
учением о Едином у неоплатоников.
Античная философия подарила немецкому идеализму на¬
дежду, уверенность, что хаос не победит космоса, так как сам
хаос есть «рождающее лоно форм, он извечно засеменен этими
формами». Именно эллинский дух внес в немецкую философию
преобладающее эстетическое начало, придавшее мысли плас¬
тичность и образность. Этот всепроникающий эстетический
закон подчинил себе не только метафизику бытия, но и исто¬
рию, которая теряет драматическое напряжение настоящего.
Для романтика прошлое становится архетипом, праобра-
зом всей истории, а будущее - сном, настоящее же обесценива¬
ется. Г. Флоровский отмечает и еще одно важное качество; «Ро¬
мантизм был слеп к личному творчеству. Человек в романтизме
не деятель, не созерцатель, не творец, но угадчик творимых тайн.
В романтизме высшим типом человека считается художник. Но
художник не творит сам, он только закрепляет явившиеся ему
образы, повторяет, воспроизводит, описывает, - описывает, ко¬
нечно, не эмпирическую, но вечную или идеальную действи¬
тельность, в которую проникает силой интеллектуальной инту¬
иции»” (заметим, понятие интеллектуальная интуиция более
полно реализует свой потенциал в философских учениях рубе¬
жа XIX-XX веков).
Помещение в центр романтического мира первообраза,
вселенского архетипа, лишает историю события, при этом при¬
рода и история стремятся сомкнуться в единство как два мо¬
мента одного процесса. Как преодоление истории рассматрива¬
ет Г. Флоровский стремление видеть в священных книгах лишь
символическое содержание. В итоге: «Навязчивая идея мифа
постоянно входит в идеалистическое сознание. Миф не значит
36
сказка. Миф есть реальный символ. Но миф всегда за предела¬
ми конкретного времени... Очень характерная для эпохи мысль
Шеллинга о новой мифологии, которую призвано создать ис¬
кусство»^*.
Немецкая философия идеализма стала значительным яв¬
лением в русской культуре лишь с 40-х годов XIX века; именно
в этот период делаются приблизительные переложения идей
Шеллинга, Гегеля профессурой Московского университета.
Однако следует заметить, что аналогичные идеи уже существо¬
вали в русской культуре и, прежде всего, в поэзии, про которую
В. Белинский говорил, что она заменила русскому человеку на¬
уки, формирующие мировоззрение.
Именно русская романтическая поэзия пыталась воспроиз¬
вести облик греческой античности, искала пути к народным пре¬
даниям, не говоря уже о том, что художник-поэт в этой традиции
воспринимался как пророк, провидец. Еще в раннем творчестве
Пушкина сложился облик послушного ученика муз, истолкова¬
теля божественной воли вплоть до знаменитого «Пророка», ода¬
ренного способностью всевидения. Эта романтическая установ¬
ка быть послушным лишь велению Бога освобождает поэта от
чрезмерной порабощенности исторической реальностью.
Исповедовавший дар поэта-пророка Лермонтов открыл для
русского читателя природу как самостоятельную сущность, и,
развив в себе до поразительной глубины дар мистического про¬
никновения в эту сущность, создал поражающее своей косми¬
ческой мощью стихотворение «Выхожу один я на дорогу...»,
где дорога уходит совершенно реально в безграничный космос,
откуда земля (задолго до того, как это стало осуществимо тех¬
нически) открылась в сиянье голубом.
Традиция, к которой принадлежали также Д. Веневитинов
(его можно с полным правом назвать российским Новалисом),
К. Батюшков, Е. Боратынский, была продолжена Ф. Тютчевым,
А. Фетом, а они, в свою очередь, предварили мощный взлет рус¬
ской поэзии на рубеже XIX и XX веков.
37
Вяч. Иванов так определил вклад своих предшественни¬
ков: Жуковский впервые пережил «воздушные созвучия мисти¬
ческой душевности», гений Пушкина - алмаз, «где отсветилась
вся жизнь, и раздробленные, но слепитльные лучи внутреннего
опыга», Боратынский - поэт, в чьей поэзии заговорила «темная
память о каком-то давнем живом знании, открывшем тайную
книгу мировой души», Лермонтов, «первый в русской поэзии
затрепетавший предчувствием символа символов - Вечной Жен¬
ственности, мистической плоти рожденного в вечности Слова».
Творчество этих поэтов соотносит автор с реалистичес¬
ким символизмом. Другой вид символизма - идеалистический
Вяч. Иванов определил так: «При невозможности формулиро¬
вать прежними способами словесного общения результаты на¬
копления психологических богатств, ощущения прежде неис¬
пытанные, непонятные ранним поколениям душевные волне¬
ния последних из людей, какими столь ошибочно любили име¬
новать себя декаденты, оставалось найти этому неизведанному
субъективному содержанию ассоциативные и апперцептивные
эквиваленты, обладающие силой вызывать в воспринимающем,
как бы обратным ходом ассоциации и апперцепции, аналоги¬
ческие душевные состояния. Комбинации зрительных, слухо¬
вых и других чувственньгх представлений должны были дей¬
ствовать на душу слушателя так, чтобы в ней зазвучал аккорд
чувствований, отвечающих аккорду, вдохновившему художни¬
ка. Этот метод есть импрессионизм»^'^.
Цель импрессионизма - впечатление, его не интересует
постижение онтологических истин. (По наблюдениям К. Хюб-
нера, исходной точкой импрессионизма как раз и является его
отстранение от процесса познания: «Импрессионист - и в этом
он весь - дитя своего, ставшего научным века, жаждет наслаж¬
дения лишь таким созерцанием, которое начисто лишено мыс¬
ли, мыслимое, считает он, уже и не входит в его компетенцию»''®.)
С другой стороны, само искусство в такой ситуации обращается
лишь к фрагментам действительности, забыв о существовании
38
космоса. Реалистический же символизм, в трактовке Вяч. Ива¬
нова, предполагает ясновидение вещей в поэте и такое же ясно¬
видение в слушателе.
Подобная дифференциация символа является продолжени¬
ем идей А. Потебни, который также различал символы как омо¬
нимичные явления, строго разделяя символ-образ, поэтический
троп и символ как знак подлинной сущностной реальности. Имен¬
но реалистический символ осуществляется в мифе, который, по
определению Вяч. Иванова, есть объективная правда о сущем.
Сложную природу ясновидения Вяч. Иванов иллюстриру¬
ет обращением к Гоголю. Ему было дано второе зрение, но жизнь
скрыла от писателя «последний смысл своей символики» и об¬
рекла его лишь на роль «испуганного соглядатая».
1.4. Пространство мифа и поэтическое творчество
Наш современник В. Топоров, исследуя мифопоэтическое
в русской литературе, по-своему обозначил кризисное состоя¬
ние мысли. Он связывает его с исчезновением вещей и распа¬
дом вещного состава мира. Исчезает, конечно, не сам вещный
мир, а его восприятие человеком, или, еще точнее: исчезает чув¬
ство космоса, и мир распадается на фрагменты-вещи, утратив¬
шие свои символические значения. В такой ситуации гого¬
левский Плюшкин получает право на скупость, так как благо¬
даря ей он исполняет свою роль - «сохранение самого бытия в
безбытной стране». Но если для Плюшкина вещи - это напо¬
минания о прежней реальной жизни, то остальные герои
«Мертвых душ» и не предполагают, что у вещи может быть не¬
кая сущность. Яркий образец - Коробочка, у которой весь мир
словно разложен по ящикам какого-то гигантского шкафа, где
каждый ящик непроницаем для других вещей.
Гоголевские вещи или явления лишены способности к сим¬
волизации, они - лишь знаки, обозначения, которые потеряли
39
связь с целым. Потому и нос может сбежать от своего хозяина,
чтобы самостоятельно разгуливать по городу. Знаковость вещи
у Гоголя исчерпывает ее смысл. Гоголь - мистик, но если у по¬
эта существует всегда онтологическая перспектива, проводни¬
ком к которой и служит мистика, то для Гоголя мистика - некая
последняя данность, а открывающийся миф - не способ позна¬
ния, а пространство, закрытое для сознания. Оно способно лишь
вызывать ощущения, пугая и смущая разум своей закрытостью;
речь может идти даже не столько об исчезновении вещей, сколь¬
ко о потере антропного начала.
Вещь замещает человека, и человек чувствует себя ненуж¬
ным в этом мире. Потому-то и душа мира мертвеет. Это состоя¬
ние мира выразил Гоголь в своей гениальной поэме. Сам Петер¬
бург как воплощение воли людей, возникший вопреки природе,
становится принципиально акосмтным, порождая мистических
монстров вроде Невского проспекта. Именно так воспринимает¬
ся он маленькими людьми Гоголя и его последователей.
Гоголевский герой лишен, как правило, своей биографии, он
не осознает собственную необходимость, но сам становится час¬
тью некоего замысла, по которому навсегда приписан к категории
«маленький», «лиш1шй»... И протест его выражается своеобраз¬
но: это даже не протест, а самоутверждение, которое необходимо,
чтобы отомстить городу-монстру за собственную вымороченность.
Вслед за Гоголем Невский проспект будет обрастать дру¬
гими знаками. Так у Некрасова, а затем у Буткова появится ко¬
ляска как орудие мести маленького человека. Но если некра¬
совский герой в конце концов погибает, искалечившись под ко¬
лесами этого монстра, то в произведении Буткова герой, слу¬
чайно выигравший роскошную карету в благотворительной ло¬
терее, все время чувствует, что взялся не за свою роль, и с радо¬
стью отказывается от нее, как только представляется возмож¬
ность. Роль графа Монте Кристо, которую он предполагал сыг¬
рать, разъезжая по Невскому проспекту в своем роскошном при¬
обретении, оказалась не по силам.
40
Вещи-фантомы изначально уже не имели возможностей
стать символами; они являлись лишь знаками каких-либо отно¬
шений человека в мире. Смысл, заложенный в них, слишком
утилитарен. Гоголь первым осознал положение человека, поме¬
щенного в это искусственное пространство. Оглушенный сво¬
им открытием, автор действительно должен был стать «испу¬
ганным соглядатаем». В этом контексте фрагмент «Записок су¬
масшедшего», завершающий «Арабески», приобретает особое
значение; «Нет, я больше не имею сил терпеть. Боже! Что они
делают со мною! <.. .> Что я сделал им? За что они мучают меня?
Чего хотят от меня? Чего хотят от меня бедного? Что могу дать
я им? Я ничего не умею. Я не в силах, я не могу вынести всех
мук их, голова горит моя и все кружится надо мною. Спасите
меня! Возьмите меня! Дайте мне тройку быстрых как вихорь
коней!
Садись мой ямщик, звени, мой колокольчик, взвейтеся,
кони, и несите меня с этого света!... Дом ли то мой синеет вда¬
ли? Мать ли моя сидит перед окном? Матушка, посмотри, как
мучат они его! Прижми ко груди своей бедного сиротку! ему
нет места на свете! его гонят! - Матушка! Пожалей о своем боль¬
ном дитятке!..»“’.
Лишь спустя некоторое время из-под пера Достоевского
снова появится карета, но теперь она приобретет статус сим¬
вола, так как герои литературы достаточно обживут простран¬
ство Петербурга. Родившийся мифологический сюжет станет
поистине трагическим; пресловутая карета раздавит «малень¬
кого» Мармеладова, который так и не нашел, куда бы ему мож¬
но было пойти. Мифологема «Петербург» сохранит свою энер¬
гию, губительную для человека, породив множество новых ми¬
фологических сюжетов.
Выделяя в пространстве куль’^ры область мифопоэтичес¬
кого, Мы ни в коем случае не отождествляем его непосредствен¬
но с мифологическим сознанием. Мифопоэтическое по приро¬
де своей есть некий результат творческого 5одожественного акта -
41
тот модус действительности, в котором слово, как утверждал
Г. Шлет, является архетипом этой действительности, «недей¬
ствительной действительности». Мифологизм же сознания яв¬
ляется качественной характеристикой гетерогенного сознания:
он присутствует как свойство сознания вообще, но в силу суще¬
ствующих культурных парадигм его потенщм реализуется или
же так и остается невостребованной.
Не раз отмечалось, что наиболее благоприятной культур¬
ной ситуацией для реализации мифологического сознания ста¬
новятся стыки эпох, обозначенные исчерпанностью тех или
иных рациональных систем, мировоззренческих априорий. В
такой ситуации актуализация мифического мышления становит¬
ся законом, который действует независимо от степени осозна¬
ния его человеком. Иными словами существует вполне реаль¬
ное пространство мифа, вступая в которое, человек попадает
под действие его законов.
Однако еще задолго до конца XIX века в русской литерату¬
ре появились симптомы этого процесса. Уже в творчестве А. Ос¬
тровского миф тесно вплетается в художественную ткань про¬
изведения.
1.4.1. Мифопоэтика в творчестве Л. Островского
Термин «мифопоэтическое» объединяет два начала, в из¬
вестной степени противоположные, ибо «миф» и «поэзия» как
явления самостоятельные имеют принципиально разнонаправ¬
ленные характеристики: если миф выражает саму действитель¬
ность, то поэзия - отношение к ней.
Проблема соотношения мифа и поэзии пришла в русскую
философскую и >^ожественную традицшо с трудами Ф. Шеллин¬
га, братьев Гримм, М. Мюллера. Пробудился интерес к содержа¬
нию мифа и, как следствие, - изучение мифологического наследия
в фольклоре. Возникновение мифологической школы в русской
филологии стало естественным следствием этого интереса.
42
с другой стороны, в самой поэтической практике все ощу¬
тимее стало присзтствие опыта мифического мышления, где
миф не только обозначен известными образами, сюжетами, но,
и это главное, реализуется как способ восприятия и познания
действительности.
Иными словами, освоение мифа шло в нескольких направ¬
лениях: изучение содержания мифа, проникновение в сам спо¬
соб мифического мышления и научная рефлексия мифа.
В практике научного осмысления мифа XIX век прошел путь
от «Философии мифа» Ф. Шеллинга до осознания проблемы
«миф и язык», от понимания мифа как болезни языка М. Мюл¬
лера, отождествления мифа и поэзии А. Афанасьевым до пони¬
мания сложности этой проблемы А. Потебней, современником
А. Островского.
А. Потебня увидел в этой проблеме несколько уровней. Во-
первых, ученый выделил мифологию как историю мифическо¬
го миросозерцания (подчеркнем, что он проводит при этом чет¬
кую грань между понятиями «мифическое» и «мифологичес¬
кое», тогда как и в трудах наших современников они далеко не
всегда дифференцируются).
Во-вторых, миф изучается теорией словесности как про¬
изведение, лежаш;ее в основе других, более сложных.
И, наконец, изучение мифологического мышления дол¬
жно дать ответ на вопрос: «есть ли миф случайный и лож¬
ный шаг личного мышления, или же шаг, необходимый для
дальнейшего развития всего человечества»'^^. А. Потебня под¬
черкнул: «никогда мифы <...> не были предметом столь на¬
стойчивого систематического изучения, как в наш XIX век»''^
Причину такого интереса ученый увидел в стремлении чело¬
века к самопознанию, которое естественно привело «к созна¬
нию связи Я с настоящим и прошедшим человечества, зави¬
симости культуры и некультурности, к изучению объектив¬
ных отложений человеческой мысли»'*'*. «Что такое я?» - ос¬
новной вопрос самопознания, толкуется в таком случае как
43
исторический: «как я (как один из множества) стал таков?».
Размышляя таким образом, А. Потебня высказывает догадку
о том, что мифическое творчество не прекращается и в наши
дни. Безусловно, чтобы появилась эта догадка, необходимо
было наличие примеров подобного творчества. Нам представ¬
ляется, что «Снегурочка» А. Островского - один из самых
ярких таких примеров.
В «Застольном слове о Пушкине» А. Островский отметил:
«Первая заслуга великого поэта в том, что через него умнеет все,
что может поумнеть. Кроме наслаждения, кроме форм для выра¬
жения мыслей и чувств, поэт дает и самые формулы мыслей и
чувств»''^ А несколько ниже с сочувствием и пониманием ска¬
зал: «Высвобождение мысли из-под гнета условных приемов -
дело не легкое, оно требует громадных сил»'*'’. Предположим,
что весенняя сказка самого драматурга - одна из попыток по¬
добного высвобождения мысли.
Определяя способ мифического мышления, А. Потебня
рассматривает ситуацию, когда образ считается объективным
и, целиком переносясь в значение, служит основанием для даль¬
нейших заключений о свойствах означаемого, и наоборот: по¬
этическое мышление рассматривает образ лишь как субъектив¬
ное средство для перехода к значению. Применительно к пьесе
А. Островского это уточнение позволяет вьщелить два ряда пер¬
сонажей, соотносимых с двумя контекстами; мифическим, по¬
рожденным собственно мифическим творчеством, и поэтичес¬
ким, лежащим за пределами первого и названным поэтому про-
фанным. Взаимодействие этих контекстов и выражается в ди¬
намике мифопоэтических оппозиций.
В. Топоров в упомянутой выше книге приводит характе¬
ристики универсальных мифопоэтических схем, типичных для
архаических текстов космогонического содержания, текстов,
описывающих решение некой основной задачи, от которой за¬
висит все остальное. Именно такая универсальная схема ве¬
ликолепно прочитывается в «Снегурочке» А. Островского.
44
Основная задача, решение которой призван описать архаи¬
ческий текст, порождается кризисом организованного (косми¬
ческого) начала: космосу грозит превращение в хаос. В пьесе
это процесс, обозначенный словом «остуда» (нарушение заве¬
денного космического жизненного порядка, весеннего начала
жизненного цикла). Решение задачи - поединок противоборству¬
ющих сил: Мороз - Ярило, Снегурочка - орудие этой борьбы. В
архаических текстах напряжение создает любому члену проти¬
воборства (бинарных оппозиций) необходимость стать амбива¬
лентным, при этом его окончательная интерпретация зависит
от окончательной точки зрения. У Островского эта амбивалент¬
ность представлена, прежде всего, как игра на грани двух про¬
странств: сакрального мифического и профанного - царь Бе¬
рендей, выполняющий функции жреца, вынужден все время
объяснять свои действия, чтобы не свалиться в профанное про¬
странство. Так, во втором действии царь расписывает красками
один из столбов, а скоморохи явно профанируют это действо.
Большинство же героев мигрируют в этих пространствах:
Снегурочка в мифическом пространстве призвана стать жерт¬
вой - агнцем невинным, в профанном - средством разбогатеть
приемным родителям (да и само наличие родительских пар
Мороза - Весны и Бобыля - его жены только подчеркивает ее
амбивалентность). Предельная драматизация конфликта, его
кульминация, выявляет окончательно основную функцию героя:
Снегурочка приносится в жертву Яриле, а обряд жертвоприно¬
шения совершает царь Берендей.
Подчеркивается эта двузначность героев через простран¬
ство и время, которые становятся дискретными (такая дискрет¬
ность явно прослеживается в авторском замысле:
Пролог - Красная горка,
1 действие - заречная слобода,
2 действие - дворец Берендея,
3 действие - заповедный лес,
4 действие - Ярилина долина).
45
Чем ближе развязка, тем более пространство приобретает
сакральность, а именно в сакральной точке и может происхо¬
дить решение задачи архаического текста.
Остановимся подробнее на анализе некоторых элементов уни¬
версальной мифопоэтической схемы архаического текста, которой,
как мы убедились, соответствует интересующая нас пьеса.
Мы уже отметили значительную смыслообразующую роль
пространства в «Снегурочке». При этом драматург доводит до
максимума значимость пространства. Так, уже в Прологе, на¬
зывая местом действия Красную горку, он подчеркивает кри-
зисность ситуации, так как Весна разговаривает с Морозом там,
где должна была встретиться с восходящим солнцем. Но с дру¬
гой стороны, встреча эта происходит в полночь, а сама Красная
горка еще покрыта снегом, что объясняет причину этой подме¬
ны. Таким образом, не только герои, но и пространство в пьесе
амбивалентно; с точки зрения мифической - нарастание кризи¬
са, с точки зрения профанной - норма.
В этой ситуации дворец как раз и является не только сре¬
динным (третьим из пяти) местом действия, но и переходным к
однозначности. Красная горка - сакральное пространство, за¬
речная слобода - профанное, лишенное какой-либо сакрально-
сти, заповедный лес (3 действие) и Ярилина долина (4 действие)
являются, как и Красная горка, безусловно сакральными. Дво¬
рец Берендея призван обеспечить необходимый переход из аб¬
солютно профанного в абсолютно сакральное. Здесь-то и рас¬
крывается, с нашей точки зрения, смысл монолога царя Берен¬
дея, объясняющего палатное письмо:
Небесными кругами украшают
Подписчики в палатах потолки
Высокие; в простенках узких пишут;
Утеху глаз, лазоревы цветы
Меж травами зелеными; а турьи
Мо1учие и жилистые ноги
В притолках дверных, припечных турах,
46
Подножиях прямых столбов, на коих
Покоится тяжелых матиц груз.
Перед читателем ясная картина мира: небо-потолок как
место пребьшания солнца (небесный круг), могучие туры, дер¬
жащие матицы, - основа, твердь, лазоревы цветы заполняют про¬
странство как знак красоты. Но и здесь есть указания на встре¬
чу с обьщенным:
В преддвериях, чтоб гости веселее
Вступали в дом, писцы живописуют
Таких, как вы, шутов и дураков.
Монолог этот выполняет и еще одну функцию. Мороз в
Прологе сетует на Ярилу, который
Топит, плавит
Дворцы мои, киоски, галереи,
Изяшдую работу украшений.
Подробностей мельчайшую резьбу.
Плоды трудов и замыслов.
Поверишь, Слеза проймет.
Трудись, корпи, художник.
Над лепкою едва заметных звезд -
И прахом все пойдет...
Перед нами два монолога на одну тему. «Искусство», напо¬
минающих знаменитый диалог Моцарта и Сальери у А. Пушки¬
на. Для А. Островского были всегда актуальны поиски настоя¬
щего, здорового искусства, которое, вызывая ощущение, начина¬
ет перестройку души, оно «есть начало благоустройства, введе¬
ние нового элемента, умирающего, уравновешивающего, - вве¬
дение в душу чувства красоты, ощущения изящества»'*’. И в та¬
ком дворце-храме действительно должны присутствовать люди,
подобно тому, как в росписи палат появляется изображение ско¬
морохов. Для Мороза же искусство существует лишь как «леп¬
ка едва заметных звезд», а дворцы, киоски, галереи - плоды
трудов и замыслов, где и не предполагается присутствие лю¬
дей. Так обозначается противоположность настоящего, здоро¬
вого искусства искусству риторическому. Потому и обречено.
47
должно быть расплавлено творение Мороза, что оно распадает¬
ся в «подробностей мельчайшую резьбу».
Царь Берендей и Мороз вступают и еще в одну оппозицию:
Шаман - Жрец. Если царь Берендей, вьшолняющий волю Яри-
лы, творящий обряды, содействует поддержанию космического
порядка, то Мороз, отправляющийся к Сибирским тундрам «за-
шаманствовать», выступает в союзе с темными (неясными) силами-
духами: «Я соболий треух на уши, / Я оленью доху на плечи,
/Побрякушками пояс увешаю', / Будут мне в пояс кланяться».
Развертывание охшозиции Мороз - Берендей может быть
продолжено; Мороз осуждает людей за их лень, празднолюбие,
царь Берендей называет причину этих пороков - сердечную ос¬
туду, сеющую безразличие. Но все это множество оппозиций мо¬
жет быть названо профанным, так как в сакральном простран¬
стве они не встречаются, функционируя в разных уровнях мифи-
ческого пространства (боги-духи). Нам было важно обозначить
эти два пространства как реально присутствующие в тексте.
Различным значениям пространства в «Снегурочке» соот¬
ветствуют и не менее дискретные характеристики времени. Уже
на первой странице пьесы А. Островский обозначает время как
доисторическое (мифическое, существовавшее до появления че¬
ловека и его истории - Н. К.), другое время - весна, которое при¬
надлежит и мифическому, и профанному времени (начало годо¬
вого цикла, пробуждение сил природы - начало таяния снега,
время прилета птиц и т. д.). Есть время, придающее своеобраз¬
ный поэтический, сказочный колорит действию, как, например,
полночь, сопровождаемая криком петухов. Но есть и еще одно
время, не названное драматургом, но не менее реально ощути¬
мое. Именно этому времени принадлежит Елена Прекрасная (за¬
метим: не традиционная для русской сказки Премудрая) - персо¬
наж греческой мифологии, но в большей степени - оффенба-
ховской оперетты, которая так раздражала Островского. Елена
в «Снегурочке» и ведет себя чаще как опереточная кокетка:
шумит и резвится с царем «беспечные, как дети, мы шутили
48
/ Резвшися с Прекрасною Еленой», заигрывает с Лелем «Сладко
в объятиях твоих лежать и млеть», а когда Лель отправляет ее
к мужу, то сцена и вовсе становится банальной, анекдотичной:
Бермята:
Пенять и удивляться
Не стану я; прекрасную супругу
Не в первый раз в чужих объятиях вижу.
Пойдем со мной! В лесу ночном порою
И встретит кто, так все ж пристойней с мужем
Бродить тебе, чем с Лелем.
На что Елена Прекрасная отвечает, успокаивая и его, и себя:
Милый муж,
Разбойник Лель удваивает нежность
Жены твоей к тебе. Его поступок
Прекрасную Елену убеждает,
Что юноши все нагло-бессердечны,
Зато мужья и милы, и добры.
В данном случае мы видим: автор пользуется образом ми¬
фологической Елены Прекрасной как средством для перехода
к значению, что А. Потебня характеризует как собственно по¬
этический способ. Так же опосредовано представлены другие
реалии времени, а точнее - симптомы его болезни: корысть, ве¬
роломство, зависть. И, наконец, главная «болезнь» обоих вре¬
мен - «сердечная остуда».
Впрочем, все эти симптомы обозначил А. Островский еще
в «Грозе», где молодежь на любовном свидании скучает, зевая
(Варвара, Кудряш), красота проклинается, а любовь - грех''*.
В этой пьесе Катерина - единственный центр схода различ¬
ных конфликтов; социального, семейного, психологического,
религиозного, поэтому и смерть как избавление от этих конф¬
ликтов она выбирает сама. Но это избавление только ее лич¬
ное, и надежды Н. Добролюбова на просветление «темного
царства» слишком оптимистичны.
49
«Снегурочка» более точно указывает смысл переживаемой
катастрофы, она изначально воплощает этот смысл (душевный
холод), а уже потом приобретает поэтические краски. Поэтому
и финал не нарушает общего весеннего ликования. Смерть Сне¬
гурочки - не жестокость и не трагедия, а необходимое ритуаль¬
ное жертвоприношение. И только слова и гибель Мизгиря вно¬
сят неоправданное с точки зрения ритуала страдание. Но в том-
то и дело, что Мизгирь - маргинальный персонаж, не имеющий
определенности ни в бытовом (профанном), ни в бытийном (ми¬
фическом) пространстве. Соблазнясь красотой Снегурочки, он,
в отличие от Леля, не увидел ее холодности, не понял эту красо¬
ту, ее предназначение. Впрочем, здесь присутствует еще один
мотив: стремление обладать, которое он пытается естественным
для себя способом удовлетворить (сторговывается с Бобылем и
его женой), затем торг продолжается, только цена вырастает:
теперь за право назвать Снегурочку своей он платит жизнью.
Но как только Мизгирь пересекает границу мифа, вступает (или
оказывается втянутым) в мифическое пространство, он погиба¬
ет. Его финальная фраза: «Обманут я богами; это шутка жес¬
токая судьбы. Но если боги Обманщики - не стоит жить на
свете\» - его личная правда, она угрожает мифу, и миф не при¬
нимает ни эту правду, ни самого героя.
Читаем у А. Потебни о мифе: «перенесение нашей субъек¬
тивной мысли в объект (т. е. миф), необходимое лишь до тех
пор, пока нами не сознается субъективность этой мысли»"*®. В
пьесе Островского эта логика совершает обратный ход: субъек¬
тивная мысль стремится к объективности мифа, но при этом не
терпит сомнений (опыт Мизгиря).
Но если сюжет мифологический развертывается как ри¬
туал очищения: жертва - Снегурочка, жрец - царь Берендей,
то использование «поэтического» (А. Потебня), профанного
пространства и времени приближают драматический конфликт
к зрителю настолько, что его непосредственное переживание
этого конфликта перерастает в участие в ритуале, а мифическое
50
пространство принимает его, очищая представление о мире, от¬
крывая сакральную первозданность.
Возвращаясь к словам А. Островского о поисках в этой
пьесе нового пзо'и, попытаемся сформулировать его как взаи¬
модействие в «Снегурочке» мифического и поэтического, ми¬
фического - объективного, сухщюстного, смыслового и поэти¬
ческого субъективного пространств, наличие и признание кото¬
рых позволяет освободить сюжетные линии от непосредствен¬
ного участия в основном конфликте пьесы. Эти сюжетные ли¬
нии существуют в своих уровнях, создавая ткань мифа. Такой
сюжет обладает собственной нелинейной логикой, логикой мно¬
жественности смыслов, когда отдельный образ равен мысли.
Читатель в этой ситуации подобен путещественнику: переходя
из уровня в уровень, словно Алиса в Стране Чудес, открывает
разные стороны истины-л:орошо то, что ясно, красиво, здоро¬
во, сообразно с космическим порядком.
1.4.2, Архетип в поэтике Л. Островского
А. Островский, наблюдая московскую публику, заметил,
что она состоит более чем наполовину из людей торговых, -
класса богатого и даровитого, но еще совершенно нового и не
приготовленного к общественной жизни: цивилизащм косну¬
лась его только вскользь, своей внешней стороной: «Человек,
который в труде и деловых своих занятиях руководится только
корыстью, а вместо удовольствий знает одни чувственные из¬
лишества, когда начнет сознавать себя, прежде всего ищет изящ¬
ного времяпровождения и хоть каких-нибудь идеалов»^.
В истории культуры периоды стабилизащш и развития, усто¬
явшихся традиций, неизбежно сменяются периодами «взрывов»
(Ю. М. Логман), которые, в свою очередь, выдвигают новых пас¬
сионариев. Так взрывы характеризуются разрушением устоявшихся
представлений, предшествующей кушлурной парадигмы. Подобные
51
состояния в мифологии определяются Е. Мелетинским как «реци¬
дивы хаоса». В такой ситуации на первое место выдвигается зада¬
ча трансформа1ЩИ психофизиологического «хаоса» в социальный
«космос» (по Е. Мелетинскому^’. Эта архетипическая ситуация
легко обнаруживается в пьесах А. Островского.
Преобразование хаоса в космос осуществляется в мифоло¬
гии культурным героем. Но если в первичном мифе он обозначен
с момента рождения особыми качествами, то в литературном
произведении он появляется достаточно трансформированным.
Рассмотрим притязания героев некоторых пьес А. Остров¬
ского на роль культурного героя.
Активно заявляют о своей сверхличной значимости герои-
просветители. Среди них самый хрестоматийный пример - Ку-
лигин («Гроза»). С особой декларативностью героя-борца с тем¬
нотой невежества выступает Иван Ксенофонтыч из комедии «В
чужом пиру похмелье» (напомним, что первоначально пьеса
называлась «Ученье свет, а неученье тьма»). Написанная в
1855 году, сразу же после публикации комедия получила упрек
в «несвязности сцен, отсутствии серьезного и интересного со¬
держания» на страницах «Санкт-Петербургских ведомостей»
(№ 24, 1856 год). Слишком прямолинейное название пьесы не
случайно было заменено автором. Неожиданному финалу бо¬
лее соответствовало новое.
Иван Ксенофонтыч Иванов - главный герой пьесы, подоб¬
но Кулигину в «Грозе», произносит первую фразу, звучащую в
спектакле со сцены: «Невежество! Невежество! И слышать не
хочу невежества!» С этими словами он «садится за стол и рас¬
крывает книгу». Он не только не хочет слышать невежества, но
и в самом деле его не слышит. Чего стоит словесная перепалка
героя с хозяйкой занимаемой им квартиры, Аграфеной Плато¬
новной, о значении услышанного им впервые (!) слова.
Иван Ксенофонтыч: Самодур. Это черт знает что такое! Это
слово неупотребительное, я его не знаю. Это lingua Barbara, вар¬
варский язык.
52
Аграфена Платоновна: Уж и вы, Иван Ксенофонтыч, как по¬
гляжу я на вас, заучршись до того, что русского языка не понима¬
ете. Самодур - это называется, коли вот человек никого не слу¬
шает, ты ему хоть кол на голове теши, а он все свое. Топнет но¬
гой, скажет; кто я? Тут уж все домашние ему в ноги должны, так
и лежать, а то беда...
Иван Ксенофонтович: О tempora? о mores! О времена, о нра¬
вы! (лат.).
Эта отрешенность от жизни «отставного учителя» смуща¬
ет даже его дочь, Лизавету Ивановну.- «А всего мне обиднее,
что смеются над папашей, он точно, немного странен, да ведь
он всю жизнь провел за книгами, его можно извинить».
Иван Ксенофонтыч возмуш;ен тем, что молодые люди мало
учатся, но, погрузившись в книги, не замечает, что Андрей Ти-
тыч, полюбивший Лизавету Ивановну, мечтает об учебе в Ком¬
мерческой академии, а Лизавета Ивановна попросту не хочет
знать, что такое самодур, не пускающий сына на учебу.
Впрочем, и свое призвание бескорыстного служения дочь
учителя не очень-то понимает: «Вот вчера, как я шла из церкви,
какие-то молодые купщ.! вслух смеялись над моим салопом. Где
же я лучше возьму? Ты же пржосишь людям пользу почти (выд.
мною - Я К.) бескорыстно, тебя же презирают».
Любопытно и неожиданно пересекаются реплики отца
Лизаветы Ивановны (в I действии) и Ненилы Сидоровны, зна¬
комой родителей Андрея Титыча (во II действии). Точка пере¬
сечения у них одна: любовь молодого купца и дочери учителя.
Иван Ксенофонтыч (вскочив). Что? Да как же он смел, ска¬
жите, вы мне! Кто ему позволил? Это житья нет! Лиза моя... ведь
это сокровище, это совершенство. А он, безграмотный, смел влю¬
биться! Мужик! Невежа!
Ненша Сидоровна. Скажите! Где же глаза-то у него были. Так,
творение какое-то... ни живности, ничего.
Лизавета Ивановна - творение своего отца, потому она для
него и сокровище, и совершенство. Истинный просветитель:
он видит то, что хочет видеть. Конфликт возникает не потому,
53
что «Ученье - свет, а не ученье - тьма», а потому что «прф чужой»:
герои находятся в разных, непересекающихся пространствах.
Фантастически нереальной кажется концовка произведе¬
ния, двойной финал: поездка к невесте. В конце восьмого явле¬
ния II действия Тит Титыч, разгоряченный разговором с Ива¬
ном Ксенофонтовичем, приказывает сыну собираться к невес¬
те. При этом имя невесты не называется, но всем ясно: это та,
на которой Андрея хотят «женить насильственно» («тысяч три¬
ста серебра денег, рожа как тарелка, на огород поставить, ворон
пугать...»). Все девятое явление Тит Титыч долго сидит в оди¬
ночестве и вдруг прозревает: «Деньги и все это - тлен, металл
звенящий! Помрем - все останется...» и принимает решение:
отделить Андрея с полутораста тысячами серебра и женить на
Лизавете Ивановне, да еще и на приданное невесте дать. Сыну
наказывает; «Если он не даст за тебя, - ты лучще мне и на
глаза не показывайся...» Последние слова в пьесе произносит
Андрей Титыч, покоряясь воле отца: «Ах, маменька, пойдемте!
Уж знаю, что толку ничего не будет, одна мука».
Этот двойной финал пьесы рождает вопрос: «Почему два мира
не могут взаимодействовать?» Вопрос этот обращен к зрителю.
Таким образом, Иван Ксенофонтыч никак не соответству¬
ет статусу культурного героя: он, как и самодур Тит Титыч, не
может преодолеть психологии отдельной личности, что необ¬
ходимо для героя, который утверждает свою исключительность
в сверхличном плане. Нам представляется, А. Островский со¬
жалеет об этом. Впрочем, и просветитель Кулигрш тоже никак
не может исполнить свое предназначение. Драматург констати¬
рует: время Просвещения ушло безвозвратно, так как сама идея
перестала соответствовать новой реальности. На роль культур¬
ного героя претендуют трикстеры: Иван Ксенофонтыч шести¬
десяти лет - учитель (отставной!), Кулигин - механик-самоуч¬
ка, который на протяжении всей пьесы так ничего и не сделал
своими руками, как впрочем, и Феклуша - странница, которая
никуда не странствует...
54
Новый герой, чтобы стать таковым, должен совершить свой
переход в сверхличное пространство, т. е. преодолеть в себе
психофизиологический хаос, иными словами; инициироваться.
Комедия «Последняя жертва» была написана Островским
за три года, что необычно для позднего периода творчества дра¬
матурга. Работа эта изнуряла автора: «Нервы разбиты, пишу
пьесу, собираю последние силы, чтоб ее кончить. Трогательно¬
драматический сюжет пьесы, в который я погружаюсь всей ду¬
шой, еще более расстраивает меня» (из письма Ф. А. Бурдину
от 6 сентября 1877). От первоначального замысла пьесы, где
«старик, влюбленный в молодую вдову, старается под видом
покровительства и попечительства разл)Д1Ить ее с любимым ею
молодым человеком, в чем и успевает», осталась лишь схема,
наполненная новым, сочувственным, отношением к героям.
И вот уже старик Флор Федулыч проявляет неожиданное благо¬
родство и такт. В Юлии он видит личность, восхищается ею.
Юлия и Флор Федулыч окружены персонажами, олицет¬
воряющими хаос, хаос страстей: Дульчин, Лавр Мироныч, Ири¬
на - лишь знаки этих страстей (игры в карты, влечения к ком¬
форту и изысканному столу, эротомании...).
На этом фоне Юлия отличается разнообразием характери¬
зующих ее ситуаций. Она - вдова, помнящая покойного мужа,
влюбленная достойная женщина, готовая всем пожертвовать в
любви и сама отвечать за своп поступки.
Е. Мелетинский называет переходные ритуалы инициации:
символическое изъятие индивида из социальной структуры на
некоторое время, испытания, контакт с демоническими сила¬
ми, временная смерть (очищение), возвращение в социум в ином
статусе. Если соотнести эти ритуалы с образом Юлии, то обна¬
ружится полное совпадение: Юлия - вдова, которая после смерти
мужа живет почти затворницей, а до предполагаемой свадьбы с
Дульчиным не принимает у себя мужчин, изымая себя таким
образом на время из социальной структуры. Она постоянно под¬
вергается испытаниям, сомнениям в искренности намерений
55
Дульчина. Как знак демонических сил находит она в картонке им¬
мортель - цветок из гроба мужа, а потом на его месте обнаружива¬
ет приглашение на вечер-помолвку своего возлюбленного с Ири¬
ной. Затем - обморок (временная смерть) и визит к Дульчину.
Теперь - это другая женщина, исполненная достоинства и
рассудительности. Новая Юлия прозрела и может претендовать
на роль героя, если не преображающего хаос в космос, то рас¬
познающего их.
Архетипическая ситуация, ритуал активно внедряются в
авторский замысел. В пьесе «Не так живи, как хочется» под¬
черкнуто важное обстоятельство: «Действие происходит в
Москве, в конце XVIII столетия, на масленице». Таким обра¬
зом, обусловлено присутствие 2 мотивов: разгульной стихии
масленицы и строгости христианского прощеного воскресенья,
как обозначение хаоса и космоса.
Сын зажиточного купца Петр и его жена Даша изначально
нарушили запрет, обозначенный заглавием пьесы; поженились
по любви без родительского благословения. Однако родители
простили своих детей, конфликт же происходит в душе самого
Петра. Илья Иванович, отец Петра, живущий теперь в монас¬
тыре («пора и свою душу вспомнить»), враз}т^[ляет сына, обви¬
няющего в своем беспутстве жену: «Не говори, не греши! Что
тебя привораживать, коли ты и так ровно чумовой, своеволь-
щина-то и все так живет <...> Помни, Петр! Перед твоими нога¬
ми бездна разверстая. Кто впал в гульбу да в распутство, от того
благодать отступает, а враги человеческие возрадуются, поучая
на зло, гнев, на ненависть, на волхование и на всякие козни».
Только в финале пьесы Петр неожиданно прозревает, рас¬
каивается. А причина раскаяния - звуки колокола: «Я только
что поднял руку, гляжу - а на самом-то юру Москвы-реки стою
над прорубью <...> Жизнь-то моя прошлая, распутная-то, вся
вот как на ладонке передо мной!»
Н. Некрасов, перечисляя достоинства произведения, упрек¬
нул автора в преднамеренности. Н. Добролюбов иронично отме-
56
ТИЛ в финале «какой-то страшно-фантастический смысл», на¬
зывая веру «набожными привычками, с детства усвоенными».
Критик, увлеченный толкованием «общей идеи», не заме¬
тил, что его собственное понимание нравственности и значе¬
ния личности построены на искаженном представлении о вере
христианской как «внешних законах, установленных самодур¬
ством». Самодурам противопоставлена у Добролюбова натура,
свободная от «извне принятых уродств и наростов». Молодому
критику и нужды нет в том, что этими уродствами и нароста¬
ми называет он и религию и обычаи... Подобные просвети¬
тельские мысли были бы актуальны в веке XVIII, но сохранили
себя благодаря своеобразно истолкованному понятию «свобо¬
да». Это не «темное царство» Островского, а критики-демокра¬
ты из-за своих наростов не разглядели, как их «натура» в устах
Аграфены Платоновны созвучна самодурству: «это называется,
коли вот человек никого не слушает, ты ему хоть кол на голове
теши, а он все свое».
А. Островский, как нам представляется, видел в личности
не саморазвиваюшуюся особь по непонятно как узнанным нрав¬
ственным законам, а результат преодоления хаоса индивидуа¬
лизма. При этом отношения личности с социумом, или шире - с
культурным опытом народа, восходят к архетипу, где, по сло¬
вам Е. Мелетинского,«.. .первобытный коллектив насильствен¬
но подавляет, но не качественное своеобразие личности, кото¬
рая еще не успела развиться, а естественный эгоизм, биологи¬
ческие инстинкты, которые могут оказаться разрушительными
для народа»’^.
Архетипичность пьес А. Островского подчиняла себе сю¬
жет, характеры и поступки героев, делая их неожиданными.
Отдадим должное; И. Добролюбов первым почувствовал это
качество поэтики Островского: «По схоластическим требова¬
ниям, произведение искусства не должно допускать случайнос¬
ти; в нем все должно развиваться последовательно из одной
данной точки, с логической необходимостью и в то же время
57
естественностью! Но если естественность требует отсутствия
логической последовательности? По мнению схоластиков, не
нужно брать таких сюжетов, в которых случайность не может
быть подведена под требования логической необходимости.
По нашему же мнению, для художественного произведения го¬
дятся всякие сюжеты, как бы они ни были случайны. В таких
сюжетах нужно для естественности жертвовать даже отвле¬
ченною логичностью, в полной уверенности, что жизнь, как и
природа, имеет свою логику и что она, эта логика, может быть,
окажется гораздо лучше той, какую мы ей часто навязыва¬
ем... Вопрос этот, впрочем, слишком еще нов в теории искус¬
ства...»”.
Предчувствие И. Добролюбова, его догадка о другой логи¬
ке оказалась на редкость прозорливой: эта логика обнаружится
как логика парадоксов, пронизываюш,ая не только творчество,
но и жизнь, поступки, мировосприятие. Она была непривычна
современникам; так, например, А. Фет поражал их, а порой и
возмущал, своей непредсказуемостью. Его стихи безжалостно
правили редакторы, пародировали, но ими и восхищались, по¬
ражаясь необъяснимой свежестью чувств и смелостью образов.
По-настоящему близок стал поэт только своим молодым после¬
дователям.
1.4.3. Фетовский миф
в реминисценциях символистов
Вероятно, не будет преувеличением сказать, что почти все
русские символисты пережили «роман с Фетом». В любом сбор¬
нике, даже в самой популярной антологии Серебряного века,
можно найти стихи, созвучные фетовским. Разнообразен харак¬
тер этих реминисценщ1й.
Стихотворение В. Соловьева «В Альпах» - своеобразное
определение поэзии Фета;
58
Мыслей без речи и чувств без названья
Радостно-мощный прибой.
Зыбкую насыпь надежд и желания
Смыло волной голубой.
Синие горы кругом надвигаются,
Синее море вдали.
Крылья души над землей поднимаются,
Но не покинут земли.
В берег надежды и в берег желания
Плещет жемчужной волной
Мыслей без речи и чувств без названия
Радостно-мощный прибой.
И. Анненский, отвечая на вопрос о с}тцности поэзии, слов¬
но цитирует фетовскую поэтику: «Вообще поэзии приходится
говорить словами, то есть символами психических актов, а меж¬
ду теми и другими может быть установлено лишь весьма при¬
близительное и притом чисто условное отношение. <...> По-
моему, вся их сила, ценность и красота лежит вне их, она зак¬
лючается в поэтическом гипнозе. Причем гипноз этот, в отли¬
чие от медицинского, оставляет свободной мысль человека и
даже усиливает в ней ее творческий момент»^''.
Примером этого «психологического символизма» вполне
можно назвать знаменитое фетовское «Шепот, робкое дыханье...»,
ставшее его визитной карточкой в поэзии. Р1менно это стихотво¬
рение наиболее часто цитируется поэтами Серебряного века.
Соловья живые трели
В светлой полночи гремят,
В чувствах — будто акварели
Прежних, светлых лет скользят!
Ряд свидании, ряд прощании.
Ряд божественных ночей,
Чудных ласк, живых лобзаний...
Пой, о пой, мой соловей!..
59
Пой! Греми волнами трелей!
Может быть, назло уму,
Эти грезы акварелей
Я за правду вдруг приму!
В процитированном стихотворении К. Случевского «аква¬
рельный» - прозрачный, тонкий фетовский мир, привлекатель¬
ный и соблазнительный, сохраняется неприкосновенным.
А вот стихотворение В. Соловьева - вариация на тему фе-
товского;
В сне земном мы тени, тени...
Жизнь - игра теней,
Ряд далеких отражений
Вечно светлых дней.
Но сливаются уж тени,
Прежние черты
Прежних ярких сновидений
Не узнаешь ты.
Если согласиться с тем, что в поэтическом словаре этого
стихотворения «сон», «тени» — это легко узнаваемые шопенга¬
уэровские мотивы, а значит соотносимые с сущностным, то
футурологические предчувствия становятся очевидными;
Голос вещий не обманет.
Верь, проходит тень, -
Не скорби же: скоро встанет
Новый вечный день.
Двадцатитрехлетний поэт встает здесь на тот опасный путь,
по которому предстоит пройти русским символистам: преобра¬
жение мира кажется совсем рядом, а во имя этого можно отка¬
заться оттени «вечно светлых дней». Так фетовская волшебная
ночь заменяется «новым вечным днем».
Представление символистов о будущем переходит в иную,
создаваемую ими самими реальность. И здесь они становятся
заложниками гносеологической ошибки: делаясь теургами,
мифотворцами, они не могли дать себе отчет в том, что миф
60
никогда не может сознательно и целенаправленно твориться. Он
может существовать в сознании субъекта как данность (боже¬
ственная, природная или культурная). Возникновение мифа сти¬
хийно, погружение в миф бесцельно, то есть бескорыстно. Это
осознавал И. Анненский; комментируя мифологизм Оссиана, он
писал: «Естественная связь между фантастическим и реальным
нарушена. Фантазия освободилась. Художественная цель заме¬
нила стихийное творчество мифа»^^ В таком случае символ не¬
избежно становится лишь средством создания этой новой ре¬
альности, а значит, вряд ли может считаться полноправным пре¬
емником фетовских слов-символов. Дело в том, что Фет не стро¬
ил свой миф, а прочитывал смысл мира посредством поэтичес¬
кого творчества. Возможно, именно здесь и кроется одна из
причин труднопонимаемости его поэзии.
«Мысли без речи и чувства без названия» - формула, най¬
денная В. Соловьевым, могаа бы вполне соответствовать совре¬
менному пониманию мифа как способа постичь мир и вжиться в
него. При этом необходимо подчеркнуть, что постижение мира-
далеко не главное в мифологическом процессе. Куца важнее
другая цель - найти себе место в космосе. Человек, являвшийся
некогда органичной частью природы, однажды утратил эту связь.
Потребность вновь установить единство с космосом и порож¬
дает мифологию. Отсюда - первостепенная задача упорядоче¬
ния мира, создания ниши для активной деятельности человека,
выход из которой невозможен. Но ведь те же пределы устанав¬
ливает А. Фет, когда определяет, а точнее, ограничивает пред¬
мет поэзии. Фетовский космос иерархичен и многообъемлющ:
Фет-прозаик, публицист, осмысливающий мир, Фет-практик,
пытающийся обустроить реальную жизнь, Фет-поэт, исповеду¬
ющий Прекрасное, не вступают в противоречие.
Если фетовское познание мира, пусть относительно, но
тождественно мифологическому сознанию, то вполне логично
в его символических образах видеть мифологемы. Мифологе¬
ма же, являясь, по устоявшемуся определению, ядром мифа.
61
не допускает условной завершенности символа, не формулиру¬
ется сколько-нибудь однозначно.
Сказанное уточняет логику восприятия отношений Фет -
символисты: не от метафоры к символу-образу, предшествую¬
щему поэтике символистов, а от мифологемы к символу. Отча¬
сти именно этим можно объяснить тот факт, что фетовские ре¬
минисценции ведут себя достаточно сложно в поэзии символи¬
стов: попадая в новый контекст, они способны сохранять само¬
стоятельность.
3. Минц, характеризуя своеобразие творческого пути А. Бло¬
ка, так определила основу его мировосприятия: «Ряд основных,
исходных предпосылок блоковской «картины мира», сформи¬
ровавшихся в самом начале XX века, сохранили для него значе¬
ние на всю жизнь. <...> Это представления платоновского «дво-
емирия» о реальности “иных миров”, восприятие любых явле¬
ний действительности как символов, мысли об объективном (вне
“я” лежашем) поэтическом идеале как единственно ценном, об
интуитивном постижении “иных миров” как наиболее глубо¬
ком, соловьевский идеал искомого бытия как “синтеза Истины,
Добра и Красоты”, символистское представление о Прекрасном
(или “вечно-женственном”) как основе бьггия»^*.
Нельзя не увидеть в перечисленных характеристиках вли¬
яния творчества Фета. Тема двоемирия у Блока звучит по-фе-
товски, как оппозиция «день-ночь», где человек, «совсем не
чуждаясь дня в своей так называемой “положительной” деятель¬
ности, <...> ищет ночи для своих вдохновений, сумрака для сво¬
их надежд...»”. Сравним с фетовскими словами: «Живой, я с
утра до вечера сижу в борьбе пожирания одного другим, и вдруг,
открывая балкон, я поражен, что ночь не принимает, не допус¬
кает к себе этой борьбы...
Именно у Фета увидел Блок рождение Вечной Женствен¬
ности: «Идея Вечной Женственности уже так громадна и так
прочно философски установлена у Фета, что об ней нельзя го¬
ворить мало, - заметил, что приход Ее связан с весной, -
62
Знать, в последний встречаю весну
И тебя на земле уж не встречу...
Кто эта ты? Это - источник жизни поэта. Белая Церковь.
В ней все чисто от Астарты и Афродиты»^^. Внутреннее един¬
ство поэтических моделей мира Блока и Фета не могло не отра¬
зиться и в образных структурах их поэзии.
Однако, несмотря на всю очевидность сходства поэтичес¬
ких миров Фета и Блока, нельзя упрощать их взаимоотноше¬
ния. Красноречиво поведение лирических героев двух поэтов
по отношению к героине, олицетворяющей женское начало. Так,
лирический герой Фета почти всегда останавливается на поро¬
ге встречи с Ней, у Блока же читаем:
И когда среди мрака снопами
Искры станут кружиться в дыму, -
Я умчусь с огневыми кругами,
И настигну Тебя в терему.
Чаще всего у Фета встреча, а точнее, ощущение этой встре¬
чи, сопровождается внутренним светом, звуки рояля должны
раздаваться при погашенных свечах; у Блока же свеча, костер,
свет - обязательные атрибуты этой встречи.
О. Миллер заметила, как А. Блок отредактировал фетов-
ское стихотворение «Только станет смеркаться немножко..
Я зажгу перед зеркалом свечи,
Я камин для тебя растоплю,
Буду слушать веселые речи,
Без которых я жить не могу.
У Фета же иначе: не «зажгу», а «потушу»:
Потушу перед зеркалом свечи, -
От камина светло и тепло;
Стану слушать веселые речи,
Чтобы вновь на душе отлегло.
В блоковской редакции слова легко выстраиваются в се¬
мантический ряд: зажгу свечи - растоплю камин - речи весе¬
лые. Такая однозначность делает строки прозаическими, а «све¬
чи» и «камин» до банальности традиционными.
63
у Фета уже первая строка позволяет воспринимать ее нео¬
днозначно; во-первых, свечи потушены, так как «от камина свет¬
ло и тепло», причем важно, что не только свет, но и тепло идут
от камина, что вызывает более сложный комплекс, во-вторых:
свечи горят перед зеркалом, что сразу же вызывает ассоциатив¬
но другие фетовские строки: «Зеркало в зеркало, с трепетным
лепетом, / Я при свечах навела...» Поэт намеренно приглушает
активность героя (сам процесс гадания — попытка заглянуть в
будущее, «подсмотреть» его, нарушить некий предел). Если у
Блока герой растапливает камин, то у Фета камин уже горит, у
Блока «веселые» речи жизненно необходимы герою («без кото¬
рых я жить не могу»), у Фета они - способ исцеления («Чтобы
вновь на душе отлегло).
В III строфе проясняется значение этих «веселых речей»
для фетовского героя:
Стану слушать те детские грезы,
Для которых — все блеск впереди;
Каждый раз благодатные слезы
У меня закипают в груди.
В контексте этого стихотворения детские грезы - это вера
в будущее, светлые надежды, от сопереживания которым «Каж¬
дый раз благодатные слезы / У меня закипают в груди». Под¬
черкнем, что для фетовского героя значимо само это пережива¬
ние. Показательно и то, что в своей редакции Блок вообще от¬
бросил III строфу. Таким образом в редакции Блока (как, впро¬
чем, это уже было в тургеневских редакциях) проясняется, а
точнее - упрощается, смысл фетовского стихотворения, разру¬
шается хрупкая атмосфера невысказанного состояние очище¬
ния {благодатные слезы), исцеления (от слова цельность) души
героя. Подобные прояснения характерны для фетовских реми¬
нисценций в поэзии символистов.
Одним из самых распространенных образов поэзии Фета
является роза. Интересна его интерпретация в стихотворении-
поэме «Соловей и роза» из цикла «Подражание восточному».
64
Вряд ли можно всерьез утверждать, что этот мотив взят поэтом
из первоисточника. Поэзию персов Фет знал в переводах евро¬
пейских поэтов. Возможно также, что своеобразную подсказку
поэт мог увидеть в гегелевских словах о том, что персы часто
пользуются образами цветов и благородных камней, но особен¬
но - образами розы и соловья, при этом изображают соловья
женихом розы. Фет, сохраняя гегелевское понимание достоинств
персидского мотива, где роза - не символ, а действительно не¬
веста, возлюбленная (ее душа объективирована), вводит евро¬
пейский мотив страдания.
Этот мотив получает у Фета трагическую окраску; соло¬
вей и роза никогда не смогут быть счастливы, даже в цветущих
долинах Кашмира. Фет, сохраняя дух персидского мотива, по¬
мещает его в иной контекст, возводя затем его к возвышенной
символике. То, что у Гегеля противопоставлено: Восток и За¬
пад, метафоричность и символизм, у него слито в онтологичес¬
кое единство.
В «Соловье и розе» едва ли не впервые в творчестве Фета
отчетливо обозначено понимание любви: она открывает любя¬
щему сердцу тайну мирозданья. Именно это постижение абсо¬
лютного звучит в словах розы (редакция 1850 года):
Ни дна; только в бездне рождаясь.
Горят и сверкают ключи,
И, силою вечной вращаясь,
Дрожат золотые лучи.
Соловью и розе суждено быть допущенными к этой тайне
только благодаря их чистой, братской любви:
Ты роза долины, я ночи певец;
Мы вечные братья с тобою'*.
В более поздних стихах Фета развивается трагический
сюжет розы. Особое значение имеет образ осенней розы, кото¬
рая напоминает своей красотой и дыханьем лирическому герою
Весну; «Ты очертаньем и дыханьем Весною веешь на меня».
65
Роза царственно красива, но красота ее трагична; царицей
она выступает дерзко не перед любящим соловьем, а перед «пор¬
хающей синицей», не в райском весеннем саду, а в «давно без¬
лиственных кустах». Так роза становится ядром фетовского
мифа красоты, обретает качество мифологемы. Не является ли
этот миф творением Фета, только лишь его субъективным пред¬
ставлением, не противоречит ли требованию всеобщности, о
котором писал И. Анненский.
Любопытно в этой связи обратиться к поэме А. Блока «Со¬
ловьиный сад», поэтика которой сближается с фетовской. И
шепот, и соловьиное пенье, и роза, и ручьи, и листы этого сада
словно бы шагнули из лирики Фета. Но этот соловьиный сад,
пышные кусты роз бережно хранят свою неприкосновенность.
В поэме Блока герой пересекает грань, перед которой останав¬
ливался в благоговении герой Фета. Опоздавшее прозрение -
наказание за эту дерзость: герой потерял и сад, и покой в жиз¬
ни. Так появляется возможность еще одной интерпретации;
поэма «Соловьиный сад» - это не оппозиция «поэт-человек», в
которой герой Блока совершает свой выбор, а воплощение судь¬
бы символизма с его жизне- и мифотворчеством.
Приведенные наблюдения, на наш взгляд, позволяют гово¬
рить о плодотворности уточнения значений фетовских реминис¬
ценций в поэзии символистов, определения природы символа,
границ его возможностей в реализации художественного потен¬
циала авторского замысла.
Говоря о значении творчества А. Фета в культуре Серебря¬
ного века, необходимо подчеркнугь другую, не менее важную,
чем поэтические реминисценции, сторону. А. Лосев утверждал,
что философия В. Соловьева выросла из поэзии поэта. Появив¬
шаяся у Фета «Она» с заглавной буквы, приходящая в мир, чтобы
освятить его, предвосхищает соловьевскую Вечную Женствен¬
ность. (Напомним, что А. Фета и В. Соловьева многое связьшало:
66
отец философа и А. Фет были хорошо знакомы, а сам он нео¬
днократно бывал в фетовском имении. Именно В. Соловьеву по¬
ручил поэт подготовку итогового издания своих произведений.)
О влиянии А. Фета на младосимволистов можно говорить
бесконечно: не зря П. Флоренский называл А. Белого Андреем
Афанасьевичем. Однако собственно поэтическими эти влияния
не ограничиваются. А. Лосев заметил, что в творчестве русских
писателей XIX века «...часто разрабатываются основные фи¬
лософские проблемы, само собой в их специфически русской,
исключительно практической, ориентированной на жизнь фор¬
ме. И эти проблемы разрешаются здесь таким образом, что не¬
предубежденный и сведущий судья назовет эти решения не про¬
сто “литературными” или “художественными”, но философс¬
кими и гениальными»^'.
Соловьев-критик, размышляя о своеобразии лирической
поэзии, постоянно обращался к поэзии Фета. Так мысль об осо¬
бом чувстве поэта, способном постигать суть явлений, - одна
из любимых у А. Фета - положена в основу главного признака
лирической поэзии В. Соловьевым: «Лирика останавливается
на более простых единичных и вместе с тем более глубоких
моментах созвучия художественной души с истинным смыслом
мировых и жизненных явлений; в настоящей лирике, более чем
где-либо кроме музыки, душа художника сливается с данным
предметом или явлением в одно нераздельное состояние»^. Эти
моменты созвучия были особенно близки и понятны и В. Роза¬
нову, часто цитировавшему стихи поэта.
А. Фет едва ли не первым в русской литературе обладал
способностью к мифологическому мышлению: его образы-ми-
фологемы наращивают свою энергию на протяжении всего твор¬
чества, становясь символами (об этом говорил еще Б. Бухштаб
в своих исследованиях), его произведения устойчиво тяготеют
друг к другу, объединяя стихи в циклы, циклы в книгу, которая,
в свою очередь, непосредственно взаимодействует с поэмами и
прозаическими произведениями, образуя метасюжет, вполне
67
соотносимый с мифом, в этом сюжете и рождается гармонич¬
ный Космос поэта, а дисгармония повседневной жизни рожда¬
ет страдания и стремления к духовной ипостаси мира. В этой
ситуации особую значимость приобретает фрагмент как состав¬
ляющая единого текста творчества. Таким фрагментом может
быть названо стихотворение, входящее в цикл, или формально
выраженный мотив в поэме или прозаическом произведении
(характеристики образа, событие). Именно фрагмент станет
актуален в художественной практике с конца XIX века, вклю¬
чая и тексты Ф. Шцше, и богатейший опыт русской литерату¬
ры, безусловно, вобравший и произведения В. Розанова.
ГЛАВА II
МИФ И МЫСЛЬ
(ОТ ОРГАНОЛЕПТИКИ ДО ИДЕИ)
2.1. «Укорененность» двух костромичей
Павел Флоренский в письме В. Розанову от 26 октября
1915 года писал: «Наше сходство: это острая, до боли, любовь к
конкретному, к сочному и, скажу определенно, к корню ~ к кор¬
ню личности, истории, бытия, знания. Думается, что эта лю¬
бовь - костромская, ибо нет во всей России, а может быть и на
земном шаре, никого более коренного по вкусам, по укладу, по
организации души, чем костромичи»'. В словах этих сформу¬
лированы основные характеристики мировосприятия, которые,
вероятно, действительно сближали этих мыслителей. Дело даже
не в костромских корнях, а в том, что открывает мир в непос¬
редственном переживании его различньгх форм.
Их многое объединяло: и Кострома, и живой интерес к древ¬
ним культурам, и раздумья о судьбе культурного наследия - ряд
этот, очевидно, можно продолжать довольно долго, но, думает¬
ся, что, принадлежа к разным поколениям, они разными путя¬
ми пришли к одной модели восприятия действительности, оп¬
ределяющей место человека в мире.
В книге «Детям моим. Воспоминанья прошлых лет» П. Фло¬
ренский описывает эту модель сознания, и, прежде всего, простран¬
ственно-временную модель. Основой этой модели, ее опреде¬
ляющим началом стало, по мнению П. Флоренского, стремле¬
ние вернуть историческую память своего рода, которой лиши¬
ли его родители. «Быть без чувства живой связи с дедами и пра¬
дедами - это значит не иметь себе точек опоры в истории, -
69
пишет автор, - А мне хотелось бы быть в состоянии точно опре¬
делить себе, что именно делал я и где именно находился я (вьще-
лено мною - К К.) в каждый из исторических моментов нашей
родины и всего мира, - я, конечно, в лице своих предков» (Ф., 26).
Если представить линейное время, а в центре найти точку отсче¬
та - настоящее, то для версии родителей время представляет
собой луч, устремленный в будущее, но лишенный таким обра¬
зом прошлого. П. Флоренский пьггается исправить ошибку и про¬
длить свое настоящее в историческую перспективу прошлого.
Это прошлое, в свою очередь, - органическая часть Вечности,
которую еще в детстве П. Флоренский ошутил непосредственно:
«Но я помню свои детские впечатления и не ошибаюсь в них: на
берегу моря я чувствовал себя лицом к лицу пред родимой, оди¬
нокой, таинственной и бесконечной Вечностью - из которой все
течет и в которую все возвращается» (Ф., 50).
Его «Я» готово разрастись беспредельно: не только до гра¬
ниц родины, но и всего мира. А это, в свою очередь, не может
не напомнить нам планетарность мышления, о которой гово¬
рил В. Розанов. Хронос П. Флоренского таким образом стано¬
вится соразмерным топосу, протянувшемуся от Кавказа до Кос¬
тромы. Он живет одновременно в двух хронотопах, подобно
тому, как бьш устроен родительский дом: «Две квартиры разде¬
лены между собой пространством, их-две; но духовно они одно,
одна квартира - наша квартира, в двух являющаяся» (Ф., 33).
Эту разделенность, настаивает П. Флоренский, он осознал
как антиномичное единство еще в детстве: «Я хорошо помню,
что это не позже придумалось, а именно тогда бьшо, именно
тогда родилось во мне понимание того, что пространственная
разделенность может лишь только казаться и что, вопреки ка-
занию внешнего опыта, может быть внутреннее единство - не
объединенность, а именно единство» (Ф., 33).
Позже ему явится наглядное выражение этого множе¬
ственного единства в неэвклидовой геометрии, геометрии Ло¬
бачевского, утверждающей, что параллельные прямые могут
70
пересекаться. Только точка пересечения не всегда очевидна. Для
самого П. Флоренского такую точку можно определить в стрем¬
лении к Абсолюту.
«Прошлое - не прошло» - вот формула времени, которую
исповедовал П. Флоренский; «То, что в истории действительно
занимало меня - Египет, Греция, стояло отделенное от меня не
временем, а лишь какою-то стеною, но сквозь эту стену я всем
существом чувствовал, что оно и сейчас здесь» (Ф., 46).
Своеобразным комментарием к приведенным словам явля¬
ется фрагмент из «Апокалипсиса нашего времени» В. Розанова:
Моему другу Павлу Фл
- Мои страны теплые...
- Мои страны древние...
- Я немножко из Фригии...
- И немножко из Лидии...
- Там царил Крез и было золото...
- И поклонялись Атису...
- И я немножко помню и Атиса...
И немножко Цибелу, мать сущего...
- Ибо я из Армении. От Руси и от Армении...
- И мои крови мешанные...
- И люблю я новую родину,
- Мою прекрасную Кострому...
- И мою дождливую Армению...
- Т. е. дождливую Кострому и горячую Армению.
" Мои крови горячие
- И немножко холодные.
- Ах, я не знаю сам... я люблю и люблю...
- И вижу сны, и брежу...
- Я ничего не отрицаю. Но что вам за дело до моих древ¬
них снов...
- Которых ведь и не знает никто...
- И только сердце мое поет о них...
- Поет и плачет...
- А так я кажусь обыкновенным человеком и просто попом.
71
Мир понимал П. Флоренский отнюдь не как абстрактность;
в своей телесности он должен был восприниматься всеми орга¬
нами чувств. Зрение, слух, обоняние наделены особой чувстви¬
тельностью: за цветом, звуком, запахом они способны различать
сущность. «Очень ярким было восприятие иретов, с тонким раз¬
личением щетовых оттенков. Но вместе с тем мне помнится, что
моим любимым изящным по преимуществу был цвет голубой,
тогда как в зеленом, когда он утеплялся желтизною, я ошущал
полноту всего особенного. Этот желто-зеленый цвет бьш д ля меня
чем-то вроде инфракрасного, и за пределы его мой спектр в каче¬
стве красоты и мистики уже не простирался» (Ф., 73), -так пред¬
ставил П. Флоренский свою символику цвета.
Другим способом постичь суть вещей был для него запах;
«С детства запахи были для меня выражением глубочайшей
сущности вещей, и я всегда ощущал, что чрез запах я сливаюсь
с самой вещью» (Ф., 76). Это были запахи цветов, эфирных ма¬
сел, благовонных смол, которые воспринимались как прорывы
в иной мир. Стремлением сохранить запахи объясняются и дет¬
ские опыты П. Флоренского в парфюмерии. Но и тут прояви¬
лось неукротимое стремление к подлинности, недоверие и без¬
различие к «механической составленности» «готовых» духов;
«Но меня в области запахов, как и во всех других областях, дей¬
ствительно волновало всегда и потрясало корни моего суще¬
ства лишь прикосновение к сырым материалам, к исходным
веществам, к первоисточникам» (Ф., 76). Запахи моря, прянос¬
тей дополняют ряд запахов, наделенных особым значением.
Впрочем, поэзия запахов была уже известна русской ли¬
тературе. Предшественник символистов, А. Фет, давно уже за¬
вораживал и удивлял своих читателей необычными образами
пахнущей весны: в цикле «Весна» из стихотворения в стихот¬
ворение обостряется обоняние;
Уж верба вся пушистая
Раскинулась кругом;
Опять весна душистая
Повеяла крылом.
72
Так начинается этот цикл, а уже в следующем стихотворе¬
нии - новая интерпретация: «А я иду - душистый холод веет /В
лицо - иду - и соловьи поют». Затем прилагательное «душис¬
тый» приобретает все более конкретное значение: душистая нега
(«Еще весны душистой нега...»), душистая сирень («Пчелы»),
душистый ландыш («Весенние мысли»), душистая чистота лан¬
дыша («Первый ландыш»). В стихотворении «Еще майская
ночь» сам запах (аромат) никак не назван, он лишь обозначен:
«Из царства льдов, из царства вьюг и снега / Как свеж и чист
твой вылетает май. /... Ив воздухе за песнью соловьиной/Раз¬
носится тревога и любовь. И, наконец, запах весны - примета
приближающегося весеннего возрождения: «Глубь небес опять
ясна, / Пахнет в воздухе весна, / Каждый час и каждый миг /
Приближается жених...» Запах весны - это и вздохи неба из
растворенных врат эдема. Фетовская символика запахов, как и
у П. Флоренского, обозначает встречи с другим миром, а поэто¬
му наделена повышенной семантической напряженностью.
В 1881 году А. Фет опубликовал свой рассказ «Кактус»,
который, по словам комментатора А, Тархова, концентрирует в
себе важнейшие философско-эстетические убенодения поэта.
Все события в рассказе происходят во время цветения кактуса.
То, что в «герои» рассказа был избран кактус, А. Тархов объяс¬
няет, ссылаясь на фетовские строки:
Знать, цветы, которых нет заветней
Знать, и кактус побелел столетнш!,
Распустились в неге своевольной
И банан, и лотос богомольный.
Чтобы ускорить момент цветения, один из героев рассказа
задвинул занавеску окна, и под звуки рояля, наполнившие ком¬
нату цыганскими мелодиями, началось таинство, которого так
долго ждали: «Внимание всех было обращено на кактус. Его
золотистые лепестки, вздрагивая то там, то сям, начинали при¬
нимать вид лучей, в центре которых белая туника все шире раз¬
двигала свои складки. В комнате послышался запах ванили.
73
Кактус завладевал нашим вниманием, словно вынуждая нас
участвовать в своем безмолвном торжестве; а цыганские песни
капризными вздохами врывались в нашу тишину.
Боже! думалось мне, какая томительная жажда беззаветной
преданности, беспредельной ласки слышится в тоскуюш(их на¬
певах. Тоска вообще чувство мучительное; почему же именно
эта тоска дышит таким счастием? Эти звуки не приносят ни пред¬
ставлений, ни понятий; на их трепетных крыльях несутся живые
идеи (выделено мной - К К.). И что, по правде дают нам наши
представления и понятия? Одну враждебную погоню за неуло¬
вимою истиной. Разве самое твердое астрономическое понятие о
неизменности лунного диаметра может заставить меня не видать,
что луна разрослась на востоке? Разве философия, убеждая меня,
что мир только зло или только добро, или ни то, ни другое, влас¬
тна заставить меня не содрогаться от прикосновения безвредно¬
го, но гадкого насекомого или пресмыкающегося, или не слы¬
хать этих зовущих звуков и этого нежного аромата?»^
«Это храм любви!» - восклицает герой рассказа, любуясь рас-
крьшшимся цветком, а автор толкует этот момент как символичес¬
кий, обращенный к сокровенным глубинам сознания: музыка, веч¬
ная красота и аромат, соединившись на миг, позволили пережить
момент прикосновения к сущему. Священный храм любви, цветок
кактуса, исполнив свою миссию, заплатил за этот миг сполна:
«Когда стали расходиться, кактус и при лампе все еще сиял во
всей красе, распространяя сладостный аромат ванили.
Иванов еще раз подсел к нему полюбоваться, надышаться и
вдруг, обращаясь ко мне, сказал:
- Знаете, не срезать ли его теперь в этом виде и не поставить
ли в воду? Может быть, тогда он поживет до утра?
- Не поможет, - сказал я.
- Ведь все равно ему умирать. Так ли, сяк ли.
- Действительно.
Цветок был срезан и поставлен в стакан с водой. Мы распро¬
щались. Когда утром мы собрались к кофею, на краю стакана
лежал бездушный труп вчерашнего красавца кактуса»^
74
и словно предваряя розановские смелые откровения, порой
шокирующие читателя, А. Фет рассуждает в статье «О поцелуе»:
«Слизистая оболочка, выбегая из нашей внутренности и являясь
на языке единственной хранительницей чувства вкуса, сводит
одновременно в устах и драгоценные звуки голоса, и сладостное
дыхание любимого существа (вьщелено мною - Я
Поцелуй, по А. Фету, - ступень к взаимному слиянию и про¬
никновению, которые, в свою очередь, способны восстановить
целостность андрогина: «Разделенное на две половины существо,
свободно парившее в трансцендентальном мире, попавши в мир
явлений, вынуждено искать своего воссоединения, и силы духа,
там свободные, делаются здесь рабами»^ Так органолептика ста¬
новится философией, феномены обретают ноуменальный смысл.
Звуки голоса, музыки в эстетике символистов достиши свое¬
го предельного воздействия. У П. Флоренского восприятие звуков
музыки неожиданно физиологично: «Так памятно это ощущение
спирально вьющегося по спинному мозгу холодного вихря, начи¬
нающегося с первыми тактами музыки и все ширящегося, так что
он пронизывал все тело, и ноги, и туловище с руками, и голову, а
потом начинает стремительно дуть, бороздя все пространство ком¬
наты, провеивая сквозь меня, словно мое тело кисея, и холодит
эфирным восторгом, вознося на себя к самозабвенному экстазу. Я
музыку любил неистово, но ошущал почти до вражды...» (Ф., 78).
Столь подробное цитирование потребовалось нам, чтобы бо¬
лее полновесно был воспринят вьшод, который сделал автор вос¬
поминаний: «Детское восприятие преодолевает раздробленность
мира изнутри. Тут утверждается существенное единство мира, не
мотивируемое тем или другим общим признаком, а непосредствен¬
но ощущаемое, когда сливаешься душою с воспринимаемыми
явлениями. Это есть мировосприятие мистическое» (Ф., 87).
Яркое многообразие мира мешает научному восприятию
увидеть его целостность, а поэтому наука искусственно унифи¬
цирует явления, ослабляя их внешние различия, таким образом,
утверждает П. Флоренский, устанавливается общность там, где
75
ее не было, - стираются своеобразия и утрачивается подлин¬
ность. Возвратить миру его неповторимость и конкретность -
цель нового взгляда на мир.
Отметим еще одну черту «детского» мировосприятия по Фло¬
ренскому: вещи преобладают над пространством; в противном слу¬
чае, пространство требует своей организации, аналитического вме¬
шательства в реальность, подобным образом воспринимал мир
первобытный человек. Так отличаются изображения животных в
Альтамирской пещере (верхний палеолит): поразительной реали¬
стичности изображения отдельных фигур соответствует полное
отсутствие композиции, ощущения пространства, и, наоборот, с
появлением сюжета в наскальных росшсях Африки и Испании
(неолит) изображения отдельных фигур охотников и животных
схематизируются, облегчая тем самым аналитическое восприятие.
Так можно понять и неприязнь П. Флоренского к прямой
перспективе в живописных произведениях Итальянского Возрож¬
дения, иллюзорно навязывающей зрителю точку зрения, произ¬
вольно выбранную >одожником. Но только внутреннее единство,
его ощущение являются актуальными для сознания рубежа XIX-
XX веков, поиски этого единства как подлинного выражаются в
понимании символа, изначально содержащего два плана бытия.
Следует, однако, заметить, что в качестве символа может высту¬
пать не только образ, вербальный или визуальный, но и запах, и
цвет, и звук. Символичным может стать и психическое состояние
(существует даже специальный термин - психологический сим¬
волизм, определяющий поэзию И. Анненского).
Подобное толкование символа - характерная черта культу¬
ры рубежа XIX-XX веков, но именно ее-то и не смог понять
М. Нордау, когда описывал симптоматику вьфождения. Привер¬
женец позитивизма, он все многообразие ?циожественной куль¬
туры конца XIX века рассматривал как психическую аномалию.
Одним из главных признаков вырождения назьгеал М. Нордау
мистицизм: «Это слово означает такое состояние души, когда чело¬
век юображает, что он может уловить или угадать неизвестные
76
и непонятные отношения между различными явлениями, открывать
в предметах указания на тайны и видит в них символы, посредством
которых таинственная сила старается раскрьпъ или отметить мно¬
гое чудесное, что мы, по большей части, тщегао силимся разгадать»®.
М. Нордау признает только ясность и доказательность науки,
образ в таком случае является всего лишь своеобразной иллюстра¬
цией. Символ же основан изначально на признании существова¬
ния непознаваемого. Именно в единстве познанного и принципи¬
ально не познаваемого черпает символ свою жизненную энергию.
«Предполагать непознаваемое - значит допустить, что существует
нечто, чего мы знать не можем. Но, во-первых, чтобы серьезно
утверждать, будто бы это нечто существует, мы должны иметь ка¬
кое-нибудь, хотя бы самое слабое и неясное, понятие о нем; вместе
с тем было бы доказано, что оно познаваемо, что мы фактически
его знаем, и в таком случае мы не имели бы никакого права уже
наперед заявлять, что теперешние наши, хотя бы и совершенно
недостаточные, знания не могуг бьпъ дополнены и расширены.
Во-вторых, если допустить, что мы не имеем никакого понятия
“непознаваемого” Спенсера, то оно ведь не может существовать
для нас, оно не может быть доступно нашей мысли, и слово это
является тумашаш продуктом мечтательной фантазии»’'. Автор не
допускает того, что восприятие - отнюдь не монополия мысли.
М. Нордау, ни на миг не сомневаясь в собственной правоте,
ставит символизму жестокий диагноз: «Когда люди подобного
рода чувствуют в себе стремление к поэтическому художествен¬
ному творчеству, они, понятно, хотят дать ему выражение. Точ¬
ные слова, ясные представления им недоступны, потому что их
мысль не знает резко очерченных, недвусмысленных представ¬
лений. Они, следовательно, избирают расплывчатые, неясные
слова, лучше всего соответствующие их расплывчатым, неяс¬
ным представлениям. Чем темнее смысл данного слова, тем
лучше оно служит целям слабоумного; душевнобольной, как
известно, даже придумывает совершенно бессмысленные сло¬
ва, чтобы выразить свои хаотические представления»®.
77
Обращаясь к творчеству Ш. Бодлера, М. Нордау говорит о
его пристрастии к запахам: «Он обращает на них внимание, объяс¬
няет их, они вызывают в нем всевозможные ощущения, порож¬
дают ассоциащш идей. “Ароматы, цветы и звуки соответствуют
друг другу... Есть ароматы столь же свежие, как детское тело,
нежные, как гобои, зеленые, как луга, другие - непознанные, бо¬
гатые, торжествующие - всюду распространяются, как амбра,
мускус и фимиам, и воспевают восторг духа и чувств’V.
В романах Гюисманса М. Нордау отождествляет автора с од¬
ним из его героев -Дезесентом, не замечая при этом, что странное
жилище героя, его механические рыбки в аквариуме с подкрашен¬
ной водой, скляночки, храняпще различные запахи, бочонки с раз¬
личными водками - это лишь проекщм распространенного в пд-
вилизованном обществе заблуждения, что только искусственное
может бьггь отличительным признаком человеческого духа.
Невнимательный, или тенденциозный, автор «Вырождения»
не видит разницы между искусственным и природным: его оди¬
наково смущают запахи из скляночек, имитирующие природные,
и естественные. «Он любит женщину обонянием, - возмущает¬
ся М. Нордау, - ...и никогда не упускает случая при описании
возлюбленной упомянуть об ее испарениях»'“. Но так к символи¬
стам следовало бы причислить и В. Шекспира, провозгласивше¬
го в 130 сонете; «А тело пахнет так, как пахнет тело»!
Пристрастие символистов к органолептике, в том числе и к
запахам есть устремление к подлинности. Вспомним, как П. Фло¬
ренский категорически не принимал механическую составлен-
ностъ готовьгх духов; «Это - не внушенная себе мысль, не рес-
кинианство и не толстовство, как склонны толковать узнающие
меня взрослым, а собственная моя коренная воля, которая быва¬
ет иногда вынуждена уступать, но никогда не сдается» (Ф., 77).
Отметим одно важное совпадение: слова <фес1синнанство» и «тол¬
стовство» словно сошли со страниц «Вырождения», автор которо¬
го заключает в них симптомы описываемого состояния. Если эта
параллель возможна, то тогда Рескин и Толстой упоминаются
78
п. Флоренским не только как писатели, выразившие протест про¬
тив буржуазной цивилизации й призыв к возрождению средне¬
вековых ремесел (Рескин) или к простоте патриархального быта
крестьян (Толстой), но и как скрытая полемика с М. Нордау.
В. Розанов смело ставит самый масштабный вопрос, кото¬
рый, очевидно, вызвал бы бурную реакцию у нашего врача, ди¬
агностирующего Европу. «Вот еще о чем никто не спросил себя:
что физиологические вкус и обоняние, т. е. космическая паху¬
честь и вкушение яств, - не суть ли основание и причина бес¬
смертия плотей?»” - именно так звучит этот сокровенный воп¬
рос. Впрочем, вопрос риторический, ответ содержится в нем
самом. Вкус и обоняние у В. Розанова есть категории косми¬
ческого, в его иерархии - высшего порядка.
Обоняние - путь к бессмертию души. «И вот он обоняет, -
говорит мыслитель о человеке. - Как звездами любуется. Что же
это такое. “Я любзтось звездой и так наслаждаюсь запахом цвет¬
ка”. Несомненно, это-то уже ясно. Ибо ведь “видеть красоту” это
уже какое-то бессмертие души. “Я вижу красоту неба” - не есть
ли это уже ниточка религии? И вот: “я чувствую запах цветка”;
не есть ли уже это ниточка бессмертия?» (Р., 233). Дыхание, воз¬
дух, душа - слова эти восходят к онтологизму, ибо сам Господь
“вдунул в лице человека душу бессмертную «А не “дал”, не
“устроил”, не “сделал, как горшечник горшок”, душу ния к жи¬
вотным», - заявляет В. Розанов, подтверждая, что и запах может
бьггь символом (Р., 243). Страницей позже обоняние будет назва¬
но уже категорией жизни, что значительно повысит его статус.
Обоняние есть признак жизни, настоящей или прошлой
(«Могила воняет»). Но это особая, озирианская пахучесть, за¬
пах умирающих цветов, цветов на могиле, только сама могила —
жилище Озириса, умирающего - воскресающего.
Эту символш^ нагрести знали и ветхозаветные евреи. «Если
бы возможно было произведения человеческого гения или вообра¬
жения распределить по категориям пяти чувств, сообразно тому,
которое из них бьшо господствуюпщм, творящим в данной поэме
79
или рассказе, то “Песню песней” без всякого колебания все отнес¬
ли бы к редкой, исключительной, немногочисленной группе про¬
изведений обонятельных ли, ароматичных ли, - как угодно», - ут¬
верждает В. Розанов (Р., 451). Рисунок ее неясен, краски почти от¬
сутствуют (это не зрительная и не красочная поэма), музыка - ско¬
рее, музыкальность - образуется движением «чего-то сладко-аро-
матистого». «Это самая ароматичная и тайная поэма во всемирной
литературе», - заявляет автор (Р., 451). Сопоставляя переводы древ¬
нейшего памятника, В. Розанов называет дремотные ласки Соло¬
мона и Суламифи мистерией жертвоприношения в храме, сладос¬
тного и бескровного. Вся поэма, по его мнению, говорит о па?^е-
сти тела, о его испарениях, а слова, обращенные к Суламифи, пе¬
реводятся в итоге так: «Как палуче твое тело... От ароматичности
его - самое имя твое; и когда его усльш1шш> - точно вдохнешь
запах мира, переливаемого из сосуца в сосуд» (Р., 453).
Аромат, запах способен переливаться из предмета в предмет,
из существа в существо, что делает обоняние ближе, теснее, ин¬
тимнее в общении, чем, например, зрение. И в древнееврейском
храме, и в христианском воздух пропитан особыми запахами, не-
сухщши мистериальную тайну храмового действа. Запах, таким
образом, трактуется как универсальный символ, не нуждающийся
в переводе, охватьшающий собой все живое. Именно этот символ
помог П. Флоренскому, подобно В. Розанову, почувствовать род¬
ным и близким все тот же ветхозаветный сюжет о прекрасной Су¬
ламифи и ее возлюбленном: по его собственному свидетельству
еще в детстве ему довелось узнать, как благоухает распускающая¬
ся виноградная лоза. Запах этот пролился вновь, когда в /1^овной
академии будущий священник перечитьшал Песню Песней.
Способность символа хранить цельное восприятие мира
понята наиболее глубоко психологами. Последователь К. Юнга,
Э. Нойманн в 1954 году опубликовал работу под названием «Твор¬
ческий человек и трансформащм», в которой показал последствия
понимания сознания как осознания собственного знания, подчер¬
кивая, что научное знание расчленяет мир на сегменты, которые.
80
в свою очередь, подменяют собой целое;«.. .мы платим очень боль¬
шую цену за предельную конкретность нашего осознанного зна¬
ния, которое основано на разделении психических систем и кото¬
рое рассекает единый мир на полярные противоположности - соб¬
ственный мир и душу. <.. .> Ощущение единой реальности, кото¬
рое как филогенетически, так и онтогенетически предшествует
ощущению реальности разделенным сознанием, является в выс¬
шей степени “символическим”»*^.
Если перюначально считалось, что символ есть проекция внут¬
реннего наружу, то теперь, как считает автор, следует рассматривать
символические ощущения как первичное существование: «.. .еди¬
ная реальность воспринимается адекватно и в целом душой, в кото¬
рой перегородки между системами либо еще не возведены, либо
уже снесены»’^ Э. Нойманн поясняет свою мысль: «Например, рань¬
ше считалось, что символическое восприятие дерева включает в себя
внешнюю проекцию чего-то внутреннего; человек проецирует пси¬
хический образ на дерево - внешний объект <.. .>.
На самом деле, как для нас, так и для примитивного чело¬
века не существует дерева - внешнего объекта и дерева - внут¬
реннего образа, которые могут считаться фотографиями друг
дрзта. Цельная личность ориентирована на единую реальность,
и ее изначальное ощущение той, по сути своей неведомой, час¬
ти реальности, которую мы называем деревом, является симво¬
лическим. Иными словами, острое охцущение символа с его
смысловым содержанием есть нечто первичное и синтетичес¬
кое; это унитарный образ одной части унитарного мира»*”*.
Все попытки науки переместить нас в безобразный мир,
который воспринимается только посредством рационального
мышления, несостоятельны: «Но наша душа все равно упрямо
продолжает воспринимать образы, а мы продолжаем ощущать
символы, даже если теперь они являются научными и матема¬
тическими. Однако величайшие из наших ученых и математи¬
ков воспринимают эти символические абстракции сознания, как
нечто сверхъестественное; эмоциональный фактор в субъекте,
81
ранее принципиально изгнанный из научного исследования,
снова возникает “так сказать, в объекте”»'^.
Находим мы в работе Э. Нойманна и подтверждение роза-
новских утверждений об особенности природы творческого
человека, отличающейся интенсивным психическим напряже¬
нием, изначально присутствующим в нем. Это особенное пси¬
хическое напряжение проявляется уже в детстве, но, как отме¬
чает ученый, оно не тождественно рефлектирующему сознанию
преждевременно развившегося интеллекта: «В этом состоянии
обостренного восприятия ребенок открыт миру и переполняю¬
щей все унитарной реальности, которая захлестьшает его со всех
сторон. Представляющий собой одновременно и надежное ук¬
рытие, и открытое пространство, этот сон наяву, в котором нет
таких понятий, как внешнее и внутреннее, является бесценным
даром творческого человека. Это период, в котором за любой
болью и любой радостью стоит целостный и неразделенный мир,
бесконечный и непостижимый для эго. В этом детском ощуще¬
нии содержимое каждой личности связано с надличностным
архетипическим содержимым и, с другой стороны, надличнос¬
тное и архетипическое всегда располагаются в личности»'^.
Именно в этом «детском» укорененном сознании н нахо¬
дится точка соприкосновения двух мыслителей, В. Розанова и
П. Флоренского. Великие иероглифические образы архетипи:
ческого бытия, как их назвал Э. Нойманн, заставляют вновь и
вновь обращаться к себе: «Впервые мы увидели их отражение в
колодце детства, и там они и останутся до тех пор, пока мы не
вспомним о них, не заглянем снова в колодец и не отыщем их
снова, вовеки неизменных»’^.
Отличительной чертой творческой личности, таким образом,
является острое переживание, в силу врожденной повышенной
восприимчивости, собственных комплексов, связь их с архети-
пическими соответствиями делает страдание не только частным
и личным, но и «...бессознательным экзистенциальным страда¬
нием от фундаментальных человеческих проблем, которые груп¬
82
пируются в каждом архетипе»**. И В. Розанов, и П. Флоренский
еще в детстве, в период образования своей «корневой системы»
испытали потрясения от обрушившихся экзистенциальных стра¬
даний, без которых, впрочем, им не открьшось бы величие мира,
созданного Великим Творцом. Величие, которое не постигается
рассудком, а лишь обозначается символами бытия.
Обращенность к Богу отличает искания русской культуры
рубежа XIX-XX веков, которые процессу вырожденш проти¬
вопоставили непреодолимое стремление к возрождению чело¬
века в новом качестве. Поиски бессмертия неизменно приводи¬
ли к освящению природы человека, космизации разрастающе¬
гося хаоса, к жажде подлинности. Подобно тому, как русское
средневековье ответило на вседозволенную раскрепощенность
телесности итальянского Возрождения рублевской «Троицей»,
приглашающей молящегося замкнуть на себе композиционный
круг. Серебряный век предложил человеку стать истинным Ца¬
рем мира, выполняя волю Господа. Только символ позволял «со¬
брать» мир, непомерно разрастающийся мир цивилизации, и
преобразовав его таким образом, ввести в вечный космос.
2.2. «Все стали немножко “метерлинками”...»
(о генетической связи идеи и мифологемы)
В словаре современных гуманитарных исследований слово
«миф» едва ли не самое часто употребляемое; накопилась некото¬
рая терминологическая усталость, что свидетельствует, вероятно,
о завершении очередного цикла в его осмыслении. Однако это об¬
стоятельство нисколько не свидетельствует о том, что само поня¬
тие утратило актуальность, а его содержание исчерпано. Многоас¬
пектное изучение мифа позволит выявить его глубокие потенци¬
альные возможности в познании отношений «человек - мир».
Очевидно, подобная ситуация - неотъемлемый этап в судь¬
бе научной идеи. Так, П. Флоренский заметил, что идея непре¬
рывности, возникшая в математике, стала отличительной чертой
83
духовных движений XIX века, овладела затем всеми дисципли¬
нами, что, в свою очередь, привело к вульгаризации самой идеи.
Если абстрагироваться от оценочных характеристик, а слово вуль¬
гаризация, безусловно, с существенными оговорками, заменить
ррутм-мифологизация, то мы увидим функцию мифа вводить
абстрактную идею в пространство культуры. Именно в этой си¬
туации оказывается как никогда востребованной способность
мифа придавать жизненность воспринимаемому явлению. Эта
способность объясняется тем, что он в акте мировосприятия не
только не исключает бессознательное, но насущно нуждается в
нем. Именно об этом говорит А. Лосев в «Диалектике мифа»,
называя миф дорефлексийным восприятием мира. И только на
значительной дистанции от этого непосредственного восприятия
рождается рефлексия сознания. Миф удерживает равновесие про¬
цессов восприятия и осознания воспринятого, гармонизирует их.
Заметим, что миф - не только умозрительная категория, но и
реальное состояние сознания, которое и обозначено у А. Лосева удач¬
но найденным словом диалектика. Любой мифический образ, как
минимум, амбивалентен, так как не позволяет мысли абстрагиро¬
ваться от восприятия. В качестве иллюстрации обратимся к опьпу
естественных наук: почему ученые не переходят оюнчательно на
метаязык, сохраняя в ботанике термин <ооншю>, в географии - «по¬
дошва горы» и так дацее? Может бьпъ, таким образом сохраняется
многомерность изучаемого явления, его поливалентность?
Если же обратиться к мифологеме как к структурному эле¬
менту мифа, то неизбежно появится стремление очистить ее куль¬
турную форму до архетипического истока. Именно это стремле¬
ние как возвращение к первоначальному восприятию, с одной
стороны, и попытка укорениться в юнговском коллективном бес¬
сознательном, с другой стороны, сделали миф столь популярным
среди представителей XIX-XX веков. Осмысление мифа в фило¬
софии, освоение в культуре этого периода представляются по¬
пыткой найти выход из кризиса сознания, определенного линей¬
ным мышлением, эволюционистской парадигмой. В то же время
84
миф давал надежду выйти из заколдованного круга возрожден¬
ческого и поствозрожденческого антропоцентрюма'’.
На рубеже XIX-XX веков человек и мир, как и в первич¬
ном культурном акте Древнего мира, предстали друг перед дру¬
гом в своей сущности, и вновь актуализировалась триада: чело¬
век - мир - Бог. (Слова «богостроительство», «богоискатель¬
ство», «богоборчество» прочно вошли в активный словарь вре¬
мени, отражая многообразие вариантов этих отношений.)
Уже в раннем своем творчестве, в объемном труде «О пони¬
мании», В. Розанов исследует пристально обозначенную триаду.
14менно осмысление отношений «человек - мир» отражается в
содержании термина, вынесенного в название книги. Среди тра¬
диционных значений, приводимых автором, - деятельность ра¬
зума, жизнь разума и его сущность, сущность науки - обращают
внимание такие его характеристики как непроизвольность, внут¬
реннее самораскрытие, первое и конечное назначение человека.
Отмечая некую случайность науки, В. Розанов подчеркнул,
что эта случайность исключена из понимания. Корни этого раз¬
личия в том, что наука ищет свои объекты «...без всякой опре¬
деленной мысли о том, что именно такое будет найдено и где
его найти»^°, понимание же, ранее, чем познало свои объекты,
«...знает и каковы они, и где, и притом до последнего предела
своего; все познаваемое распределено уже в нем, лежит содер¬
жимым в его формах, но только закрытое еще, непознанное»^'.
Иными словами, наука вовсе не является неотъемлемой
составной понимания; гораздо актуальнее для философа досто¬
верность восприятия форм действительности. Так, рассматри¬
вая отношение воли человека к науке, В. Розанов допускает два
варианта: либо человек руководится в своих устремлениях сво¬
ей волей, и тогда наука управляется этой волей (поддерживает¬
ся или управляется), либо человек во всей своей деятельности
исполняет высшую волю. При этом именно первый тип отно¬
шений, когда человек, казалось бы, свободен в изъявлении сво¬
ей воли, и приводит, по мнению В. Розанова, к несвободе: «Итак,
85
при взгляде на науку как на явление исторически возникшее, со¬
зданное волею человека и служащее орущем для достижения ршых
целей, лежащих вне науки, не может быть удержана свобода ее»^^.
В то же время он подчеркивает; что понимание есть процесс сво¬
бодный в силу своей необходимости, и чем полнее эта необходи¬
мость, тем полнее эта свобода. Внутренняя необходимость, о кото¬
рой говорит В. Розанов, теснейшим образом связана с другим, цен¬
ным для него качеством, - непроизвольностью: «В этой непроиз¬
вольной деятельности человек вьшолняет не свое желание, но тре¬
бование того, что есть “первоначального” в природе»^^
Именно в книге «О понимании» В. Розанов впервые фор¬
мулирует существеннейшую сторону личной свободы: «Когда
я понимаю, я не имею отношения ни к людям, ни к жизни их; я
стою перед одною моею природою и перед Творцом моим; и
моя воля лежит в воле Его. В это время Его одного знаю и Ему
одному повинуюсь; и все, что становится между мною и Твор¬
цом моим, восстает против меня и Творца моего»^'*. Возвраща¬
ясь к означенной выше триаде; человек - мир - Бог, можно ут¬
верждать, что Бог В. Розанова - Бог Творящий.
Сама эта мысль далеко не оригинальна в русской 1^льтуре,
а с пушкинских времен стала популярной. Так, в 1879 году А. Фет
написал стихотворение, где она воплотилась мощно и цельно:
Не тем, господь, могуч, непостижим,
Ты пред моим мятущимся сознаньем,
Что в звездный день твой светлый серафим
Ни времени не знает, ни пространства.
Громадный шар зажег над мирозданьем
И мертвецу с пьшающим лицом
Он повелел блюсти твои законы,
Все пробуждать живительным лучом,
Храня свой пыл столетий миллионы.
Нет. Ты могуч и мне непостижим
Тем, что я сам, бессильный и мгновенный.
Ношу в груци, как оный серафим,
Огонь сшп>ней и ярче всей вселенной.
86
Меж тем как я - добыча суеты,
Игралище ее непостоянства,
~ Во мне он вечен, вездесущ, как ты,
Ни времени не знает, ни пространства.
Современников поэта удивляло, как уживаются в нем не¬
утолимая жажда жизни и пессимизм, пронизывающий филосо¬
фию А. Шопенгауэра, автора трактата «Мир как воля и пред¬
ставление», перевод которого на русский язык впервые осуще¬
ствил А. Фет. Именно этот перевод получил В. Розанов, по его
собственному свидетельству, от Н. Страхова.
Любопытно, что в изданном в 1886 году «О понимании»,
за три года до знакомства с Н. Страховым, В. Розанов упомина¬
ет имя А. Шопенгауэра. Называет он это имя в одном ряду с
Малебраншем, Спинозой, Беркли, Шеллингом, которые,
по мнению В. Розанова, подобно эпикурейцам и стоикам,
«...бессознательно для самих себя мыслили под неясным дав¬
лением настроения и невольно покоряли мысль этому чувству,
предпочитая одни истины другим»^^
Под чувством В. Розанов понимает форму, в которой являет¬
ся дух. Другой такой формой он назьгеает разум, но предпочтение
отдает именно чувству: «Учение о формах чувства неизмеримо
более важно, нежели учение о типах и состояниях разума <...> в
чувстве нельзя указать ни на одну форму, от которой происходили
бы, как от первоначальной другие формы, и все они суть творчес¬
кие источники самостоятельных и важнейших областей жизни»^®.
Сопоставляя виды чувства (волнения, состояния, типы,
настроения), В. Розанов особо вьщеляет настроение как чувство
с чрезвычайно общим характером. «Сознание этой беспричин¬
ности настроений, - замечает он далее, - или, что то же, их чи¬
стоты, как произведений духа, выразилось и в языке; “грустит-
ся”, “радуется”, “чувствуется неудовлетворенность” или “жаль
всех” - говорят обыкновенные люди, когда и у них временно
проступают настроения, вообще присущие только великим ха¬
рактерам»”.
87
Замечание о страдательном залоге глагола, в этом труде не
акцентированное, приобретает принцигшальное значение в даль¬
нейшем творчестве В. Розанова. Принцип этот можно сформу¬
лировать так: не я думаю, а во мне думается. Поразительно, но
в письме А. Фета Л. Толстому от 19 марта 1880 г. между про¬
чим читаем: «...я знаю, то есть чувствую, и даже не я хочу, а
еще верней по-русски, мне хочется. Такой глубины не знаю ни
в одном языке»^®. Но почему-то это осознание, казалось бы, не¬
завидной пассивной роли нисколько не угнетает ни А. Фета, ни
В. Розанова. Наоборот, как свидетельствовали цитированные
розановские слова и фетовское стихотворение, сознание этого
дает им ощущение подлинной свободы и собственной значимо¬
сти в мире. Осужденный на субъективное одиночество, по его
собственному признанию, А. Фет находит силу противостоять
пессимизму в следующем: «Целесообразность мира и мой чело¬
веческий инстинкт не позволяют мне остановиться на пустой
форме мира как слепой беспричинной воле, мертвенном petpetuum
mobile, стоящем в прямом противоречии с изменяемым миром
явлений, к которому я прикован. Такой слепой wille не лучше
паука, который пойдет, пойдет и придет. Высшая, разумная, по-
своему, - для меня непостижимая воля, с непостижимым нача¬
лом и самодержанием - ближе моему человеческому yмy...»^^.
Ум человека, «микроскопического последствия» (А. Фет), этой
воли, не в силах воспринять онтологическую антиномию: «Но что¬
бы я, будучи подобно всему причинен, был в то же время и непри¬
чинен - этого я не могу понимать. <...> Какие же у меня из времен¬
ного и пространственного могут быть отношения вневременные и
внепространственные? Для этого есть одно средство; <.. .> при¬
нять миф за реальность...»^®. Эта новая реальность открывается
человеку посредством интуиции. Понимание того, что всякое от¬
крытие интуитивно, и ставит в заслугу «великому старцу» А. Шо¬
пенгауэру А. Фет. Но сам-то поэт, задолго до своего знакомства с
текстом немецкого философа, выделим эту интуитивную силу, ко¬
торая прочнее, кровнее, наследственнее, индивидуальней.
88
Роль разума в таком случае сводится к тому, чтобы быть
«ходячей монетой всего рода человеческого»: «На нее все поку¬
пается и продается, но никто не может сказать, что она его соб¬
ственная, - она царская»^'. Такой царской монетой и стала идея
мира как воли и представления. Исторически на ней отпечатал¬
ся профиль А. Шопенгауэра, но истинное ее достоинство уже
давно существовало. Недаром за аргументами А. Фет обращал¬
ся к древним мифам, замечая как всегда вскользь: «Надо при¬
знать, что неглубоких мифов нет. Дураки их не создают»’^.
Шопенгауэровскую формулу «мир как воля и представление»
А. Фет уточняет, ссылаясь на Евангелие от Иоанна: логос Божий -
источник видимого мира (явление) и невидимого (сила). Этот ло¬
гос находится вне мира и именно он творит его. Вот почему А. Фет
заметил, что А. Шопенгауэр «лишь близится к иксу», лишь «... про¬
извольно останавливается на одном из звеньев причинности»”. Не
Зпускает А. Фет и возможности покритиковать разум, который со¬
ставляет, «лишь мгновенное звено в цепи причинности явлений и
заведомо шреняшдйся на недосягаемой тайне жизни»^'*, в силу чего
он - невозможная и противоречивая точка опоры.
Подобные рассуждения встречаем и в розановском трактате;
«Челове!^' тяжело, невьшосимо остаться со своею природою и не
иметь над собою ничего высшего, что могао бы помочь ему сдер¬
жать эту природу. <.„> С обьекгивной же, с точки зрения всей исто¬
рии и всей жизни, природа человеческая так слаба, так подахлпива и
похотлива, что никакая мудрость, опираясь на себя только, никовда
не построит из нее ничего прочного, о чем можно было бы сказать,
что оно требует незыблемо. <...> Толью живя в Религии человек
может бьггь истинно свободен. Что для него значит воля сильней¬
шего на земле человека, что для него мнения всех людей, когда он
живет по воле Того, перед кем мало все великое на земле?»^^
Очевидно, шопенгауэровская формула не только освоена
русской традицией, но и уточнена: Мир как осуществление
Божественной Воли, открывающейся человеку в представле¬
ниях. В то время как Западная Европа устами Ф. Ницше довела
89
шопенгауэровский пессимизм до трагизма, русская культура
увидела свет... В этой ситуации категория мифа действитель¬
но приобрела жизненно важное значение.
Именно миф примиряет человека с вечной тайной, непоз¬
наваемостью мира как воплощения Божественной Воли. Но в
отличие от первобытного, миф Серебряного века не мог игнори¬
ровать интеллект (или разум), насытивший мир идеями, которые,
в свою очередь, мифологизируются, а основные приобретают
способность становиться мифологемами. (Очевидно, этой спо¬
собностью обладают идеи, о которых В. Розанов говорил как
о появившихся по Высшей Воле.). Так, С. Хоружий заметил, что
энергия фигурирует в центральной роли в областях, составля¬
ющих парадоксальное сочетание; в исихастском богословии и
современной физике. «Как выясняется, - замечает автор, - трак¬
товка энергии в них имеет общие черты, которые, в частности,
включают в себя далеко идущие отличия от энергии Аристоте¬
ля. За этой неожиданной близостью можно увидеть многое»^®.
Понятие энергия входит в различные онтологические струкгу-
ры. С. Хоружий, в частности, называет tbiqto троичную структуру:
Возможность - Энергия - Энтелехия. В приведенной нами триаде
А. Фега(Логос-Воля-Представление)энергия являет коррелят воли.
Современный ученый В. Топоров соотносит процессы мифо¬
логизации и демифологизации с понятием эктропии и энтропии,
при этом первый процесс описывает как «...создание наиболее
семантически богатых, энергеттных (вьщелено мною -Н К.) к
имею1Щос силу примера образов действительности», а второй -
как «...разрушение стереотипов мифопоэтического мышления,
утративших свою “подъемную” силу»”. Таким образом именно
энергия приобретает значение “базовой онтологической структу¬
ры всей европейской метафизики”^*. Или, как подчеркнул С. Хо¬
ружий, «.. .служа реализации сущности, энергия, тем самым, под¬
чинена ей, включена в орбиту, в дискурс сущности»^®.
Возвращаясь к проблеме мифа, мы вправе предпринять по-
пыгку отыскать образ, который бы соответствовал «энергии» как
90
мифологема, - образ насколько убедительный, настолько и про¬
стой. А. Фет, читая Библию, увидел; «Истинное примитивно, не¬
посредственно и потому, будучи с одной стороны, тайной, с дру¬
гой - простое откровение. Хранилищем такого откровения являет¬
ся язык, религия, - и чем они примитивней, тем более истинны, то
есть философски. Очевидно, что на простой вопрос, “что такое?”
явился такой же простой ответ: семя. <...> А так как семя всему
голова, то есть начало всякой жизни, то нельзя его не чтить его
семейству. От этого семейного культа не ушла ни одна народность,
ни одна самостоятельная религия»'*®. Слово «семя», обозначающее
«начало всей жизни», соответствует требованиям базового онто¬
логического понятия, так как совмещает в себе потешдаальную
энергию с ее воплощением в зримой форме, ибо, как заметал А. Фет,
«Жизнь с миллионами своих неизбежных требований остается
жгонью и семя семенем, требующим рассвета и ceMeHH»"*’.
В предметном указателе составителем и автором коммента¬
риев «О понимании» В. Розанова В. Сукачем слово «семя» обо¬
значено как синтез форм и жизненности, вещество, потенция.
Общее значение его так сформулировано самим В. Розановым:
«Растения проходят все три формы существования: потенщ1аль-
ное, образующее и реальное. В семени они существуют потенци¬
ально, через рост образуются и с прекращением роста существу¬
ют реально <.. .> в семени сосредоточилось все образующее на¬
чало - оно есть потенция совершенно определенная^^».
Дальнейшее обращение к семени позволяет В. Розанову
представить бытие образующее как переход потенциального в
реальное, осуществление возможного в действительном. Исхо¬
дя из того, что семя - не совершенно то же, что и дерево, вырос¬
шее из него, то к семени должно было присоединиться нечто
(земля, например), а значит, была сила, которая их сблизила.
Это «нечто» и закрепляет связь семени с его семейством. Если
же семя раздавлено, как это предполагает В. Розанов, то оно
никогда уже не сможет реализовать свою потенцию: «Все по¬
порченные семена одинаково бесценны, а здоровое семя розы
91
дороже, чем семя крапивьо)'’^. Таким образом, уже в трзде «О пони¬
мании» В. Розанов обозначил черты центральной мифологемы сво¬
его мифа - семени, шгорая свяжет воедино и семью, и пол, и Бога.
В статье «О древнеегипетской красоте» (1899) В. Розанов сло¬
во «нечто» заменяет провидением; «Семя - провидит дерево; и не
сможет выйти из орбиты этого семянного провидения»'”. А дальше,
размышляя о египетской виньетке окрыленного и идущего гааза,
утверждает: «Здесь -тоже “зерно”, т е. точка зерна и зерен, но уже у
человека: и вьфаясено 0П5ПЪ как “видение” и “провидение”, как “шаз”,
определяющей “путь”. Но уже здесь - с крьшами, “летящее прови¬
дение”, “провидение” не как “знание” только, но и как взлет сил
“ведущих”»'^^ Иными словами, зерно как носитель провидения свя¬
щенно. Однако В. Розанов не останавливается на этой мысли и зада¬
ет вопрос: «”Но, может бьпъ, и о зерне есть Провидение?” - “Ну
гонечно, Провидение - и оиэло зерна, и над ним, да и везде” <.. .> и
“ошло” и “над” зерном “есть свой гааз”, как например, на египегс-
юм рисунке, где “ою” стоит и блюдет над зерном»''*.
Летящее провидение, «крылатое» зерно, летящая душа -
все это синонимичные понятия, позволяющие открыть новую
грань жизни: «Душа - летит, вот ее суть <... > она - слияние гиб¬
нущих и рождающихся миров»"".
Одно из состояний этого полета-любовь.Чувство это,поВ. Ро¬
занову, космично, составляет суть. Но если «переход любви в рожде¬
ние» есть земная эманация, то рождение как «пролияние» на землю
потустороннего ншала рождающему приносит потерю, переда?^ рож¬
денному самой поп^сторонней искры. Так любовь приобретает тра-
гаческий смысл. В буцущей жизни человек перейдет «в ощущение
переполненного существования», неистощимой любви и нежности,
вечной влюбленности без обладания, станет носителем непорочней¬
шего сияния. Но пока он на земле, пол, податель жизни, один ноуме¬
нален. Только он останется после исчезновения самого феномена
Любопьпно, что и загробная жизнь, по В. Розанову, будет со¬
стоять из «света и паз^естги», из того, что ошутимо физически, а не
бесплотно. Именно эта плоть и составляет ochoi^ розановсюэго мифа
92
Размышляя о жизни церкви в очерке «Метафизический раз¬
говор», В. Розанов вдруг пришел к мысли о необходимости вос¬
становить язычество, но в новой форме, где плоть форм, обыча¬
ев, привычек, жестов, обрядов, установленного образа мысли, спо¬
соба жизни - необозримая плоть приобретает святое сверкание,
святую па)^есть, святую добротность, «святую вкусность». Эту
плоть «золотили», «ниточка за ниточкой, пуговка за пуговкою вы¬
рабатывали (бессознательно)» люди, которых В. Розанов назы¬
вает самыми живыми, самыми нервными. Сам дух потребовал
плоти, утверждает автор, и та плоть «в огне, которым зажигают¬
ся лампады, <...> в воске, из которого делаются свечки. Попро¬
буйте делать свечки не из воска, а из сала; а вместо лампад с
маслом из священной оливы зажечь керосиновые лампы, - и вы
уввдите, много ли от вашей «духовной религии» останется. Оли¬
ва - дерево, живое; и воск - от пчелы, от жизни. Свяш;енные час¬
тицы священной плоти мира. <...> И без масла самого “помаза¬
ния” нет, т. е. и “священства”, а с ним - нет и всего»''*.
Это противоречие, точнее даже - противоборство плоти и
духа в интерпретации В. Розанова, вовсе не является таковым у
его оппонента А. Лосева. «Едва теплеющая лампада вытекает из
православной догматики с такой же диалектической необходи¬
мостью, как царская власть в государстве или как наличие про¬
свирни в храме и вынимание частиц при литургии, - утверждает
он в “Диалектике мифа”. - Зажигать перед иконами электричес¬
кий свет так же нелепо и есть такой же нигилизм для православ¬
ного, как летать на аэропланах или наливать в лампаду не дере¬
вянное масло, а керосин»'*^ Свободный от нескончаемой борьбы
ветхозаветного и христианского мира в отличие от В. Розанова
А. Лосев не видит никакого противостояния, так как возводит в
общий принцип религии жизнь, субстанциально-телесную утвер-
жденность и подчеркивает при этом; жизнь личности.
А. Лосев категорически настаивает, что религия без мифа
невозможна, хотя и допускает, что религия до некоторых пор
может не выявить своего мифа. Религия «есть по преимуществу
93
бытие личности, синтетическое, а не изолированно-абстракт-
ное самоутверждение личности. Она в самом своем принципе
уже содержит нечто мифическое»®". И в этом утверждении фи¬
лософ близок фетовскому замечанию о мифе в цитированном
письме Л. Толстому.
Аналогии, пересечения, реминисценции, отмеченные нами,
интересны не сами по себе, а как подтверждение мысли о том,
что миф наделен собственной жизнью, плоть его составляют
мифологемы, обнаруживающиеся явно и неявно в умах людей,
даже не принадлежавших к одному кругу. Так А. Фет свои мыс¬
ли изложил в переписке с Л. Толстым, которая была опублико¬
вана лишь в XX веке, А. Лосев мог просто не читать цитиро¬
ванные произведения В. Розанова, наконец. В. Розанов мог и
вправду, как признавался в одном из своих писем, прочитать
лишь три страницы из «Мира как воли и представления» А. Шо¬
пенгауэра, но это не помешало явиться в их умах общим темам.
Впрочем, как заметил сам В. Розанов в «Уединенном», от¬
мечая изменения в обществе и в литературе: «Все стали немнож¬
ко “метерлинками”, и в этом суть. Но стали “метерлинками”
раньше, чем услышали о Метерлинке»^'.
ГЛАВА III
СИМВОЛ И МОДЕЛЬ
В РОЗАНОВСКОМ МИФЕ
3.1. Миф в зеркале Серебряного века
(В. Розанов, Д. Мережковский, А. Лосев)
Немецкий философ К. Хюбнер, достаточно основательно
излагая историю изучения мифа, ни словом не обмолвился о
трудах русских исследователей. Лишь в «Предисловии к рус¬
скому переводу» упомянул о том, что возвращение к мифам
породило «все богатство великой русской литературы прошло¬
го века»'. На наш взгляд, это факт далеко не случайный, так как
миф в русской культуре - меньше всего понятие академичес¬
кое. Это жизненное явление, живой мифологический процесс,
типологическая черта Серебряного века.
Было бы неправильно рассматривать миф в контексте эсте¬
тики русского модернизма, так как он (миф) явно перерос рамки
художественного пространства. Свидетельство тому - своеобраз¬
ная литература о мифе, жанр которой определить сложно; это не
научные труды, не философские трактаты, не художественная
проза, не религиозные тексты в отдельности. Обращаясь к твор¬
честву Д. Мережковского («Тайна трех»), В. Розанова («Во дво¬
ре язычников», «В мире неясного и нерешенного»), мы увидим
там синкретичное единство указанных составных, единство не¬
расчленимое. Условно можно бьшо бы назвать это наследие эс-
сеистикой, но, повторяем, очень условно. Завершается этот ми¬
фологический период и обобщается в известном труде А. Лосева
«Диалектика мифа», о котором он сам писал В. Лосевой; «Там
много интимного и сокровенного из нашей дружбы и жизни.
95
Но ведь не называл же я там тебя по имени. Речь идет там в
общей форме, как стихи у поэта. И потому интимность тут дос¬
таточно прикрыта. - И далее, сетуя на цензуру. - Для философа,
строящего философию не абстрактных форм, а жизненных яв¬
лений бытия, это было бы все более и более нестерпимо. Я за¬
дыхался от невозможности выразиться и высказаться»^. И о «кон¬
трабандных вставках» в «Диалектике мифа»: «Я знал, что это
опасно. Но желание выразить себя, свою расцветающую инди¬
видуальность для философа и писателя превозмогает всякие
соображения об oпacнocти»^ Так сливаются в едином тексте
неразрывно, «как стихи», философия жизненных явлений бы¬
тия, лирическая субъективность (от светлых восторгов до злой
иронии), и, наконец, поступок! Достаточно обратиться к не¬
скольким фрагментам этого текста, чтобы убедиться в справед¬
ливости сказанного.
Вот, например, как А. Лосев доказывает, что «нельзя комму¬
нисту любить искусство»: «Раз искусство, значит, - гений. Раз
гений, значит, - неравенство. Раз неравенство, значит, - эксплуа¬
тация. К чему все это ведет? Ведь мы же гоним попов за эксплу¬
атацию... конечно. Эксплуатации не должно бьггь ни в коем слу¬
чае, ни в целях искусства, ни в целях религии. Поэтому логичес¬
кий вывод из коммунизма - это искоренение также искусства...
Нужно немедленно заставить всех бывших “артистов император¬
ских театров” перейти на подлинно общественный полезный и
производительный труд. Будь я комиссаром народного просве¬
щения, я немедленно возбудил бы вопрос о ликвидации всех этих
театров, художественных и музыкальных академий, институтов,
школ, курсов и т. n.»”*. (Вряд ли любой режим мог бы простить
такую злую иронию, а тем более сталинский!)
Даже в рассуждениях о таких общих предметах, как Вре¬
мя, Земля. А. Лосев лишь подтверждает собственную фразу:
«Миф насыщен эмоциями и реальными жизненными пережи-
ваниями»^ «Но вот до сих пор не могу себя убедить, что земля
движется и что неба никакого нет. Какие-то там маятники
96
да отклонения чего-то куда-то, какие-то параллаксы... неубеди¬
тельно. Просто жидковато как-то. Тут вопрос о целой земле идет,
а вы какие-то маятники качаете. А главное - все это как-то не¬
уютно, все это какое-то неродное, злое. Жестокое. То я был на
земле, под родным небом, слушал о вселенной, “яже не подви-
жется”... а то вдруг ничего нет: ни земли, ни неба, ни “яже не
подвяжется”. Куда-то выгнали в шею, в какую-то пустоту, а еще
и матершину вслед пустили. “Вот-де твоя родина - наплевать и
размазать!” Читая учебник астрономии, чувствую, что кто-то
палкой выгоняет меня из собственного дома и еще готов плю¬
нуть в физиономию. А за что?»®.
Есть какая-то роковая логика в том, что именно этот труд
стал поводом к аресгу А. и В. Лосевьгх, подобно тому, как ан¬
тичная трагедия завершила период мифа в Древней Греции, сде¬
лав его, миф, достоянием искусства.
Д. Мережковский заметил: «Может быть, все вавилонское
знание - только воспоминание о какой-то забытой мудрости, на¬
следие второго человечества от первого»’. В переводе на язык
«Диалектики мифа»: мудрость сродни «дорефлексийному воспри¬
ятию» (мифу) и есть это первоначальное знание, а вся дальней¬
шая история человека есть рефлексия. «Знание есть “воспоми¬
нание”... И будущее можно знать - “вспоминать” как прошлое»*.
Рассуждая о мифе, Д. Мережковский обнаруживает юнги-
анское толкование бессознательного (понятие «бессознатель¬
ное» - одно из основных в лексике теоретиков символизма).
«Мифы - древние, из века в век, из рода в род, повторяющиеся
сны человечества. Миф, как сон, нельзя рассказать; чтобы по¬
нять, что он значит, надо верить в него, видеть его изнутри, а не
виденный и сказанный без веры, чужой миф так же нелеп, как
чужой сон. Узкие, с тусклыми стеклами, оконца или скважины
из дневного сознания в ночное - вот то, что мы называем в себе
“подсознательным”, эти вещие мифы - сны - может быть, един¬
ственный путь для нас из этого мира в тот»®. Иными словами,
чтобы постичь миф, надо видеть его «изнутри», но об этом же
97
говорит и А. Лосев, формулируя задачу «Диалектики мифа»:
«Миф должен быть взят как миф, без сведения его на то, что
не есть он сам. <...> Надо сначала стать на точку зрения са¬
мой мифологии, стать самому мифическим субъектом. Надо
вообразить, что мир, в котором мы живем и существуют все
вещи, есть мир мифический, что вообще на свете только и
существуют мифы. Такая позиция вскроет существо мифа как
мифа»’®.
Но мир древнего человека значительно отличается от мира
Д. Мережковского, В. Розанова, А. Лосева. Для первого (доис¬
торического) мифического субъекта мир - то, что чувственно
воспринимается, для мифического субъекта конца XIX - нача¬
ла XX веков мир состоит не только из природных, но из куль¬
турных элементов. Он реален, ощутим, но, конечно же, более
условен, ассоциативен. И все-таки и в том, и в другом случае
миф - это все те же субъект-объектные отношения, протекаю¬
щие если не одинаково, то подобно. Не это ли родство толкает
людей цивилизации к древнейшим истокам культуры?
Вряд ли можно представить А. Лосева без его исследова¬
ний мифологии, культуры Древней Греции и Рима. Но вот лю¬
бопытное обстоятельство: культура Серебряного века пережи¬
ла глубокий интерес к Древнему Египту, Вавилону, отнюдь не
меньший, чем к античности: Н. Гумилев, В. Шилейко перево¬
дят «Гильгамеша», А. Ахматова отдает дань египетской лири¬
ке, В. Розанов погружается в тайнопись египетской художествен¬
ной культуры, Д. Мережковский талантливо интерпретирует
эпос Вавилона.
Такой переход в другую культуру протекает естественно,
если посредником выступает миф (точнее сказать мифологичес¬
кий сюжет, чтобы отличить от мифа как целостного представле¬
ния о мире). К. Леви-Стросс отметил: «.. .ценность мифа как та¬
кового сохраняется даже вопреки плохому переводу. Как бы пло¬
хо мы ни знали язык и ь^отьтуру того народа, откуда заимствован
миф, мы всегда буцем его воспринимать именно как миф... Миф -
98
<
* это язык, но язык, который работает на очень высоком уровне,
когда, если можно так выразиться, смысл отрывается от линг¬
вистической основы, вокруг которой он начал создаваться»".
В. Розанов в своих размышлениях (наблюдениях?) «О древ¬
неегипетской красоте» и вовсе преодолевает эту лингвистичес¬
кую основу, читая египетские изображения как письмена. Вот,
например, как виньетка к 162-й главе «Книги усопших» развер¬
тывается у него в самостоятельный текст: «Мы привели в конце
Ф предыдущего рассуждения удивительную египетскую виньет-
? ку - по-видимому, окрыленного и идущего глаза. Всмотримся в
л ее мысль; вдумаемся в нее не нашею, XIX века и новой эры
мыслью, а древнеегипетскою же.
Здесь - тоже “зерно”, т. е. точка зерна и зерен, но уже у
^ человека: и выражено опять как “видение” и “провидение”, как
t “глаз”, определяющий “путь”. Но уже здесь - с крылами. “Ле-
1 тящее провидение”, “провидение” не как “знание” только, но и
1 как взлет cm “ведущих” - так хочется переименовать, так нуж-
J но изъяснить рисунок»'^.
Л Однако, словно опережая упреки в вольной и произволь-
ной трактовке увиденного, В. Розанов обрушивает свое возму-
,j щение на Древнюю Грецию: «Греческое искусство есть «для
■1 подглядения» искусство, а не для того, чтобы “с ним жить”...
I Они выкинули биографию из лица, из скульптуры. Т. е. выки-
I нули интереснейшее, да наконец - и красивейшее! Все их мра-
I моры пусты. Во истину пусты»’^
I Все опасения В. Розанова, его неприятие красоты внеш-
I „ ней продиктованы сложившейся в культуре Серебряного века
{ практикой изобретения новых символов, значительно упрощен-
I ных однозначностью, закрепленностью значений. Этот разру-
I шительный для символа процесс можно назвать тяготением к
I знаку, который лишь обозначает присутствие какого-либо смыс-
; ла. Позже А. Лосев будет говорить о символе, о нерасторжи-
I мости в нем содержания и формы, их подлинной диалектике как
J живом единстве. Но, может быть, тема символа у А. Лосева и не
; 99
I
прозвучала бы столь убедительно, не переживи он опыт русского
модернизма, в частности символизма.
Символисты пытались решить задачу преображения дей¬
ствительности, творя свой миф из вновь рожденных или переос¬
мысленных символов. Но чтобы акт мифотворчества состоялся,
надо пробудить в себе мифическое мышление, стать, по словам
А. Блока, «бессознательным органом народного воспоминания»’''.
«Этот путь, - пишет А. Пайман, - пролегает через традиционные
символы, искони заложенные народом в душу его певцов как не¬
кие изначальные формы и категории, в которых единственно
могло вместиться всякое новое прозрение»’^ А. Пайман, обра¬
щаясь к истории русского символизма, отмечает, сколь нелегко
складывался этот процесс у поэтов: «Цель творческого прцесса
не дается Мережковскому. В результате он приближается к гра¬
ни, отделяющей символ от его “сказуемого” - мифа»*'^.
Несостоятельность Мережковского-мифотворца, отмечен¬
ная исследовательницей, не только его личная проблема. На¬
стораживает сама творческая цель - создание мифа, которую
перед собой поставили символисты. Миф не может иметь ин¬
дивидуального творца, если хочет претендовать на ту всеобщ¬
ность, которую провозгласили младосимволистьь Миф порож¬
дается коллективным сознанием, сам себя творит, а над мифом
символистов всегда возвышается фигура автора. Стоило только
поэту назвать себя теургом, как на первый план вышла задача
изменения мира, а отнюдь не «народного воспоминания». По¬
этому миф не выражает представление о мире, не возвращает
человеку надежду на единение с этим миром, а изображает
новую, третью реальность, выстроенную символистами из их
же собственных символов. Но если теургия Д. Мережковского,
очевидно, не состоялась, то его опыт погружения в миф, пере¬
живания мифа, на наш взгляд, как минимум любопытен. Сто¬
ило только забыть ему о своей теургической миссии, найти свою
«задушевную» интонацию, как место объемных романов занял
фрагмент - часть единства.
100
д. Мережковский, конечно же, не был первооткрывателем
этой формы, он сам часто ссылался на В. Розанова, розановс-
кий текст то незримо, то явно ощутим. Но это обстоятельство
не смущает автора. Вероятно, для него это - не литература, а
живое развертываьше пути к миру: «Эта книга - путевой днев¬
ник. Я побывал в далеких странах, прошел необходимые пус¬
тыни, где спят очарованным сном святые развалины, обломки
святых чудес»”. Любопытно, что сразу же за этой фразой цити¬
руется признание Ж. Шампольона: «Я поцеловал землю Егип¬
та, в первый раз вступив на нее, столь желанную». А затем -
собственное признание: «О, если бы и мне поцеловать ее, я зап¬
лакал бы от радости, как изгнанник, вернувшийся на родину!»'*.
«Силы земные поколебались: все падает, рушится, земля
уходит из-под ног.
Вот от чего я бегу в древность. Там твердыни вечные; чем
древнее, тем незыблемей...»’*. Эти твердыни необходимы, что¬
бы укрепить на них человека. Для Д. Мережковского открове¬
ние Божие «есть открытие души человеческой». Символ души -
чаша. Беда в том, что чаша эта опрокинута вверх дном и нужда¬
ется в опоре.
Древний Египет - это то изначальное состояние, когда че¬
ловек был открыт миру; еще не сделан шаг, окончательно раз¬
деливший их: «Египтяне - как бы еще не совсем родившиеся -
“недородившиеся” люди. Души их не совсем воплотились, не
окончательно выпали в этот мир из того, во время вечности»^®.
«Тот» и «этот» мир, «время» и «вечность» - именно эти по¬
нятия встречаем в “Диалектике мифа” А. Лосева. Обращаясь к
философу, можно дополнить (или подтвердить) догадку Д. Ме¬
режковского. Его Египет есть «актуальная бесконечность, где
безграничное становление и вечное самоприсутствие есть одно
и то же»^’.
В. Розанов в статье «О древнейшей красоте» пишет: «Я
никогда не мог в своем сердце простить жестокосердие того
человека, который был изобретателем зеркала...
101
Сколько несчастия произошло из этого! И как померк об¬
раз человека: по нему разлилась зависть или - злобное торже¬
ство»^^. Удивительно точный о^^аа-зеркало. Именно оно - ин¬
струмент иллюзии, оно обманывает, отражая лишь оболочку,
разрывая органическую связь с сущностью, и, уже оторвавшись,
эта оболочка перестает быть частью единого, капризно требует
украшений, диктуя свои представления о красоте.
«Нашей красоты самодовлеюшей, “искусства для искусст¬
ва” не знают египтяне. Не красоты ищут они, а большего, и кра¬
соту находят попутно»^\ - пишет Д. Мережковский. «Не будем
умны, будем лучше прекрасны, или, точнее, мы станем истинно
умны, как только станем прекрасны», - призывает В. Розанов^'*.
Отказаться от зеркала, стать всем прекрасными - в этом
видится В. Розанову оправдание жизни на земле, «некоторое “от¬
дание Пасхи”, некоторая пасхальная песнь, пасхальная ра¬
дость.. . Иначе - земля в ее специальных и особенных законах
запутана и уж слишком “проклята”, только “пpoклятa”»^^
Зеркало - взгляд со стороны, осознание своего «я», всмат¬
ривание в себя, разглядывание себя, любование собой - вот та
опасность, которую почувствовал век Серебряный; век модерна -
реальность, в которой оказался век постмодерна. Вместо реки
жизни - поток сознания. Не потому ли и перестал интересовать
нашего современника мир, в котором он - лишь наблюдатель;
зеркало сменилось экраном, а сам мир стал виртуальным. (Пара¬
доксальность заключается в том, что этот виртуальный мир, мир
суррогатный, подменяет собой подлинную реальность.) Д. Ме¬
режковский, словно предвидя эту ситуацию, сокрушался: «Наш
глаз, если смотрит слишком долго, перестает видеть, утомляет¬
ся; глаз египтян неутомим, ненасытим: чем дольше смотрит, тем
больше видит. Человек всему удивляется, как в первый день тво¬
рения; говорит всему, как Бог: “Да, это правда, это хорошо”»^®.
А. Лосев, заглянув внутрь мифа, увидел, что миф «.. .содер¬
жит диалектшо^ первозданной, доисторической, не перешедшей в
становление личности и личности исторической, становящейся
102
эмпирически случайной: миф - неделимый синтез этих обеих
сфер»^’. Подчеркнем, что философ не отделяет от мифического
процесса человека исторического. Всматриваясь в миф, он ви¬
дит там своих современников, цитирует самую разную литера¬
туру, ведет себя как участник живого, реального, переживаемо¬
го процесса. Наше сознание гетерогенно, а значит, в нем среди
случайных нагромождений эмпирической личности живет и ее
первозданная основа. Но если в доисторическом прошлом эта
личность непосредственно вступала в диалог с миром, то те¬
перь этот процесс инсценируется. Кризисная эпоха, оголив бы¬
тие человека, провоцирует в нем неодолимое желание вновь
обрести единство с Космосом.
Непрекращающиеся субъект-объектные отношения в мифе
предполагают открытость системы этих отношений. Поэтому и
Д. Мережковский, и В. Розанов, и А. Лосев, равно как и любая
другая личность, сможет войти в это взаимообщение, если при¬
мет основное условие - признает «одинаковую, совершенно рав¬
ноправную ценность веры и знания» (А. Лосев), результатом же
этого процесса будет не логическое построение, не гипотеза, и
даже не знание, а ведение.
Не об утрате ли ведения говорит Д. Мережковский: «Дре¬
во Познания не есть Древо Жизни: кто вкусит от первого, не
вкусив от второго, смертью умрет. Несоединимость тух поряд¬
ков, бытия и мыышения, - вот источник Гильгамешевой Фаус-
товой трагедии»^^
Человечеству свойственно стремление преодолеть траге¬
дию. Если принять, что миф - попытка привить Древо Позна¬
ния к Древу Жизни, то становится понятным, почему не осла¬
бевает пристальное внимание к самому мифу, его структуре, к
механизмам мифического сознания. Освоив их, человек сохра¬
няет для себя возможность вернуться из собственных заблуж¬
дений к началу пути.
Русский Серебряный век оставил богатый опыт освоения
этого пути, работа А. Лосева достойно обобщила подобный
103
опыт, но, как и вся культура Серебряного века, эти прозрения
не могли быть массовыми, они требовали от предполагаемого
участника процесса и чистоты помыслов, и бескорыстия, эру¬
диции, наконец. Миф оживал в процессе творчества. Ныне в
миф погружена едва ли не большая часть человечества. Только
теперь не надо творить почву для него, очищать душу. В. Роза¬
нов когда-то возмущался: «Наша душа, душа современного че¬
ловека, какая-то резиновая, мертвая, загрязненная, которая «чув¬
ствует» только тогда, когда по ней обухом стучат»^^.
Современная виртуальная реальность поглощает челове¬
ка, монитор - это уже не зеркало, а другое изображение, в кото¬
ром, в супщости, сымитирован миф. Здесь человек продолжает
быть бесправным наблюдателем, словно огромный механизм
превращает его в матрицу. Никакого творчества - единый про¬
изводственный процесс, массовый процесс, с массовым же (не
путать с коллективным!) конечным продуктом. Имитация уби¬
вает миф в его трогательном непосредственном субъект-объек¬
тном взаимодействии. Правда, остается пока еще природа, ко¬
торая в ситуации, подобной замятинской анти5тх)пии, хранит и
цвет, и запах, и сам мир...
3.2. Рождение символа в розановском тексте
Если все, написанное В. Розановым, принять за единый
текст, то логика его творческого пути - это логика рождения и
оформления мифа. В опубликованном в 1886 году трактате «О
понимании» сформулированы основные темы будущих творе¬
ний, обозначены параметры будущего мифа; в пределах этой
схемы и осуществится становление уникального мира писате¬
ля, мыслителя.
Указанный трактат ознаменовал начальную точку пути, фи¬
нал же обозначен двумя книгами: «Апокалипсис нашего времени»
и «Возрождающийся Египет», написанными в 1917-1918 годах.
104
в первой отразилась ужасающая трагедия распада мира, пере¬
живаемая автором, его протест против христианства, а вторая
книга стала воплощением, завершением его мифа о бессмертии.
Эти книги действительно могли быть только последними, ибо,
приняв завершенность, миф прекратил свое непосредственное
существование, а вместе с ним исчерпала свою потенцию (обра¬
тимся к любимому понятию В. Розанова) и сама жизнь.
В. Розанов, несмотря на непризнание своей первой книги,
настоятельно предлагал прочитать ее близким людям. Так в
письме К. Леонтьеву от 11 июня 1891 года читаем: «Книга “О
понимании” вся вылилась из меня, когда, не предвидя возмож¬
ности (досуга) сполна выразить свой взгляд, я применил его к
одной части - умственной деятельности человека. Утилитаризм
ведь есть идея, что счастье есть цель человеческой жизни; я
нашел иную цель, более естественную (соответствующую при¬
роде человека), более полную и во всех отношениях истинную
и окончательную <.. .> обратите внимание на понятие потенци¬
альности, этого странного полусуществования, которое есть в
мире, действительно, и Вы будете на пути к полному усвоению
моего взгляда на человека, его природу, его душу, его цель»“.
В. Розанов пишет в своем трактате: «Понимание не есть
только знание, потому что нередко, многое зная, мы ничего еще
не понимаем; и оно не есть также наука, как система знаний об
одном, или философия, как система мыслей о другом. Оно есть
знания, такие и так соединенные, что ни до появления их разум
не может почувствовать себя вполне и навсегда удовлетворен¬
ным, ни после их появления - оставаться еще не удовлетворен¬
ным; это есть то, что заканчивает собою деятельность разума,
приобретая что, он от искания переходит к созерцанию, после
чего он довлеет в себе, не ищет, не спрашивает более; и не может
уже искать, не в силах более спрашивать»^'. А поясняя смысл
понимания в письме К. Леонтьеву, автор замечает: «Последнее -
это точно дух какой-то ворвался в факты, в знания и счленил их
в организм, в философию !»^^.
105
Приведенные цитаты позюляют предположить, что некое «что»
является не просто истиной, открьшшейся разуму, но и нечто боль¬
шим, находящимся за пределами его возможностей. Оно явно обре¬
тает свою органическую форму и самостоятельную жизнь.
А. Лосев, автор «Философии имени», обобщивший откры¬
тия Серебряного века, определил демиургийный момент име¬
ни, являющийся залогом и основой всех возможных творчес¬
ких актов мысли, воли и чувства, следующим образом: «Сим¬
вол становится живым существом, действующим, говорящим,
проявляющим себя вовне»^^ А несколькими страницами позже
философ возведет его в новое качество: «Символ, ставший ин¬
теллигенцией и превратившийся в демиургийную энергию име¬
ни, превращает сущность уже в живое существо, или миф, и
этот мифический момент имени есть уже вершина диалектичес¬
кой зрелости имени, с которой видны уже все отроги, расходя¬
щиеся отсюда по всем сторонам»^'^. Естественно, на наш взгляд,
предположить, что лосевский символ = миф соприроден тому,
не названному еще В. Розановым пределу, к которому стремит¬
ся акт понимания. Справедливость предположения может под¬
твердить или опровергнуть только сам В. Розанов.
В своем трактате мыслитель заметил: «Вещи, потеряв с}тце-
ствование, становятся только символами, обшдаш типами, идеями
вещей»^^ В приведенной цитате символ еще слишком напоминает
знак, замещающий идею. Однако уже в этом произведении пред¬
чувствуется и более сложное определение символа: он описывает¬
ся как «что-то неощутимое и в то же время несомненно присут¬
ствующее; не могущее быть выраженным ни в какой точной идее,
и в то же время обладающее зияодительной силой, которая из мате¬
риала чувственных впечатлений, несовершенных, грубых и огра¬
ниченных, образует идеи законченные, отвлеченные и общие»^®.
Важно, что этот символ существует независимо от рассугцса, до его
восприятия. Но несмотря на относительную самостоятельность,
таким образом определяемый символ слишком еще тяготеет к от¬
влеченной и законченной идее, зависит от нее.
106
Так в трактате утверждение о том, что весь мир есть игра
потенций, делает наиболее часто упоминаемым символ семя/
зерно. Например, рассматривая природу потенции, В. Розанов
выделяет в ней определенную и неопределенную составляю¬
щие: «Растение образуется через соединение двух потенций -
семени и вещества земли <... > потенциальность уже совершен¬
но распределилась в них: в семени сосредоточилось все образу¬
ющее начало - оно есть потенция и совершенно определенная;
в веществе земли сосредоточилось все образуемое, пассивное
начало - оно есть потенция совершенно неопределенная»^^
Сущность вьщеленного символа реализуется, казалось бы,
в иллюстрировании идеи потенциальности. Но, абстрагируясь
от конкретного восприятия на время, слово «семя» вновь спо¬
собно возникнуть в нашем сознании, уже как воплощение еди¬
ного для всего мира закона. Об этой всеобщности закономерно¬
сти, пронизывающей всю природу, от малого до великого, пи¬
сал В. Розанов: «Она проявляется и в движении небесных све¬
тил, и в едва заметном прорастании семени.. .»^*.
Семя как синтез форм и жизненности растения в другом
примере из трактата вновь сопровождается напоминанием ав¬
тора о том, что оно нуждается в «веществе для растения, кото¬
рое впитывается в него из земли»^^.
Если обобщить семантическое наполнение символа семя в
первом трактате В. Розанова, то следует отметить, что в первую
очередь это потенциальность, закономерность, синтез сил и
форм, но непременно нуждающихся в пассивном начале. Под¬
черкнем также, что символ этот все-таки еще достаточно умоз¬
рителен, традиционен. Правильнее было бы определить его как
концепт, который при всей допустимой образности более ил¬
люстративен, чем подлинный символ.
В коробе втором «Опавших листьев» В. Розанов попытался
выразить мысль о двойственной и непознаваемой природе сим¬
вола: «Взгляните на растение. Ну, там “клеточка к клеточке”, “про¬
топлазма” и все такое. Понятно, рационально и физиологично.
107
“Вполне научно”.
Но в растении, “как растет оно”, есть еще художе¬
ство...»'’”. Поясним, что для автора «О понимании» художе¬
ство означало приближение к жизненности, подлинность
созерцания, - это внутреннее качество, сущность изложения.
При этом важно, что художественность - отнюдь не творче¬
ство человека-?^дожника, она присуща миру изначально по
воле Творца. «Боже, откуда? - вопрощает В. Розанов, и сам
отвечает, - Боже, - от Тебя»'".
Символ, таким образом, призван выявить Божественную
сущность мира, его онтологию. Любопытно, что В. Розанов сам
описал способ рождения его символа: «От моего “общественно¬
го я” идет воронка, суживающаяся до точки. Через эту точку-про¬
свет идет только один луч: от Бога. За этой точкой другая ворон¬
ка, уже не суживающаяся, а расширяющаяся в бесконечность:
это Бог.. .»‘*^. Во втором коробе «Опавших листьев» описана мо¬
дель образования «первой воронки»: «Язычество, спрессованное
“до невозможности”, до потери всех форм, скульптур, - это юда-
изм. Потом спрессовывание еще продолжалось: теперь только
запах несется, материи нет, обращена в “о»” это христианство.
Таким образом можно рассматривать все религии как “одно раз¬
витие” <.. .> как постепенное сжимание материи до плотности
“металла”...»'*^
В «Апокалипсисе нашего времени» появляются сомнения
в истинности современного христианства: «Причина обезуме-
ния человеческого и потери Истинной Религии заключается в
языке, филологии...»'*'*. Скорее всего, В. Розанов усомнился в
подлинности не вообще христианства, а рождающегося в на¬
пряженном богоискательстве филологической по своей сути
культуре рубежа XIX-XX веков («.. .неужели Пушкин виноват,
что Писарев его “не читал”. И Церковь виновата, что Бюхнер и
Молешотт “ее не понимали”, и христианствовиновато, что
болтаем “мы”у>). Пе об этом ли его запись от 5 августа 1918
года, названная «Неудавшееся христианство»:
108
Зернышко. Зернышко - прорастай сквозь Голгофу...
Зернышко, Зернышко, прорастай сквозь Голгофу...
Зернышко, Зернышко, прорастай сквозь Голгофу.
Нельзя не отметить, как виртуозно использует В. Розанов
возможности синтаксиса: в первой строке тире лишь только
начинает приближение Зернышка к Голгофе (Зернышко найде¬
но, оно еще неподвижно: после первого употребления слова
стоит точка), затем, во второй строке, запятые обозначают об¬
ращение, но и укорачивают паузу при произношении, третья
строка, казалось бы, только повторяет предыдущую, но если
первые две заканчиваются многоточием, то в конце последней
ставится точка. Такое обращение к синтаксису при внешней
неподвижности текста (буквальном повторении его лексичес¬
ких компонентов) позволяет автору передать интонационные
модуляции стиха, которые, в свою очередь, воплощают невер-
бализованный смысл: автор нерешительно сопоставляет потен¬
циальное начало мира - Зернышко и символ земной смерти -
Голгофу, еще не уверен в самой возможности этого сопоставле¬
ния (многоточие), затем осторожно сближает их (вновь много¬
точие) и, наконец, решительно ставит в конце точку.
В этом фрагменте «Апокалипсиса...», в сущности, сосре¬
доточен весь смысл произведения: противостояние жизни и
смерти. В победе Зернышка над Голгофой не только символ
жизнеутверждения, но и реально переживаемая В. Розановым,
как и всей современной ему культурой, трагедия.
В Евангелии от Матфея Притчи о Царстве Небесном начина¬
ются притчей о Сеятеле, которая предвещает судьбы слов Христа.
Слово, как и вся культура, на рубеже XIX-XX веков, не воплощает
ли судьбу зерна, упавшего на каменистое местх), где немного бьшо
земли? Оно быстро взошло, потому что земли бьшо мало, но и
погибло с первыми лучами солнца, потому что не имело корня:
рационализм, которым жила Европа несколько столетий, иссушил
почву, питаюгцую жизнь мысли, духа. Перед человеком встала но¬
вая задача: вновь научиться воспринимать мир целостно.
109
«Все небесно, слишком небесно», - сетует В. Розанов на
христианство в «Апокалипсисе...», а ему, ищущему подлинно¬
сти воплощения бытия, не достает в этой жизни Зерна, «сыро¬
го, пахучего, взятого от земли». Надо вернуть душе ее полноту,
жизненность, чтобы стала она доброй землей, на которой упав¬
шее слово Сеятеля принесет плод «во сто крат».
В этой связи интересен фрагмент, где автор размышляет
над судьбой С. Булгакова, ставшего священником: «Долго, дол¬
го, - долгие годы он был предан теософической музе нашего
длиннокудрого философа (В. Соловьева - Я А'.). <... > И вот про¬
шли годы. 18 лет, думай и не думай, деятельности. Начал седеть
и С. Н. Булгаков. Но больше седел он в душе и в богатой своей
впечатлительности. Признаюсь, более всего я ценю богатое “чи¬
стое сердце” С. Н. Булгакова и что душу свою он “не сберега¬
ет”, а по нашему Некрасову:
Всяким вольным впечатлениям
Душу вольную - отдай...
А также по евангельскому зову, по притче Спасителя: не
хоронит душу свою в мглу, в тьму, а принимает богато в душу
свою всякое падающее на нее зерно»'^^ Конечно же, чтобы на¬
писать эти строки, В. Розанов сам должен был услышать еван¬
гельский зов, пойти за Спасителем. Не отрекается он от хрис¬
тианства, а ищет обновленного слова, ибо «Причина обезуме-
ния человеческого и потери Истинной Религии заключается в
языке, филологии»''^
В. Розанов, «вечный филолог», заставляет слово балансиро¬
вать между бесконечно разрастающимся смыслом и непосред¬
ственным восприятием, не позволяет ему оторваться от плодо¬
творной почвы, пусть грубой и неэстетичной, но способной взра¬
стить полновесный колос. Таким словом становится символ, ко¬
торый можно воспринимать всеми органами: вдыхать его запах
(не всегда аромат), тонко улавливать интонацию, распознавать
его тепло. В. Эрн назвал писателя даже «слишком термомет-
ричным»: «Розанов термометричен по отношению к близким.
110
непосредственно примыкающим к нему земным слоям. Много
изумительного говорит он о тончайших колебаниях близлежа¬
щего “тепла и холода”, впадая в чудовищные ошибки о далеких
краях и особенно об онтологических глубинах земли»'*''. (Оче¬
видно, говоря об онтологических ошибках, В. Эрн, как и мно¬
гие современники В. Розанова, имел в виду его сложные отно¬
шения с христианством.)
Дело в том, что само тепло у В. Розанова обладает онтоло¬
гизмом: «И помни: жизнь есть дом. А дом должен быть тепел,
удобен и кругл. Работай над “круглым домом”, и Бог тебя не
оставит на небесах» (Анв, 60). Впрочем, гораздо раньше, в пер¬
вом коробе «Опавших листьев» В. Розанов признался: «Я был
удивлен. Моя “новая философия”, уже не “понимания”, а “жиз¬
ни”, - началась с великого удивления. ..»'**. Удивился же он тому,
что в маленьком домике «в 4 окошечка», где жила его вторая жена,
впервые встретил благородных людей и благородную жизнь.
«Мир для меня бьш не Космос (чпумещ -украшаю), а Безобра¬
зие и, в отчаянные минуты, просто Дыра, - пишет автор о своей
жизни до знакомства с обитателями этого домика. - Мне совер¬
шенно бьшо непонятно, зачем все живут и зачем я живу, что та¬
кое и зачем вообще жизнь? - такая проклятая, тупая и совершен¬
но никому не нужная. Думать, думать и думать (философство¬
вать, “О понимании”) - этого всегда хотелось, это “летело”: но
что творится, в области действия или вообще “жизни” - хаос,
мучение и проклятие»"*®.
Переход от философии понимания к философии жизни был
ознаменован появлением в текстах В. Розанова новых симво¬
лов. Следует отметить, что розановские символы различны по
происхождению: от наполнения символическим смыслом слов
семантического поля дом (уют, тепло, малиновое варенье, с ко¬
торым надо пить чай гимназистам и студентам вместо того, что¬
бы решать риторические для России вопросы «кто виноват?» и
«что делать?», огурчик с прилипшей ниточкой укропа - все эти
тихие радости, сохраняя свою конкретность, возводятся в ранг
111
космического порядка, ибо и сам дом - это модель космоса) до
обращения к коллективным по своей сути, если вспомнить К. Юн¬
га, символам. Так, например, мыслитель описывает «величай¬
ший из всех символов» - Древо Жизни: «Это - действительно
прекрасный символ. Он образует - род, рост, связь всех явле¬
ний. Образует “целое” живой мировой жизни, - и для этого дей¬
ствительно прекрасно выбрано что-то ветвящееся, “отходящее”
от ствола и вместе с ним “связанное”; выстроена “лествица”,
все подымающаяся к небу, все ширящаяся, точно пополняющая
собою “поднебесную”...»^®. Довольно традищюнное значение
символа В. Розанов дополняет своим: листами древа называют
себя люди, которые принимают «солнечные лучи - свет солнца
со всех краев земли (курсив мой - Н К^у>. Сам он этот свет на¬
шел в древнем Египте, победившем смерть зерном Озириса.
В. Эрн упрекнул писателя в чудовищных онтологических
ошибках. Действительно, розановская модель бессмертия слиш¬
ком физиологична: семя, прорастающее зерно, которое в «Воз¬
рождающемся Египте» становится еще и жуком скарабеем: «Ведь
зерна хлеба, «и трав, и дерев» (см. “сотворение мира”) - все это
живые скарабейчики. Вместе - все это глазки, Озирисы...»^’.
Впрочем, скарабей становится и цветком, а точнее, бутоном, «из
которого вырастают и Озирис, и Изида», да и сам Египет В. Роза¬
нова становится «цветочной цивилизацией». «А человек не ина¬
че рождается как и плод: просто выходит из цветка; из цветка
матери своей», - пишет автор «Возрождающегося Египта»^^.
Еще в первом своем трактате В. Розанов за многообразием
жизненных явлений различал первоформу, к которой в процес¬
се понимания это многообразие и сводится. Семя, скарабей,
цветок - это архетипы, вызывающие в розановском мифе идею
бессмертия. Любопытно, как рождается у мыслителя мифоло¬
гический сюжет: рассматривая древнеегипетские рисунки, он
вдруг увидел, что мумия напоминает куколку бабочки, и тут же
появляется новая интерпретация. Уже в «Апокалипсисе ...»
читаем: «Мотьшек - душа гусеницы. <...> И никакого “ада и
112
скрежета зубовного” там, а - собирание нектара с цветов. За муки,
за грязь и сор “земледелие” гусеницы, за гроб и подобие, - но
только подобие смерти в куколке, - душа восстанет из гроба; и
переживет, каждая душа переживет, и грешная и безгрешная,
свою невыразимую “песню песней”...
Для В. Эрна же безусловно утверждение: «Из всех рели¬
гий одно христианство всегда дерзало не только мечтать о бу¬
дущей победе над смертью и временем, но и религиозно бази¬
ровать эту величайшую из всех надежд человечества на уже свер¬
шившемся факте победы над смертью - на светлом Христовом
воскресении. Победш смерть Христос»^'*.
Чудовищная онтологическая ошибка В. Розанова заключа¬
ется в понимании самого Христа. Автор «Апокалипсиса...» все
время предъявляет претензию к безжизненности, бессеменности
христианства. По его словам. Евангелие - «книга изнеможений»,
в отличие от «ревущего», «рыкающего» Апокалипсиса, который
«в структуре могущества и показывает суть свою». Трагичес¬
кая ошибка, на наш взгляд, читается в словах: «Евангелие - чело¬
веческая (курсив мой - Н. К.) история, нам рассказанная; исто¬
рия Бога и человека; “богочеловеческий процесс” и “союз”»”.
Для В. Розанова слова рождение и воплощение - синони¬
мы, причем именно рождение является определяющим. Не слу¬
чайно в его текстах никак не толкуется Троица как триединое
воплощение Бога. Ветхозаветный Бог - единственное начало
мира, но тогда сам Христос - либо человек, которого и не пони¬
мает В. Розанов из-за его «небытийственности»: «Христос не
посадил дерева, не вырастил из себя травки; и вообще он “без
зерна мира”.. .»^®, либо «только имя», только «рассказ».
Причина этой ошибки - отнюдь не личностное восприятие
мыслителя. Мы порой слишком легко говорим о том, что в кон¬
це XIX века позитивизм преодолевается философами (может ли
философская система, властвовавшая над европейскими умами
несколько столетий в раз и бесследно исчезнуть?). Ф. Ницше
этот кризис переживался на грани безумия, которое, по словам
113
в. Эрна, обосновано всей историей новой философии: «Основ¬
ной принцип этой философии, ratio, в корне своем поражен бо¬
лезнью дурной отвлеченности. Минуя действительность, ratio
с необходимостью вовлекается дурной своей логикой в пустой
схематизм. Разрыв между сущим и мыслью, между формой и
содержанием, между априорным и апостериорным, между яв¬
лением и тем, что является, - этот фатальный, поистине траги¬
ческий разрыв, коренясь в самом существе ratio <.. .> закрепля¬
ется и становится каким-то кодексом, какой-то священной скри¬
жалью для огромного большинства философов XIX века. А
между тем в этом разрыве уже заложены корни безумия»^'',
В. Розанов в трактате «О понимании», казалось бы, преодо¬
лел этот разрьш, провозгласив органичное единство формы и со¬
держания, принимая за абсолютный образец первоформу, идущую
от Бога. Ревниво оберегая это единоначалие, мыслитель навсегда
сохранил ужас перед гносеологическим дуализмом, который, как
отметил В. Эрн, коррелятивен с безумием Ницше: «Хаос жизни,
не побеждаемый разумными формами, овладевающий сознанием
вне этих форм, - и есть causa materialis безумия»^*. Затем В. Эрн
противопоставил хаос зиждительный, родной и одновременно
страшный - первоначальный как «некая темная мощь творящей
природы» - хаосу, к которому приводит философия Канта - «пре¬
дельная немощь бытия», - <осаос пустой, не имеющий никакой
силы, ничего не рождающий, наоборот - все убивающий». Этот
вторичный хаос заст;авляет В. Розанова с маниакальной подозри¬
тельностью всматриваться в мир культуры, и даже в религии он не
в состоянии преодолеть свой страх.
Так трагически развиваются его отношения с христиан¬
ством: он ошибочно принимает Христа за оппонента самого
Бога: «Христос перетворил по-новому человека... возмутившись
сотворением отца своего», -заявляет автор «Апокалипсиса.. .»^®.
Впрочем, были на этот протест и свои личные причины: раска¬
иваясь в «безумном консерватизме», «необузданном революци-
онерстве» и даже антихристианстве, В. Розанов пишет: «К нему
114
я был приведен семейным положением»®®. Как правило, в этом
«семейном положении» принято видеть безрезультатные попыт¬
ки добиться развода с первой женой и узаконить второй брак,
но, как нам кажется, здесь присутствует и семейный опыт, по¬
лученный еще в детстве. Неустроенность и сиротство, всегда
без материнской улыбки и тепла, священник, отказавшийся пой¬
ти в дождь исповедовать умирающую мать (недавно исповедо¬
вал), отсутствие того, что называется семейным религиозным
воспитанием - все осложнило путь к храму.
«Собственно, непосредственно слит с церковью я никогда
не был (в детстве, юношей, зрелым)... Я всегда был зрителем в
ней, стоятелем - хотящим помолиться, но не уже молящимся;
оценщиком; во мне было много любования (в зрелые годы) на
церковь. <.. .> Таким образом, и тут я был “иностранец” - “вос¬
хищенным Анахарсисом”, как в политике, увы, как - во всем», -
признается В. Розанов®’. И все-таки он не только любуется цер¬
ковью - отогревается в ней: «А тепло только тут. Отчего же
тут тепло, когда везде холодно? Хоронили тут мамащу, брат¬
цев; похоронят меня; будут тут же жениться дети; все тут...
Все важное... И вот люди надышали тепла»^^. В финале второ¬
го короба «Опавших листьев» звучит розановское раскаяние: «У
меня было религиозное высокомерие. Я “оценивал” Церковь, как
постороннее себе, и не чувствовал нужды ее себе, потому что
бьш “с Богом”. <.. .> Но пришло время “приложиться к отцам”.
Уйти “в мать землю”. И чувство церкви пробудилось. <...> В от¬
личие от высокомерной “религиозности” - “церковное” чувство
смиренно, просто, народно, общечеловечно»“. Современник В. Ро¬
занова, С. Маковский, посещавший собрания религиозно-фило¬
софского общества, увидел в этой ситуации уязвимость русской
интеллигенции, взявшейся с присущей ей самоуверенностью за
непосильную задачу: «Прежде всего, так ли заблуждалось наше
духовенство, не поверя в искренность обращавшейся к нему ин¬
теллигенции и не допуская права ее, интеллигенции, “вязать и
развязывать”? Между верой в церковном смысле (как данной
115
свыше благодати и как правды преемственного, от века в век
переходящего богомудрия) и религиозным философствовани¬
ем, сводящим веру к диалектике, - действительно большое рас¬
стояние. О религии лучше не разговаривать, ее осуществляют -
“в посту и молитве”. <.. .> И не имел ли какого-то права сказать
в одной из своих проповедей Иоанн Кронштадтский о шумев¬
ших на Собраниях интеллигентах: “умники неумные, вроде
Толстого”»®"'.
Различение церковности и религиозности выявляет в роза-
новском тексте контаминацию: противопоставление интелли¬
гентских споров (разговоров) о религии народному религиоз¬
ному чувству как теоретизирование о религии практике цер¬
ковной жизни (не это ли противопоставление породило у И1цу-
щего абсолютную истину П. Флоренского, С. Булгакова и др.
желание стать священником, чтобы непосредственно погрузить¬
ся в церковную жизнь). В реальной жизни В. Розанова ни пер¬
вое, ни второе не получили полного развития; из религиозно¬
философского общества был изгнан, но и истинного воцерков-
ления не произошло; до последнего момента он балансировал
между христианством и язычеством.
В 1905 году в журнале «Весы» был опубликован неболь¬
шой очерк В. Розанова «Мечта в щелку», который священник
Г. Петров в своем отклике на публикацию назвал исповедью
души христианина и мыслителя. Очерк этот странен для такого
жизнелюбца, стремящегося к вечной жизни, как В. Розанов под¬
робным размышлением о собственных похоронах. С поразитель¬
ным спокойствием описывает он необходимые приготовления
к похоронам: «.. .пускай меня вымоют, наде11ут чистое белье...
ограбят мою душу»®^ Последнее замечание относится к обы¬
чаю заменять золотой или серебряный нательный крест умер¬
шего на «двухкопеечный кипарисный», «дорогой и милый» «тор¬
говым из лавки». Если побороть смущение самим предметом
размышлений В. Розанова, то останется удивление странным
ходом мыслей автора; свою могилу он видит в двух вариантах.
116
Первый, «как следует», - это место между «статским советни¬
ком Иваном Ивановичем и мещанкою Анфисою Федоровною»,
на общем кладбище, а второй предполагаемый - вечный сим¬
вол розановской жизни «в своем углу»: «Потому через год с не¬
многим, когда уже все забудется, я бесконечно хотел бы убе¬
жать с места моих “как принято” похорон и похорониться вновь
по моей мучительной и одинокой фантазии»®*.
Конечно же, смысл всего этого странного фрагмента в том,
чтобы придать особую значимость розановской фантазии. В пред¬
полагаемом мавзолее должны быть стены кирпичной кладки са¬
жени в полторы, завершающиеся заостренными навер}^^ гвоздя¬
ми. У этого необычного мавзолея не должно бьггь перекрытия:
каждое утро лучи солнца беспрепятственно проникают вовнутрь.
Для того, чтобы солнце как можно дольше, весь день, светило, сте¬
ны должны расширяться кверху «воронка, опрокинутая широким
краем квер)^^». Таким образом, от двух воронок, некогда соеди¬
ненных, с помоид>ю которых В. Розанов описывал свою картину
мира, отсечена нижняя, где все - соединение сознания с Богом, а
нулевая точка, где собственно и происходит обращение мира внеш¬
него в мир внутренний, замещается цветущей землей. Эти цветы,
умирая, должны были осьшать семена, прорастающие следующей
весной. Так конструирует автор модель вечного возрождения.
Но модель эта любопытна еще и тем, что предполагаемый
мавзолей должен находиться за пределами России, «вне граду¬
сов России» - так предопределяет мыслитель путь к Древнему
Египту. В 1900 году был опубликован очерк «Величайшая мину¬
та истории», который вместе с последующими войдет в книгу
«Возрождающийся Ег ипет», итоговую и в творчестве, и в жизни
В. Розанова. Но уже в «Мечте в щелку» автор озабочен бессмер¬
тием тела: «Самое тело должно быть не просто в земле, а в свин¬
цовом ящике, и вообще червей, гнили и растаскивания костей -
не нужно»®’. Не здесь ли кроется секрет того, почему так ликовал
он, разгадав смысл египетских м>т^1ий, как и всего единения ре¬
альной телесности и символичности в египетской культуре?
117
«Тут “религия” и “быт”, “небесное” и “мое” так слилось,
что “коровки полезли мордочками в избу”, а “небо спустилось
к нам в дом”», - замечает В. Розанов о египтянах, называя их
народом, гениальным в религии, в морали и искусстве®*. С осо¬
бым усердием исследует он фаллические изображения, изобра¬
жения женского тела - символы материнства и отечества - отыс¬
кивая там исторический опыт неиссякаемой потенциальности:
«И нашего изнеможения “под старость лет” они, я думаю, со¬
всем не знали. Это тайна цивилизации и, я думаю, это одна из
“загадок Египта”, о которой они не рассказывали»®.
В. Розанов нашел в египтянах единомышленников, кото¬
рые «благородным и чистым своим мышлением» освятили ос¬
нову жизни: роды, рождение, семью. В годы разрушения, смер¬
ти и опустошения В. Розанов своим утверждением и возвели¬
чением пола противостоит реальности: наступает время после¬
днего баланса - жизнь/смерть, («Возрождающийся Египет» /
«Апокалипсис нашего времени»).
Подобно египтянам В. Розанов освящает и пол, и рожде¬
ние, и дом с его гармонией. Но его миф - не простое повторе¬
ние египетских сюжетов. Вечная жизнь - это жизнь бабочки в
райском саду, не обремененная поисками пропитания (В. Роза¬
нову припомнилось, что у бабочек отсутствуют органы пище¬
варения). Словно зерно, упавшее в землю, умершее, а затем воз¬
родившееся в новом ростке, бабочка рождается из гусеницы,
которая умерла в куколке, чтобы из кокона-гроба смогла выле¬
теть порхающая красавица.
У В. Набокова есть небольшой рассказ «Рождество», в кото¬
ром только что похоронивший сына герой, разбирая вещи умер¬
шего мальчика, нашел там купленный за три рубля комон индийс¬
кой бабочки - она должна была пополнить коллекцию мальчика.
И вот раздался странный звук. «Слепцов агкрьш глаза и увидел: в
бисквитной коробке торчит прорванный кокон, а по стене, над сто¬
лом, быстро ползет вверх черное сморщенное существо величи¬
ной с мышь. Оно остановилось, вцепившись шестью черными
118
мохнатыми лапками в стену, и стало странно трепетать. <.. .> Оно
стало крылатым незаметно, как незаметно становится прекрасным
мужающее лицо. И крылья - еще слабые, еще влажные - все про¬
должали расти, расправляясь, вот развернулись до предела, поло¬
женного им Богом, - и на стене уже была - вместо комочка, вместо
черной мыши, - громадная ночная бабочка, индийский шелкопряд,
что летает, как птица, в сумраке, вокруг фонарей Бомбея»™.
Преображение завершается рождением нового существа:
черное сморщенное подобие мыши расправляет едва обсохшие
крылья, простирает их, и они «вздохнули в порыве нежного,
восхитительного, почти человеческого счастья».
Нетрудно заметить, как близок этот фрагмент розановско-
му символу: неприглядность куколки - лишь ступень на пути к
великолепию и почти человеческому счастью. Но в отличие от
В. Розанова В. Набоков изначально подчеркивает уникальность
описанного, так как герой рассказа, пережив смерть сына, на
мгновение подумал, что ему «до конца понятна», обнажена зем¬
ная жизнь, «горестная до ужаса, унизительно бесцельная, бес¬
плодная, лишенная чудес...» Появление на свет бабочки, чу¬
десное превращение куколки, нужны автору, чтобы создать в
тексте пространство, где читатель без принуждения волен по¬
грузиться в мир мысли, или «не заметить» ее.
Слепцов должен прозреть, но каким образом, читатель не
знает: произойдет ли это прозрение до появления бабочки, когда
герою открывается, что земная жизнь ему до конца понятна, или
предполагается, что он, наконец, поверит в чудо, став его очевид¬
цем. И тогда название рассказа «Рождество» как и фраза «Слепцов
открыл глаза и увидел» приобретают символическое значение.
«К концу ХХ-го века типографии будут продаваться на
снос - утверждал В. Розанов в “Опавших листьях”. - Люди
станут опять свободны от “пишущей братии”, - и может быть,
тогда выучатся танцевать, устраивать рауты, полюбят музыку,
полюбят обедню, будут опять любить свято и чистосердечно.
Будут счастливы и серьезны. <.. .>
119
Будет опять возможна проповедь. Будет Савонарола. Будет
возможен Ап. Павел.
Неужели будет? Неужели заиграют эти зори.
Зори прекрасного и великого.
Новое. Все новое»^'. А пока и человеку, и литературе пред¬
писано бьшо пройти через апокалипсис...
Сделав этот прогноз, следует признаться - достаточно
справедливый, В. Розанов задолго до конца XX века осуще¬
ствляет свой вариант освобождения от «литературы», погру¬
жаясь в первобытное царство архетипов и первоначальных
символов. Он словно впервые, точнее: Он - впервые, откры¬
вает для себя традиционные образы, восхищаясь вместе с древ¬
ними египтянами скарабеем и преклоняясь перед ним, любу¬
ясь порхающей бабочкой, видит в ней и покинутую куколку -
умершую гусеницу. Он словно и не замечает, что в культурной
памяти человечества этот символ имеет богатейшую тради¬
цию. Для В. Розанова это несущественно: он самостоятельно
и в реальном времени осуществляет давно свершившийся акт.
Автор трактата «О понимании» всегда верен себе: не просто
отыскивает в вечной памяти архетипические по своей приро¬
де образы, а заново переживает их рождение. Так в египетс¬
кой культуре ему дорого то, что он испытывает радость узна¬
вания своих откровений.
В сознании В. Розанова осуществляется сложнейший про¬
цесс: человек второй половины XIX века, увлекавшийся рабо¬
тами позитивиста Д. Милля в юности и сформулировавший в
итоге этого увлечения тезис о том, что целью человеческой
жизни является счастье, он, отказавшись затем от этого утвер¬
ждения, определил для себя новую задачу: открыть естествен¬
ные цели жизни человека, составляющие его предназначение.
С этой задачей не смогла бы справиться ни одна философская
система, зт-онув в бесчисленных сложных сплетениях жизни.
Но эта задача была по плечу архаическому человеку, живше¬
му вложенными в его природу естественными целями.
120
в. Вундт, немецкий психолог, вьщелил два представления
древних о душе: раннее - о телесной душе и более позднее - о
свободной. Первая не отделяется от тела, она размещается в крови,
в глазах, почках, фаллосе или в других органах, а вторая (психе)
сосредоточена в дыхании, или является тенью, способной поки¬
дать тело. В. Розанов переживает сразу эти две стадии: от одушев¬
ления фалла до трансформации души в самостоятельную сущность.
Так появляется бабочка, вкушающая ароматы цветов и нектар в
саду вечности. Правда, заметим, что лишая бабочку органов пи¬
щеварения, В. Розанов сохраняет ей способность к размножению
как осуществлению естественной цели. «Значит, “мир будущего
века” по преимуществу определяется как “совокупление”: и тогда
проливается свет на его неодолимость, на его - ненасытимость, и,
“увы” или “не увы'', - на его “священство”, что оно - “таинство”
(таинство - брака). Открытий - чем дальше, тем больше. Но явно,
что у насекомых, коров, везде - в животном и растительном мире,
а вовсе не у человека одного, - оно есть “таинство небесное и свя¬
тое”. И именно в центральной его точке - в совокутениюу’’^-.
Заявляя о том, что бабочка - энтелехия гусеницы, В. Роза¬
нов игнорирует культурную традицию толкования этого образа
как символического обозначения вообще души, известное еще
с античности (бабочка - знак Психеи), для него важно, что это
душа и сущность именно гусеницы, «крылатая душа прожорли¬
вой неподвижности». Так триада гусеница - куколка ~ бабочка
становится вторым по значимости после зерна/семени симво¬
лом в основании розановского мифа («Зернышко оплодотворен¬
ное и зимующее»). Сама реальность, попадая в этот миф, транс¬
формируется по его логике. Так почтенная Европа становится у
В. Розанова гусеницей, «прожорливой, бесстыдной, гадящей
землю, портящей сады, деревья, кусты, капусту, розы». А участь
гусеницы - ее смерть в куколке, но и возрождение в бабочке.
Рассуждая о европейском нигилизме, автор заявляет: «Ев¬
ропа есть религиозный труп. С фразами, модами, диссертация¬
ми - но труп. Все - умерло. Небес и даже чердака нет. Ломанье,
121
актерство - еще отвратительнее но это только окукли¬
вание, говорит автор. - Будет любовь, нежность, грусть. Будет
все-таки религия, нам родная, о, какая родная... Будут звезды
далекие, новые. Будут храмы, разве мы можем остаться без
них... . Но пока не пришло еще время новой религии, и В. Ро¬
занов не помышляет о том, чтобы о ней пророчествовать - его
задача иная: воспринять мир в его многообразии, чтобы свер¬
шился акт понимания, в результате которого мир станет своим
для мыслителя настолько, что можно будет его бескорыстно со¬
зерцать. Именно так автор непонятого современниками трак¬
тата «О понимании» представлял себе цель жизни человека,
пришедшую на смену «утилитарному» стремлению к счастью.
Вспомним, что путь рождения образа В. Розанов представ¬
лял как некую воронку, точнее, две воронки, соединенные сво¬
ими устьями. Первая наполняется сощ1альным и культурным
содержанием, которое преобразуется, проходя через устье-про-
свет «от Бога», и уже вторая воронка }тсодит в вечность. Как ни
странно, в этой схеме не обозначено, как расположены эти во¬
ронки; если первая широкой частью обращена кверху (верхняя
воронка - мир социальный), а вторая - книзу (мир - вечность),
то движение есть погружение в себя, а сознание человека на¬
полняется Божественным началом. Косвенно, однако, В. Роза¬
нов сам обозначил порядок этих воронок в «Мечте в щелку»:
над его могилой должна возвышаться стена, расширяющаяся
кверху - воронка, уходящая в вечность. (Нижняя часть отсече¬
на в момент смерти.)
Этот образ соединенных воронок сам стал символом. Его
многозначность позволяет интерпретировать смысл в парамет¬
рах розановского мифа. Так, например, эти две соединенные
воронки порождают образ песочных часов: если опустошается
верхняя часть, то стоит их перевернуть, как время «возвратится»
подобно тому, как умирает и возрождается семя. Весь миф стро¬
ится у В. Розанова в чередованиях умирания и воскрешения,
концов и начал: гусеница, куколка умирают, чтобы появилась
122
бабочка, старый одряхлевший мир Европы должен умереть,
чтобы появился новый, - это ни что иное, как чередования апо¬
калипсиса и возрождения.
Следует, впрочем, заметить, что наполнение первой ворон¬
ки происходит в исторической перспективе по-разному: у пер¬
вобытного человека этот процесс осуществлялся на основе не¬
посредственного восприятия природного мира, в конце XIX века
в отношения между природой и человеком все активнее вмеши¬
вается посредник - культура, что вынуждает В. Розанова осу¬
ществить ревизию культурных ценностей. Сама по себе эта цель,
как мы уже замечали, не оригинальна, уникален розановский
путь к ней: сначала - тест на подлинность как освобождение от
культурного наслоения до первооснов, т. е. до архетипов, а за¬
тем - осмысление полученного символа через Божественное
присутствие. Таким образом, подлинная реальность освящает¬
ся, трактуется как осуществление Божественного замысла тво¬
рения. При этом для В. Розанова мир равно значителен во всех
проявлениях: будь то храм или дом, культовый предмет или огур¬
чик с ниточкой укропа - все прописывается в Вечности, если на
то бьша воля Создателя. У создателя «своего угла» в бесприют¬
ном мире сознание должно было быть мифологическим по сво¬
ей природе.
Но как бы ни хотел В. Розанов освободиться от непомер¬
ного культурного опыта, он - человек своего времени и наслед¬
ник этой культуры, а значит, в полной мере быть последователь¬
ным он не мог, и его естественный природный (Божественный)
мир - утопия. Он обрек себя на двойственность существова¬
ния: с готовностью и радостной покорностью принимает этот
мир, как язычник, но, с другой стороны, еще в студенчестве
определил идею счастья как утилитарную цель и принял неиз¬
бежность, и даже необходимость, страдания. «Язычество есть
младенчество человечества, а детство в жизни каждого из нас -
это есть его естественное язычество», - утверждаетВ. Розанов^'*.
Но человек взрослеет и приходит к христианству. Язычество/
123
христианство, утро/вечер, радость/горе - вот те весы, на кото¬
рых он балансирует, пытаясь удержать равновесие. И в самом
«антихристианском» «Апокалипсисе нашего времени» автор
удерживается в этой точке равновесия, потому что точка эта -
Бог. Даже Египет Розанова возрождается по-новому: мыслитель
словно не замечает языческого политеизма древних, он воспри¬
нимает их мир через веру в единого Бога Творца. Иными слова¬
ми; В. Розанов прочитывает мифологию Древнего Египта че¬
рез Библрпо, но тогда и «семя» как символ вбирает в себя и вет¬
хозаветные, и евангельские смыслы, - это уже не только при¬
родный потенциал, реализ)тощийся в бесконечном растении, но
и потенциал семени-слова, соотносимого с культурой.
Миф как форма сознания - это целостность и единство
«точечных» восприятий действительности, поэтому, говоря о
рождении символа в розановском тексте, мы имеем в виду, что
все творчество В. Розанова стремится стать единым текстом. Он
легко группируется из афоризмов, статей, коротких заметок, и
тогда появляются книги. Но при этом допустимы кочующие
сюжеты, отдельные фрагменты, свободно переходящие из од¬
ной книги в другую.
Напряженное вчувствование в мир, постижение его перво¬
начал, стремление к подлинности своих восприятий и образов
помогают избежать В. Розанову «сатанинского искушения»,
словами символиста Эллиса, догматизировать данные своего
внутреннего опыта. В 1910 году он с удивительной прозорливо¬
стью определил едва ли не самый страшный грех собратьев по
поэтическому цетц^: творчество символистов осуществлялось в
неизбежной отрешенности от чувственных явлений, от жизнен¬
ного опыта, что приводило к невозможности выразить на по¬
нятном для других языке свои прозрения и откровения. По мне¬
нию Эллиса, символист «всего ярче намекая на последнюю Тай¬
ну, говоря о Едином Первоисточнике, он утрачивает всякую
почву, лишаясь опоры в растворенной им же реальной почве, в
мире феноменов»^^ Эллис отчетливо представлял опасность
124
превращения символизма в догматы положительной религии,
в сектантство, в чуждые всякой художественной ценности ка¬
техизисы с мертвым языком, стремясь сказать все, но не сказав
ничего. В. Бычков продолжил мысль поэта-символиста; «Сим¬
волизм осознав, что главной целью искусства является возведе¬
ние человека в духовные миры, поднялся до той грани, на кото¬
рой он должен или совсем оторваться от материи, т. е. перестать
быть искусством (превратившись, например, в религию или
чистую мистику), или сознательно остановиться на пути вос¬
хождения к Перво-Символу, только намекая на него еще в кон-
ретно-чувственных формах искусства»'''^.
Сам миф в таком случае превращается в некую иллюстра¬
цию катехизиса, приобретает вторичность. Словно продолжая
эту мысль, А. Лосев в «Диалектике мифа» будет настаивать на
том, что миф появляется до религии. В. Розанов же сам находил¬
ся в дорелигиозном состоянии: его балансирование между язы¬
чеством и христианством в этой ситуации закономерно. Сделать
окончательный выбор или провозгласить свою религиозную сис¬
тему и значило бы поддаться «сатанинскому искушению».
При всем стремлении символистов к многозначности сим¬
вола, язык их продолжал оставаться одномерным, что и опреде¬
лило быстротечность самого символизма как явления. В призна¬
нии А. Блока, сделанном 10 февраля 1913 года о том, что ника¬
ких символизмов больше нет, содержится горькое откровение.
В. Розанов в статье «Декаденты» (1896) заметил, что декаданс и
символизм являются апофеозом «опустошенного и павшего я»: «Пе¬
ред ледяным «я» проносятся чисто абстрактные видения, не цепляю-
пщеся ни за какую реальную действительность, ничего из реального
мира не несущие в себе, кроме отдельных слов, названий предметов,
обрьшшв сцен, которые чередуются в произвольном порядке. Среди
этих сцен предметов, слов, захваченных зыбким юспоминанием из
мира действительности и несущихся вперед без намерения и смысла,
попадаются как бы брошенные, как бы потерянные мысли, без разви¬
тия, даже без сколько-нибудь необходимой связи»''’.
125
Казалось бы, в этих строках автор предваряет свою соб¬
ственную поэтику: пройдет 16 лет, и появится «Уединенное»,
открывшее В. Розанова как неповторимого стилиста. Фрагмен¬
ты, краткие воспоминания, «случайные» мысли составят его
короба «Опавших листьев». При этом автор будет настаивать
на том, что его произведения компонуются по принципу слу¬
чайности. В чем же дело?
«Термометричность» (В. Эрн)В. Розанова произошла от его
постоянных ощущений подлинной жизни, его тепло - безуслов¬
ный показатель этой подлинности. Порой оно становится симво¬
лом духовности, безусловно, идущей от Бога. В декадентах же
он чувствует ледяное «я», что, очевидно, можно понять, как от¬
сутствие какой-либо потенщ1альной энергии, способной стать
объединяющей силой, а его, розановское, тепло притягивает эле¬
менты произведения, которые сами срастаются в текст, согретые
искренностью автора. Декадентами называет В. Розанов Мопас¬
сана и Нищие. В текстах первого он видит уродливый эротизм:
«Эрос не одет здесь более поэзией, не затуманен, не скрыт; весь
смысл, вся красота, все бесконечные муки и радости <... > все это
здесь отгброшено.. .»''*. В. Розанов сокрушался: «Умер “душевный”
человек и остался только физиологический»’®. (Сам В. Розанов,
названный А. Лосевым «половых дел мастером», подчеркивал
всегда, что его пол не физиологичен, а мистичен и космогони-
чен.) Изменился угол зрения, как отмечает критик декадентства,
и писатель опустился «до низин не одухотворенной природы»,
потому что ушел религиозный смысл из обезличенного мира.
«Мистическими самцами» назвал В. Розанов Мопассана и
Ницше - у обоих культ своего Я потерял всякие сдерживающие
границы: «Только одному больше хотелось “порхать” над “тре¬
пещущими орхидеями” - (тут В. Розанов обращается к цитиро¬
ванному им фрагменту из “Дневника” Мопассана, описываю¬
щему эротические фантазии посещающего оранжерею с орхи¬
деями, цветки которых ""более соблазнительные, нежели уста
женщины, - полые, с вывернутыми, зубчатыми, мясистыми
126
губами, осыпанными зародышами жизни..- а другому нра¬
вилось в какой-то пещере или с какой-то горы объявлять чело¬
вечеству новую религ ию, в качестве возродившегося “Зоратус-
тры”. Религию “сверхчеловека”, объяснял он... Но они все, и
Мопассан тоже, уже бьши “сверх”-человеками по совершенно¬
му отсутствию для них нужды в “человеческом” и по отсутствию
в них самих необходимости для человека»*®.
В. Розанов на протяжении статьи он не однажды обращался к
процитированному фрагменту из мопассановского «Дневника», а
в «Апокалипсисе...» читаем: «Орхидеи. Розы. Цветы... Ивее пах¬
нет и стр)лит ввысь от счастья. Что же делает мотылек? Он только
и делает, что дегустирует стыдливые части этих других и совер¬
шенно иных существ, ему почти незнаемых, ему почти неведо¬
мых. Но “неведомо”, а “хорошо пахнет”. И хоботком, не приспо¬
собленным ни к еде ни к питью, он собирает камедь и пахучесть,
сок - этих тайных и столь изукрашенных органов»**. Однако роза-
новский мотылек ~ «крылатая душа прожорливой недвижности» -
почти лишен плоти, и наслаждается он нектаром, ничего не зная о
растении. Он просто следует своему предназначению: «смежива-
ет небеса». Или иными словами: мотылек осуществляет естествен¬
ную цель своей жизни, предпосланную Богом.
Нам представляется, что орхидеи упомянуты в «Апокалип¬
сисе. ..» не случайно. Они упоминаются первыми, опережая насы¬
щенную символическим смыслом розу. Мопассановский сюжет
претерпевает перерождение; «физическое плотское изнеможение»
преодолевается и трансформируется в служение высшим косми¬
ческим целям - гусеница превратилась в куколку, куколка-мумия
освободила энтелехию гусеницы от плотского и породила бабоч¬
ку. Таким образом, идея возрождающегося семени уточняется: семя
способно породить лишь собственное подобие, в то время как гу¬
сеница перерождается, чтобы выявить свою сушдость.
«Возрождающийся Египет» изобилует изображениями об¬
наженного женского тела, детородных органов, однако автор трак¬
тует их как космизированную красоту - преддверие религии:
127
«Взята бы была “голая женщина” - и мы, взглянув, сказали бы:
“Голая женщина”, и - ничего бы не прибавили. Просто, ясно,
наглядно и “отвернулись”. Но во всех изображениях мы узнаем
“dnesse” (богиню - Я К.), а не “femme” (женщ1шу-Я К.) - по¬
чему? По демонстративности. Не просто - “нага”, но - “указует
в себе” плодородное, будущее, жизнь, детей. Отсюда разница с
“нагою в paKOBiffle”, на чем так ошиблись греки (Афродита)»*^.
Именно этой божественной одухотворенности и не стало,
по мнению В. Розанова, в культуре декаданса и символизма:
«Так, я помню картину, представлявшую глубину морскую, в
которую падал луч солнца; внимательнее всматриваясь, я заме¬
тил, что какая-то рогатая раковина, вытягиваясь кверху и спле¬
таясь с крутящимися водами, поднималась навстречу этому лучу,
обнимала его, принимала его в себя; и, еще внимательнее всмат¬
риваясь, увидел с некоторым удивлением и гадливостью, что
тог не пучина и не изгибающаяся форма раковины тянулись
вверх, а в форме их - судорожно изгибающееся, прозрачное
женское тело охватывало своими формами луч»*\
Прозрачность женского тела есть ни что иное, как отсут¬
ствие наполненности смыслом, бесцельность искусственной
красоты, ее безрелигиозность - холодная мысль, утратившая
связь с «великим материком» истории, культуры, религии, ре¬
альных дел, где только и могло спастись «это смрадное чудови¬
ще» - человек, ставший «мистическим самцом»
Символ как микрочастица мифа повторяет его структуру: он,
как и миф, может быть представлен в форме пирамиды. В ее гра¬
нях фиксируются выраженные в текстах значения (чем точнее они
повторяют друг друга, тем жестче грани), а само внутренне про¬
странство гвфамиды, ее тело, наполнено живыми впечатлениями,
обозначенными автором, и имплицитно присутствующими ассо¬
циациями. Подчеркнем, что эти ассоциации пережиты автором и
интересны ему в своей итоговой форме; нет элемента «игры в би¬
сер» как способа организации текста, розановский текст представ¬
ляет собой органическое единство. Отсюда - поразительная
128
устойчивость значений символов. Так семя читается во всех тек¬
стах однозначно, а фрагменты, посвященные бабочке, почта бук¬
вально повторяются. Эта rpyima символов наиболее непосредствен¬
но и очевидно вьфажает сущность розановского мифа - идею веч¬
ной жизни - и скрепляет единство текстов.
Другая группа состоит из скрытых символов. Их символи¬
ческое значение не фиксируется специально автором, но всегда
присутствует в тексте. Так, например, отдавая предпочтение скуль¬
птурному и даже архитектурному мышлению (архитектура, по
словам В. Розанова, бескорыстный вид искусства, где создаюпщй
«слит с эпохою и народом, где он не возвышается над ними, не
вьщеляет на их фоне своего я»), автор неоднократно называет
храм, пирамиду. Но нигде не фиксирует жестко их значение. Так,
например, он в своем очерке лишь в названии «Вершина тысяче¬
летней пирамиды» упоминает само слово, но зрительное и смыс¬
ловое восприятие уже осуществилось читателем, и этот символ
незыблемой вечности как шкала значимости буцет незримо воз¬
вышаться над «литературными» проблемами.
В «Возрождающемся Египте» пирамида присутствует как
реальная данность, наделенная смыслом. Однако, сама она ста¬
новится моделью авторского миро-видения и восприятия: ее фор¬
ма прочитывается и в воронке, и в кирпичном заборе над моги¬
лой («Мечта в щелку»). Она порождает и читательские интер¬
претации ее смысла, пополняется его ассоциациями. Но сама
пирамида, ставшая культурным символом, прожившим тысяче¬
летия, настолько «отшлифовала» свое значение, что не нуждает¬
ся в авторской огранке. Пирамида - вечность, хранительница сле¬
дов прежней жизни (В. Розанов подчеркивал значение бескорыс¬
тного труда древних ?одожников, создающих свои фрески и скуль¬
птуры только для вечности), отсюда и правомочность, как нам
представляется, читательского сравнения ее с другим символом
времени - песочными часами, иллюстрирующими розановскую
формулу вечности как бесконечные возвращения.
129
3.3. Пирамида как модель творческого сознания
В. Розанова
Пирамида как геометрическое тело обладает большими
символическими возможностями. Еще Демокрит называл ее
самым простым и первоначальным телом. Лейбниц увидел в
этой форме бесконечное движение, ибо она имеет начало, но
может бесконечно разрастаться в вершине, Ыицше уподобил ее
высокой культуре, когда ему потребовалось подчеркнуть важ¬
ность широкого основания. В. Розанов всю русскую литерату¬
ру обозначил как пирамиду (один из своих очерков о ней он так
и назвал «С вершины тысячелетней пирамиды»).
В семантике розановской пирамиды, безусловно, присут¬
ствует опыт Древнего Египта. Однако В. Розанов своеобразно
истолковывает ее значение: это молчаливое пророчество егип¬
тян, пророчество через «четыретысячелетнее упоение созида¬
нием». Суть этого пророчества в том, чтобы «...противоесте¬
ственной тяжестью придавить, удержать около земли и, нако¬
нец, просто ввести в русло, благоустроить... опьянение души
“мыслями”»*"*. Таким образом, основание пирамиды придает
необходимую укорененность стремлениям человека подняться
к незыблемым вечным духовным основам.
Пирамида - символ вечной жизни человека, его последнее
пристанище. Напомним, что в очерке «Мечта в щелку» она пре¬
вращается в мавзолей со стенами кирпичной кладки. Это нео¬
бычное сооружение выглядит как «воронка, опрокинутая ши¬
роким краем кверху®^. Обратим внимание: пирамида не только
перевернута, но и трансформирована - она теряет свои грани,
приобретая форму конуса. С. Франк в статье «Космическое чув¬
ство в поэзии Тютчева» конус представил в качестве модели
процесса творчества. Совпадая в контурах, конус и пирамида
моделируют явления по-разному: конус предполагает отсутствие
граней, слитность и перетекание объема-символа, пирамида же
в плоскости грани открывает перед смотрящим лишь здесь
130
и сейчас представленное пространство. Только поменяв точку
зрения, можно увидеть другую грань, но при этом исчезнет из
виду первая. Именно так проявляет себя логика мифа - логрпса
парадокса: грани не могут противоречить друг другу, так как
они не встречаются в одной плоскости. Именно так построены
произведения В. Розанова, вызывающие недоумения своей про¬
тиворечивостью высказываний у непосвященного читателя.
Комментируя в 1913 году письмо Н. Страхова от 9 ноября
1888 года, В. Розанов вновь обратился к когда-то удачно най¬
денной модели, но теперь она приобрела космическую перс¬
пективу, воплощая онтологическую двойственность мира. Те¬
перь появляются две пирамиды: божественная и демоническая.
Божественное начало - самоотверженное служение, демоничес¬
кое - поглощающее: «Земля - основание; над нею пирамида в
верх, к ангелам, солнцу, к Богу, откуда текут лучи света, жизни,
устроения, блага, откуда все - растет, здоровеет, долгоден-
ствует, благоденствует. Простое житейское добро. Но точь-
в-точь такая же есть книзу пирамида, откуда подымаются “к
нам на землю” испарения, угар, путаница, злоба, разрушение,
подкапывание, клевета, “революция”, социал-демократия, газе¬
ты, журналы, “Вопросы философии и психологии”»*®.
На земле-основании помещает В. Розанов пирамиду-вверх:
«Лес, пустьшя, пустынник - одно; такое же одно - семья связанных
друг с другом людей, с варевом к обеду, работою днем, сном без
сновидений или благими сновидениями ночью. Вот божественный
порядок, божественная типшна, божественный труц»*’. Уютный,
теплый и одновременно божественный порядок противопоставлен
демоническому хаосу: «И совсем другое - улица, гам, клуб, кокотка,
писатель. Здесь - демоническое безделье, или если “дело” -то злоб¬
ное, разрушительное, кого-нибудь опрокидывающее, что-нибудь
разрушающее, подо что-нибуць подкапывающееся»**.
Такие две взаимно опрокинутые пирамиды удивительно на¬
поминают дантовскую картину мироздания с четким противопос¬
тавлением Божественного мира (Эмпирея) царству Люцифера
131
(аду). Именно с Данте, который «.. .со всеми “кругами ада” полно
выразил мрачн5лю теологию великого и беспощадного средне-
вековья»*’, сравнивает автор Толстого, увидевшего свое время,
свою цивилизацию, как огромное темное небо, в котором тонут
великие мира сего.
Однако, чтобы постичь это небо, надо обладать особым,
космическим сознанием, «...которое не похоже на самосозна¬
ние индивидуума, не похоже вообще на обычные психические
состояния, а заключается в том, что духовное Я человека как бы
сливается, единится или роднится с существом же мира, тоже
духовным, отнюдь не только механическим»^“.
В высшей мере космогоничными называет В. Розанов за¬
падные литературы, так как они озирают мир, страны, судьбы
народов. Русская же литература пристально всматривается в
повседневную жизнь. В этом сосредоточении на душе и судьбе
человека русские, как считает В. Розанов, не имеют соперни¬
ков. Автор отмечает красоту, возвышенность и верность мысли
своих соотечественников, но склонность жить впечатлениями,
также присущая русской литературе, приводит к поверхности и
упрощению жизни.
«Мы упрощаем жизнь в вечной погоне за “простой ежеднев¬
ной правдой”... Впрочем, ведь мы и живем на плоскости. Вся Рос¬
сия - шадь»^'. Российский топос, по В. Розанову, есть гладь, плос¬
кость, поверхность, которая подчиняет себе все пространстео (в
очерке «А. П. Чехов», например, автор рассказывает о том, что го¬
род Белый некогда носил имя Белая. В те времена так называлась
крепость, защищавшая Москву от набегов Литвы. О ее земляных
валах лишь слегка напоминают бугорки, едва различимые за клад¬
бищем). Р1менно эти необозримые горизонты и рождают особую
созерцательность, которая, в свою очередь, определяет тип мьпи-
ления: «Гончаров был созерцатель, - замечает В. Розанов, - и от¬
сюда горизонтальность его мышления»’*.
Протяженность плоскости преодолевается вертикалью, ко¬
торую В. Розанов обозначил как некий малый алтарь, в котором
132
«Русские за век с небольшим своего творчества создали такие
удивительные и превосходные вещи, абсолютной ценности и
абсолютного интереса, что не только французской, но и не ко¬
торой из европейских литератур они не уступают»®^.
Абсолютность отличает духовность русской литературы, и
именно она открывает истинную вертикаль в ее развитии; движе¬
ние к Богу. Именно по этой причине пирамида вершиной своей
уходит в бесконечность, недосягаемую для человека высоту, кото¬
рая должна уравновешиваться не менее протяженной горизонта¬
лью, которой и соответствует бесконечная русская равнина.
Однако В. Розанов далек от упрощения и самолюбования. «Я
давно пришел к догадке, что идеи необыкновенно высокие, так
сказать, в верхней своей ступеньке сводят в невообразимое иногда
болото, а идеи, нижняя ступенька которых кажется или обыкно¬
венна, или даже худа, порицаема, иногда “порнографична”, чем
дальше идешь по ступенькам их, поднимают в необыюювенную
высь», - пишет он в статье “Об отрицании эллинизма”»®'*.
Слова эти обозначают сложные отношения верха и низа,
пространственно моделируемые как пирамида вверх и пирами¬
да книзу. Диалектика этих отношений отмечена В. Розановым у
Достоевского, который, по мнению автора, только один был
способен совмещать в себе обе бездны, на себе ощущать под¬
линную трагедию их борьбы.
В очерке, посвященном А. Чехову, В. Розанов выстроил ан-
тиномичные пары доминант, различающих европейскую и рос¬
сийскую ментальность: швейцарские озера - российские боло¬
та, солнечные пляжи - кладбища... Не вдаваясь в сложные отно¬
шения этих сопоставлений, подметим, что характерной чертой
российского культурного ландшафта является не только равни¬
на, как было сказано выше, но и болото. Высота и невообразимое
болото - еще одно уточнение обр^а взаимно прокинутых пира¬
мид. Но это не просто бездна, это особое пространство, которое
характеризуется прежде всего способностью консервировать «зо¬
лотую руду». Солнце и болото, святость и греховность, хаос
133
и космос, сознание и бессознательное - все это обозначения
осевой вертикали, по которой выстраиваются две, соединенные
общим основанием (жизнью) пирамиды.
«’’Вечность”, как вековечный плод, объявляется только в
последнюю минуту; “вечность” - это всегда угол, к которому
сходятся сближающиеся линии и само собою разумеется, что
он, этот угол, является тогда, когда движения этим линиям бо¬
лее нет»^^, - так обозначил В. Розанов связь высоты пирамиды
как ее пространственную характеристику со временем - порож¬
дением движения. Прекращение движения завершает образо¬
вание пирамиды, но пирамида духа, в отличие от памятника
Древнего Египта, при этом рассыпается. Так случилось и с ты¬
сячелетней пирамидой русской литературы. В. Розанов с горе¬
чью констатировал; в 1917-1918 годах рухнуло русское царство,
а вместе с этим что-то кончилось в России, завершилось и те¬
чение литературы.
Нахождение на вершине тысячелетней пирамиды означа¬
ет прежде всего ее окончательную завершенность, которая не¬
избежно привела к разрушению; «И “пирамида” рассыпа¬
лась. .- грустно заметил В. Розанов.
Русская литература как строение началась с прочного фун¬
дамента; в ее основании были сказки, песни, пословицы, пого¬
ворки, и, что особенно отмечает автор, говор улицы, базара,
охоты, заунывный плач на похоронах. «Разговорные» - «говор¬
ные» начала русской литературы - тихие, незаметные, а потому
фундаментальные. Следующий этап строительства пирамиды -
«второй акт пришествия Руси в себя»; «.. .после “наряда”, в ка¬
ком мы живем и ходим - одела Русь “наряд”, в каком она молит-
ся»^^ Тишина, незаметность, нарядность - качества, которые
легли в основание литературной пирамиды, но при этом в очер¬
ке самые часто употребляемые слова - крепость и укоренен¬
ность. Обращаясь к российской истории, В. Розанов упрекает
ее в отсутствии твердой воли, что и позволило литературе стать
не явлением, а сутью, и в итоге - смертью своего отечества.
134
Однако именно русской литературе суждено было подняться
«... до явления совершенно универсального, не уступающего в
красоте и достоинствах своих ни которой нации»®’.
Гибель пирамиды В. Розанов как-то поспешно объяснил
приходом в нее тупых, злых, холодных семинаристов - социа¬
листов. Но до их прихода омрачил солнцестояние русской лите¬
ратуры «черный гном Гоголь». В кратком очерке автор оставил
эту фразу без комментариев, вероятно надеясь на то, что его
читатель прекрасно понимает, о чем он хотел сказать. Неприя¬
тие гоголевского мира происходит у В. Розанова потому, что
писатель является антиподом гениальному Пушкину: разнооб¬
разный, всесторонний Пушкин - символ жизни, воплощенное
движение, в то время как Гоголь «,. .движется только в дв)^ на¬
правлениях: напряженной и беспредметной лирики, уходящей
ввысь, и иронии, обращенной ко всему, что лежит внизу»*®.
Образ у Пушкина порожден самой действительностью, и как
следствие - отсутствие напряженности, болезненности. Гого¬
левское движение беспочвенно: оно лишено основания ~ гори¬
зонтали (жизненности).
Если обратиться к образу пирамиды, то можно сказать, что
гоголевская пирамида «строится» не с фундамента, а с верши¬
ны. Еще в трактате «О понимании» В. Розанов, противопостав¬
ляя понятия тип и характер, отдает предпочтение второму, так
как типы стремятся к законченности, завершенности форм, от¬
даляясь от непосредственного течения жизни. В статье «О Го¬
голе» он более категоричен: «Тип в литературе - это уже недо¬
статок, это обобщение; то есть некоторая переделка действи¬
тельности, хотя и очень тонкая. Лица не слагаются в типы, они
просто живут в действительности, каждое своею особенною
жизнью, неся в самом себе свою цель и значение»*^. Такое по¬
нимание типического позволяет В. Розанову по-своему тракто¬
вать натуральную школу как верность природе (натуре), а осно¬
вателем этой школы назвать не Гоголя, а Пушкина, вопреки тра¬
диционному мнению.
135
Тип как ^о'дожественное явление В. Розанов связывает с
массой, характеризующейся бессознательным стремлением
быть как все (в этом он предваряет выделение массового созна¬
ния и массовой культуры, актуальное для XX века), для русской
литературы это явление стало губительным, разрушая прису¬
щую ей антропологичность. «Вся сосредоточенность мысли, вся
глубина, все проницание у нас относится исключительно к душе
человеческой, к судьбе человеческой, - и здесь по красоте и воз¬
вышенности, по верности мысли русские не имеют соперни-
ков»'°°, - заметил В. Розанов. Так ощущает он глубинную при¬
чину гибели великой пирамиды - русской литературы, лежа¬
щую за пределами «нравственного основания». Причина эта
кроется в изменении модели )^дожественного сознания: от вер¬
ности натуре, от пристального внимания к тонким духовным
движениям - к жесткости анализа, к исследованию искусствен¬
но, как считает мыслитель, выделенных типов. Изменилась кон¬
струкция пирамиды: теперь она стремится к четкой завершен¬
ности, вершина ее совпадает с точкой зрения творца, основание
неизбежно суживается вплоть до полного исчезновения (как в
случае с Гоголем), что и привело ее к разрушению.
ГЛАВА IV
РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА
КАК МИФ ВАСИЛИЯ РОЗАНОВА
4.1. От Пушкина к Достоевскому: сюжет возрождения
«Литература и история литературы ранее или позже разло¬
жится на серию типичных личностей данной нации, как бы го¬
воривших перед Богом и человечеством от лица этой нации;
сказавших исповедальное Я. Но сказавших это исповедание не
в формуле, не в “символе веры”, а скорее в совокупности моти¬
вов этой веры и потому пространно, отрывочно, сложно. Со
временем литературная критика вся сведется к разгадке лично¬
сти автора и авторов», - пророчествовал В. Розанов’. Именно
так поступал прежде всего сам автор: он определял круг ти¬
пичных личностей нации и очень сложно, на первый взгляд, от¬
рывочно и пространно, порой далеко не бесспорно, неожидан¬
но выводил все же национальн>'Ю формулу бытия.
Однажды В. Розанов посетовал, что у нас литература ста¬
ла сутью, а не явлением. Слова эти, как, впрочем, всегда у их
автора, являются откровением: действительно, именно литера¬
тура помогает В. Розанову обратиться к существеннейшим ха¬
рактеристикам мировоззрения, доверить читателю самые сокро¬
венные мысли. Порой сама она становится лишь поводом, что¬
бы раскрыть тайну мирозданья или очертить контуры космого¬
нического пространства.
Сопоставление западной и русской литератур приводит
автора к любимой теме - природа (или натура) и цивилизация.
Называя цивилизацию «работой человеческого духа над нату¬
рой», он делает важное уточнение: «Во многих отношениях
137
цивилюация есть даже удаление от натуры, преодоление нату¬
ры» (382), то есть вторжение в Божественный замысел.
Резкие выпады В. Розанова против литературы и литератур¬
ности объясняются во-первых, неприятием ситуации, когда ис¬
кусство слова становится всего лишь одним из технологических
процессов цивилизации, а во-вторых, его явно не устраивает по¬
нимание литературы как отражения жизни. Так, размышляя о
«солнцестоянии русской литературы» в XIX веке, он видит при¬
чину взлета в ее независимости и высоком предназначении:
«.. .она верила, во всякой строчке своей верила, что переживает
какое-то священное писание, священные манускрипты» (673).
Как только русская литература предпочла этому высокому
призванию «течения мелкие» и «незаметные», вступила на путь
«пота, страдания и подвига», то выяснилось, что «сапоги вьшхе
Пушкина». А в результате, резюмирует В. Розанов, «тупые, злые,
голодные», «равнодушные ко всему, кроме своей злобы» семина¬
ристы сделали литературу смертью своего отечества. В размыш¬
лениях о ходе русской литературы, «С вершины тысячелетней
пирамиды», В. Розанов описывает печальную участь беллетрис¬
та Каролина, который «прополз как клоп по литературе, кого-то
покусал обличительно, но даже городовой не оглянулся на укус»
(668-669). Единственная возможность для литератора избежать
этой участи - сохранить верность своему призванию.
Литературе распада В. Розанов противопоставил пушкин¬
ский период, когда звучало «что-то крепкое и славное». Цент¬
ральной фигурой мифического Золотого века русской литера¬
туры, безусловно, В. Розанов называет Пушкина. Имя великого
поэта дало повод автору определить гениальность как иной,
религиозный путь, равноценный и равнодостойный пути свя¬
тости. Творчество гения есть не мирское, а духовное делание.
Оно подразумевает духовную природу самого призвания, ис¬
полнение которого и рассматривается как религиозный долг
В статье «Магическая страница у Гоголя» В. Розанов фор¬
мулирует идею мессианства, которая «вышла из таинственных
138
“светлиц” магов с светом, льющимся без источника, без “свечи
и фонаря”; ибо светоносна самая материя здесь; из светлиц со
“страшными рожами по стенам”, где “иконообразно” и “бого¬
мольно” была выражена вся природа, вся натура и ее корни.
Здесь переливались светы розовые, голубые, золотые. Тянулись
животворящие нити, - порхали души, зарождались тела; трепе¬
тали дочери, - но не всегда со страхом, а... с надеждою чудного
рождения, “по взаимному согласию”. И тихим звоном сопро¬
вождались “волхования”; это музыка, которой гамма навсегда
потеряна, и ее узнает тот один, который никому не расскажет
услышанного. <.. .> Но капельки мировой тайны и доселе капа¬
ют на землю, в глуши лесов, деревень и даже каменных горо¬
дов, где уже все рационально, обыкновенно и не имеет никаких
испугов» (420-421). Сохранить для мира «капельки мировой тай¬
ны» и есть священная миссия писателя.
В. Розанов ни в коем случае не претендовал на роль исто¬
рика литературы: всматривался в лица портретной галереи рус¬
ских писателей, вслушивался в их голоса до тех пор, пока не
становилась почти осязаемой его связь с ними. В результате
рождался сюжет, ложившийся в основу розановского единого
мифа, а имя писателя становилось мифологемой. Так, напри¬
мер, имя Пушкина перестало быть именем-биографией, име¬
нем автора литературных произведений - в розановской интер¬
претации оно награждено характеристиками, актуальными для
рождающегося мифа.
Имя-мифологема в основе своей обладает ноуменальнос-
тью и узнаваемостью, кроме того, сопровождается дополнитель¬
ными опознавательными знаками. Так Пушкин - это гений,
пришедший в мир, чтобы утвердить гармонию, или по розанов-
скому определению - лад. Наладить мир. Именно в этом видит¬
ся В. Роз1анову исполнение религиозного долга поэта. Истоки гар¬
монического состояния - в свойствах мировосприятия самого
поэта. «Пушкин был универсален, - заявляет В. Розанов. - Это
все замечали в нем, заметил еще Белинский, заметили даже рань¬
139
ше Белинского непосредственные друзья поэта, назвавшие его
“протеем”» (42). (Странное совпадение: немецкий исследователь
жизни и творчества самого В. Розанова Г. Штальмлер назвал его
протеическгш человеком. Думается, что это сопоставление спро¬
воцировано В. Розановым, так как в своих персонажах он отме¬
чает то, что созвучно собственному мировосприятию.)
Пушкин универсален, потому что умел любить многое, в
том числе и противоположное. Однако осуществиться эта уни¬
версальность могла, как считает В. Розанов, только благодаря
гениальной способности забвения. Именно поэтому Пушкин мог
любить бесконечно многое на земле, не изменяя своим пристра¬
стиям. «Он все восходил в своем развитии; сколько “куколок”,
умерших трупиков оставил его великолепный полет...» (42).
В приведенных строках есть два значимых слова: полет и
куколка - необходимые элементы розановского мифа. Пушкин
влился в иерархический космос В. Розанова, где получил право
на вечность: он взлетает (бабочка - энтелехия гусеницы) все
выше: «Где же конец полета? Что, наконец, вечно и абсолютно?
Атмосфера все реже и реже;
Ты - Царь. Живи один...» (42).
Так В. Розанов облек словами гениальность Пушкина. Но
эта формула открывает смысл «протеизма» как множество «окук¬
лившихся» (а значит, не безвозвратно ушедших, а ожидающих
своего возрождения) воплощений его жизненных сущностей.
Вообще отсутствие постоянства, по мнению В. Розанова, мож¬
но назвать слабостью только с точки зрения «слабейших на зем¬
ле». Заявляя это, автор обращается уже к своему читателю, ко¬
торый должен быть достоин доверия автора.
Ум - вот абсолютное начало Пушкина, и перед этим умом
все, что было на земле, оказалось слишком временным и сла¬
бым, поэтому нельзя сузить гения до определенной темы, идеи.
Единственным предметом изображения в таком случае стано¬
вится не имя, а качество - «вообще правда», «вообще прелесть».
Прямым следствием этого обстоятельства является пушкинс¬
140
кое «тяготение к контрастам». Особенно ярко оно проявилось,
по наблюдениям В. Розанова, в «Маленьких трагедиях»: сын и
отец, еврей и рыцарь - в «Скупом рыцаре», Сальери и Моцарт
(рачительность и гениальность), петербуржец Чарский, мелоч¬
но озабоченный собой, и скупой гениальный импровизатор
(«Египетские ночи»). Этому закону контраста следуют не толь¬
ко герои, но и обстоятельства: петербургский концерт и ночь в
Александрии.
В. Розанов пытается понять, откуда у Пушкина . .это тя¬
готение его воображения к совмещению на небольшом куске
полотна разительных противоположностей: закон прелести и
как бы высшего засвидетельствования... о “несотворенном себе
кумире”» (44). В творчестве Пушкина и есть подобная «несот-
воренность мира», а сам поэт - мессия, ибо ему дано знать то,
что другим не доступно. Впрочем, избранничество, свой про¬
роческий дар Пушкин не только ощущал, но и постоянно под¬
черкивал в своих стихах.
В. Розанов открыл и сформулировал природу абсолютно¬
го в творческом сознании: «Мир был для Пушкина необозри¬
мым пантеоном, полным божеского и богов, однако, везде в
контрасте друг с другом, и везде - без вечного, которому-ни¬
будь поклонения. Это и делает абсолютным его, но без абсо¬
лютного в нем, кроме одного искания беспредельной правды во
всем, что занимало его ум. Вечный гений - среди преходящих
вещей» (44). Таким образом, абсолютность Пушкина-есть ка¬
чество, которым он был отмечен изначально, как и подобает
гению по рождению.
Другое, замеченное В. Розановым качество Пушкина - спо¬
собность к возрождению, умение «не сложить своих костей на
чужом кладбище, и, помолившись, вернуться на родину целым
и невредимым». Именно поэтому Пушкин «не умеет разочаро¬
вываться, а умеет только очаровывать». Именно в этой очаро¬
ванности миром и реализуется его «универсальная положитель¬
ность». Пушкин- явление цельное, не смотря на универсальность.
141
прост, «без швов в себе». Его задача - цельно, полно воспри¬
нять, а затем открыть непосвященным универсальность и абсо¬
лютность мира, но не судить этот мир, увидеть кумир, но не
сотворить его.
В. Розанов замечает, что у Пушкина нельзя рассмотреть,
где кончается вдохновение и начинается анализ, где умолк поэт
и говорит философ. В современном контексте это свойство мож¬
но соотнести с понятием синкретизма - свойством мифическо¬
го мышления, что актуально для самого В. Розанова. Заметим,
что и сам автор подчеркнул это обстоятельство; «Пушкин не
испортил бы гармонии, сев между нами как руководитель наш,
как спикер сегодняшней словесной палаты» (44).
Таким образом, Пушкин в интерпретации В. Розанова не¬
сет в себе архаические черты героя, космизирующего мир, его
взгляд на мир универсален: все попадает в его поле зрения и
может стать темой творчества. В то же время само творчество
его есть осуществление предназначения, а потому гениально.
Пушкин - мессия, потому-то именно ему открыта картина мира,
доступна ноуменальность.
Абсолютное начало пушкинского гения - правда, то есть
истинное знание о мире. Эта истинность и достоверность, в свою
очередь, лишают основания сомнения, рефлексию, что и обус¬
ловливает цельность Пушкина.
В Пушкине нет усталости от мира, так как мир для него пре¬
красен во всех проявлениях: и поэт, и драматург, и прозаик, и
журналист не просто уживаются в нем, а составляют неразрыв¬
ное целое, не исключая при этом и обычного человека. В. Роза¬
нов произносит с особым одобрением: «Только в Пушкине со¬
зрел гражданин, обыватель, очень прозаических черт, но очень
старых, седых, очень нужных» (45).
Иными словами: Пушкин - последний, кому был досту¬
пен Эдем, и он гениально выразил ощущение гармонии жиз¬
ни. Пушкинский лад - наивысшая точка гармонии, которая
доступна человеку. Поэт юн и архаичен одновременно, как
142
древний прародитель всего человечества. Его сознание синк¬
ретично, объемно, а пушкинский протеизм есть не что иное,
как вселенская отзывчивость. Путь Пушкина - всегда к миру.
Антиподом Пушкина, по В. Розанову, является Лермонтов,
ибо он «никуда не приходит, а только уходит... Вы его вечно уви¬
дите “со схшны”» (603). В этом контексте мир Пушкина статичен;
рай утверждается, а «Лермонтову и в раю было бы скверно», -
утверждает В. Розанов. В розановском мифе эта антиномия не¬
обходима: «”лад” выразился столько же удачно и полно, так же
окончательно и возвьшхенно, как и “разлад”: и через это, в двух
элементах своих, она (русская литература - НК.) до некоторой
степени разрешает проблему шсмического движения» (603).
Обратим внимание на своеобразие подхода к литературе
В. Розанова: он изначально выводит ее за рамки цеховой утили¬
тарности, отказывается от «внутрипартийных», собственно ли¬
тературных проблем, и выходит на единственно интересующий
его планетарный, космический уровень. Литература в данном
случае воспринимается особо, физиологически (значение этого
термина В. Розанов толкует по аналогии с мыслителями досок-
ратовской греческой философии, называемых физиологами).
Обращаясь к Пушкину и Лермонтову, В. Розанов опреде¬
ляет сущность космического сознания, которое одно может от¬
разить целостность мира. Это сознание «было присуще высшрш
поэтам, пророкам и мистикам, - и которое непохоже на само¬
сознание индивидуума, не похоже вообще на обычные психи¬
ческие состояния, а заключается в том, что духовное я человека
как бы сливается, единится или роднится с существом же мира,
тоже духовным, отнюдь не только механическим» (603). Эта
слитность «я» с существом мира и есть та цель, которая подчи¬
няет себе все поиски и устремления В. Розанова. Именно к этой
слитности устремлено мифическое сознание.
Однако следует заметить, что если сознание древнего че¬
ловека изначально развивалось в условиях невыделенного ин¬
дивидуального самосознания, предшествовало его становлению,
143
то теперь эта слитность выступает как осознание единения и
родства с миром, растворение в мире своего «я» и доступно толь¬
ко для избранных. Любопытно, что в числе избранных В. Роза¬
нов не называет ни ученых, ни даже философов, а лишь выс¬
ших поэтов, пророков и мистиков - людей, обладающих осо¬
бым даром, а выражаясь современным языком, - наделенных
наибольшей подвижностью и гетерогенностью сознания.
Необходимо заметить также, что ожидаемое слияние не
означает возвращение в эдем первочеловека, восстановившего
каким-то образом свою невинность (эта идея также присутствует
в культурном тексте XIX века: так Л. Толстой всерьез размыш¬
лял о том, могут ли супруги вернуть себе утраченную девствен¬
ность), но человека, который познал себя как энтелехию плане¬
ты и, не отрекаясь от познанного, слился с духовным существом
мира. Единственный путь достичь духовного преображения
известен был изначально: это религия.
В движении видится В. Розанову смысл бытия. Автор фор¬
мулирует всеобщий закон движения, обращаясь к именам по¬
этов как символам явлений космического процесса: «Есть ли
что-нибудь “над Пушкиным и Лермонтовым”, “дальше”их?
Пожалуй - есть: - Гармоническое движение.
Страшное мира, что он «движется» (отрицание Пушкина),
заключается в утешении, что он «гармонически движется» (от¬
рицание Лермонтова)» (603). В этом единстве сплетаются две
противоположности: потерянный рай и надежда на его возвра¬
щение. Смертный человек обречен находиться в этом противо¬
стоянии, если не найдет выхода, не придет к вере.
Своеобразную интерпретацию этого сюжета представил
В. Розанов в статье «Концы и начала, “божественное” и “демо¬
ническое”, боги и демоны (По поводу главного сюжета Лермон¬
това)» (1902). Сравнивая Пушкина и Лермонтова, автор назвал
способ изображения у Пушкина идеалистическим, а у Лермон¬
това - физиологическим. По мнению В. Розанова, Лермонтов
«позади физиологии» видит священный миф. Однако этот миф
144
принципиально отличен от древнего. Так древние греки полу¬
чили от В. Розанова упрек в том, что они не смогли удержаться
на идее, метафизической истине (почти научной и вместе рели¬
гиозной) и упростили миф до сказанш, при этом приблизили к
себе богов, дав им имена, снабдив атрибутами. В. Розанов чут¬
ко уловил в греческой мифологии ту грань, за которой разруша¬
ется тайна как сокровенное и принципиально невысказывае-
мое, физически (или точнее: физиологически) ощущаемое че¬
ловеком единство с миром. Слово лишает эту тайну силы, сю¬
жет мифа неизбежно стремится к уподоблению человеческой
жизни космической, божественной. Этого «очеловечения» бо¬
гов и не допускает категорически В. Розанов. Истина должна
иметь свою жизнь, она метафизична, именно поэтому она по¬
чти научна, но обязательно религиозна.
В именах греческих богов В. Розанова настораживала ис¬
черпанность содержания, фиксированность смысла. Поэтому,
обращаясь к лермонтовскому «Демону», он как достоинство
отмечает, что поэт никак не назвал своего героя по имени. До¬
казывая невозможность выразить одним словом сущность Де¬
мона, В. Розанов замечает: «Все, что есть в моем сердце, есть в
сердце того огромного духа ли, чудовища ли, во всяком случае
огромного какого-то древнего, вечного существа, которое об¬
росло лесами, сморщилось в горы, гонит по небу тучи. Таким
образом во всех стихотворениях Лермонтова есть уже начало
“демона”, “демон” недорисованный, “демон” многообразный»
(96). Напомним, что автор этих строк не одинок в своем вос¬
приятии лермонтовского персонажа: знаменитый врубелевский
Демон - тоже лишь ряд попыток, неокончательный настолько,
что художник переписывал его бесконечно, даже в ночь перед
открытием выставки.
Древний человек, по утверждению В. Розанова, не утра¬
тил телесную связь с миром, а поэтому был так же свят, как и
окружающий его мир. Со временем «любовь стала физиологи¬
ческой, звезды - булыжниками, животные и растения - бифш¬
145
тексами и дровами» (102). Ослаблением древнего религиозно¬
го чувства объясняет В. Розанов необходимость морали, науки.
Исчезла святость мира, и человек утратил цельность и цело¬
мудренность; «Мы уже не умеем любить, мы уже любим как
кухарки и извозчики. Но мы мыслим, как боги» (104).
Преодолеть этот трагический разлад дано лишь избранным.
Только они способны расслышать в себе голос предков, кото¬
рый В. Розанов назвал «атавизмом древности». Назвал неудач¬
но, так как «атавизм» не подразумевает, что это свойство необ¬
ходимо для самопостижения человека и полноценного воспри¬
ятия мира, - только благодаря этому «атавизму» сможет чело¬
век ощутить свою причастность к космосу, а затем космизиро-
вать свое жизненное пространство.
Движение, стремящееся к тому, чтобы стать гармоничным,
обозначенное именами Пушкина и Лермонтова, испытывает на¬
растающую напряженность, так как Пушкин видит в мире боже¬
ственные лики, а Лермонтов - демонические. Создается своеоб¬
разная разность потенциалов, необходимая для самого движения.
Дальнейшие характеристики мифологем-имен взаимно до¬
полняют друг друга: Пушкин - воплощенная любовь и ласка к
миру, а Лермонтов - осязаемость этого мира. Точкой сопряжения
этих качеств бьшо мистическое, мессионерское, гениальное про¬
зрение ноуменов в мире феноменов, свойственное обоим поэтам.
В этой связи представляется не менее интересным обра¬
титься к другой занимающей В. Розанова фигуре - Гоголю. Как
и в случае с Лермонтовым, Гоголь определяется через Пушки¬
на. В. Розанов категоричен, характеризуя Гоголя: «Душевная
жизнь исторически развивающегося общества получила в его
личности изгиб, после которого пошла непреодолимо по одно¬
му уклону, разбивая одни понятия, формируя другие, - но все и
постоянно в одном роде»^.
Называя Пушкина разнообразным и всесторонним, В. Ро¬
занов определяет Гоголя как его антитезу, ибо творчество пос¬
леднего развивалось в двух направлениях: или «напряженная
146
и беспредметная лирика», которая устремляется вверх, или иро¬
ния, обращенная книзу. В поле зрения писателя не попадает
реально протекающая действительность. Проводя многочислен¬
ные параллели между автором и его героями, В. Розанов заме¬
тил главное: Гоголь «без болезни заболел», «всегда ему было
холодно». Оспаривая отведенную историками литературы Го¬
голю роль основателя натуральной школы, В. Розанов неоднок¬
ратно демонстрировал ненатуральность = безжизненность го¬
голевских произведений.
Назвав однажды Гоголя гением формы, В. Розанов опреде¬
лил и природу этой гениальности: «Мир Гоголя - чудно ото¬
шедший от нас вдаль мир, который мы рассматриваем как бы в
увеличительное стекло: многому в нем удивляемся, всему сме¬
емся, виденного не забываем; но никогда ни с чем из виденного
не имеем ничего общего, связующего, и - не в одном только
положительном смысле, но также - и в отрицательном»^ Имен¬
но с Гоголя, по мнению автора, наступает не только в литерату¬
ре, но и в общественности потеря чувства действительности, и
даже отвращение к ней. Искусство в итоге теряет главное свое
призвание - выпрямлять, исцелять человека, преображать его.
Гоголь, устремляясь за своим болезненным воображени¬
ем, сделал предметом своего творчества саму форму, которая не
обрастает плотью. Гоголевское произведение сравнивает В. Ро¬
занов не с картиной, которая кистью живописца воспроизво¬
дит действительность, а с мозаикой слов, «приставляемых одно
к другому, которой тайна была известна одному Гоголю»"*. Имя
Гоголя мифологизируется В. Розановым как холод безжизнен¬
ности, поэтому с большим энтузиазмом пересказывает он ле¬
генду о похороненном заживо писателе.
Нетрадиционно толкует В. Розанов понятие типического;
«Тип в литературе - это уже недостаток, это обобщение, то есть
некоторая переделка действигельности, хотя и очень тонкая. Лица
не слагаются в типы, они просто живут в действительности»^
Иными словами, единичность, принципиальная несводимость
147
лица и факта к типу представляются В. Розанову основой дос¬
товерности, жизненности. Если соотнести отмеченную черту
розановского отношения к изображаемому с законами мифоло¬
гического мышления, то в этой единичности можно увидеть
одноранговость лексики мифа.
Отречение от действительности, которое, как считал В. Роза¬
нов, спровоцировал Гоголь, стало разъедать сознание не только
литературных персонажей, но и самого общества. В 1918 году ав¬
тор вновь обратился к Гоголю, с горечью отмечая: «Революция нам
показала и душу русских мужиков, “Дядю Митяя и Дядю Миняя”,
и пахнуш;его Петрушку, и догадливого Селивана. Вообще - только
Революция, и впервые революция оправдала Гоголя» (658).
Книга В. Розанова «Легенда о великом инквизиторе Ф. М. До¬
стоевского» далеко не случайно начинается новым обращением к
Гоголю: «Известен взгляд, по которому вся наша литература исхо¬
дит из Гоголя; было бы правильнее сказать, что она вся в своем це¬
лом явилась отрицанием Гоголя, борьбою против него»®.
В отличие от Гоголя, который так и не смог найти живой
души, Достоевский «.. .прежде всех других заговорил о жизни,
которая может биться под самыми душными формами, о чело¬
веческом достоинстве, которое сохраняется при самых невоз¬
можных условиях»’. Этот мотив возрождения новой жизни из
умирающей старой В. Розанов выделил в качестве основного в
творчестве Ф. Достоевского.
В сущности, В. Розанов постулирует архетип возрожде¬
ния, придавая ему космический характер: «По необъяснимым,
таинственным законам, природа вся подлежит таким возрожде¬
ниям; и главное, что мы находим в них - эта неотделимость
жизни от смерти, невозможность осуществиться для первой
вполне, если не осуществилась вторая»®.
Формулируя этот всеобщий закон, В. Розанов подчеркнул,
что падение, смерть, разложение - залог новой лучшей жизни.
Суть этого процесса видится автору в том, что всякая жизнь,
прекращаясь, выделяет «в чистом виде» добро и зло, которые
148
были сплетены друг с другом ранее. Достоевский взял на себя
бой со злом, высвобождающимся при распаде жизни. В этом
противостоянии видит смысл «Легенды...» В. Розанов. Так До¬
стоевский включается в мировой конфликт разрушения - мра¬
ка, хаоса и стремления к гармонии, стройности - космоса.
В статье «О Достоевском» В. Розанов выделил три фазы,
по которым осуществляется душевное развитие каждого чело¬
века и всего человечества: фаза непосредственной первоначаль¬
ной ясности, фаза падения, и третья - возрождения. При этом
следует подчеркнуть, что падение, преступление, грех-централь¬
ные явления, смысл которых в том, чтобы от них надо было
подняться, возродиться. Если настоящее - падение, мрак, то
прошлое и будущее - просвет, краевое сияние, которое освеща¬
ет в полной силе лишь доземное и загробное. Это сияние спо¬
собны ощутить лишь «в светлые, юные моменты жизни своей
народы или отдельные люди».
Вывод, к которому пришел В. Розанов, не смотря на весь
трагизм открьшшегося закона, оптимистичен: «Как бы то ни было,
но в законе, что именно среди глубочайшего мрака человеком
постигается главная истина его бытия, содержится условие пере¬
хода его к утверждению этой истины в своем сознании и жизни;
сущность греха такова, что она предполагает возрождение:
Чем ночь темней - тем звезды ярче,
Чем глубже скорбь - тем ближе Бог.
В этих двух стихах - смысл всей истории и история разви¬
тия тысяч душ»^. И если Достоевский сумел в грехе увидеть
живые души, то он имел полное право звать к свету.
Одним из источников света был для Достоевского Пуш¬
кин, которого В. Розанов назвал оберегателем души писателя:
«С дивною гармонией его поэзии не могут бороться хаотичес¬
кие начала человеческой души»'°. Рассуждая о светоносности
Пушкина, В. Розанов вносит уточнение в архетипическую фор¬
мулу возрождения: «Пушкинское осталось в безграничной дали,
отделенное от слов этих беспросветным хаосом, из которого.
149
однако, душа великого художника имела силы подняться к но¬
вому свету. Но тот ли это свет? Первоначальный ли, естествен¬
ный, эпически ясный?»". И сам же ответил на поставленный
вопрос: это иросветление, возрождение. Свет этот другой по
природе и происхождению.
Уточнение, сделанное В. Розановым, позволяет предполо¬
жить, что он представил такую форму сознания, где стремле¬
ние к древнейшему архетипу осуществлялось бы в реалиях со¬
временности. Так рождается розановский миф о русской лите¬
ратуре- один из сюжетов единого мифа о возрождении. Схема¬
тически этот сюжет может выглядеть следующим образом: Пуш¬
кин (герой, открывающий космос) - Лермонтов (герой, прида¬
ющий движение этому космосу) - Гоголь (разложение космоса,
движение к хаосу) - Достоевский (путь к возрождению и про¬
светлению).
В этом мифе имена известных литераторов одновременно
обозначают элементы сюжета, соотносятся с достаточно абст¬
рактными понятиями космоса, хаоса, движения, возрождения,
но в то же время сохраняют свой узнаваемый облик. Обозначая
центральные сюжетообразующие мифологемы, они способны
образовывать вокруг себя своеобразные поля притяжения, ко¬
торыми прирастает объем мифа. Например, разрушающий го¬
голевский холод порождает новые сюжетные линии. Так появ¬
ляется «благодушный» Некрасов В. Розанова.
4.2. «Благодушный» Некрасов В. Розанова
А. Панченко в статье «Русский поэт, или мирская святость
как религиозно-культурная проблема» заметил: «Поэт (незави¬
симо от того, пишет он стихами или прозой) - вечная русская
проблема. Нигде так не мучают поэтов при жизни и так не
чтут после смерти, как в России»'^. Для рубежа XIX-XX веков
одним из тех поэтов, к которым приходили «с сегодняшними
150
заботами, уповая на помощь», стал Н. Некрасов. Закономерно
обращение к этому имени и В. Розанова, обживавшего русское
литературное пространство, а точнее, приращивавшего его к
«своему углу».
Чтобы понять, в чем своеобразие восприятия Н. Некрасо¬
ва В. Розановым, уточним одно обстоятельство. Все, что попа¬
дает в область восприятия В. Розанова, мифологизируется в той
или иной степени, приобретая глубоко личностное, собственно
розановское звучание. Обращаясь к известным литературным
именам, автор не становится ни литературоведом, ни критиком,
ни историком литературы. Он пытается из своей копилки впе¬
чатлений отыскать самые непосредственные, чтобы в этом, пусть
малом, моменте смогло обозначиться то главное, что будет де¬
лать писателя всегда современным. И, надо сказать, это удава¬
лось В. Розанову как никому другому.
Н. Болдырев, характеризуя своеобразие В. Розанова-мысли-
теля, пишет: «Розанов сохранил самое важное - интеллектуальное
целомудрие, некую целостность чувствования интеллектуальных
и душевных архетипов. Провидение защитило его от чрезмерного
натиска “общеобразовательных истин”, сознание сохранилось срав¬
нительно чистым, “неотматризированным”, ибо оно так и продол¬
жало, в супщости, как и в младенчестве, гулять в мирах “онтоло¬
гического” (внесоциального) возраста, в мирах доопытных, в гус¬
тых потенциях вещей»'^ В. Розанов, обращаясь к тому или иному
литератору, стремился сделать так, чтобы тот перестал бьггь «вьюч¬
ным животным», которое несет какие-то вклады в «великую со¬
кровищницу человечества», а стал бы просто свободным челове¬
ком, со своею скорбью и со своими радостями.
Н. Некрасову В. Розанов посвятил несколько статей: «25-летие
кончины Некрасова» (1902), «О благодушии Некрасова» (1903),
«Некрасов в годы нашего ученичества» (1908), имя поэта неоднок¬
ратно появляется в «Уединенном», «Опавших листьях», «Послед них
листьях», «Апокалипсисе нашего времени». Порой эти высказыва¬
ния эпатажны, порой восторженны, но всегда искренни, подлинны.
151
При всем разнообразии этих характеристик есть определенные гра¬
ницы, в которых угадывается розановский образ поэта.
Само определение «благодушный» звучит по отношению
к Некрасову и сейчас неожиданно, тем более - из уст В. Розано¬
ва. Но если обратиться к словарю Г. Дьяченко, современника
В. Розанова, то выяснится, что слово это обозначает доброту
души, мужество, бодрость, великодушие, способность сердеч¬
но радоваться - именно эти свойства поэзии Некрасова видим
мы в розановских строчках. Словно опровергая самого поэта,
назвавшего свою музу музою мести и печали, В. Розанов зая¬
вил: «благодушие - все-таки небо в нем, а гнев - только облака,
пронесшиеся по нему; грозовые, темные, серьезные, однако
отнюдь не преобладающие...» (126). Благодушие Н. Некрасова,
по В. Розанову, коренится в исконном природном, не искажен¬
ном социальным миром чувстве. Так, в некрасовском «Зеленом
Шуме» он отмечает пантеизм любви. В этом же произведении
определяет В. Розанов и друхую грань благодушия - мотив про¬
щения «...не хныкающего, не с высокомерною остаточною
мыслью “вот я прощаю, потому что я свят, ее, хотя она и греш¬
ница”...» (127). Благодушно (без хныканья, как сказал бы В. Ро¬
занов) особое изображение бедности;
У людей-то для щей - с солониною чан,
А у нас-то во щах - таракан, таракан.
Другой пример благодушия - суровость и лукавство севера.
Чувства - березка, короткая, «ядреная», стелющаяся по земле.
Любовь в произведениях Н. Некрасова, как отметил В. Розанов,
физиологична, коротка, простодушна. Эту же физиологичность
замечает В. Розанов й во взгляде Н. Некрасова-охотника, который
в короткой формуле подводит итог множеству явлений (например,
описание по-кошачьи проворной жены в «Зеленом Шуме»).
Этот физиологичный взгляд живописен, краток, точен, и
именно так, по мнению В. Розанова, открывается народный быт,
психология, народная судьба: «Заключительное:
Милого побои недолго болят
152
в устах сытой кошки, которую с молоду “драли” под эту самую
присказку, отдает и злостью, и местью <.. .> но и эти злость и месть,
лишенные романтизма, в итоге распльшаются в благодушии» (129).
Затем В. Розанов сделал своеобразное переложение некрасовско¬
го произведения - текст, который в иной ситуации мог бы пока¬
заться слишком вольным, но в устах В. Розанова подкупает своей
непосредственностью: «“Просто - так было”, и никаких дальше
рассуждений. “Так повелось, сестрица, дочка, соседка, что девиц
в нашем краю без их юли замуж вьщают; это еще от святой стари¬
ны и от самых угодников Божьих, которые воли человеческой не
возлюбили, волю человеческую изрекли грешною”. - “Ничто, ро¬
дименькие: я и к Феде сбегала: так-то еще из старинки повелось,
из древней старинки. И в сказках об этом сказывается, и от сосе¬
дей я об этом слыхивала”. И обошлось к взаимному удовольствию.
Корельская береза коротка, но тверда» (129).
Обращаясь к гражданским стихам Н. Некрасова, В. Роза¬
нов отмечает благородство простого доброго чувства, свобод¬
ного от «мести и печали». Мифологизируя, по-своему воспри¬
нимая поэзию Н. Некрасова, В. Розанов постоянно обращается
к символу «корельской (у В. Розанова именно кОрельская. -
НК.) березки», отмечая, что и Н. Некрасов был «поэт малого
гнева». В стихотворении «Родина» 1846 года В. Розанов заме¬
тил, как сливается «лицо человека с лицом народа, лицо певца с
сюжетом воспеваемым!» (133).
В. Розанов подчеркивал постоянно, что у Некрасова не
было длрггельного поэтического подъема, длительной поэтичес¬
кой памяти, но зато он обладал главным достоинством: у него
бьыо «открытое сердце, без лабиринтов в себе» (134), что пол¬
ностью соответствовало своей эпохе. Даже такой недостаток,
как бедный словарь, превращает В. Розанов в достоинство, так
как появились на свет особые, по-некрасовски целостные, мо¬
нументальные произведения, где нет ни одного лишнего слова.
В отличие от необыкновенных, «демонических» или «бо¬
жественных» Пушкина и Лермонтова, Некрасов ближе к свое¬
153
му читателю: «Строй души Некрасова очень близок к земле, и
это - ничего, это - хорошо, от этого он и был так возлюблен и
справедливо возлюблен толпою» (135).
В своих статьях В. Розанов так часто говорит о краткости
«эха» у Н. Некрасова, что невольно возникает мысль о его лукав¬
стве. И действительно, это своеобразный ключ к тому, что делает
сам автор статьи о поэте. Он берет разрозненные строки некра¬
совских стихов, игнорируя все устоявшиеся восприятия, разла¬
мывает с хрустом панцирь стереотипов, чтобы слово вновь зады¬
шало. В своем чтении Н. Некрасова Розанов не пьггается подра¬
жать литературоведческому анализу, его ссылки на Лермонтова,
Пушкина не предполагают и намека на прослеживание поэти¬
ческих традиций. Это чтение делается так, как будто до В. Роза¬
нова никто о Некрасове и не говорил. Но в результате такого про¬
чтения между строк начинает просвечивать живое благодушие
поэта, его незлобивость, доброта, бодрость и великодушие.
Своеобразие статьи «О благодушии Некрасова» объясняет
и ее предшественница, статья «25-летие кончины Некрасова»,
где характеристики творчества поэта более точно и последова¬
тельно сформулированы: литературное дарование, хоть и не
первое по размаху, но самое нужное и законнорожденное в цар¬
ствование Александра II, а потому Некрасов - самый видный,
значащий, влиятельный литератор, он дал первый образ проза¬
ического стиха, его достоинство в том, что он был «совершенно
обыкновенный человек», но именно поэтому и сыграл необык¬
новенную роль, его биография, личное сложение ума совпали
со временем. Перечисляя достоинства Некрасова, Розанов осо¬
бо подчеркнул; «Никто столько как он не сделал, что сельская
учительница стала другом деревни, ее же другом стал земский
врач» (112). Учитель, лекарь, сестра милосердия, ученый зем¬
леделец - представители интеллигенции, которых автор проти¬
вопоставляет «культурному слою»: «’’культурный человек” или
“образованный” - сохраняется; “интеллигент” - сгорает: и в этом
их разница» (113).
154
Значительную роль в создании этой новой «формы челове¬
ка» сыграл, по словам В. Розанова, Некрасов: «Он как бы посы¬
пал ее пшеничным зерном (деревенские его темы), а вместе дал
суровый и сатирический закал горожанина, резкий очерк души,
которую формировали злейшие ветры каменных улиц» (113).
В 1908 году в статье «Некрасов в годы нашего ученичества»
В. Розанов признается: «Некрасов весь был “родной” мне уже с
3-го класса» (247). Здесь названо главное, ключевое слово кроза-
новскому Некрасову - «родной», а родного принимают со всеми
его достоинствами и недостатками, в том числе и с игрой в кар¬
ты, и со средним образованием. Главное в том, что он сроднил
интеллигенцию с народом, но сделал это не отстраненно, не со
стороны «объективного художника», а как истинный лирик, ко¬
торый «нигде не хочет делать над собой усилие, “ломаться”, не
хочет этого даже в мелочах, в приемах письма» (248-249).
Определив значение Н. Некрасова для себя и своего поко¬
ления, В. Розанов, словно предвидя свой будущий опыт, совер¬
шенно неожиданно теоретизирует: «Я думаю, во всяком чело¬
веке заложены определенные слои “возможных соч)^ствий”, как
бы пласты нетронутой почвы, которые поднимает “плуг” чте¬
ния, человеческих встреч или своего жизненного опыта, осо¬
бенно “испытаний”» (251-252). Общий же закон этих слоев пре¬
дупреждает: один и тот же слой нельзя пахать дважды.
У Розанова прочная репутация протеического человека: его
оценки, суждения откровенно, а то и просто вызывающе, проти¬
воречивы. В «Уединенном» он оспаривает приговор Толстого о
том, что Некрасов нисколько не был поэтом:«.. .у Некрасова есть
страниц десять стихов, до того народных, как это не удавалось
ни одному из наших поэтов и прозаиков»’^'. Но как только отвле¬
кается В. Розанов от поэзии, так сам начинает упрекать; напри¬
мер, возмущается тем, что Глеб Успенский, друг Некрасова, ко¬
торого тот не только уважал, но и любил, страдал от преследова¬
ний процентщицы. И рождается острый вопрос: почему «фабри¬
канты должны уступить рабочим машины и корпуса фабрик, -
155
когда решительно ничего не уступили Герцен Белинскому, Ми¬
хайловский и Некрасов - Глебу Успенскому»'^ Если раньше в
своих статьях В. Розанов говорил о новаторстве Некрасова-по-
эта, о его народности, о его воздействии на умы, особенно юные, с
восхищением, то теперь его речь - об ответственности: «Сколько
у нас репутаций, если не литературньгх; (литературной - ни одной),
то журнальных, обмоченных в юношеской крови. <...> Некрасов,
член английского клуба, партнер миллионеров, толкнул их более,
чем кто-нибудь, стихотворением: “Отведи меня в стан погибаю¬
щих?'". Это стихотворение поистине все омочено в крови»'^.
С годами неприятие «обш;ественных интересов» В. Розано¬
вым усиливалось, и вот уже в «Сахарне» 1913 года он называет
фанфаронами декабристов, а автора «Русских женщин» обвиняет
в гибели общественности. И действительно, когда В. Розанов го¬
ворил об интеллигенции, он ведь имел в виду не революционно
настроенную ее часть, а з^чителей, лекарей - теперь он противопо¬
ставляет эту интеллигенцию, волостную, интеллигенции с Невского
проспекта. Но и осьтав Некрасова резкими обвинениями, В. Ро¬
занов готов за одну строку, венчаюшую стихотворение, -
Умерла Ненила на чужой землице...
отпустить ему все грехи. Его Некрасов сочетает в себе вели¬
чие царя и свободу «уличного побродяжки», лукаво поглажи¬
вает бородку и, как пишет В. Розанов, «Тупицы потупили взор».
И вот уже читаем все в той же «Сахарне»: «Нет, не верна моя
точка зрения на Некрасова. Я его примериваю «к себе» (тихий
житель города, университет) и взыскиваю жестоким судом.
Тогда как суть его Не гулял с кистенем /Я в дремучем лесу...
<...> Он был почти нецивилизованный человек, а лесной, по¬
левой, и едва ли что серьезно читал, “прилежно”, и чтобы “на¬
учиться” <.. .> Он и в мир литературы, и даже вообще в город
пришел «побродить по окраине», взяв все, что можно отсюда,
взяв картами, взяв книгами, - и опять уходя в поле, в лес, к
зазнобушкам, бабенкам и девчонкам...»'^. «Пришелец» - но¬
вая характеристика из «Последних листьев»: «Но суть в том.
156
что он бьш совершенно нов и совершенно “пришелец”. Прише¬
лец “в литературу” еш,е больше, чем пришелец “в Петербург”»'®.
Подобное противопоставление Некрасова-петербуржца
Некрасову, «освобожденному от городского сора», делал и
Ю. Айхенвальд в «Силуэтах». Но для Айхенвальда Некрасов -
все тот же страдающий, точнее - сострадающий: «Все трудя¬
щиеся и работающие, все голодные и холодные, все унижен¬
ные и обиженные, несомненно, в лучшие, истинно некрасовс¬
кие мгновения его духа имеют к нему желанный доступ. Он от
всего сердца оказывает им свое человеческое и поэтическое го¬
степриимство. Крепостное право, великая неправда рабства, в
самом деле разъело ему душу; и вот, сам жертва, моральная жер¬
тва его, он глубоко сочз^ствует другим мученикам обществен¬
ного зла. И терзает его классическая русская рифма;
Голодно, странничек, голодно.
Холодно, родименький, холодно!»*®.
Для В. Розанова в этих двух строчках заключен иной смысл:
это не то общественное зло, которое связано с конкретной причи¬
ной (крепостным правом, например), и может уйти с устранением
этой причины. «Холод - от фальши. Святой не будет демонстриро¬
вать свою добродетельность. Но человек слаб(!) и “не прижмемся
ли мы к показывающему себя добродетельным” и скажем: “Брат
наш, мы верим, что ты добродетелен, успокойся”. <...>
Так образуются в мире лицемерия. Фальши. И говорят мо¬
ралисты: “Фальшивое общество”. Не замечая, как тут холодно.
Холодно, странничек, холодно.
Голодно, родименький, голодно.
Создал же Некрасов такой дьявольский стих. Который стоит
целой литературы. Это он написал, когда зябнул в Английском
клубе. Там было ужасно холодно. Но никто не заметил, кроме
как поэт Некрасов. А он был воистину поэт.
И нам всем холодно. П. ч. уж очень холодно.
Почему же холодеет планета?
Господи, почему она холодеет?»^"
157
Обратим внимание; в приведенных фратентах ни Ю. Айхен-
вальд, ни В. Розанов не цитируют строк «Песни убогого стран¬
ника», где слова «холодно» и «голодно» в одном куплете не встре¬
чаются. Оба автора закольцовывают их, словно собирая в две
строки все произведение Некрасова, и тогда совершенно зако¬
номерна, с точки зрения Ю. Айхенвальда, последовательность
«голодно - холодно», а у В. Розанова - наоборот. Холод фальши
страшнее голода (социальной болезни), так как она (фальшь) -
болезнь души. И розановский Некрасов благодушен, то есть
прежде всего наделен теплой душой. Именно ее отыскивает
автор в творчестве поэта, решительно отметая все, что остужа¬
ет душу, ломая привычные мнения и оценки.
4.3. В. Розанов и Ю. Айхенвальд в споре
о В. Белинском
(об основах русской критики)
На рубеже веков рождается не только потребность, но и
смелость заглянуть в то, что еще вчера было настоящим, а се¬
годня уходит в прошлое. XIX век, позволивший русской лите¬
ратуре заявить о себе как о явлении самобытном и сильном,
уходил, освобождая от плена своих оценок, мнений историков
литературы, предоставляя им право увидеть ее, литературу, по-
своему. Р. Иванов-Разумник, А. Волынский, С. Венгеров, Н. Кот-
ляревский, Д. Овсянико-Куликовский, П. Перцов-вот лишь не¬
сколько имен критиков и историков литературы, попытавших¬
ся по-новому взглянуть на свой предмет, чтобы увидеть в ней
не только зеркало общественной жизни, как это было принято,
но и собственно художественную сущность. Решение этой за¬
дачи требовало новых взглядов на основы самой критики.
В. Розанов еще в 1892 году опубликовал статью «Три момен¬
та в развитии русской критики», где выделил три ключевые фигу¬
ры: В. Белинский, Н. Добролюбов и А. Григорьев. Следующей этап
158
должен творчески продолжить традицию. Обозначая суть объек¬
тивной критики 50-70-х годов XIX века, автор заключает, что
она отдельного писателя рассматривала в соотношении с дру¬
гими, «нити в духовной жизни» были «исходящие», распрост¬
ранялись «по всем направлениям», сплетались с миросозерца¬
нием, чувствами писателей. Теперь перед критикой В. Розанов
ставит другую задачу, противоположную: увидеть в творчестве
писателя все входящие нити, что позволит приблизиться к духу
самого писателя: «Там они соединяются, и узел их образует то,
чем очевидно жил он, что принес с собой на землю, что его
мучительно и радостно тревожило и, оторвав от частной жиз¬
ни, бросило на широкую арену истории»^'.
Безусловно, ключевой фигурой в литерахурном процессе XIX
века был В. Белинский. Именно он стал предметом спора, спрово-
цированнымЮ. Айхенвальдомвего «Силуэтах русскихписателей».
Жанр эссе, столь популярный в то время, позволил автору реализо¬
ваться как «имманентному критику» (определение Ю. Айхенваль-
да). Впрочем, метод его называют также и импрессионистским.
Именно этот метод сделал произведения самого критика столь бес¬
компромиссными. «Каждая его книга в ком-нибуць вызывала воз¬
мущение», - отметил В. Крейд^^. Автору простили А. Островского,
которому он дал уничтожающую характеристику: «В общем, он глу¬
боко HeiQoibTypeH, Островский внешний, элементарный, в наивнос¬
ти приемов, на плоскости своих комедий-пословиц, со своей про¬
писной назидательностью и поразительным непониманием челове¬
ческой души»“; oгpa^fflчилиcь обвинением в святотатстве за то, что
посмел назвать Тургенева неглубоким. Но эссе о В. Белинском пе¬
реполнило чашу терпения и разразился скандальный спор. Вклю¬
чился в этот спор и В. Розанов. Впрочем, двумя годами раньше, 28
мая 1911 года в «Новом времени», а 29 мая того же года в «Русском
слове» он поместил статьи, посвященные 100-летию со дня рожде¬
ния критика.
В публикации «Нового времени» В. Розанов с исповедаль-
ностью пишет, чем был неистовый Виссарион для его поколе¬
159
ния; «С Белинского начиналось наше серьезное чтение <...>
лишь прочитав Белинского или вообще “вступив в сферу Бе¬
линского”, мы произносили торжественно и сладко: “я человек”;
то есть уже не мальчик, странствующий по степям Америки с
Майн Ридом, а Русский сознательный человек, волнующийся
всеми волнениями России, ее будущего, ее прошлого, ее лите¬
ратуры...» (501). И хоть влияние это, по словам автора, было
непродолжительным, «охватывающее приблизительно десять
лет», автор заявил: «Все от Белинского». Вот это-то «волную¬
щее и возбудительное» значение затмевает в нем собственно
критическзто деятельность. В. Розанов отмечает лишь вскользь,
что Белинский «.. .гениально отгадал только что начавших при
нем выступать новых писателей, - впрочем, читаем дальше. -
Все это и помимо его могло сделаться; а “новых писателей” оце¬
нили бы со временем, потом» (504).
Однако и основное, возбудительное, воздействие критика,
по мнению В. Розанова, длилось недолго: «"Граница” и “окон¬
чание” Белинского может быть выражена тоже одной строкою;
мы учились жизни (значение Белинского) у того, кто сам жизни
не знал» (504). Углубляясь в это исследование, В. Розанов дает
еще более жесткое определение: «”сам не знал жизни”, нет, хуже
и печальнее - Белинский был глубоко антинатуральный чело¬
век, безнатуральный человек» (505). Вместо полнокровной, «ко¬
лоритной» (В. Розанов) жизни - схемы, книги, идеи (505).
В. Розанов приходит к своей любимой теме: «...печально
и трагично, что с ним мы разучились несколько постигать суть
реальных вещей, потеряли их обоняние» (506). Именно здесь, в
этой безнатуральности, появляется ограничение воздействия
Белинского на читателя; «Дух его, ум его, деятельность его не
имела “трех измерений”: она вся лилась в плоскости и была
плоска сама по себе! неодолимо!! фатально!!! Гениальна, - и
все-таки плоска...» (507). И восклицательные знаки, и многото¬
чие в этой фразе не нарочиты. В. Розанов имел право на такую
эмоциональность, так как сам принадлежал к поколению, ощу¬
160
тившему на себе, как вредно очень долго «толочься на Белинс¬
ком» (В. Розанов). Впрочем, может быть, именно поэтому сам
Розанов открыл наполненность, вещность и весомость жизни.
«Романом гимназиста» называет автор юношеские увлечения
Белинским, но признает этот роман чудным, первой любовью,
а самого Белинского - «апрелъскгш человеком», призывая по¬
мнить о том, что в жизни есть и «.иные типы чувства и отноше¬
ний», а «за маем идет знойный июнь, ароматный август... Идут
“труды и дни” долгого года» (507).
Строки, посвященные Белинскому, словно выписаны бо¬
лью прощания со своей юностью; «итак наступает последний
день, когда Россия дает Белинскому живую оценку, живое вос¬
поминание» (501). И уже отдаляясь от этой фигуры, В. Розанов
с грустью завершает свои размышления; «В глубоком, высшем
смысле он был бедный человек; и “церковка” его, - великолеп¬
ная, шумная церковь, - без пения, без тоски, без тепла, без грез
и воспоминаний, без детей и старцев, а только с шумящим на¬
родом “средних лет”. И нет в ней “эвхаристики”, нет “креще¬
ния”, нет вообще таинств. Как лютеранская церковь, она вся
состоит из “проповеди”, которой младенцы не разумеют, а люди
достаточно пожилые говорят; “Все это мы сами умеем, и даже
красноречивее”<...>» (515).
Ю. Айхенвальд, будучи на 16 лет моложе В. Розанова, впол¬
не мог бы быгь отнесен к «младенцам», которые «не разумеют».
Не пережив своего «гимназического романа» с Белинским, он
категоричен; «То представление, какое получаешь о нем из чу¬
жих прославляющих уст, в значительной степени рушится, когда
подходишь к его книгам непосредственно»^'*. А дальше сыплют¬
ся обвинения; многословие, причем «удручающее», недодуман-
ность - «оскорбш'ельная», «беспрестанные» противоречия.
Главный же порок Белинского, по Айхенвальду, - изменчи¬
вость, непостоянство взглядов, «шаткий ум и перебои колеблю¬
щегося вкуса». Виссарион-Отступник, как называет его автор,
повинен во многих грехах, и Ю. Айхенвальд их добросовестно
161
перечисляет. Но порой его высказывания очень напоминают
розановские, опубликованные за два года до выхода «Силуэ¬
тов...»: «Умственное падение Белинского, обмен глубины на
плоскость, ширины на узость оказались возможными именно
потому, что в знаменитом авторе не было субстанционального
зерна, не было собственной личности»^^ Обращаясь к анализу
произведений Пушкина, Лермонтова, Баратынского, Гончаро¬
ва, цитируя самого критика, Ю. Айхенвальд пишет: «Вообще,
на каждом шагу своего критического пути Белинский становился
жертвой аберрации, попадал в неслыханные безвкусицы, и это
не искупается тем, что он потом от них отрекался или, наобо¬
рот, ради них отрекался от прежней истины»^.
Справедливости ради отметим, что Ю. Айхенвальд отдает
дань интуиции Белинского, словно вторя В. Розанову, восхища¬
ется его «книжностью»: «После Белинского уже нельзя не ин¬
тересоваться литературой, нельзя отбрасывать последний вы¬
пуск журнала. Через книги, ощу'пью, торопливо пробирался он
к истине, увлекая за собою других, был зачастую ненадежным
путеводителем и сам не разбирал дороги, падал, поднимался,
снова падал: все это примиряло с ним даже тех, кто лично его
знал - и не любил»^’. Как видно, выводы, к которым приходят и
В. Розанов, и Ю. Айхенвальд достаточно совпадают.
Так в чем же все-таки дело? Почему «силуэт» Ю. Айхен-
вальда вызвал такой бурный спор, что автору пришлось отве¬
чать целой книгой, посвященной этому спору?
В. Розанов не оставался в стороне, написав статью «Спо¬
ры около имени Белинского». Реакция его была своеобразной;
«Не скрою, что когда еще зимою я услышал об этих спорах, -
будто бы ведущихся с крайним ожесточением, - в душе у меня
поднялось что-то гадкое и дурное, точно я нечаянно выпил ук¬
суса и не знаю, что с этим делать. - “Ах, все это правильно, но
всего этого правильнее не следовало говорить’^<... > Подимлась
“неприятная история в русской литературе”, которой “подни¬
мать не следовало”...» (585).
162
и вновь в. Розанов отдает дань уважения Белинскому, от¬
крывшему 15-летнему гимназисту в «Литературных мечтани¬
ях» новый мир: «...увлекало собственное рождение в себе дру¬
гой души, новой и лучезарной, которой восприемником и аку¬
шером бьш Белинский» (587).
Непостоянство взглядов, которое заставляет негодовать
Айхенвальда, под пером Розанова становится достоинством,
потому что «Белинский - это энциклопедия; энциклопедия мыс¬
лей, идей, взглядов, оценок, слов...» (590). Его говорение, и даже
фразерство - есть достоинство, если фразы эти произносятся
горячо, «с румянцем на щеках». Заслуга Белинского - в пере¬
живании идей, в способности заражаться ими и передавать дру¬
гим свой опыт. Он ищущий, а не находящий. Любопытно, что
Р. Иванов-Разумник^® воспринял эти противоречивые з^ечения
Белинского как своего рода романы с Шеллингом, Фихте, Геге¬
лем, но их, эти романы, переживала тогда вся Россия.
В свое время В. Белинский с особым значением сказал о
том, что в России нет наук, которые бы формировали мировоз¬
зрение, но их заменяет поэзия. Мысль эта была достаточно пло¬
дотворна, чтобы понять в дальнейшем поэзию Тютчева, Фета,
впрочем, как и поэзию Лермонтова, Пушкина, да и вообще рус¬
скую поэзию, русскую литературу. Слова В. Розанова по-свое-
му продолжают Белинского: «.. .’’русская критика” есть в то же
время “русская философия”, и - политика, и - социология. У
нас “критика” - совсем не то, что в Германии, в Англии, во Фран¬
ции. И не может быть этим. Там, в сложных напластованиях
цивилизации, есть “разделение труда”» (589).
Но не об этом ли “разделении труда” пишет Ю. Айхенвальд,
утверждая принцип имманентной критики: «Обычный истори¬
ко-литературный метод не приближает к цели, т. е. к самому
произведению, а уводит от него в совершенно постороннюю
даль». Гораздо естественней метод имманентный, «когда иссле¬
дователь художественному творению органически сопричаща-
ется и всегда держится внутри, а не вне его»^^. Задача критика
163
в таком случае - быть лишь внимательным и не менее, чем ав¬
тор, талантливым читателем. Отстаивая эстетическую самоцен¬
ность произведения, Ю. Айхенвальд, увлеченный этой мыслью,
категорически утверждает; «Вот почему вполне естественно рас¬
сматривать автора-художника, его сущность, вне историческо¬
го пространства и времени»^®.
Справедливо возмущаясь против «грубого» и «механичес¬
кого» прилаживания истории общественности к истории лите¬
ратуры, автор «Силуэтов» отмечает сам принцип их взаимодей¬
ствия, их синтеза в деятельности критика. Впрочем, писатель,
как человек, ничего не имеет общего, по Айхенвальду, с писа-
телем-художником. «Что прибавляет к Фету Шеншин и что меж¬
ду ними общего?» - спрашивает, а точнее - восклицает, Айхен¬
вальд, потому что для него это вопрос риторический. Автора не
смущает то, что само по себе противопоставление Фет - Шен¬
шин слишком поверхностно и банально. Айхенвальд не заме¬
тил, что без Шеншина нет и Фета.
В статье «Новое исследование о Фете» В. Розанов отмеча¬
ет как неоспоримое достоинство: «Господин Д. Дарский очень
тонко улавливает, что этот музыкальный и несколько безумный
гений находил себе в высшей степени уравновешение в его ежед¬
невной практичности, в деловых, суровых заботах о земле, о нуж¬
де, о службе. От этого не только сам Фет любил и уважал в себе
эти реальные хлопоты, но окружавшие друзья его, Л. Н. Толстой,
И. С. Тургенев, В. П. Боткин, положительно радовались его
практической работе и преуспеваниям его в этой работе. И они,
и он видели инстинктивно в этом якорь спасения для личности,
якорь спасения и сохранения именно для поэта» (617).
Критик, имманентный критик, должен стать талантливым
читателем. Но разве можно «с нуля» выполнить требование
Ю. Айхенвальда: «.. .воспринять писателя - это значит до изве¬
стной степени воспроизвести его, повторить за ним вдохновен¬
ный процесс его собственного творчества»^’? Чтобы «воспро¬
извести», надо примерить на себя его ощущения, чувства, кото¬
164
рые, конечно же, вызываются все той же биографией. Как мож¬
но, не уважая в Фете по-крестьянски хозяйственного Шенши¬
на, понять одно из лучших его стихотворений;
Ты видишь, за спиной косцов
Сверкнули косы блеском чистым,
И поздний пар от их котлов
Упитан ужином душистым...
Поэту нужна эта «заземленность»: и душистый ужин, и чи¬
стый блеск кос (только человек, который если не косил сам, то
наблюдал за косьбой со стороны, знает, как провести пучком тра¬
вы по лезвию косы, словно стереть скопившийся пот, усталость),
чтобы в конце стихотворения подняться в поэтическую высь;
В душе смиренной уясни
Дыханье ночи непорочной
И до огней зари восточной
Под звездным пологом усни!
И как понять истинную меру лиризма в стихотворении
«Дождливое лето»;
Под кровлей влажной и раскрытой
Печально праздное житье.
Серпа с косой, давно отбитой,
В углу тускнеет лезвие.
Надо прочитать каждое слово, как требует Ю. Айхенвальд?
Но тогда надо знать, что Шеншин передает Фету печаль и тяго¬
стность праздного жилья, с какой тоской давно отбитая (приго¬
товившаяся к работе) коса тускнеет в углу. Только тогда мы смо¬
жем понять, почему так радостно видеть, как за спиной косцов
сверкнули косы блеском чистым.
В статье, специально посвященной Фету, Ю. Айхенвальд
предстает подлинным импрессионистом; «И плывут, плывут на
очарованного поэта, сладким чадом обволакивают сознание и
душу его благовонные волны, в которых - и звуки, и цветы, и
звезды, в которых слова встречаются с поцелуями, - и не зна¬
ешь, смеется ли это девушка или звучит сонет на нее похожий.
165
Как ангелы, реющие вокруг Сикстинской Мадонны, сливаются
в облаках, так все у Фета, что есть в мире нежного и неуловимо¬
го, образует одну неразличашую воздушность»^^.
Но читателем слов Ю. Айхенвальд оказался невнима¬
тельным. Правда, вначале статьи он, цитируя фетовские стро¬
ки, постулирует принципиальную бессловесность поэта: сло¬
во приблизительно, поэт молчания, бессвязность стихов,
(«сквозь сонный бред»). Талантливо, убедительно, востор¬
женно говорит он о фетовской поэзии любви, о волшебстве
речи, но так «выправляет» поэта, что не замечает, как, на¬
пример, сравнивая петербургскую ночь с южной, искажает
сам смысл; «Фет чужих краев и не любил посещать. Белая
петербургская ночь, эта “бледная и вдохновенная ясновидя¬
щая”, была для него слаще южных, “И я, как первый житель
рая, / Один в лицо увидел ночь”, - потому что “ночь вполне
разоблаченная”, а ведь он вообще природу разоблачал, чув¬
ствовал ее, как и все на свете, в ее тонкости и в ее обнажен¬
ности»”. Не странно ли; чтобы подчеркнуть превосходство
белой ночи, автор эссе награждает ее цитатой из стихотворе¬
ния, начинающегося строками; «На стоге сена ночью южной
/ Лицом ко тверди я лежал».
Странно звучат упреки Фету в отсутствии осязательности
его стихов, автор извиняет его лишь тем, что «... он много и
честно служил красоте, ее верховный жрец с бородою седою, и
вечерние огни его, несомненно, вернулись в лоно красоты и там
воссоединились с нею в ее единое вечное сиянье. И доныне все
поют и поют его Божьи птички, как ласково называл он свои
стихотворения»^'*.
Если отделить человека от поэта, а именно на этом и стро¬
илась традиционная схема прочтения Фета, то придется игно¬
рировать значительную часть его творческого наследия, не го¬
воря уже о прозе, поэмах - сузить сферу эстетического простран¬
ства, а главное, согласиться с беспомощностью Фета по отно¬
шению к слову. Но ведь как бы ни исправляли, ни проясняли
166
его поэзию редакторы, поэт настойчиво возвращался к перво¬
начальным вариантам, готовя итоговое издание. Если согласздть-
ся, что Фет-поэт живет и чувствами Шеншина, эстетическое
нисколько не обеднится, оно врастет в жизнь, и тогда поэзия,
обретя первоначальный синкретизм, будет выполнять свой вы¬
сокий долг служения, тогда родится пафос, но не «птичий», а
объемлющий всю мощь человека, стоящего на земле и способ¬
ного постичь, как
Хор светил, живой и дружный,
Крутом раскинувшись, дрожал.
Не об этом ли невнимании к автору пишет В. Розанов в
статье «Не в новых ли днях критики?»: «Великие поэты суть
“мудрецы” на какую-то особую стать; ведь, в самом деле, у них
надо учиться, и, в самом деле, они о звездном небе могут рас¬
сказать не меньше астрономов, только в другой форме и в дру¬
гом освещении. Ей-ей, настанет время, когда будут думать, что
именно поэты проводят всех людей к молитве и - буду отчаян¬
ным - даже проводят нас немножко в закупоренный после Ада¬
ма рай» (626).
В этой же статье В. Розанов бросает серьезный упрек;
«А то критика наша толчется на каком-то пустом месте, вы¬
ясняя “красоты” и без того “красивого” или отмечая “преем¬
ственную связь” между вчера и сегодня, что довольно понят¬
но “без крика”» (626). Автор называет этих критиков; «Пос¬
ле шестидесятых годов и почти в наше уже время пытались
и пытаются быть “критиками” Флексер (Волынский), Айхен-
вальд, Гершензон» (627). А об Айхенвальде замечает; «.. .все
кормит публику рахат-лукумом (“Силуэты русских писате¬
лей”). Он вечно слушает самого себя, восхищен своим умом:
но что ему за дело до поэтов, до русских поэтов? Все это во
всех трех случаях декадентская талантливая “стилизация”
критики, а не что-то настоящее и русское. <...> Именно
страшным образом русская критика умерла, точно перед по¬
топом» (628).
167
Исключение, по мнению В. Розанова, составляет Д. Дарс-
кий^^ главную заслугу которого видит автор в том, что «.. .’’он
весь ушел в поэтов” и вторит стихам своею прозою, которая
стоит стихов; что он забыл о себе, что он любит объект писания -
больше, чем себя, чем свое написанное. Ведь в этом-то, именно в
одном, и состоит все существо критика... Именно эта одна черта, -
влюбленности в поэта, влюбленности в книгу, - сделала Белинс¬
кого единственным в своем роде критиком» (628). (Д. Дарский
настолько расположил к себе В. Розанова, что тот 5 мая 1916 года
в своем письме просил написать о нем после смерти. Эта книга
была закончена в 1923 году, автор назвал ее лаконично: «В. Ро¬
занов».) Метод исследования литературного творчества Д. Дар-
ского называют методом «медленного чтения», импрессионис¬
тическим, биографическим.
Во «Вступлении» к «Силуэтам русских писателей» Ю. Ай-
хенвальд объясняет сущность своего имманентно-импрессио¬
нистического метода, выводя критику за рамки науки: «Не жи¬
вые цветы искусства, а только его обездушенный и обесцвечен¬
ный гербарий способен стать объектом научной дисципли¬
ны» (29У^. Исходя из понимания космической природы искус¬
ства, Ю. Айхенвальд представляет писателя не творцом, а со¬
трудником «коллективного строительства мира», он - только
«уста», через которые говорит общее, природа, естество, бес¬
сознательное: «.. .та сфера, в которой не умеет разобраться сам
вдохновенный и восторгами объятый поэт, но в которую пыту-
ющими взглядами своими проникает вдумчивый критик - чи¬
татель»”. А поскольку бессознательное, по Айхенвальду, про¬
является только в психике, для критика остается одно: «...как
можно проникновеннее и теснее слиться с тем ^божественным
явлением, которое он изучает; он должен внутри сродниться с
художником, перелить его душу в свою и свою душу в его; он
должен, осуществляя имманентное отношение к искусству, не
уходить от его произведения, а входить в него все глубже и глуб¬
же»^*. Раскрепощая свою субъективность, критик должен по¬
168
чувствовать свободу и доверие к самому себе, и тогда «волна
искренних и нестесненных впечатлений донесет его до самой
души поэта»^’.
Абсолютизируя таким образом бессознательное, критик не
замечает опасности подмены авторского произведения своей
версией, когда, как отмечает современный ученый Ю. Борев:
«Литература превращается в сырье, в полуфабрикат, подлежа¬
щий непременной доработке в критике. <.. .> Однако подобное
преувеличение роли критики, - продолжает ученый, - не мо¬
жет служить аргументом против этого методологического при¬
ема, вполне плодотворного при ее корректном использовании>И°.
Подобную корректность увидел В. Розанов в творчестве
Д. Дарского, подчеркнув, что тот «...любит объект писания -
больше, чем себя, чем свое написанное». Качество это, по мне¬
нию В. Розанова, и составляет все существо критика. «Именно
эта одна черта, - влюбленности поэта, влюбленности в книгу, -
сделала Белинского единственным в своем роде критиком, Ка¬
рамзиным русской критики... Хотя бы и оказалось теперь или
позднее, что было молодо все, что он говорил, - молодо и не¬
зрело... Колумб переплыл океан и открыл Америку, адумал сам,
что открывает Индию. “Грубейшая географическая ошибка”. Да,
но все ученые мира не сделали столько для географии, как один
Колумб. И еще Колумба не будет. Так, в применении к нашим
небольшим делам, «второго Белинского не будет» (628).
Предпочитая Д. Дарского Ю. Айхенвальду, В. Розанов ощу¬
пью протягивает ниточку, которую сам, подобно Колумбу, об¬
наружил в традиции русской литературы: В. Белинский -
Д. Дарский. Дополнить ее мог бы обильно цитируемый Дарс-
ким и им самим Фет, которому по заслугам может принадле¬
жать честь первооткрывателя мира поэзии Тютчева в обстоя¬
тельной статье. Суть этой традиции - в попытке откорректиро¬
вать «внимательное чтение» произведений включением их в
сложный контекст: философию, эстетику и эмпирику реально
проживаемой жизни самого автора.
169
Возвращаясь же к спору о Белинском, приведем еще одну
цитату из В. Розанова: «Вообще “Фалес (читай; Белинский -
Я К.) прошел” и “от Фалеса надо уходить”. Но - “да будет имя
Фалеса благословенно”.
Вот мне кажется, что надо иметь в виду и что об этом деле
надо сказать окончательно. Айхенвальд прав - Айхенвальд не
прав, Иванов-Разумник не прав - Иванов-Разумник прав. “А надо
всеми Бог, и да живет наша Русь”» (591).
ГЛАВА V
ИСТОРИЯ - ТРАГИЧЕСКИЙ МИФ
БЫТИЯ
В примечании к письму Н. Страхова, опубликованному в
«Литературных изгнанниках», В. Розанов сформулировал вос¬
приятие своего времени: «История как бы скатывалась в безу¬
мие, как сани по обледенелому скату соскальзывают в овраг: и
тогда пассажир, обыватель, писатель, с бесконечным ли грехом
на душе или с неисцелимою бедою в обстоятельствах жизни, -
говорит “о блаженстве” лучше оврага, лучше безумия, чем о
дальнейшей вообще такой же жизни»'.
Логическая причинно-следственная парадигма мышления,
господствовавшая в Европе вплоть до конца XIX века, испыта¬
ла острейший кризис в мироощущении рубежа веков. Причина
этого заключается в очевидном несоответствии ожидаемых со¬
гласно этой логике явлений и реальности фактов. Идея прогрес¬
са, столь длительно властвовавшая в Европе, выстроила ступе¬
ни истории, восходящей к пику развития. Человечество так уве¬
ровало в эту иерархию, что каждое новое поколение было про¬
сто обречено считать себя более совершенным, чем предыду¬
щее. И только XIX век впервые позволил себе }лвидеть всю не¬
состоятельность и безосновательность этой веры, и сразу же на
смену энтузиазму пришло эсхатологическое предчувствие, ко¬
торое вынудило человека пристальнее взглянуть в окружаюхцую
действительность и увидеть, как иллюзорны были прежние
мифы о его всемогуществе.
В. Розанов еще в самом раннем труде «О понимании» про¬
тивопоставил два мира: мир божественный - в природе, и мир
случайный, произвольный, людской. Позднее, в «Литературных
171
изгнанниках», заметил: «Отсюда до сих пор (57 лет) сложилось,
в сущности, все мое миросозерцание: я бесконечно отдался
destinations, и эти metae, с пропастью и “как Бог хочет”, “как из
нас растет”, как в нас заложено (идея “зерна”, руководящий прин¬
цип всего “О понимании”), илтно-враждебно взглящот на metae,
“мечущееся”, “случайное”, что “блудный сын-человек себе вы¬
думывает”, в чем он “капризничает” и <.. > “проваливается”»^.
Все попытки упорядочить этот поток случайностей историками
вызывают иронию В. Розанова. Бессмысленным представляется
ему опьгг Иловайского, автора «Всемирной истории», уместить
ее в три переплета: «Древняя история», «Средняя история»,
«Новая история». В предисловии к книге «Во дворе язычни¬
ков» В. Розанов резюмировал: «Здесь все крохи того историчес¬
кого “каравая”, который довольно непрерывно кушало человече¬
ство, аккуратно подметены щеточкою и заметены каждая в один
из трех небольших, скучных и, я думаю, довольно [ложных]
тома»^ Автор предпочитает и сам, как и все человечество, «отку¬
сывать» от этого исторического каравая, ибо, настаивает он, есть
некое единство истории как и единство рода человеческого. Но
это единство вовсе не тождественно единообразию, оно - в спо¬
собности человека воспринимать прошлый опыт как собствен¬
ный, ибо «"языческое”, “язычники” вовсе не умерли с Зевсом и
Палладою; но живут среди нас то, как странствующие люди, то,
как странствующие явления, то, как оттенок нашей биографии,
души, совести; наших идеалов, чаяний и надежд»'*.
В. Розанов упрекает историков в отсутствии стремления
понимать те незначительные, на первый взгляд, подробности,
которые и есть подлинные свидетельства жизни: «В самом деле,
разве обязательно Шамполиону быть семьянином?»^ - резонно
задает вопрос автор. Но мы-то знаем, что розановская тоска по
семейному теплу позволила уловить сам ритм дыхания Египта,
оживить его рисунки и многое понять в египетской мифологии,
культуре. Шамполион первым прочитал египетские тексты, но,
напоминает В. Розанов, в письменах египтянами фиксировалось
172
лишь новое, «что случилось этот год», кого они победили, кто
на них напал, с каким царем они заключили договор. «Старого
они не вносили, и общего они тоже не вносили. Потому что не
замечали его, потому что это им не казалось замечательным,
наконец, потому, что это решительно все египтяне знали»®.
В. Розанов считал, что истинная задача историка состоит в
том, чтобы уиовить в истории отдельной страны общезначимое,
вкусить ее часть «исторического каравая». Но, как отмечает ав¬
тор, современные историки заняты чтением фактов. По мысли
В. Розанова, подлинная история могла бы быть предметом слиш¬
ком еще молодой тогда истории культуры.
Нельзя не отметить, как символичны могут быть слова, кото¬
рыми автор обозначает нечто важное в том или ином тексте. Так
его «исторический каравай» своеобразно демонстрирует модель
исторического мышления. Если разложить на столе отдельные
компоненты (муку, соль, масло и т. д.) и не замесить тесто, то и
каравай не получится. Мало извлечь факт из прошлого, надо сде¬
лать его частью жизненного пространства, наделить личностной
судьбой, и тогда возникнет ситуация, когда историк глубоко вне¬
дряется, вливается в это новое пространство, делая его своим.
Младший современник В. Розанова, П. Флоренский, опи¬
сал механизм проникновения в другую культуру. Представля¬
ется, что его мысли рождались и в общении с В. Розановым,
как, например, фрагмент с размышлениями о нумизматике, где
сопоставляется прршцип изготовления монет в Древней Греции
с современным. Зная, как увлечен был нумизматикой В. Роза¬
нов, нетрудно предположить, что эти наблюдения осуществи¬
лись не без его участия. В то же время следует заметить, что
П. Флоренский своими наблюдеттаями позволил обобщить фак¬
ты осуществившихся диалогов деятелей русской культуры кон¬
ца XIX - начала XX веков с древними культурами.
В основе своих размышлений П. Флоренский обратился к
философскому пониманию идей пространства, сославшись
предварительно на Н. Лобачевского, высказавшего мысль о том.
173
что разные явления физического мира протекают в разных про¬
странствах, подчиняясь соответственным законам этих, про¬
странств. Допущение существования множества пространств
приводит философа к пониманию пространства как модели
действительности. Определяет очертания подобной модели
стиль мышления, который, в свою очередь, зависит оттого, куда
именно (в пространство, в вещь, в среду) помещаются свойства
действительности. При этом П. Флоренский формулирует зако¬
номерность: «Чем больше возлагается на пространство, тем
более организованным оно мыслится, а потому - более своеоб¬
разным и индивидуальным, но соответственно бледнеют вещи,
приближаясь к общим типам <.. .> перенося нагрузку на вещи,
мы уплотняем их индивидуальность и вместе с тем бледнеет
пространство. Вещи, каждая порознь, стремятся к самозамкну-
тости. Связи между ними слабнут, а вместе с тем обедняем про¬
странство, утрачивая отличительную структуру, внутреннюю
связность и целостность»’.
По мнению П. Флоренского, вся культура может истолко¬
вываться как деятельность по организации пространства, но
пространства особого, в котором наглядные образы - это знаки
складок и искривления пространства.
В концепции культурной деятельности как организации про¬
странства важна семантика понятия жест, обозначающего воз¬
действие на мир движением, а значит проявляющим активность
человека в мире. Наступление на мир всегда есть жест, выстраи¬
вающий линию, направление, неразложимая в своем единстве
деятельность. Так графика, которая по существу линейна, рас¬
сматривается П. Флоренским как способ записи жеста.
Культурное моделирование пространства осуществляется
через жест, вызывающий напряжение силовых полей, которые
проявляются «в фотографическом смысле слова». Однако, пре¬
дупреждает философ, жест неизбежно искривляет пространство.
Иное происходит, когда искривление пространства обозначено
самим силовым полем, которое в таком случае само и порожда¬
174
ет жест. Соответственно определяются и два типа культуры,
юменяющие действительность: I - как причина организации
пространства, II - как следствие наличной уже организации.
Описывая второй тип, П. Флоренский подчеркнул: «Деятель
культуры ставит межевые столбы, проводит рубежи и, наконец,
вычерчивает кратчайшие пути в этом пространстве, вместе с
системами линий равного усилия, изопотенциалами. <...> Но
этой деятельностью открывается существующее, а не полагает¬
ся человеческим произволом»*. Иными словами, П. Флоренс¬
кий предпочитает тот тип культуры, где человек не изобретает
некие ценности и смыслы, а обнаруживает их, выделяет и обо¬
значает - из этих обозначений и таким образом конструируется
искомое новое пространство культуры.
Особенностью концепции П. Флоренского является то, что
значения слов «жест», «линия», «рельеф» он делает осязаемы¬
ми. Так, например, сравнивая монетно-медальный профиль со¬
временных монет - вещественное доказательство власти -
с древней монетой, П. Флоренский отмечает, что первая имеет
«зрительный характер» (на это указывает сложность компози¬
ции, отделка сторон, их разобщенность), она чеканится из плос¬
кого листа. Античная же монета чеканилась из металлическо¬
го шарика, который раздавливался, но края и после сохранили
«упругую и сочную закругленность». Таким образом, харак¬
тер античной монеты указывает на осязательность ее про¬
странства.
Рассматривая пространство как явление, П. Флоренский
говорит о многообразии его моделей: зрительная, физическая
(движение), слуховая, осязательная, обонятельная, вкусовая,
мистических переживаний, мысли и т. д. Следовательно, и куль¬
турный жест может быть также разнообразным.
В русской культуре рубежа XIX-XX веков одной из самых
популярных тем была тема Древнего Египта. Погружение в про¬
странство этой культуры осуществлялось разными способами.
Обратимся к опыту В. Соловьева, В. Розанова и А. Белого.
175
А. Белый совершил путешествие в Египет в марте 1911 года
Первое же впечатление, описанное поэтом, передает ясное ощу¬
щение двух пространств: «Старый Египет врывался в каирский
проспект из разрытой в песках усыпальницы, и над бытом двад¬
цатого века из тусклого неба явилось царство теней»®. Любо¬
пытно отметить, что своеобразным проводником в другую куль¬
туру стал для русского путешественника жест полицейского,
подымающего белую палочку, совпавший в восприятии автора
воспоминаний с жестами египетских человечков на фресках.
Пространство Древнего Египта А. Белый ощутил физичес¬
ки, без вербального проводника: перед пирамидами «...пере¬
живали странное чувство, как будто от них и через нас пробе¬
жал электрический ток непрочитанных образов прошлого,
вскрывшего свои ужасы; все, что ты мыслил о древнем Египте,
вдруг смылось Египтом, действительно бывшим, но в книгах
не читанным... точно ты жил в нем, заснул и, очнувшись через
пять тысяч лет, видишь ясно, что было»‘°. Следует подчеркнуть,
как явно увидел А. Белый подлинный Египет, реально просту¬
пивший из очертаний древних камней.
Оказавшись близ пирамиды, ои^упывая камень у входа, поэт
вдруг увидел, как пирамида «заламывалась в небеса». А. Белый
с явным усилием передает в словах свое состояние: «Я ощущал
себя с вырванным мозгом и с волосами, стоящими дыбом», -
назвать же, абстрагируясь от ощущений, странное состояние
сознания автор так и не смог.
Другая попытка описать происходящее в сознании вновь
начинается с ощущения, теперь уже дикого ужаса, когда над
головой видны лишь 3-4 ступени, вниз то же самое, а сама пи¬
рамида - словно «повешенная в воздух планета, не имеющая
касания с землей»". Это физиологическое ощущение ужаса, по
признанию самого автора, перешло в моральное чувство «вы-
вернутости себя наизнанку». Так проявилось в восприятии по¬
эта другое пространство. Своеобразное наложение двух сило¬
вых полей породило новый культурный жест; «Для меня же эта
176
вывернутость наизнанку связалась с поворотным моментом всей
жизни; последствие пирамидальной болезни - перемена орга¬
нов восприятия... как будто всходил на рябые ступеньки одним,
сошел же другим..
В результате этого пересечения пространств произошла
подлинная смена культурной парадигмы: «С Каира уже нача¬
лось возвращение туда, откуда мы вырвались, чтобы вынаши¬
вать, сидя на месте, теперь вовсе новые критерии жизни, не вхо¬
дившие доныне в сознание»'^
Символист А. Белый пережил потрясение от пересечения
границ двух культурньк пространств непосредственно, или, как
он сформулировал сам, физиологически. В результате им была
осознана необходимость «переорганизовать пространство» со¬
временной европейской культуры. Одной из попыток осуще¬
ствить эту задачу стал для поэта роман «Петербург».
Слово физиологически в данном контексте отнюдь не слу¬
чайно: оно подчеркивает подлинность авторских переживаний,
к которой стремились деятели культуры Серебряного века. Так
П. Флоренский, проводя в своих трудах четкую грань между
объективным, реалистическим и субъективным, иллюзионис¬
тическим искусством, предпочтение отдавал первому, когда ху¬
дожник «...словно натирает карандашом бумагу с подложен¬
ной под нее моделью, образы же выступают сами собою»''*.
Любопытно в этой связи замечание П. Флоренского об орна¬
менте, который «...облекает наглядностью мировые формулы
бытия»'^. Время создания орнамента “время монументального
мышления и монументального мирочувствия” противопостав¬
лено философом “мелкому сознанию современности”. Именно
монументальность мышления и мирочувствия влекли к Древ¬
нему Египту В. Розанова.
Если согласиться с трактовкой П. Флоренским графики как
способа записи жеста человека в пространстве, то становится
понятным, почему именно рисунки Египта стали для В. Розано¬
ва ключом к пространству древнейшей культуры. Размышляя
177
о египтологии, он не переставал удивляться слепоте ученых,
так и не сумевших понять Египет; «...пройдешь весь Египет
как бы в дремоте. И выйдешь из Египта. И станешь даже пи¬
сать о нем. Но ты Египта не заметил»'^
Египтяне у В. Розанова бросают упрек самонадеянным гре¬
кам: «Дети. Они думают, что слово что-нибудь значит»'''. Заме¬
тим сразу: вряд ли автор имел в виду дословесность егршетской
культуры. Ирония его обращена к египтологам, наследникам
греков, европейским историкам, которые «все ищут легенд, рас¬
сказов, новелл».
Розановская египтология другая: «Взглянув, а особенно сво¬
ей рукой перечертив рисунок эпохи, я знаю об этом египтянине и
египтянке решительно все, что мог знать из длинного тома»'*.
(В. Розанов в прямом смысле слова перечерчивал, а точнее - пе¬
реводил на кальку египетские изображения из альбома.)
Таинства Египта открывались В. Розанову в каждом рисун¬
ке. Такое «перечерчивание рисунка эпохи» по кальке каранда¬
шом и есть ни что иное, как воспроизведение линии жеста древ¬
него человека. Повторяя рукой эти движения, автор сам оказы¬
вался в пространстве древней культуры, где и открывалась ему
тайнопись линии. Он постиг зооморфизм египетских богов,
ощутив жгучее желание, подобно изображенному фараону, пить
горячее молоко из вымени священной коровы: «Этим вкусом я
совпал. Лично и в натуре с натуральным Египтом.
И, встретившись, - стал “просачиваться и просачиваться
через кожу экзокосмоса”.
И ты потянул меня всего»'^.
Передвигая карандашом по листу, В. Розанов совершал
обратное написанию действие - чтение, но чтение без слов, а
прочитанное переводил в пространство современной культуры.
Но и свои «переводы» обязательно сопровождал рисунками.
Научившись таким образом видеть мир глазами египтяни¬
на, В. Розанов подключил и другие ощущения; вкус, запах. Его
Египет разрастался в физических пространствах, но при этом
178
сохранялся основной жест самого автора, вьфисовывавший всю¬
ду зерно, семя, обозначения мужского и женского начал - зна¬
ки, «межевые столбы», рубежи в организации единого простран¬
ства культуры.
Возможен вопрос: почему не стало вещное розановское
пространство пространством вещей? Вспомним, как настора¬
живала эта опасность П. Флоренского, формулировавшего за¬
кономерность смещений свойств действительности. Очевид¬
но, дело в стиле мышления, египетский стиль воспроизводит
В. Розанов так; «Переступив “сотворение человека”, мы жили
в “сотворении мира”, а вы живете и вы знаете одно “сотворение
себя” человеком»^.
В. Розанов вошел в пространство, где происходит вечное
сотворение мира, не знающее (или не признающее) антропо¬
морфизма культуры, и результат - ощущение развернувшегося
в себе пространства мирового как первичной моделирующей
системы. Это, по классификащш П. Флоренского, творчество в
культуре, когда наиболее полно реализуется соответствие ми¬
ропонимание — пространствопонимание.
Иное отношение к пространству свойственно В. Соловье¬
ву. Если применить к нему закон выбора способа помещения
свойств действительности, то выяснится: в культурной деятель¬
ности философа предпочтение отдано пространству в ущерб
вещи. Вот один, но убедительный пример из письма В. Соловь¬
ева матери: «Взлезал на пирамиду Хеопса (100 саженей высо¬
ты) и спускался в подземные гробницы, причем несколько де¬
сятков саженей нужно было пролезать ползком в совершенном
мраке. Купался в Ниле, видел настоящую сфинксу.. Нетруд¬
но заметить, насколько не схожи впечатления А. Белого, пере¬
жившего на вершине пирамиды сильнейшее потрясение, с су¬
хим бесстрастным перечислением достопримечательностей в
письме философа. Не ощутив вещности мира, не совершив не¬
обходимый жест, В. Соловьев не вошел в культурное простран¬
ство Египта, оставшись равнодушным к его ценностям. Зато
179
в поэме «Три свидания» пустыня Египта приобрела особую зна¬
чимость как индивидуальное пространство мистика, ожидаю¬
щего встречи с Софией:
И в пурпуре небесного блистанья
Очами, полными лазурного огня,
Глядела ты, как первое сиянье
Всемирного и творческого дня.
Что есть, что бьшо, что грядет вовеки -
Все обнял тут один недвижный взор...
Синеют подо мной моря и реки,
И дальний лес, и выси снежных гор.
Все видел я, и все одно лишь было -
Один лишь образ женской красоты...
Безмерное в его размер входило, -
Передо мной, во мне - одна лишь ты.
О лучезарная! Тобой я не обманут:
Я всю тебя в пустыне увидал...
В душе моей те розы не завянут.
Куда бы ни умчал житейский вал...
Назвав поэму иронической, в примечаниях к ней поэт за¬
метил: «Осенний вечер и глухой лес внушили мне воспроизвес¬
ти в шутливых стихах самое замечательное из того, что до сих
пор случилось со мной в жизни»^^. Явление Софии, ставшей
основной философемой в творчестве В. Соловьева, не могло
осуществиться в пространстве другой культуры, культуры Егип¬
та. Пустыня лишена культурных жестов, она для философа -
всего лишь обстоятельство, которое необходимо для проявле¬
ния другого пространства - мистического.
В. Соловьев, В. Розанов, А. Белый-каждый отыскивал свои
силовые поля в пространстве Египта. А. Белый уъидел в жесте
полицейского знакомый по древним изображениям жест египтя¬
нина, В. Розанов повторил движение линии древнего рисунка - в
этих физических жестах проявился жест культурный. В. Розанов
понял смысл запечатленной тайны, А. Белый пережил потрясе¬
ние, перевернувшее все его прежние представления, - но оба они
180
дорожили физиологичностью, осязательностью в восприятии
Египта, вещностью культурного пространства.
Если Древний Египет вызывает восторг первооткрывате¬
ля, преклонение перед великим актом сотворения мира, перво-
рождения, то мир, современный мыслителю, стал «кульмина-
ционно-грустным» периодом истории. Острота переживания
драмы истории В. Розановым оказалась, по его собственному
определению, созвучной настроению А. Чехова.
Нельзя не согласиться с О. Мандельштамом, отказавшим
В. Розанову в праве назьшаться критиком: любое обращение ктвор-
честву писателя для мыслителя было мотивировано поиском точек
соприкосновения д ля совместного творчества, а точнее, для совмес¬
тного думания. Уединившись в сюем углу, он удивительно точно
отыскивал единомьшшенника, и совсем не важно, происходило ли
личное (очное) знакомство, чреватое случайностью обстоятельств
(заочность встреч с К. Леонтьевым не стала помехой в их оживлен¬
ной дружеской переписке). Обращаясь к чьему бы то ни было тек¬
сту, В. Розанов был свободен от необходимости оценивать его, но
открывал то, что лежало за пределами литературы в глубинах созна¬
ния, и тогца незаметно пульсирующая мысль резонировала.
А. Чехову посвящены несколько текстов В. Розанова, сре¬
ди которых наиболее значительные; «Литературные новинки»
(«Новое время», 1904) с размышлениями о «Вишневом саде»,
«Писатель-художник и партия» («Новое время», 1904) с при¬
знанием ума и тонкости натуры, поставивших писателя выше
своего, «в сущности очень грубого времени».
В Юбилейном чеховском сборнике, вышедшем в 1910 году,
В. Розанов опубликовал статью с лаконичным названием: «А. Че¬
хов». Статья начиналась описанием идиллического пейзажа с
голубыми озерами, занимательного и волшебного пейзажа Швей¬
царии. Под стать этим местам и люди; бодрые, веселые, неисчер¬
паемо здоровые. Всматриваясь в этих людей, В. Розанов воскли¬
цает; «Вот гениальная природа и гениальный человек», - и тут
же вскользь замечает; «То есть должно бы быть так».
181
Душевность природы лишает самого человека души: «При¬
рода вокруг них уже есть сама по себе душа, психея; и человеку
остается только иметь глаз, всего лучше с очками, а еще лучше
с телескопом, вообще некоторый стеклянный шарик во лбу, со¬
единенный нервами с мозгом, чтобы глядеть, восхищаться, а к
вечеру засыпать...
Сегодня - восхищенье и сон...
Завтра - восхищенье и сон...
Послезавтра - восхищенье и сон.
Всегда - восхищенье и сон.
Вот Швейцария и швейцарец во взаимной связи»“. В роза-
новской версии культурогенеза - это тупиковая ветвь, ибо, как
вопрошает автор, «Зачем швейцарцам история? Зачем швейцар¬
цам поэзия? У них есть красивые озера».
Голубые озера в розановском тексте мифологизируются:
они своей гладкой поверхностью отражают прелести швейцар¬
ской природы, и этот принцип зеркальности делает жизнь швей¬
царцев райски безмятежной. Формула общения с миром - «вос¬
хищенье и сон» - не предполагает рефлексии.
Российская жизнь - вся антитеза этой безмятежности, что
отразилось в тексте статьи рядом противопоставлений:
Швейцария - солнце - озеро - пляж
Россия - дождь - болото - кладбище
Эти противопоставления антиномичны, но они и пересе¬
каются в точке «смерть».
A. Чехов был близок В. Розанову своим переживанием уми¬
рания прежнего мира. Точность диагноза происходящего осо¬
бенно важна для мыслителя, и он акцентирует: это чувства ме¬
дика, «в особенности больного медика» (477).
B. Розанов нашел в А. Чехове союзника в этом служении
подлинности и достоверности. Есть в очерке кульминационный
фрагмент, где автор со слов «одного человека» рассказывает, как
писатель любил бродить среди могил московского кладбища и
читать надписи на памятниках: «Какие попадаются надписи -
182
то ужасно смешные, то замысловатые, то трогательные. Это еще
не разработанная часть русского словесного творчества» (476).
Этот фрагмент продолжается рассказом о приезде писателя в Рим,
где он, отказавшись осматривать достопримечательности, в том
числе и Колизей, отправился в дом терпимости. После чего В. Ро¬
занов заключает: «Тут, в этих встречах, что-то острое, печальное,
жуткое и страшное. Но я нахожу, что этот дикий вкус в Риме, - в
самом Риме поехать “первым визитом” именно сюда, - как-то
совпадает со вкусом пойти и погулять по кладбищу...
<...> Ведь и там смерть, и здесь смерть... Там - смерть
человека, индивидуума; здесь - смерть цивилизации, общества,
фазиса культуры и истории.
Но почему-то именно в Чехове мне нравится это слия¬
ние...» (477).
А. Чехов увлек лиризмом В. Розанова настолько, что изве¬
стный ревностный поклонник домашнего очага не заметил, как
Иван Иваныч из «Крыжовника» провоцирует его: «Меня угне¬
тают тишина и спокойствие, я боюсь смотреть на окна, так как
для меня теперь нет более тяжелого зрелища, как счастливое
семейство, сидящее вокруг стола и пьющее чай»^'*. Мало того,
он сам договаривает за автора «Баб»: «Все-таки уютно на
Руси... Ну, не на всех хватает счастья, ну - и что же...» (479).
Заметим, что В. Розанов свою иронию адресует не простому
обывателю, а адвокату А. Кони и митрополиту Антонию. «Но
и у Кони, и у митрополита Антония такие хорошенькие фарфо¬
ровые чашки, что они никак их не разобьют ради этой бабы и ее
мальчика» (479). Никак не случается фактическая история, и
впрямь: «Зачем нам история?»
Тема умирающей истории, цивилизации становится общей
текстообразующей единицей и у В. Розанова, и у А. Чехова, ре¬
ализуясь в мотивах кладбища, публичного дома. По-своему ее
обозначает и римский Колизей, также выпавший из истории, и
теперь приходится «смотреть Колизей, чтобы из надуманной
души вытащить несколько надуманных же ощущеньиц» (478).
183
Однаш в отличие от мыслителя, способного (и обязанного!) абстра¬
гироваться от свош переживаний и ощущений, лирик-мыслитель,
как и медик-лирик живут в этой распадающейся реальности.
В. Розанов назвал А. Чехова путником-созерцателем, иду¬
щим среди шумящего леса, не вторя ему, но и «не дисгармонируя
с ним». Но у путника есть предназначение: он в осколках разру¬
шающейся щ1вилгоащ1и отыскивает признаки жизни. И пусть это
литература - в своем необычном варианте (кладбищенские эпи¬
тафии), любовь в публичном доме, цветы и розановская лучшая
береза с развесистыми ветвями тоже на кладбище... «Чехов жил
и творил в самый грустный период нашей истории, кульминащ!-
онно-грустный» - сформулировал В. Розанов.
Сумев осознать утрату единой истории, мыслитель пришел
и к спасительной формуле жизни: поскольку культура, история,
цивилизация загнали жизнь в бордель и на кладбище, нужно
хранить тепло: «Идешь с кладбища домой. Скидываешь паль¬
то, отряхивая снег или дождь с него. “Дома” натоплено, тепло,
тепло, как за границей решительно не умеют топить домов, -
нет таланта так топить. И садишься за самовар, “единственное
национальное изобретение”. Самовар же вычищен к “кануну
праздника” ярко-ярко... И горит, и кипит... Шумит тихим шу¬
мом комнатной жизни. Белоснежная скатерть покрывает боль¬
шой стол... И на подносе, и дальше вокруг около маленьких
салфеточек расставлены чашки и стаканы с положенными в них
серебряными ложечками... И сахарница со щипчиками, и чай¬
ник под салфеткой. Сейчас разольется душистый чай...»(475-476).
Автор любовно рассматривает эту картину, и бытовая ситуация
перерастает в бытийную. Перечислены те неразложимые еди¬
ницы-вещи бытия, которые пребывают в пограничности: с од¬
ной стороны, они предельно овеществлены, не требуют от чи¬
тателя напряжения мысли, а с другой стороны, они готовы в
любой момент ожить и сложиться в космогоническую мозаи¬
ку, стоит только найти необходимое кодовое слово. В космосе
В. Розанова такой код - тепло.
184
в. Розанов, предвосхищая рождение нового космоса, воп¬
лотил это первичное восприятие в словах-символах, мысль же
созреет только в середине XX века, и француз М. Фуко сформу¬
лирует; «Человек оказался лишенным истории и поэтому при¬
зван обнаружить в самом себе и в тех вещах, в которых мог бы
отобразиться его облик... такую историчность, которая была
бы сущностно близка ему»^^
В неотвратимом процессе энтропии бессмысленно как-
либо сопротивляться отдельному человеку. Его задача - выжить:
отогреться у себя дома и сохранить это тепло. «И запахиваешь¬
ся туже в пальто, в шубу, смотря по времени года. Идешь с клад¬
бища домой» (475).
Концу истории противостоит «бесконечность нашей Рос¬
сии»: «Хороша ли она? - Средненькая - Худа ли?; Нет, сред¬
ненькая. О Боже! Да тянись же ты, кляча, хоть до глубокой мо¬
гилы» (482).
Розановские характеристики таланта Чехова, безусловно,
субъективны; творчество его - «прекрасная, но бессильная жи¬
вопись», (бессильная, потому что творить ему пришлось в «без-
временьи» и «безлюдьи»), «благородный и вдумчивый», «он
умом и тонкостью натуры стоял выше своего, в сущности очень
грубого, времени». Но «любимый писатель нашего безволия»
не будет забыт потомками, так как в нем есть бесконечность -
бесконечность России. В. Розанов назвал А. Чехова )одожни-
ком с полукритикой «без возможности протеста и борьбы», но
именно это, в отличие от «короткого, резкого, грубого и непри¬
ятного Горького» не позволит потомкам забыть Чехова.
Грустный лиризм Чехова - от неустроенности остывающего
мира. Судьба не позволила ему дожить до апокалиптических
событий в России, но автор «Апокалипсиса нашего времени» с
лихвой оплатил свое право написать в 1899 году в «Эмбрионах»;
«’’Что делать?” - спросил нетерпеливый петербургский юно¬
ша. - Как что делать; если это лето - чистить ягоды и варить
варенье; если згша - пить с этим вареньем чай»^®.
185
в размышлениях М. Фуко об истории обозначена ее не¬
преодолимая двусмысленность: история как эмпирическая на¬
ука и как коренной способ бытия, предписывающий судьбу.
Двусмысленность эта преодолевается только с преодолением
самой истории.
Миф как преодоление истории - своеобразный путь обре¬
тения свободы, так как вера человека в то, что он сам творит
свою историю, все с большей очевидностью обнаруживает бе¬
зосновательность. Иллюзорность подобных представлений со¬
временного человека приводит М. Элиаде к неутешительному
выводу; «Ему остается в лучшем случае свобода выбирать между
двумя возможностями: 1) воспротивиться истории, которую
делает ничтожное меньшинство (и в этом случае он имеет сво¬
боду выбирать между ссылкой или самоубийством); 2) укрыть¬
ся в недочеловеческом существовании или в бегстве»^’. В. Ро¬
занов предпочел истории культуру - освоение культурного опыта
человечества как обретение оснований бытия, оправданий дея¬
тельности человека. Обособив еще в пору написания «О пони¬
мании» мир божественный от мира людского, В. Розанов наде¬
лил последний синонимичными в данном контексте определе¬
ниями: «случайный» и «произвольный». Так утвердилась жиз¬
неполагающая идея зерна: «как Бог хочет», «как из нас растет»,
«как в нас заложено»; и наоборот; людской мир, порожденный
метаниями, «что “блудный сын-человек себе выдумывает'’, в
чем он “капризничает” и <...> “проваливается”...»“, этот мир
вызвал у автора «лично-враждебный» взгаяд.
Ближе всех к проявлению Божественной воли был архаи¬
ческий человек, непосредственно воспринимавший природу как
воплощение этого замысла, еще не испорченную выдумками и
капризами. Вот почему так упорно отыскивает В. Розанов в глу¬
бине души соответствия с мироощущением египтян и ветхоза¬
ветных людей. Но в то же время он не перестает быть истори¬
ческим человеком, переживая со своими современниками оче¬
редные «выдумки» и «капризы».
186
Наивно было бы предполагать, что в этой ситуации древ¬
ние мифы смогли бы заполнить собой все представления о мире,
но именно мифологическое сознание, как и в архаические вре¬
мена, способно возвратить им прочность и непоколебимость
жизненных форм в апокалиптических событиях рубежа XIX-
XX веков.
Одной из основных образующих единиц исторического
мифа становится у В. Розанова тема страдания-. «История,
“судьба” начинается с разлома, крушения, болезни, страдания.
Не страдай так ужасно Иов, можно ли было написать “Книгу
Иова”?..»"®.
Сюжет безвинного страдания библейского Иова стал веду¬
щим в произведениях В. Розанова. Но чаще всего, 29 раз, он
упоминается в «Апокалипсисе нашего времени». Здесь «Книга
Иова» непосредственно сопоставляется с «Откровением Иоан¬
на Богослова» как наиболее важные библейские тексты, как
«высший тип человеческого проживания».
«Апокалипсис нашего времени» пронизан признаниями
преимуществ евреев перед европейцами, по сравнению с кото¬
рыми евреи кажутся доверчивее, мягче. «Тут та тайна еще, -
пишет В. Розанов, - что они Иова слушают не две тысячи лет, а
пять тысяч лет, да, очевидно, и слушают-то другим ухом»^°.
Перед именем Иова меркнут и Александр Македонский, и
Цезарь. «И что значат победы Навуходоносора перед победою
Иова?» - задает риторический вопрос В. Розанов^’. Ибо, проро¬
чествует автор вслед за Исайей: «”.. .все народы понесут тебя”.
Но “понесут как в благоуханном мире” колючку и терн страда¬
ния твоего во исцеление всех народов»^^. Именно это страдание
во исцеление и отсутствует у благополучных швейцарцев из
очерка «А. Чехов».
История Иова - подлинная трагедия: сам Иов - праведник,
причем, подчеркивает В. Розанов, был таковым до того, как все
потерял. Отсутствует какая-либо причинно-следственная связь
его испытаний с жизнью; не было греха, но совершились
187
несчастья. Подобно тому, как в древних мифах причины несча¬
стья людей коренятся в космических сферах, Иов В. Розанова
страдает от зависти Дьявола. Сама дьявольская сущность опре¬
деляется автором через ограничение, недостаток.
Тема безвинного страдания должна была бы объединить
имена Иова и Христа, но В. Розанов их чаще противопоставля¬
ет, лишь в одном месте, в рассуждениях о справедливости, ав¬
тор пишет: «Ах, если бы бьшо все “справедливо”, не было бы
нашего драгоценного Иова и всего человеческого утешения.
Может быть, если бы было “все справедливо в мире” - не при¬
шел бы и наш Христос?»^^
Сопоставим розановскую трактовку истории библейского
Иова с более поздними опытами. К. Юнг в книге «Ответ Иову»
утверждает, что Иов нужен самому Яхве, ибо сомнения его,
вызванные «нашептываниями» Сатаны, «следствие проециро¬
вания им собственной тяги к вероломству на некоего козла от¬
пущения»^'*.
У Юнга испытания, выдержанные Иовом, в конечном ито¬
ге приносят и самому Яхве перемены. И Юнг делает категорич¬
ный вывод: (Юн должен обновить себя, ибо творение обогнало
егоу?'^. Так предопределяется рождение Христа, в ком челове¬
ческая природа достигает божественности. По мнению Юнга,
это происходит в тот момент, когда сам Сын Божий претерпева¬
ет крестные муки. Именно в этом переживании и самопозна¬
нии заключается ответ Яхве Иову. Через Сына Божьего упроче¬
на связь человека с Богом, а, кроме того, Христос предохраняет
человека «от скатывания в одностороннее сознание с его “ра-
3)ТУ[НОСТЬЮ”»^®.
В итоге своих размышлений К. Юнг приходит к выводу,
аналогичному розановскому о терне страдания во имя исцеле¬
ния народов.
Одним из самых ярких персонажей книги Л. Шестова «На
весах Иова» является Паскаль. Мыслитель, который всю жизнь
был обречен на переживание физических страданий: «Вся эта
188
непрерывная почти пытка, что она такое, кто ее создал? И для
; чего? Мы хотим думать, что так спрашивать нельзя. Никто не
i уготовлял пытки для Паскаля, и она ни для чего не нужна. По-
^ нашему, тут нет и не может быть никакого вопроса. Но для
? Паскаля, как и для мифического Иова, как и для жившего меж-
\ ду нами Нитше, тут, именно тут и скрываются все вопросы,
^ которые могут иметь значение для человека»^’. Размышления
i эти приводят философа к лаконичному выводу; лишь великая
J боль сможет стать последним освободителем духа, заставляя
^ отбросить всю доверчивость, добродушие, тепло - все, что
» принято понимать под человечностью, но эта боль дает право
Г на мужество.
'Г
i В. Розанов - не только философ, он не заключает себя в
J башню рассудка, он - человек, живущий в мире со своей бо-
^ лью; «Я тот, который есть Иов, но без первой его фазы; в бо-
! гатстве дома, детей. Я - вечный Иов, только на гноище»^^
t Словам этим предшествует красноречивая жалоба:
f Благородное солнце... Благородное солнце... Благородное
I солнце...
t О, как ты светшпь.
г Приласкай, приголубь...
U Вот я протягиваю к Тебе свои руки...
'•f О, как они иззябли в христианстве...
I И стали костлявы, худы... ^’
‘J А. Шестов бросает на весы Иова все новые и новые воп-
росы; «Как пробудить мир от оцепенения? Как вырвать лю-
дей из власти смерти? <... > Кто даст нам великое дерзнове-
• ние отказаться от даров разума, nous abetir? Кто сделает, чтоб
t скорбь Иова оказалась тяжелее песка морского?»'’'*. Ответ
^ подсказал Паскаль; «Нельзя быть спокойным, нельзя спать. Не
t всем нельзя - а лишь некоторым, редким “избранникам” - или
“мученикам”. Ибо если и они уснут, как уснул в достопамят-
• ную ночь великий апостол, то жертва Бога окажется напрас-
189
ной и в мире окончательно и навсегда восторжествует
смерть)/’.
Не остается никаких оснований надеяться, что конечная
цель стремлений человечества - избавление от страданий и во¬
царение справедливости. В противном случае сытость и благо¬
получие превращают людей в «человекоподобных буйволов» со
стеклянными шариками вместо глаз. Так страдание приобрета¬
ет смысл, перерастая рамки исторического события. Оно явля¬
ется с неизбежностью космического закона.
В традиционных или архаических культурах человек не
сомневался в необходимости страдания, принимал его с по¬
корностью. Как заметил М. Элиаде, именно то обстоятельство,
что необходимость страдать имеет определенное место в кос¬
мической иерархии, само страдание делает переносимым. В
этом случае оно выполняет координирующую функцию, ког¬
да общество отклоняется от нормы. Именно так, очевидно,
трактует В. Розанов и Апокалипсис, уточняя: Апокалипсис
нашего времени, а значит, апокалиптические события насту¬
пают и в другие времена.
Тот факт, что библейский Иов в конце XIX - начале XX
веков становится особо значащим персонажем, безусловно,
закономерен. В этом проявляется своеобразная реакция куль¬
туры на развившийся инфантилизм отношения человека к
миру. Как заметил X. Ортега-и-Гассет, человек превратился
в избалованное существо, получившее возможность жить без
усилий за счет накопленного предыдущими поколениями,
ожидая от будущего бесконечного потока благополучия. В
этой ситуации оказалось столь важно вернуться к теме стра¬
дания, не связанного непосредственно с деятельностью че¬
ловека или общества, страдания, которое вслед за М. Элиа¬
де можно назвать архетипическим. Архетип этот символи¬
зируется фигурой Иова, который, в отличие от Христа, не
осуществлял осознанного выбора, не обрекал себя на крес¬
тные муки, а стал жертвой космических обстоятельств. Иов
190
становится также символом, означающим отступление от хри¬
стианской версии линейного времени к дохристианской цик¬
лической модели с бесконечными возвращениями и повторе¬
ниями.
Однако, в отличие от архаических трактовок неизбежнос¬
ти испытания, даже в парадигме этой неизбежности человек
либо осознает и принимает эти условия, либо пытается уйти в
иллюзорный мир благополучия. Симптоматику последнего опи¬
сал М. Нордау, определив состояние современного ему обще¬
ства как вырождение. Однако в русской культуре рубежа веков
преобладающим было ожидание событий Апокалипсиса как
неизбежной кары за неправедную жизнь. Именно мифологичес¬
кое сознание с его парадоксальной логикой, способностью со¬
единить знание и веру, могло воспринять идею страдания наи¬
более полно и мужественно.
Мифологической моделью времени, как известно, явля¬
ется цикл. Однако по опыту анализа различных мифологичес¬
ких систем, предпринятому М. Элиаде, сам цикл изменяется в
исторической перспективе, что нашло свое отражение в тео¬
риях «Великого Времени». М. Элиаде особо подчеркивает, что
именно там встречаются традиционное и современное пред¬
ставление о времени. Если первое трактует время возрождаю¬
щимся периодически и до бесконечности, то второе утверж¬
дает конечность и фрагментарность временных отрезков. Ис¬
следователь уточняет: «Почти всюду эти теории “Великого
Времени” встречаются с мифом о смене веков, причем “золо¬
той век” всегда стоит в начале цикла, рядом с парадигмати¬
ческим временем оным»'*'^.
Если согласно первой концепции «золотой век» может по¬
вторяться бесконечное число раз, то согласно второй он явля¬
ется единожды. В этом контексте интерес представляет бук¬
вальное совпадение наименований периодов в русской куль¬
туре XIX - начала XX веков как века Золотого и века Серебря¬
ного. Здесь отразилось и некое предчувствие (или ожидание)
191
цикла Великого Времени, и печальное признание недосягае¬
мости высот Золотого века. В свою очередь, уникальность
Серебряного века в том, что он, с одной стороны, замыкает цикл,
начатый Золотым, а с другой стороны, сам может стать началом
нового культурного цикла, сопоставимым по своей значимости
с Золотым.
Подобное наложение делает актуальной роль отдельного
человека, предлагая ему выбор системы отсчета. В этой ситуа¬
ции величина настоящего времени разрастается до бесконечно¬
сти, что, в свою очередь, позволяет и архаические культуры вос¬
принимать непосредственно, как современные.
Отказ от концепции цикличности, а точнее, от архаичес¬
ких концепций архетипов и повторения, М. Элиаде предлагает
объяснить противостоянием современного человека природе,
утверждением своей автономии. И как результат: возрастание
для него ценности исторического события, значимости собствен¬
ного поступка. Очевидно, антропоморфизм исторического со¬
знания, как и природность мифологического, не могут оконча¬
тельно и единолично определять отношение человека к миру.
Именно эта гетерогенность и является условием его присутствия
в разных измерениях времени.
В упомянутом очерке «А. П. Чехов» В. Розанов показы¬
вает, сколь непрочны сами исторические факты, зыбка исто¬
рическая память. Он рассказывает, как город Белый утратил в
своем названии память об историческом прошлом: это теперь
у него мужское окончание, а когда-то он назывался «Белая»,
являясь крепостью, защищавшей Московское государство от
набегов Литвы. Когда Польшу присоединили к России, «вооб¬
ще все кончилось», а Белую переименовали в Белый. О кре¬
пости напоминал земляной вал, но и он разрушился, только
остатки вала еще поднимаются бугорками за кладбищем. Вре¬
мя утратило память о себе, а природа сделала свое дело, пре¬
вратив крепостной вал, некогда бывший символом воинской
мощи, в исчезающие бугорки.
192
Как уже отмечалось, на протяжении всего очерка нео¬
днократно появляется тема кладбища; в Москве оно явило
Чехову образчики неизученного еще и потому нового явле¬
ния литературы - эпитафии, а в Белом - стало единственным
местом, где есть живые цветы и раскидистые березки; и там
и тут кладбище утратило свое непосредственное предназна¬
чение - хранить память о живших когда-то людях. Ирония
жизни, которая когда-то обожгла тургеневского Базарова,
неожиданно открывшего для себя, что вся его неординар¬
ность, в сущности, не оставит в мире никакого следа, а ло¬
пух, выросший на его могиле, будет точно таким же, как все
лопухи...
Но уже в следующей части очерка, обращаясь к чеховско¬
му рассказу «Бабы», В. Розанов яростно спорит сам с собой,
переживающим исчезновение истории. Он обрушивает об¬
винения в бездействии, безучастии «русским-паинькам», не¬
способным поднять из-за какого-либо случая фактическую
историю. А несколько раньше В. Розанов вывел свою фор¬
мулу современности: «Черт с ней (полицией -//. К.). Не дает
она нам настоящей истории, так будем жить маленькими ис-
ториями»'*^
Истории, маленькие и фактические, - это, прежде всего,
истории тех баб и детей, мужиков-недобытчиков, праведных и
неправедных, которых всех без разбору похоронила рухнувшая
Силоамская башня. «Что же такое страдание человека, единич¬
ное, личное, “вот это страдание?” - спрашивает В. Розанов и
сам отвечает. - Зерно, из которого иногда вырастает дерево, мо¬
гущее затенить всю землю»"*^. Даже такой факт как ужасные
страдания конкретного человека не получают статус действи¬
тельности; «Да, страшно! Ярко! Потрясает! Льешь слезы. Од¬
нако он умер, и все умерло. Извержение на Мартинике погуби¬
ло тридцать тысяч человек; но все умерло и прошло, и ужасный
в жестокости человек уже теперь не помнит о них или очень
мало вспоминает... .
193
Факты становятся историей лишь после того, как само зер¬
но страдания извлечено и соотнесено с вечным страданием, т. е.
выявлено подлинное архетштическое начало. Как бы ни хотел
реальный человек, живущий в отрезке настоящего времени, от¬
стоять его подлинную действительность, как бы ни подчерки¬
вал свою значимость, он не может выйти за грань, очерченную
по-прежнему враждебным к нему окружающим миром. Но, как
заметил М. Лифшиц: «всякое ограничение, всякий замкнутый
круг, возникающий в потоке материи как необходимое условие
образования более определенных форм элементарной, органи¬
ческой или общественной природы, каждый “малый мир” (еще
далекий от автономии человека) создает вокруг себя напряже¬
ние бесконечности, которое однажды врывается в него как дей¬
ствие сильно сжатой пружины. <...> Наша культура вызывает
вокруг себя постоянно растущее напряжение. Вместе с ростом
свободы растет и зависимость людей от внешних обстоя¬
тельств»'*®.
С осознанием этой трагической истины появляется еще
один веский повод отказаться от истории прогресса. Данная
ситуация провоцирует обращение к первоначалам, первообра¬
зам этих переживаний. Конфликт человека с окружающим ми¬
ром неизбежен, но его можно пережить, если бьггь готовым
принять эту неизбежность. В таком случае и история может ис¬
толковываться как коренной способ бытия, предписывающий
судьбу, а эмпирическая наука о событиях - это лишь крошки
исторического каравая.
История первоначала, по замечанию М. Фуко, стала неми¬
нуемой для нашей мысли. Именно это понимание истории по¬
зволило человеку мужественно принять трагедию собственно¬
го бытия в ее неотвратимости, но и его эмпирическая жизнь
при этом сохранила всю свою ценность. Отныне человек осоз¬
нал свое трагическое предопределение и испытал острейшую
потребность в каждодневном тепле. Именно тепло, ласка, не¬
жность и стали для В. Розанова необходимыми основаниями в
194
жизни. Он - не средневековый аскет, он - Иов, который не роп¬
щет на Создателя и мужественно принимает свою судьбу.
Первоначала В. Розанова связывают его с природой
кровными узами, мир человека и мир природы у него со¬
ставляют в своем изначальном состоянии неразрывную це¬
лостность; эта целостность почти физиологическая. Она
возвращает ощущение подлинности, достоверности. На
фоне этих незыблемых начал наивными оказываются и по¬
литика, и идеология, и даже литература, претендующая на
роль учителя или откровенно служащая каким-либо сию¬
минутным интересам.
Обращаясь к истокам бытия, В. Розанов и сам представал
в глазах своих читателей порой слишком наивным, примитив¬
ным и даже мещанином, как однажды назвал его А. Лосев, но
каждая его мысль - не просто плод рассудка, она - результат
напряженной культурной работы, выверена культурным опы¬
том человечества. Розановский миф добыт из общения с исто¬
рическим прошлым и настоящим человечества, из повседнев¬
ности, но как подлинный миф он сохранил свою верность архе-
типическим началам. В. Розанов не только понял, но и огцутил
мир прошлого через тепло ласки и струящегося молока, через
жест возлюбленных супругов и нежность матери-египтянки, он
почувствовал пахучесть мира, который, в свою очередь, стал
для мыслителя подлинной реальностью. История ожила, а ее
каравай снова готов утолять голод народов.
В одном из писем К. Леонтьеву В. Розанов мечтает о том,
что появится новый жреческий орден, кучка людей, «решив¬
шихся взять историю в свои руки. Это будет смешение рели¬
гии, философии, политики и так же высокой поэзии. Конечно,
боязнь Бога, боязнь своей судьбы - будет главное; второе - окон¬
чательное познание добра и зла и проникновение к остаткам
древа жизни, его сбережение. Не будет истории как развития -
будет подвижное существование в прочных, непоколебимых
формах...»'".
195
За этой моделью будущего человечества явно проступают
очертания мифа: и синкретическое единство культурной деятель¬
ности, и строгое подчинение сверхъестественному началу - Богу
и судьбе, и окончательное, исключающее сомнение, познагше
добра и зла, и сохранение структурной основы всех мифологий -
древа жизни, - все это в конечном счете есть преодоление истории
постоянством и неподвижностью мифа.
ГЛАВА VI
АПОКАЛИПСИС КАК БОРЬБА
ЗА КОСМОС
6.1. Апокалипсические сюжеты и картины вечной
жизни в русской культуре XIX - начала XX века
Среди библейских текстов два никогда не участвуют в бо¬
гослужении: «Песня Песней» и «Апокалипсис» Иоанна Бого¬
слова. Их образы столь многомерны, что вряд ли можно найти
человека, который смог бы их постичь. Прот. Сергий Булгаков,
автор книги «Апокалипсис Иоанна», заметил, что истинное со¬
держание Апокалипсиса доступно только человеку с соприрод-
ным тексту даром пророчества, ибо «.. .пророческая книга тре¬
бует и пророческого к себе отношения и восприятия, а вместе с
тем она и порождает его»'. Своеобразие природы комментируе¬
мого текста автор видит в следующем: «Это не литература, но
повествование о невыразимом, хотя и ищущем для себя выра¬
жения на человеческом языке»^.
А. Лосев, которому суждено было осмыслить и подытожить
Серебряный век русской культуры, уточнил: пророчество тре¬
бует синтеза знания и веры (С. Булгаков назвал этот синтез осо¬
бым пророческим синкретизмом): «Христианин должен призна¬
вать, что звезды будут падать на землю, вода будет обращаться
в кровь, саранча будет величиною с коня, и т. д. <.. .> Но про¬
стая буквальность опять-таки не есть ни христианская, ни ре¬
лигиозная, ни мистическая точка зрения. Буквальная картина
плоскостна, не имеет мифического рельефа, не овеяна проро¬
ческим трепетом, не уходит своими корнями в непознаваемую
бездну и мглу судеб Божиих. Апокалипсические образы должны
197
быть буквальны в символическом смысле.. Стремление дос¬
тичь синтеза знания и веры в целостности жизни и определило
истинное своеобразие русской культуры.
Еще П. Чаадаев в примечании к четвертому философичес¬
кому письму прямо указал на первостепенном значении под¬
линной веры, обратившись к примеру Ньютона: «Но можно ли
серьезно думать, что вся сверхъестественность гениальности
Ньютона, вся его мощь, заключается в одних его математичес¬
ких приемах? <.. .> Я вас спрашиваю, рождалась ли когда-либо
мысль подобного масштаба в разуме безбожном? <.. .> Стран¬
ное дело, есть еще люди, которые не могут подавить в себе улыб¬
ки жалости при мысли о Ньютоне, комментирующем Апока¬
липсис. Не понимают, что великие открытия, составляющие
гордость всего человеческого рода, могли быть сделаны только
тем самым Ньютоном, каким он был, гением столь же покор¬
ным, сколь и всемогущим...»'*. (Впрочем, и любимый герой
непримиримого материалиста Н. Чернышевского, ригорист Рах¬
метов, образуется умственно, читая ньютоновский коммента¬
рий Апокалипсиса из библиотеки Кирсанова.)
Заново открыть текст Апокалипсиса, пережить его как со¬
бытие, удалось Ф. Достоевскому. В. Розанов в примечании к пись¬
му Н. Страхова от 16 октября 1890 года писал: «Кроме одного
Достоевского, “чувство Апокалипсиса” вообще не было пробуж¬
дено в нашем обществе 80-х годов. Тогда именно все “пролетали
через другие миры”, - и когда мы влетели “вот в наш мир" - чув¬
ство Апокалипсиса “у всех пробудилось”. <.. .> Мне он страшно
был близок в пору писания “Легенды об инквизиторе”»^.
Центральными апокалипсическими образами «Великого
инквизитора» у Ф. Достоевского являются зверь, дающий хле¬
бы, Вавилонская башня, блудница. Показательно, что писатель
не приводит прямых цитат из библейского текста: инквизитор в
поэме Ивана Карамазова излагает свою версию Апокалипсиса,
в которой зверь, дающий хлебы, сам оказался бессильным перед
людьми-антропофагами, строящими вместо храма Вавилонскую
198
башню. «Но тогда-то и приползет к нам зверь, и будет лизать
ноги наши, и обрызжет их кровавыми слезами из глаз своих»®, -
торжествует инквизитор. Впрочем, и сам он со всей армией из¬
бранных в поэме Ивана утратил свою силу, подобно апокалип¬
сическому зверю: «Совсем они не то, вовсе не то <.. .> просто¬
душно низводит их с пьедестала Алеша. Никакого у них нет
такого ума и никаких таких тайн и секретов. <.. .> Одно только
разве безбожие, вот и весь секрет»’.
Не случайно, что именно это произведение Ф. Достоевс¬
кого вдохновило В. Розанова на книгу, принесшую ему истин¬
ное признание. «Легенда о Великом инквизиторе Ф. Достоевс¬
кого» явилась не только опытом критического анализа, как обо¬
значил ее сам автор, но и откровенным признанием В. Розанова
о своем пути к подлинной вере.
В своем прочтении автор «Легенды о Великом Инквизито¬
ре» вводит цитаты из «Откровения» Иоанна Богослова, пренеб¬
регая текстом инквизитора (хотя, в отличие от Ф. Достоевско¬
го, и называет его Велиьсим, и пишет оба слова с заглавной бук¬
вы). Инквизитор не может быть пророком, даже если бы вся его
«Легенда» состояла из образов «Апокалипсиса», ибо пророк -
тот, кто, являясь посланцем Божиим, выражает Его волю. Инк¬
визитор же в Бога не верит. Обращаясь к доводам pasjnwa, он и
сам, подобно Р. Раскольникову, малодушно прячется за види¬
мой неопровержимостью своих доводов.
Вводя в текст фрагменггы из «Апокалипсиса», В. Розанов
подчеркивает основную сюжетную линию, которая объединяет
все произведения Достоевского. Как считает автор, именно в
«Легенде» «...схоронена заветная мысль писателя, без которой
не бьш бы написан не только этот роман, но и многие другие
произведения его: по крайней мере не бьшо бы в них всех са¬
мых лучших и высоких мест»^ По признанию самого Ф. Дос¬
тоевского, эта мысль - существование Божие.
«Религия есть нечто высокое: и сделать ее возможно для
человека, стать способным войти в ее миросозерцание - это есть
199
высшая цель, высшее удовлетворение, которого может достиг¬
нуть он. Но достигнуть этого правдиво, искренно он может не
вопреки своим способностям усвоения, но только следуя им, как
они устроены ему Творцом... »^. Далее В. Розанов говорит о твор¬
ческом мышлении, которое значительно превосходит относитель¬
ность и условность науки, но именно творческое мышление и
отнимает инквизитор у людей. Комментируя 13 главу «Апока¬
липсиса», В. Розанов замечает, что знание стало не просвещаю¬
щим, а кормящим, произошел «.. .великий промен духовных да¬
ров на вещественные дары, чистой совести - на сытое брюхо»'®.
Погрузившись в комментируемый текст, В. Розанов предви¬
дит культурную реальность нашей современности: при всей ка¬
жущейся свободе человек XXI века лишен самих основ свободы.
Мыслитель пророчествовал: «Погасить в нем все неопределен¬
ное, тревожное, мучительное, упростить его природу до ясности
коротких желаний, понудить его в меру знать, в меру чувство¬
вать, в меру желать - вот средство удовлетворить его, наконец, и
успокоить»". Именно мера, определенная кем бы то ни было,
является преградой на пути человека к Творцу, лишает его воз¬
можности к преображению, замыкает его в тварном мире.
Мысль же самого В. Розанова подсказывает свою версию
борьбы со зверем: по его мнению, зло и дурное чувство вторич¬
ны. Желание сделать зло - ответное, а причина лжи лежит вне ее
самой. Зло, ложь - историчны, значит - не вечны. Если снять эти
«наросты» с человека, то его природа откроется в первозданной
чистоте. Вследствие этого истина, добро и свобода являются
вечными идеалами человечества. Но ведь один из основных смыс¬
лов Алокалипсиса есть прекращение истории и перерождение
(перевоплощение) человека; достичь же этого освобождения
можно только, следуя за Христом. Непротивление злу, принятое
всеми, и приведет в итоге к полному его вытеснению: «Покаять¬
ся и последовать Спасителю - это и значит снять с себя ненавис¬
тное “иго”; это значит почувствовать себя так радостно и легко,
как чувствовал себя человек в первый день своего творения»’^.
200
Человек, преображенный во Христе, и первый человек для
В. Розанова одинаково светлы и безгрешны. Признание этой
тождественности для самого мыслителя окажется роковым: он,
накопивший много обид на церковь, воспылает любовью к пер¬
вым людям (иудеям, египтянам), которые, как ему виделось, уже
жили в Боге.
Создав свой миф о дохристианском рае, В. Розанов словно
забудет о пророчестве Апокалипсиса и напишет новый - «Апо¬
калипсис нашего времени», испещренный юродствующими
претензиями к христианству, которые соседствуют в тексте с
искренним стремлением верить и следовать Ему.
В розановской версии апокалипсиса происходит обраще¬
ние к Древу Жизни, к человеческому теплу. Смерти телесной,
как первой ступени к претворению в «Апокалипсисе» Иоанна
Богослова, В. Розанов противопоставил рождение ребенка, ко¬
торый еще не знает грехопадения. Символично то обстоятель¬
ство, что в конце своей жизни писатель опубликовал два произ¬
ведения: «Апокалипсис нашего времени» и «Возрождающийся
Египет». Именно там, в Египте, он нашел истинную гармонию
человека с миром и вечные непреходящие ценности.
В стремлениях увидеть первобьггный мир как рай пробова¬
ли силы многие представители Серебряного века: Д. Мережков¬
ский обрел его в Вавилоне, А. Кондратьев оживил мифическую
Ярынь в книге «Сны». Задолго до них Н. Гоголь в «Арабесках»
увидел смутные и манящие очертания древнего мира. Но никто
из них не смог достичь глубины прозрения Ф. Достоевского.
«Сон смешного человека» - небольшой рассказ, опублико¬
ванный в 1877 году. Герой его переносится на один из островов
греческого Архипелага. В своем сне он увидел «новую, вели¬
кую, обновленную жизнь». Люди, жившие там, бьши все счаст¬
ливы: «Лица их сияли каким-то восполнившимся уже до спо¬
койствия сознанием, но лица их были веселы; в словах и голо¬
сах этих людей звучала детская радость. <...> О, я тотчас же,
при первом взгляде на их лица, понял все, все! Это бьша земля.
201
не оскверненная грехопадением, <... > вся земля здесь была по¬
всюду одним и тем же раем»’^.
Знания этих людей получены «иными проникновениями»,
но они были глубже, выше, чем научные: эти люди и без науки
знали, как и зачем им жить. Их жизнь протекала в гармонии со
всем миром: говорили со звездами, с деревьями, любовь их была
без сладострастия, и они радовались детям как новым участни¬
кам в их блаженстве. «Это была какая-то влюбленность друг в
друга, всецелая, всеобщая», - резюмирует герой рассказа.
Все переменилось от невинной шутки, кокетства, любов¬
ной игры, которыми заразил он этих безгрешных людей - так
они научились лгать и познали красоту лжи. И вот уже рас¬
ползлись сладострастие, ревность, жестокость, свершилось гре¬
хопадение, и разрушился земной рай: «Я ходил между ними,
ломая руки, и плакал над ними, но любил их, быть может, еще
больше, чем прежде, когда на лицах их еще не было страдания
и когда они были невинны и столь прекрасны»
Новая любовь к грешным людям вызвала в герое готов¬
ность идти на крест, отдать всю кровь до капли, но жертва эта,
как оказалось, никому не нужна. Не став Агнцем, «смешной
человек» проснулся с готовностью проповедовать, ибо понял
старую истину, «которую биллион раз повторяли и читали», глав¬
ное - люби других как себя.
В этом рассказе ни разу не упомянут «Апокалипсис» Иоанна
Богослова, но именно он является сюжетообразующим началом:
грехопадение, лжепророчества, Вавилонская башня, блудницы-
религии, кровавые войнь1 - все это отблески апокалипсических
событий, которые приводят героя к обновлению. Однако суть это¬
го обновления не в возвращении к первобытному раю, а в преоб¬
ражении, поэтому в рассказе, проснувшись, «смешной человек»
не только настойчиво заверяет, что будет проповедовать истину,
открьюшуюся ему, но и вспоминает о девочке, просившей помо¬
щи. «А ту маленькую девочку я отыскал... И пойду! И пойду!»’^ -
именно этими словами завершает автор свое произведение.
202
На рубеже XIX-XX веков «Апокалипсис» становится ме¬
татекстом, который вторгается своими образами в сознание эпо¬
хи. В статье «Апокалипсис в русской поэзии», опубликованной
в 1905 году, А. Белый описывал впечатления от чтения В. Соло¬
вьевым лекции «О конце всемирной истории»: «Обозначился
ряд ледяных пиков, крутых снегоблещущих гор, по которым мы
должны будем пройти, чтобы не свалиться в пропасть. А из чер¬
ных провалов взвивался дым туч; лучи солнца, обливая тучи
кровью, являли в дымках грядущий лик воспламененного ярос¬
тью дракона»'®.
Опасность усиливается, если события апокалипсиса пере¬
мещаются в область эстетического: муза может стать призра¬
ком-обманом. Вспомним знаменитое блоковское: «Но страшно
мне; изменишь облик Ты». А. Белый, рассуждая о музе В. Брю¬
сова, предупреждал, что тварность (сотворенность) ее непредс¬
казуема. Муза может оказаться Женой, облеченной в Солнце,
но и Великой Блудницей, и тогда уже неизбежно сам поэт и его
читатели станут добычей «воспламененного яростью дракона».
Для того чтобы распознать врага, чтобы не стать добычей дра¬
кона, оставался один путь: напряженная духовная жизнь, жизнь
в вере. Но путь этот через атеизм, позитивизм, нигилизм XIX
века бьы слишком трудным.
В. Розанов писал в 1913 году: «Может быть для будущих
времен интересно будет сообщение, что в 80-х годах минувше¬
го столетия Россия, и общество русское пережило столь рази¬
тельно-глубокий атеизм, что люди даже типа Достоевского,
Рачинского и (извините) Розанова предполагали друг у друга,
атеизм, но скрываемый', до того казалось невозможным “ве¬
рить”, “не статочным” - верить! Как, что переменилось со страш¬
ной незаметностью, но - “Гость пришел в Ночи и тихо, - и сел”;
и мы “очень просто верим”, и я знаю, что у меня “за стеною -
Гость, друг реальный, как мои дети”. “Мы все верим, очень про¬
сто”. Почему? Как? Когда начали верить? Неведомо, неиссле-
димо. Я сам (в обществе, в истории) пережил день за днем эту
203
главу ее, и сам не знаю, “когда все случилось”. Но верю. И верю
теперь Достоевскому. И поверю всякому, кто скажет, что он -
“верит”. <...> Я уже два раза встречал юношей, у которых с
шестого класса гимназии стала в душе мечта - сделаться свя¬
щенниками»'^.
Последняя фраза в этой цитате может показаться неожидан¬
ной, но именно в ней В. Розанов предрек путь к вере, который
последовательно привел П. Флоренского, С. Булгакова к священ¬
ничеству. Сошлемся на описание П. Флоренского своего состоя¬
ния после рукоположения, где говорится, что он пережил преоб¬
ражение, и нечто, названное автором непонятным для него само¬
го, низошло в душу, в сердце, во все тело. Священничество в дан¬
ном случае - это истинная жизнь в вере, в церкви. Именно воцер-
ковленности недоставало В. Розанову, когда он сетовал на то, что
в храме во время службы чувствует себя чужим.
Апокалипсис мыслитель понимал как некую хирургичес¬
кую операцию, призванную отсечь зло. Человечество больно, и
его необходимо излечить - в этом истинное призвание христи¬
анства. В розановской версии Небесный Иерусалим будет насе¬
лен наивными и «малодумными» людьми, наделенными бого-
ощущением. Модель первобытного рая оказалась столь устой¬
чивой и заманчивой, что В. Розанов словно забыл о своих раз¬
мышлениях над «Книгой Иова», где утверждал, что страдание
необходимо для человека. Будто это не он иронизировал над
живущими в полном благополучии швейцарцами, которым вовсе
не нужна душа, а достаточно иметь глаз, еще лучше - стеклян¬
ный шарик во лбу, соединенный нервами с мозгом, чтобы вос¬
хищаться, - в свое время такая «райская жизнь» вызывала у мыс¬
лителя лишь усмешку.
Безусловно, «Откровение Иоанна Богослова» породило на
рубеже XIX-XX веков целый ряд текстов на основе его обра¬
зов. Но при этом сюжет Апокалипсиса еще не был воспринят
как истинно мифологический: непознаваемая бездна и мгла су¬
деб Божикх, о которых говорил А. Лосев в приведенной нами
204
цитате, подменялись картинами реальной жизни, утратив таким
образом мифический рельеф. Чтобы воспринять подлинную глу¬
бину этого вечного текста, надо было войти в пространство мифа.
А. Лосев назвал этот миф абсолютным. «Абсолютная мифоло¬
гия, - заметил философ, - есть абсолютное бытие, выявившее
себя в абсолютном мифе, бьггие, достигшее степени мифа»’*. Воз¬
можно, движение русского общества к церкви и бьшо вызвано
стремлением к этому абсолютному мифу как незыблемой основе
мировоззрения, как способу пребывания в Вечности. Не найдя
этого пути, писатели и мьюлители бродили по тропам истории в
надежде найти земное воплощение вечного рая.
6.2. Космогония «Апокалипсиса нашего времени»
Апокалипсические тексты в русской литературе рубежа
XIX-XX веков легко распознаются по наличию в них ключе¬
вых образов: хаос, зверь. Жена, облеченная в Солнце, Град Но¬
вый, а сюжеты объединяются поисками новой религии в разгу¬
ле хаоса. Героем такого сюжета становился каждый, кто ясно
представлял себе грозившую опасность. Однако, как показал в
статье «Апокалипсис в русской поэзии» А. Белый, еще в пуш¬
кинской поэзии «бессознательно указаны глубокие корни рус¬
ской души, простирающейся до мирового хаоса»'^ Некрасов и
Тютчев, в свою очередь, «дробят цельное ядро пушкинского
творчества, углубляя части раздробленного единства»^. При
этом Некрасов открывает хаос русской действительности, а
Тютчев - глубину проникновения пушкинской поэзии в миро¬
вой хаос. Но, как отмечает А. Белый, ни хаос Тютчева, ни хаос
Некрасова не обнаруживают свою подлинную глубину в повсед¬
невности, в «мелочах обыденной жизни».
Символизм как миропонимание, основанный на философ¬
ских взглядах В. Соловьева, понэстетизм А. Белого также вы¬
нуждают игнорировать подлинн}то повседневность в «мелочах
205
обыденной жизни». Преображенная в символы действитель¬
ность в значительной мере утрачивает свою самостоятельность,
а хаос - всеобщность: «Следует помнить, - пишет А. Белый, -
что призрачен красный дракон, несущийся на нас с Востока:
это туманные облака, а не действительность; и войны вовсе нет:
она-порождение нашего больного воображения, внешний сим¬
вол в борьбе вселенской души с мировым ужасом, символ борь¬
бы наших душ с химерами и гидрами хаоса»^‘.
Подлинный трагизм Апокалршсиса выпало пережить В. Ро¬
занову, воспринявшему происходящее как вселенское событие.
Если для символистов Апокалипсис есть поединок музы с хао¬
сом, то у В. Розанова - это борьба за жизнь, что означает для
него борьбу за Бога-творца.
В. Розанов, в отличие от символистов, изначально религио¬
зен. Мир сотворен Богом совершенным - и в этом уверен мысли¬
тель, - как воплощение Божественной воли он не нуждается в
человеческом. Поэтому и Евангелие «человеческая история, нам
рассказанная», история Бога и человека, богочеловеческий про¬
цесс и союз, вызывает у него протест. Однако нельзя сказать, что
«Апокалипсис нашего времени» - книга, направленная против
христианства. По законам логики мифа истина живет в проти¬
воречащих утверждениях, точнее - в них отражается ее жизнь.
Пафос неприятия христианства, пронизывающий первые два
выпуска, неожиданно заглушается фрагментом «Кроткая» (Ш
вьшуск), наполненным христианским смирением: «Ты не прошла
мимо мира, девушка... о, кротчайшая из кротких... Ты испуган¬
ным и искристым глазком смотрела на него.
Задумчиво смотрела... Любяще смотре.ча... И запевала
песню... И заплетала в косу ленту»^^.
Автор, готовый двумя страницами раньше раствориться в
рыке «Апокалипсиса»: «Больше мяса... Больше вопля... Больше
рева», смиренно любуется кроткой, а потом заявляет: «Не
пойду ия с миром. Не хочу. Я лучше останусь с тобой. Вот я
возьму твои руки и буду стоять.
206
и когда мир кончится, я все буду стоять с тобою и никогда
не уйду... И мир пройдет и прошел уже. А мы с тобой будем
вечно стоять.
Потому что справедливость с нами. А мир воистину не¬
справедлив» (17).
Тема Христа у В. Розанова сложна и трагична. Среди мно¬
гочисленных провоцирующих выпадов против христианства,
нескончаемых обвинений его во всяких современных бедах,
автор, словно ненароком, проговаривается об истинном своем
отношении к Христу, об истинной, а значит - тайной, жизни в
вере, которая «выше всякого рекомого и мыслимого идеала».
Обрушив свои обвинения в очередной раз на христиан, В. Роза¬
нов возмущается: «Нарушить Христа никто не опасается, а
собственно опасаются как-нибудь возражать Ему на словах»
(262). Сам автор поступает наоборот: горячо спорит, но сохра¬
няет Христа в глубине души, однажды открыв, что и сама рели¬
гия состоит «в отталкиваниях и притягиваниях». В одном из
фрагмеетов «Апокалипсиса...» В. Розанов восхищается С. Бул¬
гаковым, который «...по евангельскому зову, по притче Спаси¬
теля, не хоронит душу свою в мглу, в тьму, а принимает богато в
душу свою всякое падающее на нее зерно <...> Да. Да. Какая
радость, - произносит В. Розанов, узнав, что С. Булгаков при¬
нимает священство, и тут же добавляет, - Но знаете: надо бы
это тихо, тихо. Почти украдкой» (255). Так же тихо-тихо, почти
украдкой, живет и христианин В. Розанов, уступая публичную
трибуну писателю В. Розанову.
Его подлинная религиозная жизнь начинается с молитвы,
интимность которой и делает религию личным и особенным со¬
стоянием. Именно интимность, душевность розановской веры
сопротивляется публичности слова. В слове, слишком формали¬
зованном, лишенном поэтому ноуменальности, видит В. Розанов
причину упадка современной европейской культуры: «Ах - сло¬
во, проклятое слово.
Так все и ушло в словесность» (105).
207
Антихристианство В. Розанова - это его юродство, позво¬
ляющее в хуле на христианство достигать утверждения через
отрицание. И даже ярое сопротивление В. Розанова христианс¬
кому аскетизму не дает повода упрекнуть его в безверии. Так
его трактовка пола никогда не соприкасается с мотивом наслаж¬
дения, он аскетичен в своем священнодействе.
Младший современник В. Розанова, И. Ильин, рассматри¬
вая основы христианской культуры, выделил две тенденции в
христианстве: мироотречение и мироприятие. «Первый путь был
последовательно продуман и прочувствован до конца в первые
же века. Согласно этому воззрению, Царствие Божие не только
не от мира сего, но и не для мира сего. Мир внешний и веще¬
ственный есть лишь временный и томительный плен для хрис¬
тианской души; ей нечего делать с этим миром, в котором она
не имеет ни призвания, ни творческих задач. .. .Верный же ис¬
ход в том, чтобы принять мир вследствие приятия Христа и на
этом построить христианскую культуру <■. .> чтобы, исходя из
духа Христова, благословить, осмыслить и творчески преобра¬
зить мир; не осудить его внешне естественный строй и закон, и
не обессилить его душевную мощь, но одолеть все это, преоб¬
разить и прекрасно оформить - любовью, волею и мыслею, тру¬
дом, творчеством и вдохновением»^^
В. Розанов нашел свой способ «мироприятия», обратив¬
шись к Ветхому завету и к Древнему Египту.
Последнее произведение Б. Розанова - сложнейший орга¬
низм, клетки-фрагменты которого жизненно связаны между
собой. Именно в «Апокалипсисе...», как ни в каком другом про¬
изведении, автор вновь собирает когда-то сказанное о различ¬
ных проявлениях жизни и выстраивает свой космос, пусть от¬
даленно, но похожий на «рай первобытных человеков».
Космос В. Розанова необычен. Здесь почти нет «геогра¬
фии», но он насквозь физиологичен. Любое явление интересу¬
ет автора лишь постольку, поскольку оно связано с жизнью. К
примеру: в «Апокалипсисе...» есть фрагмент, где кровь осмыс¬
208
ливается как субстанция. Вначале констатируется, что, разоб¬
рав на составные «шарики», сукровицу ни химия, ни физика не
увидели ее сущностного качества - движения, ибо перестает
двигаться кровь - и человек умирает. Движение-жизнь выводит
организм в пространство планетарное, где элементарный газо¬
обмен толкуется как питание из атмосферы планеты, а кровь
«уже планетарна и космогонична» (96).
Именно в «Апокалипсисе» В. Розанов настойчиво устрем¬
ляется к планетарному (космогоничному) восприятию, модель
которого увидел в лермонтовском «Выхожу один я на дорогу...»,
наделяя автора стихотворения неожиданной характеристикой:
«Он атавист, со дна души которого поднялись чрезвычайно древ¬
ние сны. Но можно сказать и более: со дна души которого под¬
нялась чрезвычайно древняя истина» (355). (Для В. Розанова
«древний сон» и «истина» принципиально тождественны, а «ата¬
визм» - особый дар.) Идеальное достижение «изумительно пла¬
стической и нравственной красоты» возможно в состоянии «пол¬
ной животности, без размышления, без догадок, без филосо¬
фии и опыта»; такое состояние свойственно детям, живущим
«только физиологически и элементарно-духовно» (295).
Родившийся не по собственной воле и даже не по воле ро¬
дителей, а «всей истории», человек никогда не может знать себя,
поэтому тщетны его попытки управлять собой по своим соб¬
ственным правилам.
Как заметил В. Розанов, мы «постоянно выходим “из себя”.
Это предки наши выливаются через край нашего личного “я”»
(170). Вот почему современному человеку предстоит осмыслить
физиологию планетарно, космически, избегая формальных си¬
стем и схем. В. Розанов укоряет Канта, утверждавшего, по его
мнению, что «...предметы мира, встречаясь с нашим умом,
подчиняются схематизму этого ума, схематизму восприятия,
схематизму суждения, схематизму категорий этого суждения»
(170). В результате такой схематизации утрачивается предмет¬
ное знание мира. Предметность рассматривается В. Розановым
209
как основа ноуменальное™, в то время как схематюм приводит
к «феноменальной образованности» (феноменальность в дан¬
ном случае есть антагонист ноуменальности).
Ноумен - вещь «в самой себе», «сгусток мира» в розанов-
ской космогонии обозначается мифологемой семени: «.. .начать
мыслить или особенно начать чувствовать “мир бессемейным”
и значит начать сознавать мир безноуменальным» (173)^^ Поте¬
ря ноумена-семени неизбежно приводит к кризису культуры.
Безнозт^енальная Европа начинает умирать, ее может спасти
потрясение, подобно тому, как христианству необходимо «из-
под себя... открыть Озириса» (173).
Размышляя о предназначении человека, В. Розанов, с од¬
ной стороны, настаивает на его покорности воле Божией, проти¬
вопоставляя ей стремление к «героизму», якобы спровоцирован¬
ному Христом, а с другой стороны, утверждает, что человек -
энетелехия планеты, антропоморфический и астрономический
взгляд на землю. С этой точки зрения становится очевидной
насущная задача: вернуть земле ее округлость (беременность),
вернуть в центр мира зерно. Вот почему необходимо возродить
Египет, другие «маленькие языческие культуры». Планетарно¬
му взгляду В. Розанова открывается еднмство всех языческих
культов, истина и единство древнего язычества.
Мысль В. Розанова неизбежно движется в параллельных
пространствах: космогоническом и социальном. И если в пер¬
вом ему тепло и уютно, не смотря на планетарность масштаба,
то во втором он умирает. Планетарность игнорирует социальную
историю, как и сама планета находится вне этой истории. Ис¬
торическая наука должна обрести перспективы и пропорвди, ко¬
торые будут направлены, как таран, на сущностные (ноуменаль¬
ные) представления. Необходимо отметить, как тщательно В. Ро¬
занов избегает терминов, теоретических схем, элементарно («как
ребенок») обозначая проблему исторической науки: «Во Фран¬
ции был частный быт и много частного быта. Кто-нибудь лю¬
бит костюмы, наряды. И специфически не любит войн. Если он
210
“займется историей Франции”, то напишет нам идиллическую
страну, где люди только наряжались. Будет ли это Франция?
И да, и нет» (264).
Планетарность как принцип позволяет В. Розанову сосре¬
доточиться на культурной роли того или иного народа: у евреев
надо писать о псалмах и Священном Писании, а у египтян -
о солярном учении, о воскрешении - коренных идеях, той но¬
вости, «...которую они принесли миру и за которую весь мир,
все цивилизации им обязаны поклониться до земли» (265). Ины¬
ми словами, историкам следует сосредоточиться на содержа¬
нии космогонических и религиозных концепций народов. (Поз¬
же в “Диалектике мифа” А. Лосев также откажет истории как
науке в претензиях на абсолютную истинность, укажет на ее ми-
фологичность.) Предлагая истории обратиться к космогоничес¬
ким концепциям, В. Розанов не испытывает ни малейшего инте¬
реса к истории техники, торговли, войн. Исторический Египет со
сменяющими друг друга династиями, войнами, религиозными
спорами и реформами В. Розанова тоже не интересовал.
Обращаясь к древним культурам, В. Розанов, по его соб¬
ственному определению, «’’извлекал корень из извлечения кор¬
ня”; самую абстрагированную теорию, концепцию делая осяза¬
емой, преображая физические законы в “физико-психические”,
т. е. в законы, которые началом будут в физике, в массах и дви¬
жениях в косностях, концом входят в душу, человечность и
жизнь, не прерываясь где-либо» (228). Это своеобразный, роза-
новский, ответ дегуманизации познания, а с другой стороны -
это фиксация космогонического, мифотворческого процесса как
попытки «остирефлексийно вновь обрести факт, воспринять не¬
посредственно опосредованный разумом мир.
Отдаленно описанный процесс созвучен художественной
практике, направленной на эстетическое преобразование дей¬
ствительности у символистов. Но В. Розанов игнорирует огра¬
ничение художественного пространства и не занимается соб¬
ственным мифотворчеством.
211
Он осваивает, «обнюхивает» мир, объективно включаясь в
планетарный мифотворческий процесс, обживая формальный
«феноменальный» мир науки как непосредственно данный. Ре¬
лигиозный в основе взгляд на мир В. Розанова устремлен не к
слову, а к ноуменальной данности мира; «Начало бе души».
«Извлечение корня из извлечения корня» В. Розанов про¬
изводит виртуозно. В то время как естественнонаучная мысль
осваивала великое открытие А. Эйнштейна, В. Розанов увидел
его ноуменальную перспективу. Изумившись скорости, с кото¬
рой Земля, а значит и сам человек, движутся вокруг Солнца,
замечает; «Если бы мы голые так двигались “сквозь воздух”, то
с нас обдиралась бы кожа. И между тем мы ночью спим» (229).
«Но уже “когда слагались концы земли” или “начала мира” -
все это было, ибо для нашей жизни и “ласки” заложен был осо¬
бый и специальный закон - относительного движения» (231).
Подобно комфортным щусевским вагонам, в которых люди,
независимо от скорости движения поезда, уютно пьют чай, уча¬
ствуя в то же время в этом движении, древние народы и их куль¬
туры существуют, и вполне реально, в жизни В. Розанова, ityTe-
шествуюшего по ним «ОТМЫСЛИ
К МЫСЛИ.
Нет, больше, глубже:
ОТ ЛАСКИ
КЛАС1СЕ,
ибо мир поистине без неги не может быть» (231).
В этом стремлении времена смыкаются подобно тому, как в
отмеченном В. Розановым египетском изображении «змеи, дер¬
жащей во рту свой хвост». Впрочем, розановский уроборос - это
не только символ бесконечного времени, но и характеристика
его «замкнутой» логики, когда мысли выражают не для того
чтобы прийти к некоему логически ясному итогу; произвольно
свертываясь, они замыкают пространство идеи в мифологему,
которая, появляясь в новом контексте, каждый раз смыкает на¬
чало и конец, альфу и омегу.
212
Впрочем, это обстоятельство не смущает автора, считаю¬
щего пустыми попытки установить, что бьшо раньше: курица
или яйцо, и был ли когда петух. Времена мистериально смыка¬
ются, как только человеку потребовалось это «1^риное и пету¬
шиное царство» с их «яйцами и размножениями», - вагоны сцеп¬
лены, поезд идет, и не стоит размыкать этот уют, чтобы выст¬
раивать всех едущих по рангу. Важнее понять, как и куца дви¬
жется поезд. Так можно представить модель мифологического
сознания В. Розанова.
В мифологическом пространстве время не только замкну¬
то, но и соотносится с другим понятием - праздник. По В. Ро¬
занову, истинное время человека - «праздник, сияние, отдых»
(231). В отличие от прозаического труда праздник - божествен¬
ное состояние, он больше труда, он сакрален. Трудно не уви¬
деть в этих замечаниях контуры идей современных мифологов
о причастности к сакральному началу мифического времени в
отличие от периферийного и о способности человека во время
праздника перемещаться во временах.
Подобно времени представляется В. Розанову и пространство:
космос, включающий в себя природу, дом, угол и исключающий
все, что связано с городом как социальным пространством. В кос¬
мическом измерении нет места для труца, как нет и времени, отво¬
димого труду. «Эх, трезвая работа. В конце-то концов это тоже ка¬
бак-бессодержательность» (194). Труц акосмичен, так как слиш¬
ком рационален и прагматичен. «Созидательный труд» - опреде¬
ление, которое невозможно предположить в тексте В. Розанова. Да
и сам мир у него не столько сотворенное, сколько «вечнорождаю-
щееся существо, мир - само-творится» (188).
Розановское мимолетное находится в одном ряду с миром,
космосом. Переживание мира становится его «романом с Кос¬
мосом»: «Я точно слышу, как шумят миры. Вечно. Звезды слу¬
шаю. Цветы нюхаю. Особенно люблю нюхать серые, с земли
взятые грибы. Мох. Кору дерева. <.. .> Природа. Я хочу быть в
природе»^^ Творчество сводится к отбору впечатлений, мыслей.
213
созвучных странной, таинственной музыке, «приятно текущей»
в нем. Этот закон мелодичности реализует недоступный само¬
му автору таинственный замысел.
«Быть в природе» для В. Розанова-значит исполнить пред¬
назначение; «И вот росинка. Росинка на злаке. Уж кое-что рас¬
сматриваю. Когда “открыто” - всем “легко усмотреть”: а вы
попробуйте предварителъно)9-^. Так «предварительно» В. Роза¬
нов открывает Землю, всматриваясь преображенным взглядом,
распознавая в обычных явлениях, ставших феноменально-фор¬
мальными, подлинно-ноуменальное содержание.
Особого рода цельность видится В. Розанову в органичной
вере евреев: «Здесь происходит чудное совмещение “я” и “уни-
верза”, и это так и есть, ибо от человека сокрыта и даже вооб¬
ще это есть неведомо, не совпадает ли каждое “я” с центром
Вселенной Вселенная бесконечна, это просто = тому, что вся¬
кая точка в ней моментально может быть принята за центр, но
есть и на самом деле ее центр. Отсюда: нет в мире мелочных и
больших вещей, и мы все собственно боги и в то же время Бог
Един. Таким образом происходит совмещение Бога с челове¬
ком, а человека с Богом, и это - не фраза, а только то знаю - весь
мир свят, и нет темного в мире, нет, так сказать, в нем отсут¬
ствия, а только - присутствие в полноте. Что такое “мир”. Бы¬
тие. А небытия - нет. Но “я” есть “я”: и как “бытие” бессмер¬
тен, безначален и вообще совмещая “бытие Божие”» (142). Под¬
черкнем: иерархия у Розанова строго соблюдена: не Я и Бог, а
Бог Единый и Я-в-нем, ибо наравне с произвольно, или случай¬
но, избранной точкой, которая «моментально» может быть при¬
нята за центр, есть и истинный центр мира.
Эта расплывчатость границ (осей) мира принципиальна в
розановском Космосе. Так он описывает мрак и ужас, охватив¬
шие Авраама после обрезания, подменяя слово «мир» «туманно¬
стью». В результате автору удается зафиксировать мысль о нео¬
днозначности действительности: «Действщ-ельность сонна, сон¬
лива, а сны - реализуются» (142), и Космос есть осуществление
214
воображений. Так подготавливает В. Розанов важный вывод о том,
что мир произошел, образовался, рожден, «а не есть».
Становится ясно, что ноуменально космогонический акт
есть в своей основе не сотворение, не созидание, а именно рож¬
дение; рождение мысли, «мечты», «сна» и осуществление их в
последующем. Для В. Розанова принципиально лишь то, что
есть точка-рождение, из которой начинается и само движение,
и производное от него время. При этом время вовсе не сопро¬
вождается усталостью; нет для Розанова «пьши веков», подоб¬
но тому, как это происходит с природой, которая, не смотря на
свою древность, не дряхлеет (не покрывается вековой пылью =
усталостью). С этой точки зрения для него предпочтительнее
«старая квартирка Азия и Европа», чем какая-то новенькая «точ¬
но столяры делали, а не то чтобы в ней основательно пожили
люди» Америка: «И вот ты. Боже, видишь, что чем старее чело¬
век, тем он интереснее становится, а все новенькое поистине
неинтересно» (144).
Человек у Розанова вечен, так как вечно само бытие. Фор¬
мула бессмертия в «Апокалипсисе» циклична. Цель и верхняя
граница цикла - высший расцвет человека-растения; Дерево -
цветок - плод, через который и осуществляется возрождение
(Осирис Египта).
Описывая жизнь как космо-физиологический процесс, В. Ро¬
занов разглядывает мир через призму чуда. Любопытно в этом
контексте чуда автор «Апокалипсиса» иронизирует над объяс¬
нением физиками природы грозового явления. Его раздражает
фраза «накопляется электричество» (накопляться могут бацил¬
лы, богатство). «Накоплялось бы электричество и - рассеива¬
лось», - замечает автор, но тогда появляется вопрос; «Почему оно
не рассеивается так же медленно, как накапливается» (244). Автор
иронизирует лишь д ля того, чтобы показать «грозу во всей ее сово¬
купности»; «Молодость природы. Силы. Накопление, накопление
чего-то... И-тр-ррр-ах. Момет:...» А затем неожиданный вывод;
«...да ведь это <...> есть человеческое совокупление» (244).
215
Неудовлетворившись безликим понятием «электричество»,
В. Розанов предлагает свое толкование потенции как реаль¬
ное мнимое, реальное мыслимое. Составные потенции; лас¬
ка, томность, улыбка, нега физически не обозначены («ниче¬
го не весят»), но именно потенции и делают мир живым, связ¬
ным, священным.
П. Флоренский в обожении плоти как акте духовного вос¬
хождения человека центральное место отводит категории «по¬
тенциал». Одухотворение плоти сопровождается у него повы¬
шением потенциала сознания, в результате чего сознание отда¬
ляется от реальности и «низводит нас в самих себя». Любопыт¬
но, что итог этого разрастания телесности звучит по-розановс-
ки: «Все окружающее меня представлялось в восхитительном
виде: деревья, травы, птицы, земля, воздух, свет, все как будто
говорило мне, что существует для человека, свидетельствует
любовь Божию к человеку»^’, - слышим мы из уст Странника,
достигшего уединенной молитвой необходимой сосредоточен¬
ности духа. Не о такой ли сосредоточенности говорил и сам
В. Розанов, прислушиваясь к таинственной музыке в душе. В
таком случае постоянные упоминания о молитве в произведе¬
ниях В. Розанова приобретают реальную наполненность: дей¬
ствительно, многие его строки вполне могут быть истолкованы
как моменты религиозного откровения.
«Мир сотворен физиологически», - упрямо повторяет В. Ро¬
занов. Но, как мы уже заметили, это космогоническая физио¬
логия. Именно поэтому автор «Апокалипсиса...» настаивает
на мистицизме, когда говорит о поле: «Никем вовсе не замеча¬
ется, никому неведомо, что совокупление вовсе не необходи¬
мо, не физиологично, а - метафорично и мистично» (70). Сим¬
волом этого космического и планетарного совокупления явля¬
ется гроза - огонь, который «сплавляет души», исцеляя мир.
Целостность мира воплощает пол: «пол есть единый как вос¬
производитель себя, но зато - нескончаемо, безгранично веч¬
но» (191). Пол един в родстве; В. Розанов уточняет: не два пола.
216
а раздвоение его! Разделение для того, чтобы, соединившись
вновь, эти половины воспроизвели себя в новой жизни.
Космофизиологию открьш В. Розанов в архаике Египта,
предчувствовавшего грядущий апокалипсис. Это взаимопроник¬
новение времен отразилось в названии последнего произведе¬
ния В. Розанова: не просто «Апокалипсис», а «Апокалипсис
нашего времени». С одной стороны, отчетливо доминирует цик¬
лическая версия времени (уроборос), а с другой стороны, со¬
хранено ошущение своего времени. При этом четко проводится
деление: если циклическое понимание времени отражает надеж¬
ду на возвраш,ение потерянного рая, то эсхатологическое ощу¬
щение порождено реальностью крушения жизни, социальных
потрясений, необратимостью происходящего. Однако необхо¬
димо заметить, что автор циклической версии не просто ожида¬
ет возвращения архаического, доисторического времени, замы¬
кая человека в архетипическом пространстве, а предполагает
грядущее преображение человечества.
В. Розанов приводит убедительную иллюстрацию к своей
культурологической концепции, обращаясь к инвариантной
мифологемной триаде: гусеница - куколка - бабочка, в которой
Европе отводится роль гусеницы «прожорливой, бесстыдной,
гадящей землю, портящей сады», которой настало время уми¬
рать, окукливаться. Но, подчиняясь единому закону преображе¬
ния, она не вся умирает: появившийся мотьшек сможет «насла¬
диться Богом» в небесных садах.
Мотив обреченной Европы-гусеницы сопровождается не
менее важным для В. Розанова мотивом цивилизации-блудни¬
цы: «Прекрасная душа человеческая, я говорю, возненавидела
эту “блудницу-цивилизацию”, усаженную отвратительностями»
(128). Душа европейской культуры потеряла «взлет к вещам,
милым вещам», а теперь эта бескрьшая душа раздирает платье
блудницы. Так В. Розанов дает свою формулу Fin de siecle, под¬
черкивая, что это бескрылое раздирание отвратительно, так как
в нем нет ни полета, ни воображения.
217
Жизнь потеряла всякий смысл. Первыми, как подчерк¬
нул В. Розанов, это смогли выразить представители декадан¬
са и, прежде всего, Д. Мережковский, которому автор «Апо¬
калипсиса...» присвоил титул «царь-декадент». «Ядро дела
заключается в наступлении в конце “роскошного века” того,
что вдруг все люди, лица, сословия, классы, профессии как-
то охладели к делу своему» (125), - пишет В. Розанов. Этот
холод стал поистине космическим, так как «ослабились все
связи планеты» и стало бессмысленно продолжение всемир¬
ной истории.
Так Апокалипсис у В. Розанова буквально означает наступ¬
ление конца времен. Но он смягчает приговор, замечая о заблу¬
дившейся всемирной истории: «Утратились естественные свя¬
зи, всегдашние, всемирные. <...> Но разве ... не Он сказал?
- Блаженны нищие...
Так что же Он сказал?
Разрушение мира.
А мы думали; “воскресение”, “спасение”...
И вот “мир разрушается”.
Апокалипсическое; “Назад”...
Рев Апокалипсиса; “Назад!! К Древу жизни”. “К водам
жизни”» (126).
Апокалипсис у В. Розанова означает конец холодных вре¬
мен и необходимость поиска источника тепла, в качестве ко¬
торого естественно выступает Солнце, оно согреет мир в бу¬
дущих временах. Но в отличие от цитируемого «Откровения
Иоанна Богослова», описывающего благословенное Торжество
Мессии в новом мире, где не будет нужды даже в свете сол¬
нечном, «ибо Господь Бог освещает их», В. Розанов предпо¬
читает Землю; «Поистине на земле не хуже, чем на небе. И
если престол Божий - небеса, то Земля есть престол челове¬
ческий, только нужно для этого, чтобы человек был скромен,
смирен в сердце своем и никогда не забывал Бога. Тогда и Бог
не оставит человека» (187).
218
«Апокалипсис нашего времени» - произведение поистине
трагическое. Оно порождено событиями революции, разрухой.
Но находясь в эпицентре развивающейся трагедии, автор отры¬
вает глаза от собственных язв и кровоточащих ран. Рассужде¬
ния о судьбах Европы и России, об исторической миссии хрис¬
тианства, догадки о единстве всего языческого мира, и, нако¬
нец, оптимистическое замечание о том, что Эдем «раздвигается
на всю землю» сменяется неожиданно прорвавшимися слова¬
ми о страшном горе; «И вот, всего второй день, как я узнал о
смерти сына моего, погибшего жалкою смертью в Курске, i^a
он уехал на работу и пропитание: и сад земной для меня есть
все-таки сад. Ибо это всемирно. И да зпуюлкает всякая частная
скорбь. А звали его Васей. Помолитесь о нем» (190). Трудно и
кощунственно было бы предположить, что слова эти - литера¬
тура. Скорее это признание истинного мудреца, обретшего но¬
вый взгляд на мир, - взгляд, который сам он назвал планетар¬
ным. С высоты этого взгляда события Апокалипсиса открыва¬
ются как космогонические.
«Мы вступаем в сферу уже собственно мифологическую,
когда переходим от семантических оппозиций, выражающих
простейшую ориентацию человека в пространстве и восприя¬
тие контрастных 01цущений, к их космологическому осмысле¬
нию и к установлению параллелизма между противопоставле¬
ниями на “языке” разных органов чувств, частей человеческого
тела, общества и природного мира, микро-, мезо- и макрокос¬
ма, а также к известной их аксиологизации, т. е. включения в
определенную шкалу ценностей», - заметил Е. Мелетинский^^
В текстах В. Розанова предстает процесс рождения нового мифа,
призванного космизировать хаос действительности.
Острота этой задачи обусловлена прежде всего сменой па¬
радигмы сознания (мучительное переживание кризиса пози¬
тивизма, преодоление нигилизма и религиозные искания), со¬
циальной напряженностью в предощущениях неотвратимых
трагических событий, апокалиптическими переживаниями
219
и эсхатологическими ожиданиями. Кроме того, сама культура
как действительность нуждалась в обновлении своей ценност¬
ной иерархии.
Наиболее полно этот процесс отразился в литературе. Прин¬
ципиальным становится извлечение литературного факта, лите¬
ратурного имени - в частности, из конкретного исторического
времени. Так И. Приходько, обратившись к творчеству Д. Ме¬
режковского, заметила: «Образы великих в трактовке Мереж¬
ковского как бы являют образ автора в его константах, то вечно
человеческое, что он видит и в себе. Через это соотнесение ча¬
стное бьггие как бы приобщается к вечности, что возможно толь¬
ко в мифе. С другой стороны, образы великих, выведенные за
пределы их исторического времени, актуализируются, становят¬
ся современниками, близкими по дуз^» (200)^®. Подобную ми¬
фологизацию приобрели в розановских текстах русские писа¬
тели, что позволило нам выделить самостоятельный сюжет -
«Русская литература как миф В. Розанова».
В этом мифе писатель усматривает отражение космогони¬
ческого процесса: его интересует наличие жизненной энергии,
способность к движению русских литераторов. Здесь, как мы
видели, идеальная фигура гармонического движения: Пушкин,
включающийся в космическое движение с Лермонтовым. Не¬
приятие Гоголя В. Розанов мотивирует неспособностью ^о^дож-
ника к непосредственному переживанию мира, потерей инте¬
реса к ней. Именно с Гоголя, считает В. Розанов, в литературе и
в жизни стал физически ощутим холод - как явление а-космо-
гоническое, распад жизненных форм, место которых стали за¬
нимать пусть и гениальные, но искусственные, не способные
обрасти плотью. Только в Достоевском литература вновь обре¬
ла чувство жизни, возродилась к своему космогоническому при¬
званию, пережила момент возрождения жизни новой из умира¬
ющей старой.
Мир рожден, мир движется, мир с вечным «завтра» - вот ро-
зановская формула жизни. «Вообще я поражаюсь, как люди не
220
напуганы сложением мира; что в мире ничего не стоит, а все дви¬
жется и что, явно значит, мир в каждой частице своей и вместе во
всем объеме жив. «Само» - «движущееся» - это и есть единствен¬
ный признак жизни», -утверждает автор «Апокалипсиса...» (168).
Прообразом всемирного движения является, по Розанову, движе¬
ние планет вокруг Солнца, но и оно одухотворено, так как являет
собой «соитие», потому и солнечный свет его органический, не
механический.
Начало мира, начало Космоса, а точнее - космогоническо¬
го процесса сосредоточено в отцовстве, которое называет писа¬
тель онтологическим; «Но где же “начало мира”, “начало Кос¬
моса”. Это - Отец... Вообще - Отец...» (338). Формула движе¬
ния в розановской космогонии: «Все “развертывается” из “точ¬
ки” в “окружность”. И вот мир из “точки Бога” развернулся в
“красоту-мироздание”» (32).
Космогонический акт есть осуществление молитвы-вздоха,
изначально-религиозный акт: «Можно сказать, что вздох был “тем
паром”, “туманом”, из которого и вышло “все”» (32). В этом кос-
мически-религиозном акте Бог и человек, земля и небо - воплоще¬
ние гармонии. Небеса - это престол Божий, а Земля - место обита¬
ния человека, который и есть ни что иное, как энтелехия планеты.
Связь человека и Бога совершается в религиозном служении, ког¬
да человек сохраняет скромность и смирение перед Богом-Огцом.
Актуальность космогонических откровений В. Розанова,
как уже отмечалось, обусловлена сменой парадигмы сознания.
«Переделка позитивного человека в декадента - есть самое за¬
мечательное, что я пережил, или зрителем чего Бог дал мне
быть», - признается писатель. В этом перерождении видит он
«эмбрионы всевозможных новых зачатков». Но путь от атеизма
к истинной вере оказался невероятно трудным и драматичным.
Метания между язычеством и христианством, как неоднократ¬
но отмечал В. Розанов, были для него подчас непреодолимы. И
вот уже Волга - это не просто река его детства, а будущий Нил,
где вновь будет открыт Озирис.
221
Критикуя в очередной раз Евангелие, В. Розанов заявил,
что ему не достает значительности, ибо там нет сотворения
мира. В этом вскользь брошенном замечании просматривается
парадоксальная реальность русской культуры: если древний
период Египта, Греции, Вавилона, Индии и других цивилиза¬
ций исчисляется тысячелетиями до Рождества Христова, то по¬
нятие Древняя Русь соотносится по непонятной традиции лишь
с христианской эпохой. По этой традиции язычество - только
предтеча креш;ения Руси. Культурная ниша древней космого¬
нии заполнена библейской или любой, экзотической по отно¬
шению к русской культуре. Мысль рубежа XIX-XX веков, уст¬
ремленная к поискам истоков и начал, естественно пыталась
восполнить этот пробел. Достаточно вспомнить, например, как
в «Ключах Марии» С. Есенин бережно и любовно наполняет
космогоническим смыслом повседневную жизнь человека.
Если эту ситуацию помесить в контекст мифа, то станет
очевидной потребность в культурном герое, призванном вос¬
произвести космогонический процесс. Именно в этой роли и
предстает В. Розанов, всем своим творчеством от первого трак¬
тата «О понимании» до последних книг пытавшийся призвать
людей к сыновней любви и аяуженшо Богу. В розановской кос¬
могонии мир поразительно целостный, уютный - это дом для
человека, без которого он потерял бы смысл. Беда в том, что
человечество забывает о том, что дому всегда нужен хозяин, в
неуклонной заботе о самом доме и о семье осуществляющий
свое призвание.
ГЛАВА VII
ФИЛОСОФИЯ И ФИЗИОЛОГИЯ
ТЕКСТА В ИНТУИЦИЯХ
В.РОЗАНОВА И П.ФЛОРЕНСКОГО
7.1. Текст как «организующийся хаос»
В поисках модели вечного текста В. Розанов обратился к
библейской «книге Иова». Именно в ней выполняется изначаль¬
ное условие возведения конкретного в ранг всеобщего, напол¬
нение его онтологическим смыслом. Новый текст должен, по
его мнению, вобрать в себя всю многоаспектность жизненного
пространства. Одной из таких попыток стал для самого В. Ро¬
занова непринятый (и непонятый) современниками трактат
«О понимании». Автор извлек из этой неудачи важный урок:
убеждение в том, что философия сама переживает острый кри¬
зис. В статье «Новые вкусы в философии» В. Розанов сокруша¬
ется: «Ей-ей, философы и философия только ходят бледным
призраком около реальной жизни; они не только сами сухоща¬
вы; около них по^одела и действительность»*. Причина этого
кризиса для автора очевидна - система как основа философс¬
кой мысли, вынужденной выбирать между «критицизмом и
идеализмом», между эмпиризмом и отвлеченной логикой, что
неизбежно порождает искусственность систематизирующих
построений.
В. Розанов противопоставляет подобным построениям,
скрепленным «ис10'сственными и вовсе не верными сцепками
логического здания» («следовательно», «но», «потому что»),
«хаос афоризмов». Если воспользоваться авторскими словами,
то процесс рождения текста представляется парадоксальным:
223
верные сцепки логического здания рассыпаются в груду мыс¬
лей, каждый камешек этой груды в то же время сохраняет соб¬
ственную ценность, обработанность. Следующий троп: книга -
сырая руда души автора, но при этом сама душа - много пере¬
работавшая, утончившаяся, наточившаяся. Секрет розановс-
кого текста в том, что его мысли-тропы одновременно должны
быть результатом напряженной творческой работы и обладать
свежестью и непосредственностью - быть обработанными кам¬
нями и сохранять качества сырой руды.
Для самого В. Розанова эти противоречия снимаются, ког¬
да, например, обращаясь к памятникам древних культур, или к
творчеству современников, он настойчиво отьюкивает изначаль¬
ное зерно, при этом подлинная глубина постижения открывает¬
ся через необходимые знания, знакомство с системами суще¬
ствующих идей. Так в слз^ае с Древним Египтом надо было
прочитать тома, написанные учеными, познакомиться с мифо¬
логией, затем разочароваться в достижениях египтологии, что¬
бы начать свой путь к этой культуре ради решения насущных
проблем своего времени.
Цель поисков, предпринимаемых В. Розановым, обозначе¬
на им самим: «Может быть, ожидается не “философская систе¬
ма”, а “новое святое слово”... “Святость”, дорогого чего-то,
искали больше, чем основательности, и у Шопенгауэра, и у
Нитше, несмотря на его “а-морализм”. Ищут чего-то снимаю¬
щего раны, утешающего: “Дух-Утешитель придет”: это, что ли?
Похоже и на это, как похоже и на бурю Утешение.. ,»^.
Безусловное доверие В. Розанова к эмпирическому факту -
результат осознания природного как проявления Божественной
воли, не омраченной вмешательством человека, которое могло
быть случайным, необдуманным, «капризом и прихотью». Под¬
линное величие замысла Создателя никогда не откроется чело¬
веку, поэтому и не доверяет В. Розанов философским системам
как аналогам дерзкой Вавилонской башни. Мир постигается во
фрагментах, и человек должен понять, что не стоит претендовать
224
на роль Творца. Значительно важнее постигать величие этого
замысла в доступных фрагментах бытия. Именно в этих откры¬
тиях и совершается, по Розанову, освящение мира. Подобно ар¬
хаическому человеку мыслитель рубежа XIX-XX веков ощу¬
щал с восторгом свое родство с миром, в то же время и пугаю¬
щим его своей враждебностью.
Эта враждебность приносит страдания, но без них душа
не проснется к глубокому восприятию, будет являть собой хо¬
лодную зеркальную поверхность, скрывающую от непосвящен¬
ных подлинн)то реальность. Заметим, что фрагментальность
мысли никак не означает потерю целостности. Наоборот, сам
акт признания Божественного замысла непознаваемым для че¬
ловека, делает целостность изгючальным основанием, априор¬
но существующим, а потому и не подвергающимся сомнениям.
В розановской концепции творчества образ интегрирует
эмоции и интеллект. Для выражения этой сложной интеллекту¬
альной эмоции создается объективный коррелят, в котором л<асса
ощущений не формально организована, а органично воплоще¬
на, или, как сказал бы В. Розанов, «животворена». Можно выс¬
троить ряд розановских синонимичных определений: цельное,
живое, настоящее, натуральное и даже «воспоминательное» (как
антитеза «сочиненного»), В этом принципиальном требовании
физиологичности текстового объема отразилось специфически-
розановское мышление, ведомое эросом мысли. Эрос космичес¬
кий и эрос творчества, которые устремлялись друг к другу еще
со времен Платона, воплотились в розановской мысли. Его тек¬
сты, подчиняясь воле этого единства, организуются в структу¬
рированное пространство мысли и сознания.
Нелитературность становится искомым качеством текста
и в размышлениях П. Флоренского (отметим, что речь идет не
только о литературе художественной, но и научной). Так заслу¬
жил восторженные похвалы Кантор, чьи статьи имеют «пора¬
зительный характер нелитературности», когда автор на бумаге
творит, потому что не может не творить.
225
Сопоставляя «Северную симфонию» А. Белого с «Лестви-
цей» А. Миропольского, П. Флоренский в первом случае видит
«продукт свободного творчества», а во втором - лишь «доку¬
ментальное описание ряда видений, проносящихся тяжелым
сном», при этом проза А. Белого стремится к стихотворной фор¬
ме, воплощая «организующийся хаос». Для того, чтобы увидеть
преображение хаоса, необходимо определить точку зрения, на
которой находится сам автор, сделать видимым единство.
П. Флоренский мечтает о свободном творчестве, призна¬
вая право речи иметь собственные цели, которые, в конечном
счете, приводят к теургизму. Так произведение А. Белого есть
ни что иное, как попытка «...дагь речи выкристаллизоваться в
свободной среде, дать возможность для молекулярных сил язы¬
ка идти по их естественным путям и сложить организованное,
изнутри целое, а не аморфную массу»^ Задача художника в том,
чтобы создать пространство для «свободной кристаллизации
речи». Через этот магический кристалл, через прозрачность
образов открывается иное: целомудренная чистота мистическо¬
го сознания.
Свобода, о которой мечтает П. Флоренский, - не произвол
автора, а его искреннее стремление к «непосредственному ре¬
лигиозному сознанию», чтобы найти силы «сопротивляться
злым сомнениям и бескрылым порывам неверия».
«В России антиномия Диониса и Аполлона, - пишет Г. Кна-
бе, - предельно расширила свой смысл. За их противоположно¬
стью выстроилась оппозиция жизни, как потока творческих
потенций и стремлений, целостно переживаемой и интуитивно
постигаемой действительности, и структуры, начала, упоря¬
дочивающего жизнь, подчиняющего ее рациональной органи¬
зации и тем самым закрывающего доступ в ее целостную им¬
пульсивную творческую глубину, ее обедняющего, но и ее реа¬
лизующего в акте обретения формы»'*.
У В. Розанова в «Апокалипсисе...» есть фрагмент, назван¬
ный «Из разговоров с одним немцем», где читаем: «Русские,
226
действительно очень творческая нация, взяли себе до некото¬
рой степени в руководители Диониса: понятие его, как устано¬
вил Ницше, неизмеримо у них популярнее. Аполлон же у них
стоит совершенно в тени. Это - бог гармонии и порядка, коего,
извините, русские совершенно не любят. Но еще более, чем не
любят, они его не понимают. Если бы Бог, сотворяя мир, набро¬
сал только звезды, луну, солнце, глыбы земли, не приведя это
ни в какой порядок, то получилась бы ерунда. Между тем мы
видим не ерунду, а Космос, мир, красоту»^
Очевидно, оппозиция Аполлон - Дионис была актуальна
для В. Розанова. Непосредственность творческого акта как рож¬
дение есть дионисийское начало, но как быть с литературой, с
творческой работой! Именно эта работа реализует аполлонов-
ское упорядочение мира. Отношения между приведенными со¬
ставляющими непосредственно связаны с определением твор¬
ческого метода писателя.
Дионисическое как бессознательное в творчестве стало
предметом поисков и для символистов, пытающихся оживить,
а точнее сотворить сам миф. Так А. Белый попытался преодо¬
леть музыкой словесность литературы, ведь именно музыка
наиболее подвержена дионисизму. В символизме А. Белого на¬
шла свое выражение тенденция соединения знания-припомина¬
ния символа, его знаковости с природой интуитивного позна¬
ния. И все-таки знание в значительной мере контролирует твор¬
ческий акт, не позволяя окончательно погрузиться в стихию
мифа, у Белого, как впрочем, почти у всех символистов, рожда¬
ется скорее не миф, а мифология.
Любопытна попытка поэта создать произведение, непос¬
редственно воплощающее принцип музыкальности. Собствен¬
но, сам поэт обозначил свой эксперимент, назвав новый словес¬
ный жанр симфониями. Смысл искусства, по мнению А. Бело¬
го, заключается в том, чтобы пересоздать природу личности; но
при этом образ должен быть безукоризненно воплощен «в ряде
технических приемов». В «Симфониях» можно увидеть, как эти
227
технические приемы организуют фрагменты - структурную
основу произведения.
Одна из инвариантных тем «2-й симфонии» - движение,
бег толпы. Вот как она обозначена в первой части:
1. В модном магазине работал лифт. Человек, управлявший
занятной машиной, с остервенением летал вверх и вниз вдоль
четырех этажей.
2. Везде стояли толпы дам и мужчин, врывавшиеся в вагон¬
чик, давя и ругая друг друга.
3. Хотя тут же были устроены лестницы.
4. И над этой толкотней величаво и таинственно от времени
до времени возглашалось деревянным голосом; «Счет».
Вскоре снова возникает этот мотив: вновь видим человека,
управляющего занятной машиной, вновь он носится с остерве¬
нением вдоль четырех этажей, вновь его ожидают с глупыми,
нетерпеливыми лицами, вновь появляется голос «счет», но толь¬
ко теперь он стал не деревянным, а таинственным... Читатель
на протяжении всего текста опасается пропустить что-то важ¬
ное, недосказанное, но точно присутствующее между строк.
Однако это что-то прекрасно спланировано, организовано,
вписано в партитуру «Симфонии». Каждое слово как одна из
частей огромного механизма: надо тщательно выверить, вычис¬
лить, выточить эту деталь, чтобы она, безукоризненно подогнан¬
ная к остальным, позволила зазвучать механизму в целом.
По-иному организованы литературные произведения
(«Уединенное», «Опавшие листья») В. Розанова. Казалось бы,
они повторяют популярную форму афоризма, фрагмента, объе¬
диняющегося с другими по музыкальному принципу. Но фраг¬
менты В. Розанова обладают достаточной законченностью, са¬
мостоятельностью.
Обратимся к теме, созвучной цитированной, А. Белого;
... и бегут, бегут все... чудовищной толпой. Куда? Зачем?
Ты спрашиваешь, зачем мировое volo?
- Да тут не volo, а скорее ноги скользят, животы трясутся, И
никто ни к чему не привязан. Это скэтинг-ринг, а не жшнь...
228
Финальное многоточие подчеркивает некую незавершен¬
ность мысли, но эта незавершенность обманчива. Автор доста¬
точно ясно сказал нам и о бессмысленности бега толпы, и мни¬
мости ее желаний, и о своем неприятии этой беготни {«ноги
скользят, животы трясутся»). Затем - кажущаяся чрезмерно
прозаической констатация: «Иникто ни к чему не привязан», и,
наконец, финальная фраза: «Это скэтинг-ринг, а не жизнь».
Ремарка «в постели ночью» подчеркивает непреднамеренность
размышлений. А через фрагмент появляется определение тех¬
ническая душа, которая осуществляет свое скольжение:
Техника, присоединяясь к душе, дала ей всемогущество.
Но она же ее и раздавила. Появилась «техническая душа» ~
Contradiction in adjekto. И вдохновение умерло.
Так исподволь получает свое оформление все та же сентен¬
ция о главной опасности - технизации отношения людей к жиз¬
ни, лишенной творчества, смысла, ставшей лишь скольжением.
Среди розановских объяснений читателю своеобразия своих
произведений вьщеляются те, где автор с особенной силой под¬
черкивает непреднамеренность, бесцельность, некую независи¬
мость его творений от воли автора. При этом они - звуковые об¬
рывки восклицаний, вздохов, полумыслей, получувств - нечаянно
срьшаются прямо с души. Другой авторской декларацией является
случайность композиции, но он сам себе противоречит, когда не
просто издает поток заметок, а объединяет их под разными заго¬
ловками: «Уединенное», «Смертное», «Опавшие листья»... Безус¬
ловно, в основе этих единств есть некие принципы. Во-первых,
это инвариантные темы, составляющие собствешад контуры роза-
новского мифа: жизнь-смерть, друг, семья, современники, лите¬
ратура, позитивизм, христианство, язычество, пол, цивилизация.
В. Шкловский приводит свой ряд тем у В. Розанова: «1) Тема дру¬
га (о жене), 2) Тема космического пола, 3) Тема газеты об оппози-
1ЩИ и революхщи, 4) Тема литературная, с развитыми статьями о
Гоголе, 5) Биография, 6) Позитивизм, 7) Еврейство, 8) Большой
вводный эпизод писем и несколько других»*.
229
Темы эти живут в словах-мифологемах, появляются лишь
тогда, когда призваны генерировать свое содержание. Читателя
не должно смущать, что обозначенные таким образом смыслы
могут противоречить друг другу. Так розановское антихристи¬
анство вызывает у него негодование, но в то же время автор
буквально задыхается от любви к Христу.
Чаще всего мифологема проживается в нескольких следую¬
щих друг за дрзтом фрагментах. Так, например, в «Опавших ли¬
стьях» появляется целый философский опус на тему «Времен¬
ное и вечное». Начинается этот фрагмент со слова «поспешно»
над адресом письма дочери к подруге. Затем следует великолеп¬
ный по своей живописности этюд о милых глупостях и «важни-
чаньи письмами», составляющих очарование детства. Следую¬
щий текст - некое резюме предшествующего, логично заверщен-
ный мыслью о временности человека: «Человек - временен. Кто
может перенести эту мысль...» Многоточие настаивает на про¬
должении: «У, как я хочу вечного...» Для автора тысячелетия и
минуты равны в том, что подчиняют себе человека, делают его
своим рабом: «У, как я не хочу этого “раба времени”».
Затем тема времени исчезает (не завершается, не исчерпы¬
вается, а именно исчезает), акцент же смещается на слово раб,
связанное по контрасту со словами великое и святое, явленное
горем. Новый фрагменг подчеркивает именно великое и именно
святое: «До горя - прекрасное, доброе, даже большое. Но никог¬
да именно великого, именно святого». Именно святое становит¬
ся, в свою очередь, скрепом, готовящим следующее звено - лю¬
бовь, которое вводит тему Христа. При этом идет разграниче¬
ние: «моя боль - Христос: “Христос” и без меня обойдется. У
него - много. А у мамочки - только я». Затем - новая параллель:
боль - вина в том, что не уберег свой дом: «Во мне было мало
железа: и вот отчего мамочке было так трудно...»
Следует отметить, что все приведенные вьште фрагменты,
отмечены датами, но хронологическая последовательность нару¬
шена: 12 июня 1912 года- 11 июля 1912 года- 1 июля 1912года-
230
1 июля 1912 года - без даты - 2 июля 1912 года. Иными слова¬
ми, автор строит намеренно эту цепочку мыслей - своеобраз¬
ный цикл, где наличие (или обозначенное отсутствие) дат стя¬
гивает эти эпизоды-мысли в единство. Подобные стяжки устой¬
чиво появляются как обозначения обстоятельств времени, мес¬
та, образа действия: даты, за корректурой, идя к доктору, рано
утром, встав, иногда в этих стяжках-уточнение к сказанному:
«Да, они славные. Но все лежат (вообщерусские)».
Довольно часто встречается стяжка за нумизматикой. Лю¬
бопытно, что один из фрагментов В. Розанов посвятил этому
занятию: «Отчего нумизматика пробуждает столько мыслей?
Своей бездумностью. И “думки ” летят, как птицы, когда
глаз рассматривает и вообще около монет "копаешься”...
“Механизм занятий" (в нумизматике) отстранил душевную
боль (всегда), душа отдыхает, не страдает. И, вылетев из-под
боли, которая подавляет саму мысль, душа расправляется в
крыльях и летит-летит...»
Обратим внимание на семантический ряд мысли-думки,
непременное условие появления шго^ык- бездумность. Авто¬
ра не заботит, что эти два слова, находящиеся в тексте в непос¬
редственной близости, взаимоисключающи и уж никак, с точки
зрения логики, одно не может быть условием появления друго¬
го. Но В. Розанов руководствуется другой логикой - логикой
мифа - сейчас, сию минуту протекающего переживания. Слово
бездумность в данном случае обозначает отсутствие специаль¬
ного, преднамеренного думанья - активности думающего. Не
он думает, а в нем думается: «думки летят, как птицы».
Ценность здесь и сейчас происходящего для В. Розанова
первостепенна и потому, что позволяет и автору, и читателю стать
соучастниками акта рождения, а не творения. Автор, его душа,
ум - лишь инструмент, с помощью которого слово само выгова¬
ривается («Рождаемость не есть ли тоже выговариваемость себя
миру»). Но именно эта безучастность и является для него не¬
пременным условием и критерием ценности. Самоуглубляясь,
231
вслушиваясь в неумолчный шум в душе, человек только и может
открыться рождению истины. Не является ли этот шум (а не
хор, не музыка) подлинным воплощением дионисийства. Раство¬
риться, не сопротивляясь, в этом потоке - не есть ли приобще¬
ние к логосу?
7.2. Эрос мысли П. Флоренского
Нынешнее великое смятение умов взошло на том, что
после нескольких веков обильного интеллектуального
урожая, веков пристального внимания к интеллекту, че¬
ловек перестал понимать, что ему делать с идеями. Че¬
ловек почувствовал, что с идеями происходит что-то не
то, что их роль в нашей жизни отличается от той, которая
им приписывалась в прежние времена, но он не может
понять, в чем состоит истинное назначение идей.
Хосе Ортега-и-Гассет
Идея пересмотра культурного наследия, проведения свое¬
образной ревизии - одно из порождений кризисного сознания
рубежа XIX-XX веков. Особое внимание было обращено к на¬
уке. Еще в своем труде «О понимании» В. Розанов противопос¬
тавил науке сложный процесс постижения целостности бытия
как творческий акт. П. Флоренский, упрекая науки в косности и
однобокости искусственных построений, формулирует задачу,
стоящую перед философией: противопоставить самоуверенно¬
му духу науки царственное смирение ума. Надо обновить само
восприятие жизни,«.. .чтобы, как проспавщийся крепительным
сном, ум непредубежденным и омытым оком узрел золотой зрак
бытия и узревщим - удивился, удивившись же - изумился, а
изумившись - восхитился, и, восхищенный, видел бы уже не
внешние перегородки бытия, не пьшьные чехлы его, но “суши
глубородительную бездну”, творческие волнения жизни, кос¬
нулся бытийственных ложесн ее»’. Противостояние науки
232
и философии начинается с «толчка действительности»: «.. .фило¬
софия воспринимает в себя движение, то острое чувство новизны,
которое зовем мы удивлением, и, поняв его, как желанное, стара¬
ется о жизни в нем. <...> Наука неблагодарно приемлет толчок
действительности... встречает этот толчок, как враждебного при¬
шельца, как нарушителя косности ее самодовольства»®. Диалекти¬
ка как метод есть способ воплотить текущее слово.
Мысль - не идея, не формула, не фраза: она - некая реаль¬
ность, в которую погружается мыслитель (тот, кто ее в себе осу¬
ществляет).
П. Флоренский ссылается на Сократа, в беседе с Евтифро-
ном (прорицателем) сравнившим свои мысли со статуями Де¬
дала, который первым стал делать их с открытыми глазами и
отделять ноги от туловища. Эти статуи так были похожи на
живые, что их привязывали, чтобы не убегали. Однако Сократ
уточняет: «Так уж я, мой друг, буду посильнее в искусстве, чем
он, в том отношении, что он-то делал подвижными только свои
собственные изделия, а я, кроме своих, по-видимому также и
чужие. И разумеется самая-то тонкость моего искусства в том,
что я не волен в нем.. .»^. Далее П. Флоренский резюмирует: «Так
оживают символы действительности. Иначе говоря, так возни¬
кает диалектикф>^°.
Диалектика, или, по Флоренскому, жизнь - единственная
форма существования мысли. Философия в интерпретации
мыслителя ->даная медитация жизни, претворяемой в форме
существования мысли. Она протекает между беспорядочным
богатством жизни и мертвящей упорядоченностью науки. Впро¬
чем, и сама философия в таком случае есть организованное удив¬
ление. Но, добавим, организованное эстетически.
М. Мамардашвили, назвав свою книгу «Эстетика мьшжения»,
сослался на Канта, который применил понятие «эстетическая идея»,
чтобы подчеркнуть ее возможность породить множество сходных
мыслей и идей. Эстетическое таким образом рассматривается в
контексте становления выразительной формы действительности.
233
Рождение мысли описано у П. Флоренского как эстетичес¬
кий процесс. Начало его - удивление, «семя и корень филосо¬
фии». Приведем фрагмент, непосредственно относящийся к ска¬
занному: «Сокровенному ростку зерна надлежит выйти на свет
дневной, разорвав свои оболочки, и расправить зародышевые
листики. Поцелуем вешнего луча - сжатая и бесцветная почва
расправляется в свежую зелень и в пышные цветы. Так, под
пристальным взором внимания, распускаются в уме, из невид¬
ного и невыразимого зачатка, мысли - богатые, полные»".
В этом фрагменте автор любовно наблюдает оживающий сим¬
вол потенции - «семя». Флоренского не см}тдает, что он стал общим
местом в философских текстах, ибо смысл фрагмента - в самом
акте трепетного приюсновения к тайне жизни: «Взор любовно лас¬
кает и нежит тайну действительности, угщвившую философа»'^.
Приведенный фрагмент наполнен этим нежным любова¬
нием, но интонация меняется, когда речь заходит о «мертвящем
методе науки», который «теряет свою железную жесткость»,
когда вступает Время: «Влекущий Рок есть Время. Время вла¬
чит упрямящуюся Науку. Время разбивает ее скалы. Время ру¬
шит каждое данное осуществление ею своего метода»’^ Но
Время можно приручить, полюбив его, и тем самым вобрать
его внутрь, тогда оно «подвигает и животворит».
П. Флоренский ушел от жестких формулировок, силлогиз¬
мов, предпочтя им язык пластичный, богатый интонациями, что
и позволило ему оживить мысль: «Тогда застывшие члены разги¬
баются, и, развернув крьшья, поддуваемая Временем, мысль вос¬
паряет над миром»’'*. Способ преодоления разрушительного дей¬
ствия времени - ввести в структуру текста реально протекаю¬
щий процесс рождения и становления мысли. Диалектику опре¬
делил философ как оживающие символы реальности, эстетичес¬
кий эквивалент этого состояния, по мнению автора, - драма.
В этой драме происходит не повествование, не изложение, а
представление. Именно в акте представления и осуществляется
приручение самого времени. Наш современник Г. Гачев заметил:
234
«Повседневный опыт приучает нас воспринимать все в последо¬
вательности; в затылок др}т другу выстраиваются и вещи, и опы¬
ты, и мысли, и этой колонной уходят и канут в вечность. И вдруг
вечность обнаруживается не как что-то чужеродное, нам неведо¬
мое, но - родное, то, в чем мы купаемся и чем дышим»’^ Именно
так можно интерпретировать слова П. Флоренского о том, что
полюбить время - значит «вобрать его в себя».
«Акт представления, магическая точка сцены нужны для
того, чтобы рождалось то, чего нельзя получить заранее. Здесь
мысль или состояние понимания есть нечто, во что все время
как бы надо впадать заново», - определяет искомое состояние
уже М. Мамардашвили'®. Представление, таким образом, стано¬
вится воплощением и хранилищем времени. Представление -
предоставление и создание возможности самостоятельно выя¬
виться мысли в реально протекающем времени. Именно этот
процесс становится сосредоточием драматургического конфлик¬
та как стержня драмы.
П. Флоренский обозначил этот конфликт как противопос¬
тавление Науки и Философии, Диалектики. Другими участни¬
ками драмы являются Жизнь, Символы. У каждого действую¬
щего «лица» есть свой характер.
Наука «сжимает кругозор железным кольцом допущенного»,
«двиги и перемещения она возбраняет, приставляя к наблюдателю
железный головодержатель и на глаза одевая шоры». «Тощая и
безжизненная, как сухая палка, торчит наука над текущими вода¬
ми жизни, в горделивом самомнении торжествует над потоком»”.
Жизнь «размывает тс насильственные плотины», «течет
мимо нее и размывает ее опоры».
Философия «последовательными оборотами ввинчивает¬
ся в действительность, впивается и проникает ее все глубже».
Символы «пока животрепещуг- они несут свою должность;
но когда, - усыхая и мертвея, - подобно осеннему листу они от¬
падают от золотого древа жизни, тогда мысль прорывается и чрез
них - к новому соприкосновению с самою жизнью»'*.
235
в этом представлении есть еще один, весьма любопытный
персонаж - Житейская мысль. По определению П. Флоренс¬
кого, «...такое жизнепонимание подобно огромной библиоте¬
ке, не только не имеющей каталога, но и не расставленной по
плану»’®.
Предназначение житейского мировоззрения - обращаться
с единичным, живым, конкретным, в противоположность на¬
уке, которая «рушит конкретность, дробит единичное; тогда
возникает абстрактное, - общее, застывшее в своей жертвен¬
ной множественности»^®. Иначе поступает диалектика: она
«расправляет узы, закрепляющие в недвижимости - впрочем,
не жизнь, а лишь призраки ее. Тогда течет высвобожденная мно¬
жественность и, утекая, снова свивается в единичное, но теперь
уже не одно из единичных, но в единичное преимущественно, -
в единичное, охватывающее собою единичности. Это - всеоб¬
щее. Это - идея»^'.
В описанной ситуащш диалектика выступает в своей перво¬
начальной форме как искусство ведения спора ради истины, рож¬
дающейся в столкновении противоположных мнений. Драма-диа-
лектика разворачивается на страницах произведений П. Флоренс¬
кого, осуществляя спор Жизни и Н^тси. Цель этого спора - все-
сеязное и всестороннее познание действительности.
П. Флоренский отмечает, что всестороннее познание осуще¬
ствляет бытовое (у автора это синоним житейского) жизнепо¬
нимание: «В нем все есть, все возможное богатство мысли. Но
нельзя распознаться в этом богатстве, трудно, а порой - и непос¬
тижимо, отыскание требующегося, вот сейчас, предмета или угла
зрения. Житейскою мыслью все объяснено, уже объяснено, и она
ни в чем более не нуждается. Однако объяснено - где-нибудь и
как-нибудь, где же и как именно - найдешь лишь случайно»^^.
Такое бессистемное многообразие, являясь всесторонним, выг¬
лядит бессвязным, но совместить эту связность с полнотой спо¬
собна одна философия, так как наука противопоставляет беспо¬
рядочному богатству лишь упорядоченную пустоту и смерть.
236
Понятие «связность» уточняется П. Флоренским в Прило¬
жении к статье «Диалектика». Пояснение это содержит два очень
важных момента; формулы и определения, которые сохраняли
бы свое значение вне всякого контекста, могут быть только аб-
солютными, а значит - принадлежат только Церкви. Притяза¬
ния отдельного мыслителя на абсолютную истинность своих
высказываний - «стремление глубоко противохристианское».
«Следовательно, - утверждает о. Павел, - единственный хрис¬
тианский - смиренный - путь рассуждений - это диалектика: я
говорю то, что сейчас, в данной комбинации суждений, в дан¬
ном контексте речи и отношений истинно, но ни на что боль¬
шее не притязаю»^.
Взятые безотносительно цели, времени и места высказы¬
вания человека (как в случае с епископом Антонием - духов¬
ным отцом П. Флоренского, о котором он говорит в своем При¬
ложении) всегда противоречивы. «Но если понимать его речи
изнутри, то окажется глубочайшее жизненное единство всех
высказываний», - заключает мыслитель^'*.
Однако диалектика - лишь метод, способ, ведущий, как
следует из высказываний П. Флоренского, к рождению миро¬
понимания, способного совместить конкретное и общее, мно¬
гообразие и связность. Науке в этом мыслитель категорически
отказывает, так как ее логика требует однозначности, исключа¬
ющей богатство жизни. Искомое познание мира, по Флоренс¬
кому, характеризуется наличием другой логики - она а-историч-
на, опирается на жизненное мировосприятие (сохраняет непос¬
редственность этого восприятия), противоречива (как следует
из Приложения); познание в итоге своем есть «непрерывно-при-
способляющееся вживание в предмет познания». Сам П. Фло¬
ренский не называет это вживание мифом, но его последова¬
тель, А. Лосев, в «Диалектике мифа» приходит именно к таким
характеристикам.
Философия, как ее трактует П. Флоренский, не является нау-
мэй, которая, подчиняясь рефлектирующей способности суждения,
237
создает термины, понятия, системы, она «есть прямой рост
бытового жизнепонимания, его непосредственная обработка, его
любимое чадо. Как и родитель ее, она существенно требует нео¬
пределенной, бесконечной, целокупной полноты своей облас¬
ти; как и житейское воззрение, философия требует живого, т. е.
движущегося наблюдателя жизни, а не застылой условной не¬
подвижности»^^. Остается только пояснить, что сам рост бы¬
тового жизнепонимания осуществляется в символе.
Можно предположить, что драма, рождающаяся в статье
П. Флоренского, есть воплощение мифологического сюжета,
раскрывающего смысл символа. Оживленный таким способом
символ оживляет и саму мысль.
Вспомним, что подлинное жизненное единство суждений
осуществляется «изнутри», в недрах глубоко личного мировос¬
приятия, а точнее - в сердцевине личностного мифа. Присут¬
ствие личности самого П. Флоренского ярко обозначено в тек¬
сте; наравне с научным языком активно выступает эмоциональ¬
ный пласт, насыщенный оценками и симпатиями автора. Он
уместно и умело использует поэтические средства. Так в харак¬
теристике «действующих лиц» появляется аллитерация: жерт-
вящий метол науки теряет свою железную жесткость, Бремя
разбивает скалы науки, />ущит осуществление метода, влачит.
Лексика этих фрагментов эмоциональна: семантическое поле
«Наука» насыщено словами с негативным значением («тощая и
безжизненная, как сухая палка», в духовной нищете она «ослеп¬
лена маревом собственных творений и себе рабствует», она- «враг
жизни»), «Жизнь», в противопожность «Науке», - победитель¬
ница («тащит на поводу упирающуюся науку» или равнодушно
«течет мимо нее и размывает ее опоры»).
Заметим, что подобные фрагменты не являются инород¬
ными в тексте, так как в пределах одного предложения может
осуществиться совмещение стилей, условно являющихся науч¬
ным и художественным: «Философия в самом существенном
отрицает метод науки - отрицает и борется с ним и плавит
238
его неподвижность жаром своего Эроса к подлинно-сутцему»“.
Вьщеленные нами слова, несовместимые, на первый взгляд, в
пределах одного предложения, органично врастают в него у
П. Флоренского. Впрочем, такая стилевая диффузия - характер¬
ная черта текстов русских мыслителей Серебряного века. На
наш взгляд, подчеркнутая эмоциональность, к которой стремятся
авторы, - способ выразить глубоко жизненную заинтересован¬
ность в подлинности высказывания, ибо почувствовать можно
только реальность. Живая мысль и есть та реальность, которую
воплощает текст.
Значение чувственного удостоверения реальности раскры¬
вается П. Флоренским в ссылке на апостола Фому, которому
бьшо необходимо осязать раны Самого Господа, чтобы убедиться
в телесности восресения Христова. Влекомый эросом к высшей
реальности, он «настоял на необходимости заверить самый
основной факт христианства - творческую реальность в мире -
силы духовной, это он навеки разломал и стер всякую опору
кантианства и пассивного отношения к миру»^’.
Напряжение силы духовной и определил П. Флоренский
как эрос. Эрос - сила движения, сила рождения. (Именно по¬
этому мыслитель назвал диалектику эротическим диалогом.) В
лексическом окружении слова «Эрос» активно подчеркнута тема
«рождение»: говоря о Сократе, автор употребляет такие выра¬
жения: «жар своего всепобедного Эроса и повивальные при¬
емы своей матери», диалектика «зачинается удивлением». Куль¬
минация акта зарождения мысли - эротический диалог Мысли
и Тайны: «Плененная тайной, мысль льнет к ней и не может
отстраниться от нее - благоуханной розы - не по хищническо¬
му расчету - отнять, но движимая эросом»^®. Мысль в этом ди¬
алоге волнуется, приникает к тайне жизни, вопрошает еще
нежнее, еще жарче, еще любовнее, возгорается трепетом не¬
изъяснимым.
В своеобразном переложении «Песни Песней» П. Флорен¬
ский возвел чувственность в высшую степень постижения:
239
«Мысль волнуется, и приникает, волнуясь, к тайне жизни. И
вопрошает себя: “Что есть она, меня удивившая? ti esti” Что
есть? Это значит: «К чему же, собственно, влекусь я? Что уди¬
вило меня в разрыве моего собственного, привычного достоя¬
ния? Что волнует меня?» И мысли вопрошающей ответствует,
устами самой мысли, ласкаемая тайна. Но слышимый ответ
жарче волнует мысль, ибо не то он, не сокровенное сердце тай¬
ны, недоступное, - лишь благоухание ея. И снова мысль вопро¬
шает, еще нежнее, еще жарче, еще любовнее..,»^®.
Почувствовать мысль, ощутить ее биение, постичь дра¬
матизм ее бытия - все это было доступно русской поэзии, кото¬
рую хорошо знал П. Флоренский. В анализируемом труде он
неоднократно ссылался на стихи Ф. Тютчева и А. Фета. Имен¬
но у этих поэтов есть произведения, в которых сама мысль - не
только объект восприятия, но и субъект, проживающий миг
бытия. Оба поэта нашли точный образ, чтобы выразить стрем¬
ление мысли к осуществлению, - фонтан.
Вот «Фонтан» Ф. Тютчева:
Смотри, как облаком живым
Фонтан сияющий клубится;
Как пламенеет, как дробится
Его на солнце влажный дым.
Лучом поднявшись к небу, он
Коснулся высоты заветной -
И снова пылью огнецветной
Ниспасть на землю осужден.
О смертной мысли водомет,
О водомет неистощимый!
Какой закон непостижимый
Тебя стремит, тебя мятет?
Как жадно к небу рвешься ты!..
Но длань незримо-роковая
Твой луч упорный, преломляя,
Свергает в брызгах с высоты.
<1836>
240
А. Фет, написавший одну из лучших статей о поэзии Ф. -
Тютчева, в своем «Фонтане» придает мысли эротизм, но заме¬
тим, что это своеобразный эротизм: не от Эрота - сына Афро¬
дита, а от древнего могучего Эроса. Впрочем, созерцание фон¬
тана разделяет с ним не просто возлюбленная, а сама ночь:
Ночь и я, мы оба дышим,
Цветом липы воздух пьян,
И, безмолвные, мы слышим,
Что, струей своей кольипим.
Напевает нам фонтан.
Я, и кровь, и мысль, и тело -
Мы послушные рабы:
До известного предела
Все возносимся мы смело
Под давлеш1ем судьбы.
Мысль несется, сердце бьется.
Мгле мерцаньем не помочь;
К сердцу кровь опять вернется,
В водоем мой луч прольется,
И заря потушит ночь.
7 июня 1891
Фонтан-мысль признается в мучительном бессилии рассе¬
ять мглу. Фонтан у Фета, подобно тютчевскому, обречен на бес¬
конечную череду стремительных полетов к небу и свержений с
этой высоты. Однако сам предел, ограничивающий движение
фонтана, у Ф. Тютчева созерцается со стороны, а у А. Фета пе¬
реживается как событие.
Если сопоставить аналогии и ассоциации текстов двух «Фон¬
танов» и фрагмента работы П. Флоренского, то очевидной ста¬
нет трансформация движения мысли: для Ф. Тютчева важно со¬
стояние наблюдателя, вопрошающего: ((Какой закон непости¬
жимый / Тебя стремит, тебя мятетЪ> (впрочем, вопрос этот
риторический - ответ дает сам автор: «Но длань незргшо-роко-
вая / Твой луч упорный, преломляя, / Свергает в брызгах с высо¬
ты»), в фетовском стихотворении текстообразующим становится
241
элемент драматизации, при этом автор - одно из действующих лиц
(«Мочь и я, мы оба дышим... И, безмолвные, мы слышим, / Что,
струей своей колышим, /Напевает нам фонтан»). Такая позиция
позволила избежать необходимости формулировать мысль, но пе¬
режить ее как мысль-событие, и в этом процессе обрести про¬
светление. Фонтану А. Фета-триединство (кровь, мысль и тело),
которое распадается в момент стремительного полета мысли, на
время прерьгоается, или приостанавливается и сама жизнь, но тщет¬
ная попытка осветш-ь мглу (помочь ей?) мерцаньем завершается
соединением утраченной целостности {<<К cepdify кровь опять вер¬
нется, /В водоем мой луч прольется, И заря потушит ночь»).
Читателей может смутить строка «Мгле мерцаньем не по¬
мочь». Действительно, здравый ум говорит, что даже слабое мер¬
цание света должно противостоять, а не помогать мгле. Однако,
если рассматривать фетовское стихотворение как продолжение
тютчевской темы, то фонтан - сияющий, влажный дым и, нако¬
нец, луч, поднявшийся к небу, своим мерцаньем пытается преодо¬
леть не тьму, а именно мглу как неопределенное состояние.
Заметим еще одно важное обстоятельство: в тютчевском тек¬
сте фонтан созерцается днем, он сияет на солнце, фетовское дей¬
ство происходит ночью. Прекрасно знавший и чувствовавший сти¬
хи Ф. Тютчева А. Фет не мог не заметить того, что у его предше¬
ственника ночь - это хаос, пугающий своею страстностью, а день -
сотворенный космос. Дневной свет для Ф. Тютчева - естествен¬
ное время дая просветленного разума, порождающего мысль. Для
А. Фета, наоборот, ночь - благодатное время воплощений невоп¬
лощенного; «Помочь мгле» в таком случае означает преодоление
смятения и хаоса (в первоначальном варианте у А. Фета было
«Правде мраку не помочь» с более прозрачным значением, тради¬
ционно трактующим тему «свет - разум и неразумная тьма»).
Однако часто цитировавший Священное Писание А. Фет
не мог не знать слов Соломона о Господе, обитающем на обла¬
ке: «Господь рече еже обитати во мгле». В «Полном церковно-
славянском словаре» Г. Дьяченко слово «мгла» - тьма, туман.
242
облако есть «несомненный знак милостивого присутствия
Бога»^°, но в таком случае тщетные попытки мерцающей мыс¬
ли человека оборачиваются бессмысленностью, ибо такотлмгле
никакая помощь и не нужна. В таком случае финал стихотворе¬
ния становится оправданным: фонтан вновь обретает единство
{<<К сердцу кровь опять вернется»), луч его растворяется в во¬
доеме, а заря сама «потушит ночь».
А. Фета не случайно выбрали себе в отцы символисты, а
П. Флоренский, говоря об А. Белом, прямо называл его Андре¬
ем Афанасьевичем Белым. В поэзии А. Фета произошло то, чего
так упорно добивались символисты; символ ожил и обрел са¬
мостоятельность. Редактируя по замечанию Я. Полонского ука¬
занную строку («Правде мраку не помочь»), поэт руководство¬
вался, казалось бы, исключительно здравым рассудком, так как,
действительно, в ночи (мраке) мерцание фонтана неразличимо.
Однако стоило погрузить эту строку в тютчевский контекст,
который, безусловно, предполагался самим автором, как сим¬
волическая природа образов отчетливо выявилась, вовлекая все
новые контекстуальные связи и ассоциации.
Движение Фонтана, состоящее из сменяющихся взлетов и
падений -возвращений, есть не что иное, как диалог мысли и
тайны у П. Флоренского: открывая все «новые и новые линии
выразимости», мысль, плененная тайной, «льнет к ней и не мо¬
жет отстраниться от нее». Возвраты фонтана-мысли, его пуль¬
сация не позволяют мысли застыть в определенности, закосте¬
неть. Но это не просто движение ради движения, в нем осуще¬
ствляется переживание реальности, которое едино в себе. «Еди¬
ное, - пишет П. Флоренский, - оно не только должно быть раз¬
вернуто в ряд расчлененных вопросов-ответов, но и обратно,
ему надлежит в самом множестве их явить свое единство: ряд
вопросов-ответов должен быть связан в единое, сочлененное
целое; единое переживание должно воплотиться в единичный
символ»^'. Луч фонтана, проливающийся в водоем, обретает эту
целостность.
243
7.3. «Рукописность» В. Розанова
и «воплощенная множественность» Р. Барта
(диалог совпадений)
Определение творческого метода писателя В. Розанова,
автора «Уединенного», «Опавших листьев», «Мимолетного»,
«Смертного», «Апокалипсиса нашего времени» - задача слож¬
ная и до сих пор нерешенная. Чаще всего исследователь попа¬
дает в плен розановских откровений, возмущается противоре¬
чивостью, пытается найти аналогию в истории культуры.
Впрочем, уже первые отклики на «Уединенное» современ¬
ников В. Розанова, приведенные В. Сукачем, удивительно точ¬
но отражают своеобразие произведения. «То, что написал Роза¬
нов, я называю книгою, но чувствую, что нужно оговориться:
если книга - сочинение, т. е. обработанные и в последователь¬
ном порядке изложенные мысли, то такое название розановско-
го писания не определяет. То, что им написано, - больше книги;
шире и глубже всякого сочинения, а главное, страшнее», - чи¬
таем в рецензии М. Калгаш^^. По мнению же В. Шкловского,
«Книга Розанова была героической попыткой, уйти из литера¬
туры», «создала новую литературу, новую форму»^^
Эта форма оказалась настолько новой, что нашла анало¬
гию только в трудах известного постструкхуралиста Р. Барта,
пытавшегося убедить, что «сфера литературной деятельности
(литературы как сферы труда) - превратить читателя не в по¬
требителя текста, а в его создателя»^'*. Именно этого эффекта
добился В. Розанов. Причем превратил читателя в создателя в
буквальном смысле, и увидел результат, «задокументированный»
в письме читательницы, помещенном во втором коробе «Опав¬
ших листьев»; «Дорогое, дорогое для меня письмо. Кто-то “аука¬
ется”-все, что нужно писателю: “Читаю «Уединенное» и «Опав¬
шие листья» с жадностью день и ночь. Местами - с внутрен¬
ним трепетанием. Так все важно и значительно. Сижу давно в
колодце добровольно: толчея противна. Думаешь, думаешь та¬
244
кие вещи и усомнишься; не от глупости ли и мерзости ли моей
так думаю! И вдруг голос из далекого колодца. Отрадно. И хо¬
чется сказать: спасибо...”»”.
Слово «ауканье» очень точно выбрано В. Розановым. При¬
веденные строки - не просто слова благодарности, а именно
отклик, эхо, а сам факт этой публикации в «Опавших листьях»
может быть расценен как признание соавторства.
Сделать читателя соавтором - лишь средство, цель - осво¬
бодить творческий импульс, открыть многоязычность произве¬
дения, - вступает в диалог Р. Барт, - чтобы читатель из этой са¬
мой «сокровищницы» был «...свободен черпать в зависимости
от истины своего желания. Подобная свобода есть роскошь, ко¬
торую всякое общество должно бьшо предоставить своим граж¬
данам»^*. Но и эта свобода - не самоцель. «Свобода выбора еще
не означает свободу от власти идеологии»^’. «Для всякого, кто
предпринял попьгпо^ преодолеть идеологическое отчуждение, не¬
избежно встает вопрос о средствах против него. Для Барта, му¬
чительно переживающего утрату первозданного, “свежего” вос¬
приятия мира, настойчиво искавшего “неогчужденный смысл ве¬
щей”, этот вопрос возник уже в “Нулевой степени письма”», -
заключает Г. Косиков^®. Сам Р. Барт признается: «Ведь и вправду,
разве нам не хочется верить, что в моей фразе, какие бы смыслы
ни высвобождались из нее впоследствии, изначально содержит¬
ся некое простое, буквальное, безыскусное, истинное сообще¬
ние, по сравнению с которым все прочее (все, что возникает по¬
зднее и сверх того) воспринимается как литература»^^. Но клас¬
сическая литература, по его мнению, может создать в результате
игры двух систем (коннотации и денотации) лишь «верховный
миф», позволяющий тексту «притворно разыгрывать возвраще¬
ние к природе языка, к языку как к природе...»'“. Попытка обрес¬
ти истинную свободу, вернуться к природе языка и язьпсу как к
природе, была предпринята В. Розановым-писателем.
«Техника, присоединившись к душе, дала ей всемогуще¬
ство. Но она же ее и раздавила. Получилась “техническая душа,
245
лишь с механизмом творчества, а без вдохновения творчества”»
(218), - такой диагноз ставит в «Опавших листьях» В. Розанов
своему времени, возможно, и не предполагая, насколько болезнь
опасна. Весь пафос его творчества направлен на борьбу со смер¬
тельным для культуры недугом. Но борьба эта, на первый взгляд,
выглядит странно; он не искоренят зло, не «вытравливает» его
какими-либо средствами и даже не выдавливает из себя по кап¬
ле, а просто уходит в открытую им самим экологическую зону -
в свой угол. Чтобы там оказаться, достаточно только сесть за
письменный стол: «Здесь, за письменным столом, были мои
пиры, мои - вакханалии», здесь - несравненная поэзия. «Счас¬
тье писания есть счастье рождения; кажется, не одна аналогия
здесь, по и истинное существо природы», - признается автор
«Уединенного». При этом помечает свое произведение; «Почти
на праве рукописи».
Это предупреждение - попытка подчеркнуть принципиаль¬
но важное качество творческого метода, которое, впрочем, сам
он и поясняет;«.. .’’рукописность” души, врожденная и неодоли¬
мая, отнюдь не своевольная и не приобретенная, и дала мне тон
“У”, я думаю, совершенно новый за все века книг. Можно рас¬
сказать о себе очень позорные вещи - и все-таки рассказанное
будет “печатным” можно выдумать о себе “ужасы” - а будет все-
таки литература. ..Ия, который наименее опубликовывался уже
в печати, сделал еще шаг внутрь, спустился еще на ступень вниз
против своей обычной “печати” (халат, штаны) - очутился, “как
в бане нагишом”, что мне не бьшо вовсе трудно» (250).
В. Розанов, найДя определение «рукописность души» от¬
нюдь не соблазняется его метафоричностью, анастаивает на бук¬
вальной прочтении. Он подчеркнуто противопоставляет рукопис-
ности опубликованность: второе предполагает обязательное на¬
личие «публики», ориентацию на ее вкусы. В. Розанов катего¬
рически отвергает любое проявление публичности, укрепляя
свою позицию обращением к опыту Средних веков, когда «.. .не
писали для публики, потому что прежде всего не издавали»,
246
и поэтому «...средневековая литература, во многих отношени¬
ях, была прекрасна, сильна, трогательна и глубоко плодоносна
в своей невидности» (248).
Все эти, столь ценные для автора качества, утрачиваются,
как только слово становится печатным, равнодушным. В этом и
есть главное свойство литературности: произведение теряет
свою исповедальность (уже напечатанное - «не мое»). Зато по¬
является качество, делающее синонимами слова «публичность»
и «продажность»; «Литература есть самый отвратительный вид
торга. И потому удвоенно-отвратрггельный, что тут замешива¬
ется несколько таланта. И что “торгуемые вещи” суть действи¬
тельные духовные ценности» (980).
Коль скоро литература становится товаром, тиражируется,
она приобретает не только потребительские качества, но и обес¬
печивающую их «технологию производства»: «Суть “нашего
времени” - что оно все обращает в шаблон, схему и фразу. Про¬
говорили великие мужи. Был Шопенгауэр: и “пессимизм” стал
фразою. Был Ницше: и “Антихрист” его заговорил тысячею
лошадиных челюстей. Слава Богу, что на это время Евангелие
совсем перестало быть читаемо; случилось бы то же.
Из этих оглоблей никак не выскочишь.
- Вы хотите успеха?
-Да.
- Сейчас. Мы вам изготовим шаблон.
- Да я хотел сердца. Я о душе думал.
- Извините. Ничего кроме шаблона...» (219-220).
Технология вместо творчества? И В. Розанов вновь стано¬
вится недосягаемым, так как его произведения не производятся
и даже не творятся, а рождаются: «Я точно весь делался гус¬
той, душа делалась густою, мысли совсем приобретали осо¬
бый строй, и “язык сам говорил”»(99).
Справедливости ради отметим, что «рождение» и «творе¬
ние» как типы творчества различает уже XIX век. Фету совре¬
менники замечали, что он не знает мук творчества, его стихи
247
рождались. С В. Розановым их объединяет и отношение к сво¬
им произведениям. Известно, что А. Фет предоставлял полную
свободу редакторам, полагаясь на их знание того, каким долж¬
но быть произведение. Таким редактором был, например, И. Тур¬
генев, «прояснивший» фетовские строки настолько, что они ут¬
ратили свою поэтичность. Но, готовя итоговое издание своих
произведений, поэт настойчиво возвращался к первоначальным
вариантам'^'.
Подобное происходило и с розановскими текстами: «Ког¬
да Страхов или кто брал рукопись в руки и начинал меня чи¬
тать, с целью убедить то или другое переправить - краска зали¬
вала мое лицо; слог, мысли - решительно все было позорно; скон¬
фузившись - я от всего отказывался; но когда они уходили - я
зачеркивал все поправки: иногда прямо нужные для ясности
мысли, отчетливости выражения, и всегда восстанавливал пер¬
воначальный текст...» (34). Вероятно, в обоих случаях дело не в
неумении исправить свой текст, а в иной, внутренней, логике
его формы. Настаивая на своем варианте как единственно воз¬
можном, В. Розанов подчеркивал закономерность: он восстанав¬
ливал первоначальный текст «который не столько помнил, - но,
при чтении 2-3 строк впереди, - он с прежней необходимостью
вызревал во мне» (311). Слово, родившееся, а не сочиненное,
не позволяет производить с собой никаких манипуляций, оно
уникально и незаменимо, подобно слову, появившемуся на стра¬
нице средневековой рукописи.
В условиях современной повсеместной компьютеризации
проблема текста, его создания приобретает новое значение. В
связи с тем, что работа с компьютером устраняет саму потреб¬
ность в предварительном рукописном варианте текста, исчеза¬
ет и само понятие «черновой» и «беловой» рукописи, между
которыми существуют сложные отношения, отражающие важ¬
ные этапы творческого процесса.
С. Бонди, исследуя черновики Пушкина, отмечает основное
отличие черновика и беловика: один - «документ статический.
248
дающий результат работы», а другой отражает сам процесс этой
работы. Текст беловика - одно целое: «Все в нем взаимно связа¬
но и существует одновременно: первая его строка уже предпола¬
гает наличие последней, поскольку они обе принадлежат к одно¬
му контексту. Последовательность текста здесь - только после¬
довательность развертывания, постепенной демонстрации чего-
то, существ5тощего как целое»'’^ Иными словами, беловик воп¬
лощает некую отстраненность не только от процесса создания
произведения, но и безвременность, абстрагированность. Бело¬
вик фиксирует результат творческого процесса, в то время как
черновик в динамике отражает работу автора: «В нем одни стро¬
ки отрицают другие; когда писалась первая строка рукописи, не
предполагалась вовсе та, которая является теперь четвертой, а
когда написана четвертая, то первой уже не существует, она за-
черкнута»'*^ При этом черновик наделен собственной ценнос¬
тью и может быть рассмотрен как документ, некий текст, кото¬
рый, на первый взгляд, не обнаруживает себя в окончательном
беловом варианте (что отнюдь не говорит о его отсутствии в
самом произведении).
С. Бонди подчеркивает самостоятельность черновика: «Ря¬
дом стоящие зачеркнутые слова или фразы, подобно двум звез¬
дам на небе, кажущимся соседними благодаря перспективе, на
самом деле нередко бесконечно далеки друг от друга: фразы
эти относятся к различному контексту, различным заметкам,
отмечают различные хронологически моменты работы»'*^.
Задача текстолога - в общении с черновиком развернуть
рукопись во времени, расслоить ее, и тогда для исследователя-
читателя откроется возможность стать если не соучастником,
то наблюдателем творческого процесса. Возникающий в созна¬
нии читателя диалог беловика с черновиком предполагает от¬
крытость его для нового участника - создается не только иллюзия
здесь и сейчас протекающего творчества, но и реальная его воз¬
можность, так как черновик не только «расслаивается» во време¬
ни, но и сохраняет контекстуальное пространство, значительно
249
превосходящее пространство беловика. Стящт'ая окончатель¬
ная формула при этом либо теряет, когда автор вычеркивает что-
нибудь, либо сохраняет его контуры, слегка обозначая. В лю¬
бом сл)^ае задача исследователя - реконструировать первона¬
чальный (исходный) текст.
Совершенно иная ситуация, если черновик и не предпола¬
гается, когда весь творческий процесс совпадает по времени с
процессом писания. Это та модель, которую выбирает как об¬
разец В. Розанов, - средневековаярукописностъ. Принципиаль¬
ное отличие ее от бесчерновикового (условно обозначим его -
«компьютерного») творчества только в одном: в отсутствии ти¬
ража, отменяющего избранность читателя. Средневековый ав¬
тор изначально знал своего читателя, доверял ему, что и позво¬
ляло необходимый пафос при всей монутиентальности сделать
теплым, задушевным или, точнее, эпистолярным. Тираж унич¬
тожил эту интимность письма. Именно в этом, на наш взгляд,
кроется причина неприятия В. Розановым печати.
«Печать - это пулемет, из которого стреляет идиотичес¬
кий унтер. И скольких Дон-Кихотов он перестреляет, пока они
доберутся до него. Да и вовсе не доберутся никогда. Finis и мо¬
гила» (129-130).
Тут-то и совершает В. Розанов свое открытие, изобретает
способ писания, который сам называет «рукописностью души».
Он возвращается к средневековому бесчерновиковому письму,
но уже как человек, имеющий за плечами опыт диалога «черно¬
вик-беловик»; он сводит их в одном пространстве, стараясь со¬
вместить границы текста и произведения, преодолевая времен¬
ной барьер''^ При этом автор усиленно подчеркивает свою не¬
брежность, непреднамеренность, чем создает иллюзию непос¬
редственности протекания процесса.
Ролан Барт в поисках пути преодоления жесточайшего,
по его собственному определению, разлада между писателем
и читателем выделяет два типа текстов: классический «текст-
чтение» и «текст-письмо», возникающий в противовес этой
250
репрезентирующей модели. «Текст-письмо - это вечное на¬
стоящее, ускользающее из-под власти любого последующего
высказывания (которое неминуемо превратило бы его в факт
прошлого); текст-письмо - это мы сами в процессе письма.
<...> Текст-письмо - это романтическое без романа, поэзия
без стихотворения, эссеистика без эссе, письмо без стиля, про¬
дуцирование без продукта, структурация без структуры»''®.
Именно эти характеристики и смог перевести в текст-чте-
ние В. Розанов. Поистине уникальный опыт подготовил следу¬
ющую операцию - интерпретацию. Но интерпретировать текст,
по Барту, значит признать за этим текстом свободу от нарратив¬
ной структуры, грамматики и логики изложения. Требования
эти реализованы в розановских текстах.
В качестве минимальной смысловой единицы чтения Р. Барт
предлагает л ексмю - «кряж множественного текста». Значит, ос¬
вободить множественность есть то же самое, что освободить
фрагменты розановских произведений. Независимо от протя¬
женности (одна строка или страница) лексия стремится к одно-
полюсности. Но как ни странно, текст не рассыпается, а соби¬
рается, но не грамматически, и не сообразуясь с общеприняты¬
ми законами логики, а «добровольно», органично, «на взаим¬
ной симпатии»:
Отчего так много чугуна в людях? Преобладающий металл,
- Отчего он не сотворен из золота?
«Золото для ангелов».
Но золотые нити прорезывают чугун. И какое им страда¬
ние. Но и какой «вслед им» восторг (220).
Единство этого фрагмента (лексемы) само имитирует
множественность, но только имитирует, поскольку его еди¬
ницы связаны и по смыслу, и грамматически: чугун - он, зо¬
лото - «золото для ангелов» - золотые нити - вновь чугун =
они. Этот фрагмент-лексия почти не обнаруживает явных
связей с соседними, объединяясь с ними по закону цикла'”.
Зато внутри лексии происходит «растягивание» текста, в ре¬
251
зультате чего обнажается его глубина при полном отсутствии
авторского комментария; смысл проявляется, а задача чита¬
теля - сложить эти кусочки смальты вместе, интерпретиро¬
вать текст.
Порой рассуждения Барта словно порождены розановс-
ким текстом. Почти буквально совпадают очерченные им кон¬
туры текста «торжествующей множественности» с «Уединен¬
ным», «Опавшими листьями» и другими произведениями В. Ро¬
занова: «...такой идеальный текст пронизан сетью бесчис¬
ленных, переплетающихся между собой внутренних ходов,
не имеющих друг над другом власти, он являет собой галак¬
тику означающих, а не структуру означаемых; у него нет на¬
чала, он обратим, в него можно вступить через множество
входов»'**.
Строгий порядок, система - «блуд ума» (В. Розанов), пове¬
рившего в свою силу и непогрешимость, в абсолютность своей
идеи. Так рождается идеология в бартовском понимании. Имен¬
но от нее, идеологии, в самом широком спектре значений; от
идеологии политической до идеологии потребителя, открещи¬
вается В. Розанов. Но воспользуемся хрестоматийной фразой
героя «Отцов и детей» (да простит нашу дерзость И. Тургенев!):
сказать, что идеология вредна, это противоположное общее ме¬
сто. «Оно как будто щеголеватее, а в сущности одно и то же». И
В, Розанов и Р. Барт не щеголяют, а избегают общих мест («Я
не опровергаю, я дрейфую», - сформулировал однажды Р. Барт
свой способ несогласия).
Весь пафос их творчества в поиске последней надежды -
чистого, безгрешного, перворожденного слова. Рукописность
В. Розанова охраняет его, это слово, от шаблона, позволяя ав¬
тору не сочинять, а выговаривать то, что само просится ска¬
заться (отсюда и его определение: «рукописность души»), а
освобожденная множественность Р. Барта обеспечивает но¬
ворожденному право и возможность жить в свободе «от всех
видов насилия».
252
'Ш
*iv
f;
* * *
Одним из первых отечественных ученых обратился к ли¬
тературному творчеству В. Розанова В. Шкловский. Отправной
точкой для исследователя стала его же формула; «Содержание
(душа сюда же) литературного произведения равна сумме его
стилистических приемов»'”. Надо признать: автор достаточно
точно определил ряд таких приемов. Среди них вьщеляет ввод
новых (кухонных) тем, при этом, как подчеркнул исследователь,
В. Розанов вводит эти темы «без оговорок» (заметим, В. Шклов¬
ский видит здесь лишь литературный прием, исповедь как при¬
ем). Любопытны наблюдения ученого над приемом, обозначен¬
ным им как оксюморон, развернутый в сюжет. Один из таких
оксюморонов он определил как Священное писание - гимн обы¬
денности частной жизни. В качестве примера «оксюморич-
ности» литературовед привел название повести Ф. Достоевско¬
го «Честный вор», поясняя при этом, что само содержание этой
повести и есть оксюморон, развернутый в сюжет. По поводу
В. Розанова читаем: «Творчество и мировые слова, сказанные
Розановым на фоне «1 р. 50 коп.», и рассуждение о том, как зак¬
рывать вьюшки, - являются одним из прекраснейших примеров
оксюморона»^®. Любопытно, но в перехшске А, Фета с Л. Толстым
этот «прием» встречается очень часто: свои глубокие наблюде¬
ния над толстовским романом «Война и мир», тончайшие лири¬
ческие излияния поэт сопровождает вполне прозаическими рас¬
четами за копеечную пеньковую веревку. В этой связи уместно
сослаться на слова самого В. Розанова о том, какое значение
имеют письма писателей как вид литературы: «Более и более
пропадает интерес к форме литературных произведений, как
некоторому искусственному построению, условно нравящему¬
ся в данную эпоху, и нарастает интерес к душе их, т. е. к той
душевной, внутренней мысли автора, с которого он писал свое
произведение»^'.
Следует обратить внимание на слова В. Розанова об утрате
интереса к литературной форме. Они явно противоречат попытке
253
в. Шкловского рассматривать творчество писателя только в
пространстве литературы. Неубедительно, на наш взгляд, он
определил «Уединенное» и «Опавшие листья» как романы без
мотивировок, проводя аналогии с «газетной техникой», подчер¬
кивая их пародийность. Жирмунский, современник Шкловско¬
го, возражал против «методологического реализма» ученого, а
О. Котельникова, автор журнала «Мысль» (1922), сделала не¬
утешительный вывод; «Розанов как литературное явление стал
Розановым только литературным явлением, только совокупно¬
стью литературных приемов»^^.
Значительно расширяет границы собственно литературных
традиций в розановских текстах Ю. Б. Орлицкий: миниатюры
«тургеневского» типа, опыт современников, А. Голенищева-
Кутузова, М. Безобразовой и др. Справедливо отмечен и проект
новой литературы Ф. Ницше, а также черты новой словеснос¬
ти, сформулированные самим В. Розановым в статье «Новые
вкусы в философии» по поводу кнш'и Л. Шестова, в которой
«писатель-философ формулирует основные черты шестовского
трактата, открывающие, по его мнению, новый век в русской и
мировой словесности»”. Автор считает, что «розановские про¬
рочества» начали сбываться с середины XX века. Среди при¬
знаков этой новой литературы Ю. Орлицкий назвал искрен¬
ность, занимательность, отрывочность, бессистемность и
новую системность, плотность, ориентацию на новый тип
чтенш и читателя, стирание границ между типами дискурса,
лиризацию словесности, вытеснение эпоса лирикой, переход к
«поэтически выраженным» эмпиризму, материализму, нату¬
рализму, опору на традиции.
Во вступительной заметке к подборке розановских афоризмов
А. Панова и В. Хализева подчеркнута особая драматичность пози¬
ции писателя: «Его специфические эстетические построения - фи¬
лософия гениального обьшателя. <.. .> Но одновременно и гениаль¬
ного писателя, борющегося с собственным даром и судьбой, про¬
клинающего литературу, но не могущего преодолеть искушение сло-
254
BOM. в этом внутренний драматизм Розанова-писателя, првдающий
особенную окраску каждому его высказыванию о литературе»^''.
Литературность как способ преобразить действительность,
создать свою модель мира неприемлема для В. Розанова. Здесь с
ним вполне созвучен П. Флоренский, не принимавший эстетику
иллюзии возрожденческой культуры. Любая субъективная модель
искажает жизнь, а для В. Розанова актуальна другая задача: вос¬
принять подлинную жизнь и принять ее во всей сложности. «Сло¬
во как “онтологический двойник” жизни теряет для Розанова свою
опасность, лишь когда смиряется перед нею, стремится всячески
подчеркнуть свою “природность”, органичность (в том числе и в
опоре на самое повседневное, бытовое), т. е. перестает быть двой¬
ником и становится частью жизни, - пишет в статье “К проблеме
герменевтики слова у В. В. Розанова” С. Шульц,-Гармонизируя
собственные отношения с миром именно фактом “завершения
литературы”, Розанов всячески подчеркивает свою маргиналь-
ность, полулитературность и тем самым непосредственную связь
с “просто жизнью” как последней реальностью и последним го¬
ризонтом человеческого сознания»®^
Органичность, физиологичность, движение (в том числе и дви¬
жение крови), тепло как знак их, уют дома как модель космоса, дро¬
бящаяся на составляюище (красивые чашки, самовар и т. д.) - все
это не только «просто жизнь», но под линная реальность, осязаемая,
воспринимаемая в запахах и потому достоверная. Звук, запах, физи¬
ологические состояния выступают наряду со словом, всегда наде¬
ленным у В. Розанова глубоко личным смыслом. Таким образом
писатель переживает мифологический процесс, ситуацию рожде¬
ния словесности. Не потому ли невербализованные (органолепти¬
ческие) символы представляют' для автора истинную ценность, яв¬
ляются космогоничными. Слова «юсмос», «космогоничность» все¬
гда означают у В. Розанова конечную для сознания инстанцию.
Для В. Розанова принципиально то, что космос рождается
в реальной жизни, его быт становится основой и воплошением
бытия. (Символично в этом смысле со/противопоставление
255
постоянного хаоса, неухоженности дома в Костроме и уютного,
теплого и светлого, дома Рудневых.) Этим розановский миф в
корне отличается от символистского, воплощающего панэсте¬
тизм. 3. Минц в статье «О некоторых “неомифологических” тек¬
стах в творчестве русских символистов» уточнила: «Но признак
панэстетизма - осмысление основ мироустройства в эстетичес¬
ких категориях (красота - безобразие, гармония - хаос и т. д.), а
не та или иная оценка противополагаемых понятий»^*. Творче¬
ство идей-образов в искусстве и есть, как поясняет исследова¬
тель, высшая познавательная ценность для символизма.
Розановское понимание творчества, как это уже отмечалось
нами, в корне отличается от символистского; осуществить его в
полной мере способен только один Творец - Бог, сам человек, и
писатель в том числе, только рождает. Этот акт принципиально
отличен от творчества ибо, как заметил однажды В. Розанов,
родители никогда не знают, каким будет их ребенок, пока он по
воле Вышнего не появится на свет.
В. Розанов - не творец мифа, а участник мифологического
процесса. Его роль - культурный герой, который способен в хао¬
се действительности различать и выявлять космическое начало.
Именно поэтому безусловно предпочтительными являются не¬
посредственность и искренность произведений, а литературность
осуждается. Как мы пытались показать, этот мифологический
процесс уже происходил в русской литературе (наиболее отчет¬
ливо он проявился, на наш взгляд, в творчестве А. Фета, А. Ост¬
ровского, осмыслен был А. Потебней). Подчеркивая живучесть
мифа, Е. Мелетинский пишет: «Способствуя порождению впос¬
ледствии других культурных форм, миф продолжает хранить из¬
вестного ценность... Мифологический подход не оставляет мес¬
та для колебаний, противоречий, сомнений, для методо1югичес-
кого хаоса. Модель мира ориентирована аксиологическим, цен¬
ностным образом... Его модель мира охватывает все необходи¬
мые элементы природы и культуры. Миф интересуется местом
человека в природе и культуре, его социальной ролью ...
256
Высшая реальность мифа - источник и модель всякой гар¬
монии. Вот почему миф остается живым и всегда находит себе
место на некотором интеллектуальном уровне»”. Высшая ре¬
альность розановского мифа - мир, созданный Творцом. Чело¬
веку не доступен Его замысел, но он может, доверяясь этому
замыслу, постигать величие Бога, обживать мир и порождать
его многообразие. Мир несовершенен, но само несовершен¬
ство - лишь его феномен, ноуменально же он достоин Вечнос¬
ти, ведь пожирающая и гадящая гусеница всего-навсего необ¬
ходимая стадия жизни своей энтелехии - бабочки.
Примечания
Предиаювие
' Альми И. Л. О поэзии Тютчева: символ, аллегория, миф // Рус¬
ская литература. 2007. №2. С. 55.
^ Розанов В. В. Собр. соч. Сахарна / под общ. ред. А. Н. Николю-
кина. М., 2001. С. 251.
Глава I
' Кнабе Г. С. Русская античность. Содержание, роль и судьба ан¬
тичного наследия в культуре России. М. : РГГУ, 2000. С. 210.
^ Мамардашвши М. Символ и сознание / М. Мамардашвили,
А. Пятигорский. М., 1997.
^ Е. М. Мелешнский, отмечая, что К. Юнг, открьшший наряду с фрей¬
дистскими комплексами слой коллективного бессознательного, видел в про¬
цессе индивидуацш личности синтез бессознательного и сознательного. Од¬
нако, как ученый, «Идеи Юнга в принципе очень глубоки, но он исключает
кагегорическим образом отражение в мифах внепшей реальности - хфирод-
ной, культурной, социальной». (Мепетгшский К М. От мифа к литературе.
Курс лекций «Теория мифа и историческая поэтика». М.: РГГХ 2001. С. 19).
'' Мелетинский Е. М. От мифа к литературе ... С. 24.
^ Юнг К. Г.
^ Голосовкер Я. Э. Логика мифа. М., 1987. С. 13.
’’ ЛотманЮ. М Избранные статьи; вЗ т. Таллин, 1992. Т. 1.С. 67.
* Там же. С. 57-68.
* Мыльдон В. И. Природа и культура (опыт философии безнадеж¬
ности) //Вопросы философии. 1996. № 2. С. 69.
Лобок А. М. Антропология мифа. Екатеринбург, 1997. С. 97.
” Там же. С. 93.
Элиаде Мирча. Космос и история. Избранные работы / пер. с
франц. и англ. ; общ. ред. члена-корр. АН СССР И. Р. Григулевича, д-
ра филологических наук М. Л. Гаспарова. М. ; Прогресс, 1987. С. 133.
Там же. С. 88.
''' Элиаде М. Аспекты мифа / пер. с франц. - М.: Академический
Проект, 2000. С. 141.
Соловьев В. На заре туманной юности... / «Неподвижно лшпь
солнце любви...» : Стихотворения. Проза. Письма. Воспоминания со¬
временников. М. : Моск. рабочий. С. 148.
258
Там же. С. 152.
Лангер Сьюзен. Философия в новом ключе; исследование сим¬
волики разума, ритуала и искусства. М., 2000. С. 9.
Там же. С. 14.
” Гуссерль Э. Логические исследования. Картезианские размыш¬
ления. Кризис европейских наук и трансцендентальная феноменоло¬
гия. Кризис европейского человечества и философии. Философия как
строгая наука. Мн.; М., 2000. С. 725.
Там же. С. 660.
Там же. С. 640.
Там же. С. 640.
Там же. С. 662.
Шпет Г. Г. Эстетические фрагменты / Шпет Г. Г. Сочинения.
М., 1989. С. 361.
Шпет Г. Г. Введение в этническую психологию / Шпет Г. Г.
Сочинения... С. 546-547.
“Тамже. С. 515.
Шпет Г. Г. Эстетические фрагменты... С. 358.
Шпет Г. Г. Там жй. С. 358.
Шпет Г. Г. Эстетические фрагменты... С. 353.
Там же. С. 360.
Иванов В. И. Родное и вселенское / сост., вступ. ст. и прим.
B. М. Толмачева. М. ; Республика, 1994. С. 153.
Там же, С. 155.
” Там же. С. 157.
Там же. С. 158.
” Флоровский Г. Из прошлого русской жизни. М. ; Аграф, 1998.
C. 413.
’«Там же. С. 414-415.
” Там же. С. 421.
Там же. С. 425^26.
” Иванов В. И. Указ. соч. С. 155-156,
*'^Хюбнер К. Истина мифа; пер, с нем. М,: Республика, 1996,
С, 272,
Гоголь Н. В. Арабески / подг текстов, послесл. примеч. П. Па-
ламарчука, Ю. Селиверстова. М., 1990. С. 376.
Потебня А. А. Теоретическая поэтика. М., 1990, С, 294-295,
259
Там же. С. 295.
^ Там же. С. 295.
Островский А. Н. Вся жизнь театру. М., 1989. С. 183-184.
Там же. С. 185.
''"Тамже. С. 201.
См. об этом; Кашина Н. К. Архетипические мотивы в творче¬
стве А. Н. Островского / Национальный характер и русская культур¬
ная традиция в творчестве А. Н. Островского : материалы науч.-прак-
тич. конф. Кострома, 1998. Ч. 2. С. 58-64.
Потебня А. А. Теоретическая поэтика... С. 299.
“ Островский Л. Н. Вся жизнь театру. М., 1989. С. 188.
Мелетинский Е. М. Поэтика мифа. М., 1976.
Там же. С. 225.
Добролюбов Н. А. Первое поли. собр. соч.; в 4т. Т. 3. 1859-
1860. СПб., 1911. С. 319.
Анненский И. Книги отражений. М. : Наука, 1979. С. 202.
«Там же. С. 210.
Минц 3. Г. Блок и русский символизм / Александр Блок. Новые
материалы и исследования. М., 1980. Кн. 1. С. 136.
” Блок А. А. Дневник. М., 1989. С. 29.
Фет А. А. Стихотворения и поэмы. П., 1986. С. 641.
Блок А. А. Дневник ... С. 37.
“ Миллер О. В. Пометы Блока на книгах по истории русской ли¬
тературы XIX в. // Александр Блок. Новые материалы... М., 1987.
С. 67-68.
Лосев А. Ф. Русская философия / Введенский А. И. Очерки ис¬
тории русской философии/А. И. Введенский, А. Ф. Лосев. Свердловск,
1991. С. 71.
“ Соловьев В. С. Философия иск>'сства и литературная критика.
М. : Искусство, 1991. С. 401.
Глава II
' Флоренский Павел, священник. Детям моим. Воспоминанья про¬
шлых дней. Генеалогические исследования. Из Соловецких писем. Заве¬
щание / сост. игумен Андроник (Трубачев), М. С. Трубачева, Т. В. Фло¬
ренская, П. В. Флоренский; предисл. и комм, игумена Андроника (Труба¬
чева). М.: Моск. рабочий, 1992. С. 280. (Далее страницы этого издания
будут указываться в тексте с пометкой «Ф».)
260
I
^ Фет A. A. Сочинения ; в 2 т. T. 2. Проза // подгот. текста, сост.,
коммент. А. Е. Тархова. М.: Худож. лит., 1982. С. 123-124.
^ Там же. С. 130.
Русский Эрос, или Философия любви в России / сост. и авт.
вступ. ст. В. П. Шестаков; коммент. А. Н. Богословского. М.: Прогресс,
1991. С. 94.
^ Там же. С. 95.
® Нордау Макс. Вырождение / пер. с нем. и предисл. Р. И. Семен-
тковского; Современные французы / пер. с нем. А. В. Перелыгиной;
послесл. В. М. Толмачева. М. : Республика, 1995. С. 50.
’ Там же. С. 83.
* Там же. С. 90.
’ Там же. С. 200.
'“Тамже. С. 200.
" Розанов В. В. Собр. соч. Возрождающийся Египет / под общ.
ред. А. Н. Николюкина. М. :Республика, 2002. С. 233. Далее страницы
этого издания будут указываться в тексте с пометкой «Р».
Юнг К. Психоанализ и искусство : пер. с англ. К. Юнг, Э. Ной-
манн. М.; REFL-book, К. Баклер, 1996. С. 223.
» Там же. С. 224.
Там же. С. 224.
Там же. С. 224.
Там же. С. 229.
Там же. С. 230.
Там же. С. 233.
Возрожденческий антропоцентризм не исключал еще приори¬
тета божественного, так как человек стремился видеть в творчестве
приобщение к акту Творения, который до сих пор признавался как
исключительно божественный. Изначальный дуализм поствозрожде¬
ния (XVII-XVIII вв.) характеризуется игнорированием этой пробле¬
мы, сосредоточившись на разумной деятельности человека.
“ Розанов В. В. Сочинения: О понимании: Опыт исследования
природы, границ и внутреннего состояния науки как цельного знания.
М., 1995. С. 654.
2' Там же. С. 654.
Там же. С. 636.
“ Там же. С. 638.
261
Там же. С. 639.
Там же. С. 404.
Там же. С. 402.
Там же. С. 403.
“ Фет А. А. Сочинения : в 2 т. М., 1982. Т 2. С. 273,
Там же. С. 263-264.
Там же. С. 265.
Там же. С. 265.
Там же. С. 265.
” Там же. С. 286.
Там же. С. 286.
Розанов В. В. Указ. соч. С. 494.
^^Хоружий С. С. О старом и новом. СПб., 2000. С. 275.
” Топоров В. Н Миф. Ритуал. Символ. Образ: исследования в
области мифопоэтического : избранное. М., 1995. С. 5.
Хоружий С. С. Указ. Соч. С. 276.
Там же. С. 276.
Фет А. А. Указ. соч. С. 278.
Там же. С. 278.
Розанов В. В. Сочинения: О понимании... С. 173.
«Тамже. С. 157.
Розанов В. В. Собр. соч. Во дворе язычников. М., 1999. С. 21.
Там же. С. 22.
Там же. С. 18.
Там же. С. 44.
Розанов В. В. Соч.: Иная земля, иное небо... Полное собрание
путевых очерков, 1899-1913. М., 1994. С. 521,
Лосев А. Ф. Философия, Мифология. Культура. М., 1991. С. 9.
5“ Там же. С. 97.
Розанов В. В. О себе и жизни своей. М., 1990. С. 68.
Глава III
‘ Хюбнер К. Истина мифа. М., 1996. С. 6.
^ Лосев А. Ф. Жизнь. Повести, рассказы, письма. СПб., 1993.
С. 401.
3 Там же. С. 401.
“ Лосев А. Ф. Философия. Мифология. Культура. М., 1991. С. 98.
262
- Там же. С. 28
® Там же. С. 31.
Мережковский Д. Тайна трех. М., 1999. С. 140.
«Тамже. С. 155.
’ Там же. С, 432.
Лосев А. Ф. Философия. Мифология. Культура. С. 23.
“ Леви-Стросс К. Структура мифов // Вопросы философии. 1970.
№7. С. 154.
Розанов В. В. Во дворе язычников. М., 1999. С. 22.
Розанов В. В. В мире неясного и нерешенного. Из восточных
мотивов. М., 1995. С. 414-^15.
Пагшан А. История русского символизма. М., 1998. С. 74.
Там же. С. 75.
Там же. С. 119.
Мережковский Д. Тайна трех. С. 59.
Там же. С. 39.
Там же. С. 39.
Там же. С. 50.
Лосев А. Ф. Философия. Мифология. Культура. С. 86.
Розанов В. В. Во дворе язычников. С. 15.
Мережковский Д. Тайна трех. С. 59.
Розанов В. В. Во дворе язычников. С. 15.
Там же. С. 16.
Мережковский Д. Тайна трех. С. 59.
Лосев А. Ф. Философия. Мифология. Культура. С. 161.
Мережковский Д. Тайна трех. С. 161-162.
I Розанов В. В. Во дворе язычников. С. 376.
Розанов В. В. Собр. соч. Литературные изгнанники: Н. Н. Ст¬
рахов, К. Н. Леонтьев. М., 2001. С. 404.
Розанов В. В. Сочинения; О понимании: Опыт исследования
природы, границ и внутреннего строения науки как цельного знания.
М., 1995. С. 646.
Розанов В. В. Собрание сочинений. Литературные изгнанники:
Н. Н. Страхов, К. Н. Леонтьев. М., 2001. С. 349.
” Лосев А. Ф. Бытие - имя - космос. М., 1993. С. 691.
Там же. С. 694.
Розанов В. В. Сочинения; О понимании; Опыт исследования
263
природы, границ и внутреьшего строения науки как цельного знания.
М., 1995. С. 137.
Там же. С. 60.
Там же. С. 137.
'*Тамже. С. 201.
Там же. С. 224.
Розанов В. В. О себе и жизни своей. М., 1990. С. 328-239.
Там же. С. 239.
« Там же. С. 76.
«Тамже. С. 239.
Розанов В. В. Собрание сочинений. Апокалипсис нашего вре¬
мени. М., 2000. С. 113.
« Там же. С. 255.
Там же. С. 113.
Эрн В. Ф. Сочинения. М., 1991. С. 365.
'** Розанов В. В. О себе и жизни своей. С. 242.
Там же. С. 242.
Розанов В. В. Собрание сочинений. Возрождающийся Египет /
под общ. ред. А Н. Николюкина. М., 2002. С. 166.
Там же. С. 218.
Там же. С. 149.
” Розанов В. В. Апокалипсис нашего времени. С. 25.
Эрн В. Ф. Сочинения. С. 197.
” Розанов В. В. О себе и жизни своей. С. 589.
Там же. С. 590.
” Эрн В. Ф. Сочинения. С. 277.
Там же. С. 277.
Розанов В. В. Апокалипсис нашего времени. С. 369.
^ Розанов В. В. О себе и жизни своей. С. 505.
Там же. С. 224. ^
“ Там же. С. 116.
«Тамже. С. 510.
“ Маковский С. К. На Парнасе Серебряного века / предисл. В. Не-
хотина, М. : XXI век - Согласие. С.47-48.
Розанов В. В. О себе и жизни своей. С.657.
“ Там же. С. 658-659.
" Там же. С. 659.
264
Розанов В. В. Собрание сочинений. Возрождающийся Египет. С. 76.
Там же. С. 241.
Набоков В. В. Стихотворения. Рассказы. Л., 1991. С. 118.
Розанов В. В. О себе и жизни своей. С. 517.
Там же. С. 637.
Розанов В. В. Апокалипсис нашего времени. С. 63.
■"* Розанов В. В. О себе и жизни своей. С. 301.
Цегг. по: Бычков В. В. 2000 лет христианской культуры sub specie
aesthetica : в 2 т. Т 2. Славянский мир. Древняя Русь. Россия. М.; СПб. ;
Университетская книга, 1999. С. 444.
Там же. С. 445.
Розанов В. В. Мысли о литературе / вступ. статья, сост., ком¬
ментарии А. Николюкина. М.; Современник, 1989. С. 214.
Там же. С. 206.
Там же. С. 210.
*»Тамже. С. 215.
Розанов В. В. Апокалипсис нашего времени. С. 283-^284.
Розанов В. В. Собр. соч. Возрождающийся Египет. С. 203.
Розанов В. В. Мысли о литературе. С. 208.
Розанов В. В. Собрание сочинений. Во дворе язычников. С. 42.
“ Розанов В. В . Сочинения С. 106.
Розанов В. В. Собр. соч. Литературные изгнанники. С. 22.
Там же. С. 22.
** Там же. С. 22.
Розанов В. В. Собр. соч. О писательстве и писателях / под общ.
ред. А. Н. Николюкина. М. : Республика, 1995. С. 312.
Там же. С. 625.
Там же. С. 374.
Там же. С. 650.
Там же. С. 368.
Розанов В. В. Собр. соч. Во дворе язычников. С. 226.
Розанов В. В. Сочинения. С. 380.
Розанов В. В. Собр. соч. О писательстве и писателях. С. 661.
” Там же. С. 673.
Розанов В. В. Мысли о литературе. С. 159.
Там же. С. 159.
Розанов В. В. Собр. соч. О писательстве и писателях. С. 369.
265
Глава IV
' Розанов В. В. Собр. соч. О писательстве и писателях / под общ.
ред. А. Н. Николюкина. М., 1995. С. 430. (Далее цитируемые страни¬
цы указываются прямо в тексте.)
^ Розанов В. В. Собр. соч. Легевда о Великом инквизиторе Ф. М. Дос-
тх)евсюго.М., 1996. С. 136-137.
' Там же. С. 140.
“ Там же. С. 140.
^ Там же. С. 137.
‘ Розанов В. В. Мысли о литературе / вступ. статья, сост., ком¬
ментарии А. Николюкина. М. : Современник, 1989. С. 48.
’ Там же. С. 54.
* Там же. С. 83.
’Тамже. С. 196.
Там же. С. 201.
“ Там же. С. 202.
Панченко А. М. О русской истории и культуре. СПб., 2000. С. 303.
Болдырев Н. Ф. Семя Озириса, или Василий Розанов как пос¬
ледний ветхозаветный пророк. Челябинск, 2001. С. 22-23.
Розанов В. В. О себе и жизни своей. М., 1990. С. 45-46.
Там же. С. 71.
Там же. С. 100.
Розанов В. В. Собр. соч. Сахарна. М., 2001. С. 223.
Розанов В. В. Собр. соч. Последние листья. М, 2000. С. И.
Айхенвальд Ю. И. Силуэты русских писателей. М., 1994. С. 143.
“ Розанов В. В. Собр. соч. Последние листья. С.90.
Розанов В. В. Мысли о литературе. С. 191.
Крейд В. О Юлии Айхенвальде // Ю. Айхенвальд Силуэты рус¬
ских писателей. М., 1994. С. 5-12.
“Тамже. С. 9.
Айхенвальд Ю. Силуэты русских писателей... С. 503.
Там же. С. 506.
“ Там же. С. 509.
Там же. С. 511.
Иванов-Разумник (пасх: Разумник Васильевич Иванов. 13/25/
12.1878-09.06.1946), критик, публицист, журналист, историк руссюй
литературы и общественной мысли. Автор книг «История русской об¬
266
щественной мысли. Индивидуалгом в русской литературе и жизни
XIX в.», «О смысле жизни. Федор Сологуб, Леонид Андреев, Лев
Шестов», «Заветное. О культурной традиции», «Творчество и крити¬
ка» и др. Литературная критика, считал Иванов-Разумник, должна учи¬
тывать эстетические, психологические, общественные, социологичес¬
кие, этические критерии. Был редактором, автором статьи и коммен¬
тариев собрания сочинений В. Белинского в 3-х т.
Айхенвальд Ю. Указ. соч. С. 24.
Там же. С. 20.
Там же. С. 25.
Там же. С. 167.
”Там же. С. 171.
3'' Там же. С. 175.
Дарский Дмитрий Сергеевич (29.9/11.10/1883-19.12.1957). За¬
кончил Петербургский университете 1907 г. преподавал историю и
литературу в гимназии. Автор книги «Чудесные вымыслы. О косми¬
ческом сознании в лирикеТютчева», где истолковывает Тютчева вслед
за В. Соловьевым как поэта-философа, применяя принципы имманен¬
тной критики Ю. Айхенвальда. В статье «О Фете» (1915), а затем и в
книге «Радость земли. Исследование лирики Фета» сложился метод
«поэтической биографии» предполагающий растворение биографа в
идеях и образах писателя, обильное цитирование и стилизацию.
Айхенвальд Ю. Силуэты... С. 29.
Там же. С. 28.
Там же. С. 28.
Там же. С. 28.
Бореев Ю. Искусство интерпретации и оценки. М, 1981. С. 75.
Глава V
' Розанов В. В. Литературные изгнанники: Н. Н. Страхов. К. Н. Ле¬
онтьев / под общ. ред. А. Н. Николюкина. М., 2001. С. 102.
2 Там же. С. 115.
’ Розанов В. В. Собр. соч. Во дворе язычников / под общ. ред.
А. Н. Николюкина. М., 1999. С. 5.
Там же. С. 6.
’ Розанов В. В. Собр. соч. Возрождающийся Египет / под общ.
ред. А. Н. Николюкина. М., 2002. С. 135.
267
'Тамже. С. 135.
’’ Флоренский П. А., священник. Статьи и исследования по исто¬
рии и философии искусства и археологии / сост., игумена Андроника
[А. С. Трубачева]; ред. игумен Андроник [А. С. Трубачев]. М., 2000.
С. 90.
* Флоренский П. А., священник. Статьи и исследования... С. 112.
’ Белый А. Между двух революций. Воспоминания : в 3 кн. Кн. 3
/ редкол. В. Вацуро, Н. Гей, Г. Елизаветина и др.; подготовка текста и
коммент. Т. А. Лаврова. М., 1990. С. 388.
'“Тамже. С. 390.
" Там же. С. 394.
‘"Тамже. С. 395.
Там же. С. 397.
Флоренский П. А. Указ. соч. С. 115.
Там же. С. 110.
‘«Тамже. С. ПО.
” Там же. С. 132.
‘* Там же. С. 84.
Там же. С. 231.
“Тамже. С. 134.
Соловьев В. С. «Неподвижно лишь солнце любви...». Стихот¬
ворения. Проза. Письма. Воспоминания современников / сост., всту¬
пит. статья, коммент. А. А. Носова. М., 1990. С. 192.
“ Соловьев В. С. Указ. соч. С. 124.
Розанов В. В. Собр. соч. О писательстве и писателях / под общ.
ред. А. Н. Николюкина. М., 1995. С. 474. (Далее страницы указывают¬
ся в основном тексте.)
Чехов А. П. Собр. соч.: в 12 т. М., 1962. Т. 8. С. 302.
Фуко М. Слова и вещи. Археология гуманитарных наук / пер. с
фр. В. П. Визигина, Н. С. Автономовой. СПб., 1994. С. 387.
Розанов В. В. Сочинения / сост., подгот. текста и коммент.
А. Л. НалепинаиТ. В. Померанской; вступ. ст. А. Л. Налепина. М.,
1990. С. 248.
Элиаде Мирча. Космос и история. Избранные работы / пер. с
франц. и англ.; общ. ред. члена-корр. АН СССР И. Р. Григулевича, док¬
тора филол. наук М. Л. Гаспарова. М., 1987. С. 139
Розанов В. В. Литературные изгнанники... С. 115.
268
Розанов В. В. 01шсательстве и писателях... С. 474.
Розанов В. В. Апокалипсис нашего времени... С. 38.
Там же. С. 68.
Там же. С. 69.
” Там же. С. 82.
Юнг К. Г. Ответ Иову ; пер. с нем. М., 2001. С. 216.
Там же. С. 230.
Там же С. 253.
Шестов Л. И. Навесах Иова. М., 2001. С. 325.
Розанов В. В. Апокалипсис нашего времени... С. 118.
” Там же. С. 118.
Шестов Л. И. На весах Иова... С. 360.
“'Там же. С. 361.
Элиаде М. Космос и история.. .С. 107.
Розанов В. В. О писательстве и писателях... С. 476.
Там же. С. 475.
« Там же. С. 474.
*^ЛифшицМ. А. Мифология древняя и современная. М., 1979.
С. 91.
Розанов В. В. Литературные изгнанники... С. 412-413.
Глава VI
‘ Прот. Сергий Булгаков. Апокалипсис Иоанна (Опыт догмати¬
ческого истолкования). М. ; Православное Братство Трезвости «Отра¬
да и утешение», 1991. С. 351.
^ Там же. С. 20.
^ Лосев А. Ф. Философия. Мифология. Культура. М.; Политиз¬
дат, 1991. С. 176.
^ Чаадаев П. Я. Полное собр. соч. и избра1шые письма ; в 2 т. М. :
Наука, 1991. Т 1.С. 371.
’ Розанов В. В. Собр. соч. Литературные изгнанники: Н. Н. Стра-
f хов. к. Н. Леонтьев / под общ. ред. А. Н. Николюкина. М.: Республи¬
ка, 2001. С. 73.
^Достоевский Ф. М. Братья Карамазовы : роман в четырех час¬
тях с эпилогом. Ч. 1 и 2. М.; Сов. Россия, 1987. С. 271.
’ Там же. С. 274.
* Розанов В. В. Легенда о Великом инквизиторе Ф. М. Достоевс-
269
кого. Опыт критического комментария // Розанов В. В. Мысли о лите¬
ратуре / вступ. статья, сост., комментарии А. Николюкина. М.; Совре¬
менник, 1989. С. 43.
’ Там же. С. 89.
Там же. С. 116.
" Там же. С. 120.
Там же. С. 141.
^^Достоевский Ф. М. Собрание сочинений : в 12 т. Т. 12. С. 513.
Там же. С. 519.
■5 Там же. С. 521.
Белый А. Критика. Эстетика. Теория символизма ; в 2 т. / вступ.
ст., сост. А. П. Казин; коммент. А. Л .Казин, Н. В Кудряшова М.: Ис¬
кусство, 1994. Т. 1. С. 376.
Розанов В. В. Собр. соч. Литературные изгнанники... С. 72.
Лосев А. Ф. Указ. соч. С. 173.
А. Белый. Критика. Эстетика. Теория символизма. С. 375-376.
“Тамже. С. 381.
Там же. С. 381.
Розанов В. В. Собрание сочинений. Апокалипсис нашего време¬
ни / под общ. ред. А. Н. Николюкина. М., 2000. С. 14. Далее цитируется
по этому изданию. (Номера страниц в тексте указаны в круглых сюбках.)
Ильин И. А. Собр. соч. : в 18т./ сост., вступит, ст. и коммент.
Ю .Т Лисицын. М., 1993. Т. 1. С. 308, 314.
“ Ноумены в интерпретации В. Розанова находятся в сфере бессоз¬
нательного и близки к юнговским архетипам: это «сгустаи мира», нечто
«темное, неразумное». Именно ноумены являются за;югом подлинности
знания. В этом аспекте феномены у В. Розанова - «это то, что “кажется”
человеку под схематизмом его восприятия и категорий его суждения» (170).
Розанов В. В. Собрание сочинений. Сахарна / под общ. ред.
А. Н. Николюкина. М., 1998. С. 272.
Там же. С. 272.
” Флоренский П. А. Столп и утверждение истины. М., 1900. Т. 1.
Кн. 1.С. 317.
Мелетинский Е. М. Поэтика мифа. М. ; Наука, 1976. С. 231.
Приходько И. С. «Вечные спутники» Мережковского (к пробле¬
ме мифологизации культуры) // Д. С. Мережковский: Мысль и слово.
М.: Наука, 2000. С. 200.
270
Глава VII
’ Розанов В. В. Собрание сочинений. Во дворе язычников / под
общ. ред. А. Н. Николюкина. М.: Республика, 1999. С. 337.
^ Там же. С. 343.
^ Флоренский П. А., свящ. Сочинения ; в 4 т. / сост. игумена Анд¬
роника [А. С. Трубачева], П. В. Флоренского, М. С. Трубачевой; ред.
игумен Андроник [А. С. Трубачев]. М. ; Мысль, 1994. Т. 1, С. 137.
Кнабе Г. С. Русская античность. Содержание, роль и судьба ан¬
тичного наследия в культуре России. М. : РГГУ, 2000. С. 213.
^ Розанов В .В. Собр. соч. Апокалипсис нашего времени / под общ.
ред. А. .Н. Николюкина. М., 2000. С. 259.
^ Шкловский В. Б. Гамбургский счет: Статьи - воспоминания -
эссе (1914-1933). М.: Советский писатель. 1990. С. 139.
'' Флоренский П. А., свящ. Сочинения : в 4 т. Т. 3 (1) / сост. игтме-
на Андроника (А. С. Трубачева), П В. Флоренского, М. С. Трубачевой;
ред.игумен Андроник (А. С. Трубачев). М. ; Мысль, 1999. С. 126.
* Там же. С. 125.
^ Цит. по: Флоренский П. А. Указ. соч. С. 122.
Там же. С. 122.
" Там же. С. 134.
Там же. С. 134.
” Там же. С. 121.
Там же. С. 121.
Гачев Г. Д. Содержательность ?о'дожественных форм. М.: Про¬
свещение, 1968. С. 214.
Мамардашвили М. К. Эстетика мышления. М. : Моск. 1кола
полит, исследований, 2001. С. 96.
Флоренский П. А. Указ. соч. С. 120.
** Там же. С. 124.
Там же. С. 119.
“ Там же. С. 136-137.
Там же. С. 137.
“Тамже. С. 119.
“ Там же. С. 141.
Там же. С. 141.
Там же. С. 122-123.
Там же. С. 122.
271
” Там же. С. 132.
Там же. С. 134.
Там же. С. 135.
Дьяченко Г. Полный церковно-славянский словарь. М.: Посад,
1993. С. 300.
Флоренский П. А. Указ. соч. С. 141.
Цит. по; Сукач В. Комментарии // Розанов В. В. О себе и жизни
своей. М., 1990. С. 718.
Там же. С. 717
^‘'Барт Р. S/Z. М., 1994. С. 73.
Произведения В. Розанова цитируются по изданию: Роза¬
нов В. В. О себе и жизни своей. М., 1990. (Далее страницы указа¬
ны в скобках.)
Барт Р. Указ. соч. С. 296.
” Под идеологией Р. Барт предлагает понимать, с одной сторо¬
ны, репрезентацию моральную, эстетическую, политическую... (иде¬
ология не производит, а отражает), с другой стороны идеология - это
«MOHCip», подчиняющий себе культуру.
3* Косинов Г. Идеология. Коннотация. Текст // Р. Барт Указ. соч.,
С. 293.
Барт Р. Указ. соч. С. 19.
Барт Р. Указ. соч. С. 19.
См.: Кожинов В. Примечания // А. А. Фет М., 1981.
Бонди С. Черновики Пушкина. Статьи 1930-1970 гг М., 1971.
С. 152-153.
«Тамже. С. 153.
Там же. С. 153.
В самом общем виде, следуя за Р. Бартом, текст понимается
как сообщение, сведенное к своим предметным значениям. В то же
время Р. Барт подчеркивает противоположность текста произведени-
ю:«Текст в том современном, актуальном смысле, который мы пыта¬
емся придать этому слову, принципиально отличается от литературно¬
го произведения: это не эстетический продукт, это означивающая прак¬
тика; Это не структура, это структурация; это не объект, это работа и
деятельность; это не совокупность обособленных знаков, наделенная
тем или иным смыслом, подлежащим обнаружению, это диапазон су¬
ществования смещающихся следов. Инстанцией текста является не
272
значение, но означающее в семиологическом и психолоаналитичес-
ком употреблении этого термина». (Цит. по: Косимое Г. Указ, соч. С. 288.
Барт Р. Указ. соч. С. 14.
О цикличности в произведениях В. Розанова см.; Кашина Н.
Мифическое в художественном сознании культуры «Серебряного века»
// Культура и текст - 99. Пушкинский сборник. СПб.; Самара - Барна¬
ул, 2000. С. 198-208.
Барт Р. Указ соч. С. 14.
Шкловский В. Б. Гамбургский счет. С. 121.
Там же. С. 129.
Розанов В. В. Собрание сочинений. О писательстве и писате¬
лях / под общ. ред. А. Н. Николюкина. М., 1995. С. 430.
” Цит. по; Шкловский В. Б. Гамбургский счет... С. 500-501.
Орлицкий Ю. Б. В. В. Розанов; проект литературы XX века //
Энтелехия; научно-публицистический журнал [Косфома]. 2002. № 5.
С. 55.
Панов А. В. «От Пушкина до Лейкина»; путь русской класси¬
ческой литературы в интерпретации В. В. Розанова / А. В. Панов,
В. Е. Хализев // Русская словесность. 1984. № 3. С. 5.
Шульц С. А. К проблеме герменевтики слова у В. В. Розанова /
/ Русская литература, 2004, № 2. С. 188.
Минц 3. Г. Поэтики русского символизма. СПб., 2004. С. 60.
” Мелетинский Е. М. От мифа к литературе. Курс лекций «Т1ория
мифа и историческая поэтика». М, 2001. С. 31.
Научное издание
Кашина Наталия Константиновна
МИФ в ТЕКСТАХ
ВАСИЛИЯ РОЗАНОВА
Оформление обложки: С. С. Слышенков
Редактор и корректор Т. В. Горлова
Подписано в печать 20.10.2008
Формат 60x90/16
Уч.-изд. л. 13,7
Тираж 500 экз.
Изд. № 76
Костромской государственный университет им. Н. А. Некрасова
156961, г. Кострома, ул. 1 Мая, 14