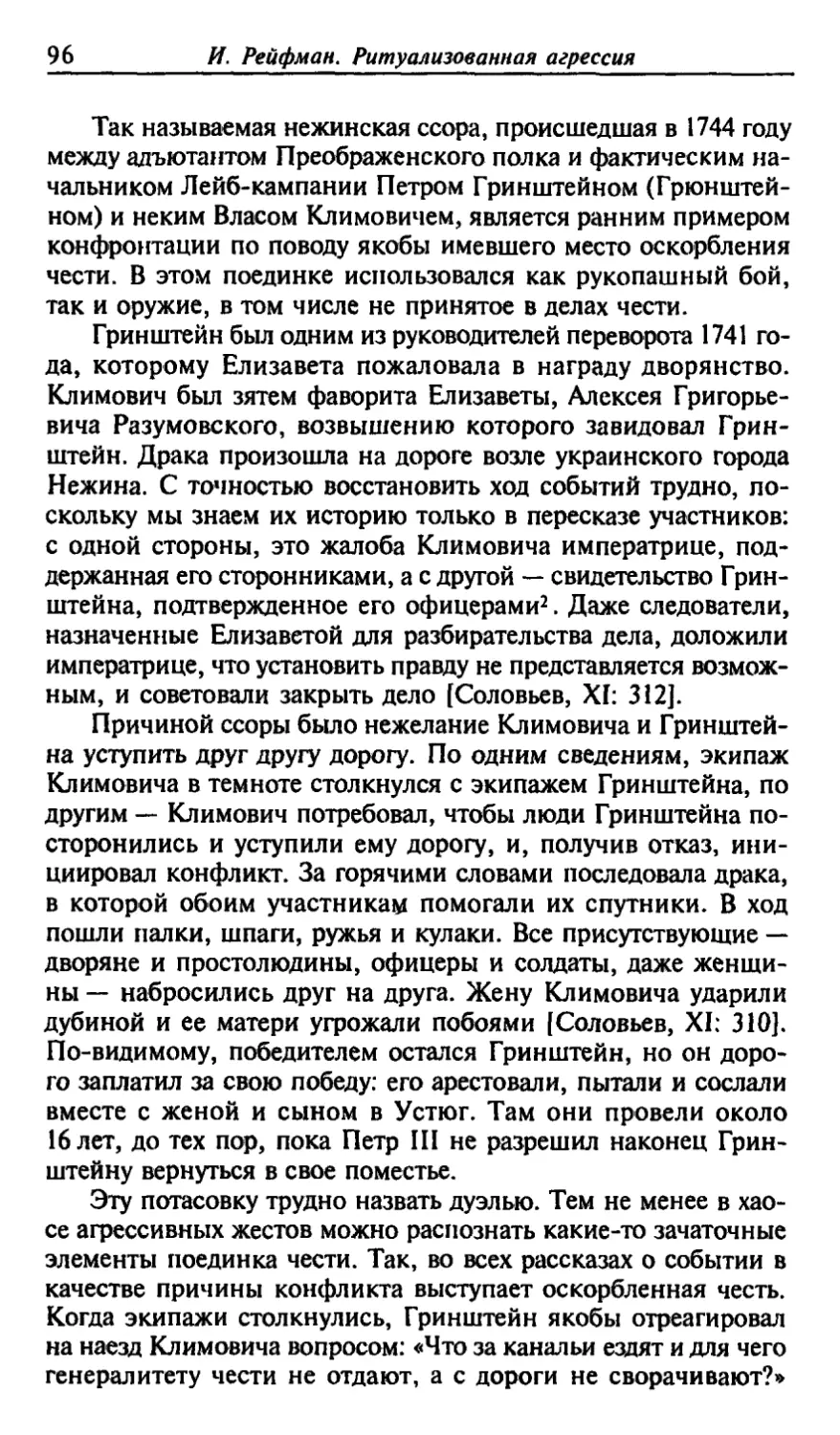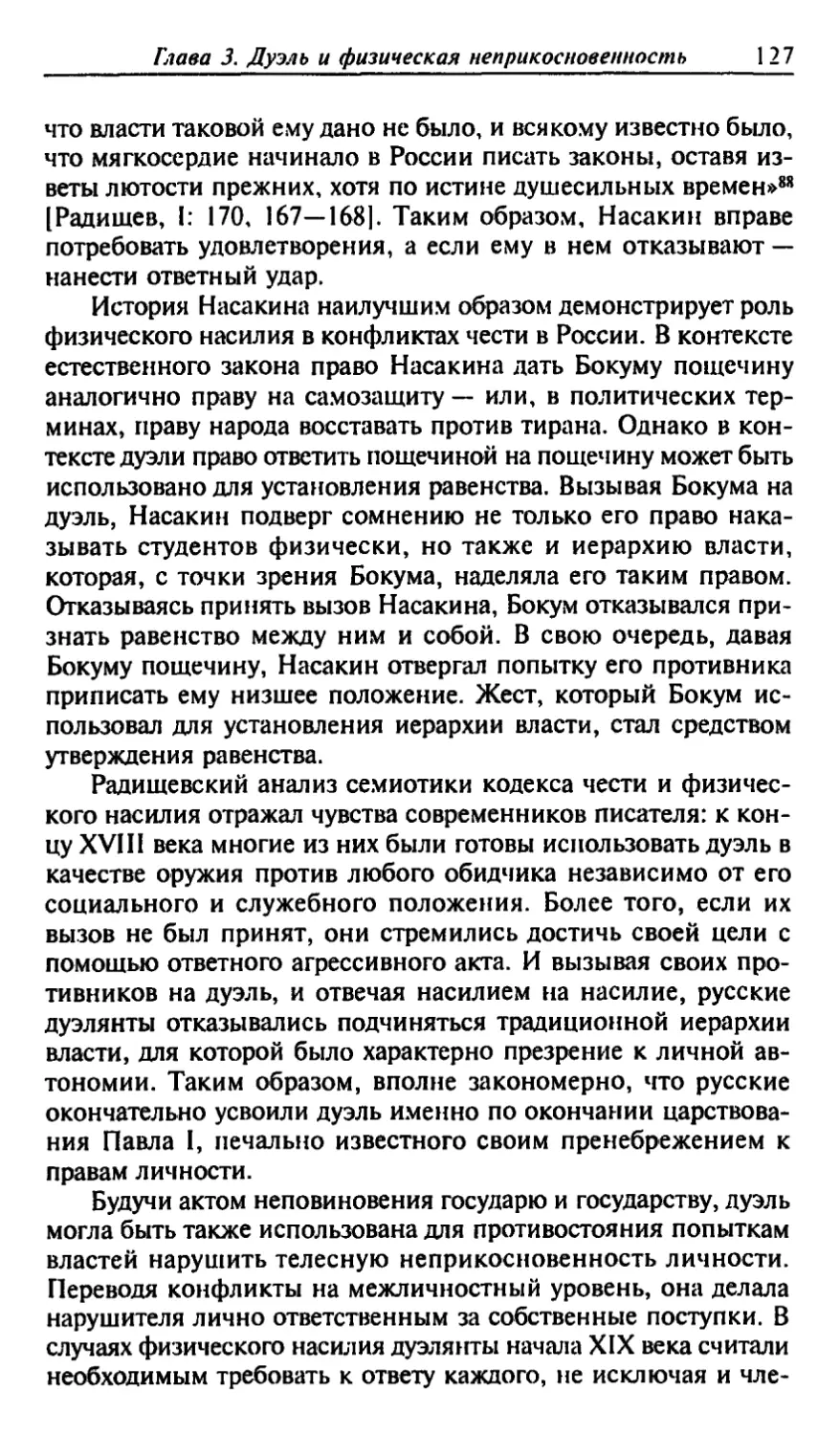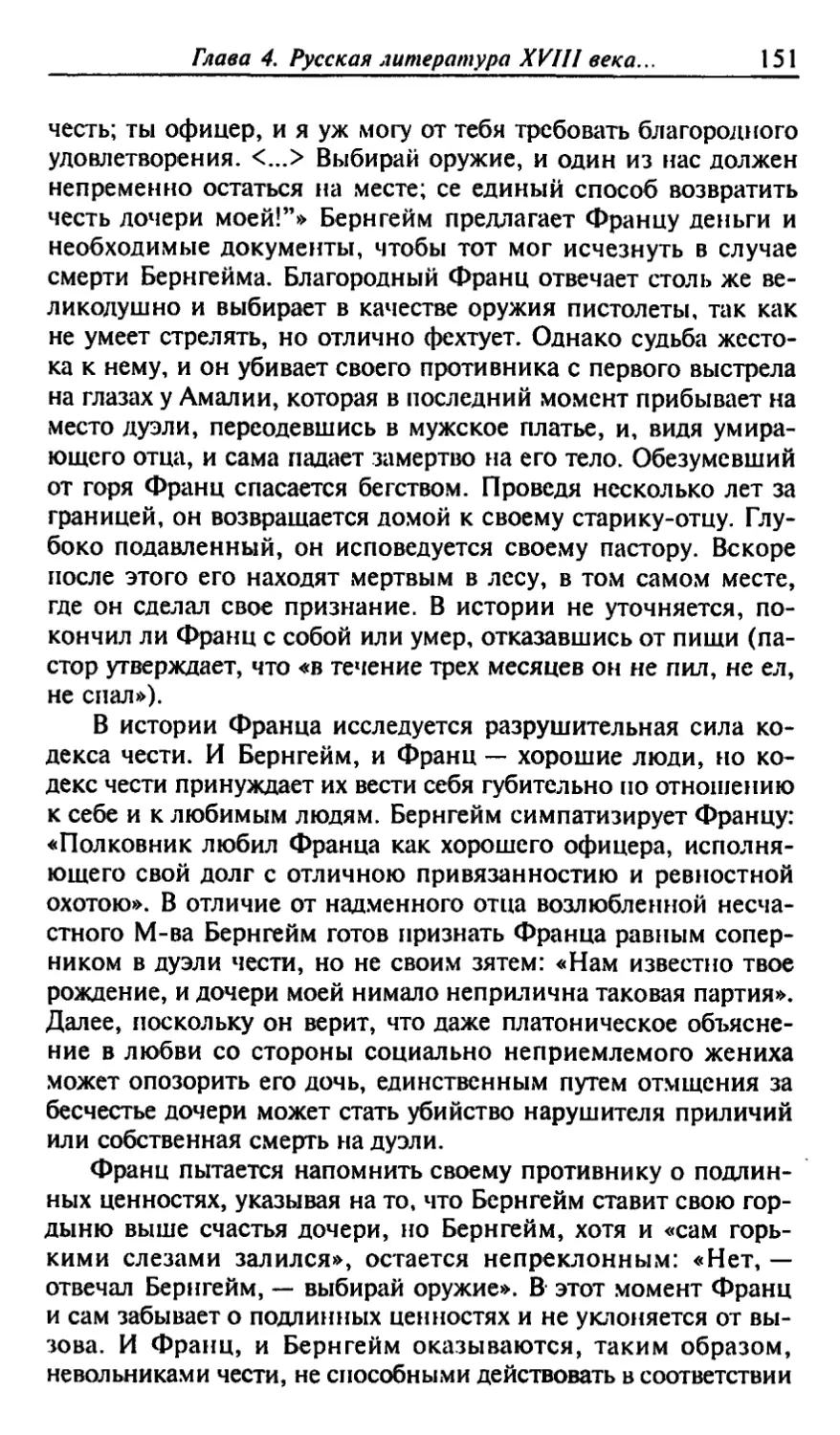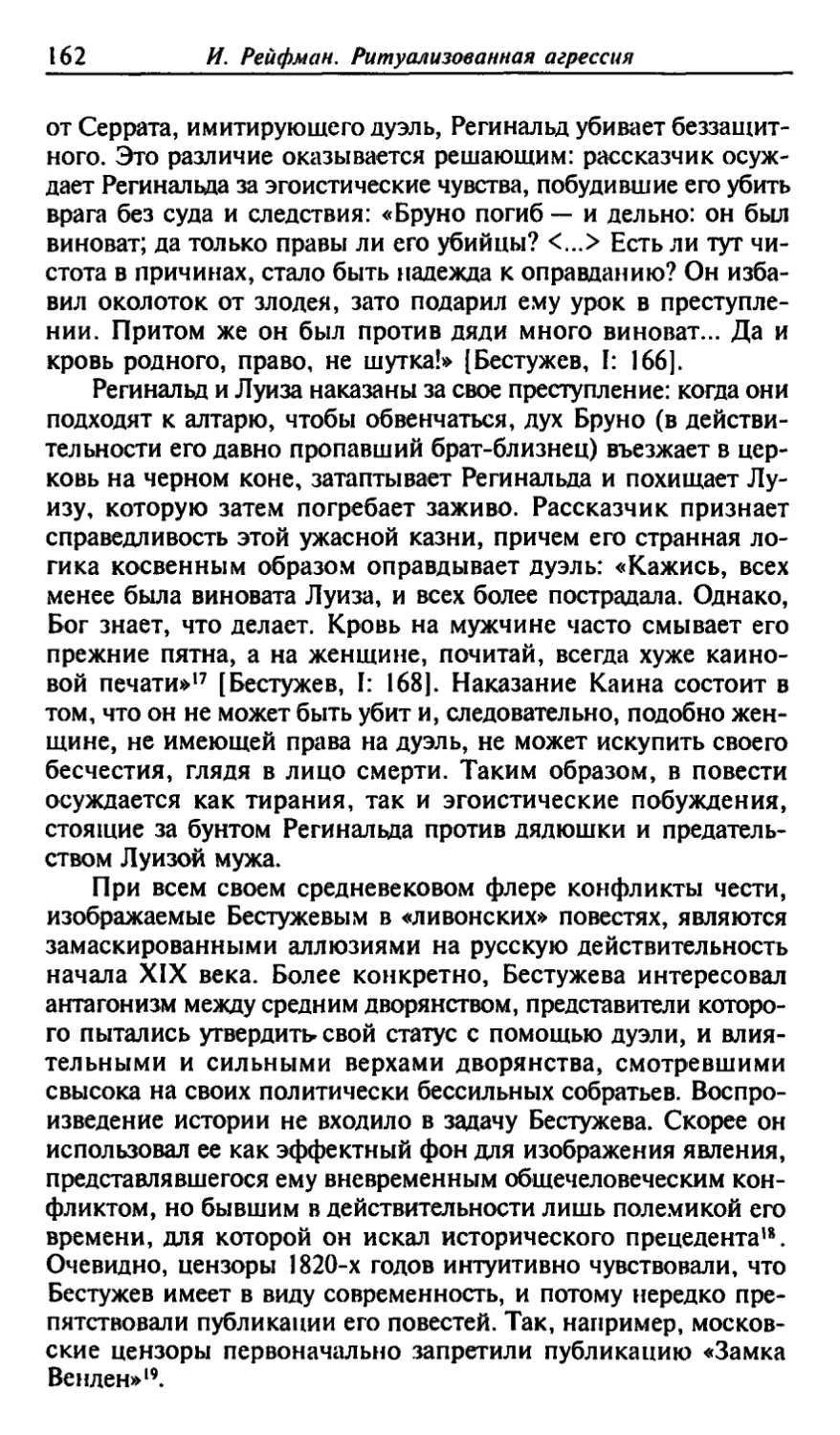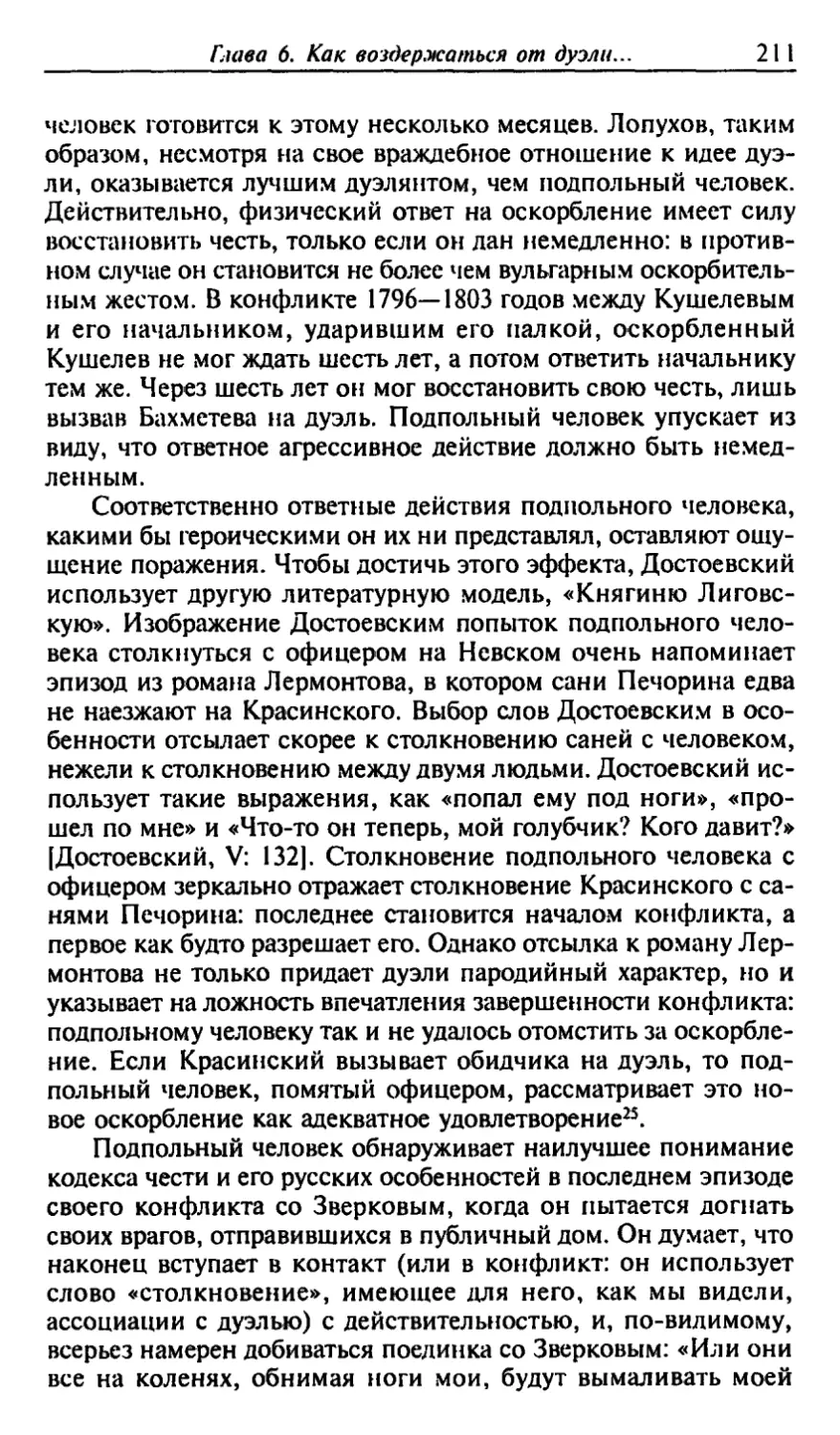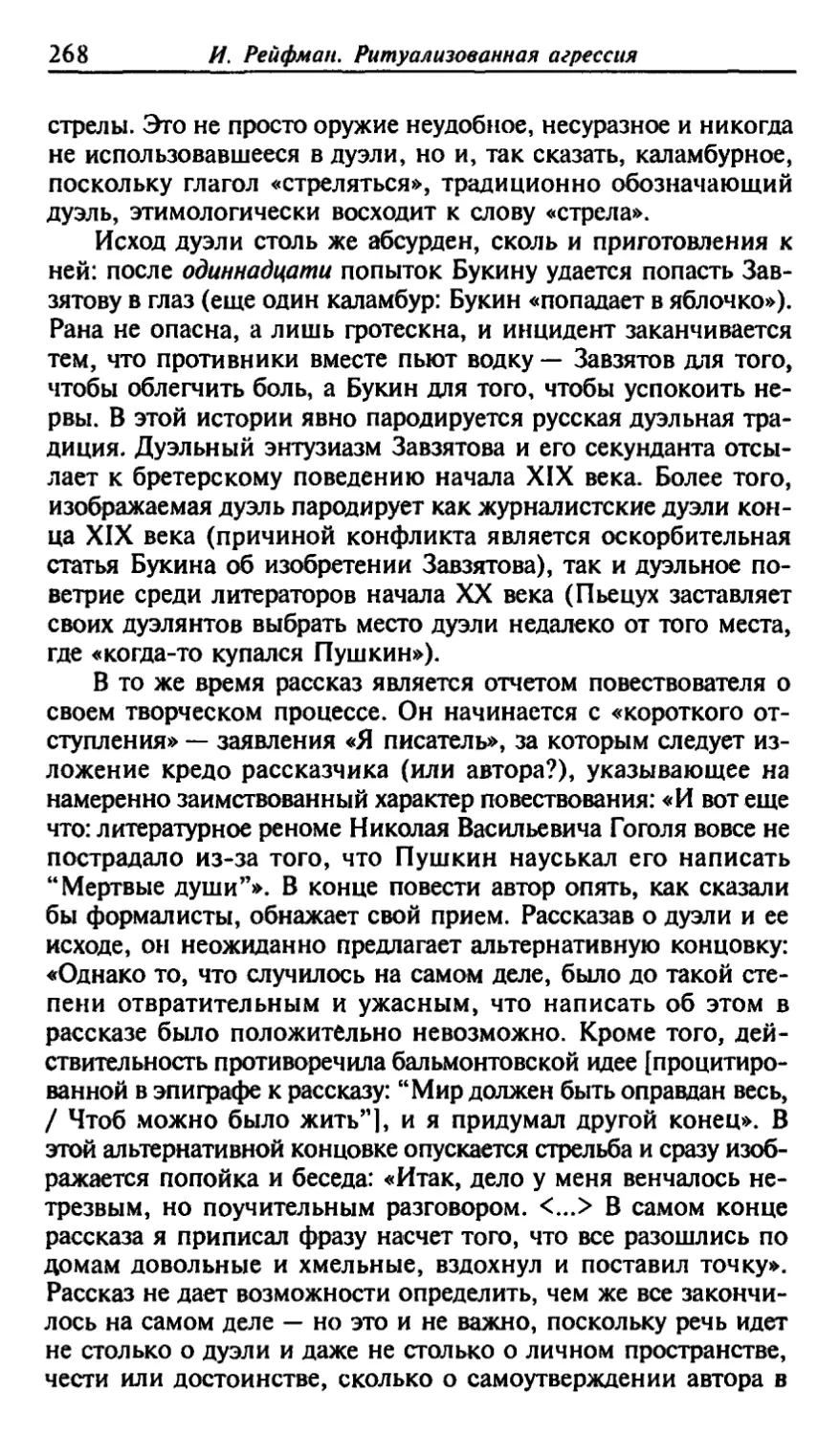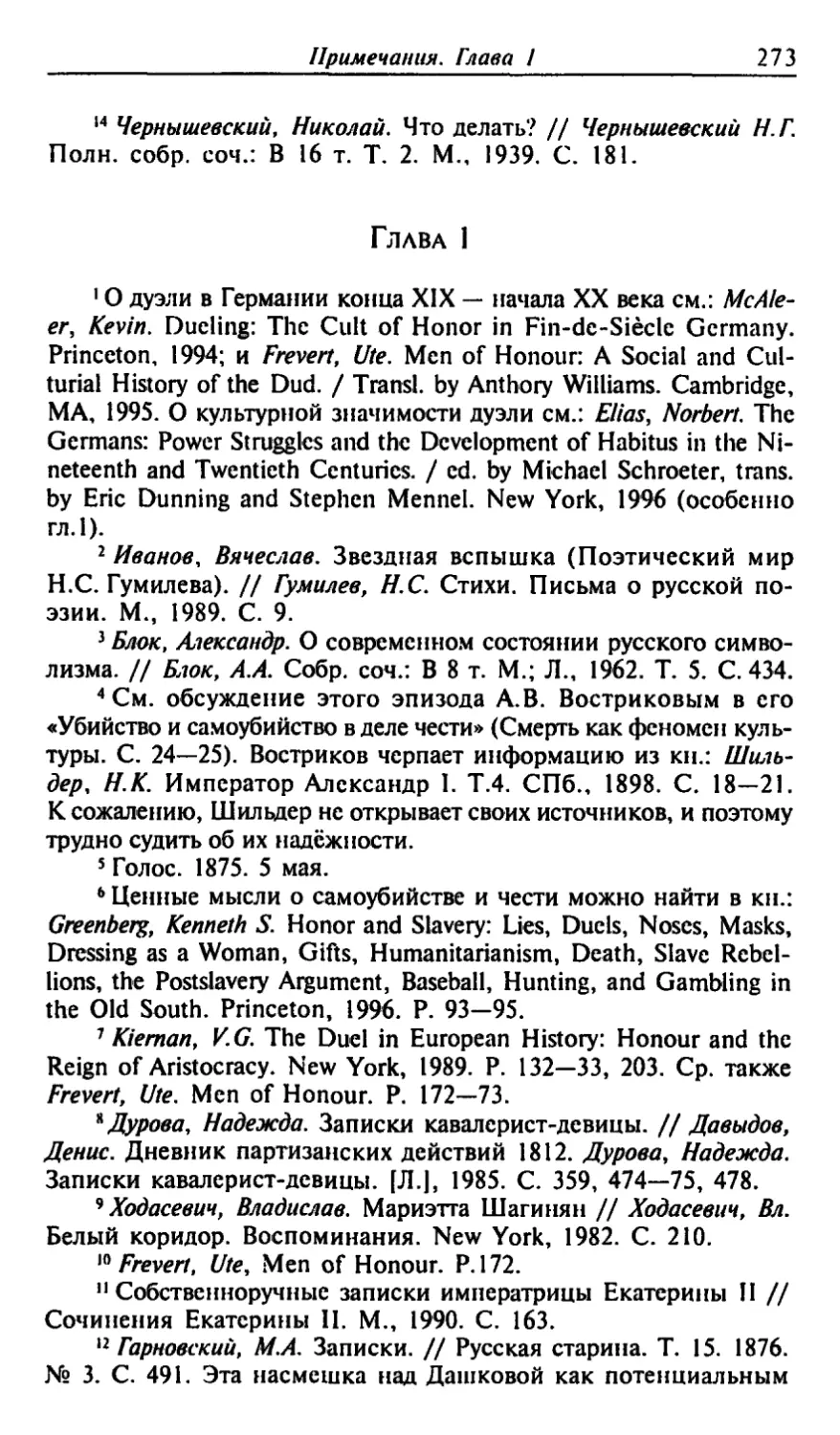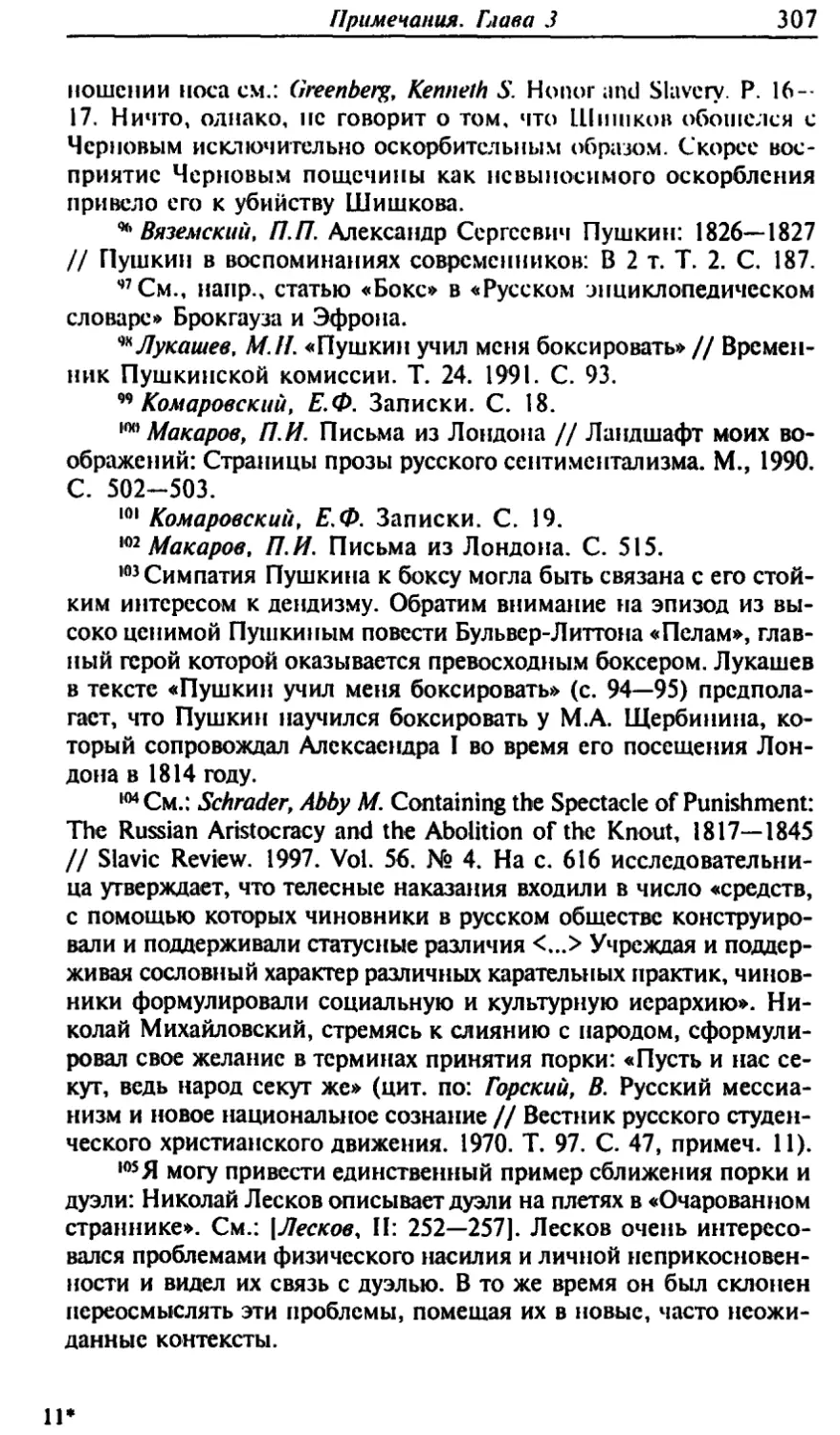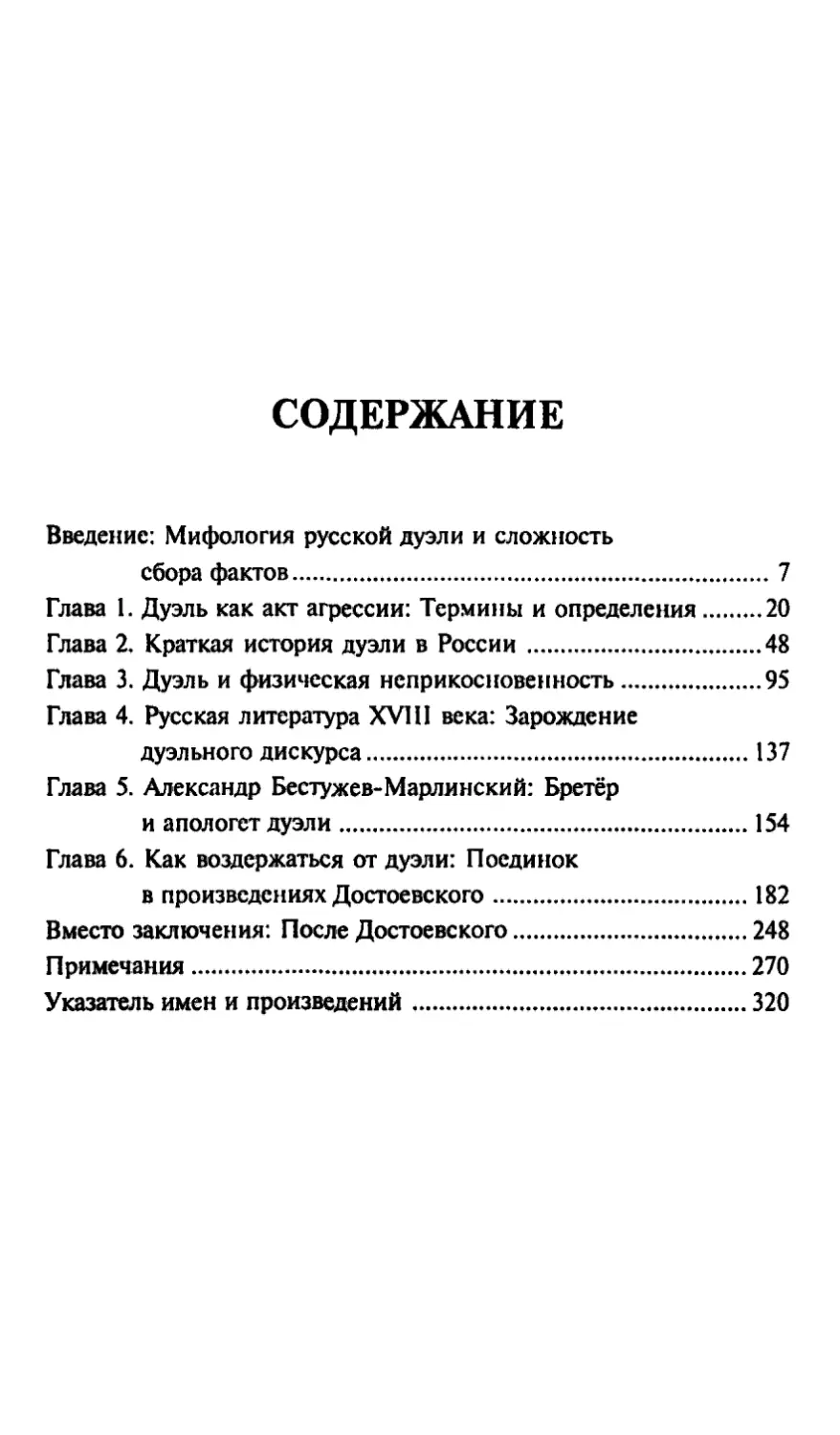Текст
НАУЧНАЯ БИБЛИОТЕКА
Ирина Рейфман
РИТУАЛИЗОВАННАЯ
АГРЕССИЯ
Научное приложение. Вып. XXXII
НОВОЕ ЛИТЕРАТУРНОЕ ОБОЗРЕНИЕ
Ирина Рейфман
РИТУАЛИЗОВАННАЯ
АГРЕССИЯ
Дуэль в русской культуре
и литературе
Авторизованный перевод с английского
Е.А» Белоусовой
Новое литературное обозрение
Москва
2002
НОВОЕ ЛИТЕРАТУРНОЕ ОБОЗРЕНИЕ
Научное приложение. Вып. XXXII
Художник серии Н. Пескова
Рейфман Ирина
Рнтуализованная агрессия: Дуэль в русской культуре и
литературе. М.: Новое литературное обозрение, 2002. — 336 с.
Исследование профессора кафедры славянских языков и литератур
Колумбийского университета Ирины Рейфман посвящено дуэли в
русской культуре и литературе. Автор книги объясняет устойчивый
престиж дуэли в русском культурном сознании ее способностью охранять
автономию личности в государстве, где отсутствовали надежные
гарантии личной неприкосновенности. Литературная традиция
способствовала сохранению высокого статуса дуэли в XX веке, что позволило
писателям советского периода использовать дуэльные нарративы как
для регистрации пренебрежения к правам личности со стороны
тоталитарного государства, так и для скрытого протеста против этого
пренебрежения.
ISBN 5-86793-165-Х
О И. Рейфман. 2002
О Художественное оформление. «Новое литературное обозрение», 2002
Памяти моих родителей,
Веры Дмитриевны
и Владимира Ивановича
Автор выражает благодарность
университетским семинарам
при Колумбийском университете
за оказание поддержки
в переводе английского варианта
этой книги на русский язык.
Материалы этой работы были представлены
в виде доклада
на университетском семинаре
по славянской истории и культуре.
ВВЕДЕНИЕ:
Мифология русской дуэли
и сложность сбора фактов
В памяти русской культуры хранится привлекательный образ
русского дуэлянта — благородного рыцаря и человека чести. Он
элегантно бросает обидчику вызов в ответ на столь же
элегантное оскорбление, на месте дуэли он ведет себя мужественно и
великодушно, а по ее окончании проявляет стойкость перед
лицом возможного наказания — если, конечно, остается в
живых. Он не может жить обесчещенным и никогда не
нарушает кодекса чести. Русские и по сей день гордятся этим
образом. Восхищение дуэлянтами былых времен можно встретить
и в серьезной литературе, и в бульварном чтиве. Более того,
оно превалирует и в трудах признанных историков культуры: в
биографии декабриста Михаила Лунина, написанной Натаном
Эйдельманом, в работах Ю.М. Лотмана, посвященных русским
дуэлям, в «романе в документах» Я А Гордина «Право на
поединок» и в многочисленных статьях и книге А.В. Вострикова
по семиотике русской дуэли1.
Как будто в подтверждение неустанного восхищения,
которое русские испытывают к дуэлянтам минувших времен, в
1992 году был воздвигнут памятник на месте дуэли между
декабристом Константином Черновым и адъютантом Александра I
Владимиром Новосильцевым, в ходе которой соперники
получили смертельные ранения. Надпись на памятнике гласит:
«10 сентября 1825 года на этом месте состоялась дуэль члена
Северного тайного общества К.П. Чернова с В.Д.
Новосильцевым. Секундантом К.П. Чернова был К.Ф. Рылеев.
Похороны К.П. Чернова вылились в первую массовую демонстрацию,
организованную членами Северного тайного общества —
декабристами»2. Оставляя пока в стороне политическое значение,
которое надпись приписывает этой дуэли, хочется обратить
внимание на тот факт, что более чем через 165 лет после события,
в год, когда Россия находилась на грани социального и
экономического хаоса, нашлись люди, которым оно было
настолько небезразлично, что они собрали и силы, и средства для
того, чтобы увековечить поединок, который даже многим
современникам казался бессмысленно жестоким.
В глазах носителей русской культуры феномен дуэли
давно перестал быть фактом исключительно дворянской жизни и
8 //. Рейфман. Ритуализованная агрессия
приобрел статус героического поведения, типичного для
русского национального характера вообще. Заключительный
абзац книги С.Л. Абрамович о последней дуэли Пушкина
демонстрирует, какую высокую моральную ценность приписывают
русские дуэлям: «И вот уже полтора столетия Россия
оглядывается на Пушкина, ибо он дал ей тот эталон
художественности и нравственности, с которым теперь соизмеряются все
достижения русской культуры. И самая жизнь поэта, и даже его
смерть, превращаясь в национальную легенду, становятся в
глазах потомков образцом высокой нравственной нормы,
мерилом чести и человеческого достоинства»3.
Идеальный образ дуэлянта — безупречного офицера и
дворянина, уверенного в себе, великодушного и безукоризненно
честного, — относится по преимуществу к первой трети XIX
века. Он соседствует в русской культурной памяти с образами
дуэлянтов более поздней эпохи — циничного карьериста,
перед угрозой дуэли без колебаний доносящего в полицию; и
разночинца, хотя и образованного и преданного идеалам, но не
обученного хорошим манерам и незнакомого с кодексом
чести4. Возникает, однако, вопрос: насколько справедлива такая
«регрессивная» история русской дуэли? Более того,
существовал ли когда-либо тот пресловутый идеальный дуэлянт? Был ли
в действительности Золотой век русской дуэли — время, когда
каждый дворянин был связан неписаным, но повсеместно
чтимым кодексом чести? И если был, то насколько типичным было
такое поведение?
Можно пытаться искать ответа на этот вопрос в
художественной литературе, современной дуэльной традиции: в
конце концов, многие русские писатели не только описывали
поединки, но и были носителями живой дуэльной традиции.
Невозможно при этом не заметить большого количества
«нерегулярных» литературных дуэлей — то есть дуэлей, которые, так
или иначе, отклонялись от предполагаемой нормы дуэльного
поведения. Персонажи-дуэлянты всех эпох, включая Золотой
век русской дуэли, в подавляющем большинстве своем
серьезно нарушают дуэльный кодекс, и подчас не столь уж
безобидно. Онегин прибывает на место дуэли с опозданием и
привозит с собой в качестве секунданта слугу вместо собрата-
дворянина. Сильвио прерывает дуэль из каприза, а потом,
много лет спустя, появляется в доме своего противника,
требуя своего выстрела. Он не приводит с собой никаких
секундантов и готов стрелять в присутствии женщины, жены
противника. Печорин и Грушницкий оба играют не по правилам. Столь
Введение: мифология русской дуэли...
9
же далеки от совершенства и менее известные герои-дуэлянты.
Главный герой повести Бестужева-Марли некого «Страшное
гадание», которому пригрозили пощечиной, убивает на месте
своего обидчика, не давая ему шанса защититься. В другой его
повести, «Фрегат Надежда», второстепенный герой пытается
убедить противника стреляться понарошку. Много позднее к
подобному же соглашению приходят герои «Поединка»
Куприна; более того, один из них затем нарушает заключенный
договор и убивает противника. Безупречных же дуэлянтов
сравнительно мало: Лучков и Кистер в «Бретере» Тургенева, Пьер
Безухов и Долохов в «Войне и мире», фон Корен и Лаевский в
чеховской «Дуэли»5.
Приверженца кодекса чести также может шокировать и
высокий уровень физической агрессии во взаимоотношениях
русских литературных дуэлянтов. Чаще всего дуэль
провоцируется пощечиной. Примеров много — от «Выстрела» Пушкина до
«Поединка» Куприна. Более того, нередко такая пощечина
представляет собой не ритуальный жест, а сокрушительный
удар, причиняющий настоящие физические повреждения.
Хороший пример такой пощечины — мощный удар в лицо,
нанесенный Ставрогину Шатовым. Сходным образом у Арцы-
башева Санин разбивает в кровь лицо соблазнителя своей
сестры, а у Куприна удар кулаком по лицу, нанесенный
Николаевым Ромашову, приводит к рукопашной схватке, в ходе
которой противники, катаясь по полу, «рвали, комкали и
тискали друг друга» [Куприн, IV: 192].
Оставляя в стороне очевидный нарративный интерес
«нерегулярной» литературной дуэли, стоит задаться вопросом,
насколько адекватно русская литература изображала современные
ей дуэльные нравы. Отклонялись ли литературные дуэли,
исполненные физической агрессии, от принятого в жизни
поведения? А.В. Востриков полагает, что пренебрежение дуэльным
кодексом в русской литературе отражало реальные
эксперименты бретеров, наиболее рьяных дуэлянтов того времени, с
принятыми нормами дуэльного поведения: «Итак, норма в русском
понятии чести основывается не на законе, а традиции. Границы
нормы подвижны, нарушение их неизбежно и необходимо для
поддержания динамизма действующей структуры. Пограничье
становится сферой особого поведенческого стереотипа —
бретёрского»6 . Мой материал в целом согласуется с
предположением А.В. Вострикова. Возникает, однако, вопрос о самой
норме. Что было нормой дуэли в России? Чтобы приступить к
ответу на этот вопрос, мы должны обратиться к истории
русской дуэли.
1 О И. Рейфман. Ритуддизованная агрессии
К сожалению, история русской дуэли не написана. В
работах, упомянутых выше, предлагаются отдельные картинки из
прошлого русской дуэли, а не исчерпывающие исторические
отчеты. Хотя эти исследования богаты историческим
материалом, ни одно из них не предлагает четкой исторической
картины дуэли в России. По сути, эти работы даже и не ставят
целью сбор и систематизацию исторических данных: их скорее
интересует ритуал дуэли, ее семиотика и символика, то есть
теория русской дуэли, а не ее практика. Единственная работа,
ставящая своей целью проследить эволюцию русской дуэли,
«Право на поединок» Я.А. Гордина, находится под обаянием
мифа о Золотом веке русской дуэли и потому не может служить
вполне надежным источником исторических сведений о ней.
Впрочем, ни в одной из названных работ не анализируется
и даже не регистрируется идеализация русскими дуэлянтов
прошлого. Авторы как будто не замечают анахронического
характера пристрастия русских к идее дуэли — и это неудивительно,
поскольку зачастую они и сами его вполне разделяют. В
результате исследователи русской дуэли не осознают, что
часто исследуют плод коллективного воображения, а не
исторические факты и что их работы фактически увековечивают
идеализированный образ русской дуэли в памяти культуры,
придавая ему научную легитимность.
Следует, однако, признать, что отсутствие
исчерпывающего исторического исследования русской дуэли имеет и
уважительные причины, как специфически русские, так и
относящиеся к культурному феномену дуэли в целом. Проблемы
возникают с самого начала: исследователю дуэли, как и
любому историку, необходимо собрать достаточно полные и
достоверные данные. Тут, однако, обнаруживается множество
препятствий, превращающих поиск надежной информации в
неблагодарный, а порой и тщетный труд. Как отмечает
историк французской дуэли Ф. Биллакуа, полная картина все
время ускользает: «Если и есть какая-либо статистика, то она, если
можно так выразиться, импрессионистична»7. Основная
причина отсутствия надежных данных— особый юридический и
культурный^ статус дуэли.
Как средство урегулирования личных конфликтов дуэль
чести никогда не имела юридического признания. Статус ее
колебался между внеположенностью закону (как во Франции
до официального запрета дуэли Генрихом FV в 1602 г.),
полузаконностью (как в России после мая 1894 г., когда
Александр III негласно разрешил дуэль в армии) и незаконностью
(как было во всех странах» знавших дуэль, на протяжении ббль-
Введение: мифология русской дуэли...
11
шей части ее истории). Однако даже в те периоды, когда
дуэль была запрещена, антидуэльные законы редко применялись
последовательно: в то время как некоторые дуэлянты
преследовались, многие другие полностью избегали какого-либо
наказания. Более того, осужденных часто прощали, сразу или по
прохождении некоторого времени, или же наказывали
нестрого. Такое избирательное и произвольное судопроизводство
привело к тому, что архивные собрания судебных документов
отражают историю дуэли тоже избирательно. В России дело
дополнительно осложнялось отсутствием четкого разделения
функций судебных властей: дуэли офицеров расследовались
военными учреждениями, для штатских же эта процедура не была
четко установлена. До 1787 года не существовало законов о
дуэлях штатских лиц, а когда они появились, то во многом
дублировали военные установления. Кроме того, штатские
дуэлянты часто попадали под военное следствие и наказывались
военными судами. Наконец, отсутствие в России четкого
разграничения между судебной и административной властью
существенно усиливало произвольный характер судебного
преследования русских дуэлянтов, вследствие чего архивные данные
оказались еще менее репрезентативными.
Тем не менее угроза судебного преследования всегда
существовала, и, поскольку невозможно было предсказать действия
властей, письменное обсуждение конкретных дуэлей всегда
было делом небезопасным — особенно в России, где на
протяжении всей истории дуэли сохранялась возможность
перлюстрации частной переписки властями. Беспокойство по этому
поводу делало современников более осмотрительными, а их
письменные свидетельства — менее надежными: стремясь
защитить и выгородить дуэлянтов, они, обсуждая дуэли, нередко
искажали факты. Зачастую трудно собрать достоверные
сведения даже о самых знаменитых русских дуэлях, о таких, в
которых участвовали видные люди своего времени и о которых
упоминают многие современники — но упоминают уклончиво и
вскользь. О других же, вероятно, не упоминают вовсе. В
результате трудно даже приблизительно оценить число дуэлей,
которые не были зафиксированы ни в каких документах своего
времени.
Пресса, если и сообщала о дуэлях, отдавала предпочтение
сенсационным случаям. Однако и эти отрывочные сообщения
не охватывают всей истории дуэли, поскольку независимая
пресса появляется достаточно поздно и, таким образом,
начинает регулярно сообщать о дуэлях только тогда, когда их число
начинает сходить на нет. В русской прессе сколько-нибудь
12 И. Рейфман. Ритуализованная агрессия
регулярные сообщения о дуэлях появляются только в последней
трети XIX века. Период наибольшей распространенности
дуэли в России (начало XIX в.), как и ее наименее
документированный начальный период (XVIII в.), не охвачен прессой
вовсе. Более того, в течение значительных периодов времени
(особенно при Николае I) даже само упоминание о дуэли в
печати было запрещено. Русские газеты сообщили о дуэли
Пушкина с Дантесом только через полтора месяца после его
смерти, когда наконец было опубликовано официальное
сообщение о депортации Дантеса за «убийство камер-юнкера
Пушкина»8. Жуковский опубликовал в «Современнике» свое
знаменитое «Письмо Сергею Львовичу» без прямого упоминания
причины смерти поэта. Причина смерти Лермонтова также
долгое время не называлась в печати9.
Еще одним препятствием к сбору данных о дуэлях является
то, 4to они часто вызывались конфликтами личного
характера. Даже самые ревностные критики дуэли признавали, что
если она и имеет смысл, то именно для разрешения
конфликтов, которые затруднительно разбирать публично.
Действительно, как только дуэль в Европе перестала быть публичной и ушла
из-под контроля монарха, она стала частным делом двух
индивидуумов. В этом качестве дуэль все чаще служила для
разрешения споров, считавшихся неподходящими для суда или
других форм публичного рассмотрения. Очевидный (но,
разумеется, не единственный) пример тому — дуэль в защиту
чести женщины. Частный и даже интимный характер такого
конфликта вынуждал современников быть скрытными не только во
время дуэли, но часто и в позднейших свидетельствах о ней.
Вследствие перечисленных обстоятельств историк,
изучающий дуэль, вынужден полагаться на то, что современники
дуэлянтов пожелали оставить потомкам, а именно на неполную
официальную документацию и на письменные свидетельства,
которые о многом умалчивают, часто неточны и всегда
предвзяты. Возникающая в результате картина является скорее
моментальным снимком официальных и частных мнений о той или
иной дуэли, чем историческим отчетом. Эта картина
построена больше на суждениях, чем на фактах, и яипяется скорее
субъективной, чем объективной. Самое же главное — она
неполна.
Более того, вследствие глубоко символической природы
дуэли в круг обсуждаемых в связи с дуэлями вопросов
неизбежно входили и другие культурные темы. В России в сферу
проблематики дуэли включилось несколько важных вопросов.
Прежде всего дуэль отражала попытки русских определить для
Введение: мифология русской дуэли...
13
себя идею личности и личных прав10. Она также отражала их
недоверие к закону и судебной системе, особенно к их
эффективности в защите личных прав индивидуума. Кроме того, в
первой четверти XIX века дуэль приобрела отчетливый
политический оттенок, став средством выражения оппозиционного
отношения к режиму. Наконец, дуэли отразили и социальные
конфликты — сначала внутридворянские, между
приближенными к трону богатыми и могущественными фамилиями и
свободомыслящим независимым средним дворянством; позднее —
между двумя группами образованных русских, дворянством и
разночинцами. Все эти контексты создают дополнительные
трудности для составления истории дуэли.
Итак, сложность поиска фактов, ненадежность источников
и широкий спектр культурных проблем, осложняющих
проблематику дуэли, заставляют сделать вывод о принципиальной
невозможности статистически корректного и непротиворечивого
исторического отчета о дуэли11. Собрав сведения о множестве
дуэлей за период с начала XVIII века по настоящее время, я не
могу быть уверенной в полноте своих данных. Я также не могу
предложить содержательной статистики или надежных
разделений по категориям. Причины дуэлей, частота использования
разных видов оружия, число смертельных исходов и ранений,
преобладающие условия (расстояния, число выстрелов и т.д.) —
на все эти вопросы моя книга не дает точного ответа. В этом
смысле мой отчет о дуэльных поединках в России не является
более полным, чем отчеты моих предшественников. Тем не
менее я надеюсь, что мне удалось прийти к более трезвому
взгляду на имеющиеся данные и предложить читателю картину,
в большей степени приближенную к реальности.
Мои данные позволяют предположить, что реальность
дуэльных поединков в России была менее привлекательной, чем
обычно принято считать. Нередко соперники дуэлянты
уклонялись от дуэлей, игнорировали оскорбления и намеренно
проговаривались о предстоящих стычках, надеясь таким образом
избежать поединка. Это относится как к Золотому веку русской
дуэли, так и к позднейшим периодам. В биографиях офицеров
Кавалергардского полка, изданных С.А. Панчулидзевым,
можно найти множество примеров поведения, которое
позволительно квалифицировать как бесчестное. Я приведу один пример,
демонстрирующий, что такое повеление, хоть и вызывало
недовольство товарищей, тем не менее не всегда бесповоротно
осуждалось ими. Это — инцидент между П.В. Шереметевым,
знакомым Пушкина, в то время офицером полка, и его
безымянным сослуживцем. Панчулидзев сообщает: «П.В. Шереме-
14 И. Рейфман. Ритуализованная агрессии
тев, например, не выносил * , дурного от последнего он не
видел, но всегда уверял, что не выносит его "противной
морды"; и вечно при всяком удобном случае придирался, заводил
ссоры и делал неприятности. Раз, после таких придирок со
стороны Шереметева, он же вызвал *** на дуэль, который, не
приняв вызова, сообщил об этом некоторым офицерам, а
последние стали просить Бобоедова "уговорить Шереметева
прекратить эту историю". Бобоедову удалось уговорить
Шереметева. "Ну, так пусть же он просит у меня извинения в присутствии
офицеров", — объявил Шереметев. *** решился извиниться, и
все офицеры собрались в дежурной комнате».
После того как соперник извинился, Шереметев
продолжал осыпать его оскорблениями: «Шереметев слушал,
развалившись на диване. "На, целуй мою руку", — произнес он,
важно протягивая ее для поцелуя. *** ничего не ответил и
оставил это без последствий. «Ну, разве не ?— говаривал
Шереметев Бобоедову. — Плюй ему в рожу, — он только
оботрется»12. Несмотря на очевидную бесчестность поведения ***,
биограф не упоминает, чтобы он подвергся какому-либо
наказанию со стороны товарищей. В то же время, несмотря на
порицание «горячего и вспыльчивого» нрава Шереметева,
рассказ сохраняет их очевидное восхищение поведением забияки.
Каждый из свидетелей инцидента, безусловно, понимает, что
Шереметев — бретёр и следует бретёрскому типу поведения,
стремясь спровоцировать дуэль с целью вынудить своего
противника следовать кодексу чести.
Приведенный пример, как мне кажется, показывает, что
бретёрство было не «экспериментированием» с кодексом
чести, как предполагает А.В. Востриков, а попыткой всерьез
провести его в жизнь. Поведение бретера, таким образом,
указывало на слабую позицию дуэли в России, на ее неполное
приятие и на дефицит представлений о point d Ъоппеиг в русском
коллективном сознании. Несмотря на проявленную
настойчивость, старания Шереметева не увенчались успехом, как в
конце концов потерпели неудачу и все совместные усилия,
прилагавшиеся русскими бретерами для поддержания правильного,
с их точки зрения, поведения дворянина в вопросах чести.
Для изучающего дуэль чести в России из всех нарушений
кодекса чести наиболее поразительным является терпимость
русских к применению грубой физической силы. Источники
постоянно описывают нанесение дворянами друг другу жестоких
побоев, которые не только часто остаются неотомщенными,
но и, по-видимому, не наносят особого бесчестья побитому.
Иногда кажется, что дуэль в России так и не вытеснила пол-
Введение: мифология русской дуэли... 1 5
ностью традицию жестоких драк, о которых часто и с
удивлением упоминают иностранцы в записках о России XVI и
XVII веков. Вероятно даже, что русская дуэль до какой-то
степени вобрала в себя эту «национальную традицию», так что
кулачные бои и удары по лицу стали неофициальной, но
неотъемлемой частью дуэльного ритуала.
Парадоксальным образом, применение грубой физической
силы в рамках русского дуэльного поведения не отменяет того
факта, что дуэль в России появилась и укоренилась как
средство защиты индивидуума от посягательств со стороны как
другого индивидуума, так и государства. Важнейшей функцией
дуэльного поединка в России была защита личной
неприкосновенности дворянина в самом прямом и точном смысле
слова: речь шла о праве не быть битым равными и старшими, а
также не подлежать принудительному телесному наказанию в
законном порядке. В свете вышесказанного и должны
пониматься попытки русских бретеров привить соотечественникам
представления о «правильной» дуэли чести: их основной целью
было добиться уважения к личному пространству дворянина и
его телесной неприкосновенности. Русская литература отражает
эту озабоченность темой личной физической
неприкосновенности. Поэтому, обращаясь к литературе, я буду уделять
особое внимание произведениям, в которых идет речь об этом
аспекте русского дуэльного поведения.
Моя книга состоит из двух частей: обзора проблематики
русской дуэли (главы 1—3) и литературного анализа (главы 4—6).
Глава 1 — семиотический очерк о дуэльном поведении вообще
и его русских особенностях. В этой главе я развиваю идеи своих
предшественников, особенно Ю.М. Лотману и А.В. Востри-
кову, в чьих работах большое внимание уделяется семиотике
дуэли. Мой вклад в обсуждение этой темы состоит в особом
акценте на изменчивости дуэльного поведения, которое часто
кажется столь жестким, и на открытости этого поведения для
интерпретаций. Даже при наличии общепринятого кодекса
дуэли значение дуэльного поведения всегда остается не вполне
определенным— не только для нас, но и для современников
описываемых событий. Эта особенность делает дуэль еще
более трудным объектом исторического исследования, но она же
делает ее удобной для различных символических заявлений —
в том числе, что особенно важно для русского контекста,
заявлений в поддержку личной независимости и физической
неприкосновенности.
В главе 2 предлагается обзор дуэльной традиции в России,
начиная с медленного и неохотного усвоения дуэльного пове-
16 И. Рейфман. Ритуализованная агрессия
дения в XVIII веке и заканчивая почти полным исчезновением
дуэлей в ходе Первой мировой войны. Хорошо сознавая
импрессионистический характер моего обзора, я не претендую на
то, чтобы предложить всеобъемлющую историю дуэли в
России. Моя задача состоит в том, чтобы установить временные
рамки и контекст исследования и по возможности отмежеваться
от предвзятых мнений и культурных предрассудков.
В главе 3 в центре моего внимания — открытость грубой
физической силе, которая была свойственна русской дуэли на
протяжении более двухсот лет ее существования. Я пытаюсь
показать, что в принятии физической агрессии как нормы дуэльного
поведения парадоксальным образом выражалось стремление
высших классоаРоссии обеспечить свою физическую
неприкосновенность при отсутствии надежных юридических гарантий.
Не будучи в состоянии обеспечить себе полную личную
неприкосновенность, русские дуэлянты стремились подменить
иерархическую, и поэтому унизительную, жестокость телесного
наказания уравнительной жестокостью дуэли. При этом они
сталкивались с традицией, терпимой к тому, что вышестоящие
дают нижестоящим пинки и пощечины. Пытаясь разрушить эту
традицию, русские дуэлянты приспосабливали ее к дуэльному
обиходу. Включенные в ритуал дуэли и ставшие обоюдными,
такие жесты наказания, как пощечина или удар палкой,
теряли свою способность навязывать побитому иерархические
отношения и становились средством установления равенства между
соперниками. Популярность дуэли также отражала глубокую
тревогу дворян по поводу власти государства над их телом — то
есть возможности подвергать их телесному наказанию по суду
или в административном порядке. Дуэль стала энергичным —
хотя и в значительной степени символическим — протестом
против нарушения государством физической
неприкосновенности личности.
Вторая Половина моей книги посвящена анализу
изображения дуэлей в литературе13. В России художественная
литература оставалась основной областью для обсуждения темы
дуэли практически до конца XIX века. Литература рекомендовала
русским дуэль, обучала их правилам дуэЛьного поведения,
обсуждала ограниченность дуэли как средства разрешения
конфликтов, порицала ее жестокость, размышляла о
принудительном характере point d'honneur и о власти идеи чести над
личностью. К концу XIX века литература начала сетовать на
разложение «дуэльного сознания» и разрушение кодекса чести.
Что важнее всего, своим неусыпным вниманием к теме дуэли
литература способствовала созданию ее высокого статуса в рус-
Введение: мифология русской дуэли...
17
ской культуре и интерпретации ее как эффективного средства
зашиты личного пространства индивидуума и его телесной
неприкосновенности.
Физическое насилие над личностью (сначала речь шла о
дворянине, потом о любом образованном человеке, еще позже —
о человеке вообще) и его политические, социальные и
нравственные импликации всегда были центральной проблемой в
русских литературных трактовках дуэли. Начиная с «Жития
Федора Васильевича Ушакова» (1789) Радищева, пощечина или
оплеуха является устойчивым мотивом в дуэльных сюжетах.
Тема эта проникает даже в рациональный мир «новых людей»
Чернышевского, несмотря на то что они отрицают дуэль в
принципе и, будучи оскорбленными, прибегают к физическому
насилию, не сдерживаемому дуэльными условностями. Тем не
менее герои романа «Что делать?» озабочены мощной
социальной символикой этого жеста: «Мы не признаем, что
пощечина имеет в себе что-нибудь бесчестящее [говорит Кирсанов
Лопухову|, — это глупый предрассудок, вредный предрассудок,
больше ничего. Но имеешь ли право теперь подвергать
мужчину тому, чтобы он получил пощечину? ведь это было бы с
твоей стороны низким злодейством, ведь ты отнял бы спокойствие
жизни у человека. Понимаешь ли ты это, глупец? Понимаешь
ли ты, что, если я люблю этого человека, а ты требуешь, чтоб
я дал ему пощечину, которая, по-моему и по-твоему, вздор,
пустяки, — понимаешь ли, что, если ты требуешь этого, я
считаю тебя дураком и низким человеком, а если ты заставляешь
меня сделать это, я убью тебя или себя, смотря по тому, чья
жизнь менее нужна, — убью тебя или себя, а не сделаю этого?
Понимаешь ли это, глупец? Я говорю о мужчине и пощечине,
которая глупость, но которая пока отнимает спокойствие жизни
у мужчины. <...> Слышишь, я говорю, что у тебя бесчестные
мысли»14. При всей его невнятности, этот пассаж содержит все
наиболее важные концепты, характерные для русского
литературного дискурса о физическом насилии: бесчестье,
пощечину, самоубийство и убийство.
Особенно важно, что в приведенном фрагменте
признается способность пощечины обесчестить. Сходным образом
тургеневский Базаров, отрицая дуэль по теоретическим
соображениям, не может стерпеть даже мысли о пощечине. Вот его
размышления о вызове, полученном от Павла Кирсанова:
«Экую мы комедию отломали! Ученые собаки так на задних
лапах танцуют. А отказать было невозможно; ведь он меня, чего
доброго, ударил бы, и тогда... (Базаров побледнел при одной
этой мысли: вся его гордость так и поднялась на дыбы.) Тогда
I 8 И. Реифман. Ритуализовшшая агрессия
пришлось бы задушить его как котенка» |Тургенев, VIII: 349|.
Несмотря на свое очевидное презрение к кодексу чести, он
готов убить за удар по лицу.
Повышенное внимание русской литературы к
физическому насилию в контексте дуэльного поведения делает
необходимым уделить этой теме особое внимание в главах книги,
посвященных литературе. После краткого обзора появления дуэльной
темы в русской литературе XVIII — начала XIX века (глава 4)
я сосредоточусь на авторах, для которых тема физической
неприкосновенности особенно важна: это Бестужев-Марлинский
(глава 5) и Достоевский (глава 6). Бестужев не только создал
русский дуэльный дискурс, но в своих Ливонских повестях
впервые закрепил за дуэлью функцию защиты личного
пространства и телесной неприкосновенности. Его сочинения
повлияли на всех писателей, писавших о дуэли после него.
Достоевский в особенности развил многие идеи, впервые
высказанные Бестужевым. Центральной для него оказалась мысль
о способности дуэли охранять неприкосновенность человека.
В развитии этой идеи Достоевский пошел дальше Бестужева:
и в своих художественных произведениях, и в публицистике он
неоднократно высказывал мысль, что человек, не умеющий
постоять за свою телесную неприкосновенность, подозрителен
в нравственном отношении. Гоголевский Пирогов был для
Достоевского примером такого человека. Идеалом же
благородного поведения, эффективно предотвращающего посягательства
на личную неприкосновенность, являлись для него дуэлянты
декабристского поколения.
В заключительной главе я прослеживаю развитие дуэльной
темы в литературе конца XIX и XX веков, обращая особое
внимание на исключительную важность наследия Достоевского для
писателей этого времени. В своей трактовке дуэли
непосредственные преемники Достоевского — Лесков, Куприн, Арцы-
башев— не могли игнорировать тем, поставленных
Достоевским в центр дуэльного дискурса. Особенно это относится к теме
физической неприкосновенности и необходимости ее защиты.
Преемники Достоевского, даже споря с ним, продолжали
оглядываться на него.
Наследие Достоевского оказалось еще .более важным для
писателей послереволюционного времени. Идеалистически
утверждая право личности на физическую неприкосновенность и
указывая на аморальность отказа от этого права, Достоевский
дал критерий оценки нравственной деградации общества.
Отстаиваемая им позиция позволила сохранять идеал
целостности человеческого тела в эпоху, враждебную не только идеям
Введение: мифология русской дуэли...
19
физической неприкосновенности и личного пространства, но
и самому понятию личности. Достоевский приписал дуэлянтам
начала XIX века некое идеальное благородное повеление. Этот
идеал, при всем его утопическом характере, помог русским
сохранять чувство собственного достоинства в условиях, при
которых любой несимволический протест в защиту личности был
просто невозможен. При советском режиме почитание памяти
дуэлянтов прошлого, как исторических фигур, так и
литературных героев, стало средством сохранения чести нации.
Русские писатели XX века, подводя итоги сделанному их
предшественниками, видели физическую жестокость не
только как нравственный вопрос, но и как топос дуэльного
дискурса. Так, в 1930-е годы Даниил Хармс населяет свои
сценки персонажами, которые раздают друг другу пощечины,
топчут друг друга ногами и даже, в лучших традициях
Достоевского, откусывают друг другу уши. Несмотря на то что в этих
сценках автор не упоминает дуэли прямо, он наполняет их
косвенными отсылками к дуэльному дискурсу в литературе XIX
века. Контекст этих отсылок настолько не вяжется с идеей о
дуэли чести, что, если не бояться анахронизма, можно было бы
говорить о деконструкции дуэльного дискурса у Хармса. В
более близкий к нам период к такой деконструкции прибегает
Вячеслав Пьецух в рассказе «Я и дуэлянты». Хорошо понимая
металитературный характер своего произведения, Пьецух не
только привлекает внимание читателей к литературной
традиции, но также дает понять, что само написание произведения
о дуэли автоматически присваивает ему статус русского
писателя. Русская литература, таким образом, сохранила тему
дуэли не только как средство обсуждения вопросов физической
неприкосновенности и нравственной высоты, но и как
инструмент литературной игры.
ГЛАВА 1
Дуэль как акт агрессии:
Термины и определения
Отличительные особенности
Дуэль — тип агрессивного поведения, который на протяжении
нескольких веков сохранял высокий культурный статус. Как акт
насилия, санкционированный обществом, поединок
попадает в ту же категорию, что война и смертная казнь, однако
существенным образом отличается от них. Подобно войне,
дуэль рассматривалась как крайний выход — неприглядный и
жестокий, но иногда неизбежный. Подобно смертной казни,
дуэль была ритуализованным актом насилия, с которым
обществу по большей части приходилось мириться. Подобно войне
и смертной казни, дуэль предназначалась для наказания транс-
грессора и восстановления справедливости. Дуэль, однако,
была противостоянием не двух государств, как война, и не
личности и государства, как смертная казнь, а двух личностей.
Поэтому она в значительной степени находилась вне сферы
влияния государства. Служа прежде всего самоопределению
благородного сословия, дуэль служила и отдельным
личностям — сначала дворянам, а потом и представителям других
сословий — для утверждения их независимости от государства, а
более всего — для определения и защиты их личного
пространства. Выполняя эту последнюю функцию, дуэль
способствовала формированию понятия личности, что было особенно
актуально для обществ со слабым правовым сознанием и с плохо
развитой идеей прав индивидуума, таких, как, например,
Россия или Германия (характерно, что именно в этих странах
дуэль была фактически узаконена в конце XIX в. и
продолжала существовать значительную часть XX в.1).
Будучи актом, требующим от человека готовности
добровольно поставить свою жизнь под угрозу, дуэль имеет нечто
общее с самоубийством. Дуэль и самоубийство могли быть
культурно и психологически взаимозаменимы. Так, дуэль могла
служить суррогатом самоубийства для тех, кто почему-либо
скрывал свои суицидальные намерения. Для верующих, по
словам современного историка культуры, дуэль могла быть
«"вероятностной" (зависящей от случая), приблизительной
заменой самоубийства»2. С другой стороны, в основе дуэли могло
Глава /. Дуэль как акт агрессии: термины и определения 2 1
лежать бессознательное желание смерти. Александр Блок
объяснял гибель Лермонтова на дуэли подсознательным
стремлением поэта к самоубийству: «[Л]иловые миры захлестнули и
Лермонтова, который бросился под пистолет своей волей...»3.
Такие интерпретации, конечно, остаются во многом
гипотетическими и часто больше говорят об интерпретаторе, чем о
дуэлянте. Тем не менее они привлекают внимание к области
конвергенции дуэли и самоубийства.
Еще важнее, однако, то, что в некоторых случаях
самоубийство, как и дуэль, могло способствовать восстановлению
поруганной чести. Такое замещение требовалось в тех случаях,
когда оскорбленная сторона не могла принудить обидчика к
дуэли. Конфликт с противником значительно более высокого
ранга, особенно с государем или с членом императорской
фамилии, мог толкнуть человека к самоубийству ради
спасения чести. В 1816 году в Варшаве пять польских офицеров
покончили с собой, протестуя против грубого обращения
великого князя Константина с их сослуживцами. Шестой офицер
потребовал у Константина удовлетворения и, будучи
арестованным, совершил попытку самоубийства. Константин как
будто согласился на дуэль и даже настаивал на ее совершении, но
офицер объявил себя удовлетворенным, и дуэль не состоялась4.
Другой мотивировкой самоубийства могла быть физическая
невозможность встречи с обидчиком. В начале 1820-х годов,
находясь на юге и не имея возможности добиться дуэли с
человеком, распространявшим о нем оскорбительные слухи,
Пушкин думал о самоубийстве.
Отказ обидчика принять вызов был наиболее частым
мотивом для восстанавливающего честь самоубийства. Хорошей
иллюстрацией может служить попытка самоубийства,
совершенная в Москве в 1875 году двадцатишестилетним морским
офицером в отставке. Он стрелял себе в голову, но остался жив.
На вопрос о мотивах он отвечал, что был смертельно
оскорблен неким человеком, который, однако, не принял вызова на
дуэль. Когда офицер понял, что самоубийство не удалось, он
попросил оказать ему медицинскую помощь, из чего ясно, что
он стремился не столько уйти из жизни, сколько смыть
нанесенное ему оскорбление. Обильно пролив свою кровь (он
стрелял в себя трижды, и, согласно газетным сообщениям, не
только голова его была в крови, но и «[п|остель была вся [в] крови,
на полу, кругом кровати и письменного стола стояли лужи
крови...»), он доказал этим серьезность своих намерений и
очистил свое имя5.
22 И. Рейфмап. Рытуализованная агрессия
«Санин» Арцыбашева предлагает литературный пример
самоубийства ради спасения чести: когда Санин отказывается
драться с офицером, которого он ударил по лицу, тот
совершает самоубийство. Более тонкий случай — попытка
самоубийства Вронского после примирения с Карениным у
постели больной Анны. Ощущая глубокую неловкость, Вронский
определенно видит случившееся в терминах кодекса чести: «Он
чувствовал себя пристыженным, униженным, виноватым и
лишенным возможности смыть свое унижение». Выстрел в
сердце, хотя и не смертельный, восстанавливает его честь: «Он
этим поступком как будто смыл с себя стыд и унижение,
которые он прежде испытывал»6 (Толстой, VIII: 485—486; 507].
Идея самоубийства как средства восстановления чести
особенно релевантна для женщин, которым дуэль была фактически
запрещена. Разумеется, история знает поединки женщин.
В. Г. Кирнан, автор всестороннего исследования дуэли в Европе,
называет целый ряд разнополых и чисто женских дуэлей7. В
России Надежда Дурова, в своем военном мужском обличий,
собиралась вызвать польского офицера, неуважительно
говорившего о русских. Позднее она способствовала дуэли между
двумя своими сослуживцами и была секундантом одного из них8.
Ходасевич сообщает, что Мариэтта Шагинян вызвала его на
дуэль в 1907 году. В своем картеле, переданном через женщину-
секунданта, она обвинила Ходасевича в жестоком обращении со
своей первой женой, Мариной Рындиной: «Вы угнетаете М. и
бьете ее. Я люблю ее. Я Вас вызываю. Как оружие предлагаю
рапиры. Сообщите подательнице сего, где и когда она может
встретиться с Вашими секундантами. Мариэтта Шагинян»9.
В то же время, как пишет Юта Фреферт, для женщины
дуэль была ролевой игрой, подчеркнуто неженским
поведением, вызовом^мужскому господству в сфере власти» и
«присвоением мужских символов»10. Этот тезис подтверждается
поведением самих женщин, которые в подобных случаях обычно
надевали мужскую одежду. Дурова вошла в мужскую роль
наиболее полно, вплоть до присвоения себе мужского имени.
Мариэтта Шагинян также заявила о своем праве на мужское
поведение, включая любовь к женщине. Женщины нередко
использовали такую ролевую игру для утверждения своей
независимости и состоятельности. Екатерина Великая
использовала эту стратегию, когда ее муж, будущий Петр III, выразил
недовольство ее поведением и обнажил было против нее
шпагу. Екатерина с готовностью приняла вызов, «Я спросила его,
что это значит, — пишет она в своих мемуарах, — не
рассчитывает ли он драться со мной; что тогда и мне нужна шпага». Сла-
Глава /. Дуэль как акт агрессии: термины и определения 23
бохарактерный великий князь вложил шпагу в ножны и укорил
Екатерину в том, что она «стала ужасно зла»11. Своей
готовностью драться Екатерина продемонстрировала, что из них
двоих она в большей степени мужчина, поскольку способна
рисковать и действовать.
Попытки женщин драться по большей части
рассматривались как курьезные. Современник комически описывает
намерение княгини Дашковой заменить своего сына Павла на
предстоящей дуэли с офицером Преображенского полка Петром
Иевлевым в 1787 году: «Между тем узнала о сем княгиня
Катерина Романовна. Зная нрав сей штате-дамы, легко вы себе
вообразить можете положение ея, в кое она приведена была,
услышав происшествие сие. Находясь в отчаянии, написала она
к Александру Матвеевичу [Дмитриеву-Мамонову| письмо,
наполненное воплем, рыданием и мщением, изъяснив в оном,
между прочим, и то, что для спасения жизни сыновния не
пощадит она собственныя своея, и готова сама биться с
Иевлевым на шпагах |на| поединке»12. Рассматривая дуэль как
исключительно мужскую прерогативу, мужчины возмущались
попытками женщин вторгнуться в традиционно закрытую для
них сферу, видя в этом угрозу своей мужественности.
Ходасевич отказался принять вызов Шагинян из-за ее
принадлежности к женскому полу: «[Я| с барышнями не дерусь», — ответил
он секундантше13.
Общепризнанным эквивалентом дуэли для женщины было
самоубийство: в случае бесчестья женщина, подобно Лукреции,
должна была убить не обидчика, а себя. В.Г. Кирнан
поясняет: «Насильственное нарушение целомудрия было "хуже
смерти", и уважающая себя женщина должна была в этом случае
предпочесть самоубийство, так же как мужчина должен был
предпочесть бесчестью гибель на дуэли»14. Самоубийство
воспринималось как правильная реакция не только на потерю
девичьей чести, но и на оскорбление вообще. За дуэлью 1872 года
между Евгением Утиным и Александром Жоховым, на
которой Жохов погиб, последовали самоубийства двух женщин.
Одна из них покончила с собой, потому что ее имя было опо-.
рочено в ходе конфликта между дуэлянтами. Год спустя без
видимой причины убила себя и ее сестра. Вот как описаны
смерть этих женщин и их надгробный памятник в современной
событию журнальной статье: «Памятник — простой камень,
заказан псковским помещиком Семеном Егоровичем
Лавровым, для общей могилы погибших от самоубийства дочерей его:
Прасковьи Семеновны Гончаровой, не перенесшей смерти
любимого ею Жохова, убитого на дуэли господином Утиным, и
24 И. Рейфман. Ритуализаваииая агрессия
Александры Семеновны Лавровой, лишившей себя жизни вслед
за неудавшейся попыткой отомстить господину Утину за смерть
любимой сестры»15. Тот факт, что Александра сначала как
будто бы пыталась отомстить Утину, наводит на мысль о
попытке чего-то подобного дуэли. Она совершила самоубийство
только после того, как ее попытка не удалась. Ее пример, таким
образом, еще раз демонстрирует взаимодополнительные
отношения между дуэлью и самоубийством16.
Самоубийство в качестве ответа на непринятый вызов
следует отличать от другой разновидности дуэли, известной в
России как «американская дуэль». Это договор, согласно
которому один из противников, определяемый по жребию, кончает с
собой. Нашумевшая дуэль 1861 года между варшавским
военным генерал-губернатором А.Д. Герштенцвейгом и графом
К.К. Ламбертом, наместником Царства Польского, была
именно «американской дуэлью»17. Как пишет мемуарист, Герштен-
цвейг обвинил Ламберта в подстрекании польского движения за
независимость. Ламберт вызвал его. Дуэль между
высокопоставленными должностными лицами по такому поводу вызвала
бы сильное недовольство правительства, поэтому подчиненные
дуэлянтов пытались склонить их к примирению. После того как
все попытки провалились, кто-то заговорил об «американской
дуэли, называемой французами duel a la courte paille».
Мемуарист описывает вариант подобной процедуры: «[Посредник
подает противникам два конца носового платка, на одном из
которых завязывается узелок, и вытащивший таковой обязан
добровольно застрелиться. Посредником этим был генерал
Хрулев, и жребий пал на Герштенцвейга, который и вытащил
злосчастный узелок, приведший его к самоубийству». Хрулев,
однако, действовал неохотно, утверждая, что американская
дуэль более жестока, чем обычная, поскольку неизбежно ведет
к трагическому исходу: «Когда вы желаете окончить
происшедшее между вами столкновение американской дуэлью, я ничего
не могу возразить против этого, [...] но дуэль эта, по моему
мнению, слишком жестока, чужда всякой человечности и
христианства, она требует жизни одного из противников, тогда как
обыкновенная дуэль может окончиться менее трагически»18.
Действительно, в американской дуэли полностью
господствует судьба, и любого рода индивидуализованное поведение
оказывается невозможным. Американская дуэль не позволяет,
например, выстрелить в воздух или примириться после обмена
выстрелами. Не дает она и возможности сделать выбор между
мстительностью и великодушием. Этот недостаток свободы
уменьшает эффективность американской дуэли как средства
Глава /. Дуэль как акт агрессии: термины и определения 25
утверждения прав личности, поскольку дуэль способна охранять
личное пространство только при условии потенциальной, а не
автоматической угрозы для жизни обидчика19.
Не менее важным я&1яется разграничение между убийством
на дуэли и убийством из мести. Границу между этими видами
актов насилия установить нелегко, и закон, особенно на
поздних стадиях истории дуэли, часто отказывался признавать это
различие — по крайней мере, на бумаге. В действительности,
однако, даже когда дуэлянтов судили как убийц, наказания для
них были более мягкими. Так, например, русский историк
права Н.С. Таганцев подчеркивает, что во Франции эпохи
империи «магистратура считала убийство на дуэли одним из
видов лишения жизни, хотя нельзя не прибавить, что
обыкновенно обвинение этого рода влекло за собой оправдательный
приговор присяжных»20. Подобным же образом, в Англии
конца XVIII — начала XIX века, несмотря на существующий закон,
трактующий дуэль со смертельным исходом как убийство, и
несмотря на общественное мнение, склонявшееся в пользу
строгого выполнения этого закона, присяжные регулярно
отказывались признавать дуэлянтов виновными в убийстве — за
исключением тех случаев, когда дуэль признавалась нечестной21.
Современники русской дуэльной традиции тоже часто
отказывались различать убийство на дуэли и просто убийство.
Так, М.А. Стахович, сообщая С.А. Толстой в письме от
13 февраля 1891 года о дуэли между двумя гвардейскими
офицерами, В.А. Вадбольским и неким Ломоносовым, в ходе
которой Вадбольский был убит, высказывает мнение, что это
было «убийство, как и всякое другое». Толстая, цитируя это
мнение, соглашается с ним в своем дневнике22. Сходным
образом, хотя и в более символическом смысле, интерпретирует
поведение Пушкина в конфликте с Дантесом Владимир
Соловьев. Он считает, что это было поведение убийцы, и
полагает, что поэт сам вызвал свою смерть своим упорным
стремлением убить Дантеса: «Следовательно, эта несчастная дуэль
произошла не в силу какой-нибудь внешней для Пушкина
необходимости, а единственно потому, что он решил покончить
с ненавистным врагом. <...> Когда секунданты подошли к
раненому, он поднялся и с гневными словами: "Attendez, je me
sens assez de force pour tirer mon coup!" — недрожащею рукою
выстрелил в своего противника и слегка ранил его. Это
крайнее душевное напряжение, этот отчаянный порыв страсти
окончательно сломил силы Пушкина и действительно решил его
земную участь. Пушкин убит не пулею Геккерна, а своим
собственным выстрелом в Геккерна»2\
26 И. Рейфман. Ритуализованная агрессия
Подобное нежелание различать дуэль и убийство служило в
основном полемическим целям — критике дуэли. На самом деле
различие было очевидным как для самих дуэлянтов, так и для
их современников: в отличие от убийства дуэль была ритуали-
зованной процедурой, в которой шансы участников были
уравнены. Церемония дуэли также медиировала агрессию,
предупреждая импульсивное нападение на безоружного. Особенно
очевидным становилось отличие дуэли от убийства, когда грань
между ними действительно стиралась: например, когда
инициатор дуэли, не будучи в состоянии добиться принятия вызова
или попросту потеряв самообладание, пытался убить
соперника в обход дуэльного ритуала.
Один из таких случаев — история титулярного советника
Н.М. Павлова. В 1836 году он набросился с кинжалом на
коллежского советника А.Ф. Апрелева, выходившего из церкви
со своей невестой, и тяжело ранил его. Покуситель не
пытался бежать и отказался объяснять свои действия в ходе
расследования, отсылая полицию за объяснениями к Апрелеву.
Апрелев же утверждал, что ничего не знает о мотивах
Павлова, и тот был немедленно (в течение суток) приговорен за
попытку убийства, лишен дворянства и пожизненно сослан в
Сибирь на каторгу. Вскоре раскрылось, что несколькими
годами раньше Апрелев соблазнил сестру Павлова. От этого
романа родилось двое детей. Некоторое время Апрелев выражал
намерение жениться, но затем его карьера пошла в гору, и он
оставил Павлову, найдя себе богатую невесту. Павлов
потребовал, чтобы Апрелев либо женился на его сестре, либо
принял вызов на дуэль. Апрелев отказался и от первого, и от
второго. Тогда Павлов предупредил своего врага о том, что убьет
его, и, когда Апрелев пренебрег его предостережением,
совершил свое нападение, якобы сопроводив его следующими
словами: «Я здесь, г<осподин> Апрелев, я пришел сюда свести с
вами наши прежние счеты. Я предупреждал вас об этом и
сдержал свое обещание»24.
Павлов старательно инсценировал свое покушение так,
чтобы оно напоминало дуэль. Он многократно вызывал
своего противника. Он предупредил Апрелева о неминуемом
нападении, давая ему таким образом возможность защититься. Он
набросился на врага с кинжалом, так называемым
«благородным» оружием25. Нападая, он объявил о символическом
значении своих действий. Наконец, он отказался защищать себя
перед властями и, как было принято в делах чести, пытался
скрыть причину конфликта, чтобы защитить честь своей
сестры. Современники признали и оценили эти попытки Павлова
Глава I. Дуэль как акт агрессии: термины и определения 27
оформить свое нападение как дуэль. Пушкин изменил свое
мнение о Павлове, получив полный отчет о происшествии от
своей жены: «То, что ты пишешь о Павлове, помирило меня с
ним. Я рад, что он вызвал Апрелева. — У нас убийство может
быть гнусным расчетом: оно избавляет от дуэля и подвергается
одному наказанию — а не смертной казни» [Пушкин, XVI: 117].
Николай I, несмотря на свое общеизвестное неодобрительное
отношение к дуэлям, был также впечатлен и смягчил
наказание Павлова, заменив каторгу службой рядовым на Кавказе,
с возможностью выслуги. Апрелева же уволили со службы и
запретили ему проживать в Петербурге и Москве. Впрочем, оба
соперника погибли: Апрелев от ран, а Павлов от увечья,
случайно нанесенного ему во время ритуала разламывания шпаги
над его головой26.
Если Павлов сделал все, что было в его силах, чтобы
представить свое нападение на противника как дуэль, то
происшедшая в 1832 году ссора между лейтенантом Александром
Черновым и поэтом Александром Ардальоновичем Шишковым
началась как конфликт чести, а закончилась убийством, не
смягченным, как кажется, никакими символическими
жестами. Будущий славянофил Петр Киреевский описывает
событие в письме поэту Николаю Языкову: «В Твери случилось
недели две назад ужасное происшествие: зарезали молодого
Шишкова! Он поссорился на каком-то бале с одним Черновым,
Чернов оскорбил его, Шишков вызвал его на дуэль, он не
хотел идти, и, чтобы заставить его драться, Шишков дал ему
пощечину; тогда Чернов, не говоря ни слова, вышел,
побежал домой за кинжалом и, возвратясь, остановился ждать
Шишкова у крыльца, а когда Шишков вышел, чтобы ехать,
он на него бросился и зарезал его»27. Аналогичное описание
происшествия дает и А.Я. Булгаков в своем письме от 3
октября 1832 года, ссылаясь при этом на М.Н. Загоскина: «В Твери
была ужасная история, рассказывал Загоскин. Офицер
Чернов, кажется, сказал что-то на бале о жене Шишкова,
племянника бывшего министра, тоже автора. Шишков дал
пощечину. Офицер выждал его на крыльце у разъезда и кинжалом
заколол, дав четыре раны, потом сам предался губернатору в
руки»28. Версии Киреевского и Булгакова несколько отличаются
от отчета следственной комиссии, в котором говорится, что
Чернов убил Шишкова, когда оба они, в сопровождении
нескольких свидетелей, направлялись на квартиру, где стоял
Чернов, предположительно намереваясь совершить там
примирение29. Нужно, однако, помнить, что, давая показания
официальным лицам, свидетели в целях самозащиты часто говорили
28 И. Рейфман. Ритуализаванная агрессия
о своих попытках примирить противников. Все три отчета
сходятся в главном: вместо того чтобы отомстить за бесчестье на
дуэли, Чернов предпочел убить обидчика. Ирония состоит в
том, что Александр Чернов был братом «образцового»
дуэлянта Константина Чернова, героя знаменитой дуэли 1825 года с
Владимиром Новосильцевым. Для тех современников, которые
не видели различий между убийством на дуэли и обычным
убийством, два Чернова слились в один образ мстительного
убийцы. Так, Сергей Львович Пушкин писал дочери: «Ужасное
событие только что произошло в Твери: молодой Шишков,
прелестный поэт, коему Александр некогда посвятил послание,
ударом кинжала был заколот на улице г-ном Черновым,
который уже убил на дуэли Новосильцева»30.
Дуэльный ритуал
Различие между обычной дуэлью, нападением Н.М.
Павлова и поведением Александра Чернова заключалось в степени
соблюдения ритуала дуэли. Чтобы называться дуэлью, действия
участников должны были следовать определенному сценарию.
Этот сценарий регулировал все стадии дуэли и предписывал
четкие роли ее участникам31. Главной целью ритуала было
обеспечение участникам равных шансов. Не менее важно было и
то, что ритуал разделял во времени ссору и поединок, тем
самым отделяя момент спонтанного гнева от того момента,
когда противники получали право на защиту своей поруганной
чести.
Для самого существования института дуэли необходимо
признание потенциальными дуэлянтами важности соблюдения
ритуала. Ранние русские дуэли напоминали обычные драки,
разгоравшиеся на месте, часто в отсутствие секундантов и
свидетелей. Довольно долго такие стычки преобладали не только
в среде провинциального дворянства и грубых армейских
офицеров, но также в столицах и в элитных военных частях.
Отличие поведения приверженца кодекса чести от поведения
забияки видно на примере уже упоминавшегося конфликта
между Дашковым и Иевлевым. По сообщению современника,
на одном из петербургских балов Иевлев упорно мешал
Дашкову танцевать. В конце концов Дашков вынужден был
применить силу: он «взял оного за плечи и с места сдвинул».
Иевлев оскорбился: «Тут Иевлев начал на князя Дашкова нападать
и язвительными словами требовать от него неукоснительной
сатисфакции, а сей ответствовал ему тако: "Вы знаете, что я живу
Глава I. Дуэль как акт агрессии: термины и определения 29
в доме матери моей, следовательно, в ломе, в городе
довольно известном, а потому и сатисфакцию желаемую истребовать
от меня успеете, да оная и будет вам дана; прошу только
перестать теперь бесчинствовать здесь на бале". Князь Дашков,
сказав сие, всячески старался удалиться от Иевлева; но сей,
распален гневом, презирал просимую отсрочку и, несмотря на
многие повторенные князем Дашковым о сем просьбы,
преследовал его повсюду, ругал без малейшей пощады и грозил
ему мщением»32. Дашков, получивший образование за
границей и, по-видимому, убежденный в важности ритуала как
защиты от поспешных и легкомысленных вызовов, настаивал на
том, чтобы следовать правилам ведения дуэли, не превращая
ее в публичный скандал. Это ему удалось: его противник
вынужден был отсрочить дуэль и в конце концов принести
извинение.
Согласно Ф. Биллакуа, строгой приверженностью
ритуалу была отмечена французская дуэль на ее ранних стадиях.
Однако во второй половине XVII века, по мере упадка дуэли
во Франции, наибольшее распространение получила
спонтанная дуэль-стычка, rencontre: «Около 1600 года начинает
чувствоваться какое-то нетерпение среди дуэлянтов. Они все больше
и больше жертвовали формой, чтобы повернее достичь
содержания: убить или быть убитым»33. Обратный процесс
наблюдается в России, где дуэль устанавливалась посредством
постепенного принятия ритуала. На протяжении XVIII века почти
все поединки за честь в России представляли собой
дуэли-стычки (rencontres), но постепенно ритуал занял в русской дуэли
центральное место. В первой четверти XIX века он стал
предметом особой заботы, в результате чего некоторые дуэлянты
(бретеры) стали следовать правилам даже чересчур
педантично—в большой мере для того, чтобы укрепить в обществе
уважение к правилам ведения дуэли34. Бретёры проявляли
чрезмерную щепетильность в вопросах чести, дрались на дуэли при
малейшей провокации и принимали исключительные меры для
вынуждения не склонного драться противника принять вызов.
Как и их французские предшественники, они стремились
«достичь содержания: убить или быть убитым»; однако они
достигали своей цели не путем размывания формы, а настаивая на
крайне жестких условиях и на их неукоснительном исполнении.
Русские бретёры были, таким образом, не только забияками,
но и педантами дуэльного ритуала. Поскольку в практике
русских дуэлянтов всегда сохранялись не только спонтанные
дуэли-стычки, но и грубые потасовки и кулачные побоища,
педантичное бретёрское поведение уравновешивало ситуацию.
30 И. Рейфман. Ршпуализоватшя агрессия
Оно позволило дуэли оформиться в общественный институт,
а в дальнейшем предотвращало ее распал и переход в сферу
неконтролируемого агрессивного поведения.
С того момента, как дуэльный ритуал установлен,
преднамеренные отклонения от него приобретают символическое
значение. Они могут нести сообщение об отношении дуэлянта к
кодексу чести и дуэли как институту, отражать его видение
ситуации оскорбления, а также его восприятие статуса и
поведения противника. Так, например, нетипичное поведение
Иевлева могло зарекомендовать его как недостойного
дуэлянта, незнакомого с дуэльными установлениями. Однако если его
неправильное поведение было предумышленным, оно могло
объясняться сомнением в том, что Дашков, готов участвовать
&луэли. В этом случае действия Иевлева можно
интерпретировать как попытку добиться дуэли с высшим по социальному
положению противником, уклоняющимся от поединка.
Последнее не исключено: Дашков так громко настаивал на
следовании ритуалу, что в конце концов его конфликт с
Иевлевым стал известен императрице Екатерине II, которая запретила
им драться и повелела Иевлеву принести извинения.
Особенно значимым представляется поведение противников
во время самого поединка. Дуэлянт, в одностороннем
порядке нарушающий условия поединка в своих интересах, рискует,
что его сочтут за обыкновенного преступника и он понесет
позор и бесчестье. Напротив, ужесточение условий дуэли — в
одностороннем порядке (например, выстрел в воздух) или, по
взаимному соглашению, для обеих сторон (например, когда
противники соглашаются продолжать дуэль до «результата», т.е.
до тех пор, пока один из них не будет тяжело ранен или убит) —
может быть прочитано публикой как Нравственное,
философское, личное или даже политическое сообщение.
Так, например, в дуэли 1857 года между двумя офицерами
один отказался стрелять в своего противника, и это
великодушие едва не стоило ему жизни. Е.Д. Щепкина, жена актера
М.С. Щепкина, рассказывает следующее: «Прежде пришлось
стрелять Корсакову. Как взял пистолет, поднял, побледнел и
говорит: "Я не могу стрелять, ибо это наверное — убью", и
выстрелил вверх. А Козлов молодой прямо в него, в бок. Тот
и упал»35. Стреляя в Корсакова, Козлов никоим образом не
нарушил дуэльного кодекса: он только воспользовался своим
правом выстрела36. Поведение же Корсакова можно
рассматривать как не вполне правильное, поскольку выстрел в воздух,
сделанный первым из стреляющих, мог трактоваться как
призыв к противнику ответить тем же". Пуристы дуэльной тради-
Глава /. Дуэль как акт агрессии: термины и определения 3 1
ции (Пушкин в дуэли с Кюхельбекером, Михаил Лунин в
знаменитой дуэли с Алексеем Орловым) позволяли себе стрелять
в воздух только после того, как их противник уже сделал
выстрел. Кроме того, отказ стрелять мог быть истолкован и как
оскорбление противника— интерпретация, особенно
вероятная в данном случае, поскольку Корсаков согласился на дуэль
очень неохотно, ссылаясь на плохую репутацию Козлова (как
пишет Щепкина, «один мерзавец, а другой хороший. Козлов
мерзавец, говорят, а Корсаков славный человек»1,4).
Стремление Козлова отомстить, таким образом, было в порядке вещей.
Однако Щепкина понимает нерегулярность поведения
Корсакова как знак его особой нравственной добродетели.
Такая двойственность, позволяющая различные
интерпретации, несмотря на четко определенный сценарий, —
неотъемлемая особенность дуэли. Как и в случае любой
семиотической системы, значение действий участников обнаруживается
только в контексте. Так, А.Ф. Бриген, интересуясь в письме
Кондратию Рылееву подробностями дуэли Константина Чернова
с Новосильцевым, не решается вынести окончательное
суждение до получения исчерпывающих сведений о случившемся:
«Несчастная кончина Новосильцева погрузила семейство тестя
моего в большую печаль, ибо он был в дружбе с братом жены
моей, который служит адъютантом у Сакена. По долгу
человечества скорбя душевно о сем происшествии, которое хотя по
обстоятельствам своим мне чуждо, но по связям родственным
очень мне близко, и зная притом, что весь ход дела сего вам
известен, прошу вас, почтеннейший друг, сообщить мне ваше
мнение об оном. Будучи извещен о сем происшествии чрез Пря-
жевского, который, участвуя в оном со стороны
Новосильцева, не может быть не пристрастен, да притом зная из других
случаев, что Пряжевский не однослов, а даже часто и
пустослов, я ему не доверяю, а буду ждать вашего заключения.
Новосильцев был человек весьма ограниченный, но добрый, он
умер с большой твердостью духа, мать его в отчаянии,
аристократический же род его, кажется, равнодушно перенес сей
удар, ибо оным его доходы не умалятся, о времена, о люди!»39
Но даже и тогда, когда все детали известны, остается
возможность различных интерпретаций, в зависимости от того, кто
«читает» «текст» дуэли. Знаменитые дуэли всегда становились
предметом дискуссий, вызывая у современников
противоположные мнения. Так, поединок Чернова с Новосильцевым
горячо обсуждался современниками, и мнения сильно
расходились. Исключительной особенностью этой дуэли было то,
что четыре брата и отец Константина Чернова единодушно
выразили готовность поддержать его. П.П. Каратыгин (вероятно,
3 2 И. Рейфман. Ритуализотнная агрессия
следуя рассказам своего отца, П.А. Каратыгина) приводит
слова, которые якобы произнес Чернов-старший, обращаясь
к своим сыновьям: «Если же вы все будете перебиты, то
стреляться буду я!» Для друзей Константина решение его отца
подчеркивало всю несправедливость, за которую Черновы
стремились отомстить, и демонстрировало их семейный героизм.
Рылеев «осыпал восторженными похвалами семейство
Чернова». Однако сам Каратыгин находит, что «[у|словия дуэли
были — нельзя даже сказать ужасные, но просто
бесчеловечные». Другой критик поведения Черновых, Н.И. Бахтин, так
объяснял свою позицию Рылееву: «Я бы согласился с вами,
если бы это была действительно дуэль, а не гнусная бойня, в
которой шансы противников далеко не были уравновешены и
пятеро шли на одного». Рылеев обвинил Бахтина в том, что
он «льнет к аристократии». В ответ Бахтин предложил ему
дуэль— настоящую, «один на один». Рылеев, однако,
принес письменные извинения40.
Нашумевшая дуэль 1823 года между П.Д. Киселевым и
И.Н. Мордвиновым, в ходе которой Мордвинов был убит, тоже
вызвала множество споров и разногласий. И.П. Липранди
приводит один такой спор, в котором участвовали сам Липранди,
Пушкин и его кишиневский сослуживец Н.С. Алексеев:
«Дуэль Киселева с Мордвиновым очень занимала его [Пушкина];
в продолжении нескольких и многих дней он ни о чем другом
не говорил, выпытывая мнения других: что на чьей стороне
более чести, кто оказал более самоотвержения и т.п.? Он
предпочитал поступок И.Н. Мордвинова как бригадного
командира, вызвавшего начальника главного штаба, фаворита
государя. Мнения были разделены. Я был за Киселева; <...>
Н.С. Алексеев разделял также мое мнение, но Пушкин
остался при своем...»41. Все участники этого спора хорошо
разбирались в дуэлях. Их разногласия, таким образом, отражают
разнообразие прочтений поведения дуэлянтов, а не недостаточное
понимание ими дуэльного ритуала.
Ритуальный характер дуэли во многом объясняет ту ее
особенность, которая так беспокоила приверженцев кодекса
чести всех поколений, а именно ее способность лишать
участников свободы воли. Как правило, ecjrti дуэльной процедуре было
уже положено начало, то дальше она развивалась сама по себе,
нередко вынуждая участников действовать вопреки своему
рассудку, религиозным и нравственным убеждениям и даже
первоначальным намерениям. Согласно всем источникам,
Алексей Орлов принял вызов Михаила Лунина очень неохотно. Тем
не менее он не мог отказаться, прибыл на место дуэли и в конце
концов стрелял в противника дважды, едва не убив его. Факти-
Глава /. Дуэль как акт агрессии: термины и определения 33
чески, эта дуэль была полной победой формы над
содержанием, поскольку содержание в ней отсутствовало. Один
мемуарист указывает как повод отсутствие у Орлова дуэльного
опыта: «Кто-то из молодежи заметил шуткой Михаилу Сергеевичу,
что А.Ф. Орлов ни с кем еще не дрался на дуэли. Лунин
тотчас же предложил Орлову доставить ему случай испытать
новое для него ощущение. А[лексей] Федорович | был в числе
молодых офицеров, отличавшихся степенным поведением, и
дорожил мнением о нем начальства; но от вызова, хотя и
шутливой формой прикрытого, нельзя было отказаться»42. Другой
современник утверждает, что причиной вызова было то
обстоятельство, что Лунин «никогда не дрался с Алексеем
Федоровичем Орловым»43. Однако как ни ничтожен повод для
вызова, после того как он сделан, в права вступает особая логика
дуэли, которая отодвигает на второй план нравственные и
практические соображения, заставляя дуэлянта неукоснительно
следовать дуэльным правилам44.
Разумеется, русские дуэлянты иногда мирились, но эта
процедура была весьма щекотливой, и всегда существовала
возможность, что честь противников будет заподозрена. Так,
неблагосклонные комментарии вызвало примирение Пушкина с
С.Н. Старовым в 1822 году, происшедшее после двух обменов
выстрелами и произведенное так, что никто из противников не
должен был первым приносить извинений. Один из
мемуаристов сообщает, что «так называемая публика, всегда готовая к
превратным толкам, распустила с чего-то иные слухи: одни
утверждали, что Старое просил извинения, другие то же
самое взвалили на Пушкина, а были и такие храбрецы на
словах, постоянно готовые чужими руками жар загребать, которые
втихомолку твердили, что так дуэли не должны кончаться»45.
Пушкин вынужден был угрожать сплетникам дуэлью, защищая
честь своего противника.
Русская литература проявляла особый интерес к
способности дуэли лишать участников свободы воли. Бестужев-Марлин-
ский в «Романе в семи письмах» и в «Испытании», Пушкин в
«Евгении Онегине», Толстой в «Войне и мире», Чехов в
«Дуэли» — все пытаются проанализировать «автоматическое»
поведение дуэлянтов. Персонажи Толстого, например, даже
чувствуют во время дуэли между Пьером и Долоховым присутствие
безличной, но непреклонной силы: «Становилось страшно.
Очевидно было, что дело, начавшееся так легко, уже ничем
не могло быть предотвращено, что оно шло само собою, уже
независимо от воли людей, и должно было совершиться»
[Толстой, V: 311.
2. Заказ №2522.
34 И. Рейфман. Ршпуализованная агрессия
Признавая тиранию кодекса чести, русские писатели
размышляли о том, можно ли ей сопротивляться и существуют ли
достойные способы отказа от дуэли. Западная литература
предлагала ответ, отражающий буржуазный рационалистический
взгляд: если будущие дуэлянты признают, что кодекс чести —
ложная система ценностей, основанная на предрассудках, то
они смогут начать действовать в соответствии со своими
истинными убеждениями. Наиболее естественным приверженцем
такого подхода представлялась женщина как существо, не
подлежащее воздействию извращенной логики дуэли. Письмо
Юлии д'Этанж к Сен-Пре, готовому сражаться за ее честь на
дуэли с милордом Эдуардом, представляет пример детальной
критики кодекса чести как «дикого предрассудка*, основанного
наложном понимании чести. Юлия призывает Сен-Пре
отвергнуть извращенную логику point d'honneur и отказаться от
дуэли. В другом письме она апеллирует к чувству
справедливости милорда Эдуарда. Посредничество Юлии позволяет Сен-Пре
и милорду Эдуарду увидеть истину, найти выход из конфликта
и примириться46.
Русских писателей, за редкими исключениями, не
удовлетворял путь, предложенный Руссо. Их персонажи — если,
конечно, они люди чести, — хотя зачастую и признают point
d'honneur несостоятельным, тем не менее не допускают и мысли
о том, что дело чести можно оставить неразрешенным. Они
соглашаются с Руссо в принципе, но совету его не следуют.
В результате русские литературные дуэлянты обычно
испытывают угрызения совести после дуэли, но редко позволяют
рассуждениям Руссо повлиять на их поведение до начала
поединка. Для них отказ от дуэли — это скорее способ морально
уничтожить противника, как это делает Арбенин с князем Звез-
дичем в лермонтовском «Маскараде»47. Исключениями
являются герои «Испытания» Бестужева-Марлинского, которые
экспериментируют с предложенным Руссо способом прекращения
дела чести, и «особенные люди» Достоевского— Мышкин и
Зосима48.
В западной литературной традиции женщина получает роль
миротворицы в деле чести прежде всего потому, что она не
подлежит кодексу чести. Несмотря на то что женщины занимали
существенное место в мужских конфликтах, их поведение
никак не определялось дуэльным ритуалом. Женщина являлась
объектом, а не субъектом дуэли: неверной супругой,
соблазненной дочерью или сестрой, изменившей возлюбленной.
Современники даже не помнят, как звали ту якобы
обесчещенную молодую женщину, из-за которой произошла дуэль Чер-
Глава /. Дуэль как акт агрессии: термины и определения 35
нова с Новосильцевым. В различных свидетельствах она
фигурирует то как Мария, то как Аграфена, то как Пахомовна
Чернова, а то и просто остается безымянной49. Бесчестье
Черновой носило абстрактный характер для всех участников
конфликта. В свидетельствах современников ничего не говорится
о том, что думала она о поведении Новосильцева и какое
впечатление произвели на нее поединок брата и гибель оставившего
ее жениха.
Даже в тех редких случаях, когда женщина брала на себя
активную роль, например, поощряя дуэль насмешкой над
уклоняющимся дуэлянтом, исправить ситуацию все же должен был
мужчина. В эпизоде 1811 года женщина высмеяла мужчину,
получившего пощечину, явно подталкивая его к дуэли: «Одна
из барынь, смеясь над Михайловым, сказала: "Je Pai vu et
entendu, se souflet a ete bien applique"». Активность женщины
здесь оттеняет пассивность Михайлова, уклонившегося от
дуэли даже после получения пощечины50.
Поскольку женщины рассматривались в дуэльном сценарии
как аутсайдеры, их взгляд на дуэль принципиально отличался от
мужского. В то время как некоторые женщины поддерживали
дуэль и разделяли идею чести со своими
современниками-мужчинами, другие отвергали ее как институт, заставляющий без
надобности страдать всех участников события, но не решающий
при этом изначальных проблем. В «Капитанской дочке» Маша
Миронова формулирует различие между мужским и женским
взглядом на дуэль: «Как мужчины странны! За одно слово, о
котором через неделю верно б они позабыли, они готовы
резаться и жертвовать не только жизнью, но и совестию, и
благополучием тех, которые...» [Пушкин, VIII: 305]. Введение
женской точки зрения подрывало статус дуэли как
символической процедуры и разоблачало ее жестокую природу.
Влияние женской точки зрения очевидно в рассказе Н.Б.
Басаргина о дуэли Киселева с Мордвиновым. В его
воспоминаниях несколько раз воспроизводится точка зрения жены
Киселева, Софьи, каждый раз заставляющая Басаргина (и читателя)
столкнуться лицом к лицу с трагической сутью
разворачивающихся событий. В первый раз это происходит, когда Киселев
отправляется на место дуэли. Жена не знает, куда он едет, и
продолжает развлекать гостей. Ее невинное веселье вызывает
в Басаргине чувство неловкости: «Наступил вечер, собрались
гости, загремела музыка, и начались танцы. Мне грустно,
больно было смотреть на веселившихся и особенно на молодую
его супругу, которая так горячо его любила и которая, ничего
2*
36 И. Рейфман. Ритуализованпая агрессия
не зная, так беззаботно веселилась». Постепенно молодая
женщина начинает подозревать, что что-то не так, и Басаргину
несколько раз приходится разуверять ее. Он даже разыгрывает
для нее спектакль, возвращаясь в дом поздно вечером за
бумагами, которые якобы потребовал принести ее муж. Басаргин
не скрывает своего сострадания к Софье, описывая не только
ее растущую тревогу, но и свои собственные боль и грусть.
Эмоциональная окраска в изображении переживаний Софьи
особенно видна при сравнении с деловым тоном, в котором
выдержаны остальные части отчета Басаргина, — здесь автор ни
разу не выдает своего неодобрения развертывающегося
конфликта. Когда в заключении рассказа Софья появляется вновь,
ее присутствие опять подчеркивает трагическую сторону
происходящего: «Подъезжая с Киселевым к Тульчину, мы
встретили жену его в дрожках, растрепанную и совершенно иоте-
ряЩ1ую. Излишним нахожу описывать сцену свидания ее с
мужем»51. Таким образом, обращение к точке зрения Софьи
Киселевой подрывает мужской взгляд на дуэль как
необходимый регулятор личных отношений и обнажает ее жестокую
природу, сомнительную логику и подозрительный моральный
статус.
Если в западной литературной традиции статус аутсайдера
позволял женщинам останавливать дуэль, то русские
рассматривали женское вмешательство — как в жизни, так и в
литературе — как нечто неподобающее. При всем своем сочувствии
к Софье Киселевой Басаргин приложил все усилия к тому,
чтобы не пустить ее на место дуэли. Сходным образом
персонажи-мужчины в «Евгении Онегине» не вводят женщин, в том
числе Татьяну, в курс предстоящего события.
Соответственно Татьяна не может предотвратить дуэль, и Пушкин
специально (хотя и иронически) подчеркивает это:
Когда бы ведала Татьяна,
Когда бы знать она могла*
Что завтра Ленский и Евгений
Заспорят о могильной сени;
Ах, может быть, ее любовь
Друзей соединила б вновь52.
[Пушкин, VI: 124 гл. 6, строфа 18|
Пушкин последовательно придерживается правила
невмешательства своих героинь в дела чести. Лишь одной из них —
Маше, жене графа Б***, противника Сильвио, — удается
попасть на место развертывающейся дуэли, но и она бессильна
остановить ее.
Глава I. Дуэль как акт агрессии: термины и определения 37
Пессимистический вывод о невозможности остановить
дуэль и о нежелательности вмешательства женщин, сделанный
поэтом в его литературных произведениях, оказался трагически
верным и в реальной жизни. Как известно, Пушкин раскрыл
замысел своей дуэли с Дантесом двум женщинам: Е.Н.
Вревской и В.Ф. Вяземской. Однако ни та ни другая ничего не
сделали для предотвращения дуэли, очевидно полагая такие
попытки тщетными или бестактными53. Более того, согласно
позднему рассказу Данзаса, дуэль, быть может, могла бы быть
остановлена Натальей Пущкиной, если бы та не была
близорука и увидела бы Пушкина, в санях проезжавшего мимо нее
к месту дуэли54. Добавим: могла бы, если бы Данзас окликнул
Пушкину, чего он не сделал — в полном соответствии с
общепринятым взглядом. Point d'honneur никак не связывал
свободу воли женщины, но зато ей и не было места в процедуре
дуэли55.
В России дуэльный ритуал большую часть времени, когда
существовали поединки, бытовал как предание, охраняемое,
совершенствуемое и передаваемое из поколения в поколение
экспертами дуэльного дела. Когда в 1836-м году появилось
«Essai sur Ie duel» графа Шатовийяра, русские стали
использовать его для справок. Русская традиция, однако, была
формально кодифицирована только к концу истории дуэли в России:
первые русские дуэльные кодексы появились после 1894-го
года, когда Александр III легализовал дуэль. В условиях
отсутствия письменных руководств в качестве источника
информации иногда использовались литературные тексты. В
чеховской «Дуэли» ни участники, ни свидетели не помнят точно,
что они должны делать. Тогда фон Корен предлагает
использовать литературные модели: «Оказалось, что из всех
присутствовавших ни один не был на дуэли ни разу в жизни и никто
точно не знал, как нужно становиться и что должны говорить
и делать секунданты. Но потом Бойко вспомнил и, улыбаясь,
стал объяснять. "Господа, кто помнит, как описано у
Лермонтова? — спросил фон Корен смеясь. — У Тургенева тоже
Базаров стрелялся с кем-то там..."» [Чехов, VII: 446—447].
Дуэль и понятие чести
В рассказе Чехова неосведомленность героев и их
обращение к литературным источникам свидетельствуют о
постепенном распаде традиции. Один из героев доходит даже до того,
что отрицает значение ритуала в целом. «К чему тут помнить? —
38 И. Рейфман. Ритуализованная агрессия
сказал нетерпеливо Устимович, останавливаясь, — отмерьте
расстояние-— вот и все»[Чехов, VI: 446—4471. Разумеется, он
не прав: ритуал дуэли не сводим к измерению расстояний.
Стержнем дуэльного ритуала является установленный кодекс
поведения, и это отличает дуэль чести от обыкновенной
потасовки. В каком-то смысле можно сказать, что ритуал дуэли
определяет саму идею чести, поскольку затрагивает вопрос о
том, что следует считать оскорбительным для дворянина.
Именно с этой целью формальный кодекс дуэли определяет и
классифицирует оскорбления.
Сама приверженность ритуалу может пониматься как
благородное поведение, в то время как отклонение от ритуала
может вызвать обвинения в бесчестности. Происшествие,
имевшее место в 1717 году, иллюстрирует центральное значение
ритуала для самого понимания дуэли. Хлебов и Барятинский,
гардемарины, обучавшиеся во Франции, подрались, и Хлебов
«поколол шпагою гардемарина Барятинского...». Поскольку
гардемарины не следовали ритуалу дуэли, французский вице-
адмирал затруднялся решить, расценивать ли это столкновение
как дуэль или как обыкновенную потасовку. Надзиратель
гардемаринов, Конон Зотов, пишет в своем письме Петру
Великому: «[У] них (французов) таких случаев никогда не бывает,
хотя и колются, только честно на поединках, лицем к лицу»
[Соловьев, VIII: 513—514; курсив мой — И.Р.\.
Первоначальное пренебрежение русских дуэльным ритуалом столкнулось
здесь с французской идеей point d'honneur.
Дуэльный ритуал определял честь в узком, техническом
смысле, характерном для данной конкретной эпохи и класса,
в то время как в более широкой исторической перспективе это
слово имеет целый спектр значений и употреблений. Диапазон
значений русскогр слова «честь» простирается от доблести и
добродетели до признания социальной значимости, уважения,
честности и, в более позднем употреблении, человеческого
достоинства56. Примечательно, что слово «честь» может
означать как внешнее признание социального статуса или заслуг,
так и внутреннее чувство собственного достоинства, хотя в
современном узусе преобладает последнее значение.
Н.Ш. Коллмэнн придерживается мнения, что в
допетровской Руси понятие чести охраняло как личность, так и
общественный порядок. «[3]ашита чести ознаменовывала
достоинство индивидуума, а также личных и социальных связей,
определявших его место в обществе». Далее она утверждает, что
честь была эгалитарной и свойственной всем социальным клас-
Глава /. Дуэль как акт агрессии: термины и определения 39
сам: «В Древней Руси, как и в России раннего Нового
времени, все индивидуумы — мужчины и женщины, свободные и
несвободные — заслуживали элементарного уважения к их
личной неприкосновенности, собственности, репутации и
человеческому достоинству». Н.Ш. Коллмэнн рассматривает честь
как неотъемлемое право всех членов общества: «Как только
термин "честь" установился для характеристики личной
неприкосновенности индивидуума, он начал постепенно расширяться и,
кроме привилегий элиты, стал включать право каждого
индивидуума на собственное достоинство». В то же время,
Н.Ш. Коллмэнн признает, что понятие чести было
относительным и что некоторые московиты наделялись «большей» честью,
чем другие, «благодаря своему статусу слуг царевых,
православных христиан и законопослушных граждан»57. Другой
исследователь понятия чести в Московской Руси, Х.В. Дьюи, еще
более энергично подчеркивает ее относительный — и
внешний — характер: «Они [кодексы законов Московской Руси]
ясно дают понять, что цена чести московита определялась
скорее его социальным положением или доходом, чем
индивидуальными, личными критериями»58.
Думаю, что тезис Н.Ш. Коллмэнн об эгалитарной и
личностной природе чести в допетровской России ослабляется
соображениями об относительном и внешнем характере этой
чести. Будучи эгалитарным (или, скорее, универсальным в том
смысле, что члены всех социальных классов имели право на
денежную компенсацию за оскорбление чести), допетровское
понятие чести носило в высшей степени иерархический
характер и Ьтражало не внутренне присущее индивидууму чувство
собственного достоинства и даже не личные заслуги, а
положение человека на социальной лестнице и, таким образом, его
близость к царю как к центру государства и вершине
социальной пирамиды. Как утверждает П.О. Бобровский, в уложении
1649 года «каждому разряду лиц присвоена честь, отличная от
чести людей всех других разрядов, бесчестье уменьшается по
мере увеличения расстояния людей данного разряда от царя,
как источника всякой чести в государстве»59. Н.Ш. Коллмэнн
и сама упоминает об иерархическом распределении чести и
указывает на исключительную роль царя60. Соответственно в
Московской Руси величина «бесчестья» (штрафа за поруганную
честь) определялась прежде всего местом человека в
социальной иерархии, а не тяжестью оскорбления. Индивидуальные
заслуги человека также явно ценились меньше, чем
общественное признание его положения и семейных связей. Таким
образом, московская честь была прежде всего признанием цен-
40 /У. Рейфман. Ритуализовашшя агрессия
ности человека как члена социальной структуры. Более того,
она вовсе не была неотчуждаемой, судя по четко
установленным ценам. По выражению Дьюи, «весь корпус статей
Судебника 1589 года выглядит как ценник, и ничто другое». Он
подчеркивает, что у московитов существовало сильное искушение
использовать эту систему для личной выгоды: «В Московском
обществе были <...> две группы: истцы, с высоко ценимой
"честью", и жаждущие денежных плат судейские, которые могли
извлекать выгоду из тяжб о бесчестье. Удивительно ли, что часть
тяжб мотивировалась материальной корыстью, а не
подлинными соображениями оскорбленной чести?»61 Торгующий честью
не может видеть в ней часть своего внутреннего «я».
XVIII век был периодом перестройки московской
социальной иерархии и дезинтеграции местничества. В соответствии
с этим претерпело серьезные изменения и понятие чести.
Допетровская система вознаграждения за поруганную честь начала
разрушаться. Несмотря на то что законы о бесчестье
сохранялись на бумаге до 1852 года, частота и диапазон их
применения постоянно уменьшались. Еще более важно то, что сама
идея денежной компенсации за поруганную честь постепенно
стала презираться той частью дворянства, которая была
ориентирована на западные ценности. Все это сигнализировало
упадок иерархического и относительного характера чести.
Более того, появление идеи дворянской чести — то есть
чести, принадлежащей исключительно членам одного сословия —
ослабило роль царя в ее распределении. Честь как признание
заслуг перед царем и отечеством продолжала существовать, но
постепенно теряла жесткую связь с чином и социальным
положением и начинала ассоциироваться вместо этого с
личными заслугами. В конце концов этот сдвиг понятий привел к
возникновению концепта службы как почетного долга
дворянина. В комедии Якова Княжнина «Хвастун» (1785)
добродетельный отец поучает своего сына:
|И| что дворянство есть?
Лишь обязательство любить прямую честь.
Но в чем она? Мой сын, ты это точно знаешь:
Чтоб должность исполнять; а ты не исполняешь.
Ступай в свой полк, служи ты, взяв с меня пример62.
Это новое употребление предполагало внутреннее чувство
долга и подразумевало личный выбор и личную
ответственность. Оно также подразумевало, что человек, способный
«любить прямую честь», является человеком другого сорта, чем
простой народ. Такое понимание чести развивалось по мере
Глава /. Дуэль как акт агрессии: термины и определения 41
формирования послепетровского наследственного дворянства и
ассимиляции им европейских представлений об особых
привилегиях дворянина и о чести как врожденном качестве,
обладание которым и давало право на эти привилегии. В конечном
счете честь стала мощным инструментом построения
дворянством своей сословной идентификации, а затем и оружием в
его конфликтах с государем.
Идея чести как наследуемого и исключительного качества
дворянина была в большой степени заимствована из Европы.
В XVIII веке она проникала в Россию через многочисленные
переводы кодексов поведения, предназначенных для молодых
дворян. Так, например, в переводе Василия Тредиаковского
анонимного «La veritable politique des personnes de qualite» (1737,)
честь понимается как неотчуждаемое свойство дворянина:
«Лучше бы знатному и благородному человеку весьма лишиться своея
жизни, нежели потерять свою честь чрез некоторое бесчесное,
или злое дело»63. Такое расширенное понимание чести
предполагало такие добродетели как честность, мужество и
достойное поведение. Сходным образом в переводе Сергея Врлчкова
(1761) первых трех «разговоров» Эсташа Ленобля «Ecole du
monde» честь представлена как врожденная добродетель
дворянина, отличающая его от остального человечества: «Природное
шляхетство насаждает в дворянах такое великодушие, которого
в простых людях весьма трудно сыскать; а сие великодушие
подает им желание и любление чести, как первой степени к
повышению. К чести для того склонны, что человек
находящееся в руках своих от часу больше умножить старается, а честь
природное состояние шляхетства»64. Хотя Волчков, следуя
Леноблю, и сетует на то, что «та же честь» способствует
возникновению аристократической гордыни, в целом честь
представлена как положительное качество, отличающее дворянина.
Особенно важную роль в выдвижении идеи чести как
принадлежности дворянства играли труды Монтескье. Его
утверждение о том, что честь — основа монархии, в то время как
страх — признак деспотии (кн. III, главы 7—9 «Духа законов»),
побудило русских дворян ускорить ассимиляцию идеи
дворянской чести, чтобы отличить себя от несчастных жителей
деспотических государств. Утверждение Монтескье повлияло и на
Екатерину II, которая поощряла складывание русского
дворянства в привилегированное сословие, преданное государю. В
тоже время принадлежащая Монтескье «сардоническая» (по
выражению Дж.А. Келли) трактовка «чести его времени» осталась
не замеченной русским читателем65. Представители
формирующегося дворянства, ориентированного на западные ценности,
42 И. Рейфман. Ритуализованная агрессия
свидетели и агенты расширения молодой российской империи,
были гораздо менее критичны к понятию дворянской чести, чем
Монтескье — аристократ, наблюдавший начало развала
французской монархии.
Новое значение слова «честь» (внутреннее качество
дворянина, отличающее его как нравственного человека и слугу
отечества) сосуществовало с другими новыми значениями этого
слова, касавшимися «правильного» поведения, ожидаемого от
дворянина. «Наука быть учтивым», анонимно переведенная в
1774 году с французского, дает, должно быть, наибольшее
разнообразие употреблений слова «честь» и его производных,
многие из которых характеризуют особую манеру поведения,
подобающую дворянину. Наряду со словом «честь» в этом
переводе употребляется как его синоним и слово «честность», в
то время не вполне еще утвердившееся в своем современном
значении. В употреблении переводчика слова «честь/честность»
прежде всего обозначают вежливость. Например, дружеское
общение есть «честная некоторая вольность». Слова «честь/
честность» также используются для обозначения хороших
манер. Например, позволяя плеваться, кашлять, чихать, есть и
пить, «честность требует, чтобы мы отправляли сии действия
как можно искуснее, то есть несходственее со скотами».
Близким по смыслу является и употребление слов «честь/честность»
в значении «скромность»: она требует от людей скрывать
наготу, так что человек, открывающий «в присутствии других то,
что не долженствует быть открыто...», по определению
является бесчестным человеком. Неприличное поведение и
нескромные выражения также действуют «против честности, так
сказать, и против стыдливости натуры». В то же время слово
«честь» может обозначать высокое социальное положение,
демонстрируя таким образом остаточную связь с допетровским
употреблением: «Ето есть противно учтивости, когда кто
скажет другому, который его честнее, чтоб он накрыл голову»66.
«Наука быть учтивым» не является, однако, уникальной по
разнообразию употреблений слова «честь». В другом
переводном труде, «Экономия жизни человеческой» (1765), это слово
может означать как соблюдение приличий (ср., например,
выражение «бесчестный вид»), так и признание и славу («Есть
ли твоя душа жадна к чести, ежели твое ухо любит слышать
хвалу.,.»)67. Такой разнобой в употреблении слова «честь» в
XVIII веке указывает как на быструю ассимиляцию его новых
значений, так и на эволюцию старых. Этот разнобой
отражает также появление двух аспектов в понимании чести как
врожденного качества дворянина: с одной стороны, «честь» начи-
Глава L Дуэль как акт агрессии: термины и определения 43
нает обозначать внутренний нравственный императив («прямая
честь» княжнинской проповеди), а с другой — формальное
признание ценности другого человека, выражаемое посредством
учтивого обращения. Оба значения были необходимы для
формирования кодекса чести и ассимиляции идеи point d'honneur.
Чрезвычайно существенно, что в XVIII веке честь
становится абсолютным качеством. В отличие от иерархической и
относительной чести Московской Руси честь в XVIII веке не имела
градаций: дворянин был либо честным, либо бесчестным. Все
честные дворяне, таким образом, обладали равным — а
именно максимальным — «количеством» чести. Понимание чести
как абсолютного качества, в равной степени свойственного всем
честным дворянам, было необходимой предпосылкой для
возникновения дуэли, поскольку дуэль чести могла происходить
только между равными68. Таким образом, честь стала мерой
равенства внутри привилегированного сословия. Тем не менее
следы иерархии чести, поддерживаемой иерархической
природой российской послепетровской бюрократии, сохранялись в
культурном сознании русских и влияли на историю дуэли в
России. История ассимиляции дуэли в большой степени была
историей борьбы за равенство внутри русского дворянства.
Ответ на вопрос о том, в какой степени русское понятие
чести дворянина соотносилось с французским point d'honneur (и
вообще с европейской идеей аристократической чести),
остается спорным. Герцен и Достоевский, например, серьезно
сомневались в том, что русские вполне уловили смысл этого
понятия. Сомнения Герцена отразились в использовании
отрывка из «Персидских писем» Монтескье в качестве эпиграфа к
статье 1848 года («Несколько замечаний об историческом
развитии чести») о чести и дуэли. Монтескье (вернее, его герой)
говорит, что европейское понятие чести находится за пределами
неевропейского понимания: «Мне трудно объяснить тебе, что
это такое {дело нести), потому что у нас нет соответствующего
понятия»[Герцен, II: 151, цитируется письмо 90]. Достоевский
выразил свой скептицизм в «Зимних заметках о летних
впечатлениях» и в «Записках из подполья». Впрочем, он не слишком
сокрушался по поводу неспособности русских полностью
ассимилировать point d'honneur, поскольку отдавал предпочтение
русскому видению чести и дуэли перед европейским.
Разумеется, кодекс чести в России отличался от
европейской модели. Он был ассимилирован на иной стадии
исторического развития и функционировал в другом социальном
контексте, временами в специфически русских формах. Он также
выполнял некоторые функции, специфические для России.
44 И. Рейфман. Ритуализованная агрессия
Тем не менее русская версия дворянской чести была настолько
близка к европейской, что существовала возможность дуэлей
между русскими и европейцами. Таким образом, обладая
рядом национальных черт, русская дуэль чести представляла
собой ответвление европейской дуэльной традиции. То, что
русское дворянство усвоило западную традицию дуэли, ясно
демонстрирует принятие дворянами европейских моделей
поведения.
Социология И ИДЕОЛОГИЯ РУССКОЙ ДУЭЛИ
Дуэль в России и появилась, и исчезла позже, чем в
других европейских странах, за исключением Германии. Она была
пересажена на русскую почву в то время, когда происходили
сложные социальные процессы, формировавшие
послепетровскую Россию. Особенно важно, что ассимиляция дуэли
совпадала во времени с оформлением дворянства в
привилегированное сословие, стремящееся к автономии от государства. Это
был двусторонний процесс, инициированный одновременно и
русскими государями, и самим дворянством: государи
нуждались в служилом дворянстве с особенной сословной
идентификацией, а дворянству эта идентификация нужна была для того,
чтобы обеспечить независимость и утвердить свои привилегии.
В идеале русские государи хотели создать благородное
сословие, преданное царю и отечеству и служащее им охотно и
честно. С этой целью они продвигали идею чести как корпоративной
преданности службе. Однако идея служебной чести породила
понятие личной чести дворянина и дуэль, благодаря которым
укрепилась идея личности и личных прав. Понятие чести
стало определять, таким образом, не только корпоративное, но
и личное достоинство дворянина. Дуэль чести позволила
регулировать отношения между индивидуумами внутри
привилегированного сословия.
Дуэль традиционно была оружием в борьбе за власть между
дворянством и государем. Ф. Биллакуа замечает, что во
Франции «[т]аково было политическое значение дуэлей:
одновременно агрессивный вызов властелину, отказ подчиняться его
приказаниям — и отказ взять власть или участвовать в его системе
властных отношений. Дуэль требует от короля, с одной
стороны, быть королем, а с другой стороны, вести себя как
подобает дворянину»69. С некоторыми поправками наблюдения
Ф. Биллакуа можно отнести и к России. Если во Франции
дуэль в основном уравновешивала взаимоотношения между госу-
Глава I. Дуэль как акт агрессии: термины и определения 45
дарем и дворянством, то в России она функционировала больше
как инструмент дворянской эмансипации. Отправляясь на
дуэль, русский дворянин провозглашал свою независимость от
государства и свое право разрешать некоторые конфликты без
участия государя. В стране, где веками урезалась автономия
личности, такой акт имел более серьезные последствия, нежели
обычный протест дворянства против государя. Он
фокусировал внимание русских на вопросе личных прав и заставлял их
думать о том, как эти права защитить.
Способность дуэли определять и защищать личные права
была тем более важной, что формирование и эмансипация
дворянского сословия в России проходили параллельно с другим
кардинальным изменением в социальной структуре страны:
формированием двух наций в пределах одной — тех двух
классов, которые Константин Аксаков с горечью называл
«публика» и «народ»70. Дуэль оставалась принадлежностью «публики»,
то есть образованной части русских — сначала дворян, а
впоследствии также и образованных разночинцев, которые
усвоили дуэль как с целью утвердить себя в качестве равных с
дворянами, так и для защиты своих личных прав. Если в Европе
бывали отдельные дуэли между представителями
необразованных сословий (солдатами и горожанами), то в России простые
люди не только никогда не практиковали дуэль, но и зачастую
не понимали ее смысла71. Сама идея сословной чести и
личного достоинства, которые можно восстановить с помощью
символического акта, была им глубоко чужда. Пушкин
комически изображает это непонимание в «Капитанской дочке». Ка-
питанша Миронова, женщина простого происхождения,
рассказывает о Швабрине, переведенном в гарнизон за дуэль:
«Швабрин Алексей Иваныч вот уж пятый год как к нам
переведен за смертоубийство. Бог знает, какой грех его попутал; он,
изволишь видеть, поехал за город с одним поручиком, да
взяли с собой шпаги, да и ну друг в друга пырять; а Алексей
Иваныч и заколол поручика, да еще при двух свидетелях!»
[Пушкин, VIII: 295]. Отсутствие общности в интерпретации дуэли
одновременно отражало и поддерживало различные
представления «публики» и «народа» о чести, достоинстве и личном
пространстве. Не будучи, разумеется, причиной социальной
дивергенции, дуэль тем не менее поддерживала разрыв в
представлениях о личности и ее правах внутри русской нации.
Раскол между практиковавшим дуэль европеизированным
меньшинством и национальным большинством, не
понимавшим ее смысла, помешал русским выработать эффективную
идеологическую оппозицию дуэли. В Западной Европе буржу-
46 И. Рейфман. Ритуализоеанпая агрессия
азные идеологи, начиная с Паскаля, энергично разоблачали
дуэль как предрассудок, не имеющий рационального
основания. Их критика была достаточно успешной и способствовала
отмиранию аристократической дуэли чести72. В России же не
образовался средний класс, способный эффективно
критиковать дуэль: представители неблагородных сословий, включая
и экономически влиятельное купечество, редко могли
сравниться с дворянами по образованию и влиянию на общественное
мнение.
Позднее, в середине XIX века, образованные разночинцы
предложили свою собственную критику дуэли и дуэльного
кодекса как институтов, бесполезных для нового поколения,
культивирующего рациональный подход к межличностным
отношениям. «Новые люди» Чернышевского высмеивают
символизм дуэли и в случае личного оскорбления предпочитают
демонстрировать физическое превосходство. Лопухов бросает
толкнувшего его господина в грязную канаву, а Кирсанов
хватает своего оскорбителя за горло. Литературные «новые люди»
считают грубую физическую силу более рациональным и
эффективным средством утверждения личного достоинства, чем
символическая агрессия дуэли73. Однако разоблачение «новыми
людьми» дуэли как набора пустых условностей, не имеющих
рациональных оснований, оказалось недостаточным для того,
чтобы подорвать увлечение русских дуэлью. Более того, в
конечном итоге «новые люди» и сами не смогли отказаться от
дуэли. Базаров— яркий литературный пример. Реальные же
случаи участия разночинцев в дуэлях рассматриваются далее в
главе 2. Способность дуэли охранять человеческое достоинство
сделала ее слишком ценной для русских (даже тех, которые
считали себя рационалистами), чтобы от нее отказаться: они
видели в ней наилучшую, а возможно, и единственную,
гарантию личных прав.
Исторически появление дуэли в Европе совпало с
появлением концепта индивидуума, имеющего личные права. Дуэль
чести появилась как частный путь к решению конфликтов между
двумя личностями. Из открытого поединка,
санкционированного монархом, дуэль превратилась в частный поединок,
демонстрирующий неповиновение монарху. Дуэль стала внеиоло-
женным закону средством охраны личности, она защищала и
даже определяла личное пространство индивидуума. Она
выполняла свою функцию до тех пор, пока не утвердились
законы, защищающие личные права. Функция дуэли как защиты
личных прав была особенно важна в России, поскольку закон
предлагал индивидууму слабую и ненадежную защиту. Отвечая
Глава 1. Дуэль как акт агрессии: термины и определения 47
специфическим нуждам русских, дуэль чести подчеркивала
важность личного пространства индивидуума — прежде всего его
личной неприкосновенности. Дуэль в России помогала и
формулировать идею личных прав, и защищать эти права.
Центральное место, занимаемое дуэлью в контексте
важных психологических, социальных и политических проблем, а
также и ее тенденция захватывать функции других институтов
придали поединку особенный вес в русской культурной
традиции. Благодаря своей способности обеспечивать автономию и
свободу действий индивидуума дуэль стала в России
излюбленным средством урегулирования личных конфликтов. В этом
смысле можно говорить о перенесении западных моделей
поведения на русскую почву. В то же время дуэль доказала свою
полезность в решении специфически русских проблем,
особенно проблемы неуважения к личному пространству
индивидуума. Она также оказалась достаточно гибкой для того, чтобы в
какой-то степени сохранить допетровское отношение к
личному пространству и телесной неприкосновенности. Дуэль
одновременно трансформировала традиционные национальные
модели поведения и приспособила себя к ним. Таким образом,
она оказалась способной удовлетворить специфически русские
нужды. Прежде чем говорить об отличительных особенностях
русской дуэли, мне хотелось бы сделать обзор ее развития в
России на протяжении двух с лишним столетий.
ГЛАВА 2
Краткая история дуэли в России
Дуэль до начала павловского царствования
Несмотря на все трудности, которые возникают при сборе
фактов, касающихся дуэли, все же представляется возможным
хотя бы в общих чертах дать краткий очерк ее истории в России1.
Дуэль не имела корней в русской традиции, и, таким образом,
она является полностью заимствованным институтом.
Средневековая Русь, не имевшая развитого института рыцарства, не
знала ни турниров, ни поединков в специально отведенном
государем месте, из которых на Западе выросла дуэль чести2. В
России существовал институт судебного поединка — так
называемое поле. Однако и это явление, осужденное церковью и
государством, полностью исчезло к XVII веку. Более того, поле
было демократическим, а не аристократическим, институтом и
апеллировало к идее высшей справедливости, а не к идее
чести3. Таким образом, история дуэли в России является историей
заимствования русскими иностранных моделей поведения, и
при этом заимствования выборочного. Например, студенческая
дуэль в России была практически неизвестна: она
существовала только в студенческих сообществах в Дерптском (Тартуском)
университете, где следовали немецким моделям, и между их
малочисленными русскими подражателями4.
Первыми дуэлянтами на русской земле были иностранцы.
Жак Маржерет, капитан иноземных телохранителей Бориса
Годунова (а позднее — Лжедмитрия I), сообщает в своих
мемуарах, что во время своей службы в России он наблюдал дуэли
между иностранцами, имевшие место, несмотря на суровый
запрет и угрозу жестоких наказаний5. СМ. Соловьев
упоминает о дуэли между генералом Патриком (Петром Ивановичем)
Гордоном (шотландцем на русской службе) и майором
Монтгомери: «Хотя десятские Немецкой слободы получали наказ —
беречь накрепко, чтобы не было поединков, однако служилые
иноземцы мало обращали внимания на это запрещение.
Гордон в 1666 году имел поединок с майором Монтгомери:
поссорился с ним у себя на пирушке, которую давал у себя в
царские именины» [Соловьев, VII: 171].
Между русскими, однако, дуэли неизвестны, и сама идея
point d'honneur и формализованного поединка оставалась им
Глава 2. Краткая история дуэт в России 49
вполне чуждой вплоть до самого конца XVII века. Петр
Толстой, наблюдавший дуэль в 1697 году в Польше, отнесся к
увиденному (равно как и к парламентским прениям) с
крайним изумлением и неодобрением. Он воспринял поединок
скорее как пример грубости и дикости польских варваров, чем
как формализованную процедуру, призванную разрешить
личные или политические разногласия: «Воистину и поляки делом
своим во всем подобятца скотине, понеже не могут никакого
государственного дела зделать без бою и без драки, и для того
о всяких делех выезжают думать в поле, чтоб им пространно
было без размышления побиваться и гинуть»6.
Постепенно, в ходе контактов с европейцами как в России,
так и за границей, русские привыкали к идее дуэли. Борис
Куракин был свидетелем дела чести в Риме в 1707 году и оставил
о нем вполне нейтральный по тону рассказ в своем дневнике.
Не давая событию никакой оценки, он сообщает об
обстоятельствах ссоры между двумя высокопоставленными лицами, кареты
которых не смогли разъехаться на узкой улочке: «И потом тот
принц Дармштат просил сатисфакции, ничего не мог получить,
только что тот кучер на некоторыя недели от дому отказам. И
хотел идти на дуель <sic!>, только не пошел»7.
Несмотря на постепенное принятие идеи дуэли, на
практике русские в XVIII веке прибегали к ней редко и неохотно.
На протяжении большей части столетия число дуэлей
оставалось очень низким. Архивы Министерства военно-морского
флота показывают, что за период с 1700 по 1710 год
министерство расследовало обстоятельства всего-навсего двух дуэлей.
Одна из них только упоминается в описании архива. Другая
произошла в Воронеже в 1706 году между капитанами Андреа-
сом де Куром и Иваном Петровым. Дуэлянты были в конце
концов освобождены из-под стражи и взяты на поруки8. В 1717
году состоялся поединок между Хлебовым и Барятинским,
упомянутый нами в первой главе.
В ноябре 1734 года в Охотске лейтенант-моряк Михаил
Плаутин поссорился с бывшим обер-прокурором Сената, а в
то время начальником Охотского порта, Григорием Скорняко-
вым-Писаревым, сосланным туда Александром Меншиковым
после смерти Екатерины I. Предметом ссоры было авторство
некоего учебника по геометрии: Писарев утверждал, что
книга написана им, а Плаутин, известный своей задиристостью,
дразнил его, утверждая, что геометрию сочинил не Писарев,
а Евклид. Они обнажили шпаги, но не дрались. Позднее
Плаутин сообщил о ссоре властям9.
50 И. Рейфмап. Ритуалиюванпая агрессия
Екатерина II упоминает в мемуарах дуэль 1752 гола между
Захаром Чернышевым и Николаем Леонтьевым. Новость об
этой дуэли, поводом к которой послужила ссора из-за карт,
повторяла вся столица, «благодаря многочисленной родне того
и другого из противников». Чернышев был тяжело ранен, а
Леонтьев взят под арест, однако по выздоровлении
Чернышева «дело замяли»10.
Еще показательней, чем малочисленность дуэлей, была их
сомнительная природа: часто неясно, расценивать ли эти
столкновения как дуэли или же просто как драки с
использованием холодного оружия. Чисто терминологически они не
могут даже называться rencontres, поскольку rencontre — это
редуцированная версия формальной дуэли, подразумевающая
наличие уже устоявшейся традиции, которая отсутствовала в
России XVIII века. Поединок Хлебова с Барятинским,
поставивший в тупик французские власти, был типичным в этом
отношении. Другое подобное столкновение описывает Иван
Неплюев. Оно произошло в 1718 году между двумя молодыми
людьми, посланными в Неаполь изучать морское дело. В этом
случае, однако, исход был трагическим: один из соперников
был убит. Неплюев цитирует показания второго участника
поединка, обвиненного в убийстве: «Василья Самарина я,
Алексей Арбузов, заколол по сей причине: пошли-де мы оба
из трактира в третьем часу ночи, и Самарин звал меня в свою
квартиру табаку курить, а на дворе схватил он меня за уши и,
ударив кулаком в лоб, повалил под себя и потом зажал рот,
дабы не кричал; а как его, Васильев, перст попался мне в рот,
то я его кусал изо всей силы; а потом просил у Самарина, чтобы
меня перестал бить и давить, понеже он <sic!> пред ним ни в
чем не виновен, на что ему Самарин ответствовал: "Нет, я тебя
не выпущу, а убью до смерти". Почему я, Алексей,
принужден был, лежа под^ним, левою рукою вынуть мою шпагу и,
взяв клинок возле конца, дал ему три раны, а потом и
четвертую; почему он, Самарин, с меня свалился на сторону,
отчего и шпага моя тогда переломилась; а я, вскоча и забыв на том
месте парик и шляпу, побежал прочь, а потом для забрания
сих вещей назад воротился и, увидев Самарина лежаща
бездыханна, побежал на свою квартиру и пришед на оную, кафтан
свой замывал и назавтра к балбиру шпагу затачивать ходил»11.
Несмотря на наличие многих характерных компонентов
rencontre, этот поединок нельзя назвать дуэлью на месте. Хотя
конфликт между участниками назревал давно, они никогда не
пытались разрешить его посредством формальной дуэли. По
свидетельству Неплюева, «у них наперед сего [рокового поедин-
Глава 2 Краткая история дуэли в России 5 I
ка| ссоры и драки были в Венеции, в Корфу сея зимы, и
Алексей Арбузов после драки в Корфу говорил: "Ежели де Василий
Самарин напредки будет меня бить, то я его заколю, понеже
я с ним драться не смогу"»12. Из контекста явствует, что
Арбузов не имеет в виду, что дуэль для него неприемлема, а
просто боится физического превосходства Самарина и намерен
поэтому использовать оружие для самозащиты.
Использование холодного оружия в драке было хорошо
известным правонарушением в допетровской Руси: законы и
Киевской, и Московской Руси содержали статьи по этому
поводу. Уложение 1649 года также запрещает обнажать оружие,
особенно на «государевом дворе» или в присутствии царя13. Тем
не менее обнажение оружия было редким событием в
допетровской России — по крайней мере, по сравнению с Европой. Да
и само ношение оружия знатью не было в обычае. Так, Мар-
жерет объясняет отсутствие поединков в Московии начала
XVII века тем, что русские «ходят всегда безоружные,
исключая военного времени, или путешествия»14. Под поединками
здесь Маржерет, очевидно, подразумевает rencontres, поскольку
для заранее условленной дуэли не требовалось бы постоянно
иметь оружие при себе. Таким образом, использование в
драке холодного оружия было новым явлением среди
послепетровского дворянства, для которого ношение шпаги стало
обязательным. Оно может рассматриваться как шаг к усвоению
формальной дуэли.
Однако решающим препятствием к усвоению дуэли
оставалось то, что в России не просто не было формальной
процедуры поединка, но отсутствовало ясное представление о point
d'honneur. И.Г. Фоккеродт, секретарь прусского посольства в
России в 1720—1725 годах, пишет о том пренебрежении,
которое русские испытывали по отношению к европейской идее
чести: «Ни одно из иностранных изобретений не смешит
русских до такой степени, как любые разговоры о чувстве чести и
попытки убедить их делать или не делать что-либо во имя
чести». С этим пренебрежением он связывает нежелание русских
усвоить дуэль: «Оттого-то Петр 1-й ни при одном своем Указе
не нашел такой охотной покорности, как при запрещении
поединков, да и по сю пору никто из Русских офицеров не
подумает требовать удовлетворения в случае бесчестия,
нанесенного ему равным лицом, а строго следует предписанию Указа о
поединках, повелевающего оскорбленной стороне подавать в
подобных обстоятельствах жалобу, а потом виноватому
всенародно просить у него прощения и восстановить его честное имя;
просителю нечего и заботиться об упреке за то от своих земля-
52 И. Рейфман. Ритуализованная агрессин
ков»". Таким образом, драки на шпагах отражали скорее
вспыльчивость и несдержанность русских дворян, чем растущее
чувство личной чести. Характерно, что антидуэльное
законодательство XVIII века признавало это различие и угрожало
потенциальным дуэлянтам более суровым наказанием, чем
участникам обыкновенной драки16.
Редкость формальных дуэлей подтверждается их
отсутствием в элитных гвардейских войсках. В биографиях офицеров
кавалергардского полка, сформированного в 1724 году,
упоминаются многочисленные драки с употреблением шпаг, однако
вплоть до начала XIX века не зафиксировано ни одной
правильной дуэли. Типичны следующие случаи. В 1755 году офицер
Никита Максин, «будучи пьян, пришел в дом гр. К.Г.
Разумовского, обнажа шпагу, рубил по стеклам и бил палкой
людей»17. В тот же день другой офицер, Тарас Долгой,
«напившись безобразно пьян, забыл офицерскую честь, чинил самые
подлые поступки. <...> Долгой не только бранил
[барабанщика] Островского непристойной бранью, но, выхватя из ножен
тесак, замахнулся им на Островского...»18 Сходным образом
Петр Замятин во время ссоры со своим сослуживцем Савиным
угрожал его заколоть19. Характерно, что в этих ссорах
«благородное» оружие легко заменялось куда менее благородным —
топорами, вилками и даже зубами. Так, Егор Хлопотов в
пьяной драке угрожал «всех переколоть» вилками, а Михаил
Пузанов, также в пьяном виде, сначала хотел «рубить» офицера,
пытавшегося арестовать его, а затем «хотел зубами съесть»
другого офицера20. Особняком в этой вакханалии пьяных драк
стоит неудачная попытка поручика Куколь-Яснопольского в
конце 1770-х годов вызвать на дуэль своего командира Семена
Зорича. Зорич не принял вызова, а Куколь был судим за
нарушение субординации21.
Формальная дуэль стала постепенно входить в употребление
ко второй половине XVIII века — по меньшей мере, она стала
более понятна русским. Так, 5 декабря 1764 года Семен
Порошим обсуждал дуэль с Великим князем. Отмечая
противозаконный характер дуэли, он все-таки признавал, что «со всем тем
бывают иногда случаи, где подлинно по принятым нашим
мнениям, честь обязывает вынять <sic!> шпагу». Порошин
говорит о дуэли как об обычае широко известном, хотя, по его
мнению, устарелом и распространенном преимущественно за
границей22.
Впрочем, постепенно накапливались и отечественные
примеры. В 1775 году князь Петр Голицын должен был драться на
заранее условленной дуэли, но, по некоторым сведениям, не
Глава 2. Краткая история дуэли в России 53
смог дождаться, пока пистолеты будут заряжены, набросился
на своего противника со шпагой и был убит23. В 1787 году,
помимо неудачной попытки Иевлева вызвать Дашкова, по
некоторым сведениям, граф Ф.Е. Ангальт, начальник
Кадетского корпуса, вызвал на дуэль Григория Потемкина24. Сергей
Глинка сообщает также и о том, как он в начале 1790-х годов
поссорился со своим соучеником по Кадетскому корпусу. Эта
ссора чуть было не закончилась дуэлью и стала причиной
ареста однокашников25.
Таким образом, в конце XVIII века, через сто лет после
первого знакомства с идей point d'honneur и дуэлью, русские
наконец были готовы их усвоить. Екатерина II ответила на рост
числа дуэлей «Манифестом о поединках», опубликованным
27 апреля 1787 года.
Отношение русских к дуэли:
Pro ет contra
Почему же русские так медленно и неохотно принимали
дуэль? Помимо очевидной причины — отсутствия национальной
традиции — существовали и другие факторы, замедлявшие этот
процесс. Один из них — суровые наказания, предусмотренные
за дуэль российским законодательством. В течение всего
XVIII века правительство настойчиво пыталось поставить дуэль
вне закона, суля драконовские наказания как за формальные
дуэли, так и за rencontres. Наиболее суровыми были
антидуэльные законы Петра I, принятые превентивно, еще до того, как
дуэль появилась в России. Указом от 14 января 1702 года Петр
решительно воспрещал любые виды вооруженных
столкновений: «Всем обретающимся в России и выезжающим
иностранным, поединков ни с каким оружием не иметь, и для того
никого не вызывать и не выходить: а кто вызвав на поединок
ранит, тому учинена будут <sic!> смертная казнь; ежели ж кто
и небыв на поединке, поссорясь, вынет какое оружие, на
другого замахнется, у того по розыску отсечена будет рука»26.
Запрет на дуэль был закреплен в 1706 году документом «Russis-
ches Kriegs-reglement» (так называемым «Кратким Артикулом»),
провозглашавшим смертную казнь и за дуэли, и за
вооруженные столкновения, независимо от их исхода27. В «Артикуле
воинском» 1716 года получают подробное разъяснение
наказания, предусмотренные для дуэлянтов: «Кто против сего
[запрещения] учинит, оный всеконечно, как вызыватель, так кто
и выдет, имеет быть казнен, а именно: повешен, хотя из них
54 //. Рейфман. Ритуализованная агрессия
кто будет ранен или умерщвлен, или хотя оба не ранены от того
отойдут. А ежели случится, что оба, или один из них в таком
поединке останется, то их и по смерти за ноги повесить».
Специальная глава «Артикула», «Патент о поединках и начинании
ссор», угрожает наказанием не только за участие в реальной
дуэли (смерть обоим дуэлянтам и секундантам), но и за
простое намерение драться (увольнение со службы и частичная
конфискация имущества для всех участников). Даже
ординарец, передавший вызов, должен был подвергнуться наказанию
шпицрутенами. В то же время «сатисфакция» и награда были
обещаны подавшему иск в военный суд. В военно-морском
уставе 1720 года Петр подтвердил запрещение дуэлей («Все
вызовы и поединки запрещаются») и опять угрожал смертной
казнью всем участникам28. Этими жесткими мерами Петр
демонстрировал как решимость не дать дуэли укорениться в
России, так и твердую уверенность в праве государства
регулировать все сферы жизни подданных.
Екатерина Великая ввела более реалистичные — и,
следовательно, потенциально более действенные — законы о дуэли.
В своем «Наказе Законодательной Комиссии» она проводила
различие между оскорбителем и оскорбленным, предлагая
наказывать только агрессора, а не казнить всех без разбора,
включая второстепенных участников29. «Манифест о поединках»,
подтверждая запрет на дуэли, предписывал сравнительно
мягкие наказания для нарушителей, такие, как отставка и
исключение «из общества Дворянства». Более того, под влиянием
статей о дуэли и чести во французской «Энциклопедии», к
которой она обращалась за справками при работе над
«Манифестом», Екатерина рассматривала дуэль не как политическое
преступление, а как преступление против личности,
подлежащее, в случае смертельного исхода или увечий, обычному
уголовному преследованию. Только повторные дуэли
рассматривались как «нарушение мира и спокойствия» и подлежали
наказанию лишением чинов и дворянства и ссылкой в Сибирь.
В «Манифесте» также делалась попытка определить, что
является оскорблением чести, и предписывалось разрешение
подобных конфликтов с помощью посредников30.
Законодательное запрещение дуэлей, однако, не смогло
предотвратить их распространения в России. В этом русское
правительство оказалось не более эффективным, чем
правительства других стран. Более того, суровые на бумаге, русские
антидуэльные законы редко применялись всерьез. История
Кавалергардского полка показывает, что драки с
применением холодного оружия — а они были очень частыми — почти
Глава 2. Краткая история дуэли в России 55
никогда не наказывались в соответствии с законом.
Исключением выглядит случай середины 1740-х годов, когда на
капитана Киевского драгунского полка Карла Штемпеля напали
несколько кавалергардов и в ходе ссоры он обнажил шпагу. За
это нарушение Штемпель был судим и приговорен к отсекно-
вению руки. Однако и он был помилован31.
Непропорциональная суровость антидуэльных законов
являлась отчасти причиной их недостаточной эффективности.
Радищев утверждал, что даже екатерининские — как мы
знаем, сравнительно мягкие — законы были невозможны для
соблюдения и поэтому бесполезны: «[Узаконение о поединках
императрицы Екатерины II весьма строго и жестоко и
надлежит его отменить, ибо не имеет желаемого действия, поелику
обычай законоположение сие осмеивает, и правительство
тогда разве известно бывает о поединках, если следствия их
бывают несчастны» [Радищев, III: 154—155].
Парадоксальным образом суровость законов против дуэлей
в конечном счете способствовала их распространению,
поскольку, по сути дела, ставила дуэль выше закона и таким образом
придавала ей статус героического поступка, акта
неповиновения. Это не значит, однако, что русские в XVIII веке
противились идее закона вообще. Напротив, они досадовали на
неэффективные антидуэльные законы именно потому, что такие
законы не предоставляли ни надлежащих правовых механизмов
урегулирования межличностных отношений, ни зашиты от
личных оскорблений. Они поневоле чувствовали себя
вынужденными прибегать к дуэлям.
В то же время некоторые аспекты законодательной
политики правительства благоприятствовали распространению
дуэлей тем, что стимулировали появление кодекса чести. Так,
военное законодательство Петра продвигало идею чести,
предписывая наказания, нацеленные на лишение чести.
«Толкование» к главе 53 Генерального регламента 1720 года
демонстрирует логику, стоящую за такими наказаниями: «Никакое
воздаяние так людей не приводит к добру, как любление
чести, равным же образом никакая так казнь не страшит, как
лишение оной»32. В главе 53 рассматривается наказание,
приводящее к наибольшему позору, — шельмование, процедура,
включающая прибивание гвоздями над виселицей доски с
именем нарушителя, разламывание его шпаги палачом или
провозглашение нарушителя вором или шельмой (от польского szelma
«мошенник, плут»). Шельмование лишало человека его
гражданских прав и практически ставило его вне общества: «А кто
когда ошельмован или в публичном наказании был, оный в
56 И. Рейфман. Ршпуалитвапная агрессия
службу его величества допущен да не имеет быть, ниже
сообщения какого с ним кому иметь по изображению как следует.
1. Ни в какое дело ниже свидетельство не принимать. 2. Кто
такого ограбит, побьет или ранит, или что у него отнимет, у
оного челобитья не принимать и суда ему не давать, разве до
смерти кто его убьет, то яко убийца судитися будет. 3. В
компании не допускать и их не посещать и, единым словом, тако-
выи веема лишен общества добрых людей, а кто сие преступит,
сам имеет наказан быть лишением чина и галерною работаю на
время»33.
В задачу Петра не входило, конечно, формирование
представлений о корпоративной или личной чести дворянина: он
хотел связать идею чести с идеей служения дворянства
государству. Он подчеркивал важность Табели о рангах как системы
распределения чести в соответствии со службой: «[Д|абы тем
охоту подать к службе, и оным честь, а не нахалам и
тунеядцам получить...»34 Сходным образом правильно распределяемое
бесчестье должно было отбить охоту к нерадивой службе.
Законы Петра были предназначены для военных и
применялись в равной степени ко всем рангам, но со временем они
стали касаться в большей степени офицеров, то есть
дворянства. Более того, при отсутствии гражданского
законодательства военные установления Петра использовались и в
гражданских делах, относясь, таким образом, ко всему дворянскому
сословию35. Итак, хотя петровское законодательство
стремилось сформировать ревностных слуг государства, а не hommes
d'honneur, в более широкой временной перспективе оно
способствовало привитию европейской идеи чести, а вслед за тем
и дуэли.
Дальнейшую поддержку и оформление идея дворянской
чести получила в екатерининском законодательстве.
Существенно, что Екатерина специально рассматривала вопрос о
личной чести дворянина. В ее «Наказе» утверждается право
дворянина на защиту своей личной чести: «[А] невиноватым
объявить принужденного защищати честь свою, не давши к тому
никакой причины»36. Екатерина не указывает прямо, каковы
средства этой защиты, но употребляемая ею терминология
наводит на идею о дуэли. Хотя пункты ее «Наказа» и не были
проведены в жизнь, но они были достаточно широко известны,
чтобы можно было говорить об их идейном влиянии.
Екатерина также размышляла о классовой природе дуэли, которая, по
ее мнению, могла освободить дуэлянтов от обычного
уголовного преследования. В письме 1775 года к Григорию
Потемкину, написанном в связи с делом Голицына, она рассматри-
Глава 2. Краткая история дуэли в России 57
вает возможность слушания дел о дуэлях в суде равных: «Я чаю,
у нас нету места, которое о сем деле судить может с
основанием, ибо в сем деле служба и честь смешаны и легко потерпеть
могут. Для такого рода дел во Франции и в одной только
Франции, помнится, установлено— Jugement des Marechaux de
France. Я б сердечно знать желала о сем мнение
Фельдмаршала] Гр[афа| Румянцева, как сие дело кончить с честию.
Пришло на ум, отдать кавалерам Свя|того| Георгия с таким
предписанием, чтоб честь, служба и законы равно сохраняемы
были, а презусом посадить Каменского Ген[ерал]-Пор[учика|.
Но незрела мысль еще»37. «Жалованная грамота дворянству»
1785 года, официально установив привилегированный статус
дворянства, дала ему право быть судимым судом равных,
особенно в случаях, относящихся к бесчестью (параграфы 12 и 58).
В «Грамоте» также рассматривается проблема бесчестного
поведения дворянина и его наказания равными: «Собранию
Дворянства дозволяется изключить из собрания Дворянства
Дворянина, который опорочен судом, или которого явный и
бесчестный порок всем известен, хотя бы и судим еще не был,
пока оправдается»38.
В «Манифесте о поединках» Екатерина предпочла не
рассматривать дуэль как преступление sui generis. Однако
Манифест, подтверждая запрещение дуэлей, одновременно
поддерживает идею корпоративной чести дворянства. Так, например,
призывая решать конфликты, касающиеся чести, в суде,
Манифест в то же самое время придает особое значение
посредникам, обязывая их поддерживать мир среди дворян.
Основной задачей посредников было не доводить конфликты чести
до суда. Предполагалось, что посредники должны «доставить
обеим сторонам законную, честную и безопасную и бестяж-
бенную жизнь»39. Это предписание, хотя и не выводило
полностью дуэли из-под юрисдикции судов, придавало
конфликтам чести статус внутридворянских проблем. Эти и подобные
особенности Манифеста косвенно способствовали развитию
дуэли, подрывая официальный запрет на нее.
Гораздо более серьезное препятствие для принятия дуэли в
России представляла собой иерархическая структура общества.
Идея о том, что все дворяне равны в отношении чести,
приживалась медленно и с трудом. Принятию этой идеи мешали
новые иерархии, как официальная (Табель о рангах), так и
неофициальная (фаворитизм). Табель о рангах, введенная Петром I
для обеспечения равных возможностей продвижения по
службе, фактически поддерживала неравенство внутри дворянства,
поскольку придавала одним рангам больший социальный вес,
58 И. Рейфман. Ритуализованная агрессия
чем другим. К концу века это стало установившейся особен-
ностью русской социальной структуры. Екатерининский
«Манифест о поединках» осознавал неравенство чинов в вопросах
чести как особую проблему, строго запрещая вызовы
подчиненными своих начальников40.
Табель о рангах препятствовала начавшемуся было
процессу гомогенизации дворянства также и тем, что вбивала клин
между наследными и жалованными дворянами. Наказы
провинциального дворянства Комиссии по составлению нового
уложения свидетельствуют, что если в первую очередь наследное
дворянство занимал вопрос о распределении земли, то вторым
был вопрос чистоты сословного происхождения. Конечно,
сопротивление пополнению класса дворянства за счет
социальных низов укрепляло корпоративную идентичность
дворянства, но оно же выполняло и прямо противоположную
функцию, поддерживая идею о превосходстве одних дворян (тех, кто
мог похвалиться якобы многовековой историей своего рода) над
другими (теми, кому дворянство было только что
пожаловано)41 . Борьба за позиции в новой социальной иерархии
препятствовала принятию идеи равного распределения чести между
всеми представителями дворянства вне зависимости от чина и
социального статуса. Характерно, что Корберон завершил свой
рассказ о деле Голицына рассуждением о пагубном влиянии
русской системы чинов на point dЪоппеиг. «Le prince d'Anhalt,
qui me parloit de cet evenement, a remarque avec justice que
Tinegalite prodigieuse qui existoit dans le societe russe, a raison du
gouvernement, etouffoit toute idee de point d'honneur, et que le
prince Galitzin, homme ayant bien fait a Parmee, ne Га point connu
vis-a-vis de M. Chepelof, de moindre naissance que lui, mais
officier». Корберон противопоставляет русскую ситуацию
французской: «Cela m'a rappele le trait du grand Conde, qui, ayant
maltraite un officier, n'a point refuse de lui faire raison»42.
Фаворитизм также препятствовал гомогенизации
дворянства. Позволяя человеку любого звания стать вторым лицом в
государстве, институт фаворитов не только подрывал
положение наследного дворянства как привилегированного
сословия, но и вводил в игру новый козырь — высочайший каприз.
Дворянство реагировало на институт фаворитов с растущей
враждебностью и часто давало выход своему недовольству,
изображая фаворитов выскочками, не только не имеющими
природного чувства чести, но пытающимися покончить с этим
качеством дворянина раз и навсегда.
Первым кандидатом на роль выскочки из низов и
нарушителя кодекса чести оказался друг и протеже Петра I Александр
Глава 2. Краткая история дуэли в России 59
Меншиков. Михаил Щербатов изображает Меншикова как
парвеню, связывая его возвышение с упадком старого
дворянства: «Пышность и сластолюбие у двора его умножились,
упала древняя гордость дворянская, видя себя управляема мужем,
хотя и достойным, но из подлости происшедшим, а место ея
заступило раболепство к сему вельможе, могущему все»43. Со
временем получили хождение многочисленные истории о
Меньшикове как бесчестном человеке. Одна из таких историй
восходит к дневнику Иоганна Георга Корба: «Царь <...> увидев,
что любимец его, Алексашка, будучи при сабле, пляшет,
напомнил ему пощечиной, что с саблями не пляшут, от чего у
того сильно кровь брызнула из носа»44. Здесь Меншиков
позорит себя как неуважением к шпаге, так и безропотным
принятием унизительного удара. Этот сюжет мы затем находим в
«Истории» <...> Соловьева, в очерке Достоевского «Стена на стену»
и в сборнике биографий кавалергардов45. В сборнике
биографий кавалергардов также приводится и другой пример
бесчестного поведения Меншикова. Однажды он повздорил с
прусским послом Кейзерлингом: «[Р]азговор перешел в перебранку,
кончившуюся дракой. Кейзерлинг схватился за шпагу, требуя
"сатисфакции", но шпагу отняли и при содействии самого
Петра Меншиков вытолкал Кейзерлинга из комнаты пинками,
а прислуга и гвардейцы спустили его с лестницы»46. Здесь
Меншиков опять нарушает кодекс чести, отказываясь дать
удовлетворение за нанесенное оскорбление.
Алексей Григорьевич Разумовский, любовник, а затем
морганатический муж императрицы Елизаветы Петровны, также
остался в русской культурной памяти как бесчестный
выскочка. Его казачье происхождение и былая должность регента
придворной церкви побуждали приписывать ему особую любовь
к оскорблению дворянства. Например, согласно легенде,
Мавра Шувалова, жена графа Петра Шувалова, служила
молебен всякий раз, когда ее муж возвращался домой после
охоты с Разумовским непобитым. Знаменательно, что
документальные источники не поддерживают мнение о Разумовском —
обидчике дворян. Согласно «Истории кавалергардов»,
именно Разумовский, возглавлявший в середине 1740-х годов Лейб-
кампанию, запретил применять в отношении гренадеров
телесные наказания47.
Григорий Потемкин, наиболее знаменитый и влиятельный
из всех фаворитов XVIII века, особенно часто изображался
врагом чести. В дуэльных преданиях упорно бытовали слухи о
якобы свойственном ему бесчестном поведении. Особенно
устойчиво было мнение о темной роли Потемкина в дуэли, на
60 И. Рейфман. Ритуализованная агрессия
которой был убит Голицын. Современники объясняли участие
Потемкина в этом деле тем, что он ревновал Екатерину II к
Голицыну. Тогдашний посол Сардинии в России перечисляет
все эти инсинуации в своем отчете о личности Потемкина,
адресованном начальству: «Но можно ли считать его честным,
искренним, откровенным? Говорят, что нет. Даже
рассказывают по этому поводу случай, который достаточно рисует его
личность. Некто князь Голицын, молодой человек,
исполненный достоинств, привлекал взоры государыни, но не
пользовался поддержкой этого могущественного министра, который,
опасаясь, что не успеет посредством всевозможных интриг
отодвинуть его назад, в толпу людей, не стоящих внимания, счел
более удобным навлечь ему ничем не вызванную ссору. Один
молодой человек и г. Шепелев приняли на себя это
унизительное поручение. Князь Голицын не был лишен храбрости и ума;
уверяют, что, хватаясь за шпагу, он сказал: я знаю источник,
откуда проистекает это дело, и знаю также, что я должен
умереть, хотя-бы и был победителем; но все равно, я хочу
лишиться жизни, как следует неустрашимому. Действительно, он
дрался, как лев, но тем не менее погиб. Вопреки здешним
законам против поединков, г. Шепелев не подвергся никакому
наказанию и вскоре потом женился на одной из племянниц
князя»48.
Пушкин также считал, что Потемкин спровоцировал дуэль
из ревности: «Князь Голицын <...> был молодой человек и
красавец. Императрица заметила его в Москве, на бале (в 1775)
и сказала: "Как он хорош! Настоящая куколка". Это слово его
погубило. Шепелев (впоследствии женатый на одной из
племянниц князя Потемкина) вызвал Голицына на поединок и
заколол его, сказывают, изменнически. Молва обвиняла
Потемкина...»49 («Замечания о бунте» [Пушкин, IX: 373—374]). В
1841 году Петр Вяземский также упоминает якобы
неприглядную роль Потемкина в этой дуэли50.
Другие мемуаристы отмечают нежелание Потемкина
участвовать в дуэлях. Сергей Глинка упоминает о том, что
Потемкин якобы отказался драться с Павлом Дашковым: «Из
приверженности своей к графу Румянцеву, князь Дашков вызвал
Потемкина на поединок. Князь Таврический не поднял
рыцарской перчатки, но, как увидим далее, не от трусости»51.
Глинка не вернулся к этой теме, предоставив читателю гадать, как
он собирался оправдывать Потемкина. Глинка также
сообщает и об оставленном без ответа вызове графа Ангальта: «Он |Ан-
гальт) вызвал его на поединок, а где? Не могу сказать
утвердительно»52. Этот же слух зафиксирован и М.А. Гарновским,
Глава 2. Краткая история дуэли в России 61
управляющим делами Потемкина в Санкт-Петербурге, который
вел запись столичных событий для своего хозяина: «Говорят в
городе и при дворе еще следующее: графы Задунайский и Ан-
гальт приносили Ея Императорскому Величеству жалобу на
худое состояние российских войск, от небрежения его
светлости в упадок пришедших. Его светлость, огорчась на графа
Ангальта за то, что он таковые вести допускает до ушей Ея
Императорского Величества, выговаривал ему словами, чести его
весьма предосудительными. После чего граф Ангальт требовал
от его светлости сатисфакции. К сему присовокупляют, что Ея
Императорское Величество не благоволит к его светлости*53.
Гарновский, так же как и Глинка, избегает вопроса о
нежелании его хозяина драться. Вместо этого он подвергает
сомнению сами слухи: «Многие и меня вопрошали, правда ли это?
Г. Суденков судит о сем тако: статься легко может, что графу
Задунайскому взбрело на ум жаловаться на худое состояние
войск, но и то правда, что в рассуждении старости лет не всяк
его сиятельству поверит. Впрочем, все это брехня»54.
Знаменательна, однако, устойчивость подобных слухов.
В то же время Потемкин фигурирует в памяти культуры и
как обидчик дворян. Пушкин, обвиняя Екатерину в унижении
дворянского духа, подчеркивает роль фаворитов, и в
особенности Потемкина: «В этом деле ревностно помогали ей
любимцы. Стоит напомнить о пощечинах, щедро ими раздаваемых
нашим князьям и боярам, о славной расписке Потемкина,
хранимой доныне в одном из присутственных мест государства,
об обезьяне графа Зубова, о кофейнике князя Кутузова и проч.
и проч.». В примечании, поясняя «славную записку»,
Пушкин цитирует популярный анекдот о грубости Потемкина по
отношению к собратьям-дворянам: «Потемкин послал однажды
адъютанта взять из казенного места 100 000 рублей.
Чиновники не осмелились отпустить эту сумму без письменного вида.
Потемкин на другой стороне их отношения своеручно
приписал: дать, е... м...» (<«3аметки по русской истории XVIII ве-
ка»> [Пушкин, XI: 16])55.
Сборник исторических анекдотов, опубликованный в 1860-е
годы и в целом изображающий Потемкина в положительном
ключе, как энергичного и талантливого общественного деятеля,
известного своим независимым — хотя иногда и эксцентричным —
поведением, тем не менее содержит рассказы об обидах, якобы
нанесенных Потемкиным дворянам. Несколько анекдотов
сообщают о привычке Потемкина, выражая недовольство, плевать
людям в лицо — например, по поводу проигрыша в карты или
чьего-либо непочтительного замечания. В одном таком анекдоте
62 И. Рейфман. Ритуализованная агрессия
Потемкин плюет в нос генералу за нелестное замечание о его
статусе фаворита ее императорского величества: «Старый и
заслуженный генерал Мелиссино имел неосторожность отозваться
нескромно в одном обществе о Потемкине, говоря, что счастье
вытянуто его за нос, благо он у него длинен. Слухи об этом дошли
до князя, и Мелиссино был тотчас потребован к нему. В
тревожной неизвестности прождал старик по крайней мере часа четыре
в приемной князя, покуда не был позван. Потемкин принял его,
одетый в одну сорочку, с босыми ногами, и, взяв за руку,
подвел к зеркалу, перед которым лежала бритва." Померяемся
носами, ваше превосходительство, — произнес он решительно, — и
чей член окажется меньше, тот и упадет под бритвою на пол. Да
что и меряться? Посмотрите, какая у вас гаденькая пуговица,
просто тьфу!" — и при этом Потемкин плюнул на спорную часть
тела и отпустил Мелиссино, ограничившисьтолько замечанием:
"Прошу впредь не хвастаться, а покрепче держаться за меня,
иначе может быть очень худо"»56.
Примечательно, что столкновение Потемкина с генералом
изображается как потешная дуэль— или договор о
самоубийстве. Более того, предложение помериться носами в сочетании
с упоминанием бритвы превращает предложение дуэли в
угрозу кастрации: фраза «чей член окажется меньше, тот и упадет
под бритвою на пол» оставляет неясным, будет ли у
проигравшего отрезан член, или он сам будет зарезан. Существенно,
что Потемкин уклонился и от этой дуэли, оправдывая этот отказ
своим очевидным превосходством.
Несмотря на свой зачастую вымышленный характер,
анекдоты о наглых фаворитах и их грубом обращении с собратьями-
дворянами отчетливо демонстрируют фактическое неравенство
внутри дворянства. Дворянин, настаивающий на равенстве со
своим начальник<}м на основе кодекса чести, рисковал своей
карьерой, а иногда и жизнью. Дело поручика лейб-гусарского
полка Куколя-Ясногюльского иллюстрирует это положение. В
конце 1770-х годов Куколь поссорился со своим командиром,
Семеном ЗЪричем, недавним фаворитом Екатерины. Куколь
обвинит Зорина в том, что тот препятствовал его продвижению
по службе. Зорич в ответ на это резко одернул его в присутствии
других офицеров. Сделанное им замечание было не просто
грубым, но подчеркивало должностное неравенство: «Как ты,
сукин сын, дурак и этакая креатура, можешь трунить над
Императорским генералом?» Куколь подал в отставку и, когда
Зорич поинтересовался причиной, сослался на оскорбленную
честь: «[Б]удучи от него бесчестным образом обижен, более
Глава 2. Краткая история дуэли в России 63
никак не намерен служить». Зорин предложил Куколю
сатисфакцию, но только после отставки поручика, то есть после
того, как он перестал бы быть подчиненным Зорича. Куколь же
хотел немедленной сатисфакции и послал Зорину вызов. Этот
вызов, сочетающий в себе ритуальную вежливость с
исключительной грубостью, настаивал на праве дворянина оберегать
свою честь от дурного обращения начальника. «Опомнись и
рассуди своей глупою головою, — писал Куколь, — что я
человек и что меня по пружинам нельзя ворочать». Куколь
заключил свой картель выражением готовности погибнуть за свою
честь: "Ожидающий или сам на плацу за честь свою остаться,
или тебя, гунствата, оставить— Куколь-Яснопольский"57.
По получении этого письма Зорич оставил рыцарскую позу
и повел себя как начальник: он приказал Куколю явиться к
нему, а когда Куколь ответил еще одним оскорбительным
письмом, доложил о случившемся вышестоящему начальству. За
нарушение субординации Куколь был судим военным судом,
приговорен к повешению, но затем помилован и сослан в
Сибирь с лишением чинов. Зоричу, однако, Екатерина
повелела быть более учтивым с подчиненными офицерами.
Куколь-Яснопольский просчитался, придавая столь
большое значение своему статусу дворянина, который, как он
думал, охранял его от злоупотреблений со стороны начальства.
Он недооценил важности служебного чина Зорича и особенно
его статуса бывшего фаворита. В результате он обнаружил, что
император или императрица по-прежнему остаются
инстанцией, распределяющей честь, и что «императорский генерал» и
«императорский фаворит» имеют больше чести, чем простой
поручик.
Привилегия распределения чести придавала русскому
монарху особый статус, мешавший его символическому слиянию
с дворянством по примеру Европы, где монарх, хотя бы
символически, считался «первым среди равных». Русские
дворяне, особенно те, которые питали надежды на установление в
России конституционного режима, придавали этому отличию
большое значение. Д.И. Фонвизин, во время своего
пребывания в Париже в 1778 году, был чрезвычайно впечатлен
поведением графа д'Артуа, брата Людовика XVI, который
принял вызов от герцога де Бурбона. Фонвизин пересказывает этот
случай в письме Петру Панину: «Граф в маскараде показал
неучтивость дюшессе де Бурбон, сорвав с нее маску. Дюк, муж
ее, не захотел стерпеть сей обиды. А как не водится вызывать
формально на дуэль королевских братьев, то дюк стал везде
являться в тех местах, куда приходил граф, чем показывал ему,
64
И. Рейфман. Ритуализоваппая агрессия
что ищет и требует неотменного удовольствия. Несколько дней
публика любопытствовала, чем сие дело кончится. Наконец
граф принужденным нашелся выйти на поединок. Сражение
минут с пять продолжалось, и дюк оцарапал ему руку. Сие
увидя, один стоявший подле них гвардии капитан доложил
дюку, что королевский брат поранен и что как драгоценную
кровь щадить надобно, то не время ли окончать битву? На сие
граф сказал, что обижен дюк и что от него зависит,
продолжать или перестать. После сего они обнялись и поехали прямо
в спектакль, где публика, сведав, что они дрались,
обернулась к их ложе и аплодировала им с несказанным
восхищением, крича: браво, браво, достойная кровь Бурбонов!» Как
известно, Фонвизин разделял конституционные симпатии Никиты
Панина, чем можно объяснить его особый интерес к
эгалитаристскому поведению графа д'Артуа. Тем не менее он выражает
свое мнение о происшедшем осторожно, желая сначала узнать,
что думает об этом его более высокопоставленный
корреспондент: «Я свидетелем был сей сцены, о которой весьма бы
желал знать мнение вашего сиятельства»58. Примечательно, что
для декабристов провозглашаемое ими равенство с государем
служило оправданием восстания. Известно также о нескольких
попытках с их стороны вызвать членов царской семьи на дуэль.
Еще одним серьезным препятствием усвоению русскими
дуэли было ее иностранное происхождение. Во второй половине
века, когда русские вплотную занялись созданием
национальной культуры, дуэль стала служить эмблемой иррациональной
зависимости от иностранных моделей. Так, в «Бригадире»
Фонвизина намерение Иванушки вызвать своего отца на дуэль
обнаруживает в нем глупого галломана. Отметим, что
Иванушка находит образец своего поведения в книге под названием «Les
sottises du tempes», то есть обращается к чужеземному обычаю,
от которого сами французы якобы уже отказались, сочтя его
неразумным59. Сходным образом Николай Новиков в
«Живописце» высмеивает приверженность своих соотечественников к
французской идее point d honneur. В известиях «Из Кронштадта»
сообщается, что «в здешний порт прибыл из Бурдо корабль: на
нем, кроме самых модных товаров, привезены 24 француза,
сказывающие о себе, что они все бароны, шевалье, маркизы
и графы и что они, будучи несчастливы в своем отечестве, по
разным делам, касавшимся до чести их» вынуждены были
эмигрировать в Россию. Однако все эти «благородные» люди
оказываются обыкновенными преступниками, которых французская
полиция выслала из Парижа60. Николай Страхов, особенно
страстный критик дуэли, также подчеркивал французское про-
Глава 2. Краткая история дуэли в России 65
нахождение кодекса чести, высмеивая в своем «Сатирическом
вестнике» тех русских, которые «по моде перенимали у
французов их point dfhormeun>bK
Знаменательно, что в связи с дуэлью и с идеей кодекса
чести то и дело всплывает имя Петра III. Как известно, среди
своих современников этот монарх имел репутацию шута и
поклонника прусского императора Фридриха Великого. Его
интерес к дуэли часто упоминался как его прусская причуда.
Княгиня Дашкова, например, связывала любовь Петра к
кодексу чести с его увлечением всем прусским. В ее
изображении Петр и его дядя, поссорившись, «как настоящие прусские
офицеры, из-за различия мнений в разговоре обнажили
шпаги и уж собрались было драться...». Далее она в комических
тонах описывает, как барон Корф предотвратил поединок: он
«бросился на колени перед ними и, рыдая, как женщина,
объявил, что не позволит им драться, пока они не проткнут
шпагой его тело». В другой раз Петр сделал выговор мужу
Дашковой за упущение по службе. Дашков отрицал свою вину,
но император продолжал ему выговаривать. Дашков, который,
по словам мемуаристки, «был очень несдержан, если дело
касалось хоть самым отдаленным образом его чести, ответил с
такой горячностью и энергией, что император, который о
дуэли имел понятия прусских офицеров, счел себя,
по-видимому, в опасности и удалился так же поспешно, как и
подбежал»62. Дашкова представляет дело так, будто Петр испугался,
что Дашков воспользуется прусским законом 1744 года,
который давал младшим офицерам право вызывать на дуэль
старших по званию.
Анекдоты о Петре III как о дуэлянте-неудачнике отражают
глубоко двойственное отношение к дуэли его современников:
они высмеивают Петра III, не будучи вполне уверенными, были
ли кодекс чести и дуэль нелепы сами по себе, или казались
такими благодаря Петру. Дашкова пытается представить
попытки Петра следовать кодексу чести как прусскую причуду, но в
то же время она высмеивает его будто бы очевидную трусость и
представляет щепетильность своего мужа в вопросах чести как
положительную черту. Более того, она отправила своего сына
учиться фехтованию в годы его учебы в Эдинбурге.
Разумеется, у Дашковой были свои причины изображать Петра III в
наихудшем свете, однако ее амбивалентные высказывания об
императоре как о дуэлянте отражают также и общепринятые
сомнения в ценности дуэли и кодекса чести.
Не исключено, однако, что на самом деле Петр III
пытался способствовать принятию русскими дуэли. Для иллюстрации
3. Заказ №2522.
66 И. Рейфмап. Ритуализованная агрессия
якобы смехотворного увлечения Петра III кодексом чести
Дашкова приводит анеклот, который можно интерпретировать как
неуклюжую (или нарочито двусмысленную) попытку
продвижения им идеи чести в военной среде. Во время учений,
незадолго до екатерининского переворота, Петр III увидел, что его
чернокожий слуга, Нарцисс, дерется с профосом полка.
Удрученный император воскликнул: «Нарцисс потерян для нас!»
Когда же свидетели происшествия попросили у него
объяснений, он заявил: «Разве вы не знаете, что уж ни один военный
не может терпеть его в своем обществе, так как тот, к кому
прикоснулся профос, опозорен навсегда». Петр, очевидно,
имел в виду тот факт, что Нарцисс обесчестил себя контактом
с профосом, одной из функций которого было осуществление
телесных наказаний. В конце концов Петр III произвел над
Нарциссом потешный ритуал очищения: он приказал покрыть
его полковым знаменем и уколоть пикой, чтобы смыть
бесчестье кровью63.
Конфронтацию же Петра III с Дашковым можно
интерпретировать как признание императором их равенства. Петр III
действовал так, как будто он ожидал вызова со стороны
Дашкова, и соответственно считал возможной дуэль не просто между
начальником и подчиненным, но даже между императором и
его офицером. Клод Карломан де Рюльер, секретарь
дипломатической миссии в Санкт-Петербурге, приводит в своих
мемуарах еще один пример готовности Петра III драться с
противником, стоящим ниже его на социальной лестнице: «Однако,
он имел несколько живой ум и отличную способность к
плутовству. Один поступок обнаружил его совершенно. Без
причины обидел он придворного, и как скоро почувствовал свою
несправедливость, то в удовлетворение предложил ему дуэль.
Неизвестно, какое было намерение придворного, человека
искусного и ловкого, но оба они отправились в лес и,
направив свои шпаги в десяти шагах один от другого, не сходя с
места, стучали большими своими сапогами. Вдруг Князь
остановился, говоря: "Жаль, если столь храбрые, как мы,
переколемся. Поцелуемся". Во взаимных учтивостях они
возвращались к дворцу, как вдруг придворный, приметив много
людей, поспешно вскричал: "Ах, Ваше Величество, Вы
ранены в руку, берегитесь, чтобы не увидели кровь", и бросился
завязывать оную платком. Великий князь, вообразив, что этот
человек почитает его действительно раненым, не уверял его в
противном, хвалился своим геройством, терпением и, чтобы
доказать свое великодушие, принял его в особенную милость»64.
Глава 2. Краткая история дуэли в России 67
Хорошо известно, что воспоминания Рюльера — крайне не
надежный источник. В данном случае невозможно даже
датировать описываемое происшествие: Петр III фигурирует здесь
одновременно и как император, и как великий князь. Тем не
менее этот анекдот отражает превалирующее скептическое
отношение к Петру III как к дуэлянту. Рюльер подает этот
эпизод как пример чудачества или даже глупости Петра III. В то
же время, сколь бы смешными ни представлялись действия
Петра III его современниками, их истории о Петре-дуэлянте
документируют его знакомство с кодексом чести и, хоть и
весьма своеобразное, уважение к нему. Если принять во внимание,
что именно Петр III даровал дворянам свободу от
обязательной службы (чем способствовал утверждению независимого
статуса дворянина и разрыву связи между чином и мерой
чести), то можно предположить, что его эксцентрическое и
амбивалентное дуэльное поведение было нацелено скорее на
продвижение, чем на дискредитацию кодекса чести. Не будем
забывать, что Фридрих Великий, служивший Петру III
примером, разрешил в ограниченном порядке дуэли в армии в
качестве защиты младших офицеров от грубого обращения
командиров, признав, таким образом, изначальное равенство всех
дворян между собой. Однако, если Петр III и в самом деле
пытался привить идею дуэли и кодекс чести своим подданным,
его попытки не были поняты и оценены.
Отвергая дуэль за ее западное происхождение, русские
парадоксальным образом находили поддержку своей критике
дуэли на том же Западе, где дуэль давно уже критиковалась как
беззаконное, антиобщественное и иррациональное явление.
Популярные в России западные кодексы поведения,
продвигая идею ценности дворянской чести, одновременно
предостерегали от дуэлей. «La veritable politique» в переводе Тредиа-
ковского, например, содержит резкую критику дуэли как
неразумного и саморазрушительного действия: «Удивительно,
что варварский обычай биться на поединок <sic!> толь много
пребывал во многих государствах! Что за бешеная ярость
убивать себя за некоторую собственную ссору, и часто за безделицу?
Не возможно без ужаса рассуждать о смертоносных следствиях
бесчеловечных сих действий. Пускающийся в сию напасть,
теряет все свое добро; принужден он уйти из государства, и
навеки разлучиться от всех своих любезных. Он отдает
несчастье свою жизнь <sic!> которую может потерять в бою, буде не
осилеет, или на плахе, буде хотя и одолеет»65. Сходным
образом «некий брамин», которому приписывается авторство
«Экономии жизни человеческой», предупреждает: «Не вдавайся в
3*
68 И. Рейфмаи. Ритуализованная агрессия
ярость, сие есть острить меч, для уязвления себя самого, или
для убийства твоего друга»66.
Русская критика дуэли, в полной мере развернувшаяся к
концу XVIII века, испытала заметное влияние критики
западной, в том числе трудов Паскаля, Лабрюйера, Монтескье и
Руссо, а также «Энциклопедии», в которой содержится
несколько статей, посвященных дуэли и кодексу чести. Так,
стремясь заклеймить дуэль как нечто исключительно нелепое и
бессмысленное, Новиков описывает вымышленный поединок,
происходящий в театральной ложе между двумя женщинами,
не поделившими любовника. В качестве оружия они
используют шпильки для волос: «Не древние на брань ополчаются
амазонки, храбростию своею греков устрашавшие, не
смертоносные из колчанов своих извлекают стрелы: две любовницы,
женщины нашего века, выдергивают из шиньонов своих
длинные булавки и мгновенно ими друг друга поражают. Обе по-
единщицы приходят в исступление: злоба паче возгорается,
удары повторяются, а любовник с места удаляется. Храбрые наши
ироини, переколов друг другу и руки и бока и истощив свои
силы, не победя соперницу, удивляются своей крепости.
Стыд, что все на них свои обратили взоры, заступает место
злобы и на лице их показывается. Они встают со своих мест и
удаляются; а я во след им посмеюся. Ха! ха! ха!»67 Комический
эффект строится не только на том, что дуэлянты — женщины
и дерутся на шпильках, но и на том, что они
противопоставляются доблестным воительницам древности. Упражняясь в
остроумии, Новиков представляет дуэль как нелепое
отклонение от норм человеческого поведения, установленных еще
древними. Похожий аргумент, но поданный в серьезном тоне,
можно найти и в «Новой Элоизе» Руссо. В своем письме Сен-
Пре о вреде дуэлей Юлия утверждает, что дуэль
несостоятельна, в частности, потому, что не имеет исторических образцов,
в особенности в греческом и римском мире. Сходным образом
Филипп Дормер Стэнхоуп, Лорд Честерфильд, в своей сатире
(1751), посвященной дуэли, язвительно замечает: «Должно
быть, у древних было очень несовершенное понятие о ЧЕСТИ,
раз у них не было понятия о ДУЭЛИ»68.
Страхов также следует западным образцам в своих
нападках на дуэль. Так, он изображает ее как результат слепого
подражания моде: «Хотя мода распространяла законы свои на платье
и образ жизни, однакож не менее также имела она влияния на
истинный образ мыслей наших, наши страсти, благополучие
и даже самой конец жизни. Здесь прежде по моде предавались
развращению, модное имели честолюбие, модную колкость,
Глава 2. Краткая история дуэли в России 69
и по моде перенимали у Французов их point d'honneur. Мода
повелевала ссориться, быть дерзким, всякого толкать, ругать,
драться при первом слове, и таковыми гнусными и обидными
поступками принуждать других решать ссору шпагами,
проливать кровь и нередко кончить самую жизнь»69. Критика дуэли
как модного поветрия и, следовательно, сомнительного
института стала клише со времен публикации Паскалем своих
«Писем провинциала» (1656)70. Страховская инвектива особенно
напоминает критику дуэли Лабрюйером в главе «О моде» его
«Характеров» (1688). Как и его предшественник, Страхов
пишет о дуэли в прошедшем времени, как если бы она уже
отмерла, и благодарит государя за мудрые законы, положившие
ей конец: «Но ныне, благодаря премудрому, истинному и бла-
гозиждительному закону, таковые изверги преследуемы всюду
наказаниями, всюду презренны и везде осрамлены»71. Следуя
западным образцам, Страхов представляет дуэль как явление
неразумное и соответственно нежизнеспособное, стоящее на
пороге окончательного исчезновения. В действительности же
России еще предстояло пережить пик истинной популярности
дуэли.
У идеологов Просвещения русские заимствовали не только
критику дуэли, но и идеал рациональных и надежных законов,
чтимых как гражданами, так и правительством. Они осуждали
дуэль как институт, игнорирующий и закон, и разум. Так,
Фонвизин приводит критические высказывания своего отца о
недопустимости дуэли в цивилизованном обществе: «Мы
живем под законами, — говаривал он, — и стыдно, имея таковых
священных защитников, каковы законы, разбираться самим на
кулаках. Ибо шпаги и кулаки суть одно. И вызов на дуэль есть
не что иное, как действие буйной молодости»72. Эта точка
зрения очевидна и в критике дуэли Радищевым. В «Путешествии
из Петербурга в Москву» дворянин напутствует своих сыновей,
отправляющихся на службу, и предостерегает их от
использования шпаг для какой-либо иной цели, кроме защиты
собственной жизни: «Научил я вас и варварскому искусству сражаться
мечем. Но сие искусство да пребудет в вас мертво, доколе
собственная сохранность того не потребует. Оно, уповаю,
несделает вас наглыми; ибо вы твердой имеете дух, и обидою
несочтете, если осел вас улягнет, или свинья смрадным до вас
коснется рылом» [Радищев, I: 288]. Страхов, с
удовлетворением описывая якобы происшедший под влиянием
Манифеста упадок дуэли, высмеивает ее как неразумный обычай,
ставящий жизнь человека в зависимость от прихоти глупых забияк.
В его сатире Дуэли пишут ностальгическое письмо о временах
70 Я. Рейфман. Ритуализованная агрессия
до Манифеста. Письмо обращено к Моде, общепринятой
эмблеме глупости: «Бывало в собраниях, под опасением
перерезания горла, все наблюдали строжайшее учтивство, или по
крайней мере самое прилежное в оном притворство, так что
щеголи не смели друг другу пикнуть ни одного неприятного
слова. Но этого еще мало! Бывало посидишь хоть часок в
гостях, того и гляди, что за собою ничего не знавши ни
ведавши, поутру мальчик бряк во двор с письмецом, в котором тот,
кого один раз от роду увидел и едва в лицо помнишь, ругает
тебя на повал и во всю ивановскую, да еще сулит пощечины и
палочные удары, так что хоть не рад, но готов будешь
резаться»73. Страхов связывает отмирание дуэли с победой «здравого
смысла*, на который жалуются Моде безработные учителя
фехтования: «Назад тому несколько лет, с достойною славою
преподавали мы науку колоть и резать, и были первые,
которые ввели в употребление резаться и смертоубивать. Слава наша
долго гремела и денежная река безпрерывно лилась в карманы
наши. Но вдруг некоторое мощное божество, известное под
имянем здравого смысла, вопреки твоим велениям, совсем
изгнало нас из службы щегольского света»74. Такое отношение
объясняет, почему многие русские приветствовали «Манифест
о поединках»: они видели в нем разумный закон, призванный
оградить их честь от посягательств со стороны неразумных
сограждан. Вот как говорит об этом Страхов: «Опыты ясно дают
нам видеть правосудие сих законов. Все желают, дабы сии
премудрые и благо изливающие законы продолжали предограж-
дать нас тишиною, водворяли бы среди городов благонравие и
добродетели, и воспрещали появляться прежней моды
драчунам и убийцам»75.
Все эти примеры как будто свидетельствуют, что в конце
XVIII века для защиты своего личного пространства русские
дворяне твердо были.намерены искать покровительства у
закона, а не прибегать к дуэли. Их неприятие дуэли кажется
непоколебимым. Однако их отношение изменилось практически в
одну ночь — в ночь убийства Павла I.
Павел I и дуэль:
Рыцарь с палкой
Царствование Павла I было переходным периодом в
истории русской дуэли. Если Екатерина II на протяжении всего
своего царствования мягко, но настойчиво противостояла
дуэли, то позиция Павла I была двойственной и подавала под-
Глава 2. Краткая история дуэли в России 71
данным противоречивые сигналы. С одной стороны,
современники видели в Павле I идеалистического приверженца идеи
чести, ее Гамлета и Дон Кихота76. Он был известен не только
своим неизменным интересом к рыцарству, но и несколькими
попытками лично участвовать в дуэлях. Первые знаки
уважения Павла к идее чести видны в его беседе о дуэли с Пороши-
ным, когда великому князю было всего 10 лет. Выслушав
разъяснение Порошина о том, что дуэль противозаконна и
глупа, за исключением редких случаев, когда «честь обязывает
вынять <sic!> шпагу*, Павел поинтересовался: «[К]ак-то мне
быть, как дойдет случай выйти на поединок?» Порошин и
другие взрослые дружно осудили саму мысль о возможности
дуэли для члена императорской фамилии: «Говорили все мы,
сколько нас было, что Великому Князю конечно такой
необходимости никогда не будет: с равным себе встреться <sic!> и
так жестоко поссориться конечно ему не случится, с вышним
себе никогда не увидится, а нижнему или подчиненному
прощать надобно, когда сделает ему досаду, великодушие того
требует»77. Однако много лет спустя, в Неаполе в 1782 году,
Павел пренебрег советом своих воспитателей и вызвал Андрея
Разумовского, пытаясь отомстить за честь своей покойной
жены, великой княгини Натальи (Вильгельмины Дармштадт-
ской), слухи о романе которой с Разумовским дошли до
Павла. Павел обнажил шпагу и предложил Разумовскому
поединок, но свидетели ссоры остановили их78. Позднее, в
1801 году, у Павла I возникла идея, которую многие нашли
смехотворной: он предложил, что для установления вечного мира
европейские монархи должны вызвать друг друга на дуэль, взяв
премьер-министров в качестве секундантов. Это предложение,
каким бы донкихотским оно ни было, упрочило репутацию
Павла I как государя-рыцаря. В своем на редкость
комплиментарном описании царствования Павла I Н.А. Саблуков
трактует эту утопическую идею как искреннее выражение
благородного духа государя: «Как доказательство его рыцарских, даже
доходивших до крайности воззрений, может служить то, что он
совершенно серьезно предложил Бонапарту дуэль в Гамбурге с
целью положить этим поединком предел разорительным
войнам, опустошавшим Европу»79.
В то же время Павел I давал понять, что он ожидает
благородного поведения и от своих офицеров. Как пишет С.А. Пан-
чулидзев, составитель сборника биографий кавалергардов,
«император Павел справедливо находил, что лица, совершившие
не только преступные деяния, но и поступки, хотя и не
караемые законом, но несовместимые с порядочностью, не могут
и не должны быть терпимы в офицерской среде». Панчулид-
72 И. Рейфман. Ритуализованная агрессия
зев приводит несколько случаев, когда офицеры были уволены
за драки или за неспособность ответить на оскорбление
сообразно кодексу чести. Он полагает, что «как следствие
вышеприведенного взгляда на офицерское звание, должно было
явиться у Павла I если не формальное разрешение дуэлей, то
крайне снисходительное к ним отношение»80.
Иногда Павел действительно поощрял дуэли. Генерал
И.О. Кутлубицкий, его адъютант, рассказывает об одном деле
чести, которое началось при Екатерине, а разрешилось уже при
Павле I. Некий князь Щербатов поссорился в театре с заезжим
немецким князем, презрительно отказавшимся отвечать на
вопрос Щербатова о качестве игры русских актеров. Щербатов
ударил немца тростью по лицу. Екатерина II, желая погасить
конфликт, прислала немцу через Платона Зубова ценную
табакерку в утешение и повелела ему покинуть пределы России.
Щербатова же уволили со службы и запретили ему въезд в
столицу. Взойдя на престол, Павел вернул Щербатова на службу
и даже повысил его в чине. Между тем, путешествуя по
Германии, Зубов получил от побитого немца вызов на дуэль для
передачи Щербатову. Когда Щербатов попросил оформить ему
отпуск и дать разрешение на выезд за границу, Павел не
только разрешил, но и выдал на дорогу пять тысяч рублей. По
возвращении Щербатова Павел спросил его: «Что, убил
немецкую свинью?» — и с удовлетворением выслушал
положительный ответ81.
Одновременно, однако, Павел I сурово наказывал не
только потенциальных дуэлянтов, но и тех, кто настаивал на
должном уважении к офицеру и дворянину. Так, осенью 1797 года
Павел лично повелел строго наказать двух офицеров за протест
против унизительного обращения с ними Аракчеева, грубо
обругавшего их во время смотра полка. По приказу императора
бунтовщики были лишены чинов и дворянства, а затем
сосланы в Сибирь на каторгу82. Несмотря на то что Павел I через
полтора месяца помиловал этих офицеров, сама возможность
такого несоразмерного наказания не могла не вызвать у дворян
негодования и страха.
Дурное обращение Аракчеева с офицерами не было
уникальным случаем. Напротив, это был только один из многих
примеров унизительного обращения начальства с дворянством в
царствование Павла I. Так, С.А. Панчулидзев сообщает, что
полковник Петр Фроловский, чтобы упрочить дисциплину,
приказал выпороть двух гвардейских офицеров83. Н.К. Шиль-
дер приводит историю поручика Конной гвардии П.И.
Милюкова, которого Павел I приказал высечь плеткой84. Саблуков,
обычно превозносящий благородство Павла и утверждающий,
Глава 2. Краткая история дуэли в России 13
что ему несвойственно было даже употребление бранных слов,
рассказывает, как однажды этот государь побил трех офицеров
тростью. Саблуков также отмечает, что суровое и
незаслуженное наказание офицеров за мельчайшие провинности подрывало
среди них чувство чести85.
Атмосфера страха и неуверенности привела к практически
полному отказу от дуэлей в царствование Павла I. В делах
Российского государственного военно-исторического архива за
1797—1801 годы упоминаются лишь три разбирательства по
поводу вызовов на дуэль и одно-единственное по поводу
состоявшейся дуэли. Любопытно, что наказание дуэлянтов не было
даже особенно суровым: их лишили свободы на два месяца, а
затем уволили со службы86. Немногочисленность вызовов
показывает, что в царствование Павла I один только страх
унижения был достаточен для почти полного искоренения дуэлей.
Согласно интерпретации Н.Я. Эйдельмана, противоречие
между рыцарскими порывами Павла и атмосферой страха,
отмечавшей все его царствование, объясняется противоборством
в его сознании двух взаимоисключающих принципов, которые
он стремился примирить. Эти принципы — «всевластие и
честь»: «первое предполагало монополию одного Павла на
высшие понятия о чести, что никак не сопрягалось с попыткой
рыцарски облагородить целое сословие»87. Соответственно
Павел I безусловно признавал лишь одну честь, а именно свою
собственную; подданным же его разрешалось иметь честь
только по высочайшему соизволению. Важным фактором в случае
со Щербатовым было то обстоятельство, что он вступился за
национальную, а не личную честь. Более того, финансировав
поездку Щербатова, Павел I сделал его представителем
государства, перехватив таким образом инициативу в этом
конфликте чести. Напротив, офицеры, вступившие в конфликт с
Аракчеевым, пытались защищать свою личную честь от
посягательств на нее своего командира, офицера на императорской
службе. В каком-то смысле это был вызов, затрагивающий
честь самого государя, и Павел I не мог стерпеть этого.
Золотой ВЕК РУССКОЙ ДУЭЛИ
Хотя унизительное обращение Павла I с офицерами и
удерживало их от дуэлей, оно не уничтожало — а скорее даже
поддерживало — их желание защищать свою честь и достоинство.
Чувство раскрепощенности, характерное для начала
царствования Александра I, ознаменовало для дворян реабилитацию
74 И. Рейфман. Ритуализованная агрессия
запрещенных прежде форм поведения, и прежде всего дуэли.
Согласно Саблукову, дуэли немедленно возобновились даже
среди офицеров, осуждавших убийство Павла. Любопытно, что
таким образом противники переворота стремились выразить свое
отвращение к цареубийцам: «Офицеры нашего полка держались
в стороне и с таким презрением относились к заговорщикам,
что произошло несколько столкновений, окончившихся
дуэлями»88.
Многие конфликты чести, начавшиеся и поневоле
приостановленные при Павле I, теперь могли получить
завершение. В результате число дуэлей в начале XIX века резко
возросло. Одним из таких возобновленных дел чести была дуэль
1803 года между А.П. Кушелевым и Н.Н. Бахметьевым, при
которой присутствовало несколько выдающихся современников
(П.И. Багратион, И.А. Крылов и И.А. Яковлев, отец
Герцена). Дело началось в 1797 году, когда Бахметьев, бывший
тогда командиром Кушелева, ударил его тростью в наказание за
ошибку, совершенную на учениях. Не имея в то время
возможности вызвать Бахметьева на дуэль, Кушелев ждал
сатисфакции шесть лет89. Сергей Марин (бывший одним из главных
заговорщиков в убийстве Павла и сам сильно пониженный в
звании в 1797-м за то, что сбился с шага при смене караула)
описывает этот случай в письме М.С. Воронцову, датируемом
22 октября 1803 года: «Отсюда собрался к вам ехать Кушелев,
но случившаяся с ним несчастная история здесь его
неприятным образом задержала. Ежели ты хочешь ее знать, прочти
ниже. Кушелев служил в Измайловском полку в батальоне
Бахметьева; вошедший тогда в моду гатчизм, заглушив
воспитание и нравы во многих, имел также влияние и на господина
Бахметьева, который побил палкой Кушелева, не смотря, что
был хорошо принят в доме отца его, бывшего своего
командира. Время ужаса заставило молчать обиженного; обидчик
выпущен в армию, Кушелев остался в Петербурге. По сю пору
они нигде не съезжались; а теперь к несчастью увиделись в доме
Марфы Арбеневой, которая, услышав, что Бахметьев говорит
с Кушелевым, закричала: "Я думаю, тебе, Кушелев,
неприятно говорить с Бахметьевым; ведь он тебя бил палкою"; это
случилось при многих, и Кушелев должен быть вызвать; долго
отговаривался Бахметьев, всячески старался отделаться от
дуэли и кончил тем, что Кушелева выслали за город; однакож
они дрались в Царском Селе; нет раненых. Правительство
узнало, воротили Кушелева и обоих теперь судят. Ты узнаешь, кто
останется виноватым после»90. Характерно, что Марин не
особенно опасается распространения информации об этой дуэли.
Глава 2. Краткая история дуэли в России 75
Конечно, выступая на стороне Кушелева, он несколько
подтасовывает факты, очевидно стараясь приуменьшить вину
Кушелева: Кушелев не был неожиданно вынужден к дуэли
неуместным замечанием Марфы Арбеневой, а сам активно искал
повода для возобновления дела чести91. И все же открытость,
с которой Марин пишет об обстоятельствах дела,
свидетельствует о доверии дворянства к либеральной политике начала
александровского царствования.
Расцвету дуэлей в начале XIX века содействовали и другие
факторы. Так, несколько войн потребовали присутствия
русской армии за фаницей, что обусловило прямой контакт с еще
живой на Западе дуэльной традицией. Фаддей Булгарин
отмечает в своих мемуарах большое число дуэлей в войсках,
которые участвовали в заграничных походах. Он пишет о кампании
1807 года, в ходе которой русские оказались в Пруссии: «Чаще
других ссорились и дрались с Пруссаками Русские гусарские
офицеры, за то, что Пруссаки, верные преданиям
Семилетней Войны, почитали свою конницу первою в мире. Где
только гусары наши сходились с Прусскими кавалерийскими
офицерами — кончалось непременно дуэлью». Булгарин также
пишет о частых дуэлях между русскими офицерами во время
шведской кампании 1808—1809 годов: «Рубились за безделицу,
потом мирились, и не помнили ссоры»92. Конечно, Булгарин,
работая над мемуарами, заботился о своей репутации
благородного человека, и этими соображениями может объясняться его
настойчивое стремление сообщать о дуэлях. Однако его
сообщения подтверждаются и другими источниками. Так, Иван
Липранди, в молодости бретер, дрался в 1809 году в городе Або
со знаменитым шведским бретером, бароном Бломом, и
ранил его. Незадолго до этой дуэли, тоже в Финляндии, Федор
Толстой (будущий «Американец») убил на дуэлях двух
соотечественников, Брунова и А.И. Нарышкина93.
Особенно способствовала распространению дуэлей
кампания 1812—1815 годов, приведшая русских в Париж. Согласно
воспоминаниям современников, во время оккупации Парижа
русской армией в городе произошло множество дуэлей,
причем дрались как русские офицеры между собой, так и русские
с побежденными французами. Липранди рассказывает о
русском офицере, Бартеневе, остроумно ответившем французским
офицерам, пытавшимся оскорбить его лично и русскую армию
в целом: «Будучи известной храбрости Поручиком в
Александрийском гусарском полку, он, в 1814 году, в Париже, имел
не менее известную дуэль с тремя Французскими Офицерами
за вопрос их: "Почему они носят черные на шляпе перья, а
76 И. Рейфман. Ритуализованная агрессия
другие тоже петушьи, как у него, белые?" Бартенев очень
вежливо разъяснил им, что черные носит пехота, а белые
конница, и что перья не с петухов, а с французских орлов, "que nous
avons epluche" [которых мы ощипали]»94. Николай Бестужев,
в своем рассказе о русском в Париже в 1814 году, изображает
дуэль в защиту чести русской армии, подтверждая тем самым
представление о пребывании русских в Париже как о «времени
дуэлей»95.
Дополнительный интерес к дуэлям объясняется и
контактами русских с культурой Англии эпохи Регентства, особенно
той ее разновидности, которая получила название дендизма.
Хотя дуэль не занимала центрального места в поведении
денди, она была его существенной частью: фехтование и меткая
стрельба входили в число умений, считавшихся
обязательными для подлинного денди. Дуэли не были чужды Байрону. В
романе Эдварда Джорджа Бульвер-Литтона «Пелэм» (1828),
который можно считать руководством по дендизму,
изображаются две дуэли и один неудачный вызов. Главный герой
романа является непревзойденным фехтовальщиком и стрелком.
Большую роль в культурных контактах с дендистской
культурой Англии сыграл официальный визит Александра I в
Лондон по завершении войны с Наполеоном. Офицеры его свиты
привезли моду на дендизм в Россию. Так, среди гвардейцев,
в конце 1810-х годов стоявших в Царском Селе, весьма
заметно было влияние дендистской культуры. Как известно, на их
вечеринках бывал юный Пушкин96.
Определенного рода парадокс заключается в том, что
разочарование, которое испытали русские, когда поблекло их
восхищение Александром I, способствовало дальнейшему
распространению дуэлей. Дуэль (как и некоторые другие виды буйного
поведения — азартные игры, запойное пьянство и опасные
шалости) стала средством протеста против того, что
воспринималось дворянством как ограничение личной свободы97.
Подавление личных свобод при Александре I было недостаточно
жестоким для того, чтобы исключить саму возможность такого
протеста (как это было во времена непредсказуемого
павловского деспотизма), но все же оно было достаточно сильным для
того, чтобы вызывать такой протест98.
Самым знаменитым буяном-протестантом, вероятно,
можно считать Федора Толстого-Американца. Гвардейский офицер,
принимавший участие в кампании 1812 года, он был азартным
ифоком, авантюристом и бретером. Несмотря на свою
сомнительную репутацию, он водил дружбу с известными
литераторами и интеллектуалами своего времени — Вяземским, Дени-
Глава 2. Краткая история дуэли в России 11
сом Давыдовым, Батюшковым и, позднее, Пушкиным. По
утверждениям современников, Федор Толстой убил на дуэлях
одиннадцать человек". Согласно дуэльным преданиям,
большинство дуэлей Толстого, в том числе смертельные, были
вызваны ничтожными поводами, и он гордился их
бессмысленным характером. Согласно одной популярной легенде, Толстой
однажды стрелялся вместо друга. Сергей Львович Толстой
приводит версию, рассказанную ему отцом: «На одном вечере один
приятель Толстого сообщил ему, что только что был вызван на
дуэль, и просил быть его секундантом. Толстой согласился,
и дуэль была назначена на другой день в 11 часов утра; приятель
должен был заехать к Толстому и вместе с ним ехать на место
дуэли. На другой день в условленное время приятель Толстого
приехал к нему, застал его спящим и разбудил. "В чем
дело?" — спросонья спросил Толстой. "Разве ты забыл, — робко
спросил приятель, — что ты обещал мне быть моим
секундантом?" — "Это уже не нужно, — ответил Толстой. — Я уже его
убил".
Оказалось, что накануне Толстой, не говоря ни слова
своему приятелю, вызвал его обидчика, условился стреляться в 6
часов утра, убил его, вернулся домой и лег спать»100. Другие
версии этой легенды упоминают, что друг якобы боялся
драться, но все сходятся в том, что Толстой не имел ни малейшего
повода вызывать и убивать несчастного. Правдивая или нет,
легенда представляет Толстого в той самой роли бретёра,
которую он так тщательно разыгрывал всю свою жизнь.
Печально известная дуэль 1817 года между Василием
Шереметевым и Александром Завадовским является еще одним —
на этот раз хорошо документированным — примером дуэли по
ничтожному поводу. Она произошла из-за посещения Завадов-
ского любовницей Шереметева, Авдотьей Истоминой. По
мнению многих современников, Завадовский не хотел драться
из-за «простой танцовщицы», но Шереметев и особенно его
секундант, знаменитый бретер Александр Якубович,
категорически настаивали на дуэли. Условия были суровыми: по
некоторым сообщениям, стрелялись с шести шагов. Кроме того,
дуэль должна была быть partie came, то есть секунданты
Якубович и Грибоедов — имевшие еще меньше оснований для
поединка — должны были повторить дуэль на тех же условиях.
Выстрелив первым и промахнувшись, Шереметев начал
подстрекать Завадовского, грозясь убить его, если он тоже
промахнется. Он был смертельно ранен выстрелом Завадовского и
умер на следующий день. Якубович и Грибоедов отложили свой
поединок и обменялись выстрелами только спустя несколько
78
И. Рейфман. Ритуализованная агрессия
месяцев, на Кавказе. Якубович ранил Грибоедова, навсегда
повредив ему мизинец101. Разгоревшись из ничего, ссора
стоила жизни одному человеку и искалечила другого.
Особенно удивительным может показаться популярность
бессмысленных дуэлей в среде интеллектуальной элиты, в
частности среди будущих декабристов. По утверждению Ю.М. Лот-
мана, декабристы нарочно вели себя серьезно и солидно,
желая казаться людьми, занятыми важным делом, а не танцами,
флиртом или азартными играми102. В то же время многие из
них были отчаянными бретерами. Некоторые их дуэли можно
объяснить политическими причинами, однако многие поражают
своей видимой бессмысленностью. Знаменательно, что
инициаторами и участниками безрассудных дуэлей были не только
такие маргинальные фигуры, как Александр Якубович, но и
центральные фигуры движения, такие, как Рылеев, Александр
Бестужев и Лунин. Ярким примером дуэли на пустом месте
может служить поединок Лунина с Алексеем Орловым,
которого Лунин вызвал якобы только для того, чтобы дать ему
возможность постоять перед дулом пистолета. Тем не менее
Лунин сделал все, чтобы подвергнуть себя наибольшей возможной
опасности. Так, вынудив не желавшего драться Орлова выйти
на дуэль, он продолжал провоцировать его до тех пор, пока
Орлов по-настоящему не захотел убить его. Согласно одному из
сохранившихся отчетов о дуэли, «первый выстрел был Ор<ло-
ва>, который сорвал у Л<унина> левый эполет. Л<унин>
сначала было тоже хотел целить не для шутки, но потом сказал:
"Ведь Ал<ексей> Фед<орович> такой добрый человек, что жаль
его", — и выстрелил в воздух. Ор<лов> обиделся и снова стал
целить; Л<унин> кричал ему: "Vous me manquerez de nouveau,
en me visant de cette maniere. Правее, немного пониже!
Право, дадите промах! Не так! Не так!" — 0<рлов> выстрелил.
Пуля пробила шляпу Л<унина>. — "Ведь я говорил вам, —
воскликнул Л<унин>, смеясь, — что вы промахнетесь! А я все-таки
не хочу стрелять в вас!" —- и он выстрелил на воздух. 0<рлов>,
рассерженный, хотел, чтобы снова заряжали, но их
разняли»103. Лунин явно находил удовольствие в опасности, и чем
менее необходимой она была, тем лучше.
А.И. Косовский, бывший в конце 1810-х годов
сослуживцем Рылеева, сообщает о происшествии, которое проливает
свет на психологические причины такого поведения. Несколько
офицеров, Рылеев в том числе, зайдя к приятелю, начали
осматривать его ружье, которое, по сообщению хозяина, было
накануне повреждено во время охоты. Один из офицеров
решил проверить, так ли это, и, увидев, что Рылеев стоит пря-
Глава 2. Краткая история дуэли в России 79
мо напротив дула, попросил его отойти. Рылеев отказался,
сославшись на свой опыт дуэлянта: «Да стреляйте из пустого
ружья; я стоял уже два раза противу пистолетных пуль, так не
приходится прятаться от заржавленного ружья!» Косовский
продолжает: «Комната эта была весьма маленькая, едва
помешалась одна только кровать, а ружье было слишком длинное,
дуло которого лежало почти над правым плечом Рылеева, —
когда же, по настоянию Рылеева, товарищ спустил курок и
последовал нечаянный выстрел (весь заряд волчьей дроби
врезался в стену), то Рылеев, сделавши невольно шаг влево,
сказал, смеючись: "И убить-то не умел"». По-видимому,
пребывание под прицелом — безо всякой причины и цели — и было
для Рылеева решающей проверкой характера. Характерно, что
Косовский заключает свой рассказ о безрассудном поведении
Рылеева упоминанием дуэлей, в которых он участвовал:
«Кроме сказанных двух случаев, Рылеев до этого еще два раза дуэ-
лировал на саблях и на пистолетах»104. Как видно, по мнению
Косовского, в делах чести Рылеев был движим тем же
желанием подвергнуть себя ненужной опасности. Утверждение
К. Гринберга о том, что «основная цель дуэли состояла не в том,
чтобы убить, но в том, чтобы подвергнуть себя смертельной
угрозе», хорошо формулирует сущность дуэли вообще и
бретерской дуэли в особенностиШ5.
Поведение Рылеева не было уникальным. Сходный эпизод
с участием графа Ф.Ф. Гагарина (шурина Вяземского) чуть не
закончился дуэлью. В 1808 или 1809 году компания
гвардейских офицеров отправилась погулять по Царицыну. Один из
офицеров, С.С. Новосильцев, захотел выстрелить в птицу:
«Гагарин остановил его словами: "Что за важность стрелять в
птицу, попробуй выстрелить в человека". — "Охотно", —
ответил Новосильцев, — "хоть в тебя". — "Изволь, я готов,
стреляй". Н. прицелился, но последовала осечка. А.П. Валуев
вырвал ружье из рук его и выстрелил. Тогда Гагарин сказал:
"Ты в меня целил, это хорошо, но теперь будем целить друг в
друга, увидим, кто в кого попадет; вызываю тебя на
поединок"»106.
Страсть Гагарина, Толстого, Рылеева, Лунина и других
бретеров к ненужному риску была не просто желанием
продемонстрировать храбрость и испытать смертельную опасность; она
демонстрировала, что они свободные люди и что выбор жить им
или умирать принадлежит если не полностью им самим (роль
случая — или Провидения — была так же важна в дуэли, как и
в азартной игре), то уж, во всяком случае, и не государству107.
80 /У. Рейфман. Ритуализованная агрессия
Высокий культурный престиж дуэли в России берет
начало именно в эту эпоху безрассудных и бессмысленных с виду
поединков. Положительной репутации дуэли как института
также способствовали некоторые социальные и политические
факторы — прежде всего острое соперничество между двумя
различными группами внутри дворянства. Среднее дворянство,
которое возводило себя к допетровской аристократии, но не
могло претендовать на высокое социальное положение в
рассматриваемый период, противопоставляло себя «новым
аристократам», многие из которых поднялись в социальной
иерархии только в XVIII веке, часто благодаря близости к трону.
Формально эти группы были равны: и те и другие
принадлежали к благородному сословию. В действительности же «новые
аристократы», предки которых зачастую были парвеню,
обладали влиянием и богатством, в то время как среднее
дворянство, несмотря на то что отдельные его члены претендовали на
происхождение от Рюрика, было политически и экономически
слабым108. Среднее дворянство хотело, чтобы честь равным
образом распределялась между представителями благородного
сословия, в то время как новая аристократия часто отказывалась
признавать равенство этих двух групп. Желая утвердить себя,
представители среднего дворянства проявляли особенную
щепетильность в делах чести, что привело к ряду дуэлей между
ними и «новыми аристократами».
Одна из таких дуэлей состоялась в феврале 1824 года между
Рылеевым и князем Константином Шаховским, любовником
незамужней сводной сестры Рылеева. Условия этой дуэли были
чрезвычайно жесткими: не было барьера — т.е. минимальное
расстояние между противниками не было определено — и
стрелять предполагалось одновременно по команде секундантов.
Дуэль должна была продолжаться «до результата», т.е. до смерти
или тяжелого ранения одного из противников. Дуэлянты
обменялись несколькими выстрелами на расстоянии трех шагов.
Дважды, по чистой случайности, пули попадали в пистолеты
противников. Наконец одна пуля, рикошетировав, ранила
Рылеева в пятку, и секунданты прервали дуэль109.
Существенно, что на жестких условиях настаивал именно Рылеев —
несмотря на то, что он был уже в это время женат и имел
маленькую дочь. Шаховской же драться не желал. Как сообщает
Александр Бестужев, «сначала он было отказался, но когда
Рылеев плюнул ему в лицо— решился»110. Твердое желание
Рылеева вынудить своего противника выйти на смертельную
дуэль диктовалось не враждебным отношением к нему и не
любовью к сестре. Это было для него делом принципа: он хо-
Глава 2. Краткая история дуэли в России 81
тел заставить наглого аристократа отвечать за свои действия по
отношению к молодой женщине, не имеющей положения в
обществе. Он также считал необходимым продемонстрировать,
что князь Шаховской и простой дворянин Рылеев равны перед
лицом кодекса чести.
Дуэль Константина Чернова с Новосильцевым, в которой
Рылеев (двоюродный брат Чернова) был секундантом, а
Александр Бестужев— консультантом, являет собой еще более
яркий пример социально мотивированной дуэли. Эта дуэль,
инспирированная руководителями заговора декабристов,
имела явную политическую окраску. Как известно, Новосильцев
влюбился в Екатерину (или Аграфену, или Марию) Пахомов-
ну Чернову, дочь армейского генерала Пахома Чернова.
Черновы принадлежали к хорошему дворянскому роду, но не были
ровней Новосильцеву, представителю аристократической элиты
и адъютанту Александра I. Для высшего света семейство
Черновых было не более чем «какими-то Черновыми». Но
Чернова была красавицей, и Новосильцев «завлекся и, должно быть,
зашел так далеко, что должен был обещаться на ней
жениться». Однако его мать хотела лучшей партии для своего
блестящего и красивого сына и категорически отказывалась дать
разрешение на этот брак: «Могу ли я согласиться, чтобы мой сын,
Новосильцев, женился на какой-нибудь Черновой, да еще
вдобавок на Пахомовне: никогда этому не бывать. <...> Не хочу
иметь невесткой Чернову Пахомовну, — экой срам!»111
Нежелание Новосильцевой иметь невестку с таким отчеством
обнажает социальную природу конфликта: традиционное русское имя
Пахом избегалось новыми аристократами как слишком простое
и старомодное. Отказ Новосильцева жениться на Екатерине
Пахомовне закончился дуэлью и смертью обоих противников.
Дуэль состоялась в сентябре 1825 года, за три месяца до
восстания декабристов. В истолковании сторонников Черновых
она приобрела отчетливую политическую окраску. Рылеев
восхвалял Константина Чернова как обыкновенного человека,
восставшего против аристократа, чтобы защитить свою репутацию
и достоинство. Он «утверждал, что эта дуэль — человека
среднего класса общества с аристократом и флигель-адъютантом —
явление знаменательное, свидетельствующее, что и в среднем
классе есть люди, высоко дорожащие честью и своим добрым
именем»112. Кюхельбекер написал стихотворение,
посвященное памяти Чернова, в котором Новосильцев изображался
представителем класса, чуждого русской исторической традиции и
враждебного интересам России. Он провозгласил Чернова
национальным героем и мучеником в борьбе с тиранией113.
82 И. Рейфман. Ритуализованная агрессия
Кюхельбекер прочитал это стихотворение на похоронах
Чернова, и оно стало трактоваться как революционный манифест
декабристов.
Изображая себя представителями русского «среднего
класса» и поборниками русской национальной традиции,
декабристы сумели сформулировать свой конфликт с новой
аристократией в националистических, патриотических и даже
популистских терминах114. Дуэль — более драматическое и
поэтому потенциально более героическое действие, чем ведение
политических дебатов. Заменяя последние первой, декабристы
возвели дуэль в ранг политической акции протеста115.
Романтизм также способствовал укреплению высокого
статуса дуэли в России. Дуэль стала не только популярной темой
романтической литературы, но и чертой романтического
поведения. Неистового дуэлянта, бретёра,
сверхчувствительного к собственной чести и выходящего на дуэль по мельчайшим
поводам, можно было встретить как в литературе, так и в
реальной жизни. Александр Бестужев, писатель-романтик и
страстный дуэлянт, превратил описание дуэли в топос русской
литературы. Благодаря его необыкновенной личности бретёр-
ство стало приемлемым типом поведения, а его литературные
сочинения, изобилующие дуэлями, долгое время оставались
любимым чтением русского читателя.
Другие знаменитые дуэлянты романтической эпохи сами
проникали на страницы литературы. Так, Пушкин был
заинтригован личностью Якубовича, секунданта Шереметева на
дуэли с Завадовским и участника заговора декабристов, по
слухам вызывавшегося убить Александра I. Якубович был
одним из прототипов Сильвио. Как известно, Пушкин также
собирался сделать его главным героем своего неоконченного
«Романа на кавказских водах». Толстой-Американец послужил
прототипом 3apei(Koro в пушкинском «Евгении Онегине» и
Турбина-старшего в повести Толстого «Два гусара» (1856).
Наконец, возвышению дуэли в русском культурном
воображении способствовали устойчивый интерес к ней как типу
поведения со стороны Пушкина и Лермонтова и особенно их
трагическая гибель на дуэли. Как следствие, миф о русском поэте
включил в себя смерть на дуэли как один из вариантов топоса
ранней и трагической смерти116. В начале XX века русские
модернисты активно использовали этот миф в своей практике
«жизнетворчества», пытаясь оформить собственную жизнь в
соответствии с определенными моделями. Одним из способов
решения этой задачи стало возрождение дуэлей117.
Глава 2. Краткая история дуэли в России 83
Демократизация дуэли:
Дуэлянт-разночинец
Время царствования Николая I сохранилось в памяти
русской культуры как период упадка института дуэли. Носители
этого взгляда приписывали угасание дуэлянтского духа расправе
Николая с декабристами и с вольномыслием вообще. Шок,
пережитый русским обществом после 14 декабря, оставил по
себе впечатление, что все лучшие люди России или казнены,
или сосланы, а те, кто выжил, морально сломлены.
Согласно этому взгляду, последекабрьскому поколению недоставало
того благородного духа, который окрылял их отцов. «Тон
общества менялся наглазно; быстрое нравственное падение
служило печальным доказательством, как мало развито между
русскими аристократами чувство собственного достоинства», —
жаловался Герцен в «Былом и думах» [Герцен, VIII: 58—59].
Достоевский в записной книжке 1875—1876 гг. прямо
обвиняет правительство в упадке дуэли и point d'honneur\ «Лучше
всего не иметь чести — как преподавало начальство в 30-х и 40-х
годах» («Записная тетрадь, 1875—1876 годов». [Достоевский,
XXIV: 102]). Этот же взгляд отражен и в повести Толстого «Два
гусара», где Турбин-старший, игрок и бретер, но благородная
душа, противопоставлен своему сыну— спокойному,
вежливому и вполне бесчестному юноше118.
Однако документы не подтверждают мнение об упадке
дуэли в этот период. Напротив, они показывают, что дуэли
продолжались в течение всего царствования Николая I и позже
более или менее с той же частотой, что и прежде. Дела чести
регулярно возникали как в военной, так и в штатской среде.
Конечно, вызовы далеко не всегда заканчивались реальными
столкновениями, но это было нормой на протяжении всей
истории дуэли. Список потенциальных и реальных участников
дуэлей с конца 1830-х до начала 1890-х годов достаточно велик
и включает, наряду с именами «золотой» военной молодежи,
имена выдающихся деятелей литературы, журналистики,
образования и права. Так, в 1840 году Михаил Бакунин вызвал
на дуэль Михаила Каткова. Белинский и Иван Панаев должны
были стать свидетелями, но Бакунин уехал за границу, и
дуэль не состоялась119. В 1844 году Тимофей Грановский был на
волоске от дуэли с Петром Киреевским120. В том же году
конфликт между графом Салиасом де Турнемиром, мужем
писательницы Евгении Тур, и П.И. Фроловым закончился
реальной дуэлью. По слухам, противники поспорили об авторстве
84
И. Рейфман. Ритуализованная агрессия
одной сатиры на московский высший свет. В ходе дуэли граф
Салиас был легко ранен121. Хорошо известна и ссора 1861 года
Тургенева с Толстым, во время которой Тургенев пригрозил
Толстому пощечиной. На следующий день Тургенев принес
письменное извинение, однако вызовы и дальнейшие
извинения продолжались еще несколько месяцев. Писатели
окончательно помирились лишь спустя семнадцать лет122.
Еще чаще конфликты чести происходили в среде военных.
Н.И. Фалеев приводит отчеты о четырнадцати дуэлях,
которые имели место во время царствования Николая 1,и.
«Сборник биографий кавалергардов» подробно сообщает о дуэли
1851 года между офицером полка графом А.А. Гендриковым и
его сослуживцем бароном Е.О. Розеном. Гендриков был
смертельно ранен, а Розен разжалован и переведен на Кавказ, где
и был убит в 1854 году. За эту дуэль понесли наказание по
крайней мере три других офицера124. Там же упоминается о двух
дуэлях, в которых участвовал Скобелев в период своей службы в
Туркестане с 1868 по 1877 год125.
Дополнительные примеры можно найти в мемуарных,
эпистолярных и других источниках того времени. Так, в 1833 году
будущий лексикограф Николай Макаров, в то время
подпоручик, участвовал в уникальной дуэли на ружьях126. Дуэль
между Корсаковым и Козловым, описанная Е.Д. Щепкиной, тоже
приходится на этот период (1857), как и дуэль, упомянутая
С.А. Толстой, между гвардии офицером А.А. Вадбольским и
его сослуживцем Ломоносовым, в которой Ломоносов был убит
(I89I)127.
Юридические исследования дуэли подтверждают
впечатление, создаваемое источниками. Так, Н.С. Таганцев в своем
труде об убийстве и его интерпретациях в русском
законодательстве, упоминает за период с 1840-х по 1860-е годы более
дюжины процессов по поводу дуэлей. Пять из этих дуэлей имели
смертельный исход128. Согласно Ливенсону, за период с 1876
по 1890 год в военно-окружных судах расследовалось пятнадцать
дуэлей129.
Итак, дуэль сохранилась, но изменилось лицо дуэлянта: в
дуэлях наряду с дворянами начали участвовать разночинцы. Это
стало возможным вследствие коренных изменений в составе
образованного сословия и особенно в расстановке сил внутри
него. К середине XIX века русское дворянство в значительной
степени отступило с культурной авансцены: его вытеснили —
или, по крайней мере, потеснили — разночинцы. Социальные
слои, из которых выходили разночинцы, — духовенство,
купечество, мелкая бюрократия, крестьянство— исторически не
Глава 2. Краткая история дуэли в России 85
знали дуэли. Получив образование, сменив занятия отцов на
различные — по большей части свободные — профессии и
утвердив себя как ведущую культурную силу, противопоставленную
дворянству, эти выходцы из недворянской среды обнаружили,
что они не могут ни отвергнуть, ни даже просто игнорировать
дуэль. Несмотря на их глубоко двойственное отношение к
дуэли, ее высокий статус в русской культурной традиции
заставил разночинцев не только серьезно отнестись к ней, но и
принять ее на практике.
Воспитание и образование разночинцев в отличие от
дворянских, как правило, не включали в себя обучения манерам,
танцам и фехтованию130. Как правило, представители этой
группы не имели светского лоска и в свете испытывали
неловкость. Сознавая свое интеллектуальное превосходство,
разночинцы не были уверены в состоятельности своих социальных
навыков в сравнении с дворянскими, среди которых не
последнее место занимало знакомство с ритуалом дуэли131.
Болезненно сознавая свою социальную неполноценность,
разночинцы боялись, что представители дворянства могут отказать им в
равном статусе и, следовательно, в праве на дуэль.
Наилучшей защитой от такой угрозы была критика дуэли как глупого
аристократического пережитка. Разночинцы критиковали
дуэль с ее тщательно разработанным ритуалом и западными
корнями как пример пустого приличия, чистой формы безо
всякого содержания.
Однако дуэль требовала не только знания социальных
конвенций, но и подлинного мужества, и каждый, кто
игнорировал кодекс чести, рисковал опозориться не просто как
невежа, но и как трус. Кроме того, высокий культурный статус
дуэли в России — как средства поддержания телесной
неприкосновенности и утверждения личной независимости — не
позволял разночинцам просто отвергнуть дуэль как пустой
пережиток бесполезной аристократической традиции. Подобно
тургеневскому Базарову, представители новой интеллигенции
оказались вынуждены принять дуэль. Осуждая дуэль в своих
литературных и критических произведениях, они отстаивали
свое право на нее в реальной жизни.
Разночинцы-журналисты зарекомендовали себя как
наиболее отъявленные дуэлянты132. Уже упоминался конфликт чести
Каткова с Бакуниным, в котором два участника (Бакунин и
Панаев) были родовые дворяне, а два других (журналисты
Катков и Белинский) — разночинцы133. А.А. Суворин — внук
крестьянина, сын издателя «Нового времени» и сам журналист
86 И. Рейфман, Ритуализованная агрессия
и издатель — не только участвовал в нескольких конфликтах
чести, но и составил дуэльный кодекс134.
Можно привести множество других примеров дел чести с
участием журналистов. Так, в 1862 году вся редакция журнала
«Искра» вызвала на дуэль Алексея Писемского, в то время
редактора «Библиотеки для чтения», за оскорбительную для
Чернышевского фразу, вставленную Писемским в статью Петра
Боборыкина. Писемский, по-видимому, извинился, и дуэль
не состоялась135. В 1864 году полемика между газетами
«Московские ведомости» и «Русские ведомости» закончилась дуэлью
между двумя сотрудниками газет, С. Гончаровым и П.
Леонтьевым136. Особенной склонностью к ссорам отличались
газеты «Новости» и «Новое время»: в конце 1880-х годов между
сотрудниками этих газет имели место, по крайней мере, два
дела чести. Одно из них, между сотрудником «Новостей»
Григорием Градовским и сотрудником «Нового времени»
Лялиным, едва не закончилось дуэлью. В ходе другого конфликта
В.О. Михневич, сотрудник «Новостей», вызвал на дуэль
Виктора Буренина из «Нового времени». В конце концов,
издатель «Нового времени» А.С. Суворин пришел к выводу, что
дуэли между журналистами представляют угрозу для свободы
прессы. Когда Михневич вызвал на дуэль самого Суворина, тот
отказался, объяснив свою позицию заботой о свободе слова:
«Пусть на полемику отвечают полемикой и ругают нас,
сколько душе угодно! <...> Но дуэль не писательское дело: она
окончательно стеснила бы свободу мнений и суждений...»137
К сожалению, известия об этих столкновениях содержат
мало подробностей, и поэтому трудно судить о том, какими
дуэлянтами были разночинцы: насколько легко можно было их
спровоцировать, на каких условиях они предпочитали драться,
насколько строго они соблюдали дуэльный кодекс и
экспериментировали ли они с процедурой дуэли в духе бретеров.
Широкое освещение в прессе сенсационной дуэли между
адвокатом Евгением Утиным и журналистом Александром Жохо-
вым, посредниками и свидетелями которой были многие
выдающиеся журналисты того времени, дает редкую возможность
обогатить наше знание о динамике «разночинской» дуэли138.
Хотя Утин и Жохов и были дворянами средней руки, их
занятия, взгляды и интересы были характерны скорее для
разночинцев. Принадлежность к дворянству явно не была для них
решающим фактором в их решении выйти на дуэль. Секунданты
же в этой дуэли — за исключением Евгения де Роберти де
Кастро де ла Серда, сына испанца, получившего российское
гражданство — и вовсе были типичными разночинцами: секундант
Глава 2. Краткая история дуэли в России 87
Утина, критик Виктор Буренин, был внуком крепостного;
секундант Жохова, журналист и переводчик Е.К. Ватсон, был
сыном провинциального лекаря. Более того, причины этой
дуэли были связаны с характерно разночинскими
профессиональными занятиями противников и их политической
деятельностью. Предметом раздора послужила зашита Утиным в суде
молодого радикала Гончарова, обвиненного в распространении
«возмутительных» политических листовок. В конце концов
Утин был вызван на дуэль за распространение слухов о том, что
газетные статьи Жохова по делу Гончарова оказывали
неподобающее влияние на слушания в суде и способствовали
осуждению обвиняемого. Ситуацию осложнял любовный треугольник:
молва обвиняла Жохова в том, что он, будучи в связи с женой
Гончарова, оговорил его с целью устранить соперника. Как уже
говорилось, дуэль закончилась трагически: Жохов умер от
ранения в голову; жена Гончарова совершила самоубийство, а ее
сестра покончила с собой год спустя, после неудачной
попытки отомстить Утину.
За самой дуэлью последовало не менее сенсационное
судебное разбирательство, к которому были привлечены многие
выдающиеся журналисты и литераторы, в частности М.М. Ста-
сюлевич, А.Н. Пыпин и А.С. Суворин. Утина защищал
знаменитый В.Д. Спасович. Утин был осужден и приговорен к
пяти месяцам заключения139.
Поведение участников и секундантов как во время, так и
после дуэли, вероятно, ужаснуло бы пуристов дуэльной
традиции. Прежде всего поведение дуэлянтов было неподобающе
эмоциональным. Жохов, согласно свидетельству его
секунданта, по дороге к месту дуэли «то истерично плакал, то
смеялся»140. В свою очередь, с Утиным, после того как он ранил
противника, «сделались конвульсии, он плакал и рыдал, как
ребенок, как женщина в истерике»141. На месте дуэли Жохов
вмешивался в ее процедуру. Так, беспокоясь, не увеличат ли
секунданты расстояние между стреляющими, он самолично
проверил число шагов. Его действия не были бесчестными, но
были неподобающими с точки зрения ритуала дуэли. В целом
оба дуэлянта вели себя как дилетанты. Их поведение
демонстрировало как недостаточное знакомство с дуэльной
традицией, так и психологическую чуждость ей.
Характерно, что друзья Жохова воспринимали его
чрезвычайную неопытность и незнание дуэльного ритуала как
доказательство его искренности и даже как знак его правоты. Они
восхищались его пренебрежением такими вполне
позволительными и даже ожидаемыми от дуэлянта предосторожностями,
88 И. Рейфман. Ритуализованная агрессия
как использование темной одежды и принятие защитной позы:
«Для него, очевидно, дуэль была существенным делом,
вопросом жизни и смерти; он подчинился предрассудку с
серьезной решимостью, быть может, с верою в суд Божий. Об
одежде, о внешности он нимало не беспокоился, несмотря на
то, что де Роберти просил его одеться, как следует. На нем
был открытый жилет, светлые брюки, пиджак, застегнутый на
одну пуговицу. Он снял пальто, в котором приехал,
несмотря на то, что секунданты его советовали ему не снимать. <...>
Жохов никогда не стрелял и не умел ни держать пистолета, ни
становиться полуоборотом; хотя его перед дуэлью учили этому,
но он ничЪго не исполнил и стал прямо, выставив весь
корпус enface»142. А.С. Суворин, свидетельство которого я
цитирую, очевидно, считал, что верность дуэльному ритуалу была
пустой формальностью, компрометирующей нравственный
облик дуэлянта. Утин, лучше знакомый с правильным
дуэльным поведением и следующий ему, становится объектом суво-
ринской насмешки: «Утин сильно позировал и вел себя как
человек, знакомый с условиями дуэли. Он явился весь в
черном и стал вполоборота, как обыкновенно становятся, чтобы
дать противнику менее прицела, сплошной цвет одежд также
необходим для того, чтобы дать менее прицела противнику:
белая рубашка, цветной жилет, цепочка от часов, цветные
брюки — все это может служить целью, в которую противник
направит дуло пистолета. Жохов ни о чем подобном не
заботился». В рассказе Суворина звучит характерное для
разночинцев недоверие к условностям. Знание правильного дуэльного
поведения, которым гордились Пушкин и его современники,
он представляет как свидетельство дурных намерений Утина и
его неискренности: «По слову "раз" Утин поднял пистолет по
линии верно и умеючи, Жохов поднял его без правил, по
своему соображению, как делает человек, отроду не обращавшийся
с оружием». Отказ Утина помириться «под пистолетом» —
стандартный ответ на стандартное предложение секундантов —
Суворин интерпретирует как аффектацию: «Перед дуэлью де
Роберти подошел к Утину и спросил, не хочет ли он помириться.
"На месте?" — сказал Утин, то есть, другими словами: "Теперь
уже не время". Естественно, что Жохов на такой вопрос
отвечал: "Нет, не хочу"».
Широкое освещение в прессе этой дуэли, в том числе
связанного с ней судебного разбирательства, контрастирует с той
атмосферой секретности, которая традиционно окружала дела
чести. В этом деле секунданты не только давали показания в
Глава 2. Краткая история дуэли в России 89
суде — этого они, вероятно, не могли избежать, —- но и
рассказывали о дуэли друзьям в мельчайших подробностях.
Особенно неприемлемыми с точки зрения кодекса чести выглядят
пересуды о предполагаемой роли в конфликте госпожи
Гончаровой. Склонность разночинцев открыто исследовать свои
чувства и взаимоотношения сталкивается здесь с характерным для
кодекса чести обычаем хранить тайну.
Несмотря на свое недоверие к символике дуэли,
разночинцы все же сочли ее необходимым средством ограждения своего
личного пространства. Однако их опыт в ведении дел чести был
ограниченным: их знание дуэльного ритуала, как и других форм
светского поведения, было опосредованным, и поэтому на
месте дуэли они демонстрировали либо чрезвычайную безыс-
кусность, либо преувеличенное следование правилам. Тем не
менее устойчивый интерес разночинцев к дуэли помог
утвердить ее как нейтральный в сословном отношении механизм
защиты личной чести и достоинства.
Гальванизация дуэли:
Закон 1894 года
Широкое распространение дуэли и всеобщая терпимость к
участию в ней разночинцев постепенно привели к возмущению
в дворянской, особенно военной, среде. К концу века
начались попытки вернуть дуэли статус дворянской прерогативы.
Об этом свидетельствует «Дуэльный кодекс» В. Дурасова,
категорически запрещающий дуэль между дворянином и
простолюдином: «4. Оскорбление может быть нанесено только
равным равному. 5. Лицо, стоящее ниже другого, может только
нарушить его право, но не оскорбить его. 6. Поэтому дуэль,
как отмщение за нанесенное оскорбление, возможна и
допустима только между людьми равного, благородного
происхождения. В противном случае дуэль не допустима и является
аномалией, вторгаясь в область судебной компетенции. 7. При
вызове дворянина разночинцем, первый обязан отклонить
вызов и предоставить последнему право искать удовлетворения
судебным порядком. 8. При нарушении права дворянина
разночинцем, не смотря на оскорбительность его действий,
первый обязан искать удовлетворения судебным порядком, так как
он потерпел от нарушения права, но не от оскорбления»143.
Напротив, дуэльный кодекс Суворина требует от участников
только равенства в уровне образования и исключает «лиц, не
90
И. Рейфман. Ритуализованная агрессия
имеющих достаточной, согласно требованиям современной
общественной среды, степени культурности»144. Будучи
разночинцем, Суворин разделяет разночинское неприятие
претензий дворянства на исключительность.
Другим способом борьбы за корпоративную чистоту дуэли
были попытки сделать дуэль не просто прерогативой, но и
обязанностью дворянина. Поскольку формального механизма
принуждения штатских к дуэли не было и не могло быть, эти
попытки были направлены в основном на военных.
Декларируемой целью было воскрешение корпоративной чести и
возрождение таким образом якобы разлагающегося
профессионального духа армии. Кульминацией этих усилий стал документ,
составленный Соединенным Собранием Главных Военного и
Военно-Морского Судов и одобренный Александром III 13 мая
1894 года, который по существу давал суду общества офицеров
право принудить офицера к дуэли145. Офицер, отказавшийся
от дуэли, обязан был уйти в отставку146.
Эта частичная легализация Дуэли имела последствия,
выходящие за пределы изначально поставленных целей. Прежде
всего она спровоцировала широкое публичное обсуждение
сословных, правовых, религиозных и философских аспектов
дуэли. В конце 1890-х— начале 1900-х годов появилось
множество публикаций как в защиту дуэли, так и против нее. Одни
представляли собой легальные руководства по вопросам чести
для военных; в других утверждалась положительная роль дуэли
как универсального средства поддержания человеческого
достоинства; в третьих обсуждался юридический статус дуэли, в
четвертых же делались попытки реставрировать дуэль как
аристократический обычай или, наоборот, заклеймить ее как
небогоугодное дело, ставящее под угрозу священную жизнь
человека147. Впервые в истории своего существования в России
дуэль обсуждалась публично. При всем своем запоздалом
характере эта дискуссия помогла прояснить общественное мнение по
поводу дуэли и определить ее сильные и слабые стороны как
средства урегулирования личных отношений.
Неудивительно, что число дуэлей при этом временно
возросло. Ливенсон сообщает, что число дуэлей «от 20 мая 1894 года
до 1 декабря 98 года — доходит до 77 случаев, т.е. средним
числом — 16 поединков в год, значительная часть которых (более
85%), впрочем окончилась, или без кровопролития, или
нанесением только легких телесных повреждений». Он
подчеркивает, что число дуэлей было все-таки намного меньше, чем во
Франции в это же время: «Во всяком случае, у нас поединки
Глава 2. Краткая история дуэли в России 91
являются исключительным явлением, особенно по сравнению с
романскими странами и Австро-Венгрией. Так, в 1897 году в
России было 20 поединков, между лицами разных сословий, и
ни одного, окончившегося смертью, тогда как, например, во
Франции, в течение того же 1897 года, согласно Альманаху
Ферреюса {Vannalde Ferreus), — было 53 дуэли, из которых — 3
(около 6%) — со смертельным исходом»148. С этим соглашается
и П.А. Зайончковский: «Закон 1894 г., естественно, увеличил их
[дуэлей] количество. Так, за предшествующие 15 лет, с 1876 по
1890 г., их было 15. За 10 же лет со времени узаконения дуэлей
число их составило 186»149. Знаменательно, что с ростом числа
дуэлей изменился их характер: они стали более тривиальными и
не имели ни такого идеологического заряда, как для дворянства
начала XIX века, ни такой психологической нагруженное™, как
для разночинцев. Судя поданным Ливенсона, Зайончковского
и Фуллера, в этот поздний период русская дуэль становилась все
более безобидной150.
Важным новшеством было появление после 1905 года так
называемых парламентских дуэлей, т.е. дуэлей между членами
Думы, служивших продолжением думских дебатов.
Парламентская дуэль, отмечаемая в истории всех стран, имевших
парламентское правление, была новинкой в России151. Думские
депутаты с жаром предались ей. Так, в ноябре 1907 года
П.А. Столыпин вызвал на дуэль одного из лидеров кадетской
партии, депутата Третьей думы Ф.И. Родичева, за резкую
критику столыпинской национальной политики. Родичев принес
извинения, и дуэль не состоялась152. В ноябре 1909 года
А.И. Гучков стрелялся с графом А.А. Уваровым. По слухам,
Уваров предал гласности услышанное им от Столыпина
критическое высказывание о Гучкове, и это послужило причиной
дуэли153. В 1912 году С.Н. Мясоедов вызвал на дуэль Гучкова
и стрелялся с ним из-за того, что Гучков обвинил Мясоедова
в шпионаже в пользу Австрии154. Достойно внимания, что
возрождение политических дебатов в постперестроечной России
воскресило и парламентскую дуэль: в ноябре 1998 года
Василий Горячев, основатель политической группы
«Интеллектуальные запасники России», публично вызвал на дуэль Альберта
Макашова, депутата Думы от коммунистической партии, за его
многочисленные антисемитские высказывания155.
Парламентские дебаты также приводили к конфликтам
чести между депутатами и журналистами, которых депутаты
обвиняли в клевете. Так, Мясоедов, помимо вызова Гучкову,
публично ударил хлыстом Бориса Суворина, издателя газеты
92 И. Рейфман. Рцтуализовшшая агрессия
«Вечернее время», в которой был напечатан репортаж о речи
Гучкова. В 1911 году В.Д. Набоков вызвал на дуэль А.А.
Суворина из «Нового времени» за репортаж сотрудника его
газеты — Снесарева. Дуэль не состоялась156. Эти примеры
свидетельствуют о полном усвоении Россией европейской дуэльной
традиции — а также о ее начинающемся разложении.
Еще одним новшеством начала XX века стало
использование дуэли в литературной среде для утверждения своего
статуса как русского писателя. Для модернистов, приверженных
идее «жизнетворчества», дуэль была элементом архетипической
биографии русского поэта, знаком подлинно поэтической
личности, не способной ни сосуществовать со средой, ни
сдерживать свои порывы. Дуэль стала мощным орудием для создания
модернистами своего поэтического образа. Андрей Белый, как
известно, несколько раз пытался вызвать Блока в ходе их
соперничества за Любовь Менделееву-Блок157. Конфликт Андрея
Белого с Валерием Брюсовым из-за Нины Петровской также
едва не закончился дуэлью158. Вызов, брошенный Ходасевичу
Мариэттой Шагинян, также следует интерпретировать как
попытку молодой женщины самоутвердиться в качестве русского
поэта. Ссора 1909 года между Гумилевым и Волошиным из-за
волошинской мистификации относительно Елизаветы
Дмитриевой — Черубины де Габриак кончилась настоящей дуэлью.
Более того, согласно некоторым свидетельствам, поэты
выбрали для своего поединка место, где в феврале 1840 года
Лермонтов дрался с Эрнестом де Барантом, а в январе 1837 года —
Пушкин с Дантесом159. Отсылая к той же культурной
мифологии, Пастернак вызвал на дуэль поэта и переводчика
Ю.П. Анисимова 27 января 1914 года, т.е. в годовщину дуэли
Пушкина. Сама же дуэль была назначена на 29 января, день
смерти Пушкина (и день рождения Пастернака). Впрочем, до
дуэли дело не дошло, и противники помирились160. В
«литературных» дуэлях фигурирует и Кавказ, место последней дуэли
Лермонтова: Михаил Зощенко в одной из своих автобиографий
упоминает дуэль, происшедшую между ним и «правоведом К.»
в 1913 году в Кисловодске161.
Традиция литературной дуэли сохраняется и после 1917 года:
в 1922 году, опять же в конце января, Каверин вызвал
Зощенко. Дуэль не состоялась162. Представление о том, что дуэль (или
хотя бы вызов на дуэль) является вернейшим способом
утвердиться в качестве русского писателя, оказалось очень стойким:
последняя известная мне попытка дуэли между двумя русскими
писателями имела место в Иерусалиме в конце 1970-х годов.
Глава 2. Краткая история дуэли в России 93
Посмертная жизнь русской дуэли
Первая мировая война и последующие исторические
катаклизмы положили конец живой дуэльной традиции в России.
После Октябрьской революции упоминания о дуэлях крайне
редки и подают ее как курьез. Так, в июле 1923 года газета
«Коммунист» клеймила «рыцарский» обычай целовать даме руку
как «буржуазный» и утверждала, что такая, казалось бы,
невинная привычка может привести — и однажды действительно
привела — «к нелепой, дикой, гнусной и позорной дуэли двух
краскомов из-за грузинской княжны»163. Еще одна дуэль
упоминается в советском Уголовном кодексе 1925 года. Этот
случай, разбираемый в числе «преступлений против жизни,
здоровья, свободы и достоинства личности», характеризуется как
«первый случай дуэли в практике Советского суда».
Любопытно, что, несмотря на трагический исход дуэли, Верховный суд,
руководствуясь странной — но знакомой из многовековых
неудачных попыток судить дуэлянтов по общему уголовному
закону — логикой, интерпретировал уникальность этого события
как смягчающее обстоятельство: «Пленум Верхсуда, принимая
во внимание, что приговором Военной Коллегии В. С. по
настоящему делу установлено наличие убийства на дуэли, что
так называемая дуэль, как остаток феодально-дворянских
традиций, при Советском строе является преступлением по
низменным побуждениям, а убийство на дуэли поэтому
квалифицируется по ст. 142 Уг. Кодекса и по существу противоречит
ст. 144, но, принимая, с другой стороны, во внимание, что
настоящее дело является первым случаем дуэли в практике
Советского суда, а также и исключительное положение
подсудимого Тертова, находит возможным, квалифицируя
преступление, в коем признан виновным Тертов по ст. 142 Уг.
Кодекса, оставить на основании ст. 28 того же Кодекса, по
мотивам, изложенным в приговоре военной коллегии, в силе
наложенное на него, Тертова, наказание в размере полутора
лет лишения свободы»164.
По-видимому, это был последний случай дуэли, дошедшей
до советского суда. Однако хотя дуэль как живой институт
умерла, культурная память о нем в значительной степени
сохранилась. В своих «Воспоминаниях» Петро Григоренко
описывает дуэль между двумя пьяными офицерами в 1945 году,
вскоре после окончания войны в Европе: «Начальник
артиллерии и начальник инженерной службы 151-го полка стрелялись
на дуэли. Не из-за чего. "По-дружески". Изрядно выпив, они
сели в тачанку и поехали в соседний полк. По дороге кто-то
94 И. Реифман. Ритуал известная агрессия
из них предложил: "Давай стреляться на дуэли". — "А где
секунданты?" — "Ездовой будет". — "Так он же один, а надо
два".— "Ничего, он один будет на две стороны". Спросили
ездового, согласен ли он быть секундантом на две стороны.
Тот, пьяный не менее своих пассажиров, согласился.
Отмерили расстояние, начали сходиться, открыли огонь. Оба
выстрелили всю обойму. Начальник артиллерии вогнал в своего
"противника" все девять пуль. Тот дважды промахнулся. Оба
получили тяжелые ранения»165.
Во многих отношениях это была типичная русская дуэль.
Подобно бретёрам начала XIX века, офицеры не имели ни
малейшей причины драться. Как и многие их
предшественники, они экспериментировали с дуэльной процедурой: секундант
был один на двоих; более того, как секундант Онегина, это был
человек более низкого социального положения. Цель дуэли
состояла, очевидно, исключительно в том, чтобы испытать
смертельную опасность. Григоренко свидетельствует: «Каждого
я спросил: что заставило затеять дуэль? Оба ответили
одинаково: "Скучно". Без орудийной стрельбы, без взрыва снарядов,
без автоматного и пулеметного огня — тоска»166. Оставшись без
дела, офицеры обратились к русской дуэльной традиции,
чтобы облегчить свое чувство неприкаянности. Хотя подлинный
смысл дуэли был для них, вероятно, уже мертв, сам механизм
сохранился в неприкосновенности.
ГЛАВА 3
Дуэль и физическая неприкосновенность
Колоть или бить: дилемма русского дуэлянта
Русская дуэль на протяжении всей своей истории отличалась
удивительно высоким уровнем агрессии. Этим я не хочу
сказать, что в России дуэли заканчивались смертью чаще, чем на
Западе (во Франции конца XVI — начала XVII века или в
Германии конца XIX века уровень смертности среди дуэлянтов был
гораздо выше, чем когда-либо в России)1. Я имею в виду тот
факт, что в России дела чести часто заканчивались не
формальными поединками, а спонтанными физическими
столкновениями, которые, в отличие от rencontres, позволяли прямой
физический контакт (рукопашный бой) и применение оружия, не
принятого ритуалом дуэли (палки, хлыста, топора).
Использование же типичного для дуэли оружия (шпаг или пистолетов)
представляется факультативным. Иными словами, во все
время существования дуэли в России спонтанная рукопашная драка
служила разрешением конфликта чести не реже, чем
формальная дуэль. Можно было бы написать альтернативную историю
дуэли в России, где описывались бы кулачные бои,
пощечины и побои палкой. Широкое распространение драк
заставляет предположить, что применение грубой силы было не
аберрацией, а общепринятой альтернативой дуэли.
Историки русской дуэли, однако, упорно отказываются
всерьез анализировать это альтернативное поведение,
предпочитая считать его аномалией. Так, Я.А. Гордин в своей книге
«Право на поединок» рассматривает неконтролируемую
физическую агрессию как отклонение от нормы, характерное либо
для самой ранней стадии истории русской дуэли, когда институт
point d'honneur юлько еще усваивался, либо для самой поздней
ее стадии — стадии упадка. В какой-то мере он прав: в первой
половине XVIII века драк действительно было больше, чем
столетие спустя. Существенно, однако, то, что они никогда
не исчезали полностью: физическая агрессия сопровождала
русскую дуэль на протяжении всей ее истории. В России
дуэль чести, совершаемая по всем правилам, представляется лишь
идеалом, которому следовали далеко не все и которым часто
пренебрегали.
96 И. Рейфман. Ритуализованная агрессия
Так называемая нежинская ссора, происшедшая в 1744 году
между адъютантом Преображенского полка и фактическим
начальником Лейб-кампании Петром Гринштейном (Грюнштей-
ном) и неким Власом Климовичем, является ранним примером
конфронтации по поводу якобы имевшего место оскорбления
чести. В этом поединке использовался как рукопашный бой,
так и оружие, в том числе не принятое в делах чести.
Гринштейн был одним из руководителей переворота 1741
года, которому Елизавета пожаловала в награду дворянство.
Климович был зятем фаворита Елизаветы, Алексея
Григорьевича Разумовского, возвышению которого завидовал
Гринштейн. Драка произошла на дороге возле украинского города
Нежина. С точностью восстановить ход событий трудно,
поскольку мы знаем их историю только в пересказе участников:
с одной стороны, это жалоба Климовича императрице,
поддержанная его сторонниками, а с другой — свидетельство Грин-
штейна, подтвержденное его офицерами2. Даже следователи,
назначенные Елизаветой для разбирательства дела, доложили
императрице, что установить правду не представляется
возможным, и советовали закрыть дело [Соловьев, XI: 312].
Причиной ссоры было нежелание Климовича и Гринштей-
на уступить друг другу дорогу. По одним сведениям, экипаж
Климовича в темноте столкнулся с экипажем Гринштейна, по
другим — Климович потребовал, чтобы люди Гринштейна
посторонились и уступили ему дорогу, и, получив отказ,
инициировал конфликт. За горячими словами последовала драка,
в которой обоим участникам помогали их спутники. В ход
пошли палки, шпаги, ружья и кулаки. Все присутствующие —
дворяне и простолюдины, офицеры и солдаты, даже
женщины — набросились друг на друга. Жену Климовича ударили
дубиной и ее матери угрожали побоями [Соловьев, XI: 310].
По-видимому, победителем остался Гринштейн, но он
дорого заплатил за свою победу: его арестовали, пытали и сослали
вместе с женой и сыном в Устюг. Там они провели около
16 лет, до тех пор, пока Петр III не разрешил наконец Грин-
штейну вернуться в свое поместье.
Эту потасовку трудно назвать дуэлью. Тем не менее в
хаосе агрессивных жестов можно распознать какие-то зачаточные
элементы поединка чести. Так, во всех рассказах о событии в
качестве причины конфликта выступает оскорбленная честь.
Когда экипажи столкнулись, Гринштейн якобы отреагировал
на наезд Климовича вопросом: «Что за канальи ездят и для чего
генералитету чести не отдают, а с дороги не сворачивают?»
Глава 3. Дуэль и физическая неприкосновенность 97
[Соловьев, XI: 312]. В ходе последовавшей словесной
перепалки Гринштейн оскорбил честь Разумовского: согласно
современному событию документу, он «словами скверными бранил
в поношение чести Алексея Григорьевича, коих слов и писать
срамно»3. Более того, некоторые агрессивные жесты,
примененные дерущимися, можно представить себе в контексте дела
чести. Например, когда Климович ударил Гринштейна палкой
по голове, тот, «усмехнувшись и перекрестясь, со словами
"Меня и Алексей Григорьевич бить не станет", ударил
Климовича по щеке наотмашь правою рукою»4. На оскорбительный
для своей чести жест Климович отвечал как дуэлянт: он
обнажил шпагу и замахнулся ею на Гринштейна; однако один из
офицеров Гринштейна остановил его, отнял оружие и
разломал пополам.
Отсылки к чести и статусу («Меня и Алексей Григорьевич
бить не станет») демонстрируют, что это был спор о
первенстве, а именно о месте Гринштейна и Разумовского в
иерархии чести (очевидно, что Климович здесь выступает как
заместитель Разумовского). На Западе такие конфликты обычно
решались с помощью дуэли, в обход королевского запрета и
вопреки закону5. Напротив, в Московской Руси они решались
с помощью института бесчестья^ контролируемого
государством. Фактически любой обмен оплеухами был запрещен в той
же степени, что и дуэль. Жак Маржерет пишет: «[Е]ще более:
не взирая на жесточайшую брань, запрещено бить поносителя
даже рукою, под опасением вышеупомянутого взыскания; если
же сие случится, причем другой и сам ударит, а потом дело
дойдет до жалобы: тогда обоих наказывают телесно, или
денежною пенею в казну, для того, чтобы оскорбленный, говорят
Россияне, самовольною расправою не присвоивал себе власти
правосудия, которое одно имеет право разбирать и
преследовать преступления»6. Нежинская ссора, сколь бы грубой она
ни была, представляла собой попытку разрешить спор
самостоятельно, независимо от юрисдикции государя. Этим, в
частности, объясняется жестокость наказания Гринштейна: он не
только переоценил свой статус в сравнении со статусом
фаворита Елизаветы, но и прямо отрицал право государя
устанавливать иерархию чести и регулировать конфликты,
возникающие по этому поводу. Возможно, Гринштейн рассчитывал, что
его роль в возведении Елизаветы на трон позволяет ему вести
себя столь независимо. Императрица, однако, отказалась
признавать правомерность такой претензии.
В своем поединке, лишь отчасти напоминающем дуэль
чести, Гринштейн и Климович использовали как принятое
4. Заказ Ms 2522.
98 И. Рейфман. Ритуализоваппая агрессия
дуэльным ритуалом оружие (шпагу), так и непринятое (кулаки,
палки, дубины). Все эти виды оружия имеют символическое
значение. Они не только определяют тип столкновения (дуэль,
драка, акт наказания и т.д.), но и символизируют властные
отношения между участниками. И шпага, и кулак служат
установлению равенства, но противоположным образом. Шпага
устанавливает (или восстанаативает) равно высокий статус, в
то время как кулак сводит обоих противников на один и тот же,
но низкий уровень. Палка, используемая для нанесения удара,
и ладонь, которой бьют по лицу, являются орудиями
наказания; они вводят или закрепляют иерархию власти7.
Для Климовича и Гринштейна семиотика благородных и
простонародных, уравнивающих и наказующих жестов как будто
нерелевантна. В своей борьбе за высший статус они
произвольно переходят от одних жестов к другим: Климович бьет
Гринштейна палкой по голове; Гринштейн дает Климовичу
пощечину; Климович обнажает шпагу и замахивается ею на
Гринштейна; офицер Гринштейна отнимает у Климовича шпагу,
избивает его и его людей. Оппозиция между кулаком
(настоящим оружием) и ладонью (оружием символическим) тоже
стирается: удар, нанесенный Климовичу Гринштейном, не просто
символическая унизительная пощечина: Гринштейн бил
«наотмашь, правою рукою» и явно должен был причинить
Климовичу вполне реальную физическую травму. Более того, согласно
другому рассказу, Гринштейн «ударил Климовича по щекам
раза три или четыре» [Соловьев, XI: 312] — гораздо больше, чем
требовалось для символического нанесения оскорбления. Такое
безразличие к семиотике оружия^ жестов станет в дальнейшем
отличительной особенностью русской дуэли.
Если понимать нежинскую ссору как раннюю неуклюжую
попытку дуэли, то можно ожидать, что по мере ассимиляции
дуэли и усвоения кодекса чести беспорядочные жестокие
реакции на оскорбления исчезнут8. Однако исторические
документы свидетельствуют, что русские офицеры и джентльмены
защищали свою честь кулаком и палкой не только в течение всего
XVIII столетия, но и в XIX и даже XX веках — то есть во все
время существования института дуэли в России. Особенно
важно, что между дракой и дуэлью не было четкой границы. Так,
упоминаемая в мемуарах Екатерины II дуэль 1753 года между
Чернышевым и Леонтьевым началась как простая драка: «11
января 1753 г. полковники Чернышев и Леонтьев, будучи в
гостях у гр. Романа Воронцова, сначала подрались между собой,
а затем, вынимая у себя шпаги, друг друга теми шпагами ко-
Глава J. Дуэль и физическая неприкосновенность 99
лоли»9. Аналогично в середине 1750-х годов два гвардейских
офицера, Федор Смольянинов и Александр Шванович,
поссорившись за игрой в бильярд, начали с толчков и пощечин,
а затем обнажили шпаги и серьезно ранили друг друга1".
Николай Греч пересказывает историю ссоры А.В. Храповицкого
с провинциальным дворянином, по ошибке севшим в
трактире за стол, приготовленный для Храповицкого и его
высокопоставленных друзей: «В это время вошла эта компания и
расположилась за столом, один из ее членов, увидев чужого и
заметив по его приемам, что он приезжий провинциал, стал
над ним подтрунивать. Странник сначала отшучивался, но
потом, когда нападения усилились, стал браниться, а
наконец, отвечал за дерзость пощечиной. Завязалась драка, из
которой степной герой вышел победителем, оставив под
глазами краснорожих своих супостатов багровые следы своей
храбрости»11. В этом случае символический жест (пощечина) был
отомщен не на заранее условленной дуэли и не в спонтанном
поединке на шпагах, а в драке на кулаках. Более того, когда
победитель (не знавший, кто его противники) на следующее
утро пришел к Храповицкому с петицией, последний узнал
его, но не сделал никаких попыток восстановить свою честь в
формальном поединке. Напротив, Храповицкий,
«позабавившись его смущением, подал ему руку и сказал: "Ну полно,
помиримся. Сделаю для вас, что могу, а кто старое помянет,
тому глаз вон". Он не только сделал все, что мог, но и
принимал его с тех пор как друга»12.
Даже благоразумному А.Т. Болотову в качестве первой и
естественной реакции на оскорбление приходит на ум удар по
лицу, и только потом он упоминает поединок. У него
произошло недоразумение с немецким офицером, который подумал,
что Болотов дернул его за косу: «[Н]о он счел, что это был я,
и, вспыхнув как порох, начал меня немилосердным образом
и так бранить и ругать, так что другой бы, будучи на моем
месте, никак не утерпел, но его бы верно съездил в рожу и
готов бы с ним хоть резаться и драться». Офицеры —
сослуживцы Болотова высказали готовность поддержать своего
товарища в случае рукопашной: «[М]ы не можем надивиться, что ты
имел столько духа и этого немчуру не съездил в рожу. Мы бы
все тебе помогли проучить этого невежу». Болотов же
проявляет себя как разумный человек, приносит извинение и тем
добивается ответного извинения от немца. Пересказывая эту
историю, он выражает удовлетворение своей сдержанностью и
снова упоминает грубое насилие как часть нормального кон-
4*
100 И. Рейфман. Ритуализованная агрессия
фликта чести: «Мне же победа сия сто раз приятнее была,
нежели бы я его приколотил палкою»13.
Подмена формальных поединков чести драками
продолжается до самого конца XVIII века. Так, в 1797 году гвардейский
офицер Колтовский позволил себе грубую шутку в адрес
сестры своего сослуживца, и тот в ответ с такой силой ударил
Колтовского, что были «[видны] во всю левую сторону синие
знаки, с великою притом опухолью». Никакой дуэли за этим
не последовало14. Не исчезают драки и в начале XIX века, после
того как формальные дуэли стали общепринятыми и
повсеместно распространились. Особенно же важно то, что к этому
времени грубое физическое насилие вошло в дуэльный
ритуал—в качестве средства спровоцировать дуэль или заставить
драться колеблющегося противника. Обе функции очевидны в
ссоре 1811 года между Н.Н. Муравьевым-Карским, будущим
наместником Кавказа, и неким А.М. Михайловым. Михайлов,
насмехаясь на балу над семнадцатилетним Муравьевым,
неуважительно отозвался о полке, в который юноша только что был
зачислен. Муравьев дал оскорбителю пощечину, явно
намереваясь спровоцировать дуэль: «"Что вы сделали?" воскликнул
центра тяжести лишенный Михайлов, схватив меня за руку.
"Свой долг", отвечал я ему, "и готов сейчас дать вам
удовлетворение, какое вам будет угодно. Пойдемте!"» Когда
Михайлов отказался принять вызов и пригрозил, что пожалуется
начальству, Муравьев попытался принудить противника к дуэли,
угрожая ему палкой: «"Ах!" вскричал я, "подлец, тебе и этого
мало; так постой же!" Я вздрогнул от бешенства и побежал в
другую комнату искать по углам какой-нибудь трости, чтоб
порядком прибить Михайлова». Дуэль не состоялась, потому
что отец Муравьева, беспокоясь о карьере своего сына,
заставил Михайлова извиниться. Михайлов был вынужден с
позором покинуть столицу, а Муравьев заслужил восхищение
сослуживцев15.
Если Муравьев схватился за палку в приступе ярости, то
Рылеев продуманно, почти формализованно, использовал орудие
наказания по отношению к не желавшему драться противнику.
По рассказу Николая Бестужева, Рылеев решил проучить
морского офицера Вильгельма фон Дезина, который отказался
драться на дуэли с братом Николая, Александром: «[0|н
встретил его дважды и в первый раз, при отказе на вызов,
наплевал ему в лицо, в другой раз забылся до того, что, вырвав у
своего противника хлыст, выстегал его публично, но ни тем,
ни другим не мог убедить его на удовлетворение, которого тот
Глава 3. Дуэль и физическая неприкосновенность 101
хотел искать в полиции»16. Третий брат, Михаил, также
описывает это происшествие: «Рылеев встретил его случайно на
улице и, в ответ на его дерзости, исхлестал его глупую рожу
кравашем, бывшим в его руке»17. Хотя братья и утверждают,
что Рылеев действовал импульсивно, повторный характер его
действий свидетельствует об их продуманности18.
Несмотря на то что действия Рылеева, конечно, имеют
символическое (унизительное) значение, примененная им
физическая сила значительно превосходит уровень, необходимый
для того, чтобы только опозорить. То же самое можно сказать
и о пощечине Муравьева, которой он чуть не сбил с ног
своего обидчика. Применение чрезмерной физической силы в
символических по смыслу жестах всегда оставалось в русских
конфликтах чести скорее правилом, чем исключением. Иногда
противники начинали дело чести с того, что буквально
сбивали друг друга с ног. Так, в конце 1820-х или начале 1830-х годов
два гвардейских офицера, Савва Яковлев, знаменитый игрок
и пьяница, и полковник Вадковский, также известный
скандалист, поссорились из-за популярной цирковой наездницы,
которая сначала увлеклась Яковлевым, а затем Банковским:
«Однажды, в порыве дикой ревности, Савва запер свою
красавицу, а ключ привез с собой в цирк, говоря, что Людовика
больна <...> Явившийся вскоре вложу Вадковский потребовал
ключ и, получив отказ, угостил Яковлева полновесной
пощечиной, повергшей его на ковер ложи. Поднявшись, Яковлев
вызвал Вадковского на дуэль. "С величайшим удовольствием",
ответил с хохотом счастливый соперник, дразня Яковлева
ключом, выпавшим из кармана. Дуэль не состоялась»19.
Пощечина Вадковского была чем угодно, только не ритуальным
жестом: она свалила с ног кавалергарда — человека огромного роста
и большой физической силы. Характерно также, что драка
закончилась вызовом на дуэль — свидетельство того, что
рукопашный бой оказался интегрированным в дуэльный ритуал.
Применение грубой физической силы при разрешении дел
чести было распространено во всех социальных группах,
знакомых с дуэлью, — как в среде военных, так и среди
интеллектуалов, и даже аристократов. В письме В.П. Боткину от
12—16 августа 1840 года Белинский описывает неблаговидный
инцидент между Катковым и Бакуниным. Как уже упоминалось
в главе 2, будущий редактор «Русского вестника» и будущий
лидер международного анархизма поссорились из-за слухов о
любовном романе Каткова, предположительно
распространявшихся Бакуниным. После обмена оскорблениями («Под-
102 И. Рейфман. Ритуализовапная агрессия
лец!» — «Сам подлец!» — «Скопец!») соперники набросились
друг на друга: «К|атков| толкнул его с явным намерением
затеять драку. Б[акунин] бросился к палке, завязалась борьба.
Я не помню, что со мною было— кричу только: "Господа,
господа, что вы, перестаньте", а сам стою на пороге и ни с
места. Б|а|кунин отворачивает лицо и действует руками, не
глядя на Каткова; улучив минуту, он поражает К|атко|ва
поперек спины подаренным ему тобою бамбуком, но с этим
порывом силы и храбрости его оставили и та, и другая, — и
Катков] дал ему две оплеухи. Положение Б(акунина) было позорно:
К[атков] лез к нему прямо с своим лицом, а Б|акунин|
изогнулся в дугу, чтобы спрятать свою рожу. Во время борьбы он
вскричал: "Если так, мы будем стреляться с вами!" Достигши
своей цели, т.е. давши две оплеухи Б|акунин]у, К[атков]
наконец согласился на мои представления и вышел в кабинет. Я
затворил двери. На полу кабинета валялась шапка Б[акунин]а,
спаленка моя обсыпана известкою, которая слетела с потолка
от возни» [Белинский, XI: 542]. Эта драка столь же яростна и
одновременно комична, как нежинская ссора. Однако
дерущиеся, очевидно, не сочли эту жестокость и грубость
препятствиями для формальной дуэли. Впрочем, дуэль не состоялась:
вскоре после происшествия Бакунин навсегда покинул Россию.
Еще более серьезная по своим последствиям драка
произошла в 1857 году между графом Алексеем Бобринским,
аристократом, в чьих жилах текла царская кровь, и Степаном Шевы-
ревым, историком, критиком и поэтом. Драка имела вполне
возвышенную причину (Шевырев, будучи славянофилом,
защищал русские университеты от критики Роберта Пиля, за что
западник Бобринский назвал его «квасным патриотом»), и от
этого ее ожесточенность кажется особенно удивительной.
«Шевырев вышел из себя, и ударил его по лицу. Бобринский не
взвидел света, кинулся на него и стал топтать ногами. Напрасно
разнимал их Чертков и пытался оттащить Бобринского, пугая
его тем, что он может убить Шевырева; Бобринский ревел, что
он этого и желает, и Чертков был вынужден позвать людей,
которые и развели подравшихся, вернее сказать, освободили
полумертвого Шевырева и на простынях унесли его домой.
Теперь опасаются за его жизнь, а граф Бобринский не
унимается и хочет еще стреляться с ним, говоря, что оба они жить
не могут20». Кровожадность Бобринского, однако, осталась
неутоленной: Шевырев выжил, а дуэль не состоялась.
А.А. Суворин, будущий автор дуэльного кодекса, также
применил физическую силу в конфликте чести. В 1893 году его
Глава 3. Дуэль и физическая неприкосновенность 103
долгий спор с редакцией «Русской мысли» закончился
столкновением, которое обе стороны трактовали как дело чести.
Отец Суворина, Алексей Сергеевич, в своем дневнике
описывает и оправдывает действия сына: «Безобразно оскорблять
человека, но и вытягивать жилы из человека тоже безобразно. "Я
застрелю Вас, как поросенка", — слова Лаврова должны были
вывести Лелю из себя. "Стреляйте, — вскричал он. —
Неужели Вы думаете, что в деле чести я отступлю перед револьвером?"
И, ударив его, повторил, "Стреляйте"»21. В этом конфликте
пощечина следует за вызовом, что свидетельствует о полной
интеграции агрессивных жестов в дуэльный ритуал. Несмотря
на видимую готовность обеих сторон драться, в этом случае,
как и во многих других, дуэль не состоялась.
Закон 1894 года, призванный возродить рыцарский дух
русской дуэли, не смог искоренить физической агрессии в
ведении дел чести. Примером может служить имевший место в
1909 году конфликт между Максимилианом Волошиным и
Николаем Гумилевым. С.К. Маковский, который присутствовал
при их столкновении в мастерской художника А.Я. Головина,
сообщает: «Я прогуливался с Волошиным, Гумилев шел
впереди с кем-то из писателей. Волошин казался взволнованным,
не разжимал рта и только посапывал. Вдруг, поравнявшись с
Гумилевым, не произнеся ни слова, он размахнулся и изо всей
силы ударил его по лицу могучей своей дланью. Сразу
побагровела правая щека Гумилева и глаз припух. Он бросился,
было, на обидчика с кулаками. Но его оттащили — не
допускать же рукопашной между хилым Николаем Степановичем и
таким силачом, как Волошин! Да это и не могло быть ответом
на тяжкое оскорбление. Вызов на поединок произошел сразу22.
Маковский приводит объяснение Волошиным своего
поведения: «"Вы недовольны мною?" — спросил Волошин, заметив,
что меня покоробила грубая физическая расправа его с
человеком, который до того считался ему приятелем. "Вы
слишком великолепны физически, Максимилиан Александрович,
чтобы наносить удары с такой силой. В этих случаях достаточно
ведь символического жеста..." Силач смутился, пробормотал
сконфуженно: "Да, я не соразмерил..."»23. Существенно, что
Волошин, понимая, каков должен быть символический жест,
тем не менее избивает своего друга до синяков.
Еще один конфликт чести с применением физической силы
имел место в 1912 году между Михаилом Кузминым и
шурином Вячеслава Иванова, Сергеем Шварсалоном. Газета
«Биржевые ведомости» сообщала: «5 декабря во время представле-
104 И. Рейфман. Ритуализованная агрессия
ния пьесы "Изнанка жизни" <...> произошел скандал. Во время
второго антракта за кулисы вошел молодой человек и, быстро
направившись к находящемуся в ближайшей от фойэ комнате
писателю М.М. <так!> Кузмину, ударил его несколько раз по
лицу. <...> Как передают, причиной, вызвавшей поступок г.
Ш., явился отказ г. Кузмина принять вызов г. Ш. на дуэль.
Вызов же им был сделан вследствие распространения г. Куз-
миным клеветы»24. Как видим, в этом конфликте налицо весь
набор действий, который регулярно наблюдается в делах чести
на протяжении всей истории русской дуэли: вызов, отказ
драться и применение излишней физической силы. Поведение,
декларируемое как отклонение от нормы, в действительности
оказывается почти что обязательным.
Исторически дуэль чести появилась в противовес грубой
физической агрессии, как более цивилизованное средство
разрешения конфликтов. Она способствовала выделению дворян из
остальной массы людей по признаку учтивости. В.Г. Кирнан
замечает: «Дворянин не мог ответить грубой физической силой
тому, кто дернул его за нос или наступил ему на ногу; вместо
того чтобы сбить обидчика с ног, как сделал бы обычный
человек, он должен был обменяться карточками, назвать своего
секунданта и быть готовым появиться в Гайд Парке или в Бу-
лонском лесу, чтобы обменяться уколами шпаги или
выстрелами»25. Церемония дуэли медиировала агрессию,
искусственно отделяя противников друг от друга посредством времени и
пространства. Соответственно дуэль предпочитала те виды
оружия, которые были связаны с физической сепарацией, — шпаги
или рапиры, требующие определенной дистанции между
противниками, и пистолеты, делающие физический контакт
невозможным.
Дуэль также действовала превентивно: зная, что их могут
призвать к ответу, дворяне воздерживались от того, чтобы
бездумно сталкиваться на узкой дорожке или наступать друг другу
на мозоли. Теоретически наказание могло даже предшествовать
оскорблению действием. Так, в «Седьмом письме к
Провинциалу» Паскаль неодобрительно цитирует своего воображаемого
оппонента, сторонника кодекса чести, который утверждает,
что «позволительно убийство намеревающегося оскорбить
[пощечиной], если нельзя иначе избежать этого оскорбления»26.
Несмотря на отрицательное отношение Паскаля к дуэли (на
протяжении всего письма он называет ее не иначе как
убийством), его слова привлекают внимание к важнейшей функции
дуэли: самим своим существованием она защищает телесную
неприкосновенность человека. Делая дворянина открытым
Глава 3. Дуэль и физическая неприкосновенность 105
насилию ритуализованного поединка, дуэль в то же время
гарантировала ему физическую неприкосновенность в других
сферах общежития. Принятие обществом дуэли сигнализировало
его готовность признать право человека (для начала —
дворянина) наличное пространство и физическую неприкосновенность.
Заимствовав дуэль как более цивилизованное средство
разрешения конфликтов, русские тем не менее в большой
степени игнорировали запрет, налагаемый дуэлью на прямой
физический контакт, и продолжали бросаться друг на друга с
кулаками. Конечно, не одни русские прибегали к физической
агрессии в делах чести. Более того, пощечина и другие формы
символического применения физической силы входили в
дуэльный ритуал и на Западе. Западные дуэльные кодексы,
однако, трактовали пощечину как наиболее серьезное оскорбление
чести и самое верное средство спровоцировать дуэль.
Соответственно западные дуэлянты использовали физическое
оскорбление с осторожностью. Часто они пытались избежать
прямого телесного контакта, употребляя, например, для удара по
лицу перчатку. Они даже предпочитали слова «считайте, что я
дал вам пощечину» реальной пощечине27. Русская теория
дуэли, следующая западным образцам, также рассматривала
оскорбление, включающее физический контакт («оскорбление
действием»), как наиболее тяжелое, что как будто должно
служить инструкцией не употреблять его всуе28. Однако на
практике, как мы видели, жестокие стычки не только регулярно
сопутствовали дуэлям, но и зачастую подменяли их. Более того,
русские дуэлянты, по-видимому, предпочитали реальную
агрессию символическим угрозам. Так, например,
случившаяся в 1833 году ссора между двумя офицерами началась с обмена
оскорблениями, а закончилась физическим нападением:
«"Замолчите!" — крикнул наконец Канатчиков, приходя в себя. —
"Замолчите, иначе... иначе я вам дам пощечину... Слышите
вы?" — "Этого не говорят и не обещают, а делают!" — ответил
Воейков и с этими словами, схватив со стола подсвечник с
горящею свечою, запустил им в Канатчикова». Воейков был
убит на последовавшей за этим дуэли29.
Классическая французская дуэль XVI—XVII веков чаще
всего провоцировалась обвинением во лжи — dementi^. В русских
же конфликтах чести провокация обычно принимала форму акта
физической агрессии. Это различие можно объяснить двояко.
С одной стороны, русские исторически не были особенно
чувствительны к обвинениям во лжи. Капитан Маржерет
отмечает терпимость русских к подобным обвинениям: «Справедливо
и то, что Россияне не любят придираться к словам: они всегда
106 И, Рейфман. Ритуализованнан агрессия
просты в обращении и всякому говорят — ты; а прежде были
еще проще. Если им случалось иногда слышать что-либо
сомнительное, то вместо слов: Ваше мнение или извините, или
других учтивых выражений, они отвечали на отрез: ты лжешь. Так
говорил даже слуга своему господину. Сам Иоанн Васильевич,
прозванный Мучителем, не гневался на подобные грубости»31.
По мнению Маржерета, приток иностранцев повысил
чувствительность русских к обвинениям во лжи: «Но теперь, по-
знакомясь с иноземцами, Россияне отвыкают от прежней
дерзости в разговоре, бывшей обыкновенного лет за двадцать или
за тридцать»32. Тем не менее русские так и не стали особенно
чувствительными в этом отношении. Показательно, что, хотя
А.В. Востриков в своем исследовании русской дуэли и
включает слова «лжец», «вы солгали» и т.п. в число оскорблений
чести, он не выделяет их из разряда других словесных
оскорблений, таких, как «подлец», «трус», «дурак», «глупец» или
«кретин»33. В моем собрании дуэльных историй нет ни
одного примера дуэли, вызванной обвинением во лжи. Таким
образом, можно утверждать, что обвинение во лжи в отличие от
пощечины и других оскорблений действием не было в русской
дуэльной традиции ни особенно серьезным, ни слишком
частым оскорблением.
В то же время проблема физической неприкосновенности
была центральной для дворянства XVIII века, которое
преобразовывало себя в привилегированное сословие,
ориентированное на западные ценности. Продолжая вступать в драки и
потасовки, дворяне все же начали усваивать западные понятия
о личной автономии и телесной неприкосновенности. При этом
они добивались не столько полной отмены физического
насилия, сколько права отвечать на него. Их новоприобретенная
антипатия к физическому насилию была направлена на равных
по социальному положению, но также на непосредственное
начальство и даже на правительство. Поскольку пощечины,
удары палкой и сечение кнутом являлись актами демонстрации
власти, то можно сказать, что дворянское сопротивление
начальственным оплеухам и телесным наказаниям было борьбой
за независимость от властей.
В этом важном процессе дуэль чести занимала центральное
место. Если роль дуэли как сдерживающего фактора в частных
конфликтах очевидна, то ее способность удерживать
представителей власти от нарушений телесной неприкосновенности
подчиненных и, в особенности, ее функция охраны личного
пространства подданного от посягательств государства требуют
дальнейших пояснений.
Глава 3. Дуэль и физическая неприкосновенность 107
«За одного битого двух небитых длют»
«Ахти! Никак сечь хотят!»
Григорий Винский, «Мое время. Воспоминания»
В так называемых «Заметках по русской истории XVIII
века», датируемых 1822 годом, Пушкин утверждает, что
Екатерина II и ее фавориты (особенно Потемкин) подавили
дворянский дух и лишили дворян их древних прав, подвергая их
оскорбительному обращению, в особенности телесным
наказаниям. «Унижение духа дворянства» и «пощечины, щедро
раздаваемые нашим князьям и боярам» привели, по
утверждению Пушкина, к «совершенному отсутствию чести и
честности в высшем классе народа» (<«3аметки по русской истории
XVIII века»> [Пушкин, XI: 16]). Исторические документы,
однако, не подтверждают концепции Пушкина. «Раздача»
пощечин князьям и боярам была типична для Московской Руси, в то
время как в XVIII веке число дворян, подвергавшихся
физическому насилию, — как со стороны начальников, так и именем
закона, — неуклонно уменьшалось. Если Петр I все еще сек,
пытал или бил по лицу не только своих врагов, но и всякого,
кто ему не угодит, независимо от общественного и
служебного положения, то Екатерина II в «Жалованной грамоте
дворянству» 1785 года официально освободила дворянство от телесного
наказания. Пятнадцатая статья грамоты гласит: «Телесное
наказание да не коснется благородного»34. Таким образом,
пушкинский упрек представляется не вполне справедливым.
Противоречие между пушкинским восприятием и
исторической реальностью объясняется растущим неприятием
дворянством физического насилия. Историки неоднократно
отмечали, что в Московской Руси телесное наказание было
эгалитарным институтом. Все сословия подлежали ему в
равной степени, и оно не приносило особенного стыда и не
считалось бесчестьем35. Порка как таковая не мешала карьере и не
приносила особого ущерба общественному положению.
Наказание становилось постыдным (буквально «позорным») по мере
возрастания его публичности: если виновного публично
раздевали, пороли на «козле» или с побоями гнали по улице36. Не
считались позорными и неофициальные виды физического
наказания, такие, как, например, побои, наносимые
начальником подчиненному.
Ситуация стала меняться в петровские времена. Несмотря
на то что сам Петр продолжал бить подданных по лицу, когда
108 И. Рейфман. Ритуализованная агрессия
ему заблагорассудится, а также расширил круг телесных
наказаний, назначаемых судом и другими институтами власти (при
Петре в армии стали использоваться шпицрутены, а на флоте
«кошки»), его законодательство постепенно продвигало идею
о том, что некоторые виды наказания могут опозорить. Так,
позорным начало считаться наказание, производимое палачом:
офицер, высеченный палачом, подлежал лишению звания;
высеченный солдат не мог стать офицером37. Постепенно же
возникла идея, что опозорить может любое телесное наказание.
Петр также пытался разработать законодательство,
регулирующее агрессию между индивидуумами, используя для этого
весьма нетривиальные ходы. Так, например, «Патент о
поединках и начинании ссор» 1716 года — в отличие от
составленного ранее в том же году «Устава воинского», целиком
оставлявшего прерогативу наказывать представителям власти, —
отводил потерпевшему активную роль в наказании обидчика:
«Кто кого рукою ударит, тот имеет на три месяца заключен
быти, и на полгода жалованья лишен, и потом у обиженного
стоя на коленках прощения просить, и в готовности быть от
обиженного равную месть принять, или за негодного почтен и
чину своего (ежели какой имеет) лишен, или вовсе или на
время, по силе дела смотря». Похожим, но более суровым
наказаниям подвергали и за удары палкой: помимо заключения
в тюрьму, ответных побоев и извинения, виновный в течение
года не получал жалованья и пожизненно лишался чина38.
Интересно, что закон неоднозначно определял, кто является
наказующей инстанцией: наказание назначалось судом, но
приводилось в исполнение обиженным. По-видимому, несмотря
на свое враждебное отношение к дуэли и нежелание допустить
независимости своих подданных в решении личных
конфликтов, Петр экспериментировал, позволяя оскорбленному
человеку лично поквитаться с обидчиком, но под контролем
закона. Возможно, эта непоследовательность отражала стремление
Петра остановить рост независимости дворянства, дав
государству активную роль в личных конфликтах, включая дела
чести, и таким образом приведя их под контроль государства.
Дворяне не приняли такого вмешательства со стороны
государя, но сама идея ответной физической агрессии как средства
ремедиации оскорбления, выдвигаемая в Патенте, оказалась
для них привлекательной.
Попытки властей насадить в военной среде идею чести
продолжались и после Петра 1. В 1745 году Алексей Разумовский,
вто время капитан-поручик Лейб-кампании, выпустил приказ,
Глава 3. Дуэль и физическая неприкосновенность 109
запрещающий как телесные наказания гренадеров, так и их
драки между собой. Приказ предписывал, чтобы «оные чины
и между собой поступали, как их честь требует, и никто не
дерзал между собой никаких штрафов накладывать, а
особливо побоями наказывать; чрез что могли б во учтивых и
порядочных поступках все состоять и из того наивящее почтение
получить»39. Такие меры — зачастую оторванные от
реальности, непоследовательные и плохо выполнявшиеся — все же
способствовали постепенному укоренению среди военных идеи
физической неприкосновенности. Постепенно возникало
представление о том, что офицерский чин освобождает человека от
телесного наказания. Об этом свидетельствует, например,
обмен репликами в ходе конфликта происшедшего в 1745 году
в Лейб-кампании. Командующий офицер, Михаил Охлесты-
шев, словесно оскорбил одного из гренадеров, Першуткина,
а затем ударил его палкой. Першуткин протестовал, но
Охлестышев снова ударил его. Товарищи вступились за
Першуткина, утверждая, что офицеров бить нельзя. Однако обидчик
настаивал на своем праве применять побои в качестве наказания:
«"Я из вас офицерство выбью". — "Не ты нас пожаловал, и бить
офицера не годится", — ответил ему Чижухин. — "А тебе что
задело? Не тебя бьют!" — закричал на него Охлестышев. —
"Сегодня Першуткина бить палкою вы изволили, а завтра я то же
могу от вас получить!" — "Разве вы бунт хотите сделать,
канальи! Всемилостивейшая Государыня приказала вас палкою
бить!" — "Объяви нам приказ, а тогда и бей..."»40. Офицеры,
очевидно, понимают физическую неприкосновенность как
прерогативу своего звания. В своей жалобе, которую он
подал императрице, Першуткин подчеркивает, что Охлестышев
поступил с ним «не яко с честным офицером, но как с
рядовым солдатом, чем причинил ему не малую обиду»41.
Подобным образом другой гвардейский офицер, Ельчанинов,
опроверг обвинение в том, что он «сквозь строй гонян», апеллируя
к своему званию: «А я уже офицер»42.
Идея о том, что звание офицера дает право на физическую
неприкосновенность, затем распространилась и на все
дворянство в целом. Этому способствовало, конечно, и то, что
дворяне в подавляющем большинстве служили в армии, и
обычно в офицерском чине. Понимая свое дворянство как
врожденное качество, дворяне постепенно уверились, что таким же
врожденным является и их право на физическую
неприкосновенность.
Желание русских дворян не быть битыми выразилось в их
попытках (особенно во второй половине XVIII века) обеспечить
110 И. Рейфман. Ритуализовашшя агрессия
право на телесную неприкосновенность законодательно.
Проект кодекса законов, подготовленный Уложенной комиссией
(1754—1766), содержит параграф, запрещающий пытки и
телесные наказания дворян43. Многие из «Наказов дворянским
депутатам», составленных дворянами — представителями
различных округов для Комиссии для составления нового
Уложения 1766 года, содержат аналогичные пункты44. «Жалованная
грамота дворянству» 1785 года явилась, таким образом,
кульминацией многолетних усилий дворянства обеспечить себе
защиту закона.
К сожалению, защита, предоставленная пятнадцатым
пунктом «Грамоты», в скором времени обнаружила свою
непрочность. Указ Павла I от 13 апреля 1797 года фактически отменил
этот пункт, позволив лишать провинившегося дворянина
дворянского звания, а это допускало применение по отношению
к нему пыток и телесных наказаний45. Александр I в самом
начале своего царствования восстановил привилегии дворянства,
но никак не гарантировал их неотменности. Особенно важно
то, что практика лишения дворянского звания продолжалась.
Дворянам таким образом давалось понять, что привилегия,
освобождающая их от пыток и побоев, может в любой момент быть
отменена по решению государя. Заметка Вяземского 1844 года
отражает беспокойство дворянства по этому поводу:
«"Дворянин свободен от всякого телесного наказания как по суду, так
и во время содержания под стражею". Выписано из Свода
законов издания 1842. Этими статьями подтверждается
дворянская грамота, данная Екатериною И: Грамота на права,
вольности и преимущества благородного российского дворянства 21
апреля 1785 года на венные времена и непоколебимо. Эта вечность,
эти права и вольности частью ниспровергнуты указом...
Остается только отменить и 15 пункт дворянской грамоты: "телесное
наказание да не "коснется благородного"»46. Незаконченная
фраза, очевидно, отсылает к павловскому указу 1797 года.
Беспокойство дворян по поводу физической
неприкосновенности выражалось в постоянно возникавших слухах о том,
как дворяне тайно подвергаются пыткам и порке. Такие слухи
продолжали появляться и распространяться почти до самого
конца XIX века. Трудно сказать, осуществлялась ли
противозаконная порка в действительности и как часто: такие случаи
нелегко подтвердить свидетельствами документов. Тем не
менее существуют указания на то, что такие избиения могли иметь
место. Храповицкий цитирует высказывание Екатерины П,
Свидетельствующее о ее желании иметь возможность сечь под-
Глава J, Дуэль и физическая неприкосновенность 111
данных или, по крайней мере, о ее знакомстве с фактами
совершения порки главой ее Тайной экспедиции, Семеном Шеш-
ковским: «Она бы [Наталия Пассек] при Императрице Анне
высечена была кнутом, а при Императрице Елизавете сидела
бы в тайной; есть такие письмы |в деле Пассек], кои
надлежало сжечь и не можно было отдать Шешковекому»47.
Предположения Екатерины II о применении Шешковским порки
подтверждаются официальным протоколом допроса масона
М.И. Невзорова в 1792 году: «Наконец сказано ему
(Невзорову) было, что если он ответствовать не будет, то он яко
ослушник власти, по повелению Ея Императорского Величества
будет сечен»48. По свидетельству масона И.В. Лопухина,
друга и благодетеля Невзорова, Шешковский угрожал взамен
обычной порки избить Невзорова поленом: «Государыня
приказала тебя бить четвертным поленом, коли не будешь
отвечать». Невзоров на это будто бы отвечал: «Не верю, чтоб это
приказала Государыня, которая написала наказ комиссии о
Сочинении Уложения», и этот ответ якобы избавил его от
побоев49. Сосуществование двух систем правового воздействия —
карательной, применяемой судами в соответствии с
законодательством, и административной, применяемой местной
полицией по собственному усмотрению, — должно было
способствовать злоупотреблениям.
Независимо от реальной частоты хтоупотреблений страх
перед физическим насилием упорно сохранялся в дворянской
среде. Ходили слухи, что Радищев в момент ареста упал в
обморок, узнав, что он попадет на допрос к Шешковекому.
Говорили, что он избежал пыток только потому, что его
свояченица дала Шешковекому взятку50. Другие, по слухам, не
были столь счастливы. Так, например, рассказывали, что
Марью Кожину, жену генерал-майора, забрали по приказу
Екатерины II в Тайную экспедицию и там высекли. При этом
Екатерина якобы сказала Шешковекому: «[0|на всякое
воскресенье бывает в публичном маскараде, поезжайте сами и, взяв
ее оттуда в тайную экспедицию, слегка телесно накажите и
обратно туда же доставьте со всею благопристойностью»51.
Ходили и слухи о том, что две великосветские дамы, Е.П. Ди-
вова и А.А. Турчанинова, были жестоко наказаны
Шешковским за то, что нарисовали карикатуру на императрицу52.
Пушкин, изображавший эпоху Екатерины II как время рутинного
физического насилия над дворянами, пересказывает два
широко ходивших слуха: «Екатерина уничтожила пытку — а
тайная канцелярия процветала под ее патриархальным правлением;
112 И. Рейфман. Ритуализованпая агрессия
Екатерина любила просвещение, а Новиков,
распространивший первые лучи его, перешел из рук Шешковского в
темницу, где и находился до самой ее смерти. Радищев был сослан
в Сибирь, Княжнин умер под розгами — и Фонвизин,
которого она боялась, не избегнул бы той же участи, если б не
чрезвычайная его известность» (<«3аметки по русской истории
XVIII века»> [Пушкин, XI: 16|). Пытки Новикова не
подтверждены документально, и порка Княжнина также крайне
маловероятна53. Тем не менее декабристы числили его среди
мучеников, принявших смерть от русского самодержавия54.
Шешковский, прозванный «кнутобойисй», был идеальным
кандидатом на роль обидчика дворян. Человек низкого
происхождения и малообразованный, первым в своем роду
получивший дворянство и добившийся высокого служебного
положения, он стал олицетворением угрозы телесного наказания. Сын
Радищева, Павел, в черновике биографии отца изображает
Шешковского садистом, неотступно преследующим дворян:
«Шешковский сам хвалился, что знает средство вынуждать
признания, а именно он начинал тем, что допрашиваемое лицо
хватит палкою под самый подбородок так, что зубы затрещат,
а иногда и выскакивают. <...> Всего замечательнее то, что
Шешковский обращался таким образом только с знатными
особами, ибо простолюдины отдаваемы были на расправу его
подчиненным. <...> Наказание знатных особ он исполнял свое-
ручно. Розгами и плетью он сек часто. Кнутом он сек с
необыкновенной ловкостью, приобретенной частым
упражнением. <...> Совестно было бы оглашать имена некоторых господ
и дам в знатнейших городах империи, которых он наказывал»55.
Другой источник также изображает Шешковского в роли
мучителя, получающего наслаждение от своей работы:
«Страшный человек был этот Шешковский; бывало, подойдет так
вежливо, так ласково, попросит приехать к себе объясниться... да
уж и объяснится!..»56
Ненависть дворян к Шешковскому-мучителю порождала и
противоположные слухи — например, что Шешковский был
сам высечен в отместку за свои преступления. Бывший кадет
Первого кадетского корпуса вспоминал в старости об имевшей
якобы место попытке его соучеников высечь Шешковского. Его
сын пересказывает эту историю: «Кадеты узнали это и
сговорились отомстить, сговорились высечь Шешковского. Случай
скоро открылся. Не помню, по какому только случаю — было
ли это гуляние — только и Шешковский появился у нас в саду;
как теперь помню его небольшую мозглявую фигурку, одетую
в серый сертучок, скромно застегнутый на все пуговицы, и с
Глава 3. Дуэль и физическая неприкосновенность 113
заложенными в карманы руками. Человек 40 кадет нарезали
жидких хлыстов, заткнули их под спины мундиров и стали
следить Шешковского <sic!> в аллеях сада. Вероятно, он заметил
что-нибудь недоброе, стал торопливо пробираться к воротам и
уехал. Когда он вышел из ворот, кадеты, видя свою неудачу,
выхватили хлысты и, махая в воздухе, кричали ему вдогонку:
"Счастлив твой Бог, что ушел"»57. Собеседник же
рассказчика утверждал, что учащимся Пажеского корпуса удалось высечь
Шешковского: «"А у нас", — перебил Андрей Николаевич, —
"в Пажеском корпусе таки и высекли, как следует высекли:
поймали, разтянули и высекли розгами. Государыня была очень
недовольна. Несколько пажей наказали жестоко и исключили
из корпуса" »5*.
Существовавшая, согласно слухам, практика тайной
незаконной порки не прекратилась ни со смертью Шешковского в
1794 году, ни со смертью Екатерины в 1796 году.
Аналогичные слухи ходили и в павловские времена. Два только что
упомянутых мемуариста обсуждают следующий случай: «"А
дядюшку Сергея Николаевича так, кажется, и посекли в Тайной.
Бедный старик, после того, был так напуган, что если
заслышит, бывало, колокольчик, так и затрясется и побледнеет. Все
ему казалось, что фельдъегерь едет взять его. Да тогда и не он
один приходил в ужас и бледнел при звуке колокольчика...
Смешно, — когда к нему приехал Эртель, чтобы отвезть его в
Тайную. Чего он не обещал: и корову-то английскую, и каких,
каких подарков не обещал, а как выпустили, так и обманул!" —
"Да за что же его взяли в Тайную?" — "Лакей донес, что он
говорил о курносых"»59. Под «курносыми» здесь, конечно же,
подразумевается Павел.
Дашкова рисует сходный, но гораздо более трагический
портрет дворянина, подвергнутого пыткам в тайной полиции
Павла: «Он дрожал всем телом, говорил заикаясь и лицо его
искажалось судорогой. "Не больны ли вы?" спросила я его.
"Нет, княгиня, — ответил он, — я, вероятно, таким и
останусь на всю жизнь". Затем он рассказал мне, что некоторые
его товарищи, гвардии унтер-офицеры, держали
предосудительные речи о государе; на них донесли, и он оказался
запутанным в это дело; он был подвергнут пытке, вывихнувшей ему
все члены; его товарищи были сосланы в Сибирь, а он сам был
исключен со службы и получил приказание отправиться на
жительство в Вологодскую губернию, в поместье своего дяди»60.
A.M. Тургенев резюмирует восприятие дворянством эпохи
Павла I как времени беззакония и террора: «Наследовавший ей
[Екатерине! Павел Петрович <...> избрал себе примером Пет-
114 //. Реифман. Ритуализованная агрессия
ра 1-го и начал подражать просветителю народа русского, да в
чем? — начал бить дворян палкою. <...> Лишь только поднял
Павел Петрович палку на дворян, все, что имело власть и
окружало его в Гатчине, начало бить дворян палками. Дворянская
грамота, как и учреждение об управлении губерний, лежали в
золотом ковчеге на присутственном столе
Правительствующего Сената, не быв уничтоженными, но неприкосновенными,
как под спудом»61.
Слухи о порке дворян продолжали циркулировать и во
время царствования Александра I. Новым злодеем стал Иван
Лавров, чиновник полицейского управления. В изображении
Николая Греча Лавров — «человек неглупый, в делах опытный,
но грубый и суровый: он ввел сечение в число полицейских
средств над людьми, изъятыми от телесного наказания»62.
Н.А. Маркевич в своих воспоминаниях утверждает, что от руки
Лаврова пострадали Пушкин и сам Греч63.
Аналогичные рассказы имели хождение и при Николае I.
Наиболее ранние из них относятся ко времени следствия по делу
декабристов. Н.Р. Цебриков передает слух о том, что Пестель
в ходе следствия подвергался пыткам: Пестель, пишет
Цебриков в своих мемуарах, «был после болезни, испытавши все
возможные истязания и пытки времен первого христианства! Два
кровавых рубца на голове были свидетелями этих пыток!
Полагать должно, что железный обруч, крепко свинченный на
голове, с двумя вдавленными глубокими желобами, оставил на
голове его два кровавых рубца»64. В мемуарах многих
декабристов также говорится об угрозах пыток и о таких неформальных
способах пыток подследственных бунтовщиков, как
заковывание на долгое время в цепи, лишение воды, свежего воздуха и
движения. Мемуаристы также были убеждены, что
представители власти были умышленно небрежны во время церемонии
лишения декабристов чинов и званий, а также в процессе
казни пяти руководителей восстания. В первом случае шпаги были
недостаточно подточены и требовали таких усилий во время их
переламывания над головой осужденных, что некоторые из них
получили травмы головы. Во втором случае, как известно,
исполнители казни дважды совершали акт повешения над
Рылеевым, Сергеем Муравьевым-Апостолом и Петром Каховским.
Репутация обидчика дворян прочно держалась за Николаем I
в общественном мнении. Этот взгляд на Николая хорошо
выражен СВ. Салтыковым, другом Пушкина. Вильгельм фон
Ленц, музыкант и музыкальный критик, регулярно
посещавший салон Салтыкова в начале 1830-х годов, свидетельствует,
что Салтыков с притворной серьезностью часто предупреждал
Глава 3. Дуэль и физическая неприкосновенность 115
свою жену: «|У|веряю тебя, ma chere, он |Николай| может
выпороть тебя розгами, если захочет; повторяю: он может*6*.
То же настроение передает и цензор Н.И. Крылов в своем
рассказе 1844 года о встрече с А.Ф. Орловым, шефом жандармов
и начальником Третьего отделения. Крылов разрешил
публикацию книги, вызвавшей недовольство Николая, и был
вызван в Петербург к Орлову. В приемной Орлова ему предложили
присесть. Он согласился с большой неохотой: «А я, —
повествовал нам Крылов, — стою ни жив, ни мертв, и думаю себе, что
тут делать: не сесть— нельзя, коли приглашает; а сядь у шефа
жандармов, так, пожалуй, еще и высечен будешь. Наконец,
делать нечего, Орлов снова приглашает и указывает на стоящее
возле него кресло. Вот я, — рассказывал Крылов, — потихоньку
и осторожно сажусь себе на самый краешек кресла. Вся душа
ушла в пятки. Вот, вот, так и жду, что у меня под сидением
подушка опустится и — известно чтб... И Орлов, верно,
заметил, слегка улыбается и уверяет, что я могу быть совершенно
спокоен, что в цензурном промахе виноват не я»66.
Юмористическая интонация Н.И. Крылова позволяет думать, что
слухи о креслах с сюрпризом и о тайных порках были скорее всего
безосновательными, однако его рассказ свидетельствует об
удивительно устойчивом характере подобных слухов.
С юмором рассказа Н.И. Крылова контрастирует
исполненный зловещих обертонов рассказ о том, как Николай I
собственноручно пытал Петрашевского. Н.Д. Фонвизина, жена
декабриста М.А. Фонвизина, приводит следующую версию этого
происшествия в письме брату своего мужа, И.А. Фонвизину.
В этом письме, написанном в Тобольске 18 мая 1859 года, она
ссылается на рассказ самого Петрашевского: «Его пытали и
самым ужасным новоизобретенным способом. Следы пытки на
лице — 7 или 8мь пятнышек или как бы просверленных
кружочков на лбу, одни уже подсыхали, другие еще болели, иные
были окаймлены струпиками. Пальцы на правой руке и на той
же руке полоса вдоль— как бы от обожжения. В холодной
комнате на лбу беспрестанно проступала испарина крупными
каплями, веки глаз по временам страшно трепетали, глаза
расширялись. Он бледнел в это время, как полотно, и потом опять
принимал обыкновенный вид свой — вся нервная система, как
видно, потрясена была до основания. Его допрашивал сам
г[осударь| посредством электрического телеграфа, из дворца
проведенного в крепость, но в крепости к телеграфу была
приделана гальваническая машина. Я полагаю, что его не то что
пытали, но при допросах, как он сам рассказывал нам после,
116 И. Рейфмап. Ритуализованная агрессия
он отвечал довольно смело, не зная, кто его спрашивает. Во-
проситель, видно, рассердясь, ударил по клавишам и ток
машины внезапно поразил его, он упал без чувств, вероятно на
какие-нибудь острые снаряды пришелся лбом — и вот от чего
знаки на лбу и на руке»67.
Хотя подобное устройство технически не представляется
невозможным, все же механизм пытки чересчур сложен, что
вызывает сомнения в правдивости истории. К тому же в
момент ареста Петрашевского и заключения его в крепости
Николай I находился за границей. Петрашевский во время встречи
с Натальей Фонвизиной был в состоянии душевного
расстройства, и этим может объясняться фантастический элемент в его
рассказе68. Следует, однако, подчеркнуть ту готовность, с
которой Наталья Фонвизина поверила его рассказу. Напомню
также и о слухах о сечении Достоевского, которые также были
широко распространены и которым многие верили69.
Независимо от достоверности рассказов о порках и пытках,
важным представляется то, что они возникали с такой
регулярностью, и то, что им верили. Эти слухи составляли часть той
культурной мифологии, которая и описывала умонастроения
русского дворянства, и одновременно определяла их.
Достоевский, всегда очень чуткий к культурным мифам,
пародирует в «Бесах» легенду об опускающемся кресле. Степан Верхо-
венский доверяет рассказчику свой страх перед поркой: «"Друг
мой, друг мой, ну пусть в Сибирь, в Архангельск, лишение
прав, — погибать так погибать! Но... я другого боюсь" (опять
шепот, испуганный вид и таинственность). "Да чего же,
чего?" — "Высекут", произнес он и с потерянным видом
посмотрел на меня. "Кто вас высечет? Где? Почему?" вскричал
я, испугавшись, не сходит ли он с ума. "Где? Ну, там... где
это делается". — "Да где это делается?" — "Э, cher",
зашептал он почти на ухо, "под вами вдруг раздвигается пол, вы
опускаетесь до половины... Это всем известно"». Никакие
уверения рассказчика, что это «басни», не могут успокоить
Степана Трофимовича: «Басни! С чего-нибудь да взялись эти
басни; сеченый не расскажет. Я десять тысяч раз представлял себе
в воображении» [Достоевский, X: 332—333].
Лесков также фиксирует страх перед поркой, к концу века
начавший тревожить воображение не только дворянства, но и
представителей других сословий, ориентированных на западные
ценности. В «Соборянах» дьякон Ахилла предостерегает
учителя Варнаву, что за кражу человеческих костей его может
высечь тайная полиция: «[Т]ы еще знаешь ли, что если тебя за
Глава 3. Дуэль и физическая неприкосновенность 117
это в жандармскую канцелярию отправить, так тебя там
сейчас спустят по пояс в подпол да начнут в два пука пороть». Сам
Варнава утверждает, что его подругу, «новую женщину», за два
дня до ее свадьбы пороли ее отец и тетка, а когда она
обратилась в полицию, стражи порядка встали на сторону обидчиков
[Лесков, I: 137-139].
Порка также является главным мотивом рассказа Лескова
«Смех и горе». В начале рассказа главный герой, Орест
Маркович Ватажков, утверждает, что детей хорошо пороть ни за
что, просто так, чтобы приготовить их к ожидающим их
сюрпризам русской жизни. Именно так его самого однажды
выпорол дядюшка. Мотив порки сопровождает Ватажкова всю
жизнь. Будучи студентом, он тяжело заболел, быв свидетелем
массовой порки в пансионе, где он обучался в то время.
Позднее он встречает генерала, который говорит, что наилучший
способ обращения с Европой вообще и с Польшей в
частности — это высечь все население. Постепенно у Ватажкова
складывается убеждение в том, что гражданские свободы в России
ничем не гарантированы. Он наставляет своего племянника:
«[В]се, чем вы расхвастались, можно у вас назад отнять:
одних крестьян назад не закрепят, а вас, либералов, всех
можно, как слесаршу Пошлепкину и унтер-офицерскую жену, на
улице выпороть и доложить ревизору, что вы сами себя
выпороли... и сойдет, как на собаке присохнет, лучше чем встарь
присыхало...» И все же, несмотря на всю тренировку и
очевидную готовность, Ватажков умер от потрясения, когда
«пехотный капитан» высек его на тротуаре в Одессе, «неподалеку от
здания новой судебной палаты» [Лесков, V: 167—173].
По мере того как в среде русского дворянства рос страх
перед телесными наказаниями, принятие побоев стало
восприниматься как знак бесчестия. Первым признаком этих
изменений стало возникшее ко второй половине XVIII века презрение
к тем, кто брал «бесчестье» (деньги за оскорбление чести). Во
времена Московской Руси штрафы за оскорбление могли
рассматриваться как хороший доход пострадавшего, но
европеизированное дворянство XVIII века начало презирать такой
взгляд. Презрение к обычаю брать «бесчестье» очевидно в
отрывке из сатирического журнала Фонвизина «Друг честных
людей, или Стародум». Герой отрывка, надворный советник
Взяткин, хотел бы превратить «бесчестье» в источник
регулярного дохода. В письме к безымянному благодетелю он просит
у «его Превосходительства» помощи в сборе компенсаций за
пощечины: «Наконец, осмеливаюсь упомянуть вашему пре-
118 И. Рейфман. Ритуализованмая агрессия
восход ительству и о моем страдальческом положении. До сих
пор в здешнем правительстве не решено еще известное дело мое
о бесчестии и увечье по поводу данной мне, всенижайшему,
сильной пощечины от его высокоблагородия г. майора Непус-
калова. Помилуйте, государь и отец, не оставьте меня
милостивою рекомендациею к здешнему начальству и испросите
высокого его покровительства в скорейшем мне получении
определенного по законам бесчестия и увечья как за сию, уже
данную мне, пощечину, так генерально и за все могущие впредь
со мной воспоследовать, дабы не при всякой новой оплеухе
утруждать ваше превосходительство вновь о милостивом
заступлении». Его Превосходительство принимает запрос Взяткина
близко к сердцу, поскольку и его самого били в начале
служебной карьеры. Он даже завидует Взяткину, досадуя, что
поднялся так высоко по служебной лестнице, что его больше не
бьют, и поэтому он лишен значительного источника дохода:
«При сем прилагаю рекомендательное письмецо по поводу
данной тебе, приятелю моему, пощечины. Будучи в малых чинах,
я и сам пользовался безумною горячностию челобитчиков, и с
таким успехом, что поистине целый годовой оклад мой
выбирал иногда на одних оплеухах. Но, с тех пор как я сделался
боярином, сия ветвь моих доходов совершенно истребилась.
Когда я, будучи в м&1еньких чинах, обращался с мелким
дворянством, бывало, за всякую безделицу; выдеру ли лист из
дела, почищу ль да поправлю, того и смотрю <sic!>, что
обиженный мною, без дальних извинений, шлеп меня по роже.
Но в настоящем положении, что ни творю, никто не дерзает
меня в очи избранить, не только заушить. Истинно, мой
достойный приятель, жалко видеть, как в большом свете души
мелки и робки!»70
Фонвизин представляет дело так, как будто и обычай бить
собрата-дворянина по лицу, и желание обратить оскорбление
в источник дохода— явления новые, характерные для
выскочек, вознесенных на вершину служебной лестницы благодаря
петровской Табели о рангах и институту фаворитов. Этот взгляд
выражает враждебность, с которой старое русское дворянство,
с претензиями на древность рода и исторические заслуги,
относилось к дворянству новому, сформированному русскими
государями в целях поддержки проводимой ими политики
абсолютизма. Это также свидетельствует о зарождении мифа о
допетровском дворянстве, якобы чувствительном к личной
чести и защищающем свою телесную неприкосновенность. Этот
миф, позднее получивший развитие у Пушкина и декабристов,
Глава 3. Дуэль и физическая неприкосновенность 119
оплакивал разрушение кодекса чести, якобы завещанного
послепетровскому дворянству предками71. Чрезвычайно важно, что
этот миф определял физическую неприкосновенность как
центральный аспект зарождавшегося в России кодекса чести.
К началу XIX века практика «бесчестья» стала
восприниматься в высших дворянских кругах как нечто столь устаревшее,
что Вяземский мог уже добродушно шутить по этому поводу:
«Бедную старушку больно приколотили. Приколотивший ее
принужден был заплатить ей 25 рублей за побои и бесчестье.
Она любила припоминать и рассказывать этот случай, рассказ
же свой заключала всегда следующими словами, которые
произносила с умилением и с крестным знамением: "Вот как не
угадаешь, с какой стороны взыщет тебя Божье милосердие"»72.
Вяземский не указывает социальный статус «старушки»: она
могла быть и бедной дворянкой, и простолюдинкой, однако то
обстоятельство, что он говорит о ней снисходительно,
позволяет предположить последнее. По отношению же к равным себе
Вяземский не проявлял такой снисходительности; он глубоко
презирал тех, кто после побоев мог бы продолжать жить как ни
в чем не бывало. Он с горечью указывает на связь между
успешным продвижением по службе и отношением к физическому
насилию: «Я всегда люблю в многолюдном обществе мысленно
допрашивать спины предстоящих: которые из них подались бы
на палки? И всегда пугаюсь числом моих изысканий. Я не
говорю уж о спинах, битых с рождения, а только о тех, кои
торговались бы с палками и выдали бы себя на некоторых
условиях: иные щекотливые согласились бы на с глазу на глаз: другие
менее, на при двух или трех свидетелях. Вот испытание,
которое я, будучи царем, предлагал бы при выборах людей. — Как
трудно с девственною спиною ужиться в обществе! Как собаки
обнюхивают и бегут прочь, когда ошибутся, так и битые
тотчас, встречаясь с вами, обнюхиваются <sic!> вашу спину и,
удостоверившись, пристают к вам, или от вас отходят. Нет
сомнения, что общежитие более или менее уничтожает души.
Сколько людей, которые сквозь строй пробежали к честям и
достоинствам. Как мало дошли до них нетронутые»73.
Изображение битого карьериста у Вяземского метафорично,
однако сам выбор метафоры свидетельствует о глубокой
озабоченности дворянства проблемой физической
неприкосновенности. Способность человека не допустить по отношению к себе
телесного наказания рассматривается Вяземским одновременно
и как показатель моральной силы, и как оружие против
оскорбления: человека, который не приемлет телесного наказания,
120 И. Рейфман. Ритуализованная агрессия
невозможно побить. Ироническое употребление Вяземским
множественного числа слов «чести» и «достоинства» вносит
каламбурный элемент в его инвективу: в этой форме они
означают успешную карьеру, тогда как в единственном числе они
отсылают к высоким моральным качествам и кодексу чести.
Столь же строгий взгляд на то, как следует отвечать на
физическое насилие, характерен и для Достоевского. В романе
«Идиот» он пишет в выражениях, очень близких к тем, что
употребляет Вяземский, о склонности своих современников
принимать побои. Поручик Пирогов из «Невского проспекта»
Гоголя, высеченный сердитым мужем хорошенькой «немочки»,
но быстро забывший про свой позор, олицетворяет для
Достоевского бесчестье. Писатель связывает терпимость Пирогова
к побоям с его потенциально успешной карьерой: «Великий
писатель принужден был его, наконец, высечь для
удовлетворения оскорбленного нравственного чувства своего читателя,
но, увидев, что великий человек только встряхнулся и для
подкрепления сил после истязания съел слоеный пирожок,
развел в удивлении руки и так оставил своих читателей»
[Достоевский: VIII, 385]. Пирогов, воплощающий подлую
терпимость к побоям, снова появляется у Достоевского в «Дневнике
писателя» 1873 года: «[В] публике он [русский человек]
европеец, гражданин, рыцарь, республиканец, с совестью и со
своим собственным твердо установленным мнением. Дома, про
себя, — "Э, черт ли в мнениях, да хошь бы высекли!"
Поручик Пирогов, сорок лет тому назад высеченный в Большой
Мещанской слесарем Шиллером, был страшным пророчеством,
пророчеством гения, так ужасно угадавшего будущее, ибо
Пироговых оказалось безмерно много, так много, что и не
пересечь» («Нечто о вранье» [Достоевский, XXI: 124]).
Продолжая традицию Фонвизина, Достоевский изображает
нравственное равнодушие Пирогова как черту, присущую
послепетровской русской культуре в силу ее заимствованного характера и
свойственного ей, по мнению Достоевского, пренебрежения
к человеческому достоинству: «Двухсотлетняя отвычка от
малейшей самостоятельности характера и двухсотлетние плевки на
свое русское лицо раздвинули русскую совесть до такой
роковой безбрежности, от которой... ну чего можно ожидать, как
вы думаете?» [Достоевский, XXI: 124].
Стойкое неприятие декабристами, Вяземским и
Достоевским физического насилия не разделялось, конечно, всеми
русскими дворянами. Многие оставались равнодушными к
проблеме физической неприкосновенности. Порка детей была
общепринятой практикой как в семьях провинциальных
мелкопоместных дворян, так и в элитарных учебных заведениях74.
Глава 3. Дуэль и физическая неприкосновенность 12 1
Многие взрослые дворяне тоже не были столь чувствительны к
собственной физической неприкосновенности. Николай
Макаров вторит Фонвизину в своем описании провинциального
мелкопоместного дворянства, все еще выгадывающего на «бес-
честьи» в первой четверти XIX века (он презрительно именует
эту финансовую операцию «спекуляцией дворянскою
спиною»)75. Такая атмосфера равнодушия способствовала как
росту возмущения интеллектуального авангарда дворянства, так
и сохранению страха перед насилием.
Кодекс чести как билль о правах:
Дуэль и телесное наказание
Постоянная тревога по поводу физического насилия
(незаконной порки, побоев со стороны начальства или оплеухи
от собрата-дворянина), сопровождавшая дворянина от
колыбели до гроба, вынуждала дворянина, всерьез озабоченного
проблемой физической неприкосновенности, быть всегда
готовым к защите своего личного пространства. Но какими
средствами защищать их, если закон ненадежен? Комментарий
Николая Маркевича к слухам о якобы имевшей место порке
Пушкина полицией хорошо демонстрирует чувство бессилия,
которое испытывало дворянство перед царящим в России
произволом. Маркевич сравнивает государство с преступником,
открыто игнорирующим закон: «Кто станет стыдиться подавать
жалобу в суд на разбойника, который его высек? Жалоба в суд
не может быть принесена на того, у кого есть Лавров и
солдаты...» — то есть на царя. В подобной ситуации, полагает
Маркевич, действенным оружием является гласность: «[Н]а-
добно принесть эту жалобу, не стыдясь, — публике. Надобно
ей растолковать, что каждый отдельно взятый может быть так
же оскорблен». Свой аргумент Маркевич подкрепляет
анекдотом о том, как Пушкин якобы и обратился к публике:
«Пушкин, так ли рассуждая или просто от шалости, пришпилил
надпись на верхнем стекле окна в своей комнате: "Грамота
Екатерины о правах дворянства". А под этой вывеской
выставил исписанную ж...»76
Анекдот Маркевича показывает, насколько циничным стало
к этому времени отношение дворянства к законам, созданным
для защиты их прав. При отсутствии законных средств защиты
своего личного пространства дворянин был вынужден
обратиться к средствам символическим. Для этой цели подходили
самоубийство и дуэль.
122 И. Рейфман. Ритуализованная агрессия
Психологическую подоплеку суицидального импульса
демонстрирует реакция Александра Сумарокова на угрозу
физического насилия. Протестуя против оскорбления,
нанесенного ему Иваном Чернышевым, Сумароков довольно отчетливо
намекает на самоубийство в своем полном отчаяния письме
Ивану Шувалову: «А впрочем, гр. Чернышев напрасно меня
побить хвалился. Ежели это будет, я хочу быть не только из
числа честных людей выключен, но из числа рода
человеческого». Смерть оказывается предпочтительнее побоев: «Впрочем,
верьте, что его сият|ельство| гр. Черн[ышев] может убить меня
до смерти, а не побить, ежели мне рук не свяжут, я в том че-
стию моею вам, милост[ивый] государь, клянусь, да и
никакого доброго дворянина или офицера»77.
XIX век предоставляет множество примеров как
замышлявшихся, так и осуществленных самоубийств, целью которых
было избежать позора физического наказания. В 1826 году
Александр Полежаев был разжалован в рядовые. Год спустя он
пытался дезертировать, был пойман и лишен дворянского
звания. По свидетельству Герцена, он замышлял самоубийство в
ожидании телесного наказания (его должны были прогнать
сквозь строй): «Полежаев хотел лишить себя жизни перед
наказанием. Долго отыскивая в тюрьме какое-нибудь острое
орудие, он доверился старому солдату, который его любил.
Солдат понял его и оценил его желание. <...> [Старик] принес ему
штык и, отдавая, сказал сквозь слезы: "Я сам отточил его"»78.
Реальным самоубийством закончилось дело декабриста
И.И. Сухинова. В 1828 году он был арестован за подготовку
массового побега декабристов с сибирской каторги, судим и
приговорен к наказанию кнутом, клеймению и повешению.
Узнав о приговоре, Сухинов дважды принимал рд, но оба раза
остался в живых. В конце концов ему удалось повеситься
накануне казни. Предположительно, взамен унизительного
наказания Сухинову предстоял расстрел, но он не знал об этом
и предпочел покончить с собой79.
Другим средством борьбы с унизительным физическим
насилием была дуэль. Пушкин, например, рассматривал и
самоубийство, и дуэль как возможный ответ на появление
слухов о том, что его высекли в полиции. В черновике своего
письма к Александру I 1825 года— которое никогда не было
послано адресату — поэт писал: «Des propos inconsideres, des vers
satiriques me firent remarquer dans le public, le bruit se repandit
que j'avais ete traduit et fouette a la cancellcrie secrete. Je fus le
dernier a apprendre ce bruit qui etait devenu general, je me vis flerti
Глава 3. Дуэль и физическая неприкосновенность 1 2 3
dans Topinion, je suis decourage — je me battais, j'avais 20 ans en
1820 — je deliberais si je ne ferais pas bien de me suicider ou
d'assassiner — V.»so (Пушкин, XIII: 227|.
Мы не знаем, кто был противником Пушкина в дуэли 1820
года, но после того как Пушкин обнаружил, что слухи
распространялись Толстым-Американцем, он стал готовиться к
поединку с ним. Ф.Н. Луганин, кишиневский знакомый
Пушкина, писал в своем дневнике 1822 года: «Носились слухи, что
его высекли в Тайной канцелярии, но это вздор. В
Петербурге он имел за это дуэль. Также в Москву этой зимой хочет он
ехать, чтоб иметь дуэль с одним графом Толстым,
Американцем, который главный распускает эти слухи. Как у него нет
приятелей в Москве, то я предложил быть его секундантом,
если этой зимой буду в Москве, чему он очень обрадовался»81.
Пушкин послал вызов Толстому тотчас же по возвращении в
Москву в сентябре 1826 года. Толстого не оказалось в городе,
и друзья в конце концов убедили врагов примириться82.
Способность дуэли обеспечивать вежливость в обращении с
равными очевидна, но дуэль также могла предохранять
подчиненных от физического насилия со стороны начальства. Дуэль
отрицала патриархальное право начальника наказывать,
поскольку настаивала на равенстве всех дворян. Вот что говорит
Сумароков, протестуя против обиды, нанесенной ему
Чернышевым: «Я не граф, однако дворянин, я не камергер, однако
офицер и служу без порока двадцать семь лет». Сумароков даже
намекает на то, что в подобных случаях необходима дуэль:
«[Т]олько советую, чтобы никто, в ком есть хоть капля
честной крови, нападений не терпел. А что я стерпел, тому
причиною дворец и ваши комнаты»83.
Сопротивление физическому насилию начальника над
подчиненным, по-видимому, лежит и в основе дела Голицына. По
сообщению Корберона, оно началось с того, что Голицын
ударил Шепелева палкой. Спустя несколько месяцев Шепелев
подал в отставку и явился к Голицыну требовать
удовлетворения. В процессе объяснения Шепелев дал Голицыну
пощечину, но Голицын отказался драться, сославшись на более
низкий социальный статус Шепелева. В этот момент вмешались
власти. Согласно Корберону, «II у а а се sujet un jugement par
laquel le Chepelof est oblige de quitter la Cour, et en meme temps
le prince Galitzin a order de prendre son conge et de se retirer du
service»84. Остается неясной роль Лаврова в этом происшествии.
Корберон, ссылаясь на слухи, сообщает, что Лавров уговорил
Шепелева потребовать сатисфакции за оскорбление, и в кон-
124 И. Рейфман. Ритуализовашшя агрессия
це концов вмешательство Лаврова привело к тому, что
Голицын вызвал на дуэль его. Однако из письма Екатерины II,
датированного 27 октября 1775 года (т.е. за месяц до дуэли),
следует, что Лавров и сам был оскорблен Голицыным.
Екатерина пишет: «Прочитав допрос майора <sic!> Лаврова и
сличая оный с письмом Ген[ерал|-Пор[учика] Кн[язя] Голицина,
нахожу я тут разонствующие обстоятельства. Признаюсь, что
вина Лаврова уменьшается в моих глазах, ибо Лавров, пришед
в дом Князя Голицына с тем, чтоб требовать за старую обиду,
офицерской чести противную, сатисфакцию, не изъясняя,
однако, какую, и быв отозван в другую комнату, получил от
Князя отпирательства, слова и побои горше прежних вместо
удовольствия и удовлетворения»85. Независимо оттого, кто
именно был побит Голицыным, инцидент демонстрирует
стремление дворян использовать кодекс чести и дуэль для
противостояния оскорблению действием.
Радищев сформулировал обоснование такого поведения,
заявив, что дуэль— это не только правильный, но и
необходимый ответ на физическое насилие. Характерно, что это было
единственное высказывание Радищева в поддержку дуэли.
Будучи юристом, Радищев придавал огромное значение принципу
законности и считал, что личные права должны гарантироваться
законодательно. В неоконченной статье 1780—1790-х годов он
отстаивал право личности не только на «невозбранное
употребление своея жизни, здравия, членов», но и доброго имени.
Он даже поддерживал идею денежной компенсации за личные
оскорбления: «Никто да не дерзает безвозмездно бранить,
поносить или безчестить гражданина. Закон налагает за то пеню»
(«Опыт о законодавстве» [Радищев, III: 13]). Однако в
отношении физического насилия вера Радищева в закон оказалась
не столь твердой.
В «Житии Федора Васильевича Ушакова» Радищев
изображает бунт группы русских студентов, учившихся в 1767 году в
Лейпцигском университете, против их надзирателя, майора
Бокума. В литературе о Радищеве этот сюжет обычно
интерпретируется как своего рода исследование писателем
механизмов восстания против тирана, право на которое, с точки
зрения Радищева, гарантировалось общественным договором.
Главный герой произведения, Федор Ушаков, возглавляет
бунт. В его лице Радищев исследует качества, необходимые
лидеру86. Исследователи, однако, не обратили внимания на
одну существенную деталь: поводом к этому миниатюрному
восстанию была пощечина, данная Бокумом одному из студен-
Глава 3. Дуэль и физическая неприкосновенность 125
тов, и Ушаков выступает не только в роли лидера восстания,
но и в качестве знатока и сторонника кодекса чести.
Сначала студенты демонстрируют свою осведомленность о
кодексе чести в довольно неподходящей ситуации. Их
священник, порицая их за какую-то шалость, называет одного из них
мошенником. Оскорбленный студент готов защищать свою
честь: «М\ихаил\ У[шаков\, схватив висящую на стене шпагу и
привесив ее к бедре своей, бодро приступил к чернецу;
показывая ему эфес с темляком, говорил ему не много заикаясь от
природы, забыл разве батюшка что я кирасирской Офицер».
Товарищи-студенты смеются над ним, поскольку кодекс
чести неприменим к священнику. Существенно, однако, что,
несмотря на то что попытка дуэли была неуместной,
неспособность священника ответить согласно кодексу чести
дискредитировала его в глазах студентов: «Сие и подобныя сему
происшествия умалили в нас почтение к духовной над нами власти»
[Радищев, I: 165]. По-видимому, Радищев и его товарищи-
студенты склонны рассматривать честь скорее как
универсальное, нежели как сословное качество.
Вскоре возникает конфликт между студентами и грубым
самодуром майором Бокумом. Конфликт разгорается, когда
Бокум начинает угрожать студентам физической расправой:
«[0]н грозил <...>, если не уймемся, то, по данной ему
власти он будет нас наказывать фуктелем, как то называют, или
ударами обнаженного тесака по спине». Наконец, Бокум дает
одному из студентов пощечину за нарушение субординации:
«Бокум и паче того раздраженный ударил Щасакина] по щеке.
Сей мнимый отчасти знак безчестия столь сильно обезоружил
Щасакина], что он несказав более начальнику нашему ни
слова поклонился и вышел вон»[Радищев, I: 167—169].
Враждующие стороны видят ситуацию различным образом:
если Бокум воспринимает себя как представителя государства
(отсюда и его интерпретация полученного в дальнейшем от
Насакина вызова как бунта против властей), то студенты видят
в нем собрата-дворянина, нарушившего нормы поведения.
Бокум убежден в своем праве применять к студентам
физические наказания, в то время как для Насакина пощечина является
нарушением его права на телесную неприкосновенность и,
таким образом, покушением на его честь. Друзья Насакина
советуют ему требовать у Бокума удовлетворения за обиду. Федор
Ушаков выступает как главный сторонник такого образа
действий: «В общежитии, говорил нам Федор Васильевич, если
таковой случай произойдет, то оный иначе заглажен быть не
126 И. Реифман. Риту авизованная агрессия
может, как кровию» (Радищев, I: 170|. Студенты решают, что
Насакин должен вызвать Бокума, и, если Бокум отклонит
вызов, он должен дать Бокуму ответную пощечину. После
некоторого колебания Насакин отправляется к своему обидчику:
«Щасакин]. Вы меня обидели, и теперь я пришел требовать
от вас удовольствия.
Б\окум\. За какую обиду и какое удовольствие?
Щасакин]. Вы мне дали пощечину.
Б\окум\. Не правда, извольте итти вон.
Щасакин]. А если не так, то вот она, и другая.
Сие говоря, ударил Щасакин] Бокума и повторил удар*
[Радищев, I: 171 ]87.
Сразу же после этого уверенные в своих правах студенты
сообщили о случившемся университетскому начальству. Бокум же
попытался представить конфликт не как дело чести, а как акт
неповиновения. Он умолчал о полученных им пощечинах и
сказал, что студенты, «а паче Щасакин], покушались на его
жизнь, и сей вынул уже шпагу из ножен до половины, но он
нас как ребят разогнал и раскидал. И так в самой клевете не
забывал он хвастовства, и никогда не признался, что
Щасакин] возвратил пощечину с лихвою» [Радищев, I: 171]. Это
умолчание Бокума йесьма примечательно: возвращая пощечину,
Насакин изменяет символику жеста, а значит, и саму природу
взаимоотношений между Бокумом и студентами. Пощечина
лишает Бокума его патриархальной власти над подопечными и
делает его равным им. Однако Бокум отказывается признавать
это и продолжает действовать как начальник: он помещает
студентов под домашний арест и требует от университетского
совета суда над ними. Бокум, однако, проиграл: совет оправдал
Насакина и его друзей. Более того, русский министр в
Дрездене, приказав сторонам примириться, сильно ограничил
власть Бокума над студентами.
Следует еще раз подчеркнуть, что Радищев, будучи
защитником принципа законности, не считал дуэль наилучшим
способом борьбы с оскорблением личности. Он замечает в
«Житии», что студенты «не понимали еще всей гнусности поединков
в благоучрежденном обществе...». Однако он считал, что
удовлетворение за оскорбление действием является естественным
правом, которое может быть только лишь «заграждаемо и
умеряемо законом гражданским». Это значило, что дуэль должна
служить средством осуществления естественного права
человека в случаях, когда власти не уважают закон или когда
надлежащей закон отсутствует. Бокум, будучи представителем
власти, не уважает закон: по утверждению Радищева, «ведали мы,
Глава 3. Дуэль и физическая неприкосновенность 1 27
что власти таковой ему дано не было, и всякому известно было,
что мягкосердие начинало в России писать законы, оставя
изветы лютости прежних, хотя по истине душесильных времен»88
[Радищев, I: 170, 167—168]. Таким образом, Насакин вправе
потребовать удовлетворения, а если ему в нем отказывают —
нанести ответный удар.
История Насакина наилучшим образом демонстрирует роль
физического насилия в конфликтах чести в России. В контексте
естественного закона право Насакина дать Бокуму пощечину
аналогично праву на самозащиту— или, в политических
терминах, праву народа восставать против тирана. Однако в
контексте дуэли право ответить пощечиной на пощечину может быть
использовано для установления равенства. Вызывая Бокума на
дуэль, Насакин подверг сомнению не только его право
наказывать студентов физически, но также и иерархию власти,
которая, с точки зрения Бокума, наделяла его таким правом.
Отказываясь принять вызов Насакина, Бокум отказывался
признать равенство между ним и собой. В свою очередь, давая
Бокуму пощечину, Насакин отвергал попытку его противника
приписать ему низшее положение. Жест, который Бокум
использовал для установления иерархии власти, стал средством
утверждения равенства.
Радищевский анализ семиотики кодекса чести и
физического насилия отражал чувства современников писателя: к
концу XVIII века многие из них были готовы использовать дуэль в
качестве оружия против любого обидчика независимо от его
социального и служебного положения. Более того, если их
вызов не был принят, они стремились достичь своей цели с
помощью ответного агрессивного акта. И вызывая своих
противников на дуэль, и отвечая насилием на насилие, русские
дуэлянты отказывались подчиняться традиционной иерархии
власти, для которой было характерно презрение к личной
автономии. Таким образом, вполне закономерно, что русские
окончательно усвоили дуэль именно по окончании
царствования Павла I, печально известного своим пренебрежением к
правам личности.
Будучи актом неповиновения государю и государству, дуэль
могла быть также использована для противостояния попыткам
властей нарушить телесную неприкосновенность личности.
Переводя конфликты на межличностный уровень, она делала
нарушителя лично ответственным за собственные поступки. В
случаях физического насилия дуэлянты начала XIX века считали
необходимым требовать к ответу каждого, не исключая и чле-
128 И. Рейфман. Ритуализоватшя агрессия
нов царской семьи. Так, согласно многим источникам, Лунин
принял предложение великого князя Константина дать
удовлетворение оскорбленным им офицерам. По версии А.Е. Розена,
Константин замахнулся палашом на поручика Кошкуля. Кош-
куль, «отпарировав, отклонил удар, вышиб палаш из руки
князя и сказал: "Не извольте горячиться"*. Позднее
Константин принес извинения и предложил сатисфакцию, на что
Лунин тотчас же ответил: «От такой чести никто не может
отказаться!»89 В 1822 году группа офицеров пыталась вызвать на дуэль
великого князя Николая за то, что тот угрожал их сослуживцу
физическим насилием. Николай в противоположность
Константину не выказал никаких рыцарских порывов и вызов не
принял90. Герцен упоминает о конфликте другого офицера с
Николаем: «Как-то на учении великий князь до того забылся, что
хотел схватить за воротник офицера. Офицер ответил ему: "в.
в., у меня шпага в руке". Николай отступил назад, промолчал,
но не забыл ответа» («Былое и думы» [Герцен, VIII: 58J).
Николай очевидно истолковал угрозу офицера вызвать его
на дуэль как политический акт: «После 14 декабря он два раза
осведомился, замешан этот офицер или нет. По счастию, он
не был замешан» [Герцен, VIII: 58]. Такое прочтение не было
безосновательным: идея вызывать на дуэль царя или члена
царской семьи цмела очевидное политическое звучание. Это, в
частности, позволило Якубовичу представлять
замышлявшееся им покушение на Александра I как дуэль. В 1825 году,
находясь в отпуске в Петербурге, Якубович предложил лидерам
декабристов, что он убьет царя. Ссылаясь на свой перевод на
Кавказ за участие в дуэли Шереметева с Завадовским,
Якубович утверждал, что он «жестоко оскорблен царем» и желает
отомстить91. В ходе следствия многие декабристы
подтверждали, что Якубович формулировал свое предложение убить
Александра I в терминах мести за оскорбленную честь92.
Готовность дворянина добиваться удовлетворения с
помощью дуэли защищала его личное пространство и физическую
неприкосновенность. Сама дуэль могла и не потребоваться,
коль скоро собратья-дворяне и представители власти знали, что
он не позволит посягать на свою честь. Достоевский в
«Записках из Мертвого дома» отмечает эффективность такой
готовности защищать свою телесную неприкосновенность. Горян-
чиков, протагонист и рассказчик, лишенный, как и сам
Достоевский, дворянского звания, освобождавшего от телесных
наказаний, уделяет много внимания вопросу о них. Горянчи-
ков отмечает, что в отношении дворян сибирское начальство
Глава 3. Дуэль и физическая неприкосновенность 129
вело себя осмотрительно, объясняя эту осторожность тремя
причинами: сословной солидарностью, готовностью дворян
физически защищать свою неприкосновенность с помощью
ответной агрессии и, наконец, моральным влиянием ссыльных
декабристов: «Причины тому ясные: эти высшие начальники,
во-первых, сами дворяне; во-вторых, случалось еще прежде,
что некоторые из дворян не ложились под розги и бросались на
исполнителей, отчего происходили ужасы; а в-третьих, и, мне
кажется, это главное, уже давно, еще лет тридцать пять тому
назад, в Сибирь явилась вдруг, разом большая масса ссыльных
дворян, и эти-то ссыльные в продолжение тридцати лет умели
поставить и зарекомендовать себя так по всей Сибири, что
начальство уже по старинной, преемственной привычке
поневоле глядело в мое время на дворян — преступников известного
разряда иными глазами, чем на всех других ссыльных»
[Достоевский, IV: 212]. Авторитет декабристов объяснялся в большой
степени их репутацией сторонников кодекса чести и
ревностных дуэлянтов. Эта репутация защищала не только их самих,
но и других заключенных даже десятилетия спустя.
В статье 1843 года «Несколько замечаний об историческом
развитии чести» Герцен ищет объяснений для широкого
распространения дуэли в России 1830—1840-х годов. Как истинный
гегельянец, Герцен начинает с исторического оправдания
дуэли. Определяя дуэль как институт, основанный на
«феодальном понятии о личности, твердо стоящей за свои права», он
восхваляет феодализм за выдвижение идеи личной
неприкосновенности [Герцен, И: 152, 163]. Будучи ограниченным в
своих высказываниях цензурой (тем не менее задержавшей
публикацию статьи до 1848 года — да и тогда она вышла с изъятием
одной главы), Герцен не мог ни говорить о роли государства в
подавлении индивидуума, ни анализировать состояние прав
личности в современной ему России. Поэтому он излагает свои
выводы в самых общих терминах. Тем не менее основная их суть
вполне ясна: «роман» России с дуэлью — результат дефицита
юридического оформления прав личности и вытекающей отсюда
необходимости защищать собственные права, и в первую
очередь право на телесную неприкосновенность, самостоятельно.
Готовность дворянина драться на дуэли предостерегала не
только его собратьев, но и власть предержащих от нарушения
его личного пространства. В последнем случае эффективность
такой защиты зависела от возможности перенести конфликт на
личный уровень, а также от готовности противоположной
стороны согласиться на такую трансформацию отношений. Поэто-
5. Заказ № 2522.
130 И. Рейфман. Ритуализовашшя агрессия
му дуэль как защита личного пространства оказалась более
эффективной в случае с Константином, готовым признать
равенство между собой и другим дворянином, и менее эффективной
в случае с Николаем, считавшим себя не первым среди
равных, а лицом, наделенным абсолютной властью. Разумеется,
еще менее эффективной была дуэль в конфликтах частного лица
с бехчичной государственной машиной. Но даже в
конфликтах с государством дуэль могла сохранять ценность как
символический жест, утверждающий независимость.
Достоевский, как и Радищев до него, упоминает в
вышеприведенной цитате еще одно сильнодействующее средство
против личной обиды —- готовность дворян «бросаться на
исполнителей» наказания. Сохранявшееся обыкновение русских
дворян прибегать к грубой физической силе друг против друга, и
особенно против старших по чину и положению, сколь бы
безобразным оно ни казалось, служило, таким образом, важной
цели: оно, как и дуэль, свидетельствовало об их отказе
признавать власть начальства над их телом и об их готовности
защищать свою личную автономию любой ценой93.
Новая символика агрессивных жестов
И РУССКАЯ национальная традиция
Протестуя против телесных наказаний, русские
использовали дуэль не только как защиту против личных оскорблений,
но и как средство установления равенства внутри дворянского
сословия. В идеале формальная дуэль чести, исключающая
прямую физическую конфронтацию, должна была выступать в
качестве основного оружия в борьбе за установление внутри-
сословного равенства. Элитная группа русских дуэлянтов
(бретеры начала XIX века) стремилась сделать ее единственным
таким оружием. Однако, поскольку физическая агрессия
против личности оставалась фактом русской действительности,
дворянство вынуждено было использовать ее как
альтернативное орудие борьбы за равенство. Ответные удары, пощечины
и побои палкой сигнализировали об отказе оскорбленного
принять тот низкий статус, который подразумевался побоями.
Возвращение удара означало также непризнание прерогативы
государства регулировать личные конфликты. То, что
подобные действия могли устанавливать равенство лишь на низшем,
вульгарном уровне, было не столь важно для дворян, которых
само равенство беспокоило больше, чем стиль поведения.
Таким образом, ответный удар или пощечина сделались таким же
Глава J. Дуэль и физическая неприкосновенность 13 1
средством установления равенства, как и укол шпагой.
Теоретически прямое физическое столкновение осуждалось элитой
дуэлянтов, но на практике драки и дуэли происходили с
сопоставимой, если не равной, частотой. Еще показательнее то,
что излишне агрессивные жесты оказались интегрированными
в сам ритуал дуэли.
Регулярно прибегая к агрессивным жестам в делах чести,
русские изменили их символику. Они стерли различие между
пощечиной, изначально обозначавшей наказание, и ударом
кулаком, изначально устанавливающим равенство; оба действия
превратились в жесты, разрушающие иерархию. Вследствие
этого пощечины и удары кулаком приобрели одинаковое
значение: они причиняли сходный моральный, а часто и
физический ущерб и выполняли сходные функции. Даже палка
утратила большую часть своей традиционной символики в качестве
орудия наказания и превратилась в средство ответного
нападения94. В результате все эти жесты могли становиться
взаимозаменимыми. Так, в ходе нежинской ссоры враждующие
стороны колотили, раздавали пощечины, кололи друг друга
шпагами и били палками без разбора. Сто лет спустя в ходе
конфликта с Бакуниным Катков дал своему противнику
пощечину и ударил его кулаком, в ответ на что Бакунин ударил его
палкой. Как представляется, и в данном случае было
безразлично, кто дал пощечину, а кто нанес удар палкой.
Войдя в дуэльный ритуал, пощечины и удары кулаком
утратили значительную часть своего значения как вульгарных
жестов и перестали быть чем-то позорным с точки зрения
общества. Это изменение повлияло и на ритуал дуэли; в
частности, оно сделало процедуру вызова более открытой для
физической агрессии. Вызов был моментом проверки равенства
противников. Поэтому для вызывающего важно было
добиться принятия вызова. Отсюда использование грубых жестов в
ответ на отказ от дуэли или с целью спровоцировать дуэль. В
этом контексте пощечина не обязательно нарушала равенство
противников: давая своему обидчику пощечину, будущий
дуэлянт как бы говорил: «Я демонстрирую тебе мое презрение, но,
поскольку я готов драться с тобой на дуэли, ты равен мне и
можешь восстановить свой статус».
Однако символика пощечины как жеста, унижающего
человека и таким образом лишающего его чести, не исчезла
полностью. Более того, для некоторых дуэлянтов даже
поединок не мог снять тот исключительный позор, который, с их
точки зрения, приносила пощечина. Подобным отношением
можно объяснить убийство Александром Черновым Шишкова
5*
132 И. Рейфман. Ритуалиговапная агрессия
в 1832 году. Не случайно, что убийцей был тот же человек,
который в 1825 году был готов заменить своего брата во время
дуэли с Новосильцевым. Вполне вероятно, что поступок
Чернова диктовался не недостатком чувства чести (как
предполагает Я.А. Гордин), а его избытком, абсолютным неприятием
физического насилия95. Такая реакция была редкостью, но не
исключением. Вспомним Бобринского, который «не взвидел
света» от пощечины Шевырева и едва не затоптал обидчика
ногами. Можно привести и литературные примеры. Так,
рассказчик в повести Бестужева-Марлинского «Страшное гадание»
убивает своего противника за попытку дать ему пощечину.
Сходным образом Базаров чувствует себя готовым совершить
убийство при одной только мысли, что Павел Кирсанов
может дать ему пощечину. Все же такая сверхчувствительность
была сравнительно редкой.
Широкое использование русскими дворянами агрессивных
жестов в делах чести в каком-то смысле приближало дуэль к
национальной традиции. Терпимость по отношению к ответным
ударам кулаком и палкой можно сравнить с разделяемой
всеми сословиями допетровского русского общества любовью к
кулачным и палочным поединкам и дракам, практиковавшимся
в среде простонародья и позднее, в период расцвета дуэли. Эта
традиция, на словах презираемая ориентированной на
западные ценности элитой, могла способствовать включению
пощечин и ударов кулаком или палкой в процедуру дуэли.
Характерный для XIX века романтический интерес к национальному
прошлому способствовал некоторой идеализации кулачного
поединка и даже позволял напрямую сопоставлять его с дуэлью.
Так, «Песня про <...> купца Калашникова» Лермонтова
трактовалась современниками как аллюзия на дуэль Пушкина с
Дантесом.
Романтическая идеализация кулачных поединков не
распространялась на бокс, иностранный обычай, к которому у
русских в течение долгого времени сохранялось неодобрительное
отношение. Сын Вяземского Павел рассказывает в своих
воспоминаниях о том, как Пушкин учил его боксировать, и
сообщает, какие неприятности принесло ему увлечение этим
видом спорта: «В 1827 году Пушкин учил меня боксировать по-
английски, и я так пристрастился к этому упражнению, что на
детских балах вызывал желающих и нежелающих боксировать,
последних вызывал даже действием во время самих танцев.
Всеобщее негодование не могло поколебать во мне сознания
поэтического геройства, из рук в руки переданного мне поэтом-
героем Пушкиным. Последствия геройства были, однако, для
Глава 3. Дуэль и физическая неприкосновенность 133
меня тягостны: из всего семейства меня одного перестали
возить даже на семейные праздники в подмосковные имения
ближайших друзей моего отца»96.
Ребенок видел бокс в романтическом свете, как составную
часть героического поведения, однако взрослые не разделили
этот взгляд. Их возмушение объяснялось не только
недовольством непослушанием ребенка; оно отражало исключительную
непопулярность бокса в России начиная с конца XVIII века,
когда русские впервые познакомились с ним, и по крайней мере
до конца XIX века97. Любовь англичан к этому спорту
рассматривалась как «необъяснимая грубая и варварская причуда
просвещенных сынов Альбиона»98. Описывая боксерский матч
между Джоном Джексоном (по прозвищу Джентльмен
Джексон) и неким Рейном, которому он был свидетелем в 1787 году,
граф Е.Ф. Комаровский подчеркивает несоответствие между
высоким уровнем цивилизации, характерным для англичан, и
популярностью бокса в Англии: «Зрелище зверское;
удивительно, как просвещенные люди могут находить в оном
удовольствие...»99 Аналогичным образом, сообщая о своих впечатлениях
от путешествия в Англию в 1795 году, П.И. Макаров отмечает
несоответствие, с его точки зрения, между политической
свободой в Англии и жестокостью бокса: «Я уже успел видеть на
здешних улицах одну из любимых сцен английского народа,
драку, или, лучше сказать, кулачный поединок: сцена
отвратительная для всякого благонравного и чувствительного
человека! Избитого снесли с места замертво. Полиция не имеет власти
удерживать таких драк, лишь только бы бойцы не имели при
себе никакого оружия, кроме рук своих: это одна из
привилегий английской вольности — одна, на которую министры не
нападают»100. Несмотря на свою нелюбовь к этому спорту,
Макаров замечает его сходство с дуэлью. Федор Растопчин,
вместе с Комаровским наблюдавший матч Джексона с Рейном,
также находит нечто общее между боксерским поединком и
дуэлью: «Когда из газет известно стало, что Рейн совершенно
выздоровел, Ростопчину вздумалось брать у него уроки; он
нашел, что битва на кулаках такая же наука, как и бой на
рапирах»101 . Такое сравнение возможно благодаря наличию
правил, регулирующих и дуэль, и боксерский поединок. Однако
Макаров отказывается рассматривать дуэль и бокс как равно
приемлемые методы решения личных конфликтов. Он
испытал настоящий шок, когда подвыпивший английский
джентльмен вызвал его друга на боксерский поединок за замечание,
которое он воспринял как оскорбление его чести: «Англичанин
взял его за ворот, потащил в комнату и требовал неотменно
134 И. Рейфман. Рцтуализованная агрессия
кулачного поединка. Увидя нас еще троих, он выбежал на
минуту и привел троих англичан. С трудом мы прекратили эту
неприятную сцену; но впечатление, которое она произвела во
мне, долго останется. На кулаках сражаться я не умею, а с
оружием в театр не ездят: что ж делать? Своеволие такого рода
гораздо хуже воровства на улицах. И кто же был этот пьяный?
Лейтенант королевской службы!»102 Макаров реагировал не на
агрессию как таковую: судя по его досаде на то, что у него не
было с собой оружия, он был готов драться с обидчиком на
дуэли. Скорее он был возмущен тем, что офицер и
джентльмен предается спорту, приличному, с точки зрения
Макарова, только для простого народа.
Неприязнь русских к боксу демонстрирует слабость их
самосознания, их слепоту в отношении наличия элементов
простонародного поведения в их собственном дуэльном обычае.
Сталкиваясь с формализованной и социально приемлемой
версией вульгарно-агрессивного поведения, они воображали, что
сами уже далеко ушли от такого варварства, и отказывались
видеть его сходство со своими собственными привычками. Они
видели в боксе грубую пародию на чистое искусство дуэли,
которое они, как им представлялось, усвоили в совершенстве.
Поэтому Макаров и обвиняет англичан в «своеволии»,
которое «хуже воровства».
В отличие от Макарова Достоевский — проницательный
истолкователь поведенческих кодов— сознавал сходство между
русской дуэлью, с ее терпимостью к грубому насилию, и
боксом. В «Идиоте» он изображает самого строгого приверженца
кодекса чести, Келлера, последователем сразу трех традиций:
дуэли, кулачной драки и бокса. Келлер щеголяет своим
умением в этих областях в разговоре с офицером, которого
Настасья Филипповна ударила хлыстом по лицу и который
намеревается также оскорбить ее действием: «"Келлер! Поручик в
отставке, — отрекомендовался он с форсом. — Угодно в
рукопашную, капитан, то заменяя слабый пол, к вашим услугам;
произошел весь английский бокс. Не толкайтесь, капитан;
сочувствую кровавой обиде, но не могу позволить кулачного
права с женщиной на глазах у публики. Если же, как
прилично благороднейшему лицу на другой манер, то— вы меня,
разумеется, понимать должны, капитан..."» [Достоевский, VIII:
291), Отметим, что Достоевский не только видит параллели
между боксом и русской дуэлью, но и комически
подчеркивает их.
Русская неприязнь к боксу могла объясняться также и его
демократической природой. Пушкин, например, симпатизи-
Глава 3. Дуэль и физическая неприкосновенность 135
ровал боксу, видя в нем потенциальное средство для решения
личных конфликтов поверх классовых барьеров: «[П]осмотрите
на английского лорда: он готов отвечать на учтивый вызов
gentleman и стреляться на кухенрейтерских пистолетах или снять
с себя фрак и боксировать на перекрестке с извозчиком. Это
настоящая храбрость». Пушкин также указывал на сходство
бокса с национальной традицией кулачного боя: «Мне столь же
нравится кн. Вяземский в схватке с каким-нибудь журнальным
буяном, как и гр. Орлов в бою с ямщиком. Это черты
народности»103 (<«Разговор о критике»> [Пушкин, IX: 91]). В этих
высказываниях, несмотря на иронию (контекст цитируемых
фрагментов — описание ожесточенной журналистской
полемики, исполненной социальной вражды; отсюда оскорбительная
параллель между скандалистами от журналистики и
извозчиком), слышно благожелательное отношение к боксу. Однако
современники Пушкина, используя кулаки в конфликтах с
равными себе, отверг&чи саму идею урегулированного
физического столкновения с простолюдином. Учитывая существующую
в русском контексте символику пощечин и ударов кулаком как
жестов, устанавливающих равноправие, можно понять,
почему они не допускали и мысли об использовании этих жестов при
столкновении с социально низшим противником.
Еще более незыблемыми были для русских дворян
сословные перегородки, когда речь заходила о порке. В их
восприятии именно здесь проходила непреодолимая граница между
ними и простонародьем104. В отличие от кулачной драки
порка не могла быть включена в дуэльный ритуал105. Несмотря на
то что Достоевский предлагает в «Записках из Мертвого дома»
противостоять порке достойным поведением, успех подобных
усилий полностью зависит от готовности властей относиться к
ним с уважением. Более того, человек, подвергаемый порке,
часто не имеет возможности ей сопротивляться и потому
вынужден принять свой низший статус по отношению к
представителю карающей власти. Процедура порки не допускает
столкновения лицом к лицу оскорбителя и оскорбленного и таким
образом исключает ответное действие. (В рассказах о кадетах,
выпоровших Шешковского, желаемое явно выдается за
действительное.) Таким образом, в случае порки навязывание низшего
статуса с последующим ущербом чести оказывается
необратимым. Здесь берет начало страх перед поркой,
зафиксированный в слухах о выпоротых дворянах, отсюда же и болезненная
реакция дворян на саму угрозу телесного наказания.
Русская дуэль с ее традиционной открытостью грубому
физическому насилию сформировалась в соответствии с потреб-
136 И. Рейфман. Ритуализованная агрессия
ностями образованного сословия, ориентированного на
западные ценности, но функционирующего в контексте русской
культурной традиции. Вобрав в себя как западные, так и
специфически русские модели поведения, дуэль стала актом
медиации между заимствованными западными и национальными
формами межличностных отношений. Физическая агрессия,
включенная в ритуал дуэли, в большой степени утратила свою
традиционную функцию установления иерархии, позволив
русским дуэлянтам выработать понятия личного и частного
пространства, сходные с западными. Компенсируя отсутствие
надежных законов, охраняющих личность, дуэль служила
формой протеста против патриархальной власти государства над
индивидуумом. Дуэль также выступала как критерий проверки
достоинства человека. Именно благодаря своей центральной
роли в выработке понятия личности в России дуэль стала
излюбленным объектом изображения в русской литературе.
ГЛАВА 4
Русская литература XVIII века:
Зарождение дуэльного дискурса
Поскольку русские первоначально отнеслись к дуэли
прохладно, то и литература XVIII века также не уделяла ей много
внимания. Даже когда дуэль появлялась в произведении
художественной литературы, она редко подвергалась серьезному
обсуждению и почти никогда не изображалась в
положительном свете. Ни в одном произведении XVIII века дуэль не стала
центральной темой. Литература русского классицизма —
поэзия, драма, философская и сатирическая проза — почти
полностью игнорировала дуэль. Трагедия отвергала свойственную
дуэли индивидуалистическую этику. В сатирической прозе
дуэль изредка подвергалась осмеянию как нелепое и
нежизнеспособное явление. Только в комедиях регулярно изображались
дела чести и дуэлянты. В жанре комедии русская литература
впервые начала осмыслять и анализировать кодекс чести и
дуэльное поведение.
Дуэль часто, хотя и крайне поверхностно, изображалась в
низовой прозе, отвергаемой эстетикой классицизма.
Тяготеющая к острым сюжетам и приключениям низовая проза
использовала дуэль как эффектный сюжетообразующий мотив.
Лишь к концу века, когда сюжетная проза наконец начала
приобретать престиж в творчестве сентименталистов, некоторые
писатели-прозаики обратили внимание на дуэль и связанные с
ней нравственные проблемы. Именно эти ранние опыты
сентименталистов стали предшественниками всестороннего
рассмотрения дуэли и дуэльного поведения писателями XIX века.
В отличие от французской трагедии XVII века трагедия
русского классицизма не воспринимала честь в духе концепции point
d'honneur^ которая, с одной стороны, только еще усваивалась
русскими, а с другой — противоречила возникающему у них
пониманию чести как исполнения гражданского долга и
представлялась поэтому слишком эгоистической. Анализируя тему
чести в трагедиях Сумарокова и Якова Княжнина, И.З. Серман
утверждает, что Сумароков представлял честь как «высший
критерий добродетели личной и общественной», а Княжнин
видел ее как всеобщий гражданский долг, «безусловную и
абсолютную преданность отечеству, именно отечеству, России»1.
Оба драматурга, таким образом, рассматривают честь как не-
138 И. Рейфман. Ритуализаванная агрессия
что противное эгоизму, в то время как главной функцией point
dЪоппеиг является зашита личности и ее интересов.
Соответственно русские драматурги, восхищаясь «Сидом» Корнеля,
полностью игнорировали основной конфликт трагедии,
приведший к двум дуэлям, одна из которых оказалась смертельной.
Концепт «честь и долг», означающий в «Сиде» долг дворянина
отомстить за личное оскорбление на дуэли, получил в России
новое содержание и стал использоваться для обозначения
стойкости человека, преодолевающего свои эгоистические
импульсы во имя высших ценностей. Положительные герои русских
трагедий сохраняют честь, подавляя эгоистические желания —
любовную страсть, стремление к власти или к славе.
Благодаря трагедии, по-видимому, в XVIII веке сдвинулось и
лексическое значение слова «честь»: вместо признания статуса оно
стало означать нравственную и гражданскую добродетель,
измена которой хуже, чем смерть.
Естественно, что при таком понимании чести русские
трагедии избегали изображать дуэли. Когда отдаленная вероятность
дуэли все же возникает в трагедии Княжнина «Дидона» —
очевидно, под влиянием «Didone abbandonata» Пьетро Метастазио
и трагедии Ле Франка де Помпиньяна «Dido», — ее добивается
злодей Ярб, оскорбленный равнодушием Дидоны и
стремящийся отомстить Энею. Однако благородный Эней отрицает дуэль
в принципе, как нечто недостойное подлинного героя.
Славное прошлое Энея и его высокое понимание чести как
бескорыстного исполнения своего долга позволяют ему отказаться от
поединка, не теряя при этом своего доброго имени.
На исходе столетия, однако, уверенность Энея в своем
праве пренебрегать point d'Ъоппеиг уже не воспринималась в
позитивном ключе. В своей «шуто-трагедии» «Подщипа, или
Трумф», написанной около 1800 года, И.А. Крылов
сталкивает классицистическую идею чести как исполненного долга с
понятием point d Ъоппеиг, помещая комического горе-дуэлянта
в контекст трагедии классицизма. В этой «шуто-трагедии»,
пародирующей жанр трагедии в целом и «Дидону» Княжнина
в частности, князь Трумф, грубый немецкий завоеватель,
хочет жениться на дочери царя Вакулы, Подщипе, против ее
воли. После того как Подщипа многократно отказывает ему,
ссылаясь на свою любовь к Слюняю, Трумф вызывает
соперника на дуэль, сначала на шпагах, а затем на пистолетах. Слю-
няй решительно отказывается от поединка и готов уступить
Подтипу Трумфу. Если отказ Энея драться преподносится в
«Дидоне» как высшая добродетель, то нежелание Слюняя
Глава 4. Русская литература XVIII века... 139
участвовать в дуэли изобличает в нем труса. Поведение Слю-
няя задним числом позволяет поставить под сомнение чистоту
мотивов, которые заставили Энея отказаться от поединка с Яр-
бом и покинуть Дидону.
Сатирические писатели конца 1760—1770-х годов
критиковали дуэль только изредка, поскольку она была яапением
редким и ее абсурдность представлялась им самоочевидной. В
конце 1770-х годов и в 1780-е годы в ответ на распространение
дуэли в России и под влиянием английской антидуэльной
кампании середины XVIII века Новиков опубликовал переводы двух
произведений, вышедших в английских журналах, в своих
изданиях— «Модном ежемесячном издании» (1779) и
«Московском ежемесячном издании» (1781)2. В начале 1790-х годов
свою собственную сатирическую антидуэльную кампанию
развернул Страхов. Однако попытки сатириков часто имели
неожиданный эффект: пытаясь распространить идею «подлинной
чести», они невольно пропагандировали и идею point d'honneur.
Излюбленным предметом критики была мода украшать шпаги.
В журнале «Живописец» Новиков саркастически шутит,
включая в список привезенной из Марселя бижутерии «шпаги
французские разных сортов», подразумевая, что на самом деле шпага
должна служить для защиты отечества, а не для украшения
персоны ее носителя3. Аналогичным образом в «Почте Духов»
за 1789 год Крылов высмеивает ношение шпаги в качестве
украшения: «О! мужчины так стали хитры, что умели сделать
прелестными в глазах женщин и шпаги свои. Ты не увидишь
более тех старинных саблищ, которые весом тянули столько же,
сколько те, которые их носили, но увидишь маленькие
прекрасные шпажки, которые, ничуть не ужасая, делают только
украшение и включены в число галантерейных вещей. Да, в число
галантерейных вещей! Лучшие шпаги и лучшие тросточки
продаются в аглинских магазинах!»4 Шпага не только маркировала
дворянство как служилое сословие, но также
символизировала его привилегированное положение и использовалась как
дуэльное оружие. Поэтому, защищая достоинство шпаги,
сатирики защищали ее статус и как орудия защиты отечества, и как
знака дворянской привилегии. Соответственно в «Подщипе»
Крылова декоративная деревянная шпага Слюняя не только
представляет его как никуда не годного простофилю и глупого
щеголя, но также свидетельствует о его несостоятельности как
в качестве защитника отечества, так и в качестве дуэлянта5.
Русская комедия XVIII века, несмотря на свои насмешки
над дуэлью, относилась к ней все же более дружелюбно, чем
140 И. Реифман. Ритуализованная агрессия
другие жанры. Сначала дуэль в комедиях упоминалась лишь
вскользь. В слезной комедии Владимира Лукина «Мот,
любовью исправленный* добрый, но слабый Добросердов
обнажает шпагу против злодея Злорадова. В «Бригадире»
Фонвизина Иванушка, глупый защитник французских обычаев,
замышляет вызвать на дуэль своего отца. Постепенно, однако,
дуэльный мотив получает в комедии более подробную
разработку. Особенно часто эта тема использовалась в стихотворной
комедии, и чем ближе к концу столетия, тем больше
внимания ей уделялось. Частые упоминания дуэли и даже
включение целых дуэльных сцен служили не только для осмеяния
кодекса чести, но и для его поддержки.
В комедии Хераскова «Ненавистник» (J770) мотив дуэли
устойчив, но не развит: различные персонажи комедии, как
положительные, так и отрицательные, неоднократно угрожают
друг другу дуэлью, но дальше угроз не идут6. В комедии Ни-
колева «Самолюбивый стихотворец» (1775) дуэльный мотив
получает значительное развитие: комическим дуэлянтом
является один из ведущих персонажей и претендентов на руку
героини, щеголь Модстрих (от немецкого Modstrich — щеголь).
На первый взгляд Модстрих кажется человеком чести, готовым
постоять за себя при малейшем оскорблении. Он вызывает
главного героя, дядюшку героини Нацмена (персонаж,
пародирующий Сумарокова). Модстрих приглашает Надмена в
Перовские рощи, уединенное место под Москвой, подходящее для
проведения дуэли, но Надмен, автор трагедий, приверженный
иной трактовке чести, не хочет понимать, о чем ему говорят:
В Перовских рощах?., так! тебе и место там.
Не в городе — в лесу убежище скотам.
Я всех бы собрал вас... всех жить в лесах заставил
И тем спокойствие в отечестве восставил.
Отсылая Модстриха в лес, Надмен заставляет вспомнить
критику дуэли как обычая, достойного дикарей, а не
цивилизованных людей. Он также обличает Модстриха в
низкопоклонстве и подражании французам: «О гнусный петиметр!
Французский водовоз!»7
Николев смеется не только над дуэлью, но и над самим
дуэлянтом. Когда Надмен отказывается явиться в рощу,
Модстрих приходит к нему в дом экипированным для дуэли: в
шляпе, красном плаще, с необычайно длинной шпагой и
пистолетом. Не замечая субретки Марины и думая, что он один,
Глава 4. Русская литература XVIII века... 141
Модстрих репетирует дуэль сначала на шпагах, а затем на
пистолетах. Монолог Модстриха выдает в нем труса, что
подчеркивается ироническими замечаниями Марины:
Модстрих {сам с собою)
Но если?.. Нет, он стар... не надобно мужаться.
Марина {тихо)
Aral Так в сердце ты не так-то чтоб храбрец?
Модстрих {обпажа шпагу)
Немножко коротка... и что-то туп конец!..
Марина {тихо)
Не храбрость ли тупа?., а шпага, вижу, — бритва?"
Когда Модстрих репетирует дуэль на пистолетах, Марина
делает вид, что стреляет в него, восклицая «Паф! паф!».
Напуганный этим комическим розыгрышем, щеголь падает с
криком: «Застрелили! Ай-ай!»9 Трусость Модстриха вновь
подтверждается при его столкновении с пьяным наборщиком.
Позднее Модстрих еще раз вызывает Надмена, который опять
с презрением отказывается принять его вызов. Наконец
трусость и неблагородство Модстриха полностью изобличаются,
когда благородный Крутон хватает его за волосы и Модстрих
немедленно сдается и умоляет Надмена простить его.
Разоблаченный как негодный дуэлянт, Модстрих теряет и надежды на
руку героини.
Увлечение дуэлью предстает у Николева в негативном
свете, как черта щегольского поведения и западная причуда.
Позитивное изображение человека чести, готового защищать ее на
дуэли, впервые появляется в комедии Княжнина «Хвастун»
(1785). Молодой любовник Замир вызывает негодяя Верхолета
за то, что тот очернил его в глазах его возлюбленной Милены.
В отличие от Ярба в «Дидоне» Замир вызывает Верхолета не
из мести, не потому, что Милена как будто предпочитает его,
а защищая свою честь от клеветы. Верхолет — трус и пытается
избежать дуэли с помощью различных уловок: сначала он
умоляет Замира о прощении, затем уверяет, что он гораздо лучше
фехтует и потому не может драться со слабейшим противником,
и, наконец, в духе времени, ссылается на свой якобы более
высокий социальный статус. Замир настаивает на том, что
неравенство чинов не имеет значения, поскольку оба
соперника — дворяне. Замир, таким образом, изображен как
подлинный приверженец кодекса чести, в то время как о его
противнике простой, но честный портной справедливо замечает:
«Нечестен Верхолет, хотя и дворянин»10.
142 И. Рейфлши. Ритушизованная агрессия
Отрицание Верхолетом кодекса чести чрезвычайно важно
для его образа как придворного фаворита — «случайного
человека». Несмотря на то что Верхолет— всего лишь лже-фаво-
рит, который в конце концов разоблачен, его бесчестное
поведение отражает неприязнь русского дворянства XVIII века к
фаворитам и представителям чиновной дворянской верхушки,
пытавшимся поставить себя над кодексом чести. По мере того
как в России кодекс чести получал распространение,
литературные персонажи-дуэлянты становились все более и более
агрессивны в своем стремлении настаивать на равноправии всех
дворян, независимо от чина и близости к трону.
В комедии «Хвастун» наряду с изображением принципа
point d'honneur Княжнин упоминает также то, что отец Зами-
ра, Честон, называет «прямой честью» дворянина, то есть долг
службы. Однако Княжнин не позволяет пересечься этим двум
интерпретациям идеи чести, и читатель не получает ответа на
вопрос о том, что думает Честон о попытке своего сына
вызвать Верхолета на дуэль, или о том, мешает ли Замиру
приверженность идее point d'honneur выполнять свой служебный
долг. Вопрос о сравнительной ценности идеи point d'honneur,
сосредоточивающейся на индивидууме, с идеей «прямой
чести», требующей от индивидуума подчинять свои личные
интересы общественной пользе, продолжал беспокоить дворянство
на всем протяжении существования дуэли в России. Бестужев-
Марлинский обращается к этому вопросу в повести «Фрегат
Надежда». Пушкин пытается проанализировать сравнительные
достоинства этих двух различных пониманий идеи чести в
«Капитанской дочке» — выбирая при этом в качестве эпиграфа к
первой главе стихи из комедии «Хвастун». Достоевский,
стойкий противник власти коллектива над личностью, утверждал,
что «прямая честь» вряд ли вообще возможна при отсутствии
point d'honneur («Записная тетрадь 1875—1876 гг.» (Достоевский,
XXIV: 102]).
В другой своей комедии, «Чудаки» (вероятно, 1790),
Княжнин рассматривает вопрос об истинной и ложной чести в
контексте традиционного комедийного конфликта. Супруги
Лентягины не согласны в выборе жениха для дочери. Жена,
будучи знатного рода, понимает честь прежде всего как
высокое общественное положение и поэтому желает для дочери
мужа-аристократа. Лентягин же, лишь недавно получивший
титул дворянина, ищет просто честного человека. И муж и
жена доходят до крайности: Лентягин в порыве эгалитаризма
хочет выдать дочь за cjiyiy, а его жена готова пойти на что угод-
Глава 4. Русская литература XVIII века,.. 143
но, даже пожертвовать своим честным именем, лишь бы иметь
зятем аристократа. Если над Лентягиным автор посмеивается,
то его жена решительно осуждается, а ее понимание чести
представляется нелепостью.
Княжнин полностью дискредитирует представление о
чести как о высоком общественном положении, когда выбранный
Лентягиной жених оказывается трусливым дуэлянтом. Он
ссорится со слугой Пролазом, которого в качестве жениха выбрал
отец, и их ссора изображается как конфликт чести. Ветромах
ревнует невесту к Пролазу и хочет отомстить, но низкий
социальный статус Пролаза якобы мешает этому:
Ветромах {грозя вслед Пролазу)
Заплатишь мне maraud! ты жизмию твоею.
Что сделал я bassesse, о том я сожалею.
О честь! ты мне obstacle бездельника убить,
Который смеет мне, о sort! ривалем быть.
Я знатный дворянин, а он слуга ничтожный,
Л то бы на тот свет ссудил я подорожной11.
Понимание Ветромахом чести комически извращено: в его
трактовке честь не запрещает ему убивать, она запрещает
убивать именно слугу. Очевидно, честь также запрещает ему
рисковать жизнью: в поисках выхода из затруднительного
положения он препоручает дуэль с Пролазом своему слуге Высоносу.
Высонос тоже не хочет драться: он говорит, что боится
Сибири, но ясно, что еще больше он боится самой дуэли.
Ветромах уверяет его, что убийство на дуэли позволено:
Ветромах
Иль право чести мне, ты мыслишь, неизвестно?
Maraud! И можешь ли мне тем колоть ты в глаз,
Чтоб point d'honneur возмог забыть в моей я мести?
Хочу, чтоб ты убил путем Французской чести12.
Претензии Ветромаха на высшее понимание кодекса чести
звучат лицемерно: в них игнорируется то обстоятельство, что,
не желая обесчестить себя поединком со слугой, он готов
подвергнуть опасности Высоноса. Он хочет уничтожить
противника, сам при этом ничем не рискуя. Неизбежно встает вопрос
о мотивах Ветромаха (и заодно настоящих дуэлянтов, таких, как
Голицын и Зорич, ссылавшихся на неравенство как препятствие
к дуэли): чего они хотят, сохранить свой статус или избежать
опасности?
В конце концов Высонос соглашается заменить
Ветромаха, после чего следует длинное комическое изображение дуэ-
144 И. Рейфман. Ритуализованная агрессия
ли Высоноса и Пролаза. Нарушив все правила дуэли и
поставив себя во всевозможные нелепые ситуации, они мирятся и
вместе отправляются в кабак. Этот эпизод послужил для
Пушкина источником эпиграфа к дуэльной главе «Капитанской
дочки». Комедийное происхождение эпиграфа усиливает
иронию, и без того пронизывающую пушкинский анализ
проблемы чести в этом романс.
Особое внимание русской комедии к^уэли может отчасти
объясняться тем, что многие русские комедии были
подражанием западным пьесам того времени. Наряду с сюжетами и
ситуациями русские драматурги заимствовали у западных
описания дуэлей и дуэлянтов. Однако при этом они «склоняли»
свои европейские образцы «на русские нравы»,
приспосабливая заимствованные модели поведения к решению чисто
национальных проблем. Одна из таких проблем — институт
придворных фаворитов, осмеянный Княжниным в «Хвастуне».
Другая — неравенство внутри дворянского сословия,
рассматриваемое в комедии «Чудаки». Еще одна специфически русская
тема, к которой обращается комедия XVIII века, — это
бесчестье, денежная компенсация за оскорбление. Так, в
«Бригадире» Фонвизина Советник угрожает взыскать с Иванушки
денежное возмещение за шашни с его женой:
«Советник: Нет, сударь мой; я знаю, что с сыном
вашим делать. Он меня обесчестил; а сколько мне бесчестья
положено по указам, об этом я ведаю.
Бригадирша: Как! Нам платить бесчестье! Напомни
Бога, за что?
Советник: За то, моя матушка, что мне всего дороже
честь... Я все денежки, определенные мне по чину, возьму с
него и не уступлю ни полушки».
Однако родители Иванушки справедливо указывают, что
жена Советника должна уплатить по крайней мере половину
ущерба: «Ведь они обесчестили тебя заодно»13. Комическая
логика их аргумента подчеркивает абсурдность «нрава на
бесчестье».
Аналогичным образом, в стихотворной комедии Николая
Судовщикова «Неслыханное диво, или Честный секретарь»,
написанной на пороге нового века и впервые напечатанной в 1802
году, благородный и честный Прямиков подозревает, что
жадный и хитрый Крючкострой намеревается добиться от него
компенсации за причиненный ему позор. Прямиков смеется
над Крючкостроем и предупреждает его, что платит за бесче-
Глава 4. Русская литература XVIII века... 145
стье только благородным людям и только шпагой, а
недостойных жалует своей тростью. Трусливый Крючкострой
поспешно отступает. Примечательность этого эпизода состоит в том,
что он прямо соотносит «право на бесчестье* с идеей дуэли и
подтверждает, что русское дворянство действительно
рассматривало дуэль в качестве замены неадекватных законов в защиту
личности, в частности законов о «бесчестье».
Невзирая на насмешки в адрес дуэли чести, комедия
способствовала ее утверждению в России. Осмеяние горе-дуэлянтов
воздействовало на нравы современников сильнее, чем шутки
над самой идеей point d'honneur, и в конечном итоге
способствовало распространению представлений о правильной дуэли. В
начале XIX века, когда дуэль стала в России общепринятой и
другие литературные жанры заинтересовались ею, мотив
дуэли в комедиях утратил свою значимость и стал не более чем
средством построения сюжета или характеристики персонажей.
Анализом дуэли всерьез занялась сюжетная проза.
Высокая проза XVIII века— политическая, философская
или историческая — игнорировала дуэль. «Житие Федора
Васильевича Ушакова» Радищева является редким и примечательным
исключением. Основное внимание дуэли уделяла проза,
популярная прежде всего среди читателей из низших слоев общества.
Начиная с 1700-х годов различные «повести и гистории»
регулярно включали в себя дуэльные эпизоды, придававшие сюжету
увлекательность. Большинство изображаемых в этих
произведениях дуэлей представляли собой rencontres, то есть поединки,
происходящие на месте, без подготовки — вероятно потому,
что они давали удобную мотивацию для неожиданных сюжетных
поворотов. «Назначенная», по более позднему выражению
Михаила Чулкова, дуэль описана только в «Повести о
российском кавалере Александре», написанной в начале XVIII века под
сильным влиянием западных литературных образцов и потому
отражающей скорее европейский, нежели русский
литературный канон, и в «Пригожей поварихе» (1770) Чулкова, где
дуэль становится частью сложной интриги.
В «Повести о российском кавалере Александре» — первом,
как кажется, произведении русской литературы, в котором
описывается дуэль, — поединок между Александром и другим
дворянином, Цицолло, вызван соперничеством за женщину.
Он оформляется в соответствии с дуэльным ритуалом: получив
официальный вызов от Цицолло, Александр встречается с ним
в условленном месте, «идеже поединки чинятся, и съедшись
с ним, дав ему две раны тяжкие, и победителем явился»14.
146 //. Рейфман. Ритуаяизова/шая агрессия
Далее следуют еше несколько поединков, но они становятся
более средневековыми и в конце выглядят уже совершенно как
рыцарские турниры. Повесть, таким образом, отражает
скорее запоздалое увлечение русских рыцарскими романами, чем
их интерес к проникающей в Россию дуэли чести.
В русской низовой прозе второй половины XVIII века
упоминания дуэли учащаются, но она продолжает
функционировать как средство движения сюжета. Так, герой повести
Василия Левшина «Два брата-соперники» заставляет соблазнителей
своей дочери и племянницы жениться на девушках, угрожая им
шпагой: «Запер всех их в чулане, скликал людей и вошел к ним
с обнаженною шпагою. <...> "Слушайте, государи мои! —
сказал он — Я не могу возвратить стыда, мне вами нанесенного,
а хотя и могу сделать вас несчастными, но не хочу того.
Избирайте одно. Вы должны жениться на ваших любовницах или
омыть кровию вашею мое бесчестие!"» Два брата долго не
раздумывают: «|0|ни, припад к ногам хозяина, извиняли себя,
что страсть принудила их войти в сию дерзость, что намерения
их были честны и что они с радостию исполняют его и свое
желание»15. Смиренное повиновение юных преступников
свидетельствует как об их старомодном уважении к старшим, так
и об их полном незнакомстве с кодексом чести. Тем не менее
угроза дуэли делает возможной эффектную концовку.
В анонимном романе «Несчастный Никанор» (1775—1789)
мотив дуэли используется для усложнения интриги. В одном
из эпизодов благородный Шпангут защищает героиню Анету от
нападения пьяного офицера. Офицер хочет заколоть
защитника шпагой, но слуги Шпангута обезоруживают его и
вышвыривают за дверь. Взбешенный офицер угрожает дать ложное
свидетельство о том, что накануне Анета спровоцировала
перед домом Шпангута дуэль, в ходе которой погиб человек. В
самом деле, накануне «найден был убитый один человек,
который застрелен пулею в правый висок, а подле того убитого
лежал заправленный пистолет со взведенным курком»16.
Власти решили, что он погиб на дуэли. Чтобы усилить
читательский интерес, анонимный автор заставляет Анету и других
персонажей поверить, что убийство совершил ее возлюбленный,
Никанор. Анета думает, что ее возлюбленный арестован за
дуэль, и вынуждена спасаться бегством, тем самым отдаляясь
от него и подвергаясь все новым и новым опасностям.
Благодаря многим совпадениям это убеждение сохраняется
достаточно долго, чтобы обеспечить множество приключений и, в конце
концов, трагическую концовку романа.
Глава 4. Русская литература XVIII века... 147
В «Пригожей поварихе» Михаила Чулкова мотив дуэли
представлен более обстоятельно и играет еще более
драматическую роль. Хитрый Свидаль вызывает своего соперника Ахаля
на дуэль за героиню Мартону. Он посылает ему формальный
вызов — первый в русской литературе «картель»: «Государь мой!
Я вами обижен, а поношение чести, вы знаете, чем
платится, так сделайте мне удовольствие. Завтра в десятом часу
пополуночи пожалуйте в Марьину рощу, где я буду ожидать вас,
а если вы не будете, то опасайтесь, чтоб не поступил с вами
так, как поступают с площадными мошенниками. Слуга ваш
Свидаль»17. В действительности Свидаль не собирается
драться всерьез. Вместо этого он устраивает потешную дуэль на
незаряженных пистолетах. Затем он притворяется мертвым, и
перепуганный Ахаль спасается бегством, уступая таким
образом Мартону своему сопернику. Розыгрыш заканчивается
печально: мучимый угрызениями совести, Ахаль принимает яд.
Когда он лежит на смертном одре, появляется Свидаль.
Поскольку Чулков так и не опубликовал продолжения романа, мы
не знаем, умер ли Ахаль от яда, нечистой совести или шока,
вызванного видом Свидаля, которого он принимает за дух
убитого им человека, — и умер ли он вообще. Неясно также,
хотел ли автор преподать читателю какой-либо нравственный
урок. Последнее сомнительно: хотя Чулков и был первым
русским писателем, изобразившим психологические и моральные
последствия убийства на дуэли, он использует раскаяние
Ахаля прежде всего в технических целях, как мотивировку для
дальнейших перипетий авантюрного сюжета. Очевидно,
однако, что ни Чулкова, ни его героев никоим образом не
беспокоит то, что Свидаль манипулирует дуэльным ритуалом.
Поведение, которое в XIX веке будет восприниматься как
серьезнейшее нарушение ритуала дуэли («Герой нашего
времени» — лишь один очевидный пример), выглядит нейтральным
с точки зрения морали для Чулкова и его плутоватых героев18.
В конце века, когда сюжетная проза в России получила
статус признанного литературного жанра, на дуэль обратили
внимание сентименталисты, исследуя, среди прочего,
социологию и психологию дуэльного поведения. Примечательно, что
ведущих представителей русского сентиментализма дуэль не
интересовала. Карамзин, например, ни разу не упоминает
дуэль в своих повестях 1790-х — начала 1800-х годов.
Аналогичным образом Василий Жуковский в своем единственном
прозаическом произведении, повести «Марьина роща» (1809),
также избегает этой темы, несмотря на то что подмосковная
Марьина роща была в течение долгого времени популярным
148 И. Реифман. Ритуализованная агрессия
местом дуэлей (именно там произошла дуэль между героями
Чулкова). Первыми из сентименталистов дуэль изобразили
Александр Клушин и Михаил Сушков, писатели
второстепенные, но наиболее яркие из многочисленных русских
подражателей «Страданиям юного Вертера» Гете.
Клушин — поэт, прозаик, драматург и журналист, вместе
с Крыловым издававший журналы «Зритель» и
«Санкт-Петербургский Меркурий», — обратился к дуэльной тематике в
повести «Вертеровы чувствования, или Несчастный М-в»,
опубликованной в 1793 году. Следуя Гете, он изображает
героя, который не может жить без своей возлюбленной и,
разлученный с ней, совершает самоубийство. Однако повесть
Клушина включает мотив, отсутствующий в романе Гете и
восходящий к другому литературному образцу — «Новой Эло-
изе» Руссо: влюбленным у Клушина мешают соединиться
сословные перегородки19. Бедный разночинец М-в, подобно
Сен-Пре, вынужден зарабатывать себе на хлеб уроками. Его
ученица Софья — «прекрасная знатной фамилии девица»,
которую отец хочет выдать «за столь же знатного, богатого и
чиновного человека», каков он сам. Когда отец Софьи
обнаруживает их взаимную любовь, «подлость» (т.е. низкое
происхождение) последнего делает невозможными его притязания на
руку героини, а его самого— непригодным для дуэли: «Мои
обиды ничем загладить не могут, как кровию преступника, —
говорит он М-ву, — но ты, ты слабая жертва, недостойная
мщения. Не снидет дух мой до подлости, низко шпаге моей
омыться кровию твоею»20. Это еще один мотив,
заимствованный Клушиным из «Новой Элоизы». Отец Юлии также
считает дуэль с Сен-Пре невозможной из-за низкого социального
статуса последнего: «[Н|е воображайте, будто я не знаю, как
мстят за честь дворянина, оскорбленного человеком низкого
звания». Его умолчание явно подразумевает иные средства
мести, чем дуэль. Однако если Сен-Пре настаивает, что его
статус «порядочного человека», «ип homme de Ыеп», дает ему
право защищать свою честь, то М-в даже не поднимает этот
вопрос с отцом своей возлюбленной21. Отказавшись и от Софьи,
и от права на поединок, он совершает самоубийство. В
повести Клушина, таким образом, вводится тема, которая будет
чрезвычайно важна для дуэлянтов начала XIX века и станет
центральной для ранних повестей Бестужева-Марлинского: право
на поединок вне зависимости от социального положения. В
отличие от несчастного М-ва персонажи Бестужева будут
настаивать на этом праве всеми доступными им средствами.
Глава 4. Русская литература XVIII века... 149
Михаил Сушков не только написал в подражание Гете
повесть «Российский Вертер» (написана в начале 1790-х; впервые
напечатана в 180Тг.), но и сам воплотил в жизнь сюжет его
произведения: он покончил с собой в 1792 году в возрасте
шестнадцати лет. К этому времени он уже был опытным писателем,
автором опубликованных стихов и переводов. В его
посмертное наследие входит трактат по мифологии, философская проза
и «Российский Вертер». Он также пережил глубокий духовный
кризис, обратясь от традиционной религиозности к крайнему
скептицизму и атеизму22.
«Вертер» Сушкова довольно близко следует форме и
содержанию оригинала: это эпистолярный роман, описывающий
упорную любовь героя к женщине, продолжающуюся даже
после ее выхода замуж. Однако главный герой Сушкова —
одновременно и более желчная, и более активная личность, чем
Вертер Гете. Мучимый своей любовью к Марии, он все же
живет полноценной жизнью, служит в армии, играет в
азартные игры и участвует в дуэли.
Дуэль главного героя не имеет ничего общего с основным
сюжетом; она служит мотивировкой отставки героя, которая,
в свою очередь, дает ему возможность снова встретиться с
возлюбленной. Читатель даже не знает причины конфликта.
Герой просто сообщает в письме к другу: «Я был обижен и
дрался»23. Сама дуэль тоже не описывается; герой лишь кратко
сообщает своему другу о смерти противника. Однако он
обсуждает неопределенный статус дуэли в гражданском обществе, в
частности противоречие между требованиями кодекса чести и
юридической незаконностью дуэли. Герой Сушкова жалуется:
«Конечно, мне надлежало презреть обидчика и пойти прочь; но
что сказали бы о таковом поступке? И оставляя сие, человек
пылкого сложения всегда ли властен удержать стремление
крови? Как бы то ни было, как я ничего не терял, то при всей
горячности был рассудительнее своего соперника, который не
хотел лишиться мнимых благ жизни. Он пал от моей шпаги,
и вот правосудие человеческое! Если бы я не принял вызова,
то почелся бы подлецом, а теперь подвергаюсь наказанию суда.
Однако ж, рассмотри обстоятельства дела, верь, что твой друг
не дождется бесчестия, но успеет его предупредить».
Очевидно, что герой Сушкова, не дорожа жизнью и потому не боясь
смерти (что дает ему преимущество над противником, который
ценит свою жизнь), боится общественного мнения. Впервые
в русской литературе Сушков изображает ментальность человека
чести, для которого чистота репутации оказывается важнее всех
150 //. Рейфман. Ритуализоватшя агрессия
других критериев — юридических, нравственных и
религиозных. Рассмотрение Сушковым проблем, связанных с дуэлью,
положило в русской литературе начало продолжительной
дискуссии о способах примирения тирании общественного мнения,
воплощенного в кодексе чести, с нравственными и
юридическими стандартами. Приоритет кодекса чести и общественного
мнения над требованиями закона, и особенно над голосом
совести, продолжал беспокоить русских дуэлянтов всех
следующих поколений и соответственно рассматривался в десятках
произведений, от Бестужева-Марлинского и Пушкина до
Тургенева, Толстого, Достоевского, Чехова и Куприна.
Героя Сушкова все еще больше беспокоят не нравственные
проблемы, связанные с дуэлью, а ее юридические последствия
(судя по заключительной фразе его жалобы, можно сделать
вывод, что он предпочел бы смерть бесчестью наказания). Тем
не менее нравственный статус дуэли вскоре начал серьезно
беспокоить не только противников, но и сторонников.
Анонимный «Новый чувствительный путешественник»,
напечатанный в 1802 году пол инициалами К*. Г*., включает вставную
историю, которая является самым ранним русским
повествованием, полностью посвященным дуэльной теме. «Франц» —
одна из историй, услышанных повествователем в течение его
двухдневной поездки в гости к другу, живущему в
пригородном поместье, рассказана лютеранским пастором,
повстречавшимся повествователю в немецком поселении. Это печальная
повесть о любви молодого офицера к красавице Амалии,
дочери его командира, подполковника Бернгейма. Франц,
который начал свою службу как простой солдат, — не пара для
девушки из «очень хорошей фамилии древнего курляндского
дворянства», которая к тому же была «сговорена за богатого и
знатного курляндского дворянина»24. Отец случайно
оказывается свидетелем любовного объяснения Франца и Амалии.
Первый его импульс — убить наглеца на месте: «Бернгейм <...>
изменился в лице, бросился на Франца и, вынув шпагу,
хотел его лишить жизни». Франц разоружает своего обидчика и
предлагает ему дуэль: «"Постой! — сказал он ему, — удержи
свирепство свое. Ежели я тебя обидел, то могу тебе дать
законное удовольствие. Кто нападает на безоружного, тот
смертоубийца!"» Франц арестован за нападение на старшего по чину,
но Бернгейм приходит в тюрьму и требует поединка: «Он
подходит к Францу и твердым голосом так ему говорит: "Ты
обидел меня: ты обесчестил дочь мою, нарушил все спокойствие
моего семейства; ты знаешь, что ничто столь не дорого, как
Глава 4. Русская литература XVIII века... 151
честь; ты офицер, и я уж могу от тебя требовать благородного
удовлетворения. <...> Выбирай оружие, и один из нас должен
непременно остаться на месте; се единый способ возвратить
честь дочери моей!"» Бернгейм предлагает Францу деньги и
необходимые документы, чтобы тот мог исчезнуть в случае
смерти Бернгейма. Благородный Франц отвечает столь же
великодушно и выбирает в качестве оружия пистолеты, так как
не умеет стрелять, но отлично фехтует. Однако судьба
жестока к нему, и он убивает своего противника с первого выстрела
на глазах у Амалии, которая в последний момент прибывает на
место дуэли, переодевшись в мужское платье, и, видя
умирающего отца, и сама падает замертво на его тело. Обезумевший
от горя Франц спасается бегством. Проведя несколько лет за
границей, он возвращается домой к своему старику-отцу.
Глубоко подавленный, он исповедуется своему пастору. Вскоре
после этого его находят мертвым в лесу, в том самом месте,
где он сделал свое признание. В истории не уточняется,
покончил ли Франц с собой или умер, отказавшись от пищи
(пастор утверждает, что «в течение трех месяцев он не пил, не ел,
не спал»).
В истории Франца исследуется разрушительная сила
кодекса чести. И Бернгейм, и Франц — хорошие люди, но
кодекс чести принуждает их вести себя губительно по отношению
к себе и к любимым людям. Бернгейм симпатизирует Францу:
«Полковник любил Франца как хорошего офицера,
исполняющего свой долг с отличною привязанностей) и ревностной
охотою». В отличие от надменного отца возлюбленной
несчастного М-ва Бернгейм готов признать Франца равным
соперником в дуэли чести, но не своим зятем: «Нам известно твое
рождение, и дочери моей нимало неприлична таковая партия».
Далее, поскольку он верит, что даже платоническое
объяснение в любви со стороны социально неприемлемого жениха
может опозорить его дочь, единственным путем отмщения за
бесчестье дочери может стать убийство нарушителя приличий
или собственная смерть на дуэли.
Франц пытается напомнить своему противнику о
подлинных ценностях, указывая на то, что Бернгейм ставит свою
гордыню выше счастья дочери, но Бернгейм, хотя и «сам
горькими слезами залился», остается непреклонным: «Нет, —
отвечал Бернгейм, — выбирай оружие». В этот момент Франц
и сам забывает о подлинных ценностях и не уклоняется от
вызова. И Франц, и Бернгейм оказываются, таким образом,
невольниками чести, не способными действовать в соответствии
152 И. Рейфман. Ритуализаеанная агрессия
со своими подлинными человеческими симпатиями и
нравственными принципами, — оба вынуждены делать то, что им
очевидным образом ненавистно. Они становятся
марионетками, действия которых управляются силами вне их контроля.
Примечательна неудача попытки Франца принести себя в
жертву, выбрав менее выгодное для себя оружие: поддавшись
кодексу чести, человек теряет свободу воли и уже не может
контролировать результаты своих действий. Францу никогда уже
не удается обрести свободу. Ужасные воспоминания о дуэли
преследуют его и приводят к смерти: «Окончив, сказывал он
мне, что с тех пор лишился он всего спокойствия жизни; что
тень Амалии и Бернгейма беспрестанно следовала по следам его,
укоряла жестокость его; что ночью мятежные сны те же
привидения являют и что совесть немилосердно душу его раздирает».
Рассказ о борьбе Франца с неумолимой властью дуэли
выдает знакомство автора с Руссо, особенно с рассказом Юлии
о мучительных воспоминаниях ее отца, убившего на дуэли друга:
«Вы знаете, что батюшка в молодости имел несчастье убить
человека на дуэли — он убил своего друга. Они дрались
нехотя, принуждаемые безрассудным представлением о чести.
Смертельный удар лишил одного жизни, а у другого навсегда
отнял душевный покой. С той поры отец не может избавиться
от сердечной тоски и угрызений совести. Часто, оставаясь в
одиночестве, он льет слезы и стонет. Он будто все еще
ощущает, как его жестокая рука вонзает клинок в сердце друга. В
ночи ему все мерещится мертвое тело, залитое кровью; он с
содроганием взирает на смертельную рану, — ему так хотелось
бы остановить кровь. Ужас охватывает его, и он кричит;
страшный призрак неотвязно его преследует»25. Аргументы Руссо
против дуэли и в самом деле произвели на русских большое
впечатление. В принадлежащей анонимному автору
(возможно, Грибоедову) «Оде на поединки» (1809) также чувствуется
влияние Руссо. Как и Юлия, автор оды страстно доказывает,
что дуэли происходят от предрассудков и страха
общественного порицания. Так же как и Юлия, он предупреждает, что
победителю не удастся избежать мук совести и что кровавая тень
жертвы будет посещать и упрекать его:
Наполнит сердце трепетанье,
И тайной совести страданья,
Как змеи, будут грудь терзать!
Мечтами будешь ты томиться,
И тень кровавая явится
Тебя в убийстве укорять2*.
Глава 4. Русская литература XVIII века... 153
Если автором этого произведения действительно был
молодой Грибоедов, то эта ранняя мудрость не удержала его
впоследствии от участия в дуэлях. Бессилие благоразумия против
гипнотической силы дуэли — часть опыта многих русских
литературных героев-дуэлянтов, от Франца до Пьера Безухова.
По-видимому, русским было как-то особенно нелегко
освободиться от власти того явления, которое они считали
предрассудком. Даже Руссо, при всем его огромном влиянии на
русское культурное сознание, не смог помочь им в этой борьбе.
Меньше чем за век русская литературная дуэль превратилась
из маргинального, служебного мотива в низовой прозе начала
XVIII века в чрезвычайно важную и эмоционально
насыщенную тему в прозе сентименталистов в конце столетия. По мере
распространения дуэли в России эта тема была освоена более
престижными литературными жанрами, сначала для критики
дуэли, а затем для анализа связанных с ней проблем. К
началу XIX века все болезненные вопросы, с которыми
приходилось сталкиваться дуэлянтам, были сформулированы и
проанализированы в литературе того времени, а всевластие кодекса
чести было осознано и по большей части принято. Однако тема
дуэли сохраняла относительно маргинальный характер до 1820-
х годов, когда Александр Бестужев-Марлинский отвел ей в
своем творчестве центральное место.
ГЛАВА 5
Александр Бестужев-Марлинский:
Бретер и апологет дуэли
Александр Бестужев-Марлинский не был первым русским
писателем, обратившимся к изображению дуэли, но он был
бесспорно тем, кто сделал эту тему центральной в своих
произведениях. Более того, он лидирует среди русских писателей по
количеству изображенных дуэлей: между временем своего
литературного дебюта в начале 1820-х годов и до 1833 года;
когда, после публикации повести «Фрегат Надежда», его интерес
к литературным дуэлям ослаб, он подробно изобразил десять
конфликтов чести, а также упомянул множество других.
Особенно важно, что Бестужев определил особенности дуэльного
дискурса в русской литературе. Он первым начал обсуждать
тонкости дуэльного ритуала и первым поставил философские
и психологические вопросы, связанные с point d'honneur. Он
исследовал способность дуэли защищать личное пространство
индивидуума и указал на ее ограниченные возможности в этом
отношении. Он первым рассмотрел способность дуэли лишать
человека свободы воли и первым попытался решить сложную
проблему, позднее подробно исследованную Достоевским, —
как воздержаться от дуэли без того, чтобы обесчестить себя и
оскорбить противника.
Поединки, изображенные в повестях Бестужева,
представляют скорее идеал, чем реальное дуэльное поведение в России.
В этих произведениях невозможно встретить отвратительную
драку на кулаках или палках. Не изображает автор и пощечин,
оставляющих синяки иа лице. Несмотря на то что в его
повестях люди чести экспериментируют с дуэльным кодексом (в
конце концов, многие из них — бретёры), они ведут себя и
мужественно, и достойно. Созданные как образцы для подражания,
дуэлянты Бестужева способствовали формированию мифа об
идеальном русском дуэлянте. В то же время его
интерпретация дуэли никогда не бывает простой, однозначной и даже
полностью положительной. Бестужев, обучая читателя
поведению в дуэльных ситуациях, всегда подчеркивает и
недостатки дуэли.
Знаменательно, что Бестужев заметно менее амбивалентен
в своей оценке дуэли, если конфликт чести возникает на
почве физического оскорбления. В нескольких повестях он пря-
Глава 5. Александр Бестужев-Марлииский... 155
мо сосредоточивается на функции русской дуэли как средства
защиты от физического насилия. Бестужев исследует и такие
конфликты чести, которые приводят к действиям,
запрещенным дуэльной конвенцией — например, к убийству. Такие
действия всегда связаны с реальным или потенциальным
физическим насилием. Иногда автор становится на сторону героев,
позволяющих себе отклонение от конвенции для защиты
своего личного пространства, а иногда осуждает их. В целом в
произведениях Бестужева анализируются бретёрский менталитет его
поколения и одержимость идеей физической
неприкосновенности.
Будучи писателем-романтиком, Бестужев не только
проповедовал определенный образ жизни, но и жил сообразно тому,
что проповедовал. Его жизнь была полна событиями и
приключениями, а его таланты и интересы — удивительно
разнообразны. В начале 1820-х годов Бестужев совмещал успешную
военную карьеру с различными видами литературной
деятельности, будучи одним из наиболее влиятельных литературных
критиков того времени, а также многообещающим поэтом и
прозаиком. В то же время Бестужев играл заметную роль в
заговоре декабристов и был активным участником событий
14 декабря, за что был сначала сослан в Якутск, а позднее
переведен рядовым на Кавказ. Кроме литературы и политики в
круг интересов Бестужева входили также история, этнография
и лингвистика. Он не только знал несколько европейских
языков, но и неплохо говорил по-эстонски, а также по-якутски
и на языках кавказских народов, среди которых ему пришлось
жить после перевода на Кавказ.
Яркая личность и бурная жизнь Бестужева породили
множество слухов и легенд. Многие из них касались его жизни на
Кавказе и особенно его смерти. В легендах он изображался как
человек, имевший исключительный успех у женщин, как у
русских, так и у жительниц Кавказа. Ему также приписывали
необыкновенную храбрость и удивительную военную хитрость.
Его уникальные способности к языкам и экзотическая
внешность якобы позволяли ему жить среди врагов в качестве
разведчика, а иногда и в качестве союзника. После своей смерти
в бою в июне 1837 года Бестужев стал в памяти русской
культуры одной из тех фигур, о которых, вопреки очевидности,
ходят слухи, что на самом деле они избежали смерти и
продолжают земное существование не менее энергично, чем прежде.
«Посмертная» жизнь Бестужева полна страстными романами и
удивительными военными подвигами'.
156 И. Рейфман. Ршпуализованная агрессия
Бестужев погиб менее чем через полгода после смерти
Пушкина, и в массовом сознании возникла ассоциация между
трагическими смертями двух писателей. Так, один из
современников оплакивает «трех великих Александров» — Александра I,
Александра Пушкина и Александра Бестужева-Марлинского2.
Сам Бестужев также интерпретировал смерть Пушкина как
предзнаменование собственной смерти в письме брату П.А.
Бестужеву от 23 февраля 1837 года: «Да, я чувствую, что моя смерть
тоже будет насильственной и необычной, что она уже
недалеко— во мне слишком много горячей крови, крови, которая
кипит в моих жилах, слишком много, чтобы ее оледенила
старость. Я молю только об одном — чтобы не погибнуть
простертым на ложе страданий или в поединке — а в остальном да
свершится воля провидения!» (Бестужев, II: 674]. Интересно, что,
несмотря на высказанное нежелание погибнуть на дуэли,
Бестужев тут же клянется вызвать Дантеса, чтобы отомстить за
смерть национального поэта России: «Пусть он знает (свидетель
Бог, что я не шучу), что при первой же нашей встрече один
из нас не вернется живым» [Бестужев, II: 674].
Легендарная личность Бестужева естественным образом
связывалась с идеей дуэли. Одна из легенд о смерти Бестужева —
впрочем, не самая популярная — даже утверждала, что он был
убит на дуэли ревнивым мужем одной из его возлюбленных3.
Такая легенда, несмотря на ее заведомую недостоверность,
подходит человеку, который не только изображал дуэли в своих
произведениях, но и сам участвовал в нескольких поединках.
Информация о дуэлях Бестужева фрагментарна, но и из
отрывочных сведений складывается образ опытного и
бесстрашного дуэлянта. Младший брат Бестужева Михаил
предполагает, что его любовь к шуткам и розыгрышам стала причиной его
первой дуэли: «Однажды эта слабость едва не стоила ему
жизни, когда, будучи уже в лейб-гвардии драгунском полку, он
изобразил все общество офицеров в карикатурном виде птиц и
животных; все, узнавая себя, смеялись; только один,
представленный в виде индейского петуха, обиделся за шутку, — и они
стрелялись»4. Михаил Бестужев упоминает еще о двух дуэлях,
на которых дрался его брат: «Вторая его дуэль была затеяна из-
за танцев. Третья — с инженерным штаб-офицером,
находившимся при герцоге Виртембергском <...>, и брат был вызван
им за какое-то слово, понятое оскорбительным»5. Их сестра,
Елена Бестужева, сообщает, что Александр все три раза
стрелял в воздух. Если это правда, то выстраивается образ
человека, желающего скорее подвергнуться ненужной опасности, а
не убить6.
Глава 5. Александр Бестужев-Марлинский... 157
Михаил также рассказывает о том, как едва не состоялась
дуэль между Бестужевым и Павлом Катениным, которого
Бестужев раскритиковал за перевод трагедии Расина «Эсфирь*:
«Второе его произведение "Критика на перевод Катенина —
«Эсфирь»" чуть не вовлекло его в дуэль с переводчиком»7.
Бестужев также пытался, но не смог добиться дуэли с Филиппом
фон Дезином, сослуживцем другого брата Бестужева,
Николая. Михаил Бестужев сообщает: «Отставной флотский офицер
фон-Дезин, муж премиленькой жены своей, воспитанницы
Смольного монастыря и подружки одной из моих сестер,
вышедшей с нею в тот же год, приревновал брата Александра и,
вместо того, чтобы рассчитаться с братом, наговорил
матушке при выходе из церкви дерзостей. Брат вызвал его на дуэль —
он отказался»8. Это был тот самый конфликт, в котором
Рылеев помог Бестужеву проучить колеблющегося дуэлянта,
плюнув ему в лицо и ударив по нему хлыстом9. Рылеев и Бестужев
вместе участвовали в еще нескольких конфликтах чести.
Бестужев был секундантом Рылеева в его дуэли 1824 года с князем
Шаховским. И Бестужев, и Рылеев играли активную роль в
дуэли Чернова с Новосильцевым. Рылеев, двоюродный брат
Чернова, был его секундантом; Бестужев участвовал в дуэли
неформально, но очень энергично. Считается, что именно им
написано письмо, в котором Чернов объяснял причину и
важность конфликта: оно написано рукой Бестужева и отмечено
особенностями его стиля.
Бестужев участвовал в поединках, не просто следуя моде.
Он относился к дуэли серьезно, как к средству
формулирования понятия личности и ее прав. Бестужев разделял мнение
Рылеева относительно равенства всех дворян перед лицом
кодекса чести независимо от их социального статуса, богатства и
чинов. Этот взгляд ясно выражен в письме, написанном им от
лица Чернова: «Пусть паду я, но пусть падет и он, в пример
жалким гордецам, и чтобы золото и знатный род не
насмехались над невинностью и благородством души»10. Бестужев и
другие бретёры его поколения пытались придать кодексу чести
форму института, охраняющего личность. Поскольку они
делали это в контексте противостояния богатому и политически
сильному крылу русского дворянства, их эгалитаризм
способствовал формированию идеи личных прав вообще. Этот взгляд
отражен и развит в литературных произведениях Бестужева.
Творческий путь Бестужева разделяется на два периода: до
декабрьского восстания и после него. В первый период он был
известен прежде всего как влиятельный литературный критик
и издатель (вместе с Рылеевым) альманаха «Полярная звезда».
158 //. Рейфман. Ритуализованиая агрессия
Его поэзия и проза только еще начинали получать признание.
Лишь произведения, написанные после 1825 года и
напечатанные в конце 1820-х— начале 1830-х годов, принесли ему
известность и репутацию лучшего русского прозаика. Слава его была
громкой, но недолгой. В 1830-е годы читатели и
литературные критики ценили его произведения выше прозы Пушкина.
Молодой Тургенев вспоминал, что он восторженно «целовал
имя Марлинского на обертке журнала» (письмо Л.Н.
Толстому от 16/28 декабря 1856 г. (Тургенев, III (письма): 621,
выделено Тургеневым). Однако уже в начале 1840-х годов нападки
Белинского на стиль Марлинского (который он иронически
называл марлинщиной) как на выражение «ложного
романтизма» способствовали снижению популярности писателя. К
середине века проза Марлинского уже ассоциировалась с
безвкусицей, а стиль— с помпезностью. Аполлон Григорьев,
признавая привлекательные стороны прозы Бестужева,
высмеивал стиль писателя, «с шумихой его фраз, с
насильственными порывами безумной страстности — совершенно не нужной,
потому что у него было достаточно настоящей страстности; с
детскими промахами и широкими замашками, с зародышами
глубоких мыслей...»11. Достоевский пародировал
Марлинского в повести конца 1840-х годов «Роман в девяти письмах».
Позже, в 1876 году, в черновиках «Дневника писателя» он
использовал уничижительный эпитет «марлинщина» для
характеристики чрезмерно напыщенного стиля вообще
[Достоевский, XXIII: 165]. К концу XIX века слава Бестужева полностью
угасла.
Несмотря на краткость славы Бестужева, его произведения
оказали значительное воздействие на литературную традицию:
Пушкин и Лермонтов, Гончаров и Тургенев, Толстой и
Достоевский — все испытали его влияние. В этом смысле
Белинский был прав, назвав Бестужева в статье «О русской повести
и повестях г. Гоголя ("Арабески" и "Миргород")»
«зачинщиком русской повести» [Белинский, I: 272J12. Дуэльная тема
представляет наиболее значительный вклад Бестужева в русскую
прозу. Унаследовав эту тему от русских сентименталистов, он
сделал ее одной из самых важных в русской литературе и
передал ее своим современникам и последующим поколениям
русских писателей. Пользуясь возможностями дуэльной темы как
сюжетообразующего элемента, Бестужев тем не менее главным
образом сосредоточился на значимости дуэли как
полисемантичного культурного явления, требующего глубинного
исследования. Этот подход унаследовали от него позднейшие
авторы, обращавшиеся к теме дуэли.
Глава 5. Александр Бестужев-Марлинский... 159
Интерес Бестужева к дуэли питался литературной
традицией, как отечественной (сентименталисты), так и западной
(прежде всего Вальтер Скотт и Байрон)13. Однако сильнейший
импульс давали реальные дуэли того времени и личный
дуэльный опыт. Русские дуэлянты начала XIX века вовлекались в
безрассудные поединки, гибель в которых была весьма
вероятна. Они видели, как умирали их друзья, убивали (или могли
убить) сами и лично знали убивших на дуэли. Таким образом,
они испытывали на личном опыте деструктивную силу дуэли.
Тем не менее они не только принимали дуэль, но и
культивировали ее в наиболее жестоких формах, не задаваясь, как
кажется, вопросом о моральных дилеммах, которые она
ставила, и даже о ее практической пользе. Однако в литературе
носители дуэльной традиции — и Бестужев в первую очередь —
не просто пропагандировали дуэль как средство охраны личного
пространства, но и исследовали ее сомнительную
нравственную ценность и ограниченность ее возможностей.
Бестужев изображал дуэли в жанрах исторической и
светской повести. Его исторические повести обычно подразделяются
на два цикла — «русский» (о Древней Руси) и «ливонский» (о
средневековой Прибалтике). Только в одной из «русских»
повестей Бестужева, «Наезды» (1831), действие которой
происходит в 1613 году в Польше, изображается дуэль. Напротив, в
населенных немецкими рыцарями «ливонских» повестях,
действие которых происходит в Средние века, конфликты чести
изображаются с большой регулярностью. В «ливонских»
повестях все столкновения происходят между рыцарями высокого
ранга и людьми, стоящими ниже их на социальной лестнице, —
простым рыцарем, благородным пленником, даже
простолюдином. Автор неизменно выступает за право нижестоящих на
поединок с вышестоящими.
В первой «ливонской» повести Бестужева, «Замок Венден
(Отрывок из дневника гвардейского офицера)», написанной в
1821 году и впервые напечатанной в 1823-м, могущественный
магистр Винно фон Рорбах ссорится с рыцарем Вигбертом фон
Серратом. Рорбах игнорирует требование Серрата признать его
независимость и его право защищать своих вассалов, требуя,
чтобы и Серрат, и его вассалы считали его своим господином.
Когда Серрат протестует, Рорбах бьет его хлыстом, явно
желая таким образом присвоить ему низший статус: «"Подлец! —
вскричал он в запальчивости, — за твою дерзость, за твои
мнения ты стоишь рабского наказания". С сим словом он ударил
бичом безоружного Вигберта». Чтобы восстановить поруганную
честь, Серрат требует поединка. Он посылает вызов Рорбаху,
160 И. Рейфман. Ритуализованная агрессия
но Рорбах отказывается принять его, ссылаясь на низший
статус Серрата, а также намекая на удар хлыстом, который тот
получил: «Мне низко нагибаться за твоей перчаткой. <...>
Поезжай лучше, Серрат, в Литву, искать по себе сопротивников;
там, говорят, за битого двух небитых дают». Предвидя отказ
Рорбаха, Серрат в своем вызове предупредил его: «Берегись
отвергнуть бой честный: кто обижает и не дает ответа копьем,
тот стоит смерти разбойника. В случае отказа — клянусь чес-
тию рыцарскою — последняя капля крови Рорбахов застынет на
моем кинжале» [Бестужев, I: 411. Получив отказ, Серрат
прокрадывается ночью в замок Рорбаха и убивает обидчика
кинжалом, за что его хватают и казнят.
Рассказчик Бестужева ясно видит преступный характер
действий Серрата (в одном месте кинжал Серрата назван
«убийственным»), но, очевидно, разделяет убеждение Серрата, что
убить и быть казненным — меньший позор, чем неотомщенное
бесчестье: «Пусть умру я на плахе убийцею; зато щит мой не
задернется бесчестным флером на турнирах и мой сын, не
краснея за трусость отца, поднимет наличник для получения
награды» [Бестужев, I: 45). Принципиально важно, что Серрат
выстраивает убийство по модели дуэли: он вызывает Рорбаха,
предупреждает о намерении убить его, будит Рорбаха, прежде
чем напасть на него, тем самым давая ему честный шанс на
самозащиту, и при нападении использует благородное оружие.
Представляя нападение Серрата на Рорбаха как суррогат
дуэли, Бестужев защищает репутацию своего героя как человека
чести. Более того, для оправдания действий своего персонажа
он придает нападению Серрата на Рорбаха политический
оттенок, слышный во фразе: «Кровь Рорбаха оросила помост».
Помост — место публичных казней, и его появление в
повествовании никак не мотивировано. Как кажется, он присутствует
здесь исключительно как политический символ. Смерть
Серрата изображается как казнь политического преступника,
убившего тирана, а не простого головореза: «Не стало магистра, но
власть его осталась, и самосудный убийца, растерзанный
муками, погиб на колесе» [Бестужев, I: 45|.
Право простолюдина вызвать благородного рыцаря на
поединок вновь утверждается Бестужевым в его следующей
«ливонской» повести, «Ревельский турнир» (1825)14. Действие
повести происходит в 1538 году. В основе ее конфликта —
социальное неравенство: Эдвин, ревельский купец, влюбляется
в Минну, дочь барона Бернгарда фон Буртнека. Минна
предпочитает красивого, образованного и чувствительного Эдвина
грубому и напыщенному рыцарю Доннербацу. Фон Буртнек
Глава 5. Александр Бестужев-Маржиский... 161
обещает руку Минны тому, который победит его врага, фрей-
гера Унгерна, на предстоящем турнире. Эдвин, как
простолюдин, таким образом не может участвовать в состязании за
руку Минны. Он решает бежать и пишет Минне письмо, в
котором объя&1яет о своем отъезде. Однако он оказывается не
таким пассивным, как его литературный предшественник-—
самоубийца из повести Клушина. Он решает бороться за свое
счастье: переодевается рыцарем, вызывает Унгерна на турнир
и побеждает его. Барон фон Буртнек оказывается в
затруднении: данное им слово обязывает его выдать дочь за победителя
Унгерна, но принять купца в зятья — большое бесчестье. Ни
богатство Эдвина, ни его победа в турнире, положившая
конец незаконным притязаниям Унгерна на земли фон Буртне-
ка, ни звание командора Черноголовых, местной купеческой
гильдии, полученное Эдвином от собратьев-купцов за его
подвиг, — ничто не может поколебать барона в его предрассудках.
К счастью, фон Буртнек не настолько одержим идеей чести,
как герой «Франца» Бернгейм. Более того, он любящий и
чувствительный отец, способный сострадать, и поэтому мольбы
Минны принуждают его дать согласие на брак. Таким образом,
поединок дал Эдвину возможность утвердить свое равноправие.
В последней «ливонской» повести Бестужева «Замок Эйзен»
вновь изображается конфликт между двумя социально
неравными противниками15. Как и в «Замке Венден», это конфликт по
поводу физической неприкосновенности. Злонравный барон
Бруно фон Эйзен жестоко притесняет всех окружающих,
включая и своего племянника Регинальда. Бруно отбирает у Реги-
нальда невесту Луизу и сам женится на ней. Позднее он
приказывает племяннику совершить жестокий поступок, а когда
Регинальд отказывается, угрожает ему физической расправой:
«Молчи, мальчишка... или я эту железную перчатку велю вбить
тебе в рот... Прочь, или я, как последнего конюха, высеку тебя
путлищами»16 [Бестужев, I: 161]. Придя в ярость, Регинальд
хочет стрелять в Бруно из лука, но по приказу дядюшки его
хватают и заключают в темницу.
В отсутствие Бруно, отправившегося грабить
путешествующих русских купцов, Луиза освобождает Регинальда, и они
становятся любовниками. По возвращении Бруно находит их
целующимися в лесу и нападает на Регинальда. Регинальд
защищается и оглушает Бруно ударом по голове. Затем он
связывает его и убивает, несмотря на мольбы Бруно о пощаде и
заступничество Луизы. При всем том, что Бруно—
отъявленный негодяй, не оставивший своему убийце другого выбора,
автор повести не одобряет поведение Регинальда. В отличие
6. Заказ №2522
162 //. Рейфман. Ритуализтанпая агрессия
отСеррата, имитирующего дуэль, Регинальд убивает
беззащитного. Это различие оказывается решающим: рассказчик
осуждает Регинальда за эгоистические чувства, побудившие его убить
врага без суда и следствия: «Бруно погиб — и дельно: он был
виноват; да только правы ли его убийцы? <...> Есть ли тут
чистота в причинах, стало быть надежда к оправданию? Он
избавил околоток от злодея, зато подарил ему урок в
преступлении. Притом же он был против дяди много виноват... Да и
кровь родного, право, не шутка!» [Бестужев, F: 166].
Регинальд и Луиза наказаны за свое преступление: когда они
подходят к алтарю, чтобы обвенчаться, дух Бруно (в
действительности его давно пропавший брат-близнец) въезжает в
церковь на черном коне, затаптывает Регинальда и похищает
Луизу, которую затем погребает заживо. Рассказчик признает
справедливость этой ужасной казни, причем его странная
логика косвенным образом оправдывает дуэль: «Кажись, всех
менее была виновата Луиза, и всех более пострадала. Однако,
Бог знает, что делает. Кровь на мужчине часто смывает его
прежние пятна, а на женщине, почитай, всегда хуже
каиновой печати»17 [Бестужев, I: 168]. Наказание Каина состоит в
том, что он не может быть убит и, следовательно, подобно
женщине, не имеющей права на дуэль, не может искупить своего
бесчестия, глядя в лицо смерти. Таким образом, в повести
осуждается как тирания, так и эгоистические побуждения,
стоящие за бунтом Регинальда против дядюшки и
предательством Луизой мужа.
При всем своем средневековом флере конфликты чести,
изображаемые Бестужевым в «ливонских» повестях, являются
замаскированными аллюзиями на русскую действительность
начала XIX века. Более конкретно, Бестужева интересовал
антагонизм между средним дворянством, представители
которого пытались утвердить свой статус с помощью дуэли, и
влиятельными и сильными верхами дворянства, смотревшими
свысока на своих политически бессильных собратьев.
Воспроизведение истории не входило в задачу Бестужева. Скорее он
использовал ее как эффектный фон для изображения явления,
представлявшегося ему вневременным общечеловеческим
конфликтом, но бывшим в действительности лишь полемикой его
времени, для которой он искал исторического прецедента18.
Очевидно, цензоры 1820-х годов интуитивно чувствовали, что
Бестужев имеет в виду современность, и потому нередко
препятствовали публикации его повестей. Так, например,
московские цензоры первоначально запретили публикацию «Замка
Венлен»19.
Глава 5. Александр Бестужев-Марлинскии... 163
Наполненные аллюзиями на споры его времени повести
Бестужева не только отражают реальные события, но часто
предвосхищают их. Бедственное положение Серрата, вызов
которого отказывается принимать Рорбах, предвосхищает
аналогичные затруднения Рылеева, Константина Чернова и самого
Бестужева. Нападения Павлова и Александра Чернова на
своих обидчиков напоминают убийства, совершаемые Серратом и
Регинальдом. Нежелание Бернгарда фон Буртнека принять
простолюдина в качестве зятя сходно с нежеланием
Новосильцевой иметь невесткой неровню.
Бестужев явно рассчитывал на то, что его повести будут
читаться в контексте современной ему русской
действительности. Этому помогают некоторые нарративные приемы.
Например, рассказчики Бестужева всегда близки читателю по возрасту
и статусу и отлично разбираются в кодексе чести.
Излюбленный рассказчик Бестужева в его ранних повестях— молодой
гвардейский офицер, похожий на самого Бестужева и его
друзей. От лица этого героя рассказывается повесть «Замок Вен-
ден», имеющая подзаголовок «Отрывок из дневника
гвардейского офицера». Знаменательно, что рассказчик у Бестужева не
только пересказывает события, но и дает оценку поведению
персонажей, особенно их поступкам в ситуациях,
касающихся чести. Так, например, в конце повести «Замок Венден» он
предлагает читателю интерпретацию поведения Серрата:
«Ненавижу в Серрате злодея; но могу ли вовсе отказать в
сострадании несчастному, увлеченному духом варварского времени,
силою овладевшего им отчаяния?..» 1Бестужев, I: 45|.
Аналогичным образом в повести «Замок Эйзен» рассказчик, ведущий
повествование от первого лица и воспринимаемый читателями
как их современник, выносит по поводу действий героев
суждения, придающие повести злободневный характер.
Читатели исторических повестей Бестужева без труда
понимали его намеки и расшифровывали аллюзии. Так, первые
читатели «Замка Эйзен» не только интерпретировали его как
тираноборческое произведение, но даже считали Александра
Якубовича, знаменитого бретёра и добровольного
претендента на роль убийцы Александра I, прототипом Регинальда.
Степан Нечаев писал Бестужеву в ноябре 1825 года: «Давыдов
догадывается, что "Кровь за кровь" родом с Кавказа. Якубович
был твоею музою. Пожми за меня богатырскую его руку»20.
Любопытно, что читатели Бестужева одобряли убийство
Регинальдом жестокого тирана с ббльшим энтузиазмом, чем сам
Бестужев, который подверг сомнению эгоистичные мотивы
своего героя (а тем самым и Якубовича).
6*
162 Я. Рейфман. Ритуализованная агрессия
отСеррата, имитирующего дуэль, Регинальд убивает
беззащитного. Это различие оказывается решающим: рассказчик
осуждает Регинальда за эгоистические чувства, побудившие его убить
врага без суда и следствия: «Бруно погиб— и дельно: он был
виноват; да только правы ли его убийцы? <...> Есть ли тут
чистота в причинах, стало быть надежда к оправданию? Он
избавил околоток от злодея, зато подарил ему урок в
преступлении. Притом же он был против дяди много виноват... Да и
кровь родного, право, не шутка!» [Бестужев, I: 166].
Регинальд и Луиза наказаны за свое преступление: когда они
подходят к алтарю, чтобы обвенчаться, дух Бруно (в
действительности его давно пропавший брат-близнец) въезжает в
церковь на черном коне, затаптывает Регинальда и похищает
Луизу, которую затем погребает заживо. Рассказчик признает
справедливость этой ужасной казни, причем его странная
логика косвенным образом оправдывает дуэль: «Кажись, всех
менее была виновата Луиза, и всех более пострадала. Однако,
Бог знает, что делает. Кровь на мужчине часто смывает его
прежние пятна, а на женщине, почитай, всегда хуже
каиновой печати»17 [Бестужев, I: 168]. Наказание Каина состоит в
том, что он не может быть убит и, следовательно, подобно
женщине, не имеющей права на дуэль, не может искупить своего
бесчестия, глядя в лицо смерти. Таким образом, в повести
осуждается как тирания, так и эгоистические побуждения,
стоящие за бунтом Регинальда против дядюшки и
предательством Луизой мужа.
При всем своем средневековом флере конфликты чести,
изображаемые Бестужевым в «ливонских» повестях, являются
замаскированными аллюзиями на русскую действительность
начала XIX века. Более конкретно, Бестужева интересовал
антагонизм между средним дворянством, представители
которого пытались утвердить свой статус с помощью дуэли, и
влиятельными и сильными верхами дворянства, смотревшими
свысока на своих политически бессильных собратьев.
Воспроизведение истории не входило в задачу Бестужева. Скорее он
использовал ее как эффектный фон для изображения явления,
представлявшегося ему вневременным общечеловеческим
конфликтом, но бывшим в действительности лишь полемикой его
времени, для которой он искал исторического прецедента18.
Очевидно, цензоры 1820-х годов интуитивно чувствовали, что
Бестужев имеет в виду современность, и потому нередко
препятствовали публикации его повестей. Так, например,
московские цензоры первоначально запретили публикацию «Замка
Венден»19.
Глава 5. Александр Бестужев-Мармшскии... 163
Наполненные аллюзиями на споры его времени повести
Бестужева не только отражают реальные события, но часто
предвосхищают их. Бедственное положение Серрата, вызов
которого отказывается принимать Рорбах, предвосхищает
аналогичные затруднения Рылеева, Константина Чернова и самого
Бестужева. Нападения Павлова и Александра Чернова на
своих обидчиков напоминают убийства, совершаемые Серратом и
Регинальдом. Нежелание Бернгарда фон Буртнека принять
простолюдина в качестве зятя сходно с нежеланием
Новосильцевой иметь невесткой неровню.
Бестужев явно рассчитывал на то, что его повести будут
читаться в контексте современной ему русской
действительности. Этому помогают некоторые нарративные приемы.
Например, рассказчики Бестужева всегда близки читателю по возрасту
и статусу и отлично разбираются в кодексе чести.
Излюбленный рассказчик Бестужева в его ранних повестях— молодой
гвардейский офицер, похожий на самого Бестужева и его
друзей. От лица этого героя рассказывается повесть «Замок Вен-
ден», имеющая подзаголовок «Отрывок из дневника
гвардейского офицера». Знаменательно, что рассказчик у Бестужева не
только пересказывает события, но и дает оценку поведению
персонажей, особенно их поступкам в ситуациях,
касающихся чести. Так, например, в конце повести «Замок Венден» он
предлагает читателю интерпретацию поведения Серрата:
«Ненавижу в Серрате злодея; но могу ли вовсе отказать в
сострадании несчастному, увлеченному духом варварского времени,
силою овладевшего им отчаяния?..» [Бестужев, I: 45|.
Аналогичным образом в повести «Замок Эйзен» рассказчик, ведущий
повествование от первого лица и воспринимаемый читателями
как их современник, выносит по поводу действий героев
суждения, придающие повести злободневный характер.
Читатели исторических повестей Бестужева без труда
понимали его намеки и расшифровывали аллюзии. Так, первые
читатели «Замка Эйзен» не только интерпретировали его как
тираноборческое произведение, но даже считали Александра
Якубовича, знаменитого бретёра и добровольного
претендента на роль убийцы Александра I, прототипом Регинальда.
Степан Нечаев писал Бестужеву в ноябре 1825 года: «Давыдов
догадывается, что "Кровь за кровь" родом с Кавказа. Якубович
был твоею музою. Пожми за меня богатырскую его руку»20.
Любопытно, что читатели Бестужева одобряли убийство
Регинальдом жестокого тирана с большим энтузиазмом, чем сам
Бестужев, который подверг сомнению эгоистичные мотивы
своего героя (а тем самым и Якубовича).
6*
164 //. Рейфман. Ритуализованная агрессия
Читателям Бестужева особенно легко было опознать
дуэльную проблематику в ее средневековом обличье, поскольку
автор одновременно писал и светские повести на дуэльную тему,
действие которых происходило в современную ему эпоху. В
отличие от «ливонских» повестей, фокусом которых было право
дворянина на поединок, светские повести Бестужева, можно
сказать, препарировали дуэль, исследуя ее ритуал, ее
последствия и границы ее возможностей. Таким образом, светские
повести Бестужева предлагают гораздо более сложный и даже
противоречивый взгляд на дуэль, чем исторические повести.
Давая детальные описания дуэльного ритуала, Бестужев учит
читателей правилам проведения дуэли. В то же время он
исследует и отрицательные стороны дуэли, предполагая
возможность — и даже необходимость— поиска путей выхода из
дуэльных ситуаций. Касается он также и проблемы отказа от дуэли
с недостойным противником.
Первая светская повесть Бестужева, в которой изображается
дуэль, — вставная новелла в путевых заметках 1821 года
«Поездка в Ревель»21. Новелла содержит два необычных элемента:
студенческую дуэль и прекращение уже начавшейся дуэли. И то
и другое может объясняться тем, что действие рассказа
происходит в Германии. Главный герой, обрусевший немец по имени
Евгений Крон, обучается в Гейдельберге и следует всем
условностям правильного поведения студента: пьет, дебоширит и
участвует в дуэлях. В итоге его исключают из университета
вместе с его лучшим другом и товарищем — дуэлянтом
бароном Эренсом. Перед разлукой друзья обмениваются шпагами,
на которых выгравирована французская надпись: «Истинному
другу». Несколько лет спустя эта надпись предотвращает
убийство друзьями друг друга на дуэли за честь сестры барона.
История заканчивается хорошо: старые друзья примиряются, и
Евгений женится на Эмме Эренс.
Казалось бы, нет причин подвергать сомнению поведение
примиряющихся дуэлянтов: это старые друзья, а причина
дуэли тривиальна (Евгений целует руку Эммы, не будучи
представленным). Однако автор заботится о том, чтобы читатели не
усомнились в мужестве героев. Оба они — участники
наполеоновских войн; оба выглядят безукоризненными дуэлянтами.
Чтобы подчеркнуть их мужество, Бестужев заставляет их драться
на пистолетах на расстоянии шести шагов с неограниченным
количеством выстрелов. Они не ищут примирения: только по
случайности они используют шпаги, чтобы отметить барьер,
и тогда они замечают надписи, узнают друг друга и
примиряются. Тем не менее эта повесть стоит особняком в творчестве
Глава 5. Александр Бестужев-Марлинский... 165
Бестужева. Позволяя своим героям помириться, автор не
задает вопросов, не выражает сомнений, никак не
комментирует их поведение. Он преподносит примирение как нормальное:
«Нужно ли сказывать, что мы бросились друг к другу в
объятия, и дуэль была забыта». Еще более важно, что автор не
обсуждает впечатление, произведенное поступком Евгения и
барона на других: не комментируется ни реакция секундантов, ни
реакция слушателей, которым Евгений рассказывает эту
историю несколько лет спустя. Таким образом, в данном
произведении Бестужев игнорирует проблему ложно понимаемой
чести и связанный с ней вопрос о позволительности, а иногда и
необходимости, воздержания от дуэли. Во всех его
последующих светских повестях вопрос о том, допустимо ли
прекращение дуэли по какой-либо причине — будь то моральные
сомнения, дружба между противниками или даже серьезная рана
одного из участников, — займет важнейшее место.
«Вечер на бивуаке» (1823), как и многие другие повести
Бестужева, является рассказом в рассказе, вложенным в уста
подполковника Мечина и обращенным к его друзьям-офицерам во
время отдыха после сражения. Для поучения своих молодых
товарищей Мечин рассказывает грустную историю своей
страсти к прекрасной княжне Софии. София, душа высшего
петербургского света, как будто бы отвечает Мечину
взаимностью, и молодой офицер собирается сделать предложение.
Однако друг Мечина, Владов, предостерегает его от выбора
невесты из высшего общества, характеризуя Софию как
испорченную кокетку. Действительно, чувства Софии к Мечину
оказываются скоротечными: пока он оправляется от раны,
полученной на дуэли за ее честь, она сближается с его
противником и вскоре выходит за него замуж. Этот брак сразу же
оборачивается катастрофой: молодой человек, женившись на
ней только ради денег, вскоре оставляет ее. София умирает от
чахотки, но перед смертью успевает встретиться с Мечиным и
получить его прощение.
Рассказ Мечина представлен как история его любви к
Софии, но описание дуэли с его соперником, «одним
капитаном», едва ли не более важно. Их конфликт завязывается на
балу, после того как Мечин слышит неуважительное
высказывание капитана о Софии, отказавшейся с ним танцевать.
Мечин чувствует себя обязанным вступиться за честь Софии и
вызывает капитана на дуэль. Обидчик колеблется, но вынужден
принять вызов. Условия поединка чрезвычайно жестоки, не
столько из-за серьезности конфликта, сколько из принципа.
Как говорит Мечин, «я не охотник до пробочных дуэлей: мы
166 И. Рейфман. Ритуализованная агрессия
стрелялись на пяти шагах, и первый его выстрел, по жеребью,
положил меня замертво»22. Оправившись от раны и узнав, что
София выходит замуж за его противника, Мечин принимает
решение заявить о своем праве на выстрел: «Я поклялся
застрелить его по праву дуэли (за ним оставался еще мой выстрел)».
Однако Владов устраивает отсылку Мечина с поручением в
действующую армию, где он и остается, храбро сражаясь, но
продолжая грустить и подумывать о самоубийстве. Только
чуткая опека Владова помогает ему постепенно оправиться.
Кажется, что Мечин должен быть благодарен своему другу, но
достоин ли он благодарности? Что думает Мечин о своем
неиспользованном праве на выстрел, встретив Софию на
кавказском курорте, сокрушенную низким поведением мужа,
раскаявшуюся и умирающую? «Друзья! Друзья! Я перенес много
страданий, но ни одно мученье в мире не сравнится с мукою —
видеть умирающую любезную; ужасно и вспомнить... София
умерла на руках моих!» [Бестужев, I: 51, 52, 54]. Мечину не
удается закончить свой рассказ: сперва его захлестывают
чувства, а затем возобновляется бой. Таким образом, Бестужев
дает читателям возможность делать собственные выводы о роли
Владова и оценке ее Мечиным.
Помимо советов о любви Мечин предлагает своим
слушателям несколько уроков проведения дуэли. Он наставляет своих
юных друзей относительно тонкостей дуэльного поведения:
объясняет, когда нужно вызывать обидчика («Кто
осмеливается обидеть даму, возлагает на ее кавалера обязанность мстить
за нее») и как следует формулировать вызов («Вы должны
просить на коленях прощение у моей дамы, или завтра в десять
часов волею или неволею увидитесь со мною на Охте»). Он учит
их не принимать участия в «пробочных дуэлях». Наконец,
рассказ Мечина поднимает вопрос об эффективности дуэли в
решении некоторого рода конфликтов. Сначала, кажется, он,
а с ним и его слушатели должны согласиться с мнением
Владова о том, что дуэль не сделает его счастливее, поскольку его
несчастье вызвано неверностью Софии, а не действиями
соперника: «[П]ризнайся сам: стоит ли пороху твой противник?
стоит ли шуму твоя любезная, избравшая в женихи человека без
чести и правил, потому только, что он в тоне <...>?»
(Бестужев, I: 50—52]. Однако трагический финал подрывает
рассуждения Владова и таким образом предлагает еще один урок,
возможно наиболее важный и в то же время наиболее
сомнительный: выясняется, что конфликт чести всегда нужно
доводить до конца. Мечин был обязан использовать свое право на
выстрел, убить соперника и таким образом защитить Софию.
Глава 5. Александр Бестужев-Марлинский... 167
Более того, мотивы Владова подозрительны, поскольку у пего
есть свои причины не любить Софию. Из другой повести,
«Второй вечер на бивуаке», также напечатанной в 1823 году, читатель
может узнать, что Владов стал женоненавистником, пережив
ситуацию, сходную с опытом Мечина: «Друг! это опрокинуло
мою нравственность; я безумствовал, и с этих пор
возненавидел женщин» [Бестужев, I: 65].
Бестужев, таким образом, дискредитирует совет Владова
отказаться от выстрела, хотя заявление о праве на выстрел после
ухода с места поединка нарушает все правила дуэли23. Чем
объясняется такая позиция Бестужева? А.В. Востри ков
объясняет намерение Мечина потребовать своего выстрела в обход
всех правил бретёрским менталитетом героя, ссылаясь на
склонность бретёров экспериментировать с дуэльным кодексом —
пусть даже в ущерб моральным принципам. Однако
исследователь преуменьшает серьезность задуманного Мечиным
нарушения ритуала, отмечая, что Бестужев «обходит противоречие,
кажется, даже не заметив его»24. В это трудно поверить. В
конце концов, Бестужев и его друзья не просто практиковали
сомнительное дуэльное поведение, но и придавали ему
идеологическую значимость. «Исключительную дуэль» они
культивировали умышленно. Бестужев и Рылеев подстрекали
Константина Чернова, хвалили его семью за решение по очереди
противостоять Новосильцеву и открыто радовались трагическому
исходу дуэли — всё это потому, что дуэль для них была
заявлением дворянина на свое равенство с любым другим
дворянином. Рылеев и Бестужев были убеждены: чтобы добиться
равенства, человек должен делать на него серьезную заявку, даже
если при этом нарушается общепринятая мораль и не
соблюдается дуэльный кодекс.
Неприятное положение, в которое попал Мечин, имело
исторический прецедент, обеспечивавший повести Бестужева
идеологический подтекст. В 1807 году фрейлина Мария Ренне
разорвала свою помолвку с полковником Дмитрием Арсенье-
вым и вышла замуж за камергера графа Хребтовича. Арсеньев
дрался с Хребтовичем и был убит. Вот как Александр
Тургенев описывает это происшествие в письме Я.И. Булгакову:
«Нещасная история о дуэли г. Хребтовича с Арсеньевым
(полковником гвардии), из коих последний положен на месте,
конечно Вам уже известна; любовь и оскорбленное честолюбие
предпочтением другого по одному богатству была причиною
Арсеньева исступления; но, как по всему видно, мать невесты
не должна была подавать никакой надежды несчастному
любовнику. <...> Никто не мог отклонить Арсеньева от его намере-
168 И. Рейфман. Ритуализоватшя агрессия
ния. Он непременно хотел убить или быть убиту»2\ Булгаков
в своем письме сыну дает похожую версию этих событий: «Хреп-
тович, кажется, камергер, убил на дуэли Арсеньева,
полковника гвардии, за невесту, которая первого предпочла
второму. Сей будет погребен, а победитель ускакал. <...> Хрептович
прощен и женился на предмете драки, фрейлине Ренне»26.
Это событие во многом сходно с историей Мечина, и
прежде всего социальным неравенством соперников. Согласно
Табели о рангах Арсеньев и Хребтович равны (четвертый класс),
но престижный придворный титул и богатство давали
преимущество Хребтовичу. И Тургенев, и Булгаков подчеркивают его
социальное превосходство. Мечин также менее значительная
фигура в обществе, чем его соперник, поэтому мать Софии,
подобно матери Марии Ренне, и предпочитает последнего.
Владов, обращаясь к Мечину, отмечает, что «матушка ее
заметила лишний против твоего нуль в звончатых титулах»
соперника [Бестужев, I: 52].
И история Мечина, и конфликт Арсеньева с Хребтовичем
напоминают дуэль Чернова с Новосильцевым и другие дуэли
того времени, поводом к которым было неравенство статуса.
Тема неравенства объясняет логику Бестужева относительно
права Мечина на выстрел: тот, кто хочет утвердить
равноправие всех членов дворянского класса, может — и должен —
игнорировать условности дуэльной процедуры. Таким образом,
повесть Бестужева — не только о любви, но и о дуэли —
сложной и противоречивой проблеме его времени.
Пушкин продолжил тему эксперимента с дуэльным
кодексом в своем «Выстреле» и продемонстрировал, что подобные
эксперименты могут быть чреваты опасностями. Сильвио,
одержимый ненавистью к графу Б***, делает то, что Мечин
только лишь намеревается сделать. Однако он платит за это
дорогой ценой: в ожидании возобновления поединка с графом
Сильвио морально деградирует. Моральное банкротство
Сильвио очевидно: он не только позволяет пьяному офицеру
безнаказанно оскорблять его, но и, судя по хронологии
повествования, так сильно занят совершенствованием своего умения
стрелять в цель, что не удосуживается принять участие в войне
1812 года (а этот опыт во многом определил психологию
поколения бретёров)27. Оказавшись лицом к лицу с графом,
Сильвио осознает свою ошибку и удаляется искать смерти.
Подчеркивая важность кодекса чести и дуэли для защиты
права дворянина на равноправие, Бестужев тем не менее
далек от их идеализации. В своей следующей дуэльной повести
«Роман в семи письмах» (1824) он обращается к критике опре-
Глава 5. Александр Бестужев-Марлинскии... 169
деленных аспектов дуэли. В повести строго судится дуэль:
отмечается ее неспособность разрешать сложные психологические
конфликты, с трагической иронией изображается
безнадежность положения успешного дуэлянта, которого убийство
соперника превращает во врага своей возлюбленной и
вынуждает оплакивать убитого. В» этой повести также рассматривается
опасная способность дуэли навязывать дуэлянтам
автоматическое поведение. «Роман в семи письмах» — произведение с
более сложной психологической проблематикой, чем «Вечер на
бивуаке». В нем изображаются герои, которые переживают
противоречивые чувства и меняются в ходе повествования.
Сюжет этой эпистолярной повести напоминает историю
любви Мечина. Безымянный молодой офицер пишет своему
другу Жоржу о своей любви к Адели. Жорж, так же как и Вла-
дов, советует другу не иметь дело с девушкой из высшего
общества. Однако офицер верит, что она любит его, и не
слушает совета друга. Он собирается сделать предложение, но
внезапно обнаруживает, что Адель помолвлена с Эрастом. Впав
в отчаяние и ярость, герой решает вызвать Эраста на дуэль:
«Нет! Я не из тех людей, над которыми смеются
безнаказанно. Мне кровавыми слезами заплатит она за обман, если
сбудутся мои подозрения... и соперник мой скорее обручится с
мертвою пулею, чем с Аделью». При этом герой понимает, что
Адель может на самом деле любить Эраста, и тогда дуэль не
поможет ему завоевать ее любовь, но этот довод он отклоняет
по трем причинам: ревность («я ли потерплю, чтобы он с
усмешкой повел под венец ту, в которой любил я жизнь?
Чтобы предпочтенный мне унижал меня своими к ней ласками?»),
страх общественного порицания («чтобы гордость моя
ежеминутно язвилась двузначными взглядами, чтобы я стал басней
города... чтобы меня произвели в неудачные женихи?») и,
наконец, жажда мести («[Л]учше жить памятью мести, чем
иссыхать от мук ревности»)28.
Мотив неравенства отсутствует в «Романе в семи письмах».
Более того, Эраст в отличие от соперника Мечина вполне
порядочный человек. Он сочувствует бедственному положению
героя и ищет дружбы с ним. Герой тем не менее вызывает
его, но намеревается уступить противнику первый выстрел,
надеясь умереть, а не убить соперника: «Говорю — умру,
потому что я решился ждать выстрела... я его обидел». К
несчастью для героя, дуэль лишает человека свободы воли. Не
доходя до барьера, герой механически спускает курок и
убивает Эраста. В последнем письме к Жоржу он описывает
странную инерцию, овладевшую им: «Мы близились с двадца-
170 И. Рейфман. Ритуализованная агрессия
ти шагов, я шел твердо — ведь уже три пули просвистели
мимо этой головы — я шел твердо, но без всякой мысли, без
всякого намерения: скрытые в душе чувства совсем омрачили
мой разум. На шести шагах, не знаю отчего, не знаю как,
давнул я роковой шнеллер — и выстрел раздался в моем
сердце!..»29 Благородный Эраст умирает на глазах героя, успев,
однако, простить его перед смертью. Этот опыт заставляет
героя осознать тщетность и жестокость дуэли. Его мучат
совесть и кошмарные сны. Находясь под арестом, он мечтает
умереть: «О, кто избавит убийцу ненавистной жизни! Для чего
мы не на войне!., для чего не расстреляют меня!»30 Таким
образом, дуэль разрушительно воздействует на обоих
участников— и на жертву, и на убийцу.
Кающийся герой «Романа в семи письмах» определяет
руководившую им силу как «ложное честолюбие». Восставая против
ложного понимания чести, Бестужев следует традиции как
европейской критики дуэли, так и зарождающейся критики
русской. Однако в «Романе в семи письмах» Бестужев не предлагает
никаких практических шагов, необходимых для остановки
разворачивающегося поединка. Следуя Руссо, он подразумевает,
что достаточно осознать приносимое дуэлью зло, чтобы
преодолеть гипнотическое воздействие кодекса чести. Однако, как уже
говорилось раньше, уклонение от поединка не было популярно
среди русских дуэлянтов — как реальных, так и литературных —
прежде всего из-за того, что дуэль в России служила защитой
личных прав. Чтобы гарантировать выполнение этой функции,
было принципиально важно, чтобы каждая дуэль доводилась до
конца31. В то же время представление о том, что страх перед
общественным мнением и ложное чувство чести являются
причинами многих дуэлей, приводило к амбивалентному
изображению дуэли в литературе. Как раз в то время, когда дуэль в
России достигла апогея, русские писатели начали искать для своих
героев достойных путей*воздерживаться от поединков.
В «Евгении Онегине» Пушкин развивает тезис Бестужева
о зловещей власти кодекса чести над дуэлянтом. Однако он не
удовлетворен предложенным Бестужевым (а до него— Руссо)
слишком простым решением: отвергни ложное понимание
чести, и ты свободен действовать согласно своим убеждениям32.
Онегин еще лучше, чем герой Бестужева, понимает, что он не
должен принимать вызов Ленского, с самого начала ясно
отдавая себе отчет в том, что движим лишь ложным чувством
чести. Недаром бесчестный Зарецкий олицетворяет для него
общественное мнение. Тем не менее Онегин принимает вызов,
является на место дуэли и убивает своего молодого приятеля.
Глава 5. Александр Бестужев-Марлинский... 171
Неспособность Онегина действовать согласно своим убеждениям
демонстрирует всю трудность, даже невозможность остановить
развитие дела чести. По мнению Пушкина, если вызов сделан,
дуэль неизбежна33.
В свою очередь, Бестужев выразил недовольство
пушкинским приятием тирании кодекса чести. Прочитав шестую
главу «Евгения Онегина», он писал своим братьям, что
«описание [дуэли в романе] прекрасно, но во всем видна прежняя
школа и самая плохая логика»34. Соответственно в повести 1830
года «Испытание» Бестужев задается вопросом о том, можно
ли в контексте дела чести действовать по собственной воле и
воздержаться от дуэли, не обесчестив себя. Он предлагает
способ прервать инерцию дуэли. Этот способ— вмешательство
человека, который в силу личных качеств или особого статуса
свободен от социальных условностей.
В этой повести два друга, Николай Гремин и Валериан
Стрелинский, становятся противниками исключительно из
ложного понимания чести: Гремин вызывает Стрелинского из-
за женщины, которую сам уже не любит. Даже
зарождающаяся любовь к сестре Стрелинского Ольге не удерживает его от
этого шага. Хотя ни один из противников не хочет драться,
дело чести развивается быстро и гладко, и кажется, что ничто
не может предотвратить трагического исхода. Однако вопреки
всем ожиданиям и не нанеся урона своей чести, друзья в
последний момент примиряются.
Примечательно, что «Испытание» предлагает читателю
противоречивое руководство к действию: с одной стороны,
преподносится урок ведения дела чести, с другой —
демонстрируется, как можно избежать поединка. Рекомендации по поводу
тонкостей дуэльного ритуала обширны и подробны: повесть
содержит точные описания и метода изготовления пуль, и
подготовки места дуэли, и обязанностей секундантов, и
правильного поведения соперников перед дуэлью. Кроме того, герои
повести обсуждают пистолеты, пули, порох и типы ранений,
а также пересказывают дуэльные предания. Эти длинные
беседы часто содержат практические советы. Например, дается
совет не есть перед дуэлью, определяется предпочтительный тип
экипажа для перевозки раненого с места дуэли и
напоминается о том, что приготовления к поединку должны держаться в
секрете, чтобы полиция не могла вмешаться и предотвратить
его. Эти разговоры не несут никакой сюжетной функции и
ничего не прибавляют к характеристике героев (их ведут
второстепенные персонажи). Зато они служат отличным руководством
к ведению дуэли.
172 И. Рейфман. Ритуализованная агрессия
Тем не менее основная идея «Испытания» прямо
противоположна. В повести доказывается, что допустимо прервать
уже начатую дуэльную процедуру, и демонстрируется, как это
можно сделать. Это удается сделать благодаря Ольге, сестре
Стрелинского. Нарушив все правила приличия — в том
числе запрет на присутствие женщины на месте дуэли, — она
является в трактир, где собрались перед дуэлью все участники
события, и убеждает Гремина примириться с ее братом,
угрожая ему, в случае отказа, своей собственной смертью: «Но
знайте, князь Гремин, если речь правды и природы
недоступна душам, воспитанным кровавыми предрассудками, то вы не
иначе можете достигнуть до брата моего, как сквозь это
сердце. Не пожалев славы, я не пожалею и жизни» [Бестужев,
I: 226]. Предрассудки Гремина и репутация Ольги упомянуты
здесь сознательно: Ольга добивается своего именно потому,
что она не связана ни «кровавыми предрассудками» кодекса
чести, ни условностями общественных приличий. Она
неподвластна кодексу чести, потому что она женщина, и может
пренебречь правилами поведения благодаря своему статусу
«институтки», выпускницы Смольного института.
Смольный монастырь — первое в России образовательное
учреждение для девиц, основанное Екатериной II и
предназначенное ею для создания нового типа дворянки — хорошо
образованной, владеющей иностранными языками и сведущей в
изящных искусствах, но при этом естественной и чистой.
Выпускницы Смольного монастыря (смолянки, монастырки,
или институтки) составили специфический
культурно-социологический тип, легко опознаваемый современниками:
«Определенное культурное развитие и житейская наивность, строгая
чинность манер и детская непосредственность в выражении
своих чувств, жажда веселой и свободной жизни и робость,
страх перед ней, мечтательность и покорность судьбе — таковы
основные свойства этого культурно-социологического типа...»35
Мнение современников об институтках было неоднозначным:
одни считали их идеальными, чистыми и естественными
созданиями, другие же высмеивали их наивность, незнание
реальной жизни и инфантилизм36.
Бестужев, сестры которого были выпускницами
Смольного института, был хорошо знаком с поведением институток.
Как писатель-романтик, предпочитавший природу культуре,
он способствовал формированию идеального образа
институтки. Соответственно его характеристика Ольги как институтки
звучит крайне положительно: «Воспитанная в Смольном мона-
Глава 5. Александр Бестужев-Марлынский... 173
стыре, она, подобно всем подругам своим, купила
неведением безделиц общежития спасительное неведение ранних
впечатлений порока и безвременного мятежа страстей. Она
прелестна была в свете, как образец высокой простоты и детской
откровенности. <...> В мутном море светских предрассудков,
позолоченной испорченности суетного ничтожества — она
возвышалась, как зеленеющий свежий островок, где усталый
пловец мог найти покой и доверие» [Бестужев, I: 200—201).
Особый статус Ольги позволяет ей безнаказанно нарушать
социальные условности, и ее свойство следовать своим
естественным наклонностям преподносится автором «Испытания»
в безусловно положительном свете: «Она <...> не понимала,
почему неучтиво сказать человеку в глаза: "ах! как вы добры!"
или "ах! как вы злы!" — если он то заслуживал; не понимала,
почему ей неприлично сесть подле умного молодого человека,
с которым приятно разговаривать, и почему она обязана
слушать нелепости пожилого только потому, что он со звездою»
[Бестужев, I: 201 j.
Именно наивность и чистота позволяют Ольге отличать
ложные ценности, поощряемые социальными конвенциями, от
подлинно нравственного поведения. Более того, она помогает
и другим делать то же самое. Когда она бросает вызов правилам
приличия и появляется на месте дуэли, дуэльная конвенция
терпит поражение. Своим смелым поступком Ольга дает и
другим возможность поступать согласно их подлинным чувствам и
убеждениям. Гремин забывает о том, что стыдно мириться под
дулом пистолета, и просит у Стрелинского прощения. Стрелин-
ский с радостью принимает извинения друга и отвечает ему тем
же. Особенно важно, что и секунданты избавляются от
инерции ритуала и поддерживают намерение дуэлянтов примириться:
«Признаваться в своих ошибках есть высшее мужество»
[Бестужев, I: 230]. Стрелинский беспокоится о репутации сестры, но
предложение, сделанное ей Греминым, успокаивает его. Сам
Стрелинский получает Алину — женщину, из-за которой едва
не произошла дуэль, — и намечается двойная свадьба. Этот
счастливый конец свидетельствует о том, что гипнотическое
воздействие дуэли можно преодолеть и дуэльная процедура не
обязательно должна закончиться трагедией.
Ольга преуспела не просто потому, что она женщина
(русские писатели, как уже отмечалось, не были склонны
позволять своим героиням вмешиваться в конфликты чести), а
именно благодаря своему особому статусу институтки, то есть
женщины в каком-то смысле не от мира сего — чистой, невин-
174 И. Рейфман. Ритуализовапная агрессин
ной и поэтому свободной в своих поступках. Никому другому
в повести не позволено так поступать: то, что хорошо и
правильно для Ольги, плохо и позорно для Гремина и Стрел ин-
ского. Даже если конфликтом движет ложное чувство чести,
участники поединка обязаны пройти через него полностью.
Именно поэтому в повести столь подробно объясняются
детали проведения дуэли. Двойной смысл этой повести отражает
существование двойного стандарта в отношении дуэли:
заведомо далекий от совершенства кодекс чести тем не менее
оказывается обязательным для большинства людей. Только особые
люди, обладающие интуитивным чувством добра и зла,
свободны от его тирании.
Тем не менее в повести «Страшное гадание» (1830)
Бестужев ставит вопрос, может ли мужчина сам, без помощи
специального посредника, освободиться от ложного чувства
чести. Ответ Бестужева гораздо менее ясен, чем в «Испытании»:
может, но только благодаря необычайному опыту— в данном
случае контакту с миром сверхъестественного. Рассказчик,
безымянный молодой офицер, в святочную ночь встречает
таинственного незнакомца, в котором читатель (но не герой)
легко узнает дьявола. Дьявол сталкивает его с мужем
женщины, с которой он находится в связи. Герой готов дать
сопернику удовлетворение, но вместо этого тот пытается ударить его
по щеке. В ярости, герой убивает противника. Он описывает
свой поступок как рефлекторную реакцию, вызванную
потребностью защитить свою телесную неприкосновенность: «И
теперь, когда я вспомню об этой роковой минуте, кровь моя
вспыхивает как порох. Кто из нас не был напитан с
младенчества понятиями о неприкосновенности дворянина, о чести
человека благорожденного, о достоинстве человека? <...>
Вообразите ж, что сталось тогда со мною, заносчивым и
вспыльчивым юношею!» [Бестужев, I: 338]. Ужас присутствовавшей
при убийстве мужа вохиобленной героя открывает ему глаза на
истинную природу его поступка. К счастью, происшедшее
оказывается всего лишь святочным сном. Тем не менее
рассказчик извлекает из него урок и принимает решение никогда
больше не видеть своей возлюбленной — и тем самым избежать
возможной дуэли («кровавой мести») с ее мужем: «Это гадание
открыло мне глаза, ослепленные страстью; обманутый муж,
обольщенная супруга, разорванное, опозоренное супружество
и, почему знать, может кровавая месть мне или от меня — вот
следствия безумной любви моей! Я дал слово не видеть более
Полины и сдержал его»37 [Бестужев, I: 3421.
Глава 5. Александр Бестужев-Марлине кии... 175
Обретение героем свободы от вынужденной «кровавой
мести» подается Бестужевым как несомненно положительное. Но
автор повести и здесь не отрицает дуэль полностью. Его герой
высказывается против нее, но все же рефлекторно реагирует на
угрозу своей физической неприкосновенности. Более того,
даже много лет спустя он сохраняет ту же нетерпимость к
самой идее получения побоев: «Много-много протекло с тех пор
времени по голове моей; оно охладило ее, ретивое бьется тише,
но до сих пор, со всеми философическими правилами, со всею
опытностью моею, не ручаясь за себя, и прикосновение ко мне
перстом взорвало бы на воздух и меня и обидчика» [Бестужев,
I: 338]. Несмотря на очевидные недостатки, дуэль необходима
для защиты личного пространства, и герой Бестужева не готов
полностью отказаться от нее.
В своей последней повести, посвященной дуэльной теме,
«Фрегат Надежда» (1832) Бестужев снова рассматривает
вопрос об истинной и ложной чести. Он касается также и
проблемы отказа от дуэли — на этот раз отказа от дуэли с
недостойным противником. В повести изображаются три дела чести, в
которых участвует главный герой, морской офицер Правин.
Первое дело чести представляет собой типичный поединок,
вызванный ложным пониманием point d'honneur; другое дает
пример ситуации, в которой оправдан отказ от дуэли; а третье,
символическое, проясняет для читателя вопрос о том, что есть
истинная честь.
Первая дуэль происходит из-за обиды, нанесенной Прави-
ну, чуждому большому свету, неким светским щеголем.
Думая, что Правин не знает французского языка, он отпускает
по-французски оскорбительное замечание в его адрес. Правин,
который не говорит по-французски из патриотизма,
немедленно вызывает обидчика на прекрасном французском. В этой
дуэли Правин ведет себя отлично, а его противник
оказывается жалким трусом, идущим на всевозможные уловки, чтобы
избежать опасности. Достойное презрения поведение щеголя
подчеркивает приверженность Правина идее point d'honneur% Он
подлинный человек чести. Но так ли это?
Второй, и гораздо более важный, конфликт чести
происходит между Правиным и князем Петром, мужем соблазненной
им женщины, и в этом конфликте Правин терпит поражение.
Когда он предлагает князю сатисфакцию, тот отказывается
принять вызов, не теряя при этом своей чести и указывая на
бесчестность поведения самого Правина: «Требования чести,
м. г.? — отвечал он гордо, — и вы говорите мне о чести в спальне
моей жены? <...> Послушайте, г-н Правин: я сам служил сво-
176 И. Рейфмаи. Ршпуадизованная агрессия
ему государю в поле, и служил с честью. Я не трус, м. г., но
я не буду с вами стреляться; не буду потому, что нахожу вас
недостойным этого». Обвинения князя Петра заставляют
Правина осознать последствия собственных поступков и признать
свою вину: «[Внутренний голос обвинял его громче
обвинителя <...> Эгоизм страсти предстал перед него тогда во всей
наготе, в своем зверином безобразии!» (Бестужев, II: 154].
Упоминание князем своей честной службы особенно
болезненно для Правила: оно напоминает ему, что для последнего
свидания с возлюбленной он пренебрег своим долгом,
покинув корабль, несмотря на начинающуюся бурю, и оставив его
на неопытного младшего офицера. Правин осознает свой
двойной позор: «Правин был живой образ казни между двух жертв,
между двух преступлений: против нравственности и службы»
[Бестужев, II: 156|. Он спешит вернуться на корабль, чтобы
исправить вред, причиненный его отсутствием. Однако его
попытка оборачивается катастрофой: шлюпка, которая
должна доставить его на корабль, разбивается о борт. Несколько
моряков погибает, а сам Правин серьезно ранен. Это
несчастье и неопытность оставленного за главного офицера приводят
к гибели шестнадцати человек. Правин решает, что он
достоин смерти.
Последнее дело чести, описанное в повести, — это
очевидное самоубийство Правина. Он знает, что только смерть
может избавить его от позора: «И я, преступник <...>, я, который
играл царской доверенностью, который обольстил, погубил
любимую женщину, обидел друга, запятнал русский флот,
утопил шестнадцать человек, для насыщения своей прихоти, —
и я-то думаю жить! Нет! Я не переживу ни своей чести, ни своей
души; я не хочу, я не должен существовать» [Бестужев, II: 162].
Правин снимает бинты со своих кровоточащих ран и истекает
кровью. Поскольку бесчестье Правина было вызвано его
собственными действиями, он сам является своим «противником»
в этом деле чести. Поэтому самоубийство оказывается для него
единственно возможным выходом из положения. Совершая
самоубийство, он смывает кровью как бесчестье, нанесенное
ему отказом князя Петра драться с ним, так и бесчестье
измены своему служебному долгу. Это позволяет ему примириться
с самим собой.
Заметим, что тактика князи Петра эффективна только с
оппонентом, который способен к истинному пониманию
чести и к действиям, направленным на искупление своих
бесчестных поступков. Отказ драться с подлинно бесчестным
оппонентом послужил бы только отпущению его грехов. Это
Глава 5. Александр Бестужев-Марлинский... 177
объясняет крайнюю редкость использования подобной
тактики как в жизненных ситуациях, так и в делах чести,
описанных в литературе.
В повести «Фрегат Надежда» point d'honneur как ложное
понимание чести противопоставляется подлинной чести как
бескорыстной преданности долгу. Правин успешно защитил свою
личную честь, но при этом не исполнил свой долг. Тем не
менее отношение к point d*honneur в повести двойственное.
Несмотря на дискредитацию point d'honneur, поведение Правина
на дуэли изображается как достойное подражания. Его
действия, описанные в подробностях, предоставляют читателю
образец того, как следует драться на дуэли. Инструкции,
которые Правин получает от своего секунданта и блестяще
выполняет, представляют собой ценные технические советы будущему
дуэлянту: «У меня секундантом был один гвардеец, премилый
малый и прелихой рубака... В дуэлях классик и педант, он
проводил в Елисейские поля и в клинику не одного, как друг
и недруг. Он дал мне добрые советы, и я воспользовался ими
как нельзя лучше. Я пошел быстрыми, широкими шагами
навстречу, не подняв даже пистолета; я стал на место, а
противник мой был еще в полудороге. Все выгоды перешли тогда
на мою сторону: я преспокойно целил в него, а он должен был
стрелять на ходу. Он понял это и смутился: на лице его
написано было, что дуло моего пистолета показалось ему шире
кремлевской пушки, что оно готово проглотить его целиком. Со
всем тем стрелок по ласточкам хотел предупредить меня,
заторопился, спустил курок— пуля свистнула-- и мимо. Надо
было видеть тогда лицо моего героя. Оно вытянулось до пятой
пуговицы» [Бестужев, II: 93].
Стратегия, предлагаемая секундантом Правина (заставить
противника стрелять первым), была обычной практикой среди
опытных дуэлянтов, особенно когда они действительно
хотели попасть в своих противников. Пушкин использовал этот
прием во всех своих серьезных дуэлях. Онегин, не желающий
попасть в противника, стреляет первым, еще находясь в
движении. Хотя Бестужев описывает дуэль Правина в основном
ради возвышения образа героя, он попутно распространяет
полезную техническую информацию о дуэли и косвенным
образом способствует поддержанию этой практики.
Эта амбивалентность, присутствующая во «Фрегате
Надежда», отражает общий взгляд на дуэль, выраженный во всех
произведениях Бестужева: point d'honneur не всегда благо, но
обойтись без него невозможно. Персонажи в повестях Бестужева на
личном опыте узнают слабые стороны дуэли: ее поддерживают
178 //. Рейфман. Ритуализованная агрессия
такие аморальные человеческие качества, как тщеславие и
эгоизм, она жестока и неэффективна в качестве мести за многие
виды оскорблений (например, за супружескую неверность,
которую нельзя исправить дуэлью, даже если соблазнитель
убит). Тем не менее, герои Бестужева чувствуют себя
обязанными отвечать вызовом на все, что они ощущают как угрозу
своей чести. Более того, они подразумевают — молчаливо или
открыто, — что в некоторых ситуациях они должны подняться
над условностями дуэльного поведения и перейти к
«исключительным» бретерским практикам, вплоть до убийства. Эта
готовность нарушить фаницы кодекса чести должна была служить
важной цели: поддержанию равенства внутри класса дворянства
и защите личного пространства индивидуума. Несмотря на то
что Бестужев никогда не представлял дуэль в идеальном свете,
подробная разработка им топоса дуэли не только выдвинула
дуэль как популярную тему в литературе, но и способствовала
укреплению героической репутации поединка чести.
Уверенность Бестужева в том, что сомнительные
«экспериментальные» дуэли в определенных случаях неизбежны,
отражает его бретёрский менталитет, в том числе веру в
эффективность дуэли как инструмента защиты личной
неприкосновенности и установления равенства внутри дворянства. Изображая
дуэль в «ливонских» и светских повестях, Бестужев опирался на
собственный опыт, а также на опыт своих друзей и
современников. Бретёрство, практикуемое поколением Бестужева, при
всем его спорном характере служило своей цели: оно помогало
формированию идей личного достоинства, телесной
неприкосновенности и равенства.
Повести Бестужева имели значительное влияние на
творчество собратьев-литераторов. Его подход к теме дуэли получил
дальнейшее оформление в русской литературной традиции.
Бестужев закрепил основные темы, связанные с дуэлью: он
обнаружил сомнительную природу дуэли и исследовал ее; он
поставил вопрос о том, как кодекс чести может лишать
дуэлянта его личной воли, превращая его в марионетку; он был
первым, кто поднял вопрос о том, как можно избавиться от
гипноза кодекса чести и воздержаться от дуэли, не теряя
своей чести и не нанося противнику смертельного оскорбления.
Согласно Бестужеву, только человек, свободный от тирании
социальных условностей, может достичь этой цели и помочь
другим достичь ее. В то же время Бестужев утверждал, что,
несмотря на очевидные недостатки дуэли, она необходима в
случаях, когда требуется установить или поддержать статус
Глава 5. Александр Бестужев-Марлинский... 179
личности внутри группы, защитить личное пространство и
особенно— физическую неприкосновенность. Идеи Бестужева
оставались релевантными, не только пока его произведения
были популярны, но и долгое время спустя после того как его
имя исчезло из списка любимых читателем русских писателей.
Диалог Пушкина с Бестужевым, рассмотренный ранее в
этой главе, был прямым и интенсивным. Влияние Бестужева
на изображение дуэли у Лермонтова, при всей его важности,
имеет опосредованный характер. В текстах Лермонтова есть
указания на его знакомство с произведениями Бестужева: так,
«один капитан», оскорбляющий девушку на балу в ответ на
отказ танцевать с ним, появляется сначала в «Вечере на
бивуаке», а уже затем в «Княжне Мери». В обоих произведениях
конфликт перерастает в дуэль, хотя в повести Лермонтова сам
капитан лично не участвует в ней, а только организует дуэль
между Печориным и Грушницким. Но такие непосредственные
заимствования редки, и влияние Бестужева по большей части
выражается в самом постоянном интересе Лермонтова к
литературным дуэлям. Лермонтов, в противоположность
Бестужеву, сосредоточивался на положительных функциях дуэли; он
уделял гораздо меньше внимания ее недостаткам. Лермонтова
не особенно заботили эгоизм и жестокость, свойственные мен-
тальности point d'honneur.
Русские писатели середины XIX века во многом следовали
Бестужеву в своих дуэльных нарративах. В особенности их
внимание привлекала способность дуэли отстаивать человеческое
достоинство. Их тревожило то, что упадок кодекса чести,
якобы имевший место после воцарения Николая I, означал
разрушение нравственного стержня общества, что, по их мнению,
выражалось в готовности отказаться от претензий на личное
достоинство и принять низкое поведение как позволительное.
Так, в «Двух гусарах» Толстого способность участвовать в
дуэли выступает в качестве индикатора человеческой
порядочности: неспособность Турбина-младшего ответить на оскорбление
вызовом ясно свидетельствует о его бесчестье. В «Анне
Карениной» нежелание вызвать Вронского заставляет читателя
усомниться в моральных качествах Каренина. Признаваемый самим
Карениным страх перед дуэлью ставит под сомнение значимость
его критики дуэли как неэффективного способа разрешения
личных конфликтов. В то же время, как и Бестужев, Толстой
понимал слабые стороны дуэли — ее жестокость и ее
способность лишать человека свободной воли. Он раскрывает эти
свойства дуэли в «Войне и мире». В дуэльной сцене между Пье-
180 И. Рейфман. Ритуализоватшя агрессия
ром и Долоховым настойчиво подчеркивается, что Пьер ведет
себя как марионетка. Ненавидя дуэль за ее жестокость, Пьер
не только вызывает соперника на дуэль, но также стреляет и
ранит его38.
«Дуэль» Чехова также содержит отголоски произведений
Бестужева — если не прямо заимствованные, то опосредованные
традицией. Персонажи Чехова понимают жестокость дуэли и
ее бесполезность в качестве средства решения сложных
конфликтов, но они так же подвержены ее гипнотическому
воздействию, как и дуэлянты в светских повестях Бестужева. Несмотря
на то что Чехов обличает использование дуэли фон Кореном в
качестве орудия социал-дарвинизма, он, как и Бестужев,
признает нравственную ценность дуэли: духовное обновление Ла-
евского в конце повести по крайней мере частично связано с
его достойным поведением вовремя поединка. Персонаж,
предотвративший трагический исход дуэли, молодой и наивный
дьякон, может сделать это потому, что он находится вне
кодекса чести в силу своего недворянского происхождения и
принадлежности к духовенству. В чеховском выборе на эту роль
такого персонажа тоже возможно усмотреть влияние
Бестужева. Однако Чехов, писавший свои произведения на закате
дуэльной традиции, представляет проблемы, впервые
определенные и рассмотренные Бестужевым, как гораздо более трудно
разрешимые.
В повести Александра Куприна «Поединок» также
используются дуэльные топосы, впервые введенные Бестужевым. Так,
развязка повести включает манипуляцию дуэльным ритуалом по
обоюдному согласию дуэлянтов. Эта тема была впервые
рассмотрена Бестужевым. Если Правин во «Фрегате Надежда*
благородно отклоняет предложение противника инсценировать
дуэль, то персонажи повести «Наезды» (1831) именно это и
делают. Эти герои, польские шляхтичи, получают
предложение быть секундантами в partie саггёе. Не желая подвергать себя
опасности, они принимают соглашение слегка ранить друг друга
и таким образом закончить дуэль одновременно и
благополучно, и героически. Бестужев изображает их с откровенным
презрением и насмешкой39. Такие позорные соглашения легко
ведут к дальнейшему обману — как раз эта возможность и
реализуется в повести Куприна: вместо того чтобы следовать
договору, ревнивый Николаев убивает Ромашова. Двух писателей,
разделенных столетием литературного процесса, объединяет
интерес к нравственным дилеммам, создаваемым дуэлью, а
также понимание кодекса чести как договора, который
необходимо уважать всем участникам.
Глава 5. Александр Бестужев-Марлипский... 181
Последние отзвуки бестужевского изображения дуэли
можно усмотреть в романе Валерия Брюсова «Огненный ангел»
(1907). Роман, действие которого происходит в XVI веке, во
многих отношениях напоминает «ливонские* повести
Бестужева. Как и Бестужев, Брюсов использует витиеватый язык и
выстраивает экстравагантную интригу. Как и его
предшественник, он прибегает скорее к стилизации, чем к реконструкции
исторического прошлого, и, что еще важнее, использует эту
стилизацию для изображения современных ему событий, в
данном случае собственного романа с Ниной Петровской40. Дуэль
между Рупрехтом (простолюдином) и князем Генрихом
(рыцарем) напоминает изображение дуэлей между социально
неравными противниками у Бестужева. Психологическая ситуация
в дуэльном эпизоде у Брюсова более сложна, чем в повестях
Бестужева, но она также включает в себя противоречие между
намерениями дуэлянта и тем, что его заставляет делать логика
дуэли. Несмотря на этот пример, справедливо будет сказать,
что в XX веке прямое влияние произведений Бестужева
исчезает. Однако образ, созданный Бестужевым в литературе и
воплощенный им в жизни, — а именно образ благородного
дуэлянта, защищающего свою честь, — и сегодня жив в русской
культурной памяти.
Среди писателей XIX века наиболее сильное влияние
Бестужева испытал Достоевский. На протяжении всего своего
творческого пути он подробно исследовал феномен дуэли, обращая
особое внимание на многие вопросы, впервые поставленные
Бестужевым. Как и Бестужев, Достоевский постоянно
привлекает внимание к амбивалентному нравственному статусу дуэли.
Он подчеркивает ее бесполезность во многих ситуациях, но
признает необходимость в других. Начиная с «Записок из
подполья» Достоевский постоянно обращается к вопросу о том, как
воздержаться от дуэли, не теряя при этом достоинства, —
вопрос, к которому неоднократно обращался Бестужев. На
примере князя Мышкина Достоевский проверяет бестужевскую
идею о том, что особый человек, свободный от социальных
конвенций и приверженный высшим ценностям, может
отказаться от поединка. Наконец, Достоевский следовал Бестужеву
в своем решительном убеждении, что человек имеет как
право, так и обязанность защищать свою телесную
неприкосновенность всеми доступными средствами, включая такое жестокое,
как дуэль.
ГЛАВА 6
Как воздержаться от дуэли:
Поединок в произведениях Достоевского
«На дуэли очень, я думаю, хорошо», —
заметила вдруг Марья Кондратьевна. «Чем же это-е?»
«Страшно так и храбро, особенно если молодые
офицерики с пистолетами в руках один против
другого палят за которую-нибудь. Просто
картинка. Ах, кабы девиц пускали смотреть, я
ужасно как хотела бы посмотреть». «Хорошо
коли сам наводит, а коли ему самому в самое
рыло наводят, так оно тогда самое глупое чув-
ство-с. Убежите с места, Марья Кондратьевна».
Ф.М. Достоевский. Братья Карамазовы
Достоевский и проблема дуэли
Хотя имя Достоевского, в отличие от имен Бестужева,
Пушкина и Лермонтова, не всегда приходит на ум в связи с дуэльной
темой в русской литературе, дуэльные нарративы занимают
видное место почти во всех главных произведениях писателя.
Дуэль и связанные с нею мотивы (пощечины, отказы драться
и т.п.) упоминаются также во многих набросках и черновиках
неоконченных произведений. Значимость дуэльной темы в
произведениях Достоевского особенно важна в свете того, что
в своей публицистике он обычно отзывался о дуэли как о
глупом западном обычае, который русские переняли вместе с
другими вредными западными привычками в послепетровский
период.
Важнейшая особенность дел чести в произведениях
Достоевского— это то, что они, в сущности, никогда не
завершаются. Даже уже дошедшие до дуэли конфликты Ставрогина с
Гагановым и Зосимы с его безымянным противником все-таки
не завершены, поскольку и Ставрогин, и Зосима решают— по
разным причинам и с разными последствиями — не стрелять в
своих противников. Причины незавершенности дел чести
меняются на протяжении творчества Достоевского. В его
ранних произведениях дуэли не происходят из-за сословных
различий: вызывающий безуспешно борется за право на поединок
с высшим по рангу обидчиком. В поздних произведениях До-
Глава 6. Как воздержаться от дуэли... 183
стоевского герои воздерживаются от дуэлей по
принципиальным соображениям. При этом они либо позорят себя (как
протагонист «Кроткой»), либо оскорбляют противника (как
Ставрогин). Только князь Мышкин и Зосима умеют найти
правильный способ воздержания от дуэли в обход тирании point
d'honneur. «Записки из подполья» — произведение, которое
традиционно считают переходным между двумя периодами
творчества Достоевского, — занимают промежуточное положение и
в плане развития темы дуэли. Подпольный человек борется и
за право на поединок, и за право воздержаться от него. Ему
не удается ни то ни другое.
Достоевский не имел личного опыта в делах чести. Внук
священника и купца, сын врача в больнице для бедных,
получившего дворянство для себя и своих потомков, Достоевский
был не менее чужд аристократического идеала кодекса чести,
чем радикалы-разночинцы его поколения. Как и они, он
неловко держался в обществе. Это замечали его современники,
и он сам нередко болезненно осознавал культурные различия
между ним и писателями-дворянами1. Почему же Достоевский
уделял столько внимания дуэли — институту, не входившему
в его личный опыт и имевшему для него, как мы увидим в
дальнейшем, сомнительную нравственную ценность? Почему его
герои, большинство которых, как и он сам, очень мало
подходили на роли дуэлянтов, все же так или иначе сталкиваются
с проблемой дуэли?
Частичный ответ на этот вопрос дает литературная
традиция: русская литература — до Достоевского, при его жизни и
после его смерти — постоянно изображала поединки. Вступая
в диалог с этой традицией, Достоевский никак не мог избежать
дуэльной темы. Но дуэль не была для Достоевского просто
литературным топосом или удобным сюжетообразующим
приемом. Он видел в ней социальный институт, необходимый для
защиты личного пространства и релевантный не только для
дворян. Именно поэтому он включал конфликты чести в
биографии совсем не подходящих на роль дуэлянтов персонажей —
таких, как Макар Девушкин и Голядкин, которые в реальной
жизни не могли бы даже помышлять об участии в поединке.
Несмотря на очевидную несовместимость этих персонажей с
идеей дуэли, Достоевский все-таки ждет от них адекватной
защиты своего личного пространства и телесной
неприкосновенности.
Дуэльные нарративы также дали Достоевскому возможность
исследовать проблему идентичности и целостности
индивидуума. Дуэль— всегда столкновение мнений об идентичности:
184 И. Рейфман. Ритуализованная агрессия
каждый участник требует, чтобы противник видел его
определенным образом. Чтобы добиться этого, человек должен
прежде всего иметь четкий и твердый взгляд на себя самого и не
позволять чужому мнению влиять на его самовосприятие.
Вопросы, задаваемые Достоевским в его ранних произведениях, во
многом связаны с проблемой идентичности. Что происходит,
когда человек не уверен в себе? Если он не знает точно, кто
он? Как влияет рефлексия на способность человека участвовать
в поединке? В поздних произведениях писателя больше
беспокоит проблема противника. Дуэль требует видеть противника в
качестве «другого». Но является ли этот другой таким уж
отличным от «меня»? Что происходит, когда человек позволяет
себе увидеть в другом человеке сходство с собой? Как влияет
сочувствие на способность к поединку? Достоевский, однако,
настаивает, что ни социальная неприспособленность, ни
способность видеть себя в другом и сострадать ему не освобождают
человека от обязанности защищать целостность и
неприкосновенность своей личности. В русском контексте дуэль— его
главное оружие.
При всей вере Достоевского в способность дуэли защитить
личное пространство и достоинство человека его отношение к
дуэли всегда было двойственным. Он никогда не хвалил
безоговорочно кодекс чести, как никогда и не отрицал его
полностью. Его отрицательное отношение к дуэли особенно очевидно
в публицистике. В своих статьях он не скрывает
обеспокоенности нравственными проблемами, порождаемыми дуэлью: ее
жестокостью, неизбежно сопутствующим ей эгоизмом и ее
несовместимостью с христианскими ценностями. При всей
трагичности гибели Лермонтова на дуэли, он считал, что поэт
погиб «бесцельно, капризно и даже смешно»2. На протяжении
всего своего творческого пути Достоевский неизменно осуждал
Онегина и Печорина за убийство противников на дуэли и очень
не любил Сильвио3. Он подчеркивал дурное влияние Печорина
и Сильвио на русское общество: «Вспомните: мало ли у нас было
Печориных, действительно и в самом деле наделавших много
скверностей по прочтении "Героя нашего времени".
Родоначальником этих дурных человечков был у нас в литературе
Сильвио, в повести "Выстрел", взятый простодушным и
прекрасным Пушкиным у Байрона. Да и сам-то Печорин убил
Грушницкого потому только, что был не совсем казист собой
в своем мундире и на балах высшего общества, в Петербурге,
мало походил на молодца в глазах дамского пола» («Дневник
писателя»4 [Достоевский, XXII: 39—40]).
Достоевский придерживался твердого убеждения, что
поведение Сильвио и Печорина «заимствовано большей частию
Глава 6. Как воздержаться от дуэли... 185
с иностранного» [Достоевский, XXII: 39]. Иностранное
происхождение дуэли серьезно его беспокоило. В «Зимних
заметках о летних впечатлениях» Достоевский отозвался о дуэли
чести как о пустой бессодержательной форме, заимствованной с
Запада и не находящей поддержки в русской традиции. В
третьей главе Достоевский едко характеризует поверхностное, по
его мнению, западничество Дениса Фонвизина: «Этот человек
по своему времени был большой либерал. Но хоть и таскал он
всю жизнь на себе неизвестно зачем французский кафтан, пудру
и шпажонку сзади, для означения рыцарского своего
происхождения (которого у нас совсем не было) и для защиты
своей личной чести в передней у Потемкина, но только что
высунул свой нос за границу, так и пошел отмаливаться от Парижа
всеми библейскими текстами и решил, что "рассудка француз
не имеет"...»5 [Достоевский, V: 53|. Фонвизинская «шпажон-
ка» выступает у Достоевского как означающее без
означаемого, форма без содержания: «Да, конечно, тогда нам легко
давалась Европа, физически, разумеется. <...> Напяливали
шелковые чулки, парики, привешивали шпажонки — вот и
европеец»6 [Достоевский, V: 56—57]. Много лет спустя, в
подготовительных материалах к «Дневнику писателя» Достоевский
снова выражает беспокойство по поводу некритичного
заимствования дуэли русскими: «Дуэль, — приняв букву, мы
расширили способность к дурным поступкам» [Достоевский, XXIV: 195J.
В то же время, Достоевский признавал, что следование
кодексу чести может отражать нравственную силу его
приверженцев. В октябрьском выпуске «Дневника писателя» за 1876 год
он пишет: «Надо заметить, что эти лучшие люди, и у нас, и
везде, то есть и в Европе, всегда вырабатывали себе под конец
довольно стройный кодекс правил доблести и чести, и хоть этот
кодекс в целом всегда бывал, конечно, довольно условен и с
идеалами народными иногда даже сильно разнился, но в
некоторых пунктах и он бывал довольно высок. "Лучший"
человек обязательно должен был умереть, например, за отечество,
если жертва эта от него требовалась, и он умирал действительно
по долгу чести, "потому-де поруха роду моему будет
большая", — и, уж конечно, все-таки это было несравненно
лучше, чем право на бесчестье, при котором человек бросает все
и всех в минуту опасности и бежит прятаться: "пропадай,
дескать, все на свете, был бы я и животы мои целы"»
[Достоевский, XXIII: 154]. К тому же Достоевский предполагал, что
дворянский кодекс чести часто совпадал в России с
народными идеалами: «[У] нас, в России, эти условные лучшие люди,
очень и очень часто и очень во многом, сходились в своих
идеалах с лучшими людьми безусловными, то есть народными»
186 И. Рейфман. Ритуализоватшя агрессия
[Достоевский, XXIII: 154]. Честь, которую превозносит здесь
Достоевский, — это преданность дворянина службе. Однако он
убежден, что служебная честь немыслима без чести личной —
и без дуэли, которая ее охраняет: «А кстати, чем обеспечена
честь и чем заменить дуэль? Лучше всего не иметь чести — как
преподавало начальство в 30-х и 40-х годах. Но если
привозили шпагу, то привозили и Европу. А дуэль вовсе не глупость:
те, которые отрицают ее, излагают только мысль, но незавер-
шившуюся, а дуэль есть факт с начала века. Генералы же,
говорившие, что шпага дана нам для защиты отечества, не
знали или забывали о том, что те, которые обнажали ее для защиты
своей чести, те-то и сумели стоять честно перед врагом, а люди
спокойные и Пироговы оказались только интендантами и
"скептиками"» («Записная тетрадь. 1875—1876 гг.» [Достоевский,
XXIV: 102]). Поручика Пирогова— персонаж, известный тем,
что не усмотрел бесчестья в телесном наказании, которому
подвергся, — Достоевский на протяжении всего своего творчества
привлекал для иллюстрации того, что неуважение к кодексу
чести свидетельствует о нравственной испорченности7. Таким
образом, дуэль не была для Достоевского устаревшим западным
обычаем, перенятым русскими бездумно и бесцельно. Он
полагал, что в русском обществе, не поощрявшем личной
независимости, дуэль была необходимым механизмом для
обеспечения личной неприкосновенности.
Уже в самых первых высказываниях Достоевского о дуэли
раскрывается его убеждение, что она в России
компенсировала отсутствие более ортодоксальных средств охраны чести и
личного пространства. В конце 1840-х годов он указывал, что
русский человек доходит до крайностей, потому что лишен
Четкого представления о своем «я» и не способен к
самовыражению как личность: «Коль неудовлетворен человек, коль нет
средств ему высказаться и проявить то, что получше в нем (не
из самолюбия, а вследствие самой естественной
необходимости человеческой сознать, осуществить и обусловить свое Я в
действительной жизни), то сей час же и впадет он в кое-ни-
будь самое невероятное событие: то, с позволения сказать,
сопьется, то пустится в картеж и шулерство, то в бретёрство,
то, наконец, с ума сойдет от амбиции, в то же самое время
вполне про себя презирая амбицию и даже страдая тем, что
пришлось страдать из-за таких пустяков, как амбиция. И
смотришь— невольно дойдешь до заключения почти
несправедливого, даже обидного, но очень кажущегося вероятным, что в
нас мало сознания собственного достоинства; что в нас мало
необходимого эгоизма и что мы, наконец, не привыкли делать
Глава 6. Как воздержаться от дуэли...
187
доброе дело без всякой награды» («Петербургская летопись»
[Достоевский, XVIII: 31—32]). Несмотря на то что отношение
Достоевского к дуэли здесь двойственное, он отчетливо
связывает ее с индивидуальностью и самосознанием — темами
первостепенной важности в его произведениях этого периода.
Слово «амбиция», подразумевающее искаженное представление
о своем «я», отсылает, как мы увидим позже, к «Бедным
людям» и «Двойнику».
Сибирский опыт Достоевского способствовал изменению
его отношения к дуэли в лучшую сторону. Три фактора
вызвали это изменение. Во-первых, его собратья-заключенные
постоянно напоминали ему о его статусе дворянина, считали его
«барином» и отказывались обращаться с ним как с ровней.
Такое отношение, болезненное для Достоевского, заставило его
произвести переоценку своих связей с дворянством и
толкнуло к размышлениям об отличающих дворянство моделях
поведения. Во-вторых, общаясь с семьями декабристов,
Достоевский увидел, что репутация декабристов как людей, неизменно
охраняющих свою честь, положительно сказалась на
обращении с ними сибирских властей. Это открытие заставило его в
еще более положительном свете увидеть способность кодекса
чести защищать личное пространство и физическую
неприкосновенность человека. В-третьих, осознание того факта, что
после утраты своих дворянских прав он мог быть подвергнут
телесному наказанию, заставило его задуматься об
ограниченности личных свобод в России. А это опять обратило его мысли
к дуэли и ее роли в защите личного пространства.
Сибирский опыт в конечном итоге заставил Достоевского
увидеть дуэль как институт, усвоенный лучшими
представителями русского дворянства для зашиты своих личных прав,
включая право на физическую неприкосновенность. В 1870-е годы
он открыто связывал твердую приверженность декабристов
кодексу чести с их политическими взглядами: «У нас началось
с разврата. Чувство рыцарской чести вбивалось палкой.
Когда же дошли до того, что Ермолов сказал, отчего мы не
лорды, то ответ на вопрос сей последовал 14 декабря. Что такое
14 декабря? Бунт русских помещиков, пожелавших стать
лордами, тем не менее к ним примкнуло все великодушное и
молодое» («Записная тетрадь 1876—1877 гг.» [Достоевский, XXIV:
146]). Предполагаемое желание декабристов стать лордами
очевидно отсылает к Великой хартии вольностей с ее гарантиями
фундаментальных прав. Таким образом, Достоевский
приходит к взгляду на кодекс чести как на замену Великой хартии
вольностей, как на благородную и действенную систему, обее-
188 И. Рейфман. Ритуализованная агрессия
печивающую личные свободы. В записных книжках 1875—1877
годов Достоевский многократно упоминает об отсутствии или
слабости юридических гарантий индивидуальных прав в России
(то, что он называет «обеспеченность личности») и о
способности дуэли компенсировать этот недостаток («Записная тетрадь
1875—1876 гг.» и «Записная тетрадь 1876—1877 гг.»
[Достоевский, XXIV: 102, 229]). Он особенно высоко пенил возможность
с помощью поединка разрешать личные конфликты в обход
суда, поскольку такие дела, по его мнению, не могли и не
должны были разбираться публично. В подготовительных
материалах к «Дневнику писателя» говорится: «Дуэль. В
человеке, кроме гражданина, есть и лицо. Судья судит гражданина
и иногда совсем не видит лица. А потому всегда возможно
впечатление этого невидимого лица, которое остается только
с ним, и судья ничего в нем не увидит. Даже закон не
предусмотрит всех тонкостей. Но отнять лицо и оставить только
гражданина нельзя: вышло бы нечто хуже коммунарского стада»
[Достоевский, XXIV: 109; ср.: 135, 136, 149J. Достоевского
привлекала присущая дуэли способность защищать личное
пространство, одновременно и наказывая его нарушителей, и
разрешая взаимные разногласия, но не предавая их гласности.
Признавая, что кодекс чести может защищать личное
пространство, Достоевский никогда не идеализировал его. Он
всегда учитывал его негативные аспекты и возможность его
использования для удовлетворения эгоистических побуждений.
Сложность отношения Достоевского к кодексу чести и к дуэли
наилучшим образом передается в отрывке из подготовительных
материалов к «Дневнику писателя»: «Но начало чести... 200 лет
прививок, кроме того, человек есть человек: высший идеал
простить и величием невозмутимости своей, спокойствия
своего* при обиде — невольно покорить. Но когда еще люди будут
таковы? Между тем закон прямо требует идеал: прости. И не
соображает ответа: но ведь я ношу шпагу, где же честь, иначе
цинизм, и вам же, обществу же вред. Но ведь простить из
идеала— только свято, а простить из цинизма, из срама, из
цинизма эгоизма, т.е. трусости — подло. Но есть законы, —
говорит закон. То-то и есть, что нет» [Достоевский, XXIV:
262]. Для Достоевского дуэль — меньшее из двух зол.
Поскольку христианский идеал недостижим, под маской христианского
поведения может скрываться подлость. Человек обязан
защищать свое достоинство.
В последние голы жизни Достоевского очень беспокоила
наблюдаемая им тенденция к отрицанию важности чести. Он
рассматривал ее как угрозу нравственному здоровью общества.
Глава б. Как воздержаться от дуэли... 189
В 1870-е годы в особенности он неоднократно высказывался о
так называемом «праве на бесчестье». Используя старинный
русский юридический термин как в его исходном значении
(получение денежного возмещения за оскорбление), так и в
новом (право вести себя бесчестно), Достоевский клеймил
своих современников за их неспособность защищать свою личную
неприкосновенность и за неподобающее поведение по
отношению к другим. В мартовском выпуске «Дневника писателя» за
1876 год, а также в «Бесах» и «Подростке» Достоевский
объяснял эту новую тенденцию последствиями распространения
либеральной и радикальной философии [Достоевский, XXII: 101;
X: 288, 300; XIII: 454; ср.: XXII: 11; XXIV: 178, 229; XVI: 15, 276].
Достоевский не видел в русской действительности
альтернативы кодексу чести как средству защиты человеческого
достоинства и личного пространства. Закон, по его мнению,
адекватной защиты не предоставлял. Более того, даже пытаясь ее
предоставить, закон неоправданно, с точки зрения
Достоевского, вмешивался в личную сферу. Таким образом,
несмотря на свое нерусское происхождение и формальный подход к
человеческим конфликтам, дуэль чести, по мнению писателя,
выполняла необходимую функцию. Более того, она служила
пробным камнем моральных качеств человека, поскольку
неспособность защищать собственное достоинство и честь
означала для Достоевского в лучшем случае досадную слабость, а в
худшем — сознательный нравственный разврат. Именно
поэтому способность человека драться на дуэли (или воздержаться от
нее достойным образом) постоянно служит у Достоевского
важным критерием оценки героев. Дуэль также выступает у него
как инструмент самопознания и самосовершенствования.
Сталкиваясь с проблемой дуэли, наиболее благородные герои
Достоевского открывают в себе свои лучшие качества.
Право нл поединок:
Ранние произведения Достоевского
Достоевский в своих произведениях подвергает «испытанию
дуэлью» самых различных персонажей, многие из которых по
образу жизни и психологии весьма далеки от мира дуэли и
кодекса чести. В самом деле, дуэль кажется совершенно
неуместной в жизни героев раннего Достоевского. Скромный чин
делает невозможной дуэль как для Макара Девушкина, так и
для Голядкина. Формально оба они дворяне — вероятно,
благодаря своему чину титулярного советника, — но, поскольку их
190 И, Рейфман. Ритуализованная агрессия
дворянство, скорее всего, не является наследственным, они
относятся к низшим слоям этого сословия и не знают всех
тонкостей благовоспитанного поведения. Тем не менее в «Бедных
людях» и «Двойнике» Достоевский создает ситуации, которые
заставляют читателя задуматься о понятиях, традиционно
связанных с дуэлью, — о чести, достоинстве и добром имени. Его
персонажи проявляют повышенную чувствительность
относительно своей чести и репутации. В то же время они не имеют
четкого представления об этих понятиях и затрудняются
определить их для себя. Особенно важно, что они не имеют
четкого понятия своей личности, а следовательно, и уверенности в
себе, без чего успешная дуэль невозможна. В результате
каждый из них оказывается несостоятельным не только как
человек чести, но в каком-то смысле и просто как человек.
Слово «дуэль» ни разу не упоминается в «Бедных людях»,
и кажется, что характер протагониста, типичного
«маленького человека», не позволяет сюжету развиваться в этом
направлении. Тем не менее в ходе повествования Макар Девушкин
многократно рассуждает о чести, достоинстве, добром имени
и репутации, утверждая, что он, как и любой человек, имеет
на них право. Более того, он попадает в ситуацию, отдаленно
напоминающую дело чести: примерно в середине повести
пьяный Макар требует объяснений у обидчика Вари, офицера,
сделавшего ей «недостойное предложение», после чего его
вышвыривают из дома обидчика. В этом эпизоде как бы вновь
разыгрывается сцена из «Станционного смотрителя» Пушкина,
в которой отца выгоняют из дома соблазнителя его дочери. У
Достоевского, однако, этот эпизод вызывает мысль о дуэли,
чего нет у Пушкина. Сцена не только включает такие
элементы, как нанесение оскорбления невинной девушке и ее
благородному защитнику, но также провоцирует Макара на
размышления о чести и достоинстве. Слово «амбиция», часто
повторяемое им при обсуждении этого эпизода и
последовавших за ним событий, также отсылает читателя к идее дуэли (см.:
[Достоевский, I: 66—67]).
В словаре В.И. Даля, отражающем современное
Достоевскому употребление, слово «амбиция» означает эмоцию
сложную и не вполне положительную. В.И. Даль дает три
определения: внутреннее достоинство («чувство чести, благородства»),
внутренние отрицательные качества («самолюбие, спесь,
чванство») и преувеличенная потребность во внешнем признании
(«требование внешних знаков почета, уважения»)8.
Достоевский хорошо понимал отрицательные коннотации слова
«амбиция», судя по сделанному им в 1847 году замечанию о том, что
Глава 6. Как воздержаться от дуэли... 191
амбиция у русских указывает на недостаток у них уверенности
в себе. Кроме того, на одной из встреч петрашевцев
Достоевский говорил об амбиции в исключительно отрицательном
смысле, противопоставляя ее истинному чувству достоинства.
Он объяснял комитету, расследовавшему дело петрашевцев:
«[Я] хотел доказать, что между нами более амбиции, чем
настоящего человеческого достоинства, что мы сами впадаем в
самоумаление, в размельчение личности от мелкого
самолюбия, от эгоизма и от бесцельности занятий» [Достоевский,
XVIII: 129].
Макар же, по-видимому, не замечает отрицательных
значений слова «амбиция» и использует его как синоним таких
понятий, как достоинство, честь, гордость и самоуважение.
Так, он утверждает, что «амбиция [ему] дороже всего» и
говорит о своих врагах (бестактных писателях), которые нападают
«на честь и амбицию честного человека» [Достоевский, I: 65,
69]. Однако в ходе повествования объектом пристального
рассмотрения со стороны Макара (и читателя) становятся как
положительные, так и отрицательные коннотации этого
понятия, его внешние и внутренние аспекты.
Идеи уязвленной гордости, оскорбленной чести,
поруганного благородства и непризнанного достоинства, стоящие в
употреблении Макара за словом «амбиция», сами по себе
вызывают в памяти идею дуэли. Слово «амбиция» к тому же
является частью идиоматического выражения, современного
Достоевскому, — «я сегодня при амбиции», которое служило
юмористическим эквивалентом выражения «я сегодня при
шпаге»9. Шпага— оружие, которое могли носить только
дворяне, — означала знакомство человека с кодексом чести и его
готовность защищать свою честь на дуэли. Макар постоянно
повторяет, что у него есть амбиция, но при этом не способен
к дуэли. Он очевидно обеспокоен вопросами чести и
достоинства, но при этом не вполне понимает, как их определить и
особенно как вести себя в соответствии с ними.
Чувство чести у Макара действительно смутное и
неустойчивое. Он испытывает затруднения с употреблением слов,
связанных с кодексом чести. Например, в письме от 5
сентября Макар настаивает на том, что и он, и бедный шарманщик,
встреченный им на улице, — люди благородные: «Нищий,
нищий он, правда, все тот же нищий; но это благородный
нищий; он устал, он прозяб, но все трудится, хоть по-своему, а
все-таки трудится. <...> Вот и я точно так же, как и этот
шарманщик, то есть я не то, вовсе не так, как он, но в своем
смысле, в благородном-то, в дворянском-то отношении точ-
192 И. Рейфман. Ритуадизованиая агрессия
но так же, как и он, по мере сил тружусь, чем могу, дескать»
[Достоевский, I: 86—87|. Макар смешивает два значения
слова «благородный»: одно, обозначающее принадлежность к
дворянскому классу, другое — достоинства характера. Он даже
использует слово «дворянский» таким образом, как если бы оно
тоже обозначало превосходство характера, игнорируя тот факт,
что в русском языке это слово никогда не имело моральных
коннотаций и служило исключительно для обозначения
благородного сословия. Макар часто путается в словах подобным
образом. Эта путаница выражается в употреблении тавтологических
выражений («честь и амбиция честного человека») и в
несоответствии некоторых слов ситуации. Например, описывая, как
один чиновник побил другого, он называет манеру
совершенного втайне наказания «благородной» [Достоевский, I: 69, 671.
Ему не приходит в голову, что использование этого слова в
контексте телесного наказания абсурдно. Косноязычие
Макара часто значимо, поскольку оно не только привлекает
внимание к различию между истинной и ложной честью, но и
демонстрирует его неопытность и смущение в этой сфере.
Более того, чувство чести у Макара столь хрупко, что оно
может быть разрушено такими маловажными, казалось бы,
вещами, как дырки в сапогах («Сапоги в таком случае,
маточка, душечка вы моя, нужны мне для поддержки чести и
доброго имени; в дырявых же сапогах и то и другое пропало...»)
или оторвавшаяся пуговица («Нагнулся, хочу взять пуговку, —
катается, вертится, не могу поймать, словом, и в отношении
ловкости отличился. Тут уж я чувствую, что и последние силы
меня оставляют, что уж все, все потеряно! Вся репутация
потеряна, весь человек пропал!» [Достоевский, I: 76, 92]).
Хорошо известно, что беспокойство Макара о сапогах отсылает к
гоголевскому Акакию Башмачкину, такому же невзрачному
чиновнику-переписчику в прохудившихся сапогах, каким
является Макар. Важное различие между ними заключается в
уровне самосознания: Акакий не замечает впечатления,
производимого им на других, в то время как Макар так болезненно
застенчив и поэтому с таким рвением защищает свою личную
сферу, что любой сторонний взгляд кажется ему вторжением в
нее. Он полон решимости сделать все, чтобы мир не видел его
бедности, слабости, унижения. В письме от 1 августа он прямо
связывает достоинство с идеей защиты личного пространства:
«И ведомо каждому, Варенька, что бедный человек хуже
ветошки и никакого ни от кого уважения получить не может, что
уж там ни пиши! они-то, пачкуны-то эти, что уж там ни
пиши! — все будет в бедном человеке так, как и было. А отче-
Глава 6. Как воздержаться от дуэли... 193
го же так и будет по-прежнему? А оттого, что у бедного
человека, по-ихнему, все наизнанку должно быть; что уж у него
ничего не должно быть заветного, там амбиции какой-нибудь
ни-ни-ни!» Макар осуждает Гоголя за то, что тот, описывая
детали жизни своего героя, угрожает личному пространству и
достоинству всех «бедных людей». Нежелание бедного
человека открывать свое «заветное» для внешнего наблюдения Макар
сравнивает с девичьим стыдом [Достоевский, I: 68, 69|. Стыд,
устойчиво ассоциирующийся с личным пространством, —
эмоция, связанная как с внутренним чувством самоосуждения и
неадекватности, так и со страхом внешней оценки1". Макар с
его преувеличенной застенчивостью и стыдливостью похож не
столько на Акакия, сколько на Правина из повести Бестужева
«Фрегат Надежда». Их связывает, например, стыд по поводу
находящихся в беспорядке пуговиц11. Готовясь к посещению
бала, Правин всерьез озабочен своей внешностью: «То,
казалось мне, не выровнены пуговицы, то проглядывают кое-где
преступные складки». При всех различиях в их социальном
статусе тревога Макара и Правина очень сходна: в обоих случаях
она вызвана стыдом, понятым как честь, то есть чувством,
которое Бестужев определяет как «стень ложного стыда»
[Бестужев, II: 86]. Эта путаница свидетельствует о неправильном
понимании чести и достоинства как внешних качеств, и этим
маркируется несостоятельность Правина и Макара как людей
чести.
Взгляды Макара на честь как на нечто, зависящее от
внешней оценки, особенно спорны. Пересказывая Варе свое
неудачное столкновение с ее обидчиком, Макар настаивает на том,
что, несмотря на побои, честь его осталась нетронутой.
Примечателен аргумент, приводимый героем: если никто не видел
его унижения, значит, он не понес никакого морального
ущерба: «Конечно, я себя уронил и амбиция моя пострадала, но ведь
этого никто не знает из посторонних-то, никто, кроме вас, не
знает; ну, а в таком случае это все равно что как бы его и не
было». Для него только присутствие третьей стороны могло бы
превратить грубое обращение в настоящее оскорбление. Макар
подкрепляет свою интерпретацию рассказом о своем
«амбициозном» сослуживце-чиновнике, Петре Петровиче, которого
ударил по лицу («дерзнул на личность») его начальник Аксен-
тий Осипович. Петр Петрович не почувствовал оскорбления,
поскольку все произошло не на людях: «Он его зазвал в
сторожевую комнату, я это все в щелочку видел; да уж там он как
надобно было и распорядился, но благородным образом,
потому что этого никто не видал, кроме меня; ну, а я ничего, то
7. Заказ № 2522.
194 И. Рейфман. Ритуализоваппая агрессия
есть я хочу сказать, что я не объявлял никому. Ну, а после
этого Петр Петрович и Аксентий Осипович ничего. Петр
Петрович, знаете, амбициозный такой, так и он никому не
сказал, так что они и теперь кланяются и руки жмут»
[Достоевский, I: 67J.
Утверждение Макара, что нанесение бесчестья возможно
только при наличии свидетелей, заставляет вспомнить о
традиционной критике ложной чести как качества, зависящего в
большей степени от внешней оценки, чем от внутреннего
чувства добра и зла. В свете этой критики позиция Макара кажется
почти оправданной: в конце концов, он не сделал ничего
дурного, напротив— дурно поступили с ним. Однако логика
Макара доводит этот аргумент до абсурда: согласно его
рассуждению, оскорбление просто не имело места, если оно
произошло в отсутствие свидетелей12. Чтобы обнажить ущербность
логики Макара, Достоевский добавляет иронический поворот: в
обоих приводимых Макаром примерах бесчестье на самом деле
наносится при свидетелях. Варя, читая письмо, становится как
бы свидетелем унижения Макара, а сам Макар видит избиение
Петра Петровича. Макару не вполне удается убедить своей
логикой даже самого себя: он заканчивает свое письмо
неожиданным признанием как нанесенного ему бесчестья, так и
первостепенной важности внутренней оценки: «Я не спорю, я,
Варенька, с вами спорить не смею, я глубоко упал и, что
всего ужаснее, в собственном мнении своем проиграл...»
[Достоевский, I: 67].
Как мы помним, Правин у Бестужева тоже в конце
концов обнаруживает истинное значение понятия «честь» и,
чтобы искупить свое бесчестие, совершает самоубийство. В
повести Достоевского также представлена смерть «бедного
человеку», потерявшего честь и доброе имя. Сосед Макара
Горшков, чиновник, ошибочно обвинен в серьезном проступке,
но затем оправдан. Макар пересказывает Варе, как глубоко
Горшков потрясен нежеланием другого соседа признать, что
ему важнее восстановление чести, а не жалованья: «[Г]оворит:
"Честь моя, честь, доброе имя, дети мои", — и как говорил-
то! даже заплакал. <...> Ратазяев, видно, хотел его ободрить
и сказал: "Что, батюшка, честь, когда нечего есть; деньги,
батюшка, деньги главное; вот за что Бога благодарите!" — и
тут же его по плечу потрепал. Мне показалась, что Горшков
обиделся, то есть не то чтобы прямо неудовольствие высказал,
а только посмотрел как-то странно на Ратазяева да руку его с
плеча снял» [Достоевский, I: 97—98]. Оскорбительное
замечание Ратазяева очевидно способствует скоропостижной смерти
Глава 6. Как воздержаться от дуэли... 195
Горшкова, последовавшей вскоре после описанного Макаром
л in зола.
Молчаливый протест Горшкова напоминает сопротивление
самого Макара представлению, что «бедный человек хуже
ветошки» и «там амбиции какой-нибудь ни-ни-ни!».
Удивительно, однако, что Макар не винит Ратазяева, а вместо этого не
одобряет даже тот слабый отпор, который Горшков дал
своему бестактному соседу. Макар утверждает, что доброта важнее,
чем достоинство, и ради нее даже стоит иногда принять
некоторое унижение: «Вот я, например, на таких радостях
гордецом бы не выказался; ведь чего, родная моя, иногда и поклон
лишний и унижение изъявляешь не от чего иного, как от
припадка доброты душевной и от излишней мягкости сердца...»
[Достоевский, I: 98]. Очевидно, у Макара чувство чести не
столь развито, как у Правина и Горшкова, — или оно у него
менее жесткое. Макар не уверен в том, что всегда нужно
неукоснительно действовать в соответствии с требованиями
чести. Более того, он также не уверен и в том, что всегда
необходимо защищать свое личное пространство. Так, он охотно
расстается с правом на «заветное», когда считает нужным
предать гласности благородное поведение «его
превосходительства», который в отличие от безжалостного «его
превосходительства» из гоголевской «Шинели» отнесся к Макару с
состраданием: «Я, маточка, почел за обязанность тут же и мою
лепту положить, всем во всеуслышание поступок его
превосходительства рассказал; я все им рассказал и ничего не утаил.
Я стыд-то в карман спрятал. Какой тут стыд, что за амбиция
такая при таком обстоятельстве! Так-таки вслух — да будут
славны дела его превосходительства!» [Достоевский, I: 95]. Даже
злорадный смех сослуживцев не останавливает
исповедь-панегирик героя: добродетели его превосходительства важнее
амбиции Макара. Читатель видит в этой сцене несомненные
доброту и моральное совершенство Макара.
Чтобы подчеркнуть высокие нравственные качества
Макара, Достоевский противопоставляет его понимание
благородного поведения пониманию Быкова, единственного героя
повести, для которого, как для дворянина с чином и состоянием,
кодекс чести должен быть релевантен. В своем письме от
23 сентября, сообщая Макару о своей помолвке с Быковым,
Варя упоминает, что Быков назвал Макара «благородных
правил человеком» и предложил 500 рублей в качестве возмещения
за денежную помощь, прежде оказанную ей Макаром
[Достоевский, I: 100]. На фоне постоянных затруднений в
употреблении Макаром таких слов, как честь, достоинство и благород-
7*
196 И. Рейфмап. Ритуализованная агрессия
ство, использование Быковым слова «благородный» звучит
иронически. Предлагая Макару денежную компенсацию, он
придает этому слову исключительно моральный смысл, отрицая
сословный. Действительно, Быков не смог бы предложить денег
человеку равного с ним ранга, не рискуя при этом быть
вызванным на дуэль, поскольку такое предложение было бы
бесстыдным оскорблением чести как невесты, так и ее
покровителя. Более того, предложение Быкова настолько нескромно,
что оно исключает возможность любой претензии его самого на
нравственное достоинство и даже лишает его права
высказывать моральные оценки. Доброта Макара выгодно
противопоставляется неблагородному поведению этого, с позволения
сказать, дворянина.
Тем не менее неуверенность Макара в вопросах чести
демонстрирует его социальную неадекватность. Эта неуверенность
мешает ему протестовать против унизительного обращения
Быкова и не позволяет защитить от Быкова Варю. В конечном
счете доброта и чувствительность Макара не оправдывают его
несостоятельности в качестве человека чести. С точки зрения
Достоевского, конвенциональные формы поведения,
несмотря на их недостаточную гибкость и зависимость от внешней
оценки, предоставляют надежное руководство в некоторых
жизненных ситуациях. Они помогают отвечать на оскорбления,
вести себя с достоинством и защищать свое личное
пространство. Склонность Макара видеть две стороны в любом
нравственном вопросе — и, что особенно важно, его сомнение по
поводу того, кто он такой и чего он достоин, — препятствует
автоматическому следованию принятым моделям поведения.
Дуэль, основанная на условных правилах и требующая быстрых,
жестких и решительных действий, выходит, таким образом, за
пределы его возможностей. Неспособность Макара к
самоутверждению оборачивается катастрофой и для него, и для его
возлюбленной.
В «Двойнике» Достоевский демонстрирует, что, даже
мастерски владея конвенциональными формами поведения,
человек может не суметь защитить свое личное пространство,
поскольку для успешного самоутверждения необходимо также
твердое чувство собственного «я». Голядкину столь очевидным
образом не хватает этого чувства, что таинственный двойник
присваивает его имя, чин и в конце концов саму его личность.
Столкновение двух Голядкиных часто принимает формы
конфликта чести. Конечно, оба они мелкие чиновники,
скромные в своих привычках и образе жизни, и поэтому плохо
подходят на роль дуэлянтов. Однако в ходе повествования Голядкин-
Глава 6. Как воздержаться от дуэли... 197
младший сначала робко, а потом все более настойчиво
принимает на себя роль человека более высокого социального
статуса, чем его оригинал. Ему удается заменить собой, а затем и
уничтожить Голядкина-старшего. Он делает это сначала
нарушая его личное пространство, потом отказывая ему в статусе
человека чести и, наконец, аннулируя его как человека.
Появившись, Голядкин-младший немедленно начинает
оскорблять Голядкина-старшего. Сначала эти оскорбления
трудноуловимы и выражаются в неловком поведении, но они
быстро превращаются в унизительные нарушения личного
пространства Голядкина-старшего: «"Душка мой!!" — проговорил
господин Голядкин-младший, скорчив неблагопристойную
гримасу господину Голядкину-старшему, и вдруг, совсем
неожиданно, под видом ласкательства, ухватил его двумя пальцами
за довольно пухлую щеку. Герой наш вспыхнул как огонь...»
[Достоевский, I: 166]. Голядкин-старший правильно
интерпретирует фамильярность двойника как оскорбление своей чести.
Он чувствует, что, позволив такое обращение, он «замарал
себя и запачкал свою репутацию», и, судя по всему, намерен
отвечать на оскорбление соответствующим образом. Как
сообщает рассказчик Достоевского, он «[м]ожет даже решиться на
формальное нападение», то есть дуэль. Действительно,
вскоре Голядкин-старший пишет что-то похожее на вызов: «С
яростным хладнокровием и с самою энергическою решимостью
дошел Господин Голядкин до стула и уселся на нем. "Не
уйдешь!" — сказал он опять. Теперь дело шло не о пассивной
обороне какой-нибудь: пахнуло решительным, наступательным,
и кто видел господина Голядкина в ту минуту, как он,
краснея и едва сдерживая волнение свое, кольнул пером в
чернильницу и с какой яростью принялся строчить на бумаге, тот мог
уже заранее решить, что дело так не пройдет и простым каким-
нибудь бабьим образом не может окончиться. В глубине души
своей сложил он одно решение и в глубине сердца своего
поклялся исполнить его». Читатель может только догадываться,
какого рода решение это могло быть, поскольку и сам
Голядкин точно этого не знает: «По правде-то, он еще не совсем
хорошо знал, как ему поступить, то есть, лучше сказать, вовсе
не знал; но все равно, ничего!» Несмотря на это, настойчивое
утверждение рассказчика, что если Голядкин-старший и
ветошка, то «ветошка с амбицией», укрепляет мысль о поединке
|Достоевский, I: 167—1681.
Оскорбления Голядкина-младшего кристаллизуют чувство
чести в Голядкине-старшем. Тем не менее из описания
рассказчиком действий Голядкина можно заключить, что мы видим
198 И. Рейфман. Ритушизоеаиная агрессия
здесь лишь пустую форму и, несмотря на попытки вести себя
согласно кодексу чести, Голядкин на самом деле не способен
к дуэли. Он слишком робок и не уверен в своем праве на
личное пространство (даже на собственное имя, комнату,
служебное место и тело — все это присвоил себе его двойник), чтобы
быть принятым всерьез своим противником. Чувство
достоинства у Голядкина-старшего столь хрупко, что он пугается
собственных попыток восстановить свою честь. Так, послав одно
из многочисленных писем с требованиями объяснений и
извинений от своего соперника, он немедленно сожалеет об этом
и упрекает себя за чрезмерную чувствительность по поводу своей
чести, которую он, как и Макар, описывает в терминах
амбиции: «И зачем я его написал? и нужно было мне его написать!
Расскакался, дуралей, я с амбицией! Туда же полез за
амбицией! Вот тебе и амбиция, подлец ты этакой, вот и амбиция!*
[Достоевский, I: 178].
По ходу развития действия рассказчик продолжает
описывать противостояние двух Голядкиных как конфликт чести.
Голядкин-старший беспокоится, что двойник опозорит его
фамилию: «Пожалуй, еще дурно себя поведет да фамилью мою
замарает, мерзавец». Он обвиняет Голядкина-младшего в
нанесении «ущерба моей чести», и, в самом деле, это его
беспокойство не лишено основания: сослуживец Голядкина Вахрамеев
упрекает его за потерю «амбиции и репутации» [Достоевский,
I: 172, 175, 181]. В конце концов Голядкин-старший
вызывает своего двойника на дуэль — по крайней мере, это как будто
следует из некоторых выражений последнего письма его к
сопернику. Он требует, чтобы Голядкин-младший «посторонился
и дал путь людям истинно благородным и с целями
благонамеренными», и выражает готовность драться: «В противном же
случае готов решиться даже на крайние меры. Кладу перо и
ожидаю... Впрочем, пребываю готовым на услуги и — на
пистолеты». Голядкин-младший игнорирует вызов и продолжает
оскорблять Голядкина-старшего. Дважды он подчеркнуто
отказывается пожать руку своей жертве и даже обтирает свою руку,
после того как тот до нее дотрагивается. В другой раз
Голядкин-старший решает восстать на своего мучителя. Он
преследует двойника, намереваясь сделать что-то такое, чего делать
«при дамах нельзя», и это снова наводит на мысль о дуэли.
Двойник опять уходит от столкновения13 [Достоевский, I: 188,
195, 204-2051.
В конце концов Голядкин-старший, настигнув своего
врага, называет его подлецом и развратным человеком. Как
правило, такие оскорбления делали дуэль неизбежной. Голядкин-
Глава б. Как воздержаться от дуэли,.. 199
младший не идет на провокацию, а неожиданно соглашается
с обвинителем: «Ну, и подлец... Ну, и развратный человек...»
[Достоевский, I: 218]. Его отказ принять оскорбление сам по
себе чрезвычайно оскорбителен, поскольку подразумевает
отношение к Голядкину-старшему как к неровне. Кроме того,
таким образом жертва лишается средства восстановить свою
честь. Как мы видели, выходом из такой ситуации может быть
только убийство или самоубийство. Однако случай Голядкина
представляет собой парадокс: дуэль с собственным двойником
неотличима от самоубийства, а самоубийство от убийства. Здесь
окончательно проясняется своеобразие положения Голядкина:
он находится в конфликте с самим собой, но не понимает
этого. На его личное пространство парадоксальным образом
посягнул некто, неотличимый от него самого.
Конвенциональные формы поведения здесь не подходят. Они оказываются
одновременно неэффективными и саморазрушительными.
Аннигиляция Голядкина неизбежна.
В отличие от Макара Голядкин знаком с
конвенциональными формами поведения; он даже отчасти сведущ в дуэльном
ритуале. Однако это нисколько не помогает ему: оказывается,
что знать все условности и даже следовать им недостаточно.
Чтобы защитить свою честь на дуэли, необходимо добиться
согласия соперника. Голядкин-старший, неспособный на это
и, таким образом, не способный самоутвердиться, уничтожен.
Его беспомощность в качестве человека чести связана с его
несостоятельностью как человека — он не вполне уверен, что
он действительно не просто «ветошка с амбицией».
Достоевский демонстрирует, что эффективность дуэльного поведения
зависит не только от знания правил ведения дела чести, но и
от твердого чувства собственного «я».
Следующее произведение Достоевского, в котором дуэль
играет значительную роль, «Униженные и оскорбленные»,
написано после возвращения автора из Сибири, где он
переосмыслил ценность кодекса чести и дуэли. Если в «Двойнике»
изображается «экспериментальная», воображаемая ситуация, то
события в «Униженных и оскорбленных» вполне реалистичны
и допускают возможность дуэли. Все участники более-менее
равны: все знакомы с кодексом чести и дуэльным ритуалом,
все являются людьми, достаточно уверенными в себе. Тем не
менее и в этом произведении возникает затруднение с
утверждением героя себя как дуэлянта: Ихменев и Ваня сталкиваются
с ситуацией, похожей на голядкинскую: их враг, князь Петр
Валковский, отказывается принять их вызовы. Однако в этом
случае обесчещенным оказывается сам Валковский. Его отказ
200 И. Рейфман. Ритуализованпая агрессия
принять вызов в конце концов приводит к его полному
поражению. Таким образом, в этом романе Достоевский
исследует новый вопрос: что происходит с человеком, сознательно и
цинично игнорирующим кодекс чести?
Первый дуэльный эпизод развертывается, когда Ихменев
решает вызвать Валковского на дуэль, чтобы отомстить за
бесчестье своей дочери. Он просит Ваню быть его секундантом.
Ване удается отговорить его от вызова, который к тому же
отличался бы отклонениями от поведенческой модели, которой
должен был следовать вызывающий на дуэль. Во-первых,
Ихменев хочет вызвать отца соблазнителя, а не самого
соблазнителя, Алешу. Этот необычный шаг подчеркивает
инфантильность и безответственность Алеши. Во-вторых, Ихменев просит
Ваню быть его секундантом, отводя ему таким образом крайне
не подходящую роль, поскольку Ваня, будучи влюблен в
Наташу, является заинтересованной стороной. Наконец,
примечателен и тот факт, что именно отец Наташи намеревается
драться за ее честь. Семейное положение и в особенности
возраст делали Ихменева необычным дуэлянтом. Ситуация же,
при которой отец защищал честь дочери, встречалась столь
редко, что современники считали такие случаи достойными
особого внимания — как, например, в случае с Пахомом
Черновым, выразившим намерение принять участие в дуэли своих
сыновей с Новосильцевым. Своим поступком Ихменев,
очевидно, хочет подчеркнуть серьезность ситуации.
Не исключено, что Достоевский в данном случае
действительно имел в виду дуэль Новосильцева и Чернова. Мы можем
с достаточной уверенностью утверждать, что он знал
обстоятельства того поединка: поединок был одним из самых
знаменитых в России и входил в декабристское предание, которым
Достоевский очень интересовался14. Более того, это
происшествие было прототипнческой дуэлью в защиту девичьей чести
в условиях социального неравенства участников, то есть
представляло собой именно ту ситуацию, которую изображает
Достоевский. Валковский, «один из блестящих представителей
высшего петербургского общества», имеет «немалый чин,
значительные связи» и богатство. В противоположность ему
Ихменев «происходил из хорошей семьи, но давно уже
обедневшей» и был женат на «бедной дворяночке». Достоевский
привлекает внимание к родословной Ихменевых. Как и
Черновы, Ихменевы принадлежат к старинному, допетровскому
дворянству, предки которого оставили значительный след в
национальной истории. Ихменев излагает свою родословную
жене: «Щ|елый-то вечер мне нашу родословную толковал. Так
Глава 6. Как воздержаться от дуэли... 201
вот и выходит, что мы-то, Ихменевы-то, еще при Иване
Васильевиче дворянами были, а что мой род, Шумиловых, еще
при Алексее Михайловиче известен был, и документы есть у
нас, и в истории Карамзина упомянуто» [Достоевский, III: 180,
179, 218]. Примечательно, что Достоевский дает своим
героям генеалогию, отсылающую к родословной Евгения из
«Медного Всадника». Отсылая к дуэли Чернова с Новосильцевым
и к поэме Пушкина, Достоевский помещает ссору Ихменева с
Валковским в контекст противостояния «старого дворянства»
«новой аристократии».
Однако между конфликтами Новосильцева с Черновым и
Ихменева с Валковским есть кардинальное различие: Валковс-
кий отказывается драться с Ихменевым. Несмотря на
неравенство их состояний и разницу положений в свете, Ихменев и
Валковский равны перед лицом кодекса чести. Новосильцеву
и в голову не пришло не принять вызов Чернова. Он мог
отказаться жениться на «Пахомовне», но не мог не принять вызова
от «Пахомовича», поскольку тот был дворянином. Однако Ваня
сразу же подозревает, что Валковский найдет возможность
избежать поединка: «Неужели ж вы могли хоть одну минуту
думать, что князь примет ваш вызов?» Твердо сознавая свои права
дворянина, Ихменев не верит в возможность отказа: «Помилуй,
братец, помилуй! Ты меня просто сразил после этого! Да как
же это он не примет? Нет, Ваня, ты просто какой-то поэт;
именно, настоящий поэт! Да что ж, по-твоему, неприлично,
что ли, со мной драться? Я не хуже его. Я старик,
оскорбленный отец; ты — русский литератор, и потому лицо тоже
почетное, можешь быть секундантом и... и... Я уж и не понимаю,
чего ж тебе еще надобно...» [Достоевский, III: 292]. Однако в
итоге оказывается, что прав был Ваня. Валковский избегает
дуэли с помощью вполне законного и абсолютно бесчестного
маневра: он выдает Ихменева полиции. Старик арестован и
заключен в участок.
Закон, начиная с раннего петровского антидуэльного
законодательства, обязывал любого человека, осведомленного о
готовящемся поединке — будь то секундант, вызванная
сторона, случайный свидетель или даже врач, — сообщить об этом
властям. На практике такие доносы делались редко,
поскольку угроза бесчестья перевешивала любые выгоды, которые
могло предоставить покровительство закона. Во время
конфликта Бахметева с Кушелевым прошел слух о том, что Бахме-
тев ищет защиты у полиции, и это обстоятельство вынудило его
принять вызов и драться, чего он явно не хотел. Рылеев
ударил фон Дезина хлыстом по лицу за то, что тот якобы пытался
202 И. Рейфман. Ритуадизаванная агрессия
потребовать наказания обидчика, обратившись в полицию. Этот
случай особенно ярко демонстрирует, что могло произойти с
тем, кто обращался к покровительству закона.
Достоевский, как и многие его современники, полагал, что
кодекс чести находится в состоянии упадка. Таким образом, с
точки зрения Достоевского, поведение Банковского
демонстрировало нравственную деградацию русского общества. Р.Г. На-
зиров предполагает, что автор «Униженных и оскорбленных»,
возможно, имел в виду реальное дело, а именно конфликт
между A.M. Гедеоновым, главным администратором
императорских театров, и P.M. Зотовым, возглавлявшим репертуарную
часть. По слухам, Зотов вызвал своего начальника, который
показал вызов министру двора П.М. Волконскому, а тот, в
свою очередь, Николаю I. Николая, по слухам, это дело
позабавило, и он решил не наказывать Зотова слишком строго,
лишь вынудив его уйти в отставку без пенсии. Гедеонов, как
Валковский, избежал дуэли, обратившись к властям15.
Другим противником Банковского оказывается Ваня.
Сначала Валковский дразнит и унижает его, но в конце концов
получает по заслугам: Ваня не только дает Валковскому
пощечину, но и плюет ему в лицо, подслушав, как Валковский
предлагает Наташе стать любовницей графа Н. В соответствии
с традициями русской дуэли в действиях Вани крайняя степень
оскорбления сочетается с физическим наказанием: «В эту
минуту я отворил дверь и бросился на князя. Я плюнул ему в лицо
и изо всей силы ударил его по щеке». Князь реагирует
позорным образом: «Он хотел было броситься на меня, но, увидев,
что нас двое, пустился бежать, схватив со стола свою пачку с
деньгами. Да, он это сделал; я сам видел». Потерпев
бесчестие, князь демонстрирует два порока, несовместимых с идеей
чести, — трусость и жадность. Он принимает от Вани
пощечину, тем самым признавая, что Ваня выше его. После этого он
достоин разве что обыкновенных (даже комических) побоев: «Я
бросил ему вдогонку скалкой, которую схватил в кухне, на
столе» [Достоевский, III: 405]. Униженный обращением Вани,
Валковский больше не представляет опасности для других
героев и практически исчезает со страниц романа. Его
низменное поведение буквально обращает его в ничтожество.
В «Бедных людях», «Двойнике» и «Униженных и
оскорбленных» Достоевский исследует различные аспекты дуэльного
поведения, подвергая испытанию героев с различными
социальными и психологическими особенностями. Макар, хотя и
знает о необходимости защищать свое личное пространство,
незнаком с кодексом чести и конвенциональными формами
Глава 6. Как воздержаться от дуэли... 203
поведения. Его несостоятельность как человека чести разрушает
его судьбу и судьбу его возлюбленной. В противоположность
ему Голялкин знаком с кодексом чести, но так мало верит в
себя, что в конце концов теряет свою идентификацию.
Поскольку за отчаянными попытками Голядкина-старшего
утвердить свое достоинство не стоит никакое реальное «я», Голяд-
кин-младший, отказывая ему в праве на поединок, уничтожает
его. Наконец, столкновения Ихменева и Вани с Валковским
показывают, что, хотя расчет на выполнение условных правил
поведения и на согласие противника составляет слабую
сторону дуэли, все же кодексом чести нельзя пренебрегать
безнаказанно. Валковский побежден потому, что он отказывается
уважать кодекс чести. Достоевский подробно исследует
последствия как неумения добиться дуэли, так и неоправданного
отказа от нее в «Записках из подполья».
ПОДПОЛЬНЫЙ ЧЕЛОВЕК КАК ДУЭЛЯНТ-НЕУДАЧ НИК
В «Записках из подполья» Достоевский вновь рассматривает
многие связанные с дуэлью вопросы, которые он исследовал
в ранних произведениях. Теперь он делает это применительно
к герою, знакомому с кодексом чести и либо неспособному,
либо не желающему ему следовать. Кроме того, зная, что в
России дело чести может включать физическую агрессию,
подпольный человек испытывает затруднения, связанные как с
ритуалом дуэли, так и с агрессией. Литература, которая
является для него основным источником информации о кодексе
чести, не готовит его ни к формальной дуэли, ни к
рукопашному бою, к которому должен быть готов русский дуэлянт.
Изображая подпольного человека дуэлянтом-неудачником,
Достоевский подчеркивает как его неумение следовать
условным формам поведения, так и его общую человеческую
несостоятельность. В то же время «Записки из подполья»
демонстрируют, что дуэль — несовершенное средство самоутверждения.
Достоевский также намечает возможный путь к разрешению
проблем, присущих дуэльному поведению вообще и в русском
контексте в особенности.
В своей статье о «Записках из подполья» В. Ледницкий
демонстрирует, что «Записки» отсылают к четырем
произведениям, в которых развивается тема дуэли: «Выстрелу» Пушкина и
«Маскараду» Лермонтова (оба произведения упоминаются в
«Записках из подполья»), а также повестям Тургенева
«Дневник лишнего человека» и «Бретёр»16. Представляется, что этот
204 И. Рейфман. Ритуализованная агрессия
список можно также дополнить «Записками маркера»
Толстого и незаконченной «Княгиней Лиговской»17. Наконец,
общеизвестно, что роман «Что делать?» является важным
интертекстом «Записок подпольного человека». Существенно, однако,
что он релевантен и для дуэльной тематики произведения
Достоевского. Все эти литературные ассоциации имеют большое
значение, поскольку они предлагают литературную
родословную подпольного человека, характеризуют его мировоззрение,
во многом сформированное литературными влияниями, и
контрастно оттеняют его поведение как дуэлянта.
Подпольного человека часто трактуют как «лишнего
человека». Такая литературная генеалогия автоматически
подразумевает участие в дуэлях, поскольку практически все «лишние
люди», включая и самого скромного из них, тургеневского
Чулкатурина, проходят испытание дуэлью. Однако
подпольный человек многими своими чертами напоминает другой
литературный тип, тот, к которому принадлежат Девушкин и
Голядкин, — «маленького человека». Это делает его плохим
кандидатом на роль дуэлянта. Как и другие «маленькие люди»,
подпольный человек— невзрачный чиновник, некрасивый,
бедно одетый и, как кажется, беззащитный. Его дворянство
подозрительно: возможно, он дворянин только благодаря чину,
полученному на службе его отцом или им самим. Характерно,
что у них с Голядкиным один начальник — Антон Антоныч Се-
точкин. Кроме того, Достоевский устанавливает родство
подпольного человека с гоголевскими Акакием Акакиевичем и По-
прищиным, прототипическими «маленькими людьми». Как
Акакий Акакиевич, герой «Записок из подполья» тяготится
состоянием своей шинели и занимает денег у начальника на ее
починку. Как Попри щи н, который огорчен тем, что все
блага жизни достаются генералам и камер-юнкерам, подпольный
человек-раздражен близостью Зверкова к «генералам,
полковникам и даже камер-юнкерам» [Достоевский, V: 144].
Учитывая такую генеалогию, легко предположить, что этот герой
окажется не способным следовать кодексу чести.
Эта неспособность отражается в одной из самых первых
реплик подпольного человека. Комментируя свое извращенное
желание получить пощечину, сорокалетний рассказчик
демонстрирует отличное понимание оскорбительной символики
такого удара, но оказывается бессильным как-либо ему
противостоять. Он не способен ответить обидчику ни вызовом, ни
ударом: «Наконец, если б даже я <...> пожелал бы отмстить
обидчику, то я и отмстить ни в чем никому бы не мог, потому
что, наверное, не решился бы что-нибудь сделать, если бы
Глава 6. Как воздержаться от дуэли... 205
даже и мог» [Достоевский, V: 103|. Ом знает это по
собственному опыту: много лет назад, когда ему было двадцать четыре
года, его толкнул некий офицер в бильярдной комнате
грязного трактира. Не умея ни дать сдачи, ни вызвать обидчика на
дуэль, подпольный человек безропотно перенес оскорбление.
Собственное бездействие он объясняет прежде всего
неуверенностью в своем праве на поединок. Он убежден, что
офицер откажет ему, и приводит длинный список причин для
отказа: «О, если б этот офицер был из тех, которые соглашались
выходить на дуэль! Но нет, это был именно из тех господ (увы!
давно исчезнувших), которые предпочитали действовать
киями или, как поручик Пирогов у Гоголя, — по начальству. На
дуэль же не выходили, а с нашим братом, с штафиркой,
считали бы дуэль во всяком случае неприличною, — да и вообще
считали дуэль чем-то немыслимым, вольнодумным,
французским, а сами обижали довольно, особенно в случае десяти
вершков росту» Щостоевский, V: 128].
Перечень подпольного человека полон противоречий и
несоответствий. Во-первых, кажется лишенным логики его
сожаление об исчезновении таких дворян, как его противник. Во-
вторых, в его пересказе искажен эпизод с Пироговым. В
повести Гоголя Пирогов скорее обиженный, а не обидчик: он
высечен мужем женщины, за которой пытался ухаживать.
Чтобы отомстить за полученную обиду, он было намеревается
пожаловаться генералу и написать письмо в «Главный штаб».
Однако вскоре он забывает о случившейся с ним неприятности
и ничего не предпринимает. Такое поведение характерно
скорее для подпольного человека, чем для его обидчика-офицера.
Подпольный человек дает четыре объяснения ожидаемому
отказу офицера драться с ним, которые плохо совместимы друг
с другом. Первое объяснение («на дуэль же не выходили»)
предполагает, что для человека не существует кодекса чести, в то
время как второе («с нашим братом, с штафиркой, считали бы
дуэль во всяком случае неприличною») подразумевает, что
человек имеет чрезмерное чувство чести и согласен драться
только с равными себе, в данном случае с военными. Третье
объяснение («считали дуэль чем-то немыслимым,
вольнодумным, французским») фактически неверно: французские
вольнодумцы критиковали дуэль. Если же под вольнодумцами
имеются в виду либертины, то отвращение к ним проводящего
время в трактире за бильярдом офицера также
труднообъяснимо. Наконец, четвертое объяснение, физическое
превосходство офицера («сами обижали довольно, особенно в случае
десяти вершков росту»), предполагает человека, который, за-
206 И. Рейфмин. Ритудяизованная агрессия
щищая свое личное пространство, полагается на физическую
силу. В России физический ответ на оскорбление не
исключал последующей дуэли, но, разумеется, давал преимущество
сильнейшему — и это обстоятельство, похоже, особенно
тревожит подпольного человека. Характерно, что каждый из
приведенных мотивов представляет отдельную точку зрения на
дуэль, несовместимую с другими, но офицер, в воображении
героя, руководствуется всеми одновременно. Этот эклектизм
демонстрирует нечеткость представлений подпольного
человека о кодексе чести и его беспокойство по поводу роли грубого
насилия в русском дуэльном поведении. Выдвигаемые
подпольным человеком множественные причины, по которым ему не
следовало вызывать обидчика, могут также прикрывать его
неспособность к ведению дела чести. В этой перспективе второе
и четвертое объяснения ожидаемого отказа офицера требуют
отдельного рассмотрения.
Вопрос равенства, со всем его идеологическим зарядом в
русском контексте, мог быть реальной проблемой для будущих
дуэлянтов. Среди наиболее существенных препятствий были род
службы (военная в противоположность штатской) и возраст18.
В романе Лермонтова «Княгиня Литовская» Печорин не хочет
драться с чиновником Красинским, не только не офицером,
но и членом, как ему представляется, низшего социального
круга. В «Записках маркера» Толстого «большой гость»,
оттолкнувший Нехлюдова во время игры в бильярд, отказывается
принять вызов от молодого человека: «"Никакого, — говорит, —
удовлетворения знать не хочу! Он мальчишка, больше ничего.
Я его за уши выдеру"» [Толстой, II: 41]. Разумеется, человек,
отказавшийся драться, рисковал бесчестьем, поэтому Печорин
меняет свое решение и объявляет, что готов к поединку.
Противник Нехлюдова настаивает на своем отказе и платит за это
тем, что его перестают принимать в бильярдной, где произошло
столкновение.
Тем не менее самоутверждение оставалось делом
вызывающей стороны. У подпольного человека было много моделей
для подражания. Так, например, Пушкин, едва выйдя из
подросткового возраста, ни в коей мере не позволял своей
молодости и незначительному чину помешать ему настоять на
своем праве на дуэль. Иван Лажечников вспоминает, как зимой
1820 года Пушкин поссорился с неким майором Денисевичем,
сделавшим ему замечание за шумное поведение в театре. На
следующее утро Пушкин явился к Денисевичу со своими
секундантами, но офицер отказался от дуэли, мотивируя свой
отказ превосходством в чине и возрасте: «Я не могу с вами
Глава 6. Как воздержаться от дуэли... 207
драться, — сказал он, — вы молодой человек, неизвестный, а
я штаб-офицер*. Пушкин настаивал, что их равенство как
дворян важнее их неравенства в чине и возрасте: «Я русский
дворянин, Пушкин: это засвидетельствуют мои спутники, и
потому вам не стыдно иметь будет со мной дело»19. Денисевич,
все же не желая драться, вынужден был принести Пушкину
извинения.
Воспоминания Лажечникова были напечатаны в «Русском
вестнике» в 1858 году. Примерно в то же время начали
появляться в печати воспоминания как о декабристах, так и самих
декабристов. Так, например, рассказ Николая Бестужева о
столкновении Рылеева с фон Дезином был опубликован в
«Полярной звезде» Герцена в 1861 году. Таким образом,
Достоевский мог быть знаком с этими и подобными мемуарами еще
до начала работы над «Записками из подполья»20. Но даже если
Достоевский и не знал этих воспоминаний, ему была
отлично знакома бретерская ментальность русских дворян начала
XIX века, особенно поколения декабристов. Он знал, что это
поколение создало атмосферу, в которой было почти
невозможно отказаться от дуэли, даже с человеком низшим по
служебному чину или социальному положению. На какие бы
конкретные образцы ни ориентировался Достоевский, он явно
ожидал, что читатель сопоставит реакцию подпольного
человека на оскорбление с реакциями дуэлянтов поколения
Пушкина и декабристов21. На этом фоне поведение героя
Достоевского не выдерживает критики.
Более того, подпольный человек не такой уж «маленький»,
каким он себя изображает. Он может быть некрасив,
застенчив и бедно одет, но он, конечно уж, не беззащитен. Он
унижает просителей в своем департаменте, в том числе и
офицера, который раздражал его тем, что «омерзительно гремел
саблей» [Достоевский, V: 100). Его чин коллежского асессора
не так уж мал: он принадлежит к восьмому классу Табели о
рангах и, таким образом, соответствует званию майора в
армии (как известно, Ковалев в повести «Нос» использует это
соответствие, чтобы «повысить» свой социальный статус)22. Для
сравнения: с 1817 по 1824 год Пушкин имел чин коллежского
секретаря и, таким образом, принадлежал к девятому классу —
тому самому, что и несчастные титулярные советники русской
литературы, от Башмачкина и Поприщина до Девушкина и
Голядкина. Разумеется, место человека в русской социальной
иерархии определялось не только чином, но и родословной и
связями. Тем не менее чин приносил с собой, по крайней мере
теоретически, все привилегии дворянства, включая негласное
208 И. Рейфман. Ритуадизовшшая агрессия
право на поединок. Однако, несмотря на очевидное желание,
подпольный человек не может утвердить за собой это право.
Приверженцы кодекса чести также могли бы отвергнуть
ссылку подпольного человека на физическое превосходство
офицера. Сдерживающую функцию выполняла не столько
реальная способность человека защищаться в рукопашном
поединке, сколько сама готовность постоять за себя. В русской
дуэли, включавшей существенный элемент грубого физического
насилия, такая решимость давалась труднее, но это не
освобождало слабейшего от необходимости должным образом
ответить на оскорбление. Нехлюдов в повести Толстого, —
«тоненький, молоденький, как девушка красная*, а его обидчик —
«мужчина здоровый, высокий — куда Нехлюдову!» |Толстой,
II: 40]. Эта несоразмерность, однако, не мешает Нехлюдову
противостоять сопернику и победить его, несмотря на
попытку «большого гостя» ударить Нехлюдова. Подпольный человек
лишен подобной решимости: «Ссора, впрочем, была в моих
руках: стоило попротестовать, и, конечно, меня бы спустили
в окно. Но я раздумал и предпочел... озлобленно
стушеваться» [Достоевский, V: 128]. Характерно, что он сам понимает,
что быть выброшенным из окна достойнее, чем проявить
бездействие.
Значит ли это, что подпольный человек просто трус? Сам
он это отрицает: «Струсил я тут не из трусости, а из безгранич-
нейшего тщеславия. Я испугался не десяти вершков росту и не
того, что меня больно прибьют и в окно спустят; физической
храбрости, право, хватило бы; но нравственной храбрости
недостало». Далее он разъясняет: «Я испугался того, что меня все
присутствующие, начиная с нахала маркера до последнего
протухлого и угреватого чиновничишки, тут же увивающегося, с
воротником из сала, — не поймут и осмеют, когда я буду
протестовать и заговорю с «ими языком литературным. Потому что
о пункте чести, то есть не о чести, а о пункте чести (point
d'howieur), у нас до сих пор иначе ведь и разговаривать нельзя,
как языком литературным. На обыкновенном языке о "пункте
чести" не упоминается» [Достоевский, V: 128—129]. Таким
образом, в действительности подпольному человеку мешает
постоять за себя не его социальное положение или слабое
сложение, и даже не его трусость, а неуверенность в том, как именно
следует себя вести, чтобы утвердить себя. Он не знает, какие
слова надо использовать для защиты своего личного
пространства. Пушкин и Рылеев прекрасно знали, что следует говорить
в таких ситуациях. Нехлюдов в повести Толстого тоже легко
находит подходящие слова: «[Нехлюдов] подошел к нему, по-
Глава 6. Как воздержаться от дуэли... 209
бледнел весь, а говорит как ни в чем не был, учтиво так: иВы
бы прежде, сударь, должны извиниться: вы толкнули меня", —
говорит» (Толстой, II: 40|. Зверков, противник подпольного
человека в другом конфликте чести, тоже хорошо знает
светские условности. Он умело использует общепринятые
формулы оскорбления, чтобы унизить подпольного человека:
«Обидели? В-вы! Ми-ня! Знайте, милостивый государь, что вы
никогда и ни при каких обстоятельствах не можете меня
обидеть!» [Достоевский, V: 148J.
В противоположность ему, подпольный человек не обладает
четким знанием словесного этикета, позволяющего человеку
автоматически утвердить себя. Когда позднее по ходу сюжета он
пытается вызвать на дуэль друга Зверкова Ферфичкина,
обнаруживается, что он действительно не знает правильных слов. Его
вызов звучит стилистически неловко, обычная формула
вызова («дадите мне удовлетворение») сочетается в нем с
нестандартным словом «сейчашние». Неудивительно, что противник не
может всерьез отнестись к такому вызову: «"То есть дуэль-с?
Извольте", — отвечал тот, но, верно, я был так смешон,
вызывая, и так это не шло к моей фигуре, что все, а за всеми и
Ферфичкин, так и легли со смеху» [Достоевский, V: 146|.
Подпольный человек выглядит неправдоподобно в роли
дуэлянта, поскольку все известные ему способы ответной
реакции на оскорбление заимствованы из литературы. Он не
уверен в себе, поскольку подозревает, что в настоящем конфликте
чести литературные условности не соблюдаются. Не сумев
ответить на толчок офицера, подпольный человек жалуется: «Черт
знает что бы дал я тогда за настоящую, более правильную
ссору, более приличную, более, так сказать, литературную*.»
Однако он неправильно трактует и литературную традицию
дуэли. Даже подражая литературным дуэлянтам, он делает
ошибки, которых не совершил бы настоящий приверженец
кодекса чести в русской литературе. Так, например, он пишет
экзальтированное письмо своему обидчику и ожидает на это
столь же экзальтированного ответа: «Наконец я решился вызвать
противника моего на дуэль. Я сочинил к нему прекрасное,
привлекательное письмо, умоляя его передо мной извиниться;
в случае же отказа довольно твердо намекал на дуэль. Письмо
было так сочинено, что если б офицер чуть-чуть понимал
"прекрасное и высокое", то непременно бы прибежал ко мне,
чтобы броситься мне на шею и предложить свою дружбу»
(Достоевский, V: 128— 129|. Похоже, что подпольный человек
ожидает, что офицер последует примеру Милорда Эдуарда,
который, получив письмо Юлии, в котором объясняется, как
210 И. Рейфман. Ритуадизовтшая агрессия
благороден Сен-Пре и как благородно было бы не драться с
ним, со всех ног бросается к Сен-Пре и на коленях молит его
о прощении23. Очевидно, подпольный человек не
подозревает, что такое сентиментальное разрешение конфликта, столь
органичное для персонажей Руссо, не было одобрено русской
литературной традицией. Русские литературные дуэлянты всегда
защищают свое доброе имя от малейших подозрений в
бесчестье. Некоторые из них пишут письма перед дуэлью, но они
никогда не предают их гласности до окончания поединка.
Герой повести Евдокии Ростопчиной «Поединок» (1838),
Дольский (известный своим нежеланием участвовать в поединках из
возвышенных соображений), пишет экзальтированное письмо
человеку, вызвавшему его на дуэль. Однако его противник
получает письмо лишь после гибели Дольского на дуэли.
Несмотря на свое необычное отношение к дуэли, Дольский
понимает, что, будучи посланным до поединка, такое письмо
покажется попыткой избежать столкновения и обесчестит его
автора. По-видимому, подпольный человек не замечает, что
русские литературные герои всегда удерживают свои
великодушные и возвышенные порывы в жестких рамках кодекса чести.
Правда, он не посылает свое письмо офицеру и потом
благодарит Бога, что не сделал этого. Однако он делает еще более
грубую ошибку, извиняясь перед Ферфичкиным вскоре после
того, как вызвал его. Он делает это из возвышенных чувств,
но кодекс чести нетерпим к такому несвоевременному
великодушию, поэтому извинение немедленно приносит ему
обвинение в трусости: «иАга! дуэль-то не свой брат!" — ядовито
прошипел Ферфичкин» [Достоевский, V: 147]. Попытки
подпольного человека объясниться только ухудшают положение.
Способ, которым подпольный человек пытается
восстановить свою честь (он намеренно сталкивается с обидчиком на
улице), также восходит к неправильно понятым литературным
моделям. Подпольный человек следует примеру Лопухова,
«нового человека» из романа «Что делать?», который
разрешает конфликт с высокомерным дворянином, толкнувшим его:
Лопухов уложил его в грязную канаву и тем самым
продемонстрировал свое физическое превосходство. Для Лопухова
сущность (физическая сила) берет верх над символикой (кодексом
чести)24. Достоевский пародирует Чернышевского, заставляя
своего героя прибегнуть к физической агрессии, но
представляет его столкновение с офицером как дуэль со всей ее
символической способностью восстанавливать честь оскорбленного.
Более того, следуя своему образцу, подпольный человек
искажает его: Лопухов отвечает обидчику сразу же, а подпольный
Глава 6. Как воздержаться от дуэли... 21 I
человек готовится к этому несколько месяцев. Лопухов, таким
образом, несмотря на свое враждебное отношение к идее
дуэли, оказывается лучшим дуэлянтом, чем подпольный человек.
Действительно, физический ответ на оскорбление имеет силу
восстановить честь, только если он дан немедленно: в
противном случае он становится не более чем вульгарным
оскорбительным жестом. В конфликте 1796—1803 годов между Кушелевым
и его начальником, ударившим его палкой, оскорбленный
Кушелев не мог ждать шесть лет, а потом ответить начальнику
тем же. Через шесть лет он мог восстановить свою честь, лишь
вызвав Бахметева на дуэль. Подпольный человек упускает из
виду, что ответное агрессивное действие должно быть
немедленным.
Соответственно ответные действия подпольного человека,
какими бы героическими он их ни представлял, оставляют
ощущение поражения. Чтобы достичь этого эффекта, Достоевский
использует другую литературную модель, «Княгиню
Литовскую». Изображение Достоевским попыток подпольного
человека столкнуться с офицером на Невском очень напоминает
эпизод из романа Лермонтова, в котором сани Печорина едва
не наезжают на Красинского. Выбор слов Достоевским в
особенности отсылает скорее к столкновению саней с человеком,
нежели к столкновению между двумя людьми. Достоевский
использует такие выражения, как «попал ему под ноги»,
«прошел по мне» и «Что-то он теперь, мой голубчик? Кого давит?»
[Достоевский, V: 132]. Столкновение подпольного человека с
офицером зеркально отражает столкновение Красинского с
санями Печорина: последнее становится началом конфликта, а
первое как будто разрешает его. Однако отсылка к роману
Лермонтова не только придает дуэли пародийный характер, но и
указывает на ложность впечатления завершенности конфликта:
подпольному человеку так и не удалось отомстить за
оскорбление. Если Красинский вызывает обидчика на дуэль, то
подпольный человек, помятый офицером, рассматривает это
новое оскорбление как адекватное удовлетворение25.
Подпольный человек обнаруживает наилучшее понимание
кодекса чести и его русских особенностей в последнем эпизоде
своего конфликта со Зверковым, когда он пытается догнать
своих врагов, отправившихся в публичный дом. Он думает, что
наконец вступает в контакт (или в конфликт: он использует
слово «столкновение», имеющее для него, как мы видели,
ассоциации с дуэлью) с действительностью, и, по-видимому,
всерьез намерен добиваться поединка со Зверковым: «Или они
все на коленях, обнимая ноги мои, будут вымаливать моей
212 И. Рейфман. Ритуализованная агрессин
дружбы, или... или я дам Зверкову пощечину!» Он даже
понимает, что чувствительная сцена в духе Руссо вряд ли возможна
в реальности и поэтому ему придется дать Зверкову пощечину:
«На коленях умолять о моей дружбе — они не станут. Это
мираж, пошлый мираж, отвратительный, романтический и
отвратительный <...>. И поэтому я должен дать Зверкову
пощечину!» Он знает, что пощечина — вернейший способ заставить
Зверкова принять вызов: «[П|о законам чести — это все; он уже
заклеймен и никакими побоями уж не смоет с себя
пощечины, кроме как дуэлью. Он должен будет драться»
[Достоевский, V: 148-149].
Более того, испугавшись прямого физического
столкновения в прошлый раз, подпольный человек, кажется, наконец
готов к драке с противником. Он ожидает, что Зверков с
друзьями побьют его: «Особенно будет бить Твердолюбов: он
такой сильный. Ферфичкин прицепится сбоку и непременно за
волосы, наверно». Но он намеревается во что бы то ни стало
добиться дуэли: «А что если Зверков из презрения откажется от
дуэли? Это даже наверно; но я докажу им тогда... Я брошусь
тогда на почтовый двор, схвачу его за ногу, сорву с него
шинель, когда он будет в повозку влезать. Я зубами вцеплюсь ему
в руку, я укушу его» [Достоевский, V: 149—150|.
Все эти планы, однако, остаются чистейшей фантазией,
инспирированной, как всегда, литературой. Один из образцов
подпольного человека — пушкинский Сильвио. Он уже
упоминал этого героя ранее, в своем конфликте с Ферфичкиным:
«Нет, я не дуэли боюсь, Ферфичкин! Я готов с вами завтра же
драться, уже после примирения. Я даже настаиваю на этом, и
вы не можете мне отказать. Я хочу доказать вам, что я не
боюсь дуэли. Вы будете стрелять первый, а я выстрелю на
воздух» [Достоевский, V: 147]. Разумеется, именно Сильвио
дважды заставляет противника стрелять первым, после чего сам
отказывается стрелять. Однако подпольный человек, как
всегда, искажает первоисточник. Сильвио позаботился о том,
чтобы не дать противнику ни малейшего повода подозревать его в
трусости: он не только оба раза вынудил графа стрелять
первым, но и конечно уж не предупреждал его о своем
намерении отказаться от выстрела. Предупреждение защитило бы
Сильвио от выстрела графа и поставило бы под подозрение его
честь26. В то же время разрядить пистолет после выстрела
противника означало оскорбление. Сильвио очевидно хочет
оскорбить графа во время их второго столкновения. Действительно,,
не оскорбить противника в такой ситуации непросто. Ставро-
гину в «Бесах» этого не удается, несмотря на все его показные
Глава 6s Как воздержаться от дуэли... 213
благие намерения. Зосима в «Братьях Карамазовых» находит
правильный способ не стрелять в уже выстрелившего
противника. Его тонкое понимание кодекса чести и уважение к нему
позволяют ему не только справиться с этой задачей, но и
примириться с противником, сохранив уважение сослуживцев, то
есть добиться всего, чего так хочет, но не может достигнуть
подпольный человек.
В своих фантазиях о дуэли со Зверковым подпольный
человек и вовсе забывает дать своему противнику возможность
выстрелить: «"Вот пистолеты. Я пришел разрядить свой
пистолет и... прощаю тебя". Тут я выстрелю на воздух, и обо мне
ни слуху ни духу...» Такая забывчивость ставит под сомнение его
великодушие. Примечательно, что наряду с «Выстрелом»
подпольный человек упоминает еще одну литературную модель
своего якобы благородного поведения, «Маскарад» Лермонтова:
«Я <...> совершенно точно знал в это же самое мгновение, что
все это из Сильвио и из "Маскарада" Лермонтова»
[Достоевский, V: 1501. Однако и в этом случае он неправильно
интерпретирует первоисточник: ни один из лермонтовских героев не
является великодушным; напротив, они наказывают друг
друга с редкой жестокостью. «Маскарад» — история о жестокой
мстительности, а не о великодушии. Таким образом,
отсылки к Пушкину и Лермонтову вызывают сомнение в
искренности благородных намерений подпольного человека.
Литературные модели не служат подпольному человеку
хорошим руководством к практическому действию. Он остается
одним из тех «маленьких людей», которые, по выражению
Достоевского, начитавшись Лермонтова, «вдруг все начинали
корчить Мефистофелей, только что выйдут, бывало, из
департамента» («Ряд статей по русской литературе: Введение»
[Достоевский, XVIII: 59]; ср.: «Дневник писателя» [Достоевский,
XXII: 39]). Роман Достоевского, таким образом, является
комментарием по поводу психологии поведения представителей
нового поколения и их сложных отношений со своими
литературными и историческими предшественниками на культурной
сцене. Достоевский чувствовал, что причиной конфликта
отцов и детей, по крайней мере частично, является
непонимание его современниками кодекса чести и дуэли.
Книжный, абстрактный характер представлений
подпольного человека о кодексе чести, как и искаженное восприятие
героем книжных образцов, с иронией изображенное автором,
свидетельствует еще об одной причине затруднений героя с point
йЪоппеиг. Эта причина — склонность к рефлексии и
самоанализу— может несколько оправдать его. В отличие от своих
214 И. Рейфман. Ритушизованная агрессия
литературных образцов, непоколебимых людей действия,
подпольный человек постоянно пытается угадать, что думают о нем
другие люди, предвидя непонимание и насмешки. Во время
своего конфликта с офицером он боится, что все будут
смеяться над ним. Он чувствует себя смешным, вызывая Ферфич-
кина на дуэль, и не удивлен, когда на его вызов отвечают
смехом. Его противники, напротив, уверены в себе и поэтому
способны быстро и без колебаний выбирать стратегию
поведения. Будучи неспособными к рефлексии, они не видят, что
их поведение конвенционально и потому потенциально
комично. Очевидный факт, что они эпигоны, а не носители
традиции, ничуть не мешает им решительно действовать. Зверков —
карикатурный аристократ: его комичная фамилия,
преувеличенно рафинированные манеры, попытки имитировать стиль
жизни аристократов — все это изображено Достоевским с
оттенком сатиры. Зверков— пародия на Печорина: подпольный
человек намекает на это, говоря о намерениях Зверкова
«прельщать» и «пленять черкешенок» на Кавказе [Достоевский, V: 146,
1501- Друг Зверкова Ферфичкин — имитация имитации, что
подчеркивается его смешным именем с уменьшительным
суффиксом. Тем не менее уверенность Зверкова и Ферфичкина в
своих действиях дает им преимущество над подпольным
человеком.
Рефлексия подпольного человека ослабляет его реакцию в
тех ситуациях, когда реакция должна быть быстрой и
автоматической. Она делает его уязвимым для оскорблений и не
способным защитить свою честь. Более того, его неуверенные и
рефлексивные реакции заставляют других героев и читателя
усомниться в его смелости и заподозрить в нем трусость. И все
же способность подпольного человека к рефлексии имеет свою
положительную сторону. Она помогает ему осознать
конвенциональную природу дуэли и почувствовать ее литературность
в современной культуре. Герой Достоевского понимает, что
кодекс чести накладывает на человека ограничения, лишая
свободы выбора. Рефлексия героя по поводу дуэли вскрывает
ее недостатки и подрывает ее престиж в глазах читателя.
Идеал дуэли разрушается в романе, как рушатся в нем и другие
утопические идеалы.
Существенно, что сам подпольный человек понимает, что
его сложное взаимоотношение с дуэлью и кодексом чести
происходит от его склонности к рефлексии. Он знает, что в деле
чести успех человека определяется его непоколебимостью: «Ведь
у людей, умеющих за себя отомстить и вообще за себя
постоять, — как это, например, делается? Ведь их как обхватит,
Глава 6. Как воздержаться от дуэли... 215
положим, чувство мести, так уж ничего больше во всем их
существе на это время и не останется, кроме этого чувства».
Подпольный человек завидует таким людям действия, но он
знает и то, что негибкое поведение в более сложных случаях не
приносит желаемого эффекта: «Кстати: перед стеной такие
господа, то есть непосредственные люди и деятели, искренне
пасуют. Для них стена — не отвод, как например для нас,
людей думающих, а следственно ничего не делающих; не
предлог воротиться с дороги, предлог, в который наш брат
обыкновенно и сам не верит, но которому всегда очень рад. Стена
имеет для них что-то успокоительное,
нравственно-разрешающее и окончательное, пожалуй, даже что-то мистическое...»
[Достоевский, V: 103-104].
Нерешительность и рефлексия, характерные для
подпольного человека, могут оказаться чем-то более достойным, чем
твердолобое простодушие человека действия, который, как
Рылеев и Арбенин, ничтоже сумняшеся плюет в лица и
отвешивает пощечины. Уверенность помогает людям действия
добиваться поединков, позволяя им, таким образом, защищать
свое личное пространство. Подпольный человек не может
добиться дуэли и потому не может защищать свое личное
пространство. Во многом это объясняется тем, что он не
способен дать пощечину и, вероятно, не смог бы выстрелить в
человека. Он не говорит о своем отвращении к насилию
открыто, но можно предположить, что он испытывает его. Пытаясь
принести извинения Ферфичкину и Зверкову, он произносит
странную фразу: «Нет, я не дуэли боюсь, Ферфичкин!»
(Достоевский, V: 147]. Подпольный человек нигде не уточняет, чего
же он боится, и возможно, что он боится как всегда оказаться
смешным. Но возможно также, что он боится оказаться перед
необходимостью ранить или убить противника.
На завершающей стадии конфликта со Зверковым
подпольный человек ужасается мысли о том, что ему придется ударить
врага по лицу: «Я забыл все прочее, потому что окончательно
решился на пощечину и с ужасом ощущал, что это ведь уж
непременно сейчас, теперь случится, и уж никакими силами
остановить нельзя» [Достоевский, V: 1511. Он обнаруживает, что
не может нарушить личное пространство другого человека,
чтобы защитить свое собственное. Может быть, это открытие
не улучшает мнения читателя о нем как дуэлянте. Однако
болезненная озабоченность героя «Записок из подполья»
жестокостью пощечины предвосхищает важность этой темы для
персонажей позднейших произведений Достоевского: Мышкина,
Ставрогина и старца Зосимы. Ставрогину не удается пройти как
216 //. Рейфмаи. Ритуализованная агрессия
«испытание пощечиной», так и испытание дуэлью. И Мыш-
кин, и Зосима, каждый по-своему, решают для себя
проблему жестокости, связанной с ударом по лицу, и проблему
дуэли. Тем не менее именно подпольный человек— циничный и
трусоватый, социально неприспособленный и бесчестный —
указывает им путь.
«НО КТО УДАРИТ ТЕБЯ В ПРАВУЮ ЩЕКУ ТВОЮ,
ОБРАТИ К НЕМУ и другую»:
Дуэль в поздних произведениях Достоевского
|В| обыкновенных случаях жизни мордасы ноне
действительно запрещены по закону, и все перестали
бить-с, ну а в отличительных случаях жизни, так не
то что у нас, а и во всем свете, будь хоша бы самая
полная французская республика, все одно
продолжают бить, как и при Адаме и Еве-с, да и никогда
того не перестанут-с...
ФМ. Достоевский, «Братья Карамазовы»
У ключевого жеста русского конфликта чести —
пощечины — есть еще один контекст: Нагорная проповедь. Кодекс
чести и Новый Завет предлагают противоположные ответы на
агрессию против личности, ответы, основанные не только на
различных нравственных принципах, но и на различных взглядах
на «я» и «другого». Дуэльный менталитет, построенный на
эгоцентризме и на идее телесной целостности «я»,
пропагандирует идею уникальности индивидуума и инакости его
противника. Дуэлянт хочет утвердить свой статус, определить и защитить
свое личное пространство, то есть установить свою особость.
Общность природы вдех людей не интересует его. Пощечина
подчеркивает иерархическое неравенство противников и,
следовательно, их раздельное существование. Напротив,
христианское учение утверждает фундаментальное равенство всех
людей. Оно не придает большого значения телесной целостности
«я» и личному пространству. Демонстрация готовности получить
еще один удар свидетельствует о незаинтересованности в
телесной автономии и иерархии. Эта терпимость к вторжению в
личное пространство разрушает иерархические перегородки,
учит состраданию и препятствует эскалации насилия27.
На протяжении всего своего творческого пути Достоевский
постоянно обращался к христианскому контексту в
размышлениях о дуэли. В «Двойнике» в момент кульминации конфлик-
Глава 6. Как воздержаться от дуэли... 217
та двух Голядкиных рассказчик цитирует Новый Завет:
последнее оскорбление, нанесенное Голядкиным-младшим своей
несчастной жертве, — «иудин поцелуй», «звонкий
предательский поцелуй» Щостоевский, I: 227]. В зрелые годы
Достоевский все больше ориентировался на христианское учение при
оценке дуэли. В черновиках «Подростка» писатель в пределах
одного абзаца соединяет идеи девичьей чести, оскорбления
чести и непротивления злу: «Подростка вдруг поражает
безобразие этой среды, и он передается ей и клянется охранять ее
честь, несмотря на то, что оскорблен Бьерингом в участке. Но
он видит в этом порядок, т.е. в том, чтобы платить добром за
зло» [Достоевский, XVI: 395]. В подготовительных материалах
1875—1876 годов к «Дневнику писателя» Достоевский пишет:
«Рыцарские понятия о чести, — но они не всегда
христианские...» [Достоевский, XXVI: 183]. В записной книжке за 1876—
1877 годы он пишет, что христианское прощение в вопросах
чести является недостижимым для обыкновенного человека
идеалом [Достоевский, XXIV: 262]. Христианское
представление о пощечине в конце концов дало возможность его героям
прийти к мысли о несостоятельности дуэли с нравственной
точки зрения и найти достойные пути воздерживаться от нее.
Достоевский отлично представлял себе значение
пощечины как жеста, нарушающего личное пространство и
индивидуальность человека. Он был убежден в том, что индивидуум
должен защищать свои права, поэтому герой Достоевского, не
способный отомстить за пощечину, автоматически вызывает
подозрение. Это относится к князю Валковскому, к Ставро-
гину и ко всем другим героям, получавшим пощечины. Вель-
чанинов в «Вечном муже» сравнивает свои угрызения совести
с чувствами человека, не сумевшего ответить на пощечину:
«Вельчанинов ходил по комнате, прихлебывая свой кофе,
курил и каждую минуту сознавался себе, что он похож на
человека, проснувшегося утром и каждый миг вспоминающего о
том, как он получил накануне пощечину» [Достоевский, IX:
49]. Из контекста следует, что эта гипотетическая пощечина
осталась неотомщенной, и это предположение дезавуирует
заявку Вельчанинова на порядочность. Аркадий Долгорукий,
рассказчик и главный герой «Подростка», терзается
неотомщенной пощечиной, полученной Версиловым от князя
Сокольского. Главная черта характера Версилова —
непоследовательность. Его непоследовательное отношение к пощечине и к
дуэли в целом — колебания между честным и по внешней
видимости бесчестным поведением, отправление вызовов и
отмена их — все это способствует общему ощущению загадочно-
218 И, Рейфман. Ритуализотнпая агрессия
го непостоянства его характера. Попытки Аркадия выработать
свое понимание чести, дуэли и телесной
неприкосновенности, а также понять взгляды отца на эти вопросы образуют
важный аспект процесса его возмужания.
В свою очередь, пьяный Федор Карамазов изобличает себя
как бесчестного человека, раскрывая обстоятельства
полученной им пощечины. Похваляясь своей склонностью к
омерзительным поступкам, он рассказывает Алеше и Ивану, как
получил пощечину в присутствии их матери и как сурово эта
кроткая и набожная женщина отреагировала на его
неспособность отомстить за удар: «Раз Белявский — красавчик один тут
был и богач, за ней волочился и ко мне наладил ездить — вдруг
у меня же и дай мне пощечину, да при ней. Так она, этакая
овца, — "Ты, говорит, теперь битый, битый, ты пощечину от
него получил! Ты меня, говорит, ему продавал... Да как он
смел тебя ударить при мне! И не смей ко мне приходить
никогда, никогда! Сейчас беги, вызови его на дуэль..."»
[Достоевский, XIV: 126]. Поддерживая кодекс чести, эта женщина,
обычно кроткая христианка, подчеркивает важность физической
неприкосновенности и таким образом защищает идеалы
человеческого достоинства и порядочности.
С точки зрения обидчика, пощечина ставит другие
вопросы, прежде всего вопрос о том, воздействует ли акт
жестокости на самого агрессора и если да, то как. Кодекс чести
предполагает, что агрессор концентрируется на символическом
значении жеста и поэтому не особенно обращает внимание на
человека, которому он дает пощечину. Однако если гладкость
ритуального действия по какой-либо причине нарушается (будь
то в силу рефлексии, под влиянием христианской точки
зрения или вследствие какого-либо другого фактора), агрессор
может быть вынужден взглянуть в лицо противника, то есть
столкнуться лично с объектом насилия. Это, как показывает
Достоевский, позволяет агрессору видеть, что объектом
нападения является такой же, как он, человек, и это узнавание
может, в свою очередь, остановить агрессию.
Л. Джонсон убедительно демонстрирует, что Достоевский
был чрезвычайно чувствителен к внутренней форме слов,
этимологически связанных со словом «лицо». Многие из таких слов
(приличие, различие, обезличить) имеют отношение к идее
личности. Л. Джонсон также подчеркивает, что Достоевский
часто использует слово «лицо» в качестве синонима к слову
«личность» или «человек». Она считает, что особо
чувствительное отношение Мышкина к лицу другого человека составляет
Глава 6. Как воздержаться от дуэли... 219
сущность его характера и делает его образцом доброты и
сострадания28.
Наблюдения Л. Джонсон помогают объяснить центральную
роль пощечины в исследовании дуэли поздним Достоевским.
Рассуждая в своих записках и черновиках о дуэли и кодексе
чести, Достоевский часто использует слово «лицо» в значении
«человек» или «личность». В одном месте он указывает на
частную и общественную природу человека, используя слово
«лицо» для выражения идеи внутреннего «я»: «Дуэль. В
человеке, кроме гражданина, есть и лицо». В другом
употреблении «лицо» обозначает то собственно «лицо», то «человека» и
«личность»: «Лермонтов, дурное лицо, в зеркало. Байрон —
жалкая хромоножка. Обеспеченность чести и личности». Связь
между «лицом» и «личностью» снова и снова возникает в
записных книжках Достоевского: «Дотрагиваться до лица — не
предрассудок, а всегда бесчестие и страшная обида. Что лицо есть
образ его личности, духа, достоинства» [Достоевский, XXIV:
109, 102, 153]. Человеческое лицо священно, потому что оно,
как икона, является образом Божиим24. С этой точки зрения
пощечина не только наносит ущерб чести и телу человека, но
и оскорбляет в нем само человеческое начало. Символический
жест, направленный вовне, к «другому», становится, в
сущности, жестом, направленным на себя, и заставляет обоих,
оскорбителя и оскорбленного, пересмотреть свои
взаимоотношения и увидеть свою общность. Христианский взгляд на
пощечину утверждается за счет того, что поведение, не
согласующееся с кодексом чести (прощение пощечины или просьба о
прощении за нее), рассматривается как возможное и даже
достойное восхищения.
Впервые у Достоевского пощечина в контексте темы дуэли
появляется в «Униженных и оскорбленных». Здесь писатель
скорее задается вопросом о том, как неотомщенная пощечина
воздействует на достоинство и репутацию человека, чем о том,
как ответить на пощечину по-христиански или как пощечина
воздействует на того, кто ее дает. В «Записках из подполья»
Достоевский исследует пощечину с обеих точек зрения: и
христианской, и кодекса чести. Когда подпольный человек
говорит о полученных и данных им пощечинах, он разуверяет
воображаемого читателя в том, что имеет опыт получения
пощечин; напротив, он высказывает сожаление, что сам «мало
роздал пощечин» [Достоевский, V: 105|. Принимая во
внимание уравнительную силу ответной пощечины в русской
дуэльной традиции, это сожаление можно понять как признание под-
220 И. Рейфмвн. Ритуализованная агрессия
польным человеком его неспособности отстоять свое
равноправие. В то же время спор о пощечинах следует после
рассуждения о том, как личный опыт может помочь понять страдания
оскорбленного человека. Сострадание же несовместимо с идеей
дуэли, поскольку оно мешает сосредоточиться исключительно
на себе, как того требует кодекс чести, и вынуждает
учитывать точку зрения противника.
В данном случае подпольный человек пытается
продемонстрировать свою невосприимчивость к состраданию, но, по
мере того как развивается его конфликт со Зверковым и
увеличивается шанс дать Зверкову пощечину, подпольный человек
обнаруживает, что он не только не может, но и не хочет этого
делать. Он испытывает чрезвычайное облегчение, когда не
находит Зверкова в публичном доме: «Я был точно от смерти
спасен и всем существом своим радостно это предчувствовал:
ведь я бы дал пощечину, я бы непременно, непременно дал
пощечину! Но теперь их нет и... все исчезло, все
переменилось!..» [Достоевский, V: 151]. Неспособность подпольного
человека постоять за себя описывается здесь в терминах
искупления и обретения обетованного спасения. Однако, поскольку
в дальнейшем, в своих отношениях с Лизой, подпольный
человек не может действовать в соответствии с христианским
идеалом, он утрачивает доверие читателя. Ретроспективно это
отражается и на нашем негативном суждении о нем как дуэлянте.
В романе «Идиот» Достоевский ставит задачу изобразить
человека, безоговорочно руководствующегося христианской
этикой и поэтому способного воздержаться от дуэли без ущерба для
своей чести. Два наиболее важных эпизода романа, связанных
с дуэлью, строятся вокруг мотива агрессии против лица
человека.
В первом эпизоде Варя Иволгина плюет в лицо своему брату
Гане во время ожесточенной семейной ссоры,
спровоцированной визитом Настасьи Филипповны. В ответ на это Ганя
пытается ударить Варю по лицу, но князь Мышкин останавливает
его руку. Тогда Ганя бьет по лицу князя. Обе конфронтации
изображаются не только как агрессия против лица, но и как
противостояние лиц и глаз: Ганя смотрит на Варю, «как бы
желая испепелить ее на этом же месте»; Варя отвечает ему
«вызывающим» взглядом (слово «вызывающий» идиоматически
отсылает к вызову на дуэль). Перед тем как Варя плюет брату
в*лицо, они некоторое время стоят «лицом к лицу». Получив
пощечину Гани, «князь побледнел. Странным и укоряющим
взглядом поглядел он Гане прямо в глаза; губы его дрожали и
силились что-то проговорить; какая-то странная и совершенно
Глава 6. Как воздержаться от дуэли... 221
неподходящая улыбка кривила их». В этот момент Мышкин и
Ганя стоят лицом к лицу, глядя друг другу в глаза, как если
бы Мышкин действительно заменил собой Варю. По
завершении этой сцены Мышкин упрекает Ганю, пряча при этом свое
лицо: «|Н|о вдруг не выдержал, бросил Ганю, закрыл руками
лицо, отошел в угол, стал лицом к стене и прерывающимся
голосом проговорил: "О, как вы будете стыдиться своего
поступка!"» [Достоевский, VIII: 98—99].
Достоевский также привлекает внимание читателя к руке —
орудию пощечины: он упоминает руки девять раз на
протяжении одной страницы. Кроме того, в одном месте слово «рука»
красноречиво отсутствует («Варя дернула раз, другой»), а в
других случаях автор описывает руки нарочито косноязычно,
стремясь таким образом привлечь внимание читателя. Одно из
таких специфических употреблений —неоправданное
повторение слова «рука»: «Ганя все еще держал ее руку в своей руке».
Дважды, вместо нормального русского оборота «держал ее за
руку» и «бросил Варину руку», Достоевский употребляет
косноязычные словосочетания «держал ее руку» и «бросил руку
Вари». В ряде случаев трудно определить, о чьей руке идет
речь. Так, когда Ганя собирается ударить Варю, «вдруг другая
рука остановила на лету Ганину руку». Эта рука кажется
отдельной и действующей независимо. Только потом читатель
узнает, что это рука Мышкина: «Между ним и сестрой стоял
князь». Не менее запутанным является описание удара Гани,
нанесенного Мышкину: «[3]аревел Ганя, бросив руку Вари, и
освободившеюся рукой, в последней степени бешенства, со
всего размаха дал князю пощечину». В этой сцене насилия руки
обретают как бы некую сверхъестественную самостоятельность.
Другой эпизод, касающийся агрессии против лица,
разворачивается в Павловске nocJle попытки Настасьи Филипповны
скомпрометировать Евгения Павловича. Его друг, офицер,
приходит к нему на помощь и оскорбляет Настасью, говоря,
что она заслуживает хлыста. В ответ на это она выхватывает у
кого-то из рук хлыст и бьет им обидчика по лицу.
Разъяренный офицер пытается ударить ее, но Мышкин сзади хватает его
за руки. Офицер отталкивает князя, затем спрашивает, как его
зовут: знак того, что он намерен вызвать Мышкина
[Достоевский, VIII: 290—291]. В этом эпизоде агрессия по отношению
к лицу выражена еще сильнее, поскольку лицо офицера не
просто подверглось удару, но было рассечено до крови.
Кроме того, здесь усиливается символика отделенных от человека
рук, совершающих насилие: хлыст изображается как
конечность, полностью отделившаяся от тела.
222 И. Рейфман. Ритуализоватшя агрессия
Внезапное отделение членов тела не только создает
сюрреалистический эффект, но и вводит читателя в христианский
контекст. В Библии самостоятельные действия членов часто
связаны с грехом. Нагорная проповедь (Мф., 5: 29—30)
призывает грешника освободиться от соблазняющей его части тела:
«Если же правый глаз твой соблазняет тебя, вырви его и брось
его от себя; ибо лучше для тебя, чтобы погиб один из членов
твоих, а не все тело твое было ввержено в геенну. И если
правая твоя рука соблазняет тебя, отсеки ее и брось о г себя; ибо
лучше для тебя, чтоб погиб один из членов твоих, а не все тело
твое было ввержено в геенну». Достоевский хорошо знал текст
Нового Завета, и поэтому представляется существенным
использование им глагола «бросить» при описании того, как Ганя
отпустил Варину руку30.
Образ руки, отделенной от своего хозяина и отброшенной
прочь, может также напоминать о дуэльном ритуале. Рука,
наносящая удар, может быть заменена связанным с ней
предметом, воспроизводящим ее форму, а именно перчаткой.
Перчатку также можно бросить в противника (в лицо ему или под
ноги), и этот жест означает вызов. Таким образом, рука
буквально начинает жить своей собственной жизнью как
символический замещающий объект. Используя неуклюжие
выражения, такие, как «бросил руку Вари», Достоевский
одновременно отсылает и к христианской, и к дуэльной традициям,
тем самым предоставляя читателю разные контексты для
оценки поведения Мышкина.
Оба инцидента требуют дуэли, и оба раза князь Мышкин
воздерживается от нее. В первом случае, вместо того чтобы
ответить обидчику тем же, вызвать его на дуэль или хотя бы
выразить протест, он принимает пощечину: «"Ну, это пусть
мне... а ее... все-таки не дам!.." — тихо проговорил он
наконец». Этим своим поведением князь выполняет новозаветную
заповедь принимать пощечины и тем утверждает ценность
сострадания, пробуждая христианские чувства в свидетелях
сцены: «Коля бросился обнимать и целовать князя; за ним
затеснились Рогожин, Варя, Птицын, Нина Александровна, все,
даже старик Ардалион Александрович» [Достоевский, VIII: 99|.
Ганя тоже поражен: он не только «стоял как уничтоженный»,
но и вскоре извиняется перед князем и даже предлагает
поцеловать ему руку. Кроме того, и Ганино извинение, и мышкин-
ский жест принятия пощечины заставляют Варю примириться
с братом. Таким образом, действия князя останавливают
эскалацию насилия и предоставляют альтернативную модель
движимого любовью поведения.
Глава 6. Как воздержаться от дуэли... 223
Рогожин, комментируя этот эпизод, называет Мышкина
«овцой», т.е. Агнцем. Эта параллель важна, поскольку
Христос тоже подвергся насилию в отношении его лица, согласно
Евангелию от Иоанна (19:3). Достоевский обращается к этому
стиху при описании Ипполитом копии картины Гольбейна
«Мертвый Христос», принадлежащей Рогожину. В Евангелии
от Иоанна, любимом Евангелии Достоевского, именно побои
раскрывают человеческую ипостась Христа и заставляют Пилата
воскликнуть: «Се человек!» (Иоанн, 19:5).
Христианское учение объясняет поведение Мышкина и его
влияние на окружающих, но одновременно его поступки
рассматриваются с точки зрения кодекса чести. Вскоре после
столкновения князя с Ганей Коля Иволгин интерпретирует
пощечину в дуэльном контексте, выступая против тирании кодекса
чести: «А знаете, я терпеть не могу этих разных мнений.
Какой-нибудь сумасшедший, или дурак, или злодей в
сумасшедшем виде даст пощечину, и вот уж человек на всю жизнь
обесчещен, и смыть не может иначе как кровью, или чтоб у него
там на коленках прощенья просили. По-моему, это нелепо и
деспотизм. На этом Лермонтова драма "Маскарад" основана,
и— глупо, по-моему» [Достоевский, VIII: 100—101]. Коля
обращается к обычному набору аргументов против дуэли, но
своей апелляцией к разуму он очень напоминает «нового
человека». Собственно говоря, в черновиках к «Идиоту»
Достоевский и называет его «новым человеком»: «Коля — новое
поколение» [Достоевский, IX: 280]. Любопытно, что другой «новый
человек» в романе, недоверчивый и болезненно оберегающий
свое личное пространство Ипполит, гораздо мен#е гибок в
вопросах чести. По словам Коли, Ипполит презирает
всякого, кто не вызывает своего обидчика на дуэль: «А знаете что,
когда я давеча рассказал ему про ваш случай, так он даже
разозлился, говорит, что тот, кто пропустит пощечину и не
вызовет на дуэль, тот подлец». Ипполит к тому времени еще
ни разу не встречался с Мышкиным и, таким образом, имеет
все основания заподозрить его в подлости и трусости.
Возражение Ипполита отражает беспокойство и самого
Достоевского о том, что бесчестное поведение легко можно выдать за
христианское. Примечательно, что Коля извиняет поведение
Мышкина, поскольку понимает, что тот отказался от дуэли не
из трусости: «Как она в рожу-то Ганьке плюнула. Смелая
Варька! А вы так не плюнули, и я уверен, что не от недостатка
смелости» [Достоевский, VIII: 112, 101]. С помощью Коли—
героя, симпатичного читателю, — Достоевский оправдывает
поведение князя в рамках кодекса чести.
224 И. Рейфман. Ритусьгизаванная агрессия
Аглая также задается вопросом о способности князя
участвовать в дуэли. После эпизода с Настасьей Филипповной,
ударившей офицера, Аглая подвергает Мышкина допросу: «"Ах да,
послушайте: если бы вас кто-нибудь вызвал на дуэль, что бы
вы сделали? Я еще давеча хотела вас спросить". — "Да... кто
же... меня никто не вызовет на дуэль". — "Ну если бы
вызвали? Вы бы очень испугались?" — "Я думаю, что я очень...
боялся бы". — "Серьезно? Так вы трус?" — "Н-нет, может быть,
и нет. Трус тот, кто боится и бежит; а кто боится и не бежит,
тот еще не трус", — улыбнулся князь, пообдумав. "А вы не
убежите?" — "Может быть, и не убегу", — засмеялся он
наконец вопросам Аглаи» [Достоевский, VIII: 293|. Князь и в этом
случае выдерживает проверку.
Но что же позволяет князю Мышкину игнорировать кодекс
чести и вместе с тем не покрыть себя бесчестьем? Почему
христианские мотивы его поведения не вызывают никакого
подозрения? Ответ заключается в его особом статусе: на него не
распространяются правила кодекса чести, потому что он идиот в
первоначальном смысле слова, idiotes— странный,
необычный, особенный человек31. Достоевский устанавливает статус
Мышкина как idiotes в самом начале романа. Слуга генерала
Епанчина замечает его необычное поведение и определяет его
как «дурачка»: «|К]амердинеру зашло в голову, что тут два дела:
или князь так, какой-нибудь потаскун и непременно пришел
на бедность просить, 1(1ли князь просто дурачок и амбиции не
имеет, потому что умный князь и с амбицией не стал бы в
передней сидеть и с лакеем про свои дела говорить...» Вскоре
после этого слуга приходит к окончательному выводу, что князь
действительно дурачок: «Хоть князь был и дурачок, — лакей уж
это решил...» Чтобы активировать в сознании читателя оба
значения слова «дурачок» (а далее и «идиот») — «глупец» и
«юродивый», — Достоевскиц вводит это слово, сначала обыгрывая
два значения слов «человек, люди», которое в современном
автору употреблении означали также слуг: «[0|пытный
камердинер не мог не почувствовать что-то, что совершенно
прилично человеку с человеком и совершенно неприлично гостю с
человеком. А так как люди гораздо умнее, чем обыкновенно
думают про них их господа, то и камердинеру зашло в голову,
что тут два дела...» [Достоевский, VIII: 18—19].
Многозначно, как мы помним, и слово «амбиция»,
дважды повторенное в характеристике князя, данной
камердинером. С одной стороны, как уже отмечалось, в «Бедных людях»
и «Двойнике» Достоевский употреблял это слово как
иронический синоним point d'honneur. С другой — в устах слуги это ело-
Глава 6. Как воздержаться от дуэли... 225
во скорее означает чувство социального превосходства. У
Мышкина нет амбиции ни в одном из этих двух значений.
Однако его особый статус дурачка, idiotes, жертвенного
агнца, который слуга немедленно распознает и который
признают постепенно все остальные герои, позволяет ему сохранять
честь и достоинство. Даже Ипполит, возмущенный самой идеей
особого статуса Мышкина (во время одного из припадков
ярости он кричит, что Мышкин — «иезуитская, паточная
душонка, идиот, миллионер-благодетель»), в конце концов
признает этот статус, называя князя «Человеком» и явно отсылая к
Евангелию от Иоанна (19: 5): «Я с Человеком прощусь»
[Достоевский, VIII: 249, 348].
К моменту конфликта князя с офицером практически все
вокруг уже знают о его особом статусе. На самом деле
Мышкин так далек от мира кодекса чести и дуэли, что ему даже не
приходит в голову, что он оскорбил офицера. Только когда
Аглая начинает учить его заряжать пистолеты, а Келлер
предлагает стать его секундантом, Мышкин осознает ситуацию.
Примечательно, что именно легкомысленное отношение
Мышкина к дуэли убеждает Келлера в его мужестве: «Лихорадка,
может быть, потому что нервный человек, и все это
подействовало, но, уж конечно, не струсит. Вот эти-то и не трусят, ей-
богу!» [Достоевский, VIII: 300]. Статус Мышкина как святого
дурачка столь очевиден, что Евгению Павловичу—
представителю высшего света и аристократу, единственному в романе
истинному носителю старой дуэльной традиции — легко удается
убедить оскорбленного офицера прекратить дело.
Особый статус помогает Мышкину совмещать два типа
поведения, которые сам Достоевский считал несовместимыми, —
рыцарский и христианский. По удачному определению Аглаи,
Мышкин —Дон Кихот, «рыцарь бедный», сосредоточенный не
на защите своей личной чести, а на защите Прекрасной Дамы.
Таким образом, он является рыцарем, лишенным гордости,
эгоизма и инстинкта самосохранения, — одним словом, это
поистине человек не от мира сего, способный на поведение,
которое Достоевский в обычных обстоятельствах считает
недостижимым идеалом. Как Ольга в повести Бестужева, Мышкин
освобожден от социальных конвенций, в том числе и
требований point d'honneur. Чрезвычайно важно, однако, что
Достоевский считает необходимым испытать своего идеального героя
кодексом чести.
Пример Мышкина действительно является особенным. Его
способность действовать вне рамок чести проистекает
исключительно из уникальности его личности. Если человек, не яв-
8. Заказ № 2522
226 И. Рейфман. Ритуализованная агрессия
ляющийся idiotes, пытается имитировать такое поведение,
последствия оказываются катастрофическими, и Достоевский
демонстрирует это на примере Николая Ставрогина в романе
«Бесы».
Ставрогин — приверженец аристократического образа
жизни, подразумевающего буйство и бретёрство. Молодым
человеком приехав в Петербург, в вихре пьянства, азартных игр и
любовных скандалов он «имел почти разом две дуэли, кругом
был виноват в обеих, убил одного из своих противников
наповал, а другого искалечил...*. В своей исповеди он намекает
и на другие поединки, утверждая, что убил на дуэли по
крайней мере двух человек32 [Достоевский, X: 36 и XI: 14, 22 (глава
девятая: У Тихона)]. Несмотря на то что мужество Ставрогина
не подвергается сомнению, все же он не выдерживает
испытания дуэлью.
На глазах у читателя Ставрогин участвует в двух
конфликтах чести — один из них с Шатовым, другой с Артемием
Гагановым. В обоих случаях он пытается не дать дуэльному
ритуалу поработить себя. Как кажется, он ведет себя точно так же,
как герои Достоевского, с честью выходящие из ситуации
дуэли: как Мышкин, он не отвечает на пощечину ни вызовом,
ни ответным ударом; как старец Зосима, он отказывается
стрелять в противника во время дуэли. Тем не менее попытки
Ставрогина воздержаться от дуэли во имя высших нравственных
ценностей заканчиваются катастрофой: отказ стрелять в Гаганова
унижает его, а решение не вызывать Шатова поощряет Петра
Верховенского в его зловещих замыслах.
В своем конфликте с Шатовым Ставрогин пытается
совершить то, что удается Мышкину естественным образом: принять
пощечину. Этот тип поведения является новым для
Ставрогина: в прошлом, получив пощечину, он вызвал обидчика на
дуэль и отстрелил ему, челюсть [Достоевский, X: 164—166; XI:
14]. То, что он никак не ответил на пощечину Шатова,
может иметь несколько объяснений.
Пощечина Шатова ставит Ставрогина в сложное
положение. Социальные различия между ними велики и очевидны:
Шатов — бедный «вечный» студент, а Ставрогин богатый
помещик. Более того, Шатов не только не дворянин, но
бывший крепостной матери Ставрогина. Таким образом,
Ставрогин мог бы законно не признать в нем ровню. Некоторые в
городе соглашаются, что Ставрогин не должен был вызывать
на дуэль своего бывшего крепостного. Они даже
рассматривают поведение Ставрогина как доказательство его особого
уважения к дуэльной традиции: «Оскорбленный насмерть студен-
Глава 6. Как воздержаться от дуэт... 227
том, то есть человеком образованным и уже не крепостным,
он презирает обиду, потому что оскорбитель — бывший
крепостной его человек» [Достоевский, X: 2331. Тем не менее
Шагов равен Ставрогину в других отношениях. Будучи
студентом университета, он равен ему интеллектуально. Еще более
важно, что они оба — участники радикального движения, для
которого различие между дворянами и простолюдинами
нерелевантно. Поэтому Ставрогин должен сделать выбор — либо
отнестись к Шатову как к равному (и в этом случае вызвать его
на дуэль или ударить, а то и убить его на месте — чего
практически ожидает от него рассказчик), либо рассматривать его как
низшего по статусу (и в этом случае сдать Шатова в полицию
или подать на него в суд).
Есть, конечно, и третий путь: рассматривать Шатова как
ближнего, и если не подставить другую щеку, то, по крайней
мере, не отвечать насилием на насилие. Ставрогин, как
кажется, идет именно этим путем. Ему удается, пусть с
очевидными усилиями, подавить свой гнев. Как и в сцене пощечины в
романе «Идиот», повествователь изображает столкновение
между Ставрогиным и Шатовым как противостояние лиц и глаз:
Шатов подходит к Ставрогину, «прямо смотря ему в лицо» и
останавливается напротив него, «не спуская с него глаз». На
лице Ставрогина легкая улыбка сменяется сначала
серьезностью и «дерзким недоумением», а потом гневом. После
пощечины враги пристально смотрят друг другу в лицо, причем
выражение лица Ставрогина продолжает изменяться: «Он
молчал, смотрел на Шатова и бледнел как рубашка. Но странно,
взор его как бы погасал. Через десять секунд глаза его
смотрели холодно и — я убежден, что не лгу— спокойно. Только
бледен он был ужасно» [Достоевский, X: 164, 166].
В этой конфронтации Шатов, по-видимому,
проигрывает: он опускает глаза и уходит. Тем не менее сосредоточенность
рассказчика на лице Ставрогина оставляет у читателя чувство,
что это не то лицо, которое Достоевский определил как
«образ личности, духа, достоинства» человека, но является чем-
то внешним, и Ставрогин легко может менять его выражение
по собственной воле. В изображении рассказчика это не
столько лицо, сколько конгломерат различных черт: при
описании пощечины Шатова последовательно упоминаются щека
Ставрогина, его нос, губы и верхние зубы. Это внимание к
деталям не только подчеркивает жестокость шатовского удара,
но и создает эффект распада ставрогинского лица. В
результате это собрание черт, способное присваивать себе
разнообразные выражения, становится маской, скрывающей внутрен-
8*
228 И. Рейфман. Ритуализаванпая агрессия
нее «я» Ставрогина. Рассказчик подчеркивает это замечанием:
«Разумеется, я не знаю, что было внутри человека, я видел
снаружи». Более того, это наблюдение рассказчика подтверждает
его прошлое впечатление от ставрогинского лица: «Поразило
меня тоже его лицо: волосы его были что-то уж очень черны,
светлые глаза его что-то уж очень спокойны и ясны, цвет лица
что-то уж очень нежен и бел, румянец что-то уж слишком ярок
и чист, зубы как жемчужины, губы как коралловые, —
казалось бы, писаный красавец, а в то же время как будто и
отвратителен. Говорили, что лицо его напоминает маску...»
[Достоевский, X: 166, 37]. В конце своего столкновения с Ганей
Мышкин закрывает лицо руками, как будто хочет защитить его
и свою душу от пристального взгляда. В противоположность
ему Ставрогин прячет руки за спину: ему не нужно такое
укрытие, он защищает свой внутренний мир маской, что вызывает
у читателя недоверие к ее обладателю.
Ставрогину есть что скрывать. Прежде чем описать свою
реакцию на пощечину, рассказчик дважды сообщает читателю,
что Ставрогин — человек, способный на убийство: «Если бы кто
ударил его по щеке, то, как мне кажется, он бы и на дуэль не
вызвал, а тут же, тотчас же убил бы противника. <...> Еще раз
повторяю: я и тогда считал его и теперь считаю (когда уже все
кончено) именно таким человеком, который, если бы
получил удар в лицо или подобную равносильную обиду, то
немедленно убил бы своего противника, тотчас же, тут же на месте
и без вызова на дуэль» [Достоевский, X: 164, 165|.
Сослагательное наклонение («если бы кто ударил его по щеке <...>, то
он <...> убил бы обидчика», «если бы получил удар в лицо
<...>, то немедленно убил бы») резко контрастирует с
реальными событиями, описанными в романе: Ставрогин получает
пощечину, но в ответ не делает ничего. Это расхождение между
ожидаемым и происходящим наводит читателя на подозрение,
что ответ Ставрогина на пощечину Шатова нетипичен, что это
умышленное поведение, разыгранная роль. Позднейший
комментарий Шатова о том, что пощечина дала Ставрогину
«случай познать при этом [его] беспредельную силу», так же как и
замечание Кириллова о том, что Ставрогин «ищет бремени»,
подтверждает впечатление, что Ставрогин разыгрывает
нетипичную для него роль [Достоевский, X: 195, 227].
Сдержанный ответ Ставрогина на пощечину Шатова вредит
его репутации в городе — или, точнее, подтверждает его
дурную славу. Примечательно, что некоторые ожидают, что он
убьет Шатова: «Говорили даже по уголкам, что у нас, может
быть, будет убийство, что Ставрогин не таков, чтобы снести
Глава 6. Как воздержаться от дуэли... 229
обиду, и убьет Шатова, но таинственно, как в корсиканской
вендетте» [Достоевский, X: 167]. Убийство, замышляемое
втайне и совершаемое спустя много времени после оскорбления,
существенно отличается от дуэли — и даже от спонтанного
убийства на месте — тем, что позволяет оскорбленному отомстить
обидчику, не рискуя собственной жизнью. Характерно, что
Петр Верховенский, который сообщает Ставрогину об этих
слухах, не осуждает приписываемых Ставрогину планов и не
удивлен ими. Более того, он предлагает Ставрогину убить и
другого его противника, Артемия Гаганова: «"Если вам тоже
понадобится что-нибудь насчет господина Гаганова, — брякнул
вдруг Петр Степанович, уж прямехонько кивая на
пресс-папье, — то, разумеется, я могу все устроить и убежден, что вы
меня не обойдете". Он вдруг вышел, не дожидаясь ответа, но
высунул еще раз голову из-за двери. "Я потому так, —
прокричал он скороговоркой, — что ведь Шатов, например, тоже не
имел права рисковать тогда жизнью в воскресенье, когда
пошел к вам, так ли? Я бы желал, чтобы вы это заметили"»
[Достоевский, X: 181—182]. Недовольство Верховенского
Шаговым связано с запретом всякого рода обязательств, диктуемых
кодексом чести, для участников радикального движения. При
этом существенно, что Ставрогин не возражает ни на
предложение Верховенского убить Гаганова, ни на предупреждение
Верховенского о том, что он и его товарищи обязаны
игнорировать кодекс чести.
В глазах Гаганова, однако, принятие Ставрогиным шатов-
ской пощечины делает его бесчестным человеком, открытым
для дальнейших оскорблений. Сам Гаганов чрезвычайно
чувствителен в вопросах чести. Ранее, после странного нападения
Ставрогина на его отца, Гаганов подает в отставку: несмотря
на письменные извинения Ставрогина перед его отцом, он
чувствует себя обесчещенным. После столкновения
Ставрогина с Шатовым Гаганов пользуется возможностью
спровоцировать своего врага на дуэль и посылает письмо, в котором
упоминает его «битую рожу» (Достоевский, X: 185—186]. Теперь
Ставрогин не может избежать дуэли и посылает к нему
Кириллова в качестве секунданта. Не желая тем не менее драться, он
приносит дополнительные извинения, но Гаганов отвергает их
и с радостью принимает вызов, стараясь только, чтобы
условия дуэли были как можно более жесткими. Во время дуэли
Гаганов явно хочет убить Ставрогина, и ему это почти удается:
первый выстрел задевает мизинец Ставрогина, а третий
пробивает его шляпу прямо над головой. Ставрогин же нарочно
трижды стреляет мимо.
230 //. Рейфман. Fumy авизованная агрессия
По сравнению с бешеной яростью Гаганова поведение Став-
рогина кажется почти великодушным. Он многократно
приносит извинения и объясняет свой отказ стрелять в Гаганова
нежеланием убивать человека. Его примирительные жесты
напоминают действия Зосимы: Зосима тоже выдерживает выстрел
и потом отказывается стрелять в ответ. Однако Зосима
прекращает вражду с противником, а Ставрогин только усиливает ее.
В отличие от Зосимы Ставрогин воспринимает дуэльный
кодекс как простую формальность: «Я имею право стрелять как
хочу, лишь бы происходило по правилам». Соответственно
Гаганов воспринимает его действия как новое оскорбление:
«[Т]акие уступки только усиление обиды» [Достоевский, X:
225). Примечательно, что Кириллов тоже обвиняет Ставроги-
на в несерьезном отношении к дуэли: «иЯ не хотел обидеть
этого... дурака, а обидел опять", — проговорил [Ставрогин] тихо.
"Да, вы обидели опять, — отрубил Кириллов, — и притом он
не дурак". — "Я сделал, однако, все, что мог". — "Нет". —
"Что же надо было сделать?" — "Не вызывать". — "Еще
снести битье по лицу?" — "Да, снести и битье". <...> "Я потому
не стрелял, что не хотел убивать, и больше ничего не было,
уверяю вас", — сказал [Ставрогин] торопливо и тревожно, как
бы оправдываясь. "Не надо было обижать". — "Как же надо
было сделать?" — "Надо было убить"» [Достоевский, X: 227—
228]. Проблема Ставрогина в том, что он — обыкновенный
человек, пытающийся вести себя как обладатель исключительных
нравственных качеств. По словам Кириллова, он не очень
сильный человек, который тем не менее «ищет бремени». В
отличие от Мышкина и бблее позднего героя — Зосимы Ставрогин
не заботится о противнике. На месте дуэли он думает только о
себе. Он ненавидит Гаганова (основные эмоции, выражаемые
им во время дуэли, — это нетерпение и та же самая злоба,
которую рассказчик приписывает ему во время столкновения с
Шатовым). В результате он не останавливает агессию, а
продлевает ее, заставляя противника снова и снова стрелять в него.
Ставрогину не удается не только сравняться с Мышкиным
и Зосимой, представляющими высокий нравственный идеал,
но. и соответствовать вполне земному идеалу кодекса чести.
Чтобы подчеркнуть эту неудачу, Достоевский сравнивает
Ставрогина с одним из приверженцев бретёрского поведения,
декабристом Михаилом Луниным, — и это сравнение крайне
невыгодно для Ставрогина. Несмотря на кажущееся сходство, эти
два человека коренным образом отличаются друг от друга. В
отличие от Лунина, который, предаваясь бретёрству,
наслаждался чувством торжества над страхом, Ставрогин равнодушен
Глава 6. Как воздержаться от дуэли... 231
к нравственной победе над собой и исполнен холодного
расчета. Лунин поддразнивал Алексея Орлова, провоцируя
противника принять его вызов, но он делал это без задних мыслей,
желая подвергнуться опасности из любви к игре. В отличие от
Ставрогина Лунин не был рассержен метким выстрелом
Орлова, чуть не попавшего в него, и продолжал отпускать шутки.
В этом контексте поведение Ставрогина не выглядит истинно
бретёрским: ему не хватает великодушия, безрассудной
смелости и спонтанности33. Существенно, что дважды высказанное
рассказчиком мнение о том, что естественной реакцией
Ставрогина на пощечину было бы скорее убийство, нежели дуэль,
противоречит не только реакции Ставрогина на пощечину
Шатова, но и его реакции на пощечину, полученную от
французского виконта, которого Ставрогин вызвал на дуэль и
отстрелил ему челюсть. Из этого несоответствия следует, что
Ставрогин рассматривает дуэль как присвоенное поведение,
которое можно использовать по своему усмотрению — ради
мести, для создания определенного образа или просто от
скуки. Соответственно такая функция дуэли, как защита
личности, для него неактуальна.
Создавая образ Ставрогина, Достоевский мог иметь в виду
еще одну историческую фигуру — Аркадия Столыпина (1778—
1825). В отличие от Лунина и Федора Толстого, служащих
контрастом, Столыпин — подлинный прототип Ставрогина. В
своих воспоминаниях, впервые напечатанных в 1864—1865
годах и, таким образом, доступных Достоевскому, Ф.Ф. Вигель
описывает характер Столыпина, которого он встречал в
начале 1800-х годов в Пензе, где отец Вигеля был губернатором, а
Столыпин — прокурором. Представитель знатного рода
Столыпиных, Аркадий был братом бабушки Лермонтова и отцом
Монго Столыпина. Он также был выдающейся фигурой сам по
себе: покинув Пензу, он стал высокопоставленным
чиновником, независимым, порядочным и исповедовавшим
либеральные взгляды. Декабристы прочили ему пост в своем
временном правительстве. Столыпин был близким другом Михаила
Сперанского, которого он не оставил, даже когда Сперанский
оказался в опале. В юности он также был второстепенным
литератором, лично знавшим многих писателей того времени,
в том числе Карамзина, Грибоедова и Рылеева34. Тем не
менее Вигель рисует крайне нелестный портрет Столыпина, и
пороки, которые он ему приписывает, чрезвычайно
напоминают ставрогинские.
Сходных черт между Столыпиным у Вигеля и Ставрогиным
у Достоевского так много, что трудно воспринимать это сход-
232 И. Рейфман. Ритуализотппая агрессия
ство как случайность. Достоевский мог заинтересоваться
Столыпиным и просто благодаря его связям с Лермонтовым и
Сперанским, но участие его в деле о совращении малолетней
обязательно должно было привлечь внимание писателя.
Сходство между Столыпиным и Ставрогиным начинается с их имен:
оба имеют религиозные коннотации, «Столыпин» отсылает к
«столпу», Ставрогин — к греческому stavros, «крест». Ставро-
гин и Столыпин наделены сходными физическими качествами:
Вигель подчеркивает огромный рост Столыпина; Достоевский
также акцентирует физическую силу и рост Ставрогина
(«почти высокий»)35 [Достоевский, X: 37]. Психологическое
сходство между ними еще более разительно: Вигель упоминает
«бесстыдство и хладнокровие» Столыпина, отмечает его умение
притворяться и, наконец, называет его «бессмысленным,
бесстрастным и безнравственным юношей». «Бесстрастие»
Столыпина особенно знаменательно: Достоевский тоже
подчеркивает вялость, духовную леность и пассивность Ставрогина на
протяжении всего романа.
Как и Ставрогин у Достоевского, Столыпин у Вигеля
старается создать о себе ложное впечатление. В частности,
притворная смелость маскирует его страх перед дуэлью: «В
поступках этого человека можно было видеть нечто отчаянно-смелое
и можно было в нем предполагать необычайную силу духа;
напротив, трудно было сыскать человека, более его трусливого.
Старшие братья мои и иные молодые люди говорили ему в глаза
жестокие истины, от коих всякого другого бы взорвало; мне
случилось видеть, как один граф Толстой в бешенстве взял его
за ворот, но он остался непоколебим, понюхивал табак и,
величественно улыбаясь, старался все обратить в шутку. Мне
сказывали потом, как при всех объявлял он, что не
согласился бы ни за что в мире на поединок». Кажется, что в этом
характеры Столыпина и Ставрогина не совпадают (рассказчик
«Бесов» утверждает, что Ставрогин «принадлежал к тем
натурам, которые страха не ведают»). Однако необходимо помнить,
что мы на самом деле не знаем ни мотивировок отказа
Столыпина от дуэли, ни причин, побудивших Ставрогина принять от
Шатова пощечину и уклоняться от дуэли с Гагановым.
Нежелание Столыпина и Ставрогина участвовать в дуэли остается в
равной степени непроясненным.
В рассказе Вигеля Столыпин возмутил жителей Пензы тем,
*го защищал человека, совратившего девочку и ставшего
причиной ее смерти: «Шатающийся в Пензе отставной офицер, по
имени Чудаковский, пьяный, дерзкий и развратный, сделал
одно из тех преступлений, которые в России были тогда почти
Глава 6. Как воздержаться от дуэли... 233
неслыханны: насильственно был он причиною смерти одной
несовершеннолетней девочки. По принесенной о том жалобе отец
мой велел его засадить и предать уголовному суду. Столыпин
немедленно вошел с протестом, в коем, самым неприличным
образом порицая злоупотребление власти, старается
оправдывать виновного, увлеченного якобы силою любви». Мотив
совращения ребенка является, конечно, важнейшим в
психологическом портрете Ставрогина. Вигель, охваченный
негодованием, изображает Столыпина — защитника совратителя —
демонической фигурой. Он подчеркивает, что Столыпин написал
свою возмутительную речь в защиту Чудаковского «в начале
страстной недели», и называет этот текст «манифестом зла
против добра». Он также утверждает, что Столыпин собрал
вокруг себя всех злых и порочных людей в Пензе и стал их
лидером: «Безнаказанность такой наглости, несколько времени
спустя, ободрила всех врагов порядка; знамя было поднято, они
спешили к нему. Скоро все пороки, все злодеяния стали
группироваться вокруг этого колосс&чьного трибуна».
Соответственно способность Ставрогина привлекать людей и влиять на них
многократно акцентируется Достоевским при создании его
демонического образа.
Харизма Ставрогина является важным объяснением того,
почему его неуважение к кодексу чести небезвредно. Играя с
кодексом чести, он не только вредит своим непосредственным
противникам, но и создает атмосферу нравственной
неопределенности, которая оказывает мощное деструктивное
воздействие на всех, кто его окружает. Такое поведение Ставрогина
наносит прямой ущерб честным людям и вдохновляет
бесчестных на недостойное поведение. Особенно выигрывает от
молчаливого неуважения Ставрогина к кодексу чести Петр
Верховенский. Разумеется, Верховенский является врагом чести и
сам по себе. С его точки зрения идея чести мешает
радикальной политической деятельности. Он убежден, что
революционер не имеет права на личную честь. Он предлагает Ставро-
гину убить Гаганова так, чтобы не рисковать своей жизнью,
поскольку эта жизнь, по мнению Верховенского, принадлежит
«делу». Более того, кодекс чести, позволяющий человеку
защищать свое достоинство, личное пространство и
независимость, ослабляет контроль Верховенского над его
приспешниками. Поэтому Верховенский поддерживает и разделяет мнение
Кармазинова о том, что «вся суть русской революционной идеи
заключается в отрицании чести» и о том, что «[р|усскому
человеку честь одно только лишнее бремя. Да и всегда было
бременем, во всю его историю. Открытым "правом на бесчестье"
его скорее всего увлечь можно» [Достоевский, X: 288].
234 И. Рейфмап. Ритуализованная агрессия
Сам Верховенский кажется невосприимчивым к
оскорблениям. За несколько лет до описываемых событий Шатов
плюнул ему в лицо, и он никак не ответил. В ходе повествования
Ставрогин самым унизительным образом швыряет Верховенс-
кого на землю, и тот, несмотря на это, просит обидчика о
примирении. Даже Федьке, беглому каторжнику, можно
беспрепятственно бить Верховенского по лицу. Однако
Верховенский не прощает своих обидчиков. Он предпочитает убивать их,
когда предоставляется удобная возможность. После своего
столкновения с Федькой он объявляет, что тот «в последний раз в
жизни пил водку». Услышав о смерти Шатова, Кириллов
высказывает догадку, что Верховенский организовал его убийство
не столько по политическим мотивам, сколько в отместку за
давнее оскорбление, и Верховенский не отрицает этого: «И за
то и еще за другое. За многое другое; впрочем, без всякой
злобы» [Достоевский, X: 430, 467].
Однако, презирая кодекс чести, Верховенский может так
дерзко игнорировать его благодаря нравственной
неопределенной позиции Ставрогина по этому вопросу. Ставрогин
является для него образцом, мерой дозволенного и недозволенного.
Противоречивые поступки Ставрогина укрепляют в Верховен-
ском убеждение, что кодекс чести необязателен. Ставрогин не
отрицает слухов о своем намерении убить Шатова. Он не
протестует, когда Верховенский предлагает убить Гаганова. Он не
отвечает на замечание Верховенского о том, что он,
Ставрогин, не имеет права рисковать своей жизнью на дуэли. Он
продолжает общаться с Верховенским даже после того, как
избивает его. Наконец, Ставрогин поддерживает (хотя и со
смехом) идею Кармазинова о «праве на бесчестье»:
«"Превосходные слова! Золотые слова! — вскричал Ставрогин. —
Прямо в точку попал! Право на бесчестье — да это все к нам
прибегут, ни одного там не останется!"» [Достоевский, X: 300].
Двусмысленная нравственная позиция Ставрогина дает Верхо-
венскому свободу действовать беспринципно. Таким образом,
Ставрогин разделяет ответственность за преступления
Верховенского.
Неуважение Ставрогина к кодексу чести помогает
разоблачить его как притворщика в глазах Марьи Лебядкиной. Для нее
его отказ отомстить Шатову за пощечину означает, что он не
настоящий князь, а злонамеренный самозванец: «Похож-то ты
похож, может и родственник ему будешь, — хитрый народ!
Только мой — ясный сокол и князь, а ты сыч и купчишка.
Мой-то и Богу захочет, поклонится, а захочет, и нет, а тебя
Шатушка <...> по щекам отхлестал. <...> Прочь, самозванец!»
Глава 6. Как воздержаться от дуэли... 235
[Достоевский, X: 219). Марья, играющая в романе роль
юродивой (т.е. святой дурочки), использует условности кодекса
чести для того, чтобы отличить настоящего князя от
самозванца-злоумышленника36. Как кажется, это тот случай, который
имел в виду Достоевский, говоря в «Дневнике писателя» о
частом совпадении дворянского кодекса чести с народным
идеалом. Двусмысленное отношение Ставрогина к дуэли
раскрывает для Марьи двойственную сущность его характера.
В своем последнем романе «Братья Карамазовы»
Достоевский исследует другую сторону пощечины — ее влияние на
агрессора. В этом романе тема агрессии по отношению к
человеческому лицу дважды возникает в связи с конфликтом чести.
В первом случае Дмитрий Карамазов выводит бывшего
капитана Снегирева из трактира за бороду. После этого он выражает
готовность драться с ним на дуэли. Если учитывать
неприглядную репутацию Снегирева, этот жест выглядит великодушным
с точки зрения кодекса чести. Однако тот же кодекс чести
мешает Дмитрию увидеть человека в обладателе оскорбленного
им лица и понять жестокость своей готовности драться со
Снегиревым. Контраст между внешне недостойным поведением
Снегирева и стоящей за этим реальностью предвосхищает
несчастье самого Дмитрия и его борьбу за доказательство своей
невиновности при внешней очевидности вины. В другом
эпизоде будущий старец Зосима, ударив своего слугу по лицу,
осознает этот акт как жестокий и даже бесчеловечный, что
приводит его к истинному пониманию христианства.
Случай со Снегиревым отличается от других эпизодов у
Достоевского, изображающих агрессию по отношению к лицу
человека. Во-первых, насилию подвергается не само лицо, а
борода, то есть нечто покрывающее и скрывающее лицо. Во-
вторых, эта сцена дана в пересказе, сначала бывшей невесты
Дмитрия, Катерины Ивановны, а затем самого Снегирева, так
что читатель не видит непосредственно ни самой сцены, ни
лица жертвы. С помощью этой стратегии Достоевский создает
контраст между кажущейся и подлинной натурой Снегирева,
между шутом, прозванным «мочалкой» за клочковатую
бороду, и преданным отцом семейства. Наконец, в этом эпизоде
есть еще одно действующее лицо, сын Снегирева Илюша. Он
присутствует при сцене оскорбления его отца Дмитрием и
пытается вмешаться. Называя Снегирева папой и целуя руку
агрессора, Илюша подчеркивает человеческое начало
Снегирева и таким образом мешает гладкому совершению ритуала
оскорбления его чести. Целуя руку Дмитрия, в тщетной
попытке остановить агрессию, он подрывает претензию Дмитрия
236 И. Рейфман. Ритуализовашшя агрессия
на великодушие в его обращении со Снегиревым. Впоследствии
Илюша замещает отца, отстаивая его честь в драках со
школьными товарищами и в воображаемой дуэли с Дмитрием.
На первый взгляд Дмитрий выглядит лучше, чем его
жертва. Снегирев неизменно ведет себя как человек, лишенный
чести и заслуживающий побоев. Бывший штабс-капитан, он
был вынужден выйти в отставку за какой-то проступок и теперь
перебивается случайными заработками, в том числе помогая
Федору Карамазову в его темных делах. (Дмитрий наказывает
его как доверенное лицо отца.) Неспособность Снегирева
вызвать Дмитрия на дуэль вредит репутации отставного
штабс-капитана, особенно потому, что никаких формальных
препятствий к дуэли нет: оба являются дворянами и отставными
офицерами (чин Снегирева даже выше). Снегирев и сам в
разговоре с Алешей хотя и иронически, но признает благородство
Дмитрия: «Нет, уж в таком случае позвольте мне и о
высочайшем рыцарском и офицерском благородстве вашего братца
досказать, ибо он его тогда выразил-с. Кончил он это меня за
мочалку тащить, пустил на волю-с: "Ты, говорит, офицер, и я
офицер, если можешь найти секунданта, порядочного
человека, то присылай — дам удовлетворение, хотя бы ты и
мерзавец!" Вот что сказал-с. Воистину рыцарский дух!»
[Достоевский, XIV: 186]. Создается впечатление, что Снегирев ведет
себя неподобающим дворянину образом из низости. Однако у
Снегирева есть свои обязательства за пределами кодекса чести:
он единственный кормилец большой семьи, состоящей в
основном из калек и больных, и его смерть или ранение
повергнут их в нищету. В случае со Снегиревым «рыцарство»
Дмитрия не только бессмысленно, но и жестоко.
В то же время очевидно, что отказ Снегирева от дуэли,
вполне оправданный с человеческой точки зрения, выглядит
сомнительно в контексте кодекса чести. Семейные
обязательства, как правило, не служили достаточным основанием для
отказа от дуэли37. И в истории, и в литературе существуют
примеры отцов семейств, рисковавших жизнью и
благосостоянием своих семей ради сохранения своей чести.
Примечательно, что единственному сыну Снегирева, Илюше, трудно
принять объяснения своего отца по поводу отказа от дуэли с
Дмитрием. Унижение отца не дает мальчику покоя, и он
мечтает заместить своего отца на дуэли: «[Я] вырасту, я вызову его
сам и убью его!» Кроме того, Илюша мстит за Снегирева и более
непосредственным образом: он защищает честь отца от
насмешек школьников и кусает за руку брата обидчика.
Проницательный Алеша правильно понимает действия Илюши как мета-
Глава 6. Как воздержаться от дуоли... 237
форическую дуэль: «Он мне, как Карамазову, за вас отомстил,
мне это ясно теперь»18. Снегирев тоже понимает
символическое значение вражды Илюши со сверстниками: «Начали они его
дразнить, воспрянул в Илюше благородный дух.
Обыкновенный мальчик, слабый сын, — тот бы смирился, отца своего
застыдился, а этот один против всех восстал за отца. За отца и
за истину-с, за правду-с» [Достоевский, XIV: 187]. Хотя защита
со стороны сына и усиливает моральные страдания Снегирева,
по сути, она оправдывает его: если самого его можно
упрекнуть в бесчестье, он все же воспитал достойного сына,
способного защитить честь отца.
Впрочем, и сам Снегирев совершает поступок, очищающий
его доброе имя, — он отказывается взять деньги в качестве
возмещения за оскорбление. Нельзя не признать, что мысль
получить «бесчестье» с Дмитрия приходила ему в голову. Он сам
объясняет свое решение не судить Дмитрия за бесчестье
малостью компенсации, на которую может рассчитывать, и
страхом угроз Грушеньки предать гласности его мошенничества и
тем лишить его дальнейшего заработка, необходимого для
содержания семейства: «Вследствие этого я и притих-е, и вы
недра видели» (Достоевский, XIV: 187]. Но двести рублей,
предложенные Снегиреву Алешей от Катерины Ивановны, не грозят
ему никакими разоблачениями. Более того, Алеша уверяет его,
что принятие дара Катерины Ивановны его не обесчестит. И
все же он отказывается взять деньги, и именно этот отказ
обнаруживает в нем человека чести. Парадоксальным образом этот
жест дает ему возможность принять впоследствии денежную
помощь от Катерины Ивановны.
Внутренние муки Снегирева неочевидны до тех пор, пока
он не отказывается принять деньги. Впервые об унижении
Снегирева рассказывает Катерина Ивановна, которая
отмечает его бедность и упоминает «несчастное семейство больных
детей и жены», но не обращает внимания на самого
Снегирева. Снегирев, пересказывая Алеше случай с «мочалкой»,
также воздерживается от обсуждения собственной реакции на
оскорбление, сосредоточиваясь на реакции Илюши. В обоих
отчетах ничего не говорится и о лице Снегирева.
Единственное лицо, которое можно увидеть в этой сцене, это лицо
Илюши, которое видит и помнит отец, но не замечает агрессор:
«Ну-е вот-с, тянет меня тогда ваш братец Дмитрий Федорович
за мою бороденку, вытянул из трактира на площадь, а как раз
школьники из школы выходят, а с ними и Илюша. Как
увидел он меня в таком виде-с, бросился ко мне: "Папа, кричит,
238 И. Реифман. Ритуализованная агрессия
папа!" Хватается за меня, обнимает меня, хочет меня вырвать,
кричит моему обидчику: "Пустите, пустите, это папа мой,
папа, простите его" — так ведь и кричит: "Простите";
ручонками-то тоже его схватил, да руку-то ему, эту самую руку его,
и целует-с... Помню я в ту минуту, какое у него было личико-
с, не забыл-с и не забуду-е» [Достоевский, XIV: 185—186].
Лицо Снегирева так трудно увидеть, потому что он
скрывает его. Он не только прячет его за уродливой бородой, но и
искажает его кривляньем. Даже Алеше с трудом удается
прочесть что-либо на его лице: «Алеша внимательно смотрел на
него, он в первый раз этого человека видел. <...> Лицо его
изображало какую-то крайнюю наглость и в то же время —
странно это было— видимую трусость. Он похож был на
человека, долгое время подчинявшегося и натерпевшегося, но
который бы вдруг вскочил и захотел заявить себя»
(Достоевский, XIV: 181]. Снегирев одновременно и хочет отвечать
насилием на насилие, чтобы утвердить свой равный статус в
глазах собратьев-дворян, и боится этого. Однако причины,
стоящие за его кажущейся трусостью, становятся понятными не
сразу. Изображая лицо Снегирева, как оно видится Алеше,
рассказчик Достоевского описывает не само лицо, а только его
выражения: «Его лицо изображало видимую трусость, он похож
был». В этот момент Достоевский не дает нам увидеть, что
скрывается за этим выражением наглости, трусости и
притворной агрессии. Алеше в конце концов удается разглядеть за
видимой наглостью, за бородой Снегирева (которая, кстати,
стала менее густой после нападения Дмитрия) его внутреннее
«я». Снегирев раскрывается перед Алешей и позволяет ему
увидеть свои муки и боль, а заодно и понять причины, по
которым он не смог отомстить за свое бесчестье. В
противоположность Алеше Дмитрий может видеть все происшедшее только
сквозь призму кодекса ч£сти. Он не видит ни лица жертвы, ни
человека, скрывающегося за этим лицом. Его бесчувственность
по отношению к лицу Снегирева не дает возможности увидеть
и лица Илюши, услышать его мольбы и отреагировать на его
жесты, зовущие к примирению. Этот недостаток Дмитрию
придется впоследствии преодолеть в обрушившихся на него
испытаниях.
Снегирев чрезвычайно дорожит возможностью скрывать
свое лицо и не желает отказываться от этой защиты. Даже на
вершине своего эмоционального смятения, отвергая
предложенные Алешей деньги, он пытается защищать свой
внутренний мир с помощью притворного шутовства: «"Алексей Федоро-
Глава 6. Как воздержаться от дуэли... 239
вич... я... вы..." — бормотал и срывался штабс-капитан,
странно и дико смотря на него в упор с видом решившегося
полететь с горы, и в то же время губами как бы и улыбаясь». Здесь
Достоевский описывает лицо Снегирева так, как видит его
Алеша, детализируя каждое изменение в его выражении,
каждую попытку скрыть гнев и муку с помощью улыбки. Только в
самом конае Снегирев разрешает увидеть свое настоящее лицо:
«Но и опять, не пробежав пяти шагов, он в последний уже раз
обернулся, на этот раз без искривленного смеха в лице, а
напротив, все оно сотрясалось слезами. Плачущею,
срывающеюся, захлебывающеюся скороговоркой прокричал он: "А что
ж бы я моему мальчику-то сказал, если б у вас деньги за
позор наш взял?"» [Достоевский, XIV: 192, 193]. Выражение
«деньги за позор наш» явным образом отсылает к термину
«деньги за бесчестье». Этот отказ воспользоваться «правом на
бесчестье» — серьезное подтверждение человеческой
порядочности Снегирева. В то же время другое значение слова «позор» —
«зрелище». Потребность Снегирева в маскировке вызвана тем,
что он претендует на честь и личное пространство.
Многие герои Достоевского прячут лицо в попытке уберечь
его от оскорбления или защитить свой внутренний мир. Для
этой цели они используют особый жест — закрывают свое лицо
обеими руками. Князь Мышкин закрывает лицо и
отворачивается, получив пощечину от Гани. Матреша, ребенок,
соблазненный Ставрогиным, делает то же самое после
изнасилования: «Смущение быстро с каждою минутой овладевало ею все
более и более. Наконец она закрыла лицо руками и стала в угол
лицом к стене неподвижно» [Достоевский, XI: 16]. Аркадий в
«Подростке» закрывает лицо руками и рыдает, узнав о
беременности своей сестры: «[Я] вдруг закрыл лицо обеими руками и
горько, навзрыд, заплакал». Этот жест Аркадия выглядит
настолько подлинным и естественным, что немедленно
убеждает любовника его сестры, князя Сокольского, подозревавшего
Аркадия в желании извлечь выгоду из положения соблазненной,
в невиновности Аркадия: «Князь вдруг и совершенно поверил»
[Достоевский, XIII: 236].
С точки зрения Достоевского, право скрывать лицо
является фундаментальным, естественным правом человека. Лиза-
вета в «Преступлении и наказании» не защищает своего лица
от топора Раскольникова, что свидетельствует о ее особой
беспомощности и уязвимости39. Аналогичным образом будущий
старец Зосима, увидев, что его денщик Афанасий не
закрывает лицо от его ударов, воспринимает это как знак крайней без-
240 И. Рейфман. Ритуализовапная агрессия
защитности Афанасия: «[И| это человек до того доведен! И это
человек бьет человека! Экое преступление!» [Достоевский, XIV:
270J. Беззащитное лицо может произвести сильнейшее
впечатление на человека, совершающего насилие против него:
бывает, что вид открытого насилию лица навсегда отбивает
желание агрессивного поведения. Лицо князя Мышкина поражает
Ганю, заставляет его пожалеть о своих поступках и пробуждает
в нем чувство порядочности. То же самое, но в более сильной
степени происходит с будущим старцем Зосимой. Реакция на
вид открытого агрессии лица Афанасия приводит его к
истинному пониманию христианства40.
Будучи молодым офицером в начале 1820-х годов, Зосима
разделял взгляды своего поколения на дуэль: «Когда вышли мы
офицерами, то готовы были проливать свою кровь за
оскорбленную полковую честь нашу...» Соответственно, потерпев
поражение в любви, он провоцирует дуэль с соперником41.
Дуэль назначена на утро, но еще до наступления рассвета
будущий старец совершает поступок, который изменяет его
навсегда: «Был в исходе июнь, и вот встреча наша назавтра, за
городом, в семь часов утра — и воистину случилось тут со мной
нечто как бы роковое. С вечера возвратившись домой,
свирепый и безобразный, рассердился я на моего денщика
Афанасия и ударил его изо всей силы два раза по лицу, так что
окровавил ему лицо». Зосима засыпает, но вскоре просыпается,
мучимый чувством вины: «Что же это, думаю, ощущаю я в душе
моей как бы нечто позорное и низкое? Не оттого ли, что кровь
иду проливать? Нет, думаю, как будто и не оттого. Не оттого
ли, что смерти боюсь, боюсь быть убитым? Нет, совсем не то,
совсем даже не то... И вдруг сейчас же и догадался, в чем было
дело: в том, что я с вечера избил Афанасия!»
В эту минуту Зосима вспоминает лицо Афанасия, которое
он, оказывается, не видел во время самого избиения. Теперь
он с ясностью представляет себе все детали, и его мучит
беззащитная поза Афанасия: «Все мне вдруг снова представилось,
точно вновь повторилось: стоит он предо мною, а я бью его с
размаху прямо в лицо, а он держит руки по швам, глаза
выпучил как во фронте, вздрагивает с каждым ударом и даже руки
поднять, чтобы заслониться, не смеет <...> Словно острая игла
прошла мне всю душу насквозь». В раскаянии будущий старец
закрывает лицо руками, падает на постель и разражается
рыданиями. Кротость Афанасия, быть может невольная, но тем не
'менее действенная против жестокости, открывает Зосиме мир
высших ценностей. Перед тем как отправиться на дуэль, он
идет к Афанасию и смиренно просит у него прощения: «Вбежал
Глава 6. Как воздержаться от дуэли... 241
один в квартиру обратно, прямо в каморку к Афанасию:
"Афанасий, говорю, я вчера тебя ударил два раза по лицу, прости
ты меня", — говорю. Он так и вздрогнул, точно испугался,
глядит — и вижу я, что этого мало, мало, да вдруг, так, как
был, в эполетах-то, бух ему в ноги лбом до земли: "Прости
меня!" — говорю». Афанасий потрясен. Он напоминает Зоси-
ме о неравенстве их положений, а затем отвечает ему тем же
самым общечеловеческим жестом, к которому до этого прибег сам
Зосима, — рыдает и закрывает лицо руками: «Тут уж он и совсем
обомлел: "Ваше благородие, батюшка барин, да как вы... да
стою ли я..." — и заплакал вдруг сам, точно как давеча я,
ладонями обеими закрыл лицо, повернулся к окну и весь от слез
так и затрясся...» Этот жест с большой силой демонстрирует
человеческое равенство между ними и утверждает приоритет
этого равенства над условным неравенством класса и чина.
Кротость, проявляемая Афанасием во время побоев,
принятие им даже не одной, а двух пощечин — в точности как
предписывает Нагорная проповедь — пробуждает сострадание в
Зосиме. Увидев в Афанасии своего собрата, человека, он не
может вернуться к узкому и эгоистическому видению людей,
поощряемому кодексом чести. Тем не менее он уже дал
обязательство участвовать в дуэли и должен теперь найти
приемлемый способ избежать того, что теперь кажется ему злом. Он
делает это следующим образом: выдерживает выстрел
противника, затем отбрасывает свой пистолет и просит простить его.
Здесь решающим моментом является то, что Зосима
демонстрирует подлинное уважение к кодексу чести: он принимает его
требования, несмотря на то что считает их неправильными.
Когда секунданты упрекают его за извинение у барьера, он
объясняет это так: «То-то вот и есть <...> это-то и
удивительно, потому следовало бы мне повиниться, только что
прибыли сюда, еще прежде ихнего выстрела, и не вводить их в
великий и смертный грех, но до того безобразно, говорю, мы сами
себя в свете устроили, что поступить так было почти и
невозможно, ибо только после того, как я выдержал их выстрел в
двенадцати шагах, слова мои могут что-нибудь теперь для них
значить, а если бы до выстрела, как прибыли сюда, то
сказали бы просто: трус, пистолета испугался и нечего его слушать».
Следование кодексу чести становится мерилом человеческого
достоинства Зосимы и позволяет ему примириться с
противником, не потеряв при этом его уважения.
Благодаря эпизоду с Афанасием Зосима — так же как Мыш-
кин и в отличие от Ставрогина — становится особенным,
отличным от других, своего рода idiotes: его противник и сослу-
242 И. Рейфман. Ритуадизованная агрессия
живцы извиняют его повеление, называя Зосиму «оригиналом»
и «монахом». Как особенный человек, Зосима способен на
подлинную любовь к врагу (сцена дуэли насыщена словами
«восторг», «смейтесь», «смеюсь», «ласково», «весело») и на
подлинную заботу о благе противника (Зосима просит
прощения за то, что заставил его стрелять в человека). Благодаря
своему особому статусу он находит правильный выход из
ситуации дуэли, не оскорбив противника и не пойдя на
компромисс со своей личной честью.
Проблема корпоративной чести
Остается вопрос, освобождает ли Зосиму его особый
статус от обязательств по отношению к товарищам-офицерам?
Когда некоторые из его товарищей сомневаются в
правильности его поведения на дуэли, они беспокоятся не столько о его
добром имени, сколько о том, что он опозорил их полк:
«Тотчас все товарищи прослышали, собрались меня судить в тот же
день: "мундир, дескать, замарал, пусть в отставку подает"».
Другие защищают Зосиму на том основании, что он доказал
свое мужество, приняв выстрел противника. Тем не менее все
испытывают облегчение, когда Зосима объявляет об отставке
и о своем решении уйти в монастырь: «Да ты б с самого начала
уведомил, ну теперь все и объясняется, монаха судить нельзя».
В этом споре личные убеждения Зосимы
противопоставляются его обязательствам поддерживать коллективную честь
полка. Отношение Достоевского к корпоративной чести было еще
более двойственным, чем к личной. Защита личной чести
означала охрану своего пространства и достоинства, в то время
как корпоративная честь требовала от человека отказаться от
своей личной идентификации и принять групповое понимание
чести. Суд над Всеволодом Крестовским в 1876 году привлек
внимание Достоевского к проблеме корпоративной чести.
Достоевский критикует, среди прочего, искаженную
трактовку Крестовским идеи чести. По мнению Достоевского, такое
понимание чести фокусировалось скорее на «наружных
формах», чем на «внутренней потребности души человеческой»
(«Записная тетрадь 1876—1877 гг.» [Достоевский, XXIV: 195; ср.
также с. 186]). В «Братьях Карамазовых» Зосима говорит об
искусственном характере корпоративной чести. Упоминая о
своем юношеском положительном отношении к дуэли,
Зосима указывает на то обстоятельство, что он и его друзья-офи-
Глава 6. Как воздержаться от дуэли... 243
церы были знакомы только с тем понятием чести, которое
диктовал им военный кодекс чести: «|Мы| готовы были
проливать свою кровь за оскорбленную полковую честь нашу, о
настоящей же чести почти никто из нас и не знал, что она
такое есть, а узнал бы, так осмеял бы ее тотчас же сам первый»
(Достоевский, XIV: 268]. Тем не менее Достоевский не считал,
что индивидуум свободен от ответственности за защиту
корпоративной чести, несмотря даже на ее принудительный
характер. Зосима, например, полностью освобождается от
обязательств поддерживать честь полка лишь после того, как
объявляет о своем решении дать монашеский обет. В повести
«Кроткая» Достоевский более внимательно исследует
обязательства индивидуума по отношению к коллективу.
Рассказчик и главный герой повести не позволяет
коллективу полка ограничивать свободу его воли: он отказывается
защищать честь полка, якобы опороченную чьим-то намеком на
то, что один из офицеров шумел, напившись пьяным.
Товарищи по полку, раздосадованные его равнодушием к чести
полка, заставляют героя подать в отставку. Годами позже
объясняя жене свой отказ вступиться за честь полка, рассказчик
ссылается на нежелание поддаваться тирании со стороны
коллектива: «Но я отказался от дуэли не как трус, а потому что не
захотел подчиниться их тираническому приговору и вызывать
на дуэль, когда не находил сам обиды». Он возражает против
самой идеи коллективной ответственности: «Если он имел зуб
на Безумцева, то дело это было их личное, и мне чего же
ввязываться?»42 [Достоевский, XXIV: 18, 224].
Он утверждает, что вел себя сообразно своим принципам
и даже героически: «Знайте <...> что восстать действием
против такой тирании и принять все последствия — значило
выказать гораздо более мужества, чем в какой хотите дуэли»
[Достоевский, XXIV: 18]. Тем не менее, несмотря на то что он был
уверен в своей правоте, эта история подкосила его: «Я вышел
гордый, но разбитый духом. Я упал волей и умом».
Происшествие сокрушило его настолько, что он решил стать
ростовщиком: «Итак — стыд так стыд, позор так позор, падение так
падение, и чем хуже, тем лучше, — вот что я выбрал»
[Достоевский, XXIV: 24|.
Рассказчик имеет все основания стыдиться своего
поступка: он пренебрег почтенной традицией, поддерживаемой
лучшими представителями русской армии. Многие поколения
русских офицеров чувствовали личную ответственность за
коллективную честь своих полков и принимали эту ответственность
всерьез. В одном из случаев, возможно известных Достоев-
244 И. Рейфман. Ритуализованная агрессия
скому, подполковник С.Н. Старов стрелялся на дуэли с
Пушкиным по столь же тривиальному поводу, как и в случае,
описанном в «Кроткой»: на публичном балу в Кишиневе Пушкин
заказал оркестру мазурку, в то время как некий молодой
офицер настаивал на кадрили. Победил Пушкин, и Старов,
командир молодого офицера, посоветовал тому вызвать
Пушкина на дуэль. Когда молодой офицер уклонился от вызова,
Старов взял ответственность на себя. Современник
одобрительно описывает его действия: «Вы сделали невежливость моему
офицеру, — сказал Старов, взглянув решительно на
Пушкина, — так не угодно ли вам извиниться перед ним, или вы
будете иметь дело лично со мной». Пушкин охотно принял
вызов — на самом деле он был очень польщен, что боевой
офицер, ветеран войны 1812 года, человек намного старше его и
с безупречной репутацией дуэлянта, вызвал его — молодого
чиновника. Для Старова неуважение к его подчиненному имело
личное значение: «Полковник Старов, несмотря на разность лет
сравнительно с Пушкиным, конечно был не менее его пылок
и взыскателен, по понятиям того времени, во всем, что
касалось хотя бы мнимого уклонения от уважения к личности...»43
В сопоставлении с таким обостренным чувством
ответственности за честь полка отказ рассказчика «Кроткой» драться и его
попытки объяснить свой отказ ссылкой на высокие принципы
легко могут показаться подозрительными.
И в самом деле отказ героя драться многих заставил увидеть
в нем труса. Он не только был вынужден немедленно подать в
отставку, но и много лет спустя бывший сослуживец,
пытающийся соблазнить его жену, намекает ему на былое бесчестье и
на то, что он уклонился от дуэли из трусости: «И знаете <...>
хоть с вами и нельзя драться порядочному человеку, но, из
уважения к вашей даме, я к вашим услугам... Если вы,
впрочем, сами рискнете...» [Достоевский, XXIV: 20]. Хуже всего то,
что и жена рассказчика начинает презирать его: «"А правда, что
вас из полка выгнали за то, что вы на дуэль выйти струсили?" —
вдруг спросила она, с дубу сорвав, и глаза ее засверкали. <...>
"Выгнали как труса?"» [Достоевский, XXIV: 18].
Неодобрение жены окончательно сокрушает рассказчика
«Кроткой». Достоевский часто отводит женам роль строжайших
судей в делах чести. Кроткая жена Федора Карамазова бранит
своего мужа за то, что тот не вызвал на дуэль человека,
давшего ему пощечину. Страх неодобрения со стороны жены
заставляет противника Зосимы принять его вызов: «[Т|еперь же
подумал, что если та узнает, что он оскорбление от меня
перенес, а вызвать на поединок не решился, то чтоб не стала она
Глава 6. Как воздержаться от дуэли... 245
невольно презирать его и не поколебалась любовь ее»44. Поэтому
рассказчик чувствует потребность восстановить перед женой свое
доброе имя. Он делает это, подвергая себя смертельной
опасности, когда она подносит дуло пистолета к его виску. Позднее
он представляет этот эпизод как дуэль между ними: «Кроме
того, я знал всей силой моего существа, что между нами в это
самое мгновение идет борьба, страшный поединок на жизнь и
смерть, поединок вот того самого вчерашнего труса,
выгнанного за трусость товарищами. Я знал это, и она знала, если
только угадала правду, что я не сплю» [Достоевский, XXIV: 211.
Рассказчик верит, что это был единственный шанс
реабилитировать себя в ее глазах: «Например, как мог бы я, без
случайной помощи происшедшей страшной катастрофы с
револьвером, уверить ее, что я не трус и что меня обвинили в полку
как труса несправедливо?» Обнаруживая свое мужество, он
одерживает моральную победу над ней (хотя вскоре он этой
победой злоупотребляет). Он также разделывается со своим
постыдным прошлым: «Выдержав револьвер, я отомстил
всему моему мрачному прошлому» [Достоевский, XXIV: 21, 24|.
Несмотря на то что рассказчик доказывает жене свое
мужество, его давнишний отказ от дуэли действительно объяснялся
трусостью — хотя и трусостью особого рода. Впоследствии он
признается жене, что не хотел вызывать на дуэль человека,
оскорбившего честь полка, так как боялся показаться смешным
(в этом отношении он напоминает подпольного человека): «Я
ей объяснил, что тогда в буфете действительно струсил, от
моего характера, от мнительности: поразила обстановка,
буфет поразил; поразило то: как это я вдруг выйду, и не выйдет
ли глупо? Струсил не дуэли, а того, что выйдет глупо...»45
[Достоевский, XXIV: 30]. Страх показаться смешным, возможно,
говорит о меньшей трусости, чем страх смерти, и все же и то
и другое — трусость. Зосима не боится ни смерти, ни
насмешек. Когда будущий старец объявляет о своих новых
убеждениях, товарищи сначала реагируют на это смехом: «Вот я раз в
жизни взял и поступил искренно, и что же, стал для всех вас
точно юродивый: хоть и полюбили меня, а все же надо мной,
говорю, смеетесь». Зосима не обижается на насмешки, и его
настойчивость в конце концов помогает ему добиться всеобщего
уважения. Особенно это касается его бывшей возлюбленной:
«Вдруг, смотрю, подымается из среды дам та самая молодая
особа, из-за которой я тогда на поединок вызвал и которую
столь недавно еще в невесты себе прочил, а я и не заметил,
что она теперь на вечер приехала. Поднялась, подошла ко мне,
протянула руку: "Позвольте мне, говорит, изъяснить вам, что
246 И. Рейфман. Ритуализовапная агрессия
я первая не смеюсь над вами, а, напротив, со слезами
благодарю вас и уважение мое к вам заявляю за тогдашний
поступок ваш". Подошел тут и муж ее, а затем вдруг и все ко мне
потянулись, чуть меня не целуют» [Достоевский, XIV: 273|.
Разумеется, Зосима способен на такое поведение потому,
что стал истинным христианином, обрел высшие ценности, а
вместе с ними и правильные модели поведения. Однако в этот
момент Зосима переживает переход от обыкновенной жизни к
жизни монашеской, а значит, оценивается одновременно и с
христианской, и с мирской точки зрения. Существенно, что
он соответствует и тому и другому критерию.
Несовершенные формы чести
Отношение Достоевского к дуэли и кодексу чести
оставалось двойственным на протяжении всей его жизни. Он
никогда не принимал дуэль в качестве наилучшего средства против
бесчестья, но никогда и не осуждал ее всецело. Кодекс чести
представлял некоторые положительные пути решения
вопросов, связанных с человеческим достоинством и
независимостью, а также с личным пространством и телесной
неприкосновенностью. Достоевский показывает сначала жалких и
неуклюжих Девушкина и Голядкина, не уверенных даже в
самом своем праве на достоинство; затем мятущегося и
асоциального подпольного человека, чье чисто теоретическое понимание
кодекса чести жестоко подводит его; затем князя Мышкина,
idiotes, который наделен даром истинного достоинства по
милости Божьей; и, наконец, Зосиму, который обретает этот дар
через сострадание. Эти персонажи Достоевского — даже те,
которые терпят неудачу в попытках следовать point d'honner —
уважают кодекс чести как средство защиты личного
пространства и достоинства человека. Герои, избегающие дуэли и не
следующие кодексу чести, изобличаются либо как
беспринципные люди, либо, еще того хуже, нравственные чудовища.
В любом случае участие человека в дуэли так или иначе
предполагает конфронтацию. Дуэль требует от человека не
сострадать ближнему, но защищать свои интересы. Кодекс
чести делает великодушие почти невозможным, он враждебно
относится к идеям милосердия и всепрощения. Фактически
кодекс чести не только не оставляет места для просьбы о
прощении, но часто делает ее невозможной, поскольку это
действие может повредить репутации просящего и даже оскорбить
противоположную сторону. В результате дуэль часто способ-
Глава 6. Как воздержаться от дуэли... 247
ствует эскалации агрессии помимо воли участников. Герои
повести «Кроткая» оказываются жертвами дуэльного ритуала,
ограничивающего возможность просить прощения и прощать.
В своеобразном поединке с женой рассказчик хочет добиться
ее уважения и даже любви: «Она была единственным
человеком, которого я готовил себе, а другого и не надо было...» Тем
не менее он так загипнотизирован процессом поединка, что ни
разу не пытается попросить у нее прощения. Еще хуже то, что
он обнаруживает неспособность простить ее, замечая с
удовлетворением, что она «побеждена, но не прощена». Он даже
видит в этой победе залог их будущего счастья: «Но я ясно
видел, что друга надо было приготовить, доделать и даже
победить» [Достоевский, XXIV: 22, 24]. Таким образом, он
восстанавливает свою честь ценой ее чести, навсегда уничтожая
возможность подлинного общения между ними. В свою
очередь, его жена тоже теряет способность просить прощения и
прощать. Совершая самоубийство, она завершает поединок,
начавшийся с попытки убить мужа.
Достоевский верил, что в будущем в России появятся
новые формы чести, более гуманные и менее эгоистические. Он
не исключал и существования таких форм в историческом
прошлом России. Писатель верил в то, что у России есть что-то,
что она могла бы предложить остальному человечеству:
«Нравственные же вещи Европы нельзя копировать; мстительность,
возмездие, жестокость, честь рыцарская — все это очень
плохо. Вера их хуже нашей. Гуманность же, которую вы столь
цените, без сомнения ниже нашей (взгляд народа на
преступника, прощение и забвение обид, широкое понимание
исторической необходимости — это у нас лучше, чем на Западе)»
(«Записная тетрадь 1875—1876 гг.» Щостоевский, XXIV: 182)).
Между тем «лучшие люди» России принимали несовершенные
формы чести, и, с точки зрения Достоевского, эти формы
были лучше, чем ничто: сколь бы ни были они несовершенны,
они могли, по мнению писателя, охранять внутреннее «я»
индивидуума, его личность («лицо») и таким образом не
позволить людям превратиться в «коммунарское стадо».
ВМЕСТО ЗАКЛЮЧЕНИЯ:
После Достоевского
Авторитет Достоевского определил тон последующей
трактовки дуэльной темы в русской литературе и в конце концов
способствовал формированию героического образа дуэлянта в
русской культурной памяти. Анализируя вопросы, связанные с
честью и дуэлью, Достоевский подчеркнул этические аспекты
проблемы физической неприкосновенности, исследовал
вопрос о правильном ответе на вторжение в личное пространство
и указал на серьезные — как для индивидуума, так и для
общества — нравственные последствия неспособности человека
защитить свою телесную неприкосновенность. После
Достоевского вопросы личного достоинства и физической
неприкосновенности оставались ключевыми для дуэльного дискурса.
Твердая уверенность Достоевского в ответственности человека
за защиту своего личного пространства стала особенно
актуальной после Октябрьской революции, когда права личности все
больше и больше нарушались набирающей силу тоталитарной
машиной. С точки зрения послереволюционных поколений,
бессильных против этой машины, идеализм дуэли, ее
исключительная непрактичность, ее чисто символическая власть как
инструмента утверждения человеческого достоинства — все эти
черты, привлекавшие внимание Достоевского, — стали
восприниматься как ее особенные достоинства. Чем враждебнее к
личности становился режим и чем безнадежнее становились
попытки людей защитить свое личное пространство и
физическую неприкосновенность, тем сильнее приааекали русских
героические образы дуэлянтов прошлого.
Ближайшие по времени последователи Достоевского —
писатели конца XIX и начала XX века — одновременно и
развивали, и существенно пересматривали его подход.
Коллективно они подорвали возвышенную репутацию дуэли как
института, якобы удерживающего людей от оскорблений друг
друга, подчеркивая нерелевантность кодекса чести для
значительной части дворянства и открытость русской дуэли
физической агрессии. Социальный катаклизм 1917 года решительным
образом изменил судьбу наследия Достоевского: литература
раннего советского периода перестала подвергать сомнению его
выводы и стала относиться к ним как мерилам разрушения не
Вместо заключения: После Достоевского 249
только кодекса чести, но и самих понятий личного
пространства, чести и достоинства. Писатели советской России
присвоили дуэли статус наилучшего способа борьбы против нарушения
прав личности, когда-либо выработанный русской культурой.
Соответственно они рассматривали смерть кодекса чести как
знак нравственного распада русского общества.
Ближайшим преемником Достоевского, обратившимся к
вопросам чести и дуэли, был Николай Лесков. Дуэль—
явление чуждое и самому Лескову, и большинству его
литературных героев. Тем не менее темы чести и дуэли присутствуют в
некоторых его произведениях. Иногда их присутствие
очевидно (как в романе 1866 года «Островитяне», в котором Лесков
высмеивает завещанный русской литературе Бестужевым
романтический образ дуэлянта). Но чаще эти темы возникают у
Лескова в контексте проблем, смежных с дуэлью, — таких, как
проблема личной неприкосновенности. Лесков хорошо
осознавал как предрасположенность русского дворянства к
физической агрессии, так и его страх перед телесным наказанием.
Проблемы телесного наказания и физического оскорбления
занимают важное место во многих его произведениях.
Сюжеты Лескова изобилуют драками между дворянами, независимо
от их чинов и общественного положения. При этом Лесков
изображает эти драки как норму жизни русского дворянства.
Так, в рассказе «Смех и горе» умный и наблюдательный
простолюдин описывает нравы русского дворянства барыне и ее
маленькому сыну, только что вернувшимся в Россию после
длительного пребывания за границей: «[А] ночью <...> хотя они
и благородные, но у них наверное случится драка» [Лесков, V:
7J. Аналогичным образом, второстепенный герой этой же
повести, отставной генерал, рассказывает о манерах, принятых
в среде гвардейских офицеров: «Я их, этих господ, знаю: был
и со мной такой случай, что их братия пробовали со мной
фамильярничать, да ведь мне в кашу не плюнешь. Я еще тогда в
маленьком чине служил. Мы не поладили как-то за картами.
Мне денщик их говорит: "Не ходите, говорит, к нам больше,
ваше благородие, а то наши господа хотят вас бить". Я ему дал
на водку и прихожу, и спрашиваю: "Правда ли, господа,
будто вы хотите меня бить?" — "Правда", а их осьмеро, а я один.
"Ну, как же вы меня будете бить, когда вас осьмеро, а я
один?" — "А вот так", отвечает сам хозяин да прямо меня по
щеке. Я очень спокойно говорю: "Я этому, господа, не верю".
Он второй раз. Я опять говорю: "Не верю". Он в третий; ну,
тогда я взял его за ноги, взмахнул, да и начал им же самим
250 И. Рейфман. Ритуализованная агрессия
действовать, и всех их переколотил, и взял из-под скамьи
помойный таз, облил их, да и ушел!» [Лесков, V: 157—158].
Характерно, что дуэль в этих примерах даже не
упоминается: в отличие от Достоевского Лесков не верил в реальное
существование кодекса чести в России. Он не верил, что этот
кодекс имеет значение для основной массы дворян. Более того,
он думал, что даже те, кто знал о его существовании, редко
следовали ему. В его рассказе «Обман» (1883) есть сцена, когда
офицер дает пощечину своему оскорбителю, штатскому
человеку, и тот в ответ обнажает шпагу. Из слов рассказчика
явствует, что оба героя знакомы с дуэльной традицией, но
совершенно к ней безразличны: «Схватил в руку карты, затрясся,
закричал: "Вы врете! вы плут!" И прямо, подлец, бросил в меня
картами. Но я не потерялся и говорю: "Ну, нет, брат, — я выше
плута на два фута", — да бац ему пощечину... Он тряхнул свою
палку, а из нее выскочила толедская шпага, и он с нею,
каналья, на безоружного лезет! Товарищи кинулись и не
допустили. Одни его держали за руки, другие — меня» [Лесков, VII:
107). Эта сцена во многих отношениях заставляет вспомнить
драки XVIII века, в которых использовались шпаги, палки и
кулаки. Различие заключается в несоответствии вполне
бесчестного поведения героев отсылкам к дуэльной традиции
(публичное обвинение во лжи — dementi; герой, давший
пощечину, обвиняет противника в недостатке благородства, поскольку
тот нападает на безоружного). Лесков ясно дает понять, что они
знакомы с кодексом чести, но абсолютно к нему безразличны.
Еще важнее то, что такое пренебрежение к кодексу чести
ничем не грозит героям. Автор показывает, что если никто не
придерживается кодекса чести, то он нерелевантен.
Лескова также беспокоили ограниченные возможности
дуэли. Его интересовали ситуации, не умещающиеся в
прокрустово ложе кодекса чести, — например, столкновения между
простолюдинами и конфликты, включающие оскорбление
дворянина простолюдином. Последний вопрос беспокоил и
Достоевского, как явствует из его записной книжки 1875—1876 гг.:
«Извозчик бил барина. <...> Барин — вид профессора. Не
жаловался. Но что, если б пожаловался. Ничего не будет». Из
сделанной двумя страницами раньше другой записи об этом
происшествии следует, что «ничего не будет» — слова извоз-
•чика, выражающие его чувство безнаказанности [Достоевский,
XXIV: 103, 102]. Несмотря на свои многократные обвинения
в адрес Пирогова, офицера, высеченного простолюдином,
Достоевский признает, что дворянину в таких случаях нечего
Вместо заключения: После Достоевского 251
делать: дуэль невозможна, а судебная система неэффективна.
Достоевский не указал выхода из этой ситуации. Лесков,
однако, считал, что прощение своего обидчика лишает
оскорбление его действенной силы. Особенно важно, что он видит
такое примирение как приемлемый выход для каждого
человека, а не только для таких особых личностей, как Мышкин или
старец Зосима. С точки зрения Лескова, отказ действовать в
рамках point d Ъоппеыг не дискредитирует человека, и герои его
произведений, прощающие своих обидчиков, повышают свой
нравственный статус.
Как кажется, формулировка Лесковым правильного, по его
мнению, ответа на физическое оскорбление была отчасти
реакцией на произведения Достоевского. Повесть Лескова
«Очарованный странник» (1873) и рассказ «Фигура» (1889)
представляются репликами его в диалоге с Достоевским. В
«Очарованном страннике» Лесков исследует ситуацию, имевшую
особый интерес для Достоевского, и предлагает решение,
которое Достоевский заведомо не мог бы разделить1. В «Братьях
Карамазовых» Достоевский предлагает свое решение проблемы.
Лесков отвечает ему рассказом «Фигура», утверждая, что даже
обыкновенный человек может отвергнуть кодекс чести и в то
же время сохранить свое достоинство. Разумеется, содержание
«Очарованного странника», «Братьев Карамазовых» и
«Фигуры» несводимо к спору авторов о физическом насилии и
дуэли, но тем не менее мне представляется, что признание
возможности скрытого диалога на эти темы между писателями
обогащает наше понимание их произведений.
Два эпизода в повести «Очарованный странник» трактуют
проблемы чести и дуэли. Парадоксальным образом в обоих
эпизодах приверженцем кодекса чести является не дворянин,
а простолюдин, Иван Флягин. Более того, его обеспокоенность
проблемой чести прямо связана с его бессознательной
жестокостью. Первый эпизод— который, как мне кажется, должен
был представлять особый интерес для Достоевского — это
драка, в которой Иван Флягин избивает офицера. Вот как сам
Иван пересказывает это событие: «Он огорчился, весь
покраснел, да на меня; но мне, сами можете видеть мою комплек-
цыю, — что же мне с форменным офицером долго
справляться: я его так слегка пихнул, он и готов: полетел и шпоры вверх
задрал, а сабля на сторону отогнулася. Я сейчас топнул, на
эту саблю его ногой наступил и говорю: "Вот тебе, — говорю, —
и храбрость твою под ногой придавлю". Но он, хоть силой
плох, но отважный был офицерик: видит, что сабельки ему у
252 И. Реифман. Ритуализованная агрессия
меня уже не отнять, так распоясал ее, да с кулачонками ко мне
борзо кидается... Разумеется, и эдак он от меня ничего,
кроме телесного огорчения, для себя не получил, но понравилось
мне, как он характером своим был горд и благороден»
[Лесков, И: 245J. Отметим дуэльную лексику: отважный,
сабелька, горд, благороден. Более того, побив офицера, Иван
становится крайне озабочен проблемой его чести: «[Д]о самой
Пензы едучи, сидел и думал: хорошо ли же это я сделал, что я
офицера бил? ведь он присягу принимал, и на войне с саблею
отечество защищает, и сам государь ему, по его чину, может
быть, "вы" говорит, а я, дурак, его так обидел!..» Офицер же
не разделяет беспокойства Ивана, относится к
произошедшему философски: «А что ж, — говорит, — теперь с этим делать.
Что ты меня сильнее и поколотил меня, того назад не вынешь»
[Лесков, II: 246, 247]. Лесков подчеркивает принципиальную
невозможность отменить побои: «назад не вынешь». Когда Иван
предлагает офицеру побить его, в отместку за свою честь, тот
отказывается: «"Да за что же? — говорит, — за что же я тебя
стану бить?" — "Да так, — отвечаю, — для моей совести, чтоб
я не без наказания своего государя офицера оскорбил". Он
засмеялся, а я опять надул щеки как можно полнее и опять стою.
Он спрашивает: "Чего же ты это надуваешься, зачем
гримасничаешь?" А я говорю: "Это я по-солдатски, по артикулу
приготовился: извольте, — говорю, — меня с обеих сторон
ударить",— и опять щеки надул; а он вдруг, вместо того чтобы
меня бить, сорвался с места и ну целовать меня и говорит:
"Полно, Христа ради, Иван, полно: ни за что на свете я тебя
ни разу не ударю"...» [Лесков, II: 247]. Офицер демонстрирует
подлинно христианское поведение, прощая и с любовью
целуя своего обидчика. Ни символический акт (дуэль), ни ответ
ударом на удар не могут смыть оскорбления, но прощение
может аннулировать его. Иван же в отличие от офицера
обеспокоен только собственным чувством вины, а не благом
обиженного. Великодушное поведение офицера одновременно
подрывает символическое значение дуэли как орудия мести и
обнажает связанные с ней эгоистические помыслы.
В другом эпизоде «Очарованного странника» происходит
жестокий поединок на плетях, в ходе которого Иван забивает
своего противника «татарина» до смерти. Это кровавое
состязание трудно было бы назвать дуэлью, если бы не замечание
Ивана: «"Что же это, мол, у них, стало быть, вроде как
господа на дуэль, что ли, выходят?" — "Да, — отвечает, — тоже
такой поединок, только это, — говорит, — не насчет чести, а
Вместо заключения: После Достоевского 253
чтоб не расходоваться"». Далее при описании этого эпизода
герой Лескова продолжает использовать дуэльную лексику. Так,
татарин не хочет сдаваться из чувства чести: «[И] через эту ам-
бицыю ни за что не хотел мне уступить, хотел благородно
вытерпеть, чтобы позора через себя на азиатскую нацыю не
положить, но сомлел, беднячок, и против меня не вытерпел...»
Рассказчик также называет это столкновение «честным боем»
[Лесков, II: 253, 257].
Тем не менее русские свидетели поединка отказываются
рассматривать это жестокое состязание в выносливости как дуэль:
«Татарва — те ничего: ну, убил и убил: на то такие были
кондиции, потому что и он меня мог засечь, но свои, наши русские,
даже досадно как этого не понимают, и взъелись. Я говорю:
"Ну, вам что такого? что вам за надобность?" — "Как, —
говорят, — ведь ты азиата убил?" — "Ну так что же, что, мол,
такое, что я его убил? Ведь это дело любовное. А разве лучше
было бы, если бы он меня засек?" — "Он, — говорят, — тебя
мог засечь, и ему ничего, потому что он иновер, а тебя, —
говорят, — по христианству надо судить. Пойдем, — говорят, —
в полицию"» [Лесков, II: 257]. Обвинители Ивана отвергают
его аргумент, что состязание, как дуэль, позволительно,
поскольку оно основывается на правилах, добровольно принятых
обеими сторонами. Обвинители (которые, вероятно,
являются дворянами, хотя Лесков не упоминает об их социальном
статусе) критикуют его действия в терминах, обычно
используемых для критики дуэли: они обвиняют его в убийстве и
апеллируют к принципам христианства. Иван опять оказывается
привержен кодексу чести в большей степени, чем его
обвинители-дворяне. Этим Лесков еще раз подчеркивает его
моральную ущербность, которую ему предстоит преодолеть в ходе его
многолетних странствий.
В рассказе «Фигура» Лесков продолжает критиковать
дуэльный менталитет и отстаивать ценность прощения. Он снова
утверждает, что возможность простить по-христиански есть у
любого человека. Ситуация в «Фигуре» напоминает ситуацию в
«Очарованном страннике»: дворянин избит простолюдином и
отказывается мстить за свою честь. В то же время этот эпизод
зеркально отражает сцену между Зосимой и Афанасием:
пощечина, данная офицеру, приводит его к христианским
ценностям. Сам офицер описывает это событие следующим образом:
«Я встал, чтобы обойти посты, и вдруг слышу шум... дерутся...
Я — туда, а мне летит что-то под ноги, и в ту же минуту я
получаю пощечину... Что вы смотрите? Да — настоящую поще-
254 И. Рейфмап. Ритуализованпая агрессия
чину, и трах - с одного плеча эполета прочь! Что такое?.. Кто
меня бьет? И главное дело — темно. "Ребята! — кричу, —
братцы! Что это делается?"» Позор офицера подчеркивается тем, что
он теряет эполету. Впрочем, оказывается, что бесчестие,
нанесенное главному герою, является безличным, случайным и
причинено пьяным простолюдином: «И вас, ваше благородие,
это казак по морде ударил». Тем не менее офицер чувствует, что
он обесчещен: «Все вдруг в голове у меня засуетилось и
перепуталось. Тягчайшее оскорбление! Молодо-зелено, на все еще я
тогда смотрел не своими глазами, а как задолбил, и
рассуждение тоже было не свое, а чужое, вдолбленное, как принято.
" Тебя ударили — так это бесчестие, а если ты побьешь на
отместку, — тогда ничею — тогда это тебе честь..." Убить его,
этого казака, я должен!., зарубить его на месте!.. А я не зарубил.
Теперь куда же я годен? Я битый по щеке офицер. Все, значит,
для меня кончено?.. Кинусь — заколю его! Непременно надо
заколоть! Он ведь у меня честь взял, он всю карьеру мою
испортил. Убить! за это сейчас убить его! Суд оправдает или не
оправдает, но честь спасена будет» [Лесков, VII: 233—234]. Оценка
рассказчиком своих понятий о чести как заимствованных и
незрелых напоминает сходную самооценку Зосимы у
Достоевского. Более того, Зосима дважды называет дуэль «диким»
обычаем. Рассказчик у Лескова также использует это же слово
применительно к кодексу чести: «Теперь это кажется смешно,
а в тогдашнем диком состоянии я в самом деле полагал
немножко свою честь в таких пустяках, как постороннее мнение»
[Достоевский, XIV: 268, 270; Лесков, VII: 238].
Последующее решение рассказчика простить казака
напоминает постижение Зосимой истинного смысла христианства:
он тоже вспоминает христианские ценности, особенно заповедь
«Не убий», и решает следовать примеру Иисуса: «Иисус
Христос!.. Тебя самого били?.. Тебя били, и ты простил... а я что
перед тобою... я червь... гадость... ничтожество! Я хочу быть
твой: я простил! я mew...» Так же как и Зосима, он рыдает: «Вот
только плакать хочется!., плачу и плачу!» [Лесков, VII: 234J.
Однако в отличие от Зосимы, который считает необходимым
пройти через поединок, прежде чем отвергнуть кодекс чести,
рассказчик Лескова не чувствует себя обязанным
предпринимать какие-либо действия для сохранения своей чести. Герой
отвечает отказом на предложение своих людей убить казака;
более того, он убеждает их скрыть происшествие, чтобы избавить
казака от жестокого (и, вполне возможно, смертельного)
телесного наказания.
Вместо заключения: После Достоевского 255
Нельзя сказать, что он принимает эти решения без
внутренней борьбы или что Лесков позволяет ему легко исполнить
свое решение. Напротив, в рассказе приводятся все
возможные доводы против такого поведения. Особенно важно, что,
когда происшествие получает огласку, начальство и
сослуживцы подозревают, что за решением простить казака
скрываются неблагородные мотивы: «А все, извините, о вас того
мнения, что вы, извините, получив пощечину, изволили прощать
единственно с тем, чтобы это бесчестие вам не помешало на
службе остаться... Нельзя! Ваши товарищи с вами служить не
желают». Тем не менее офицер твердо отвергает все
условности, и когда один из его начальников предлагает, чтобы он
ушел в монастырь (этот поступок полностью примирил с Зо-
симой его сослуживцев), тот отказывается. Он настаивает на
своем праве простить казака, не меняя своего статуса
мирянина, дворянина и офицера. Сам он определяет свой статус
следующим образом: «[А] я битый офицер, да еще и без усякой
благородной гордости. Тпфу, яка пропаща фигура!» [Лесков,
VII: 238, 247].
Будучи вовлечен в давно идущий в русской литературе спор
о дуэли и чести, Лесков придавал особенное значение позиции
Достоевского, но не разделял ее. Как всегда, Лесков
реагировал в своей особой манере, создавая парадоксальные
ситуации и предлагая неконвенциональные решения. Он отказывался
видеть ценность в кодексе чести и дуэли. Для него и для его
лучших героев защита личного пространства и телесной
неприкосновенности не являлась чем-то приоритетным в сравнении
с христианским прощением. Наиболее последовательным
приверженцем кодекса чести в произведениях Лескова является
дикий и жестокий Иван Флягин, который лишь постепенно
научается любить и уважать других людей. Более того,
персонажи Лескова, не принимающие во внимание кодекс чести,
никоим образом не осуждаются. Те, кто пренебрегает им по
легкомыслию, не изображаются нравственными чудовищами,
а те, кто отрицает его из принципа, показаны праведниками,
но не монахами, не юродивыми, не idiotai, а обыкновенными
людьми.
В отличие от Лескова Куприн во многом соглашался со
взглядами Достоевского на дуэль. В повести «Поединок»,
написанной в ответ на закон 1894 года и подвергшей дуэль
всесторонней переоценке, рассматриваются практически все
вопросы, затронутые Достоевским: сдерживающая функция
дуэли, присущая русской дуэли физическая агрессивность,
256 И, Рейфман. Ритуализованная агрессия
нравственная ценность воздержания от поединка и т.д. Более
того, многие из решений, предлагаемых Куприным,
напоминают решения, предложенные Достоевским, и даже
формулируются в сходных терминах. Так, Ромашов осуждает избиение
солдат в выражениях, напоминающих слова Зосимы: «Бить
солдата бесчестно, — глухо возразил молчавший до сих пор
Ромашов. — Нельзя бить человека, который не только не может тебе
ответить, но даже не имеет права поднять руку к лицу, чтобы
защититься от удара. Не смеет даже отклонить головы. Это
стыдно!» В другом эпизоде Ромашов ведет себя, как князь
Мышкин, удерживая за руки своего пьяного товарища,
замахнувшегося на проститутку саблей. Вслед за Достоевским
Куприн критикует жесткую этику дуэли и высказывается в пользу
более гибкого подхода. Второстепенный герой повести Михин
вторит Достоевскому, выдвигая идею прощения как высшего
идеала: «Иногда дуэль полезна. Это безусловно, и каждый из
нас, конечно, выйдет к барьеру. Безусловно. Но иногда,
знаете, это... может быть, высшая честь заключается в том,
чтобы... это., безусловно простить» [Куприн, IV: 105, 85]. Однако
Куприн в своем отрицании дуэли идет дальше Достоевского.
Назанский, образованный и талантливый сослуживец
Ромашова, погубивший себя пьянством, утверждает, что защита
телесной неприкосновенности не оправдывает лишения жизни
другого человека. Он советует Ромашову отказаться от дуэли с
Николаевым: «"Он меня ударил... в лицо!" — сказал упрямо
Ромашов, и вновь жгучая злоба тяжело колыхнулась в нем.
"Ну, так, ну, ударил, — возразил ласково Назанский и
грустными, нежными глазами поглядел на Ромашова. — Да разве
в этом дело? Все на свете проходит, пройдет и ваша боль, и
ваша ненависть. И вы сами забудете об этом. Но о человеке,
которого вы убили, вы никогда не забудете. Он будет с вами в
постели, за столом, в одиночестве, в толпе. Пустозвоны,
фильтрованные дураки, медные лбы, разноцветные попугаи
уверяют, что убийство на дуэли — не убийство. Какая чепуха!
<...> Нет, убийство — всегда убийство. И важна здесь не боль,
не смерть, не насилие, не брезгливое отношение к крови и
трупу, — нет, ужаснее всего то, что вы отнимаете у человека
его радость жизни. Великую радость жизни!"» [Куприн, IV:
2011. Ромашов, убежденный аргументами Назанского, готов
последовать его совету и принести противнику извинения.
Примирение, однако, не состоится. В «Поединке»
Куприн создает беспрецедентную в русской литературе ситуацию:
женщина вмешивается в процедуру дуэли, чтобы поддержать ее
Вместо заключения: После Достоевского 257
и манипулировать ею. Можно сказать, что Аглая у
Достоевского, обучая Мышкина заряжать пистолет, тоже поощряет его
принять ожидаемый вызов, но в действительности она лишь
хочет дать ему понять, что этот вызов возможен. В
противоположность ей Шурочка у Куприна настаивает на
необходимости поединка. «Вы непременно должны завтра стреляться», —
говорит она [Куприн, IV: 216]. Ее действия переходят все
границы — ведь именно она является причиной конфликта между
Николаевым и Ромашовым. Более того, дуэль, которую она
предлагает, — поддельная (противники должны будут только
делать вид, что они стреляют друг в друга). В довершение
всего, чтобы добиться согласия Ромашова, она отдается ему.
Позволяя своей героине вмешаться в дуэльную процедуру,
Куприн разоблачает дуэль периода после 1894 года как
искусственно возрожденный институт: все стороны уже забыли роли,
изначально отведенные для них кодексом чести. Шурочка
дирижирует дуэлью, Ромашов соглашается на поддельную дуэль,
а Николаев, убивая своего противника, нарушает и дуэльные
правила, и договор с Ромашовым.
Еще одним писателем начала XX века, уделявшим
внимание вопросам дуэли и физического насилия, был Михаил Ар-
цыбашев. Многие критики отмечали влияние Достоевского на
его произведения. Это влияние особенно очевидно в тех
случаях, когда он обращается к проблеме физической агрессии и
ответа на нее. Арцыбашев, однако, далеко не во всем
соглашается с Достоевским. Используя произведения
Достоевского в качестве интертекста, он предлагает собственное, часто
противоположное, решение вопросов, поставленных
предшественником.
Главный герой повести «Смерть Ланде» (1904) явно создан
по образцу князя Мышкина. Это мирный, кроткий,
непрактичный и асексуальный человек. Однако если у Достоевского
особенные люди оказывают на окружающих благотворное
влияние, то праведник у Арцыбашева своей кротостью лишь
способствует эскалации жестокости. В одном из важнейших
эпизодов повести Ланде защищает Ткачева — своего ученика,
превратившегося во врага, — от побоев своего главного
противника, художника Молочаева. Интертекстом служит сцена из
«Идиота», в которой Мышкин защищает Варю от нападения
Гани. Ткачев набрасывается на Молочаева с палкой;
Молочаев отбирает палку и бьет ею Ткачева; Ланде заслоняет собой
Ткачева, подставляясь под удары; наконец, разъяренный
Молочаев бьет Ланде три раза по лицу. Уже первый удар Молоча-
9. Заказ № 2522.
258 И. Рейфмап. Ритуализованная агрессия
ева излишне жесток: «"Да ты что ж это, наконец!" — хрипло
проговорил он, судорожно опустив и сжимая палку, и вдруг
коротко размахнулся и омерзительно, хлестко и страшно
ударил его по щеке». Как Мышкин, Ланде принимает удар без
протеста: «"Ну, пусть... так..."— слабо уронил он концами
мокрых дрожащих губ и, непоколебимо прямо глядя в глаза
Молочаеву, не двинулся, не отвернулся»2.
Многие детали этой сцены отсылают к тексту
Достоевского: ломаный синтаксис и тихий тон реплики Ланде,
использование слова «пусть», дрожащие губы, пристальный взгляд
прямо в глаза обидчику. Однако эффект от поведения Ланде иной,
чем в случае с Мышкиным. Вместо того чтобы погасить
насилие, действия Ланде лишь способствуют его нарастанию: «Со
слепой бессмысленной жестокостью Молочаев, выпустив
палку, широко размахнулся, ударил его левой рукой, ступил шаг
вперед и ударил в третий раз. Последняя пощечина ляскнула
еще страшнее, отчетливо и плоско. Ланде пошатнулся назад,
споткнулся о скамейку и тяжело, безобразно, как-то боком,
бессильно повалился через нее, высоко задрав ноги».
Описание Арцыбашева подчеркивает жестокость нападения, но
одновременно рисует беспомощного и покорного Ланде в
отталкивающем виде.
Несмотря на непривлекательность Ланде в этом эпизоде,
свидетели поначалу реагируют на происшедшее, как
персонажи Достоевского: они окружают его и пытаются утешить. Они
понимают, что смирение Ланде, как и смирение Мышкина,
имеет христианский смысл: «Ваня, вы святой!» — восклицает
одна из свидетельниц. Ланде тоже продолжает вести себя, как
Мышкин: он пытается примириться с обидчиком, а потом
закрывает свое лицо тем же жестом, который используют
многие оскорбленные герои Достоевского, включая Мышкина.
Однако вместо раскаяния эти действия вызывают у обидчика лишь
злобу: «В глазах у него мрачно вспыхнула задыхающая
ненависть, и с холодной насмешкой и злостью он проговорил сквозь
зубы: "Трогательная комедия!"» Человек, которого защищал
Ланде, также чувствует необъяснимый гнев: «"Черт с тобой,
болван... блаженный!" — с мучительным ему самому
озлоблением бормотал он». Остальные собравшиеся также начинают
испытывать чувство неудобства: «Все молчали и стояли вокруг
Ланде. Страстный порыв, охвативший всех, бессильно упал,
стало холодно, неловко, нелепо, захотелось уйти, прекратить
эту уже казавшуюся безобразной сцену».
Если встать на точку зрения Достоевского, то непонятно,
почему миротворческое поведение Ланде подействовало на дру-
Вместо заключения: Паем Достоевского 259
гих так неблагоприятно. В отличие от Ставрогина он не
притворщик, а подлинный юродивый, даже святой: перед своей
смертью в лесу от холода и голода он беседует с диким
медведем, который не причиняет ему никакого вреда3. Более того,
Санин, главный герой одноименного романа Арцыбашева,
знал Ланде в молодости и характеризует его как идеального
человека, истинного христианина, заслуживающего
восхищения: «Это был удивительный человек, непобедимой силы и
христианин не по убеждению, а по природе. В своей жизни
он отразил все критические моменты христианства: когда его
били, он не защищался, прощал врагам, шел ко всякому
человеку, как к брату, "могий вместить" — вместил отрицание
женщины как самки...»4 Тем не менее действия Ланде
огорчают, оскорбляют и раздражают многих людей. Арцыбашев
предупреждает об опасности такого покорного поведения: оно
может способствовать эскалации агрессии, даже если носитель
его — действительно особенный человек.
В отличие от необъяснимой и неуправляемой агрессии Мо-
лочаева и Ткачева жестокое поведение Санина является
рациональным. Он формулирует свое отношение к жестокости,
противоположное взгляду Ланде. Несколько лет назад он
пытался последовать примеру Ланде и принял пощечину.
Однако достигнутый результат его не удовлетворил: его собственная
терпимость вызвала в нем злобу, которая переросла в
бешенство, направленное одновременно на него самого и на его
обидчика. В конце концов Санин сделал вывод, что, хотя Ланде
и заслуживает особого уважения за свое подлинно
христианское поведение, его влияние на окружающих приносит один
только вред: «[Э]тому следовать нельзя. Ланде надо родиться.
Христос был прекрасен, христиане— ничтожны»5. В
соответствии с этим Санин принимает решение следовать своей
собственной природе и избивает своего обидчика до бесчувствия.
С его точки зрения, это был честный, а поэтому и
правильный поступок.
Та же логика движет Саниным и во время его конфликта с
Зарудиным, офицером, который вызывает его на дуэль и, когда
Санин отказывается, пытается ударить его хлыстом по лицу.
Санин отражает нападение Зарудина ударом в лицо. Этот удар
причиняет Зарудину серьезную травму — как физическую, так
и моральную — и приводит его к самоубийству. Однако Санин
не видит в происшедшем своей вины. Он утверждает, что и он,
и Зарудин следовали своим естественным позывам: «Закон его
жизни требовал мести во что бы то ни стало. Не век же мне
его за руки держать!.. Для него это еще одно лишнее оскорб-
9*
260 И. Рейфман. Ритуализованная агрессия
ление, и только!» Он отвергает праведное поведение Ланде и
Мышкина как неестественное для такого человека, как он сам:
«Нравственная победа не в том, чтобы непременно подставить
щеку, а в том, чтобы быть правым перед своею совестью»6.
Арцыбашев, таким образом, существенным образом
пересмотрел постулаты Достоевского, утверждая, что если святые
юродивые и заслуживают восхищения в качестве идеала, то в
реальности их поведение оказывается вредным, либо заставляя
окружающих вести себя несообразно своей природе, либо
пробуждая в них еще большую жестокость. Вместо проповеди
абстрактных идеалов Арцыбашев защищает естественные
импульсы человека как наилучшее руководство к выбору поведения.
В соответствии с этим лучшие из его героев могут свободно
отвергать дуэль и прибегать вместо этого к грубому насилию в
тех случаях, когда им это кажется необходимым. Эти
персонажи, включая Санина, наследуют «новым людям»
Чернышевского: они рационалистичны, эгоцентричны и жестоки.
Исторические катаклизмы начала XX века прервали
традицию, идущую от Достоевского. К началу 1920-х годов дуэль как
специальная тема практически исчезла из литературы. Появился
и победил герой, вполне свободный от кодекса чести. Тем не
менее традиция не исчезла полностью. Некоторые отголоски
дуэльного дискурса использовались писателями раннего
советского периода с целью подчеркнуть, как решительно
изменилось понимание права человека на достоинство и физическую
неприкосновенность. Более того, в свете разворачивающихся
исторических событий многие моральные принципы,
сформулированные Достоевским в связи с проблемой дуэли,
приобрели новую актуальность, в то время как критика,
предложенная его последователями, потеряла свою убедительность.
Особенно существенным оказалось то, что идеалист, всеми
силами защищающий се(Ью честь и достоинство, стал фигурой,
достойной восхищения, а рационалист, равнодушный к защите
своего личного пространства, начал казаться подозрительной
и даже зловещей фигурой.
Тематическая связь между физическим насилием и дуэлью
ослабла, но не исчезла полностью. Изображение физической
агрессии нередко включало отсылки к дуэльному дискурсу.
Так, в романе Олеши «Зависть» Володя Макаров,
рациональный и неспособный к состраданию «новый человек» (или его
приемный отец, коммунист Андрей Бабичев — из текста
неясно, кто именно), дает пощечину неудачнику Николаю Кава-
лерову за клевету на Бабичева и валит его на землю. Для дав-
Вместо заключения: После Достоевского 261
шего пощечину это акт наказания, жест утверждения власти,
а не ритуальное действие, ведущее к дуэли. Кавалеров в ответ
угрожает убить Бабичева. Он повторяет эту угрозу в течение
всего романа, но так и не выполняет ее. Таким образом,
насилие оказывается неотмщенным: новая социальная иерархия
действует с позиций силы, а не чести и не допускает жестов —
реальных или символических, — направленных на защиту
личного пространства и телесной неприкосновенности человека.
Тем не менее сразу же после описания пощечины Олеша
косвенно вводит тему дуэли. Покидая дом Бабичева, Кавалеров
попадает под дождь и представляет себе фехтовальщика,
который, гуляя под дождем, отбивает все капли дождя с таким
мастерством, что остается совершенно сухим: «Рапира сверкала,
развевались полы камзола, фехтовальщик вился, рассыпался,
как флейта, — и остался сух. Он получил отцовское
наследство». Если фехтовальщик в своем поединке одерживает
победу, то Кавалеров терпит поражение в своем столкновении как
с дождем, так и с новым миром: «Я промок до ребер и,
кажется, получил пощечину»7. Отцовское наследство—
искусства, культуры и кодекса чести — потеряно для него.
Традиционный мотив столкновения, центральный в
«Записках из подполья», также воскресает, но в новых обличьях. В
«сентиментальной повести» Зощенко «Коза» прохожий случайно
наталкивается на главного героя и немедленно извиняется.
Главный герой так озадачен вежливостью прохожего, что
устремляется вслед за ним просто для того, чтобы посмотреть ему
в лицо. Прохожий носит шляпу, и это не случайно — шляпа
является знаком старомодного человека дореволюционной
эпохи, хорошо воспитанного, образованного и учтивого8. В
повести «Мишель Синягин» Зощенко снова использует мотив
случайного столкновения, чтобы противопоставить новые манеры
поведения старым. Его рассказчик, человек нового,
советского, времени, рассуждает: «Вот, для примера, на что уж
беспокойный век, ну, скажем, шестнадцатый. Нам издали
поглядеть — так прямо немыслимым кажется. Чуть не каждый день
в то время на дуэлях дрались. Гостей с башен сбрасывали. И
ничего. Все в порядке вещей было. Нам-то, с нашей
психикой, прямо боязно представить себе подобную ихнюю жизнь.
Для примера, какой-нибудь там ихний феодальный сукин сын,
какой-нибудь такой виконт или там бывший граф идет, для
примера, погулять. Вот он идет погулять и, значит, шпагу
сбоку пришпиливает: мало ли, кто-нибудь его сейчас, боже
сохрани, плечом пихнет или обругает — сразу надо драться. И
262 И. Рейфмап. Ритуализовашшя агрессия
ничего»9. Рассказчик признается, что не смог бы жить в
соответствии с высокими стандартами прошлого: «Надо сказать,
если б автор жил в ту эпоху, его бы силой из дома не
выкурили. Так бы всю жизнь и прожил бы взаперти, вплоть до
нашего времени»10. Очевидно, что рассказчик не только боится
дуэли, но и не может представить себе жизни без грубости и
толкотни. Изображая чувствительность людей XVI века к
грубости и оскорблениям как абсурдную, он косвенно
поддерживает современную ему терпимость к грубому поведению,
которая свидетельствует о конце не только кодекса чести, но и
вежливого поведения, когда-то введенного и
поддерживаемого дуэлью.
Даниил Хармс в повести «Старуха» также использует
мотив случайного столкновения: «На углу Литейной какой-то
пьяный, пошатнувшись, толкнул меня. Хорошо, что у меня
нет револьвера: я убил бы его тут же на месте» [Хармс, II: 177).
В этом случае главный герой, по-видимому, готов защищать
свое личное пространство, но, будучи грубым и нетерпимым,
он готов ответить на небольшое оскорбление не ритуальной
жестокостью поединка, а безжалостным убийством. Эта смесь
преувеличенной чувствительности к оскорблению с
жестокими импульсами напоминает отношение, демонстрируемое
«новыми людьми» XIX века — тургеневским Базаровым и особенно
персонажами Чернышевского. Главный герой Хармса
является духовным наследником разумных эгоистов, от
пушкинского Германна до Раскольникова (не случайно в его комнате
почему-то умирает старуха), и его агрессия свидетельствует не
столько об озабоченности личным пространством, сколько о
пренебрежении правами других людей на физическую
неприкосновенность.
В мире произведений Хармса вообще бросается в глаза
отсутствие права на физическую неприкосновенность. Во
многих его рассказах изображается преувеличенная, гротескная
жестокость по отношению к человеческому телу и, в
особенности, к лицу. Тема, которая была неотъемлемой частью
дуэльного дискурса у Достоевского, в утрированной
интерпретации Хармса свидетельствует о полном распаде не только кодекса
чести, но и самих основ общества, поддерживавшего этот
кодекс. Следы дуэльного дискурса все еще очевидны в
описаниях драк и увечий у Хармса, но здесь они как бы оттеняют то
обстоятельство, что в мире, им изображаемом, совершенно
неуместны никакие проявления учтивости. В рассказе «Маш-
кин убил Кошкина», например, агрессия Машкина как будто
Вместо заключения: После Достоевского 263
мотивирована оскорбительными действиями Кошкина,
который «махал руками и противно выворачивал ноги» и даже
«пошевелил животом и притопнул правой ногой». Однако этим
оскорблениям никак не соответствует реакция Машкина,
который бросается на Кошкина, бьет его кулаками по голове и
ногами в живот и в конце концов убивает [Хармс, II: 3491. В
другом рассказе Хармса, «История дерущихся», не
предлагается вообще никакой мотивации безжалостному избиению,
которому Алексей Алексеевич и Андрей Карлович подвергают
друг друга и в результате которого Алексей Алексеевич зверски
изувечен: «Андрей Карлович сел на него верхом, вынул у себя
изо рта вставную челюсть и так обработал ею Алексея
Алексеевича, что Алексей Алексеевич поднялся с полу с совершенно
искалеченным лицом и рваной ноздрей» [Хармс, II: 337]. Еще
в одном рассказе Хармса, «Рыцари», название не имеет
ничего общего с содержанием и служит лишь ироническим
комментарием к брутальному поведению героев —- доктор, вызванный
в богадельню к старухе, покалеченной другими обитателями
дома, вместо того чтобы лечить ее увечья, убивает ее,
извлекая ее сломанную челюсть при помощи стамески и молотка
[Хармс, II: 139-14Ц.
Хармс стремится продемонстрировать читателю этих
страшных историй, что в мире его героев не релевантны ни сама идея
физической неприкосновенности, ни дуэль как способ ее
защиты. В соответствии с этим в рассказе «Статья» Хармс
представляет дуэль как абсурдный обычай, существовавший
давным-давно при дворе мифического императора Александра
Вильбердата, где любой контакт с детьми рассматривался как
нечто невыносимое. «И вот, во времена великого императора
Александра Вильбердата показать взрослому человеку ребенка
считалось наивысшим оскорблением. Это считалось хуже, чем
плюнуть человеку в лицо, да еще попасть, скажем, в ноздрю.
За "оскорбление ребенком" полагалась кровавая дуэль»11.
В то же время в литературе появилось и еще одно
направление, в котором дуэль изображалась как оружие — хотя и
недейственное — против возникающего нового порядка. Так,
героиня пьесы Хармса «Елизавета Вам» обвиняется в убийстве
секретного агента Петра Николаевича на дуэли. Елизавета
настаивает на своей невиновности — в самом деле, она очевидно
невиновна, поскольку Петр Николаевич остается живым и
здоровым на протяжении всей пьесы, даже после того как он убит
на потешной дуэли отцом Елизаветы. Дуэль является здесь
скорее театрализованным представлением, чем ритуализованным
264 И. Рейфмап. Ритуализоватшя агрессия
боем, но Петр Николаевич продолжает утверждать, что он был
убит Елизаветой, и ее в конце концов арестовывают за его
убийство. Дуэль здесь очевидно бессильна против новейшей
разновидности злоупотребления властью.
Сходный взгляд на дуэль представлен в «Египетской
марке» Мандельштама. Мандельштам провозглашает ценность
дуэли как средства защиты человеческого достоинства,
апеллируя к образцам прошлого — Пушкину и Достоевскому. Он
вводит тему дуэли, описывая картину, которую видит его
герой, Парнок, у портного Мервиса. На картине изображается
Пушкин, которого вносят в дом после его последней дуэли: «Тут
был Пушкин с кривым лицом, в меховой шубе, которого
какие-то господа, похожие на факельщиков, выносили из узкой,
как караульная будка, кареты, и, не обращая внимания на
удивленного кучера в митрополичьей шапке, собирались
швырнуть в подъезд»12. Картина ужасна, и изображаемая сцена
выглядит смешной и нелепой, однако она отсылает к самому
знаменитому и любимому в России дуэлянту, ставшему для русских
воплощением благородного поведения. Более того, параллель
со «Станционным смотрителем» указывает на тему чести как
важнейшую в «Египетской марке». В повести Пушкина
плохие картины на стене станционного смотрителя,
изображающие возвращение блудного сына, вводят центральную тему
повести: желание молодых покинуть отчий дом. В
«Египетской марке» вульгарное изображение Пушкина, смертельно
раненного на дуэли, свидетельствует о центральном характере
темы чести для всего произведения.
Мандельштам возвращается к дуэльной теме, когда
говорит о «крупиночке» (или «дробиночке») чести,
существовавшей в литературе XIX века, но теперь исчезнувшей. Он
помещает это упоминание среди многочисленных отсылок к
произведениям Достоевского (скандал, бес, Павловск,
Ипполит, читающий свою иЛюведь, и т.д.). Дуэль, вызванная этим
«гомеопатическим драже» чести, является опять-таки нелепой —
в ходе этой дуэли люди стреляют в горки с посудой,
чернильницы и фамильные портреты — но она все же содержит эту
«крупиночку чести», крупицу, которой так не хватает в мире,
окружающем Парнока. Поэтому не случайно, что «родней»
Парнока названы Евгений из «Медного Всадника» и Голядкин.
Парнок является новым «маленьким человеком», который в
новом и еще более бесчеловечном мире борется за свою честь
и терпит поражение13.
Оплакивание Мандельштамом «крупиночки чести» было
последним открытым сожалением об утрате чести в новой
русской жизни. Тоска по прошлому ушла в подполье — в лите-
Вместо заключения: После Достоевского 265
ратуроведение, в исследования декабристского заговора, в
пьесы и романы о достойных и благородных людях прошлого,
особенно о Пушкине и Лермонтове. Вспомним исторические
романы Юрия Тынянова, пьесу Булгакова о Пушкине «Последние
дни» или пьесу Константина Паустовского «Поручик
Лермонтов». Можно предположить, что принятие интеллигенцией
официального культа декабристов и Пушкина (а также, в
меньшей степени, Лермонтова) объяснялось ностальгией по
временам, когда честь еще была жива, — временам, которые
персонифицировались в образах декабристов, Пушкина и Лермонтова
как безукоризненных дуэлянтов. Не случайно также и то, что
неправдоподобный слух о Николае I как о подстрекателе
последних дуэлей Пушкина и Лермонтова был воспринят не
только широкой читающей публикой, но и некоторыми
серьезными писателями и историками. В этой версии дуэли Пушкина
и Лермонтова выглядели как поединок с самим государством —
эта мысль не могла не приносить тайного удовольствия людям,
жившим при советском режиме14.
Тоталитарное государство в своих целях поддерживало
исследования героического «революционного» прошлого,
особенно декабристского заговора, но предпочитало держать
ностальгию по прошлому под контролем15. Когда в 1946 году Александр
Хазин опубликовал в журнале «Ленинград» юмористическую
поэму «Возвращение Онегина», Андрей Жданов резко одернул
его в своем знаменитом докладе. В поэме Хазина герой
Пушкина, попав из прошлого в послевоенный Ленинград,
обнаруживает среди прочих изменений полное исчезновение
вежливости и права на личное пространство. В трамвае Евгения
толкают, пихают и оскорбляют — и это, по замечанию
автора, лишь самое мягкое, что могут сделать с человеком в
переполненном транспорте:
Судьба Онегина хранила,
Ему лишь ногу отдавило,
И только раз, толкнув в живот,
Ему сказали: «Идиот!»
Первое побуждение Онегина — вызвать обидчиков на дуэль,
но он обнаруживает, что не может этого сделать:
Он, вспомнив древние порядки,
Решил дуэлью кончить спор,
Полез в карман... Но кто-то спер
Уже давно его перчатки.
За неименьем таковых
Смолчал Онегин и притих16.
266 И. Рейфман. Ритуализованная агрессия
Онегин у Хазина — это еще один герой русской
литературы, воздерживающийся от дуэли, — на этот раз потому, что
права на защиту личного пространства больше не существует.
В ответ на такое нелестное описание действительности
Жданов сурово отчитал Хазина: «Дурной, порочный, гнилой
замысел у этой клеветнической пародии!*17
В послесталинский период восхищение дуэлянтами
прошлого усилилось. За годы беспрецедентного пренебрежения
правами, независимостью и физической неприкосновенностью
личности русские стали чувствовать потребность в спасительном
символе, в героях, которых можно было бы чтить. Они нашли
их в дворянской культуре, особенно в культуре первой
четверти XIX века. Послесталинское поколение ценило декабристов —
не столько за идеи или за мужество, сколько за их
идеалистическую готовность принять поражение своего дела и все же не
сдаться. Они ценили сам пафос утверждения достоинства, а
не его реальный результат. В своих лекциях конца 1960-х
годов Ю.М. Лотман часто с энтузиазмом цитировал легендарные
слова Александра Одоевского (или, по другим источникам,
Рылеева), сказанные утром перед восстанием: «Умрем,
братцы, ах, как славно умрем!* Дуэль привлекала людей
поколения Лотмана как пример такого идеалистического, но
героического заявления. Лотман привел участников своего семинара
по русской культуре 1968—1969 годов к могиле Константина
Чернова на Смоленском кладбище в Петербурге — с явной
целью внушить студентам благоговение перед героической, хотя
и бессмысленной, гибелью Чернова. Он также любил
показывать студентам дуэльные пистолеты, которые хранились в его
кабинете.
Читательская реакция на биографию Лунина,
опубликованную Н.Я. Эйдельманом в 1970 году, демонстрирует то же самое
отношение: книгу прочитывали не отрываясь и страстно
обсуждали, причем поведение ее героя рассматривалось одновременно
и в современном ему контексте, и в контексте сталинского
террора, и в контексте преследований диссидентов. Бесстрашное
поведение Лунина во время допроса, как и его бретёрство, в
глазах читателя было воплощением независимости и личного
мужества перед лицом непобедимого тоталитарного государства.
С тем же энтузиазмом читался и роман Булата Окуджавы
«Бедный Авросимов». Многочисленные книги ЯЛ. Гордина о
дуэли продолжают направление, начатое его сверстниками и
единомышленниками в конце 1960-х и в 1970-е годы.
Перестройка и распад Советского Союза способствовали
возрастанию интереса к прошлому — особенно к формам про-
Вместо заключения: После Достоевского 267
шлой жизни. Это явствует из таких примеров, как
восстановление Благородного собрания, всеобщий интерес к
родословным и геральдике, воскрешение гимназий с их
дореволюционным «классическим» учебным планом, включающим
обязательные латынь и греческий. Посмертная публикация
книги Ю.М. Лотмана «Великосветские обеды» и книга О.
Муравьевой о воспитании дворян в начале XIX века также
типичны для этого направления18. Попытки вернуться к этикету
прошлого можно обнаружить и в армии. Вновь опубликованы
несколько руководств конца XIX и начала XX века,
посвященных правилам поведения офицера, особенно способам
разрешения конфликтов чести19. Очевидно, что эти попытки
возродить прошлое являются некоей манифестацией национальной
гордости. Идеализация дуэли, как прошлая, так и настоящая,
имеет, таким образом, эмблематический характер для русской
культуры: в зависимости от ситуации она может
символизировать уважение к личному пространству, бунт против верховной
власти или ностальгию по национальной славе прошлого.
Одновременно с продолжающейся идеализацией дуэли и
дуэлянтов начался постмодернистский анализ дуэли как
культурного феномена и как формы литературного дискурса.
Отличный пример такого анализа — рассказ Вячеслава Пьецуха «Я и
дуэлянты». Повествование имеет два уровня: один уровень
составляет рассказ о дуэли Букина, ответственного секретаря
технического журнала, с Завзятовым, инженером и изобретателем
пневматического молотка; другой — повествование о процессе
написания рассказа об этой дуэли.
Первый сюжет содержит все необходимые компоненты
дуэльного дискурса — ссора, две пощечины, картель, долгие
обсуждения деталей дуэльной процедуры и, наконец, дуэль с
кровавым исходом. В то же время все традиционные детали
существенным образом искажены. Так, одна из пощечин дана
женщиной, не имеющей никакого отношения к основному
конфликту. Тем не менее эта пощечина заставляет Букина
нагнетать конфликт с Завзятовым. Завзятов, в свою очередь, дает
пощечину Букину и вызывает его на дуэль. Несмотря на то что
обидчиком является Завзятов, он ведет себя так, как будто он
и есть объект нападений и оскорблений. Число
несообразностей нарастает. Завзятов выбирает в секунданты женщину. В
противоположность ролям, традиционно приписываемым как
женщинам, так и секундантам, она пытается сделать все, чтобы
воодушевить противников на дуэль, — даже угрожает убить
Букина, если тот не примет вызова. Наконец, оружие,
избранное для дуэли, является по меньшей мере странным: это лук и
268 И. Рейфмап. Ритуализаванная агрессия
стрелы. Это не просто оружие неудобное, несуразное и никогда
не использовавшееся в дуэли, но и, так сказать, каламбурное,
поскольку глагол «стреляться», традиционно обозначающий
дуэль, этимологически восходит к слову «стрела».
Исход дуэли столь же абсурден, сколь и приготовления к
ней: после одиннадцати попыток Букину удается попасть Зав-
зятову в глаз (еще один каламбур: Букин «попадает в яблочко»).
Рана не опасна, а лишь гротескна, и инцидент заканчивается
тем, что противники вместе пьют водку— Завзятое для того,
чтобы облегчить боль, а Букин для того, чтобы успокоить
нервы. В этой истории явно пародируется русская дуэльная
традиция. Дуэльный энтузиазм Завзятова и его секунданта
отсылает к бретерскому поведению начала XIX века. Более того,
изображаемая дуэль пародирует как журналистские дуэли
конца XIX века (причиной конфликта является оскорбительная
статья Букина об изобретении Завзятова), так и дуэльное
поветрие среди литераторов начала XX века (Пьецух заставляет
своих дуэлянтов выбрать место дуэли недалеко от того места,
где «когда-то купался Пушкин»).
В то же время рассказ является отчетом повествователя о
своем творческом процессе. Он начинается с «короткого
отступления» — заявления «Я писатель», за которым следует
изложение кредо рассказчика (или автора?), указывающее на
намеренно заимствованный характер повествования: «И вот еще
что: литературное реноме Николая Васильевича Гоголя вовсе не
пострадало из-за того, что Пушкин науськал его написать
"Мертвые души"». В конце повести автор опять, как сказали
бы формалисты, обнажает свой прием. Рассказав о дуэли и ее
исходе, он неожиданно предлагает альтернативную концовку:
«Однако то, что случилось на самом деле, было до такой
степени отвратительным и ужасным, что написать об этом в
рассказе было положительно невозможно. Кроме того,
действительность противоречила бальмонтовской идее
[процитированной в эпифафе к рассказу: "Мир должен быть оправдан весь,
/ Чтоб можно было жить"], и я придумал другой конец». В
этой альтернативной концовке опускается стрельба и сразу
изображается попойка и беседа: «Итак, дело у меня венчалось
нетрезвым, но поучительным разговором. <...> В самом конце
рассказа я приписал фразу насчет того, что все разошлись по
домам довольные и хмельные, вздохнул и поставил точку».
Рассказ не дает возможности определить, чем же все
закончилось на самом деле — но это и не важно, поскольку речь идет
не столько о дуэли и даже не столько о личном пространстве,
чести или достоинстве, сколько о самоутверждении автора в
Вместо заключения: После Достоевского 269
качестве русского писателя: «Затем я перечитал написанное и
даже перепугался, до чего получилось умственно, хорошо.
"Ну, — закричал я жене, которая в это время делала что-то на
кухне, — если это не самое сильное из того, что существует в
теперешней литературе, то я вообще ничего не смыслю.
Слышишь? Когда Л. прочитает этот рассказ, он покончит жизнь
самоубийством. Он скажет, что со мною невозможно быть
современником"»20. Приобщаясь к почтенной традиции
литературных описаний дуэли, автор утверждает свое право на
значимое место в истории русской литературы. Деконструируя эту
традицию, он присваивает статус русского
писателя-постмодерниста, озабоченного скорее литературными, чем
нравственными вопросами. В этом ему помогает многосторонняя, как
всегда, тема дуэли.
ПРИМЕЧАНИЯ
При ссылках на часто цитируемые тексты в книге даны следующие
сокращения:
Белинский, I— XIII: Белинский В.Г. Поли. собр. соч.: В 13 т.
М., 1953-1956.
Бестужев, I—II: Бестужев А.А. Соч.: В 2 т. М, 1958.
Герцен, I-XXX: Герцен А.И. Собр. соч.: В 30 т. М., 1954—
1966.
Достоевский, I—XXX: Достоевский Ф.М. Поли. собр. соч.: В
30 т. Л., 1972-1990.
Куприн, I—IX: Куприн А.И. Собр. соч.: В 9 т. М, 1970-1973.
Лесков, I—XII: Лесков Н.С Собр. соч.: В 12 т. М., 1989.
Пушкин, I—XVI: Пушкин А.С. Поли. собр. соч.: В 16 т. Л.,
1937-1949.
Радищев, I—III: Радищев A.M. Полн. собр. соч.: В 3 т. М.;
Л., 1938-1952.
Соловьев, I—XXIII: Соловьев СМ. Сочинения: В
восемнадцати книгах: В 23 т. М., 1991-2000.
Толстой, I-XX: Толстой Л.Н. Собр. соч.: В 20 т. М., 1960-
1965.
Тургенев, I—XXVIII: Тургенев И.С Полн. собр. соч. и
писем: В 28 т. М.; Л., 1962—1967.
Хармс, I—III: Хармс Даниил. Полн. собр. соч.: В 3 т. СПб.,
1997.
Чехов, I—XXX: Чехов А.П. Полн. собр. соч. и писем: В 30 т.
М., 1974-1983.
Введение
1 Эйдельман, Натан. Лунин. М., 1970; Лотман, Ю.М. Дуэль
// Лотман, Ю.М. Роман А.С. Пушкина «Евгений Онегин».
Комментарии. Л., 1980. С. 92—105; и расширенный вариант этой
статьи: Лотман, Ю.М. Беседы о русской культуре. Быт и традиции
русского дворянства (XVIII — начало XIX века). СПб., 1994.
С. 164—79; Гордин, Яков. Право на поединок. Роман в
документах и рассуждениях. [Л.|, 1989; и сокращенная версия: Гордин,
Примечания. Введение
271
Яков. Русская дуэль. СПб., 1993; некоторые главы книги «Право
на поединок» также перепечатаны в книге Гордин, Яков. Дуэли и
дуэлянты. СПб., 1997. Ч. 1. В ч. 2, в дополнение к избранным
дуэльным сиенам из русской литературы XIX века, содержатся
отрывки из двух дуэльных кодексов: из перевода 1895 года книги
Франца фон Болгара «Die Regeln des Duells» (1880) и из
«Дуэльного кодекса» В. Дурасова (1912); Востриков, Алексей. Мифо-ло-
гика дуэли // Невский архив. Историко-краевсдческий сборник.
М.; СПб., 1993. С. 413—426; Востриков, Алексей. Тема
«исключительной дуэли» у Бестужева-Марлинского, Пушкина и
Лермонтова // Русская литература. 1993. № 3. С. 66—72; Востриков,
Алексей. Поэтика оскорбления в русской дуэльной традиции //
Тыняновский сборник. Пятые Тыняновские чтения. Рига; М., 1994.
С. 100—109; Востриков, Алексей. Убийство и самоубийство в деле
чести // Смерть как феномен культуры. Сыктывкарский
государственный университет, межвузовский сборник. Сыктывкар, 1994.
С. 23—34; Востриков, Алексей. Книга о русской дуэли. СПб.,
1998. Пользуюсь случаем поблагодарить А.В. Вострикова за
любезное разрешение ознакомиться с рукописью его книги задолго до
ее публикации.
2 Памятник установлен на проспекте Энгельса в
С.-Петербурге, через дорогу от входа в парк Лесотехнической академии.
Сердечно благодарю Максима Шраера за фотографию и информацию
о памятнике. Описания конфликта и дуэли см. в: Бумаги о
поединке Новосильцева и Чернова // Девятнадцатый век / Под ред.
П.И. Бартенева. М., 1872. Ч. 1. С. 331—337;
Писатели-декабристы в воспоминаниях современников: В 2 т. М., 1980. Т. 1.
С. 291 (примеч.); Т. 2. С. 18-19, 53 и 321-322; Рассказы
бабушки. Из воспоминаний пяти поколений. Записанные и собранные
ее внуком Д. Благово / Под ред. Т.И. Орнатской. Л., 1989.
С. 289, 291. Подборка документов об этой дуэли также
опубликована А.В. Востриковым в его «Книге о русской дуэли» (с. 81—92).
3 Абрамович, С.Л. Пушкин в 1836 году (предыстория последней
дуэли) / 2-е изд., доп. Л., 1989. С. 279.
4 Подоб1гую интерпретацию истории русской дуэли см.,
например, в работах Я.А. Гордина.
Характерно, что литературные изображения «правильных»
дуэлей чаще содержат критику дуэли как института, чем
изображения «неправильных».
6 Востриков, Алексей, Тема «исключительной дуэли»... С. 72.
То, что Востриков представляет в своей статье как специфически
русскую черту, а именно большую зависимость от традиции, чем
от писаных правил, является в действительности универсальной
характеристикой кодекса чести. Дуэльные кодексы появились в
печати на позднем этапе истории дуэли, когда ее живая традиция
272 И. Рейфман. Ритуализованная агрессия
уже начала распадаться. Первые дуэльные кодексы появились в
Англии в 1820-е годы, во Франции— в 1830-е, в Германии— в
последней четверти XIX века, в России — в конце XIX века. Один
из самых ранних формальных кодексов был принят в 1777 году
ирландским дворянским собранием; см. его перепечатку в кн.:
Seiiif Don С. Famous American Duels with Some Account of the Causes
that Led up to Them and the Men Engaged / Reprint of 1929 ed.
Freeport, NY, I960. P. 40—44. Интересно, что Италия, которая
на заре эпохи дуэлей была главным поставщиком трактатов о
поединке и чести во все страны Европы, сама почти не знала
серьезных дуэлей; см.: Billacois, Francois. The Duel: Its Rise and Fall In
Early Modern France / Ed. and trans, by Trista Selous. New Haven,
CT, 1990. P. 19-10, 42-43.
7 Billacois, Francois. The Duel. P. 72. Ю. Фрефсрт, в своей
книге «Ehrenmanner: das Duell in dcr burgerlichen Gescllschaft»
(Munchen, 1991) больше доверяет дуэльной статистике—
по-видимому, потому, что ее книга охватывает более поздний период
истории дуэли. Однако и она признает неполноту судебных
архивов; см.: FreverU Ute. Men of Honour: A Social and Cultural History
of the Duel / Trans, by Anthony Williams. Cambridge, MA, 1995.
P. 233.
8 Н.Я. Эйдельман приводит этот факт в качестве примера
отсутствия свободной прессы в России при Николае I; см. его
статьи: «Не было — было (Из легенд прошлого столетия)»: Эйдельман,
Н. Из потаенной истории России XVIII—XIX веков. М., 1993.
С. 417.
9 Впервые факт дуэли упоминается в мемуарах А.М. Меринс-
кого, опубликованных в 1858 году. См.: Меринский, A.M.
Воспоминание о Лермонтове // М.Ю. Лермонтов в воспоминаниях
современников / Под ред. М.И. Гиллельсона и О.В. Миллер. М.,
1989. С. 177.
10 О дуэли как средстве создания и поддержания дворянством
«личного, неподконтрольного государству мира» см.: McKinnon,
Abby A. Duels and the Matter of Honour // Russia and the World of
the Eighteenth Century. Ed. By R.P. Bartlett, A.G. Cross, and Karen
Rasmussen. Columbus, OH, 1988. P. 229-239.
" Биллакуа рассматривает многие из названных мною проблем
и приходит к сходному выводу. См.: Billacois, Francois. The Duel.
P. 69-72.
12 Сборник биографий кавалергардов: В 4 т. / Под ред.
С.А. Панчулидзева. СПб., 1901—1908. Т. 3. С. 324. В
оригинале — пропуск на месте нецензурного выражения.
13 См. обзор русских литературных дуэлей в кн.: Scholle, Chris-
fine. Das Duell in der russischen Literatur: Wandlungen und Verfall eines
Ritus. Munchen, 1977. В книге рассматриваются произведения от
«Выстрела» Пушкина до «Санина» Арцыбашева.
Примечания. Глава I
273
14 Чернышевский, Николай, Что делать? // Чернышевский Н.Г.
Поли. собр. соч.: В 16 т. Т. 2. М., 1939. С. 181.
Глава I
10 дуэли в Германии конца XIX — начала XX века см.: МсА/е-
er, Kevin. Dueling: The Cult of Honor in Fin-de-Siecle Germany.
Princeton, 1994; и Frevert, Ute. Men of Honour: A Social and Cul-
turial History of the Dud. / Transl. by Anthory Williams. Cambridge,
MA, 1995. О культурной значимости дуэли см.: Elias, Norbert. The
Germans: Power Struggles and the Development of Habitus in the
Nineteenth and Twentieth Centuries. / ed. by Michael Schroeter, trans,
by Eric Dunning and Stephen Mennel. New York, 1996 (особенно
гл.1).
2 Иванов, Вячеслав. Звездная вспышка (Поэтический мир
Н.С. Гумилева). // Гумилев, Н.С Стихи. Письма о русской
поэзии. М., 1989. С. 9.
3 Блок, Мександр. О современном состоянии русского
символизма. // Блок, АЛ Собр. соч.: В 8 т. М.; Л., 1962. Т. 5. С. 434.
4 См. обсуждение этого эпизода А.В. Востриковым в его
«Убийство и самоубийство в деле чести» (Смерть как феномен
культуры. С. 24—25). Востриков черпает информацию из кн.:
Шильдер, Н.К. Император Александр 1. Т.4. СПб., 1898. С. 18-21.
К сожалению, Шильдер не открывает своих источников, и поэтому
трудно судить об их надёжности.
5 Голос. 1875. 5 мая.
6 Ценные мысли о самоубийстве и чести можно найти в кн.:
Greenberg, Kenneth S. Honor and Slavery: Lies, Duels, Noses, Masks,
Dressing as a Woman, Gifts, Humanitarianism, Death, Slave
Rebellions, the Postslavery Argument, Baseball, Hunting, and Gambling in
the Old South. Princeton, 1996. P. 93-95.
7 Kiernan, V.G. The Duel in European History: Honour and the
Reign of Aristocracy. New York, 1989. P. 132—33, 203. Ср. также
Frevert, Ute. Men of Honour. P. 172—73.
нДурова, Надежда. Записки кавалерист-девицы. //Давыдов,
Денис. Дневник партизанских действий 1812. Дурова, Надежда.
Записки кавалерист-девицы. [Л.], 1985. С. 359, 474—75, 478.
9 Ходасевич, Владислав. Мариэтта Шагинян // Ходасевич, Вл.
Белый коридор. Воспоминания. New York, 1982. С. 210.
10 Frevert, Ute, Men of Honour. P. 172.
"Собственноручные записки императрицы Екатерины И //
Сочинения Екатерины II. М., 1990. С. 163.
12 Гарновский, М.А. Записки. // Русская старина. Т. 15. 1876.
№ 3. С. 491. Эта насмешка над Дашковой как потенциальным
274 И. Рейфмап. Ритуализованная агрессия
дуэлянтом отражала обшее неодобрение ее упорных претензий на
активную роль в обществе, как, например, принятие в 1783 году
должности Президента Русской Академии. Дашкова сознавала свое
поведение как преодоление тендерных барьеров; см.: Woronzoff-
Dashkoff, A. Disguise and Gender in Princess Dashkova's «Memoirs».
// Canadian Slavonic Papers. V. 32. 1991. No. i. P. 62-74.
13Ходасевич, Владислав. Мариэтта Шагинян. //Ходасевич, Вл.
Белый коридор. Воспоминания. С. 210.
14 Kiernan, V.G. Duel in European History. P. 156. Подробно
проблема женской чести и самоубийства рассматривается в:
Donaldson, Ian. The Rapes of Lucretia: A Myth and Its Transformation.
Oxford, 1982.
15 Гражданин. 1873. № 19. С. 577. Отчет воспроизводит
слухи о любви Гончаровой к Жохову, которая якобы привела сё к
самоубийству. Подробнее об этой важной дуэли см. в главе 2.
16 Характерно, что отчет об этой дуэли, написанный в 1899
году А.С. Сувориным, приписывает, хотя бы фигурально,
намерение вызвать Утина на дуэль самой Прасковье Гончаровой. Он
сообщает о словах Жохова, отрицающих его мнимый роман с
Гончаровой: «Я с нею всего два раза виделся, и, напиши я ей теперь
об этой утинской сплетне, она приехала бы сюда и вызвала бы на
дуэль Утина». Суворин, А. Дневник. М., 1992. С. 242.
17 Об этой дуэли см.: Востриков, Алексей, Убийство и
самоубийство в деле чести. // Смерть как феномен культуры. С. 31.
18 Мартьянов, П.К. Трагическая кончина генерала
Александра Даниловича Герштенцвейга. // Мартьянов, П.К. Дела и люди
века: Отрывки из старой записной книжки, статьи и заметки. Т. 3.
СПб., 1893. С. 276, 286.
19 Об «американских дуэлях» см.: Таганцев, Н.С О
преступлениях против жизни по русскому праву: В 2 т. Т.2. СПб., 1870.
С. 397—400; [без имени) Ливенсон, Поединок в законодательстве
и науке. СПб., 1900. С. 37—43. Достоевский упоминает
«американскую дуэль» несколько раз в черновиках «Подростка» и в
подготовительных материалах к «Дневнику писателя». См.
Достоевский, Ф.М. Поли. собр. соч.: В 30 т. Л., 1972-1990. Т. 17. С. 7.
Т. 21. С. 253. Т. 22. С. 37, Т. 24. С. 109, 130. Безоговорочно
отрицательное отношение Достоевского к американской дуэли
контрастирует с его уважением к обычной дуэли как средству
защиты личного пространства.
20 Таганцев, Н.С. О преступлениях против жизни по
русскому праву. Т. 2. С. 337.
21 См.: Andrew, Donna Т. The Code of Honour and Its Critics: The
Opposition to Duelling in England, 1700—1850. // Social
History. 1980. Oct. P. 412-13 (особенно прим. 15); 415-16, 432
(прим. 113).
Примечания. Глава I
275
12 Толстая, С.А. Дневники: В 2 т. М., 1978. Т. 1. С. 154
(выделено Толстой).
23 Соловьев, B.C. Литературная критика. М. 1990. С. 198
(выделено Соловьевым).
24 Макаров, Н. Калейдоскоп в дополнение к «Моим
семидесятилетним воспоминаниям». СПб., 1883. С. 166.
25 Понятие благородного оружия определено, в частности, в
следующих работах: Таганцев, О преступлениях против жизни по
русскому праву. Т. 2. С. 391; Ливенсон, Поединок в
законодательстве и пауке. С. 45—46.
26 Об истории Павлова см.: Северная Пчела. 1836. 3 июня;
Иикитенко, А.В. Дневник: В 3 т. Т. I. Л., 1955. С. 183-84;
Макаров, Калейдоскоп в дополнение к «Моим семидесятилетним
воспоминаниям». С. 164—66; Черейский, Л.А.. Пушкин и его
окружение. / 2-е испр. изд. Л., 1988. С. 18 и 319; Гордин, Яков.
Право на поединок. С. 454—55; Востриков, Алексей. Убийство и
самоубийство в деле чести. // Смерть как феномен культуры. С. 28.
Травмы, причиненные во время церемонии разламывания шпаги
не были чем-то исключительным: декабрист И.Д. Якушкин тоже
был ранен при аналогичной церемонии; см.: Якушкин, И.Д.
Записки, статьи, письма. / Изд. С.Я. Штрайха. М., 1951. С. 81.
27 Письма П.В. Киреевского к Н.М. Языкову. / Изд.
М.К. Азадовского. // Труды института антропологии, этнографии
и археологии. Т. 1, № 4. М., Л., 1935. С. 26.
28 Русский архив. 1902. №1. С. 318.
29 Отчет приводится в кн.: Шадури, Вано. Друг Пушкина
А.А. Шишков и его роман о Грузии. Тбилиси, 1951. С. 147.
30 Письма Сергия Львовича и Надежды Осиповны Пушкиных
к их дочери Ольге Сергеевне Павлищевой, 1828—1835. //
Фамильные бумаги Пушкиных-Ганнибалов. Т. 1. СПб., 1993. С. 122.
31 Очерк истории русского дуэльного ритуала см. Лотман,
Ю.М.. Роман А.С. Пушкина «Евгений Онегин». С. 92—105; см.
также его статью «Дуэль» в Лотман, Ю.М.. Беседы о русской
культуре. С. 164—79. Востриков подробно рассматривает дуэльный
ритуал в своей «Книге о русской дуэли», особенно главы 4 и 5.
См. также Востриков, Алексей. Поэтика оскорбления в русской
дуэльной традиции. // Тыняновский сборник. Пятые
Тыняновские чтения. С. 100—109.
32 Гарновский, М.А. Записки // Русская Старина. С. 490.
33 Billacois, Francois. Duel. P. 61.
34О роли бретеров в установлении дуэльной традиции см.: Во-
стриков, Алексей. Тема «исключительной дуэли» у Бестужева-
Марлинского, Пушкина и Лермонтова. // Русская литература.
С. 66—72; а также гл. 6 его «Книга о русской дуэли». Я
рассматриваю менталитет бретера в главе 2.
276 И. Рейфман. Ритуализованная агрессия
и Михаил Семенович Щепкин. Жизнь и творчество: В 2 т.
Т. 1. М., 1984. С. 277.
*См.: Дурасов, В. Дуэльный кодекс. / Изд. 4-е. СПб., 1912.
С. 104.
"См.: Суворин, АЛ (Алексей Порошим). Дуэльный кодекс.
СПб., б.г. С 126-127.
"Михаил Семенович Щепкин. Жизнь и творчество. Т. 1.
С. 277.
59 Бриген, А.Ф. Письма. Исторические соч. Иркутск, 1986.
С. 97.
т Каратыгин, П.П. П.А. Катенин. // Писатели-декабристы.
Т. 1. С. 291 (прим.).
^ Липранди, ИМ. Из дневника и воспоминаний. //А.С.
Пушкин в воспоминаниях современников: В 2 Т. М., 1985. Т. 1.
С. 345. О дуэли Киселева с Мордвиновым см. Басаргин, И. В.
Записки. // Басаргин, Н.В. Воспоминания, рассказы, статьи.
Иркутск, 1988. С. 63—68. Гордин рассматривает эту дуэль в своей
книге «Право на поединок», с. 281—86.
42 Свистунов, П.Н. Отповедь. // Воспоминания и рассказы
деятелей тайных обществ 1820-х годов. / Под ред. Ю.Г. Оксмана
и СМ. Чернова: В 2 т. М., 1931-1933. Т. 2. С. 291; см. также
Завалишин, ДМ. Декабрист М.С. Лунин. // Исторический
вестник. 1881. №1. С. 142-143.
4£ Записки разных лиц. Тетрадка Ф.Г. Толя. //Декабристы на
поселении. Из архива Якушкиных. / Сост. Е.Е. Якушкин. М.
1926. С. 127.
44 В работе «Мифо-логика дуэли» (с. 422), А.В. Востриков
высказывает предположение, что дуэльное поведение имеет
мифологическую («дологическую») природу. Соглашаясь с его тезисом
об особой логике дуэли, я нахожу его попытку рассматривать дуэль
как мифологический феномен натяжкой. Не всякий основанный
на традиции и ретроспективно ориентированный обычай яапяется
мифологическим. Об иррациональном и атавистическом
характере дуэли см. также Kiernan, V.G. Duel in European History. P. 16.
45 Горчаков, В.П. Воспоминание о Пушкине. // Пушкин в
воспоминаниях современников. Т. 1. С. 284.
46 Руссо, Ж.-Ж. Юлия, или Новая Элоиза. / Пер. Н.
Немчиновой и А. Худадовой. М., 1968. С. 137—146.
47 О стратегии поведения Арбенина см.: Helfant, Ian Micah. The
High Stakes of Identity: Gambling in the Life and Literature of
Nineteenth-Century Russia. Evanston, IL, forthcoming in November, 2001.
Chapter 4.
48 Влияние Руссо на русские дуэльные нарративы, а также
поиски русскими писателями приемлемых способов отказа от дуэли,
подробнее рассматриваются в тех главах моего исследования,
которые посвящены дуэли в литературе.
Примечания. Глава I
277
49 Каратыгин называет ее Марией («Писатели-декабристы»,
т. 1, с. 291); Д.А. Кропотов — Аграфеной (там же, т. 2, с. 18).
Е.П. Яиькова, в «Рассказах бабушки», представляет её как
безымянную «дочь» (с. 289); при этом Янькова сохраняет точку зрения
матери Новосильцева, для которой молодая девушка была
исключительно «Пахомовной» — т.е., дочерью человека с
неаристократическим именем и, следовательно, плохой партией для ее сына
(там же, с. 289—90). Т.И Орнатская, в своих комментариях к
«Рассказам бабушки», сообщает, что девушку звали Екатериной
(с. 428, прим. 3).
50 Муравьев, А.Н. Записки. // Муравьев, А.Н. Соч. и
письма. Иркутск, 1986. С. 81. Перевод: «Я все видела и слышала: эта
пощечина была хорошо дана».
51 Басаргин. Записки. С. 65, 67.
52 Гл. 6, строфа 18. Уильям Тодд отмечает нежелание
Пушкина следовать западной литературной конвенции. См. Todd,
William Mills III. Fiction and Society in the Age of Pushkin: Ideology,
Institutions, and Narrative. Cambridge, MA, 1986. P. 128.
53 См.: Абрамович. Пушкин в 1836 году. С. 270—72.
Предположение Р.Г. Скрынникова о том, что свояченица Пушкина,
Александрина, была в курсе планов Пушкина и даже передала ему
свое серебро для заклада, зная, что на полученные деньги
Пушкин купит дуэльные пистолеты, представляется мне более чем
сомнительным; см. Скрынников, Р.Г Дуэль Пушкина. СПб., 1999.
С. 265.
54 См.: Данзас, К. К. Последние дни жизни и кончина
Александра Сергеевича Пушкина и записи А. Амосова. // Пушкин в
воспоминаниях современников. Т. 2. С. 372.
55 Редчайший случай вмешательства женщины в процедуру
дуэли в «Испытании» Бестужева-Марлинского рассмотрен в
главе 5.
56 Обзор употреблений слова «честь» в допетровских русских
литературных текстах см.: Черная, Л.А. Честь: представления о чести
и бесчестии в русской литературе XI-XVII вв. // Древнерусская
литература. Изображение общества. М., 1991. С. 56—84. См.
также Prochazka, Helen Y. On Concepts of Patriotism, Loyalty, and
Honour in the Old Russian Military Accounts. // The Slavonic and East
European Review. 1985. V. 63. No. 4. S. 481—96. Анализ
значений слова в различные исторические эпохи допетровской России,
см.: Kollmann, Nancy Shields. Was There Honor in Kiev Rus'? //
Jahrbuecher fucr Geschichte Osteuropas. V. 36. 1988. No. 4. P. 482—
92; Honor and Dishonor in Early Modern Russia. // Forschungen zur
osteuropaeischen Geschichte. V. 46. 1992. P. 131—46. См. также
ее книгу «By Honor Bound» (Ithaca and London, 1999).
57 Kollmann, Nancy Shields. Honor and Dishonor in Early Modern
Russia. // Forschungen zur osteuropaeischen Geschichte. P. 146; Was
278 И. Рейфмап. Ритуалитванная агрессия
There Honor in Kiev Rus'? // Jahrbuccher fuer Geschichtc Osteuropas.
P. 491-92.
s« Dewey, H.W. Old Muscovite Concepts of Injured Honor (Bes-
chestie). // Slavic Review. V. 27. 1968. No. 4. P. 603. Ср.
также. Ключевский, В.О.. История сословий в России. //
Ключевский, В.О. Соч.: В 9 т. Т. 6. М., 1989. С. 377-78; Черная, Честь:
представления о чести и бесчестии. // Древнерусская литература.
Изображение общества. С. 75.
59 Бобровский, П.О. Преступления против чести по русским
законам до начала XVIII века. Отрывок из приготавливаемого к
печати 3-го выпуска артикула воинского (главы XVII и XVIII).
СПб., 1889. С. 33.
60 Kollmann, Nancy Shields. Honor and Dishonor in Early Modern
Russia. // Forschungen zur osteuropacischen Geschichtc. P. 143—45.
61 Dewey, H.W. Old Muscovite Concepts of Injured Honor. //
Slavic Review. P. 601.
62 Княжнин, Я. Б. Хвастун. // Стихотворная комедия: В 2 т.
Т. 1 [Л.|, 1990. С. 380.
63 Истинная политика знатных и благородных особ. / Пер.
В.К. Тредиаковского. СПб., 1737. С. 49. Тредиаковский считал
автором книги Франсуа Фенелона, но она также приписывается
Н. Ремону де Куру и Шербоньеру. Перевод Тредиаковского был
очень популярен: с 1737 по 1787 гг. он четырежды переиздавался.
мЛенобль, Эсташ. Светская школа или отеческое наставление
сипу о обхождении в свете чрез Господина] ле Нобль, с
французского на Российский язык перевел Сергей Волчков. СПб., 1761.
С. 46.
65 См. это замечание Келли в: Kelly, G.A. Duelling in Eighteenth-
Century France: Archeology, Rationale, Implications. // The
Eighteenth Century. Theory and Interpretation. 1980. V. 2. No.3. P. 237.
66 Наука быть учтивым. СПб., 1774. С. 6. Пар.6; С. 8-9.
Пар. 8; С. 8. Пар. 8; С. 11. Пар.13 (ср. с. 19, пар.23).
67 Экономия жизни человеческой, или сокращение индейского
нравоучения, сочиненное некоторым древним брамином, и
обнародованное через одного славного Бонза Пекинского на Китайском
языке, с которого во-первых на Агнинский, а потом на
Французский, ныне же на Российский язык переведено, лейбгвардейца-
ми Преображенского полку Сержантами князьями Егором и
Павлом Цинциановыми. / Изд. 2-е. М., 1769. С. 7, 8. Перевод
является русской версией французской адаптации сочинения «The
Economy of Human Life: Translated from an Indian Manuscript, Written
by an Ancient Bramin», приписываемого, согласно одним
источникам, Честсрфильду, а согласно другим — Роберту Додели.
6К Честь как абсолютное, «неделимое» качество, кратко
рассматривается в кн.: Fervert, Ute. Men of Honour. P. 24—25. Cp.
также: Greenberg, Kenneth S.. Honor and Slavery. P. 62: «Честь и
Примечания. Глава 2
279
бесчестие, так же, как рабство и господство, носили тотальный
характер».
69 Billacois, Francois. Duel. P. 233.
70Аксаков, Константин. Опыт синонимов. Публика— народ.
// Ранние славянофилы. А.С Хомяков. И.В. Киреевский. К.С.
и И.С. Аксаковы. / Сост. Н.Л. Бродского. М., 1910. С. 121—22.
71 Единственным периодом в истории России, когда в среде
низших армейских чинов наблюдалось некое подобие дуэлей
(драки, в которых обнажалось холодное оружие), была первая
половина XVIII века. В то время разрыв между дворянством и
простолюдинами не был окончательным, и в низших армейских чинах
могли состоять и тс, и другие. С одной стороны, дворяне были
обязаны начинать службу рядовыми и ещё не нашли пути
обходить эту ситуацию — позднее, как известно, они нашли его,
записывая на службу своих маленьких или даже еще нерожденных
детей. С другой стороны, простолюдинам еще не так трудно было
получить дворянство путем продвижения по служебной лестнице
или путем оказания ценных услуг государю. Так, в 1741 голу
Елизавета пожаловала дворянство всей первой роте
Преображенского полка за помощь, оказанную ей при захвате престола.
«Сборник биографий кавалергардов», составленный С.А. Панчу-
лидзевым (В 4 т., СПб., 1901—1908), не всегда даже указывает
социальное происхождение кавалергардов. Судя по сведениям,
предоставляемым этой книгой, модели поведения, касающиеся
поединков и использования холодного оружия, были у дворян и
недворян очень сходны.
72О западноевропейском среднем классе как разрушителе дуэли
см.: Billacois, Francois. Duel. С. 32—33, 129—43; Andrew,, Donna Т.
Code of Honour and Its Critics. // Social History, pp. 409—34.
73 Следует помнить, однако, что Чернышевский и его герои,
не будучи дворянами, могли и не получить согласия дворянина на
дуэль. Таким образом, их пренебрежение к дуэльной процедуре
могло объясняться страхом не быть признанными в качестве
равных, а не приверженностью принципам рационального поведения.
Глава 2
1 Краткие обзоры истории дуэли в России XVIII см. в кн.:
Ливенсон. Поединок в законодательстве и науке. СПб., 1900.
С. 15—23; Гордин, Яков. Право на поединок. Роман в документах
и рассуждениях. [Л.|, 1989. С. 266-267, 306-313, 398-406.
2 О возникновении дуэли в Европе см., например, Billacois,
Frangois. The Duel. Ch. 3 и 4; Kiernan, V.G.. The Duel in European
History. Honour and the Reign of Aristocracy. N.Y., 1989. Ch. 2—6.
278 И. Рейфман. Ритуализаванная агрессии
There Honor in Kiev Rus'? // Jahrbuechcr fuer Geschichte Osteuropas.
P. 491-92.
58 Dewey, H.W. Old Muscovite Concepts of Injured Honor (Bes-
chestie). // Slavic Review. V. 27. 1968. No. 4. P. 603. Ср.
также. Ключевский, В.О.. История сословий в России. //
Ключевский, В.О. Соч.: В 9 т. Т. 6. М., 1989. С. 377-78; Черная, Честь:
представления о чести и бесчестии. // Древнерусская литература.
Изображение общества. С. 75.
59 Бобровский, П.О. Преступления против чести по русским
законам до начала XVIII века. Отрывок из приготавливаемого к
печати 3-го выпуска артикула воинского (главы XVII и XVIII).
СПб., 1889. С. 33.
60 KoUmann, Nancy Shields. Honor and Dishonor in Early Modern
Russia. // Forschungen zur osteuropacischen Geschichte. P. 143—45.
61 Dewey, H.W. Old Muscovite Concepts of Injured Honor. //
Slavic Review. P. 601.
62 Княжнин, Я.Б. Хвастун. // Стихотворная комедия: В 2 т.
Т. 1 |Л.|, 1990. С. 380.
ьз Истинная политика знатных и благородных особ. / Пер.
В.К. Тредиаковского. СПб., 1737. С. 49. Тредиаковский считал
автором книги Франсуа Фенелона, но она также приписывается
Н. Ремону де Куру и Шербоньеру. Перевод Тредиаковского был
очень популярен: с 1737 по 1787 гг. он четырежды переиздавался.
ыЛенобль, Эсташ. Светская школа или отеческое наставление
ейну о обхождении в свете чрез Господина] ле Нобль, с
французского на Российский язык перевел Сергей Волчков. СПб., 1761.
С. 46.
65 См. это замечание Келли в: Kelly, G.A. Duelling in Eighteenth-
Century France: Archeology, Rationale, Implications. // The
Eighteenth Century. Theory and Interpretation. 1980. V. 2. No.3. P. 237.
66 Наука быть учтивым. СПб., 1774. С. 6. Пар.6; С. 8—9.
Пар. 8; С. 8. Пар. 8; С. 11. Пар.13 (ср. с. 19, пар.23).
67 Экономия жизни человеческой, или сокращение индейского
нравоучения, сочиненное некоторым древним брамином, и
обнародованное через одного славного Бонза Пекинского на Китайском
языке, с которого во-первых на Агнинский, а потом на
Французский, ныне же на Российский язык переведено, лейбгвардейца-
ми Преображенского полку Сержантами князьями Егором и
Павлом Цинциановыми. / Изд. 2-е. М., 1769. С. 7, 8. Перевод
является русской версией французской адаптации сочинения «The
Economy of Human Life: Translated from an Indian Manuscript, Written
by an Ancient Bramin», приписываемого, согласно одним
источникам, Честерфильду, а согласно другим — Роберту Додели.
« Честь как абсолютное, «неделимое* качество, кратко
рассматривается в кн.: Fervert, Ute. Men of Honour. P. 24—25. Cp.
также: Greenberg, Kenneth 5.. Honor and Slavery. P. 62: «Честь и
Примечания. Глава 2
279
бесчестие, так же, как рабство и господство, носили тотальный
характер».
69 BUlacois, Francois. Duel. P. 233.
70Аксаков, Константин. Опыт синонимов. Публика— народ.
// Ранние славянофилы. А.С. Хомяков. И.В. Киреевский. К.С.
и И.С Аксаковы. / Сост. Н.Л. Бродского. М., 1910. С. 121-22.
71 Единственным периодом в истории России, когда в среде
низших армейских чинов наблюдалось некое подобие дуэлей
(драки, в которых обнажалось холодное оружие), была первая
половина XVIII века. В то время разрыв между дворянством и
простолюдинами не был окончательным, и в низших армейских чинах
могли состоять и тс, и другие. С одной стороны, дворяне были
обязаны начинать службу рядовыми и ещё не нашли пути
обходить эту ситуацию — позднее, как известно, они нашли его,
записывая на службу своих маленьких или даже еше нерожденных
детей. С другой стороны, простолюдинам еще не так трудно было
получить дворянство путем продвижения по служебной лестнице
или путем оказания ценных услуг государю. Так, в 1741 году
Елизавета пожаловала дворянство всей первой роте
Преображенского полка за помощь, оказанную ей при захвате престола.
«Сборник биографий кавалергардов», составленный С.А. Панчу-
лидзевым (В 4 т., СПб., 1901 — 1908), не всегда даже указывает
социальное происхождение кавалергардов. Судя по сведениям,
предоставляемым этой книгой, модели поведения, касающиеся
поединков и использования холодного оружия, были у дворян и
недворян очень сходны.
72 О западноевропейском среднем классе как разрушителе дуэли
см.: BWacois, Francois. Duel. С. 32—33, 129—43; Andrew,, Donna Т.
Code of Honour and Its Critics. // Social History, pp. 409—34.
"Следует помнить, однако, что Чернышевский и его герои,
не будучи дворянами, могли и не получить согласия дворянина на
дуэль. Таким образом, их пренебрежение к дуэльной процедуре
могло объясняться страхом не быть признанными в качестве
равных, а не приверженностью принципам рационального поведения.
Глава 2
1 Краткие обзоры истории дуэли в России XVIII см. в кн.:
Ливенсон. Поединок в законодательстве и науке. СПб., 1900.
С. 15—23; Гордин, Яков. Право на поединок. Роман в документах
и рассуждениях. |Л.|, 1989. С. 266-267, 306-313, 398-406.
2 О возникновении дуэли в Европе см., например, Billacois,
Francois. The Duel. Ch. 3 и 4; Kiernan, К (7.. The Duel in European
History. Honour and the Reign of Aristocracy. N.Y., 1989. Ch. 2—6.
280 /У. Рейфман. Ритуализованная агрессия
■' В какой-то степени поединок в специально отведенном
месте также основывался на идее высшей справедливости:
побежденный считался неправым и мог быть убит или унижен победителем,
а также наказан государем. Дуэль чести в чистом виде не
предполагала особой заинтересованности в победе: сам факт участия в ней
восстанавливал честь обеих сторон, независимо от исхода поединка.
4 Р. Фридман исследует студенческие дуэли в России в гл. 3
своей диссертации «In the Company of Men: Student Life and Russian
Masculinity, 1825—1855» (Ph.D. Dissertation, University of Michigan,
2000). О психологии студенческой дуэли, отличной от
психологии point d'honneur, см.: Gay, Peter. The Cultivation of Hatred. The
Bourgeois Experience. Vol. 3. Victoria to Freud. N.Y., 1993. P. 9—
33. Ю. Фрефсрт в своей книге: Men of Honour A Social and Cultural
History of the Duel / Transl. by Anthony Williams. Cambridge, MA,
1995, гл. 4; H. Элиас в: The Germans: Power struggle and the
Development of Habitus in the Nineteenth and Twentieth Centuries /
Ed. by Michael Schroeter, trans, by Eric Dunning and Stephen Mennel.
N.Y., 1996, ch. 1, и К. Мак-Алир в: Dueling. The Cult of Honor
in Fin-de-Siccle Germany. Princeton, 1994, ch. 4, указывают на
связи между студенческой дуэлью и дуэлью чести. Редкое в русской
литературе изображение студентов-дуэлянтов встречается в
«Поездке в Ревель» А.А. Бестужева (СПб., 1821); действие вставной
новеллы о дуэлянтах разворачивается в Гейдельберге.
5 Маржерет, Жак. Состояние Российской державы и великого
княжества Московского // Сказания современников о Димитрии
Самозванце / 2-е изд. СПб., 1837. Ч. 3. С. 83.
6 Толстой, Петр. Путешествие стольника П.А. Толстого по
Европе, 1697—1699. М., 1992. С. 28. О дуэли как продолжении
парламентских дебатов см.: BHIacois, Frangois. The Duel. P. 203.
7 Куракин, Б.И. Дневник и путевые записки: 1705—1710 //
Архив князя Ф.А. Куракина / Изд. М.И. Семевский. СПб., 1890.
Кн. 1. С. 211.
"Описание дел Архива Морского Министерства. За время с
половины XVII до начала XIX столетия: В 10 т. СПб., 1877. Т. I.
С. 150-151.
9 Этот случай упоминается в книге Н.Я. Эйдельмана «Лунин»
(С. 8—9). Плаутин дразнил Писарева, притворяясь, что он не
понимает разницы между наукой о геометрии и книгой по
геометрии. Непонятно, о какой книге шла речь. Единственная
известная работа Писарева — это рукопись «Практика художества
статического или механического: краткое, некоторое истолкование оно-
/о художества» (1720). Он преподнес экземпляр Петру I; см.:
Библиотека Петра I: Указатель-справочник. Л., 1978. N° 239.
10См.: Собственноручные записки императрицы Екатерины II
// Сочинения Екатерины II. С. 138. Эта дуэль также упоминает-
Примечания. Глава 2
281
ся в кн.: История кавалергардов. 1724—1799—1899: по случаю
столетнего юбилея кавалергардского Ее Величества Государыни
Императрицы Марии Федоровны полка: В 4 т. / Изд. С.А. Панчу-
лидзева. СПб., 1899. Т. 1. С. 270.
11 Неплюев, И.И. Записки (1693-1773). СПб., 1893. С. 32-
33.
12 Там же. С. 28.
13 См.: Соборное уложение 1649 года / Учебное пособие для
высшей школы. М., 1961. С. 76—77.
14 Маржерет, Жак. Состояние российской державы... С, 82.
15 Фоккеродт, И.Г. Россия при Петре Первом / Пер, А.Н.
Шемякина // Чтения Общества Истории Древностей Российских. 1874.
С. 109. Немецкий оригинал был опубликован в 1872 году под
заголовком «Zcitgcnoessischer Berichtc zur Gcschichte Ruslands.
Rusland unter Peter dem Grosscn».
16 Ср. артикулы 139 и 140 с артикулом 141: Устав воинский.
Артикул воинский с кратким толкованием (1716) // Памятники
русского права. Вып. 8. Законодательные акты Петра I: Первая
четверть XVIII в. М., 1961. С. 352; см. также: Патент о
поединках и начинании ссор (арт. 16). // Там же. С. 460.
17Сборник биографий кавалергардов. Т. I. С. 293; ср.:
История кавалергардов. Т. 1. С. 266.
18 История кавалергардов. Т. 1. С. 266.
19 Сборник биографий кавалергардов. Т. 1. С. 306
20Об использовании топора см.: Сборник биографий
кавалергардов. СПб., 1901. Т. 1. С. 299; вилок- Т. 1. С. 325; зубов —
Т. 1. С. 274. Н. Коллмэнн в своей статье «Honor and Dishonor
in Early Modern Russia» (Forschungen zur osteuropaeischen beschichte.
1992. Bd. 46. S. 139) указывает на то, что у московитов
считалось «особенно унизительным быть укушенным».
21 Сборник биографий кавалергардов. Т. 2. С. 126—127.
Подробнее об этом инциденте см. дальше в настоящей главе.
22 Порошим, Семен. Записки, служащие к истории его
императорского высочества Павла Петровича / Изд. 2-е. СПб., 1881.
Стб. 160.
23 Обстоятельства этой дуэли были крайне туманными и вызвали
множество слухов, доживших до середины XIX века и даже до
наших дней. Само имя убийцы Голицына в отчетах того времени
варьируется. Корберон, например, утверждает, что изначально
Голицын поссорился с Петром Шепелевым, но впоследствии
дрался и погиб на дуэли с майором Лавровым; дс-Парело же, меньше
чем через десять лет, называет Шепелева единственным
противником Голицына. См.: Un diplomate francais a la cour de
Catherine II. 1775—1780: Journal intime du Chevalier de Corberon charge
d'affaires de France en Russie: In 2 vol. / Ed. L.-H. Labande. Vol. 1.
282 И. Рейфман. Ритуализованная агрессия
Paris, 1901. Р. 110—111; Отзыв Сардинского чрезвычайного
посланника и полномочного министра де-Парсло: а, о князе
Потемкине. // Сборник Императорского русского исторического
общества. 1879. № 26. С. 318. Второй источник также содержит слух
о том, что дуэль была спровоцирована Григорием Потемкиным,
стремившимся избавиться от потенциального соперника. Это дело
анализируется в комментарии к переписке Екатерины с
Потемкиным; см.: Екатерина II и Г.А. Потемкин: личная переписка, 1769—
1791 / Изд. B.C. Лопатина. М., 1997. С. 644-645; а также в книге
ЯЛ. Гордина «Право на поединок» (С. 397—400). Я вернусь к
слухам о роли Потемкина в этой дуэли.
24 Глинка, СИ. Записки. СПб., 1895. С. 56; ср. Гарновский,
МЛ. Записки // Русская старина. 1876. Т.. 15. № 3. С. 23.
25 Глинка, С.Н. Записки. С. 102-103.
26Указ 1702 Генваря 14 // Свод Российских узаконений по части
военно-судной: В 3 т. / 2-е изд. СПб., 1828. Т. 3. С. 606.
27 См.: Ливенсон. Поединок в законодательстве и науке. СПб.,
1900. С. 19-20.
28 Артикул воинский (арт. 139) // Памятники русского
права. Вып. 8. С. 352; Патент о поединках и начинании ссор // Там
же. С 457—460; Устав морской (кн. 5, гл. 13) // Там же. С. 512—
513.
29 Наказ Императрицы Екатерины II, данный комиссии о
сочинении проекта нового уложения / Изд. Н.Д. Чечулина. СПб.,
1907. С. 69 (§ 234).
30 Манифест о поединках 1787 Апреля 21 // Свод российских
узаконений по части военно-судной. Т. 3. С. 626—647. О
запрещении дуэлей см. § 1—5 и 32—33; о наказаниях за дуэли см. § 46;
о наказаниях за нанесение ран или убийство во время дуэли см.
§ 37; о наказаниях за повторные нарушения см. § 47; об
оскорблении чести и посредничестве в решении конфликтов см. § 6—16 и
26—28. Об использовании Екатериной «Энциклопедии» см.:
Храповицкий, А.В. Памятные'записки / Изд. Г.Н. Геннади. 1862;
репринт: М., 1990. С. 20, 23.
31 Сборник биографий кавалергардов. Т. 2. С. 308—309.
32 Генеральный регламент. Гл. 53, «Толкование» //
Законодательство Петра I. M.t 1997. С. 99—124 (гл. 53 на с.123).
33 Генеральный регламент// Законодательство Петра I. С. 99—
124.
34 Табель о рангах // Законодательство Петра I. С. 397.
35 Поскольку в XVIII веке русское дворянство было за редким
исключением военной кастой, авторитет военных законов был
практически универсальным.
36 Наказ Императрицы Екатерины II. С. 69 (§ 234; ср. также
§ 233, в котором говорится об «обидах личных, противных чести»).
Примечания. Глава 2
283
"Екатерина II и Г.А. Потемкин: Личная переписка. С. 80.
Вяземский в своих «Записных книжках» цитирует краткий пересказ
этого письма Александром Николаевичем Голицыным,
демонстрирующий, что эта идея Екатерины II была известна се
современникам. См.: Вяземский, ПА. Записные книжки, 1813—1848. М.,
1963. С. 274.
38 Catherine H's Charters of 1785 to the Nobility and the Towns /
Trans, and ed. by David Griffiths and George E. Munro. Bakersficld,
CA, 1991. § 65. Издание содержит русский текст Грамоты и его
перевод.
w Манифест о поединках // Свод Российских узаконений...
Т. 3. С. 637. Курсив мой. - И.Р.
40 См.: Там же. С. 638-639 (§ 29-31).
41 Обзор новых сложных и изменчивых иерархий в
послепетровской России см. в кн.: Лотман, Ю.М. Беседы о русской
культуре: быт и традиции русского дворянства (XVIII — начало XIX
века). СПб., 1994. С. 18-45.
42 Un di plomate frangats a la cour de Catherine II. Vol. 1. P. 111.
Перевод: «Князь Ангальт, который рассказал мне об этом
происшествии, справедливо заметил, что чрезвычайное неравенство,
существующее в русском обществе по вине правительства, удушает
саму идею чести и что князь Голицын, будучи вполне успешным
в армии, ничего не знает о ней в сравнении с г. Шепелевым,
человеком ниже его по рождению, но офицером. Это мне
напомнило поступок Великого Конде, который, обидев офицера, не
отказал ему в удовлетворении».
43 Shcherbatov, MM. On the Corruption of Morals in Russia. О
повреждении нравов в России / Ed. and trans, by A. Lentin.
London, 1969. C. 160 (ср. также с. 162 и 164). Изд. на русском
и английском языках, указываются страницы публикации русского
текста.
44 Дневник Иогана Георга Корба, секретаря посольства, от
императора Леопольда I к царю Петру I в 1698—1699. М., 1868.
С. 100.
45 См.: [Соловьев, VII: 588]; Достоевский, Ф.М. Стена на
стену [Достоевский, XXI: 1451; Сборник биографий кавалергардов.
Т. 1. С. 89. Достоевский ошибочно называет Меншикова Данилой.
46 Сборник биографий кавалергардов. Т. 1. С. 100.
Подробнее о драках Меншикова с Кейзерлингом см.: Гольцев, В.А.
Законодательство и нравы в России XVIII века / 2-е изд. СПб., 1896.
С. 26.
47 История кавалергардов. Т. I. С. 260. О бедственном
положении Петра Шувалова см.: Порошин, Семен. Записки. Стб. 67.
Этот анекдот пересказывается также в кн.: Васильчиков, А.А.
Семейство Разумовских: В 3 т. СПб., 1880. Т. 1. С. 21; Романо-
284 И. Рейфман. Ритуализованная агрессия
вич-Славатинский, А. Дворянство в России от начала XVIII века
до отмены крепостного права. Свод материалов и
приготовительные этюды для исторического исследования. СПб., 1870. С. 20.
Петр Шувалов, двоюродный брат Ивана Шувалова, любовника
Елизаветы в 1750-е годы, и сам был парвеню, возвышение
которого раздражало старое дворянство. См.: Shcherbatov, М.М. On the
Corruption of Morals in Russia. О повреждении нравов в России.
С. 210—216. На с. 208 М.М. Щербатов презрительно упоминает
о шуваловском «подслуживании любовнику Разумовскому».
48 Отзыв Сардинского чрезвычайного посланника и
полномочного министра дс-Парело; а, О князе Потемкине... С. 318.
Напомню, что противником Голицына на дуэли был Лавров, а не
Шепелев.
49 Гордин в своей книге «Право на поединок (С. 397—400)
утверждает, что речь шла не о личной привлекательности
Голицына, а о его быстром продвижении по службе и, соответственно,
о потенциальном влиянии на Екатерину. С его точки зрения эта
дуэль была «политическим убийством».
50 Вяземский, П.А.. Записные книжки. С. 274.
51 Глинка, СИ. Записки. С. 201. Вряд ли это происшествие
имело место. Сомнительно, чтобы Дашков — в то время адъютант
Потемкина — осмелился вызвать своего всесильного начальника.
Глинка, писавший свои воспоминания через много лет после
событий, мог спутать этот случай со ссорой Дашкова и Иевлева,
происшедшей в 1787 году, по поводу которой Дашков утверждал,
что она была спровоцирована Потемкиным; см.: Гарновский, М.А.
Записки. С. 490.
52 Глинка, С.Н. Записки. С. 56.
53 Гарновский, МЛ. Записки. С. 23.
54 Там же. С. 23.
55 «Кофейник Кутузова» отсылает к анекдоту о распоряжении
Зубова, якобы отданном М.И. Кутузову, незадолго до этого, в
1794 году, вернувшемуся из Константинополя, подавать ему по
утрам турецкий кофе.
56 Екатерина II и Григорий Потемкин: Исторические
анекдоты / Сост., вступ. статья и примеч. Ю.Н. Лубченкова и В.И.
Романова. М., 1990. С. 121; репринт издания: Собрание анекдотов
о князе Григории Александровиче Потемкине-Таврическом, с
биографическими сведениями о нем и историческими примечаниями /
Сост. С.Н. Шубинского. СПб., 1867.
"Сборник биографий кавалергардов. Т. 2. С. 126—127. Вост-
риков использует этот документ в качестве примера «поэтики
оскорбления» и приводит его в полном объеме в своей книге «Книга о
русской дуэли» (С. 187—188).
5Я Фонвизин, Д. И. Собр. соч.: В 2 т. М., 1959. Т. 2. С. 469.
Фонвизин также описал этот эпизод в письме к сестре: Там же.
Примечания. Глава 2
285
С. 439—440. Подробнее об этом происшествии см.: Biilacois,
Francois. The Duel. P. 187-188.
59 Фонвизин, Д.И. Собр. соч. Т. 1. С. 70.
60 Новиков, Н.И. Избр. соч. / Подгот. текста, вступ. статья
и коммент. Г.П. Макогоиенко. М., 1954. С. 193.
61 Страхов, Николай. Из города П. // Сатирический вестник.
1790. Ч. 1. С. 106.
62 Дашкова, Екатерина. Записки 1743—1810/ Подготовка
текста, статья и коммент. Г.Н. Моисеевой. Под ред. Ю.В. Стен-
ника. Л., 1985. С. 26, 29.
63Там же. С. 38. Пушкин записал этот же анекдот от Н.К.
Загряжской; см.: [Пушкин, XII: 177].
64 Рюльер, Клод Карломан де. История и анекдоты революции в
России в 1762 году// Переворот 1762 года: Сочинения и
переписка участников и современников / 4-е изд. М., 1910. С. 18—19.
65 Истинная политика знатных и благородных особ. С. 74—75.
Последнее предложение относится к французским законам о
дуэли, принятым в 1602 году и многократно подтверждавшимся на
протяжении всего XVII века; см.: Biilacois, Francois. The Duel.
P. 97-110.
66 Экономия жизни человеческой. С. 28.
"Новиков, НИ. Избр. соч. С. 149-150.
68The World. 1755. №. ИЗ. Р. 54. В 1781 году Новиков
опубликовал эту сатиру в переводе Андрея Брянцева в своем
«Московском ежемесячном издании».
69 Страхов, Н.И. Из города П. С. 106-107.
70 Pascal, Blaise. Lettres dcrites a un provincial. Paris, 1967.
P. 96—108 (письмо 7). О критике дуэли Паскалем см.: Biilacois,
Francois. The Duel. P. 138-139.
71 Страхов, Николай. Из города П. С. 109. Ср.: La Вгиёге.
Le caracteres. Paris, 1965. P. 338—339. Под законом Страхов,
очевидно, имеет в виду «Манифест о поединках» 1787 года.
Сходное понимание дуэли как нелепого поветрия можно найти и в
другом страховском журнале «Переписка моды» (1791. С. 25—26, 45—
51). Первый русский перевод «Характеров» появился в 1796 году
в журнале Ивана Мартынова «Муза»; см.: История русской
переводной художественной литературы: Древняя Русь, XVIII век /
Ответственный ред. Ю.Д. Левин. СПб., 1995. Т. 1. С. 224.
Однако в оригинале этот памятник несомненно был известен русским
намного раньше.
72 Фонвизин, Д.И. Чистосердечное признание в делах моих и
помышлениях // Фонвизин, Д.И. Собр. соч.: В 2 т. Т. 2. С. 83.
73 Страхов, Николай. Письмо 10. От дуэлей к моде //
Переписка моды. 1791. С. 45.
74 Страхов, Николай. Прозьба фехтмейстеров // Переписка
моды. 1791. С. 25. Ср. также с. 50.
286 И. Рейфман. Риту ализова иная агрессия
75 Страхов, Николай. Из города П. С. 109.
76 Рыцарство Павла рассматривается в кн.: Эйделъман, Н.Я.
Грань веков: Политическая борьба в России. Конец XVIII—
начало XIX столетия. М., 1982. С. 68—85; о гамлетовских мотивах в
его репутации (сын убитого государя, мать которого захватывает
трон) см. с. 47; о донкихотских мотивах см. с. 71—73.
77 Порошин, Семен. Записки... Стб. 160.
78 См.: Васшгьчиков, А.А. Семейство Разумовских. Т. 3. С. 62;
Шильдер, Н.К. Император Павел I: Историко-биографический
очерк. СПб., 1901. С. 160; Эйделъман, Н.Я. Твой XVIII век.
Прекрасен наш союз. М., 1991. С. 135.
79 См.: Саблуков, НА. Записки о временах императора Павла I
и о кончине этого государя. Лейпциг, [1902]. С. 68. Об этом
эпизоде существует свидетельство Августа фон Коцебу, которому
Павел поручил составить текст вызова: см.: Записки Августа
Коцебу // Цареубийство 11 марта 1801 г. СПб., 1908. С. 341-342.
Вызов Павла был сначала опубликован в «Hamburgischcr Korres-
pondent» за 16 января 1801, а затем перепечатан в нескольких
русских газетах (см.: Цареубийство... С. 342, прим.).
80 История кавалергардов. Т. 2. С. 230; примеры даны в
примеч. 3. О павловской трактовке идеи чести см.: Эйделъман, Н.Я.
Грань веков. С. 76—79.
81 Рассказы генерала Кутлубицкого о временах императора
Павла I // Русский архив. 1866. № 8/9. Стб. 1314-1316.
п Эйделъман, Натан. Грань веков. С. 92—93. Н.Я. Эйдель-
ман цитирует документ из Российского государственного военно-
исторического архива (РГВИА) — Ф. 8. Оп. 10/99. Д. 221.
"Сборник биографий кавалергардов. Т. 2. С. 215; История
кавалергардов. Т. 2. С. 117.
84 См.: Шилъдер, Н.К. Император Павел I. С. 436. Шильдер
цитирует архивный источник «Воспоминания о графе
Нессельроде, сообщенные действительным статским советником Алексеем
Петровичем ЕвреиновьГм». См. также: Шишков, А.С. Записки.
// Шишков, А.С. Записки, мнения и переписка: В 2 т. Берлин;
Прага, 1870. Т. 1. С. 76, прим. О проблеме достоверности этой
истории см.: Keep, John. «No Gauntlet for Gentlemen: Officers»:
Privileges in Russian Military Law, 1716—1855 // Cahiers du monde
russe et sovifttique. 1993. Vol. 34. № 1/2. P. 190, note 45.
я5 Саблуков, НЛ Записки. С. 68, 27. Эпизод с тростью
приводится в прим. на с. 68.
86 РГВИА. Ф. 801. Оп. 62/3. Д. 228, 660, 838 (вызовы) и
193 (состоявшаяся дуэль). О последнеМ'случае см.: Гордин, Яков.
Право на поединок. С. 310—313. Пользуюсь случаем выразить
благодарность Евгению Бешенковскому, который любезно предоста-
Примечания. Глава 2
287
вил мне сделанную им самим рукописную копию справочника-
путеводителя по архиву.
87 Эйдельман, Н.Я. Грань веков. С. 83. Сходную
интерпретацию противоречивой политики Павла см. в работе: Keep, John. «No
Gauntlet for Gentlemen»: Officers' Privileges in Russian military law,
1716-1855. P. 177.
тСаблуков, НА. Записки. С. 119.
к9См.: РГВИА. Ф. 801. Он. 62/3. Д. 1466. Подробнее об этой
дуэли см.: Гордин, Яков. Право на поединок. С. 291—293; Востри-
ков} Алексей. Мифо-логика дуэли // Невский архив. Историко-
краеведческий сборник. М.; СПб., 1993. С. 414—415. Эта дуэль
упоминается в «Былом и думах» Герцена [Герцен, VIII: 88, 98] и
в воспоминаниях Татьяны Пассек «Из дальних лет» (СПб., 1878.
Т. I. С. 4).
щ Марин, С.Н. Поли. собр. соч. М., 1948. С. 292-293.
Употребленное Мариным слово «выпущен» оставляет неясным, был ли
перевод Бахметьева наказанием или просто служебным
перемещением. Однако тот факт, что Бахметьев из элитного
Измайловского полка был переведен в армию, позволяет предполагать
наказание. Марин также намекает на то, что поведение Бахметьева и в
1803 году не было безупречным: автор письма дает понять, что
Бахметьев позволил властям узнать о полученном им от Кушелева
вызове (он «кончил тем, что Кушелева выслали за город»), а этот
поступок мог быть попыткой избежать дуэли.
91 Сама Марфа тоже вряд ли совершила неловкость по
наивности, скорее всего она прекрасно понимала, что делает. В 1803 году
ее муж был командиром того самого Измайловского полка, в
котором в 1797 году служили Кушелев и Бахметьев. Она явно
стремилась привести дело чести к завершению, чтобы неподобающее
поведение бывших офицеров не запятнало чести полка.
92 Булгарин, Фаддей. Воспоминания: Отрывки из виденного,
слышанного и испытанного в жизни: В 4 ч. СПб., 1846—1848.
Т. 3. С. 155; Т. 4. С. 78.
93 См.: Липранди, И.П. Замечания на «Воспоминания»
Ф.Ф. Вигеля // Чтения в Обществе истории древностей
российских. 1873. Вып. 85. С. 129; Толстой, С.Л. Федор Толстой
Американец. М., 1926. С. 32—34; Эйдельман, Н.Я. «Где и что
Липранди?» // Эйдельман Н. Из потаенной истории России XVIII—
XIX веков. М., 1993. С. 430-431.
94 Липранди, И.П. Замечания на «Воспоминания» Ф.Ф.
Вигеля. С. 141 (примеч. 69). Перевод: которых мы ощипали!
95 Бестужев, НА. Русский в Париже // Бестужев, НА.
Избранная проза. М., 1983. С. 284—287. Бестужев пересказывает
автобиографический рассказ Николая Лорера, который слышал в
288 И. Рейфман. Ритуализовашшя агрессия
авторском исполнении в Сибири. Позднее Лорер опубликовал его
под заголовком «Из воспоминаний русского офицера» (см.:
Лорер, Н. Записки декабриста. Иркутск, 1984. С. 289—337). В
рассказе Лорера дуэли не упоминаются.
%0 дендизме в России см.: Гроссман, Л. Пушкин и дендизм
// Гроссман, Л. Этюды о Пушкине. М.; Пг., 1923. С. 5—36;
Todd, William Mills III. Fiction and Society in the Age of Pushkin:
Ideology, Institutions, and Narrative. Cambridge, MA, 1986; и
особенно Driver, Sam. Puskin: Literature and Social Ideas. N.Y., 1989.
P. 77—102. На с 83 С. Драйвер рассматривает культурные
последствия визита императора Александра I в Лондон.
97 О буйном поведении дворян как форме протеста в России
начала XIX века см.: Лотман, Ю.М. Декабрист в повседневной
жизни (Бытовое поведение как историко-психологичеекая
категория) // Литературное наследие декабристов. Л., 1975. С. 53—54;
Лотман, Ю.М. Искусство жизни. // Лотман, Ю.М, Беседы о
русской культуре. С. 189—190. Сходную интерпретацию буйства
как характерной для русских формы протеста см. в очерке
Достоевского «Петербургская летопись» [Достоевский, XVIII: 31—32J и
в «Былом и думах» Герцена [Герцен, VIII: 242—243]. Я.М. Гель-
фант в своей книге «The High Stakes of Identity Gambling in the Life
and Literature of Nineteenth-Century Russia». (Evanston, IL,
forthcoming in November, 2001), исследует связь между азартными
играми и дуэлями. Описание бретерского поведения особенно
подробно обсуждается в гл. 2.
98 Характерно, что меры, принятые правительством против
дуэлей в 1815 году, оказались малодейственными.
"См.: Толстой, С.Л. Федор Толстой Американец. С. 37, 77.
Дочь Толстого М.Ф. Каменская утверждает в своих
воспоминаниях, что ее отец вел письменный учет убитых им людей и, когда
умирал очередной из его двенадцати детей, вычеркивал имя
одной из жертв, считая смерть детей наказанием за совершенные им
убийства. См.: Каменская, М.Ф. Воспоминания М., 1991. С.180.
Автор воспоминаний — единственная дочь Толстого, достигшая
взрослого возраста. Портрет Федора Толстого как игрока см.:
Helfanu Ian Mirabo High Stakes of Identity, ch. 2. Подборку
документальных материалов о нем см. в исследовании: Востриков,
Алексей. Книга о русской дуэли. С. 141 — 160.
100 Толстой, С.Л. Федор Толстой Американец. С. 38—39.
1010 дуэли Шереметева и Завадовского см.: Сборник
биографий кавалергардов. Т. 3. С. 241—243 (это свидетельство в
большой степени опирается на архивные материалы, с тех пор
утерянные; оно перепечатано в кн.: А.С. Грибоедов в воспоминаниях
современников. М, 1980. С. 268—271); Бегичев, СИ. Записка об
А.С. Грибоедове // Грибоедов в воспоминаниях современников.
Примечания. Глава 2
289
С. 26—27; Смирное, Д.А. Рассказы об А.С. Грибоедове,
записанные со слов его друзей // Там же. С. 212—214 (свидетельство
Б.И. Иона), 231—243 (свидетельство АЛ. Жандра); Сосновский,
Т.А. [П. П. Каратыгин?|. Александр Сергеевич Грибоедов //
Русская старина. 1874. Т. 10. № 2. С. 161 — 163; Пржелавский, ОЛ.
Беглые очерки // Русская старина. 1883. Т. 39. № 3. С. 384—
386; Великий Князь Константин Павлович в сомнениях и
отрицаниях современных ему порядков (Из переписки его с Н.М. Синя-
гиным) / Письмо Синягина от 14 ноября 1917 г. // Русская
старина. 1900. Т. 102. № 2. С. 119; Пыляев, М.И. Знаменитые
дуэли в России // Пыляев, М.И. Замечательные чудаки и
оригиналы, С. 497—502. О дуэли Грибоедова с Якубовичем см.:
Муравьев-Карский, И.Н. Из «Записок» // Грибоедов в воспоминаниях
современников. С. 41—45. Подборку документальных материалов о
Якубовиче см.: Востриков, Алексей. Книга о русской дуэли.
С. 115-126.
102 См.: Лотман, ЮМ. Декабрист в повседневной жизни.
С. 32-33, 61-65.
103 См.: Записки разных лиц. Тетрадка Ф.Г. Толя //Декабристы
на поселении. Из архива Якушкиных. С. 128. Д.И. Завалишин
в своем очерке «Декабрист М.С. Лунин» дает несколько
политизированную версию дуэли; см.: Исторический вестник. 1880. Т. 1.
С. 142—143. Против нее возражает Свистунов в своей «Отповеди»
(Воспоминания и рассказы деятелей тайных обществ 1820-х годов
/ Под ред. Ю.Г. Оксмана и С.Н. Чернова: В 2 т. М., 1933. Т. 2.
С. 291).
104 Косовский, A.M. Воспоминания // Писатели-декабристы в
воспоминаниях современников: В 2 т. М., 1980. Т. 2. С. 34—
35. Второе происшествие, о котором упоминает мемуарист, — это
случай, когда Рылеев случайно чуть не утонул.
105 Greenberg Kenneth S. Honor and Slavery. Lies, Duels, Noses,
Masks, Dressing as a Woman, Gifts, Humanitarianism, Deaths, Slave
Rebellions, the Postslavery Argument, Baseball, Hunting, and
Gambling in the Old South. Princeton, 1996. P. 74.
106 Сборник биографий кавалергардов. Т. 3. С. 136.
Рассказчик ссылается на Вяземского. Подборку документальных
материалов о Ф.Ф. Гагарине см. в кн.: Востршсов, Алексей, Книга о
русской дуэли. С. 211—212.
107 О связи между утверждением личной свободы и правом
рисковать собственной жизнью см.: Greenberg, Kenneth S. Honor
and Slavery, особенно P. 34—37, K.C. Гринберг описывает
потешные дуэли рабов, инсценированные их хозяевами. В этих дуэлях
«рабам запрещалось рисковать жизнью, используя оружие» (С. 34—
35). К.С. Гринберг полагает, что таким путем рабовладельцы
утверждали свой статус свободных граждан, подчеркивая свое от-
Ш. Заказ №2522
290 И. Рейфман. Ритуализовамшя агрессия
личие от целиком подчиненных им рабов. Он анализирует пример
Фридрика Дугласса, который «понимал глубокую связь между
рабством и невозможностью дуэли». Дугласе был «одним из
немногих рабов, когда-либо участвовавших в дуэли» — хотя и
символической — со своим белым угнетателем. Дугласе выказал такое
сопротивление физическим истязаниям со стороны своего
владельца, что убедил его в своей готовности умереть: «Дугласе получил
свободу, потому что принял позу благородного южанина и
продемонстрировал готовность умереть, защищая себя от
оскорблений своей личности и тела» (С. 35, 36).
ш В действительности, конечно, это разделение не было столь
четким: обе группы включали представителей как старых, так и
более молодых родов. Один из двух «наглых аристократов»,
рассмотренных в качестве примера далее в этой главе, Шаховской,
был Рюриковичем, а Новосильцев был парвеню (внуком
Владимира Орлова, брата фаворита Екатерины). Для таких людей, как
Рылеев, Бестужев, Чернов и Пушкин, причисление себя к
старому дворянству в противовес наглым новичкам было удобным
риторическим приемом. Одновременно они могли и кокетничать
своей принадлежностью к «среднему классу». Об этом см.
дальше в настоящей главе.
109 Об этой дуэли см. письмо Александра Бестужева от 3 марта
1824 Якову Толстому, цитируемое в кн.: Писатели-декабристы...
Т. 2. С. 362—363; Бестужев, МЛ. Мелкие заметки об АЛ.
Бестужеве // Там же. Т. 2. С. 135; Кропотов, Дм. Несколько сведений
о Рылееве: По поводу записок Греча // Там же. Т. 2. С. 17—18.
110 Письмо А.А. Бестужева к Якову Толстому // Там же. Т. 2.
С. 362.
1.1 Рассказы бабушки... С. 289, 291.
1.2 Писатели-декабристы... Т. 1. С. 291, примеч. Рылеев
полемически использует термин «средний класс» для определения той
социальной группы, к которой он принадлежит и интересы
которой, по его утверждению, защищал Чернов. Ср. у Пушкина
позднейшее (1830) именование себя «мещанином» в «Моей
родословной»: [Пушкин, III: 187].
113 См.: Кюхельбекер, В.К. На смерть К.П. Чернова //
Кюхельбекер, В.К Избранные произведения: В 2 т. Т. 1. М., 1967.
С. 207.
114 Ср. популистскую интерпретацию гибели Чернова
Александром Бестужевым, записанную Г.С. Батеньковым: «Общество
офицеров Измайловского полка пригласило меня на погребение
убитого на дуэли офицера Чернова. Стечение людей было
многочисленное. А. Бестужев, указывая на сие, с радостным видом
говорил, что напрасно полагают, будто бы у нас нет еще общего
мнения, и вообше представлял в виде демократического торжества.
Примечания. Глава 2
291
Он сказал при том: "наш брат Лазарь умер", и, как бы
испугавшись, прибавил, что в простоте Евангельской все трогательно и
выразительно»; см.: Из бумаг Батснькова // Мемуары декабристов
(Записки, письма, показания, проекты конституции,
извлеченные из следственного дела, с вводной статьей) / Публ. М.В. Дов-
нар-Запольского. Киев, 1906. С. 164—165.
115 Анализ дуэли между Черновым и Новосильцевым как
политической см. в кн.: Востриков, Алексей. Книга о русской
дуэли. С. 80—92 (анализ включает публикацию многих документов
об этой дуэли). Я.А. Гордин, развивая ту же идею в своей книге
«Право на поединок», приходит к крайнему выводу: по его
мнению, дуэль была политическим оружием, изобретенным русским
дворянством для борьбы с государством и его представителями.
Хотя в этом тезисе и есть доля истины, интерпретации
исследователя зачастую выглядят натянуто.
1.6 Анализ этого мифа см.: Воут, Svetlana. Death in Quotation
Marks: Cultural Myths of the Modern Poet. Cambridge, Mass., 1991.
1.7 Я привожу примеры в предпоследней секции этой главы.
О жизнетворчестве русских модернистов см.: Creating Life: The
Aesthetic Utopia of Russian Modernism / Ed. by Irina Paperno and
Joan Delaney Grossman. Stanford, 1994.
1.8 Любопытно, что современники редко упоминали реальные
меры, принятые Николаем 1 против дуэли, — декреты, изданные
осенью 1826 года, и публикацию всего корпуса антидуэльных
законов XVIII века в 1828 году. Редкое исключение составляет
письмо Пушкина от 16 сентября 1826 года к П.А. Осиповой: «On parte
beaucoup de nouveaux reglements, tres severes, concernant Ies duels...»
[Пушкин, XIII: 296]. Невнимание современников к этим
документам свидетельствует о пренебрежении антидуэльным
законодательством и соответственно о его нерелевантности.
1.9 См. письма Белинского В.П. Боткину от 12 и 16 августа
1840 [Белинский, XI: 542—544]. Этот инцидент я рассматриваю в
гл. 3.
120 См.: Герцен* Л Л. Дневник 1845 [Герцен, II: С. 403].
121 Бутурлин, М.Д. Записки // Русский архив. 1897. № 3.
С. 353; цит. по: Феоктистов, Е.М. Воспоминания за кулисами
политики и литературы. 1929; репринт: Newtonville, Mass., 1975.
С. 404 (прим. 2).
122 См.: Фет, Афанасий. Из книги «Мои воспоминания» //
Л.Н. Толстой в воспоминаниях современников: В 2 т. М., 1978.
Т. 1. С. 84-85; Толстая, С.А. Ссора Л.Н. Толстого с И.С.
Тургеневым // Толстая, С.А. Дневники: В 2 т. Т. 1. С. 509—510;
переписку между Тургеневым и Толстым по этому поводу и
письма Толстого к Фету см.: Л.Н. Толстой: Переписка с русскими
писателями / 2-е изд. Т. 1. М., 1978. С. 174-178, 349-354.
10*
292 И. Рейфман. Ритуализованпая агрессия
123 См.: Фалеев, И.И. Дуэли (Исторические очерки из эпохи
Николая I) // Исторический вестник. 1905. № 99. С. 142—165,
528-555, 904-935; № 100. С. 103-135, 504-533; № 101. С. 61-
78, 410—422, 762—777. Хотя стиль фалеевских очерков
претендует на литературность, они основываются на архивных материалах.
124 Сборник биографий кавалергардов. Т. 4. С. 156—157, 161,
170, 176-177, 184.
125 Там же. С. 237. См. также: Русский биографический
словарь: В 25 т. М., СПб./Пг., 1896-1912. Т. 18. С. 567;
Верещагин, В. В. На войне: Воспоминания о русско-турецкой войне 1877.
М., 1902. С. 287-288.
т Макаров, И. Задушевная исповедь// Современник. 1859.
№ 78. С. 207-218.
'"Михаил Семенович Щепкин. Жизнь и творчество: В 2 т.
М., 1984. Т. 1. С. 277; Толстая, С.А. Дневники: В 2 т. Т. 1.
С. 154.
128 Таганцев, Н.С. О преступлениях против жизни по
русскому праву: В 2 т. СПб., 1870. Т. 2. С. 360-361.
129 Лывенсон. Поединок в законодательстве и науке. С. 24.
130 Разумеется, далеко не каждый дворянин получал такое
воспитание, но идея (или, скорее, идеал) аристократического
поведения благородного человека, comme ilfaut, отличного во всем от
невежественных простолюдинов, существовала в русском
культурном сознании, и люди благородного происхождения легко узнавали
разночинцев по их якобы неуклюжим манерам. Пушкин не любил
Надеждина не только потому, что тот критиковал его
произведения, но и потому, что находил его поведение неподобающим для
человека хорошего тона: «Я встретился с Надеждиным у Погодина.
Он показался мне весьма простонародным, vulgar, скучен,
заносчив и безо всякого приличия. Например, он поднял платок, мною
уроненный» (Table-Talk [Пушкин, XII: 159]). Анализ этого
высказывания с точки зрения конфликта двух различных кодов
социального поведения см.: Todd William Mills III. Fiction and Society in the
Age of Pushkin. C. 22—23. В своих лекциях о русской культуре,
прочитанных в Тартуском университете, Ю.М. Лотман
интерпретировал этот эпизод как столкновение между поведением,
принятым в высшем свете (требовавшим равенства в отношениях двух
мужчин), и позицией романтика (позволявшей мужчине
выказывать восхищение гением и оказывать ему знаки внимания).
Достоевский обыгрывает этот эпизод в «Бесах»: Кармазинов роняет свой
сак и с интересом наблюдает за первым побуждением рассказчика
поднять его. Кармазинов использует спонтанный импульс
рассказчика, чтобы утвердить свое сословное превосходство и подчеркнуть
свой статус гения. См.: {Достоевский, X: 711.
Примечания. Глава 2
293
131 О светской неловкости разночинцев см. в кн.: Рарегпо,
Irina. Chernyshevsky and the Age of Realism: A Study in the Semiotics
of Behavior, Stanford, 1988. P. 76-81.
132 Возможно, популярности дуэлей среди русских
журналистов способствовало распространение так называемых журналистских
дуэлей во Франции XIX века.
133 Возникает законный вопрос: не отбыл ли Бакунин так
поспешно за границу именно для того, чтобы избежать дуэли с
Катковым — сыном мелкого чиновника, выслужившего личное
дворянство, и грузинской дворянки, бывшей главной
надзирательницей Московской пересыльной тюрьмы?
134 Суворин-старший рассказывает в своем дневнике о деле
чести между его сыном и группой сотрудников-журналистов,
членов редколлегии журнала «Русская мысль»— В.М. Лавровым,
В.А. Гольцевым и М.Н. Ремезовым. См.: Суворин, А. Дневник.
М., 1992. С. 30.
135 См. Боборыкин, П.Д. Воспоминания: В 2 т. Б. м., 1965.
Т. 1. С. 278.
136 См.: «Русские ведомости», 1863—1913: Сборник статей. М.,
1913. С. 6.
137 См.: Кауфман, А.Е. Из журнальных воспоминаний //
Исторический вестник. 1912. Т. 130. № 12. С. 140.
138 Подробнее об этой дуэли см.: Пыляев, М.И. Замечательные
чудаки и оригиналы. С. 506—508, и особенно в кн.: Суворин, А,
Дневник. С. 238-242.
139 Сообщения о процессе по делу Утина появились в августе и
сентябре 1872 года во многих периодических изданиях, таких, как
«Голос», «Судебный вестник», «Санкт-Петербургские ведомости»
и «Московские ведомости». Статьи, содержащие комментарии или
отклики на это событие, появились в таких изданиях, как
«Неделя» (27 августа), «Отечественные записки» (сентябрь, с. 48—76)
и «Гражданин» (5 марта 1873 года— «Полписьма одного лица»
Достоевского, а 7 мая 1873 года— «Мысли вслух: признаки
времени» В. Мещерского; в этом же номере напечатана эпитафия двум
сестрам).
140 Суворин, А. Дневник. С. 239. Все последующие цитаты
взяты из рассказа Суворина (С. 238—242).
141Я не утверждаю, разумеется, что дуэлянты начала XIX века,
убившие соперников на поединке, не испытывали угрызений
совести. Так, случай декабриста Евгения Оболенского был хорошо
известен среди его друзей. Оболенский заменил своего младшего
двоюродного брата, Сергея Кашкина, на дуэли с поручиком Сви-
ньиным и убил противника. Многие мемуаристы, знавшие
Оболенского, свидетельствовали, что он мучился этим убийством всю
294 И. Рейфман. Ритуализованная агрессия
оставшуюся жизнь. Одна современница сравнила его душевные
муки со страданиями Ореста: «Этот нещастной имел дюэль <sic!>, —
и убил — с тех пор, как Орест, преследуемый фуриями, так и он
нигде уже не находил себе покоя...» (Оленина, В А. Письма к
П.И. Бартеневу, 1869 //Декабристы. Т. 3: Летописи
государственного литературного музея. 1938. С. 488; ср. также с. 491). Как
подчеркивает Ю.М. Лотман, «ни восстание, ни суд, ни каторга
не смягчили этого переживания. То же можно сказать и о ряде
других случаев» (Лотман, Ю.М. Роман А.С. Пушкина «Евгений
Онегин»: Комментарии. Л., 1980. С. 105). Однако перед
секундантами Оболенский своего эмоционального смятения не обнаружил.
142 Ср. неловкое поведение Пьера Безухова на дуэли с Доло-
ховым. Толстой изображает беззащитную позу Пьера под
пистолетом противника, чтобы подчеркнуть искреннее раскаяние
Пьера в том, что он выстрелил в Долохова и ранил его.
шДурасов,В. Дуэльный кодекс/4-е изд. СПб., 1912. С. 13-14.
144 Порошин, Алексей [Суворин, А.]. Дуэльный кодекс. СПб.,
б.г. С. 36.
145 Публикация Военного министерства «О поединках в
офицерской среде» (СПб., 1894) содержит несколько документов,
касающихся выработки новой дуэльной политики и се утверждения
Александром III.
146 Начиная с конца XVIII века можно найти случаи, когда
офицеры добивались отставки однополчанина, совершившего
неблаговидный поступок. См., например, пересказ эпизода,
происшедшего в 1820 году, когда офицеры потребовали перевода
сослуживца в армейский полк: Сборник биографий кавалергардов.
Т. 3. С. 307—308; другие примеры: т. 4, С. 58 и т. 4, С. 233.
До 1894 года, однако, общественное мнение было единственным
орудием удаления бесчестного офицера. Документ 1894 года
сделал отставку обязательной и предписал необходимые юридические
шаги. Но в документе все же дуэль не была открыто узаконена.
Подробнее см.: Приказы военного министра // Судебная газета.
1894. № 24; Калинин, П. Дуэли в офицерской среде (По поводу
закона 13-го мая 1894 года) // Военный сборник. 1894. № 8.
С. 329—351; Суд общества офицеров и дуэль в войсках Российской
армии (Действующее законодательство): Настольная книга для
офицеров всех родов оружия / Сост. П.А. Швейковского. 2-е изд.,
доп. СПб., 1898. Анализ законодательства и его последствий см.:
Зайончковский, П.А. Самодержавие и русская армия на рубеже
XIX-XX столетий, 1881-1903. М., 1973. С. 240-247; Fuller, Jr.,
William С. Civil-Military Conflict in Imperial Russia, 1881 — 1914.
Princeton, 1985. С 23—26.
147 Вот некоторые из этих публикаций: Бронзов, А. К вопросу
о дуэли: Оригинальное мнение о ней современного немецкого
Примечания. Глава 2
295
профессора и оценка его // Христианское чтение. 1897. Декабрь.
С. 785—794; Дружинин, И. Честь, суд и поединок // Журнал
юридического общества. 1897. № 1. С. 69-90; и 1897. № 2. С. 1-
38; К и реев, А. Письма о поединках. СПб., 1899 (впервые
опубликовано в «Новом времени»); Введенский, В.И. Должно ли и
можно ли оправдывать дуэль // Вера и церковь. 1899. № 2. С. 54—68;
Драгомиров, М. Дуэли. Киев, 1900 (впервые опубликовано в
журнале «Разведчик» в 1899 году); Зыков, А.С. Юридическая
конструкция поединка // Вестник права. 1901. Т. 31. № 9. С. 97—129;
М.Е. Дуэль и честь в истинном освещении. 1902; репринт:
Саратов, 1990; Махов, Михаил. Дуэль, ее происхождение и
современный характер. СПб., 1902; Набоков, В.Д. Дуэль и уголовный
закон. СПб., 1910; Недражов, Святополк. Три смерти
преждевременного и противоестественного рода: Дуэль, легкомыслием
накликанная гибель и казнь. СПб., 1911; Стеллецкий, Н. Дуэль, ее
история и критическая оценка с научно-богословской точки
зрения. Харьков, 1911.
шЛивенсон. Поединок в законодательстве и науке. С. 24.
149 Зайотковский, П.А. Самодержавие и русская армия на
рубеже XIX-XX столетий. С. 245. В. Фуллер (или У. — Willam) в
своей книге «Civil-Military Conflict in Imperial Russia» (P. 25)
приводит число 320 за период с 1894 по 1910 год.
,S03to не исключало, конечно, отдельных случаев
смертельного исхода. В. Фуллер (или У. — Willam) в «Civil-Military
Conflict in Imperial Russia» утверждает, что из имеющихся у него
320 примеров 30 «закончились серьезной травмой или смертью»
(Р. 25). Известный пример — дуэль Николая Юсупова 1912 года.
См.: Юсупов, Феликс. Перед изгнанием, 1887—1919 / Перевод О.
Эйдельман. М., 1993. С. 86-88.
151 Некоторые французские примеры см.: Billacois, Francois. The
Duel. P. 184—185; Kiernan, V.G. Duel in European History. P. 187—
188, 262—263, 269—270. В.Г. Кирнан также упоминает
американские примеры (Р. 308, 310). Анонимный автор книги «The British
Code of Duel: A Reference to the Laws of Honour, and the Character
of Gentleman» (L, 1824. P. 34) выступает против парламентских
дуэлей, так же как и В.Д. Набоков в книге «Дуэль и уголовный
закон» (С. 49). А.В. Востриков упоминает несколько русских
парламентских дуэлей на с. 78 своей «Книги о русской дуэли».
152 См.: Новое время. 1907. 18 ноября (1 декабря); Бок,
Мария. П.А. Столыпин. Воспоминания о моем отце. М., 1992.
С. 162—163; Рыбас, С, Тараканова, Л. Реформатор: Жизнь и
смерть Петра Столыпина. М., 1991. С. 125—128.
133 «Новое время» сообщало о разворачивающемся конфликте
в номерах от 25 октября и от 4, 5, 8, 11, 13, и 14 ноября 1909 года
(по новому стилю).
296 И. Рейфман. Ритуализованная агрессия
154 См.: Коковцев, В.Н. Из моего прошлого: Воспоминания
1903-1919 гг. Кн. 2. М., 1992. С. 51-55. СЮ. Витте
изображает Гучкова заядлым бретёром, описывая его многочисленные
попытки драться во времена его службы на Восточно-Китайской
железной дороге. В то же время Витте презрительно упоминает
неблагородное происхождние Гучкова. См.: Витте, СЮ.
Воспоминания. М., I960. Т. 3. С. 500-501.
'"Boston Globe. 1998. Nov.17. P. A31. Я благодарю Эрика
Ростона, обратившего мое внимание на этот инцидент.
150 См.: Набоков, Владимир. Другие берега. М., 1989. С. 103—
105; Nabokov, Vladimir. Speak, Memory. N.Y., 1989. P. 188-189.
157 См.: Орлов, Владимир. История одной любви//Орлов, В.Н.
Пути и судьбы: Литературные очерки. Л., 1971. С. 696—702.
158 См.: Андрей Белый. Начало века. М., 1990. С. 513-514;
Брюсов, Валерий. Переписка с Андреем Белым // Литературное
наследство. М., 1976. Т. 85. С. 381-383.
159 Современное свидетельство: Эпидемия дуэлей // Русское
слово. 1909. 11 ноября; мемуарные свидетельства: Материалы к
биографии Н. Гумилева // Гумилев, Николай. Стихи и поэмы /
Изд. В.К. Лукницкая. Тбилиси, 1989. С. 42—43; Маковский,
Сергей. Черубина де Габриак // Маковский, Сергей. Портреты
современников. N.Y., 1955. С. 342-345, 357.
160 См. об этом конфликте: Пастернак, Е.Б., Пастернак, Е.В.
Борис Пастернак. Письма к Константину Локсу // Минувшее:
Исторический альманах. Вып. 13. 1993. С. 164—165. Письмо
Пастернака к его секунданту К.Г. Локсу см. там же, с. 181—184.
161 Каверин, Вениамин. Молодой Зощенко // Вспоминая
Михаила Зощенко. Л., 1990. С. 114.
162 См. автобиографическую трилогию Каверина «Освещенные
окна»: Каверин, Вениамин. Собр. соч.: В 8 т. М., 1983. Т. 7.
С. 556—559. Дуэльный опыт Каверина был удивительно обширен
для своего времени: в 1915 году его старший брат, Лев, дрался на
дуэли с офицером и был легко ранен (Там же, С. 102—105); в 1918
году сам Каверин был секундантом в поединке, участники
которого примирились на месте дуэли (Там же. С. 181—187).
163 Квиринг, Е.И. Жены и быт // Партийная этика.
Документы и материалы. Дискуссия 20-х годов. М., 1989. С. 364—365.
164 Уголовный кодекс РСФСР / Изд. С. Аскарханова и др. М.,
1925. С. 281—282. В статье 142 говорится: «Умышленное
убийство карается лишением свободы на срок не ниже восьми лет со
строгой изоляцией». В статье 144 говорится: «Умышленное
убийство, совершенное под влиянием сильного душевного волнения,
вызванного противозаконным насилием или тяжелым
оскорблением со стороны потерпевшего, карается — лишением свободы на
Примечания. Глава 3
297
срок до трех лет». «Особые обстоятельства» Тертова в
постанов-пении Верховного суда не раскрыты.
165 Григоренко, Петра. Воспоминания // Звезда. 1990. № 7.
С. 188-189.
166 Там же. С. 189.
Глава 3
1 Оценку числа дуэлей и смертей во Франции см. в кн.: 5/7/-
acois, Francois. The Duel: Its Rise and Fall in Early Modem France /
Ed. and trans, by Trista Selous. New Haven, CT, 1990.. P. 69—
73, 130, 132—133. Данные по Германии см. в кн.: Frevert, Ute.
Men of Honour: A Social and Cultural History of the Duel / Transl. by
Anthony Williams. Cambridge, M.A., 1995. P. 234-235; McAteer,
Kevin. Dueling: The Cult of Honor in Fin de-Silecle Germany.
Princeton, 1994. P. 224, note 43. Количественные различия хорошо
иллюстрируются анекдотической статистикой: один из самых
жестоких русских бретеров, Толстой-Американец, по слухам, убил
на дуэлях одиннадцать человек, в то время как шевалье д'Андрис,
упоминаемый в Histoirettes Таллемана дс Рео, «к тридцати годам
убил на дуэлях семьдесят два человека» (цит. по: Biilacois, Francois.
The Duel. P. 132).
2 Оригиналы документов находятся в РГАДА (Ф. 7,
Преображенский приказ: Тайная канцелярия, Тайная экспедиция. Д. 943,
ч. I). Я цитирую два опубликованных отчета об этом
происшествии, основанные на этих документах: один из них принадлежит
СМ. Соловьеву [Соловьев, XI: 309—310], а другой содержится в
кн.: Сборник биографий кавалергардов. Т. 1. С. 255—259.
Соловьев в своей версии склонен обвинить в происшедшем Гринш-
тейна; историк подчеркивает его зависть к Разумовскому и
считает, что инцидент спровоцирован Гринштейном. Версия «Сборника
биографий» симпатизирует Гринштейну, изображая Климовича как
главного агрессора.
3 Сборник биографий кавалергардов. Т. 1. С. 255.
4 Там же. С. 257.
5 Biilacois, Francoi. The Duel. P. 78—79.
6 Маржерет, Жак. Состояние Российской державы и великого
княжества Московского // Сказания современников о Дмитрии
Самозванце / 2-е изд. Ч. 3. СПб., 1837. С. 83—84.
7 О символике шпаги, палки, ладони и кулака см.: Biilacois,
Francois. The Duel. P. 195—196. Статья Валерия Савчука о
символике пощечины «Язык чести, или Судьба пощечины» наряду с
интересными идеями и ценными наблюдениями содержит бездо-
298 И. Рейфман. Ритуализованная агрессия
казательные утверждения и исторические ошибки (адрес статьи в
Интернете: http://anthropologLa.spbu.m/ru/texts/savchuk/lhonour.htmI).
х Именно так произошло на американском Юге: согласно
статье Эллиотта Дж. Горна, в XVIII веке между
джентльменами-южанами проводились ритуализованные рукопашные бои один на один.
Однако к началу XIX века эта практика была вытеснена дуэлью, а
драки стали средством определения статуса и зашиты чести среди
нижестоящих социальных групп в глуши американского Юга. В
отличие от русских спонтанных потасовок американские
рукопашные поединки между джентльменами, жестокие и часто
причинявшие серьезные травмы, подготавливались заранее и велись по
правилам, включающим запрещение оружия. См.: Elliott У. Gorn.
«Gouge and Bite, Pull Hair and Scratch»: The Social Significance of
Fighting in the Southern Backcountry // American Historical Review.
1985. Vol. 90. № 1. P. 21-22.
9 История кавалергардов 1724—1799—1899: по случаю
столетнего юбилея кавалергардского Ее Величества Государыни
Императрицы Марии Федоровны полка: В 4 т. / Изд. С.А. Панчулидзс-
ва. СПб., 1899. Т. 1. С. 270.
»Там же. С. 266-267.
11 Греч, Н.И. Записки о моей жизни. М., 1990. С. 77. Греч
не указывает дату происшествия, но, судя по контексту, оно
приходится на последние годы царствования Екатерины.
12 Там же. С. 78.
13 Болотов, А.Т. Записки: В 2 т. 1870. Т. 1 // Русская
старина. Приложение. 1870. С. 978-981.
14 История кавалергардов. Т. 2. С. 130.
15 Муравьев, //.Я. Записки // Русский архив. 1885. № 3. С. 6—
8. Об этом конфликте см. также «Записки» декабриста А.Н.
Муравьева (брата Николая) в кн.: Муравьев, А.Н. Сочинения и
письма. Иркутск, 1986. С. 81.
16 Бестужев, НА, Воспоминание о Рылееве //
Писатели-декабристы в воспоминаниях современников: В 2 т. М., 1980. Т. 2.
С. 75.
17 Бестужев, Михаил. Из моих тюрем // Там же. Т. 1. С. 53.
18 Следует обратить внимание на динамику унижающих
действий Рылеева: она идет по возрастающей, от символического
(плевок) к физическому (удар хлыстом). Рылеев, по некоторым
сообщениям, также плюнул в лицо уклоняющемуся от дуэли князю
Шаховскому и таким образом вынудил его принять вызов.
19 Сборник биографий кавалергардов. Т. 4. С. 56. Пыляев в
«Старом Петербурге» (Л., 1990. С. 335—336) предлагает другую
версию этого происшествия, согласно которой от пощечины Вад-
ковского Яковлев потерял сознание и его принесли домой в
обмороке. Таким образом, он не мог вызвать Вадковского немедлен-
Примечания. Глава 3
299
но на месте происшествия. Однако Яковлев намеревался стреляться
с Вадковским, вследствие чего был помещен под домашний арест.
Пыляев полагает, что происшествие привело Яковлева к запойному
пьянству и в конце концов к самоубийству в 1847 году. В версии
Пыляева наличествуют анахронизмы, что делает ее менее
надежной, чем версия «Сборника биографий кавалергардов».
20 Штакеншнайдер, Елена А. Дневник и записки, 1854—1886
// Russian Memoir Series № 32. Ncwtonville, Mass., 1980. P. 148—
149. Бобринский (1800—91868), внук Екатерины Великой, в
1830-е годы был близким приятелем Пушкина.
21 Суворин, А. Дневник. М., 1992. С. 30
22 Маковский, Сергей, Черубина дс Габриак // Маковский,
Сергей. Портреты современников. № 4. 1955. С. 342.
23 Там же. С. 343
24 Цит. по: Азадовский, Константин. Эпизоды. Секция 3:
Пощечина в театре Рейнеке // Новое литературное обозрение.
1994. № 10. С. 126—127. См. также: Богомолов, Николай. К
одному темному эпизоду в биографии Кузмина // Михаил Кузмин и
русская культура XX века: Тезисы и материалы конференций, 15—
17 мая 1990 г. Л., 1990. С. 166—169; Богомолов, Николай, Мал-
мстэд, Джон Э. Михаил Кузмин: Искусство, жизнь, эпоха. М.,
1996. С. 172-173.
25 Kieman, V.G. Duel in European History: Honor and the Reign
of Aristocracy. N.Y., 1989. P. 136.
26 Паскаль, Блез. Письма к Провинциалу / Пер. О.И. Хомы.
Киев, 1997. С. 150.
27 См.: Hergselt, Gustav. Duell-Codcx. Vienna. 1891. P. 17.
К. Макалир, в своей книге о дуэли в Германии, цитирует эту фразу
с целью подчеркнуть нежелание немецких дуэлянтов вступать в
непосредственный физический контакт во время оскорбления
противника (McAIeer, Kevin. Dueling: The Cult of Honor in Fin-deSiecle
Germany. P. 47). Ср. также решительное осуждение физической
агрессии как средства принуждения к дуэли в Ирландском
кодексе 1777 года (Seitz, Don С Famous American Duels with Some Account
of the Causes that Led up to them and the Men Engaged / Reprint of
1929 ed. Frceport, N.Y., 1960. P.41) и в «British Code of Duel: A
Reference to the Laws of Honour, and the Character of Gentleman»
(L., 1824. P. 55-56).
28 Использование физического нападения в ритуальных целях
рассматривается в работе А.В. Вострикова «Поэтика оскорбления
в русской дуэльной традиции» (Тыняновский сборник. Пятые
Тыняновские чтения. Рига; М., 1994. С. 103—104). Русские
дуэльные кодексы по-разному трактуют вопрос о том, следует ли
приравнивать намерение ударить противника к самому удару. Ду-
расов считает, что «(у]стное заявление о нанесении оскорбления
300 И. Рейфмап. Ритуализованная агрессия
действием, заменяющее фактическое, есть оскорблением <sic!>
третьей степени» (Дурасов В. Дуэльный кодекс / 4-е изд. СПб.,
1912. С. 17), а А.А. Суворин полагает, что «[у]стное или
письменное заявление о желании или намерении нанести оскорбление
действием не может признаться заменою такого фактического
оскорбления и считается оскорблением на словах» (Порошим
Алексей [Суворин, А./. Дуэльный кодекс. СПб., б.г. С. 12).
29 Фалеев, Н.И. Дуэли (Исторические очерки из эпохи
Николая I) // Исторический вестник. Т. 99. 1905. С. 909.
30 О dementi как типичном начале дуэли чести во Франции см.:
Biliacois, Francois. The Duel. P. 8—9, 14, 195. К. Гринберг
рассматривает обвинение во лжи (прямое или символическое) как
основной тип оскорбления, ведущего к дуэли, см.: Greenberg,
Kenneth S. Honor and Slavery: Lies, Duels, Noses, Masks, Dressing
as a Woman, Gifts, Humanitarianism, Death, and Gambling in the
Old South. Princeton, 1996. Ch. 1, особенно p. 8-9. На мой
взгляд, он интерпретирует обвинение во лжи слишком широко,
утверждая, что каждый оскорбительный жест может играть роль
dementi, постольку поскольку он «разоблачает» человека,
изобличая в нем того, кем он является на самом деле. Как кажется,
dementi в своем первоначальном употреблении было все же не чем
иным, как простым словесным обвинением во лжи.
31 Маржерет, Жак. Состояние Российской державы... С. 83—84.
32 Там же. С. 84.
33 Вострыков, Алексей. Поэтика оскорбления в русской
дуэльной традиции. С. 102.
34 Catherine II's Charters of 1785 to the Nobility and the Towns /
Trans, and ed. by David Griffiths and George E. Munro. Bakersfield,
CA, 1991. P. 6. О попытках дворянства обеспечить личную
неприкосновенность см.: Jones, Robert Е. The Emancipation of the
Russian Nobility, 1762-1785. Princeton, 1973. P. 33, 114, 278, 279.
35См.: Бобровский, JI-O. Местничество и преступления
против родовой чести. // Военный сборник. 1888. № 12. С. 253;
Ступим, Михаил. История телесных наказаний. Владикавказ, 1887.
С. 21—22; Тимофеев, А. Г. История телесных наказаний в русском
праве / 2-е изд. СПб., 1904. С. 87; Kollmann, Nancy Shields. Honor
and Dishonor in Early Modern Russia // Forschungen zur osteu-
ropeaeischen Geschichte. 1992. Bd. 46. P. 139.
36 См.: Ступим, Михаил. История телесных наказаний. С. 14,
18—19; Евреимов, И. История телесных наказаний в России. N.Y.,
1979. С. 36.
37 Ступим, Михаил. История телесных наказаний. С. 29.
Обзор военных законов, касающихся телесных наказаний, см.:
Keep, John. «No Gauntlet for Gentlemen»: Officers' Privileges in
Примечания. Глава 3
301
Russian Military Law, 1716—1855 // Cahiers du mondc msse et sovie-
tique. 1993. Vol. 34. № 1/2. P. 171-192.
38 Патент о поединках и начинании ссор // Памятники русского
права. Вып. 8. Законодательные акты Петра I: Первая четверть
XVIII в. М., 1961. С. 458.
^История кавалергардов. Т. 1. С. 260.
тСборник биографий кавалергардов. Т. I. С. 263.
41 Там же. С. 263. Защищаясь от обвинения, Охлестышев, в
свою очередь, обвиняет Псршуткина в ответной агрессии,
утверждая, что Першуткин, «схватя его за горло, хотел ударить»
(С. 263).
«Там же. С. 297-298.
43 Проект нового Уложения, составленный комиссией 1754—
1766 гг. СПб., 1893. Гл. 22. § 15. С. 182; ср. также: Доклад
комиссии о правах и преимуществах русского дворянства,
сочиненный Г. Тепловым и переписанный рукой Екатерины II (18 марта
1763 года) // Сборник Русского исторического общества. 1871.
Т. 7. С. 248: «[Ш]ляхтич никогда телесно наказываем в службе не
бывает, тем меньше к палачу в руки не приходит, ниже имение
его конфискуется, разве преступление его столь тяжкое, что тому
или другому необходимо подвержен».
44 См.: Сборник Русского исторического общества. 1869. Т. 4.
С. 288, 302, 462.
45 Эта практика не была изобретена при Павле I; он только
перевел ее на бумагу. Радищева, например, лишили
дворянского звания в 1790 году, перед ссылкой в Сибирь. Первоначально
дворяне сами поддерживали этот подход: почти все депутаты
Законодательной комиссии Екатерины, выступавшие за отмену
телесных наказаний для дворянства, поддерживали добавление
специального пункта, разрешавшего лишать дворянина дворянского
звания и связанных с ним особых привилегий, после чего он уже
подлежал и телесному наказанию, и пыткам. Депутаты считали,
что этого требует корпоративная честь. См.: Сборник Русского
исторического общества. 1869. Т. 4. С. 288, 302.
^Вяземский, П.А. Записные книжки, 1813—1848. М., 1963.
С. 278.
47Храповицкий, А.В. Памятные записки / Изд. Г.Н. Генна-
ди. 1862; репринт: М., 1990. С. 43.
48 Сборник Русского исторического общества. 1868. Т. 2.
С. 141.
49 Лопухин, И.В. Записки. М., 1990. С. 63, прим.
50 См. версию этой легенды в биографии Радищева,
написанной его сыном Павлом Радищевым: Биография А.Н. Радищева,
написанная его сыновьями / Изд. Д.С. Бабкина. М.; Л., 1959.
302 И. Рейфман. Ритуализованпая агрессия
С. 63—64; ср. также: Селивановский, Н.С. Записки //
Библиографические записки. № 1. 1858. Ст 518: «Его взяли, судили,
лишили всего, кажется, высекли кнутом и сослали в Сибирь».
Публикатор записок дает следующий комментарий к слову «югут»: «Это
несправедливо».
51 Караванов, П.Ф. Исторические рассказы и анекдоты,
записанные со слов имянитых людей // Русская старина. Т. 5. 1872.
С. 138.
52 Голицын, Николай. Современные известия о Радищеве //
Библиографические записки. Т. 1. 1858. Ст 734, прим. 6.
Голицын не уточняет характера наказания, указывая лишь на то
обстоятельство, что они «особенно пострадали», и добавляет (ст 735):
«Об Шешковском рассказывают вещи, которые переносят
слушателя во времена Людовика XI, Грозного и Бирона». Несколько
иная версия этого происшествия предлагается Л.Н. Энгельгардтом:
он утверждает, что одна из нарушительниц действительно была
высечена (Записки. М., 1997. С. 51—52, прим. 19). Обсуждая
репутацию Шсшковского как оскорбителя дворян, Энгельгардт
парадоксальным образом подает ее в позитивном ключе: «Конечно,
скажут, что это варварство, но если тайным малым телесным
наказанием заменяет <sic!> по законам лишение чинов и дворянства
и ссылки, то, конечно, извинительно такого рода самовластие;
тем более, что во время Екатерины понапрасну никто не
пострадал и довольно свободно судили о дворе и о ней; кто за оную
черту переходил, то, вспомня о Ш[е]шков[ском], останавливался»
(С. 167, примеч. 61).
53 См.: Кукушкина, Е.Д. Яков Борисович Княжнин // Dictionary
of Literary Biography. Vol. 150 / Early Modern Russian Writers / Ed.
By Marcus С Levitt. London, 1995. P. 180.
54См.: Бриген, А.Ф. Письма. Исторические соч. Иркутск,
1986. С. 450; Лунин, Михаил. Соч. Письма. Документы.
Иркутск, 1988. С. 147.
55 Биография А.Ц, Радищева, написанная его сыновьями.
С. 64—65, примеч.
56 Селиванов, В. В. Из давних воспоминаний // Русский архив.
1869. № I. С. 164.
57 Там же. С. 164.
58 Там же.
59 Там же. С. 168. Ф.Ф. Эртель, глава полиции сначала в
Москве, а затем в Петербурге, был известен как усердный
исполнитель павловских распоряжений — таких, например, как запрет
носить круглые шляпы.
60 Дашкова, Екатерина. Записки 1743—1810 / Подгот. текста,
статья и коммент. Г.Н. Моисеева. Под ред. Ю.В. Стеннина. Л.,
1985. С. 194.
Примечания. Глава 3
303
61 Тургенев, A.M. Записки // Русская старина. Т. 47. 1885.
№ 9. С. 388-389.
62 Греч, Н.И. Краткие биографии // Греч, Н.И. Записки о
моей жизни. С. 336.
63 Маркевич, И.А. Из воспоминаний // Пушкин в
воспоминаниях современников: В 2 т. Т. I. М., 1985. С. 162. Мемуары
Маркевича отражают пушенный Федором Толстым слух о том, что
Пушкина высекли в тайной полиции, перед тем как отправить его
на юг. Я вернусь к этому слуху и реакции на него самого
Пушкина далее в данной главе.
64 Цебриков, П.П. Воспоминания, заметки и письма //
Воспоминания и рассказы деятелей тайных обществ 1820-х годов / Под
ред. ЮТ. Оксмана и С.Н. Чернова: В 2 т. М., 1931. Т. 1. С. 259.
В качестве источника этой информации Цебриков называет жену
Ф.Н. Глинки— А.П. Голснищеву-Кутузову. По словам Глинки,
он видел увечья Пестеля во время очной ставки с ним,
организованной следователями. Сергей Гессен, издатель
воспоминаний Цебрикова, сомневается в правдивости этого слуха (С. 278,
примеч. 12).
65Цит. по: Саводник, В.Ф., Сперанский, М.Н. Комментарии
к Дневнику Пушкина. Пушкин, А.С. Дневник (1833—1835) //
Труды Государственного Румянцевекого музея. М., 1923. Т. I.
С. 143.
* Пирогов, Н.И. Соч.: В 2 т. СПб., 1887. Т. 1. С. 497.
Ю.М. Лотман в своей работе «Символика Петербурга и проблемы
семиотики города» анализирует этот эпизод как характерный для
петербургского мифа. См.: Лотман, Ю. Избранные статьи: В Зт.
Таллинн, 1992. Т. 2. С. 18—20. Слухи о дворянах, подвергнутых
побоям, не всегда были связаны с Петербургом.
67 Житомирская, СВ. Встречи декабристов с петрашевцами
// Литературное наследство. 1956. Т. 60, кн.1. № 2. С. 619.
68 См.: Егоров, Б.Ф. Петрашевцы. Л., 1988. С. 184-185. На
с. 185—186 автор рассматривает рассказ Петрашевского с точки
зрения его надежности как исторического свидетельства и делает
вывод, что заключенного, вероятно, лишали еды и питья, а
также могли угрожать физической расправой, но зловещая пытка
электричеством вряд ли имела место.
69 Разбор подобных слухов и оценку их надежности см.:
Громыко, М.М. Сибирские друзья и знакомые Ф.М. Достоевского.
Новосибирск, 1985. С. 44-51.
70 Фонвизин, Д.И. Друг честных людей, или Стародум // Друг
честных людей. М., 1989. С. 107, 109.
71 СО. Шмидт, в работе «Общественное самосознание noblesse
russe в XVI — первой трети XIX века», связывает поиски
Пушкиным и его друзьями идеала благородного поведения в допетровской
304 И. Рейфман, Ритуализаванная агрессия
Руси и «культ дуэли» в этом поколении. См.: Cahiers du monde russe
et sovietique. 1993. Vol. 34. № 1/2. P. 20.
72 Вяземский, Петр. Поли. собр. соч.: В 12 т. Т. 8. М, 1888.
С. 351.
п Вяземский, П.А. Записные книжки. С. 51.
74 Автор образовательных реформ при Екатерине II И.И.
Бецкой выступал против телесного наказания и пытался запретить или,
по крайней мере, ограничить его в учебных заведениях для
молодых дворян, таких, как, например, Первый кадетский корпус, а
также в государственных приютах для сирот; см.: Бецкой, И.И.
Учреждения и уставы, касающиеся до воспитания и обучения в
России юношества обоего пола. Т. 2. СПб., 1774. С. 108;
Бецкой, И.И. Собрание учреждений и предписаний, касающихся
воспитания, в России, обоего пола благородного и мещанского
юношества. СПб., 1789. Т. 1. С. 37, 133—134. Однако на практике
применение телесных наказаний зависело от личности
начальника и от веяний времени. Телесные наказания продолжали
применять не только в элитарных военных училищах, но в первой
половине XIX века и в Смольном институте.
75 Макаров, ИМ. Мои семидесятилетние воспоминания и с тем
вместе моя полная предсмертная исповедь: В 4 т. СПб., 1881. Т. 1,
Кн. I. С. 17-20.
76 Маркевич, Н.А. Из воспоминаний // Пушкин в
воспоминаниях современников: В 2 т. Т. 1. С. 162.
77 Сумароков, AM. Письмо И.И. Шувалову. 3 мая 1758 //
Письма русских писателей XVIII века. Л., 1980. С. 78.
п Герцен, А.И. А. Полежаев [Герцен: VIII: 167]. Полежаев не
был высечен за свой побег в 1827 году: в это время он был
разжалован и лишен дворянского звания. Его прогнали сквозь строй в
1837 году за самовольную отлучку. Рассказ Герцена неточен в
деталях, но он верно отражает суть событий.
79 О сухиновском заговоре см.: Соловьев, ВМ. Записка о
поручике Черниговского полка И.И. Сухинове // Воспоминания и
рассказы деятелей тайных обществ 1820-х годов. Т. 2. С. 21—32;
Гессен, С. Заговор декабриста Сухинова. М., 1930;
Писатели-декабристы... Т. 1. С. 395 (комментарий); Иечкина, М.В.
Декабристы. М., 1982. С. 136—138. В.Н. Соловьев также упоминает
неудавшуюся попытку Сухинова покончить с собой перед арестом за
участие в декабристском восстании (Воспоминания и рассказы...
С. 25),
т Слова в ломаных скобках вычеркнуты Пушкиным; последнее
предложение не закончено. Перевод:
«Неосмотрительные разговоры, сатирические стихи обратили
на меня внимание публики, распространился слух, что меня
препроводили в тайную канцелярию и высекли. Я последним узнал
Примечания. Глава 3
305
об этом слухе, который уже знали все, я почувствовал себя
опозоренным во мнении, я упал духом — я дрался, мне было 20 лет
в 1820 г. — я раздумывал, не лучше ли мне убить себя или убить —
В.* Еше один черновик того же письма см.: \Пушкин, XIII: 548].
иЛуганин, Ф.Н. Из «Дневника» // Пушкин в воспоминаниях
современников: В 2 т. Т. 1. С. 237.
*2 Об этом эпизоде см.: Толстой, С.Л. Федор Толстой
Американец. С. 49—56; Иерейский, Л.А. Пушкин и его окружение. 2-е
изд., доп. Л., 1988. С. 438—439; Пушкин, А.С. Письмо к
Вяземскому от 1 сентября 1822 года [Пушкин, ХШ: 43—44].
83 Сумароков, А.П. Письмо И.И. Шувалову. 3 мая 1758 //
Письма русских писателей XV1H века, С. 77, 78. Прочитанное
целиком, письмо Сумарокова выдает скорее его растерянность и
неуверенность в том, каков его статус по отношению к
Чернышеву и особенно Шувалову, чем четкое желание покончить с собой
или вызвать Чернышева на дуэль. Нерешительность Сумарокова
можно видеть, например, в последней фразе письма: «А что я
остался как будто спокоен apres се grand coup [после этого
ужасного удара], я остался par embarras et je n'avais point tant de presence
d'esprit [из замешательства, и у меня не было присутствия духа],
чтобы вздумать, что делать: а притом боялся прогневать вас, toute
ma vie est changee et il me ne reste plus qu'a mourir [вся моя жизнь
изменилась, и ничего не оставалось мне, кроме как умереть]». Тем
не менее зарождение идеи point d'honneur здесь очевидно.
84 Un diplomate fran<?ais a la cour de Catherine II 1775—1780:
Journal intime du Chevalier de Corbcron charge d'affaires de France en
Russic: In 2 vol. / Ed. L.-H. Labande. Paris, 1990. Vol. I. P. 110.
Перевод: «По этому делу вышло решение, по которому Шепелев
должен покинуть двор, и в то же время князю Голицыну
поведено выйти в отставку и покинуть службу».
w Екатерина II и ГА Потемкин: личная переписка, 1769—1791
/ Изд. B.C. Лопатина. М., 1997. С. 79-80.
86 См.: Макогоненко, Г.П. Радищев и его время. М., 1955.
С. 32-33, 341-344; Пугачев, В.В. А.Н. Радищев. Горький, 1960.
С. 10; Лотман, Ю.М. Отражение этики и тактики
революционной борьбы в русской литературе конца XVIII века // Ученые
записки тартуского государственного университета. Тарту, 1965. Т.
167. С. 13, 15.
87 Отметим в данном конфликте чести рудиментарное dementi
(«Не правда»).
88 Радищев выдает желаемое за действительное: во время этого
происшествия (конец 1760-х) закон, защищающий дворянство от
телесного наказания все еще находился в процессе разработки.
Впрочем, он уже начал действовать в 1789 году, когда Радищев
писал «Житие Федора Васильевича Ушакова».
11. Заказ №2522,
306 И. Рейфман. Ритуализоватшя агрессия
т Розен, А.Е. Записки декабриста. СПб., 1907. С. 30. Дата и
обстоятельства происшествия варьируются в различных
источниках. «Сборник биографий кавалергардов» (т. 3, С. 232) датирует
этот случай 1805 годом; В.Н. Звегинцов, в брошюре
«Кавалергарды-декабристы: Дополнение к сборнику биографий кавалергардов,
1801—1826* (Париж, 1977),- 1808 годом (С. 74); Розен
полагает, что это произошло после 1812 года. Еще две версии этого
происшествия приводят С. Комовекий в «Заметках» (Русский архив.
1868. № 1. С. 1034—1035) и Н.Я. Эйдельман в своей биографии
Лунина (с. 29). Обсуждение этого эпизода см.: Гордин, Яков.
Право на поединок: Роман в документах и рассуждениях. [Л.],
1989. С. 408-410.
90 По некоторым сведениям, Николай I сказал B.C. Норову:
«Я тебя в бараний рог согну». См.: Розен, А.Е. Записки
декабриста. С. 30; Гордин, Якав. Право на поединок. С. 409—410. В
культурной мифологии XIX века благородный рыцарь Константин
регулярно противопоставляется грубому тирану Николаю.
91 Из показаний Кондратия Федоровича Рылеева // Из писем
и показаний декабристов: Критика современного состояния
России и планы будущего устройства / Изд. А.К. Бороздина. СПб.,
1906. С. 182.
92 См.: Восстание декабристов. М.; Л., 1926. Т. 2. С. 293—
294, 296; Нечкина, М.В. Движение декабристов: В 2 т. М, 1955.
Т. 2. С. 108—109. Разумеется, преуменьшение политического
значения замышлявшегося цареубийства было в интересах
подследственных.
93 Ср. утверждение Гринберга о том, что готовность рабов к
физическому сопротивлению удерживала рабовладельцев от
злоупотреблений. См.: Greenberg, Kenneth S. Honor and Slavery.
P. 35-37.
94 Любопытно, что одним из первых распоряжений Павла I в
качестве императора был приказ офицерам наряду со шпагой
носить трость. Е.Ф. Комаровский сообщает: «На другой день [после
смерти Екатерины] великому князю хотелось, <...> чтобы все
офицеры имели на параде трости и с раструбами перчатки»
(Комаровский, Е.Ф. Записки. М., 1990. С. 36).
95 Гордин, Яков. Право на поединок. С. 453. А.В. Востриков
в работе «Убийство и самоубийство в деле чести» (Смерть как
феномен культуры. Сыктывкарский гос. ун-т, межвузовский
сборник. Сыктывкар, 1994. С. 28—29) придает решающее значение
в таких ситуациях намерению обидчика («Если оскорбление
имело целью не поединок, а бесчестие...»). С моей точки зрения,
граница между честью и бесчестьем зависела от восприятия
потерпевшего. Подход А.В. Вострикова, вероятно, работает в
приведенном им примере: офицер щелкает другого офицера по носу, и тот
в ответ убивает его. Об особой оскорбительности действий в от-
Примечания. Глава 3
307
ношении носа см.: Greenberg, Kenneth S. Honor and Slavery. P. 16-
17. Ничто, однако, не говорит о том, что Шишков обошелся с
Черновым исключительно оскорбительным образом. Скорее
восприятие Черновым пощечины как невыносимого оскорбления
привело его к убийству Шишкова.
^Вяземский, П.П. Александр Сергеевич Пушкин: 1826—1827
// Пушкин в воспоминаниях современников: В 2 т. Т. 2. С. 187.
47 См., напр., статью «Бокс» в «Русском лщиклопедическом
словаре» Брокгауза и Эфрона.
4ХЛукашев, МЛ. «Пушкин учил меня боксировать» //
Временник Пушкинской комиссии. Т. 24. 1991. С. 93.
99 Комаровский, Е.Ф. Записки. С. 18.
100 Макаров, П.И. Письма из Лондона // Ландшафт моих
воображений: Страницы прозы русского сентиментализма. М., 1990.
С. 502-503.
101 Комаровский, Е.Ф. Записки. С. 19.
102 Макаров, П.И. Письма из Лондона. С. 515.
103 Симпатия Пушкина к боксу могла быть связана с его
стойким интересом к дендизму. Обратим внимание на эпизод из
высоко ценимой Пушкиным повести Бульвер-Литтона «Пслам»,
главный герой которой оказывается превосходным боксером. Лукашев
в тексте «Пушкин учил меня боксировать» (с. 94—95)
предполагает, что Пушкин научился боксировать у М.А. Щербинина,
который сопровождал Алексаендра I во время его посещения
Лондона в 1814 году.
104 См.: Schroder, Abby М. Containing the Spectacle of Punishment:
The Russian Aristocracy and the Abolition of the Knout, 1817—1845
// Slavic Review. 1997. Vol. 56. № 4. На с 616
исследовательница утверждает, что телесные наказания входили в число «средств,
с помощью которых чиновники в русском обществе
конструировали и поддерживали статусные различия <...> Учреждая и
поддерживая сословный характер различных карательных практик,
чиновники формулировали социальную и культурную иерархию».
Николай Михайловский, стремясь к слиянию с народом,
сформулировал свое желание в терминах принятия порки: «Пусть и нас
секут, ведь народ секут же» (цит. по: Горский, В. Русский
мессианизм и новое национальное сознание // Вестник русского
студенческого христианского движения. 1970. Т. 97. С. 47, примеч. 11).
105 Я могу привести единственный пример сближения порки и
дуэли: Николай Лесков описывает дуэли на плетях в «Очарованном
страннике». См.: [Лесков, И: 252—257]. Лесков очень
интересовался проблемами физического насилия и личной
неприкосновенности и видел их связь с дуэлью. В то же время он был склонен
переосмыслять эти проблемы, помещая их в новые, часто
неожиданные контексты.
11»
308 И. Рейфман. Ритуализовашшя агрессия
Глава 4
1 Серман, И.З. Русский классицизм: Поэзия, драма, сатира.
Л., 1973. С. 121 — 148; приведенные цитаты см. на с. 142, 144.
2 Первая вешь, опубликованная Новиковым, «Повесть о Ев-
гение, или Торжество добродетели над честолюбием», —-
анонимный перевод повести Джона Хоксворта «The Hero Distinguished from
the Modern Man of Honour: Account of Eugcnio by Benevolus»,
напечатанной в 1753 году в журнале «The Adventurer»; вторая —
сделанный Андреем Брянцевым перевод сатиры Чсстерфильда,
направленной против дуэлей и напечатанной в 1755 году в журнале
«The World» (№ 113).
3 Новиков, Н.И. Избр. соч. / Подгот. текста, вступ. статья
и коммент. Г.П. Макогоненко. М., 1954. С. 185.
4 Крылов, ИЛ Почта духов // Друг честных людей. М., 1989.
С. 138.
5 О деревянной шпаге Слюняя как щегольском украшении см.:
Лотман, Ю.М. Речевая маска Слюняя // Вторичные
моделирующие системы. Тарту, 1979. С. 89.
6 См.: Херасков, Михаил. Ненавистник // Стихотворная
комедия: В 2 т. [Л.], 1990. Т. 1. С. 143, 149, 169, 182.
7 Николев, Н.П. Самолюбивый стихотворец // Там же. С. 242.
8 Там же. С. 247. Эпизод занимает восемь страниц (247—255).
9 Там же. С. 252.
10 Княжнин, Я.Б. Хвастун // Там же. С. 432.
11 Княжнин, Я.Б. Чудаки // Княжнин, Я.Б. Собр. соч.: В 5 т.
/ 2-е изд. М., 1802-1803. Т. 5. С. 83-84.
12 Там же. С. 84.
13 Фонвизин, Д.И. Собр. соч.: В 2 т. М., 1959. Т. 1. С. 100.
14 Повесть о российском кавалере Александре // Русские
повести первой трети XVIII века / Изд. Г.Н. Моисеевой. М.; Л.,
1965. С. 253.
15Левшин, Bacwwu.*J\b?i брата-соперники // Повести разумные
и замысловатые: Популярная бытовая проза XVIII века. М., 1989.
С. 490-491.
16 Несчастный Никанор // Повести разумные и замысловатые.
С. 527.
17 Чулков, М.Д. Пригожая повариха // Лекарство от
задумчивости, или Сочинения Михаила Дмитриевича Чулкова. М., 1989.
С. 294.
18 Об открытости финала романа и его моральной
амбивалентности см.: Gasperetti, David. The Rise of the Russian Novel: Carnival,
Stylization, and the Mockery of the West. De Kalb, 111., 1998. P. 80.
19 О романе Руссо как источнике Клушина см.: Кочеткова,
ИД. Литература русского сентиментализма. СПб., 1994. С. 174.
Примечания. Глава 5
309
И «Новая Элоиза», и «Вертер» — любимые книги М-ва.
Примечательно, наряду с Сен-Пре и Вертером, в число литературных
образцов М-ва входит и княжнинский Ярб: М-в и его
возлюбленная встречаются на представлении трагедии Княжнина, в которой
сам М-в играет роль Ярба.
20 Клушин, А. Несчастный М-в // Ландшафт моих
воображений: Страницы прозы русского сентиментализма. М., 1990. С. 44,
48, 58.
21 Письма барона и Сен-Пре см. в: Руссо, Ж.Ж. Юлия, или
Новая Элоиза / Пер. Н. Немчиновой и А. Худадовой. М., 1968.
С. 298, 299.
22 О жизни и взглядах Сушкова см.: Жирмунский, В.М. Гете в
русской поэзии //Литературное наследство. 1932. № 4—6. С. 524;
Топоров, ВМ. О «ветрах» французской революции в русской
литературе // Тезисы докладов научной конференции «Великая
Французская революция и пути русского освободительного движения»,
15-17 декабря 1989 г. Тарту, 1989. С. 16—19. Предсмертные
письма Сушкова опубликованы в: Фраанье, М.Г Прощальные письма
М.В. Сушкова (О проблеме самоубийства в русской культуре конца
XVIII века) // XVIII век. Сборник 19. СПб., 1995. С. 147-167.
23 Сушкое, М. Российский Вертер // Ландшафт моих
воображений. С. 122. Все дальнейшие цитаты— на этой же странице.
24 К*.Г*. Новый чувствительный путешественник, или Моя
прогулка в А*** // Там же. С. 406—411.
25 Руссо, Ж.-Ж. Юлия, или Новая Элоиза. С. 144—145.
26 «Ода на поединки» была впервые напечатана в № 16
«Вестника Европы», в августе 1809 г. за подписью Г-в. Текст «Оды» см.
в кн.: Грибоедов, А.С Соч. М., 1988. С. 377—379. О влиянии
Руссо говорится в примечаниях (С. 696). О возможном авторстве
Грибоедова см.: Фомичев, С.А. Спорные вопросы грибоедовской
текстологии // Русская литература. 1977. № 2. С. 12—ТА,
Глава 5
10 жизни Бестужева и его легендарных биографиях см.: Bagby,
Lewis. Alexander Bestuzhev-Marlinsky and Russian Byronism.
University Park, PA., 1995, особенно гл. 2 и 4, а также заключение;
Leighton, Lauren G. Alexander Bestuzhev-Marlinsky. Boston, 1975.
Ch. 1; Алексеев, М.П. Легенда о Марлинском в составе работы:
Алексеев, М.П. Этюды о Марлинском / Сборник трудов
Иркутского университета. 1928. N9 15. С. 113—141; Быков, П.В. Из
легенд о Бестужеве-Марлинском // Быков, П.В. Силуэты далекого
прошлого. М.; Л., 1930. С. 28—34; Левин, Ю. Об обстоятельствах
310 И. Рейфман. Ритуализованпая агрессия
смерти А.А. Бестужева-Марлинского // Русская литература. 1962.
№ 2. С. 219-222.
2 Об этом см.: Абрамов, Ю. К характеристике читателя
Пушкинского времени // Пушкин и его современники. 1913. Вып. 16.
С. 104.
3Эта версия смерти Бестужева упоминается как нелепый слух
в воспоминаниях ФД.К... Смерть Александра Александровича
Бестужева// Писатели-декабристы в воспоминаниях современников:
В 2 т. М., 1980. Т. 2. С. 176.
4 Бестужев, М.А. Детство и юность А.А. Бестужева // Там же.
С. 124.
5 Бестужев, М.А. Мелкие заметки об А.А. Бестужеве // Там
же. С. 135.
6 Рассказы Е.А. Бестужевой // Воспоминания Бестужевых /
Изд. М.К. Азадовского. М.; Л. 1951. С. 413.
7 Бестужев, М.А. Из «Воспоминаний о Н.А. Бестужеве* //
Писатели-декабристы... Т. 2. С. 207.
* Бестужев, М.А. Мои тюрьмы // Там же. Т. 1. С. 53.
9 Михаил Бестужев верил, что мстительный фон Дезин добился
перевода Бестужева в 1831 году из Тифлиса, относительно
безопасного места службы, в действующую армию. См.: Бестужев,
М.А. Воспоминания о Н.А. Бестужеве // Воспоминания
Бестужевых. С. 269. См. обсуждение этой версии в кн.:
Писатели-декабристы... Т. 2. С. 369-370.
10 Бумаги о поединке Новосильцева с Черновым //
Девятнадцатый век/ Под ред. П.И. Бартенева. М., 1872. Ч. 1. С. 334.
11 Григорьев, А.А. Взгляд на русскую литературу со смерти
Пушкина. Статья вторая. Романтизм. Отношение критического
сознания к романтизму. Гегелизм (1834—1840) // Григорьев, А.А.
Литературная критика. М., 1967. С. 222.
12 Об инновациях Бестужева-Марлинского в жанре
прозаической повести см.: Leighton, Lauren G. Alexander Bestuzhev-Marlinsky.
P. 67-69.
13 О влиянии Вальтера Скотта и Байрона см.: Bagby, Lewis.
Alexander Bestuzhev-Marlinsky and Russian Byronism; Альтшумер,
Марк. Эпоха Вальтера Скотта в России (Исторический роман
1830-х годов). СПб., 1996. С. 50-53; Leighton, Lauren (7.,
Alexander Bestuzhev-Marlinsky. P. 69—70, 75—77, 82—86; Исаков,
Сергей. О «ливонских» повестях декабристов (К вопросу о
становлении декабристского историзма). // Ученые записки Тартуского
гос. ун-та. 1965. Вып. 167. С. 60-64.
14 Несмотря на родство дуэлей и турниров, они принципиально
различны по функции: турнир был видом спорта, а дуэль служила
средством разрешения конфликтов между индивидуумами (см.:
Примечания. Глава 5
311
Billacois, Francois. The Duel. Its Rise and Fall in Early Modem France
/ Ed. and trans, by Trista Selous, New Haven, CT, 1990. P. 16).
Однако Бестужев не всегда сохраняет это различие в «ливонских»
повестях; особенно это относится к повести «Ревельский турнир»,
в которой оно совсем затушевано.
15 Первоначально повесть должна была появиться в альманахе
Рылеева и Бестужева «Звездочка», под заголовком «Кровь за
кровь». После событий 14 декабря 1825 года тираж альманаха был
арестован и освобожден лишь в 1861 году. Повесть была
опубликована в 1827 году под заглавием «Замок Эйзен». Версия,
напечатанная в «Звездочке», воспроизведена в издании: Факсимильное
воспроизведение пяти листов (80 страниц) альманаха А. Бестужева
и К. Рылеева «Звездочка», отпечатанных в 1825 году. М., 1981.
С. 1-36.
16 Примечательно, что Бруно угрожает Регинальду и
перчаткой (аксессуаром рыцарской дуэли), и ремнем (орудием
телесного наказания).
17 Этот же образный ряд использовался одним из защитников
рабства на американском Юге: каинова печать (черная кожа)
свидетельствует о неспособности африканцев смотреть в глаза смерти
и, следовательно, об их низшем статусе; см. Greenberg, Kenneth S.
Honor and Slavery. P. 111.
,8Л. Лейтон в работе «Alexander Bestuzhcv-Marlinsky» (P. 71 —
74) утверждает, что в исторических повестях Бестужева прошлое
изображается с большей точностью, чем в большинстве
романтических произведений. Даже если это и так, изображение
Бестужевым средневековой жизни все же было для автора в первую
очередь способом в завуалированном виде говорить о современных
проблемах. С. Исаков в статье «О "ливонских" повестях
декабристов», посвященной проблеме исторической достоверности
произведений декабристов, действие которых происходит в балтийском
регионе, подчеркивает (С. 39—40, 50—51), что знания
Бестужева в области ливонской истории были поверхностными и
черпались из популярных учебников, которые он к тому же
использовал некритично. Более достоверный источник, «Хроника
Ливонии» Хенрика Латвийского, совсем иначе, чем Бестужев,
рассказывает о конфликте Венно и Вигберта. Оба были членами
братства «Милиция Христа»; причем Венно был магистром ордена.
Получив наказание за неповиновение, Вигберт проник в покои
магистра и убил топором его, а также находившегося при нем
священника (см.: Генрих Латвийский. Хроника Ливонии. М; Л. 1938.
С. 124). Анализ «ливонских» повестей Бестужева как исторической
прозы см. также в кн.: Альтшуллер, Марк. Эпоха Вальтера
Скотта в России. С. 50—53.
312 И. Рейфман. Ритуализованная агрессия
19 Исаков, Сергей. О «ливонских» повестях декабристов. С. 37.
2Й Русская старина. Т. 61. 1889. С. 320.
21 Бестужев, А.А. Поездка в Ревель. СПб., 1821. С. 7—15.
Подробнее об этой повести см.: Karlinsky, Simon. Bestuzhev-
Marlinsky's Journey to Revel 'and Pukin // Pukin Today / Ed. by David
M. Bethea. Bloomington, 1993. P. 59-72.
22 О смысле термина «пробочная дуэль» см.: Востриков,
Алексей. Книга о русской дуэли. СПб., 1998. С. 227.
23 Дуэльные кодексы начала XX века ограничивали
продолжительность дуэли несколькими минутами, независимо от
обстоятельств. См.: Дурасов, В. Дуэльный кодекс / 4-е изд. СПб., 1912.
С. 95; Порошин Алексей [Суворин, А.] Дуэльный кодекс. СПб., б.г.
С. 123, 165. Дурасовский кодекс разрешает раненому
противнику сделать ответный выстрел в течение 30 секунд.
24 Востриков, Алексей. Тема «исключительной дуэли» у Бесту-
жева-Марлинского, Пушкина и Лермонтова // Русская
литература. 1993. № 3. С. 69, 70.
25 Письма Александра Тургенева Булгаковым. М., 1939. С. 76.
Это происшествие рассматривается в кн.: Гордин, Яков. Право на
поединок. С. 380—381.
26 Письмо Я.И. Булгакова его младшему сыну // Русский
архив. 1898. № 2. С. 220.
27 О поведении Сильвио как все более бесчестном см.:
Востриков, Алексей. Тема «исключительной дуэли» у Бестужева-Марлин-
ского, Пушкина и Лермонтова. С. 70; Davydov, Sergei «The Shot*
by Alexandr Pushkin and Its Trajectories // Issues in Russian Literature
before 1917: Selected Papers of the Third World Congress for Soviet and
East European Studies / Ed. By J. Douglas Clayton. Columbus, Ohio,
1989. P. 62—74. Хронология повести достаточно неопределенная,
но дата смерти Бурцова (1813) и некоторые другие даты (Сильвио
выжидает шесть лет после своей неоконченной дуэли с графом;
рассказчик встречает графа через пять лет после его свадьбы)
позволяют читателю предположить, что ссора Сильвио с графом Б***
произошла до июня 1812 года. Молчание Пушкина по этому
поводу подозрительно — особенно если учитывать ясную хронологию
всех других «Повестей Белкина*. О сложных играх Пушкина с
хронологией в «Повестях Белкина» см.: Kodjak, Andrej. Pushkin's I.P.
Belkin. Columbus, Ohio, 1979.
28 Бестужев, A.A. Роман в семи письмах // Бестужев, А.А.
Второе полн. собр. соч. / 4-е изд. Т. 2, ч. 4. СПб., 1847.
С. 124—125. Повесть впервые опубликована в «Полярной звезде».
29 Там же. С. 127.
30 Там же. С. 128. Ю.М. Лотман отмечает гипнотическую силу
дуэли, упоминая при этом и повесть Бестужева. См.: Лотман,
Ю.М. Дуэль //Лотман, Ю.М. Беседы о русской культуре: Быт и
Примечания. Глава 5
313
традиции русского дворянства (XVIII — начало XIX века). СПб.,
1994. С. 175.
31 Это, разумеется, не означает, что запрет на отказ от дуэли
был абсолютным. Большое число отказов, упомянутых мной
ранее, свидетельствует скорее об обратном. Описывая запрет на
прерванную дуэль, я имею в виду небольшую группу дуэлянтов-
единомышленников, пытавшихся с помощью бретерского
поведения превратить дуэль в инструмент зашиты личного пространства.
Благодаря высокому культурному престижу этой группы ее
влияние было значительным.
"Сходство между дуэльными сценами в «Романе в семи
письмах» и в «Евгении Онегине» привлекает внимание читателя к
пушкинскому несогласию с Бестужевым. Подобно герою «Романа в
семи письмах», Онегин не хочет убивать Ленского, но, как и герой
Бестужева, он стреляет, не дойдя до барьера, и убивает
противника. Воспоминание бестужевского героя об умирающем на снегу
Эрасте стилистически отзывается в описании смерти Ленского.
33 По мнению М. Гринлиф, Пушкин не пытается представить
страх дуэлянта потерять лицо как имеющий исключительно
социальный характер; по ее мнению, в изображении Пушкина этот страх
является выражением «стихийной, агрессивной, имеющей
глубокие корни силой человеческой природы»; см.: Greenleaf, Monika.
Pushkin and Romantic Fashion: Fragment, Elegy, Orient, Irony.
Stanford, 1994. P. 277. Такая интерпретация, конечно, делает
предложение Бестужева просто игнорировать условности еще
менее реалистичным.
мЦит. по: Базанов, BS. Творчество Александра Бестужева-
Марлинского // Базанов, В.Г. Очерки декабристской литературы:
Публицистика, Проза, Критика. М., 1953. С. 408. Базанов
утверждает (С. 409—418), что повесть Бестужева «Испытание» была
написана в ответ на первые шесть глав «Евгения Онегина».
35 Белоусов, Л.Ф. Институтка: Социально-психологический тип
и культурный символ «петербургского» периода русской истории
//Анциферовскис чтения: Материалы и тезисы конференции (20—
22 декабря 1989 г.). Л., 1989. С. 181.
36 Об изображении институток в произведениях русской
литературы см.: Белоусов, А.Ф. Институтки в русской литературе //
Тыняновский сборник: Четвертые Тыняновские чтения. Рига,
1990. С. 77—99; на с. 83—84 упоминается и героиня Бестужева.
37 Е.В. Душечкина в своей книге «Русский святочный рассказ:
Становление жанра» (СПб., 1995), анализирует традиционные и
литературные святочные рассказы как жанр, предлагающий
образы правильного поведения. На с. 102 она рассматривает
«Страшное гадание» как святочный рассказ.
314 И. Рейфман. Ритуализованная агрессия
3* Анализ психологии этой дуэли см,: Jackson, Robert L Pierre
and Dolokhov at the Barrier: The Lesson of the Duel // Scando-SIavica.
1993. № 39. P. 52-61.
wCm.: Бестужев, A.A. Наезды // Бестужев, A.A. Второе полн.
собр. соч.. Т. 1. Ч. 2. С. 51—53. Дуэли на шпагах с большей
легкостью позволяли этот вид манипуляции. Это одна из важных
причин, объясняющих, почему бретёры в России XIX века
предпочитали пистолеты.
40Об автобиографических истоках этого романа см.: Grossman,
Joan Delaney. Valery Briusov and Nina Petrovskaya: Clashing Models
of Life in Art // Creating Life: The Aeshetic Utopia of Russian
Modernism / Ed. by Irina Paperno and Joan Delaney Grossman. Stanford,
1994. P. 122-150, особенно P. 127-128, 146-147.
Глава 6
1 Неоконченный пасквиль H.A. Некрасова о литературном
дебюте Достоевского, написанный в 1850-е годы и известный под
названием «Как я велик!», представляет собой злой, но живой
портрет социальной некомпетентности Достоевского. Некрасов
изображает Глажиевского-Достоевского как человека невыносимо
тщеславного и в то же время робкого и застенчивого. По пути к
Мерцалову (Белинскому) Глажиевский «[в]сю дорогу <...>
расспрашивал о привычках Мерцалова; говорил, что он человек не
светский, не умеет ни войти, ни поклониться, ни говорить с
незнакомыми людьми». Получив одобрение хозяина, Глажиевский
переходит к другой крайности, становясь наглым и самонадеянным.
Пасквиль Некрасова, написанный в период резкого ухудшения
взаимоотношений между двумя писателями, грешит
преувеличениями, но метко изображает пропасть, существовавшую между
поведением Достоевского и аристократическим идеалом сотте Ufaut,
включавшим в себя и умение вести дела чести. См.: Некрасов, Н.А.
Полн. собр. соч. и писем. М., 1950. Т. 6. С. 462—463.
Разумеется, следует помнить, что и сам Белинский был известен
своей крайней застенчивостью и неловкостью в обществе (см.: Paperno,
Irina. Chernyshevsky and the Age of Realism: A Study in the Semiotics
of Behovior. Stanford, 1988. P. 79-80).
2 Ряд статей по русской литературе: Введение {Достоевский,
XVIII: 59]. Ср. аналогичные замечания по поводу смерти
Лермонтова в записных книжках Достоевского за 1872—1876 годы [Досто-
* веский, XXI: 267; XXIV: 102].
3 Ряд статей по русской литературе: III. Книжность и
грамотность {Достоевский, XIX: 11]; Дневник писателя, 1876:
Подготовительные материалы [Достоевский, XXII: 152; XXIII: 87]; Запис-
Примечания. Глава 6
315
пая тетрадь 1875—1876 гг. [Достоевский, XXIV: 98|; Записная
тетрадь 1876-1877 гг. [Достоевский, XXIV: 262|.
4 Достоевский смешивает двух лермонтовских Печориных:
персонажа «Героя нашего времени», который действительно убивает
Грушницкого на дуэли, но отличается привлекательной
внешностью, и Печорина из неоконченной «Княгиной Лиговской»,
который некрасив, но в написанной части романа никого не
убивает. Возможно, что при составлении этого портрета на
Достоевского повлияла и непривлекательная внешность самого
Лермонтова. О смешении двух Печориных см.: Валагин, А.П. Читал ли
Достоевский «Княгиню Литовскую»? // Достоевский: Материалы
и исследования. Т. 3. Л., 1978. С. 205-209.
5Достоевский цитирует письмо Фонвизина Петру Панину от
18/29 сентября 1778 г. в кн.: Фонвизин. ДМ. Собр. соч. Т. 2, С.
480.
6 О взгляде Достоевского на дуэль в России как на пустую
форму см.: Lednicki, Waclaw. Dostoevsky — The Man from
Underground // Lednicki, Wadaw. Russia, Poland, and the West: Essays in
Literary, and Cultural History. Port Washington, N.Y., 1960,
особенно с. 188-199.
7 Ряд статей о русской литературе: Введение [Достоевский,
XVIII: 59]; Идиот [Достоевский, VIII: 3851, и особенно Нечто о
вранье [Достоевский, XXI: 124].
*Даль, Владимир. Толковый словарь живого великорусского
языка / 2-е изд. СПб.; М, 1880. Т. 1. С. 14. В письме к
Вяземскому 1825 года Пушкин в шутку использует это слово как
синоним благородной гордости, что очень напоминает употребление
Макара. См.: [Пушкин, XIII: 185].
9 Выражение зафиксировано у В.И. Даля.
10 Об использовании Достоевским эмоции стыда в его
нарративной стратегии см.: Martinsen, Deborah. Surprised by Shame:
Dostoevsky's Liars and the Narrative Dynamics of Shame / Theory and
Interpretation of Narrative Series. Columbus, Ohio, forthcoming 2002.
11 Одновременно с «Бедными людьми» Достоевский писал
«Роман в девяти письмах», который своим названием отсылает к
Бестужеву, а содержанием, стилем и именами персонажей — к
Гоголю.
12 Достоевский возвращается к проблеме наличия/отсутствия
свидетелей при оскорблении чести в статье из «Дневника
писателя» «Нечто о вранье» (1873).
13 Об отказе от рукопожатия как об оскорблении чести см.:
Порош ин, Алексей /Суворин, AJ.
14 Во время своего заключения и ссылки в Сибири Достоевский
много общался с семьями декабристов. См.: Житомирская, СВ.
Встречи декабристов с петрашевцами // Литературное наследство.
316 И. Реыфмап. Рытуалызовштая агрессия
1956. Т. 60, кн. 1. С. 615-628 (особенно с. 618, 622—625);
Громыко, ММ. Сибирские знакомые и друзья Ф.М. Достоевского.
Новосибирск. 1985. С. 51 — 106; Вайнерман, B.C. Омское
окружение Достоевского // Достоевский: Материалы и исследования.
Т. 6. Л., 1985. С. 189—191. См. рассказ Достоевского о встрече
с женами декабристов «Старые люди» в «Дневнике писателя»
[Достоевский, XXI: 12].
15 См.: Назиров, Р.Г. О прототипах некоторых персонажей
Достоевского // Достоевский: Материалы и исследования. Л.,
1974. Т. 1. С. 205. Назиров предполагает, что прототипом
графа Н., или Наинского, в «Униженных и оскорбленных» послужил
Николай I. Достоевский, по-видимому, был знаком с сыном
Зотова, Владимиром (см.: [Достоевский, XXIV: 102]).
16 Lednicki, Waciaw. Dostoevsky — The Man from Underground.
P. 180—248. См. также: Поддубная, П.Н. Герой и его
литературное развитие (Отражение «Выстрела» Пушкина в творчестве
Достоевского) //Достоевский: Материалы и исследования. Л., 1978.
Т. 3. С. 54—66; В этой статье автор независимо приходит к
выводам, сходным с выводами американского исследователя.
17 Разумеется, возникает вопрос, читал ли Достоевский
«Княгиню Литовскую», поскольку это произведение впервые было
опубликовано в «Русском вестнике» только в 1882 году. А.П. Валагин
в работе «Читал ли Достоевский "Княгиню Литовскую"» (С. 205—
209) утверждает, что редакция журнала располагала рукописью
задолго до ее публикации и Достоевский вполне мог прочитать ее
в 1860-е годы. Действительно, Достоевский упоминает
неоконченный роман Лермонтова в черновиках к «Житию великого
грешника», в «Дневнике писателя» (где он пугает его персонаж с
Печориным из «Героя нашего времени») и, как мне представляется, в
«Записках из подполья». В.И. Левин в работе «Достоевский,
"подпольный парадоксалист" и Лермонтов» утверждает, что мишенью
Достоевского были эпигоны Печорина середины XIX века (см.:
Известия Академии HayKJCCCP. Секция литературы и языка. 1972.
Т. 31. № 2. С. 142-156).
18 О факторе неравенства в дуэльном ритуале см.: Востриков,
Алексей. Книга о русской дуэли. СПб., 1998. С. 127—141.
19 Лажечников, И. И. Мое знакомство с Пушкиным //
Пушкин в воспоминаниях современников: В 2 т. М., 1985. Т. 1.
С. 174.
20 В «Записках из подполья», возможно, есть отсылка к
рассказу Николая Бестужева о том, как Рылеев плюнул в лицо фон
Дезину: описывая столкновение «мыши» с людьми действия,
подпольный человек изображает их как «судей и диктаторов»,
смеющихся над мышью и плююших в нее [Достоевский, V: 104|.
Упоминание плевков, так же как и определение «судьи и диктаторы»,
Примечания. Глава 6
317
складывается в коллективный портрет декабриста, причем первые
две детали указывают на Рылеева (который служил судьей по
уголовным делам в период с 1821 по 1824 г. и плевал в лицо фон
Дезину), а последняя — на Пестеля.
21 Дополнительная отсылка к пушкинскому поколению — одна
из примечательных особенностей романтических фантазий
рассказчика: среди прочего, он мечтает о том, чтобы стать «знаменитым
поэтом и камергером» {Достоевский, V: 133]. Подпольный человек
цитирует первую строку стихотворения Пушкина, включенного
поэтом в письмо Вяземскому от 14 августа 1831, в котором
Пушкин поздравляет Вяземского с получением чина камергера:
«Любезный Вяземский, поэт и камергер». См.: {Пушкин, III: 271].
Пушкин, в свою очередь, использует первую строчку стихотворения
В.Л. Пушкина 1812 года. Таким образом, мечты подпольного
человека раскрывают его желание уподобиться людям пушкинского
поколения.
22 До 1845 года штатские чиновники получали личное
дворянство, достигнув чина с четырнадцатого по девятый класс, с 1845
по 1856 год — с девятого по шестой, после 1856 года — с
восьмого по пятый. До 1845 года чины восьмого класса давали право на
наследственное дворянство. Поскольку оба типа дворянства на
протяжении XIX века становилось все труднее и труднее получить,
девятый и восьмой классы представляли собой некую пограничную
зону, то давая право на дворянский титул, то нет. Отсюда особая
озабоченность многих персонажей русской литературы именно
этими чинами. Подробный обзор послепетровской системы рангов и
классов см.: Русские писатели, 1800—1917: Биографический
словарь. Т. 2. Приложение: Сословия в Российском обществе. М.,
1992. С. 593-600.
23 Руссо, Ж.-Ж. Юлия, или Новая Элоиза / Пер. Н.
Немчиновой и А. Худадовой. М., 1968. С. 148. Руссо использует этот
прием дважды: во второй части романа (С. 199) Сен-Пре, в свою
очередь, просит на коленях прощения у милорда Эдуарда, и его
жест опять прекращает дело чести.
24 О романе Чернышевского как источнике этого эпизода
«Записок из подполья» см.: Шкловский, Виктор. За и против:
Заметки о Достоевском. М., 1957. С. 154—156; Рарето, Irina. Cherny-
shevsky and the Age of Realism. P. 84; Рейфман, П.С. Три романа
// Ученые записки Тартуского гос, ун-та. Вып. 883. 1990. С. 91.
Роберт Белнап сделал доклад на эту тему на международном
симпозиуме по Достоевскому в Осло в 1992 году.
25 Л.И. Вольперт в статье «Лермонтов и Стендаль»
подчеркивает особый интерес Достоевского к мотиву столкновения человека
с экипажем, приводя в качестве примера смерть Мармсладова. См.:
Михаил Лермонтов, 1814—1989 / Norwich Symposia on Russian
4 S И. Рейфман. Ритуализированная агрессия
Literature and Culture } / Ы. by Efim Etkind. Northfield, VT. IW2
P. 135. Вольперт также прелполагаст, что «Княгиня Литовская»
должна была закончиться дуэлью и смертью Красинского (см.
с. 141-144).
лСм.: Порошим, Алексей. [Суворин. А.\ Дуэльный кодекс.
СПб., б.г. С. 126—127; Дурасов. Виктор. Дуэльный кодекс /
4-е изд. СПб., 1912. С. 104.
"Подробную критику дуэли с христианской точки зрения см.
в кн.: Паскаль, Блез. Письма к Провинциалу / Пер. О.И. Хомы.
Киев, 1997. Письмо 7. С. 139-158.
г* Johnson, Leslie. The Face of the Other in «Idiot» // Slavic
Review. 1991. Vol. 50. №.4. P. 872, 867.
29 Об анализе слова «образ» у Достоевского см.: Jackson, Robert.
Dostocvsky's Quest for Form: A Study in his Philosophy of Art. New
Haven, 1966. P. 40—70. О лице человека см. p. 58 и след.
30 У Достоевского было издание «Евангелие Господа нашего
Иисуса Христа Новый Завет» (СПб., 1823). Он получил его от
Натальи Фонвизиной в 1850 году и хранил до самой смерти. Он
отметил в нем стих Мф., 5: 29. См.: Kjetsaa, Geir. Dostocvsky and
His New Testament. Atlantic Highlands, N.J., 1984. P. 18. Следует
помнить, что, помимо важности глаз в этих эпизодах, глаза
Рогожина, замышляющего убийство, «отделенные» от их обладателя,
преследуют Мышкина, разыскивающего Настасью в Петербурге.
31 Об особом статусе князя Мышкина см.: Johnson, Leslie. Face
of the Other in «Idiot». P. 876; Murav, Harriet. Holy Foolishness:
Dostoevsky's Novel and the Poetics of Cultural Critique. Stanford,
1992, ch. 4.
32 Поскольку ставрогин упоминает в своей исповеди о
некоторых конфликтах чести, фигурирующих также и в основном тексте,
я не комментирую здесь сложную проблему «девятой главы» и ее
отношение к роману в целом, а рассматриваю эту исповедь только
с точки зрения ее роли в раскрытии характера Ставрогина-дуэлянта.
33 В этом отношении Ставрогин так же отличается и от
Федора Толстого, который, вероятно, послужил еще одним его
прототипом. См.: Орнатская, Т.Н. Николай Ставрогин в свете
«некоторых легендарных воспоминаний» // Труды отдела
древнерусской литературы. СПб., 1993. Т. 48. С. 429-432.
34 Назарова, J7.H. Аркадий Столыпин // Лермонтовская
энциклопедия / Изд. В.А. Мануйловым. М., 1981. С. 550.
35 Изображение Столыпина Вигелем см.: Вигель, Ф.Ф.
Записей: В 2 т. Изд. С.Я. Штрайхом М., 1928. Т. 1. С. 138-139.
36 О Ставрогине как царевиче-самозванце см.: Майорова,
Ольга. Царевич-самозванец в социальной мифологии пореформенной
эпохи // Россия—Russia. Культурные практики в идеологической
Примечания. Вместо заключения
319
перспективе. Россия, XVIII — начало XX века / Сост. Н.Н. Ма-
зур. С. 204-232 (особенно с. 204-207 и 228-229).
37 О неравенстве в семейном положении как возможном
препятствии к дуэли и о противных аргументах см.: Востриков,
Алексей. Книга о русской дуэли. С. 135—136.
зх Илюша — не единственный персонаж Достоевского,
который защищает свою честь, кусая обидчика. Подпольный человек,
как мы помним, в случае отказа Зверкова от дуэли намеревается
заменить ее укусом. Другой герой Достоевского, безымянный
подпоручик в «Бесах», действительно кусает своего обидчика за то,
что тот унижает его в ситуации, не допускающей вызова на дуэль.
См.: [Достоевский, X: 269]. В отличие от Ставрогина,
укусившего губернатора ни с того ни с сего, все эти герои кусают своих
обидчиков в отчаянии и в гневе за свое неотмщенное унижение.
Илюша напоминает подпольного человека еще в одном
отношении: его мечта о будущей дуэли с Дмитрием напоминает дуэльные
фантазии подпольного человека: «Папа, говорит, папа, я его
повалю, как большой буду, я ему саблю выбью своей саблей,
брошусь на него, повалю его, замахнусь на него саблей и скажу ему:
мог бы сейчас убить, но прощаю тебя, вот тебе!» См.:
[Достоевский, XIV: 188-189].
39 Если принять гипотезу о беременности Лизаветы, то ее жест
может быть направлен на защиту се нерожденного ребенка, что
подчеркивает ее альтруизм и безразличие к собственной телесной
целостности.
40См. анализируемый эпизод в: {Достоевский, XIV: 268—273].
41 Хочется отметить сходство истории Зосимы с проходным
сюжетом большинства светских повестей Бестужева-Марлинского
(«Роман в семи письмах», «Первый вечер на бивуаке», «Испытание»),
42 О дуэльной теме в «Кроткой» см. Holquist, Michael. Do-
stoevsky and the Novel. Princeton, 1977 (особенно ch. 6).
43 Горчаков, В.П. Воспоминание о Пушкине // Пушкин в
воспоминаниях современников: В 2 т. Т. 1. С. 282. Воспоминания
Горчакова публиковались в 1858 году в «Московских ведомостях»
и могли, таким образом, стать известны Достоевскому.
44 Достоевский приписывал женщинам особую роль в
процессе выработки подлинного чувства чести; см.: [Достоевский, XXIII:
24; ср.: XXI: 124-125].
45 Ср. самооправдание молодого офицера в столкновении
Пушкина и Ставрова: «Неопытного и застенчивого офицера смутили
слова пылкого полковника, и он, краснея и заикаясь, робко
отвечал полковнику: "Да как же-с, полковник, я пойду говорить с
ним, я их совсем не знаю!"» {Горчаков, В.П, Воспоминание о
Пушкине. // Пушкин в воспоминаниях современников. Т. 1.
С. 282).
320 И. Рейфман. Ритуализированная агрессия
Вместо заключения
1 1873 год был отмечен особенно ожесточенной полемикой
между Достоевским и Лесковым. См.: Туниманов, В.
«Литературная дуэль»: Ф.М. Достоевский и Н.С. Лесков в 1873 году // Life
and Text: Essays in Honour of Geir Kjetsaa in the Occasion of His
Sixtieth Birthday / Ed. by Erik Egcberg et al. Oslo, 1997. P. 239—
251. Несмотря на название статьи, ее содержание не имеет
никакого отношения к дуэли чести.
2 Арцыбашев, М.П. Смерть Ланде //Арцыбашев, МП. Собр.
соч.: В 3 т. М., 1994. Т. I. С. 673—674. События
разворачиваются на с. 673—677.
3Там же. С. 709.
4 Санин II Арцыбашев, М.П. Тени утра: Роман, повести,
рассказы. М., 1990. С. 236.
5 Там же. С. 239.
6 Там же. С. 235.
7 Олеша, Юрий. Избранное. Фрунзе, 1989. С. 55.
* Зощенко, Михаил. Собр. соч.: В 3 т. Л., 1986-1987. Т. 2.
С. 13.
9 Мишель Синягин // Там же. С. 180.
10 Там же. С. 181.
11 Хармс, Даниил. Статья // Хармс, Даниил. Горло бредит
бритвою. Случаи, рассказы, дневниковые записи / Глагол.
Литературно-художественный журнал. № 4. 1991. С. 60.
12 Мандельштам, Осип. Соч.: В 2 т. М., 1990. Т. 2. С. 62.
13 Там же. С. 76, 84.
14 Об «одержимости» ранней советской интеллигенции 1820-ми
и 1830-ми годами см.: Clark, Katerina. Petersburg: Crucible of Cultural
Revolution. Cambridge, Mass., 1995. C. 193.
JS Анализ роли государства в формировании официального
мифа о декабристах см.: Trigos, Ludmilla A. Ardent Dreamers in the
Land of Eternal Frost: Centennial Representations of the Decembrists
(1825—1925) / Ph.D. Dissertation. Columbia University, 1998
(особенно гл. 4).
16 Цит. по: Жданов, Андрей. Доклад о журналах «Звезда» и
«Ленинград». [Л.], 1946. С. 20.
17 Там же. С. 21.
18 Лотман, Ю.М., Погосян, Е.А. Великосветские обеды //
Былой Петербург: Панорама столичной жизни. СПб., 1996; Му-
равьева, О.С. Как воспитывали русского дворянина. М., 1995.
19 См., напр., М.Е. Дуэль и честь в истинном освещении:
.Сообщение в офицерском кругу. 1902. Репринт: СПб., 1990.
20 Пьеиух, Вячеслав. Я и прочие: Циклы, рассказы, повести,
роман. М., 1990. С. 28, 23, 29-31.
УКАЗАТЕЛЬ ИМЕН
И ПРОИЗВЕДЕНИЙ
Абрамович С.Л. 8, 271, 277
Аксаков К.С. 45, 279
Алексеев Н.С. 32
Александр I 7, 73, 76, 81, 82,
ПО, 111, 122, 128, 156, 163
Александр III 10, 37, 90
Андрие д\ шевалье 297
Ангальт Ф.Е. 53, 60
Анисимов Ю.П. 92
Апрелев А.Ф. 26
Аракчеев А.А. 72
Арбенева М.И. 75
Арбузов А. 51
Арсеньев Д. 167, 168
Арцыбашев М.Р. 9, 22, 257—
260, 272, 320
«Санин» 9, 22, 259, 272
«Смерть Ланде» 257
Багратион П.И. 74
Базанов В. Г. 313
Байрон Дж.НТ. лорд 159, 310
Бакунин М.А. 83, 85, 101,
102, 131
Барант Э. де 92
Бартенев (офицер) 75, 76
Барятинский (гардемарин) 38,
49, 50
Басаргин Н.Б. 35, 36, 276, 277
Батюшков К.Н. 77
Бахметьев Н.Н. 74, 201, 211,
287
Бахтин Н.И. 32
Белинский В.Г. 83, 85, 101,
102, 158, 270, 291
Белнап РЛ.
Белый Андрей 92, 296
Бестужев А.А. (см. Бестужев-
Марлинский А.А.)
Бестужев М.А. 101, 156, 157,
290, 298, 310
Бестужев Н.А. 100, 287, 298,
316
Бестужев П.А. 156
Бестужева Е.А. 156, 310
Бестужев-Марлинский А.А. 9,
18, 33, 34, 78, 80-82, 100,
132, 142, 148, 154-168,
170-174, 176-182, 194,
270, 271, 290, 309-314, 319
«Вечер на бивуаке» 165, 169,
179, 319
«Второй вечер на бивуаке»
«Замок Венден» 159, 162,
163
«Замок Эйзен» 161, 163, 311
«Испытание» 33, 34, 171,
172, 174, 313, 319
«Наезды» 159, 180
«Поездка в Ревель» 164, 312
«Ревельский турнир» 160
«Роман в семи письмах» 33,
158, 168-170, 319
«Страшное гадание» 9, 132,
174
«Фрегат Надежда» 9, 142,
155, 175, 177, 180, 193
Бешен ковский Е.Б. 286
Бецкой И.И. 304
Биллакуа Ф.(ВШасо15 Francis)
10, 28, 44, 272, 275, 279,
280, 285, 295, 297, 300
Блок А.А. 21, 92, 273,
Блом (барон) 75
322
Указатель имен и произведений
Боборыкин П.Д. 86, 293
Бобринский А.А. 102, 132, 299
Бобровский П.О 39, 278
Бокум Е.Ф. 124, 125
Болотов А.Т. 99, 298
Борсль П.Ф.
Боткин В.П. 101, 291
Бригсн А.Ф. 31, 276, 302
Брюсов В.Я. 92, 181, 296
Брянцев A.M.
Булгаков А.Я. 27
Булгаков М.А.
Булгаков ЯМ. 167, 168
Булгарин Ф.В. 75, 287
Бульвер-Литтон Э.Дж. 76, 307
Буренин В. 86, 87
Вадбольский В.А. 25, 84
Вадковский (полковник) 101,
298-299
Валагин А.П. 315
Ватсон Е.К. 87
ВигельФ.Ф. 231-233, 287
Войеков (офицер) 105
Волконский П.М. 202
Волошин М.А. 92, 103
Волчков С.С. 41, 278
Вольперт Л.И. 317
Воронцов М.С. 74
Востриков А.В. 7, 9, 14, 15,
106, 271, 273, 275, 286,
289, 291, 295, 299, 300,
306, 312
Вревская Е.Н. 37
Вяземская В.Ф. 37
Вяземский ПА. 60, 76, ПО,
119, 120, 283, 284, 289,
301, 304, 307, 317
Вяземский П.П. 132
Гагарин Ф.Ф. граф 79, 289
Гариовский М.А. 273, 275, 284
Гедеонов А.М. 202
Гендриков АЛ. граф 84
Генрих IV 10
Герштенцвейг А.Д. 24
Герцен А.И. 43, 83, 122, 128,
129, 207, 270, 287, 304
Гессен С. 303, 304
Гете И.В. 148
Глинка С.Н. 53, 60, 282, 284
Глинка Ф.Н. 303
Годунов Борис 48
Гоголь Н.В. 18, 195, 205
Голенищева-Кутузова А.П. 303
Голицын А.Н. князь 283
Голицын Н.Н. князь 302
Голицын П.М. князь 56, 58,
60, 123, 124, 143, 281, 282,
284
Головин А.Я. 103
Гольцев В.А. 283
Гончаров С. 86, 158
Гончарова А.Н. 277
Гончарова П.С 87, 88, 274
Гордин Я.А. 7, 10, 95, 132,
270, 271, 279, 282, 284,
286, 287, 291, 306, 312
Гордон П.И. 48
Горн Э.Дж. 298
Горячев В. 91
Градовский Г.К. 86
Грановский Т.Н. 83
Греч Н.И. 99, 114, 298, 303
Грибоедов А.С. 77, 78, 152,
288, 289, 309
Григоренко П.Г, 93, 94
Григорьев А.А. 158, 310
Гринберг К.С. (Greenberg
Kenneth S.) 79, 278, 289,
300, 306
Гринштейн (Грюнштейн) П.
96 gg 297
Гумилев Н.С. 92, 103, 296
Гучков А.И. 91, 92
Давыдов Д. В. 77
Даль В.И. 190, 315
Данзас К.К. 37, 277
Дантес Ж.Ш. 12, 25, 92, 132,
157
Д'Артуа 63, 64
Указатель имен и произведений
323
Дашков М.И. 65, 66
Дашков П.М. 23, 28, 30, 53,
60
Дашкова Е.Р. 23, 65, 113, 274,
285, 302
Дсзин В. фон 100, 157, 201,
207, 316
Денисевич (майор) 206, 207
Джексон Дж. 133
Джонсон Л. 218, 219, 318
Де-Роберти Е.В. 86
Дивова ЕЛ. Ill
Дмитриева Е.И.(Чсрубина
де Габриак) 92
Долгой Т. 52
Достоевский Ф.М. 18, 34, 43,
59, 116, 120, 128-130, 134,
135, 142, 155, 158, 181-
202, 204, 205, 207-209,
211-239, 242-251, 254-
258, 260, 262, 264, 270,
283, 292, 314-319,
«Бедные люди» 187, 190,
202, 224, 315
«Бесы» 116, 187, 212, 226,
232, 319
«Братья Карамазовы» 213,
235, 242, 251
«Вечный муж» 217
«Двойник» 187, 190, 196,
199, 202, 216, 224
«Дневник писателя» 158,
184, 185, 188, 189, 217,
235, 274, 314-316
«Записки из Мертвого дома»
128, 135
«Записки из подполья» 43,
183, 203, 204, 207, 215,
219, 316
«Зимние заметки о летних
впечатлениях» 43, 185
«Идиот» 120, 134, 220, 223,
227, 257, 315
«Кроткая» 183, 243, 244,
247, 319
«Подросток» 187, 217, 274
«Преступление и наказание»
239
«Роман в девяти письмах»
158, 315
«Униженные и
оскорбленные» 199, 202, 219
Дугласе Ф. 290
Дурасов Д. 89, 271, 276, 294,
312
Дурова Н.А. 22, 273
Дыои Х.В. (Dewey H.W.) 39,
40, 278
Евклид 49
Екатерина I 49
Екатерина II 22, 30, 41, 50,
53, 54, 56, 57, 60-62, 70,
72, 98, 107, 110-113, 172,
273, 280, 282-284, 301, 304
Елизавета Петровна 59, 96, 97,
284
Ельчанинов (офицер гвардии)
109
Жданов А.А. 265, 266, 320
Жохов А.Ф. 23, 86—88, 274
Жуковский В.А. 12, 147
Завадовский А.П. 77, 82, 288
Загоскин МЫ. 27
Зайончковский П.А. 91, 294,
295
Замятин П. 52
Зорич С.Г. 52, 62, 63, 143
Зотов К.Н. 38
Зотов P.M. 202
Зощенко М.М. 92, 320
Зубов П.А. граф 72, 284
Иванов В.И. 103, 273
Иевлев П. 23, 28-30, 53
Иоанн (евангелист) 223
Исаков С.Г.
Истомина А. 77
324
Указатель имен и произведении
Каверин В.А. 92, 296
Каменская М.Ф. 288
Карамзин Н.М. 147
Каратыгин П.А. 32
Каратыгин П.П. 31, 276, 277
Катенин П. 157
Катков М.Н. 83, 85, 101, 131
Каховский П.Г. 114
Кашкин С. 293
Кейзерлинг Г.И. 59, 283
Келли Г.А.(Кс11у G.A.) 41, 278
Киреевский П.В. 27, 83, 275
Кирнан BT.(Kicrnan V.G.) 22,
23, 104, 273, 274, 276, 279,
280 295
Киселев П.Д. 32, 35, 276
Киселева С.С. 35
Климович В. 96—98, 297
Клушин А.И. 148, 309
Княжнин Я.Б. 40, 112, 137,
138, 141-144, 278, 308
Кожина М. 111
Козлов (дуэлянт) 30, 31, 84
Коллмэнн Н.Ш. (Kollmann
Nancy Shields) 38, 39, 277,
278, 281, 300
Колтовский (офицер гвардии)
100
Комаровский Е.Ф. 133, 306,
307
Константин (Великий Князь)
21, 128, 130, 289.
Корб И.Г. 59, 283
Корберон М.Д.Б. де 58, 123,
281
Корнель П. 138
Корсаков (дуэлянт) 30, 31, 84
Корф Н.А. барон 65
Косовский А.И. 78, 79, 289
Коцебу А. фон 286
Кошкуль (поручик) 128
Крестовский Вс. 242
Крылов И.А. 74, 138, 139, 308
Крылов Н.И. 115
Кузмин М.А. 103,
Куколь-Яснопольский
(поручик) 52, 62, 63
Куприн А.И. 9, 18, 150, 180,
255-257 270
«Поединок» 9, 180, 255
Кур Адрсас де 48
Куракин Б.И. князь 49, 283
Кутлубицкий Н.О. 72
Кутузов М.И. 284, 286
Кушслев А.П. 74, 75, 201,
211, 287
Кюхельбекер 31, 81, 82, 290
Лавров (майор) 281, 123, 124,
281, 284
Лавров В.М. 294
Лавров И.П. 114
Лавров С. Г.
Лаврова А.С. 24
Лабрюйер Ж. де 68, 69
Лажечников И. 206, 207, 316
Ламберт К. К. граф 24
Левшин В. 146, 308
Ленобль Э. 41, 278
Ленц В.В. фон 114
Леонтьев Н.М. 50, 98
Леонтьев П. 86
Лжедимитрий I 48
Лермонтов М.Ю. 12, 21, 82,
92, 132, 158, 179, 182, 184,
203, 206, 211, 213, 223,
231, 232, 265, 271, 314, 316
«Герой нашего времени» 147,
184, 315, 316,
«Княгиня Лиговская» 206,
315, 316
«Княжна Мэри» 179
«Маскарад» 34, 203, 213
«Песня про купца
Калашникова» 132
Лесков Н.С. 18, 116, 117,
249-255, 270, 307
«Обман» 250
Указатель имен и произведений
325
«Островитяне» 249
«Очарованный странник»
251, 252, 307
«Смех и горе» 117, 249
«Соборяне» 116
«Фигура» 251, 253
Ливснсон (капитан) 84, 90,
91, 275, 279, 282, 292, 295
Липрапди И.П. 32, 75, 276,
287
Ломоносов (офицер) 25, 84
Лопухин И.В. Ill, 301
Лорер Н. 288
Лотман Ю.М. 7, 15, 78, 266,
267, 270, 275, 283, 288,
292, 294, 305, 312, 320
Луганин Ф.Н. 123, 305
Лукашев М.Н. 306
Лукин В. 140
Лунин М. 7, 31, 32, 78, 79,
230, 302
Лялин (журналист) 86
Макаров Н.П. 84, 121, 275,
292, 304
Макаров П.И. 133, 134, 307
Макашев А. 91
Маковский С.К. 103, 296, 299
Максин Н. 52
Мандельштам О.Э. 264, 320
Маржерет Ж. 48, 51, 97, 105,
106, 280, 281, 297, 300
Марин С.Н. 74, 75, 286
Маркевич НА. 114, 121, 303
Мартынов И.И. 285
Менделеева Л.Д. 92
Меншиков А.Д. 49, 59, 283
Меринский AM. 272
Метастазио Пьетро 138
Михайлов A.M. 35, 100
Михневич В.О. 86
Монтгомери (майор) 48
Монтескье Ш.Л. де 41—43, 68
Мордвинов И.Н. 32, 35, 276
Муравьев АН. 277
Муравьев-Апостол СИ. 114
Муравьева О.С. 267
Муравьев-Карский Н.Н. 100,
101, 289
Мясоедов С.Н. 91
Набоков В.Д. 92, 295
Надеждин Н.И. 292
Назиров Р.Г. 202
Наталья (Вильгсльмина Дармш-
тадтская, великая княжна)
71
Невзоров М.И. Ill
Некрасов НА. 314
Неплюев И.И, 50, 281
Нечаев С. 163
Николай 1 12, 114-116, 128,
130, 179, 202, 291
Николев Н.П. 140, 308
Новиков Н.И. 64, 112, 139,
285, 308
Новосильцев В.Д. 7, 31, 81,
132, 157, 167, 168, 200,
201, 290, 291, 310
Новосильцев С.С. 79
Одоевский А. 266
Оболенский Е. 293
Окуджава Б.Ш. 266
Олеша Ю. 260, 320
«Зависть» 260
Орлов А.Ф. 31, 32, 78, 115,
231
Охлестышев М. 109
Павел I 70-74, ПО, 113, 127,
286, 301
Павлов Н.М. 26-28, 163
Панаев И.И. 83, 85
Панин Н.И. 64
Панин П.И. 63
Панчулидзев С.А. 13, 71, 72,
272, 279, 298
Паскаль Б. 46, 104, 285, 299,
318
Пассек Т.Л. 287
326
Указатель имен и произведений
Пастернак Б.Л. 92, 296
Паустовский К.Г. 265
Першуткин (гренадер) 109, 301
Пестель П.И. 114, 303, 317
Петр I 38, 53-58, 107, 108,
280
Петр III 22, 65-67, 96
Петрашевский М.В. 115, 116,
303
Петров И. 49
Петровская Н.И. 92, 181
Писемский А.Ф. 86
Плаутин М.Г. 49, 280
Полежаев А.И. 122, 304
Помпиньан Ле Франк де 138
Порошин С А 52, 71, 281, 283
Потемкин ГА 53, 56, 59-62,
107, 282-284,
Пузанов М. 52
Пушкин А.С. 8, 9, 12, 13, 21,
25, 26, 28, 30, 32, 33, 36,
37, 45, 60, 61, 76, 77, 82,
88, 92, 107, 114, 118, 121-
123, 132, 134, 135, 142,
144, 150, 156, 158, 168,
170, 171, 179, 182, 190,
201, 203, 206-208, 212,
213, 244, 264, 265, 268,
270-272, 277, 285, 290-
292, 307, 312, 313, 317
«Выстрел* 9, 168, 184, 203,
272, 316
«Евгений Онегин» 36, 82,
170, 171
«Заметки по русской
истории»
«Капитанская дочка» 35, 45
«Медный всадник» 264
«Роман на Кавказских водах»
«Русский Пелам»
«Станционный смотритель»
264
Пушкин В.Л. 317
Пушкин С.Л. 275
Пушкина Н.Н. 37
Пьецух ВА 19, 267, 268, 320
Пыляев М.И. 289, 293
Пыпин А.Н. 87
Радищев А.Н. 17, 55, 69, 111,
125, 126, 130, 145, 270,
301, 305
«Житие Федора Васильевича
Ушакова» 17, 125, 126, 130,
145, 305,
«Путешествие из Петербурга
в Москву» 69
Радищев ПА 112,
Разумовский А. Г. граф 59, 71,
96, 97, 108, 297
Растопчин Ф. 133
Ремизов М.Н. 293
Ренне М. 167, 168
Родичсв Ф.И. 91
Розен А.Е. 128, 306
Розен Е.О. барон 84
Ростопчина Е. 210
Руссо Ж.-Ж. 33, 68, 148, 152,
153, 170, 210, 276, 308,
309, 317
Рюльер К.К. дс 66, 67, 285
Рылеев К.Ф. 31, 78-81, 163,
167, 201, 207, 208, 215,
231, 266, 289, 290, 298,
311, 316, 317
Рындина М. 22
Саблуков НА 71-74, 287
Салиас-де-Турнсмир ЕА 83,
84
Салтыков СВ. 114
Самарин В. 51
Серман И.З. 137
Скобелев М.Д. 84
Скорняков-Писарев Г.Г. 49
Скотт Вальтер 159, 310
Скрынников Р.Г. 277
Смолянинов Ф. 99
Соловьев В.Н. 304
Соловьев B.C. 25, 275
Указатель имен и произведений
327
Соловьев СМ. 48, 59, 96-98,
270, 283, 297
Спасович В.Д. 87
Сперанский М. 231, 232
Старов С.Н. 33, 244
Стасюлсвич М.М, 87
Столыпин А. 231—233
Столыпин 231
Столыпин ПА. 91
Страхов Н.И. 64, 68-70, 139,
285
Стахович М.А. 25
Суворин АА. (Алексей Поро-
шин) 85, 92, 102, 276, 312,
315, 318
Суворин А.С. 86—90, 103, 274
Суворин Б.А. 91
Судовщиков Н.Р. 144
Сумароков А.П. 122, 137, 304
Сухинов И.И. 122, 304
Сушков М. 148, 149
Таганцев Н.С. 25, 84, 274,
275, 292
Таллеман де Рео Г.
Толстая С.А. 25, 84, 275
Толстой Л.Н. 33, 82-84, 158,
179, 204, 206, 208, 270, 292
«Анна Каренина» 179
«Война и мир» 9, 33, 179
«Два гусара» 82, 179
«Записки маркера» 206
Толстой ПА 49, 280
Толстой С.Л. 77, 287, 288
Толстой Ф.И. («Американец»)
75-77, 79, 82, 123, 231,
288, 297
Толстой Я. 290
Тредиаковский В.К. 41, 278
Тургенев А.И. 167, 168
Тургенев A.M. 113, 303
Тургенев И.С. 9 17, 84, 150,
158, 203, 270
«Бретер» 9, 203
«Дневник лишнего человека»
203
«Отцы и Дети» 17,
Тур Евгения 83
Турчанинова АА. 111
Тынянов Ю. 265
Уваров АА 91
Утин Е. 23, 24, 86—88, 274
Фалеев Н.И. 84, 292, 300
Фокксродт И.Г. 51, 281
Фонвизин Д.И. 63, 64, 69,
117, 118, 120, 121, 140,
144, 284, 285, 303, 308, 315
«Бригадир» 64, 140, 144
Фонвизин И.А 115
Фонвизин МА. 115
Фонвизина Н.Д. 115, 116
Фреферт Юта (Frevert Ute) 22,
272, 273, 278, 280
Фридрих Великий 65, 67
Фролов П.И. 83
Фроловский П. 72
Фуллер В. 91, 294, 295
Хазин А 265, 266
Хармс Д. 19, 262, 263, 270,
320
Хлебов (гардемарин) 38, 49, 50
Хлопотов Е. 52
Ходасевич В.Ф. 22, 23, 92, 293
Хоксворт Дж. 308
Храповицкий А.В. 99, ПО,
282, 301
Хребтович (Хрсптович) граф
167, 168
Хрулев (генерал) 24
Цебриков Н.П. 114, 303
Чернов А.П 27, 28, 131, 163
Чернов К.П. 7, 31, 81, 157,
163, 167, 168, 200, 201,
290, 291, 310
Чернов П. 32
Чернова Е.П. 35, 81
Чернышев И.Г, 122, 123
Чернышев З.Г. 50, 98
Чернышевский Н.Г. 17, 46,
86, 272, 279
Черубина де Габриак (см.
Дмитриева Е.И.)
Честсрфилд Ф.Д.С. 68
Чехов А.П. 33, 37, 150, 270
«Дуэль» 9, 33, 37, 180
Чудаковский (отставной
офицер) 233
Чулков М.Д. 145, 147, 308
Шагинян М.С. 22, 23, 92
Шатовийар граф де 37
Шаховской К.Я. князь 80, 81,
157, 290, 298
Шванович А. 99
Шварсалон С. К. 103
Шевырев СП. 102, 132
Шепелев П.А. 60, 123, 282
Шереметев В.В. 77, 82, 288
Шереметев П.В. 13, 14
Шсшковский СИ. 111-113,
135, 302
Шильдер Н.К. 72, 273
Шишков А.А. 27, 131
Штемпель К. 55
Шувалов И.И. 122, 284
Шувалов П.И. граф 59, 283,
284
Шувалова М.Е. графиня 59
Щепкин М.С 30, 276
Щепкина Е.Д. 30, 31, 84
Щербатов М.М. князь 59, 283
Щербинин М.А.
Эйдельман Н.Я. 7, 73, 270,
272, 281, 287, 306
Энгельгардт Л.Н. 302
Эртель Ф.Ф.
Юсупов Н.Ф. 295
Языков Н. 27, 275
Яковлев И.А. 74
Яковлев СА. 101, 298-299
Якубович А.И. 77, 78, 82, 128,
169, 289
Якушкин И.Д. 275
Янькова Е.П. 277
СОДЕРЖАНИЕ
Введение: Мифология русской дуэли и сложность
сбора фактов 7
Глава 1. Дуэль как акт агрессии: Термины и определения 20
Глава 2. Краткая история дуэли в России 48
Глава 3. Дуэль и физическая неприкосновенность 95
Глава 4. Русская литература XVIII века: Зарождение
дуэльного дискурса 137
Глава 5. Александр Бестужев-Марлинский: Бретёр
и апологет дуэли 154
Глава 6. Как воздержаться от дуэли: Поединок
в произведениях Достоевского 182
Вместо заключения: После Достоевского 248
Примечания 270
Указатель имен и произведений 320
Ирина Рейфман
РИТУАЛИЗОВАННАЯ АГРЕССИЯ
Дуэль в русской культуре и литературе
Редактор
А. Рончин
Художники тома
С. Гусев, Д. Балабуха
Корректоры
Л. Морозовау Э. Корчагина
Компьютерная верстка
С. Пчелинцев
Налоговая льгота — общероссийский
классификатор продукции ОК-005-93, том 2;
953000 — книги, брошюры
ООО «Новое литературное обозрение»
Адрес редакции:
129626, Москва, И-626, а/я 55
Тел.: (095) 976-47-88
факс: 977-08-28
e-mail: nlo.ltd%23.relcom.ru
Интернет: http://www.nlo.magazine.ru
ЛР Ns> 061083 от 6 мая 1997 г.
Формат 60x90/16
Бумага офсетная JSfe 1. Усл. печ. л. 21
Тираж 2000 экз. Заказ № 2522
Отпечатано с готовых диапозитивов
в РГУП «Чебоксарская типография № Ь
428019, г. Чебоксары, пр. И. Яковлева, 15
Издательство
НОВОЕ ЛИТЕРАТУРНОЕ ОБОЗРЕНИЕ
В 2001 г. вышли:
Серия «Критика и эссеистика»
П. Эстерхази. ЗАПИСКИ СИНЕГО ЧУЛКА И ДРУГИЕ
ТЕКСТЫ
В книге собрана эссеистика известного венгерского писателя
Пегера Эстерхази, опубликованная с конца 1980-х годов в его
сборниках «Чучело лебедя*, «Из башни слоновой кости»,
«Записки синего чулка» и др. Эстерхази с присущей ему иронией и
интеллектуальной свободой комментирует перемены,
происходившие в последнее десятилетне в Венгрии и Европе,
размышляет о духовном самочувствии современного писателя, о
тенденциях в литературе и культуре.
Г. Кружков. НОСТАЛЬГИЯ ОБЕЛИСКОВ
Литературные мечтания
Григорий Кружков, известный переводчик англоязычной поэзии,
собрал в этой книге свои литературные исследования и эссе,
печатавшиеся как в научных, так и в популярных изданиях. Первая
часть книги посвящена пушкинским переволам из Б. Корнуолла
и «озерных поэтов», вторая часть, «Communio poetarum», —
ирландскому поэту-символисту Йейтсу и его современникам Вич.
Иванову, Н. Гумилеву, О. Мандельштаму и А. Ахматовой. Среди
тем книги — наследие символизма у Д. Джойса и А. Платонова,
юмор в поэзии, перевод и эрос.
А. Агеев. ГАЗЕТА, ГЛЯНЕЦ, ИНТЕРНЕТ
Литератор в грех средах
Александр Ai-еев - один из наиболее ярких отечесгвенных
критиков, публицистов, эссеистов 90-х годов. Его книга - своего
рола хроника современной интеллектуальной жизни. Он пишет:
«Про что» получилась книжка, которую вы держите в руках,
определить довольно затруднительно. Во «Времени МН» я
рецензент текущей газетно-журнальной публицистики и критики. В
«Профиле» я публикую эссе на «общественно-политические
темы»... В интернетовской рубрике «Голод» пытаюсь отрефлек-
тировать свое чтение на фоне мимотекушей литературной
жизни. А из всех этих разнородных текстов, сведенных под одной
обложкой, выстраивается, в сущности, публичный дневник,
содержанием которого становится жизнь человека в культуре».
НАУЧНАЯ БИБЛИОТЕКА
CD
Q.
»-
CD
Q.
Q)
CD
s
I
О
О
о
Q.
Ш
Л
НОВОЕ ЛИТЕРАТУРНОЕ ОБОЗРЕНИЕ